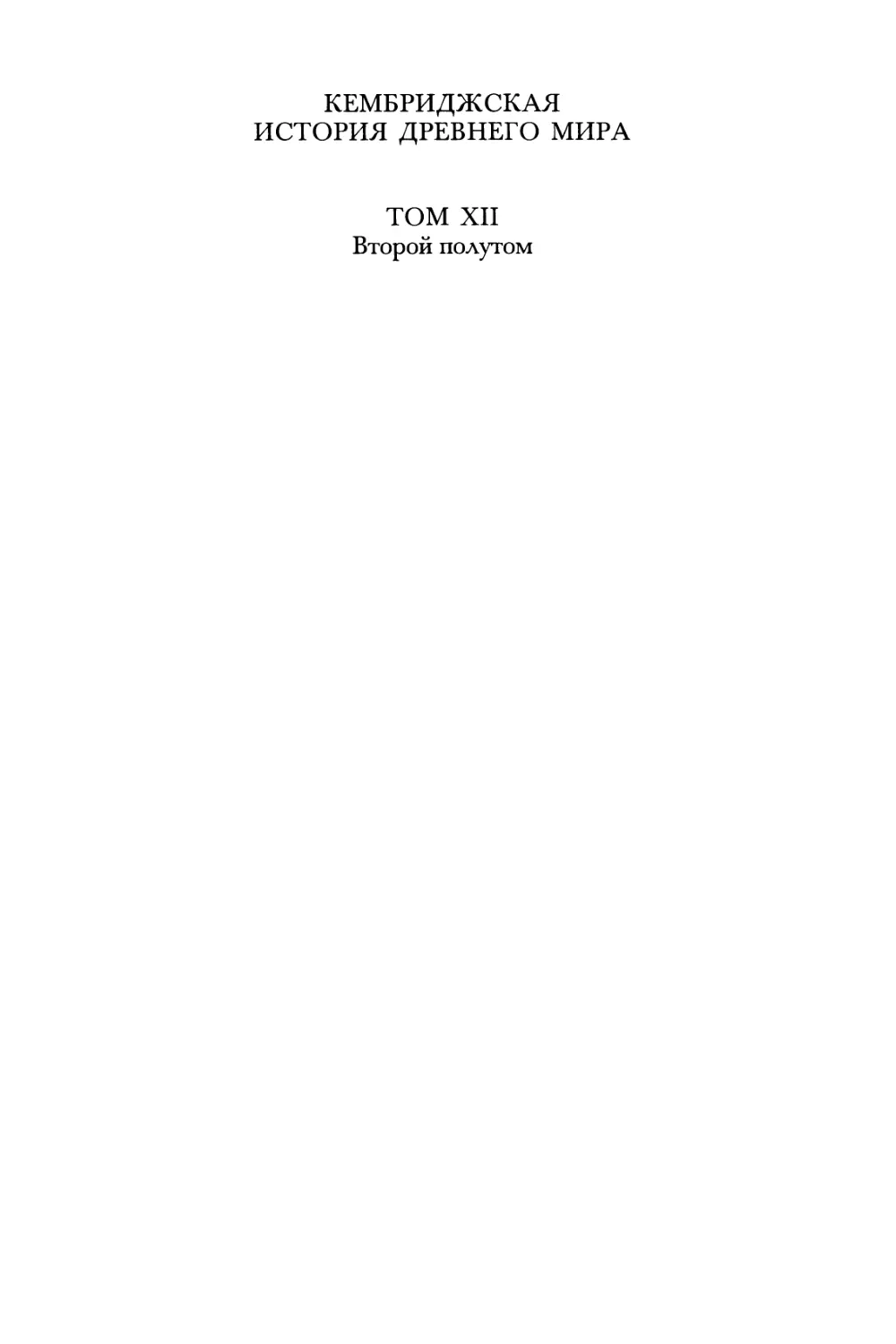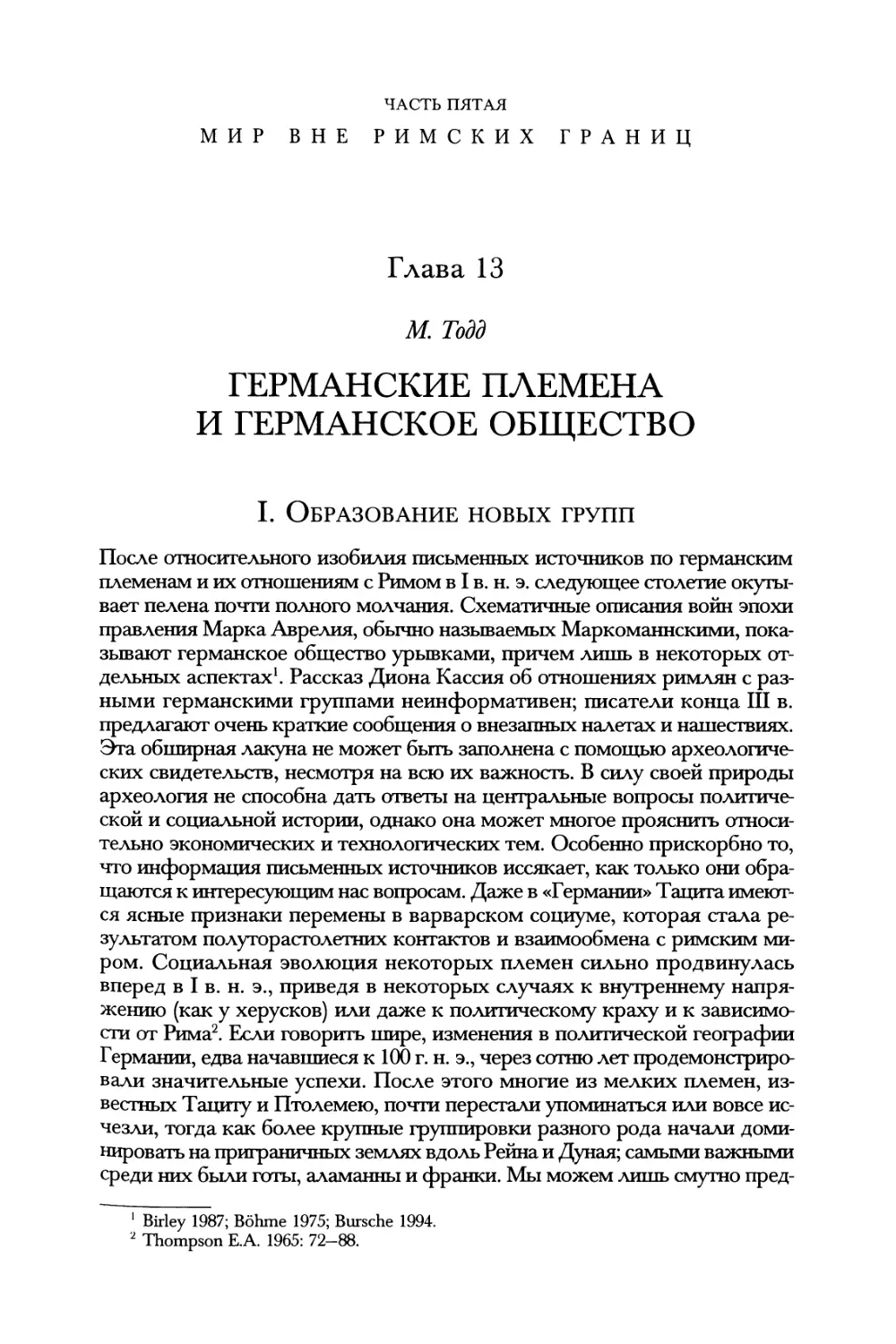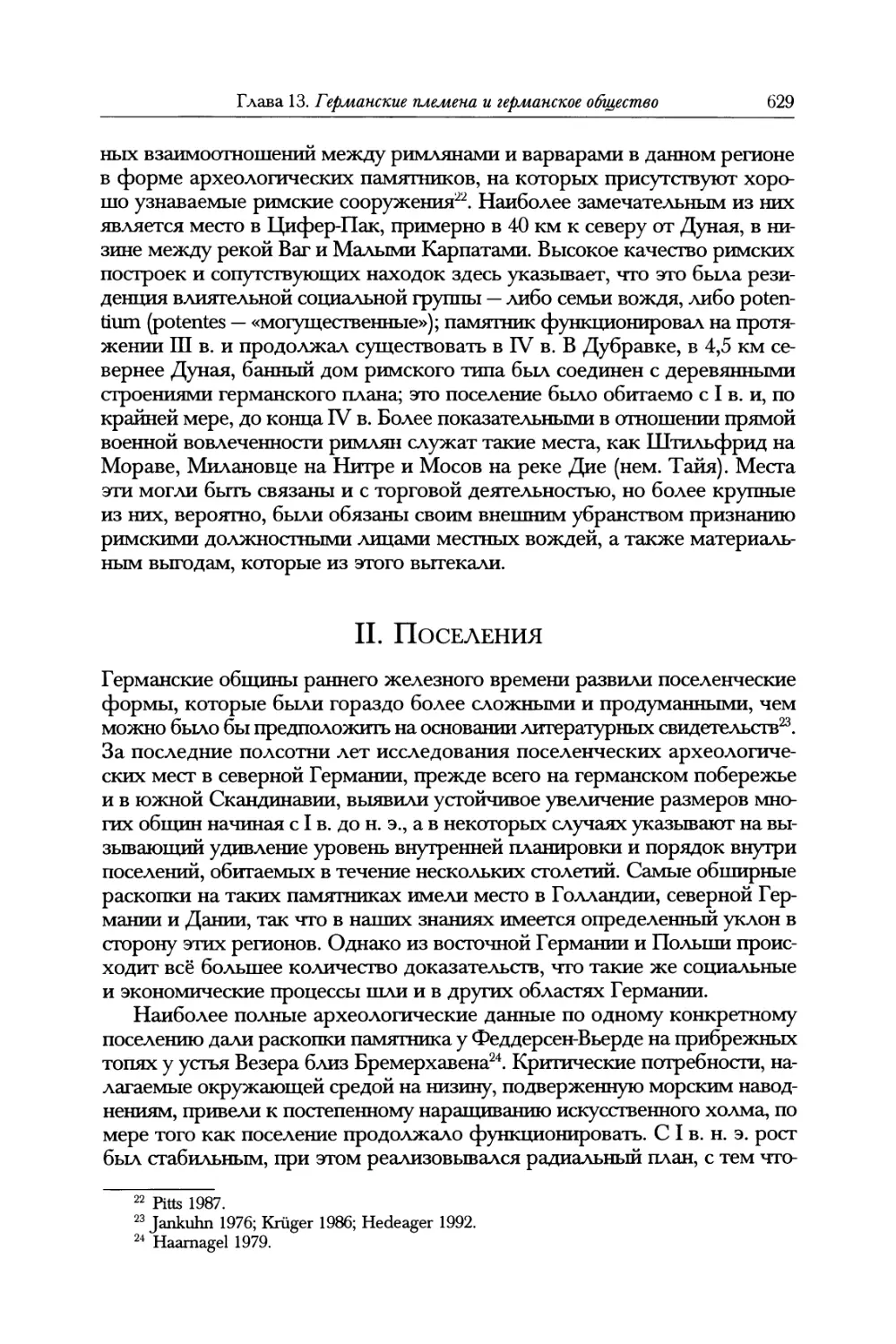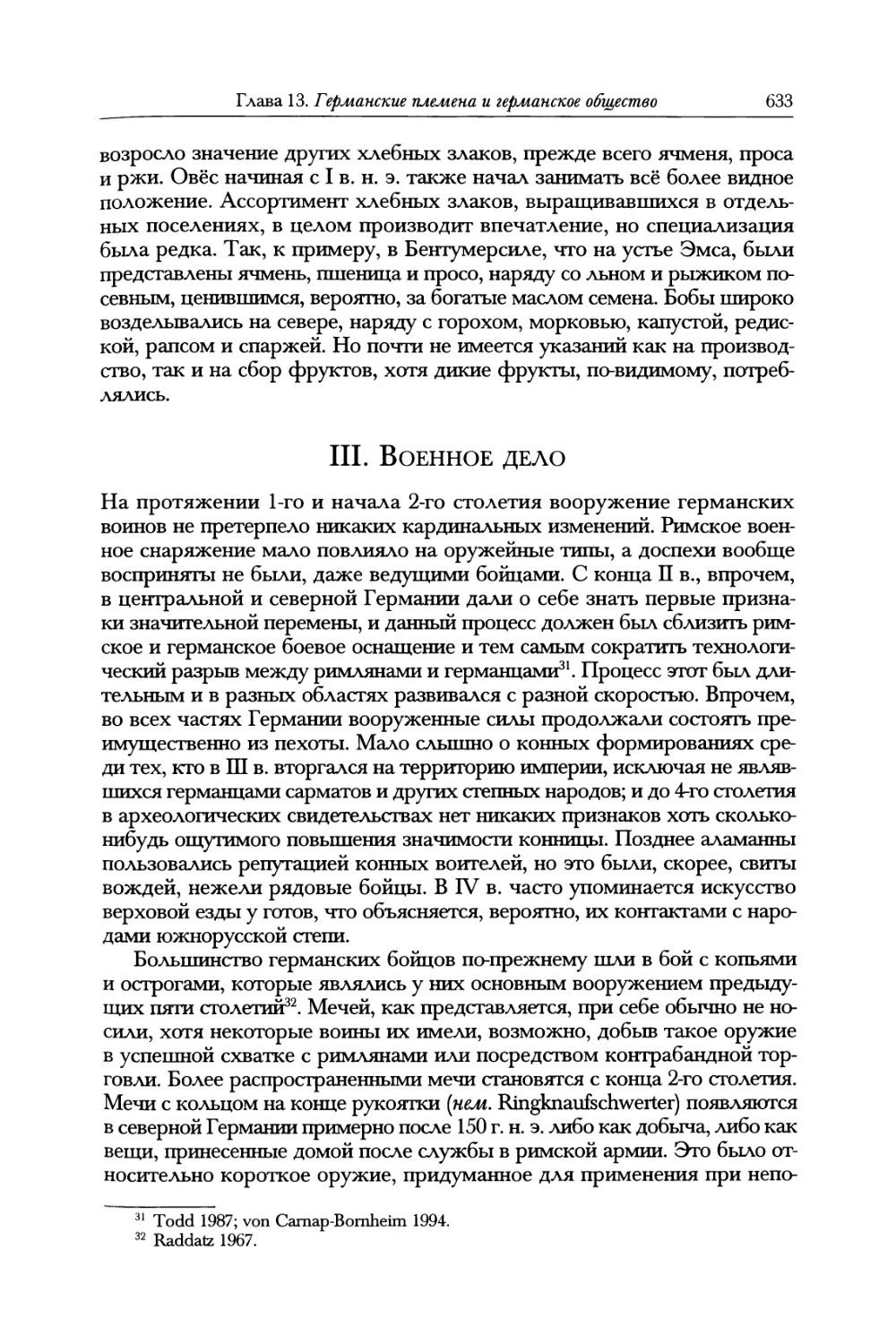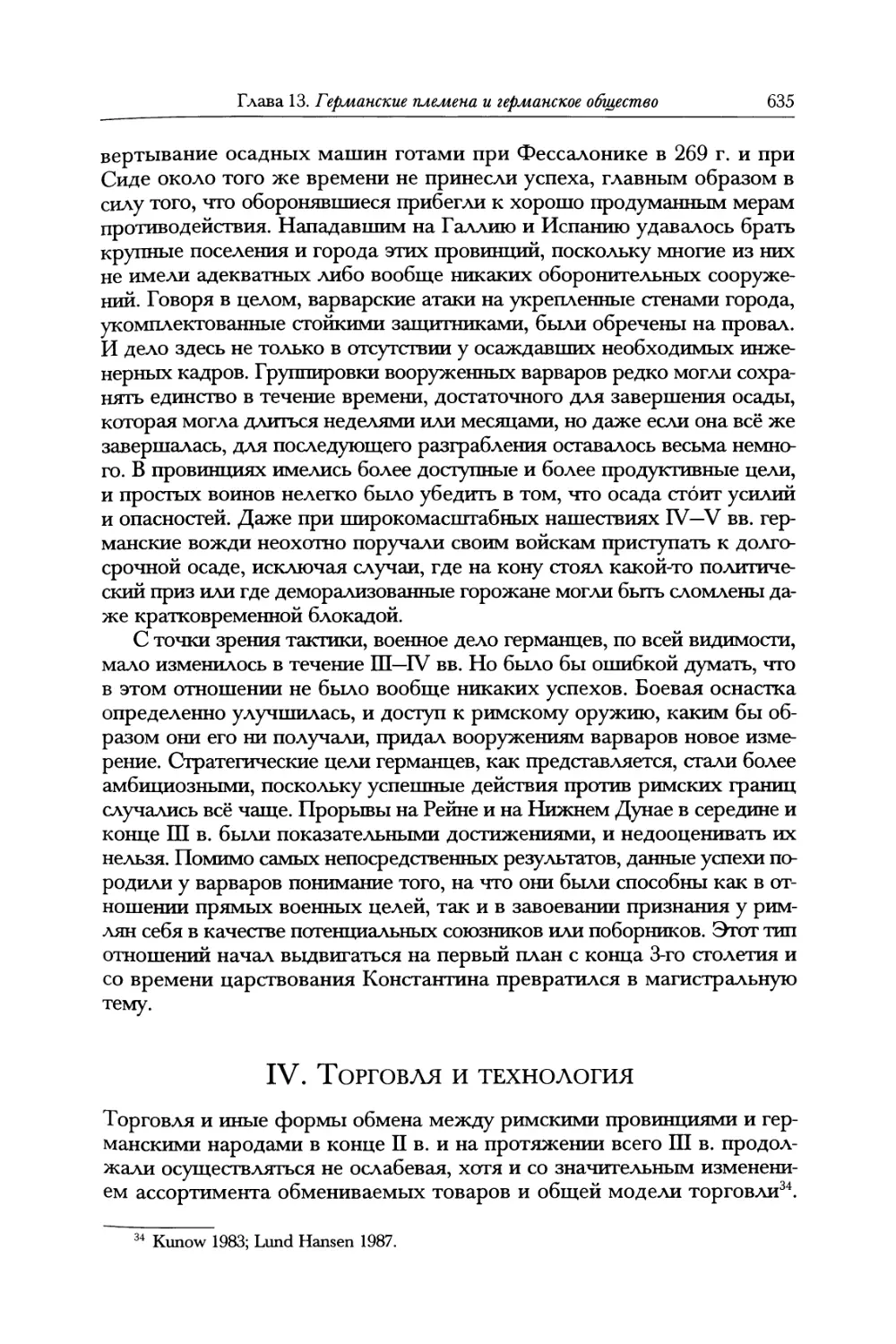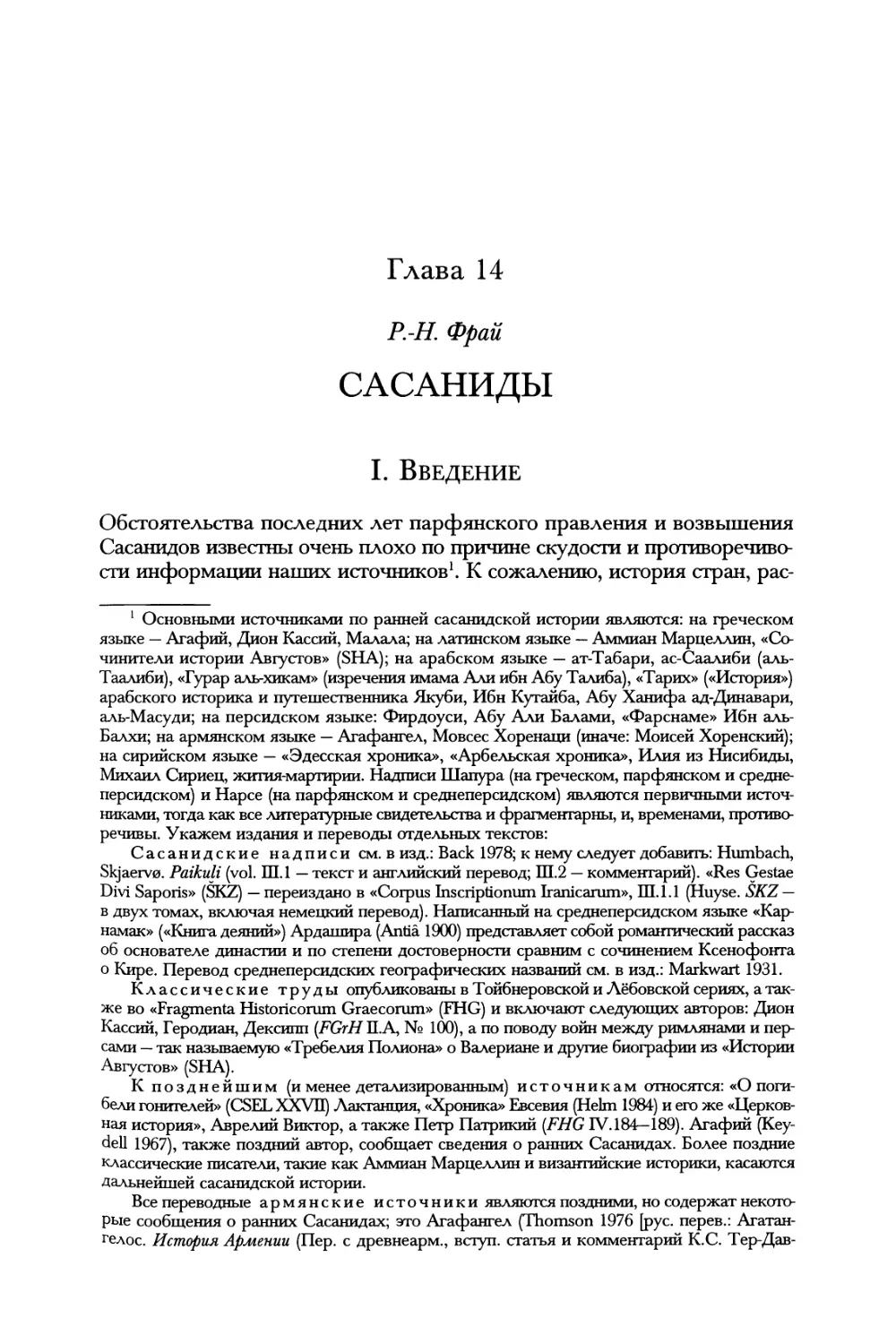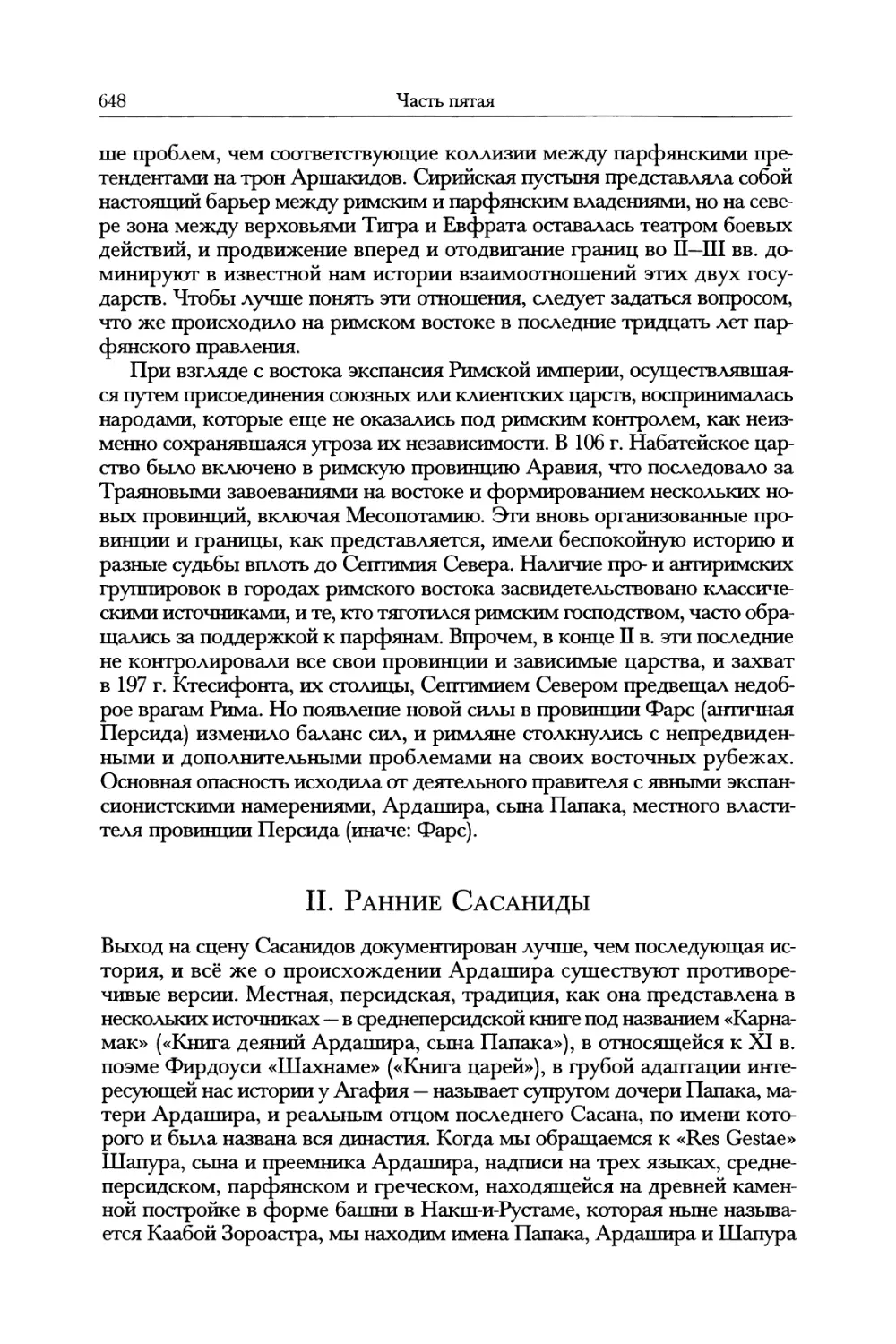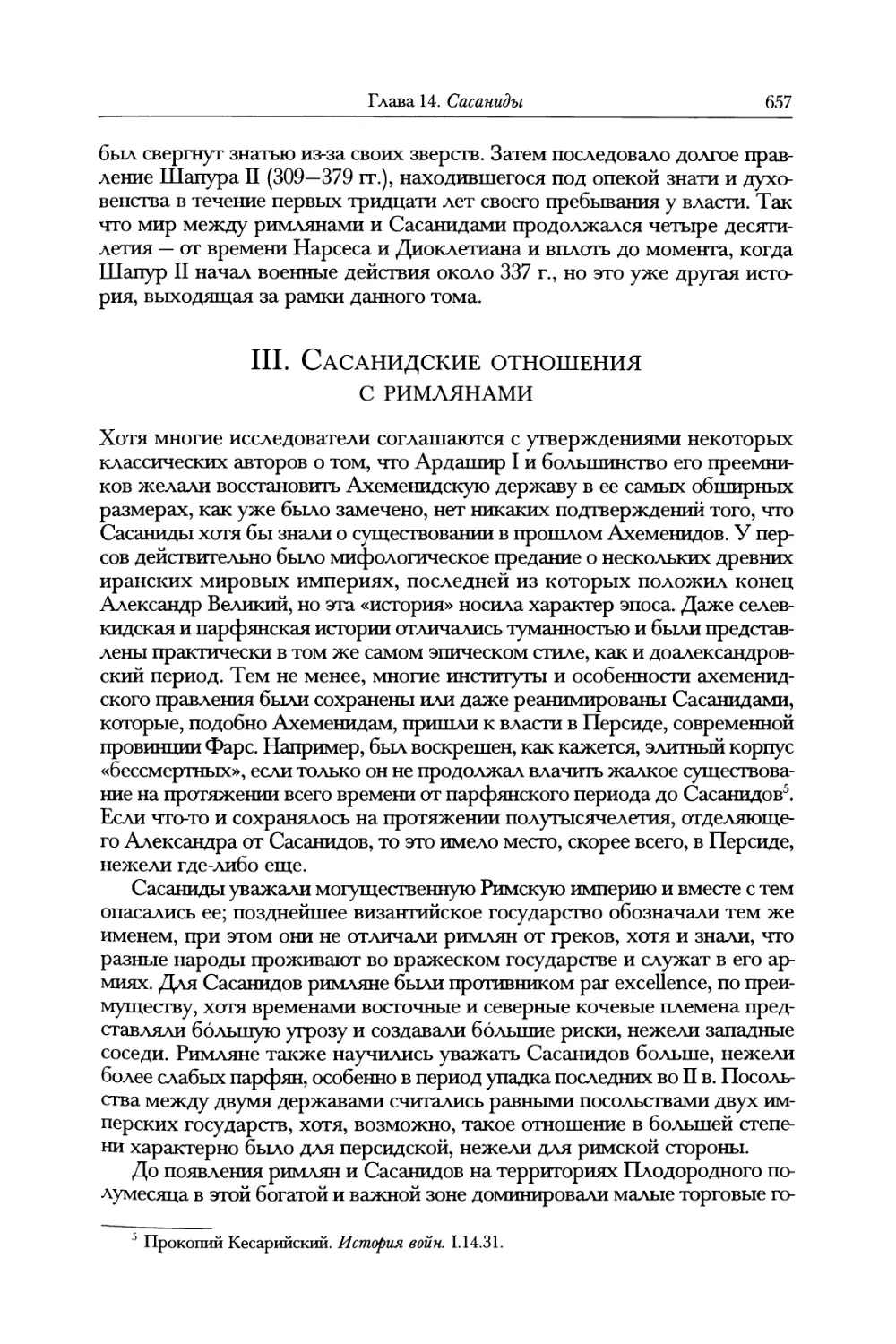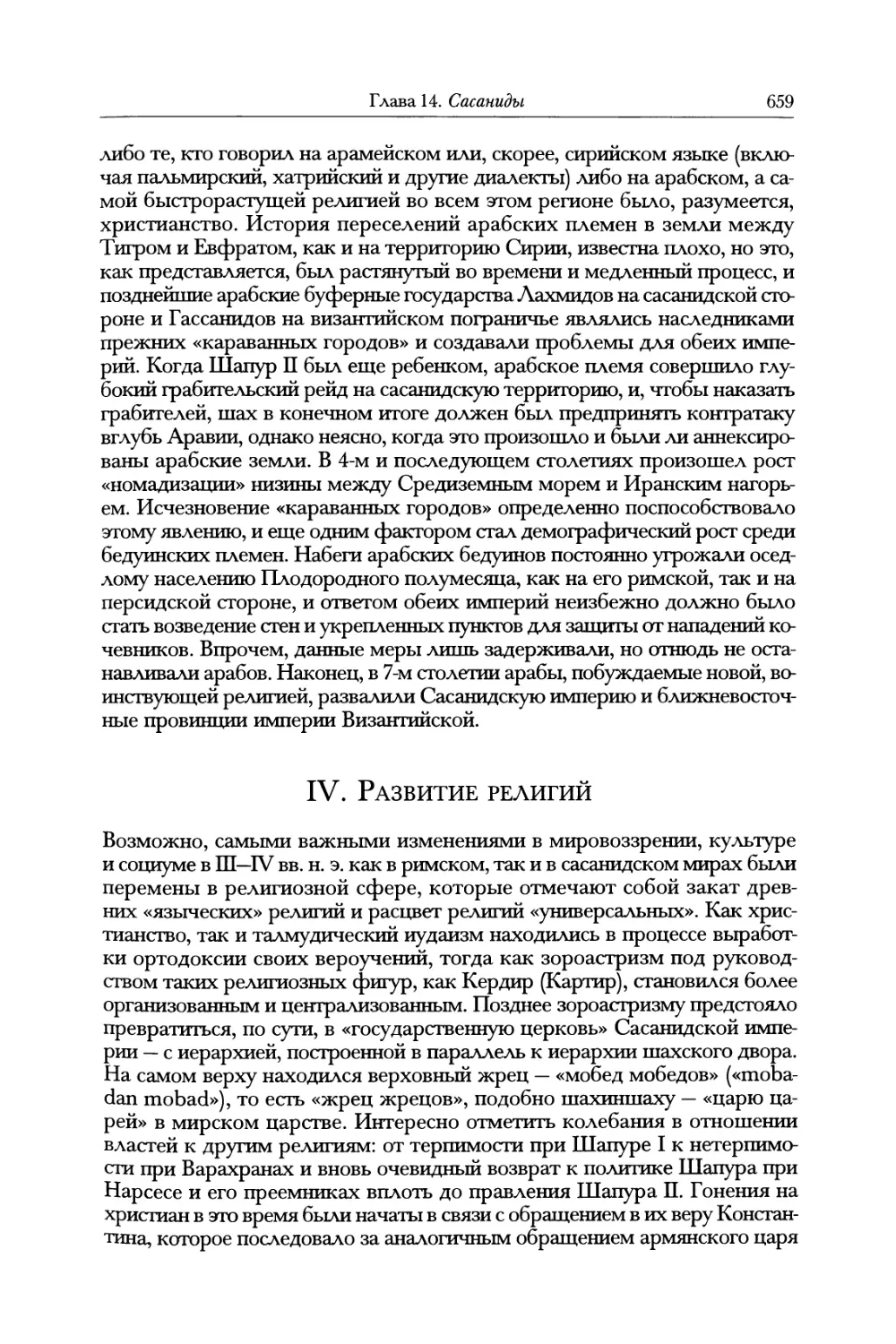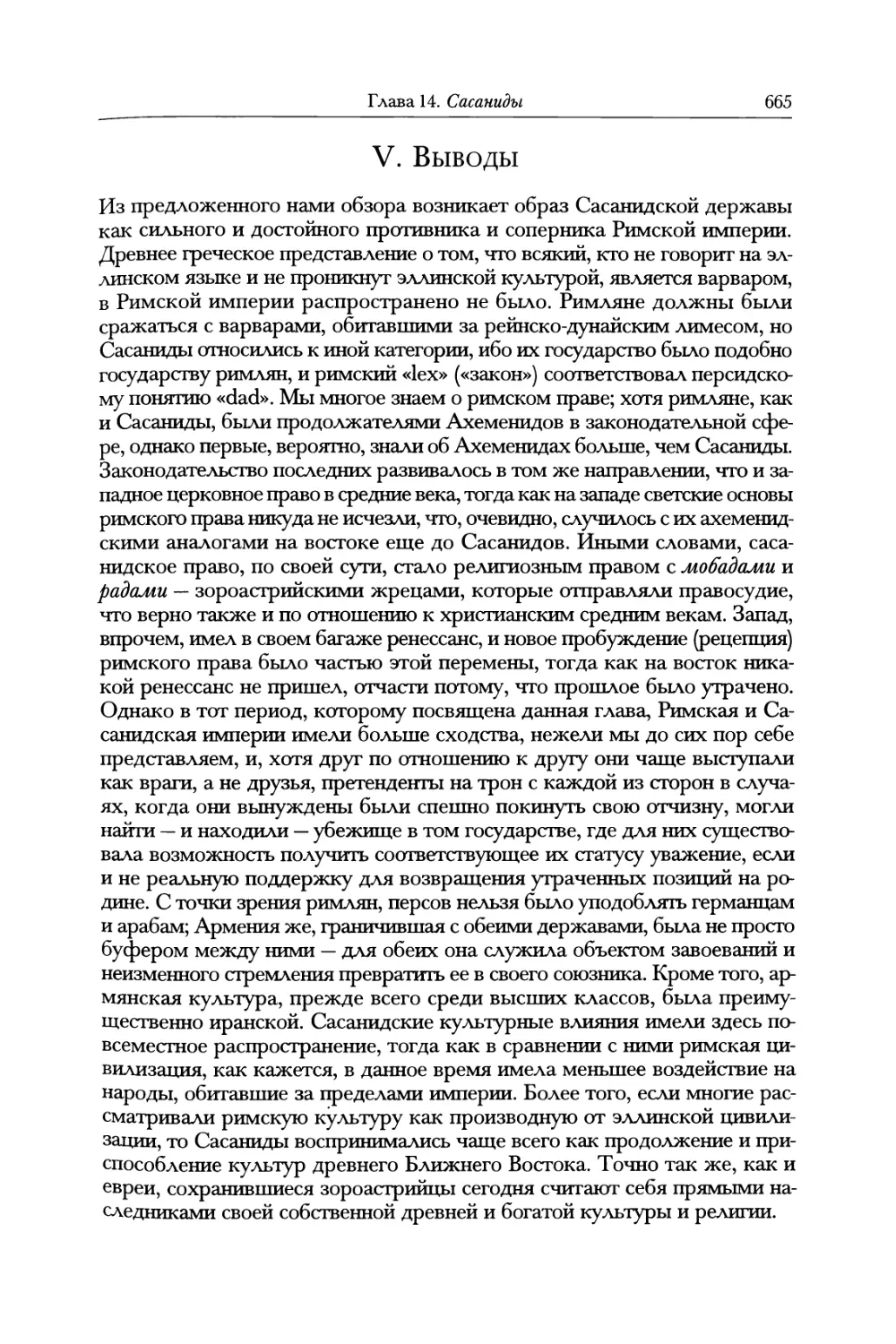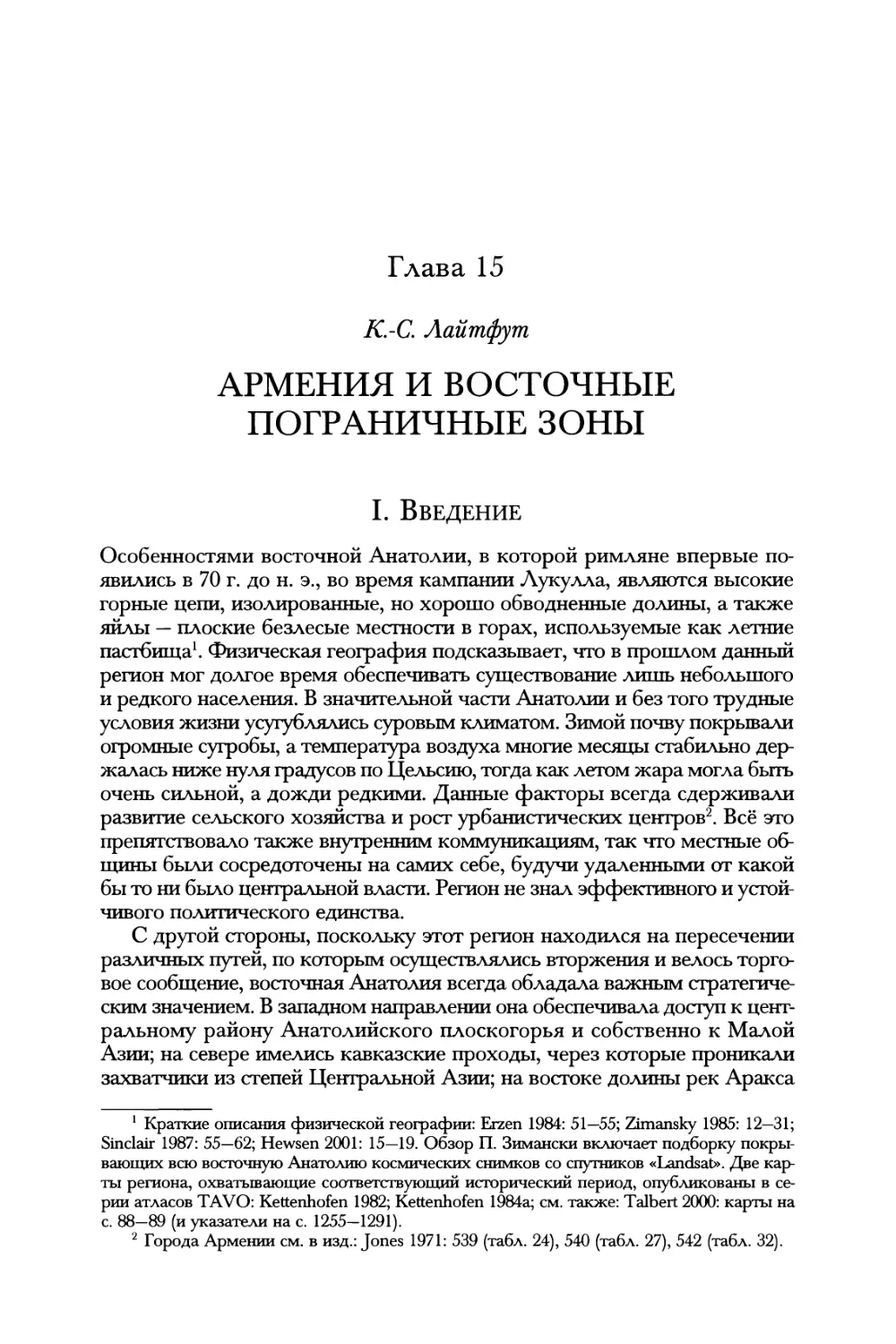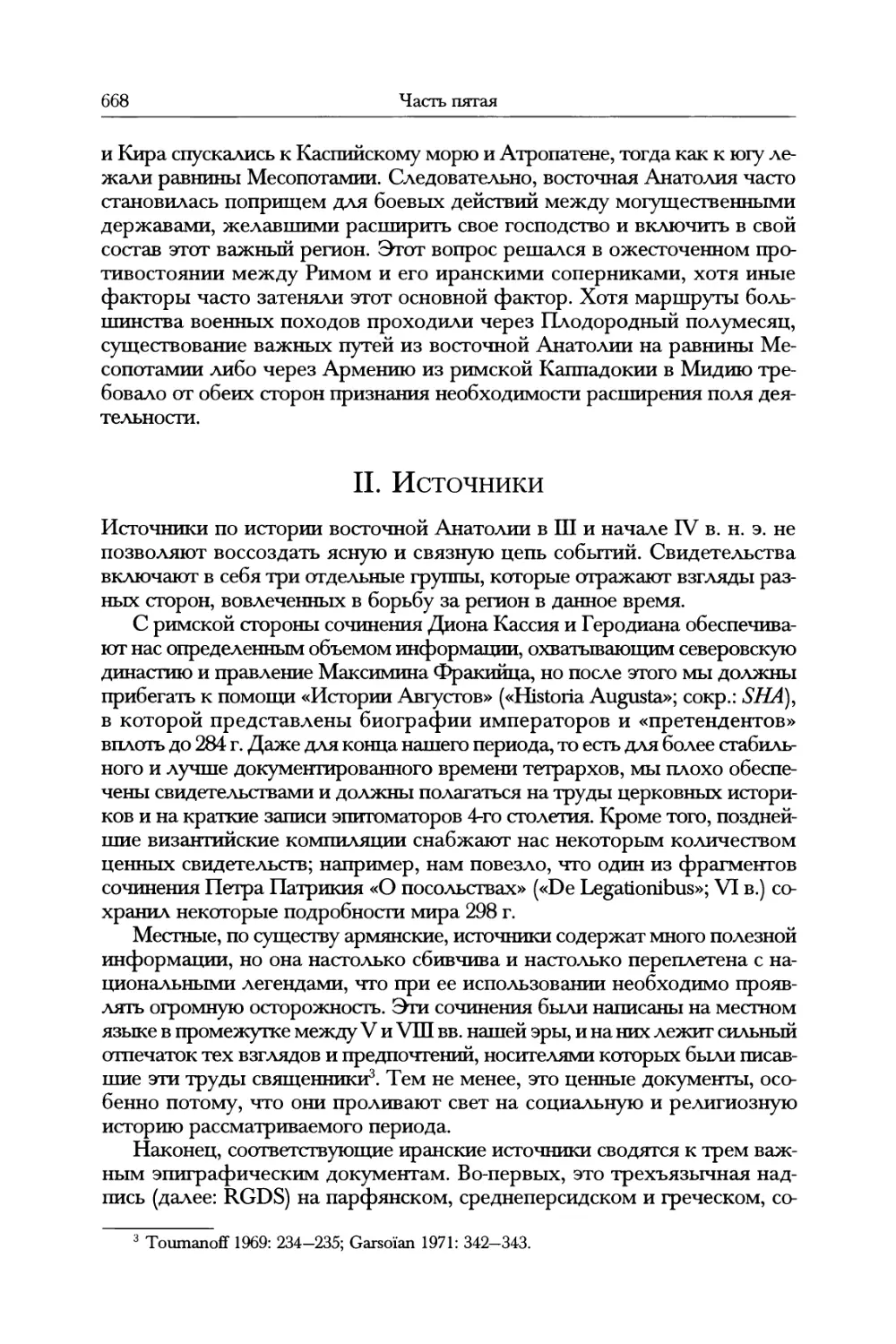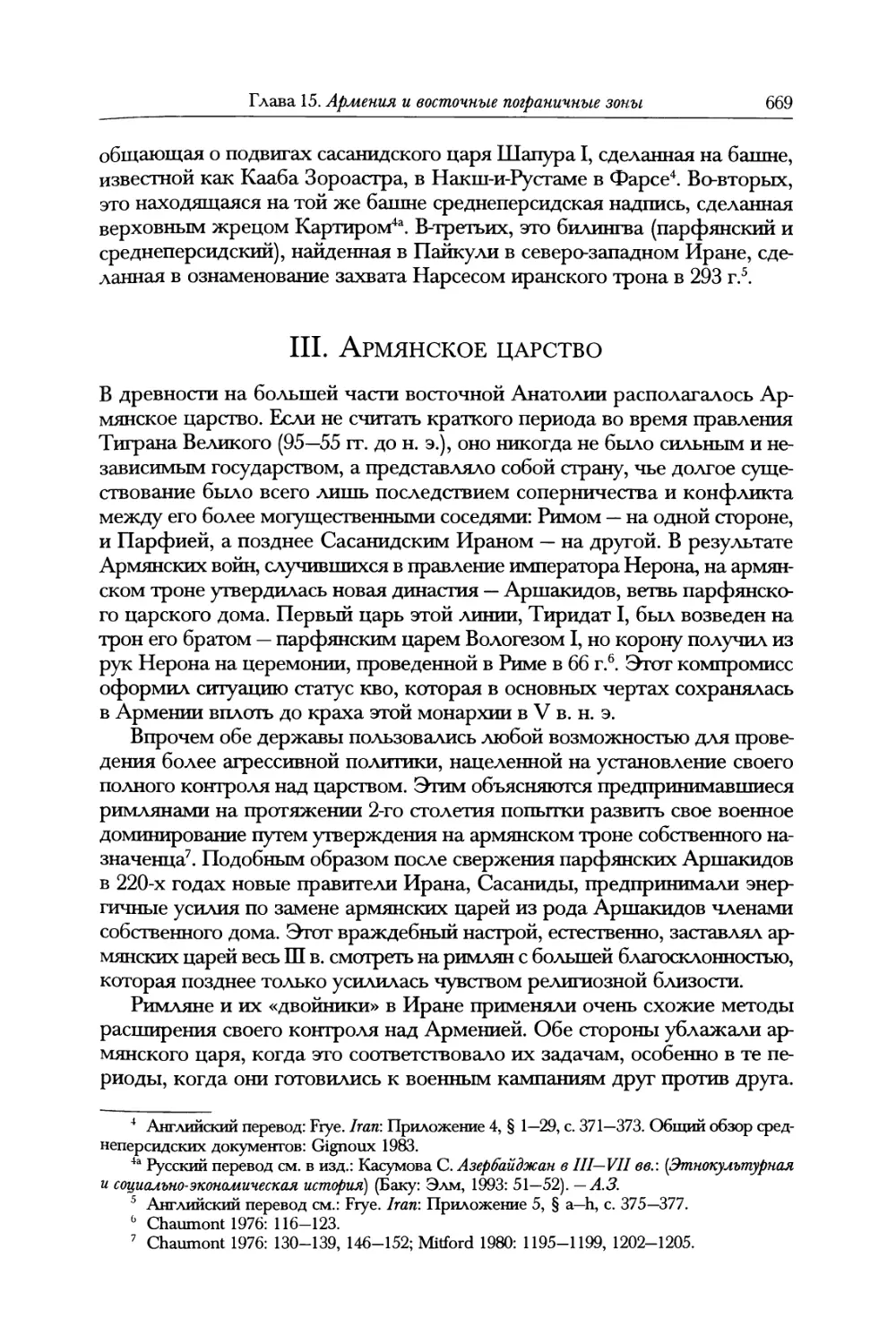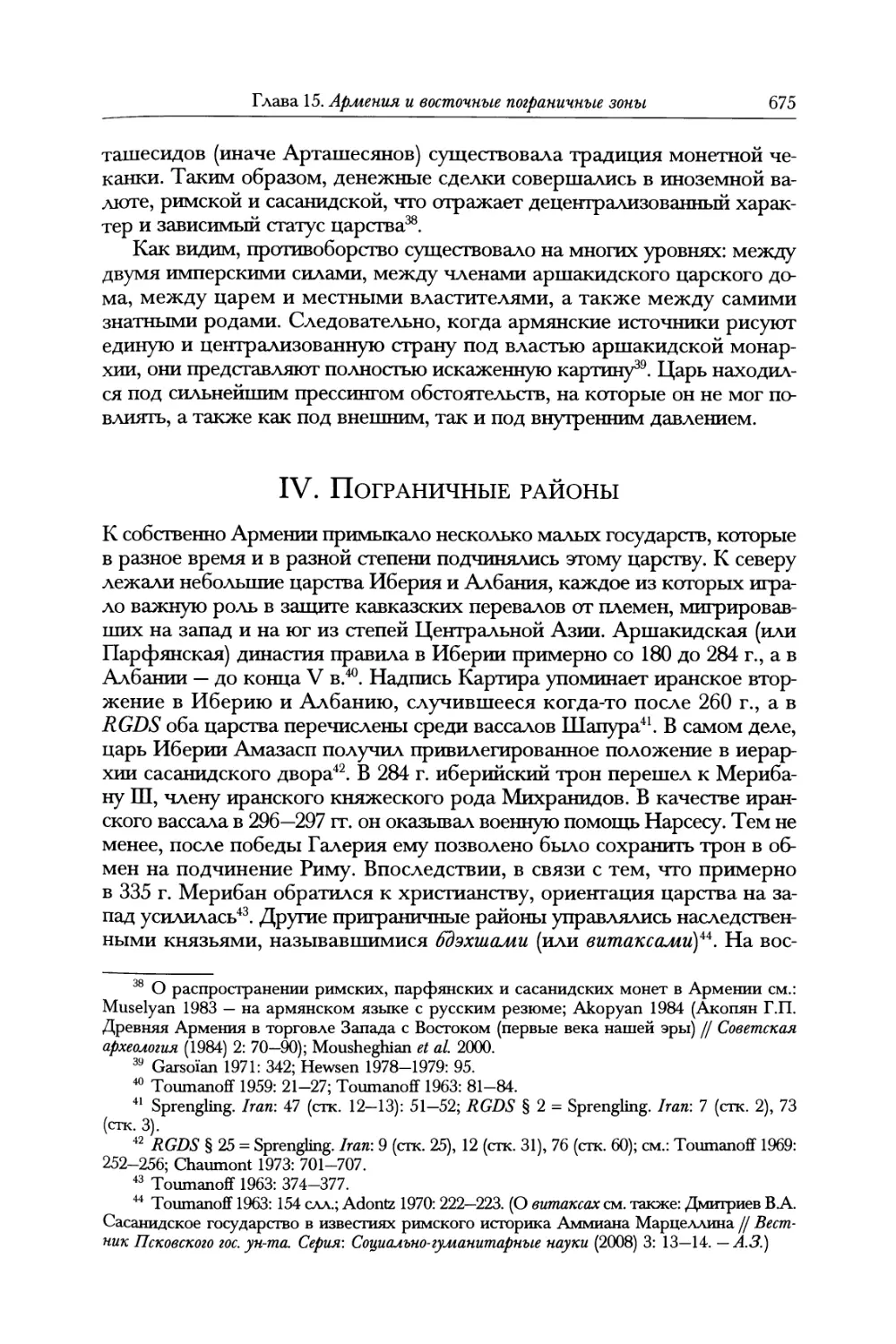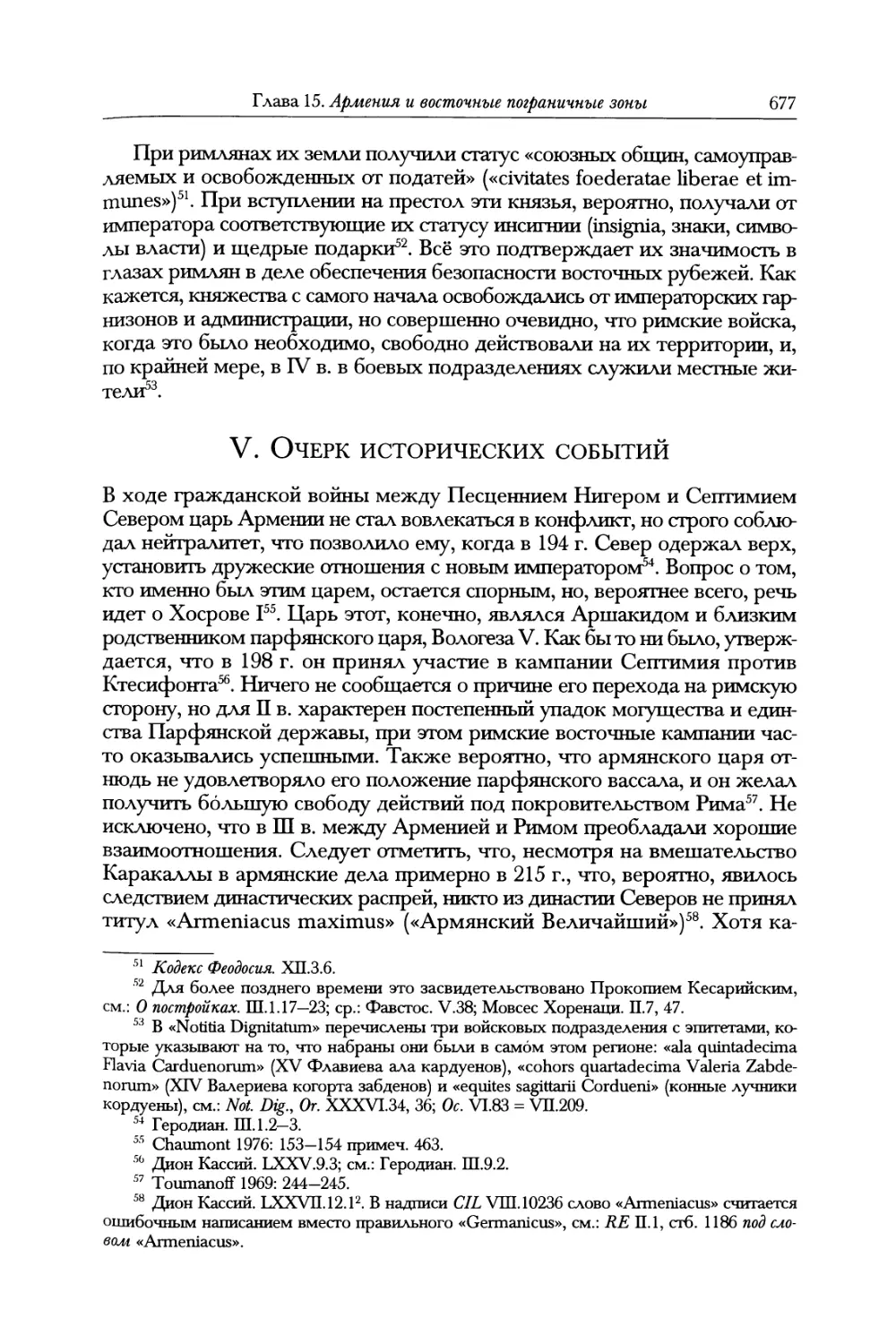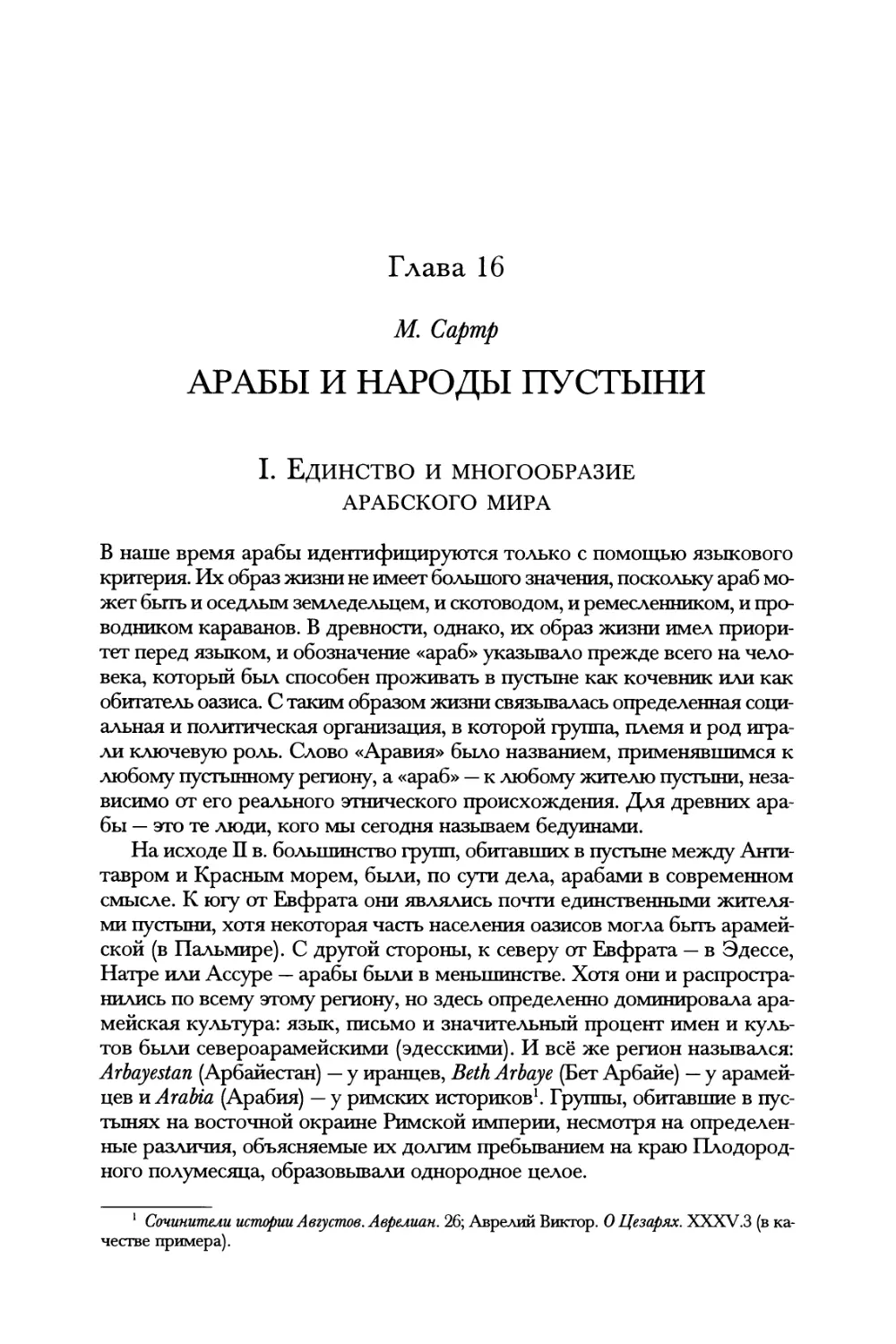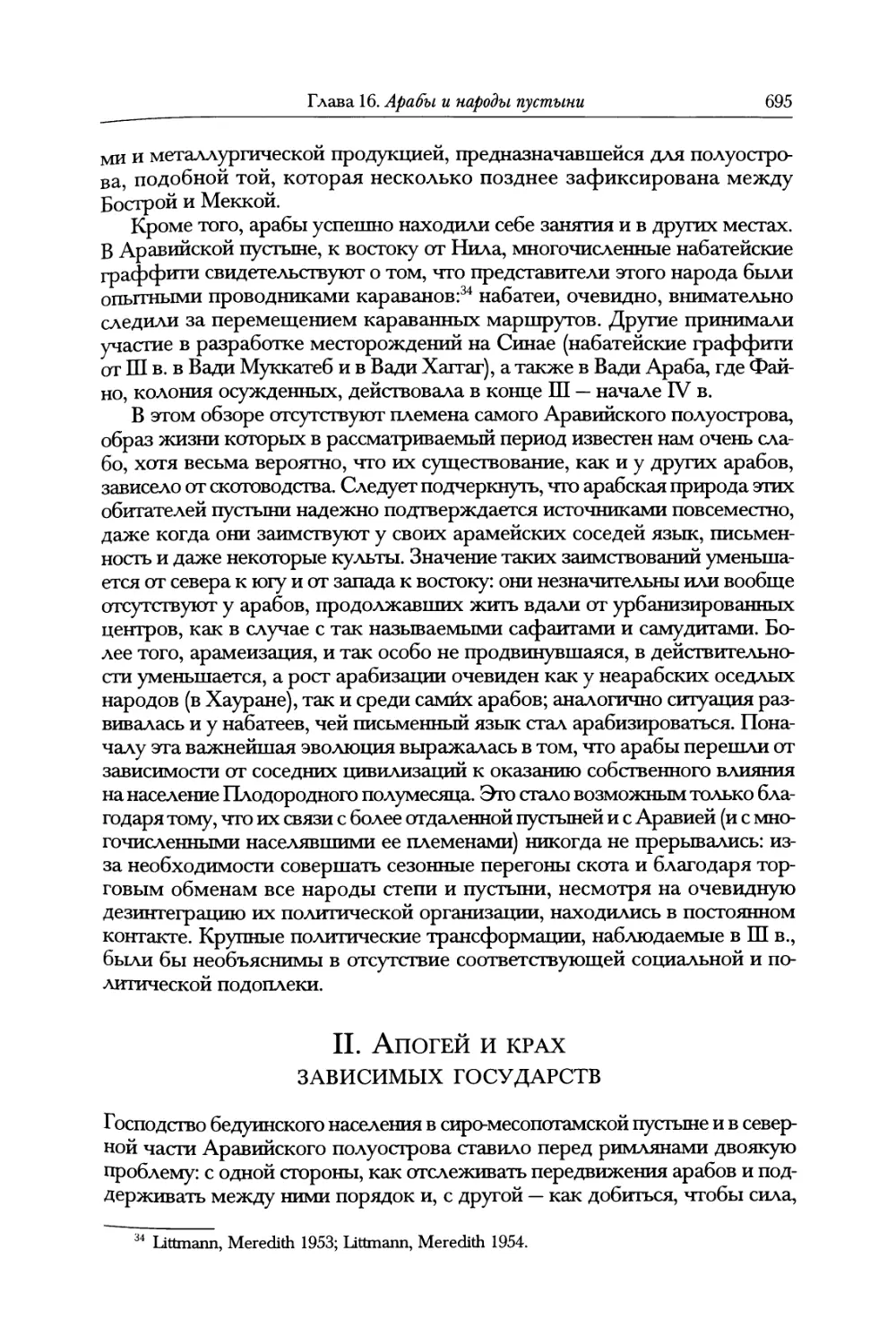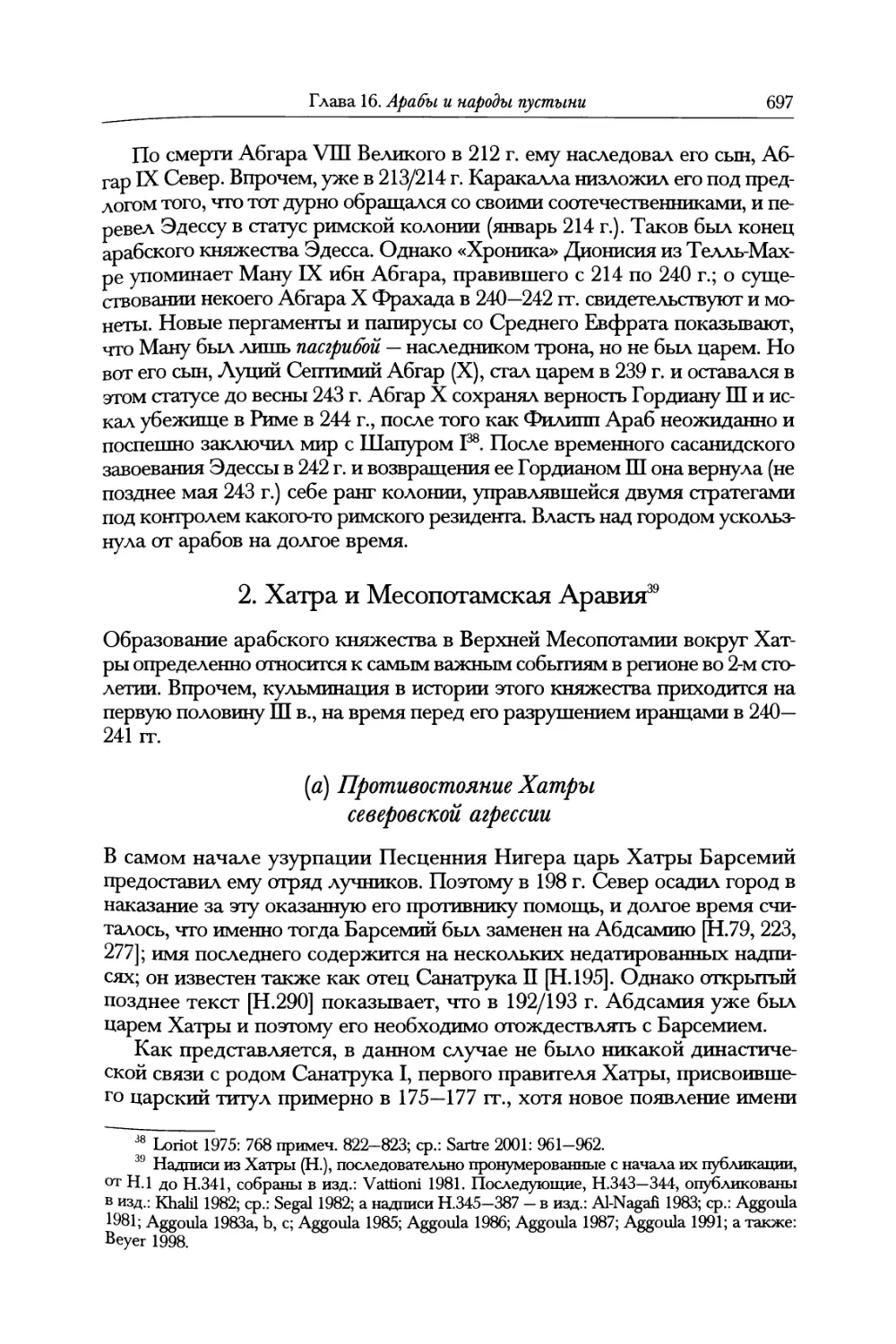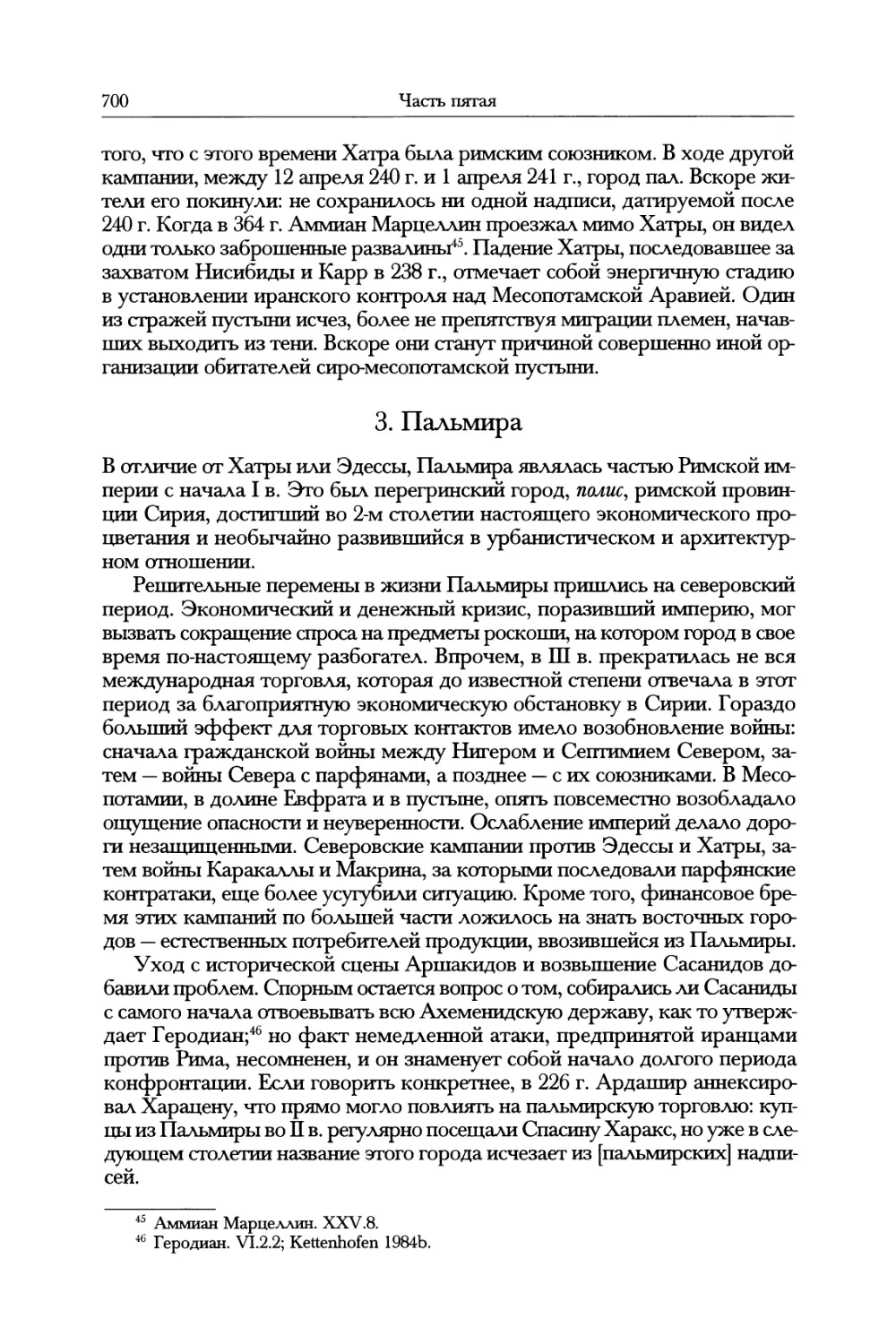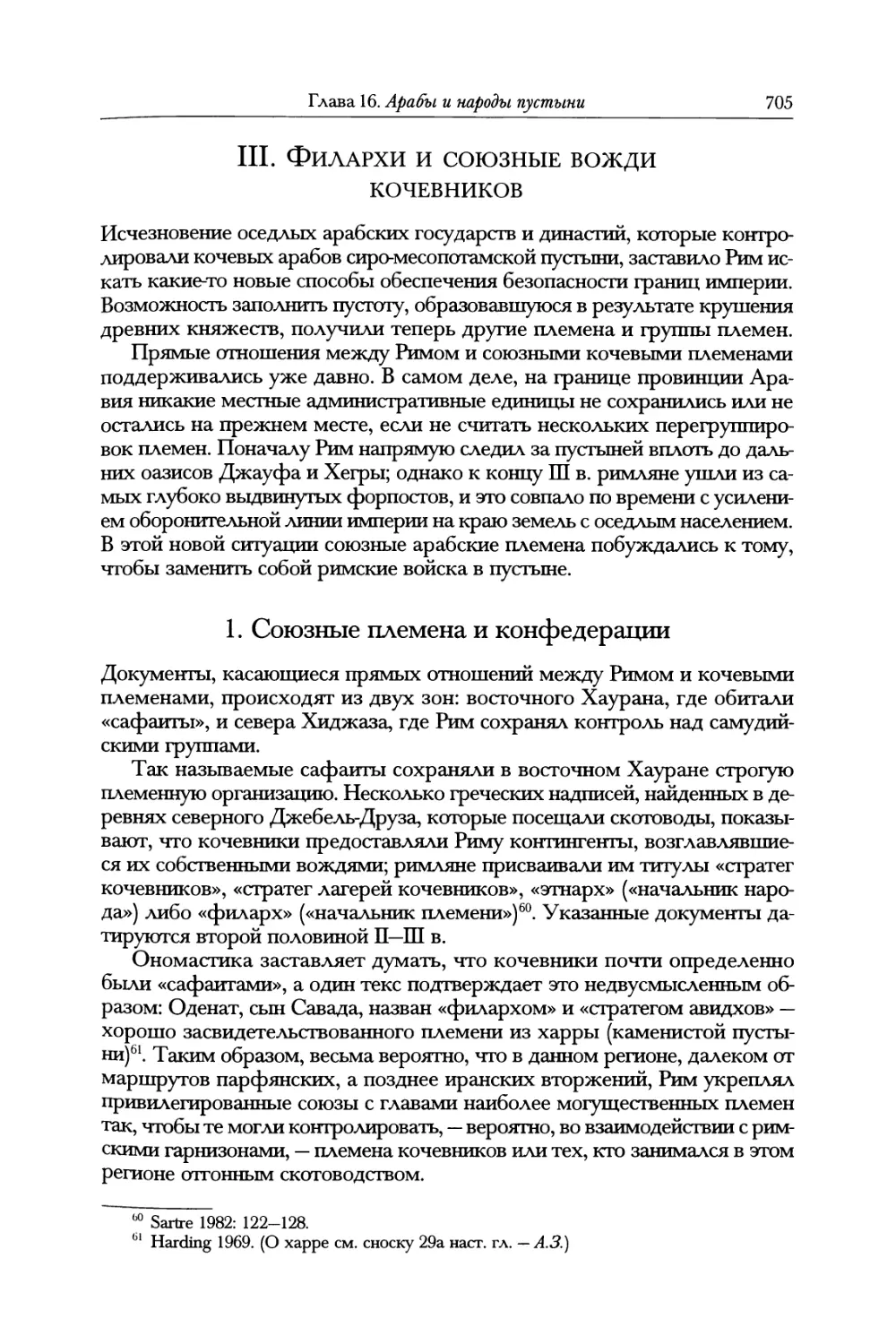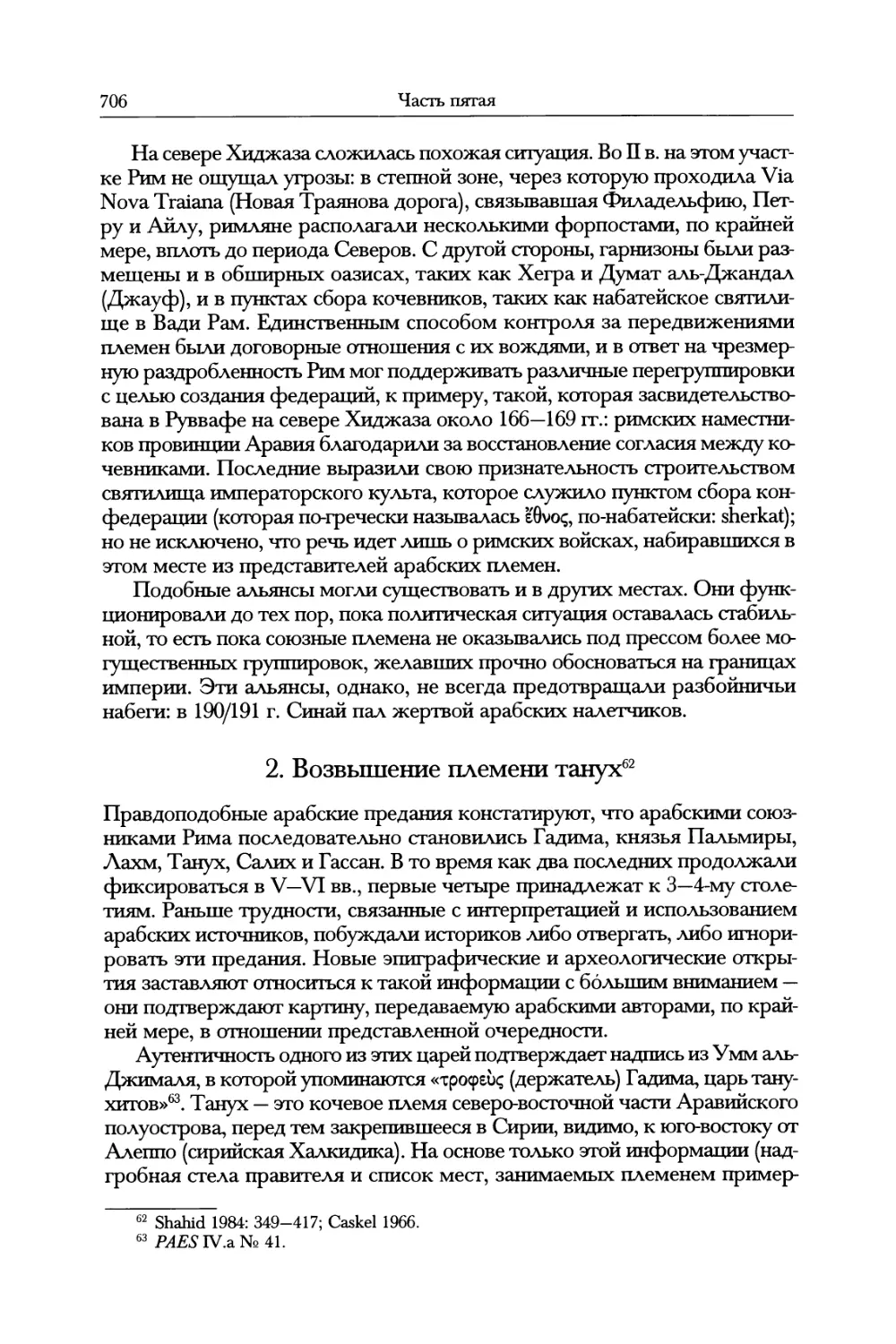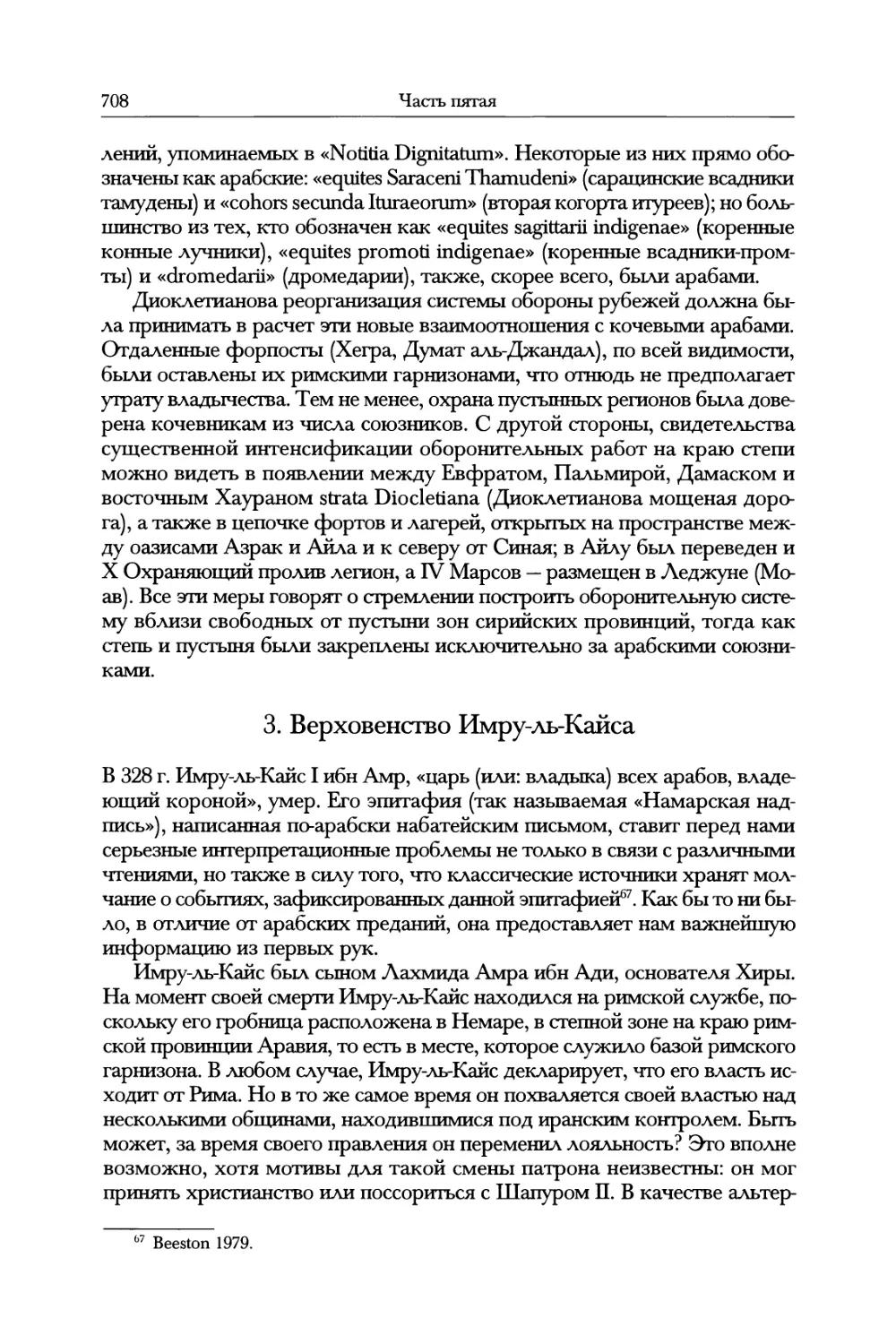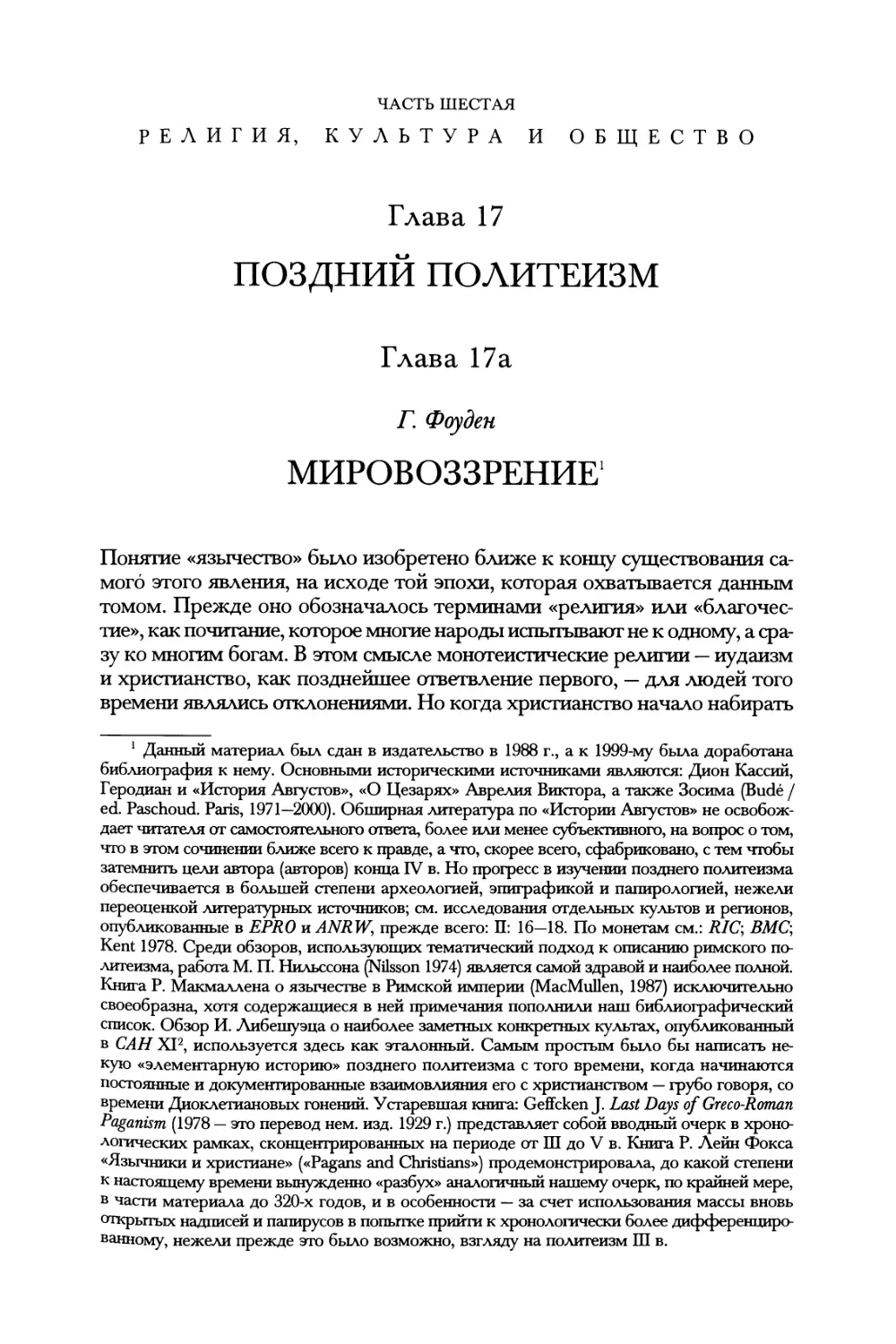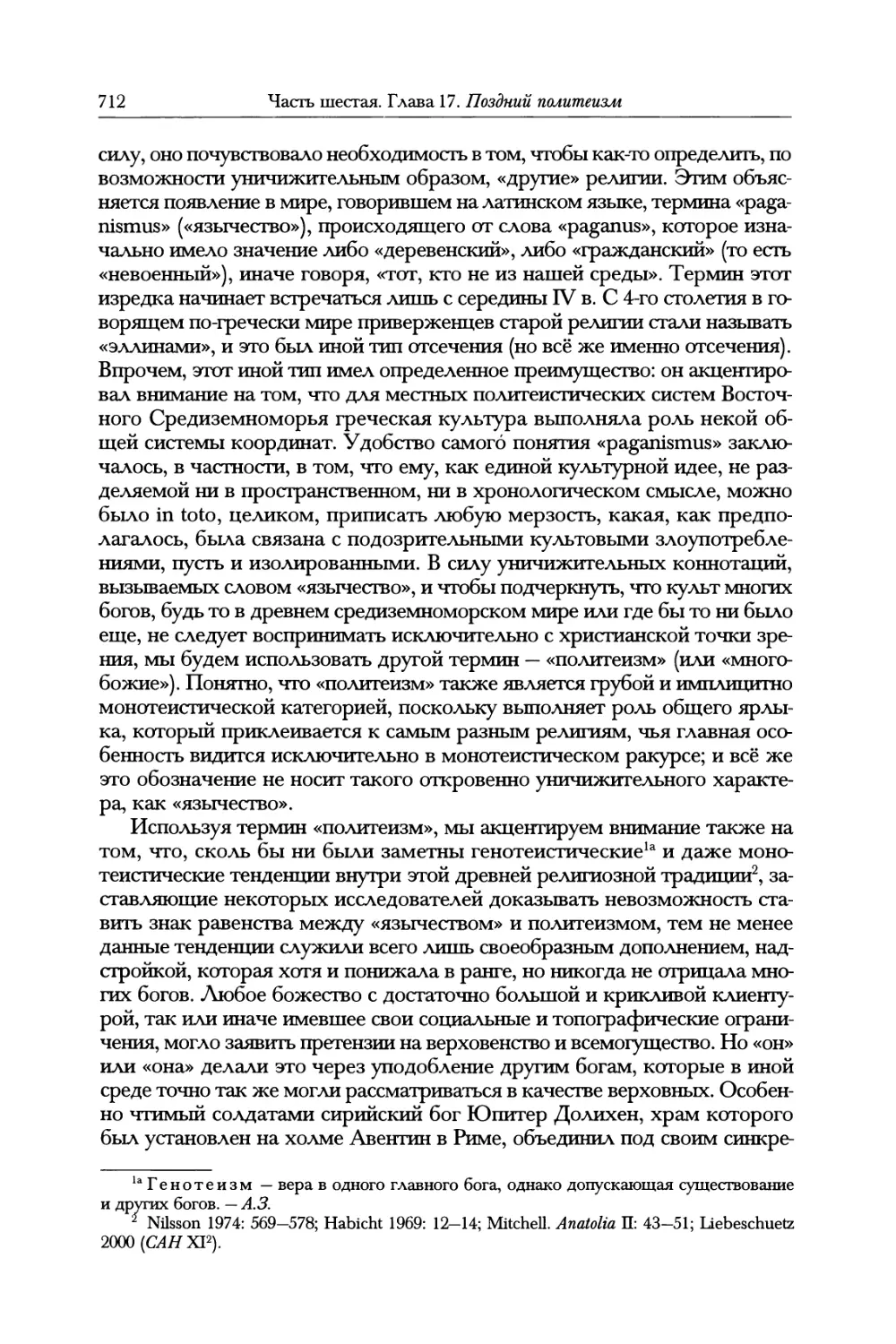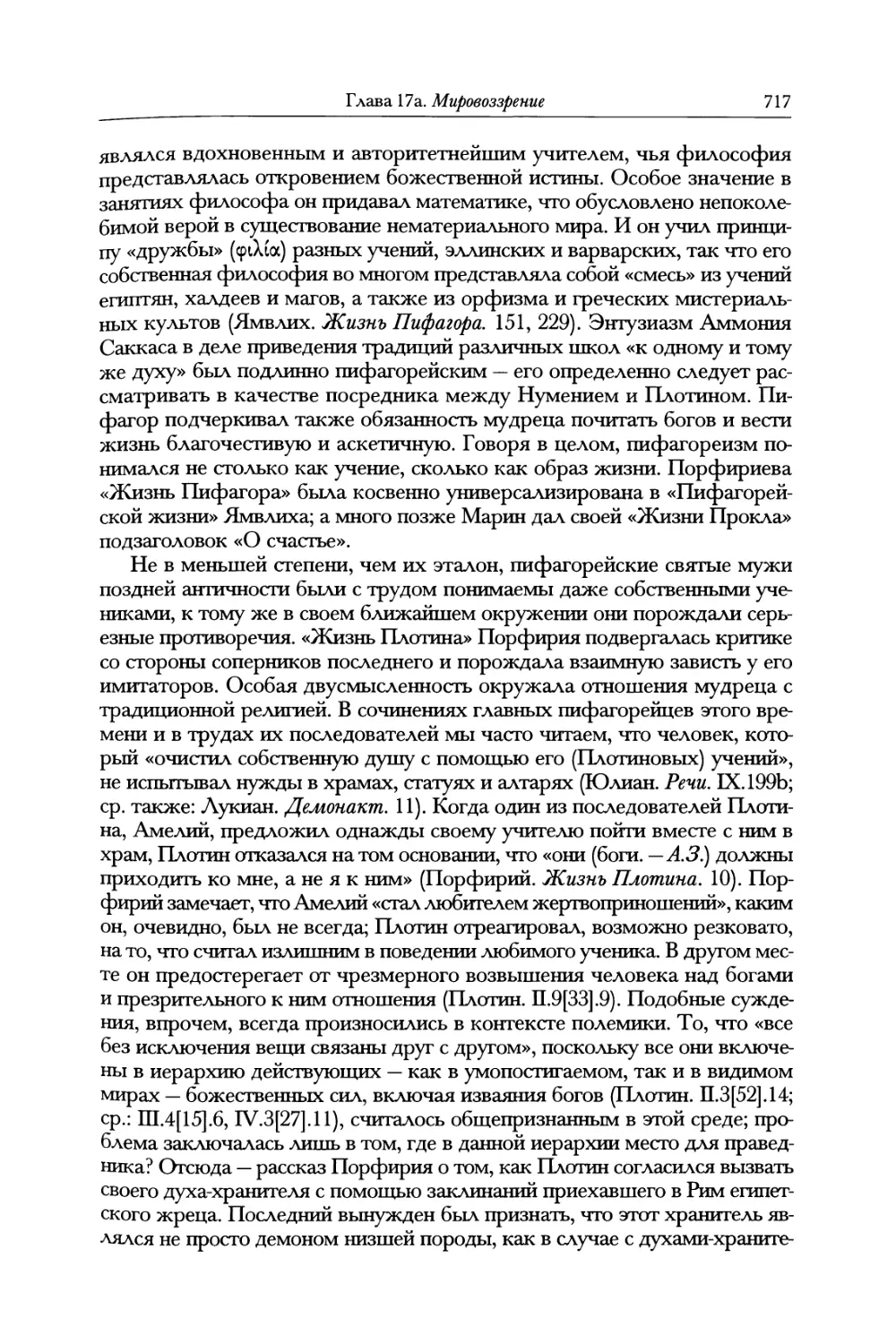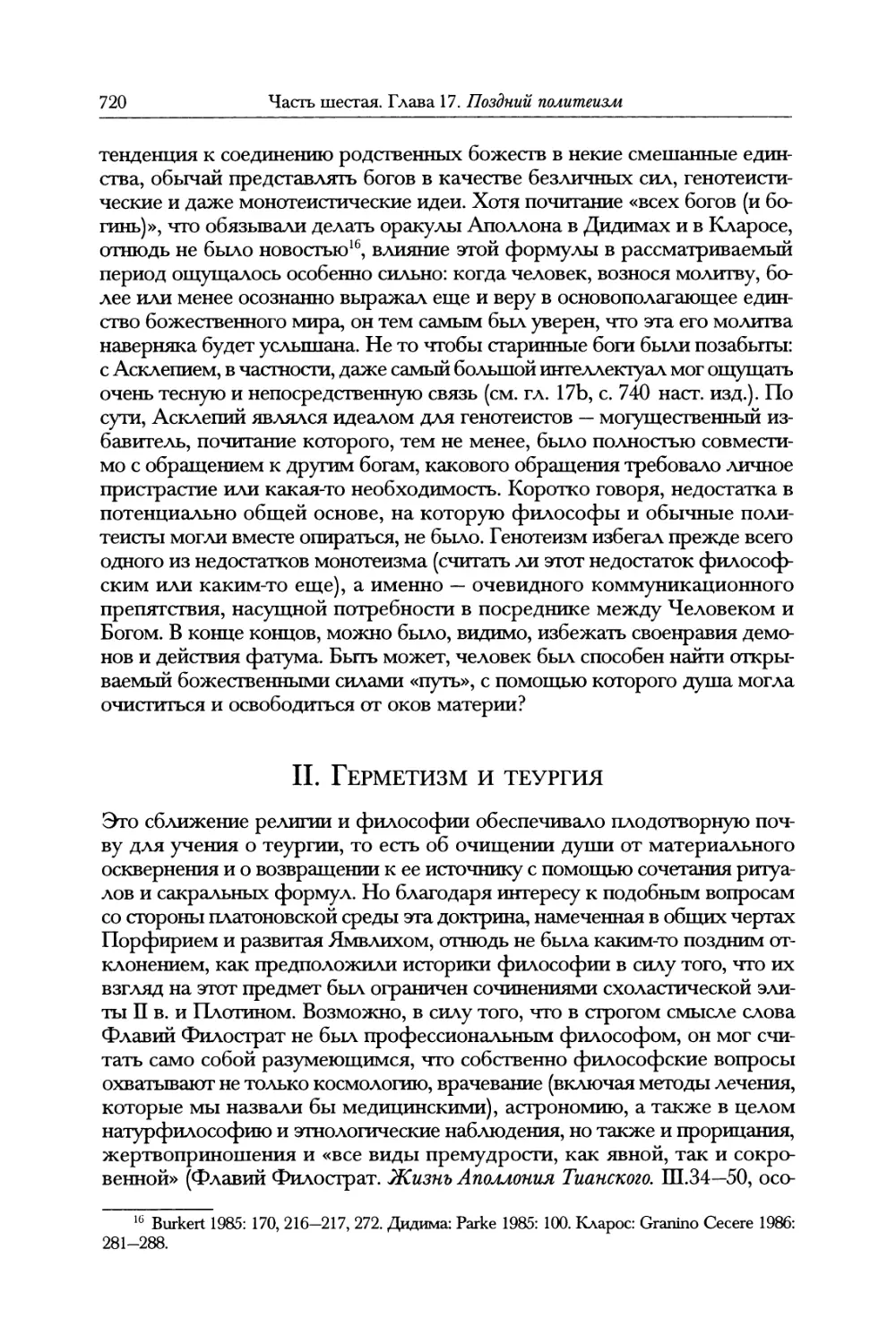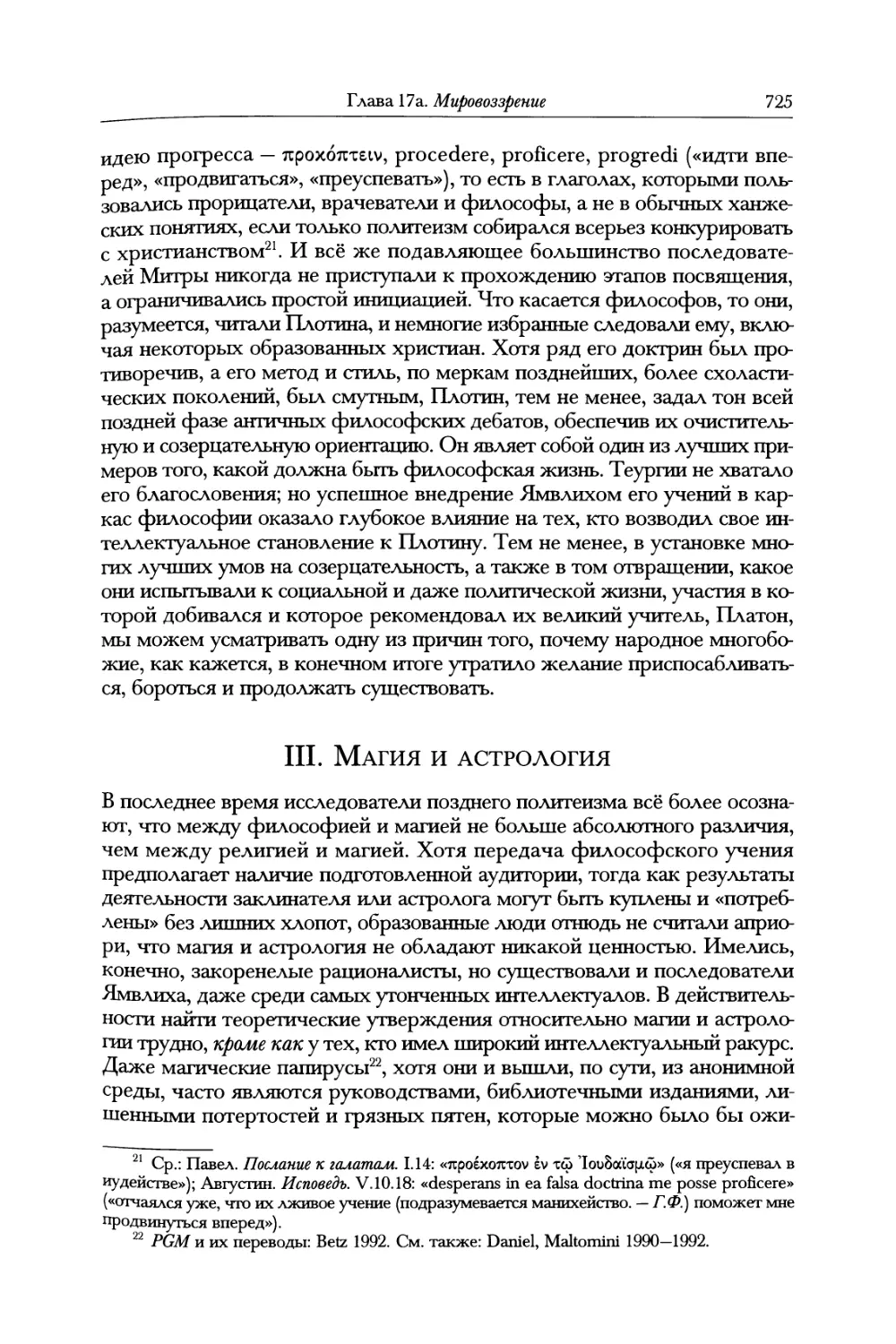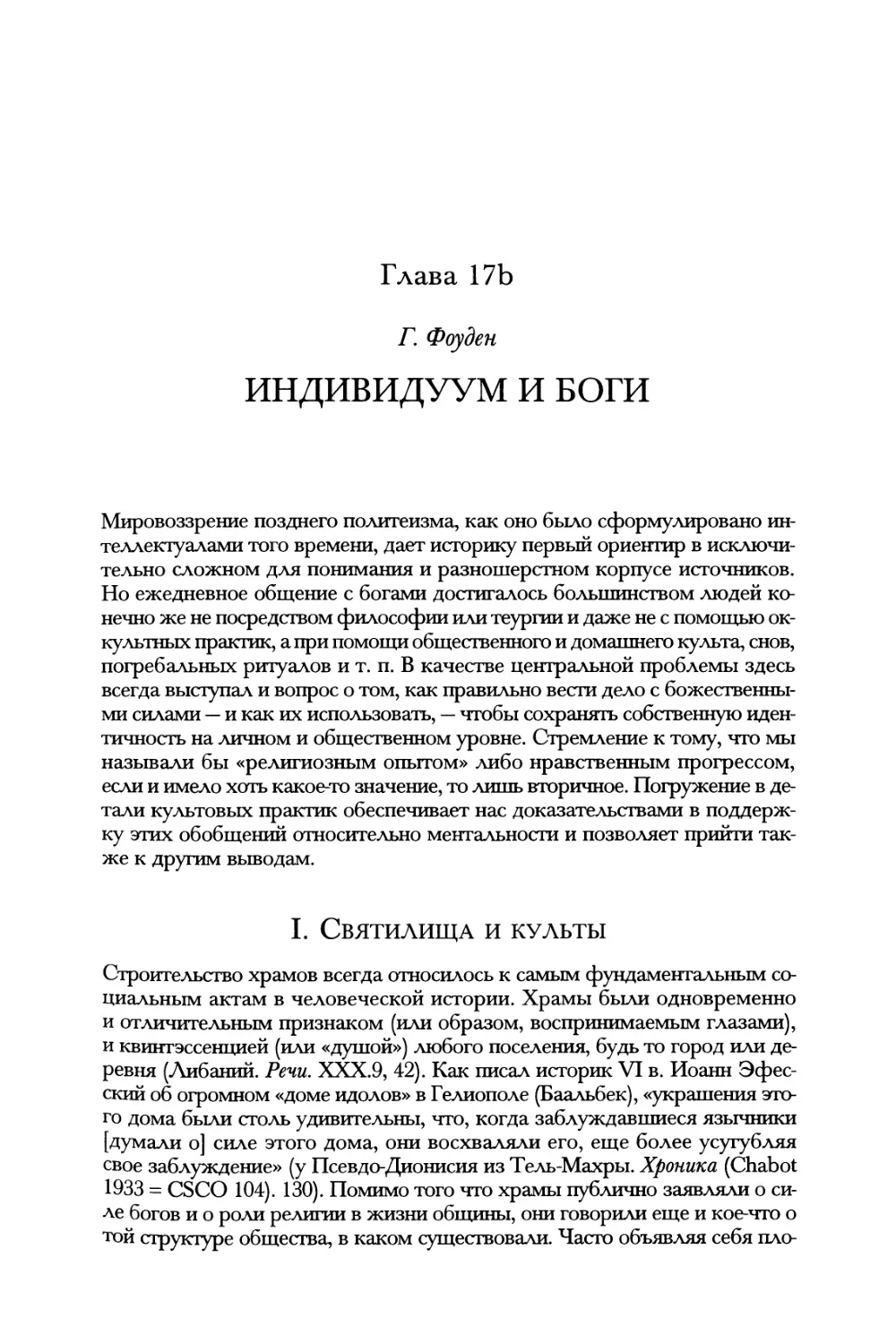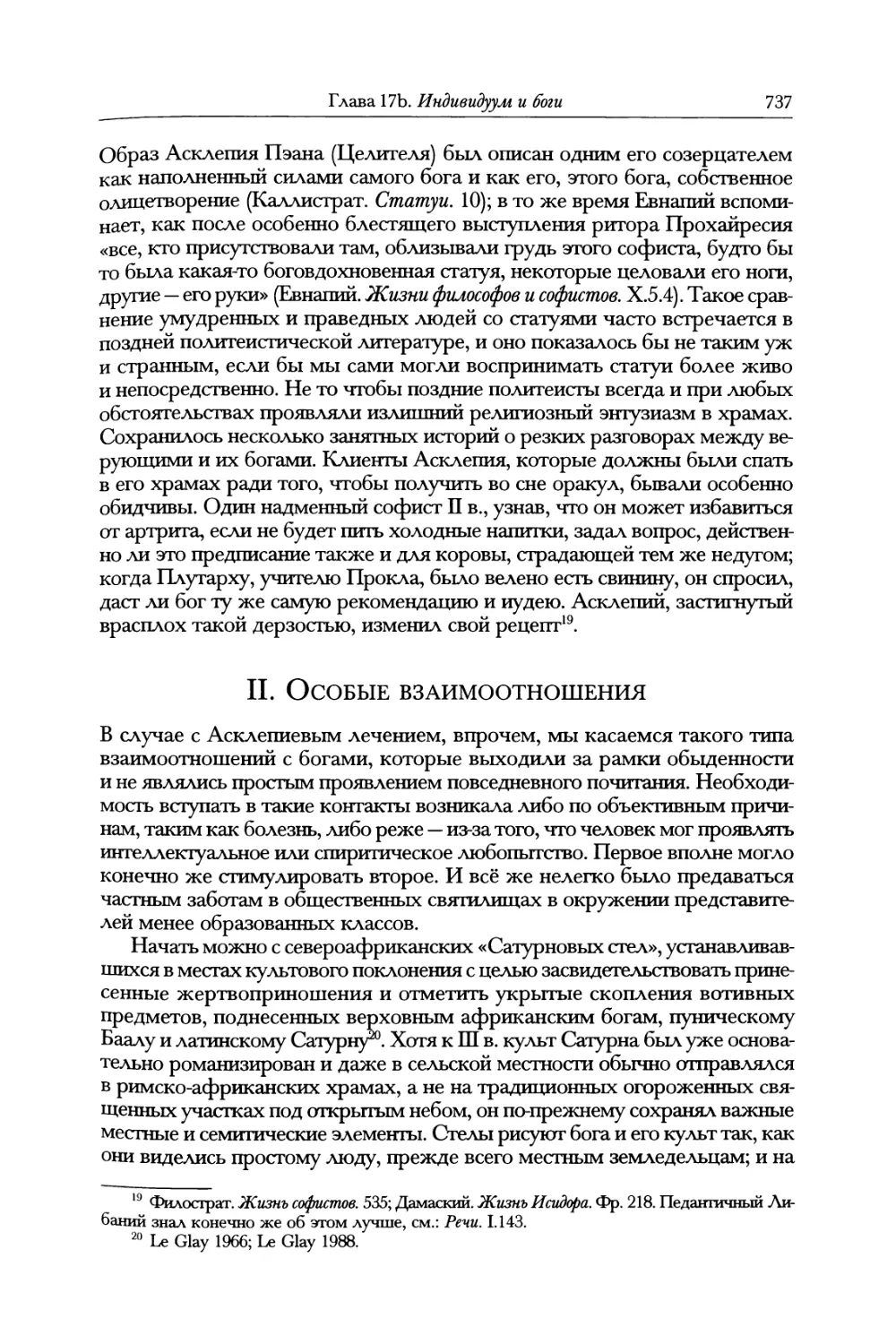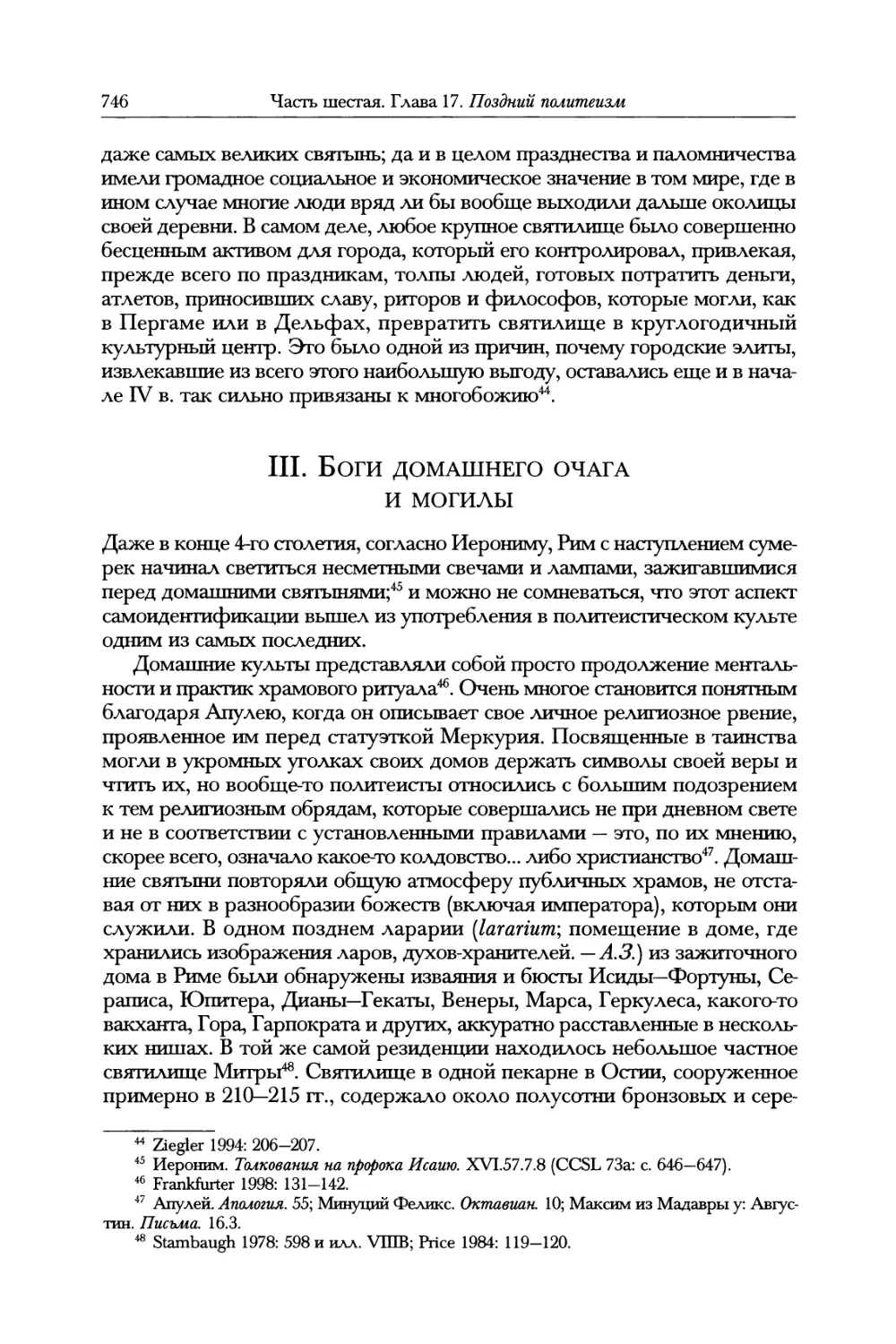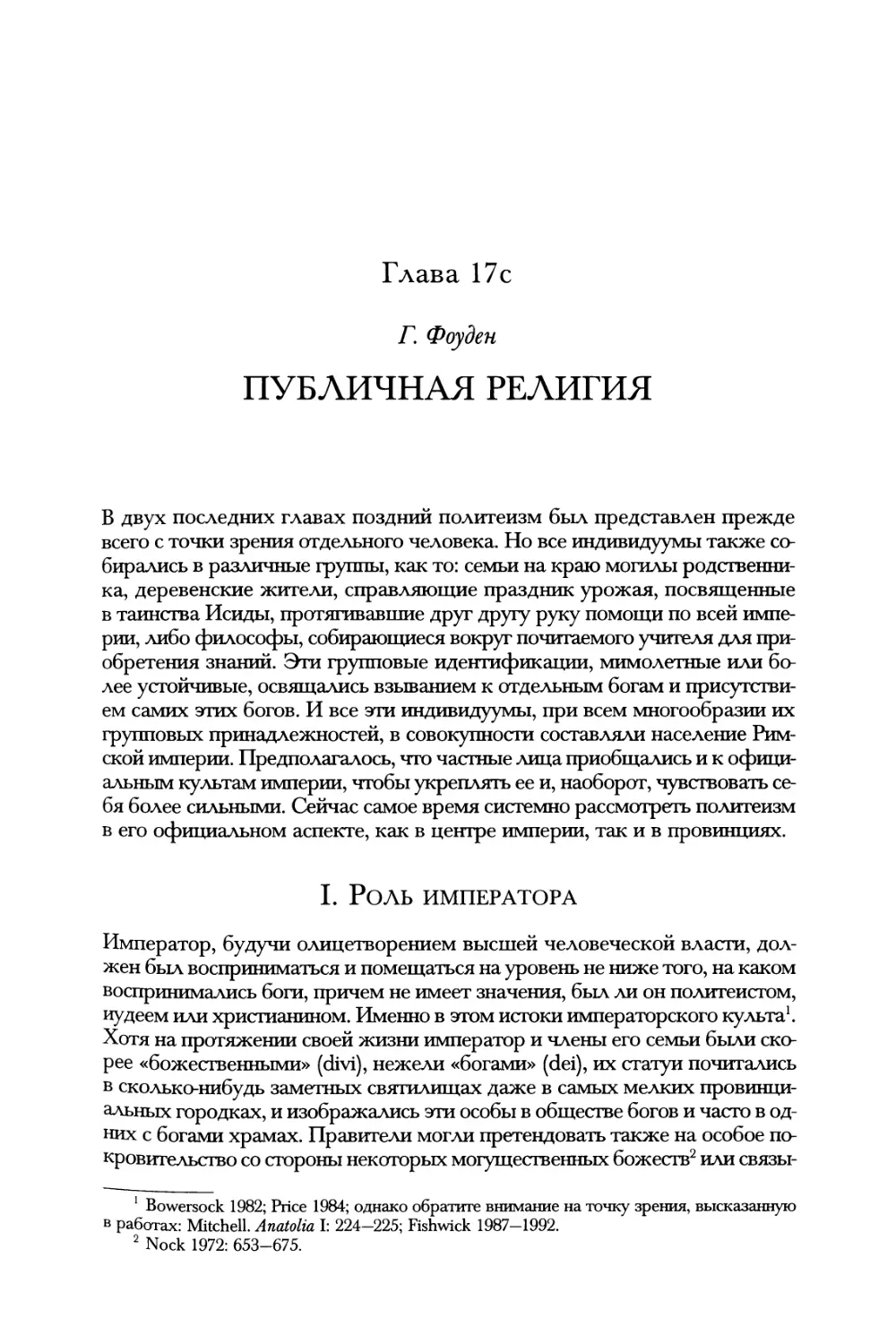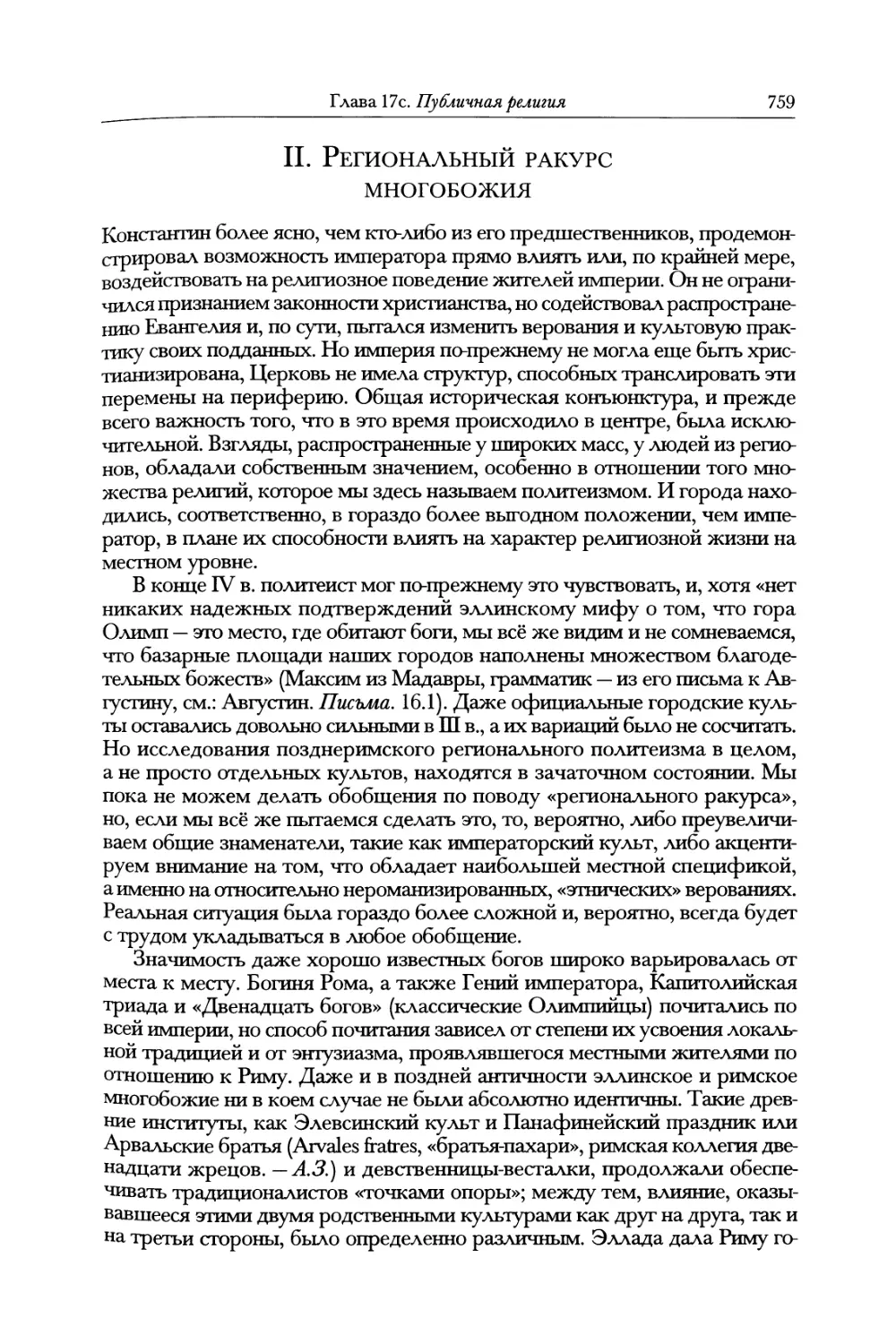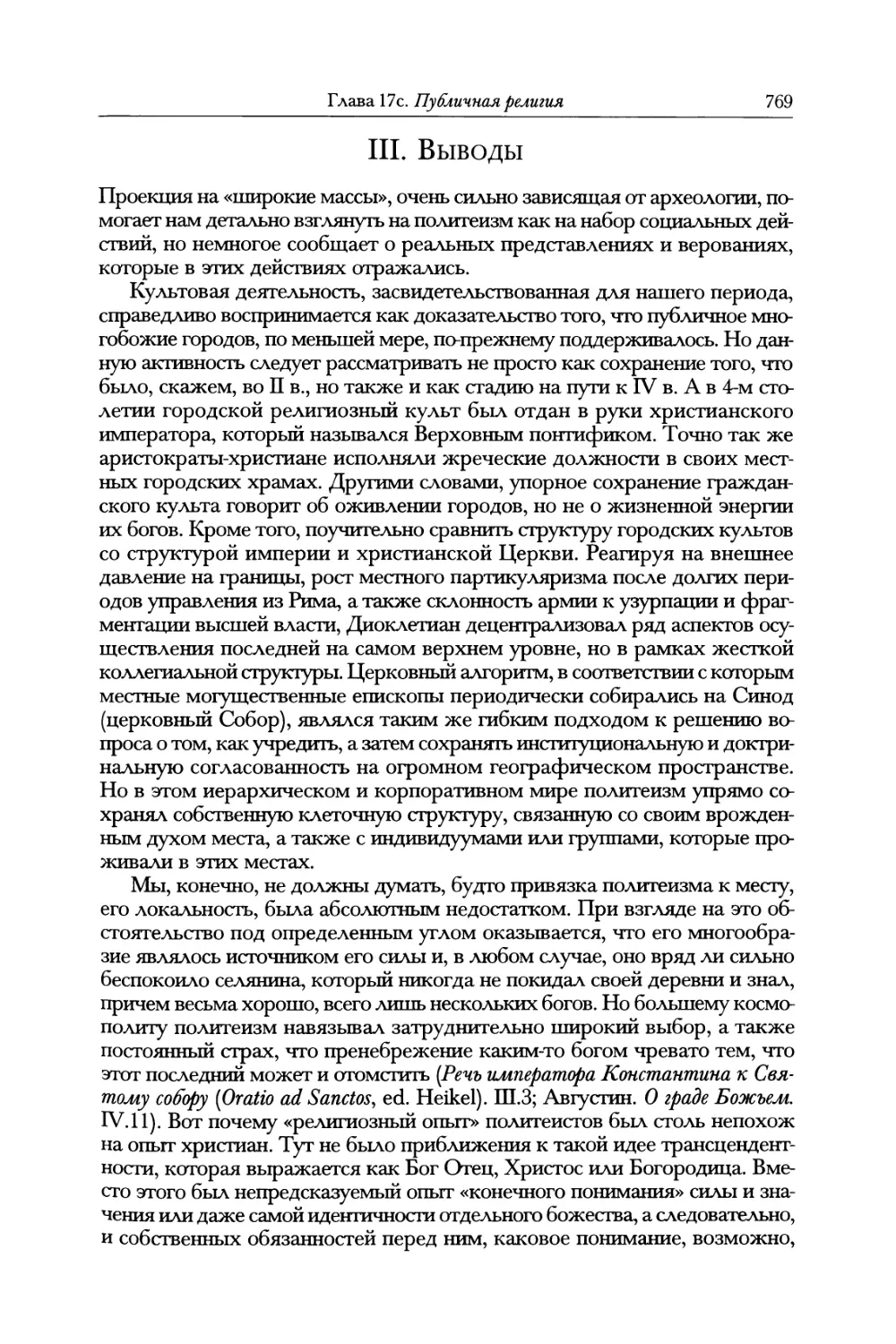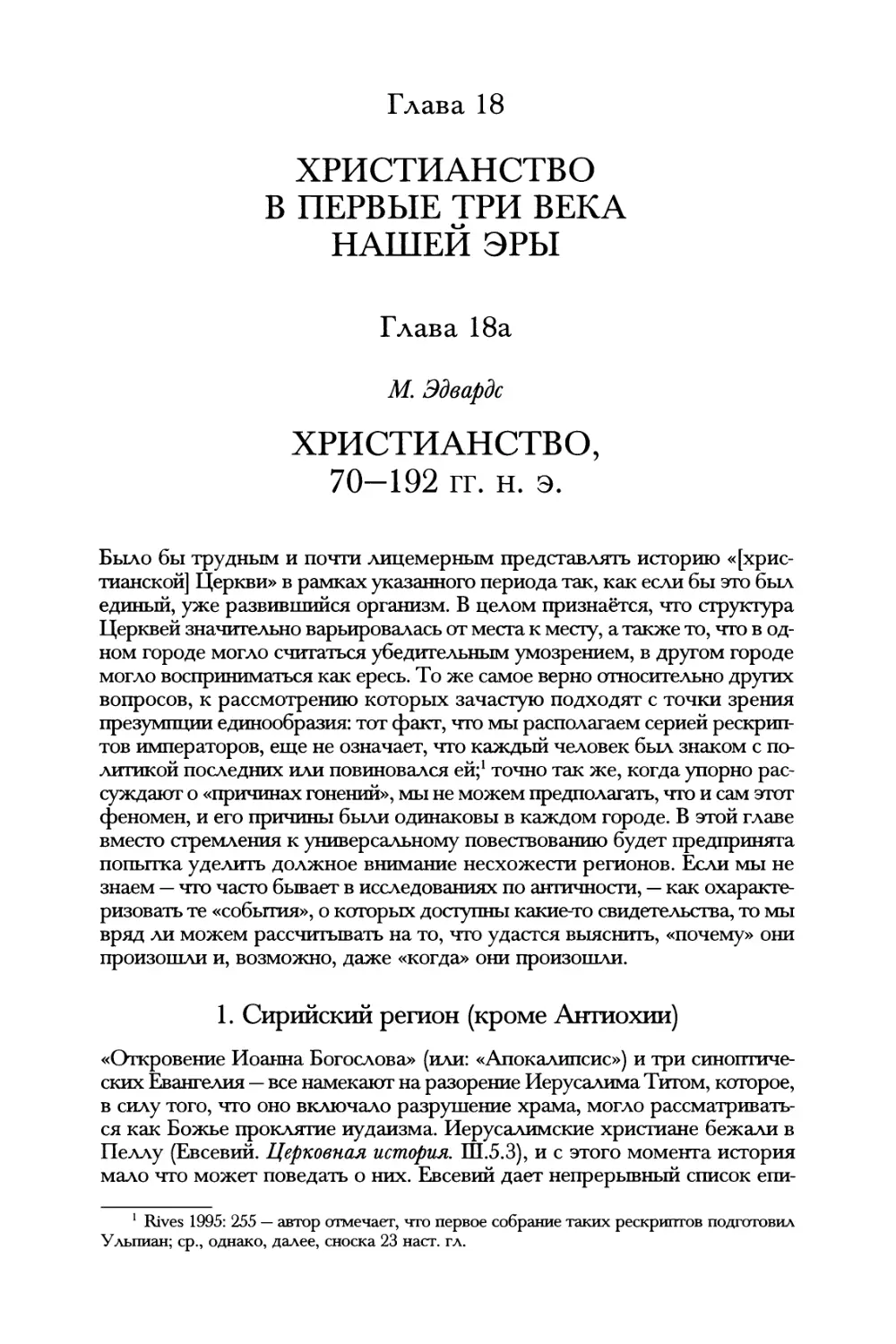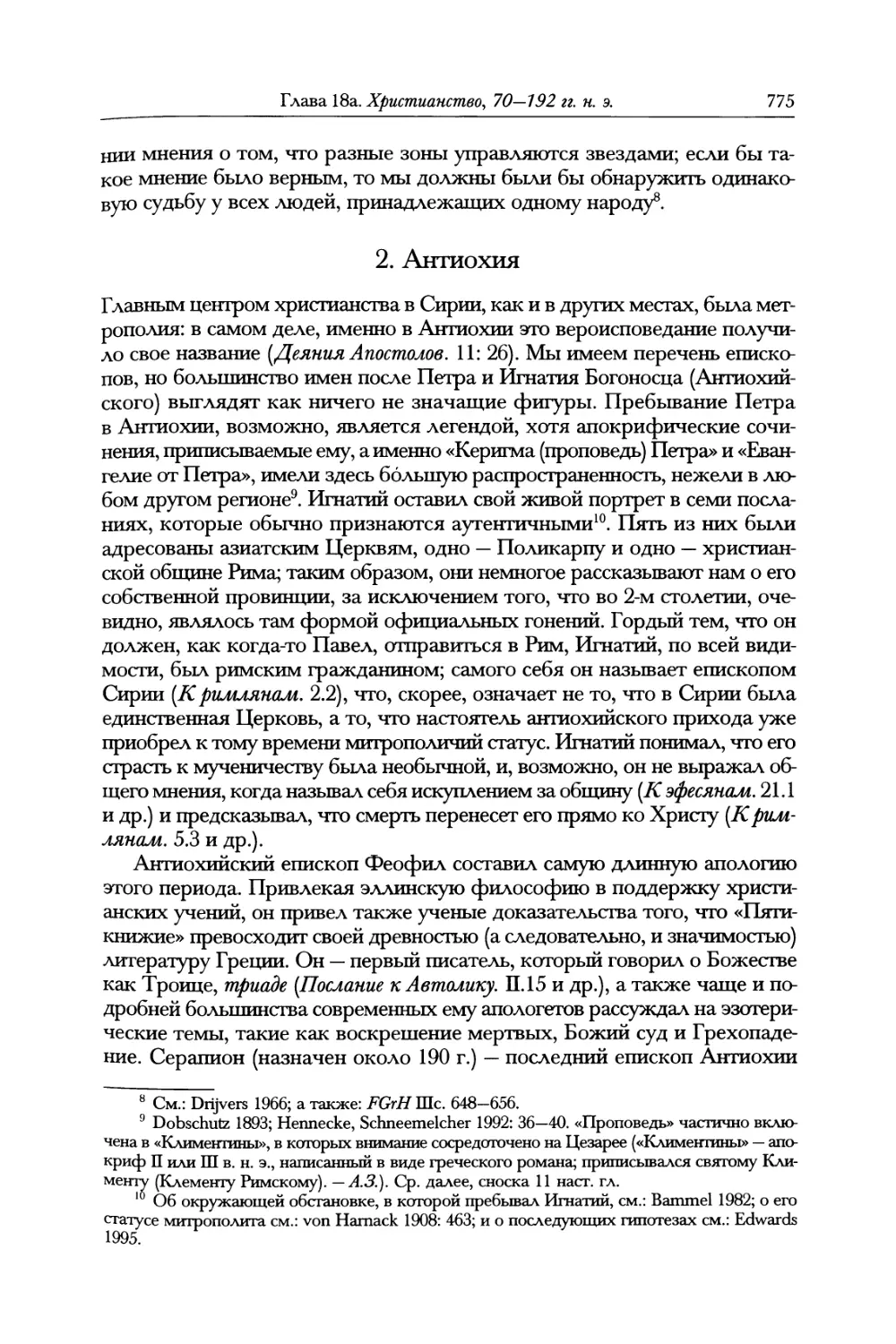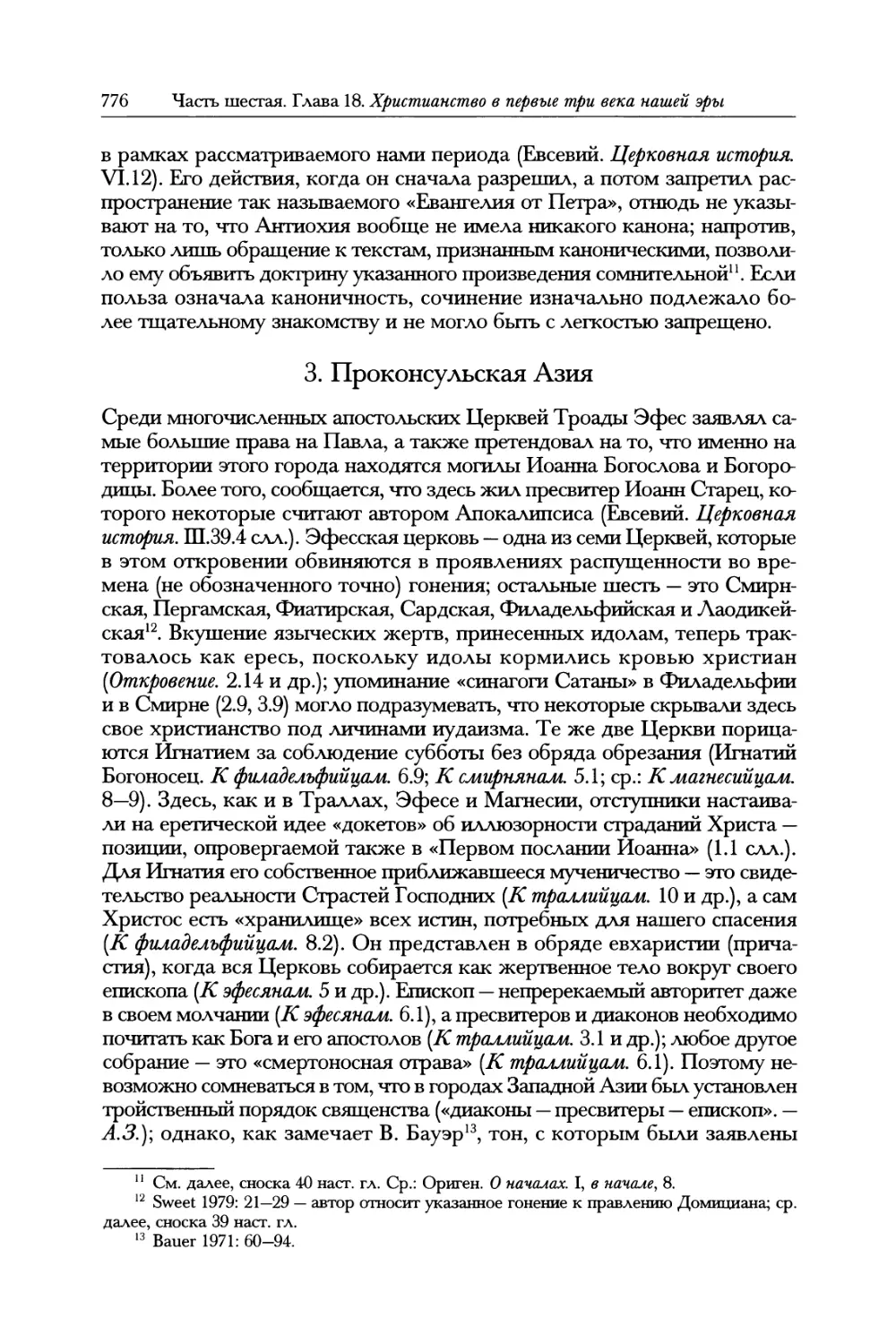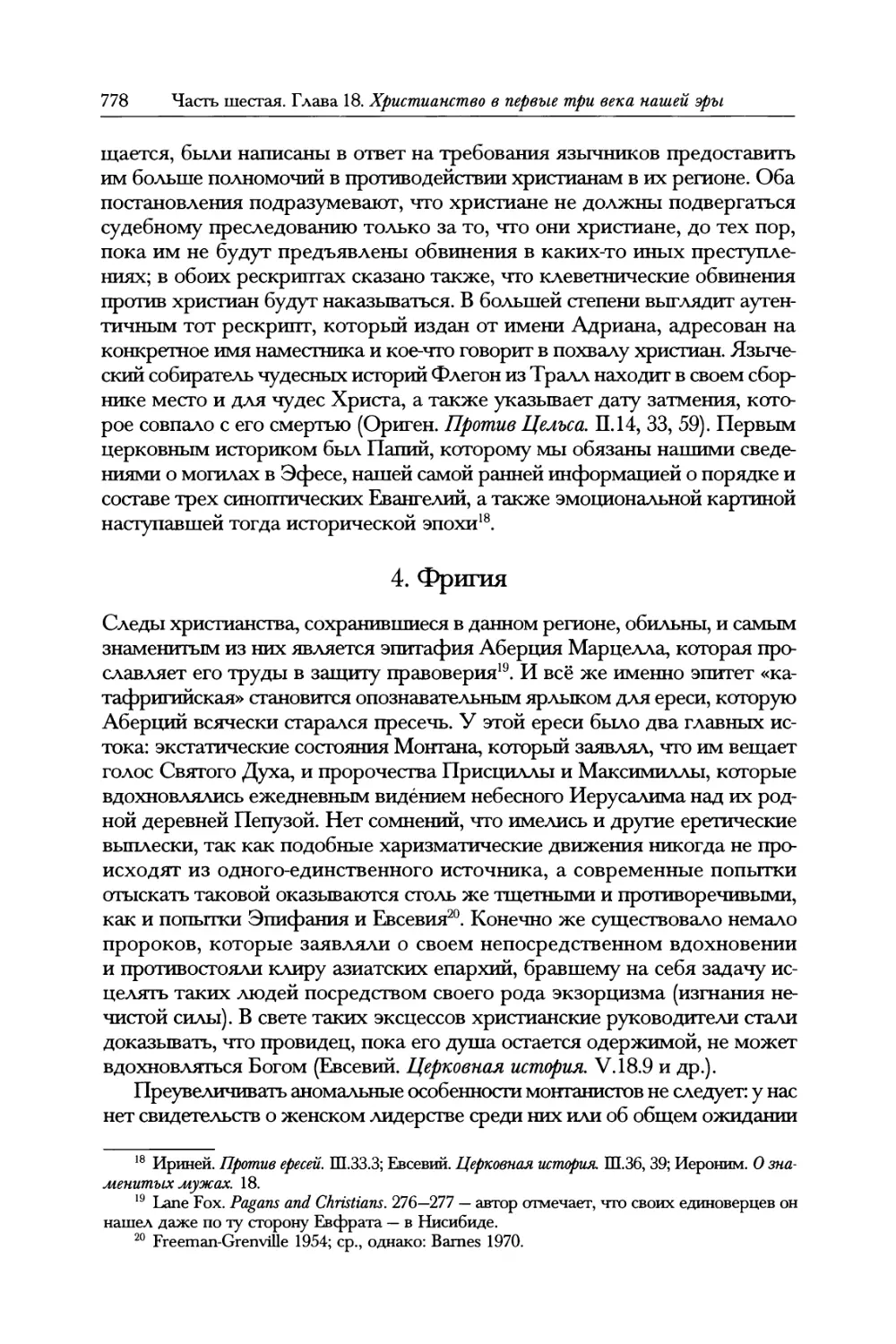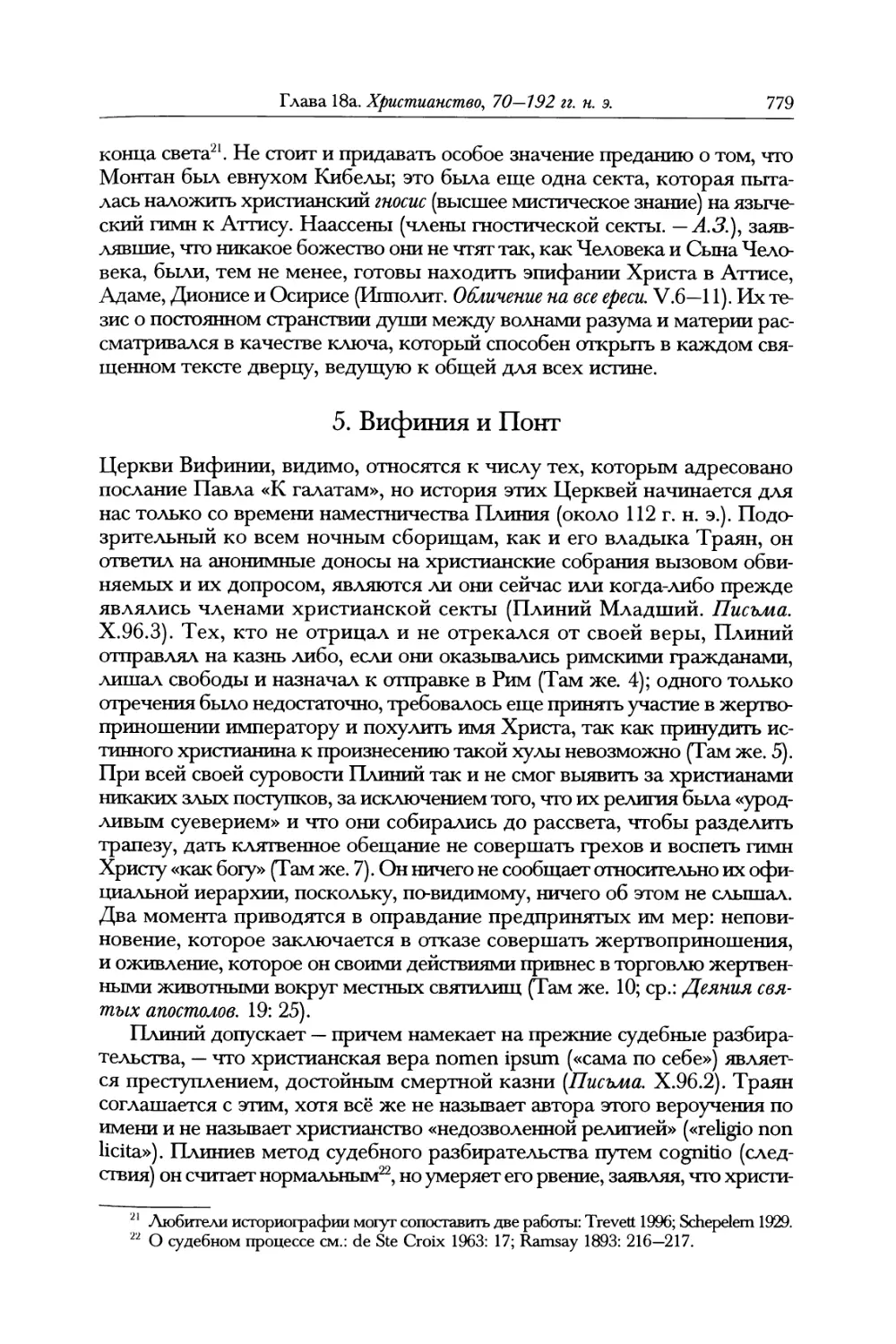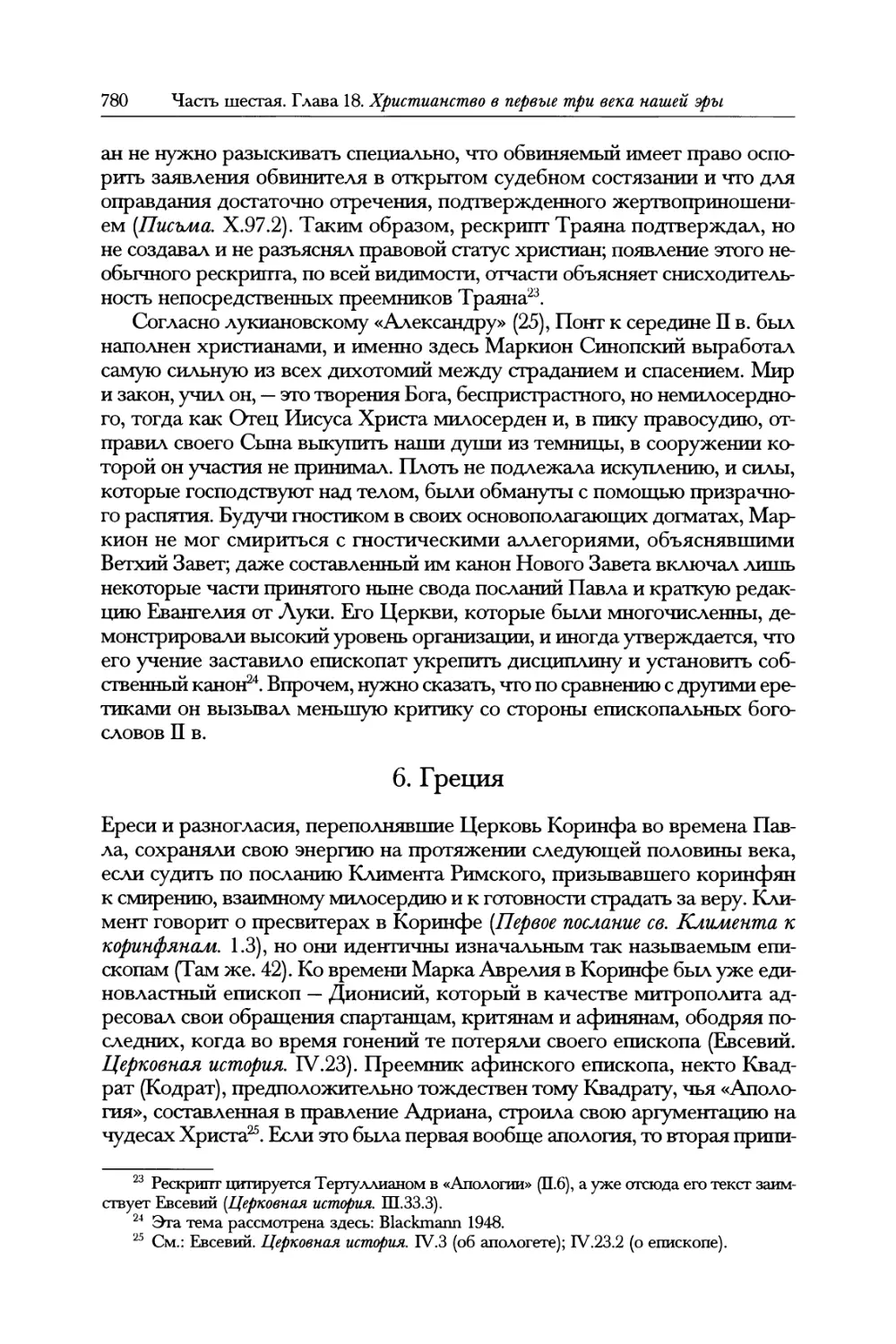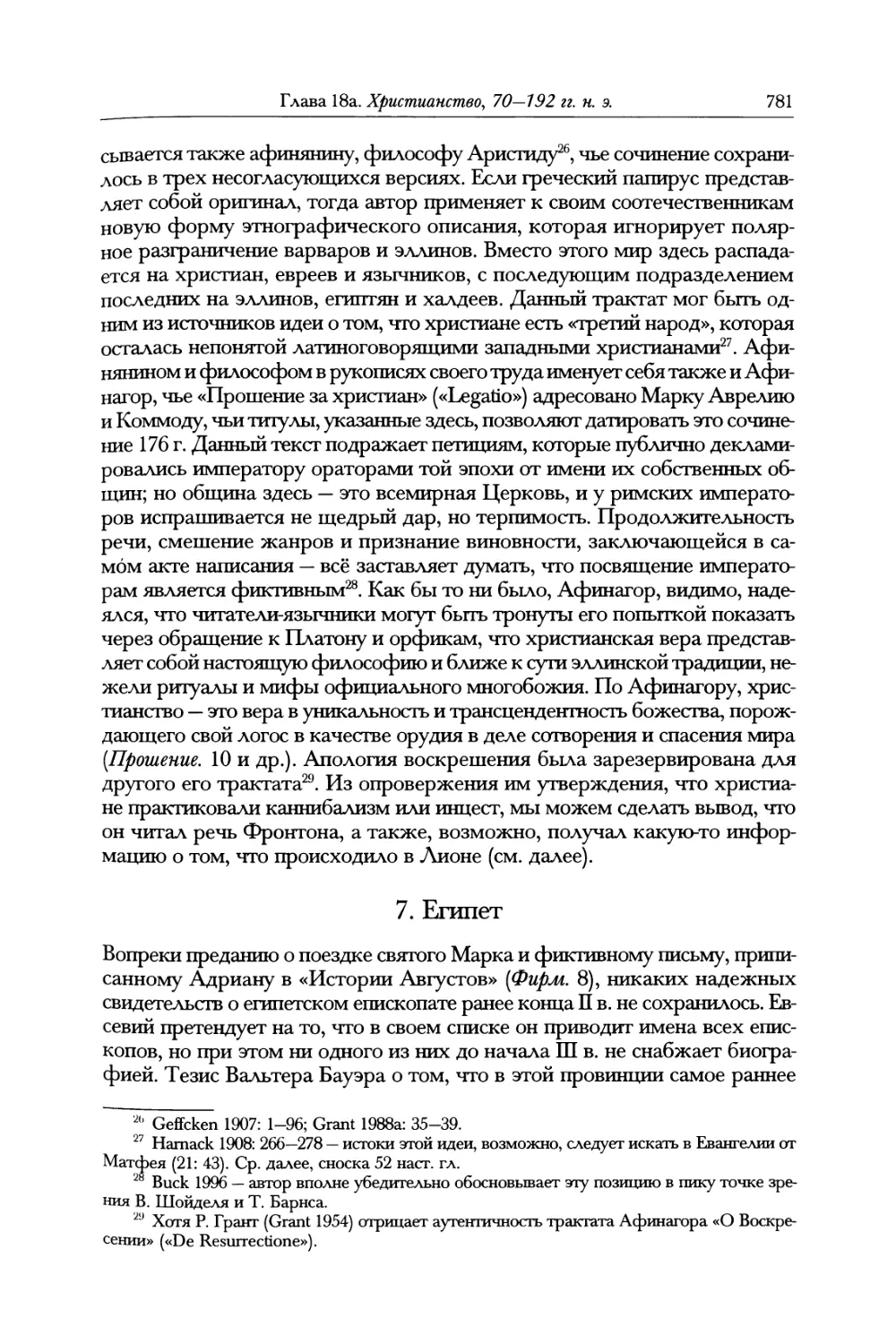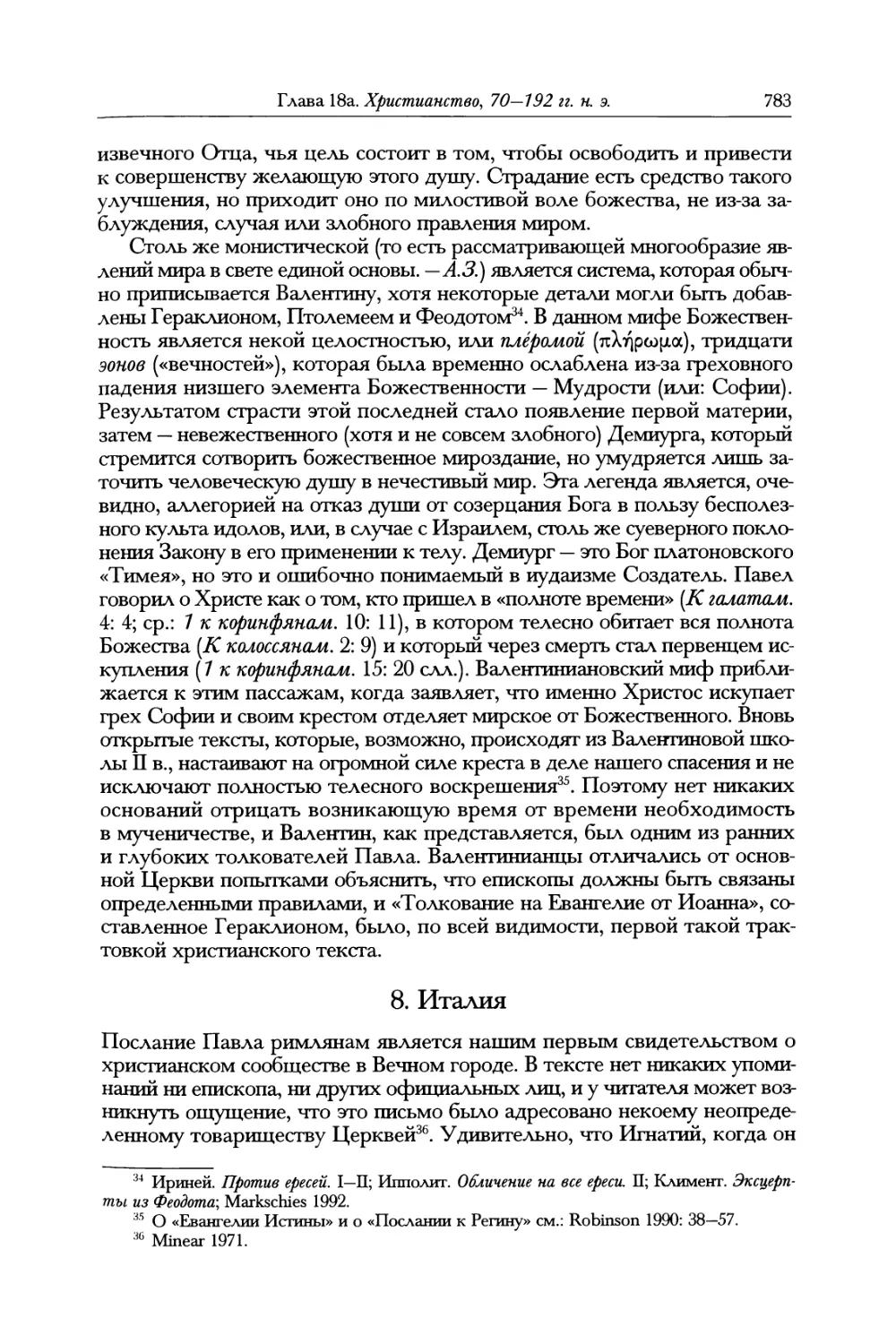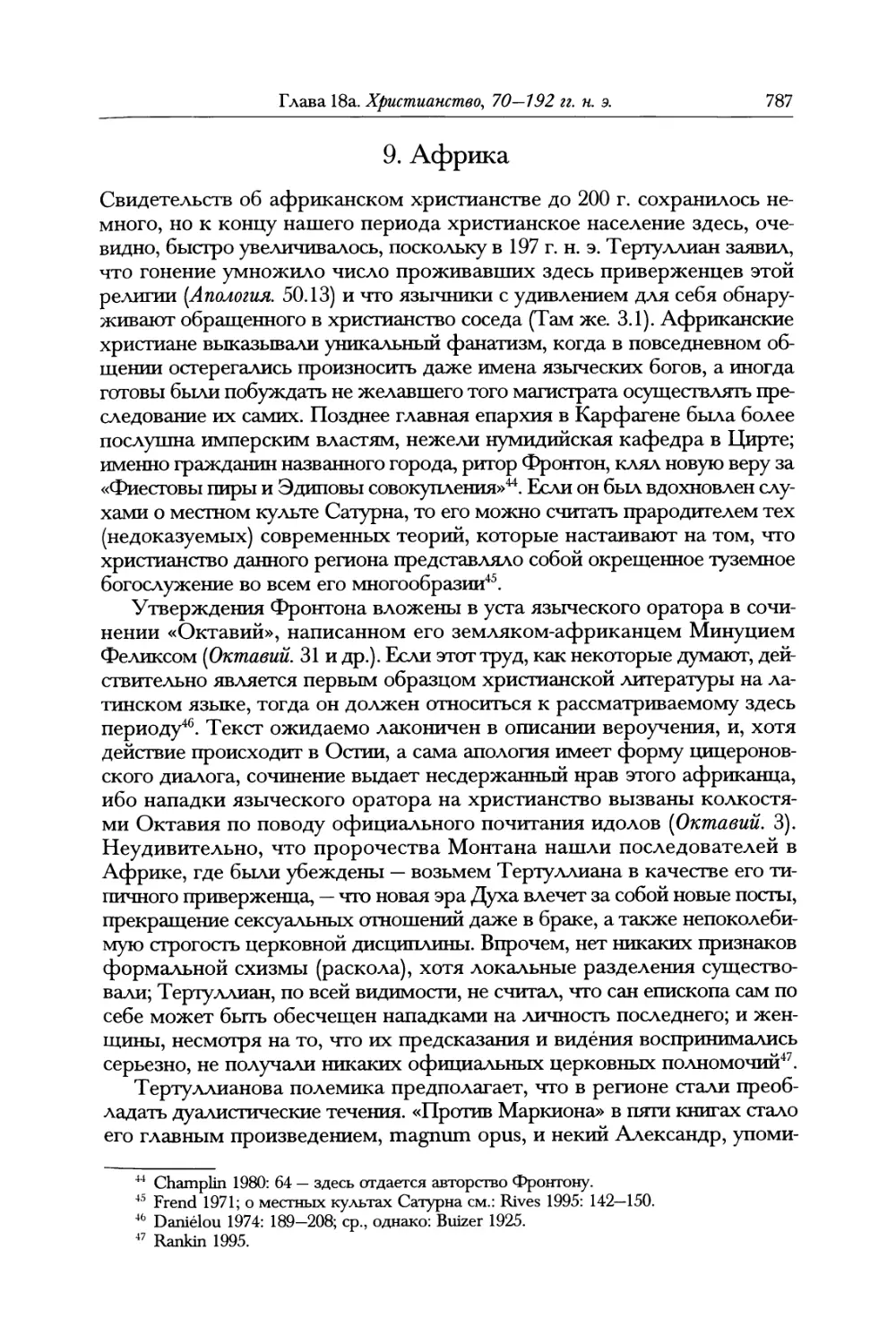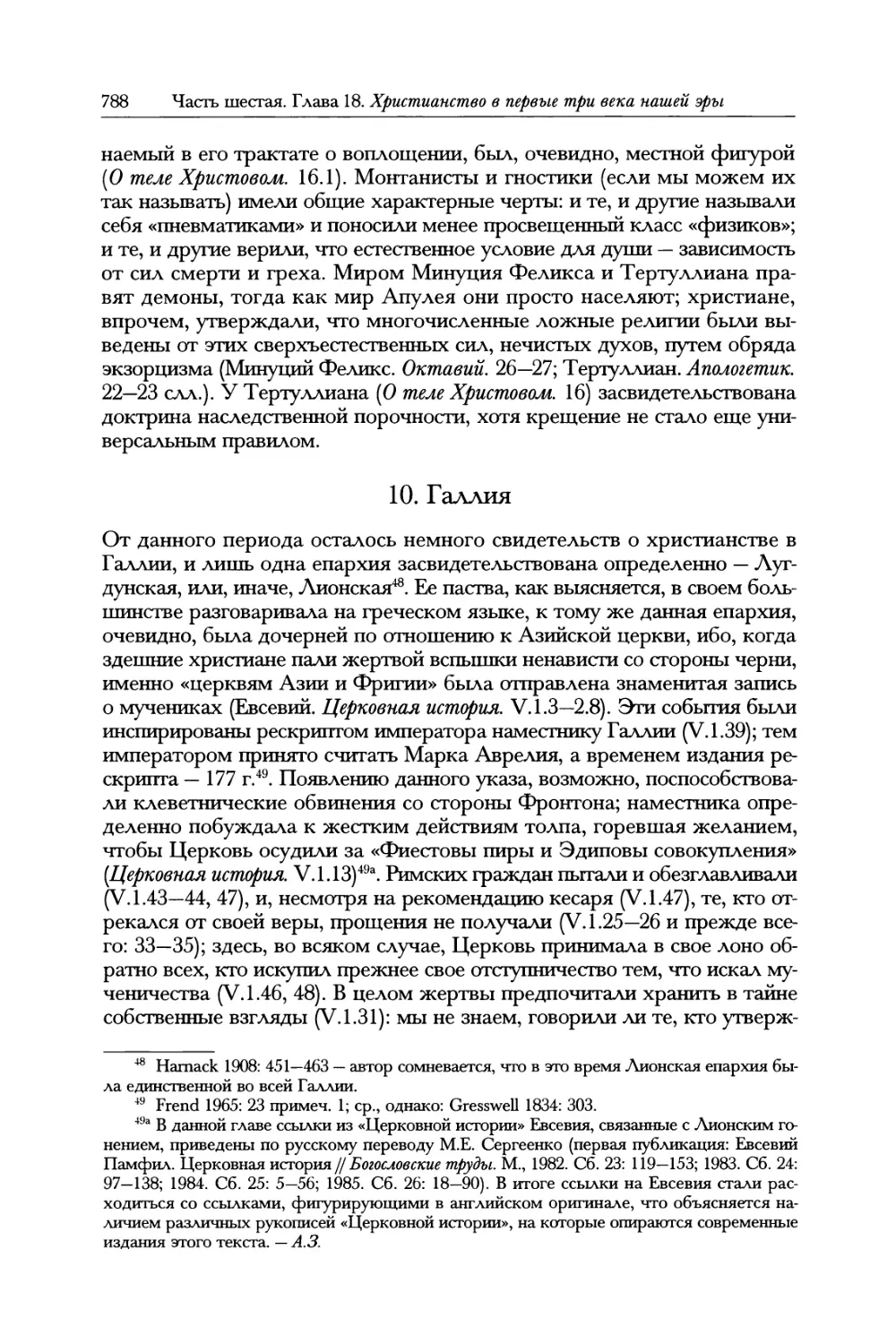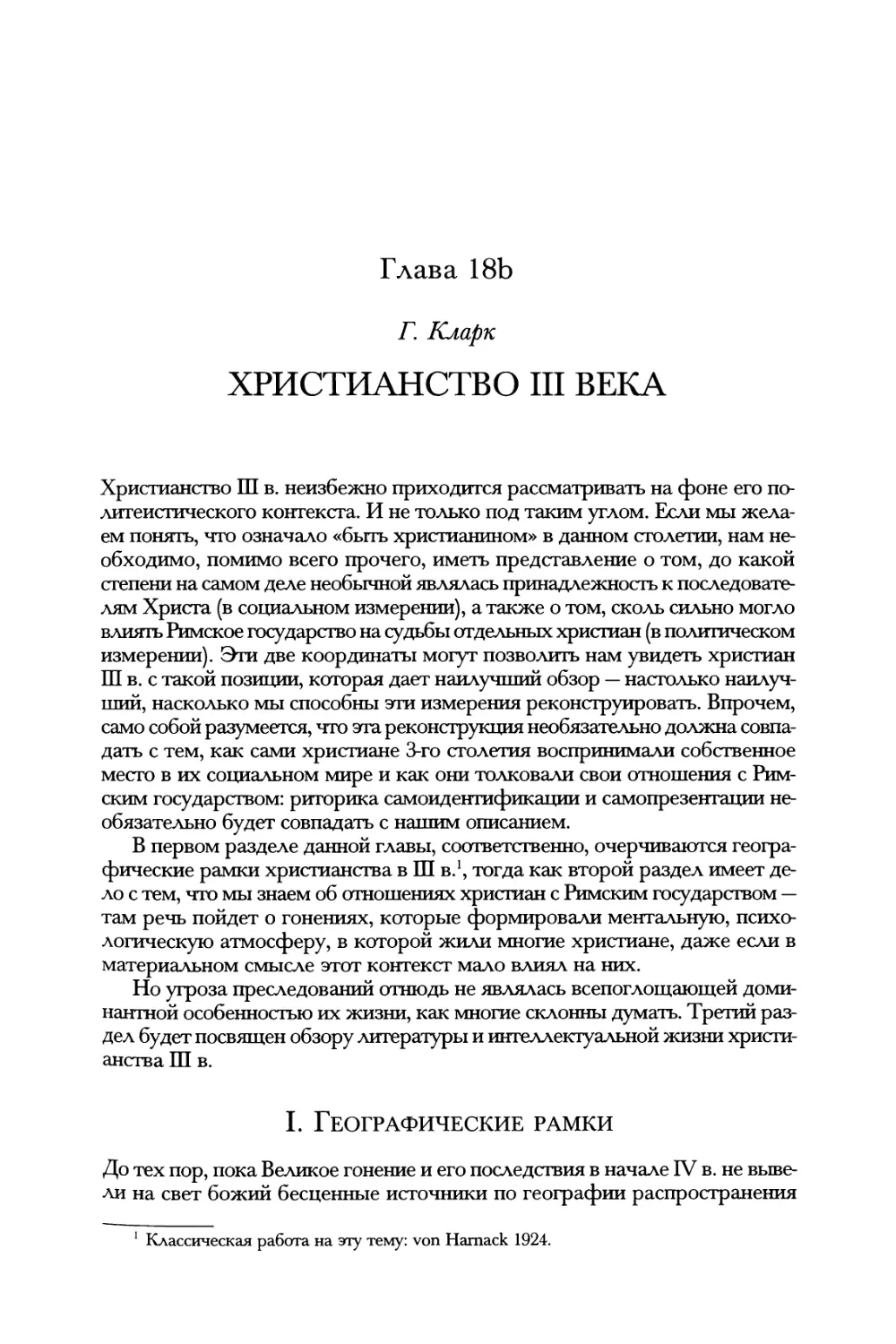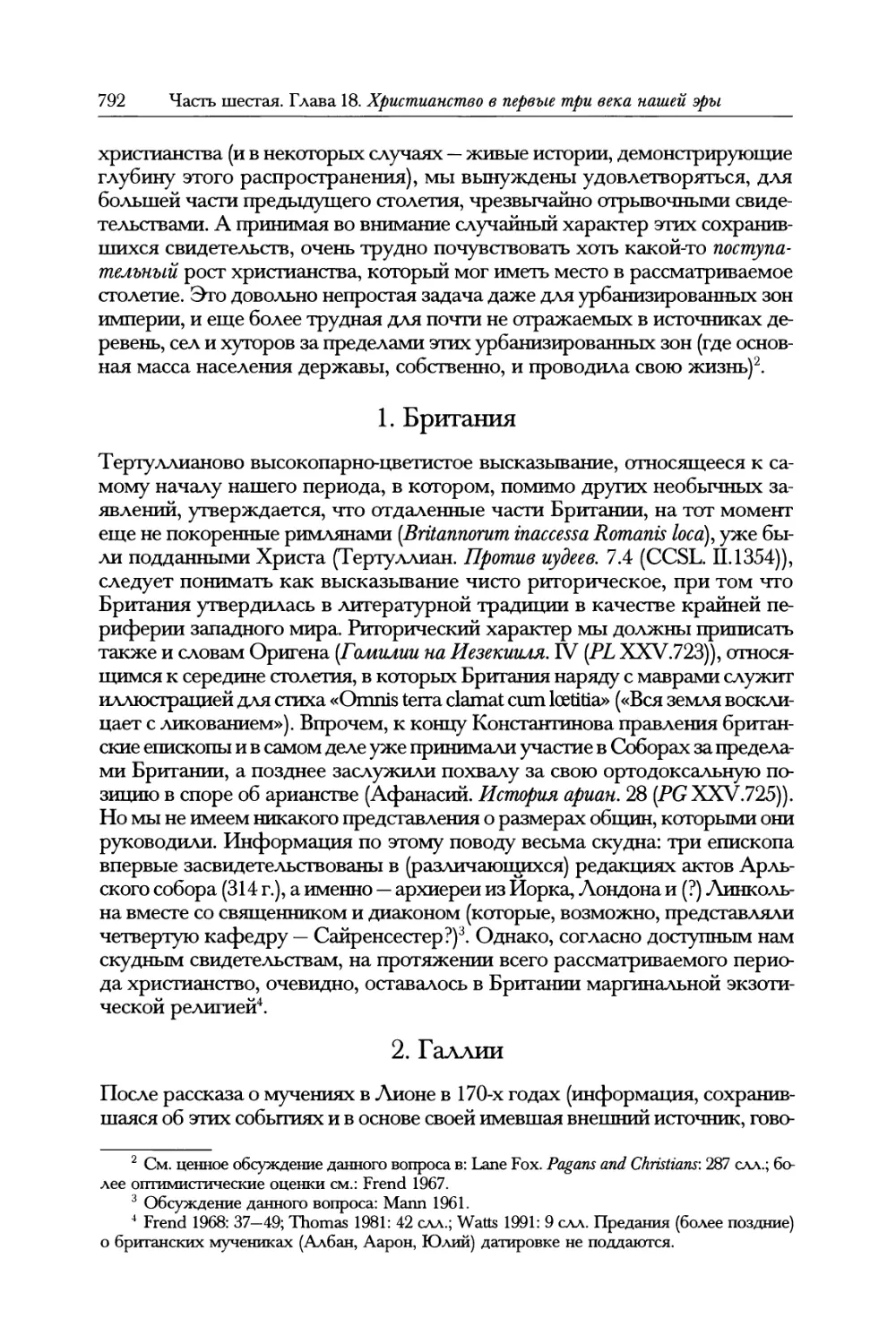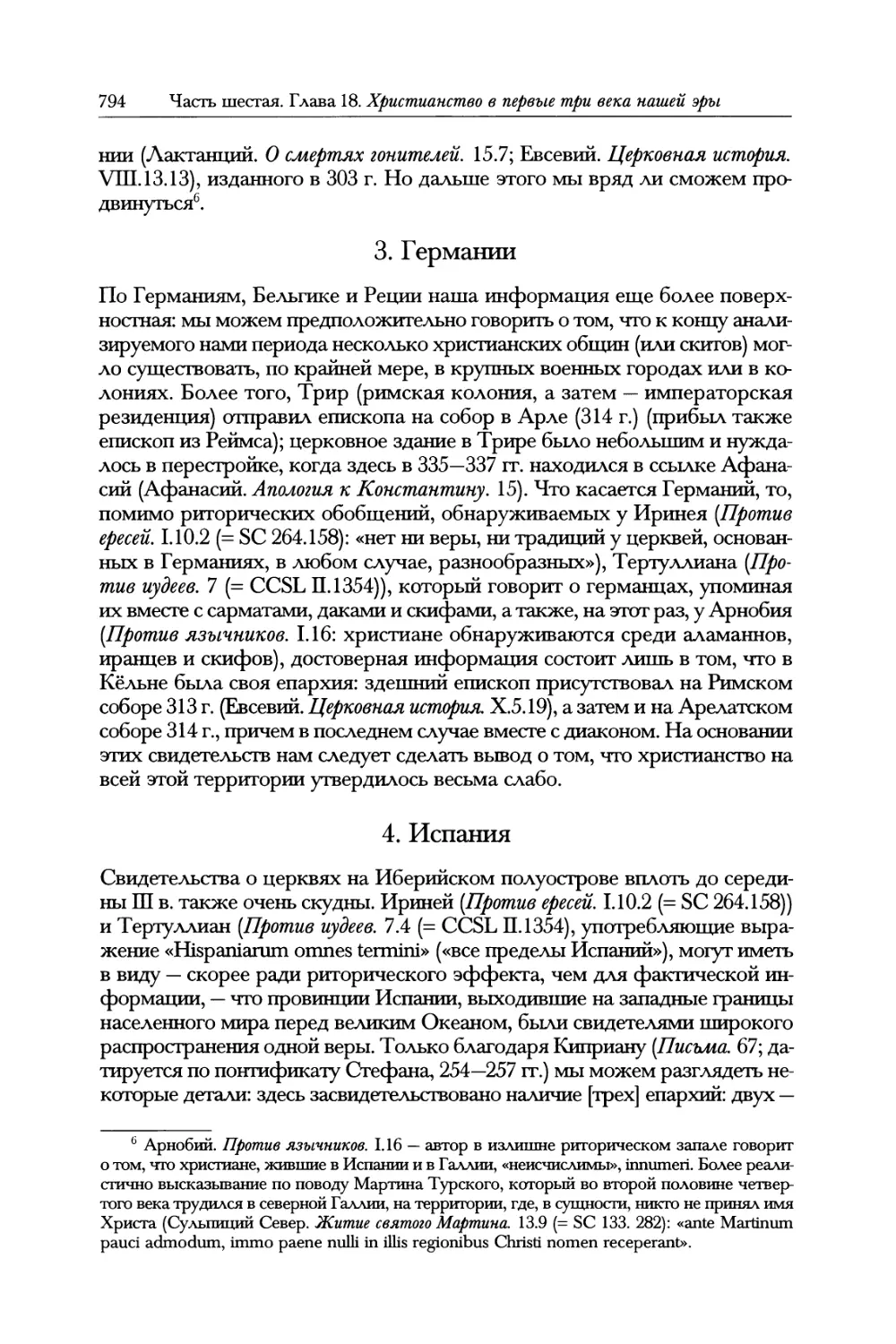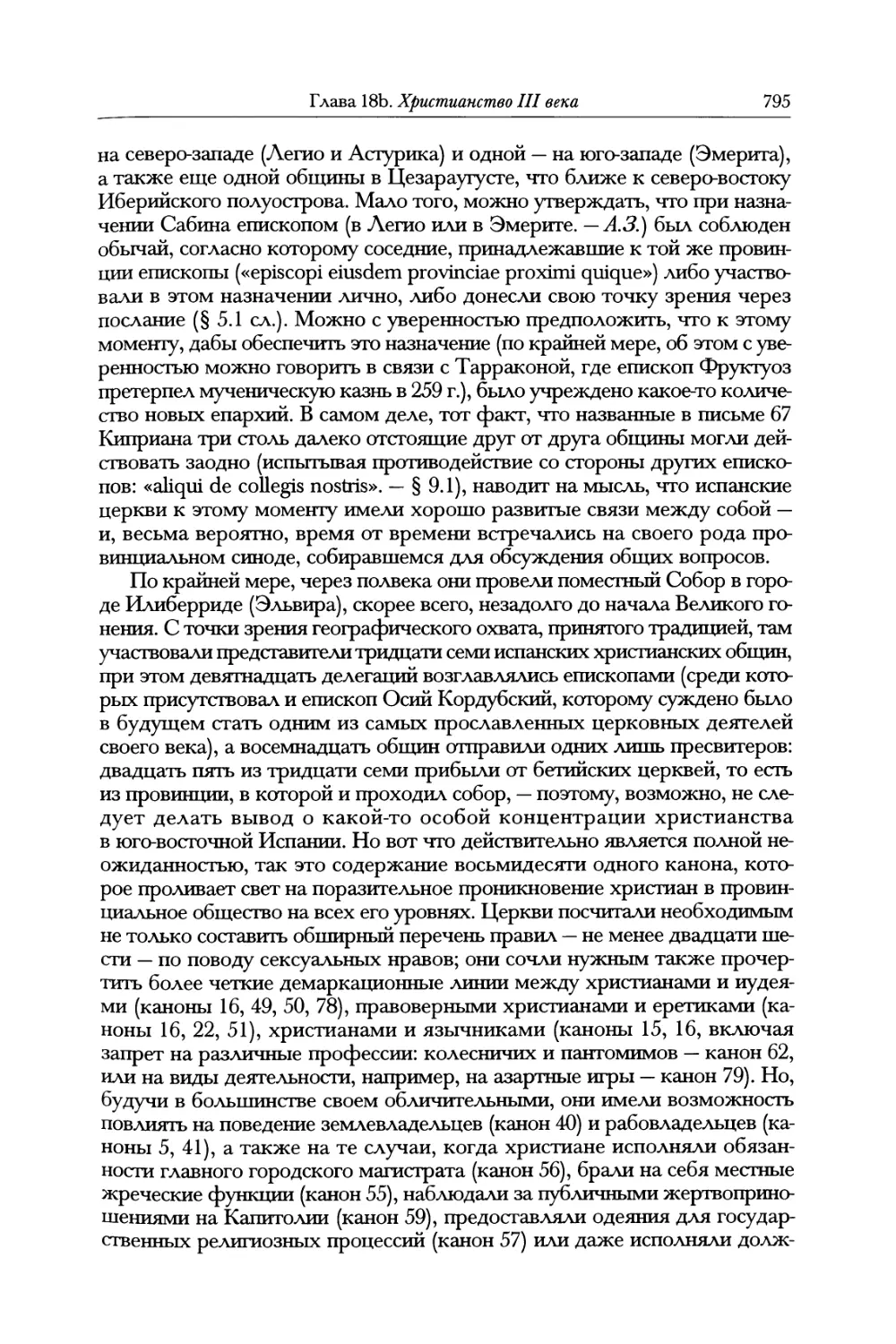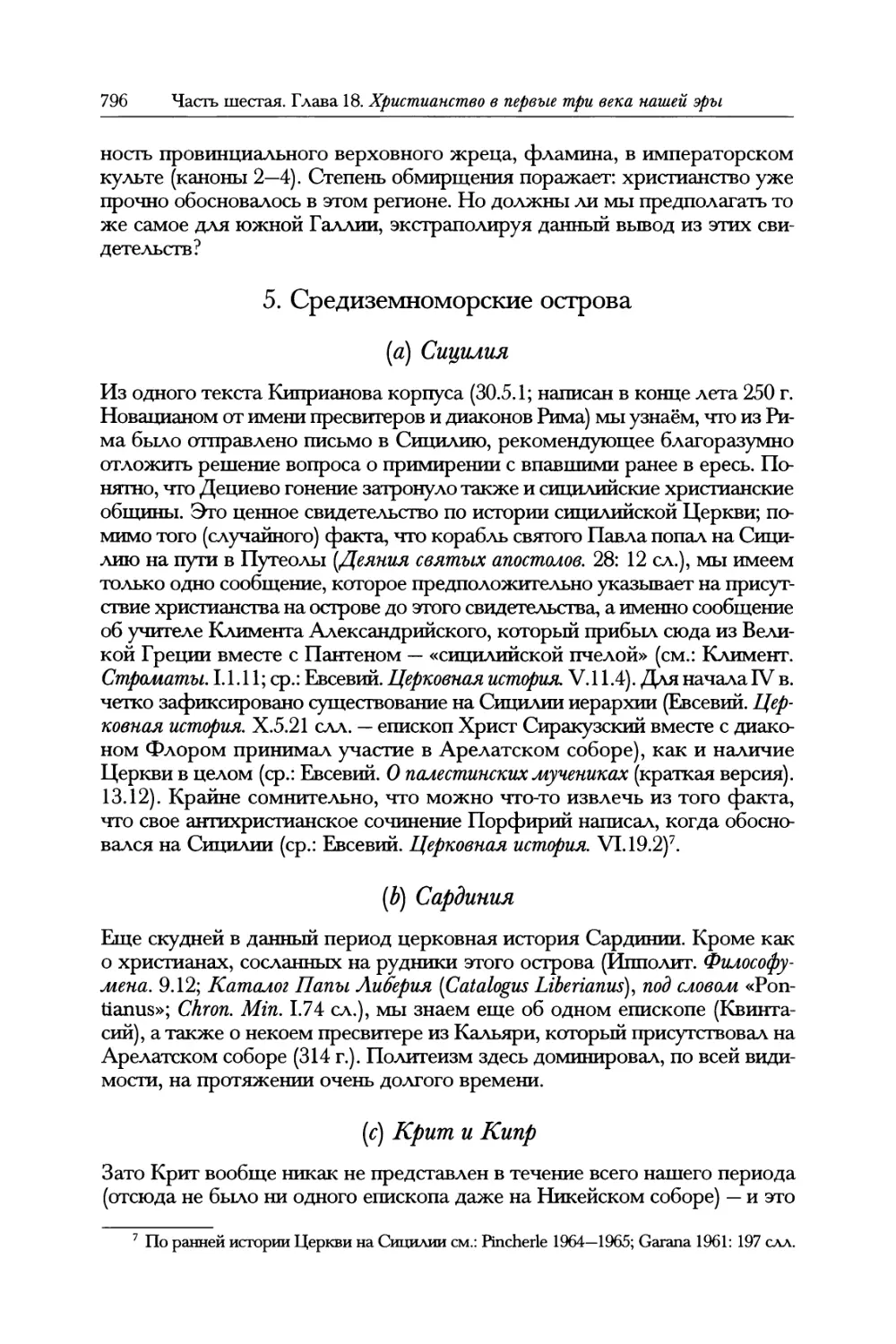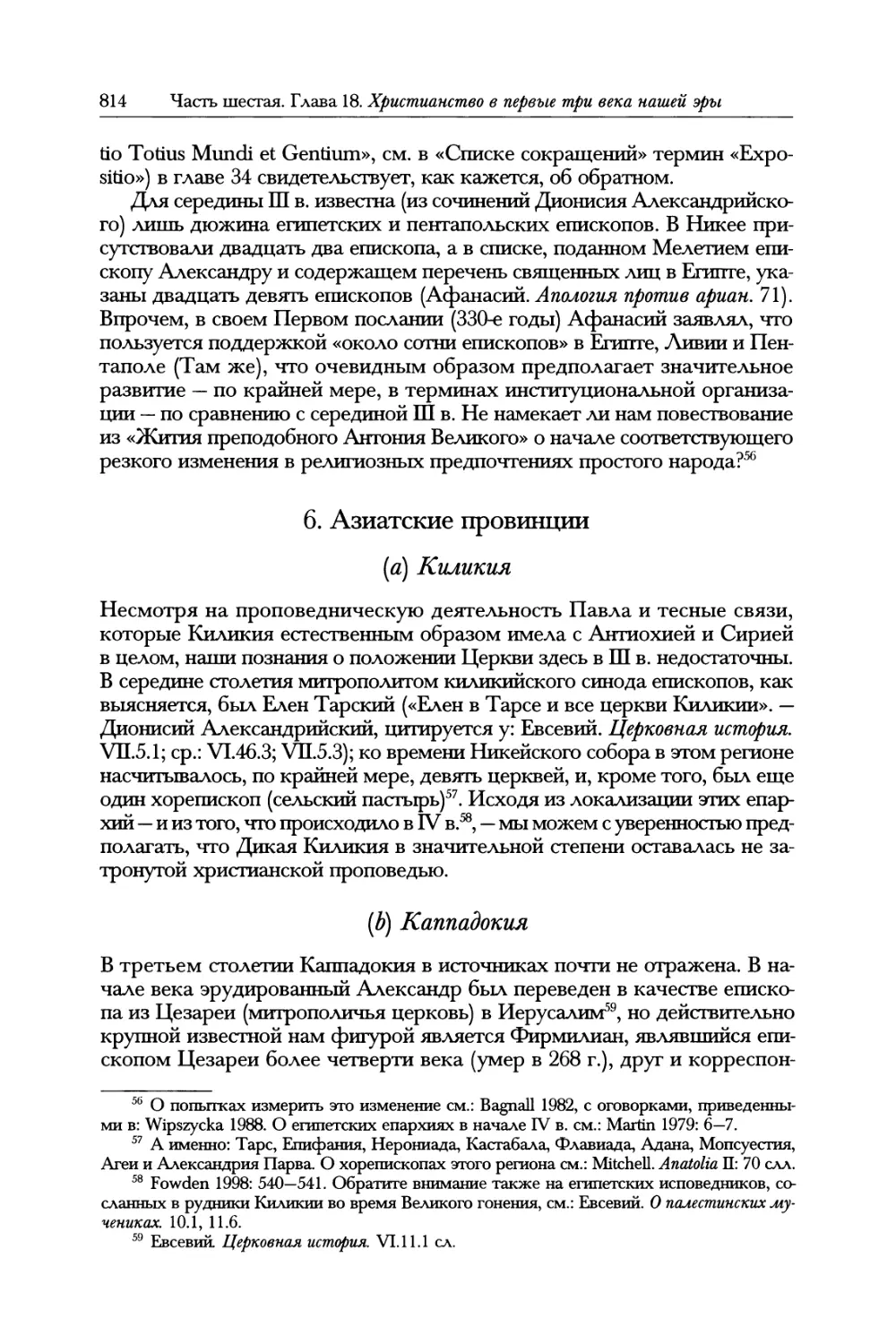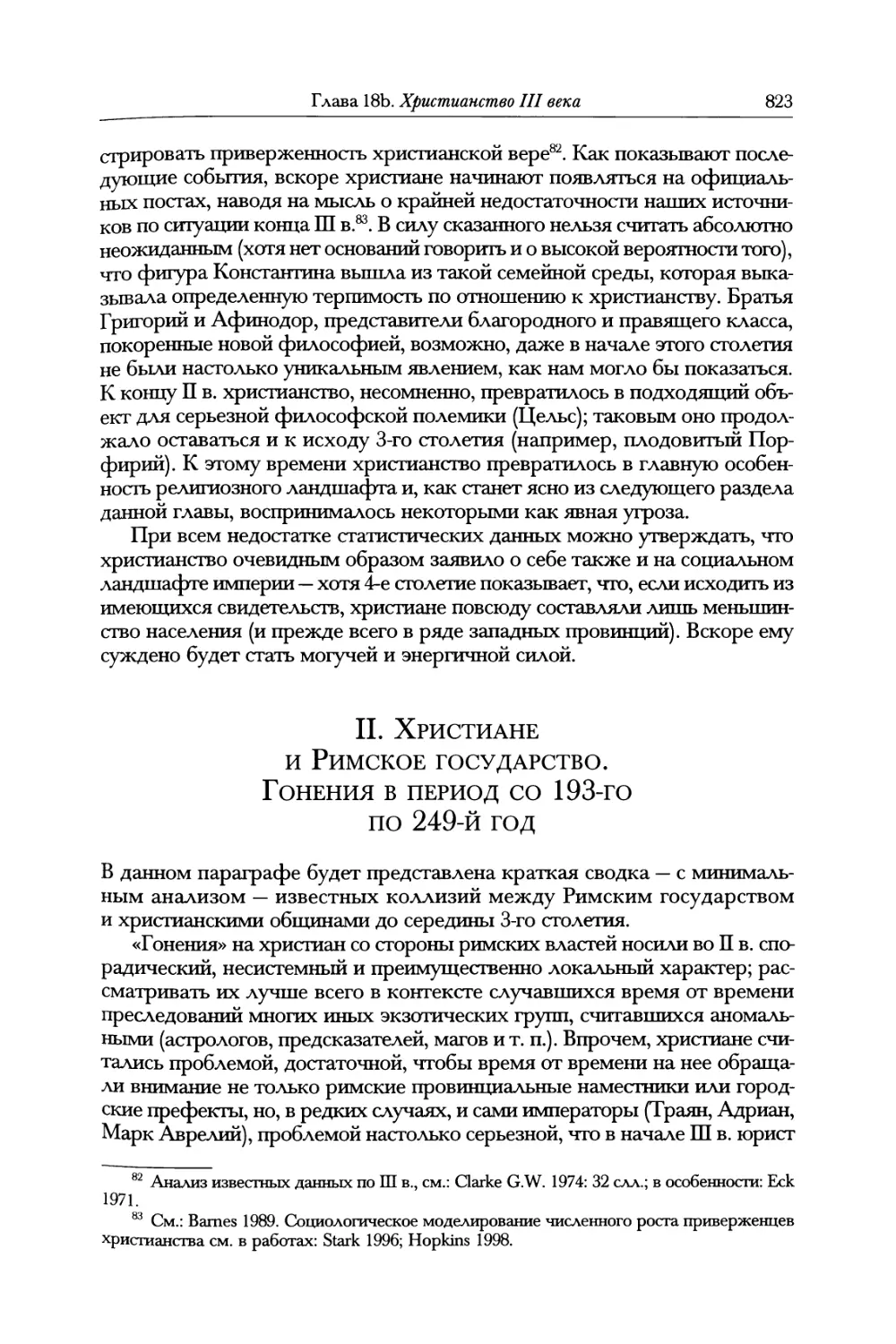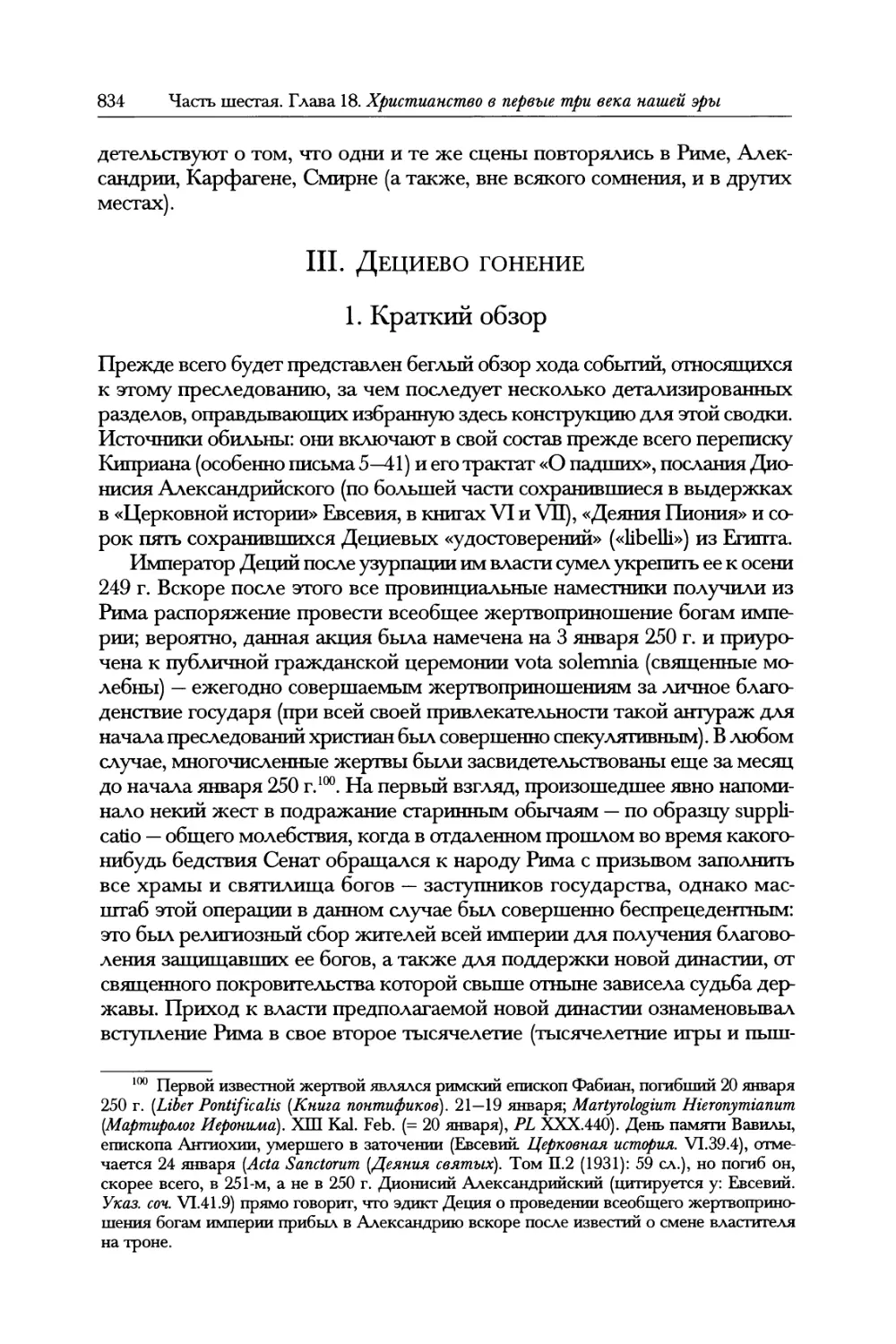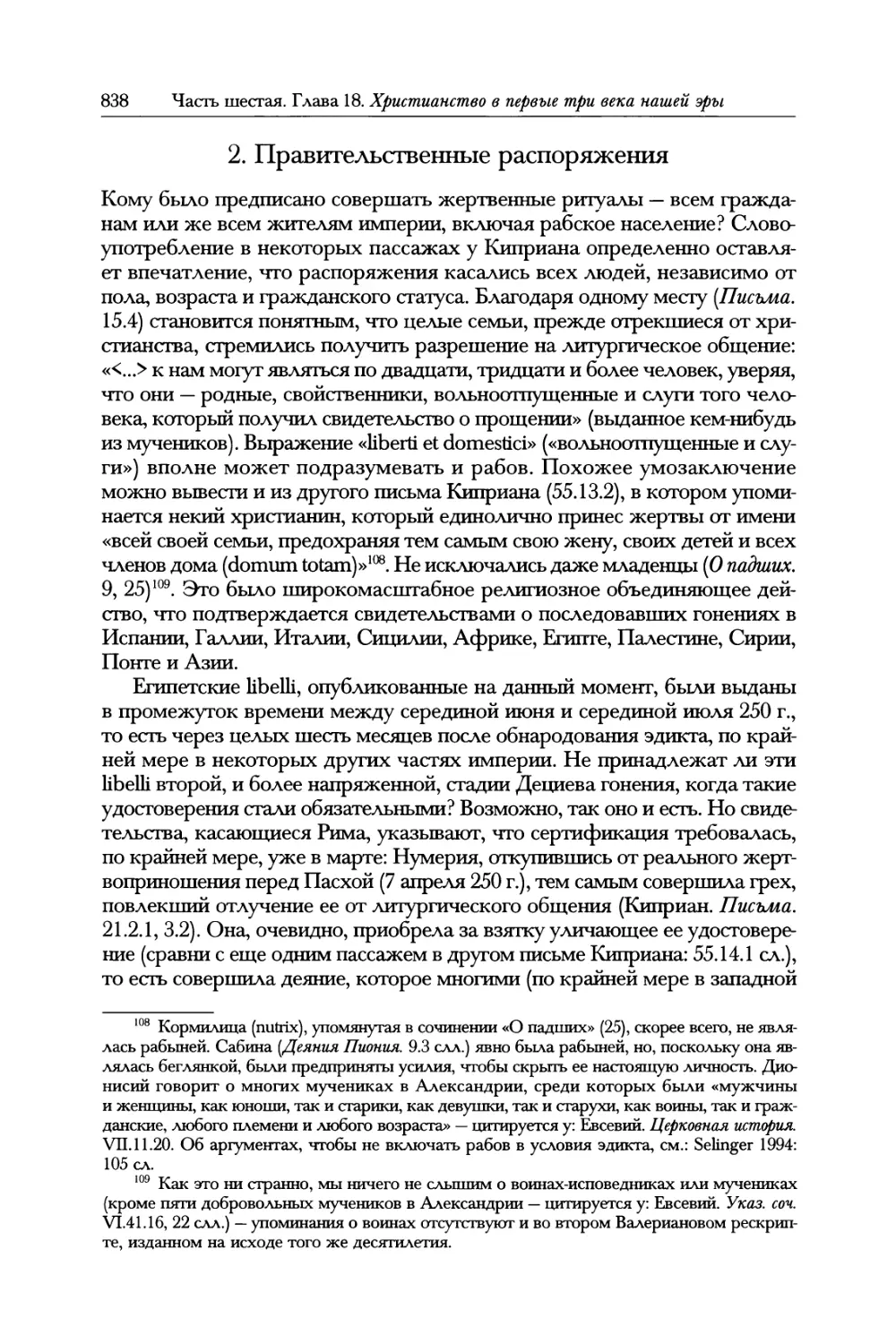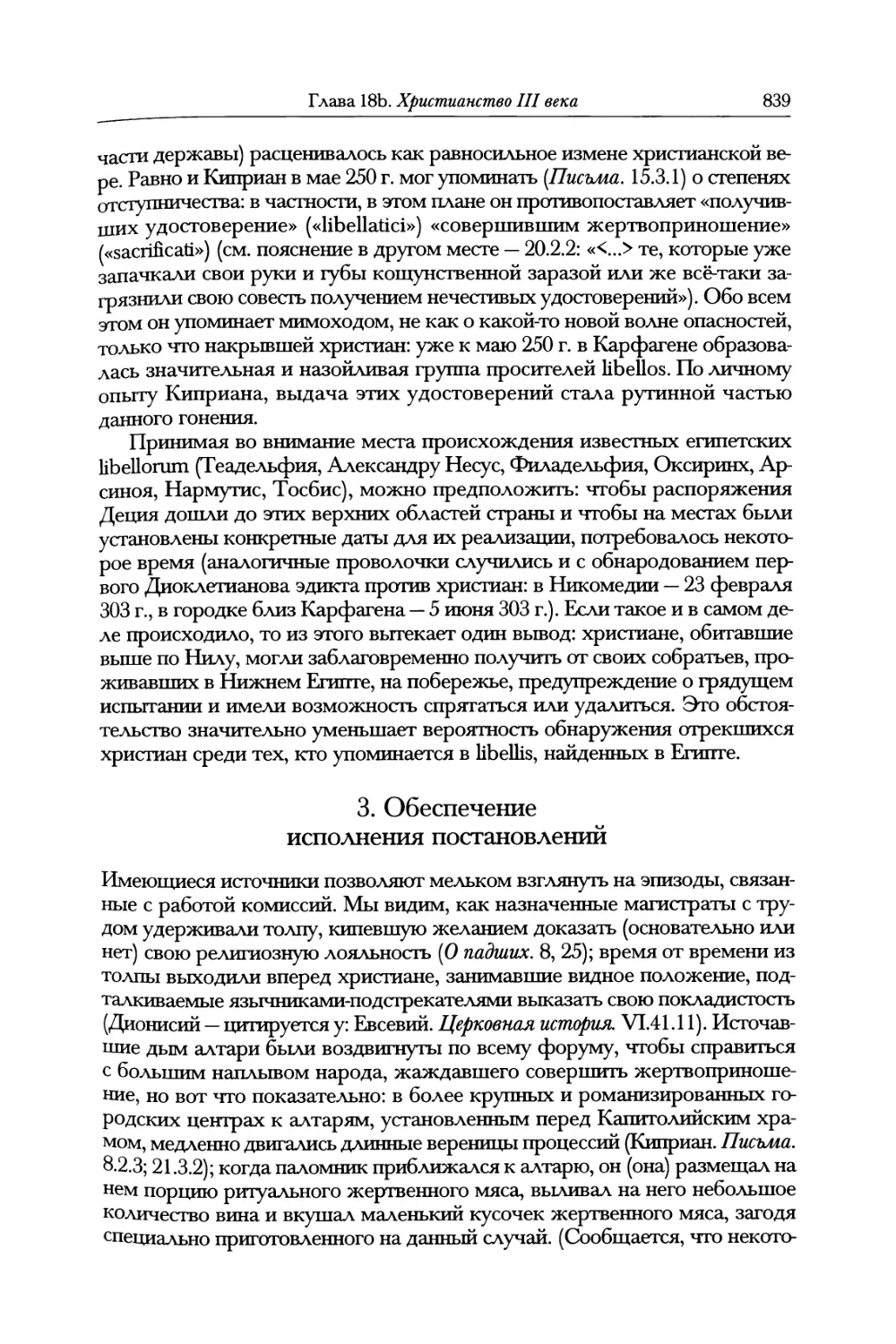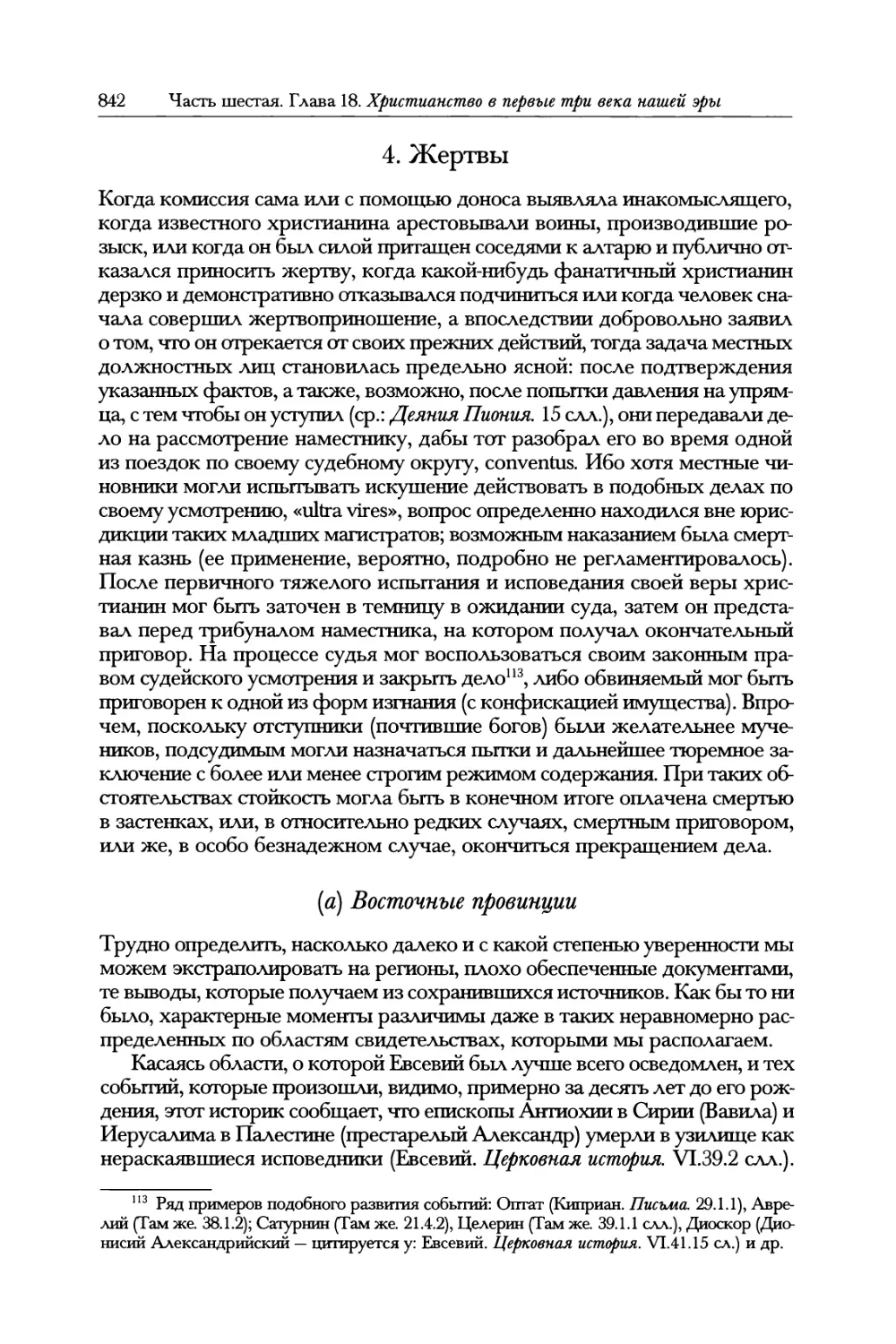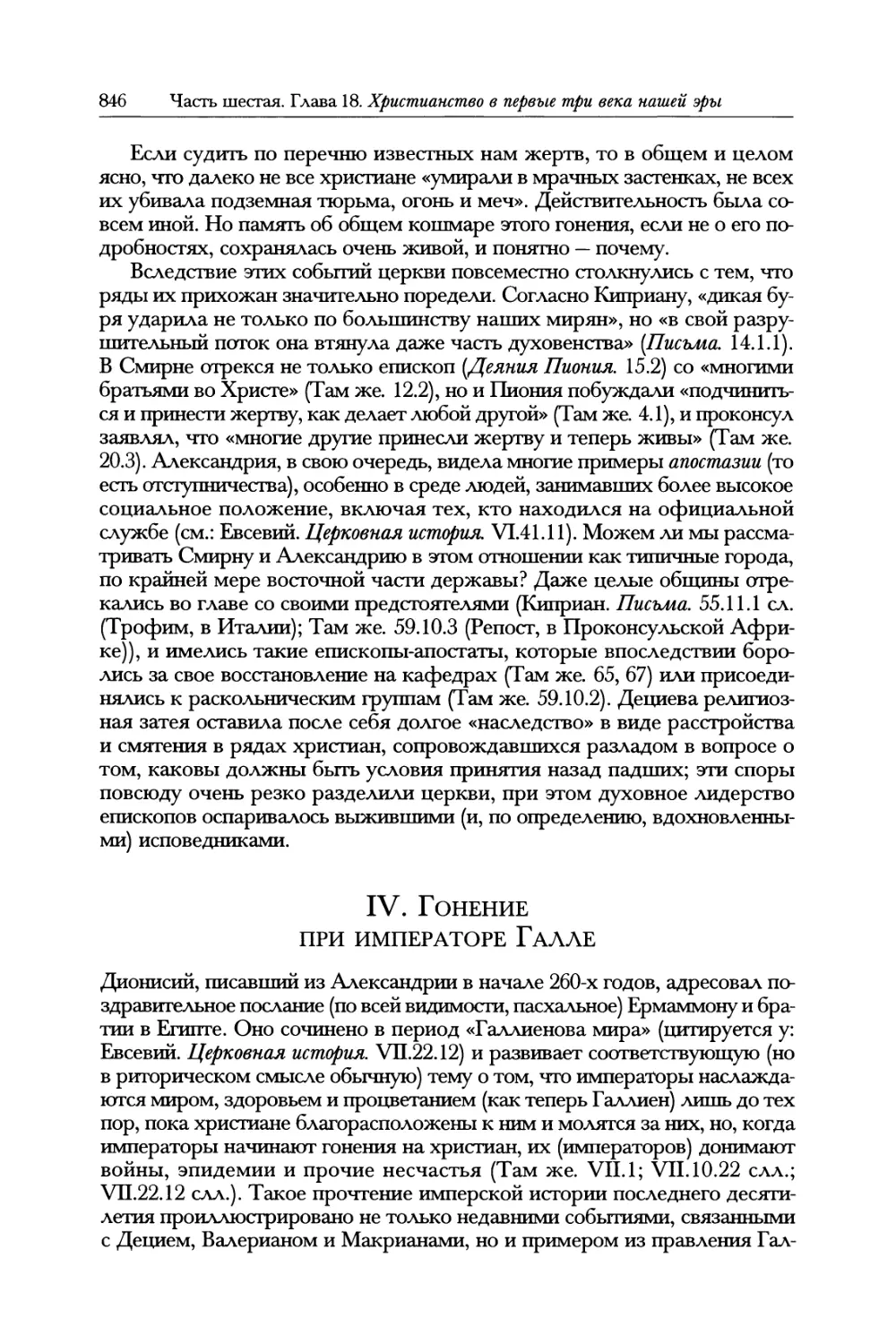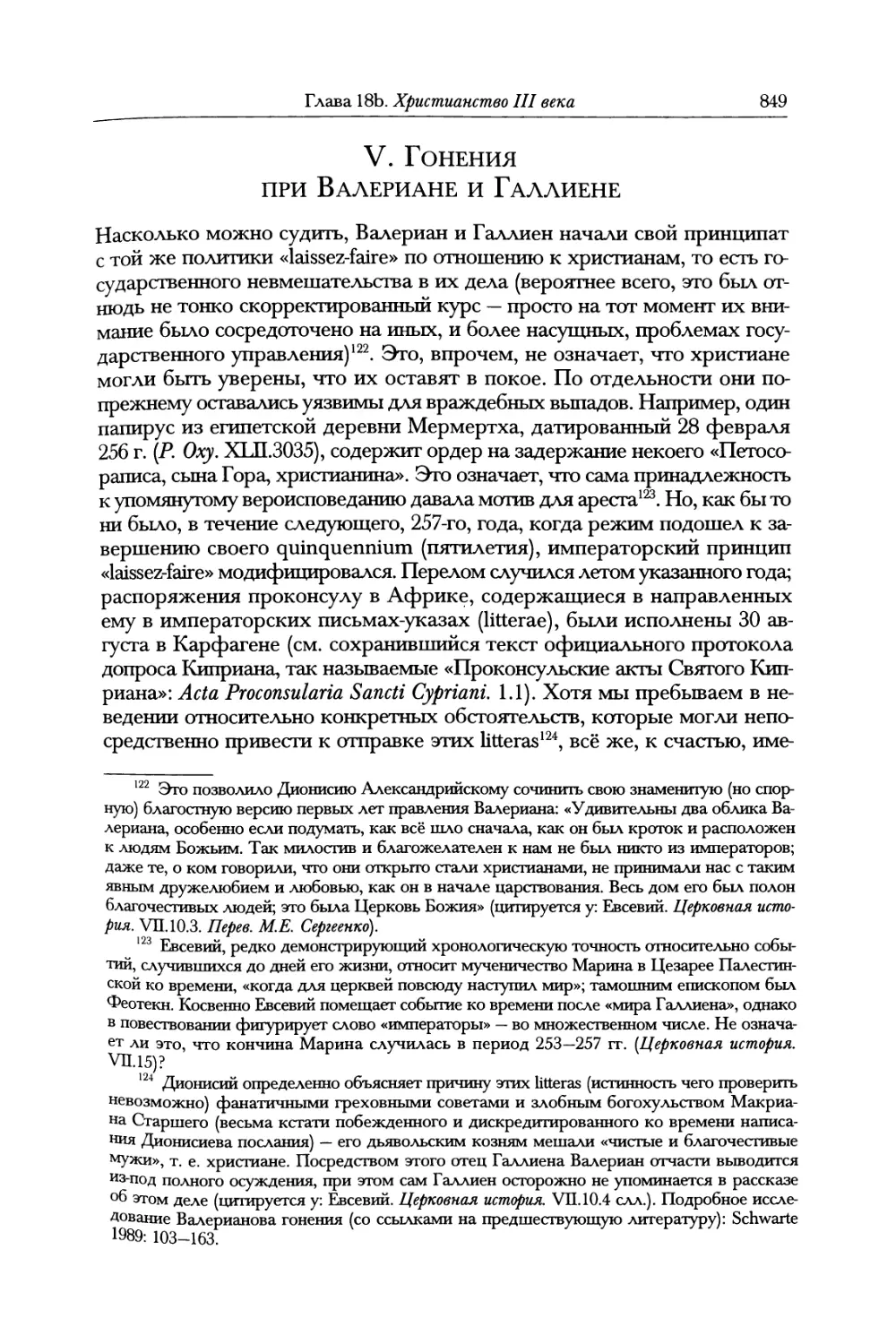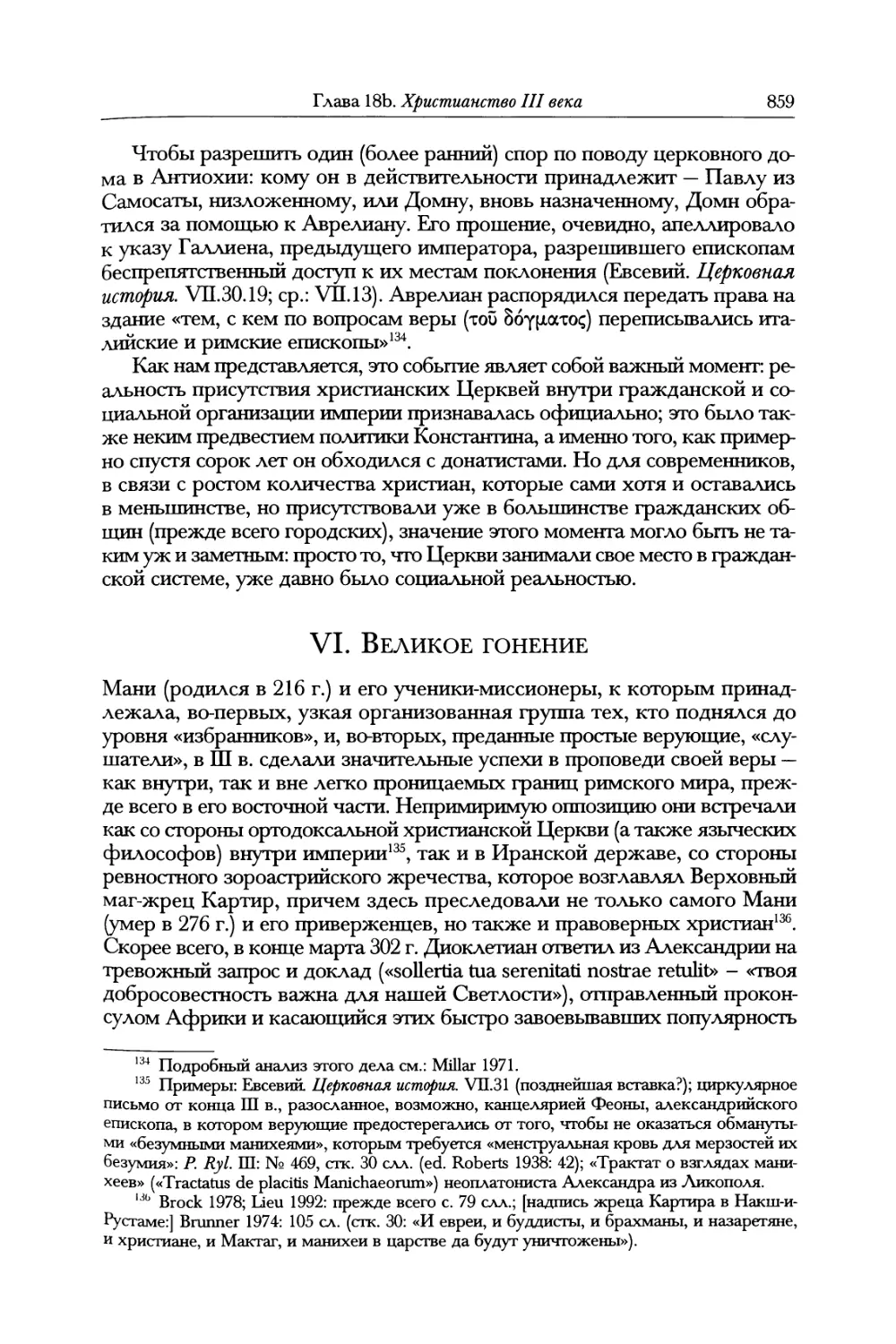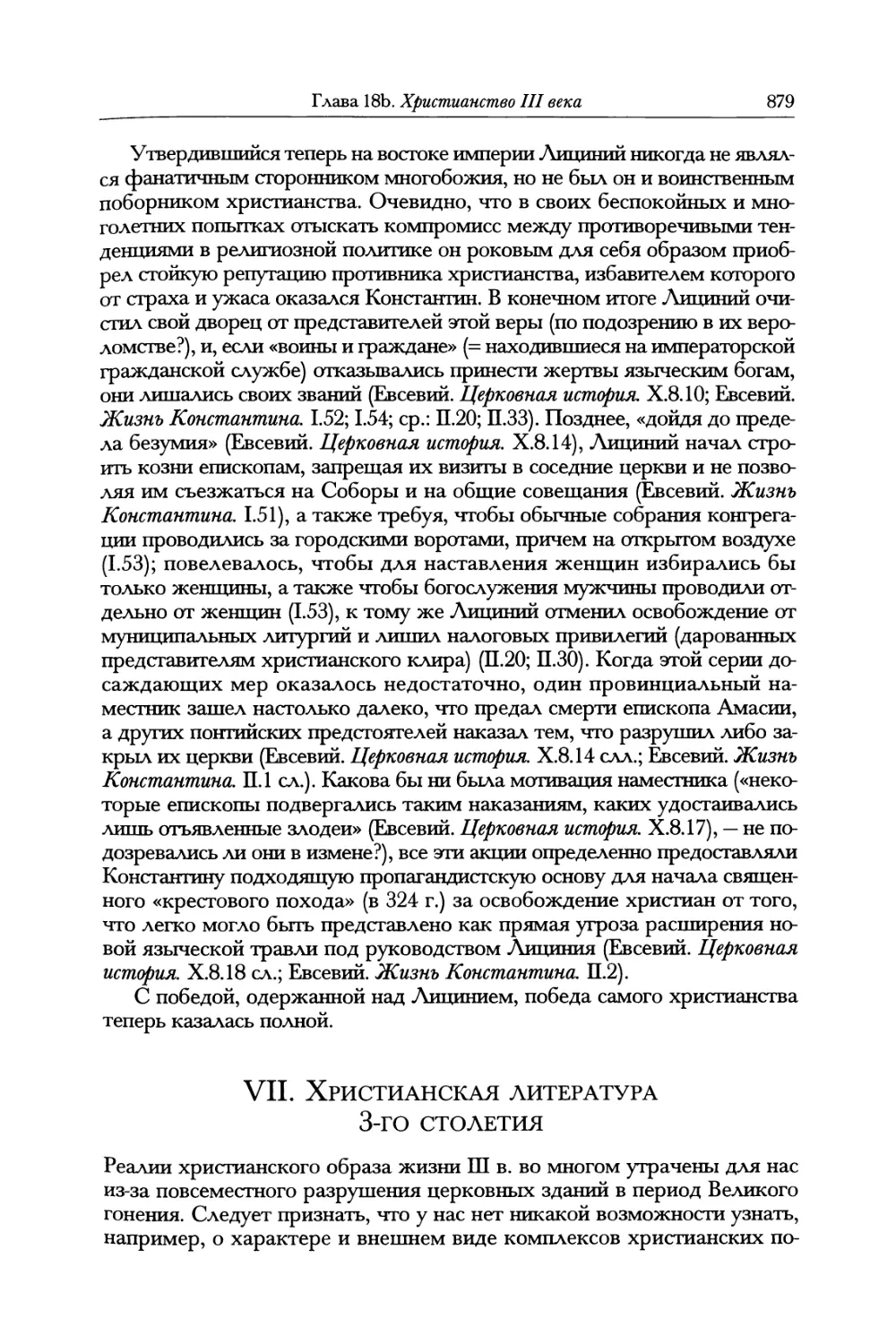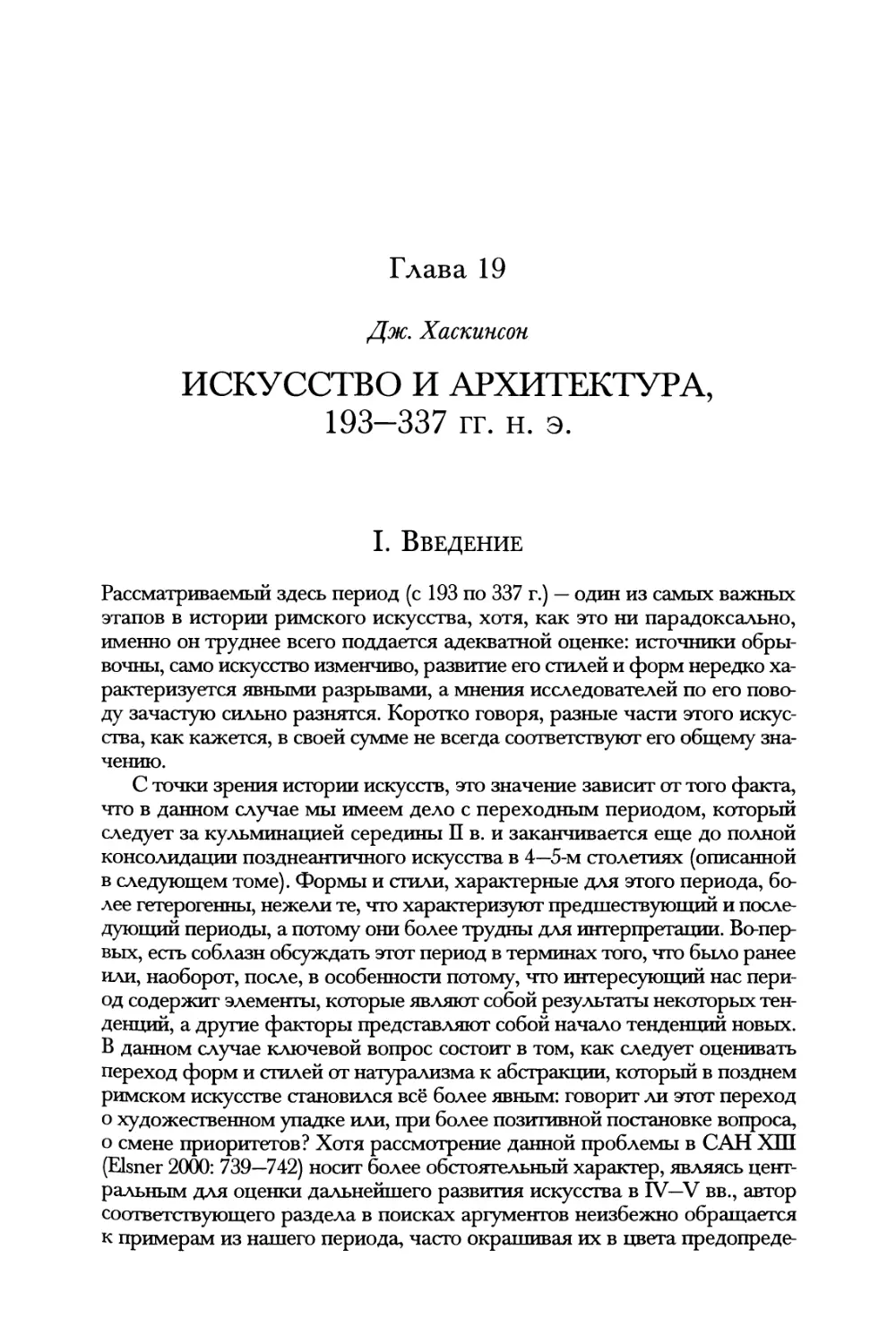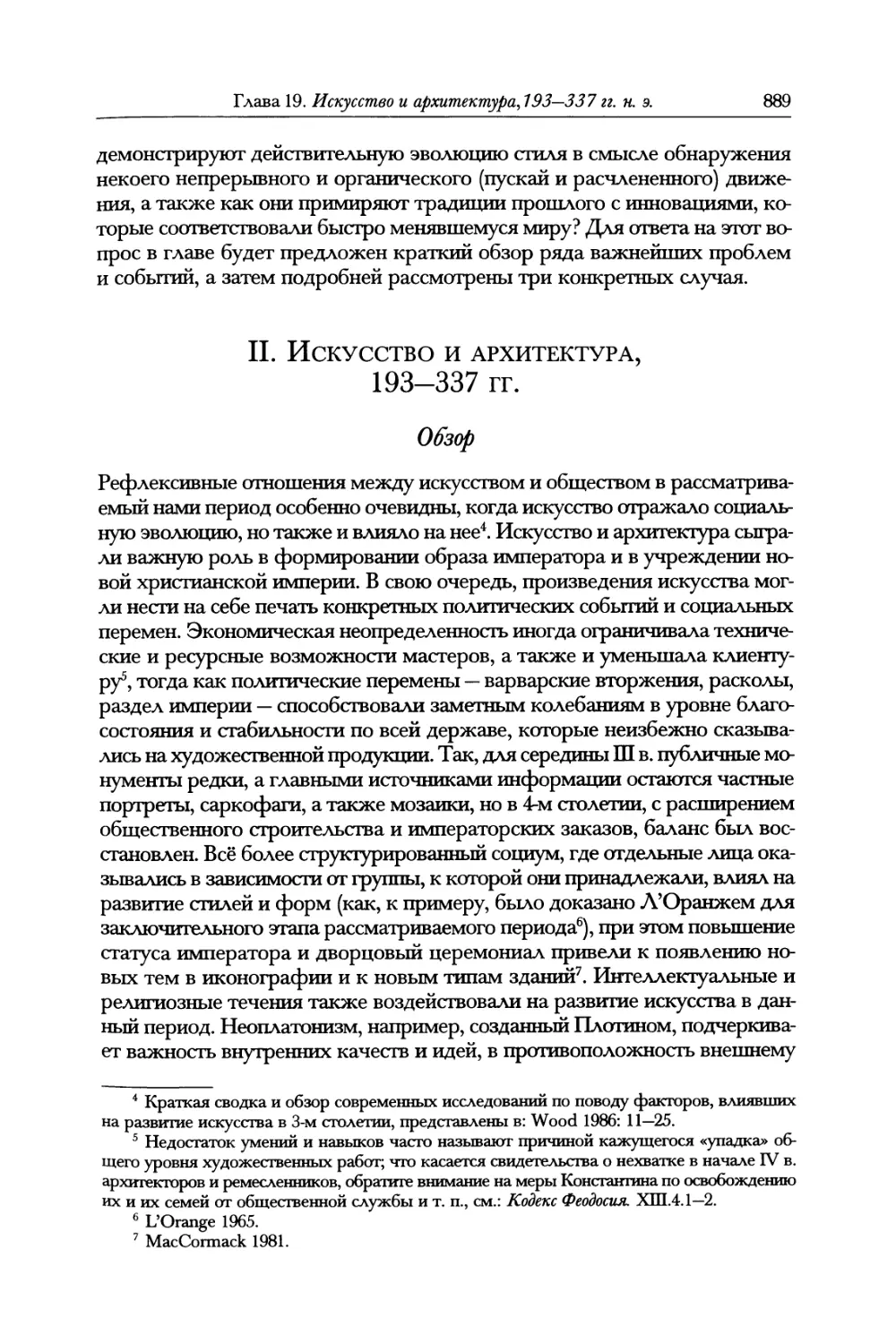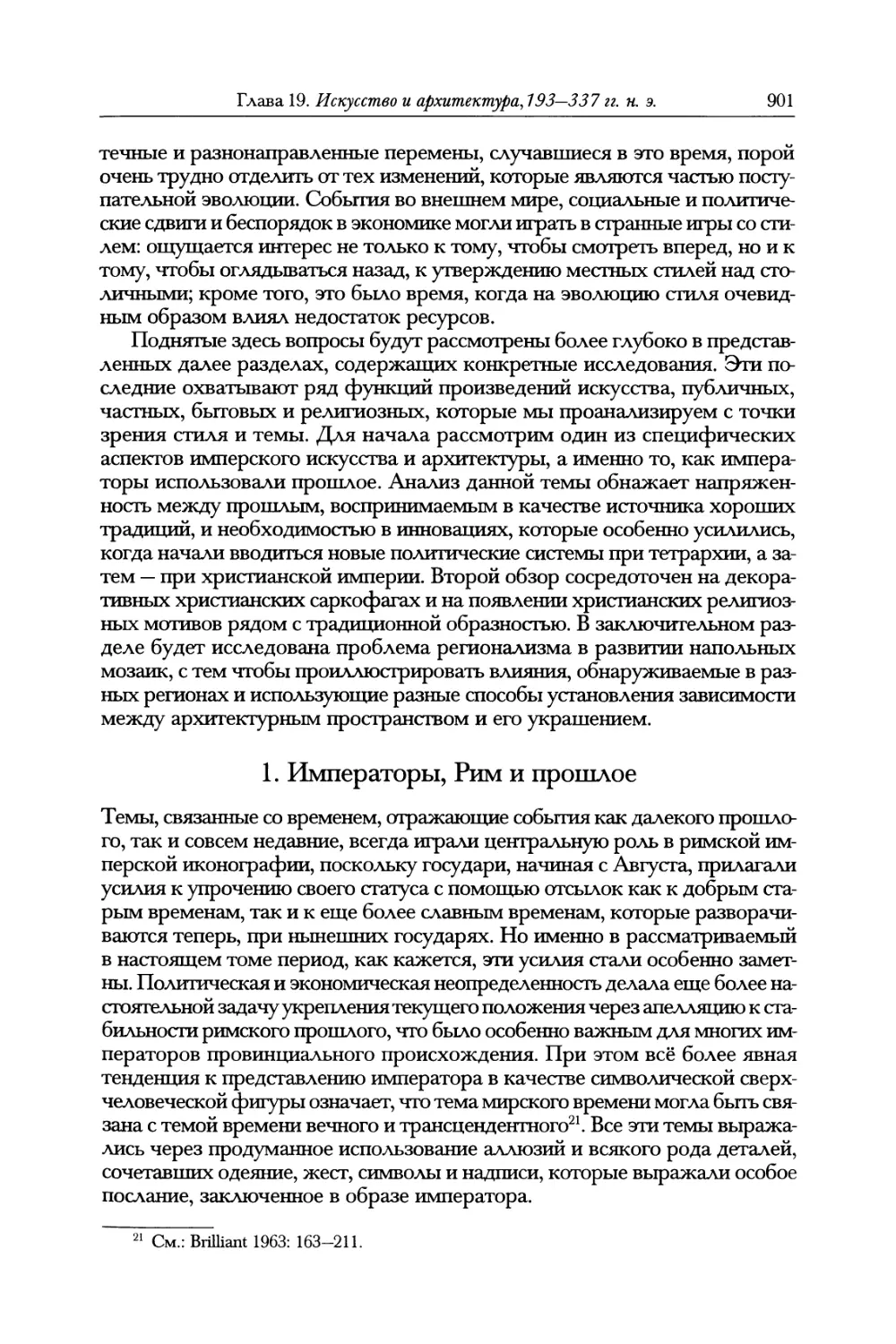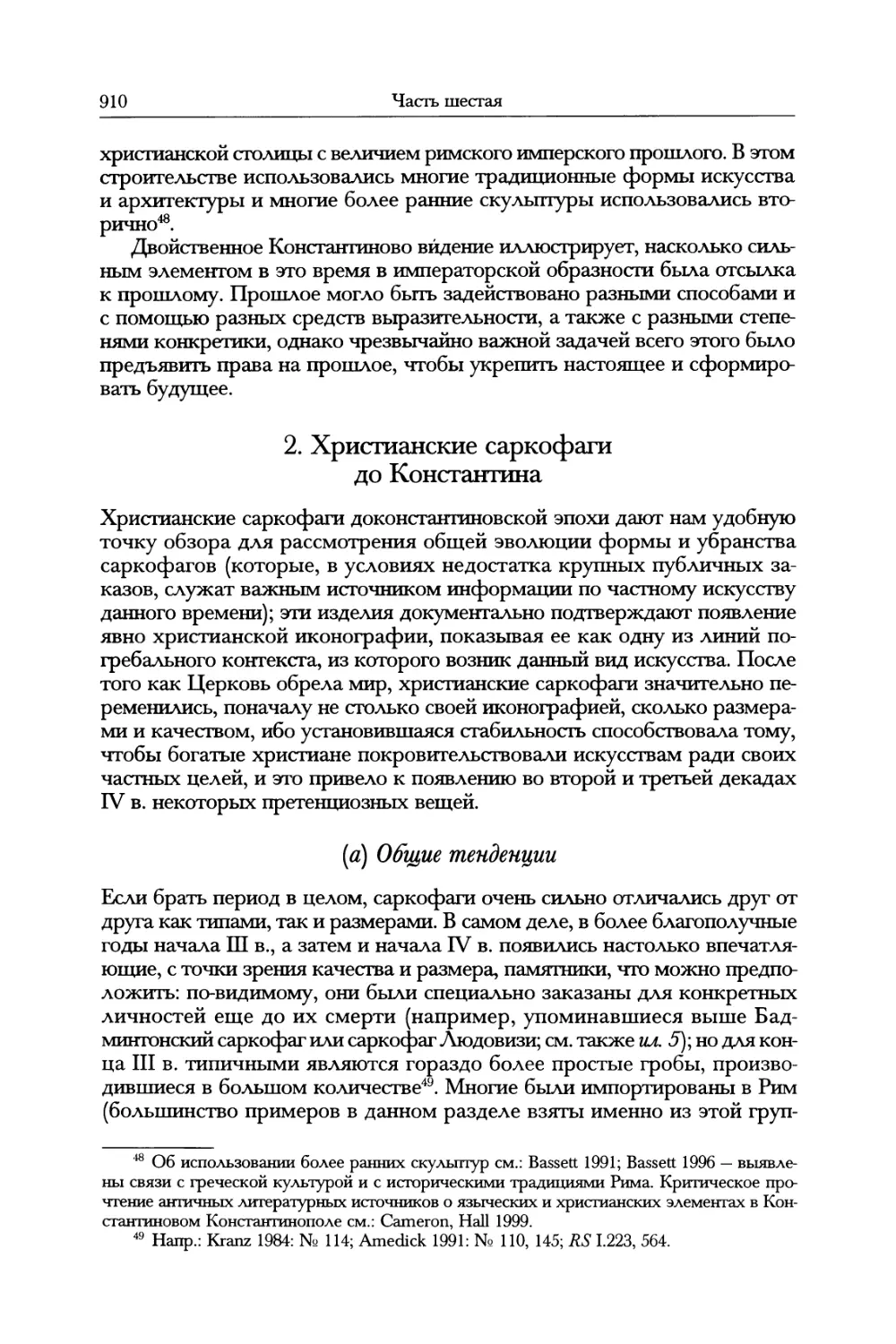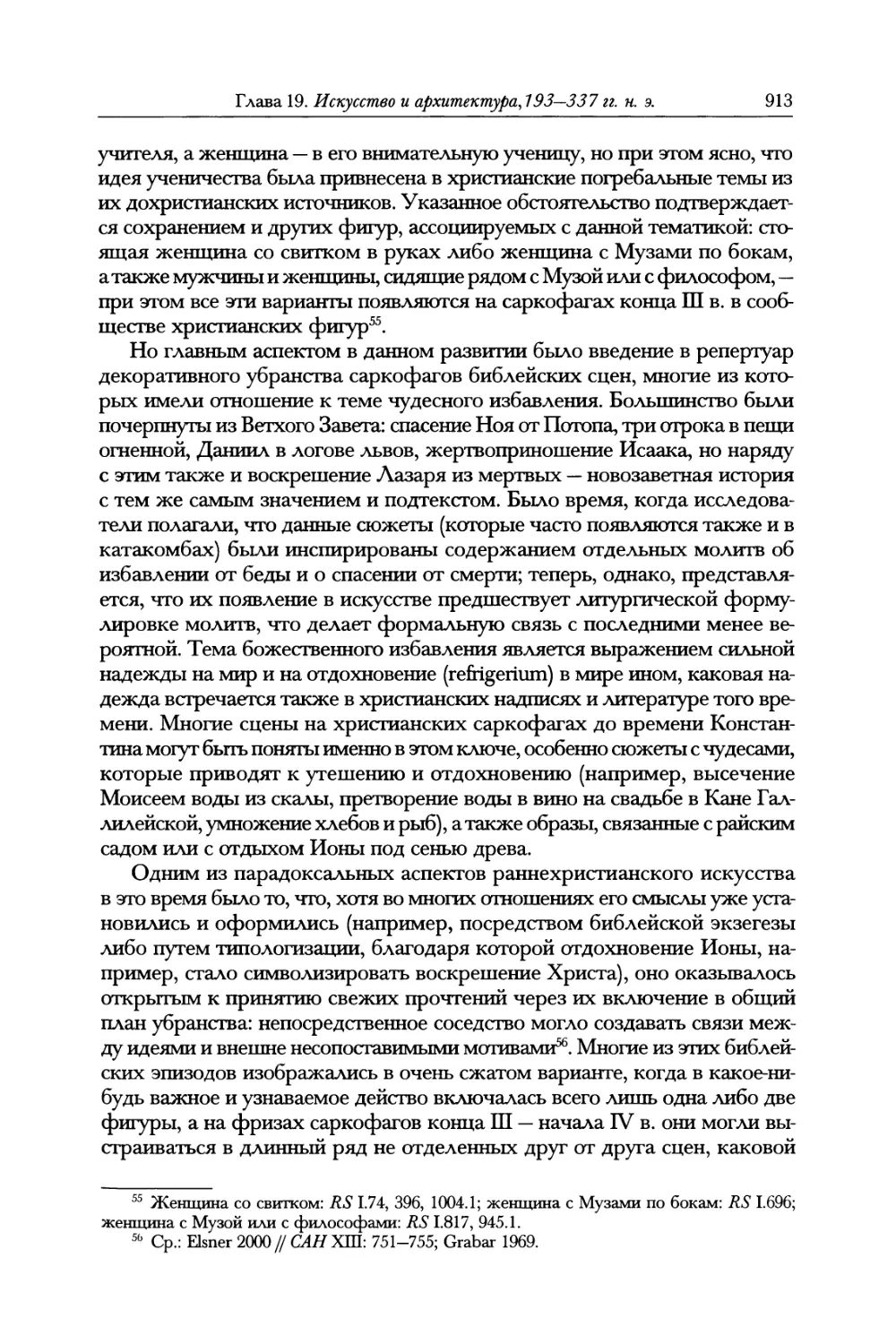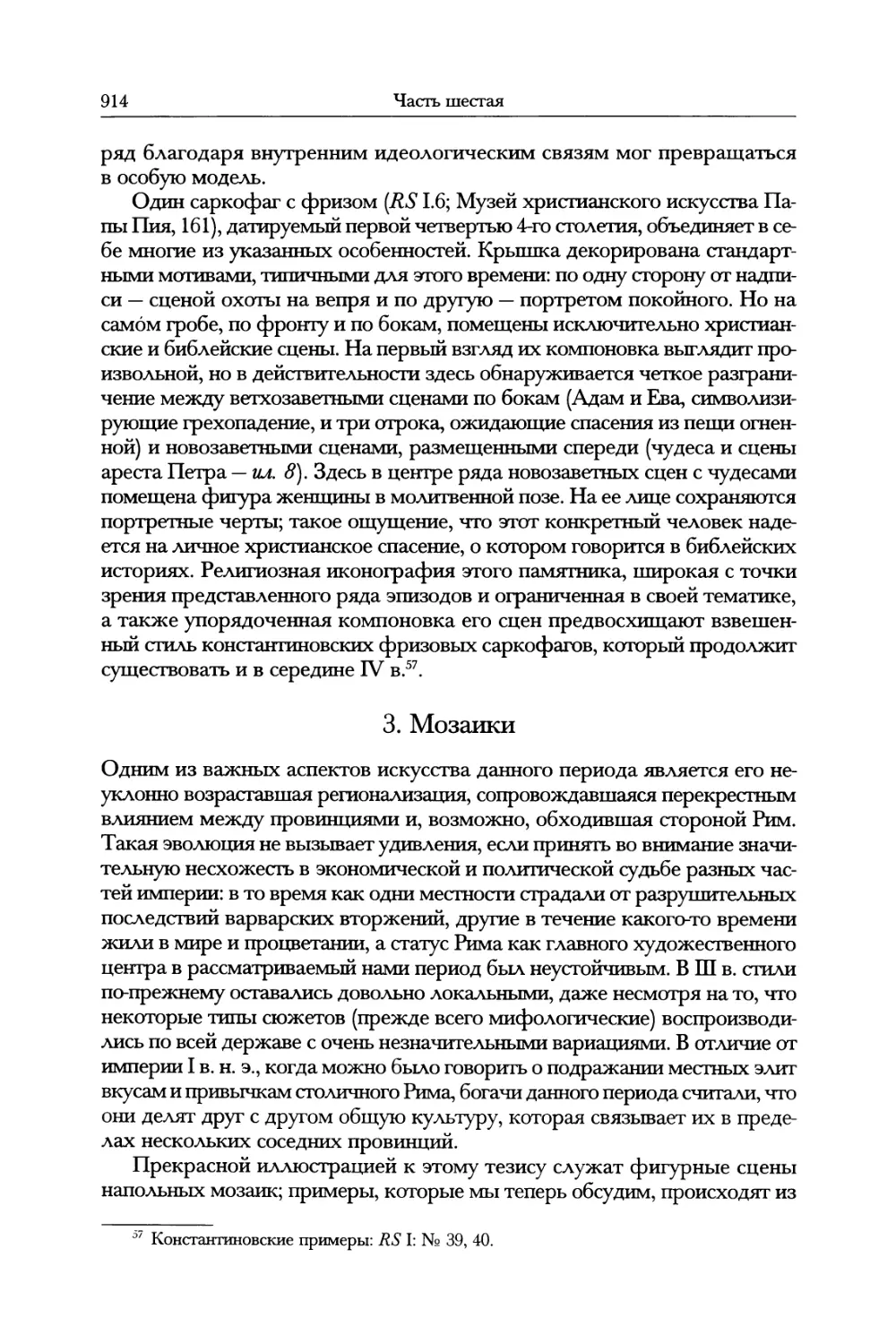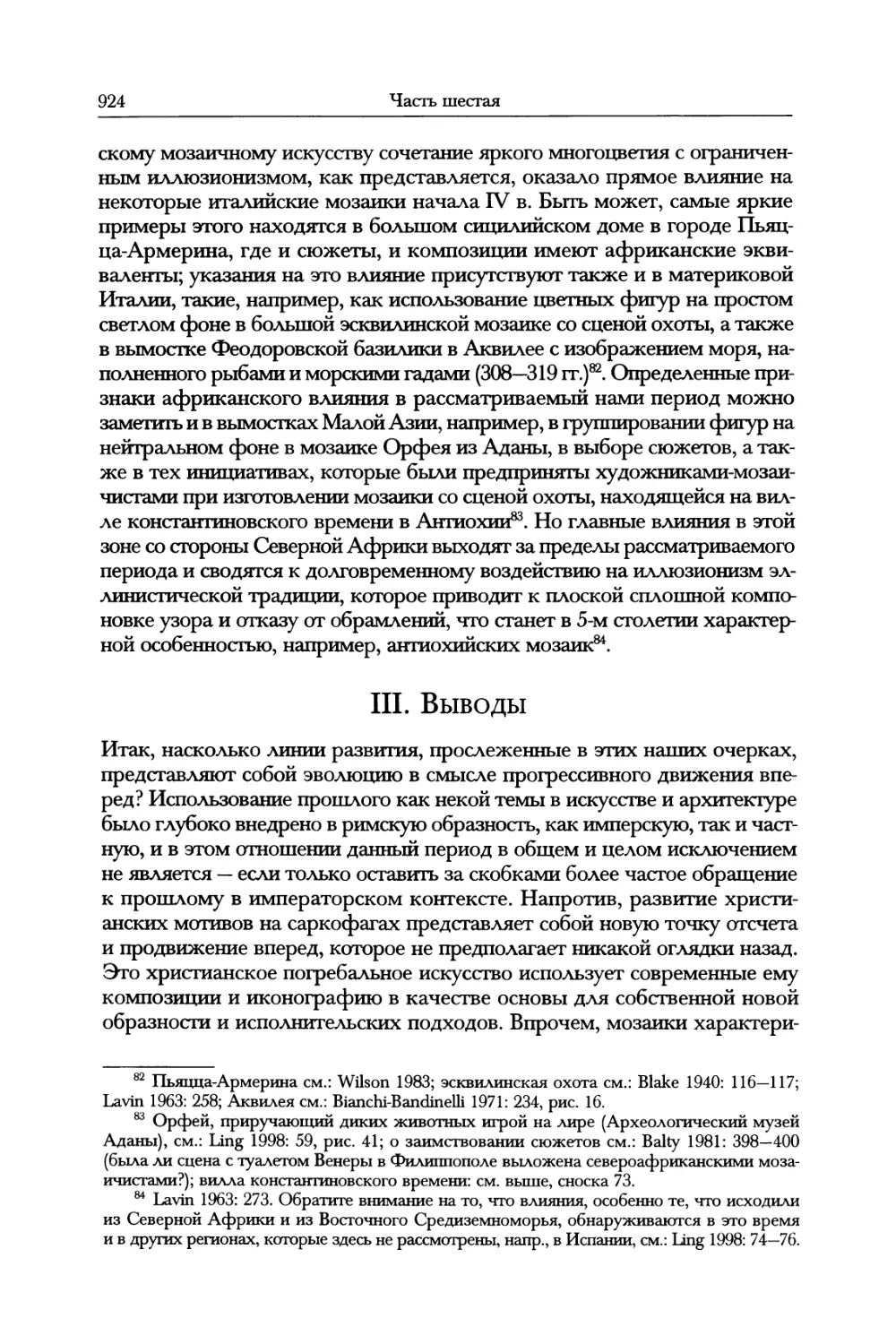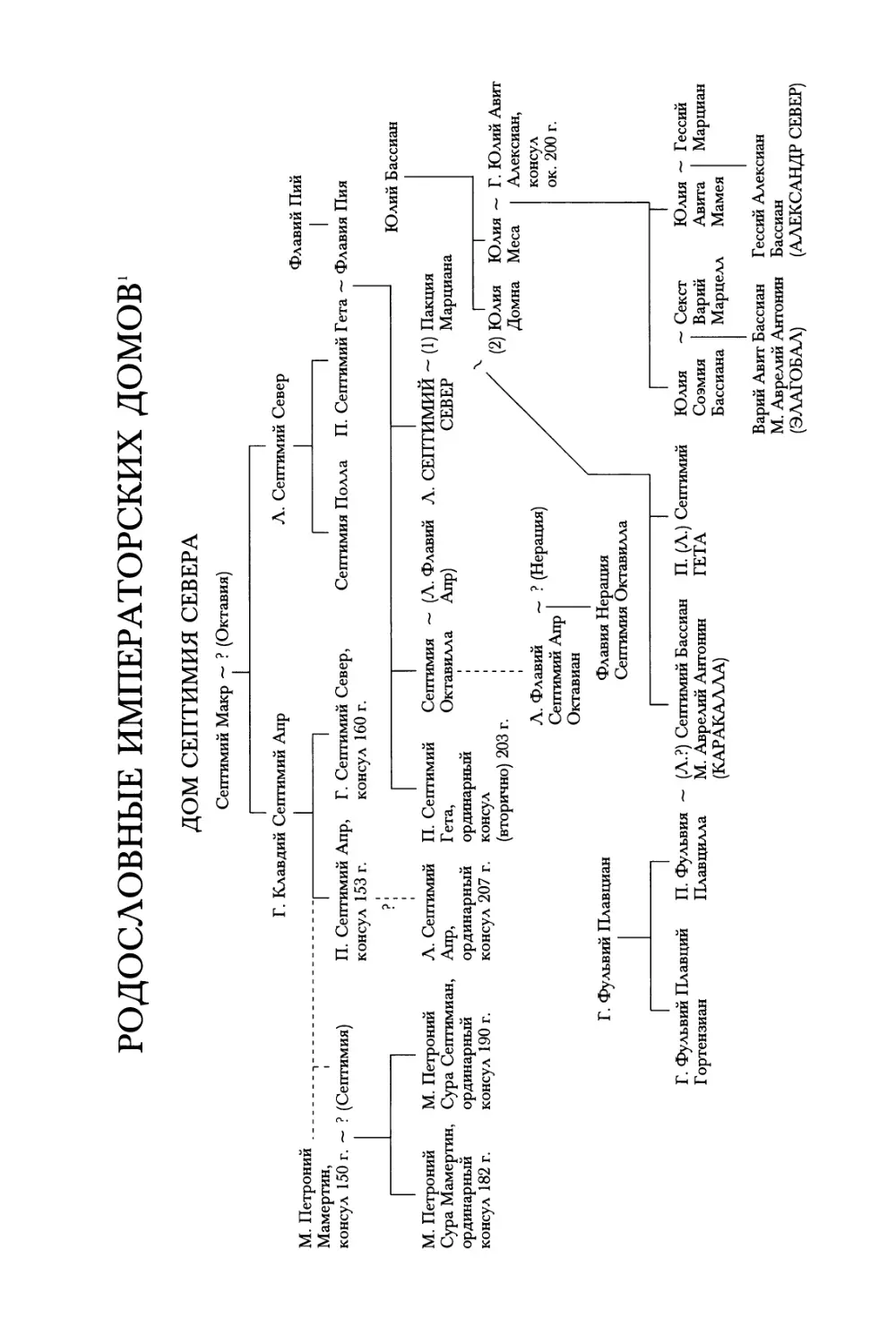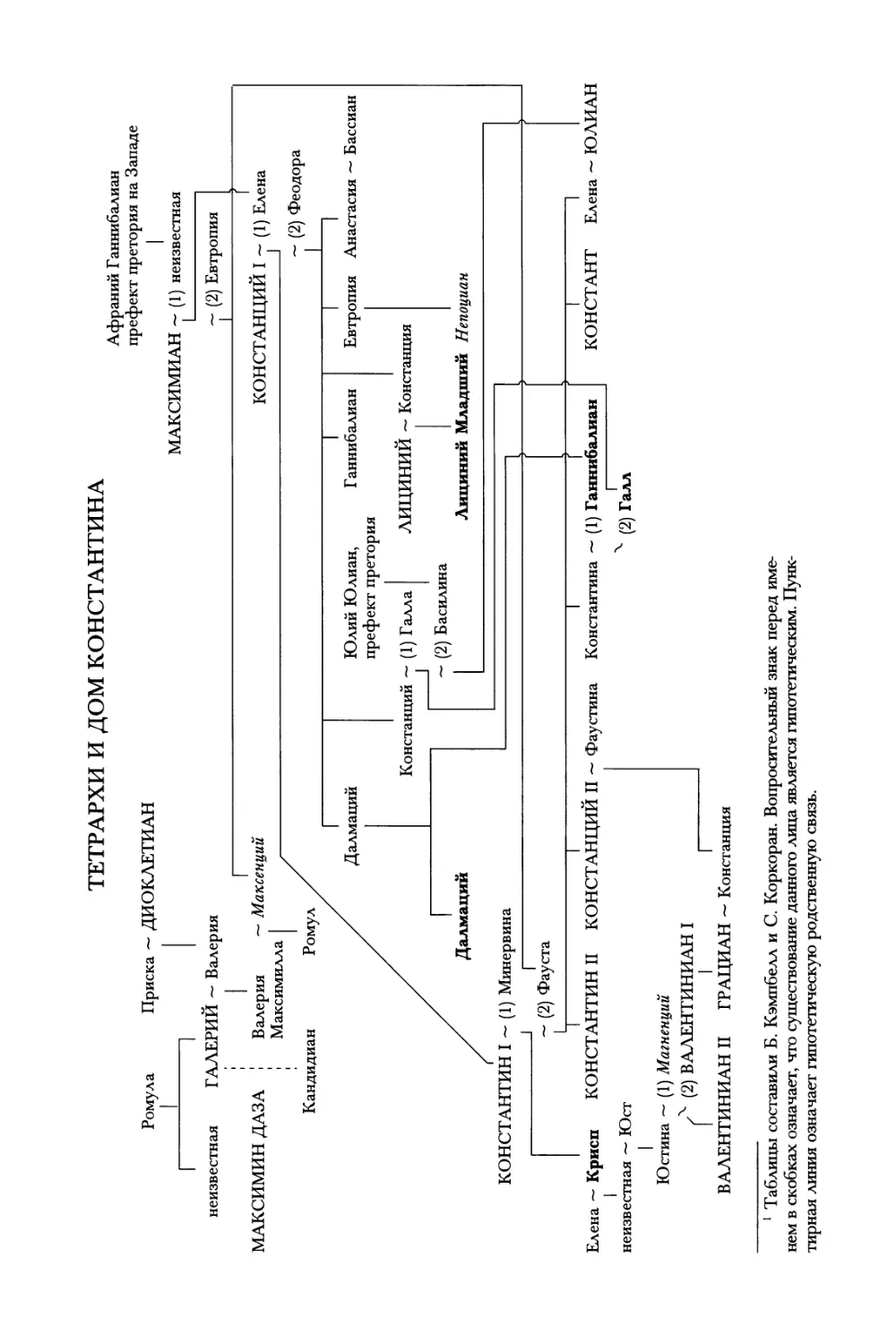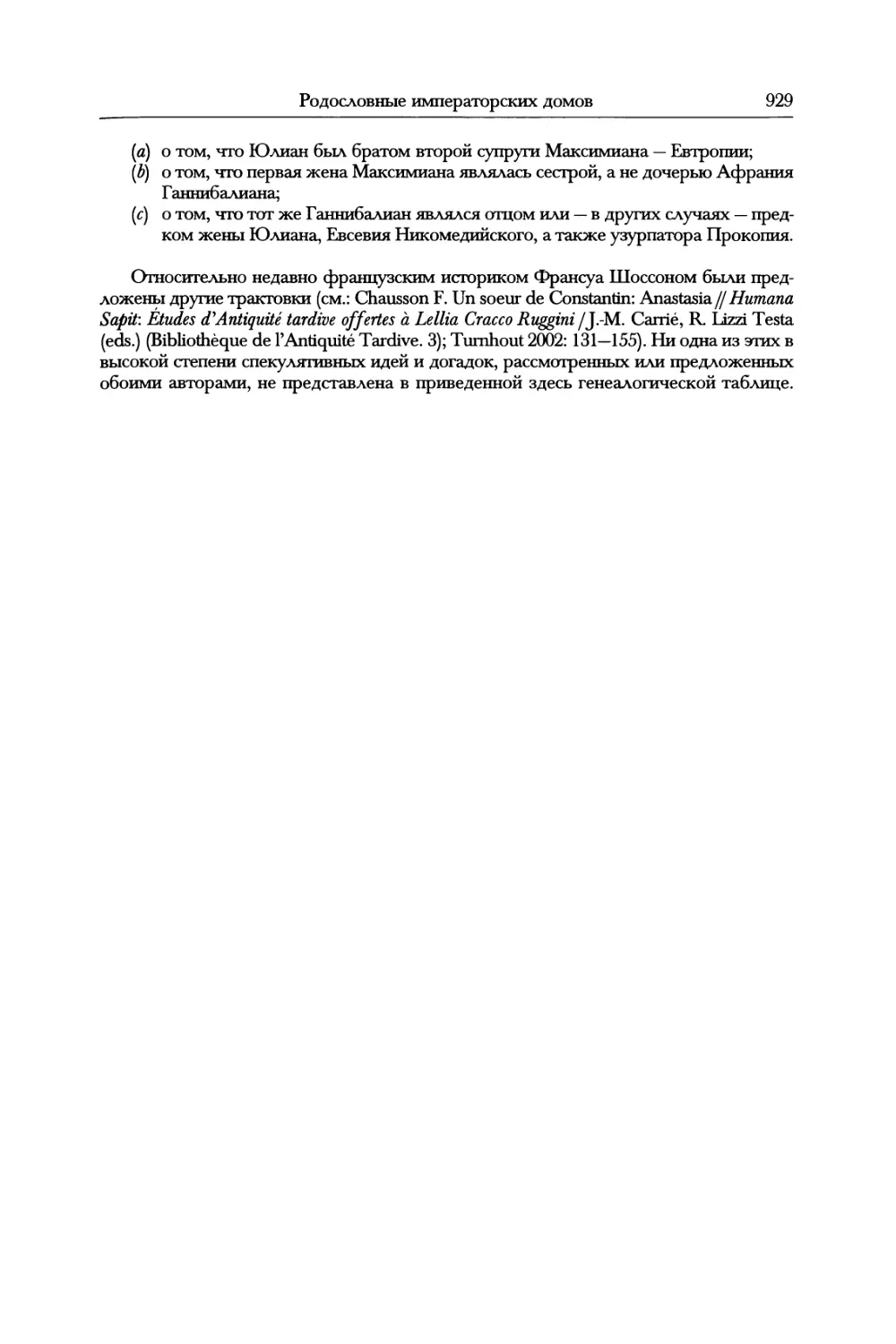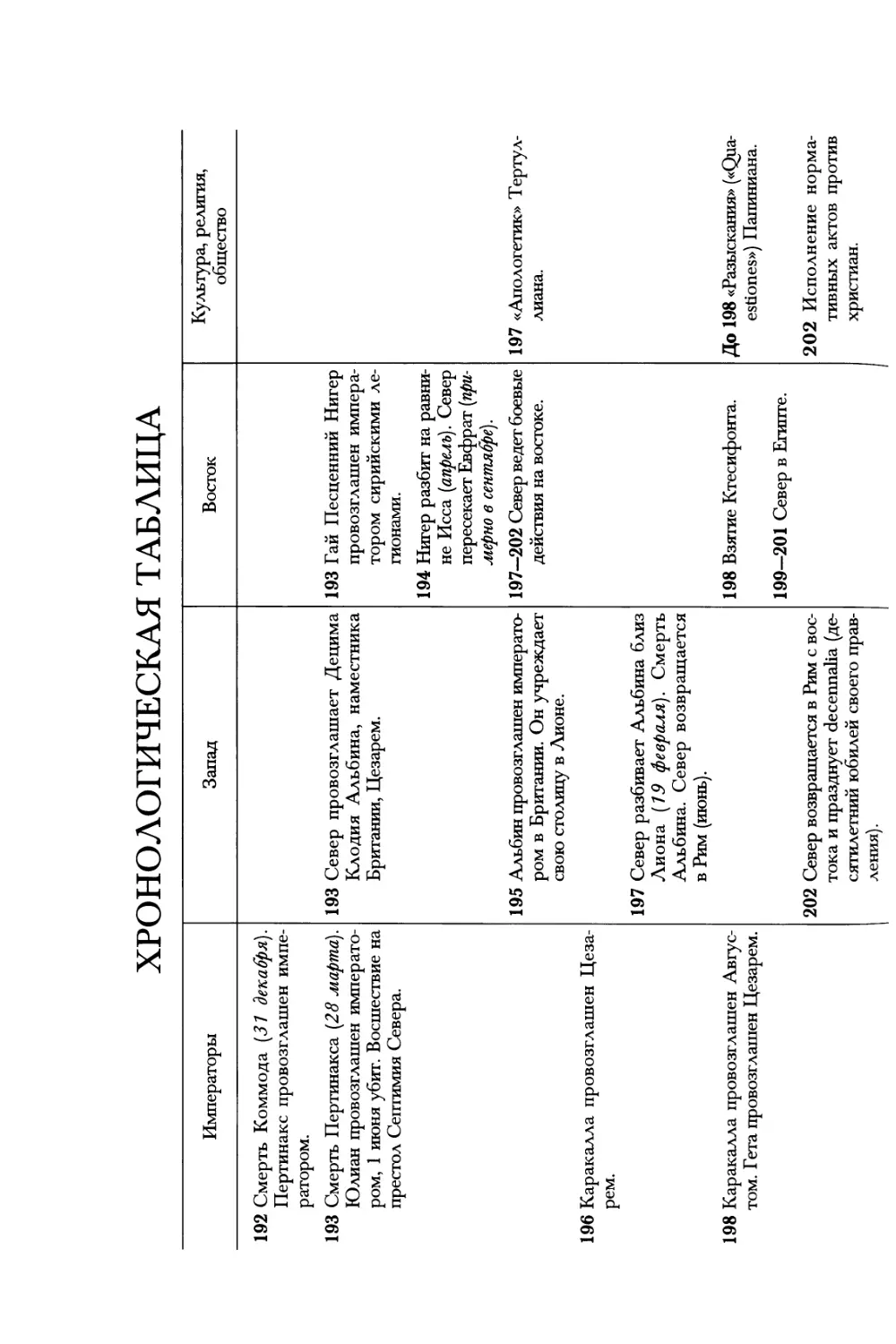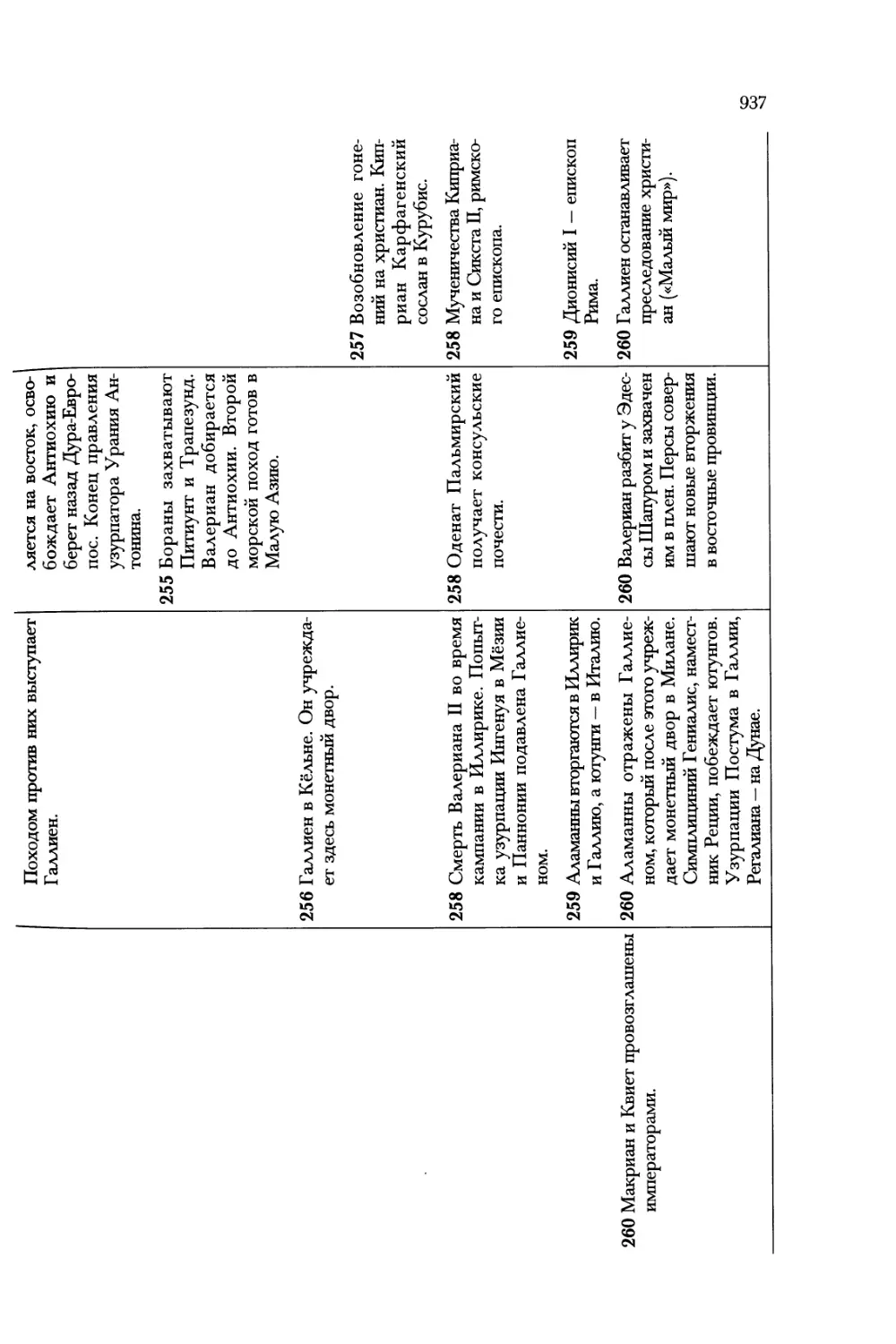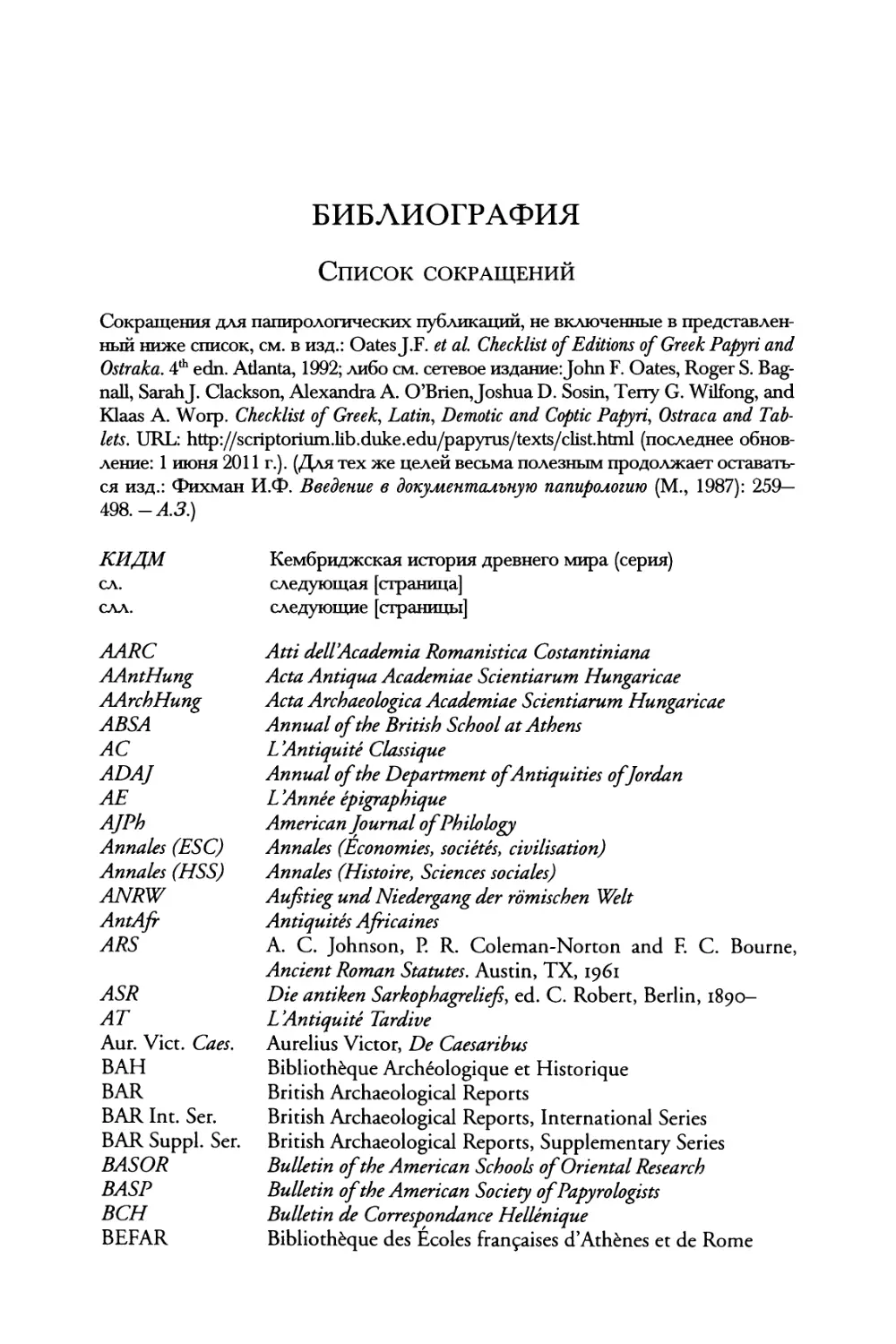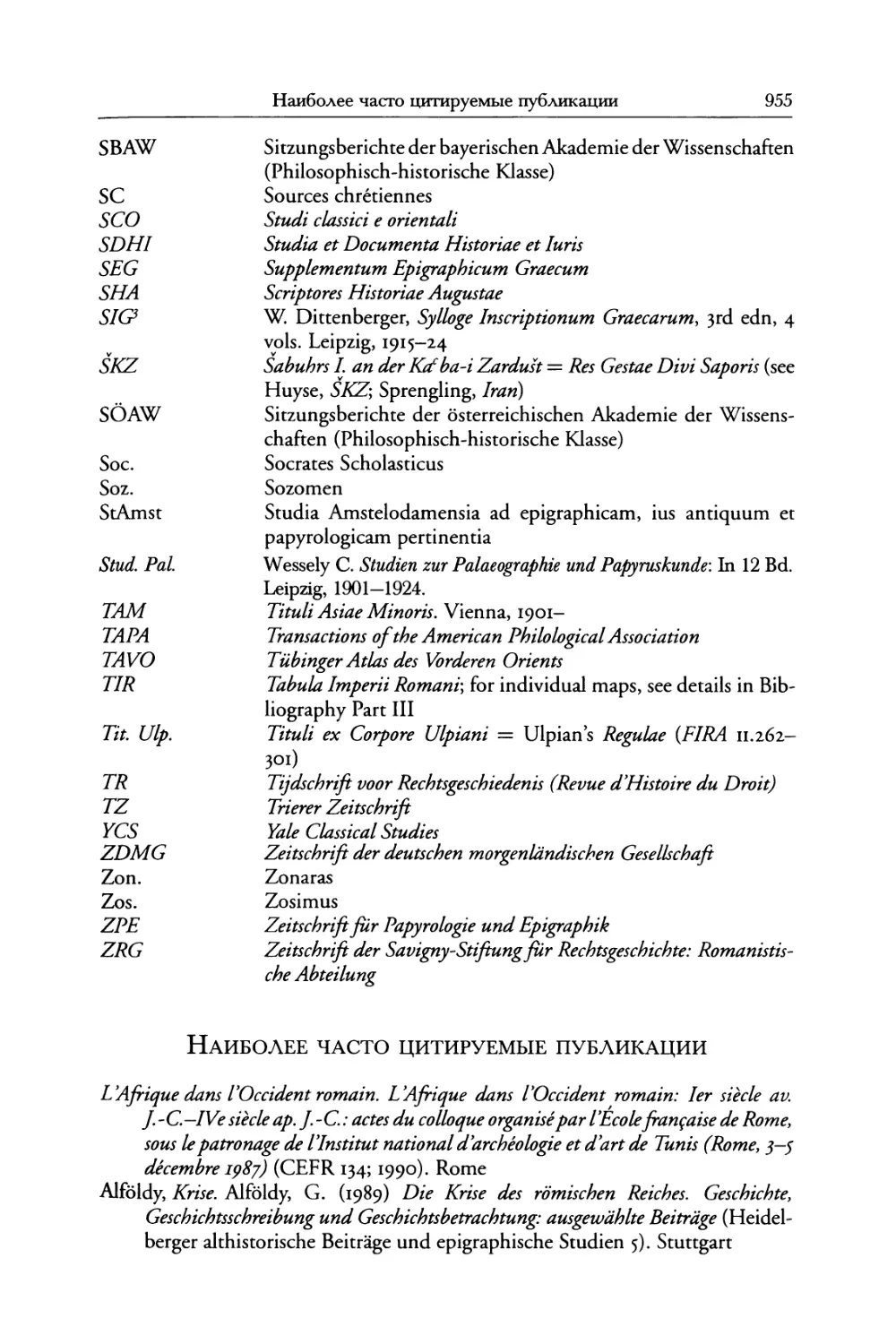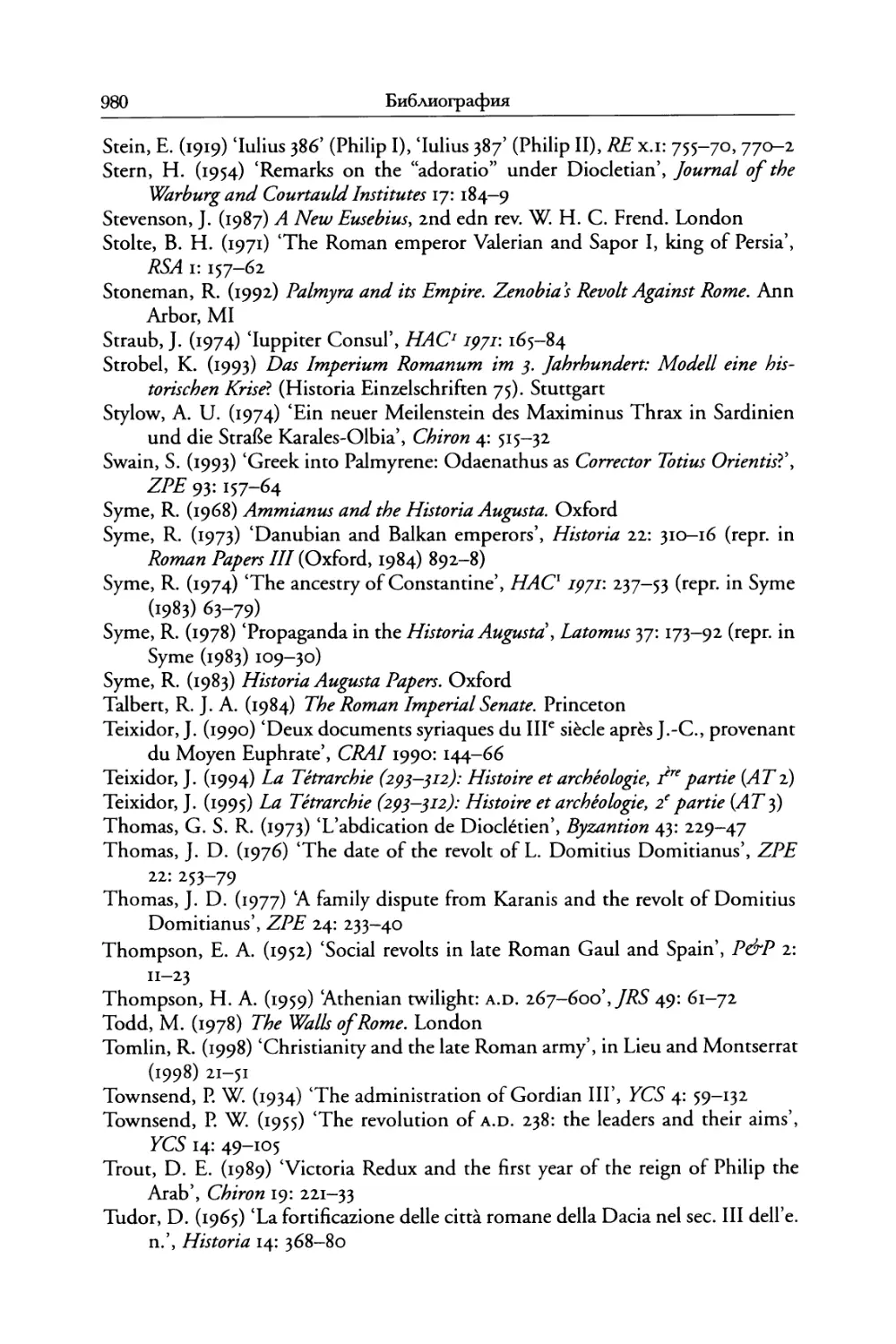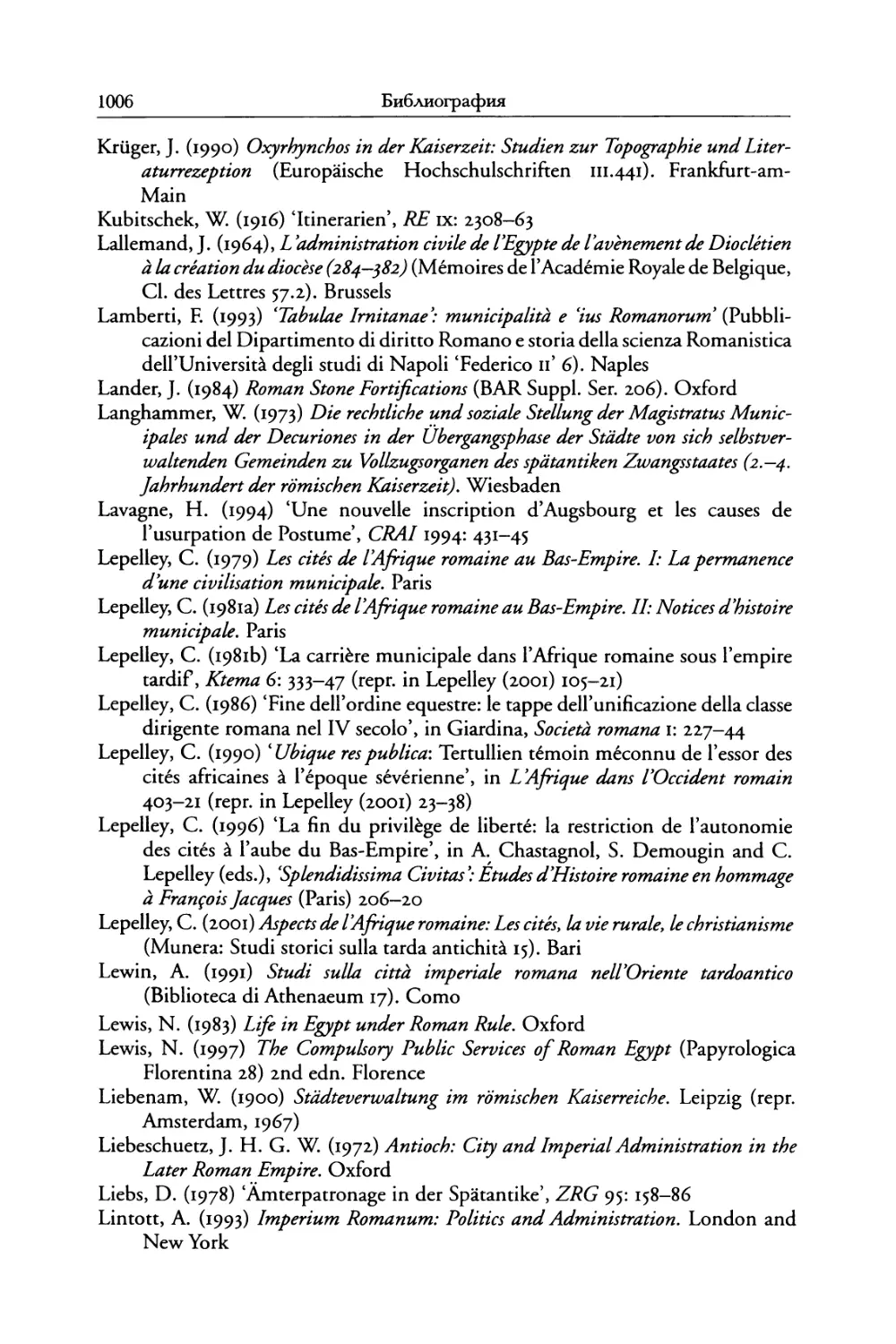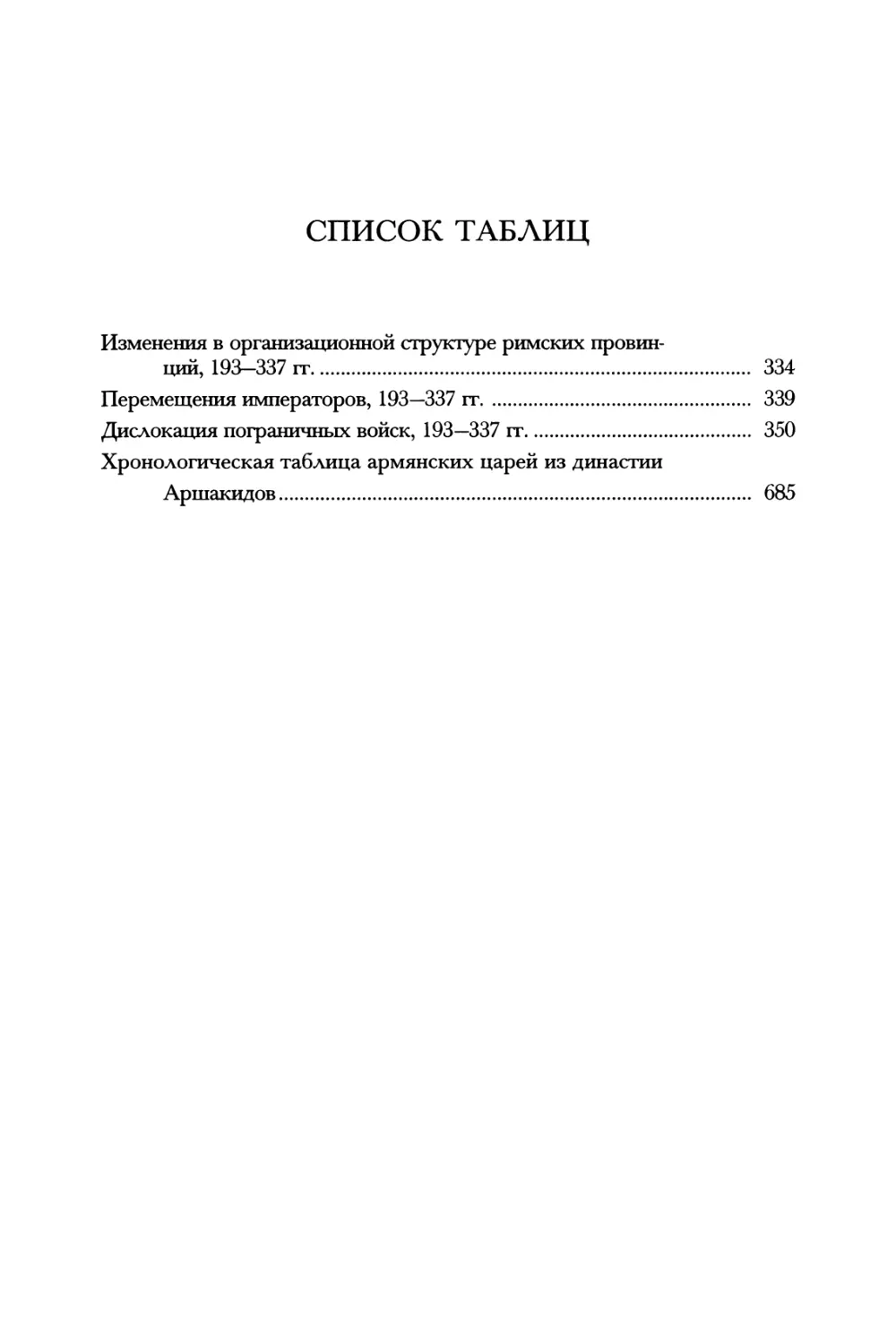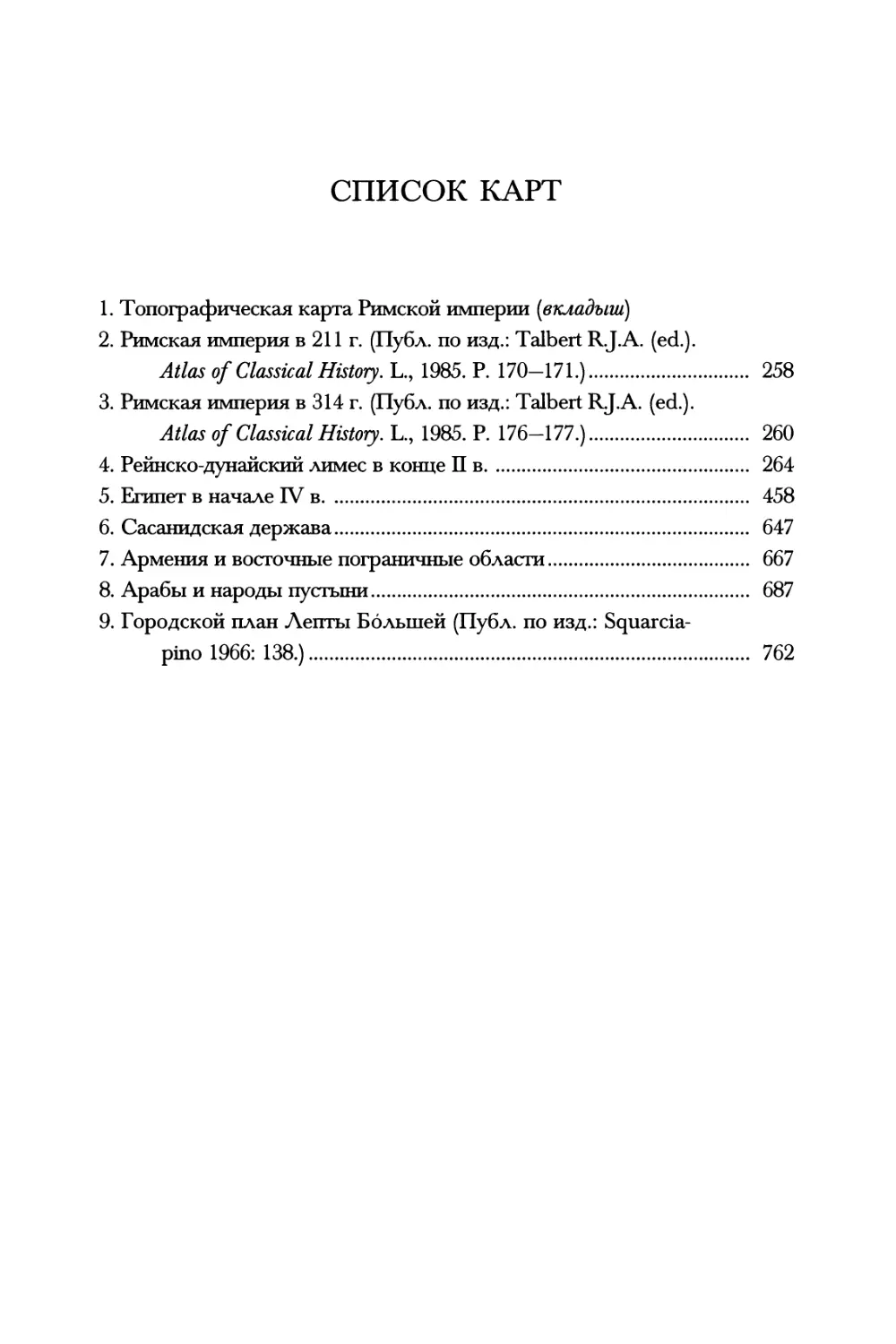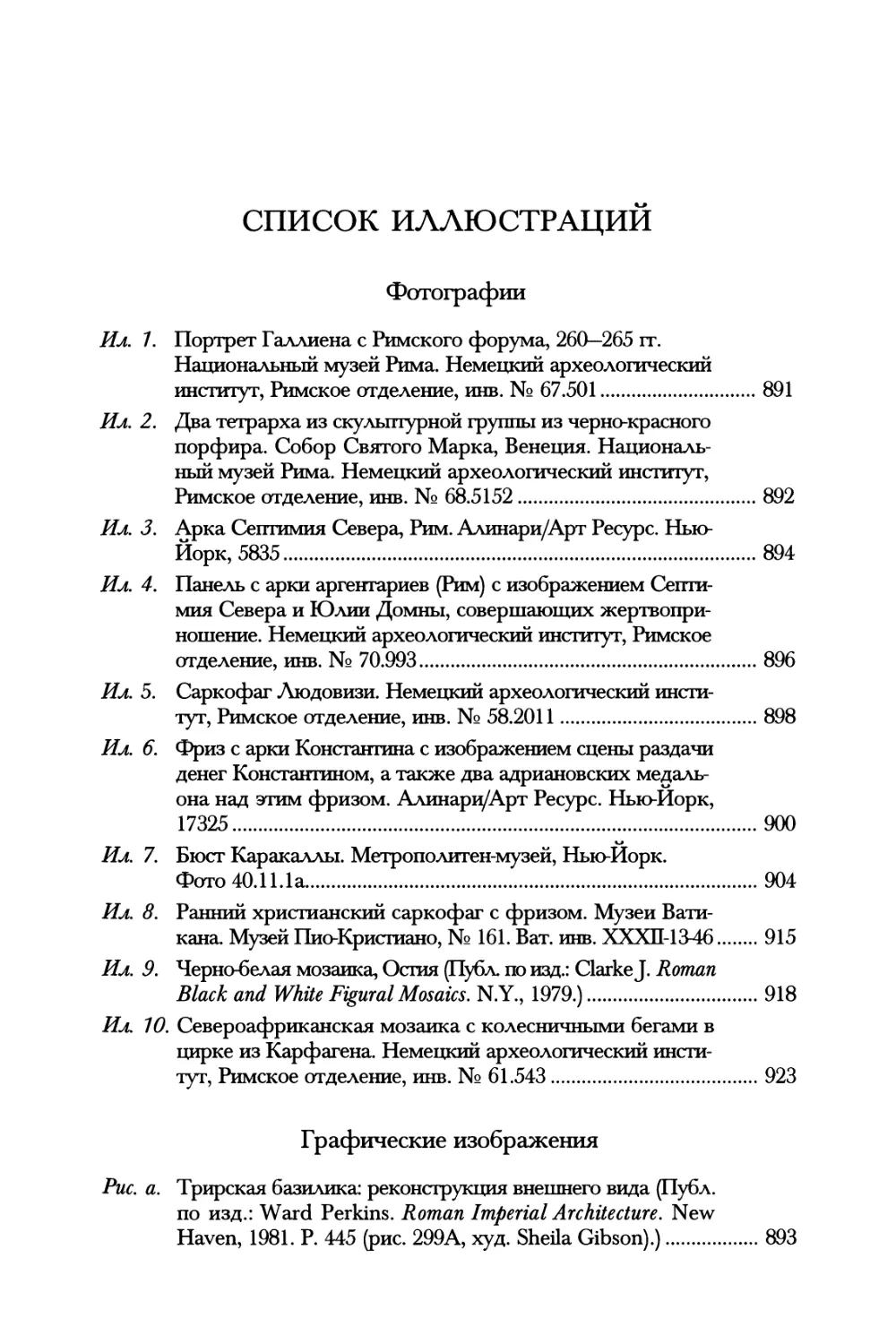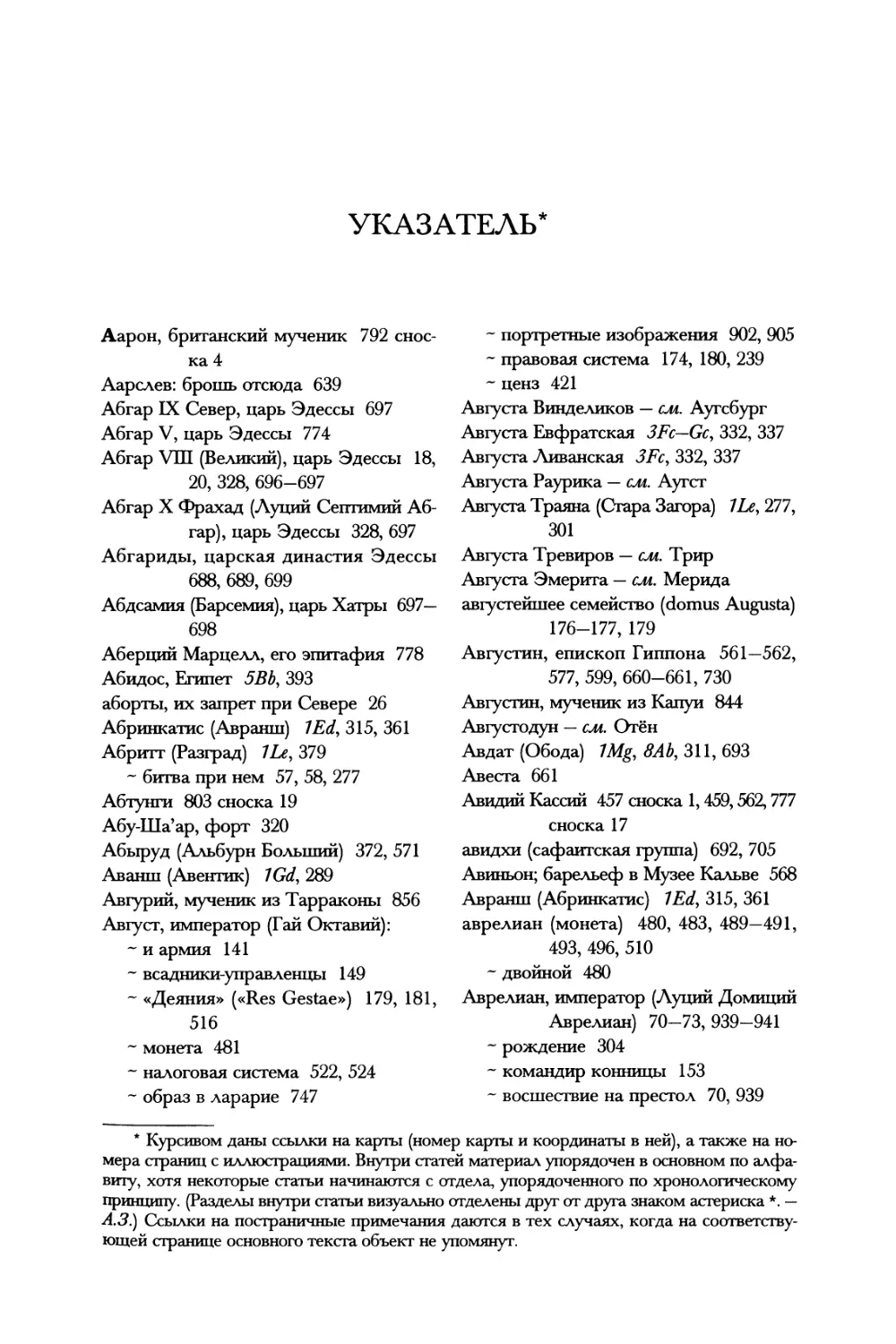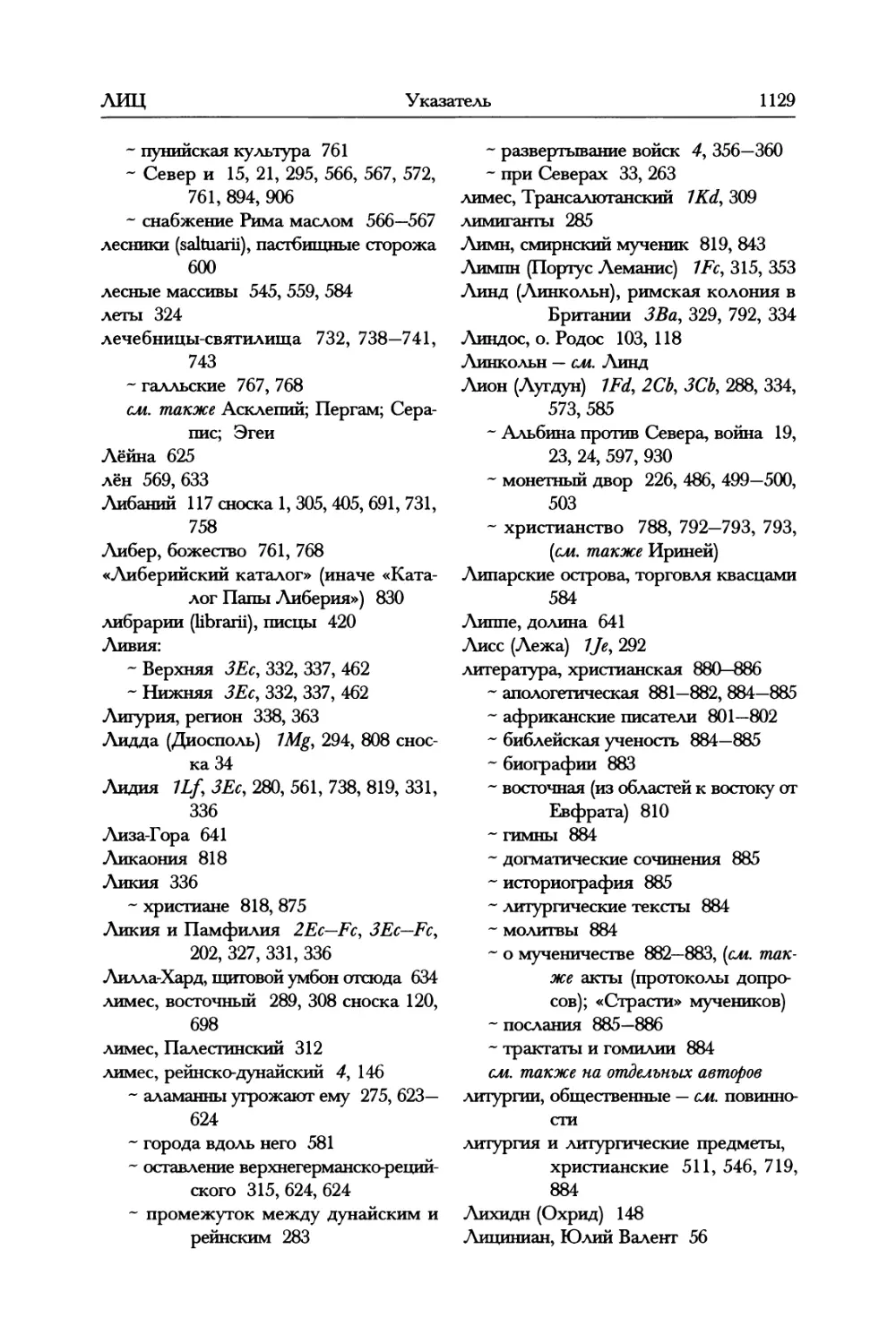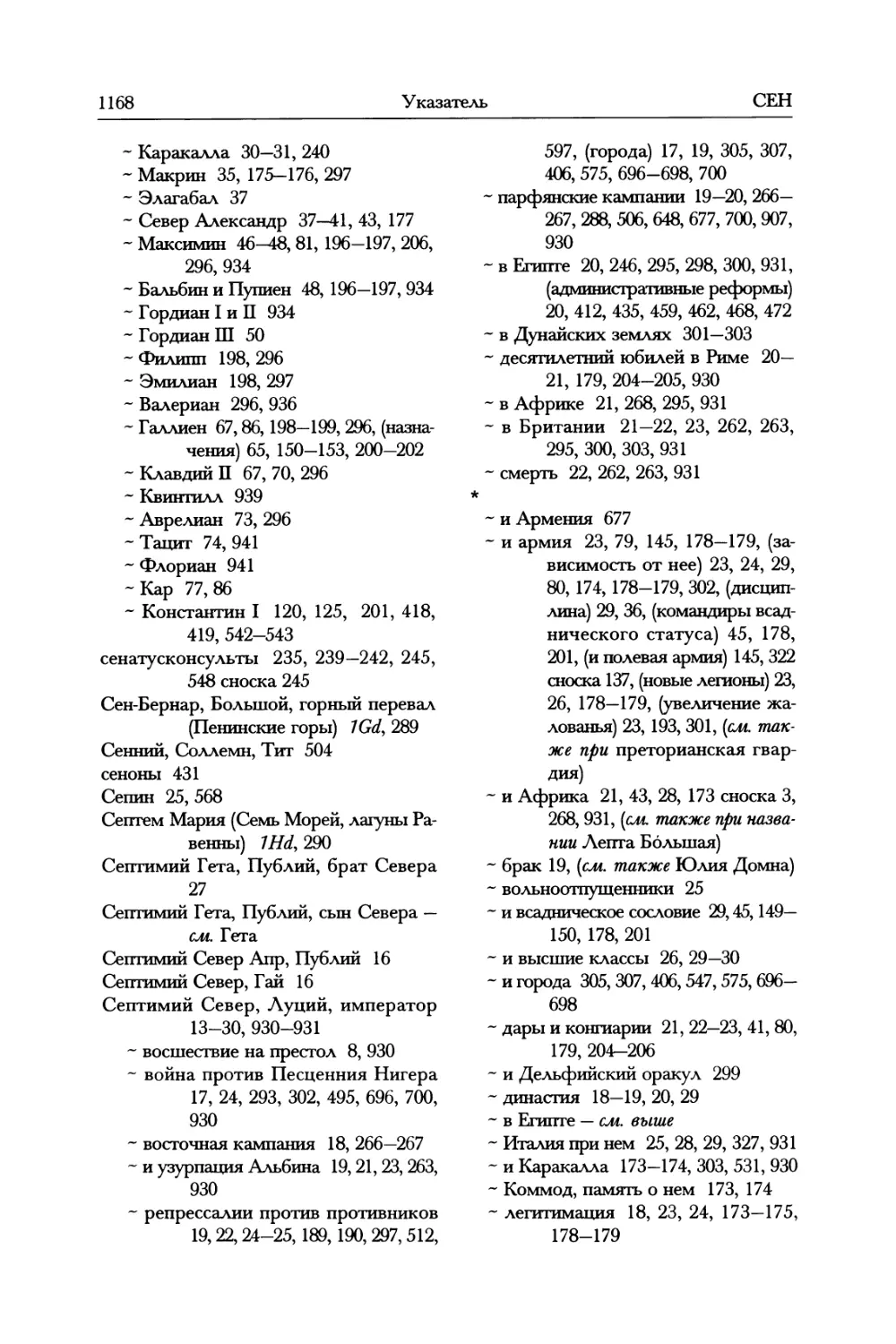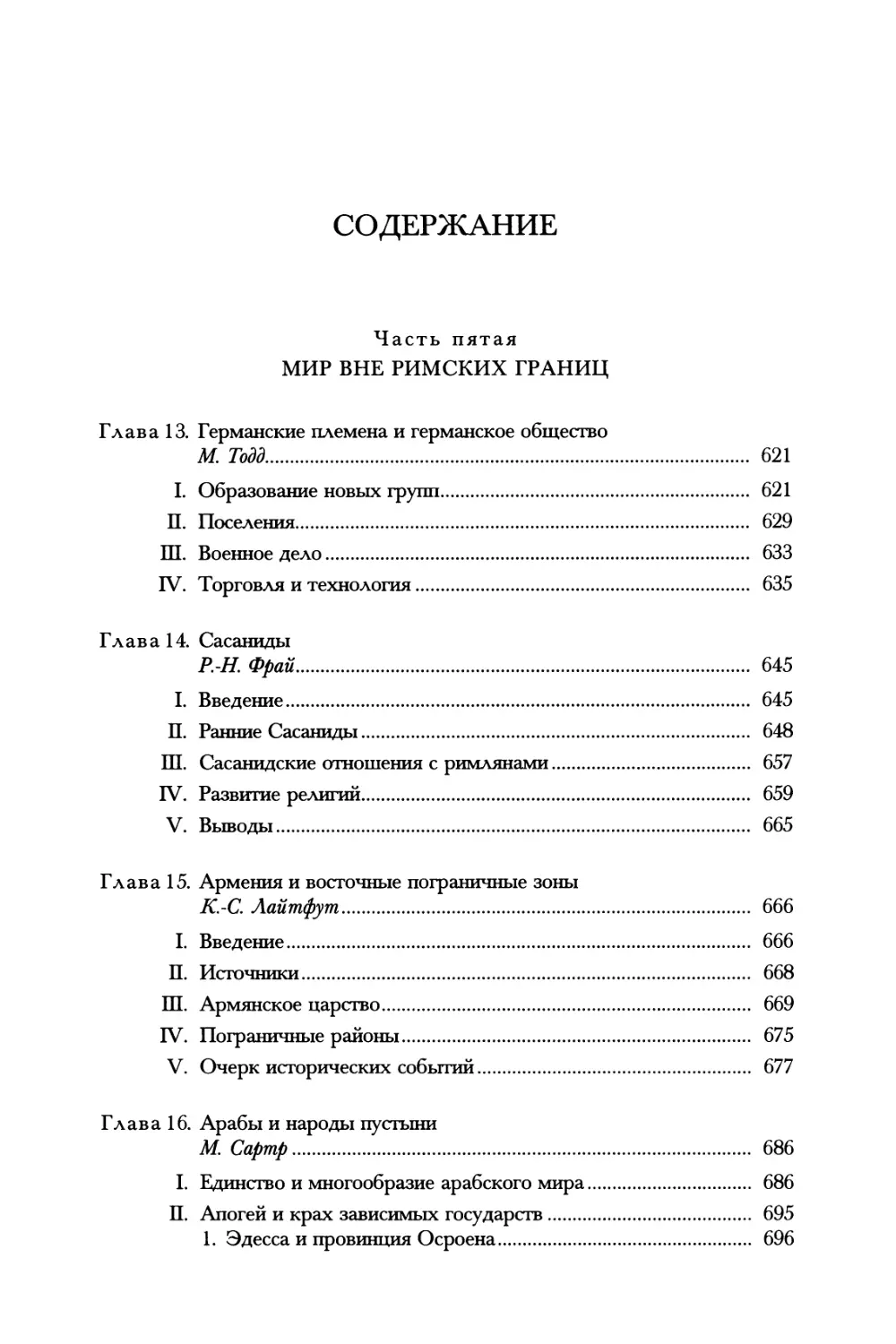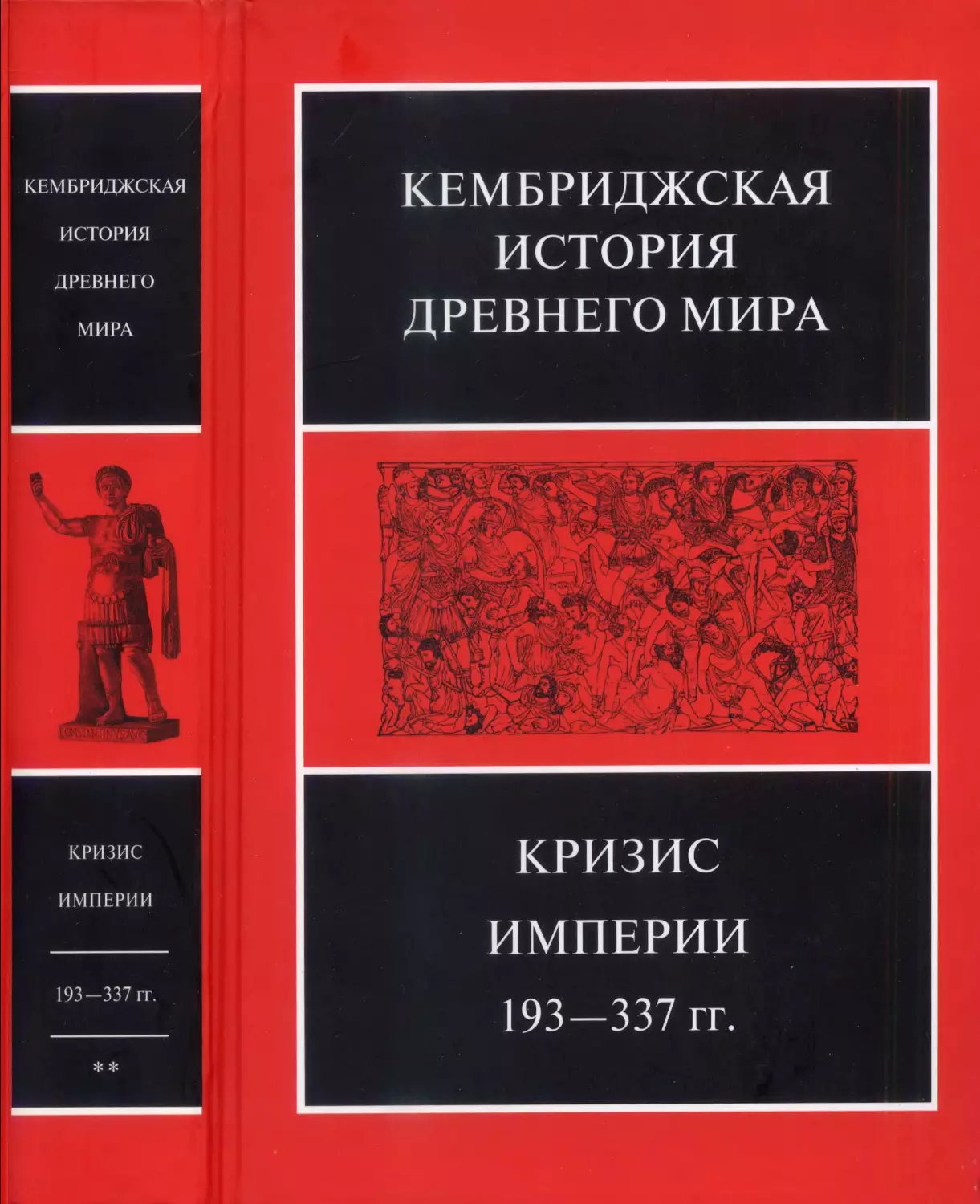Автор: Боуман А.-К. Камерон А. Гарнси П.
Теги: кембриджская история древнего мира
ISBN: 978-5-86218-605-5
Год: 2021
Похожие
Текст
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
ТОМ XII Второй полутом
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY
SECOND EDITION VOLUME XII
THE CRISIS OF EMPIRE A.D. 193-337
Edited by
ALAN K. BOWMAN Camden Professor of Ancient History in the University of Oxford
PETER GARNSEY
Professor of History of Classical Antiquity in the University of Cambridge
AVERIL CAMERON Warden of Keble College, Oxford
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
ТОМ XII Второй полутом
КРИЗИС ИМПЕРИИ,
193-337 гг.
Под редакцией
А.-К. БОУМАНА, А. КАМЕРОНА, П. ГАРНСИ
illi
ЛАДОМИр
Научно-издательский центр «Аадомир»
Москва
Перевод, заметка «От переводчика», примечания, подготовка «Указателя» (его переработка и расширение) А. В. Зайкова
ISBN 978-5-86218-605-5 ISBN 978-5-86218-607-9 (п/т 2)
© Cambridge University Press, 2005. © Зайков A.B. Перевод, примечания, указатель, 2021.
© НИЦ «Ладомир», 2021.
Репродуцирование [воспроизведение) данного издания любым, способом без договора с издательством запрещается
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
МИР ВНЕ РИМСКИХ ГРАНИЦ
Глава 13 М. Тодд
ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
I. Образование новых групп
После относительного изобилия письменных источников по германским племенам и их отношениям с Римом в I в. н. э. следующее столетие окутывает пелена почти полного молчания. Схематичные описания войн эпохи правления Марка Аврелия, обычно называемых Маркоманнскими, показывают германское общество урывками, причем лишь в некоторых отдельных аспектах1. Рассказ Диона Кассия об отношениях римлян с разными германскими группами неинформативен; писатели конца III в. предлагают очень краткие сообщения о внезапных налетах и нашествиях. Эта обширная лакуна не может быть заполнена с помощью археологических свидетельств, несмотря на всю их важность. В силу своей природы археология не способна дать ответы на центральные вопросы политической и социальной истории, однако она может многое прояснить относительно экономических и технологических тем. Особенно прискорбно то, что информация письменных источников иссякает, как только они обращаются к интересующим нас вопросам. Даже в «Германии» Тацита имеются ясные признаки перемены в варварском социуме, которая стала результатом полуторастолетних контактов и взаимообмена с римским миром. Социальная эволюция некоторых племен сильно продвинулась вперед в I в. н. э., приведя в некоторых случаях к внутреннему напряжению (как у херусков) или даже к политическому краху и к зависимости от Рима2. Если говорить шире, изменения в политической географии Германии, едва начавшиеся к 100 г. н. э., через сотню лет продемонстрировали значительные успехи. После этого многие из мелких племен, известных Тациту и Птолемею, почти перестали упоминаться или вовсе исчезли, тогда как более крупные группировки разного рода начали доминировать на приграничных землях вдоль Рейна и Дуная; самыми важными среди них были готы, аламанны и франки. Мы можем лишь смутно пред¬
1 Birley 1987; Böhme 1975; Bursche 1994.
2 Thompson E.A. 1965: 72—88.
622
Часть пятая
ставить масштаб изменений, происходивших начиная со П в. Как выглядели эти перемены — это сфера предположений.
Мы конечно же в значительной степени находимся во власти терминологии, применявшейся классическими писателями к социальной и политической организации варварских народов; имеются также серьезные проблемы с переводом тех вошедших в употребление терминов, которые относятся к концепциям современной социальной антропологии3. Такие слова, как «gens», «natio», «populus», «civitas», «pagus», без сомнения, определеннее доносили до римской аудитории свои смыслы, но далеко не ясно, сколь адекватными в характеристиках варварского общества они были. Когда античные источники говорят о племенах и народах, на какие реалии они ссылаются? Знали ли греко-римские писатели, на что в действительности были похожи эти социальные единицы? Обозначенные проблемы достаточно серьезны в контексте 1-го и 2-го столетий. Еще более сложными они оказываются в период кардинальных перемен, каким был Ш в. Когда появились новые группы, такие как аламанны, франки и готы, начали складываться и новые формы социальной организации. Чем они отличались от более ранних племен и были ли новые группы столь же сплоченны, как можно предположить на основании их названий? В центре проблемы, которую ставят перед нами франки, аламанны и готы, находится вопрос этнической принадлежности4. До какой степени эти народы были связаны друг с другом этническими узами? Этническая идентичность создается и поддерживается различными обстоятельствами. Наиболее очевидное из них — кровное родство, и это условие — самая заметная черта доиндустриальных обществ. Ядро этнического союза, как правило, формировало ряд связанных друг с другом групп, объединенных родственными узами, пусть даже такие группы и не оставались статичными. Вокруг родовых групп находился широкий внешний периметр, в пределах которого альянсы создавались путем брачных связей, обмена дарами и личной лояльности. В обществе, чрезвычайно зависевшем от плодородия земли, владение территорией имело основополагающее значение. Хотя отождествление территории с этносом поверхностно и обманчиво, территориальность подводит фундамент под социальную и экономическую структуру большинства оседлых доиндустриальных обществ. Этим отчасти объясняется значение войны в таких обществах. Территориальные владения нужно было защищать или расширять с помощью войны ради экономических соображений. К тому же она усиливала идентичность социальной группы.
Если же обратиться к теме формирования новых групп к востоку от Рейна, то необходимо учитывать еще один фактор5. В течение двух столетий народы, обитавшие рядом с Нижним и Средним Рейном, поддерживали контакты с римскими провинциями, и эти связи очевидным образом сказались на германском социуме, прежде всего на его верхних
3 Wenskus 1961.
4 Ament 1984; Van Den Berghe 1987; Wolfram, Daim 1980.
0 Perin 1987; Wolfram. Goths; Heather 1996.
Глава 13. Германские племена и германское общество
623
уровнях. Элиты этих народов уже давно осознавали возможности, предоставлявшиеся, с одной стороны, службой в римской армии и престижем, каким эта служба подкреплялась, и, с другой стороны, материальными преференциями приграничным провинциям со стороны Рима, что могло провоцировать нападения германских племен на эти территории. Система обороны римских рубежей всё более растягивалась, возможности для обоих типов активности расширялись. Этническая основа франков и аламаннов могла иметь меньшее значение, нежели обстоятельства, в которых теперь оказались их элиты.
Противостоявшие Верхнегерманско-Ретийскому лимесу, аламанны6 впервые упоминаются в сохранившихся источниках в связи с операциями Каракаллы против них в 213 г., но на историческую сцену они вышли, вероятно, в конце П в., возможно, в результате племенной реорганизации, ставшей следствием Маркоманнских войн. Понято, что они представляли собой смесь нескольких групп, но идентифицировать составляющие элементы тех или иных племенных групп с достоверностью очень трудно. Гермундуры, семноны и свебы были, судя по всему, главными составляющими аламаннов; не случайно в поздних источниках название «свебы» периодически используется вместо названия «аламанны», при этом с середины Ш в. имена «гермундуры» и «семноны» встречаются уже редко. В формирование этой большой группировки могли быть вовлечены и другие, более мелкие, племена, обитавшие в регионе между долиной Майна и верховьями Эльбы. Хотя в 213 г. Каракалла одержал над ала- маннами победу, исходившая от них угроза никоим образом не уменьшилась. Спустя двадцать лет они прорвались через верхнегерманскую границу и в 235/236 г. поразительно успешно атаковали Норик7. С этого времени вся протяженность границы между Рейном и Дунаем находилась под ударом, и некоторые аламаннские группы расширили зону своих рейдов до Среднего Дуная. Но главные нашествия были еще впереди. Примерно к 253 г. эту часть лимеса уже с трудом можно было удерживать, и к 259/260 г. она в своей значительной части, если не целиком, была оставлена римскими войсками. Вторжения продолжались, и варварские группы могли спокойно проникать вглубь Галлии. Хотя некоторые из современных историков пытаются преуменьшать серьезность нашествий на Галлию между 260 и 280 гг., имеются надежные свидетельства того, что урон от данных нападений был весьма ощутимым. Вдоль Рейна, на отрезке между Майнцем и Страсбургом, в речном русле было открыто несколько больших залежей награбленного материала. Самое крупное из них — это массивное скопление, найденное в Нойпоце, близ Райнцабер- на; оно включало многочисленные серебряные и бронзовые сосуды, инструменты, детали фургонов и монеты8. Это были плоды атак на Бельгийскую Галлию, простиравшуюся между Сеной и Мозелем, около 277/ 278 г., каковая датировка определена по самым поздним монетам в ука¬
6 Christlein 1978; Krüger 1986.
7 ChrisÜein 1978: 22-23.
8 Künzl 1993.
624
Часть пятая
занном собрании. Судя по всему, эта масса награбленного добра оказалась на дне Рейна в результате того, что плоты, переправлявшие «улов» на правый берег реки, затонули. Еще одним драматическим свидетельством о варварском нашествии в этот период является победный монумент в честь успеха над ютунгами (или семнонами) в апреле 260 г., одержанного войском Реции и местного ополчения9. Данное столкновение произошло, по-видимому, близ Аугсбурга, где монумент был обнаружен, когда варвары возвращались из Италии, ведя с собой большое количество италийских пленников.
Оставление Верхнегерманско-Ретийского лимеса, несомненно, сделало беззащитными области между верховьями Рейна и Дунаем перед лицом аламаннской колонизации, и первая фаза захвата земель началась в последней четверти Ш в. Использование римлянами, по крайней мере, некоторых крепостей на старой пограничной линии продолжилось и после 260 г., но, вероятно, не на регулярной основе10. Имеются явные признаки того, что ранние колонисты приспосабливались к существовавшей поселенческой модели, в некоторых случаях даже продолжая использовать римские виллы, как было в Праунхайме. Сеть римских дорог, пересекавших этот гористый регион, сыграла свою роль в определении направления ранней аламаннской оккупации. Оставленные римские крепости могли служить в качестве фокусных точек для ранних поселенцев, как было в Вальхайме и, позднее, в Хюфингене. Другие аламаннские группы искали работу на римской службе на Верхнем Рейне. Впрочем, имелись и поселения на совершенно новых местах, например, в Зотнхайме-им-Шту- бентале. Среди них особенно примечательна группа населенных пунктов, основанных на вершинах холмов. Самым известным является поселение на холме Рундер-Берг (близ городка Бад-Урах)11, вершина которого была обнесена крепкой деревянной стеной, а склоны ниже этого укрепления обжиты довольно многочисленной общиной. Данное выгороженное место имеет все признаки резиденции вождя, основанной в конце Ш в., с сопутствующим (и зависимым) поселением крестьян и ремесленников. Местность юго-западной Германии предлагала множество видных издалека вершин в качестве центров местной власти, и некоторые из них были заселены еще в 300 г. В силу этих причин топография региона не способствовала объединению аламаннов. Множество царей и царьков (reguli) продолжали процветать и гораздо позже того, как аламанны осели на территории, являвшейся римской провинциальной землей. Их конфедерация оставалась рыхлой организацией вплоть до IV в., но по-прежнему такой, которая создавала серьезную угрозу безопасности римских рубежей.
Отношения между аламаннскими вождями и римскими полководцами отнюдь не всегда отличались враждебностью. Неподалеку от слияния Эльбы и Саале группа богатых захоронений указывает на тесные связи между влиятельными семьями аламаннов либо их союзников и рим-
Bakker 1993.
Christlein 1978: 43—48.
Stribmÿ 1989.
Глава 13. Германские племена и германское общество
625
ским миром12. В Лёйне и Хаслебене ведущие члены местных элит хоронились в крупных, облицованных деревом камерах, вместе с богатым набором римских серебряных и бронзовых сосудов, керамикой и другими привозными вещами. Диапазон датировок этих захоронений относительно узок: между 260-ми и, самое позднее, 290-ми годами, и данное обстоятельство как будто бы допускает возможность того, что эти утонченные предметы были добыты во время удачных набегов на приграничные провинции. Но не очень широкое географическое распространение могил делает это менее вероятным. Скорее, это богатство было наградой за поддержку, оказанную германскими воителями и их свитой галльским императорам после 260 г. Разброс золотых монет в центральной Германии может быть объяснен также платежами «сильным германским ауксили- ям» («ingentia auxilia Germanorum»), о которых сообщается, что они оказывали помощь по меньшей мере одному из галльских правителей13. В течение всего Ш в. и много позже аламанны оставались группой народов. Перспективы службы Риму часто могли казаться более привлекательными, нежели межплеменные раздоры и нападения на римские границы.
Народы, обитавшие непосредственно к востоку от Рейна, в его нижнем течении, почти не упоминаются в начале Ш в., но здесь также происходили изменения вслед за неурядицами предыдущих десятилетий, и перемены эти вели к возникновению нового и более крупного объединения14. Франки впервые упоминаются под этим именем в 253 г., но, вероятнее всего, эта рыхлая конфедерация находилась в стадии формирования в предыдущую половину столетия или даже раньше. В 257 г. Галлиен находил франков достаточно серьезной угрозой, чтобы лично возглавить кампанию против них, выступив из Кёльна. Следующие галльские императоры столкнулись со всё усиливавшейся проблемой защиты от франкских налетов рубежей по Нижнему Рейну. Начиная по меньшей мере с 275 г., а возможно, и несколько ранее, франкские воинственные банды были способны прорываться через имперскую систему обороны на Нижнем Рейне и вторгаться глубоко в Галлию. С 276 по 281 г. император Проб и его полководцы противостояли частым атакам на Нижнем и Среднем Рейне; эта опасность сохранялась и в следующем десятилетии. Прежде всего мы слышим о франках и иных племенах, создававших угрозу мореплаванию в Ла-Манше и в Северном море, что заставило западного Августа поручить Караузию борьбу с этими налетчиками15. Караузий же воспользовался шансом, чтобы самому захватить власть, используя отряды франков для укрепления собственного положения. От таких отношений эти новые игроки выигрывали больше, чем от своих нападений на оборонительные рубежи по Нижнему Рейну. Даже те франки, что попадали к римлянам в плен, могли получить места для обоснования внутри рим¬
12 Schulz, Zahn 1933; Schulz 1953; Becker 1993.
13 Сочинители истории Августов. Викторин. 6.2.
14 Perin 1987; James 1988: 34—50.
15 Casey 1994.
626
Часть пятая
ских провинций. В последние годы Ш в. Констанций Хлор расселил группы франков на территориях, относившихся к городам северной Галлии, разрешив им возделывать пустующие земли в обмен на военную службу. В следующие десятилетия заметен значительный рост в использовании франков в римской армии. Константин одержал по меньшей мере одну победу над франками и приговорил двух франкских вождей к растерзанию зверями на арене амфитеатра в Августе Тревиров. С начала IV в. франки начали занимать еще более значимые посты в римских войсках, и всё больше франкских боевых единиц стало появляться в реестрах военных подразделений.
Вопрос о происхождении франков сложен и не допускает однозначного ответа. Именование это было в ходу у римлян и, несмотря на его германский корень, могло быть их изобретением. Сами франки не имели ясно выраженного предания о собственном происхождении как некоего народа. Когда род Меровингов ощутил острую потребность в первооснователе, то обратился за помощью к морскому чудищу. Именование «франки», очевидно означающее «свободные» (или «отважные»), применялось к некоторому числу племенных групп к востоку от нижнего течения Рейна, в том числе к тем, кто упоминается в источниках еще I в.: бруктерам, ха- мавам, хаттуариям, ампсивариям и сугамбриям. Ряд этих племенных единиц сохраняли свою идентичность и в 4-м столетии; последнее обстоятельство важно для понимания того, что же из себя представляли ранние франки. Хотя на них часто ссылаются как на некую «конфедерацию», данный термин предполагает более тесное единство, нежели то, что существовало в то время. Франкские воины, как выясняется, принимали участие в атаках самых разных группировок на римские границы и расположенные за ними провинции. Вероятно, вооруженные банды составлялись из племен, обитавших близко к Рейну, а также из приморских народов, включая хавков и фризов. Такие вооруженные банды вряд ли сохраняли единство долгое время, и по этой причине мы вплоть до конца Ш в. не слышим о конкретных вожаках. Таким образом, ранние франки не представляли собой отдельного народа подобно бургундам и ломбардам, а были постоянно менявшейся массой взаимосвязанных групп воинов, действовавших совместно для достижения актуальных на данный конкретный момент целей, но не имевших постоянной сплоченности и ощущения своей общей идентичности. Из этого следует, что они не имели также и никакой устоявшейся системы управления. Подобно всем таким сообществам воинов, они, по-видимому, вынуждены были поступать на римскую службу, сохраняя при этом враждебность по отношению к империи.
Учитывая особенности их происхождения, неудивительно, что франков невозможно отделить в археологических свидетельствах от иных трансрейнских поселенцев 3—4-го столетий. Никаких крупных новшеств в материальной культуре непосредственно к востоку от Рейна в Ш в. распознать невозможно, как невозможно связать никаких специфических артефактов с формированием новой группы. Даже модель и характер
Глава 13. Германские племена и германское общество
627
раннефранкского поселения известны очень плохо. Большинство полностью раскопанных мест, таких как Вестик близ Унны и более поздний Глад б ах в бассейне Нойвида, были относительно мелкими деревнями. Кладбища, которые можно было бы приписать франкам этого времени, вообще почти не известны.
С начала Ш в. восточногерманские племена находились в полном смятении по причинам, которые мало или вообще никак не были связаны с Маркоманнскими войнами16. С конца 2-го столетия группы мигрантов начали двигаться из бассейна Вислы на юг — в Западную Украину и в Причерноморье, объединяясь с существовавшим там смешанным населением. По меньшей мере к 230-м годам в этом регионе стали складываться вооруженные банды для нападений на нижнедунайские провинции, получая в виде откупа субсидии от римских полководцев, которые были не способны отражать их атаки. К этим агрессивным группировкам применялось название «готы», однако за данным именованием не было никакого сплоченного этнического единства; этих ранних готов обеспечивали воинами несколько племен17. Распространение готов на юг было, вероятно, не столько непредвиденной миграцией, сколько устойчивым продвижением к плодородным землям, принадлежащим нынешней Украине. Археологические свидетельства заставляют думать о том, что движение это осуществлялось вдоль главных рек из бассейна Верхней Вислы; археологическая культура, которая маркирует собой данный процесс, известна как вельбарская культура18. Наше самое первое знакомство с готами в литературных источниках начинается с того, что они угрожают Мё- зии и Дакии (230-е и 240-е годы). Вскоре после этого города на побережье Черного моря и Малой Азии испытали их стремительные набеги. Для того времени почти ничего не слышно о вожаках готов или о наличии у последних какой-то централизованной власти. Самый грозный из их командиров, Книва, в источниках величается царем, но весьма вероятно, что свой авторитет он заслужил исключительно благодаря воинской доблести. К середине 3-го века готы и их союзники стали для Рима самым изобретательным и самым грозным врагом из всех варваров. Они были способны глубоко проникать в богатые провинции Малой Азии, организовывая широкомасштабные морские экспедиции; они могли атаковать и мирные области Греции, и такую беззащитную провинцию, как Дакия. До поры до времени они не предпринимали никаких согласованных попыток закрепиться на римской территории. Причерноморье предлагало им достаточно земли для поселений, а грабительские налеты обеспечивали богатством. Такие императоры Ш в., как Клавдий П и Аврелиан, могли «отодвинуть» готскую проблему, но до ее разрешения им было очень далеко.
В обширном регионе между Одером и Вислой, родиной пшеворской археологической культуры, с конца П в. также происходили важные пе¬
16 Hachmaim 1970; Heather 1991.
17 Wolfram. Goths; Bierbrauer 1994; Heather 1996.
18 Heather 1996: 18-25.
628
Часть пятая
ремены19. Это была амальгама нескольких локальных культур, в формировании которых предположительно сыграли определенную роль группы вандалов. После Маркоманнских войн эта культура начала распространять свое влияние на юг, в сторону Дуная, и на юго-восток, на территорию современной Украины и долину в верхнем течении Днестра. Воинские захоронения — одна из самых заметных особенностей данной фазы пшевор- ской культуры, хотя очень богатые могилы здесь всё же редки. Экспансия на плодородные земли Украины может быть отражением неуклонного продвижения германских и иных колонистов в данный регион. Вероятность соединения с готами весьма высока, но продемонстрировать ее невозможно. На самих территориях современной Украины, от степей возвышенности до Черного моря, с конца 2-го столетия развилась еще одна обширная культура, а именно Черняховская, названная так по месту близ Киева, где был раскопан некрополь20. Носители этой богатой культуры селились достаточно скученно, прежде всего в долинах крупных рек, получая средства существования благодаря сельскому хозяйству. Металлообработка и другие ремесла процветали, к тому же из римского мира сюда шел устойчивый поток импорта, включая металлические сосуды, стеклянную посуду, керамику и серебряные монеты. Те, кто был ответствен за зрелую культуру железного века, этнически, вероятно, представляли собой некую смесь, и в этой смеси совсем необязательно преобладали германцы. Но к Ш в. в этом регионе определенно укоренились готские поселенцы, и они должны были внести свой вклад в формирование Черняховского сообщества. К концу 3-го столетия Черняховские элементы уже начали расширяться на юг к Нижнему Дунаю, получая добавочную поддержку, носителем которой были готы.
С начала П в. Дунай представлял собой самую важную и наиболее уязвимую из всех северных границ. Успех римлян в деле обеспечения безопасности этого рубежа в значительной степени зависел от политики выплаты денежных субсидий, а также от других дипломатических средств и редкого использования угрозы применения силы. Выплата субсидий необязательно была регулярной практикой, но часто она являлась эффективным способом заручиться поддержкой германских и других варварских вождей. Денежные субвенции могли дополняться подарками в виде утонченных вещей. Одной из них, вероятно, была роскошная серебряная чаша, найденная в погребении вождя в местечке Страже в долине реки Ваг в Словакии21. Римский надзор за племенными группами к северу от Среднего Дуная, прежде всего в долинах Моравы и Нигры, был весьма эффективен в течение долгого периода. После Маркоманнских войн этот сектор дунайской границы не страдал от серьезных конфликтов вплоть до середины IV в. Имеется поразительное археологическое свидетельство мир¬
19 Godlowski 1970; Kenk 1977.
20 Rybakov 1960 \Черняховская культура (Под ред. Б.А. Рыбакова. М.: АН СССР, I960)]; Symonovic [Сымонович Е.А. Черняховская культура и памятники киевского и колочин- ского типов (Советская археология. 1983) 1: 91—102]; Heather 1996: 18—23.
21 Ondrouch 1957.
Глава 13. Германские племена и германское общество
629
ных взаимоотношений между римлянами и варварами в данном регионе в форме археологических памятников, на которых присутствуют хорошо узнаваемые римские сооружения22. Наиболее замечательным из них является место в Цифер-Пак, примерно в 40 км к северу от Дуная, в низине между рекой Ваг и Малыми Карпатами. Высокое качество римских построек и сопутствующих находок здесь указывает, что это была резиденция влиятельной социальной группы — либо семьи вождя, либо potentium (potentes — «могущественные»); памятник функционировал на протяжении Ш в. и продолжал существовать в IV в. В Дубравке, в 4,5 км севернее Дуная, банный дом римского типа был соединен с деревянными строениями германского плана; это поселение было обитаемо с I в. и, по крайней мере, до конца IV в. Более показательными в отношении прямой военной вовлеченности римлян служат такие места, как Штильфрид на Мораве, Милановце на Нитре и Мосов на реке Дие (нем. Тайя). Места эти могли быть связаны и с торговой деятельностью, но более крупные из них, вероятно, были обязаны своим внешним убранством признанию римскими должностными лицами местных вождей, а также материальным выгодам, которые из этого вытекали.
II. Поселения
Германские общины раннего железного времени развили поселенческие формы, которые были гораздо более сложными и продуманными, чем можно было бы предположить на основании литературных свидетельств23. За последние полсотни лет исследования поселенческих археологических мест в северной Германии, прежде всего на германском побережье и в южной Скандинавии, выявили устойчивое увеличение размеров многих общин начиная с I в. до н. э., а в некоторых случаях указывают на вызывающий удивление уровень внутренней планировки и порядок внутри поселений, обитаемых в течение нескольких столетий. Самые обширные раскопки на таких памятниках имели место в Голландии, северной Германии и Дании, так что в наших знаниях имеется определенный уклон в сторону этих регионов. Однако из восточной Германии и Польши происходит всё большее количество доказательств, что такие же социальные и экономические процессы шли и в других областях Германии.
Наиболее полные археологические данные по одному конкретному поселению дали раскопки памятника у Феддерсен-Вьерде на прибрежных топях у устья Везера близ Бремерхавена24. Критические потребности, налагаемые окружающей средой на низину, подверженную морским наводнениям, привели к постепенному наращиванию искусственного холма, по мере того как поселение продолжало функционировать. С I в. н. э. рост был стабильным, при этом реализовывался радиальный план, с тем что¬
22 Pitts 1987.
23 Jankuhn 1976; Krüger 1986; Hedeager 1992.
24 Haamagel 1979.
630
Часть пятая
бы вписать в освоенное пространство всё большее количество так называемых длинных домов24а с их подсобными постройками. К 100 г. н. э. существовало тридцать или более таких длинных домов, каждый из которых, по-видимому, представлял собой отдельное семейное землевладение. Во П в. рост в рамках радиального плана продолжился; теперь одно крупное жилое помещение на юго-восточном краю поселения было отделено от других частоколом и рвом. Это выделяющееся здание было средоточием для некоторого количества более мелких построек, которые использовались ремесленниками, работавшими с разными материалами: деревом, оленьим рогом, костью, кожей и бронзой. Данный анклав внутри поселения у Феддерсен-Вьерде разумнее всего интерпретировать как резиденцию старейшины племени или местного вождя, обладавшего возможностью распоряжаться ресурсами и контролировать труд зависимых ремесленников. Такое руководство поселением продолжалось на протяжении Ш—IV вв., когда вся община, пребывавшая на пике своего развития, состояла примерно из пятидесяти семей. Социальная дифференциация внутри поселения необычно ясная. Не менее интересен тот факт, что Herrenhof («двор хозяев») продолжал существовать в течение двух или более столетий.
Тщательно спланированные поселения, существовавшие веками, известны также в Голландии. Вейсгер, в провинции Дренте, находился на своем пике в 3—4-м столетиях, был распланирован по прямоугольной сетке улиц или проходов, отделенных деревянными частоколами25. Отдельные длинные дома были расположены в основном внутри обособленных, окопанных рвом участков. В Ш — начале IV в. эта община могла включать до шестидесяти семей. Вейсгер, лежащий примерно в 100 км от Нижнего Рейна, находился в тесных торговых и, возможно, иных контактах с римскими провинциями. Еще один поселенческий памятник, внутренняя планировка которого выявляется со всей очевидностью, — это Беннеком, отстоящий всего лишь на 40 км от римской границы, хотя он гораздо меньше Вейстера и имеет только четыре больших усадьбы и подсобные строения на своей вершине26. Тот факт, что наиболее цветущий период и Вейстера, и Беннекома приходится на 3—4-е столетия, не случайное совпадение. Экономические связи с пограничными провинциями должны были во многом способствовать преуспеванию всего этого региона. Когда обустроенная граница на Нижнем Рейне перестала существовать, оба поселения пришли в полный упадок.
В приморских областях Голландии и Германии было немало более мелких поселений, многие из которых представляли собой насыпные обитаемые холмы среди приморских маршей [нем. Terpen, Wurten). Некоторые из этих мест проживания были небольшими селами с радиальной
24а Длинный дом (англ, long-house) — длинная узкая постройка с одним внутренним помещением. Археологический термин. — А.З.
25 Van Es 1967.
26 Van Es, Miedema, Wynia 1985.
Глава 13. Германские племена и германское общество
631
планировкой или небольшими деревнями наподобие Эзинге27. Поселения, защищенные крепкими заборами, сегодня известны на песчаных землях плоскогорья голландской провинции Дренте, но они, как представляется, в значительной степени принадлежали более раннему римскому железному веку. Поселения с планировкой известны и в Дании. В Ходде, в юго-западной Ютландии, на территории области, ограниченной лощинами, был выявлен ряд следующих один за другим поселений, сформированных вокруг общего ядра, причем данные деревни отстояли друг от друга не более, чем на 400 м28. В пределах данного анклава одна община, насчитывающая до двухсот жителей, просуществовала четыре века, при этом в диапазоне от ста до ста пятидесяти лет основное поселение меняло свое местоположение. Точно такое же перемещение поселенческого средоточия внутри одной территории обнаруживается и в других местах в Ютландии, например, в Дренгсгеде и в Ворбассе. Поселение Ворбассе на своих более поздних стадиях обнаруживает такую эволюцию, которая должна была быть связана с социальными переменами. Длинные дома были гораздо крупнее своих аналогов более раннего железного века и располагались внутри наделов значительных размеров, которые отделялись друг от друга изгородями. КIV в. Ворбассе включало около двадцати таких усадеб, вытянувшихся вдоль широкой осевой улицы на 300 м от одного конца до другого.
Ясно, что в этих поселениях проживали общины, которые в основе своей оставались неизменными, но к IV в. начавшими испытывать ряд изменений. Значение отдельных семейств в самодостаточных хозяйствах очевидно, но базовое социальное единство проявляется в сохранении у поселения ядра. Разрастание в размерах, очевидное для многих рассматриваемых здесь мест, отчетливо указывает на прирост населения — факт, получивший новое подтверждение благодаря интенсивным разведкам ограниченных зон. Данный демографический прирост, по всей видимости, дал толчок поиску новых земель и новых ресурсов, что привело к большей мобильности во многих частях Германии. В увеличении поселенческой активности на севере можно разглядеть одну из главных сил, которые вызывали позднейшие миграции.
Городища и другие крепости, расположенные на вершинах холмов, в данное время дают мало данных по поселенческой практике германских народов, хотя это может объясняться недостаточной исследованностью соответствующих археологических памятников29. Известное высказывание Тацита об отсутствии укрепленных мест в Германии всё больше представляется уязвимым, прежде всего касательно центральных регионов. Многочисленные укрепленные городища известны вокруг верховий Везера и Лайне, на реках Унсгрут и Зале, в Богемии и в южной Польше. Очень немногие из этих мест подверглись сколько-нибудь масштабным раскопкам, и ни одно не было исследовано настолько хорошо, как этого
27 Halbertsma 1963. 28 Hvass 1985.
29 Mildenberger 1978.
632
Часть пятая
требуют данные памятники. Укрепленные городища на холмах сохранились также в западной Германии, и по поводу некоторых имеются доказательства того, что они использовались в эпоху римского железного века. Хайденшанце и Хайденпггадт близ Бременхафена, например, господствуют над прибрежными низменностями, а по меньшей мере городище в Хайденшанце было обитаемо в ранний римский период. Другие подобные поселения, расположенные неподалеку от Рейна и Дуная, функционировали в рамках римского железного века, хотя подробностей по этому поводу у нас недостаточно. Примечательно, что, когда в конце
3-го столетия аламанны переселялись в зону за лимесом, они первым делом овладевали вершинами холмов, что, по всей видимости, отражает твердо установившуюся практику.
Все раскопанные поселения демонстрируют большое значение животноводства для аграрной экономики30. По всей Германии самыми важными домашними животными был крупный рогатый скот, и это признается почти безоговорочно. В прибрежных болотистых северных местностях он часто составлял более 60% от всего домашнего поголовья. Затем шли овцы и свиньи, хотя и в разных пропорциях, в зависимости от доступных выгонов. Доля лошадей была незначительной, и в некоторых поселениях они либо вовсе отсутствовали, либо были представлены крайне ограниченными экземплярами. Домашняя птица разводилась в небольших количествах в некоторых поселениях; известно также о наличии в хозяйствах собак и кошек. Проявлялась отчетливая тенденция к измельчанию всех домашних пород. Коровы и быки были небольшими и низкорослыми, по-видимому, вследствие неселективного размножения длительное время. По сути, нет никаких признаков пополнения стад более крупными особями из римского мира. То же верно в отношении лошадей и свиней; последние часто отличались малорослостью в сравнении с современными европейскими животными. Овцы, впрочем, были вполне сопоставимы по своим размерам с теми, что распространены сегодня.
Много молодого скота шло на убой ради мяса. Телята и молодые бычки составляли основную часть мясного рациона, около 60% животных забивалось после достижения возраста примерно четырех лет. Ягнята также были излюбленным источником мяса, 20% забивалось в их первые пять месяцев жизни, 40% — в свои первые два года. Ели и конину, хотя, вероятно, только после истечения срока использования лошади в качестве тяглового животного. Охотничье-промысловые животные и дичь практически не фигурируют на лучше всего зарегистрированных памятниках, так что, как это ни удивительно, охота, судя по всему, не обеспечивала значительного дополнения к пищевому рациону.
Выращивание зерновых в Северной Европе имело долгую историю, уходя корнями в 4-е тысячелетие до н. э. С тех ранних времен возделывались некоторые сорта пшеницы, прежде всего однозернянка (Triticum monococcum) и двузернянка (иначе эммер, Triticum dicoccum), и эти культуры сохранялись до позднего железного века. Но в железном веке
30 Krüger 1986: 109-119.
Глава 13. Германские племена и германское общество
633
возросло значение других хлебных злаков, прежде всего ячменя, проса и ржи. Овёс начиная с I в. н. э. также начал занимать всё более видное положение. Ассортимент хлебных злаков, выращивавшихся в отдельных поселениях, в целом производит впечатление, но специализация была редка. Так, к примеру, в Бентумерсиле, что на устье Эмса, были представлены ячмень, пшеница и просо, наряду со льном и рыжиком посевным, ценившимся, вероятно, за богатые маслом семена. Бобы широко возделывались на севере, наряду с горохом, морковью, капустой, редиской, рапсом и спаржей. Но почти не имеется указаний как на производство, так и на сбор фруктов, хотя дикие фрукты, по-видимому, потреблялись.
III. Военное дело
На протяжении 1-го и начала 2-го столетия вооружение германских воинов не претерпело никаких кардинальных изменений. Римское военное снаряжение мало повлияло на оружейные типы, а доспехи вообще восприняты не были, даже ведущими бойцами. С конца П в., впрочем, в центральной и северной Германии дали о себе знать первые признаки значительной перемены, и данный процесс должен был сблизить римское и германское боевое оснащение и тем самым сократить технологический разрыв между римлянами и германцами31. Процесс этот был длительным и в разных областях развивался с разной скоростью. Впрочем, во всех частях Германии вооруженные силы продолжали состоять преимущественно из пехоты. Мало слышно о конных формированиях среди тех, кто в Ш в. вторгался на территорию империи, исключая не являвшихся германцами сарматов и других степных народов; и до 4-го столетия в археологических свидетельствах нет никаких признаков хоть сколько- нибудь ощутимого повышения значимости конницы. Позднее аламанны пользовались репутацией конных воителей, но это были, скорее, свиты вождей, нежели рядовые бойцы. В IV в. часто упоминается искусство верховой езды у готов, что объясняется, вероятно, их контактами с народами южнорусской степи.
Большинство германских бойцов по-прежнему шли в бой с копьями и острогами, которые являлись у них основным вооружением предыдущих пяти столетий32. Мечей, как представляется, при себе обычно не носили, хотя некоторые воины их имели, возможно, добыв такое оружие в успешной схватке с римлянами или посредством контрабандной торговли. Более распространенными мечи становятся с конца 2-го столетия. Мечи с кольцом на конце рукоятки [нем. Ringknaufschwerter) появляются в северной Германии примерно после 150 г. н. э. либо как добыча, либо как вещи, принесенные домой после службы в римской армии. Это было относительно короткое оружие, придуманное для применения при непо¬
31 Todd 1987; von Camap-Bomheim 1994.
32 Raddalz 1967.
634
Часть пятая
средственном соприкосновении с врагом, а потому для стремительной атаки оно было не очень удобно. Более длинный обоюдоострый меч (греч. ая:а07], лат. spatha), давно известный в кельтской Европе, лучше подходил для того типа боя, который предпочитали германские воины. Этот тип меча оставался главным в Северной Европе с начала Ш в. до периода миграций. К кощу 3-го столетия было уже очень трудно отличить собственно германские мечи от римских33. Короткий gladius (режущий и колющий меч) теперь уступил место длинному рубящему мечу также и в римских войсках, а в силу того, что в Ш—IV вв. очень много римских мечей попадали в северную Германию, ситуация еще более усложнилась. Значительное число этих импортов несут на себе штампы римских изготовителей и, по всей видимости, были изначально принесены сюда римскими войсками. В некоторых северных вотивных депозитариях, например, в Нидаме и в Иллерупе, римское оружие значительно превышает числом оружие германского производства. В самом деле, в Иллерупе все мечи, представленные в собрании, могут быть римскими по происхождению.
Использование доспехов не становится повсеместным в рассматриваемый период, хотя соответствующие римские импорты появляются несколько чаще. Главной защитой для германских пехотинцев продолжал оставаться деревянный или плетеный щит, часто с железной или бронзовой выпуклостью в центре щита, закрывающей рукоятку. Теперь щитовая доска чаще всего была круглой, а выпуклость — скорее куполообразной, нежели остроконечной. Иногда выпуклость могла быть тщательно орнаментирована, как выпуклости из поселения-телля Хер- пай (Herpâly) и Лилла-Харг (Швеция). В воинских захоронениях П1 в. археологи находят топоры — тяжелое оружие для ближнего боя, а не метательное наподобие позднейшей франциски (боевой топор франков. — А.З.). Имеются некоторые свидетельства о том, что лук и стрелы вошли в употребление в отдельных частях Германии именно как средство ведения войны. Большое количество стрел и длинных луков встречается в более поздних археологических комплексах, и наборы серебряных и бронзовых наконечников стрел присутствуют в богатых захоронениях, вероятно, как признак статуса. Использование дальнобойного оружия типа длинного лука очевидно и понятно, особенно против хорошо защищенных римских войск. Удивительно, но нет никаких ясных указаний на то, что в это время германскими воинами был усвоен короткий составной лук, применявшийся сарматами и другими степными народами.
Захватчики Ш в. испытывали мало желания осаждать защищенные стенами города, и в течение следующего столетия искусство осадной войны почти не достигло никакого прогресса. Лишь изредка мы слышим об организованных попытках прорыва, с использованием осадных машин, хорошо укрепленного контура стен. Но в тех случаях, когда мы всё же об этом слышим, успех германцев неизменно ограничен. Постройка и раз-
33 Hkjaer, Lmstrup 1983.
Глава 13. Германские племена и германское общество
635
вертывание осадных машин готами при Фессалонике в 269 г. и при Сиде около того же времени не принесли успеха, главным образом в силу того, что оборонявшиеся прибегли к хорошо продуманным мерам противодействия. Нападавшим на Галлию и Испанию удавалось брать крупные поселения и города этих провинций, поскольку многие из них не имели адекватных либо вообще никаких оборонительных сооружений. Говоря в целом, варварские атаки на укрепленные стенами города, укомплектованные стойкими защитниками, были обречены на провал. И дело здесь не только в отсутствии у осаждавших необходимых инженерных кадров. Группировки вооруженных варваров редко могли сохранять единство в течение времени, достаточного для завершения осады, которая могла длиться неделями или месяцами, но даже если она всё же завершалась, для последующего разграбления оставалось весьма немного. В провинциях имелись более доступные и более продуктивные цели, и простых воинов нелегко было убедить в том, что осада стоит усилий и опасностей. Даже при широкомасштабных нашествиях IV—V вв. германские вожди неохотно поручали своим войскам приступать к долгосрочной осаде, исключая случаи, где на кону стоял какой-то политический приз или где деморализованные горожане могли быть сломлены даже кратковременной блокадой.
С точки зрения тактики, военное дело германцев, по всей видимости, мало изменилось в течение Ш—IV вв. Но было бы ошибкой думать, что в этом отношении не было вообще никаких успехов. Боевая оснастка определенно улучшилась, и доступ к римскому оружию, каким бы образом они его ни получали, придал вооружениям варваров новое измерение. Стратегические цели германцев, как представляется, стали более амбициозными, поскольку успешные действия против римских границ случались всё чаще. Прорывы на Рейне и на Нижнем Дунае в середине и конце Ш в. были показательными достижениями, и недооценивать их нельзя. Помимо самых непосредственных результатов, данные успехи породили у варваров понимание того, на что они были способны как в отношении прямых военных целей, так и в завоевании признания у римлян себя в качестве потенциальных союзников или поборников. Этот тип отношений начал выдвигаться на первый план с конца 3-го столетия и со времени царствования Константина превратился в магистральную тему.
IV. Торговля и технология
Торговля и иные формы обмена между римскими провинциями и германскими народами в конце П в. и на протяжении всего Ш в. продолжали осуществляться не ослабевая, хотя и со значительным изменением ассортимента обмениваемых товаров и общей модели торговли34.
34 Kunow 1983; Lund Hansen 1987.
636
Часть пятая
Начали преобладать бронзовые ковши хемморского типа и другая металлическая продукция галльских предприятий наряду со стеклянными изделиями из Кёльна и северной Галлии, а также с terra sigillata3421 из восточной Галлии. Конец П в. отмечает собой водораздел в торговых отношениях между германцами и римским миром. С этого времени производственные центры в западных провинциях играли уже всё более заметную роль, а значение тех, которые находились в дунайских областях и центральном Средиземноморье, соответственно, уменьшалось. Распределение торговых товаров в Германии также подверглось заметному изменению. В ряде регионов поток импорта значительно сократился или даже полностью прервался. Это верно и в отношении крупных областей центральной Германии в первой половине Ш в. Даже Дания и западные балтийские острова, одни из самых важных пунктов назначения для предметов роскоши в I—П вв., получали значительно меньше импортных товаров. На исходе 3-го столетия, по всей видимости, под давлением изменившихся политических обстоятельств, поток торговых товаров еще более истощился. Значительно сократился не только объем импорта, но сильно обеднел ассортимент предметов потребления, прежде всего металлических и стеклянных.
Хотя бурные пертурбации Ш в. сказались на трансграничной торговле, земли вокруг западной части Балтийского моря сохранили свое положение главного получателя предметов роскоши. В данном отношении особым статусом пользовался остров Зеландия и, вероятно, он служил главным центром распределения для смежных областей. Самые богатые северные Fürstengräben (княжеские гробницы) рассматриваемого периода были найдены на Зеландии (Валлёбю, Химлингхёе и Варпелев), и в целом общее качество импортной продукции здесь выдающееся. В конце Ш в. Ютландия и остров Фин выдвинулись на первый план в качестве торговых баз. Та зона на Фине, центром которой был Гудме, как выясняется, примерно в это же время начала использоваться как торговый порт и распределительный центр35. Из римских провинций продолжали поступать в Германию более мелкие вещи, как и предметы роскоши: броши и другие личные украшения, кольца, бронзовые статуэтки, зеркала и бусы. Характер организации этого трафика, на всех уровнях, остается неуловимым. Весьма вероятно, что коллегии (collegia) или общества (conventus) римских торговцев (negotiatores) могли быть резидентами в Германии, хотя это прямо не засвидетельствовано. Позднее, на исходе I в., один легион- ный центурион и толмач (некий Атилий Прим) обратился к коммерческой деятельности по ту сторону Среднего Дуная — и в этом он определенно был не одинок36. Концентрацию утонченных товаров на острове Зеландия проще всего объяснять активностью римских агентов, хотя, очевидно, без связей с германскими торговцами или тамошними посредника-
34а Terra sigillata — керамика, изготавливавшаяся из красно-бурой глины и часто украшавшаяся рельефным орнаментом. — А.З.
35 Nielsen, Randsborg, Thrane 1994.
36 Kolnik 1978.
Глава 13. Германские племена и германское общество
637
ми обойтись было невозможно. Хотя ни одним источником местные торговцы не зафиксированы, разумно предположить их существование. Механизмы транспортировки вещей по Германии неизвестны. Археологи склонны акцентировать внимание на сухопутных маршрутах, с большей или меньшей степенью убедительности, но немалая доля торговых грузов могла перемещаться по морю из устья Рейна к северному побережью и оттуда по основным рекам вглубь страны.
Товары, поступавшие из Германии в римский мир, давно уже превратились в предмет споров, при этом лишь немногим из них уделяется специальное внимание в античных источниках. Самым прославленным является янтарь с западной части Балтийского моря и его восточного побережья, точнее — с полуострова Самбия37. Часто высказывается предположение, что торговля янтарем пала жертвой Маркоманнских войн, поскольку основные пути, ведущие к Дунаю, были разорваны долгими кампаниями. Впрочем, имеется обилие свидетельств о том, что в 3-м столетии перевозка товаров не прекращалась, хотя и по иным маршрутам. Освященные временем пути, которые вели из Балтики через бассейн Вислы и Богемское нагорье к Карнунту на Дунае и отсюда в Италию, более уже не являлись самыми предпочтительными торговыми артериями, возможно, по той причине, что на протяжении П в. популярность янтарных украшений неуклонно угасала. Но в Ш — начале IV в. янтарь-сырец по-прежнему доходил до северо-западных провинций; вероятным центром обработки этого материала был Кёльн. Этот добытый янтарь происходил, скорее всего, из западной Балтики, нежели из богатых отложений, разрабатывавшихся на полуострове Самбия, но восточные источники этого сырья отнюдь не были исчерпаны и не игнорировались, поскольку определенный экспорт продолжал поступать к сарматам в бассейне Тисы, часто в форме бус. Торговля в западном направлении, к Нижнему Рейну, особенно интересна, так как в это время данный регион отправлял много товаров в западную Балтику, прежде всего сосуды и стеклянные изделия.
Механизмы коммерции и обмена охватывали далеко не все вещи, пересекавшие границы в сторону Barbaricum (чужбина, заграница). Высокая, хотя и не поддающаяся подсчету, доля предметов роскоши (прежде всего утонченные серебряные сосуды, но также, возможно, изделия из бронзы и стекла) должна была поступать германским вождям и их приближенным в качестве подарков от легатов и других официальных лиц. Такие дары давно уже составляли часть арсенала римской дипломатии, необходимость в каковой в 3-м столетии оказалась значительно выше, чем когда бы то ни было прежде. Отдельные находки редко можно объяснить с полной уверенностью именно как результат торговли, а не обмена дарами; такой обмен должен был дополнять те аспекты, в каких эти экзотические материалы воспринимались и как они вписывались в тогдашнюю социоэкономическую обстановку. То же можно сказать и о находках римских золотых и серебряных монет в Германии.
37 Wielowiejski 1975.
638
Часть пятая
Монеты из благородных металлов, прежде всего денарии, продолжали поступать в Германию; они встречаются в кладах, вотивных скоплениях, в могилах и, гораздо реже, как единичные находки на поселенческих памятниках38. Очевидно, что поток золотых и серебряных монет доходил лишь до ограниченной социальной группы, и большинство их оседало внутри этого социального слоя. Основная масса зафиксированных денариев — это монеты императоров до Коммода, но данные многих археологических контекстов показывают, что монеты П в. продолжали использоваться на протяжении всего следующего столетия и даже намного позднее (на что ясно указывает гробница Хилдерика, умершего в 482 г.). Как и в случае с утонченными изделиями из металла, некоторые области притягивали к себе больше монет, чем другие. Остров Зеландия вновь занимал передовые позиции, хотя в IV в. более заметным в этом отношении становился Борнхольм. Готланд дал около 6 тыс. денариев из разных находок, хотя значительная их часть оказалась на острове в IV в. либо позднее. Ауреи встречаются гораздо реже, но до 400 г. их распределение по областям более равномерно. После этой даты начался большой приток золота на острова Готланд, Оланд и Борнхольм, и в значительной своей части это, вероятно, были платежи восточных императоров варварским вождям. Клады середины Ш в. встречаются по всей центральной Германии, и они ясно свидетельствуют о тревогах этого периода39. Ряд золотых кладов 255—275 гг. включают монеты, выпущенные галльскими императорами в Кёльне и Трире; эти деньги могут представлять собой выплаты германским воинам, находившимся на службе Галльской империи.
Присутствие такого большого количества благородного металла, отчеканенного по стандартному весу, как представляется, стимулировало усвоение северными германскими народами в Ш в. системы весов. Вес золотых шейных колец и других украшений, как кажется, следовал стандарту, близкому тому, который был принят в римском мире. В то же время в археологических отчетах фиксируются находки весовых чаш, и это предполагает, что вес отдельных объектов, включая монеты, был предметом общей заботы.
Принимая во внимание нараставший во П в. приток золота и серебра в Германию (при том что оба металла очень редки в природных запасах Центральной и Северной Европы), не вызывает удивления, что начиная с данного времени обработка этих металлов делала большие успехи. В художественном плане значительную роль, как представляется, играли ремесленники из северных земель и областей вокруг западной части Балтийского моря40. Давно утверждается, что «готские» влияния, исходившие из региона Черного моря/Нижнего Дуная, оказали определяющее влияние на развитие новых техник и стилей орнамента. Совершенно очевидно, что это объяснение сложного культурного феномена чересчур упрощенческое. Многие аспекты в эволюции дизайна указывают на ком-
38 Lund Hansen 1987; Lind 1988.
39 Laser 1980; Bursche 1996.
40 Nylen 1968.
Глава 13. Германские племена и германское общество
639
плексное культурное наследие бассейна Среднего и Нижнего Дуная, а отнюдь не одной какой-то группы племен или одного региона41. Некоторые художественные влияния действительно уходят корнями в Северное Причерноморье, другие были выработаны в римских приграничных провинциях. Быстрота, с которой новые стили орнамента, новые техники и новые ремесленные приемы распространялись на огромные расстояния, является поразительной. Великолепное золотое шейное кольцо, найденное в Хаворе на Готланде, является самым ранним хорошо датированным золотым украшением большого размера, до сих пор известным для германского севера. Датируемое П в., оно имеет близкие аналогии с вещами из южной России и вполне могло быть изготовлено именно там. Обмен дарами на высшем уровне, возможно, послужил причиной того, что этот роскошный объект оказался в конечном итоге в погребении на Готланде, наряду с шестью импортированными римскими бронзовыми сосудами. Вскоре за хаворским ожерельем последовали и другие золотые украшения, и их количество значительно выросло, когда в 3-м столетии золото стало более доступным.
Скорость распространения новых ремесленных техник и новых стилей орнамента, повторимся, просто удивительна. За каких-то несколько десятилетий 200—230 гг. были заложены прочные основания новой традиции обработки золота. Из римских провинций шли определенные влияния, которые требуют дополнительного пояснения. Декоративные фризы на ковшах хемморского типа, безусловно, вызвали появление имитаций; они представляли целый ряд анималистических форм, которые позволяли создавать бесконечные вариации. Одна из наиболее продуктивных разработок Ш в. предполагала использование фольги из золота и позолоченного серебра, часто поверх чеканного орнамента. Такая фольга применялась в изготовлении разных объектов — кубков, декоративных дисков и брошей. Два серебряных кубка из зеландского Химлингхёе, с фризами с изображением напряженных в скором беге животных и человеческих фигур, а также фалера (металлическая бляха) из Торсбьёрга с представленной на ней процессией морских тварей и оленей служат примерами новых тенденций начала Ш в. Другое новшество рассматриваемого периода — использование цветных камней, вставленных в золото и серебро, — должно было иметь долгосрочное влияние на германский дизайн. Золотые и серебряные броши, инкрустированные полудрагоценными и самоцветными камнями, появляются в богатых захоронениях с середины Ш в., определяя моду на следующие столетия. Брошь из Аарслева, что на острове Фин, сочетает вставки из граната с золотой филигранью, а более поздние могилы в Хааслебене содержат ранние примеры использования граната в золотых и серебряных предметах. Источник вдохновения для таких видов дизайна не следует искать только в «готских» регионах Северного Причерноморья и Крыма. Дело в том, что в это же самое время римские ювелирные украшения также испытывали тенденцию к бо-
41 Nylen 1968.
640
Часть пятая
лее витиеватому стилю, в котором широко использовались вставки из камней.
Еще одним новшеством, которое имело далекоидущие последствия для германского искусства, было возросшее применение мотивов с фигурами, как животных, так и человеческих. К самым ранним германским объектам, обнаруживающим этот тренд, относится щитовая выпуклость из листового серебра из Херпай (Венгрия) с ее фантастическими существами. Одна из римских фалер из Торсбьёрга украшена фигурами животных, добавленными на внешней зоне диска к классическому дизайну каким-то германским мастером42. Животные и человеческие фигуры начинают появляться и на более обычных предметах — на мелкой бронзе, керамической посуде и т. п. Излюбленными мотивами были олени, вепри и быки, причем олени зачастую изображались в быстром движении и с головами, повернутыми назад. До IV века человеческие фигуры оставались относительно редкими, а затем возобладала тенденция изображать их в стилизованной форме.
Одним из наиболее интересных культурных новшеств конца П в., насколько об этом до сих пор можно судить, стали руны43. Самые ранние рунические знаки появляются примерно после 150 г. н. э. на предметах вооружения, прежде всего на наконечниках копий, щитовых умбонах, а также на крупных брошах и гребнях. Ранние рунические надписи очень краткие: они передавали имя собственника или дарителя предмета либо эпитет, считавшийся подходящим для этой функции. Многие рунические знаки интерпретировать не удается, так что остается лишь высказать догадку о том, что обычно они представляли собой заклинания, имевшие цель повысить эффективность оружия или уберечь его хозяина. Каждый из двадцати четырех основных знаков в руническом алфавите (futhorc) имел собственное особенное значение, часто символическое по происхождению, как, например, руна для зубров, обозначающая силу, или руна для березы, символизировавшая плодородие. Самые ранние рунические надписи найдены на островах западной Балтики и в южной Скандинавии. В конечном итоге знаки, как выясняется, были выведены из буквенных форм северной Италии, но как они попали на север, до сих пор невозможно объяснить удовлетворительным образом. Использование знаков на тленных материалах, таких как дерево, весьма вероятно; маркировка особыми знаками прутьев, использовавшихся в гаданиях, была известна Тациту. Но удивительно, что до конца П в. ни одна одиночная руна не передана ни на одном объекте. С той поры и вплоть до IV в. большая часть рун оказалась сконцентрирована в западных землях Балтики. До V в. очень немного рун зафиксировано для регионов, населявшихся готами, франками, аламаннами и вандалами.
Очевидно также неуклонное возрастание компетенции в деле производства железных инструментов и оружия. Железо было намного более
42 Werner 1941.
43 Krause, Jankuhn 1966. (Руны — вырезавшиеся на дереве, камне и т. д. буквы алфавита, применявшегося скандинавскими и другими германскими народами. — A3.)
Глава 13. Германские племена и германское общество
641
доступным для германских народов, нежели то думали — или предпочитали сообщать — римские писатели; также и использование металла было гораздо более эффективным, чем то можно вывести из письменных источников44. Крупномасштабная добыча железной руды засвидетельствована в нескольких частях Германии, причем наиболее важными центрами были холмы Лиза-Гора в Польше, Силезия, Богемия, Словакия, Моравия, Рур и долины Липпе, а также Шлезвиг-Гольштейн. Железные запасы в Лиза-Гора были особенно богаты; здесь предпринимались усилия по добыче руды с помощью пгголен и штреков. Из того же самого региона происходят свидетельства по плавке железа в больших объемах, в некоторых местах обнаруживаются многочисленные горны. Масштаб этого предприятия в Ш и IV вв. был таков, что возникает вопрос: вся ли металлическая продукция предназначалась для использования в Германии или же ее часть отправлялась в римские провинции на Дунае? Выразительные, хотя и менее обширные, свидетельства о металлообработке происходят из Шлезвиг-Гольштейна, Ютландии, Богемии и Моравии, с явной тенденцией к росту продукции начиная с конца II в. В настоящее время социальные основы этой ключевой индустриальной активности поняты очень плохо. Весьма вероятно, что вожди и другие землевладельцы контролировали значительную часть добычи железа и изделий из него, но они вряд ли могли осуществлять властные полномочия в строгом смысле этого слова над столь широко распространенной деятельностью. Процессы выплавки и ковки явным образом предполагают определенную меру специализации, однако механизмы организации и дистрибуции нам совершенно не известны. Централизованные предприятия в Лиза- Гора и в Силезии, по всей видимости, отправляли по давно устоявшимся торговым маршрутам уже готовое железо либо в форме криц (заготовок), либо в виде необработанных отливок. Статус кузнецов по железу тщательно определялся в позднейших германских правовых сборниках (варварских правдах), и есть все основания полагать, что эти ремесленники находились на сравнительно высокой ступени германского социума. Однако имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют ответить на вопрос, насколько самостоятельными в своей работе они были по отношению к своим вождям-покровителям или другим господам. Впрочем, наличие в ряде областей Германии захоронений кузнецов, в погребальном инвентаре которых обнаружены специальные инструменты наряду с экипировкой воина, наводит на мысль об известной независимости этих кузнецов, а также о признаваемом за ними особом и уважаемом социальном статусе.
В рассматриваемый период развитие получили и многие другие ремесла. Деревообработка засвидетельствована не только находками инструментов, таких как стамески, шила, тесла, топоры, буравы, рубанки и колотушки, но — что еще удивительнее — остатками крупных и претенциозных деревянных сооружений, включая длинные дома, погребальные срубы, резервуары для воды, колодцы и штольни. Сохранившиеся над
Pleiner 1964.
642
Часть пятая
своими фундаментами части жилищ на таких памятниках, как Феддер- сен-Вьерде и Эзинге, свидетельствуют о высоком стандарте деревянных зданий. Такую оценку следует распространить и на несохранившиеся кровельные конструкции, которые требовали хороших навыков в плотницком деле и отличного владения строительными приемами. В крупных постройках использовались различные формы сочленений, включая соединение в косой накладной замок (внапуск), скрепление с помощью шипа и паза, а также шпунта и гребня. В северных регионах в ходу был столярный станок, о чем свидетельствуют сохранившаяся тонкостенная деревянная посуда. В Феддерсен-Вьерде мусор от столярных работ указывает на присутствие здесь опытного столяра. Сложные работы по дереву требовались также при строительстве мореходных судов, хотя в археологических отчетах по Шв. таковые пока еще не представлены. Судно из Халс- нёю в Норвегии — это простая лодка, и только к 4-му столетию относится первое сохранившееся гребное судно, годное к морскому плаванию и способное перевозить участников набегов или переселенцев в северных водах, — корабль из Нюдама. Но даже эта нюдамская ладья, как представляется, больше подходила для отличающейся низкими приливами Балтики, нежели для Северного моря. Поздние римские источники сообщают о варварах, использовавших корабли с парусами, но археологически пока ни одно из таких судов с определенностью не зафиксировано.
С конца П в. надежно засвидетельствованы культовые места нескольких типов; некоторые из них продолжали использоваться вплоть до 4-го или даже 5-го столетия. Самыми известными и богатыми материалом являются крупные отложения священных подношений (вотивных даров) в торфяных болотах Дании и северной Германии, хотя и другие памятники вполне могли иметь большое значение для их собственной округи. Относительно недавнее изучение вотивных отложений в Иллепуре и в Айсбёле (оба — в северной Дании) позволило лучше понять некоторые моменты, касающиеся данного вида находок, нежели то позволял сделать новаторский труд датского археолога Конрада Энгельхардта (1825—1881), вышедший в 1869 г. Впрочем, и сейчас сохраняется большое количество трудностей в деле интерпретации этого материала, которым исследователь не придал значения.
Торсбьёргское отложение (или отложения)45 близ Шлезвига активно изучается, хотя по-прежнему ведутся яростные споры по поводу истории возникновения этого материала. В Ш в. ранние отложения керамики и, вероятно, приношений из тленных материалов уступили место крупному скоплению военных принадлежностей, включая мечи и ножны, копья и пики, ножи, щиты, конскую сбрую, а также украшения, такие, например, как легкоузнаваемые римские декорированные фалеры. Данный материал, судя по всему, являлся священным даром одновременно многих победителей в какой-то удачной схватке. Одной из интересных особенностей торсбьёргского собрания является то, что оно включает большое чис-
45 Raddatz 1967.
Глава 13. Германские племена и германское общество
643
ло брошей, не свойственных для зоны Торсбьёрга, а происходят они из региона между Нижней Эльбой и Рейном. Это может указывать на родину разбитого войска, но не объясняет присутствие римского материала.
Понимание торсбьёргской находки как такой, в которой преобладают вещи, поднесенные одномоментно, согласуется с результатами недавнего исследования отложения вотивных предметов в водах Иллерупа, близ Орхуса (город и порт в Дании)46. Огромное количество оружия и иного воинского снаряжения широко залегало здесь на дне озера, на площади 400 X 325 м, и могло быть помещено туда около 200 г. н. э. Было обнаружено более 10 тыс. предметов, представлявших собой снаряжение нескольких сотен воинов. Пожертвовано оказалось свыше сотни мечей; более половины из них имели клейма, указывающие на римское производство. Похоже, большинство мечей, если только не все, также были римскими по происхождению. В Иллерупе, как и в Торсбьёрге, акт посвящения был осуществлен одномоментно, вероятно, после успешной битвы, в которой широко использовалось римское вооружение.
Примерно к одному времени с торсбьёргским и иллерупским относится и вотивное собрание у Вимозе, которое также включает римское оружие, целую кольчугу, броши и инструменты47. Эти три собрания заставляют думать о каком-то бурном периоде на севере в начале Ш в., когда конкурирующие группировки из западной Балтики и из региона Эльбы — Везера то и дело вступали в рукопашные схватки. Общий исторический контекст, а именно период формирования новых племенных групп, является очень вероятным временем для серьезных военных столкновений.
Огромное количество более мелких культовых мест известно для северной Германии, многие из которых находились в торфяных болотах, на дне небольших озер, источников и рек. Трудно оценить их значение в подробностях, но очевиден акцент на культах плодородия. В ряде этих святилищ были установлены деревянные, с грубыми антропоморфными чертами, идолы, причем некоторые, самые крупные, как, например, идол из Браака в Гольштейне, были высотой до трех метров. Иногда эти идолы встречаются парами — мужская фигура и женская. Святилища на сухих местах засвидетельствованы не так часто, и шансы их сохранения и обнаружения значительно более слабые. Как и у более ранних кельтских народов, здесь также существовало благоговение перед священными деревьями и рощами, которым полагались жертвоприношения; среди этих последних могли быть военнопленные и другие воинские трофеи. Культовые шахты и ямы — еще одна черта, общая с кельтской практикой. Определенную роль в культе играли человеческие жертвоприношения, но оценить их частоту и значение непросто. Такими священными жертвами могло быть некоторое число человеческих костяков48, обнаруженных в торфяниках, но с определенностью доказать это получается редко. Помимо костяков в болотах, человеческие останки встречаются в тече¬
46 Hkjaer and Lanstnip 1983.
48 Dieck 1965; Glob 1969.
47 Engelhardt 1869.
644
Часть пятая
ние всего железного века в легкоузнаваемых вотивных скоплениях, зачастую вместе с животными останками, оружием и инструментами.
Десятилетия, последовавшие за Маркоманнскими войнами, ясно свидетельствуют о продуктивных переменах в социальной и политической структурах германских народов. Появлялись новые группировки, которые в сравнении с племенами были больше, но до ранних государств не дотягивали. Взаимодействие с римским миром сделало свое дело, и данный процесс, однажды начавшись, мог продолжаться на протяжении двух последующих столетий. Вблизи римских рубежей начали образовываться общества, которые не были ни римлянами, ни варварами, и им предстояло сыграть собственную роль в позднейшей трансформации Запада. Римляне и варвары всё больше сближались в своих запутанных взаимоотношениях, что способствовало формированию необходимых условий для завершающей стадии римского господства в Западной Европе.
Глава 14
P.-Н. Фрай
САСАНИДЫ
I. Введение
Обстоятельства последних лет парфянского правления и возвышения Сасанидов известны очень плохо по причине скудости и противоречивости информации наших источников1 * * * * об. К сожалению, история стран, рас¬
1 Основными источниками по ранней сасанидской истории являются: на греческом языке — Агафий, Дион Кассий, Малала; на латинском языке — Аммиан Марцеллин, «Сочинители истории Августов» (SHA); на арабском языке — ат-Табари, ас-Саалиби (аль- Таалиби), «Гурар аль-хикам» (изречения имама Али ибн Абу Талиба), «Тарих» («История») арабского историка и путешественника Якуби, Ибн Кутайба, Абу Ханифа ад-Динавари, аль-Масуди; на персидском языке: Фирдоуси, Абу Али Балами, «Фарснаме» Ибн аль- Балхи; на армянском языке — Агафангел, Мовсес Хоренади (иначе: Моисей Хоренский); на сирийском языке — «Одесская хроника», «Арбельская хроника», Илия из Нисибиды, Михаил Сириец, жития-мартирии. Надписи Шапура (на греческом, парфянском и среднеперсидском) и Нарсе (на парфянском и среднеперсидском) являются первичными источниками, тогда как все литературные свидетельства и фрагментарны, и, временами, противоречивы. Укажем издания и переводы отдельных текстов:
Сасанидские надписи см. в изд.: Back 1978; к нему следует добавить: Humbach,
Skjaervo. Paikuli (vol. Ш.1 — текст и английский перевод; Ш.2 — комментарий). «Res Gestae Divi Saporis» (SKZ) — переиздано в «Corpus Inscriptionum Iranicarum», Ш.1.1 (Huyse. SKZ —
в двух томах, включая немецкий перевод). Написанный на среднеперсидском языке «Кар-
намак» («Книга деяний») Ардашира (Antiâ 1900) представляет собой романтический рассказ
об основателе династии и по степени достоверности сравним с сочинением Ксенофонта о Кире. Перевод среднеперсидских географических названий см. в изд.: Markwart 1931.
Классические труды опубликованы в Тойбнеровской и Лёбовской сериях, а также во «Fragmenta Historicorum Graecorum» (FHG) и включают следующих авторов: Дион Кассий, Геродиан, Дексипп (FGrH П.А, Nq 100), а по поводу войн между римлянами и персами — так называемую «Требелия Полиона» о Валериане и другие биографии из «Истории Августов» (SHA).
К позднейшим (и менее детализированным) источникам относятся: «О погибели гонителей» (CSEL XXVII) Лактанция, «Хроника» Евсевия (Helm 1984) и его же «Церковная история», Аврелий Виктор, а также Петр Патрикий (FHG IV. 184—189). Агафий (Key- dell 1967), также поздний автор, сообщает сведения о ранних Сасанидах. Более поздние классические писатели, такие как Аммиан Марцеллин и византийские историки, касаются Дальнейшей сасанидской истории.
Все переводные армянские источники являются поздними, но содержат некоторые сообщения о ранних Сасанидах; это Агафангел (Thomson 1976 [рус. перев.: Агатан- гелос. История Армении (Пер. с древнеарм., вступ. статья и комментарий К.С. Тер-Дав-
646
Часть пятая
положенных к востоку от Римской империи, во П в. н. э. особенно темна, несмотря на то, что по сравнению с прошлым это было время великих перемен. Например, если говорить только о круге местных письменных источников, то мы располагаем надписями от среднего парфянского периода, датируемыми I в. н. э., из Нисы (современный Туркменистан) и из Авромана (в Курдистане), язык которых характеризуется как испорченный арамейский, причем в 3-м столетии язык парфянских версий надписей о ранних сасанидских правителях может быть охарактеризован только как парфянский. Это свидетельствует об отказе следовать старым традициям в новом мире, на что в еще большей степени указывает переход от «феодального» Парфянского государства к централизованной Сасанид- ской империи. Кроме того, положение зороастризма при парфянах как плохо организованном сообществе жрецов резко контрастирует с иерархически устроенной государственной церковью при Сасанидах. Коротко говоря, поздний парфянский период может быть грубо охарактеризован как время полунезависимых княжеств, многообразных форм религиозных проявлений и процветавших [относительно самостоятельных] торговых центров, таких как Петра, Пальмира, Хатра и Спасину Харакс (столица царства Харакены), стоявших на караванных путях, которые вели к Персидскому заливу и в Индию. Иное дело — Сасанидская держава. Она имела уже централизованный двор и бюрократию с религиозно-политической организацией, существовавшей параллельно с государственной иерархией; а торговые центры, в особенности «караванные города», как их называл М.И. Ростовцев, были разрушены или включены либо в Римскую, либо в Сасанидскую империю.
Впрочем, в 193 г. римляне полагали, что они имеют дело только лишь со слабым Парфянским государством, чьи вассальные царства обладали почти той же силой, что и сами парфяне, а временами и превосходили их могуществом. Армения была извечным источником конфликтов между двумя великими державами, но внутренние войны между соперничавшими за трон Августа претендентами создавали для римлян боль-
тян и С.С. Аревшатяна. Ереван: Наири, 2004). — Мовсес Хоренаци (Thomson 1978). Фавстос Бузанд передает некоторые подробности, но это ненадежный автор (Langlois 1867— 1869).
Переводные сирийские источники: «Арбельскаяхроника» (Sachau 1915) содержит свидетельства о возвышении Сасанидов, отсутствующие в других источниках, однако высказываются подозрения, что это подделка. «Жития христианских мучеников» [лат. «Acta Martyrum») также содержат материал, более не встречающийся нигде; ср.: Hoffmann 1880; Braun 1915.
Арабские и персидские источники: история Табари — это первичный источник, на который опирались позднейшие авторы (перевод: Nöldeke 1879). Другие источники по разным вопросам можно найти в указанных далее вторичных сочинениях. Выборочные тексты в английском переводе о римско-иранских войнах рассматриваемого периода можно найти в изд.: Dodgeon, Lieu. Eastern Frontier, ср. французские переводы: Gagé 1964.
Вторичные источники: Christensen 1944 — эталонный труд; см. также: Frye. Iran (HAW Ш.7); Yarshater. CHI Ш. В этих томах можно найти более подробную библиографию.
Карта 6. Сасанидская держава
648
Часть пятая
ше проблем, чем соответствующие коллизии между парфянскими претендентами на трон Аршакидов. Сирийская пустыня представляла собой настоящий барьер между римским и парфянским владениями, но на севере зона между верховьями Тигра и Евфрата оставалась театром боевых действий, и продвижение вперед и отодвигание границ во П—Ш вв. доминируют в известной нам истории взаимоотношений этих двух государств. Чтобы лучше понять эти отношения, следует задаться вопросом, что же происходило на римском востоке в последние тридцать лет парфянского правления.
При взгляде с востока экспансия Римской империи, осуществлявшаяся путем присоединения союзных или клиентских царств, воспринималась народами, которые еще не оказались под римским контролем, как неизменно сохранявшаяся угроза их независимости. В 106 г. Набатейское царство было включено в римскую провинцию Аравия, что последовало за Траяновыми завоеваниями на востоке и формированием нескольких новых провинций, включая Месопотамию. Эта вновь организованные провинции и границы, как представляется, имели беспокойную историю и разные судьбы вплоть до Септимия Севера. Наличие про- и антиримских группировок в городах римского востока засвидетельствовано классическими источниками, и те, кто тяготился римским господством, часто обращались за поддержкой к парфянам. Впрочем, в конце П в. эта последние не контролировали все свои провинции и зависимые царства, и захват в 197 г. Ктесифонта, их столицы, Септимием Севером предвещал недоброе врагам Рима. Но появление новой силы в провинции Фарс (античная Персида) изменило баланс сил, и римляне столкнулись с непредвиденными и дополнительными проблемами на своих восточных рубежах. Основная опасность исходила от деятельного правителя с явными экспансионистскими намерениями, Ардашира, сына Папака, местного властителя провинции Персида (иначе: Фарс).
II. Ранние Сасаниды
Выход на сцену Сасанидов документирован лучше, чем последующая история, и всё же о происхождении Ардашира существуют противоречивые версии. Местная, персидская, традиция, как она представлена в нескольких источниках — в среднеперсидской книге под названием «Карна- мак» («Книга деяний Ардашира, сына Папака»), в относящейся к XI в. поэме Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей»), в грубой адаптации интересующей нас истории у Агафия — называет супругом дочери Папака, матери Ардашира, и реальным отцом последнего Сасана, по имени которого и была названа вся династия. Когда мы обращаемся к «Res Gestae» Шапура, сына и преемника Ардашира, надписи на трех языках, среднеперсидском, парфянском и греческом, находящейся на древней каменной постройке в форме башни в Накш-и-Рустаме, которая ныне называется Каабой Зороастра, мы находим имена Папака, Ардашира и Шапура
Глава 14. Сасаниды
649
упоминаемыми друг за другом вместе с их важными придворными, при этом Сасан появляется только с титулом «господин», тогда как Папак назван «шахом» (= царем), а Ардашир и его сын носят титул «шахиншаха» («шах шахов», «царь царей»). Отличие между этими двумя последними правителями состоит лишь в том, что Ардашир назван шахиншахом Ирана, тогда как Шапур владел «Ираном и Неираном». Это указывает на последовательное укрепление власти и подвластных территорий от одного правителя к другому, но Сасан упомянут отдельно, причем не в качестве отца Папака, как это было в арабской истории ат-Табари. Лишь в данном произведении, а также в более поздних источниках, которые копируют историю ат-Табари, мы обнаруживаем упоминание Сасана как отца Папака. Обычно предполагается, что Сасан был эпонимным предком династии, но тогда мы должны как-то объяснить необычный рассказ о том, что он был женат на дочери Папака и являлся отцом Ардашира. Как представляется, не существовало никакого пропагандистского основания для изобретения этого рассказа, и само его появление, несомненно, представляет собой загадку. Одно из возможных решений, впрочем, состоит в том, что настоящим отцом Ардашира был и в самом деле Сасан, но он умер, когда тот был еще ребенком, поэтому Папак усыновил Ар- дашира и стал для него легальным, а не натуральным отцом. Другой источник, представляющий собой текст на среднеперсидском языке под названием «Бундахишн» (гл. 35), утверждает, что Сасан был тестем Папака, что, возможно, больше соответствует информации об этих взаимоотношениях в надписи Шапура. В данном эпиграфическом свидетельстве матерью Ардашира названа Рудак, а матерью Шапура — Мирдут, тогда как Динак, «шахиня шахинь», предстает дочерью Папака, а значит, сестрой Ардашира и, возможно, его супругой — в соответствии с зороастрийской практикой близкородственных браков. Как бы то ни было, существует проблема происхождения Ардашира и его отношения к Сасану; открытым остается и вопрос, был ли Ардашир кровным сыном Папака или только усыновленным.
У ат-Табари и в тех источниках, которые ему следуют, как и в надписи Нарсеса (Нарсе) из Пайкули, некий сын Папака по имени Шапур упоминается в качестве его преемника. Далее ат-Табари говорит, что Ардашир восстал против Шапура, по причине чего последний двинулся с войском против него, но погиб в результате несчастного случая, по-видимому, на развалинах Персеполя. К сожалению, контекст надписи Пайкули, в которой появляется шах Шапур, неясен из-за длинной лакуны. Можно предположить, что Нарсес в этой надписи стремился уподобить свое наследование трона наследованию своего деда Ардашира. Аналогично тому, как последний был преемником Шапура, Нарсес мог претендовать на то, чтобы быть наследником Ормизда-Ардашира, тогда как в действительности таким наследником был Вахран I. В противном случае у Нарсеса не было никаких очевидных резонов упоминать в своей надписи шаха Шапура, сына Папака, в особенности же потому, что ни одна другая надпись его не упоминает. Взаимоотношения между ранними Сасанидами — Саса- ном, Папаком, Шапуром и Ардапшром — остаются неясными.
650
Часть пятая
Еще одна надпись, на среднеперсидском и парфянском, сохранившаяся на одной колонне в городе Бишапуре (Фарс), датирована трояко: пятьдесят восьмым годом некой эры, ведущей отсчет, вероятно, от провозглашения независимости от парфян, каковой год соответствует сороковому году от огня Ардашира и двадцать четвертому году от огня Шапура. Выражение «от огня», по всей видимости, означает коронацию или начало первого года правления суверена, когда зажигался его царственный огонь. Согласно наиболее убедительным оценкам, это должно дать нам 224 год как датировку начала правления Ардашира, и 240 год — как начало правления Шапура. Еще одна надпись на среднеперсидском из Барм-е Дилак близ Шираза, в которой речь идет об основании храма огня, осуществленном распорядителем обрядов в частных жилищах Шапура, рассказывает, что на третьем году правления этого монарха римляне напали на персов и парфян — очевидно, имеется в виду поход императора Гордиана в 243 г. Так что в качестве даты восшествия на престол Шапура следует теперь принимать скорее 240 г., нежели одну из конфликтующих датировок в греческих, латинских или сирийских источниках, а это заставляет отнести воцарение Ардашира к 224 г. Но даже и до этой даты мы можем реконструировать некоторые предпосылки его прихода к власти в географически гомогенной провинции Фарс в южном Иране, с ее большими людскими ресурсами.
Первой столицей Ардашира в Фарсе, скорее всего, был Фирузабад (современное название), в те времена известный как Гор, хотя позднее, в правление Ардашира, город получил именование Ардашир-хваррах («Слава Ардашира»), вероятно, в честь его побед над парфянами. Сегодня руины двух дворцов и два наскальных рельефа Ардашира свидетельствуют о его привязанности к этому округлому городу и к его окрестностям. Здесь он закладывал основы собственной власти и отсюда распространял контроль над соседними правителями в Фарсе, пока не почувствовал себя достаточно сильным, чтобы бросить вызов парфянам. В первые десятилетия Ш в. Артабан (среднеперсидское «Ардаван») и Во- логез боролись друг с другом за верховенство, что, вероятно, позволило Ардаширу укрепить свою власть на юге страны с минимальным противодействием со стороны парфян или даже вообще без такого вмешательства. Так что слабость Парфянского государства, как и внутренняя борьба, дала возможность Сасанидам хорошо подготовиться к столкновению с парфянами за контроль над всем Ираном.
Как уже упоминалось, еще одним фактором, который помог Сасанидам добиться превосходства, была география провинции Фарс; от остального Ирана ее отделяли горы на севере и впадина и пустыня на востоке, а на западе и на юге земли Фарса выходили на Персидский залив. Провинция представляла собой своего рода замкнутую географическую единицу, которая к тому же располагала достаточными людскими ресурсами, чтобы дать в руки честолюбивому правителю средство для завоевания других частей Ирана, не имевших такого выгодного географического положения и такой плотности населения, как Фарс. Так как же Ар
Глава 14. Сасаниды
651
даширу удалось обрести поддержку своему плану по объединению всего Ирана под своей властью?
Реконструкции истории Ирана препятствует недостаток источников, поэтому мы можем только спекулировать на основании пропаганды, которую использовал Ардахпир для объединения поддерживавших его сил. Согласно Геродиану и другим авторам2, Ардашир провозгласил восстановление державы Ахеменидов, однако на иранской стороне это намерение нигде и никак не засвидетельствовано, так что, возможно, это могли быть всего лишь смутные воспоминания о великом прошлом, если вообще подобная идея существовала — ибо в позднейшей иранской традиции, как она зафиксирована в арабских новоперсидских книгах, нет никаких упоминаний об Ахеменидах, а имя Кира полностью забыто.
Ясно, что Ардашир должен был подчинить многих местных правителей в Фарсе, как описывает это легендарный «Карнамак» (или «Книга деяний») Ардашира, хотя в достоверности и историчности эпизодов, упомянутых в этом сочинении, можно сомневаться. Кажется, впрочем, несомненным, что Ардашир потратил более десяти лет на укрепление личной власти в Фарсе. Вероятно, только после того как он выступил против местных правителей за пределами Фарса, парфян, живших к северу от провинции, обуял гнев. Можно лишь строить предположения по поводу отношений между Артабаном и Вологезом, каждый из которых чеканил монеты, служащие единственными указателями на раздел власти и полномочий между этими двумя парфянскими правителями. Исходя из мест обнаружения монет, можно сделать вывод, что Вологез господствовал на части Месопотамии, тогда как Артабан правил в Мидии и северном Иране. Поскольку в восточных источниках нет никаких упоминаний о конфликте между Ардаширом и Вологезом, весьма вероятно, что последний был разбит Артабаном или потерял власть еще до того, как Артабан и Ардашир сошлись в бою.
Не вполне ясно, провели ли противники несколько сражений, из которых только последнее оказалось решающим, или же состоялась лишь одна битва при Ормиздагане, в которой Артабан потерпел поражение и погиб. Точное место сражения неизвестно, хотя предпринимались попытки доказать, что это место находилось в Мидии. Как бы то ни было, можно предположить, что после этого сражения Ардашир был провозглашен шахиншахом («царем царей») Ирана (так обозначен его титул в надписи), а затем состоялся обряд зажжения царского огня, возможно, в храме огня, посвященном богине Анахите в Исгахре близ руин Персеполя. Поскольку на монетах и на скальных рельефах сасанидских правителей появились характерные короны, можно предположить, что данный ритуал включал коронацию царя; для Ардашира такая церемония прошла в 224 г.
После смерти Артабана большинство парфянских крупных властителей капитулировали перед Ардаширом, хотя на местах могли проводиться какие-то силовые акции, чтобы гарантировать их лояльность. Чле¬
2 Геродиан. VI.2.2; Дион Кассий. LXXX.4.
652
Часть пятая
ны влиятельных парфянских родов, таких как Карены и Сурены, были допущены ко двору Ардашира, а члены рода Ардашира тогда же были назначены шахами различных провинций. Несмотря на свои царственные титулы, в действительности они выполняли роль наместников от лица централизованного правительства, учрежденного Ардаширом. Лишь в Армении один аршакидский правитель павшей парфянской династии сохранил независимость по отношению к Сасанидам и продолжил сопротивление им. Остается лишь строить догадки по поводу размаха противостояния установлению сасанидской гегемонии над Ираном и Месопотамией, но Ардашир за несколько лет укрепил собственную власть и оказался достаточно силен, чтобы выступить против Кушанского царства на востоке и против римлян — на западе.
Всё, что нам известно о ранних сасанидских завоеваниях на востоке, — это замечание ат-Табари о том, что царь Кушана покорился Арда- ширу, а в надписи Шапура (см.: SKZ) мы обнаруживаем Кушанское царство, «простирающееся до границ Пешавара, Согдианы и Кашгара (или Каши, совр. Шахрисабз, Узбекистан)», включенным в состав державы Шапура I, сына Ардашира. Датировки битв и подчинения Кушана неизвестны, но, поскольку мы знаем, что кушаны управляли значительной частью Индийского субконтинента, следует думать, что своего рода сасанидский сюзеренитет распространился только на западную часть Кушанского царства. Тем не менее, важно помнить, что у Сасанидов была еще и восточная граница, которая заботила их не меньше, чем западные войны с римлянами, хотя последние считались более могущественным противником.
Ардашир не только разбил местных правителей, а, в отличие от парфян, которые обычно сохраняли покоренным правителям их троны, превращая в своих клиентов или вассалов, сасанидский властитель многих сместил и назначил вместо них членов своей семьи как своих заместителей. В надписи «SKZ» упомянуты некий Ардашир, шах Мерва, еще один Ардашир — сасанидский шах Кирмана, а также третий Ардашир — шах саков; все они подчинялись Ардаширу шахиншаху («царю царей»). Принадлежали они, по-видимому, к обширному шахскому роду Сасанидов. При Шапуре двор стал более централизованным и увеличился в размерах; параллельно с государством происходила организация зороастрий- ского духовенства. Впрочем, до рассмотрения внутренних проблем Сасанидской империи любой обзор войн с Римом в Ш в. неизбежно заставляет нас помещать ее внутреннюю историю в более широкий контекст, поскольку на иранцев их западные соседи оказывали значительное влияние.
Создается впечатление, что после своих завоеваний на Иранском нагорье и на востоке Ардашир обратил всё свое внимание на римской границе, где его первыми целями стали укрепленный караванный оазис Хатра и находившийся к северу от нее город Нисибида. Датировка этой кампании точно не известна, но наиболее вероятным представляется время около 230 г. Ардатттиру не удалось захватить ни Хатру, ни Нисибиду, однако его войска совершали грабительские набеги на территории к западу от обеих. Новый римский император, молодой Александр Север, попытался
Глава 14. Сасаниды
65 3
уладить дело миром, но его предложения были отвергнуты, так что в 231 г. он повел войско на восток и в следующем году контратаковал тремя армейскими группировками: одна двинулась в Армению, еще одна — на юг по Евфрату, а та, что посередине, во главе с императором — в Сингару. Согласно Геродиану3, южная колота была разгромлена, а вся экспедиция свернута, после чего Хатра запросила и получила римский гарнизон, который расположился внутри городских стен. При новом императоре Максимине Фракийце римляне находились в обороне, и Ардашир опять вторгся на римскую территорию; в 237 и в 238 гг., соответственно, он захватил Нисибиду и Карры (иначе: Харран). В 240 г. пала и Хатра; вскоре после этого Шапур стал соправителем своему отцу. Эдесса и Дура-Евро пос, как и другие города, остались в руках римлян. Ардаширу предстояло столкновение с новым римским императором, Гордианом Ш, который начал военные действия, войдя в 242 г. в Месопотамию, где Карры, Син- гара, Нисибида и другие города вновь перешли под римскую власть. Архитектором римского успеха был префект претория Тимесифей, тесть Гордиана, но он умер то ли в результате несчастного случая, то ли от болезни; в 244 г. Гордиан вступил в бой с Шапуром при Мисихе (Массике, на среднеперсидском — тук), где также погиб (обстоятельства гибели не до конца ясны, как и в случае с Тимесифеем. —А.З.). Ему наследовал Филипп Араб, который незадолго до этого стал преемником Тимесифея в качестве префекта претория. Шапур получил 500 тыс. денариев в качестве выкупа за римских пленников, и между двумя державами был заключен мир. Место, где была одержана победа, переименовали в Перозшапур («Шапурова победа»). Ни из одного источника не следует, что римляне уступили Шапуру какие-то территории, и, скорее всего, в течение нескольких лет здесь сохранялся статус-кво.
В надписи Шапура утверждается, что, поскольку римский Цезарь солгал и поступил бесчестно по отношению к Армении, Шапур напал на империю. Датировка второй войны неясна, но к тому времени, вероятно, прошло уже почти десять лет со дня смерти Гор диана. В этот период, как мы можем предполагать, Шапур не только усилил свою державу, возможно, за счет новых завоеваний на востоке, но он еще и, что кажется весьма вероятным, сражался против армян. Несмотря на путаницу в наших источниках (в греческих и армянских, но не персидских), мы можем выстроить следующий сценарий. Хосров, царь Армении, был предательски убит, и сасанидский правитель воспользовался этим поводом, чтобы захватить Армению; точные даты этих событий неизвестны, но случиться они должны были около 251 г. Тогда Тиридат, сын погибшего царя, бежал на римскую территорию, и это могло стать поводом к войне, которым Шапур не преминул воспользоваться, чтобы оправдать свое нападение, случившееся около 252 г. Он захватил несколько городов, а затем разбил шестидесятитысячную римскую армию при Барбалиссе (Балис), расположенном к северу от большой излучины Евфрата. После этой победы
3 Геродиан. VI.2—6.
654
Часть пятая
сасанидское войско, судя по всему, разделилось на несколько частей, которые, совершая рейды из Гиераполя (Манбидж), грабили многие города. Эта кампания Шапура продолжалась, видимо, несколько лет, но последовательность событий остается во многом дискуссионной. Антиохия, римская столица на востоке, была взята Сасанидами дважды, но мы не знаем, когда именно — в 253-м (или в 256-м) и в 260-м гг., после пленения Валериана в ходе третьей кампании Шапура. Город Дура-Европос был захвачен персами в 256 г., именно в тот год, когда митрополит антиохийский Деметриан был пленен персами и поселен в Гунде-Шапуре, во вновь основанном городе в Хузистане (новый город был заселен пленными сиро-римлянами христианского исповедания. —A3.). Эти два события заставляют думать, что Антиохия была взята в 256-м, а не в 253 г., хотя нумизматические свидетельства говорят, скорее, в пользу более ранней датировки. Вообще говоря, город мог быть захвачен три раза, но мы этого не знаем.
В любом случае, это был период войн и грабежей в Сирии, Каппадокии и Киликии, а римляне находились в глубокой обороне. В надписи «SKZ», в перечне захваченных Шапуром городов, указаны маршруты, по которым следовали его армии, хотя идентификация конкретных мест остается дискуссионной. Последовательность событий во время третьей кампании Шапура также неясна, но опять же самое правдоподобное предположение состоит в том, что Шапур осаждал Эдессу и Карры, когда император Валериан с семидесятитысячным войском подошел к Эдессе. Валериан и его военачальники, вероятно, пытались вести с Шапуром переговоры о мире, но были захвачены персами и вместе с другими пленниками, попавшими к ним в руки в различных местностях, поселены в качестве узников во владениях Сасанидов. После пленения Валериана, случившегося, вероятно, в 260 г., многие города на римской территории были взяты Сасанидами, включая — в очередной раз — и Антиохию.
Беспрецедентный захват римского императора и победа Шапура над другими императорами были увековечены в пяти сохранившихся до наших дней в провинции Фарс скальных рельефах. Однако не Шапуру довелось пожать плоды своих завоеваний на западе и воспользоваться ослаблением Римской империи. Сделал это, скорее, Оденат — правитель зависимого от Рима Пальмирского государства, которому удалось расширить свои владения. Естественным образом возникает вопрос, почему масштабные завоевания Шапура не продолжились и как случилось, что местный правитель нанес поражение Сасанидам, которые смогли одержать столь резонансную победу над римлянами. Ответ, вероятно, состоит в том, что Шапур и не намеревался восстанавливать границы Ахеменидской державы (как некоторые в Римской империи могли думать), потому что, во-первых, Шапур, возможно, ничего об Ахеменидах не знал, и, во-вторых, интересовали его прежде всего добыча и пленники, а отнюдь не завоевание новых территорий. Кроме того, не следует недооценивать богатство и силу Пальмиры — последнего из «караванных городов» Ближнего Востока. Пусть даже Хатра и Харакс в Месене (Харакене) и пали жертвой двух великих империй, а вот Пальмира, оставшись без соперников, сделалась еще
Глава 14. Сасаниды
655
богаче, чем прежде. Пытался ли Оденат прийти к какой-то договоренности с Шапуром, но был отвергнут, на что намекают некоторые источники, остается неясным, но это вполне вероятно. К тому же Оденат стал защитником римских интересов, и, по всей видимости, именно он отбил Карры и Нисибиду у персов. Создается впечатление, что персы не имели особого желания даже пытаться повторить успешные кампании Шалура или же они, возможно, были целиком поглощены проблемами, связанными с восточными рубежами своего царства, хотя о внутренних саса- нидских делах нет никакой информации. Кроме того, Шапура, очевидно, не только удовлетворили кампании на западе, но и сильно утомили — к тому времени он был уже в весьма зрелом возрасте. Хотя военные действия не зафиксированы, исключать их нельзя; и всё же завершающие годы царствования Шапура, как кажется, оказались для персов относительно мирными.
Точно так же и правление Ормизд-Ардашира, сына Шапура (около 272—273 гг.), оказалось не только кратким, но, судя по всему, еще и не было отмечено никакими войнами против римлян. Восшествие на престол Ва- рахрана I было принято не всеми членами царствующего рода и сасанид- ской аристократии, ибо Нарсес после своего восшествия на трон повелел выскоблить имя Варахрана I с надписи на скальном рельефе в Биша- пуре и заменить его собственным именем. Очевидно, Нарсес считал, что именно он, а не Варахран, должен был наследовать трон, и он, по-видимому, имел сторонников в этих притязаниях. Варахран I правил три года, и мы не слышим ни о каких военных акциях против римлян. Но вот Мани (основатель манихейства. — А. 3.) встретил свою смерть в последний год правления Варахрана, который, в отличие от своего деда Шапура, был настроен враждебно по отношению к этому основоположнику новой религии. Восшествие на престол Варахрана П, сына Варахрана I, вызвало смятение среди тех персов, которые были настроены против Варахранов. В какой-то момент в правление Варахрана II его брат (или, что более вероятно, кузен) по имени Ормазд поднял восстание на востоке и выпустил монеты, на которых он был назван шахиншахом — «царем царей». Случилось это, вероятно, ближе к концу царствования Варахрана П, но проблемы окружали этого правителя, очевидно, с самого начала, поскольку римский император Кар воспользовался возможностью, чтобы вторгнуться на сасанидскую территорию. В 283 г. он дошел до столицы Ктеси- фонта, где неожиданно умер, и римская армия отступила, породив ситуацию неопределенности между двумя империями, поскольку нет никаких свидетельств о мирном соглашении между ними. Мятеж Ормазда на востоке, вероятно, стал причиной того, что в 288 г. Варахран П отправил подарки новому римскому императору Диоклетиану и заключил с ним своего рода договор. Впрочем, точная информация об этом отсутствует, однако Диоклетиан всё же восстановил Тиридата, аршакидского принца, бежавшего на римскую территорию, в качестве царя над частью Армении, тогда как Нарсес, являвшийся на тот момент старшим сыном Шапура I, правил большей частью Армении от лица Варахрана П. Из содержащегося в надписи Пайкули упоминания о царе Армении Тиридате (Трдате)
656
Часть пятая
как правителе, который в 293 г. либо явился сам на церемонию воцарения Нарсеса, либо прислал на нее своего эмиссара, можно с осторожностью заключить, что по поводу правления в Армении было достигнуто какое-то соглашение, по которому Нарсес оставлял Армению, но за ним закреплялся статус шахиншаха Сасанидского государства. Однако, в 296 г., после укрепления своей власти, Нарсес вторгся в Армению, и Тиридату снова пришлось спасаться у римлян.
Поскольку Диоклетиан был занят в Египте, он отправил своего Цезаря Галерия против Нарсеса, вступившего с римлянами в бой и разбившего их где-то в Верхней Месопотамии. Сильно раздосадованный поражением своего Цезаря, Диоклетиан готовился к нанесению контрудара. Га- лерий повел одну армию в Армению, тогда как сам Диоклетиан двинулся в северную Месопотамию. Нарсеса, сконцентрировавшего войска в Армении, Галерий застал врасплох и нанес ему сокрушительное поражение. Га- лерию достались богатая добыча и многочисленные пленники, в том числе супруга Нарсеса, царица Арсана, его сестра и дети, хотя сам Нарсес спасся бегством. Как далеко римляне преследовали своего разгромленного врага, не известно, но, поскольку Галерий присоединился к своему Августу Диоклетиану в Нисибиде, а также отталкиваясь от надписи на триумфальной арке в Фессалонике, где Галерий назван «Персидским Великим, Армянским, Мидийским и Адиабенским» («Persicus Maximus, Armeniacus, Medicus и Adiabenicus»), можно предположить, что военные действия он вел в Армении и Мидии, а также в Адиабене, которая территориально примыкала к Нисибиде. Как бы то ни было, согласно рассказу, переданному Петром Патрикием4, в результате долгих переговоров и обмена посланниками Нарсес должен был уступить римлянам все земли к западу от Тигра, которые лежали севернее современного Мосула, а сама эта река была объявлена границей между двумя державами. Армения, где был восстановлен в качестве царя Тиридат, получила также земли Атро- патены и Азербайджана, вероятно, южнее озера Урмия, что было частью соглашения. Наконец, Нисибида была названа единственным местом, где дозволялась торговля между двумя государствами, и это означает, что официально только в данном городе взимались таможенные пошлины и осуществлялся пограничный контроль. В обмен на эти потери Сасанид- ской империи Нарсесу возвращалась его семья из Антиохии, где римляне удерживали ее в плену.
На востоке Диоклетиан остался и после заключения мира, подписанного, вероятно, в начале 299 г. В течение нескольких лет он восстанавливал и расширял лимесную систему и строил крепости и лагеря во вновь приобретенных зонах, были реорганизованы также мобильная армия и пограничные войска. Вся эта бурная деятельность, как и преклонный возраст Нарсеса, после которого не очень долго правил его сын Ормизд П (302—309 гг.), позволяли сохраняться миру между двумя империями. За царствованием Ормизда последовало очень краткое правление Адур- нарсеха, очевидно, его сына, который, согласно некоторым источникам,
4 Петр Патрикий. Фр. 13 (FHGIV. 188-189).
Глава 14. Сасаниды
657
был свергнут знатью из-за своих зверств. Затем последовало долгое правление Шапура П (309—379 гг.), находившегося под опекой знати и духовенства в течение первых тридцати лет своего пребывания у власти. Так что мир между римлянами и Сасанидами продолжался четыре десятилетия — от времени Нарсеса и Диоклетиана и вплоть до момента, когда Шапур II начал военные действия около 337 г., но это уже другая история, выходящая за рамки данного тома.
III. Сасанидские отношения
С РИМЛЯНАМИ
Хотя многие исследователи соглашаются с утверждениями некоторых классических авторов о том, что Ардашир I и большинство его преемников желали восстановить Ахеменидскую державу в ее самых обширных размерах, как уже было замечено, нет никаких подтверждений того, что Сасаниды хотя бы знали о существовании в прошлом Ахеменидов. У персов действительно было мифологическое предание о нескольких древних иранских мировых империях, последней из которых положил конец Александр Великий, но эта «история» носила характер эпоса. Даже селев- кидская и парфянская истории отличались туманностью и были представлены практически в том же самом эпическом стиле, как и доалександров- ский период. Тем не менее, многие институты и особенности ахеменид- ского правления были сохранены или даже реанимированы Сасанидами, которые, подобно Ахеменидам, пришли к власти в Персиде, современной провинции Фарс. Например, был воскрешен, как кажется, элитный корпус «бессмертных», если только он не продолжал влачить жалкое существование на протяжении всего времени от парфянского периода до Сасанидов5. Если что-то и сохранялось на протяжении полутысячелетия, отделяющего Александра от Сасанидов, то это имело место, скорее всего, в Персиде, нежели где-либо еще.
Сасаниды уважали могущественную Римскую империю и вместе с тем опасались ее; позднейшее византийское государство обозначали тем же именем, при этом они не отличали римлян от греков, хотя и знали, что разные народы проживают во вражеском государстве и служат в его армиях. Для Сасанидов римляне были противником par excellence, по преимуществу, хотя временами восточные и северные кочевые племена представляли большую угрозу и создавали большие риски, нежели западные соседи. Римляне также научились уважать Сасанидов больше, нежели более слабых парфян, особенно в период упадка последних во П в. Посольства между двумя державами считались равными посольствами двух имперских государств, хотя, возможно, такое отношение в большей степени характерно было для персидской, нежели для римской стороны.
До появления римлян и Сасанидов на территориях Плодородного полумесяца в этой богатой и важной зоне доминировали малые торговые го-
Прокопий Кесарийский. История войн. 1.14.31.
658
Часть пятая
сударсгва, или «караванные города», которые вели успешную торговлю и способствовали процветанию всего этого региона. Поглощение западной группы этих государств Римской империей (Набатейское царство вошло в ее состав в 106 г. при Траяне, Эдесса присоединена Каракаллой в 214-м, и, наконец, Пальмира завоевана Аврелианом в 272-м) было аналогом са- санидских акций на востоке. Спасину Харакс в верхней части Персидского залива был завоеван Ардаширом в начале его правления, а последний из «караванных городов» был им взят в конце царствования в 240 г. Результатом как римских, так и сасанидских усилий по ликвидации малых торговых государств Ближнего Востока стал упадок коммерческой деятельности и, с военной точки зрения, преобладание «психологии стены» в обеих империях. Лимес и укрепления Диоклетиана в пустыне хорошо известны, но вот сасанидские аналоги сегодня заметны меньше. Точно так же, как и римляне с их лимесом в Британии, на Рейне и на Дунае, Сасани- ды сооружали оборонительные стены на краю обрабатываемой земли, выходящей на Сирийскую пустыню, на Кавказе у Дербента, к востоку от Каспийского моря и на территории современного западного Афганистана. Определение Нисибиды в качестве единственного пункта для торговли между двумя империями стало всего лишь одним из плодов этого «оборонного» развертывания. Ко времени Константина и Шапура П отношения между двумя государствами пришли к стабильной модели, которая всё же нарушалась одной из сторон, когда та чувствовала слабость другой стороны и, как следствие, предпринимала атаку ради присоединения тер ритории, как правило, в северной Месопотамии или в Армении. Агрессорами были по большей части персы, поскольку они полагали, что в пар фянские и в ранние сасанидские времена Римская империя захватила много земель, по справедливости принадлежащих иранской сфере влияния. Армения, особенно после принятия христианства, всё время являлась зоной соперничества между двумя великими державами.
Военное противостояние вело к изменениям вооружений и тактических приемов с обеих сторон. Вообще говоря, повышение значения тяжеловооруженной конницы было характерно для обеих вражеских армий в Ш— IV вв. Хотя очень много было написано по поводу клибанариев и ката- фрактов (clibanarii и cataphracti — кавалерия, покрытая броней), история развития тяжеловооруженной конницы, прежде всего в аспекте заимствований и взаимовлияний между римлянами и персами, до сих пор остается туманной. На основании сасанидских наскальных рельефов в Так-е Бусга- не и археологических находок доспехов, может сложиться впечатление, что на исходе 6-го столетия тяжелая кавалерия являлась важной составляющей персидской армии, особенно когда она использовалась против римлян. Впрочем, позднее кочевники из Центральной Азии и арабы пустыни с их большей мобильностью оказались достойными соперниками для Сасанидов.
Две империи вступали не только в дипломатические и военные контакты, но и в торговые, при этом самыми важными были всё же контакты между народами Плодородного полумесяца. К Ш в. основными жителями как на сасанидской, так и на римской стороне Полумесяца были
Глава 14. Сасаниды
659
либо те, кто говорил на арамейском или, скорее, сирийском языке (включая пальмирский, хатрийский и другие диалекты) либо на арабском, а самой быстрорастущей религией во всем этом регионе было, разумеется, христианство. История переселений арабских племен в земли между Тигром и Евфратом, как и на территорию Сирии, известна плохо, но это, как представляется, был растянутый во времени и медленный процесс, и позднейшие арабские буферные государства Лахмидов на сасанидской стороне и Гассанидов на византийском пограничье являлись наследниками прежних «караванных городов» и создавали проблемы для обеих империй. Когда Шапур П был еще ребенком, арабское племя совершило глубокий грабительский рейд на сасанидскую территорию, и, чтобы наказать грабителей, шах в конечном итоге должен был предпринять контратаку вглубь Аравии, однако неясно, когда это произошло и были ли аннексированы арабские земли. В 4-м и последующем столетиях произошел рост «номадизации» низины между Средиземным морем и Иранским нагорьем. Исчезновение «караванных городов» определенно поспособствовало этому явлению, и еще одним фактором стал демографический рост среди бедуинских племен. Набеги арабских бедуинов постоянно угрожали оседлому населению Плодородного полумесяца, как на его римской, так и на персидской стороне, и ответом обеих империй неизбежно должно было стать возведение стен и укрепленных пунктов для защиты от нападений кочевников. Впрочем, данные меры лишь задерживали, но отнюдь не останавливали арабов. Наконец, в 7-м столетии арабы, побуждаемые новой, воинствующей религией, развалили Сасанидскую империю и ближневосточные провинции империи Византийской.
IV. Развитие религий
Возможно, самыми важными изменениями в мировоззрении, культуре и социуме в Ш—IV вв. н. э. как в римском, так и в сасанидском мирах были перемены в религиозной сфере, которые отмечают собой закат древних «языческих» религий и расцвет религий «универсальных». Как христианство, так и талмудический иудаизм находились в процессе выработки ортодоксии своих вероучений, тогда как зороастризм под руководством таких религиозных фигур, как Кердир (Картир), становился более организованным и централизованным. Позднее зороастризму предстояло превратиться, по сути, в «государственную церковь» Сасанидской империи — с иерархией, построенной в параллель к иерархии шахского двора. На самом верху находился верховный жрец — «мобед мобедов» («moba- dan mobad»), то есть «жрец жрецов», подобно шахиншаху — «царю царей» в мирском царстве. Интересно отметить колебания в отношении властей к другим религиям: от терпимости при Шапуре I к нетерпимости при Варахранах и вновь очевидный возврат к политике Шапура при Нарсесе и его преемниках вплоть до правления Шапура П. Гонения на христиан в это время были начаты в связи с обращением в их веру Константина, которое последовало за аналогичным обращением армянского царя
660
Часть пятая
Тиридата около 301 г. С этого времени христиане в Сасанидской империи подозревались в том, что по причине своей религиозной идентичности все они являются тайными проводниками римских интересов. Такая подозрительность и враждебность сохранялись в неизменном виде вплоть до V в., когда произошел разрыв между Несторианской и Антиохийской церквами и возникла христианская Персидская церковь Сасанидской империи. Тем не менее, отождествление религии и государства утвердилось окончательно, и последователи других религий [, помимо зороастризма,] были отнесены к гражданам второго сорта — речь идет о системе, которая много позже стала известна на Ближнем Востоке как система милле- тов, то есть «национальных принадлежностей», религиозных направлений, или групп людей, объединенных по религиозному признаку.
До Ш в. в Иране, как и на остальном Ближнем Востоке в целом, сформировавшееся еще в глубокой древности отношение к религиям всё еще преобладало, хотя многие «спасительные» и гностические культы эпохи позднего эллинизма уже трансформировали мировоззрение людей. В прежнем мире божества были местными или «национальными» — в том смысле, что это были боги либо племени, либо народа, либо отдельно взятого региона. Например, когда ахеменидские цари завоевывали Египет и управляли им, они не стремились навязать местному населению персидскую религию или почитание персидских божеств. Напротив, по многим ситуациям мы знаем, что эти иноземные правители почитали местных богов — либо посредством актов поклонения, либо посредством щедрых даров храмам. Впрочем, по мере того как культы превращались в организованные религии, в сакральном сознании начинали доминировать идеи универсализма. Говоря проще, политеизм превращался в генотеизм (поклонение одному богу при признании существования многих богов. — А.З.), который, в свою очередь, во многих случаях вел к монотеизму и вере в то, что богом каждого должен быть один могущественный бог. Развились как миссионерское рвение, так и нетерпимость к иным верованиям и соперничество с ними. 3-е столетие можно рассматривать как время, когда древние убеждения были замещены организованными религиями с ревностными и часто воинствующими приверженцами. В деле привлечения новых сторонников неофиты-иудеи в Адиабене и христианские новообращенные соперничали с зороасгрийскими жрецами. Впрочем, такое новое верование, как манихейство, определенно ставшее важнейшим конкурентом как для зороастризма, так и для христианства, могло послужить основным катализатором для внутриобщинного сплочения и организационного оформления этих религий.
Мани, основоположник новой религии, родился в южной Месопотамии в 216 г., но его отец и мать были персами. Поначалу член баптистской секты элхасаитов, позднее Мани порвал с ними из-за видений, повелевавших ему покинуть эту секту и проповедовать новое учение. Его первыми последователями, помимо собственного отца и других родственников, стали сасанидские принцы; ему удалось завоевать покровительство Шапура I, который позволил ему разослать по всей Сасанидской державе своих миссионеров. Хотя время жизни Августина выходит за рам¬
Глава 14. Сасаниды
661
ки данного тома, его обращение в манихейство указывает на широкую миссионерскую деятельность в западной части Римской империи. Примечательно, что как римляне, прежде всего император Диоклетиан, так и персы при Варахране I, Варахране П и позднее преследовали манихейство как представлявшее угрозу установленному порядку, и кажется очевидным, что догматы этой религии порождали глубокое неприятие у адептов иных вероучений. Так в чем конкретно заключались те особые взгляды в манихействе, которые, как считалось, угрожали другим религиям?
Одной из характерных черт манихейства, которая поражает стороннего наблюдателя, была приспособляемость этого вероучения к религиозной среде, в которой оно искало своих неофитов. В сущности, манихей- ские миссионеры легко перенимали особенные черты христианства на западе, зороастризма — в Иране и буддизма — на Дальнем Востоке, заявляя при этом, что другие религии в чем-то неполны да еще и подверглись со временем искажению в сравнении с тем, чему учили их основатели. Религиозные положения Мани, очевидно, были зафиксированы им самим в писаниях, которые были переведены под его личным наблюдением, так что они не были ни изменены, ни выхолощены последующими поколениями. Более того, его религия не была ограничена одной какой-то зоной или даже одной империей, но должна была стать универсальным вероучением, с обязанностью адептов распространять его по всему миру. Вероятно, именно миссионерское рвение в сочетании с убежденностью в превосходстве этой новой веры над другими, «испорченными», религиями порождало такую огромную враждебность к манихеям. Разделение верующих на простых прихожан, или «слушателей» («auditores»), и на иерархически и монашески организованных «избранных» («electi»), как кажется, привлекало к этой религии интеллектуалов, и из- за приспособления манихеев к разным религиям тех мест, где они жили, их повсюду считали главными еретиками, подлежащими гонениям. Возможно также, что именно огромное внимание, которое манихеи придавали «священным» книгам, заставило зороастрийцев систематизировать и зафиксировать собственные писания — Авесту, вместе с толкованиями текстов последней — Зендом. На 3-е столетие приходится также начало процесса, благодаря которому появился вавилонский Талмуд, и это связано с тем, что в III—IV вв. в восточных иудейских общинах верховной властью обладал эксилархат.
Происхождение должности эксиларха, или, на арамейском, реш галута (букв, «глава пребывающих в изгнании»), главы еврейского народа в Са- санидской империи, неизвестно и является предметом дискуссий, однако назначение вождя иудеев из колена Давидова, ответственного за всех евреев в этой империи, в качестве государственного установления вполне соответствовало деятельности зороастрийского жреца Кердира, который был влиятельной и могущественной фигурой в период царствования двух Варахранов. Хотя в какой-то форме эксилархат, вероятно, существовал еще при парфянах, формально он был институализирован только при ранних сасанидских правителях. Это не означало большей
662
Часть пятая
свободы от контроля и преследований; напротив, зороастрийское жречество время от времени устраивало как еврейские, так и христианские погромы. Однако, поскольку евреи в целом поддерживали персов в их войнах с римлянами, они (евреи), видимо, предпочитали римскому господству правление сасанидское. Хотя римская враждебность к евреям после двух войн в Палестине (66—73 и 132—135 гг.) оставалась неизменной, а многие евреи, особенно зилоты, надеялись на персидские победы над римлянами, крупных восстаний против этих последних, тем не менее, в 3-м и начале 4-го столетия не было, а при Диоклетиане евреи чувствовали себя вполне сносно. Иудейский первосвященник в Палестине [наси на древнееврейском) занимал положение, аналогичное положению экси- ларха на востоке (в Сасанидской державе), но непонятно, как далеко распространялись его авторитет и влияние на еврейскую диаспору в Римской империи. Впрочем, после Диоклетиана терпимость Римского государства к евреям стала меняться на враждебность к ним. Особенно отчетливо это начало проявляться после обращения в христианство Константина, когда религиозный антагонизм соединился с политическим противостоянием, сделав огромное количество евреев на западе даже более нежелательными, чем прежде.
Так что в религиозной сфере на 3-е столетие приходится начало полярного размежевания двух империй: Римской — с одной государственной религией и Сасанидской — с другой государственной религией. Римская христианская церковь IV в. находит свои параллели в зороастрийской «церкви» Сасанидской державы. В этой империи вероучения, оказавшиеся на вторых ролях, были организованы в систему миллетов, посредством которой эксиларх евреев или патриарх христиан отвечали за свои общины в таких вопросах, как сбор податей и соблюдение закона и порядка своими единоверцами. С другой стороны, в Римской империи малочисленные зо- роасгрийцы, преимущественно в восточной Анатолии, сохранялись какое- то время только в горных районах, до того как они исчезли и оттуда, что, в конечном счете, произошло со многими языческими культами, которые в Ш—IV вв. еще сохранялись, но постоянно теряли почву под ногами под воздействием возросшей активности христианских миссионеров.
Религиозной принадлежности придавали особое значение, поскольку она всё больше превращалась в отличительный признак личной идентичности. В то время как в западной части державы римское гражданство являлось — вплоть до падения империи — символом верности государству и правительству, в Сасанидской империи сохранялась эллинистическая верность подданного своему правителю, теперь подкрепленная религиозной санкцией государственной веры — зороастризма. При Са- санидах не существовало никакого аналога такому явлению, как римское гражданство, и в этой империи фокусом лояльности была харизматическая фигура сильного правителя. В этом отношении подданные Сасанидов были гораздо ближе семитоговорящим и иным народам Ближнего Востока, нежели последние — гражданам Рима. В этот период семена Средневековья были посеяны как в римском, так и в сасанидском государствах, но приход арабов и ислама, пусть даже они многое и изме¬
Глава 14. Сасаниды
663
нили на Ближнем Востоке, в гораздо большей степени продолжил традиции Сасанидской империи, нежели империи Римской, прежде всего в плане государственной структуры и в религии с ее системой миллетов.
Хотя религия в эту эпоху приобретает первостепенное значение, торговля и деловая активность, хотя и не столь оживленные и деятельные, как при парфянах, продолжали влиять на государственную политику. Завоевания и богатая добыча давали победителям и землю, и имущество для эксплуатации, а торговля предметами роскоши, как и специями, в древности заменявшими холодильные установки, имела огромное значение для обеих империй.
Если обратиться к ближней торговле, один только перечень фруктов и растений, которые в этот период пришли на запад из Ирана, указывает как на контакты, так и на огромный долг запада перед Ираном в данной сфере. Название «Tcepaixov» (по-русски «персик») — одно из самых очевидных заимствований у иранцев, но список несложно расширить: гранат, миндаль, фисташковое дерево и масса еще более экзотических культур. Естественно, можно задаться вопросом, происходили ли эти творения земли — кустарники либо деревья — из самого Ирана, но даже если они поступили из более восточных стран, их путь на запад лежал именно через Иран, поскольку доставка таких растений и деревьев по морю была рискованной. Из имеющихся в нашем распоряжении источников невозможно определить объемы и важность торговли пищевыми продуктами между Сасанидской и Римской империями, но ко времени арабских завоеваний, о котором мы все-таки имеем соответствующие свидетельства, по всему Ближнему Востоку действовало немало купцов, которые подвизались в торговле специями, лекарственными растениями и прочими пищевыми товарами.
Картина дальней торговли предметами роскоши выстраивается проще, поскольку в ходе археологических раскопок выявлены прекрасные сасанидские ткани, серебряные кувшины и другие роскошные товары, доставленные из весьма отдаленных стран, вплоть до северных территорий современной России и Китая. Парча, шерстяные ковры и декорированные хлопчатобумажные одежды из Ирана были известны в античности почти так же хорошо, как и в наше время. Не вызывает никаких сомнений, что некоторые из них происходят из Центральной Азии, Кавказа и северо-западной Индии, которые все находятся в пределах большого иранского культурного ареала. Известно, что у персов, как и у народов Центральной Азии и степняков, предпочтительным благородным металлом было серебро, а не золото, но при этом примечательно, что это последнее поступало из Римской империи в Индию, где соотношение стоимости золота к серебру всегда было более высоким, нежели где-либо еще. В Сасанидском государстве не существовало никакого аналога римскому аур ею (aureus), а качество изготавливавшихся здесь изделий из серебра оставалось высоким весь сасанидский период.
Сасанидская монетная чеканка на протяжении всей своей истории сохраняла ряд особенностей. Во-первых, это была преимущественно сереб¬
664
Часть пятая
ряная чеканка с несколькими местными чеканками бронзовых монет более мелкого достоинства. Во-вторых, это были неизменно своеобразные, очень гладкие монеты, удобные для перевозки и складывания в стопки. Наконец, и это самое главное, в отличие от римской практики, отмеченной «порчей» монеты, сасанидский драм (на новоперсидском «дирхам», из греч. «драхма») неизменно сохранял высокий процент серебра и стабильный вес (около 4 гр.). Их высоко ценили кочевые и оседлые народы Северной Евразии: на этих обширных территориях (в частности, в России) археологи обнаруживают лишь немногие римские и византийские серебряные блюда и сосуды — в сравнении с огромным количеством таких же сасанидских предметов. Следует, однако, заметить, что такие товары северных народов, как меха, янтарь и мед (заменявший в древности сахар), поступали в большем количестве — в силу высокого спроса — в Иран, нежели западным потребителям. Еще одной характерной чертой сасанидских денег было отсутствие на монетах политической пропаганды, что очевидным образом контрастирует с практикой Римской империи, где, например, на монетах увековечивались военные победы. Для Сасанидов деньги имели только экономическое значение: позднейшие монеты стандартизированы с минимальным вниманием к эстетике, поскольку важны были скорее вес и качество серебра, нежели иконография аверсов и реверсов. Единственный менявшийся признак на монетах — характерная корона, которую носит каждый правитель (иногда несколько различных корон), и имя последнего государя в надписи; поэтому короны очень важны для идентификации портретов владык, изображавшихся на серебряных вещах и на скальных рельефах.
Некоторые правители чеканили золотые деньги («динар» из лат. denarius) в подражание римскому аурею, но предназначение таких монет непонятно, поскольку они следовали тому же стилю и модели, что и обычные серебряные деньги и не несли на себе никаких указаний на военные победы или что-то подобное. Еще одной особенностью легенд на сасанидских монетах является вставка какой-нибудь благочестивой или воодушевляющей фразы типа «’pzwn GDH» («пусть величие возрастет»), причем опять же, как кажется, эти надписи следовали своего рода каноническому варианту. Централизация денежной политики очевидна из стандартизации монетной чеканки, и мы можем предположить, что монетных дворов было очень мало и что они строго контролировались, хотя к концу династии количество мест, где производилась чеканка, значительно увеличилось. Резкий рост числа монет при Шапуре П указывает, вероятно, на то, что в это время натуральные платежи уступили место денежным платежам, прежде всего при выплатах войскам и правительственным чиновникам. Коротко говоря, на основании монет, а вместе с тем и на основании предметов роскоши, мы можем прийти к выводу, что в экономической конкуренции с Римской империей персы чувствовали себя весьма уверенно и что по меньшей мере экономический престиж Сасанидской державы рос, когда экономический престиж Римской империи падал у тех народов, которые не были подданными ни того, ни другого государства.
Глава 14. Сасаниды
665
V. Выводы
Из предложенного нами обзора возникает образ Сасанидской державы как сильного и достойного противника и соперника Римской империи. Древнее греческое представление о том, что всякий, кто не говорит на эллинском языке и не проникнут эллинской культурой, является варваром, в Римской империи распространено не было. Римляне должны были сражаться с варварами, обитавшими за рейнско-дунайским лимесом, но Сасаниды относились к иной категории, ибо их государство было подобно государству римлян, и римский «lex» («закон») соответствовал персидскому понятию «dad». Мы многое знаем о римском праве; хотя римляне, как и Сасаниды, были продолжателями Ахеменидов в законодательной сфере, однако первые, вероятно, знали об Ахеменидах больше, чем Сасаниды. Законодательство последних развивалось в том же направлении, что и западное церковное право в средние века, тогда как на западе светские основы римского права никуда не исчезли, что, очевидно, случилось с их ахеменид- скими аналогами на востоке еще до Сасанидов. Иными словами, саса- нидское право, по своей сути, стало религиозным правом с мобадами и радами — зороастрийскими жрецами, которые отправляли правосудие, что верно также и по отношению к христианским средним векам. Запад, впрочем, имел в своем багаже ренессанс, и новое пробуждение (рецепция) римского права было частью этой перемены, тогда как на восток никакой ренессанс не пришел, отчасти потому, что прошлое было утрачено. Однако в тот период, которому посвящена данная глава, Римская и Са- санидская империи имели больше сходства, нежели мы до сих пор себе представляем, и, хотя друг по отношению к другу они чаще выступали как враги, а не друзья, претенденты на трон с каждой из сторон в случаях, когда они вынуждены были спешно покинуть свою отчизну, могли найти — и находили — убежище в том государстве, где для них существовала возможность получить соответствующее их статусу уважение, если и не реальную поддержку для возвращения утраченных позиций на родине. С точки зрения римлян, персов нельзя было уподоблять германцам и арабам; Армения же, граничившая с обеими державами, была не просто буфером между ними — для обеих она служила объектом завоеваний и неизменного стремления превратить ее в своего союзника. Кроме того, армянская культура, прежде всего среди высших классов, была преимущественно иранской. Сасанидские культурные влияния имели здесь повсеместное распространение, тогда как в сравнении с ними римская цивилизация, как кажется, в данное время имела меньшее воздействие на народы, обитавшие за пределами империи. Более того, если многие рассматривали римскую культуру как производную от эллинской цивилизации, то Сасаниды воспринимались чаще всего как продолжение и приспособление культур древнего Ближнего Востока. Точно так же, как и евреи, сохранившиеся зороастрийцы сегодня считают себя прямыми наследниками своей собственной древней и богатой культуры и религии.
Глава 15
К.-С. Лайтфут
АРМЕНИЯ И ВОСТОЧНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ
I. Введение
Особенностями восточной Анатолии, в которой римляне впервые появились в 70 г. до н. э., во время кампании Лукулла, являются высокие горные цепи, изолированные, но хорошо обводненные долины, а также яйлы — плоские безлесые местности в горах, используемые как летние пастбища1. Физическая география подсказывает, что в прошлом данный регион мог долгое время обеспечивать существование лишь небольшого и редкого населения. В значительной части Анатолии и без того трудные условия жизни усугублялись суровым климатом. Зимой почву покрывали огромные сугробы, а температура воздуха многие месяцы стабильно держалась ниже нуля градусов по Цельсию, тогда как летом жара могла быть очень сильной, а дожди редкими. Данные факторы всегда сдерживали развитие сельского хозяйства и рост урбанистических центров2. Всё это препятствовало также внутренним коммуникациям, так что местные общины были сосредоточены на самих себе, будучи удаленными от какой бы то ни было центральной власти. Регион не знал эффективного и устойчивого политического единства.
С другой стороны, поскольку этот регион находился на пересечении различных путей, по которым осуществлялись вторжения и велось торговое сообщение, восточная Анатолия всегда обладала важным стратегическим значением. В западном направлении она обеспечивала доступ к центральному району Анатолийского плоскогорья и собственно к Малой Азии; на севере имелись кавказские проходы, через которые проникали захватчики из степей Центральной Азии; на востоке долины рек Аракса
1 Краткие описания физической географии: Erzen 1984: 51—55; Zimansky 1985: 12—31; Sinclair 1987: 55—62; Hewsen 2001: 15—19. Обзор П. Зимански включает подборку покрывающих всю восточную Анатолию космических снимков со спутников «Landsat». Две карты региона, охватывающие соответствующий исторический период, опубликованы в серии атласов TAVO: Kettenhofen 1982; Kettenhofen 1984а; см. также: Talbert 2000: карты на с. 88—89 (и указатели на с. 1255—1291).
2 Города Армении см. в изд.: Jones 1971: 539 (табл. 24), 540 (табл. 27), 542 (табл. 32).
Карта 7. Армения и восточные пограничные области
668
Часть пятая
и Кира спускались к Каспийскому морю и Атропатене, тогда как к югу лежали равнины Месопотамии. Следовательно, восточная Анатолия часто становилась поприщем для боевых действий между могущественными державами, желавшими расширить свое господство и включить в свой состав этот важный регион. Этот вопрос решался в ожесточенном противостоянии между Римом и его иранскими соперниками, хотя иные факторы часто затеняли этот основной фактор. Хотя маршруты большинства военных походов проходили через Плодородный полумесяц, существование важных путей из восточной Анатолии на равнины Месопотамии либо через Армению из римской Каппадокии в Мидию требовало от обеих сторон признания необходимости расширения поля деятельности.
II. Источники
Источники по истории восточной Анатолии в Ш и начале IV в. н. э. не позволяют воссоздать ясную и связную цепь событий. Свидетельства включают в себя три отдельные группы, которые отражают взгляды разных сторон, вовлеченных в борьбу за регион в данное время.
С римской стороны сочинения Диона Кассия и Геродиана обеспечивают нас определенным объемом информации, охватывающим северовскую династию и правление Максимина фракийца, но после этого мы должны прибегать к помощи «Истории Августов» («Historia Augusta»; сокр.: SHA), в которой представлены биографии императоров и «претендентов» вплоть до 284 г. Даже для конца нашего периода, то есть для более стабильного и лучше документированного времени тетрархов, мы плохо обеспечены свидетельствами и должны полагаться на труды церковных историков и на краткие записи эпитоматоров 4-го столетия. Кроме того, позднейшие византийские компиляции снабжают нас некоторым количеством ценных свидетельств; например, нам повезло, что один из фрагментов сочинения Петра Патрикия «О посольствах» («De Legationibus»; VI в.) сохранил некоторые подробности мира 298 г.
Местные, по существу армянские, источники содержат много полезной информации, но она настолько сбивчива и настолько переплетена с национальными легендами, что при ее использовании необходимо проявлять огромную осторожность. Эти сочинения были написаны на местном языке в промежутке между V и VIE вв. нашей эры, и на них лежит сильный отпечаток тех взглядов и предпочтений, носителями которых были писавшие эти труды священники3. Тем не менее, это ценные документы, особенно потому, что они проливают свет на социальную и религиозную историю рассматриваемого периода.
Наконец, соответствующие иранские источники сводятся к трем важным эпиграфическим документам. Во-первых, это трехъязычная надпись (далее: RGDS) на парфянском, среднеперсидском и греческом, со¬
3 Toumanoff 1969: 234—235; Garsoïan 1971: 342—343.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
669
общающая о подвигах сасанидского царя Шапура I, сделанная на башне, известной как Кааба Зороастра, в Накш-и-Рустаме в Фарсе4. Во-вторых, это находящаяся на той же башне среднеперсидская надпись, сделанная верховным жрецом Картиром4а. В-третьих, это билингва (парфянский и среднеперсидский), найденная в Пайкули в северо-западном Иране, сделанная в ознаменование захвата Нарсесом иранского трона в 293 г.5.
III. Армянское царство
В древности на большей части восточной Анатолии располагалось Армянское царство. Если не считать краткого периода во время правления Тиграна Великого (95—55 гг. до н. э.), оно никогда не было сильным и независимым государством, а представляло собой страну, чье долгое существование было всего лишь последствием соперничества и конфликта между его более могущественными соседями: Римом — на одной стороне, и Парфией, а позднее Сасанидским Ираном — на другой. В результате Армянских войн, случившихся в правление императора Нерона, на армянском троне утвердилась новая династия — Аршакидов, ветвь парфянского царского дома. Первый царь этой линии, Тиридат I, был возведен на трон его братом — парфянским царем Вологезом I, но корону получил из рук Нерона на церемонии, проведенной в Риме в 66 г.6. Этот компромисс оформил ситуацию статус кво, которая в основных чертах сохранялась в Армении вплоть до краха этой монархии в V в. н. э.
Впрочем обе державы пользовались любой возможностью для проведения более агрессивной политики, нацеленной на установление своего полного контроля над царством. Этим объясняются предпринимавшиеся римлянами на протяжении 2-го столетия попытки развить свое военное доминирование путем утверждения на армянском троне собственного назначенца7. Подобным образом после свержения парфянских Аршакидов в 220-х годах новые правители Ирана, Сасаниды, предпринимали энергичные усилия по замене армянских царей из рода Аршакидов членами собственного дома. Этот враждебный настрой, естественно, заставлял армянских царей весь Ш в. смотреть на римлян с большей благосклонностью, которая позднее только усилилась чувством религиозной близости.
Римляне и их «двойники» в Иране применяли очень схожие методы расширения своего контроля над Арменией. Обе стороны ублажали армянского царя, когда это соответствовало их задачам, особенно в те периоды, когда они готовились к военным кампаниям друг против друга.
4 Английский перевод: Fiye. Iran: Приложение 4, § 1—29, с. 371—373. Общий обзор среднеперсидских документов: Gignoux 1983.
4а Русский перевод см. в изд.: Касумова С. Азербайджан в III—VII вв.\ (.Этнокультурная и социально-экономическая история) (Баку: Элм, 1993: 51—52). — A3.
5 Английский перевод см.: Frye. Iran: Приложение 5, § a—h, с. 375—377.
6 Chaumont 1976: 116-123.
7 Chaumont 1976: 130-139, 146-152; Mitford 1980: 1195-1199, 1202-1205.
670
Часть пятая
Для IV в. поднесение даров и субсидии хорошо засвидетельствованы не только в отношении армянского царя, но и в отношении небольших княжеств восточной Анатолии8. Несомненно, это же практиковалось и в предыдущем столетии9. С другой стороны, две могущественные силы пользовались слабостью и отсутствием сплоченности внутри Армянского царства, чтобы накладывать на него дань и требовать военной поддержки. Существуют свидетельства, заставляющие думать, что как Рим, так и Иран облагали Армению налогами10. Кроме того, начиная с 3-го столетия мы всё чаще слышим о службе армян в римских войсках — либо в составе этнических подразделений, либо индивидуально11. Присутствие армянских лучников, служивших в армии Максимина Фракийца, на германской границе определенно стало результатом объединенной экспедиции против Ирана в правление Александра Севера12. Следует добавить, что свои войска Рим развертывал в Армении еще с I в. н. э.; их присутствие зафиксировано небольшим корпусом надписей с упоминаниями вексиллариев (конных отрядов) XV Аполлонова (Apollinaris) и XII Молниеносного (Fulminata) легионов, расквартированных в Кенеполисе (Валаршапат) с периода Антонинов13. И всё же армянское войско по самой своей природе имело много общего с армиями парфян и Сасанидов. Их формирования, тактика, оружие и снаряжение были очень похожи, и это должно было значительно облегчать совместные действия14.
К иным способам оказания влияния на царство относились взятие заложников и предоставление убежища беженцам. Так, например, в течение одиннадцати месяцев Каракаллой удерживалась в плену армянская царица, в середине IV в. римлянами был взят в заложники принц Кор- дуены15. Источники свидетельствуют и о беженцах. Молодой Тиридат бежал к римлянам и был дружески принят будущим императором Лици-
8 Юлиан. Речи. 1.21а; Аммиан Марцеллин. XXI.6.7—8.
9 Дион Кассий. LXXVT3I.77.4.
10 Тиридат IV в одном источнике описывается как вассал, платящий Риму трибут, см.: Агафангел. Va. 167. О разных версиях текста Агафангела см.: van Esbroeck 1971: 14—19. Мовсес Хоренади часто упоминает уплату трибута армянским царем: Мовсес Хо- ренаци. Ш.10, 11, 21 и 75 (английский перевод: Tbomson 1978).
11 Сочинители истории Августов (SHA). Тридцать тиранов. 37.3—4; Аврелиан. 11.3. Позднее армянские верховые лучники засвидетельствованы в битве при Мурсе в 353 г., см.: Зосима. П.51. Некоторые из наиболее успешных и знаменитых римских и византийских полководцев были по происхождению армянами; см.: Char anis 1959: 31. Другие армяне оказывались на римской службе как рабы; самый примечательный пример — евнух Ев- ферий, сделавший потрясающую карьеру при Константиновом дворе, см.: Аммиан Марцеллин. XVI.7.5—6.
12 Геродиан. VH.2.1; Сочинители истории Августов. Александр Север. 61.8.
13 ILS 394; 9117; SEG XV.839; см.: Crow 1986. Арташата появляется в списке пунктов дислокации, написанных на щите одного пальмирского лучника римского гарнизона, стоявшего в Дура-Европосе; см.: Rebuffat 1986. О римских военных надписях на Кавказе см.: Braund 1991.
14 Основным родом войск в армянском войске была конница нахараров (букв, «первородных»; армянский дворянский титул. —А.З.), см.: Фавстос Бузанд. IV.20; см.: Adontz 1970: 218-227.
15 Дион Кассий. LXXVin.27.4; Аммиан Марцеллин. ХЛПП.6.20.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
671
нием16. Впрочем, другие армянские принцы, как сообщается, искали убежище при иранском дворе17. В своем последнем прибежище цари могли быть низложены, заключены в тюрьму и даже казнены, если они вызывали недовольство своих римских или иранских хозяев. Сообщается, что Каракалла арестовал и держал как узника Хосрова I (о дальнейшей судьбе последнего ничего не известно), в то же время армянские историки обвиняют иранских царей в подстрекательстве к убийству этого самого правителя18.
Внешние культурные веяния были особенно заметны именно в Армении, где вплоть до средних веков с большим трудом можно что-то разглядеть из местного искусства19. По своей сути царство являлось восточной монархией, и многие его обычаи и устоявшиеся порядки коренились в иранских образцах20. Впрочем, имелся также и внешний лоск греко-римской культуры, наполнявший царский двор. Раскопками в древней столице, Арташате, открыты строения и артефакты, которые явно следуют классической традиции21, но самые изумительные образцы греко-римской архитектуры находятся в Гарни — царской летней резиденции к северо-востоку от столицы. Здесь расположено здание, построенное по образцу ионического храма, возможно, царский мавзолей конца II в., а также бани в римском стиле, имеющие гипокауст (систему обогрева под полом) и мозаичные полы, датируемые концом Ш в.22.
В итоге важную роль в борьбе за Армению сыграла религия. Местное многобожие долгое время было смешано с иранскими элементами, и, как и в Парфии, здешнее язычество по своей сути являлось синкретическим. Впрочем, когда в середине 3-го столетия Армения временно оказалась под прямым иранским контролем, по инициативе зороастрийского жречества, прежде всего первосвященника Картира, были предприняты меры по очищению армянских религиозных верований23. К тому же времени относится первое упоминание христианства. В качестве епископа армян Евсевий называет некоего Меружана, который состоял в переписке с Дионисием, епископом Александрийским (248—265 гг.)24. Епархия Ме¬
16 Агафангел. Аа. 36—37; Ag. 16—17 (английский перевод: Thomson 1976). Сообщается, что и Тиридат, и Лициний служили под командой Галерия во время кампании против Нарсеса, см.: Агафангел. Аа.41—44; Aq.18—20; Мовсес Хоренаци. П.79; Евтропий. Х.4; Лактанций. О смертях гонителей. 20.3; Зосима. П.11.
17 Зонара. ХП.21.
18 Дион Кассий. LXXVn.12.12; Агафангел. Aq. 12—13; Vk. 18; Мовсес Хоренаци. П.74.
19 Образцы предметов искусства, найденные в Армении и датируемые I—Ш вв. н. э., см. в изд.: Santrot 1996: 240—247, No 246—265.
20 Garsoïan 1976: 207-208, 210-213; Lang 1983: 524-528.
21 Arakelian 1984a; Arakelian 1984b; обзор других археологических раскопок в Армении см.: Zardarian, Akopyan 1994.
22 Sahinian 1969; Lang 1970: 144—146; Kouymjian 1981: 264; Ter-Martirossov 1996 (этот автор упоминает версию, согласно которой храм был превращен в царскую гробницу в первой половине IV в.); аргументы contra см.: Wilkinson 1982 (это здание автор считает царским мавзолеем конца П в.).
23 Мовсес Хоренаци. П.77; см.: Chaumont 1973: 692-701; Russell 1987: 119-128; Russell 1990.
24 Евсевий. Церковная история. VI.46.2.
672
Часть пятая
ружана была отождествлена с Софеной, и это связывает раннее распространение христианства в царстве с присутствием последнего в северной Месопотамии25. Свидетельства о раннем сирийском влиянии на армянскую Церковь незначительны, поскольку позднее оно растворилось в более мощном потоке, исходившем в начале IV в. из Каппадокии благодаря святителю Григорию Богослову. Впрочем, армянский литургический язык сохранил многие сирийские термины, а первичное монашество в Армении, как оно изображено у Фавсгоса Бузанда, имеет очень близкое сходство с иночеством, практиковавшимся отшельниками Сирии и Месопотамии26.
Природу христианских верований в Армении с ясностью понять невозможно, поскольку дошедшие до нас местные исторические повествования, которые все были написаны ортодоксальными священниками, совершенно исключили всякие намеки на существование каких бы то ни было сект внутри армянской Церкви. И всё же весьма вероятно, что еретические христианские и квазихристианские группы процветали в Армении, точно так же, как они процветали и в Месопотамии, и в прочих местах27. Неизбывную силу и сопротивляемость язычества в царстве, однако, не следует недооценивать. Даже после обращения в христианство царя Тиридата IV и трудов Григория Святителя по распространению Евангелия значительная доля армянского населения в глубине души оставалась язычниками. Тот факт, что еще в V в. святому Месропу Маштоцу (армянский ученый, монах, просветитель, создатель армянского алфавита; годы жизни: 361—440 гг. — А.З.) могли приписывать широкую миссионерскую деятельность, указывает на то, что языческие культы и практики сохранялись и много позже официального принятия христианства28.
Традиционной датой крещения Армении является 301 г. В последнее время, впрочем, были предложены убедительные аргументы в пользу 314 г.29. Ясно, что поначалу Тиридат преследовал христиан в пределах своего царства — в полном соответствии с политикой, проводившейся Диоклетианом и Галерием. Его раболепие перед римлянами в данном отношении вполне подтверждается и содержанием, и тоном послания, которое он, как сообщается, отправил Диоклетиану30. Поскольку император являлся одновременно и религиозным, и светским главой государства, верные подданные и вассалы, такие как Тиридат, должны были формировать свои политические и религиозные взгляды соответствующим образом. То есть принятие Тиридатом христианской веры было, вероятнее всего, прямым
25 Adontz 1970: 270—271. О возможной активности в Армении манихейских миссионеров, также связанных с Эдессой, см.: Lieu 1992: 103—106.
26 Фавстос Бузанд. VI. 16; см.: Vööbus 1960: 358; Winkler 1980: 140 примем. 96.
27 В литературе приводятся доводы в пользу того, что негативные оценки двух царей середины IV в., Аршака и Папа, являются отражением предубеждений, которые проявлялись по отношению к ним как к сторонникам арианства, см.: Garsoïan 1967.
28 Thomson 1976: Lxxxvm—lxxxix.
29 Barnes Ц CE 258; Mahé 1996: 259; иной точки зрения придерживается: Braund 1994: 238-239.
30 Агафангел. Ag.40. Данное письмо считается ранним сочинением, если только не аутентичным документом из царской канцелярии, см.: Thomson 1976: XLvni—xux.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
673
следствием пересмотра взглядов Константина и издания в 312—313 гг. «Миланского эдикта»31.
Обращение Тиридата, впрочем, не встретило в Армении повсеместного одобрения. Конфликт между царем и знатью в IV в. можно отчасти рассматривать через призму реакции консервативно настроенных земельных собственников на религиозные нововведения. Правители княжеств и владетели крупных имений, думавшие прежде всего о лояльности своих вассалов и крепостных, вероятно, прекрасно понимали пользу местных культов для самих себя. Следовательно, навязывание единообразной религии, которой покровительствовал царствующий дом, они рассматривали в качестве прямой угрозы их независимому положению. И всё же такой подход, возможно, слишком упрощает ситуацию, которая скрывается за разделением Армении на две противоположные религиозные группировки, одна из которых была христианской и проримской, а другая — языческой и проиранской. Во времена перемен и общей нестабильности религиозные воззрения людей подвергались таким же значительным колебаниям, как и их политическая лояльность. Примером тому является сам Тиридат IV.
Вопросы, связанные с последовательностью, идентификацией и хронологией армянских царей в 3-м и 4-м столетиях обременены нестыковками и противоречиями. Было показано, что генеалогия с последовательностью от отца к сыну не соответствует имеющейся в нашем распоряжении шкале времени, что обусловлено частыми повторами и иными анахронизмами, к которым нередко прибегают армянские источники32. Современные исследователи не признают полную достоверность царского списка33. Задача усложняется еще больше из-за отсутствия местной монетной чеканки, которая могла бы служить ориентиром по аршакидской династии. Впрочем, получающаяся в итоге неразбериха с датами и царскими именами всё же доказывает один важный базовый факт: Армения постоянно страдала от ожесточенной борьбы разных группировок. Для рассматриваемого нами периода имеются свидетельства о трех отдельных случаях разлада внутри Аршакидского дома: сначала — в период правления Каракаллы, вторично — в 287 г., когда в царской семье имело место братоубийство, и, наконец, в 330-х годах, когда один из царских родственников восстал против трона.
Армения была феодальным обществом, и именно в этом коренится главная причина внутренней слабости данного царства. Оно было разделено на множество отдельных областей, занятых изолированными общинами, управлявшимися знатными родами, внутри которых власть передавалась по наследству и которые назывались нахарарами и азата-
31 Как было показано, у Агафангела обнаруживаются два варианта текста, касающиеся обращения Константина и Тиридата, один из которых противоречит традиционной точке зрения о том, что Тиридат принял христианство раньше, см.: Gulbekian 1977: 51-54.
32 Hewsen 1978-1979: 101-103.
33 Ср.: Toumanofï 1969: 274-275; Hewsen 1978-1979: 99; Frye. Iran: 293 примеч. 27; Lang 1983: 517-518.
674
Часть пятая
мим. Эти аристократы могли контролировать ситуацию в своих областях, оставаясь относительно независимыми от центральной власти и не сталкиваясь с вмешательством в свои дела с ее стороны. Они занимали внушительные укрепленные пункты, господствовавшие над их имениями в речных долинах и над горными пастбищами. Сам характер местности в значительной степени гарантировал неприкосновенность их владений; по этой причине знатные роды сохранялись и много позже расчленения царства и ликвидации монархии. Их земли, будучи военными фьефами, делились на парцеллы, и именно это позволяло им собирать свои отряды, из которых и состояло армянское войско, чья лояльность зависела преимущественно от нахараров, командовавших этими контингентами.
Царь очень сильно зависел от доброй воли местных магнатов, поскольку в их руках находился прямой контроль над большей частью земли, армией и земледельческим населением. Они оставались ему верны в обмен на сохранение за ними некоторых наследственных и почетных должностей при дворе. Вместе с тем они были озабочены собственным статусом и прерогативами, и малейшее покушение на устоявшуюся иерархию званий и положений при дворе могло вести либо к потере их лояльности, либо к вооруженному мятежу. Напряженным было также и соперничество между знатными родами34 35. И всё же в среде знати чувство гордости иногда сочеталось с чувством непоколебимой преданности царю; местные источники неизменно отождествляют армянских правителей с домом Аршакидов. Всё это вполне соответствует строгой системе наследуемого статуса и старшинства, являвшейся краеугольным камнем армянского общества.
Урбанизированное население было небольшим и, очевидно, в значительной степени состояло из иноземных торговцев и ремесленников, по преимуществу сирийцев и евреев36. Центральная администрация отличалась компактностью; например, нет ни одного сохранившегося свидетельства о классе секретарей и протоколистов Армянского царства, хотя это может быть отчасти объяснено отсутствием местной письменности; вплоть до V в., времени изобретения армянского алфавита, греческий и арамейский оставались главными языками, использовавшимися в письменных сделках. Известны два редких примера греческих надписей, имеющих отношение к царскому двору: одна сообщает о деревне, подаренной царем некоему сановнику, другая — о постройке какого-то здания в Гар- ни37. Армянские Аршакиды также не имели возможности чеканить собственные монеты, несмотря на то, что на протяжении всей античности регион был богат минеральными ископаемыми и со времен династии Ар-
34 Manandian 1965: 69—72; Der Nersessian 1973: 292—294.
35 Фавстос рассказывает об одной вражде в правление Хосрова Ш, в ходе которой два княжеских рода, Манавазяны и Ордуни, взаимно истребили друг друга, см.: Фавстос. Ш.4.
36 Фавстос. IV.55; см.: Manandian 1965: 64—65.
37 SEG xv.837, 836. М.-Л. Шамон датирует первую (Nq 837) второй половиной первого века н. э., но во второй лучше всего усматривать ссылку на Тиридата IV: Chaumont 1976: приложение 1: 185—188, рис. 4а—b; Toumanoff 1970: 477—478. Об использовании арамейского языка в аршакидский период см.: Périkhanian 1971: 5—8.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
675
ташесидов (иначе Арташесянов) существовала традиция монетной чеканки. Таким образом, денежные сделки совершались в иноземной валюте, римской и сасанидской, что отражает децентрализованный характер и зависимый статус царства38.
Как видим, противоборство существовало на многих уровнях: между двумя имперскими силами, между членами аршакидского царского дома, между царем и местными властителями, а также между самими знатными родами. Следовательно, когда армянские источники рисуют единую и централизованную страну под властью аршакидской монархии, они представляют полностью искаженную картину39. Царь находился под сильнейшим прессингом обстоятельств, на которые он не мог повлиять, а также как под внешним, так и под внутренним давлением.
IV. Пограничные районы
К собственно Армении примыкало несколько малых государств, которые в разное время и в разной степени подчинялись этому царству. К северу лежали небольшие царства Иберия и Албания, каждое из которых играло важную роль в защите кавказских перевалов от племен, мигрировавших на запад и на юг из степей Центральной Азии. Аршакидская (или Парфянская) династия правила в Иберии примерно со 180 до 284 г., а в Албании — до конца V в.40. Надпись Картира упоминает иранское вторжение в Иберию и Албанию, случившееся когда-то после 260 г., а в RGDS оба царства перечислены среди вассалов Шапура41. В самом деле, царь Иберии Амазасп получил привилегированное положение в иерархии сасанидского двора42. В 284 г. иберийский трон перешел к Мериба- ну Ш, члену иранского княжеского рода Михранидов. В качестве иранского вассала в 296—297 гг. он оказывал военную помощь Нарсесу. Тем не менее, после победы Галерия ему позволено было сохранить трон в обмен на подчинение Риму. Впоследствии, в связи с тем, что примерно в 335 г. Мерибан обратился к христианству, ориентация царства на запад усилилась43. Другие приграничные районы управлялись наследственными князьями, называвшимися бдэхшами (или витакссши)44. На вос¬
38 О распространении римских, парфянских и сасанидских монет в Армении см.: Muselyan 1983 — на армянском языке с русским резюме; Akopyan 1984 (Акопян Г.П. Древняя Армения в торговле Запада с Востоком (первые века нашей эры) Ц Советская археология (1984) 2: 70—90); Mousheghian et al 2000.
39 Garsoïan 1971: 342; Hewsen 1978—1979: 95.
40 Toumanoff 1959: 21—27; Toumanoff 1963: 81—84.
41 Sprengling. Iran: 47 (ctk. 12—13): 51—52; RGDS § 2 = Sprengling. Iran: 7 (ctk. 2), 73 (ctk. 3).
42 RGDS §25 = Sprengling. Iran: 9 (сгк. 25), 12 (сгк. 31), 76 (сгк. 60); см.: Toumanoff 1969: 252-256; Chaumont 1973: 701-707.
43 Toumanoff 1963: 374—377.
44 Toumanoff 1963: 154 слл.; Adontz 1970:222—223. (О витаксах см. также: Дмитриев BA. Сасанидское государство в известиях римского историка Аммиана Марцеллина Ц Вестник Псковского гос. ун-та. Серия: Социально-гуманитарные науки (2008) 3: 13—14. — Â.3.)
676
Часть пятая
токе Армении находилось мидийское пограничье, включающее земли в Атропатене и в Адиабене, вырванные силой у иранцев в 298 г. К югу лежали необычайно важные сирийская и арабская смежные зоны, сами разделенные на несколько автономных княжеств. Сирийское пограничье, ранее являвшееся царством Софена, включало княжества Ингилена, Андзитена (Андзит), Малая и Большая Софена, каждое с собственным местным правителем. Арабская смежная зона, состоявшая из территорий, отнятых у прежнего царства Кордуена и у Мигдонии, управлялась князем Арзанены, к вассалам которого относились правители Моксены, Кор- дуены и Забдицены45 46. Внутри каждой смежной зоны княжества складывались из некоторого количества округов и районов, находившихся под контролем подвассалов — азатов46. Вряд ли стоит удивляться тому, что при таком многообразии региональных обозначений римские авторы не могли достигнуть между собой согласованности в вопросах номенклатуры. Они использовали расплывчатые обозначения, такие как gentes («племена»), regiones («области») и eOvr) («народы»), поскольку им не удавалось четко различать между собой крупные регионы и их подразделения47. Поэтому пять княжеств, перечисленных Петром Патрикием в качестве тех, которые были уступлены Риму в 298 г., не соответствуют поименованным у Аммиана Марцеллина пяти «областям за Тигром» («regiones Transtigritanae»), сданным Иовианом в 363 г.
Княжества состояли в весьма специфических и неоднозначных отношениях с самой Арменией. Князья пограничных зон до известной степени сохраняли лояльность царю и продолжали играть определенную роль в армянских делах даже после соглашения 298 г. Сочинения григорианского цикла47а упоминают князей Ингилены, Андзитены и Софены при дворе Ти- ридата IV48. В IV в. по меньшей мере часть Ингилены, как выясняется, оставалась царским владением, и аналогичную ситуацию можно видеть в том, что касается имений на римской провинциальной территории, которыми владел армянский царский дом49. Зафиксировано также несколько местных князей на службе у Хосрова Ш в пору его беспокойного правления в 330-х годах50. Однако, несмотря на свой номинальный статус вассалов армянского царя, правители пограничных зон обладали высокой степенью автономии. В самом деле, римское и иранское вмешательство в дела Армении во многом укрепляло и способствовало длительному сохранению независимости этих княжеств.
45 Adontz 1970: 27-37.
46 Chaumont 1969: 123.
47 Фест. Бревиарий о деяниях римского народа. 14; Аммиан Марцеллин. XXV.7.9; Зоси- ма. Ш.31.
47а Имеются в виду сочинения по истории обращения армян в христианскую веру, центральной фигурой которых является Григорий Просветитель — первый патриарх Армянской Апостольской Церкви. — А.3.
48 Агафангел. Аа.795, 879-883; Aq.135, 164.
49 Фавстос. V.7; ср.: Дион Кассий. LXXVIIL77.4; Кодекс Феодосия. XI. 1.1.
50 Фавстос. Ш.9.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
677
При римлянах их земли получили статус «союзных общин, самоуправляемых и освобожденных от податей» («civitates foederatae liberae et immunes»)51. При вступлении на престол эти князья, вероятно, получали от императора соответствующие их статусу инсигнии (insignia, знаки, символы власти) и щедрые подарки52. Всё это подтверждает их значимость в глазах римлян в деле обеспечения безопасности восточных рубежей. Как кажется, княжества с самого начала освобождались от императорских гарнизонов и администрации, но совершенно очевидно, что римские войска, когда это было необходимо, свободно действовали на их территории, и, по крайней мере, в IV в. в боевых подразделениях служили местные жители53.
V. Очерк исторических событий
В ходе гражданской войны между Песценнием Нигером и Септимием Севером царь Армении не стал вовлекаться в конфликт, но строго соблюдал нейтралитет, что позволило ему, когда в 194 г. Север одержал верх, установить дружеские отношения с новым императором54. Вопрос о том, кто именно был этим царем, остается спорным, но, вероятнее всего, речь идет о Хосрове I55. Царь этот, конечно, являлся Аршакидом и близким родственником парфянского царя, Вологеза V. Как бы то ни было, утверждается, что в 198 г. он принял участие в кампании Септимия против Ктесифонта56. Ничего не сообщается о причине его перехода на римскую сторону, но для П в. характерен постепенный упадок могущества и единства Парфянской державы, при этом римские восточные кампании часто оказывались успешными. Также вероятно, что армянского царя отнюдь не удовлетворяло его положение парфянского вассала, и он желал получить большую свободу действий под покровительством Рима57. Не исключено, что в Ш в. между Арменией и Римом преобладали хорошие взаимоотношения. Следует отметить, что, несмотря на вмешательство Каракаллы в армянские дела примерно в 215 г., что, вероятно, явилось следствием династических распрей, никто из династии Северов не принял титул «Armeniacus maximus» («Армянский Величайший»)58. Хотя ка¬
51 Кодекс Феодосия. ХП.3.6.
52 Для более позднего времени это засвидетельствовано Прокопием Кесарийским, см.: О постройках. Ш. 1.17—23; ср.: Фавсгос. V.38; Мовсес Хоренаци. П.7, 47.
53 В «Notitia Dignitatum» перечислены три войсковых подразделения с эпитетами, которые указывают на то, что набраны они были в самом этом регионе: «ala quintadecima Flavia Carduenorum» (XV Флавиева ала кардуенов), «cohors quartadecima Valeria Zabde- norum» (XIV Валериева когорта забденов) и «equites sagittarii Cordueni» (конные лучники кордуены), см.: Not. Dig., Or. XXXVI.34, 36; Oc. VI.83 = VQ.209.
54 Геродиан. Ш. 1.2—3.
05 Chaumont 1976: 153—154 примеч. 463.
56 Дион Кассий. LXXV.9.3; см.: Геродиан. Ш.9.2.
57 Toumanoff 1969: 244—245.
58 Дион Кассий. LXXVÏÏ.12.12. В надписи CIL VIE. 10236 слово «Armeniacus» считается ошибочным написанием вместо правильного «Germanicus», см.: RE П.1, сгб. 1186 под словом «Armeniacus».
678
Часть пятая
кая-то упомянутая Дионом Кассием экспедиция под командованием Феокрита была расценена как неудачная59, Каракалла обманом заставил армянского царя прибыть к нему и сразу же низложил его. Впрочем, самым примечательным аспектом этого эпизода является тот факт, что Каракалла смог вызвать Хосрова к себе с использованием «дружеского послания» («cpiXtxotç ypàfxpaaiv»)60. После периода волнений в Армении император Макрин в 217/218 г. восстановил здесь на троне Тиридата, сына Хосрова61.
Падение парфянского царского дома и восхождение иранских Са- санидов еще сильнее укрепили узы, связывавшие армянских Аршакидов с Римом. Вскоре после того как Ардашир разбил последнего парфянского царя, Артабана (около 224 г.), он начал кампанию с целью получения контроля над Арменией и искоренения здесь аршакидской династии, которая воспринималась как центр противостояния сасанидскому вмешательству62. Вторжение, однако, было отражено, и, как утверждается, армянское войско развило свой успех, перейдя в контрнаступление, дойдя до самого Ктесифонта. Согласно местным источникам, армянское сопротивление поддержали бежавшие сыновья Артабана и представители некоторых влиятельных парфянских родов63. С другой стороны, надпись Ша- пура (RGDS) ясно показывает, что вскоре многие парфянские аристократы примирились с новой правящей династией и забыли о своих клятвах верности Аршакидам64. Следует поэтому признать, что сопротивление армянских Аршакидов продолжилось в значительной степени благодаря римской поддержке.
Сами римляне быстро отреагировали на сасанидскую угрозу. В связи со сменой правящей династии в Иране и Дион Кассий, и Геродиан утверждают, что Сасаниды лелеяли честолюбивые мечты восстановить былую славу Иранской (Ахеменидской) державы65. В 232 г. Александр Север в союзе с Арменией приступил к скоординированной атаке на иранцев66. Колонна под командованием Юния Пальмата должна была напасть на Мидию через Армению, где на обратном пути из этого похода она оказалась на горных перевалах в суровую зиму67.
59 Дион Кассий. LXXVIL21.1. Но имеется также упоминание о добыче, захваченной римлянами в Армении, см.: Дион. LXXVIII.27.4.
60 Дион Кассий. LXXVn.12.12; см.: Toumanoff 1969: 245—248.
61 Дион Кассий. LXXVIII.27.4.
62 Дион Кассий. LXXX.3.3; см.: Nöldeke 1879: 15.
63 Агафангел. Ag.9b; Мовсес Хоренаци. П.73.
64 RGDS § 23—24 = Sprengling. Iran. 9 (сгк. 23—24), 11 (стк. 29), 76 (сгк. 57).
65 Дион Кассий. LXXX.4.1; Геродиан. VI.2.7. В современной исторической литературе приводятся аргументы в пользу того, что опасения римлян основывались на неверном понимании истинных целей Сасанидов, см.: Frye. Iran: 296—297; Kettenhofen 1984b. Это не означает, что Сасаниды не сознавали своего иранского наследия: и они сами, и их парфянские предшественники заявляли о том, что они — потомки ахеменидских царей, см.: Frye 1964.
66 Геродиан. IV.5.1.
67 Геродиан. VI.5.5; 6.3; Зонара. ХП.14; см. также: Сочинители истории Августов. Александр Север. 58.1.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
679
После иранской победы при Месихе и гибели Гордиана Ш в 244 г. новый император, Филипп Араб, немедленно уладил дело миром со своим иранским противником Шапуром I68. Условия соглашения включали запрет на дальнейшее вмешательство римлян в армянские дела. И всё же текст RGDS подразумевает, что впоследствии римский император предпринял какую-то попытку восстановить свое влияние в Армении, и на это нарушение мирного договора указывается как на предлог для второго крупного похода Шапура на запад69. Эта римская акция может также объяснить, почему Шапур не развил свой успех сразу же в 244 г., поскольку, судя по всему, Армении удавалось оставаться вне иранского контроля приблизительно до 252 г. Весьма вероятно, однако, что в этот промежуточный период армянский царь находился в изоляции и становился всё более уязвимым для иранской атаки70. Последовавшая затем череда кризисов и катастроф, ударившая по Римской империи, решительно отвлекала внимание ее высших властей от того, что происходило в Армянском царстве.
Армянские источники сообщают об убийстве Хосрова I (по наущению Шапура) и о бегстве его сына Тиридата в Рим, помещая данные события в контекст западных кампаний этого сасанидского царя. Однако особых оснований доверять этим рассказам у нас нет71. Зонара подтверждает, что Тиридат П уже являлся царем Армении, когда был вынужден оставить трон, и добавляет, что сыновья последнего переметнулись к иранцам72. Во время своих кампаний в Сирии и в Каппадокии Шапур определенно полагался на поддержку Армении или по меньшей мере на ее нейтралитет. Сообщение о правлении некоего Артавазда как сасанидской «марионетки» в Армении можно также отвергнуть как чистейший вымысел73. Впрочем, после бегства Тиридата не могло пройти слишком много времени, когда сын и бесспорный наследник Шапура, Ормизд-Ардашир, стал первым сасанидским князем, правившим Арменией74. Об этой стране в надписи Шапура (RGDS) определенно говорится так, как если бы она являлась частью Эраншахра («государства иранцев»)75.
В неспокойные периоды правления Валериана, Галлиена и Клавдия Рим был просто не в состоянии вырвать царство армян из крепкой иранской хватки. Какими бы ни были отношения пальмирских династов, Одената и Зенобии, с Ираном и Арменией, лишь после победы Аврелиана над последней иранское доминирующее положение в восточном ре¬
68 RGDS § 3-4 = Sprengling. Iran: 7 (сгк. 3-4), 73 (сгк. 8-9).
69 RGDS § 4 = Sprengling. Iran: 7 (сгк. 4), 73 (сгк. 10); см.: Там же: 4, 84—85.
70 Chaumont 1976: 169.
71 См. сноску 18 наст, гл.; Toumanoff 1969: 252—253; противоположную точку зрения см. в: Chaumont 1976: 172.
72 Зонара. ХП.21; см.: Sprengling. Iran: 88.
/3 Зонара. ХП.71; см.: Toumanoff 1969: 255; противоположную точку зрения см. в: Frye. Iran: 294 примеч. 27.
74 RGDS § 18, 20 = Sprengling. Iran: 8—9 (сгк. 18, 20), 11 (сгк. 23, 25), 75 (стк. 41, 48).
/0 RGDS § 1 = Sprengling. Iran: 7 (сгк. 1), 73 (стк. 3); см.: Garsoïan 1981: 31—35.
680
Часть пятая
гионе могло хоть как-то пошатнуться76. Как бы то ни было, в 272 г. Ор- мизд-Ардашир наследовал своему отцу в качестве Великого Царя (шахиншаха), но остается неясным, сразу же ли ему на замену был поставлен в Армении Нарсес, другой сын Шапура. В «Истории Августов» подразумевается, что Нарсес стал там царем к 279/280 г., когда, как утверждается, он пытался завязать какие-то отношения с императором Пробом77. Не исключено, что Нарсес уже находился в ссоре со своим племянником Ва- рахраном II, наследовавшим иранский трон в 274 г., и что стремление первого войти в соглашение с Римом было вызвано сильным желанием Нарсеса, намеренного доказать свое превосходство и тем самым развязать себе руки. Из ненадежных и противоречивых рассказов, дошедших от этого периода, трудно реконструировать точную последовательность событий. Впрочем, имеются веские аргументы в пользу отнесения правлений двух армянских Аршакидов к годам перед 298 г., которые до некоторой степени совпадают с периодом, когда Нарсес занимал пост Арменшаха.78. В сочинении Мовсеса Хоренаци обнаруживается утверждение, что Армения управлялась иранским князем в течение двадцати семи лет, то есть между 252 и 279—280 гг.79. Поэтому было высказано предположение, что Нарсес и Проб пришли к соглашению о разделе Армении и о водворении аршакидского князя, Хосрова, в качестве римского вассала в западной части царства80. Хосрова, вероятно, можно отождествить с одним из сыновей Тиридата, перебежавших на иранскую сторону в ходе кампаний Шапура. Этого сына можно рассматривать как подходящего кандидата, поскольку, в соответствии с традиционными установлениями, он обладал всеми правовыми основаниями быть иранским кандидатом не в меньшей степени, чем римским вассалом. Имеются ясные основания для предположения о том, что в 283 г. Хосров, отец Тиридата IV, сыграл определенную роль в иранском походе Кара, к чему арменшах Нарсес совсем необязательно должен был относиться крайне негативно81, ибо после неожиданного краха этой кампании Хосров, про- римский царь Армении, не был наказан. Впрочем, несколькими годами позже, в 287 г., он был убит собственным братом по имени Тиридат, тогда
76 Сообщается, что Зенобия, царица Пальмиры, в период своего кратковременного господства в восточной части Римской империи заключила союзы и с Ираном, и с Арменией, см.: Сочинители истории Августов. Аврелиан. 27.5; Тридцать тиранов. 30.7. Согласно «Истории Августов», Аврелиан откупился от армянских конных отрядов, посланных на помощь Зенобии, см.: Аврелиан. 28.2. М.-Л. Шомон приводит аргументы, ставящие под сомнение наличие какой-либо связи между Пальмирой и Арменией, см.: Chaumont 1976: 178-179.
77 Сочинители истории Августов. Проб. 17.4—6; 18.1; см.: Toumanoff 1969: 257—259; противоположную точку зрения см. в: Seston. Dioclétien: 145—146.
78 Toumanoff 1969: 239, 261-263; Hewsen 1978-1979: 103-111.
79 Мовсес Хоренаци. П.77.
80 Toumanoff 1969: 257—261; противоположную точку зрения см. в: Chaumont 1976: 180—
182.
81 Сочинители истории Августов. Кар. 8.1—2; Синезий. О царской власти. 12, 16 (PG LXVI.1081).
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
681
как его юный сын, Тиридат IV (Великий), спасся бегством к римлянам82. В 293 г. Нарсес поднял открытый мятеж против своего племянника и выступил из Армении с толпой своих сторонников и союзников, чьи имена сохранились в надписи из Пайкули. Этот список включает некоего царя — вероятно, армянского — Тиридата83. Из надписи становится также ясным, что к этому времени Армения более уже не рассматривалась как часть Эраншахра («государства иранцев»); эта точка зрения подтверждается также и с римской стороны благодаря одной обнаруживаемой у Аммиана Марцеллина ремарке84. Утвердившись в качестве Великого Царя, Нарсес — в глазах римских комментаторов — тут же вернулся к агрессивной неоахеменидской политике своих отца и деда85. В 296 г. он вторгся в римскую Месопотамию, где между Каррами и Каллиником сошелся в битве с Цезарем Галерием и разбил его. В следующем году Нарсес сосредоточился на Армении. Его здешняя акция требует тщательного рассмотрения, поскольку обычно считается, что Нарсес, покинув Армению в 293 г., своим преемником назначил Тиридата86. Так что необходимо найти какую-то вескую причину для его враждебности к Ти- ридату в 297 г.87. Ответ может состоять в том, что, как только Нарсес на время ушел со сцены, аршакидский князь, захвативший в 287 г. трон в западной Армении, распространил свой контроль и на восточную половину царства88. Это, несомненно, Сасаниды должны были воспринять как дерзкий акт, и, соответственно, вторжение Нарсеса 297 г. было предположительно осуществлено с намерением сместить Тиридата и восстановить иранский контроль над всей Арменией.
Тем временем Галерий собрал крупную полевую армию, чтобы начать контрнаступление. Он ввел эти войска в Армению и неожиданно для иранцев атаковал их лагерь к востоку от Саталы, наголову разбив неприятеля. Для Нарсеса это было полное и унизительное поражение. Он был вынужден подписать договор, по которому уступал Риму всю северную Месопотамию с проведением границы между двумя империями по реке Тигр. Пять «regiones Transtigritanae» («областей за Тигром»), взятые с южного фланга Армении, также были поставлены в положение римских вассалов. Армения, в свою очередь, получила дополнительную территорию на востоке, так что ее границы были отодвинуты до крепости
82 Агафангел. Аа.Ш.36; Aq.16; Мовсес Хоренаци. П.76; см.: Toumanoff 1969: Приложение В, 278.
83 Paikuli § Н = Herzfeld 1924: 118-119 (сгк. 45).
84 Paikuli § В, D = Herzfeld 1924: 97 слл. (стк. 9, 10, 18); Аммиан Марцеллин. ХХШ.5.11.
85 Лактанций. О смертях гонителей. 9; ср. ремарки о Шапуре П у: Аммиан Марцеллин. ХУП.5.5.
86 Toumanoff 1969: 261-263.
87 Гипотеза Б. Макдермотта о том, что к тому времени Тиридат IV уже наследовал армянский престол и принял христианство, не получила широкого признания, см.: MacDer- mott 1970.
88 Тусклый намек на это содержится, возможно, в рассказанной Фавсгосом истории о вражде между армянским царем «Тираном» и иранским наместником Атропатены, см.: Фавстос. Ш.20.
682
Часть пятая
Зинта в Атропатене89. Наконец, верховные права над Иберийским царством также были уступлены Риму90. В то время как иберийский царь, Мерибан Ш, удержал за собой трон, в Армении, как представляется, Ти- ридат III был теперь замещен своим племянником Тиридатом IV (Великим)91.
Соглашение 298 г. и устанавливаемый им мир предвещали полную реорганизацию месопотамской границы, однако свидетельства по поводу Диоклетианова укрепления лимеса вдоль Верхнего Евфрата скудны. Невозможно доказать, что для поддержания зависимого царя Армении там однажды вновь были размещены римские войска. «Notitia Dignitatum» (роспись должностей), составленная около 390 г., перечисляет войсковые части, находившиеся под командой дукса Армении (dux Armeniae)92. Они обнаруживают заметные различия с подразделениями в других пограничных провинциях, расположенных южнее: нет никаких отрядов иллирийских всадников (equites Dlyriciani), а вместо них преобладают вспомогательные подразделения в старом стиле — ауксилии (auxilia). Пока Армения и Иберия оставались зависимыми царствами, римские провинции, граничившие с восточной Анатолией, были в значительной степени защищены от вражеских вторжений. Поэтому дислоцированных на постоянной основе ал (alae) и когорт (cohortes) было достаточно для охраны рубежей вдоль Верхнего Евфрата и Черноморского побережья к востоку от Трапезунда (современный Трабзон). В «областях» (regiones), впрочем, римское военное присутствие могло восходить к соглашению 298 г. I и П Армянские легионы, а также IV, V, VI Парфянские легионы, вероятно, относились к тем многочисленным новым подразделениям, которые были сформированы Диоклетианом93, поэтому они могли выполнять роль ядра римских гарнизонов во вновь приобретенных княжествах94.
Немногое можно сказать с уверенностью об отношениях между Римом и Арменией, как и о событиях в восточной Анатолии в первой четверти IV в. Сохранившиеся римские источники отражают консгантинов- скую версию истории, которая тщательно избегает любое свидетельство о восточных делах, которое не относится прямо к теме прихода Константина к власти. Поэтому остается неясным, какая роль принадлежала армянскому царю (если таковая вообще была) в борьбе между тетрархами. Евсевий упоминает какую-то военную операцию в Армении, которую он прямо связывает с гонениями на христиан, инициированными Макси- мином Дазой в 312 г.95. Были приведены аргументы в пользу того, что в 314 г. между Константином и Тиридатом было заключено секретное соглашение, что могло бы объяснить охлаждение Тиридата к его старому
89 Adontz 1970: 176.
90 Петр Патрикий. Фр. 14 [FHG IV.189).
91 Toumanoff 1969: 265, прежде всего примем. 164.
92 Not. Dig., Or. ХХХУШ.
93 Jones. LRE: 57.
94 Iightfoot 1983: 189-190; Lightfoot 1986: 518-521.
95 Евсевий. Церковная история. IX.8.2; см.: Toumanoff 1969: 271—272.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
683
товарищу Лицинию96. Императорские титулы также указывают на какие-то действия в Армении в это время. Одна надпись из Северной Африки среди титулов, принятых Константином до 318 г., называет «Armeniacus maximus» («Армянский Величайший»). Соответствующая военная победа была достигнута, вероятно, его коллегой Лицинием97. Эпиграмма старшего Симмаха также содержит намек на то, что некий Верин командовал войском в какой-то успешной войне против армян, однако обстоятельства этой войны нам совершенно не известны98.
Тем не менее Тиридат остался на армянском престоле, поскольку его лояльность Риму была гарантирована, а его скорое принятие христианской веры должно было вызывать у Константина доброе к нему отношение. Долгое царствование Тиридата завершилось примерно в 330 г. Существование у него преемника, Хосрова Ш, вызывает сомнения, но тогда между смертью Тиридата и восшествием Аршака II следовало бы поместить междуцарствие в восемь или девять лет99. Несмотря на беспорядки этих годов трудно поверить, что такой длительный разрыв и в самом деле существовал, поскольку, чтобы трон не оставался пустым, как внутренние, так и внешние силы должны были действовать быстро. Ясно, впрочем, что за смертью Тиридата не последовало никакого немедленного вмешательства в дела Армении — ни иранского, ни римского. Вопрос о преемстве, очевидно, был сперва решен самими армянами, хотя новый царь вскоре столкнулся с двумя крупными восстаниями, одно из которых возглавил некий Санесан (или Санатрук), представитель аршакидского рода, а другое — Ба- кур, правитель Арзанены100. Оба мятежника получили подмогу и поддержку от иранского царя Шапура П, вмешательство которого в дела региона было спровоцировано, несомненно, тем, что Константин был занят проблемами в другом месте. Согласно армянским источникам, за помощью к римлянам обратилась группа влиятельных лиц, верных Хосро- ву101. Судьба самого царя остается неясной, поскольку в рассказе Фавсго- са данный эпизод очевидным образом смешан с событиями, касающимися поражения царя Нарсеса от Галерия102. Угроза Армении, или, что более вероятно, измена Арзанены, заставила Цезаря Констанция принять восточное командование; в это время он находился в Константинополе, где принимал участие в торжествах по случаю тридцатилетия царствования своего отца и собственной свадьбы103, так что армянские события можно уверенно датировать 335 г. Шапур, между тем, послал в Армению войска
96 Honigmaim 1953: 18-25.
97 ILS 696; см.: Honigmaim 1953: 26.
98 Симмах. Письма. 1.2.7; PLRE I. 950—952.
99 Hewsen 1978-1979: 109-110.
100 Фавстос. Ш.7, 9; Мовсес Хоренаци. Ш.З—4, 6—7. Деятельность Санесана описывается также в одном албанском источнике, а на мятеж Бакура намекает Юлиан, см.: Мовсес Дасхуранци. 1.12; Юлиан. Речи. I.18d—19а.
101 Фавстос. Ш.21; Мовсес Хоренаци. Ш.10.
102 Hewsen 1978-1979: 104.
103 Евсевий. Жизнь Константина. IV.49.
684
Часть пятая
под командованием своего брата Нарсеса. Они захватили Амиду, чем спровоцировали Констанция выступить с восточной полевой армией, чтобы навязать противнику битву104. В Нарраре, что на северном берегу Тигра, между Амид ой и Кефой, молодой Цезарь одержал замечательную победу, сразив при этом князя Нарсеса105. Именно эти события, по всей видимости, привели к размещению постоянных римских гарнизонов в regiones («областях» к востоку от Тигра), поскольку Цезарю Констанцию приписывается фортификация Амиды и других крепостей106. К концу того же года титул «Rex Regum et Ponticarum Gentium» («Царь Царей и Понтийских Народов») был пожалован Ганнибалиану, сыну Далмация, единокровного брата Констанция107. Это, по мнению ряда исследователей, указывает на то, что Константин желал посадить на армянский трон представителя собственной семьи, возможно, в качестве противодействия попытке Шапура утвердить на этом престоле иранского принца108. Такой ход, однако, мог быть совершенно неприемлем не только для Сасанидов, но и для большинства армян. На самом деле нет никаких подтверждений тому, что Ганнибалиан действительно был поставлен здесь царем или что он хотя бы прибыл в Армению. Согласно «Пасхальной хронике», свою штаб-квартиру он разместил в Цезарее, в Каппадокии, а фраза, оброненная Аврелием Виктором, намекает на реальный объем его полномочий: «Armeniam nationesque circumsocias habuit» («получил в управление Армению и окружающие ее союзные народы»)109. Недвусмысленная заявка на римский сюзеренитет над Арменией и восточными пограничными областями была сделана перед лицом новых иранских попыток установить здесь свой контроль. Таким образом, титул «Rex Regum» («Царь Царей») полностью подходил для Ганнибалиана, чья задача заключалась в защите всех царств и княжеств восточной Анатолии, связанных с Римом договором и, до некоторой степени, религией. Вместе с тем данный титул должен был указывать на полное пренебрежение к величию иранского «царя царей» (шахиншаха). Впрочем, это могло быть всего лишь операцией сдерживания. Ибо если к концу своего правления Константин и в самом деле планировал завоевание Ирана, то Ганнибалиан, по всей видимости, являлся его выбором на роль римской «марионетки», которую он собирался посадить на иранский престол110. Однако смерть Константина весной 337 г.
104 Дискуссию по поводу датировки принятия Констанцием титула «Persicus maximus» («Персидский Величайший») см. в: Arce 1982; противоположную точку зрения см. в: Barnes 1983.
105 Ensslin 1936: 106; противоположную точку зрения см. в: Peeters 1931: 44.
106 Аммиан Марцеллин. XVTII.9.1; Житие Иакова Затворника //Nau 1915—1917: 7.
107 Origo Constantini VI.35 (это анонимное латинское сочинение «Становление императора Константина». — А.3)\ Аммиан Марцеллин. XIV. 1.2.
108 Eadie 1967: 149; Hewsen 1978-1979: 109-110.
109 Пасхальная хроника. Под 335 г. н. э.; Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских Цезарей. XLI.20.
110 Barnes 1985: 132. Альтернативным кандидатом мог быть Ормизд, брат Шапура П, который переметнулся к римлянам в 324 г., см.: Зосима. П.27; Аммиан Марцеллин. XVI.10.16; см.: Lieu 1986: 494.
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
685
помешала этой экспедиции и оставила нерешенным спор с Ираном за господство как над Месопотамией, так и над Арменией — и спор этот был унаследован сыном почившего императора, Констанцием П111.
Хронологическая таблица
АРМЯНСКИХ ЦАРЕЙ ИЗ ДИНАСТИИ
Аршакидов
Хосров I 191 — ОК. 215
Тиридат П 217 — ок. 252
[Иранское междуцарствие 252—279] Хосров П 279—287
Тиридат Ш 287—297
Тиридат IV 298—330
Хосров Ш 330 — (?)337
111 Либаний. Речи. LIX.60.
Глава 16
М. Сартр
АРАБЫ И НАРОДЫ ПУСТЫНИ
I. Единство И МНОГООБРАЗИЕ АРАБСКОГО МИРА
В наше время арабы идентифицируются только с помощью языкового критерия. Их образ жизни не имеет большого значения, поскольку араб может быть и оседлым земледельцем, и скотоводом, и ремесленником, и проводником караванов. В древности, однако, их образ жизни имел приоритет перед языком, и обозначение «араб» указывало прежде всего на человека, который был способен проживать в пустыне как кочевник или как обитатель оазиса. С таким образом жизни связывалась определенная социальная и политическая организация, в которой группа, племя и род играли ключевую роль. Слово «Аравия» было названием, применявшимся к любому пустынному региону, а «араб» — к любому жителю пустыни, независимо от его реального этнического происхождения. Для древних арабы — это те люди, кого мы сегодня называем бедуинами.
На исходе П в. большинство групп, обитавших в пустыне между Антитавром и Красным морем, были, по сути дела, арабами в современном смысле. К югу от Евфрата они являлись почти единственными жителями пустыни, хотя некоторая часть населения оазисов могла быть арамейской (в Пальмире). С другой стороны, к северу от Евфрата — в Эдессе, Натре или Ассуре — арабы были в меньшинстве. Хотя они и распространились по всему этому региону, но здесь определенно доминировала арамейская культура: язык, письмо и значительный процент имен и культов были североарамейскими (эдесскими). И всё же регион назывался: Arbayestan (Арбайесган) — у иранцев, Beth Arbaye (Бет Арбайе) — у арамейцев и Arabia (Арабия) — у римских историков1. Группы, обитавшие в пустынях на восточной окраине Римской империи, несмотря на определенные различия, объясняемые их долгим пребыванием на краю Плодородного полумесяца, образовывали однородное целое.
1 Сочинители истории Августов. Аврелиан. 26; Аврелий Виктор. О Цезарях. XXXV.3 (в качестве примера).
Карта 8. Арабы и народы пустыни
688
Часть пятая
Впрочем, не все они жили в пустыне. Некоторая часть арабов — в этническом или лингвистическом смысле — начала переходить к оседлости. Иногда города и деревни были населены одним только этим народом, как в Набатее и Идумее. В других случаях имело место смешение арамеев и арабов: так было и в городах на границе сиро-месопотамской пустыни (Эдесса, Хатра, Дура, Пальмира или Эмеса), и в сельской местности на краю степи, как на плато Хауран или в сирийской Халкидике. Необходимо учитывать последствия этих несходных условий существования, когда мы приступаем к описанию арабских групп, обнаруживаемых на Ближнем Востоке в 3—4-м столетиях.
Страбон пишет, что к востоку и к северу от Евфрата, в степи, которая раскинулась южнее равнин за Тавром и к западу от Тигра, уже в I в. обитали арабы скениты, «которых теперь называют малиями»2, но указывает, что армяне, сирийцы и арабы обнаруживают тесное родство не только в отношении языка, но и в образе жизни3. Плиний знал об арабском племени орройев4 5, в чем можно распознать сирийское обозначение эдессцев, а также об арабах претавах\ Таким образом, античные писатели имели все основания называть этот регион Арабией (Arabia), а правители Хатры — величать себя «царями арабов» со времен Санатрука I (примерно 175/177 г.).
Кроме того, некоторые арабские элементы присутствуют также и в надписях, и в культах Верхней Месопотамии. В Хатре наряду с арамейскими, иранскими и греческими обнаруживаются и такие имена, которые, без всякого сомнения, являются арабскими. В Эдессе династия Абгари- дов была арабской. Арабские культы засвидетельствованы в Хатре (бог- орёл Наср) и в Эдессе (близнецы Моним и Азиз).
Тем не менее, культурная среда в основе своей была арамейской, а если говорить точнее — североарамейской, то есть сирийской. Эдесский диалект арамейского языка с его особенным письмом утвердился по всей Сирии и в Верхней Месопотамии вплоть до Хатры и Ассура в течение П в., хотя самая древняя надпись датируется б г. н. э. Замечательный расцвет сирийской культуры случился в Эдессе в северовскую эпоху, в лучшую пору философа-гносгика Бардесана6. Поэтому было бы нелепо рассматривать Эдессу как исключительно арабский город, поскольку ее культура весьма мало обязана кочевым арабам региона.
С другой стороны, арабы переняли не только язык и письменность, но еще и большинство культов арамейского населения региона. Все семитские тексты написаны на арамейском языке, и нет га одного на арабском. К великой триаде Хатры принадлежали Хадад, Атагартис (Госпожа) и их сын Симиос; известно также, что множество аравийцев посещало святилище Гиераполя (иначе: Бамбика, совр. тур. Памуккале), чтобы почтить там своими подношениями сирийскую богиню Атаргатис7. Не было ничего осо¬
2 Страбон. XVI. 1.27 (С 748).
3 Страбон. 1.2.34 (С 41).
4 Плиний. Естественная история. V.24.20.
5 Плиний. Естественная история. V.24.21.
6 Drijvers 1966.
7 Лукиан. О сирийской богине. 10.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
689
бенно арабского в присутствии бога Шамаша в Хатре (которая на некото- pbix монетах называется городом Шамаша), а почитание здесь Баалшами- на напоминает, скорее, внутреннюю Сирию. Так что эта в значительной степени составная хатрийская цивилизация, в которой иранские, греческие и арабские элементы были привиты к сильному арамейскому субстрату, являлась, как выясняется, особенным созданием арабов Хатры.
Названия арабских групп, которые кочевали по всему региону, нам неизвестны. Ясное и живое Страбоново описание живших в шатрах арабов, сплоченных в независимые группы и взимающих умеренную дань с купцов, к Ш в. применено быть не может8. В самом деле, начиная непосредственно с северовского периода все эти группы были подчинены либо Абгаридам Эдессы, либо правителям Хатры.
Богатство, наблюдаемое в Хатре и Эдессе, невозможно объяснить только скотоводством и местным сельским хозяйством. Торговые пути между Вавилонией, северной Сирией и Анатолией пролегали либо по долине Евфрата на юге либо транзитом через равнины северного Антитавра; в качестве альтернативы использовался срединный маршрут через Хат- ру, различные ответвления от которого вели к северным городам, таким как Нисибида и Эдесса9.
Впрочем, обеспечить средства транспортировки и гарантировать безопасность путей (либо наоборот — сделать эти пути крайне опасными) могли только кочевники. Ни в Хатре, ни в Эдессе не было найдено никаких полезных караванных надписей, подобных тем, которые информируют нас о торговой активности Пальмиры. Тем не менее по меньшей мере два официальных документа из Хатры [Н.336 и Н.343] объединяют арабов («arby») — то есть бедуинов — с хатрийцами и другими постоянно проживавшими здесь жителями, ясно показывая, что эти бедуины образовывали одну из основных групп хатрийского социума. Относилось ли это только к тем, кто занимался скотоводством? Трудно представить, что кочевники не играли никакой роли в городской торговле, например, в качестве проводников караванов или тех, кто предоставлял средства транспортировки. Феноменальное развитие этого города, засвидетельствованное в источниках с середины П в., вряд ли можно объяснить иначе, кроме как значимостью доходов, приносимых перевозкой товаров.
Всё пространство пустыни и степь южнее Евфрата до широты Дамаска контролировала Пальмира10. Это место, являвшееся во 2-м тысячелетии до н. э. пристанищем кочевников-арамеев, начинает активно «арабизироваться». Правда, в качестве письменного языка сохранился арамейский как незаменимый инструмент торговли и обмена в целом. Ономастические исследования выявляют заметное присутствие арабов даже
8 Страбон. XVI. 1.27—28 (С 748).
9 Dillemann 1962: 176—188.
10 Ср. надписи из Пальмиры в изд.: Cantineau et ai 1930—1975 (далее цитируется как Inv. Pal.). Это издание не является сводом, так что приходится ссылаться на многочисленные отдельные публикации. Среди последних главными являются следующие: Cantineau 1933; Cantineau 1936; Cantineau 1938; Dunant 1971; Gawlikowski 1975. Также см.: Hillers, Cussini 1996.
690
Часть пятая
среди правящих элементов. Кроме того, наряду с местными культами (Бел) и культами Месопотамии (Набу) или Сирии (Баалшамин) значительный успех имели здесь и арабские божества: Аллат, Манат, Азиз, Арцу, джинны и Гад.
Процветание Пальмиры в I—П вв. привлекало сюда и других арабов, и это способствовало появлению некоторых групп в пальмирском регионе. На северо-западе Пальмирены (Пальмирской области) вокруг водных источников образовались постоянные шатровые поселения. Часть тех, кто обитал в них, разводили верблюдов и являлись важнейшим элементом в организации караванной торговли, тогда как овцеводы удовлетворяли потребности города в мясе; другие по-прежнему поставляли вспомогательные вооруженные силы в случае возникновения необходимости в них. Социальная организация Пальмиры и ее коммерческая активность описаны в одиннадцатом томе КИДМ. Мир, преобладавший в пустыне, и потребности города с бедной землей (несмотря на утверждение Плиния) в сельскохозяйственной продукции, неуклонно возраставшие11, способствовали ускоренному переходу к оседлости. Это верно не только по отношению к степным зонам к северо-западу от Пальмиры, но и по отношению к сирийской Халкидике, где в центре новых поселений оказывались римские форты.
Оседлые арабы, жившие в городах или деревнях, уже давно укоренились также и в земледельческих зонах. Именно так обстояло дело с иту- рейцами, которые обосновались вокруг Цезареи Арки в северном Ливане и которые благодаря некоторым практиковавшимся у них культам идентифицируются с арабами. Вид арабского города особенно характерен для Эмесы. Ее преуспевание определенно было относительно недавним фактом, как, вероятно, и само ее основание. Базовое оседлое население было арамейским, однако династия, правившая городом вплоть до эпохи Флавиев и позднее продолжавшая заведовать местным святилищем, была арабской. Верховное божество города, Гелиос (или: Элагабал; солярное божество, горний бог)12, благополучно сохраняло типичные арабские черты как в своих именах, так и в своих образах, как и его помощник Арцу. Слава храма Гелиоса, как и плодородие здешней почвы, хорошо обводненной и орошаемой из водохранилища, которое появилось благодаря дамбе на Оронте (возведенной, несомненно, в римский период), объясняет быстрое развитие города во 2-м столетии. Впрочем, и процветание Эмесы, и ее упадок были прочно связаны с расцветом и упадком Пальмиры, чьи караваны, перед тем как прибыть в сирийские порты, чаще всего останавливались именно в Эмесе. Эта общность двух городов усилилась, когда в какой-то момент после 212 г. их жители получили двойной gentilicium (родовое имя) — Юлии Аврелии, в каковом имени подчеркивалась связь Юлии Домны с Каракаллой.
Эмеса, лишенная славы, которую ей однажды принесло нахождение дочери сирийского первосвященника во главе императорского дома (do-
11 Will 1985.
12 Starcky 1975—1976.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
691
mus divina), сразу превратилась в малозначимый город, едва она утратила роль стоянки на пути из Пальмиры к морским портам. Либаний писал в конце IV в., что Эмеса перестала быть «городом»13 и что она «по-прежнему отправляет посольства и венки императорам, осознавая собственную нищету, но стыдясь выпасть из ранга “городов”»14.
В отличие от тех арабов, которых мы до сих пор затрагивали, так называемые сафаиты15 не имели собственного урбанизированного центра. «Сафаиты» часто бывали в окрестностях городов, таких как Востра, Канафа и Умм аль-Джималь, но занимались по преимуществу скотоводством и лишь изредка — земледелием. Они кочевали на степных просторах между Дират аль-Тулул на севере и ложбиной Вади Сирхан — на юге, хотя отдельные следы их присутствия были обнаружены в Пальмирене, в районе гряды Антиливана, а также на Евфрате. Тысячи оставленных ими граффити, написанные на арабском языке буквами южноарабского алфавита, дают несколько надежных хронологических указаний для датировки их присутствия в данной области. Упоминания набатейского царя и римлян определенно доказывают, что «сафаиты» обитали здесь в
1—2-м столетиях, и весьма вероятно, что некоторые граффити указывают на римско-иранские войны Ш в.
Таким образом, в 3—4-м столетиях «сафаиты» занимали часть сиромесопотамской пустыни и южной Сирии, независимо от того, были ли они поглощены либо присоединены к другим племенным группам. В Хаура- не часть «сафаитов» перешла к оседлости и подверглась эллинизации; в самом деле, в восточной части Хаурана обнаружено значительное количество арабских имен, в большинстве случаев принадлежащих именно так называемым сафаитам. Ряд племенных имен и топонимов также «са- фаитские». На этом основании можно сделать вывод о том, что некоторые их группы обосновались в городах и деревнях и уже там начали использовать греческую письменность.
«Сафаитская» экономика продолжала базироваться на кочевом скотоводстве в пустыне. Овцеводство, козоводство и, главным образом, раз- ведение лошадей и верблюдов образовывали основу их ресурсов. Имели место и грабительские набеги, однако их значение для экономики не стоит преувеличивать: «сафаитские» арабы находились далеко от магистральных путей, да и Рим проявлял бдительность. Неожиданные нападения могли предприниматься лишь при встрече с другой какой-нибудь «сафа- итской группой» — чтобы отнять у нее скот. Многочисленные обращения к богам (в особенности к Лату и Руде, то есть к Аллату и к Арцу), с тем чтобы их приверженцы могли получить ghnm (барыш), следует рассматри¬
13 Либаний. Речи. XXVII, р. 42 (ed. Foerster).
14 Либаний. Письма. 846.
15 Публикации основных сафаитских надписей: CIS V; Harding 1953; Winnett 1957; Oxtoby 1968; Winnett, Harding 1976. Трактовка: Milik 1985. О названии «сафаитский» см.: MacDonald 1993; Sartre 2001: 780—785. [Это условное название, введенное в научный оборот по местности Сафа под Дамаском, где в основном и были обнаружены сафаитские надписи; другая их группа происходит из Хаурана; см.: Фридрих И. История письма (Под ред. И.М. Дьяконова. М., 1979): 115. —А.З.]
692
Часть пятая
вать скорее в качестве просьб о преуспевании в целом (даже и благодаря увеличению стада), нежели как исключительное упование на добычу.
«Сафаитское» общество концентрировалось вокруг рода, древность которого скотоводы выводили из длинных генеалогий16. Обнаружение любого знака, оставленного предком, или вид его гробницы служили поводом для новых граффити, наносившихся для увековечения памяти о нем. Отсутствие какой бы то ни было верховной власти видно из дробления многочисленных кланов. Лишь немногие группы, наподобие авидхов, оказывались могущественнее других, возможно, благодаря привилегированному союзу с Римом. Но допустимо предположить и обратное: не была ли сила этих групп причиной того, что Рим выбирал в союзники именно их?
Длительное время от Хаурана и до оазиса Джауф, в Хегре и на Синае одной из самых могущественных и сплоченных арабских групп были набатеи17. Исчезновение Набатейского царства в 106 г. и закат караванной торговли, шедшей через Петру, привели к серьезным переменам в набатейском обществе, но применительно к рассматриваемому нами периоду результаты этих изменений оценить трудно.
Набатеи были не единственными насельниками прежнего царства, ставшего римской провинцией Аравией. В то время как арабы — среди которых доминировали преимущественно набатеи — являлись большинством или даже единственными жителями на Синае, в Хиджазе и в Каменистой Аравии (Arabia Petraea), в других местах они были смешаны с оседлым населением, либо арамейским, либо арамеизированным. В Хауране набатеи всегда составляли меньшинство: они контролировали эту область политически, но не заселяли ее в массовом порядке18.
Арабская природа набатеев засвидетельствована со всей очевидностью: хотя они и пользовались арамейским письмом, выведенным из «имперского» (иначе классического) арамейского, говорить набатеи продолжали по- арабски, что, несомненно, объясняет, почему со временем их письменный язык начал арабизироваться19, финальная стадия какового процесса представлена Немарской надписью — арабским текстом, сделанным набатейским письмом. Ономастика юга исключительно арабская, а ономастика оседлого населения севера в значительной степени арабизирована как в городах, таких как Востра и Филадельфия, так и в деревнях20. В то же самое время древние культы по-прежнему повсеместно чтились в регионе, даже если тенденция к interpretatio graeca («переводу на греческий», каковая шла рука об руку с закатом арамейской письменности) привела к тому, что Душара был назван Зевсом, а Аллат — Афиной21.
По всей провинции Аравия между П и IV вв. процесс перехода арабов к оседлости продвинулся далеко вперед. Рост деревень южного Хау-
16 Ср.: CIS V.2646.
17 В отсутствие свежего свода набатейских надписей приходится ссылаться на старое издание: CIS П.2. Толкование надписей из Хаурана: Starcky 1985.
18 Sartre 2001: 785-787.
19 Cantineau 1934—1935.
20 Sartre 1985b.
21 Sourdel 1952.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
693
рана (на равнине Востры и в зоне вокруг Умм аль-Джималь)22 привел к закреплению населения, возможно, отчасти вокруг римских военных гарнизонов, но прежде всего — вокруг больших и растущих сельскохозяйственных центров. В Умм аль-Джималь, чей арабский характер ясно зафиксирован ономастикой, самые древние надписи датируются концом правления Марка Аврелия23, а также периодом Северов24, но какое-то важное аборигенное поселение существовало здесь задолго до этого25. Точно так же большое количество арабских имен найдено на эпитафиях во всех сельских поселениях на равнине Востры и на безводном плато Трахонитиды; большинство этих надписей датируются Ш и IV вв. В горных деревнях (Джебель-Друз и Джебель-Араб) арабские кланы селились рядом с более древним местным населением, хотя те и сохраняли собственную организацию. Значительное распространение деревень по всему региону вполне можно объяснять миром, который обеспечивал Рим начиная с 1-го столетия, однако точно датировать стадии этого процесса текущие исследования не позволяют. Ясно, впрочем, что с Ш в. большинство деревень Хаура- на, в которых проживало существенное арабское или арабизированное население, развили собственные автономные институты26.
Переход к оседлому образу жизни не ограничивался одним Хаура- ном, он происходил по всей степной зоне провинции Аравия, от Хаурана до Негева. По меньшей мере к Ш в. деревни и маленькие городки Трансиордании значительно увеличились в числе. Огромное количество мест на Идумейском и Моавитском плоскогорьях, прежде вообще не имевшие жителей либо ими покинутые, оказались заселены именно в этот период. В Негеве главные города (Обода, Мампсис, Нессана), основанные в последнее столетие существования Набатейского царства, пережили упадок торговых перевозок между Петрой и Газой и с IV в. испытали возрождение. По всей этой зоне арабский элемент, если судить по ономастическим исследованиям, почти совершенно преобладал. Данный феномен начал давать о себе знать даже в северном Хиджазе, особенно на восточном берегу залива Айла27.
Политическое господство набатеев не привело к ликвидации автономии других арабских групп, как это можно наблюдать на примере так называемых самудитов. Самудигские граффити засвидетельствованы по всему северному Хиджазу, от Джауфа до Хегры, а также и до Вади Рама, в Рисквехе; они до сих пор не имеют точных датировок, но многие принадлежат первым пяти столетиям нашей эры28.
Арабы, обитавшие между Тавром и Синаем, обладают общими характерными чертами. Хотя обычно подчеркивается их роль в торговых перевозках на длинные дистанции — на основании взаимоотношений Паль¬
22 Ср.: Dentzer, Villeneuve 1985; Villeneuve 1985; Sartre 1987.
23 PAES Ш.а: Na 232, 177-180 гг.
24 PAES Ш.а: Na 274, 195 г.; Na 275, 208 г.; Na 276, 223 г.
25 De Vries 1986. 26 Sartre 2001: 773-779.
27 Ingraham 1981. 28 Sartre 2001: 785-786.
694
Часть пятая
миры и набатеев, — в действительности эта коммерческая активность была ограничена и осуществлялась лишь несколькими племенами.
Наиболее характерным занятием этих сообществ оставалось разведение овец. Данный вид скотоводства, практиковавшийся в полупустынной зоне Плодородного полумесяца, делал продолжительные миграции невозможными. Связь овцеводов и земледельцев оказывается одной из основ арабских сообществ, и совершенно неправильно подчеркивать их антагонизм, проявления которого отнюдь не были частыми29. Впрочем, большую часть времени отношения между ними не были особенно активными. Племя из харры29а («сафаиты»), как представляется, обреталось всё время в пустыне — скорее, как истинные кочевники, а не как те, кто занимается отгонным скотоводством.
Исходя из их основанного на использовании верблюдов скотоводства делается вывод о том, что арабы играли некую роль в ближневосточной торговле; однако в Ш в. ни Пальмира, ни Петра не играли определяющей роли в данной сфере. Впрочем, можно предполагать, что обладавшие вер блюдами арабы Верхней Месопотамии обеспечивали процветание Хат- ры вплоть до момента ее разрушения и продолжали водить караваны, следовавшие в Эдессу, Нисибиду или в Батны.
В Пальмире караванная торговля, как считается, достигла своего пика в период правления Адриана и Антонина Пия; в самом деле, после 160 г. соответствующие письменные свидетельства становятся более редкими. Важные караванные надписи не исчезают полностью, впрочем, помимо надписей, не имеющих точной датировки, но относящихся к периоду после 212—214 гг., найдены тексты, датированные апрелем 193-го, январем
199-го, а затем апрелем 247-го, 257/248-го и апрелем 266 г. Этих свидетельств достаточно, чтобы прийти к выводу, что, несмотря на проблемы той эпохи, пальмирские купцы продолжали часто посещать Вологесиа- ду30 и торговые фактории Месопотамии: в указанных текстах содержатся прямые указания на нападения бедуинов31 и на отсутствие безопасности32.
В Набатее закат транзитной торговли засвидетельствован Страбоном с начала 1-го столетия33. Сохранения караванов, которые формировались на Аравийском полуострове и направлялись на рынки Трансиордании и Сирии, было недостаточно, чтобы остановить этот упадок, но с Ш либо IV в., видимо, зародилась экспортная торговля пшеницей, вином, а также тканя¬
29 Rowton 1976; Rowton 1977; Rowton 1973; Banning 1986.
29aXарp a — каменистая пустыня, один из типов аравийского ландшафта; харра характеризуется наличием лавовых полей и большим количеством камней вулканического происхождения; районы харр разбросаны на территории от юго-восточного Хаурана до Мекки; при всей скудости ресурсов харры их оказывается достаточно для прокорма верблюдов и мелкого скота — некоторые племена проводят в харре большую часть времени; см.: Беляев Е.А. Арабы, ислам, и Арабский халифат в раннее Средневековье (М.: Наука, 1966): 46-48. -A3.
30 Inv. Pal Ш: 21.
31 Inv. Pal. X: 44.
32 Inv. Pal. Ш: 28; свободный проход стоил каравану примерно триста золотых денариев.
33 Страбон. XVI.4.24 (С 757).
Глава 16. Арабы и народы пустыни
695
ми и металлургической продукцией, предназначавшейся для полуострова, подобной той, которая несколько позднее зафиксирована между Вострой и Меккой.
Кроме того, арабы успешно находили себе занятия и в других местах. В Аравийской пустыне, к востоку от Нила, многочисленные набатейские граффити свидетельствуют о том, что представители этого народа были опытными проводниками караванов:34 набатеи, очевидно, внимательно следили за перемещением караванных маршрутов. Другие принимали участие в разработке месторождений на Синае (набатейские граффити от Ш в. в Вади Муккатеб и в Вади Хагтаг), а также в Вади Араба, где Фай- но, колония осужденных, действовала в конце Ш — начале IV в.
В этом обзоре отсутствуют племена самого Аравийского полуострова, образ жизни которых в рассматриваемый период известен нам очень слабо, хотя весьма вероятно, что их существование, как и у других арабов, зависело от скотоводства. Следует подчеркнуть, что арабская природа этих обитателей пустыни надежно подтверждается источниками повсеместно, даже когда они заимствуют у своих арамейских соседей язык, письменность и даже некоторые культы. Значение таких заимствований уменьшается от севера к югу и от запада к востоку: они незначительны или вообще отсутствуют у арабов, продолжавших жить вдали от урбанизированных центров, как в случае с так называемыми сафаитами и самудитами. Более того, арамеизация, и так особо не продвинувшаяся, в действительности уменьшается, а рост арабизации очевиден как у неарабских оседлых народов (в Хауране), так и среди самйх арабов; аналогично ситуация развивалась и у набатеев, чей письменный язык стал арабизироваться. Поначалу эта важнейшая эволюция выражалась в том, что арабы перешли от зависимости от соседних цивилизаций к оказанию собственного влияния на население Плодородного полумесяца. Это стало возможным только благодаря тому, что их связи с более отдаленной пустыней и с Аравией (и с многочисленными населявшими ее племенами) никогда не прерывались: из- за необходимости совершать сезонные перегоны скота и благодаря торговым обменам все народы степи и пустыни, несмотря на очевидную дезинтеграцию их политической организации, находились в постоянном контакте. Крупные политические трансформации, наблюдаемые в Ш в., были бы необъяснимы в отсутствие соответствующей социальной и политической подоплеки.
II. Апогей и крах
ЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Господство бедуинского населения в сиро-месопотамской пустыне и в север»- ной части Аравийского полуострова ставило перед римлянами двоякую проблему: с одной стороны, как отслеживать передвижения арабов и поддерживать между ними порядок и, с другой — как добиться, чтобы сила,
34 Littmann, Meredith 1953; Littmann, Meredith 1954.
696
Часть пятая
накопленная некоторыми племенами, не оказалась направленной против империи и не послужила успехам врага. Эта проблема перешла в категорию жизненно важных, как только династия Аршакидов уступила место более предприимчивым Сасанидам.
К северу от Евфрата княжества Эдессы и Хатры обеспечивали безопасность передвижения по окружающей пустыне. Находясь длительное время в парфянской орбите, оба княжества предпочли в северовский период избрать лояльность Риму. Усилия Сасанидов по их возвращению привели к исчезновению этих государств до середины Ш в.
К югу от Евфрата, в Пальмире, начиная с середины 3-го столетия значительно укрепилась власть местного князя, который на долгое время принял на себя роль единственного жандарма и защитника восточной границы. Восстание Зенобии и разрушение города развязали бедуинам руки после 272 г., но и вынудили Рим развивать иные системы взаимоотношений с арабами пустыни.
1. Эдесса и провинция Осроена
Арабское княжество Эдесса было одним из самых древних на той стороне Евфрата (при взгляде с римской стороны. —A3.); оно возникло тогда, когда некая арабская династия установила контроль над греческим городом Эдессой (семитское название: Орра) и окружающей его территорией. Со времени взятия города Авидием Кассием в 165 г. Эдесса находилась в союзе с Римом: эдесский царь Ману УШ официально носил титул «<DiXopco[xatoç» («Приверженец римлян»). Династия контролировала не только город и окрестные деревни, но и бедуинский регион, отданный в ведение этого арабарха35.
Синхронная узурпация императорской власти Септимием Севером и Песценнием Нигером поставила эдессцев в двусмысленное положение. Эдесса, как и жители Хатры, благоразумно взяла сторону того, кто оказался ближе, — сторону наместника Сирии Нигера. После его устранения Север обратился против тех, кто поддержал его соперника, а также против тех, кто, вероятно, извлек выгоды из этих затруднений, попытавшись восстановить дружеские отношения с парфянами.
Первой мишенью для Севера стала Эдесса. В 195 г. город был осажден и захвачен римскими войсками. Север, впрочем, не стал уничтожать зависимое государство — он учредил провинцию Осроену, поручив ее (вместе с небольшими княжествами Батны и Карры) прокуратору; при этом на троне Осроены он оставил Абгара36. После следующей кампании Севера в Месопотамии, состоявшейся в 197—198 гг., Абгар сохранил свой привилегированный статус в качестве зависимого князя, и Север пожаловал ему титул «царя царей». Пышный прием Абгара в Риме скрепил это урегулирование37.
35 Segal 1970: 19.
36 Wagner 1983; с поправками см. здесь: Gawlikowski 1998.
37 Дион Кассий. LXXIX.16.2.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
697
По смерти Абгара УШ Великого в 212 г. ему наследовал его сын, А6- гар IX Север. Впрочем, уже в 213/214 г. Каракалла низложил его под предлогом того, что тот дурно обращался со своими соотечественниками, и перевел Эдессу в статус римской колонии (январь 214 г.). Таков был конец арабского княжества Эдесса. Однако «Хроника» Дионисия из Телль-Мах- ре упоминает Ману IX ибн Абгара, правившего с 214 по 240 г.; о существовании некоего Абгара X Фрахада в 240—242 гг. свидетельствуют и монеты. Новые пергаменты и папирусы со Среднего Евфрата показывают, что Ману был лишь пасгрибой — наследником трона, но не был царем. Но вот его сын, Луций Септимий Абгар (X), стал царем в 239 г. и оставался в этом статусе до весны 243 г. Абгар X сохранял верность Гордиану Ш и искал убежище в Риме в 244 г., после того как Филипп Араб неожиданно и поспешно заключил мир с Шапуром Р8. После временного сасанидского завоевания Эдессы в 242 г. и возвращения ее Гордианом Ш она вернула (не позднее мая 243 г.) себе ранг колонии, управлявшейся двумя стратегами под контролем какого-то римского резидента. Власть над городом ускользнула от арабов на долгое время.
2. Хатра и Месопотамская Аравия38 39 *Образование арабского княжества в Верхней Месопотамии вокруг Хат- ры определенно относится к самым важным событиям в регионе во 2-м столетии. Впрочем, кульминация в истории этого княжества приходится на первую половину Ш в., на время перед его разрушением иранцами в 240— 241 гг.
(а) Противостояние Хатры северовской агрессии
В самом начале узурпации Песценния Нигера царь Хатры Барсемий предоставил ему отряд лучников. Поэтому в 198 г. Север осадил город в наказание за эту оказанную его противнику помощь, и долгое время считалось, что именно тогда Барсемий был заменен на Абдсамию [Н.79, 223, 277]; имя последнего содержится на нескольких недатированных надписях; он известен также как отец Санатрука П [Н.195]. Однако открытый позднее текст [Н.290] показывает, что в 192/193 г. Абдсамия уже был царем Хатры и поэтому его необходимо отождествлять с Барсемием.
Как представляется, в данном случае не было никакой династической связи с родом Санатрука I, первого правителя Хатры, присвоившего царский титул примерно в 175—177 гг., хотя новое появление имени
38 Loriot 1975: 768 примем. 822—823; ср.: Sartre 2001: 961—962.
39 Надписи из Хатры (Н.), последовательно пронумерованные с начала их публикации, °т Н.1 до Н.341, собраны в изд.: Vattioni 1981. Последующие, Н.343—344, опубликованы в изд.: Khalil 1982; ср.: Segal 1982; а надписи Н.345—387 — в изд.: Al-Nagafi 1983; cp.: Aggoula
1981; Aggoula 1983а, b, с; Aggoula 1985; Aggoula 1986; Aggoula 1987; Aggoula 1991; a также: Beyer 1998.
698
Часть пятая
Санатрук в лице наследника Абдсамии может указывать на какое-то кровное родство; но Абдсамия никогда не указывал имени своего отца, что вполне может отражать разрыв в законной линии преемства. В то же самое время сыновья Санатрука I, Нихр [Н.198], Нсрихб [Н.139, 198], а также внук с тем же самым именем [Н.139] не имели никаких титулов. Если произошла смена династии, то случилось это ненасильственным путем: статуи в честь представителей прежней правящей семьи остались на своем месте. Более того, данная перемена династии не была связана с римским вмешательством, поскольку предшествовала ему.
Хотя царь Хатры оказал Нигеру реальную помощь, тогда как другие ограничились лишь туманными обещаниями, Север не рассматривал этот город в качестве своей первостепенной цели. Мы располагаем двумя источниками, которые, впрочем, дают противоречивые рассказы. Согласно Геродиану40, Север осадил Хатру, после того как свою покорность ему выразил царь Армении, но осада произошла до выступления против Ктесифонта. С другой стороны, Дион Кассий датирует первую осаду Хатры временем после взятия Ктесифонта41, который, согласно римскому календарю религиозных обрядов для римского гарнизона в Дура-Евро- пос — «Feriale Duranum» [1.14—16], пал 28 января 198 г.; вторую осаду Дион относит к несколько более позднему времени42, предположительно к моменту прибытия Севера в Египет в начале 199 г. Примирить эти свидетельства вряд ли возможно, однако, по крайней мере, относительно одной вещи они согласны: осада (или осады) не имела успеха.
Несмотря на эту неудачу, Север представил блокаду Хатры как один из успехов своего правления: панель IV триумфальной арки Септимия Севера в Риме изображает именно эту осаду43. Военный провал, описанный Геродианом и Дионом Кассием, имел позитивное политическое и дипломатическое продолжение, которое они обошли молчанием: Хатра вошла в союз с Римом.
[Ь) Союз с Римом и крушение Хатры
Три латинских посвящения из Хатры подтверждают присутствие в этом городе римских отрядов, откомандированных туда в 235 г. и, в дальнейшем, при Гор диане Ш. Аур ель Стейн (1862—1943, венгерский путешественник и этнограф. —А.З.) обращает внимание на многочисленные римские укрепленные форты, castella, находившиеся к востоку от города и обращенные против иранского врага. Мильный камень Александра Севера, установленный в 231/232 г. в 5 км от Сингары, помогает с датировкой работ по укреплению лимеса, проведенных в этот период. Примерно в то же время (возможно, еще во время осады 198 г., если только мы не отнесем данное событие к кампании Каракаллы в 217 г.) Хатра вошла в состав империи, сохранив при этом свое автономное царское правительство (по той же модели, которую можно наблюдать в Эдессе), и стала союзником Рима про-
40 Геродиан. Ш.9.2—7.
42 Дион Кассий. LXXV.11—12.
41 Дион Кассий. LXXV.10—11. 43 Rabin 1975.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
699
тив парфян. Этот альянс засвидетельствован монетами Хатры, которые с того момента чеканились с аббревиатурой «SC» [«Senatus consulto» — «по постановлению сената»] и с расположенным над ней орлом, распростершим крылья. Более того, представленный на статуе Санатрука П нагрудник украшен изображением Геркулеса (защитника императорской семьи) на nâpy с юным богом, идентифицируемым с Ъгтгуп — династическим божеством Хатры44.
Данный период римского присутствия совпадает с правлением Санатрука П, последнего царя Хатры, чье имя засвидетельствовано надписями от октября 231 г. [Н.229] и в 237/238 г. [Н.Зб], но который не мог прийти к власти ранее. Его сын и наследник носил имя своего деда [Н.28, 36, 287]. Второй сын, M‘n’ [Н.79, 201], как кажется, около 235 г. обладал властью над «Аравией Wb> [Н.79], каковое название отсылает к региону Суматар-Арабеси, к юго-востоку от Эдессы. Таким образом, хатрийские цари расширили свою власть до этой зоны, которая во П—Ш вв. подчинялась местным династам (slyf) под контролем Эдессы и которая в силу исчезновения Абгаридов перешла в руки правителей Хатры.
Трудно определить точный объем полномочий Санатрука П. Арабский писатель Ади ибн Зайд, которого цитирует арабский ученый филолог Саалиби (1035 г.), говоря о власти царей Хатры, восклицал: «Где этот человек из Хадра (Хатры), тот, который возвел эту цитадель и который получает дань с земель, омываемых Тигром и Хабуром?» Можем ли мы из этого пассажа вывести, что Санатрук П являлся единственным правителем всей той области, которая определена таким образом? Сомнительно, поскольку не следует забывать о провинциальных властях Месопотамии. Тем не менее, присутствие сына Санатрука в качестве наместника Суматара показывает, что власть хатрийского царя могла распространяться далеко на запад. На самом деле нам не следует пытаться определять административные границы; Санатрук II царил над Хатрой и, вероятно, над кочевыми арабами региона, а его сын был делегирован управлять арабами земли WT Римская администрация, со своей стороны, надзирала за оседлым населением севера (Нисибида и Карры) и юга (Дура- Европос), а также за дорогами и определенным количеством укрепленных постов (Сингара, Ресена).
Такая структура власти делает некорректными рассуждения о слабости власти Санатрука: пойдя на союз с римлянами, он утвердился в качестве главы всех римских арабов Евфрата и Верхней Месопотамии. Его власть и престиж были значительны среди насельников пустыни: отсюда и арабские легенды, которые превращают его в строителя Хатры (Хадра). Ибо именно он, последний и самый могущественный из царей Хатры, наравне с Санатруком I, первым обладателем царского титула, обозначается именем Сатируна, легендарного героя.
Альянс между Хатрой и Римом обернулся крушением города. Вскоре после 227 г. он пережил первую иранскую атаку — ясное доказательство
44 Safar 1961: 10.
700
Часть пятая
того, что с этого времени Хатра была римским союзником. В ходе другой кампании, между 12 апреля 240 г. и 1 апреля 241 г., город пал. Вскоре жители его покинули: не сохранилось ни одной надписи, датируемой после 240 г. Когда в 364 г. Аммиан Марцеллин проезжал мимо Хатры, он видел одни только заброшенные развалины45. Падение Хатры, последовавшее за захватом Нисибиды и Карр в 238 г., отмечает собой энергичную стадию в установлении иранского контроля над Месопотамской Аравией. Один из стражей пустыни исчез, более не препятствуя миграции племен, начавших выходить из тени. Вскоре они станут причиной совершенно иной организации обитателей сиро-месопотамской пустыни.
3. Пальмира
В отличие от Хатры или Эдессы, Пальмира являлась частью Римской империи с начала I в. Это был перегринский город, полис, римской провинции Сирия, достигший во 2-м столетии настоящего экономического процветания и необычайно развившийся в урбанистическом и архитектурном отношении.
Решительные перемены в жизни Пальмиры пришлись на северовский период. Экономический и денежный кризис, поразивший империю, мог вызвать сокращение спроса на предметы роскоши, на котором город в свое время по-настоящему разбогател. Впрочем, в Ш в. прекратилась не вся международная торговля, которая до известной степени отвечала в этот период за благоприятную экономическую обстановку в Сирии. Гораздо больший эффект для торговых контактов имело возобновление войны: сначала гражданской войны между Нигером и Септимием Севером, затем — войны Севера с парфянами, а позднее — с их союзниками. В Месопотамии, в долине Евфрата и в пустыне, опять повсеместно возобладало ощущение опасности и неуверенности. Ослабление империй делало дороги незащищенными. Северовские кампании против Эдессы и Хатры, затем войны Каракаллы и Макрина, за которыми последовали парфянские контратаки, еще более усугубили ситуацию. Кроме того, финансовое бремя этих кампаний по большей части ложилось на знать восточных городов — естественных потребителей продукции, ввозившейся из Пальмиры.
Уход с исторической сцены Аршакидов и возвышение Сасанидов добавили проблем. Спорным остается вопрос о том, собирались ли Сасаниды с самого начала отвоевывать всю Ахеменидскую державу, как то утверждает Геродиан;46 но факт немедленной атаки, предпринятой иранцами против Рима, несомненен, и он знаменует собой начало долгого периода конфронтации. Если говорить конкретнее, в 226 г. Ардашир аннексировал Харацену, что прямо могло повлиять на пальмирскую торговлю: купцы из Пальмиры во П в. регулярно посещали Спасину Харакс, но уже в следующем столетии название этого города исчезает из [пальмирских] надписей.
45 Аммиан Марцеллин. XXV. 8.
46 Геродиан. VI.2.2; Kettenhofen 1984b.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
701
(а) От города к княжеству
В сложившемся менее благоприятном экономическом климате политическая ситуация в Пальмире изменилась. Уже давно наделенная институтами греческого восточного города, Пальмира между 213и216гг. получила от Каракаллы титул колонии с италийским правом (ius italicum)47, и это доказывает, что город не перестал принадлежать к империи. Гражданские институты продолжали работать вплоть до уничтожения города. Однако незадолго до середины столетия одна знатная семья приобрела такое влияние и власть, что Пальмира стала больше похожа на арабское княжество, нежели на греческий город-государство.
Одна надпись, не так давно открытая в Пальмире, заставила решить вопрос (ранее не вполне очевидный) о происхождении местной правящей династии48. Прежде догадывались, что ее основателем был Септимий Оде- нат (I), строитель родовой гробницы [Inv. Pal. VIII. 55], чьим сыном был Септимий Хайран, экзарх (eÇapyoç — начальник, глава, вождь) пальмирцев в 251 г. Не ранее 257—258 гг. Оденат (П), брат или сын Хайрана — первый никогда не указывал на свое родство с последним, — оказался во главе Пальмиры с титулом консуляра (consularis). Упомянутый выше новый текст показывает, что уже в апреле 252 г. Оденат (П) также имел титул экзарха пальмирцев и что генеалогия — сын Хайрана, сын Вабаллата, сын Насора, — считавшаяся генеалогией Одената (I), действительно относится к Оденату (П). Таким образом, теперь стало очевидным, что Оденат, отец экзарха Септимия Хайрана, есть не кто иной как царь Оденат и что экзарх Хайран тождественен Хайрану-Геродиану-Героду, старшему сыну Одената, связанному со своим отцом как экзарх и как царь царей. Это простое решение позволяет принимать в расчет и беспрепятственно использовать все доступные документы.
Оденат был отпрыском семьи, которая при Септимии Севере получила римское гражданство, и первым, кто приобрел это право, был его отец либо дед, если мы согласимся с тем, что Оденат родился около 220 г. или несколько ранее. Впрочем, данная привилегия, как кажется, не была связана с какими-то особыми полномочиями в Пальмире и просто свидетельствует о знатности этой семьи.
Лишь с 251 г. начинаются те датированные документы, которые позволяют реконструировать историю князей Пальмиры, хотя и со значительными лакунами. Не позднее октября 251 г. Септимий Оденат и его сын Септимий Хайран (который в «Истории Августов» именуется Геро- дом, а во многих греческих текстах из Пальмиры — Геродианом (идентификация в трех случаях остается спорной)) вместе получили титул «ras Tadmor» (греч. «экзарх пальмирцев»). Данный титул засвидетельствован сначала для сына [Inv. Pal. Ш.16), затем, в апреле 252 г., — для отца (новый текст), но этот хронологический порядок обязан лишь фактору археологической случайности. Неизвестно, какое событие послужило причиной такого повышения ранга. Если последнее относить к 251 г., то побудитель¬
47 Дигесты. L.15.1.5.
48 Gawlikowski 1985; Sartre 2001: 971-979.
702
Часть пятая
ным мотивом могла стать попытка приобрести полунезависимый статус: по-видимому, отец и сын воспользовались проблемами, последовавшими за смертью императора Деция в июне 251 г. Титул этот, впрочем, оказался эфемерным и более не встречается ни в одном позднейшем тексте.
В 257—258 гг. многие тексты наделяют Одената титулом «о Хартгротостос; UTraTixoç» («славнейший консуляр»)49, тогда как Хайрана только титулом «о Хар;гр6тато<;» («славнейший»). Другие недатированные тексты, почти определенно относящиеся к тем же годам, используют те же самые титулы50. В отличие от титула «ras Tadmor», который Оденат и его сын сами себе даровали, звание консуляра (consularis) — его носил лишь отец—могло быть даровано исключительно императором; но данный титул отнюдь не предполагает, что Оденат получил в ведение всю Финикийскую Сирию51.
Заботясь о своем городе, Оденат в какой-то момент52, возможно, вследствие падения Дура-Европос, торговой фактории, игравшей важную роль в пальмирской коммерции, предложил Шапуру союз. Впрочем, при возобновлении в 259 г. римско-иранской войны Оденат сражался в Вавилонии, а после пленения Валериана под Одессой (в 259 или в 260 г.) напал на возвращавшееся домой иранское войско и разбил его. Сомнительно, что именно по этому поводу Оденат принял титул «царь царей», которым он поспешил наделить своего сына Хайрана—Геродиана [Inv. Pal Ш.31). В следующем году Оденат одолел в Эмесе узурпаторов Квиета и Баллиста.
Защитник Сирии от иранцев и победитель узурпаторов, пагубно влиявших на стабильность и благополучие провинций, Оденат проявил себя как верный поборник римских державных интересов. И всё же отношения между Галлиеном и Оденатом отнюдь не были простыми и доверительными.
С одной стороны, Галлиен, занятый решением проблем в Италии и на Дунае, в начале 260-х годов не имел никакой возможности вмешиваться в дела на востоке империи. Оденат принял на себя роль незаменимого помощника, и Галлиен относился к нему именно таким образом: после пальмирской победы Галлиен добавляет к своему имени титул «Persicus Maximus» («Персидский Величайший»). В обмен на это он мог подтвердить те титулы, которые Оденат присвоил себе сам и которые, не являясь римскими, не могли нанести оскорбление императору. После новых побед Одената в окрестностях Ктесифонта в 262, а затем в 267-м или в 268-м, Галлиен мог даже пожаловать ему титул «mtqnn’ dy mdhnh’ klh» [Inv. Pal Ш.19 — надпись датируется августом 271 г., а потому она посмертная), по-гречески — «S7iavopB<oar)ç» («восстановитель»; не вполне удачно переведено на латынь как «Corrector Totius Orientis», «Исправитель всего Востока»). Складывается ощущение, что это скорее триум¬
49 Inv. Pal. Ш.17 (апрель 258 г.); ХП.37 (257/258 г.); Seyrig 1963: 161 (посвящение кожевенников) (257/258 г.); Dunant 1971: 66 No 52.
50 Seyrig 1963: 161 (посвящение Борода).
51 Противоположная точка зрения: Gawlikowski 1985: 261.
52 Петр Патрикий. Фр. 10 (FHGIV. 187).
Глава 16. Арабы и народы пустыни
703
фальный эпитет, нежели название особой властной должности53. Гал- лиен, впрочем, не собирался поступаться частью своей власти, и ясно, что Оденат никогда не имел титула Августа, который Галлиен, по распространенному мнению, пожаловал ему54 или который Галлиен, как утверждается в «Истории Августов», признал за Оденатом после победы последнего над Квиетом и Баллистой55.
С другой стороны, Оденат вел себя как суверенный правитель. Ради интересов Пальмиры он, не задумываясь, отправил посольство к Шапу- ру, находившемуся на тот момент в состоянии войны с Римом. Оденат также бросил вызов Шапуру, присвоив себе и сыну титул «царя царей». Более того, он вел себя в квазиимперском духе, разрешая аристократам из своего окружения — полководцам и наместнику города — прибавлять к своему имени gentilicium (римское родовое имя) «Септимий», выстраивая тем самым настоящий двор. Галлиен, бесспорно, отлично понимал значение этого жеста. Убийство Одената и Хайрана в Эдессе, случившееся между 30 августа 267 г. и 29 августа 268 г., хотя и покрыто завесой тайны (известно несколько различных версий данного события), по сути, вполне могло стать результатом заговора с привлечением римского должностного лица, Руфина, и с соучастием или, по крайней мере, с молчаливого согласия самого Галлиена56 57. Более того, вскоре после этого убийства римское войско, официально отправленное для наказания иранцев, было разбито пальмирцами, которые не испытывали никаких иллюзий относительно истинных целей этого экспедиционного корпуса. Смерть Одената давала шанс взять под прямой контроль важную пограничную зону, воспользовавшись образовавшимся вакуумом власти (в любом случае — мнимым), поскольку старшим из оставшихся сыновей Одената едва ли было более десяти лет от роду.
(Ь) Палимирский восток51
Восшествие Зенобии и ее сына Вабаллата знаменует собой не столько изменение в политике князей Пальмиры, сколько дальнейшее снижение уровня римско-пальмирских отношений. Некоторое время сохранялась неопределенность: поначалу Вабаллат довольствовался титулами, унаследованными от отца, — «illustrissimus rex regum» («сиятельнейший царь царей»), «£тт;оаюр0боатр> («восстановитель», в латинском варианте: «corrector»). Он устанавливал мильные столбы от своего имени, в котором отсутствовал императорский титул. Впрочем, по смерти Клавдия П летом 270 г. он отказался признать Квинтилла и принял титул «consul, dux Romanorum» и «imperator» («консул, предводитель римлян» и «император»), хотя по- прежнему воздерживался от провозглашения себя Августом; его алек¬
53 Swain 1993.
54 Сочинители истории Августов. Галлиен. 12.1.
55 Сочинители истории Августов. Тридцать тиранов. 15.5.
56 Gawlikowski 1985: 259.
57 Ср. гл. 2 наст. изд.
704
Часть пятая
сандрийские монеты несут его имя, но изображают портрет Аврелиана. То, что подавалось Зенобией как жест к примирению, Аврелиан уже расценил как откровенную узурпацию (Вабаллат отсутствует в консульских фастах). Завоевание Сирии в 270 г., Аравии и Египта зимой 270/271 г., а также части Анатолии в то же самое время явным образом превращало князей Пальмиры в прямых соперников Аврелиана. Летом или зимой 271 г. Вабаллат взял наконец титул Августа, а Зенобия — титул Августы.
Вабаллат был не первым арабом, надевшим порфиру. Помимо Филиппа Араба, который был уроженцем деревни Шахба в Хауране, здесь можно вспомнить авантюриста Урания Антонина:58 он являет собой почти точного предтечу князей Пальмиры, хотя и в более мелком масштабе. Этот уроженец Эмесы, связанный родством с древней династией Сампси- герамов, а также, возможно, жрец богини аль-Уззы (Афродиты), сумел нанести какое-то поражение Шапуру осенью 253 г. (если только надпись IGLSIV. 1799—1801 имеет отношение именно к этой битве), после чего провозгласил себя Августом (монеты, датируемые 253—254 гг.). В условиях той неразберихи, в какой оказались войска разных претендентов на императорский престол, данная акция показалась Антонину наилучшим способом мобилизовать все римские вооруженные силы Сирии против иранского захватчика, а также обеспечить собственным действиям легитимность. Результат этой авантюры неизвестен, за исключением того, что Антонин куда-то исчез; но с определенной уверенностью можно предполагать, что его судьбу в будущем в точности повторил Вабаллат. Этот последний, фактически встав во главе императорского войска, узурпировал императорский титул, когда казалось, что этот титул валяется на земле из- за отсутствия у Квинтилла наследников, а затем попытался представить себя как представителя Аврелиана (египетские документы, датируемые временем Вабаллата и Аврелиана). Хотя роль личного тщеславия игнорировать невозможно, за этой узурпацией необходимо видеть также политические и стратегические мотивы; Аврелиан, однако, отверг любой компромисс.
Он безотлагательно приступил к отвоеванию всей области. После первого поражения у Тианы, а затем при Иммах близ Антиохии и, наконец, под Эмесой, пальмирские войска укрылись в самой Пальмире. Зенобия попыталась бежать на восток, но вскоре была поймана, а город был бескровно взят римской армией весной 272 г. Всего несколько месяцев (?) спустя Аврелиан сровнял город с землей в наказание за поднятое пальмирцами восстание под предводительством Аспея;58а впрочем, на протяжении многих веков город сохранялся как небольшое поселение59. В отличие от Хатры, Пальмира не была заброшена. Диоклетиан разместил легион в восточной части города, были возведены также новые бани. В 328 г. на главной улице вновь подняли колонны. Несколько поздних христианских стел и присутствие здесь с начала IV в. епископа подтверждают сохранение скромного поселения. Однако город, некогда являвшийся средоточием восточных тор говых путей, великолепная столица пустыни, — этот город исчез навсегда.
58 Baldus 1971.
59 Will 1966.
58а Зонара. 1.60.1. — A3.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
705
III. ФИЛАРХИ И СОЮЗНЫЕ ВОЖДИ КОЧЕВНИКОВ
Исчезновение оседлых арабских государств и династий, которые контролировали кочевых арабов сиро-месопотамской пустыни, заставило Рим искать какие-то новые способы обеспечения безопасности границ империи. Возможность заполнить пустоту, образовавшуюся в результате крушения древних княжеств, получили теперь другие племена и группы племен.
Прямые отношения между Римом и союзными кочевыми племенами поддерживались уже давно. В самом деле, на границе провинции Аравия никакие местные административные единицы не сохранились или не остались на прежнем месте, если не считать нескольких перегруппировок племен. Поначалу Рим напрямую следил за пустыней вплоть до дальних оазисов Джауфа и Хегры; однако к концу Ш в. римляне ушли из самых глубоко выдвинутых форпостов, и это совпало по времени с усилением оборонительной линии империи на краю земель с оседлым населением. В этой новой ситуации союзные арабские племена побуждались к тому, чтобы заменить собой римские войска в пустыне.
1. Союзные племена и конфедерации
Документы, касающиеся прямых отношений между Римом и кочевыми племенами, происходят из двух зон: восточного Хаурана, где обитали «сафаиты», и севера Хиджаза, где Рим сохранял контроль над самудий- скими группами.
Так называемые сафаиты сохраняли в восточном Хауране строгую племенную организацию. Несколько греческих надписей, найденных в деревнях северного Джебель-Друза, которые посещали скотоводы, показывают, что кочевники предоставляли Риму контингенты, возглавлявшиеся их собственными вождями; римляне присваивали им титулы «стратег кочевников», «стратег лагерей кочевников», «этнарх» («начальник народа») либо «филарх» («начальник племени»)60. Указанные документы датируются второй половиной П—Ш в.
Ономастика заставляет думать, что кочевники почти определенно были «сафаитами», а один текс подтверждает это недвусмысленным образом: Оденат, сын Савада, назван «филархом» и «стратегом авидхов» — хорошо засвидетельствованного племени из харры (каменистой пустыни)61. Таким образом, весьма вероятно, что в данном регионе, далеком от маршрутов парфянских, а позднее иранских вторжений, Рим укреплял привилегированные союзы с главами наиболее могущественных племен так, чтобы те могли контролировать, — вероятно, во взаимодействии с римскими гарнизонами, — племена кочевников или тех, кто занимался в этом регионе отгонным скотоводством.
60 Sartre 1982: 122-128.
61 Harding 1969. (О харре см. сноску 29а наст. гл. — А.З.)
706
Часть пятая
На севере Хиджаза сложилась похожая ситуация. Во П в. на этом участке Рим не ощущал угрозы: в степной зоне, через которую проходила Via Nova Traiana (Новая Траянова дорога), связывавшая Филадельфию, Петру и Айлу, римляне располагали несколькими форпостами, по крайней мере, вплоть до периода Северов. С другой стороны, гарнизоны были размещены и в обширных оазисах, таких как Хегра и Думат аль-Джандал (Джауф), и в пунктах сбора кочевников, таких как набатейское святилище в Вади Рам. Единственным способом контроля за передвижениями племен были договорные отношения с их вождями, и в ответ на чрезмерную раздробленность Рим мог поддерживать различные перегруппировки с целью создания федераций, к примеру, такой, которая засвидетельствована в Руввафе на севере Хиджаза около 166—169 гг.: римских наместников провинции Аравия благодарили за восстановление согласия между кочевниками. Последние выразили свою признательность строительством святилища императорского культа, которое служило пунктом сбора конфедерации (которая по-гречески называлась £0voç, по-набатейски: sherkat); но не исключено, что речь идет лишь о римских войсках, набиравшихся в этом месте из представителей арабских племен.
Подобные альянсы могли существовать и в других местах. Они функционировали до тех пор, пока политическая ситуация оставалась стабильной, то есть пока союзные племена не оказывались под прессом более могущественных группировок, желавших прочно обосноваться на границах империи. Эти альянсы, однако, не всегда предотвращали разбойничьи набеги: в 190/191 г. Синай пал жертвой арабских налетчиков.
2. Возвышение племени танух62
Правдоподобные арабские предания констатируют, что арабскими союзниками Рима последовательно становились Гадима, князья Пальмиры, Лахм, Танух, Салих и Гассан. В то время как два последних продолжали фиксироваться в V—VI вв., первые четыре принадлежат к 3—4-му столетиям. Раньше трудности, связанные с интерпретацией и использованием арабских источников, побуждали историков либо отвергать, либо игнорировать эти предания. Новые эпиграфические и археологические открытия заставляют относиться к такой информации с большим вниманием — они подтверждают картину, передаваемую арабскими авторами, по крайней мере, в отношении представленной очередности.
Аутентичность одного из этих царей подтверждает надпись из Умм аль- Джималя, в которой упоминаются «xpocpeuç (держатель) Гадима, царь тану- хитов»63. Танух — это кочевое племя северо-восточной части Аравийского полуострова, перед тем закрепившееся в Сирии, видимо, к юговосгоку от Алеппо (сирийская Халкидика). На основе только этой информации (надгробная стела правителя и список мест, занимаемых племенем пример¬
62 Shahid 1984: 349-417; Caskel 1966.
63 PAES IV.a № 41.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
707
но в 630—635 гг.) невозможно определить, где именно территориально властвовал Гадима в середине Ш в. Впрочем, можно отыскать и археологическое подтверждение борьбы между пальмирцами и танухитами, упоминаемой в арабских преданиях, ибо выясняется, что одно важное аборигенное поселение в Умм аль-Джамале, к юго-востоку от позднеримского города, было полностью разрушено в Ш в. Заманчиво в этом видеть месть пальмирцев одному из опорных мест, или даже пунктов, сопротивления их танухитских противников64.
Исчезновение Бану-Одената, правителя Пальмиры, оставило сирийскую пустыню без присмотра. Ощущалась необходимость в какой-то эффективной полицейской силе, поскольку нестабильность возросла еще до падения Пальмиры. Арабское пограничье, весь П в. остававшееся почти не затронутым военными базами, испытало при Северах период активного строительства крепостей и сторожевых башен, в особенности на участке к северу от Трансиордании65, при этом некоторые города (например, Востра и Адраха) взялись за реконструкцию своих крепостных валов66. Эти меры не были направлены только против Пальмиры (которая до конца 260-х годов вряд ли рассматривалась в качестве врага) и, очевидно, предназначались, скорее, для отражения потенциальных нападений кочевых арабов, как тех, которые обитали в Аравийской пустыне и пытались воспользоваться бедами Сирии, так и прежде всего тех племен, которые находились на службе у иранцев. В самом деле, еще значительно раньше в Нижней Месопотамии, в Хире, утвердился и поступил на службу к Сасанидам отпрыск эдесской династии — Амр ибн Ади.
Власть Гадимы могла, таким образом, использоваться в качестве защиты от этих угроз. Ввиду отсутствия официальных римских документов, точный статус танухитского царя неизвестен. Он, несомненно, был федератом (foederatus, союзником) подобно варварам на рейнской и дунайской границах. Титул «царь» означает его превосходство над другими арабскими шейхами. Структура племенной группы, которая находилась в его ведении, неясна, но можно высказать предположение, что танух — это название племени, доминировавшего в более обширной группе, а именно в группе кудаа, к которому присоединились другие, менее сильные племена. Смутное племя танухитов могло, таким образом, влиять на области, довольно далеко расположенные друг от друга, хотя нет никаких свидетельств, подтверждающих мнение, что они доминировали над всеми арабскими племенами региона. Другие группировки могли извлекать выгоду из такого же статуса на других участках сиро-месопотамской и Аравийской пустынь, как и на территориях за Евфратом и в Хиджазе и Синае.
Более того, арабы вносили собственный вклад в дело обороны границы, предоставляя людской ресурс для многочисленных местных подразде¬
64 De Vries 1986: 237-238.
65 Parker 1986: 130-131.
66 Pflaum 1952; IGLS ХШ.9105-9106, 9108-9109.
708
Часть пятая
лений, упоминаемых в «Notitia Dignitatum». Некоторые из них прямо обозначены как арабские: «equites Saraceni Thamudeni» (сарацинские всадники тамудены) и «cohors secunda Ituraeorum» (вторая когорта игуреев); но большинство из тех, кто обозначен как «equites sagittarii indigenae» (коренные конные лучники), «equites promoti indigenae» (коренные всадники-пром- ты) и «dromedarii» (дромедарии), также, скорее всего, были арабами.
Диоклетианова реорганизация системы обороны рубежей должна была принимать в расчет эти новые взаимоотношения с кочевыми арабами. Отдаленные форпосты (Хегра, Думат аль-Джандал), по всей видимости, были оставлены их римскими гарнизонами, что отнюдь не предполагает утрату владычества. Тем не менее, охрана пустынных регионов была доверена кочевникам из числа союзников. С другой стороны, свидетельства существенной интенсификации оборонительных работ на краю степи можно видеть в появлении между Евфратом, Пальмирой, Дамаском и восточным Хаураном strata Diocletiana (Диоклетианова мощеная дорога), а также в цепочке фортов и лагерей, открытых на пространстве между оазисами Азрак и Айла и к северу от Синая; в Айлу был переведен и X Охраняющий пролив легион, а IV Марсов — размещен в Леджуне (Мо- ав). Все эти меры говорят о стремлении построить оборонительную систему вблизи свободных от пустыни зон сирийских провинций, тогда как степь и пустыня были закреплены исключительно за арабскими союзниками.
3. Верховенство Имру-ль-Кайса
В 328 г. Имру-ль-Кайс I ибн Амр, «царь (или: владыка) всех арабов, владеющий короной», умер. Его эпитафия (так называемая «Намарская надпись»), написанная по-арабски набатейским письмом, ставит перед нами серьезные интерпретационные проблемы не только в связи с различными чтениями, но также в силу того, что классические источники хранят молчание о событиях, зафиксированных данной эпитафией67. Как бы то ни было, в отличие от арабских преданий, она предоставляет нам важнейшую информацию из первых рук.
Имру-ль-Кайс был сыном Аахмида Амра ибн Ади, основателя Хиры. На момент своей смерти Имру-ль-Кайс находился на римской службе, поскольку его гробница расположена в Немаре, в степной зоне на краю римской провинции Аравия, то есть в месте, которое служило базой римского гарнизона. В любом случае, Имру-ль-Кайс декларирует, что его власть исходит от Рима. Но в то же самое время он похваляется своей властью над несколькими общинами, находившимися под иранским контролем. Быть может, за время своего правления он переменил лояльность? Это вполне возможно, хотя мотивы для такой смены патрона неизвестны: он мог принять христианство или поссориться с Шапуром П. В качестве альтер¬
67 Beeston 1979.
Глава 16. Арабы и народы пустыни
709
нативы можно предположить, что в период мира между персами и римлянами Имру-ль-Кайс преуспел в деле расширения своей власти над племенами как на востоке, так и на западе сиро-месопотамской пустыни. В любом случае, он гордится тем, что подчинил племена, обитавшие очень далеко друг от друга, а именно: «две группы аздитов и Низар» в северо-восточной Аравии (где он воевал против сильного города Тадж), племя маххидж, разбитое в оазисе Наджран на юго-западе полуострова, и племя маад в Хиджазе68. Делал ли он всё это, руководствуясь личными целями, в интересах ли персов (например, во время похода Шапура П в Аравию) или ради римлян? Любой ответ будет носить гипотетический характер, хотя все эти успехи, несомненно, оправдывают его титул «царь всех арабов». Имру-ль-Кайс, таким образом, возглавлял не только племя лахмитов, но и многие другие племена, включая оседлые общины, которые он поставил под присмотр своих сыновей.
Несмотря на всю мощь Имру-ль-Кайса, могли существовать и иные союзные римлянам группы, не подчинявшиеся его власти. В связи с племенем танух арабские предания представляют Гадиму как дядю Амра I ибн Ади по материнской линии и, следовательно, как двоюродного деда Им- ру-ль-Кайса. Мать этого последнего, Мавийя, была аздиткой, как и его супруга, Хинд; этот клан являлся дочерним по отношению к тануху и был подчинен Имру-ль-Кайсом. Поэтому последний мог вполне законно забрать наследство Гадимы на тех же самых основаниях; после смерти Гадимы его место заняли другие танухиты, вероятно, без конфронтации и раскола. Как бы то ни было, начало танухитского доминирования среди арабских федератов арабские источники датируют с момента смерти Имру-ль-Кайса; это господство должно было продолжаться всё 4-е столетие, до тех пор, пока они сами в конце этого века не были точно так же смещены кланом салих.
К 337 г. политическое, социальное и экономическое положение арабов сиро-месопотамской пустыни заметно изменилось. Скотоводство приобрело гораздо большее значение, чем их посредническая роль в международной торговле. Старые оседлые кланы, если только они не исчезли совсем, теперь утратили свои прежние преимущества и передали бразды правления новичкам; эти последние вышли из [Аравийского] полуострова позднее и не имели связей ни с греко-римской, ни с арамейской культурами, что было характерно для их предшественников. С другой стороны, политика защиты империи посредством клиентских государств, унаследованная от периода Юлиев—К\авдиев, давала возможность заключать соглашения с племенами, которые оставались по сути своей кочевыми, чья военная мощь использовалась, как и сеть их союзов, для обеспечения безопасности границ. Эта система, сверх того, опиралась на значительно усиленную систему укреплений. Это позволило римскому влиянию проникнуть непосредственно в сердцевинную зону полуострова, с тем, однако, неудобством, что вся эта система зависела исключительно от лояльно¬
68
Zwetder 2000.
710
Часть пятая
сти союзников (которая обходилась весьма дорого) и требовала постоянного зондирования их текущего статуса: едва союзное племя теряло влияние или несло какое-то серьезное поражение, его привилегированное положение ставилось под сомнение, поскольку оно уже не могло продолжать осуществлять функцию, которая, с точки зрения Рима, оправдала особое положение. Эти привилегии (прежде всего аннона) считались достаточно желанными, чтобы давать повод к постоянным ссорам и к многочисленным попыткам со стороны более бедных племен сбросить доминирующую группу. Таким образом, данному региону всегда был свойственен риск нестабильности, усугублявшийся сасанидской дипломатией.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
Глава 17
ПОЗДНИЙ ПОЛИТЕИЗМ
Глава 17а Г. Фоуден
МИРОВОЗЗРЕНИЕ1
Понятие «язычество» было изобретено ближе к концу существования самого этого явления, на исходе той эпохи, которая охватывается данным томом. Прежде оно обозначалось терминами «религия» или «благочестие», как почитание, которое многие народы испытывают не к одному, а сразу ко многим богам. В этом смысле монотеистические религии — иудаизм и христианство, как позднейшее ответвление первого, — для людей того времени являлись отклонениями. Но когда христианство начало набирать
1 Данный материал был сдан в издательство в 1988 г., а к 1999-му была доработана библиография к нему. Основными историческими источниками являются: Дион Кассий, Геродиан и «История Августов», «О Цезарях» Аврелия Виктора, а также Зосима (Budé / ed. Paschoud. Paris, 1971—2000). Обширная литература по «Истории Августов» не освобождает читателя от самостоятельного ответа, более или менее субъективного, на вопрос о том, что в этом сочинении ближе всего к правде, а что, скорее всего, сфабриковано, с тем чтобы затемнить цели автора (авторов) конца IV в. Но прогресс в изучении позднего политеизма обеспечивается в большей степени археологией, эпиграфикой и папирологией, нежели переоценкой литературных источников; см. исследования отдельных культов и регионов, опубликованные в EPR0 и ANRW, прежде всего: П: 16—18. По монетам см.: RIC; ВМС; Kent 1978. Среди обзоров, использующих тематический подход к описанию римского политеизма, работа М. П. Нильссона (Nilsson 1974) является самой здравой и наиболее полной. Книга Р. Макмаллена о язычестве в Римской империи (MacMullen, 1987) исключительно своеобразна, хотя содержащиеся в ней примечания пополнили наш библиографический список. Обзор И. Либешуэца о наиболее заметных конкретных культах, опубликованный в САН XI2, используется здесь как эталонный. Самым простым было бы написать некую «элементарную историю» позднего политеизма с того времени, когда начинаются постоянные и документированные взаимовлияния его с христианством — грубо говоря, со времени Диоклетиановых гонений. Устаревшая книга: Geffcken J. Last Days of Greco-Roman Paganism (1978 — это перевод нем. изд. 1929 г.) представляет собой вводный очерк в хронологических рамках, сконцентрированных на периоде от Ш до V в. Книга Р. Лейн Фокса
«Язычники и христиане» («Pagans and Christians») продемонстрировала, до какой степени к настоящему времени вынужденно «разбух» аналогичный нашему очерк, по крайней мере, в части материала до 320-х годов, и в особенности — за счет использования массы вновь открытых надписей и папирусов в попытке прийти к хронологически более дифференцированному, нежели прежде это было возможно, взгляду на политеизм Ш в.
712
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
силу, оно почувствовало необходимость в том, чтобы как-то определить, по возможности уничижительным образом, «другие» религии. Этим объясняется появление в мире, говорившем на латинском языке, термина «paganismus» («язычество»), происходящего от слова «paganus», которое изначально имело значение либо «деревенский», либо «гражданский» (то есть «невоенный»), иначе говоря, «тот, кто не из нашей среды». Термин этот изредка начинает встречаться лишь с середины IV в. С 4-го столетия в говорящем по-гречески мире приверженцев старой религии стали называть «эллинами», и это был иной тип отсечения (но всё же именно отсечения). Впрочем, этот иной тип имел определенное преимущество: он акцентировал внимание на том, что для местных политеистических систем Восточного Средиземноморья греческая культура выполняла роль некой общей системы координат. Удобство самого понятия «paganismus» заключалось, в частности, в том, что ему, как единой культурной идее, не разделяемой ни в пространственном, ни в хронологическом смысле, можно было in toto, целиком, приписать любую мерзость, какая, как предполагалось, была связана с подозрительными культовыми злоупотреблениями, пусть и изолированными. В силу уничижительных коннотаций, вызываемых словом «язычество», и чтобы подчеркнуть, что культ многих богов, будь то в древнем средиземноморском мире или где бы то ни было еще, не следует воспринимать исключительно с христианской точки зрения, мы будем использовать другой термин — «политеизм» (или «многобожие»). Понятно, что «политеизм» также является грубой и имплицитно монотеистической категорией, поскольку выполняет роль общего ярлыка, который приклеивается к самым разным религиям, чья главная особенность видится исключительно в монотеистическом ракурсе; и всё же это обозначение не носит такого откровенно уничижительного характера, как «язычество».
Используя термин «политеизм», мы акцентируем внимание также на том, что, сколь бы ни были заметны генотеистические1а и даже монотеистические тенденции внутри этой древней религиозной традиции* 2, заставляющие некоторых исследователей доказывать невозможность ставить знак равенства между «язычеством» и политеизмом, тем не менее данные тенденции служили всего лишь своеобразным дополнением, надстройкой, которая хотя и понижала в ранге, но никогда не отрицала многих богов. Любое божество с достаточно большой и крикливой клиентурой, так или иначе имевшее свои социальные и топографические ограничения, могло заявить претензии на верховенство и всемогущество. Но «он» или «она» делали это через уподобление другим богам, которые в иной среде точно так же могли рассматриваться в качестве верховных. Особенно чтимый солдатами сирийский бог Юпитер Долихен, храм которого был установлен на холме Авентин в Риме, объединил под своим синкре-
1аГенотеизм — вера в одного главного бога, однако допускающая существование и других богов. — A3.
2 Nilsson 1974: 569—578; Habicht 1969: 12—14; Mitchell. Anatolia П: 43—51; Liebeschuetz 2000 (САН XI2).
Глава 17а. Мировоззрение
713
тическим крылом Исиду, Сераписа, Митру и иные божества3. Нет никакого фундаментального расхождения между этой точкой зрения и взглядами Плотина, когда он пишет следующее:
Затем уже и умопостигаемых богов гимнословим, и потом — над всем великого Царя тамошнего и, особенно, [воспеваем] Его величие, явленное во множестве богов. Не ограничивать Бога единым, но показать его в Им явленной множественности — вот дело знающих силу Бога; ведь, пребывая Собой, Он сотворил многих богов, которые все зависят от Него и существуют через Него и от Него.
Плотин. Эннеады. П.9[33] .9.32—39. Пер. с древнегреч. Т.Г. Сидаша
Даже самые высокие философские умы оставались политеистами; не было такого явления, как «языческий монотеизм»4.
В отличие от христианства или ислама, политеизм не являлся религией, чье возникновение можно было бы отнести к какому-то одному моменту на шкале времени. Скорее, он накапливался и формировался из жизненного и природного опыта людей. Если когда-либо и существовала религия, которую можно было бы определять в терминах «1а plus longue durée» («наибольшей продолжительности»), то это был политеизм. Поэтому очень непросто встроить идею движения или процесса в описание политеизма на каком-то отдельном периоде его существования — в нашем случае такой период охватывает всего лишь полтора столетия. По этой же причине политеизм лишен догматического каркаса, ибо догма заключает в себе важное откровение, а откровения, формирующие религии, представляют собой события, которые — по крайней мере теоретически — могут фиксироваться во времени. Короче говоря, политеизм был совершенно иной религией — по сути дела, настолько иной, что было бы непростительной ошибкой рассматривать его в целом как некую единую религию.
Внутри своих многочисленных отдельных этнических традиций политеизм вбирает в себя еще и весьма различные ментальности. Эти вариации веры невозможно аккуратно уместить в двухуровневый анализ, «рациональное — иррациональное», «народное — элитарное», что иногда пытаются делать. Двухуровневый анализ слишком груб, и не потому, что в античности все становились людьми «иррациональными» и «суеверными», но потому, что отдельную личность в любом возрасте формирует смесь самого разного жизненного опыта, не всегда осознанно впитываемого, не говоря уже «осознанно формулируемого». Если эта первая из трех глав по позднему политеизму начинает описание политеистического мировоззрения с образованной части социального спектра, то это главным обра¬
3 Le Glay 1987: прежде всего с. 554—556. Обратите внимание на рассуждения этого автора о различных явлениях и диахронических мутациях, маскируемых с помощью таких категорий, как «синкретизм» и «восточные культы», — всеохватывающих понятий, не менее неопределенных или опасных, чем «язычество»/«политеизм». См. также: Le Glay 1991; а также: Alföldy 1989: 75—78.
4 Beard, North, Price 1998 I: 286 — здесь утверждается, что некоторые адепты Исиды или Митры «были, в самом строгом смысле этого слова, монотеистами», но доказательств не приводится. В том же I томе, на стр. 307, авторы старательно снабжают документами суждение, что «индивидуум мог поддерживать (шах!) более одного культа».
714
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
зом благодаря возможности обобщения, которую предоставляют склонные к синтезу или, по крайней мере, к систематизации образы мыслей, обнаруживаемые у некоторых представителей образованного класса. Это отнюдь не означает, что образованные люди были типичными представителями своего времени или что указание в названии главы на политеистическое мировоззрение в единственном числе является чем-то большим, нежели просто удобной условностью. Но всё же случалось, что в самый последний момент некоторые интеллектуалы-политеисты пытались как-то рационализировать и упорядочить чрезвычайно непоследовательную традицию, которую они унаследовали. Они не могли избежать того, чтобы рассматривать многобожие во всех его аспектах, от мистицизма до магии, даже если им настолько не нравилось то, что они видели, что порой подталкивало их к собственной версии двухъярусного анализа5.
I. Проблемы, встающие в связи с Плотином
Единственным поздним мыслителем-политеистом, заслуживающим серьезного изучения историками философии, вплоть до недавнего времени считался Плотин. Хотя на него больше повлиял «Платон теологов», нежели «Платон философов» (в современном смысле этих терминов), и, несмотря на то, что конечная реальность была для него за пределами понимания, мнение Плотина о том, что основную часть пути к божественному мудрец должен пройти благодаря собственным усилиям без чьей-либо поддержки, не взывая к сверхъестественной помощи, гарантировало очень внимательное отношение к этому мыслителю со стороны современных исследователей классической интеллектуальной традиции. Данная традиция, в которой доминировал платонизм в смешанной форме, но корни которой тянулись также (не без трений) к Перипатосу и Огое, продолжала культивироваться в философских школах антониновско- го и северовского периодов, хотя по большей части — в скучном схоластическом изводе. Когда в 232 г. Плотин ради изучения философии прибыл из провинциального Египта в Александрию6, его подавляла царившая в школах унылая и бесплодная атмосфера. Это было незадолго до того, как он услышал об Аммонии Саккасе. Последний произвел на него глубокое впечатление, поскольку это был «энтузиаст», «божественно наделенный ярой жаждой постичь истинную цель философии», стремившийся не к пустой трате времени на перебирание отличий между Плато
5 Ямвлих. О мистериях. V.5, 15 («xfjç GpTjaxetaç о BwuXouç трбттоç» — «два способа богопо- читания»); Fowden 1993с: 34. Общее введение к изучению философии и философов от Плотина до Ямвлиха см.: Wallis 1972: 1—137. Философские проблемы по определению были религиозными; но настоящая глава затрагивает доктрину только в связи с более широким политеистическим мировоззрением.
6 См. относительно недавнее издание Л. Бриссона и др. ценного сочинения Порфирия «Жизнь Плотина», снабженное монументальным комментарием: Brisson et al 1982—1992.
Глава 17 а. Мировоззрение
715
ном и Аристотелем, а к согласованию их и других крупных философов «в одном и том же духе» (Гиерокл. О провидении — у: Фотий. Библиотека. 251.461а). По сути, это была единственная альтернатива академическим перебранкам, которые Лукиан высмеивал в предыдущем веке. И даже по меркам своего времени, когда индивидуальный учитель и так ценился несравненно выше письменной традиции, Аммоний глубоко почитался своими учениками, часть которых скрывала, пока он был жив, тот факт, что Аммоний являлся их учителем. И если, как утверждал Порфи- рий (234 г. — ок. 301—305 гг.), последователь уже самого Плотина, этот последний, когда приступил к самостоятельному преподаванию, твердо придерживался усвоенного им учения, то становится очевидным, что Аммоний отнюдь не был заурядным учителем, но являлся превосходным духовным наставником.
После смерти Аммония Плотин переехал в Рим (244 г.). В течение примерно десяти лет обучение у него, как и у его наставника, носило исключительно устный характер, но с 253 г. и до своей кончины в 270 г. он создал целый свод сочинений, который позднее был издан Порфирием как пятьдесят четыре трактата, сгруппированные в шесть так называемых «Эннеад». С формальной точки зрения, эти тексты не претендуют на некую доктринальную систему, а передают то, о чем рассуждал Плотин в кругу своих учеников. Благодаря « Эннеад ам» мы можем слышать, как он трактует Платона и Аристотеля, комментирует комментаторов, отвечает на вопросы. Если он разбирает Аристотеля, то делает это творчески, не отходя от духа Аммониева учения. Его речь всегда очень насыщенная, вдохновенная; и он никогда не забывает о главной заботе мудреца, вновь и вновь восходя от «бога в нас» к «Богу, который над всем сущим» (Порфирий. Жизнь Плотина. 2, 23). Хотя наша индивидуальная душа отступила от универсальной Души и запуталась в материальном мире, она может стремиться к очищению и спасению; и путь этого спасения, то есть философская жизнь, пример которой дает сам Плотин, должен сочетать аскетический, но не унизительный режим, «отбрасывание» всех излишних забот (Плотин. V.3[49].17) со стремлением к истине, свойственном изучению и неослабевающей концентрации на божественной сути нашего бытия. На этой стезе при помощи божественного благоволения7 мы можем испытать, как это произошло с Плотином в четырех случаях, свидетелем чего был Порфирий, прикосновение к целому, самозабвенное сближение и воссоединение с трансцендентным Ним, всеобщим Богом. Выйдя из этого состояния, философ будет горько сожалеть о своем возвращении в человеческий мир; но его долг состоит в том, чтобы дать также и другим, через их обучение, возможность последовать за ним. Это мог делать он и только он; и эта задача настолько щепетильна, даже опасна, что может быть исполнена лишь при глубоко личном ежедневном взаимодействии учителя и ученика. Ни конструирование метафизической системы, ни написание литературных произведений, но исклю¬
7 Плотин. VI.7[38].22.
716
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
чительно личный опыт наставника является самой сутью позднего платонизма.
Поскольку отношение Плотина к традиционной религии его современники понимали не менее ошибочно, чем исследователи нашего времени, необходимо подчеркнуть, что его считали воплощением благочестия, «праведником». Место Плотина в истории религии столь же значимо, как и его место в истории философии, поскольку различие между этими двумя сферами для него самого было несущественным. В общем и целом поздний благочестивый политеист неосознанно объединял два признака — благочестие и ученость, которые христианство часто отделяло и даже противопоставляло друг другу8. Фигура благочестивого человека более характерна для позднего многобожия, чем для любого другого периода начиная с досократиков, но не из-за того, как некоторые предполагают, что «кризис Ш в.» принес с собой страхи и тревоги, но в силу ответной реакции — всегда существовавшей, но теперь усилившейся — на рационалистическое течение внутри эллинской философской традиции. Ко П в. люди стали быстрее терять интерес к надоевшим старым аргументам и обращались либо к всегда существовавшим альтернативам наподобие пифагореизма, либо к иным философиям и религиям, в чьих учениях были представлены либо божественные или мифические существа, такие как Зороастр или Гермес Трисмегист, либо смертные, которые имели высшее «полномочие на то, чтобы учить, в отличие от тех, кто за ними записывал». Важнейшей необходимостью для Порфирия было устранить всякие сомнения в безусловном авторитете своего учителя, но также и доказать, что в классической традиции по-прежнему сохранялась жизнь, что побудило Порфирия предварить издание «Эннеад» биографическим введением, в котором обращалось внимание на тщательное объяснение Плотином трудов своего предшественника, но апогеем этого введения явился впечатляющий оракул Аполлона о душе Плотина. Столетием позже сардинский ритор Евнапий наполнил свое сочинение «Жизни философов и софистов», начинавшееся с Плотина, рассказами о сотворенных ими чудесах, почти полностью проигнорировав проблематику, касающуюся их учений. Аскетическая, благочестивая философская жизнь оказалась в центре устремлений для многих образованных людей, и личный опыт такой жизни становился средством, с опорой на который ее приверженцы встречались с божественным.
Центральной в таком рискованном предприятии была, без сомнения, фигура Пифагора9. При жизни Плотина пифагорейский идеал был очень популярен, о чем свидетельствует написанная Филосгратом по поручению императрицы Юлии Домны биография чудотворца I в. Аполлония Тиан- ского. И сочинения современных Плотину пифагорейцев настолько повлияли на последнего, что его даже обвиняли в плагиате у одного из них, Нумения10. Тот Пифагор, который был известен поздней античности,
8 Fowden 1982.
9 Dillon 1977: 341-383; O’Meara 1989; Kingsley 1995.
10 Порфирий. Жизнь Плотина. 14, 17, 20.
Глава 17 а. Мировоззрение
717
являлся вдохновенным и авторитетнейшим учителем, чья философия представлялась откровением божественной истины. Особое значение в занятиях философа он придавал математике, что обусловлено непоколебимой верой в существование нематериального мира. И он учил принципу «дружбы» (cpiXioc) разных учений, эллинских и варварских, так что его собственная философия во многом представляла собой «смесь» из учений египтян, халдеев и магов, а также из орфизма и греческих мистериаль- ных культов (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 151, 229). Энтузиазм Аммония Саккаса в деле приведения традиций различных школ «к одному и тому же духу» был подлинно пифагорейским — его определенно следует рассматривать в качестве посредника между Нумением и Плотином. Пифагор подчеркивал также обязанность мудреца почитать богов и вести жизнь благочестивую и аскетичную. Говоря в целом, пифагореизм понимался не столько как учение, сколько как образ жизни. Порфириева «Жизнь Пифагора» была косвенно универсализирована в «Пифагорейской жизни» Ямвлиха; а много позже Марин дал своей «Жизни Прокла» подзаголовок «О счастье».
Не в меньшей степени, чем их эталон, пифагорейские святые мужи поздней античности были с трудом понимаемы даже собственными учениками, к тому же в своем ближайшем окружении они порождали серьезные противоречия. «Жизнь Плотина» Порфирия подвергалась критике со стороны соперников последнего и порождала взаимную зависть у его имитаторов. Особая двусмысленность окружала отношения мудреца с традиционной религией. В сочинениях главных пифагорейцев этого времени и в трудах их последователей мы часто читаем, что человек, который «очистил собственную душу с помощью его (Плотиновых) учений», не испытывал нужды в храмах, статуях и алтарях (Юлиан. Речи. 1Х.199Ь; ср. также: Лукиан. Демонакт. 11). Когда один из последователей Плотина, Амелий, предложил однажды своему учителю пойти вместе с ним в храм, Плотин отказался на том основании, что «они (боги. —A3.) должны приходить ко мне, а не я к ним» (Порфирий. Жизнь Плотина. 10). Пор- фирий замечает, что Амелий «стал любителем жертвоприношений», каким он, очевидно, был не всегда; Плотин отреагировал, возможно резковато, на то, что считал излишним в поведении любимого ученика. В другом месте он предостерегает от чрезмерного возвышения человека над богами и презрительного к ним отношения (Плотин. П.9[33].9). Подобные суждения, впрочем, всегда произносились в контексте полемики. То, что «все без исключения вещи связаны друг с другом», поскольку все они включены в иерархию действующих — как в умопостигаемом, так и в видимом мирах — божественных сил, включая изваяния богов (Плотин. П.3[52].14; ср.: Ш.4[15].б, IV.3[27].ll), считалось общепризнанным в этой среде; проблема заключалась лишь в том, где в данной иерархии место для праведника? Отсюда — рассказ Порфирия о том, как Плотин согласился вызвать своего духа-хранителя с помощью заклинаний приехавшего в Рим египетского жреца. Последний вынужден был признать, что этот хранитель являлся не просто демоном низшей породы, как в случае с духами-храните¬
718
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
лями обычных людей, а богом. Говоря шире, для позднего политеизма актуальным являлся вопрос о том, как представлять себе, как классифицировать и как обсуждать действие божественной силы (Suvocpiiç) в мире. Ответы варьировались в диапазоне от строгого оптимизма философа- созерцателя до грубого детерминизма обыкновенного астролога.
Знание хотя бы элементарного религиозного учения достаточно редко в любом обществе. Сила традиции и обычая была значительна также и в позднем многобожии. Тем не менее при всех необходимых допущениях можно всё же сказать, что политеистическое понимание божественности, которая обозначается словом «бог», очень сильно пропиталось некой обезличенной идеей «силы»11. Пришествие философии, а позднее — распространение культового синкретизма привели к появлению альтернативы (но не замены!12) гомеровским богам с их понятными индивидуализированными чертами и с их склонностью к антропоморфной внешности. В Риме боги всегда были скорее некими силами, нежели персонификациями. И эта идея получила широкое распространение в поздней античности: боги начинают пониматься также в качестве обезличенных «сил» (или «энергий»), исходящих от солнца, планет и звезд, а также могут представляться как демоны. Эти силы составляли всеобщую сеть «симпатии» (aufjwuaÖeia — взаимное тяготение, сверхъестественная, магическая связь. — А.З.) или того, что пифагорейцы называли «дружбой», которая связывала вместе область божественного и область материального, пронизывала людей, животных, растения и даже минералы и сцепляла их посредством симпатических «цепей» с отдельными планетами или богами. Отсюда — прямой контроль, осуществляемый, согласно некоторым пифагорейским суждениям, над всем мирозданием небесными телами, и одержимость поздними политеистами идеей судьбы, фатума, а часто и сугубо механистическими концепциями астрологов. Отсюда также и вера в заклинателей, в то, что правильно произнесенные и сопровождаемые соответствующими действиями формулы, если они направлены на то, что находится внизу симпатической «цепи», могут повлиять на божественные силы, с которыми эти цепи связаны. И все эти силы необходимо знать и (по возможности) контролировать не только заклинателю, но любому благочестивому человеку, так что указанным божествам следует выражать соответствующее почтение, а также стараться избегать расплаты за небрежение ими или за оскорбление их. За уклончивыми обобщенными обращениями заклинателя к божественной сфере («Я взываю к вам, боги небес и боги подземелья, боги воздушные и боги земные». — PGM ХП.67) стоят страхи, как и за бесконечными вопросами к оракулам о личности конкретных богов («Скажи мне, владыка Гликона, кто ты такой?» — Лукиан. Александр. 43), а также за тем фактом, что им посвящались храмы, изваяния, алтари, жертвоприношения, молитвы, жречества и т. д.
11 О «силе» в позднем многобожии см.: Nock 1972: 34—45; Nilsson 1974: 534—543; Fowden 1993b: 75-94.
12 Lane Fox. Pagans and Christians: 102—167.
Глава 17а. Мировоззрение
719
Ритуальная чистота верующего также имела очень важное значение; помимо физической чистоты, она могла предполагать «чистоту мыслей» [LSCG Ne 139 — надпись из Линдоса) до и во время самого богослужения. По крайней мере, в некоторых местах и при некоторых обстоятельствах практиковалось публичное исповедание грехов (см. гл. 17Ь, с. 738 наст. изд.). Но было бы ошибкой думать, что нравственная чистота повсеместно рассматривалась как необходимое условие для участия в богослужении — мысль о том, что преступнику не следует позволять совершать жертвоприношение, чаще могла приходить в голову философу, нежели жрецу13. Еще меньше обычный политеист стремился подражать богам, в отличие от христиан, старающихся подражать Христу. Дело не только в том, что индивидуальные черты богов стали менее отчетливыми, чем когда-то прежде, и не только в наличии опасности для образованного класса, заключавшейся в сосредоточенности на бесцветном деизме. В любом случае, традиционные мифы были поражены безнравственным элементом, который никогда не служил образцом для подражания. Для большинства политеистов «религиозным опытом» был опыт приспособления к действиям богов — проявлениям божественной силы — в мире людей. Контакт со сверхъестественным измерялся не его собственной «интенсивностью», а приносимым им результатом, как с точки зрения понимания чего-то (знание), так и успеха в чем-то (способность)14.
В политеизме стремление к добродетели и духовной жизни (которая идет дальше религиозной эмоции, каковую человек волей-неволей переживает в присутствии богов) было по преимуществу сферой философов, которые необязательно славились своей приверженностью к каким-либо традиционным верованиям или государственным культам; в данном отношении позиция Плотина (см. выше его высказывание о том, что ему не пристало являться к богам, а богам следует нисходить к нему. —A3.) была провокационной, но вполне типичной. В особенности перед лицом вызова, который представляло собой христианство, такое отделение общепринятой религии от нравственности и духовности казалось всё более негодным. Воздействие, которое оказывало на широкую политеистическую публику то, что эта публика слышала от какого-нибудь проповедовавшего на перекрестках киника, или, может быть, то, что она читала в каких- нибудь сборниках поучительных философских сентенций, едва ли можно сравнить с регулярными наставлениями, получаемыми христианской общиной от епископа во время еженедельной литургии в молитвенном доме15. Как мы увидим, в философской среде для исправления такой ситуации принимались некоторые средства. Условия, имевшиеся за пределами этих узких кругов, в определенном смысле благоприятствовали этому. Благодаря влиянию философов широкое распространение получили
13 Флавий Филосграт. Жизнь Аполлония Тианского. 1.10—11.
14 Отсюда самоуспокоенный тон известных правил [LSCG N° 51, около 175 г. н. э.) афинских иобакхов (культовая коллегия почитателей Диониса), которых Л. Моретти обвиняет в недостаточной «religiosità» [um. «набожность»), см.: МогеШ 1986: 253.
15 О поздней политеистической этике см.: Dihle 1966: 666—688.
720
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
тенденция к соединению родственных божеств в некие смешанные единства, обычай представлять богов в качестве безличных сил, генотеистические и даже монотеистические идеи. Хотя почитание «всех богов (и богинь)», что обязывали делать оракулы Аполлона в Дидимах и в Кларосе, отнюдь не было новостью16, влияние этой формулы в рассматриваемый период ощущалось особенно сильно: когда человек, вознося молитву, более или менее осознанно выражал еще и веру в основополагающее единство божественного мира, он тем самым был уверен, что эта его молитва наверняка будет услышана. Не то чтобы старинные боги были позабыты: с Асклепием, в частности, даже самый большой интеллектуал мог ощущать очень тесную и непосредственную связь (см. гл. 17Ь, с. 740 наст. изд.). По сути, Асклепий являлся идеалом для генотеистов — могущественный избавитель, почитание которого, тем не менее, было полностью совместимо с обращением к другим богам, какового обращения требовало личное пристрастие или какая-то необходимость. Коротко говоря, недостатка в потенциально общей основе, на которую философы и обычные политеисты могли вместе опираться, не было. Генотеизм избегал прежде всего одного из недостатков монотеизма (считать ли этот недостаток философским или каким-то еще), а именно — очевидного коммуникационного препятствия, насущной потребности в посреднике между Человеком и Богом. В конце концов, можно было, видимо, избежать своенравия демонов и действия фатума. Быть может, человек был способен найти открываемый божественными силами «путь», с помощью которого душа могла очиститься и освободиться от оков материи?
II. Герметизм и теургия
Это сближение религии и философии обеспечивало плодотворную почву для учения о теургии, то есть об очищении души от материального осквернения и о возвращении к ее источнику с помощью сочетания ритуалов и сакральных формул. Но благодаря интересу к подобным вопросам со стороны платоновской среды эта доктрина, намеченная в общих чертах Порфирием и развитая Ямвлихом, отнюдь не была каким-то поздним отклонением, как предположили историки философии в силу того, что их взгляд на этот предмет был ограничен сочинениями схоластической элиты П в. и Плотином. Возможно, в силу того, что в строгом смысле слова Флавий Филострат не был профессиональным философом, он мог считать само собой разумеющимся, что собственно философские вопросы охватывают не только космологию, врачевание (включая методы лечения, которые мы назвали бы медицинскими), астрономию, а также в целом натурфилософию и этнологические наблюдения, но также и прорицания, жертвоприношения и «все виды премудрости, как явной, так и сокровенной» (Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. Ш.34—50, осо¬
1(3 Burkert 1985: 170, 216—217, 272. Дидима: Parke 1985: 100. Кларос: Granino Сесеге 1986: 281-288.
Глава 17а. Мировоззрение
7 21
бенно 50; ср.: Аммиан Марцеллин. XXI. 1.7—14). К счастью, мы располагаем важным корпусом текстов (так называемая «Герметика», или герметические сочинения), чье многообразие и отсутствие литературного глянца наводит на мысль, что они могут служить более подходящим проводником по поздней политеистической мысли, нежели так называемые «средние платонисты» или их аристотелевские оппоненты. Сочинения этих людей, таких как Север, Гай, Аттик, Александр из Афродисиады, были постоянно под рукой у тех, кто принадлежал к кругу Плотина. По поводу «Герметики» египетский мудрец ни разу не проронил ни слова.
Поскольку Гермес Трисмегисг был на самом деле египетским ученым богом Тотом, а сочинения, приписанные ему, являются не только продуктом переплавленной греко-египетской культуры долины Нила, но к рассматриваемому времени становились всё более известными также за пределами Египта, молчание Плотина показательно17. Ясно, что эти сочинения не предназначались для элиты. То, что мы обозначаем как «Corpus Hermeticum» (корпус герметических текстов), является сводом философских трудов на греческом языке о Боге, Мироздании, Человеке и истории души. Утерянное «Совершенное рассуждение» сохранилось в латинском переводе под названием «Asclepius» («Асклепий»); кодексы (книги, сшитые из нескольких листов папируса или пергамента. — А. 3.) из Наг- Хаммади относительно недавно пополнили коптские версии некоторых частей той же книги, а также познакомили нас с прежде неизвестным трудом «Огдоада в сравнении с Эннеадой». Помимо этих философских сочинений, написанных между 1-ми 3-м столетиями, существуют также многочисленные тексты по магии, астрологии, алхимии и иным ответвлениям того, что ученые называют «псевдонаукой», которые приписывались или ассоциировались с Гермесом. Эти «технические» трактаты касаются областей знания, которые на более ранних стадиях имели отношение к обряду посвящения в герметическую мудрость; однако само герметическое учение было конечно же устным, передававшимся от учителей к их ученикам в небольших кружках, наподобие групп, собиравшихся вокруг Аммония и Плотина. Значение этой личной взаимосвязи духовных «отца» и «сына» усиливалось, когда адепт приближался к более возвышенным учениям о природе божественной сферы. Тексты, которые описывают это поступательное нравственное очищение и философскую инициацию, делают акцент на своем спиритическом характере, на том аспекте герметизма, который должен был манить как православных христиан, так и современных историков философии; и всё же имеются признаки того, что данный акцент на этой высокой духовности не исключал использования полулитургической молитвы, гимнов и даже некоторых ритуальных действий, в том числе жертвоприношений, на более ранних ступенях спиритуального восхождения. Что касается кульминационного видения Его, то оно было достижимо только вместе и с помощью наставника, обычно представлявшегося в этих трактатах как сам
1 / Моменты, на которые мы обращаем внимание в данном параграфе, проиллюстрированы документами в изд.: Fowden 1993b.
722
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
Гермес. Ямвлих сообщает, что в неком, ныне утраченном, трактате Гермес описывал восхождение души в недвусмысленно теургических выражениях. Для современника Ямвлиха, алхимика Зосимы из Панополя, совсем не казалось несообразным привлекать философскую «Герметику» для объяснения спиритического очищения, которое могло быть достигнуто посредством искусства алхимии.
«Герметику» и теургические священные тексты под названием «Халдейские оракулы» объединяет не просто их греко-восточный характер, но также и признание ими того, что люди могут достигать божественности разными путями, среди которых свою роль играют и культовые практики, и философское мышление. «Халдейские оракулы» появились во П в.; до нас они дошли только во фрагментах18. Эти тексты касаются таких теологических вопросов, как структура божественной иерархии, уровни которой «Оракулы» (подобно гностикам) умножают в попытке подняться до тех высот, которые отделяют людей от совершенного Отца. «Оракулы» открывают немногое относительно практического применения теургии в философской жизни, но данный аспект, по-видимому, был более поздним шагом в развитии19. Порфирий подробно останавливается на увещевании, звучащем со страниц «Оракулов», «отыскивать источник души, откуда она исходит в определенном состоянии, чтобы служить телу, и, как ты, соединяя действие со священным словом, снова поведешь ее вверх, к предписанному ей месту» [Халдейские оракулы. Фр. 110). В своем «Письме к Анебону» Порфирий критикует теургию из-за ее непримиримости к фундаментально интеллектуальному характеру греческой философии. В другом месте [О возвращении души [De regressu animae). Фр. 2 Bidez, 290 Smith) он признаёт, что теургия — одно из возможных средств очищения «спиритической души», но отрицает, что она хоть как-то может воздействовать на «интеллектуальную душу» и, следовательно, что она способна привести душу к «созерцанию ее Бога и постижению вещей, которые истинно существуют». В самом деле, Порфирий утверждает, что интеллектуальная душа способна достичь такого видения единения, которое лежит за множественностью, даже без предварительного воздействия теургии на спиритическую душу. Иными словами, теургия является не более, чем первым возможным шагом на пути души к своему источнику, всего лишь частичной, недостаточной альтернативой по отношению к истине и философии, поскольку она, теургия, предполагает методику и технические приемы, почти полностью свободные от нравственных качеств тех, кто их практикует, ибо эти приемы представляют собой заклинания вульгарного колдуна.
Впечатляющий пример Плотина, с одной стороны, и могучее влечение к религиозному культу — с другой, смущали Порфирия и, несомненно, способствовали психологическому кризису, который стал причиной его отхода от круга приверженцев Плотина20.
18 См. издание с введением и комментарием: Majercik 1989.
19 Общее обсуждение теургии см.: Wallis 1972: 105—110, 120—123; Shaw 1995; van liefferinge 1999.
20 Порфирий. Жизнь Плотина. 10 (прежде всего сгк. 36—38), 11.
Глава 17а. Мировоззрение
723
Напротив, Ямвлих (примерная дата смерти: 320—325 гг.) был уверенным в себе, оригинальным и вдохновляющим мыслителем, который посредством своего учения и своих сочинений (включая обширные комментарии к Платону и Аристотелю) обеспечил своих многочисленных последователей основательным философским образованием, однако логичным результатом этого учения для них стали также теургические умозрительные построения, которые позднее всплыли на поверхность в платоновских кругах и стали для этих кругов характерными. Обосновавшись в сирийской Апамее, которая по меньшей мере со времен Нумения (время расцвета: около 150 г. н. э.) была одним из центров пифагореизма, Ямвлих приступил к выработке свежего взгляда на философскую жизнь, которому предстояло преодолеть категории, противоречившие друг другу и доминировавшие в учении Порфирия.
«Новая песнь» Ямвлиха, как называет его учение один критик (Фе- мистий. Речи. ХХШ.295Ь), являлась синтезом «халдейских», «египетских» (то есть «герметических») и греческих философских доктрин; и этот синтез воспринимался как прямой ответ на Порфириево «Письмо к Ане- бону» — на тот трактат, который гуманисты эпохи Ренессанса называли «О мистериях египтян». Самый примечательный аспект, который отличал теурга от теоретического философа, заключался в том, о чем Ямвлих говорил так:
Теургическое единение дают свершение неизреченных дел, благочестивое исполнение которых превышает всякое мышление, и сила невыразимых символов, понимаемых одними богами.
О египетских мистериях. П.11.96—97. Пер. с древнегреч. И.Ю. Мельниковой.
Эти неназываемые всуе дела и символы нужны были для того, чтобы обратиться к силе богов с целью освобождения души от тела и от уз симпатии, а также вызвать «теургическое единение» с божественным. Другими словами, для Ямвлиха поле деятельности теурга, ограниченное Порфирием низшей душой, стало охватывать самые высшие уровни мистического единства. Философствующий, который для Плотина был человеком, самостоятельно стремившимся к совершенству, обладавшим достаточно божественной душой, чтобы достичь единения с трансцендентным Им с помощью почти только собственных усилий (см. с. 715 наст, изд.), у Ямвлиха превратился в деятеля, зависящего от помощи и постоянно находящегося в общении с блистательной небесной иерархией из богов, архангелов, ангелов, демонов, архонтов, героев и душ, то есть с божественной лестницей, по которой теург пытается подняться к небесным высотам.
В ярких анекдотах, из которых состоит Евнапиево жизнеописание «божественного» Ямвлиха, мы впервые видим — скорее, в исторической фиксации, а не в образе, придуманном биографами Пифагора или Аполлония, — полностью сформированную фигуру позднего праведного мужа-политеиста, образчик той «благочестивой породы» философов- платоников (Гиерокл. О промысле — у: Фотий. Библиотека. 214.173а), не¬
724
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
сколько поколений которых охватывают два последних века эллинской религии и эллинской мысли. Евнапий представляет Ямвлиха как чудотворца, который мог парить в воздухе и под воздействием света преображался во время молитвы, обладал сверхъестественным даром предвидения и вызывал духов из горячих источников, чтобы удовлетворить жажду своих учеников к чудесам, тем самым делая видимой «дружбу», которая связывала его с попечителями материального мира.
В его окружении, вне всякого сомнения, существовала философская полемика; но что производило впечатление на широкую публику, так это пифагорейское «ipse dixit» (букв. «Сам сказал» — выражение, характеризующее позицию безоговорочного преклонения перед чьим-либо авторитетом, не требующего никаких доказательств. — А.З.), неоспоримость тех «оракулов», которые изрекал благочестивый муж, а не утонченность его умозаключений. Самому Аполлону приписывался оракул, в котором Порфирия «многознающего» он противопоставлял Ямвлиху «боговдохновенному» (Давид Анахт. К Порфирит. 4, р. 92.2—7).
Недруги теургов конечно же обвиняли последних в том, что те являются просто колдунами — в конце концов, теургия и магия манипулируют той же самой сетью универсальной симпатии (то есть сверхъестественной, магической связи), причем посредством чрезвычайно схожих методик. Но цель теургов аналогична цели философии Плотина — очищение и спасение души; и, действительно, при описании кульминации восхождения души Ямвлих гораздо меньше, чем при обсуждении более ранних стадий, говорил о роли, которую играют ритуальные акты. Посредством ритуализации этих начальных ступеней Ямвлих делал их более доступными, нежели суровый и уединенный путь погруженного в созерцание философа. Но единство с мистикой оставалось, как это было и для Плотина, интуитивным скачком, отважиться на который могли лишь немногие, а также таким личным опытом, для описания которого словарный запас философа подходил больше, чем вокабулярий теурга. Хотя кажется весьма вероятным, что, переплавляя элементы культа и философии, Ямвлих желал сделать многобожие более логически последовательным и лучше приспособленным к отражению христианской критики; на практике теургия осталась занятием для элиты.
Герметизм также вряд ли проникал за пределы среды, к которой принадлежали те, кто читал книги. Для такого проникновения ему пришлось бы стать организованной религией со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане размывания центральной идеи. Митраизм, возможно, сумел успешно распространиться как раз благодаря учреждению семи формализованных ступеней посвящения, которые, по всей видимости, открывали поступательный доступ к учениям личного, этического и даже мистического значения (гл. 17с, с. 744—745 наст. изд.). Своим адептам митраизм предлагал не просто одноразовую инициацию, типичную для других мистерий, но логически понятный митраистский «путь», наподобие «пути» Гермеса, короче говоря, контекст для всей жизни. Существовала потребность в такой терминологии, которая передавала бы
Глава 17а. Мировоззрение
725
идею прогресса — rcpox67ru£iv, procedere, proficere, progredi («идти вперед», «продвигаться», «преуспевать»), то есть в глаголах, которыми пользовались прорицатели, врачеватели и философы, а не в обычных ханжеских понятиях, если только политеизм собирался всерьез конкурировать с христианством21. И всё же подавляющее большинство последователей Митры никогда не приступали к прохождению этапов посвящения, а ограничивались простой инициацией. Что касается философов, то они, разумеется, читали Плотина, и немногие избранные следовали ему, включая некоторых образованных христиан. Хотя ряд его доктрин был противоречив, а его метод и стиль, по меркам позднейших, более схоластических поколений, был смутным, Плотин, тем не менее, задал тон всей поздней фазе античных философских дебатов, обеспечив их очистительную и созерцательную ориентацию. Он являет собой один из лучших примеров того, какой должна быть философская жизнь. Теургии не хватало его благословения; но успешное внедрение Ямвлихом его учений в каркас философии оказало глубокое влияние на тех, кто возводил свое интеллектуальное становление к Плотину. Тем не менее, в установке многих лучших умов на созерцательность, а также в том отвращении, какое они испытывали к социальной и даже политической жизни, участия в которой добивался и которое рекомендовал их великий учитель, Платон, мы можем усматривать одну из причин того, почему народное многобожие, как кажется, в конечном итоге утратило желание приспосабливаться, бороться и продолжать существовать.
III. Магия и астрология
В последнее время исследователи позднего политеизма всё более осознают, что между философией и магией не больше абсолютного различия, чем между религией и магией. Хотя передача философского учения предполагает наличие подготовленной аудитории, тогда как результаты деятельности заклинателя или астролога могут быть куплены и «потреблены» без лишних хлопот, образованные люди отнюдь не считали априори, что магия и астрология не обладают никакой ценностью. Имелись, конечно, закоренелые рационалисты, но существовали и последователи Ямвлиха, даже среди самых утонченных интеллектуалов. В действительности найти теоретические утверждения относительно магии и астрологии трудно, кроме как у тех, кто имел широкий интеллектуальный ракурс. Даже магические папирусы22, хотя они и вышли, по сути, из анонимной среды, часто являются руководствами, библиотечными изданиями, лишенными потертостей и грязных пятен, которые можно было бы ожи¬
21 Ср.: Павел. Послание к галатам. 1.14: «îupoexoTCTov âv тф IouBaïapcô» («я преуспевал в иудействе»); Августин. Исповедь. V. 10.18: «desperans in ea falsa doctrina me posse proficere» («отчаялся уже, что их лживое учение (подразумевается манихейство. — Г.Ф.) поможет мне продвинуться вперед»).
22 PGM и их переводы: Betz 1992. См. также: Daniel, Maltomini 1990—1992.
726
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
дать, если бы эти папирусы использовались исключительно во время грязных процедур, которые в них описывались.
Это не означает, что мы не имеем свидетельств о магии, рассчитанной на простого бедного потребителя. В более коротких папирусных заклинаниях и гороскопах, сохранившихся в тех же самых носителях информации23, мы часто видим очевидный уровень безграмотности; еще в большей степени это справедливо в отношении магических гемм и других типов амулетов, которые защищали его хозяина в повседневной жизни24, а также табличек проклятий (defîxiones), с помощью которых можно было попытаться заставить другого действовать против собственной воли — влюбиться, потерпеть какую-то неудачу, подхватить недуг или умереть25. «Вызывание болезни» на самом деле включено в перечень разделов магического знания, который обнаруживается в одном из магических папирусов (PGM 1.328—331). Другие разделы представляют собой «искусство прорицания, гадание по эпическим стихам, заказ снов, получение откровений во снах, толкования снов». Нет ничего удивительного в том, что, по крайней мере, в Египте с его профессиональным жречеством, священнослужители считались большими экспертами в вопросах магии. Но для тех, кого устрашала храмовая обстановка, существовали альтернативы. Женщины, прежде всего одинокие старухи, считались обладательницами оккультных возможностей не в меньшей степени, чем в другие исторические эпохи. Любая базарная площадь, как и каждый местный праздник, привлекала бродячих магов, предсказателей судьбы и толкователей снов, которые, получая приглашения, переходили от дома к дому26. В моменты жизненных кризисов и при различных тревогах эти люди зачастую были первым средством спасения для многих: для молодого человека, чьи эротические фантазии превосходили возможности его кошелька или не подкреплялись ответным чувством со стороны объекта его влечения;27 для возницы, задумавшего устроить подвох для своих соперников во время заезда на состязаниях; для философа или софиста, который желал устранить конкурента — даже Плотин однажды был атакован именно таким образом (то есть с помощью бродячих магов)28.
Многие сохранившиеся магические тексты, как правило, почти не попадают в поле зрения историков, отчасти потому, что в них не описываются реальные ситуации, а просто содержатся формулы, которые в идеале необходимы социальным антропологам, чтобы нарастить «живое мясо» на те «сухие кости», с которыми они имеют дело. Гороскопы, впрочем, в силу самой их природы связанные с конкретным временем и конкретным местом, более удобны для историка. В нашем распоряжении имеется
23 Neugebauer, van Hoesen 1959.
24 Philipp 1986: 5-26.
25 Gager 1992.
2(3 Кодекс Феодосия. IX. 16.1—2.
27 PGM ХУПа (особенно возбуждающий текст); Robert 1990: 497 примеч. 1 (defixio, имевшее целью помочь одному мужчине покорить четырех женщин).
28 Порфирий. Жизнь Плотина. 10.
Глава 17а. Мировоззрение
727
один гороскоп, сохранившийся в рукописи, написанной в 1388 г., но изначально составленный 16 июля 475 г. для некоего озабоченного купца, ожидавшего в Афинах прибытия груза с дорогими тканями, аксессуарами и верблюдами из Александрии29. Текст этот поздний, но очень обстоятельный, кроме того, оккультные приемы изменились мало, а степень уважения к ним была пропорциональна их (предполагаемой) древности. Первым делом астролог брал свою астролябию и таблицы и составлял карту небес, каковыми они были на момент консультации. Затем он выслушивал (либо, как в данном случае, предугадывал) вопрос своего клиента, после чего консультировался с соответствующими авторитетными источниками, которые цитировал дословно при составлении своего письменного ответа. В данном конкретном случае астролог описывает как состав груза, так и проблемы, связанные с плаванием, а также предсказывает, когда корабль в целости и сохранности прибудет в Пирей.
Этот пример служит отличной иллюстрацией функционального аспекта астрологии: оккультная мудрость выступает как некая методика, подробно разъясняемая в книгах и действенная независимо от того, компетентен ли конкретный ее исполнитель или нет. Если гороскоп был ошибочным или заклинание неэффективным, человек не переставал верить в астрологию или магию. Он просто искал лучшего исполнителя. «Это не науку нужно порицать, а лживость и беспечное невежество исполнителя» (Фирмик Матери. Учение. 1.3.8; ср.: Аммиан Марцеллин. XXI. 1.12—14). Что касается интеллектуальной весомости оккультных техник, то они конечно же зависели от принятия изощренной космологии, сосредоточенной, как уже было отмечено, в идее универсальной симпатии; деятели, которые были достаточно образованны, чтобы понимать интеллектуальный контекст своей профессии, могли преодолевать ее банальные и скучные аспекты и приходить к пониманию ее связей с другими сферами знания о божественном мире.
Такое понимание определенно присутствует в собрании папирусов, открытых в Фивах Египетских в 1820-х годах30. К этому «фиванскому тайнику» принадлежат несколько наших самых важных и сжатых магических папирусов, а также ранние алхимические папирусы, ныне хранящиеся в Лейдене и Стокгольме, все датируемые Ш в. либо первой половиной IV в. и характеризующиеся тенденцией к двуязычию (греческая и демотиче- ская/коптская письменности), а также отличающиеся особенностями почерков. Данная коллекция, как представляется, предназначалась скорее для изучения, нежели для практического использования, о котором думали оригинальные авторы этих текстов; но в 4-м столетии даже простое владение такими книгами могло привести к уголовному преследованию, и именно этим обстоятельством, возможно, объясняется то, что наш неизвестный фиванский оккультист спрятал подальше свою коллекцию и, таким образом, несколько прояснил нам то, в какой атмосфере существовал анонимный и провинциальный политеист поздней эпохи.
29 Dagron, Rougé 1982.
30 Fowden 1993b: 168—172; также: 89—91, 120—126 (алхимия).
728
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
Книги по алхимии из фиванского тайника представляют раннюю, материалистическую стадию в эволюции данного ремесла, когда основной акцент еще делался на имитации признаков и цвета драгоценных субстанций. Эти тексты не имеют никаких признаков перехода (произошедшего примерно в конце Ш в. или в начале IV в. благодаря Зосиме Панополи- танскому) к идее о том, что, поскольку материальная и спиритическая сферы связаны всеобщей симпатией, необходимо правильное алхимическое понимание пропорций материи, чтобы душа могла освободиться от своего заточения в теле. Напротив, магические книги из фиванского тайника отличаются огромным разнообразием материала, от простых заклинаний до апатанатисмоса (àTOxGavocTiafxoç — дарование бессмертия) в знаменитом Парижском магическом папирусе [PGM IV), то есть ритуала по обретению божественного откровения посредством спиритического посвящения — «мистерии». Получение пророчеств было одной из самых распространенных забот магов; и, подобно всякой магии, обряд, описанный в PGM IV, в принципе был действенен для любого пользовавшегося им человека, который должен был только пройти очищение в период воздержания и поста, после чего в должный момент обряда он объявлял свое имя и цель своего запроса. Но опыт, который, как предполагалось, должен был в ходе ритуала получить человек, был опытом вознесения, возрождения, видёния и (пророческого) общения. Возрождение — это духовный опыт, дарующий бессмертие (à:ra0avaTta[x6ç); под «видёнием» имеется в виду лицезрение верховного бога Зона (сына Хроноса, олицетворение вечности. — А.З.), присутствие подавляющей и необоримой мощи которого доводит вопрошающего до момента смерти. Здесь мы невольно вспоминаем как о мистериальных религиях, так и о герметических инициациях. В самом деле, еще один папирус из фиванского тайника, PGM ХШ, недвусмысленно ссылается на герметические тексты; в то же время папирус PGM П1, который, возможно, принадлежал той же библиотеке, включает славословящую молитву и благодарение за дар божественного знания, которые также обнаруживаются на латинском языке в конце герметического «Асклепия», а на коптском языке — среди герметических текстов, включенных в кодекс VI из Наг-Хаммади. Позднеантичный заклинатель был, конечно, обычным приспособленцем, который не испытывал никаких внутренних стеснений, когда присваивал какой-нибудь философский текст, если считал его полезным для своих целей, и который без всяких колебаний взывал к могучему имени «Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова» (Ориген. Против Цельса. IV.33) — ревнивого бога, не терпящего никакой конкуренции. Но такой подход обладал энергией и широтой взглядов, что делало оккультные знания одними из самых динамических аспектов позднего политеизма, что предопределило их глубокое влияние как на христианскую, так и на исламскую цивилизации. Вполне можно понять, почему оккультизм стал таким подозрительным для властей, какова бы ни была религиозная принадлежность этих последних.
Неприязнь власти к оккультным практикам, возможно, была бы не такой жесткой, если бы сама эта власть не верила в их действенность.
Глава 17а. Мировоззрение
729
Один папирус 198/199 г. содержит запрет тогдашнего префекта Египта на любой вид оракульской консультации, изданный, несомненно, по требованию Септимия Севера31. Тем не менее, Септимий первым делом прибег к предсказателям, когда пожелал узнать, какая судьба ждет его в будущем32. Рассказывают, что он женился на Юлии Домне из-за ее гороскопа, в котором ей был предсказан брак с императором; а сама Юлия являлась типичным продуктом своей родной Сирии, где астрология уже давно стала неотъемлемой частью, например, самых разных местных культов Бела, владыки мира и создателя.
Хотя влияние этих сирийских культов на политеизм Ш в. порой преувеличивается, образ Септимия и Юлии, «ассирийской Кифереи, непревзойденной Луны» (Оппиан. Кинегетика. 1.7; cp.: Ghedini 1984: 148—151), вершивших правосудие под сводами дворца, расписанными императорским гороскопом (включавшим преднамеренные неточности), мог лишь подпитывать тягу их современников к астрологии33.
То же самое смешение официального культа и оккультных искусств мы наблюдаем в Египте; понятно, что исследователь египетской религии и магии тут же обнаружит, что между этими сферами нет никакого отличия. Греки и римляне, со своей стороны, знали, что ни один заклинатель не превосходил могуществом мемфисского жреца; но в их собственной, греко-римской, традиции различие между религией и магией укоренилось глубоко. Флавий Филострат наглядно это проиллюстрировал в рассказе о том, как элевсинский иерофант не желал допустить Аполлония Тианского к священнодействиям, поскольку присутствовать на них всяким шарлатанам негоже; Аполлоний отвечал: «Ты еще не назвал главной причины запираться от меня, а именно того, что, будучи сведущ в таинствах более тебя, я всё же явился к тебе за посвящением как к мудрейшему» (Флавий Филосграт. Жизнь Аполлония Тианского. IV. 18. Пере в. Е.Г. Рабинович). Филостратова «Жизнь», в которой огромное внимание придается сверхъестественным способностям Аполлония, но одновременно предпринимается попытка снять с него ярлык простого чародея и фокусника, симптоматична для очень распространенного в образованных умах того времени колебания (Порфирий представляет собой еще один его пример) между, с одной стороны, сохранением традиционного интеллектуального дискурса и, конечно, традиционного культа и, с другой — возможностями оккультизма. В судебной речи (процесс состоялся при Антонине Пии) в защиту себя от обвинения в магии Апулей играл на той же самой неопределенности. Если противоположная сторона (то есть его обвинители в суде) вместе с толпой думает, «что маг — это только тот, кто вступил в общение с бессмертными богами, узнал какой-то невероятной силы заклинания и поэтому может исполнить всё, чего ни пожелает» (Апулей. Апология. 26. Перев. С.П. Маркиша), тогда как же они решились
31 Rea 1977.
32 Сочинители истории Августов, Север. 2.8—9, 3.9, 4.3 и др.
33 Дион Кассий. LXXVI.il. Ср.: Turc ап 1978: 1031—1035 — об использовании астрологии преемниками Септимия для легитимации собственной власти.
730
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
обвинять человека, обладающего столь безмерной силой? А раз они нападают на него, значит, они сами не верят в собственное обвинение и, таким образом, их лицемерие налицо.
Из числа поздних мыслителей-политеисгов убедительны были только те, кто всерьез ставил перед собой эту проблему, либо предлагая (как Плотин) в качестве средств решения тех проблем, которые они до сих пор считали ничтожными, философию, до сих пор выходившую за рамки общепринятого культа, астрологию и магию34, либо признавая, как Ямвлих, что маг, прорицатель, благочестивый почитатель богов, а также философ — все они обладают какими-то частями истины, которые, будучи соединены, образуют тот «универсальный путь к освобождению души», который, согласно Августину, тщетно пытался отыскать Порфирий (О возвращении души. Фр. 12 Bidez, 302 Smith).
34
Напр.: Плотин. П.3[52].15.
Глава 17b
Г. Фоуден
ИНДИВИДУУМ И БОГИ
Мировоззрение позднего политеизма, как оно было сформулировано интеллектуалами того времени, дает историку первый ориентир в исключительно сложном для понимания и разношерстном корпусе источников. Но ежедневное общение с богами достигалось большинством людей конечно же не посредством философии или теургии и даже не с помощью оккультных практик, а при помощи общественного и домашнего культа, снов, погребальных ритуалов и т. п. В качестве центральной проблемы здесь всегда выступал и вопрос о том, как правильно вести дело с божественными силами — и как их использовать, — чтобы сохранять собственную идентичность на личном и общественном уровне. Стремление к тому, что мы называли бы «религиозным опытом» либо нравственным прогрессом, если и имело хоть какое-то значение, то лишь вторичное. Погружение в детали культовых практик обеспечивает нас доказательствами в поддержку этих обобщений относительно ментальности и позволяет прийти также к другим выводам. I.I. Святилища и культы
Строительство храмов всегда относилось к самым фундаментальным социальным актам в человеческой истории. Храмы были одновременно и отличительным признаком (или образом, воспринимаемым глазами), и квинтэссенцией (или «душой») любого поселения, будь то город или деревня (Либаний. Речи. ХХХ.9, 42). Как писал историк VI в. Иоанн Эфесский об огромном «доме идолов» в Гелиополе (Баальбек), «украшения этого дома были столь удивительны, что, когда заблуждавшиеся язычники [думали о] силе этого дома, они восхваляли его, еще более усугубляя свое заблуждение» (у Псевдо-Дионисия из Тель-Махры. Хроника (Chabot 1933 = CS СО 104). 130). Помимо того что храмы публично заявляли о силе богов и о роли религии в жизни общины, они говорили еще и кое-что о той структуре общества, в каком существовали. Часто объявляя себя пло-
732
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
дом индивидуальной щедрости состоятельных людей, они отвращали от этих последних зависть, которая могла стать причиной разорения последних. Храмы символизировали публичный, интегральный аспект социума — отсюда происходит то право убежища, которым они порой обладали1. Крупные святилища зачастую возникали рядом с шумным рынком или, наоборот, рынок возникал вокруг храма, прежде всего в тех случаях, когда это был оракул (как в случае с Дидимами, находившимися невдалеке от Милета) либо место врачевания (как в случае с Пергамом), причем такие святилища преднамеренно располагались extra muros («вне городских стен»), на определенном расстоянии от суеты городской жизни. Существовали, впрочем, и менее заметные храмы — на обочинах улиц с более определенным кругом прихожан; при этом адепты Митры обычно собирались в подземных святилищах, «погруженных в скрывающий мерзость мрак», как говорит один христианский критик (Фирмик Матери. О заблуждении нечестивых религий. V.2). Местоположение и вид храмов отражали различные варианты благочестия и вызывали разные чувства.
Обыкновенному человеку проще всего было приобщаться к общественной религии в крупных городах, которые могли поддерживать тщательно продуманные ежедневные обряды. Священный закон из Эфеса, относящийся, вероятно, к Ш в., описывает следующую сцену:
Притан (то есть старший магистрат.—Г.Ф.) должен разжечь огонь на всех алтарях и воскурить фимиам и священные травы; в обычные дни он приносит в жертву богам животных, всего — 365 <...>, за собственный счет. Государственный иерофант показывает и объясняет ему, как, следуя обычаю, [приносится] богам каждая [жертва]. Ему надлежит петь гимны во время жертвоприношений, процессий и ночных церемоний, которые предписаны обычаем, и он обязан возносить молитвы за священный [римский] сенат, народ Рима и народ Эфеса.
7. Ерк 10
Во время проведения главных праздников в честь Артемиды чтили также и императора — именно в этой связи императорский культ входил в повседневную жизнь самым непосредственным образом1 2. Но когда писатель Ксенофонт Эфесский рассказывает об одном из таких праздников (1.2—3), то в его словах нас более всего поражает коммуникационный аспект религии. В окружении огромной толпы местных и иноземных наблюдателей все эфесские юноши и девушки участвуют в процессии, двигающейся по священной дороге, которая ведет от города к его великому святилищу, не имеющему стен. Окутанные парами фимиама и вздымая вверх священные предметы, участники процессии направляются к входу, ведущему к храмам Артемиды, где приносятся жертвы. А само жертвоприношение, о чем Ксенофонту нет надобности упоминать, являлось поводом для торжественной трапезы, винопития, музыки и танцев. Неудивительно, что
1 Brown 1978: 35—36; Drijvers 1982.
2 Price 1984: 103-104.
Глава 17b. Индивидуум и боги
733
именно в это время обычно выбирали себе невест: как раз при таких обстоятельствах, как и полагается, встретились и полюбили друг друга герой и героиня Ксенофонтова романа. И именно это чувство радости и наслаждения, свойственное таким празднествам, вызывало у граждан, которые в обычной жизни слишком часто готовы были вцепиться друг другу в глотку, массовое ощущение сопричастности и общей идентичности. Флавий Филосграт рассказывает, что, когда в Эфесе свирепствовала чума, Аполлоний Тианский использовал процессии, ритуалы и даже совместное побиение камнями «козла отпущения» (нищего, оказавшегося демоном), чтобы сконцентрировать усилия на том, что объединяет общину, а не на том, что ее разъединяет [Жизнь Аполлония, IV. 10).
Верующие приходили в город также и из сельской местности: один эдикт, составленный в своеобразном и красочном стиле, очевидно, лично императором Каракаллой и сохранившийся на папирусе в Гисене, одобрительно упоминает египетских земледельцев, которые стекаются в Александрию, гоня перед собой своих жертвенных животных на праздник в честь великого бога Сераписа3. Деревенские жители устраивали также собственные сугубо местные торжества: недавно опубликованная надпись из пограничной полосы между Вифинией и Фригией свидетельствует о том, как в июне/июле 210 г. за спасение Септимия Севера, Каракал- лы и Геты, а также ради своей деревни и ее урожая Хрестос, сын Гликона, установил изваяние на алтаре в честь Зевса Бенниоса. В жертву был принесен один бык, также было предоставлено двести литров вина вместе с большим бронзовым сосудом для вина4. В этих деревнях, располагавшихся по краю безводной центральной области Анатолийской возвышенности, такие летние праздники были главными событиями года.
Однако вполне объяснимый интерес источников к празднествам не должен привести нас к ошибочному выводу о том, что повседневное богослужение носило будто бы сугубо общинный характер, как в основных течениях христианства и ислама. Апулей, описывая человека, на примере которого он хочет дать читателю образчик равнодушия к религии, восстанавливает баланс:
Вплоть до этого самого времени он не молился никаким богам и не посещал никаких храмов. Проходя мимо какой-нибудь святыни, он считает грехом поднести руку к губам в знак почтения. Даже деревенским богам, которые его кормят и одевают, он вовсе не уделяет первин от своей жатвы, виноградника или стада. В его поместье нет ни одного святилища, ни одного посвященного богам места либо рощи <...> Те, кто бывали в его владениях, говорят, что не видели там даже камня, умащенного маслом, или ветви, украшенной гирляндой.
Апулей. Апология. 56. Перев. С.П. Маркиша
Прямой противоположностью оказывается набожный путник, для благочестивой остановки которого основательным поводом служит
3 Р. Giss. 40 П = P. Giss. Lit. 6.2.
4 Sahin 1978.
734
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
алтарь, цветами увитый, пещера, тенистою сенью листвы укрытая, дуб, рогами [принесенных в жертву животных] увешанный, бук, мехами увенчанный; или, например, холмик, в дар божеству принесенный и оградою обнесенный, или пень с вырезанным на нем изображением, или орошенный возлиянием дерн, или камень, благовонной мазью умащенный.
Апулей. Флориды. 1. Перев. С.П. Маркиша
Такой человек, оказавшись в священной роще или на святом месте, обязательно «загадает заветное желание, плоды перед святынею возложит, присядет ненадолго» (Апулей. Флориды. 1; ср.: Лукиан. Александр. 30). Короче говоря, Апулей считает само собой разумеющимся, что наиболее типичное, повседневное благочестие является добровольным, индивидуальным, а не литургическим, хотя и необязательно сугубо частным, и определенно не тайным (некая христианская перверсия)5.
Как замечает Апулей, человек, даже простой, проходя мимо алтарей богам, делает определенный почтительный жест по отношению к ним; но, чтобы войт внутрь священного участка, он должен быть чист. Что именно понималось под «чистотой» — в тех случаях, когда речь шла не о жреческой прерогативе, как в местных египетских культах, — могло быть четко прописано в надписи, чье требование, например, о том, что входящий не должен был недавно прикасаться к трупу или к женщине, могло в каком-нибудь крайнем случае игнорироваться, а в других трактоваться как внешнее выражение внутреннего аскетического идеала6. Многие считали весьма важным посетить в начале дня храм. Впрочем, особенно подходящей считалась молитва восходящему или заходящему солнцу, и она опять же могла интерпретироваться на разных уровнях иногда даже как некое подобие общения философа с Ним7. Во многих храмах сами камни, из которых храмы были сделаны, а также отполированные поверхности культовых статуй были покрыты текстами, иногда являвшимися официальными жреческими записями, иногда же — частными просьбами, написанными или выцарапанными обычными верующими8. Человек мог также оставить лампу, статуэтку или иное подношение, содержащее, возможно, какую-нибудь вотивную надпись, или он мог возжечь фимиам. Важные случаи требовали животных жертв, запреты которых, повторяющиеся на протяжении всего IV в., доказывают, что они оставались популярными и в этот период. Число принесенных жертв могло с гордостью указываться в соответствующей надписи9, хотя к тому времени некоторые интеллектуалы считали трудным оправдать кровавые подношения и предпочитали (как гермети- сты) «спиритическое жертвоприношение». Не только Юлиан, но и Марк
5 Ср.: Порфирий. О воздержании. П.16, прежде всего: 4—5; Максим Мадаврский (= Августин. Письма. 16.3); Veyne 1989. Апулей — автор П в. н. э., но подобные практики не вышли из моды и позднее, см.: Арнобий Афр. Против язычников. 1.39.
6 Надпись из Линдоса: LSCG Nq139 (П в.) — выражено требование чистоты не только тела, но и мыслей; также см.: Порфирий. О воздержании. П.19.
7 Fowden 1993b: 127.
8 Апулей. Апология. 54; Beard 1991.
9 Напр.: Brogan, Smith 1984: 262 (No 6).
Глава 17b. Индивидуум и боги
735
Аврелий подвергался осуждению за свои неумеренные гекатомбы и за бессмысленные пиршества, которые следовали за этими гекатомбами10, и данная критика прямо показывает, что уже до того времени, когда голос христианства зазвучал громко, некоторые политеисты сомневались в их необходимости.
Тот факт, что споры вокруг необходимости жертвоприношений всё обострялись, доказывает, что политеизм не перестал эволюционировать, как и человеческий род не потерял вкуса к жизни и не прекратил интересоваться, что находится там, в загробной жизни. Например, суровый древний римский Юпитер мог оставаться популярным еще очень долгое время и в поздней античности, но каждое поколение придавало богам новые образы, и этот бог оставался объектом не только официального, но и индивидуального благоговения11, при этом благодаря Диоклетиану даже его публичный культ получил новый неожиданный импульс (см. с. 755—756 насг. изд.). Если изваяния и изображения, которые видели посетители храма, выглядели и толковались их хранителями почти всегда одинаково, то это означает, что способность людей представлять себе внешний облик богов никогда не подвергалась особым сомнениям12. За рамками греко-римской традиции местные боги всё чаще изображались в римском обличье, при этом по прошествии некоторого времени антропоморфные изваяния постепенно заменили собой более древние, безобразные культовые объекты13. Важность регулярных, ежедневных храмовых богослужений, глубоко укоренившихся и в Египте, и в других восточных странах, теперь широко осознавалась также и в греко-римском мире14, и благодаря реформаторским попыткам Максимина Дазы, а позднее — Юлиана она получила официальное подкрепление (см. с. 757 наст, изд.; САН ХШ: 543—548). Развитию этой тенденции, несомненно, способствовали восприимчивость к божественным энергиям, которую усиливали культовые статуи, а также желание использовать данные сверхъестественные силы настолько полно, насколько это было только возможно.
Высказывается мнение, что и индивидуальное благочестие эволюционировало в сторону большей сердечности и интимности в отношениях с богами15. При всей своей субъективности данное суждение в своей основе довольно правдоподобно. Политеисты поздней античности, как представляется, действительно испытывали особенные чувства к таким сведущим в горестях и трудностях смертного человека богам, как Геракл, Дионис, Асклепий и Митра. Предполагалось, что эти боги внимательно слушают и благосклонно внимают (eTtrjxooi) молитвам просителя; и если постоянно держать при себе этих богов, то возможность быть ими услышанным повышается. По этой причине многие верующие носили с собой небольшие
10 Аммиан Марцеллин. ХХП.12.6; XXV.4.17.
11 Alföldy 1989: 84-89.
12 Lane Fox. Pagans and Christians: 102—167.
13 Наир.: Harl 1987: 79-81; Le Glay 1966: 61-95, 499-502.
14 Nilsson 1974: 381-383.
15 Veyne 1986; Veyne 1989.
736
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
образы любимого божества, иногда изготовленные из серебра или из золота16. Поскольку строить храмы или устанавливать культовые статуи новым богам — дело не такое уж простое, эти малые изображения служат отличным индикатором моды: весьма вероятно, например, что образ змея Гликона получил широкое распространение вскоре после того, как в середине [2-го] столетия Александр, шарлатан-«чудотворец» из Абонутиха, изобрел свой оракул (Лукиан. Александр). Особой популярностью пользовались фигурки Тихи (богини судьбы) в различных ее обличиях, и это предостерегает нас от некритичного принятия тезиса о том, что божественные олицетворения общих понятий казались людям менее реальными, чем боги, обладавшие конкретной индивидуальностью и собственной историей. В судебном процессе по обвинению Апулея в использовании магии ему, помимо всего прочего, вменялось то, что он носил с собой деревянную статуэтку Меркурия. Его защитная речь содержит прекрасный рассказ о разных аспектах (исключая магический, на что сторона обвинения уже обратила внимание) почитания такого образа, и здесь вновь подчеркивается индивидуальный характер политеистического благочестия. Фигурка Меркурия, объясняет Апулей, является одновременно и заменой публичной культовой статуи, и предметом для философских раздумий. В праздничные дни он возжигал перед ней ладан, осуществлял возлияние или даже приносил жертву, а также возносил молитву; при этом, будучи платоником, он обычно называл этого бога «Царем», верховным Владыкой всех творений. Такие фигурки могли помещаться у ног культовой статуи и также почитались в общественных храмах. Молва гласила, что философ Асклепиад, посетивший в 362 г. храм Аполлона Дафнийского (Антиохия), поставил у ног большой статуи маленькое изображение Небесной богини, которое всегда носил с собой; помолившись и возжегши свечи, он ушел из храма; искры от свеч упали на старое дерево, и вспыхнувший огонь уничтожил здание17. Несколькими годами позже теург Несгорий спас Афины от землетрясения, обратившись с молитвой к статуэтке Ахиллеса, которую он поставил перед образом Афины в Парфеноне18. В данном случае взаимодействие древнего публичного контекста и тайного теургического ритуала служит весьма характерной чертой позднего политеизма.
Следует сказать, что имеются обильные свидетельства о спиритических интерпретациях повседневных религиозных обрядов. Это способствует формированию ложного ракурса: наши литературные источники, в которых только и отражены эти нюансы, были написаны, скорее всего, именно теми людьми, которые ставили перед собой задачу проанализировать эти обряды. Но религиозное душевное чувство — это, по всей видимости, другой вопрос, хотя и здесь наши источники неизбежно носят литературный характер. Эмоцию чаще приписывают «теплым» восточным культам, нежели «холодным» греческим или, еще в меньшей степени, римским; но статуи обычно вызывают нечто большее, чем просто эстетическое чувство.
16 Giammarco Razzano 1988: 340—341.
17 Аммиан Марцеллин. ХХП.13.
18 Зосима. IV. 18.
Глава 17b. Индивидуум и боги
737
Образ Асклепия Пэана (Целителя) был описан одним его созерцателем как наполненный силами самого бога и как его, этого бога, собственное олицетворение (Каллистрат. Статуи. 10); в то же время Евнапий вспоминает, как после особенно блестящего выступления ритора Прохайресия «все, кто присутствовали там, облизывали грудь этого софиста, будто бы то была какая-то боговдохновенная статуя, некоторые целовали его ноги, другие — его руки» (Евнапий. Жизни философов и софистов. Х.5.4). Такое сравнение умудренных и праведных людей со статуями часто встречается в поздней политеистической литературе, и оно показалось бы не таким уж и странным, если бы мы сами могли воспринимать статуи более живо и непосредственно. Не то чтобы поздние политеисты всегда и при любых обстоятельствах проявляли излишний религиозный энтузиазм в храмах. Сохранилось несколько занятных историй о резких разговорах между верующими и их богами. Клиенты Асклепия, которые должны были спать в его храмах ради того, чтобы получить во сне оракул, бывали особенно обидчивы. Один надменный софист П в., узнав, что он может избавиться от артрита, если не будет пить холодные напитки, задал вопрос, действенно ли это предписание также и для коровы, страдающей тем же недугом; когда Плутарху, учителю Прокла, было велено есть свинину, он спросил, даст ли бог ту же самую рекомендацию и иудею. Асклепий, застигнутый врасплох такой дерзостью, изменил свой рецепт19 20.
II. Особые взаимоотношения
В случае с Асклепиевым лечением, впрочем, мы касаемся такого типа взаимоотношений с богами, которые выходили за рамки обыденности и не являлись простым проявлением повседневного почитания. Необходимость вступать в такие контакты возникала либо по объективным причинам, таким как болезнь, либо реже — из-за того, что человек мог проявлять интеллектуальное или спиритическое любопытство. Первое вполне могло конечно же стимулировать второе. И всё же нелегко было предаваться частным заботам в общественных святилищах в окружении представителей менее образованных классов.
Начать можно с североафриканских «Сатурновых стел», устанавливавшихся в местах культового поклонения с целью засвидетельствовать принесенные жертвоприношения и отметить укрытые скопления вотивных предметов, поднесенных верховным африканским богам, пуническому Баалу и латинскому СатурнуЧ Хотя к Ш в. культ Сатурна был уже основательно романизирован и даже в сельской местности обычно отправлялся в римско-африканских храмах, а не на традиционных огороженных священных участках под открытым небом, он по-прежнему сохранял важные местные и семитические элементы. Отелы рисуют бога и его культ так, как они виделись простому люду, прежде всего местным земледельцам; и на
19 Филосграт. Жизнь софистов. 535; Дамаский. Жизнь Исидора. Фр. 218. Педантичный Ли- баний знал конечно же об этом лучше, см.: Речи. 1.143.
20 Le Glay 1966; Le Glay 1988.
738
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
этих стелах символическим языком описывается деятельность Сатурна как владыки небес, плодородной земли и загробного мира. Будучи почитаем вместе с другими многочисленными божествами, Сатурн имел отношение к любому мыслимому аспекту человеческой жизни. Глубокое благочестие, которое он вызывал, выражено в одной посвятительной надписи, установленной летом 283 г. близ Карфагена Гаем Манием Феликсом Фортунатианом — «жрецом, предупрежденным в сновидениях, которые подвластны божественной силе (numen) Сатурна. Я, Маний, — продолжает надпись, — выполнил свой обет и принес священную жертву за мою вернувшуюся убежденную веру и за мое сохраненное здоровье (salus)» (АЕ 1975.874).
Коллизии, смягчавшиеся, а иногда даже и порождавшиеся религиозной верой, особенно рельефно отражены в «исповедальных стелах», которые происходят из местных храмов в сельских районах северо-восточной Лидии и соседних частей Фригии, из региона, который, согласно античным источникам, был известен суровой моралью21. Это — посвятительные надписи, фиксирующие подношения в благодарность какому-нибудь конкретному богу за выздоровление, сделанные людьми, страдавшими от разных недугов.
Болезнь воспринималась как наказание за преступление, а вот за какой именно проступок — кражу, например, или прелюбодеяние, — зачастую бог прямо указывал или, по крайней мере, намекал, явившись больному во сне. Так, одна женщина, Клавдия Басса, посвятила стелу, датированную 253/254 годом, Зевсу Спаренных Дубов, «страдая в течение четырех лет и не веря в бога. Однако, узнав, за что я претерпевала, и в благодарность я установила стелу» (Petzl 1994: 20—21, № 12).
Две только что приведенные надписи нетипичны для своих жанров, поскольку намекают на то, что несчастье стало расплатой за утрату веры. В большинстве случаев у людей, которые испытывали смутные, но постоянные тревоги по поводу членов своей семьи, своей собственности, здоровья и непрекращающихся страданий, обычно укреплялось понимание своей зависимости от богов и усиливалось желание вступать с ними в контакт. Мы это отчетливо видим по надписям П — начала Ш в., которые сообщают нам всё, что мы знаем о культе «Праведного/Праведных и Справедли- вого/Справедливых» бога/богов22, которых часть их почитателей, обычных селян из Фригии и соседних областей, воспринимала скорее как ангелов, нежели как настоящих божеств, и тем самым признавала существование более высокого божества, с которым было гораздо сложнее вступить в контакт, но который считался носителем этических стандартов для человеческого рода. Отсюда вытекала проблема посредничества, но находилась она преимущественно в зависимости от более прямого вопроса о том, как именно человеку устанавливать контакт с ангелом или богом, если только последний не утруждает себя тем, чтобы явиться к человеку во сне. Или каким образом человеку обеспечить такое явление ангела (или бога) себе во сне.
21 Mitchell. Anatolia I: 189-195.
22 Riel 1991; Riel 1992a; Riel 1992b.
Глава 17b. Индивидуум и боги
739
Об услугах, предлагавшихся разного рода заклинателями и астрологами, кое-что уже было сказано ранее. Как правило, они находились «под рукой», их услуги стоили относительно недорого, но не всегда приводили к ожидаемому эффекту. С другой стороны, имелось множество святилищ, специализировавшихся на исцелении, один из типов которых мы чаще называем оракулами. Необходимо рассмотреть также мистерии, в которых внешнее великолепие и помпа сочетались с тайным посвящением; и все эти культы породили такое явление, как паломничество. Названные темы можно связать с контекстом 3-го столетия через личность императора Каракаллы, к которому обычно относятся как к правителю, заслуживающему порицания, но который был также человеком страдающим. Вскоре после убийства своего брата Тепы Каракалла, подавленный чувством вины, заболел и телом, и умом, и ему стали являться сны, в которых его преследовали отец и брат с мечами в руках. Эти сновидения Каракалла воспринимал так, как их, очевидно, восприняли бы и другие его современники — в качестве непосредственного божественного наказания и предостережения. С этого времени и вплоть до своей смерти нескончаемые перемещения Каракаллы мотивировались ничуть не в меньшей степени поиском средства к излечению, нежели государственными интересами или другой его одержимостью — желанием быть похожим на Александра Великого. Он вызывал духов и докучал богам, как лично, так и через посланника, «молитвами, жертвами и обетными подношениями»; однако «он так и не получил помощи ни от Аполлона Гранноса, ни от Асклепия, ни от Сераписа». Это замечание Диона Кассия (LXXVIL15.6) говорит нам, что Каракалла обращался с мольбами к могущественнейшим божествам своего времени. В самом деле, переживания Каракаллы позволяют нам понять то, что представлялось наиболее динамичным в позднем политеизме одному из тех немногих людей, которые имели возможность охватить взглядом религиозные традиции империи.
Мы можем начать с Асклепия Избавителя, человеколюбца (cptXàvGporcoç) и, прежде всего, целителя, а также одного из самых непреклонных соперников христианства. На своем пути на восток зимой 214/215 г. Каракалла посетил святилище этого бога в Пергаме — наиболее почитаемый центр врачевания в римском мире и в силу уже одного этого факта одно из его самых священных мест23, ибо акт исцеления устанавливал особенно интенсивные отношения с божественным миром. Во П в. данное святилище сильно расширилось и при этом сохранило специфическую атмосферу, свойственную всем храмам Асклепия, в которых люди оставались на ночь, засыпая в священной зоне в надежде на то, что во снах к ним явится бог и пропишет средство исцеления. Столетиями накапливавшиеся в Эпи- давре24 надписи и вотивные подношения, выставляемые ныне в местном музее, весьма красноречиво свидетельствуют о долговечном энергичном благочестии адептов Асклепия. И набожность эта основывалась не на пус¬
23 Habicht 1969: 6—18; Le Glay 1976. Визит Каракаллы: Habicht 1969: прежде всего с. 18, 33-38; Price 1984: 152-153, 253; Harl 1987: 55-57; Kampmann 1992-1993.
24 Nilsson 1974: 336-337.
740
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
том месте, поскольку поразительные случаи выздоровлений заставляли людей призадуматься. В долгие часы ожидания велись беседы о святилище и его патроне; случалось, что эти обсуждения уводили людей и в более широкие сферы теологии и философии25. В Пергаме писатели и философы разглагольствовали перед невольными слушателями, при этом принадлежность данного святилища Зевсу—Асклепию, а также всякого рода алтари, установленные и там, и повсюду в городе «в честь всех богов и богинь», наводят на мысль, что элита из числа почитателей всего этого божественного сонма была склонна преимущественно к синкретическому восприятию богов. Впрочем, нет никаких признаков того, что подобные идеи (засвидетельствованные и в Эпидавре) захватывали мысли среднестатистического посетителя, который по-прежнему адресовал свои молитвы старомодному Асклепию.
Каракалла также вел себя вполне традиционно. «Вдоволь насмотревшись снов» (Геродиан. IV.8.3), иными словами завершив прохождение курса лечения путем инкубации, он сделал Пергам «трижды хранителем храмов» (привилегия, связанная с императорским культом); ему был посвящен храм на театральной террасе (а другие, вероятно, отремонтированы), и, кроме всего прочего, была изваяна его статуя в виде жреца и выпущены монеты, на которых он был представлен в момент жертвоприношения Асклепию. Визит Каракаллы оказался последним крупным событием в истории святилища, о котором с середины П1 в. мы ничего уже не услышим. Но вот Эпидавр процветал и в IV в. Также обстояло дело с Асклепейоном и в киликийских Эгеях26. Сообщается, что в этом храме в молодости проживал Аполлоний Тианский, родной город которого Каракалла украсил святилищем в честь культа Аполлония; написание биографии последнего было поручено Филострату матерью Каракаллы. Аполлоний превратил Эгеи в настоящую философскую школу и использовал любую возможность обнажить публично, перед простыми верующими, те ужасные связи между поведением человека, его сознанием и страданиями, наличие которых так болезненно осознавалось авторами «исповедальных стел»27. Не вызывает сомнений, что в дни Филосграта по сравнению со временем самого Аполлония в Эгеях мало что изменилось. Вполне вероятно, что это место Каракалла посетил незадолго до своего прибытия в Антиохию; и конечно же Асклепейон в Эгеях оставался крупным центром врачевания и благочестия в правление Константина, который по этой причине пытался закрыть данный храм.
Впрочем, поле деятельности имелось не для одного-единственного бо- га-целителя. Из двух других, упоминаемых Дионом Кассием в связи с Ка- ракаллой, у кельтов был известен Аполлон Граннос. Его культ особенно хорошо засвидетельствован в приграничных областях, где он часто был связан с водными источниками28. Недавние археологические открытия за-
25 Ср.: Флавий Филострат. Жизни софистов. 568.
26 Ziegler 1994.
27 Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. 1.10—11.
28 Weisgerber 1975: 108, 115-121; Dietz 1985.
Глава 17b. Индивидуум и боги
741
сгавляют думать, что святилище, которое Каракалла посещал в пору своих германских походов (вероятно) в 212 и (определенно) 213 гг., находилось в Файмингине, что на Верхнем Дунае. Этот бог, похоже, извлек из данной оказии больше пользы, чем сам император. Его храм был перестроен в камне, на римский манер. И покровительство Каракаллы, вне всякого сомнения, придало более широкий импульс этому культу, который до конца П в. вообще был малоизвестен, но с тех пор распространился по всей западной части империи. Одна дакийская надпись от 230-х годов характеризует Аполлона Гранноса как «единственного, кто всегда и повсюду внемлет молящемуся» (eTtrjxooç) (SEG ХХХШ.589) — за исключением, пожалуй, такого его поклонника, как Каракалла.
Что касается Сераписа, Каракалла имел возможность помолиться ему, когда в 215 г., свернув ненадолго с роковой дороги в Персию, посетил Александрию. Данный визит был отмечен спровоцированной самим императором кровавой резней, но также почтением, которое Каракалла оказал знаменитому богу этого города, в чьем храме он остановился и где настойчиво совершал жертвоприношения29. Император-<<филосерапис» построил в самом Риме, на Квиринале, также святилище Сер апису (и Исиде?)30. Культ Сераписа был популярен по всей державе и часто ассоциировался с культом Исиды, как это очевидно на одном испанском посвящении этого периода, в котором поименованы также Кора, Аполлон Граннос и кельтский Марс Сагатос (АЕ 1968.230). В Тимгаде, в самом крупном религиозном комплексе, когда-либо открытом археологами в Северной Африке, Серапис почитался — что является уникальным случаем — параллельно с Асклепием и с Богиней Африкой [Dea Africa). В одной надписи сообщается о тщательно продуманном новом оформлении храма, осуществленном при Каракалле31. Несмотря на тот факт, что личный вклад в этот процесс со стороны представителей северовской династии мог быть менее определяющим, нежели считалось ранее, ясно, что в данную эпоху римский пантеон был как никогда открыт для восточных богов; хотя некоторые, прежде всего Митра и Юпитер Долихен, оставались в стороне, те, кто входил в этот пантеон, должны были соответствовать римским религиозным представлениям.
Тот факт, что Каракалла, «непрестанно вопрошавший оракулы» (Геро- диан. IV. 12.3), поселился в александрийском Серапеуме, дает все основания предполагать, что он надеялся получить здесь прорицание во сне. В самом деле, оракулы играли главную роль как в физическом излечении, так и в снятии психологического напряжения, важным элементом чего, вне всякого сомнения, было снятие бремени ответственности с того, кто спрашивает32. Асклепий естественным образом стал рассматриваться в качестве одного из самых авторитетных богов-прорицателей, даже независимо от его врачевательной функции33. Но он по-прежнему не мог бросить вызов Аполлону. Надписи из Дидим и из Клароса, свидетельствуя, что на про¬
29 Malaise 1972: 439-442.
31 Le Glay 1991.
33 Jones 1986: 44.
30 Beard, North, Price 1998 I: 254. 32 K. Thomas 1978: 288.
742
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
тяжении всего П и отчасти Шв. эти два Аполлоновых оракула процветали34, акцентируют внимание на факте, который в знаменитом Плутархо- вом памфлете «Об упадке оракулов» относится прежде всего к Дельфам; оскудевшая Эллада более уже не могла поддерживать их на том уровне, к которому это прорицалшце привыкло; тем не менее, культурное влияние последнего сохранялось даже в самые непростые периоды 3-го столетия, свидетельством чему — Пифийские игры, регулярное проведение которых подтверждается данными из различных городов35. Христианские апологеты, злорадствовавшие по поводу повсеместного прекращения деятельности оракулов, просто вводили в заблуждение. С формальной точки зрения, в эпоху поздней античности институционализированные оракулы продолжали отвечать на реальные личные, местные и региональные запросы, а в равной степени и угождать претензиям представителей городских элит, которые прибегали к ним. Тем не менее, высокие расходы и сложный характер этих великих древних оракулов делали их особенно чувствительными к социальным и политическим сдвигам. Кларос, который обслуживал в основном города внутренней Малой Азии, Черноморского побережья, Фракии и Македонии и наряду с Дидимами и Эгеями извлекал выгоду из своего расположения на оживленном морском пути, очевидно, пал жертвой того разрушения, которому подверглась экономика и коммуникации региона из-за внешних вторжений середины Ш в. Ди- димы превратились в укрепленный лагерь для беженцев; и, хотя Диоклетиан опекал этот оракул и советовался с ним, а позднее Юлиан пытался реанимировать прорицалшце Аполлона в Дафне, такие проекты не могли иметь значительного успеха в условиях отсутствия интереса к ним на местах. В условиях послекризисной экономии тщательно продуманные и дорогостоящие оракулы, как и местные монетные дворы (а также, несомненно, и Пифийские игры), зачастую оказывались просто излишними.
Вопросы, задававшиеся оракулам, в своей основной массе носили вполне практический характер. Города вопрошали о том, что следует делать в связи с каким-нибудь природным катаклизмом или варварским нашествием, либо о том, как лучше всего уважить того или иного бога. Частные лица консультировались относительно своих повседневных забот, как, к примеру, некий Этренион в фаюмском храме:
Моему владыке Сокнопею, великому богу, и сопровождающим богам <...> если не представляется возможным, чтобы моя жена Аммонус вернулась по своей доброй воле, но я должен поступить так, чтобы она вернулась, дай мне это.
Р. Berlin 21712 = А1у 1987: 99-100
Эта полоска папируса была обнаружена вместе с несколькими другими, причем всё это время они оставались в храме, так что, по всей видимости, бог рекомендовал проявить терпение, вернув Этрениону другую по¬
34 Parke 1985: 69—111, 142—170; об оракулах в целом см. также: Lane Fox. Pagans and Christians: 168—261.
35 Bull Ép. 1982: 450.
Глава 17b. Индивидуум и боги
743
лоску, на которой тот написал альтернативное предложение. Хотя вопрошающий писал по-гречески, он сохранил местную египетскую формулу, засвидетельствованную в подобных димотических и коптских документах30.
Но в храме в городе Талмис (Калабша), находившемся далеко на юге, в Нубии, некий паломник задал богу Мандулису вопрос о нем самом: «Ты есть Солнце?» На храмовой стене пилигрим написал рассказ о дарованном ему видёнии Мапдулиса:
Ты сам явился мне в золотом потоке, когда ты проплывал на своей ладье по небесному своду. <...> Омывшись в священных водах вечности, ты выглядел как дитя. Ты вошел, взойдя в назначенный час, в свою святыню, вдохнув жизнь и великую силу в свое изваяние и свое святилище. Затем, Мандулис, я понял, что ты есть Солнце, владыка, который созерцает все вещи, царь всемирный, Айон всемогущий (Auov; «Время, олицетворение вечности». —А.З.).
IME 166
«Теологические» реакции подобного рода известны также из Дидим и из Клароса;* 37 но данный текст из Талмиса показывает, что в достаточной мере восприимчивому вопрошателю не требовались философски подготовленные жрецы в качестве посредников между ним и его богом. Как уже упоминалось выше, философские веяния обнаруживаются даже в книгах магов и заклинателей, доминировавших в «частном секторе» прорицатель^ ского бизнеса.
Обращаясь к святилищам и оракулам, занимавшимся врачеванием, мы оказываемся в том месте, где внешние формы покоятся непосредственно на том, что обычные люди считают обязательным для любой религии, — не на проникновенном нравственном или одухотворенном знании и даже не на контакте с божественным ради самого этого общения, но на утешении и конкретной помощи в жизненных невзгодах. Подобные основополагающие потребности встречаются в широком диапазоне основных эллинских и восточных мисгериальных культов38. «Мистерии» — в строгом смысле этого слова, порой употреблявшегося в этот период, — предлагали недолгое, но поразительное, даже вселявшее ужас впечатление от обряда посвящения (и, вероятно, своего рода «возрождения»), часто понимавшегося как слияние с богом и как проекция блаженной загробной жизни. Откровенно экстатические переживания достигались (хотя мы не можем знать, сколь часто), например, адептами Кибелы и Аттиса: определенно — теми молодыми людьми, которые, как гласит предание, иногда в припадке экстаза кастрировали сами себя, но, несомненно, и многими другими, которые, начиная прежде всего с Ш в., позволяли посвящать себя кровью жертвенного быка или барана (taurobolium/criobolium). Но эти таинства имели также глубокие исторические корни и совершенно практический социальный контекст. Некоторые из них были связаны с древней
3G Browne 1987; Frankfurter 1998: 145—197.
3/ Mitchell. Anatolia П: 43—51.
38 Nüsson 1974: 345-372, 622-701; Burkert 1990.
744
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
святостью конкретных мест, таких как Элевсин или Самофракия; и, хотя другие таинства, такие как мистерии Диониса, Исиды или Кибелы, можно было найти по всей империи, зачастую они в значительной степени удерживали дух своего этнического происхождения. В городах особенно, но также и в сельской местности, посвященных в таинства было много39. В частности, вездесущность дионисийских тем на мозаиках и на саркофагах весьма красноречиво свидетельствует об особом месте, которое этот бог занимал в мировоззрении поздних политеистов. Каракалла, очевидно, не был исключением — «он даже держал при себе множество слонов, — рассказывает Дион Кассий, — чтобы в этом отношении быть похожим на Александра или, скорее, даже на Диониса» (LXXVII.7.4); и Каракалла стал первым из живущих императоров, который был изображен в этом образе на монетах40. Что касается простых посвященных в дионисийские и иные мистерии, то обычно они составлялись из групп друзей и товарищей по совместным пирушкам одной местности, помогавших друг другу в жизненных невзгодах и чтивших память умерших друзей. Когда у Апулея в «Метаморфозах» (XI.28) Луций упоминает о том, что его карьера адвоката пошла в гору после вторичного посвящения в таинства Исиды, у нас есть основания предполагать, что этим Луций был обязан помощи со стороны соучастников этих ритуалов — своего рода «масонским» связям.
Новичкам во время проведения всех таинств сообщались особые знания, например, по поводу загробной жизни; использовались также символы, намекавшие на некое — более глубокое — потаенное знание. Но во времена античности «тайная» религия — это то, что сегодня мы могли бы назвать «личной» религией, и не более того, нечто такое, что многие знают и многие исповедуют, но предпочитают не выставлять наружу. Опять же некоторые из более искушенных адептов, в том числе, разумеется, иеро- фанты, подобно предсказателям в оракулярных святилищах, интерпретировали таинства в философском смысле. Но в результате предлагавшиеся интерпретации значительно расходились с тем, что обычный человек понимал под мистериями, причем в этом деле указанные адепты были столь же «успешны», как и христианские полемисты, когда впустую пытались обращать внимание на непристойные или комичные аспекты церемоний. И хотя посвящение могло быть неоднократным, никакого духовного прогресса достигать с его помощью не предполагалось — за исключением, возможно, культа Митры41. Этот последний достиг пика популярности в самом начале рассматриваемого нами периода; отражением того, что почитание Митры бытовало по преимуществу в военной и бюрократической среде, было, видимо, то обстоятельство, что данный культ предлагал структурированный и требовательный благочестивый «путь», который мог стать каркасом для всей человеческой жизни. Более преданные адепты, во всяком случае из числа митр аистов, становились членами некой группы, о которой заботился «Отец»; причем ниже этой самой высо-
39 Апулей. Апология. 55; Апулей. Метаморфозы. XI. 10; MacMullen 1987: 47—48.
40 Harl 1987: 48.
41 Gordon 1994: 465-467.
Глава 17b. Индивидуум и боги
745
кой ступени посвящения имелись шесть других, каждая из которых ассоциировалась с определенной стадией в процессе обучения, тренировки и очищения. Все мистерии предвещали будущее возрождение, но только в митраизме человек мог обрести ощущение чего-то такого, что в готовом виде он не мог ни от кого получить, но чего ему самому приходилось добиваться постепенно и систематически. Адепты Митры были погружены в культ своего бога даже сильнее, чем почитатели Асклепия; при этом Митра вербовал своих приверженцев из разных социальных классов, независимо от уровня образования, оставляя простор и для более философских интерпретаций, предлагавшихся Порфирием в трактате «О пещере нимф».
Последнее замечание, на этот раз практического плана, которое необходимо сделать относительно указанных разнообразных посредников — терапевтических святилищ, оракулов и мистерий, — содействовавших налаживанию особых отношений с богами, состоит в том, что даже в городах они не всегда были под рукой. Этим объясняется потребность и даже популярность того, что не очень точно можно было бы назвать паломничеством. Лишь христианству и исламу, как историческим религиям, предстояло превратить паломничество в одну из основных форм выражения веры. Но в политеизме историчность многих богов оценивалась по- разному. Египтяне не видели ничего необычного в посещении гробниц своих богов; но вот большинство остальных народов считало египтян в этом отношении несколько странными. Критяне, конечно, тоже показывали и место рождения, и могилу Зевса, но именно по этой причине они пользовались репутацией отъявленных лжецов. С другой стороны, благочестивые политеисты считали для себя обязательным посещение конкретных знаменитых храмов, если для этого они имели особую причину или если их путь пролегал мимо этих святынь. В этом смысле Каракалла был типичным пилигримом, просто имевшим возможность путешествовать с большим комфортом, чем основная масса остальных людей. Паломническими целями, например, был обусловлен его визит в Трою — это было первое, что он сделал, переправившись в Малую Азию (214 г.). Там, памятуя об Александре и, несомненно, об Аполлонии Тианском, а также предвосхищая Юлиана, Каракалла почтил Ахиллеса установкой его кумира, жертвоприношениями и колесничными ристаниями вокруг заброшенной гробницы последнего. Возможно, император даже до некоторой степени способствовал необычайной популярности Ахиллеса в позднеантичном искусстве, литературе и поэзии42.
Именно во время подобной же экскурсии, совершенной тремя годами позднее к храмам сирийского лунного бога Сина в Харране, близ персидской границы, этот «самый благочестивый» император, как Каракалла желал, чтобы о нем думали и его называли43, был убит, когда остановился, чтобы справить малую нужду на обочине дороги. Императорские посещения, без всякого сомнения, являлись важными событиями в истории
42 Von Gonzenbach 1979.
43 Дион Кассий. LXXVn.16.1; Oliver 1978.
746
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
даже самых великих святынь; да и в целом празднества и паломничества имели громадное социальное и экономическое значение в том мире, где в ином случае многие люди вряд ли бы вообще выходили дальше околицы своей деревни. В самом деле, любое крупное святилище было совершенно бесценным активом для города, который его контролировал, привлекая, прежде всего по праздникам, толпы людей, готовых потратить деньги, атлетов, приносивших славу, риторов и философов, которые могли, как в Пергаме или в Дельфах, превратить святилище в круглогодичный культурный центр. Это было одной из причин, почему городские элиты, извлекавшие из всего этого наибольшую выгоду, оставались еще и в начале IV в. так сильно привязаны к многобожию44.
III. Боги ДОМАШНЕГО ОЧАГА И могилы
Даже в конце 4-го столетия, согласно Иерониму, Рим с наступлением сумерек начинал светиться несметными свечами и лампами, зажигавшимися перед домашними святынями;45 и можно не сомневаться, что этот аспект самоидентификации вышел из употребления в политеистическом культе одним из самых последних.
Домашние культы представляли собой просто продолжение ментальности и практик храмового ритуала46. Очень многое становится понятным благодаря Апулею, когда он описывает свое личное религиозное рвение, проявленное им перед статуэткой Меркурия. Посвященные в таинства могли в укромных уголках своих домов держать символы своей веры и чтить их, но вообще-то политеисты относились с большим подозрением к тем религиозным обрядам, которые совершались не при дневном свете и не в соответствии с установленными правилами — это, по их мнению, скорее всего, означало какое-то колдовство... либо христианство47. Домашние святыни повторяли общую атмосферу публичных храмов, не отставая от них в разнообразии божеств (включая императора), которым они служили. В одном позднем ларарии (lararium; помещение в доме, где хранились изображения ларов, духов-хранителей. — А. 3.) из зажиточного дома в Риме были обнаружены изваяния и бюсты Исиды—Фортуны, Се- раписа, Юпитера, Дианы—Гекаты, Венеры, Марса, Геркулеса, какого-то вакханта, Гора, Гарпократа и других, аккуратно расставленные в нескольких нишах. В той же самой резиденции находилось небольшое частное святилище Митры48. Святилище в одной пекарне в Остии, сооруженное примерно в 210—215 гг., содержало около полусотни бронзовых и сере¬
44 Ziegler 1994: 206-207.
45 Иероним. Толкования на пророка Исаию. XVI.57.7.8 (CCSL 73а: с. 646—647).
46 Frankfurter 1998: 131—142.
47 Апулей. Апология. 55; Минуций Феликс. Октавиан. 10; Максим из Мадавры у: Августин. Письма. 16.3.
48 Stambaugh 1978: 598 и илл. УШВ; Price 1984: 119—120.
Глава 17b. Индивидуум и боги
747
бряных фигурок и одну мраморную статуэтку лара, а также живописные рисунки, которые были идентифицированы — с разной степенью вероятности — как изображения Сильвана, Диоскуров, Александра Великого (что при Каракалле неудивительно), Августа, какого-то гения, Фортуны, Анноны, Исиды и Гарпократа49. И было бы большой оплошностью не упомянуть о самом знаменитом собрании домашних богов, засвидетельствованном для этого периода, — о двух ларариях императора Александра Севера. Предположительно в них он «хранил статуи обожествленных императоров — из которых, впрочем, отобраны были лишь лучшие, — а также некоторых праведных душ, и среди них — Аполлония <...> Христа, Авраама, Орфея и иных того же самого характера и, кроме того, портреты своих предков», не говоря уже о Вергилии, Цицероне, Ахиллесе и других героях, а также об Александре Великом (Сочинители истории Августов. Александр Север. 29, 31). Можно, однако, предположить, что эта отдельная коллекция домашних божеств, если она вообще когда-то существовала, возможно, не была до такой степени эклектичной, поскольку преемник Элагабала вряд ли желал культивировать столь либеральный собственный образ для публичного потребления (см. гл. 17с, с. 751—752 наст. изд.).
Из идентичности самих стилей публичного и домашнего богослужений мы можем сделать вывод скорее о душевности и теплоте первого, нежели о формализме и бездушности последнего. Безопасность и упорядоченность семейной жизни даже в ее самых незначительных аспектах, как считалось, зависела от отправления домашних культов, дополненных магическими и иного рода апотропеическими (отвращающими зло. — A3.) ухищрениями — фаллосами, вырезавшимися на воротах или на углах дома, либо заклинаниями, писавшимися поверх порога для отвращения чумы. Люди ощущали присутствие своих богов в собственном жилище повсюду; при этом почитание, которое богам оказывалось, не входило в противоречие с тем обстоятельством, что последние постоянно наблюдали сцены повседневной жизни (зачастую далекие от всякого благочестия. — A3.). Этим объясняется частота религиозных тем, прежде всего дионисийских, в убранстве частных домов. Стены и полы украшались фресками и мозаиками, изображавшими не только мифологические сцены, но также ритуалы мистерий и иных культов, а также аллегории из мистических философских учений. Археологи зачастую считают, что такое убранство было мыслимо только в помещении, предназначенном для культовых или ученых собраний, но религиозные темы были гораздо более распространенными, чтобы приходить к такому излишне категорическому объяснению в каждом конкретном случае. Разделение сакрального и профанного — это специфика скорее христианского, нежели политеистического мышления, о чем достаточно ясно свидетельствует чрезвычайная редкость изображений Христа на напольных мозаиках, а также провозглашенный в 427 г. запрет изображать на полах даже крест из опасения, что кто-то может наступить на него50.
49 Bakker 1994: 65-66, 145-167, 207-208, 251-273, илл. 85-100.
50 Кодекс Юстиниана. 1.8.1.
748
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
Последняя встреча человека с его богами приходилась на момент смерти. От рассматриваемого нами периода сохранились многочисленные надгробные камни и саркофаги, но их украшения и надписи не обнаруживают никакой ясной идеи (какую можно найти в древних египетских гробницах) о том, с чем же умершему предстояло столкнуться. В самом деле, у многих не было ни малейшего представления об этом — post mortem nescio («что после смерти — мне не ведомо». — CIL VI. 13101). Большинство предполагало какую-то телесную загробную жизнь, полную наслаждений либо тяжких кар, и клало в могилы умерших подношения в виде еды и питья. Те, кто хотя бы слегка поддавались влиянию философских идей, зачастую верили в освобождение и в вознесение бессмертной души в какую-то небесную обитель; и благодаря демократизации некогда исключительной почести, об умершем постепенно, хотя это и не переросло в общий обычай, стали говорить и изображать его так, как если бы он стал богом или богиней51. Однако объяснение главной перемены в погребальных обычаях, которая случилась в западных провинциях, начавшись во П в. и сделавшись общей в Ш в., а именно переход от кремации к ин- гумации, совсем необязательно искать в области веры52. В силу столь ранней даты вряд ли здесь можно усматривать влияние христианства. Также стоит отметить, что обе практики (кремация и ингумация) сосуществовали на протяжении переходного периода — как бывало уже и прежде, хотя и с сильным предпочтением на западе сжигания на погребальном костре, а на востоке — захоронения трупа без кремации. Понятно, что каких-либо серьезных законодательных попыток утвердить новый принцип не было. В самом деле, отличие в обычае подчеркивает неопределенность сторонников многобожия по вопросу, который глубоко волновал людей. И это была очень важная сфера, в которой христианство притягивало к себе четкостью позиции и оптимизмом.
51
52
Waelkens 1983.
Koch, Sichtermann 1982: 27—30.
Глава 17с
Г. Фоуден
ПУБЛИЧНАЯ РЕЛИГИЯ
В двух последних главах поздний политеизм был представлен прежде всего с точки зрения отдельного человека. Но все индивидуумы также собирались в различные группы, как то: семьи на краю могилы родственника, деревенские жители, справляющие праздник урожая, посвященные в таинства Исиды, протягивавшие друг другу руку помощи по всей империи, либо философы, собирающиеся вокруг почитаемого учителя для приобретения знаний. Эти групповые идентификации, мимолетные или более устойчивые, освящались взыванием к отдельным богам и присутствием самих этих богов. И все эти индивидуумы, при всем многообразии их групповых принадлежностей, в совокупности составляли население Римской империи. Предполагалось, что частные лица приобщались и к официальным культам империи, чтобы укреплять ее и, наоборот, чувствовать себя более сильными. Сейчас самое время системно рассмотреть политеизм в его официальном аспекте, как в центре империи, так и в провинциях.
I. Роль ИМПЕРАТОРА
Император, будучи олицетворением высшей человеческой власти, должен был восприниматься и помещаться на уровень не ниже того, на каком воспринимались боги, причем не имеет значения, был ли он политеистом, иудеем или христианином. Именно в этом истоки императорского культа1. Хотя на протяжении своей жизни император и члены его семьи были скорее «божественными» (divi), нежели «богами» (dei), их статуи почитались в сколько-нибудь заметных святилищах даже в самых мелких провинциальных городках, и изображались эти особы в обществе богов и часто в одних с богами храмах. Правители могли претендовать также на особое покровительство со стороны некоторых могущественных божеств2 или связы¬
1 Bowersock 1982; Price 1984; однако обратите внимание на точку зрения, высказанную в работах: Mitchell. Anatolia I: 224—225; Fishwick 1987—1992.
2 Nock 1972: 653-675.
750
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
вать себя с ними с помощью собственных изображений с атрибутами этих божеств. В этом отношении Северы превзошли своих предшественников, и сохранившиеся портреты Юлии Домны уподобляют ее по меньшей мере десятерым разным богиням3. Правители, обожествленные после смерти, могли даже отвечать на молитвенные обращения4. А когда 3-е столетие клонилось к своему концу, из одной давнишней идеи, которая теперь полностью созрела, во всё большей степени стали извлекаться официальные и практические выводы, а именно — из представления о том, что государь был земным аналогом божества, и прежде всего божественного царя — Зевса5. Вполне естественно, что земная власть претендовала на особую роль в интерпретации той небесной власти, образом которой сама и была. Хотя император как Pontifex Maximus (Верховный понтифик) давно привык действовать в качестве высшего авторитета в религиозных вопросах, этот авторитет был связан скорее с исполнением обрядов, нежели с сутью культов6, исключая те редкие случаи, когда тот или иной культ, как считалось, ставил под угрозу общественную мораль, да и то обычным средством было запрещение такого культа, а не его реформа7. Но уже в правление Аврелиана и при тетрархии начал проявляться революционный потенциал императорского вмешательства — в равной степени — как в отношении учения, так и культа. Константин нашел христианство более подходящей средой, в которой могла развиться роль государя в качестве религиозного руководителя, однако он не отказался от императорского культа, предпочтя просто очистить его от жертвоприношений (см. надпись из Гиспелла, 333/335 г. у: Gascou 1967; Евсевий. Жизнь Константина (ed. Heikel). П.5). Степень, до которой императорское вмешательство могло оформить контуры публичного благочестия, сделалась совершенно отчетливой уже при преемниках Константина, приверженных многобожию8. Совокупный эффект от божественного статуса императора, его множественной ассоциации с богами, заметной роли правителя в их официальном почитании и деятельного участия в определяющих моментах священнодействий ради поддержки и субсидирования государственной религии должен был постепенно превратить главное официальное выражение этой реальности — императорский культ, в средоточие божественного рвения политеистов и в катализатор их идентичности, представлявшей собой неразделимую совокупность политических, социальных и религиозных элементов9. Императорский культ становится также удобным средством для очерчивания границ ширившегося христианского сообщества. Проконсул Сатурнин, обращаясь в 180 г. к сциллитанским мученикам, выразился так: «Мы также набожный народ, и наша вера проста: мы клянемся гением нашего гос¬
3 Ghedini 1984; Fishwick 1987—1992 LI: 335—347; а также: Fishwick 1992.
4 Fishwick 1990.
0 Dvomik 1966: гл. 8, 10.
6 Millar. ERW: 447-456.
7 Nock 1972: 757-766.
8 В agnail 1988; Salzman 1990: 131-137, 179-181, 188-189.
9 О принцепсах как религиозной парадигме и универсальных жрецах см.: Gordon 1990.
Глава 17с. Публичная религия
751
подина императора и мы возносим молитвы за его здравие — что и вы также обязаны делать» (Passio Sanctorum Scilüanorum 3 — Ruggiero 1991; перевод: Musurülo 1972: 87; см. также: Hopkins 1978: 226—231).
Отношение представителей Северовской династии к религии было хорошо проиллюстрировано Каракаллой (211—217 гг.). Понятно, что личное благочестие императора не могло оставаться частным делом. Неистовые мольбы Каракаллы об излечении его от хвори и его обращения к другим богам, описанные в предыдущей главе, хорошо отражены на монетах в изображениях Эскулапа, Аполлона (Граннуса?), Сер аписа и Дианы/Луны (Син). Две не столь ожидаемые фигуры, появляющиеся на монетах Каракаллы, а именно Минос и Плутон, еще более наводят на размышления об угрюмых личных озабоченностях этого правителя. И всё же взятые в совокупности религиозные элементы в монетной системе Каракаллы тради- ционны и вполне соответствуют нормам той романизации, которой он столь решительно содействовал10. По общему признанию, монетные типы склонны к консервативности — на основании монет рассматриваемого периода мы вряд ли догадались бы о важности синкретизма в теологии позднего политеизма. Но при этом имеются все признаки того, что Кара- калла разделял обычную точку зрения римских императоров на то, что религиозные дела представляли собой удобную возможность для самовыражения в рамках традиционных границ, но не поле для проведения какого-то политического курса. Действительно, имелась только одна возможная политика: сохранение того, что было дано свыше, а также расширение данной сферы влияния. В преамбуле к «Антониновой конституции» (constitutio Antoniniana) Каракалла надлежащим образом провозглашает, что его мотивом было желание почтить богов и наполнить святилища благодарными почитателями (Р. Giss. 40.1)11.
Гелиогабал (Марк Аврелий Антонин Бассиан), наследовавший Кара- калле после мимолетного правления Макрина и сам правивший менее четырех лет (218—222 гг.) до того момента, когда был убит в семнадцатилетнем возрасте, являлся, конечно, чрезвычайно молодым человеком, но вряд ли он всерьез бунтовал против северовской нормальности12. Наследственный жрец эмесского солярного бога Элагабала, он был возведен на трон благодаря интригам Юлии Месы (родной сестры Юлии Домны), своей бабки, чья жажда власти нуждалась в том, чтобы юноша не проявлял слишком большого рвения в руководстве государственными делами и не считал, что его роль члена императорского дома важнее его жреческих обязанностей. Трудно было предугадать, что почитание священного камня, перевезенного из Эмесы в Рим, из простой забавы превратится в настоящую одержимость. Появление камня на монетах, строительство двух римских
10 ВМС V. ХХХУШ—XLTV — здесь перечисляются более общие для данного периода монетные типы.
11 Р. Giss. 40.1 = Р. Giss. Lit. 6.1. О новом римском культе в египетском Файюме, учрежденном, весьма вероятно, в ответ на эту конституцию, см.: Beard, North, Price 1998 I: 362— 363. О теме реституции в императорской пропаганде Ш в. см.: Alföldy 1989: 58—66.
12 Frey 1989.
752
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
храмов для отправления данного культа, расточительные праздники, а также насильственное распространение в провинциях почитания этого странного божества (процесс, несколько стертый в исторической памяти последующим damnatio, проклятием этого объекта)13 — всё это можно было еще терпеть. Но невозможно было молча «проглотить» ни попытку составить новую Капитолийскую Триаду, «поженив» божественного Элагабала сначала с Афиной, а затем с Небесной Богиней (Dea Caelestis), ни брак смертного жреца Элагабала с одной из дев-весталок. Такое надругательство над тем, что римская элита считала самым священным, а также настойчивое требование Гелиогабала подчинить ему всех остальных богов ускорили его падение. И всё же одержимость юноши должна была скорее давать преимущество его собственному богу, нежели отрицать всех остальных. Хотя некоторые исследователи поддерживают взгляд о том, что Гелиогабал стремился радикально изменить римскую религию, его монеты, взятые в целом, продолжали делать акцент на традиционных символах. Как бы то ни было, его преемник, Александр Север (222—235 гг.), позаботился о «возвращении изваяний богов, которые предыдущий император удалил с их мест, в их изначальные храмы и святилища» (Геродиан.
VI. 1.3). Эмесский 6етилп* полностью исчез с монет. Александр Север был типичным представителем своей династии — консерватором, но при этом осознающим, что римская религия является всеобъемлющей, особенно в плане восточных культов.
Уважение к традиции по большей части характеризовало поведение Северов в религиозной сфере. Септимий Север, активно восстанавливая многочисленные заброшенные храмы по всей империи, достойным образом исполнял свой императорский долг, пренебрежение которым к тому времени могло стать мишенью для насмешек со стороны христиан14. Ма- нилий Фуск в своей речи к сенату в 203 г. обращался в целом к правящим кругам:
Ради безопасности и вечности державы вам следует часто посещать, со всем должным почтением и благоговением к бессмертным богам, самые святые алтари для благодарственных молебнов, так, чтобы бессмертные боги смогли передать будущим поколениям то, что создали наши предки.
Pighi 1965: 142; англ, перев.: Lane Fox. Pagans and Christians: 464.
Некоторые из этих самых престижных святилищ северовского мира перечислены у юриста Улышана: Юпитера Капитолийского в Риме — средоточие официального благоговения; Аполлона в Дидимах — процветавший оракул; Марса в Галлии, чье святилище, весьма вероятно, находилось в Августе Тревиров (Трир) (см. с. 766 наст изд.); Афины в Трое; Геркулеса в Гадесе (Кадис); Артемиды в Эфесе; Матери богов и Немезиды в Смирне;
13 Robert 1989: 161-166.
13а Бетил (иначе: бетэлъ) — в западносемитской и арабской мифологии обозначение бога, а также культовый объект, являющийся символическим воплощением этого бога; обычно имеет пирамидальный или конический вид. — А.3.
14 Напр.: Климент Александрийский. Протрептик. IV.52.
Глава 17с. Публичная религия
753
а также Небесной Селены, богини Карфагена [Фрагменты Домиция Уль- пиана. ХХП.6). Хотя в данном перечне имплицитно присутствует много таких святилищ, которые по своему происхождению не были ни эллинскими, ни римскими, в нем представлен по-прежнему весьма консервативный взгляд на то, что было стоящим и действенным в религии начала Ш в.
И всё же равновесие, которое Северы старались поддерживать, было хрупким. Действительно, в то время как представители новых элементов теперь проникали в римскую элиту, сами Северы являли собой хороший пример тех тенденций, которые были одновременно кодифицированы и одобрены «Антониновой конституцией». Как часто случается, консервативное попечительство обеспечило необратимость изменений. Для стабильности державы результаты оказались катастрофическими. Политики формировались уже отнюдь не сенатскими политическими воротилами в Риме. Отныне к этому прилагали руку провинции или, скорее, их армии, которые в течение полувека, последовавшие за закатом северовской династии, склонны были выбирать императоров, подходивших для их собственных интересов, а затем стремились влиять на них силовым методом. Внутренний хаос провоцировал внешние вторжения; и то, и другое оказывало влияние на религиозную жизнь по всей империи. Зачарованный мир Эгейского побережья теперь свидетельствовал о разрушении или осквернении его знаменитых святилищ — храмов Аполлона в Дидимах и Артемиды в Эфесе, а, возможно, также и Парфенона в Афинах. Традиционные культы продолжали функционировать, а в некоторых местах они даже процветали;15 но в общем и целом наблюдался явный упадок в деле строительства, в практике ремонта и в эпиграфических обычаях. Даже египетские жрецы перестали наконец вырезать восхваления своим богам на стенах храмов и на колоннах16.
Инстинктивная реакция официальных кругов и армии состояла в том, чтобы уцепиться за эту традиционную римскую религию или даже попытаться обновить ее, ярким примером чего служит праздничный календарь XX когорты пальмирцев (cohors XX Palmyrenorum) из Дура-Евро- пос, составленный при Александре Севере17. Уже на торжествах 247 г. по случаю тысячелетнего юбилея Рима единственным божеством, заслужившим особенный статус, была Roma Aeterna (Вечная Рома). От этого периода имеются и свидетельства о более глубоком интересе к культу Весты18. Обязывая всех своих подданных приносить жертвы богам ради сохранения государства, Деций (249—251 гг.) был обвинен в таком неуклюжем ретроградстве (Каракалла, по крайней мере, предложил в качестве приманки римское гражданство), которое привело его — более или менее непреднамеренно — к новому в масштабах всей империи гонению на хри¬
ь Lane Fox. Pagans and Christians: 572—285; Mitchell. Anatolia I: 221—225.
,b В agnail. Egypt: 261-273.
17 Helgeland 1978: 1481—1488 (включает текст и перевод непраздничных дней); Alföldy 1989: 94-102.
18 Nock 1972: 252-270.
754
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
стиан, которые отказались подчиниться19. Случилось это перед тем, как сильнейшие волнения 250—260-х годов раскололи империю. В пору Галлиенова правления заявили о себе различные религии и даже философские инициативы; но более надежные свидетельства, касающиеся образа действий правительства, указывают на его прагматизм, вполне объяснимый перед лицом столь немилосердной цепи событий20.
Проблема этого доминирующего консерватизма, модифицированного прагматизмом, состояла в том, что он пытался сплотить разросшуюся державу, делая ставку на религиозный культ, который в основе своей носил полисный характер21. Задача найти более оригинальный ответ была предоставлена Аврелиану (270—275 гг.); ответ этот, возможно, был оплодотворен философскими рассуждениями о высочайшем боге22. Придав Юпитеру особый статус на своих ранних монетах, Аврелиан впоследствии подкрепил собственные политические и военные успехи попыткой предоставить культовое первенство богу Солу [лат. Sol, Солнце). Непосредственным стимулом для этого нового усиления традиционного римского солярного культа, как сообщается, стало видение, бывшее у императора в храме Элагабала в Эмесе, после взятия Пальмиры. По возвращении в Рим Аврелиан воздвиг великолепный храм Солнца, поручил его заботам особой коллегии жрецов, а также украсил это святилище пальмирскими трофеями и статуями Солнца и сирийского бога Бела. Монеты содержали легенды: «ORIENS AVG.» («Восходящее Солнце Август»), «SOLI INVICTO» («Непобедимому Солу») и даже «SOL DOMINVSIMPERI ROMANI» («Сол, повелитель Римской империи»).
И всё-таки не возникает ощущения, что во всем этом присутствовало что-то однозначно «восточное». Сол был представлен в традиционном римском образе. Такая иконография широко использовалась на монетах со времен правления Септимия Севера. Более того, другие бот не были ни запрещены, ни снижены явным образом в своем статусе23. Последнее (то есть отказ понижать статус остальных богов по сравнению с Солом. —ЛЯ.) было одним из нескольких уроков Гелиогабалова правления, который Аврелиан очень хорошо усвоил. По этой причине культ Сола пережил своего патрона, хотя убийство Аврелиана лишило его импульса, предотвратив также планировавшееся гонение на христиан.
Можно с уверенностью предположить, что аврелиановский солярный культ служил не в меньшей степени выгодам государства, чем задачам продвижения образа самого Аврелиана и его самовыражения. Земной ав- тократор нуждался в некоем небесном зеркальном отражении, и это Аврелиан, видимо, очень хорошо ощущал; с принятием в пантеон такого боже¬
19 Portmann 1990: 238—241; Selinger 1994.
20 Armstrong 1987.
21 Selinger 1994; Rives 1995: 250—261.
22 Halsberghe 1972: 130-171; Turcan 1978: 1064-1073; Staerman 1990: 374-379; Göbl 1993: 118, 144, 148 (о легендах, приведенных далее); Hijmans 1996.
23 CIL XI.6308: «Herculi Aug. consorti d.n. Aureliani» («Геркулесу, Августа сотоварищу, господина нашего Аврелиана»).
Глава 17с. Публичная религия
755
ственного самодержца его земной аналог мог надеяться на получение еще большего величия и превознесения своей личности24. Вплоть до смерти Александра Севера династическая преемственность значительно усиливала другие механизмы, прежде всего императорский культ, посредством которого обеспечивалась легитимность передачи власти. Но теперь уже не было династий и императоров трудно было воспринимать всерьез, когда их ожидаемая продолжительность жизни была столь коротка. Аврелиан, очевидно, понимал, что ответ должен заключаться в повышении ставок: отныне он должен быть не «подобным богу», но «рожденным богом», точно так, как его божественный покровитель, с которым он общался в бывших ему видениях, возвышался над другими богами. Эти идеи нашли отклик и у тех, кто правил в следующее десятилетие. Данные представления являют собой важную стадию в предыстории христианской имперской доктрины, придуманной Константином и сформулированной Евсевием. Между тем, однако, тетрархия вынуждена была в течение непродолжительного времени пытаться сочетать личностные отношения с богами и бюрократический тип династической системы, в котором преимущество отдавалось самой должности, а не ее обладателю.
Идея Диоклетиана25 состояла в том, чтобы поделить империю со вторым Августом, при этом связав себя с Юпитером, а своего коллегу — с Геркулесом. Августы не претендовали на личное обожествление, хотя можно сомневаться, что внимание на это обратили многие из их подданных (например: Латинские панегирики. Х1(Ш).3.7—8). Обоим помогали Цезари, которые были усыновлены Августами и женились на их дочерях; к Цезарям обращались, соответственно, как к Иовию (Iovius, Юпитеров) и Герку- лию (Herculius, Геркулесов); сами Цезари, возможно, более или менее официально находились под покровительством Марса и Сола—Аполлона. Исходный материал, из которого возникла данная система, был сугубо римским. Если говорить о теоретических аспектах, то Юпитер, Геркулес и Марс были центральными фигурами в древнейших римских богослужениях (veterrimae religiones) (Аврелий Виктор. О Цезарях. XXXIX.45), при этом в данный круг входил и Сол, хотя большей популярностью он пользовался именно в поздней античности, а не в предыдущие периоды. Да и сама идея о том, что отдельные боги могут занимать привилегированные позиции в официальном пантеоне, являлась к тому времени давно привычной. Особое значение, которое имели божественные покровители тетрархии на монетах, отнюдь не означает, что члены этой последней не почитали других божеств, когда это предполагали конкретные обстоятельства. Например, в Дафне, что при Антиохии, Диоклетиан, как сообщается, выстроил храмы Зевсу Олимпийскому и Аполлону, но еще и Немезиде и Гекате26, которые в поздней античности широко почитались. А ко¬
24 Артемидор (П.49) сообщает, что человек, который увидел во сне, как он становится Гелиосом, был затем назначен главным должностным лицом своего родного города.
25 Kolb. Diocletian: прежде всего с. 88—114, 168—172; Desnier 1993.
26 Иоанн Малала. Хронография. ХП.38; см. также далее, с. 760, о почитании Митры.
756
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
гда в 304 г. Диоклетиан серьезно захворал, «ко всем богам возносились молитвы за его выздоровление» (Лактанций. О смертях гонителей. 17.5).
Диоклетиан, возможно, не отличался слишком уж глубокой набожностью, но его суждения по религиозным вопросам были основательны, прямолинейны и никоим образом не сводились к политической сфере. В самом деле, он не видел большого смысла в проведении различий между политическими и социальными аспектами своего общего подхода к управлению державой, каковой подход был консервативным, но по необходимости — в свете того, что происходило в недавнем прошлом — становился радикальным. И именно в контексте этого если и не совсем новаторского, то, по крайней мере, недавно оказавшегося в фокусе политико-теологического синтеза, пропагандировавшегося тетрархами27, нам следует оценивать Д иоклетианов закон, препятствовавший кровнородственным бракам. Здоровая нравственность и благочестие здесь прокламируются как sine qua non (совершенно обязательное условие) римского политического выживания [Coll. VI.4). Подобным образом и его эдикт от 297 или 302 г. против месопотамской миссионерской религии Мани наносит удар по враждебной державе Сасанидов, а также утверждает, что неправильно, когда «древняя религия подвергается осуждению со стороны какой-то новоявленной, ибо нет большего преступления, чем переделывать учения, которые были установлены и определены раз и навсегда древними и которые до сих пор сохраняют и удерживают свою действенность и статус» [Coll. XV.3). То же самое относилось и к христианству, хотя вплоть до 303 г. Д иоклетиан, побуждаемый, возможно, разрушительным (в социальном смысле) эффектом от конфликтов между различными группировками внутри Церкви28, всё же не принимал окончательно логику собственного мировоззрения и не начинал Великого Гонения. Но быстрое распространение учения Мани, а также более медленное, но неотвратимое расширение круга приверженцев учения Христа не могли быть остановлены с помощью законного насилия. Обе религии уже высасывали жизненные соки из политеизма: они не просто перехватывали его приверженцев, но и его диалектику, его литературу, даже частично его метафизику. В некоторых политеистических интеллектуальных кругах, помимо обычной антихристианской полемики, достигшей кульминации в важном сочинении Порфирия «Против христиан», осознавалась уже и необходимость переосмысления старых положений, и потребность учиться у своих врагов (см. гл. 17а). В сотрудничестве с членами этих кругов29 один из тетрархов второго поколения, Максимин Даза (Цезарь: 305—310 гг., Август: 310—313 гг.), попытался теперь осуществить структурную реформу политеизма в восточных провинциях империи30.
27 О возможном предчувствии этого у Северов см.: Fishwick 1987—1992 1.1: 338—339.
28 Portmaim 1990.
29 Евсевий. Приготовление к Евангелию. IV.2.10—11; ср.: Евсевий. Церковная история. IX. 11.5-6.
30 Лактанций. О смертях гонителей. 36.4—5; Евсевий. Церковная история. УШ.14.8—9; IX.4.2; Евсевий. О палестинских мучениках. 9.2; Koch 1928: 56—59; Mitchell. Maximinus.
Глава 17с. Публичная религия
757
Согласно неизменно враждебным к Дазе источникам, он был одним из самых упорных гонителей, а также деятельным покровителем всяких предсказателей и оракулов. Не довольствуясь строительством и восстановлением храмов, он придумал новую иерархию, вероятно, воодушевившись организацией отчасти восточного жречества, отчасти христианской Церкви. Рядом с рассредоточенной традиционной системой независимого, отправлявшего время от времени свои функции жречества и высших священных коллегий, избираемых на местах и отвечавших за императорский и иные культы, Даза раскинул сеть из назначаемых из центра в каждый город и область жрецов, координировавшихся на провинциальном уровне верховным жрецом, избиравшимся в соответствии с его высокими качествами и управленческим мастерством.
На эту новую, более профессиональную иерархию было возложено выполнение двух неотложных задач: во-первых, обеспечивать ежедневные жертвоприношения «всем богам» (Лактанций. О смертях гонителей. 36.4), что являлось дальнейшим усилением заботы, уже проявленной Децием и, до него, Каракаллой; и, во-вторых, изводить христиан, одновременно внушая политеистам мысль о том, что их собственная религия может быть столь же логически последовательной и организованной, как и конкурировавшая с ней религия. Непохоже, чтобы эти реформы пережили их изобретателя, тогда как традиционные жречества продолжали жить еще многие десятилетия; но еще более радикальные реформы Юлиана, предпринятые полвека спустя, частично должны были быть вдохновлены преобразованиями Дазы. Впрочем, их надежды на успех этих реформ фактически были сведены к нулю роковым течением времени, или, говоря конкретней, наследием императора Константина.
Разрыв с тетрархией Константин31 отметил путем модернизации изображения Сола—Аполлона на монетах, а также с помощью заявления или, по крайней мере, намеков на то, что в одном из его храмов в Галлии (в Великом храме Аполлона Граннуса?) (310 г.) этот бог явился ему лично. Это было возвращением к более персонифицированной, Аврелиановой модели взаимоотношений между императором и горним миром. Выказывая впоследствии предпочтение христианству, Константин следовал той же модели — его выбор представлялся проистекавшим из личной твердой веры; данный выбор он прочно учредил на институциональной основе и позаботился о том, чтобы избежать впечатления, «будто мы чрезмерно умаляем древний обычай» (надпись из Гипселла, 333/335 г. — в: Gascou 1967), и чтобы предотвратить открытый конфликт с римскими религиозными официальными установлениями. Единственное различие, но при этом ключевое, состояло в том, что если бога Сола можно было ассимилировать, то христианство — нет. Сам император исповедовал — всё более осознанно — новую религию, но она не навязывалась в качестве религии государства
31 Для понимания состояния вопроса (прежде всего в том, что касается отношения Константина к многобожию) см.: Barnes. СЕ; Barnes 1989: 322—333; Kuhoff 1991; Elliott 1991: 169-170.
758
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
или народа. Если верить Евсевию32, запрещалось возведение культовых статуй многим богам, консультации с оракулами, исполнение жертвенных обрядов, возможно, даже просто регулярное посещение храмов; но в изобилии имеются нехристианские примеры нападок на дивинацию, а также других Константиновых выпадов против многобожия, к примеру, запрещение культов, считавшихся безнравственными, или присвоение храмовых ценностей ради финансирования императорских проектов. В любом случае, поскольку это допускал сам Константин, данные законы были скорее прокламацией, нежели принудительным проведением в жизнь этой политики33.
Авторитетный и беспристрастный политеистический источник категорически настаивает на том, что Константин «не произвел абсолютно никаких изменений в легальном культе <...>. Хотя в храмах царила нищета, можно было видеть, что весь остальной ритуал соблюдается» (Либаний. Речи. ХХХ.6). Культ сохранялся в условиях преднамеренной ненормальности. Когда, например, в 312 г. Константин вступил в Рим, он отказался подняться на Капитолий и исполнить там жертвоприношения;34 тем не менее император оставался Верховным понтификом, Pontifex Maximus. Вплоть до 325 г. бог Сол не был полностью исключен из монетных типов и даже после этого не был заменен никаким специфически христианским образом. Император поддерживал хорошие отношения с Афинами, и в 324 г. дал гарантии защиты своим новым восточным подданным-политеистам от всякого рода нападок на них; и всё же стремительность, с какой Константин овладел восточной частью державы в 324 г., возможно, создала менее благоприятные для многих политеистов условия, чем те, которые преобладали на западе державы, где процесс христианизации проходил более медленно. Константин осознавал конечную неотвратимость конфликта, когда переносил столицу из Рима в Константинополь; но даже и там он представлял себя в таком виде, который мог быть понятным большинству, обеспечивал плавное развитие иконографической условности под личиной многобожия, а также позволял оставаться языческим храмам открытыми35. В 337 г. Константинополь оставался столь же многобожным, сколь и христианским городом; и по-прежнему — более христианским, нежели вся остальная империя.
Далекоидущие последствия Константинова обращения при его жизни не были поняты широкими кругами. Признание христианства было типичным жестом самовыражения римского императора в религиозных вопросах. Но ведение дел с епископами на повседневной основе заставило Константина и его преемников осознать, что Церковь обладает некой собственной традицией и собственной точкой зрения, которые сформировались за пределами и даже в конфликте с государством.
32 Евсевий. Жизнь Константина. П.45.1; IV.23, 25.1; ср.: [Аноним.] Происхождение императора Константина (Origo Constantini Imperatoris). 6.34.
33 Евсевий. Жизнь Константина. П.60.
34 Fowden 1994: 128-130.
35 Dagron. Naissance: 37—38, 374—375; Fowden 1991.
Глава 17с. Публичная религия
759
II. Региональный ракурс многобожия
Константин более ясно, чем кто-либо из его предшественников, продемонстрировал возможность императора прямо влиять или, по крайней мере, воздействовать на религиозное поведение жителей империи. Он не ограничился признанием законности христианства, но содействовал распространению Евангелия и, по сути, пытался изменить верования и культовую практику своих подданных. Но империя по-прежнему не могла еще быть христианизирована, Церковь не имела структур, способных транслировать эти перемены на периферию. Общая историческая конъюнктура, и прежде всего важность того, что в это время происходило в центре, была исключительной. Взгляды, распространенные у широких масс, у людей из регионов, обладали собственным значением, особенно в отношении того множества религий, которое мы здесь называем политеизмом. И города находились, соответственно, в гораздо более выгодном положении, чем император, в плане их способности влиять на характер религиозной жизни на местном уровне.
В конце IV в. политеист мог по-прежнему это чувствовать, и, хотя «нет никаких надежных подтверждений эллинскому мифу о том, что гора Олимп — это место, где обитают боги, мы всё же видим и не сомневаемся, что базарные площади наших городов наполнены множеством благодетельных божеств» (Максим из Мадавры, грамматик — из его письма к Августину, см.: Августин. Письма. 16.1). Даже официальные городские культы оставались довольно сильными в Ш в., а их вариаций было не сосчитать. Но исследования позднеримского регионального политеизма в целом, а не просто отдельных культов, находятся в зачаточном состоянии. Мы пока не можем делать обобщения по поводу «регионального ракурса», но, если мы всё же пытаемся сделать это, то, вероятно, либо преувеличиваем общие знаменатели, такие как императорский культ, либо акцентируем внимание на том, что обладает наибольшей местной спецификой, а именно на относительно нероманизированных, «этнических» верованиях. Реальная ситуация была гораздо более сложной и, вероятно, всегда будет с трудом укладываться в любое обобщение.
Значимость даже хорошо известных богов широко варьировалась от места к месту. Богиня Рома, а также Гений императора, Капитолийская триада и «Двенадцать богов» (классические Олимпийцы) почитались по всей империи, но способ почитания зависел от степени их усвоения локальной традицией и от энтузиазма, проявлявшегося местными жителями по отношению к Риму. Даже и в поздней античности эллинское и римское многобожие ни в коем случае не были абсолютно идентичны. Такие древние институты, как Элевсинский культ и Панафинейский праздник или Арвальские братья (Arvales fratres, «братья-пахари», римская коллегия двенадцати жрецов. — А.3.) и девственницы-весталки, продолжали обеспе- нивать традиционалистов «точками опоры»; между тем, влияние, оказывавшееся этими двумя родственными культурами как друг на друга, так и на третьи стороны, было определенно различным. Эллада дала Риму го¬
760
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
раздо больше, чем Рим дал Элладе: даже императорский культ имел эллинистических предшественников. Что касается других традиций, то греки взаимодействовали с ними гораздо дольше, нежели то делали римляне. Влияние варварских богов было не менее непредсказуемым. У себя на родине они могли считаться универсальными, но не на других территориях — такими были африканский Сатурн, Тот из Гермополя в Египте, а также Элагабал из Эмесы. Иммиграция Кибелы в Рим и ее официальное признание здесь в эпоху войн с Ганнибалом служили примерами, которым оказалось трудно следовать. Почитание Исиды, несмотря на ее колоссальную популярность, не всегда одобрялось официально, хотя в данном случае это, конечно, аргумент в пользу того, чтобы не воспринимать чересчур строго бинарную оппозицию «официальное — неофициальное». Гар- пократ (греческое имя бога Гора. —A3.), перед которым благоговели обычные египтяне, совершенно не разделил судьбы Исиды и Сераписа за пределами Египта36. Юпитер Долихен и Митра почитались широко, прежде всего во влиятельной в культовом отношении армейской среде; посвящение от имени тетрархов Митре как «покровителю своей державы» имеется и в Карнунте (ILS 659); однако никто из этих богов так никогда и не стал государственным божеством. Разве что Элагабал приобрел на некоторое время официальный статус в Риме, но при этом в других местах был фактически отвергнут. Из африканских богов Небесная Богиня (Dea Caelestis) имела успех за пределами Африки, чего не скажешь о ее супруге Сатурне.
Короче говоря, составить представление о том, что именно являл собой региональный поздний политеизм можно лишь в общем и целом; однако за пределами внутренней значимости местных культов утверждать что-либо по поводу их типичности нельзя, пока не будет собрана вся «панорама с цифрами». По сути дела, складывается устойчивое ощущение, что повседневная религия всегда отдавала сильным местным привкусом и что «типичность», пока мы не описываем ее в широких структурных терминах, является некой химерой. Где прежние поколения исследователей искали свидетельства об «индивидуальном» благочестии, ныне наше внимание всё больше — и с оправданно более щепетильным подходом к эпиграфическим, нежели к литературным источникам — фокусируется на местной религии, не пренебрегая в рамках этой амальгамы возможностями изучения индивидуального благочестия, и конечно же на трудностях, с которыми столкнулись бы подданные поздней Римской империи, если бы их вдруг кто-то попросил отделить «туземное» от «римского» с той четкостью, какую до сих пор желают провести многие исследователи37.
Триполитания и Трир (Августа Тревиров) (с их окрестностями) хорошо иллюстрируют разнообразие позднего политеизма в его региональном измерении. Оба региона занимают видное место в период от Севера до Константина: Триполитания — потому что она породила Севера, а Трир — как одна из императорских резиденций начиная с времени тетрархии.
36 Dunand 1979: 134-136.
37 Об уязвимых подходах к отдельным городам см.: Millar. Near East 304—308 (Эмеса); Scheid (1995) (Трир).
Глава 17с. Публичная религия
761
1. Триполитания
Три приморских города — Сабрата, Эя и Лепта Большая, благодаря которым регион получил свое название («Триполитания» значит «Трёх- градье»), являлись одновременно и пограничными пунктами на шедших через Сахару торговых путях, и рынками для зерна и оливкового масла, в изобилии производившихся во внутренних землях этих трех городов. Они имели тесные контакты с Карфагеном и Италией и, вдобавок, лежали на важном, хотя и рискованном, североафриканском приморском пути между Карфагеном и Александрией. Их и так уже завидное благосостояние возросло еще более благодаря потрясающей строительной программе, начатой Септимием Севером в его родной Лепте и завершенной Каракаллой. Раскопки Лепты позволили реконструировать культовую топографию северовского города [карта 9) в таких объемах, которые недостижимы в других местах. Имеется сравнительный материал из раскопок Сабраты; дополнительным материалом нас обеспечивает также и Эя, которая по большей части археологам недоступна, поскольку лежит под современным городом Триполи38.
Историческим центром Лепты был старый форум, чьи святилища предлагают нам первую координату в триполитанской религии. Вдоль северной стороны форума стояли храмы Либера Патера, Ромы и Августа, а также Геркулеса (?), воздвигнутые в эпоху Ранней империи и во 2-м столетии получившие богатые украшения, что обычно для Триполитании. Перечень почитаемых божеств ведет нас прямиком к самой сути этого в своей основе ливийского и пунического общества с немногими эллинскими и многими римскими примесями, где латинский был языком бюрократического аппарата и образованных слоев, но пунический оставался разговорным для широких масс (хотя к Ш в. им пользовались на письме только в сельской местности). Либер Патер и Геркулес были отождествлены с пуническими божествами Шадрапой и Милкапггартом, чье почитание было принесено сюда древними финикийскими торговцами; теперь эти божества романизировались, причем отнюдь не только по имени, и обосновались в классических храмах, что явилось мощным фактором в поддержании энергии религии завоевателей39. Это были особые патроны Лепты, где их можно было видеть также на триумфальной арке Севера, который первый продемонстрировал среди людей то, что уже видели среди богов: завоеванный провинциал мог пленить римлянина-завоевателя. В Сабрате культы обоих божеств засвидетельствованы по меньшей мере в 340-х годах40. Мистерии Либера (Вакха—Диониса) также пользовались широкой популярностью41, как и повсюду в империи. Хотя можно заметить, что на старом форуме в Лепте алтари Либера и Геркулеса просто располагаются по бокам более крупного святилища Ромы и Августа, украшенного как
38 Общие работы по Триполитании: Haynes 1981; di Vita 1982; Mattingly 1995. Лепта: Squarciapino 1966. Сабрата: Kenrick 1986. Религия: IRT — прежде всего: Index VII(a), «Боги и богини»; Bénabou 1976: 259—380; Brouquier-Reddé 1992.
39 Lipiriski 1993.
40 IRT 7, 55, 104.
41 Апулей. Апология. 55.
il
l8|.
5 Shh
« 3
X g
!1И
И X < о, § „
CL. CU л ЯГ Я Он •< Он « Он О ri *тн Он Он
<<СНЙО>Х1ХЙ«7ХХ
d-H(Nm^'irji£iNc CNCSCNCNCNCSCSCNC
А
£
а&
§ |<8
^ s «
ib Г
X
0
1
ищи
(NCOT)-^<ÛN
Рн
ев
о
е
Ч
5
?) Герку Августа Патера
церковь
X
Si
я 3 §- g 5 2
1 g 8-
1’Ё
giss
1 * *! ш И и’Ё
3 я § Е
11-3
AL
311!
g i § §
ai
SXXUwwM
— CS ГО ^ LO о с^.
'б^Км
00 съ о —
к
о
■5
0
1
Карта 9. Городской план Лепты Большей
Глава 17с. Публичная религия
763
внутри, так и извне великолепным собранием императорских статуй. Хотя своих «родных богов» (di patrii) Север помещал на римские монеты и построил для них храм в столице, новый форум, который он подарил родному городу, получил только один храм, посвященный, очевидно, Септимие- ву Роду (Gens Septimia). Местные боги присутствуют здесь также, затесавшись между декоративных скульптур. Не должно было возникать никаких сомнений в верховенстве императорской власти, как и в интегрирующей роли римских культов в отношении культов местных42.
Продолжая эту «официальную» тематику, юго-западная сторона старого форума Лепты демонстрирует нам святилище императора Антонина Пия (?); посередине находится, по-видимому, Капитолий;43 а далее — храм I в., посвященный Кибеле, которой Рим уже давно простил ее чуждое происхождение и стал оказывать официальное благоволение. Вероятно, именно с этим храмом мы должны связывать некоторое количество резных фигур и надписей, которые иногда идентифицируют как митраисгские; поскольку Триполитания была невосприимчива к Митре, этот изобразительный материал напоминает скорее греческий восток, нежели латинский запад44. Впрочем, там, возможно, был храм Исиды. Но Кибела и Либер— Дионис даже и без нее не оставляют сомнений, что этот форум был столь же оживленным, сколь и величественным местом. Помимо частых церемоний и процессий, здесь можно было присутствовать также на театрализованных декламациях историй о богах или послушать какого-нибудь заезжего ритора, рассуждавшего на божественные темы, наподобие того, как Апулей собрал массу слушателей в Эе, когда произнес в этом городе энкомий в честь Асклепия45. Имелись в Лепте и «оболганные рыночные гадатели, которых люди важные и надменные обзывают нищими, обманщиками и шутами» (Артемидор Далдианский. Онейрокритика. I, во Вступлении), толкователи снов, а также разные маги, своими хвастливыми речами зазывавшие клиентов46. Боги из своих храмов видели всё это и даже гораздо больше.
Лишь немногие публичные места в Лепте оставались без своей святыни. Путник, прибывший по морю, спускался на берег недалеко от выходившего фасадом на гавань храма Юпитера Долихена, сирийского божества, особенно почитавшегося воинами и, как и большинство восточных богов, никогда не пользовавшегося большей популярностью по сравнению с той, какую он получил при Северах. Также близ берега находился храм Нептуна, так что Августин не упустил возможности язвительно заметить: зачем человеку обращаться к статуе Нептуна непосредственно у моря, когда к его молитвам скорее прислушаются сами соленые волны, нежели бездыханное изваяние47. Халкидик (очевидно, некий коммерческий комп-
42 Ср.: Février 1976.
43 Barton 1982: 291-292.
44 CIMRM 1.87-89; П.17-18; Daniels 1975: 271-272.
45 Апулей. Апология. 55; Августин. О граде Божьем. П.4; Августин. Письма. 91.5.
46 Ср.: Алкифрон. Ш.23; Полемон. Физиогномика (ed. Forster. Leipzig, 1893): 163.
47 Августин. Проповедь. 26 (Против язычников. Гл. 18) (в изд.: Dolbeau 1992: 104—105).
764
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
леке) был украшен алтарем в честь Божественного Величия Августа (Numen Augusti) и, возможно, Минервы, матери Юлиева Рода. В том же самом месте была установлена статуя, посвященная исцелению Антонина Пия. В термах Адриана мраморные боги смешались в настоящую толпу: большинство были Олимпийцами, хотя здесь можно было натолкнуться и на Исиду, при этом Асклепий был почтен по меньшей мере пятью статуями по причине его отождествления с пуническим богом-врачевателем Эшму- ном, а также из-за общей моды на самого Асклепия. Также на форуме и в базилике Северов греко-римские боги смешивались с местными и восточными: Исида, Серапис, Асклепий и Сражающиеся Гиганты украшали храм наряду с Геркулесом и Либером Патером, знаменитые аркадные медальоны (с Медузой или с каким-то другим воплощением ужаса — это вопрос спорный) должны были, вне всякого сомнения, отвращать злых духов, тогда как пилястры, обрамлявшие апсиды базилики, изображали Подвиги Геркулеса и шумное веселье Вакха (Либера Патера). Артемида Эфесская имела алтарь в амфитеатре.
Из всех общественных зданий — помимо храмов, естественно, — теснее всего с религиозным ритуалом были связаны театры, ибо, как выразился один христианский писатель, «путь к театру идет от храмов и алтарей, от мерзких этих воскурений и крови к мелодиям свирелей и труб; а знатоки церемоний — это те самые оскверненные распорядители похорон и жертвоприношений — гробовщик и предсказатель» (Тертуллиан. О зрелищах. 10). Как было принято повсеместно в римском мире, центральная ось театра Лепты была обозначена алтарем в орхестре и храмом наверху кавеи («ка- веей» назывался зрительный зал. —А.З.), которые в данном случае были посвящены, соответственно, [Либеру?] Августу и Церере Августе — важнейшей покровительнице хлебной жатвы. Культовые и иные изваяния были установлены во многих точках этой постройки; рядом, на театральной площади, располагался храм Божественного Августа. Повсюду в Лепте находит подтверждение религиозное рвение местных властей по отношению к императорскому культу и желание обеспечить им самим покровительство богов48.
Постройки, располагавшиеся за пределами публичного пространства, также могли быть довольно внушительными. Одним из зданий, находившихся в стороне от центральной улицы, был храм Сераписа; все его надписи сделаны по-гречески, причем две из них сообщают о том, что Серапис явился во сне одному больному человеку и тот исцелился. Нет сомнений, что именно здесь собиралось александрийское землячество Лепты и культивировало собственную идентичность; кроме того, в амфитеатре за членами этой общины были зарезервированы особые места. Храм Сераписа и Исиды в Сабрате, будучи скорее терпимым, нежели официально признаваемым, также стоял обособленно на восточной окраине этого города49,
48 Fishwick 1987—1992 1.2: 446—454.
49 Wild 1984: 1817—1818; ср. также: Wild 1818—1819: «храм Сераписа» на форуме — это гипотетическая идентификация.
Глава 17с. Публичная религия
765
при этом его близость к морю очень подходила «госпоже морских переходов» (/. Cyme 41.49) и была очень удобна при организации ежегодной священной процессии под названием «Isidis Navigium» («Корабль Исиды»), посредством которой каждую весну отмечалось открытие морской навигации (в ходе этого празднества в жертву Исиде приносилось морское судно. —А.З.). Возможно, эта роль Сабраты ценилась мореходами и чужеземцами, которые наряду с рабами, как кажется, в основном и поддерживали своими подношениями жрецов Исиды50. Использование греческого языка указывает на то, что культ египетских богов не был полностью адаптирован, и в параллель к этой языковой практике, хотя и в меньшем масштабе, можно поставить культ Асклепия как в Лепте, так и в других местах в латинизированных частях империи51. Другой египетский бог, Юпитер (изначально — Зевс) Аммон/Хаммон из Сивы, широко почитался в сельской Триполитании, но не в приморских городах. Баал Хаммон—Сатурн, могучий бог (deus magnus) Африки, уверенно и недвусмысленно засвидетельствован только надписью на мраморной чаше из Сабраты52, так что Триполитания, очевидно, являлась промежуточной зоной, а игнорирование Сатурна можно сопоставить с отсутствием здесь эллинских богов Киренаики.
От 230-х годов в этих трех городах осталось не так много храмовых зданий; однако Триполитанский политеизм сохранился во всем своем многообразии до IV в.53. Те разрушения, которым в конце столетия подверглись многие храмы приморских городов, гораздо чаще объясняются землетрясениями, набегами кочевников и неудачами в деле восстановительных работ, нежели действиями христиан. Внутри страны, где не было крупных поселений, христианство, видимо, оказало на религиозную жизнь меньшее воздействие, чем даже романизация. Все сельские культы Триполитании54 демонстрируют сильные ливийские и пунические черты. В римском военном лагере Ш в. в Бу-Нгеме, например, практиковались официальные военные культы, но одновременно с ними — и культы местных гениев; при этом в храмах, принадлежавших соседнему гражданскому поселению, мы сталкивается с неким Ванаммоном, не известным по другим местам, вместе с Марсом Канапфаром и Юпитером Аммоном/Хаммоном; этот последний широко почитался солдатами и людьми, передвигавшимися магистральными путями по пустыне пограничной зоны. Культовый центр Гурзила — бычьеголового отпрыска Аммона/Хаммона, вполне мог находиться в Гирзе, где позднеантичный храм, недавно раскопанный, отличается явно выраженным аборигенным стилем, несмотря на некоторые влияния со стороны средиземноморского мира. Гирза, как представляется, вплоть до середины VI в. оставалась центром политеистического рвения.
50 MacMullen 1987: 182—185 прежде всего примем. 494.
51 Bull. Êp. 1980: 335-336.
52 Но см. также: Squarciapino 1991—1992.
53 Августин. Письма. 46—47; Brouquier-Reddé 1992: 215—216.
;>4 Brogan, Smith 1984; Rebuffat 1990; Brouquier-Reddé 1992; Mattingly 1995: 38—39, 168, 209-213.
766
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
2. Трир (Августа Тревиров)
Подобно Лепте, Эе и Сабрате, Трир располагался рядом с лимесом, хотя и не на нем самом, и в рассматриваемый нами период приобрел прочные связи с другими центрами империи. Но тем более поразительны отличия между Триполитанией и Трирским регионом, прежде всего густонаселенной сельской местностью Трира, чья религиозная жизнь хорошо нам известна не просто из-за интенсивных стараний археологов, но, в первую очередь, потому, что романо-кельтская религия носила подчеркнуто деревенский характер — ей было присуще широкое почитание священных деревьев и источников. Даже и в самом Трире предвзятость римских официальных властей, как и относительная археологическая недоступность городского центра, являются наиболее вероятной причиной того, что самые важные известные нам святилища оказались на городских окраинах55.
Одним из них является храм Марса, расположенный в лесистой долине на другой стороне Мозеля, прямо напротив Трира. Марс, Меркурий и Аполлон были наиболее почитаемыми богами в северо-восточной Галлии, и их «прозвища» часто проясняют их туземное происхождение. Марса чтили в Трире главным образом как «Ленуса» и «Иовашукара», возведя для него во П в. великолепный храм, сочетавший местные и классические элементы. Здесь поклонялись также Ксулсигиям, являвшимся, возможно, нимфами источников, питавших водой расположенные поблизости целебные бани, построенные для пилигримов. Человек поднимался к этому храму от реки по крутой дороге, которую по мере приближения к священной территории начинали обрамлять алтари и экседры. Некоторые из них были установлены делегациями различных племен во время их официальных визитов в святилище, которое, очевидно, обладало определенным политическим значением и в целом служило местом собраний всей общины. Сначала человек выказывал почтение богу — имеются очаровательные вотивные статуэтки детей, несущих птиц, затем мог посетить термы или театр, предназначенный для ритуальных представлений, декламаций и т. п. — общая черта святилищ как в этой части Галлии, так и в других областях державы, таких, например, как Сирия56. Жрецами были мужчины высокого социального статуса — тот сорт людей, которых Рим повсюду искал, чтобы поймать их на крючок мягкого предательства путем официального покровительства таким вот наследственным ритуалам, пережившим первоначальное завоевание и искоренение неприемлемых [для римских властей] культов, что в итоге и произошло во многих частях империи. Кельтские культы в Галлии, подобно пуническим культам в Африке, постепенно уподоблялись своим римским аналогам. Кельтские и пунические боги, когда-то не имевшие конкретного образа, начинали воплощаться в статуях. Романизация проникала таким образом в подсознание
55 Wightman 1970: прежде всего с. 208—249; Wightman 1986; Heinen 1985: 178—200, 402—405; Merten 1985; Binsfeld et al 1988; Scheid 1992; Scheid 1995.
56 MacMullen 1987: 39-42.
Глава 17с. Публичная религия
767
даже простых людей — к смущению исследователей, которые до сих пор обсуждают вопрос о том, следует ли приписывать роль Марса как целителя, надежно засвидетельствованную в этом регионе, его кельтской или всё же римской ипостаси57.
Эти неопределенности пропитывают религию треверов (племя в Галлии с главным городом — Августа Тревиров, ныне Трир. —А.З.). Посвящение Асклепию, сделанное каким-то иностранцем, и другое посвящение, сделанное Марсу Виктору Августу, явно имеют греко-римский характер; и жилища богачей щеголяют мозаиками и фресками с мифологическими либо литературными сюжетами, которые могли иметь не только эстетическое значение58. Однако Юпитер Наилучший Величайший (Jupiter Optimus Maximus), которому одна надпись приписывает какой-то храм, вполне мог быть местным богом погоды. Трир определенно должен был иметь храмы, построенные по классической модели, например, для Капитолийской триады; но единственным неоспоримым экземпляром такого рода, обнаруженным до сих пор, является великолепное здание П в., неизвестно какому богу посвященное, которое находилось в юго-восточном конце города, на господствующей возвышенности под названием Ам- Херренбрюннхен. В долине реки Альтбах, в низине (а не на холме, как в предыдущем случае), имеется более пятидесяти капищ туземного типа, который представляет собой квадратную, многоугольную или округлую целлу, обнесенную в большинстве случаев характерной террасой. Некоторые из богов, почитавшихся здесь, в самой обширной культовой зоне, обнаруженной к северу от Альп, были либо римскими, либо более или менее романизированными божествами, например, галло-римский Юпитер, который в этой части Галлии зачастую изображался как бог-наездник, помещаемый на вершине колонны; а также Меркурий, который мог похвастаться прекрасной бронзовой статуэткой, сделанной целиком в классическом стиле. Однако большинство — это богини-матери, водные и прочие сельские божества, которые трудно представить в городском центре. Нет сомнений, что в конце II или в начале III в. данные капища в этой зеленой долине были обнесены стенами из-за давления на эти культы и религиозных предпочтений. Существовало также нечто похожее на жреческие дома, а близ входа в теменос (на священную территорию) — культовый театр, впрочем, во П в. заброшенный и замененный домом, который в следующем столетии был приспособлен под святилище Митры. Альбахталь, апогей которого пришелся на Ш в. и который продолжал существовать вплоть до времен Грациана, был ярмаркой богов, а также символом отсутствия в язычестве любой исключительности и удобной готовности принять им любого бога. Ибо поклонение «всем богам», что предписывали оракулы Аполлона в Дидимах и в Кларосе59, открывало простор
57 О двусмысленностях образа Ареса см. также: Mitchell. Anatolia П: 28. О поразительной жизненной энергии местных культов, прежде всего в западных частях империи и в период с середины П до середины Ш в., см.: Alföldy 1989: 78—82.
58 Simon 1986; Heinen 1985: 359—362 (мозаика конца IV в. с изображением Леды).
59 См. выше, с. 720 сноска 16 наст. гл.
768
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
как для тех изощренных умов, которые чувствовали, что через многих они почитают Одного60, так и для менее искушенного большинства, которое продолжало веровать в индивидуальность богов и простодушно считало совершенно нормальным и правильным торговаться со своими богами по любому поводу. Триполитанец, обращавший молитву к изваянию, которое представляло одновременно Либера, Амура и Аполлона [IRT 299), легко принимал бесконечные оттенки синкретизма, которые связывали все эти образы.
Вдоль дорог, по которым человек уходил из Трира, как и из любого другого города, располагались могилы, и путник имел возможность наблюдать похоронные церемонии и размышлять над печальными эпитафиями. Некоторые из надгробий были поучительны в теологическом смысле: на одном великолепном образце Ш в. из Игела близ Трира изображен переход души в мир иной, а ниже сообщается о причастности хозяина к суконному делу. В сельской местности можно обнаружить святилища (с которыми часто были связаны ярмарки) близ племенных границ, в деревнях, рядом с виллами, а также невдалеке от вершин холмов, источников, священных деревьев и рощ. У входа в целлу человек оставлял подношение, обычно монету, и шел дальше. Крупная процветающая вилла или даже маленькая, но расположенная на большой дороге, могла содержать в себе и нечто более необычное, например, святилище Митры, хотя во всем Трирском регионе труднее изучать восточные культы, чем, скажем, в регионе Майнца на Рейнском лимесе с его изменчивым военным населением. Кроме того, время от времени встречались более крупные святилища, привлекавшие паломников и хворых, как в Хохшайде, находившемся на лесистом и хорошо обеспеченном родниковой водой холме к югу от дороги «Трир — Бинген»61. Здесь римско-кельтский храм с прекрасными статуями Аполлона (Граннуса) и его супруги Сироны стоял прямо над источником, из которого верующие пили воду, оставляя подношение. Родник этот снабжал водой также купальню, использовавшуюся пилигримами, которые могли остановиться в соседнем постоялом дворе, хотя в данном месте нет никаких намеков на то, что здесь практиковалась инкубация (проведение ночи в храме в надежде увидеть вещий и исцеляющий сон. — A3.).
Святилище в Хохшайде перестало функционировать к концу Ш в., когда вокруг всё было очень неспокойно, а в 4-м столетии оно было разрушено христианами. Но многие сельские святилища продолжали использоваться в этом веке. Что касается самого Трира, то старательный нейтралитет в религиозных вопросах одного политеиста, который в 313 г. произнес здесь свой панегирик перед Константином [Латинские панегирики. ХП (IX)), объясняется, видимо, тем, что многие знали или догадывались о перемене во взглядах императора; однако местная ситуация еще долгое время оставалась неопределенной и переходной, видимо, как минимум до конца 4-го столетия62.
60 IME 165; Августин. Письма. 16.4; Августин. О граде Божьем. IV. 11.
61 Weisgerber 1975.
62 Brink 1997.
Глава 17с. Публичная религия
769
III. Выводы
Проекция на «широкие массы», очень сильно зависящая от археологии, помогает нам детально взглянуть на политеизм как на набор социальных действий, но немногое сообщает о реальных представлениях и верованиях, которые в этих действиях отражались.
Культовая деятельность, засвидетельствованная для нашего периода, справедливо воспринимается как доказательство того, что публичное многобожие городов, по меньшей мере, по-прежнему поддерживалось. Но данную активность следует рассматривать не просто как сохранение того, что было, скажем, во П в., но также и как стадию на пути к IV в. А в 4-м столетии городской религиозный культ был отдан в руки христианского императора, который назывался Верховным понтификом. Точно так же аристократы-христиане исполняли жреческие должности в своих местных городских храмах. Другими словами, упорное сохранение гражданского культа говорит об оживлении городов, но не о жизненной энергии их богов. Кроме того, поучительно сравнить структуру городских культов со структурой империи и христианской Церкви. Реагируя на внешнее давление на границы, рост местного партикуляризма после долгих периодов управления из Рима, а также склонность армии к узурпации и фрагментации высшей власти, Диоклетиан децентрализовал ряд аспектов осуществления последней на самом верхнем уровне, но в рамках жесткой коллегиальной структуры. Церковный алгоритм, в соответствии с которым местные могущественные епископы периодически собирались на Синод (церковный Собор), являлся таким же гибким подходом к решению вопроса о том, как учредить, а затем сохранять институциональную и доктринальную согласованность на огромном географическом пространстве. Но в этом иерархическом и корпоративном мире политеизм упрямо сохранял собственную клеточную структуру, связанную со своим врожденным духом места, а также с индивидуумами или группами, которые проживали в этих местах.
Мы, конечно, не должны думать, будто привязка политеизма к месту, его локальность, была абсолютным недостатком. При взгляде на это обстоятельство под определенным углом оказывается, что его многообразие являлось источником его силы и, в любом случае, оно вряд ли сильно беспокоило селянина, который никогда не покидал своей деревни и знал, причем весьма хорошо, всего лишь нескольких богов. Но большему космополиту политеизм навязывал затруднительно широкий выбор, а также постоянный страх, что пренебрежение каким-то богом чревато тем, что этот последний может и отомстить [Речь императора Константина к Святому собору [Oratio ad Sanctos, ed. Heikel). Ш.З; Августин. О граде Божьем.
IV. 11). Вот почему «религиозный опыт» политеистов был столь непохож на опыт христиан. Тут не было приближения к такой идее трансцендентности, которая выражается как Бог Отец, Христос или Богородица. Вместо этого был непредсказуемый опыт «конечного понимания» силы и значения или даже самой идентичности отдельного божества, а следовательно, и собственных обязанностей перед ним, каковое понимание, возможно,
770
Часть шестая. Глава 17. Поздний политеизм
по-прежнему обитало где-то на краю сознания этого человека или даже было «непознаваемым» (ocyvcooroç)63. Достижение такого понимания могло стать потрясающим переживанием — можно вспомнить о явлении Исиды Луцию в начале последней книги Апулеевых «Метаморфоз», видении неназванному путнику образа Мандулиса в Калабше (см. гл. 17Ь, с. 743 наст, изд.) или нижеследующую посвятительную надпись к статуе Кибелы— Целесгиды из Карворана в Британии:
Дева сидит в ее горнем месте верхом на Льве; подательница зерна, изобретательница права, основательница городов, благодаря чьим дарам Человек получает благую возможность познать богов [nosse <...> deos]. Поэтому она — Мать Богов, Мир, Добродетель, Церера, Сирийская Богиня, держащая жизнь и законы на весах равновесия. Для ее почитания Сирия послала созвездие, видимое в небе Ливии: оттуда мы всему научаемся. Так понимает, ведомый твоим божеством [ita intellexit numine inductus tuo], Марк Цецилий Донатиан, несущий службу в качестве трибуна на посту префекта благодаря императорскому дару.
RIB 1791 — П или Ш в.; ср.: Stephens 1984
Такого рода счастливые переживания перемежаются с более распространенными выражениями страха и тревоги. Но возраставшая частота посвящений «всем богам» давала, по крайней мере, выход этим боязням, а также служила выражением характера, свойственного от природы традиционному многобожию. Монотеизм, по общему признанию, имел как рациональные, так и чисто практические преимущества; точно так же и откровения, на которых он базировался. Это объясняет не только распространение монотеистических тенденций в рамках самого многобожия, но также и рост интереса политеистов Ш в. к иудаизму — единственной традиционной и потому почтенной религии, которая учила о едином Боге. Этот интерес конечно же постепенно распространялся и на христианство — религию хотя и новую, но свободную от узкоэтнического характера иудаизма. Эпиграфические источники Малой Азии иллюстрируют появление здесь, даже в отдаленных сельских местностях, среды, чья приверженность «богу величайшему» возрастала на общей для многобожия, иудаизма и христианства почве64. Опыт приобщения к «конечной истине» мог, очевидно, вести человека не к какому-то другому из богов политеизма, а к единому Богу христианства65. Впрочем, мы не должны питать иллюзий, что можем идти дальше этого и предполагать, будто бы политико-социальный кризис III в. сам по себе неизбежно должен был сталь фатальным для многобожия, которое, между прочим, и прежде переживало не менее острые проблемы. В конце концов, политеизм и не собирался объяснять всё и вся. Он не предлагал, если не брать в расчет философов, никакой великой программы достижения истины в последней инстанции — а то, что не утверждается, вряд ли может быть опровергнуто.
63 О таких неопределенностях см.: Павсаний. 1.1.4; V.14.8; Х.4.4; Евсевий. Жизнь Константина. 1.28.1; Robert 1980: 399. Иная интерпретация: Lane Fox. Pagans and Christians: 34.
64 Mitchell. Anatolia П: 31—51.
65 Напр.: Евсевий. Жизнь Константина. 1.32.3.
Глава 17с. Публичная религия
771
Правда, политеизм претендовал на то, что он способен управляться с божественной силой, SuvocfAiç; но в 3-м столетии задачи, связанные с таким «управлением», были не более, но и не менее податливыми и гибкими, чем ранее. Различие между Ш в. н. э. и, скажем, хаосом эллинистической эпохи заключалось в том, что теперь существовала серьезная альтернативная религия. Тем не менее христианство триумфально побеждало в большей степени из-за того, что оно предлагало, нежели из-за того, чего не имел политеизм. Это подтверждает тот факт, что, по крайней мере, вплоть до Августина и до последствий захвата Рима в 410 г. сами христианские апологеты нападали на язычество, скорее, за то, что оно, как они считали, было не способно ни описать Бога должным образом, ни достойно Его почитать, нежели за то, что оно не могло достичь собственных целей, или за то, что оно было подточено внутренним кризисом. Количество мужчин и женщин, которые отказывались от многобожия, всё более увеличивалось, по крайней мере в рассматриваемый период, не потому, что религия, с которой они родились, уже утратила жизнеспособность, но из-за реалистичного расчета на то, что результативность христианства и его способность отвечать на запросы его приверженца окажется много выше, чем у их прежних богов. Политическая элита, в частности, пришла к ощущению, что то государственное объединение, которое стремится быть единой и универсальной державой, должно поклоняться единому и универсальному богу66.
Не менее привлекательным аспектом христианского монотеизма был пример любви и сострадания, который Христос предлагал для повторения, и это еще один элемент, который с трудом можно найти в нефилософском политеизме — несмотря на то, что этот элемент порой переоценивают, отыскивая его, например, в культе человеколюбивейшего (cptXavGpooTOTaTOç) Асклепия. Константин, будучи самодержцем и страстно верующим человеком, являл собой глубоко привлекательную фигуру. И из тех проблем, которые император считал важными и имеющими значение, к тому времени очень многие носили характер религиозных вопросов. Однако к моменту смерти первого христианского императора и в последующие за этим десятилетия многие боги по-прежнему естественным образом воспринимались как заступники Рима.
66 Fowden 1993а.
Глава 18
ХРИСТИАНСТВО В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ
Глава 18а
М. Эдвардс
ХРИСТИАНСТВО, 70—192 гг. н. э.
Было бы трудным и почти лицемерным представлять историю «[христианской] Церкви» в рамках указанного периода так, как если бы это был единый, уже развившийся организм. В целом признаётся, что структура Церквей значительно варьировалась от места к месту, а также то, что в одном городе могло считаться убедительным умозрением, в другом городе могло восприниматься как ересь. То же самое верно относительно других вопросов, к рассмотрению которых зачастую подходят с точки зрения презумпции единообразия: тот факт, что мы располагаем серией рескриптов императоров, еще не означает, что каждый человек был знаком с политикой последних или повиновался ей;1 точно так же, когда упорно рассуждают о «причинах гонений», мы не можем предполагать, что и сам этот феномен, и его причины были одинаковы в каждом городе. В этой главе вместо стремления к универсальному повествованию будет предпринята попытка уделить должное внимание несхожести регионов. Если мы не знаем — что часто бывает в исследованиях по античности, — как охарактеризовать те «события», о которых доступны какие-то свидетельства, то мы вряд ли можем рассчитывать на то, что удастся выяснить, «почему» они произошли и, возможно, даже «когда» они произошли.
1. Сирийский регион (кроме Антиохии)
«Откровение Иоанна Богослова» (или: «Апокалипсис») и три синопгиче- ских Евангелия — все намекают на разорение Иерусалима Титом, которое, в силу того, что оно включало разрушение храма, могло рассматриваться как Божье проклятие иудаизма. Иерусалимские христиане бежали в Пеллу (Евсевий. Церковная история. Ш.5.3), и с этого момента история мало что может поведать о них. Евсевий дает непрерывный список епи-
1 Rives 1995: 255 — автор отмечает, что первое собрание таких рескриптов подготовил Ульпиан; ср., однако, далее, сноска 23 наст. гл.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
773
скопов начиная с Иакова (Церковная история. Ш.11 слл.), но, поскольку последний, в сущности, был не епископом, а старшим в совете пресвитеров, данная информация имеет мало веса2. В источниках часто встречаются заявления о стойком сохранении в данном, сирийском, регионе «иудео- христианства», а также эбионитов3, о которых сообщается, что они в подражание Христу вели аскетический образ жизни, не признавая при этом его божественной природы, и которых иногда представляют как хранителей самого раннего христианского учения. Тем не менее, уже самые первые писания, вошедшие в Новый Завет, подразумевают поклонение Христу как Господу, если не как Богу; и, если этот культ не являлся спонтанным, никакие аналогии из античного мира не могут объяснить, как этот культ возник. Многие сведения, которые мы слышим по поводу эбионитов, определенно являются выдуманными (например, имя их основателя Эбион, представляющее собой всего лишь древнееврейский термин, которым обозначали нищего), и, если только это не было сообщество евгемеристов, мы должны предположить, что эбиониты поклонялись Христу вместе с остальной изначальной Церковью.
В Сирии, очевидно, впервые столкнулся с христианством Лукиан; дело не только в том, что он был уроженцем этой провинции — он говорит, что именно в Сирии киник Перегрин заключил временный союз с Церковью. Перегрин должен был умереть на погребальном костре, который сам же и соорудил в Олимпии; это был поступок не философа, говорит нам Лукиан, но безумца и преступника, для которого поклонники «распятого мудреца» были самой подходящей компанией (Лукиан. О кончине Перегрина. 13). Наместник Сирии заточил Перегрина в темницу, по сути, как христианина, но затем освободил, не считая «достойным даже обычных наказаний» (Там же. 14), под которыми, по всей видимости, подразумевалось бичевание. Позднее даже Церковь изгнала его за то, что он ел какую-то «запрещенную еду» (Там же. 16): этот пассаж означает, что Лукиан был знаком с некой церемонией отлучения от Церкви, а также с запретом вкушать мясо животных, принесенных в жертву языческим идолам (etScoXöGuTOc), каковой, как кажется, в Церкви П в. действовал повсеместно4.
В Апамее, крупном интеллектуальном центре, философ Нумений, как сообщается, выказывал определенное знакомство с Евангелиями (Ори- ген. Против Цельса. IV.51). Учение элхасаитов распространилось по другим провинциям также из Апамеи (Ипполит. Обличение на все ереси (Refutatio omnium haeresium). IX. 13—16). Эта секта, которая свое начало связывала с явлением около 100 г. н. э. некоего ангела огромных размеров, посланного Христом и Святым Духом, отказывалась как от половых сношений, так и от использования в пищу мяса, чтобы освободить от фатальной зависимости душу, которую, как они думали, звезды вселили
2 Деяния Апостолов. 15: 23; 21: 18 и др.; Campbell 1993.
3 Эпифаний. Панарион. XXX и др. О свидетельствах по «иудеохристианству» см.: Klijn, Reinink 1977; сомнения относительно историчности самого явления см. в работе: Taylor 1990.
4 О достоверности повествования Лукиана см.: Edwards 1989b; о взаимоотношениях между христианами и киниками см.: Downing 1993.
774
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
в плоть. Чрезмерное стремление к воздержанию приписывали также Татиану (ученику ортодоксального мученика Юстина, который в старческом возрасте, как сообщается, основал у себя на родине движение энкра- титов (Ириней. Против ересей. 1.28.1). Отказавшись от мяса и от брака, он утверждал, что материальное творение было делом Бога-творца, подчиненного верховному Богу (Ориген. О молитве. 28.5). Впрочем, он не оспаривал основы ортодоксии, ибо составил так называемый «Диатессарон» (букв, «через четыре»; «Евангелия смешанных [чтений]») или «Гармонию четырех Евангелий». Само название подсказывает, что, как и другие его сочинения, этот труд был написан по-гречески, хотя стандартным [богослужебным] текстом он стал в регионе, где говорили на сирийском языке5.
Склонность к учению энкратитов, а потому и сирийское происхождение приписывались Евангелию от Фомы, которое дошло до нас в варианте коптского текста из Наг-Хаммади в Египте6. Документ из этого места, который в древности пользовался, по-видимому, очень большой популярностью, так называемый «Апокриф от Иоанна», также возник, как считается, в восточных провинциях. Он является, возможно, первым кратким изложением развитой гностической системы; в нем доказывается, что божественное отражение, упавшее на материю, породило физическое мироздание в качестве имитации божественного царства. Этот и другие связанные с ним тексты описывают восхождение души, осуществляемое посредством ритуалов и видений, к сфере совершенной свободы; напротив, необходимость церковной дисциплины является ведущей идеей «Дида- xé» (или «Учения Гопода через двенадцать апостолов язычникам»)7. Этот текст устанавливает критерии для отделения истинных провидцев от обманщиков, которые бродят от церкви к церкви в поисках еды, приюта или денежной корысти (13). Другие лицемеры, как предполагается, соблюдают иудейские посты (8), возможно, чтобы скрыть свое христианство. Это раннее сочинение относится к тем временам, когда епископы еще не отделились от пресвитеров (15); оно предписывает исповедь, крещение и причастие, а также дает молитву «Отче наш» в ее наиболее пространной форме (6—9).
Церковь Эдессы льстит себе с помощью легенд о своем древнем и удивительном основании. Об обмене письмами между Абгаром V и Иисусом рассказывает Евсевий, который добавляет, что Фома был послан для исцеления этого эдесского царя от его недуга [Церковная история. 1.13). Наиболее примечательной фигурой данного периода является Бардай- сан, который упомянут Евсевием по-гречески как Бардасан в качестве автора синкретической ереси [Церковная история. IV.30.1). Этим человеком, впрочем, восхищались из-за его полемики против астрологов, многое из которой сохранилось на греческом и сирийском языках: его главный аргумент, знакомый из текстов философа Карнеада, состоял в опроверже¬
5 Moliton 1969.
6 Quispel 1981; текст: Robinson 1990: 124—138. Об «Апокрифе Иоанна» см.: Quispel 1979; Robinson 1990: 104—123.
7 Происхождение и датировка «Дидахе» обсуждаются в работе: Audet 1958.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
775
нии мнения о том, что разные зоны управляются звездами; если бы такое мнение было верным, то мы должны были бы обнаружить одинаковую судьбу у всех людей, принадлежащих одному народу8.
2. Антиохия
Главным центром христианства в Сирии, как и в других местах, была метрополия: в самом деле, именно в Антиохии это вероисповедание получило свое название [Деяния Апостолов. 11: 26). Мы имеем перечень епископов, но большинство имен после Петра и Игнатия Богоносца (Антиохийского) выглядят как ничего не значащие фигуры. Пребывание Петра в Антиохии, возможно, является легендой, хотя апокрифические сочинения, приписываемые ему, а именно «Керигма (проповедь) Петра» и «Евангелие от Петра», имели здесь большую распространенность, нежели в любом другом регионе9. Игнатий оставил свой живой портрет в семи посланиях, которые обычно признаются аутентичными10. Пять из них были адресованы азиатским Церквям, одно — Поликарпу и одно — христианской общине Рима; таким образом, они немногое рассказывают нам о его собственной провинции, за исключением того, что во 2-м столетии, очевидно, являлось там формой официальных гонений. Гордый тем, что он должен, как когда-то Павел, отправиться в Рим, Игнатий, по всей видимости, был римским гражданином; самого себя он называет епископом Сирии [К римлянам. 2.2), что, скорее, означает не то, что в Сирии была единственная Церковь, а то, что настоятель антиохийского прихода уже приобрел к тому времени митрополичий статус. Игнатий понимал, что его страсть к мученичеству была необычной, и, возможно, он не выражал общего мнения, когда называл себя искуплением за общину [К эфесянам. 21.1 и др.) и предсказывал, что смерть перенесет его прямо ко Христу [Кримлянам. 5.3 и др.).
Антиохийский епископ Феофил составил самую длинную апологию этого периода. Привлекая эллинскую философию в поддержку христианских учений, он привел также ученые доказательства того, что «Пятикнижие» превосходит своей древностью (а следовательно, и значимостью) литературу Греции. Он — первый писатель, который говорил о Божестве как Троице, триаде [Послание к Автолику. П.15 и др.), а также чаще и подробней большинства современных ему апологетов рассуждал на эзотерические темы, такие как воскрешение мертвых, Божий суд и Грехопадение. Серапион (назначен около 190 г.) — последний епископ Антиохии
8 См.: Drijvers 1966; а также: FGrH Шс. 648—656.
9 Dobschutz 1893; Hennecke, Schneemelcher 1992: 36—40. «Проповедь» частично включена в «Климентины», в которых внимание сосредоточено на Цезарее («Клименпшы» — апокриф П или Ш в. н. э., написанный в виде греческого романа; приписывался святому Клименту (Клементу Римскому). — A3.). Ср. далее, сноска 11 наст. гл.
10 Об окружающей обстановке, в которой пребывал Игнатий, см.: Bammel 1982; о его статусе митрополита см.: von Harnack 1908: 463; и о последующих гипотезах см.: Edwards 1995.
776
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
в рамках рассматриваемого нами периода (Евсевий. Церковная история. VI. 12). Его действия, когда он сначала разрешил, а потом запретил распространение так называемого «Евангелия от Петра», отнюдь не указывают на то, что Антиохия вообще не имела никакого канона; напротив, только лишь обращение к текстам, признанным каноническими, позволило ему объявить доктрину указанного произведения сомнительной11. Если польза означала каноничность, сочинение изначально подлежало более тщательному знакомству и не могло быть с легкостью запрещено.
3. Проконсульская Азия
Среди многочисленных апостольских Церквей Троады Эфес заявлял самые большие права на Павла, а также претендовал на то, что именно на территории этого города находятся могилы Иоанна Богослова и Богородицы. Более того, сообщается, что здесь жил пресвитер Иоанн Старец, которого некоторые считают автором Апокалипсиса (Евсевий. Церковная история. Ш.39.4 слл.). Эфесская церковь — одна из семи Церквей, которые в этом откровении обвиняются в проявлениях распущенности во времена (не обозначенного точно) гонения; остальные шесть — это Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардская, Филадельфийская и Лаодикей- ская12. Вкушение языческих жертв, принесенных идолам, теперь трактовалось как ересь, поскольку идолы кормились кровью христиан [Откровение. 2.14 и др.); упоминание «синагоги Сатаны» в Филадельфии и в Смирне (2.9, 3.9) могло подразумевать, что некоторые скрывали здесь свое христианство под личинами иудаизма. Те же две Церкви порицаются Игнатием за соблюдение субботы без обряда обрезания (Игнатий Богоносец. К филадельфийцам. 6.9; К смирнянам. 5.1; ср.: К магнесийцам. 8—9). Здесь, как и в Траллах, Эфесе и Магнесии, отступники настаивали на еретической идее «докетов» об иллюзорности страданий Христа — позиции, опровергаемой также в «Первом послании Иоанна» (1.1 слл.). Для Игнатия его собственное приближавшееся мученичество — это свидетельство реальности Страстей Господних [К траллийцам. 10 и др.), а сам Христос есть «хранилище» всех истин, потребных для нашего спасения [К филадельфийцам. 8.2). Он представлен в обряде евхаристии (причастия), когда вся Церковь собирается как жертвенное тело вокруг своего епископа [К эфесянам. 5 и др.). Епископ — непререкаемый авторитет даже в своем молчании [К эфесянам. 6.1), а пресвитеров и диаконов необходимо почитать как Бога и его апостолов [К траллийцам. 3.1 и др.); любое другое собрание — это «смертоносная отрава» [К траллийцам. 6.1). Поэтому невозможно сомневаться в том, что в городах Западной Азии был установлен тройственный порядок священства («диаконы — пресвитеры — епископ». — А.3.); однако, как замечает В. Бауэр13, тон, с которым были заявлены
11 См. далее, сноска 40 наст. гл. Ср.: Ориген. О началах. I, в начале, 8.
12 Sweet 1979: 21—29 — автор относит указанное гонение к правлению Домициана; ср. далее, сноска 39 наст. гл.
13 Bauer 1971: 60-94.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
777
властолюбивые теории этого епископа, свидетельствует вполне отчетливо, что они еще не стали обычным явлением, даже там, в Западной Азии.
По общему мнению исследователей, именно христиане осуждались в речи XLVI языческого софиста Элия Аристида за отсутствие у них культуры. Его инвективы, по-видимому, усугублялись собственным религиозным рвением по отношению к Асклепию14, но они могли также отражать распространенную неприязнь к христианам в его родной Смирне, которая между 146 и 167 гг. стала причиной казни на костре престарелого епископа Поликарпа, обвиненного в атеизме15. Азиарх Филипп пошел на поводу у толпы, потребовавшей сжечь Поликарпа живьем [Мученичество святого Поликарпа [Martyrium Polycarpi\. 12.2), при этом ничто не говорит о том, что другие христиане подвергали себя опасности, когда попросили выдать им тело Поликарпа, хотя (как и во всех мартирологах) прошение было отвергнуто (Там же. 17). День Поликарповой гибели назван в этом повествовании «великой субботой» (Там же. 21), что, возможно, означает метафорическое восприятие его смерти в качестве пасхальной жертвы. Страстная Пятница в азиатском календаре совпадала с иудейской Пасхой, то есть с четырнадцатым днем месяца нисан, и отстаивание того, что Пасха должна отмечаться на четырнадцатый день нисана (христиане, следовавшие этому, назывались «Quartodecimani», Четыренадесятидневника- ми), приписывается Мелитону Сардскому (Евсевий. Церковная история.
IV.26.3). И всё же сохранившийся трактат последнего «Слово о Пасхе» знаменит не этим, а совокупностью художественных приемов, ритмичностью, а также постулатом, повлиявшим на всю позднейшую христианскую типологию, согласно которому Христос есть Слово, заменившее собой Закон16. Мелитон входит в число пяти апологетов из Азии, которые, как сообщается, обратились с устными прошениями к Марку Аврелию; самый разумный вывод из этого сообщения состоит в том, что апологетика стала в те времена модным жанром. Произносить такого рода речи в тех обстоятельствах могло быть рискованным, и мы должны относиться со скептицизмом к тем схемам передвижения императора (разрабатываемым современными исследователями), каковые могли бы позволить терпеливому самодержцу выслушать в пределах нескольких месяцев все пять апологий17.
Юстин в конце своей «Первой апологии» приводит два рескрипта: один от имени Адриана, другой — от имени Антонина Пия, которые, как сооб¬
14 Gresswell 1834: 312—313 — автор отмечает неожиданную популярность этого божества там, где было сильно христианство. Христианство было отвергнуто неким лживым пророком Асклепия, см.: Лукиан. Александр. 25.
15 Точная датировка зависит от того, к какому времени относить проконсульские полномочия Статилия Квадрата [Мученичество святого Поликарпа. 21). Barnes 1967 — эта работа не столь исчерпывающая, как: Lightfoot 1889: 628—702; Gresswell 1834: 243—337. В этих дискуссиях важно, каким значением авторы наделяют понятие «великая суббота».
1(3 Hall 1979. Иудеи в Сардах могли оказать большее влияние на трактат «Слово о Пасхе», чем, напр., то влияние, какое иудеи Эфеса оказали на «Диалог с Трифоном» Юстина, см.: Lieu J.M. 1996: 209—235.
17 Хотя Р. Грант (Grant 1988b), возможно, прав, предполагая, что перемена в политике Марка Аврелия была обусловлена восстанием Авидия Кассия.
778
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
щается, были написаны в ответ на требования язычников предоставить им больше полномочий в противодействии христианам в их регионе. Оба постановления подразумевают, что христиане не должны подвергаться судебному преследованию только за то, что они христиане, до тех пор, пока им не будут предъявлены обвинения в каких-то иных преступлениях; в обоих рескриптах сказано также, что клеветнические обвинения против христиан будут наказываться. В большей степени выглядит аутентичным тот рескрипт, который издан от имени Адриана, адресован на конкретное имя наместника и кое-что говорит в похвалу христиан. Языческий собиратель чудесных историй Флегон из Тралл находит в своем сборнике место и для чудес Христа, а также указывает дату затмения, которое совпало с его смертью (Ориген. Против Цельса. П.14, 33, 59). Первым церковным историком был Палий, которому мы обязаны нашими сведениями о могилах в Эфесе, нашей самой ранней информацией о порядке и составе трех синоптических Евангелий, а также эмоциональной картиной наступавшей тогда исторической эпохи18.
4. Фригия
Следы христианства, сохранившиеся в данном регионе, обильны, и самым знаменитым из них является эпитафия Аберция Марцелла, которая прославляет его труды в защиту правоверия19. И всё же именно эпитет «ка- тафригийская» становится опознавательным ярлыком для ереси, которую Аберций всячески старался пресечь. У этой ереси было два главных истока: экстатические состояния Монтана, который заявлял, что им вещает голос Святого Духа, и пророчества Присциллы и Максимиллы, которые вдохновлялись ежедневным видёнием небесного Иерусалима над их родной деревней Пепузой. Нет сомнений, что имелись и другие еретические выплески, так как подобные харизматические движения никогда не происходят из одного-единственного источника, а современные попытки отыскать таковой оказываются столь же тщетными и противоречивыми, как и попытки Эпифания и Евсевия20. Конечно же существовало немало пророков, которые заявляли о своем непосредственном вдохновении и противостояли клиру азиатских епархий, бравшему на себя задачу исцелять таких людей посредством своего рода экзорцизма (изгнания нечистой силы). В свете таких эксцессов христианские руководители стали доказывать, что провидец, пока его душа остается одержимой, не может вдохновляться Богом (Евсевий. Церковная история. V.18.9 и др.).
Преувеличивать аномальные особенности монтанисгов не следует: у нас нет свидетельств о женском лидерстве среди них или об общем ожидании
18 Ириней. Против ересей. Ш.33.3; Евсевий. Церковная история. Ш.36, 39; Иероним. О знаменитых мужах. 18.
19 Lane Fox. Pagans and Christians. 276—277 — автор отмечает, что своих единоверцев он нашел даже по ту сторону Евфрата — в Нисибиде.
20 Freeman-Grenville 1954; ср., однако: Barnes 1970.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
779
конца света21. Не стоит и придавать особое значение преданию о том, что Монтан был евнухом Кибелы; это была еще одна секта, которая пыталась наложить христианский гносис (высшее мистическое знание) на языческий гимн к Аттису. Наассены (члены гностической секты. —А.З.), заявлявшие, что никакое божество они не чтят так, как Человека и Сына Человека, были, тем не менее, готовы находить эпифании Христа в Атгисе, Адаме, Дионисе и Осирисе (Ипполит. Обличение на все ереси. V.6—11). Их тезис о постоянном странствии души между волнами разума и материи рассматривался в качестве ключа, который способен открыть в каждом священном тексте дверцу, ведущую к общей для всех истине.
5. Вифиния и Понт
Церкви Вифинии, видимо, относятся к числу тех, которым адресовано послание Павла «К галатам», но история этих Церквей начинается для нас только со времени наместничества Плиния (около 112 г. н. э.). Подозрительный ко всем ночным сборищам, как и его владыка Траян, он ответил на анонимные доносы на христианские собрания вызовом обвиняемых и их допросом, являются ли они сейчас или когда-либо прежде являлись членами христианской секты (Плиний Младший. Письма. Х.96.3). Тех, кто не отрицал и не отрекался от своей веры, Плиний отправлял на казнь либо, если они оказывались римскими гражданами, лишал свободы и назначал к отправке в Рим (Там же. 4); одного только отречения было недостаточно, требовалось еще принять участие в жертвоприношении императору и похулить имя Христа, так как принудить истинного христианина к произнесению такой хулы невозможно (Там же. 5). При всей своей суровости Плиний так и не смог выявить за христианами никаких злых поступков, за исключением того, что их религия была «уродливым суеверием» и что они собирались до рассвета, чтобы разделить трапезу, дать клятвенное обещание не совершать грехов и воспеть гимн Христу «как богу» (Там же. 7). Он ничего не сообщает относительно их официальной иерархии, поскольку, по-видимому, ничего об этом не слышал. Два момента приводятся в оправдание предпринятых им мер: неповиновение, которое заключается в отказе совершать жертвоприношения, и оживление, которое он своими действиями привнес в торговлю жертвенными животными вокруг местных святилищ (Там же. 10; ср.: Деяния святых апостолов. 19: 25).
Плиний допускает — причем намекает на прежние судебные разбирательства, — что христианская вера nomen ipsum («сама по себе») является преступлением, достойным смертной казни [Письма. Х.96.2). Траян соглашается с этим, хотя всё же не называет автора этого вероучения по имени и не называет христианство «недозволенной религией» («religio non licita»). Плиниев метод судебного разбирательства путем cognitio (следствия) он считает нормальным22, но умеряет его рвение, заявляя, что христи¬
21 Любители историографии могут сопоставить две работы: Trevett 1996; Schepelem 1929.
22 О судебном процессе см.: de Ste Croix 1963: 17; Ramsay 1893: 216—217.
780
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ан не нужно разыскивать специально, что обвиняемый имеет право оспорить заявления обвинителя в открытом судебном состязании и что для оправдания достаточно отречения, подтвержденного жертвоприношением [Письма. Х.97.2). Таким образом, рескрипт Траяна подтверждал, но не создавал и не разъяснял правовой статус христиан; появление этого необычного рескрипта, по всей видимости, отчасти объясняет снисходительность непосредственных преемников Траяна23.
Согласно лукиановскому «Александру» (25), Понт к середине П в. был наполнен христианами, и именно здесь Маркион Синопский выработал самую сильную из всех дихотомий между страданием и спасением. Мир и закон, учил он, — это творения Бога, беспристрастного, но немилосердного, тогда как Отец Иисуса Христа милосерден и, в пику правосудию, отправил своего Сына выкупить наши души из темницы, в сооружении которой он участия не принимал. Плоть не подлежала искуплению, и силы, которые господствуют над телом, были обмануты с помощью призрачного распятия. Будучи гностиком в своих основополагающих догматах, Маркион не мог смириться с гностическими аллегориями, объяснявшими Ветхий Завет; даже составленный им канон Нового Завета включал лишь некоторые части принятого ныне свода посланий Павла и краткую редакцию Евангелия от Луки. Его Церкви, которые были многочисленны, демонстрировали высокий уровень организации, и иногда утверждается, что его учение заставило епископат укрепить дисциплину и установить собственный канон24. Впрочем, нужно сказать, что по сравнению с другими еретиками он вызывал меньшую критику со стороны епископальных богословов П в.
Ереси и разногласия, переполнявшие Церковь Коринфа во времена Павла, сохраняли свою энергию на протяжении следующей половины века, если судить по посланию Климента Римского, призывавшего коринфян к смирению, взаимному милосердию и к готовности страдать за веру. Климент говорит о пресвитерах в Коринфе [Первое послание св. Климента к коринфянам. 1.3), но они идентичны изначальным так называемым епископам (Там же. 42). Ко времени Марка Аврелия в Коринфе был уже единовластный епископ — Дионисий, который в качестве митрополита адресовал свои обращения спартанцам, критянам и афинянам, ободряя последних, когда во время гонений те потеряли своего епископа (Евсевий. Церковная история. IV. 23). Преемник афинского епископа, некто Квадрат (Кодрат), предположительно тождествен тому Квадрату, чья «Апология», составленная в правление Адриана, строила свою аргументацию на чудесах Христа25. Если это была первая вообще апология, то вторая припи¬
23 Рескрипт цитируется Тертуллианом в «Апологии» (П.6), а уже отсюда его текст заимствует Евсевий [Церковная история. Ш.33.3).
24 Эта тема рассмотрена здесь: Blackmann 1948.
25 См.: Евсевий. Церковная история. IV.3 (об апологете); IV.23.2 (о епископе).
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
781
сывается также афинянину, философу Аристиду26, чье сочинение сохранилось в трех несогласующихся версиях. Если греческий папирус представляет собой оригинал, тогда автор применяет к своим соотечественникам новую форму этнографического описания, которая игнорирует полярное разграничение варваров и эллинов. Вместо этого мир здесь распадается на христиан, евреев и язычников, с последующим подразделением последних на эллинов, египтян и халдеев. Данный трактат мог быть одним из источников идеи о том, что христиане есть «третий народ», которая осталась непонятой латиноговорящими западными христианами27. Афинянином и философом в рукописях своего труда именует себя также и Афи- нагор, чье «Прошение за христиан» («Legatio») адресовано Марку Аврелию и Коммоду, чьи титулы, указанные здесь, позволяют датировать это сочинение 176 г. Данный текст подражает петициям, которые публично декламировались императору ораторами той эпохи от имени их собственных общин; но община здесь — это всемирная Церковь, и у римских императоров испрашивается не щедрый дар, но терпимость. Продолжительность речи, смешение жанров и признание виновности, заключающейся в самом акте написания — всё заставляет думать, что посвящение императорам является фиктивным28. Как бы то ни было, Афинагор, видимо, надеялся, что читатели-язычники могут быть тронуты его попыткой показать через обращение к Платону и орфикам, что христианская вера представляет собой настоящую философию и ближе к сути эллинской традиции, нежели ритуалы и мифы официального многобожия. По Афинагору, христианство — это вера в уникальность и трансцендентность божества, порождающего свой логос в качестве орудия в деле сотворения и спасения мира [Прошение. 10 и др.). Апология воскрешения была зарезервирована для другого его трактата29. Из опровержения им утверждения, что христиане практиковали каннибализм или инцест, мы можем сделать вывод, что он читал речь Фронтона, а также, возможно, получал какую-то информацию о том, что происходило в Лионе (см. далее).
7. Египет
Вопреки преданию о поездке святого Марка и фиктивному письму, приписанному Адриану в «Истории Августов» [Фирм. 8), никаких надежных свидетельств о египетском епископате ранее конца П в. не сохранилось. Евсевий претендует на то, что в своем списке он приводит имена всех епископов, но при этом ни одного из них до начала Ш в. не снабжает биографией. Тезис Вальтера Бауэра о том, что в этой провинции самое раннее
2,) Geffcken 1907: 1-96; Grant 1988а: 35-39.
27 Harnack 1908: 266—278 — истоки этой идеи, возможно, следует искать в Евангелии от Матфея (21: 43). Ср. далее, сноска 52 наст. гл.
2S Buck 1996 — автор вполне убедительно обосновывает эту позицию в пику точке зрения В. Шойделя и Т. Барнса.
2У Хотя Р. Грант (Grant 1954) отрицает аутентичность трактата Афинагор а «О Воскресении» («De Resurrectione»).
782
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
христианство относилось к той разновидности, которую мы называем гностицизмом, не опровергается открытиями папирусов с текстами Ветхого Завета30, поскольку иудейский канон активно использовался и в гностических сочинениях. Папирус Райлендза, датируемый примерно 130 г. н. э., служит доказательством того, что в Египте Евангелие от Иоанна читали уже довольно рано31, но его первыми толкователями, как кажется, были Василид и Гераклион — известные представители ортодоксального учения. К концу нашего периода в Александрии существовала катехизическая школа, глава которой, Пантен, считается представителем ортодоксального учения; однако определенное влияние на него со стороны Филона всегда порождало разного рода спекуляции, к тому же ученик Пантена, Климент, говорит о еретиках типа Феодота с определенным уважением32.
Дефиниция «гностики», как показывает употребление этого слова Климентом, служила не обозначением некой секты, пускай и менее уничижительным в устах оппонентов, а эпитетом, на который, похоже, мог заявить права любой, кто обучал какой-либо более сложной, требовавшей богословской и философской подготовки доктрине. Очевидно, что гносис был высшей ступенью веры, или m<mç, причем разные учителя преподавали разное содержание; каждый из них был склонен объявлять именно свое учение истинным, а все иные — ложными. Как имя существительное, которое само по себе означает всего лишь «знание» (yvcoaiç), этим словом могли называть сложную для понимания ученость, которая была необходима для раскодирования какого-либо священного текста, либо откровение, полученное лично от ангельских сил, либо тайную традицию, переданную учениками Апостолов. Сторонники того или иного направления в гностицизме утверждали, что все иные учения распродавались в розницу как единственно возможные «средства спасения», без всякого касательства нравственных принципов или образа жизни.
Василид, к примеру, порицался за фатализм, но одновременно и за не совместимый с этим догмат, согласно которому наши страдания в настоящей жизни являются наказанием за наши провинности в прежней33. Он, как сообщается, к таким наказаниям относил мученичество и рассматривал отречение от христианства в условиях гонений как признак гносиса. Тем не менее, это не отменяет того факта, что его учение породило по меньшей мере одного мученика. К обвинениям христиан, последователей Ва- силида, в беспорядочных совокуплениях на их любовных пирах относиться нужно с подозрением, как и к большинству рассказов о еще более распутных обычаях, будто бы введенных его последователями — Исидором и Карпократом (Климент. Строматы. Ш.1—2 слл.). Согласно системе, которую Ипполит приписывает Василиду [Обличение на все ереси. VTL21— 27), царство материи, без всякого сомнения, подлежит осуждению, но оно пронизано Духом — третьим истечением, или ответвлением, Бога —
30 Roberts 1979: 49—53 — несогласие с: Bauer 1971: 44—59.
31 Roberts 1935; Roberts 1938.
32 Об этой школе см.: Van den Hoek 1997.
33 Lohr 1996 — современная авторитетная трактовка данного вопроса.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
783
извечного Отца, чья цель состоит в том, чтобы освободить и привести к совершенству желающую этого душу. Страдание есть средство такого улучшения, но приходит оно по милостивой воле божества, не из-за заблуждения, случая или злобного правления миром.
Столь же монистической (то есть рассматривающей многообразие явлений мира в свете единой основы. —А.З.) является система, которая обычно приписывается Валентину, хотя некоторые детали могли быть добавлены Гераклионом, Птолемеем и Феодотом34. В данном мифе Божественность является некой целостностью, или плёромой (TuXrjpcopoc), тридцати эонов («вечностей»), которая была временно ослаблена из-за греховного падения низшего элемента Божественности — Мудрости (или: Софии). Результатом страсти этой последней стало появление первой материи, затем — невежественного (хотя и не совсем злобного) Демиурга, который стремится сотворить божественное мироздание, но умудряется лишь заточить человеческую душу в нечестивый мир. Эта легенда является, очевидно, аллегорией на отказ души от созерцания Бога в пользу бесполезного культа идолов, или, в случае с Израилем, столь же суеверного поклонения Закону в его применении к телу. Демиург — это Бог платоновского «Тимея», но это и ошибочно понимаемый в иудаизме Создатель. Павел говорил о Христе как о том, кто пришел в «полноте времени» [К галатам. 4: 4; ср.: 7 к коринфянам. 10: 11), в котором телесно обитает вся полнота Божества [К колоссянам. 2: 9) и который через смерть стал первенцем искупления (7 к коринфянам. 15: 20 слл.). Валентиниановский миф приближается к этим пассажам, когда заявляет, что именно Христос искупает грех Софии и своим крестом отделяет мирское от Божественного. Вновь открытые тексты, которые, возможно, происходят из Валентиновой школы П в., настаивают на огромной силе креста в деле нашего спасения и не исключают полностью телесного воскрешения35. Поэтому нет никаких оснований отрицать возникающую время от времени необходимость в мученичестве, и Валентин, как представляется, был одним из ранних и глубоких толкователей Павла. Валентинианцы отличались от основной Церкви попытками объяснить, что епископы должны быть связаны определенными правилами, и «Толкование на Евангелие от Иоанна», составленное Гераклионом, было, по всей видимости, первой такой трактовкой христианского текста.
8. Италия
Послание Павла римлянам является нашим первым свидетельством о христианском сообществе в Вечном городе. В тексте нет никаких упоминаний ни епископа, ни других официальных лиц, и у читателя может возникнуть ощущение, что это письмо было адресовано некоему неопределенному товариществу Церквей36. Удивительно, что Игнатий, когда он
34 Ириней. Против ересей. I—П; Ипполит. Обличение на все ереси. П; Климент. Эксцерп- ты из Феодота; Markschies 1992.
35 О «Евангелии Истины» и о «Послании к Регину» см.: Robinson 1990: 38—57.
36 Minear 1971.
784
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
пишет в Рим, вообще ни разу не упоминает епископа, что он делал в переписке с азиатскими Церквями. Аналогично и Климент, и Сотер (Евсевий. Церковная история. IV.23.7), когда они составляют послания в качестве признанных лидеров римских христиан, не обозначают себя никаким церковным титулом. Оба включены в Иринеев каталог тех пресвитеров, о которых сообщается, что они сменяли друг друга без перерыва с тех пор, как первый из них был посвящен в духовный сан Павлом и Петром (Ириней. Против ересей. IIL3.2); здесь опять, впрочем, нет ни слова об епископе, тем более нет ничего о единовластной роли Петра. Даже в конце II — начале III в. Ипполит мог поносить «Папу» Каллиста (как мы его называем) в такой манере, которая позволила некоторым современным интерпретаторам рассматривать Каллиста скорее в качестве председателя Синода, нежели единоличного главы христиан Рима37.
Писания Павла и Климента показывают, что греческий был изначальным языком христиан столицы. Возможно, «Послание» Павла намекает на существование здесь значительной еврейской партии (например: К римлянам. 2: 17), но в таком случае ее присутствие должно было быстро потерять значимость. Впрочем, во П в. мы слышим о группе азиатских пресвитеров, которые заявляли о праве Поликарпа, своего главы, на празднование Пасхи во время отправления праздника Песах — центрального еврейского праздника в память об исходе из Египта, а не так, как у других римских христиан — в фиксированный день недели (Евсевий. Церковная история. V.24). «Папа» Виктор, который попытался навязать единообразный обычай, согласно преданию, был африканцем, но еще и первым, кто на этой должности говорил на латинском языке; впрочем, увещевательное послание Иринея Лионского к нему было написано по- гречески. Если этот галльский епископ ссылался на предшественников Виктора, то Поликрат Эфесский, также вмешавшийся в спор о Пасхе, считал достаточным указать, что обычаю квартодециманизма (когда Пасха отмечается в четырнадцатый день месяца нисан. —А.З.) следовали азиатские мученики. Латиноязычная церковная традиция всегда была склонна почитать литургическую должность больше, чем человека, который ее исполняет; далее, нас не должно удивлять, что еще и в следующем столетии языком пылкого и непослушного Ипполита по-прежнему оставался греческий. Космополитическое происхождение христиан в столице, как представляется, было одним из аргументов, использовавшихся Иринеем, когда он утверждал, что учение, которого придерживаются римские пресвитеры, может быть взято в качестве признака универсальной христианской веры38.
Во время гонений на христиан при императоре Нероне, которые, как кажется, были ограничены метрополией, вожди не отделялись от мирян, и в 64 г. н. э. они были сожжены (Тацит. Анналы. XV.44). Схваченные по расплывчатым обвинениям в «суеверии» и в «ненависти к роду людскому», те, кто открыто признавал себя христианами, были показательно нака-
37 Brent 1995.
38 Abramowski 1977.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
785
заны путем предания их зрелищным и издевательским казням; сознаваться они должны были именно в принадлежности к христианству, а не в поджоге, тогда как народная молва продолжала винить в пожаре Нерона. Это событие создало прецедент — хотя, видимо, не создало соответствующее законодательное определение — для последующих антихристианских акций; следующей из тех, которые хоть как-то подтверждены исторически, является, вероятно, казнь Домицианом своего родственника, консула по имени Тит Флавий Климент, по обвинению в «атеизме» (Дион Кассий. LXVH.14). О гонениях при этом императоре сообщает Евсевий [Церковная история. Ш.17—20 слл.); еще одним свидетельством этих преследований является, возможно, послание некоего Климента, в котором говорится о бедствии, постигшем его Церковь. Если имя автора этого письма намекает на какую-то связь с упомянутым выше консулом, то пер вый должен был быть вольноотпущенником, а не сыном последнего39.
Христианофобские эпизоды, имевшие место при Нероне и Домициане, показывают, что христиан в Риме ненавидели главным образом за их отказ принимать участие в официальных религиозных ритуалах. Лояльность к правителям, как бы то ни было, заповедовалась в «Послании» Павла [Кримлянам. 13: 1 слл.), а также и в «Послании» Петра (7 Петра. 2: 13), которое, по наиболее распространенной версии, было написано в столице. Необходимость в таких предписаниях конечно же могла быть вызвана тенденцией к неповиновению властям; однако Климент, когда он сравнивал церковную структуру с военной организацией [1-е послание Климента к коринфянам. 37), определенно должен был считать, что уступчивость светской власти — это норма40. Призыв Игнатия Богоносца к своим римским собратьям не ходатайствовать за него [К римлянам. 4.1) заставляет думать, что гонения Домициана не лишили общину ее влияния в высших кругах; в то же самое время мученичество Игнатия в амфитеатре показывает, что граждане-язычники не утратили еще аппетита до христианской крови.
Глубокое уважение, которое к этой Церкви испытывали другие христиане, становится очевидным из почтения, которым пользовался Игнатий, а также из того тона, в котором Климент навязывает коринфянам необходимость внутреннего примирения. «Пастырь» Гермы (около 140 г.) предполагает, что Климент обладал полномочиями по распространению любого священного текста среди других городов Италии [Budéme второе.
4.3). Герма — первый автор, утверждавший, что те, что отрекутся от веры в пору гонений, могут быть прощены после надлежащего покаяния;
39 Хотя ныне и немодно ссылаться на аргументацию Дж. Лайтфута (Lightfoot 1890: 16—62) и У. Рамзи (Ramsay 1893: 259—274), она всё же производит сильное впечатление. «Атеизм» не может подразумевать иудаизма, да и авторитетные источники по этому гонению многочисленны, см.: Lightfoot 1890: 104—115.
40 Утверждение, что «чудо» с дождем 177 г. (пролившимся с небес во время германского похода Марка Аврелия, когда войско изнемогало от невыносимой жажды. — А.3.) было вызвано молитвами христиан (Тертуллиан. К Скапуле. 4.6), показывает, что христиане, очевидно, охотно поступали на воинскую службу.
786
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
готовность отпускать самые гнусные грехи станет со временем пресловутым клеймом римского епископата. Ириней (около 180 г.) отдал преимущество, principalitas, римской епархии [Против ересей. Ш.3.2), что, как считалось, по крайней мере позднее, официально закрепляло примат римского епископа. «Мураториев фрагмент», часто датируемый концом П в., заставляет думать, что к этому времени в римской епархии официально использовался латинский язык и что принятый там канон Нового Завета был весьма похож на наш нынешний41.
Среди христианских учителей, о которых сообщается, что они действовали в метрополии, были Маркион, Валентин и Юстин Мученик42. Последний, не столь закрытый, как другие апологеты, описывал таинства причастия и крещения и открывал, что Церковь почитает Отца, Сына и Святого Духа ( 1-я апология. 61, 65—67). Его так называемая «Вторая апология» повествует о бедствиях одной александрийской женщины, которая пыталась развестись со своим нечестивым мужем-язычником [2-я апология. 2). Упрощенное судопроизводство, использованное против ее сотоварищей, можно сопоставить с попытками магистрата предотвратить смертную казнь, о чем рассказывается в христианском рассказе о мученичестве Юстина; не стоит забывать, что у христиан были свои причины преувеличивать как жестокость судьи в некоторых случаях, так и искушения, которые могла провоцировать в других его филантропия. За написание своих «Апологий» Юстин не понес никакого наказания, хотя мы не можем сказать, опубликовал ли он их или отправил императору; если следовать Евсевию [Церковная история. IV. 16.1), то он был предан суду по доносу киника Кресцента. Вопиющая распущенность философов — главная тема сочинения Татиана, ученика Юстина, «Речь против эллинов»; даже находясь в Риме, этот сириец не мог назвать себя эллином. Более миролюбивый Юстин утверждал, что вся языческая мудрость происходит от израильских пророков [1-я апология. 44—45). Противоположная точка зрения была заявлена около 180 г. язычником Цельсом, чей «Истинный Логос» является сочинением настоящего римлянина, даже если оно и не было создано в Риме43. Новая религия, доказывал Цельс, является в действительности таким новшеством, которое берет свое начало в иудаизме (Ориген. Против Цельса. 1.28 слл.). Характерными признаками всех поголовно христиан он считал безнравственность и магию (Там же. VI.24, 39— 41), хотя иногда с презрением говорил о несхожести их сект (V.61 слл.). Его постоянная тема — их бескультурье (V.14 слл.), хотя некоторые из них являются римскими гражданами из более высоких сословий, и было бы глупо упрекать их за то, что, став христианами, они оказались не способными исполнять какую-либо государственную должность (\ТП.75).
41 См.: Henne 1993 — в отличие от: Hahneman 1992.
42 О Маркионе см.: Епифаний. Панарион. XIJI. 1.7; о гностике Валентине см.: Тертулли- ан. 06 отводе возражений еретиков. 36.
43 Chadwick 1953: xxviii—xxix. С более новой библиографией можно познакомиться здесь: Francis 1995: 131—137.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
787
9. Африка
Свидетельств об африканском христианстве до 200 г. сохранилось немного, но к концу нашего периода христианское население здесь, очевидно, быстро увеличивалось, поскольку в 197 г. н. э. Тертуллиан заявил, что гонение умножило число проживавших здесь приверженцев этой религии [Апология. 50.13) и что язычники с удивлением для себя обнаруживают обращенного в христианство соседа (Там же. 3.1). Африканские христиане выказывали уникальный фанатизм, когда в повседневном общении остерегались произносить даже имена языческих богов, а иногда готовы были побуждать не желавшего того магистрата осуществлять преследование их самих. Позднее главная епархия в Карфагене была более послушна имперским властям, нежели нумидийская кафедра в Цирте; именно гражданин названного города, ритор Фронтон, клял новую веру за «Фиесговы пиры и Эдиповы совокупления»44. Если он был вдохновлен слухами о местном культе Сатурна, то его можно считать прародителем тех (недоказуемых) современных теорий, которые настаивают на том, что христианство данного региона представляло собой окрещенное туземное богослужение во всем его многообразии45.
Утверждения Фронтона вложены в уста языческого оратора в сочинении «Октавий», написанном его земляком-африканцем Минуцием Феликсом [Октавий. 31 и др.). Если этот труд, как некоторые думают, действительно является первым образцом христианской литературы на латинском языке, тогда он должен относиться к рассматриваемому здесь периоду46. Текст ожидаемо лаконичен в описании вероучения, и, хотя действие происходит в Остии, а сама апология имеет форму цицероновского диалога, сочинение выдает несдержанный нрав этого африканца, ибо нападки языческого оратора на христианство вызваны колкостями Октавия по поводу официального почитания идолов [Октавий. 3). Неудивительно, что пророчества Монтана нашли последователей в Африке, где были убеждены — возьмем Тертуллиана в качестве его типичного приверженца, — что новая эра Духа влечет за собой новые посты, прекращение сексуальных отношений даже в браке, а также непоколебимую строгость церковной дисциплины. Впрочем, нет никаких признаков формальной схизмы (раскола), хотя локальные разделения существовали; Тертуллиан, по всей видимости, не считал, что сан епископа сам по себе может быть обесчещен нападками на личность последнего; и женщины, несмотря на то, что их предсказания и видёния воспринимались серьезно, не получали никаких официальных церковных полномочий47.
Тертуллианова полемика предполагает, что в регионе стали преобладать дуалистические течения. «Против Маркиона» в пяти книгах стало его главным произведением, magnum opus, и некий Александр, упоми¬
44 Champlin 1980: 64 — здесь отдается авторство Фронтону.
45 Frend 1971; о местных культах Сатурна см.: Rives 1995: 142—150.
46 Daniélou 1974: 189—208; ср., однако: Buizer 1925.
47 Rankin 1995.
788
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
наемый в его трактате о воплощении, был, очевидно, местной фигурой [О теле Христовом. 16.1). Монтанисты и гностики (если мы можем их так называть) имели общие характерные черты: и те, и другие называли себя «пневматиками» и поносили менее просвещенный класс «физиков»; и те, и другие верили, что естественное условие для души — зависимость от сил смерти и греха. Миром Минуция Феликса и Тертуллиана правят демоны, тогда как мир Апулея они просто населяют; христиане, впрочем, утверждали, что многочисленные ложные религии были выведены от этих сверхъестественных сил, нечистых духов, путем обряда экзорцизма (Минуций Феликс. Октавий. 26—27; Тертуллиан. Апологетик. 22—23 слл.). У Тертуллиана [О теле Христовом. 16) засвидетельствована доктрина наследственной порочности, хотя крещение не стало еще универсальным правилом.
10. Галлия
От данного периода осталось немного свидетельств о христианстве в Галлии, и лишь одна епархия засвидетельствована определенно — Луг- дунская, или, иначе, Лионская48. Ее паства, как выясняется, в своем большинстве разговаривала на греческом языке, к тому же данная епархия, очевидно, была дочерней по отношению к Азийской церкви, ибо, когда здешние христиане пали жертвой вспышки ненависти со стороны черни, именно «церквям Азии и Фригии» была отправлена знаменитая запись о мучениках (Евсевий. Церковная история. V. 1.3—2.8). Эти события были инспирированы рескриптом императора наместнику Галлии (V.1.39); тем императором принято считать Марка Аврелия, а временем издания рескрипта — 177 г.49. Появлению данного указа, возможно, поспособствовали клеветнические обвинения со стороны Фронтона; наместника определенно побуждала к жестким действиям толпа, горевшая желанием, чтобы Церковь осудили за «Фиестовы пиры и Эдиповы совокупления» [Церковная история. V.1.13)49a. Римских граждан пытали и обезглавливали (V. 1.43—44, 47), и, несмотря на рекомендацию кесаря (V.1.47), те, кто отрекался от своей веры, прощения не получали (V. 1.25—26 и прежде всего: 33—35); здесь, во всяком случае, Церковь принимала в свое лоно обратно всех, кто искупил прежнее свое отступничество тем, что искал мученичества (V.1.46, 48). В целом жертвы предпочитали хранить в тайне собственные взгляды (V.1.31): мы не знаем, говорили ли те, кто утверж¬
48 Harnack 1908: 451—463 — автор сомневается, что в это время Лионская епархия была единственной во всей Галлии.
49 Frend 1965: 23 примем. 1; ср., однако: Gresswell 1834: 303.
49а В данной главе ссылки из «Церковной истории» Евсевия, связанные с Лионским гонением, приведены по русскому переводу М.Е. Сергеенко (первая публикация: Евсевий Памфил. Церковная история // Богословские труды. М., 1982. С6. 23: 119—153; 1983. Сб. 24: 97—138; 1984. Сб. 25: 5—56; 1985. Сб. 26: 18—90). В итоге ссылки на Евсевия стали расходиться со ссылками, фигурирующими в английском оригинале, что объясняется наличием различных рукописей «Церковной истории», на которые опираются современные издания этого текста. — А.З.
Глава 18а. Христианство, 70—192 гг. н. э.
789
дал, что христиане не едят окровавленное мясо (V.1.26, 52), еще и за азийцев, также захваченных этим антихристианским ураганом (V.1.17, 37 слл.). Тех, кто выживал после бичеваний и побоев, бросали диким зверям в амфитеатре (V.1.37 слл.): послание увековечило память о рабыне Бландине, чья отвага, проявленная под самыми разными пытками, утомила и поразила гонителей (V.1.17—19, 37, 41—42, 53—56). Смерть престарелого епископа Пофина стала самым большим ударом по Галльской церкви (V. 1.29—31).
Он был заменен Иринеем, другом мученика Поликарпа, что дает основание думать, что он прибыл с востока (Ириней. Против ересей. Ш.3.4). Крупнейший теолог своего времени, он склонил Римскую церковь к тому, чтобы она позволила азийским гостям придерживаться своей даты празднования Пасхи; кроме того, он опровергал любое христианское учение, которое отклонялось от епископального консенсуса. Если Маркион, Валентин и Василид с пренебрежением относились к материи и отрицали воскрешение во плоти, то Ириней резко отвечал на это тем, что тело также принадлежит облику Божию и будет возрождено [Против ересей.
V.1). Творение и закон есть часть тех трудов, которые увенчиваются искуплением людских грехов Христом — предвечным Словом и Сыном Божиим. Зло в мире появляется не от материи, но от непослушания Адама, чьи отпрыски унаследовали и смертность, и тленность, каковые делают нас склонными к греху (TV.38).
Ириней отрицал предистинацию (предопределение) и полагал, что Бог склонит нас приходить к добру через испытание зла [Против ересей. IV.37—39). Тем не менее, даже утверждая, что человек не был создан совершенным, он настаивал на том, что грех заслуживает осуждения и может быть искуплен только жертвой Христовой (V.17 слл.). Он отстаивал канон четырех Евангелий (IV. 11.8) и ссылался на большинство частей нашего Нового Завета, включая «Апокалипсис» и пасторские послания. Он был первым, кто призывал к экуменическому (вселенскому) согласию епархий в качестве испытания на правоверие (Ш.2.1), но на него невозможно возложить ответственность за современное значение слов «гностик», «гностический», каковое значение предполагает, что все отрицающие мирское ереси были заодно в своих целях, в верованиях и в оппозиции к епископату50. Заявляя об универсальности собственной веры, Ириней обеспечивает нас единственным свидетельством от данного периода о распространении христианства в Германии и Испании (1.10.2).
Смерть императора Коммода, по всей вероятности, не имела особого значения для церковной истории51, хотя она знаменует собой водораздел между эпохой, для которой мы располагаем только отдельными эпизодами, связанными с Церковью, и эпохой, для которой становится возможной уже полноценная «история Церкви». Причина этой пере¬
л0 Edwards 1989а.
а1 Мученичество александрийского «Аполлония Саккаса» во время азийского гонения при Коммоде, по всей вероятности, выдумано.
790
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
мены инстинктивно ощущалась чернью, которая в конце Антониновой эры извлекала выгоды из враждебности императоров к христианам: епископ стал теперь главным, а иногда и единственным объектом атаки. В то время как языческий культ был обязан своей живучестью покровительству официального светила, выживание христианства зависело от присутствия целого [Церкви] в каждой части (то есть во всех городах и провинциях. — А.З.)52. Даже при том что епископ обладал верховенством среди своей паствы, его должность связывала его с любым другим епископом, в противовес светскому миру и церковному расколу. Игнатий в Антиохии, Поликарп в Смирне и Пофин в Лионе — все они были слабой тенью патриархов, которые пережили великие гонения следующего столетия; но даже при этом их скудная переписка и их некрологи являются важнейшими источниками наших знаний по рассматриваемому периоду. Не только относительно Рима и Антиохии, но и относительно Карфагена и Александрии можно сказать, что там, где епископату недоставало решимости или авторитета, там и не было длительной истории, о которой можно было бы говорить.
,2 О христианах как душе мироздания см.: Послание к Диогнету. 6; ни авторство, ни происхождение этого короткого трактата неизвестны.
Глава 18b
Г. Кларк
ХРИСТИАНСТВО III ВЕКА
Христианство Ш в. неизбежно приходится рассматривать на фоне его политеистического контекста. И не только под таким углом. Если мы желаем понять, что означало «быть христианином» в данном столетии, нам необходимо, помимо всего прочего, иметь представление о том, до какой степени на самом деле необычной являлась принадлежность к последователям Христа (в социальном измерении), а также о том, сколь сильно могло влиять Римское государство на судьбы отдельных христиан (в политическом измерении). Эти две координаты могут позволить нам увидеть христиан Шв. с такой позиции, которая дает наилучший обзор — настолько наилучший, насколько мы способны эти измерения реконструировать. Впрочем, само собой разумеется, что эта реконструкция необязательно должна совпадать с тем, как сами христиане 3-го столетия воспринимали собственное место в их социальном мире и как они толковали свои отношения с Римским государством: риторика самоидентификации и самопрезентации необязательно будет совпадать с нашим описанием.
В первом разделе данной главы, соответственно, очерчиваются географические рамки христианства в Ш в.1, тогда как второй раздел имеет дело с тем, что мы знаем об отношениях христиан с Римским государством — там речь пойдет о гонениях, которые формировали ментальную, психологическую атмосферу, в которой жили многие христиане, даже если в материальном смысле этот контекст мало влиял на них.
Но угроза преследований отнюдь не являлась всепоглощающей доминантной особенностью их жизни, как многие склонны думать. Третий раздел будет посвящен обзору литературы и интеллектуальной жизни христианства Ш в.
I. Географические рамки
До тех пор, пока Великое гонение и его последствия в начале IV в. не выве- ли на свет божий бесценные источники по географии распространения
Классическая работа на эту тему: von Harnack 1924.
792
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
христианства (и в некоторых случаях — живые истории, демонстрирующие глубину этого распространения), мы вынуждены удовлетворяться, для большей части предыдущего столетия, чрезвычайно отрывочными свидетельствами. А принимая во внимание случайный характер этих сохранившихся свидетельств, очень трудно почувствовать хоть какой-то поступательный рост христианства, который мог иметь место в рассматриваемое столетие. Это довольно непростая задача даже для урбанизированных зон империи, и еще более трудная для почти не отражаемых в источниках деревень, сел и хуторов за пределами этих урбанизированных зон (где основная масса населения державы, собственно, и проводила свою жизнь)2.
1. Британия
Тертуллианово высокопарно-цветистое высказывание, относящееся к самому началу нашего периода, в котором, помимо других необычных заявлений, утверждается, что отдаленные части Британии, на тот момент еще не покоренные римлянами [Britannorum inaccessa Romanis loca), уже были подданными Христа (Тертуллиан. Против иудеев. 7.4 (CCSL. П.1354)), следует понимать как высказывание чисто риторическое, при том что Британия утвердилась в литературной традиции в качестве крайней периферии западного мира. Риторический характер мы должны приписать также и словам Оригена [Гомилии на Иезекииля. IV [PL XXV.723)), относящимся к середине столетия, в которых Британия наряду с маврами служит иллюстрацией для стиха «Omnis terra clamat cum lœtitia» («Вся земля восклицает с ликованием»). Впрочем, к концу Константинова правления британские епископы и в самом деле уже принимали участие в Соборах за пределами Британии, а позднее заслужили похвалу за свою ортодоксальную позицию в споре об арианстве (Афанасий. История ариан. 28 [PG XXV.725)). Но мы не имеем никакого представления о размерах общин, которыми они руководили. Информация по этому поводу весьма скудна: три епископа впервые засвидетельствованы в (различающихся) редакциях актов Арльского собора (314 г.), а именно — архиереи из Иорка, Лондона и (?) Линкольна вместе со священником и диаконом (которые, возможно, представляли четвертую кафедру — Сайренсестер?)3. Однако, согласно доступным нам скудным свидетельствам, на протяжении всего рассматриваемого периода христианство, очевидно, оставалось в Британии маргинальной экзотической религией4.
2. Галлии
После рассказа о мучениях в Лионе в 170-х годах (информация, сохранившаяся об этих событиях и в основе своей имевшая внешний источник, гово¬
2 См. ценное обсуждение данного вопроса в: Lane Fox. Pagans and Christians: 287 слл.; более оптимистические оценки см.: Frend 1967.
3 Обсуждение данного вопроса: Mann 1961.
4 Frend 1968: 37—49; Thomas 1981: 42 слл.; Watts 1991: 9 слл. Предания (более поздние) о британских мучениках (Албан, Аарон, Юлий) датировке не поддаются.
Глава 18b. Христианство III века
793
рит о существовании христианских общин в Лионе и Вьене) (Евсевий. Церковная история. V.1 слл.) и после сочинений Иринея мы вплоть до 250-х годов почти ничего не слышим о христианах в Галлиях. Имеется, правда, еще одно риторическое цветистое высказывание у Тертуллиана [Против иудеев. 7.4 (CCSL П.1354): «разнообразные племена галлов были покорены Христовой истиной»), а также у Ипполита {философумена. 10.34 (GCS Hippolytus Ш.292)) — «Celtoi» (кельты) фигурируют в длинном перечне «эллинов и варваров», которые, как надеялся автор, внимательно воспримут только что изложенное истинное учение; эти высказывания не особенно помогают конкретизировать представление о прогрессирующей христианизации местного населения, несмотря на проповедническую деятельность Иринея среди кельтов [Против ересей. I, в начале, 3 (SC 264.24)) и его слова о существовании «у кельтов» церквей [Против ересей. 1.10.2; ср.: Ш.4.2 (SC 264.158, 211.46)). Но к середине Ш в., согласно свидетельству Киприана (Киприан. Письма. 68 (254/255 г.)), были учреждены и другие епархии, помимо Лионской (которая известна уже по Евсевию: Церковная история. V.1.29), причем не только в Арле (Киприан. Письма. 68.1.1), но и в иных местах («со- episcopi», «соепископы», в: Письма. 68.1.1, 2.1). Отдельно говорится об учреждении синодальной организации этих епархий [Письма. 68.1.1, 2.1,
3.1); имеется и намек (но не более того) на соперничавшие круги, группировавшиеся вокруг Лиона [Письма. 68.1.1,2.1), а также и смутное указание на дальнейшее появление группировок в Провансе, центром которого был Арль [Письма. 68.3.1). К началу IV в. ситуация становится более ясной: на Римский собор (313 г.) императорским распоряжением были вызваны, среди прочих, Ретиций, Матери и Марин, епископы, соответственно, Отё- на, Кёльна и Арля (Евсевий. Церковная история. Х.5.19; Оптат. 1.23 (= CSEL XXVI.26), Приложение. Ш (= CSEL XXVI.205): «quosdam episcopos ex Gal- liis», «некоторые епископы из Галлий»), а на Арелатском соборе, состоявшемся в следующем году, среди представленных там сорока трех церквей (по преимуществу западных) было шестнадцать галльских епархий (некоторые епископы сопровождались клириками), причем географически они были сосредоточены, как можно предполагать, в более урбанизированных районах южной Галлии и в долине Роны. Отсутствие даже легендарного списка епископов для большинства этих кафедр наводит на мысль, что основная их часть была учреждена лишь в течение одного или двух предыдущих поколений5. Пока в исследовательской литературе существует склонность относить организационный рост галльской Церкви ко второй половине Ш в., однако наши впечатления могут базироваться всего лишь на «капризах» доступных источников. К тому же имеется одна подтверждающая улика: в Галлии существовали «церковные постройки» («conventicula», «TGOV exxXrjaicov touç oïxouç» — «места для собраний»), которые Констанций снес (либо не снес) по условиям Первого эдикта о Великом гоне¬
5 Duchesne 1907: 6 слл. На Никейском соборе (325 г.) присутствовал епископ Никасий из Ди, чья епархия не была представлена на соборе в Арле.
794
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
нии (Лактанций. О смертях гонителей. 15.7; Евсевий. Церковная история. VTH.13.13), изданного в 303 г. Но дальше этого мы вряд ли сможем продвинуться6.
3. Германии
По Германиям, Бельгике и Реции наша информация еще более поверхностная: мы можем предположительно говорить о том, что к концу анализируемого нами периода несколько христианских общин (или скитов) могло существовать, по крайней мере, в крупных военных городах или в колониях. Более того, Трир (римская колония, а затем — императорская резиденция) отправил епископа на собор в Арле (314 г.) (прибыл также епископ из Реймса); церковное здание в Трире было небольшим и нуждалось в перестройке, когда здесь в 335—337 гг. находился в ссылке Афанасий (Афанасий. Апология к Константину. 15). Что касается Германий, то, помимо риторических обобщений, обнаруживаемых у Иринея [Против ересей. 1.10.2 (= SC 264.158): «нет ни веры, ни традиций у церквей, основанных в Германиях, в любом случае, разнообразных»), Тертуллиана (Против иудеев. 1 (= CCSL П.1354)), который говорит о германцах, упоминая их вместе с сарматами, даками и скифами, а также, на этот раз, у Арнобия [Против язычников. 1.16: христиане обнаруживаются среди аламаннов, иранцев и скифов), достоверная информация состоит лишь в том, что в Кёльне была своя епархия: здешний епископ присутствовал на Римском соборе 313 г. (Евсевий. Церковная история. Х.5.19), а затем и на Арелатском соборе 314 г., причем в последнем случае вместе с диаконом. На основании этих свидетельств нам следует сделать вывод о том, что христианство на всей этой территории утвердилось весьма слабо.
4. Испания
Свидетельства о церквях на Иберийском полуострове вплоть до середины Ш в. также очень скудны. Ириней [Против ересей. 1.10.2 (= SC 264.158)) и Тертуллиан [Против иудеев. 7А (= CCSL П.1354), употребляющие выражение «Hispaniarum omnes termini» («все пределы Испаний»), могут иметь в виду — скорее ради риторического эффекта, чем для фактической информации, — что провинции Испании, выходившие на западные границы населенного мира перед великим Океаном, были свидетелями широкого распространения одной веры. Только благодаря Киприану [Письма. 67; датируется по понтификату Стефана, 254—257 гг.) мы можем разглядеть некоторые детали: здесь засвидетельствовано наличие [трех] епархий: двух —
6 Арнобий. Против язычников. 1.16 — автор в излишне риторическом запале говорит о том, что христиане, жившие в Испании и в Галлии, «неисчислимы», innumeri. Более реалистично высказывание по поводу Мартина Турского, который во второй половине четвертого века трудился в северной Галлии, на территории, где, в сущности, никто не принял имя Христа (Сулышций Север. Житие святого Мартина. 13.9 (= SC 133. 282): «ante Martinum pauci admodum, immo paene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant».
Глава 18b. Христианство III века
795
на северо-западе (Легио и Астурика) и одной — на юго-западе (Эмерита), а также еще одной общины в Цезараугусте, что ближе к северо-востоку Иберийского полуострова. Мало того, можно утверждать, что при назначении Сабина епископом (в Легио или в Эмерите. —А.З.) был соблюден обычай, согласно которому соседние, принадлежавшие к той же провинции епископы («episcopi eiusdem provinciae proximi quique») либо участвовали в этом назначении лично, либо донесли свою точку зрения через послание (§5.1 сл.). Можно с уверенностью предположить, что к этому моменту, дабы обеспечить это назначение (по крайней мере, об этом с уверенностью можно говорить в связи с Тарраконой, где епископ Фруктуоз претерпел мученическую казнь в 259 г.), было учреждено какое-то количество новых епархий. В самом деле, тот факт, что названные в письме 67 Киприана три столь далеко отстоящие друг от друга общины могли действовать заодно (испытывая противодействие со стороны других епископов: «aliqui de collegis nostris». — § 9.1), наводит на мысль, что испанские церкви к этому моменту имели хорошо развитые связи между собой — и, весьма вероятно, время от времени встречались на своего рода провинциальном синоде, собиравшемся для обсуждения общих вопросов.
По крайней мере, через полвека они провели поместный Собор в городе Илиберриде (Эльвира), скорее всего, незадолго до начала Великого гонения. С точки зрения географического охвата, принятого традицией, там участвовали представители тридцати семи испанских христианских общин, при этом девятнадцать делегаций возглавлялись епископами (среди которых присутствовал и епископ Осий Кордубский, которому суждено было в будущем стать одним из самых прославленных церковных деятелей своего века), а восемнадцать общин отправили одних лишь пресвитеров: двадцать пять из тридцати семи прибыли от бетийских церквей, то есть из провинции, в которой и проходил собор, — поэтому, возможно, не следует делать вывод о какой-то особой концентрации христианства в юго-восточной Испании. Но вот что действительно является полной неожиданностью, так это содержание восьмидесяти одного канона, которое проливает свет на поразительное проникновение христиан в провинциальное общество на всех его уровнях. Церкви посчитали необходимым не только составить обширный перечень правил — не менее двадцати шести — по поводу сексуальных нравов; они сочли нужным также прочертить более четкие демаркационные линии между христианами и иудеями (каноны 16, 49, 50, 78), правоверными христианами и еретиками (каноны 16, 22, 51), христианами и язычниками (каноны 15, 16, включая запрет на различные профессии: колесничих и пантомимов — канон 62, или на виды деятельности, например, на азартные игры — канон 79). Но, будучи в большинстве своем обличительными, они имели возможность повлиять на поведение землевладельцев (канон 40) и рабовладельцев (каноны 5, 41), а также на те случаи, когда христиане исполняли обязанности главного городского магистрата (канон 56), брали на себя местные жреческие функции (канон 55), наблюдали за публичными жертвоприношениями на Капитолии (канон 59), предоставляли одеяния для государственных религиозных процессий (канон 57) или даже исполняли долж¬
796
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ность провинциального верховного жреца, фламина, в императорском культе (каноны 2—4). Степень обмирщения поражает: христианство уже прочно обосновалось в этом регионе. Но должны ли мы предполагать то же самое для южной Галлии, экстраполируя данный вывод из этих свидетельств?
5. Средиземноморские острова
(a) Сицилия
Из одного текста Киприанова корпуса (30.5.1; написан в конце лета 250 г. Новацианом от имени пресвитеров и диаконов Рима) мы узнаём, что из Рима было отправлено письмо в Сицилию, рекомендующее благоразумно отложить решение вопроса о примирении с впавшими ранее в ересь. Понятно, что Дециево гонение затронуло также и сицилийские христианские общины. Это ценное свидетельство по истории сицилийской Церкви; помимо того (случайного) факта, что корабль святого Павла попал на Сицилию на пути в Путеолы [Деяния святых апостолов. 28: 12 сл.), мы имеем только одно сообщение, которое предположительно указывает на присутствие христианства на острове до этого свидетельства, а именно сообщение об учителе Климента Александрийского, который прибыл сюда из Великой Греции вместе с Паиггеном — «сицилийской пчелой» (см.: Климент. Страматы. 1.1.11 ; ср.: Евсевий. Церковная история. V. 11.4). Для начала IV в. четко зафиксировано существование на Сицилии иерархии (Евсевий. Церковная история. Х.5.21 слл. — епископ Хрисг Сиракузский вместе с диаконом Флором принимал участие в Арелатском соборе), как и наличие Церкви в целом (ср.: Евсевий. О палестинских мучениках (краткая версия). 13.12). Крайне сомнительно, что можно что-то извлечь из того факта, что свое антихристианское сочинение Порфирий написал, когда обосновался на Сицилии (ср.: Евсевий. Церковная история. VI.19.2)7.
[b) Сардиния
Еще скудней в данный период церковная история Сардинии. Кроме как о христианах, сосланных на рудники этого острова (Ипполит. Философу- мена. 9.12; Каталог Папы Либерия [Catalogus Liberianus), под словом «Pontianus»; Chron. Min. 1.74 сл.), мы знаем еще об одном епископе (Квинта- сий), а также о некоем пресвитере из Кальяри, который присутствовал на Арелатском соборе (314 г.). Политеизм здесь доминировал, по всей видимости, на протяжении очень долгого времени.
(*:) Крит и Кипр
Зато Крит вообще никак не представлен в течение всего нашего периода (отсюда не было ни одного епископа даже на Никейском соборе) — и это
7 По ранней истории Церкви на Сицилии см.: Pincherle 1964—1965; Garana 1961: 197 слл.
Глава 18b. Христианство III века
797
несмотря на свидетельство от П в. о христианской общине, укоренившейся в Гортине (с епископом) и об «иных церквях Крита», включая церковь в Кноссе, которая в то время также имела епископа (Евсевий. Церковная история. IV.23.5, 23.7 сл.). Такое наше неведение довольно типично для 3-го столетия. В Никею были отправлены епископы от Эгейских и Ионийских островов — Родоса, Коса, Лемноса и Керкиры; ничего сверх этого нам не известно. Кипр, несмотря на миссионерские труды Апостольского периода [Деяния святых апостолов. 13.5 слл., 15.39 сл.), опять же, остается без обстоятельных свидетельств по Ш в.: три епископа — из Пафоса, Саламина и Тримифунта — присутствовали в Никее, но затем, по всей видимости, было учреждено какое-то количество других диоцезов, так как на Сардикийском соборе (343 или 344 г. — А.З.) принимали участие двенадцать киприотских епископов (Афанасий. Апология против ариан. 50)8. Хотя на основании этого примера мы и можем высказать осторожную догадку о том, что имели место христианские conventicula (сходки, небольшие собрания), по крайней мере на крупных островах, особенно на тех, которые лежали на регулярных морских путях, всё же в данном случае все такие догадки носят исключительно гипотетический характер.
[d) Италия
В начале Ш в. римская Церковь сохраняла много черт, происходивших из ее иммигрантского прошлого; проявлялись они в смешении языков, национальных культур (при доминировании греческого языка и эллинской культуры) и обычаев, что отразилось в остром споре П в. по поводу даты (дат), высчитываемой в качестве единственно верной для празднования Йасхи. Только к середине 3-го столетия в Риме в лице Новациана возник теолог, писавший на латинском языке, и также именно в это время в катакомбах св. Каллиста, в наиболее почитаемом здесь месте — в Папской крипте, где сейчас находятся захоронения девяти Пап и восьми епископов Ш в., стали появляться таблички с написанными по-латыни папскими эпитафиями. Предшественник Новациана Ипполит, живший в Ш в., составлял свои труды на греческом языке, как и писатели 2-го столетия.
Папа Корнилий обеспечивает нас самой лучшей статистикой по римской Церкви середины Ш в. (см. у: Евсевий. Церковная история. VI.43.11). Он заявляет, «что имеется сорок шесть пресвитеров, семь диаконов, семь иподиаконов (субдиаконов), сорок два аколуфа (алтарника), пятьдесят два экзорциста, чтеца и привратника, более полутора тысяч вдов и калек, которые все поддерживаются благодатью и милостью Господа». Необходимо понимать контекст данного заявления. В ответ на претензии антипапы Новациана (которому Фабий был склонен оказывать поддержку) Корнилий доказывает (Фабию Антиохийскому), что именно он, Корни-
8 Христианских исповедников ссылали в период Великого гонения на каторжные работы на Кипр, см.: Евсевий. О палестинских мучениках. (S) 13.2.
798
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
лий, управляет Церковью в Риме. Следует предположить, что существовал и другой римский клир, помимо перечисленного Корнилием, последовавший в расколе за Новадианом. Общее число христианских священников поэтому должно было превышать Корнилиеву цифру в сто пятьдесят четыре человека. И эти подсчеты не учитывают неортодоксальные христианские группы, к тому времени прочно обосновавшиеся в Риме (такие течения характеризовались центростремительной тенденцией в сторону Рима).
Разделение на дистрикты (отражено в: Liber Pontificalis [Книга Пап). XXI [Фабиан]: «hic regiones dividit diaconibus» — «он городские районы распределяет между диаконами»; XXVI [Дионисий]: «hic presbyteris ecclesias dedit et cymiteria et parrocias diocesis constituit» — «он отдает пресвитерам церкви и кладбища и учреждает церковные приходы»), приобретение и забота об отдельных христианских местах захоронения (прежде всего катакомбы св. Калепода, св. Каллиста, Претексгата, зафиксированные в: Liber Pontificalis. ХУП [Каллист]; Ипполит. Философумена. 9.12), сооружение и содержание христианских храмов (в особенности базилики Святого Петра на Ватиканском холме, Святого Павла на Остийской дороге и Святого Себастьяна при Катакомбах на Аппиевой дороге), как и свидетельства о местах церковных собраний и детально продуманная сеть коммуникаций, охватывавшая всё Средиземноморье (поддерживавшаяся посредством вероисповедальных посланий) — всё это указывает на то, что к середине Ш в. римская Церковь представляла собой важное и хорошо организованное меньшинство внутри городской общины Рима. В самом деле, полвека спустя Максенций посчитает политически целесообразным избегать противостояния с христианами Рима (Евсевий. Церковная история. УШ.14.1; Оптат. 1.18): к тому времени меньшинство сильно прибавило в численности и упрочило положение в обществе, и за игнорирование этого факта пришлось бы заплатить высокую цену. Размах одних только благотворительных предприятий предполагает наличие крупной общины. Но при всем том было бы опрометчивым постулировать слишком глубокое проникновение христианства в консервативные группы высших слоев римского общества. Конечно, публичное положение христианской Церкви в Риме изменилось благодаря щедрым дарениям Константина; тщательно продуманная строительная программа, предпринятая в отношении погребальных часовен, мест захоронения мучеников и базилик провозглашала одновременно и щедрость императора, и триумф Церкви9.
В упомянутом письме к Фабию Антиохийскому Корнилий сообщает о Соборе итальянских епископов, состоявшемся в Риме в 251 г.: на нем присутствовали шестьдесят епископов и еще большее количество пресвитеров и диаконов (Евсевий. Церковная история. VI.43.2). К сожалению, конкретный перечень, приложенный Корнилием к этому посланию, утрачен:
9 См.: Pietri 1976: 3—96 — ценный обзор данной темы.
Глава 18b. Христианство III века
799
и в конце письма он приводит список епископов, приходивших в Рим и осудивших глупость Новата; он называет их имена и округ, которым кто управлял; упоминает тех, кого не было в Риме, но кто письменно подтвердил свое согласие с мнением вышеупомянутых, называет тут же и города, которыми они ведали и откуда писали.
Евсевий. Церковная история. VI.43.21—22. Перев. М.Е. Сергеенко
Учитывая отсутствующих и тот факт, что Новациан (Новат) также имел епископскую поддержку (карикатурно сокращенную Корнилием до трех легковерных, неотесанных и простодушных епископов из какого-то итальянского захолустья, см.: Евсевий. Церковная история. VI.43.8 слл.), с нашей стороны не будет ошибкой осторожно предположить наличие в Италии к середине столетия свыше сотни епископов. Если исходить из имеющихся в наличии прямых свидетельств — включая свидетельство о тех пятнадцати, которые присутствовали на Римском соборе (313 г.), — все эти епископы концентрировались скорее в южной и центральной Италии, нежели в северной. Что касается Верхней Италии, известны епископы только из Милана и Аквилеи (Соборы в Риме и Арле), но есть все основания предполагать, что уже в начале IV в. общины существовали также в Равенне, Бреше и Вероне (вскоре все они будут представлены епископами на Сардикийском соборе); впрочем, на этой территории христианство укоренилось лишь в отдельных местах.
(е) Мёзия, Паннония, Норик, Далмация
Несмотря на неуклонный процесс романизации и урбанизации (эти процессы, как выясняется, способствовали благожелательному отношению к христианству или, по крайней мере, благоприятствовали появлению письменных фиксаций о его принятии), наши познания о проникновении христианства в эти регионы скудны. Благодаря Никейскому собору мы знаем о двух епархиях в Мёзии, находившихся в Сардике (Протоген) и в Марцианаполе (Пист), и об одной в Паннонии (Домн: расположение кафедры точно не установлено). Фигура Викторина, епископа-богослова из Петавии (современный Птуй), указывает на существование еще одной паннонской общины, а мученичества в пору Диоклетианова гонения предоставляют нам дополнительное свидетельство (например, мученик Да- сий из Доростола, Мёзия). Также весьма вероятно наличие епархий в Норике (позднее они будут представлены на Сардикийском соборе). Далмация имела очень ранние контакты с христианством (например: Второе послание к Тимофею св. апостола Павла. 4: 10), но об утвердившихся здесь общинах почти ничего не известно. В общем, мы вынуждены довольствоваться лишь этими крохами информации и предполагать существование здесь каких-то редких церквей, но не имеем ни малейшего представления ни об их численном составе, ни о том, насколько были распространены христианские ячейки за пределами урбанизированных центров — в сельской местности.
800
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
(/) Балканы
Греция, арена приложения концентрированных миссионерских усилий в апостольскую эпоху, определенно оставалась и в дальнейшем зоной распространения христианских общин, но, как часто бывает и в других случаях, о размахе этого распространения сказать можно лишь немногое. Афины10, Фессалоника и Коринф упоминаются чаще всего (причем два последних города выглядят особенно процветавшими), однако наши познания позволяют предположить, что в целом христианское население было «размазано» по полуострову довольно тонким слоем. Случайные свидетельства заставляют, впрочем, думать, что распространение, пусть и разреженное, было при этом широким: так, в отношении II в., например, мы имеем данные по Фессалии (Ларисса, см.: Евсевий. Церковная история. IV.26.10 (Мелитон)); Пелопоннесу (лакедемоняне, см.: Там же. IV.23); Фракии (Девельт и Анхиал, см.: Там же. V.19.3); никейский список подтверждает наличие церквей и в других местах (к примеру, в Стобах, Фивах Фессалийских, Евбее); проблески информации имеются также по поводу Никополя в Эпире (Там же. VI. 16.3) и Византия (Тертуллиан. К Скапуле.
3.4). Некоторое проникновение христианства на Черноморское побережье и в Крым обнаруживают также перечни присутствовавших на Никейском соборе (Феофил, епископ «Готии», и Кадм, епископ Боспор- ский).
(g) Африканские провинции
Сведения о христианстве в Африке мы получаем, так сказать, в готовом виде в конце П в. благодаря «Актам скилитанских мучеников» (180 г.), за которыми последовала обширная литературная деятельность Тертул- лиана (начиная со 197 г.). Наше неведение относительно общего литературного контекста П в. подчеркивает не только степень нашей зависимости от Евсевия, но также и то, насколько ограниченной была информация, которую он мог получить относительно западных церковных дел. Как и в случае с Римом того времени, здесь также имеются исходные свидетельства о грекоязычном компоненте11, но этот последний мы вскоре перестаем чувствовать, как нет никаких намеков в течение целого столетия
10 Хотя афинскую христианскую общину Ориген считал, настолько для себя родственной, чтобы посетить ее и работать там над своими сочинениями (Ориген. Против Цельса. Ш.30, Евсевий. Церковная история. VI.32), сами Афины долгое время упорно оставались глубоко языческим городом, см.: Frantz 1988: 19 слл.
11 Тертуллиан составил греческие версии нескольких своих работ («О зрелищах», «О крещении», «О покрывале девственниц», «О венце воина»); Иероним (О знаменитых мужах. 53) ссылается на утраченное сочинение Тертуллиана «Об экстазе» (ср.: Там же. 24,40), которое имело в своем составе семь книг (но сведения наличествуют только о латинской версии; существовал ли греческий вариант — неизвестно). Мученица Перпетуа обращается к епископу Оптату и пресвитеру Аспасию по-гречески (Страсти Перпетуи и Фели- цитаты. 13.4 (Musurillo 1972: 122), опять же по-гречески запевают литургический гимн «Sanctus» («Свят, свят, свят») ангелы: «ocyioç, ayioç, ayioç» (Там же. 12.2 (Musurillo 1972: 120). См. также: Bames. Tertullian: 67 слл., 253 сл., 265 сл.
Глава 18b. Христианство III века
801
и на присутствие хоть какого-то пунического элемента. Сохранились свидетельства о Церкви, использовавшей латинский язык и к середине 3-го столетия имевшей собственную латинскую версию Библии и литургию на латинском языке12. Тертуллиан выказывает себя человеком, отлично разбиравшимся в современных ему религиозных проблемах и течениях и готовым включиться в серьезные богословские дебаты, часто нападавшим на те учения, которые он воспринимал как еретические (например, на доктрины Маркиона, Гермогена, Валентина, Праксея), и испытывавшим при этом склонность к монтанисгскому возрождению. Это была уже отнюдь не изолированная церковная община, как в начале 3-го столетия.
Тертуллиан известен своими триумф алисгскими заявлениями о степени распространенности христианства (например: «Мы составляем такую толпу людей, почти большую часть каждого города...» — К Скапуле. 2.10 (= CCSL II.1128))13. Но весьма скупая статистика, которой мы только и располагаем, сводится вот к чему: как утверждается, при Агриппине, епископе Карфагена, собрались семьдесят африканских епископов (? 220-е или 230-е годы)14, а позднее, при Донате, предшественнике Киприа- на, собрались вместе уже девяносто епископов (начало 240-х годов, см.: Киприан. Письма. 59.10.1 (= CCSL Шс.353)), затем мы знаем о восьмидесяти семи епископах, поставивших подписи на совещательном собрании, состоявшемся осенью 256 г. (имеются в виду епископы, поддержавшие Киприана в отвержении им еретического крещения). Хотя эта статистика достаточно важна, поскольку позволяет составить представление о количестве преуспевавших африканских небольших городков и центров, которые к середине Ш в. имели христианские собрания (conventiculum) (свыше сотни таковых — это очень осторожное предположение), она, несмотря на кричащие и неоднократно повторяемые оценки Тертуллиана, к сожалению, мало что говорит о примерной численности подобных общин. Впрочем, благодаря «Постановлениям епископов» [Sententiae Episcoporum. LXXXVII) характер распространения этих общин в целом понятен: они были редки в Мавретаниях (как и в Триполитании), но плотно сгруппированы в плодородных местах Проконсульской Африки и в многолюдных центрах Нумидии (где поддаются идентификации по меньшей мере двадцать пять таких мест)15. Тертуллиан и Киприан явным образом свидетельствуют о высоком уровне здешней литературы, в случае с Тертул- лианом уровне конечно же по-настоящему великолепном, а изысканно
12 Свой текст Священного Писания Киприан воспринимает как устоявшийся; Тертуллиан выказывает готовность при случае критиковать ту версию, которую имел перед глазами, см.: Barnes. Тертуллиан: 276 слл.; Fahey 1971.
13 Тертуллиан. К Скапуле. 3 сл. (CCSL П.1129 слл.) — автор свидетельствует о существовании христиан в Нумидии и Мавретании, как и в проконсульских городах Фисдре и Гадрументе; сюда следует присовокупить также У тину (О единобрачии. 12.3 (= CCSL П.1247)).
14 Августин. 0 едином крещении. 13.22 (CSEL LTO.21); Против Крескония Граллматика. Ш.З.З (CSEL LH.412); ср.: Киприан. Письма. 71.4.1 (CCSL ШС.521).
15 Обратите внимание на работу: Maier 1973. К 330-м годам донатисгы могли иметь в своем составе не менее двухсот семидесяти епископов, см.: Августин. Письма. 93.10.43 (CSEL XXXIV.2.486 сл.).
802
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
манерная и тщательно отделанная апология «Октавий» (около 230 г.) Минуция Феликса, по всей видимости, родилась в среде хорошо образованных слоев Цирты (хотя место действия «Октавия» — это Рим и Остия). Однако равных этим трем писателям, как представляется, было немного: некоторые из корреспондентов Киприана явно обладали гораздо меньшими литературными способностями16. У нас просто нет оснований рисовать слишком оптимистичную картину для тех социальных слоев, в которые по большей части и могло проникнуть в течение рассматриваемого столетия христианство, при всем его замечательном географическом охвате. Как бы то ни было, это была высокоорганизованная Церковь, с сильным митрополитским лидерством, базировавшимся в Карфагене (хотя могли иметь место также и региональные синодальные собрания), со структурированной духовной иерархией и хорошо продуманной системой благотворительной помощи.
«Моментальный снимок» типичной африканской христианской общины в самом начале IV в. можно получить, взглянув на конгрегацию (клир и паству) Цирты — главного нумидийского города17. Клир здесь состоял из епископа и по меньшей мере двух пресвитеров, двух диаконов, четырех субдиаконов, семи чтецов и свыше шести fossores («могильщиков»), а также seniores (старейшин); имелось церковное здание («domum in qua christiani conveniebant» — «дом, в котором собирались христиане»), располагавшее также хорошо обустроенным обеденным залом — triclinium. Имелось кладбище (area martyrum) с каким-то крупным помещением — casa maior. Церковное имущество, помимо чаш, ламп, подставок для ламп, подсвечников и прочих золотых, серебряных и бронзовых вещей, имело также про запас в своем составе восемьдесят две женские туники, тридцать восемь покрывал, шестнадцать мужских туник, тринадцать пар мужской обуви и сорок семь женской, а также девятнадцать грубых coplae (платци с капюшоном (?); может быть, они были предназначены для подношений в качестве милостыни?)18. Эта конгрегация использовала также в качестве Священного Писания какую-то «чрезвычайно большую книгу» в форме codex’a («codicem unum pernimium maiorem» — лекционарий?), обладала она также тридцатью другими codices, двумя codices меньшего размера и четырьмя фасцикулами (quiniones — связки из пяти листов). У двух чтецов указаны профессии: один был sarsor (резчик по мрамору), другой —
1(3 В особенности: Письма. 21,22, 26, 78, 79 и некоторые постановления из: Sententiae Episcoporum. LXXXVII. См.: Saxer 1984: 257 слл. Особый акцент делается на исключительном положении Перпетуи («Vibia Perpetua, honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta» — «Вибия Перпетуя, благородно рожденная, изысканно воспитанная, достойная супруга». — Страсти Перпетуи и Фелицитаты. 2.1).
17 Оптат. Приложение I = Gesta apud Zenophililum (протокол расследования консуляром Нумидии Зенофилом в 320 г. дела об отступничестве епископа Сильвана Циртского — яркий памятник церковного быта в Африке этого времени. — А. 3.) (ed. Zwisa // CSEL XXVI. 185 слл.); текст с французским переводом см. также здесь: Maier 1987: 214 слл. (англ, перевод: Edwards 1997: 150—169). См. также: Duval 2001.
18 Чем объяснить диспропорцию между мужскими и женскими вещами? Большим количеством нищих мужчин — или просто тем, что у очень многих женщин имелось немало поношенных вещей, с которыми они готовы были расстаться?
Глава 18b. Христианство III века
803
grammaticus («professor Romanarum litterarum» — преподаватель латинского правописания), чей отец был местным декурионом и по происхождению — туземцем, мавром по крови («origo nostra de sanguine Mauro»). Один из могильщиков, fossores, называл себя «мастером» — artifex. Из протоколов суда мы узнаем также о преуспевавшем сукновале по имени Виктор, который мог позволить себе пожертвовать церкви двадцать монет-фоллисов; в тексте фигурирует еще и карфагенянка Луцилла, богатая и влиятельная женщина из высших слоев («clarissima femina»), которая могла внести не менее четырех сотен фоллисов. Общепризнанно, что такие дарения делались церкви, собственно говоря, для того, чтобы потом распределять их между бедняками (pauperes), старушками (aniculae), людьми бедствующими (populus minutus) или просто «народом» — populus (=? populus dei, «божьими людьми»), а не прикарманивались духовенством в качестве взяток. Нет особых причин сомневаться в том, что эта разновидность церковной организации с таким (умеренным) типом социального смешения распространилась к тому времени — соразмерно населению того или иного города — по всем подобным урбанизированным центрам Африки19.
(К) Аравия
Трудно оценить, насколько широко христианство было распространено за пределами эллинизированных городов данного региона, однако присутствие в Никее шести епископов (из Востры, Филадельфии, Дионисиа- ды, Исбунты, Содома и какого-то малоизвестного Беританея), существование полностью христианизированной деревни близ Мадабы, упомянутой у Евсевия в «Ономастиконе» (Кариафаим/Карайафа)20, а также наличие вполне развившейся к середине рассматриваемого столетия синодальной системы — всё это наводит на мысль, что степень распространения христианства здесь была отнюдь не ничтожной, по крайней мере, на севере провинции. Тот факт, что в начале века (215—216 гг. — A3.) наместник Аравии мог вызвать из Александрии Оригена ради диспута с ним, возможно, многое говорит о самом наместнике и о повышении статуса христианской философии (Евсевий. Церковная история. VI. 19.15), но городу, который был резиденцией этого правителя, Бостре Аравийской, вскоре, к середине века, предстояло получить епископа Берилла, вызывавшего своими
19 Можно ли обнаружить на местах какие-то религиозные трения? Дискредитированные священники обвиняются в краже бочек вместе с их содержимым (прокисшим вином, т. е. уксусом — acetum) из местного храма Сераниса. Обратите также внимание на информативные протоколы дела Феликса, закончившегося его оправданием, см. «Acta Purgationis Felicis» (Оптат. Приложение II в изд.: Maier 1987: 174 слл.), в которых засвидетельствованы (разрушенные) христианские базилики (= места собраний) в Заме и Фурне, а также в Абтунгах (каковой городок описывается также как «locum ubi orationes celebrare consueti fuerant» — «то место, где давно уже возносили молитвы»); в Абтунгах, кроме того, имелись и areae (= места захоронений): «ubi orationes facitis» — «где вы молитесь» (датировка: 303 г.). См. также: Ferma 1977: 225 слл. («basilica dominica», базилика Господня, в Ал- вате, датируемая началом IV в.).
20 Евсевий. Ономастикой, под словом «Kapiaöa'ip/Kapociaöa» (ed. Klostermann 1904: 112.14-16).
804
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
писаниями большие споры (Там же. VI.20.2). Его хрисгологические спекуляции привели к созыву, по крайней мере, одного Собора, на котором присутствовали «очень многие епископы» (Там же. VL33.2), за которым последовал еще один «немалый Собор» (на котором обсуждался вопрос о том, что происходит с душой после смерти. — Там же. VI.37);21 Ориген прибыл и выступал на обоих. Римская община могла состоять в переписке с этой церковью (и часто оказывала ей помощь) (Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Церковная история. \П.5 — о новацианизме, конец 250-х годов), а в следующем десятилетии Максим, епископ Босгры, сыграл заметную роль в полемике с учениями Павла Самосатского (Там же. \n.28.1). Данная церковь, какими бы ни были ее численность и глубина социального проникновения, отнюдь не являлась духовной и богословской «тихой заводью»22. На этом фоне мы не имеем даже намека на хоть какое- то принятие христианства в южных и более удаленных областях этой зоны в 3-м столетии.
(/) Сирия
Антиохия, провинциальная столица, обнаруживает все признаки христианской твердыни, явным свидетельством чему служит 6-й канон Никейско- го собора, который признаёт (неотчетливо) особые и традиционные права Антиохийской митрополии (наряду с Римской и Александрийской) в отношении соседних провинций. Отсюда — острота скандала, смысл которого состоял в том, что епископ Павел Самосатский, занимавший Антиохийскую кафедру в конце 260-х годов, когда он должен был передать своим коллегам епископам духовное лидерство, был вместо этого обличен ими в еретических хрисгологических взглядах, а также в отвратительной склонности к светскому и роскошному образу жизни (Евсевий. Церковная история. УП.ЗО). Павел, несомненно, производит впечатление видной фигуры в этом сообществе: Церковь была зримой (и иногда шумной) частью жизни города (настроенные против Павла епископы обратились к императору Аврелиану с призывом решить вопрос с «церковным домом», уходить из которого Павел, отрешенный от епископства, отказался, см.: Там же. VIL30.19)23. Антиохия являлась также местом проведения ряда поместных соборов, созванных для улаживания злободневных спорных проблем: в 250-х годах — спор о новацианизме и повторном крещении (Там же.
21 Существует большая вероятность того, что диспут между Оригеном и Ираклидом также состоялся в Аравии (см. прежде всего: Спор Оригена с Ираклидом и епископами, которые с ним. 10.18 (текст найден в 1941 г. на папирусе; издание памятника: Scherer 1960). Из числа присутствовавших епископов в папирусе названы по имени Ираклид, Деметрий, Филипп (кроме того, вероятно участие в диспуте Максима и Дионисия), и, кроме того, в этом тексте упомянуты второй Ираклид и его предшественник Целер [Спор. 10.22).
22 Иероним. Письма» 33.5 — здесь автор определенно намекает на собрание епископов Палестины, Аравии, Финикии и Ахеи, совместно защищавших Оригена от осуждения, которому тот подвергался во всех остальных местах («exceptis Palestinae, et Arabiae et Phoenices atque Achaiae sacerdotibus in damnationem eius consentit orbis»).
23 Классический труд: Millar 1971.
Глава 18b. Христианство III века
805
VI.46.3; VII.5 — принимали участие представители от провинций Киликия, Каппадокия, Галатия «и всех граничащих с ними провинций», Понта, Вифинии, Палестины, Аравии, Месопотамии, а также Египта), и в 260-х годах — ряд съездов по поводу учения Павла, на которых присутствовало «несчетное» количество епископов вместе с пресвитерами и диаконами (Там же. VII.28.1; ср.: УП.30 — Каппадокия, Понт, Киликия, Галатия, Палестина, Аравия упомянуты особо; приглашение было послано и египетской Церкви, см.: Там же. УП.27.2; cp.: УП.30.2).
Более того, антиохийская Церковь сохраняла свою традицию богословских писаний и библейской учености, породив в начале века такие фигуры, как Серапион (Евсевий Церковная история. V.22)24 и Гемин (Иероним. О знаменитых мужах. Ö4)25, и позднее, в том же столетии, ритор Малхи- он (Евсевий. Указ. соч. УП.29.2; Иероним. Указ. соч. 71), а также обладавших глубокими познаниями Доротея (Евсевий. Указ. соч. УП.32.2 слл.) и Лукиана (Там же. VIEL 13.2; IX.6.3; Иероним. Указ. соч. 77; словарь «Суда», под словом «Aooxtocvoç»). Но Антиохия была не единственной сирийской кафедрой, которая могла гордиться эрудированными христианскими учителями и учеными: соседняя Лаодикея, например, смогла удержать у себя от возвращения домой (в Александрию) сведущего во многих науках и в красноречии Анатолия, который стал лаодикейским епископом (Евсевий. Указ. соч. \П.32.6 слл.). Впрочем, большое количество выдающихся фигур необязательно предполагает общий рост численности христиан.
Чуть больше двадцати епископов из сирийских городов участвовали в Никейском соборе (из мест, разбросанных на большой площади, от побережья до долины Оронта и далее—до Евфрата)26. Заслуживает внимания, что на Соборе присутствовали, сверх того, два сирийских хорепископа («ycopsTUcjxoTCOi», епископы сельских округов), но нам трудно составить представление о том, как далеко эта Церковь могла проникнуть в деревенские общины Сирии и в семитоязычные слои населения. Трудно сказать о степени объективности Евсевия, когда он, упоминая о последователях Павла Самосатского, льстивших тому в своих проповедях, говорит, что среди них были епископы и священники «соседних деревень и городов» — «toûv ôfxopcav àypcbv те xal rcoXeoav» (Евсевий. Церковная история. VII.30.10). Но вот что подчеркивает наше неведение относительно этого проникновения, так это случайное открытие церковного дома в Дура-Европос (разрушенного в 250-х годах), а также найденного здесь же пергаментного фрагмента «Диа- тессерона» Татиана. Здесь был военный город — поэтому его жители в ка¬
24 Обратите внимание на то, что Серапион отправил послание христианской общине Россоса в Киликии с порицанием их еретических взглядов (Евсевий. Церковная история. VI. 12.2 слл.).
25 То, что в начале 230-х годов Ориген провел в Антиохии «некоторое время», общаясь с Юлией Мамеей, имело большее значение для статуса христианства в империи, чем для антиохийской Церкви (Евсевий. Церковная история. VI.21.3 сл.).
26 Не указана кафедра сирийского епископа, который в ожидании Второго Пришествия увел в пустыню многих своих братьев вместе с женами и детьми, см.: Ипполит. Толкование на пророка Даниила. 4.18 (начало Ш в.) О списке присутствовавших на Никейском соборе см.: Wallace-Hadrill 1982: приложение 1, 165 сл.
806
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ком-то смысле были особенными, — но население в целом, как представляется, относилось к самым разным культурам, хотя греческая составляющая определенно преобладала. Можем ли мы с уверенностью предполагать, что подобные скромные христианские общины были рассеяны по всей провинции? Следует заметить, что место для христианских собраний в Дура-Европос отнюдь не было просторным и совсем не отличалось изощренностью с точки зрения своих художественных претензий, чего не скажешь, например, об иудейской синагоге, расположенной поблизости в том же городе. Да и язык, на котором здесь писали христиане, был греческим27.
(J) Финикия
Известно, что южнее, во внутренних гористых районах, ко времени Ни- кейского собора христианские общины с епископом появились в Эмесе, Пальмире, Дамаске и в Цезарее Филипповой (Панеада, совр. Банияс)28. Как часто бывает, первые проблески информации о присутствии христиан в этих центрах мы получаем благодаря свидетельствам, связанным с Великим гонением. Так, мученическую казнь претерпел эмесский епископ Сильван (упомянут вместе с двумя другими пастырями), странным образом названный «епископом церквей в окрестностях Эмесы» (Евсевий. Церковная история. \ТП.13.3); из того же источника мы получаем драгоценную информацию о том, что «свое служение он нес целых сорок лет» (Там же. IX.6.1), что позволяет вести отсчет этого пастырства с начала 270-х годов. Также мы имеем свидетельство, связанное с Дамаском: на местном рынке были схвачены несколько блудниц, которые под угрозой пыток стали рассказывать о всяких непотребствах, якобы творимых «в самих церквях» (речь о зданиях. — А.З.) (Там же. IX.5.2). Что касается долины Бекаа, то первое упоминание о церковной общине здесь связано с великим языческим центром Гелиополем (Евсевий. Жизнь Константина. Ш.58, ср.: Сократ. Церковная история. 1.18; речь идет о строительстве великолепного церковного здания под покровительством императора, с учреждением должностей епископа, пресвитеров и диаконов) — однако наши источники свидетельствуют о долгом сопротивлении христианству в этом городе (Созомен. Церковная история. УП. 15; Феодорит. Церковная история. IV.22: «Финикийский Гелиополь — место, где ни один житель не желал даже слышать имени Христова, поскольку все они были идолопоклонниками»).
Впрочем, именно в приморских городах Финикии, рано испытавших на себе христианское влияние и открытых для коммуникаций и обмена идеями (эти города давно уже были «эллинизированы»), мы можем почувствовать более значительное присутствие утвердившейся здесь Церкви.
27 Kraeling 1967. Зал собраний мог вместить прихожан в количестве от шестидесяти до семидесяти человек (с. 109). Граффити опубликованы на с. 89 слл. (С.В. Welles).
28 Ср.: Евсевий. Церковная история. УП. 17 сл. (скульптурную группу, понимаемую как изображение Христа и женщины, дотрагивающейся до его одежд, можно видеть в Ба- ниясе).
Глава 18b. Христианство III века
807
В самом деле, Птолемаида, Тир, Сидон, Верит и Триполи, а также, возможно, Антарад (согласно коптского списка) — все они имели собственных представителей на Никейском соборе. Птолемаида и Тир задолго до этого мельком появляются (в лице своих епископов) в спорах о Пасхе (Евсевий. Церковная история. V.25), а Тир к середине века выглядит до некоторой степени как ведущая епархия Финикии (Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VII.5.1)29, пока опять же эти города вновь не всплывают в сообщениях о Великом гонении — Сидон (Там же. VÏÏI.13.3 — пресвитер Зеновий), Верит (Евсевий. О палестинских мучениках. 4.2 сл. — Апфиан вел здесь целомудренный христианский образ жизни; ср.: Феодорит. Церковная история. 1.5 — епископ Григорий), Триполи (Евсевий. О палестинских мучениках. 3 — Дионисий; ср.: Феодорит. Указ. соч. 1.5 — епископ Элланик), а также Тир (Евсевий. Церковная история. УШ.13.3 — епископ Тирраний; Евсевий. О палестинских мучениках. 5.1 — Ульпиан; Там же. 7.1 — мученица Феодосия Тирская; ср.: Евсевий. Церковная история. \ТП.7.1 сл. — египтяне в Тире; ср.: Феодорит. Указ. соч. 1.5 сл. — епископ Павлин; Евсевий. Церковная история. Х.4 сл. — панегирик Евсевия по поводу церковных домов, адресованный епископу Павлину Тирскому, «чьим рвением и энтузиазмом был воздвигнут храм в Тире, превосходящий в Финикии величием все другие»30).
Опять-таки, как это часто бывает, наши источники касаются крупных эллинизированных и урбанизированных центров, почти ничего не говоря о том, что было за их пределами31.
(к) Палестина
Хотя Палестина была родиной христианства и поэтому уже стала местом благочестивого паломничества32, складывается впечатление, что христианство здесь сталкивалось с сильным противодействием, причем не только в городах со значительным иудейским преобладанием, таких как Тивериада, Сепфорида, Капернаум (ср.: Епифаний. Панарион. 30.4), но и в основатель¬
29 В 250-х годах в Тире умер и был погребен Ориген (Фотий. Библиотека. 118 (92Ь)).
30 Обратите особое внимание на те места у Евсевия, где он подробно рассказывает об этой отремонтированной церкви, см.: Церковная история. Х.4.37 слл., 63 слл. — здесь мы имеем, по сути, самый ранний текст с описанием христианского храма.
31 Обратите внимание, однако, на надпись OGIS 608 — этот случайно сохранившийся текст говорит о маркионитской сходке (ouvaywyrj), которой руководил, по-видимому, некий пресвитер (Павел) и которая состоялась в 318/319 г. в деревне Аебада (Дейр-Али) к югу от Дамаска. Трудно сказать, была ли такая ситуация типичной или же это изолированный феномен.
32 Мелитон, епископ города Сарды, цитируется у: Евсевий. Церковная история. IV.26.14 — Иерусалим, примерно 160-е годы; Евсевий. Церковная история. VI. 11.2 — Иерусалим, начало Ш в.; Ориген. Против Цельса. 1.51 — пещера в Вифлееме; Пионий, пресвитер, священномученик из Смирны, см.: Деяния [Акты) святого пресвитера Пиония и его товарищей. 4.18 слл.; Фирмилиан, епископ Цезареи Каппадокийской, см.: Иероним. О знаменитых мужах. 54 («sub occasione sanctorum locorum Palestinian! veniens» — «посещая по случаю святые места Палестины»); ср. более позднюю информацию: Евсевий. Доказательство в пользу Евангелия. VI. 18.23; Жизнь Константина. Ш.25 слл.
808
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
но эллинизированных центрах, таких как Газа33 (хотя обратите внимание на местоположение епископа «церквей вокруг Газы», см.: Евсевий. Церковная история. VIII.13.5 = ? пригород-порт Маюма). Епархии там, вне всякого сомнения, существовали (примерно восемнадцать палестинских епископов присутствовали в Никее34), как существовала и учрежденная в более ранние времена синодальная организация (ср.: Там же. V.23.3, конец П в.), но очень трудно оценить численность общин, входивших в эту последнюю. Иерусалим, несомненно, сохранял за собой что-то вроде статуса места, откуда произошло христианство (ср.: Фирмилиан, цитируется у: Киприан. Письма. 75.5; в таком качестве почитался и позднее — на Никейском соборе, см.: Канон. 7); город этот становится центром христианской учености (Евсевий. Церковная история. VI.20.1 — библиотека епископа Александра; Р. Оху. Ш.412.59 сл. — patria (то есть родина) образованного Юлия Африкана35); при этом Иерусалиму суждено было испытать на себе необыкновенную щедрость римского императора (Евсевий. Жизнь Константина. Ш.26 слл.). Цезарея, провинциальная столица, превратилась даже в еще более заметный центр христианской учености (это было место временного пребывания Оригена, здесь находились также школа и библиотека Памфила). А такие случайно брошенные замечания, как, к примеру: «многие руководители сельских церквей» (Евсевий. О палестинских мучениках. 1.3 — вокруг Цезареи?), епископ, принимавший исповеди «в одном маленьком палестинском городке» (Епифаний. Пана- рион. LXIH.2.4), «епископы, управляющие церквами вокруг Иерусалима» (Евсевий. Церковная история. VI. 11.2 — начало Ш в.) — указывают на то, что распространение христианства, хотя в численном отношении и ограниченное, вполне могло носить рассредоточенный характер.
В роли определенного руководства здесь нам может послужить статистика, извлеченная из «Ономасгикона» Евсевия. Тридцать местных и региональных деревень он называет «очень крупными» (fxeyicra) xcofxr)), а три — «большими» (xcofXT) [xeyàXr]). Из этих тридцати трех семь прямо обозначаются как иудейские и только одна — как полностью христианская (oXrj XpujTtocv&v)36. Кроме того, Евсевий называет и другие селения, размер которых не уточняет, из которых четыре — иудейские, а два — как «целиком
33 Обратите внимание на известную статистику, содержащуюся в следующем (ненадежном) тексте: Марк Диакон. Житие Порфирия Газского. 21 — первоначально, когда в 394 г. Порфирий вступил в свои обязанности, приход в Газе насчитывал сто двадцать семь христиан, при этом вокруг Газы по-прежнему находились деревни, населенные идолопоклонниками (гл. 17; ср.: Созомен. Церковная история. УП. 15). Новеллистическое Иеронимово «Житие Илариона Газского» также поучительно [PL ХХШ.29 слл.).
34 Источники единодушны, по крайней мере, по поводу Иерусалима, Неаполя, Сева- сты, Цезареи, Гадары, Акалона, Никополя, Явне, Элевтерополя, Максимианополя, Иерихона, Завулона, Лидды, Ашдода, Скифополя, Газы, Айлы, Капитолиады.
35 Vieillefond 1970: 17 — автор излишне скептичен.
36 Ссылки приводятся по изданию Клостерманна (Klostermann 1904). Иудейские селения: Аккарон (22.9), Анайа (26.9), Енгедди (86.18), Ереммон (88.17), Есфемо (86.21), Иетта (108.9), Фала (98.26). Христианское селение: Иефейра (108.3). Следует ли нам сделать вывод о том, что население в целом было языческим?
Глава 18b. Христианство III века
809
христианские»37. Это наводит на размышления о том, какой тип количественного соотношения — а также рассеянного распространения — мог наличествовать в мелких городках и деревнях Палестины и в соседней сельской местности38. Но случайное упоминание епископа-маркионита (Евсевий. О палестинских мучениках. 10.2) отрезвляет и является важным напоминанием о том, что из имеющихся у нас свидетельств в значительной степени исключены иные группы приверженцев христианства.
(/) Области к востоку от Евфрата
Вопреки сильному впечатлению, неотвратимо возникающему из чтения Евсевия, границы христианства отнюдь не совпадали с римскими рубежами. Ясно, например, что, еще до того как в конце П в. эти последние перешагнули за Евфрат, чтобы утвердить права римлян на новые провинции Осроену и Месопотамию, христианство здесь уже вполне утвердилось, и особенно явно — в осроенской Эдессе39 (доказательством чему служит Вардесан (умер в 222 г.) и его сын Армоний)40, — хотя, как известно, некоторые центры, такие как, например, Карры, еще долго придерживались своих традиционных культов. Сам Вардесан свидетельствует в своей «Книге законов стран» (написана в Сирии в начале Ш в.) о присутствии христиан также в «Парфии», «Иране», «Мидии», Хатре и среди «кушан- цев» (Бактрия)41. О восприимчивости к христианству и о быстром распространении в III в. — как внутри, так и за пределами имперских границ, в восточных странах, — некой разновидности иудейско-христианского послания, по крайней мере, до некоторой степени свидетельствуют жизнь и миссионерские старания Мани, провозгласившего себя в качестве «апостола Иисуса Христа», и его ранних последователей42. Поэтому неудивительно, что Евсевий мог цитировать послание, связанное со спорами о Пасхе, от «тех, кто проживал в Осроене и тамошних городах» [Церков-
37 Иудейские: Дабейра (78.6), Зиф (92.21), Нинева (136.2), Ноораф (136.25). Христианские: Анайя (26.13; не следует путать с «Анайей близ Элевферополя», см.: Евсевий. О палестинских мучениках. 10.2), Карайафа (112.15 — близ Мадабы).
38 Исследование М. Гудмана (Goodman 1983) бесценно по части анализа процесса иуда- изации галилейской деревенской жизни. О Голане см.: Urman 1985; Urman, Flesher 1995.
39 Обратите внимание на «Одесскую хронику»: потоп 201 г. повредил «храм христианской Церкви», который, по всей видимости, был таким же переделанным церковным домом, как в Дура-Европос. Перевод на английский: Segal 1970: 24 сл. (рус. перев.: Одесская хроника: Перев. Н.В. Пигулевской (Палестинский сборник. 1959) 4 (67): 79—96. — А.З.). Христианин Юлий Африкан в компании с гностиком Вардесаном (и другими) определенно находил весьма приятной придворную жизнь в Одессе, см.: Юлий Африкан. Узоры (Сетй|. Фр. 1.20.28 слл. (ed. Vieillefond 1970). См. также: Ross 2001: гл. 6.
40 О (неопределенном) месте рождения Тациана см.: Millar. Near East: 460.
41 Перевод на английский язык см.: Drijvers 1965: 59 слл. (ср.: Евсевий. Приготовление к Евангелию. VI. 10.46); Drijvers 1966: 60 слл. Об Армонии: Феодорит. Сокращенное изложение еретических басен (Haereticarum fabularum compendium). 1.22 (PG LXXXIII.372); Созомен. Церковная история. Ш.16.5 слл.
42 Lieu 1992; Lieu 1994: прежде всего гл. 2. Gardiner, Lieu 1996: 146 слл. Текст и английский перевод кёльнского кодекса Мани см.: Cameron, Dewey 1979.
810
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
пая история. V.23.4, конец П в.), и то, что к середине столетия Дионисий, епископ Александрии, мог писать (в Рим), хорошо зная об отношении месопотамской Церкви к Новациану (Там же. УП.5.2), что в начале следующего (TV) века Евсевий, апеллируя к архиву документов, переведенных с сирийского языка (Там же. 1.13), считал возможным описывать Эдессу как целиком христианский город (со времен апостольской эпохи!) (Там же. П.1.7), а также и то, что римские приграничные города, Ресена и Ни- сибида, как и Эдесса, могли быть представлены собственными епископами на Никейском соборе43 44. Если говорить о территориях за пределами державы, то император Константин, как попечитель христианской веры, обрадовался, узнав, что увеличивается число «Божьих церквей среди иранцев и что тысячи людей собираются в Христово стадо» (Евсевий. Жизнь Константина. IV.8; cp.: IV. 13) — тем вызывая в Иране сомнения в ло-
лл
яльности подданных-христиан и провоцируя там хаотичные гонения . Евсевий упоминает, что на освящении церкви в Иерусалиме присутствовал один из «иранских епископов» [Жизнь Константина. IV.43); имеется стойкая легенда, согласно которой некоторые из этих иранских христиан, прежде всего те, кто говорил по-гречески (отличались в качестве «христиан» от «назареян»), вели свой «род» от тех христиан, которые были переселены вместе с другими пленниками, захваченными во время нападений Шапура I в 250-х годах45. Но мы можем высказать также догадку, что движения товаров через негерметичные пограничные зоны и большая еврейская диаспора в регионе могли способствовать дальнейшему распространению новых религиозных идей46. К концу Ш в. христиане (и манихеи) определенно были достаточно заметны и многочисленны, чтобы вызывать у зороастрийцев гнев и стремление их запретить47. В общем, при том, что сведения о деталях редки, ранние тексты на местных языках, а именно мартирологи, руководства и гимны (остающиеся настолько чуждыми
43 О представительстве восточных епархий в Никее см.: Wallace-Hadrill 1982: Приложение. 1, 165 сл. Обратите внимание на епископа Ш в. Архелая из Месопотамии, чье написанное по-сирийски сочинение против Мани было переведено, согласно Иерониму, на греческий (О знаменитых мужах. 72).
44 См.: Brock 1982; см. также толкование сочинения сирийского христианского писателя Афраата «Гомилии» в изд.: Barnes 1985 — здесь содержится интерпретация пятого «доказательства» Афраата. Обратите внимание также на сочинение: Епифаний. Панарион. 1.42.1 — здесь утверждается, что в Иране по-прежнему еще можно найти маркионитов.
45 Напр.: Хроника Сеерта. 2 (ed. Scher. 1908: 220 сл., с французским переводом); английский перевод см. здесь: Dodgeon, Lieu. Eastern Frontier. 297.
46 В самом деле, имеются упорно сохранявшиеся легендарные рассказы об апостольской миссионерской деятельности за пределами империи, напр., Фомы в Парфии, Андрея в Скифии (Евсевий Церковная история. Ш.1.1), Варфоломея в «Индии» (Там же. V.10.3). Нельзя сказать, что эти сообщения представляют какую-то необыкновенную ценность, но в начале Ш в. Тертуллиан (риторически) заявлял, иго христианство распространилось среди «парфян, мидийцев, эламитов и тех, кто обитает в Месопотамии и в Армении» (Против иудеев. 5.4 (CCSL П.1354)), а столетием позже Арнобий (Против язычников. П.12) утверждал, что христианское послание слышали «в Индии, среди серов, иранцев и мидийцев». О торговле с Ираном см., напр.: Expositio [см. «Список сокращений»]. 22 (середина IV в.).
47 Надпись мага Картира в Накш-и-Рустаме (Sprengling. Iran). См.: Brock 1978; Brock 1971 — об отличии между «христианином» и «назареем» (с. 91 слл.).
Глава 18b. Христианство III века
811
среде, в которой они существовали, что в ряде случаев можно предполагать их происхождение из западных источников), заставляют думать о существовании здесь Церквей, которые смогли получить замечательно стойких местных последователей48.
(т) Египет
Египетское христианство возникло в Ш в.; оно обладало здесь хорошей интеллектуальной (и конечно же социальной) репутацией — именно в этой среде возникли сочинения Климента Александрийского (ученика Панте- на), обнаруживавшие широкую эрудицию автора и адресованные культурной и философски образованной, а также финансово состоятельной (по крайней мере, в некоторых группах) аудитории49. И это можно противопоставить тому интеллектуальному контексту, который уже генерировал весьма импульсивные гностические спекуляции и писания (самыми яркими авторами которых были Василид и Валентин), а также имевшие широкое хождение апокрифические тексты (например, «Евангелие от Фомы», «Евангелие от Марии», «Премудрость Иисуса Христа»).
Краткий рассказ о пребывании молодого Оригена в Александрии в начале столетия, который мы имеем в том виде, как его передает Евсевий (оправдываясь за краткость изложения) [Церковная история. VI.2.12 сл.), очень выразителен сам по себе, к тому же он свидетельствует об этой непрерывной традиции открытых богословских споров:
После мученической кончины отца он на семнадцатом году жизни остался сиротой с матерью и шестью маленькими братьями. Отцовское имущество было отобрано в царскую казну; ему и всей семье жить было не на что, но Господь удостоил его попечения. Он нашел приют и покой у очень богатой и очень известной женщины, опекавшей одного прославленного еретика из тогдашних александрийских, родом он был антиохиец. Она приняла его к себе как приемного сына и всячески его опекала. Оригену поневоле пришлось жить вместе (с этим еретиком. — А.З.), и туг впервые со всей ясностью обнаружилось его правоверие; хотя Павел (так звался этот человек) собирал вокруг себя многое множество людей, не только еретиков, но и наших — его считали сильным в слове, — однако Оригена нельзя было уговорить стать вместе на молитву; с детства хранил он церковное правило, и, по его собственным словам, его тошнило от еретических учений.
Перев. М.Е. Сергеенко
Дионисий, который позднее, в середине столетия, получил после Иракла руководство катехизической школой, сообщал — опять же как бы оправдываясь (перед римским священником), — что он имел видёние, побуждавшее его «читать всё, что попадется в руки», и заявившего, что благодаря чтению (и опровержению) еретических сочинений он на самом деле и обратился к вере (цитируется: Там же. УП.7.2 сл.). И далее, в том же послании, Дионисий сообщает, что его предшественник на пастырском посту [Иракл] изгонял из церкви тех людей, которые, «хотя и казались по-прежнему
48 Общий обзор проблемы: Millar. Near East: 481 слл.
49 Что особенно заметно в его сочинениях «Педагог» и «Кто из богатых спасется».
812
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
членами конгрегации, были уличены в том, что часто посещали лжеучителей» (цитируется: Там же. VII.7.4). Александрия, несомненно, являлась местом оживленных богословских споров и дискуссий, которые не обходились без внутренних конфликтов; прекрасной иллюстрацией всего этого служит ученая деятельность и личная биография самого великого Ори- гена.
Впечатляющая вереница александрийских христианских учителей и писателей, которая растянулась до конца столетия — Дионисий (которому в значительной степени посвящены книги VI и УП «Церковной истории» Евсевия), Феогност (Фотий. Библиотека. 106.86b), Пиерий (Евсевий. Указ, сон. VII.32.26 слл.; Иероним. О знаменитых мужах. 76; Фотий. Библиотека. 119.93а сл.) и Петр Александрийский (Евсевий. Указ. соч. УП.32.31), — как правило, доминирует в нашем восприятии египетского христианства. Это до некоторой степени объясняется преобладающей культурной и административной ролью, какую играла сама Александрия в жизни Египта, что находило отражение в господствовавшей — и, конечно, авторитарной — роли Александрийской кафедры в институциональной жизнедеятельности египетской Церкви. Патриаршество находилось еще в стадии формирования.
Поэтому полезно напомнить о хилиастских, апокалиптических, сочинениях Непота, «епископа тех, что в Египте». Он составил труд «Обличение любителей аллегорий». Не ограничившись написанием опровержения в двух книгах («Об обетованиях против Непота»), Дионисий лично отправился в Арсиноитский ном, где «это учение уже давно набрало силы: целые церкви откололись и отпали». И там он имел трехдневные дебаты со «священниками, местными учителями деревенских братьев, и в присутствии братьев, пожелавших прийти, предложил всенародно разобрать это произведение» (цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VH.24. Перев. М.Е. Сергеенко). Точно так же письменного обличения потребовали и церкви в Пентаполе, потакавшие савеллиановским спекуляциям о природе божественного (название савеллиановской ереси образовано от имени автора этих взглядов — проповедника Савеллия из Йтолемаиды Пентапольской. — А.З.), что послужило основанием для подобного спора с Дионисием («сведения [о ереси Савеллия] дошли до меня с двух сторон — из документов и от братьев, которые готовы были обсудить со мной этот вопрос»), и тамошние епископы (Там же. VII.6; VH.26.1). Ясно, что Египет, Ливия и Пента- поль — это тот регион, где христианство апеллировало отнюдь не только к образованной и урбанизированной Александрии (которую Дионисий обозначал просто как ot koXitixoi — «граждане», «политическое сообщество»).
Насколько к концу Ш в. была велика потребность в литературе, великолепно показывает распространение христианских текстов в Среднем и Верхнем Египте: в провинциальной части этой страны, как выясняется, христиане читали греческие сочинения самого широкого диапазона (библейские, апокрифические, благочестивые, богословские — и вполне сопоставимые с теми, которые циркулировали и в тогдашней Александрии, и за пределами Египта). Мало того, благодаря коптским христианским текстам, появлявшимся в 3-м столетии, мы постепенно начинаем по-
Глава 18b. Христианство III века
813
другому смотреть на христианскую миссию по отношению к местному населению50 (таких христиан городские жители Ориген и Дионисий обычно называли «ливийцами» и «египтянами», в противоположность «эллинам»). Эти коптские тексты помогают конкретизировать картину, которую можно извлечь из «Жития преподобного Антония Великого» (прежде всего главы 1 сл., 72 сл.): сказано, что герой этого жития не захотел учиться греческой грамоте, поэтому библейские пассажи, которые он слушал в своей родной церкви в деревне Кома в 260-х годах, к тому времени были, по всей видимости, уже переведены на коптский язык51. Из этих свидетельств можно сделать вывод, что христианство становится необыкновенно распространенным52. И хотя мы не можем слишком буквально воспринимать восторженные слова Евсевия о несметном множестве египетских мучеников периода Великого гонения (в «Церковной истории» по отношению к ним употреблено слово «[лирик» — «неисчислимые», см.: УШ.8.1; VIII. 13.7; ср. также: VHI.7; IX. 11.4), жертвы из этого региона, если исходить из свидетельств данного автора, должны были исчисляться многими сотнями, включая «тех, что выделялись богатством, родовитостью, славились красноречием и философским образованием» (Там же. \ТП.9.6. Перев. М.Е. Сергеенко)53. Христианство смогло утвердить себя в качестве характерной особенности местного [социального и религиозного] ландшафта54, причем Евсевий [Приготовление к Евангелию. Ш.5.5) готов даже утверждать, что «большинство тех, кто живет в Египте, уже освободились от этой болезни (имеется в виду культы животных. — Г.К)»55, хотя автор географического путеводителя «Описание всего мира и народов» («Exposi¬
50 Ценный обзор темы: Roberts 1979; также см.: Judge, Pickering 1977; Rousseau 1999: гл. 1.
51 Иероним понимал, что семь писем, приписываемых Антонию, были переведены на греческий язык: «in graecam linguam translatae». — О знаменитых мужах. 88). Об этих посланиях см.: Rubensen 1995.
52 Обратите внимание на чтеца Аврелия Аммония из деревенской церкви в Хисиде (304 г.): он описан как «незнающий букв» (Р. Оху. ХХХШ.2673). Обычно это означает, что человек не знает греческого и поэтому во время службы должен читать отрывки из Священного Писания на коптском языке. О сомнениях по этому поводу (не всегда убедительных) см.: Wipszycka 1983. Аврелий Аммоний утверждал, что, помимо бронзовых врат, его церковь не имела «ни золота, ни серебра, ни монет, ни одежд, ни скотины, ни рабов, ни земель, ни других вещей, кроме как подаренных и переданных по завещанию»; т. е. здесь мы имеем ассортимент тех категорий имущества, которые, по всей видимости, можно было обнаружить в церквах того времени. Епифаний (Панарион. LXVIL1.1 слл.) свидетельствует об аскете и знатоке Библии Иераке, учителе и писателе, в совершенстве владевшем двумя языками — греческим и коптским (около 270—360 гг.).
о3 Далее мы вернемся к рассмотрению Египта времен Великого гонения.
54 Обратите внимание, что уже к середине Ш в. в александрийской Церкви могли иметь место локальные собрания (Дионисий Александрийский, цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 11.17). К концу столетия такая номовая столица, как Оксиринх, могла гордиться двумя церковными домами, располагавшимися на севере и на юге города, см.: Р- Оху. 1.43: оборотная сторона, стб. I, сгк. 10; сгб. Ш, сгк. 19. Заметьте также, что еще до завершения Ш в. последователей манихейства здесь было уже столько, что они заставляли обращать на себя внимание как христиан, так и язычников (P. Ryl. Ш: Nq 469 — Александр из Ликополя).
55 Евсевий. Доказательство в пользу Евангелия. VI.20.297b — здесь автор утверждает Даже следующее: «Из всего рода человеческого именно среди египтян слово евангельского учения развилось сильнее всего».
814
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
tio Totius Mundi et Gentium», см. в «Списке сокращений» термин «Expositio») в главе 34 свидетельствует, как кажется, об обратном.
Для середины Ш в. известна (из сочинений Дионисия Александрийского) лишь дюжина египетских и пентапольских епископов. В Никее присутствовали двадцать два епископа, а в списке, поданном Мелетием епископу Александру и содержащем перечень священных лиц в Египте, указаны двадцать девять епископов (Афанасий. Апология против ариан. 71). Впрочем, в своем Первом послании (330-е годы) Афанасий заявлял, что пользуется поддержкой «около сотни епископов» в Египте, Ливии и Пентаполе (Там же), что очевидным образом предполагает значительное развитие — по крайней мере, в терминах институциональной организации — по сравнению с серединой Ш в. Не намекает ли нам повествование из «Жития преподобного Антония Великого» о начале соответствующего резкого изменения в религиозных предпочтениях простого народа?56
6. Азиатские провинции (а) Киликия
Несмотря на проповедническую деятельность Павла и тесные связи, которые Киликия естественным образом имела с Антиохией и Сирией в целом, наши познания о положении Церкви здесь в Ш в. недостаточны. В середине столетия митрополитом киликийского синода епископов, как выясняется, был Елен Тарский («Елен в Тарсе и все церкви Киликии». — Дионисий Александрийский, цитируется у: Евсевий. Церковная история.
VII.5.1; cp.: VI.46.3; VII.5.3); ко времени Никейского собора в этом регионе насчитывалось, по крайней мере, девять церквей, и, кроме того, был еще один хорепископ (сельский пастырь)57. Исходя из локализации этих епархий — и из того, что происходило в IV в.58, — мы можем с уверенностью предполагать, что Дикая Киликия в значительной степени оставалась не затронутой христианской проповедью.
(iЬ) Каппадокия
В третьем столетии Каппадокия в источниках почти не отражена. В начале века эрудированный Александр был переведен в качестве епископа из Цезареи (митрополичья церковь) в Иерусалим59, но действительно крупной известной нам фигурой является Фирмилиан, являвшийся епископом Цезареи более четверти века (умер в 268 г.), друг и корреспон-
56 О попытках измерить это изменение см.: В agnail 1982, с оговорками, приведенными в: Wipszycka 1988. О египетских епархиях в начале IV в. см.: Martin 1979: 6—7.
57 А именно: Таре, Епифания, Нерониада, Кастабала, Флавиада, Адана, Мопсуестия, Агеи и Александрия Парва. О хорепископах этого региона см.: Mitchell. Anatolia П: 70 слл.
58 Fowden 1998: 540—541. Обратите внимание также на египетских исповедников, сосланных в рудники Киликии во время Великого гонения, см.: Евсевий. О палестинских мучениках. 10.1, 11.6.
59 Евсевий. Церковная история. VI. 11.1 сл.
Глава 18b. Христианство III века
815
дент Оригена (они также взаимно посещали друг друга), сыгравший одну из ведущих ролей в церковных делах60. Семь каппадокских епископов61 присутствовали в Никее вместе с пятью хорепископами (последние, несомненно, отражают разбросанный, разреженный, характер большей части поселенческой структуры)62. Помимо того, что присутствовавшие на празднике обновления Иерусалимского храма предстоятели каппадокийских церквей «отличались прежде всего своей ученостью и красноречием» (Евсевий. Жизнь Константина. IV.43), мы должны ожидать, что христианство в IV в. в данном регионе имело реальное значение63. Но если судить по тому немногому, что нам известно об епископах Ш в., то и в это время Каппадокия отнюдь не была какой-то культурной или теологической заводью со стоячей водой.
(с) Армения
О христианской церкви к северу от Каппадокии, в области Малая Армения, мы впервые слышим из сообщения Евсевия в его «Церковной истории» (VI.46.2). В середине Ш в. Дионисий Александрийский «писал к братьям в Армении, чьим епископом являлся Мерузан». Это звучит так, как если бы Мерузан был единственным предстоятелем в регионе (в Севас- те?); но, поскольку после преследований Деция вопрос покаяния стал главным источником конфликтов, эта фраза также может подразумевать, что существовали армянские христиане, на которых это гонение сказалось. Кроме того, Евсевий смутно намекает (Там же. УШ.б.в), что в области Мелитена в начале Великого гонения также имелись христиане (но не относилась ли теперь эта область к провинции Каппадокия?)64. Но самое поразительное озарение обеспечивает нам обретение мощей сорока сева- стийских мучеников (пострадали при Лицинии в начале 320-х (?) годов; см.: Созомен. Церковная история. IX.2). Сохранились послания, адресованные более чем дюжине христианских общин в Армении (места их нахождения в источниках поименованы, но всё равно остаются для нас неясными) с прозрачным подтекстом, подразумевавшим, что по армянским селам и деревням рассеяны христианские группы, где служат пре¬
60 Евсевий. Церковная история. VII.46.3; VTI.5.1; ср.: УП.5.4; УП. 14; УП.28.1; УП.30.4; см. также: Clarke G.W. 1984: 250 сл.
61 Из Цезареи, Тианы, Колонии, Кибистры, Команы, Спании и (?) Парнасса.
62 Обратите внимание на христиан среди жертв, захваченных во время готских набегов (конец 250-х годов), см.: Василий. Письма. 70 (PG ХХХП.436); к числу этих пленников относились христиане из деревни Садаголфиана (близ Парнасса), см.: Филосторгий. Церковная история. П.5 (GCS 21 bis: 17). Фирмилиан (цитируется у: Киприан. Письма. 75.10 (CCSL Шс.590 слл.)) также свидетельствует о христианах из сельской местности, включая священников («unum de presbyteris rusticum, item et alium diaconum» — «один из многих сельских пресвитеров, также и другой диакон», 230-е годы). Вполне вероятно, что на тот же самый случай, о котором говорил Фирмилиан, ссылается и Ориген (Толкование на Евангелие от Матфея. 24.7 (GCS Origen 11.75)), добавляющий подробности о сожжении многих церквей христиан, обвиненных в череде землетрясений.
63 Mitchell. Anatolia П: 67 слл.
64 См.: Коресек 1974: 320-321.
816
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
свитеры, которым в некоторых случаях помогают еще и диаконы. Распределение христиан по сельской местности, и это необходимо иметь в виду, могло быть весьма неравномерным. Но до какой степени данная модель воспроизводилась в других местах? Сатала и Севаста отправили в Никею епископов (а не пресвитеров и диаконов — А.З.).
Что касается Армянского царства, расположенного восточней, то здесь мы вынуждены опираться, к сожалению, лишь на легенды, связанные с фигурой Григория Просветителя. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что армян, живших в этом царстве во времена Великого гонения, Евсевий считал «ревностными христианами» (Евсевий. Церковная история. IX.8.2; ср.: Созомен. Церковная история. П.8) и что на Никейском соборе в качестве епископов присутствовали Арис- так, считающийся сыном Григория, и Акрит. Однако, по правде говоря, глубину евангелизации этого региона к концу 3-го столетия мы оценить не в состоянии. И дело не только в том, что это еще один пример нашего неведения относительно обстоятельств Ш в. — всё это также подчеркивает, насколько редко мы слышим о деятельности в этом столетии миссионеров- прозелитов как об источнике распространения христианства.
(<i) Понтийский регион
Если уж мы и слышим о миссионерской деятельности в Ш в., так это в соседнем Понтийском регионе, расположенном вдоль Черного моря. Однако опять же сведения эти содержатся в трудном для интерпретации источнике — в хвалебной речи, написанной Григорием Нисским спустя целое столетие после излагаемых им событий и отражающей анахроничную идеализацию роли, полномочий (как духовных, так и политических) и статуса епископов (как всё это понималось епископом конца IV в.). Так что с уверенностью полагаться на многие подробности из жизни прославляемого этим панегириком человека, Григория Чудотворца, мы не можем. Впрочем, что обычно для Малой Азии в целом, Понт был регионом ранней евангелизации, чья история во II в. обеспечена широким диапазоном свидетельств, от информации об отдельных городах наподобие Синопы (откуда происходил Маркион, богатый сын епископа, ср.: Епифаний. Панарион. XLH.1.3 слл.) или отдельных епископах (Ипполит. Толкования на Книгу пророка Даниила. 4.19, ed. М. Lefèvre65) до общих заявлений, которые намекают на учреждение иерархии и синодальной компетенции (Евсевий. Церковная история. IV.23.6 — о Дионисии Коринфском, который пишет к «церкви, временно пребывающей в Амасгриде, и к другим церквам в Понте»; ср.: Там же. V.23.3 — разногласия по поводу Пасхи) и отражаются также в нехристианских источниках (Плиний Младший. Письма. Х.96; Лукиан. Александр. 25; ср.: 38).
65 Некий «благочестивый и смиренный» епископ, подверженный хилиастским мечтам, склоняет братию к «отказу от полей и угодий», и большинство из тех, к кому он обращается, действительно распродают свои владения; речь, быть может, идет о каком-то сельском епископе.
Глава 18b. Христианство III века
817
Легендарные истории о миссионерской деятельности Григория вполне могут отражать передававшиеся (вероятно, неточно!) от дедов к внукам воспоминания о массовом обращении по всему региону, как в городах, так и в сельской местности (но в особенности по соседству с Неокесарией), через одно поколение (или около того) после 240 г. (в Неокесарии Григорий был поставлен епископом около 245 г. — А.З.)66. Но статус самого Григория, как и статус его брата Афинодора, — богатых, хорошо образованных, происходивших из знати Неокесарии Понтийской, а также совершенно преданных учеников и неофитов Оригена67 — является верным признаком того, что времена переменились: такие люди уже могли находить в христианстве подходящую и привлекательную альтернативу «философии». Оба стали понтийскими епископами (Григорий — в своей родной Неокесарии). А так называемое «Каноническое послание» Григория позволяет нам увидеть, как после набегов борадов и готов в начале 250-х годов он действовал в качестве предстоятеля по отношению к коллеге-епи- скопу (Трапезунда?)68, а также о том, как благоразумно вводил упорядоченные нормативные правила в необузданный мир насилия, налетов, грабежей и подстрекательств (со стороны христиан) варваров-захватчи- ков и поработителей. Ко времени Никейского собора этот регион послал на данный вселенский съезд епископов от Амастриды, Помпейополя, Ионополя, Амасии (ср.: Евсевий. Церковная история. Х.8.15; Евсевий. Жизнь Константина. П.1 сл. (Лициний), Комана (ср.: Григорий Нисский. Житие Григория Чудотворца (.PG XLVL933 слл.)), Зелы, Трапезунда и даже из Питиунта.
(е) Вифиния
Никакая другая область не иллюстрирует более ярко типичный недостаток наших познаний о положении дел в Ш в., чем провинция Вифиния. Она почти полностью исчезает из поля нашего зрения после писем Плиния [Письма. Х.96, начало П в.) и одного сообщения у Евсевия [Церковная история. IV.23.4 — послание Дионисия Коринфского к никомедийцам, конец П в.)69. Когда столетие спустя, во времена Великого гонения, Вифиния
ьв Известен рассказ, согласно которому Григорий нашел лишь семнадцать христиан в Неокесарии, когда он с неохотой согласился быть их епископом, а в конце своих дней он по всей округе с трудом нашел не более семнадцати язычников, еще не обращенных в христианскую веру (Григорий Нисский. Житие Григория Чудотворца; PG XLVI.909, 953). Это утверждение опровергается археологическими данными (см., напр.: Lane Fox. Pagans and Christians: 530 слл.; Mitchell. Anatolia П: 53 слл.).
67 Евсевий. Церковная история. VI.30, Григорий Чудотворец. К Оригену: прежде всего 5.56 слл. (Crouzel 1969).
68 PG Х.1020 (канон 1): обратите внимание также на PG Х.1040 (канон 6) с предписанием разыскивать негодных христиан в сельской местности региона. Англ, перевод см.: Heather, Matthews 1991: гл. 1.
09 Ориген какое-то время находился в Никомедии (вероятно, в 240-х годах), откуда он ответил Юлию Африкану посланием по поводу его, Африкана, сомнений относитель¬
818
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
вновь выходит из тумана, вдруг обнаруживается, что здесь преследованию подверглось большое количество христиан (например: Евсевий. Указ, соч. 1Х.9а.4 сл.), причем многие из них находились на императорской службе — воинов, гражданских служащих, евнухов, рабов (Лактанций. О смертях гонителей. 14.3 сл.; 15.1 сл.; Евсевий. Указ. соч. УШ.6.; ср.: Речь Константина к Святому собору. 25); христиане считаются достойной мишенью для серьезной полемической атаки (Лактанций. Божественные установления. V.2.3 слл.; V.2.12 слл.; V.3.22; Лактанций. О смертях гонителей. 16.4 — Соссиан Иерокл), а к тому времени в Никомедии уже имеется превосходная церковь, воздвигнутая на возвышении и хорошо видная из императорского дворца (Лактанций. О смертях гонителей. 12.3) — Лактанций видел ее собственными глазами. Молчание наших источников, конечно, не означает, что на религиозном ландшафте не происходило никаких скрытых изменений; просто мы не знаем, насколько быстро и в ходе каких процессов они протекали. Их последствия, впрочем, не предполагают, что указанная трансформация была существенной: в Никее присутствовали девять вифинских епископов и два хорепископаб9а.
(/) Ликия, Псимфилия, Исаврия
Сведения о христианстве Ш в. до Великого гонения отсутствуют также и для этих юго-западных регионов Малой Азии, за исключением того, что нам известно о епископе Неоне и не имевшем духовного сана проповеднике Евелпиде из Ларанды (в Исаврии), живших в первой половине столетия (Евсевий. Указ. соч. VI. 19.18), а также о писателе (и епископе) Мефодии, скорее всего, из Олимпа (в Ликии), жившем во второй половине века70. Впрочем, эпиграфические памятники (надгробные камни) с пограничных областей Исаврии и Ликаонии, в долине реки Чаршамбы, определенно заставляют думать, что сильное христианское представительство в этой области до Шв. могло исчезнуть (при этом необходимо проявлять осторожность при датировании недатированных эпитафий)71. Данные о том, кто присутствовал на Никейском соборе, говорят не более чем о двадцати пяти епископах со всей этой территории (причем тринадцать из них прибы¬
но истории о Сусанне в Книге пророка Даниила [Послание к Юлию Африкану. 2.21 и 24 — Ориген в сообществе своего покровителя Амвросия, а также своих жены и детей (ed. de Lange — в изд.: Harl, de Lange 1983)).
69a Возрастание численности епископов отражает сущностные процессы в обществе, в частности, более глубокое проникновение христианства в разные слои общества, а значит, и сущностное изменение самого общества. — A3.
70 Сбивчивые свидетельства о Мефодии обстоятельно обсуждаются здесь: Musurillo 1958: 3 слл. Мефодий подготовил почву для написания своего диалога «О Воскресении» в доме врача Аглаофона в Патаре (О Воскресении. 1.1.1.). Свидетельствует ли это обстоятельство о присутствии там христиан? Обратите внимание на то, что мученик Апфиан (Евсевий. О палестинских ллучениках. 4 сл.) был родом из богатой и знатной семьи в Ликии (Гаги?).
71 См. дискуссию по этому вопросу здесь: Mitchell. Anatolia П: 58 сл.
Глава 18b. Христианство III века
819
ли из Исаврии, включая четырех хорепископов): мы не можем с уверенностью предполагать, что распространение христианства было здесь равномерным72. Местные культы и вообще сложившиеся здесь условия были существенными тормозящими факторами.
(g) Азия [Лидия и Мисия) и Кария
Аналогичная пелена неизвестности покрывает в Ш в. и этот регион, создавая разительный контраст с прекрасной освещенностью ситуации
2-го столетия, которая обеспечивается сочинениями Игнатия, Поликарпа, Мелитона Сардского и посланиями Поликрата (цитируются у: Евсевий. Указ. соч. V.24). Эти свидетельства в сочетании с сообщениями о миссии Павла позволяют высказать предположение о том, что в Ш в. данный регион мог быть сердцем христианства, но единственный, что удивительно, проблеск информации, которая может подтвердить эту догадку, содержится в рассказе о мученичестве Пиония и его товарищей в Смирне (250 г.: Дециево гонение)73. В данном случае мы не только сталкиваемся с двумя пресвитерами (Пионием и Лимносом) и епископом (Евктемоном)74, но еще и получаем напоминание о сектантском соперничестве, которое раскалывало общины повсюду. Здесь фигурируют также пресвитер-маркионит (Метродор) и пресвитер-монтанист (Евтихиан); выясняется еще и то, что Пионий и его последователи делают особый акцент на своей принадлежности к кафолическим, то есть соборным, христианам. Полемика с иудеями, отраженная в этом документе, напоминает также о том, что по всей Азии христиане могли оказываться в окружении иудейской диаспоры: интегрированные в нее евреи75 могли способствовать выработке терпимости по отношению к приверженцам христианской секты и даже ее принятию. Несмотря на безмолвие наших источников, списки подписавших акты Никейского собора всё же подтверждают, что постоянные христианские общины существовали в Эфесе, Смирне, Сардах, Фиатире76, Филадельфии, Милете, а также по меньшей мере еще в тринадцати других городах.
72 Как и в других случаях, в дошедших до нас списках присутствовавших на Соборе имеются разночтения. Я везде полагаюсь, сохраняя сомнения, на «Patrum Nicaenorum Nomina» («Имена никейских отцов», см.: Gelzer et al. 1898). О жалобе провинций Ликия и Памфилия, подтверждающей существование здесь антихристианских настроений [ТАМ П.3 785; также: I. Aryk. 12 — Ариканда), см.: Mitchell. «Maximinus».
73 См.: Robert et al. 1994. Впрочем, некоторые эпиграфические свидетельства о христианах в лидийско-фригийском пограничье представлены здесь: МАМА X.XXXVI—XL.
74 Обратите также внимание на женщину-хрисгианку из одной деревни (Карина), см.: Деяния Пиония. 11.2.
75 Наличие большой иудейской диаспоры ярко иллюстрируют, во-первых, центральное расположение синагоги в Сардах и, во-вторых, надписи из синагоги в Афросидиаде (хотя их датировка вызывает споры) (см.: Reynolds, Tannenbaum 1987).
76 Продолжительное время этот город оставался настоящей цитаделью монтанистов, см.: Епифаний. Панарион. 51.33.
820
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
(ih) Галатия, Фригия, Писидия,
Ликаония
Если бы нам пришлось полагаться исключительно на сохранившиеся литературные свидетельства, наши познания о христианстве в этих центральных областях внутренней Анатолии были бы весьма скудными. В частности, мы узнали бы о том, что движение монтанистов, зародившееся во Фригии, в этом регионе привлекло на свою сторону необычайно восторженных приверженцев (что служит достаточным подтверждением существования здесь значительного христианского населения), а также о последующей реакции на данное обстоятельство со стороны церковной иерархии (см.: Евсевий. Церковная история.
V.16 слл.): всем этим объясняются синодальные собрания в Иконии (Писидия) и в Синнаде (Фригия)77 (230-е годы?) — «в самых многолюдных церквах и на соборах братьев, в Иконии и Синнаде и во многих других местах» (Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Указ. сон. VII.7.5; Фирмилиан — цитируется у: Киприан. Письма. 75.4), а также находившийся в обращении более ранний (осуждающий монтанистов) документ из Иераполя (Фригия) с «собственноручными подписями многих других епископов» (Евсевий. Указ. соч. V.19). Мы узнаём также и о местах, связанных с движением монтанистов, благодаря чему выясняется, что христианство из урбанизированных поселений типа Анкиры (Галатия — в цитате у: Евсевий. Указ. соч. V.16.3) распространилось по некоторым сельским общинам и районам наподобие таких фригийских деревень, как Ардабав (в цитате у: Евсевий. Указ. соч. V.16.7), Комана (Там же. V.16.17), Пепуза и Тимий (Там же. V.18.2, 13), или небольшим поселениям типа Евмении (Там же. V. 16.22). У нас появляется контекст для неназванных местечек (7ioXtxvr|) во Фригии, жители которых, включая должностных лиц («XoyiaTrjç те аитоç xal атратг]уо1 aùv toTç èv xéXet rcaatv» — «и сам логист (важный городской начальник, инспектор. — А.З.), и стратеги вместе со всем народом»), будучи христианами, поголовно были заживо сожжены во время Великого гонения вместе с местом их собраний (conventiculum) (Там же. VIII. 11.1; Лактанций. Божественные установления. V. 11.10)78.
На этом заканчиваются наши скудные содержанием литературные свидетельства. Но именно в данном регионе впервые хоть в сколь-нибудь значительной степени доконстантиновские эпиграфические памятники яркими вспышками выхватывают элементы ландшафта, который в других
77 Обратите внимание на приведенную у Евсевия (Церковная история. VI. 19.18) цитату [из послания иерусалимского епископа Александра] по поводу епископа Цельса и пропо- ведника-мирянина Паулина в Иконии, епископа Аттика и такого же светского проповедника Феодора в Синнадах (начало Ш в.); также см.: Евсевий. Указ. соч. VTL28.1 — здесь среди прочих упоминается епископ Никомас из Икония (260-е годы).
78 Сравните с ситуацией в небольшом городе Орцисте (конец 320-х годов), см.: МАМА VH.305, стб. I, стк. 39—45: Константин заявлял (вне всякого сомнения, пристрастно), что «omnes <i>bidem sectatores sanctissimae religionis habitare dicantur» — «говорят, что все живущие там [являются приверженцами] самой священной религии».
Глава 18b. Христианство III века
821
отношениях остается в глубокой тени. Эти надписи происходят преимущественно из долины Верхнего Герма во Фригии, из Теменофир (на западной фригийской границе с Лидией) и их более крупного соседа — Акмонии, из долины Верхнего Тембриса, из долины реки Чаршамба, с территорий вокруг Евмении (южная Фригия) и из Лаодикеи Катакекавмены (восточная Фригия). Толкование этих погребальных надписей сталкивается со многими трудностями: во-первых, сложно выделить бесспорно христианские надгробные камни (учитывая высокую степень взаимовлияния в заупокойной сфере христианских, языческих и иудейских памятников) и, во- вторых, непросто определить время создания недатированных эпитафий с помощью типологической аналогии — начертания букв и сопоставления с другой продукцией соответствующих мастерских в условиях, когда весьма небольшое количество эпитафий уверенно относятся к доконстанти- новскому периоду. При всем том, однако, выводы вполне очевидны: некоторые христиане здесь, в этих относительно удаленных и изолированных регионах, находились в достаточно комфортной среде, чтобы публично, ни от кого не скрываясь, исповедовать свою веру; при этом, исходя из некоторых вычислений и основываясь на пропорции христианских и нехристианских намогильных памятников, сохранившихся от этого периода, можно прийти к заключению, что христиане составляли значительное, но всё же меньшинство населения (предположительно 20—30%, а в некоторых случаях их доля была значительно выше, и более всего это бросается в глаза в долине Верхнего Тембриса, а также в Евмении и в ее ближайшей округе). Но также очевиден обрывочный характер этих свидетельств — христианство распространялось неравномерно даже внутри какой-нибудь одной провинциальной зоны79. Так что, к сожалению, мы не можем уверенно экстраполировать выводы, полученные из этих источников, на другие области; и всё же мы, по крайней мере, располагаем неоспоримыми свидетельствами того, что в этих сельских округах проживало существенное христианское население. И, хотя эти провинции отправили на Никейский собор в совокупности около двадцати четырех епископальных представителей, локализация епархий указывает также на то, что христианизация происходила отнюдь не равномерно — заметно, например, что весьма слабо представлены восточная Писидия/Ликаония.
(/) Выводы
Из собранных нами данных (весьма скудных) хорошо видно, что жизненный опыт христианина из какого-нибудь крупного урбанизированного центра (такого как Рим, Карфаген, Александрия, Антиохия), принимавшего огромное количество посетителей и имевшего значительную общину приверженцев той же самой веры, очень сильно отличался от образа жизни христианина из относительно удаленной и изолированной деревни где- нибудь в Верхнем Египте или в сельской Анатолии. Не приходится удив¬
79 См. превосходный анализ этого вопроса здесь: Mitchell. Anatolia П: 38 слл., 57 слл.; а также: МАМА X.XXXVI-XL; Tabbemee 1997.
822
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ляться тому, что постепенно развились региональные отличия в литургии и в некоторых важных доктринальных моментах, не говоря уже об организационных принципах. В некоторых регионах, таких как африканские провинции, епископ, как выясняется, назначался в каждую общину, независимо от ее размера, тогда как в других, например, на египетской территории, епископов было меньше, и сельские общины, очевидно, возглавлялись пресвитерами. А в восточных провинциях мы видим хорепископов («сельских епископов»), находившихся в непростых отношениях со своими городскими коллегами80. Поэтому статистика по количеству епископов в конкретной области всегда требует дополнительных пояснений. И повсюду очень трудно оценить степень проникновения христианства в сельской местности. А в тех случаях, когда мы всё же можем это сделать (хотя бы оценочно), то даже в отдельно взятом регионе характер распространения кажется неравномерным и далеким от единообразия. Также наши источники, о каком бы регионе мы ни говорили, не позволяют до конца понять, насколько в количественном и территориальном смысле были распространены неортодоксальные христианские группы — гностики, мон- танисты, маркиониты, новацианисты, манихеи и проч., но, как показывают дальнейшие события, невозможно сомневаться в том, что такие группы верующих существовали.
Также мы не можем ясно разглядеть процессы евангелизации (обращения язычников в христианство)81. Если судить по имеющимся источникам, обряд крещения предполагал не очень эффектную, скучную процедуру, требовавшую (в отличие от тогдашней политеистической религии) не только присоединения к культовой группе почитателей некоего божества, обладающего общепризнанной силой, но и довольно длительного периода изучения новообращаемым доктринальных положений, а также нравственной проверки готовности к послушанию в соответствии со сводом христианских заповедей. При таких обстоятельствах было бы нереалистично ожидать слишком бурного роста численности христиан в рассматриваемое столетие, хотя один практический результат «терпимости» императора Галлиена вполне мог заключаться в том, что после очень неспокойных 250-х годов число желавших пройти этот обряд крещения несколько увеличилось. Но даже и при этой «терпимости» мы не видим слишком большого количества христиан в той узкой доле населения, которая принадлежала к высшим классам. Вместе с тем, учитывая условия Ш в., от таких людей трудно было бы ожидать явной готовности как-либо демон¬
80 Такой характер взаимоотношений проявляется в 13-м каноне Анкирского собора (314 г.), в 13-м каноне Неокесарийского собора (315? г.), позднее — в 8-м и 10-м канонах Антиохийского собора, в 6-м каноне Сардикийского собора, в 57-м каноне Лаодикейского собора.
81 Некоторые проблески информации мы всё же обнаруживаем, напр., в некоторых пассажах у Оригена, см.: Против Целъса. Ш.9, Ш.44; Ш.53; Ш.55 слл. Божий Промысл видит в своей ссылке в Кефро и Дионисий Александрийский (цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 11.12 сл.): «тогда впервые посеяно там слово [среди язычников], ранее они его не слыхали».
Глава 18b. Христианство III века
823
стрировать приверженность христианской вере82. Как показывают последующие события, вскоре христиане начинают появляться на официальных постах, наводя на мысль о крайней недостаточности наших источников по ситуации конца Ш в.83. В силу сказанного нельзя считать абсолютно неожиданным (хотя нет оснований говорить и о высокой вероятности того), что фигура Константина вышла из такой семейной среды, которая выказывала определенную терпимость по отношению к христианству. Братья Григорий и Афинодор, представители благородного и правящего класса, покоренные новой философией, возможно, даже в начале этого столетия не были настолько уникальным явлением, как нам могло бы показаться. К концу П в. христианство, несомненно, превратилось в подходящий объект для серьезной философской полемики (Цельс); таковым оно продолжало оставаться и к исходу 3-го столетия (например, плодовитый Пор- фирий). К этому времени христианство превратилось в главную особенность религиозного ландшафта и, как станет ясно из следующего раздела данной главы, воспринималось некоторыми как явная угроза.
При всем недостатке статистических данных можно утверждать, что христианство очевидным образом заявило о себе также и на социальном ландшафте империи — хотя 4-е столетие показывает, что, если исходить из имеющихся свидетельств, христиане повсюду составляли лишь меньшинство населения (и прежде всего в ряде западных провинций). Вскоре ему суждено будет стать могучей и энергичной силой.
II. Христиане и Римское государство.
Гонения в период со 193-го по 249-й год
В данном параграфе будет представлена краткая сводка — с минимальным анализом — известных коллизий между Римским государством и христианскими общинами до середины 3-го столетия.
«Гонения» на христиан со стороны римских властей носили во П в. спорадический, несистемный и преимущественно локальный характер; рассматривать их лучше всего в контексте случавшихся время от времени преследований многих иных экзотических групп, считавшихся аномальными (астрологов, предсказателей, магов и т. п.). Впрочем, христиане считались проблемой, достаточной, чтобы время от времени на нее обращали внимание не только римские провинциальные наместники или городские префекты, но, в редких случаях, и сами императоры (Траян, Адриан, Марк Аврелий), проблемой настолько серьезной, что в начале Ш в. юрист
82 Анализ известных данных по Ш в., см.: Clarke G.W. 1974: 32 слл.; в особенности: Eck 1971.
83 См.: Barnes 1989. Социологическое моделирование численного роста приверженцев христианства см. в работах: Stark 1996; Hopkins 1998.
824
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Ульпиан составил регистр императорских рескриптов (то есть ответов императора на обращения со стороны провинциальных наместников, возможно, ответы на жалобы или запросы провинциальных советов и т. п.), который показывает, какие наказания к тому времени считались подходящими для приверженцев христианства:84 к тому времени было накоплено достаточное количество исторических прецедентов, подкрепленных императорским авторитетом. Необходимо, однако, подчеркнуть прерывистый и региональный характер вспышек августейшего гнева: теоретически, в потенции, христиане ipso facto находились по ту сторону закона, но требовались какие-то конкретные, локальные обстоятельства, чтобы реализовать этот обвинительный потенциал, в особенности в условиях народного возбуждения (возникавшего либо из религиозного рвения, либо из суеверного страха, вызванного землетрясением, засухой, потопом, чумой или голодом), либо, реже, в результате провокативной вспышки христианского энтузиазма. В любом случае к беде приводила не столько императорская инициатива, сколько давление снизу, взламывавшее доминировавшие, но тем не менее хрупкие пределы римской терпимости: официальная позиция оставалась пассивной, пока власти не сталкивались с какими-то исключительными случаями, и эта активизация обычно ограничивалась местным или провинциальным уровнем. В позднейших источниках наблюдается явное стремление к универсализации этих местных вспышек как способу героизации прежней эпохи мученичества; указанная тенденция набрала обороты в постконсгантиновскую эру, но нет никаких серьезных оснований для вывода о том, что и по отношению к первой половине
3-го столетия не была задействована та же модель, которая применялась ко всему П в.
И нужно понимать, что на всем протяжении первой половины 3-го столетия мы замечаем эти периодически возникавшие волнения лишь благодаря случайным свидетельствам: информация наших источников настолько фрагментарна, что необходимо признать: мы имеем всего лишь образчик, модель того, что могли испытывать христиане в других местах (благодаря Евсевию, основному источнику, наш взгляд заведомо сдвинут в сторону восточных событий). Кроме того, мы также должны принять во внимание, что жертвы, принадлежавшие другим христианским течениям, могли быть исключены из этих неполных памятников: когда мученичество оценивалось как высший признак избранных, память о жертвах из других сект быстро стиралась в той традиции, которая стала ортодоксальной и которая усиленно стремилась заявить права на духовную высоту мученичества. Само собой разумеется, что ортодоксы со всей серьезностью и настойчивостью доказывали, что вне церкви никакого истинного мученичества быть просто не может. Так, при Антонинах монтанисты, маркио-
84 Лактанций. Божественные установления. V. 11.19: «rescripta principum nefaria collegit ut doceret quibus poenis adfici oporteret» — «собрал нечестивые рескрипты принцепсов, дабы показать, какие наказания надлежит применять» (речь идет о кн. УП сочинения До- миция Ульпиана «De Officio Proconsulis» («О должности проконсула»), составленной в начале правления Каракаллы).
Глава 18b. Христианство III века
825
ншы и иные неортодоксальные группы могли притязать на «неисчислимое количество мучеников» (см. у: Евсевий. Церковная история. V. 16.20 сл.), но, что характерно, наши знания о конкретных личностях этого типа мы получаем в основном благодаря попыткам поставить под сомнение их духовные качества; см., например, цитату у: Евсевий. Указ. сон. V.18.5 слл. (монтанисгы); Тертуллиан. Против Праксея, 1.4 (Праксей). Столетием позднее, в рассказе о мученичестве Пиония (250 г.), мы неожиданно сталкиваемся с информацией (без дальнейших уточнений) о мученике-маркионите [Деяния Пиония. 21.5 сл.) и об исповеднике-монтанисте (Там же. 11.2). Приверженцы таких течений, большей частью замалчивавшиеся, должны быть по умолчанию добавлены в наш реестр христианских жертв85. При всем том заслуживает внимания часто встречающееся в источниках противопоставление исповедников (имеются в виду отпущенные властями христиане) настоящим мученикам: в случае с провинциальными наместниками, обладавшими «ius gladii» («правом меча»), решающим моментом могли быть дискреционные полномочия последних (возможность выносить судебные решения по собственному усмотрению — «arbitrium iudican- tis»). Помещение в темницу после первичных слушаний (во время которых обвиняемого пытались принудить к отречению), как представляется, являлось стандартным этапом, после чего в значительном количестве случаев следовало окончательное освобождение тех, кто проявлял безнадежное упрямство и не желал отрекаться — либо всё же отрекся (Тертуллиан. К Скапуле. 4 — здесь, помимо многих других примеров, приводится ряд соответствующих иллюстраций). Арест человека за его приверженность христианству необязательно заканчивался мученической смертью: непредвиденные дополнительные обстоятельства, такие как враждебность толпы к жертве или сила религиозных чувств наместника, могли оказаться определяющими.
При Септимии Севере хорошо освещенными в источниках оказываются Египет и Африка, но такой фокус внимания вполне может объясняться капризами сохранившихся письменных источников (Евсевий. Церковная история. VI. 1—5; сочинения Тертуллиана, прежде всего «О венке воина», «Скорпиак» и «К Скапуле», а также «Страсти Перпетуи и Фели- цитаты»)86.
85 Обратите внимание на не названную по имени женщину-маркионитку, подвергшуюся мучениям в Цезарее Палестинской при Валериане (Евсевий. Церковная история. УП. 12), и на епископа-маркионита по имени Асклепий, замученного в том же городе во время Великого гонения (Евсевий. О палестинских мучениках. 10.3 (309 г.)), а также на осужденную Фёклу (находившуюся в темнице в компании с монтанисгами. — Там же. 3.2 (304 г.); ср.: 6.3).
86 В этом смысле в наших эпизодических знаниях весьма показательны беглые замечания Тертуллиана [К Скапуле. 3.4) в пассаже, предупреждающем Скапулу (212 г.) о беспощадной судьбе, которая ждет наместников, преследующих христиан: Клавдий Луций Гер- миниан (PIR2 С888), разгневанный обращением своей супруги в христианство, в качестве наместника Каппадокии сурово обошелся с христианами и добился того, что некоторые под пытками отреклись от своей веры. Также Тертуллиан с помощью возгласа, приписываемого Цецилию Капелле (стороннику Песценния Нигера) и произнесенного тем в момент окончательного падения Византия в 196 г. («Ликуйте, христиане!»), намекает на то, что во время наместничества Цецилия здесь с христианами обращались очень плохо.
826
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Евсевий в «Церковной истории» (VI. 1) в типичной для себя манере утверждает, что «когда Север возбудил гонение на церкви, то борцы за веру повсюду завершили свое блистательное свидетельство мученичеством, и особенно часто это происходило в Александрии». В дальнейшем, не уточняя имени императора и не называя других мест, Евсевий приводит случаи лишь десяти конкретных личностей (александрийцев), хотя в VI.2.3 заявляет о «несчетном количестве» тех, на кого возложены были венцы мученичества. Нет никаких веских причин сомневаться в реальности названных Евсевием случаев, но такие причины возникают в отношении обобщения, которое он выводит из этих примеров, а также по части имени императора, с которым он их связывает. Евсевий упоминает следующие жертвы: Плутарх (брат Иракла, позднее ставшего епископом Александрии), Серен, Ираклид, Ирон, второй Серен, Ираида («из оглашаемых»), По- тамиена (эти семеро, согласно Евсевию, все были новообращенными и учениками в школе, которой руководил Ориген, некоторые — еще только оглашенными (то есть подготавливавшимися к принятию христианства. —А.З.)^ другие—уже крещенными, см.: VI.3.2; 3.13,4.1 слл.), Марцелла (мать Потамиены) и воин Василид (также оглашенный? — VI.5.6). Все они, как следует из текста, пострадали при префекте Египта Тиберии Клавдии Субациане Акиле (VI.3.3, 5.2 — занимал эту должность по меньшей мере с 206 до 211 г.). Десятая названная по имени жертва — это Леонид, отец Оригена; его смерть и последующая конфискация имущества (VI.2.13) недвусмысленно датирована у Евсевия десятым годом правления Севера (VI.2.2), когда префектом был Квинт Меций Лет (засвидетельствован на должности как минимум с 200 по 203 г.). Несмотря на впечатление, возникающее из рассказа Егсевия, данный случай не относился к эпизоду, связанному с остальными жертвами: по крайней мере, между этими двумя инцидентами находится период, когда префектом Египта являлся Клавдий Юлиан (204—205/206 гг.)87. Атака на огласительную школу и ее членов была вызвана, по всей видимости, отчасти и гневом народа: Оригена едва не забила камнями обезумевшая чернь, дом, в котором он укрывался, защищали воины, и ради спасения от неверующих ему пришлось перебираться из дома в дом (Евсевий оправдывает его спасение Божьим Промыслом: VI.2.4 слл.). Но произошедшее не было погромом разъяренной толпы: некоторые жертвы были обезглавлены, то есть погибли по приговору официальной власти.
Примерно в то же самое время (традиционной датой поминовения является 7 марта), когда прокуратор Илариан действовал в качестве проконсула Проконсульской Африки (203 г.?, но возможны также 202 или 204 г.), группа из пяти молодых оглашенных была приговорена вместе с их учителем к смерти от клыков диких животных в амфитеатре Карфагена (хотя точная локализация в источнике — «Страстях Перпетуи и Фели- цитаты» не указана), во время игр в честь дня рождения Геты, младшего сына императора. В эту группу входили Ревокат и Фелицитата (слуги Пер-
87 Bastianini 1975: 304 слл.; Bastianini 1980: 85.
Глава 18b. Христианство III века
827
петуи), Сатурнин и Секундул (которые в итоге умерли в тюрьме еще до испытания в амфитеатре, см.: Страсти. 14) и сама Перпетуа, двадцати двух лет от роду, по поводу которой наш источник подчеркивает особо, что она была «из благородной семьи, хорошо образованной и замужней римской матроной» («honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta». — 2.1). Их учитель, Сатур, не был схвачен вместе со своими учениками, а добровольно сдался после их ареста (4.5). Рассказ о сне Сатура добавляет имена других четырех человек, которые видятся ему уже пребывающими в райском саду: «Юкунд, Сатурнин, а также Артаксий, которые были заживо сожжены во времена того же самого гонения, вместе с Квинтом, который на самом деле умер мученической смертью в темнице» (11.9), при этом в Раю они узнают также «многих своих братьев, в том числе и мучеников» (13.8)88. Этот удивительный документ о суде над ними сохраняет для нас свидетельство, написанное самой Перпетуей о ее пребывании в узилище, включая описание четырех снов (гл. 3—10) наряду с изложением видёния Сатура (гл. 11—13). Благодаря этим рассказам у нас появляется замечательная возможность приблизиться к умонастроению тогдашних мучеников, к пониманию ими привилегированной связи с божественными силами (пророческий сон, вызываемый молитвой и призванный выяснить, подвергнутся ли они действительно страданиям или их помилуют — гл. 4) и пониманию ими самих этих сил (умерший в семилетием возрасте брат Перпетуи Динократ был дан ей в видёнии ее молитвами и затем освобожден от своих потусторонних страданий — гл. 7—8), к восприятию ими духовного превосходства (в видёнии они действуют как примирители в ссоре между их епископом Огггатом и пресвитером Аспасием — гл. 13), к ощущению ими прямого райского предназначения (гл. 10 слл.). Помимо наглядного осознания суровой реальности их пребывания в темнице (в ожидании официального разбирательства перед судом проконсула и затем, после осуждения, в ожидании кровавых игр), в случае с Перпетуей мы чувствуем еще и напряженность внутри ее семьи («я скорбела о том, что он — единственный из всей нашей семьи [genus] не радовался моему мученичеству» — гл. 5.6) и узнаём, что ее брат также был оглашенным (к тому времени младший брат уже умер, не будучи, как кажется, крещенным — гл. 7 сл.), а мать и (отсутствующий) муж, по всей видимости, уже были христианами. Отрешенность от этого мира подчеркнута готовностью Перпетуи оставить собственного грудного младенца (как и решимостью Фели- цитаты повторить то же). Народная масса (populus) изображена двояко: она выказывает и симпатию, и враждебность (гл. 17, 18.9, 20.2, 21.7). Перпетуа подробно (и определенно) сообщает о причинах своего осуждения: «Прокуратор Илариан <...> сказал: “Пощади седины отца твоего, пощади младенчество твоего сына, принеси жертву (fac sacrum) о благополучии императоров”. Я ответила: “Я не сделаю этого.” Илариан спросил: “Ты хрис¬
88 Тертуллианов «Скорпиак» вполне мог быть составлен в эту самую пору, когда «некоторые христиане были подвергнуты испытанию огнем, некоторые — мечом, а некоторые — дикими зверями, пока другие продолжали голодать в застенках, предвкушая свои страдания от дубин и когтей (гл. 1.11)»; см.: Barnes 1969. О «Страстях» см. исследование Б.-Д. Шоу (Shaw 1993).
828
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
тианка?” И я ответила: “Да, я христианка”. <...> После этого прокуратор вынес приговор обо всех нас, осудив нас на съедение диким зверям» (гл. 6.3 слл.). Смысл, заложенный в официальном приговоре, ясен: при условии принятия Перпетуей публичных римских ритуалов она может идти на все четыре стороны (при этом не имеет никакого значения, какой веры — и конечно же каких обрядов — она будет продолжать придерживаться частным образом). Камнем преткновения был исключительный, монопольный характер христианского богослужения. Этот путь был отвергнут (путь формального публичного исполнения римских церемоний с сохранением внутренней веры. —А.З.), так что осуждение стало неизбежным результатом именно ее непоколебимой приверженности Христу. Если бы, например, она отказалась приносить жертвы по римским правилам, а затем выяснилось бы, что она — иудейка, никакого наказания не последовало бы.
Эти эпизоды в Египте и Африке (на первый взгляд не имеющие друг к другу никакого отношения) многие пытаются связать со сжатым и сбивчивым пассажем в «Истории Августов» [Север. 16.8 сл.) о поездке Септимия вместе с Каракаллой из Сирии через Палестину в Александрию (то есть речь идет о 199 г.) и о том, что «во время своего путешествия Септимий предоставил палестинцам многие привилегии (iura). Под страхом суровой кары он запретил людям становиться иудеями (Iudaeos fieri). То же самое он постановил и относительно христиан (idem etiam de Christianis sanxit)». Впрочем, попытка установить указанную связь наталкивается на проблемы хронологического свойства; обозначенный императорский запрет не находит вообще никакого отклика в других наших источниках: в самом деле, в послании «К Скапуле» (4), датируемом 212 г., Тертуллиан изливает похвалы по поводу благосклонного отношения его адресата к христианам;89 к тому же не все известные нам жертвы попадают в предполагаемую категорию (новообращенных? — и их учителей); например, в данную группу не попадает Леонид. Приведенный выше пассаж из «Истории Августов» является, скорее всего, выдумкой, изобретением, отражающим озабоченности и предубеждения автора конца IV в., и, соответственно, соблазн связать все эти эпизоды следует отвергнуть90. Рассмотренные инциденты были, очевидно, типичными для тех опасностей, которым повсюду могли подвергаться как неофиты, открыто проявлявшие свой энтузиазм, так и стойкие приверженцы христианской веры. Та напряженная атмосфера, в которой жили христиане, неизбежно порождала энергичные разговоры о приходе Антихриста и страстные ожидания конца света (свидетельства именно по этому времени: Евсевий. Церковная история. VI.7 (писатель Иуда); Ипполит. Толкования на Книгу пророка Даниила. 4.18 (Сирия), 4.19 (Понт); Тертуллиан. Против Маркиона. Ш.24 (Палестина)).
89 «Кроме того, Север, зная, что некоторые знатнейшие женщины и знатнейшие мужчины («et clarissimas feminas et clarissimos viros») придерживаются этих убеждений, не причинял им никакого вреда и даже дал им свидетельства и открыто защищал их от нападавшей на них толпы (populo furenti)» (Тертуллиан. К Скапуле. 4.6).
90 См.: Schwarte 1963.
Глава 18b. Христианство III века
829
Впрочем, в сочинении «О венце» (1.1; монтанистский трактат, отнесенный к моменту, когда соимператоры Северы выдали щедрые подарки воинам, то есть его можно датировать временем не ранее конца 211 г.91), в рассказе о (карфагенском ?) воине, представшем перед судом префектов («reus ad praefectos» — 1.2) и брошенном в темницу, где его ожидал щедрый подарок в виде мученичества («donativum Christi in carcere expectat» — 1.3), сообщается, что его нарочитый отказ надеть церемониальный лавровый венок вызвал жалобы малодушных христиан на то, что «столь добрый и долгий для них мир подвергся опасности» («tam bonam et longam pacem periclitari sibi» — 1.5). Нужно думать, что Тертуллиан, как и его аудитория, знал не очень большое количество инцидентов, подобных тому, который произошел с Перпетуей, Фелицитатой и их товарищами, в промежуток времени примерно с 203 г.
При раннем Каракалле, судя по всему, особенно ничего не изменилось. Тертуллиан мимоходом сообщает о смертельной опасности, грозящей христианам в Нумидии и в Мавретании («nam et nunc a praeside Legionis, et a praeside Mauretaniae vexatur hoc nomen, sed gladio tenus» — «Ибо и теперь правитель Легиона и правитель Мавретании мучат за это имя [Христа], но только мечом». — К Скапуле. 4.8), как и о непрекращающемся напряжении в Проконсульской Африке (см. в том же сочинении, повсюду): один мученик назван по имени — Мавил Гадрументский, осужденный на бой со зверями (Там же. 3.5 — здесь имеются неясности текстологического характера). Узнаём мы и о нескольких переживших это время исповедниках, из чего следует, что они отстаивали свою веру при ранних Северах. Например, во время назначения Асклепиада в качестве антиохийского предстоятеля, в первый год единоличного правления Каракал- лы, то есть в 211/212 г. (согласно Евсевиевой «Хронике»), в темницу в Каппадокии был брошен епископ Александр как исповедник (Евсевий. Церковная история. VI. 11.5); впрочем, вскоре он был отпущен и переведен со своей кафедры в Каппадокии в Иерусалимскую епархию [Церковная хроника. VT.8.7). Асклепиад, в свою очередь, к моменту своего назначения в Антиохию публично исповедовал христианскую веру (Там же. VI. 11.4) — его исповедание (и освобождение) предположительно случилось в период принципата Септимия; преемник Асклепиада на антиохийской кафедре, Серапион, также имел случай отправить послание к некоему Домну (IIpoç A6[xvov), который «отпал от веры Христовой во время гонений» (Там же.
VI. 12.1), то есть опять же при Септимии, поскольку, согласно «Хронике» Евсевия, епископское служение Серапиона продолжалось со 191 по 210 год. Мы должны сделать вывод о том, что проблемы для христиан, помимо Африки и Египта, сохранялись в Каппадокии и в Сирии. Если же говорить об Африке, то в начале 251 г. Киприан [Письма. 39.3.1) мимоходом упоминает прославленных мучеников, родственников юного исповедника Целерина (публично исповедовавшего веру в царствование Деция), —
91
См.: Freudenberger 1970.
830
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
его бабку Целерину и двух дядьев (по отцовской и материнской линиям), Лаврентина и Игнатия, которые оба были воинами. Их мученические смерти (в Карфагене? — там ежегодно отмечали день их памяти) произошли, скорее всего, в достаточно отдаленном прошлом (в гл. 9 своего сочинения «О падших» (251 г.) Киприан говорит о том, что «продолжительный мир (pax longa) повредил учение», усыпив веру тех, кто уже в мирное время, по окончании гонения, забыл о том, как поступали верующие при апостолах), но все они должны были относиться к одному или двум последним поколениям. Такие [рассмотренные выше] разрозненные инциденты, носившие местный характер, по всей видимости, могли повториться где угодно и в любое время. Какими бы немногочисленными они ни были, вероятность их учащения являлась высокой, а сама обстановка, в которой жили христиане, оставалась для последних небезопасной и наполненной рисками.
Впрочем, насколько мы понимаем тогдашнюю ситуацию, данная модель рискового существования заметно менялась. Имеется очень мало свидетельств о вспышках ненависти со стороны толпы по отношению к христианам на протяжении приблизительно четверти века до 250 г. Быть может, в то время христианство стало более привычной частью многоцветного религиозного ландшафта, приобретя более открытый, а потому и менее пугающий характер? Для данного периода известно и весьма небольшое количество христиан, привлекавшихся к суду. Но видимость может оказаться обманчивой, а наше понимание — искаженным в силу диктата имеющихся источников: например, в промежутке времени между Тер- туллианом и Киприаном мы располагаем скудными западными свидетельствами, а там, где они всё же имеются у нас (например, благодаря каталогам римских понтификов), многие из этих свидетельств доверия не вызывают92. Самое раннее и самое надежное из них («Каталог Папы Либерия») прямо сообщает о ссылке в 235 г. Папы Понтиана вместе с пресвитером Ипполитом на опасный для здоровья остров Сардинию (и об отставке первого из них со своего поста в конце сентября уже на этом острове)93. Мы просто не знаем, какие именно обстоятельства могли послужить поводом для этой акции. Но и здесь опять же помогает свидетельство Евсевия (хотя об этих конкретных событиях, связанных с Понтианом и Ипполитом, сам он, по всей видимости, ничего не знал). Итак, в его «Церковной истории» (VI.28), читаем:
92 Напр., легендарные истории о случившихся в Риме в 222 г. смертях Папы Каллиста (был сброшен в колодец с камнем, привязанным к шее), престарелого римского пресвитера Калеподия (его тело было выброшено в Тибр) и римского пресвитера Астерия (сброшен с моста в Тибр) говорят — если только эти рассказы подлинные — о погромах, устроенных, на первый взгляд, народной толпой, однако подтверждения для этих случаев поздние и ненадежные (Acta SS Octob. Vol. VI.439 слл. (сами акты), 410 слл. (обсуждение); Duchesne 1955—1957:1: ХСП сл.).
93 Chron. Min. 1.74 слл. Более поздняя «liber Pontificalis» («Книга понтификов») содержит ненадежную информацию о том, что Понтиан погиб в конце октября того же года, будучи забит дубинами, см.: Duchesne 1955—1957 I: 145 сл. (а также обсуждение этого сообщения: Там же. I: XCTV сл.).
Глава 18b. Христианство III века
831
После императора Александра, царствовавшего тринадцать лет, власть принял кесарь Максимин. Из ненависти к дому Александра, состоявшему большей частью из верующих, он начал гонение, но казнить велел — как виновных в обучении христианству — только стоявших во главе церквей. В это время Ориген написал «О мученичестве» и посвятил это сочинение Амвросию и Протоктиту, кесарийскому пресвитеру, — всё вокруг в это гонение было для обоих крайне неблагоприятно. Рассказывают, что они прославили себя и исповеданием при Максимине, царствовавшем не дольше трех лет. Время этого гонения указано Оригеном в 22-й книге его «Толкований на Евангелие от Иоанна» и в его разных письмах.
Перев. М.Е. Сергеенко
К сожалению, мы не имеем ни собрания писем Оригена, которым располагал Евсевий [Церковная история. VI.36.3), ни имевшейся у него двадцать второй книги Оригеновых толкований на Евангелие от Иоанна (откуда Евсевий вывел датировку гонения христиан), но информация о гонениях подтверждается тем, что в «Увещевании к мученичеству» Ориген обращается именно к Амвросию (диакону и патрону Оригена) и не известному по другим источникам священнику Протоктиту, призывая их, правда, в самых общих и увещевательных выражениях, встретить грозящие беды с непреклонной отвагой. К сожалению, какие-либо подробности отсутствуют (гонение это Амвросий пережил, и именно ему посвящено сочинение «Против Цельса», составленное дюжиной лет позднее, около 248 г.). Всё остальное, как представляется, — это заключения и обобщения самого Евсевия (императорская мотивация94, общая атака именно на церковных лидеров как ответственных за проповедь Евангелия), основанные, по всей видимости, на его собственном недавнем житейском опыте. По иронии судьбы, там, где мы всё же имеем некоторые сопутствующие свидетельства, они лишь заставляют еще больше усомниться в справедливости Евсевиевых обобщений.
В самом деле, осенью 256 г. Фирмилиан, епископ Цезареи Каппадокийской, написал Киприану (Киприан. Письма. 75.10.1 сл.) следующее:
(10.1) Я хочу рассказать вам один случай, бывший у нас, который относится к настоящему предмету. Почти за двадцать два года пред сим, после времен императора Александра, произошли здесь многие смуты и бедствия, касавшиеся или всех людей, или в частности христиан; было весьма много и частых землетрясений, произведших немалые опустошения в Каппадокии и Понте, где некоторые города совершенно разрушены и поглощены разверзавшеюся землей. Из-за этого было воздвигнуто тяжкое гонение на нас — христиан, которое сделалось еще тяжелее оттого, что возникло нечаянно после продолжительного спокойствия, при внезапном и необычайном бедствии, смутившем народ. В то время правителем нашей области был Серениан — гонитель злой и жестокий.
(10.2) Когда верующие, находясь в страшном замешательстве и боясь гонения, убегали в разные места и, оставляя свое отечество, переходили в другие части обла¬
94 Сопоставьте с подобной же мотивацией, приписывавшейся позднее Децию (Евсевий Церковная история. VI.39) и исходившей из предполагаемых симпатий к христианам со стороны его предшественника Филиппа (VI.34), а также: Оракулы Сивилл. ХШ.87 сл. («И немедленно случится грабеж и убийство верующих из-за упомянутого царя»), с комментариями (и текстом): Potter. Prophecy, см. пояснения к указ, месту.
832
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
сти (а переходить можно было потому, что это гонение было не общее, а местное), явилась здесь какая-то женщина, которая, будучи в исступлении, выдавала себя за пророчицу, будто бы действовавшую по внушению Святого Духа. Главные демоны так управляли ее действиями, что она долго увлекала и обманывала братство, совершая чудные и необычайные дела; она даже предсказала, что произведет землетрясение, — не потому, чтобы демоны были столь сильны, что могли бы приказать земле трястись или привесть в беспорядок стихии, но потому, что нечистый дух, предвидя и зная, что последует землетрясение, предваряет, будто он сделает то, что на самом деле только предвидит95.
Фирмилиан, епископ Цезареи Каппадокийской. Послание к св. Киприану. Цит. по: Киприан, епископ Карфагенский. Творения св. Священномученика Киприана...: В 2 ч. Киев, 1879. Ч. 1: Письма.
С. 379—380 (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 1).
Переводчик неуказан.
Фирмилиан утверждает, что описываемое им гонение 235 г. было местным и коснулось Каппадокии и Понта (в отличие от недавнего преследования при Деции), при этом недвусмысленно называет его истоки (не инициатива императора, а реакция языческого населения, включая наместника Лициния Серениана [PIR2 L245), на серию локальных землетрясений)96 и говорит о его жертвах (христианские приходы, а не одни только церковные лидеры). Важны указания на общую атмосферу суеверной истерии, вызванную природными бедствиями, а также на долгий период, прошедший в регионе без гонений (мы знаем, что этот период продолжался со времени наместничества Клавдия Луция Герминиана и исповедания епископа Александра). Понятно, что подобные истории, происходившие с церковными общинами, могли быть типичными для многих регионов империи.
В общем, разумно сделать вывод о разрозненном характере гонений в Палестине, Каппадокии и Риме в период 235—238 гг. (и, весьма вероятно, в иных местах), а не о всеобщей опале церковных лидеров, постулируемой Евсевием97. Мы остаемся в неведении, происходили ли в последующие более чем десять лет хоть какие-то новые преследования. В самом деле, то, что пишет Ориген ближе к концу 240-х годов, подтверждает общее впечатление, согласно которому этот период был для христиан мирным [Против Целъса. 3.15):
95 Комментарии: Clarke G.W. 1989: 263 слл.
96 Ориген в своем толковании на стих 24: 7 Евангелия от Матфея (GCS 38 = Ориген 11, Klostermann 1976: 75) приводит личное наблюдение, чтобы указать на признаки приближающегося конца света: «Мы лично знаем (scimus autem et apud nos) о землетрясении и разрушении, которые случились в некоторых областях. В результате язычники, не знающие веры, заявили, что в землетрясении виновны христиане, поэтому церкви пострадали и были сожжены — и даже те, кто считался людьми разумными, также публично утверждали, что землетрясения случаются из-за христиан». Весьма вероятно, что Ориген, посещавший Фирмилиана в Каппадокии, ссылается на те же самые события, о которых последний упомянул в своем послании к Киприану (в данном случае мы имеем дополнительную подробность о сожжении церквей).
97 Подробней см.: Clarke G.W. 1966; Lippold 1975.
Глава 18b. Христианство III века
833
И что вовсе не страх перед внешними врагами поддерживает нашу организацию, это явствует из того факта, что по воле Божией этот страх уже давно прекратился. Впрочем, очень вероятно, что настоящее спокойное состояние гражданской жизни для верующих не может продолжаться долго; ведь те, которые всяким способом стараются навлечь подозрения на нашу веру, желают видеть причину столь сильного смятения наших дней98 99 в очень большом количестве верующих и в том обстоятельстве, что верующие более не преследуются властями, как это было раньше.
Перевод А Писарева
Кроме того, оценивая разорения, причиненные Дециевым гонением, Дионисий Александрийский также мог говорить о предыдущем принципате Филиппа как о «более благожелательном» (eupeveaxepa) по отношению к христианам (цитируется у: Евсевий. Церковная история. VL41.9). В целом свидетельства о преследованиях, как эти свидетельства дошли до нас, могут указывать на то, что постепенно, в течение первой половины Ш в., в империи стали всё больше мириться с присутствием христианства и, соответственно, интенсивность физических домогательств к христианским общинам ослабевала".
Однако случайно дошедшая до нас часть послания Дионисия Александрийского (письмо адресовано Фабию Антиохийскому примерно в 251/252 г.), сохраненная Евсевием {Указ. соч. VI.41), показывает, что не стоит спешить с созданием слишком благодушной и чересчур оптимистичной картины. Без этого текста мы не знали бы о неистовых толпах тузем- цев-египтян (с точки зрения рафинированного эллина-христианина Дионисия), которые бесчинствовали на улицах и в переулках Александрии, грабили дома христиан, заставляя тех спасаться бегством, и расправились самосудом с четырьмя жертвами (старца Метру и женщину Квинту забили до смерти камнями; Аполлонию сожгли; Серапиона сбросили вниз головой с верхнего яруса его дома). Этот лютый и буйный погром (в отсутствие официального преследования) продлился, как нам сообщается, долгое время (em mÀu — цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VI.41.8), начавшись с получения соответствующих распоряжений Деция (то есть на исходе 248 — в начале 249 г.). Полезно напомнить, что об этом народном волнении нам известно только потому, что Д ионисий пожелал подчеркнуть благочестивую позицию своей александрийской Церкви — перед тем как, в конечном итоге, обратился с назиданием к Антиохийскому патриарху о необходимости простить грех отступничества, по примеру того, что сделала его александрийская Церковь (цитируется в: Указ. соч. VL42.5 слл.; VI.44.1 слл.). Было бы слишком легко прийти к заключению (как делают многие), что к середине века христиане перестали быть мишенью для народной ярости. Исторические события наступившего следом года сви¬
98 Здесь, вполне возможно, имеется в виду смута, поднятая Т. Клавдием Марином Па- кацианом, хотя на эту роль имеются и другие кандидаты.
99 Лактанций также отражает ощущение, что гонение христиан Децием началось неожиданно после долгого периода мира: «sed et postea longa pax rupta est» [О смертях гонителей. 3.5).
834
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
детельствуют о том, что одни и те же сцены повторялись в Риме, Александрии, Карфагене, Смирне (а также, вне всякого сомнения, и в других местах).
III. Дециево гонение
1. Краткий обзор
Прежде всего будет представлен беглый обзор хода событий, относящихся к этому преследованию, за чем последует несколько детализированных разделов, оправдывающих избранную здесь конструкцию для этой сводки. Источники обильны: они включают в свой состав прежде всего переписку Киприана (особенно письма 5—41) и его трактат «О падтпих», послания Дионисия Александрийского (по большей части сохранившиеся в выдержках в «Церковной истории» Евсевия, в книгах VI и УП), «Деяния Пиония» и сорок пять сохранившихся Дециевых «удостоверений» («libelli») из Египта.
Император Деций после узурпации им власти сумел укрепить ее к осени 249 г. Вскоре после этого все провинциальные наместники получили из Рима распоряжение провести всеобщее жертвоприношение богам империи; вероятно, данная акция была намечена на 3 января 250 г. и приурочена к публичной гражданской церемонии vota solemnia (священные молебны) — ежегодно совершаемым жертвоприношениям за личное благоденствие государя (при всей своей привлекательности такой антураж для начала преследований христиан был совершенно спекулятивным). В любом случае, многочисленные жертвы были засвидетельствованы еще за месяц до начала января 250 г.100. На первый взгляд, произошедшее явно напоминало некий жест в подражание старинным обычаям — по образцу supplicatio — общего молебствия, когда в отдаленном прошлом во время какого- нибудь бедствия Сенат обращался к народу Рима с призывом заполнить все храмы и святилища богов — заступников государства, однако масштаб этой операции в данном случае был совершенно беспрецедентным: это был религиозный сбор жителей всей империи для получения благоволения защищавших ее богов, а также для поддержки новой династии, от священного покровительства которой свыше отныне зависела судьба державы. Приход к власти предполагаемой новой династии ознаменовывал вступление Рима в свое второе тысячелетие (тысячелетние игры и пыш¬
100 Первой известной жертвой являлся римский епископ Фабиан, погибший 20 января 250 г. [Liber Pontificalis [Книга понтификов). 21—19 января; Martyrologium Hieronymianum [Мартиролог Иеронгша). ХШ Kal. Feb. (= 20 января), PL ХХХ.440). День памяти Вавилы, епископа Антиохии, умершего в заточении (Евсевий. Церковная история. VT.39.4), отмечается 24 января [Acta Sanctorum [Деяния святых). Том П.2 (1931): 59 сл.), но погиб он, скорее всего, в 251-м, а не в 250 г. Дионисий Александрийский (цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VI.41.9) прямо говорит, что эдикт Деция о проведении всеобщего жертвоприношения богам империи прибыл в Александрию вскоре после известий о смене властителя на троне.
Глава 18b. Христианство III века
835
ные зрелища были проведены с огромной помпой и фанфарами в прошлом, 248-м, году). Наши источники не уточняют, какие именно боги были почтены с таким великолепием, так что в разных местах могли быть разные варианты: скажем, в Смирне центром действа могло стать святилище Немесиды, в Александрии — Сераписа, в более романизированных гражданских общинах — святилища Капитолийской триады (Юпитера, Юноны и Минервы); либо это мог быть более личный культ (диалог Пиония с проконсулом Азии, в котором последний тщетно побуждал первого, христианина, совершить жертвоприношение любому божеству, какое тот только мог себе вообразить — воздуху, если угодно, — выявляет еще одну характерную особенность рассматриваемого гонения, см.: Деяния Пиония. 19 сл.). Но публичное проявление религиозного пиетета следовало осуществить путем возлияния и вкушения жертвенного мяса101. Культ императора непосредственно задействован не был, кроме как в качестве способа (подобно прошлым временам) испытать степень христианского упрямства — или получить подтверждение отступничества102. Задача состояла в том, чтобы добиться проявления почтения к богам, за которым необязательно следовало отречение от личных или местных верований либо культовых ритуалов (каковых, естественно, была целая тьма на всем необозримом пространстве державы, включая христианство). Впрочем, в случае с эдиктом Деция имеется некое предвкушение автократии, которая будет характеризовать систему правления в IV в.: исходящие сверху директивы оказывают влияние на жизнь всей державы, когда центральные власти пытаются решить проблемы управляемости и контролируемости громоздкой и чрезвычайно неоднородной империи. Здесь предчувствуется нейтралистское давление ради согласованности и однородности. Христиане определенно должны были рассматривать такую метаморфозу как драматический и, несомненно, радикальный отход от их опыта более нейтрального отношения со стороны государства к их религии, которое было характерно для предыдущих лет: по сравнению с нынешним, прежние режимы могли показаться мягкими103. Перемена была весьма серьезной: отныне именно религиозное чувство императорского суда—скорее, чем настроение толпы на местах — определяло, насколько сносным или, наоборот, невыносимым будет положение христиан. Это был переломный момент. И в источниках
101 В одном из своих посланий (55.2.1) Киприан делает уникальное в своем роде замечание, желая хотя бы слегка смягчить отступничество епископа Трофима и его паствы и характеризуя их словом «thurifîcati» (т. е. «воскуривающие фимиам»), а не более гнусным обозначением «sacrificati» (т. е. «приносящие жертвы»).
102 Об этом говорится в «Деяниях Пиония» («Acta Pionii»), в 8.4 (Полемон, храмовый служитель, побуждает Пиония: «Принеси жертву, по крайней мере, императору») и в 18.14 (отрекшийся епископ Евктемон клянется тюхе (счастливой судьбой) императора, что он, Евктемон, не является христианином).
103 Вероятный источник широко распространенной веры (что отнюдь не гарантирует ее исторической обоснованности) о христианстве императора Филиппа отражен в свидетельствах: Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VU. 10.3; Там же. VI.34; Оракулы Сивилл. ХШ.88 (см. комментарий: Potter. Prophecy 267 сл.).
836
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
многократно повторяются слова о внезапном и неожиданном начале преследования христиан.
Вместе с тем понятно, что целью законодательства была атака не на христианство как таковое. Впрочем, к этому времени епископы могли быть уже видными фигурами, особенно в крупных митрополичьих городах, где им приходилось управлять большими конгрегациями. От них требовали без промедления вести свою паству к языческим алтарям104. Вследствие этого христиане вскоре становились жертвами своего отказа подчиняться этому требованию (иудеев, очевидно, это не затронуло, поскольку к тому времени в римских религиозных вопросах они соблюдали официальную традицию)105. Последовавшие в течение 250 г. события показывают, что в большинстве случаев ради принуждения христиан к подчинению применялись скорее разнообразные варианты давления (пытки, конфискации, изгнание, помещение в узилище с различной степенью лишений), нежели судебные приговоры (относительно редкие) о применении смертной казни. Здесь, как и прежде, определяющими факторами могли стать изменчивое настроение местной народной массы (которой, чтобы успокоиться, требовалось проявить благоразумие) либо терпение (или благочестие) наместника. Хотя Дециево преследование — первое из числа «общеимперских гонений» — стало для исповедовавшихся христиан, вне всякого сомнения, временем глубоко укоренившегося страха и мрачных предчувствий, в реальности данный период был менее зловещим, чем могут заставить нас думать многие современные событиям сводки (и позднейшие «Деяния»).
Одной из примечательных особенностей Дециевых распоряжений была сертификация лояльности — выдача особых удостоверений (libelli), подписанных официальными свидетелями, в которых подтверждалось, что предъявитель такого аттестата выполнил распоряжения по исполнению официального культа и совершил полагавшиеся жертвоприношения. Такое удостоверение, несомненно, защищало человека от дальнейших притеснений (напоминая расписку в уплате налогов). Копии сорока пяти таких сертификатов были найдены археологами в Египте106.
104 Так, в Александрии тогдашний префект Египта Аппий Сабин тот же час по объявлении Децием гонения послал фрументария (frumentarius, чин тайной полиции) разыскать епископа Дионисия, см.: Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Указ. сон. VI.40.2.
105 Деяния Пития (Acta Pionit). 3.6, 4.2 слл., 13 сл. — здесь сохранилась память о том, что с иудеями могли обращаться не так, как с христианами. Надеялись ли те христиане, которых иудеи приглашали в свои синагоги, на освобождение от Дециевых распоряжений (Деяния Пития. 13.1)? (Ср.: Домн — цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VI. 12.)
106 См.: Knipfing 1923 — издание сорока одного такого документа (Ne 35—36 переизданы в: Р. Mich. Ш. 157—158); еще четыре опубликованы в PSI VTI.778; Schwartz 1947 = SB VI.9084; Р. Оху. ХЫ.2990; ХУШ.3929. Фразеология этих «удостоверений» («libelli») стандартизирована и соответствует некоему шаблону: просители декларируют, что они «всегда приносили жертвы и совершали жертвенные возлияния богам», также и теперь во исполнение повелений они «приносят жертвы, совершают возлияние и вкушают жертвенное мясо».
Глава 18b. Христианство III века
837
Нет серьезных оснований думать, что получение таких документов требовалось только от подозреваемых в исповедании христианства. Бюрократические последствия должны были быть огромными, а во многих менее урбанизированных или менее бюрократизированных округах проблема могла стать почти непреодолимой. Мы вынуждены признать, что замыслы Деция отнюдь не были пустой затеей: глубину традиционного благочестия, подразумевавшего понятие долга, нельзя недооценивать. Для выдачи этих сертификатов и для надзора за ходом жертвоприношений были учреждены специальные, различавшиеся по составу в зависимости от места, комиссии местных уполномоченных107. Устанавливалась также точная дата («dies <...> praestitutus». — Киприан. О падших. 3), до наступления которой местные жители обязаны были явиться для исполнения ритуала жертвоприношения; после этой даты члены комиссии, видимо, должны были иметь дело с опоздавшими, отступниками и с привлекшими их внимание уклонистами. Упрямцев оставляли томиться в тюрьме в ожидании рассмотрения их дел должностным лицом более высокого статуса. Имеются все признаки того, что по истечении двенадцати месяцев с даты, установленной для проведения ритуала жертвоприношения, все эти комиссии были распущены, христиане, всё еще томившиеся в узилище, освобождены, а изгнанникам было позволено вернуться в места прежнего пребывания: беженцы начали возвращаться, и те, кто скрывался, почувствовали возможность покинуть тайные укрытия. К марту 251 г. епископы уже открыто планировали съехаться на собор. К этому времени стало ясно, что опасность миновала. И случилось это задолго до смерти Деция в июне 251 г.
Остается предположить, что Деций немало бы подивился своей посмертной репутации в христианской традиции: для Аактанция он — «гнусный зверь», «execrabile animal» (О смертях гонителей. 4); внимание императора занимали куда более важные государственные дела, чем судьба относительно немногочисленных непоколебимых в упрямстве христиан. Что же касается его религиозной программы в целом, то он мог даже считать ее вполне успешной. В конце концов, огромное количество язычников, как и отрекшихся христиан, воздали по всей империи почести ее богам (хотя нам и непросто уразуметь теологию, в рамках которой боги могли считаться почтёнными кем-либо в случае притворного заявления о неизменном благочестии этого человека, как то могли делать христиане, на словах отмежевывавшиеся от своей веры).
107 Если судить по сохранившимся документам, в египетских деревнях состав комиссий варьировался от двух уполномоченных с секретарем в придачу до единоличного местного магистрата (притана); в Смирне комиссия, как выясняется, состояла из «храмового старосты и тех, кто был им назначен» [Деяния Пиония. 3.1); в Испании епископ Мар- Диал предстал перед прокуратором дуценарием, см.: Киприан. Письма. 67.6.2. В большом городе Карфагене экзаменаторы состояли из «пяти видных граждан, связанных с городскими магистратами», см.: Там же. 43.3.1 («quinque primores <...> magistratibus <...> copulati»), тогда как в более мелком африканском городке Капсе за всё действо единолично отвечало одно должностное лицо, см.: Там же. 56.1.1.
838
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
2. Правительственные распоряжения
Кому было предписано совершать жертвенные ритуалы — всем гражданам или же всем жителям империи, включая рабское население? Словоупотребление в некоторых пассажах у Киприана определенно оставляет впечатление, что распоряжения касались всех людей, независимо от пола, возраста и гражданского статуса. Благодаря одному месту [Письма.
15.4) становится понятным, что целые семьи, прежде отрекшиеся от христианства, стремились получить разрешение на литургическое общение: «<...> к нам могут являться по двадцати, тридцати и более человек, уверяя, что они — родные, свойственники, вольноотпущенные и слуги того человека, который получил свидетельство о прощении» (выданное кем-нибудь из мучеников). Выражение «liberti et domestici» («вольноотпущенные и слуги») вполне может подразумевать и рабов. Похожее умозаключение можно вывести и из другого письма Киприана (55.13.2), в котором упоминается некий христианин, который единолично принес жертвы от имени «всей своей семьи, предохраняя тем самым свою жену, своих детей и всех членов дома (domum totam)»108. Не исключались даже младенцы [О падших. 9, 25)109. Это было широкомасштабное религиозное объединяющее действо, что подтверждается свидетельствами о последовавших гонениях в Испании, Галлии, Италии, Сицилии, Африке, Египте, Палестине, Сирии, Понте и Азии.
Египетские libelli, опубликованные на данный момент, были выданы в промежуток времени между серединой июня и серединой июля 250 г., то есть через целых шесть месяцев после обнародования эдикта, по крайней мере в некоторых других частях империи. Не принадлежат ли эти libelli второй, и более напряженной, стадии Дециева гонения, когда такие удостоверения стали обязательными? Возможно, так оно и есть. Но свидетельства, касающиеся Рима, указывают, что сертификация требовалась, по крайней мере, уже в марте: Нумерия, откупившись от реального жертвоприношения перед Пасхой (7 апреля 250 г.), тем самым совершила грех, повлекший отлучение ее от литургического общения (Киприан. Письма. 21.2.1, 3.2). Она, очевидно, приобрела за взятку уличающее ее удостоверение (сравни с еще одним пассажем в другом письме Киприана: 55.14.1 сл.), то есть совершила деяние, которое многими (по крайней мере в западной
108 Кормилица (nutrix), упомянутая в сочинении «О падших» (25), скорее всего, не являлась рабыней. Сабина [Деяния Пиония. 9.3 слл.) явно была рабыней, но, поскольку она являлась беглянкой, были предприняты усилия, чтобы скрыть ее настоящую личность. Дионисий говорит о многих мучениках в Александрии, среди которых были «мужчины и женщины, как юноши, так и старики, как девушки, так и старухи, как воины, так и гражданские, любого племени и любого возраста» — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VTL 11.20. Об аргументах, чтобы не включать рабов в условия эдикта, см.: Selinger 1994: 105 сл.
109 Как это ни странно, мы ничего не слышим о воинах-исповедниках или мучениках (кроме пяти добровольных мучеников в Александрии — цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VI.41.16, 22 слл.) — упоминания о воинах отсутствуют и во втором Валериановом рескрипте, изданном на исходе того же десятилетия.
Глава 18b. Христианство III века
839
части державы) расценивалось как равносильное измене христианской вере. Равно и Киприан в мае 250 г. мог упоминать [Письма. 15.3.1) о степенях отступничества: в частости, в этом плане он противопоставляет «получивших удостоверение» («libellatici») «совершившим жертвоприношение» («sacrficati») (см. пояснение в другом месте — 20.2.2: «<...> те, которые уже запачкали свои руки и губы кощунственной заразой или же всё-таки загрязнили свою совесть получением нечестивых удостоверений»). Обо всем этом он упоминает мимоходом, не как о какой-то новой волне опасностей, только что накрывшей христиан: уже к маю 250 г. в Карфагене образовалась значительная и назойливая группа просителей libellos. По личному опыту Киприана, выдача этих удостоверений стала рутинной частью данного гонения.
Принимая во внимание места происхождения известных египетских libellorum (Теадельфия, Александру Несус, Филадельфия, Оксиринх, Ар- синоя, Нармутис, Тосбис), можно предположить: чтобы распоряжения Деция дошли до этих верхних областей страны и чтобы на местах были установлены конкретные даты для их реализации, потребовалось некоторое время (аналогичные проволочки случились и с обнародованием первого Диоклетианов а эдикта против христиан: в Никомедии — 23 февраля 303 г., в городке близ Карфагена — 5 июня 303 г.). Если такое и в самом деле происходило, то из этого вытекает один вывод: христиане, обитавшие выше по Нилу, могли заблаговременно получить от своих собратьев, проживавших в Нижнем Египте, на побережье, предупреждение о грядущем испытании и имели возможность спрятаться или удалиться. Это обстоятельство значительно уменьшает вероятность обнаружения отрекшихся христиан среди тех, кто упоминается в libellis, найденных в Египте.
3. Обеспечение исполнения постановлений
Имеющиеся источники позволяют мельком взглянуть на эпизоды, связанные с работой комиссий. Мы видим, как назначенные магистраты с трудом удерживали толпу, кипевшую желанием доказать (основательно или нет) свою религиозную лояльность [О падших. 8, 25); время от времени из толпы выходили вперед христиане, занимавшие видное положение, подталкиваемые язычниками-подстрекателями выказать свою покладистость (Дионисий — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VI.41.il). Источавшие дым алтари были воздвигнуты по всему форуму, чтобы справиться с большим наплывом народа, жаждавшего совершить жертвоприношение, но вот что показательно: в более крупных и романизированных городских центрах к алтарям, установленным перед Капитолийским храмом, медленно двигались длинные вереницы процессий (Киприан. Письма. 8.2.3; 21.3.2); когда паломник приближался к алтарю, он (она) размещал на нем порцию ритуального жертвенного мяса, выливал на него небольшое количество вина и вкушал маленький кусочек жертвенного мяса, загодя специально приготовленного на данный случай. (Сообщается, что некого-
840
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
рые отступники столь энергично выказывали языческую лояльность, что приводили с собой собственное жертвенное животное — hostia и victima (О падших. 8)). Затем пилигрим предъявлял комиссии написанный им libellus (возможно, в двух экземплярах);110 часто, в случае с неграмотным человеком или тем, кто изъяснялся только на своем родном языке, этот документ изготавливался местным нотариусом. Текст оглашался принародно («publice legitur». — Киприан. Письма. 30.3.1), проситель подтверждал, что это именно его (ее) удостоверение (Там же. 30.31; 55.14.1), и далее один или несколько членов комиссии надлежащим образом и в соответствующем месте заверяли документ своими подписями.
Наши источники позволяют увидеть также примеры хитрого уклонения от исполнения распоряжений: вместо реального выполнения предписанных языческих ритуалов христиане чаще всего подкупали соответствующее официальное лицо или официальных лиц и просто приобретали за деньги libellum. Тем самым они могли обеспечить себе иммунитет от предусмотренных эдиктом наказаний и при этом, как им представлялось, сохранить нетронутой свою христианскую веру (см.: Там же. 55.14). Писавший на одно (или около того) поколение раньше Тертуллиан свидетельствует, что взятка ради того, чтобы вырваться из когтей гонителя, была привычным делом для христианина, и, будучи человеком с суровым характером, эту практику он считал для себя неприемлемой (О бегстве во время гонений. 5.3, 12—14). Очевидно, что другие относились к этому иначе.
Либеллатики (libellatici), то есть христиане, которые в период Дециева гонения приобретали удостоверения (libelli) об исполнении ими языческих обрядов, с тем чтобы обеспечить себе свободу от грозящего преследования (как, согласно Тертуллиану, поступали христиане в прошлом), не видели больших отличий между передачей денег презесу, то есть римскому наместнику (или предполагаемому доносителю — delator’y), и передачей денег либо лично, либо через посредника (Киприан. Письма. 30.3.1; 55.14.1 — о посредниках) местному должностному лицу, чтобы получить libellum и с его помощью — свободу от домогательств, предусмотренных эдиктом Деция. Но для церковных властей, мысливших в терминах права, по крайней мере на западе империи, имело значение, что именно покупалось (для востока наши источники относительно скудны)111. Для хрис-
110 Сохранились два идентичных libelli, выданных Аврелии Харите (Knipfing 1923: № 11, 26), из которых одно из удостоверений — копия для муниципального архива (?). Один экземпляр, как выясняется, имел архивный номер — см. комментарий Дж. Рю Ри (J.R. Rea) на папирусный текст: Р. Оху. LVÜL3929 примем. 22. Девятнадцать сертификатов из Теадельфии, найденные в одном месте, определенно указывают, что мы имеем дело с официальными копиями, к концу гонения сразу же утратившими актуальность и выброшенными еще до того, как получили нумерацию и были склеены вместе для архивирования в муниципальной картотеке. Другая группа таких документов, выполненных на папирусе одинаковой формы и качества, была написана рукой одного писца. Один экземпляр имеет заголовок «атсоур<афт|>» («заявление»), и это заставляет думать, что требовалось заявление, по крайней мере, от главы каждого домохозяйства — по аналогии с цензом, «xocTotxiocv атсоурасрт)».
111 Хотя Дионисий Александрийский в своей утраченной работе (адресованной «к тем, кто в Египте») «О раскаянии» (Евсевий. Церковная история. VI.46.1) всё же отличает сте-
Глава 18b. Христианство III века
841
тианина такая взятка была равносильна формальному заявленю о своем отступничестве, и, признавая libellum своим собственным документом, христианин, формально, становился виновным в отказе от веры. Тем самым он пополнял ряды lapsorum, падших (эта идея решительно высказана в: О падших. 27 сл.).
Дабы избежать следствия со стороны властей или доноса в комиссию, многие христиане спешно покидали родные края. Епископы из отдаленных провинций пытались затеряться в римской толпе (Киприан. Письма.
30.8.1); мы, например, слышим о шестидесяти пяти беженцах из Карфагена, о которых заботились две сестры Целерина в Риме (Там же. 21.4.1). В свою очередь, христианские беглецы укрывались и в карфагенской толпе; они нуждались в средствах для удовлетворения своих первейших потребностей (Там же. 7.2 (peregrini)) и могли находить пристанище в домах христиан, как бы замещая собой покинувших Карфаген местных ссыльных и беженцев («extorres et profugi»), каковых было множество (Там же. 55.13.2). Григорий Чудотворец избрал для себя в качестве безопасного места Понтийские горы (согласно Григорию Нисскому, см.: PG 46.945); подобным же образом многие египтяне уходили на «Аравийскую гору», спасаясь от гонений, но сталкиваясь там с новыми неисчислимыми опасностями (Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VI.42.2 слл.).
Когда преследования сошли на нет, Киприан смог созвать свой Африканский собор, состоявшийся в первой половине 251 г., на который съехалось «большое число епископов», и эти епископы были «невредимы душой и телом» [Письма. 55.6.1). Милосердие гостеприимных собратьев-христи- ан гарантировало, что даже главные церковные фигуры, епископы, смогли спастись бегством, не совершив никакой сделки с совестью. Почти отсутствуют данные о том, что были организованы какие-то систематические мероприятия по их розыску. Власти, как представляется, полагались на доносы как на главное средство дальнейшего расследования; и чем человек был бедней, малозаметней и скромней, тем меньше у него было шансов стать жертвой доноса. Очень многие христиане были действительно бедными и незначительными людьми, и беда их миновала. Они остались stantes, то есть сохранили стойкость, и являются простыми молчаливыми героями Дециева гонения112.
пени виновности падших. Он написал также послание к церкви в Армении о покаянии (VI.46.2), в которой, как утверждает Иероним, Дионисий опять различал степени греховности (О знаменитых мужах. 69) — означает ли это, что провинция Малая Армения также подпадала под действие Дециева эдикта?
112 Киприан, который, являясь заметной фигурой, вынужден был скрываться, настаивал на том, что священники более низкого ранга должны продолжить его дело в Карфагене, если они mites (тихи), humiles (смиренны), quieti (миролюбивы), taciturni (молчаливы), т. е. если они не привлекают к себе внимания, напр.: Письма. 5.2.1; 14.2.1. Также и Дионисий (сосланный в Ливию) сообщал, что четыре пресвитера притаились и продолжали тайно посещать братьев в Александрии, тогда как два других, «будучи более известными в миру», скитались по Египту (цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 11.24).
842
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
4. Жертвы
Когда комиссия сама или с помощью доноса выявляла инакомыслящего, когда известного христианина арестовывали воины, производившие розыск, или когда он был силой притащен соседями к алтарю и публично отказался приносить жертву, когда какой-нибудь фанатичный христианин дерзко и демонстративно отказывался подчиниться или когда человек сначала совершил жертвоприношение, а впоследствии добровольно заявил о том, что он отрекается от своих прежних действий, тогда задача местных должностных лиц становилась предельно ясной: после подтверждения указанных фактов, а также, возможно, после попытки давления на упрямца, с тем чтобы он уступил (ср.: Деяния Пиония. 15 слл.), они передавали дело на рассмотрение наместнику, дабы тот разобрал его во время одной из поездок по своему судебному округу, conventus. Ибо хотя местные чиновники могли испытывать искушение действовать в подобных делах по своему усмотрению, «ultra vires», вопрос определенно находился вне юрисдикции таких младших магистратов; возможным наказанием была смертная казнь (ее применение, вероятно, подробно не регламентировалось). После первичного тяжелого испытания и исповедания своей веры христианин мог быть заточен в темницу в ожидании суда, затем он представал перед трибуналом наместника, на котором получал окончательный приговор. На процессе судья мог воспользоваться своим законным правом судейского усмотрения и закрыть дело113, либо обвиняемый мог быть приговорен к одной из форм изгнания (с конфискацией имущества). Впрочем, поскольку отступники (почтившие богов) были желательнее мучеников, подсудимым могли назначаться пытки и дальнейшее тюремное заключение с более или менее строгим режимом содержания. При таких обстоятельствах стойкость могла быть в конечном итоге оплачена смертью в застенках, или, в относительно редких случаях, смертным приговором, или же, в особо безнадежном случае, окончиться прекращением дела.
(а) Восточные провинции
Трудно определить, насколько далеко и с какой степенью уверенности мы можем экстраполировать на регионы, плохо обеспеченные документами, те выводы, которые получаем из сохранившихся источников. Как бы то ни было, характерные моменты различимы даже в таких неравномерно распределенных по областям свидетельствах, которыми мы располагаем.
Касаясь области, о которой Евсевий был лучше всего осведомлен, и тех событий, которые произошли, видимо, примерно за десять лет до его рождения, этот историк сообщает, что епископы Антиохии в Сирии (Вавила) и Иерусалима в Палестине (престарелый Александр) умерли в узилище как нераскаявшиеся исповедники (Евсевий. Церковная история. VI.39.2 слл.).
113 Ряд примеров подобного развития событий: Огггат (Киприан. Письма. 29.1.1), Аврелий (Там же. 38.1.2); Сатурнин (Там же. 21.4.2), Целерин (Там же. 39.1.1 слл.), Диоскор (Дионисий Александрийский — цитируется у: Евсевий. Церковная история. VI.41.15 сл.) и др.
Глава 18b. Христианство III века
843
Ориген (обосновавшийся в палестинской Цезарее) долгие месяцы находился в заточении; несмотря на мрачный склеп, пытки, оковы и дыбу, подробное описание которых Евсевий нашел в многочисленных письмах Оригена, этот последний пережил императора Деция. Нам остается только задаться вопросом, были ли в этом обширном регионе другие герои сопротивления, память о которых в местной церковной традиции столь быстро увяла, в пределах всего лишь половины столетия. Отсутствие смертной казни в данном случае заслуживает внимания114.
Севернее, а именно в Смирне (провинция Азия), мы сталкиваемся с еще одной историей: 23 февраля 250 г. была арестована группа христиан, застигнутых молящимися в одном доме. Это были пресвитер Пионий вместе с еще одним пресвитером (Лимном) и тремя мирянами (Сабиной, Асклепиадом и Македонией);115 об их отказе совершать жертвоприношение мы узнаем после того, как они предстали перед комиссией на городском форуме, а также об их заточении в темницу. Перед лицом раздражения и давления со стороны официальных лиц, воинов, а также смирнской толпы они проявили непоколебимую стойкость в ожидании проконсула. Суд и пытки закончились осуждением Пиония на смерть (путем сожжения), которое и было приведено в исполнение 12 марта 250 г.; вместе с ним был казнен некий христианин-маркионит. Ничего не сообщается ни о судьбе сотоварищей Пиония, ни об участи трех других, которых первые встретили уже в тюрьме. Поначалу местные жители криками угрожали им смертью, а женщин требовали отправить в притон разврата; господствовавшая здесь атмосфера была заряжена религиозной враждебностью, хотя некоторые из àyopatot («завсегдатаи рыночных площадей») выказывали сочувствие [Деяния Пиония [Acta Pionii\. 5.2 слл.). В таких условиях проконсул в конечном итоге рассудил, что это дело не стоит его особого внимания.
В расплывчатом и чрезмерно напыщенном «Житии святителя Григория Чудотворца» Григория Нисского, касающемся более северной области Понта, акцент сделан на розыске христианских беглецов, арестах, заточениях в темницу и пытках [PG XLVL944 слл.). Приводится имя лишь одного мученика — Троадия, молодого человека видного социального положения, и он представлен в чудесном видёнии умирающим «после многих мучений» [PG XLVI.949); ситуация выглядит не как приведение в исполнение смертного приговора, а как гибель от пыток, которыми истязатели пытались заставить человека отречься от своей веры.
Остальные восточные свидетельства происходят из Египта и являются вторичными источниками — извлечениями из трех посланий тогдашнего александрийского епископа Дионисия, как они сохранены у Евсевия [Церковная история. VI.40.1 слл.; УП. 11.20 слл.). На нескольких страницах лаконично сообщается о восемнадцати названных по имени александрий¬
114 Евсевий. Указ. соч. VL39.5. Обратите внимание, что в случае с Оригеном «судья сделал все, что мог, чтобы не обречь его на смертную казнь».
115 В «Деяниях Пиония», в 11.2, неожиданно обнаруживаются еще один пресвитер, по имени Лимн, и некая македонская женщина уже пребывающими в тюрьме: здесь следует заподозрить либо смешение двух разных вариантов повествования, либо путаницу.
844
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ских жертвах: пятерых «добровольных мучениках» (Аммон, Зевс, Птолемей, Инген — все воины — и Феофил), пятерых христианах, приговоренных к смерти на костре (Макар, Ирон, Атир, Исидор и Немезион), четверых — к казни в негашеной извести (Юлиан, Кронион, Епимах и Александр) и еще четверых — к смерти путем отсечения головы или умерщвления мечом (воин Виса, женщины Аммонария, Меркурия, Дионисия); имена других девятнадцати казненных (все женщины) не названы (Там же. VI.41.18); к этому следует добавить также случай с наемным управляющим имением (Исхирион), которого убил палкой его взбешенный хозяин, один из государственных чиновников (инцидент произошел за пределами Александрии)116. Повсеместны и обильны сообщения и примеры доведенных до отчаяния беглецов, бродящих по горам, узников, героически переносивших мучения, а также свидетельства о действиях рассерженной толпы, яростно изводившей известных христиан (богатых и знаменитых). Здесь необходимо напомнить, что из себя представляла религиозная атмосфера, господствовавшая в Александрии. Тлеющие угли нетерпимости и злобной враждебности, которые вылились в жестокие погромы предыдущих лет, после издания Дециева эдикта вспыхнули с новой силой, что нашло отражение в очевидно значительном количестве александрийских жертв, осужденных на смерть за их религиозную бескомпромиссность. До какой степени этот настрой превалировал в остальном Египте, за пределами Александрии, мы не знаем, но у нас есть следующее обобщение Дионисия: «<...> множество других по городам и деревням были растерзаны на части язычниками» (цитируется у: Евсевий. Церковная история. VI.42.1). Сорок пять libelli, извлеченные археологами из мусорных куч в городах и деревнях Верхнего Египта, начинают приобретать волнующее, и человеческое, измерение.
(Ь) Западные провинции
Хотя наши источники из Испании и Галлии предполагают, что эдикт Де- ция исполнялся и в этих провинциях (Киприан. Письма. 67, 68), имеющиеся скудные свидетельства не дают нам возможности узнать что-то конкретное о Дециевых мучениках из этих мест. То же можно сказать и относительно Сицилии (Там же. 30.6.2), при этом одно случайное замечание, как кажется, сохранило имена двух Дециевых жертв в Кампании (Капуя) — имена Августина и Фелицитаты117.
В Риме, впрочем, Папа Фабиан определенно погиб смертью мученика (в конце января 250 г.). Но никакой подробной информации о его
116 Об этих случаях см.: Rousselle 1974: 237 слл.
117 Хроника за 395 г.: «hac persecutione Cyprianus hortatus est per epistolas suas Augustinum et Felicitatem, qui passi sunt apud civitatem Capuensem, metropolim Campaniae» — «здесь во время гонения Киприан ободрял в своих письмах Августина и Фелицитату» (Сhr on. Min. 1.738). Обратите внимание также на запись в «Мартирологе Иеронима» для XV дня до декабрьских календ, где читаем: «In Capua civitate, natalis sanctorum Augustini, Eusurii, Felicitatis» — «В городе Капуе, день рождения святых Августина, Евсурия, Фелицитаты») (PL XXX.482).
Глава 18b. Христианство III века
845
«славной кончине» («gloriosus exitus». — Киприан. Письма. 9.1.1) не сохранилось; она могла стать следствием пыток или простого столкновения с удручающими условиями жизни в римской тюрьме. Впоследствии, несмотря на застенки, лишения и пытки, которым подвергалось, несомненно, множество христиан, арестованных в Риме, мы на протяжении многих месяцев не слышим ни о каких христианских смертях. В самом деле, к тому времени, когда Киприан писал свое Письмо 28 (август? / сентябрь 250 г.), не случилось ни одной, но вот к моменту написания Письма 37 (§ 3; весна 250/251 г.) несколько кончин уже было зафиксировано. Римский пресвитер Моисей умер позднее, после тюремного заключения, длившегося около одиннадцати месяцев [Книга понтификов [Liber Pontificalis, ed. Duchesne]. 21); многие его сотоварищи выжили и вскоре после этого были освобождены из заточения (см.: Киприан. Письма. 49,54.2.2). В этой, безусловно, самой крупной христианской общине западной части империи непокорные христиане не приговаривались к смертной казни автоматически. Общий характер событий во многом соответствовал тому, что обнаруживается в других наших источниках. Христиан не истребляли, а только принуждали — разными средствами и с разной степенью интенсивности — к подчинению правилам, и даже после этого некоторых из схваченных просто отпускали от полной безнадежности.
Ценные подробности, содержащиеся в письмах Киприана, представляют во многом ту же картину и для Африки: бегство, судебные разбирательства, изгнания, конфискации, заточение под стражу, пытки, а также толпа, скорая на расправу [Письма. 40.1.1), — всё это, несомненно, имело место вкупе с сопутствующими ужасом и страхами. Но смерти были относительно редки, причем явно не зафиксировано ни одной, которая бы явилась прямым результатом официального смертного приговора. Лучшей иллюстрацией тому служит Письмо 22, в котором сообщаются имена всех жертв (всего семнадцать)118, за исключением пары мужчин, Каста и Эмилия, скончавшихся под пытками, и произошло это, скорее всего, также в рассматриваемый период [О падших. 13). Но неприятным напоминанием о нашем неведении и бессистемном характере доступных свидетельств является то обстоятельство, что, не посчитай Киприан нужным включить копию Письма 22 в свою переписку, мы вообще остались бы в неведении относительно подробностей личностного плана, связанных с суровыми реалиями тех горьких дней, тяжкими страданиями, которые претерпели мученики в Карфагене.
118 См. прежде всего § 2.2: «И потому, любезнейший брат мой, приветствуй от нас Ну- мерию и Кандиду, [да будут в мире,] по заповеди Павла и прочих мучеников, имена кото- рых я приведу: Басс — скончался в [?] долговой яме [“in pignerario”], Маппалик — под пытками, Фортунион — в темнице, Павел — после истязаний, Фортуната, Викторин, Виктор, Иринний, Кредула, Ирида, Донат, Фирм, Венуст, Фрукт, Юлия, Марциал и Аристон, которые по изволению Божию умерщвлены в застенках голодом. На днях услышите, что и мы будем их общниками, ибо ныне, когда я пишу к тебе это письмо, исполнилось восемь Дней, как мы снова заключены, да и прежде этого, в течение пяти дней, мы принимали понемногу хлеба и воды по кружке» (см. комментарий: Clarke G.W. 1984: 336 слл.)
846
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Если судить по перечню известных нам жертв, то в общем и целом ясно, что далеко не все христиане «умирали в мрачных застенках, не всех их убивала подземная тюрьма, огонь и меч». Действительность была совсем иной. Но память об общем кошмаре этого гонения, если не о его подробностях, сохранялась очень живой, и понятно — почему.
Вследствие этих событий церкви повсеместно столкнулись с тем, что ряды их прихожан значительно поредели. Согласно Киприану, «дикая буря ударила не только по большинству наших мирян», но «в свой разрушительный поток она втянула даже часть духовенства» [Письма. 14.1.1). В Смирне отрекся не только епископ [Деяния Пиония. 15.2) со «многими братьями во Христе» (Там же. 12.2), но и Пиония побуждали «подчиниться и принести жертву, как делает любой другой» (Там же. 4.1), и проконсул заявлял, что «многие другие принесли жертву и теперь живы» (Там же. 20.3). Александрия, в свою очередь, видела многие примеры апостазии (то есть отступничества), особенно в среде людей, занимавших более высокое социальное положение, включая тех, кто находился на официальной службе (см.: Евсевий. Церковная история. VI.41.il). Можем ли мы рассматривать Смирну и Александрию в этом отношении как типичные города, по крайней мере восточной части державы? Даже целые общины отрекались во главе со своими предстоятелями (Киприан. Письма. 55.11.1 сл. (Трофим, в Италии); Там же. 59.10.3 (Репост, в Проконсульской Африке)), и имелись такие епископы-апостаты, которые впоследствии боролись за свое восстановление на кафедрах (Там же. 65, 67) или присоединялись к раскольническим группам (Там же. 59.10.2). Дециева религиозная затея оставила после себя долгое «наследство» в виде расстройства и смятения в рядах христиан, сопровождавшихся разладом в вопросе о том, каковы должны быть условия принятия назад падших; эти споры повсюду очень резко разделили церкви, при этом духовное лидерство епископов оспаривалось выжившими (и, по определению, вдохновленными) исповедниками.
IV. Гонение при императоре Галле
Дионисий, писавший из Александрии в начале 260-х годов, адресовал поздравительное послание (по всей видимости, пасхальное) Ермаммону и братии в Египте. Оно сочинено в период «Галлиенова мира» (цитируется у: Евсевий. Церковная история. VH.22.12) и развивает соответствующую (но в риторическом смысле обычную) тему о том, что императоры наслаждаются миром, здоровьем и процветанием (как теперь Галлиен) лишь до тех пор, пока христиане благорасположены к ним и молятся за них, но, когда императоры начинают гонения на христиан, их (императоров) донимают войны, эпидемии и прочие несчастья (Там же. VII. 1; VII. 10.22 слл.; Vn.22.12 слл.). Такое прочтение имперской истории последнего десятилетия проиллюстрировано не только недавними событиями, связанными с Децием, Валерианом и Макрианами, но и примером из правления Г ал¬
Глава 18b. Христианство III века
847
ла, непосредственного преемника Деция (с середины 251 г. по середину 253-го). В соответствии с этой перспективой, Галл восхваляется — предвзято — за начальный период его правления, когда оно «проходило счастливо, и дела соответствовали его желаниям». Но затем он оказался настолько неразумен, что «изгнал праведников, которые просили Бога о мире и здоровье для него. Вместе с ними он прогнал также и молитвы о себе самом» (цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VII. 1).
После тщательного очищения египетских христиан от любого позора соучастия в деле Макрианов (потерпело неудачу к моменту составления поздравительного послания), Дионисий в заключение еще раз повторяет свою идею:
Мне опять пришло в голову пересмотреть дни царствований. Я вижу, что самые нечестивые императоры, как бы ни были они прославлены, скоро становились бесславны; этот же благочестивый, любящий Бога, император [Галлиен] пережил свое семилетие [правления]; сейчас кончается девятый год, в который будем мы справлять праздник.
Цитируется у: Евсевий. Указ. соч. VÜ.23.4. Перев. М.Е. Сергеенко
К сожалению, Дионисий никак не идентифицирует «праведников» и не поясняет, как именно Галл поступил с ними, когда говорит, что он «изгнал» их и «прогнал» (^Xocasv, StcoÇev). Хотя такая неопределенность типична для панегирического стиля, в котором выдержаны Дионисиевы поздравительные письма, вполне можно было бы ожидать, по крайней мере, упоминания некоторых имен египетских братьев, проявивших героическую стойкость. Впрочем, мы можем вспомнить о двух кандидатах — из заграницы (из Рима).
Корнелий, римский епископ, был сослан в Центумцеллы (Киприан ничего не говорит о его исповедании до конца осени 253 г.) и там скончался, оставаясь, очевидно, на своем посту по меньшей мере до 25 июня 253 г. — с этой даты начинается понтификат его преемника119. Этот последний, Луций, был также вскоре, немедленно по избрании, выслан, разделив ссылку со своими собратьями (Киприан. Письма. 61.1.1). Киприан мог писать 61-е послание вскоре после их освобождения из ссылки [Письма. 61). Возможно, именно благодаря их возвращению в родной город за Валерианом закрепилась (сильно преувеличенная) репутация такого императора, который первоначально был расположен к христианам (о чем говорит Дионисий Александрийский в таком же пристрастном поздравительном послании к Ирмаммону — цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП.10.3)120. У нас нет сведений о том, чем были вызваны эти ре¬
119 Киприан. Письма. 60 (поздравление Корнелия по случаю его исповедания); хроника 354 г. в: Chron. Min. 1.75 (ссылка и смерть в Центумцеллах); Книга понтификов. ХХП (Duchesne (1955—1957) I: 150 — отражение малоценных «Страстей», «Passio»). Киприан, как кажется, вплоть до мая 253 г. не знал об исповедании Корнелия (см.: Clarke G.W. 1986: 8 слл.).
120 Вероятным контекстом является примирительный жест — общее возвращение изгнанников, узаконенное Валерианом и Галлиеном как императорами; ср. с недавним ука¬
848
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
шения, но периоды изгнаний указанных «праведников» в самом деле совпали с ослаблением и крушением принципата Галла; этого совпадения было вполне достаточно, чтобы вселить доверие к некорректной Диони- сиевой версии истории.
В письме, написанном летом предыдущего, 252-го, года Киприан обратился к Корнелию (находившемуся тогда еще в Риме), чья церковь в это время, можно сказать, процветала, то есть не находилась под угрозой серьезных потрясений («florentissimo illic clero tecum praesidenti» - «так как там клир в высшей степени процветает с тобою во главе». — Письма. 59.19). Здесь же Киприан говорит о самом себе: «Также в последние дни, как раз когда я пишу тебе это письмо, в цирке опять раздаются громкие крики толпы, требующей бросить меня льву: поводом к этому послужили жертвоприношения, которые, согласно изданному эдикту, народ обязан торжественно принести» («ob sacrificia quae edicto proposito celebrare populus iubebatur») [Письма. 59.6.1). Очевидно, данные трудности не затронули Корнелия (адресата) и римскую Церковь: это была какая-то локальная вспышка, а эдикт, о котором упоминается в письме, был издан, видимо, местным проконсулом. Не исключено, что это могли быть распоряжения о публичных искупительных жертвах против чумы, которые приносились в цирке; отсутствие на этой церемонии знаменитого предстоятеля христиан, которых в народе считали виновниками эпидемии, будто бы насланной из-за их отказа почтить «римских богов» (см., например: Киприан. К Деметриану. 2, 5), должно было вызывать у черни ярость.
В следующем (253-м) году мы слышим о распространившихся в Карфагене тревожных предчувствиях предстоящего гонения, которые укреплялись зловещими предзнаменованиями и грозными видениями (Киприан. Письма. 57, 58), но, насколько нам известно, опасения по части преследований так и не воплотились в жизнь: Письма 57 и 58 могут быть отнесены к маю 253 г., то есть к началу следующего лета, принесшего с собой угрозу нового мора в Карфагене из-за страшной чумы (см. современные событиям описания у: Киприан. О смертности. 14, Понтий. Житие Киприана. 9) и перспективу подобных устрашающих сцен в карфагенском цирке.
О волнениях в других местах мы ничего не знаем. Не было никакого «гонения Галла», никакого продолжения Дециева эдикта — просто периодически продолжались локальные преследования и изолированные инциденты, в которых наиболее видные церковные лидеры испытывали постоянное давление со стороны местных обстоятельств, и особенно в периоды социальной и политической нестабильности и неустойчивости. Впрочем, для многих христиан, хорошо помнивших удручающую атмосферу при Деции, это было время обострившихся мрачных предчув-
191
сгвии. 121зом Филиппа, см.: Кодекс Юстиниана. IX.51.7 («generalis indulgentia nostra reditum exsulibus seu deportatis tribuit» - «наша всеобщая снисходительность позволяет вернуться и изгнанникам, и ссыльным»).
121 Бросается в глаза, что Лактанций ничего не говорит о «гонении при Галле», хотя такое преследование хорошо бы подходило к его теме (О смертях гонителей. 4 сл.).
Глава 18b. Христианство III века
849
V. Гонения
при Валериане и Галлиене
Насколько можно судить, Валериан и Галлиен начали свой принципат с той же политики «laissez-faire» по отношению к христианам, то есть государственного невмешательства в их дела (вероятнее всего, это был отнюдь не тонко скорректированный курс — просто на тот момент их внимание было сосредоточено на иных, и более насущных, проблемах государственного управления)122. Это, впрочем, не означает, что христиане могли быть уверены, что их оставят в покое. По отдельности они по- прежнему оставались уязвимы для враждебных выпадов. Например, один папирус из египетской деревни Мермертха, датированный 28 февраля 256 г. (Р. Оху. ХШ.3035), содержит ордер на задержание некоего «Петосо- раписа, сына Гора, христианина». Это означает, что сама принадлежность к упомянутому вероисповеданию давала мотив для ареста123. Но, как бы то ни было, в течение следующего, 257-го, года, когда режим подошел к завершению своего quinquennium (пятилетия), императорский принцип «laissez-faire» модифицировался. Перелом случился летом указанного года; распоряжения проконсулу в Африке, содержащиеся в направленных ему в императорских письмах-указах (litterae), были исполнены 30 августа в Карфагене (см. сохранившийся текст официального протокола допроса Киприана, так называемые «Проконсульские акты Святого Кип- риана»: Acta Proconsularia Sancti Cypriani. 1.1). Хотя мы пребываем в неведении относительно конкретных обстоятельств, которые могли непосредственно привести к отправке этих litteras124, всё же, к счастью, име¬
122 Это позволило Дионисию Александрийскому сочинить свою знаменитую (но спорную) благостную версию первых лет правления Валериана: «Удивительны два облика Валериана, особенно если подумать, как всё шло сначала, как он был кроток и расположен к людям Божьим. Так милостив и благожелателен к нам не был никто из императоров; даже те, о ком говорили, что они открыто стали христианами, не принимали нас с таким явным дружелюбием и любовью, как он в начале царствования. Весь дом его был полон благочестивых людей; это была Церковь Божия» (цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 10.3. Перев. М.Е. Сергеенко).
123 Евсевий, редко демонстрирующий хронологическую точность относительно событий, случившихся до дней его жизни, относит мученичество Марина в Цезарее Палестинской ко времени, «когда для церквей повсюду наступил мир»; тамошним епископом был Феотекн. Косвенно Евсевий помещает событие ко времени после «мира Галлиена», однако в повествовании фигурирует слово «императоры» — во множественном числе. Не означает ли это, что кончина Марина случилась в период 253—257 гг. [Церковная история. УП. 15)?
124 Дионисий определенно объясняет причину этих litteras (истинность чего проверить невозможно) фанатичными греховными советами и злобным богохульством Макриа- на Старшего (весьма кстати побежденного и дискредитированного ко времени написания Дионисиева послания) — его дьявольским козням мешали «чистые и благочестивые мужи», т. е. христиане. Посредством этого отец Галлиена Валериан отчасти выводится из-под полного осуждения, при этом сам Галлиен осторожно не упоминается в рассказе °б этом деле (цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 10.4 слл.). Подробное исследование Валерианова гонения (со ссылками на предшествующую литературу): Schwarte 1989: 103-163.
850
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
ются два ценных документа, которые в более общем смысле отражают официальную логику, объясняющую появление этих распоряжений.
( 7) Дионисий, епископ Александрии, защищая в одном из посланий свои поступки в период [Валерианова] гонения от хулы, которую пытался возвести на него епископ по имени Герман, воспользовался случаем, чтобы процитировать «ipsissima verba» («слова, как они были записаны») из официального протокола суда, состоявшегося перед Эмилианом (в то время — заместителем префекта Египта)125 в Александрии. Дионисия сопровождали его сопресвитер (Максим), три диакона (Фавст, Евсевий, Херимон), а также «один из тех римских братьев, которые находились тогда в Александрии» (= Марцелл ?). (По всей видимости, перед тем как явиться на суд, Д ионисий и его собратья священники имели какое-то время хорошо обдумать, что им говорить.)
Выслушайте, однако, слова того и другого, как они были записаны:
Когда были приведены Дионисий, Фавсг, Максим, Марцелл и Херимон, Эмили- ан, исполняющий должность правителя, сказал: «Я разговаривал с вами устно о человеколюбии властелинов наших по отношению к вам; они дают вам возможность спастись: обратитесь к тому, что согласно с природой, и почтите богов, сохраняющих царство их; забудьте богов, противных природе. Что вы скажете на это? Я жду, что вы не ответите неблагодарностью на их человеколюбие, ведь они обращают вас к лучшему».
Дионисий ответил: «Не всех богов чтут все: каждый чтит того, кого признает богом. Мы чтим Единого Бога, Творца всего, вручившего царство боголюбезнейшим Августам Валериану и Галлиену, Ему поклоняемся и постоянно молимся, да пребывает их царство безмятежным».
Эмилиан, исполняющий должность правителя, сказал им: «Кто же мешает вам чтить и Его, если это Бог, вместе с богами естественными? Вам приказано чтить богов, и именно тех, которых все знают».
Дионисий ответил: «Мы никого другого не чтим».
Эмилиан, исполняющий должность правителя, сказал им: «Я вижу, что вы неблагодарны и бесчувственны к милости наших Августов. Поэтому вы не останетесь в этом городе, а будете высланы в Ливийские области, в место, именуемое Кефро: это место я выбрал по приказу наших Августов. Никоим образом не будет разрешено ни вам, ни другим устраивать собрания и входить в так называемые «места упокоения». Если кого-либо не окажется в том месте, какое я ему назначил, или его застигнут в каком- либо собрании, то он сам навлечет на себя беду: в надлежащем надзоре недостатка не будет. Ступайте, куда вам велено».
Цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП. 11.6 слл.
Перев. М.Е. Сергеенко
Официальные интересы, как можно заметить, состояли в почитании людьми известных богов (а не богов, «противных природе»), которые оберегали державу, а также в общественном послушании, которое представлялось необходимым для обеспечения сохранения государства («противные природе» религиозные собрания христи¬
125 Луций Муссий Эмилиан: PIR2 М757; Pflaum, Carrières П: 925—927 (No 349); комментарий Дж.-Р. Ри к папирусу: Р.Оху. ХЫП.3112.
Глава 18b. Христианство III века
851
ан, следовательно, должны были быть запрещены). Дионисий довольно эффектно пытался уклониться от исполнения императорских требований: христиане, мол, уже молились за то, чтобы царство императоров оставалось «безмятежным», и молитвы свои обращали только к одному Богу. Поддержание мира (рах) с божественным миром обеими сторонами понималось в качестве важнейшей цели. И обе стороны, как представляется, в теологическом отношении очень близко трактовали течение современной им истории.
(2) Сохранился также протокол судебного разбирательства у проконсула в Карфагене по делу Киприана (документ датирован 30 августа 257 г.)126.
Проконсул Патерн сказал Киприану-епископу: «Священнейшие императоры Валериан и Галлиен удостоили меня письмом, в котором повелели: те, кто не почитает римскую религию, должны признать римские церемонии. В соответствии с этим я произвожу расследование в отношении тебя. Что ты мне ответишь?»
Киприан-епископ сказал: «Я — христианин и епископ. Я не знаю иных богов, кроме одного — истинного Бога, который создал небеса и землю, море, а также всё, что существует в них. Это Бог, которому мы, христиане, посвящаем себя, этому Богу мы молимся днем и ночью за нас, и за всё человечество, и за благоденствие самих императоров».
Проконсул Патерн сказал: «Итак, ты упорствуешь в таком своем умонастроении [voluntas]?»
Киприан-епископ ответил: «Правильное умонастроение, которое приносит познание Бога, нельзя изменять».
Проконсул Патерн сказал: «В таком случае, возможно, ты пожелаешь отправиться в ссылку в город Курубис, в соответствии с повелениями Валериана и Галлиена?»
Киприан-епископ сказал: «Я желаю».
Проконсул Патерн сказал: «Они удостоили меня тем, что написали не только по поводу епископов, но и по поводу пресвитеров. Поэтому я хочу, чтобы ты сказал мне, кто из пресвитеров проживает в этом городе?»
Киприан-епископ ответил: «Ваши превосходные и благотворные законы объявляют доносчиков вне закона. Поэтому я не могу раскрыть их или доносить на них; но их можно найти в их собственных городах. Наши правила запрещают сдаваться добровольно, да и вы также сильно это осуждаете; поэтому сами сдаться они не могут, но они будут обнаружены, если вы будете их разыскивать».
Проконсул Патерн сказал: «Я, конечно, сегодня же произведу их розыск в этой общине».
Киприан-епископ сказал: «Если ты проведешь расследование, то выявишь их».
Проконсул Патерн сказал: «Я обнаружу их. — И добавил: — Им также приказано, чтобы не было никаких собраний ни в каком месте и чтобы они не ходили в места упокоения. Так что, если кто не будет соблюдать этот благой приказ, тот претерпит смертную казнь».
Проконсульские акты святого Киприана. 1
126 Версия этого протокола (Acta), как кажется, имела хождение в Нумидии уже в те месяцы, когда произошло само событие (упоминается у: Киприан. Письма. 77.2.1). О копиях этого судебного протокола («et quid sacerdos Dei proconsule interrogante responderit, sunt acta quae referant» — «и о том, что сказал священник Бога проконсулу, его допрашивавшему» есть протоколы, которые передаются») упоминает также и Понтий [Житие Киприана. И — написано вскоре после мученичества Киприана).
852
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Мы можем заметить здесь тот же акцент на идее внешнего послушания путем публичного принятия ритуальных акций («Romanas caerimonias recognoscere» — «должны признать римские церемонии»127), а оправдательное утверждение Киприана о том, что христиане непрерывно молятся о личном благоденствии императоров («pro incolumitate imperatorum ipsorum»), указывает, что он также отлично осознавал, что за этим акцентом на ритуальном конформизме стоит императорская мотивация. Распоряжения касались только более высоких слоев клира — тех, кто был вовлечен в исполнение «противных природе» христианских церемоний: вне закона были поставлены епископы, пресвитеры (но также и диаконы — среди сотоварищей Дионисия было три диакона), а также христианские ритуальные собрания и святые места последователей Христа. Возникает такое ощущение, что христианские caerimoniae, отнюдь не являвшиеся просто безобидными отклонениями от нормы, прямо оскорбляли «естественных» богов.
Мы не располагаем большим количеством свидетельств о том, как на деле выполнялись эти распоряжения, если не считать Проконсульскую Африку (дело Киприана), Егапет (дело Дионисия и его пяти собратьев), а также Нумидии (два изгнанных епископа — Агапий и Секундин в «Актах Мариана и Иакова», гл. 3). Многое зависело от инициативы и рвения конкретного наместника, от известности местных духовных лиц (тем из них, кто был слишком заметен в глазах народа, нельзя было позволять оставаться невыявленными) и, конечно, от враждебного настроя толпы по отношению к христианам в той или иной отдельной области, каковое настроение могло приводить к появлению доносов о нарушениях христианами закона или о местонахождении представителей христианского клира. Наместники, как бы равнодушно они ни относились к религиозным вопросам и как бы ни стремились уклониться от лишних хлопот, не могли позволить, чтобы их заподозрили в чересчур явном пренебрежении к желаниям императоров — следовало не забывать о своем карьерном росте. По крайней мере, в одном из районов Нумидии мучительные лишения и суровые испытания, которые полагались и христианским священникам, и мирянам, являлись болезненной реальностью. Письма 76—79 Киприана (написаны, когда он находился в ссылке в Курубисе) свидетельствуют не только об изгнании, но и об осуждении на работы в рудниках (in metallum): на каторгу были сосланы епископы (девять из них поименованы) с не названными по именам пресвитерами и диаконами, а также миряне, включая женщин и детей [Письма. 76.6.2). Случались и смерти (Там же.
76.1.2). Насколько мы знаем, на этой первой стадии Валериановых гонений основной удар пришелся исключительно по священникам более высокого ранга: низшее духовенство и миряне могли привлекаться к ответственности лишь в случаях, когда они нарушали (под страхом смертной казни) положения, касавшиеся собраний и церемоний, что, как мы можем предположить, и делали эти нумидийские христиане (миряне наряду с кли¬
127 О толковании этой фразы см.: Freudenberger 1978.
Глава 18b. Христианство III века
853
ром), сосланные на каторгу128. Эти модели поведения нам остается экстраполировать на другие регионы империи.
Имеющаяся в нашем распоряжении версия более позднего рескрипта Галлиена о терпимости определенно подразумевает, что на христианские места поклонения (тотсос) мог быть наложен арест (а участки под христианские кладбища могли подвергаться конфискации, что видно из еще одного императорского рескрипта, который Евсевий пересказывает своими словами, см.: Церковная история. УП. 13, в конце). Императорские litterae от 257 г. не просто развязывали руки наместникам, склонным к тому, чтобы объявлять вне закона христианских руководителей и совместные христианские богослужения, — от наместников требовались более изобретательные действия.
Но прошедшее десятилетие повысило практические навыки христиан избегать разоблачения, и тщательно продуманная международная сеть религиозного братства (см. свидетельство: Киприан. Письма. 80) еще более способствовала выживанию в подполье. Даже те, кто был задержан для показательного наказания и отправлен в ссылку, продолжали проповедническую деятельность (именно так Дионисий проявлял себя в Кефро, см.: Евсевий. Церковная история. УП. 11.12 сл.) и даже участвовали в запретных собраниях (об этом Дионисий заявил — с защитительных позиций — в Коллуфионе, см.: Там же. УП. 11.17); ссыльных одолевали посетители- христиане, нагруженные подарками (как Киприана в Курубисе, см.: Пон- тий. Житие Киприана. 12; Дионисия и в Кефро, см.: Евсевий. Указ. сон.
VII. 11.12; и в Коллуфионе, см.: Там же. УП. 11.17); изгнанные могли по-прежнему проявлять щедрость по отношению к христианам-бедня- кам (см.: Понтий. Указ. сон. 13) или посылать материальную помощь со- братьям-исповедникам (Киприан. Письма. 76—79).
Римский сенат, как выясняется, отправил Валериану, находившемуся в восточной части империи, послание с настоятельными официальными рекомендациями, как следует поступать в случае такого демонстративного игнорирования императорской воли (насколько нам известно, вплоть до этого времени римский клир оставался совершенно невредимым). Из Письма 80 Киприана мы узнаём о содержании императорского ответа:
§1.1. Впрочем, следует тебе узнать, что те, которых я посылал в Рим, теперь вернулись назад; они должны были точно выяснить и известить нас, какие распоряжения в рескрипте касаются нас, ибо здесь ходит много разных и неподтвержденных слухов.
§ 1.2. Но вернейшие из них следующие.
Валериан направил сенату рескрипт, чтобы епископов, пресвитеров и диаконов немедля казнить, а у сенаторов, высокопоставленных должностных лиц и всадников римских, сверх лишения достоинств, отбирать еще имущества и, если они и после этого будут упорствовать в христианстве, отсекать им головы. Кроме того, благородных матрон, по лишении имуществ, отправлять в ссылку, у чле¬
128 Molthagen 1970: 88—92 — автор пытается доказать (неубедительно), что запрет на собрания христиан действовал только в том случае, когда клир отказывался подчиниться 'требованию совершить жертвоприношения.
854
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
нов же двора Кесаря, которые или прежде исповедали, или теперь исповедают Христа, описывать имущество и ссылать в оковах в императорские имения.
§ 1.3. Кроме того, император Валериан к своему рескрипту приложил еще список с письма, отправленного правителям провинций, которое касается нас. Этого послания мы ожидаем со дня на день <...>.
§ 1.4. Извещаю вас, что Сикст с четырьмя диаконами был казнен на кладбище шестого августа. В самом деле, римские префекты каждый день настоятельно требуют гонения, чтобы тех, на кого будет донос, отдавать под стражу и имения у них отписывать в казну.
Тот факт, что сенат, как выясняется, обратился к императору с письменными руководящими указаниями относительно того, как поступать с открыто не повинующимися христианами (руководителями ли церкви, влиятельными ли людьми в обществе, принадлежащими ли ко двору самого Кесаря), предполагает, что сознательные враги христианства находились среди высших социальных кругов Рима, да и сам Валериан принадлежал именно к этим кругам. (У Порфирия в гл. 16 «Жизни Плотина» эхом отражается ощущавшееся в тогдашнем Риме негодование тем, что христианство и прочие странные секты расширяются за счет использования «древней философии».) Не следует забывать, что христианская разведывательная сеть должна была узнать о сенатском обращении к Валериану за несколько месяцев до того, как от императора, находившегося на востоке, был получен ответ — этим объясняется напряженное ожидание христианских общин (Киприан. Письма. 80.1.1). Злобная враждебность сквозит в распоряжениях о возвращении из ссылки священников, по которым уже были вынесены приговоры; по поводу этих осужденных начинались новые разбирательства (так, африканские епископы Агапий и Секундин были возвращены из ссылки, с тем чтобы на этот раз подвергнуться смертной казни, см.: Акты Мариана и Якова. 2.5 слл.; то же случилось и с самим Киприаном);129 с уже исповедовавшими свою веру (и, по-видимому, с уже осужденными) членами Кесарева двора (Caesariani) теперь обращались более жестко. Но самой поразительной иллюстрацией резкой перемены августейшего настроения явилось жуткое известие о казни Папы Сикста и четырех его диаконов прямо на месте их ареста в катакомбах Каллиста в Риме (см. выше, § 1.4). Это — самый кровожадный случай преследования, известный до времен Диоклетиана.
Одним из моментов, спровоцировавших Валерианово решение, могла стать его реакция на публичное оскорбление императорского величия и римского закона, выражавшееся в открытой непокорности христиан. Но руководителю, даже если он чувствовал себя оскорбленным до глубины души, даже если в самый разгар военной кампании он вынужден при¬
129 Наместники, как представляется, могли получить какую-то предварительную рекомендацию, призывавшую содержать вызванных изгнанников где-нибудь под рукой: так, Киприан, возвращенный из Курубиса, находился под домашним арестом в своих карфагенских «садах», horti [Проконсульские акты Киприана. 2.1), Дионисий, вернувшийся из ливийского Кефро, — в Коллуфионе, неподалеку от Александрии, а другие египетские исповедники — в деревушках Мареотийского нома (цитируется у: Евсевий. Церковная история. УП.11.1 слл.). См. также: Whitehome 1977.
Глава 18b. Христианство III века
855
нимать быстрые решения, всё же следовало понимать, что такие распоряжения, разосланные по всей империи, чреваты очень серьезными последствиями. Это было именно гонение, поскольку распоряжения ставили целью искоренение христианских религиозных лидеров, а также недопущение такой ситуации, когда христиане, занимавшие видное положение могли бы публично и безнаказанно демонстрировать пренебрежение «римскими церемониями». Проконсул в Африке, приведший в Карфагене 14 сентября 258 г. в исполнение новые распоряжения, обеспечивает нас самым непосредственным толкованием данного акта; скорее всего, он повторяет некоторые фразы из преамбулы самого императорского рескрипта:
Галерий Максим, посовещавшись со своим советом, только после этого вынес с досадой свое решение в таковых словах: «Ты давно живешь с нечестивыми взглядами и ты тайно собираешь вокруг себя многих дурных людей. Ты показал себя врагом римских богов и их священных обрядов. И благочестивые и священнейшие принцепсы Августы, Валериан и Галлиен, и Валериан, славнейший Кесарь, не смогли вернуть тебя к исполнению их собственных священных церемоний».
«Поэтому, будучи задержанным как подстрекатель и зачинщик ужасного преступления, ты сам делаешься примером для тех, кого ты собрал вместе посредством своих преступных действий. Авторитет закона (disciplina) должен быть утвержден посредством пролития твоей крови».
Затем он зачитал решение с таблички: «Тасций Киприан приговаривается к смерти посредством меча».
Киприан-епископ сказал: «Благодарю Бога».
Проконсульские акты святого Киприана. 4
Для римских правящих кругов, по крайней мере для них, по-прежнему оставалось непостижимым, что римские граждане могли столь явно пренебрегать своими гражданскими обязанностями, связанными с почитанием своих же богов и признанием их священных ритуалов (рассуждения в парадигме «гражданских обязанностей» — скорее, чем «гражданских прав», — определенно было их наследственным способом мышления).
Поведение Киприана, который сам являлся выходцем из местной куриальной аристократии, а теперь был христианским епископом, подчеркивает это столкновение с понимаемыми так обязанностями, а также с идеологической установкой. Целый год провел Киприан в трепетном ожидании данного момента, когда он предстал наконец пред трибуналом проконсула. Вдохновенные слова, произнесенные им за год до исповедания, были немедленно записаны, сохранены как сокровище и получили широкое хождение и щедрое восхваление (свидетельство см.: Письма. 77.2; это послание было написано в рудниках в Нумидии; ср. также: Пон- тий. Житие Киприана. 11). Видёние его исповедующим веру передавалось в подробностях и интерпретировалось как пророчество самого этого дня (так в: Указ. соч. 12 сл.). Целые дни последних недель он проводил со своим собравшимся клиром в размышлениях об этом главном моменте своего агона [Письма. 80.1.1), а затем, в доверительном совместном ожидании конца, он поддерживал братьев вдохновляющими проповедями (Понтий. Указ. соч. 14, в конце). Он также решил, что ему, ускользнув от
856
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
людей проконсула «через сады», следует быть увиденным братьями во Христе, как он направляется, чтобы занять свое место посередине своей карфагенской церкви, наподобие помощника главного судьи в светском трибунале, на котором он должен был предстать [Письма. 81.1 сл.), ибо именно епископ представляет Церковь [Письма. 66.8.3), и поэтому народ в качестве свидетеля должен стать сопричастником благодати и славы (gloria) своего вдохновенного епископа.
Вся карфагенская конгрегация («universus populus fratrum» — «весь народ братьев»), подготовленная и убежденная таким образом, собралась, дабы стать свидетелями славного зрелища; всю ночь они бодрствовали вне своих жилищ, а затем сопроводили его до места казни. Там Киприан дал наглядный пример (exemplum) высокого достоинства, христианской «славной смерти», воплотив на исходе своей земной жизни слова, которые он так часто проповедовал. Единоверцы распростерли ткани и платки, чтобы собрать каждую каплю его драгоценной крови — так было положено начало почитанию (cultus) святого Киприана Карфагенского, епископа и мученика.
Так пострадал Киприан, и его тело было положено неподалеку, чтобы удовлетворить любопытство язычников. Но с наступлением ночи его тело исчезло оттуда и в сопровождении свечей и факелов отправилось с молитвами в великое триумфальное шествие к месту упокоения прокуратора Макробия Кандидиана, который лежит на Маппалиевой дороге близ прудов для разведения рыбы. Здесь Киприан и был упокоен.
Проконсульские акты святого Киприана. 5.6
Можно посчитать мучеников, которые за год последовали его примеру по всей империи; они надежно засвидетельствованы на всем протяжении с запада (епископ Фруктуоз и два его диакона, Авгурий и Евлогий, обезглавленные в Тарраконе, Испания, 21 января 259 г.; об этом местоположении сообщается у: Пруденций. Перистефанон. 6), через Центральное Средиземноморье (в самом Риме — епископ, один из его пресвитеров, все семь его диаконов, суб диакон, чтец и привратник)130 и вплоть до востока (Приск, Малх, Александр и еще какая-то женщина-маркионитка были отданы на съедение зверям в Цезарее Палестинской, см.: Евсевий. Церковная история. УП. 12).
Но особенно богатые свидетельства происходят с юга, из африканских провинций. Так, «Страсти Монтана и Луция» фиксируют (для Проконсульской Африки) случившиеся в заточении кончины двух недавно крещенных христиан (Примола и Донатиана, гл. 2), пресвитера Виктора (гл. 7.2), Квартиллозы, ее мужа и ее сына (гл. 8), епископа Сукцесса, Павла и их сотоварищей (гл. 21.8), а также Луция, Монтана, Флавиана, Юлиана и Викторика (предположительно, все лица духовные) (гл. 2). Что касается Нумидии, то в «Страстях Мариана и Иакова» мы сталкиваемся с именами многих людей, содержавшихся в тюрьме (в Цирте), кото¬
130 Киприан. Письма. 80.1.4, в сочетании с: Книга понтификов [Liber Pontificalis]. 25 (Duchesne 1955-1957 I: 155).
Глава 18b. Христианство III века
857
рые в конечном итоге были отправлены в город Ламбесис, в трибунал наместника, — на суд и на смерть: это были епископы Агапий и Секун- дин (гл. 3), диакон Иаков, чтец Мариан вместе с другими священниками (гл. 10, 11.3), мученики миряне (гл. 5.10, 9, 10), включая всадника Эми- лиана (гл. 8 — уникальное свидетельство по одной из особых категорий жертв из числа мирян), а также Тертуллу и Антонию (гл. 11). Положения Валерианова рескрипта от 258 г. посеяли по всей империи семена глубокой распри и кровавого конфликта.
В наших познаниях о том, как эти разногласия и противоречия были разрешены, мы полностью зависим от Евсевия.
В скором времени Валериан был обращен в рабство варварами; сын его, став единственным правителем, пользовался властью благоразумнее: он тотчас же своими указаниями прекратил гонение и велел предстоятелям веры свободно исполнять привычные обязанности. Рескрипт (àvTiypacprj) его составлен так: «Самодержец, кесарь Публий Лициний Галлиен, благочестивый, счастливый, Август — Дионисию, Пинне, Димитрию и прочим епископам. Я приказал распространить на весь мир щедроты моих благодеяний: да удалятся все (кто мешает христианам. — Ред.) из ваших богослужебных мест, дабы смогли вы поступать согласно моему рескрипту, не будучи ни от кого докучаемы. Всё это, в меру возможного, может быть вами совершаемо, и давно уже дано на это мое согласие. Поэтому Аврелий Кириний, верховный прокуратор (procurator summae rei - ?), заставит соблюдать мое распоряжение».
Да будет оно помещено здесь для большей ясности в переводе с латинского языка. Передают и другое распоряжение этого императора, обращенное к прочим епископам и разрешающее получить обратно так называемые «места упокоения».
Церковная история. УП. 13. Перев. М.Е. Сергеенко
Унизительное пленение Валериана лучше всего датировать началом лета 260 г.131. Евсевий определенно считает аннулирование предыдущих антихристианскиX распоряжений, осуществленное посредством император ских эдиктов (тгроура[Х[хата), непосредственной (оатха) реакцией на эту катастрофу. Ничего другого мы не знаем, и такое теологическое прочтение данного гнетущего события императорской властью, возможно, является собственной интерпретацией Евсевия. Это — красивая догадка, но не вызывает никаких сомнений, что Галлиен получал и благоразумные советы избегать любой ценой обострения внутреннего раздора и разногласий в державе (к чему явным образом привел второй Валерианов рескрипт), которая в это время должна была представляться опасно фрагментированной, а также, возможно, отделить себя, нынешнего единоличного императора, от той политики, которая отождествлялась с его отцом Валерианом.
Дионисий и его собратья-епископы передали прошение императору, и в полученном ответе132, разрешавшем свободно осуществлять богослужения, было сказано, что указ действовал «уже давно» («г\Ьг\ тиро тгоХХои»):
131 Удобный разбор свидетельств представлен здесь: Potter. Prophecy: 331 слл.
132 Строго говоря, они получили высочайшую подпись (subscriptio) на своем прошении (libellus): следует ли предполагать личную передачу петиции одним или большим количеством епископов, т. е. их появление при императорском дворе? Это могло бы означать некий символический момент.
858
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
принимая во внимание последующие мятежи и гражданскую войну, в которые погрузился Египет (Макриан и Квиет, Эмилиан, 260—261 гг.), несложно прийти к вьюоду, что там указ пока еще в силу не вступил. Теперь на руках у египетских епископов был документ, который гарантировал (правда, с задержкой) их права. Евсевий приводит копию еще одного императорского ответа, содействовавшего епископам в возвращении конфискованных у христиан «мест упокоения».
Вероятно, не следует придавать слишком большого значения указу Галлиена: в строгом правовом смысле христиане оказались теперь всего лишь в том самом положении, в каком они находились перед тем, как были изданы распоряжения Валериана — другими словами, они, будучи последователями Христа, потенциально были не в ладах с законом. Отменяя эти более ранние распоряжения, уже самим актом, прямо позволявшим христианам беспрепятственно совершать богослужение, Галлиен, по сути, фиксировал высокую степень официальной терпимости; за этим значимым шагом последовало около сорока лет относительного спокойствия. Для тех людей, которые склонны были прочитывать события 257—260 гг. в теологическом ключе, бог христиан теперь мог представляться могущественной и мстительной силой, — таким божеством, с которым необходимо обращаться с должным почтением и осторожностью.
Насколько позволяют судить имеющиеся у нас данные, эта фактическая толерантность, как кажется, в основе своей сохранялась целое десятилетие, если не считать случая с воином Марином из Цезареи Палестинской;133 в конце правления Аврелиана (270—275 гг.) распространились упорные и неистребимые слухи (и Евсевий, и Лактанций рассказывают о тех днях как о части своего личного юношеского жизненного опыта) о том, что этот император собирался начать гонение, но данному намерению в самый последний момент помешала его смерть (275 г.). Лактанций в трактате «О смертях гонителей» (6.2) ярко пишет о «кровавых письмах» к наместникам, которые еще не успели дойти до более отдаленных провинций, а Аврелиан уже лежал на земле в луже собственной крови; Евсевий [Церковная история. VII.30.21) говорит о Божьем правосудии, которое как бы схватило императора за руку и остановило его, когда тот уже было поставил подпись на соответствующих указах! Слухи о несосто- явшемся событии по самой своей природе не поддаются проверке, и мы можем сказать только одно: Аврелиану и в самом деле было присуще думать и что-то замышлять наподобие того, как это делал до него Валериан — или, в конце концов, как Диоклетиан и Галерий после него. Позднее Константин в своей «Речи к Святому собору» [Oratio ad Sanctos. 25] имел основания поставить Аврелиана в один ряд с Децием и Валерианом как гонителей, по праву заслуживших свои весьма жалкие смерти.
133 Евсевий. Церковная история. УП. 15 — хотя мы и знаем имена людей (наместника Ахея, епископа Феотекна, сенатора-христианина Астирия), причастных к казни св. Марина, который во время одного из праздников разрушил жертвенник, попрал ногами жертвы и принародно исповедал себя христианином, после чего был подвергнут жестоким истязаниям и обезглавлен, точную датировку произошедшего установить невозможно; ср. сноску 123 наст. гл. Похожие отдельные случаи вполне могли происходить и в других местах.
Глава 18b. Христианство III века
859
Чтобы разрешить один (более ранний) спор по поводу церковного дома в Антиохии: кому он в действительности принадлежит — Павлу из Самосаты, низложенному, или Домну, вновь назначенному, Домн обратился за помощью к Аврелиану. Его прошение, очевидно, апеллировало к указу Галлиена, предыдущего императора, разрешившего епископам беспрепятственный доступ к их местам поклонения (Евсевий. Церковная история. Vn.30.19; ср.: УП. 13). Аврелиан распорядился передать права на здание «тем, с кем по вопросам веры (той Soyfxaxoç) переписывались италийские и римские епископы»134.
Как нам представляется, это событие являет собой важный момент: реальность присутствия христианских Церквей внутри гражданской и социальной организации империи признавалась официально; это было также неким предвестием политики Константина, а именно того, как пример но спустя сорок лет он обходился с донатистами. Но для современников, в связи с ростом количества христиан, которые сами хотя и оставались в меньшинстве, но присутствовали уже в большинстве гражданских общин (прежде всего городских), значение этого момента могло быть не таким уж и заметным: просто то, что Церкви занимали свое место в гражданской системе, уже давно было социальной реальностью.
VI. Великое гонение
Мани (родился в 216 г.) и его ученики-миссионеры, к которым принадлежала, во-первых, узкая организованная группа тех, кто поднялся до уровня «избранников», и, во-вторых, преданные простые верующие, «слушатели», в Ш в. сделали значительные успехи в проповеди своей веры — как внутри, так и вне легко проницаемых границ римского мира, прежде всего в его восточной части. Непримиримую оппозицию они встречали как со стороны ортодоксальной христианской Церкви (а также языческих философов) внутри империи135, так и в Иранской державе, со стороны ревностного зороастрийского жречества, которое возглавлял Верховный маг-жрец Картир, причем здесь преследовали не только самого Мани (умер в 276 г.) и его приверженцев, но также и правоверных христиан136. Скорее всего, в конце марта 302 г. Диоклетиан ответил из Александрии на тревожный запрос и доклад («sollertia tua serenitati nostrae retulit» - «твоя добросовестность важна для нашей Светлости»), отправленный проконсулом Африки и касающийся этих быстро завоевывавших популярность
134 Подробный анализ этого дела см.: Millar 1971.
135 Примеры: Евсевий. Церковная история. VH.31 (позднейшая вставка?); циркулярное письмо от конца Ш в., разосланное, возможно, канцелярией Феоны, александрийского епископа, в котором верующие предостерегались от того, чтобы не оказаться обманутыми «безумными манихеями», которым требуется «менструальная кровь для мерзостей их безумия»: P. Ryl. Ш: No 469, сгк. 30 слл. (ed. Roberts 1938: 42); «Трактат о взглядах мани- хеев» («Tractatus de placitis Manichaeorum») неоплатонисга Александра из Ликополя.
136 Brock 1978; Lieu 1992: прежде всего с. 79 слл.; [надпись жреца Картера в Накш-и- Рустаме:] Brunner 1974: 105 сл. (стк. 30: «И евреи, и буддисты, и брахманы, и назаретяне, и христиане, и Мактаг, и манихеи в царстве да будут уничтожены»).
860
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
манихеев. Не только свирепость мер, которые были предусмотрены в этом ответе для истребления ядовитой заразы, но и его высокопарная преамбула, касавшаяся религиозных, нравственных и политических скреп (в обобщенном, не детализированном смысле), сохраняющих традиционную религию нетронутой и неповрежденной, хорошо раскрывают настрой и образ мыслей, которые на тот момент времени были характерны для императорского двора.
Мы слышим, что манихеи, касательно которых твоя добросовестность докладывает нашей Светлости, основали новые и до сих пор не известные секты в противовес более древним вероисповеданиям, так что они могут вытеснить учения, которые в прошлом обеспечивали нас божественной поддержкой, в пользу их собственного развращенного учения. Они как новые и неизвестные чудовища совсем недавно явились от племени иранцев — враждебного нам народа — и проложили путь в нашу империю, где они совершают многочисленные преступления, возмущают спокойствие народа и даже наносят тяжелый ущерб гражданским общинам (civitates); мы опасаемся, что с течением времени они будут пытаться, как это обычно случается, заразить людей более честных, благопристойное и спокойное римское племя, и всю нашу державу мерзкими обычаями (consuetudines) и порочными иранскими законами (leges) как ядом зловредной змеи.
Сопоставление законов Моисеевых и рижских. XV.3.4 слл.
При том что в ответе Диоклетиана связь с Ираном недвусмысленно предстает как определяющий фактор, предшествующие параграфы делают ясным, что фундаментальное неодобрение императора было направлено против кощунственного нарушения того, что заведено и определено с древних времен («quae semel ab antiquis statuta et definita»), установлено бессмертными богами ради благоденствия рода человеческого: «древняя религия не должна опровергаться никакой новомодной» («neque reprehendi a nova vetus religio deberet»). Уязвимость христианства для так сформулированного подхода очевидна, а применение предписывавшихся жестоких мер к христианам всего лишь откладывалось, несмотря на то, что по враждебной им «ереси» теперь мог быть нанесен серьезный удар:
Мы повелеваем подвергнуть авторов и вождей секты [= «избранников»] очень суровому наказанию, а именно сжечь в жарком пламени, вместе с их гнусными писаниями: но их последователей [= «слушателей»], которые упорно стоят на своем, мы приказываем наказывать смертью, также мы постановляем забирать их имущество в нашу казну. Если кто-либо из занимающих официальную должность, или имеющих какое-либо звание, не важно какое, или обладающих высоким положением («si qui sane etiam honorati aut cuiuslibet dignitatis vel maiores personae») примкнул к этой неслыханной и совершенно постыдной секте, к этому иранскому учению, необходимо проследить, чтобы их имущество было передано в нашу казну и чтобы сами они были сосланы на рудники в Фено (в Сирии. — A3.) или в Проконнес. Для того чтобы эта греховная мерзость была вырвана с корнем из нашего счастливейшего поколения, твоя преданность без промедления должна исполнить эти повеления и постановления нашей Безмятежности со всею поспешностью137.
Сопоставление законов Моисеевых и рижских. XV.3.6—8
137 Свидетельства о реально совершавшихся манихеями жертвах не сохранились, как и о том, пострадал ли кто-нибудь из них во время Великого гонения.
Глава 18b. Христианство III века
861
Христианские опасения, возникавшие в связи с таким жестким обращением с теми, кого многие рассматривали просто как одну из христианских сект, несомненно, еще более усиливались благодаря тому факту, что всего лишь за (предположительно) один или два года до этого138 императоры Диоклетиан и Галерий впали в ярость, когда при гадании по внутренностям животных гаруспики несколько раз не смогли получить благоприятных знамений: это было объяснено пагубным воздействием, которое оказывали на жертвоприношения находившиеся там христиане, осенявшие себя крестным знамением. Взбешенные правители приказали, чтобы не только те, кто присутствовал при совершении обрядов, но и все, кто служил во дворце, принесли жертвы богам (под угрозой наказания плетьми), после чего по всем войскам были разосланы письма командирам с повелением принудить также и всех воинов совершить жертвоприношения (под угрозой изгнания со службы). Восточные императорские дворы и солдаты, служившие под их эгидой, подверглись очищению от раздражавших христиан139. Сорок относительно мирных лет, если считать с перехода Галлиена к политике терпимости, подошли к своему завершению140. Но этот императорский настрой на моральное и религиозное насилие в сочетании со страстью к дисциплинированному послушанию отнюдь не являлся каким-то неожиданным новшеством. За несколько лет до этого, а именно в 295 г., из Дамаска был разослан эдикт141 по поводу такого преступления против нравственности, каковым являются кровосмесительные браки в пределах определенных степеней близкого родства, запрещенные еще в древнем римским праве, браки, прямо провозглашенные кощунственной мерзостью и варварской дикостью, посредством которой люди «вступали в беззаконные союзы из-за неразборчивой похоти, прямо как скот и дикие звери, не имеющие понятия ни о морали, ни о добродетели».
138 Датировку описанного далее события дает Лактанций (О смертях гонителей. 10.6): «interiecto aliquanto tempore» («за некоторое время до того»), как в 302/303 г. Диоклетиан расположился на зимовку в Никомедии. Хотя в гл. 10 своего сочинения «О смертях гонителей» Лактанций фокусируется на роли Диоклетиана, во время указанного гадания фактически присутствовали оба императора (на это намекает сам Лактанций в другом своем произведении, см.: Божественные установления. IV.27.3—5). Данный случай произошел «in partibus Orientis» («в областях Востока» — имеются в виду провинции Римской империи, вошедшие в диоцез Восток. — A3.). Было ли это в Антиохии в начале 299 г. или же позднее — в 301-м? См.: Barnes. NE: 55, 63 сл.
139 Более предвзятая и провинциальная (?) версия Евсевия предполагает, что Галерий произвел очищение своей собственной свиггы и войска «задолго (етi rcàXai) до того, как начали действовать другие императоры», см.: Церковная история. УШ, Дополнение 1; ср.: VUE 1.7; VHI.4.2 слл. — о воинах-христианах, которые открыто исповедовали свою веру и поплатились за это потерей звания и положения (либо предпочли покинуть службу), а некоторые даже лишились жизни.
140 Обратите внимание на то, что акты святых мучеников (документы судебных процессов против христиан. —А.З.) времени этого затишья сохранили рассказы о христианах, упорствовавших в своей вере, самыми достоверными из которых являются свидетельства о рекруте Максимилиане, принявшем мученическую смерть 12 марта 295 г. за отказ от военной службы как несовместимой с христианской заповедью «возлюби врагов своих» («Milita, ne pereas» — «Служи, да не погибнешь» [Акты Максимилиана. 2)).
141 Галерием? См.: Bames. NE: 62 примеч. 76.
862
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Преамбула эдикта нравоучительно настаивала на том, что непреложной обязанностью благочестивых и набожных императоров является почитание и сохранение целомудренных и священных предписаний римского права: «Ибо не может быть никаких сомнений в том, что сами бессмертные боги будут благоволить и находиться в мире с римским именем, как они всегда делали в прошлом, если мы позаботимся о том, чтобы все наши подданные вели всецело благочестивую, набожную, мирную и целомудренную жизнь во всех отношениях». И в заключение эдикт объявлял: «Наши законы защищают только то, что свято и преисполнено почтения, и, соответственно, Римское величие достигло такой огромной величины благодаря благоволению всех божественных сил, поскольку мудро связало все свои законы узами благочестия и чувством стыдливости»142. Логика этого рассуждения с ее апелляцией к древности и религиозному единообразию — и процветанию — зловещим образом могла быть повернута против приверженцев любого аномального «варварского суеверия». Хотя в течение предыдущих сорока лет римские власти в любой момент могли извлечь из таких посылок соответствующие логические выводы, требуется понять, почему только теперь, 23 февраля 303 г., империя начала постепенно погружаться в десятилетие кровавого смятения, наполнившегося человеческим горем и страданиями (хотя этот процесс отнюдь не был единообразным и беспрерывным), и почему именно сейчас был приведен в движение ужасающий маховик Великого гонения против христиан. В конце концов, старший Август, Диоклетиан, к этому моменту находился у власти уже достаточно долго — восемнадцать лет.
И Лактанций, и Евсевий (последний более определенно) представляют Галерия (Цезаря в восточных провинциях) инициатором и разработчиком этого поворота в политике. Версия Евсевия не содержит никаких нюансов (см., к примеру: Церковная история. УШ.8.4; УШ.16.2; VTII Дополнения 1—4), тогда как Лактанций передает рассказ (преднамеренно тенденциозный, естественно, без приведения каких-либо документов, но в основе своей правдоподобный) о продолжительных тайных дебатах между Диоклетианом и Галерием, которые велись на протяжении зимы 302/303 г., с систематическими обращениями за консультациями к придворным amicis («друзьям») и советникам, гражданским и военным, а также и к интеллектуалам-язычникам, враждебным по отношению к христианству (упоминается, в частности, некий анонимный философ, см.: Лактанций. Божественные установления. V.2.3 слл.; Соссиан Иерокл, цитируется у: Лактанций. О смертях гонителей. 16.4; Лактанций. Божественные установления. V.2.12 слл., 3.22). В конечном итоге колебавшегося Диоклетиана склонил ответ оракула, полученный из храма Аполлона в Дидимах (Лактанций. О смертях гонителей. 11.3 слл.; ср.: 31.1). С уверенностью можно говорить лишь о том, что Лактанций, как человек, находившийся в то время в Никомедии, отражает циркулировавшие тогда слухи, основанные на реальной информации; как мы можем думать, всё примерно так и происходило. Сильной стороной его версии является то,
142 Сопоставление законов Моисеевых и римских. VI.4 (прежде всего: 1, 2, 6).
Глава 18b. Христианство III века
863
что окончательное решение всё равно остается в ней за Диоклетианом, какому бы давлению тот ни подвергался со стороны жестокосердного Галерия (который в таких красках изображается тенденциозным Лак- танцием)143.
Реалистический ответ на поставленный выше вопрос, как представляется, можно найти в том, что борьба за власть между утомленным Диоклетианом и его более молодым коллегой — Цезарем Галерием, сосредоточилась на политическом вопросе, в котором Диоклетиан был пойман в ловушку железной логики собственных посылок144. Внутренне присущая римскому политеизму (многосекторному, изменчивому, ассимилирующему, проницаемому) неспособность поддерживать устойчивую долговременную религиозную политику была продемонстрирована теперь весьма наглядно.
23 февраля 303 г. в Никомедии, тогдашней императорской восточной резиденции, был вывешен первый эдикт против христиан. Сам эдикт был принят за день до этого, и тогда же в символических целях в церковном доме в Никомедии, расположенном на возвышенности и хорошо видимом из императорского дворца, произвели обыск в целях обнаружения христианских Писаний, которые затем были сожжены, обнаруженные в здании ценности разграблены, а само здание разрушено до основания. Условиями эдикта, теперь вывешенного на всеобщее обозрение, предписывалось, помимо прочего, повсюду сносить церковные строения, предавать огню Писания и литургические книги, а церковную утварь и прочие ценности — конфисковывать; христиан с высоким социальным статусом либо правовыми привилегиями надлежало низводить до положения humiliores (то есть простонародья, которое можно было подвергать пыткам); кроме того, стороны, задействованные в судебных тяжбах (включая христиан), перед рассмотрением иска отныне обязаны были приносить жертвы; тех христиан-вольноотпущенников (императорских?), которые выказывали упорство, полагалось возвращать в рабское состояние145.
К весне 303 г. копии эдикта были вывешены по всей Палестине, к началу июня он уже действовал в Африке146. Наказания за нарушение закона, вероятно, не были четко прописаны: имелось достаточное количество
143 Обратите внимание на то, что Константин, также в то время находившийся в Никомедии, позднее возлагал вину на Диоклетиана — цитируется у: Евсевий. Жизнь Константина. П.50 сл. (письмо от 324 г.); Евсевий. Речь Константина к Святому собору. 25. См. также: Davies 1989.
144 Имеются стандартные описания хода Великого гонения; классический анализ этих событий см.: de Ste Croix 1954; а также богатый комментарий к сочинению Лактанция «О смертях гонителей», см.: Moreau 1954. О политическом и религиозном контексте см.: Barnes. СЕ: гл. 2, 9. Я не пытаюсь здесь сколь-нибудь систематически охватить надежно удостоверенные жертвы.
145 Главные условия эдикта сведены Лактанцием воедино, см.: О смертях гонителей. 13.1; ср.: 15.5; также см.: Евсевий. Церковная история. VD3.2.4; Евсевий. О палестинских мучениках. 1.1.
146 Евсевий. Церковная история. VTQ.2.4; Евсевий. О палестинских мучениках (краткая версия), в начале (события марта — апреля); Акты оправдательного процесса Феликса, епископа Аптунги \Acta purgationis Felicis episcopi Autumnitani] (5 июня, в Тибиуке).
864
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
прецедентов, из которых наместник мог выбрать подходящий вариант в случае неповиновения императорским распоряжениям, и, хотя Лак- танций сообщает, что Диоклетиан «пытался несколько ограничить задуманное, чтобы провести всё хотя бы без кровопролития» [О смертях гонителей. 11.8), это не могло предотвратить применения наместниками, у которых руки были развязаны, смертной казни к проявлявшим особое упрямство. Цезари должны были навести порядок не только среди собственной дворцовой челяди:147 под ударом оказалась церковная организация в целом, и, что обладало символическим значением, с публичным присутствием Церкви должно было быть покончено либо в физическом смысле, либо в смысле понижения ее социальной значимости. Нагнетая атмосферу постоянной опасности и неизбывного страха, этот эдикт всё же не угрожал непосредственно рядовым членам Церкви, которые относились к категории humiliores, если только они не были вовлечены как одна из сторон в какой-либо судебный процесс (к простонародью, humiliores, разрешалось применять пытки в целях дознания. —A3), но даже и в этом случае для спасения могли использоваться различные освященные веками увертки и способы обхода закона, начиная от процессуального представительства до обычной взятки148.
Этот первый эдикт был введен в действие в обеих половинах империи, хотя в сфере интересов Констанция (Британия и Галлия), согласно Лактанцию, были разрушены лишь сами стены церквей (которые можно было восстановить), а не сама Церковь; но даже и это опровергается Евсевием, согласно которому Констанций не разорял церковных строений149. Даже если отвлечься от апологетического уклона, можно предположить, что Констанций не особенно сочувственно относился ко всей этой операции, которая была инициирована его восточными коллегами (Лактанций. О смертях гонителей. 15.6); более того, имелись наместники, которые позднее могли гордиться тем, что они не замарали свои руки христианской кровью (Лактанций. Божественные установления. V. 11.13). Однако нет никаких сомнений по поводу того, каковы были результаты на территории, подконтрольной западному старшему коллеге Констанция — Максимиану: в Риме (Папа Марцеллин оказался предателем, traditor, если только не хуже)150, на Сицилии (.Акты Евпла Çicta Eupli\,
147 Судя по всему, слова Евсевия [Церковная история. УШ.2.4) «тех, которые состоят в домашнем услужении (xoùç 8 ev oixexiatç), если они упрямствуют в своем исповедании христианства, нужно лишать свободы», имеют отношение к Цезаревым вольноотпущенникам (Caesariani; ср. рескрипт Валериана: Киприан. Письма. 80.1.2).
148 Р. Оху. XXXI.2601 (интересы Копра на суде представлял по доверенности его брат (язычник?), который перед началом слушаний дела о семейной собственности принес жертвы); ср.: Пётр Александрийский (Пасха 306 г.), канонические правила 5 (доверенные лица), 6 сл. (использование рабов в качестве посредников) и 11 (взятка) (PG ХУШ.473 сл.).
149 Лактанций. О смертях гонителей. 15.7; Евсевий Церковная история. VHI.13.13; ср.: Жизнь Константина. 1.13 (хотя в «Палестинских мучениках» (13.12) он всё же причисляет Галлию к тем западным областям, которые испытали на себе последствия гонений). Опгат. 1.22 (CSEL XXVI.25 сл.): епископы-донатисты с похвалой заявляли, что при Констанции Галлия остается невредимой: «immunis est Gallia».
150 Об этой запутанной истории см.: Bames. СЕ: 38; а также примеч. на с. 303—304.
Глава 18b. Христианство III века
86 5
в Катане 12 августа 304 г.)151, в Испании (епископ Оссия из Кор дубы мог заявить, что он был исповедником, см. его цитату здесь: Афанасий. История ариан. 44.1) и прежде всего в Африке. Поскольку передача (traditio) Священных Писаний для их уничтожения рассматривалась как самый гнусный грех, «охота на ведьм», к которой после окончания гонения особенно подстрекали строгие африканские донатисты, обеспечивает нас бесценными примерами исполнения этого эдикта. Так, «Gesta apud Zeno- philum» (протокол расследования консуляром Нумидии Зенофилом в 320 г. дела об отступничестве епископа Сильвана. — А.З.) рассказывает об устроенном в Цирте 19 мая 303 г. обыске церковного дома (а также предоставляет опись его культовых сосудов и прочего многочисленного движимого имущества) и об обыске домов семерых чтецов, а также о том, что все имевшиеся у них копии Писания, найденные там или выданные добровольно, были конфискованы (CSEL XXVI. 186 слл.). Протоколы оправдательного процесса Феликса, епископа Аптунгского («Acta Purgationis Felicis»), очищают его от обвинений в выдаче властям братьев или в сожжении Писаний во время Великого гонения (CSEL XXVI.203 сл.), Акты Собора в Цирте от 4 марта 305 г. (Августин. Против Крескония. Ш.27.30) обнаруживают различные варианты отговорок и уловок (Донат из Каламы выкладывает для уничтожения всего лишь медицинские кодексы (codices), Виктор из Рустики — четыре нечитаемых Евангелия, Марин из Акв Тибилитанских — какие-то бумаги (cartulas), но не библейские кодексы (codices), а Менсурин, как утверждается, выдал для сожжения только еретические сочинения («quaecumque reproba scripta haereticorum».—Августин. Краткое изложение спора против донатистов [Breviculus collationis contra dona- tistas\. Ш. 13.25). «Акты Феликса» показывают, как ситуация могла повернуться в случае, если епископ (в данном случае епископ города Тибиука, провинция Африка) отказывался выдать Писания: Феликс был обезглавлен в Карфагене 15 июля 303 г.; также и Секунд, епископ нумидийского города Тигисис, упомянул многих мучеников, которые «были увенчаны из- за того, что они ничего не выдали» (Августин. Против Крескония. Ш.27.30; ср.: Августин. Краткое изложение. Ш. 13.25; 15.27). Всё это было отнюдь не пустячным делом.
Как бы то ни было, необходимо подчеркнуть, что, когда в 305 г. Констанций наследовал Максимиану в качестве Августа, все активные гонения в западной части империи прекратились. Преследования здесь продолжались «менее двух лет»152, и смертей (вопреки позднейшей легенде) было
151 Евпл провокационно носил с собой «святые Евангелия», которые отказывался отдавать: он был арестован 29 апреля 304 г., подвергся пыткам и 12 августа 304 г. принял мученическую смерть (латинская версия его страстей сообщает, что он был казнен вместе с его книгой Евангелий, подвешенной к его шее).
152 Евсевий. О палестинских мучениках. 13.12 — самый поздний датированный случай на западе — это мученичество Криспины 5 декабря 304 г. в Февесге (Африка). (Данный случай дает лучший, но всё же малоубедительный аргумент полагающим, что четвертый эдикт мог каким-то образом исполняться также и в западной части империи.) К февралю — марту 305 г. нумидийские епископы могли собираться в Цирте, в доме Урбана Дона¬
866
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
не очень много153. В следующем (306-м) году в Британии, Галлиях и Испании, подконтрольных теперь Константину, было осуществлено реальное возвращение церковной собственности и предоставление христианам полной свободы (так утверждает Лактанций, см.: О смертях гонителей. 24.9); в то же время на территориях, подвластных Максенцию (Италия, Африка), христианам, хотя их и терпели (Евсевий. Церковная история. VIE. 14.1; Оптат. 1.18), пришлось ждать еще пять лет возвращения своих имуществ, пока в самый последний момент (311 г.: Августин. Краткое изложение. Ш. 18.34) Максенций не пошел на это ради того, чтобы заручиться их поддержкой154. При этом ясно, что ко времени победы в битве при Мульвий- ском мосту (28 октября 312 г.) эта реституция, как видно из письма Константина Ануллину, проконсулу Африки, датируемого первыми месяцами 313 г. (Евсевий. Церковная история. Х.5.15 слл.), еще не была доведена до конца. Все эти годы христианам оставалось, проходя мимо мест своих собраний, видеть их в руинах и вообще жить, не имея никакой определенности относительно завтрашнего дня (доходившие до них леденящие душу рассказы о том, что творилось на востоке, заставляли думать, что всё это рано или поздно может случиться и с ними). Так что гонение оставило «богатое наследство» в виде смятения в среде христиан и разногласий, прежде всего в Риме и Северной Африке, по поводу того, как следует осуществлять покаяние, выборы на церковные должности и посвящение в сан. Но в конечном итоге Великое гонение оказалось для западной части империи недолговременным кровавым эпизодом.
Иная ситуация сложилась на востоке. Суровая реакция на дерзкое срывание эдикта, вывешенного в Никомедии 24 февраля 303 г., совершенное в знак протеста христианином по имени Евефий (Лактанций. О смертях гонителей. 13.2 сл.; Евсевий. Церковная история. УШ.5), и свирепые репрессии, которые вскоре последовали за двумя поджогами в императорском дворце в Никомедии, а также жесткое избавление от христиан среди чиновников, евнухов и рабов на императорской службе — всё это порождало поляризацию [«свой—чужой»], прежде всего в ближайшем окружении императоров (Диоклетиан лично принимал активное участие в судебных разбирательствах, см.: Лактанций. О смертях гонителей. 14.3 сл., 15.1 сл.;
та, на свои наполненные спорами и бранью собрания (церковное здание еще не было восстановлено) для избрания нового епископа вместо предателя (traditor) Павла, к тому моменту уже покойного (Августин. Против Крескония. Ш.27.30; ср. протоколы судебного заседания перед Зенофилом (Gesta apud Zenophilum): CSEL XXVI. 192 сл.).
153 К уже упомянутым мученическим смертям (Феликс, Евпл, Криспина, нумидий- ские мученики, о которых сообщает Секунд) добавим, например, Сатурнина с сотоварищи; согласно «Страстям», их было сорок шесть [PL УШ.689), хотя юный Илариан оказывается выжившим; событие имело место 12 февраля 304 г., в Карфагене, см.: Августин. Краткое изложение. Ш.17.32; CIL УШ.6700 (19353) [Мактар, Тунис] — мученики города Ми- левия (количество неизвестно), пострадавшие «in diebus turificationis» — «в дни сжигания благовоний». Вместе все они образуют тот примерный ряд фатальных жертв, из которого мы можем выводить заключения лишь спекулятивного характера.
154 В 311 г. африканские христиане оказались в большой опасности из-за возникшего у местных властей ощущения, что они настроены враждебно по отношению к Максенцию, см.: Оптат. 1.17 сл.
Глава 18b. Христианство III века
867
Евсевий. Церковная история. У1П.6 — здесь Дорофей, Горгоний и Петр, чьи дела рассматривались, названы по именам; ср.: Речь к Святому собору. 25). Но следует напомнить, что, хотя смерти, наступившие в результате страшных страданий и пыток, являются ужасающим аспектом имеющихся в нашем распоряжении сообщений об этих гонениях, прежде всего на востоке империи, такое беспощадное обращение было узаконено отнюдь не только по отношению к обвиняемым христианам, такая практика — совершенно неоспоримый и бесчеловечный факт позднеримской правовой системы.
«В скором времени» (то есть весной 303 г.?) вышел дополнительный эдикт с императорским повелением (тгроатаура ßaaiXixov) повсюду бросать в темницы и держать в оковах предстоятелей церквей (Евсевий. Церковная история. УШ.6.8 сл.; Евсевий. О палестинских мучениках. 1, Начало; ср.: Лактанций. О смертях гонителей. 15.2). Дальнейшие события показывают, что данный эдикт коснулся не только епископов, но и обычных священников: это было логичным продолжением, отвечавшим цели указа, которая состояла в атаке на церковную организацию как таковую и в ликвидации Церкви как публичного явления — то, что еще раньше намеревался сделать Валериан. Нет никаких явных доказательств, которые могли бы заставить нас поверить в то, что данный указ был распространен и на западную половину державы, — применялся он только на ее востоке.
Когда тюрьмы оказались забитыми до отказа, последовало новое императорское письмо (grammata) с повелением отпускать тех арестованных христиан, которые принесут жертвы, и предавать пыткам упорствующих (Евсевий. Церковная история. УШ.6.10; ср.: УШ.2.5; Евсевий. О палестинских мучениках, в начале). Использовались самые разные виды физического воздействия, чтобы принудить к отступничеству, по крайней мере формальному, и тем самым очистить тюрьмы, а заодно и почтить богов (Евсевий. Церковная история. УШ.З; О палестинских мучениках (краткая версия). 1.3—5)155. Так что смертей оказалось не очень много (ср.: Евсевий. О палестинских мучениках. 1.4 сл. — в Палестине погибли диакон Закхей и чтец и экзорцисг Алфей). Не было ли это связано с праздничной амнистией в преддверии двадцатилетнего юбилея (vicennalia) Диоклетианова вступления на престол (в конце 303 г.)? Вопреки риторическому восклицанию Евсевия [Церковная история. УШ.6.10: «<...> как можно исчислить количество мучеников в каждой провинции, особенно в Африке, в Мавретании, в Фиваиде и в Египте?»), данный эдикт, подобно его непосредственному предшественнику, был задействован, по всей видимости, только в восточной части империи.
На втором году гонений (304/305) или даже, что более вероятно, в первые месяцы 304 г.156, как сообщает Евсевий, в Палестину было доставлено
Ьо См. также каноническое правило 14 Петра Александрийского (PG XVHL505).
156 Разбирательство по делу, зафиксированное в «Актах Агапы, Ирины и Хионы» (с четырьмя другими подсудимыми: Агафоном, Кассией, Филиппой и Евтихией), имело место в Фессалонике в конце марта — 1 апреля 304 г., очевидно, во исполнение этого эдикта (см. гл. 3.2 «Актов»).
868
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
императорское письмо со всеобщим повелением (xocGoXixöv тгр6атау[ла) ко всем гражданским общинам принести в полном составе жертвы (Евсевий. О палестинских мучениках. 3.1; отражено и у Аактанция: О смертях гонителей. 15.4). Нет сомнений, что, как и в случае с более ранними приказаниями Деция, реализация данного распоряжения носила бессистемный характер и зависела от многих случайностей, отчасти в связи с отсутствием адекватных гражданских реестров, так что многие могли просто скрыться от следствия, прежде всего в сельских районах, либо, в случае городских обывателей, спрятаться у своих деревенских друзей157. По всей видимости, как и в случае с аналогичными распоряжениями Деция, для исполнения указа был установлен определенный срок. Четырнадцать канонических правил Петра Александрийского, разосланные всем египетским епископам к Пасхе 306 г., были составлены, по всей видимости, в качестве ответа на эту новую неожиданную атаку (и незадолго до того, как этот опыт повторил, более эффективно, Максимин в своем собственном диоцезе). Данный епископский циркуляр был написан в стремлении ввести определенные принципы относительно разных вариантов отступничества, соглашательства и сделок с собственной совестью. Так, к примеру, могли выдаваться удостоверения [о совершении жертвоприношения], но не вообще (как было, по всей видимости, в случае с распоряжениями Деция), а только в качестве средства защиты против новых домогательств со стороны официальных лиц, наделенных функциями принуждения (см. каноническое правило 5 Петра Александрийского: PG ХУШ.473 слл.). Тем не менее, эта мера означала прямой удар по христианскому культу: непослушные христиане (теперь не только представители клира, но и миряне) могли поплатиться головой за отказ повиноваться. Далеко не очевидно, что данный эдикт, определенно изданный для всей восточной части державы, был когда-либо обнародован на западе империи, но если даже это и было так, он не мог применяться здесь систематически158. «Акты» Криспины (Фе- веста, декабрь 304 г.) дают подозрительно изолированное свидетельство
157 Дед и бабка Василия из Цезареи Каппадокийской провели около семи лет в Пон- тийских горах (вероятно, в своих родовых имениях), см.: Григорий Назианзин. Речи. XT Ш б (PG XXXVT.501a); Акты Агапы, Ирины и Хионы. 1.2, 5.5 (бегство в горные районы из Фессалоники); Мелетий («епископ церквей в Понте») семь лет был в бегах в Палестине, см.: Евсевий. Церковная история. VII.32.27 сл.; о бегстве вообще см.: каноническое правило 13 Петра Александрийского (PG XVTH.501 слл.); Евсевий. Церковная история. УШ.2.1; а также ср.: Жизнь Константина. П.53 (цитируется Константин: ради безопасности и свободного богослужения христиане бежали за пределы Римской империи, к варварам). О предоставлении убежища язычниками: Афанасий. История ариан. 64; а также ср.: Евсевий Церковная история. IX.3.1. Афанасий (Житие преподобного Антония Великого) реалистично описывает, как могла продолжаться обычная жизнь христианина вдали от городских центров (обратите, однако, внимание на гл. 46 сл.). По Африке (303 г.) см. также «Протоколы суда перед Зенофилом» («Gesta apud Zenophilum») в: CSEL XXVI. 186 («fugivimus in montem Bellonae» — «мы бежали на гору Беллоны»).
158 См. сноску 152 наст. гл. Случай, являющийся лучшим (но всё равно малоубедительным) аргументом в пользу всеобщего действия эдикта, рассмотрен здесь: Frend 1965: 502 сл. Тем не менее отдельные наместники могли поддерживать сношения с восточным двором, как, напр., проконсул Африки, Юлиан, который советовался с Диоклетианом по поводу манихеев (см. выше).
Глава 18b. Христианство III века
869
для подобного крупного сдвига (в гл. 1.7 проконсулу приписаны слова: «omnis Africa sacrificia fecit nec tibi dubium est» — «вся Африка уже принесла жертвы, и тебе не пристало сомневаться»).
Мы можем только строить догадки, как Диоклетиан и Максимиан могли относиться к результатам своего натиска на христианство на момент их совместного отречения 1 мая 305 г.: более насущные государственные проблемы — и это определенно не вопросы религии — должны были занимать всё их внимание. Тем не менее возникает ощущение, что они могли считать, что церкви стерты с лица земли, руководство и организация христиан сломаны, почитаемые ими тексты уничтожены, армия и имперские ведомства очищены от их последователей, а многие, согласившиеся на отречение, перешли из христианских рядов в ряды почитателей «римских богов» (Евсевий. Церковная история. VIII.3.1 — количество отпавших оценивает как «неисчислимое» (pupioi)), при этом во внимание конечно же не принимались некоторые упорные и неизменно фанатичные и твердолобые христиане. Такой ситуация могла видеться с вершины императорских дворов, но совсем необязательно, что данную точку зрения разделяли все представители как правящих классов, так и муниципальных элит, не говоря уже об остальном населении (проявления народной враждебности [по отношению к христианам] на удивление не очень часты: редкое исключение, каким являются события в Газе, засвидетельствовано у Евсевия, см.: О палестинских мучениках (расширенный вариант) 3.1 (304 г.)).
Если на западе империи отречение Диоклетиана и Максимиана дало ход таким событиям, которые в конечном итоге привели здесь к триумфальному освобождению христиан, позволив им искать императорского заступничества — и попутно разжигать внутренние распри, — то на востоке ситуация была иной. Вновь назначенный Цезарь диоцеза Восток, Максимин, немедленно выказал личную неприязнь к христианству, начав в 306 г. решительную атаку на него, желая добраться до обычного населения и систематически используя недавно составленные и подробные цензовые списки159. Распоряжения, содержащиеся в его письме (grammata), повелевали городским магистратам принудить всё население (мужчин, женщин и детей) совместно принести жертвы и совершить возлияния на алтари богов160. Как и прежде, многие христиане смогли конечно же уклониться от исполнения этого эдикта, прежде всего в округах за пределами крупных гражданских общин (civitates); и вполне разумно будет предположить, что и эта (гораздо более эффективная), четвертая по счету, вариация эдикта была объявлена и на территории Галерия (дунайские провинции и Греция, диоцезы Азиана и Понтика), хотя у Лактанция об этом не сказано. Во всяком случае, следующие пять лет свое действие сохраняли там прежде изданные эдикты против христиан. Недаром Ев¬
159 Об этих цензовых книгах см.: Barnes. NE 227 сл.: неприязненное описание процесса регистрации ценза см.: Лактанций. О смертях гонителей. 23.1 слл.
160 Евсевий (О палестинских мучениках. 4.8, обе версии) яркими красками рисует то, как приказ выполнялся в Цезарее Палестинской.
870
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
севий обвиняет Галерия в непрекращавшемся преследовании христиан [Церковная история. \ЧП.14.9 слл.).
На территории самого Максимина принуждение к религиозному повиновению продолжалось: повествование Евсевия о событиях 306—308 гг. засвидетельствовало для Палестины страшные случаи мученичества в каждом году при наместничестве Урбана и затем Фирмилиана (Евсевий. О палестинских мучениках. 4—8). Далее Евсевий говорит о «кратком облегчении и затишье» в гонениях, включая освобождение исповедников, приговоренных к каторжным работам в рудниках Фиваиды [О палестинских мучениках (краткая версия). 9.1), продлившемся, по всей видимости, с лета 308-го до осени 309 г., то есть всё то время, когда Максимин был вынужден с головой погрузиться в имперскую политику;161 но это затишье было резко прервано новыми распоряжениями Максимина, разосланными городским магистратам через префекта претория и провинциальных наместников: эти указания предполагали как восстановление языческих храмов, так и массовое принуждение к принесению жертв (в очередной раз) всем населением; кроме того, товары, предназначенные к продаже на рынках, необходимо было окроплять кровью жертвенных животных и каплями жертвенных возлияний, а посетители общественных бань обязаны были при входе в них ритуально окропляться [О палестинских мучениках. 9.2). В одном из своих ценных отступлений Евсевий замечает, что даже язычники считали эти последние меры, весьма раздражающие, «грубыми и излишними» [О палестинских мучениках. 9.3). Не одобрявшие эти распоряжения муниципальные должностные лица, далекие от непосредственного окружения Цезаря, могли заходить довольно далеко в противостоянии даже императорской воле. И всё же Евсевий фиксирует [О палестинских мучениках. 9.4—13.10) целую серию мученичеств, которая увенчивается у него жутким эпизодом 4 мая 311 г., когда Сильван, епископ Газы, вместе с тридцатью девятью другими исповедниками (которых посчитали слишком старыми или немощными, чтобы продолжать с пользой эксплуатировать их в медных рудниках Файно) были казнены в один день путем обезглавливания.
Затем преследования прекратились, поскольку за несколько дней до собственной смерти (объявленной в Никомедии 30 апреля 311 г.) император Галерий от имени всех своих правящих коллег (включая Максимина)162 издал прокламацию, изложенную в форме письма, об окончании гонения: за христианами признавались легальное существование и право на собрания, при этом всё население во имя интересов государства призывалось к почитанию богов. Одновременно были открыты тюрьмы, отпуще¬
161 Если соглашаться с хронологией, предложенной здесь: Bames. СЕ: 153.
162 Хотя в дошедших до нас версиях имя Максимина (позднее подвергнутое вечному проклятию, damnatio memoriae) не появляется, ясно, что указ был издан Галерием от имени всех трех коллег-императоров (Лактанций. О смертях гонителей. 36.3); Максимин, впрочем, был «раздосадован писаным указом и, вместо того чтобы обнародовать письмо, устно приказал своим подчиненным прекратить войну с нами» (Евсевий. Церковная история. IX.1.1).
Глава 18b. Христианство III века
871
ны осужденные на каторжные работы, а исповедники — освобождены (Евсевий. Церковная история. EX. 1.7 слл.; Лактанций. О смертях гонителей.
35.2). Казалось, что теперь-то гонения должны были, к счастью, закончиться повсюду.
Среди прочих мер, которые мы всегда предпринимали ради пользы и блага государства, мы уже раньше стремились поддерживать всякий порядок в соответствии с древними законами и публичной дисциплиной римлян, а также гарантировать, чтобы и христиане, которые отказались от образа жизни своих предков, возвратились бы к благим мыслям. Поскольку таким вот образом подобное своеволие пришло в головы этих самых христиан, их охватило такое безумие, что они перестали повиноваться обычаям древних, установленным их же собственными прародителями, но вместо этого стали следовать собственному соизволению и прихоти, сами выдумали для себя законы, которые и соблюдали, и, распространяя их, объединили неразумием своим различные народы в различных местах. Когда наконец было обнародовано наше повеление о том, чтобы они обратились к древним установлениям, многие подчинились из-за страха, многие же были наказаны. Многие, однако, упорствовали в своих убеждениях, к тому же мы видели, что те же самые люди не только не приносили жертв и не почитали богов, но не совершали служения и богу христианскому. Поэтому, принимая во внимание наше мягчайшее милосердие и наш постоянный обычай проявлять снисходительность ко всем человекам, мы придерживаемся мнения, что и на этих людей следует немедленно распространить милость нашу. Таким образом, мы постановили, что отныне они вновь могут быть христианами и устраивать свои собрания [conventicula sua componant], но так, чтобы никто из них не нарушал доброго порядка. Другим же своим посланием мы намерены указать наместникам, какие условия они обязаны выполнять. Итак, благодаря нашей снисходительности они обязаны будут обращать молитвы к своему богу за безопасность нашу, государства и свою собственную, так, чтобы ни с какой стороны государство не претерпело никакого ущерба, а люди беспрепятственно могли жить в собственных домах.
Лактанций. О смертях гонителей. 34163
Эти предсмертные слова Галерия недвусмысленно сосредоточены на том теологическом образе мыслей, на котором базировались гонения; гражданские обязанности в рамках этой концепции прочно ассоциировались с традиционной религией — вместе с некоторым вынужденным признанием существования христианского бога и неудачи программы гонений его последователей. Неприязненный тон очевиден; ничего не сказано о возвращении конфискованной церковной собственности164. Но очевидное узаконение старшим Августом практики христианского богослужения представляет собой поворотный пункт. С этого момента в Римской империи, от Балкан и дунайских провинций в западном направлении, начался процесс избавления от практики преследования христиан.
Здесь необходимо сделать паузу и рассмотреть некоторые скрытые смыслы, содержащиеся в бесценном сочинении Евсевия «О палестинских мучениках», представляющем собой рассказ о христианских героях всего
163 Евсевий (Церковная история. VTH.17.3 слл.) предоставляет нам греческую версию текста этого письма, предназначенную для провинциалов, вместе с его преамбулой.
164 Пункт «ut... conventicula sua component» («чтобы устраивали свои собрания») позволял строить новые церковные дома (аналогично это понимает и греческая версия, приведенная Евсевием).
872
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
лишь одной провинции, доведенный до 311 г. Для начала — голая статистика. Упомянута девяносто одна жертва в самой Палестине за период с 303 по 311 г., в том числе тринадцать осужденных в 303—305 гг., до отречения Диоклетиана165, и сорок четыре — за последний год (310/311) преследований, проводившихся под руководством военного дукса в рудниках Файно. Остаются тридцать четыре жертвы, которые приходятся на период 306— 310 гг. (включая год передышки — 308/309)1б6. Если из общего числа в девяносто один человек вычесть сорока четырех, пострадавших в рудниках в 310—311 гг., останется сорок семь, причем из их числа, согласно повествованию Евсевия, тридцать один человек либо провокативно привлекли к себе внимание, либо добровольно отдались властям. Нельзя сказать, чтобы власти прилагали какие-то сверхусилия для розыска и остальных шестнадцати. Но всё же и при таких обстоятельствах палестинские христиане могли быть несчастны при тогдашних наместниках: Урбан, а затем Фирмилиан (при котором стало еще хуже) зловеще изображаются как ожесточенные преследователи и каратели приверженцев Христа, и, видимо, имеют важное значение слова Евсевия (помещенные им в конце рассказа о последнем мученичестве в Цезарее 7 марта 310 г.) о том, что в провинции «дела приняли более спокойный и мирный оборот» еще до того, как стал известен эдикт Галерия о терпимости [О палестинских мучениках (краткая версия). 13.1); данный перелом мог совпасть с отъездом Фирмилиана. В дополнение ко всему, Палестина приняла большое количество исповедников из Египта, отправленных на каторгу в здешние каменоломни:167 они определенно способствуют необычному завышению количества жертв, подвергнутых смертной казни в Палестине, прежде всего в ходе массового истребления исповедников в рудниках Файно (примерно две трети из тридцати девяти не названных по именам жертв в действительности были, скорее всего, египтянами). Эти соображения могут сокра-
165 В число этих тринадцати входила Фекла (о чьей дальнейшей судьбе нигде не сообщается, не исключая и пространной версии трактата «О палестинских мучениках» (3.1)), а также два египтянина из числа шести молодых людей, которые пошли на мученичество добровольно (пространная версия, 3.4). Агапий, осужденный на втором году гонений (3.4), не был скормлен зверям вплоть до четвертого года (в конечном счете он был утоплен) (6). Мы не учитываем здесь Романа, диакона и экзорцисга Цезареи Палестинской, который был казнен в Антиохии (2).
166 Это количество получается, если не принимать во внимание Эдесия — палестинца, казненного в Египте при Иерокле, см.: О палестинских мучениках. 5.2 сл.; но оно включает епископа-маркионига Асклепия: О палестинских мучениках. 10.3.
167 Евсевий. О палестинских мучениках. 8.1 (краткая и пространная версии) — здесь сообщается о девяноста семи египтянах, а также женщинах и детях, отправленных на работы в медные копи Палестины; Там же. 8.13 — здесь говорится о второй группе из ста тридцати египтян (некоторые были отправлены в Киликию); Там же. 9.10 — здесь содержится свидетельство о том, что (в числе других исповедников) были арестованы и замучены три египтянина; Там же. 11.6 слл. — сообщается еще о пятерых египетских мучениках; Там же (пространная версия). 13.1 слл. — речь идет о том, что в 410/411 г. в рудниках Файно примерно из ста пятидесяти исповедников более сотни были египтянами (в том числе египетские епископы Пелей и Нил, которые вместе с Патермуфием и Илией названы особо из-за их мученичества). Там же (пространная версия). 13.10 — здесь отмечается в связи с тридцатью девятью непоименованными мучениками, казненными в Файно 4 мая 311 г., что «многие из них были египтянами».
Глава 18b. Христианство UI века
873
тить общее число собственно палестинских жертв — примерно на двадцать шесть до шестидесяти пяти всего примерно за восемь лет, в среднем — по восемь мучеников за год. (Даже при таком раскладе последний подсчет по-прежнему будет включать десять египтян, замученных в первые годы гонений в Палестине.)
Это дает нам лл^чший статистический ориентир в вопросе о реальных смертях, имевших место в одной провинции, как своего рода модель для всей восточной части империи. Но другие наместники могли проявлять даже большее рвение в преследовании христиан168 — и прибытие императорского двора в конкретную провинцию всякий раз неизменно стимулировало активизацию гонений на ближайшей территории. Кроме того, относительно цифр, сообщаемых самим Евсевием, необходимо сделать одно важное предупреждение: вполне возможно, что он давал не общую сумму жертв, а фиксировал для потомства лишь тех, с кем лично общался:169
Итак, подобает, чтобы примеры борьбы, которые стали известны в разных округах, были описаны теми, кто жил рядом с бойцами в их округах. А что касается меня, я молюсь, чтобы хватило умения рассказать о тех, с кем я общался лично, и чтобы они связали меня с ними — с теми, кто прославил весь народ Палестины, потому что даже посереди нашей земли Спаситель всех людей возник как утоляющий жажду источник. Таким образом, о битвах этих прославленных воителей я расскажу ради общего знания и общей пользы.
Евсевий. О палестинских мучениках (пространная версия), в начале 8; ср.: Евсевий. Церковная история VIII. 13.7
В действительности это повествование в разных пунктах мимоходом обнаруживает безымянных (и не исчисленных) сотоварищей исповедников и мучеников (по всей видимости, лично не известных Евсевию), см., например: Евсевий. О палестинских мучениках (пространная версия). 1.1 (товарищи Прокопия, отправленные из Скифополя в Цезарею); Там же. 3.3 («Агапий и его спутники»); Там же. 7.1 (безымянные исповедники на суде, с которыми общается Феодосий из Тира); Там же. 8.4 (изуродованные непоименованные христиане из Газы и их сотоварищи); и т. д. Поэтому не может быть никакой уверенности, что даже для Палестины мы имеем достоверную статистику как некое мерило. И эта «грубая» статистика не способна передать человеческие страдания исповедников, проводивших долгие годы в мерзких условиях римских тюрем, людей, подвергавшихся диким пыткам, юных девушек, отдававшихся в дома терпимости, тех верующих во Христа, которые подвергались методичному членовредительству, женщин и детей, приговоренных к тяжелым и опасным работам в римских
] т Обратите внимание, в частости, на действия печально известного Соссиана йерок- \а [PIRE L432) в Вифинии (нанр.: Аактаншш. О смертях гонителей. 16.4) и Египте (Евсевий О палеалтш-кш жучсниках (пространная версия). 5.3); также — на действия Клодия Кулыдаа- на (PIRE L233 ел.) в Египте (Евсевий Церковная история IX. 11.4; Евсевий О палестинских лпучетяшах. 5J2; Акты. Филеи и Филоромы \Acba Phüem et РШтотЩ,
Евсевий О палестинских мучениках (краткая версия). 5.1 — это место показывает, что в то время, когда составлялась более ранняя (и более пространная) версия этого сочинения, Евсевий лично не знал Улытаана. о смерти которого ((в Тире) он ограничился кратким сообщением.
874
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
шахтах, тех молодых людей, которые подвергались кастрации, а также огромного количества увечных (хромых, с выбитым глазом и т. д.) или клейменных железом — не говоря уже о душевных страданиях тех, кого вынудили совершить отступничество, как и тех, кто предпочел долгое время скрываться от следствия. Великое гонение не может сводиться к банальному подсчету павших мучеников170.
Евсевий сообщает, что мир для христиан на подконтрольной Макси- мину территории (теперь значительно расширенной за счет включения диоцезов Азиана и Понтика) не продлился даже шести полных месяцев (Евсевий. Церковная история. IX.2.1). В своей позднейшей апологии (декабрь 312 г.) Максимин утверждает, что он «отдал каждому судье приказ впредь ни с кем из провинциалов не обращаться жестоко» (цитируется здесь: Евсевий. Церковная история. 1Х.9а.2), но соответствующие распоряжения, которые он распространил через своего префекта претория Сабина (цитируется здесь: Евсевий. Там же. IX. 1.3 слл.), так и не дали христианам особого, и критически важного, права на собрания (следовательно, и на восстановление церквей), а также права на обычную ритуальную службу (каковые права были легитимизированы Галериевым эдиктом о терпимости). Первое нарушение формального мира случилось в связи с повелениями, запрещавшими христианам собираться на их некрополях (Там же. IX.2.1 — осень 311 г.), за чем вскоре последовала согласованная атака на видные церковные фигуры (например, 26 ноября 311г. был схвачен и обезглавлен вместе с «многими другими египетскими епископами» Пётр Александрийский, см.: Там же. IX.6.2; cp.: VII.32.31; \ТП.13.7; 7 января 312 г. был казнен в Никомедии Лукиан Антиохийский, см.: Там же. ЕХ.6.3; ср.: УШ.13.2), при этом Лактанций утверждал, что Максимин, вместо того чтобы убивать исповедников христианства, приказал «выкалывать им глаза, отсекать руки, отрубать ноги или отрезать носы и уши» (Евсевий. О смертях гонителей. 36.7).
Между тем по всей восточной половине империи власти подстрекали города (так свидетельствуют наши источники: Лактанций. О смертях гонителей. 36.3; Евсевий. Церковная история. IX.2.1; IX.4.1 сл.) направлять императору просьбы о специальном разрешении (в качестве величайшей милости) на изгнание христиан со своей территории — эту меру Максимин защищает в своей апологии (цитируется у: Евсевий. Указ. сон. ЕХ.9а.6). Вскоре бронзовые таблицы, содержащие тексты этих петиций вместе с императорским ответом, в знак лояльности стали вывешиваться по всем восточным городам, демонстрируя силу политеистического благочестия {рфлли
170 Цифры по Египту и Фиваиде вполне могли быть гораздо большими, чем в Евсевие- вой Палестине, если верить утверждению Евсевия [Церковная история. IX. 11.4), согласно которому римский правитель Кулыдаан пролил кровь «несметного» количества людей (fxupiot), и если учесть, что казни в Фиваиде исчислялись десятью (с подозрительной аллюзией на притчу о сеятеле), двадцатью, иногда тридцатью, шестьюдесятью и сотней в один день, см.: Там же. УШ.9.3. Подобные округленные цифры весьма далеки от точности. Невозможно определить численность населения той деревни во Фригии, жители которой, являвшиеся христианами, были заживо сожжены, см.: Там же. ЛТП. 11.1; Лактанций. Божественные установления. V. 11.10.
Глава 18b. Христианство III века
8 75
политического оппортунизма) в среде муниципальных элит (Там же. IX.7.1): Антиохия (Там же. IX.2.1), Никомедия (цитируется у: Там же. 1Х.9а.6 — первоначально Максимин отказал в просьбе никомедийцам из-за большого количества обитавших там христиан, цитируется у: Там же. DC.9a.4-5), Ариканда в Ликии (результат петиции провинций Ликия и Памфилия) [ТАМ П.3.785 = I. Aryk. 12), Колбаса в Писидии (6 апреля, 312 г.);171 Евсевий приводит перевод Максиминова ответа (явно стандартизованного) для города Тира, см.: Церковная история. DC.7.3 слл. Эта угроза перманентного изгнания христиан из их родных городов (где они могли быть хорошо известны) потенциально имела более глубокие последствия для жизни христиан, чем многие предыдущие меры (которые, как ясно показывает опыт выживания христиан, можно было успешно обойти тем или иным способом); ср.: Евсевий. Там же. DC.7.15. Данный процесс сопровождался явным поощрением политеистических культов и жреческой практики (Лактанций. О смертях гонителей. 36.4 сл.; Евсевий. Там же. IX.4.2) наряду с несмолкаемой пропагандой противодействия христианству (распространяемые по распоряжению императора копии скандальных «Актов Пилата», наполненных всякой хулой на Христа, а также (подложных) письменных заявлений гулящих девок из Дамаска о будто бы устраиваемых христианами оргиях, см.: Там же. DC5.1 сл.).
Некоторые выдержки из Максиминова ответа на эти петиции заслуживают того, чтобы быть процитированными в качестве удивительного теологического примера языческого благочестия:
Все знают, что такие и гораздо тягчайшие бедствия [= войны, чума, волнения, землетрясения] до этого времени часто случались, и всё это по вине губительного заблуждения и пустого тщеславия этих беззаконников [= христиан], окрепшего в их душах и, можно сказать, державшего под гнетом позора чуть не всю землю <...>.
Пусть воззрят они на обширные равнины, волнующиеся колосьями, на луга, где благодатные дожди взрастили траву и яркие цветы, на погоду, нам дарованную, мягкую, умеренную. Да возрадуются же все, что это устроено благодаря вашему благочестию, вашим жертвам и почитанию всемогущего и крепчайшего Арея! Да смогут все спокойно наслаждаться миром! А те, кто перестал блуждать вслепую и вернулся к правильному и наилучшему образу мыслей, да возрадуются еще больше, как люди, спасшиеся от нежданной бури, избавившиеся от тяжелой болезни и получившие возможность наслаждаться жизнью! Если же они останутся в этом проклятом пустом заблуждении, то да будут, как вы о том просили, изгнаны далеко за пределы вашего города и его окрестностей, дабы, в соответствии с вашим достохвальным горячим желанием, ваш город, избавившись от всякой скверны и нечестия, обратился, по врожденному своему расположению, к благоговейному служению бессмертным богам.
Процитировано у: Евсевий. Церковная история.
Х.7.9 слл. Перев. М.Е. Сергеенко
По иронии судьбы, этот ответ, доставленный в Тир летом 312 г.(?), появился в тот самый год, когда на империю обрушились одновременно засуха, голод, эпидемия, а затем еще и война в Армении (где было много хри-
171
Mitchell. «Maximus» (1988).
т
Часть шестая. Глава 1S0L Хрнстштатт а первые трт века нашей эры
стаан, причем христиан ревностных, см.: Там же IX.8.1 слл.). А к осени того года, после победы Константина над Максенцием (28 октября). Максимин получил текст «закона, в полном смысле слова совершенно превосходного для христиан», изданного Константином и Лицинием (Там же DL9.12; cp.: DL9aJ2 («эдикты и законы»); Лактанции. О смертях гонителей. 37Л. 44.1 i сл.)_ Выказывая фальшивую уступчивость, Максимин через префекта претория направил в конце 312 г. своим наместникам апсгуогетаческую оценку своего прежнего обращения с христианами, в которой вновь заявил о своей (декларативной) терпимости по отношению к ним («если есть люди, упорствующие в этом суеверии, то пусть каждый по желанию своему держится того, что предпочел» (процитировано у: Евсевий. Церковная история. DL9öl5}}. Но опять же христиане не наделялись ни крит ически важными для них правами на собрания и на исполнение своих сложившихся обрядов, ни разрешением возводить церковные здания (ср.: Там же DL9a.l 1). Меж тем конец гонениям был недалек, и в следующем (313) году, во время весенней кампании между Лицинием и Максимшюм, поражение поколебало веру Максимина в его языческих богов. «Менее чей через год, после того как указы против христиан» были начертаны на бронзовых таблицах и размещены в восточных городах (Там же IX. 10.12), Максимин вынужден был по меныпей мере издать закон, недвусмысленно восстанавливавший для христиан полную свободу вероисповедания, вместе с возвращением их собственности:^
Дабы впредь уничтшкть всякие подозрения а всякая повод к страху, мы постанови- лв обнародовать вастояшвв указ (Бшагшг^ш): пусть все знают, что же.лающим следо вать такому учению в исповедовать такую веру разрешается, по малости нашей, пребывать в той вере, какая ему привычна в им выбрана, как кому желательао или при- ятно. Разрешается также строить и церковные дома. А чтобы еще усугубить нашу милость, решили мы законом постановить следующее; если какие дома и земли принадлежали раньше по праву христианам, а по приказу предков наших перешли во владение казны, или были присвоены каким-то городом, или проданы, или комл ю отданы в подарок, то мы приказываем вернуть их христианам в прежнее владение — да видят все наше благочестие и нашу попечительность.
Евсевий Церковная натрия DL10.10 ел. Переа. ЖК Сергеенко
Однако в каком то смысле было уже поздно. Когда в июне 313 г. победивший Аициний вошел в Никомедию, он привез с собой письмо для наместников восточных провинций с текстам указа, условия которого были выработаны во время встречи между ним и Константином, состоявшейся в Милане предыдущей зимой (в феврале 313 г . см.: Лактанций О смертях гонителей. 45.1,482); эти условия должны были отражать меры, уже применявшиеся на западе империи (включая государственную компенсацию каждому, кто мог пострадать от возвращения церковных нмуществ, прежде конфискованных). Поскольку в тексте этого письма были сформули-
ш Как считал Евгении {Церковная шпнярая DL10L3). закон был издав в мае 313 г., после поражения при Адриадаодале 3D апреля (датировка битвы дана Лактанцием. см.; О смертях ганжтвжя 46В ел.); или же его издание следует датировать более ранней весной 313 г.?
Глава 18b. Хри<стшшатт III фгш
т
рованы главные (на то время) моменты Константиновой (н Лищшиевои?) точки зрения о мире с христианством внутри империи, он заслуживает того, чтобы быть приведенным целиком13.
Когда мы, Константин Август и Лицикнй Авгу ст, благополучно встретились при Медиолане н. совместно обратившись к вопросу о пользе и благополучии народа, обсуждали среди прочего то, что сочли полезным для болыэшнсгва людей, решило, что прежде всего следует рассмотреть интересы тех, кто сохранял богопочитанпе; согласно чему мы даровали христианам и всем возможность свободно следовать той религии, какую бы кто ни пожелал, так, чтобы божественность спокойно и умиротворенно могла существовать как в небесной обители, так и у нас и среди всех, кто под нашей властью находится. Таким образом, в итоге этого благого совещания и здравого размышления мы постановили, что необходимо узаконить то, что полагали необходимым всегд а, а именно, что вообще не следует никому отказывать в выборе, если кто-то предал мысли свои богопочитанию христианскому или религии, какую счел для себя наиболее подходящей; чтобы всевышняя божественность, святости чьей мы следовали бы по доброй воле, могла проявлять во всем свое благоговение и милость А потому Благочестию Твоем} следует знать, что nocive устранения всех без исключения распоряжений в отношении христиан, которые прежде были письменно отданы для исполнения Твоего, мы постановляем, чтобы каждый из тех, кто питает стремление к исполнению религии христианской, отныне законно и открыто, без какого бы то ни было беспокойства и тревоги для себя, почитал ее. Мы решили, чтоб Ты знал, что Тебе следует самым пристальным образом позаботиться о том, чтобы христиане не были лишены возможности свободно и без каких-либо ограничений почитать религию свою. Вместе с тем, насколько ты понимаешь, нами было решено, да знает Твое Благочестие, и другим дать возможность так же открыто и свобод но соблюдать свою религию, да успокоится от этого время наше; чтобы каждый имел добрую волю выбрать себе веру*, так как мы не желаем, чтобы нами умалялось право почитать любую религиях
И сверх того мы решили постановить в отношении христиан, что, если какие- либо места, где они прежде имели обыкновение собираться, в отношении которых также были даны распоряжения к исполнению твоем} , под известным видом были захвачены и в прежние времена были кем-то куплены либо из фиска нашего, либо как-то иначе, тем же христианам без денежной выплаты и без требования какого бы то ни было вознаграждения, основанного на обмане и двусмысленности, возвращались Также те из земель что были подарены, следует как можно быстрее вернуть христианам; в отношении тех, кто эти земли приобрел за службу или получил в дар, если они просят о нашем благоволении, пусть обращаются к викарию, с тем чтобы им была оказана помощь милостью нашей. Всё это следует передать общине христиан через твое посредничество и без промедления.
И поскольку христиане не только теми местами, в которых они имели обыкновение собираться, но и другими владели, по закону собрания их. то есть церкви — не частных лиц, но общества, — то. согласно общему закону, который мы выше изложили, Ты прикажешь вернуть их без какого-либо спора и неприязни этим самым христианам, то есть общине и каждому собранию их, соблюдая, разумеется, вышеизложенный порядок, чтобы те. кто будет возвращать землю, не получая выкупа, уповали, как мы сказали, на возмещение убытков от нашей милости. Во всем
1/75 Адресатом является пргитнщгалыддг губернатор. Имеется греческая версия (с не- башпими вариациями}, процитированная Евсевием, см.: Цфштшя шаяврия* Xii слл_, которая, вне всякого сомнения, была обнародована в Цезарее Палестинской. Позднее Константину пришлось отступить от провозглашенного здесь принципа религиозной свободы. см.: Barnes. СЕ: 245 слл.
878
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
этом Ты обязан оказать необходимое посредничество в отношении вышеуказанного собрания христиан, чтобы предписания наши исполнялись как можно быстрее, чтобы проявлялось в этом, благодаря нашей снисходительности, миролюбие народа. Да пребудет, как было сказано выше, Божественное благоговение, испытанное во многих делах наших, подле нас, чтобы на протяжении нашего и потомков наших времени сохранялся в блаженстве народ наш. А чтобы милость наша в этом нерушимом законе могла дойти до сведения всех, прикажи предписанием своим вывесить всюду эти распоряжения и довести их до всеобщего сведения, чтобы закон, милостью нашей данный, не мог остаться неизвестен.
Лактанций. О смертях гонителей. 48.2 слл. Перев. В.М. Тюленева
Когда 13 июня 313 г. текст этого письма был вывешен в Никомедии, десять лет гонений действительно завершились. Оно весьма умело преодолело напряженность между, с одной стороны, индивидуальными гражданскими правами («свобода вероисповедания») и, с другой — традиционными гражданскими обязанностями (необходимость поклоняться божественной силе ради блага государства), напряженность, которая в течение всего предшествовавшего столетия лежала в основе конфликта между властями политеистического государства, которых поддерживали многие из состава муниципальных элит, и монотеистами — теми, кто верил в Христа. Эта напряженность, казалось, на данный момент была преодолена. Но реализация еще одного фактора — фактора исключительности христианства — оставалась делом будущего.
Совпадение теологических взглядов победоносного Константина и проигравшего Максимина также вряд ли нуждается в подчеркивании: для обоих действие божественной силы было проявлено в каждодневных событиях текущей истории, и могущество, благосклонность или немилость их божественных покровителей могли быть прочитаны из этих событий прямо и однозначно. Впоследствии, как оказывается, поведение победившей стороны ничем не отличалось от того, что можно было бы ожидать от Максимина. Произошла «зачистка» от потенциальных политических и династических соперников и от близких приверженцев Максимина, а также и от прежних преследователей христиан (в религиозном и политическом смысле, что характерно, от победителя неотличимых); в число жертв этой чистки попали такие пресловутые гонители, как Кульциан (Евсевий. Церковная история. IX. 11.4) и Фирмилиан (Евсевий. О палестинских мучениках (краткая версия). 11.31), вдовы гонителей Галерия и Диоклетиана (Лактанций. О смертях гонителей. 50 сл.), жена Максимина (сброшенная в ту же самую реку Оронт, в которой она раньше часто приказывала топить христианских женщин, см.: 50.6), языческий предсказатель Феотекн из Антиохии и его сообщники (Евсевий. Церковная история. ГХ.2 сл.; IX. 11.5 сл.; Евсевий. Приготовление к Евангелию. IV.2.10 сл.) и даже, как выясняется, жрец Аполлона, ответственный за тот оракул, который окончательно подтолкнул Диоклетиана к открытию гонений (Там же.
IV.2.11). И, соответственно, начали щедро раздавать награды и привилегии, оказывать всяческую поддержку слугам той божественной силы, которая обеспечила победу, то есть стали совершать именно то, что при иных обстоятельствах делал бы сам Максимин.
Глава 18b. Христианство III века
879
Утвердившийся теперь на востоке империи Лициний никогда не являлся фанатичным сторонником многобожия, но не был он и воинственным поборником христианства. Очевидно, что в своих беспокойных и многолетних попытках отыскать компромисс между противоречивыми тенденциями в религиозной политике он роковым для себя образом приобрел стойкую репутацию противника христианства, избавителем которого от страха и ужаса оказался Константин. В конечном итоге Лициний очистил свой дворец от представителей этой веры (по подозрению в их вероломстве?), и, если «воины и граждане» (= находившиеся на императорской гражданской службе) отказывались принести жертвы языческим богам, они лишались своих званий (Евсевий. Церковная история. Х.8.10; Евсевий. Жизнь Константина. 1.52; 1.54; ср.: П.20; П.ЗЗ). Позднее, «дойдя до предела безумия» (Евсевий. Церковная история. Х.8.14), Лициний начал строить козни епископам, запрещая их визиты в соседние церкви и не позволяя им съезжаться на Соборы и на общие совещания (Евсевий. Жизнь Константина. 1.51), а также требуя, чтобы обычные собрания конгрегации проводились за городскими воротами, причем на открытом воздухе (1.53); повелевалось, чтобы для наставления женщин избирались бы только женщины, а также чтобы богослужения мужчины проводили отдельно от женщин (1.53), к тому же Лициний отменил освобождение от муниципальных литургий и лишил налоговых привилегий (дарованных представителям христианского клира) (П.20; П.30). Когда этой серии досаждающих мер оказалось недостаточно, один провинциальный наместник зашел настолько далеко, что предал смерти епископа Амасии, а других понтийских предстоятелей наказал тем, что разрушил либо закрыл их церкви (Евсевий. Церковная история. Х.8.14 слл.; Евсевий. Жизнь Константина. П.1 сл.). Какова бы ни была мотивация наместника («некоторые епископы подвергались таким наказаниям, каких удостаивались лишь отъявленные злодеи» (Евсевий. Церковная история. Х.8.17), — не подозревались ли они в измене?), все эти акции определенно предоставляли Константину подходящую пропагандистскую основу для начала священного «крестового похода» (в 324 г.) за освобождение христиан от того, что легко могло быть представлено как прямая угроза расширения новой языческой травли под руководством Лициния (Евсевий. Церковная история. Х.8.18 сл.; Евсевий. Жизнь Константина. П.2).
С победой, одержанной над Лицинием, победа самого христианства теперь казалась полной.
VII. Христианская литература 3-го СТОЛЕТИЯ
Реалии христианского образа жизни Ш в. во многом утрачены для нас из-за повсеместного разрушения церковных зданий в период Великого гонения. Следует признать, что у нас нет никакой возможности узнать, например, о характере и внешнем виде комплексов христианских по¬
880
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
строек, о том, как выглядели кладбищенские сооружения и места погребения мучеников (martyria), о том, каково было декоративное убранство этих мест и какая символика там присутствовала, что представляли из себя купели для крещения, как использовалось литургическое пространство, как выглядели епископские кафедры (cathedrae), сидения для пресвитеров, литургические сосу ды и облачения — ничего из этого не сохранилось, как и от почти всех литургических чтений. По-прежнему представляется весьма сомнительной, например, надежность датирования третьим веком археологических христианских остатков в Риме под базиликой Сан-Клименте на Эсквилине и Санти-Джованни-э-Паоло на Авен- тине, не говоря уже о базиликах Сан-Мартино-аи-Монти в парке Оппио и Сан-Кризогоно в Травестере. Подобный скептицизм уместен также и в отношении попыток датировать третьим веком фундаменты христианских построек, сохранившиеся в Парентии (Пореч, Хорватия) и Аквилее. Хотя у нас нет никаких сомнений в том, что церковные дома и христианские места собраний могли очень сильно различаться размерами, планами и общим устройством в зависимости от региона и конкретного места, в вопросах их расположения и внутренней отделки мы, по сути, целиком зависим от литературных источников и документальных текстов. Одним из важных исключений является чудом уцелевший церковный дом в Дура-Европос (небольшой по размерам и незатейливый в отделке), погребенный под руинами во время осадных работ 250 года. К другим примечательным оговоркам к этим общим выводам по поводу пережитков христианской материальной культуры Ш в. относятся также некоторые отложения на уровне фундаментов позднейших строений, например, под Сан-Себастиано, а также под папской криптой в Риме (в катакомбе Каллиста) — оба археологических места не особенно претенциозны, — и под некоторыми другими зонами ранних римских катакомб (например, Греческая капелла в катакомбе Присциллы — хотя точная ее датировка остается весьма спорной), aedicula (молельня) под базиликой Святого Петра (опять же отнюдь не грандиозное сооружение) ; а также мозаика Христа-Гелиоса и другие мозаики в Мавзолее М в некрополе под базиликой Святого Петра (которые, по крайней мере, должны были предшествовать, хотя, скорее всего, ненамного, сооружению констангиновской базилики). Чрезвычайно редки и надписи — знаменитые, и в основном сельские исключения происходят из Фригии174.
Недостаток материальных и эпиграфических источников компенсирует замечательный корпус литературных произведений — хотя и далеко
174 Скудные свидетельства изучены Дяе Снайдером (Snyder 1985), который чересчур щедр на смелые хронологические включения. Относительно документальных, литературных и археологических источников по церковному строительству до времени Константина (с полными библиографическими ссылками) см.: White 1990—1997. По археологическим материалам из-под базилики Святого Петра фундаментальной является работа: Toynbee, Ward-Perkins 1956. О том, что сохранилось от ранних христианских текстов, см.: Roberts 1979; о надписях из Фригии см.: Tabbemee 1997.
Глава 18b. Кристшпстт Ш века
881
не полный170, — который проливает свет на интеллектуальную и духовную жизнь христиан Ш в. Следует держать в уме конечно же, что вся эта литература — продукт образованной элиты (в процентном отношении неизбежно составлявшей малую часть всего общества); еще одна тру дность состоит в распознании того, насколько писатели, которые представлены на наших страницах, могли быть замкнуты в своем христианском окружении (и, соответственно, насколько они отражают исключительно точку' зрения единоверцев своего крута. — A3.).
Одна из категорий сочинений ведет отсчет со П в. и может истолковьь ваться как фактор самоидентификации, как проявление стремления христиан очертить свою особую идентичность со всеми сопутствующими этому двусмысленностями: желанием оставаться частью греко-римского общества, но в то же время отличаться от него; закреплением за собой в качестве наследия еврейского Ветхого Завета и вместе с тем непохожестью на своих иудейских собратьев, у которых были те же самые священные тексты и одно и то же общее прошлое; стремлением разработать собственную («правоверную») доктрину и практику в противовес бесчисленным христианским вариациям, расценивавшимся в качестве раскольнических сект и ересей, но при этом сохраняя многое из того, что объединяло с большинством из этих последних.
Отсюда — производство апологетических сочинений, не прекращавшееся на латинском Западе на протяжении всего столетия; этот жанр представлен трудами Тертуллиана, Минуция Феликса, Киприана, Арно- бия, Лактанция, а на греческом Востоке — большой работой Оригена «Против Цельса». Эти сочинения демонстрируют неуклонно возраставшую тенденцию представлять христиан в нравственном отношении в качестве идеальных членов греко-римского общества, достигавших на практике философски санкционированных добродетелей, к каковым язычники стремились всего лишь в теории; при этом христиане, неизменно отвергая грубое языческое идолопоклонство, отстаивали богословский монотеизм, к которому, с философской точки зрения, многие нехристиане могли испытывать большую симпатию. Тем не менее, остается неясным, к какой аудитории были адресованы эти сочинения: стремились ли они лишь к удовлетворению чувства собственного «я» христианской читательской массы или же были настроены на большее, взывая и к нехристианской аудитории176. Возможно, большое значение имеет то обстоятельство, что на греческом Востоке, где христианство, как кажется, в течение столетия всё более и более утверждало себя в качестве обычной составной части общества, не возникло никакой настоятельной необходимости ограничивать эту особую категорию литературных памятников, созданных в пери- * *и ' Представленный далее в наст, параграфе краткий обзор почти совершенно не затрагивает утерянные писания (а состав сохранившихся носит очень случайный характер, часто отражая позднейшие предпочтения), гак что определенные искажения неизбежны. В качестве конечного временного рубежа в данном обзоре принимается приблизите.\ьно период Великого гонения.
1 ъ См.: Gamble 1995; а также: Edwards, Goodman, Price 1999.
882
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
од после середины 3-го столетия, тем временем, когда Мефодий написал книги против Порфирия (ныне утрачены)177, а Евсевий Кесарийский полемически ответил Иероклу, а также Порфирию (в нескольких объемных работах).
Эти апологетические усилия можно рассматривать также как часть более широкого отхода христианства от его семитических истоков в сторону культурного приспособления к греко-римскому окружению, как часть переформулирования и выражения христианства в эллинистических терминах и в приемлемом греко-римском риторическом дискурсе, то есть как часть процесса, очень важного для долгосрочного выживания христианства в принявшей его среде. В силу этого христианскую литературную продукцию Ш в. необходимо рассматривать не отдельно от основных тенденций тогдашней греко-римской риторической культуры Ш в., а, скорее, как важный элемент данной культуры, которая в указанный период времени и сама находилась в процессе трансформации.
Еще одним жанром, перекочевавшим из Ш в. в следующий, является жанр «adversus Iudaeos» («против иудеев»). Этот тип сочинений опять же несколько лучше представлен на Западе, а именно трудами Ипполита, Тер- туллиана, Новациана и анонимным сочинением «Adversus Iudaeos», хотя на данную тему много написано также в трактате «Против Цельса» Ориге- на, в «Дидаскалии Апостолов» и в «Приготовлении к Евангелию» Евсевия. Весьма вероятно, что на Востоке иудаизм во многих местах проживания еврейской диаспоры чувствовал себя более комфортно в окружавшей его социальной среде, а потому мог восприниматься христианами как менее серьезная угроза. Но и в этом случае имелся очевидный побудительный мотив для установления особой идентичности для христианства и для заявления его наследственных прав на библейское прошлое. В обоих регионах литературная продукция в жанре «adversus Haereses» («против еретиков») не выказывала признаков доминирования (среди иных жанров) ни в форме компендиумов (например, Ипполит и, позднее, Викторин из Пе- тавии), ни в форме гораздо более пространных текстов, написанных против конкретных вождей, доктрин и сект, либо в форме особых трактатов (Тертуллиан здесь особенно плодовит), либо в форме писем (для Ш в. характерен настоящий шквал эпистолярного обмена), либо в форме соборных дебатов и постановлений. Не все они, впрочем, носят атакующий характер: иногда это защита, как в случае с «Опровержением и Апологией» Дионисия Александрийского или «Апологией Оригена», написанной совместно Памфилом и Евсевием. Не стоит забывать, что на деле такая полемика часто служила средством приближения к догматической определенности (мы имеем дело с религией, в которой [правильная] вера есть ключевой атрибут), а также то, что эти споры, как представляется (если судить по литературному творчеству), в гораздо большей степени являлись заботой христианских писателей, нежели были когда-либо, по крайней мере, мученичество и гонения178. Случайно сохранившийся «Диалог Ориге-
177 Иероним. О знаменитых мужах. 83.
178 Почти все писатели Ш в. так или иначе, прямо или косвенно, были вовлечены в эту активную полемику.
Глава 18b. Христианство III века
883
на с Ираклидом» проливает яркий свет на типичную озабоченность церкви Ш в. и дает живые примеры этого.
Нет сомнений, что потенциальная угроза преследований, под которой христиане жили в течение всего Ш в., то увеличивавшаяся, то затухавшая, давала свидетельства, на основании которых можно реконструировать тогдашние события, однако нам трудно оценить, каким образом такая угроза (постоянная или нет) могла оказывать психологическое воздействие на повседневное сознание христиан. То там, то здесь, особенно после 250-х годов, заявляли о себе выжившие исповедники, главным образом занесенные в списки клира, чтобы наглядно напоминать общинам о суровых реалиях пережитых гонений. Мы можем уверенно возводить истоки назидательной литературы жанра «о мученичестве» к периодам реального или всего лишь ощущаемого гонения (зачастую эти сочинения остаются основным источником нашей информации), в частности, к Тертуллиану, писавшему в начале века, к Оригену, сочинявшему в 230-е годы (время императора Максимина Фракийца), к Киприану и к Дионисию Александрийскому (Евсевий. Церковная история. VT.46.2), создавшим свои труды в 250-е годы, а также к Филею из Тмуита, работавшему во времена Великого гонения. Но высочайшая духовная оценка, присваиваемая исповеданию и мученичеству — даже если теология мученичества вряд ли серьезно изменилась по сравнению с тем, чем она уже являлась во П в., — привела к появлению других форм популярной литературы. Рассказы в «Актах» о героических страстях мучеников, часть которых ближе других подпадает под определение судебных протоколов, имели весьма широкое хождение — в данном отношении особенно продуктивной оказалась Африка. При том что не существовало никаких нехристианских предшественников этого жанра179, стимул к богословскому творчеству в значительной степени был обусловлен самосознанием самих исповедников; следует обратить особое внимание на тот факт, что литургически их вспоминали в посвященные им дни календаря и что их вдохновенные сновидения, слова и подвиги могли из года в год передаваться в народе как образцы христианского героизма. Опять же из Африки мы получаем первую христианскую биографию. Этот жанр получил импульс благодаря тому, что героем данного сочинения стал (о чем в нем гордо заявляется) мученик протоепископской Африки — Киприан Карфагенский («Житие Киприана» Понтия). Вскоре, в IV в., данный жанр породит многочисленные жития аскетов — зеркальное отражение житийной литературы о мучениках 3-го столетия. Именно к этой подкатегории мученической литературы относится сочинение Евсевия «О палестинских мучениках» и даже, возможно, трактат Лактанция «О смертях гонителей», возродивший старую апологетическую тему. Масштаб преследований вполне мог разрастись в восприятии аудитории гораздо сильнее, нежели то было в реальности, но данная литература всё же выделяется на фоне многих других видов христианской активности.
179 Musurillo 1954; а также по поводу коллекции христианских текстов: Musurillo 1972.
98Л
Часть шестая. Глава IÖL Хриеятвястж а ъервъе три фсх& мша зр!Ы
Состав литургических книг и церковных обрядов, как и молитв и гимнов представленный в *А1жхтальском предании» Ипполита на Западе и в «Дидаскалии Апостолов» — на Востоке, обнаруживает глубокую заинтересованность в том, чтобы литлргнческие церемонии осуществлялись не только с внешней благопристойностью и приличием, но и в соответствии с утвержденными процедурами и положениями, а также в правильном назначении, манерах и поведении членов конгрегации и ее клира на разлнч^ ных должностях и с относительно различными обязанностями. « Дцдаска- лня» выказывает также озабоченность тем, как правильно обращаться с грешниками разных категорий, с нищими, вдовами и сиротами. Эти тексты — отнюдь не продукты, типичные для осажденной Церкви в условиях кризиса, панику ющей перед донимающими ее демонами. Также не все они являются трактатами и гомилиями, направленными к моральной жизни, и духовными христианскими руководствами, для которых был так свойственен стиль Терггуллиана и Кнприана (иллюстрирующий сильные пасторские наклонности западных церковников) и примеры чего предоставляют нам также Ипполит, Новацнан и Ориген, а если говорить об утрачен ных сочинениях, то подобные примеры содержались у Дионисия и Пнерия из Александрии. Стоит отметить, что на всех этих страницах с увещеваниями мы не обнаруживаем никаких предписании, связанных с прооаведыо во внешней среде — у язычников: Церковь ведома не столько миссионерским императивом, направленным на приобщение к своей вере чужаков, сколько побуждением формировать нравственную неподкупность и способствовать духовному совершенствованию христианского сообщества.
Значительные интеллекту альные у силия были направлены в Ш в. прежде всего на формирование канона священного текста: у становление самого текста, выработку должных методологических подходов к ото экзегезе (аллегорическому , типологическому, .литературному толкованию), со значительным развитием и ростом богословия, происходившим путем создания корпуса библейских комментариев и пасторских наставлений (гомилий). Во всех этих энергичных усилиях Ориген конечно же — выдающийся и необычайно продуктивный образец, которому следовали Лукиан и Доротей, оба из Антиохии. Гесихнй (из Александрии?) и Памфил из Цезареи. Дионисий и Пиер, оба из Александрии, наряду с Мефодием из Олимпа также внесли вклад в развитие жанра библейских комментариев — как и Ипполит, Викторин Петавский и Ретиций из Авгусгодуна (современный Оген) на Западе. Вся эта активность указывает на всё большую утонченность церковной эрудиции, для которой мы имеем ценное описание Оригенова обучающего метода в «Панегирике Оригену* Григория Чудотворца (VIL 93 слл.)15:. «Ономастикой» Евсевия, географический
ta Напр., епископ Непот б Египте (процитировано у; Евсевии. Церковная штормя \TL24.4), Армении в Эдессе (Соэомен. Церковная история ШЛ6), Павел из Самоса гы в Антиохии [цитируется у: Евсевий. Церковная история YÏÏJtXIOU христианский гимн с нотной записью [Р- Оху. XV. 1786 — конец Ш в.], гимн Фжлы в Логосе 1 *ГЦра десяти дев> Мефодпя О.чимпийского (Musurifio 1958с а также: Debîdour, Musnriflo Ï963).
Wi Crouzel 1969.
Глава 18b. Хршелттистт III ®гт
885
справочник по топонимике Священного Писания, являет собой еще один важный побочный продукт библейской учености. Эти труды в сочетании с догматическими текстами следует рассматривать в качестве свидете.ль- ства энергичной 1штоу\ектуа\ыюн жизни в кругах церковной алиты Ш в.; речь идет о таких сочинениях, как новаторское творение Оригена «О на чалах». «Наброски» Феогноста (Фотнй. Библиотека. 106.86b сл.). трактаты Мефодня. литература созданная теми, кто был вовлечен в спор с Павлом Самосатсхим о Святой Троице, как, например, Ма\хион Антиохийский (Евсевий. Церковная история VTL29.2; Иероним. О знаменитых му жох. 71), доктринальные труды (в значительной части утраченные) Петра Александрийского и. на Западе. «О Троице» Новациана, а также, до известной степени. «Божественные установления» .Хактанция. В 3-м столетии христианству удалось привлечь энергии нескольких великих интеллектуалов и утонченных умов греко-римского мира, в котором прежде всего Александрия, а затем Цезарея в Палестине превратились в главные центры христианской учености, равно как и умозрительной теологии — наследием которой стали разногласия и взаимная озлобленность.
Вслед за стремлением .христианских апологетов П в. заявлять претензии на отдаленное прошлое, предшествовавшее прошлому эллинскому (Платон как аттический Моисей), Секст Юлий Африкан предпринял важную попытку- синхронизировать в своих «Хронографиях» библейские, иу дейские, эллинские и христианские события (вплоть до 221 г. н. э.). Подобным образом Ипполит составил «Хронику» мировой истории от Сотворения и вплоть до года написания своего труда (234 г.). Эти попытки по созданию Всеобщей истории были продолжены в одной из ранних работ Евсевия — в сто «Хронике» (из двух частей: «Хронография» и «Хронологические кансны»}. в которой соотнесены сакральная и мирская истории: отныне христиане могли твердо занять свое место в рамках новых исторических горизонтов в пределах древней и почтенной религиозной традиции, связанной с очень отдаленным прошлым182. Апогеем этой .линии разысканий стала «Церковная история» Евсевия, самая первая версия которой. возможно, была составлена еще до начала Ве.ликого гонения (в частности, книги с I по \И}гя;. При всех своих недостатках это замечательный у спех, по сути, компиляция документальных источников по новаторской исторической тематике, сввдете.\ьств\тощая о новом, но уже впалне сложившемся христианском самосознании.
Наконец, необходимо помнить, что жизнь всей христианской эккле- сни в значительной степени протекала вокрлт Средиземного моря, и общение здесь поддерживалось благодаря корреспонденции посредством .ли типовых евхаристических посланий (и послании об отлучении от церкви).
Расчеты для установления цикла пасхальных дат также пркшикашь. дав тал чек вычислительным изысканиям: напр-. Ипполит (Евсевии Церктятх тютвфтл. \T22fy анонимный трактат «О вычислении Пасхи* \<&f Ptosi&a Стя^вйв] (CSEL ULI 248—271; i $551 Динншян Ал№ганд|м*н1кян (Евсевий. Цфюввшля Анатолии (Там
же. УП32ЛЗ слл).
О труд ах Евсевия ox.: Barnes. СЕ.
886
Часть шестая. Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
приветственных ли писем, энциклик ли (циркулярных сообщений Соборов и совещаний), обмена ли идеями (и выражениями несогласия), регулярных ли праздничных посланий (по крайней мере, в случае с Александрией), оповещавших о дате Пасхи. На этом поле у нас большие утраты. Например, Евсевий сумел собрать коллекцию писем Оригена общим числом более тысячи [Церковная история. VI.36.3), однако до нас дошло всего лишь два, одно — к Григорию Чудотворцу, другое — к Юлию Африкану. Из переписки самого Григория (ср.: Иероним. О знаменитых мужах. 65) мы располагаем только «Каноническим посланием», а из корреспонденции Юлия Африка- на—всего двумя его посланиями (одно из которых фрагментировано). «Церковная история» Евсевия (а именно кн. VI и УП) сберегла для нас большую (хотя и не всю) часть того, что осталось от огромного эпистолярного наследия Дионисия Александрийского (всё во фрагментах, за исключением одного короткого письма). От всей столетней папской корреспонденции, к примеру, мы располагаем лишь обрывками: одним письмом (в переводе) Фирмилиана из Каппадокийской Цезареи, тремя посланиями, приписываемыми Новациану, одним кратким письмом и несколькими фрагментами писем Петра Александрийского184 (плюс послание четырех египетских епископов). Так что нам остается радоваться наличию у нас, по крайней мере, коллекции из более восьмидесяти документов, ассоциируемых с Кип- рианом Карфагенским: они напоминают о том, что мы потеряли, а также о том, что жизнь церковного сообщества на этом уровне била ключом. Очевидно, наш взгляд на жизнь экклесии в III в. мог бы сильно измениться, если бы еще несколько декад были освещены столь же ярко, как освещены те десять лет, с 248 по 258 г., на которые приходится эпистолярное творчество Киприана.
Всё это искажает наше восприятие христиан Ш в., концентрирующееся на их постоянном страхе перед тюремным заключением, сожжением на костре или казнью мечом. В реальности же их умы занимали и требовали их энергии и другие серьезные проблемы.
184 См.: Vivian 1988: 53 слл., 139 слл. О посланиях Антония см.: Rubensen 1995.
Глава 19
Дж. Хаскинсон
ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА, 193—337 гг. н. э.
I. Введение
Рассматриваемый здесь период (с 193 по 337 г.) — один из самых важных этапов в истории римского искусства, хотя, как это ни парадоксально, именно он труднее всего поддается адекватной оценке: источники обрывочны, само искусство изменчиво, развитие его стилей и форм нередко характеризуется явными разрывами, а мнения исследователей по его поводу зачастую сильно разнятся. Коротко говоря, разные части этого искусства, как кажется, в своей сумме не всегда соответствуют его общему значению.
С точки зрения истории искусств, это значение зависит от того факта, что в данном случае мы имеем дело с переходным периодом, который следует за кульминацией середины П в. и заканчивается еще до полной консолидации позднеантичного искусства в 4—5-м столетиях (описанной в следующем томе). Формы и стили, характерные для этого периода, более гетерогенны, нежели те, что характеризуют предшествующий и последующий периоды, а потому они более трудны для интерпретации. Во-первых, есть соблазн обсуждать этот период в терминах того, что было ранее или, наоборот, после, в особенности потому, что интересующий нас период содержит элементы, которые являют собой результаты некоторых тенденций, а другие факторы представляют собой начало тенденций новых. В данном случае ключевой вопрос состоит в том, как следует оценивать переход форм и стилей от натурализма к абстракции, который в позднем римском искусстве становился всё более явным: говорит ли этот переход о художественном упадке или, при более позитивной постановке вопроса, о смене приоритетов? Хотя рассмотрение данной проблемы в САН ХШ (Eisner 2000: 739—742) носит более обстоятельный характер, являясь центральным для оценки дальнейшего развития искусства в IV—V вв., автор соответствующего раздела в поисках аргументов неизбежно обращается к примерам из нашего периода, часто окрашивая их в цвета предопреде-
Часть шестая
888
ленности. Поэтому очень важно ясно заявить, что мы рассматриваем ис KvecTBO именно данного периода и что делаем это в его собственных терминах ].
Во-вторых, в исследовательских описаниях и анализе имеется проблема субъективизма. Конкретные особенности искусства рассматриваемого времени {возможно, в 6о.лыпей степени, чем многих иных периодов) оказываются в последних исследованиях у язвимы для субъективных суждений, поскольку7 такие определения, как «переходный характер», «регионализация» н даже «тревожность», кажутся настолько типичными именно для Ш в,, что в конечном итоге это может ввести зрителя в заблуждение I Ьюгда это выливается и в некоторые категоричные заявления, например, Дж. Брекенрвдж, изучающий императорскую портретную скульптуру, пишет. что «в период правления северовской династии произошел переход от классического к позднеантичному искусству. Определение точного момента — дело выбора и акцепта»5. Такая позиция, возможно, и подает успокоительную надежду на какую-то определенность, однако на самом деле маловероятно, что вообще существуют такие точно определяемые моменты. из которых можно было бы сделать какой-то выбор. Ибо в ряду всех визуальных искусств переход от классического стиля к раннему средневековому7 и византийскому7 выглядит отнюдь не как прямая эволюционная линия, а как серия зигзагов, которые двигаются то назад, то вперед, от одного стиля к другому: нет какого-то одного момента, когда граница была скончательно пересечена, хота в связи с развитием христианского искусства и формированием более гомогенного стиля в середине IV в. будет гравильно сказать, что к этому времени переход в основном был уже совершен. Еще один вопрос — состояние социальной тревожности: Ш в. особенно часто описывается как время кризиса и неопределенности, как для отдельных людей, так и для госуд арства в целом, а также как период более ааггойчиь вых духовных искании. Данная точка зрения разделяется и истериками искусства, прежде всего при описании портретов;5 но тут существует реальная опасность впасть в порочный крут, поскольку' выискивание признаков тревожности и оду~хотворенност без установления четких диагностических критериев неизбежно предвосхищает ответ на вопрос,, как именно искусство должно быть прочитано, что, в свою очередь, может заранее, априори, присвоить ему роль свидетельства современного этому искусству' общества.
Центральный вопрос, который следует поставить относительно искусства и архитектуры нашего периода ферму лируетея так: насколько они
а В связи с хз|Ш1фисшкш ((б термитах угадка!;, дашжш М Б.\сжашм (B&atke 19-Ш| и Дж- Бекагга {Весзйй 1961J черво-белым мозаикам Ш к. Дж. К\арк fOarfeeJ-R Щ написал: «Складывается впечатление, будто бы да» своему уровню эти шзаикв чем-то хуже мшм предыдущего столетня, а именно в них отсутствует та. что де.лает мозаики П в. по- нагтшщшу вцвюшшшея«.
2 Biedea«^ 1961: ЗОВ—3>4: ср; МайЬел 1943:65с «Нс» факт перехода именно в Ш в. очевиден, и период с 253 по 2Ш г. остается одним из самых значительных эпизодов».
•s №п)х: В(апсМвк1веШ Ж Ï: 3; МсОашн 1981: 624. Доказательство важности игшри- чшмго контекста: Smüh 1997.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
889
демонстрируют действительную эволюцию стиля в смысле обнаружения некоего непрерывного и органического (пускай и расчлененного) движения, а также как они примиряют традиции прошлого с инновациями, которые соответствовали быстро менявшемуся миру? Для ответа на этот вопрос в главе будет предложен краткий обзор ряда важнейших проблем и событий, а затем подробней рассмотрены три конкретных случая.
II. Искусство и архитектура,
193-337 гг.
Обзор
Рефлексивные отношения между искусством и обществом в рассматриваемый нами период особенно очевидны, когда искусство отражало социальную эволюцию, но также и влияло на нее4. Искусство и архитектура сыграли важную роль в формировании образа императора и в учреждении новой христианской империи. В свою очередь, произведения искусства могли нести на себе печать конкретных политических событий и социальных перемен. Экономическая неопределенность иногда ограничивала технические и ресурсные возможности мастеров, а также и уменьшала клиентуру5, тогда как политические перемены — варварские вторжения, расколы, раздел империи — способствовали заметным колебаниям в уровне благосостояния и стабильности по всей державе, которые неизбежно сказывались на художественной продукции. Так, для середины Ш в. публичные монументы редки, а главными источниками информации остаются частные портреты, саркофаги, а также мозаики, но в 4-м столетии, с расширением общественного строительства и императорских заказов, баланс был восстановлен. Всё более структурированный социум, где отдельные лица оказывались в зависимости от группы, к которой они принадлежали, влиял на развитие стилей и форм (как, к примеру, было доказано Л’Оранжем для заключительного этапа рассматриваемого периода6), при этом повышение статуса императора и дворцовый церемониал привели к появлению новых тем в иконографии и к новым типам зданий7. Интеллектуальные и религиозные течения также воздействовали на развитие искусства в данный период. Неоплатонизм, например, созданный Плотином, подчеркивает важность внутренних качеств и идей, в противоположность внешнему
4 Краткая сводка и обзор современных исследований по поводу факторов, влиявших на развитие искусства в 3-м столетии, представлены в: Wood 1986: 11—25.
5 Недостаток умений и навыков часто называют причиной кажущегося «упадка» общего уровня художественных работ; что касается свидетельства о нехватке в начале IV в. архитекторов и ремесленников, обратите внимание на меры Константина по освобождению их и их семей от общественной службы и т. п., см.: Кодекс Феодосия. ХШ.4.1—2.
6 L’Orange 1965.
7 MacCormack 1981.
890
Часть шестая
виду и восприятию, на чем базировалось натуралистическое искусство8. Возрастание значения христиан как покровителей искусств, которое становится заметным с Ш в., было усилено Миланским эдиктом 313 г., согласно которому исповедникам Христа возвращались некоторые имущественные права и всем людям предоставлялась свобода вероисповедания. До этого христианское религиозное искусство, по сути, сводилось к погребальным контекстам — катакомбам и саркофагам, — но мир, предоставленный Церкви, открыл дорогу новым темам и иконографии, как и новым средствам выражения. Другими словами, в этот период сложился целый ряд ярких факторов, которые оказали воздействие на художественную продукцию по всему фронту, и не следует недооценивать их значение в качестве внешних стимулов в процессе формирования стилистики и иконографии.
Если говорить о внутренних факторах в их развитии, то искусство и архитектура данного периода отражают некоторые неизменные запросы, которые невозможно не заметить при всем их разнообразии. Прежде всего обращает на себя внимание конфликт между плоской поверхностью и полностью смоделированными пластическими формами, каковой можно исследовать во многих отношениях и разными способами. В портретной скульптуре он лежит, в частности, в основе ряда очевидных существенных стилистических изменений — от следующих классическим образцам портретов Галлиена (к примеру), в которых объемно-пространственное ощущение достигается с помощью искусного пластического моделирования форм [ил. 7), к более абстрактным стилям портретного искусства эпохи тетрархии, где объем обозначается как геометрическое тело, а характерные черты задаются, скорее, как линейно-графические элементы поверхности [ил. 2). Техника во всем этом играла важную роль, особенно использование (на протяжении всего 3-го столетия) бурава для усиления эффекта светотени и для обозначения объема, фактически без его пластического моделирования.
Еще одним средством выразительности, которое столкнулось с этой проблемой, была мозаика, где сцены с фигурами, имеющие собственную глубину и объем, накладывались на плоские поверхности стен, сводов и полов (см. далее); в рассматриваемый период мозаика всё более утрачивала интерес к третьему измерению, развивая плоские, покрывающие всю поверхность узоры для полов и размещая фигурные сцены на стенах и сводах на простом светлом фоне9. Также и в архитектуре можно заметить похожий конфликт, который выражается в терминах формы здания и его убранства: типичным примером этого является базилика начала IV в. в Трире {рис. а), где кажущийся аскетизм компенсировался тщательно продуманной искусной отделкой и церемониалом, который проходил внутри здания10.
8 Eisner 1995; ср.: Eisner 2000: 751—755.
9 Напр., мозаика конца Ш в. на своде в Мавзолее М некрополя под базиликой Святого Петра в Риме (с желтым фоном, предвещающим золотистый цвет IV—V вв., который знаменовал Фаворский свет, Свет Вечной Жизни), см.: Dunbabin 1999: 249—250, рис. 265.
10 Ward-Perkins 1981: 442—445.
Ил. 7. Портрет Галлиена с Римского форума, 260—265 гг.
Ил. 2. Два тетрарха из скульптурной группы из черно-красного порфира.
Собор Святого Марка, Венеция
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. и. э.
893
О 50 м
Рис. а. Трирская базилика: реконструкция внешнего вида
Во многих отношениях этот конфликт создает базу для более прямого и ясного взгляда на изменения в искусстве и архитектуре рассматриваемого периода, нежели то позволяют сделать другие подходы, концентрирующиеся на противопоставлении «классических» и «неклассических» черт и на относительном преобладании одних над другими, поскольку эти подходы всегда содержат в себе субъективные нотки, исходящие из концепции «упадка» (см. выше). Напротив, более прямая и ясная точка зрения предполагает два фундаментально отличных стиля художественной выразительности, один из которых озабочен созданием иллюзии глубины и пластическим моделированием объема, а для другого характерна дву- мерность и линейность. Кроме того, эти два стиля можно противопоставить друг другу в рамках еще одной дихотомии, которая наблюдается в искусстве данного периода, а именно в дихотомии между изображением воспринимаемого мира посредством натурализма греческой традиции и его репрезентацией посредством более схематизированных форм. (Явным свидетельством контрастирующих форм являются повторно использованные на арке Константина адриановские медальоны, расположенные прямо над фризом самого Константина, см. ил. 6)
Первая часть периода, примерно совпадающая с правлением Северов, характеризовалась продолжением стилистической эволюции, которая начала проявляться во второй половине П в. Многие ее аспекты заметны уже в колонне Марка Аврелия, законченной около 193 г., то есть после смерти императора. Бросались в глаза цветовая обработка поверхности и отход
894
Часть шестая
Ил. 3. Арка Септимия Севера, Рим
от пропорциональных композиций и фигуративного стиля адриановско- го классицизма с его театральными позами и использованием фронтальности; поверхности и структуры расщеплялись или изменялись так, как если бы давно устоявшиеся формы были теперь забыты. В северовском искусстве все эти черты только усиливаются. Если говорить о публичных монументах, то данные особенности можно увидеть, например, в трактовке сцен на панелях арки Септимия Севера в Риме (возведена в 203 г. — ил. 3), в двумерности императорских фигур на арке аргентариев (освящена в 204 г. — ил. 4), в глубоких рельефах, украшающих северовскую базилику в Лепте, а также во фронтальных фигурах императора и его сыновей в триумфальной процессии на арке в Лепте (203 г.)11. Особенности эти можно заметить и на одном из шедевров частного искусства — на так называемом Б ад минтонском саркофаге, где изображен триумф Диониса и Времен года: гладкие, отполированные поверхности контрастируют с
11 Kleiner 1992: 329-332, 340-344.
Глава 19. Искусство и архитектура,!93—337 гг. н. э.
895
глубоко вырезанным задним планом и с обработанной с помощью бура более шероховатой текстурой волос12. В терминах архитектуры это время описывается как «апогей римского строительства»13. Строительная деятельность Северов отличалась широтой и грандиозностью (особенно после пожара 191 г.)14. Огромные термы Каракаллы были сооружены между 212и216гг. по строго симметричному плану вокруг центральной оси. Их внушительные пространства были украшены великолепной коллекцией скульптур, многие из которых были специально заказаны для этих бань и включали колоссальные статуи (такие, например, как «Геркулес Фарнезе») и копии эллинистических шедевров (такие как «Наказание Дирки», или, иначе, «Фарнезский бык»)15.
От Северов и до заключительной четверти Ш в. ситуация приобретала всё большую изменчивость. Некоторые из самых поразительных предметов искусства данного периода — это портреты солдатских императоров, таких как Максимин Фракиец и Филипп Араб, черпающие свою энергетику из сочетания моделируемых объемов с детализированной линеарной проработкой таких характерных деталей, как глаза, волосы и борода16. Напротив, портреты Галлиена демонстрируют целый ряд стилей, как, примерно, и портреты Септимия Севера, но при этом возвращаясь к более пластичной, ориентированной на классику трактовке форм (ср. ил. 1). Этот обращенный в прошлое филэллинизм Галлиена заставлял в прошлом ряд исследователей говорить о некоем галлиеновском ренессансе, который они связывали с искусством Августа и Адриана;17 однако опять же правильней было бы усматривать в этом признак постоянных изменений, которыми были отмечены изобразительные искусства того времени. Эти перемены улавливаются также в изумительном «боевом» саркофаге Людовизи (середина Ш в.), который эффектно украшен фигурами в горельефе [ил. 5)18. Структура времени разбита: вместо логически последовательного повествовательного цикла битва показана как серия отдельных схваток, образующих фон для одиночной победоносной фигуры, которая — почти как на иконах — господствует в самом центре.
Начиная с последней четверти Ш в. основной импульс был направлен в сторону того, что в САН ХШ (р. 736) названо «одной из великих перемен в истории западного искусства». Формы становятся более плоскими, фигуры приобретают почти иконный статус, а контекст и внутренний смысл зачастую диктуют, какую именно форму должны принять эти фигуры. В портретном искусстве эти черты доведены почти до крайности в образах тетрархов, что иллюстрирует знаменитая группа в Венеции (ил. 2). Сделанные из порфира (этот твердый камень из Египта был в то время излюб-
12 McCann 1978: № 17.
13 DeLaine 1997: 10.
14 Benario 1958; но cp.: Thomas, Witschel 1992: примем. 6; DeLaine 1997.
15 DeLaine 1997: Приложение 4 — о свободно стоящих скульптурах; см. также: Kleiner 1992: 338-339.
16 О солдатских императорах: Wood 1986: 66—87.
17 Mathew 1943.
18 Kleiner 1992: 388-389.
Ил. 4. Панель с арки аргентариев (Рим) с изображением Септимия Севера и Юлии Домны, совершающих жертвоприношение
Ил. 5. Саркофаг Людовизи
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
899
ленным материалом для императорской скульптуры), фигуры изображены как абстрактные геометрические формы, на которых детали скорее вписываются в ряд схематизированных рисунков. Любой намек на неповторимую индивидуальность принесен в жертву групповому эффекту. Эти особенности сохраняются и в рельефах, созданных для арки Константина примерно пятнадцать лет спустя. В сцене раздачи денег Константином народу (возьмем ее в качестве примера) (гы. 6) статическая фигура императора, фронтально сидящего на троне, заполняет собой центральную часть панели, на всю ее высоту, тогда как расположенный ниже народ выглядит как однородная масса, воздевающая к нему руки.
Данная композиция раскрывает внутренний смысл события, подчеркивая его важнейшие аспекты и расставляя фигуры в соответствии с социальной иерархией. В сравнении с мягкой грацией повторно использованных адриановских медальонов, расположенных непосредственно над фризом, в этом последнем обнаруживается почти полное ощущение безжалостной симметрии и схематизации, которое усиливается благодаря коренастому характеру фигур и тому, что они вырезаны в барельефе неглубоко. На востоке империи из-за сильных эллинистических традиций иллюзионизма18а эти особенности не были столь явными. Так, на арке Галерия, воздвигнутой в Салониках около 300 г., фигуры выполнены в более округлом стиле, использованы также орнаментальные фризы и аркады для разделения регистров с разными сценами; портрет Диоклетиана из Никомедии, выполненный в более чем натуральную величину, имеет черты (даже бороду и волосы), целиком смоделированные, а не начертанные с помощью линий (то есть эти детали объемные, а не плоскостные)* 19. После восшествия на престол Диоклетиана в 284 г. архитектура испытывала возрождение активного к себе интереса, проявившееся в сооружении крупномасштабных зданий, таких как грандиозные термы, возведенные в Риме Д иоклетианом (около 298—305/306 гг.) и Константином (около 320 г.), термы, построенные в Трире (в начале IV в.), а также императорские резиденции, наподобие дворцов Диоклетиана в Сплите (300—306 гг.), Максенция — в Риме (307—312 гг.) и Галерия — в Салонике (до 311г.). Они характеризуются огромными, строго* выраженными пространствами и симметричными планами. Для истории данного периода особенно показательны два строительных предприятия: городские стены Рима, возведенные Аврелианом (императором в 270— 275 гг.), которые показывают необходимость оборонять саму столицу, а также строительство Константинополя, ставшего в 330 г. официальной правительственной резиденцией20.
Итак, данный период (193—337 гг.) может быть описан как переходный к христианскому искусству середины 4-го столетия. В отличие от сформировавшейся в результате однородной культуры, искусство и архитектура рассматриваемого времени были настолько разнообразны, что быстро-
18а Иллюзионизм — в данном случае имеется в виду стремление создать в произведении искусства иллюзию реального мира. — А.3.
19 Vermeille 1968: 336—350 (арка Галерия), а также рис. 169 (голова Диоклетиана — Стамбульский археологический музей, инв. N° 4864).
20 Ward-Perkins 1981: 415—466 — об архитектуре в Риме и провинциях.
Ил. 6. Фриз с арки Константина с изображением сцены раздачи денег Константином, а также два адриановских медальона над этим фризом
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
901
течные и разнонаправленные перемены, случавшиеся в это время, порой очень трудно отделить от тех изменений, которые являются частью поступательной эволюции. События во внешнем мире, социальные и политические сдвиги и беспорядок в экономике могли играть в странные игры со стилем: ощущается интерес не только к тому, чтобы смотреть вперед, но и к тому, чтобы оглядываться назад, к утверждению местных стилей над столичными; кроме того, это было время, когда на эволюцию стиля очевидным образом влиял недостаток ресурсов.
Поднятые здесь вопросы будут рассмотрены более глубоко в представленных далее разделах, содержащих конкретные исследования. Эти последние охватывают ряд функций произведений искусства, публичных, частных, бытовых и религиозных, которые мы проанализируем с точки зрения стиля и темы. Для начала рассмотрим один из специфических аспектов имперского искусства и архитектуры, а именно то, как императоры использовали прошлое. Анализ данной темы обнажает напряженность между прошлым, воспринимаемым в качестве источника хороших традиций, и необходимостью в инновациях, которые особенно усилились, когда начали вводиться новые политические системы при тетрархии, а затем — при христианской империи. Второй обзор сосредоточен на декоративных христианских саркофагах и на появлении христианских религиозных мотивов рядом с традиционной образностью. В заключительном разделе будет исследована проблема регионализма в развитии напольных мозаик, с тем чтобы проиллюстрировать влияния, обнаруживаемые в разных регионах и использующие разные способы установления зависимости между архитектурным пространством и его украшением.
1. Императоры, Рим и прошлое
Темы, связанные со временем, отражающие события как далекого прошлого, так и совсем недавние, всегда играли центральную роль в римской имперской иконографии, поскольку государи, начиная с Августа, прилагали усилия к упрочению своего статуса с помощью отсылок как к добрым старым временам, так и к еще более славным временам, которые разворачиваются теперь, при нынешних государях. Но именно в рассматриваемый в настоящем томе период, как кажется, эти усилия стали особенно заметны. Политическая и экономическая неопределенность делала еще более настоятельной задачу укрепления текущего положения через апелляцию к стабильности римского прошлого, что было особенно важным для многих императоров провинциального происхождения. При этом всё более явная тенденция к представлению императора в качестве символической сверхчеловеческой фигуры означает, что тема мирского времени могла быть связана с темой времени вечного и трансцендентного21. Все эти темы выражались через продуманное использование аллюзий и всякого рода деталей, сочетавших одеяние, жест, символы и надписи, которые выражали особое послание, заключенное в образе императора.
21 См.: Brilliant 1963: 163-211.
902
Часть шестая
(а) Портретное искусство
Самым непосредственным и личностным методом, с помощью которого император мог связать себя с прошлым, был его портрет; представляя себя в форме либо в стиле, которые напоминали о каком-нибудь прежнем правителе, он мог тем самым указывать на династическую связь или, более тонко, ассоциировать себя с добродетелями предшественника. В рассматриваемый период это делалось регулярно; в частности, активно использовались династические намеки, порождавшиеся физическим сходством. Например, Септимий Север, заявлявший о своем усыновлении Марком Аврелием, включил очевидные физические черты своего предшественника в один из своих разнообразных портретных типов, и позднее этот прием повторялся некоторыми из его собственных преемников22. Точно так же в начале IV в. Константин должен был вновь внести династическую нотку в свои портреты, акцентируя внимание зрителя на связи в пределах разных поколений своего собственного рода и показывая себя как «нового Августа с неотроянским фасоном прически»23. Физическое сходство тетрархи использовали и для достижения противоположного эффекта — не для указания на династические и идеологические связи с прошлым, а для изображения родства между самими тетрархами в текущем настоящем; игнорируя физические отличия в своем внешнем облике, они предстают на своем скульптурном портрете из Венеции как некая монолитная группа, в которой индивидуализму просто не остается места (см. ил. Zf4.
Императоры могли заявлять претензию на обладание доблестями прошлых лидеров путем установки статуй этим последним (сообщается, что так поступал Александр Север25) или привнесением определенных деталей в собственный образ. Бороды, фасон прически и иные атрибуты — все эти аспекты становились важными иконографическими звеньями, связывавшими прошлое с настоящим, когда императоры включали в собственные портреты характерные черты выдающихся предшественников. «Хорошие императоры», такие как Марк Аврелий26 и Август27, являлись очевидным примером для подражания, как и Александр Великий, который вызывал воспоминания о греческом героическом прошлом28. Но не все модели были «хорошими» и не все, конечно, относились к отдаленному прошлому: в первой половине Ш в. очень сильное влияние на императорское портретное
22 О типе «Марка Аврелия» в портретах Септимия см.: McCann 1968: 103—106; этот тип имитировался и позднейшими Северами; см. пример с Каракаллой: Kleiner 1992: 322; с Мак- рином: Wood 1986: 31.
23 Напр., на монете 313 г.: Kleiner 1992: 434.
24 Rees 1993.
25 Сочинители истории Августов. Александр Север. 28.6 — здесь утверждается, что Александр, имевший сирийское происхождение, заполнил форум Нервы в Риме колоссальными статуями обожествленных императоров, и всё лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве «римлянина».
26 См. выше, сноска 22 наст, гл.; подражал ему и Галлиен, см.: Wood 1986: 101.
2/ Имитируется Галлиеном, см.: Wood 1986: 46; Константином: Kleiner 1992: 438.
28 Каракалла: Wood 1986: 29; Север Александр: Сочинители истории Августов. Александр Север. 25.8—10; Галлиен: Wood 1986: 91, 101 (ирис. 7 указ. изд.).
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
903
искусство оказывал образ Каракаллы. Его смерть от наемного убийцы не делала его для императора идеальным образцом для подражания, и всё же его выразительный портрет с волевым лицом, хмурым взглядом и коренастой фигурой нашел немало подражателей [ил. 7). По всей видимости, ближайших преемников, таких как Макрин, Элагабал, а также Александр Север, привлекали к этому портретному типу династические соображения, а такие императоры, как Максимин Фракиец и Филипп Араб, воспринимали его как образ, выражающий могущество и военную мощь29.
Стиль был еще одним способом напоминания о свойствах, связанных с определенными периодами в прошлом, хотя часто остается неясным, с какой целью это делалось. Подходящим примером является разряженный и линеарный стиль, воспринятый такими «солдатскими императорами», как Максимин Фракиец и Филипп Араб, и связанный с реализмом портретного искусства Поздней республики или эпохи Флавиев30. Здесь наблюдается целый ряд сильных стилистических откликов на эти более ранние манеры, но порой сложно понять, осознанными ли были такие визуальные отсылки, поскольку «возрождение» формы и стиля являлось вообще значимой частью искусства этого времени. Показательны портреты Галлиена, которые настолько часто намекают на мужей и на стили прошлого (в особенности на Александра, Августа, Адриана и Марка Аврелия, а также в целом на культуру классической Греции), что временами идея физического сходства изображения с самим императором кажется просто забытой31. Как бы то ни было, данный ряд аллюзий показывает, что отсылка к прошлому играла динамическую роль в конструировании императорского портрета рассматриваемого периода, даже если само значение этой отсылки подчас остается расплывчатым.
Переписывание императорской истории могло влечь за собой также и уничтожение скульптурных изображений. Портреты императоров и других влиятельных людей, подвергнутых «проклятию памяти» («damnatio memoriae»), могли разбиваться, с тем чтобы стереть их имена из анналов истории. Два рельефа на арке аргентариев в Риме показывают нам, что нежелательные фигуры могли удаляться даже из групповых скульптурных портретов32. Эта два рельефа изображают Септимия Севера с членами его семьи в церемонии жертвоприношения; в каждой из двух сцен изначально присутствовали по три человека, но в результате damnationis Плавциана (могущественного префекта претория и тестя Каракаллы), затем — его дочери Плавциллы, а в конечном итоге — Геты, младшего сына Септимия, их фигуры, одна за другой, были стесаны, в результате чего на одной панели сохранились только император и его супруга [ил. 4), а на другой — одинокая фигура Каракаллы.
29 Портреты Каракаллы и их имитирование преемниками, см.: Wood 1986: 27—48; Kleiner 1992: 361—372, 396 (с более подробной библиографией).
30 Wood 1986: 13—17 — по поводу стилистического возрождения.
31 Breckenridge 1981: 506-508; Wood 1986: 101.
32 О «damnatio memoriae»: Pekâry 1985: 134—142, прежде всего с. 138 (примеры с Северами); об арке аргентариев см.: Hannestad 1986: 277—280.
Ил. 7. Бюст Каракаллы
Глава 19. Искусство и архитектура,!93—337 гг. н. э.
905
[V) Монеты и медальоны
Монеты и медальоны предоставляли особенно широкие возможности для намеков на прошлое, причем не просто через императорские портреты, которые они на себе несут, но также и посредством выбора типов реверса и сопроводительных легенд. Хотя во второй половине Ш в. качество (прежде всего монет) заметно снизилось, медальоны до некоторой степени несли на себе функцию увековечения императорской монументальной скульптуры, каковая функция в середине Ш в. в значительной степени сошла на нет.
Как и в случае с императорскими скульптурными портретами, центральные темы работают на укрепление власти через династический принцип и военную победу, при этом император превращается в фигуру, которая переступает границы человеческого времени33. Тем не менее, у прошлого в рамках этой перспективы появляется свое место, если предположить, что история находит свое обобщенное выражение в теперешнем опыте. Соответственно, события прошлого, как, например, в случае с годовщинами императоров, регулярно становились поводами для празднования. В 248 г. тысячелетний юбилей города Рима был отмечен вековыми играми, включая расточительные представления с дикими животными в Колизее, а сами эти мероприятия были увековечены специальным выпуском монет Филиппа I. Надпись «Saeculum Novum» («Новая Эпоха»), встречающаяся на некоторых монетах, показывает, что данные мероприятия были обращены не только назад, в прошлое, но и смотрели в будущее — в новую эру, начинавшуюся в настоящем34. Такие идеологические связи можно увидеть также в отсылках к царствованиям прежних императоров; монеты и медальоны, выпущенные Галлиеном, воскрешали идеалы и институты эпохи Августа. Новый век вызывался с помощью воспоминаний о веке давно минувшем.
Однако в императорской портретной скульптуре конца 3-го — начала
4-го столетия это движение выглядит медленным и прерывистым. Хотя отколовшиеся режимы, установленные в Галлии Постумом в 260 г. и в Британии Караузием — в 287-м, на некоторых своих монетах также соотносят себя с римским прошлым35, ряд ранних выпусков тетрархов, как кажется, порывает с такой ретроспекцией: золотой медальон, произведенный в Трире, вероятно, в 293 г., игнорирует устоявшееся назначение аверса и реверса и трактует обе стороны одинаково, помещая на них пару, по
33 Наир.: Brilliant 1963: 177—178 — об образах трансцендентной победы. О династическом принципе см., напр.: Hannestad 1986: рис. 156; также: Toynbee 1944: 154—155 — о военной одежде, а также, на с. 195 указ, изд., — о темах победы на медальонах.
34 Hannestad 1986: 286; Toynbee 1944: 103.
35 Напр.: двойной сестерций Постума (г. Трир, 260 г.) — использован адриановский тип, где император изображен как восстановитель провинций, см.: Carson 1980: Nq 905; денарий Караузия (г. Лондон, 287 г.) — изображена римская волчица с близнецами, надпись: «RENOVAT ROMA» («Восстанавливает Рим»), см.: Carson 1980: Nq 1127.
906
Часть шестая
сути, идентичных портретов36. Тем самым исключается любая возможность отсылок к прошлому и закладывается символизм, прочно связанный с настоящим. Но выразительной иллюстрацией того, как древний и новый миры были соединены в образности победоносного Константина, обеспечивает нас серебряный медальон, выпущенный около 313—315 гг. (в ознаменование победы Константина у Мульвийского моста либо десятилетнего юбилея его вступления на престол (decennalia), который отмечался позднее)37. На реверсе изображена сцена adlocutio (обращение с речью) с надписью «Salus Rei Publicae» («Благо Республики»); и сцена, и надпись заимствованы из традиционного набора образов, связанных с императорскими триумфами. И всё же детали портрета на аверсе создают специфический контраст между прошлым, настоящим и будущим: тогда как щит императора несет на себе изображение Ромула и Рема как братьев-близнецов, шлем императора украшен медальоном, на котором читается монограмма Христа — % (две греческие буквы, «X» и «Р»). Этот способ интерпретации настоящего через ссылку на событие далекого прошлого как некий прообраз (подтекст — желание Константина дать второе рождение городу Риму под знаком Христа) родственен тому виду экзегетического прочтения прошлого с помощью монетных типов, который становится столь характерным для христианства38.
(с) Постройки
Императоры ассоциировали себя с прошлым величием также и при помощи строительства общественных зданий, реставрации мест, обладавших историческим значением, или возведения новых зданий с традиционным внешним видом. Для правильного понимания того, на каком фоне происходила эта деятельность в Риме, важно помнить, что в период между Северами и Диоклетианом в самом Городе новых публичных сооружений было возведено совсем немного. Хотя важнейшим фактором в этом строительном дефиците являлась политическая и экономическая нестабильность, фактом являлось также и то, что многие императоры в данный период больше времени и усилий прикладывали в других местах: Септимий Север, например, помимо нового строительства в Риме, осуществлял куда более крупные работы в Большей Лепте, тогда как во времена тетрархии, когда в Риме возобновилось крупномасштабное строительство, осуществлялось инвестирование и в другие города, такие как Трир, Салоники, Сирмий и Никомедия, которые теперь должны были выполнять столичные функции. Наконец, в 330 г. был основан Константинополь, новый Рим39.
36 Из Аррасского клада. Нью-Йорк, Американское нумизматическое общество, 44.100, см.: Weitzmann 1979: No 31.
37 Мюнхен, Государственная коллекция монет, 86 627, см.: Weitzmann 1979: No 57.
38 См.: Eisner 2000// САНХШ: 751-755.
39 О северовских работах в Риме см. выше, сноска 14 наст, гл.; в Лепте: Ward-Perkins 1993; в столицах: Ward-Perkins 1981: гл. 14—15; Консгашинополь: Krautheimer 1965: 46—49.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
907
Выбирая для реставрации значительные постройки, которые получили повреждения или были разрушены, императоры могли набирать очки в идеологическом плане и повышать свою репутацию: в самом деле, заявления о восстановлении зданий являлись важной составляющей императорской риторики, при том что реальные строительные работы, о которых шла речь, часто были относительно скромными40. Восстановление сооружений общего пользования приносило популярность в народе, на что указывают монеты, выпущенные в ознаменование реставрации Колизея после пожара и повреждений от ударов молнии, случившихся в Ш в. несколько раз (например, специальный монетный выпуск Александра Севера в 223 г.)41. Другие примеры заставляют думать, скорее, о политических мотивах: переосвящение августовской арки для Галлиена и его супруги намекает на возрождение идеалов Ранней империи42.
Возводя новые сооружения, императоры отождествляли себя с прошлой славой, имитируя удачные монументы предшественников и вызывая восхищение своей щедростью; так, императорские термы, построенные в Риме Сегггимием Севером, Каракаллой, Диоклетианом и Константином, следовали модели, заложенной Титом и Траяном еще в 1-м и 2-м столетиях. Данный вид ретроспективной аллюзии мог использоваться даже в провинциях: в Филиппополе, городе, заложенном Филиппом Арабом в его родной местности в провинции Аравия, местные стили архитектуры и внутреннего убранства были соединены с другими стилями, заимствованными из более ранних построек, расположенных в столичном Риме43.
Но, возможно, самыми интересными новыми памятниками являются те, которые задумывались в память о том или ином человеке или событии прошлого: в этом плане особого внимания заслуживают две группы таких сооружений. Мемориальные арки, поставленные в Риме Септими- ем Севером (в 203 г.) (рис. 3) и Константином (315 г.), многозначительно отсылали зрителя к прошлому и, в частности, своим внешним видом напоминали о «хороших императорах». На арке Севера обращают на себя особое внимание четыре прямоугольные панели, на которых изображена парфянская победа этого императора. Такая компоновка уникальна для римских арок и, возможно, представляет собой попытку повторить тот тип непрерывных повествовательных сцен, который использован на колоннах Траяна и Марка Аврелия, из чего следует, что для самого Септи¬
40 Thomas, Witschel 1992. Еще один аспект — топос об императорской скромности: согласно литературным описаниям, император отказывался оставлять свое имя на восстановленных им зданиях, примеры чему: Септимий Север и его реставрация «всех общественных святынь» (Сочинители истории Августов. Север. 23.1) и Александр Север, о котором сообщается, что на отремонтированных им мостах он сохранил имя Траяна (Сочинители Александр Север. 26.11).
41 Carson 1980: No 745.
42 Kleiner 1992: 375.
43 Freyberger 1992.
908
Часть шестая
мия эти императоры были примерами для подражания44. На арке Константина связи с прошлым были усилены при помощи тщательно продуманного включения материала, заимствованного с более ранних памятников (так называемые spolia, в буквальном переводе — «трофеи», «снятые доспехи», «добыча») (рис. Ь). Вопрос об этих spolia всегда активно обсуждался, особенно в контексте «упаднической» интерпретации позднеантичного искусства45. Однако очевидно, что данные spolia были скульптурными цитатами из былой римской имперской славы, с которой Константин желал себя ассоциировать. Это становится ясным из того факта, что они были сняты с памятников «хороших императоров» — Траяна, Адриана и Марка Аврелия (из коих последние два представлены к тому же статуями, установленными по бокам от Константина в сцене, в которой он произносит речь с Ростр после своего триумфального въезда в Рим). Его притязание на историю было еще более акцентировано заменой голов прежних императоров головами самого Константина или Лициния. При таком прочтении всю арку можно рассматривать как согласованный дизайнерский проект, направленный на то, чтобы связать Константина с добродетелями римского прошлого.
Во второй группе сооружений Константин стремился увязать христианское прошлое со своим настоящим. Он воздвигал крупные церкви в Риме и на Святой Земле; эти культовые сооружения выполняли различные прямые функции: мемориальную, погребальную и паломническую, а также служили более великой цели строительства христианской империи. В Риме церкви часто располагались вблизи от мест захоронения мучеников или мест их поклонения (такие как Сан-Лоренцо и Сант-Аньезе- фуори-ле-Мура, а также базилика Святого Петра); другие были возведены специально для размещения в них почитаемых реликвий, привезенных из Святой Земли. В самой Палестине Константин строил церкви непосредственно на тех местах, которые были связаны с жизнью Христа и святых, и «создал саму идею христианской археологии», раскопав Голгофу и гробницу Христа, чтобы доказать их христианскую историю46. Но сам он был связан с христианским прошлым посредством его захоронения в церкви, построенной им в Константинополе и посвященной Двенадцати апостолам; хотя во многих отношениях эта постройка повторяла мавзолеи других правителей, таких как Диоклетиан и Галерий, в данном случае подразумевалось, что сам Константин должен был рассматриваться как тринадцатый апостол47. Константинополь соединил в себе концепцию новой
44 См.: Kleiner 1992: 351. Также см.: Brilliant 1967.
43 См.: Kleiner 1992: 444—455, 484 — более полная библиография. Классической работой в духе «упаднической» интерпретации является книга: Berenson 1954. Ср.: Pierce 1989.
46 Bowersock, Brown, Grabar 1999: 10 (A. Cameron).
47 О церквах Константина см.: Krautheimer 1965: 27—41; см. также Armstrong G. 1967 — перечень церквей, приписанных Константину как патрону или основателю. Cp.: Kühnei 1987 — о создании Нового Иерусалима путем строительства на христианских святых местах в Иерусалиме старом, а также: Wilken 1992. О погребении Константина как тринадцатого апостола см.: Mango 1990.
СЕВЕР
ВОСТОК
С памятников Траяна
С памятников Аврелиана
С памятников Адриана
С памятников Константна
ЮГ
ЗАПАД
Рис. Ъ. Схематический план четырех фасадов арки Константина с расположением рельефов и с указанием их происхождения
910
Часть шестая
христианской столицы с величием римского имперского прошлого. В этом строительстве использовались многие традиционные формы искусства и архитектуры и многие более ранние скульптуры использовались вторично48.
Двойственное Константиново видение иллюстрирует, насколько сильным элементом в это время в императорской образности была отсылка к прошлому. Прошлое могло быть задействовано разными способами и с помощью разных средств выразительности, а также с разными степенями конкретики, однако чрезвычайно важной задачей всего этого было предъявить права на прошлое, чтобы укрепить настоящее и сформировать будущее.
2. Христианские саркофаги до Константина
Христианские саркофаги доконстантиновской эпохи дают нам удобную точку обзора для рассмотрения общей эволюции формы и убранства саркофагов (которые, в условиях недостатка крупных публичных заказов, служат важным источником информации по частному искусству данного времени); эти изделия документально подтверждают появление явно христианской иконографии, показывая ее как одну из линий погребального контекста, из которого возник данный вид искусства. После того как Церковь обрела мир, христианские саркофаги значительно переменились, поначалу не столько своей иконографией, сколько размерами и качеством, ибо установившаяся стабильность способствовала тому, чтобы богатые христиане покровительствовали искусствам ради своих частных целей, и это привело к появлению во второй и третьей декадах IV в. некоторых претенциозных вещей.
(а) Общие тенденции
Если брать период в целом, саркофаги очень сильно отличались друг от друга как типами, так и размерами. В самом деле, в более благополучные годы начала Ш в., а затем и начала IV в. появились настолько впечатляющие, с точки зрения качества и размера, памятники, что можно предположить: по-видимому, они были специально заказаны для конкретных личностей еще до их смерти (например, упоминавшиеся выше Бад- минтонский саркофаг или саркофаг Людовизи; см. также ил. 5); но для конца III в. типичными являются гораздо более простые гробы, производившиеся в большом количестве49. Многие были импортированы в Рим (большинство примеров в данном разделе взяты именно из этой груп¬
48 Об использовании более ранних скульптур см.: Bassett 1991; Bassett 1996 — выявлены связи с греческой культурой и с историческими традициями Рима. Критическое прочтение античных литературных источников о языческих и христианских элементах в Константиновом Константинополе см.: Cameron, Hall 1999.
49 Напр.: Kranz 1984: No 114; Amedick 1991: No 110, 145; RS 1.223, 564.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
911
пы) в незаконченном, не отделанном до конца, виде из разных мест, где добывался мрамор, с тем чтобы утонченные детали убранства были закончены в местных мастерских или приобретены на складах у каменщиков.
Ко второй половине Ш в. в декоративном убранстве обнаруживается стремление следовать некоторым шаблонным моделям или изобразительным темам, что, как будет далее продемонстрировано, представляет собой один из важных факторов в развитии христианской иконографии на саркофагах. Двумя самыми распространенными формами являются стригиллевые саркофаги (на них имеются панели с большим количеством вырезанных канавок S-образной формы (своим изгибом эти желобки напоминают стригели — серповидные скребки для очищения тела от грязи и пота. — A3.); данные панели примыкают к одной или нескольким сценам с фигурами), а также саркофаги, у которых центральная круглая ниша, содержащая бюст умершего, как бы поднимается вверх двумя купидонами (или Викториями), а остальное пространство заполнено другими фигурами или малыми сценами. Поскольку композиции данного типа требовали единичных фигур или небольших групп, внимание переключилось с более длинных повествовательных циклов (какие необходимы, например, при изложении мифов) на сокращенные версии, которые изображали только ключевые моменты. Что касается тем, то в Ш в. постепенно очень распространенными стали персонификации времен года, по всей видимости, в связи с тем, что они могли передавать важные (но не специфические) идеи относительно естественных циклов возрождения многообразными зрительно привлекательными способами50. Тема учености и ревностного служения Музам оставалась столь же популярной, каковой она была во П в.; эту тему, связанную с изображением более утонченной жизни, оттеняют сцены «повседневности», развивавшиеся на исходе 3-го столетия51. Одной из таких распространенных тем являлась трапеза, которая неизбежно должна была появиться в христианских контекстах, как и тема учености, но до этого первая часто находила выражение в сочетании с темой охоты. Охота — это сюжет, который в то время пользовался огромной популярностью во всех видах искусства, зримо воплощая идеалы отваги (часто вызывая в памяти коллизии, связанные с мифологическими героями) и олицетворяя образ жизни богатых землевладельцев; кроме того, темы охоты подходили в тех случаях, когда нужно было подчеркнуть, что покойный погиб в бою и в ситуации высокой опасности. Как ни странно, примерно до 220 г. подобные сюжеты не появлялись на римских саркофагах, а после этого стали фиксироваться в виде различных воплощений — от собственно героических (львиная охота) до предположительно реалистических (охота на кабана и зайца, а также установка силков). Изображения львиной охоты в особенности склонны к эмблематической компоновке фигур, когда торжествующий охот¬
50 Kranz 1984.
01 Об учености и служении Музам см.: Wegner 1966; Zänker 1995; о повседневной жизни: Amedick 1991.
912
Часть шестая
ник располагается в центре сцены в момент своей победы, что усиливает идеологическое наполнение сцены в ущерб ее повествовательности. Напротив, тема поимки животных в сети, появляющаяся на саркофагах с конца столетия, обнаруживает сильное влияние со стороны современного этим саркофагам «реалистического» искусства52.
Начиная с середины Ш в. в украшениях саркофагов в Риме появляются христианские элементы. Поначалу это были осторожные и скупые попытки, однако в последующие пятьдесят лет случился подлинный расцвет, вплоть до того, что христианские темы стали уверенно заполнять собой большие, двухрегистровые саркофаги. Отчасти это может быть объяснено установившимся позднее миром для Церкви, однако не следует упускать из виду и другой фактор — небывалое развитие собственно христианской образности.
(Ь) Формирование христианской иконографии
На самых ранних образцах (датируемых от 270 г.) христианские элементы обычно сводились к фигурам Доброго Пастыря, несущего на плечах ягненка, и женщины, стоящей с поднятыми в молитвенном жесте руками (orans). Обе эти фигуры базировались на уже сложившихся типах, которые символизировали общие добродетели филантропии или (в случае с женщиной) благочестия (pietas), однако из их постоянного повторения в христианских контекстах становится ясным, что они обладали и собственным религиозным значением. Как бы то ни было, общий фон, на котором они появлялись в светском искусстве (например, когда встраивались в стандартные декоративные схемы на саркофагах), не предполагает, что им придавалось какое-то особое значение. Часто эти фигуры помещались на угловых панелях сгригиллевых саркофагов, либо в пасторальных пейзажах, либо в фигурных фризах, как в случае с саркофагом с Соляной дороги, где они расположены по бокам от фигур философа и слушающей его женщины53. В указанное время эта особая группа, философ и женщина, становится еще одним важным приобретением христианской иконографии, несмотря на ее (или благодаря ей?) популярность в мемориальном нехристианском погребальном искусстве в качестве образа учености и культурной жизни. Вскоре она начинает встречаться вместе с другими христианскими фигурами во фризах, таких, например, как в рассматриваемом случае (или как на фризе саркофага из церкви Санта Мария Антиква, включающем библейские сцены), либо в отдельной панели на сгригиллевых саркофагах54. В этом контексте философ превращается в христианского
52 По сценам охоты см.: Andreae 1980.
53 Примеры пасторальных пейзажей см.: RS 1.2, 950, 961, 988; саркофаг с Соляной дороги см.: RS 1.66.
54 Саркофаг из церкви Санта Мария Антиква см.: RS 1.747.1; стригиллевый саркофаг см.: RS 1.994.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
913
учителя, а женщина — в его внимательную ученицу, но при этом ясно, что идея ученичества была привнесена в христианские погребальные темы из их дохристианских источников. Указанное обстоятельство подтверждается сохранением и других фигур, ассоциируемых с данной тематикой: стоящая женщина со свитком в руках либо женщина с Музами по бокам, а также мужчины и женщины, сидящие рядом с Музой или с философом, — при этом все эти варианты появляются на саркофагах конца Ш в. в сообществе христианских фигур55.
Но главным аспектом в данном развитии было введение в репертуар декоративного убранства саркофагов библейских сцен, многие из которых имели отношение к теме чудесного избавления. Большинство были почерпнуты из Ветхого Завета: спасение Ноя от Потопа, три отрока в пещи огненной, Даниил в логове львов, жертвоприношение Исаака, но наряду с этим также и воскрешение Лазаря из мертвых — новозаветная история с тем же самым значением и подтекстом. Было время, когда исследователи полагали, что данные сюжеты (которые часто появляются также и в катакомбах) были инспирированы содержанием отдельных молитв об избавлении от беды и о спасении от смерти; теперь, однако, представляется, что их появление в искусстве предшествует литургической формулировке молитв, что делает формальную связь с последними менее вероятной. Тема божественного избавления является выражением сильной надежды на мир и на отдохновение (refrigerium) в мире ином, каковая надежда встречается также в христианских надписях и литературе того времени. Многие сцены на христианских саркофагах до времени Константина могут быть поняты именно в этом ключе, особенно сюжеты с чудесами, которые приводят к утешению и отдохновению (например, высечение Моисеем воды из скалы, претворение воды в вино на свадьбе в Кане Гал- лилейской, умножение хлебов и рыб), а также образы, связанные с райским садом или с отдыхом Ионы под сенью древа.
Одним из парадоксальных аспектов раннехристианского искусства в это время было то, что, хотя во многих отношениях его смыслы уже установились и оформились (например, посредством библейской экзегезы либо путем типологизации, благодаря которой отдохновение Ионы, например, стало символизировать воскрешение Христа), оно оказывалось открытым к принятию свежих прочтений через их включение в общий план убранства: непосредственное соседство могло создавать связи между идеями и внешне несопоставимыми мотивами56. Многие из этих библейских эпизодов изображались в очень сжатом варианте, когда в какое-нибудь важное и узнаваемое действо включалась всего лишь одна либо две фигуры, а на фризах саркофагов конца Ш — начала IV в. они могли выстраиваться в длинный ряд не отделенных друг от друга сцен, каковой
55 Женщина со свитком: RS 1.74, 396, 1004.1; женщина с Музами по бокам: RS 1.696; женщина с Музой или с философами: RS 1.817, 945.1.
“ Ср.: Eisner 2000 // САН ХШ: 751-755; Grabar 1969.
914
Часть шестая
ряд благодаря внутренним идеологическим связям мог превращаться в особую модель.
Один саркофаг с фризом (RS 1.6; Музей христианского искусства Папы Пия, 161), датируемый первой четвертью 4-го столетия, объединяет в себе многие из указанных особенностей. Крышка декорирована стандартными мотивами, типичными для этого времени: по одну сторону от надписи — сценой охоты на вепря и по другую — портретом покойного. Но на самом гробе, по фронту и по бокам, помещены исключительно христианские и библейские сцены. На первый взгляд их компоновка выглядит произвольной, но в действительности здесь обнаруживается четкое разграничение между ветхозаветными сценами по бокам (Адам и Ева, символизирующие грехопадение, и три отрока, ожидающие спасения из пещи огненной) и новозаветными сценами, размещенными спереди (чудеса и сцены ареста Петра — ил. 8). Здесь в центре ряда новозаветных сцен с чудесами помещена фигура женщины в молитвенной позе. На ее лице сохраняются портретные черты; такое ощущение, что этот конкретный человек надеется на личное христианское спасение, о котором говорится в библейских историях. Религиозная иконография этого памятника, широкая с точки зрения представленного ряда эпизодов и ограниченная в своей тематике, а также упорядоченная компоновка его сцен предвосхищают взвешенный стиль константиновских фризовых саркофагов, который продолжит существовать и в середине IV в.57.
3. Мозаики
Одним из важных аспектов искусства данного периода является его неуклонно возраставшая регионализация, сопровождавшаяся перекрестным влиянием между провинциями и, возможно, обходившая стороной Рим. Такая эволюция не вызывает удивления, если принять во внимание значительную несхожесть в экономической и политической судьбе разных частей империи: в то время как одни местности страдали от разрушительных последствий варварских вторжений, другие в течение какого-то времени жили в мире и процветании, а статус Рима как главного художественного центра в рассматриваемый нами период был неустойчивым. В Ш в. стили по-прежнему оставались довольно локальными, даже несмотря на то, что некоторые типы сюжетов (прежде всего мифологические) воспроизводились по всей державе с очень незначительными вариациями. В отличие от империи I в. н. э., когда можно было говорить о подражании местных элит вкусам и привычкам столичного Рима, богачи данного периода считали, что они делят друг с другом общую культуру, которая связывает их в пределах нескольких соседних провинций.
Прекрасной иллюстрацией к этому тезису служат фигурные сцены напольных мозаик; примеры, которые мы теперь обсудим, происходят из
0/ Константиновские примеры: RS I: Nq 39, 40.
Ил. 8. Ранний христианский саркофаг с фризом
916
Часть шестая
трех регионов империи, где искусство мозаики в это время особенно процветало, но его стили отличались: в центральной Италии преобладали черно-белые мозаики, тогда как на востоке Малой Азии и в Северной Африке фигурные сцены были полихромными. Хотя эти зоны можно описывать в терминах «центра» и «периферии» Римской державы, всё же становится понятно, что динамика совсем необязательно исходила лучами из центра, а подразумевала влияния, которые пересекали эти регионы вдоль и поперек58. Важными диагностическими чертами являются выбор сюжета, связь между рисунком мозаики и архитектурным пространством помещения, а также трактовка пола как некой поверхности (другими словами, тот способ, благодаря которому сцены, создающие иллюзию глубины и объема, интегрированы, по сути, в плоский пол). Как связать трехмерные сцены с двумерным пространством поверхности реального пола — это была дилемма, которая в истории напольной мозаики находила разные формы реализации. Да и попытки решения этой задачи были различными для разных регионов, например, путем встраивания фигурного элемента в небольшие сцены, размещенные на широком, одноцветном фоне, либо путем конструирования сплошного «коврового» узора, либо путем изображения силуэтных черных фигур на светлой поверхности; но эти давно устоявшиеся подходы начали меняться в рассматриваемый нами период.
[а) Остия и центральная Италия
Одним из ключевых факторов в развитии черно-белых мозаик, таких как мозаики Шв. из Остии, была взаимосвязь данного вида искусства с его архитектурным контекстом59. Используя черный силуэт на светлом фоне, такой тип мозаики подчеркивал плоскую, двухмерную природу пола, что усиливалось еще более свободным расположением фигур без каких- либо ограничивающих рамок. Таким образом, в большинстве случаев рисунок разворачивался, по сути дела, от стены до стены в рамках сплошной компоновки, что повторяло архитектурные эффекты сводчатых потолков. Распространение черно-белого стиля было ограничено в основном этой частью Италии, где он доминировал начиная с I в. н. э. Этот стиль отнюдь не был «дешевой альтернативой» иллюзорной полихромии и использовался даже в таких императорских постройках в Риме, как термы Кара- каллы60.
Для П — начала Ш в. Остия обеспечивает нас многими такими экземплярами из новых общественных построек и домов, подвергнувшихся в это благополучное время реновации; они позволяют выявить некоторые на¬
58 Эти влияния подробно отслежены в следующих работах: Levi 1947; Lavin 1963; но сделано это главным образом в контексте эволюции, имевшей место до рассматриваемого здесь периода, а также в контексте возможных влияний, шедших из-за пределов империи, то есть с Востока.
59 Clarke 1979: повсюду.
60 DeLaine 1997: 24—31 (геометрическая и фигурная сцена с водными мотивами).
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
917
правления эволюции61. Хотя многие мотивы оставались в арсенале художников еще с конца П в. (как, например, морские сцены и лиственные орнаменты), о себе дал знать новый акцент на человеческих фигурах, исполненных в несколько абстрактной манере. Обозначилась тенденция к использованию внутренних белых линий на черных силуэтах—скорее для того, чтобы наметить части тела, нежели для моделирования этих частей в качестве связных, органических форм, как это было прежде62. Похожее движение в сторону абстракции и размыканию можно заметить в том способе, каким фигуры размещаются на поверхности пола; в сравнении со многими более ранними композициями здесь обнаруживается гораздо меньше интереса к общему замыслу и больше — к отдельным элементам, которые соотносятся с формой помещения и зависят от того, с какой именно точки на них смотрят63. Данные тенденции можно проиллюстрировать с помощью фигур на половом покрытии таверны Александра Хе- ликса {ил. 9).
К началу 4-го столетия в некоторых остийских мозаиках стал появляться цвет, однако его применение было ограничено отдельными панелями, как в Доме авгусгалов; они предвещали полномасштабное использование цвета на некоторых напольных покрытиях, появившихся позднее — в том же, 4-м, столетии64. И всё же из Рима и его окрестностей сохранилось несколько изысканных фигурных многоцветных мозаик Ш в., в частности, с изображением атлетов и тренеров из терм Каракаллы и гладиаторов на напольном покрытии, открытом близ Тускула65. Их фигуры пластически смоделированы, хотя в физическом смысле (в отличие от психологического воздействия) они не особенно убедительны и наводят на мысль, что римские мастерские не имели опыта полноценного моделирования форм, каковой требуется при создании искусных многоцветных мозаик.
(й) Восточная Малая Азия
Иное дело — ситуация в тогдашней восточной Малой Азии (включает побережье современной Турции, Сирии и Кипр), где с начала Ш в. отмечает-
61 Преимущественно эти примеры мозаик обсуждаются здесь: Blake 1940: 93—98 (автор обращается также к современным экземплярам из других мест, не из Остии, но делает это с точки зрения идеи упадка); ВесаШ 1961; ВесаШ 1963; а также: Clarke 1979 (анализируются сталь и связи с архитектурой). См. также: Dunbabin 1999: 60—65.
62 Напр., термы Семи мудрецов (ок. 207) см.: ВесаШ 1961: No 271, ил. CLV; атакже caupona (таверна) Александра Хеликса см.: ВесаШ 1961: № 391; Clarke 1979: 45, рис. 58.
Например, эмблематические элементы на напольных покрытиях в лавках на Форуме торговых корпораций, датируемых от конца П до начала Ш в., см.: ВесаШ 1961: N° 391; apodyterium (предбанник, помещение для раздевания) в Терме-дель-Фаро (Термы маяка), датируемый серединой Ш в., см.: ВесаШ 1961: № 320, ил. CLXIV; Dunbabin 1999: рис. 63.
64 ВесаШ 1961: No 420, вклейка ХПЗ.
65 Термы Каракаллы: Blake 1940:111—112, ил. 28/9; DeLaine 1997:28, рис. 17,31 примеч. 5; 239—240 (передатировка); а также: Dunbabin 1999: рис. 71, 68 примеч. 40. Гладиаторы из Тускула: Blake 1940: 113—115, ил. 30.
Ил. 9. Черно-белая мозаика, Остия
920
Часть шестая
ся подлинный расцвет мозаичного искусства66. Здесь преуспевала эллинистическая полихромная традиция с ее в высокой степени иллюзиони- стической66а трактовкой фигур. Для примирения трехмерных эффектов последних с плоской поверхностью пола эти фигурные сцены обычно делались небольшими и помещались на фоне, который был одноцветным или же застилался геометрическими узорами. Вообще говоря, мозаики в этом регионе обнаруживаются как в давно основанных городах, так и в недавно романизированных зонах, а также и в таких местах, как Пальмира, где другие художественные формы выказывают сильные местные тенденции67. Хотя имелись незначительные вариации в местной моде или в скорости перемен, можно заметить некоторые преобразования по всему региону68.
Одним из таких эволюционных изменений было движение к более вычурным эффектам. Многие мозаики северовского периода демонстрируют более острую контрастность в светотени и в цвете с целью усиления драматического эффекта, прежде всего при пластическом моделировании тел69. Обрамление фигурных панелей становится более изысканным: некоторые северовские напольные покрытия (например, в «Доме состязаний в выпивке» в Селевкии) применяют архитектурное обрамление, которое подчеркивает единый взгляд на всю сцену и создает эффект углубления пространства70. Орнаменты становятся богаче, примером чего служат гирлянды с фруктами, которые на мозаике из Филиппополя середины Ш в. окружают сцену с купающейся Артемидой71. В фигурных панелях отмечается также тенденция к увеличению размеров и к соразмерному покрытию больших зон пола, изменявшая при этом соотношение между мозаикой и архитектурным пространством: некоторые из этих сцен имели большое количество фигур, а вот другие были совсем простыми и лишь с немногими фигурами72. Один из способов создания единого дизайна с использованием более мелких панелей, каждая — со своей собственной точкой обзора, обнаруживается в мозаике из «Константино¬
66 Общие обзоры по Ближнему Востоку: Baity 1981; Dunbabin 1999; Антиохия: Levi 1947; Сирия: Baity 1977; Кипр: Michaelides 1987.
603 Иллюзионизм в изобразительном искусстве — обман глаз, имитация, создающая впечатление реального существования изображаемого пространства и предметов, как бы стирающая грань между реальным и изображаемым миром. — A3.
67 Baity 1981. Однако мозаики из Эдессы представляют собой исключение: Baity 1981: 387—390. См. также: Baity 1981: 369—370 — о мозаике на недавно аннексированной территории — Мас’удийе, а также с. 426 — о мозаике из Пальмиры. Cp.: Lavin 1963: 152 — о том, как это соотносится с более общими вопросами о противостоянии классики и восточных влияний в стилистической эволюции в этот период.
68 Baity 1977: 6.
69 Напр., в иллюзионизме «Буфетной стойки» в Антиохии, см.: Levi 1947: 127—136, ил. XXIV.
70 Levi 1947: 156-159, ил. XXX.
71 Baity 1977: Nq 5-6.
72 Много фигур: мозаика с Геей, Эоном и Прометеем из Филиппополя, см.: Baity 1977: No 9. Композиция с ограниченным количеством фигур: Мелеагр и Аталанта из Библоса см.: Baity 1981: 411—412, ил. XVI.2.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
921
вой виллы» в Антиохии, где пол был разделен на участки, чтобы образовать четыре трапециевидные панели со сценами охоты73.
Поначалу сюжеты были мифологическими, однако с конца Ш в. всё более популярными оказываются персонификации абстрактных понятий74. Многие такие фигуры идентифицируются с помощью надписей, которые становятся всё более частыми; особенно показательный пример — надпись на мозаике из Мас’удийе, которая содержит имя ее изготовителя по-гречески и по-сирийски, а также поясняет представленный сюжет (река Евфрат) и даже указывает дату (227/228 г.)75.
(с) Северная Африка
Однако регионом, в котором в это время искусство напольной мозаики, возможно, отличалось наибольшей изобретательностью, была Северная Африка, прежде всего Африка Проконсульская, где обнаруживаются полные жизни новые признаки развития, мало обязанные восточным эллинистическим традициям76. Изначальный импульс, как кажется, исходил из Италии, и многие пространственные компоновки, обнаруживаемые в черно-белом стиле, можно найти в многоцветных версиях в Северной Африке. В частности, здесь имеются фигурные сцены, которые покрывают всю площадь пола, свободно скомпонованные или расположенные в отсеках, а также сплошные узоры, составленные из животных, растений или даже павлиньих перьев77. Другие мотивы, как, например, завитки виноградных лоз или морские пейзажи, могли населяться фигурами животных и людей, представленными с разной степенью реалистичности; кроме того, эти мотивы обнаруживают небольшой интерес или вообще не обнаруживают никакого интереса к выражению глубины пространства. Обычно фигуры пластически смоделированы, но помещаются на одноцветном фоне, который либо вообще не позволяет, либо позволяет в незначительной степени создать иллюзию пространства; на глубину часто указывала высота фигур, а также компоновка, которая хорошо работает при прилаживании сцен к имеющемуся в наличии пространству пола.
73 Levi 1947: 226, ил. Ш.
74 Наир., аллегорические фигуры Материнского счастья, Философии и Справедливости на напольном покрытии начала IV в. из Филиппополя см.: Baity 1977: No 16.
75 Напр., мозаики из триклиния в «Доме Эона, Пафоса, Кира», датируемые временем после 318—324 гг., см.: Michaelides 1987:28—31.0 Мас’удийе см.: Baity 1981:369, вклейка ХП.1.
76 Всестороннее обсуждение этих мозаик см. в: Dunbabin 1978; Dunbabin 1999. (Полезный обзор на русском языке мозаичного искусства Римской Африки первых трех веков нашей эры см. в: Каптерева Т.П. Искусство стран Магриба. Древний мир (М.: Искусство, 1980): 217—252, ил. на вклейках 163—206; см. также: Сидорова Н.А., Чубова А.П. Искусство Римской Африки (М.: Искусство, 1979): 165—218 (в данной книге представлена также большая подборка цветных иллюстраций). —А.З.)
77 Животные см.: Dunbabin 1978: 67, вклейка 58 (мозаика с «каталогом животных» из тунисского города Радес, древняя Максула Пратес); растения см.: Lavin 1963: 213, вклейка 31 (Карфаген, «Дом с вольером»); павлиньи перья: Dunbabin 1978: 271, вклейка 169 (Сус, древний Гадрумет).
922
Часть шестая
В случае с мифологическими сценами, в которых часто использовались вполне традиционные композиции, эти пространственные возможности могли реализовываться с помощью целого ряда различных вариантов обрамления: на мозаике из Тимгада триумф Венеры был встроен в небольшую панель внутри более крупной, распространенной по всей плоскости композиции, но на вымостке из Буллы Регии с идентичным сюжетом Венера свободно плывет, так сказать, по кишащему рыбой морю78. Некое повествование можно предположить в отдельных последовательных эпизодах мифа, помещенных в наложенных друг на друга регистрах (как в мозаике Ахиллеса в Типасе)79 80. Такой же подход к пространству часто использовался в сценах, создававшихся с целью запечатлеть увлечения богатых покровителей (колесничные бега, охота и зрелища в амфитеатре). Эти сцены, пытаясь обойти по популярности мифологические темы, добавляли в репертуар сюжетов некоторые яркие новые темы. Они усвоили многие композиционные компоновки, позволявшие раскрывать внутреннее пространство помещения: фигуры располагались в регистрах, либо размещались свободно, так, что каждую из них нужно было рассматривать с особой, конкретной точки обзора, либо находились в сценах, обозреваемых как бы с высоты птичьего полета, что позволяло окинуть одним взглядом всю мозаику сразу (как в сцене с колесничными бегами в цирке из Карфагена, см. ил. Ю)т. Зачастую все эти виды деятельности представлялись в идеализированной форме, хотя некоторые в своих трактовках выделяются большим реализмом81.
Таковы (кратко) характерные черты трех основных зон мозаичного искусства Ш в. Какова была динамика взаимовлияний между ними? Мы уже отмечали, что изначальные импульсы, исходившие от италийского черно-белого дизайна, могли привести к появлению североафриканской трактовки напольной вымостки с помощью единой композиции, распространенной на всю плоскость, в противоположность эллинистическому подходу, предоставлявшему широкие возможности для пространственного иллюзионизма, но лишь в пределах замкнутых панелей. Неудивительно, что на этой стадии самыми сильными становились влияния, шедшие именно из Северной Африки. Присущее североафрикан-
78 Тимгад: Dunbabin 1978:155—156, ил. G (Каптерева Т.П. Указ, соч.: вклейка 166. —A3.). Булла Регия см.: Dunbabin 1978: 250, рис. 148.
79 Dunbabin 1978: 35, 41, ил. 12.
80 Примеры мозаик, организованных с помощью регистров, см.: Dunbabin 1978: 271, ил. 60—62 (сцены зрелищ в амфитеатре из Суса). Мозаика, предполагающая множественные точки обзора (для каждой фигуры — особая точка), см.: Dunbabin 1978: 268 (мозаика помещика Магериуса — Археологический музей Суса). Взгляд «с высоты птичьего полета» см.: Dunbabin 1978: 89 (мозаика с колесничными бегами в цирке из Карфагена; рис. 10 наст. гл.).
81 Напр., сцена охоты на вепря из Карфагена см.: Dunbabin 1978: 252, No 31, ил. 21 (начало Ш в.); а также мозаика из Шершеля со сценами сельскохозяйственных работ (начало Ш в.) см.: Dunbabin 1978: 254, ил. 102—104 (см. также ценную характеристику этой уникальной мозаики в: Каптерева Т.П. Указ, соч.: 238—239, а также вклейку 166. — А.З.).
Ил. 10. Североафриканская мозаика с колесничными бегами в цирке из Карфагена
924
Часть шестая
скому мозаичному искусству сочетание яркого многоцветия с ограниченным иллюзионизмом, как представляется, оказало прямое влияние на некоторые италийские мозаики начала IV в. Быть может, самые яркие примеры этого находятся в большом сицилийском доме в городе Пьяц- ца-Армерина, где и сюжеты, и композиции имеют африканские эквиваленты; указания на это влияние присутствуют также и в материковой Италии, такие, например, как использование цветных фигур на простом светлом фоне в большой эсквилинской мозаике со сценой охоты, а также в вымостке Феодоровской базилики в Аквилее с изображением моря, наполненного рыбами и морскими гадами (308—319 гг.)82. Определенные признаки африканского влияния в рассматриваемый нами период можно заметить и в вымостках Малой Азии, например, в группировании фигур на нейтральном фоне в мозаике Орфея из Аданы, в выборе сюжетов, а также в тех инициативах, которые были предприняты художниками-мозаи- чистами при изготовлении мозаики со сценой охоты, находящейся на вилле константиновского времени в Антиохии83. Но главные влияния в этой зоне со стороны Северной Африки выходят за пределы рассматриваемого периода и сводятся к долговременному воздействию на иллюзионизм эллинистической традиции, которое приводит к плоской сплошной компоновке узора и отказу от обрамлений, что станет в 5-м столетии характерной особенностью, например, антиохийских мозаик84.
III. Выводы
Итак, насколько линии развития, прослеженные в этих наших очерках, представляют собой эволюцию в смысле прогрессивного движения вперед? Использование прошлого как некой темы в искусстве и архитектуре было глубоко внедрено в римскую образность, как имперскую, так и частную, и в этом отношении данный период в общем и целом исключением не является — если только оставить за скобками более частое обращение к прошлому в императорском контексте. Напротив, развитие христианских мотивов на саркофагах представляет собой новую точку отсчета и продвижение вперед, которое не предполагает никакой оглядки назад. Это христианское погребальное искусство использует современные ему композиции и иконографию в качестве основы для собственной новой образности и исполнительских подходов. Впрочем, мозаики характери¬
82 Пьяцца-Армерина см.: Wilson 1983; эсквилинская охота см.: Blake 1940: 116—117; Lavin 1963: 258; Аквилея см.: Bianchi-Bandinelli 1971: 234, рис. 16.
83 Орфей, приручающий диких животных игрой на лире (Археологический музей Аданы), см.: Ling 1998: 59, рис. 41; о заимствовании сюжетов см.: Baity 1981: 398—400 (была ли сцена с туалетом Венеры в Филиппополе выложена североафриканскими мозаичистами?); вилла константиновского времени: см. выше, сноска 73.
84 Lavin 1963: 273. Обратите внимание на то, что влияния, особенно те, что исходили из Северной Африки и из Восточного Средиземноморья, обнаруживаются в это время и в других регионах, которые здесь не рассмотрены, напр., в Испании, см.: ling 1998: 74—76.
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
925
зуются большими отличиями. С одной стороны, они демонстрируют начальные стадии долговременного движения от эллинистического иллюзионизма к плоским, двухмерным, композициям, с другой — в Италии начинает проявляться противоположная тенденция: черно-белая мозаика возвращается к цвету. И христианское искусство, и отмеченные нами изменения в мозаичном деле предвосхищают крупные перемены конца IV — V в., которые приведут к большему усреднению художественных форм и стилей. При всем многообразии своих умозаключений исследователи конкретных проблем неизменно выявляют сложное соотношение между традицией и переменами, которое определяет характер рассмотренного в этом томе периода, переходного не только в политическом, но и в художественном смысле.
РОДОСЛОВНЫЕ ИМПЕРАТОРСКИХ ДОМОВ'
ДОМ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА
Барий Авит Бассиан Гессий Алексиан М. Аврелий Антонин Бассиан (ЭЛАГОБАЛ) (АЛЕКСАНДР СЕВЕР)
ТЕТРАРХИ И ДОМ КОНСТАНТИНА
X
&
—< сч
Q
PQ
II
1 Таблицы составили Б. Кэмпбелл и С. Коркоран. Вопросительный знак перед нем в скобках означает, что существование данного лица является гипотетическим. Г тарная линия означает гипотетическую родственную связь.
Пояснения
К ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМУ ДРЕВУ
тетрархов и Константина
Имена правителей, достигших положения Августов, набраны прописными буквами, имена тех, кто достиг лишь ранга Цезарей (а также имя Ганнибалиана, получившего титул царя), — полужирными буквами, а не признанные официально узурпаторы — курсивом.
Отдельные браки опущены (например, самые ранние супружества Константина П).
Некоторые родственные связи недостаточно надежно установлены; в том виде, как они здесь представлены, эти отношения отражают точку зрения, принятую в книге Т.-Д. Барнса «Новая империя Диоклетиана и Константна» (см.: Bames T.D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (MA); L., 1982). В этом же издании детально проанализированы и альтернативные взгляды. Далее см. краткую сводку основных расхождений.
(/) Феодора здесь представлена как дочь Максимиана, рожденная его первой, неизвестной по имени, женой (которая, возможно, была дочерью Афрания Г аннибалиана). Однако некоторые источники называют Феодору не дочерью, а падчерицей Максимиана. Ряд исследователей воспринимают это как указание на то, что она родилась в предшествующем браке между Евтропией и Афранием Ган- нибалианом (см.: Barnes. NE 33—34).
(2) Если Галерий в течение того времени, когда он являлся Цезарем, был женат только на Валерии (при этом в любом случае она могла быть бесплодна), то Валерия Максимилла вряд ли была ребенком именно этой пары, так что, возможно, она была рождена в каком-то более раннем, нам не известном, браке (см.: Bames. NE 38). (J) Пропущены неизвестные по имени жена и отпрыски Максимина. Т.-Д. Барнс в статье «Супруга Максимина» (см.: CPh 94 1999: 459—460) высказывает предположение, что Максимин был не только племянником Галерия, но еще и двоюродным братом жены последнего.
(4) Прежде высказывалось предположение, что Константин П был незаконнорожденным (см.: Bames. NE 45, примеч. 72).
(5) Предполагается, что и Елена с Консганцием I, и Константин с Минервиной состояли в законных римских браках, но некоторые источники заставляют думать, что это был, скорее, конкубинат (дозволенное сожительство, не имевшее юридических последствий законного римского брака) (см.: Bames. NE: 36, 42—43; ср.: Lead- better 1998).
(6) Известно, что Юстина, являвшаяся сначала женой Магненция, а позднее — В а лентиниана I, а также матерью В алентиниана П, состояла в родстве с династией Константина. Одно из предположений состоит в том, что она могла бы быть внучкой Криспа через его дочь (родилась в 322 г.). Эта точка зрения остается умозрительной (см.: Bames. NE: 44).
(7) В одной относительно недавней статье Дж. Вандерспол (см.: Vanderspoel J. Correspondence and correspondents of Julius Julianus Ц Byzantion 1999 69: 396—478) проанализировал родственные связи Юлия Юлиана, префекта претория у Ли циния, с императорскими семьями; помимо прочего, этим историком выдвинуты три предположения:
Родословные императорских домов
929
(a) о том, что Юлиан был братом второй супруги Максимиана — Евтропии;
(b) о том, что первая жена Максимиана являлась сестрой, а не дочерью Афрания Ганнибалиана;
(c) о том, что тот же Ганнибалиан являлся отцом или — в других случаях — предком жены Юлиана, Евсевия Никомедийского, а также узурпатора Прокопия.
Относительно недавно французским историком Франсуа Шоссоном были предложены другие трактовки (см.: Chausson F. Un soeur de Constantin: Anastasia//Humana Sapit: Etudes d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini /J.-M. Carné, K Lizzi Testa (eds.) (Bibliothèque de l’Antiquité Tardive. 3); Tumhout 2002: 131—155). Ни одна из этих в высокой степени спекулятивных идей и догадок, рассмотренных или предложенных обоими авторами, не представлена в приведенной здесь генеалогической таблице.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
931
Продолжение табл.
933
Продолжение табл.
935
Продолжение табл.
937
Продолжение табл
939
Продолжение табл.
941
Продолжение табл.
943
Продолжение табм
945
Окончание табл
947
БИБЛИОГРАФИЯ
Список СОКРАЩЕНИЙ
Сокращения для папирологических публикаций, не включенные в представленный ниже список, см. в изд.: Oates J.F. et al. Checklist of Editions of Greek Papyri and Ostraka. 4th edn. Atlanta, 1992; либо см. сетевое издание: John F. Oates, Roger S. Bag- nall, Sarah J. Clackson, Alexandra A. O’Brien, Joshua D. Sosin, Terry G. Wilfong, and Klaas A. Worp. Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets. URL: http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html (последнее обновление: 1 июня 2011 г.). (Для тех же целей весьма полезным продолжает оставаться изд.: Фихман И.Ф. Введение в документальную папирологию (М., 1987): 259— 498. -A3.)
КИДМ сл. слл.
Кембриджская история древнего мира (серия) следующая [страница] следующие [страницы]
AARC
AAntHung
AArchHung
ABSA
АС
ADA]
AE
AJPh
Annales (ESC) Annales (HSS) ANEW AntAfr ARS
ASR
AT
Aur. Viet. Caes.
BAH
BAR
BAR Int. Ser.
BAR Suppi. Ser.
BASOR
BASP
BCH
BEFAR
Atti deUAcademia Romanistica Costantiniana Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Archaeobgica Academiae Scientiarum Hungaricae Annual of the British School at Athens L Antiquité Classique
Annual of the Department of Antiquities of Jordan
L Année épigraphique
American Journal ofPhibbgy
Annabs (Economies, sociétés, civilisation)
Annabs (Histoire, Sciences sociales)
Aufitieg und Niedergang der römischen Welt Antiquités Africaines
A. C. Johnson, P. R. Coleman-Norton and F. C. Bourne,
Ancient Roman Statutes. Austin, TX, 1961
Die antiken Sarkophagreliefi, ed. C. Robert, Berlin, 1890-
L Antiquité Tardive
Aurelius Victor, De Caesaribus
Bibliothèque Archéologique et Historique
British Archaeological Reports
British Archaeological Reports, International Series
British Archaeological Reports, Supplementary Series
Bulbtin of the American Schools of Oriental Research
Bulletin of the American Society ofPapyrologists
Bulbtin de Correspondance Helbnique
Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome
Список сокращений
949
BEO
BGU
BIOS
BIDR
В]
ВМС
BRGK
BSAC
BSFN
BSNAF
BSOAS
Bull. Ép.
САН
Cahiers Glotz
CCSL
CE
CEFR
Chron. Min. i CIL
CIMRM
CIS
CJ
CLRE
Coli.
Cons.
CPh
CQ
CR
CRAI
CSC О
CSEL
CTh
D
DHA Diz. Ep.
DOP
EA
Bulletin des Études Orientales
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen/Staatlichen Museum zu Berlin, Griechische Urkunden. Berlin, 1895- Bulletin of the Institute of Classical Studies Bullettino deUIstituto di Diritto Romano Bonner Jahrbücher
Coins of the Roman Empire in the British Museum, v (Pertinax to Elagabalus). H. Mattingly, London, 1950; vi (Severus Alexander to Balbinus and Pupienus). R. A. G. Carson, London, 1962 Bericht der römisch-germanischen Kommission Bulletin de la Société dArchéologie Copte Bulletin de la Société française de numismatique Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France Bulletin of the School of Oriental and African Studies Bulletin épigraphique in Revue des Études Grecques Cambridge Ancient History: vol. x2 (1996), xi2 (2000), xn1 (1939), XIII (1998); XIV (2000)
Cahiers du Centre G. Glotz Corpus Christianorum, Series Latina Chronique dEgypte
Collection de l’Ecole française de Rome T. Mommsen, Chronica Minora 1 (Monumenta Germaniae Historica Auctores Antiquissimi 9). Berlin, 1892 Corpus Inscriptionum Latinarum
Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, ed. M. J. Vermaseren, The Hague, 1956-60 Corpus Inscriptionum Semiticarum Codex Iustinianus
R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz and K. A. Worp, Consuls of the Later Roman Empire (Philological Monographs of the American Philological Association 36). Atlanta, 1987 Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio (in FI RA 11.544-89) Consultatio Veteris cuiusdam Iurisconsulti (in FIRA 11.594-613) Classical Philology Classical Quarterly Classical Review
Comptes rendus de IAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Codex Theodosianus Digest
Dialogues dHistoire Ancienne
E. de Ruggiero et al., Dizionario epigrafico di antichità romane. Rome, 1886- Dumbarton Oaks Papers Epigraphica Anatolica
950
Библиография
EPRO
ES
ESAR
Eus. Hist. Eccl. Eus. Vit. Const. Eutr.
Expositio
FD hi FGrH FHG
FIRA
FV
GCN
GCS
GLP
G&R
GRBS
H.
НАС
НАС
HAW
Herod.
HLL
HSCP
HThR
IA
IAM
/. Aryk. ICret I Cyme
I. Eph. IG
Etudes préliminaires aux religions orientales dans Vempire romain, ed. M. J. Vermaseren, Leiden, 1961- Epigraphische Studien
An Economie Survey of Ancient Rome, ed. T. Frank: 1, Rome and Italy of the Republic, н, Roman Egypt to the Reign of Diocletian', hi, Roman Britain, Roman Spain, Roman Sicily, La Gaule Romaine; IV, Roman Africa, Roman Syria, Roman Greece, Roman Asia; v, Rome and Italy of the Empire. Baltimore, 1933-40 Eusebius, Historia Ecclesiastica Eusebius, De Vita Constantini Eutropius
Expositio Totius Mundi et Gentium, ed. J. Rougé, SC 124. Paris, 1967
Fouilles de Delphes, ni, Epigraphie. Paris, 1909-85 Fragmente der griechischen Historiker, ed. E Jacoby Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. K. Müller. Paris, 1878—
85
S. Riccobono et ai, Fontes luris Romani Anteiustiniani, mdedn,
3 vols. [1, Leges; 11, Auctores; hi, Negotia]. Florence, 1940-3 Fragmenta Vaticana (in FIRA 11.464-540)
M. E. Smallwood, Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero. Cambridge, 1967 Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte D. L. Page, Greek Literary Papyri, vol. i (= Select Papyri hi) (Loeb Classical Library). Cambridge, MA and London, 1942 Greece and Rome
Greek, Roman and Byzantine Studies The Hatran Inscriptions: see Part v, ch. 16 n. 39 Historia Augusta Colloquia, original series. Bonn, 1964-91 Historia Augusta Colloquia, new series. Macerata, 1991, thereafter Bari, 1994—
Handbuch der Altertumswissenschaft Herodian
Handbuch der lateinischen Literatur der Antike Harvard Studies in Classical Philology Harvard Theological Review Iranica Antiqua
M. Euzennat, J. Marion and J. Gascou, Inscriptions antiques du Maroc и. Paris, 1982
S. §ahin, Die Inschriften von Arykanda (IGSK 48). Bonn, 1994 M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, 4 vols. Rome, 1935-50 Die Inschriften von Kyme, ed. Н. Engelmann (IGSK 5). Bonn, 1976
Die Inschriften von Ephesos (IGSK 11-17). 8 vols, in 10. Bonn, 1979-84
Inscriptiones Graecae
Список сокращений
951
IGBulg
G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae, 5 vols, in 6. Sofia, 1958-97
IGF
J.-CL. Decourt. Inscriptions grecques de la France (IGF). Lyons,
IGLS
IGRR
2004
Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie R. Cagnat et al., Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes, 3 vols. (1, 3, 4). Paris, 1906-27
IGSK
ILAfr
Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien
R. Cagnat, A. Merlin and L. Châtelain, Inscriptions Latines
d'Afrique (Tripolitanie, Tunisie et Maroc). Paris, 1923
ILM
ILS
IME
L. Châtelain, Inscriptions Latines du Maroc. Paris, 1942 Inscriptiones Latinae Selectae
Inscriptions métriques de l'Egypte gréco-romaine: Recherches sur la poésie épigrammatique des grecs en Egypte, ed. E. Bernand. Paris, 1969
IMS
E Papazoglou étal., Inscriptions de la Mésie Supérieure. Belgrade: i (Singidunum and NW area, 1976); и (Viminacium and Mar- gum, 1986); in.2 (Timaeum Minus and Timok valley, 1995); IV (Naissus-Remesiana-Horreum Margi, 1979); vi (Scupi and Kumanovo region, 1982)
Inscrit Inv. Pal.
Inscriptiones Italiae. Rome, 1931-
Can tineau, J. et al., Inventaire des Inscriptions de Palmyre. 12 fascicles: i-ix (J. Cantineau), Beirut; x (J. Starcky), Damascus; xi (J. Teixidor), Beirut; xii (A. Bounni and J. Teixidor), Damascus. (1930-75)
IRT
J. M. Reynolds and J. B. Ward-Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolitania. Rome, 1952
I. Smyrn.
G. Petzl, Die Inschriften von Smyma (IGSK 23, 24), 2 vols, in 3. Bonn, 1982-90
It. Ant.
Itineraria Antonini Augusti (О. Cuntz, ed., Itineraria Romana i. Stuttgart, 1929 (repr. 1990))
JBAA
JAC
JEA
JEH
JHS
JJP
JNES
JRA
JRGZM
JRS
JS
JSAS
JThS
Knopf-Krüger
Journal of the British Archaeological Association
Jahrbuch fur Antike und Christentum
Journal of Egyptian Archaeology
Journal of Ecclesiastical History
Journal of Hellenic Studies
Journal of Juristic Papyrology
Journal of Near Eastern Studies
Journal of Roman Archaeology
Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums, Mainz Journal of Roman Studies Journal des Savants
Journal of the Society for Armenian Studies Journal of Theological Studies
R. Knopf, and G. Krüger, Ausgewählte Martyrakten, 4. Aufl. Tübingen, 1965
952
Библиография
Lact. DMP LoisRom
LSCG
MAAR
MAL
MAMA
MBAH MEFRA MPER n.s.
Münch. Beitr.
MUS]
NC
NDIEC
NZ
ocu>
OGIS
OLP OR Origo P. Batav.
P Cairo hid.
P. Col P Col. 123 P Euphr.
P. Fayum P. Giss.
Lactantius, De Mortibus Persecutorum
Les Lois des Romains: / édition par un groupe de romanistes des *Textes de droit romain ’ tome II de Paul Frédéric Girard et Félix Senn, ed. V. Giuffrè (Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru- denza della Università di Camerino 12). Naples, 1977 E Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques (Ecole française d’Athènes, Travaux et mémoires 18). Paris, 1969 Memoirs of the American Academy in Rome Atti dellAccademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche
Monumenta Asiae Minoris Antiqua. 10 vols. Manchester, then London, 1928-93
Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte
Mélanges de TEcole française de Rome: Antiquité
Mitteilungen aus der Papyrussammlung der österreichischen
Nationalbibliothek in Wien. New Series, 1932-
Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken
Rechtsgeschichte
Mélanges de VUniversité St Joseph
Numismatic Chronicle
G. H. R. Horsley, R. A. Kearsley, and S. R. Llewelyn, New Documents Illustrating Early Christianity', i (1981); и (1982); ш (1983); IV (1987); V (1989); vi (1992); vu (1994), North Ryde, NSW; vin (1998), Grand Rapids, MI Numismatische Zeitschrift
Oxford Classical Dictionary, eds. S. Hornblower and A. Spaw- forth, 3rd edn. Oxford, 1996
W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, 2 vols. Leipzig, 1903-5
Orientalia Lovaniensia Periodica Opuscula Romana
Origo Constantini, ed. I. König. Trier, 1987 см.: P. Lugd. Bat.
A. E. R. Boakand H. C. Youtie, The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo and the University of Michigan. Ann Arbor, i960
Columbia Papyri, Greek Series. I—. N.Y., 1929—.
see Westermann and Schiller, Apokrimata
see Feissel and Gascou, ‘Documents’; plus JS (1995) 61-118; JS
(1997) 3-57; JS (2000) 157-208; CRAI (1990) 144-66; Semitica
41-2 (1991-2): 195-208
Grenfell B.P., Hunt A.S., Hogarth D.G. Fayum Towns and Their Papyri. L., 1900.
O. Eger et ai, Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen. Leipzig-Berlin, 1910-12
Список сокращений
953
Р. Giss. Lit.
Р. bond.
P. Lugd. Bat.
P. Mich.
P. Oslo P. Oxy.
P Panop. Beatty P. Ross. Georg.
P. Ryl.
P. Sakaon P. Stras.
P. Vindob. G.
P&P
PACT
PAES
Pan. Lat.
PBSR
PCPS
PE
PECS
PG
PGM
PIR
PL
PLRE
Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Er lasse, ed. P. A. Kuhlmann (Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen 46). Giessen, 1994
Greek Papyri in the British Museum: In 7 vols. L., 1893—1974. Papyri Graeci Musei Antiquarii Publici Lugduni-Batavi: In 2 vols. / Ed. C. Leemans. [S. 1.:] Lugduni Batavorum, 1843—1885.
Papyri in the University of Michigan Collection: In 8 vols. Ann Arbor, 1931- 1951.
Papyri Osloenses / Ed. S. Eitrem, L. Amundsen. Oslo, 1925—1936.
В. P. Grenfell et ai, The Oxyrhynchus Papyri. London, 1898-
T. C. Skeat, Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library, Dublin. Dublin, 1964
Papyri Russischer und Georgischer Sammlungen / G. Zereteli et al. Tiflis, 1925—1935; Amsterdam, 1966—1967.
Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library. Manchester, 2015.
Parâssoglou G.M. The Archive of Aurelius Sakaon: Papers of an Egyptian Farmer in the Last Century of Théadelphia. Bonn, 1978. Papyrus Grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg / F. Preisigke, P. Collomp, J. Schwartz et al. Strasbourg etc., 1912-
обозначение греческих папирусов Венского собрания, публикуемых отдельно под присвоенным инвентарным номером.
Past and Present
Physical, Chemical and Mathematical Techniques applied to Archaeology
E. Littmann et al., Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria, hi: Greek and Latin Inscriptions. a, Southern Syria (Leiden, 1904-21); в, Northern Syria (Leiden, 1908-22); iv: Semitic Inscriptions (Leiden, 1914-49) Panegyrici Latini (cited in the numeration of Mynors’ Oxford Classical Text (1964) and Nixon and Rodgers, Panegyrici) Papers of the British School at Rome Proceedings of the Cambridge Philological Society Diocletian’s Prices Edict (see Giacchero, Edictum Diocletiani) R. Stillwell et ai, The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. Princeton, 1976 Patrologia Graeca
К. Preisendanz and A. Henrichs, Papyri Graecae Magicae: die griechischen Zauberpapyri, 2nd edn. Stuttgart, 1973-74 Prosopographia Imperii Romani Patrologia Latina
A. H. M. Jones, R. Morris and R. Martindale, The Prosopogra- phy of the Later Roman Empire, 3 vols. Cambridge, 1971-92
954
Библиография
PO
pr. = praefatio
PSI
RAC
RIAC
RAL
RB
RBPh
RE
RFA
REArm
REAug
REByz
RES
RFIC
RGDS
RHDFE
RIB
RIC
RICH
RIDA RN RPC I
RPh RS i
RS и
RSA
SB
Patrologia Orientalis
вступительная статья, преамбула титула «Дигесг», «Кодекса» Юстиниана и т. д.
Papyri greci e latini Publicazioni della Societa Italiana per la ricerca dei papyrigreci e latini in Egitto. Firenze, 1912—.
Rivista di Archeologia Cristiana Reallexikon fur Antike und Christentum
Atti dellAccademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche Revue Biblique
Revue Belge de Philologie et dHistoire
Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
Revue des Etudes Anciennes Revue des Etudes Arméniennes Revue des Etudes Augustiniennes Revue des Etudes Byzantines
Répertoire dEpigraphie Sémitique publié par la Commission du Corpus Inscriptionum Semitic arum, vol. v, ed. G. Ryckmans. Paris, 1929
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica Res Gestae Divi Saporis (see also SKZ)
Revue Historique de Droit Français et Etranger The Roman Inscriptions of Britain, vol. 1,1965, rev. edn 1995 Roman Imperial Coinage, v.i (Valerian i to Florian), P. H. Webb, London, 1927; v.2 (Probus to Amandus), P. H. Webb, London, 1933; vi (Diocletian’s reform to Maximinus), C. H. Sutherland and R. A. G. Carson, London, 1967; vu (Constantine and Licinius), P. Bruun, London, 1966
A. S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, University of Glasgow, in (Pertinax to Aemilian) Oxford, 1977; IV (Valerian to Allectus) Oxford, 1978 Revue Internationale des Droits de T Antiquité Revue Numismatique
A. Burnett, M. Amandry and P. P. Ripollès, Roman Provincial Coinage, Vol. 1: From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 B.c.—A.D. 69). London and Paris, 1992 Revue de Philologie, de Littérature et dHistoire Anciennes Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, i: Rom und Ostia, eds. F. Deichmann, G. Bovini and H. Brandenburg. Wiesbaden, 1967
Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, 11: Italien mit einem Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt, eds. T. Ulbert and J. Dresken-Weiland. Mainz, 1998 Rivista Storica delFAntichità Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten
Наиболее часто цитируемые публикации
955
SBAW
SC
SCO
SDHI
SEG
SHA
SIG
SKZ
SÖAW
Soc.
Soz.
StAmst
Stud. Pal
ТАМ
ТАРА
TAVO
TIR
Tit. Ulp.
TR
TZ
YCS
ZDMG
Zon.
Zos.
ZPE
ZRG
Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Klasse)
Sources chrétiennes
Studi classici e orientali
Studia et Documenta Historiae et luris
Supplementum Epigraphicum Graecum
Scriptores Historiae Augustae
W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, 3rd edn, 4 vols. Leipzig, 1915-24
Sabuhrs I an der ЮТ bad Zardust = Res Gestae Divi Saporis (see Huyse, SKZ\ Sprengling, Iran)
Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Klasse)
Socrates Scholasticus Sozomen
Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia
Wessely C. Studien zur Palaeographie und Papyruskunde: In 12 Bd. Leipzig, 1901—1924.
Tituli Asiae Minoris. Vienna, 1901- Transactions of the American Philological Association Tübinger Atlas des Vorderen Orients
Tabula Imperii Romani-, for individual maps, see details in Bibliography Part III
Tituli ex Corpore Ulpiani = Ulpians Regulae (.FIRA 11.262- 301)
Tijdschrifi voor Rechtsgeschiedenis (Revue dHistoire du Droit) Trierer Zeitschrifi Yale Classical Studies
Zeitschrifi der deutschen morgenländischen Gesellschaft
Zonaras
Zosimus
Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung
Наиболее часто цитируемые публикации
L Afrique dans TOccident romain. L Afrique dans TOccident romain: 1er siècle av. J.-C.—IVe siècle ap. J. -C. : actes du colloque organisé par TEcolefrançaise de Rome, sous le patronage de TInstitut national d'archéologie et därt de Tunis (Rome, 5—5 décembre 198j) (CEFR 134; 1990). Rome
Alföldy, Krise. Alföldy, G. (1989) Die Krise des römischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung: ausgewählte Beiträge (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 5). Stuttgart
956
Библиография
Armées et fiscalité. Armées et fiscalité dans le Monde antique (Paris, 14—16 octobre 1976) (Centre national de la recherche scientifique de France: Colloques nationaux 936; 1977). Paris
Arnheim, Senatorial Aristocracy. Arnheim, M. T. W. (1972) The Senatorial Aristocracy in the Late Roman Empire. Oxford
Bagnall, Currency. Bagnall, R. S. (1985) Currency and Inflation in Fourth Century Egypt. (BASF Suppl. 5). Atlanta
Bagnall, Egypt. Bagnall, R. S. (1993) Egypt in Late Antiquity. Princeton, NJ Bagnall and Frier, Demography. Bagnall, R. S. and Frier, B. W. (1994) The Demography of Roman Egypt. Cambridge
Bagnall and Worp, Regnal Formulas. Bagnall, R. S. and Worp, K. A. (1979) Regnal Formulas in Byzantine Egypt (BASF Suppl. 2). Atlanta Barnes, CE. Barnes, T. D. (1981) Constantine and Eusebius. Cambridge, MA and London
Barnes, Early Christianity. Barnes, T. D. (1984) Early Christianity and the Roman Empire (Variorum Reprints). London
Barnes, ‘Emperors’. Barnes, T. D. (1996) ‘Emperors, panegyrics, prefects, provinces and palaces’, JRA 9: 532-52
Barnes, Eusebius to Augustine. Barnes, T. D. (1994) From Eusebius to Augustine: Selected Papers 1982—1993 (Collected Studies Series 438). Aldershot Barnes, NE. Barnes, T. D. (1982) The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, MA and London
Barnes, Tertullian. Barnes, T. D. (1971) Tertullian: A Historical and Literary Study. Oxford (rev. edn Oxford, 1985)
van Berchem, L Armée. Berchem, D. van (1952) L Armée de Dioclétien et la réforme Constantinienne (Institut Français d’Archéologie de Beyrouth, BAH 56). Paris
Birley, The African Emperor. Birley, A. R. (1988) The African Emperor: Septimius Severus. London (revised version of Birley, Septimius Severus (repr. with additional bibl. as Septimius Severus: The African Emperor. London, 1999))
Birley, Septimius Severus. Birley, A. R. (1971) Septimius Severus: The African Emperor. London (later revised as Birley, The African Emperor) de Blois, Gallienus. Blois, L. de (1976) The Policy of the Emperor Gallienus (Studies of the Dutch Archaeological and Historical Society 7). Leiden Bowersock, Arabia. Bowersock, G. (1983) Roman Arabia. Cambridge, MA Bowman, Town Councils. Bowman, A. K. (1971) The Town Councils of Roman Egypt (American Studies in Papyrology 11). Toronto Brunt, RIT. Brunt, P. A. (1990) Roman Imperial Themes. Oxford Callu, Politique monétaire. Callu, J.-P. (1969) La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311. Paris
Cameron, LRE. Cameron, Averil (1993) The Later Roman Empire ad 284-430. London
Camilli and Sorda, Z’ (inflazione\ Camilli, L. and Sorda, S. (eds.) (1993) L ’ ‘inflazione ’ nel quarto secolo d. C. Atti delTincontro di studio (Roma, 1988) (Studi e materiali 3). Rome
Наиболее часто цитируемые публикации
957
Campbell, ERA. Campbell, J. В. (1984) The Emperor and the Roman Army 31 вс—ad 233. Oxford
Carrié, ‘Fiscalité’. Carrié, J.-M. (1994) ‘Dioclétien et la fiscalité’, AT2: 33-64 Carrié and Rousselle, L Empire romain. Carrié, J.-M. and Rousselle, A. (1999) LEmpire romain en mutation des Sévères à Constantin 192-337 (Nouvelle Histoire de l’Antiquité 10). Paris
Chastagnol, La préfecture urbaine. Chastagnol, A. (i960) La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire. Paris
Chastagnol, Aspects. Chastagnol, A. (1994) Aspects de Tantiquité tardive (Saggi di storia antica 6). Rome
Corcoran, ET. Corcoran, S. J. J. (1996) The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government ad 284—324. Oxford (rev. edn with additional notes, Oxford, 2000)
Crawford, L 'impero romano. Crawford, M. H. (ed.) (1986) Vimpero romano e le strutture economiche e sociali delle province (Biblioteca di Athenaeum 4). Como
Dagron, Naissance. Dagron, G. (1984) Naissance dune capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 431 (Bibliothèque byzantine, études 7). Rev. edn Paris (ist edn 1974)
Delmaire, Largesses sacrées. Delmaire, R. (1989) Largesses sacrées et res privata: L aerarium impérial et son administration du IV au VIe siècle (CEFR 121). Rome
Demandt, Spätantike. Demandt, A. (1989) Die Spätantike: römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-363 n.Chr. (HAW ш.6). Munich Demougeot, FEIB1. Demougeot, E. (1969) La formation de TEurope et les invasions barbares, 1: Des origines germaniques à Tavènement de Dioclétien. Paris Dentzer and Orthmann, Syrie. Dentzer, J.-M. and Orthmann, W. (eds.) (1989) Archéologie et histoire de la Syrie, 11: La Syrie de Tépoque achémenide à lâvènement de TIslam (Schriften zur vorderasiatischen Archäologie 1). Saarbrücken
Dévaluations 1. Les dévaluations à Rome: Epoque tardo-républicaine et impériale (Rome, 13-15 novembre 1975) (CEFR 37; 1978). Rome Dévaluations 11. Les dévaluations à Rome: Epoque tardo-républicaine et impériale (Gdansk, 19-21 octobre 1978) (CEFR 37; 1980). Rome Dietz, Senatus. Dietz, К. (1980) Senatus contra principem. Untersuchungen zur sen- atorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax (Vestigia 29). Munich Dodgeon and Lieu, Eastern Frontier. Dodgeon, M. H. and Lieu, S. N. C. (1991) The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars a.d. 226—363: A Documentary History. London and New York
Duncan-Jones, ERE. Duncan-Jones, R. P. (1982) The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies, 2nd edn. Cambridge Duncan-Jones, Money. Duncan-Jones, R. P. (1994) Money and Government in the Roman Empire. Cambridge
Duncan-Jones, Structure. Duncan-Jones, R. P. (1990) Structure and Scale in the Roman Economy. Cambridge
958
Библиография
Economie antique i. Andreau, J., Briant, P. and Descat, R. (eds.) (1994) Economie antique. Les échanges dans l’Antiquité: Le rôle de l’Etat (Entretiens d’archéologie et d’histoire 1). Saint-Bertrand-de-Comminges Economie antique 11. Andreau, J., Briant, P. and Descat, R. (eds.) (1997) Economie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques (Entretiens d’archéologie et d’histoire 3). Saint-Bertrand-de-Comminges Economie antique ni. Andreau, J., Briant, P and Descat, R. (eds.) (2000) Economie antique. La guerre dans les économies antiques (Entretiens d’archéologie et d’histoire 5). Saint-Bertrand-de-Comminges Epigrafia della produzione. Epigrafia della produzione e della distribuzione: actes de la VIIe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romainy Rome, 3—6 juin 1992 (CEFR 193; 1994). Rome
Feissel and Gascou, ‘Documents’. Feissel, D. and Gascou, J. (1989) ‘Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate’, CRAI 1989: 535-61 = P. Euphr.
Freeman and Kennedy, DRBE. Freeman, P. and Kennedy, D. (eds.) (1986) The Defence of the Roman and Byzantine East (BAR Int. Ser. 297), 2 vols. Oxford Frere, Britannia. Frere, S. (1987) Britannia: A History of Roman Britain, 3rd edn. London
Frye, Iran. Frye, R. N. (1984) The History of Ancient Iran (HAW 111.7). Munich Giacchero, Edictum Diocletiani. Giacchero, M. (1974), Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium, 2 vols. Genoa Giardina, Società romana. Giardina, A. (ed.) (1986) Società romana e impero tar- doantico, 4 vols. 1: Istituzioni, ceti, economic, 11: Roma: politica, economia, paesaggio urbano', ni: Le merci, gli insediamentv, iv: Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura. Rome and Bari Goodburn and Bartholomew, Notitia Dignitatum. Goodburn, R. and Bartholomew, P. (1976) Aspects of the ‘Notitia Dignitatum’ (BAR Suppi. Ser. 15). Oxford Halfmann, Itinera Principum. Halfmann, H. (1986) Itinera Principum: Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 2). Stuttgart Hauken, Petition and Response. Hauken, T. (1998) Petition and Response: An Epi- graphic Study of Petitions to Roman Emperors 181—249 (Monographs from the Norwegian Institute at Athens 2). Bergen Herrmann, Hilferufe. Herrmann, P. (1990) Hilferufe aus römischen Provinzen. Ein Aspekt der Krise des römischen Reiches im 3. Jhdt n. Chr. Hamburg Herzog, HLL 5. Herzog, R. (ed.) (1989) Restauration und Erneuerung: die lateinische Literatur von 284 bis 374 n.Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike 5 = HAW viii.5). Munich (French trans.: Restauration et renouveau. Turnhout, 1993)
Honoré, E&L. Honoré, T. (1994) Emperors and Lawyers, 2nd edn. Oxford (ist edn London, 1981)
Honoré, Ulpian1'2. Honoré, T. (1982) Ulpian, ist edn. Oxford (completely revised as Ulpian: Pioneer of Human Rights, 2nd edn Oxford, 2002)
Humbach and Skjaervo, Paikuli. Humbach, H. and Skjaervo, P. O. (1978-83) The Sasanian Inscription of Paikuli, 3 vols, in 4.1: Supplement to Herzfeld’s Paikuli;
Наиболее часто цитируемые публикации
959
и: Synoptic tables; iii.i: Restored text and translation; 111.2: Commentary. Wiesbaden
Huyse, SKZ. Huyse, P. (1999) Die dreisprachige Inschrift Sabuhrs I. an der Kxfba-i Zardust (SKZ) (Corpus Inscriptionum Iranicarum 111.1.1), 2 vols. London
Isaac, Limits of Empire. Isaac, B. (1992) The Limits of Empire: The Roman Army in the East, rev. edn. Oxford (ist edn Oxford, 1990)
L Italie d Auguste à Dioclétien. L Italie d Auguste à Dioclétien: Actes du colloque international Romey 25-28 mars 1992 (CEFR 198; 1994). Rome Johnson, Saxon Shore. Johnson, S. (1979) The Roman Forts of the Saxon Shore, 2nd edn. London
Johnson, LRF. Johnson, S. (1983) Late Roman Fortifications. London Jones, LRE. Jones, A. H. M. (1964) The Later Roman Empire. A Social Economie and Administrative Survey, 3 vols. Oxford (repr. in 2 vols, with continuous pagination, Oxford, 1973)
Jones, Roman Economy. Jones, A. H. M. (1974) The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, ed. P. A. Brunt. Oxford Kettenhofen, RPK Kettenhofen, E. (1982) Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. nach der Inschrift Sähpuhrs I. an der ЮТbe-ye Zartost (SKZ) (Beihefte zum TAVO, В 55). Wiesbaden King, Imperial Revenue. King, С. E. (ed.) (1980) Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century a.d. The Fifth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (BAR Int. Ser. 76). Oxford King and Henig, Roman West. King, A. and Henig, M. (eds.) (1981) The Roman West in the Third Century: Contributions from Archaeology and History (BAR Int. Ser. 109), 2 vols. Oxford
King and Wigg, Coin Finds. King, С. E. and Wigg, D. W. (eds.) (1996) Coin Finds and Coin Use in the Roman World'. The Thirteenth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (25-27. 3. 1993) (Studien zu Fundmünzen der Antike 10). Berlin
Kolb, Diocletian. Kolb, F. (1987) Diocletian und die erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft? (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 27). Berlin and New York
Lane Fox, Pagans and Christians. Lane Fox, R. (1986) Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century a.d. to the Conversion of Constantine. Harmondsworth
Lewis, Life in Egypt. Lewis, N. (1983) Life in Egypt under Roman Rule. Oxford Limes Congress VI. Schönberger, H. (ed.) (1967) Studien zu den Militargrenzen Roms: Vorträge des 6. Internationalen Limeskongresses in Süddeutschland [1964] {BJ19). Cologne and Graz
Limes Congress VII. Applebaum, S. (ed.) (1970) Roman Frontier Studies. The Proceedings of the yth International Congress, Tel Aviv 1967. Tel Aviv Limes Congress VIII. Birley, E. B., Dobson, B. and Jarrett, M. (eds.) (1974) Roman Frontier Studies. 8th International Congress of Limesforschung Cardiff 1969. Cardiff
960
Библиография
Limes Congress IX Pippidi, D. M. (ed.) (1974) Actes du IXcongrès international d’études sur les frontières romaines. Mamaia, 1972. Cologne, Vienna and Bucharest
Limes Congress XIII Hanson, W. S. and Keppie, L. J. F. (eds.) (1980) Roman Frontier Studies 1979: Papers Presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies (BAR Int. Ser. 71). Oxford
Limes Congress XV. Maxfield, V. and Dobson, M. J. (eds.) (1991) Roman Frontier Studies 1989: Proceedings of the XV International Congress of Roman Frontier Studies. Exeter
Lor monnayé i. L’or monnayé 1: Purification et altérations de Rome à Byzance (Cahiers Ernest-Babelon 2; 1985). Paris: 80-111
L’or monnayé i\. Callu, J.-P and Loriot, X. (eds.) (1990) L’or monnayé 11: La dispersion des aurei en Gaule romaine sous l’Empire (Cahiers Ernest-Babelon 3; I99°). Juan-les-Pins
L’or monnayé ni. Brenot, C. and Loriot, X. (eds.) (1992) L’or monnayé ni: Trouvailles de monnaies d’or dans l’Occident romain: Actes de la Table Ronde tenue à Paris les 4 et $ décembre 1987 (Cahiers Ernest-Babelon 4; 1992). Paris
Luttwak, Grand Strategy. Luttwak, E. N. (1976) The Grand Strategy of the Roman Empire. Baltimore and London
MacMullen, Response. MacMullen, R. (1976) Roman Government’s Response to Crisis, A.D. 235—337. New Haven and London
MacMullen, Corruption. MacMullen, R. (1988) Corruption and the Decline of Rome. New Haven
Millar, ERW. Millar, F. G. B. (1977) The Emperor in the Roman World31 b.c.—a.d. 337. London (rev. edn with afterword, London, 1992)
Millar, Near East. Millar, F. G. B. (1993) The Roman Near East 31 b.c-a.d. 337. Cambridge, MA and London
Mitchell, AFRBA. Mitchell, S. (ed.) (1983) Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia (BAR Int. Ser. 156). Oxford
Mitchell, Anatolia. Mitchell, S. (1993) Anatolia: Land, Men and Gods in Asia Minor, 2 vols. Oxford
Mitchell, ‘Maximinus’. Mitchell, S. (1988) ‘Maximinus and the Christians in ad 312: a new Latin inscription’,/^78: 105-24
Nixon and Rodgers, Panegyrici. Nixon, C. E. V. and Rodgers, B. S. (1994) In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini, Introduction, Translation and Historical Commentary (The Transformation of the Classical Heritage 21). Berkeley, Los Angeles and Oxford
Pasqualini, Massimiano. Pasqualini, A. (1979) Massimiano Herculius. Per un ’ interpretazione della figura e dell’opera (Studi pubblicati dall’Istituto Italiano per la storia antica 30). Rome
Peachin, Titulature. Peachin, M. (1990) Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235—284 (StAmst 29). Amsterdam
Pflaum, Carrières. Pflaum, H. G. (1960-1) Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain (Institut français d’archéologie de Beyrouth. BAH 57), 3 vols. Paris
Наиболее часто цитируемые публикации
961
Pflaum, Carrières Suppl. Pflaum, H. G. (1982) Les carrièresprocuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain. Supplement (BAH 112). Paris Potter, Prophecy. Potter, D. S. (1990) Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire: A Historical Commentary on the Thirteenth Sibylline Oracle. Oxford Le ravitaillement. Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu 'au Haut Empire (Collection du Centre Jean Bérard ii = CEFR196; 1994). Naples and Rome Reynolds, Aphrodisias. Reynolds, J. M. (1982) Aphrodisias and Rome: Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias (J RS Monographs 1). London Robert, Hellenica. Robert, L. (with Robert, J.) (1940-65), Hellenica, vols, i-xiii. Paris and Limoges
RostovtzefF, SEHRE. Rostovtzeff, M. I. (1957) The Social and Economie History of the Roman Empire, 2nd edn. Oxford
Roueché, ALA. Roueché, C. (1989) Aphrodisias in Late Antiquity (JRS Monographs 5). London
Rythmes de la production monétaire. Depeyrot, G., Hackens, T. and Moucharte, G. (eds.) (1987) Rythmes de la production monétaire, de l antiquité à nos jours: Actes du colloque international organisé à Paris du 10 au 12 janvier 1986 (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain 50 = Numismatica Lovaniensia 7). Louvain Sallmann, HLL 4. Sallmann, K. (ed.) (1997) Die Literatur des Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur uj bis 284 n. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike 4 = HAW viii.4). Munich, 1997 (French trans.: L'âge de transition. Turnhout, 2000)
Schiavone, Storia di Roma 11.2. Schiavone A. (ed.) (1991) Storia di Roma 11.2: L Impero mediterraneo: i principi e il mondo. Turin Schiavone, Storia di Roma 11.3. Schiavone A. (ed.) (1992) Storia di Roma 11.3: L 'Impero mediterraneo: la cultura e Timpero. Turin Schiavone, Storia di Roma 111.1. Schiavone A. (ed.) (1993) Storia di Roma ни: L'età tardoantica: crisi e trasformazione. Turin
Seston, Dioclétien. Seston, W. (1946) Dioclétien et la tétrarchie. 1: Guerres et réformes (284-300) (BEFAR 172). Paris
Sprengling, Iran. Sprengling, M. (1953) Third Century Iran, Sapor and Kartïr. Chicago
Syme, E&B. Syme, R. (1971) Emperors and Biography: Studies in the Historia Augusta. Oxford
L 'Urbs. Espace urbain et histoire. L 'Urbs. Espace urbain et histoire (1er siècle av.
J.-С.-III siècle ap. J.-C.). Actes du Colloque International (Rome, 8—12 mai 198$) (CEFR 98; 1987). Rome
Westermann and Schiller, Apokrimata. Westermann, W. L. and Schiller, A. A. (1954) Apokrimata: Decisions of Septimius Severus on Legal Matters. New York (= P. Col. 123)
Whittaker, Frontiers. Whittaker, C. R. (1994) Frontiers of the Roman Empire: A Social and Economic Study. Baltimore and London Whittaker, Herodian. Whittaker, C. R. (ed.) (1969-70) Herodian (Loeb Classical Library), 2 vols. Cambridge, MA and London
962
Библиография
Wieacker, Rechtsgeschichte. Wieacker, F. (1988) Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur 1. Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik (Rechtsgeschichte des Altertums 3.1.1 = HAWx.3.1.1). Munich
Williams, Diocletian. Williams, S. (1985) Diocletian and the Roman Recovery. London
Wolfram, Goths. Wolfram, H. (1988) History of the Goths (trans. T. J. Dunlap). Berkeley, CA
Yarshater, CHI ni. E. Yarshater (ed.) (1983) The Cambridge History of Iran, vol. ni: The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, 2 parts. Cambridge
Часть первая
Факты политической истории:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ СЕВЕРОВ
до Константина (главы 1—4)
The Age of Diocletian: A Symposium, December 14—16, 1931 (1953). Metropolitan Museum of Art, New York
Alföldi, A. (1939a) ‘The invasions of peoples from the Rhine to the Black Sea’, CAH XIP: 138-164 (repr. in Alföldi (1967))
Alföldi, A. (1939b) ‘The crisis of the empire (a.d. 249-270)’, CAH XIP:i65-23i (repr. in Alföldi (1967))
Alföldi, A. (1939c) ‘The sources for the Gothic invasions of the years 260-270’, CAH XIP:72i-3
Alföldi, A. (1967) Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3.Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt
Alföldi, A. (1979) ‘Redeunt Saturnia regna VH’, Chiron 9: 553-606 Alföldy, G. (1966a) ‘Barbareneinfälle und religiöse Krisen in Italien’, НАС11964—3: 1-19
Alföldy, G. (1966b) ‘Ein bellum sarmaticum und ein ludus sarmaticus in der Historia Augusta’, НАС1 1964-3: 21-34 Alföldy, G. (1968) ‘Septimius Severus und der Senat’, BJ 168: 112-60 Alföldy, G. (1972) ‘Der Sturz des Kaisers Geta und die antike Geschichtsschreibung’, НАС1 19/0: 19-51
Alföldy, G. (1973) ‘Der heilige Cyprian und die Krise des römischen Reiches’, Historia гг: 479-501
Alföldy, G. (1974) ‘The crisis of the third century as seen by contemporaries’, GRBS 15: 89-111
Alston, R. (1994) ‘Roman military pay from Caesar to Diocletian’, JRS 84: 113-23 Arce, J. (1982) El ultimo siglo de la Espana romana, 284-409. Madrid Arce, J. (1988) Funus Imperatorum: Los funerales de los emperadores romanos (Alianza forma 68). Madrid
Armstrong, D. (1987a) ‘Gallienus in Athens, 264’, ZPE 70: 235-58 Armstrong, D. (1987b) ‘Tribunician dates of the joint and separate reigns of Valerian and Gallienus: a plea for the August-September theory’, ZPE 67: 215-23
Часть первая... (главы 1—4)
963
Avery, W. Т. (1940) ‘The adoratio purpurae and the importance of the imperial purple in the fourth century of the Christian era’, MAAR 17: 66—80 Babcock, C. L. (1962) ‘An inscription of Trajan Decius from Cosa \AJPh 83:147-58 Bakker, L. (1993) ‘Raetien unter Postumus - Das Siegesdenkmal einer Juthungen- schlacht im Jahre 260 n. Chr. aus Augsburg’, Germania 71: 369—86 Baldini, A. (1975) ‘II ruolo di Paolo di Samosata nella politica culturale di Zenobia e la decisione di Aureliano ad Antiochia’, RSA 5: 59-78 Baldini, A. (1978) ‘Discendenti a Roma da Zenobia?’, ZPE 30: 145-9 Baldus, H. (1971) Uranius Antoninus: Münzprägung und Geschichte (Antiquitas 3.11). Bonn
Baity, J.-С. (1987) ‘Apamée (1986): nouvelles données sur l’armée romaine d’Orient et les raids sassanides du milieu du IIIe siècle’, CRAI1987: 213—42 Baity, J.-C. (1988) ‘Apamea in Syria in the second and third centuries a.d.’, JRS 78: 91-104
Bang, M. (1906) ‘Die militärische Laufbahn des Kaisers Maximinus’, Hermes 41: 300-3
Barbiéri, G. (1952a) Aspetti della politica di Settimio Severo’, Epigraphica 14: 3-48 Barbiéri, G. (1952b) LAlbo senatorio da Settimio Severo a Carino 193—28$ (Studi pubblicati dall’Istituto italiano per la storia antica 6). Rome Barnes, T. D. (1967) ‘The family and career of Septimius Severus’, Historia 16: 87-107
Barnes, T D. (1970a) ‘The lost Kaisergeschichte and the Latin historical tradition’, НАС1 1968—9: 13-43 (repr. in Barnes, Early Christianity ch. 4)
Barnes, T. D. (1970b) ‘Three notes on the Vita Probi\ CQ 20: 198-203 Barnes, T. D. (1975) ‘The unity of the Verona List’, ZPE 16: 275-8 Barnes, T D. (1976a) ‘Sossianus Hierocles and the antecedents of the Great Persecution’, HSCP 80: 239-52
Barnes, T D. (1976b) ‘Imperial campaigns, ad 285-311’, Phoenix 30: 174-93 (repr. in Barnes, Early Christianity ch. 12)
Barnes, T D. (1978) The Sources of the Historia Augusta (Collection Latomus 155). Brussels
Barnes, T D. (1985) ‘Constantine and the Christians of Persia’, JRS 75: 126-36 (repr. in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 6)
Barnes, T D. (1989) ‘Panegyric, history and hagiography in Eusebius’ Life of Constantine’, in R. Williams (ed.), The Making of Orthodoxy: Essays in Honour of Henry Chadwick (Cambridge) 94-123 (repr. in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 11)
Barnes, T. D. (1993) Athanasius and Constantius: Theology and Politics in the Con- stantinian Empire. Cambridge, MA and London Barnes, T. D. (1994a) ‘The religious affiliations of consuls and prefects, 317-361’, in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 7
Barnes, T. D. (1994b) ‘The two drafts of Eusebius’s Vita Constantini’, in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 12
Barnes, T. D. (1995) ‘Statistics and the conversion of the Roman aristocracy’, JRS
85: 135-47
Barnes, T. D. (1996) ‘Emperors, panegyrics, prefects, provinces and palaces’, JRA 9: 532-52
964
Библиография
Barnes, T. D. (1999) ‘The wife of Maximinus’, CPh 94: 459-60 Barton, I. M. (i977)‘The inscriptions of Septimius Severus and his family at Lepcis Magna’, in Mélanges offerts à LéopoldSédar Senghor: langues—littérature—histoire anciennes (Dakar) 3—12
Bellezza, A. (1964) Massimino il Trace (Istituto di storia antica dell’Università di Genova 5). Genoa
Benario, H. W. (1958a) ‘Julia Domna — mater senatus etpatriae\ Phoenix 12: 67-70 Benario, H. W. (1958b) ‘Rome of the Severi’, Latomus 17: 712-22 Bengtson, H. (1970) Grundriss der römischen Geschichte I (HAW 111.5.1). (rev. edn Munich)
Bersanetti, G. M. (1940) Studi sulTimperatore Massimino il Trace (Studia Historica 12). Rome (repr. 1965)
Bianchi, A. (1983) ‘Aspetti della politica economico-fiscale di Filippo 1’Arabo’, Aegyptus 63: 185-98
Biddle, M. (1994) ‘The tomb of Christ: sources, methods and a new approach’, in
K. Painter (ed.), ‘Churches Built in Ancient Times': Studies in Early Christian Archaeology (London) 73-147 Biddle, M. (1999) The Tomb of Christ. Stroud
Bird, H. W. (1976) ‘Diocletian and the deaths of Carus, Numerian and Carinus’, Latomus 35: 123-32
Birley, A. R. (1962) ‘The oath not to put senators to death’, CR n.s. 12: 197-9 Birley, A. R. (1967) ‘The Augustan history’, in T A. Dorey (ed.), Latin Biography (London) 113-38
Birley, A. R. (1969) ‘The coups d'état of the year 193’, BJ 169: 247-80 Birley, A. R. (1975) ‘The third-century crisis in the Roman empire’, Bulletin of the John Rylands Library 58: 253-81
Birley, A. R. (1981) ‘The economic effects of Roman frontier policy’, in King and Henig, Roman West 39-53
Birley, A. R. (1981) The Fasti of Roman Britain. Oxford
Birley, E. B. (1969) ‘Septimius Severus and the Roman army’, ES 8: 63-82 (repr. in E. B. Birley, The Roman Army: Papers ip2p—ip86 (Mavors Roman Army Researches 4). (Amsterdam, 1988) 21-40)
Birley, E. B. (1987) ‘Ballista and Trebellius Pollio’, НАС1 IP84—5: 55~6o Bland, R. (1993) ‘The coinage of Jotapian’, in M. Price, A. Burnett and R. Bland (eds.), Essays in Honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins (London) 191- 206
Bland, R. and Burnett, A. (eds.) (1988) The Normanby Hoard and Other Roman Coin Hoards (Coin Hoards from Roman Britain 8). London Bleckmann, B. (1992) Die Reichskrise des dritten Jahrhunderts in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung (Quellen und Forschung zur antiken Welt 11). Munich
Blockley, R. C. (1984) ‘The Romano-Persian treaties of ad 299 and 363’, Florilegium 6: 28-49
Blois, L. de (1975) ‘Odaenathus and the Roman-Persian war of 252-264 a.d.’, Talanta 6: 7-23
Blois, L. de (1978—9) ‘The reign of the emperor Philip the Arabian’, Talanta 10/11: и—43
Часть первая... (главы 1—4)
965
Blois, L. de (1984) ‘The third century crisis and the Greek elite in the Roman empire', Historia 33: 358-77
Bodor, A. (1973) ‘Emperor Aurelian and the abandonment of Dacia', Dacoromania 1: 29-40
Boer, W. den (1972) Some Minor Roman Historians. Leiden Bowersock, G. W. (1975) ‘Herodian and Elagabalus’, YCS 24: 229-36 Bowman, A. K. (1974) ‘Some aspects of the reform of Diocletian in Egypt’, Akten des XIII internationalen Papyrologenkongressesy Marburg 1971 (Münch. Beitr. 66): 43-51
Bowman, A. К. (1976) ‘Papyri and Roman imperial history, 1960-1975’, JRS 66:
153-73
Bowman, A. K. (1978) ‘The military occupation of Upper Egypt in the reign of Diocletian’, BASP 15: 25-38
Bowman, A. K. (1980) ‘The economy of Egypt in the earlier fourth century’, in King, Imperial Revenue 23-39 Bowman, A. K. (1984), ‘Two notes’, BASP 21: 33-8
Brauer, G. С. (1975) The Age of the Soldier Emperors: Imperial Rome a.d. 244-284. Park Ridge, NJ
Brennan, P M. (1984) ‘Diocletian and the Goths’, Phoenix 38: 142-6 Brennan, P. M. (1989) ‘Diocletian and Elephantine: a closer look at Pococke’s puzzle (IGRR 1.1291 = SB 5.8393)’, ZPE 76:193-205 Brennecke, C. (1994) ‘Nicäa Г, Theologische Realenzyklopädie 24: 429-41 Brilliant, R. (1967) The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum (MAAR 29). Rome
Brown, P. (1969) ‘The diffusion of Manichaeism in the Roman empire’, JRS 59: 92-103 (repr. in Religion and Society in the Age of Augustine (London, 1972) 94-118)
Bruce, L. D. (1983) ‘Diocletian, the proconsul Iulianus and the Manichaeans’, in
C. Deroux (ed.), Studies in Latin Literature and Roman History hi (Collection Latomus 180). (Brussels) 336-47
Brunt, P. A. (1950) ‘Pay and superannuation in the Roman army’, PBSR 18:
50-75
Brunt, P. A. (1977) ‘ Lex de Imperio Vespasiam, JRS 67: 95-116 Bruun, P. (1954) ‘The consecration coins of Constantine the Great’, Arctos n.s. 1: 19-31
Bureth, P. (1964) Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions dEgypte (30 a.C-284 p.C.). Brussels
Burgess, R. W. (1993) The ‘Chronicle of Hydatius and the 'Consularia Constantinopolitana ; Two Contemporary Accounts of the Final Years of the Roman Empire. Oxford
Burgess, R. W. (1996) ‘The date of the persecution of the Christians in the army’, JThS 47.1: 15-28
Burns, T. S. (1979) ‘The barbarians and the Scriptores Historiae Augustae\ in C. Deroux (ed.), Studies in Latin Literature and Roman History 1 (Collection Latomus 164). (Brussels) 521-40
Callu, J.-P. (1989) ‘L’Empire gaulois selon J. E Drinkwater’,/&4 2: 362-73
966
Библиография
Cameron, Averil (1997) ‘Eusebius’s Vita Constantini and the construction of Constantine’, in S. Swain and M. Edwards (eds.), Portraits: Biographical Representations in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire (Oxford) 145-74 Cameron, Averil and Hall, S. G. (1999) Eusebius: Life of Constantine. Oxford Campbell, J. B. (1978) ‘The marriage of Roman soldiers under the empire’, JRS 68: 153-66
Capelli, R. (1983) The Mint of Serdica under Aurelian (News from Bulgaria). Sofia Carson, R. A. G. (1959) ‘The mints and coinage of Carausius and Allectus’, JBAA гг: 38-40
Carson, R. A. G. (1965) ‘The reform of Aurelian’, RN6 7: 225-35 Carson, R. A. G. (1968) ‘The Hama hoard and the eastern mints of Valerian and Gallienus’, Berytus 17: 123-42
Carson, R. A. G. (1971) ‘The sequence marks on the coinage of Carausius and Allectus’, in R. A. G. Carson (ed.), Mints, Dies and Currency: Essays in Memory of Albert Baldwin (London) 57-65
Carson, R. A. G. (1978) ‘Mints in the mid-third century’, in R. A. G. Carson and C. M. Kraay (eds.), Scripta Nummaria Romana: Essays Presented to Humphrey Sutherland (London) 65-74
Carson, R. A. G. (1982) ‘Carausius et fratres sui: a reconsideration’, Studia Paulo Noster oblata: 1, Numismatica antiqua (Louvain) 245-58 Carson, R. A. G. (1990) Coins of the Roman Empire. London Cary, E. (1927) Dio's Roman History, vol. ix (Loeb Classical Library 177). Cambridge, MA and London
Casey, R J. (1977) ‘Carausius and Allectus - rulers in Gaul?’, Britannia 8: 283-301 Chadwick, H. (1979) ‘The relativity of moral codes: Rome and Persia in late antiquity’, in W. R. Schoedel and R. L. Wilken (eds.), Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition: In Honorem Robert M. Grant (Théologie historique 53) (Paris) 135-53
Champlin, E. (1979) ‘Notes on the heirs of Commodus’, AJPh 100: 288-306 Chastagnol, A. (1969) ‘L’usurpateur gaulois Bonosus d’après l’Historia Augusta’, BSNAF 1969: 78-99
Chastagnol, A. (1976) ‘Trois études sur la Vita Cari’, НАС1 1972—4: 75-90 Chastagnol, A. (1980) ‘Sur la chronologie des années 275-285’, in P. Bastien et al. (eds.), Mélanges de numismatique, d'archéologie et d'histoire offerts à J. Lafaurie (Paris) 75-82
Chastagnol, A. (1980-1) ‘Deux notules sur l’époque de Dioclétien’, BSNAF 1980-1: 187-91
Chastagnol, A. (1994a) L'évolutionpolitique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien: La mise en place du Bas-Empire, 3rd edn. Paris Chastagnol, A. (1994b) ‘L’évolution politique du règne de Dioclétien (284-305)’, AT 2: 23-31
Christol, M. (1975) ‘Les règnes de Valérien et de Gallien (253-268): travaux d’ensemble, questions chronologiques’, ANRW 11.2: 803-27 Christol, M. (1980) ‘A propos de la politique extérieure de Trébonien Galle’, RN6 гг: 63-74
Christol, M. (1990) review of Drinkwater, Gallic Empire (1987), RN6 32: 308-13
Часть первая... (главы 1—4)
967
Cizek, Е. (1991) ‘La succession d’Aurélien et l’échec de Tacite’, REA 93: 109-122 Cizek, E. (1994) L'empereur Aurélien et son temps. Paris
Clarke, G. W. (1980) ‘Dating the death of the emperor Decius’, ZPE 37: 114-16 Cope, L. H. (1969) ‘The nadir of the imperial antoninianus in the reign of Claudius II Gothicus, A.D. 268-270’, NC7 9: 145-61 Corcoran, S. (1993) ‘Hidden from history: the legislation of Licinius’, in Harries and Wood (1993) 97-119
Crawford, M. H. (1975) ‘Finance, coinage and money from the Severans to Constantine’, ANRW ii.2: 560-93
Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1975) ‘The publication of the Prices Edict: a new inscription from Aezani’,/ÆS 65: 160-3 Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1977) ‘The Aezani copy of the Prices Edict’, ZPE 26: 125-51
Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1979) ‘The Aezani copy of the Prices Edict’, ZPE 34: 163-210
Creed, J. L. (1984) Lactantiusy De Mortibus Persecutorum. Oxford Crees, J. H. (1911) The Reign of the Emperor Probus. London Curran, J. (2000) Pagan City and Christian Capital: Rome in the Fourth Century. Oxford
Dagron, G. (1996) Empereur et prêtre: Etude sur le ‘césaropapisme’ byzantin. Paris Damerau, P. (1934) Kaiser Claudius II Goticus (268—270 n. Chr.) (Klio Beiheft 33). Leipzig
Davies, R. W (1967) ‘M. Aurelius Atho Marcellus’, JRS 57: 20-2 Davis, R. (2000) The Book of Pontiff (Liber Pontificalis) (Translated Texts for Historians 6), 2nd edn. Liverpool (ist edn 1989)
Debevoise, N. C. (1938) A Political History of Parthia. Chicago (repr. New York, 1968)
Decker, D. de (1968) ‘La politique religieuse de Maxence’, Byzantion 38: 472-562 Devreker, J. (1971) ‘Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte’, Latomus 30: 352-62
Dietz, К. (1976) ‘Senatskaiser und ihre povapxiocs em-Supia’, Chiron 6: 381-425 Digeser, E. D. (2000) The Making of a Christian Empire: Lactantius and Rome. Ithaca and London
Downey, G. (1961) A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest. Princeton
Drake, H. A. (1976) In Praise ofConstantine: A Historical Study and New Translation of Eusebius ’ Tricennial Orations. Berkeley and Los Angeles Drake, H. A. (1985) ‘Eusebius on the True Cross’, JEH 36: 1—22 Drake, H. A. (1999) Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance. Baltimore and London
Drew-Bear, T. (1981) ‘Les voyages d’Aurélius Gaius, soldat de Dioclétien’, in La géographie administrative et politique d Alexandre à Mahomet. Actes du Colloque de Strasbourg, 14—16juin 1979 (Travaux du Centre de Recherche sur le Proche- Orient et la Grèce Antiques 6). Leiden
Drijvers, J. W. (1992) Helena Augusta: The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross (Brill’s Studies in Intellectual History 27). Leiden
968
Библиография
Drinkwater, J. F. (1984) ‘Peasants and Bagaudae in Roman Gaul’, Classical Views 28, n.s. 3: 349-71
Drinkwater, J. F. (1987) The Gallic Empire (Historia Einzelschriften 52). Stuttgart
Drinkwater, J. F. (1989) ‘The “catastrophe” of 260: towards a more favourable assessment of the emperor Valerian Г, RSA 19: 123-35 Dufraigne, P. (1975) Aurelius Victor: Livre des Césars, texte et traduction (Budé). Paris Durliat, J. (1990) De la ville antique à la ville byzantine: Le problème des subsistences (CEFR136). Rome
Dusanic, S. (1976) ‘The end of the Philippi’, Chiron 6: 427-39 Eadie, J. W. (1967) ‘The development of Roman mailed cavalry’, JRS 57: 161-73 Eadie, J. W. (1980) ‘Barbarian invasions and frontier politics in the reign of Gallienus’, Limes Congress XII: 1045-50
Eadie, J. W. (1996) ‘A catalogue and conference on the tetrarchy’,/&4 9: 553-5 Edwards, M. (1997) Optatus: Against the Donatists (Translated Texts for Historians 27). Liverpool
Edwards, M. (1999) ‘The Constantinian circle and the Oration to the Saints’, in M. Edwards, M. Goodman, S. Price and C. Rowland (eds.), Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews and Christians (Oxford) 251-75 Eichholz, D. E. (1953) ‘Constantius Chlorus’ invasion of Britain’, JRS 43: 41-6 Elks, K. J. J. (1972a) ‘Reattribution of the Milan coins of Trajan Decius to the Rome mint’, NC7 12: 111-15
Elks, K. J. J. (1972b) ‘The denarii of Gordian НГ, NC7 12: 309-10 Elks, K. J. J. (1975) ‘The eastern mints of Valerian and Gallienus: the evidence of two new hoards from western Turkey’, NC7 15: 91—109 Eisner, J. (2000) ‘From the culture of spolia to the cult of relics: the arch of Constantine and the genesis of late antique forms’, PBSA 68: 149-81 Ensslin, W. (1939) ‘The senate and the army’, CAH xn1: 57-95 Ensslin, W. (1942) Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian (SBAW 1942.1). Munich Ensslin, W. (1948) ‘Valerius 142 (Diocletian)’, RE viia.2: 2419-95 Ensslin, W. (1949) Zu den Kriegen des Sassaniden Schapuri (SBAW 1947.5). Munich Ensslin, W. (1954) ‘Praefectus tironibus und tironum’, RE ххн.2: 1336 Erim, K. T. and Reynolds, J. (1969) ‘A letter of Gordian III from Aphrodisias in Caria’, JRS 59: 56-8
Erim, К. T. and Reynolds, J. M. (1970) ‘The copy of Diocletian’s Edict on Maximum Prices from Aphrodisias in Caria’, JRS 60: 120-41 Erim, K. T. and Reynolds, J. M. (1973) ‘The Aphrodisias copy of Diocletian’s Edict on Maximum Prices’, JRS 63: 99—110
Erim, К. T, Reynolds, J. M. and Crawford, M. H. (1971) ‘Diocletian’s currency reform: a new inscription’, JRS 61: 171—7 Estiot, S. (1995) ‘Aureliana’, RN 150: 50-94
Evans-Grubbs, J. (1995) Law and Family in Late Antiquity: The Emperor Constantine's Marriage Legislation. Oxford
Feissel, D. (1995) ‘Les constitutions des Tétrarques connues par l’épigraphie: inventaire et notes critiques’, AT 3: 33—53
Festy, M. (1982) ‘Puissances tribuniciennes et salutations impériales dans la titulature des empereurs romains de Dioclétien à Graden’, RIDA5 29: 193-234
Часть первая... (главы 1—4)
969
Février, Р.-А. (1981) A propos des troubles de Maurétanie (villes et conflits du IIIe siècle)’, ZPE 43: 143-8
Finley, M. I. (1968) ‘The emperor Diocletian’, in Aspects of Antiquity (London) 143-52
Fitz, J. (1962) ‘A military history of Pannonia from the Marcoman wars to the death of Alexander Severus (180-235)’, AArchHung 14: 25-112 Fitz, J. (1966) Die Laufbahn der Statthalter der römischen Provinz Moesia Inferior. Weimar
Fitz, J. (1969) ‘La carrière de L. Valerius Valerianus’, Latomus 28: 126-40 Fitz, J. (1976) La Pannonie sous Gallien (Collection Latomus 148). Brussels Fluss, M. (1920) ‘Sapor 1 (Shapur I)’, RE ia.2: 2325-33
Follet, S. (1976) Athènes au IF et au IIIe siècle: Etudes chronologiques et proso- pographiques. Paris
Fowden, G. (1993) Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity. Princeton, NJ
Fowden, G. (1994) ‘The last days of Constantine: oppositional versions and their influence’, JRS 84: 146-70
Frend, W. (1970) ‘A note on Jews and Christians in third-century North Africa’, JThS n.s. 21: 92-6
Fronza, L. (1951) ‘Studi sull’imperatore Decio I: Г ‘adventus August/’,Annali Triestini 21: 227-45
Fronza, L. (1953) ‘Studi sull’imperatore Decio II: problemi di politica interna’, Annali Triestini 23: 311-33
Frye, R. (1983) ‘The political history of Iran under the Sassanians’, in Yarshater, CHI 111.1: 116-80
Gagé, J. (1965) ‘Comment Sapor a-t-il “triomphé” de Valérien?’, Syria 42: 343-88 Gagé, J. (1971) Les classes sociales dans Vempire romain, rev. edn. Paris Gagé, J. (1975) ‘Programme d’ “italicité” et nostalgies d’hellénisme autour de Gallien et Salonine: quelques problèmes de “paidéia” impériale au IIIe siècle’, AN RW h.2: 828-52
Garnsey, P. (1967) ‘Adultery trials and the survival of the quaestiones in the Severan age\JRS 57: 56-60
Garnsey, P. (1970) Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire. Oxford Gawlikowski, M. (1985) ‘Les princes de Palmyre’, Syria 62: 251—61 Geissen, A. (1976) ‘Numismatische Bemerkung zu dem Aufstand des L. Domitius Domitianus’, ZPE 22: 280—6
Gerov, B. (1961) ‘Zur Identität des Imperators Decius mit dem Statthalter C. Messius Q. Decius Valerinus’, Klio 39: 222-6 Gerov, B. (1977) ‘Die Einfälle der Nordvölker in den Ostbalkanraum im Lichte der Münzschätzfunde I. Das II. und III. Jahrhundert (101-284)’, ANRW 11.6: 110-81
Gerov, B. (1980) Beiträge zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien. Gesammelte Auf ätze. Amsterdam Gilles, K.-J. (1985) Spätrömische Höhensiedlungen in Eifel und Hunsrück (Trierer Zeitschrift Beiheft 7). Trier
Gilliam, J. F. (1965) ‘Dura rosters and the Constitutio Antoniniana\ Historia 14: 74-92
970
Библиография
Gobi, R. (1970) Regalianus und Dryantilla. Vienna
Gobi, R. (1974) Der Triumph des Säsäniden Sahpuhr über die Kaiser Gordianus, Philippus und Valerianus: Die ikonographische Interpretation der Felsreliefi (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse 116). Vienna Graham, A. J. (1966) ‘The division of Britain’,/ÆS 56: 92-107 Graham, A. J. (1973) ‘Septimius Severus and his generals, AD 193-7’, in M. R. D. Foot (ed.), War and Society: Essays in Honour and Memory of J. R. Western (1928-1971) (London) 255-75, 336-45
Graham, A. J. (1974) ‘The limitations of prosopography in Roman imperial history’, ANRW 11.1: 136-57
Graham, A. J. (1978) ‘The numbers at Lugdunum’, Historia 27: 625-30 Grant, M. (1968) The Climax of Rome. London
Grasby, K. D. (1975) ‘The age, ancestry and career of Gordian Г, CQ 25: 123-30 Groag, E. (1905) ‘Domitius 36 (Aurelian)’, RE v.i: 1347-1419 Gross, K. (1957) ‘Decius’, RIAC 3: 611-29
Grünewald, T (1992) Constantinus Maximus Augustus (Historia Einzelschriften 64). Stuttgart
Gudea, N. (1977) ‘Der Limes Dakiens und die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie von Trajan bis Aurelian’, ANRW 11.6: 849-87 Gudea, N. (1979) ‘The defensive system of Roman Dacia’, Britannia 10: 63-87 Guey, J. (1950) ‘Lepcitana Septimiana vi.i’, Revue Africaine 94: 51-84 Guey, J. (1961) ‘Autour des Res Gestae Divi Saporis I: deniers (d’or) et deniers d’or (de compte) anciens’, Syria 38: 261-74
Haehling, R. von (1978) Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theo- dosianischen Dynastie (324—450 bzw. 455 n.Chr.) (Antiquitas 111.23). Bonn Haley, E. W. (1994) ‘A palace of Maximianus Herculius at Corduba’, ZPE 101: 208-14
Halsberghe, G. H. (1984) ‘Le culte de Deus Sol Invictus à Rome au 3e siècle après
J. C.’, ANRW 11.17.4: 2181-201
Hammond, M. (1940) ‘Septimius Severus, Roman bureaucrat’, HSCP 51: 137-73 Hammond, M. (1959) The Antonine Monarchy (Papers and Monographs of the American Academy in Rome 19). Rome
Hanslik, R. (1958) “‘Vibius 58 (Trebonianus Gallus)” and “Vibius 65 (Veldumni- anus Volusianus)”’, RE viiiA.2: 1983-94,1996-7 Hanson, R. P. C. (1988) The Search for the Christian Doctrine of God: The Arian Controversy 318—381. Edinburgh
Harries, J. and Wood, I. (eds.) (1993) The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity. London
Hartmann, F. (1982) Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Soldatenkaiserzeit (3. Jahrhundert n. Chr.) (Europäische Hochschulschriften hi.149). Frankfurt-am-Main
Hasebroek, J. (1921) Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus. Heidelberg
Часть первая... (главы 1—4)
971
Haywood, R. М. (1940) ‘The African policy of Septimius Severus’, ТАРА 71:175-85 Haywood, R. M. (1962) ‘A further note on the African policy of Septimius Severus’, Hommages à Albert Grenier (Collection Latomus 58) (Brussels) 786 Heather, P. (1994) ‘New men for new Constantines’, in Magdalino (1994) 11-33 Heather, P. (1998) ‘Senators and senates’, CAH xiii: 184-210 Heitsch, E. (1963) Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit I (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse3 49), 2nd edn. Göttingen Hendy, M. H. (1972) ‘Mint and fiscal administration under Diocletian, his colleagues and his successors’,/^? 62: 75-82 (repr. in The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium (Northampton, 1989) ch.4)
Hendy, M. H. (1985) Studies in the Byzantine Monetary Economy c.300-1450. Cambridge
Herzfeld, E. E. (1924) Paikuli: Monument and Inscription ofthe Early History of the Sasanian Empire (Forschungen zur islamischen Kunst 3), 2 vols. Berlin Hohl, E. (1919) ‘“Iulius 526 (Maximinus Thrax)” and “Iulius 527” (Maximus)’, RE x.i: 852-68, 868-70
Holum, K. (1990) ‘Hadrian and St Helena: imperial travel and the origins of the Christian Holy Land’, in R. Ousterhout (ed.), The Blessings of Pilgrimage (Illinois Byzantine Studies 1) (Urbana, IL) 66-81 Homo, L. (1904) Essai sur le règne de Tempereur Aurêlien (270—275) (BEFAR 89). Paris
Honoré, A. M. (1962) ‘The Severan jurists: a preliminary study’, SDHI28:162-232 Honoré, A. M. (1979) ‘Imperial rescriptsA.D. 193-305: authorship and authenticity’, JRS 69: 51-64
Horedt, K. (1973) ‘Das archäologische Bild der romanischen Elemente nach der Räumung Daziens’, Dacoromania 1: 135-48 Hunt, E. D. (1992) Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire a.d. 512-460, 2nd edn. Oxford (ist edn 1982)
Hunt, E. D. (1993) ‘Christianising the Roman empire: the evidence of the Code’, in Harries and Wood (1993) 143-60 Hunt, E. D. (1997) ‘Constantine and Jerusalem’, JEH 48: 405-24 Huss, W. (1978) ‘Das Ende des Maximianus’, Latomus 37: 719-25 Huvelin, H. (1984) ‘L’atelier de Rome sous Claude II le Gothique’, Numismatica e Antichità Classiche (Quaderni Ticinesi) 13: 199-213 Huvelin, H. (1990) ‘A propos du Normanby hoard: quelques observations sur le monnayage de Claude II (268-70)’, JRA 3: 449-58 Huvelin, H. (1992) ‘Chronologie du règne de Claude le Gothique’, Numismatica e Antichità Classiche 21: 309-22
Iliescu, V. (1973) ‘Die Räumung Dakiens und die Anwesenheit der romanischen Bevölkerung nördlich der Donau im Lichte der Schriftquellen’, Dacoromania 1: 5-28
Isaac, В. (1988) ‘The meaning of the terms limes and limitanei, JRS 78: 125-47 Jeffreys, E., Jeffreys, M. and Scott, R. (1986) The Chronicle of John Malalas: A Translation (Byzantina Australiensia 4). Melbourne
972
Библиография
Jehne, М. (1996) ‘Überlegungen zur Chronologie der Jahre 259 bis 261 n. Chr. im Lichte der neuen Postumus-Inschrift aus Augsburg, Bayerische Vorgeschichtsblätter 61: 185-206 Johnston, D. E. (ed.) (1978) The Saxon Shore. Portsmouth Jones, A. H. M. (1949) Constantine and the Conversion of Europe. London Jones, A. H. M. (1952/53) ‘Inflation under the Roman Empire’, Economic History Review 5: 293-318 (repr. in Jones, Roman Economy 187-227)
Jones, A. H. M. and Skeat, T. C. (1954) ‘Notes on the genuineness of the Constan- tinian documents in Eusebius’s Life of Constantine’, JEH 5: 196-200 (repr. in Jones, Roman Economy 257-62)
Kennedy, D. L. (1980) ‘The frontier policy of Septimius Severus: new evidence from Arabia’, in Limes Congress XII: 879-88 Kennedy, M. J. (1952) The Reign of the Emperor Pro bus, 276—282 Ä.D. Unpublished Univ. of Minnesota PhD diss.
Kent, J. (1973) ‘Gallienae Augustae’, NC7 13: 64-8
Kent, J., Overbeck, В. and Stylow, U. A. (1973) Die römische Münzen. Munich Kettenhofen, E. (1983) ‘The Persian campaign of Gordian III and the inscription of Sähpuhr I at the Kacbe-ye Zartost’, in Mitchell, AFRBA 151-71 Kettenhofen, E. (1984) ‘Die Einforderung des Achämeniderbes durch Ardäsir: eine Interpretatio romana’, OLP 15:177-90 Kettenhofen, E. (1986) ‘Zur Siegestitulatur Kaiser Aurelians’, Tyche 1: 138-46 Kettenhofen, E. (1987) ‘Aurelianus Carpicus Maximus’, Studii Classice (Bucharest) 25:63-9
Kettenhofen, E. (1992) ‘Die Einfälle der Heruler ins römischen Reich im 3. Jh. n. Chr.’, Klio 74: 291-313
Kettenhofen, E. (1993) ‘Beobachtungen zum 1. Buch der NEA IITOPIH des Zosimus’, Byzantion 63: 404—15
Kettenhofen, E. (1995) ‘Die Eroberung von Nisibis und Karrhai durch die Säsäniden in der Zeit Kaiser Maximins (235/236 n. Chr.)’, LA 30: 159-77 Klenast, D. (1974) ‘Die Münzreform Aurelians’, Chiron 4: 547-65 Kienast, D. (1996) Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 2nd edn. Darmstadt (ist edn 1990)
Knapp, R. C. (1981) ‘L. Axius Naso and pro legato’, Phoenix 35: 134-41
Kolb, E (1977) ‘Der Aufstand der Provinz Africa Proconsularis im Jahr 238 n.Chr.’, Historia 26: 440-77
Kolb, E (1988a) ‘Zu chronologischen Problemen der ersten Tetrarchie’, Eos 76: 105-25
Kolb, E (1988b) ‘Die Datierung des ägyptischen Aufstands unter L. Domitius Domitianus und Aurelius Achilleus’, Eos 76: 325-43 Kolb, E (1995) ‘Chronologie und Ideologie der Tetrarchie’, AT 3: 21-31 König, I. (1974) ‘Die Berufung, des Constantius Chlorus und des Galerius zu Caesaren’, Chiron 4: 567-76
König, I. (1981) Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus (Vestigia 31). Munich
König, I. (1987) Origo Constantini: Anonymus Valesianus I: Text und Kommentar (Trierer historische Forschungen). Trier
Часть первая... (главы 1—4)
973
König, I. (1997) ‘Die Postumus-Inschrift aus Augsburg’, Historia 46: 341-54 Kos, P. (1995) ‘Sub principe Gallieno amissa Raetia?’, Germania 73: 131-44 Kotula, T. (1959-60) ‘L’insurrection des Gordiens et l’Afrique romaine’, Eos 51: 197-211
Kotula, T. (1991) ‘Nessos et Naissos’, Eos 79: 237-43 Krautheimer, R. (1980) Rome: Profile of a City, 312—1308. Princeton Krautheimer, R. (1983) Three Christian Capitals: Topography and Politics. Berkeley and Los Angeles
Kuhoff, W. (1979) Herrschertum und Reichskrise. Die Regierungszeit der römischen Kaiser Valerianus und Gallienus (233-268 n.Chr.) (Kleine Hefte der Münzsammlung an der Ruhr-Universität Bochum 4/5). Bochum Ladage, D. (1979)1 Collegia iuvenum-Ausbildungeinermunicipalen Elite?’, Chiron 9:319-46
Lafaurie, J. (1975) ‘L’Empire gaulois: apport de la numismatique’, ANRW 11.2: 853-1012
Lauffer, S. (1971) Diokletians Preisedikt (Texte und Kommentare 5). Berlin Leadbetter, W. (1998) ‘The illegitimacy of Constantine and the birth of the tetrar- chy’, in Lieu and Montserrat (1998) 74-85 Leeb, R. (1992) Konstantin und Christus. Die Verchristlichung der imperialen Repräsentation unter Konstantin dem Grossen als Spiegel seiner Kirchen- politik und seines Selbstverständnisses als christlicher Kaiser (Arbeiten zur Kirchengeschichte 58). Berlin
Levick, B. (2000) The Government of the Roman Empire: A Sourcebook, 2nd edn. London (ist edn 1985)
Lewis, N. (1991-2) ‘The governor’s edict at Aizanoi’, Hellenica 42: 15-20 Lewis, N. and Reinhold, M. (1990) Roman Civilisation: Selected Readings, vol. и: The Empire, 3rd edn. New York
L’Huillier, M.-C. (1992) L’empire des mots: Orateurs gaulois et empereurs romains, 3e et 4e siècles (Annales littéraires de l’université de Besançon 464; Centre de recherches d’histoire ancienne 114). Paris
Liesker, W. H. M. (1988) ‘The date of Valerian Caesar and Saloninus’, Proceedings of the XVIII International Congress of Papyro logy (Athens 25—31 May 1986) (Athens) 11: 455-63
Lieu, S. N. C. and Montserrat, D. (eds.) (1996) From Constantine to Julian: Pagan and Byzantine Views. London and New York Lieu, S. N. C. and Montserrat, D. (eds.) (1998) Constantine: History, Historiography and Legend. London and New York
Lippold, A. (1968) ‘Der Kaiser Maximinus Thrax und der römische Senat (Interpretationen zur Vita der Maximini Duo)’, НАС1 (1966-7): 73-89 Lippold, A. (1975) ‘Maximinus Thrax und die Christen’, Historia 24: 479-92 Lippold, A. (1981) ‘Constantius Caesar, Sieger über die Germanen, Nachfahre des Claudius Gothicus?’, Chiron 11: 347-69 Lippold, A. (1991a) ‘Historia Augusta’, RAC 15: 687-723
Lippold, A. (1991b) Kommentar zur Vita Maximini Duo der Historia Augusta (Antiquitas 4.3.1). Bonn
974
Библиография
Lippold, А. (1992) ‘Kaiser Claudius II. (Gothicus), Vorfahr Konstantins d. Gr., und der römische Senat’, Klio 74: 380-94 Loriot, X. (1973a) ‘La date du P. Reinach 91 et le dies Caesaris de Maxime’, ZPE 11: 147-55
Loriot, X. (1973b) ‘Les débuts du règne de Dioclétien d’après une inscription trouvée à Ayasofya’, BSNAF 1973: 71-6
Loriot, X. (1975a) ‘Les premières années de la grande crise du IIIe siècle: De l’avènement de Maximin le Thrace (235) à la mort de Gordien III (244)’, ANRW 11.2: 657-787
Loriot, X. (1975b) ‘Chronologie du règne de Philippe l’Arabe (244-249 après J. C.)’, ANRW 11.2: 788-97
Loriot, X. (1978) ‘Un milliaire de Gordien II découvert près de Césarée de Palestine et l’extension aux provinces de l’insurrection de 238’, REA 80: 72-84 McCann, A. M. (1968) The Portraits of Septimius Severus A. D. 193—211 (MAAR 30). Rome
MacCormack, S. (1981) Art and Ceremony in Late Antiquity (The Transformation of the Classical Heritage 1). Berkeley and Los Angeles McCormick, M. (1990) Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West. Cambridge MacDermot, B. C. (1954) ‘Roman emperors in the Sassanian reliefs’, JRS 44:76-80 MacDonald, D. (1981) ‘The death of Gordian III - another tradition’, Historia 30: 502-8
MacMullen, R. (1964) ‘Nationalism in Roman Egypt’, Aegyptus 44:179-99 MacMullen, R. (1967) Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Harvard MacMullen, R. (1982) ‘The epigraphic habit in the Roman empire’, AJPh 103: 233-46
Magdalino, P (ed.) (1994) New Constantines. Aldershot
Maier, J.-L. (1987) Le dossier du Donatisme l: Des origines à la mort de Constance II (303-361) (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 134). Berlin
Mango, C. (1985) Le développement urbain de Constantinople (TV-VIIe siècles). Paris Mango, С. (1990) ‘Constantine’s Mausoleum and the translation of relics’, Byzantinische Zeitschrift 83: 51-61 (repr. in Mango (1993) ch. 5)
Mango, C. (1993) Studies on Constantinople (Collected Studies 394). Aldershot Mango, C. and Scott, R. (1997) The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Oxford Mann, J. C. (1974) ‘The frontiers of the Principate’, ANRW 11.1: 508-33 Mann, J. C. and Jarrett, M. G. (1967) ‘The division of Britain’,/^ 57: 61-4 Mann, J. C. and Jarrett, M. G. (1970) ‘Britain from Agricola to Gallienus’, BJ 170: 178-210
Manni, E. (1949) Vimpero di Gallieno: Contributo alla storia del III secolo. Rome Marasovic, J. and Marasovic, T. (1994) ‘Le ricerche nel Palazzo di Diocleziano a Split negli ultimi 30 anni (1964-94)’, AT 2: 89-105 Marasovic, T (1982) Diocletian s Palace. Belgrade
Mathew, G. (1943) ‘The character of the Gallienic renaissance’,/ÄS 33: 65-70 Matthews, J. E (1989) The Roman Empire of Ammianus. London
Часть первая... (главы 1—4)
975
Mattingly, Н. (1935) ‘The reign of Aemilian: a chronological notc\JRS 25: 55-8 Mattingly, H. (1939) ‘The imperial recovery’, САН xn1: 297-351 Mattingly, H. (1946) ‘The reigns of Trebonianus Gallus and Volusian and of Aemilian’, NC6 6: 36—46
Mattingly, H. (1949) ‘The coins of the “divi” issued by Trajan Decius’, NC6 9: 75-82
Mattingly, H. (1954) ‘The coinage of Macrianus II and Quietus’, NC6 14: 53-61 Meloni, P. (1948) II regno di Caro, Numeriano e Carino (Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero della Università di Cagliari xv.2). Cagliari Metcalf, W. E. (1987) ‘From Greek to Latin currency in third-century Egypt’, in H. Huvelin, M. Christol, G. Gautier (eds.), Mélanges de numismatique offerts à Pierre Bastien à l'occasion de son 7/ anniversaire (Wetteren) 157-68 Millar, F. G. B. (1962) ‘The date of the Constitutio Antoniniand,]ЕЛ 48:124-31 Millar, F. G. В. (1964) A Study of Cassius Dio. Oxford
Millar, F. G. B. (1968) ‘Local cultures in the Roman empire: Libyan, Punic, and Latin in Roman Africa’, JRS 58: 126-34
Millar, F. G. B. (1969) ‘P. Herennius Dexippus: the Greek world and the third- century invasions’, JRS 59: 12-29
Millar, F. G. B. (1971) ‘Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian: the church, local culture and political allegiance in third-century Syria’, JRS 61: 1-17 Millar, F. G. B. (1982) ‘Emperors, frontiers and foreign relations, 31 b.c. to a.d. 378’, Britannia 13:1-23
Millar, F. G. B. (1990) ‘The Roman coloniae of the near east: a study of cultural relations’, in H. Solin and M. Kajava (eds.), Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History. Proceedings of a Colloquium at Tvärminne 2—3 October 1987 (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum 91) (Helsinki) 7-58
Mitchell, S. (521) ‘Requisitioned transport in the Roman empire: a new inscription from Pisidia’, JRS 66: 106-31
Mitchell, S. (1998) ‘The cities of Asia Minor in the age of Constantine’, in Lieu and Montserrat (1998) 52-73
Môcsy, A. (1974) Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London and Boston Môcsy, A. (1977) ‘Pannonien und die Soldatenkaiser’, ANRW 11.6: 557-82 Moreau, J. (1954) Lactance, De la mort des persécuteurs (Sources chrétiennes 39), 2 vols. Paris
Moreau, J. (1961) ‘Krise und Verfall. Das dritte Jahrhundert n. Chr. als historisches Problem’, Heidelberger Jahrbuch 5:128-42 (repr. in W. Schmitt-Henner (ed.), Scripta Minora (Annales Universitatis Saraviensis, Philosophische Fakultät 1; Heidelberg, 1964) 26-41)
Murphy, G. J. (1947) The Reign ofthe Emperor L. Septimius Severus from the Evidence of the Inscriptions. Philadelphia
Neri, V. (1978) ‘CIL XII 2228 e la politica gallica di Claudio il Gotico’, REA 80: 85-94
Nesselhauf, H. (1964) ‘Patrimonium und res privata des römischen Kaisers’, НАС1 (1963) 73-93
976
Библиография
Nicolson, О. (1984) ‘The wild man of the tetrarchy: a divine companion for the emperor Galerius’, Byzantion 54: 253-75
Nixon, С. E. V. (1981a) ‘The Panegyric of 307 and Maximians visits to Rome’, Phoenix 35: 70-6
Nixon, C. E. V. (1981b) ‘The “Epiphany” of the tetrarchs: an examination of Mamertinus’ Panegyric of 291’, ТАРА ш: 157-66 Okamura, L. (1984) Alamannia Devicta: Roman—German Conflicts from Caracalla to the First Tetrarchy (a.d. 213-305). University of Michigan PhD diss. Olmstead, A. T. (1942) ‘The mid-third century of the Christian era’, CPh 37: 241-62, 398-420
Oost, S. I. (1958) ‘The death of the emperor Gordian НГ, CPh 53: 106-7 Oost, S. I. (1961) ‘The Alexandrian seditions under Philip and Gallienus’, CPh 56: 1—20
Parker, H. M. D. (1958) A History of the Roman World, a.d. 138—337, 2nd edn. London
Parsons, P. J. (1967) ‘Philippus Arabs and Egypt’, JRS 57: 134-41 Paschoud, E (2000) Zosime, Histoire Nouvelle I: Livres I—II (Budé), 2nd edn. Paris (ist edn 1971)
Peachin, M. (1985) ‘P. Оху. VI 912 and the accession of Maximinus Thrax’, ZPE 59: 75-8
Peachin, M. (1988) ‘Gallienus Caesar(?)’, ZPE 74: 219-24 Peachin, M. (1989) ‘Once more a.d. 238’, Athenaeum 77 = n.s. 67: 594-604 Pekary, T. (1961) ‘Autour des Res Gestae Divi Saporis II: le “tribut” aux Perses et les finances de Philippe l’Arabe’, Syria 38: 275-83 Pekary, T. (1962) ‘Bemerkungen zur Chronologie des Jahrzehnts 250-260 n. Chr.’, Historia 11: 123-8
Perowne, S. (1971) ‘The emperor Aurelian’, History Today 21: 383-90 Petrikovits, H. von (1971) ‘Fortifications in the north-western Roman empire from the third to the fifth centuries A.D.\JRS 61:178-218 Pflaum, H.-G. (1948) Le marbre de Thorigny (Bibliothèque de l’Ecole des hautes études IVe section, Sciences historiques et philologiques 292). Paris Pflaum, H.-G. (1950) Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain. Paris Pflaum, H.-G. (1957) propos de la date de la création de la province de Numidie’, Libyca 5: 61-75
Pflaum, H.-G. (1976) ‘Zur Reform des Kaisers Gallienus’, Historia 25:109-17 Pierce, P. (1989) ‘The arch of Constantine: propaganda and ideology in late Roman art’, Art History 12: 387-418
Pietri, C. (1983) ‘Constantin en 324: propagande et théologie impériales d’après les documents de la Vita Constantini’, in Crise et redressement dans les provinces européennes de TEmpire (milieu du HT—milieu du TV siècle ap. J.-C.), Actes du colloque de Strasbourg (décembre 1981) (Contributions et travaux de l’Institut d’histoire romaine 3). Strasburg Piganiol, A. (1972) L Empire chrétien, 2nd edn. Paris Pink, K. (1935) ‘Antioch or Viminacium?’, 7VC5 15: 94-113
Pink, K. (1949) ‘Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/i Probus’, NZ 73: 13-74
Часть первая... (главы 1—4)
977
Pink, К. (1955) ‘Die Medallionprägung unter Kaiser Probus’, NZ 76: 16-25 Pink, K. (1963) ‘Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/2 Carus und Söhne’, NZ 80: 5-68
Piso, I. (1982) ‘Maximinus Thrax und die Provinz Dazien’, ZPE 49: 225-38 Platnauer, M. (1918) The Life and Reign of the Emperor Lucius Septimius Severus. Oxford (repr. 1965)
Pohlsander, H. A. (1980) ‘Philip the Arab and Christianity’, Historia 29: 463-73 Pohlsander, H. A. (1982) ‘Did Decius kill the Philippi?’, Historia 31: 214-22 Pohlsander, H. A. (1986) ‘The religious policy of Decius’, ANRW 11.16.3:1826-42 Polverini, L. (1975) ‘Da Aureliano a Diocleziano’, ANRW 11.2: 1013-35 Pomeroy, S. B. (1969) ‘The revolt of Saturninus’, Schweizer Münzblätter 19: 54-6 Pond, E. A. (1970) The Inscriptional Evidence for the Illyrian Emperors: Claudius Gothicus through Carinus, 268—284 a.d. University of Ann Arbor PhD diss. Potter, D. S. (1996) ‘Palmyra and Rome: Odaenathus’ titulature and the use of imperium maius\ ZPE 113: 271-85
Préaux, C. (1952) ‘Trébonien Galle et Hostilianus’, Aegyptus 32: 152-7 Price, M. J. (1973) ‘The lost year: Greek light on a problem of Roman chronology’, NC7 13: 75-86
Prickartz, C. (1995) ‘Philippe l’Arabe civilis princeps (244-249)’, АС 64: 129-53 Rappaport, В. (1899) Die Einfälle der Goten in das Römischen Reich bis auf Constantin. Leipzig
Rathbone, D. (1986) ‘The dates of the recognition in Egypt of the emperors from Caracalla to Diocletianus’, ZPE 62: 101-31 Rathbone, D. W. (1996) ‘Monetisation, not price-inflation, in third-century ad Egypt?’, in King and Wigg, Coin Finds 321-39 Rea, J. R. (1972) ‘O. Leid. 144 and the chronology of A.D. 238’, ZPE 9: 1-19 Rea, J. R. (1977) ‘The date clause of P. Оху. XIV 1646.32-4’, ZPE 26: 227-9 Rea, J. R. (1984a) ‘3608-3610: date-clauses of A.D. 250 and 251’, The Oxyrhynchus Papyri, vol. 51 (London) 19-21
Rea, J. R. (1984b) ‘Valerian Caesar in the papyri’, Atti del XVII congresso inter- nazionale dipapirologia III (Naples) 1125-33 Rea, J. R. (1989) ‘Gordian III or Gordian I?’, ZPE 76: 103-6 Rea, J. R., Salomans, R. P. and Worp, K. A. (1985) ‘A ration-warrant for an adiutor memoriae\ YCS 28: 101-13
Rebuffat, R. (1992) ‘Maximian en Afrique’, Klio 74: 371—9
Reece, R. (1980) ‘The third century; crisis or change?’, in King and Henig, Roman West 27-38
Rees, R. (1993) ‘Images and image: a re-examination of tetrarchic iconography’, G&R 40: 180-200
Regibus, L. de (1945) La crisi del III secolo dalla morte di Severo Alessandro allävvento di Valeriano (235-253). Genoa
Rémondon, R. (1970) La crise de TEmpire romain de Marc Aurèle à Anastase (Nouvelle Clio 11). Paris
Rey-Coquais, J.-P. (1978) ‘Syrie romaine, de Pompée à Dioclétien’, JRS 68: 44-73 Ridley, R. T. (ed. and trans.) (1982) Zosimus: New History (Byzantina Australiensia 2). Sydney
978
Библиография
Robert, L. (1948) ‘Épitaphe de provenance inconnue faisant mention de barbares’, Hellenica 6: 117-22
Rohden, P. von (1894) ‘Aemilius 24’ (Aemilian), RE 1: 545-6 Rollins, A. M. (1991) Rome in the Fourth Century AD: An Annotated Bibliography with Historical Overview. Jefferson, NC
Rougé, J. (1989) ‘L’abdication de Dioclétien et la proclamation des Césars: degré de fiabilité du récit de Lactance’, in M. Christol étal, (eds.), Institutions, société et vie politique dans VEmpire romain au IVe siècle ap. J.-C. (CEFR 159) (Rome) 76-89
Rousselle, A. (1976) ‘La chronologie de Maximien Hercule et le mythe de la tétrarchie’, DHA 2: 445-66
Rubin, Z. (1975a) ‘Further to the dating of the Constitutio Antoniniana, Latomus 34:430-6
Rubin, Z. (1975b) ‘Dio, Herodian, and Severus’ second Parthian war’, Chiron 5: 419-41
Rubin, Z. (1976) ‘The Felicitas and the Concordia of the Severan House’, Scripta Classica Israelica 3:153-72
Rubin, Z. (1980) Civil War Propaganda and Historiography (Collection Latomus 173). Brussels
Rubin, Z. (1982) ‘The church of the Holy Sepulchre and the conflict between the sees of Caesarea and Jerusalem’, The Jerusalem Cathedra 2: 79-105 Ste Croix, G. E. M. de (1954) Aspects of the Great Persecution’, HThR 47: 75- 109
Ste Croix, G. E. M. de (1981) The Class Struggle in the Ancient Greek World. London Salamon, M. (1971) ‘The chronology of Gothic incursions into Asia Minor in the third century AD’, Eos 59:109-39
Salisbury, F. S. and Mattingly, H. (1924) ‘The reign of Trajan Decius’, JRS 14: 1-23
Salway, P. (1981) Roman Britain (The Oxford History of England ia). Oxford Sartre, M. (1984) ‘Le dies imperii de Gordien III: une inscription inédite de Syrie’, Syria 61: 49-61
Sasel, J. (1961) ‘Bellum serdicense’, Situla 4: 3-30
Sasel, J. (1984) ‘Ein zweiter Numerianus in der Familie des Kaisers Carus’, Epi- graphica 46: 248-52
Sasel Kos, M. (1986) Zgodovinkskapodobaprostora medAkvilejo, Jadranom in Sirmi- jem pri Kasiju Dionu in Herodijanu / A Historical Outline of the Region between Aquileia, the Adriatic, and Sirmium in Cassius Dio and Herodian. Ljubljana Saunders, R. T. (1991) A Biography of the Emperor Aurelian (a.d. 270—275). University of Cincinnati PhD diss.
Saunders, R. T (1992a) Aurelian’s TWO Iuthungian Wars’, Historia 41: 311-27 Saunders, R. T (1992b) ‘Who murdered Gallienus?’, Antichthon 26: 80-94 Scarborough, J. (1972-3) Aurelian, questions and problems’, Classical Journal 68: 334~45
Scardigli, B. (1976) ‘Die gotisch-römischen Beziehungen im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. in Forschungsbericht 1950-1970.1. Das 3. Jahrhundert’, ANRW 11.5.1:
200-85
Часть первая... (главы 1—4)
979
Schlumberger, D. (1942-5) ‘L’inscription d’Hérodien: remarques sur l’histoire des princes de Palmyre’, BEO 9: 35—50
Schönberger, H. (1969) ‘The Roman fronder in Germany: an archaeological survey’,/ÄS 59: 144-97
Schumacher, L. (1982) Römische Kaiser in Mainz im Zeitalter des Principats (27 v. Chr-284 n. Chr.). Bochum
Schwartz, J. (1970) ‘L’empereur Probus et l’Egypte’, CE 45: 381-6 Schwartz, J. (1977) ‘Chronologie du IIIe s. p. C.’, ZPE 24: 167-77 Seston, W. (1980) Scripta Varia: Mélanges d’histoire romaine, de droity d’épigraphie et d’histoire du christianisme (CEFR 43). Paris Seyrig, H. (1950) ‘Palmyra and the east’,//?S 40: 1-7
Sherwin-White, A. N. (1973) ‘The Tabula of Banasa and the Constitutio Antonini- ana\JRS 63: 86-98
Shiel, N. (1977) The Episode of Carausius and Allectus (BAR 40). Oxford Siena, E. (1955) ‘Le guerre germaniche di Massimino il Trace’, RFIC 33: 276-85 Sijpesteijn, P. J. (1984) ‘More remarks on some imperial titles in the papyri’, ZPE 54: 65-82
Sijpesteijn, P. J. (1987) ‘Imperator Caesar Maximinus and Maximus Caesar’, ZPE 68: 135-38
Silii, P. (1987) Testi Costantiniani nelle fonte letterarie (Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali 1/3). Milan Simon, H.-G. (1980) ‘Die Reform der Reiterei unter Kaiser Gallien’, in W. Eck, H. Galsterer and H. Wolff (eds.), Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift E Vittinghoff (Kölner historische Abhandlungen 28) (Cologne and Vienna) 435-52
Smith, R. E. (1972a) ‘The army reforms of Septimius Severus’, Historia 21: 481-99 Smith, R. E. (1972b) ‘The regnal and tribunician dates of Maximianus Herculius’, Latomus 31: 1059-71
Smith, R. E. (1979) ‘Dux, praepositus’, ZPE 36: 263-78
Smith, R. R. R. (1997) ‘The public image of Licinius I: portrait sculpture and imperial ideology in the early fourth century’. JRS 87: 170-202 Soden, H. von (1950) Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus, 2nd edn (rev. H. von Campenhausen). Berlin Sordi, M. (1987) The Christians and the Roman Empire. London Sotgiu, G. (1975a) ‘Treboniano Gallo, Ostiliano, Volusiano, Emiliano (1960-1971)’, ANRW и.2: 798—802
Sotgiu, G. (1975b) ‘Aureliano (1960-1972)’, ANRW 11.2: 1039-61
Speidel, M. A. (1992) ‘Roman army pay scales’, JRS 82: 87-106
Srejovic, D. (1994) ‘The representations of Tetrarchs in Romuliana’, AT 2: 141-52
Srejovic, D. (ed.) (1995) The Age of the Tetrarchs. Belgrade
Srejovic, D. and Vasic, C. (1994) ‘Emperor Galerius’s buildings in Romuliana (Gamzigrad, eastern Serbia)’, AT 2: 123-41 Stein, A. (1899) ‘Claudius 361’ (Tacitus), RE 111.2: 2872-81 Stein, A. (1912) ‘Fulvius 82’ (Macrianus I), RE vii.i: 259-62 Stein, A. (1923) ‘Saturninus 6’, RE нал: 213-15
Stein, A. (1940) Die Legaten von Moesien / Moesia helytartôi (Dissertationes Pannonicae i.ii). Budapest
980
Библиография
Stein, E. (1919) ‘Iulius 386’ (Philip I), ‘Iulius 387’ (Philip II), RE x.i: 755-70, 770-2 Stern, H. (1954) ‘Remarks on the “adoratio” under Diocletian’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 17:184—9 Stevenson, J. (1987) A New Eusebius, 2nd edn rev. W. H. C. Frend. London Stolte, В. H. (1971) ‘The Roman emperor Valerian and Sapor I, king of Persia’, RSA 1: 157-62
Stoneman, R. (1992) Palmyra and its Empire. Zenobia s Revolt Against Rome. Ann Arbor, MI
Straub, J. (1974) ‘Iuppiter Consul’, НАС1 1971: 165-84
Strobel, К. (1993) Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert: Modell eine historischen Krise? (Historia Einzelschriften 75). Stuttgart Stylow, A. U. (1974) ‘Ein neuer Meilenstein des Maximinus Thrax in Sardinien und die Straße Karales-Olbia’, Chiron 4: 515-32 Swain, S. (1993) ‘Greek into Palmyrene: Odaenathus as Corrector Totius Orientis?’, ZPE 93: 157-64
Syme, R. (1968) Ammianus and the Historia Augusta. Oxford Syme, R. (1973) ‘Danubian and Balkan emperors’, Historia 22: 310-16 (repr. in Roman Papers III (Oxford, 1984) 892-8)
Syme, R. (1974) ‘The ancestry of Constantine’, HAC1 1971: 237-53 (repr. in Syme (1983) 63-79)
Syme, R. (1978) ‘Propaganda in the Historia Augusta , Latomus 37: 173-92 (repr. in Syme (1983) 109-30)
Syme, R. (1983) Historia Augusta Papers. Oxford Talbert, R. J. A. (1984) The Roman Imperial Senate. Princeton Teixidor, J. (1990) ‘Deux documents syriaques du IIIe siècle après J.-C., provenant du Moyen Euphrate’, CRAI1990: 144-66 Teixidor, J. (1994) La Tétrarchie (293-312): Histoire et archéologie, fre partie {AT 2) Teixidor, J. (1995) La Tétrarchie (293-312): Histoire et archéologie, 2e partie {AT3) Thomas, G. S. R. (1973) ‘L’abdication de Dioclétien’, Byzantion 43: 229-47 Thomas, J. D. (1976) ‘The date of the revolt of L. Domitius Domitianus’, ZPE 22: 253-79
Thomas, J. D. (1977) ‘A family dispute from Karanis and the revolt of Domitius Domitianus’, ZPE 24: 233-40
Thompson, E. A. (1952) ‘Social revolts in late Roman Gaul and Spain’, P&P 2: 11-23
Thompson, H. A. (1959) ‘Athenian twilight: a.d. 267-600’, JRS 49: 61-72 Todd, M. (1978) The Walls of Rome. London
Tomlin, R. (1998) ‘Christianity and the late Roman army’, in Lieu and Montserrat (1998) 21-51
Townsend, P. W. (1934) ‘The administration of Gordian III’, YCS 4: 59-132 Townsend, P. W. (1955) ‘The revolution of a.d. 238: the leaders and their aims’, YCS 14: 49-105
Trout, D. E. (1989) ‘Victoria Redux and the first year of the reign of Philip the Arab’, Chiron 19: 221-33
Tudor, D. (1965) ‘La fortificazione delle città romane della Dacia nel sec. Ill dell’e. n.’, Historia 14: 368-80
Часть первая... (главы 1—4)
981
Tudor, D. (1973) ‘Preuves archéologiques attestant la continuité de la domination romaine au nord du Danube après l’abandon de la Dacie sous Aurélien (IIIe— Ve s.)’, Dacoromania 1: 149-61
Tudor, D. (1974) ‘Nouvelles recherches archéologiques sur le limes Alutanus et le limes Transalutanus\ in Actes du IX congrès international d'études sur les frontières romaines. (Bucharest, Cologne and Vienna) 235—46 Van Sickle, С. E. (1932) ‘Conservatism and philosophical influence in the reign of Diocletian’, CPh 27: 51-8
Van Sickle, С. E. (1938) ‘Diocletian and the decline of the Roman municipalities’, JRS 28: 9-13
Vanderspoel, J. (1999) ‘Correspondence and correspondents of Julius Julianus’, Byzantion 69: 396-478 Vitucci, G. (1952) L'imperatore Probo. Rome Vogt, J. (1924) Die Alexandrinischen Münzen, vol. 1. Stuttgart Volkmann, H. (1968) ‘Septimius 48’ (Odenathus I, II), RE Supp. xi: 1242-46 Vulpe, R. (1973) ‘Considérations historiques autour de l’évacuation de la Dacie par Aurélien’, Dacoromania 1: 41-51
Wagner, J. (1983) ‘Provincia Osrhoenae: new archaeological finds illustrating the military organization under the Severan dynasty’, in Mitchell, AFRBA 103-30
Walker, P. (1990) Holy City.\ Holy Places? Christian Attitudes to the Holy Land in the Fourth Century. Oxford
Walser, G. (1973) ‘Die Beurteilung des Septimius Severus in der älteren und neueren Forschung’, Museum Helveticum 30: 104—16 Walser, G. (1981) ‘Bemerkungen zu den gallisch-germanischen Meilensteinen’, ZPE 43: 385-402
Walser, G. and Pekâry, T. (1962) Die Krise des römischen Reiches: Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193—284 n. Chr.) von 1939 bis 1939. Berlin
Ward-Perkins, J. B. (1951) ‘The arch of Septimius Severus at Leptis Magna’, Archaeology 4: 226-31
Weiser, W (1983) ‘Die Münzreform des Aurelian’, ZPE 53: 279-95 Wells, C. (1992) The Roman Empire, 2nd edn. London
Wilkes, J. J. (1993) Diocletian's Palace, Split: Residence of a Retired Roman Emperor (Occasional Publications (Ian Sanders Memorial Fund) 1), 2nd edn. Sheffield (ist edn 1986)
Williams, R. (2001) Arius: Heresy and Tradition, 2nd edn. London (ist edn 1987) Williams, W. (1974) ‘Caracalla and rhetoricians: a note on the cognitio de Goharie- nis\ Latomus 33: 663-7
Williams, W. (1979) ‘Caracalla and the authorship of imperial edicts and epistles’, Latomus 38: 67-89
Winter, E. (1988) Die sasanidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. -ein Beitrag zum Verständnis der außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten (Europäische Hochschulschriften 111.350). Frankfurt- am-Main
Wistrand, E. (1964) ‘A note on the Geminus Natalis of Emperor Maximian’, Eranos 62: 131-45 (repr. in Opera Selecta (Lund, 1972) 427-41)
982
Библиография
Wittig, К. (1932) ‘Messius 9’ (Trajan Decius), RE xv: 1244-84 Wolff, H. (1990) ‘Dacien’, in W. Fischer, J. A. van Houtte, H. Kellenbenz, I. Mieck and F. Vittinghoff (eds.), Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 1. Stuttgart: 616-30 Woods, D. (1992) ‘Two notes on the Great Persecution’, JThS n.s. 43: 128-34 Worp, K. A. (1985) ‘Remarks on the dates of some documents from early Byzantine Egypt’, ZPE 61: 97-100
Worp, K. A. (1989) ‘Kaisertitulaturen in papyri aus dem Zeitalter Diokletians’, Ту che 4: 229-32
York, M. (1972) ‘The image of Philip the Arab’, Historia 21: 320-32 Zahariade, M. (1997) ‘The Halmyris Tetrarchic inscription’, ZPE 119: 228-34 Zuckerman, C. (1994) ‘Les campagnes des tétrarques, 296-298: notes de chronologie’, AT 2: 65-70
Часть вторая
Государственная власть и административная система (главы 5—7)
Alston, R. (1994) Roman military pay from Caesar to Diocletian’, JRS 84: 113-23 Amarelli, F. (1983) Consilia Principum (Pubblicazioni della Facoltà giuridica deU’Università di Napoli 197). Naples
Amelotti, M. (i960) Per Tinterpretazione della legislazioneprivatistica di Diocleziano (Fondazione Guglielmo Castelli 26). Milan Arce, J. (1994) ‘La transformaciôn administrativa de Italia: Diocleciano’, in Lltalie d’Auguste à Dioclétien 399-409
Archi, G. G. (ed.) (1976) Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III—V sec. d. C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Circolo toscano di diritto romano e storia del diritto, Pubblicazione 4). Milan Astolfi, R. (1983) I * Libri Tres luris Civilis’ di Sabino (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova 95). Padua Atkinson, K. M. T (1970) ‘The education of the lawyer in Ancient Rome’, South African Law Journal 87: 31-59
Ausbüttel, F. (1988) Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien (Europäische Hochschulschriften 111.343). Frankfurt-am-Main, Bern, New York and Paris
Ausbüttel, F. (1998) Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Darmstadt Avery, W. T (1940) ‘The Adoratio Purpurae and the importance of the imperial purple in the fourth century of the Christian era’, MAAR 17: 66-80 Bauman, R. A. (1989) Lawyers and Politics in the Early Roman Empire: A Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian (Münch. Beitr. 82). Munich
Bell III, M. (1994) ‘An imperial flour mill on the Janiculum’, in Le ravitaillement 73-88
Часть вторая... (главы 5—7)
983
Berchem, D. van (1937) ‘L’annone militaire dans l’Empire romain au IIIe siècle’, Mémoires de la Société des Antiquaires de France 80: 117-201 Berchem, D. van (1977) ‘L’annone militaire est-elle un mythe?’, in Armées et fiscalité 331-36
Bertrand-Dagenbach, C. (1990) Alexandre Sévère et THistoire Auguste (Collection Latomus 208). Bruxelles
Beseler, G. von (1938) ‘Recuperationes iuris antiqui’, BIDR 45: 167-90 Birley, A. R. (1969) ‘The coups d’état of the year 193’, BJ 169: 247-80 Birley, A. R. (1997) Hadrian: The Restless Emperor. London Birley, E. B. (1966) Alaeznà cohortes milliariae\ in Corolla Memoriae Erich Swoboda Dedicata (Römische Forschungen in Niederösterreich 5). Graz: 54-67 (repr. in E. B. Birley (1988) 349-64)
Birley, E. B. (1969) ‘Septimius Severus and the Roman army’, Epigraphische Studien 8: 63-82 (repr. in E. B. Birley (1988) 21-40)
Birley, E. B. (1988) The Roman Army: Papers 1929—1986 (Mavors Roman Army Researches 4). Amsterdam
Bishop, M. C. and Coulston, J. C. N. (1993) Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome. London
Bleicken, J. (1978) Prinzipat und Dominât. Gedanken zur Periodisierung der römischen Kaiserzeit (Frankfurter Historische Vorträge 6). Wiesbaden (repr. in Bleicken (1998) 817-42)
Bleicken, J. (1982) Zum Regierungsstil des Römischen Kaisers. Eine Antwort auf Fergus Miliar. Wiesbaden (repr. in Bleicken (1998) 843-75)
Bleicken, J. (1998) Gesammelte Schriften II. Stuttgart
Blois, L. de (1978-9) ‘The reign of the emperor Philip the Arabian’, Talanta 10/11: 11-43
Blois, L. de (1986) ‘The Els BccotÀéa of Ps.-Aris tides’, GRBS 27: 279-88 Boulvert, G. (1970) Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain: Rôle politique et administratif {Biblioteca di Labeo 4). Naples Boulvert, G. (1974) Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain (Annales littéraires de l’Université de Besançon 151; Centre de recherches d’histoire ancienne 9). Paris
Bowersock, G. W. (1971) ‘Report on Arabia Provincia’, ]RS 61: 219-42 Bowersock, G. W. (1988) ‘The dissolution of the Roman empire’, in N. Yoffee and
G. L. Cowgill (eds.) The Collapse of Ancient States and Civilizations (Tucson) 1:65-75 (repr. in Bowersock (2000) 175-85)
Bowersock, G. W. (1996) ‘The vanishing paradigm of the fall of Rome’, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 49/8: 29-43 (repr. in Bowersock (2000) 187-97)
Bowersock, G. W. (2000) Selected Papers on Late Antiquity. Bari Bowman, A. K. (1976) ‘Papyri and Roman imperial history, 1960-1975’, JRS 66: 153-73
Bowman, A. K. (1978) ‘The military occupation of Egypt in the reign of Diocletian’, BASP 15: 25-38
Bowman, A. K. (1996) ‘Egypt’, in CAH X1:6y6-y02
Brunt, P. A. (1950) ‘Pay and superannuation in the Roman army’, PBSR 18: 50-75
984
Библиография
Brunt, P. A. (1966) ‘Procuratorial jurisdiction’, Latomus 25: 461-87 (repr. in Brunt, RIT 163-87)
Brunt, R A. (1975) ‘The administrators of Roman Egypt’, J RS 65: 124-47 (repr. in Brunt, RIT 215-54)
Brunt, P. A. (1983) ‘Princeps and Equités', JRS 73: 42-75
Bruun, C. (1989) ‘The Roman Minucia business: ideological concepts, grain distribution and Severan policy’, Opuscula Instituti Romani Finlandiae 4: 107-21
Bruun, C. (1991) The Water Supply of Ancient Rome: A Study of Roman Imperial Administration. Helsinki
Burton, G. P. (1993) ‘Provincial procurators and the public provinces’, Chiron 23: 13-28
Buti, I. (1982) ‘La cognitio extra ordinem: da Augusto a Diocleziano’, ANRW 11.14:
.29-59
Callies, H. (1964) ‘Die fremden Truppen im römischen Heer des Principats und die sogenannten nationalen Numeri,’ BRGK 45: 130-227 Cameron, Averil (1998) ‘The perception of crisis’, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo 45) vol. 1 (Spoleto) 9-31 Camodeca, G. (1976) ‘Nota critica suile regiones iuridicorum in Italia’, Labeo гг: 86-95.
Campbell, J. В. (1987) ‘Teach yourself how to be a general’, JRS 77: 13-29 Campbell, J. B. (1994) The Roman Army 31 b.c.-a.d. 337: A Sourcebook. London and New York
Carrié, J.-M. (1977) ‘Le rôle économique de l’armée dans l’Egypte romaine’, in Armées et fiscalité 373-91
Carrié, J.-M. (1993a) ‘Eserciti e strategie’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 83-154 Carrié, J.-M. (1993b) ‘Le riforme economiche da Aureliano a Costantino’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 283-322
Carrié, J.-M. (1993c) ‘Observations sur la fiscalité du IVe siècle pour servir à l’histoire monétaire’, in Camilli and Sorda, L ’ 'inflazione’ 115-54 Carrié, J.-M. (1998a) ‘Le gouverneur romain à l’époque tardive: les directions possibles de l’enquête’, AT 6: 17-30
Carrié, J.-M. (1998b) ‘Séparation ou cumul? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d’Egypte de Gallien à la conquête arabe’, AT 6: 105-21 Carrié, J.-M. (1999) ‘Introduction’ [to a series of contributions on ‘La crise du IIIe siècle’], Cahiers Glotz 10: 255-60
Cecconi, G. A. (1994a) Governo imperiale ed élites dirigenti nelTItalia tardoan- tica: Problemi di storia politico-amministrativa, 270—476 d.C. (Biblioteca di Athenaeum 24). Como
Cecconi, G. A. (1994b) ‘Sulla denominazione dei distretti di tipo provinciale nell’Italia tardoantica’, Athenaeum 82: 177-84 Cecconi, G. A. (1998) ‘I governatori delle province italiche’, AT 6: 149-79 Cenderelli, A. (1965) Ricerchesul ‘CodexHermogenianus’(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Milano, Studi di diritto romano ser. 2 n. 4). Milan
Часть вторая... (главы 5—7)
985
Chastagnol, А. (1968) ‘Les préfets du prétoire de Constantin’, REA 70: 321-52 (repr. in Chastagnol (1987) 179—210)
Chastagnol, A. (1984) ‘Les fêtes décennales de Septime-Sévère’, BSNAF: 91-107 Chastagnol, A. (1987) L’Italie et l’Afrique au Bas-Empire: Etudes administratives et prosopographiques. Scripta varia. Lille
Chastagnol, A. (1993) ‘L’accentrarsi del sistema: la tetrarchia e Costantino’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 193-222
Chastagnol, A. (1994) ‘L’évolution politique du règne de Dioclétien (284-305)’, AT 2: 23-31
Cheesman, C. L. (1914) The Auxilia of the Roman Imperial Army. Oxford (repr. Hildesheim, 1971)
Chic Garcia, G. (1988) Epigrafia anfôrica de la Bética, 11. Seville Christol, M. (1977) ‘Effort de guerre et ateliers monétaires de la périphérie au IIIe s. ap. J.-C.: l’atelier de Cologne sous Valérien et Gallien’, in Armées etfiscalité
. 235-77
Christol, M. (1982) ‘Les réformes de Gallien et la carrière sénatoriale’, in Colloquio intemazionale AIEGL su Epigrafia e ordine senatorio i (Tituli 4) (Rome) 143-66 Christol, M. (1986) Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales dans la 2e moitié du IIF s. ap. J.-C. (Etudes prosopographiques 6). Paris Christol, M. (1997a) L’Empire romain du IIIe siècle: Histoire politique 192—325 après J.-C. Paris
Christol, M. (1997b) ‘Les classes dirigeantes et le pouvoir dans l’État, de Septime Sévère à Constantin’, Pallas: 57-77
Christol, M. (1999) Te métier d’empereur et ses représentations à la fin du IIIe et au début du IVe siècle’, Cahiers Glotz 10: 355-68 Christol, M. and Drew-Bear, T. (1998) ‘Le prince et ses représentants aux limites de l’Asie et de la Galatie: un nouveau proconsul d’Asie sous Septime Sévère’, Cahiers Glotz 9: 141—64
Christol, M. and Loriot, X. (1986) ‘Le Pontus et ses gouverneurs dans le second tiers du IIIe siècle’, in Recherches épigraphiques: Documents relatifs à l’histoire des institutions et de l’administration de l’Empire romain (Mémoires Centre Jean Palerne 7) (Saint-Étienne) 13-40 Cimma, M. R. (1981) Ricerche sulle società di publicani. Milan Coarelli, E (1987) ‘La situazione edilizia di Roma sotto Alessandro Severo’, in L ’Urbs: Espace urbain et histoire: 429-56
Conybeare, E C. (1912) Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana: The Epistles of Apollonius and the Treatise of Eusebius (Loeb Classical Library), 2 vols. Cambridge, MA and London
Cope, L. H. (1969) ‘The nadir of the imperial antoninianus in the reign of Claudius II Gothicus, A.D. 268-270’, NC7 9:145-61 Corbier, M. (1973) ‘Les circonscriptions judiciaires de l’Italie de Marc-Aurèle à Aurélien’, MEFRA 85: 609-90
Corbier, M. (1974) L’ aerarium Saturni’et T 'aerarium militare’. Administration et prosopographie sénatoriale (CEFR 24). Rome Corbier, M. (1977) ‘L’aerarium militare\ in Armées et fiscalité 197—234 Corbier, M. (1978) ‘Dévaluations et fiscalité (161-235)’, in Les Dévaluations 1.273- 309
986
Библиография
Coriat, J.-P. (1990) ‘Technique législative et système de gouvernement à la fin du principat: la romanité de l’Etat moderne’, Cahiers Glotz 1: 221-38 Coriat, J.-P. (1997) Le prince législateur: La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat (BEFAR 294). Rome
Cosme, P. (1998) L ’ état romain entre éclatement et continuité: L ’ empire romain de 192 à 32$. Paris
Cracco Ruggini, L. (1985) ‘L’annona di Roma in età imperiale’, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio (Modena) 224-36 Crifô, G. (1976) ‘Ulpiano: Esperienze e responsabilità del giurista’, ANEW и.15: 708-89
Crook, J. A. (1955) Consilium Principis: Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian. Cambridge
Crook, J. A. (1996a) ‘Political History, 30 B.C. to A.D. 14’, in САН X2.70-112 Crook, J. A. (1996b) ‘Augustus: power, authority, achievement’, in CAHY? .113-^6 Crump, G. A. (1973) ‘Ammianus and the Late Roman army’, Historia гг: 91-103 Daguet-Gagey, A. (1997) Les opera publica à Rome (180-30$) ap. J.-C: Construction et administration (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité 156). Paris
Daguet-Gagey, A. (2000) Septime Sévère: Rome, lAfrique et l’Orient. Paris DeLaine, J. (1997) The Baths of Caracalla: A Study in the Design, Construction, and Economics of Large-Scale Building Projects in Imperial Rome (JRA Suppl. 25). Portsmouth, RI
Delmaire, R. (1995) Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. I: Les institutions civiles palatines. Paris
Diosdi, G. (1970) ‘The importance of P.Oxy. 2013 and PSI 1182 for the history of classical Roman legal literature’, in D. H. Samuel (ed.), Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (American Studies in Papyrology 7) (Toronto) 113-20
Dise, R. L. (1991) Cultural Change and Imperial Administration: the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. New York Domaszewski, A. von (1967) Die Rangordnung des römischen Heeres, 2nd edn. Cologne
Drexhage, H.-J. (1991) Preise, Miete/Pachten, Kosten und Löhne im römischen Ägypten bis zum Regierungsantritt Diokletians (Vorarbeiten zu einer Wirtschaftsgeschichte des römischen Ägypten 1). St Katharinen Duncan-Jones, R. P (1978) ‘Pay and numbers in Diocletian’s army’, Chiron 8: 541-60 (rev. version in Duncan-Jones, Structure 105-17)
Durry, M. (1938) Les cohortes prétoriennes (BEFAR 146). Paris Durry, M. (1940) ‘Vocabulaire militaire: Praepositus’, in Mélanges de philologie, de littérature et d’histoire anciennes offerts à A. Ernout (Paris) 129-33 Eadie, J. W. (1967) ‘The development of Roman mailed cavalry’, J RS 57: 161-73 Eck, W (1979) Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit. Munich Eck, W. (1986) ‘Augustus’ administrative Reformen: Pragmatismus oder systematisches Planen?’, Acta classica 29: 105—20 (repr. in Eck (1995) 83—102)
Часть вторая... (главы 5—7)
987
Eck, W. (1995, 1998) Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit: Ausgewählte und erweiterte Beiträge (Arbeiten zur römischen Epigraphik und Altertumskunde 1 and 3), vols. 1-2. Basel and Berlin Eck, W. (1999a) Lltalia nelPimpero romano: Stato e amministrazione in epoca imperiale, Bari (= rev. and updated Italian transi, of Eck (1979) )
Eck, W. (ed.) (1999b) Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 42). Munich
Eck, W. (2000a) ‘The emperor and his advisers’, in САН XI2: 195-213 (Germ, transi, in Eck (1998) 3-29)
Eck, W. (2000b) ‘Provincial administration and finance’, in САН XI2: 266-92 (Germ, transi, in Eck (1998) 107-45)
Eck, W., Caballos, A. and Fernandez, F. (1996) Das senatus consultum de Cn. Pisone patre (Vestigia 48). Munich (parallel Spanish edn: Caballos, A., Eck, W, Fernandez, E, EIsenadoconsulto de Gneo Pisônpadre (Ediciones especiales 18). Seville, 1996)
Eck, W. and Wolff, H. (eds.) (1986) Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militardiplome als historische Quelle (Passauer historische Forschungen 2). Cologne and Vienna
Eckardt, B. (1978) Iavoleni epistulae (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen n.s. 1). Berlin
Ensslin, W. (1939) ‘The reforms of Diocletian’, in САН XII1: 383-408 Ensslin, W. (1954) ‘Praefectus’, RE XXII.2: 1257-1347
Fears, J. R. (1977) Princeps a diis electus; The Divine Election of the Emperor as a Political Concept at Rome (Papers and Monographs of the American Academy in Rome 26). Rome
Frezza, P. (1968) ‘La cultura di Ulpiano’, SDHI 34: 363-75 Frier, B. W. (1996) ‘Early classical private law’, in САН X2: 959-78 Garnsey, P. and Humfress, C. (2001) The Evolution of the Late Antique World. Cambridge
Geraci, G. (1983) Genesi della provincia romana dEgitto (Studi di storia antica 9). Bologna
Giangrieco Pessi, M. V. (1998) ‘In merito alla “privatizzazione” del patrimonium , AARC xi i : 367-76
Giardina, A. (1993) ‘La formazione dell’Italia provinciale’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 51-68
Giardina, A. (1997) L Italia romana: Storie di un yidentità incompiuta. Rome and Bari
Giardina, A. (1999) ‘Esplosione di tardoantico’, Studi storici 40: 157-80 Giuffrè, V. (1976) ‘Papiniano: fra tradizione e innovazione’, ANRW 11.15: 632-66 Goetz, G. (1892) Hermaneumata Pseudodositheana: Corpus Glossariorum Latinorum, vol. 3. Leipzig
Grelle, F. (1991) ‘I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini’, in Pani (1991) 249-65
Grelle, F. (1996) ‘Antiqua forma rei publicae revocata: il principe e 1’amministrazione dell’impero nell’analisi di Velleio Patercolo’, in Milazzo (1996) 323-41
988
Библиография
Grosso, F. (1964) La lotta politica al tempo di Commodo. Turin Gualandi, G. (1963) Legislazione Imperiale e Giurisprudenza (Università di Roma. Pubblicazioni dell’Istituto di diritto romano e dei diritti dell’oriente mediterraneo 38), 2 vols. Milan
Guarino, A. (1980) ‘Gli aspetti giuridici del principato’, ANRW 11.13: 3-60 Guidobaldi, F. (1999) ‘Le domus tardoantiche di Roma corne “sensori” delle trasfor- mazioni culturali e sociali’, in Harris (1999) 53-68 Gutsfeld, A. (1998) ‘Der Prätorianerpräfekt und der kaiserliche Hof im 4. Jahrhundert n.Chr.’, in Winterling (1998) 75-102 Haenel, G. (1848) Lex romana Visigothorum (repr. Aalen, 1962)
Haensch, R. (1997) Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit (Kölner Forschungen 7). Mainz-am-Rhein Harries, J. (1999) Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge Harris, W V. (ed.) (1999) The Transformations of ‘Vrhs Roma ’ in Late Antiquity (JRA Suppl. 33). Portsmouth, RI
Hartmann, F. (1982) Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Soldatenkaiserzeit (3 Jahrhundert n. Chr.) (Europäische Hochschulschriften hi.149). Frankfurt-Bern
Hendy, M. F. (1985) Studies in the Byzantine Monetary Economy. Cambridge Herz, P. (1988a) Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung (Historia Einzelschriften 55). Stuttgart Herz, P. (1988b) ‘Der praefectus annonae und die Wirtschaft der westlichen Provinzen, Ktema 13: 69-85
Hoffmann, D. (1969) Das spätrömischen Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum (Epigraphische Studien 7/2). Düsseldorf Holder, P. A. (1980) Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan (BAR Int. Ser. 70). Oxford
Honoré, T. (=A. M.) (1962a) ‘The Severan lawyers: a preliminary survey’, SDHI 28: 162-232
Honoré, T. (1962b) Gaius. Oxford
Hopkins, M. K. (1978) ‘Rules of evidence’,/^ 68: 178-86 Hopkins, M. K. (1980) ‘Taxes and trade in the Roman empire (200 b.c.-a.d. 400)’, JRS 70: 101-25
Hopkins, M. K. (1995-6) ‘Rome, taxes, rents and trade’, Kodai 6/y: 41-75 Howe, L. L. (1942) The Praetorian Praefect fiom Commodus to Diocletian (a.d. 180—303). Chicago
Isaac, B. (1988) ‘The meaning of the terms limes and limitanei\ JRS 78: 125-47 Jacques, F. (1986) ‘L’ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo’, in Giardina, Società romana 1: 81-225, 650-64
Jahn, J. (1983) ‘Der Sold römischen Soldaten im 3 Jh. n. Chr.: Bemerkungen zu ChLA 446, 473 und 495’, ZPE 53: 217-27 Johne, K.-P. (ed.) (1993) Gesellschaft und Wirtschaft des römischen Reiches im 3.
Jahrhundert. Studien zu ausgewählten Problemen. Berlin Johnston, D. (1988) The Roman Law of Trusts. Oxford
Johnston, D. (1989) ‘Justinian’s Digest: the interpretation of interpolation’, Oxford Journal of Legal Studies 9: 149—66
Часть вторая... (главы 5—7)
989
Jones, A. H. М. (1949) ‘The Roman civil service (clerical and subclerical grades)’ JRS 39: 38—55 (repr. in Studies in Roman Government and Law (Oxford, i960) l5l~75)
Jones, A. H. M. (1970) ‘The caste system in the later Roman empire’, Eirene 8: 79—96 (repr. in Jones, Roman Economy 396—418)
Jullian, C. (1884) Les transformations politiques de ILtalie sous les empereurs romains, 45 av. J.-С -330 ар. J.-C. Paris
Kaser, M. (1972) Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung (SÖAW 277.5). Vienna
Kelly, C. (1998) ‘Emperors, government and bureaucracy’, in САН XIII: 138-83 Kettenhofen, E. (1979) Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung. Ein Beitrag zum Problem der Orientalisierung (Antiquitas 111.24). Bonn Keyes, C. W. (1915) The Rise of the Equites in the Third Century of the Roman Empire. Princeton
Kolb, F. (1997) ‘Die Gestalt des spätantiken Kaisertums unter besonderer Berücksichtigung der Tetrarchie’, in Paschoud and Szidat (1997) 35-45 Kornemann, E. (1930) Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum. Berlin and Leipzig
Krüger, P. (1912) Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts, 2nd edn. Munich and Leipzig
Kuhoff, W. (2001) Diokletian und die Epoche der Tetrarchie: Das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284—313 n. Chr.). Frankfurt-am- Main, Berlin, Bern, Brussels, Oxford and New York Kunkel, W. (2001) Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen. Cologne (repr. of 2nd edn. Graz, 1967)
Laffi, U. (1965) ‘L’iscrizione di Sepino (CIL, ix 2438) relativa ai contrasti fra le autorità municipali e i conductores delle greggi imperiali con 1’intervento dei prefetti al pretorio’, SCO 14:177-200 (repr. in U. Laffi, Studi di storia romana e di diritto (Storia e letteratura 206) Rome, 2001: 173-205)
Leadbetter, W. (1998) ‘Patrimonium indivisum? The empire of Diocletian and Maximian, 285-289’, Chiron 28: 213-28 Lenel, О. (1889) Palingenesia iuris civilis, 2 vols. Leipzig Lenel, O. (1927) Das Edictum Perpetuum, 3rd edn. Lepizig
Lepelley, C. (1986) ‘Fine dell’ordine equestre: le tappe dell’unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo’, in Giardina, Società romana 1: 227-44, 664-71
Le Roux, P. (1986) ‘Les diplômes militaires et l’évolution de l’armée romaine de Claude à Septime Sévère: auxilia, numeri et nationes’, in Eck and Wolff (1986) 347-74
Letta, C. (1991) ‘La dinastia dei Severi’, in Schiavone, Storia di Roma 11.2: 639-700 Levy, E. (1945) Pauli Sententiae: A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law. New York Liebs, D. (1964) Hermogenians iuris epitomae: Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse3 57). Göttingen Liebs, D. (1976) ‘Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat’, ANRW 11.15: 197-286
990
Библиография
Liebs, D. (1983) ‘Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers’, ZRG 100: 485-509 Liebs, D. (1987) Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (240—640 n. Chr.)
(Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen n.s. 8). Berlin Liebs, D. (1989) ‘Recht und Rechtsliteratur’, in Herzog, HLL 5: 55-73 Liebs, D. (1993) Römische Jurisprudenz in Afrika, mit Studien zu den pseudopaulin- ischen Sentenzen. Berlin
Liebs, D. (1995) ‘Die pseudopaulinischen Sentenzen: Versuch einer neuen Palin- genesie’, ZRG 112: 151-71
Liebs, D. (1996) ‘Die pseudopaulinischen Sentenzen II: Versuch einer neuen Palin- genesie, Ausführung’, ZRG 113: 132-242 Liebs, D. (1997) ‘Jurisprudenz’, in Sallman, HLL 4: 83-217 Liou, B. and Tchernia, A. (1994) ‘L’interprétation des inscriptions sur les amphores Dressei 20’, in Epigrafia della produzione 133-56 Lo Cascio, E. (1971-72 [1975]) ‘Patrimonium, ratio privata, res privata’, AIIS 3: 55-121 (rev. edn in Lo Cascio (2000) 97-149)
Lo Cascio, E. (1984) ‘Dali' antoninianus al “laureato grande”: l’evoluzione mone- taria del III secolo alia luce della nuova documentazione di età dioclezianea, Opus 3: 133-201
Lo Cascio, E. (1986) ‘Teoria e politica monetaria a Roma tra III e IV d.C.’, in Giardina, Società romana 1: 535-57, 779-801 Lo Cascio, E. (1991a) ‘Le tecniche dell’amministrazione’, in Schiavone, Storia di Roma и.2: 119-91 (rev. edn in Lo Cascio (2000) 13-79)
Lo Cascio, E. (1991b): ‘Fra equilibrio e crisi’, in Schiavone, Storia di Roma 11.2:
701-31
Lo Cascio, E. (1993a) ‘Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi ed Aureliano’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 247—82 Lo Cascio, E. (1993b) ‘Prezzo dell’oro e prezzi delle merci’, in Camilli and Sorda, L ' 'inflazione' 155-88
Lo Cascio, E. (1995) ‘Aspetti della politica monetaria nel IV secolo’, in AARC x: 481-502
Lo Cascio, E. (1997) ‘Prezzi in oro e prezzi in unità di conto tra il III e IV sec. d. C.’, in Economie antique 2: 161-82
Lo Cascio, E. (1998) ‘Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel quarto secolo’, in AARC xn: 121-36
Lo Cascio, E. (1999a) ‘Canon frumentarius, suarius, vinarius: stato e privati nell’approwigionamento dell'Vrbs( in Harris (1999) 163-82 Lo Cascio, E. (1999b) ‘Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazioni cittadine nel Principato’, in Eck (1999) 197—211 (rev. edn in Lo Cascio (2000) 205-19)
Lo Cascio, E. (2000) II ‘princeps' e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana. Bari
Lo Cascio, E. (2002) ‘Ancora sugli “Ostia’s services to Rome”: collegi e corporazioni annonarie a Ostia’, in MEFRA 114: 87-109 Loriot, X. and Nony, D. (1997) La crise de l'Empire romain 255-285. Paris Macleod, M. D. (1980) Luciani Opera III (Oxford Classical Texts). Oxford MacMullen, R. (1963) Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Cambridge, MA
Часть вторая... (главы 5—7)
991
MacMullen, R. (1966) Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest, and Alienation in the Empire. Cambridge, MA MacMullen, R. (1969) Constantine. New York
MacMullen, R. (1980) ‘How big was the Roman imperial army?’, Klio 62: 451- 60
Magioncalda, A. (1982) ‘Testimonianze sui prefetti di Mesopotamia (da Severo a Costantino)’, SDHI 48: 167-238
Magioncalda, A. (1991) Lo sviluppo della titolatura imperiale da Augusto a Diocleziano. Turin
Maleus, B. (1969) ‘Notes sur la révolution du système administratif romain au troisième siècle’, OR 7: 213-37
Mann, J. C. (1954) ‘A note on the Numeri, Hermes 82: 501-6 Mann, J. C. (1963) ‘The raising of new legions under the principate’, Hermes 91: 483-9
Mann, J. C. (1975) ‘The frontiers of the principate’, ANRW 11.1: 508-33 Mann, J. C. (1979) ‘Force and the frontiers of the empire’, JRS 69: 175-83 Manthe, U. (1982) Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen n.s. 4). Berlin Marotta, V. (1988) Multa de Iure Sanxit: Aspetti della Politica del Diritto di Antonino Pio (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università dî Firenze 64). Milan
Marotta, V. (1991) Mandata Principum. Turin
Marsden, E. W. (1969) Greek and Roman Artillery: Historical Development. Oxford Martino, F. de (1974) Storia della costituzione romana, iv2. Naples Martino, F. de (1975) Storia della costituzione romana, v2. Naples Maschi, C. A. (1976) ‘La conclusione della giurisprudenza classica nell’età dei Severi. Iulius Paulus’, ANRW 11.15: 667-707 Masi, A. (1971) Ricerche sulla res privata’ dei 'princeps ’ (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. 1.11 Università di Cagliari). Milan Mastino, A. (1981) Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici) (Studi di storia antica 5). Bologna
Matthews, J. F. (2000) Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code. New Haven and London
Mazza, M. (1986) Le maschere del potere: Cultura e politica nella tarda antichità (Collezione di opere giuridiche e storiche 1). Naples Mazza, M. (1996a) ‘Da Pertinace all’awento di Settimio Severo: La grande crisi degli anni 193-197’, in Storia della società italiana 1:3: La crisi delprincipato e la società imperiale (Milan) 189-209
Mazza, M. (1996b) ‘Un uomo forte al potere: il regno di Settimio Severo’, in Storia della società italiana I: 3: La crisi del principato e la società imperiale (Milan) 211-60
Mazzarino, S. (1951) Aspetti sociali del quarto secolo: Ricerche di storia tardoromano (Problemi e ricerche di storia antica 1). Rome Mazzarino, S. (1956) L’impero romano. Rome
Mazzarino, S. (1974, 1980) Antico, tardoantico ed èra costantiniana I, II (Storia e civiltà 13-14). Bari
992
Библиография
Migl, J. (1994) Die Ordnung der Ämter: Prätorianerpräfekturen und Vikariat in der Regionalverwaltung des römischen Reiches von Konstantin bis zur valentinianis- chen Dynastie (Europäische Hochschulschriften 111.623). Frankfurt-am-Main Milazzo, F. (ed.) (1996) Res publica * e ‘princeps*: Vicende politiche, mutamenti isti- tuzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza di Catanzaro 32). Naples Miliar, F. G. B. (1966) ‘The emperor, the senate and the provinces’,/ÆS 56:156-66 Millar, F. G. B. (1983) ‘Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status’,/^ 73: 76-96
Millar, F. G. B. (1986a) ‘A new approach to the Roman jurists’, JRS 76: 272-280 Millar, F. G. B. (1986b) ‘Italy and the Roman Empire: Augustus to Constantine’, Phoenix 40: 295-318
Millar, F. G. B. (1990) ‘L’empereur romain comme décideur’, Cahiers Glotz 1: 207-20
Millar, F. G. B. (1999) ‘The Greek east and Roman law: M. Cn. Licinius Rufinus’, JRS 89: 90-108
Mitford, T В. (1974) ‘Some inscriptions from the Cappadocian Limes\ JRS 64: 160-75
Mitthof, F. (2001) Annona militaris: Die Heeresversorgung im spätantiken Aegypten (Papyrologica Florentina 32). Florence
Mommsen, T (1901) ‘Die Heimat des Gregorianus’, ZRG 22: 139-44 (repr. in Gesammelte Schriften II (Berlin, 1905) 366-70)
Mullens, H. H. (1948) ‘The revolt of the civilians A.D. 237-238’, G&R 17: 65-77
Musca, D. A. (1985) ‘Da Traiano a Settimio Severo: Senatusconsultum о Oratio Principis?, Labeo 31: 7-46
Musurillo, H. H. (1972) The Acts of the Christian Martyrs. Oxford Neesen, L. (1980) Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr-284 n. Chr.) (Antiquitas 1.32). Bonn Nelis-Clément, J. (2000) Les 4beneficiarii ; militaires et administrateurs au service de TEmpire (Fr s. a. С.-VF s. p. C). Bordeaux Nesselhauf, H. (1964) ‘Patrimonium und res privata des römischen Kaiser’, in НАС1 1963: 73-93
Nippel, W. (1995) Public Order in Ancient Rome. Cambridge Nischer. E. (1923) ‘The army reforms of Diocletian and Constantine and their modifications up to the time of the Notitia Dignitatum, JRS 13: 1-55 Noethlichs, K. L. (1981) Beamtentum und Dienstvergehen: Zur Staatsverwaltung in der Spätantike. Wiesbaden
Noethlichs, K. L (1982) ‘Zur Entstehung der Diözesen als Mittelinstanz des spätrömischen Verwaltungssystem’, Historia 31: 70-81 Noethlichs K. L. (1985) ‘Spätantike Wirtschaftspolitik und adaeratio’, Historia 34: 102-16
Nörr, D. (1976) ‘Der Jurist im Kreis der Intellektualen: Mitspieler oder Außenseiter? (Gellius, Noctes Atticae i6.io)’, in D. Medicus and H. H. Seiler (eds.), Festschrift fur Max Kaser zum jo. Geburtstag. Munich: 57-90 Nörr, D. (1981a) ‘I giuristi romani: tradizionalismo о progresso’, BIDR 84: 9-33
Часть вторая... (главы 5—7)
993
Nörr, D. (1981b) ‘Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit’, ZRG 98:1-46 Nörr, D. (1983) ‘Zu einem fast Vergessenen Konstitutionen typ: Interloqui de Plano’, in Studi in Onore di Cesare Sanfilippo 3 (Milan) 519-43 Okamura, L. (1991) ‘The flying columns of Emperor Gallienus: “legionary” coins and their hoards’, in Limes Congress xv: 387-91 Oliver, J. H. (1946) ‘M. Aquilius Felix’, AJPh 67: 311-19
Orestano, R. (1968) II 'problema dellepersone giuridiche ’ in diritto romano. Turin Osier, J. (1977) ‘The emergence of third century equestrian military commanders’, Latomus 36: 674-87
Ott, J. (1995) Die Beneficiarier: Untersuchungen zur ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ihrer Funktion (Historia Einzelschriften 92). Stuttgart
Palazzolo, N. (1974) Potere Imperiale ed Organi Giurisdizionali nel II Secolo D.C.: Tefficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi (Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza 74). Milan Palme, B. (1999) ‘Die officia der Statthalter in der Spätantike: Forschungsstand und Perspektiven’, AT 7: 85-133
Pani, M. (ed.) (1991) Continuità e trasformazioni fra repubblica eprincipato: Istitu- zioni, politica, società. Atti delTincontro di studi,, Bari, 27-28 gennaio ip8p. Bari Parker, H. M. D. (1933) ‘The legions of Diocletian and Constantine’, JRS 23: 175-89
Parker, H. M. D. (1958) The Roman Legions, corrected edn. Cambridge Parsons, P. J. (1967) ‘Philippus Arabs and Egypt’, JRS 57: 134-41 Paschoud, F. and Szidat, J. (1997) Usurpationen in der Spätantike (Historia Einzelschriften ш). Stuttgart
Passerini, A. (1939) Le coorti pretorie (Real Istituto Italiano per la Storia Antica. Studi 1). Rome
Peachin, M. (1996) Iudex vice Caesaris: Deputy Emperors and the Administration of Justice During the Principate (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 21). Stuttgart
Petit, P. (1974) Histoire générale de TEmpire romain: 2. La crise de lEmpire (des derniers Antonins à Dioclétien). Paris
Petrikovits, H. von (1971) ‘Fortifications in the north-western Roman empire from the third to the fifth centuries a.d\JRS 61:178-218 Pflaum, H.-G. (1950) Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain. Paris Pflaum, H.-G. (1957) ‘Procurator’, RE xxiiia.i: 1240-79 Pflaum, H.-G. (1974) Abrégé des procurateurs équestres. Paris Pflaum, H.-G. (1976) ‘Zur Reform des Kaisers Gallienus’, Historia 25: 109-17 Porena, P. (2003) Le origini della prefettura delpretorio tardoantica. Roma Pugsley, D. (1994) ‘Gaius or Sextus Pomponius’, RIDA} 41: 353-67 Rathbone, D. W. (1996) ‘Monetisation, not price-inflation, in third-century a.d.
Egypt?’, in King and Wigg, Coin Finds 321-39 Remy B. and Bertrandy, F. (1997) L Empire romain de Pertinax à Constantin (172—337 après J.-C.): aspects politiques, administratifs et religieux. Paris Rickman, G. E. (1980) The Corn Supply of Ancient Rome. Oxford
994
Библиография
Rodriguez-Almeida, E. (1980) ‘Vicissitudini nella gestione dei commercio dell’olio betico da Vespasiano a Severo Alessandro’, in J. H. D’Arms and E. C. Kopff (eds.) The Seaborne Commerce of Ancient Rome (MAAR 36): 277-90. Rodriguez-Almeida, E. (1989) Los tituli picti de las ânforas olearias de la Bética, 1: Tituli picti de los Severos y de la Ratio fisci. Madrid Romanis, E de (1996) ‘Septem annorum canom Sul canon populi Romani lasciato da Settimio Severo’, RAL9 7:133-59 RostovtzefF, M. (1918) ‘Synteleia Tironon’,/ÂS 8: 26-33 Rotondi, G. (1912) Leges Publicae Populi Romani. Milan
Rotondi, G. (1922) ‘Studi suile fonti del codice giustinianeo’, in Scritti giuridici i (Milan) 110-265 (repr. from BIDR 26 (1913) 175-246 and BIDR 29 (1916) 104-80)
Roueché, C. (1996) ‘A new governor of Caria-Phrygia: P. Aelius Septimius Mannus’, in Splendidissima civitas: Etudes d’histoire romaine en hommage à François Jacques (Publications de la Sorbonne, Série Histoire ancienne et médiévale 40) (Paris) 231-9
Roueché, C. (1998) ‘The functions of the governor in late antiquity: some observations’, AT 6: 31-6
Rowell, H. T. (1937) ‘Numerus’, RE xvn.2:1327-42
Roxan, M. M. (1976) ‘Pre-Severan auxilia named in the Notitia Dignitatum , in Goodburn and Bartholomew, Notitia Dignitatum 59-79 Roxan, M. M. (1978) Roman Military Diplomas 1954—77 (Institute of Archaeology Occasional Publication 2). London
Roxan, M. M. (1985) Roman Military Diplomas 1978-84 (Institute of Archaeology Occasional Publication 9). London
Roxan, M. M. (1994) Roman Military Diplomas 1985—1995 (Institute of Archaeology Occasional Publication 14). London
Saddington, D. B. (1975) ‘The development of the Roman auxiliary forces from Augustus to Trajan’, ANRW 11.3:176-201 Ste Croix, G. E. M. de (1981) The Class Struggle in the Ancient Greek World. London Sailer, R. P. (1980) ‘Promotion and Patronage in Equestrian Careers’, JRS 70:44-63 Sailer, R. P. (1982) Personal Patronage under the Early Empire. Cambridge Salvo, L. de (1988) ‘Pubblico e privato in età severiana: il caso del trasporto dell’olio betico e l’epigrafia anforaria’, Cahiers d’histoire 33: 333-44 Salway, P. (1981) Roman Britain (The Oxford History of England ia). Oxford Sam ter, R. (1908) ‘War Gaius ein männliche Pseudonym einer Frau?’, Deutsche Juristen-Zeitung 13: 1386
Santalucia, B. (1998) Diritto e processo penale nelTantica Roma, 2nd edn. Milan Saxer, R. (1967) Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian (Epigraphische Studien 1). Cologne, Graz Schiller, A. A. (1959) ‘Senatus Consulta in the Principate’, Tulane Law Review 33: 491-508 (repr. in An American Experience in Roman Law (Göttingen, 1971) 161-78)
Schiller, A. A. (1971) ‘Vindication of a reputed text: Sententiae et Epistolae Hadriani’, in La Critica dei Testo (Atti dei secondo congresso internazionale della Società Italiana di storia dei diritto 11. 717-27). Florence
Часть вторая... (главы 5—7)
995
Schlinkert, D. (1998) ‘Den Kaiser folgen. Kaiser, Senatsadel und höfische Funktionselite (comites consistoriani') von der “Tetrarchie” Diokletians bis zum Ende der Konstantinischen Dynastie’, in Winterling (1998) 133-59 Schmidt-Ott, J. (1993) Pauli quaestiones: Eigenart und Textgeschichte einer spätklassischen Juristenschrift (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, n.s. 18). Berlin
Schnebelt, G. (1974) Reskripte der Soldatenkaiser: ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts (Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen 39). Karlsruhe Schulz, F. (1946) History of Roman Legal Science. Oxford Seeck, O. (1910) Geschichte des Untergangs der antiken Welt /, 3rd edn. Berlin Serrao, F. (1991) ‘II modello di costituzione: Forme giuridiche, caratteri politici, modelli economico-sociali’, in Schiavone, Storia di Roma 11.2: 29-71 Seston, W. (1955) ‘Du comitatus de Dioclétien aux comitatenses de Constantin, Historia 4: 284-96 (repr. in Scripta Varia (CEFR 43, Rome, 1980) 483- 95)
Simon, D. (1969) ‘Aus dem Codexunterricht des Thalelaios’, ZRG 86: 334-83 Simon, D. (1970) ‘Aus dem Codexunterricht des Thalelaios (Fortsetzung)’, ZRG
87: 315-94
Sirks, B. (1991) Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople (StAmst 31). Amsterdam
Skeat, T. C. (1964) Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library, Dublin. Dublin
Smith, R. E. (1972) ‘The army reforms of Septimius Severus’, Historia 21: 481-500 Smith, R. E. (1979) ‘Dux, Praepositus’, ZPE 36: 263-78
Southern, P. (2001) The Roman Empire from Severus to Constantine. London and New York
Southern, P. and Dixon, K. R. (1996) The Late Roman Army. New Haven and London
Spagnuolo Vigorita, T. (1978a) Secta temporum meorum: Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi delprincipato di Gordiano III (Kleio 3). Palermo Spagnuolo Vigorita, T. (1978b) ‘Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.’, Labeo 24: 131-68
Spagnuolo Vigorita, T. and Marotta, V (1992) ‘La legislazione imperiale: Forme e orientamenti’, in Schiavone, Storia di Roma 11.3: 85-152 Speidel, M. A. (1992) ‘Roman army pay scales’, JRS 82: 87-106 Speidel, M. P. (1973) ‘The pay of the auxilia’, JRS 63: 141-7 (repr. in M. P. Speidel (1984) 83-9)
Speidel, M. P. (1975) ‘The rise of ethnic units in the Roman imperial army’, ANRW и.3: 202-31 (repr. in M. P. Speidel (1984) 117-48)
Speidel, M. P. (1984) Roman Army Studies 1 (Mavors Roman Army Researches 1). Amsterdam
Stanojevic, O. (1989) Gaius Noster: plaidoyer pour Gaius (StAmst 18). Amsterdam
Stein, P. G. (i960) 1 Pauli Libri Tres Manualium , RIDA3 7: 479-88
Stein, P. G. (1966) Regulae Iuris: From Juristic Rules to Legal Maxims. Edinburgh
996
Библиография
Steinby, М. (1986) ‘L’industria laterizia di Roma nel tardo impero’, in Giardina, Società romana 11: 99-264, 438-46
Strobel K. (1993) Das Imperium Romanum im ‘3. Jahrhundert’: Modell einer historischen Krise? (Historia Einzelschriften 75). Stuttgart Talamanca, M. (1976) ‘Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici’, in Archi (1976) 95-246 Talbert, R. J. A. (1984) The Senate of Imperial Rome. Princeton Taubenschlag, R. (1923) Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians. Cracow (repr. in Opera minora 1 (Warsaw, 1959) 3—177)
Teitler, H. C. (1985) Notarii and Exceptores: An Inquiry into the Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire from the Early Principate to c. 4$o a.d. (Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology 1). Amsterdam
Tellegen Couperus, O. (1982) Testamentary Succession in the Constitutions of Diocletian (StAmst 22). Zutphen
Temporini, H. (1978) Die Frauen am Hofe Trajans: Ein Beitrag zur Stellung der Augustae im Prinzipat. Berlin and New York Thomsen, R. (1947) The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion (Classica et mediaevalia, Dissertationes 4). Copenhagen Thylander, H. (1973) ‘Senatum militia vetuit et adire exercitum, OR 8: 67-71 Townsend, P. W (1955) ‘The revolution of a.d. 238: the leaders and their aims’, YCS 14: 49-105.
Turpin, W. (1981) ‘Apokrimata, Decreta, and the Roman legal procedure’, BASP 18: 145-60
Turpin, W. (1985) ‘The law codes and late Roman law’, RIDAl3 32: 339-53 Volterra, E. (1971) ‘II problema del testo delle costituzioni imperiali’, in La Critica del Testo 11.821-1097 (Atti del secondo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto). Florence, (repr. in Scritti Giuridici 6 (Antiqua 66; Naples, 1994) 3-279)
Wachtel, К. (1966) Freigelassene und Sklaven in der staatlichen Finanzverwaltungder römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian (Dissertationes Berolinenses 1). Berlin
Walker, D. R. (1978) The Metrology of the Roman Silver Coinage (BAR Suppi. Ser. 40). Oxford
Watson, A. (1973) ‘Private law in the rescripts of Carus, Carinus and Numerianus’, TR 41: 19-34 (repr. in Watson (1991) 45-60)
Watson, A. (1974) ‘The rescripts of the emperor Probus (276-282 a.d.)’, Tulane Law Review 48: 1122-8 (repr. in Watson (1991) 61-7)
Watson, A. (1991) Legal Origins and Legal Change. London and Rio Grande Watson, Alaric (1999) Aurelian and the Third Century. London and New York Wieacker, F. (1971) ‘Le droit romain de la mort d’Alexandre Sévère à l’avènement de Dioclétien (235-284 apr. J.-C.)’, RHDFE4 49: 201-23 Wikander, O. and Schioler, T. (1983) ‘A Roman water-mill in the baths of Caracalla’, OR 14: 47-64
Williams, W. (1975) ‘Formal and historical aspects of two new documents of Marcus Aurelius’, ZPE 17: 37-78
Часть третья... (главы 8—10)
997
Williams, W. (1976) ‘Two imperial pronouncements reclassified’, ZPE 22: 235-45 Winterling, A. (ed.) (1998) ‘Comitatus . Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes. Berlin
Witschel, C. (1999) Krise-Rezession-Stagnation? Der Westen des römischen Reiches im 3.
Jahrhundert n. Chr. (Frankfurter althistorische Beiträge 4). Frankfurt-am-Main Wolff, H. J. (1952) ‘Vorgregorianische Reskriptensammlungen’, ZRG 69: 128-53 Wolff, H. (1986) ‘Die Entwicklung der Veteranen Privilegien vom Beginn des 1 Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.’, in Eck and Wolff (1986): 44-И5
Yavetz, Z. (1988) Plebs and Princeps. 2nd edn. New Brunswick (ist edn. Oxford, 1969)
Youtie, H. C. and Schiller, A. A. (1955) ‘Second thoughts on the Columbia Apokri- mata (PCol. 123)’, CE 30: 327-45 (327-34 repr. in H. C. Youtie, Scriptiunculae II (Amsterdam, 1973) 661-8)
Часть третья
Провинции (главы 8—10)
Abbott, F. F. and Johnson, A. C. (1926) Municipal Administration in the Roman Empire. Princeton
Alföldi, A. (1939a) ‘The invasions of peoples from the Rhine to the Black Sea’, CAH XIF: 138-64 (repr. in Alföldi (1967))
Alföldi, A. (1939b) ‘The crisis of the empire (A.D. 249-270)’, CAH XIF: 165-231 (repr. in Alföldi (1967))
Alföldi, A. (1939c) ‘The sources for the Gothic invasions of the years 260-270’, CAH XII1: 721-3
Alföldi, A. (1967) Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt
Alföldy, G. (1969) Fasti Hispanienses: senatorische Reichsbeamte und Ofßziere in der spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian. Wiesbaden
Alföldy, G. (1974) Noricum. London
Amelotti, M. and Costamagna, G. (1975) Alle origini del notariato romano (Studi storici sul notariato italiano 2). Rome (repr. Milan, 1995)
Archi, G. G. (1938) Studi sulla stipulatio, I: La querella non numeratae pecuniae. Milan (repr. in Archi (1981) 1: 521-641)
Archi, G. G. (1981) Scritti di diritto romano (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze 42). Milan
Aricescu, A. (1980) The Army in Roman Dobrudja (BAR Int. Ser. 86). Oxford
Avi-Yonah, M. (1976) Gazetteer of Roman Palestine (Qedem 5). Jerusalem
Bagnall, R. S. (1977) ‘Bullion purchases and landholding in the fourth century’, CE 52: 322-36
Bagnall, R. S. (1978) ‘Property holdings of liturgists in fourth-century Karanis’, BASP15: 9-16
998
Библиография
Bagnall, R. S. (1982) ‘The population of Theadelphia in fourth-century Egypt’, BSAC 24: 35-57
Bagnall, R. S. (1983) ‘Five papyri on fourth-century money and prices’, BASF 20: 1-19
Bagnall, R. S. (1992) ‘Landholding in late Roman Egypt: the distribution of wealth’, JRS 82: 126-49
Bagnall, R. S. (1993) ‘Slavery and society in late Roman Egypt’, in B. Halpern and
D. W. Hobson (eds.), Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World. (Sheffield) 220-40
Bagnall, R. S. and Thomas, J. D. (1978) ‘Dekaprotoi and epigraphai’, BASF 15: 185-9
Bagnall, R. S. and Worp, K. A. (1978) Chronological Systems of Byzantine Egypt (StAmst 8). Amsterdam
Bailey, D. M. (1990) ‘Classical architecture in Roman Egypt’, in M. Henig (ed.), Architecture and Architectural Sculpture in the Roman Empire (Oxford University Committee for Archaeology, Monograph 29). (Oxford) 121-37 Bailey, D. M. (1991) Excavations at El-Ashmunein IV Hermopolis Magna: Buildings of the Roman Period. London
Bakker, L. (1993) ‘Raetien unter Postumus - Das Siegesdenkmal eine Juthungen- schacht im Jahre 260 n. Chr. aus Augsburg’, Germania 71.2: 369-86 Baity, J.-C. (1988) ‘Apamea in Syria in the second and third centuries a.d.\ JRS 78: 91-104
Baity, J.-C. (1993) Apamea in Syria: The Winter Quarters of Legio II Parthica. Brussels Barnes, T. D. (1976) ‘Imperial campaigns, a.d. 285-311’, Phoenix 30: 174-93 (repr. in Barnes, Early Christianity ch. 12)
Barnes, T. D. (1989) ‘Trajan and the Jew s\ Journal of Jewish Studies 40: 145-62 Bastianini, G. (1975) ‘Lista dei prefetti d’Egitto dal 30s al 299p’, ZPE 17: 263-328 Bastianini, G. (1980) ‘Lista dei prefetti d’Egitto dal зоа al 299p: Aggiunte e cor- rezioni’, ZPE 38: 75-89
Bauzou, T. (1989) ‘Les routes romaines de Syrie’, in Dentzer and Orthmann, Syrie 205-21
Bauzou, T. (1993) ‘Epigraphie et toponymie: le cas de la Palmyrène du Sud-Ouest’, Syria 70: 27-50
Bean, G. E. and Mitford, T. B. (1970) Journeys in Rough Cilicia 1964— 1968 (Denkschriften der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 102 = Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 3). Vienna
Bechert, T. and Willems, W. (eds.) (1995) Die römische Reichsgrenze von der Mosel bis zur Nordseekuste. Theiss
Behr, C. A. (1981) P Aelius Aristides: The Complete Works, vol. 11. Leiden Benabou, M. (1976) La résistance africaine à la romanisation. Paris Berchem, D. van (1937) ‘L’annone militaire dans l’Empire romain au IIIe siècle’, Mémoires de la Société des Antiquaires de France 80: 117-201 Berchem, D. van (1972) ‘L’occupation militaire de la Haute Egypte sous Dioclétien’, Limes Congress vu: 123-7
Bianchi, A. (1983) ‘Aspetti della politica economico-fiscale di Filippo l’Arabo’, Aegyptus 63: 185-98
Часть третья... (главы 8—10)
999
Bichir, G. (1976) Archaeology and History of the Carpi (BAR Suppi. Ser. 16), 2 vols. Oxford
Biernecka-Lubanska, M. (1982) The Roman and Early Byzantine Fortifications of Lower Moesia and Northern Thrace (Bibliotheca Antiqua 17). tr. L. Tokarczyk. Warsaw
Birley, A. R. (1981) The Fasti’ of Roman Britain. Oxford
Birley, E. B. (1969) ‘Septimius Severus and the Roman Army’, ES 8: 63-82 (repr. in The Roman Army: Papers 1929—1986 (Mavors Roman Army Researches 4) (Amsterdam, 1988) 21—40)
Boak, A. E. R. (1955) ‘The population of Roman and Byzantine Karanis’, Historia 4: 157-62
Bogaers, J. E., and Ruger, C. B. (1974) Der niedergermanische Limes: Materialien zu seiner Geschichte (Kunst und Altertum am Rhein 50). Cologne Bonneau, D. (1971) Le fisc et le Nil: incidences des irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière dans l’Egypte grecque et romaine (Publications de l’Institut de droit romain de l’Université de Paris n.s. 2). Paris Bonneau, D. (1993) Le régime administratif de l’eau du Nil dans l’Egypte grecque, romaine et byzantine (Probleme der Ägyptologie 8). Leiden Bounegru, O. and Zahariade, M. (1996) Les forces navales du Bas Danube et de la Mer Noire aux 1er Mie siècles (Colloquia Pontica 2, ed. G. R. Tsetskhladze). Oxford
Bowman, A. K. (1967) ‘The crown-tax in Roman Egypt’, BASP 4: 59-74 Bowman, A. K. (1970) ‘A letter of Avidius Cassius?’, J RS 60: 20-6 Bowman, A. К. (1974) ‘Some aspects of the reform of Diocletian in Egypt’, Akten des XIII internationalen Papyrologenkongresses 43—51 (Münch. Beitr. 66). Marburg
Bowman, A. K. (1976) ‘Papyri and Roman imperial history 1960-75’, JRS 66: 153-73
Bowman, A. K. (1978) ‘The military occupation of Upper Egypt in the reign of Diocletian’, BASP 15: 25-38
Bowman, A. K. (1980) ‘The economy of Egypt in the earlier fourth century’, in King, Imperial Revenue 23-39 Bowman, A. K. (1984) ‘Two notes’, BASP 21: 33-8
Bowman, A. K. (1985) ‘Landholding in the Hermopolite nome in the fourth century A.D.’JRS 75: 139-63
Bowman, A. K. (1992) ‘Public buildings in Roman Egypt’, JRA 5: 495-503 (review of Lukaszewicz (1986))
Bowman, A. K. (1996a) ‘Egypt’, САН X2: ch. 14b
Bowman, A. K. (1996b) Egypt After the Pharaohs, 2nd edn. London (ist edn. 1986) Bowman, A. K. and Rathbone, D. W. (1992) ‘Cities and administration in Roman Egypt, JRS 82: 107-27
Braund, D.(i994) Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC-AD 562. Oxford
Braunen, H. (1955-6) ‘1Д1А: Studien zur Bevölkerungsgeschichte des ptolemäis- chen und römischen Ägypten’, JJP 9/10: 211-328 Breeze, D. J. (1982) The Northern Frontiers of Roman Britain. London
1000
Библиография
Breeze, D. J. (1987) ‘Britain’, in Wacher (1987) pt iv: 198-222
Brennan, P. (1989) ‘Diocletian and Elephantine: a closer look at Pococke’s puzzle fGRR 1.1291 = SB v.8393)’, ZPE 76:193-205
Brunt, P A. (1966) ‘Procuratorial jurisdiction’, Latomus 25: 461-89 (repr. in Brunt, R1T 324-46, with ‘Addenda’ 531-40)
Brunt, P. A. (1975) ‘The administrators of Roman Egypt’, JRS 65: 124-47 (repr. in Brunt, RIT ch. 10)
Brunt, P A. (1981) ‘The revenues of Rome’ (review of L. Neesen, Untersuchungen zu den direkten Staatsangaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr-284 n. Chr.) (Bonn, 1980), JRS 71: 161-72 (repr. in Brunt, RIT 324-46 with ‘Addenda’ 531-40)
Burkhalter, E (1990) ‘Archives locales et archives centrales en Egypte romaine’, Chiron 20: 193-216
Burton, G. P. (1975) ‘Proconsuls, assizes and the administration of justice under the empire’, JRS 65: 92-106
Bury, J. В. (1923) ‘The provincial list of Verona’, JRS 13: 127-51
Calder, W. M. and Bean, G. E. (eds.) (1958) A Classical Map of Asia Minor. London
Camodeca, G. (1969) ‘Rapporti socio-economici fra città e territorio nel mondo tardo-antiсо’, in II territorio di Aquileia nelTantichità,' II (Antichità alto- adriatiche 15) (Udine) 575-602
Carrié, J.-M. (1975) ‘Les distributions alimentaires dans les cités de l’Empire romain tardif’, MEFRA 87: 995-1101
Carrié, J.-M. (1979) ‘Primipilaires et taxe du “primipilon” à la lumière de la documentation papyrologique’, Actes du XV Congrès International de Papyrologie iv (Papyrologica Bruxellensia 19) (Brussels) 156-76
Carrié, J.-M. (1981) ‘L’Egypte au IVe siècle: fiscalité, économie, société’, Proceedings of the XVI International Congress ofPapyrology (American Studies in Papyrol- ogy 23) 431-46
Carrié, J.-M. (1992) ‘La “munificence” du prince. Le vocabulaire tardif des actes impériaux et ses antécédents’, in Institutions, société et vie politique au IVe siècle ap. J.-C: Actes de la table ronde autour de Vœuvre dAndré Chastagnol, Paris, janv. 1989 (CEFR159) (Rome) 411-30
Carrié, J.-M. (1998) ‘Archives municipales at distributions alimentaires dans l’Egypte romaine’, in La mémoire perdue: Recherches sur Vadministration romaine (CEFR 243) (Rome) 271-302
Cataniciu, I. B. (1981) Evolution of the System of Defensive Works in Roman Dacia (BAR Suppl. Ser. 116). Oxford
Chastagnol, A. (1978) L'album municipal de Timgad (Antiquitas 111.22). Bonn
Chastagnol, A. (1981a) ‘L’inscription constantinienne d’Orcistus’, MEFRA 93: 381— 416 (repr. in Chastagnol, Aspects 105-42)
Chastagnol, A. (1981b) ‘Les realia d’une cité d’après l’inscription constantinienne d’Orcistos’, Ktema 6: 373-9
Chastagnol, A. (1986) ‘La législation sur les biens des villes au IVe siècle à la lumière d’une inscription d’Ephèse’, AARC vi: 77-104 (repr. in Chastagnol, Aspects 143-70)
Часть третья... (главы 8—10)
1001
Cherry, D. (1998) Frontier and Society in Roman North Africa. Oxford Chevallier, R. (1976) Roman Roads (tr. N. H. Fields). London Christiansen, E. (1988) The Roman Coins of Alexandria: Quantitative Studies. Aarhus
Christie, N. (1991) ‘The Alps as a frontier (a.d. \(&-yyf)\ JRA 4: 410-30 Christol, M. (1975) ‘Les règnes de Valérien et de Gallien (253-268): travaux d’ensemble, questions chronologiques’, ANRW 11.2: 803-27 Christol, M. and Drew-Bear, T. (1983) ‘Une délimination de territoire en Phrygie- Carie’, Travaux et Recherches en Turquie 11.1982: 23—42 Cimma, M. R. (1989) L’episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano. Turin
Cotton, H. (1997) ‘H NEA ЕПАРХЕ1А APABIA: the new province of Arabia in the papyri from the Judaean Desert’, ZPE 116: 204—8 Cracco Ruggini, L. (1982—3) ‘Sicilia III/IV secolo: il volto della non-città’, Kokalos 28-9:477-515
Cracco Ruggini, L. (1989) ‘La città imperiale’, in A. Momigliano and A. Schiavone (eds.), Storia di Roma IV: Caratteri e morfologie (Turin) 201-66 Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1975) ‘The publication of the Prices Edict: a new inscription from Aezani’,//?5 65: 160-3 Crow, J., and Bryer, A. (1997) ‘Survey in Trabzon and Gumushane vilayets, Turkey 1992-1994’, DOP 51: 283-9
Curchin, L. A. (1985) 'Vici andpagi in Roman Spain’, REA 87: 327-43 Dagron, G. (1979) ‘Entre village et cité: la bourgade rurale des IVe-VIIe siècles en Orient’, Koinonia 3: 9-52 (repr. in La romanité chrétienne en Orient (Variorum Collected Studies 193) (London, 1984) ch. 7)
Daniels, C. (1987) ‘Africa’ in Wacher (1987) pt iv: 223-65
Deininger, J. (1965) Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr. (Vestigia 6). Munich Delmaire, R. (1988) ‘Le personnel de l’administration financière en Egypte sous le Bas-Empire romain (IVe-VIe siècles)’, Cahiers de recherches de lInstitut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille 10:113-38 Desideri, P. (1987) ‘L’iscrizione del mietitore {CIL vin. 11824): un aspetto della cultura mactari tana’, in L Africa romana 4: 137-49 Dilke, O. A. W. (1985) Greek and Roman Maps. London
Dixon, P. (1992) ‘ “The cities are not populated as once they were” ’, in Rich (1992) 145-60
Downey, G. (1961) A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest. Princeton
Drew-Bear, M. (1984a) ‘Les conseillers municipaux des métropoles au IIIe siècle après J.-C.’, CE 59: 315-32
Drew-Bear, M. (1984b) ‘Les archives du conseil municipal d’Hermoupolis Magna’, Atti del XVII Congresso internazionale di Papyrologia 3 (Naples) 807-13 Drew-Bear, M. (1988) Hermoupolis-la-Grande à Tépoque de Gallien: Recherches sur Thistoire d’une cité de l’Egypte romaine à la lumière des archives de son conseil. Paris
Drinkwater, J. E (1983) Roman Gaul: The Three Provinces $8 BC-AD 260. London and Canberra
1002
Библиография
Duncan-Jones, R. R (1976) The price of wheat in Egypt under the principate’, Chiron 6: 241-62
Duncan-Jones, R. P. (1996) ‘The impact of the Antonine plague’, JRA 9: 108- 36
Egger, R. (1926) Forschungen in Salonay II: Der altchristliche Friedhof Manastirine. Vienna
El-Saghir, M., Migalla, R. and Gabolde, L. (1986) Le camp romain de Louqsor (Mémoires de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire 83). Cairo Euzennat, M. (1967) ‘Le Limes de Volubilis’, Limes Congress VI: 194-9 Feissel, D. (1999) ‘L'adnotatio de Constantin sur le droit de cité d’Orcistus en Phrygie’, AT 9: 255-67
Feissel, D. and Gascou, J. (1995) ‘Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe s. après J.-C.). L les pétitions (P Euphr. 1 à 5)’, JS 1995: 65-
И9
Fentress, E. W. B. (1979) Numidia and the Roman Army (BAR Int. Ser. 53). Oxford Fiedler, U. (1986) ‘Zur Datierung der Langwalle an der mittleren und unteren Donau’, Archäologisches Korrespondenzblatt 16: 457-65 Fitz, J. (1982) The Great Age of Pannonia (AD ipß—284). Budapest Foti Talamanca, G. (1974, 1979) Ricerche sui processo nelTEgitto greco-romano: I L’organizzazione dei ‘Conventus’ del ‘Praefectus Aegypti’; ILi L’introduzione del giudizio. Milan
French, D. H. (1981) Roman Roads and Milestones of Asia Minor. Fase. 1: The Pilgrim’s Road (BAR Int. Ser. 105). Oxford
French, D. H. (1983) ‘New research on the Euphrates frontier’, in Mitchell, AFRBA 71-101
French, D. H. and Lightfoot, C. S. (eds.) (1989) The Eastern Frontier of the Roman Empire (BAR Suppi. Ser. 553). Oxford
Frend, W. H. C. (1956) ‘A third-century inscription relating to angareia in Phrygia’, JRS 46: 46-56
Gajdukevic, V. F. (1971) Das Bosporanische Reich. Berlin
Galsterer, H. (1982) ‘Stadt und Territorium’, in F. Vittinghoff (ed.), Stadt und Herrschaft. Römische Kaiserzeit und hohes Mittelalter (Historische Zeitschrift Beiheft n.s. 7) (Munich) 75-106
Galsterer, H. (1987) ‘La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?’, RHDFE4 65: 181-203
Ganghoffer, R. (1963) L’évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire (Bibliothèque d’Histoire de Droit et de Droit Romain 9). Paris
Garbsch, J. (1970) Der spätrömische Donau-Iller-Rhein-Limes (Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands 6). Stuttgart
Garnsey, P. (1970) Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire. Oxford Garnsey, P. (1974) ‘Aspects of the decline of the urban aristocracy in the empire’, in ANRW и.1: 229-52
Gascou, J. (1967) ‘Le reserit d’Hispellum’, MEFRA 79: 609-59 Gascou, J. (1976) ‘Les curies africaines: origine punique ou italienne?’, AntAfr 10: 33-48
Часть третья... (главы 8—10)
1003
Gascou, J. (1982а) ‘La politique municipale de Rome en Afrique du Nord, I - De la mort d’Auguste au début du IIIe siècle’, in ANRW 11.10.2: 136-229; ‘II - Après la mort de Septime Sévère’, ANRW 11.10.2; 230-320
Gascou, J. (1982b) ‘Les pagi carthaginois’, in P. A. Février et P. Leveau (eds.), Villes et campagnes dans l'Empire romain: Actes du colloque organisé à Aix-en-Provence par PU. E. R. d'histoire y les 16 et 17 mai, ip8o (Aix-en-Provence) 139-75
Gaudemet, J. (1951) ‘Constantin et les curies’, Iura 2: 44-75
Geraci, G. (1991) ‘Epi tes eirenes, irenarchi, decadarchi epi eirenes: alcune consid- erazioni’, in Hestiasis: Studi di Tarda Antic h ità offerti a Salvatore Calderone III (Messina) 235-45
Geremek, H. (1981) ‘Lespoliteuomenoi égyptiens sont-ils identiques aux bouleutai', Anagennesis 1: 231-47
Gerov, B. (1977) ‘Die Einfälle der Nordvölker in den Ostbalkansraum im Lichte der Münzschatzfunde, I: Das IL u. III. Jahrhundert (101-284)’, ANRW 11.6: 110-81 (repr. in Gerov (1980) 374-432)
Gerov, B. (1979) ‘Die Grenzen der römischen Provinz Thracia bis zur Gründung des aurelianischen Dakien’, ANRW II.7.1: 212-40
Gerov, B. (1980-98) Beiträge zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien: gesammelte Aufsätze, vols. i-ш. Amsterdam
Gerstinger, H. (1950) ‘Eine Grunderwerbsapographie bei der Bibliotheke Enk- teseon von Hermupolis Magna aus dem Jahre 319 n.Chr.’, in Anzeiger der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse 87:
471-93
Giardina, A. (1977) Aspetti della burocrazia nel basso impero (Filologia e critica 22). Rome
Giardina, A. and Grelle, F. (1983) ‘La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano Г, MEFRA 95: 249-303
Gilliam, J. F. (1940) ‘The ordinarii and ordinati of the Roman army’, ТАРА ji: 127-48 (repr. in Roman Army Papers (Mavors Roman Army Researches 2; Amsterdam, 1986) 1-22)
Goffart, W. (1974) Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto and Buffalo
Gonzâlez, J. [with M. H. Crawford] (1986) ‘The Lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law\JRS 76: 147-243
Goodchild, R. G. (1976) Libyan Studies: Select Papers of the Late R. G. Goodchild (ed. J. Reynolds). London
Gregory, S. (1995) Roman Military Architecture on the Eastern Frontier, vol. 1. Amsterdam
Grelle, F. (1963) Stipendium vel tributum: TImposizione fondiaria nelle dot- trine giuridiche del II e III secolo (Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di Napoli 66). Naples
Grelle, F. (1986) ‘Le categorie deU’amministrazione tardoantica: Officia, munera, honores', in Giardina, Società romana 1: 37-56
Grimm, G., Heinen, H. and Winter, E. (eds.) (1983) Das römisch-byzantinische Ägypten, Akten des internationalen Symposions 26—30 September 1978 in Trier (Aegyptiaca Treverensia 2). Mainz
1004
Библиография
Gudea, N. (1977) ‘Der Limes Dakiens und die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie von Trajan bis Aurelian’, ANRW 11.6: 849-87 Haas, C. (1997) Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conflict. Baltimore
Haensch, R. (1992) ‘Das Staathalterarchiv’, ZRG 109: 209-317 Hagedorn, D. (1985) ‘Zum Amt der 5iou<r|Tf)ç im römischen Ägypten’, YCS 28: 167-210
Hajnoczi, G. (ed.) (1995) La Pannonia e Timpero romano. Rome Hammond, N. G. L. (1972) A History of Macedonia, vol. г. Historical Geography and Prehistory. Oxford
Harper, G. M. (1928) Village Administration in the Roman Province of Syria (YCS 1). Princeton
Heather, P. (1996) The Goths. Oxford
Heather, P. and Matthews, J. (1991) The Goths in the Fourth Century (Translated Texts for Historians 11). Liverpool
Hellenkemper, G. (1975) ‘Architektur als Beitrag zur Geschichte der Colonia Claudia Ara Agrippinensium’, ANRW 11.4: 783-824 Hendy, M. (1972) ‘Mint and fiscal administration under Diocletian, his colleagues and his successors’, JRS 62: 75-82 (repr. in M. Hendy, The Economy; Fiscal Administration and Coinage of Byzantium (Northampton, 1989) ch. 4) Henrichs, A. (1968) ‘Vespasian’s visit to Alexandria’, ZPE 3: 51-80 Hirschfeld, О. (1905) Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian, 2nd edn. Berlin
Hoddinott, R. F. (1975) Bulgaria in Antiquity: An Archaeological Introduction. London
Hoffmann, D. (1969-70) Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum. (ES i), 2 vols. Dusseldorf (orig. publ. Bamberg, 1968)
Horbury, W. (1996) ‘The beginnings of the Jewish revolt under Trajan,’ in P. Schäfer (ed.), Geschichte—Tradition—Reflexion: Festschrift fur Martin Hen- gel, i: Judentum (Tübingen) 283-304
Horsley, G. H. R. (1981-9) New Documents Illustrating Early Christianity, vols. i-v. North Ryde, NSW
Horstkotte, H. J. (1984) ‘Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätrömische Kaisergesetzgebung’, Historia 33: 238-47 Horstkotte, H. J. (1991) Die Steuerhaftung'im spätrömischen Zwangstaat\ 2nd edn (Beiträge zur klassischen Philologie 185). Königstein Hunt, P. (1998) ‘Summus Poeninus on the Grand St Bernard pass’, JRA 11: 265-74
Hyde, W. W (1935) Roman Alpine Routes (Memoirs of the American Philosophical Society 2). Philadelphia
I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo. Atti del Convegno internazionale, Roma, 26—28 ottobre 1971 (Accademia Nazionale dei Lincei, Anno 371, 1974, Quaderno 194). Rome
Isaac, B. (1988) ‘The meaning of the terms limes and limitanei , JRS 78: 125-47
Часть третья... (главы 8—10)
1005
Jacques, F. (1981) ‘Volontariat et compétition dans les carrières municipales durant le Haut-Empire’, Ktema 6: 261—70
Jacques, F. (1984) Le privilège de liberté: Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161—244) (CEFR 76). Rome Jacques, F. (1985) ‘Obnoxius curiae: origines et formes de l’astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère’, RHDFE4 63: 303-28
Jacques, F. (1990a) ‘Quelques problèmes d’histoire municipale à la lumière de la Lex Irnitana’, L'Afrique dans l'Occident romain 381-401 Jacques, F. (1990b) Les cités de l'Occident romain du fr siècle avant J.-C. au VP siècle après J.-C.: Documents traduits et commentés. Paris Johnson, A. C. (1936) Roman Egypt to the Reign of Diocletian (ESAR11). Baltimore Johnson, A. C. and West, L. C. (1949) Byzantine Egypt, Economic Studies. Princeton Johnston, D. E. (ed.) (1977) The Saxon Shore (Council of British Archaeology Research Report 18). London
Jones, A. H. M. (1940) The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford.
Jones, A. H. M. (1949) ‘The Roman civil service (clerical and subclerical grades)’, JRS 39: 38-55 (repr. in Studies in Roman Government and Law (Oxford, i960)
151-75)
Jones, A. H. M. (1971) Cities of the Eastern Roman Provinces, 2nd edn. Oxford Kandier, M. and Vetters, E. (1986) Der römische Limes in Österreich: Ein Führer. Vienna
Katzoff, R. (1982) ‘Sources of law in Egypt: the role of the prefect’, in ANRW 11.13: 807-44
Keay, S. J. (1988) Roman Spain. London
Keenan, J. G. (1982-3) ‘Papyrology and Roman history, 1956-80’, Classical World 76: 23-31
Keenan, J. G. (2000) ‘Egypt’, in САН XIV: 612-37 Kellner, H.-J. (1978) Die Römer in Bayern, 4th edn. Munich Kennedy, D. L. (1980) ‘The frontier policy of Septimius Severus: New evidence from Arabia’, Limes Congress XLL: 879-88 Kennedy, D. L. (1982) Archaeological Explorations on the Roman Frontier in North East Jordan (BAR Suppi. Ser. 134). Oxford Kennedy, D. L. (1987) ‘The East’, in Wacher (1987) pt iv: 266-308 Kennedy, D. L. (ed.) (1996) The Roman Army in the East (JRA Suppl. 18). Ann Arbor, MI
Kennedy, D. L. and Macadam, H. I. (1985) ‘Some Latin inscriptions from the Azraq Oasis, Jordan’, ZPE 60: 97-107
Kennedy, D. L. and Riley, D. (1990) Rome's Desert Frontier from the Air. London Kloft, H. (1970) Liberalitas principis: Untersuchungen zur Prinzipatsideologie (Kölner historische Abhandlungen 18). Cologne and Vienna Kotula, T. (1965) Zgromadzenia prowincjonalne w rzymskiej Afryce w epocepoznego cesarstwa (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe Prace. A, 108). Wroclaw (French summary: Les assemblées provinciales dans l'Afrique romaine sous le Bas-Empire, 171-9)
Kotula, T. (1974) ‘Snobisme municipal ou prospérité relative? Recherches sur le statut des villes nord-africaines sous le Bas-Empire’, AntAfr 8: in-31
1006
Библиография
Krüger, J. (1990) Oxyrhynchos in der Kaiserzeit: Studien zur Topographie und Literaturrezeption (Europäische Hochschulschriften 111.441). Frankfurt-am- Main
Kubitschek, W. (1916) ‘Itinerarien’, RE ix: 2308-63
Lallemand, J. (1964), L \'administration civile de TEgypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284—382) (Mémoires de l’Académie Royale de Belgique, Cl. des Lettres 57.2). Brussels
Lamberti, E (1993) ‘Tabulae Imitanae ': municipalità e ‘ius Romanorum (Pubbli- cazioni dei Dipartimento di diritto Romano e storia della scienza Romanistica deH’Università degli studi di Napoli ‘Federico и’ 6). Naples Lander, J. (1984) Roman Stone Fortifications (BAR Suppl. Ser. 206). Oxford Langhammer, W (1973) Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Ubergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2—4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit). Wiesbaden Lavagne, H. (1994) ‘Une nouvelle inscription d’Augsbourg et les causes de l’usurpation de Postume’, CRAI1994: 431-45 Lepelley, C. (1979) Les cités de TAfrique romaine au Bas-Empire. I: La permanence d'une civilisation municipale. Paris
Lepelley, C. (1981a) Les cités de TAfrique romaine au Bas-Empire. H: Notices d'histoire municipale. Paris
Lepelley, C. (1981b) ‘La carrière municipale dans l’Afrique romaine sous l’empire tardif, Ktema 6: 333-47 (repr. in Lepelley (2001) 105-21)
Lepelley, C. (1986) ‘Fine dell’ordine equestre: le tappe dell’unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo’, in Giardina, Società romana 1: 227-44 Lepelley, C. (1990) ‘ Ubique res publica: Tertullien témoin méconnu de l’essor des cités africaines à l’époque sévérienne’, in L'Afrique dans l'Occident romain 403-21 (repr. in Lepelley (2001) 23-38)
Lepelley, C. (1996) ‘La fin du privilège de liberté: la restriction de l’autonomie des cités à l’aube du Bas-Empire’, in A. Chastagnol, S. Demougin and C. Lepelley (eds.), ‘Splendidissima Civitas ': Etudes d'Histoire romaine en hommage à François Jacques (Paris) 206-20
Lepelley, C. (2001) Aspects de TAfrique romaine: Les cités, la vie rurale, le christianisme (Munera: Studi storici sulla tarda antichità 15). Bari Lewin, A. (1991) Studi sulla città imperiale romana nell'Oriente tardoantico (Biblioteca di Athenaeum 17). Como Lewis, N. (1983) Life in Egypt under Roman Rule. Oxford
Lewis, N. (1997) The Compulsory Public Services of Roman Egypt (Papyrologica Florentina 28) 2nd edn. Florence
Liebenam, W. (1900) Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche. Leipzig (repr. Amsterdam, 1967)
Liebeschuetz, J. H. G. W. (1972) Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire. Oxford
Liebs, D. (1978) ‘Amterpatronage in der Spätantike’, ZRG 95: 158-86 Lintott, A. (1993) Imperium Romanum: Politics and Administration. London and New York
Часть третья... (главы 8—10)
1007
Loriot, X. (1975а) ‘Les premières années de la grande crise du IHe siècle: de ravènement de Maximin le Thrace (235) à la mort de Gordien III (244)’, ANRW il 2: 657-787
Loriot, X. (1975b) ‘Chronologie du règne de Philippe l’Arabe (244-9 après J. C.)’, ANRW 11.2: 788-97
Lukaszewicz, A. (1986) Les édifices publics dans les villes de l’Egypte romaine: Problèmes administratifi et financiers. Warsaw
MacMullen, R. (1963) Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Cambridge, MA
MacMullen, R. (1982) ‘The epigraphic habit in the Roman empire’, AJPh 103: 233“46
Magie, D. (1950) Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, 2 vols. Princeton
Mann, J. C. (1975) ‘The frontiers of the principate’, ANRW ill 508-33 Mann, J. C. (1979) ‘Power, force and the frontiers of the empire’, JRS 69: 175-83 (review of Luttwak, Grand Strategy)
Matthiass, B. (1891) ‘Zur Geschichte und Organisation der römischen Zwangsverbände’, in Festschrift der Rostocker Juristenfakultät zum fünfzigjährigen, Doctorjubiläum, Sr. Excellenz, des Staatsrathes Dr. von Buchka (Rostock) 1-41 Mattingly, D. J.(i995) Tripolitania. London Mattingly, H. (1939) ‘The imperial recovery’, C4//XIP: 297-351 Maxfield, V. A. (1987) ‘Mainland Europe’, in Wacher (1987) pt iv: 139-97 Mayerson, P. (1983) ‘P.Oxy: 3574: Eleutheropolis of the New Arabia’, ZPE 53: 251-8 Mayerson, P. (1986) ‘Nea Arabia {P.Oxy. 3574): an addendum to ZPE53’, ZPE 64: 139-40
Mélèze-Modrzejewski, J. (1961) ‘La dévolution à l’État des successions en déshérence dans le droit hellénistique (Note sur P. Doura-Welles 12)’, RLDAb 8: 79-113
Mélèze-Modrzejewski, J. (1982) ‘Ménandre de Laodicée et l’Édit de Caracalla, Symposion 1977: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly; 1.-4. June 1977) (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 3) (Cologne and Vienna) 335-66 (repr. in Mélèze- Modrzejewski (1990) ch. 12)
Mélèze-Modrzejewski, J. (1985) ‘Entre la cité et le fisc: le statut grec dans l’Égypte romaine’, in E J. Fernândez Nieto (ed.), Symposion 1982: Actas de la Sociedad de Historia del Derecho Griego y Helenistico (Santander, 1—4 septiembre 1982) (Valencia) 241-80 (repr. in Mélèze-Modrzejewski (1990) ch. 1) Mélèze-Modrzejewski, J. (1990) Droit impérial et traditions locales dans lEgypte romaine (Variorum Collected Studies 321). Aldershot Meredith, D. (1952) ‘The Roman remains in the eastern desert of Egypt 1 \JEA 38: 94-111
Meredith, D. (1953) ‘The Roman remains in the eastern desert of Egypt 2\JEA 39: 96-106
Mertens, P. (1958) Les services de Tétat-civil et le contrôle de la population à Oxyrhynchus au LILe siècle de notre ère (Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, Mémoires 53.2). Brussels
1008
Библиография
Metcalf, W. E. (1987) ‘From Greek to Latin currency in third-century Egypt’, in
H. Huvelin, M. Christol and G. Gautier (eds.), Mélanges de numismatique offerts à Pierre Bastien à l'occasion de son 75e anniversaire (Wetteren) 157-68 Mihailov, G. (1963) ‘Septimius Severus in Moesia Inferior and Thrace’, in B. Gerov et al., Acta Antiqua Philippopolitana: Studia Historica et Philologica (Sofia) 113- 26
Millar, F. G. B. (1964) ‘Some evidence on the meaning of Tacitus, Annals XII 60’, Historia 13: 180-7
Millar, F. G. B. (1965) ‘The development of jurisdiction by imperial procurators: further evidence’, Historia 14: 362-7
Millar, F. G. B. (1969) ‘P. Herennius Dexippus: the Greek world and the third- century invasions’, JRS 59: 12—29
Millar, F. G. B. (1983) ‘Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status’, JRS 73: 76-96
Miller, K. (1916) Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana. Stuttgart
Mirkovic, M. (1980) ‘Vom obermosischen Limes nach dem Süden: Via Nova von Viminacium nach Dardanien’, Limes Congress XII: 11.745-55 Missler, H. E. L. (1970) Der Komarch: ein Beitrag zur Dorfverwaltung im polemäischen, römischen und byzantinischen Ägypten. Marburg and Lahn Mitford, T B. (1980) ‘Cappadocia and Armenia Minor: historical setting of the Limes, ANRW 11.7:1169-1228
Mitteis, L. (1891) Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Leipzig
Mitteis, L. and Wilcken, U. (1912) Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, 4 vols. Leipzig and Berlin
Môcsy, A. (1969) ‘Ein spätantiker Festungstyp am linken Donauufer’, Limes Congress VIII: 191-6
Môcsy, A. (1974) Pannonia and Upper Moesia. London Mommsen, T. (1887-8) Römisches Staatsrecht, 3rd edn, 3 vols. Leipzig Mommsen, T. (1905) Gesammelte Schriften II: Juristische Schriften II. Berlin Montevecchi, О. (1988) La Papirologia, repr. with addendum. Milan (ist edn. 1974) Musurillo, H. H. (1972) The Acts of the Christian Martyrs. Oxford Neesen, L. (1980) Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kais er zeit 27 V. Chr. bis 284 n.Chr. (Antiquitas 1.32). Bonn Neesen, L. (1981) ‘Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts’, Historia 30: 203-35
Noethlichs, K. L. (1981) Beamtentum und Dienstvergehen: Zur Staatsverwaltung in der Spätantike. Wiesbaden Nörr, D. (1965) ‘Origo’, in RE Suppl, x: 433-73
Nörr, D. (1966) Imperium' und Polis' in der hohen Prinzipatszeit (Münch. Beitr. 50). Munich
Nörr, D. (1969) ‘Zur Entstehung der Gewohnheits-rechtlichen Theorie’, in M. Kaser et al. (eds.), Festschrift fur Wilhelm Felgentraeger zum 70. Gerburtstag: im Namen von Freunden, Kollegen und Schülern (Göttingen) 353-66
Часть третья... (главы 8—10)
1009
Nuyens, М. (1964) Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien. Louvain
Oates, D. (1968) Studies in the Ancient History of Northern Iraq. London Oates, J. F. et al. (2001) Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets (BASF Suppl. 9) 5th edn. Atlanta Oberhummer, E. (1937) ‘Perinthos’, RE xix: 802-13
Oertel, F. (1917) Die Liturgie: Studien zurptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens. Leipzig
Oertel, F. (1939) ‘The economic life of the empire’, САН XII1: 232-81 Palme, В. (1989) Das Amt des АПА1ТНТН2 in Ägypten (MPER n.s. 20). Vienna Palme, B. (1999) ‘Die Officia der Staathalter in der Spätantike: Forschungsstand und Perspektiven’, AT 7: 85-133
Papazoglu, F. (1988) Les Villes de Macédoine à Tépoque romaine (.BCH Suppl. 16). Paris
Parker, S. T. (1986) Romans and Saracens: A History of the Arabian Frontier. Winona Lake, IN
Parker, S. T. (1987) The Roman Frontier in Central Jordan: Interim Report on the Limes Arabicus Project, 1980—8$ (BAR Int. Ser. 340) 2 vols. Oxford Parsons, P. J. (1967) ‘Philippus Arabs and Egypt’, JRS 57: 134-41 Paschoud, F. (1971—89) Zosimey Histoire Nouvelle (ed. and commentary), 3 vols, in 5, ist edn. Paris
Paschoud, F. (2000) Zosime, Histoire Nouvelle I: Livres I—LI (Budé), 2nd edn. Paris Petit, P. (1955) Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C.
(Bibliothèque Archéologique et Historique 62). Paris Petrikovits, H. von (1971) ‘Fortifications in the north-western Roman empire from the third to the fifth centuries a.d.\JRS 61: 178-218 Petrovic, P. (ed.) (1996) Roman Limes on the Middle and Lower Danube (Cahiers des Portes de Fer, Monographies 2). Belgrade Pflaum, H.-G. (1940) ‘Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire romain’, Mémoires présentés à l Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 14: 189—390 Pflaum, H.-G. (1952) ‘La fortification de la ville d’Adraha d’Arabie (259—260 à 274—275) d’après des inscriptions récemment découvertes’, Syria 29: 307-30 Picard, G. C. (1947) Castellum Dimmidi. Algiers and Paris Poczy, K. (1995) ‘La città di Aquincum sede dei luogotenente della Pannonia Inferiore’, in Hajnoczi (1995) 221-31
Polverini, L. (1975) ‘Da Aureliano a Diocleziano’, ANRW 11.2: 1013-35 Popovic, V. (ed.) (1971) Sirmium: Archaeological Investigations in Syrmian Pannonia, /. Belgrade
Price, R. M. (1976) ‘The Limes of Lower Egypt’, in Goodburn and Bartholomew, Notitia Dignitatum 143-8
Quass, F. (1993) Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens: Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit. Stuttgart
Radke, G. (1973) ‘Viae Publicae Romanae’, RE Suppl, xiii: 1417-1686 Rathbone, D. W. (1989) ‘The ancient economy and Graeco-Roman Egypt’, in
L. Criscuolo and G. Geraci (eds.), Egitto e storia antica dalTellenismo alTetà
1010
Библиография
araba: bilancio di un confronto. Atti del colloquio internazionale, Bologna, 31 Agosto-2 Settembre, 1987 (Bologna) 159-76 Rathbone, D. W. (1990) ‘Villages, land and population in Graeco-Roman Egypt’, PCPS 3 6:103-42
Rathbone, D. W. (1991) Economic Rationalism and Rural Society in Third-century AD Egypt: The Heroninus Archive and the Appianus Estate. Cambridge Rathbone, D. W. (1996) ‘Monetisation, not price-inflation, in third-century a.d.
Egypt?’, in King and Wigg, Coin Finds 321-39 Rea, J. R. (1974) ‘PSIIV 310 and imperial bullion purchases’, CE 49: 163-74 Rea, J. R. (1977) ‘A new version of P Yale inv. 299’, ZPE 27:151-6 Rea, J. R. (1980) ‘Ordinatus’, ZPE 39: 217-19
Rea, J. R. (1983) ‘Proceedings before Q. Maecius Laetus Praef. Aeg. etc.’, JJP 19: 91-101
Rea, J. R., Salomans, R. P. and Worp, K. A. (1985) ‘A ration-warrant for an adiutor memoriae’, YCS 28:101-13
Reece, R. (1992) ‘The end of the city in Roman Britain’, in Rich (1992) 136-44 Rees, B. R. (1952) ‘The defensor civitatis in Egypt’, JJP 6: 73-102 Rees, B. R. (1953-4) ‘The curator civitatis in Egypt’, JJP 7-8: 83-105 Rey-Coquais, J. P (1978) ‘Syrie romaine de Pompée à Dioclétien’, JRS 68: 44-73
Rich, J. (ed.) (1992) The City in Late Antiquity (Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society 3). London and New York Richardson, J. S. (1996) The Romans in Spain. Oxford Rigsby, K. (1977) ‘Sacred ephebic games at Oxyrhynchus’, CE 52:147-55 Rivet, A. L. F. (1988) Gallia Narbonensis: Southern Gaul in Roman Times. London Rivet, A. L. F. and Smith, C. (1979) The Place-Names of Roman Britain. London Robert, L. (1937) Etudes anatoliennes: Recherches sur les inscriptions grecques de TAsie Mineure (Etudes Orientales 5). Paris
Robert, L. (1940) ‘Inscriptions de Bithynie copiées par Georges Radet’, REA 42: 302-22
Robert, L. (1969-90) Opera Minora Selecta, 7 vols. Amsterdam Robert, L. (1972-83) Index du Bulletin Epigraphique, 5 vols. Lyon Robert, L. and Robert, J. (1955) Hellenica X. Limoges
Roll, I. (1989) ‘A Latin imperial inscription from the time of Diocletian found at Yotvata’, Israel Exploration Journal 39: 239-60 Rostovtzeff, M. (1902) Geschichte des Staatspacht in der römische Kaiserzeit bis Diokletian (Philologus Supplementband ix/3). Leipzig (repr. in series Studia Historica 91; Rome, 1971)
Rostovtzeff, M. (1917-18) ‘Pontus, Bithynia and the Bosporus’, ABSA 22: 1-22 Rousseau, P (1999) Pachomius: The Making of a Community in Fourth-Century Egypt (The Transformation of the Classical Heritage 6) rev. edn. Berkeley (ist edn. 1985)
Rowlandson, J. L. (1996) Landowners and Tenants in Roman Egypt: The Social Relations of Agriculture in the Oxyrhynchite Nome. Oxford Roxan, M. (1976) ‘The pre-Severan auxilia named in the Notitia Dignitatum , in Goodburn and Bartholomew, Notitia Dignitatum 59—79
Часть третья... (главы 8—10)
1011
Ste Croix, G. E. M. de (1981) The Class Struggle in the Ancient Greek World. London Salama, P. (1951) Les voies romaines de TAfrique du Nord. Algiers Salama, P. (1953) ‘Nouveaux témoignages de l’œuvre des Sévères dans la Maurétanie Césarienne: part 1’, Libyca 1: 231-61
Salama, P. (1955) ‘Nouveaux témoignages de l’œuvre des Sévères dans la Maurétanie Césarienne: part 2’, Libyca 3: 330-67 Saria, B. (1954) ‘Praevalitana’, RE xxii: 1673-80
Sarnowski, T. (1987) ‘Das römische Heer im Norden des Schwarzen Meeres’, Archaeologia (Warsaw) 38: 61-98
Scardigli, B. (1976) ‘Die go tisch-römischen Beziehungen im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. Ein Forschungsbericht 1950-1970.1. Das 3. Jahrhundert’, ANRW 11.4: 200-85
Schönberger, H. (1969) ‘The Roman frontier in Germany: an archaeological survey’, JRS 59: 144-97
Schönberger, H. (1985) ‘Die römischen Truppenlager der frühen und mittleren Kaiserzeit zwischen Nordsee und Inn’, BRGK 66: 322-497 Schubert, P. (1997) ‘Antinoopolis, pragmatisme ou passion?’, CE 72: 119-27 Schulte, C. (1994) Die Grammateis von Ephesos: Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 15). Stuttgart Scorpan, C. (1980) Limes Scythiae: Topographical and Stratigraphical Research on the Late Roman Fortifications on the Lower Danube (BAR Int. Ser. 88). Oxford Seeck, O. (1901) Geschichte des Untergangs der antiken Welt, vol. 11. Orig. edn. Berlin
Seston, W. (1943) ‘Notes critiques sur l’histoire Auguste’, REA 45: 49-60 (repr. in Scripta Varia (CEFR 43; Paris, 1980) 519-30)
Seston, W. (1962) ‘Digne et la fin de l’autonomie municipale en Occident’, REA 64: 314-25 (repr. in Scripta Varia (CEFR 43; Paris, 1980) 309-20)
Seston, W. (1966) ‘Marius Maximus et la date de la Constitutio Antoniniand, in Mélanges d'archéologie, d’épigraphie et d'histoire offerts à Jérôme Carcopino (Paris) 877-88 (repr. in Scripta Varia (CEFR 43; Paris, 1980) 65-76) Sijpesteijn, P. J. (1992) ‘The meanings of f|Toi in the papyri’, ZPE 90: 241-50 Simon, D. (1964) Studien zur Praxis der Stipulationsklausel (Münch. Beitr. 48). Munich
Sirks, A. J. B. (1989) ‘Munera publica and exemptions (vacatio, excusatio and immunitas)', Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon D'Abadal I de Vinyals, Annals of the Archive of “Ferran Vails I Taberner’s Library” 6 (Barcelona) 79-in
Sirks, A. J. B. (1993) ‘Did the late Roman government try to tie people to their profession or status?’, Tyche 8: 159-75 Smith, M. (1998) ‘Coptic literature, 337-425’, in САН XIII: 720-35 Soproni, S. (1978) Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre: das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Budapest Sotgiu, G. (1975a) ‘Treboniano Gallo, Ostiliano, Volusiano, Aemiliano’, ANRW и.2: 798-802
Sotgiu, G. (1975b) ‘Aureliano (1960-1972)’, ANRW 11.2: 1039-61
1012
Библиография
Spagnuolo Vigorita, T. (1978a) Secta temporum meorum: Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi deiprincipato di Gordiano III (Kleio 3). Palermo
Spagnuolo Vigorita, T. (1978b) ‘Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi dei terzo secolo d.c.’, Labeo 24: 131-68
Spagnuolo Vigorita, T. (1984) Exsecranda pernicies: Delatori e fisco nell’età di Costantino (Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Uni versi tà di Napoli 213). Naples
Speidel, M. P. (1974) ‘Stablesiana: the raising of new cavalry units during the crisis of the Roman empire’, Chiron 4: 541-6
Speidel, M. P. (1978) ‘The Roman army in Arabia’, ANRW 11.8: 687-730 (repr. in M. P. Speidel, Roman Army Studies 1 (Mavors Roman Army Researches 1; Amsterdam, 1984) 229-72)
Speidel, M. P. (1984) ‘The road to Viminacium’, Arheoloski Vestnik 35: 339-41 (repr. in M. P. Speidel, Roman Army Studies 2 (Mavors Roman Army Researches 8; Stuttgart, 1992) 170-2)
Srejovic, D. (ed.) (1993) Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia. Belgrade
Srejovic, D., Tomovic, M. and Vasic, C. (1996) ‘Sarkamen tetrarchial imperial palace’, Starinar 47: 232-43
Starr, C. G. (i960) The Roman Imperial Navy, 2nd edn. Cambridge
Stickler, T (1995) ‘Iuthungi sive Semnones. Zur Rolle der Juthungen bei der römisch-germanischen Auseinandersetzung am Raetischen Limes in der Zeit zwischen Gallienus und Aurelian’, Bayerische Vorgeschichtsblatter 60: 231-49
Tabula Imperii Romani (77/?): individual sheets as follows:
G36 Coptos. Meredith, D. (ed.). London, 1958
H/I Iudaea-Palaestina. Tsafrir, Y., Di Segni, L. and Green, J. (eds.). Jerusalem, 1994
H/I 33 Lepcis Magna. Goodchild, R. G. (ed.). London, 1954 H/I 34 Cyrene. Goodchild, R. G. (ed.). London, 1954
J29 Emerita-Scallabis-Pax Iulia-Gades. Alarcao, J. de et aL (eds.). Madrid, 1995 K29 Conimbriga-Bracara-Lucus-Aisturica. Balil Ilana, A. et al. (eds.). Madrid, 1991
K30 Caesaraugusta-Clunia. Cepas Palanca, A. (ed.). Madrid, 1993
K/J 31 Tarraco-Baliares. Cepas Palanca, A. (ed.). Madrid, 1997
K34 Naissus-Serdica-Thessalonike. Sasel, J. (ed.). Ljubljana, 1976
K35/35, L34/35 Drobeta-Romula-Sucidava. Tudor, D. (ed.). Bucharest, 1965
K35.1 Philippi. Avramea, A. (ed.). Athens, 1993
L32 Mediolanum-Aventicum-Brigantium. Lugli, G.(ed.). Rome, 1966
L33 Tergeste. Carettoni, G. (ed.). Rome, 1961
L34 Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium. Soproni, S. (ed.). Budapest, 1968 L35 Romula-Durostorum-Tomis. Russu, I. I. (ed.). Bucharest, 1969 M30/31 Condate-Glevum-Londinium-Lutetia. Rivet, A. L. F. (ed.). London, 1983
M33 Castra Regina-Vindobona-Carnuntum. Oliva, P. et al. (eds.). Prague, 1986 N29/30/31/O29/30 Britannia Septentrionalis. Rivet, A. L. F. (ed.). London, 1987
Часть третья... (главы 8—10)
1013
Talbert, R. (ed.) (2000) Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton Taubenschlag, R. (1955) The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 2nd edn. Warsaw
Thomas, J. D. (1959) ‘The office of exactor in Egypt’, CE 34: 124-40 Thomas, J. D. (i960) ‘The strategus in fourth-century Egypt’, CE 35: 262-70 Thomas, J. D. (1974) ‘The disappearance of the dekaprotoi in Egypt’, BASF 11: 60-8
Thomas, J. D. (1975a) ‘A petition to the prefect of Egypt and related imperial edicts,JEA 61: 201-21
Thomas, J. D. (1975b) ‘The introduction of dekaprotoi and comarchs into Egypt in the third century a.d.’, ZPE 19: 111-19 Thomas, J. D. (1976) ‘The date of the revolt of L. Domitius Domitianus’, ZPE гг: 253-79
Thomas, J. D. (1977) ‘A family dispute from Karanis and the revolt of Domitius Domitianus’, ZPE 4: 233-40
Thomas, J. D. (1978) ‘Epigraphai and indictions in the reign of Diocletian’, BASF
15: 133—45
Thomas, J. D. (1982) The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt: II The Roman Epistrategos (Papyrologica Coloniensia 6). Opladen Thomas, J. D. (1983) ‘Compulsory public service in Roman Egypt’, in G. Grimm, H. Heinen and E. Winter (eds.), Das römisch-byzantinische Ägypten, Akten des internationalen Symposions 26—30 September ipy8 in Trier (Aegyptiaca Trev- erensia 2) (Mainz) 35-9
Thomas, J. D. (1984) ‘Sabinianus, praeses of Aegyptus Mercuriana?’, BASP 21: 225-34
Thomas, J. D. (1985) ‘The earliest occurrence of the exactor civitatis in Egypt (/? Giss. inv. 126 recto)’, in YCS 28: 115-25 Thomas, J. D. and Clarysse, W (1977) ‘A projected visit of Severus Alexander to Egypt’, Ancient Society 8: 195-207
Thomas, Y. (1996) L 'origine de la commune patrie: Etude de droit public romain (8p av. J.-C.-212 ap. J.-C.) (CEFR 221). Paris Thomasson, B. E. (i960) Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus, 2 vols. Lund
Thomasson, B. E. (1982) ‘Zur Verwaltungsgeschichte der römischen Provinzen Nordafrikas (Proconsularis, Numidia, Mauretaniae)’, ANRW н.10.2: 3-61 Thomasson, B. E. (1984) Laterculi Praesidum, vol. 1. Gothenburg Tudor, D. (1968) Orase, tîrguri si sate in Dacia Romana. Bucharest Tudor, D. (1974) Les ponts romains du Bas-Danube (Bibliotheca Historica Roma- niae, Etudes 51). Bucharest
Turner, E. G. (1975) ‘Oxyrhynchus and Rome’, HSCP 79: 1-24 Turner, E. G. (1980) Greek Papyri: An Introduction, 2nd edn. Oxford Van Rengen, W (1971) ‘Les jeux de Panopolis’, CE 46:136-41 Velkov, V. (1977) Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity. Amsterdam Vetters, H. (1950) Dacia Ripensis (Österreichische Akademie der Wissenschaften Balkankommission, Antiquarische Abteilung, Schriften uh). Vienna Visy, Z. (1988) Der pannonische Limes in Ungarn. Budapest
1014
Библиография
Vittinghoff, F. (1958) ‘Zur Verfassung der spätantiken “Stadt”’, Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens (Vorträge und Forschungen 4) (Lindau and Constance) 11-40
Vittinghoff, F. (ed.) (1982) Stadt und Herrschaft: Römische Kaiserzeit und hohes Mittelalter (Historische Zeitschrift Beiheft n.s. 7). Munich
Volterra, E. (1974) ‘I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo’, in Atti del Convegno internazionale sul tema i diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo (Roma, 26—28 ottobre 1971) (Problemi attuali di scienza e di cultura quaderno 194) (Rome) 55-64 (repr. in Scritti Giuridici 5 (Antiqua 65; Naples, 1993) 399-408)
Vulpe, R. (1974) ‘Les valla de la Valachie, de la Basse-Moldavie et du Boudjak’, Limes Congress IX: 267-76
Wacher, J. (ed.) (1987) The Roman World, 2 vols. London and New York
Wagner, J. (1983) ‘Provincia Osrhoenae: new archaeological finds illustrating the military organisation under the Severan Dynasty’, in Mitchell, AFRBA 103-30
Wallace, S. L. (1938) Taxation in Roman Egypt from Augustus to Diocletian (Princeton University Studies in Papyrology 2). Princeton
Walser G. (1967) Die römischen Strassen in der Schweiz. 1: Teil Die Meilensteine (Itinera Romana 1). Bern
Walser, G. (1975) ‘Die Severer in der Forschung 1960-1972’, ANRW 11.2: 604-
5б
Walser, G. and Pekâry, T. (1962) Die Krise des römischen Reiches: Berichte über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193-284 n. Chr.) von 1939 bis 1939. Berlin
Wells, C. M. (1996) ‘Projuit invitis te dominante capi: social and economic considerations on the Roman frontiers’,//?/! 9: 436—46
West, L. C. and Johnson, A. C. (1944) Currency in Roman and Byzantine Egypt (Princeton University Studies in Papyrology 5). Princeton (repr. Amsterdam, 1967)
Whitehorne, J. E. G. (1988) ‘Recent research on the strategi of Roman Egypt (to 1985)’, ANRW 11.10.1: 598-617
Wickert, L. (1979) ‘Entstehung und Entwicklung des römischen Herrscherideals’, in H. Kloft (ed.), Ideologie und Herrschaft in der Antike (Wege der Forschung 528) (Darmstadt) 339-60
Wightman, E. M. (1970) Roman Trier and the Treviri. London
Wightman, E. M. (1985) Gallia Belgica. London
Wilcken, U. (1899) Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien, 2 vols. Leipzig and Berlin
Wilkes, J. J. (1977) ‘The Saxon Shore - British anonymity in the Roman empire’, in Johnston (1977) 76-80
Wilkes, J. J. (1989a) ‘The Roman frontier in Noricum’,//?/! 2: 347-52
Wilkes, J. J. (1989b) ‘Civil defence in third-century Achaia’, in S. Walker and A. Cameron (eds.), The Greek Renaissance in the Roman Empire {BICS Suppl. 55) (London) 187-92
Часть четвертая... (главы 11—12)
1015
Wilkes, J. J. (1993) Diocletian's Palace, Split: Residence of a Retired Roman Emperor (Occasional publications, Ian Sanders Memorial Fund 1), 2nd edn. Sheffield (ist edn. 1986)
Wilkes, J. J. (1996) ‘The Danubian and Balkan provinces’, САН X2: 545-85 Wilkes, J. J. (1998) ‘Recent work along the Middle and Lower Danube’, JRA 11: 635-43 (review of Petrovic (1996))
Wilkes, J. J. (2000) ‘The Danube provinces’, САН XI2: 577-603 Winkler, J. (1980) ‘Lollianus and the desperadoes’, JHS 100: 155-81 Wolff, H.- J. (1976) ‘Le droit provincial dans la province romaine d’Arabie’, RIDA} 23: 271-90
Wolff, H.-J. (1980) ‘Römisches Provinzialrecht in der Provinz Arabia (Rechtspolitik als Instrument der Beherrschung)’, ANRW 11.13: 763-806 Worp, K. A. (1989) ‘Kaisertitulaturen in Papyri aus dem Zeitalter Diokletians’, Ту che 4: 229-32
Zahariade, M. and Gudea, N. (1997) The Fortifications of Lower Moesia (AD 86— 275). Amsterdam
Часть четвертая
Экономическая система империи (главы 11—12)
Albana, М. (1987) ‘La vicesima libertatis in età imperiale’, Quademi Catanesi di Studi Classici e Medievali 17: 41-76
Alföldi, M. R. (1963) Die constantinische Goldprägung: Untersuchungen zu ihrer Bedeutung fur Kaiserpolitik und Hofkunst. Mainz
Alföldi, M. R. (1978) Antike Numismatik, I: Theorie und Praxis. Mainz
Amouretti, M.-C. and Brun, J.-P. (eds.) (1993) La production du vin et de Thuile en Méditerranée {BCH Suppl. 26). Paris
Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche: Actes du colbque de Sienne, 22—24 mal (1989) (CEFR 114). Rome
Andreau J. (1994) ‘L’Italie impériale et les provinces: déséquilibre des échanges et flux monétaires’, in L'Italie d'Auguste à Dioclétien 175-203
Anselmino, L. étal. (1986) ‘Ostia: terme del nuotatore’, in Giardina, Società romana ni: 45-81
L'argenterie romaine de l'Antiquité tardive (1997) {AT5)
Audoin-Rouzeau, F. (1995) ‘Compter et mesurer les os animaux: pour une histoire de l’élevage et de l’alimentation en Europe de l’Antiquité aux temps modernes’, Histoire et Mesure 10.3-4: 277-312
Augé, C. (1987) ‘La réutilisation des monnaies de bronze à l’époque impériale: quelques exemples proche-orientaux’, in Rythmes de la production monétaire 227-35
Augé, C. (1989) ‘La monnaie en Syrie à l’époque hellénistique et romaine (fin du IVe s. av. J.-C. - fin du Ve s. ap. J.-C.)’, in Dentzer and Orthmann, Syrie 149-90.
Bagnall, R. S. (1977) ‘Bullion purchases and landholding in the fourth century’, CE 52: 322-36
1016
Библиография
Bagnall, R. S. (1989) ‘Fourth-century prices: new evidence and further thoughts’, ZPE 76: 69-76
Bagnall, R. S. (1992a) ‘Landholding in late Roman Egypt: the distribution of wealth’, JRS 82: 128-49
Bagnall, R. S. (1992b) ‘The periodicity and collection of the chrysargyron’, Tyche
T15-17
Banaji, J. (2000) ‘State and aristocracy in the economic evolution of the late empire’, in Lo Cascio and Rathbone (2000) 107-17
Baratte, E (ed.) (1988) Argenterie romaine et byzantine: Actes de la table ronde (Paris, 11-13 octobre 1983). Paris
Baratte F. (1993) La vaisselle d'argent en Gaule dans lAntiquité tardive (IIIe-Ve siècles). Paris
Barrandon, J.-N., Brenot, C, Christol, M. and Melky, S. (1981) ‘De la dévaluation de l’antoninianus à la disparition du sesterce: essai de modélisation d’un phénomène monétaire’, PACT 5 (Strasbourg) 381-90
Bastien, P. (1967) Le monnayage de bronze de Postume (Numismatique romaine 3). Wetteren
Bastien, P. (1972) Le monnayage de Tatelier de Lyon, Dioclétien et ses corêgents avant la réforme monétaire (283—294) (Numismatique romaine 7). Wetteren
Bastien, P. (1976) Le monnayage de l'atelier de Lyon, de la réouverture de l'atelier parAurélien à la mort de Carin (fin 274—mi 287) (Numismatique romaine 9). Wetteren
Bastien, P (1982) Le monnayage de Tatelier de Lyon, de la réouverture de Tatelier en 318 à la mort de Constantin (318-337) (Numismatique romaine 13). Wetteren
Bastien, P. (1988) Monnaie et donativa au Bas-Empire (Numismatique romaine 17). Wetteren
Bastien, P. (1992-1994) Le buste monétaire des empereurs romains I-LIL (Numismatique romaine 19). Wetteren
Bastien, P. and Gautier, G. (1980) Le monnayage de Tatelier de Lyon, de la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture temporaire de Tatelier en 316 (294-316) (Numismatique romaine 11). Wetteren
Bastien, P. and Metzger, C. (1977) Le trésor de Beaurains, dit d'Arras (Numismatique romaine 10). Wetteren
Bastien, P et al. (eds.) (1980) Mélanges de numismatique, d'archéologie et d'histoire offerts à Jean Lafaurie. Paris
Begley, V. and De Puma, R. D. (eds.) (1991) Rome and India: The Ancient Sea Trade. Madison, WI and London
Bell, M. (1994) ‘An imperial flour mill on the Janiculum’, in Le ravitaillement 73-89
Bellamy, P. S. and Hitchner, R. B. (1996) ‘The villas of the Vallée des Baux and the Barbegal Mill: excavations at la Mérindole villa and cemetery’, JRA 9:154-76
Benoit, F. (1940-5) ‘L’usine de meunerie hydraulique de Barbegal (Arles)’, Revue archéologique 15: 19-80
Berchem, D. van (1937) ‘L’annone militaire dans l’Empire romain au IHe siècle’, Mémoires de la Société des Antiquaires de France 80: 117-201
Часть четвертая... (главы 11—12)
1017
Berger, F. (1996) ‘Roman coins beyond the northern frontiers: some recent considerations’, in King and Wigg, Coin Finds 55-61 Berghaus, P. (1991) ‘Roman coins from India and their imitations’, in A. K. Jha (ed.), Coinage, Trade and Economy, 3rd International Colloquium, January 8th—nth 1991 (Anjaneri, Nashik) 108-21
Berghaus, P. (1993) ‘Les phases de l’importation des monnaies romaines en Inde’, BSFN 48.5: 547-9
Besly, E. and Bland, R. (1983) The Cunetio Treasure: Roman Coinage of the Third Century AD. London
Blanchard-Lemée, M., Ennaïfer, M., Slim, H. and Slim, L. (1995) Sols de l’Afrique romaine: Mosaïques de Tunisie. Paris (English transi. K. D. Whitehead, Mosaics of Roman Africa: Floor Mosaics from Tunisia (London, 1996))
Bland, R. (1996a) ‘Gold and silver denominations a.d. 193-253’, in King and Wigg, Coin Finds 63-100
Bland, R. (1996b) ‘The Roman coinage of Alexandria, 30 B.C.-A.D. 296: interplay between Roman and local designs’, in Archaeological Research in Roman Egypt (JRA Suppl. 19) (Ann Arbor) 113-27
Bland, R. (1997) ‘The changing patterns of hoards of precious-metal coins in the late empire’, AT 5: 29-55
Blâzquez, J. M. and Remesal Rodriguez, J. (eds.) (1983) Producciôn y comercio del aceite en la AntigUedad, Segundo Congreso Intemacional: Sevilla, 24—28 fehrero 1982. Madrid
Bloch, M. (1935) ‘Avènement et conquête du moulin à eau’, Annales d’histoire économique et sociale 36: 538—63 (repr. in Mélanges historiques (Paris, 1983) 800-21)
Boak, A. E. R. and Youtie, H. C. (i960) The Archive ofAurelius Isidorus. Ann Arbor Boon, G. C. (1971) ‘Aperçu sur la production des métaux non ferreux dans la Bretagne romaine’, Apulum 9: 453-503
Bopearachchi, O. (1992) ‘Le commerce maritime entre Rome et Sri Lanka d’après les données numismatiques’, REA 94: 107-21 Borgard, P. (1994) ‘L’origine liparote des amphores “Richborough 527” et la détermination de leur contenu’, SFECAG (Actes du Congrès de Millau, 12-15 mai 1994) 197-203
Borgard, P. (2001) L’alun de l’Occident romain: Production et distribution des amphores romaines de Lipari (Ph.D. diss., Université d’Aix en Provence 1) Bost, J.-P. (2000) ‘Guerre et finances, de Marc Aurèle à Maximin (161-238)’, in Economie antique ni: 399-415
Bost, J.-P. et al. (1992) L’épave Cabrera III (Majorque): Echanges commerciaux et circuits monétaires au milieu du IIle siècle après J.-C. (Publications du Centre Pierre Paris 23). Paris
Bowersock, G. (1989) ‘Social and economic history of Syria under the Roman Empire’, in Dentzer and Orthmann, Syrie 63-80 Bowman, A. K. (1967) ‘The crown-tax in Roman Egypt’, BASP 4: 59-74 Bowman, A. K. (1980) ‘The economy of Egypt in the earlier fourth century’, in King, Imperial Revenue 23—40
Bowman, A. K. (1985) ‘Landholding in the Hermopolite nome in the fourth century A. D.\JRS 75: 137-63
1018
Библиография
Bowman, А. К. and Rathbone, D. W. (1992) ‘Cities and administration in Roman Egypt’,82: 107-27
Braudel, F. (1980) Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVe —XVIIle siècle,
3 vols. 2nd edn. Paris
Brenot, C. (1993) ‘Analyses des monnaies de billon du IVe siècle: réflexions sur l’interprétation des résultats’, in Camilli and Sorda, L’Hnflazione’ 89-96 Brenot, C. and Metzger, C. (1992) ‘Trouvailles de bijoux monétaires dans l’Occident romain’, in L’or monnayé in: 315-59 Broughton, T. R. S. (1938) ‘Roman Asia’, in ESAR 4: 499-918 Brun, J.-P. and Borréani, M. (1998) ‘Deux moulins à eau hydrauliques du Haut- Empire romain en Narbonnaise: villae des Mesclans à La Crau et de Saint- Pierre / Les Laurons aux Arcs (Var)’, Gallia 55: 279—326 Burnett, A. (1987) Coinage in the Roman World. London
Butcher, K. (1988) Roman Provincial Coins: An Introduction to the Greek Imperials. London
Buttrey, T. V. (1961) ‘Dio, Zonaras and the value of the Roman aureus’, JRS 51: 40-5
Buttrey, T. V. (1972) ‘A hoard of sestertii from Bordeaux and the problem of bronze circulation in the third century a.d. ’, American Numismatic Society Museum Notes 18: 33-58
Buttrey, T. V. (1996) ‘Roman imperial coinage: three studies’, JRA 9: 587-93 Cagnat, R. (1882) Etude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu ’aux invasions barbares. Paris
Callu, J.-P. (1970) ‘La fonction monétaire dans la société romaine sous l’Empire’, in H. van der Wee, V. A. Vinogradov and G. G. Kotovsky (eds.), Ve Congrès international d’histoire économique (Léningrad, 10—14 août 1970) (Congrès et Colloques 15) (Paris, The Hague and New York) 1-47 Callu, J.-P. (1980) ‘Frappes et trésors d’argent de 324 à 392/Silver hoards and emissions from 324 to 392’, in King, Imperial Revenue 175-254 Callu, J.-P. (1983) ‘Structure des dépôts d’or au IVe siècle (312-392)’, in E. Frézouls (ed.), Crise et redressement dans les provinces européennes de l’Empire (milieu du IIle— milieu du IVe siècle après J.-G): Actes du colloque de Strasbourg, décembre 1981 (Contributions et Travaux de l’Institut d’Histoire Romaine 3) (Strasburg) 157-74
Callu, J.-P. (1991) ‘La perforation de l’or romain’, in H. R. Baldus, A. Geissen and P.-H. Martin (eds.), Die Münze. Bild, Botschaft, Bedeutung. Festschrift fur Maria R. Alföldi (Frankfurt-am-Main) 99-121 Callu, J.-P. (1993) ‘I commerci oltre i confini dell’Impero’, in Schiavone, Storia di Roma 3.1: 487-524
Callu, J.-P. (1995) ‘Le butin de Neupotz’, JRA 8: 514-20
Callu, J.-P. and Barrandon, J.-N. (1986) ‘L’inflazione nel IV secolo (295-361): il contributo delle analisi’, in Giardina, Società romana 1: 559-99 (abridged as: ‘Analyses métalliques et inflation dans l’Orient romain de 295 à 361/368’, in Morrisson and Lefort (1989) 223-33)
Callu, J.-P., Brenot, C. and Barrandon, J.-N. (1979) ‘Analyses de séries atypiques (Aurélien, Tacite, Carus, Licinius)’, Numismatica e Antichità Classiche (Quaderni Ticinesi) 8: 243-51
Часть четвертая... (главы 11—12)
1019
Callu, J.-R, Brenot, С., Barrandon, J.-N. and Poirier, J. (1985) ‘Aureus obryziacus’, in L ’or monnayé 1: 80—hi
Cameron, Alan (1979) ‘The date of the Anonymus De Rebus Bellicis’, in M. W. C. Hassall and R. I. Ireland (eds.), Aspects of the De Rebus Bellicis’ (BAR Int. Ser. 63) (Oxford) 1.1-10
Camilli, L. and Sorda, S. (eds.) (1989) La moneta nei contesti archeologici: Esempi dagli scavi di Roma: Atti delVincontro di studio, Roma, 1986 (Studi e Materiali 2). Rome
Campbell, J. (2000) The Writings of the Roman Land Surveyors (JRS Monographs 9). London
II capitolo delle entrate nellefinanze municipali in occidente ed in oriente (1999). Actes de la Xe rencontre franco-italienne sur Tépigraphie du monde romain., Rome, 29-29 mai 1996. (CEFR 256). Rome
Carandini, A., Ricci, A. and De Vos, M. (1982) Filosofiana: La villa di Piazza Armerina. Immaginedi un aristocratico romano al tempo di Costantino. Palermo
Carcassonne, C., Dumas, F. and Huvelin, H. (1974) ‘Recherches du poids légal à partir des poids réels, 1: Monnaies médiévales. 11: Solidi du Bas-Empire’, BSFN 29 (July)
Carradice, I. A. (1983) Coinage and Finances in the Reign of Domitian (BAR Suppl. Ser. 178). Oxford
Carrié, J.-M. (1993a) ‘Eserciti e strategie’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 83- /54
Carrié, J.-M. (1993b) ‘Le riforme economiche da Aureliano a Costantino’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 283—322
Carrié, J.-M. (1993c) ‘Observations sur la fiscalité du IVe siècle pour servir à l’histoire monétaire’, in Camilli and Sorda, L’ ‘inflazione’ 115-54
Carrié, J.-M. (1994) ‘Les échanges commerciaux et l’Etat antique tardif’, in Economie antique 1: 175-211
Casson, L. (1990) ‘New light on maritime loans: P. Vindob. G 40822’, ZPE 84: 195-206
Cecco, M. de (1985) ‘Monetary theory and Roman history’, Journal of Economie History 45: 809-22
Cerati, A. (1975) Caractère annonaire et assiette de Pimpôt foncier au Bas-Empire (Bibliothèque d’Histoire du Droit et Droit Romain 20). Paris
Châlon, G. (1964) L’édit de Tiberius Iulius Alexander: Etude historique et exégétique (Bibliotheca Helvetica Romana 5). Lausanne
Charbonnel, N. (1974) Les ‘munera publica’ au Hie siècle. (Thesis, typewritten copy). Paris
Chastagnol, A. (1979) ‘Problèmes fiscaux du Bas-Empire’, in Points de vue sur la fiscalité antique (Publications de la Sorbonne, Etudes 14) (Paris) 127-40 (repr. in Chastagnol, Aspects 331-47)
Chastagnol, A. (1980) ‘Remarques sur les salaires et rémunérations au IVe siècle’, in Dévaluations II: 215—33 (repr. in Chastagnol, Aspects 373-92)
Chastagnol, A. (1986) ‘La législation sur les biens des villes au IVe siècle à la lumière d’une inscription d’Ephèse’, 'mAARC vi: 77-104 (repr. in Chastagnol, Aspects 143-69)
1020
Библиография
Chastagnol, А. (1989) ‘Un nouveau préfet du prétoire de Dioclétien: Aurelius Hermogenianus’, ZPE 78:165-8 (repr. in Chastagnol, Aspects 171-6)
Chastagnol, A. (1992) Le Sénat romain à l'époque impériale. Paris
Christiansen, E. (1984) ‘On denarii and other coin terms in the papyri’, ZPE 54: 271-300
Christiansen, E. (1987) The Roman Coins of Alexandria. Quantitative Studies: Nero, Trajan, Septimius Severus, 2 vols. Aarhus
Christol, M. (1977) ‘Effort de guerre et ateliers monétaires de la périphérie au Ille siècle après J.-C: L’atelier de Cologne sous Valérien et Gallien’, in Armées et fiscalité 235-75
Christol, M. (1981) L'Etat romain et la crise de l'Empire sous le règne des empereurs Valérien et Gallien (253—268) (Thesis, typewritten copy). Paris
Cimma, M. R. (1981) Ricerche sulle società di publicani. Milan
Corbier, M. (1976-7) ‘Fiscalité et monnaie: problèmes de méthode’, Dialoghi di Archeologia 9-10: 504-41
Corbier, M. (1977a) ‘Le discours du prince d’après une inscription de Banasa’, Ktema 2: 213-32
Corbier, M. (1977b) ‘L’ aerarium militare’, in Armées et fiscalité 197-234
Corbier, M. (1978) ‘Dévaluations et fiscalité (161-235)’, in Dévaluations 1: 273- 3°9
Corbier, M. (1980a) ‘Salaires et salariat sous le Haut-Empire’, in Dévaluations 11: 61-101
Corbier, M. (1980b) ‘Remarques sur la circulation monétaire au IHe siècle’, BSFN 35.10 (décembre 1980: Table ronde sur ‘L'or monétaire’): 793-7
Corbier, M. (1981) ‘Propriété et gestion de la terre: grand domaine et économie paysanne’, in Aspects de la recherche historique en France et en Allemagne: Tendances et méthodes. Colloque franco-allemand de Göttingen 3—6 X 197p (Göttingen) 11-29 (= Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fon- diaria ed economia contadina’, in A. Giardina and A. Schiavone (eds.), Società romana e produzione schiavistica l. L \'Italia,: Insediamenti e forme economiche (Bari, 1981) 427-44
Corbier, M. (1985a) ‘Fiscalité et dépenses locales’, in P. Leveau (ed.) L'origine des richesses dépensées dans la ville antique (Aix-en-Provence, 11-12 mai 1984) (Aix- en-Provence) 219-32
Corbier, M. (1985b) ‘Dévaluations et évolution des prix (1er—Ille siècles)’, in RN 27: 69-106
Corbier, M. (1986a) ‘Svalutazioni, inflazione e circolazione monetaria nel III secolo’, in Giardina, Società romana 1: 489-533 (abbreviated version: ‘Dévaluations, inflation et circulation monétaire au IHe siècle’, in Morris- son and Lefort (1989) 187-203)
Corbier, M. (1986b) ‘La Gallia settentrionale’, in Giardina, Società romana ni: 687-702
Corbier, M. (1987a) ‘Prélèvement, redistributions et circulation monétaire dans l’Empire romain (Ier-IIIe siècles)’, in J.-Ph. Genet (ed.), Genèse de l'Etat moderne: Prélèvement et redistribution (Paris) 15-29
Часть четвертая... (главы 11—12)
1021
Corbier, М. (1987b) ‘Trésors et greniers dans la Rome impériale (Ier-IIIe siècles)’, in E. Lévy (ed.), Le système palatial en Orient, en Grèce et à Rome (Actes du colloque de Strasbourg, 19—22 juin 1985) (Travaux du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques 9) (Strasburg) 411-43
Corbier, M. (1988) ‘L’impôt dans l’Empire romain: résistances et refus (Ier-IIIe siècles)’, in T Yuge and M. Doi (eds.), Forms of Control and Subordination in Antiquity (International Symposium for Studies on Ancient Worlds, January 1986, Japan) (Tokyo) 259-74
Corbier, M. (1989) ‘Histoire monétaire, histoire des prix, histoire des mines’, in Mines et métallurgie dans les civilisations antiques de la Méditerranée (Madrid\ 23—29 octobre 198$) и (Madrid) 183-94
Corbier, M. (1990) ‘De la razzia au butin. Du tribut à l’impôt. Aux origines de la fiscalité: prélèvements tributaires et naissance de l’État’, in J.-Ph. Genet (ed.), Genèse de TEtat moderne: Bilans et perspectives (Paris, 19—20 septembre 1988) (Paris) 95-107
Corbier, M. (1991a) ‘La transhumance entre le Samnium et l’Apulie: continuités entre l’époque républicaine et l’époque impériale’, in La Romanisation du Samnium aux Ile et 1er siècles avant J.-C. (Naples, Centre Jean Bérard, 4—s novembre 1988) (Bibliothèque de l’Institut Français de Naples2 9) (Naples) 149-76
Corbier, M. (1991b) ‘Cité, territoire et fiscalité’, in Epigrafia: Actes du Colloque international d*épigraphie latine en mémoire de Attilio Dégrossi pour le centenaire de sa naissance (Rome, 27—28 mai 1988) (CEFR143) (Rome) 629-65 (abridged version: ‘City, territory and fiscality’, in J. Rich and A. Wallace-Hadrill (eds.), Town and Country (London and New York, 1991) 211-39)
Corbier, M. (1992) ‘Indulgentia Principis: l’image et le mot’, in Religio Deorum: Actas del coloquio intemacional de epigrafia. Culto y Sociedad en Occidente Romano (Sabadell-Barcelona) 95—123
Corbier, M. (1994) ‘Produzioni, économie, vie di communicazione (600 a. C.- 500 d. C.)’, in J. Guilaine and S. Settis (eds.), Storia dEuropa II: Preistoria e antichità (Turin) 2.927-52
Corbier, M. (1997) ‘Congiarium’, in Der Neue Pauly 3: cols. 125—6
Corbier, M. (1999a) ‘Comment les villes romaines finançaient-elles leurs dépenses? Quelques réflexions pour conclure’, in II capito b delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in oriente (Actes de la Xe rencontre franco-italienne sur Pépigraphie du monde romain, Rome, 27—29 mai 1996) (CEFR 256) (Rome) 285-93
Corbier, M. (1999b) ‘La transhumance: aperçus historiographiques et acquis récents’, in E. Hermon (ed.), La question agraire à Rome: droit de cité et société. Perceptions historiques et historiographiques (Biblioteca di Athenaeum 44) (Como) 37-57
Corbier, M. (1999c) ‘Liberalitas, largitio’, in Der Neue Pauly 7: cols. 140—4
Corbier, M. (2000a) ‘Munificentia’, in Der Neue Pauly 8: cols. 479-81
Corbier, M. (2000b) ‘Munus’, in Der Neue Pauly 8: cols. 483-6
Coriat, J.-P. (1997) Le prince législateur: La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat (BEFAR 294). Rome
1022
Библиография
Cracco Ruggini, L. (1995) Economia e società nelïltalia annonaria: Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C. (Munera: Studi Storici sulla Tarda Antichità 2) 2nd edn. Bari (ist edn. Milan, 1961)
Crawford, M. H. (1975) ‘Finance, coinage and money from the Severans to Constantine’, ANRW 11.2: 560-93
Crawford, M. H. (1980) ‘Economia imperiale e commercio estero’, in Tecnologia, economia e società nel mondo romano. Atti del convegno di Como 27—28—29 settembre 1979 (Como) 202-17 Crawford, M. H. (1982) La moneta in Grecia e a Roma. Bari Crawford, M. H. (1986) ‘The monetary system of the Roman empire’, in Crawford, L1impero romano 61-9
Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1975) ‘The publication of the Prices Edict: a new inscription from Aezani’,//tô 65: 160-3 Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1977) ‘The Aezani copy of the Prices Edict’, ZPE 26: 125-51
Crawford, M. H. and Reynolds, J. M. (1979) ‘The Aezani copy of the Prices Edict’, ZPE 34:163-210
Cuvigny, H. (1996) ‘The amount of wages paid to the quarry-workers at Mons Claudianus’, JRS 86:139-45
D’Arms, J. H. and Kopff, E. C. (eds.) (1980) The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History (Memoirs of the American Academy in Rome 36). Rome
Dabrowski, K. and Kolendo, J. (1972) ‘Les épées romaines découvertes en Europe centrale et septentrionale’, Archaeologia Polona 13: 59-109 Dagron, G. (1984) Constantinople imaginaire: Etudes sur le recueil des 'patria ’. Paris Dagron, G. (1985) ‘Architecture et rituels politiques. La création d’espaces romains hors de Rome: le cirque-hippodrome’, in P. Catalano and P. Siniscalco (eds.), Roma fuori di Roma: Istituzioni e immagini (Atti del VSeminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma \ 21-22 aprile 1987) (Rome) 121-8 Déléage, A. (1945) La capitation du Bas-Empire. Mâcon
Delmaire, R. (1988) ‘Les largesses impériales et l’émission d’argenterie du IVe au Vie siècle’, in Baratte (1988) 113-22
Demougeot, E. (1985) ‘Autun et les invasions germaniques de la seconde moitié du Ille siècle’, in Sept siècles de civilisation gallo-romaine vus d Autun (Autun) 11-143
Depeyrot, G. (1988) ‘Crise économique, formation des prix et politique monétaire au troisième siècle après J.-C.’, Histoire et Mesure 3.2: 235-47 Depeyrot, G. (1991) Crise et inflation entre Antiquité et Moyen Age. Paris Depeyrot, G. and Hollard, D. (1987) ‘Pénurie d’argent métal et crise monétaire au Ille siècle après J.-C.’, Histoire et Mesure 2.1: 57-85 Dion, R. (1959) Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Paris
Divjak, J. (1987) Oeuvres de Saint Augustin 46B: Lettres 1 *-29 * (Bibliothèque Augus- tinienne), rev. edn. Paris (editio princeps, Divjak, CSEL lxxxviii, Vienna, 1981) Domergue, C. (1990) Les mines de la péninsule Ibérique dans TAntiquité romaine. Rome
Часть четвертая... (главы 11—12)
1023
Domergue, С. (1994) ‘L’État romain et le commerce des métaux à la fin de la République et sous le Haut-Empire’, in Economie antique 1: 99—113 Doyen, J.-M. (1987) ‘Les émissions d’or de Gallien à Rome, Milan et Siscia (260- 268): métrologie et aspects quantitatifs’, in Rythmes de la production monétaire 289-307
Drew-Bear, M. (1984) ‘Les conseillers municipaux des métropoles au IHe siècle après J.-C.’, CE 59: 315-32
Drew-Bear, M. (1997a) ‘Guerre civile et grands travaux à Hermoupolis Magna sous Gallien’, in Akten des 21 internationalen Papyrologenkongresses, Berlin 13— 19.8.1995 (Archiv für Papyrusforschung Beiheft 3) vol. i (Stuttgart and Leipzig)
237-43 t s Drew-Bear, M. (1997b) ‘Hermoupolis la Grande: une métropole d’Égypte d’après
les archives de son conseil municipal (266—268)’, in LEmpire romain de 192
à 32s, Pallas (hors série 1997): 127-30
Drew-Bear, T, Eck, W. and Hermann, P. (1977) ‘Sacrae litterae’, Chiron 7: 355-83 Drexhage, H.-J. (1991) Preise, Mieten!Pachten, Kosten und Löhne im römischen Ägypten bis zum Regierungsantritt Diokletians (Vorarbeiten zu einer Wirtschaftsgeschichte des römischen Ägypten 1). St Katharinen Drexhage, H.-J. (1993) ‘Garum und Garumhandel im römischen und spätantiken Ägypten’, MBAH 12.1: 27-55
Duncan-Jones, R. P. (1987) ‘Weight-loss as an index of coin-wear in the currency of the Roman principate’, in Rythmes de la production monétaire 237—56 Duncan-Jones, R. P. (1996a) ‘Empire-wide patterns in Roman coin hoards’, in King and Wigg, Coin Finds 139—51
Duncan-Jones, R. P (1996b) ‘The impact of the Antonine plague’, JRA 9: 108-36 Dusanic, S. (1977) ‘Aspects of Roman mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior’, in ANRW 11.6: 52-94 Erim, K., Reynolds, J. and Crawford, M. H. (1971) ‘Diocletian’s currency reform: a new inscription’,/ÄS 61: 171-7 Estiot, S. (1995) ‘Àureliana’, RN 37: 50-94
Estiot, S. (1996) ‘Le troisième siècle et la monnaie: crise et mutations’, in Fiches (1996): 33-70
Estiot, S. (1999a) ‘L’or romain entre crise et restitution, 270—276 après. J.-C., I.
Aurélien’, Journal des Savants January-June: 51—148 Estiot, S. (1999b) ‘L’or romain entre crise et restitution, 270—276 après J.-C., II: Tacite et Florien\ Journal des Savants July-December: 335-429 Estiot, S., Amandry, M. and Bompaire, M. (1994) ‘Le trésor de Sainte-Pallaye (Yonne): 8, 864 antoniniani de Valérien à Carin’, Trésors monétaires 14: 39-124 Etienne, R., Rächet, M. et al. (1984) Le trésor de Garonne: Essai sur la circulation monétaire en Aquitaine à la fin du règne d Antonin le Pieux, 159—161 (Études et Documents d’Aquitaine 6). Bordeaux
Fant, J. C. (1993) ‘Ideology, gift, and trade: a distribution model for the Roman imperial marbles’, in W. Harris (ed.), The Inscribed Economy: Production and Distribution in the Roman Empire in the Light of Instrumentum Domesticum {JRA Suppl. 6) (Ann Arbor) 145-70
Faure, E. (1961) ‘Étude sur la capitation de Dioclétien d’après le Panégyrique VUI’, in Varia: Etudes de droit romain 4: 1—153
1024
Библиография
Fentress, E. (1990) ‘The economy of an inland city: Sétif’, in L’Afrique dans l’Occident romain 117-28
Février, P.-A. et ai (1980) Histoire de la France urbaine 1: La ville antique des origines au IXe siècle. Paris
Février, P.-A. (1986) ‘Habitat ed edilizia nella tarda antichità’, in Giardina, Società romana ni: 731-60
Février, P.-A. (1996) La Méditerranée de Paul-Albert Février (CEFR 225), 2 vols. Rome
Fiches, J.-L. (ed.) (1996) Le IHe siècle en Gaule Narbonnaise. Données régionales sur la crise de l’Empire, Aix-en-Provence, La Baume, 15—16 septembre 1995. Sophia Antipolis
France, J. (1994) ‘De Burmann à Finley: les douanes dans l’histoire économique de l’Empire romain’, in Economie antique 1: 127-53 France, J. (2001) Quadragesima Galliarum: L’organisation douanière des provinces alpestres, gauloises et germaniques de l’Empire romain (Ier siècle av. J.'C. — IIIe siècle après J.-C. (CEFR 278), Rome
France, J. and Hesnard, A. (1995) ‘Une statio du quarantième des Gaules et les opérations commerciales dans le port romain de Marseille (place Jules-Verne)’, J RA 8: 78-93
Freyberg, H. U. von (1988) Kapitalverkehr und Handel im römischen Kaiserreich (27
V. Chr. — 235 n. Chr.). Freiburg im Breisgau Gabba, E. (1994) Italia romana (Biblioteca di Athenaeum 25). Como Gara, A. (1976) Prosdiagraphomena e circolazione monetaria: Aspetti dell’organiz- zazione fiscale in rapporto alia politica monetaria dellEgitto romano (Testi e Documenti per lo Studio dell’Antichità 56). Milan Gara, A. (1977) ‘Supplementi fiscali e circolazione monetaria nell’Egitto romano’, Museum Philologicum Londiniense 2: 119-25 Garnsey, P. (1988) Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crisis. Cambridge
Garnsey, P. (1994) ‘L’approvisionnement des armées et la ville de Rome’, in Le ravitaillement 31-34
Garnsey, R, Hopkins, K. and Whittaker, C. R. (eds.) (1983) Trade in the Ancient Economy. London
Garnsey, P. and Salier, R. (1987) The Roman Empire: Economy, Society and Culture. London
Gascou, J. (1997) ‘Conservator pagi (d’après l’inscription de Thugga CIL, vin, 27374)’, in Khanoussi and Maurin (1997) 97-104 Giard, J.-B. (1961) ‘La monnaie locale en Gaule à la fin du IHe siècle, reflet de la vie économique’, Journal des Savants: 5-34 Giardina, A. (1997) L ’Italia romana: Storie di un ’Identità incompiuta. Bari Goffart, W. (1974) Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto
Greene, K. (1994) ‘Technology and innovation in context: the Roman background to mediaeval and later developments’,/^ 7: 22-33 Grelle, F. (1961) ‘Munus publicum, terminologia e sistematiche’, Labeo 7.3: 308-29
Часть четвертая... (главы 11—12)
1025
Grelle, F. (1963) Stipendium vel tributum: L’imposizione fondiaria nelle dot- trine giuridiche del II e III secolo (Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di Napoli 66). Naples
Grelle, F. (1999) ‘I munera civilia e le finanze cittadine’, in II capitolo delle entrate nellefinanze municipali in occidente ed in oriente (Actes de la Xe rencontre franco- italienne sur Tépigraphie du monde romain, Rome, 27—29 mai 1996) (CEFR 256) (Rome) 137-53
Grenier, J.-Y. (1996) L’économie dAncien régime, un monde de l’échange et de l’incertitude. Paris
Grenier, J.-Y. (1997) ‘Economie du surplus, économie du circuit’, in Economie antique 11: 385—404
Guey, J. (1961) ‘Autour des resgestae divi Saporis\ denier (d’or) et denier (de compte) ancien’, Syria 39: 263-74
Guey, J. (1972) ‘Note sur la réforme monétaire de Dioclétien et le mutuum: l’inscription d’Aphrodisias de Carie (JRS, 1971, p. 171-177)’, BSFN 27: 260-4 Harl, K. W. (1987) Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, 180-27$. Berkeley Harl, K. W. (1996) Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A. D. 700. Baltimore and London
Harris, W. V. (1993) ‘Between archaic and modern: some current problems in the history of the Roman economy’, in W. Harris (ed.), The Inscribed Economy: Production and Distribution in the Roman Empire in the Light of Instrumentum Domesticum (JRA Suppl. 6) (Ann Arbor) 11-29 Hendy, M. F. (1985) Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300—1490. Cambridge
Herrmann, P. (1997) ‘Die Karriere eines prominenten Juristen aus Thyateira’, Tyche 12: 111-23
Hiernard, J. (1983) ‘Monnaies d’or et histoire de l’Empire gallo-romain’, Revue belge de Numismatique 129: 61-90
Hiernard, J. (1997) ‘La monnaie impériale’, L’Empire romain de 192 à 323, Pallas (hors série 1997): 79-125
Hinrichs, F. T. (1989) Histoire des institutions gromatiques. Paris Hitchner, R. B. (1995) ‘Irrigation, terraces, dams, and aqueducts in the region of Cillium (mod. Kasserine): the role of water in the development of a Roman- African town and its countryside’, in Trousset (1995) 143-58 Hollard, D. (1995a) ‘La pénurie de l’argent monnayé au IHe siècle après J.-C.: l’apport des monnaies de sites’, Cahiers numismatiques 124: 23-31 Hollard, D. (1995b) ‘La crise de la monnaie dans l’Empire romain au 3e siècle après J.-C: synthèse des recherches et résultats nouveaux’, Annales (HSS) 5: 1045-78
Hopkins, K. (1978) ‘Economic growth and towns in classical antiquity’, in P. Abrams and E. A. Wrigley (eds.), Towns in Societies: Essays in Economic History and Historical Sociology (Cambridge) 35-77 Hopkins, K. (1980) ‘Taxes and trade in the Roman empire (200 BC-AD 400)’, JRS jo: 101-25
Hopkins, K. (1983) ‘Introduction’, in Garnsey, Hopkins and Whittaker (1983) ix—XXV
1026
Библиография
Howgego, С. (1985) Greek Imperial Countermarks: Studies in the Provincial Coinage of the Roman Empire. London
Howgego, C. (1992) ‘The supply and use of money in the Roman world 200 B.C. to A.D. 300\]RS 82: 1-31
Howgego, C. (1994) ‘Coin circulation and the integration of the Roman economy’, JRA 7: 5-21
Howgego, C. (1995) Ancient History from Coins. London and New York Howgego, C. (1996) ‘The circulation of silver coins, models of the Roman economy, and crisis in the third century A.D.: some numismatic evidence’, in King and Wigg, Coin Finds 219-36
Hultsch, F. (1882) Griechische und römische Metrologie. Berlin Huvelin, H. et al. (eds.) (1987) Mélanges de numismatique offerts à Pierre Bastien à Poccasion de son 75e anniversaire. Paris
Huvelin, H. and Lafaurie, J. (1980) ‘Trésor d’un navire romain trouvé en Méditerranée: nouvelles découvertes’, RN 22: 75-105 Huvelin, H. and Loriot, X. (1992) ‘Les trouvailles de monnaies d’or dans l’Occident romain au Ille siècle de notre ère’, in Vor monnayé ni: 215-72 Ilkjaer, J. (1989) ‘The weapons sacrifices from Illerup Adal, Denmark’, in K. Randsborg (ed.), The Birth of Europe: Archaeology and Social Development in the First Millennium A. D. (Rome) 54—61
Iluk, J. (1985) ‘The export of gold from the Roman empire to barbarian countries from the fourth to the sixth centuries’, MBAH 4: 79-102 James, S. (1988) ‘The Fabricae: state arms factories of the later Roman empire’, in J. C. Coulston (ed.), Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference (BAR Int. Ser. 394) (Oxford) 257-331
Jelocnik, A. (1961) Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku. The Sisak Hoard of Argentei of the Early Tetrarchy (Situla 3). Ljubljana Johnson, A. C. (1950) ‘Roman Egypt in the third century’, 4:151-8 Jones, C. P. (1984) ‘The Sacrae Litterae of 204: two colonial copies’, Chiron 14: 93-9
Jones, G. D. B. (1980) ‘The Roman mines at Rio Tinto’,/ÆS 70: 146-65 Jones, J. M. (1990) A Dictionary of Ancient Roman Coins. London Kehoe, D. P. (1988) The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa (Hypomnemata 89). Göttingen
Kehoe, D. P (1992) Management and Investment on Estates in Roman Egypt during the Early Empire (Papyrologische Texte und Abhandlungen 40). Bonn Kehoe, D. P. (1993) ‘Economic rationalism in Roman agriculture’, JRA 6: 476-84 Kehoe, D. P. (1997) Investment, Profit and Tenancy: The Jurists and the Roman Agrarian Economy. Ann Arbor
Khanoussi, M. and Maurin, L. (eds.) (1997) Dougga (Thugga): Etudes épigraphiques. Paris
King, C. E. (1980) ‘The sacrae largitiones', revenues, expenditure and the production of coin’, in King, Imperial Revenue 141-73 King, C. E. (1981) ‘The circulation of coin in the western provinces A. D. 260—295’, in King and Henig, Roman West 89—126
Часть четвертая... (главы 11—12)
1027
King, С. Е. (1989) ‘The alloy content of the antoninianus, AD 253-268’, in I. A. Carradice (ed.), Proceedings of the 10th International Congress of Numismatics: London> September 1986 (Actes du Xe Congrès International de Numismatique, Londres, 1986) (London and Wetteren) 289-92 King, C. E. (1993a) ‘The fourth-century coinage’, in Camilli and Sorda, V ‘inflazione ' 1-87
King, С. E. (1993b) ‘The role of gold in the later third century A. D.’, Rivista Italiana di Numismatica 95 (= Convegno Internazionale Moneta e non Moneta) : 439— 51
King, С. E. (1996) ‘Roman copies’, in King and Wigg, Coin Finds 237-63 Kloft, H. (1970) Liberalitas Principis. Herkunft und Bedeutung: Studien zur Prinzipatsideologie (Kölner historische Abhandlungen 18). Cologne Kolendo, J. (1993) ‘I barbari del Nord’, in Schiavone, Storia di Roma 111.1: 425-41 Kolendo, J. (1997) ‘Central Europe and the Mediterranean world in the first to fifth centuries A. D.’, in P. Urbanczyk (ed.), Origins of Central Europe (Warsaw) 5-21 Kolendo, J. (1999) ‘L’importation de fourrures du Barbaricum sur le territoire de l’Empire romain’, MBAH 18.2: 1-23
Kunisz, A. (1971) Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215—238 n. e. : od reform Karakalli do przywrôcenia emisji antoniana. Katowice (French summary: ‘La circulation monétaire sur le territoire de l’Empire romain de 214/215 à 238 de notre ère’, 163-70)
Kunisz, A. (1980) ‘La monnaie de nécessité dans les provinces rhénanes et danubiennes de l’Empire romain dans la première moitié du IHe siècle’, in Dévaluations 11: 129-39
Kunisz, A. (1987) ‘La monnaie de nécessité à l’époque du Haut-Empire romain: problèmes et controverses’, in Rythmes de la production monétaire 257-65 Künzl, E. (1993) Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Mainz Labarre, G. and Le Dinahet, M.-T. (1996) ‘Les métiers du textile en Asie Mineure de l’époque hellénistique à l’époque impériale’, in Aspects de Vartisanat du textile dans le monde méditerranéen (Egypte, Grèce, monde romain) (Collection de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité, Université Lumière- Lyon 2) (Lyon) 49-115
Laet, S. J. de (1949) Portorium: Etude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire. Bruges Lafaurie, J. (1975a) ‘Réformes monétaires d’Aurélien et de Dioclétien’, RN 17: 73-138
Lafaurie, J. (1975b) ‘L’Empire Gaulois: Apport de la numismatique’, ANRW 11.2: 853-1012
Du Latifundium au Latifondo. Un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne? Actes de la table ronde internationale du CNRS, les 17—19 décembre 1992 (1994) (Publications du Centre Pierre Paris 25). Bordeaux Le Gall, J. (1979) ‘Les habitants de Rome et la fiscalité sous le Haut-Empire’, in H. van Effenterre (ed.), Points de vue sur la fiscalité antique (Publications de la Sorbonne, Etudes 14) (Paris) 113-26
Le Gentilhomme, P. (1943) ‘Les aurei du trésor découvert à Rennes en 1774: essai sur la circulation de la monnaie d’or au IHe siècle’, RN 1943: 11-43
1028
Библиография
Lefebvre des Noëttes, R. (1931) L \attelage, le cheval de selle à travers les âges: Contribution à l'histoire de l'esclavage. Paris
Lendon, J. E. (1990) 'The face on the coins and inflation in Roman Egypt’, Klio 72: 106-34
Lepelley, С. (1967) 'Déclin ou stabilité de l’agriculture africaine au Bas-Empire? A propos d’une loi de l’empereur Honorius’, AntAfr 1: 135-44 Lepelley, C. (1979-81) Les cités de lAfrique romaine au Bas-Empire, 2 vols. Paris Lepelley, C. (1997) 'Thugga au IHe siècle: la défense de la "liberté”’, in Khanoussi and Maurin (1997) 105-14 (repr. in Aspects de lAfrique romaine (Bari, 2001) 69-81)
Lepetz, S. (1996) L'animal dans la société gallo-romaine de la France du Nord (Revue Archéologique de Picardie, numéro spécial 12). Amiens Leveau, P. (1996) ‘Les moulins de Barbegal dans leur environnement: archéologie et histoire économique de l’Antiquité, Histoire et Sociétés rurales 6.2:11-29 (= 'The Barbegal water mill in its environment: archaeology and the economic and social history of antiquity’, JRA 9: 137-53)
Lewicki, T. and Kotula, T (1986) ‘Un témoignage d’Al Bakri et le problème de la ratio privata en Tripolitaine’, AntAfr 22: 255-71 Lewis, N. (1974) ‘A centurions will linking two of the fourth century Karanis Archives’, in E. Kiessling and H.-A. Rupprecht (eds.), Akten desXIIIInternationalen Papyrologenkongresses (Marburg/Lahn, 2-6Aug. ip/i) (Münch. Beitr. 66) 225-34
Lewis, N. (1983) Life in Egypt under Roman Rule. Oxford (French trans.: La Mémoire des Sables, Paris, 1988)
Lewis, N. (1991-2) ‘The governor’s edict at Aizanoi’, Hellenica 42: 15-20 Lewis, N. (1997) The Compulsory Public Services of Roman Egypt (Papyrologica Florentina V. 28). Florence (ist edn. 1982)
Lewit, T. (1991) Agricultural Production in the Roman Economy, A.D. 200-400 (BAR Int. Ser. 568). Oxford
Ligt, L. de (1993) Fairs and Markets in the Roman Empire: Economic and Social Aspects of Periodic Trade in a Pre-industrial Society (Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology 11). Amsterdam Ligt, L. de (1995) ‘Ius nundinarum and immunitas in I. Manisa 523’, EA 24: 37-54 Linant de Bellefonds, X. (1980) ‘Un modèle monétaire pour l’économie de l’Empire romain au IHe siècle de notre ère’, RHDFE 58: 561-86 Lo Cascio, E. (1986a) ‘La struttura fiscale dell’impero romano’, in Crawford, L 'impero romano 29-59
Lo Cascio, E. (1986b) ‘Teoria e politica monetaria a Roma tra III e IV D. C.’, in Giardina, Società romana 1: 535-57
Lo Cascio, E. (1991a) ‘Le tecniche dell’amministrazione’, in Schiavone, Storia di Roma il.2: 119-91 (rev. edn. in Lo Cascio (2000a) 13-79)
Lo Cascio, E. (1991b) ‘Fra equilibrio e crisi’, in Schiavone, Storia di Roma 11.2: 701-31
Lo Cascio, E. (1991c) ‘Forme dell’economia imperiale’, in Schiavone, Storia di Roma il2: 315-65
Часть четвертая... (главы 11—12)
1029
Lo Cascio, Е. (1993а) ‘Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi ed Aureliano’, in Schiavone, Storia di Roma in.i: 247-82 Lo Cascio, E. (1993b) ‘Prezzo dell’oro e prezzi delle merci’, in Camilli and Sorda, V ‘inflazione’ 155-88
Lo Cascio, E. (1997) ‘Prezzi in oro e prezzi in unità di conto tra il III e il IV sec. d. C.’, in Economie antique и: 161—82
Lo Cascio, E. (2000a) II 'princeps* e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana. Bari
Lo Cascio, E. (2000b) ‘The Roman principate: the impact of the organisation of the empire on production’, in Lo Cascio and Rathbone (2000) 93-106 Lo Cascio, E. and Rathbone, D. W. (eds.) (2000) Production and Public Powers in Antiquity: Proceedings of the Eleventh International Economic History Congress, Milan, September 1994 (Cambridge Philological Society Suppl. 26). Cambridge
MacMullen, R. (1987) ‘Tax-pressure in the Roman Empire’, Latomus 46: 737-54 MacMullen, R. (1997) ‘The Roman empire’, in Ancient History: Recent Works and New Directions (Publications of the Association of Ancient Historians) 79-102
Manacorda, D. (1983) ‘Prosopografia e anfore tripolitane: nuove osservazioni’, in Blâzquez and Remesal Rodriguez (1983) 483-500 Marasco, G. (1994) ‘L’inscription de Takina et la politique sociale de Caracalla’, Mnemosyne 47: 495-511
Marcone, A. (1988) II colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni) (Biblioteca di Athenaeum 7). Como Mélèze-Modrzejewski, J. (1990) Droit impérial et traditions locales dans P Egypte romaine (Collected Studies Series 321). Aldershot Metcalf, W. E. (1987) ‘From Greek to Latin currency in third-century Egypt’, in Huvelin et al. (1987) 157-68
Millar, F. G. В (1983) ‘Empire and city, Augustus to Julian: obligation, excuses and status’, JRS 73: 76-96
Millar, F. G. В (1986) ‘Italy and the Roman Empire: Augustus to Constantine’, Phoenix 40: 295-318
Millar, F. G. В (1991) ‘Les congiaires à Rome et la monnaie’, in A. Giovannini (ed.), Nourrir la plèbe. Actes du colloque tenu à Genève les 28/29 IX1989 en hommage à Denis van Berchem (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 22) (Basle) 143-57
Miliar, F. G. В (1998) ‘Caravan cities: the Roman Near East and long-distance trade by land’, in M. Austin, J. Harries and C. Smith (eds.), Modus operandi: Essays in Honour of Geoffrey Rickman {BICS Suppl. 71) (London) 119-37 Mitchell, S. (1983) ‘The Balkans, Anatolia and Roman armies across Asia Minor’, in Mitchell, AFRBA 131-50
Molin, M. (1991) ‘La faiblesse de l’attelage antique ou la force des idées reçues en histoire ancienne’, in Bulletin archéologique du C. T.H.S., nouv. sér. Antiquités nationales 23-4: 39-84
Morel, J.-P. (1995) ‘Productions et exportations: les raisons d’un choix’, in Trousset (1995) 11-12
1030
Библиография
Morrisson, С. andLefort, J. (eds.) (1989) Hommes et richesses dans TEmpire byzantin, i (Réalités byzantines 1). Paris
Mrozek, S. (1975) Prix et rémunérations dans TOccident romain. Gdansk Mrozek, S. (1978) ‘Les espèces monétaires dans les inscriptions latines du Haut- Empire romain’, in Dévaluations 1: 79-86 Mrozek, S. (1987) ‘Inopia rei nummariae et l’usure dans l’histoire romaine’, in Rythmes de la production monétaire 323-34 Naville, L. (1920—2) ‘Fragments de métrologie antique’, Revue Suisse de Numismatique 22: 42-60
Neesen, L. (1980) Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr—284 n. Chr.) (Antiquitas Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte 32). Bonn
Neeve, P. W. de (1984) Colonus: Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the Early Principate. Amsterdam Nicolet, C. (1984) ‘Pline, Paul et la théorie de la monnaie’, Athenaeum 72 (n.s. 62): 105-35
Nicolet, C. (1988a) Rendre à César: Economie et société dans la Rome antique. Paris. Nicolet, C. (1988b) L inventaire du monde: Géographie et politique aux origines de TEmpire romain. Paris (English trans. Space, Geography and Politics in the Early Roman Empire (Jerome Lectures 19). Ann Arbor, 1991)
Nicolet, C. (1994) ‘Dîmes de Sidle, d’Asie ou d’ailleurs’, in Le ravitaillement 215-29 Nutton, V. (1978) ‘The beneficial ideology’, in P. Garnsey and C. R. Whittaker (eds.), Imperialism in the Ancient World (Cambridge) 209-211, 338-43 Oliver, J. H. (1989) Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri (Memoirs of the American Philosophical Society 178). Philadelphia Ouzoulias, P. et al. (eds.) (2001) Les campagnes de la Gaule à lafin de T Antiquité. Actes du 4e colloque de Tassociation AGER, Montpellier, 11—14 mars 1998. Antibes Palmer, R. E. A. (1980) ‘Customs on market goods imported into the city of Rome’, in D’Arms and Kopff (1980) = MAAR 36: 217-33 Panella, C. (1986) ‘Ostia: terme del nuotatore, le anfore’, and ‘Le merci: produzioni, itinerari e destino’, in Giardina, Società romana ш: 64-81 and 431-59 Panella, C. and Tchernia, A. (1994) ‘Produits agricoles transportés en amphores: l’huile et surtout le vin’, in LItalie dAuguste à Dioclétien 145-65 Parker, A. J. (1992) Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces (BAR Int. Ser. 580). Oxford
Pavis d’Escurac, H. (1980) ‘Irrigation et vie paysanne dans l’Afrique du Nord antique’, Ktema 5: 177-91
Pekâry, T. (1961) ‘Autour des res gestae divi Saporis: le “tribut” aux Perses et les finances de Philippe l’Arabe’, Syria 39: 275-83 Pensabene, P. (1986) ‘Le decorazione architettonica, l’impiego dei marmo e l’importazione di manufatti orientali a Roma in Italia e in Africa (II-VI d. C.)’, in Giardina, Società romana ni: 285-429 Pensabene, P. (1994) Le vie del marmo. I blocchi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del marmo nella Roma Antica (Itinerari Ostiensi 7). Rome Pereira, I., Bost, J.-P. and Hiernard, J. (1974) Fouilles de Conimbriga: III: Les monnaies. Paris
Часть четвертая... (главы 11—12)
1031
Pietri, С. (1978) ‘Évergétisme et richesses ecclésiastiques dans l’Italie du IVe à la fin du Ve siècle: l’exemple romain’, Ktema 3: 317-37 Pleket, H. W. (1994) ‘The Roman state and the economy: the case of Ephesus’, in Economie antique 1: 115-26
Pleket, H. W. (1998) ‘Models and inscriptions: export of textiles in the Roman empire’, EA 30: 117-28
Polanyi, K. (1968) ‘The semantics of money-uses’, in G. Dalton (ed.), Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi (Garden City, NY) 175-203
Rathbone, D. W. (1990) ‘Villages, land and population in Graeco-Roman Egypt’, PCPS 216 = n.s. 36: 103-42
Rathbone, D. W. (1991) Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century a.d. Egypt: The Heroninos Archive and the Appianus Estate. Cambridge Rathbone, D. W. (1996) ‘Monetisation, not price inflation, in third-century a. d.’ Egypt?’, in King and Wigg, Coin Finds 321-39 Rathbone, D. W. (1997) ‘Prices and price formation’, in Economie antique 11:183— 244
Raynaud, C. (1996) ‘Les campagnes rhodaniennes: quelle crise?’, in Fiches (1996) 189-212
Rea, J. R. (1972) The Oxyrhynchus Papyri, vol. XL. London Rea, J. R. (1974) ‘PSI IV 310 and imperial bullion purchases, CE 49: 163-74 Rea, J. R. (1986) ‘P. Oxy. 3121 and goldsmith’s pay’, ZPE 62: 79-80 Rebuffat, F. (1994) ‘Le trésor d’Ayvagedigi’, in M. Amandry and G. Le Rider (eds.), Trésors et circulation monétaire en Anatolie antique (Paris) 106-16 Rebuffat, R. (1989) ‘Comme les moissons à la chaleur du soleil’, LAfrica romana 6:113-33
Reddé, M. (1978) ‘Les scènes de métier dans la sculpture funéraire gallo-romaine’, Gallia 36: 44-63
Reece, R. (1973) ‘Roman coinage in the western empire’, Britannia 4: 227-51 Reece, R. (1977) ‘Coinage and currency’, Bulletin of the Institute of Archaeology 14: 167-78
Reece, R. (1981) ‘Coinage and currency in the third century’, in King and Henig, Roman West 1.79-88
Reece, R. (1984) ‘The use of Roman coinage’, Oxford Journal of Archaeology 3.2: 197-210
Reece, R. (1987) ‘Coin finds and coin production’, in Rythmes de la production monétaire 335-41
Reece, R. (1991) Roman Coins from 140 sites in Britain (Cotswold Studies 4). Cirencester
Remesal Rodriguez, J. (1983) ‘Transformaciones en la exportacion del aceite bético a mediados del siglo III d. C.’, in Blâzquez and Remesal Rodriguez (1983) 115-31
Rémondon, R. (1964) La crise de lEmpire romain de Marc Aurèle à Anastase. Paris
Reynolds, J. M. (1989) ‘Imperial regulations’, in Roueché, ALA ch. 12
1032
Библиография
Reynolds, J. M. (1995a) ‘The linen-market of Aphrodisias in Caria’, in F. E. Koenig and S. Rebetez (eds.), Arculiana: Ioanni Boegli anno sexagesimo quinto feliciter peracto amici discipuli collegae socii dona dederunt (Avenches) 523—8 Reynolds, J. (1995b) ‘Diocletian’s Prices Edict: new fragments of the copy at Aphrodisias’, in R. Frei-Stolba and M. A. Speidel (eds.), Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen: Festschrift fur Hans Lieb (Arbeit zur römischen Epigraphik und Altertumskunde 2) (Basel and Berlin) 17-28
Rosafio, P. (1991) ‘Dalla locazione al colonato: per un tentativo di ricostruzione’, Annali delllstituto universitario orientale di Napoli, Archeologia e storia antica 13: 237-81
Rougé, J. (1978) ‘Aspects économiques du Lyon antique’, in J. Rougé and R. Turcan (eds.), Les martyrs de Lyon (177). Colloque international du CNRS, Lyon, 20—23 septembre 1977 (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 575). Paris
Sartre, M. (1991) VOrient romain: Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale dAuguste aux Sévères (31 avant J.-C.—233 après J.-C.). Paris Sartre, M. (1992) ‘Nouvelles bornes cadastrales du Hauran sous la Tétrarchie’, Ktema ij: 11-131
Sauron, G. (2000) Lhistoire végétalisée: Ornement et politique à Rome. Paris Schaad, D. (ed.) (1992) Le trésor d’Eauze: Bijoux et monnaies du Ille siècle après J.-C. Toulouse
Scheidel, W. (1991) ‘Dokument und Kontext: Aspekte der historischen Interpretation epigraphischer Quellen am Beispiel der “Krise des dritten Jahrhunderts” ’, Rivista Storica Italiana 21:145-64
Schmidt-Colinet, A., Stauffer, A. and Al-As’ad, К. (1999) Die Textilien aus Palmyra.
Neue und alte Funde (Damaszener Forschungen 8). Mainz Seeck, O. (1919) Regesten der Kaiser und Papste fur die Jahre 311 bis 476 n. Chr. : Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit. Stuttgart Shaw, B. (1982) ‘Lamasba: an ancient irrigation community’, AntAfr 18: 61-103 Sijpestein, P J. (1987) Customs Duties in Graeco-Roman Egypt (StAmst 17). Zutphen Sijpestein, P J. and Worp, K. A. (1976) ‘Documents on transportation by ship’, ZPE 20: 157-65
Sillières, P. (1990) Les voies de communication de THispanie méridionale (Publications du Centre Pierre Paris 20). Paris
Sirks, B. (1991) Food for Rome: The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople (StAmst 31). Amsterdam
Skeat, T C. (1964) Papyri from Panopolis in the Chester Beatty Library Dublin. Dublin
Sodini, J.-P. (1989) ‘Le commerce des marbres à l’époque protobyzantine’, in Morrisson and Lefort (1989) 163-86
Sperber, D. (1991) Roman Palestine, 200—400: Money and Prices, 2nd edn. Ramat- Gan
Strobel, K. (1993) Dos Imperium Romanum im 3. Jahrhundert. Modelle einer historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer Bevölkerungsschichten
Часть четвертая... (главы 11—12)
1033
in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3. Jh. n. Chr. (Historia Einzelschriften 75). Stuttgart
Stuart, P. and Bogaers, J. E. (2001) Nehalennia. Römische Steindenkmäler aus der Osterschelde bei Colijnsplaat (Corpus Signorum Imperii Romani, Netherlands 2, Germania Inferior = Collections of the National Museum of Antiquities at Leiden и), 2 vols. Leiden
Tate, G. (1992) Les campagnes de la Syrie du Nord du Ile au Vile siècle: Un exemple d'expansion démographique et économique dans les campagnes à la fin de lAntiquité: / (BAH 133). Paris
Tchernia, A. (1986) Le vin de l'Italie romaine: Essai d'histoire économique d'après les amphores (BEFAR 261). Rome
Tchernia, A. (1995) ‘Moussons et monnaies: les voies du commerce entre le monde gréco-romain et Finde’, Annales (HSS) 50.5: 991-1009 (Eng. tr. F. De Romanis and A. Tchernia (eds.), Crossings: Early Mediterranean Contacts with India (New Delhi, 1997) 250-76)
Teixidor, J. (1984) Un port romain du désert: Palmyre et son commerce d'Auguste à Caracalla (Sémitica 34). Paris
Tibiletti, G. (1979) Le lettere private nei papiri greci del II e IV secolo d. C: Tra paganesimo e cristianesimo (Scienze Filologiche e Letteratura 15). Milan
Trousset, P. (1993) ‘La frontière romaine: concepts et représentations’, in Frontières d'empire. Actes de la Table Ronde Internationale de Nemoursy 1992 (Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 5) (Nemours) 115-20
Trousset, P. (ed.) (1995) L'Afrique du Nord antique et médiévale. Vie Colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord (Pau, octobre 1993), 1: Productions et exportations africaines. Actualités archéobgiques. Paris
Turcan, R. (1982) ‘Les moules monétaires du Verbe Incarné’, in Trésors monétaires 4: 9-29
Van Ossel, P. (1992) Etablissements ruraux de l'Antiquité tardive dans le nord de la Gaule (Gallia Suppl. 51). Paris
Vera, D. (1987) ‘Enfiteusi, colonato e trasformazioni agrarie nell’Africa Proconsulare’, L'Africa romana 4: 267—93
Vera, D. (1992)1 Conductores domus nostrae, conductorespriuatorum: Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell’Africa tardoantica, in M. Christol et ai (eds.), Institutions, sociétés et vie politique dans l'Empire romain au IVe siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol (Paris, 1989) (CEFR 159) (Rome) 465-90
Veyne, P. (1976) Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique. Paris (abridged English trans. Bread and Circuses. London, 1990)
Veyne, P. (1979) ‘Rome devant la prétendue fuite de For: mercantilisme ou politique disciplinaire?’, Annales (ESC) 1979: 211-44
Veyne, P. (1980) ‘L’Empire romain’, in M. Duverger (ed.), Le concept d'empire (Paris) 121-30
Veyne, P. (1981) ‘Clientèle et corruption au service de l’État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain’, Annales (ESC) 1981: 339-60
Veyne, P. (1991) La société romaine. Paris (Italian trans. La società romana. Rome and Bari, 1990)
1034
Библиография
Vita-Évrard, G. Di (1985) ‘Note sur quelques timbres d’amphores de Tripoli- taine’, in Histoire et archéologie de VAfrique du Nord. Ile colloque international (Grenobley 5—9 avril 1983) (Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, n.s. 19b) (Paris) 147-59 Wagner, G. (1987) Les Oasis d’Egypte à l’époque grecque, romaine et byzantine, d’après les documents grecs (Bibliothèque d’Étude 100). Cairo Walker, D. R. (1978) The Metrology of the Roman Silver Coinage, III: From Pertinax to Uranius Antoninus (BAR Suppi. Ser. 40). Oxford Walker, D. R. (1988) ‘The Roman coins’, in B. Cunliffe, The Temple of Sulis Minerva at Bath, vol. 11: The Finds from the Sacred Spring (Oxford University Committee for Archaeology Monographs 16) (Oxford) 281-358 Wallace, S. L. (1938) Taxation in Roman Egypt from Augustus to Diocletian (Princeton University Studies in Papyrology 2). Princeton Wallace-Hadrill, A. (1981) ‘Galbas Aequitas’, NC 141: 20-39 Wallace-Hadrill, A. (1986) ‘Image and authority in the coinage of Augustus’, JRS 76: 66-87
Wallerstein, I. M. (1974-89) The Modem World-System, 3 vols. New York and London
Whittaker, C. R. (1993) Land, City and Trade in the Roman Empire. Aldershot Wild, J. P. (1976) ‘The gynaecea’, in Goodburn and Bartholomew, Notitia Dignitatum 51-8
Wipszycka, E. (1965) L ’industrie textile dans l’Egypte romaine (Archiwum Filolog- iczne 9). Wroclaw, Warsaw and Cracow
Woolf, G. (1990) ‘World-systems analysis and the Roman empire’, JRA 3: 44-58 Ying-shih, Y. (1986) ‘Han foreign relations’, in D. Twitchett and M. Loewe (eds.), The Cambridge History of China, 1: The Ch’in and Han Empires, 221 B.C. — A.D. 220. Cambridge
Yon, J.-B. (1998) ‘Remarques sur une famille caravanière à Palmyre’, Syria 75:
.I53_6°
Youtie, H. C. (1979) ‘P. Mich. inv. 341: A price of wealth’, ZPE 36: 77-81 (repr. in Scriptiunculae Posteriores 11 (Bonn, 1982) 569-73)
Часть пятая
Мир вне римских границ (главы 13—16)
Adontz, N. (1970) Armenia in the Period of Justinian: The Political Conditions Based on the Naxarar System, tr. N. G. Garsoi’an. Lisbon Aggoula, B. (1981) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) VI’, Syria 58: 363-78
Aggoula, B. (1983) ‘Hatra et Rome, une mise au point’, in E Steppat (ed.) XXI. Deutscher Orientalistentag vom 24. bis 29. März 1980 in Berlin: Vorträge (ZDMG Suppl. 5, Wiesbaden): 212-19
Aggoula, B. (1983a) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) VH’, Aula Orientalis 1: 31-8
Часть пятая... (главы 13—16)
1035
Aggoula, В. (1983b) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) У11Г, Syria 60:101-5
Aggoula, B. (1983c) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) IX’, Syria 60: 251-7
Aggoula, B. (1985) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (X)’, Syria 62: 281-5 Aggoula, B. (1986) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) Х1Г, Syria 63: 353-74
Aggoula, B. (1987) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) XI’, Syria 64: 91-106
Aggoula, B. (1990) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) XYI-XIX’, Syria 67: 397-421
Aggoula, B. (1991) Inventaire des inscriptions hatréennes (BAH 139). Paris Aggoula, B. (1994) ‘Remarques sur les inscriptions hatréennes (RIH) ХХ-ХХНГ, Syria 71: 397-408
Akopyan, H. P. (1984) ‘Ancient Armenia in east-west relations (early centuries of our era)’, SA 1984.2: 70-90 (in Russian with English summary)
Al-Ansari, A. R. (1982) Qaryat al-Fau: A Portrait of Pre-Islamic Civilisation in Saudi Arabia. [Riyadh]
Al-Nagafi, H. M. (1983) ‘The inscriptions of Hatra’, Sumer 39: 175-99 (in Arabic) Alföldi, A. (1937) ‘Die Haupteregnisse der Jahre 253-261 n. Chr. im Orient im Spiegel der Münzprägung’, Berytus 4: 41-68 Alföldi, A. (1938) ‘Die römische Münzprägung und die historischer Ereignisse im Osten zwischen 260 und 270 n. Chr.’, Berytus 5: 47-92 (repr. in Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jh. nach Christus (Darmstadt, 1967) 155-209) Altheim, E and Stiehl, R. (1965a) ‘Die Araber an der oströmisch-persischer Grenze im 4. Jahrhundert’, in Die Araber in der alten Welt, vol. 11 (Berlin) 312— 79
Altheim, E and Stiehl, R. (1965b) ‘Odainat und Palmyra’, in Die Araber in der alten Welt, vol. и (Berlin) 251-73
Altheim, E and Stiehl, R. (1965c) ‘Shapur II und die Araber’, in Die Araber in der alten Welt, vol. 11 (Berlin) 344-56
Altheim, E and Stiehl, R. (1972) ‘Beduinisierung’, in Antike und Universalgeschichte: Festschrifi Hans Erich Stier zum 70. Geburtstag am 23. Mai 1972 (Fontes et Commentationes Suppl. 1) (Münster) 294-301 Ament, H. (1984) ‘Der Rhein und die Ethnogenese der Germanen’, Prähistorische Zeitschrift 59: 37-47
Antiâ, E. K. (1900) Kârnâmak-i Artakhshîr Pâpakân: The originalPahlavi text, with transliteration in Avesta characters, translations into English and Gujarati and selections from the Shâhnâmehr. Bombay
Arakelian, B. N. (1984a) ‘Archaeological excavations in Soviet Armenia’, JSAS 1: 3-21
Arakelian, B. N. (1984b) ‘Les fouilles d’Artaxata: bilan provisoire’, REArm n.s. 18: 367-95
Arce, J. (1982) ‘The inscription of Troesmis {ILS 774) and the first victories of Constantius as Caesar’, ZPE 48: 245-9
Arce, J. (1984) ‘Constantius II Sarmaticus and Persicus: a reply’, 57: 225-7
1036
Библиография
Back, М. (1978) Die sassanidischen Staatsinschriften: Studien zur Orthographie und Phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen Wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften (Acta Iranica 3rd ser. 8). Leiden Bakker, L. (1993) ‘Raetien unter Postumus - Das Siegesdenkmal einer Juthungen- schlacht im Jahre 260 n. Chr. aus Augsburg, Germania 71: 369-86 Baldini, A. (1975) ‘II ruolo di Paolo di Samosata nella politica culturale di Zenobia e la decisione di Aureliano ad Antiochia, RSA 5: 59-78 Baldini, A. (1976) ‘Problemi di storia palmirena: note sulla politica di Odenato’, Corso di Cultura ed Arte Ravennate e Bizantini 23: 21-45 Baldus, R. (1971) Uranius Antoninus: Münzprägung und Geschichte. Bonn (with review by A. Chastagnol, Syria 51 (1974) 208-14)
Banning, E. B. (1986) ‘Peasants, pastoralists and pax romana: mutualism in the southern highlands of Jordan’, BASOR 261: 25-50 Barnes, T. D. (1973) ‘More missing names (AD 260-395)’, Phoenix 27: 135-55 Barnes, T. D. (1983) ‘Two victory titles of Constantius’, ZPE 52: 229-35 Barnes, T. D. (1985) ‘Constantine and the Christians of Persia’, JRS 75: 126-36 Bauzou, T. (1996) ‘Lapraetensio de Bostra à Dumata (El-Jowf)’, Syria 73: 23-35 Beaucamp, J. (1979) ‘Rawwafa’, Dictionnaire de la Bible Suppl. 9, col. 1467-75 Becker, M. (1993) ‘Die römischen Fundstücke aus dem germanischen Fürstengrab der spätrömischen Kaiserzeit bei Gommern, Ldkr. Burg’, Germania 71: 405- 17
Beeston, A. (1979) ‘Nemara and Faw’, BSOAS 42: 1-6
Beyer, K. (1998) Die aramäischen Inschriften aus Assur, Hatra und dem übrigen Ostmesopotamien. Göttingen
Bierbrauer, V. (1994) ‘Archäologie und Geschichte der Goten vom 1-7 Jahrhunderts. Versuch einer Bilanz’, Frühmittelalterliche Studien 28: 51—171 Birley, A. R. (1987) Marcus Aurelius: A Biography, 2nd edn. London (ist edn. 1966) Blois, L. de (1975) ‘Odaenathus and the Roman-Persian war of 252-264 a.d.’, Talanta 6: 7-23
Böhme, H.-W. (1975) ‘Archäologische Zeugnisse zur Geschichte der Markomannenkriege (166-180 n.Chr.)’, JRGZM 22:155-217 Bosworth, C. W. (1983) ‘Iran and the Arabs before Islam’, in Yarshater, CHI 111.1: 593-612
Bowersock, G. W. (1976) ‘The Greek-Nabataean bilingual inscription at Ruwwafa, Saudi Arabia’, Le Monde Grec: Mélanges Claire Préaux (Brussels) 513-22 Branden, A. van den (1966) Histoire de Thamoud (Publications de l’Université Libanaise, Section des Etudes Historiques 6), 2nd edn. Beirut Braun, O. (1915) Ausgewählte Akten persischer Märtyrer mit einem Anhang: ostsyrisches Mönchsleben (Bibliothek der Kirchenväter 22). Kempten Braund, D. (1991) ‘New “Latin” inscriptions in central Asia: legio XV Apollinaris and Mithras?’, ZPE 89: 188-90
Bulliett, R. (1975) The Camel and the Wheel. Cambridge, MA (repr. with new preface, New York and Oxford, 1990)
Bursche, A. (1994) ‘Die Markomannenkriege und der Zufluss römischer Münzen in das Barbaricum’, in H. Friesinger, J. Tejral and A. Stupper (eds.),
Часть пятая... (главы 13—16)
1037
Markomannenkriege- Ursachen und Wirkungen (VI Internationales Symposium ‘Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet’, Wien 23-6 November 1993) (Spisy Archeologického ûstavu av er Brno 1). Brno
Bursche, A. (1996) Later Roman-Barharian Contacts in Central Europe (Studien zu Fundmünzen der Antike 11). Berlin
Campbell, D. B. (1986) ‘What happened at Hatra? The problems of the Severan siege operations’, in Freeman and Kennedy, DRBE 1: 51-8 Cantineau, J. et al. (1930-75) Inventaire des inscriptions de Palmyre. 12 fascicles: 1-9 (J. Cantineau) Beirut; 10 (J. Starcky) Damascus; 11 (J. Teixidor) Beirut; 12 (A. Bounni and J. Teixidor) Damascus Cantineau, J. (1933) ‘Tadmorea’, Syria 14: 169-202
Cantineau, J. (1934-5) ‘Nabatéen et Arabe’, Annales de l Insti tut d Etudes Orientales de TUniversité dAlger 1: 77-97
Cantineau, J. (1936) ‘Tadmorea’, Syria 17: 267-82 and 346-55 Cantineau, J. (1938) ‘Tadmorea’, Syria 19: 72-82 and 153-71 Caquot, A. (1962) ‘Sur l’onomastique religieuse de Palmyre’, Syria 39: 231-56 Carnap-Bornheim, C. von (ed.) (1994) Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994 (Veröffentlichung des vorgeschichtlichen Seminars Marburg 8). Lublin and Marburg
Casey, J. (1994) Carausius and Allectus: The British Usurpers. London Caskel, W. (1966) Gamharat an-Nasab: das genealogische Werk des Hisham ibn Muhammad al-Kalbi. Leiden
Caskel, W. (1954) ‘The bedouinization of Arabia’, in G. E. von Grünebaum (ed.), Studies in Islamic Cultural History (American Anthropological Association Memoir 76) (Menasha, WI) 36-46
Caskel, W (1969) ‘Die Inschrift von En-Nemara neu gesehen’, MUS] 45: 367- 79
Chad, C. (1966) Les dynastes dEmèse. Beirut
Charanis, P. (1959) ‘Ethnie changes in the Byzantine empire in the seventh century’, DOP 13: 23-44
Chaumont, M.-L. (1969) Recherches sur Vhistoire dArménie de Tavènement des Sassanides à la conversion de royaume. Paris Chaumont, M.-L. (1973) ‘Conquêtes sassanides et propagande mazdéenne (III siècle)’, Historia гг: 664-709
Chaumont, M.-L. (1976) ‘L’Arménie entre Rome et l’Iran I: de l’avènement d’Auguste à l’avènement de Dioclétien’, ANRW 11.9.1: 71—194 Chaumont, M.-L. (1979) ‘A propos de la chute de Hatra et du couronnement de Shapur 1er’, AAntHung 27: 207-37
Christensen, A. (1944) L Iran sous les Sassanides, 2nd edn. Copenhagen Christlein, R. (1978) Die Alamannen. Stuttgart Colledge, M. A. R. (1976) The Art of Palmyra. London
Crow, J. (1986) ‘A review of the physical remains of the frontiers of Cappadocia’, in Freeman and Kennedy, DRBE 1: 77-91
1038
Библиография
Dentzer, J.-M. (ed.) (1985) Hauran I: Recherches archéologiques sur la Syrie du sud à Г époque hellénistique et romaine (BAH 124). Paris Dentzer, J.-M. and Villeneuve, F. (1985) ‘Les villages de la Syrie romaine dans une tradition d’urbanisme oriental’, in J.-L. Huot, M. Yon and Y. Calvet (eds.), De VIndus aux Balkans: Recueil à la mémoire de Jean Deshayes (Paris) 213-48 Der Nersessian, S. (1973) ‘Armenia and its divided history’, Byzantine and Armenian Studies 1: 291-308
De Vries, B. (1986) ‘Umm El-Jimal in the first three centuries A.D.’, in Freeman and Kennedy, DRBE 1: 227-41
De Vries, B. (ed.) (1998) Umm el-Jimal: A Frontier Town and its Landscape in Northern Jordan (JRA Suppl. 26). Portsmouth, RI Dieck, A. (1965) Die europäischen Moorleichenfunde (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 5). Neumünster
Dillemann, L. (1962) Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents: Contribution à la géographie historique de la région, du Ve siècle avant Tère chrétienne au Vie siècle de cette ère (BAH 72). Paris
Dowsett, C. J. F. (1961) Movsës Dasxuranci: History of the Caucasian Albanians (London Oriental Series 8). London
Drijvers, H. J. W. (1966) Bardaisan of Edessa (Studia Semitica Neerlandica 6). Assen Drijvers, H. J. W. (1972a) Old Syriac (Edessean) Inscriptions. Leiden Drijvers, H. J. W. (1972b) ‘The cult of Azizos and Monimos at Edessa’, Mélanges Geo Widengren 1 (Leiden) 355-71
Drijvers, H. J. W. (1977) ‘Hatra, Palmyra und Edessa’, ANRW 11.8: 799-906 Drijvers, H. J. W. (1982) ‘A tomb for the life of a king: a recently discovered Edessene mosaic with a portrait of King Abgar the Great’, Le Muséon 95: 167-89
Dunant, С. (1971) Le Sanctuaire de Baalshamin à Palmyre. III: Les Inscriptions (Bibliotheca Helvetica Romana x.3). Rome Dussaud, R. (1955) La pénétration des Arabes en Syrie avant TIslam. Paris Duval, R. (1892) Histoire politique, religieuse et littéraire dEdesse jusqu a la première croisade. Paris (repr. from Journal Asiatique 18 (1891): 87-133,201-78,381-439, and 19 (1892): 5-102)
Eadie, J. W. (1967) The Breviarium of Festus. London Emines, J.-В. (1872) ‘Faustus de Byzance’, FHG v.2 (Paris) 205-310 Engelhardt, C. (1869) Vimose Jimdet (Fynske mosefund 2). Copenhagen Ensslin, W. (1936) ‘Zu dem vermuteten Perserfeldzug des rex Hannibalianus’, Klio 29: 106-9
Equini Schneider, E. (1993) Septimia Zenobia Sebaste (Studia Archaeologica 61). Rome
Erzen, A. (1984) Eastern Anatolia and Urartians (Türk Tarih Kurumu Yayinlari XX. 8). Ankara
Es, W. A. van (1967) Wijster: A Native Village Beyond the Imperial Frontier (Palaeo- historia 11). Groningen
Es, W. A. van, Miedema, M. and Wynia, S. L. (1985) ‘Eine Siedlung der römischen Kaiserzeit in Bennekom, Prov. Gelderland’, Berichten van den Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 35: 533-652
Часть пятая... (главы 13—16)
1039
Esbroeck, М. van (1971) ‘Un nouveau témoin du livre d’Agathange’, REArm n.s. 8: 13-96
Even-Ari, M., Shanan, L. and Tadmor, N. (1982) The Negev: Challenge of a Deserty 2nd edn. Cambridge, MA
Fahd, T. (ed.) (1989) L’Arabie pré-islamique et son environnement historique et culturel: Actes du Colloque de Strasbourg, 24—27 juin 1987 (Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antiques 10). Leiden Feissel, D. and Gascou, J. (1995) ‘Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IHe siècle après J.-C.). 1: les pétitions (P.Eupr. 1 à 5)’, JS 1995: 65-119 Feissel, D. and Gascou, J. (2000) ‘Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IHe siècle après J.-C.). ni: Actes divers et lettres (P Eupr. 11 à 17)’, JS 2000: 157-208
Feissel, D., Gascou, J. and Teixidor, J. (1997) ‘Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IHe siècle après J.-C.). и: P. Euphr. 6 à 10’, JS 1997:3-57
Frye, R. N. (1964) ‘The charisma of kingship’, IA 4: 36-54 Gagé, J. (1964) La montée des Sassanides et Theure de Palmyre. Paris Garitte, G. (1946) Documents pour l’étude du livre d’Agathange (Studi e Testi 127). Vatican City
Garsoïan, N. G. (1967) ‘Politique ou orthodoxie? L’Arménie au quatrième siècle’, REArm n.s. 4: 297-320 (repr. Garsoïan (1985) ch. 4)
Garsoïan, N. G. (1971) ‘Armenia in the fourth century: an attempt to re-define the concepts “Armenia” and “loyalty”’, REArm n.s. 8: 341—52 (repr. Garsoïan (1985) ch. 3)
Garsoïan, N. G. (1976) ‘Prologomena to a study of the Iranian aspects in Arsacid Armenia’, Handês Amsoreay 90: cols. 177-234 (repr. Garsoïan (1985) ch. 10)
Garsoïan, N. G. (1981) ‘The locus of the death of kings: Iranian Armenia - the inverted image’, in R. G. Hovanissian (ed.), The Armenian Image in History and Literature. Malibu, CA: 27—64 (repr. Garsoïan (1985) ch. 11)
Garsoïan, N. G. (1985) Armenia between Byzantium and the Sasanians. London Gawlikowski, M. (1974) ‘Le Tadmoréen’, Syria 51: 91-103
Gawlikowski, M. (1975) ‘Recueil d’inscriptions palmyréniennes provenant de fouilles syriennes et polonaises récentes à Palmyre’, Mémoires présentés à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 16: 261—377 Gawlikowski, M. (1984) Palmyre VIII: Les Principia de Dioclétien, ‘Temple des Enseignes’. Warsaw
Gawlikowski, M. (1985) ‘Les princes de Palmyre’, Syria 62: 251-61 Gawlikowski, M. (1998) ‘The last kings of Edessa’, in R. Lavenant (ed.), Symposium Syriacum VII (Orientalia Christiana Analecta 256) (Rome) 421—8 Gignoux, P. (1983) ‘Middle Persian inscriptions’, in Yarshater, CHI 111.2: 1205-15 Glob, P. V. (1969) The Bog People, tr. R. Bruce-Mitford. London (orig. Danish edn. 1966)
Gnoli, T. (2000) Roma, Edessa e Palmira nel III secolo d. C. Problemi istituzionali: Uno studio suipapiri del’Euphrate (Biblioteca di Mediterraneo Antico 1). Pisa Godlowski, K. (1970) The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Cracow
1040
Библиография
Graf, D. F. (1978) ‘The Saracens and the defence of the Arabian frontier’, BASOR 22/9: 1-26
Graf, D. F. and O’Connor, M. (1977) ‘The origin of the term “Saracen” and the Rawwafa inscriptions’, Byzantine Studies 4: 52—66 Gulbekian, E. V. (1977) ‘The conversion of King Trdat’, Le Muséon 90: 51-4 Haarnagel, W. (1979) Feddersen Wierde: die Ergebnisse der Ausgrabung der vorgeschichtlichen Wurt Feddersen Wierde bei Bremerhaven in den Jahren 1955 bis 1963, Bd. 2: Die Grabung Feddersen Wierde: Methode, Hausbau, Siedlungsund Wirtschaftsformen sowie Sozialstruktur. Wiesbaden Hachmann, R. (1970) Die Goten und Skandinavien (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker n.s. 34). Berlin Hadidi, A. et al. (eds.) (1982-97) Studies in the History and Archaeology of Jordan, 6 vols. Amman: 1 (1982), 11 (1985), hi (1987), iv (1992), v (1995), vi (1997) Halbertsma, H. (1963) Terpen tussen Vlie en Eems: een geografisch-historische benader- ing, 2 vols. Groningen
Hammond, P. C. (1973) The Nabataeans: Their History, Culture and Archaeology. Göteborg
Harding, G. L. (1953) ‘The cairn of Hani’, ADA] 2: 8-56
Harding, G. L. (1969) ‘The Safaitic tribes’, Al-Abhath. Quarterly Journal of the American University of Beiruti 3—25 Heather, P. (1991) Goths and Romans 332—489. Oxford Heather, P. (1996) The Goths. Oxford
Hedeager, L. (1992) Iron Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe, 300 BC to AD 700. Oxford
Helm, R. (1984) Eusebius Werke: Die Chronik des Hieronymus (Hieronymi Chroni- con) (GCS Eusebius vu), 3rd edn. Berlin
Herzfeld, E. E. (1924) Paikuli: Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire (Forschungen zur islamischen Kunst 3), 2 vols. Berlin Hewsen, R. H. (1978-9) ‘The successors of Tiridates the Great: a contribution to the history of Armenia in the fourth century’, REArm n.s. 13: 99-126 Hewsen, R. H. (2001) Armenia: A Historical Atlas. Chicago Hillers, D. R. and Cussini, E. (1996) Palmyrene Aramaic Texts. Baltimore and London
Hoffmann, G. (1880) Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer; übers, und durch Untersuchungen zur historischen Topographie (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 7.3). Leipzig (repr. Nendeln, Liechtenstein, 1966) Honigmann, E. (1953) ‘Basileus of Amaseia (314, about 320 A.D.)’, in Patristic Studies и (Studi e Testi 173) (Vatican City) 6-27 Hvass, S. (1985) Hodde: Et vestjysk lands bysamfundfa aeldrejernalder (Arkaeologiske Studier 7). Copenhagen
Ilkjaer, J. and Lonstrup, J. (1983) ‘Der Moorfimd im Tal der Illerup-A bei Skan- derborg im Ostjütland’, Germania 61: 95—126 Ingraham, M. L. (1981) ‘Saudi Arabian Comprehensive Survey Program’, Atlal 5: 59-84
James, E. (1988) The Franks. Oxford
Jankuhn, H. (1976) ‘Siedlung, Wirtschaft und Gesellschafts-ordnung der germanischen Stämme in der Zeit der römischen Angriffskriege’, ANRW 11.5.1: 65-126
Часть пятая... (главы 13—16)
1041
Kenk, R. (1977) ‘Studien zum Beginn der jüngeren römischen Kaiserzeit in der Przeworsk-Kultur’, BRGK 58: 161-446
Kettenhofen, E. (1982) Vorderer Orient: Römer und Sasaniden in der Zeit der Reichkrise (224—284 n.Chr.) (TAVO в v 11). Wiesbaden Kettenhofen, E. (1984a) Östlicher Mittelmeerraum und Mesopotamien: Die Neuordnung des Orients in diokletianisch-konstantinischer Zeit (284-557 n.Chr.) (TAVO в vi 1). Wiesbaden
Kettenhofen, E. (1984b) ‘Die Einforderung des Achamenidenerbes durch Ardasîr.
Eine Interpretatio Romana , Orientalia Lovaniensia Periodica 15: 177-90 Keydell, R. (1967) De imperio et rebusgestis Iustiniani AgathiaeMyrinaei Historiarum libri quinque (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 2). Berlin Khalil Ibrahim, J. (1982) ‘Two legal texts from Hatra’, Sumer 38: 120—5 0n Arabic) Kolnik, T. (1978) ‘Q. Atilius Primus — interprex, centurio und negotiator, AArch- Hung 30: 61-75
Kouymjian, D. (1981) ‘The classical tradition in Armenian art’, REArm n.s. 15: 263-88
Krause, W and Jankuhn, H. (1966) Die Runeninschrifien im älteren Futhark (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philologisch-historische Klasse3 65). Göttingen Krüger, B. (ed.) (1986) Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa, vol. II: Die Stämme und Stammesverbände in der Zeit vom 5. Jahrhundert bis zur Herausbildung der politischen Vorherrschaft der Franken, 2nd edn. Berlin
Kunow, J. (1983) Der römische Import in der Germania libera bis zu den Markomannkriegen. Neumünster
Künzl, E. (1993) Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Mainz Lang, D. M. (1970) Armenia: Cradle of Civilization. London (corrected edns. 1978 and 1980)
Lang, D. M. (1983) ‘Iran, Armenia and Georgia’, in Yarshater, CHI 111.1: 505-36 Langlois, V. (1867-9) Collection des historiens anciens et modernes de lArménie, 2 vols. (2nd edn. Paris, 1880; repr. Lisbon, 2001)
Laser, R. (1980) Die römischen undfrüh byzantinisch en Fundmünzen auf dem Gebiet der DDR (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 28). Berlin Lieu, S. N. C. (1986) ‘Captives, refugees and exiles: a study of cross-frontier civilian movements and contacts between Rome and Persia from Valerian to Jovian’ in Freeman and Kennedy, DRBE 11: 475-505 Lightfoot, C. S. (1983) ‘The site of Roman Bezabde’, in Mitchell, AFRBA: 189-204 Lightfoot, C. S. (1986) ‘Tilli - a late Roman equites fort on the Tigris?’, in Freeman and Kennedy, DRBE 11: 509-29 Lind, L. (1988) Romerska denarer funna i Sverige. Stockholm Lindner, M. (1980) Petra und das Königsreich der Nabatäer, 3rd edn. Munich Lindner, M. (1987) Petra: Neue Entdeckungen und Forschungen. Munich Littmann, E. and Meredith, D. (1953) ‘Nabataean inscriptions from Egypt’, BSOAS ц: 1-29
Littmann, E. and Meredith, D. (1954) ‘Nabataean inscriptions from Egypt’, BSOAS 16: 211-46
1042
Библиография
Loriot, X. (1975) ‘Les premières années de la grande crise du IHe siècle: de l’avènement de Maximin le Thrace (235) à la mort de Gordien III (244)’, ANRW h.2: 657-787
Lozachmeur, H. (ed.) (1995) Présence arabe dans le croissant fertile avant THégire. Actes de la Table ronde internationale... Etudes sémitiques, au Collège de France, le 13 novembre 1993. Paris
Lund Hansen, U. (1987) Römischer Import im Norden: Warenaustausch zwischen dem römischen Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas (Nordiske Fortidsminder bio). Copenhagen
MacDermott, B. (1970) ‘The conversion of Armenia in 294 a.d.’, REArrn n.s. 7: 281-359
Macdonald, M. C. A. (1992a) ‘Herodian echoes in the Syrian desert’, in S. Bourke, J.-P. Descoudres and A. Walmsley (eds.), Trade, Contact and the Movement of Peoples in the Eastern Mediterranean: Papers in Honour of /. B. Hennessy (Mediterranean Archaeology Suppl. 2). Sydney
Macdonald, M. C. A. (1992b) ‘North Arabian epigraphic notes X, Arabian Archaeology and Epigraphy 3: 23-43
Macdonald, M. C. A. (1992c) ‘The seasons and transhumance in the Safaitic inscriptions’, JRAS 2:1-11
Macdonald, M. C. A. (1993) ‘Nomads and the Hauran in the late hellenistic and Roman periods: a reassessment of the epigraphic evidence’, Syria 70: 303-413
Macdonald, M. C. A. (2000) ‘Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia’, Arabian Archaeology and Epigraphy 11: 28-79
Mahé, J.-P. (1996) Hoys hawat, “Foi lumineuse”, du mazdéisme au christianisme arménien’, in Santrot (ed.) (1996) 256-62
Manandian, H. A. (1965) The Trade and Cities of Armenia in Relation to Ancient World Trade, tr. from 2nd edn by N. G. Garsoïan. Lisbon
Maricq, A. (1955) ‘Hatra de Sanatrouq’, Syria 32: 273-88
Maricq, A. (1957) ‘Les dernières années de Hatra: l’alliance romaine’, Syria 34: 288—9^
Maricq, A. (1958) ‘Classica et Orientalia 5, Res Gestae Divi Saporis’, Syria 35: 295- 360 (repr. with revisions in Classica et Orientalia extrait de Syrie 1933—62 (Paris, 1965) 257-301)
Markwart, J. (1931) A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr. Analecta Orientalia 3, ed. G. Messina. Rome
Mildenberger, G. (1978) Germanische Burgen (Veröffentlichungen der Altertumskommission im Provinzialinstitut für westfälische Landes- und Volksforschung, Landschaftsverband Westfalen-Lippe 6). Münster
Milik, J. T. (1985) ‘Epigraphie safaitique’, in Dentzer (1985) 183-8
Miliar, F. G. B. (1971) ‘Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian: the church, local culture and political allegiance in third-century Syria’, JRS 61: 1- 17
Mitford, T. B. (1980) ‘Cappadocia and Armenia Minor: historical setting of the limes, ANRW 11.7.2:1169-1228
Часть пятая... (главы 13—16)
1043
Mousheghian, К., Mousheghian, A., Bresc, С., Depeyrot, G. and Gurnet, F. (2000) History and Coin Finds in Armenia, 4 vols. Wetteren (Collection Moneta 17— 18, 20-1)
Muselyan, X. A. (1983) The Circulation of Money in Armenia, Vlth Century B. C- XTVth Century A. D. Yerevan (in Armenian, with summaries in Russian and English)
Nau, F. (1915—17) ‘Résumé de monographies syriaques: v. Histoire de Jacques le reclus’, Revue de l'Orient Chrétien. 2nd ser. 10: 3-12 Negev, A. (1977) ‘The Nabateans and the Provincia Arabia , ANRW и.8: 520-686 Nielsen, P. О., Randsborg, К. and Thrane, H. (eds.) (1994) The Archaeology of Gudme and Lundeborg: Papers Presented at a Conference at Svendborg, October 1991 (Arkaeologiske Studier 10). Copenhagen Nöldeke, T. (tr.) (1879) Tabari, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus der arabischen Chronik des Tabari. Strasburg (repr. Leiden, *973)
Nylen, E. (1968) ‘Die älteste Goldschmiedekunst der nordischen Eisenzeit und ihr Ursprung’, JRGZM 15: 75-94
Oates, D. (1968) Studies in the Ancient History of Northern Iraq. London O’Connor, M. P. (1986) ‘The etymology of Saracen in Aramaic and pre-Islamic Arabic contexts’, in Freeman and Kennedy, DRBE 11: 603-32 Ondrouch, V. (1957) Bohaté hrobyzdoby nmskej na Slovensku: novsie nâlezy (Archae- ologica Slovaca Monographiae 1). Prague Oxtoby, W. G. (1968) Some Inscriptions from the Safaitic Bedouin (American Oriental Series 50). New Haven Palmyra and the Silk Road (1996). Damascus
Parker, S. T (1986) Romans and Saracens: A History of the Arabian Frontier. Philadelphia
Peeters, P. (1931) ‘L’intervention politique de Constance II dans la grande Arménie’, Bulletin de la classe des lettres de VAcadémie Royale de Belgique 5 ser. 17: 10-47 (repr. in Recherches d'histoire et de philologie orientales 1 (Subsidia Hagiograph- ica 27; Brussels, 1951) 222-50)
Périkhanian, A. (1971) ‘L’inscription araméenne gravée sur une coupe d’argent trouvée a Sissian (Arménie)’, REArm n.s. 8: 5-11 Perin, P. (1987) Les Francs I: A la conquête de la Gaule. Paris Pflaum, H.-G. (1952) ‘La fortification de la ville d’Adraha d’Arabie (259-260 à 274-275) d’après des inscriptions récemment découvertes’, Syria 29: 307-330 Pitts, L. F. (1987) ‘Roman style buildings in Barbaricum (Moravia and SW Slovakia)’, Oxford Journal of Archaeology 6: 219-36 Pleiner, R. (1964) ‘Die Eisenverhüttung in der Germania Magna zur römischen Kaiserzeit’, B RG К 45: и-86
Poidebard, А. (1934) La trace de Rome dans le désert de Syrie: le limes de Trajan à la conquête arabe. Paris
Poidebard, A. and Mouterde, R. (1945) Le Limes de Chalcis: Organisation de la steppe, documents aériens. Paris
Potter, D. (1995) ‘Rome and Palmyra: Odaenathus’ titulature and the use of the imperium maius , ZPE 113: 271-85
1044
Библиография
Rabin, E. (1975) ‘Dio, Herodian and Severus’ Second Parthian War’, Chiron 5: 419-41
Raddatz, К. (1967) Die Bewaffnung der Germanen in der jüngeren römischen Kaiserzeit (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse 1967 no. 1 (pp. 1-17)). Göttingen Rebuffat, R. (1986) ‘Le bouclier de Doura’, in Doura-Europos: Etudes 1986 (Institut français d’Archéologie du Proche-Orient, Publication hors série 16) (Paris) 85-105 (= Syria 63,1986)
Robin, C. (ed.) (1991) L * Arabie antique de Karib 41 à Mahomet: Nouvelles données sur Vhistoire des Arabes grâce aux inscriptions (Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 61). Paris
Rodinson, M. (1959) review of E V. Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan (Toronto, 1957), Arabica 6: 214-20 Rohmann, A. (1963) Araben. Munich
Roncaglia, M. P. (1971) ‘Les Arabes dans l’Antiquité classique’, Parole de VOrient
2: w-?6
Roncaglia, M. P. (1972) ‘Les Arabes dans l’Antiquité classique’, Parole de VOrient 3- 171-8
Roncaglia, M. P. (1974) ‘Les Arabes dans l’Antiquité classique’, Parole de VOrient 5: 201-10
Roschinski, H. P. (1980) ‘Sprachen, Schriften und Inschriften in Nordwestarabien’, BJ 180: 155-88
Ross, S. K. (2001) Roman Edessa: Politics and Culture on the Eastern Fringes of the Roman Empire 114—242 c.e. London Rothstein, G. (1899) Die Dynastie der Lahmiden in aVHira. Berlin Rowton, M. B. (1973) ‘Urban autonomy in a nomadic environment’, JNES 32:
201-15
Rowton, M. B. (1976) ‘Dimorphic structure and topology’, Oriens Antiquus 15: 17-31
Rowton, M. B. (1977) ‘Dimorphic structure and the parasocial element’, JNES 36: 181-98
Russell, J. R. (1987) Zoroastrianism in Armenia (Harvard Iranian Series 5). Cambridge, MA
Russell, J. R. (1990) ‘Pre-Christian Armenian religion’, ANRW11. 18.4: 2679-92 Rybakov, B. A. (ed.) (i960) Cernjachovskaya KuVtura. Moscow Ryckmans, J. (1986) ‘Safaïtique’, Dictionnaire de la Bible, Suppl, xi (Paris) col. 1-3 Sachau, E. (1915) Die Chronik von Arbela, ein Beitrag zur Kenntnis des ältesten Christentums im Orient (Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische klasse 6). Berlin Safar, E (1961) ‘Inscriptions of Hatra (texts no. 79-105)’, Sumer 17: 9-42 (in Arabic) Safar, E (1973) ‘The lords and kings of Hatra’, Sumer 29: 87-98 (in Arabic)
Safar, E and Mustafa, M. A. (1974) Hatra: The City of the Sun God. Baghdad (in Arabic, numerous illustrations)
Sahinian, A. (1969) ‘Nouveaux matériaux concernant l’architecture des constructions antiques de Garni’, REArm n.s. 6: 181-200 Santrot, J. (ed.) (1996) Arménie: Tresors de VArménie ancienne. Paris and Nantes
Часть пятая... (главы 13—16)
1045
Sartre, М. (1981) ‘La frontière méridionale de l’Arabie romaine’, in La géographie administrative et politique d'Alexandre à Mahomet (Actes du colloque de Strasbourg 1979) (Leiden) 77-92
Sartre, M. (1982) Trois Etudes sur TArabie romaine et byzantine. Brussels Sartre, M. (1985a) Bostra. Des origines à TIslam (BAH 117). Paris Sartre, M. (1985b) ‘Le peuplement et le développement du Hawran antique à la lumière des inscriptions grecques et latines’, in Dentzer (1985) 189-202 Sartre, M. (1987) ‘Villes et villages du Hauran (Syrie) du 1er au IVe siècle’, in
E. Frézouls (ed.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans T Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines (Contributions et Travaux de l’Institut d’Histoire Romaine 4) (Strasbourg) 239-57 Sartre, M. (2000) ‘Syria and Arabia’, in САН XI2: 635-63 Sartre, M. (2001) D Alexandre à Zénobie: Histoire du Levant antique, IVe siècle avant J.-C. - IIle siècle après J.-C. Paris
Sartre-Fauriat, A. (1997) ‘Palmyre de la mort de Commode à Nicée (192-325)’, in Y. Le Bohec (ed.), L'Empire romain de la mort de Commode à Nicée (192-325 après J.-C.) (Neuilly-sur-Seine) 251-78
Schlumberger, D. (1942-19433) ‘L’inscription d’Hérodien: remarques sur l’histoire des princes de Palmyre’, BEO 9: 35—50
Schlumberger, D. (1942-1943^ ‘Les gentilices romains des Palmyréniens’, BEO 9: 52-82
Schlumberger, D. (1951) La Palmyrène du Nord-Ouest. Paris Schlumberger, D. (1962) ‘Le prétendu camp de Dioclétien à Palmyre’, MUS] 38: 79-97
Schlumberger, D. (1972) ‘Worod l’agoranome’, Syria 49: 339-42 Schulz, W. (1953) Leuna. Ein germanischer Bestattungsplatz der spätrömischen Kaiserzeit (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte 1). Berlin Schulz, W. and Zahn, R. (1933) Das Fürstengrab von Hassleben (Römischgermanische Forschungen 7). Berlin and Leipzig Schwartz, E. (1909) Eusebius, Die Kirchenjgeschichte (GCS Eusebius 11). Leipzig Schwartz, J. (1957) ‘Les Palmyréniens et l’Egypte’, Bulletin de la Société d'Archéologie d'Alexandrie 40: 63-81
Schwartz, J. (1966) ‘L’Histoire Auguste et Palmyre’, НАС1 1964-5. (Bonn) 185— 95
Schwartz, J. (1977) ‘Chronologie du IHe s. p. C.’, ZPE 24: 174-6 Segal, J. B. (1970) Edessa, the Blessed City. Oxford Segal, J. B. (1982) ‘Aramaic legal texts from Hatra’,^5 1982: 109-15 Seyrig, H. (1937) ‘Note sur Hérodien, prince de Palmyre’, Syria 18:1-4 (= Antiquités Syriennes 11.42-5)
Seyrig, H. (1958) ‘Uranius Antoninus: une question d’authenticité’, RN1958:51-7 (repr. Scripta Numismatica (BAH 126; Paris, 1986) 471-7)
Seyrig, H. (1959) ‘Caractères de l’Histoire d’Emèse’, Syria 36:184-92 (=Antiquités Syriennes vi. 64-72)
Seyrig, H. (1963) ‘Les fils du roi Odainat’, AAS 13: 159-62 (repr. Seyrig (1985)
1046
Библиография
Seyrig, H. (1966) ‘Vhabalatus Augustus’, Mélanges K. Michalowski (Warsaw) 659- 62 (repr. Seyrig (1985) 279-82)
Seyrig, H. (1985) Scripta Varia: Mélanges d’archéologie et d’histoire (BAH 125). Paris Shahid, I. (1983) Rome and the Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the Arabs. Dumbarton Oaks
Shahid, I. (1984) Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Dumbarton Oaks Sinclair, T. A. (1987) Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey, vol. I. London
Sourdel, D. (1952) Les cultes du Hauran à Tépoque romaine (BAH 53). Paris Spooner, B. (1972) ‘The status of nomadism as a cultural phenomenon in the Middle East’,/L4S 7: 122-30
Starcky, J. (1966) ‘Pétra et la Nabatène’, Dictionnaire de la Bible, Suppl, vu (Paris) col. 886-1017
Starcky, J. (1975-6) ‘Stèle d’Elahagabal’, MUS] 49: 503-20 Starcky, J. (1985) ‘Les inscriptions nabatéennes et l’histoire de la Syrie méridionale et du Nord de la Jordanie’, in Dentzer (1985) 167-81 Starcky, J. and Gawlikowski, M. (1986) Palmyre. Paris
Stein, A. (1941) ‘The ancient trade route past Hatra and its Roman posts’, Journal of the Royal Asiatic Society 1941: 299-316
Stnbrnÿ, K. (1989) ‘Römer rechts des Rheins nach 260 n. Chr.’, BRGK 70: 351— 5°5
Swain, S. (1993) ‘Greek into Palmyrene: Odenathus as Corrector Totius Orientis\ ZPE 99:157-64
Symonovic, E. A. (1983) ‘Chernyakhovo culture and sites of the Kiev and Kolochin types’, SA 1983/1: 91-102
Teixidor, J. (1989) ‘Les derniers rois d’Edesse d’après deux nouveaux documents syriaques’, ZPE j6\ 219-22
Teixidor, J. (1990) ‘Deux documents syriaques du Illème siècle après J.-C.
provenant du Moyen Euphrate’, CRAI1990: 144-66 Ter-Martirossov, E I. (1996) ‘Le temple de la forteresse de Garni’, in Santrot (ed.) (1996) 190-1
Thompson, E. A. (1965) The Early Germans. Oxford Thomson, R. W. (1976) Agathangelos: History of the Armenians. Albany, NY Thomson, R. W. (1978) Moses Khorenats 4: History of the Armenians (Harvard Armenian Texts and Studies 4). Cambridge, MA Todd, M. (1987) The Northern Barbarians, 100 BC-a.d. $00, rev. edn. Oxford ToumanofF, C. (1959) ‘Introduction to Christian Caucasian history: the formative centuries (IV-VTII)’, Traditio 15: 1-106 ToumanofF, C. (1963) Studies in Christian Caucasian History. Georgetown ToumanofF, C. (1969) ‘The third-century Armenian Arsacids: a chronological and genealogical commentary’, REArm n.s. 6: 233-81 ToumanofF, C. (1970) ‘Comptes rendus’, REArm n.s. 7: 473-8 Trimingham, J. S. (1979) Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times. London
Van Den Berghe, P. L. (1987) The Ethnic Phenomenon. New York (orig. publ. 1981)
Часть пятая... (главы 13—16)
1047
Vattioni, F. (1981) Le iscrizioni di Hatra (Suppl. 28 to Annali dell’Istituto Orientale di Napoli 41 fase. 3). Naples
Villeneuve, F. (1985) ‘L’économie rurale et la vie des campagnes dans le Hau- ran antique (1er siècle avant J.C.-VIIe siècle après J.-C.). Une approche’, in Dentzer (1985) 63-136
Volkmann, H. (1968) ‘Septimius Odaenathus’, RE Suppl. 11: col. 1242-3 Vööbus, A. (i960) History of Asceticism in the Syrian Orient: A Contribution to the History of Culture in the Near East vol. и (CSCO 197, Subsidia 17). Louvain
Wagner, J. (1983) ‘Provincia Osrhoenae: new archaeological finds illustrating organisation under the Severan dynasty’, in Mitchell, AFRBA: 103—29 Walker, J. (1958) ‘The coins of Hatra’, NC 18; 167-72
Wenskus, R. (1961) Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes. Cologne
Werner, J. (1941) Die beiden Zierscheiben des Thorsberger Moorfundes: ein Beifrag zur frühgermanischen Kunst- und Religionsgeschichte (Römisch-germanische Forschungen 16). Berlin
Wielowiejski, J. (1975) ‘Amber in Poland in the La Tène and Roman periods’, Studi e ricerche sulla problematica delTambra (Rome) 73—91 Wilkinson, P. D. (1982) ‘A fresh look at the Ionic building at Garni’, REArm n.s. 16: 721-44
Will, E. (1966) ‘Le sac de Palmyre’, in R. Chevallier (ed.), Mélanges darchéologie et d’histoire offerts à André Piganiol (Paris) 1409-17 Will, E. (1985) ‘Pline l’Ancien et Palmyre: un problème d’histoire ou d’histoire littéraire?’, Syria 62: 263-9
Winkler, G. (1980) ‘Our present knowledge of the History of Agat’angelos and its oriental versions’, REArm n.s. 16: 125-41
Winnett, F. V. (1957) Safaitic Inscriptions from Jordan (Near and Middle East Series 2). Toronto
Winnett, F. V. and Harding, G. L. (1976) Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns (Near and Middle East Series 9). Toronto Wolfram, H. and Daim, F. (1980) (eds.) Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechsten Jahrhundert: Berichte des Symposions der Kommission fur Frühmittelalterforschungy 24. bis 27. Oktober 1978, Stift Zwettl Niederösterreich (Denkschriften der österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil-hist. klasse 145). Vienna Zardarian, M. H. and Akopyan, H. P. (1994) ‘Archaeological excavations of ancient monuments in Armenia 1985—1990, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 1.2: 169—95
Zimansky, P. E. (1985) Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State (Studies in Ancient Oriental Civilization 41). Chicago Zwettler, M. J. (1993) ‘Imra’alqays, son of‘Amr, king of. . .???’, in M. Mir and J. E. Fossum (eds.), Literary Heritage of Classical Islam: Arabic and Islamic Studies in Honor of James A. Bellamy (Princeton) 3-37 Zwettler, M. J. (2000) ‘Ma’add in late-ancient Arabian epigraphy and other pre-Islamic sources’, Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes 30: 223-308
1048
Библиография
Часть шестая
Религия, культура и общество (главы 17—19)
Abramowski, L. (1977) Trenaeus, Adv. Haer. 111.2: ecclesia romana and omnis ecclesia', JThS 28: 101-4
Adriaen, M. (1963) S. Hieronymi Presbyteri opera Pars I, vol. 2A: Commentariorum in Esaiam, libri XII—XVIII (CCSL lxxiiia). Turnhout Alföldy, G. (1989) ‘Die Krise des Imperium Romanum und die Religion Roms’, in W. Eck (ed.), Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit: Kolloquium zu Ehren von Friedrich Vittinghoff (Vienna) 53-102 Aly, A. S. (1987) ‘Eight Greek oracular questions in the West Berlin collection’, ZPE 68: 99-104
Amedick, R. (1991) Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Vita Privata (ASR 1.4). Berlin
Andreae, B. (1980) Die römischen Jagdsarkophage (ASR 1.2). Berlin Armstrong, D. (1987) ‘Gallienus in Athens, 264’, ZPE 70: 235-58 Armstrong, G. (1967) ‘Constantine’s churches’, Gesta 6: 1-9 Audet, J. P. (1958) La Didache: Instruction des Apôtres. Paris Bagnall, R. S. (1982) ‘Religious conversion and onomastic change in early Byzantine Egypt’, BASE 19: 105-24
Bagnall, R. S. (1988) ‘Combat ou vide: Christianisme et paganisme dans l’Egypte romaine tardive’, Ktema 13 (publ. 1992): 285-96 Bakker, J. T. (1994) Living and Working with the Gods: Studies of Evidence for Private Religion and its Material Environment in the City of Ostia (100—500 AD) (Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology 12). Amsterdam Baity, J. (1977) Mosaïques antiques de Syrie. Brussels
Baity, J. (1981) ‘La mosaïque antique au Proche-Orient, 1: Des origines à la Tétrarchie’, ANRW 11.12.2 (Berlin) 347-429 Bammel, C. P (1982) Tgnatian problems’, JThS 33: 81-96 Barnes, T. D. (1967) ‘A note on Polycarp’,/7)W 18: 433-7 Barnes, T. D. (1969) ‘Tertullian’s Scorpiace, JThS 20: 105-32 Barnes, T. D. (1970) ‘The chronology of Montanism’,/7%5 21: 403-8 Barnes, T. D. (1985) ‘Constantine and the Christians of Persia’, JRS 75: 126-36 (repr. in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 6)
Barnes, T. D. (1989) ‘Christians and pagans in the reign of Constantius’, in L Eglise et lEmpire au IVe siècle (Fondation Hardt, Entretiens 34) (Geneva) 301-37 (pp. 322-37 repr. in Barnes, Eusebius to Augustine ch. 8)
Barton, I. M. (1982) ‘Capitoline temples in Italy and the provinces (especially Africa)’, ANRW 1112.1 (Berlin) 259-342
Bassett, S. G. (1991) ‘The antiquities in the Hippodrome of Constantinople’, DOP 45: 87-96
Bassett, S. G. (1996) ‘Historiae custos: sculpture and tradition in the baths of Zeux- ippos’, American Journal of Archaeology 100: 491-506 Bastianini, G. (1975) ‘Lista dei prefetti d’Egitto dal зоа al 299p’, ZPE 17: 263- 328
Часть шестая... (главы 17—19)
1049
Bastianini, G. (1980) ‘Lista dei prefetti d’Egitto dal 30* al 299р: Aggiunte e cor- rezioni’, ZPE 38: 75-89
Bauer, W. (1971) Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, 2nd edn, tr. R. A. Kraft and G. Krodel. Philadelphia
Beard, M. (1991) ‘Writing and religion: Ancient Literacy and the function of the written word in Roman religion’, Literacy in the Roman World (JRA Suppl. 3) (Ann Arbor) 35-58
Beard, M., North, J., and Price, S. (1998) Religions of Rome, 2 vols. Cambridge Becatti, G. (1961) Scavi di Ostia IV: Mosaici e pavimenti marmorei. Rome Becatti, G. (1963) ‘Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero in Italia’, Actes du Colloque international sur la Mosaïque Gréco-romaine (Paris August 29- September 5,1963) (Paris) 15-28 Beck (1987) ‘Merkelbach’s Mithras’, Phoenix 41: 296-316 Bénabou, M. (1976) La résistance africaine à la romanisation. Paris Benario, H. W. (1958) ‘Rome of the Severi’, Latomus 17: 712-18 Berenson, В. (1954) The Arch of Constantine or the Decline of Form. London Betz, H. D. (ed.) (1992) The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, 2nd edn. Chicago
Bianchi-Bandinelli, R. (1971) Rome, the Late Empire: Roman Art AD 200—400. London and New York
Bidez, J. (1913) Vie de Porphyre, le philosophe néo-platonicien: Avec les fragments des traités Péri agalmaton* et De regressu animae’ (Université de Gand, Recueil de Travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres 43). Ghent (repr. Hildesheim, 1964)
Binsfeld, W, Goethert-Polaschek, K., and Schwinden, L. (1988) Katalog der römischen Steindenkmäler des Rheinischen Landesmuseums Trier 1: Götter- und Weihedenkmäler. Mainz-am-Rhein Blackmann. E. C. (1948) Marcion and His Influence. London Blake, M. E. (1940) ‘Mosaics of the late empire in Rome and vicinity’, MAAR 17: 81-130
Bowersock, G. W. (1982) ‘The imperial cult: perceptions and persistence’, in B. F. Meyer and E. P. Sanders (eds.), Jewish and Christian Self-Definition 3: Self- Definition in the Graeco-Roman world (London) 171—82 Bowersock, G. W, Brown, P. and Grabar, O. (1999) Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. Cambridge, MA, and London Breckenridge, J. D. (1981) ‘Imperial portraiture: Augustus to Gallienus’, ANRW и.12.2 (Berlin) 477-512
Brent, A. (1995) Hippolytus and the Church of Rome at the End of the Second Century. Leiden
Brilliant, R. (1963) Gesture and Rank in Roman Art: The Use of Gestures to Denote Status in Roman Sculpture and Coinage (Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 14). New Haven, CT Brilliant, R. (1967) The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum (MAAR 29). Rome
Brink, F. (1997) ‘Die Anfänge des Christentums in Trier, Köln und Mainz’, TZ 60: 229-54
1050
Библиография
Brisson, L. et al. (1982-92) Porphyre: La vie de Plotin (Histoire des Doctrines de l’Antiquité Classique 6 and 16), 2 vols. Paris Brock, S. (1971) ‘Some aspects of Greek words in Syriac’, in A. Dietrich (ed.), Synkretismus im syrisch-persischen Kulturgebiet (Göttingen) 80-108 (repr. in Brock (1984) ch. 4)
Brock, S. (1978) ‘A martyr at the Sasanid Court under Vahran II: Candida’, Analecta Bollandiana 96: 167-81 (repr. in Brock (1984) ch. 9)
Brock, S. (1982) ‘Christians in the Sasanian empire: a case of divided loyalties’, in Religion and National Identity (Studies in Church History 18) (Oxford) 1-19 (repr. in Brock (1984) ch. 6)
Brock, S. (1984) From Ephrem to Romanos: Syriac Perspectives on Late Antiquity (Variorum Collected Studies). Aldershot
Brogan, O. and Smith, D. J. (1984) Ghirza: A Libyan Settlement in the Roman Period. Tripoli
Brouquier-Reddé, V. (1992) Temples et cultes de Tripolitaine. Paris Brown, P. (1978) The Making of Late Antiquity. Cambridge, MA Browne, G. (1987) ‘The Sortes Astrampsychi and the Egyptian oracle’, in J. Dummer (ed.), Texte und Textkritik (Berlin) 67-71
Brunner, J. (1974) ‘The Middle Persian inscription of the priest Kirder at Naqs-i Rustam’, in Near Eastern Numismatics, Iconography\ Epigraphy and History: Studies in Honour of George C. Miles (Beirut) 97fr.
Buck, P. L. (1996) ‘Athenagoras’ Legatio: a literary fiction’, HThR 89.3: 209-26 Buizer, C. M. (1925) Quid Minucius Felix in Dialogo Octavio sibi Proposuerit. Amsterdam
Burkert, W. (1985) Greek Religion, Archaic and Classical. Oxford Burkert, W. (1990) Antike Mysterien: Funktionen und Gehalt. Munich Cameron, Averil and Hall, S. G. (1999) Eusebius, Life of Constantine (Clarendon Ancient History Series). Oxford
Cameron, R. and Dewey, A. J. (tr.) (1979) The Cologne Mani Codex. Missoula Campbell, A. (1993) ‘The elders of the Jerusalem church’, JThS 44: 511-28 Carson, R. A. G. (1980) Principal Coins of the Romans, II: The Principate 31 b.c.-a.d. 296. London
Chabot, I.-В. (1933) Incerti auctoris Chronicon anonymum Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II. accedunt Iohannis Ephesini fragmenta curante E. W. Brooks (CSCO 104). Paris
Chadwick, H. (1953) Origen: Contra Celsum. Cambridge (rev. edns 1965, 1980)
Champlin, E. (1980) Fronto and Antonine Rome. London and Cambridge, MA Clark, G. (1989) Iamblichus: On the Pythagorean Life (Translated Texts for Historians 8). Liverpool
Clark, G. (2000) Porphyry: On Abstinencefrom Killing Animals (Ancient Commentators on Aristotle). London
Clarke, G. W. (1966) ‘Some victims of the persecution of Maximinus Thrax’, Historia 15: 445-53
Clarke, G. W. (1974) The Octavius of Marcus Minucius Felix (Ancient Christian Writers 39). New York
Часть шестая... (главы 17—19)
1051
Clarke, G. W. (1984) The Letters of St Cyprian ofCarthage, vol. 1 (Ancient Christian Writers 43). New York
Clarke, G. W. (1986) The Letters of St Cyprian of Carthage, vol. hi (Ancient Christian Writers 46). New York
Clarke, G. W. (1989) The Letters of St Cyprian of Carthage, vol. iv (Ancient Christian Writers 47). New York
Clarke, J. R. (1979) Roman Black and White Figurai Mosaics. New York Clauss, M. (1992) Cultores Mithrae: die Anhängerschaft des Mithras-Kultes (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 10). Stuttgart Crouzel, H. (ed.) (1969) Grégoire Thaumaturge: Remerciement à Origène, suivi de la lettre d’Origène à Grégoire (SC 148). Paris Dagron, G. and Rougé, J. (1982) ‘Trois horoscopes de voyages en mer’, REByz 40: И7-33
Daniel, R. W. and Maltomini, F. (eds.) (1990-2) Supplementum magicum (Papy- rologica Coloniensia xvi.1-2). Opladen
Daniélou, J. (1974) The Origins of Latin Christianity, tr. D. Smith and J. A. Baker. Philadelphia and London
Daniels, C. M. (1975) ‘The role of the Roman army in the spread and practice of Mithraism’, in J. Hinnells (ed.), MithraicStudies (First International Congress of Mithraic Studies, Manchester, 1971) (Manchester) 249-74 Davies, P. S. (1989) ‘The origin and purpose of the persecution of a.d. 303’, JThS 40: 66-94
Debidour, V.-H. and Musurillo, H. H. (1963) Méthode d’Olympe, Le banquet (SC 95). Paris
Deichmann, F., Bovini, G. and Brandenburg, H. (eds.) (1967) Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, 1: Rom und Ostia. Wiesbaden DeLaine, J. (1997) The Baths of Caracalla: A Study in the Design, Construction, and Economics of Large-scale Building Projects in Imperial Rome (JRA Suppl. 25). Portsmouth, RI
Desnier, J.-C. (1993) ‘Dioclès ou l’impérieux destin’, АС 6г: 157-85
Dietz, К. (1985) ‘Zwei neue Meilensteine Caracallas aus Gundelfingen, Ldkr.
Dillingen a.d. Donau, Reg.-Bez. Bayerisch-Schwaben’, Germania 63: 75-86 Dihle, A. (1966) ‘Ethik’, RIAC vi: 646-796
Dillon, J. (1977) The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 в.с. to a.d. 220.
London (rev. edn with new afterword, 1996)
Dobschutz, E. von. (1893) Das Kerygma Petri (Texte und Untersuchungen 11.2). Leipzig
Dolbeau, F. (1992) ‘Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes (IV)’, Recherches Augustiniennes 26: 69—141 (repr. in Augustin d'Hippone, Vingt-Six Sermons au Peuple d Afrique (Collection des Etudes Augustiniennes sér. ant. 147). Paris (1996) 345-417)
Downing, F. G. (1993) ‘Cynics and Christians, Oedipus and Thyestes’, JEH 44:
I-IO
Drijvers, H. J. W. (1965) The Book of the Laws of Countries: Dialogue on Fate of Bardaisan of Edessa (Semitic Texts with Translations 3). Assen Drijvers, H. J. W. (1966) Bardaisan of Edessa. Assen
1052
Библиография
Drijvers, H. J. W. (1982) ‘Sanctuaries and social safety: the iconography of divine peace in Hellenistic Syria’, Visible Religion 1: 65-75 Duchesne, L. (1907) Fastes épiscopaux de Vancienne Gaule 1: Provinces du Sud-est. 2nd edn. Paris
Duchesne, L. (1955-7) Le Liber Pontificalis (BEFAR), 3 vols, rev. edn. Paris Dunand, F. (1979) Religion populaire en Egypte romaine: Les terres cuites isiaques du Musée du Caire (Etudes Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain 76). Leiden
Dunbabin, K. M. D. (1978) The Mosaics of Roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage (Oxford Monographs in Classical Archaeology). Oxford Dunbabin, K. M. D. (1999) Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge Duval, Y. (2001) ‘Le clergé de Cirta au début du IVe siècle: notes de prosopographie et d’histoire’, Ubique amici: Mélanges offerts à Jean-Marie Lass ère, 309-340. Montpellier, Université Paul-Valéry
Dvornik, F. (1966) Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background. Washington, DC
Eck, W. (1971) ‘Die Eindrigen der Christentums in den Senatorenstand bis zu Konstantin d. Gr.’, Chiron 1: 381—406
Edwards, M. J. (1989a) ‘Gnostics and Valentinians in the church fathers’, JThS 40:
*6-47
Edwards, M. J. (1989b) ‘Satire and verisimilitude: Christianity in Lucian’s Peregrinus’, Historia 38: 89-98
Edwards, M. J. (1995) ‘Ignatius, Judaism and Judaizing’, Eranos 93: 69-77 Edwards, M. J. (1997) Optatus: Against the Donatists (Translated Texts for Historians 27). Liverpool
Edwards, M. J. (2001) Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by Their Students (Translated Texts for Historians 35). Liverpool Edwards, M. J., Goodman, M. D., and Price, S. R. F. (1999) Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews and Christians. Oxford Elliott, T. G. (1991) ‘Eusebian frauds in the Vita Constantini, Phoenix 45: 162-71 Eisner, J. (1995) Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity. Cambridge
Eisner, J. (1998) Imperial Rome and Christian Triumph (Oxford History of Art). Oxford
Eisner, J. (2000) ‘Art and architecture’, in САН XIII: 736-61 Fahey, M. A. (1971) Cyprian and the Bible: A Study in Third-Century Exegesis. Tübingen
Ferma, A. (1977) ‘Due iscrizioni della Mauritania’, RAC 53: 225-9 Février, P.-A. (1976) ‘Religion et domination dans l’Afrique romaine’, DHA: 305-36 Fishwick, D. (1987-92) The Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, 2 vols. (4 pts). Leiden Fishwick, D. (1990) ‘Votive offerings to the emperor?’, ZPE 80: 121-30 Fishwick, D. (1992) ‘Soldier and emperor’, Ancient History Bulletin 6: 63-72 Fontaine, J. (1967-9) Sulpice Sévère Vie de Saint Martin: Introduction, texte et traduction (SC 133-5), 3 vols. Paris
Fowden, G. (1982) ‘The pagan holy man in late antique society’, JHS 102: 33-59
Часть шестая... (главы 17—19)
1053
Fowden, G. (1991) ‘Constantine s porphyry column: the earliest literary allusion’, JRS 81: 119-31
Fowden, G. (1993a) Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity. Princeton, NJ
Fowden, G. (1993b) The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind, corrected repr. Princeton (corrected repr. of ist edn Cambridge, 1986)
Fowden, G. (1993c) ‘Obelisks between polytheists and Christians: Julian, ep. 59’, in H. Hokwerda, E. R. Smits and M. M. Woesthuis (eds.), Polyphonia Byzantina: Studies in Honour of Willem J. Aerts (Mediaevalia Groningana 13). Groningen: 33-8
Fowden, G. (1994) ‘The last days of Constantine: oppositional versions and their influence’, JRS 84: 110-34
Fowden, G. (1998) ‘Polytheist religion and philosophy’, in САН XIII: 538-60
Francis, J. (1995) Subversive Virtue. University Park, PA
Frankfurter, D. (1998) Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance. Princeton
Frantz, A. (1988) The Athenian Agoray vol. xxiv: Late Antiquity: a.d. 267—700, Princeton, NJ
Freeman-Grenville, G. S. P. (1954) ‘Date of the outbreak of Montanism’, JEH 5: 7-15
Frend, W. H. C. (1965) Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus. Oxford
Frend, W. H. C. (1967) ‘The winning of the countryside’, JEH 18: 1-14 (repr. in Town and Country in the Early Christian Centuries (Variorum Reprints, London, 1980) ch. 2)
Frend, W. H. C. (1968) ‘The Christianization of Roman Britain’, in M. W. Barley and R. P. C. Hanson (eds.), Christianity in Roman Britainy j00—700 (Leicester) 37-49
Frend, W. H. C. (1971) The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa, 2nd edn. Oxford
Freudenberger, R. (1970) ‘Der Anlass zu Tertullians Schrift De corona militis\ Historia 19: 579-92
Freudenberger, R. (1978) ‘Romanas caerimonias recognoscere, in E. Bammel, C. K. Barrett and W. D. Davies (eds.), Donum Gentilicium: New Testament Studies in Honour of David Daube (Oxford) 238fr.
Frey, M. (1989) Untersuchungen zur Religion und zur Religionspolitik des Kaisers Elagabal (Historia Einzelschriften 62). Stuttgart
Freyberger, K. S. (1992) ‘Die Bauten und Bildwerke von Philippopolis’, Damaszener Mitteilungen 6: 293-311
Gager, J. G. (ed.) (1992) Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World. New York
Gamble, H. Y. (1995) Books and Readers in the Early Church: A History of Christian Texts. New Haven and London
Garana, O. (1961) Le catacombe siciliane e i loro martiri. Palermo
1054
Библиография
Gardiner, J. M. F. and Lieu, S. N. C. (1996) ‘From Narmouthis (Medinet Madi) to Kellis (Ismant El-Kharb): Manichaean documents from Roman Egypt’, JRS 86: 146-69
Gascou, J. (1967) ‘Le reserit d’Hispellum’, MEFRA 79: 609-59 Geffcken, J. (1907) Zwei Christlichen Apobgeten. Leipzig
Geffcken, J. (1978) The Last Days of Greco-Roman Paganism (tr. S. MacCormack). Amsterdam (trans, of 1929 edn)
Geizer, H., Hilgenfeld, H. andCuntz, O. (eds.) (1898) Patrum Nicaenorum Nomina.
Leipzig (repr. with afterword, Stuttgart, 1995)
Ghedini, F. (1984) Giulia Domna tra oriente e occidente: Le fonti archeologiche (Fenice 5). Rome
Giammarco Razzano, M. C. (1988) ‘ “Templi d’oro, templi d’argento” tra cultura materiale e devozione popolare’, Scienze delV antichità 2: 321-45 Gobi, R. (1993) Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/27$). Vienna Gonzenbach, V. von. (1979) ‘Caracalla und Achill im griechischen Osten’, in G. Kopeke and M. B. Moore (eds.), Studies in Classical Art and Archaeology: A Tribute to Peter Heinrich von Blanckenhagen (New York) 283— 90
Goodman, M. D. (1983) State and Society in Roman Galileey a.d. 132—212. Totowa, NJ (repr. with expanded intro. London, 2000)
Gordon, R. (1990) ‘The veil of power: emperors, sacrificers and benefactors’, in
M. Beard and J. North (eds.), Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World (London) 201-31
Gordon, R. (1994) ‘Who worshipped Mithras?’, JRA 7: 459-74 Grabar, A. (1969) Christian Iconography. A Study of its Origins. (A. W. Mellon Lectures in Fine Arts, 1961). London
Granino Cecere, M. G. (1986) ‘Apollo in due iscrizioni di Gabii\ Miscellanea greca e romana 10: 265-88
Grant, R. M. (1954) ‘Athenagoras or Pseudo-Athenagoras’, HThR 47: 121-9 Grant, R. M. (1988a) The Greek Apologists of the Second Century. Philadelphia Grant, R. M. (1988b) ‘Five apologists and Marcus Aurelius’, Vigiliae Christianae 42: 1-17
Gresswell, E. (1834) Supplementary Dissertations on the Principles and Arrangement of a Harmony of the Gospels. Oxford
Habicht, C. (1969) Die Inschriften des Asklepieions (Altertümer von Pergamon 8.3). Berlin
Hahneman, G. M. (1992) The Muratorian Fragment and the Development of the Canon. Oxford
Hall, S. G. (1979) Melito of Sardis: On Pascha and Fragments. Oxford Halsberghe, G. M. (1972) The Cult of Sol Invictus (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain 23). Leiden Hannestad, N. (1986) Roman Art and Imperial Policy (tr. P. G. Crabb). Aarhus Harl, K. W. (1987) Civic Coins and Civic Politics in the Roman East a.d. 180—275 (The Transformation of the Classical Heritage 12). Berkeley, CA Harl, M. and de Lange, N. (1983) Origène: Sur les écritures: Philocalie, 1—20. La lettre à Africanus sur Vhistoire de Suzanne (SC 302). Paris {Philocalie by Harl, Africanus by de Lange)
Часть шестая... (главы 17—19)
1055
Harnack, A. von. (1908) The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Christian Centuries, 2nd edn, vol. 1 (tr. J. Moffatt). London Harnack, A. von (1924) Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4th edn, 2 vols. Leipzig Haynes, D. E. L. (1981) An Archaeological and Historical Guide to the Pre-Islamic Antiquities ofTripolitania, 4th edn. Tripoli (ist edn 1955)
Heather, P. and Matthews, J. (1991) The Goths in the Fourth Century (Translated Texts for Historians 11). Liverpool
Heinen, H. (1985) Trier und das Trevererland in römischer Zeit (2000 Jahre Trier 1). Trier
Helgeland, J. (1978) ‘Roman army religion’, ANRW 11.16.2 (Berlin) 1470-1505 Henne, P. (1993) ‘La datation du canon de Muratori’, RB 100: 54-73 Hennecke, E. and Schneemelcher, W. (1992) The New Testament Apocrypha, vol. и (tr. R. M. Wilson). Rev. edn Louisville, KY [trans, of 5th German edn, Tübingen, 1989]
Hijmans, S. E. (1996) ‘The sun which did not rise in the east: the cult of Sol Invictus in the light of non-literary evidence’, Bulletin antieke Beschaving 71: 115-50 Hopkins, K. (1978) Conquerors and Slaves (Sociological Studies in Roman History 1). Cambridge
Hopkins, K. (1998) ‘Early Christian number and its implications’, Journal of Early Christian Studies 6: 184—226
Jones, C. P. (1986) Culture and Society in Lucian. Cambridge, MA Judge, E. A. and Pickering, S. R. (1977) ‘Papyrus documentation of church and community in Egypt to the mid-fourth century’, JAC 20: 47-71 Kampmann, U. (1992-3) ‘Asklepios mit Omphalos in der römischen Reichsprägung. Zu einem Beispiel der Beeinflussung der Reichsprägung durch Lokalmünzen’, Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte 42—3: 39—48 Kenrick, P. M. (1986) Excavations at Sabratha 1948-1951 (JRS Monographs 2). London
Kent, J. P. С. (1978) Roman Coins. London
Kingsley, P. (1995) Ancient Philosophy, Mystery and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition. Oxford
Kleiner, D. E. E. (1992) Roman Sculpture. New Haven and London Klijn, A. H. R. and Reinink, G. J. (1977) Patristic Evidence for Jewish-Christian Sects (Supplements to Novum Testamentum 36). Leiden Klostermann, E. (1904) Eusebius, Das Onomastikon der Biblischen Ortsnamen (GCS xi.i = Eusebius 111.1). Leipzig (repr. Hildesheim, 1966)
Klostermann, E. (1976) Origen, Matthäuserklärung II: die lateinische Übersetzung der Commentariorum series (GCS xxxvni = Origenes Werke 11), 2nd edn, rev. U. Treu. Leipzig
Knipfing, J. R. (1923) ‘The libelli of the Decian persecution’, HThR 16: 345-90 Koch, G. and Sichtermann, H. (1982) Römische Sarkophage. Munich Koch, W. (1927) ‘Comment l’empereur Julien tâcha de fonder une église païenne’, RBPh 6: 123-46
Koch, W. (1928) ‘Comment l’empereur Julien tâcha de fonder une église païenne’, RBPh 7: 49-82, 511-50, 1363-85
1056
Библиография
Коресек, Т. А. (1974) ‘Curial displacement and flight in later fourth-century Cappadocia’, Historia 23: 319fr.
Kraeling, C. H. (1967) The Christian Building (Yale University Excavations at Dura-Europos Final Report viii.2). New Haven Kranz, E (1984) Jahreszeiten-Sarkophage (ASRv.4). Berlin
Krautheimer, R. (1965) Early Christian and Byzantine Architecture (Pelican History of Art). Harmondsworth
Kühnei, B. (1987) From the Earthly to the Heavenly Jerusalem: Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millennium (Römische Quartalschrift suppi. 42). Freiburg-im-Breisgau
Kuhoff, W. (1991) ‘Ein Mythos in der römischen Geschichte: Der Sieg Konstantins des Grossen über Maxentius vor den Toren Roms am 28. Oktober 312 n.Chr.’, Chiron 21: 127-74
Lavin, I. (1963) ‘The Antioch Hunting Mosaics and their sources: a study of compositional principles in the development of early medieval style’, DOP 18: 179-286.
Leadbetter, W. (1998) ‘The illegitimacy of Constantine and the birth of the tetrarchy’, in S. N. C. Lieu and D. Montserrat (eds.) Constantine: History.; Historiography and Legend (London) 74-85 Le Glay, M. (1966) Saturne africain: Histoire (BEFAR 205). Paris Le Glay, M. (1976) ‘Hadrien et l’Asklépieion de Pergame’, BCH ioo: 347-72 Le Glay, M. (1987) ‘Sur l’implantation des sanctuaires orientaux à Rome’, in L yUrbs: Espace urbain et histoire (1er siècle avant J.C.-IIIe siècle après J. C.). Actes du colloque international... (Rome, 8—12 mai 1985) (CEFR 98) (Rome) 545-62 Le Glay, M. (1988) ‘Nouveaux documents, nouveaux points de vue sur Saturne africain’, in E. Lipinski (ed.), Studia Phoenicia 6 (Leuven) 187-237 Le Glay, M. (1991) ‘Un centre de syncrétisme en Afrique: Thamugadi de Numidie’, L Africa romana 8: 67-78
Levi, D. (1947) Antioch Mosaic Pavements. Princeton Liebeschuetz, J. (2000) ‘Religion’, in САН XI2: 984-1008 Liefferinge, C. van (1999) La théurgie des Oracles Chaldaïques à Proclus. Liège Lieu, J. M. (1996) Image and Reality: The Jews in the World of the Christians in the Second Century. Edinburgh
Lieu, S. N. C. (1992) Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China: A Historical Survey. Tübingen (ist edn Manchester, 1985)
Lieu, S. N. C. (1994) Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East (Religions in the Graeco-Roman World 118). Leiden Lightfoot, J. B. (1889) The Apostolic Fathers II: Ignatius and Polycarp, 3 vols., rev. edn. London (new edn 1989)
Lightfoot, J. B. (1890) The Apostolic Fathers I: Clement of Rome, 2 vols., rev. edn. London
Ling, R. J. (1998) Ancient Mosaics. London
Lipinski, E. (1993) ‘Les dii patrii de Leptis Magna’, Ancient Society 2a: 41-50 Lippold, A. (1975) ‘Maximinus Thrax und die Christen’, Historia 241 479-92 Lohr, W. A. (1996) Basilides und Seine Schule: eine Studie zur Theologie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 83). Tübingen
Часть шестая... (главы 17—19)
1057
L’Orange, H. Р. (1965) Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire. Princeton McCann, A. M. (1968) The Portraits of Septimius Severus (AD193-211) (MAAR 30). Rome
McCann, A. M. (1978) Roman Sarcophagi in the Metropolitan Museum of Art. New York
McCann, A. M. (1981) ‘Beyond the classical in third-century portraiture’, ANRW и.12.2 (Berlin) 623-45
MacCormack, S. (1981) Art and Ceremony in Late Antiquity (Transformation of the Classical Heritage 1). Berkeley
MacMullen, R. (1987) Le paganisme dans l'Empire romain. Paris (French trans, and revision of ist American edn New Haven, 1981)
Maier, J.-L. (1973) L'épiscopat de IAfrique romaine, vandale et byzantine. Rome Maier, J.-L. (1987) Le dossier du Donatisme 1: Des origines à la mort de Constance II (303—361) (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 134). Berlin
Majercik, R. (1989) The Chaldean Oracles (Studies in Greek and Roman Religion 5). Leiden and New York
Malaise, M. (1972) Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Ltalie (Etudes Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain 22). Leiden
Mango, C. (1990) ‘Constantine’s mausoleum and the translation of relics’, Byzantinische Zeitschrift 51-62
Mann, J. C. (1961) ‘The administration of Roman Britain’, Antiquity 35: 316-20 Markschies, C. (1992) Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur Valentinianischen Gnosis mit ein Kommentar zu den Fragmenten Valentinus (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 65). Tübingen Martin, A. (1979) ‘L’Eglise et la Khôra égyptienne au IVe siècle’, REAug 25: 3ff. Mathew, G. (1943) ‘The character of the Gallienic Renaissance’,//?^ 33: 65-70 Mattingly, D. J. (1995) Tripolitania. London Merkelbach, R. (1984) Mithras. Königstein
Merten, H. (1985) ‘Der Kult des Mars in Trevererraum’, TZ 48: 7-113 Michaelides, D. (1987) Cypriot Mosaics. Nicosia
Millar, F. G. В. (1971) ‘Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian: the church, local culture and political allegiance in third-century Syria’, JRS 61:1-17 Minear, P. S. (1971) The Obedience of Faith: The Purpose of Paul in the Epistle to the Romans (Studies in Biblical Theology 2nd ser. 19). London Moliton, J. (1969) ‘Tatians Diatessaron und seine Verhältnis zur altsyrischen und altgeorgischen Überlieferung’, Oriens Christianus 53: 1-88 Molthagen, J. (1970) Die römischen Staat und die Christen in zweiten und dritten Jahrhundert (Hypomnemata 28). Göttingen Moreau, J. (1954) Lactance: De la Mort des Persécuteurs, 2 vols. (SC 39). Paris Moretti, L. (1986) ‘II regolamento degli Iobacchi ateniesi’, in L'Association dionysiaque dans les sociétés anciennes: Actes de la table ronde organisée par l'Ecole française de Rome, Rome, 24—23 mai 1984 (CEFR 89) (Rome) 247-59 Musurillo, H. H. (1954) The Acts of the Pagan Martyrs: Acta Alexandrinorum. Oxford
1058
Библиография
Musurillo, H. H. (1958) St Methodius: The Symposium, A Treatise on Charity (Ancient Christian Writers 27). Westminster, MD and London Musurillo, H. H. (1972) The Acts of the Christian Martyrs. Oxford Neugebauer, O. and van Hoesen, H. B. (1959) Greek Horoscopes. Philadelphia Nilsson, M. P. (1974) Geschichte der griechischen Religion II (HAW v.2), 3rd edn. Munich
Nock, A. D. (1972) Essays on Religion and the Ancient World, ed. Z. Stewart, 2 vols. Oxford
Ogg, G. (1955) The Pseudo-Cyprianic De Pascha Computus. London Oliver, J. H. (1978) ‘The piety of Commodus and Caracalla and the Eis BaaiÂéa’, GRBS 19: 375-88
O’Meara, D. J. (1989) Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity. Oxford
Parke, H. W. (1985) The Oracles of Apollo in Asia Minor. London Pekâry, T. (1985) Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft dargestellt anhand der Schriftquellen (Das römische Herrscherbild hi). Berlin Petzl, G. (1994) Die Beichtinschriften Westkleinasiens (EA 22). Bonn Petzl, G. (1998) Die Beichtinschriften im römischen Kleinasien und der Fromme und Gerechte Gott (Geisteswissenschaften, Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften Vorträge G355). Opladen Philipp, H. (1986) Mira et Magica. Gemmen im Ägyptischen Museum der Staatlichen Museen, Preussischer Kulturbesitz Berlin-Charlottenburg. Mainz-am-Rhein Pierce, P. (1989) ‘The arch of Constantine: propaganda and ideology in later Roman art’, Art History 12: 387-418 Pietri, C. (1976) Roma Christiana, vol. 1. Rome
Pighi, J. B. (1965) De ludis saecularibus populi romani Quiritium: libri sex, 2nd edn. Amsterdam
Pincherle, A. (1964-5) ‘Suile origini dei cristianesimo in Sicilia’, Kokalos 10/11: 547-64
Portmann, W. (1990) ‘Zu den Motiven der diokletianischen Christen Verfolgung’, Historia 39: 212-48
Price, S. R. F. (1984) Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Cambridge
Quispel, G. (1979) ‘Gnosis and the Apocryphon of John’, in B. Layton (ed.), The Rediscovery of Gnosticism, vol. 1: Valentinian Gnosticism (Leiden)
118- 32
Quispel, G. (1981) ‘The Gospel of Thomas revisited’, in B. Bare (ed.), Colloque International sur les textes de Nag Hammadi: Québec, 22-25 août ip/8 (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi. Section ‘Etudes’ 1) (Quebec City and Louvain) 219-66
Ramsay, W. M. (1893) The Church in the Roman Empire before A. D.i/o. London
Rankin, D. (1995) Tertullian and the Church. Cambridge
Rea, J. (1977) ‘A new version of P. Yale inv. 299’, ZPE 27: 151-6
Rebuffat, R. (1990) ‘Divinités de l’oued Kebir (Tripolitaine)’, LAfrica romana 7:
119- 59
Часть шестая... (главы 17—19)
1059
Rees, R. (1993) ‘Images and image: a re-examination of tetrarchic iconography’, G&R 40: 181-200
Reynolds, J. and Tannenbaum, R. (1987) Jews and Godfearers at Aphrodisias (Cambridge Philological Society Suppl. 12). Cambridge Riel, M. (1991) ‘Hosios kai Dikaios’, EA 18: 1-70 Riel, M. (1992a) ‘Hosios kai Dikaios’, EA 19: 71-103 Riel, M. (1992b) ‘Hosios kai Dikaios’, EA 20: 95-100
Rives, J. B. (1995) Religion and Authority in Roman Carthage from Augustus to Constantine. Oxford
Rives, J. B. (1999) ‘The decree of Decius and the religion of empire’, JRS 89: 135— 54-
Robert, L. (1980) A travers l Asie Mineure: Poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie (BEFAR 239). Paris Robert, L. (1987) Documents d'Asie Mineure (BEFAR 239bis). Athens Robert, L. (1989) Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques, vol. vi. Amsterdam
Robert, L. (1990) Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques, vol. vu. Amsterdam
Robert, L., Bowersock, G. W. and Jones, C. P. (1994) Le martyre de Pioniosy prêtre de Smyrne. Washington, DC
Roberts, C. H. (1935) An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel in the John Rylands Library. Manchester
Roberts, C. H. (1938) Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester, vol. in: Theological and Literary Texts (no. 457-551). Manchester
Roberts, C. H. (1979) Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt. Oxford Robinson, J. M. (ed.) (1990) The Nag Hammadi Library in English, 3rd edn. San Francisco
Ross, S. K. (2001) Roman Edessa. London and New York
Rousseau, P. (1999) Pachomius: The Making of a Community in Fourth-Century Egypt (Transformation of the Classical Heritage 6). Rev. edn with new preface. Berkeley and Los Angeles (ist edn 1985)
Rousselle, A. (1974) ‘Les persécutions des Chrétiens à Alexandrie’, RHDFE 52: 222—5iff.
Rubenson, S. (1995) The Letters of St Antony: Monasticism and the Making of a Saint. Minneapolis
Ruggiero, F. (1991) Atti dei martiri scilitani (MAL9 1.2). Rome [39-139]
§ahin, S. (1978) ‘Zeus Bennios’, in S. §ahin et al. (eds.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens. Festschrift fur Friedrich Karl Dörner (Leiden) 771-90 Ste Croix, G. E. M. de (1954) ‘Aspects of the “Great” Persecution’, HThR 47: 75-109
Ste Croix, G. E. M. de (1963) ‘Why were the early Christians persecuted?’, P&P 26: 6-38
Salzman, M. R. (1990) On Roman Time: The Codex-Calendar of354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkeley, CA Saxer, V. (1984) ‘Reflets de la culture des évêques africains dans l’œuvre de saint Cyprien: problèmes et certitudes’, Revue Bénédictine 94: 257 ff. (repr. in
1060
Библиография
Pères saints et culte chrétien dans l'Eglise des premiers siècles, Variorum, 1994,
ch. 14)
Scheid, J. (1992) ‘Epigraphie et sanctuaires guérisseurs en Gaule’, MEFRA 104: 25-40
Scheid, J. (1995) ‘Les temples de l’Altbachtal à Trêves: un “sanctuaire national”?’, Cahiers Glotz 6: 227-43
Schepelern, W. (1929) Der Montanismus und die Phrygische Kulte. Tübingen Scher, A. (1908) Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert): I. (PO 4.3). Paris Scherer, J. (i960) Entretien d’Origène avec Héraclide. Paris
Schwarte, K.-H. (1963) ‘Das angebliche Christengesetz des Septimius Severus’, Historia 12: 185-208
Schwarte, K.-H. (1989) ‘Die Christengesetz Valerians’, in W. Eck (ed.), Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit (Cologne) 103-63 Schwarte, K.-H. (1994) ‘Diokletians Christengesetz’, in R. Günther and S. Rebenich (eds.), Efontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilf Wissenschaften. Heinrich Chantraine z. 6y. Geb. (Paderborn) 203-40 Schwanz, J. (1947) ‘Une déclaration de sacrifice du temps de Dèce’, RB 54: 365-9 Segal, J. В. (1970) Edessa ‘The Blessed City ’. Oxford
Selinger, R. (1994) Die Religionspolitik des Kaisers Decius. Anatomie einer Christenverfolgung (Europäische Hochschulschriften 111.617). Frankfurt-am-Main Shaw, B. D. (1993) ‘The Passion of Perpetua, P&P 139: 3-45 Shaw, G. (1995) Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus. University Park, PA
Simon, E. (1986) Die konstantinischen Deckengemälde in Trier. Mainz-am-Rhein Smith, A. (1993) Porphyrii Philosophi fragmenta: Fragmenta Arabica David Wasserstein interpretante (Teubner). Stuttgart
Smith, R. R. R. (1997) ‘The public image of Licinius I: portrait sculpture and imperial ideology in the early fourth century’, JRS 87: 170—202 Snyder, G. F. (1985) Ante Pacem: Archaeological Evidence for Church Life Before Constantine. Macon, GA Squarciapino, M. F. (1966) Leptis Magna. Basel
Squarciapino, M. F. (1991—2) ‘Saturno in Tripolitania’, Studi miscellanei 29 (publ. 1996): 81-4
Staerman, E. M. (1990) ‘Le culte impérial, le culte du Soleil et celui du Temps’, in M.-M. Mactoux and E. Geny (eds.), Mélanges Pierre Lévêque 4 (Paris) 361-79 Stambaugh, J. E. (1978) ‘The functions of Roman temples’, ANRW н.16.1 (Berlin) 554-608
Stark, R. (1996) The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton
Stephens, G. R. (1984) ‘The metrical inscription from Carvoran, RIB 1791 \Archae- ologia Aeliana 12: 149-56 Sweet, J. (1979) Revelation. London
Tabbernee, W. (1997) Montanist Inscriptions and Testimonia: Epigraphie Sources Illustrating the History of Montanism (Patristic Monograph Series 16). Macon, GA
Taylor, J. E. (1990) ‘The phenomenon of early Jewish Christianity: reality or scholarly invention?’, Vigiliae Christianae 44: 313-31
Часть шестая... (главы 17—19)
1061
Thomas, Е. and Witschel, С. (1992) ‘Constructing reconstruction: claim and reality of Roman rebuilding inscriptions from the Latin West’, PBSR 60: 135— 77
Thomas, J. C. (1981) Christianity in Roman Britain to AD 500. London Thomas, K. (1978) Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Belief in Sixteenth and Seven teen th- Cen tu ry England. Harmondsworth Toynbee, J. M. C. (1944) Roman Medallions (Numismatic Studies 5). New York Toynbee, J. and Ward-Perkins, J. (1956) The Shrine of St Peter and the Vatican Excavations. London
Trevett, C. (1996) Montanism: Gender, Authority and the New Prophecy. Cambridge Turcan, R. (1978) ‘Le culte impérial au Ше siècle’, ANRW н.16.2: 996-1084 Ulbert, T. and Dresken-Weiland, J. (eds.) (1998) Repertorium der christlich-antiken Sarkophage II Italien mit einem Nachtrag. Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt. Mainz
Urman, D. (1985) The Golan: A Profile of a Region During the Roman and Byzantine Periods (BAR Int. Ser. 269). Oxford
Urman, D. and Flesher, P. V. M. (eds.) (1995) Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery, 2 vols. Leiden Van den Hoek, A. (1997) ‘The Catechetical School of early Christian Alexandria and its Philonic heritage’, HThR 90.1: 59-88 Vermeule, C. C. (1968) Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor. Cambridge, MA
Veyne, P. (1986) ‘Une évolution du paganisme gréco-romain: injustice et piété des dieux, leurs ordres ou “oracles” ’, Latomus 45: 259-83 Veyne, P. (1989) ‘La nouvelle piété sous l’Empire: s’asseoir auprès des dieux, fréquenter les temples’, RPh Gy. 175-94 Vieillefond, J.-R. (1970) Les Gestes' de Julius Africanus. Paris Vita, A. di (1982) ‘Gli Emporia di Tripolitania dall’età di Massinissa a Diocleziano: un profilo storico-istituzionale’, ANRW 11.10.2: 515—95 Vivian, T (1988) St Peter of Alexandria, Bishop and Martyr. Philadelphia Waelkens, M. (1983) ‘Privatdeifikation in Kleinasien und in der griechisch- römischen Welt: Zu einer neuen Grabinschrift aus Phrygien’, in R. Donceel and R. Lebrun (eds.), Archéologie et religions de TAnatolie ancienne: Mélanges en Thonneur du professeur Paul Naster (Louvain-la-Neuve) 259—307 Wallace-Hadrill, D. S. (1982) Christian Antioch: A Study of Early Christian Thought in the East. Cambridge Wallis, R. T. (1972) Neoplatonism. London
Ward-Perkins, J. B. (1981) Roman Imperial Architecture (The Pelican History of Art). Harmondsworth
Ward-Perkins, J. B. (1993) The Severan Buildings ofLepcis Magna: An Architectural Survey (Society for Libyan Studies Monograph 2). London Watts, D. (1991) Christians and Pagans in Roman Britain. London and New York Wegner, M. (1966) Die Musensarkophage (ASRv.3). Berlin
Weisgerber, G. (1975) Das Pilgerheiligtum des Apollo und der Sirona von Hochscheid im Hunsrück. Bonn
Weiss, P. (1982) ‘Ein Altar für Gordian III, die älteren Gordiane und die Severer aus Aigeai (Kilikien)’, Chiron 12: 191-205
1062
Библиография
Weitzmann, К. (ed.) (1979) Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977 through February 12, 19/8. New York
White, L. M. (1990-7) The Social Origins of Christian Architecture, 2 vols. Valley Forge, PA
Whitehorne, J. E. G. (1977) СР Оху. хын.3119: a document of Valerian’s persecution?’, ZPE 24: 187—96
Wightman, E. M. (1970) Roman Trier and the Treveri. London
Wightman, E. M. (1986) ‘Pagan cults in the province of Belgica’, ANRW 11.18.1: 542“89
Wild, R. A. (1984) ‘The known Isis-Sarapis sanctuaries of the Roman period’, ANRW 11.17.4: 1739-1851
Wilken, R. (1992) The Land Called Holy: Palestine in Christian History and Thought. New Haven
Wilson, R. (1983) Piazza Armerina. London
Wipszycka, E. (1983) ‘Un lecteur qui ne sait pas écrire ou un chrétien qui ne veut pas se souiller? (P. Oxy. xxxiii 2673)’, ZPE 50: 117-21
Wipszycka, E. (1988) ‘La valeur de l’onomastique pour l’histoire de la christianisation de l’Egypte aux IVe-VIe siècles: aspects sociaux et ethniques’, Aegyptus 68: 117-65
Wood, S. (1986) Roman Portrait Sculpture 217-260 AD: The Transformation of an Artistic Tradition (Columbia Studies in the Classical Tradition 12). Leiden
Zänker, P. (1995) The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity. Berkeley, CA
Ziegler, R. (1994) ‘Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und das Christentum’, Tyche 9: 187-212
СПИСОК ТАБЛИЦ
Изменения в организационной структуре римских провинций, 193—337 гг 334
Перемещения императоров, 193—337 гг 339
Дислокация пограничных войск, 193—337 гг 350
Хронологическая таблица армянских царей из династии
Аршакидов 685
СПИСОК КАРТ
1. Топографическая карта Римской империи [вкладыш)
2. Римская империя в 211 г. (Публ. по изд.: Talbert R.J.A. (ed.).
Atlas of Classical History. L., 1985. P. 170—171.) 258
3. Римская империя в 314 г. (Публ. по изд.: Talbert R.J.A. (ed.).
Atlas of Classical History. L., 1985. P. 176—177.) 260
4. Рейнско-дунайский лимес в конце П в 264
5. Египет в начале IV в 458
6. Сасанидская держава 647
7. Армения и восточные пограничные области 667
8. Арабы и народы пустыни 687
9. Городской план Лепты Большей (Публ. по изд.: Squarcia-
pino 1966: 138.) 762
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ
Фотографии
Ил. 1. Портрет Галлиена с Римского форума, 260—265 гг.
Национальный музей Рима. Немецкий археологический институт, Римское отделение, инв. Nq 67.501 891
Ил. 2. Два тетрарха из скульптурной группы из черно-красного порфира. Собор Святого Марка, Венеция. Национальный музей Рима. Немецкий археологический институт,
Римское отделение, инв. № 68.5152 892
Ил. 3. Арка Септимия Севера, Рим. Алинари/Арт Ресурс. Нью-
Йорк, 5835 894
Ил. 4. Панель с арки аргентариев (Рим) с изображением Септимия Севера и Юлии Домны, совершающих жертвоприношение. Немецкий археологический институт, Римское отделение, инв. № 70.993 896
Ил. 5. Саркофаг Людовизи. Немецкий археологический институт, Римское отделение, инв. № 58.2011 898
Ил. 6. Фриз с арки Константина с изображением сцены раздачи денег Константином, а также два адриановских медальона над этим фризом. Алинари/Арт Ресурс. Нью-Йорк,
17325 900
Ил. 7. Бюст Каракаллы. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
Фото 40.11.1а 904
Ил. 8. Ранний христианский саркофаг с фризом. Музеи Ватикана. Музей Пио-Кристиано, № 161. Ват. инв. ХХХП-1346 915
Ил. 9. Черно-белая мозаика, Остия (Публ по изд.: Clarke J. Roman
Black and White Figurai Mosaics. N.Y., 1979.) 918
Ил. 10. Североафриканская мозаика с колесничными бегами в цирке из Карфагена. Немецкий археологический институт, Римское отделение, инв. № 61.543 923
Графические изображения
Рис. а. Трирская базилика: реконструкция внешнего вида (Публ. по изд.: Ward Perkins. Roman Imperial Architecture. New Haven, 1981. P. 445 (рис. 299A, худ. Sheila Gibson).) 893
1066
Список иллюстраций
Рис. b Схематический план четырех фасадов арки Константина с расположением рельефов и с указанием их происхождения (Публ. по изд.: Eisner J. Imperial Rome and Christian Triumph. Oxford, 1998.)
.909
УКАЗАТЕЛЬ*
Аарон, британский мученик 792 сноска 4
Аарслев: брошь отсюда 639 Абгар IX Север, царь Эдессы 697 Абгар V, царь Эдессы 774 Абгар УШ (Великий), царь Эдессы 18, 20, 328, 696-697
Абгар X Фрахад (Луций Септимий Абгар), царь Эдессы 328, 697 Абгариды, царская династия Эдессы 688, 689, 699
Абдсамия (Барсемия), царь Хатры 697— 698
Аберций Марцелл, его эпитафия 778 Абидос, Египет 5ВЬ, 393 аборты, их запрет при Севере 26 Абринкатис (Авранш) 1Ed, 315, 361 Абритт (Разград) 1 Le, 379 ~ битва при нем 57, 58, 277 Абтунги 803 сноска 19 Абу-Ша’ар, форт 320 Абыруд (Альбурн Больший) 372, 571 Аванш (Авентик) IGd, 289 Авгурий, мученик из Тарраконы 856 Август, император (Гай Октавий):
~ и армия 141 ~ всадники-управленцы 149 ~ «Деяния» («Res Gestae») 179, 181, 516
~ монета 481
~ налоговая система 522, 524 ~ образ в ларарие 747
~ портретные изображения 902, 905 ~ правовая система 174, 180, 239 ~ ценз 421
Августа Винделиков — см. Аугсбург Августа Евфратская 3Fc—Gc, 332, 337 Августа Ливанская 3Fc, 332, 337 Августа Раурика — см. Аугсг Августа Траяна (Стара Затора) 1Le, 277, 301
Августа Тревиров — см. Трир Августа Эмерита — см. Мерида августейшее семейство (domus Augusta) 176-177, 179
Августин, епископ Гиппона 561—562, 577, 599, 660-661, 730 Августин, мученик из Капуи 844 Август дун — см. Отён Авдат (Обода) 1Mg, 8Ab, 311, 693 Авеста 661
Авидий Кассий 457 сноска 1,459,562,777 сноска 17
авидхи (сафаитская группа) 692, 705 Авиньон; барельеф в Музее Кальве 568 Авранш (Абринкатис) lEd, 315, 361 аврелиан (монета) 480, 483, 489—491, 493, 496, 510 ~ двойной 480
Аврелиан, император (Луций Домиций Аврелиан) 70—73, 939—941 ~ рождение 304 ~ командир конницы 153 ~ восшествие на престол 70, 939
* Курсивом даны ссылки на карты (номер карты и координаты в ней), а также на номера страниц с иллюстрациями. Внутри статей материал упорядочен в основном по алфавиту, хотя некоторые статьи начинаются с отдела, упорядоченного по хронологическому принципу. (Разделы внутри статьи визуально отделены друг от друга знаком астериска *. — А. 3.) Ссылки на постраничные примечания даются в тех случаях, когда на соответствующей странице основного текста объект не упомянут.
1068
Указатель
АВР
~ разгром вандалов, аламаннов, ютун- гов и сарматов 70, 274—275, 281,940
~ домашние проблемы 70—71 ~ войны за восстановление империи 11-73, 276, 295, 460, 940, (см. также Пальмира)
~ уход из Дакии 73, 86, 281, 940 ~ планы персидского похода 73 ~ убийство и его последствия 73, 74, 300, 754, 941
*
~ и армия 76, 144, 153, 299, 322, 323, 506
~ и германские племена 70, 72, 83, 274—276,281,627, (селятся в империи) 76, 276 ~ иконография 754 -и Италия 70,83,211-212,940 ~ легитимация 86, 214, 754 ~ монетарные стратегии 490,496,499— 500, (см. также монета)
~ налогообложение 71 ~ Новая Дакия 73, 281, 292, 331, 940
~ пограничная стратегия 83, 86, 272, 316
~ Проб продолжает его политику 76 ~ в провинциях 343 ~ причины неудачи 83 ~ религиозная политика 86, 214, 750, 754—755, 757, (см. также при слове солнце, его культ)
~ и Рим 207, 296, 299, (раздачи) 73, 206, 207, 540, (храм Непобедимого Солнца) 73, 587, 940— 941, (стены) 71, 89, 207, 317, 318, 320, 515, 575, 899, 940 ~ и сенат 73—74, 296 ~ титулы 72, 276 ~ финансы 71, 73
~ фортификационные сооружения 316, 320
~ и христианство 83, 754, 804, 858 см. также монета
Аврелий Амоний, из Хисиды 813 сноска 52
Аврелий Антонин Август, Марк — см. Элагабал
Аврелий Антонин, Марк — см. Кара- калла
Аврелий Валентиниан, Марк 151—152 Аврелий Валерий Максенций, Марк — см. Максенций
Аврелий Валерий Максимиан, Марк — см. Максимиан
Аврелий Виктор 87, 91 сноска 2 ~ о Галлиене 150, 200 ~ о Диоклетиане 95 ~ о Лепте 567 ~ о Лицинии 551 ~ о налогообложении 514, 519 Аврелий Диоген, Марк, префект Египта 90
Аврелий Исидор, из Караниса 422 Аврелий Карин, Марк — см. Карин Аврелий Клавдий Квинтилл, Марк — см. Квинтилл
Аврелий Клавдий, Марк — см. Клавдий П
Аврелий Марцеллин, дукс 153 Аврелий Нумерий Кар, Марк — см. Кар
Аврелий Нумерий Нумериан, Марк — см. Нумериан
Аврелий Проб, Марк — см. Проб Аврелий Сабин Юлиан, Марк 79, 92 Аврелий Север Александр Август,
Марк — см. Север Александр Аврелий Симмах, Квинт 683 Аврелий Феодот 63 Аврелий, Марк, император:
~ Авидия Кассия узурпация 457 сноска 1, 459, 777 сноска 17 ~ армия 145, 201, 321 ~ и всадники 201
~ и германские народы 145, 263— 266, 275, 621 ~ дары (donativa) 504 ~ жертвоприношения 735 ~ искусство и архитектура 902, 902, 907-908
~ колонна в Риме 893 ~ и Милет 548 сноска 245
АДМ
Указатель
1069
~ пограничная стратегия 321, 430 ~ правовая система 209, 239 ~ Север провозглашает себя его сыном 18, 24, 173, 175, 902 ~ финансы 430,504,512,530, 734-735 ~ и христианство 777, 788, 823 ~ юристы при нем 230 Аврелия Харита 840 сноска 110 Авреол:
~ командует полевой армией 62, 66, 147, 148
~ наносит поражение Ингеную 148 ~ разгром Макрианов 63, 938 ~ восстание 66, 67, 68, 147, 280, 939 Авроман 6ЕЪ, 646 Ага-Бей-Куйю 529 сноска 164 Агапий, африканский епископ и мученик 852, 854, 857, 867 сноска 165, 873
агараганты (правящее меньшинство у сарматов) 285 Агафий 158, 648
Агединк (совр. Санс, в Бургундии) IFd, 431
«аграрные приложения», Галлия 561 Агриппин, карфагенский епископ 801 Агриппинова колония — см. Кёльн Адана 814 сноска 57, 924 Адата 387
Адвент, Марк Оклатиний 35 адвокаты фиска 89 Ади ибн Зайд 699
Адиабена 1Pfi 6Db—Eb, 7Eb, 660, 676 ~ ее аннексия Севером 18, 267 ~ кампании Галерия 107, 656 ~ Каракалла здесь 34—35, 932 административная система (система управления), центральная государственная 10, 166—172 ~ военные кадры 167, 404, 427 ~ вольноотпущенники и рабы всё реже в ней используются 189 ~ затраты 515, 555 ~ источники 168—171, 404 ~ количество служащих 167, 169, 170-171,181,216,404, 417, 456 ~ коррупция 169, 171
~ «персоналистский» характер 170 ~ правительство начинает отличаться от нее 166—167, 169 ~ преемственность в развитии системы 168-171,216,404-405 ~ разделение гражданских и военных функций 200
~ реорганизация 214, 537—538, (см. также: столицы, региональные и провинциальные; монетные дворы (увеличение в количестве и реорганизация)) ~ при Северах 179—185,186—189, 427 ~ и тетрархия 405, 538 ~ удвоение 174, 179—185 ~ христиане в ней 818,823, (чистка от них) 861, 866, 869, 879 ~ централизация 167 ~ Юлия Домна, участие в ее работе 32, 35
~ юристы в ее составе 186, 229—230, 231, 245, 249, 257 ~ юристы о ней 169 см. также: армия; бюрократия; всадническое сословие (административные карьеры); монета; монетные дворы; налогообложение; право; правосудие; секретариаты, имперские; столицы, региональные и провинциальные; финансы; а также при именах Диоклетиан; Каракалла; Константин I администрация, местная и провинциальная 403—456
~ алиментарная программа 28, 209, 551
~ при анархии 416 ~ и Антонинов а конституция 405—407 ~ архивы 428, 440 ~ бюрократизация 403, 420 ~ ценз 183, 420—421 ~ города и функционирование имперского государства 419—434, 452, 456
~ городская автономия 171, 225, 405, 411, 412, 435-439, 446-447
1070
Указатель
АДН
~ государственных поездок организация (cursus publicus) 425—426 ~ давление на индивидуумов 404 ~ Диоклетиановы реформы 214, 405, 416, 537-538, 605, (в Египте) 100, 224, 431, 435, 464-468, 473
~ законность и правопорядок 225, 426-429
~ военные кадры 167, 454—455 ~ и имперское государство 171, 405— 419, 427, 441-444, 446-447, 467
~ при Константине 416—419 ~ коррупция 269
~ надпровинциальные должности 86, 202, 416
~ и постой войск (hospitium) 424 ~ преемственность 404—405, 455— 456
~ прокураторы 25, 183, 184, 188 ~ регистрация сделок 421 ~ рекрутский набор 429—430 ~ при Северах 405—416 ~ сельские единицы 430—434 ~ структурные изменения 464—465, 467-468
~ суд и право 225, 406, 408, 428 ~ племенная структура местного населения 434
~ финансовое управление 25,101,182, 188,225
~ и фортификация 430 ~ участие наместников 440—442 ~ централизация 403 см. также викарии; города; куриалы; отдельные должностные лица, особенно корректоры; кураторы общин; налогообложение; стационарии; см. также при отдельных провинциях Ад-Новас (Ad Novas) 402 Ад-Пирум (Хрушица), перевал IHd, 290, 316
Адраха (Дерa’a) 1Ng, 8ВЬ, 312, 430, 707 Адриан, император (Публий Элий Адриан):
~ административные реформы 230, 245
~ вал и пограничная система в Британии 1Ес, 262—263, 263, 283, 309, 350
~ всаднические назначения 245 ~ монета 532
~ правовая система при нем 230, 234, 239-241, 243, 245, 777-778 ~ прямой сбор налога на наследство 528
~ и христиане 777—778, 781, 823 ~ художественные отсылки к его образу 900, 903, 908, 909 ~ четыре консуляра 209 Адрианополь (Эдрине) ILe, ЗЕЬ, 291,292, 336
~ битва при нем, (313 г.) 946, (324 г.) 122
Адру (Удрух) 1Ng, 311, 312, 388 Адурнарсех, царь Персии 656 азартные игры, отношение христиан к ним 795
азаты (армянская знать) 673—674, 676 аздиты 709 Азербайджан 656
Азиатский диоцез ЗЕс—Fc, 225, 331, 331, 336, 869
Азиз, арабское божество 688, 690 Азия, провинция lEc—Fc, ЗЕс, 328, 336 ~ евреи 819 ~ корректоры 210 ~ налогообложение 516, 525, 527 ~ наместник, их ранг 157, 226, 327 ~ Север отвоевывает ее у Песценния Нигера 17, 28 ~ торговля 586, 589 ~ христианство 775—778, 814—821 Азия, Центральная 658, 666 ~ торговля 579, 584, 663 Азия, Юго-Восточная 584 Азовское море 59, 279 Азрак INg, 8ВЬ, 311, 312, 320, 708, 389 Айдовнгчина (Кастра) IHd, 316 Айла (Акаба) INh, 8Вс, 312, 708, 808 сноска 34, 389 Айн-Рич IFg, 313, 398
АЛЕ
Указатель
1071
Айн-Сину IPf, 310 Айн-эль-Хаммам 1Fg, 313, 399 Акаба — см. Айла Аква Вива 7/*/, 314, 320, 399 акведуки 205, 563 Аквилея 1Hd, 3Db, 338, 363 ~ Галлиен здесь 148, 321 ~ дороги 64, 290, 316—317 ~ Квинтилл, его смерть здесь 70 ~ Максимин осаждает 49, 297, 306, 934
~ мозаика 924 ~ монетный двор 226, 500 ~ общественные постройки и дворец 306
~ фортификационные сооружения 148, 316-317 ~ Церковь 799, 880 Аквилий Феликс, прокуратор 190 Аквинк — см. Будапешт Аквитаника Прима и Секунда ЗВЬ—СЬ, 330, 334
Аквитания 2ВЬ—СЬ, 327, 334, 362 ~ пошлина ввозная (portorium) 525 ~ ее разделение 328, 330 Аквы Секстиевы ЗСЬ, 334 Акмония, Фригия 821 Акрит, армянский епископ 816 «Акты» (иначе «Деяния», «Страсти», «Страдания») (протоколы допросов) христиан 883 ~ Агапы, Ирины и Хионы 867—868 сноски 156 и 157 ~ Максимилиана 429 ~ Пилата 875
~ Пиония 807 сноска 32, 819, 825, 834, 835, 836 сноска 105, 843, 846
~ Феликса 803 сноска 19, 863 сноска 146, 865 аламанны 4, 622—624
~ Каракаллова победа 33, 274, 623, 932
~ и Александр Север 42 ~ вторжения во времена анархии 275, 623
~ кампания Максимина 274, 934
~ кампания Галлиена 61—62, 148,
274, 937
~ кампании Клавдия П 274, 939 ~ кампании Аврелиана 70, 72, 274—
275, 940
~ кампании Проба 75, 941 ~ кампания Максимиана 96, 283 ~ кампании Констанция 97, 283
*
~ верховая езда 633 ~ их воинские подразделения на римской службе 153,161, 324, 624 ~ в Галлии 61—62, 75, 623, 936, 941 ~ захоронения 624 ~ в Иллирике 636 ~ в Италии, вторжения 62, 70, 72, 75, 274, 939
~ переселение на территорию империи 623—624, 632 ~ появление 621, 622 ~ руны 640
Албан, британский мученик 792 сноска 4
Албания IFa, 675
Александр III Македонский, Великий 293, 294, 294, 459, 747 ~ императоры подражают ему 902, (Каракалла) 33, 299, 739, 744, 745
Александр из Абонутиха, «чудотворец» 736
Александр из Афродисиады 721
Александр из Ликополя 859 сноска 135
Александр Север, император (Марк Аврелий Север Александр Август, прежде — Алексиан) 36— 43, 45-46 ~ Цезарь 37, 933 ~ восшествие на престол 38, 933 ~ легитимация 176 ~ персидская кампания 39, 42, 45, 321, 652—653, 678, (армянская вовлеченность) 670, 678, (беспорядки в войсках) 41—43, 321 ~ германская кампания 42—43, 45— 46, 144
~ смерть 42, 45, 46, 934
1072
Указатель
АЛЕ
~ и армия 40—43,45—46,82,142 сноска 4, 144, 178, 322 ~ брак 41
~ и германские племена 42—43, 45— 46, 144, 262 ~ дипломатия 42 ~ и Египет 295, 459, 463 ~ избранный совет 38—40, 46, 50 ~ легитимация 176 ~ мать, ее влияние 37, 39, 39—40, 43, 45, 141, 176, 177 ~ монета 38, 907
~ недоимки по коронному сбору, прощение 463, 542
~ Понт как провинция создан при нем 328
~ портретные изображения 903 ~ в провинциях 340 ~ происхождение 36, 926 ~ и религия 747, 752 ~ рескрипты 40 ~ в Риме 45, 296 ~ и сенат 37—39, 43, 177 ~ строительство 205, 206, 299, 907 ~ судебная активность 40 ~ и традиции прошлого 177, 902, 903
~ триумф 42
~ укрепление восточного пограничья 698
Александр, александрийский мученик 844
Александр, епископ Иерусалима 808, 814, 829, 842
Александр, палестинский мученик 856
Александрия 1Lg, 2Ec—Fc, ЗЕс, 5Аа ~ бани восстановленные 441 ~ буле 20, 441, 462, 467—468 ~ греческая культура 469 сноска 49 ~ и Диоклетиан 107, 108, 111, 460— 461,944
~ дороги 287, 294, 294 ~ императорские визиты 111, 295, 296, 460—461, (см. также Ка- ракалла и Север — ниже)
~ Каракалла, его визит сюда 295,296, 297,576,741, (резня) 34,459,576, 741, 932
~ конфискация доходов императором 443—444 ~ легионный лагерь 267 ~ Лепта Большая, община алксанд- рийцев здесь 764 ~ массовые беспорядки 55, 295 ~ как метрополия 337 ~ монетный двор 226,484,499,500,503, (теряет самостоятельность) 101, 459, 465, 484, 497 ~ налоговые привилегии 523 ~ Ориген здесь 811 ~ пальмирская оккупация 939 ~ резня 34, 459, 576, 741, 932 ~ Север посещает ее 20, 300, 459 ~ Серапис, его культ 733, 741 ~ торговля 581 ~ философские школы 714 ~ христианство 136,812,813 сноска 54, 834, 886, (Дециево гонение) 834, 838 сноска 109, 843—844, 846, (Великое гонение) 461, (учение) 782, 811—812, 883, (враждебность толпы) 55, 826, 833, 844, (гонения при Северах) 826, (см. также Афанасий; Дионисий; Иракл)
~ экономическое значение 606 Александрия Парва 814 сноска 57 Александру Несус 839 Алексиан — см. Север Александр Алеппо (Беройя) 8Ва, 582, 706 Алерия ЗСЬ, 338 Алет 1 Ed, 315, 361 алиментарная программа 28, 209, 551 Аллат (ал-Лат), древнеарабское божество 690, 691, 692
Аллект, правитель в Британии 104, 226, 283, 295, 329, 943 ~ монета 499, 507 алтари:
~ в Аугсбурге, победный 88, 274 ~ Нехаленнии в Зиерикзе 585
АНН
Указатель
1073
Алфей, палестинский чтец и экзорцист 867
алхимия 721, 722, 728 алчность (avaritia) 516, 551, 594 Альба Юлия — см. Апулум Альбан IHe, 2Db
см. также армия (П Парфянский легион)
Альбин — см. Клодий Альбин, Децим Альбурн Больший (Абруд) 372, 571 Альм (Лом) 371
Альпы Грайские и Пеннинские IGd, ЗСЬ, 288, 289, 327, 330, 334 Альпы Коттиевы IGd—e, 2СЬ, ЗСЬ ~ дорога через них 288 ~ провинция 327, 333, 338 Альпы Маритимские (Приморские) 1СЬ, ЗСЬ, 327, 334
Альтбахтальская культовая зона 767 Альтин (Олтина) IHd, 290, 588, 377 аль-Узза/Афродита, ее культ в Эмесе 704 Альфен Сенецион, наместник в Британии 21
аль-Хира 8СЬ, 282, 707 Амазасп, иберийский царь 675 Аманд, вождь багаудов 94, 942 Амасия 3Fb, 336, 817, 879,
Амасгрида 2Fby 816, 817 Амвросий, покровитель Оригена 817 сноска 69, 831
Амелий, ученик Плотина 717 Амида (Диярбакыр) IPf, 3Fc, 7Eb, 310, 384,684
Амман — см. Филадельфия Аммиан Марцеллин 117 сноска 1, 317, 514, 538, 676, 700
Аммон, александрийский мученик 844 Аммонарий, александрийский мученик 844
Аммоний Саккас 714—715, 717, 721
ампсиварии 626
Амр ибн Ади 282, 707, 708
амулеты 726
амфоры 556
~ африканские 604, (клейменые) 566, 567
~ бочки их заменяют 567—568 ~ для гарума и соленой рыбы 566 ~ испанские 566, (из Бетики, с надписями) 192, (20-й и 23-й типы Дресселя) 583
~ для квасцов, тип Ричборо 527, 584 ~ клейма 192—193, 566, 567 ~ для масла 192, 557, 566—567, 583 ~ с Монте-Тестаччо, свалки в Риме 566, 567
~ надписи на них 192, 566 ~ из Терме-дель-Нуотаторе в Остии 566,604
Амьен — см. Самаробривы Аназарб, Киликия 1Nf, 297 Анайя, близ Элевферополя 809 сноска 37
Анатолий, епископ Лаодикеи 805, 885 сноска 182
Анахита, ее храм в Истахре 651 Андерит — см. Певензи Андзитена 676, 676 Андрей, апостол 810 сноска 46 Анкара — см. Анкира Анкира (Анкара) IMf \ 2Fc, 3Fc, 72, 288, 293, 336
~ собор здесь 512, 822 сноска 80 ~ христианство 820 Анний Флориан, Марк — см. Флориан Аннона (богиня) 747 аннона:
~ арабы и 710
~ викарии надзирают за ней 226 ~ города, их роль 422—424 ~ в Египте 464, 467
*
MILITARIS (ВОЕННАЯ) 10, 193 ~ во времена анархии 202 ~ Диоклетианова реформа 423, 464— 465, 467
~ в Египте 464, 470, 471 ~ в Италии 211
~ транспортировка продовольствия 423, 424
~ трансформация ее в натуральные сборы 533, 539, 540—541
1074
Указатель
АНТ
*
ГОРОДСКАЯ:
~ император, его роль 192, 558—559 ~ перенаправление на Константинополь 471, 515, 545, 565, 576 ~ при Северах 205—206 см. также раздачи в Риме Антарад 807
Антиноополь 5ВЬ, \51 сноска 1, 463, 469 сноска 49, 523 Антиноя IMh, 443 Антиохия, Писидия 3Fc, 336 Антиохия, Сирия 1Nf, 2Fc, 3Fс, 6Cb, 8Ва, 328, 337
~ Север понижает ее ранг 305, 406 ~ визит Каракаллы сюда 34, 300, 408, 517, 932
~ Макрин отступает к ней 36 ~ Север Александр здесь 42 ~ Гордиан Ш здесь 52, 935 ~ ставка Приска 53 ~ захват персами 58, 272, 654, 936 ~ Валериан освобождает 59, 937 ~ персы вновь захватывают 62, 654 ~ Макриан освобождает 63 ~ Аврелиан забирает у пальмирцев 72 ~ Проб здесь 75 ~ Кар здесь 78 ~ Галерий здесь 100 ~ Диоклетиан здесь 108,110
*
~ гражданский статус 407, 517 ~ Дафна 736, 742, 755, 940 ~ дворцы 303—304, 305, 574 ~ дорожная сеть 293 ~ землетрясения 305 ~ «Золотой дом» («Domus aurea») 128 ~ мозаики 920 сноска 69,920—921, 924 ~ монетный двор 226, 495, 498, 499, 500, 503
~ строительные работы 573 ~ «субстолица» 86 ~ торговля 581
~ христианство 128,775—776,804—806, 875, (епископы) 775—776, 842, (распри из-за Павла Самосат- ского) 804—805, 859, 939, (мит¬
рополичий статус) 775, 804, (соборы) 804—805, 822 сноска 80, 939
~ экономическое значение 606 ~ Юлиан сокращает налоги 538 Антонии Гордианы — см. Гордиан Антоний, его житие 813, 814 Антонин Пий, император (Тит Аврелий Фульв Антонин) 268, 547 ~ законы 230, 240, 243, 777-778 антониниан (монета) 488—490, 496 ~ Каракалла вводит его 481—482, 488, 490, 932
~ Элагабал прекращает его вьтуск 482
~ Бальбин и Пупиен вновь вводят 50, 482,489
~ Диоклетианов новый антониниан 485
*
~ британская и галльская имитации 503
~ сестерции и денарии перечеканиваются в него 480, 483 ~ содержание серебра 204,480,489,510 ~ хождение 501, 502—503 Антонинов вал, Британия 1ЕЬ 263 «Антонинов путеводитель» («Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti») 286-294,303
Антонинова конституция 32—33, 218 сноска 14, 242, 406—407, 469, 932
~ и налогообложение 408—409, 517, 534
~ и новые элементы в римской элите 753
~ последствия для провинций 406, 454
~ преамбула, о религии 751 ~ и ценз в Египте 420 ~ и центральное правительство 454 Антония, нумидийская мученица 857 Ануллин, проконсул Африки 123 Ануллин, северовский полководец 17 Анхиал 1Le, 280, 800 Ападна 1Pf , 385
APA
Указатель
1075
Апамея INf, 8Ва, 36, 279, 310, 573, 723, 773, 941
апатанатисмос (àuaôavaxiafxoç — дарование бессмертия) 728 Апокалипсис, книга 776 Апокриф от Иоанна 774 Аполлон:
~ Дафна, его храм здесь 536, 755 ~ галльский культ 300, 740, 766, 768
- Граннос 300, 739, 740-741, 751, 768 ~ оракулы — см. Кларос, Дельфы,
Дидима
~ тетрархи и 103, 755 ~ триполитанский образ 768 ~ явление Константину 118,139 Аполлоний Тианский 294, 745, 747 ~ Филостратово «Жизнеописание» 182 сноска 32, 716, 729, 733, 740
аппариторы (должностные лица) 417 Аппиан, его поместье, в Фаюме 472 Апр, префект претория 78, 84, 92, 942 Апрониан, проконсул Азии 24 Апул (Альба Юлия) IKd, 2ЕЬ, 292, 292, 308, 525 сноска 150, 374 Апулей 733-734, 744, 746, 763, 770, 788 ~ суд над ним 729, 736 Апулия и Калабрия 3Db, 333, 338 Апфиан, беритский христианин 807 Апфиан, ликийский мученик 818 сноска 70
Араба, Вади 8ВЬ, 695 арабарх, эдесский 696 Арабисс 1Nf 293 арабская письменность 691 арабы и народы пустыни <9, 11, 686—730 ~ аннона 710
~ и арамеи 686—690, 695, 709 ~ в армии 707—708 ~ греко-римская культура 709 ~ и Диоклетиан 708 ~ Имру-ль-Кайс 282, 708—710
- ислам 659
~ в Месопотамии 688—690 ~ мобильность в битве 658 ~ монета 486 ~ налеты 691
~ население 659 - орройи, племя 688 ~ переход к оседлости 688, 690, 691, 692-693, 709 ~ письменность 691, 695 ~ претавы 688 ~ религия 688—689, 692, 695 ~ римские клиентские царства 695— 704, 709—710, [сж также Пальмира; Хатра; Эдесса)
~ римский прямой контроль 699, 705
~ род 686, 692
~ и Сасаниды 648, 657—659, 662—663, 696, 699-700, 707
~ сельское хозяйство 688—689, 694 ~ скениты 18, 688
~ скотоводство 689—690, 691, 694, 709
~ социальное единство и разнообразие и 686—695
~ союзные римлянам племена и конфедерации 696, 705—710, [см. также Имру-ль-Кайс; сафаи- ты; тамудены; танух)
~ стратеги 705
~ торговля 581,689—690, 693—695,709 ~ филархи 705 ~ экономическая основа 709 см. также набатеи; сафаиты; танух; тамудены; Хатра; Эдесса Аравийская смежная зона 676 Аравия 7РА, 2Fc—d, 3Fc, 5Bb, 311—312, 337
~ при Северах 266, 267, 312 ~ пальмирское завоевание 69, 703 ~ экспедиция Шапура Ш 709 ~ при тетрархах 312, 322, 332 ~ при Константине 312
*
~ дороги 159, 311—312 ~ крепости 159—160, 320 ~ наместники 201, 327 ~ общество 691—693 ~ организация границ 159—160, 312, 322, 323, 389-390 ~ сельское хозяйство 312
1076
Указатель
APA
~ торговля 581, 604 ~ христианство 803—804 Аравия Каменистая (Arabia Petraea) 692 Аравия Новая 3Fc, 462 сноска 21, 332, 337
Аравия Феликс (Йемен) 584 Арагва, Писидия 270 сноска 14, 529 сноска 164
Арадий Руфин Валерий Прокул, Квинт 450
арамеи 686, 688, 689, 690, 692 ~ и арабы 686—689, 695, 709 ~ эдесские 686, 688 см. также письменность Арас 7G/, 313, 401 Арбон (Арбор Феликс) 1Gd, 315, 360 арвальские братья (жреческая коллегия) 759
Аргаит, готский вождь 277 аргентарии, аргентарии коакторы 594— 595
~ их арка в Риме 894, 903 аргентей (монета) 485, 507, 511 ~ Диоклетианов 478, 484, 489, 497 Аргентококс, каледонец, его супруга 301
Аргенгорат (Страсбург) IGd, 2СЬ, 289,358 Аргос 7^/, 65, 279 Ардабав, Фригия 820 Ардаван — см. Артабан Ардашир (Артаксеркс), царь Персии 648-653
~ происхождение 648—649 ~ приход к власти 42, 650, 651, 931 ~ вторжение в Армению 678 ~ вторжение в Месопотамию 272, 652, 658, 700
~ кампании против Александра Севера 39, 42, 45, 321, 652-653, (армянское участие на стороне римлян) 42, 653, 670, 678 ~ приобретения в Месопотамии при Максимине 47,50,52,653,700, 934
~ завоевание Хатры 699—700 ~ смерть 653, 934
*
~ армянские Аршакиды противостоят 653, 678
~ ахеменидское предание о них 651, 700
~ «Карнамак» 648, 651 ~ кушанские кампании 652 ~ и Пальмира 700 - Шапур I как коллега и преемник 52
Арелат — см. Арль аренда земельных участков:
~ вечное право с неизменной годичной нормой взноса 546 ~ найм земли (locatio—conductio) 601 ~ эмфитевзис 546, 563—564, 601 Арея — см. Цезарея Палестинская Арзанена 7ЕЬ, 676, 683 арианство 123, 126—128, 135, 672 сноска 43, 792
Арий 127, 135; см. также арианство Ариканда IMf \ 875 Ариминий (Римини) 1Не, 275, 288, 290 Аристак, армянский епископ 816 Аристид, афинский философ 781 Аристий Оптат, префект Египта: эдикт о налогообложении 107, 465, 531, 534, 537
Аристотель, его учение (Перипатос) 714 Аркадий Харизий, юрист 106, 230 сноска 4, 253-254, 411
арки, мемориальные 907—909; см. также Лепта Большая; Рим; Фес- салоника
Арлон, погребальные памятники здесь 565
Арль (Арелат) IFe, 362
~ Бейрут, арльские судовладельцы здесь 580 ~ дороги 288, 582
~ мельницы в Барбегале 564,599—600 ~ монетный двор 500, 503 ~ Собор 123, 946, (представительство Церквей) 792, 793, 794, 796, 799
~ церковная организация 793
АРМ
Указатель
1077
Армения IPe—f \ 2Fc—Gc, 6Db—Eb, 7, 11,666-685
~ римско-парфянский конфликт по ее поводу 266, 648, 666—669 ~ при Хосрове I 653, 677, 685, (и Север) 677, (и Каракалла) 34, 267, 670, 671, 673, 677, 678 ~ при Тиридате П 678, 685, (отражение сасанидского вторжения)
652, 669, 678, (участие в римском нападении на Иран) 42,
653, 670,678, (договор 244 г. запрещает римское вмешательство в армянские дела) 53, 679
~ иранская аннексия 58, 75, 97, 272, 653, 679, 684, 936, 943 ~ возможное раздел между Нарсе- сом и римским вассалом 281, 655, 680, 943
~ при Хосрове Ш 674 сноска 35, 676, 683,685
~ при Тиридате Ш 97, 653, 655—656, 679, 680, 685, 936, 943 ~ иранское вторжение, отраженное Галерием 656, 681, 944 ~ в римско-иранском соглашении 108, 281, 656, 668, 676, 681-682 ~ при Тиридате IV 671—673, 681, 682, 683, 497, (гонения на христиан) 682, (обращенная в христианство) 658,671-673,683,875- 876
~ после смерти Тиридата IV 683—684 ~ при Хосрове Ш 674 сноска 35, 683, 685
*
~ администрация 674 ~ арианство 672 сноска 43 ~ армия 670 ~ архитектура 671 ~ и восточное пограничье 675—677 ~ география 666—668 ~ города 674
~ границы, их организация 310 ~ дороги сюда 293, 666—668 ~ историография 668 ~ источники 668—669, 682—683
~ культурные влияния 665, 671 ~ монета 673, 674—675 ~ налогообложение 670 ~ письмена 674
~ политика и общество 669—677 ~ религия 671—673, (см. также христианство ниже)
~ римская армия здесь 670, 682 ~ римско-сасанидское соперничество и влияние 658, 665, 666—673, 675, 678, 679 ~ торговля 674
~ христианство 669, 671—673, 682, 683, 815-816, 875-876 ~ язык 672
см. также при отдельных монархах, Аршакиды, династии и восточное пограничье
Армения Малая, провинция 3Fb—c, 331, 336
~ христианство 815—816, 840 сноска 111 армия 141—165
~ северовские реформы 45, 79, 145, 178
~ Галлиеновы реформы 147—148, 199-204
~ до Диоклетиана 141—153 ~ Диоклетиановы реформы 115,154— 162, 217-218, 219, 322-324, 455, 464, 656
~ Константиновы реформы 132, 133, 162-165
*
~ ауксилии (вспомогательные подразделения) 142—143, 157,163, 164, 263, 461, 682 ~ браки солдатские 23 ~ вексилляции (vexillationes) 145, 148, 150, 156, 321-322
~ верховые когорты (cohortes equitatae) 145
~ ветеранский пенсионный фонд (aerarium militare) 524
~ викарии, их контроль за войсками 226
~ военное право 162,164,236, 248—249
1078
Указатель
АРМ
~ всаднические карьеры 67, 79, 86, 143,149-153,199-201, (agentes vice legati) 150—151, 201, (при Галлиене) 65, 66, 67, 74, 150— 153, 200—202, 416, (при Северах) 26,39,45,178,187-188,201 ~ гарум, его потребление 590—591 ~ германские части 144 сноска 10,623, (франки) 161, 625-626, 626, (готы) 277, 280
~ в городах 154, 319, 430, 446, 447 ~ городские когорты 178—179,207,321 ~ дезертиры присоединяются к готам 277
~ дислокация войск 268—269,349—402 ~ дисциплина 29, 36, 41—42, 83 ~ дорожная система 266, 307, 583 ~ дромедарии (всадники на верблюдах) 143, 708
~ жалованье 475, 555, (при Северах) 23,31,35-36,193,301,540, (при Максимине) 47, (при Диоклетиане) 161—162, (натурой) 158, 162, 193, 219, 220, 471, 540, (серебряная монета для этих целей) 504, (величина) 222, 540, 556, 593
- и императоры 174, 215, (личное командование императора) 43, 80,82,141,147,164, (легитимация императоров) 24, 178— 179,196, (лояльность Северам) 23, 36, 179, (см. также при отдельных императорах и наследование императорской власти)
~ инженерные работы 77, 430 ~ и Италия 23, 26, 28, 30—31, 39, 145, 178-179, 321 ~ коллегии 23
~ командные должности с расширенными и гибкими полномочиями 86, 202, (см. также дуксы; корректоры; ректор Востока) ~ комит (военная и ад министр атив- ная должность) 155, 329
~ комиты («спутники»), полевая императорская армия (также comitatus и comitatenses), (при Диоклетиане) 133, 154—156, 322, (при Константине) 154, 158, 162-165, 217-218, 324, (псевдо-комиты) 164 ~ и крестьяне 428, 603 ~ культы 760
~ куриалы, поступление их на военную службу 447
~ лагерь, его планировка 317, 319 ~ ланциарии (копейщики) 154, 162 ~ лошади, обеспечение ими 541 ~ лучники 302, 670, 708 ~ мародерство 598 ~ машины 142, 635 ~ милитаризация администрации, предполагаемая 167, 201, 404, 427
~ и монета 500—501, 513, 550 ~ налогообложение ради ее содержания 80, 219, 405, 515, 700, (натурой) 193, 223, 540, 541, (см. также аннона (militaris)) ~ недостатки имперской армейской системы 79, 81
~ освобождение от налогов 519, 525, 535, 538
~ пограничные войска (ripenses или limitanei) 162, 164
~ полевая армия (при Северах) 79, 82,145, 322 сноска 137, (развитие при Галлиене) 61, 62, 65, 66, 86, 147-149, 155-156, 201, 280,321, (Аврелиан и) 153, (Кар) 86, (при тетрархах) 154—156, 160, 217—218, 322, (этнические подразделения) 145, (см. также комиты выше)
~ политическое значение 83 ~ полицейские функции 426—427 ~ праздничный календарь XX когорты пальмирцев 753 ~ премии при выходе в отставку 475 ~ привилегии 155, 162, 164, 446
АРМ
Указатель
1079
~ работа в рудниках 570—571 ~ и разбойники 426—427 ~ разведка 146
~ реквизиции для нее 31, 218, 423 ~ руководящие посты 167,188,427,455 ~ сасанидское влияние 658 ~ и Сенат 196, 753, (переход командных должностей к всадникам) 39,65, 66,67,74,141-142,149- 153, 167, 178, 200-202 ~ снабжение 193, 218, 464, 541, 549, 555, 589—590, (см. также аннона militaris)
~ стратегия 146, 217—218 ~ схолы (scholae, особые подразделения) 156, 163
~ «Табель о рангах» (Notitia Dignitatum) как источник сведений о ней 154, 322—324
~ территориальная (пограничная), при тетрархах и Константине 154,156-160,162, 164, 217-218 ~ трофеи 23
~ финансирование 31, 35—36, 80, 82, 132, 191, 193, 495, 512, 556, (см. также налогообложение выше)
~ христиане 111—112, 818, 861, 869, 944
~ численность 79, 142, 157—158, 217,
323, 461
~ и экономика 405, 550,558,580, (как стимул для развития экономики) 571, 581, 605, 608 ~ этнические подразделения 76, 144 сноска 10, 143, 145, 153, 161,
324, (лучники) 302, 670, (конница) 143, 148, 275, 322, 708, (при тетрархах) 217, 324, (см. также германске племена; мавры)
~ Юпитеровы и Геркулесовы легионы 94, 155, 162
~ numeri (небольшие формирования из представителей неромани- зированных племен) 143
Легионы 142
~ новые Марка Аврелия 266 ~ Галлиеновы изменения 147—148, 150-151
~ при Диоклетиане 156, 217—218, 323, 461
~ при Константине 158, 324 ~ соотношение с преторианской гвардией 179
~ новые методы ведения боевых действий 142—143
~ численность и размеры 142, 157— 159, 217-218, 323, 461 ~ дворцовые Иовиевы (Юпитеровы) и Геркулиевы (Геркулесовы) 155
~ III Августов 21, 48, 50—51, 60, 313, 397
~ XV Аполлонов 380, 670 ~ I и П Армянский 323, 682 ~ I Вспомогательный 34, 366 ~ П Вспомогательный 366—367 ~ Ш Галльский 159, 176, 311, 385 ~ П Геркулиев 378 ~ VI Геркулиев 368, 369 ~ Ш Диоклетианов 159, 391, 394 ~ VI Железный 323, 387, 388 ~ I Иллирийский в Пальмире 159, 386
~ I Италийский 154 сноска 52, 377 ~ П Италийский 321, 364 ~ Ш Италийский 321, 360, 361 ~ IV Италийский 142 сноска 4, 323 ~ I Иовиев 378 ~ V Иовиев 368 ~ VU Клавдиев 154, 369 ~ XI Клавдиев 154,377 ~ V Македонский 154 сноска 52, 374, 376, 390
~ I Максимианов 460, 394 ~ IV Марсов 708, 390 ~ ХП Молниеносный 381, 670 ~ X Охраняющий пролив 312, 708, 387,389
~ VII Парный 2ВЬ, 363, 369
1080
Указатель
АРМ
~ X Парный 15 сноска 6, 365 ~ ХШ Парный 154 сноска 52,370,371, 374, 391
~ XIV Парный 365 ~ I Парфянский 23, 26, 384 ~ П Парфянский 23, 26, 28, 30—31, 36, 39, 145, 178-179, 321, 323, 385
~ Ш Парфянский 23, 26, 384, 385 ~ IV Парфянский 159, 382, 384, 682 ~ V Парфянский 323, 682 ~ VI Парфянский 323, 682 ~ XX Победоносный Валериев 271 сноска 17, 352
~ IV Скифский 16, 159, 382, 382 ~ XVI Стойкий Флавиев 159, 382, 382 ~ IV Флавиев 154, 369
*
см. также ветераны; комплектование армии; конница (римская); крепости; начальники конницы (magistri equitum); начальники пехоты (magistri peditum); подарки воинам; преторианская гвардия; телохранители; а также отдельные регионы, провинции, императоры и границы
Армоний, сын Вардесана 809, 884 сноска 180
Арморика 157
Арнобий 794 сноска 6, 794, 881 Аррас 588, 906 сноска 36 Арсана, царица Персии 656 Арсанена IPf, 281
Арсиноитский ном 426—427, 523, 812 Арсиноя IMh, 5ВЬ, 449, 839 Артабан (Ардаван) V, царь Парфии:
~ соперничество за трон с Вологе- зом V 34,650,931 ~ нападение Каракаллы на него 34, 267, 932
~ и Макрин 35, 36, 700, 932 ~ побежден и убит Ардаширом 42, 650, 651, 678
Артавазд (мнимый правитель Армении) 679
Артаксеркс — см. Ардашир Артаксий, карфагенский мученик 827 Арташата 7ЕЬ, 670 сноска 13, 671 Артемида, Эфесская 732, 752, 764 артиллерия 318, 325 арура (ôcpoupa, египетская единица налогообложения) 537 Архар — см. Ратиария Архелаида IMf \ 293 Архелай, месопотамский епископ 605 сноска 43
археологические свидетельства 9, 10 ~ период анархии 89, 270 ~ германские 621, 626—627 ~ дворцы 304 ~ кораблекрушения 582 ~ экономические свидетельства 556 архив документов (ypapi^aTOcpuXàxiov), муниципальный 421
архивы:
~ муниципальные 421 ~ провинциальные 428, 439 ~ фискальные, их ритуальное сжигание 530
архитектура — см. искусство и архитектура; строительство Арцидава (Вэрэдия) 372 Арцу, арабское божество 690, 691 Аршак, царь Армении 672 сноска 43 Аршакиды, династии:
~ албанская 675
~ армянская 281, 652, 669, 673, 675, 677—678, (хронология) 685, (слл также отдельные цари)
~ иберийская 675 ~ парфянская 669, 678 асдинги 277 Аселлий Эмилиан 17 Аскалон IMg, 294, 808 сноска 34 Асклепиад, епископ Антиохии 736, 829 Асклепиад, мученик из Смирны 843 Асклепий, епископ-маркионит и мученик 825 сноска 85, 872 сноска 166
Асклепий/Эскулап (божество):
~ интеллектуалы и генотеисты, привлекает их 720
АФР
Указатель
1081
~ Каракалла 739, 751 ~ в латинской части империи 763— 764, 767
~ в Лепте Большей 763—764 ~ личные чувства к нему 735, 737, 777
~ оракулы 737, 741 ~ Пэан 737
~ его святилища-лечебницы 739—740, (см. также Пергам; Эгеи)
~ в Тимгаде 741 ~ и христиане 739, 777 ~ человеколюбивейший (cpiX<xvöpco7u6- toctoç) 771
~ Эшмун отождествляется с ним 764 «Асклепий» (герметическое сочинение) 721, 728
Асклепиодот, префект претория 104 Аспей, его восстание в Пальмире 72,704, 940
ассарий (монета) 499 Ассур 8Са, 686, 688 Астерий, римский пресвитер 830 сноска 92
Астирий, палестинский христианин сенатор 858 сноска 133 Асторга 588
астрологи 717-718, 721, 725, 729, 739 ~ неприязнь по отношению к ним 774-775, 823 Астурия 328
Асуан (Сиена) IMj, 5Вс, 570 Атаргатис, сирийская богиня 688 Атир, александрийский мученик 844 Атропатена 6Eb, 7Fb, 656, 668, 676, 682 ат-Табари, Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир 649, 652 Аттик, герметист 721 Аттис: мистерии 743, 779 аттические саркофаги 587, 597 Аугсбург (Августа Винделиков) IHd, 3Db, 338, 361
~ алтарь победный 88, 274 ~ варвары, их поражение 597, 624 ~ дороги 289, 290 Аугст (Августа Раурика) IGd, 289 Аузия IFf, 282, 399, 400
ауреус (иначе аурей) (монета) 480—483, 488, 493, 494 Афака 130
Афанасий, епископ Александрии 135— 136, 140, 814
~ изгнания 126, 135, 306, 794, 947 Афганистан 584, 658 Афина, культ 752, 752 Афинагор, афинский христианский апологет 781
Афинодор, понтийский епископ, брат Григория Чудотворца 817,823 Афины 1Kf:
~ визиты Галлиена 65, 298 ~ готский погром 65, 279, 753, 939 ~ гороскоп отсюда 727 ~ иобакхи 719 сноска 14 ~ и Константин 758 ~ Панафинеи (праздник) 759 ~ Парфенон 736, 753 ~ петиция Северу 300 ~ ремонт стен 58, 279, 280 ~ теург Несторий и землетрясение 736
~ христианство 780—781, 800 Африка (Проконсульская), провинция 1Cc—Dc, 3Cc—Dc:
~ войска, их базирование 313—314, 327, 395
~ восстания, (Гордианов) 47, 272, 415, 534, 935, (Сабиниана) 51 ~ императорские поместья 545 ~ мозаики 921—923 ~ провинциальная организация 43, 226, 327, 328, 332, 337 ~ сельское хозяйство 545, 546 сноска 235, 583 ~ транспорт 583
~ христианство 829, (гонения) 845— 846, 852, 856 ~ ценз 418, 420
Африка, диоцез ЗВс—Dc, 225, 332, 337 Африка, Северная:
~ при Северах 268, 477, 518, (военная инфраструктура) 262, 267, 268, 313, (и Север) 20-21, 43, 28, 173 сноска 3, 268, 931
1082
Указатель
АФР
~ во времена анархии 85, 271, 272, 282, 313-314 ~ при Гордиане Ш 52 ~ при Валериане и Галлиене 60, 560, 938
~ при Клавдии П 68 ~ при тетрархах 100, 112, 226, 282, 313, 443, 332, (восстание До- миция Александра) 944, (военная организация) 156, 322, 324, (восстание мавретанских племен) 105, 943 ~ при Константине I 570 ~ при Констанции II 443
~ администрация 436—437, 438, 442 ~ вьшоз животных 581 ~ города 271, 428, 443, 555, 573, (выборы и магистратские должности) 439, 445, 450, (статус) 406, 407, 518
- границы 52, 262, 268, 282, 313, 322, 324, (см. также отдельные провинции)
~ дислокация армейских подразделений 156, 268, 282, 395—399 ~ дороги 267, 287, 294 ~ ирригация 563 ~ керамика 604 ~ кочевники 52, 60, 69, 267—268 ~ курии 436, 439 ~ монета 500 ~ мрамор, его добыча 570 ~ налогообложение 272, 415, 516, 536 ~ правосудие 428
~ присутствие императоров 295,339— 341
~ римское гражданство здесь 2 8 ~ романизация 28 ~ сальтусы 434, 529 сноска 164 ~ сельское хозяйство 204, 267, 271— 272, 545, 557, 563, 565, 566, (см. также зерно)
~ строительные программы 443,572— 573
~ христианство 787,800—803,822, (литература) 801—802, 883, (гоне¬
ния) 113, 845, 852-853, 856- 857, 863, 866 ~ ценз 418, 420 ~ чума 560, 848, 938 ~ экономика 477, 556, 588, 591, 604 см. также отдельные провинции и зерно; мозаики; поместья, имперские; фортификационные сооружения; Септимий Север, Луций
Афродисиада 7Z/, ЗЕс, 336
~ надписи 221, 479 сноска 9,819 сноска 75
~ правосудие 428 ~ привилегии 40, 517 ~ ремесла 586, 489 ~ синагога 819 сноска 75 Ахей, наместник Палестины 858 сноска 133
Ахея 2Ес, ЗЕс
~ административное управление 210, 327, 331, 336
~ епископы отсюда 804 сноска 22 ~ нападение герулов 279 ~ см. также Греция Ахиллей (корректор) и восстание в Египте 107, 944
Ахиллес, его культ 736, 745, 747, 922 ~ саркофаг с ним 935 Ацидава (Эносесги) 375 Атттдод 808 сноска 34
Баал Хаммон — Сатурн, его культ 765 Баалшамин, его культ 689, 690 Баальбек — см. Гелиополь бавары (африканская группа) 151, 282 Бавэ — см. Багакум Багакум (Бавэ) IFc, 284, 315, 354 багауды 75, 94, 95, 453, 942 багрянец, пурпур 589, 604 Бадминтонский саркофаг 894—895, 910 Бад-Урах 624 Базель lGd, 283, 315, 358 базилики: гражданские и императорские 306, 572, 890, 893 ~ христианские 306, 574 Байи 1Не, 299 сноска 101
БИТ
Указатель
1083
бакваты 282
Бактрия, христиане здесь 809 Бакур, правитель Арзанены 683 Балеарские острова, кораблекрушение 501
Балис — см. Барбалисс Баллиста, префект претория 63, 702, 703
Балтика:
~ руны 640
~ торговля 581, 584, 636 Бальбин, император (Децим Целий Калы вин Бальбин):
~ восшествие на престол 48—50, 82, 197, 934
~ монета 197, 482
~ совместное правление с Пупиеном 49-50, 82 ~ убийство 50, 934
~ проклятие памяти (damnatio memoriae) 197
Бамбика — см. Гиераполь-Бамбика Банаса 517 сноска 108, 522 сноска 133, 402
бани 306, 443, 547, 572, 574 ~ Аквилея 306 ~ Александрия 441 ~ Булла-Регия 574 ~ Византий, северовское время 575 ~ Дубравка 629 ~ Милан 306 ~ Пальмира 704 ~ плата за посещение 443, 547 ~ Сирмий 304 ~ Тимгад 549 сноска 251 ~ в укрепленных фортах 319 см. также Остия; Рим; Трир банковское дело 503 Банна (Бердосвальд) 283 сноска 52, 350 баптисты — см. элхасаиты Барбалисс (Балис) 58, 382, 653 Барбегал, водяные мельницы здесь 564, 599-600
Барм-е Дилак, надпись отсюда 650 Барсемий (Абдсамий), царь Хатры 697 Барэ Касл (Гарианн) IFc, 315, 353 Басинитанская таблица 517 сноска 108
Бассиан (муж сестры Константина) 122 Бассиан (сын Севера) — см. Каракалла бастарны 276
Батавов острова 1Fc—Gc, 284 Батны (Сатур) 8Ва, 694, 696 бдэхшамы (армянские наследственные князья) 675
бедность 527—528, 598, 599 Беершеба (библейская Вирсавия) IMg, 311,387
Безансон — см. Везонтион Бейрут (Берит) 1Ng, 294, 580, 807 ~ юридическая школа 252, 256 Бел, сирийский бог 690, 729, 754 Белград (Сингидун) 1Ке, 2ЕЬ, 289, 291, 369
Белене (Димум) 377 Бельгика 1Fd—Gd, 2Са—Ь, 327, 334,353— 354
~ ввозной сбор (portorium) 525 ~ Караузий здесь 157 ~ наместника резиденция 306 ~ Прима и Секунда 1 Fd—Gd, 3Ca—b, 330, 334
~ христианство 794 Бенгази — см. Береника Бенетис (Ванн) lEd, 315, 361 бенефициарии 167, 426, 455 Беннеком 630 Бентумерсил 633
Береника (Бенгази) 1Kg, 294, 313, 332, 337
Берилл, епископ Босгры 803—804 Берит — см. Бейрут Беританей, епископ 803 Беройя — см. Алеппо бессмертие — см. апатанатисмос Бетика 2Вс, ЗВс, 327, 330, 335, 431, 795 ~ масло 192, 566, 582, 583 Бет-Фурайя 293, 582 библиотеки, христианские 808 Библия 883—884, 913—914
~ канон Нового Завета 786, 789 см. также Апокалипсис; евангелия Бига-Билта 601
Бига-Билта, крупное поместье здесь (fundus Aufidianus) 601
1084
Указатель
БИЗ
Бизацена ЗСс—Dc, 332, 337 Бизации, масло отсюда экспортируется в Рим 566
Бирдосвальд — см. Банна Бирренс — см. Блатобулгий Битуриги ЗСЬ, 334 Бишапур 6Fc, 650, 655 благовония 580, 581, 591 благодетельное обещание (pollicitatio) 441 ; см. также эвергетизм благородные/низкие (honestiores/humi- liores), различия в социальном статусе 33, 408, 863, 864 благотворительная помощь, христианская 797, 802
благотворительные пожертвования, публичные — см. евергетизм Бландина, лионская мученица 789 Блатобульгий (Бирренс) 1ЕЬ, 289 блеммии 5Вс,76 282, 941 блистательный муж (egregius vir), титул 450
бобовые 563, 633
Богемия, продукция из железа 641 Боденское озеро — см. Констанцское озеро
бодмерея (договора займа, обеспеченного залогом судна) 525 Бойодурум (Пассау-Иннпггадт) 315, 364 болота, осушение 563 Бонит, франкский командир 165 Бонн (Бонна) 1Gc, 2Са, 273, 289, 355 Бонония (Малата) 7Jd, 285 Бонос 76, 271 сноска 18, 941 борады 817 бораны 60, 278, 937 Бордо (Бурдигала) 2ВЬ, 334
~ «Бурдигаленский путь» (Iter Burdi- galense) 291 сноска 76 Боренский (Аррасский) клад 504, 508 Борнхольм 638
Борозда Новака северная/южная (Braz- da lui Novae de Nord/Sud), римский лимес на территории современной Румынии 1Ке—Ы, 284
Боспорское царство 1Md—Nd, 2Fb—Gb, 278, 279
~ Кадм, епископ 800 Босгра 1Ng, 2Fc, 3Fc, 8ВЪ, 311, 337, 389 ~ арабское население 691, 693 ~ торговля 695
~ фортификационные сооружения 311,708
~ христианство 803—804 Босфор 1Le, 305 бочки 557, 567—568, 605 Брадуэлл (Огона) IFc, 315, 353 брак:
~ брачные связи у германцев 621,622 ~ Диоклетианов эдикт о нем 106, 111, 756, 861-862, 943
~ Константиновы законы 125,137,416 ~ и легитимация императоров 175, 177, 213
~ отказ от него у христиан 773—774 Бракара Августа ЗВЬ, 335 Бранкастер (Бранодун) IFc, 309, 315, 353
Браун, Питер 8
«Бревиарий Алариха» («Римская правда вестготов») 251 Брегенц — см. Бригантий Бреннер, перевал IHd, 290 Брешия 799
Брза Паланка (Эгета) 1Ке, 291, 371 Брзи Брод (Медиана) 1Ке, 304 Бриганций (Брегенц) IGd, 289, 360 Бригецио (Сёнь) 2Db, 289, 316, 328, 366 ~ «Таблица из Бригецио» 535 Британия 1ЕЬ—с
~ Альбин здесь 15, 21, 930 ~ Север здесь 21—22, 263, 295, 300, 931
~ при Каракалле 263, 263, 296 ~ при Галлиене 273 ~ в Галльской империи 64, 271 сноска 18, 283
~ при Пробе 76, 271, 315 ~ Карин подавляет смуту 78 ~ при Караузии 95, 96—97, 283, 295, 329, 625, 943
БЮР
Указатель
1085
~ при Аллекте 104, 283, 295, 499, 329, 943
~ Констанций возвращает ее 100,104, 283, 295, 329, 943
~ кампания Констанция против пиктов 111
~ при Константине 283, 329
*
~ германцы здесь 271, 283 ~ границы, их организация 146, 156, 263, 273, 283, 309, 322, 323, (Антонинов вал) 263, (Адрианова система) 262—263, 263, 283, 309, 350 ~ горное дело 507, 570 ~ дороги и пути 263, 287, 289 ~ дукс 329, 350—352 ~ женская свобода 301 ~ императоры, их присутствие здесь 295, 339-348
~ монета 499,507,570,905, (хождение императорских монет) 500, 502, (чрезвычайные выпуски) 502, (клады) 495, 502 ~ пикты 283
~ побережье, система его охраны 271, 283, [см. также Саксонское взморье)
~ повседневная^ жизнь 85 ~ провинциальная организация 21, 327,329,334, (Британский диоцез) ЗВа—Са, 225, 329, 334, (Флавия и Максима Цезарейские) ЗВа—Са, 329, 334, (Прима и Секунда), ЗВа, 329, 334, (Верхняя и Нижняя) 2Ва—Са, 21, 328, 334, 350-352 ~ сельское хозяйство и домашний скот 563, 569
~ христианство 792, 864, 866 Бриттенбург IFc, 315 бриттоны в римской армии 144 сноска 10
Бродель, Фернан 556, 609 бронза, артефакты:
~ германские 630, 637 ~ римские 584, 623, 625, 636, 637
броши 636, 639, 640, 642 бруктеры 626
Будапешт (Аквинк) 7Jd, 2Db, 289 ~ здания 302—303, 303 ~ колония 303, 406 ~ легионная база 302—303, 319, 366— 367
~ фортификационные плацдармные сооружения на противоположной стороне реки 7 Jd, 316 буколы, египетское восстание 453, 457 сноска 1, 562, 568, 593 Булла Регия 574, 922 Булла Феликс, разбойник 28, 931 Булонь (Гезориак) IFc, 95, 104, 289, 354, 943
Бу-Нгем (Голайя) 7Jg, 313, 395, 765 «Бундахишн» (среднеперсидский текст) 649
Бурада 320
Бург-6ай-Штайн на Рейне — см. Замок Штайн на Рейне бургунды 4, 75, 96, 271, 274, 941 Бурдигала — см. Бордо «Бурдигаленский путь» (Iter Burdiga- lense) 290 сноска 76 Буркхард, Якоб 137 Бу-Саада 1FJ, 313 Бшир 1Ng, 312,320 бюрократия:
~ военные кадры 115, 167, 404, 426— 427
~ Дециева, выдающая удостоверения о жертвоприношении 836— 837
~ жалованье и содержание 220, 417, 504, 590
~ египетская 464, 466—468 ~ кооперация городской и имперской
456, 468
~ куриалы, их привлечение в нее 419, 447, 456
~ Лактанций, полемика о ней 216 сноска 6, 417
~ местная и провинциальная 404— 405, 419-420
~ и могущественные люди 453
1086
Указатель
ВАБ
~ и налогообложение 80 ~ освобождение от гражданских обязанностей 446, 447, 549 ~ отлучение от нее отпрысков императорских колонов и рабов 603
~ развитие 166-167,169,170-171,180— 181,216,403-404,417,455-456 ~ ее размеры 216 сноска 6, 156 ~ реорганизация при тетрархах 115, 417, 607
~ сасанидская 646, 664 ~ секретариаты (scrinia) 167 ~ социальное положение 171 ~ христиане в ней 818, 823 ~ юристы в ней 185—187, 229—230, 232, 249, 257
см. также административное управление; администрация, местная и провинциальная; нота- рии; секретариаты, имперские; стационарии
Вабаллат Пальмирский 66, 71—72, 460, 703-704, 939, 940
~ Зенобия действует от его имени 66, 273, 939
~ узурпация против Аврелиана 460, 704, 940
Вавила, епископ Антиохии 834 сноска 100, 842
Вавилония 1Pg—Qg, 19, 272 Вади Араба 8ВЬ, 695 Валент Госгилиан Мессий Квинт, Гай — см. Госгилиан
Валент, узурпатор при Галлиене 938 Валент, узурпатор при Децие 936 Валентин и секта валентиниан 783, 786, 789, 801,811 Валентиниан I и П 927 Валентиниан, наместник Палестины 872 Валериан П, Цезарь (Публий Корнелий Лициний Валериан) 61, 197, 199, 937
Валериан, император (Публий Лициний Валериан) 58—62
~ в войне между Галлом и Эмилианом 58-59
~ восшествие на престол 59, 936 ~ совместное правление с Галлиеном 57-62, 197, 199, 936 ~ восточная экспедиция 59—60, 62, 272, 311, 654, 936-937 ~ Шапур I берет его в плен 60, 62,147, 272, 296, 317, 654, 937
*
~ армия при нем 144, 598 ~ Африка при нем 60, 282 ~ германская и сарматская угроза 275
~ децентрализация властных полномочий 86, 197, 199 ~ дискредитация его в источниках 275, 279
~ монета 204, 480, 482, 499 ~ муниципальные косвенные налоги (vectigalia) 547
~ и Оденат Пальмирский 60, 63 ~ в провинциях 341 ~ сенат признает его 296, 936 ~ и христиане 60, 83, 512, 847, 849 сноска 122, (см. также гонения на христиан)
Валерий Валериан 13 сноска 27 Валерий Диокл, Гай — см. Диоклетиан
Валерий Комазон, Публий 37, 933 Валерий Фиумп 163 Валерия Максимилла 927, 928 Валерия, провинция в Италийском диоцезе 338
Валерия, провинция в Паннонском диоцезе 3Db, 164, 325, 330, 335 Валлерсгайн, Иммануил Морис 556,579, 609
Валь Веносга (Финшгау) 1Hd, 290 Вальхайм 624 Ван (Бенетис) lEd, 315, 361 Ванаммон, триполитанский бог 765 вандалы карта 4:
~ вторжения при Марке Аврелии 275
~ в войске Книвы 275, 277 ~ победа Аврелиана и союз с ними 70, 275, 940
~ занимают Дакию 281
ВЕС
Указатель
1087
~ и Проб 75, 271, 274, 780 ~ продвижение в Дунайский регион 285
*
~ асдинги 275, 277 ~ пшеворская культура 627 ~ в римской армии 153, 161, 271, 275, 324
~ руны 640
~ тайфалы, их племя 277 Вар, французский регион 564 Варахран I, царь Персии 655, 941; религиозная нетерпимость 655, 659, 661
Варахран П, царь Персии 655, 941, 943 ~ кампания Кара 78, 655, 680, 942 ~ дипломатические отношения с Диоклетианом 97, 655, 943 ~ восстание Ормизда 97, 655 ~ Нарсес оспаривает у него право на престол 680, 681
~ религиозная нетерпимость 659, 661 Варахран Ш, царь Персии 943 варвары:
~ поселение на территории империи 76, 161, 266, 269, 324, 625-626 ~ и римская религия 760 ~ торговля с ними 584 ~ экономика, воздействие их вторжений на нее 476, 570, 596— 597, 606, 584
см. также отдельные народы и армия (этнические подразделения); германские народы; субсидии Вардесан, эдесский еретик 688, 774, 809 Барий Авит — см. Элагабал В арий Марцелл из Апамеи 36 Варрон, Марк Теренций 568 Варфоломей, апостол 810 сноска 46 Василид, богослов 782, 789, 811 Василид, солдат-мученик 826 Василий из Кесарии 868 сноска 157 «Ватиканские фрагменты» (памятник права) 232, 251, 255 Вебер, Макс 556, 588, 609 Ведук, готски вождь 280
Везонтион (Безансон) IGd, ЗСЬ, 289, 334, 359
Вейсгер 630
Велико Градипгге (Пинкум) 369 вельбарская культура 627 Вельс — см. Овилава Вемания — см. Пени Вена, Австрия (Виндобона) 7Jd, 2Db, 289, 291, 315, 365
Венгерская равнина 1Jd—Kd, 61, 105, 284
Венетский флот 363 венецианская скульптурная группа тетрархов 586, 890, 892, 895, 899, 902
Венеция и Исгрия (регион) 3Cb—Db, 333, 338, 363
веночное золото, иначе коронный сбор (aurum coronarium), налог, идущий на изготовление венка 463, 541-542
веночный взнос (<jT£7mxov), взнос за право ношения венка 442 Венулей, юрист 236 Вер, Луций, император 266, 560 Верин, командующий в походе против армян 683
Верковикий — см. Хаузестидс Верона IHd, 290, 799
~ поражение Филиппа от Деция 55,
935
~ Галлиен укрепляет ее 148, 153, 575 ~ Карин устраняет Юлиана здесь 79, 92
~ осаждена Константином 120 «Веронский список» («Laterculus Veronensis») 329, 332, 333, 946 вершины холмов:
~ галльские святилища 768 ~ германские крепости и цитадели 89, 314-315, 624, 630-632 Веспасиан, император (Тит Флавий Вес- пасиан) 15, 245, 534, 547 сноска 237, 601 Веста, ее культ 753 ~ весталки 752, 759
1088
Указатель
ВЕС
Вестик, близ Уины 627 весы:
~ германские, их чаши 638 ~ римские 478—479
Ветера (Ксанген) Юс, 2Са, 4СЬ, 289, 355 ветераны 160, 217, 524; привилегии 155, 525, 535, 538, 542 Ветрен (Тегулиций) 377 вечное право с неизменной годичной нормой взноса (ius perpetuum salvo canone) 546
взяточничество 838—839, 840—841, 864 Вибий Афиний Галл Велдумниан Волу- зиан, Гай, император 57—59 Вибий Требониан Галл, Гай — сж Требо- ниан
видения:
~ Киприана 855 ~ Константина 118, 120, 139 ~ во снах 737, 738, 741 Видин (Бонония) 371 Виенская провинция ЗСЬ, 330, 334 Виенский диоцез ЗВЬ—СЬ, 225, 330, 334 ~ отсутствие монетного двора здесь 226, 500 Византий 1Ье\
~ и Север 17, 18, 305, 307, 406, 574 ~ в третьем веке 60, 72, 105, 279 ~ поддерживает Лициния 575
*
~ здания 575 ~ дороги 64, 287, 291, 293 ~ стены 575 ~ христианство 800 см. также Константинополь викарии 101, 202, 225—226 Виктор из Рустики 865 Виктор, африканский пресвитер и мученик 856
Виктор, епископ Рима 784 Виктор, карфагенскй христианин-сукновал 803
Викторик, африканск мученик 856 Викторин, император в Галльской империи — см. Пиавоний Викторин, Марк Викторин из Петавии 799, 882, 884
виллы 299, 557, 570, 598-599, 600, 624, 768
Виминаций (Костолак) 1Ке, 2ЕЬ, ЗЕЬ, 61, 291, 335, 369 ~ дороги 291, 292 ~ монетный двор 499 Вимозе, вотивное отложение здесь 643 В индий Вер, юрист 230 Виндиш — см. Виндонисса Виндонисса (Виндиш) IHd, 289, 359 вино:
~ Египет, потребление 591 ~ налог натурой 541 ~ раздачи в Риме 515, 540—541, 576, 580, 581
~ субсидирование продаж в Риме 207 ~ торговля 557, 590, 604, 608, 694 ~ транспортировка 567 ~ цены 592
виноградорство 76, 563, 564, 567, 605 ~ прессы 557
Випава, долина IHd, 290 Випсака, горное дело здесь 507, 570, 571 Вираншехир (Константина) 384 Вирий Луп, наместник Нижней Германии 19
Вирсавия (Беершеба) IMg, 311, 387 Вирунум IHd, 3Db, 290, 335 Виса, воин, александрийский мученик 844
Висла, ее бассейн 627, 637 витаксы, наследственные князья восточного пограничья 675 Витен 316 Витрувий 318 Вигтнауер Горн IGd, 314 Вифиния ILf—Me, 3Eb—Fb, 336 ~ Галериев ценз 526 ~ готские нападения 279, 280 ~ Плиний как наместник 210, 779— 780, 817
~ сопротивление Пальмире 72 ~ христианство 779—780, 805, 817— 818
~ Элагабал здесь 598 Вифиния и Понт 2Eb—Fb, 210, 779— 780, 327, 336
ВЭР
Указатель
1089
Вифлеем 128
водные ресурсы, их накопление 312; см. также ирригация
водоснабжение, городское 188, 205, 443, 547, 563, 572 водохранилища 563 водяные мельницы 557, 564, 599—600 военнопленные 76, 324, 625 военные действия:
~ армянская тактика 670 ~ и экономика 554—555, 558, 597 см. также армия; военнопленные; вооружение; осадная война; и при германские народы Вологез V, царь Парфии 19, 34, 650, 931 Вологесиада 8СЬ, 581, 590, 694 Волузиан, Гай Вибий Афиний Галл Вел- думниан, император 57, 59 Волузий Мециан, Луций 229, 230 Волузий Сатурнин 602 вольноотпущенники 548, 864 сноска 147 ~ императорские 25,31,180,181,187— 188, 189
Вольцеи, таблица отсюда 431 Волюбилис 7 Dg, 268, 282 вооружение: германское 633—634, 640 ~ государственные мастерские 590 ~ римская экспортная торговля им 584,608
~ римское, в германских вотивных депозитариях 634, 642—643 Ворбассе, Ютландия 631 ворота, укрепленные 318—319 воскресенье («день солнца») как выходной 137
Восток — Запад, раздел империи на них 8, 30, 59, 175
восточное пограничье 20, 675—677 ~ арабское 676 ~ география 666—668 ~ государства здесь 675—677, (см.
также Албания; Иберия)
~ мидийское 676 ~ римские дары и субсидии 670 ~ сирийское 676
Восточный диоцез 3Fc—Gc, 225, 226, 332, 337, 461, 535
вотивные подношения 734, 766 ~ германские 634, 638, 642—644 ~ исповедальные стелы 738 Врхника (Наупорт), Клаустра 316 всадническое сословие:
~ административные карьеры 86,149, 187—188, 245, 416, (см. также при слове наместники)
~ Галлиен, назначения при нем 65, 67, 150-153, 200-202, 416, 327 ~ императоры из него 35, 86 ~ Константин I, продвижения при нем 418—419
~ куриальные повинности, освобождение от них 419
~ прокураторы 23—24, 167,181, 187— 189
~ и Север 29, 45, 149-150, 178, 201 ~ и сенатское сословие, стирание грани с ним 150, 187 ~ статус в четвертом веке 172, 419 см. также высшие классы и при словах армия; наместники; сенат выборы 439, 445, 450—451 выкуп драгоценных металлов, принудительный 221, 580
вымороченное имущество (bona vacantia et caduca) 414—415 высшие классы:
~ культура имперского масштаба 914, 916
~ образ жизни 206, 598—599 ~ провинциальные, (и варварская угроза) 269, (романизация) 85, 914 ~ и Северы 26, 29, 37—41, 46, 47 ~ структурные перемены 170—172 ~ и христианство 822—823, 853—854 ~ и ценз 418, 475 ~ экономические стимулы 608 см. также всадническое сословие; куриалы; сенат
Вышеград-Сибрик — см. Поне-Навата вышивальщики золотыми и серебряными нитями (barbaricarii) 585 Вьен (Виенна, Нарбонская Галлия) ЗСЬ, 573, 334, 362, 793 Вэрэдия (Арцидава) 372
1090
Указатель
ГАБ
Габес (Такапа) 1Hg, 396, 563 Гад, арабское божество 690 гадалки — см. предсказатели судьбы Гадамес — см. Цидам Гадамес (Цидам) 395 гадания 640 Гадара 808 сноска 34 Гадес (Кадис) 7Z)/, 288, 752 Гадима, царь племени танух 706—707, 709
Гадрумент IHf \ 3Dc, 15, 450, 801 сноска 13, 829, 337; см. также Сус Газа IMg, 8Ab, 294, 311
~ христианство 808, 869, 873 Гай, герметист 721
Гай, юрист 231, 232, 233—234, 237, 238 ~ о законе (lex) 236, 239, 241, 243 ~ об императорских конституциях 241-242
~ «Институции» 232, 234 ~ о налогообложении 514 ~ о письменных контрактах 236 сноска 32
~ «Повседневное правоведение» 233 ~ о провинциях 181 ~ состояние текста 232, 233 Галатия 1Mf, 2Fb-c, 3Fc, 74,272,805,820 ~ провинциальная организация 327, 328, 331, 336
Гален, об Антониновой чуме 560 Галерий Валерий Максимиан, Гай, император:
~ как Цезарь 99—100, 213, 943 ~ сарматские кампании 284 ~ в Египте 105—106, 295, 460, 943 ~ война против Ирана 106—107, 281, 656, 675, 681, 944 ~ дунайские кампании 111, 944 ~ как Август 120, 944—945 ~ смерть 120, 945
*
~ арка в Фессалонике 110, 124, 281, 297, 656, 899
~ и Диоклетиан 99, 106—107, 113, 213 ~ генеалогическое древо 927 ~ Иовий, эпитет 95, 215 ~ Аактанций и 112,113
~ мавзолей 110 ~ и Максенций 99 ~ монета 110 ~ в провинциях 113,345 ~ резиденции и дворцы, (Гамзиград) 99 сноска 34, 110 сноска 85, 113 сноска 99, 304, (Сердика) 216, (Сирмий) 574, (Фесса- лоника) 110, 216, 304, 574, 899
~ ценз 421, 526 ~ юбилей двадцатилетний 530 см. также гонения на христиан (Великое)
Галерий Максим, проконсул Проконсульской Африки 855 Галл, Гай Вибий Требониан — см. Тре- бониан Галлеция 328 Галлеция ЗВЬ, 330, 335 Галлиен, император (Публий Лициний Эгнаций Галлиен) 59—67, 891, 936-939
~ происхождение 86 ~ Цезарь 199
~ как Август совместно с Валерианом 59-62, 197, 199, 936 ~ кампании на западе 60—62, 273, 274, 275, 937, (и Галльская империя) 64, 65, 66, 148, 938, (в Иллирике) 61—62, 275, 298, 316, 938, (на Рейне) 61—62, 273, 274, 298, 625, 937, 937, (подавляет восстание Инге- нуя) 62, 148, 298, 937, (мятеж Регалиана) 298
~ единоличное правление 62—67 ~ узурпация Макрианов и Квиета 63, 858, 937
~ проблемы в западной части империи (260 г.) 64 ~ период спокойствия 64 ~ возвращение готской угрозы 65, 147, 280, 938-939
~ восстание Авреола 66, 67, 147, 280, 939
~ убийство 67, 274, 939
ГАЛ
Указатель
1091
~ и армия 67, 147—153, (командиры) 65, 66, 67, 74-75, 147, 150— 153, 200—202, 416, (полевая армия) 61, 62, 62, 65, 66, 86, 147-148, 155-156, 201, 280, 321-322
~ варварская колонизация в империи 76, 275
~ всаднические и сенаторские назначения 65, 66, 67, 150—153, 200-202, 416, 327-328 ~ в Греции 65, 298, 938 ~ и Дакия 66, 276 ~ децентрализация власти 86 ~ дискредитация его в источниках 64, 150, 198, 273, 275, 279 ~ и искусства 64, 895, 903, 905, 907 ~ Милан как база 148—149, 306, 937 ~ монетные дворы, новые 499, 937, 937
~ морское путешествие 298 - и пальмирские правители, (Оденат) 64, 147, 273, 702, 703, (Зено- бия) 273
~ пограничная стратегия 86, 148 ~ поражения от внешних врагов вредят империи 317
~ портретная скульптура 890, 891, 895, 903
~ и провинции 199—204, 342 ~ прошлое, отсылки к нему 895, 903, 905, 907-908
~ резиденция в Антиохии 305 ~ религиозные взгляды 66, 86, 754 ~ в Риме 296, 938, (арка) 938 ~ и сенат 67, 86, 198, 296, [см. также всаднические и сенаторские назначения выше)
~ столицы второстепенные 61, 86, 306 ~ титулы 273, 702 ~ философия 66 ~ финансы 64—65 ~ фортификационные сооружения 64-65, 148, 153, 316, 575 ~ Элевсинские мистерии, посвящение в них 65, 298, 938
~ юбилей пятнадцатилетний 939 см. также при словах гонения на христиан; монета
Галлия:
~ разгром Альбина Севером 19 ~ Каракалла здесь 296 ~ Галльская империя — см. отдельный пункт
~ варварские вторжения 75, 271, 623-624, 936-937, 941, 942 ~ и Галлиен 148 ~ кампании Проба 75, 941 ~ при тетрархах 98, 100, 283—284, 316, 942, (провинциальная реорганизация) 329, 536, (восстание — см. Аллект; Кара- узий)
*
~ варварская колонизация 324 ~ города 75, 271 сноска 16, 315, 316, 317-318, 573, 574 ~ дороги 287, 288—287 ~ животноводство 568—569 ~ императоры, их присутствие здесь 339-348
~ местная администрация 431 ~ монета 306, 495, 499, 500, 502, 905, [см. также при слове Галльская империя)
~ налогообложение 525, 536, 538 ~ поселенческая модель 561 ~ рудники 507, 570 ~ сельское хозяйство 563, 565, 605 ~ фортификационные сооружения 315, 317—318, 320, (прибрежные) 75, 271, (городские) 75, 271 сноска 16, 315, 316, 318, 574-575
~ христианство 792—794, 864, 866 ~ ценз 560
~ экономика 586, 591, 604—605, (ремесленная продукция) 585, 587, 636
~ язычество 752, 760, 766—769 см. также отдельные населенные пункты, а также Галльская империя; Галльский диоцез
1092
Указатель
ГАЛ
Галльская империя:
~ при Постуме 64,65,146,147,148,342, 938—939, (пятилетний юбилей) 938, (и Галлиен) 64,65,66, 148,938, (союз с Авреолом) 66, 939, (и Испания) 68, (десятилетний юбилей и смерть Постума) 939 - при Марии 939
~ при Викторине 68,69,271 сноска 18,
506, 939
~ правление Тетрика и Аврелианово завоевание 72,73,211,940 ~ последствия ее ликвидации 75, 89, 271
*
~ германцы в ее армии 625, 638 ~ монета 273, 483, 499, 502, 570, 638, 905, (высокого качества) 495,
507, (монетные дворы) 495, 499, (перештамповка) 500, (обесценивание при Пробе) 511
~ рейнская граница 273 ~ римский имперский язык 85 ~ рудники 507, 570
Галльский диоцез ЗВЬ—СаЬ, 225, 330, 334
~ монетные дворы 226, 500 Гамзиград — см. Ромулиана Гангра 3Fb, 336 Ганнибал 293
Ганнибалиан, Царь Царей и Понтий- ских Народов 135, 684 Гарда, озеро 1Hd, 67 Гарианн (Барэ-Касл) IFc, 315, 353 Гарни 7Еа, 671, 674 Гарпократ, его культ 746, 760 гарум 557, 566, 590—591, 605 Гассаниды 659, 706 Гвадалквивир, река 1Df—Ef, 583 Гезориак — см. Булонь Геката, ее храм в Дафне у Антиохии 755 Геленопонт, провинция 331 Гелиополь (Баальбек) 7Ng> 130, 294, 573, 731, 806
Геллеспонт, провинция ЗЕЬ—с, 331, 336
Геллий, Авл 231, 407 Гельвий Пертинакс, Публий, император 13-14, 16, 17, 173, 295, 930
Гем (Стара Планина), гора IKe—Le, 277 Гемеллы 313, 397 Гемимонт ЗЕЬ, 331, 336 Гемин, антиохийский богослов 805 Генобауд, франкский царь 96, 283 генотеизм 71, 76, 660, 712, 720
~ солярный — см. солнце, его культ географическое многообразие империи 590-591
гепиды 4, 276, 281, 285 Гепгганомия, Египет 462 Геракл — см. Геркулес Геракл/Геркулес 735, 746, 752, 761, 895 ~ и тетрархи 95—96, 118, 214—215, 293, 755
Гераклея Понтийская 1Ме, 279 Гераклея, Фракия ЗЕЬ, 94 сноска 14,293, 336
~ монетный двор 226, 500 см. также ее предыдущее название: Перинф
Гераклион, египетский гностик 782, 783 ~ «Толкование на Евангелие от Иоанна» 784
Геренний Модестин, юрист 230,231—232, 254
~ сочинения 230, 236, 254 Геренний Этруск 56, 197, 277, 936 Гериат 395
Герма, его сочинение«Пастырь» 785— 786
Герман, египетский епископ 850 Германикия JNf, 293 Германия:
~ при Северах 28, 33, 45, 144, 263, 266 ~ кампания Максимина 46—47, 144, 670
~ кампания Галлиена 271 ~ при тетрархах 100, 111, 156, 284 ~ кампания Константина 946
*
~ армия здесь 156, 356—359 ~ дороги 293
ГЕТ
Указатель
1093
~ ввозные сборы (portoria) 525 ~ императоры, их присутствие здесь 339-348
~ монета здесь 509, 637—638 ~ провинциальная организация 156, 330, (Германия Первая и Вторая) Юс, ЗСа—Ь, 334 (Германия Верхняя и Нижняя) lGc—d, 4Bab-Cb, 308, 327, 330, 334, 354-359
~ христианство 789, 794 см. также германские народы; ли- мес, рейнско-дунайский; рейнская граница
германские народы 11, 621—644 ~ вельбарская культура 627 ~ весы 638
~ военные действия 83, 84, 153, 161, 584, 622-623, 633-635 ~ вотивные депозитарии 634, 638, 642-644
~ государство, его формирование 273, 277
~ добыча с территории империи 597 ~ дунайские культуры 285, 628—629 ~ животноводство 632 ~ источники 621—622 ~ Книва, его лидерство 277, 627 ~ металлообработка 628, 630, 636, 638-641
~ монета римская, утечка из империи к ним 509, 625, 638 ~ обмен дарами, традиция 622, 628, 637, 639
~ образование новых групп 621— 629, 643
~ политическая организация 621—622 ~ поселения 629—633, (в империи) 67, 271, 280, 624
~ пшеворская культура 627, 628 ~ религия 642—644 ~ ремесленная продукция 628, 630, 638-643
~ рост население 631 ~ рунические письмена 640 ~ сельское хозяйство 628, 632—633
~ социальные перемены 621—622, 630,644
~ субсидии из Рима 628 ~ территориальные владения 622 ~ торговля и технология 584, 628, 630, 635-644 ~ транспорт 637, 642 ~ Черняховская культура 628 ~ этническая принадлежность 622— 623
см. также Германия; субсидии; отдельные народы, особенно ала- манны; вандалы; готы; мар- команны; франки; и при отдельных императорах герметизм 716, 721, 723, 724, 734 ~ тексты, «Герметика» 721, 728 Гермоген, начальник конницы 163 сноска 87
Гермогениан, юрист:
~ о бедности 598
~ «Кодекс Гермогениана» 250, 251— 253, 255
~ о косвенных налогах (vectigalia) 547 ~ как магистр прошений 106, 230 сноска 4, 251—253
- во «Флорентийском индексе» 253 ~ «luris epitomae» 254—255 Гермополигский ном 461 Гермополь [иначе Гермуполь) 1Mh, 5В b, 393, 421, 469, 470, 578, 760 ~ здания 470, 573, 587 гермундуры 623 Геродиан 9, 13 сноска 1, 87 ~ об Армении 668 ~ о Макрине 175—176 ~ о Максимиане 512 ~ о Сасанидах 678 ~ о Северах 21, 38, 39, 45, 168 герулы 96, 147, 276, 279, 281, 597 Гесихий Александрийский 884 Гессакс, гора 280
Гета, Публий Септимий, император:
~ рождение 19 ~ как Цезарь 20, 22, 174, 295 ~ как Август 22, 931
1094
Указатель
ГЕТ
~ консульства 931 ~ разлад с Каракаллой 30 ~ совместное восшествие на престол и правление с Каракаллой 30, 175, 931
~ убийство 23, 30—31, 33, 296, 297, 739, 931
~ родословная 926 ~ образ снят с Арки аргентариев 896— 897,903
гетулы 144 сноска 10 Гиббон, Эдуард 137, 168 Гитин, громатик 514 сноска 102, 523, 527 гидротехника 563, 690; см. также акведуки ; водные ресурсы; водяные мельницы; водоснабжение; ирригация Гиераконполь 5ВЬ, 97, 461 Гиераполь, Фригия 820 Гиераполь-Бамбика, Сирия 3Fc, 8Ва, 654, 688, 337
Гиерасикамин 7Л4/, 5Вс, 108, 267, 294 гимнасиархи, социальный слой в Египте 523, 578
гимнасии, их снабжение маслом 470 гимны:
~ герметические 721 ~ христианские 884 Гирза 765—766
Гиспелл, храм роду Флавиев 138 Глад бах 627
гладиаторские бои 32, 138 Гликон, змей, его оракул 736 гностицизм 660, 722, 774, 782, 788 Голайя — см. Бу-Нгем Голландия 629, 630—631 «голова» (caput), фискальная единица 219-220, 534-538 голод 274, 576, 824, 875 гонения на христиан 823—879 ПО ПЕРИОДАМ И ИМПЕРАТОРАМ: Нерон и Домициан 784—785 второй век 776, 824
~ Марк Аврелий 788, 792 193-249 гг. 82-83,823-834 ~ Север 825-829,930-931 ~ Каракалла 829
~ Максимин Фракиец (235—238 гг.) 82, 830-832
Деций 56, 82-83, 754, 834-847, 935 ~ в Армении 815, 840 сноска 111 ~ в Египте 460, 834, 836, 837 сноска 107, 838, 841 сноска 112, 843-844
~ жертвы 842—846 ~ в Карфагене 834 ~ мотивация, предполагаемая 831 сноска 94
~ первые распоряжения, их начавшие 753, 834-835, 838 ~ последствия 815, 846 ~ на Сицилии 796 ~ в Смирне 819
см. также удостоверения о принесении жертвоприношений (libelli)
Галл 57,846-847
Валериан и Галлиен 83,849—859, 937 ~ рескрипты, вводящие гонения 60, 838 сноска 109, 849—850, 852, 854, 857-858 ~ рескрипт о терпимости 64, 83, 846, 847, 852-853, 857-858, 937
Аврелиан, его предполагаемое намерении начать гонения 754,858
Великое гонение при тетрархах 859— 879
~ обстоятельства и временная последовательность 756, 859— 863, 866-867
~ эдикты, их предписывающие 112, 113, 793-794, 862-864, 944-945
~ роль Диоклетиана 861—862, 863 сноска 143, 866—867 ~ роль Галерия 861—863, 869—870, 878, («Эдикт о терпимости») 119, 441, 870-871, 945 ~ роль Лициния 122, 876—877 ~ роль Максимиана 864—865 ~ осуществлявшиеся Максимином 121, 441, 682, 757, 831-832, 869-870, 874-876, 946
ГОР
Указатель
1095
~ окончание 119,441,866,869,870— 871, 876-878, 945, 946 ~ последствия 126, 863—867, 873— 874, 878
~ администрация, ее чистка от христиан 861, 866—867, 869, 878
~ в Армении 672, 682 ~ в армии 112,861,869,944 ~ Апокалипсис о них 776 ~ выживание в подполье и уклонение от разоблачений 840—841, 845, 853, 865, 865, 868, 869 ~ города вовлечены 875 ~ духовенство и видные христиане как основная мишень 83, 831, 847, 852-855, 867, 869 ~ еретики, заниженная статистика по ним 824—825 ~ жертвоприношение, давление с целью принуждения к нему 842, 843, 845, 851
~ в западной части империи 112, 118, 863—869, 944, (см. также при отдельных провинциях)
~ землетрясения 815 сноска 62, 824, 831-832
~ изгнание как наказание 126, 842, 845, 847, 850-851 ~ в императорском окружении 853-854, 866-867, 869 ~ в Иране 659-660, 662, 810, 859 ~ и исповедники 825, 829, 837 ~ источники 824—825, 830, 834 ~ литература о них 882—883 ~ локальные 815 сноска 62, 824, 831-832, 846-859 ~ маркиониты 824—825, 843, 856 ~ монтанисты 824—825 ~ мотивация 828, 831 сноска 94 ~ мученики, их количество 871— 874
~ оракул Дидимы 862, 878 ~ осведомители 841, 842, 851 ~ освобождение заключенных и возвращение из ссылки 126, 837
~ отступничество 838—839, 846, 850, 865, 867, 874, (степени греховности) 835 сноска 101, 839, 840 сноска 111 ~ прекращение дел в отношении непреклонных 842, 845 ~ провокации со стороны христиан 787,824,872
~ пьпка и членовредительство 842, 843, 845, 863, 867, 873-874 ~ разногласия по вопросу покаяния после них 815, 838— 839, 846, 850, 865, 866 ~ разрушение церковных домов 863, 869, 879-880 ~ реституция собственности после них 512,866,876-877 ~ свидетельства об отпущении грехов 838
~ смертная казнь применяется редко 842, 843, 845, 867 ~ сожжение священных и литургических книг 863, 865, 869, 880
~ социальное понижение 863, 864 ~ судебный процесс и наказание 842
см. также жертвоприношения (принуждение христиан); конфискации (христианских иму- ществ); рудники и горное дело (христиане ссылаются сюда на каторгу); толпа, ее враждебный настрой к христианам; и при словах императоры; наместники, провинциальные Гонорий, император 306 гончарные мастерские (figlinae), испанские 583
Гор (Фирузабад) 6Fd, 650 Горгоний, христианин на императорской службе 867
Гордиан I и II, восстание 47—48, 272, 415, 534, 934
Гордиан Ш, император (Марк Антоний Гордиан) 50—53, 934—935 ~ Цезарь и принцепс молодежи (princeps iuventutis) 49, 197
1096
Указатель
ГОР
~ восшествие на престол в качестве императора 50, 197, 934 ~ дунайские кампании 51, 52, 82, 277, 934
~ мятеж Сабиниана 51, 935 ~ влияние Тимесифея 51, 84 ~ персидская кампания 51—53, 272, 650, 653, 679, 935 ~ смерть 53, 653, 679, 935 ~ обожествление и кенотаф 53
*
~ армия при нем 50—51, 52, 82, 197, 277
~ Африка при нем 51, 52, 935 ~ брак 51 ~ культура 50 ~ монета 51, 498
~ налогообложение при нем 51, 88, 529 сноска 164 ~ и Осроена 328 ~ в провинциях 341 ~ рескрипты 250 ~ в Риме 197, 296
~ свободы 50, 88, 415, 529 сноска 164 ~ и северовские традиции 50, 82 ~ и сенат 50
~ финансовая политика 51, 82 Гордий (Юлиополь) 1Ме, 293 города:
~ автономия 171, 225, 405, 412, 435— 439, 446, 559
~ и Антонинов а конституция 406— 407
~ армянские 674 ~ архивы 421 ~ безработица 560 ~ беспорядки 576 ~ варварская угроза 269 ~ государственные поездки и перевозки (cursus publicus) 302, 424-426
~ жилые районы 573 ~ законы и правопорядок 406, 409— 410, 411, 426-429
~ и императоры 407—408, (финансовые интересы) 412—413, 441— 445, 548, (петиции к ним) 441,
875, (их поддержка) 433, (визиты) 296, 298-299
~ имперское государство, их вклад в него 419—434,438^39,452,456 ~ коллективная ответственность 408, 422, 472
~ косвенные налоги (vectigalia) 442, 547
~ кризис или приспособление? 434—
453, 469-470
~ описи муниципального имущества (kalendaria) 547
~ оракулы, обращения к ним 742 ~ освобождение от обязательств 123, 446, 549, (должностных лиц) 446, 447, 549, (куриалов) 418— 419, 423, 446, 456, 549, (представителей духовенства) 123, 446, 543, 549, 879, (ремесленников) 303, 889 сноска 5 ~ правосудие 406, 428—429 ~ привилегии Рима 575—576 ~ пристанище войскам (hospitium) 424-425
~ производство 577—578, 588 ~ регистрация сделок 421 ~ самодостаточность 591 ~ и Северы 405—406, 419—420, 433, 443, 572 (см. также Септимий Север, Луций)
~ и сельская местность 527, 572, (распределение налогового бремени) 528, 542, (экономические отношения) 452—453,
454, 572, 588—589, 608, (миграция из нее) 559
~ сельские поселения домогаются их статуса 433, 436
~ снабжение 412, 545, 565—566, 580, (см. также аннона; Константинополь (снабжение зерном); Рим (снабжение))
~ собственность 442, 547 ~ статусные отличия 405—407, 409, 575-576
~ урбанистическая модель, ее преемственность 578, 605, 606
гот
Указатель
1097
~ участие плебса в жизни городов 439 ~ уязвимость перед пожарами и др.
катастрофами 576 ~ храмы здесь 443, 572, 731—732, 746 ~ и ценз 183, 420
~ и экономика 558, 559, 572—579, 581, 588, 591, (как индикатор состояния общества) 555—556, 572, 606, (как стимул) 572, 579, 608
см. также водоснабжение, городское; евергетизм; куриалы и курии; литургии, городские; магистраты; муниципии (municipia); советы, муниципальные; планировка городов; повинности (munera); пожары, в городах; политеизм (городские культы); фортификационные сооружения (городские); см. также Константин I; налогообложение; наместники; тор говля; финансы; христианство (и городская жизнь) городские общины (populi) как субъекты права, перегринские города с таким статусом 405 гороскопы 726, 726—727 Гортина 2Ес, ЗЕс, 797, 336 Гостилиан, император (Гай Валент Го- стилиан Мессий Квинт) 57, 197, 936 государство:
~ проблема сохранения традиционной структуры 29, 32, 50 ~ и христианство 823—879, (см. также гонения на христиан)
~ и экономика 556, 592—609 Готия, крымская 800 Готланд 638, 639 готы:
~ во П в. 276-277,621,622 ~ на Дунае во времена анархии 277— 278, 627
~ их нападения в 230-х годах 47, 50, 934
~ и Гордиан Ш 51, 52, 82, 277, 934
~ и Филипп 54, 54, 55, 277, 935 ~ кампании Деция против Книвы 56-57, 276, 277, 936 ~ и Галл 56, 57, 58 ~ Эмилиан и дунайские 278 ~ первые морские экспедиции их причерноморской группы 59,
936
~ кампании Валериана 59—60, 936—
937
~ нападения на Малую Азию 64—65, 278, 280
~ вторичное появление при Галлие- не причерноморских и дунайских 65, 147, 280, 937, 938 ~ набеги на Эгеиду и Грецию совместно с герулами 65, 279—281, 627, 939
- разграбление Афин 65,279,753,939 ~ Клавдий П, (и пиратство причерноморских готов) 68,69,280,627, (разгром дунайских и мир) 68,81, 280, 939
~ кампании Аврелиана 281, 627 ~ занимают Дакию 281 ~ Тацит и Проб наносят им поражение 74-75, 75,941 ~ победа Константина (332 г.) 136,285, 947
~ вельбарская культура 627 ~ верховая езда 633 ~ Григорий Чудотворец о них в «Каноническом послании» 817 ~ епископ крымской Готии 800 ~ искусство 638—639 ~ каппадокийские христиане — их пленники 815 сноска 62 ~ Книва, его власть 277, 627 ~ морское господство 278—279 ~ осадная война 635 ~ пиратство 60, 64, 65, 68, 69, 74 ~ поселение в империи 68, 280 ~ последствия их угрозы 79, 81 ~ причерноморская группа 59—60, 627
~ и пшеворская культура 627, 628
1098
Указатель
ГРА
~ разделение на тервингов и остготских гревтунгов 281 ~ в римской армии 277, 280, 324 ~ руны 640 ~ как «скифы» 276 ~ субсидии 54, 55, 57, 58, 61, 277, 278 ~ и Черняховская культура 628 см. также при словах Малая Азия, Черное море грабеж 554, 576, 597 гражданские общины (civitates) 210, 407 гражданство, римское:
~ получение посредством исполнения должности (per honorem) 407 ~ распространение на провинции 28, 32-33, 194, 218 сноска 14, 242, 517,932 (см. также Антонино- ва конституция) см. также налогообложение грамматеи, писцы (урарростеи;) 420, 432 грамматик (ypappaxixoç), общественная должность в Оксиринхе 469 гранит, каменоломни 267, 569—570 границы 306—326
~ аннона для пограничных подразделений 423—424
~ армия на них 79,146, 217—218, (развертывание войск) 79,154,224,
307- 314, 321, 324-325, 559, 349—402, (и экономика) 581, 605
~ варвары селятся вблизи 76 ~ дороги 307 ~ коммуникации 146 ~ «кризис» и повседневная жизнь 85 ~ имперские расходы на них 516 ~ история их формирования 262— 285, (см. также при названиях отдельных границ, провинций и императоров)
~ линейные пограничные сооружения 33, 146, 283-284, 285,
308— 309, 321, (см. также Адриан (вал); лимес)
~ монетный дворы близ них 203 ~ надзор 314, 315, 321 ~ населенные пункты 321, 325—326, 430-431
~ рост значения 206 ~ стратегия 217, 308 сноска 120, 321 ~ торговля 315, 581, (см. также пошлины таможенные; рыночные пункты)
~ фортификационные сооружения 148, 314-321
~ экономика 554, 581, 591, 605, 606, 608
см. также отдельные границы, провинции и регионы, и при именах отдельных императоров Граннус, эпитет кельтского Аполлона, его Великий храм 757 гранодиорит, каменоломни 570 граффити:
~ арабские 691, 693, 695 ~ молитвы в храмах 734 гревтунги 281
Грегориан (Грегорий), магистр прошений 106, 251; см. также кодексы, правовые (Кодекс Гре- гориана)
Гренобль (Куларо) 1Gd, 69, 316, 362 Греция 1Kf
~ благосостояние, снижение его уровня 591
~ Галлиен здесь 65, 298, 938 ~ нападения готов и герулов 58, 65, 279-280, 627, 939 ~ христианство 780—781, 800, 869 ~ экспорт порфира отсюда 569 греческая культура:
~ в Египте 469, 812—813 ~ христиане 797, 800 Григорий Нисский 816 Григорий Просветитель 672, 816 Григорий Чудотворец, епископ Неокеса- рии 816-817, 823, 841, 886; «Каноническое послание» 278, 817
«Панегирик Оригену» 884 гробницы — см. захоронения громатики — см. землемеры грузила для ткацких станков 557 Гудме, остров Фин 636 Гудме, как торговый порт 636 Гунде-Шапур 6Ес, 654
дво
Указатель
1099
гуннские племена 285 Гунтерик, готский вождь 277 Гурзил, африканское божество 765 гутоны — см. готы
Гутта, сьш Эрминария 276 сноска 34
Даджанийя INg, 320 Даза — см. Максимин, Гай Валерий Га- лерий Дакия 1Ке, 2ЕЬ
~ завоевания Траяна 263 ~ Марк Аврелий объединяет ее 308 ~ при Северах 263 ~ варвары угрожают ей 627, 628 ~ кампании Максимина 46, 934 ~ кампании Гордиана Ш 52 ~ кампании Филиппа 53—54, 276, 277 ~ Деций отражает карпов 55, 276, 277
~ при Галлиене 61, 64, 66, 276 ~ при Клавдии П 69 ~ эвакуация при Аврелиане 73, 142, 281, 292, 315, 335, 940 ~ при Константине 136, 164, 325
*
~ Аполлон Гранний, его культ 740— 741
~ горное дело 570 ~ границы, их организация 144, 164, 269, 308-309, 315, 372-376 ~ дороги 291—292
~ провинциальная организация, (Дакия Средиземноморская) ЗЕЬу 331, 335, (Дакия Новая) 1Ке, 292, 331,335, (Дакия Прибрежная) ЗЕЬ 331, 335, 940, (Три Дакии) 308, 327, 336 ~ «свободные даки» 276 ~ Трансалютанский лимес 309 ~ этнические отряды в римской армии 144 сноска 10, 325 Далмаций младший 135, 947 Далмации старший 135 Далмация 2Db—Ed, 3Db—Eb ~ Галлиена кампании 61 ~ горное дело 570 ~ конница в римской армии 148, 152
~ провинциальная организация 327, 330, 335, 455 ~ христианство 799 Дамаск INg, 8ВЬ, 106, 294, 311 ~ христиане 806, 875 Данаба — см. Дмейр Данаба (Дмейр) 1Ng> 32, 159, 311, 311, 387
Дания 584, 629, 631, 636
~ вотивные депозитарии 642—643, (см. также Иллеруп)
дань:
~ Армения платит Риму и Персии 670
~ римские выплаты варварам — см. субсидии
Дардания 1Ке, ЗЕЬ, 292, 331, 335 Дарнида (Дерна) 1Kg, ЗЕс, 294 дары и римская экономика дарений:
~ благотворительные пожертвования 475, 606
~ ее идеология и лексика 410, 430, 440-441, 519, 531
~ монета, используемая для этих целей 504
~ налогоплательщики оплачивают ее 516
~ в отношении Армении и восточного пограничья 670 ~ в отношении германских народов 628, 637
см. также евергетизм дары, традиция обмена ими у германцев 622,628,637,639 Дафна при Антиохии 736, 742, 755, 940 Дафна-Константиана 1Le, 285, 316, 377 дворец императорский (palatium) 295, 299, 303-304
дворцы 100, 216, 303—307, 574, 899 ~ Кордова 105 сноска 58 ~ сасанидские 650 ~ Сер дика 134, 216, 304 см. также Ромулиана и при словах Аквилея; Антиохия; Константинополь; Милан; Никоме- дия; Рим; Сирмий; Сплит; Трир; Фессалоника
1100
Указатель
дво
дворы, царские и императорские:
~ пальмирские 703 ~ римские 515, 889 ~ сасанидские 646, 652 Дева (Честер) 1Ес, 2Ва, 289, 309, 352 девальвация монеты 471—472,476—481, 488-494, 552
~ и налогообложение 522, 533, 540, 552
~ без перечеканки (301 г.) 478, 479 сноска 9, 485, 490—491, 494 ~ порча монеты без официального объявления о девальвации 494 ~ и тезаврация 510—512 Девельт 800
Дейр-Али (Лебада) 807 сноска 31 действующий вместо легата (agens vice legati) 150-151, 201 декадарх 426—427
декапротия, форма литургии 412, 464, 466, 520
декреты 242, 243—244, 246, 441 Дексипп Афинский 65, 87, 269, 279 Декуматские поля (Agri Decumates) IGd, 33, 46, 72, 142, 148, 273 декурионы — см. куриалы деликт 234
делопроизводитель, подклеиватель листов (glutinator), должностное лицо 440 Дельфы IKf
~ оракул 299, 742
Деметриан, патриарх Антиохии 654 демография 171, 218 демоны, вера африканских христиан в них 788
денарий, бронзовый 485 денарий, серебряный 489
~ Аврелиана реформа 483—484 ~ в Германии 637—638 ~ девальвация при Севере 482, 492— 493
~ единица расчетная 477,478,481,487— 488, 492-493 ~ имитация 502 ~ перепггамповка 483
~ прекращение выпуска 483, 489 ~ содержание серебра 489, 492—493 ~ хождение 501
департамент «по письменным прошениям» (a libellis) 40,185,186, 244, 245
~ юристы во главе этого секретариата 230, 247
департаменты по прошениям, написанным по-латыни или по-гречески соответственно (ab epistulis, latinis или graecis) 244, 245 департамент, отвечающий за денежное счетоводство (a rationibus) 507 Дера’а — см. Адраха Дербент 6Еа, 658
деревенские старосты (тсрсотохсо^тос) 432
деревни (vici) 405, 431-432 деревни:
~ администрация 430—434 ~ их запустение в Египте 470 ~ иерархия 430—431 ~ литургии (государственные повинности) 432—433, 463 ~ налогообложение 432—433, 453 ~ петиции императору 431 ~ их рост в Хауране 692—693 ~ стремятся к статусу города 433, 436 ~ территориальные споры 442 деревообработка 630, 641—642, 642, 643 деревья, священные 766, 768 Дерна — см. Дарнида дети 600 Деульт 1Le, 291
Дециан, наместник Нумидии 151 Деций, император (Гай Мессий Квинт Деций) 55—57, 935—936 ~ происхождение 55, 304 ~ усмиряет Мёзию и Паннонию 55— 56, 936
~ мятеж и восшествие на престол 55— 56, 82, 296, 935
~ изгоняет карпов из Дакии 55, 276, 277
~ узурпация Валента 56, 936, 938
ДИО
Указатель
1101
~ кампании против Книвы 56, 276, 277, 936
~ смерть 57, 277
*
~ внутренние проблемы 56 ~ героизм 269 ~ монета 56, 483
~ Понт и Галатию объединяет 328 ~ в провинциях 341 ~ и сенат 296
~ сьшовья как коллеги 197, 936 ~ титул «Траян» 56 см. также гонения на христиан (Де- ций)
Джазима, вождь племени танух 281— 282
Джауф 8Вс, 692, 693, 706 Джебель-Араб 693 Джебель-Друз 1Ng, 8ВЬ, 693, 705 Джелфа 1Fg, 313, 399 Джиджен — см. Эск джинны (арабские неперсонифициро- ванные божества) 690 Джонс, Арнольд Хью Мартин 8, 435— 436
Ди 793 сноска 5
Диадумениан, Марк Опеллий 36 Диана (богиня) 746, 751 Диана (Караташ) 1Ке, 315, 370 Дибси-Фарадж JNf, 320 «Дигесты» Юстиниана, флорентийский индекс к ним (Index Florentinus) 253
«Дидаскалия апостолов» (Didascalia Apostolorum) 882, 884
Дидий Север Юлиан, Марк 190 сноска 67, 190, 930
Дидима, оркул Аполлона здесь 112, 732, 741, 742, 752
~ и гонения на христиан 862, 878 ~ предписание почитать «всех богов» 720, 768
дидрахма (налог) 523 Диерна (Оршова) 1Ке, 291, 370 Дижон IGd, 316
Димитрий, египетский епископ 857 Димум (Белене) 377
династический принцип 80, 173—174, 176-177, 197-198, 213 Диоген, Марк Аврелий, префект Египта 90
диойкеты (египетское должностное лицо) 465
Диоклетиан, император (Марк Аврелий Гай Валерий Диоклетиан, изначально Диокл) 90—116, 942-945
~ происхождение 92 ~ восшествие на престол 8, 78—79, 92-93, 942
~ разгром Карина 79, 92, 942 ~ назначает Максимиана в соправители 8,93-94,213,942 ~ период 286—292 гг. 94—98 ~ кампании на западе империи 96—
97, 284, 942, 943
~ кампании на востоке империи 97, 942-943
~ встреча с Максимианом в Милане
98, 297, 943
~ создание первой тетрархии 8, 93— 94, 99-103, 213, 943 ~ период 293—305 гг. 103—114 ~ кампании на Дунае 97,105, 284,943 ~ кампании на востоке империи
105-108,281, 323, 655,656, см. также Нарсес I (римские кампании против него; договор с Римом)
~ подавляет восстание в Египте 107, 944
~ внутренняя политика — см. экономические меры ниже, и гонения на христиан (Великое)
~ болезнь и сложение полномочий 113, 213 сноска 2, 944 ~ смерть 114
*
~ администрация 227 сноска 34, (реформы) 115, 204, 212, 214, 216-224, 224-225, 251-252, 417, 438 сноска 124, 537-538, 550, 607, (см. также провинции ниже и налогообложение)
1102
Указатель
ДИО
~ и арабы 708
~ и Армения 281, 506, 507, 655—656, 682, 943
~ и Британия 329
~ вдова пострадала во время Консгшь тиновой чистки 878 ~ всаднические должности 202 ~ и Галерий 99, 106—107, 113, 213 ~ границы, их организация 154, 218, 224,281-284, 322-326, (на востоке империи) 281, 656, 658, 682, 708, (в Египте) 108, 460, (дороги) 159—160, 311, 322, 708
~ и Дидимский оракул 742 ~ и евреи 662
~ законы 106,249,249—250,943, (эдикты — см. «Эдикт о денежном обращении» и брак; цены), (см. также рескрипты ниже) ~ «Иовий» как эпитет 95—96, 102, 214
~ Италия теряет особый статус 224, 225
~ Константин продолжает его политику 132-133, 140, 154, 165, 863 сноска 143
~ монетарная система 220—222, (см.
также под словом монета)
~ моральный климат при нем 861— 862
~ панегирик из Оксиринха 90 ~ перемены в течение его правления
5-116
~ и Персия 97, 106—108, 281, 323, 655, 656, (см. также Нарсес I (римские кампании против него; договор с Римом))
~ политеизм 735, 742, 750, (государственная религия) 102—103, 215, 755-756 ~ портрет 899
~ поселение варваров в империи 276 ~ преемство ему 102, 115, 213 ~ и провинции, их реорганизация 101, 115, 202, 223-226, 312— 313, 405, 416-417, 537-538,
329—333, и налогообложение 101, 157, 223, 225, 537-538 ~ разделение полномочий 84 ~ регионализация 538, 605—606 ~ резиденции 216, 304—305, (в Сплите) 304, 572, 899
~ реквизиции золота и серебра компенсируемые 543
~ его рескрипты 249—250, 251, 257, (их образцовый характер) 115, 249, 250—251, 257, (против ма- нихеев) 106-107,111, 461, 756, 944
~ и Рим 100,216,297, (термы) 515,574, 899, 907, (перестраивает курию) 576
~ и римские традиционные ценности 111, 115 ~ семья 213
~ Сирмий как база 97, 98, 100, 105 ~ строительные программы 305,551, 574, 755, (см. также и Рим выше)
~ и «Табель о рангах» (Notitia Dignitatum) 322—325
~ и тетрархи 8, 93—94, 98—103, 213— 215
~ традиционный взгляд на него 91 ~ финансы 218—221 ~ фортификационные сооружения 159, 218, 315-316, 322, (на востоке империи) 97, 159—160, 311, 319—320, 656, (в Египте) 97, 108, (крепости) 159, 284, 311, 314, (планируемые и реальные последствия) 325, (см. также квадрибургии)
~ ценз и земля 109, 219—220, 421, 465, 526
~ церемониал 95, 98, 113, 115, 215 ~ экономические меры 109—110, 544, (см. также «Эдикт о денежном обращении»)
~ юбилей двадцатилетний 113, 297, 511, 866, 944
см. также гонения на христиан
(Великое); тетрархи, первые;
дом
Указатель
1103
«Эдикт о денежном обращении»; цены («Эдикт о ценах»); и при словах Египет; монета; налогообложение
Диоклетианова страта INg, 159,311,708, 386
Диоклетианополь 461, 394 Дион Кассий — см. Кассий Дион Дион Хрисостом 509 Дион, проконсул Африки 154 Дионис 735, 744, 779 Дионисиада 7Л4А, 5В А, 312, 320, 392, 803
Дионисий из Телль-Махре 697 Дионисий, епископ Александрии 811— 812, 836 сноска 104, 935 ~ и армянская церковь 671, 815 ~ библейская ученость 884 ~ о Валериане 849 сноска 122 ~ и Дециево гонение 834, 836 сноска 104, 843-844
~ о ев ангелизации 822 сноска 81 ~ о епископах в Египте и Пентаполе 814
~ и еретические сочинения 811—812 ~ изгнание 822 сноска 81, 850—851, 853, 854 сноска 129 ~ и коптские христиане 813 ~ о мученичестве 883 ~ «Опровержение и апология» 882 ~ об отступничестве 815, 833, 840— 841 сноска 111
~ Пасха,ее дата 885 сноска 182 ~ петиция Галлиену 857—858 ~ послания 810, 815, 833, 846—847, 886
~ трактаты и гомилии 884 ~ о Филиппе Арабе 833 Дионисий, епископ Коринфа 780, 816, 817
Дионисий, епископ Рима 937 Дионисий, финикийский христианин 807
Дионисия, александрийская мученица 844
Дионисополь ILe, 276 Диоскуры 747
Диосполь (Лидда) 7Mg, 294, 808 сноска 34
Диосполь Большой — см. Фивы, Египет Диосполь Малый 5ВЪ Диоспонт 3Fb, 331, 336 диоцезы (судебные округа) 202, 414 диоцезы, в тетрархической системе 225— 226, 537, 328-333, 943 ~ викарии 101, 225—226 ~ монетные дворы 226 ~ создание 101, 225—226, 943 см. также отдельные диоцезы Диррахий 3Db, 335 Диярбакыр — см. Амида Добер 7Ке, 280 Добруджа 2ЕЬ, 58 добыча, военная:
~ германские народы 584, 597, 623, 633, 635
~ римская 23, 475, 506, 598 ~ Сасаниды 654, 663 Додекасхен 460 Дойц 7Gc, 316
Дойч-Альтенбург — см. Карнунт докетизм, ересь 776 Докимейон, мраморные каменоломни 569
Доклея ЗЕЬ, 335
должностные лица (officia) — см. бюрократия Долиха 7Nf, 293
дома для отдыха (mansiones) 31, 34, 287, 425
доминат, его теория 403—404 Домициан, император (Тит Флавий Домициан) 245, 414, 785 Домиций Аврелиан, Луций — см. Аврелиан
Домиций Александр 576—577, 945 Домиций Домициан, Луций 107—108, 460, 465, 466, 944
Домиций Ульпиан (Ульпиан), юрист 25, 230, 232
~ авторитет 231—232, 254 ~ о должностных лицах 254 ~ об императоре и законе 40 ~ об императорских декретах 243
1104
Указатель
ДОМ
~ «Институции» 233—234 ~ казуистические труды 235—236 ~ карьера (a libellis) 230, (префект анноны) 933, (префект претория) 39,185,186,230,933, (убийство) 41, 933
~ комментарии 234—235 ~ о мандатах 242—243 ~ Модестин, его ученик 232 ~ моральные принципы 238 ~ о налогообложении 518, 522, 524, 526, 527
~ о наместниках и выборе магистратов 441
~ неоплатонизм 238 ~ «Об обязанностях проконсула» 185 ~ постклассическая переработка 256 ~ о праве как философии 238 ~ проницательность 247 ~ о христианстве 823—824 ~ «О цензах» 526, 527 ~ о языческих святилищах 752 домицилий (место постоянного проживания) 520, 521
Домн, антиохийский христианин 829 Домн, епископ Антиохии 859 Домн, паннонийский епископ 799 Донат из Каламы 865 Донатиан, африканский мученик 856 донатисты 122—123, 865, 946 ~ епископы 801
~ и Константин 122—123, 139, 859, 946
донос — см. осведомители Доньи Милановац (Талиата) 1Ке, 291, 370
дороги 146, 286—294
Отдельные дороги, viae:
~ Августова 288 ~ Аврелиева 7 Не, 288 ~ Адрианова 5ВЬ ~ Аппиева 7 Не—Je, 287, 299 ~ Диоклетианова страта 7Ng, 159,311, 708,386
~ Домициева 7Fe—Ge, 288 ~ Клавдиева Августова 7Не, 290 ~ Новая Траянова 7Ng—h, 311, 706
~ Фламиниева 7Не, 17, 288 ~ Эгнатиева 7Ke—Le, 287, 293 ~ Эмилиева 7Не, 288 ~ Юлия Августова 7 Ge
*
~ военная система 266, 307, 583 ~ и германская колонизация 624 ~ гробницы вдоль них 768 ~ источники — см. «Антонинов путеводитель», Певтингерова карта
~ магистрали между Италией и восточной частью империи 288, 298
~ в пограничной оборонной системе 266, 307, 316, 321, 322 ~ содержание их 209, 286, 301, 521, 526
~ станции на них 312, 426, (см. также дома для отдыха (mansiones))
~ и столицы, их расположение 303— 304, 305
~ транспортировка товаров по ним 583
~ тропы 583
~ Янтарный путь 7Hd—Jd, 291, 637 см. также отдельные города, провинции и регионы
Доротей Антиохийский 805, 884 Дорофей, христианин на императорской службе 867
доспехи:
~ германские 633, 634, 642—643 ~ иранские 658
дренаж заболоченных участков 563 Дренгстед 631
Дренте 630, 631; см. также Вейстер
Дробета (Турну-Северин) 7Ке, 319, 370
Дубравка 629
Дувр 7Fc, 315, 353
дуксы 350—400 повсюду, 416, 462
~ при Галлиене, всаднического ранга 150, 151, 152-153 ~ при тетрархах 157, 224, 225 ~ при Константине 164, 329 Думат аль-Джандаль/Джауф 705, 708
ЕВМ
Указатель
1105
Дунайский регион По ПРАВЛЕНИЯМ:
~ Траян 263
~ Северы 34, 263, 266, 301—303 ~ время анархии 146, 271, 273—278 ~ Максимин 46 ~ Гордиан Ш 51, 52, 934 ~ Филипп 53—54, 55, 144, 276, 277, 935
~ Деций 55—56, 276, 935—936 ~ Галл 936 ~ Эмилиан 936 ~ Галлиен 61, 64, 66, 298, 316 ~ Клавдий П 68 ~ Аврелиан 83, 276 ~ Проб 74,75,76-77 ~ Карин 77—78
~ тетрархи и Константин 284—285, 315-316, 322-324, 325 ~ Диоклетиан 98, 105, 156, 943 ~ Галерий 111, 944—945
*
~ в «Антониновом путеводителе» 287
~ варварская колонизация 285 ~ его германские народы 628—629 ~ дороги 289
~ земляные работы и фортификационные сооружения 4,284,285, 314, 315-316, 320 ~ императорские резиденции 304 ~ императоры отсюда 55, 85, 304 ~ искусство 638—639 ~ мир 628—629 ~ монета 502
~ провинциальная организация 335— 336
~ торговля с областями за Дунаем 579 ~ христианство 799, 869, 871 см. также готы; карпы; сарматы; и отдельные провинции Дунауйварош (Интерциза) 7Jd, 302, 367 Дура-Европос IPg, 6Dc, 8Cb, 382 ~ арамеи и арабы 688 ~ календарь XX когорты пальмирцев 753
~ монетный клад 502
~ перемежающийся римский и персидский контроль 52, 58, 60, 310-311, 653, 654, 699, 702, 937
~ церковные дома 805, 879—880 Дурокортор (Реймс) 1 Fd, 2СЬ, 98, 288, 565, 794
Дуросгор (Силисгра) ILe, 2ЕЬ, 291,315— 316, 377, 799 дуумвиры 420, 429, 438 духовенство, христианское 456, 595, 783-784, 801, 802 ~ гонения 852, 853 ~ пресвитеры 776, 784, 822 ~ привилегии 123, 446, 543, 549, 879 см. также епископы Душара, арабское божество 692
евангелия 778 ~ от Иоанна 782 ~ от Петра 776 ~ от Фомы 773 Евбея 800
Евелпид, христианин из Ларанды 818 евергетизм 451 ~ и аннона 423
~ и выборы на должности 450—451 ~ выгоды городов от него 547 ~ и городские кризисы 548—549, 591 ~ «дополнительное» благодетельное обещание (pollicitatio) 441 ~ императорские визиты финансируются за его счет 298, 300 ~ императоры его проявляют 515, (через законы) 430 ~ и продовольственное снабжение 549, 591
~ и состязания эфебов 469 ~ социальное давление и 442 ~ упадок 578—579
~ финансирование храмов за его счет 732
~ экономическ роль 559 Евктемон, епископ Смирны 819, 835 сноска 102
Евлогий, мученик из Тарраконы 856 Евмений из Отёна 488, 536 сноска 191
1106
Указатель
ЕВМ
Евмения, Фригия 820, 821 Евнапий 716,723-724,737 евнухи 818
Евпл, мученик из Катании 864—865 евреи и иудаизм 661—662 ~ в Азии 819
~ вавилонский Талмуд 661 ~ законы Константина о них 135, 138 ~ иудаизм 659, 661—662, 770, 776 ~ купцы в Армении 674 ~ налогообложение 523 ~ и официальная религиозная традиция 828, 836 ~ в Парфии 661 ~ в Персии 661—662, 810 ~ «Против иудеев», жанр сочинений 882
~ римское обращение с ними 662, 784 ~ в Сардах 777 сноска 16, 819 сноска 75
~ эксилархат 661, 662 см. также при слове христианство Еврипид 32
Европа (провинция) ЗЕЬ, 331, 336 Евсевий Кесарийский 9, 800, 885, 886 ~ и арианские споры 136 ~ об Армени 671, 682 ~ Буркхард о нем 137 ~ о Валериане 512 ~ о гонениях на христиан 111, 824— 825, 830-831, 857-858, 862, (палестинские мученики) 871— 874, 883
~ о Диоклетиане 91 сноска 2, 111 ~ и евреи 882
~ о жизни в Константинополе 101 ~ о Константине 118,121,132,137,138 ~ на Константинопольском соборе 135
~ о Констанцие Хлоре 552 ~ о Никейском соборе 127, 135 ~ послания Дионисия Александрийского 886
~ послания Оригена 886 ~ и сьшовья Константина 136 ~ на Тирском соборе 135 ~ учение об империи 135, 755
Сочинения:
- «Апология Оригена» 667 ~ исторические труды 87, 885 ~ «Ономастикой» 808—809, 884—885 ~ «Приготовлении к Евангелию» 882 ~ речи по случаю тридцатилетнего юбилея 138
~ речь при освящении церкви Гроба Господня 129, 135 Евсевий Никомедийский 128, 135 Евтихиан, монтанист из Смирны 819 Евтропий 87, 91 сноска 2, 94, 95 Евфрат, река 2Fc—Gc ~ ирригация 563 ~ понтоны 590 ~ поселения 434, 686 Египет 2Ecd—Fcd, 5, 457—473 ~ в контексте империи 460 ~ восстание буколов 453,457 сноска 1, 562, 568, 593
~ Авидий Кассий, попытка узурпации 457 сноска 1,459,777 сноска 17
~ при Севере 17, (административные реформы) 20, 411, 435, 459, 462—463, 468, 472, (визит Севера) 20, 246, 295, 296, 298, 300, 930
~ визит Каракаллы и резня в Александрии 34, 295, 297, 459, 576, 741, 932
~ и Александр Север 295, 459, 463 ~ при Филиппе 55, (реформы) 202, 459, 464, 468
~ при Децие 460, 834, 836, 838, 841 сноска 112, 843—844 ~ при Галлиене 63, 272, 857—858, 938 ~ готы нападают 281 ~ пальмирский контроль 69, 71, 72, 272, 273, 281, 282, 704, 939 ~ Аврелиан отвоевывает 72, 295, 460 ~ возможное восстание Фирма 272, 460
~ кампания против блеммиев 76, 942 ~ при Диоклетиане 460—461, (административные реформы) 101,
ЕГИ
Указатель
1107
224, 225, 431, 435, 464-468, 473, (армия) 323, 461, (ценз и земля, общий обзор) 421, 465, 527, (Диоклетиан здесь) 100, 107,111,295,298,460-461,944, (организация границ) 97, 108, 282, 460, (Галерий здесь) 100, 106, 295, 460, (гонения на христиан) 112, 814 сноска 58,872— 873, 874 сноска 170, (провинциальная организация) 103, 417, 461—462, 337, (подавление восстаний) 105—106, 107, 460, 465, 466, 943, 944
~ визит Константина не состоялся 461
Администрация 461-468 ~ буле 412, 425, 435, 438, 462-463, 466, 467-468
~ городская элита, новая 467,468—469 ~ Диоклетиановы реформы 101, 224,
225, 431, 435, 464-468, 473
~ должностные лица 464—465, 466— 468, (кондукторы) 372, (кураторы) 439, (эпистратеги) 461, 465, (логисты) 438, 466, (пре- позиты пагов) 291, 438, 466, (прокураторы) 470, [сж также декапротия и при слове стратеги)
~ идиолог (tSioç Xoyoç), его замена на ratio privata 463 ~ изменения IV в. 465—466 ~ магистраты 20, 451 ~ особый статус, его утрата 185, 224, 225, 457-459, 468
~ почтовая и транспортная государственная система (cursus publicus) 425
~ предыдущее развитие 182, 462 ~ префекты всаднического ранга 328 ~ провинциальная организация 103, 417, 461-462, 332, 337, (Гер- кулиев Египет) 3Ed—Fd, 5В b, 332,337, (Иовиев Египет) ЗЕс—
Fc, 5Ва, 462, 332, 337, (Меркуриев Египет) 332
~ реформы Севера 20, 411, 435, 459, 462-463, 468, 472 ~ счетное ведомство 464, 465 ~ финансы 417, 442, 465—466, 470 ~ ценз 420, 464, 526, 531, 560, 562, (Диоклетианов) 421, 465, 527 ~ центр и муниципии, отношения 438
Военная организация 267, 282, 323, 461, 467, 390-394 ~ границы, их организация 97, 108, 282, 312, 460 ~ дуксы 462
~ императорские визиты 295, 296, 457 сноска 1, 459—461, 339— 348
~ фортификационные сооружения 97, 320
Налогообложение 467, 471,523 ~ бегство крестьян от него 562 ~ ввозной сбор (portorium) 525, 528 ~ веночный налог 463, 541—542 ~ Диоклетианова реформа 464—465, 536-538
~ коллективная ответственность 472 ~ личные налоги на ремесленников 523
~ натуральные сборы 523, 539 ~ подушный налог, эквиваленты capitatio и iugatio 107, 465, 537 ~ подушный налог 408—409,465,517— 516, 523, 536
~ префекты ищут злоупотребления 531
~ привилегии и освобождение 523 ~ реквизиции на его нужды 542 ~ сбор налогов 463, 464, 467, 528 ~ при Севере 534 ~ при Филиппе 55, 202, 464 см. также лаография; наубион; и при словах аннона; Аристий Оп- тат
1108
Указатель
ЕДИ
Общество и экономика 468-473 ~ бандитизм 453, 457 сноска 1, 562, 568, 593
~ и «Герметика» 721 ~ гимнасиархи 523, 578 ~ гностицизм 782 ~ греческая культура 469, 812—813 ~ дороги 267
~ золото/серебро, соотношение 504 - земля 459, 464, 467, 470-471, 472, 546
~ инфляция 195, 491 ~ источники 11, 457—459 ~ карьеры 267, 569—570 ~ кочевники 69, 76, 282, 942 ~ «кризис», его теория 457—459, 469— 470, 472, 472-473
~ куриалы 447, 466—467, 467—468, 468-470
~ литургии (общественные повинности) 429,459,463,464,467 ~ магия 726,727-728 ~ манихеи 813 сноска 54 ~ монета 101, 459, 464, 465, 485, 487, 491, 498, 532, 593, (Вабаллата) 704
~ население 470-471, 471 ~ недоимки 530 ~ первый сенатор отсюда 459 ~ платеж немонетизированным серебром 511
~ полицейская деятельность 426— 427, 432
~ потребление 591 ~ продовольственное снабжение 441, 470
~ религия 55, 726, 729, 734, 745, 764— 765, (см. также христианство выше)
~ сельское хозяйство 470—471, 523, 563, 565, (см. также зерно)
~ стеклоделие 587 ~ стипуляция 409
~ судебное собрание в префектуре (conventus) 427 ~ транспорт 423—424
~ чума 457 сноска 1, 560, 562, 593 ~ цены 471—472, 491, 560, 592, 593
*
Христианство 473, 781-783, 805, 811-814
~ гонения, (Дециево) 460, 834, 836, 838, 841 сноска 112, 843-844, (Валерианово) 852, (Великое) 112, 814 сноска 58, 872—873, 874 сноска 170
~ епископы 781, 821, 822, 874, 886 ~ ересь 811
~ в сельской местности 812—813 «единосущий», полемика о слове 127 единство империи 214, 590, 604—609 ~ и налогообложение 476, 515—519, 552, 590 Елен Тарский 814
Елена, мать Константина 96, 128—129, 586, 947
~ паломничество в Святую землю 128-129, 947
Еленополь, Вифиния 136
Елеонская церковь, Масличная гора 128
епископы:
~ гонения на них 790, 874, 879 ~ донатистские 801 сноска 15 ~ значение 789, 790 ~ наставления пастве 719 ~ и пресвитеры 773, 774, 780 ~ роль в городах 836 ~ хорепископы 805,814,815,818,819, 822
см. также синоды епископов, отдельные имена и отдельные кафедры
Епифания 814 сноска 57 ересь:
~ в Армении 672 ~ в Африке 787—788, 801 ~ в Египте 811
~ предвзятость источников против них 822, 824—825
~ «Против еретиков», жанр христианской литературы 882 ~ ортодоксальность определяется в отношении к ней 881, 882
ЗАХ
Указатель
1109
~ фригийская 778—779 ~ и церковные соборы 795, 882 см. также отдельные ереси, особенно арианство; Вардесан; маркио- нитская ересь; монтанизм
жалованье, зарплата (денежное содержание) 222, 571, 583, 590, 594; см. также при слове армия Железные ворота и теснины на Дунае Ш, 291
железо 526, 570, 640—641 жемчуга 580 Женева 7Gd, 289 женщины:
~ императорского дома 176, 177, 185, (см. также Юлия Домна; Юлия Меса; Юлия Ма- мея; Юлия Соэмида Бассиа- на; Плавцилла)
~ магические способности 726 ~ сексуальная распущенность британок 301
~ христианки 778, 787, 802, 853, 879 жерственная кровь (быка или барана) в языческих обрядах (taurobo- lium/criobolium) 743 жертвоприношения:
~ «всем богам» 757, 770 ~ герметические 721 ~ жертвенные животные 565, 734— 735
~ Константинов запрет, предполагаемый 137, 750, 758 ~ крещение кровью 743 ~ «спиритические» 734 ~ христиане, принуждение их к ним 773, 776, 827-828, (при Де- ции) 834, 835, (при Максими- не) 870, (при Диоклетиане) 111, 112, 860, 863, 867-869 ~ человеческие (возможные), у германцев 643
животные, дикие; торговля ими 580, 581
животные, домашние 559, 563, 564, 568 ~ у германских племен 632
~ тягловые и вьючные 583, 603, 604 ~ укрупнение пород 569, 632 жилища:
~ городские 206,470,557,573,598—599 ~ местные налоги на них 442 ~ и религия 746—747 см. также виллы
жнейка, жатка, жатвенная машина (vallus) 565
Жупа (Тибиск) IKd, 292, 372
Забдицена lPf, 281, 676 забдуэны 324 Завулон 808 сноска 34 займы 442
~ принудительные 551 заклинания, магические 725—726 закон (lex, leges):
~ как базовый источник права 239, 241, 243
~ «Об империи» (69 г. н. э.) 40 ~ Ирнитанский 409 ~ комментарии отдельных из них 235
~ мнение юристов, обладающее его силой 236, 239
~ общие (leges generales) 169, 257 ~ Папиа Поппея 415 ~ промежуточные судебные постановления 246
~ «Римская правда вестготов» 251 Закхей, палестинский мученик 867 заливные луга 563 залоговое право (ius pignoris) 413 заложники, царские 670—671 Зама Регия 1Gf, 450, 803 сноска 19 замок Штайн на Рейне (Burg-bei-Srein am Rhein) IGd, 315, 316 Зараи 400, 568 захоронения 557
~ германские 624—625, 627, 628, 636, 638, 641
~ ингумация заменяет кремацию 587, 748
~ надгробные памятники ремесленников 577
~ римские 577, 587, 748, 768
1110
Указатель
ЗАЩ
~ христианинские 136, 820—821, [см.
также некрополи; саркофаги) см. также некрополи; саркофаги защитник народа (defensor plebis) 437 сноска 120 Зевгитана 332
Зевгма (Каркемиш) 1Nf, 52,293,310,581, 582, 382
Зевс, александрийский мученик 844 Зевс, его культ 740, 745, 750, 755 ~ (Х)Аммон, в Триполитании 765 ~ Бенниос, в Вифинш^Фригии 733 ~ Спаренных Дубов 738 Зела 817
Зеландия 636, 637, 638
~ княжеские гробницы 636 земельный сбор (gleba, collatio glebalis), налог 542 землевладельцы:
~ императоры как главные 516,603— 604
~ их интересы доминируют над интересами городов на западе империи 454
~ и инфляция 595—596 ~ и крестьяне 601—604 ~ и набор воинов 160—161, 217 землемеры (gromatici), их сочинения 514; см. также Гитин землетрясения 305, 576, 736, 765
~ христиане обвиняются в них 815 сноска 62, 824, 831—832 земля 601—604
~ брошенные поля (agri deserti) 470— 471
~ вектигальные поля (agri vectigales) 514 сноска 102 ~ давление на нее 559—560 ~ площади под культивацию 559, 604 ~ и повинности (munera) 519—521 ~ приватизация 472 ~ прикрепление крестьян к ней 595— 596, 601-604
~ цензовая инспекция 421, 466, [см.
также землемеры)
~ центуриации 557
см. также поместья, императорские; землевладельцы; аренда земельных участков; сальтусы; и при слове налогообложение земляные линейные сооружения 283— 284, 285, 308-309, 321 Зенд (комментарии и толкование к Авесте) 661
Зенина 1Fg, 313
Зенобий, пресвитер Сидона 807
Зенобия Пальмирская 703—704
~ как опекун Вабаллата 66, 273, 938 ~ и Галлиен 273 ~ Клавдий Пи 68, 69 ~ территориальные завоевания, (Египет) 69, 71, 72, 272, 273, 281, 282, 704, 939, (Сирия, северная Аравия и Малая Азия) 69, 72, 273, 704, 939
~ узурпация против Аврелиана 460, 696, 704, 940
~ разгромлена Аврелианом 72, 272, 273, 460, 679, 680 сноска 76, 696, 940
~ пленница Аврелиана 73, 696, 704, 940
*
~ монета 495 ~ и танух 281
Зенофил, протокол проводимого им расследования 428 сноска 84, 865, 866 сноска 152, 868 сноска 157
зерно 563, 564, 565—566
~ африканского производства 204, 545, 557, 565-566, 576, 583, 604
~ германского производства 632—633 ~ египетского производства 272, 523, 539,545,565—566, 566, (поставки перенаправлены с Рима на Константинополь) 471,515,545, 565, 576, (земельный налог, уплачиваемый в натуральной форме) 523, 539 ~ запрет вывоза 526
игн
Указатель
1111
~ набатеи и его экспорт 694 ~ налоги и арендная плата, уплачиваемая им 522, 523, 530, 539, 545, 565
~ его раздачи, (в Риме) 192, 204—205, 515, 540, 565, 576, 580, 581, (другие города) 469, 565—566 ~ сицилийского производства 557, 565-566, 576, 583
~ снабжение городов 545, 565—566, (Константинополь) 131, 471, 515, 545, 565, 576, (Рим) 55, 64, 69, 72, 565, 576, (см. также раздачи выше)
~ транспортировка 204, 566, 583, 590 ~ цены 565, 590, 592, 594 Зиерикзее:
~ алтарь богини Нехаленнии 585 Зинга, в Атропатене 682 злаки — см. зерно золото:
~ германские шейные кольца 638,639 ~ горное дело 508, 570 ~ Константин перераспределяет 596 -медальоны 511
- налог, уплачиваемый в нем 471,
530, 533, 541—544, (см. также веночное золото)
~ его обработка 417—418, 542, 577, (у германцев) 638—641 ~ слитки 471
~ соотношение к серебру 479 сноска 9, 481, 493-494, 504, 505
- как средство сбережения 594
- как стандарт 477, 504, 594—595, 596
- цена 220—221, 417—418, 479 снос¬
ка 9, 543
- экспорт его в Индию 663 см. также при слове монета
золото (aurum), вид налога 530
- дарственное золото (oblaticium) 542
- коронный сбор, веночное золото
(coronarium) 463, 541—542
- пятипроцентное золото (vicesima¬
rium) 524
- рекрутский сбор 160—161, 217 Зонара 87
зороастризм:
~ Авеста 661
- в Армении 671
- как государственная религия 646,
656, 659, 662
- и евреи 659, 661—662
- и идентичность 662
- иерархия 646, 659
- коронационные церемонии 650,
651
- и манихейство 660, 661, 810, 859 ~ в Парфии 646
- право и суд 665
~ привлекательность для римлян 716
~ при Шапуре I 652
- при Шапуре П 656
~ и христианство 659—660, 662, 810 см. также Картир
Зосима из Панополя, алхимик 722, 728 Зосима:
- о девальвации Аврелиана 490—491
- о Диоклетиане 157, 322
~ о Константине 117 сноска 1,131—132, 132, 154, 547, (пограничная и военная политика) 165, 322
- о «кризисных» годах 87
- о налогообложении 514, 543
Иаков, апостол 773
Иаков, нумидийский мученик 856
Иберия (Кавказ) 1Ре, 675
- в I—П вв. 266
~ персидское вторжение 675
- зависимое от римлян царство 108,
324, 675, 682
*
- Аршакиды 675
- горное дело 570
~ оборона кавказских перевалов 310
- христианство 675 Ивердон — см. Эбуродун Игел, близ Трира 768
Игнатий, африканский мученик 830 Игнатий, епископ Антиохии 775, 776, 783-784, 785, 790, 819 ~ и мученичество 775, 776, 785
1112
Указатель
ИГР
игры:
~ на десятилетний юбилей Севера 20-21
~ Капитолийские, в Оксиринхе 90, 469
~ Столетние (204 г.) 21, 931 ~ субсидирование 515, 548 идеология, имперская 207
~ визуальное выражение 124, 587, (и отсылки к прошлому) 901,924 см. также тетрархия, первая (иконография; идеология) идиолог (iSioç Xoyoç) 463, 465 идумеи 686 Идумея 8ВЬ, 693
Иерак, египетский аскет 813 сноска 52 Иерихон 808 сноска 34 Иероним 746, 808 сноска 33 Иерусалим (Элия Капитолина) 2Fc, 8ВЬ, 387
~ разрушение Титом 772 ~ христиане 808, 842 ~ церкви 129—130, (Гроба Господня) 129, 135, 810, 814-815, 947 избранный для исправления положения дел в Италии, титул (electus ad corrigendum statum Italiae) 210-211
издольщики 600—601 Измит — см. Никомедия Иконий 62, 820
Илариан, прокуратор 27, 826, 827—828 Илариан, юный карфагенский мученик 866 сноска 153
Илибберида (Эльвира), поместный собор 795 Илион — см. Троя
Илия, египетский мученик 872 сноска 167
Иллер, река, как граница 283 Иллеруп, вотивный депозитарий 634, 642-643
Иллирик:
~ германские нападения при Севере Александре 42
~ Галлиен, его кампании 61, 65, 275, 298, 316, 938
~ смерть Валериана П 937
~ аламаннское вторжение 937 ~ восстание Ингенуя 61—62,147—148, 298, 937
~ Макриан убит здесь 938 ~ при Лициние 535 ~ снабжение армий 424 Иммы 704
«Императорская история А. Энмана», (нем. «Kaisergeschichte»), гипотетическая 87, 199 сноска 9 императорская семья 176—177 императорский дом — см. августейшее семейство
императорский культ 732, 746—747, 750, 759, 764
~ и христианство 750, 779, 835 императоры 166—172
~ апелляции к ним 88, 408, 411, 531 ~ баланс между властью принцепса и властью народа (populus) 179— 180
~ вмешательство во внутренние дела италийских общин 208—210 ~ всаднического ранга 35, 86 - и гонения на христиан 823—824,831 ~ «дары» и «щедрость» как риторические фигуры 410, 430, 531 ~ доминат 403—404 ~ как землевладельцы 14, 516, 603— 604, (см. также поместья, императорские)
~ и искусство и архитектура 889, (портретные изображения) 890, 895, 899, 902-904, (см. также при отдельных императорах), (отссылки к прошлому) 901, 924
~ личная природа принципата 80— 81
~ отсутствие непрерывности 24, 168 ~ и право 40, 174—175, 180, 230—231, 249, (см. также конституции; рескрипты)
~ и провинции 286—307, 407—408, 410—411, (визиты) 295—303, 339-348, 423-424
~ реактивный характер правления 169-170
иол
Указатель
1113
- смешение публичного и частного 174-175
~ топос об императорской скромности 907 сноска 40 ~ финансы 516, 545, 550—551 ~ церемониал 516, 587, 598 см. также отдельных императоров, августейшее семейство; въезд в город (adventus); дворцы; идеология, имперская; императорский культ; консилиум при императоре (consilium principis); обожествление; поместья, императорские; легитимация; наследование императорской власти; петиции; юбилеи; и при словах армия; города; евергетизм; политеизм; Рим; сенат; скульптура
империя:
~ устойчивость 84, 142 ~ христианское учение о ней 755 импортозамещение 587, 591, 605, 636 Имру-ль-Кайс 282, 708—710 имущественные налоги (intributiones), уУльпиана 518
Ингенуй, александрийский мученик 844 Ингенуй, наместник Паннонии 61 ~ его восстание 61—62, 147—148, 298, 937
Ингилена 676 ингумация 587, 748
индивидуальное и коллективное 889, 892, 899, 902-903, 905 Индийский океан, торговля 579, 581, 605
индикция (indictio), пятнадцатилетний податной период 467
Индия:
~ апостол Варфоломей и 810 сноска 46
~ римские монеты и золото здесь 509, 663
~ торговля 525, 581, 584, 604, 646, 663 инженерное искусство — см. фортификационные сооружения; гидротехника; машины, военные иночество, армянских христиан 672
Инсбрук (Понс Эни) 289 инструменты 557, 623 инсубры 288
инсулы (многоквартирные дома) 557 ~ сдаваемые в аренду 206 интеллектуалы и религия:
~ манихейство 661 ~ христианство 725, 756, 817 ~ язычество 713—714, 724, 725, 756, 768
интенданты, «примипилы кормления» (pastus primipili) 424 Интер амна 59
Интерциза (на Апеннинах) 288 Интерциза (Дунауйварош) 7Jd, 303, 367 Интилена 1Nf, 281 инфляция 488—494
~ Аврелианова монетарная реформа ее вызывает 102, 219, 220, 221 ~ при анархии 102, 270 ~ и армия 550
~ и девальвация монеты 471—472, 488-494
~ Дион Кассий не осознает ее результатов 545 ~ и долги 595—596 ~ в Египте 491
~ и Константинова политика 223, 471-472
~ после «Эдикта о ценах» 109—110, 221-222
~ последствия 85, 592, 595, 595 ~ северовское сдерживание 195 ~ при тетрархах 110, 221—222 Иоанн Богослов 776 Иоанн Лид 134, 157 Иоанн Старец 776 Иоанн, его апокриф 774 Иоанн, «Первое послание» 776 иобакхи, афинские 719 сноска 14 Иовиевы и Геркулиевы, эпитеты:
~ армейские подразделения 94, 155, 162
~ тетрархи 95—96, 99, 102—103, 214— 215, 485, 755
~ части провинций 94, 103, 462 Иол-Цезарея (Шершель) 1Ff, 2Сс, ЗСс, 294, 922 сноска 81, 337
1114
Указатель
ИОН
Ионополь 817 Иосиф, Флавий 514 Иотапиан, Марк Ф<ульвий?> Ру<ф?> 55, 935
Иотапиан, его узурпация 55, 935 ипподромы 574 ~ Аквилея 306 ~ Византий 575 ~ Константинополь 131, 134 ~ Сирмий 304 ~ Трир 306 ~ Фессалоника 304
Ипполит, святой 784, 793, 830, 882, 884, 885 сноска 182
~ «Апостольское предание» 884 ~ греческий язык 784, 797 ~ «Хроника» 885
Ираида, александрийская мученица 826 Иракл, епископ Александрии 811—812 Ираклид, александрийский мученик 826 Иран, иранцы — см. Персия Иргенхаузен IGd, 320 иренархи 426, 432
Ириней, епископ Лиона 784, 789, 793, 793, 794
~ о примате римской церкви 784, 786
Ирландия Юс, 283 Ирни, надпись отсюда 448 Ирон, александрийский мученик 826, 844
ирригация 312, 471, 563, 601, 690 Исаврия 3Fc, 75, 323, 818-819, 332, 337, 941
Исбунта 803
Исида 303, 741, 744, 760, 764, 770 ~ образ в ларариях 746—747 ~ уподобляется римским богам 713, 746
Исидор, александрийский мученик 844 Исидор, ученик Василида 782 Иска (Карлион) 1Ес, 2Ва, 309, 352 искусство и архитектура 11,887—925 ~ абстракция 887, 890, 895—899, 921 ~ армянское 671
~ архитектурное пространство и его украшение 901, 914—924
~ германское 638—641 ~ дунайское влияние 638—639 ~ натуралистическое и схематическое 890-893, 894-895, 895- 899, 900, 924-925 ~ неоплатонизм 889 ~ образы богов, эволюция 735, 767 ~ и общество 888—889, 901 ~ общий обзор 889—901 ~ отдельные виды и группы 889—890, 895-899
~ переходный характер 887—888,895, 899, 901, 924-925
~ покровительство со стороны Галли- ена 64
~ политеистические темы 747 ~ и придворный церемониал 889, 890
~ прошлое, отсылки к нему 900, 901, 909, 924
~ региональные отличия 901,914—924 ~ северовское 893—895 ~ экономическое и политическое влияние 889, 901, 906, 914 ~ эллинистическое влияние 899, 920, 925
сж также скульптура; строительство; при отдельных императорах и при словах политика; тетрархи, первые; христианство ислам 659, 728
Исни (Вемания) lHd, 315, 319, 360 исокапроты 520
Испания (Ближняя) Тарраконская 327, 328, 330, 363
Испания Новая Ближняя 328 Испания:
~ в Галльской империи 64, 68, 271 ~ мавретанские вторжения 268, 570 ~ изоляция во времена анархии 271 ~ Максимиан здесь 100 ~ кампания Максимиана 105, 295, 943
*
~ амфоры 193, 566, 583 ~ войсковая организация 156, 324 ~ горное дело 507—508, 570 ~ дороги 287, 288
ИТА
Указатель
1115
~ Ирни, надпись отсюда 448 ~курии 448 ~ монета 500
~ провинциальная организация 327, 328, 330, 335, 363 ~ религиозный синкретизм 741 ~ сельское хозяйство 570 ~ торговля 534, 605 ~ франки здесь 271, 570 ~ христианство 789, 794—796, (гонения) 837 сноска 107, 844, 856, 865,866
см. также отдельные места и Бети- ка; Испанский диоцез Испанский диоцез ЗВЬс—СЬ, 225, 226, 330, 332, 335
~ Мавретания Тингитана в его составе 282, 330, 332 Исс /А/, 17, 293, 930 Истахр 6Fc, 651
«История Августов» («Сочинители истории Августов», Scriptores Historiae Augustae) 9, 13 сноска 1 ~ Александр Север, о его правлении 38,39
~ об Армении 668, 680 ~ биографии 87, 168, 211 ~ о гонениях на христиан 828 ~ Дексипп, его материал в ней 87 ~ об италийском праве для Лепты 567 ~ о четырех консулярах 209 историография:
~ армянская национальная 668 ~ христианская 885 см. также отдельные писатели и сочинения
источники 8—11, 87—89; см. также отдельные источники и при названиях отдельные мест источники водные, священные 766, 767, 768
Исхирион, египетский мученик 844 Италийский диоцез (dioecesis Italiciana) 330, 333
италийское право (ius Italicum) 208, 517, 518, 567
Италика, бронзовая таблица отсюда 548 сноска 245 Италия 2Db—c
~ императорские инновации по отношению к ней до Севера 208— 210
~ при Севере 25, 28, 29, 327, 930-931 ~ при Каракалле 210—211 ~ угроза от дунайских племен 147 ~ чума (248—251 гг.) 57 ~ при Галлиене 64—65, (германские вторжения) 62, 70, 147, 274, 275, 597, 936, (Макрианы и Квиет угрожают) 64, (чума) 938
~ Клавдий II и германская угроза 67, 69, 274, 939
~ Аврелиан отражает захватчиков 70, 72, 83, 274-275, 940 ~ германская угроза при Пробе 75 ~ тетрархические реформы 224, 225, 432
*
~ администрация 25, 185, 189, 208— 212, 225, 333, 438-439 ~ алиментарная программа 209 ~ варварские поселения здесь 285, 324
~ войсковые подразделения здесь 23, 26, 28, 30-31, 39, 145, 178— 179, 321
~ гидротехника 563—564 ~ города 573, 578 ~ императорские поместья 14 ~ Клаустра 317 ~ купцы 585 ~ куриалы 446
~ освобождение от налогов 28, 517, (упразднено) 193, 211, 225, 431, 519, 536, 552
~ почтовая и транспортная государственная система (cursus publicus) 209
~ правосудие 209—210, 332 ~ в правящем классе ее представители более не доминируют 208
1116
Указатель
ИТА
~ присутствие императоров 339—348 ~ провиндиализация 185, 193, 208— 212, 212, 224, 225, 327, 338 ~ продовольственное снабжение 64, 605, [см. также Рим (снабжение))
~ разбой 28, 210, 568, 931 ~ регионы 211—212, 224, 225, 327, 332
~ христианство 783—786, 797—799, 844, 846, 866, [см. также при слове Рим)
~ чума 57, 938
~ экономика 568—569, 573, 578, 604, 605
~ res или ratio privata 25 см. также отдельные города и при слове мозаики
Италия: диоцез 225, 226, 333, 338 ~ Пригородная и Продовольственная 333
итурейцы [иначе итуреи) 690, 708
иудаизм 659, 661—662, 770, 776
Иулианос Евтекниос, лаодикейский купец в Лионе 585
Ихтиман (Сукци) перевал 1Ке, 292
о
Йемен 584
Йорк (Эборак) 7Ес, ЗВа, 352 ~ Север здесь 22, 296, 931 ~ смерть Констанция 303, 945 ~ Константин провозглашен Августом 117,945
*
~ как возможная столица 328, 329, 334
~ дорога 289 ~ епархия 792 ~ жилища императоров 303 ~ легионная база 309, 328 ~ полигональные башни 318
Йотвата (Ад Дианам) (При Диане, Ad Dianam) 7АЛ, 312, 320, 388
Кааба Зороастра — см. Накш-и-Рустам
Кабриер-д’Эг 568
Кавачик 529 сноска 164 Кавказ 7Pe—Qe, 7Ea—Fa, 266, 310, 658, 663, 666-668, 675
~ оборона перевалов 266, 272, 310, 666, 675
кадастр, Оранж 557 Кадис (Гадес) 7Df, 288, 752 Кадм, епископ Боспорский 800 казначеи (tabularii), гражданские чиновники 417, 528
Кайзераугст (Кастра Раураценсе) 316, 358
Калабша (Талмис) 5Вс, 743, 770 Каламона 387 каледонии 22, 263 календари:
~ Дура-Европос 753 ~ папский 830
Калеподий, римский пресвитер 830 сноска 92
Каллатис 7Le, 276
Каллиник (Ракка) 7Nf 7Db, 106—107, 281, 310, 383
Каллист, Папа 784, 83Q сноска 92 Каллисграт, юрист 234, 254 Кальяри 796
Камбодунум (Кемптен) 7Hd, 315, 360 каменоломни 267, 557, 570, 586—587 каменыцики, перехожие 586 камни:
~ декоративные 569—570, 586—587, 590
~ драгоценные и полудрагоценные 580, 639
Кампания, регион 3Db, 212 сноска 60, 333, 338, 363
Кампона (Надьтетенты) 7Jd, 285, 367 канабы 405, 433 каналы 305, 523 Канафа 8ВЬ, 691 Кандид, Тиберий Клавдий 17 Кандидиан, сьш Галерия 100 сноска 37 Кандидиана (Малак Преславец) 377 Каннабауд, вождь готов 281 Каноза 588
кантабрийцы 144 сноска 10
КАР
Указатель
1117
Канузий 7Je
~ муниципальный список отсюда 446, 447, 448, 450 Капаркорна 387
Капелиан, наместник Нумидии 48 Капернаум 807
Капитолиада, ее епископ 808 сноска 34 Капитолийские игры, Оксиринх 90, 469 капитул (capitulum), фискальная единица 217, 429, 541
Каппадокия 1Nf, 2Fb—c, 3Fc, 6Cb, 7Db ~ Валериан здесь 60, 598 ~ военная организация 310, 379—381 ~ готское пиратство 74, 815 сноска 62 ~ Иотапиан, узурпатор 935 ~ персидские вторжения 42, 58, 271, 272, 654, 679
~ провинциальная организация 327, 331, 336
~ христианство 672, 805, 814—815, 829, 831-832 Капса 837 сноска 107 Капутцилани 400 Капуя 844
Кар, император (Марк Аврелий Нуме- рийКар) 77-78,942 ~ кампания против сарматов и ква- дов 78, 942
~ персидская кампания 78, 272, 281, 655, 680, 942 ~ смерть 78, 92 942
*
~ децентрализация 77, 84, 86 ~ мобильная полевая армия 86 ~ монета 480 сноска 12 ~ в провинциях 297, 343 ~ разделение власти 77, 84 ~ рескршггы 250
~ Рим теряет при нем статус 77, 86, 297
~ и сенат 77, 86
караванная торговля 581—583, 646, 690, 693-695
~ набатейская 692, 694 караванные города 646, 657—659, 683— 684
Каракалла, император (Марк Аврелий Антонин) 30—35, 903, 930— 932
~ рождение 19 ~ как Цезарь 18—19, 174, 930 ~ как Август совместно с Севером 20, 11, 138, 531, 930 ~ в Британии 21—22, 263, 263, 295, 303
~ совместное правление и убийство Геты 30-31, 33, 175, 296, 297, 739, 931
~ северные кампании 33—34, 274, 276, 296, 623, 931
~ в Египте 34, 295-296, 297, 459, 576, 741, 932
~ восточные кампании 34—35, 267, 287, 296, 297, 697, 700, 932 ~ захватывает Эдессу 296, 300, 658, 697
~ и Эмеса и Пальмира 690, 701 ~ убийство 35, 267, 300, 745, 932
*
~ администрация 32,210,210—211,406 ~ и Александр Великий 34, 299, 459, 739, 744, 745 ~ и Антиохия 408, 517 ~ и «Анггонинов путеводитель» 287 ~ и Армения 34, 266, 670, 671, 677— 678
~ и армия 23, 30—33, (он благоволит ей) 31, 36, 178, 551, (рост жалованья) 35, 193, 301, 540 ~ Банаса, надпись отсюда 522 сноска 133 ~ брак 21, 43
~ и гладиаторские бои 32, 917 ~ гонения на христиан 829 ~ и гражданство — см. «Антонинова конституция»
~ законодательная деятельность 32, 240
~ кораблекрушение 33 ~ монетные дворы 495 ~ налогообложение 31, 440, 518, 529— 532, 534
1118
Указатель
КАР
~ образование и культура 32 ~ петиции к нему 300, 440, 529 ~ и Плавциана смерть 28 ~ политеизм 299, 744, 751, 757,
(и лечебницы-святилища) 732, 739-741, 745, 751
~ портретные изображения 902 сноска 22, 903, 903 ~ правосудие 31, 32, 414 ~ и принципат традиционный 32 ~ в провинциях 340 ~ прозвище 33
~ и Рим 296, (см. также термы ниже) ~ родословная 926 ~ салютации и титулы 33 ~ и сенат 31, 240
~ термы в Риме 205,206,515,574,895, 907, 916, 917
~ худородные люди, их назначение на важные должности 31 ~ экпансивность и непоследовательность 31, 31 см. также монета
Каралы (Кальяри), Сардиния 2Сс, ЗСс, 338
Каранис 5ВЬ, 422
Караташ (Диана) 1Ке, 315, 370
Караузий:
~ дукс Бельгики и Арморики 95, 157 ~ восстание 95, 96—97, 625, 942—943 ~ правление 283, 295, 329 ~ кампании тетрархов 96—97, ЮЗ- 104, 943
~ убийство 104, 943
*
- монета 96, 103, 499, 507, 905 Карворан 770 Кардуена 281
Карен (парфянск знатная семья) 652 Кариафа — см. Кариафаим Кариафаим/Карайафа (KocpuxGaeip/Kot- paiàGa) 803, 809 сноска 37 Карин, Марк Аврелий, император 77, 78-79, 92, 942
~ в провинциях 77—78, 297, 344 ~ рескрипты 250 Кария ЗЕс, 819, 331, 336
Каркемиш — см. Зевгма Карлайл (Лугувалий) 289 Карлеон (Иска) 1Ес, 2Ва, 309, 352 «Карнамак» («Книга деяний Ардашира, сьша Папака») 648, 651 Карнунт (Дойч-Альтенбург) 7Jd, 2Db, 289, 291, 303, 406, 760, 365 ~ совещание тетрархов 114, 119, 945 Карпократ, ученик Василида 782 Карпоу на реке Тей 1ЕЬ, 22, 263 карпы 4
~ кампания Каракаллы против них 276
~ кампании Гордиана Ш 52, 276, 277, 934
~ победа Филиппа над ними 53—54, 144, 276, 277, 935 ~ возобновление нападений 54 ~ Деций изгоняет их 55, 277, 935 ~ кампании Галлиена 61 ~ кампания Аврелиана 72, 276 ~ кампания Диоклетиана 105, 276, 943
~ кампания Галерия 111, 944
*
~ поселение в империи 276 ~ как «свободные даки» 276 ~ субсидии 276, 934 Каррара (Луни), мраморные каменоломни здесь 569 Карры 1Nfy 6Cby 7Db, 8Ва
~ при римлянах 310, 696, 699, 809 ~ Ардапшр их захватывает 42,47,653, 700, 934
~ Гордиан Ш их возвращает 52, 653 ~ Шапур I их берет 60, 62, 654 ~ Оденат предположительно их отвоевывает 63, 655
Картагена (Новый Карфаген) 1Ef, ЗВс, 288, 335
Картер (Кердир), зороасгийский верховный жрец 659, 661, 669, 671, 859
~ надпись в Накш-и-Русгаме 669, 675, 810 сноска 47 Карфаген 1Hf, 2Dc, ЗВс
~ восстание Гордианов 47—48, 934
кви
Указатель
1119
- мятеж Сабиниана 935
~ кампания Максимиана 105, 282 ~ Руфий Волузиан грабит его 576 ~ Константин отстраивает 576
*
~ гражданский статус 406, 433, 337 ~ дороги 288, 294, 295 ~ мозаики 599, 921 сноска 77, 922, 923
~ монетный двор 226, 500
- Небесная Богиня (Dea Caelestis), ее
святилище 753 ~ паги 433
~ снабжение водой 563—564 ~ снабжение пшеницей 576 ~ стела Сатурну 738 ~ торговля 581 ~ чума 560, 848 ~ экономическое значение 606
*
Церковь:
~ гонения, (при Северах) 826—829, (Дециево) 834, 837 сноска 107, 841, (угроза при Галле) 848, (при Валериане) 849—852,855— 856, (при Диоклетиане) 866 сноска 153
~ епископы 787, 801, [см. также Ки- приан)
~ и Константин 123 ~ монтанисгы 829 ~ церковные совещательные собрания, (251 г.) 841, (256 г.) 801 Карфагенская провинция ЗВЬ—с, 330, 335
карьерная лестница муниципальных должностей (cursus honorum) 437-438
Каср Азрак 320 Кассандрия 1Ке, 279 Кассерина (Циллий) 564 Кассиан Аатиний Постум, Марк — см. Постум
Кассий Дион 9
~ карьера 39, 41, 931
*
~ об Александре Севере 39 ~ об Армении 668
~ о буколах 562 ~ о германских племенах 621 ~ о денежном обороте 490, 497, 508 ~ диалог между Меценатом и Агриппой 208, 497 ~ «История» 933
~ о Каракалле 30—31,32—33,178,194, 305, 490, 739, 744 ~ о налогообложении 194, 514 ~ о Пертинаксе 14 ~ о Сасанидах 678 ~ о Северах 13 сноска 1, 168 ~ о Септимие Севере 16, 18, 22, 24, 178
~ финансовые предложения 518—519, 545, 551
~ об Элагабале 37, 305 ~ о Юлие Домне и о супруге Аргентококса 301
Каст, африканский мученик 845 Касгабала 814 сноска 57 кастеллум (castellum), паги Цирта с таким рангом 431
Кастеллум Диммиди 1Fg, 313, 313 Касгра (Айдовшчина) IHd, 316 Кастра Регина — см. Регенсбург Касгра Траяна (Самботин) 375 Каструм Раурацензе (Кайзераугсг) 316, 358
катакомбы — см. Рим Катания 865
катафригийская ересь 778 католикосы 416, 464, 465 Кахф 1Ngy 312,320 Квадрат (Кодрат), епископ Коринфа 780
квадрибургии (quadriburgia) 159, 311, 312, 314, 319-320 квады 2Db, 54, 78, 324, 942, 943 Квартиллоза, африканск мученик 856 квасцы 584 квесторы 182
Квиет — см. Фульвий Юний Квиет, Тит квинарий (quinarius, пятак), монета 481 квинквегентианы (Quinquegentiani) 105, 282
Квинт, карфагенский мученик 827 Квинтасий, епископ Кальяри 796
1120
Указатель
КВИ
Квинтилл, Марк Аврелий Клавдий, император 70, 71, 297, 343, 703, 939
Квирин, адвокат фиска 415 кельты и религия 766—769, 793 Кемалийе (Мендехора) 529 сноска 164 Кемптен (Камбодунум) IHd, 315, 360 кенны 33, 34 сноска 42 Кенофрурий ILe, 73, 300 керамика 556—557
~ африканская 566—567, 604, (краснолаковая) 604
~ галльская 587, 604—605, 636 ~ германская 640
~ импортозамещение 587, 604—605,
636
~ римский экспорт 583, 590, 625, 628 ~ сельское производство 577 см. также амфоры Кердир — см. Картир Керкира 797
Керковитсай (Секуриска) 377 Кефро 822 сноска 81, 850, 853, 854 сноска 129
Кёльн (Агриппинова колония) Юс, ЗСа, 306, 334, 354
~ Галлиен обосновывается здесь 273, 298, 625, 937 ~ дороги 289 ~ епархия 793, 794 ~ монетный двор 499, 503, 638, 937 ~ мятежи 76, 274
~ ремесленная продукция 587, 636,
637
~ строение дворцового типа 303 ~ убийство Викторина 940 ~ фортификационные сооружения 284, 315, 316, 318, 354 Кибалы, битва при них 117, 122, 946 Кибела 743, 760, 763, 779; Целестида (Небесная) 770 Кибисгра 815 сноска 61 Кизик 1Le,3Eb, 279,336
~ монетный двор 226, 499, 500 Киликийские ворота 1Mf \ 17 Киликия 7М/-А/, 2Fc, 3Fc, 6ВЪ ~ готское пиратство 74
~ персидская оккупация 272, 654 ~ провинциальная организация 201, 327, 332, 337
~ развертывание вооруженных сил 381
~ христианство 805, 814, 872 сноска 167
Киос 279
Кипр mf-g, 2Fc, 3Fc
~ восстание, подавленное Далмаци- ем 135
~ горное дело 570, 797 сноска 8 ~ готские набеги 280 ~ мозаики 917
~ провинциальная организация 327, 332, 337
~ христиане 797
Киприан, епископ Карфагена 9, 841, 935 ~ первый суд и изгнание 849, 851— 855, 937
- новый суд и казнь 855—856, 937
*
~ о бесплодии земли 507 ~ видение 856 ~ о галльской церкви 793 ~о гонениях 830, 834, 845 ~ жанры его сочинений 88, 881, 883, 884,886
~ об испанской церкови 794—795 ~ и крещение еретиков 801 ~ литературное дарование 801 ~ об отступничестве 835 сноска 101 ~ Понтий, «Жизнеописание Киприа- на» 883
~ послания римским христианам 847 ~ его почитание 856 ~ об эпидемии 560
Кирена IKg, 2Dcd—Ecd, ЗЕс, 69, 294; см.
также Киренаика (и Крит); Крит и Кирена (провинция)
Киренаика (и Крит) 294, 312—313, 337 см. также Крит и Кирена
Кирман 6Gc, 652
кирпичное и черепичное производство 577
Кирр INf, 310, 538
Китай 285, 581, 584, 586, 589, 663
кол
Указатель
1121
Кифрин 1Pg, 310
Клавдиева гора, Монс-Клавдианус /AfA, 5ВЬ,, 267, 570, 571
Клавдиева скала 7AfA, 5ВЬ, 267, 570, 571 Клавдий I, император (Тиберий Клавдий Нерон Германик) 245, 413
Клавдий П, император (Марк Аврелий Клавдий) 67—70, 939 ~ аламаннские кампании 274, 939 ~ и армия 67—68, 147, 153 ~ готские кампании 68—69, 81, 280, 627, 939
~ монета 71, 204, 490 ~ поселение варваров в империи 76, 280
~ в провинциях 343 ~ в Риме 67, 296 ~ и сенат 67, 70, 296 ~ смерть 70, 304, 939 Клавдий Аврелий Аристобул, Тиберий, префект претория 93 Клавдий Кандид, Тиберий 17 Клавдий Луций Герминиан 825 сноска 86
Клавдий Марин Пакациан, Тиберий 54, 833 сноска 98
Клавдий Субациан Аквила, Тиберий, префект Египта 826 Клавдий Тацит, Марк — см. Тацит Клавдий Фирм, корректор в Египте 460 Клавдия Басса, ее исповедальная стела 738
Клавенна (Кьявенна) IGd, 289 Кларос, оркул Аполлона 720, 741, 742, 768
класс, социальный: выдвиженцы из худородных 31, 37
~ социальная предвзятость литературных текстов 558 ~ социальная характеристика христиан 771, 795, 802, 822-823 см. также благородные/низкие [honestiores/humiliores) , противопоставление и отдельные classes Клевора (Михайловац) 371
клерки (казначеи, архивариусы) (tabularii) 417,528 климат 273, 564
Климент Александрийский 796, 811 Климент (Клемент) Римский 784, 785, 931
~ послания 780, 785 Клодий Альбин, Децим:
~ назначен Цезарем 15, 19, 930
~ восстание и поражение 19, 21, 23, 263, 930
~ поборники 24, 29, 406, 597, (Север карает их) 19, 189, 190, 406, 512, 597
Клодий Кульциан, префект Египта 873 сноска 168,874 сноска 170, 878 Клодий Пупиен Максим, Марк — см. Пупиен
Книва, готский вождь 56, 57, 58, 61, 277, 936
~ основа власти 277, 627 «Книга законов стран» (Сирия) 809 «Книга Пап» («Liber Pontificalis») 511 книги 131, 140, 256, 802 Кносс 797 Кобленц 565
ковши, хемморский тип 636, 639 когниционный процесс (cognitio) 249, 779-780
кодексы, правовые 250, 251—253
~ «Кодекс Гермогениана» 250, 251— 253, 255
~ «Кодекс Грегориана» 250, 251—252, 253, 254
~ «Кодекс Феодосия» 169, 171, 438, 514
~ «Кодекс Юстиниана» 168, 185, 250, 251, 514, 519
кожевенное производство 565, 568, 590, 630
Кол де Пертюс 1Fe, 288 Колбаса, Писидия 875 колесницы и колесничие 605, 623, 795 коллегии 303, 579, 582, 589—590 коллективная ответственность городов 408, 422-423, 472
1122
Указатель
КОЛ
коллетион (xoXXrjTiwv), должностное лицо (делопроизводитель?) 439-440
Коллуфион 853, 854 сноска 129 колонии, их статус 406, 407 колоны 477, 56—562, 599, 600, 602—604 Колумелла 595, 602 Колхида 1Ре, 74, 266, 308, 310 Комазон, Публий Валерий 37, 933 Комана 1Nf, 293, 815 сноска 61, 817 Комана, деревня во Фригии 820 комархи 432
комит Саксонского взморья в Британии (comes litoris Saxonici per Bri- tannias) 329
комит священных щедрот (comes sacrarum largitionum) 227, 538 комиты (comitatus и comitatenses) — см. армия
Коммод, Луций Аврелий, император:
~ его вольноотпущенники 14 ~ его имущество 14 ~ налог в золоте 542 ~ обожествление 19, 173, 174 ~ петиция к нему 602 ~ продовольственное снабжение Рима при нем 204, 542 ~ смерть 13, 8, 173, 175, 930 ~ юристы при нем 230 коммуникации:
~ медленный характер 170, 214 ~ реки и дороги и 146—147 ~ христианская сеть 798, 804—805, 885-886
см. также транспорт комплектование армии (рекрутский набор) 429-430
~ деньги взамен рекрутов 161, 217, 541
~ добровольное зачисление на службу при Северах 34, 429 ~ зачиление на службу сыновей ветеранов 160—161, 217 ~ как налог (tironum praebitio) 217, 429-430, 541
~ неримлянами 76, 161, 165, 217, 324, 584, (см. также армия, рим¬
ская (этнические подразделения))
~ при тетрархах 60—161, 217, 324 конгиарии (congiaria), раздачи римским гражданам 120, 475, 576 ~ монета вместо продуктов 483, 504, 515
~ северовские 21, 179, 204—205 кондукторы (conductores):
~ арендаторы земли 601 ~ должностные лица в Египте 372 ~ откупщики 525 сноска 146, 528, 602 ~ станционные смотрители 425 конная свита (stratores) 322 сноска 137 конница:
~ Аврелиана 144, 153, 322, 323 ~ армянская 670 сноска 14 ~ верховые когорты 145 ~ верховые лучники 143, 708 ~ высокий статус 147 ~ Галлиен, развитие при нем 147—148, 155, 201, 280, 321-322 ~ германская 633 ~ далматинская 148, 322 ~ клинья всадников (cunei) 164, 325 ~ конные телохранители (equites singulares) 163
~ мавретанская 144, 322 ~ откомандированные легионные
всадники (equites promoti) 148,
155, 162, 708
~ в полевой императорской армии (comitatus) 154
~ размеры подразделений 323 ~ римская: районы развертывания
156, 266, 280, 309, 324-325, 658
~ сарацинские всадники тамудены (equites Saraceni Thamudeni) 708
~ сасанидская 658 ~ при тетрархии 154, 156, 323 ~ тяжелая кавалерия 143 ~ увеличение значение 86, 145 ~ щитоносные всадники (equites scutarii) 148
конопля (пенька) 569
кон
Указатель
1123
консекрадия, ритуал 137 консилиум при императоре (consilium principis) 181, 185, 215, 230, 242, 246
~ избранный совет при Александре Севере 39, 41, 46, 50 консисторий (consistorium) 215 Констант, император 129, 134, 135—136, 947
Константин, Нумидия — см. Цирта Константин I, император 117—140, 944— 947
~ приход к власти 100, 114, 117, 118— 122, 944-947
~ провозглашен Августом 117, 944 ~ Максимиан признает его 117, 945 -до 312 г. 118-121
- союз с Лицинием 119,121,876—877,
946
- победа над Максенцием 120, 162,
324, 506, 946, (см. также Мулы вийский мост, битва при нем) ~ период 312—314 гг. 121—124
- разгром Лициния, единоличное
правление 8,117,119,121—122, 165, 307, 506, 575, 879, 946,
947
- правление из Константинополя
134-136
- смерть 135, 136, 684—685, 947
*
- администрация 132—133, 216, 223,
405, 437-438, 537-538, (местная и провинциальная) 416— 419, 528, 537-538
- аннулирование долгов 530 ~ и Армения 683, 684
- и армия 132—133, 154, 162—165,
324—325, 455, (comitatus) 154, 158, 162-163, 164, 217-218, 324—325, (гвардия) 163—164, 321, (набор воинов) 160—161, 165
- и Афины 758
~ и Африка 444, 563, 570, 576 ~ браки, (с Фаусгой) 117,124, 927, 945, (с Минервиной) 926, 927, 928
~ и всадническое сословие 418
- въезд в город (adventus) 297
- Геркулий как эпитет 118
- и германские народы 136, 284—
285, 626, 946, 947
~ и города 133—134, 443, 444, 547— 548, 572
- и Дафна-Консгантиниана 285, 316
- и Диоклетианова политика 132—
133, 140, 154, 165, 863 сноска 143
- Дунайский регион при нем 136,
284-285, 316, 325, 947
- и евреи 135, 138, 662
- и Египет 461
- законы 137—138, 255, 257, (об ар¬
мии) 162, 164, (о браке) 124, 137, (о прикреплении по месту рождения, origo) 562, 602 ~ запрет доносительства 415—416 ~ изваяния его 130, 134, 138, 573 ~ изображения 900, (христианские) 487, 757, 906, (солярные) 139, 757
~ и искусство 120, 124, 899, 900, 906, 908, 909, 910, (см. также выше изображения)
~ источники о нем 117—118,121, 137, (см. также Евсевий Кесарийский; Зосима)
~ в Йорке 117,945 ~ и колоны 602
~ и Константинополь 130—132, 134— 136, 295, 307, 576, 758, 899, 906, 908, 910, 947, (церковь Святых апостолов) 908, (ипподром и дворец) 131, 134, 574, (мавзолей) 131, 136 ~ конфискации 443—444, 512, 547— 548
~ и корпорации 580 ~ мавзолей 131, 136 ~ монетные дворы передислоцированы 500
~ общество при нем 223, 418—419 ~ и Орцисг 436, 558, 564 ~ и Отён 297, 536, 538
1124
Указатель
КОН
~ оценка его 137—140
- панегирики 118 сноска 1,137, (307 г.)
119, (310 г.) 119,140, (312 г.) 536, 537, 583, (313 г.) 768, (321 г.) 121 ~ и Персия 136, 658, 684 ~ подарки и конгиарии 120, 132 ~ портретные изображения 900, 902 ~ приграничная стратегия 316, 322, 325
~ и прикрепление по месту рождения (origo) 562, 602 ~ прошлое, ссылки на него 900, 907— 908, 909
~ распоряжения по поводу преемства 134-135
~ рассчетливость и эгоизм 119 ~ регионализация 538 ~ резиденции 292, 304, 304, (Константинополь) 130—132, 134, 135, 574, (Трир) 297, 574 ~ и Рим (и христианские храмы)
120-121,125, 136,297,511, 546, 798, 908, 910, 947, (арка и термы — см. Рим)
~ светская политика 132—135, 165 ~ и сельское хозяйство 563—564, 604
- семья 96, 124-125, 823, 947
~ и сенаторское сословие 120, 125, 201, 418, 542-543 ~ и Сопатр 135, 140 ~ трактат «О военных делах» о нем 551
~ и Трир 297,574,899 ~ узаконение 198, 215 ~ финансы 132, 444, 512, 537—538, 548, 551
~ фортификация 316, 320 ~ экономическа политика 133, 223, 889 сноска 5
~ юбилеи восшествия на престол 124, 128, 135, 946, 947
Религия 127-128, 135-136, 137-140 ~ и арианство 123, 127—128, 135—136 ~ видения (Аполлона) 118, 139, (христианские) 120
~ дары церквам 511,546,797—798, 908
~ доктрина империи 755, 757—758 ~ и донатисты 122—123, 139, 859, 946 ~ и евреи 135, 138, 662 ~ епископские суды 429 ~ и законодательная деятельность 137-138
~ крещение 128, 136, 139 ~ и легитимация 198, 215, 879 ~ личная вера 123, 139—140, 757, 758, 771
~ Миланский эдикт 119,126,512,673, 890, 946
~ и Никейский собор 127, 139 ~ окончание гонений 866, 876—879,
946
~ и Пасха 123, 127 ~ и персидские христиане 810 ~ последствия обращения к христианству 137—140,140, 659, 672— 673
~ «Речь к святому Собору» 128, 139, 769-770, 858
~ семейная подоплека 823 ~ и терпимость 139, 877 сноска 173 ~ христианский церемониал 124, 136 ~ и христианское учение 122, 127— 128, 135-139, 758
~ церковное строительство 122, 126, 128-130, 798, 908, 910, 947 ~ и язычество 129—130, 138, ISO- MO, 512, 740, (государственный культ) 119, 138, 750, 757— 758, (жертвоприношения) 137, 750, (солнечный бог) 119, 137, 139, 139, 757-758
*
см. также монета; налогообложение Константин П, император 122, 135—136,
947
Константина — см. Цирта Константина (Вираншехир) 384 Константинополь ILe, 7ВЬ, 307
~ дворец и ипподром 131, 134, 134, 574
~ италийское право (ius Italicum) 518 ~ Константин здесь 134—136, 295, 947 ~ Константинов мавзолей 131, 136 ~ критицизм Зосимы 131—132
КОР
Указатель
1125
~ монетный двор 226 ~ население 131, 134 ~ переключение анноны на него 515 ~ перемещение центра империи сюда 216, 307, 471, 545, 565, 576 ~ раздачи 131, 581 ~ сенат 125, 134, 419 ~ снабжение зерном 131,471,515,545, 565, 576
-Собор 336 г. 135,947
- ссылки на прошлое 908, 910
- стены 134, 320, 575
- столица образована здесь 122,130—
132, 307, 572, 598, 899, 906, 908, 910, 947
~ строительные работы Констанция П 307
- церемониальная планировка 130—
131, 134-135
- церемония освящения 134, 947
- церкви 131, 908, 910
- экономическое значение 606
- язычество 131, 758 Констанц IGd, 315, 360 Констанций I, Флавий Валерий (Хлор),
император:
- ранняя карьера 96
- как Цезарь 95, 99, 213, 214, 943
- разгром аламаннов 97, 283
~ возвращает Британию и побережье Ла-Манша 104, 283, 295, 329, 504, 943
- кампании в Германии и Шотлан¬
дии 111
- как Август 944
- смерть 303, 944
*
- браки, (Елена) 96, 927 (Феодора)
96, 99, 213, 927
- Максимиан усыновляет его 99
- панегирик 103, 104
~ в провинциях 112,345—346
- родословная 927
~ сокровищница 552
- столица в Трире 100, 216, 306
- и франкское переселение в Галлию
626
- и христианство 112, 118, 793, 864
Констанций П, император 135—136, 443, 603,684
- религия 126, 131, 135—136
- строительство в Константинополе
131, 307
Констанция — см. Кутанс Констанция, сестра Константина 946 Консганцское озеро 283 конституции, императорские 241—247
- Гай о них 239, 241—242
~ Гермогениан их использует 254, мандаты 242—243
- декреты 242—244
~ как источник права 239, 241
- письма — см. рескрипты
- угроза классической правовой на¬
уке 245—247
- эдикты 241—242 см. также рескрипты
консульские инсигнии, Навлобат 280 консуляры, четыре (quattuor consulares) 209
контракты 234, 236, 421, 525 конфискации, императорские:
- выморочного и безхозного имуще¬
ства (bona vacantia et caduca) 414-415
- городских доходов 442—445, 547—
548
- императорские поместья приросга-
ют благодаря им 475, 545
- имущества христиан 512, 544, 842,
845,853—854, (церковных ценностей) 863, 865, (возвращение) 865-866, 876-877
- и металлические ресурсы 512, 544,
550
- прокураторы 190 сноска 67, 512
~ при Севере 19, 22, 25,189—190, 512, 545
~ храмовых сокровищ 512, 544
- экономическая роль 554, 559 Копт 1Мк, 5ВЪ, 106, 267, 282, 394 коптские герметические тексты из Наг-
Хаммади 721, 728 коптское христианство 812—813 Кора, ее культ 741 корабельщики, их коллегии 582
1126
Указатель
КОР
кораблекрушения 501, 557, 582 Кордова (Кордуба) 1Вс, ЗВс, 105 сноска 58, 795, 865, 335 Кордуена IPf, 1ЕЬ, 324, 670, 676 корзины 605 Корик 62—63
Кориний — см. Сайренсестер Коринф IKf, 2Ес, ЗЕс, 336
~ готские нападения 58, 65, 279 ~ христианство 780, 785, 800 Корирейн 1 Ff, 313, 399 Корнелий Лициний Валериан, Публий (Валериан П) 61, 197, 199, 936 Корнелий Лициний Салонин Валериан, Публий 61-62, 64, 197 Корнелий Тацит (историк) 181, 514, 563, 640
~ о Германии 567, 621, 631 Корнелий, папа — см. Корнилий Корнилий (Корнелий), Папа 797, 847 коронный сбор (aurum coronarium) — см. веночное золото
короны, коронация, у Сасанидов 651,664 корпорации (corpora) 192, 412, 429, 446, 580-581
корпус герметических текстов (Corpus Hermeticum) 721 корректоры:
~ в Италии 210—212, 224, 333 ~ Оденат, корректор всего Востока (totius Orientis) 273, 702 ~ в провинциях 202, 210, 416, 460 Корсика Юе,ЗСЪ, 327,337 Кос, его епископ 797 косвенные налоги (vectigalia) 442, 547 косметика, сирийская продукция 604 космология 727 Костолак — см. Виминаций кость, ее обработка у германцев 630 кочевники 659
~ и караванная торговля 581—582, 689-690, 693-695 ~ налогообложение 530 ~ оборонительные сооружения против них 160, 659
~ переход к оседлости 688, 690, 691, 692-693, 709
см. также арабы и народы пустыни; скотоводство; и при словах Африка, Северная; Египет; Ки- рена; Нумидия; Триполита- ния
Крамонд на реке Форт 1ЕЬ, 263 красильное дело 589 Красная Башня, перевал IKd, 292 Красное море, торговля здесь 525, 584 кремация 748 Кремна, ее осада 940 Крест Господень 129, 747 крестьяне:
~ и армия 428 ~ их бегство 530, 602 ~ в императорских поместьях 434, 561, 600-602, 603-604 ~ правовой и социальный статус 595— 596, 601-604 см. также колоны Кресцент, киник 786 крещение (христианское таинство) 786, 788, 801, 804, 822, (Константина) 128, 135, 139 Кривина 377
кризис, постулируемый для Ш в. 7, 44, 79-86
~ египетские свидетельства 457—459 ~ источники 87—89 ~ монета и 476—477 ~ отсутствие явного кризиса в сельской местности 571 ~ и правительство 166—168 Крисп, сын Константина:
~ Лактанций его наставник 118, 138 ~ как Цезарь 122, 946 ~ смерть 124, 129, 132, 947 Криспина, мученица 865 сноска 152, 866 сноска 153, 868—869 Крит IKf-Lf 2Ес, ЗЕс ~ готские набеги 280 ~ и Зевс 745
~ провинциальная организация 327, 330, 332, 336
~ христианство 780, 796—797 Крит и Кирена, провинция 2Dcd—Ecd, 327, 330, 332, 336
ЛАБ
Указатель
1127
Кронион, александрийский мученик 844 крупный рогатый скот, его разведение 563, 569, 604
Крым 1Ме, 60, 278, 279, 308, 379, 800 Ксантен — см. Ветера Ксенофонт Эфесский 732 Ксулсигии (нимфы), их культ в Трире 766
Ктесифонт 1Pg, 6Dc, 7Ес, 8СЪ ~ в парфянской войне Вера 266 ~ Север захватьшает его 19, 23, 267, 506, 677, 930
~ столица Вологеза V 34 ~ Гордиан Ш разбит близ него 52 ~ Оденат нападает на него 64, 273, 702, 938
~ Кар захватывает 78, 281, 655, 942 ~ Галерий захватьшает 107, 281 кудаа (арабская племенная группа) 707 кузнецы, их социальный статус 641 Куикул 573, 588
Куларо (Гренобль) IGd, 69, 316, 362 Кульциан — см. Клодий Кульциан купцы 585
~ в Армении 674 ~ гороскоп из Афин 727 ~ исчезновение фигуры италийского купца-негоциатора 585 ~ коллегии из Остии 579 ~ их надписи 585 ~ налог на них 543 ~ сирийские 604, 674 ~ торговля с германцами 636 Кур (Курия) IGd, 289, 361 кураторы:
~ водопроводов и Милиции (curatores aquarum et Miniciae) 205 ~ города (curator civitatis) 210, 420, 431-432, 436-437, 466, (назначение) 439, 548 ~ государственных дел (curator rei publicae) 432 куриалы и курии:
~ в Африке 436—437 ~ военная служба 447, 454—455 ~ выморочное имущество 444
~ гражданские обязанности 435— 439, 444, 448, 449, (освобождение и уклонение от них) 419, 435, 446, 447, 450-451, 452, 456, 469-470, 549, 578 ~ египетские 466—467, 467—468, 469— 470
~ законы о них 445, 446 ~ здания для курии 572 ~ в Италии 445—446 ~ контроль при тетрархии 225 ~ «кризис» 10, 404, 436—437, 444—453 ~ магистратуры 447—448, 450—452 ~ налоги, их взимание 423, 453, 526— 528
~ наследственность 444—446,447—448 ~ прием в группу 444—446, 449—450, 548, 549
~ рост в количественом отношении 449-450
~ социальная мобильность 418, 418— 419, 444-449
~ социальный состав 447—450 ~ требования Коммода 542 ~ христиане в их составе 456,795—796 ~ и центральная и провинциальная служба (officia) 419,447,453,456 ~ элитные группы внутри 467, 467— 468, 468-469 ~ и язычество 746 см. также выспше классы Курия (Кур) IGd, 289, 361 Курубис 851, 853, 854 сноска 129, 937 курьерская служба — см. почтовая и транспортная государственная система (cursus publicus) Кутанс (Констанция) lEd, 315, 361 кушаны 6Hb—Jb
~ кампании Ардашира 652 ~ христиане 809 Кьявенна (Клавенна) IGd, 289
Ла-Кро 568 Ла-Манш 75, 625 лабарум (labarum) 121 Лабеон, юрист 235, 235
1128
Указатель
ЛАВ
Лаврентии, африканский мученик 830 Лавриак (Лорх) IHd, 2Db, 289, 290, 321, 364
лагуантаны 105 сноска 59 лаж — см. премия обмена Лактанций 9
~ об Аврелиане и христианах 858 ~ апологетические сочинения 881 ~ «Божественные установления» 138, 885
~ о бюрократии 216 сноска 6, 417 ~ и Галерий 112, 113 ~ о Диоклетиане 112, 217, 222, 551, 862-863
~ «О погибели гонителей» 88,91 сноска 2, 111-112, 118,883 ~ о налогообложении 514, 518, 530 ~ наставник сына Константина 118, 138, 945
~ о разгроме Лицинием Максимина
121
~ о силе армии 157,161,217,217 сноска 8
~ о тетрархах 93, 102, 224 ~ о христианстве в Вифинии 818 ~ о христианстве Константина 118 ~ о цензе 526
Ламасба; надпись отсюда с правилами орошения 563, 601
Ламбеза (также Ламбезис) 7G/, 2Сс, ЗСс, 313, 328, 337, 397, 398, 399
лаография (перепись податного населения, ценз) 523, 560, 562 Лаодикея Катакекавмена, Фригия 585, 588, 821, 336
Лаодикея, Сирия 1Nf, ЗЕс, 294, 305, 406, 585
~ Собор 822 сноска 80 ~ Церковь 776, 805 Ларанда 818 ларарии 746—747 Ларисса ЗЕс, 800, 335 Лат (ал-Лат) сафаитское божество 691 Лахмиды, династия 282, 659, 706 Ле-Ман IFd, 318
Леанивар 7Jd, 316 Лебада (Дейр-Али) 807 сноска 31 левка (галльская миля) 287 легаты:
~ легионов 200 ~ в провинциях 327 ~ для упорядочения дел в общинах 210
Легио и Асгурика, его епископ 795 легитимация императоров:
~ при Северах 18, 24, 173—175, 179, 148, 197-198, 902 ~ при анархии 196—198 ~ Аврелиан 214
~ от Диоклетиана до Константина 198, 213-215
*
~ городским плебсом 179 ~ религиозная 198, 198, 215, 754—755, 879
~ церемониал и 574 ~ и юристы 186
см. также армия (и императоры); династический принцип; сенат (и императорское преемство); и при отдельных императорах
Ледерата (Рам) 1Ке, 291, 369 Леджджун 7Ng, 8ВЬ, 311, 708 Ледяная река (Fluvius Frigidus), битва при ней 290—291 Лежа (Лисе) 7 Je, 292 Лемнос 7Z/, 279,797 Леонид, отец Оригена 826, 828 Леонтополь IFd, 337 Лепта Большая 1Hg, 3Dc, 337, 397, 762 ~ александрийская община 764 ~ взлет и упадок 608 ~ дороги 288, 294 ~ италийское право 406, 518, 567 ~ культы 760—765 ~ планировка города 762 ~ постройки 587, 762, 764, (арка Северов) 761, 894, (базилика) 764, 894
~ процветание 761
лиц
Указатель
1129
- пунийская культура 761 ~ Север и 15, 21, 295, 566, 567, 572, 761, 894, 906
~ снабжение Рима маслом 566—567 лесники (saltuarii), пастбищные сторожа 600
лесные массивы 545, 559, 584 леты 324
лечебницы-святилища 732, 738—741, 743
~ галльские 767, 768 см. также Асклепий; Пергам; Сера- пис; Эгеи Лейна 625 лён 569, 633
Либаний 117 сноска 1, 305, 405, 691, 731, 758
Либер, божество 761, 768 «Либерийский каталог» (иначе «Каталог Папы Либерия») 830 либрарии (librarii), писцы 420 Ливия:
~ Верхняя ЗЕс, 332, 337, 462 ~ Нижняя ЗЕСу 332, 337, 462 Лигурия, регион 338, 363 Лидда (Диосполь) IMg, 294, 808 сноска 34
Лидия ILfy ЗЕСу 280, 561, 738, 819, 331, 336
Лиза-Гора 641 Ликаония 818 Ликия 336
~ христиане 818, 875 Ликия и Памфилия 2Ec—FCy ЗЕс—FCy 202, 327, 331, 336
Лилла-Хард, щитовой умбон отсюда 634 лимес, восточный 289, 308 сноска 120, 698
лимес, Палестинский 312 лимес, рейнско-дунайский 4, 146
~ аламанны угрожают ему 275, 623— 624
~ города вдоль него 581 ~ оставление верхнегерманско-реций- ского 315, 624, 624 ~ промежуток между дунайским и рейнским 283
~ развертывание войск 4, 356—360 ~ при Северах 33, 263 лимес, Трансалютанский lKdy 309 лимиганты 285
Лимн, смирнский мученик 819, 843 Лимпн (Портус Леманис) IFCy 315, 353 Линд (Линкольн), римская колония в Британии ЗВйу 329, 792, 334 Линдос, о. Родос 103, 118 Линкольн — см. Линд Лион (Лугдун) 1Fdy 2СЬу ЗСЬу 288, 334, 573, 585
~ Альбина против Севера, война 19, 23, 24, 597, 930
~ монетный двор 226, 486, 499—500, 503
~ христианство 788, 792—793, 793, (см. также Ириней) Липарские острова, торговля квасцами 584
Липпе, долина 641 Лисе (Лежа) 7 Je, 292 литература, христианская 880—886 ~ апологетическая 881—882, 884—885 ~ африканские писатели 801—802 ~ библейская ученость 884—885 ~ биографии 883
~ восточная (из областей к востоку от Евфрата) 810 ~ гимны 884
~ догматические сочинения 885 ~ историография 885 ~ литургические тексты 884 ~ молитвы 884
~ о мученичестве 882—883, (см. также акты (протоколы допросов); «Страсти» мучеников)
~ послания 885—886 ~ трактаты и гомилии 884 см. также на отдельных авторов литургии, общественные — см. повинности
литургия и литургические предметы, христианские 511, 546, 719, 884
Лихидн (Охрид) 148 Лициниан, Юлий Валент 56
изо
Указатель
ЛИЦ
Лициний Валериан, Публий — см. Валериан
Лициний Гиерокл, наместник Мавретании Цезарейской 39, 144 Лициний Младший 122, 946, 947 Лициний Руфин, юрист 230, 253—254, 531
Лициний Серениан, наместник Каппадокии 831—832
Лициний Эгнаций Галлиен, Публий — см. Галлиен
Лициний, Валерий Лициниан, император:
~ как Август 120, 945 ~ брак с Констанцией 121, 946 ~ встреча с Константином в Милане 876
~ разгром Максимина 121, 946 ~ борьба против Константина 8, 117, 307, 575, 946, 947 ~ казнь 947
*
~ и Египет 332, 542 ~ изображение его в источниках 122, 551
~ Константинова пропаганда против него 120, 879 ~ конфискации 443, 512 ~ Миланский эдикт 119, 126, 946 ~ монета 491, 497
~ налоги, освобождение от них в Ил- лирике 535
~ портретные изображения 908 ~ в провинциях 346—347 ~ родословная 927 ~ Сирмий, его резиденция здесь 216 ~ сокровища, используемые для чеканки монет 506
~ и Тиридат IV из Армении 670— 671,683
~ и христиане 122,512,815, 876-877, 879
Лициний, епископ Амасии 817 личные денежные суммы императора 25, 190-191, 463, 465 логисты 438, 466
Лондон (Лондиний) 1Ес, 2Ва—Са, ЗСа, 104, 289, 328, 329, 504, 792 ~ как метрополия 329, 334 ~ монетный двор 226, 499, 500 Лоренцберг-бай-Эпфах lHd, 314 Лорх — см. Лавриак лошади 541, 569, 583, 633 Лугдун — см. Лион
Лугдунская Галлия IBh—Cb, 327, 334, 361-362, 525 ~ Прима ЗСЬ, 334, 330 ~ Секунда ЗВЬ—СЪ, 334, 330 Лугувалий (Карлайл) 1Ес, 289 Лузитания 2ВЬ—с, ЗВЬ—с, 327, 330, 335, 586
Лукания (и Бруттий) 3Db—c, 211, 212, 333, 338, 540
Лукиан из Антиохии 805, 875, 884 Лукиан из Самосаты 715, 773 Луксор IMh, 312, 461 Лукулл 293
Луни (Каррара), мраморные каменоломни 569
Лусий Квиет, мавретанский вождь 144 Луций, африканский мученик 856 Луций, епископ Рима 847 Луцилла, карфагенская христианка 803 лучники 634, 670, 697 льняное полотно, производств 589 Любляна — см. Эмона Людовизи саркофаг 895, 898, 910 Ля-Венера, клад отсюда 496
маад, племя 709 мавзолеи 557, 598
~ императорские 131, 305, 574 Мавил, мученик из Гадрумента 829 Мавретания Ситифенская ЗСс, 333 Мавретания Табия 338 Мавретания Табия Инсидиана 332 Мавретания Тингитана 1Dg—Eg, 2Вс, ЗВс ~ бакваты 282
~ военное развертывание 324, 401— 402
~ конница 324 ~ племенные вожди 268, 282
МАК
Указатель
1131
~ провинциальная организация 327, 335
~ при Северах 268 ~ при тетрархах 282, 314, 324, (в Испанском диоцезе) 282, 330, 332 Мавретания Цезарейская 1Fg, 2Вс—Сс, ЗВс—Сс
~ Север укрепляет 268 ~ при Каракалле 531 ~ при Валериане и Галлиене 60 ~ кампания Максимиана 105
*
~ границы, их организация 268, 314, 324, 399-400 ~ дороги 267—268 ~ Новый защитный кордон (Nova Praetentura) 268, 314 ~ провинциальная организация 327, 333, 337
~ христианство 801 сноска 13, 829 мавры в римской армии 144—145, 148, 153, 570
мавры, предполагаемое их обращение в христианство 792 Магериус, его мозаика 922 сноска 80 магистр поселка/пага/крепосги (magistri vici/pagi/castelli) 432 магистратский взнос [summa honoraria, «почетный взнос») 547 магистратуры (honores) 412, 444—445, 453, 469-470
магистраты:
~ взносы при вступлении в должность 441, 442, 547 ~ запрет на аренду муниципальных земель 549
~ множественные посты 431 ~ назначение 441, 445—446, 448, 450— 451
~ пригодность на должность (idoneitas) 444—445, 452
~ увеличение бремени 442, 463 сноска 27, 469-470, 548 ~ уклонение от них 20, 463 сноска 27, 470
~ эдикты 240—241
магистры прошений (magistri libellorum)
106, 252
магия 724, 725-730, 739, 747, 763
~ Апулей обвиняется в ее использовании 729—730, 736 ~ тексты 721, 726—728 ~ и философия 717—718, 743 Магнесия 776
Мазака — см. Цезарея, Каппадокия Майн, река 33
Майнц (Могонтиак) IGd, 2Са, ЗСЬ, 4Dc, 306, 334, 358
~ Александр Север здесь 42, 934 ~ восточные культы 768 ~ дороги 289 ~ Каракалла здесь 33 ~ Майнц-Кастел IGd, 316 ~ повышение до статуса города 433 Макар, александрийский мученик 844 Македония 1Ке, 2Db—Ebc, ЗЕЬ
~ готские нападения 58, 65, 279, 280, 939
~ Македонская конфедерация 531 ~ муниципальное налогообложение 547-548
~ провинциальная организация 202, 327, 335
~ узурпация Валента 938 ~ Эгнатиева дорога 287 Македония, смирнская мученица 843 Макр — см. Эмилий Макр Макрианы — см. при Фульвий Макри- ан, Тит
Макрин, Марк Опеллий, император:
~ восшествие на престол 35—36, 932 ~ парфянская кампания 35, 678, 700, 932
~ свержение 35—37, 932
*
~ и Армения 678 ~ и армия 35—37 ~ всаднический ранг 35 ~ легитимация и преемство 175—176 ~ налогообложение 534 ~ патримоний 192 ~ портретные изображения 903
1132
Указатель
МАК
~ в провинциях 297, 340 ~ и сенат 35, 175—176, 297 Максенций, Марк Аврелий Валерий 945-946
~ борьба за власть 100, 114, 945—946 ~ Константин, борьба с ним 117, 120, 162, 297, 324, 506, 946 см. также Мульвийский мост
*
~ дворец вне Рима 297, 299, 574, 899 ~ монета 500
~ монетный двор в Остии 500 ~ родословная 99, 927 ~ образ жизни 299 ~ и христиане 119, 798 Максим из Мадавры 759 Максим, епископ Востры 804 Максим, корреспондент Плиния 210 Максим, сын Максимина Фракийца 934 Максима Цезарейская ЗВа—Са, 329, 334 Максимиан Галерий — см. Галерий Валерий Максимиан, Гай Максимиан, император (Марк Аврелий Валерий Максимиан) 942—945 ~ рождение 304 ~ как Цезарь и Август 213, 942 ~ совместное правление с Диоклетианом 8, 93—96, 213, 942 ~ кампании на западе 94, 95, 97, 283, 942, 943
~ совещание в Милане 98, 297, 943 ~ перемещения (291—292 гг.) 98 ~ в Испании, Африке и Риме 105, 282, 295, 944-945
- сложение полномочий и отставка 113, 114, 214 сноска 2, 944 ~ в борьбе за власть во второй тетрархии 119, 945
~ мятеж, поражение и смерть 119
*
~ и багауды 94, 95, 942 ~ Геркулий эпитет 94—95, 214—215, 293
~ двадцатилетие 113, 511, 944 ~ и Караузий 95—97, 943 ~ и Константин 117, 119, 945 ~ и Констанций 96, 99, 213
- конфискует храмовые сокровища 512
~ панегирик ему 96, 98 ~ в провинциях 344—345 ~ родословная 927 ~ столицы, (Милан) 100, 216, 252, 305, 574, (Трир) 306 ~ и христиане 864—865
Максимианополь 461, 808 сноска 34, 394
Максимилиан, африканский мученик 154, 861 сноска 140
Максимилла, катафригийская еретичка 778
Максимин Фракиец, император (Гай Юлий Вер Максимин) 45—49 ~ происхождение 43, 45 ~ восшествие на престол 43, 196—197 ~ кампания в Германии и Реции 46— 47, 274, 934
~ дунайские кампании 46, 934 ~ оппозиция, свержение 47^9, 81 ~ осада Аквилеи 296—297, 306, 934 ~ восстание Гордианов 47—48, 934 ~ смерть 49, 89, 934
*
~ и Александр Север 41 ~ и армия 43, 46, 47, 81, 82, 141, (этнические подразделения) 144, 670
~ налогообложение 47, 534 ~ обожествляет супругу 934 ~ и Персия 47, 653 ~ портретные изображения 895, 903 ~ в провинциях 341, 346 ~ и северовская традиция 81 ~ и сенат 46—48, 81, 196—197, 206, 296-297, 934
~ сьш как Цезарь 46, 934 ~ финансы 47, 82, 415 ~ и христианство 82
Максимин, Гай Валерий Галерий (известный также как Дайа или Даза):
~ как Цезарь (305 г.) 114, 945 ~ как Август 120, 945 ~ поражение и самоубийство 121, 946
MAP
Указатель
1133
*
~ апология 873, 875, 876 ~ Константинова чистка от его поборников 878
~ конфискует городские денежные запасы 443
~ Лактандий о нем 119 ~ мавзолей 305
~ и политеизм 735, 757, 945, 946 ~ родословная 927 см. также гонения на христиан (Великое)
Максимин, наместник Сирии 74 Мактар IGf \ 449, 601 Малайер-Юлиер, перевал IHd, 290 Малак Преславец (Кандидиана) 377 Малала, Иоанн 87—88 Малата (Бонония) 7/</, 285 Малая Азия 1Lf—Nf ~ взимание налогов 530 ~ готские нападения 64—65, 74, 75, 278, 280, 627, 936, 937 ~ дороги 288, 293 ~ императоры здесь 339—348 ~ Макриан и Квиет признаны здесь императорами 63 ~ мозаики 916, 917, 920—921, 924 ~ пальмирская аннексия 72, 273, 939 ~ разбойники 75, 426 ~ Шапур I здесь 62—63, 272 малии 688
Малх, палестинский мученик 856 Малхион из Антиохии 805, 885 Мампсис 1Ng, 8ВЬ, 311, 693 Мамре 128, 130
Манат, древнеарабское божество 690 Манбидж (Гиераполь) 654 мандаты (императорские конституции) 242-243
Мандулис, его оракул в Калабше 743,770 Мани 655, 660-661, 809, 935 Маний Феликс Фортунатиан, Гай, из Карфагена 738 Манилий Фуск 752
манихейство 655,660—661, 756—757, 810, 813 сноска 54, 859—860 ~ и Диоклетиан 107, 111,461, 756, 944
см. также Персия (религиозная политика)
Ману VTH Филоромей, царь Эдессы 696 Ману-ибн-Абгар, царь Эдессы 696—697 манумиссия — см. при слове налогообложение
Марг (Орашье) 1Ке, 285, 369 Марг, река 1Ке
~ битва при ней 92, 93 сноска 6, 942 Мариан и Иаков, их «Акты» 856 Марий, галльский император 939 Марин из Акв Тибилитанских 865 Марин, епископ Арля 793 Марин, мученик из Цезареи 849 сноска 123, 858
Марин; «Жизнь Прокла» 717 Мария, Богородица; ее предполагаемая могила в Эфесе 776 Мария, «Евангелие от» 811 Марк Аврелий, император 14 Марк Диакон, «Житие Порфирия Газ- ского» 808 сноска 33 Марк, евангелист 781 Маркион, еретик 780, 786, 787, 789, 816 маркионитская ересь 789,807 сноска 31, 809, 819, 856
~ гонения 824—825, 843, 856 ~ Тертуллианова критика 787, 801 маркоманны 2Db, 4
~ войны Марка Аврелия 145,275,621, 623, 627, 628, 637, 644 ~ и Галлиен 275, 936—937 ~ кампания при тетрархах 284 Маркс, Карл; марксизм 556, 562 сноска 13а мармариды 312 Марс, его культ:
~ Виктор Август, в Трире 767 ~ в Галлии 752, 766 - Канапфар, в Триполитании 765 ~ в ларарии 746 ~ Сагат, в Испании 741 ~ и тетрархи 103, 755 Марсель (Массалия) 525 сноска 146, 362 Мартин Турский 794 сноска 6 Марцелл Анкирский 135, 947 Марцелл, казначей в Египте 464
1134
Указатель
MAP
Марцелл, юрист 230 Марцелла, александрийская мученица 826
Марцеллин, Папа 864, 944 Марцеллин, префект Месопотамии 153 Марциан — см. Элий Марциан Марциан, полководец 66, 68 Марцианополь 1Le, ЗЕЬ, 68, 276, 279, 328, 336, 799,
Мас’удийе, мозаики отсюда 920 сноска 67
Масличная гора 99 масло оливковое 566—567
~ амфоры 193, 557, 566—567, 583 ~ африканское 545,566—567,583,604 ~ из Бизация 566 ~ для гимнасиев 470 ~ с Иберийского полуострова 192, 566, 583, 605 ~ маслобойни 566 ~ прессы 557
~ снабжение Рима 204—206, 566, 567 ~ торговля 557, 590 ~ транспортировка 583 ~ триполиганское 566—567 ~ цены 567, 592, 594 см. также раздачи
маслобойни 566 [см. также мельницы) Массике — см. Мисихе мастерские, государственные 589—590 Масурий Сабин, юрист 233—235 Матер, регион на севере Тцниса 601 материальное достояние (substantia) и гражданские повинности 452 Матери, епископ Кёльна 793 Матрика (Сасхаломбатта) 367 маххидж 709 машины, военные 142, 635 Маюм 808 меаты 22, 263 Медаин-Салих — см. Хегра медальоны 510—511, 905 Меджедель 1Ff \ 313, 399 Медиана (Брзи Брод) 1Ке, 304 Медиана, Осроена 384 Медиоланум — см. Милан медная руда, добыча 311,570
Мекка 8Bd, 695
Мелетий, понтийский епископ 868 сноска 157
Мелитена INf\ 2Fc, 266, 293, 310, 381, 815
Мелитий, епископ Ликополя, и мелити- анство 126, 814 Мелитон Сардский 777, 819 мельницы:
~ водяные 557, 564, 599—600 ~ мукомольные, в Риме 205, 564 см. также маслобойни Менандр Лаодикейский 230, 410 Мендехора (Кемалийе) 529 сноска 164 Менофил — см. Туллий Менофил, Марк Менсурин, африканский христианин 865
менялы (nummularii, collectarii) 594— 595
Мерв 652
Мерибан Ш, царь Иберии 675, 682 Мерида (Августа Эмерита) 1Df, 2Вс, ЗВс, 288, 335, 795
Меркуриана (возможная провинция) 462 Меркурий 736, 746, 766, 767 Меркурия, александрийская мученица 844
Мермертха 849
Мерузан, епископ армянский 671—672, 815
Месарафелта 1Gg, 313, 398 Месопотамия 7Pf—g, 6Db—c
~ северовская аннексия 18, 20, 262, 267, 495
~ при Северах 267 ~ кампания Каракаллы 34 ~ Макрин сохраняет ее 36 ~ в правление Севера Александра 42 ~ вторжения во времена анархии 271, 272
~ персы переходят границы 47,50,52, 934
~ Гордиан Ш воюет здесь 52—53 ~ Шапур I нападает 935 ~ Оденат возвращает 63, 273 ~ при Пробе 75
~ кампания Кара и Нумериана 942
миг
Указатель
1135
~ вероятное возвращение от Персии Риму 97
~ Нарсес разгромил Галерия здесь 681
~ Диоклетиан устанавливает контроль 108,281,323,682
*
~ арамейская и арабская культуры 686, 688-689 ~ дороги 288, 668 ~ ирригация 563 ~ караванная торговля 584, 694 ~ организация границ 23, 26, 310, 323, 384-385, 699 ~ полиция 427 ~ потеря ее 142
~ присутствие императоров 339—348 ~ провинциальная организация IFc— Gc, 20, 310, 328, 332, 337, 337, 646, 648, (префект всаднического ранга) 26, 184, 328 ~ христианство 672, 805, 809—810 Месроп Маштоц, святой 672 Мессапия 586
Мессий Квинт Деций, Гай — см. при Де- ций
Мессий, юрист 230 металлические артефакты:
~ германская торговля 628, 636 ~ добыча на Рейне 597, 623—624 ~ литургические предметы 511 ~ набатейская торговля 694 металлы:
~ у германцев 628, 630, 636, 638—641 ~ у иберийцев 605 ~ в обороте 491—492, 504 ~ обработка в сельской местности 577 ~ сирийская обработка 604 ~ как средство сбережений 510—512 ~ сырье для монеты 476, 505—513, 544, 550, 570 ~ торговля рудами 590 ~ цены на драгоценные 220—221, 223, 417-418, 491, 508, 594 см. также при словах, обозначающих металлические артефакты и отдельные металлы
метки на амфорах, сделанные краской (tituli picti) 192
Метродop, маркионитский пресвитер Смирны 819
метрокомии (metrocomiae) 431 Мефодий Олимпийский 818, 882, 884 сноска 180, 885 меха 589, 664 меха и кожи 557, 583, 589 мехи для жидких продуктов и для понтонов 590
Мециан — см. Волузий Мециан, Луций Меций Лет, Квинт, префект Египта 826 мечи 584, 634, 642—643 мёд 664
Мёз, культивация виноградной лозы здесь 605
Мёзийский диоцез ЗЕЬ—с, 164,225, 325, 330-331, 335-336 Мёзия IKe—Le
~ восстание Юлия Вера Максимина 43
~ кампания Тимесифея 52 ~ германские и готские вторжения (238-253 гг.) 50,54,56,58,277, 627, 934-935
~ мятеж Ингенуя 62, 147, 148, 298, 937
~ епископы 799
~ присутствие императоров 339—348
*
Верхняя или Маргенская (позднее — Первая) 1Ке, 2Db—Eb, 3Db— Eb, 56, 61, 369-372 ~ провинциальная организация 308, 327, 331, 335
*
Нижняя (позднее — Вторая) 1Le, 2ЕЬ, ЗЕЬ
~ военное развертывание 376—379 ~ готы и карпы здесь 50, 54, 56, 57, 277, 935
~ провинциальная организация 308, 327, 328, 336
~ тетрархический диоцез 331 ~ эмпорий 302 Мигдония 676
1136
Указатель
МИД
Мидия 6ЕЪ, 7Fb-Gb, 107, 656, 809 ~ мидийское пограничье 676 Мизда 1Hg, 313 Мизенский флот 16, 363 Милан (Медиолан) IGd, ЗСЬ, 338 ~ при Галлиене 148,149,305,937,939, (разгром аламаннов) 62, 275, (восстание Авреола) 66, 939 ~ при Максимиане 100, 216, 252, 574, (совещание с Диоклетианом) 297, 943
см. также «Миланский эдикт» ниже
*
~ дорожная сеть 287, 288, 289—290, 304, 305 ~ епархия 799
~ «Миланский эдикт» 119, 126, 512, 673, 890, 946
~ мобильная полевая армия здесь 62, 66, 147, 148, 321 ~ монетный двор 148, 499, 937 ~ как столица 86, 100, 288, 304, 305— 306,306
~ строительство 306, 515, 572, (дворец) 304, 306, 574 Милановец 629 Миласы 7L/, 503
Милевий [лат. Milevium), иначе Мирей (Mtpeov или Mupatov) 866 сноска 153
Милеппггарт, пунийский бог 761 Милет 548 сноска 245, 589, 819 милиарисий (miliarensis), монета 486 миллена (единица налогообложения) 536 миллеты, система конфессий на Ближнем Востоке 660, 662 мильные камни 310—311, 698, 703 Мильтиад, епископ Рима 945 Мина 400
Минервина, супруга или конкубина Константина 927, 928 Минуций Феликс 881 ~ «Октавий» 788, 802 Миос-Гормос 7AfA, 5ВЬ, 267 Мира 2Ес, ЗЕс, 336 мировая империя, Рим как 579—580 Мисихе (Массике) 52, 653, 679
Мисия 819 миссионеры:
~ манихейские 660—661 ~ христианские 672, 810 сноска 46, 816,884
мистерии 739, 743—746, 747
см. также Аттис; Дионис; Исида; Кибела; Митра и митраизм; Элевсинские мистерии Митра и митраизм 713, 724, 735, 744— 745, 763
~ не имеет официального статуса 741, 760
~ храмы 732, 746, 767, 768 Михайловац (Клевора) 371 Михайловград — см. Монтана Михраниды (иранский знатный род) 675
Моав 8ВЬ, 693, 708 см. также Леджун
мобед мобедов (зороастийский «жрец жрецов») 659
мобильность, социальная 172, 418—419, 444-449, 601 Могонтиак — см. Майнц Модена 588
Модесгин, юрист — см. Геренний Моде- сгин
мозаики 901, 914—924
~ абстрактные понятия, их персонификация 921
~ Антиохия 920 сноска 69, 921, 924 ~ в архитектурном контексте 916,917 ~ африканские 916,921—924, 923 (см.
также при слове Карфаген)
~ в виллах 598—599, 920—921 ~ динамика взаимных влияний между стилями 922, 924—925 ~ дионисийские темы 744 ~ италийские 880, 890 сноска 9, 916, 916-917, 918-919, 922, 924, 925
~ Малая Азия, восточная 916, 917, 920-921, 924 ~ надписи 921
~ полихромные 916, 917, 920—924, 923, 925
МОН
Указатель
1137
~ потеря интереса к третьему измерению 890, 893, 917, 918—919, 925
~ северовские 920 ~ христианские темы 747, 880, 890 сноска 9
~ черно-белые 916—917, 918—919 ~ и элитный образ жизни 920—922, 924
~ языческие темы 747 Мозель, долина 89, 582, 605 Мойет-Авад 311 Моисей (римский мученик) 845 Моксена 676 молитвы:
~ герметические полулитургические 721
~ христианские 774, 884, 912, 913 Моммзен, Теодор 412 Момотести (Русидава) 375 монетарии 490, 496 монетарная система 11, 168, 220—223, 475-476, 592-593, 595-596 ~ дисбаланс между монетизированным и натуральным хозяйством 530, 590 см. также монета монетные дворы 497—500
~ Галльской империи 495, 499 ~ в Диоклетиановых диоцезах 226 ~ количество и размер выпусков 495 ~ метки 500
~ оффицины 203, 495, 500 ~ передислокация при Константине 500
~ прекращение местных и провинциальных выпусков 203,474,499 ~ сасанидские 664 ~ увеличение в числе и регионализация 203, 270, 499-500, 501, 552, 555, 605
см. также при Аквилея; Александрия; Антиохия; Арль; Вими- наций; Галлия; Восточный диоцез; Галльский диоцез; Гераклея; Карфаген; Кёльн; Кизик; Константинополь; Лион; Лондон; Милан; Нико-
медия; Остия; Перга; Рим; Сердика; Сирмий; Сисция; Тицин; Триполис; Трир; Фес- салоника; Цезарея, Каппадокия; Эя монета 474—513
~ арабский динар 486 ~ и армия 500—501, 513, 550 ~ ассарий 499
~ и благотворительные пожертвования 475, 578 ~ бронза — см. aes ниже ~ вес 478-479, 481-482, 489, 497 ~ во времена анархии 203—204 ~ выпуск в честь тысячелетнего юбилея города Рима 905 ~ выпуски и девальвации 478—505 ~ вьшуски с легендами «ADVENTUS» и «PROFECTIO» 297 ~ в Германии 509, 623, 625, 637—638 ~ дефицит 503
~ дунайские чрезвычайные выпуски 502
~ золото/серебро, соотношение 479 сноска 9, 493—494, 504, 506 ~ золотые 203, 480, 481—482,485, 550, (медальоны) 504, (римские, в Германии) 625, 638, (налоги, уплачиваемые ими) 541—544, (как стандарт) 477, 504, 594— 595, 596, (см. также ауреус; солид)
~ изменения в практике использования денег 396
~ изнашивание 494,506,508—509, 532 ~ иконография 474, 486—487, 905— 906, (христианская) 487, 906 ~ имитации 503
~ для императорских подарков 504 ~ исторические отсылки в их дизайне 905
~ как исторический источник 9, 88, 169, 556
~ кейнсианская интерпретация 476 ~ клейменые 503
~ количественное увеличение 474, 494-497
~ для конгиарий (congiaria) 483, 515
1138
Указатель
МОН
~ консекрационный выпуск 137 ~ концепт нарицательной стоимости 195, 513
~ и Лициний 491, 497 ~ махинации монетариев 490, 496 ~ местные выпуски 203, 474, 498— 499, (см. также Египет; Галлия; Галльская империя)
~ металлический запас 476, 505—513, 544, 550, 570
~ металлургический состав 479—480 ~ метки XXI, XX.I, XX 490 ~ милиарисий (miliarensis) 486 ~ модификации 480—488 ~ надписи о них 479 ~ нероновский стандарт 481, 483, 507 ~ нумизматические данные 478—480 ~ обменные курсы 532 ~ орихалк 480, 483 ~ объем продукции 495—496 ~ перечеканка 474, 480, 494, 508 ~ перештамповка 483, 494, 499, 500 ~ порча монеты 169, 480, 494, 505, 550, 558, (в период анархии) 50, 71, 102, 203-204, 270, 490, (последствия) 80, 85, 218—219, 471—472, (при Северах) 195, (и налогообложение) 531—533, (см. также отдельные монеты) ~ для престижных трат 504, 513, 544 ~ провинциальные или городские выпуски 494, 497—500, 532 ~ пятаки (quinarii) 481 ~ размер выпусков 494 ~ размер монет 478 ~ расчетные единицы 477, 479, 480— 481, 491-492, 499 ~ регионализация 502, 555 ~ рентгеновский метод 493 сноска 38 ~ семисы 484
~ серебряная 480, 486—487, 498, 503— 504, 510—512, 515, (хождение) 502, (утрата значения) 477, 487,503-504, 510-511,550, (содержание серебра) 489, 492— 493, 503—504, (изнашивание) 508—509, (вес) 489, (см. так¬
же выше золото/серебро, соотношение и отдельные монеты)
~ силиква 486
~ стандарт смещается от серебра к золоту 477, 487, 503—504 ~ типы 478
~ унификация 497, 590 ~ Урания Антонина 704 ~ утечка из империи 476, 494, 506, 509, 579, 608, 628, 638 ~ фидуциарное присвоение цены 481, 482, 488, 489, 492, 532, 552 ~ хождение 476, 496—497, 500—505, 558
~ и цены 471—472, 479, 490—491, 533 ~ и экономика 203—204,477, 592, 596, (индикатор) 555—556 ~ юбилейные выпуски 905 ~ как ювелирные украшения 510, 594 ~ Юлия Мамея, ее изображения на них 40—41
~ aes, медная/бронзовая монета 480, 481, 482-484, 499, 500-501, (становится стандартом) 543, 550, 594, (см. также сестерций)
см. также аврелиан; антониниан; ар- гентей; ауреус; девальвация; денарий, бронзовый; денарий, серебряный; медальоны; металлические ресурсы; монетные дворы; налогообложение; нуммий; оффицины; сестерций; солид; тезаврация; торговля; фоллис; Армения; Египет (общество и экономика); Галльская империя; Галлия; Караузий; Пальмира; Пар- фия; Персия; Хатра; Эдесса
ПО ПРАВЛЕНИЯМ:
~ Август 481
~ Север 506, 597, 763; (кистофоры) 498, (реформа) 25 сноска 20, 481, 482, 489, 494—495, (и денарий) 482, 489, 492—493, 502
МУЧ
Указатель
1139
~ Каракалла 33, 481—482, 488, 489, 744, 751, 932 (чеканка на востоке) 34, 495
~ Элагабал 482, 489, 751-752 ~ Александр Север 38, 907 ~ Бальбин и Пупиен 49—50, 482, 489 ~ Филипп 55, 905 ~ Деций 56, 483 ~ Валериан 204, 480, 482 ~ Галлиен 148, 499, 502, 905; порча 65, 204, 480, 490; девальвация
482- 483, 507
~ Клавдий П 71, 204, 490 ~ Аврелиан: деградация 71, 73, 490; количество монетных дворов 495, 499—500; реформа 204,
483- 484, 496, 502, 550, 941, (и египетские выпуски) 498, 593, (инфляция как ее последствие) 102, 219, 220, 221, (металлический состав) 73, 506, (стоимость монет) 489, 490— 491; солярный культ 484, 754
~ Тацит 480 сноска 12 ~ Кар 480 сноска 12 ~ Диоклетиан и тетрархи 220—222; и идеология 102,485,755,905— 906; увеличение в числе 226, 474; реформы, приписанные позднее тетрархам 100—101, 102; реформа начала 290-х годов 101, 109, 220-221, 472,481,
484- 485, 550, 943, (металлические ресурсы) 506, 507, (стандарт) 483, 484—486, 487, 489, 503—503, 507; реформа 301 г. 109, 221, 472, 492-493, 944, (девальвация без перечеканки) 479 сноска 9,490—491,494, [см. также «Эдикт о денежном обращении»); типы реверсов 485
~ Константин 133, 223, 481, 486, 489, 497, 544, 906; золотой солид 133, 223, 472, 487, 504, 532; серебро высокой пробы 487, 489, 503, 509; металлические ресурсы 506; портретные изо¬
бражения 902 сноска 23; типы 139, 486-487, 551, 757 Моним и Азиз, арабские божества 688 монотеизм 712, 720, 770, 771 Монс-Клавдианус — см. Клавдиева гора Монтан и Луций, их «Отрасти» 856 Монтана (Михайловград) Ше, 316, 379 монтанизм 778—779, 787—788, 801, 824— 825
~ в Африке 787—788 ~ в Малой Азии 819, 819 сноска 76, 820
~ «О венце» 829 Монтобан-Бузенол 565 Моосберг lHd, 314 Мопсуестия 814 сноска 57 Моравия, железоделательное производство 641
мораль, языческая 717—718, 721, 731 «Морской путеводитель» (Imperatoris Antonini Augusti Itinerarium Maritimum) 287 Мосов 629
мощи и реликвии, христианские 129, 131, 908
мрамор и декоративные цветные камни 569-570, 586-587, 590 Мсус IKg, 313 Музы в искусстве 911, 913 мулы и их погонщики 583 Мульвийский мост, битва при нем 117, 120, 121, 297, 946 ~ последствия 126, 139 муниципальные списки:
~ Канузий 446, 447, 448, 450 ~ Тимгад 419, 449—450 муниципии (municipia) — см. города «Мураториев фрагмент» 786 Мурса (Осиек) IJd, 289, 291, 302, 369 Муссий, Луций Эмилиан, префект Египта, узурпатор 63, 850, 858, 938
Мухаттеф-эль-Хадж 1Ng, 320 Муций Сцевола, Квинт 229, 233 мученичество, мученики 776, 838, 855— 856, 871-874 ~ лионские 788, 792
1140
Указатель
МЯС
~ литература о нем 428,882—883, [см. также «Акты» (протоколы допросов) христиан; «Страсти» мучеников)
~ скилитанские 750—751, 800 см. также отдельные имена в гонения на христиан мясо 515, 564-565, 576, 773-774 см. также свинина мятежи 47—48, 55, 295
см. также толпа, ее враждебный настрой к христианам
ыаассенская ересь 779 набатеи 5Ва—Ь, 311, 688, 692, 694—695 ~ поглощены Римом 648, 654, 658 ~ язык и письменность 692—693, 695, 708
наблюдатель (speculator), ранг должностного лица 417
Набу, пальмирское божество 690 навигация 582
~ государственный контроль 192, 580 ~ «Морской путеводитель» 287 ~ по речными коммуникациям 582, 583, 584
~ Северное море 637 ~ Сирия 604 ~ стоимость 582, 583 навикуларии (navicularii) — см. судовладельцы
Навкратис 5Ва, 469 сноска 49, 523 Навлобат, готский царь 280 Наг-Хаммади тексты 5ВЬ, 774 ~ Апокриф от Иоанна 774 ~ «Герметика» 721, 728 ~ Евангелие от Фомы 774 Наджран 8Се, 709 надписи:
~ на амфорах 192, 566 ~ вотивные 734, 738 ~ исповедальные стелы 738 ~ как источники 9—10, 169, (периода анархии) 88, 269—270, 753, (об арабах) 688,692,693, 705, (о монете и монетарных мерах) 109,
221, 479, (о налогообложении) 590, 514, 525 ~ мозаичные 921
~ официальные записи в храмах 734 ~ парфянские 646 ~ сасанидские 646, 649, 652, 668—669, [см. также при словах Биша- пур; Накш-и-Русгам; Пайкули) ~ стереотипные, о ремонте зданий 573
~ Фригийские христианские 820— 821,880
Надьтетень (Кампона) 7Jd, 285, 367 Назарий; панегирик 321 г. 118 сноска 1 Наисс (Ниш) Ш, 68, 81, 292, 372, 939 наказания в позднеримской правовой системе, их жестокость 867 Накш-и-Рустам, надписи 6Fc
~ Картира 669, 675, 810 сноска 47 ~ Res Gestae Divi Saporis 88, 510 сноска 87, 648, 652, 668-669, 675, (о второй войне Шапура против Рима) 653, 654, 678, 678 налог на продажи с торгов, однопроцентный (centesima rerum venalium) 524
налог с наследства, пятипроцентный (vicesima hereditatium) 33, 209, 211, 524, 534
налог серебром (argentum) 530 налог со стоимости выкупа раба, пятипроцентный (vicesima liber- tatis/manumissionum) 33, 209, 211, 524, 534 налоги на продажи 534 налогообложение 513—544 ~ Августова система 522, 524 ~ анахорезис 530, 531, 562 ~ Антонинова конституция и 408— 409, 517, 518, 534
~ апелляции к императорам 88, 530 ~ в Армении 670
~ бегство крестьян от налогов 530, 562
~ восток сохраняет свои доримские системы 516
НАЛ
Указатель
1141
~ и города 412—413, 420, 422—424, 439, 514, 542, 700, (администрирование) 171, 412—413,
422, 453, 463, 326-528, 700, (распределение между городом и селом) 453, 528, 542
~ и гражданство 194, 517, 523, 524 ~ и девальвация 522, 532—533, 540, 552
~ и денежная экономика 559 ~ с деревень 433, 453 ~ десятина 530
~ дидрахма, налог с евреев 523 ~ Диоклетианова реформа 107—108, 109, 157, 214, 218-221, 422,
423, 452, 453, 522, 534-538, 539, 550, (и провинциальная реорганизация) 101, 157, 224, 225, 537-538
~ доктрина 514, 518 ~ донос 414—415 ~ доримские системы 516 ~ единообразие и универсальность 476, 515-519, 552, 590 ~ займы, принудительные 551 ~ закупки по контролируемым ценам 522
~ с земли 412—413, 326—527, (пропорциональное распределение) 219-220, 422-423, 527 ~ злоупотребления провоцируют восстание Гордианов 272, 534 ~ в золоте 471,530, 533, 541—544, [см.
также венечное золото)
~ идеология 544
~ иммунитеты 422, 517, 525, 535—536, 879, (для армии) 519, 525, 535, 539, (при Константине) 535— 536, 537-538, 543, 577, (благодаря ius Italicum) 208, 517, 518, [см. также Италия (освобождение от налогов))
~ на имущество 412—413, 518, 326— 527,552, [см. также поземельный налог; трибут (soli))
~ использование налоговых поступлений 475—476
~ источники о 513—514, (литературные) 544, 553
~ при Константине 132—133, 542— 543, 569, (администрация) 528, 537—538, (борьба с доносительством) 415—416, (освобождение от налогов) 535—536, 538, 543, 577
~ в контролируемой государством экономике 580 ~ косвенные налоги 517, 524 ~ куриалы администрируют 423, 453, 326-528
~ на манумиссии 33,209,211,524, 534 ~ местное 171, 442 ~ и монета 522, 531—533, 538, 540, 541-544, 550, 552 ~ налоговое право 249, 463 ~ на наследование 33, 524 ~ на наследство 517, 522, 528, 534 ~ в натуральной форме 432, 471, 522, 523-524, 530, 533, 538-541, 559, 580, (в Ранней империи) 522, 539, (как экономический индикатор) 477, 555, (в зерне) 522, 523, 530, 539, 545, 565, (при тетрархах) 219—220, 220, [см. также adaeratio ниже и аннона)
~ недоимки 438, 475, 524, 529—531, 562, 431-432, 534-538 (прощение недоимок 475, 530, 531, 562)
~ и немонетарное хозяйство 477, 530 ~ обязательства римских граждан 194, 517, 523, 524
~ осведомители 414—415 ~ оценка 526—528, 534, (налогооблагаемые единицы) 107, 217, 219-220,
~ и повинности (munera) 413, 519— 521, 527
~ повышение налогов 533—538 ~ подушный налог — см. подушный налог; трибут (capitis)
~ предписания (formulae) пропорционального распределения 422
1142
Указатель
НАМ
~ принудительные работы как форма налога 526
~ проблемы с платежами 529—531 ~ провинциальные вариации 182— 183, 214, 516-517 ~ с продаж 534
~ проездные пошлины 522, 524—525 ~ прощение недоимок 475, 530—531, 562
~ регионализация в деле сбора налогов 555
~ рекрутский набор — см. поставка новобранцев ~ на ремесленников 577 ~ и реорганизация провинций при Диоклетиане 101,157,224,225, 537-538
~ рудиментарный характер бюрократии 80
~ свинина в качестве налога 569 ~ при Северах 194, 219,412—413, 524, 533
~ серебром 530
~ собирание налогов 157, 203, 209, 218, 529—531, 555, (роль городов) 171, 412-413, 422-425, 453, 463, 327-528, 700, (в Египте) 463, 464, 467, 467, 528, (через сборщиков податей) 417, 451, 466, (откупная система) 167, 183, 194, 328-529, (сельские литургии) 432—433 ~ сокращение базы 71, 80, 218 ~ и социальные перемены 168, 550 ~ таможенные пошлины 522, 523— 524, 524, 547
~ терминология 514, 519, 539 ~ Тира как «налоговая гавань» 302 ~ традиционный система 168,522—526 ~ уменьшение подати 538 ~ при Филиппе 55,202, 529 сноска 164 ~ юристы о нем 249, 518 ~ adaeratio (переход от натурального к денежному сбору) 161, 216, 223, 430, 539, 540-541, 569 ~ ius pignoris 413
см. также аннона; земельный сбор; золото; комплектование армии; налог на продажи с торгов; налог с наследства; налог со стоимости выкупа раба; одежда как налог; подушный налог; поземельный налог; пошлины ввозные (portoria); пошлины таможенные; пре- торский «расход»; продажа рабов; реквизиции на ее нужды; трибут; фоллис; хрисар- гирон; и при словах Египет; Италия; Рим; сенат
наместники, провинциальные 327—328 ~ всаднического ранга 86, 184, 188,
200- 202, 327-328, (при Севере) 26—27, (при Галлиене) 151—153, (в Месопотамии) 26,
184, 328, (при тетрархах) 157,
201- 202, 224
~ и гонения на христиан 824, 825, 836, 842, 853 ~ и города 440—442 ~ в императорских провинциях 182—
185, 327
~ командование армией 150—151, 157, 224
~ консуляры 18, 34, 224, 327 ~ легаты Августа пропреторы 182— 183, 327
~ надписи с их именами и титулами
327
~ назначение 182—185 ~ и налоговые злоупотребления 531 ~ освобождение от налогов 519 ~ правосудие 408, 428—429 ~ преторского ранга 18, 327 ~ префекты 183
~ в провинциях римского народа 181-183, 201-202, 224, 327 ~ проконсулы 182, 201—202, 224, 226, 327
~ резиденции 303—304 ~ сенаторского ранга 27, 34, 151, 157, 167, 200-202, 224, 327
НЕМ
Указатель
1143
~ тетрархические реформы 157,201— 202, 224, 225
~ штат 167, 322 сноска 137, 426—427, 455
см. также корректоры; президы; и при отдельных провинциях Нант (Намнетум) 1Ed, 315, 361 Напока (Клуж) 1Kd, 292 Нарбонская Галлия 2СЬ, 362, 525, 563 ~ провинциальная организация 327, 330, 334, (Нарбония Прима и Секунда) ЗСЬ, 334, 330 Нармутис 392, 392, 839 народ римский:
~ аккламации 439, 451 ~ соотношение его влияния и принципата 179—185
~ поддерживает Гордиана Ш 197 см. также конгиарии; плебс; раздачи; и при слове провинции народная культура 11 Наррара, битва при ней 684 Нарсес I, царь Персии 655—657 ~ правление в Армении 655, 680 ~ воцарение на персидском троне 656, 680, 681, 943-944 ~ вторгается в Армению 656, 681, 943 ~ римские кампании против него 100, 106-107, 281, 656, 675, 681, 944, 943-944
~ договор с Римом 108, 281, 323, 675, 676, 681—682, 944, (Нисибида становится торговым пунктом) 108, 525, 579, 656 ~ смерть, наследование власти Ор- миздом П 944
*
~ Бишапурская надпись 655 ~ неоахеменидская политика, предполагаемая 681
~ Пайкули, надпись отсюда 106 сноска 68, 649, 669, 681 ~ религиозная терпимость 659 Нарсес, брат Шапура П 684 насамоны 312—313 население 559—562, 631, 659
см. также при словах Египет; чума
наследование 545
~ право о нем 234,250—251,428,444— 445, 463
см. также при слове налогообложение
наследование императорской власти:
~ и армия 29—30, 83, 175, 196, 269, 296-297, 753
~ во времена анархии 196—198 ~ планы Константина 134—135 ~ при тетрархах 102, 115 ~ частное наследование смешивается с ним 174—175
см. также усыновление; династический принцип; легитимация императоров
наследование как правовая категория 234, 250-251, 428, 444-445 Наср, арабский бог 688 насыпные обитаемые холмы среди приморских маршей (нем. Terpen, Wurten) 630-631
наубион (vaußiov), египетский налог 523 наука и герметические псевдонаучные тексты 721
Наупорт (Врхника) IHd, 316 нахарары (армянская знать) 670 сноска 14, 673-674
начальники конницы (magistri equitum) 164, 218, 324
начальников пехотинцев (magistri peditum) 164, 218, 324 Неаполь, Палестина 808 сноска 34 Небесная богиня (Dea Caelestis) 752, 753, 760 Негев 8Ab, 693
недоимки 73, 530—531, 562, 595, 604 некрополи, христианские 850, 851, 852, 853, 857, 858, 874 см. также Рим (катакомбы)
Немавз (Ним) ЗСЬ, 334
Немара 7Ng, 8ВЬ, 282, 389, 692, 708
Немезиан
~ «Кинегетика» 942 Немезида, храм в Дафне 755 Немезион, александрийский мученик 844
1144
Указатель
НЕМ
«немой обмен», африканский обычай меновой торговли 294, 559, 584
Неокесария 3Fb, 817, 336
~ церковный Собор 822 сноска 80 Неон, епископ из Ларанды 818 неоплатонизм 239, 714—721, 889
см. также Амоний Саккас; Ямвлих; Плотин; Порфирий Непот, египетский епископ 884 сноска 180
Непот, египетский хилиаст 812 Нептун, храм в Лепте Большей 763 Нераций, юрист 230, 235 Нерон, император (Нерон Клавдий Цезарь) 481, 669, 784 Нерониад, епископ 814 сноска 57 Нессана 8Ab, 693 Несторианская церковь 660 Несторий, теург 736 Нехаленния, богиня 585 Нигер — см. Песценний Нигер Юст, Гай Нигриниан, племянник Кара 92 сноска 5
Нидамская топь, вотивный депозитарий здесь 634 Низар 709
низкие (humiliores) — см. благородные (honestiores)
Никасий, епископ Ди 793 сноска 5 Никейский собор 162—128, 135, 139, 512, 947
~ кафедры с особым статусом 130, 804, 808
*
Регионы, представленные на соборе:
~ Армения 816
- Восток 332, 803, 806, 808, 809-810 ~ Галлия 793
~ Греция и острова 796—797, 800 ~ Дунай 799 ~ Египет 814 -Кипр 797
- Малая Азия 814—815, 816—821 ~ Причерноморье 800, 817
Никея (Изник) 7 Le, 17, 279, 293, 305 Никомас, епископ Икония 820 сноска 77
Никомедия (Измит) 7Le, 2ЕЬ, ЗЕс, 336
- и Север 305
~ Каракалла здесь 31, 296, 300, 305
- Элагабал здесь 305, 932
- готы захватывают ее 60, 279
~ при Диоклетиане 78, 92 305, 574, (его резиденция здесь) 97,106, 112, 113, 216, 305, 942
- Константин здесь 136, 947
*
- дворец 112, 305, 574, 866 ~ дороги 291, 293
~ каменыцики отсюда 586 ~ монетный двор 226, 305, 500, 503 ~ надпись о протекторах 156
- строительство 303, 305, 572, 574,
906
- христиане 818, 863, 866, 874, 875 Никополь на Истре 1 Le, 56, 277, 280,
301, 328
Никополь, Каппадокия 293 Никополь, Палестина 808 сноска 34 Никополь, Эпир IKf \ 2Ес, 800, 335 Нил, египетский епископ и мученик 872 сноска 167
Нил, река и долина 5, 294, 295, 563 Ним — см. Немавз Ниса 6Gb, 646 Нисибида 7Pf, 6Db, 8Са
~ в парфянской войне Вера 266 ~ Север устанавливает здесь гарнизон 18, 19, 266 ~ обороняется от парфян 19 ~ Каракалла делает ее колонией 267
- Макрин воюет за нее с парфянами
36
- Ардашир осаждает 42, 652
- римский контроль 699
~ Ардашир захватывает 47, 653, 700, 934
~ Гордиан Ш забирает назад 52, 653
- Шапур I захватывает 58, 936 ~ Оденат возвращает 63, 655
ОБО
Указатель
1145
~ во время кампаний Диоклетиана и Галерия 107, 108, 656 ~ в римско-персидском договоре 108, 525, 579, 656
*
~ караванная торговля 693—695 ~ официальный торговый пункт
(commercium) между Римом и Персией 108, 281, 525, 579, 656, 658
~ в римской пограничной системе 310,385
~ христианство 810 Ниш — см. Наисс нобады (нубийцы) 282, 460 Новем Попули ЗВЬ—СЬ, 329, 330, 334 Новициан:
~ сочинения 796, 797, 882, 884, 885, («О Троице») 885 ~ схизма 797—798, 804, 810 Новы (Кривина) 377 Новы (Свипггов) 1Le, 2ЕЬ, 56, 277, 291, 302
Новы (Чезава) 369 Новый Завет, его канон 786, 789 Новый защитный кордон (Nova Praetentura) 268, 314
Новый Карфаген (Картагена) 1Ef \ ЗВс, 288, 335 Нойон, клад 596 Нойпоц 597, 623
Норик 2Db,, 4Fc, 318, 570, 623, 799, 940 ~ военное развертывание 4Fc, 266, 308, 364-365
~ провинциальная организация 308, 327, 330, 335, (Средиземноморский и Береговой) 3Db, 330, 335
нотариусы 171, 409, 421—422 нотная запись 884 сноска 180 ночная стража (vigiles) 524 нравственность 719, 861—862, 875 Нумений, пифагореец 716, 723, 773 Нумериан, император (Марк Аврелий Нумерий Нумериан) 297, 343 ~ как Цезарь 77—78
~ восточная кампания 77—78, 942 ~ наследует Кару 84, 942 ~ убийство 78, 92, 942
*
~ рескрипты 249—251 Нумерия, римская христианка 838 Нумерус Сирорум 1Eg, 313, 401 Нумидия IGf \ 2Сс
~ Север расширяет здесь присутствие 268
~ Гордианы побеждены ее легатом 934
~ беспорядки при Валериане и Гал- лиене 60
~ кампания Максимиана 105
*
~ ввозные сборы (portoria) 568 ~ военное развертывание 324, 397— 399
~ дороги 268
~ конфедерация Цирты 431 ~ кочевники 568 ~ организация границ 268, 313 ~ провинциальная организация 21, 151 сноска 37, 201, 328, 332, 337, (Циртийская и Милициа- на) ЗСс, 332, 337 ~рудники 855
~ христианство 801 сноска 13, 829, 852, 855, 856, 865 сноска 152 нуммий (монета) 488—489, 497
~ при Диоклетиане 478, 484—485, 489, 489-490, 494 ~ при Константине 486, 487, 497 ~ официальная стоимость 478, 491 ~ серебряный состав 489, 489—490, 494, 510
~ как стандарт 503 ~ типы 485—486 Нюдам, корабль отсюда 458
«О венце» («De Corona», анонимный мон- танистский трактат) 829 «О военных делах» («De Rebus Bellicis», анонимный трактат) 133, 223, 504, 544, 551
1146
Указатель
ОВЫ
«О вычислении Пасхи» («De Pascha Computus», анонимное сочинение) 885 сноска 182 Обервинтертур lGd, 316 обмен услугами 559 обменный курс 502 Обода (Авдат) 7Mg, 8Ab, 311, 693 обожание (adoratio), церемониальное 95, 215
обожествление императоров 19,48,53,70 оборонительные сооружения — см. фортификационные сооружения; стены, оборонительные образование:
~ правовое 230, 247 ~ устное преподавание 715, 721 общество 554—609
~ германское 630—631, 641, 643—644 ~ иерархия 548
~ искуство и архитектура и 888—889, 901
~ «кастовая система», предполагаемая 172 ~ консенсус 453
~ Константин преобразует социальные категории 418—419 ~ налогообложение приспосабливается к переменам 550 ~ отказ философов от него 725 ~ поляризация 598 ~ правовой статус, определяемый по статусу матери 603 ~ проблемы, вызванные Константиновой монетарной политикой 223
~ формирование отдельных групп 172
см. также всадническое сословие; высшие классы; индивидуальное и коллективное; класс, социальный; куриалы; мобильность; рабы и рабство; сенат; христианство (социальный состав)
обязанность, ответственность (obnoxietas), о куриалах 444—445,446, 455
обязательственное право 234 овёс 565, 633
Овилава (Вельс) 1Hd, 3Db, 290, 335 овцеводство 569, 632, 690, 694 «Огдоада в сравнении с Эннеадой» (герметический текст) 721 Ограда Юлиевых Альп (Claustra Alpium Iuliarum) 317 одежда 588—589
одежда, ее предоставление как форма натурального налога (vestis) 530, 541
Оденат Пальмирский 701—703 ~ происхождение 701 ~ попытка сблизиться с Шапуром I 63, 655, 702, 703
~ донимает армию Шапура I 58, 62, 63, 273, 702
~ разгром Квиета и Баллисты 273, 702, 703, 938
~ забирает назад Месопотамию, покушается на Ктесифонт 63, 273, 655, 702, 938 ~ и готы 64 ~ убийство 66, 703, 939 ~ римская экспедиция после его смерти 703
*
~ и Галлиен 63—64, 147, 273, 273, 655, 696, 702-703 ~ двор 703
~ независимость 146, 654—655, 702— 703
~ римские интересы, защищает их 60, 63, 273, 655, 696 ~ ттулы 71,701—703,937, (дукс и корректор всего Востока) 273, 702, 938
- и Шапур I 62, 63, 654-655, 702, 703
Оденат, сын Савада, филарх авидхов 705
одобрение народа (suffragium) 451 Одрисская равнина 293 ожерелья, германские, золотые 639 Оз, клад отсюда 511 Оклатиний Адвент, Марк 35
ОРИ
Указатель
1147
Оксиринх IMh, 5ВЪ ~ выборы 439 ~ герусия 469
~ гимнасиальный класс 468 ~ грамматик 469 ~ жилища 470
~ Капитолийские игры 90, 469 ~ налогообложение 523, 537 ~ папирусы, (поэма о восшествии на престол Диоклетиана) 90, (о заготовке фуража для императорских войск) 154,156, (христианский гимн с музыкальной нотацией) 884 сноска 180 ~ раздачи 441, 469, 581 ~ сельские литургии (общественные повинности) 432 ~ строительство 469 ~ христианство 813 сноска 54, 839, 884 сноска 180 ~ эфебы, их состязания 469 ~ aurum coronarium 541—542 Оксиринхский ном 472, 523 Октодур ЗСЬ, 334
Оланд, остров, римские монеты здесь 638
олений рог, его обработка, у германцев 630
оливки 563, 564; см. также масло, оливковое
Олимп, Ликия 818 Олимпия IKf \ 279 олово, британское 570, 571 Олтина — см. Альтин Ольвия 1Md, 47, 279 ономастика, пальмирская 689 опекунство 428
Опеллий Диадумениан, Марк 36 Опеллий Макрин, Марк — см. Макрин «Описание всего мира и народов» («Expositio totius mundi et gentium») 558, 813—814
описи муниципальных земельных имений (kalendaria) 547 ополчение, гражданское 47, 49, 426, 432 Оппиан, софист из Аназарба 297 определения (definitiones), правовые 233 Оптат, «О схизме донатисгов» 140
оракулы 718, 724, 728, 732, 741-742, 757 ~ Константинов запрет на них 758 ~ о философах 716, 724 см. также Гликон; Дельфы; Диди- ма; Кларос; лечебницы-святилища
Оранж кадастр 557
Орашье — см. Марг
Ореза (Тайибех) 7Nf 159, 310, 382
орехи 663
Ориген:
~ в Александрии 811—812,826,931 ~ в Цезарее 808 ~ заточение 843 ~ смерть 807 сноска 29
*
~ 240-е годы — изображает их как спокойные для Церкви 832—833 ~ Амвросий как его покровитель 817 сноска 69, 831 ~ в Афинах 800 сноска 10 ~ и Берилл 804
~ библейская ученость 884—885 ~ Григорий Чудотворец и 817, («Панегирик Оригену») 884 ~ о евангелизации 822 сноска 81 ~ и евреи 882
~ и ересь 804 сноска 21, 811, 882— 883
~ Ираклид, дискуссия с ним 804 сноска 21, 882-883 ~ и коптские христиане 813 ~ и наместник Аравии 803 ~ в Никомедии 817 сноска 69 ~ «О началах» 885 ~ письма 815, 817 сноска 69, 885, 886 ~ «Против Цельса» 831, 881, 882, 935 ~ риторически об обращении Британии и мавров 792 ~ сочинения о мученичестве 883 ~ «Толкование на Елвангелие от Иоанна» 831
~ трактаты и гомилии 884—885 ~ «Увещевание к мученичеству» 831 ~ и Фирмилиан 815 ~ и Юлий Африкан 817 сноска 69 ~ и Юлия Мамея 805 сноска 25 орихалк (монета) 480, 483
1148
Указатель
ОРМ
Ормизд I (Ормизд-Ардашир), царь Пер сии 58, 655, 679—680, 940 ~ наследование ему 649, 940 Ормизд П, царь Персии 656, 944—945 Ормизд, брат Ваграна П, его восстание 97, 655
Ормизд, брат Шапура П 684 сноска 110 Ормиздаган, битва при нем 651 Оронт, река, и ирригация 563, 690 орройи, арабы 688
оружейное производство, Никомедия 305
Орфей, его культ 747 Орцист 1Mf 436, 558, 564, 820 сноска 78 Оршова — см. Диерна осадная война 104, 317—318, 635 осведомители 31, 50, 414—415, 841, 842, 851
Осиек — см. Мурса
ослы, как транспорт 583, 592
Осроена 3Fc—Gc, 7Db—Ch
~ северовская провинция 18, 20, 267, 328, 332, 696-697 ~ при Каракалле 34, 267 ~ Гордиан П1 восстанавливает царство 328
~ Диоклетианов а провинция 332, 337
*
~ военное развертывание 159, 383— 384
~ христианство 809 Оссия, епископ Кордовы 795, 865 Остия 1Не
~ амфоры и другие керамические изделия 566—567, 604 ~ Дом августалов 917 ~ дороги 287 ~ коллегии 579 ~ мозаики 916—917, 918—919 ~ монетный двор 226, 500 ~ пекарня с ларарием 746 ~ порт 287, 579
~ Таверна Александра Хеликса 917 сноска 62, 917, 918—919 ~ термы, (Семи мудрецов) 917 сноска 61, (Терме-дель-Фаро) 917 сноска 63, (Терме-дель-Нуота- торе) 566, 604
~ Форум торговых корпораций 917 сноска 63
Острова (Insulae), провинция ЗЕс, 331, 336
Осха 107 ответственность:
~ коллективная, общины 408, 422— 423, 472
~ социальная, богатых людей 520 отгонное животноводство 568 Огён (Августадун, город эдуев) 1Fd, 506, 793, 940
~ посещение Константином и панегирик в его честь 297, 536, 538, 583
Отона (Брадуэлл) 1Ес, 315, 353 оффицины 203, 495, 500 охота 564, 632
~ в искусстве 911—912,914,921,922,924 Охрид (Лихнид) 148
Павел из Самосаты, епископ Антиохии:
~ гимны 884 сноска 180 ~ распри вокруг него 804—805, 805, 859, 885, 939
Павел из Тарса, святой 776, 796, 819 ~ «Послание к римлянам» 783—785 Павел, Антиохийский еретик в Александрии 811
Павел, африканский мученик 856 Павел, епископ Цирты 865 сноска 152 Павел, юрист — см. Юлий Павел Павия — см. Тицин Павлин, епископ Тира 807 паги 405, 431-432, 432-433, 449, 466 ~ со статусом «res publica» 431 Падуя — см. Патавий Пайкули 6Ес, 106 сноска 68, 649, 669, 681
Пакациан, Тиберий Клавдий Марин 54—55, 833 сноска 98 Пакациана 402 Пактумей Клеменс, юрист 230 Палатинский холм 295 Палестина, провинция 3Fc—d, 312, 327, 332, 337,387-389 см. также Палестина
ПАН
Указатель
1149
Палестина:
~ Диоклетиан здесь 97, 942 -дороги 311—312
~ иудейский первосвященник здесь (наси) 662
- маркионитская ересь 809
- медные рудники 311 ~ монеты 503
- недоимки 530
- «несущие палицы» 153
- Север здесь 20
- христианство 805, 807—809, 908,
(гонения) 112, 828, 832, 856, 863, 870, 871-874, 945 Палладий о жнейке 565 паломничество:
- христианское 293, 947
- языческое 739, 745, 768 Пальмира 7Ng, 6Сс, 7Dc, 8ВЬ, 700—704
- Каракалла организует колонию
701
- достигает могущества — см. Вабал-
лат; Зенобия; Оденат
- Аврелиан сокрушает 72, 153, 272,
273, 281, 460, 506, 658, 679, 696, 704, 706, 707, 754, 940
- восстание Аспея 72, 704, 940
- при Диоклетиане 159, 704
- в IV в. 704
*
- арамейский и арабский элементы
658-659, 686, 688-689, 689- 690
- армия 690
- временной масштаб ее расцвета
608
- дорога из Суря 310
- мозаики 920
~ монета 495, 704
- общество и экономика 589, 590,
654-655, 689-690, 701
- письменность 689
~ римский имперский язык 85 ~ римское военное присутствие 159, 320, 386, 704
- сафаиты в 691
- строительство 320, 573, 704 ~ и танух 706—707
~ торговля 581, 646, 693—695, 701 ~ христианство 704, 806 ~ и Эмеса 690—691
пальмирцы (этническое подразделение в римской армии) 144 Памонфий, виноторговец 595 Памфил из Цезареи 808, 882, 884, 945 Памфилия Ш/, 280, 336, 423, 818, 875 Панафинейские игры 759 панегирик:
~ Диоклетиану, из Оксиринха 90
- лесть 555
~ Порфирия Оптатиана Константину 137
- Элия Аристида «К Риму» 207, 307,
410, 604
панегирики, латинские 9, 91 сноска 2, 102, 118 сноска 1
- IV, Назария, 321 г. 118 сноска 1
- V (VIO), 312 г. 536,537,583 -VI, 310 г. 119,139
- Vn, 307 г. 99, 118
- Vin, 297 г. 88, 97, 97, 100, 103, 104,
105, 161
~ IX, 298 г., Евмения из Отёна 488, 536 сноска 191
- X, 289 г. 96,96
- XI (Ш), 291 г. 97,755
- ХП (IX), 313 г. 768 Паннония IHd—Jd
~ Север здесь 15, 16
- в реорганизации Каракаллы 34
- Дион Кассий как ее наместник 41 ~ Максимин здесь 43
- набеги кв адов и язигов 54 ~ Деций замиряет ее 935
- при Галлиене 61, 275, 937
- восстание Ингенуя 61, 147, 148, 298,
937
~ варварская угроза в 260-х годах 69 ~ Аврелиан разбил вандалов и сарматов 70, 940
- Юлианов мятеж 79
- при Диоклетиане 93, 330, 335
- карпы обосновались в ней 105, 276 ~ Галерий здесь 945
~ сарматское нападение (322 г.) 284— 285
1150
Указатель
ПАН
*
~ военное развертывание 164, 325, 328, 365-369 ~ горное дело 570 ~ епископы 799
~ присутствие императоров 339—348 ~ провинциальная организация, (Пан- нония I, П, Савойя и Валерия) IHd—Jd, 330, 335, (Паннония Верхняя и Нижняя) IHd—Jd, 2Db-Ed,, 3Db, 308, 327, 328, 330, 335, 365-369
~ фортификационные сооружения 316, 318
Паннонский диоцез 3Db—Eb, 225, 330, 335
Панополь 7Mh, 5ВЬ, 460, 469
~ папирусы, (об армейских окладах) 161,540,544, (о cursus publicus) 425, (о снабжении войск) 467, (о реквизициях на его нужды) 543, (Р. Panop. Beatty) 161, 479 сноска 9, 487 сноска 30, 494 Пантен, александрийский христианин 782
Пантен, сицилийский христианин 796 пантомимы 795
Пап, царь Армении 672 сноска 27 Папак, ранний Сасанид 648—649 Папий 778
Папиниан — см. Эмилий Папиниан Папиний Стаций, Публий 507 папирусы 11
~ алхимический 727 ~ и Антонинова конституция 33, 409 ~ бодмерея, фрагмент ее текста 525 ~ о визитах императоров 298 ~ Гай, его текст 233 ~ гороскопы 726 ~ о жалованьи солдатам 540, 544 ~ об инфляции 195 ~ о куриалах 447 ~ магические 725—726, 727—728 ~ о монетарной системе 220, 479 ~ музыкальная нотация 884 сноска 180
~ о налогообложении 514
~ об охране общественного порядка 426-427
~ парижский магический, PGM IV 728
~ о почтово-транспортной системе (cursus publicus) 425 ~ Райлендза, ок. 130 г. н. э. 782 ~ о реквизициях в золоте и серебре 543
~ о снабжении войск 154, 156, 467 ~ сочинения юристов 232 ~ о торговле с востоком 581 ~ фиванский тайник 728
*
темы 9-10, 88-89, 169 ~ о фискальных литургистах 422 см. также при Оксиринх, Панополис папство, понтификат 783—784, 786, 804 ~ календари (каталоги, книги) 830 см. также при отдельных папах парафюлаки («стража», военные командиры) 426
Парентий (Пореч) 880 Паретоний ILg, 5Аа, 294, 332, 337 Парнасе, Каппадокия 815 сноска 61 Парфия IPf, 2Pc-Gc, 646, 648—649 ~ кампания Вера 266 ~ северовский период 266—267 ~ при Вологезе V, (кампании против Севера) 18, 19, 267, 648, 677, 700, 907
~ соперничество за власть 34, 650, 931
~ при Артабане V, (кампании Кара- каллы) 34, 267, 932, (кампания Макрина) 35—36, 700, 932 ~ Ардашир захватывает власть 42, 650-652, 678
*
~ и арабские клиентские государства 696
~ и Армения 646, 648, 668, 669, 677— 678
~ армия 143 ~ источники 646 ~ иудейский эксилархат 661, 662 ~ лимес 581
ПЕР
Указатель
1151
~ монета 509—510, 651 ~ надписи 646
~ последствия войн, (в Пальмире) 700, (для римской экономики) 598
~ религия 646 ~ торговля 586, 646 ~ феодализм 646 ~ христианство 809, 810 сноска 46 Пассау-Иннпггадт (Бойодурум) 315, 364 пастухи 568—569, 600 пастушество — см. скотоводство Пасха 886
~ споры о дате 123, 127; 777, 784, 789, 807, 809, 816, 886, 885 сноска 182
Патавий (Падуя) 290 Патара 818 сноска 70 Патермуфий, египетск мученик 872 сноска 167
Патерн, проконсул Африки 851 Патерн, Публий Таррунтен, юрист 230, 230
патриархальное общество 26 патримоний 191—192, 545—546
см. также поместья, императорские патронаж 174, 453—454, 578 см. также евергетизм Пафлагония IMe—Ne, 3Fb, 331, 336 Пафос 2Fc, 3Fc, 797, 921 сноска 75, 337 Певензи (Андерит) IFc, 315, 353 Певтингерова карта 286, 290 сноска 73, 291, 292, 303, 581
Педий, Секст, юрист 236 сноска 32 Пелей, египетский мученик 872 сноска 167
Пелла, Палестина 772 Пелопоннес 1Kf, 279, 800 Пелузий 1Mg, 3Fc, 5Ва, 294, 312, 337, 391
Ленинские горы (Большой Сен-Бернар) IGd, 289
Пентаполь, Ливия Верхняя 332, 812 Пепуза 778, 820 Перга; монетный двор 499 Пергам 2Ес, 331, 532, 732, 740, 776 Перегрин, киник 773
переправа, сборы за ее использование 547
перераспределение, экономическое 556, 575-576, 578-579, 590, 606 Перинф 1 Le, 2ЕЬ, 303, 305, 307, 406 ~ переименован в Гераклею 94 сноска 14, 293 периодизация 8
Перозшапур («Шапурова победа») 653 Перпетуя, африканская мученица 800 сноска 11, 802 сноска 16, 826— 828
~ «Страсти Перпетуи и Фелицитаты» 825, 931
Персида 6Fd—Gd, 648, 650, 650, 931 Персия IGf \ 19, 645—657
~ сасанидские цари 648—657, [см. также Адурнарсех; Арда- шир; Вагран I; Вагран П; Нар- сес; Ормизд I; Ормизд П; Ша- пур I; Шапур П)
*
~ и Албания 675
~ и арабы 648, 657—659, 662—663, 696, 699—700, 707, [см. также при Эдесса; Хатра)
~ армия 658—659, 664, 670 ~ и ахеменидская традиция 84, 650, 657, 678, 700 ~ добыча 654, 663 ~ и Иберия 675 ~ и Константин 136, 658, 684 ~ короны 651, 664 ~ культурное влияние 663—664, 665 ~ надписи 646, 649—650, 652, 668— 669, [см. также при Бишапур; Пайкули; Накш-и-Рустам)
~ мифология и историография 657 ~ монета 509—510, 651, 655, 663—664 ~ пограничные оборонительные сооружения 658, 659 ~ право (dad) 665 ~ продукты питания и специи 663 ~ религии 659—663, (христианство) 659-660, 662, 809, 810-811, 859, (иудаизм) 661—662, 810, (манихейство) 655, 660—661,
1152
Указатель
ПЕР
810, 859—860, (система милле- тов) 660, 662, (см. также Зороастризм)
~ рельефы наскальные 650, 651, 654, 655, 658, 664
~ Рим, отношения с ним 657—659, 664, 665, (Персия как угроза) 34, 79, 81, 147, 554, 648 ~ сельское хозяйство 663 ~ торговля 586, 646, 663—664, (Ниси- бида как commercium) 108, 281, 525, 579, 656, 658 ~ централизация 646, 648, 652, 664 ~ экономика 554, 664 Пертинакс — см. Гельвий Пертинакс, Публий
Песценний Нигер Юсг, Гай
~ гражданская война против Севера 15, 17, 24, 302, 495, 696, 697, 700, 930 ~ монета 495
~ победа Севера 18, 293, 930 ~ Север наказьшает его поборников 17—18, 189, 512, 575, (см. также при названиях Византий; Никомедия)
~ и христиане 825 сноска 86 Петавия (Птуй) 799 петиции императору 270, 299—300, 427, 431
~ от городов 299—300, 441, 875, (Ор- цист) 436, 558, 564, 820 сноска 78
~ от императорских колонов 434, 561, 602
~ от церкови 857, 859 Петовион (Птуй) IJd, 148, 291, 322 Петосорапис, сьш Горп, из Мермертха 849
Петр Патрикий 87, 656, 668 Петр, апостол 775, 784
~ апокрифические сочинения («Проповедь» и «Евангелие») 775, 776
~ Первое послание 785 Петр, епископ Александрии 812, 885, 886
~ мученичество 461, 874, 945 ~ о способах спасения во время гонений 864 сноска 148, 867 сноска 155, 868
Петр, христианин на имперской службе 867
Петра INg, 6Сс, 8ВЬ, 311, 646, 692-694 Петроний Магн, Гай 46 Печ — см. Сопиана
Пиавоний Викторин, Марк, император в Галльской империи 69 пиво и пивоварение 565, 567, 591 Пиер из Александрии 812, 884 Пизос ILe, 20, 302, 426 Пизос, эмпорий здесь (Forum Pizus)
(совр. Чирпана) ILe, 20, 302, 426
Пий Эсувий Тетрик, Гай — см. Тетрик пикты 111, 283 Пилат, его «Акты» 875 Пинкум (Велико Градипгге) 369 Пинна, египетский епископ 857 Пионий 807 сноска 32,819, 825, 834, 835, 836 сноска 105, 843, 846 пиратство — см. при франки; готы Писидия 3Fc, 331, 336 Пист, епископ Марцианополя 799 писцы — см. грамматеи письма (epistulae), вид императорских конституций 244—245 письменность:
~ арабская 691, 695 ~ арамейская 674, 688, 689, (используется арабами) 692, 695 ~ армянская — отсутствие до V в. 674 ~ германские руны 640 ~ набатейская 708
письмо, материалы для него 422, 525 сноска 146
Питиунт 1Ре, 278, 310, 379, 817, 937 Пифагор и пифагореизм 716—718, 723 Пицен, регион 338
Плавциан, префект претория 27—28, 931
~ Каракалла женится на его дочери 21,43
~ смерть 28, 30, 931
пов
Указатель
1153
~ влияние 187
~ поместья 545, 566, 567, (конфискация) 189-190, 512, 545, 567 ~ проклятие памяти (damnatio memoriae) 903
Плавций, юрист 235 Плавцилла, императрица 21, 43, 903 планировка городов 303, 573 платеж городского магистрата при
вступлении в должность (summa honoraria) 441,442 Плаценция (Пьяченца) IGd, 275, 288 плебисциты как источник права 239 плебс, городской:
~ выборы путем аккламации 439,551 ~ преторианская гвардия, столкновения с ней 42, 49
~ привилегии 179, 208, [см. также конгиарии; раздачи)
~ и Север 17, 21, 24, 179, 204-206 см. также толпа
племенные структуры (gentes) 434, 449, 686
Плёкен, перевал IHd, 290 Плиний Секунд, Гай (Плиний Старший) 513, 563, 565, 568, 688, 690 Плиний Цецилий Секунд, Гай (Плиний Младший) 210, 427, 440, 779— 780, 817
Пловдив — см. Филиппоополь плодородие, его культы 643 Плотин 714—721
~ и абстракция в визуальном искусстве 889
~ и Амоний Саккас 717 ~ Аполлона оракул о его душе 716 ~ об Аристотеле 715 ~ о Боге 715, 723
~ «Жизнь Плотина» Порфирия 715, 716
~ и магия 726, 730 ~ о множественности богов 713 ~ и Нумений 716 ~ рождение 931 ~ смерть 939
~ созерцательность, установка на нее 725
~ и традиционная религия 716, 719, 730
~ устное обучение 715, 721 ~ христиане его читают 725 ~ «Эннеады» 715
Плутарх (Луций Местрий Плутарх) 737 Плутарх, бра Иракла, мученик 826 По, долина реки 563, 586 победные монументы:
~ Авзия 282
~ Аугсбургский алтарь 88, 274, 623 повинности, литургии (munera) 10 ~ взимание налогов 423, 432—433, 453, 526-528 ~ и города 519—521, 549 ~ демос как их исполнитель 449 ~ в деревнях 433 ~ долги как их результат 595 ~ духовенство освобождается от них 879
~ идеология 519—520 ~ имущественные (patrimonialia) 520-521
~ и куриалы 449, 527, (уклонение от них) 419, 435, 447, 451—453, 456, 470, 578
~ и литургическая традиция 407, 520 ~ личные (personalia) 520 ~ и налогообложение 413, 520—521 ~ в натуральной форме 521 ~ обязанность 520 ~ освобождения от них 549, 603, 604 ~ «подлые», «грязные» (sordida) 520 ~ почетные должности им уподобляются 412, 444, 453, 469—470 ~ принудительный труд 526, 549, 604 ~ протостаты 429
~ и профессиональные объединения 449
~ северовского времени 412, 455 ~ смешанные (mixta) 520 ~ сочинения юристов о них 248, 254, 411-412, 519-520 ~ «телесные» (corporalia) 520
1154
Указатель
ПОВ
~ их формализация 425 ~ членство в корпорациях как 192 см. также города (освобождение от обязательств); повинности (munera); и при словах деревни; Египет
повозки — см. колесницы погонщики верблюдов, их заработок 583
пограничье — см. восточное пограничье погребальные обычаи — см. захоронения
подарки воинам 80, 158, 161—162, 472, 475
~ при Северах 21, 22—30, 40, 80, 179, 193
~ Максимина Фракийца 47 ~ Аврелиана 506 ~ Диоклетиана 220 ~ Константина 132
*
~ золотые монеты в их качестве 504 ~ солдатское жалованье (donativum stipendiumque) 540 см. также конгиарии подушный налог (capitatio) 413, 422, 536, 539, 602, 604
~ египетская версия 465, 537 ~ как налог на собственность 534— 535, 536
~ обложение городского населения (capitatio urbana) 449 см. также трибут (capitis) пожары, в городах 576, 895 пожертвования, добровольные или обязательные 559
поземельный налог (iugatio) 422, 465 Поланьи, Карл 556, 609 полба 565
Полемон, храмовый служитель из Смирны 835 сноска 102, 837 сноска 107
Поликарп, епископ Смирны 777, 784, 789, 790, 819
Поликрат Эфесский 784, 819 политеизм (язычество) 711—730, 731— 748, 749-771
~ беспокойство по поводу пренебрежения к богам 83, 756, 767—
768, 769-770
~ галло-римский 752, 760, 766—769 ~ гражданские культы 443, 733, 754, 759,769, (и христиане) 769, 785, 795-796, 878
~ групповые идентификации внутри него 749
~ догматика отсутствует 713 ~ домашние культы 746—747 ~ и евреи 836
~ жертвоприношения «всем богам», ежедневные 757, 768, 769— 770
~ и императоры 474—475, 749—758, 768—769, (отношения с божественным миром) 83, 86, 95— 96,102-103,214-215,474,749- 750, [см. также императорский культ и при слове легитимация, императорская)
~ индивидуум и боги 731—748, (интимный характер отношений) 735—736, (особые отношения) 737-746
~ интеллектуалы и 714, 724, 725, 756, 768
~ и искусство 747 ~ исповедание грехов 719, 738 ~ источники 711 сноска 1 ~ кельтский 766—768 ~ в Константинополе 131 ~ местные особенности 660, 759—760,
769, 835
~ мировоззрение 708—730 ~ многообразие 713—714 ~ мораль 719
~ образы богов 735, 736, 737, 757-758, 767
~ общение с богами 738 ~ публичная религия 749—771, (роль императора) 749—758, (региональные перспективы) 759— 769, (ритуалы) 732—733, (искренняя набожность) 747, [см. также императорский культ)
ПОР
Указатель
1155
~ региональные культы 759—769, (см. также при словах Галлия; Три- политания)
~ ритуал, его ежедневное соблюдение 733-734
~ святилища и культы 731—748 ~ в сельской местности 733, 766—769 ~ сила, божественная 718, 719—720, 731, 735, 737, 771
~ смерть и загробная жизнь 748, 768 ~ социальный аспект 725, 732—733 ~ спиритуализм 731, 736, 744 ~ и ученость 716 ~ чистота 719, 734 ~ эволюция 713, 735 ~ эмоция 736, 746—747 ~ этика 719, 721, 731 см. также имена отдельных богов и верховный понтифик; в отавные подношения; генотеизм; герметазм; жертвоприношения; императорский культ; лечебницы-святилища; магия; монотеизм; оракулы; рощи, священные; священство; синкретизм; Солнце; храмы; а также при именах отдельных императоров и паломничество; праздники; философия; христианство
политика:
~ германская политическая система 622
~ и единство империи 590 ~ и искусство и архитектура 889, 901, 906-907, 914
~ рост издержек на политическую систему 555
~ философский отказ от нее 725 ~ и язычество 725
полицейский порядок, его обеспечение 426, 707
поместья, императорские 14, 545—546 ~ арендные договоры 546 ~ африканские 191, 434, 529 сноска 164, 545, 561, 563—564 ~ доходы 191—192, 545—546
~ каменоломни 570, 586—587 ~ Константин дарит Церкви 546 ~ при Макрине 192 ~ продажа 546, (проект Диона Кассия) 518-519, 545-546, 551 ~ рабочая сила 434, 561, 600—601, 601-602, 603-604 ~ расширение 545, 567, 601 ~ рудники 506—507, 545, 559, 571 ~ сальтусы 559
~ северовская реорганизация 189— 195, 204-205, 567
~ управление и надзор 183, 189—190, 434, 538, 567, 600 ~ и экономика 191—192, 559 Помпей Великий 293, 294 Помпейополь 817
Помпоний Басс, корректор всей Италии
211
Помпоний Лэтаан, ректор Востока 416 Помпоний, Секст, юрист 230,233,234,236 Поне-Навата (Вышеград-Сибрик) IJd, 319, 366
Понс Эни (Иннсбрук) 289 Понт Ше
~ готское пиратство 74 ~ провинциальная организация 184, 323, 328, 331, 336
~ христианство 779—780, 805, 816— 817, (гонения) 831—832, 843, 868 сноска 157, 879 Понт Полемонов 3Fb—Gb, 331, 336 Понтаан, епископ Рима 830 Понтий, «Жизнь Киприана» 883 Понтийский диоцез 3Fb—c, 225, 331, 336, 869
понтифик, Верховный 750, 758, 769 понтоны, плоты 590, 624 Пореч (Парентий) 880 Поролиссум (Мойград) IKd, 292, 373 порочность:
~ христианское учение о ее наследственном характере 788 ~ коррупция 169, 171, 269 Порт (Остия) 1Не, 287 Портус Адурни — см. Портчестер Портус Дубрис — см. Dover
1156
Указатель
ПОР
Портус Аеманис — см. Лимпн Портус Эпиатици — см. Уденбург Портчесгер (Портус Адурни) 1Ес, 315, 353
порфир (камень) 267, 569, 586—587 ~ скульптура тетрархов в Венеции 586, 892, 895, 899, 902 Порфирий Огггатиан 137 Порфирий:
~ Августин о нем 730 ~ оракул о нем 724 ~ и Плагин 715, 716, 717, 722 ~ рождение 934 ~ в Сицилии 796 ~ о теургии 720, 722 ~ и традиционная религия 723, 729 ~ учение, противоречия в нем 723 ~ и христианство 140, 756, 823, 854, 882
*
Сочинения:
~ «Жизнь Пифагора» 717 ~ «Жизнь Плотина» 715, 716, 717 ~ «О пещере нимф» 745 ~ «Письмо к Анебону» 721, 723 ~ «Против христиан» 756, 796, 823 Порфиритова скала IMh, 5ВЬ, 267 порядок, общественный 28, 225, 426— 427, 432, 437
«Послание к Диогнету» (анонимное) 790 сноска 52
поставка новобранцев (tironum praebitio), как налог 217, 429—430 постой солдат — см. пристанище войскам
Постум, Марк Кассиан Латаний, правитель Галльской империи:
~ монета 483, 499, 500, 507, 905 см. также Галльская империя (при Постуме)
Потаисса (Турда) IKd, 2ЕЬ, 291, 308, 374
Потамиена, александрийская мученица 826
Потидея 65
потребление 586—591, 608
Пофин, епископ Лиона 789, 790 почетные должности — см. магистратуры
почтовая и транспортная государственная система (cursus publicus; vehiculatio) 209,287,425-426, 583
~ реквизиции на ее нужды 28, 270, 425—426, 521, (àyyaprjia) 425— 426, 526
пошлина за провоз товара 522, 524—525 пошлины ввозные (portoria) 194, 524— 525, 528, 534, 568, 579 ~ их сбор 525—526, 528, (оснащение) 525 сноска 146
см. также пошлины таможенные пошлины таможенные 14, 522—525, 656 ~ внутри империи 547, 579 см. также пошлины ввозные (portoria)
Праведный и Справедливый бог (боги), фригийский культ 738 правила, collectüix сборники, правовые 233
правительство:
~ северовское 195, (см. также при отдельных императорах)
~ при анархии 196—199, (и город Рим) 204—208, (реформы Галлиена) 199—204, (провозглашение, преемство, легитимация императора) 196—198, (провин- циализация Италии) 208—212
*
~ авторитаризм 169 ~ контраст между политической директивой и ее административным исполнением 167, 168— 170
~ «кризис», его теория 166, 167—168 ~ личный характер 169—170 ~ перемены и преемственность 166— 172
см. также административное управление; императоры; право; сенат
ПРЕ
Указатель
1157
право 10
~ авторитарный стиль 404 ~ латинское право 405 ~ местное, в провинциях 406, 409— 410, 411
~ удвоение правовой системы 174— 175, 179-186 ~ фискальное 249, 463 ~ школы 234, 237, 252, 256
*
Классическое 229-247 ~ Августовой эпохи 239, 415 ~ при Адриане 230, 234, 240—241, 243, 245, 777-778
~ Диоклетиан привержен ему 106, 115, 249, 250-251
~ индивидуализм правовой науки 236-237
~ источники 239, 245—246 ~ компиляции 232 ~ Константин отходит от него 257 ~ логичность 238, 245—246 ~ северовское 25—26, 185, 231—232, 240, 246, 463, 521, 539 ~ его философия 238 ~ формулярная система 233 ~ «Эдикт» 234, 240—241, 255 ~ его эпиклассические антологии и эпшомы 249,251-253,255-256 ~ и эпиклассическое право 249—250, 257, (последовательность и консолидация) 248—249, 254, 257 ~ юридическое образование 247 ~ oratio principis 240 см. также конституции, императорские; сенатусконсульны
*
Эпиклассическое 248-257 ~ «Закон о цитировании» 231, 234 ~ и классическое право — см. выше ~ комментарии классических текстов 255—256
~ компиляции 249—250, 254—256, 256, («Эпитомы права» Гер- могениана) 254—255, («Сентенции» Павла) 255—256 ~ наказания, их жестокость 867 ~ рескрипты 249—251
~ христианское влияние 137—138 ~ школы 234, 256
*
см. также закон [lex, leges); италийское право; кодексы, правовые; преемство, право; юристы; и при словах брак; императоры; куриалы; наследование; Персия; собственность; и при отдельных императорах правосудие:
~ апелляции 408, 411 ~ Диоклетиан делает обязательным жертвоприношение перед рассмотрением иска 863 ~ епископские суды 429 ~ личное участие Северов в судебных разбирательствах 25—26, 32, 40, 463
~ и префект города 186 ~ роль городов и наместников 406, 428
~ роль префекта претория 186—187 ~ роль четырех консуляров 209 ~ сыскные агенты тайной полиции (agentes in rebus) 428 ~ тетрархические реформы 225,251— 252
~ и христиане 428—429, 786, 863 праздники:
~ Пасха становится им 138 ~ языческие 515, 732—733, 759 Праксагор 137 Праксей 801, 825 Праунхайм 624
Превалис (Превалитана) 3Db—Eb, 330, 335
превосходнейшие (perfectissimi), титул 418
предсказатели судьбы 726 презесы 165, 184, 202, 327-328 премия обмена, лаж (7cpoa8typacp6(X£vov) 532
«Премудрость Иисуса Христа» 811 прения на судебных процессах 230, 235 препозиты:
~ лимеса 324 ~ патов 431, 438, 466
1158
Указатель
ПРЕ
претавы, арабы 688 преторианская гвардия:
~ избирает Дидия Юлиана 14 ~ реформы Севера 22, 24, 28, 145, 179, 321
~ и поздние Северы 31, 38, 41 ~ утверждает Гордиана III 50, 197, 934
~ Константин ее распускает 163, 321
*
~ военное значение 321 ~ и Кассий Дион 41 ~ ссоры плебса с ней 42, 49 преторский «расход» (sumptus) 543—544 преторы 240—241, 543—544 префекты:
~ анноны 933
~ анноны Александрии 417 ~ всаднического ранга, провинциальные 183
~ города 186, 206, 225—226, 823 ~ действующие вместо легата 201 ~ ночной стражи (vigilum) 230 префекты претория:
~ при Северах 39, 186—187 ~ при тетрархах 93, 100, 214 ~ при Константине 132, 538
*
~ Аркадий Харизий о них 254 ~ викарии 225—226 ~ сенаторский ранг 39, 187 ~ судебная функция 25, 186 ~ юристы в этой роли 185—187, 230, 931, (сж также Домиций Уль- пиан; Эмилий Папиниан) При Диане (Ad Dianam) — см. Йотвата прибытие императора (adventus) 120, 216, 297, 504
привилегия давать юридические ответы (ius respondendi) 230—231 Примол, африканский мученик 856 принудительные работы 526, 549, 604 принципалы (principales, 7rpo7roXtT£uo[xevoi) 467 сноска 40
Приск, Луций, наместник Фракии 56 Приск, палестинский мученик 856
пристанище войскам, зимние квартиры (hospitium) 424-425, 521, 522
Присцилла, катафригийская еретичка 778
Проб, Марк Аврелий, император 74—77, 941-942
~ рожден в Сирмии 304 ~ восшествие на престол 74, 941 ~ разгром готов в Анатолии 75, 941 ~ дунайская и западная кампании 74-76, 273-274, 275, 625, 941 ~ на востоке 75, 76—77, 942 ~ подавляет восстание Боноса и Про- кула 76, 274, 941 ~ триумф в Риме 76, 296, 941 ~ смерть 77, 304, 942
*
~ и Армения 680
~ армия при нем 76, 77, 86, 271, 274 ~ Британия при нем 76, 271, 315 ~ и виноградорство на севере 76 ~ источники, благожелательные к нему 269, 273 ~ монета 511
~ поселение варваров в империи 76, 271, 276
~ и провинции 328, 343 ~ и сенат 296 ~ солярный генотеизм 76 ~ фортификационные сооружения 275, 315-317
Проб, Тенагинон, префект Египта 69, 71
провинции 10—11, 286—307, 350—402, 403-456
~ дороги и пути 286—294 ~ Египет теряет особый статус 185, 224, 225, 457-159, 468 ~ императорские 180, 181—185, 225, 327
~ имперский правящий класс из них 208
~ Иовиевы и Геркулиевы провинции 94, 103, 462
~ в Италии, административные округа 168 сноска 59
ПРО
Указатель
1159
~ Италия теряет особый статус 185, 193, 208-212, 212, 224, 225, 327, 338
~ италийское право 208 ~ законы 406, 409—410 ~ межпровинциальные округа 86, 202, 416
~ мир в них 559 ~ мятежы 81 ~ ополчение 47
~ организационные изменения 428— 429, 327—333, 338, (см. также при именах Галлиен; Диоклетиан)
~ Осроена управляется царем под контролем прокуратора 20 ~ правовые системы 180, 181—185 ~ правосудие 225, 406, 408, 428—429 ~ римского народа 180,181—185,201— 202, 210, 225, 327 ~ романизация 28—29, 85 ~ цены в 417—418, 606 ~ экономические различия 516, 559, 591, 604-607
см. также администрация, местная и провинциальная; города; гражданство, римское (распространение на провинции); границы; диоцезы; наместники, провинциальные; столицы, региональные и провинциальные; см. также при словах императоры; монета продажа рабов:
~ четырехпроцентный налог на нее (quinta et vicesima venalium mancipiorum) 524
продажи с торгов (аукцион), однопроцентный налог на них 524 продовольственное снабжение:
~ благотворительность гарантирует его 549, 591 ~ в Египте 441, 470 ~ при Коммоде 204 ~ местная специализация 586 см. также Рим (снабжение) производство 576—577, 588—589
см. также гончарные мастерские; ремесленная продукция; фабрики; и при отдельных товарах
происхождение (nativitas) и гражданские повинности 452
происхождение, родина (origo), концепт при определении гражданства 406, 463, 520-521, 562, 595, 602
проклятие памяти (damnatio memoriae) 114 сноска 102, 197, 903
проклятия, таблички с ними (defixiones) 726
Проконнес, мраморные каменоломни 569, 587
проконсулы 182, 201—202, 224, 226, 327
Проконсульская Зевгитана, провинция 337
Прокопий, историк 460—461
Прокопий, христианин из Скифополя 873
Прокул, узурпатор 76, 271 сноска 18, 941
прокураторы 183
~ апелляции против них 414 ~ всаднического ранга 167, 181, 528, (развитие должности при Северах) 184, 187-189, 411, 413— 414
~ Гордиан III борется с их произволом 415
~ Диоклетиановы, новые 101 ~ в Египте 470
~ заведующий маслом, приготовляемым в Триполитании 567 ~ императорские рабы и вольноотпущенники 187—188 ~ императорских поместий 181, 183, 188, 570-571, 601
~ по имуществу осужденных 190 ~ по имуществу Плавциана 190, 512 ~ в Италии 25, 189, 209 ~ карьерная специализация 23, 24, 188-189
~ в Келесирии 414 ~ в Мавретании 327
1160
Указатель
ПРО
~ освобождение от налогов 519 ~ Осроена как царство под их управлением 20
~ в провинциях народа 184, 188 ~ сбор налогов 47, 194, 209, 528 ~ управляющие имением 601 ~ финансовая юрисдикция 101, 181, 188, 224, 413-414, 470 ~ и ценз, его проведение 184 ~ в центральных секретариатах 181 ~ res или ratio privata 25 пророчества — см. оракулы просо 565, 633
просопографические исследования 199 проституция 806, 843, 875 протекторы 152, 156, 163—164, 322 Протоген, епископ Сардики 799 Протоктит, пресвитер Цезареи 831 протопраксия 413, 548 протостасия 161, 429 прототипия 161 Прохаиресий, ритор 737 Пруса ILe, 279
пряжа, ее производство 557, 590 Птолемаида, Египет 3Fd, 5ВЬ, 282, 294, 313, 463, 523, 337 Птолемаида, Финикия 807 Птолемей 783
Птолемей, александрийский мученик 844
Птуй — см. Петовион публиканы 182—183, 443 публичное судопроизводство (iudicia publica) 236
пуническая культура и религия 761, 765, 767, 801
Пупиен, император (Марк Клодий Пу- пиен Максим):
~ восшествие на престол 48—50, 82, 197, 934
~ монета 197, 482
~ совместное правление с Бальбином 49-50, 82
~ убийство 50, 934 ~ проклятие памяти (damnatio memoriae) 197
пурпурная краска 587, 589, 604
Пустерталь IHd, 290 пустыни и полупустыни 563, 564, 579 см. также арабы и народы пустыни пшеворская культура 627, 628 пшеница 565, 632 см. также зерно пытка 26, 138, 427, 427
~ применяется к христианам 842, 843, 845, 863, 867, 873-874 Пьяцца Армерина 487 сноска 30, 599, 924
Пьяченца — см. Плаценция
Рабат (Сала) 402
рабочая сила 559, 571, 599—601
~ армия строит городские стены 430 ~ военнопленные варвары в этом качестве 76 ~ из Фарса 650
см. также жалованье; колоны; комплектование армии, крестьяне; рабы и рабство рабы и рабство 559, 599—600
~ дети, продаваемые за долги 595, 600
~ добровольное рабство 600 ~ должники обращаются в рабство 595
~ императорские 187, 189, 881 ~ источники рабства 600 ~ Константин запрещает ставить клеймо на лицо 138
~ крестьяне, обращенные в рабство за побег 602
~ налогообложение 524, (см. также налог со стоимости выкупа раба)
~в рудниках 571 ~ из Северной Европы 584 ~ сельскохозяйственные 600 ~ цены 592
Равенна 1Не, 49, 290, 306, 363, 799 ~ Диоклетиан здесь 113, 297 ~ маркоманны нападают 275, 936 Равна (Тимакум Минус) 372 Равсимод, сарматский вождь 285 Радес, мозаики отсюда 921 сноска 77
РЕК
Указатель
1161
разбойники 426—427, 562 ~ в Италии 28, 210, 568, 931 ~ в Малой Азии 75, 426 см. также багауды; буколы развод 125 Разград — см. Абритт раздачи в Риме 191—192, 204—206, 515, 575-576, 580-581 ~ Аврелиановы 207 ~ вино 515, 540—541, 576, 580, 581 ~ другие города подражают 469, 566, 581
~ зерно 192, 204-206, 515, 540, 565, 576, 581
~ масло 192, 515, 540, 566—567, 576, 580
~ свинина 207, 212, 515, 540—541, 569, 576, 581
~ северовские 204—206 -хлеб 576,581 разделение империи:
~ восток — запад 8, 30, 59, 175 ~ между Диоклетианом и Максими- аном 213
~ прецеденты для тетрархической модели 86, 199
~ социальные и экономические последствия 555, 591, 605 ~ увеличение затрат (на содержание нескольких столиц и дворов) 555, 605
размежевание, территориальное (limitatio ши terminatio) 442 Ракка — см. Каллиник Рам — см. Ледерата Рам, Вади 8Вс, 693, 706 Рапидум 400 распятие 138
Ратиария (Арчар) 1Ке, ЗЕЬ, 291, 292, 331, 335, 371
Рафанея 7А/, 311, 385, 932 Рафия 1Mg, 294 Рашова (Флавиана) 378 Ревокат, карфагенский мученик 826 Регалиан, узурпатор 298, 937 Регенсбург (Кастра Регина) IHd, 2Db, 4Fcy 46, 289, 315, 321, 360
регионализация 85, 555
см. также административное управление; Диоклетиан; Константин I; монета; монетные дворы; налогообложение; тетрархи, первые; экономика
регионы:
~ «области за Тигром» («regiones Transtigritanae») 681, 684 см. также при слове Италия резиденции, императорские — см. дворцы
Реймс — см. Дурокортор рейнская граница 4
~ при Северах 33, 263, 296, 307—308 ~ во времена анархии 271, 273—275 ~ бунт при Децие 56 ~ при Валериане и Галлиене 60—62, 937
~ под контролем Галльской империи 64, 273
~ при Таците 74
~ кампании Проба 74—76, 273—274 ~ Аврелиан и 83 ~ кампании Карина 77—78 ~ при тетрархии 100, 283—284, 322, 324
~ при Константине 316
*
~ в «Антониновом путеводителе» 287 ~ виноделие 605 ~ внешняя торговля 579, 637 ~ военное развертывание 307—308, 324, 358-359 ~ города вдоль ее 581 ~ добыча, утонувшая в реке 597,623— 624
~ дороги 289 ~ стеклоделие 587 ~ судоходство 582—583 ~ фортификационные сооружения 314, 316
~ франкская оккупация 284, 315 см. также лимес, рейнско-дунайский реквизиции 218, 559, 580 ~ зерно 565 ~ золота и серебра 543
1162
Указатель
РЕК
~ компенсируемые государством 423, 526, 543
~ пополняют армейские запасы 31, 218, 423-424
~ почтово-транспортная система, на ее нужды 28,270,425-426,521, 522, 526
~ сельское хозяйство оберегают от них 604
ректор Востока 53, 55, 202, 279 религия 11
~ арабская 688—689, 692, 695, 704 ~ арамейская 688—689 ~ в Армении 671—673 ~ германская 642—644 ~ египетская 734, 745, 764 ~ и идентичность 662, 750 ~ конкуренция между вероучениями 660-661
~ и «кризис» 82—83 ~ легитимация императора посредством ее 198, 198, 214—215, 754-755, 879 ~ в Парфии 646 ~ «спасительные» культы 660 ~ универсальная 659, 660 ~ и философия — см. при христианство
см. также генотеизм; гностицизм; евреи и иудаизм; зороасгизм; манихейство; миллет; монотеизм; политеизм; синкретизм; христианство ремесленная продукция 577—578, 587 ~ в Галлии 585, 587, 636 ~ германская 628, 630, 638—643 ~ налоги и освобождение от них 523, 889 сноска 5
~ перехожие ремесленики 585, 586 ~ сирийская 585, 604 см. также отдельные типы продукции и импортозамещение Ремы ЗСЬ, 334 ренты 192, 443, 555 Репост, африканский епископ 846 Ресафа 7А/, 310, 382 Ресена [иначе Ресайна) 7Nf, 2Gc, 8Ca, 47, 52, 267, 310, 384, 699, 810
Ресия (Решеншейдек) перевал 1Ш, 290 Реска — см. Ромула
рескрипты 185—187, 242, 243, 244—247, 249, 249-251, 521 ~ кодексы 250, 251—253 см. также при отдельных императорах
Респа, готский вождь 280 Ретиций, епископ Отёна 793, 884 Реция 2Cb—Db, 3Cb—Db, 4Ес ~ лимес при Северах 33, 263 ~ Максимин зимует здесь 46 ~ при Галлиене 62, 64, 148, 624, 936— 937, 937
~ кампании Аврелиана 275, 940 ~ оставление лимеса 315, 624, 624 ~ при Пробе 75, 275, 941 ~ при тетрархах 156, 323, 330, 333, 943, (кампании) 96, 97
*
~ аламанны угрожают 148, 623—624, 936
~ военное развертывание 156, 266, 283, 308, 323, 359-361 ~ присутствие императоров 339— 348
~ провинциальная организация 308, 327, 330, 333, 338
~ фортификационные сооружения 33, 275, 315, 320 ~ христианство 794 см. также лимес, рейнско-дунайский речной транспорт 146, 582—584, 590, 624, 637
речь принцепса (oratio principis), один из источников императорского права 240
реш галута (иудейский первосвященник в Сасанидской державе) 661, 662
Решеншейдек — см. Резня Риека (Тарсатика) IHd, 316 Рикульвер (Регульбий) IFc, 309, 315, 353 Рим 1Не, 2Db
~ администрация 189, 204—206, (см.
также префект города)
~ при анархии 204—208 ~ водоснабжение 188, 205
РИМ
Указатель
1163
~ въезд в город (adventus) 120, 216, 297, 944
~ городские когорты 179, 207, 321 ~ евреи 784
~ как столица 100, 206—207, 295— 296, 575, 576, (основание Константинополя влияет на него) 216, 471, 545, 565, 576, (утрата ключевой роли) 86, 206, 216 ~ монета — см. монетный двор ниже ~ монетный двор 203, 495, 496, 499, 500, 501, 552, (мемориальные выпуски) 137, 297, 905, (при Аврелиане) 490, 496, 500, (при тетрархах) 226, 486, 500 ~ налоги, используемые для его поддержки 516, 516, 540—541 ~ народные волнения 24, 830 сноска 92
~ освобождение от налогов 516, 517 ~ Плотин преподает здесь 715 ~ пожары 576, 895 ~ правовая школа 256 ~ празднования в честь тысячелетия 54, 207, 753, 834-835, 905, 935 ~ присутствие императоров 86, 206, 295-296, 575, 339-348, [см. также при отдельных императорах)
~ саркофаги, (их производство) 587,
910—911, (RS 1.6, Музей христианского искусства, 161) 914, (Санта-Мария-Антиква) 912, (Соляная дорога) 912 ~ северовский патронаж 894—895 ~ сенат и город, их отношения 206 ~ снабжение 73, 204—206, 207, 556, 559, 580, 581, 590, (роль императора) 192, 558—559, (значение Египта) 64, 69, (маслом) 205, 566—567, [сж также аннона, городская; раздачи)
~ Столетние игры 21, 931 ~ экономическая роль 516, 571, 580, 581, 605, 606, 608 ~ ютунги, их нападение 62
Сооружения и здания:
~ Аврелиановы стены 71, 89, 207, 317-318, 320, 515, 575, 899, 940 ~ акведуки 205
~ арки, (аргентариев) 894, 896—897, 903, (Галлиена) 938, (Константина) 120-121, 124, 575, 586, 893, 900, 907-908, 909, 946, (Севера) 21,698,894, 894,907- 908, 931
~ базилики, (Аатеранская) 124, (Мак- сенция) 574
~ Большой цирк 24, 574 ~ виллы, имперторские 299 ~ дворцы (Максенция вне города) 297, 299, 574, 899, (palatium) 295, 574, 575
~ императорское строительство, его периоды 906 ~ инсулы 206
~ катакомбы 798, 913, (Каллиста) 797, 798, 854, 880, (Присциллы) 880 ~ Колизей 907
~ колонна Марка Аврелия 893 ~ Курия 576 ~ мельницы 205, 564 ~ Митреум и дом с ларарием 746 ~ мозаики 880, 890, 917, 924 ~ Монте-Тестаччо 566, 567 ~ Свиной форум 207 ~ свалка битой керамики — см. Монте-Тестаччо
~ термы (Диоклетиана) 515, 574, 899, 907, 944, (Каракаллы) 206, 206, 515, 574, 895, 907, 916, 917, (Константина) 907, (Севера) 907
~ храмы, (Аполлона) 245, (богов, родных для Северов — di patrii) 763, (Кибелы) 760, (Сатурна) 524, (Сераписа) 741, (Солнца) 73, 207, 214, 751-752, 754, 940- 941, (Юпитера Долихена) 712, (Юпитера Капитолийского) 752
1164
Указатель
РИМ
~ церкви 124-125, 131, 798, 880, 908, (базилика Святого Петра) 124, 798, 880, 890 сноска 9, 908, (Сан-Лоренцо) 908, (Сант- Аньезе-фуори-ле-Мура) 908
*
Церковные общины 797-798 ~ благотворительные службы 798 ~ гонения, (I—П вв. н. э.) 784—785, 830 сноска 92, (235—238 гг.) 832, (Деция) 834,838,841, 844-845, (Валериана) 853—854,856, (Великое) 864
~ епископский сан 783—784, 785— 786, 804, 830, 886
~ коммуникации между христианскими общинами 798, 804, 885— 886
~ Константиновы дары им 511, 546, 798,908
~ мозаики 880, 914, 916 ~ Новацианова схизма 797—798 ~ пресвитеры 784
~ примат епископа Рима 784, 786,804 - Собор (313 г.) 123, 793, 794, 799 ~ сооружения — см. катакомбы и церкви выше
~ социальный статус 785, 798 ~ этнический состав и используемые языки 784, 786, 797 см. также плебс; раздачи; сенат;
и при отдельных императорах Римини — см. Ариминий «Римская правда вестготов» («Бревиа- рий Алариха») 251
римские ценности, приверженность им (romanitas) 106, 111, 115 Риноколура 391 рипарии (стражи порядка) 432 Рисквехе 693
риторика, затемнение смысла в текстах 410, 558
Риффские горы 268
Ричборо — см. Рутупии
род, у арабов 686, 692
Родопа Ше-Ье, ЗЕЬ, 280, 331, 336
Родос lLf,3Ec, 280,797,336
родословные императорских домов 926-929 рожь 565, 633 Рома, божество 759, 761 ~ Вечная (Aeterna) 754 Роман, диакон Цезареи 872 сноска 165 Ромула (Реска) 1Ке, 277, 292, 375 Рому лиана (Гамзиград) 1Ке, 99 сноска 34,110 сноска 85, 113 сноска 99, 304
Рона, река; судоходство 582 роскошь, предметы ее:
~ восточная торговля 589,590,663,700 ~ германские племена импортируют 636
~ снабжение Рима 580 ~ цены 591
«Роспись должностй» — см. «Табель о рангах»
Россия 639, 663, 664 Россос 805 сноска 24 Ростовцев, Михаил Иванович 8, 81, 412 ростовщичество 530 Ротомаг (Руан) 1Fd, ЗСЬ, 315, 334, 361 рощи, священные 733—734, 766, 768 Руввафа 8Вс, 706 Руда, афаитское божество 691 рудники и горное дело 557, 569, 570, 608 ~ в Германии 640—641 ~ добыча и металлические ресурсы 476, 492, 506-507, 570 ~ императорская собственность 506— 507, 545, 559, 571
~ их истощение как риторический то- пос 507
~ локализация 577, 586—587 ~ набатейские работники 695 ~ христиане ссылаются на каторжные работы 797 сноска 8, 814 сноска 58, 852, 855, 870, 872-873, (освобождаются) 871 см. также отдельные металлы Рундер-Берг, близ Бад-Урах 624 руны 640
Русидава (Момотести) 375 Рутилий Максим, юрист 253—254 Рутупии (Ричборо) IFc, 289, 315, 353
CAP
Указатель
1165
Руфий Волузиан 576 Руфин, римское должностное лицо на востоке 703
рыба и рыбный соус 566, 586, 590—591, 605
см. также гарум
рыночные пункты, приграничные (commercia) 525 см. также Нисибида рыночные силы 556, 606
Саалиби 699
Сабин, Аппий, префект Египта 836 сноска 104
Сабин, испанский епископ 795 Сабин, Масурий, юрист 233—235 Сабин, префект претория 874 Сабина, мученица из Смирны 838 сноска 108, 843
Сабиниан, мятежник 51, 935 Сабора 547 сноска 237 Сабрата 7tfg, 294, 761, 764-765 Савария (Сомбагхей) 7Jd, 3Db, 291, 303, 316, 335 савеллинизм 812
Савойя (позднее — Савия, провинция) 3Db,, 330, 335
Садаголфиана 815 сноска 62 сады, египетский налог на них 534 Сайм, Рональд 9
Сайренсестер (Кориний) ЗВа, 329, 334, 792
Сакасган (Сисган), страна саков 6Нс, 652 Саксонское взморье, оборонительные линии 75
~ бельгийская сторона 75, 271, 353— 354
~ британская сторона 283, 329, 353, (крепости) 159, 309, 319, 320 саксы 4, 95, 283, 324 Сала (Рабат) 402 С ал амин, Кипр 797 салих 706, 709 сало 565
Салона 2Db, 3Db, 455, 572, 335 Салонин Валериан, Публий Корнелий Лициний 61—62, 64, 197
Сальвиан 528
Сальвий Руф (центурион) 145 Сальвий Юлиан (Юлиан), юрист 230, 235, 237-238, 241, 254 Сальды 399
сальтусы 434, 559, 563, 568
~ Бурунитанский 529 сноска 164, 602 Салютарий, египетский управленец 464 салютации, императорские 17, 18, 33 Самаробривы (Амьен) IFd, 288, 354, 574
Самбия, полуостров 637 Самботин (Кастра Траяна) 375 Самний 540, 338 самодостаточность 556, 591 Самосата INf, 2Fc, 59, 62, 293, 310, 381 Самофракия 744 Самра INg, 311
Самсигерам, верховный жрец Эмесы 58 самудиты 693, 695, 705, 708 Санатрук — см. Санесан Санатрук I, царь Хатры 688 ~ династия 697—699 Санатрук П, царь Хатра 697, 699, 700 ~ его второй сьш М‘п’ 699 Санесан (или Санатрук), армянский мятежник 683
Санс (Агединк) IFd, 431
Сарагосса (Цезараугусга) 1Ее, 288, 795
Сарапион — см. Серапион
Сар апис — см. Серапис
сарацины 97—98, 943
Сар дика — см. Сердика
Сардиния 7 Ge—f \ ЗСЬ—с
~ провинция Сардиния и Корсика 2СЬ-су 327, 338 ~ регион 327 сноска 1 ~ христиане 796, 830 Сарды ЗЕс, 776, 819, 336
~ евреи здесь 777 сноска 16, 820 сноска 75
саркофаги 557, 910—914 ~ Ахиллеса 935 ~ Б ад минтонский 894, 910 ~ галльские 587 ~ дионисийские темы 744 ~ Елены 586
1166
Указатель
CAP
~ и загробная жизнь 748 ~ караваны изображены на них 581— 582
~ Людовизи 895, 898, 910 ~ общие тенденции в их отделке 598,
911- 912
~ повседневная жизнь изображается на них 911—912 ~ сгригиллевые 911,912 ~ христианские 901, 910—914, 915, 924, (христианские мотивы)
912— 914, 924, (нехристианские мотивы) 912—913
см. также при словах Аттика; Рим; Фасос
сарматы карта 4
~ и Марк Аврелий и Северы 266 ~ кампании Максимина 46, 934 ~ кампании Гордиана Ш 52 ~ кампания Аврелиана 940 ~ кампания Кара 78, 942 ~ ликвидация угрозы на Среднем Дунае 275
~ кампании тетрархов 97, 105, 111, 284,943
~ кампании Константина 136, 284— 285, 325, 947
~ агараганты изгнаны лимигантами 285
*
~ конница 633 ~лучники 634 ~ поселение в империи 285 ~ в римской армии 324 ~ янтарь 637
Сармизегетуза (Ульпия Траяна Сарми- зегетуза) IKd, 2ЕЬ, 292 Саруг (Батны) 8Ва, 694, 697 Сасан 648—649
Сасаниды — см. отдельные цари и при слове Персия
Сасхаломбатта (Матрика) 367 Сатала INe, 2Fb, 3Db, 266, 293, 310, 320, 380
~ битва близ нее 107, 681 ~ церковь 816
Сатур, карфагенский мученик 827
Сатурн, его африканский культ 760, 765, 787
~ стелы 737—738
Сатурнин, карфагенский мученик 826, 827
Сатурнин, проконсул Африка 750—751 Сатурнин, Юлий, наместник Сирии — см. Юлий Сатурнин сафаиты 691—692, 695, 705 свебы 623
светлейшие мужи (viri clarissimi) 39, 418 Светоний Транквилл, Гай 181 свинец:
~ добыча 570
~ свинцовые водопроводные трубы 188
свинина 207, 212, 515, 540-541, 569, 576, 580
свиноторговцы (suarii), ответственные за сбор свиного налога 540—541 Свинггов — см. Новы святые мужи, у язычников 716,717,723— 724, 737
священство, языческое 214, 734,766,769, 941
см. также верховный понтифик Себастополь (Сухум) 379 Севаста [иначе Себаста) 62, 808 сноска 34, 815, 816 Севастия INf, 3Fc, 293, 336 Севастополь (Херсонес) 379 Север Александр — см. Александр Север
Север, Луций Септимий — см. при Септимий
Север, Флавий Валерий, император 114, 346, 945
Северное море 283, 625, 637 Севилья 582, 583 Сегусион ЗСЬ, 338 Сеерт, Хроника 810 сноска 45 Секвания ЗСЬ, 316, 330, 334 секретариаты, императорские 181, 188— 189
см. также департамент «по письменным прошениям» (a libellis); департаменты по прошениям
СЕН
Указатель
1167
секретные службы 190 сексуальность 301, 773—774, 795 Секулярные (Столетние) игры (204 г.) 21, 931
Секунд, епископ нумидийского Тигиси- са 865
Секундин, африканский епископ 852, 854, 857
Секундул, карфагенский мученик 827 Секуриска (Керковитсай) 377 Селевк I 293
Селевкия Пиерия (иначе Приморская), Сирия 920
Селевкия-на-Каликадне 3Fc, 62, 337 Селевкия-на-Тигре 8СЬ, 19, 266, 281, 942 Селинунт, Исаврия 62 сельская местность 559—569 ~ жилье 557 ~ мятежи 453 ~ население 559—562 ~ производство здесь 577, 588 ~ стабильность 571 ~ эмпории 302
см. также земля; сельское хозяйство; а также при словах города; политеизм; христианство сельское хозяйство 562—569 ~ арабское 312, 693 ~ германское 628, 632 ~ европейская модель 564 ~ зерновые культуры 559—560, 562 ~ интенсификация 560, 562—563 ~ климат и 564—565 ~ освобождение от налогов 525, 604 ~ посевные площади 559—560, 604 ~ рабочая сила 77, 555, 599, 600, 601, 603 (см. также колоны; крестьяне)
~ скотоводство 568, 694 ~ средиземноморская модель 563, 564, 567
~ технологии 562—563, 565 ~ экономическое значение 85, 555, 608
см. также отдельные зерновые культуры, животные, одомашненные; поместья, императорские; гид¬
ротехнические сооружения; земля; см. также при отдельных провинциях
семейное право 250—251, (см. также при слове брак)
семена, археологические находки 557
семисы (монета) 484
семноны 597, 623
Семпроний Руф, евнух 31
Семь Морей см. Септем Мария
Сена, река; навигация 582
сенат:
~ армия затмевает его политическое влияние 196, 753
~ и всадническое сословие 26, 29, 82, 86, 149-151, 178, 187, 196 сноска 2, 200-201, 418
~ Египет, первый римский сенатор отсюда 459
~ и императорское преемство 77, 85, 175-176, 196-197, 198-199, 753
~ Константин расширяет его состав 125, 418
~ Константинопольский 125,134,419 ~ куриалы привлекаются в него 418— 419
~ налогообложение и сенаторы 521, 542, 552
~ перестройка карьерных структур 38-40, 65, 66, 67, 74, 80, 86, 141-142, 149-153, 167, 178, 187, 200-202
- префекты претория получают в него доступ 187 ~ и Рим 206
~ утрата влияния 86, 172, 180—181, 215, 239-240 ~ и христиане 853—854 см. также высшие классы и при наместники, провинциальные
*
Отношения с императорами 86, 215
~ Коммод 542
~ Север 16-17, 19, 22, 24-27, 29-30, 521
1168
Указатель
СЕН
~ Каракалла 30—31, 240 ~ Макрин 35, 175-176, 297 ~ Элагабал 37
~ Север Александр 37—41, 43, 177 ~ Максимин 46-^48,81,196—197, 206, 296, 934
~ Бальбин и Пупиен 48, 196—197, 934 ~ Гордиан I и П 934 ~ Гордиан Ш 50 ~ Филипп 198, 296 ~ Эмилиан 198, 297 ~ Валериан 296, 936 ~ Галлиен 67,86,198—199, 296, (назначения) 65, 150-153, 200-202 ~ Клавдий П 67, 70, 296 ~ Квинтилл 939 ~ Аврелиан 73, 296 ~ Тацит 74, 941 ~ Флориан 941 ~ Кар 77,86
~ Константин I 120, 125, 201, 418, 419, 542-543
сенатусконсульты 235, 239—242, 245, 548 сноска 245
Сен-Бернар, Большой, горный перевал (Ленинские горы) 1Gd, 289 Сенний, Соллемн, Тит 504 сеноны 431 Сепин 25, 568
Септем Мария (Семь Морей, лагуны Равенны) 1Hd, 290
Септимий Гета, Публий, брат Севера 27
Септимий Гета, Публий, сын Севера — см. Гета
Септимий Север Апр, Публий 16 Септимий Север, Гай 16 Септимий Север, Луций, император 13-30, 930-931
~ восшествие на престол 8, 930 ~ война против Песценния Нигера 17, 24, 293, 302, 495, 696, 700, 930
~ восточная кампания 18, 266—267 ~ и узурпация Альбина 19,21,23,263, 930
~ репрессалии против противников 19,22,24-25,189,190,297,512,
597, (города) 17, 19, 305, 307, 406, 575, 696-698, 700 ~ парфянские кампании 19—20, 266— 267, 288, 506, 648, 677, 700, 907, 930
~ в Египте 20, 246, 295, 298, 300, 931, (административные реформы)
20, 412, 435, 459, 462, 468, 472 ~ в Дунайских землях 301—303
~ десятилетний юбилей в Риме 20—
21, 179, 204-205, 930 ~ в Африке 21, 268, 295, 931
~ в Британии 21—22, 23, 262, 263, 295, 300, 303, 931 ~ смерть 22, 262, 263, 931
~ и Армения 677
~ и армия 23, 79, 145, 178—179, (зависимость от нее) 23, 24, 29, 80,174,178—179, 302, (дисциплина) 29, 36, (командиры всаднического статуса) 45, 178, 201, (и полевая армия) 145, 322 сноска 137, (новые легионы) 23, 26, 178—179, (увеличение жалованья) 23,193, 301, [см. также при преторианская гвардия)
~ и Африка 21, 43, 28, 173 сноска 3, 268,931, [см. также при названии Лепта Большая)
~ брак 19, [см. также Юлия Домна) ~ вольноотпущенники 25 ~ и всадническое сословие 29,45,149— 150, 178, 201
~ и высшие классы 26, 29—30 ~ и города 305, 307, 406,547,575,696- 698
~ дары и конгиарии 21, 22—23, 41, 80, 179, 204-206
~ и Дельфийский оракул 299 ~ династия 18—19, 20, 29 ~ в Египте — см. выше ~ Италия при нем 25, 28, 29, 327, 931 - и Каракалла 173-174, 303, 531, 930 ~ Коммод, память о нем 173, 174 ~ легитимация 18, 23, 24, 173—175, 178-179
СИМ
Указатель
1169
~ личное поведение 25 ~ и Марк Аврелий 18, 24, 173, 175, 902
~ морское путешествие 298 ~ налогообложение при нем 303, 440, 531, 533-534, 547 ~ и Оппиан 297 ~ и Осроена 18, 20, 267 ~ петиции ему 300 ~ Плавциан, его влияние 43, 30 ~ политеизм 303, 729, 752 ~ поместья 25, 545, 567 ~ портретные изображения 894, 896— 897,902
~ и право 25—26, 240, 246, 521, 539 ~ правосудие 25—26, 463 ~ и провинции 18, 25, 28—29, 30, 301— 302, 328, 339-340 ~ рескрипты 521, 539 ~ реставрация зданий 907 сноска 40 ~ и Рим 25, 296, 299, 930, (арка) 21, 698, 894, 894, 907-908, 931, (термы) 907, (раздачи) 191, 204—206, 540, 567, (храм родным богам) 763 ~ салютации 17, 18 ~ и сенат 16-17,19,22, 24-27, 29-30, 521
~ титулы 18, 20, 22 ~ и традиционная структура государства 26, 29 ~ финансы 25, 495 ~ флот 263 ~ и Фракия 20, 302 ~ и христианство 825—829, 930 см. также при словах конфискации; монета
Септимий Xайран (или Геродиан, или Герод) из Пальмиры 701—702, 703
Сепфорида 807
Серапион, епископ Антиохии 775—776, 805,829
Серапис, его культ 303, 713, 741,746, 760, 764
~ в Александрии 733, 741 ~ и Каракалла 733, 739, 741, 751
Сердика (София) Же, ЗЕЬ, 292
~ епископ на Никейском соборе 799 ~ императорская резиденция и столица 134, 216, 292, 304, 335 ~ монетный двор 110, 499, 500 ~ оборонительные сооружения 316, 430
- Собор 796-797, 799, 822 сноска 80 серебро:
~ горное дело 292, 570 ~ золото/серебро, их соотношение 479 сноска 9, 480—481, 493— 494, 504, 505
~ предпочтение золоту в Иране и Средней Азии 663 ~ серебряных дел мастера 577 ~ как средство сбережения 510—512 см. также при словах монета; столовое серебро
Серен, александрийский мученик 826 Серениан, наместник Каппадокии 831— 832
сестерций (монета) 480—481, 483, 487— 488, 500-501
~ Галльская империя 483, 500 Сетиф — см. Ситифис Сёнь — см. Бригецио Сива, оазис 294
Сивиллы оракул, тринадцатый 88 Сига /£/,294,313,400 Сида Ш/, 280, 635 Сидон INg, 294,807 Сиена (Асуан) IMj, 5Вс, 570 Сикст П, епископ Рима 854, 937 Силезия 641
силиква (siliqua), монета 486 Силистра — см. Дуростор Сильван, божество 747 Сильван, епископ Газы 870 Сильван, епископ Эмесы 806 Сильван, опекун Салонина 62, 64 Симиос, хатрийское божество 688 Симмах, Квинт Аврелий 683 симмахарии (варвары в армии) 144 сноска 10
Симмигу (Шемту), мраморные каменоломни 569
1170
Указатель
СИМ
Симплициний Гениалис, наместник Ре- ции 937
Син, сирийское божество 35, 745, 751 Синай 8Ас, 692, 695, 706, 707 Сингара 1PJ, 2Gc, 6Db, 8Са, 310, 320, 385,699
~ Каракалла делает ее колонией 267 ~ Александр Север здесь 652—653, (мильный камень) 310, 698 ~ персы захватывают ее 47 ~ Гордиан Ш забирает назад 52, 653 Сингидун — см. Белград синдик (египетский чиновник по судебному ведомству) 466 синкретизм, религиозный 704, 713 сноска 3, 718, 719-720, 740, 741, 751-752, 766-767, 768 Синнада 3Fc, 820, 336 синоды епископов 795, 798, 803—804, 879,886
см. также Соборы церковные Синопа 816
Сиракузы 2Dc, 3D с, 796, 338, 941 сирийская культура 658—659, 688—689 сирийское пограничье 676 Сирия 6Сс, 7Db—c
~ при Северах 17, 20, 42, 266—267, 310-311,518, 328 ~ во времена анархии 271 ~ узурпация Иотапиана 55, 935 ~ кампании Шапура I 272, 654, 679, 937
~ пальмирское завоевание 69,704,939 ~ Диоклетиан здесь 97, 322
*
~ арабы 281—282, 581 ~ астрология 729 ~ Бел, его культ 729 ~ дороги 288
~ купцы 604, (торгуют за границей) 585, 674 ~лучники 302 ~ межевые камни 527 ~ мозаики 917, 920—921 ~ монетное снабжение 503 ~ монетный двор 499, (см также Ан- таохия)
~ налогообложение 522, 525, 528 ~ пограничье 97, 160, 266, 310—311, 322, 658, 659, 707 ~ предметы роскоши 700 ~ присутствие императоров 339—348 ~ провинциальная организация 17, 327, 337, (Келесирия) 2Fc, 3Fc, 310, 328, 332, 337, 382- 383, 414 (Сирия Финикийская) 2Fc, 311, 323, 328, 332, 385- 386
~ ремесленная продукция 587, 604 ~ спад строительной активности 560 ~ стеклодувное дело 587, 604 ~ судовладельцы 604 ~ театры 766 ~ ткани 589, 604
~ христианство 672, 772—776, 804— 806,829 ~ чума 560
- экономика 560, 591, 604, 700 ~ Юлия Домна, ее влияние здесь 28 ~ ius Italicum 518
Сирмий (Сремска-Митровица) 7Je, 3Db ~ визит Севера 301 ~ Каракалла здесь 296, 300 ~ Максимин здесь 46 ~ отряды размещены здесь Галлие- ном 148, 322
~ ставка Клавдия П 69, 939 ~ Аврелиан провозглашен здесь императором 939
~ Проб здесь 76—77, 316, 941, 942 ~ Диоклетиан здесь 97, 98, 100, 105, 284, 304
~ и Галерий 284, 574 ~ резиденция Лициния 216
*
~ гарнизон 368
~ дворец и ипподром 304, 304, 574 ~ дороги 289, 291, 304 ~ императоры отсюда 55, 304 ~ монетный двор 500 ~ «субстолица» 86, 304, 906, 335 ~ фортификация 316 ~ чума 939
Сирона, римско-кельтская богиня 768
СОБ
Указатель
1171
Сисция (Сисак) 1Jd, 3Db, 75,290,335,365 ~ монетный двор 226, 483, 484, 499, 500
~ монетный клад 510 Ситифис (Сетиф) 1Gf \ ЗСс, 313,591,338, 400
Сицилия 1 Elf, 2Dc, 3Dc
~ зерновое снабжение Рима 557, 565, 566, 576, 583
~ налогообложение 516, 527 ~ провинциальная организация 327, 338
~ транспорт 287, 583 ~ христианство 796, 844, 864—865 см. также Пьяцца Армерина Скандинавия 509, 584, 629
см. также отдельные места и области.
Скаптопара 88, 270 сноска 14, 424 сноска 68, 431, 529 сноска 164 Скарбанция 1Jd, 316 скилитанские мученики 750—751, 800 Скифия ILd—e, ЗЕЬ, 810 сноска 46, 336 ~ военная организация 157, 164, 325 ~ готы как «скифы» 276 ~ диоцез 331
Скифия (северо-западная Индия) 581 Скифополь 808 сноска 34 складчина, публичные подписки (ex аеге conlato) 547 скотоводство 267, 568
~ арабское 689, 690, 691—692, 694, 709 ~ африканское 267, 313 ~ отгонное 568 скотты 283
скринии, их создание 167 скульптура:
~ бочки на барельефах 568 ~ бурав, его использование 890, 895 ~ вторичное использование 910 ~ в городах, посещаемых императорами 301
~ деревянные идолы, у германцев 643 ~ императорские портреты 890, 89 7, 892, 895, 896-897, 899, 902- 904, [см. также при отдельных императорах)
~ колоссальная 573, 895
~ при Константине 120, 124, 130, 134, 138, 573, 575, 758
~ образы богов 735—737, 758, 767 ~ переход от натурализма к схематизму 889-890, 893, 895, 896- 897, 899
~ проклятие памяти и разрушение 903
~ прошлое, отсылки к нему 901—902, 905, 910
~ святой муж сравнивается со статуей 737
~ при тетрархах 102, (веницианская группа) 586, 890, 892, 895, 899,902
см. также арки, мемориальные Скупы ЗЕЬ, 335 смертность, высокая 171 смерть:
~ христианские представления о ней 748,804
~ языческие представления о ней 748, 768
см. также захоронения; налогообложение
Смирна ILf
~ Дециево гонение 834, 835, 837 сноска 107,846, (мученичество Пи- ония со товарищи) 819, 843 ~ докетизм 576
~ епископ отсюда на Никейском соборе 819
~ Иоанн Старц порицает ее церковь 776, 777
~ монтанизм 819 ~ Поликарпа мученичество 777 ~ храм Матери богов и Немезиды 752 сновидения 726, 737, 738, 739—740, 741, 763
Соборы церковные 837, 841, 879, 882, 886
см. также при названиях Анкира; Арль; Карфаген; Константинополь; Никея; Тир
«Собрание законов Моисеевых и римских» 232
собрания/советы, муниципальные 438, 442, 449, (в Египте) 412, 425,
1172
Указатель
СОБ
435, 438, 462-463, 466-467, 467-468 ~ сельские 432 собственность:
~ право и правосудие 234, 428, 463 см. также конфискации и при словах налогообложение; христианство
«Совершенное рассуждение» (герметическое сочинение) 721 Содом 803
Сокнопейский остров 5ВЬ, 470, 562 Сол — см. Солнце, его культ Солва (Эстергом) 366 Солва, Норик 7Jd, 303 солид (монета) 477, 508
~ Диоклетианов 479 сноска 9, 484, 494, 945
~ Константинов 486, 497 Солнце Непобедимое (Sol Invictus), его культ:
~ Гелиогабал 36—37, 177, 198, 751— 752, 760 ~ Галлиен 86
~ Аврелиан 71, 73, 83, 86, 214, 484, 587, 754-755, 940-941 ~ Проб 76 ~ тетрархи 103, 755 ~ Константин 119, 137, 139, 757—758
*
~ и легитимация императоров 198, 214, 754-755
см. также Аполлон; Элагабал, солнечный бог Эмесы соль, запрет экспорта 526 Сомбатхей — см. Савария Сона, река; навигация 582 Сопатр 135, 140
Сопиана (Печ) 7Jd, 3Db, 289, 316, 335 Соссиан Иерокл, префект Египта 112, 818, 862, 872 сноска 166, 873 сноска 168, 882
Сотер, вождь римских христиан 784 Софена 7А/, 2Db-Cby 281, 672, 676 София — см. Сердика «Сочинители истории Августов» — см. «История Августов»
Спания 815 сноска 61 Спарта IKf, 65, 279, 780, 800 Спасину-Харакс 6Ес, 8Db, 581, 646, 654, 658, 700
спасительные культы, эллинистические 660
спата (длинный обоюдоострый меч) 634 специи 569, 580, 581, 591, 663 Сплит 7 Je
~ дворец Диоклетиана 114, 304, 572, 899
Сполеций 936 Средиземноморье:
~ модель потребления, ее распространение 608
~ его притягательность для импорта 581
~ и экономическая иерархия границ 607
Сремска-Митровица — см. Сирмий ставка процента 595 «Становление императора Константина» («Origo Constantini imperatoris») 118 сноска 1,121,122, 131
Стара Затора (Августа Траяна) ILe, 277, 301
Отара Планина (Гем) 277 Стаций, Публий Папиний 507 сгационарии (stationarii) 426 стекло:
~ галльское и германское 587, 636, 637
~ египетское 587 ~ римское 584, 628, 636, 637 ~ сирийское 587, 604 стелы:
~ исповедальные 738 ~ пальмирские христиане 704 ~ Сатурновы 737—738 стены, оборонительные 430, 575 ~ более ранних колоний 317 ~ британские пограничные 146, (см. также Адриан (вал); Антонинов вал)
~ Кёльн 318
~ методы строительства 317—319
СУД
Указатель
1173
~ небольшие защищенные контуры 430, 572, 574-575 ~ символическое значение 575 ~ торфяной вал на рецийском погра- ничье 33
см. также фортификационные сооружения (городские) и при названиях Константинополь; Рим
степи:
~ ближневосточные 688, 691, 693— 694, 706, 708
~ южнорусские 633, 634, 664 стипуляция, ее формула 409 Стобы 800 стоицизм 714
столицы, региональные и провинциальные 86, 296-297, 303-304, 572,906
~ затраты 515, 555, 605 см. также Константинополь; Милан; Никомедия; Равенна; Рим; Сердика; Сирмий; Трир; Фес- салоника столовое серебро:
~ германцы приобретают римское 597, 623, 625, 628, 637 ~ как инвестиции и императорские дары 511
~ Марк Аврелий продает его 512 ~ разделение труда при его производстве 577
~ тезаврация 594 ~ торговля им 584, 663 Страбон 180, 181, 688, 689, 694 страдание как божественное наказание 738, 740
Страже, Словакия; серебряная чаша отсюда 628
Страсбург — см. Аргенторат «Страсти» мучеников 428 ~ Мариана и Иакова 856 ~ Монтана и Луция 856 ~ Перпетуи и Фелицитаты 825, 931 стратеги:
~ арабские 697, 705 ~ египетские 417, 426, 439, 465—466
строительство:
~ германские постройки из дерева 641-642
~ гражданское 560, 572—577, 889 ~ императорское, его периоды 889,
899, 906
~ инагурация во время императорских визитов 301 ~ каменщики перехожие 586 ~ мрамор 586—587 ~ повторное использование материалов (сполии) 270, 280, 317,575,
900, 908, 909
~ прошлое, отсылки к нему 900, 906— 908, 909, 910 ~ реставрация 907 ~ финансирование его 470, 515, 591 ~ и церемониал 889, 890 ~ и экономика 557, 906 см. также арки, мемориальные; базилики; бани; дома; дворцы; ипподромы; стены, оборонительные; а также при императорах и в отдельных местностях
субсидии варварам 269, 628 ~ Гордиан Ш 277
~ Тимесифей прекращает их 52,54 ~ Филипп вновь прекращает их 54,55, 277
~ Галл выплачивает 57, 278 ~ Эмилиан отказывается платить 278 ~ Галлиеновы, возможные 61
*
~ утечка монеты из империи через них 509
субскрипции (разновидность рескриптов) 244-245,428 Субурбикария, диоцез 333 сугамбрии 324, 626
судебные промежуточные постановления (interlocutiones de plano) 246
судовладльцы (navicularii) 192, 525, 543, 580, 604
судостроение, у германцев 642 судьи (iuridici) для Италии 209—210, 332
1174
Указатель
СУЕ
Суетрий Сабин, Гай 33 сукноделов гильдия в Солве, Норик 303 Сукцесс, африканский епископ 856 Сукци (Ихтиман) перевал 1Ке, 292 Сульпициан, Тиберий Флавий 14—15 Сульпиций Руф, Сервий 229 Суматар-Арабеси 699 Сура 1Nfy 159,310
Сурены (парфянская знатная семья) 652 Сус (древний Гадрумент), мозаики отсюда 921 сноска 77, 922 сноска 80
см. также Гадрумент Сухна 311
Сухум (Севастополь) 379 Суцидава (Извоареле) 377 Суцидава (Челей) 7Ке, 285, 320, 376 С^эц 1Mhy 312
схолы палатинские (scholae palatinae) 156, 163
Сцевола — см. при Цервидий, Муций счетоводы (nmnerarii) 417 счетоводы (rationales) 101, 464, 465 ~ rei privatae 538 ~ summarum 538 сыскные агенты 428
табеллион, должностное лицо 421 «Табель о рангах» («Notitia Dignitatum»)
154, 322-325, 349-402, 403 ~ об армянских гарнизонах 682
~ о Британии 263, 350—353 ~ о галльских крепостях 315 ~ о государственных мастерских 589-590
~ о коннице и полевой армии 154—
155, 161, 162, 322 сноска 137 ~ о национальных подразделениях
161, 708
Тавий 1Mf, 293 Тавхира (Токра) 1Kg, 294 Тагус, река 586 Тадж 8Dc, 709 Тадмит 1Fg, 313, 398 Тайибех — см. Ореза тайфалы 276 Так-е Бусган 6Ес> 658
Такапа (Габес) IHg, 396, 563 Такина 529
Талиата (Доньи Милановац) 1Ке, 292, 370
Талмис (Калабша) 5Вс, 743, 770 Талмуд, вавилонский 661 Тальяменто — см. Тилавент Тамаллула 400
Танжер (Тингис) IDf, 2Вс, ЗВс, 288, 294, 335
танух 281-282, 706-708, 709 Тарент 588
Тарракон (Таррагона) 1Fe, 2СЬУ ЗСЬ, 288, 335
~ христиане 795, 856 Тарраконская Испания 2ВЬс—СЬ, ЗВЬ— СЬ, 192, 327, 328, 330, 333, 335, 363
Тарраконская провинция (по «Веронскому списку») 192, 330, 335 Таррунген Патерн, Публий, юрист 230, 230
Tape 1Mfy 2Fc, 3Fc, 62, 293, 337
~ столкновение Флориана и Проба 74, 941
~ самоубийство Максимина 946
*
~ епископы 814 Тарсатика (Риека) 1Hd, 217 Татиан (Тациан) 774, 786, 805 Тацит, император (Марк Клавдий Тацит) 73—74, 941 ~ монета 480 сноска 12, 499 ~ в провинциях 297, 343 ~ религиозная политика 76 ~ и сенат 74, 200, 941 Тацит, историк — см. Корнелий Тацит Теадельфия 839, 840 сноска 110 театры 575, 764, 766, 767 Тегулиций (Ветрен) 377 тезаврация:
~ возвращение драгоценных металлов в оборот 512, 543—544 ~ и металлические ресурсы 506,508— 509, 509-513, 544 ~ причины 270, 510—512, 594 ~ и циркуляция монет 476, 494, 495
TET
Указатель
1175
*
Обнаруженные клады 509-513 ~ Аррас 906 сноска 36 ~ Борен 504, 508 ~ германские 597, 623—624, 638 ~ Дура-Европос 502 ~ Константинова правления (318 г.) 486
~ Ля-Венера 496
~ монеты с высоким содержанием серебра 490, 503, 511 ~ Нойон 597 ~ Оз 511
~ свидетельства о монетных выпусках 495—496, 502, 506 ~ Сисак 511
~ старые и изношенные монеты 508 ~ ювелирные украшения в них 598 Телль, Африка 267 телохранители, императорские 14, 155, 163-164, 322
см. также преторианская гвардия Тембриса долина 821 Теменофиры 821 темонарии 429
Тенагинон Проб, префект Египта 69, 71
Тене до — см. Цурцах Терако (Шиеракон) 393 тервинги 281 Тергесг (Триест) IHd, 217 Теренций Варрон, Марк 568 Терминалии, праздник 112 термы — см. бани
территориальное размеживание (terminatio или limitatio) 442 Тертулла, нумидийская мученица 856 Тертуллиан 9
~ апологетические сочинения 881, 930
~ об африканской церкви 787, 800— 801
~ о воплощении Христа 788 ~ о гонениях 787, 825, 840 ~ о городах 406, 445, 452, 555 ~ греческие версии трудов 800 сноска 11
~ о евреях 882 ~ о ереси 787—788, 801, 882 ~ литературная изысканность 801 ~ и монтанистское учение 787—788, 801
~ о мученичестве 883 ~ о наследственной порочности 788 ~ о подушном налог 518 ~ о распространении христианства 793, 794, 801
~ о Север и христиане 828 ~ смерть 933
~ о театрах и религиозном ритуале 764
~ трактаты и гомилии 884
*
Сочинения ~ «Апологетик» 930 ~ «О душе» 555 ~ «О теле Христовом» 788 ~ «Против Маркиона» 787, 801 тетрархи, первые:
~ дворцы 216
~ Диоклетианово превосходство 213— 214
~ идеология 102, 103, 115, 892, 902, 905-906
~ иконография 102 сноска 48, 102 сноска 49, 115, 890, 902, 905— 906, (скульптура в Венеции) 586, 890, 892, 895, 899, 902 ~ Иовий и Геркулий эпитеты 95—96, 99,102-103,118,214-215,486, 755
~ искусство и архитектура при них 102, 115, 895, 899 ~ коммуникации 214 ~ легитимация 213, 214—215 ~ мавзолеи 305 ~ медальон 905—906 ~ перемены при них 115 ~ и политеизм 102—103,214—215,755— 756, 760
~ портретные изображения — см.
иконография выше ~ порядок наследования 99—100, 102, 115
1176
Указатель
TET
~ регионализация 214, 537—538, 605 ~ резиденции 100, 216, 303—30, [см.
также отдельных тетрархов) ~ сложение полномочий 214 сноска 2, 944
~ создание системы 8,93,99,103,115— 116, 213-214, 943
~ столицы 100,216, 296—297,303—304, 577,906
~ структура и организация системы 100, 214, 769 ~ централизация 225 ~ церемониал 95, 98, 113, 115, 215 см. также Констанций I; Диоклетиан; Галерий Валерий Максимиан; Максимиан тетрархи, вторые 945
~ совещание в Карнунте 114, 119, 94 [см. также Констанций I; Галерий Валерий Максимиан; Максимин, Гай Валерий Галерий; Север, Флавий Валерий) Тетрик, Гай Пий Эсувий, галльский император 72,73,211,940 теургия 721,722,724,736 технологический прогресс: в земледелии 562—563, 565; у германцев 635—644
Тиана 7Af/, 8Аа, 74, 293, 704, 740, 815 сноска 61
Тиберий, император 149, 245, 524 Тибиск (Жупа) 7Kd, 292, 372 Тибубуци IGg, 314 Тивериада 807
Тигр, река, как граница 656, 681 Тиздр 1Hf, 47, 272, 801 сноска 13 Тилавент, река (Тальяменто) IHd, 290 Тимакум Минус (Равна) 372 Тиманд, деревня в Писидии 7Mf, 436 Тимгад 7Gf, 549 сноска 251, 588, 741, 922
~ муниципальный список 419, 449— 450
Тимесифей — см. Фурий Сабиний Ак- вила Тимесифей, Гай Тимий, Фригия 820 Тингис — см. Танжер Типаса, мозаика Ахиллеса 922
Тир 7Ng, 2Fc, 3Fc, 8Bb, 294,589, 328, 337 ~ христианство 807, 873 сноска 169, 875
~ церковный Собор 135, 947 Тира 7Md, 47, 276, 279, 302, 440 Тиридат П, царь Армении 34, 58, 678, 679,685
Тиридат Ш, царь Армении 680, 681, 685 ~ свергнут Шапуром I 97, 653, 679, 936
~ восстановлен 97, 655—656, 681, 943 ~ замещен Тиридатом IV 682 Тиридат IV Великий, царь Армении 682-683, 685
~ бежит в Рим 653, 670, 681 ~ восшествие на престол 682 ~ и Лициний 670—671, 682—683 ~ правление 682—683 ~ христианство 659, 672, 683 Тирраний, епископ Тира 807 Тиса, ее бассейн 637 Тит Квартин 46
Тит, император (Тит Флавий Веспасиан) 772
Тиха, личный культ 736 Тицин (Павия) 1Gd, 275, 940
~ монетный двор 226, 483, 486, 491, 499, 500
ткани и одежда 557, 569, 577, 588—590, 694-695
~ торговля их утонченными видами 580, 589, 590, 604, 663 ~ в «Эдикте о ценах» 577, 589 см. также отдельные виды текстиля ткачи, египетский личный налог на них 523
Токолосида 402 Токра (Тавхира) 7Kg, 294 толпа, ее враждебный настрой к христианам:
~ 193—249 гг. 824, 826, 830 сноска 92, 833
~ при Децие 836, 843, 844, 845 ~ в период Великого гонения 869, 870
*
~ в Александрии 55, 826, 833, 844 ~ и интенсивность гонений 825, 836, 852
ТРИ
Указатель
1177
Томы ILe, ЗЕЬ, 278, 316, 336
топархии, египетские 466
топосы, риторические 558
торги — см. налог на продажи с торгов
торговля 579—591
~ внепшяя 579,584, 608, (с германскими народами) 584, 628, 630, 636, (на дальние расстояния) 590, 605, 608
~ и внутренние иерархии 586 ~ и географическое единство и различия в империи 590—591 ~ города и 577, 579, 581 ~ запреты на экспорт 525—526 ~ имперская модель 559 ~ источники о ней 582, 586 ~ местная специализация 586 ~ налогообложение 524—526, 543, (см. также пошлины ввозные; пошлины таможенные)
~ отношение римского общества к ней 585
~ и утечка монеты 509, 579 см. также отдельные товары, импор- тозамещение; караванная торговля; купцы; транспорт, и при отдельных городах, регионах и границах^ германские народы; Персия
Торсбьёрг, вотивный депозитарий 639, 640, 642-643
Торсбьёргское вотивное отложение 642— 643
Тосбис 839
Тот, культ в Гермополе 760
Трабзон — см. Трапезунд
Траллы 566, 589, 778
Трансиордания 693
Трансмариска (Тутракан) 1Le, 315, 377
транспортировка:
~ вина 567
~ для военной анноны 423, 425 ~ у германцев 637, 642 ~ государство контроль 204, 580 ~ каменные инфраструктурные сооружения 557 ~ квасцов 584
~ медленный характер ее 170, 214 ~ налог на перевозку грузов 524 ~ перевалка грузов 583 ~ стоимость 221, 582, 583, 590 см. также дороги; навигация; почтовая и транспортная государственная система; речной транспорт и при отдельных товарах
транспортная повинность — см. почтовая и транспортная государственная система трансгагненсы 282
Трапезунд Ше, 7Da, 278, 310, 380, 817, 937
Трахонитида, плато 693 Траян, император (Марк Ульпий Траян) 245, 263, 528, 648, 658 ~ и христиане 779—780, 823 ~ художественные ссылки на него 907-908, 909 Траянополь ЗЕЬ, 336 Требониан Галл, Гай Вибий, император 57-59
~ наместник Нижней Мёзии 56, 57, 277
~ восшествие на престол 277—278 ~ правление 57—59, 296, 846—847, 341, 936
Тревиры — см. Трир треценарии (trecenarii) 188 три военные должности (tres militiae) 188
Три Дакии — см. Дакия трибун латиклавий (tribunus laticlavius) 200
трибут (tributum) 212, 517, 329, 533 ~ с земли (soli) 183, 218, 517, 522, 523, 534, 539
~ как munus patrimoniale 521 ~ подушный (capitis) 183, 218, 409, 521, 522, 534, 539, (уплачиваемый гражданами) 408—409, 517-519
Триест (Тергест) IHd, 317 Тримифунт 797
Тринитаполи, таблица отсюда 431
1178
Указатель
ТРИ
Триполи, Триполитания — см. Эя Триполи, Финикия 807 Триполис, Сирия, монетный двор 499— 500,506
Триполитания 1 Hg, 3Cc—Dc
~ военное развертывание 268, 324, 395-396
~ вторжения кочевников 765 ~ дороги 294 ~ землетрясения 765 ~ имперские поместья 567 ~ организация границ 268, 313 ~ поместья Плавциана 567 ~ провинциальная организация 332, 337
~ снабжение Рима маслом 567 ~ стабильность во время анархии 272 ~ христианство 765 ~ язычество 761—766 Трир (Августа Тревиров/Тревиры) IGd, ЗСЪ, 334 ~ Галлиен в 61
~ франкское разграбление 576 ~ Максимиан здесь 96, 98, 306 ~ столица Констанция 100, 216, 306 ~ резиденция Константина 297, 574,
768
*
~ Арль как его порт 582 ~ Генобауда царство 96 ~ дороги 289, 304
~ изолирован, когда центр переместился в Константинополь 306
~ монетный двор 226, 306, 486, 499, 500, 503, 504, (при Галльской империи) 499, 638
~ панегирик Константину (313 г.) 768 ~ как столица 86, 304, 515, 572, 576, 906
~ христиане 794
~ языческие культы 752, 760, 766—
769
*
Постройки 515,572 ~ амфитеатр 626 ~ базилика 306, 890, 893 ~ гробницы 565, 768
~ дворец и ипподром 306, 574 ~ Порта Нигра 574 ~ термы 306, 766, 899 триумфы:
~ Александр Север 42 ~ Аврелиан 73, 940 ~ Проб 76, 296, 941 Трифонин, юрист 230, 235 Троада, гранитные каменоломни здесь 570
Троадий, понтийский мученик 843 тропы и прогоны для скота 557, 583 трофеи — см. добыча Трофим, итальянский епископ-отступник 846
Троя (Илион) 1Lf, 280, 745, 752 труд, его разделение в ремесле 577 Тугга IGf, 38, 405, 517 Туллий Менофил, Марк (наместник Нижней Мёзии) 50,51,52,276 сноска 32, 934
Туллий Цицерон, Марк 517, 747 Турвир, готский вождь 280 Турда — см. Потаисса Турну-Северин (Дробета) Ше, 319, 370 Тускул, мозаичный пол 917 Тусция и Умбрия ЗСЪ—Db, 333, 338 Тутракан — см. Вена, Австрия Тутракан — см. Трансмариска тысячелетний юбилей Рима 54, 207, 754, 834-835, 905, 935 Тэй, река 22
тюфяки, галльское изобретение 605
Уденбург (Портус Эпиатици) IFc, 315, 353
удостоверения о принесении жертвоприношений (libelli) 834, 836— 841, 844, 868
Удрух (Адру) 7Ng, 311, 312, 388 укрепления — см. фортификационные сооружения; стены, оборонительные
Улышан — см. Домиций Ульпиан Ульпиан, мученик из Тира 807,873 сноска 169
Ульпия Траяна Сармизегетуза IKd, 2ЕЬ, 291
ФЕС
Указатель
1179
умбон (бляха-накладка на щите), из Хер- пай 640
Умм аль-Джималь 8ВЬ, 691, 693, 707 Уолтон-Касл IFc, 315 упадок и закат, модель Гиббона 168 управители частным императорским имуществом (magistri rei privatae) 101,417,538
управляющий имением (actor, vilicus) 600 упряж, для тягловых животных 583 Ураний Антонин 59, 704, 936—937 Урбан, наместник Палестины 870, 872 услуги, обмен ими 559 уступка добра (cessio bonorum) как способ уклонения от муниципальных повинностей 470 усыновление, династическое 99—100, 173, 174, 175, 177, 213 Утика 406 Утина 801 сноска 13
Фабиан, епископ Рима 834 сноска 100, 844
Фабий Антиохийский 833 фабрики, государственные (fabricae) 589-590
фавориты, императорские 545 Файминген (Фебиана) IHd, 4Ес, 300, 741, 359
Файно, вади (арабск. Вади-Файнан), рудники здесь 870, 872—873 фалера из Торсбьёрга 639, 640, 642 фамилия Цезаря (челядь императора) 167, 545
Фано, храм Фортуны здесь (Fanum Fortunae) 1Не, 275, 940 Фараксен, вождь африканского мятежа 60
Фарнезский бык и Фарнезский Геркулес 895
Фарс — см. Персида Фасис 1Ре, 278 Фасос 588
Фауста 124,927,944,947 ~ смерть 124, 129, 132, 947 Фаустина Младшая 174 Фаюм 5ВЬ, 312, 471, 472, 518 сноска 111 Фебиана — см. Файминген
Февесга 865 сноска 52, 868 Феддерсен-Вьерде 629, 642 Фекла, мученица 825 сноска 85,872 сноска 165
~ гимн Феклы 884 сноска 180 Феликс Аптунгский 865 Фелицитата, капуанская мученица 844 Фелицитата, карфагенская мученица 826, 827
~ «Отрасти Перпетуи и Фелицитаты» 825, 826, 931
Фельтрия (Фельтре) 487 Фенз, болотистая местность на востоке Англии 563 Феогност 812
~ «Наброски» 885 феодализм:
~ армянский 673—674 ~ парфянский 646
Феодора, дочь или падчерица Максими- ана 927, 928
Феодорит, епископ Киррский 538 Феодосий П, император 320
~ Феодосиев кодекс — см. кодексы, правовые («Кодекс Феодосия») Феодосия Тирская, мученица 807, 873 Феодот, еретик 782, 783 Феокрит, вольноотпущенник Каракал- лы, префект в армии 31, 678 Феона, епископ Александрии 859 сноска 135
Феотекн Антиохийский, языческий предсказатель 878
Феотекн, епископ Цезареи 849 сноска 123, 858 сноска 133 Феофил, александрийский мученик 844 Феофил, епископ Антиохии 775 Феофил, епископ Гогии (крымской) 800 Фера 536 Фермопилы 58
Фессалия, провинция 1Ес, 331, 335 Фессалоника 1Ке, 2ЕЪ, ЗЕЬ
~ и Галерий 110, 216, (арка) 110, 124, 281, 297, 656, 899, (мавзолей) 110, (дворец и ипподром) 110, 216, 304, 574, 899
~ готские нападения 278, 280, (осада) 65, 68, 279, 635
1180
Указатель
ФЕС
~ дороги 292 ~ Константин здесь 304 ~ Лициний сослан сюда 947 - монетный двор 110, 226, 500 ~ как столица 134, 572, 906, 335 ~ христиане 800, (Акты Агапы, Ирины и Хионы) 868 сноска 156, 868 сноска 157 Фест, «Бревиарий» 87 Фиатира, в Лидии 7L/, 300, 424 сноска 68, 776, 819
Фиваида, Египет 3Ed—Fd, 5ВЪ ~ подушный налог 523 ~ провинция Фиваида 3Ed—Fd, 323, 337, 332, 461-462,
~ христиане 870, 874 сноска 170 Фивы, Египет 5ВЬ, 461, 728 Фивы, Фессалия 800 фиги 564
фидеикомиссы 236 Фила IMj, 5Вс, 108, 313, 460, 394 Филадельфия (Амман), Палестина 7Ng, 8ВЬ, 311,389,528,692, 776,803 Филадельфия, Азия 819 Филадельфия, Египет 5ВЬ, 839 филархи, арабские 705 Филей из Тмуита 883 Филипп I, император (Юлий Филипп, Марк) 53—55, 935 ~ начало карьеры 51, 52 ~ восшествие на престол 53, 82, 653, 935
~ мир с Персией 53, 58, 272, 510, 653, 679, 935
~ в Риме 53, 296
~ дунайские кампании 53—54, 55, 144, 276, 277, 935
~ в Риме ради тысячелетнего юбилея 54, 207
~ мятеж Пакациана 54, 833 сноска 98 ~ восстание Иотапиана 55, 935 ~ поражение от Деция и смерть 55, 85, 935
*
~ аравиец 704
~ армия при нем 82, 86, 144, 202 ~ Баальбек, строительство здесь 573 ~ Египет при нем 55, 202, 459, 464, 468
~ монета 55, 905
~ налоги при нем 202, 529 сноска 164 ~ портретные изображения 895, 903 ~ в провинциях 341 ~ и прошлое 907 ~ и сенат 198, 296
~ субсидии готам не выплачивает 54, 55, 277
~ сын как коллега 54, 197, 935 ~ и Филиппополь 54, 55, 304 сноска 114, 907
~ финансовые проблемы 55, 82 ~ и христианство 83, 831 сноска 94, 833, 835 сноска 103 Филипп П Македонский 292—293 Филипп П, император (Марк Юлий Север Филипп) 53, 54, 55, 464, 935
Филипп Азиарх 777 Филиппополь (Пловдив) 1Ке, ЗЕЬ ~ Марк Аврелий возводит защитные стены 430 ~ визит Севера 301 ~ при Филиппе 54, 55, 304 сноска 114, 907
~ готы захватывают при Децие 56, 277
~ при Галлиене 65, 316
*
~ дороги 292
~ мозаики 920, 921 сноска 74, 924 сноска 83
Филиппополь (Шехба) 1Ng, 8ВЬ, 312
Филон 782
философия:
~ Галлиен, его взгляды 66 ~ и магия 743
~ отвращение к социальной и политической жизни 725 ~ и политеизм 717—718, 719—720, 730, 743, 744,745,754, (Плотин) 716, 719, 730
~ о симпатии 718, 727 ~ о смерти 748 ~ и теургия 725 ~ устное обучение 715, 721 ~ и христианство 725, 773, 775, 817, 823, 854
ФОР
Указатель
1181
~ школы 11, 714 ~ и юристы 238
см. также неоплатонизм; пифагореизм; святые мужи, у язычников; и отдельные философы Филострат 415, 720
~ «Жизнь Аполлония Тианского» 182 сноска 32, 716, 729, 733, 740 ~ «Жизнеописания софистов» 933 Фин, остров 636, 639 финансы 168, 189—195, 544—549
~ администрирование в провинциях 25, 101, 182-183, 188, 225 ~ городские 441—445, 547—549, 746 - государственные траты 544—549 ~ Дион Кассий, его предложения 518-519, 545-546, 551 ~ доходы от государственных поместий 545—546
~ опхутствие системы государственных заимствований 550, 551 ~ порча монеты и 80 ~ привилегии Рима 516 ~ привилигированные пограничные регионы 517
~ прокураторы ими управляют 101, 181, 188, 224, 413-414, 470 ~ профессиональные финансисты 594 ~ реорганизация Константина 537— 538
~ роль кураторов 437—438 ~ рост расходов 475—476 ~ северовская реорганизация 189— 195
~ при тетрархах 101, 218—221, 225 см. также при именах отдельных императоров и при словах армия; Египет; императоры финики, их выращивание 564 Финикион 394 Финикия 3Fc, 332, 337 Финикия:
~ культура и религия 761, 765 ~ христианство 806—807 Финли, Мозес 609 Финшгау — см. Валь Веноста Фирдоуси, «Шахнаме» («Книга царей») 648
Фирм, египетский узурпатор 272, 460 Фирмик Матери, Юлий 512 Фирмилиан, епископ Цезареи Каппадокийской 814—815, 831—832, 886
Фирмилиан, наместник Палестины 870, 872, 878
Фирминиан, дукс в Скифии 157 Фирузабад (Гор) 6Fd, 650 фистулы (свинцовые водопроводные трубы) 188
Флавиада 814 сноска 57 Флавиан, африканский мученик 856 Флавиана (Рашова) 378 Флавий Гераклеон, наместник Месопотамии 41
Флавий Климент, Тит 786 Флавий Констанций — см. Констанций I Флавия Цезарейская ЗВа—Са, 329, 334 Фламиния 363 Фламиния и Пицен 3Db, 333 Флегон из Тралл 778 Флор, сицилийский диакон 796 Флорентин, юрист 233, 254 Флориан, император (Марк Анний Фло- риан) 74, 297, 343, 941
флот:
~ венетский 363 ~ готский 278—279 ~ при Диоклетиане 157 ~ против Караузия 96—97, 104 ~ Мизенский 16, 363 ~ понтийский 308
~ преступники зачисляются в него 427
~ Севера 263 ~ в Эгеиде 65
фоллис (монета) — см. нуммий фоллис (налог) 132
~ сенаторская деньга (follis senatorius) 542
Фома, апостол 810 сноска 46 Фома, его Евангелие 774, 811 фортификационные сооружения 314— 321
~ анархия, в ее времена 268—269 ~ против арабских кочевников 659 ~ в армейских лагерях 319
1182
Указатель
ФОР
~ архитектурные сполии, их использование 270, 280
~ африканские 52, 267—268, 268, 320, 320, (Nova Praetentura) 268, 313, (см. также при отдельных провинциях)
~ башни 318, 320
~ бутобетон, облицованный кирпичом или камнем 314 ~ ворота 318—319
~ в восточных провинциях 97, 309— 310, 311-312, 320, 656, 659, 698, 707, 709
~ Галлиеновы 64, 147—148, 153, 316, 575
~ германские на вершинах холмов 89, 314, 624, 630-632 ~ западный и восточный стили 320 ~ в западных провинциях 317—320 ~ в Египте 97, 320 ~ Константиновы 316—317, 320 ~ Ограда Юлиевых Альп 317 ~ Пробовы 275, 315, 316, 317 ~ сасанидские 658, 659 ~ схема и внешний вид 317—321 ~ тетрархические 218, 283—284, 315— 317, (см также при имени Диоклетиан)
~ торсионная артиллерия, ее размещение 318, 325
Городские 316,430
~ архитектурные сполии, их использование 270, 280 ~ Верона 148, 153, 575 ~ в восточной части империи 311— 312, 708
~ Галлия 75, 271 сноска 16, 315, 316, 317-318, 574-575 - Греция 270-271, 279, 280 ~ на Дунае 314, 430 см. также Диоклетианова страта; земляные линейные сооружения; квадрибургии; Саксонское взморье, оборонительные линии; стены, оборонительные; форты; и при слове границы
Фортуна, ее культ 746 форты 320
~ британское побережье 283 ~ на вершинах холмов, германские 89, 314-315, 624, 630-632 ~ на германском/ретийском лимесе карта 4,624
~ Диоклетиановы 159, 284, 311, 314 ~ Саксонское взморье 159 Фракийский диоцез ЗЕЬ, 225, 331, 336 Фракия IKe—Le
~ Север здесь 20, 301—302 ~ кампании Гордиана Ш 52 ~ готы и их союзники вторгаются сюда (250-е годы) 56, 277 ~ готы не трогают ее после Абритта 58
~ Нумериан убит здесь 942
*
~ военное развертьшание 379 ~ дороги 287, 292—293 ~ золото, горное дело 570 ~ имперские поместья 561 ~ наместники 201
~ присутствие императоров 339—348 ~ христианство 800 ~ эмпории 20, 302, 426 Фракия, провинция 1ЕЬ, ЗЕЬ, 327, 328, 331, 336
фраксины 282 франки карта 4, 625—627
~ набеги на Галлию и Испанию 61— 62, 271, 570
~ кампании Галлиена 61—62, 273, 625 ~ разграбление Трира 576 ~ кампании Проба 75, 273—274, 625 ~ и Караузий 95, 625 ~ кампании Максимиана 96, 283 ~ победа Константина 626
*
~ в Испании 271, 570 ~ материальная культура и поселенческая практика 626—627 ~ пиратство 95, 276 сноска 32, 283— 284, 625, 941
~ политическая и социальная организация 625—627
ХАТ
Указатель
1183
~ поселение в империи 315, 625—626 ~ происхождение 621, 622, 625—626 ~ на римской службе 161, 165, 324, 625-626 ~ руны 640 ~ салические 284 ~ субсидии 61 Фригия
~ готские набеги 280 ~ исповедальные стелы 738 ~ почтовая и транспортная государственная система (cursus publicus) 425—426
~ Праведный и Справедливый бог (боги), культ 738
~ провинциальная организация 336, (Фригия и Кария) 200,442,328, 331, (Фригия Первая и Вторая) 3Ec-Fc, 331, 336
~ христианство 778—779, 820—821, 874 сноска 170 фризы 159, 626
Фронтон, ритор из Цирты, оппонент христиан 787, 788
Фруюуоз, епископ Тарраконы 795, 856 фрукты, их выращивание 563, 633, 663 фрументарии (как чин тайной полиции) 428
Фульвий Асгик, наместник Карии и Фригии 110, 593
Фульвий Макриан, Тит, и его сын, Тит Фульвий Юний Макриан 63, 858, 937-938
~ и христиане 846,847,849 сноска 124 Фульвий Юний Квиет, Тит 63, 702, 703, 937-938
Фульвий Юний Макриан, Тит — см.
Фульвий Макриан, Тит Фурий Антиан, юрист 253 Фурий Сабиний Аквила Тимесифей, Гай, префект претория 51, 84 ~ и Дунайский регион 52, 53, 54 ~ персидская кампания 51—53, 653, 935
~ на провинциальных должностях 27 ~ и северовская монархическая система 51, 82
~ смерть 52, 53, 653, 935
Фурнос 803 сноска 19 Фуссала 432
Хааслебен, аламаннские захоронения 625, 639
хавки 626
хаворское ожерелье 639 Хагенбах 597
Хадад, хатранское божество 688 Хазева 1Ng, 311 хайбоны 96
Хайденшанце, укрепление на холме 632
Хайран — см. Септимий Хайран
халдейские оракулы 722
Халкедон 1 Le, 36, 60, 279, 293
Халкидика, Сирия 8Ва, 688, 690, 706
Халснёю, судно отсюда 642
хамавы 324, 626
Харацена 8Db, 700
Харран 653, 745
Хатра IPf,; 6Dby 8Са, 697-700
~ Санатрук I и его династия 688—689, 697-699
~ при Барсемие 697 ~ поддерживает Песценния Нигера 696, 697
~ и Север 19-20, 267, 697-698, 700 ~ как клиентское государство по отношению к Риму 696,698—699 ~ правление Санатрука П 697—698, 699
~ персидское нападение 652 ~ римский гарнизон размещен здесь 653
~ персидское завоевание 52, 653, 654, 699-700
*
~ культура 686, 688 ~ монета 699
~ народы пустыни, контроль над ними 688, 689, 699
~ религиозные культы 688—689, 809 ~ Сасаниды, контакты с ними 658 ~ торговля 646, 689, 694 ~ фортификационные сооружения 698
~ христиане 809 хаттуарии 626
1184
Указатель
ХАУ
Хаузесгидс (Верковикий) 283 сноска 52, 350
Хауран 1Ng, 8ВЬ, 312, 688, 691, 692-693, 695, 705
Хегра (Медаин-Салих) 8Вс, 503, 693, 705, 708
хемморские серебряные ковшы 639 Хениль, река 583 Херпай, умбон отсюда 634, 640 Херсонес (Севастополь) 379 херуски 621
Хиджаз 8Вс, 692, 693, 706 Хилдерик, его гробница 638 хилиазм, христианское богословское понятие 813, 828
Химлингхёе, княжеские гробницы 636, 639
Хисида 813 сноска 52 хлеб, раздачи 575—576, 581 хлебные выдачи, пункты (gradus) 576 хлопок 569, 589 Ходде, Ютландия 631 хорепископы 805, 814, 815, 817, 818, 822 Хосров I, царь Армении 653, 671, 677, 678, 679, 685
Хосров П, царь Армении 680, 685 Хосров Ш, царь Армении 674 сноска 35, 676, 683, 685
Хохшайд, святилище Аполлона Гран- нуса 768
храмы 731—732, 734—735
~ вовлеченность в городские дела 443, 572, 731-732, 746 ~ императоры конфискуют их сокровища 512, 544, 758 ~ императоры строят их 515 ~ Константин и языческие святилища 138, 139, 757-758 ~ места собраний общины 766 ~ надписи в них 734, 753 ~ театры, их связь с ритуалом 764, 766, 767
~ христианские писатели о них 731 хранилище записей об энктезисах (архивы) 421
Хресгос, сын Гликона 733
хрисаргирон (налог) 132, 543, 946 Хрисополь, битва при нем 117, 122, 125, 947
Хрисг, сиракузский епископ 796 христианство 11
~ 70—192 гг. 772-791 ~ Ш в. 791-886
*
~ и Адриан 823
~ валентинианство, секта 783, 786, 789, 801, 811
~ Второе пришествие 805 сноска 26 ~ географические рамки 772—790, 791-822
~ и городская жизнь 123, 822, 836, 855, 878, (и культы) 769, 785, 795-796, 875, 878
~ и государство 662, 758, 823—879, 823—879, [см. также гонения на христиан)
~ Готия (крымская) 800 ~ и греко-римская культура 711—712, 881,882 ~ и демоны 788 ~ докеты, ересь докетизма 776 ~ и евреи 662, 776, 795, 808, 819, 881, («иудейское» христианство) 773 ~ евхаристия (причастие) 786 ~ изучение, (в Александрии) 782, 811—812, 884—885, (в Антиохии) 804—806, (в Цезарее) 808, 885, (в Иерусалиме) 808, [см. также отдельных учителей)
~ в императорском окружении 818, 854, 860, 866, 869 ~ империя, учение о ней 755 ~ и интеллектуалы 725, 756, 817 ~ исключительность 878 ~ искусство и архитектура 487, 747, 880, 890, 901, 906, 908, 910— 914, 924-925
~ исповедальные письма 798 ~ источники 87, 111—112, 791—792 ~ коптское 812—813 ~ латинская культура 786, 797, 801
ХРО
Указатель
1185
~ и магия 728 ~ и манихейство 859—860 ~ мелитиансгво 126, 814 ~ мозаики 747, 880, 890 сноска 9 ~ название «христиане» 575 ~ Несторианская церковь 660 ~ новацианская схизма 797—798, 804, 810
~ новообращенные 822 ~ обвинение христиан в катастрофах 57,815 сноска 62,824,831—832, 875
~ отлучение от церкви 773 ~ отпущение грехов 785—786, 833, 838
~ «Отче наш» 774 ~ пасторские наклонности западных церковников 884
~ патриархи, (Александрия) 812, (Персия) 662
~ Плиний и 779—780, 817 ~ половое воздержание 773—774 ~ порочность, наследственная, доктрина о ней 788 ~ пресвитеры 776, 784, 822 ~ привлекательность 770—771 ~ примат Рима 784, 785, 786, 804 ~ процесс выработки ортодоксии 659, 881, 882
~ разделение сакрального и мирского 747
~ региональные отличия 821—822 ~ рескрипты о нем 779—780, 824 ~ савеллианство 812 ~ секретность 734 ~ в сельской местности 805, 812—813, 814, 815—816, 822, (хорепис- коп) 805, 814, 815, 817, 818, 822 ~ и сенат 853—854 ~ о смерти и загробной жизни 748, 804
~ социальный состав 771, 795, 802, 822-823
~ стелы в Пальмире 704 ~ структура 769, 776—777 ~ тринитарная доктрина 775, 786, 885
~ и ценз 526
~ церковная статистика 797 ~ церковное имущество 126, 512, (конфискации) 863, 865, (возвращение) 865—866, 876—877, (см. также некрополи; церковные здания)
~ и экстаз 778
~ Элий Аристид, его прорицание 777 ~ энкратиты, их движение 774 ~ этнический состав 784, 788, 793, 797, 800-801
~ и язычество 512, 719, 756, 860, 870— 871, (христиане поносят его) 712, 742, 752, (гражданский культ) 769, 786, 795-796, 878, (сосуществование с ним) 769, 795, (и жертвоприношения) 773, 776, 827-828
см. также агитация в народе; благотворительная помощь; города и администрация; гонения на христиан; духовенство; епископы; ересь; иночество; крещение (христианское); литература, христианская; мощи; некрополи; Павел из Са- мосаты (споры по его поводу); Пасха; синоды епископов; соборы (церковные); хилиазм; церковные здания; эбиониты; элхасаиты; а также отдельные регионы, Армения; армия; Асклепий (божество); искусство и архитектура; женщины; зороастризм; иконография; императорский культ; коммуникации; литургия и литургические предметы; миссионеры; молитвы; паломничество; Персия (религии); правосудие; саркофаги; священные книги; философия Христос, его изображения 747, 880 «Хроника Сеерта» 810 сноска 45 «Хроника Эдессы» 809 сноска 39
1186
Указатель
ХРУ
Хрушица (Ад-Пирум, перевал Грушевого дерева, Ad Pirum) IHd, 290, 316
Хюфинген 624 цанны 324
Цезараугусга (Сарагосса) 1Ее, 288, 795 Цезарея Маритима 106 Цезарея Филиппова 806 Цезарея, Каппадокия (Мазака) 1Nf \ 2Ес, ЗЕс,, 7Db, 62,293,684,336 ~ епископы 815, [см. также Фирми- лиан)
~ монетный двор 498 Цезарея, Мавритания Цезарейская — см. Иол-Цезарея
Цезарея, Палестина (Арка) 1Mg, 2Fc, 3Fc, 8Ab, 294, 522, 690, 337 ~ христианство 808, 885, (гонения) 825 сноска 85, 849 сноска 123, 858
Цезари и Августы 8, 77—78, 84, 199 Цезоний Овиний Манлий Руфиниан Басс, Луций 92 Цейлон 509, 584
Целерин, африканский исповедник 829, 841
Целерина, африканская мученица 830 Целий Кальвин Бальбин, Децим — см.
Бальбин Цельс, юрист 230 Цельс, язычник:
~ «Истинный Логос» 786, 823 ценз 420, 526
~ и беглые крестьяне 531, 561—562 ~ и высшие классы 418, 475 ~ процедуры его проведения 183,184, 420, 431, 536
см. также при Диоклетиан; Галлия; Египет
центенарии, императорские чиновники (centenaria) 188
центенарии, укрепленные посты (centenaria) 314, 320
центр — периферия, отношения 586, 608, 916
централизация: римская, предполагаемая 167,225,403-404,410- 414, 437, 835
~ сасанидская 646, 652, 664 Центумцеллы 847 центуриация земли 536, 557 цены 592—594
~ кодексы о них 172 ~ контроль над ними 204, 417—418, 522
~ общие тренды 592 ~ и порча монеты 471—472, 533 ~ региональные различия 590 ~ их справедливость 592 ~ формула Фишера 593 ~ «Эдикт о ценах» (301 г.) 109—110, 221-222, 557, 592-593, 944 ~ об армии 540, 593 ~ гонорары нотариуса 422 ~ денарий как расчетная единица 487
~ золото 479 сноска 9, 543 ~ надписи с его текстом 109, 479 сноска 9, 484, 592—593 ~ перевозки 583
~ последствия его принятия 109— 110, 222, 594 ~ предисловие 110 ~ предметы роскоши 591 ~ продукты питания 565, 566 ~ работа вышивальщиков (barbaricarii) 585
~ региональные отличия 590, 606 ~ ткани 577, 589
см. также отдельные товары и Египет
Цервидий Сцевола, Квинт 230, 230, 236, 595
церемониал 134, 516, 574, 587, 598, 890 ~ при тетрархах 95, 98, 113, 115, 215 церковные постройки 880 ~ Антиохия 859 ~ Вифлеем 128 ~ Галлия 793
~ государственные вьшлаты на их строительство 126
ШАП
Указатель
1187
~ Мамре 128, 130
~ разрушения во время гонений 863, 869, 879-880
~ церковные дома 802, 804, 805 ~ Цирта 122
см. также Дура-Европос; Иерусалим; Константин I (религия); Константинополь; Рим (здания; катакомбы; церкви) Цецилиан, епископ Карфагена 123 Цецилий Капелла 825 сноска 86 Циллий (Кассерины) 564 Цирта (Константина) ICf \ ЗСс, 268, 337 ~ конфедерация 431 ~ Церковь 122,802, (Собор 305 г.) 865, (гонения) 268, 787, 856—857, 865
Цирцезий IPf, 53, 58, 60, 267, 382, 384 ~ пограничная система обороны 97, 159, 310 цистерны 563 Циус 1Ley 378 Цифер-Пак 629
Цицерон, Марк Туллий 517, 747 Цурцах (Тенедо) 1Gd, 315, 358
Чаршамба, река и ее долина 818, 821 частная собственность императора (res privata):
~ и города 443
~ северовские прокураторы в провинциях 24—25
~ создание и юридический статус 190 ~ экономическая функция 190—194 ~ magistri rei privatae 101, 417, 537 см. также поместья, императорские Чаянов, Александр Васильевич 556 Чезава (Новы) 369 Челей (Суцидава) 1Ке, 285, 320, 376 черепичное производство 193 Черное море 308
~ готские нападения 47, 60, 64, 65, 278-278, 280, 627 Черняховская культура 628 Честер (Дева) 1Есу 2Ва, 289, 309, 352 четыре консуляра (quattuor consulares) 209
Чёртов ров, Дакия IKd, 284 Чирпана — см. Пизос чистота, ритуальная 719, 734 чума 142
~ Антонинова 457 сноска 1, 470, 560, 593
~ заклинания против нее 747 ~ Клавдий П умирает от нее 70, 939 ~ и население 171, 470, 560—561, 562 ~ и нестабильность 142 ~ распространяется из-за военных действий 82
~ религиозные ритуалы 733 ~ святого Киприана 560—561 ~ христиане обвиняются в ее распространении 824, 848, 875 ~ и циркуляция монет 476 см. также при названиях Африка; Египет; Италия
Шаан IGd, 320 Шадрапа, пунический бог 761 Шалон-сюр-Марн 72 Шамаш, его культ в Хатре 688—689 Шампань, германское нападение на нее 597
Шапур I, царь Персии 653—655
~ Ардашир, его коллега и преемник 52
~ восшествие на престол 650, 653, 935
~ первая война против Рим 51—53, 272, 650, 653, 678, 935 ~ мир с Филиппом 53, 58, 272, 510, 653, 679, 935
~ и Тиридат П 58, 97, 653, 679, 936 ~ вторая война против Рима (начало 250-х годов) 58, 272, 653, 654, 679, 936-937
~ победа Урания Антонина над ним
704, 936
~ третья война против Рима 60, 62— 63, 272, 311, 654, 937, (захватывает Валериана) 60, 62, 147, 272, 296, 317, 654, 937 ~ кампании Одената против него 62, 63-64, 273, 702, 938
1188
Указатель
ШАП
~ стычка с Пробом 75 ~ смерть 281, 940
*
~ двор 652
- мотивация к ведению войн 654 ~ наскальные рельефы 654 ~ Оденат пытается сблизиться с ним 63, 655, 702, 703
~ религиозная политика 652, 655, 659, 660
~ Сасан, Папак и Ардапшр, связь с ними 649
~ Res Gestae Divi Saporis — см. при названии Накш-и-Рустам Шапур П, царь Персии 281, 658—659, 659, 664, 683, 709
~ отношения с Римом 657, 658, 683 Шаркамен 1Ке, 305 «Шахнаме» («Книга царей») 648 шахты и ямы, германские культовые 643
шейные кольца, германские золотые 638, 639
шелк 569, 581, 589, 604 Шемту (Симмиту), мраморные каменоломни 569
шерсть 565, 568, 569, 588, 589, 605 Шершель — см. Иол-Цезарея Шехба (Филиппополь) INg, 8ВЬ, 312 Шипка, перевал 277 Шлезвиг-Голынтейн 641 Шлёген 1Ш, 315 Шотландия 1ЕЬ, 22, 111 шпионы (curiosi) 428 Шплюген перевал IGd, 290 Штильфрид 629
Щедрость, семантика понятия 410, 430, 440-441, 519, 531
Эбиониты 773 Эборак — см. Йорк Эбуродун (Ивердон) ЗСЬ, 334, 362 эвокаты (evocati) 35 Эгеи, Киликия 740, 814 сноска 57 ~ святилище Асклепия 130, 740
Эгета (Брза Паланка) 7Ке, 291, 371 Эгнатулей Сабин, Луций 184 сноска 41 Эдесий, палестинский мученик в Египте 872 сноска 166
Эдесса 1Nf, 3Fc, 6Cb, 7Db, 8Ba, 688, 696-697
~ союз с Римом 266, 696 ~ и Север 18, 20, 696—697, 700 ~ и Каракалла 295, 300, (устраивает колонию) 267, 658, 697, 328 ~ Гордиан Ш забирает назад у персов 52, 653, 697
~ Шапур I захватывает, Оденат воз- вращае 60, 62, 63
*
~ арабская и арамейская культура
686,688
~ власть над народами пустыни 689, 699
~ дорожная сеть 288, 293 ~ караванная торговля 689—690, 694 ~ метрополия Осроены 337 ~ мозаики 920 сноска 67 ~ монета 697
~ Моним и Азиз, культ 688 ~ в пограничной оронительной системе 310
~ христианство 774, 809—810 ~ «Эдесская хроника» 604 сноска 39 см также Абгар V, УШ, IX и X и Ма- ну УШ
«Эдикт о денежном обращении» (301 г.) 221, 484, 487, 531, 538, 594 ~ Афродисиада, надпись отсюда 221, 479 сноска 9
~ девальвация 478, 479 сноска 9, 485, 490-491, 494 ~ результат 594 эдикты:
~ императорские 241—242, 245, 514 ~ преторские, как источник римского права 234—235, 240—241, 255
см. также «Эдикт о денежном обращении» и при словах Арисгий Оптат; брак; Милан; цены
ЭЛА
Указатель
1189
эдилы, курульные 241 Эдрине — см. Адрианополь эдуи, их община — см. Отён Эзани 109—110, 479 сноска 9, 484, 593 Эзинге 631, 642
экзакторы (exactores) 417, 451, 466 экзорцизм (изгнание демонов), у африканских христиан 788 Эклект 13
экономика 10—11, 554—609 ~ аграрная 559—571, 608 ~ арабская 709
~ археологические свидетельства
556- 557
~ взаимообмен 556 ~ государственно-регулируемая модель 580—581
~ единство или многообразие 604— 609
~ жестко регулируемая 169, 172, 194,
222
~ иерархии 605, 606 ~ и инфляция 85, 592 ~ литературные источники о ней 555,
557- 558
~ местная специализация 586 ~ монетарная и натуральная 477,558, 559, 589-590, 593, 596, 606 ~ обмен услугами 559 ~ основанная на рынке 172, 194, 556, 606
~ пальмирская 689—690, 701 ~ перемены 172, 554—556, 558, 606— 608
~ перераспределение 556, 575, 578, 590, 606
~ пропитание 559, 593 ~ пространственные единства иные, чем империя 605—608 ~ и раздел империи 555, 591, 605— 606
~ регионализация 477, 558, 559, 591, 604-609, 606-608 ~ рецессия 80
~ сделки в натуре 559, 593, (сасанид- ская) 664, (см. также при слове налогообложение)
~ северовское восстановление 204— 205, 477
~ современные подходы 476—477, 555-556, 607-608 ~ социальный разрыв и 598 ~ способы ее описания 558—559 ~ структуры 559—591, (в сельской местности) 559—571 ~ эволюция 592—608 см. также варвары; военные действия; города; границы; дары и экономика дарений; долговые обязательства; евер- гетизм; и при слове армия; искуство и архитектура; монета; Персия; поместья, императорские; потребление; провинции; производство; рабочая сила; ремесленная продукция; Рим; рудники и горное дело; сельское хозяйство; торговля; цены эксиларх, вождь иудеев (реш галута) 662
экстаз, религиозный 778 эксцепторы (exceptores) 171 Элагабал, император (Марк Аврелий Антонин Август, прежде Барий Авит) 36—38
~ восшествие на престол 36,176, 932,
932
~ правление 37—38, 305, 598, 932—
933
~ смерть 38, 933
*
~ и Александр Север 37—38, 933 ~ и армия 178 ~ легитимация 176, 198 ~ монета 482, 489, 752 ~ в провинциях 340 ~ в Риме 296, 933 ~ и сенат 37
~ портретные изображения 903 ~ религиозная политика 751—752, (и эмесский солнечный бог) 37, 177, 198, 752, 760 ~ родословная 36
1190
Указатель
ЭЛА
~ и Юлия Меса и Юлия Соэмида 36, 37, 176, 751
Элагабал, солнечный бог Эмесы 302, 690, 754, 760
~ и император Гелиогабал и 37, 177, 198, 752, 760
Элевсинские мистерии IKf, 65, 298, 744, 759, 938
Элевторополь 808 сноска 34 Элиан, вождь багаудов 942 Элий Марциан, юрист 234, 243, 254 Элий Аристид 527, 777 ~ 46-я речь 777 ~ «К Риму» 207,307,410,604 Элий Аристид, псевдо-
~ 35-я речь, к императору 88 Элия Капитолина — см. Иерусалим Элуса IMg, ЗСЬ, 311, 334 элхасаиты (баптисты, секта) 660, 773 Эль-Гахра IFg, 313 Эль-Гелаа 1Ff, 313 Эльвира — см. Илибберида Эмеса INg, 3Fc, 8Bb, 502 ~ восстание Элагабала 36 ~ при Самсигераме 58 ~ узурпация Урания Антонина 704 ~ ставка Макриана 63 ~ победа Одената над Квиетом и Баллистой 63, 702, 938 ~ Аврелиан отбирает у Пальмиры 72, 704, 940
*
~ арамеи и арабы 688, 690 ~ водохранилище на Оронте 690 ~ дорога 294 ~ епископы 806, 806 ~ культы 704, (см. также Элагабал, солнечный бог)
~ как метрополия 337 ~ и Пальмира 690—691 Эмилиан, император (Марк Эмилий Эмилиан) 58—59, 278, 936 ~ и сенат 198, 297
Эмилиан, Луций Муссий — см. Муссий Эмилиан, нумидийский мученик 857 Эмилий Мацер, юрист 184, 254
Эмилий Папиниан, юрист 25 ~ даты жизни 231
~ государственная карьера 230, (начальник a libellis) 230, 247, (префект претория) 30, 185, 186, 230, 930 ~ смерть 315
~ сочинения 232, 237, 247, 254, 256, 595
~ «Разыскания» и «Ответы» 235, 930 ~ тонкость 237
Эмилий Сатурнин, префект претория 27 сноска 28
Эмилий Эмилиан, Марк — см. Эмилиан, император
Эмилий, Африканский мученик 845 Эмилия и Лигурия ЗСЬ—ВЪ, 333, 338 Эмона (Любляна) IHd, 290—291, 316 эмпории, торговые центры в сельской местности 20, 302, 426 энкратиты, их движение 774 Эносести (Ацидава) 375 Эон, божество 728 Эпагат, префект Египта 41 эпидемии 171, 576 см. также чума
Эпимах, александрийский мученик 844 «Эпитома о жизни и нравах императоров» 91 сноска 2 Эпир 2Db—Ec, 335
~ Новый 3Db—Eb, 330—331, 335 ~ Старый ЗЕсу 331, 335 эрарий 538
~ ветеранский пенсионный фонд (aerarium militare) 153 сноска 83, 524
~ секретный эрарий (aerarium sanctius, хранящийся в храме Сатурна) 524
Эск (Джиджен) 7Ке, 54, 56, 98, 285, 291, 316, 376 Эски-Малатья 381 Эстергом 366
Эстио, Сильвиан 490, 493, 496 Эсувий Тетрик, Гай Пий — см. Тетрик эфебы, их состязания в Оксиринхе 469
юли
Указатель
1191
Эфес 7Z/, 2Ес, ЗЕс
~ готские набеги 280, 753 ~ импорт зерна из Египта 566 ~ культы, (Артемида) 280, 732, 752, 753, 764, (Асклепий) 740, (императорский) 732 ~ метрополия 336 ~ надписи 443, 525 ~ петиции императорам 300 ~ праздники 732 ~ христианство 776, 778, 819 Эшмун, пунийский бог 764 Эя (Триполи) 1Hg, 226 сноска 33, 294, 761, 763, 807
юбилеи, императорские 511, 905 см. также при имени Константин I ювелирные украшения 510, 594, 598, 636, 639-640
югер (= югум) (iugum), единица налоговой оценки 219—220, 534— 538
югум — см. югер
Юкунд, карфагенский мученик 827 Юлиан, александрийский мученик 844 Юлиан, африканский мученик 856 Юлиан, император (Флавий Клавдий Юлиан):
~ восхваление им Константина 551 ~ религиозная политика 734, 735, 742, 757
~ родословная 927 ~ фискальная и финансовая политика 443, 538, 547, 551 Юлиан, Марк Аврелий Сабин 79, 92 Юлиан, Марк Дидий Север, император 14-16, 190 сноска 67, 190, 930 Юлиан, юрист — см. Сальвий Юлиан Юлианово достояние (res Iuliani) 190 сноска 67
Юлий Аврелий Сулышций Север Ураний Антонин, Луций (Самси- герам) 58
Юлий Аквила, юрист 253 Юлий Александр, Тиберий, префект Египта 531
Юлий Африкан, Секст 808, 809 сноска 39, 817 сноска 69, 885, 886 Юлий Валент Лициниан 56 Юлий Вер Максим, Гай, сью Максими- на Фракийца 46, 934 Юлий Вер Максимин, Гай — см. Макси- мин Фракиец Юлий Лет 13, 19 Юлий Марциал 35 Юлий Павел (Павел), юрист:
~ авторитет 231—232, 254 ~ датировка 232 ~ и декреты Севера 246 ~ «Институции» 233—234 ~ комментарии 234, 235 ~ в консилиуме при императоре (consilium principis) 230 ~ о монете 195, 513 ~ монографии 236, 254 ~ о налогообложении 522 ~ Ориген слушает его 811 ~ партикуляристкий подход 237 ~ постклассическая переработка 256 ~ как префект претория 185,186,230 ~ «Сентенции», приписанные ему 255-256
~ «Три книги руководств» 233 ~ утонченность 247
Юлий Приск, Гай, ректор Востока 51, 53, 55, 202, 416
Юлий Приск, Тит, узурпатор 936 Юлий Сатурнин, наместник Сирии 75— 76, 941
Юлий Север Филипп, Марк — см. Филипп П
Юлий Септимий Кастин, Гай 28 Юлий Филипп, Марк — см. Филипп I Юлий Юлиан, префект претория 928— 929
Юлий, британский мученик 792 сноска 4
Юлиополь (Гордий) 1Ме, 293 Юлия Домна 19, 896—897
~ административная роль 32, 34 ~ Аргентококс, его супруга 301 ~ и магия 729
1192
Указатель
ЮЛИ
~ матерь воинов (mater castrorum) 174
~ и Плавциан 43
~ и распря между Каракаллой и Ге- той 30, 175
~ сирийские связи 28, 302, 690 ~ смерть 36
~ уподобление богиням 770 ~ и Филосграт 716, 740 Юлия Мамея 36
~ и Александр Север, его принципат 37, 39-41, 43, 45, 141, 176, 177
~ на монетах 40—41 ~ и Ориген 805 сноска 25 ~ и строительство 299, 574 ~ титулы 177 ~ убийство 43, 45, 934 Юлия Меса 36, 37, 39—41, 176 Юлия Соэмида (Соэмия) Бассиана 36, 37, 176, 177, 933 Юний Палмат 678
юношество (iuventutes), объединение молодежи, боеспособное мужское население 47, 49 Юпитер 735, 746, 752, 754 ~ Аммон 765
~ галло-римский культ 767 ~ Долихен 712, 741, 760, 763 см. также Иовий и Геркулий, эпитеты
юристы 229—232, 253—256
~ административные вопросы, о них 169, 236
~ административные и правительственные должности 185—187, 229-230, 231-232, 245, 249, 257
~ властных полномочиях принцепса, о них 181
~ гражданский статус, о нем 407—415 ~ «Закон о цитировании» 231, 234 ~ единогласное мнение имеет силу закона 236, 239
~ индивидуалистический характер юриспруденции 237
~ классические 185—187, 229—233 ~ налогообложение, о нем 249, 518 ~ образование 230—231, 247 ~ повинности (munera), о них 248, 254, 412, 519-521
~ право давать публичные ответы ius respondendi 230—231 ~ профессиональный статус 230— 231
~ процессуальные прения 230 ~ рескрипты, предположительно, пишутся ими 185—187 ~ республиканской эпохи 229 ~ северовские 185—187, 231—232 ~ сочинения 231—236, 248—249, 254— 255
~ философия 238
~ частная правовая практика 230— 231
~ школы 237
~ эпиклассического периода 249, 253-256, 257
Юстин Мученик 777, 786 Юстина, супруга Магненция, и Валенти- ниана I 927—929
Юстиниан, его правовые компиляции 229
~ «Дигесты» 168, 231—232, 514, 520, (Флорентийский индекс) 253, (северовские законы в них) 25—26, 567, (источники) 185, 231, 232, 236, 254 ~ «Институции» 234 ~ «Свод гражданского права» 243 см. также кодексы, правовые (Кодекс Юстиниан)
Ютландия 631, 636, 641 кпунги:
~ вторжения в Италию 62, 274, 597, 624, 937, 937
~ побеждены Аврелианом 70, 153, 275, 940
~ в римской армии 324
Явна 808 сноска 34 Яволен Приск 235, 256
AGE
Указатель
1193
язиги 2Eb, 54 язычество — см. политеизм
Ямвлих 717, 723-724, 725, 730, 936 ~ и теургия 720, 722, 723—724 ямы, культовые, у германцев 643
янтарь, торговля им IHd—Jd, 291, 581, 584, 637, 664 ячмень 565, 592, 633
ager publicus 545
СОДЕРЖАНИЕ
Часть пятая
МИР ВНЕ РИМСКИХ ГРАНИЦ
Глава 13. Германские племена и германское общество
М. Тодд 621
I. Образование новых групп 621
П. Поселения 629
Ш. Военное дело 633
IV. Торговля и технология 635
Гл ав а 14. Сасаниды
Р-Н. Фрай 645
I. Введение 645
П. Ранние Сасаниды 648
Ш. Сасанидские отношения с римлянами 657
IV. Развитие религий 659
V. Выводы 665
Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны
К.-С. Лайтфут 666
I. Введение 666
П. Источники 668
Ш. Армянское царство 669
IV. Пограничные районы 675
V. Очерк исторических событий 677
Глава 16. Арабы и народы пустыни
М. Сартр 686
I. Единство и многообразие арабского мира 686
П. Апогей и крах зависимых государств 695
1. Эдесса и провинция Осроена 696
Содержание 1195
2. Хатра и Месопотамская Аравия 697
[а) Противостояние Хатры северовской агрессии 697
(£) Союз с Римом и крушение Хатры 698
3. Пальмира 700
(а) От города к княжеству 701
(£) Пальмирский восток 703
Ш. Филархи и союзные вожди кочевников 705
1. Союзные племена и конфедерации 705
2. Возвышение племени танух 706
3. Верховенство Имру-ль-Кайса 708
Часть шестая
РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
Глава 17. Поздний политеизм Г. Фоуден
Глава 17а. Мировоззрение 711
I. Проблемы, встающие в связи с Плотином 714
П. Герметизм и теургия 720
Ш. Магия и астрология 725
Глава 17Ь.Индивидуум и боги 731
I. Святилища и культы 731
П. Особые взаимоотношения 737
Ш. Боги домашнего очага и могилы 746
Глава 17с. Публичная религия 749
I. Роль императора 749
П. Региональный ракурс многобожия 759
1. Триполитания 761
2. Трир (Августа Тревиров) 766
Ш. Выводы 769
Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
Глава 18а.Христианство, 70—192 гг. н. э.
М. Эдвардс 772
1. Сирийский регион (кроме Антиохии) 772
2. Антиохия 775
3. Проконсульская Азия 776
4. фригия 778
1196
Содержание
5. Вифиния и Понт 779
6. Греция 780
7. Египет 781
8. Италия 783
9. Африка 787
10. Галлия 788
Глава 18Ь.Христианство Ш века
Г. Кларк 791
I. Географические рамки 791
1. Британия 792
2. Галлия 792
3. Германия 794
4. Испания 794
5. Средиземноморские острова 796
[а) Сицилия 796
(А) Сардиния 796
(с) Крит и Кипр 796
(<d) Италия 797
[е) Мёзия, Паннония, Норик, Далмация 799
(/) Балканы 800
(g) Африканские провинции 800
(h) Аравия 803
(i) Сирия 804
(/) Финикия 806
(к) Палестина 807
(/) Области к востоку от Евфрата 809
[т) Египет 811
6. Азиатские провинции 814
(а) Киликия 814
(i) Каппадокия 814
(с) Армения 815
(<d) Понтийский регион 816
(е) Вифиния 817
(/) Ликия, Памфилия, Исаврия 818
(g) Азия (Лидия и Мисия) и Кария 819
(Л) Галатия, Фригия, Писидия, Ликаония 820
(г) Выводы 821
П. Христиане и Римское государство. Гонения в период
со 193-го по 249-й год 823
Ш. Дециево гонение 834
1. Краткий обзор 834
2. Правительственные распоряжения 838
3. Обеспечение исполнения постановлений 839
Содержание
1197
4. Жертвы 842
(а) Восточные провинции 842
(Æ) Западные провинции 844
IV. Гонение при императоре Галле 846
V. Гонения при Валериане и Галлиене 849
VI. Великое гонение 859
VTL Христианская литература 3-го столетия 879
Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э.
Дж. Хаскинсон 887
I. Введение 887
П. Искусство и архитектура, 193—337 гг 889
Обзор 889
1. Императоры, Рим и прошлое 901
(а) Портретное искусство 902
(,b) Монеты и медальоны 905
(с) Постройки 906
2. Христианские саркофаги до Константина 910
(а) Общие тенденции 910
(ib) Формирование христианской иконографии 912
3. Мозаики 914
(а) Остия и центральная Италия 916
(£) Восточная Малая Азия 917
(с) Северная Африка 921
Ш. Выводы 924
Родословные императорских домов 926
Хронологическая таблица 930
Библиография
Список сокращений 948
Наиболее часто цитируемые публикации 955
Часть первая. Факты политической истории: последовательное изложение от Северов до Константина (главы 1—4) 962
Часть вторая. Государственная власть и административная система (главы 5—7) 982
Часть третья. Провинции (главы 8—10) 997
Часть четвертая. Экономическая система империи (главы 11—12)
1198
Содержание
Часть пятая. Мир вне римских границ (главы 13—16) 1034
Часть шестая. Религия, культура и общество
(главы 17—19) 1048
Список таблиц 1063
Список карт 1064
Список иллюстраций 1065
Указатель 1067
Кризис империи, 193—337 гг.: в двух полутомах /Под ред. А.-К. Боумана, А. Камерона, П. Гарней; перев. с англ., предисловие, примечания А.В. Зайкова. — М.: Ладомир, 2021. — Второй полутом. — 584 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. ХП, второй полутом).
ISBN 978-5-86218-605-6 ISBN 978-5-86218-607-9 (п/т 2)
Том охватывает историю Римской империи от восшествия на престол Септимия Севера в 193 году до смерти Константина Великого в 337 году н. э. Это был один из переломных, наиболее критических этапов в истории всего средиземноморского мира. Период начался с гражданской войны, в результате которой на троне утвердилась династия Северов, когда в державе, казалось бы, наступило спокойствие. С 235 года за этой относительной стабильностью последовали полвека, отмеченные чередой недолговечных императоров и узурпаторов, быстро сменявших друг друга, а также рядом серьезных военных неудач на восточных и северных рубежах империи. Этап «солдатских и сенатских императоров» сменился Первой тетрархией (284— 305) — периодом коллегиального правления, в котором Диоклетиан вместе со своим товарищем Максимианом и двумя младшими соправителями (цезарями Констанцием и Галерием) вновь стабилизировали империю. Этот период завершился вместе с правлением первого христианского императора, Константина, который разбил Лициния и положил начало династии, остававшейся у власти на протяжении тридцати пяти лет.
Научное издание
КРИЗИС ИМПЕРИИ,
193-337 гг.
В 2-х полутомах Второй полутом
Редактор ЮЛ. Михайлов Корректор О.Г. Наренкова Компьютерная верстка и препресс В.Г. Курочкин
ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписало в печать 27.08.2021 г. Формат 60х90У1б. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Печ. л. 36,5. Тираж 500 экз. Зак. №К-1935.
Научно-издательский центр «Ладомир» 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4 Тел. склада: 8-499-729-96-70 E-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами в АО «ИПК “Чувашия”» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Информацию о новинках «Ладомира»
(в том числе о лимитированных коллекционных изданиях), условиях их гарантированного и льготного приобретения, интервью с авторами и руководством издательства, прочие интересные сообщения можно оперативно получать, если зарегистрироваться в «Твиттере» «Ладомира»: https:// twitter.com/LadomirBook Сайт издательства: https:yyiadomirbook.ru