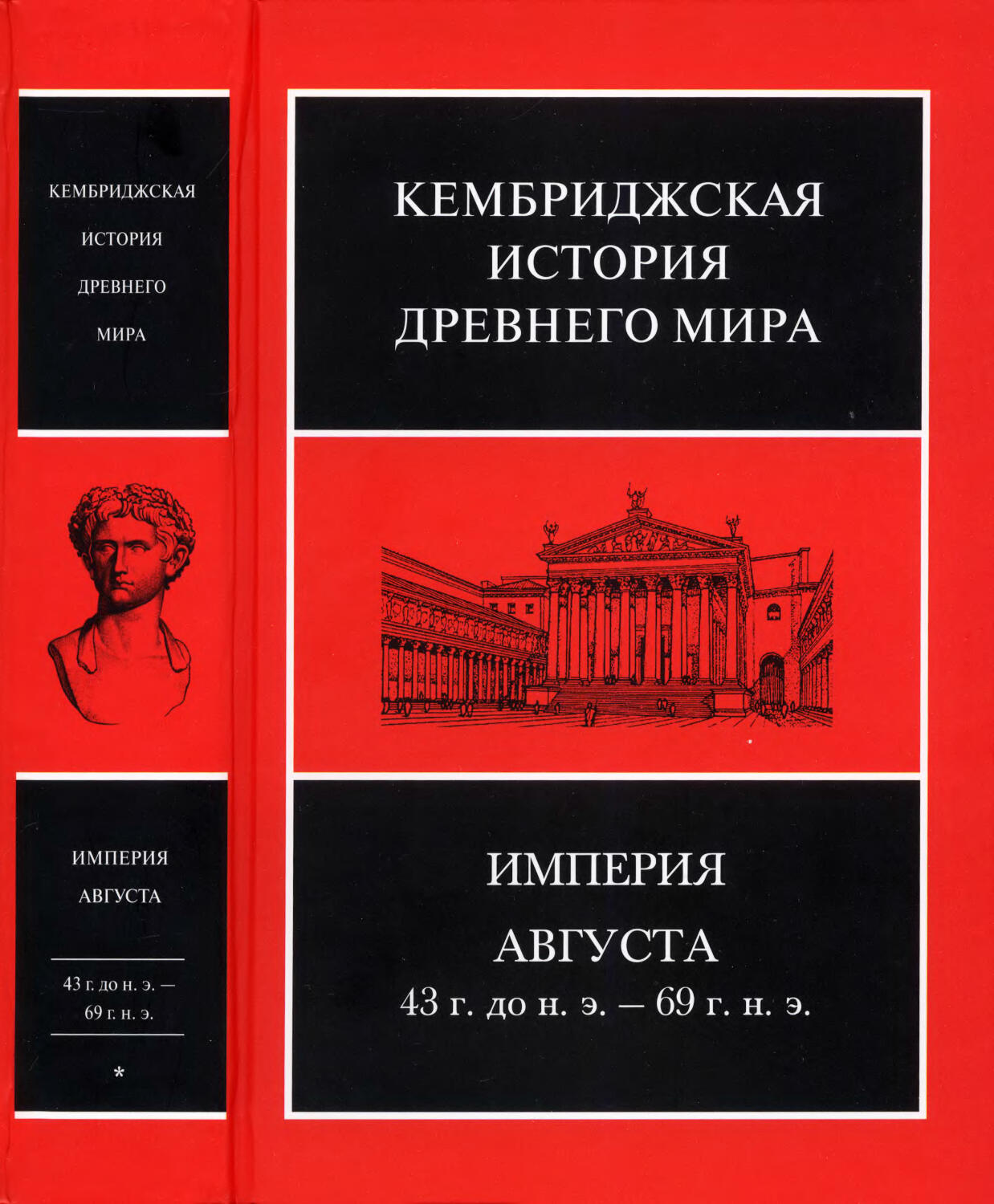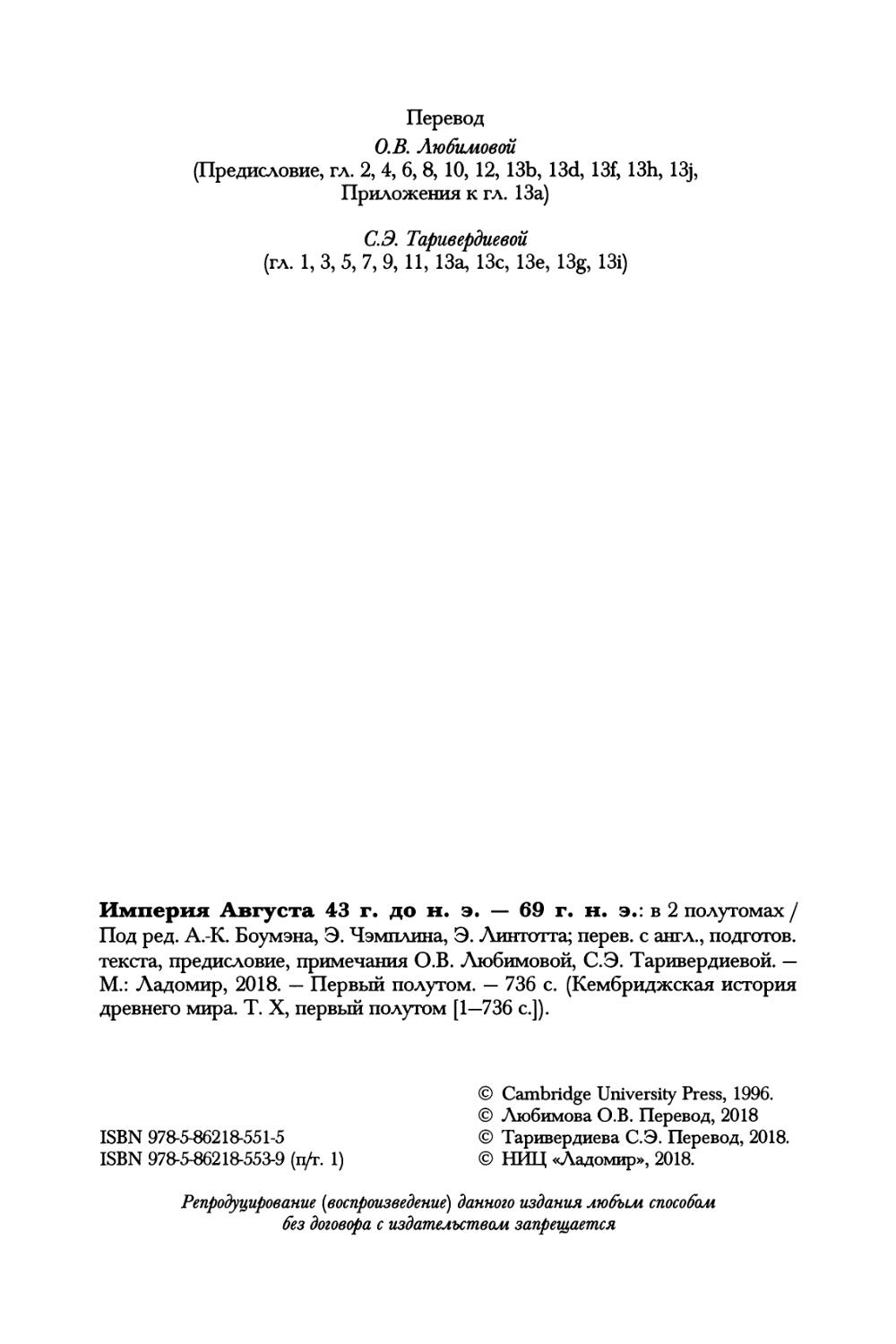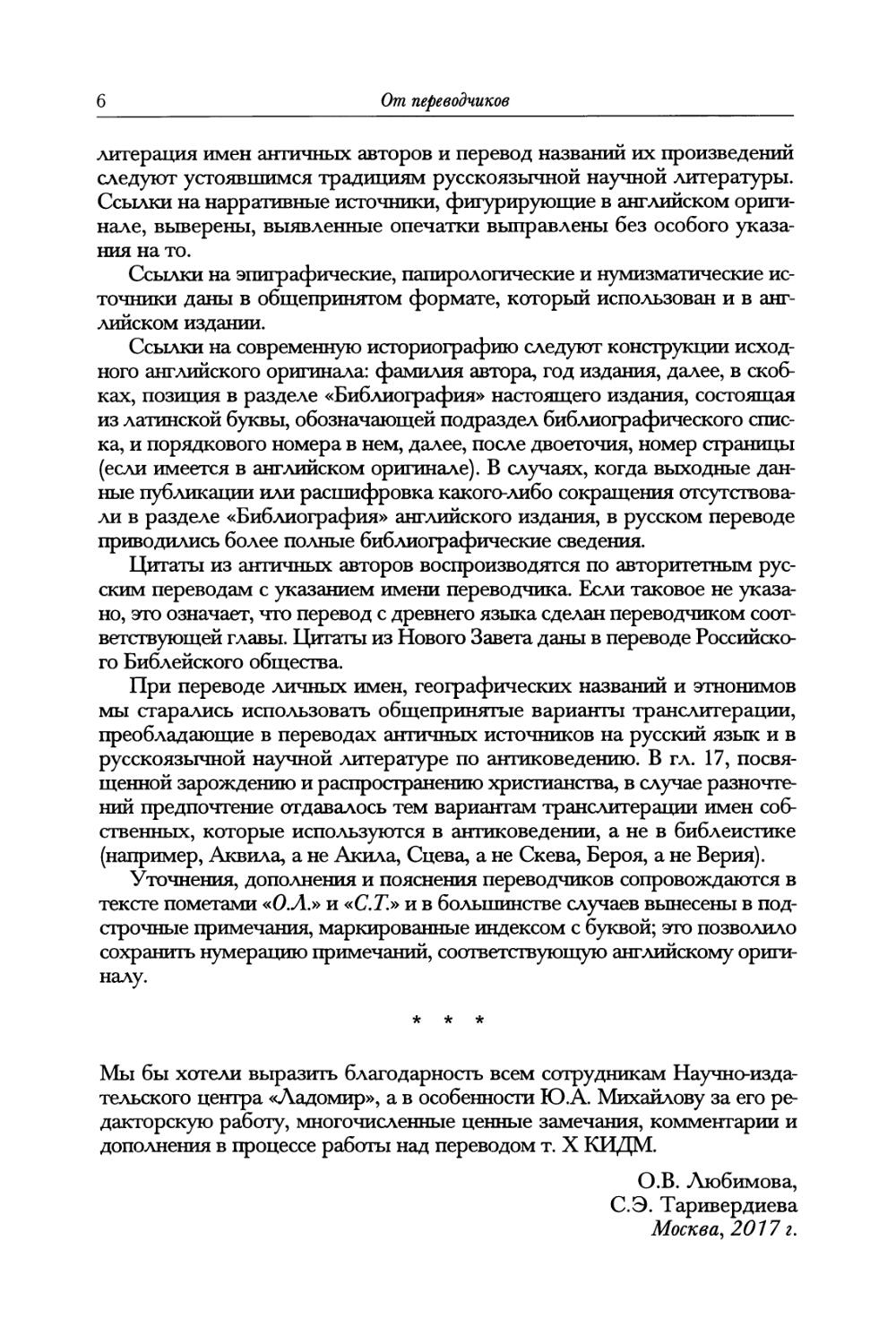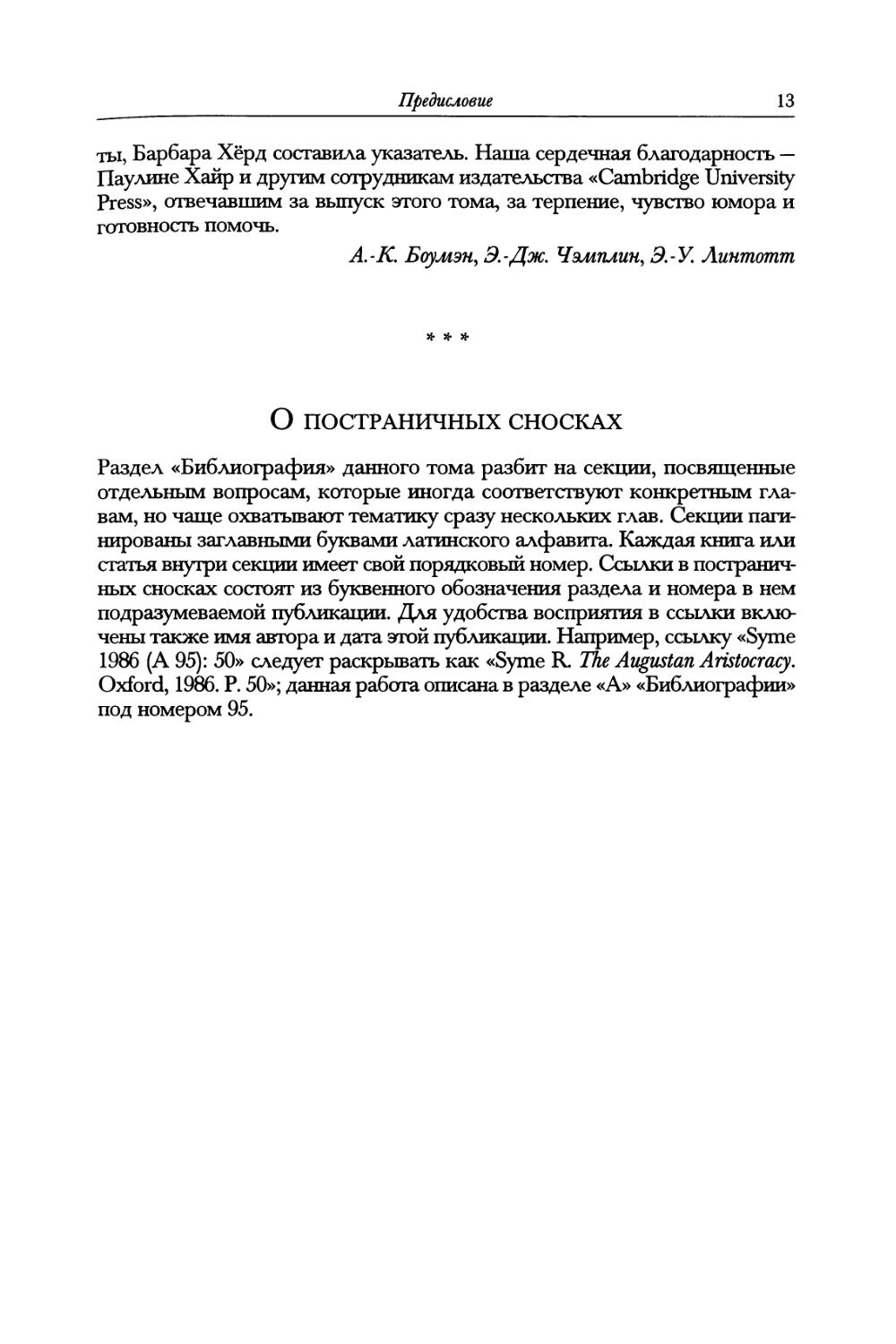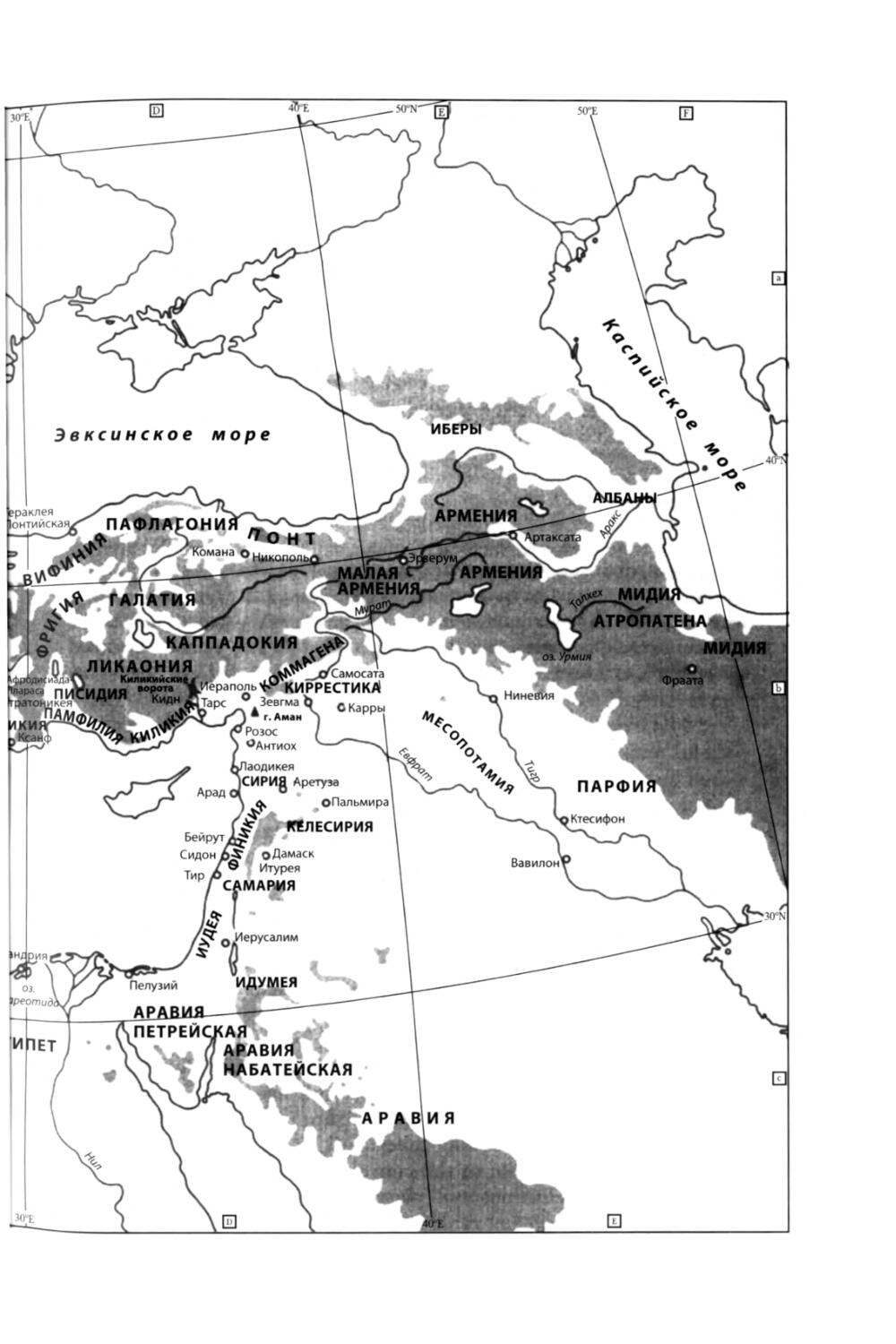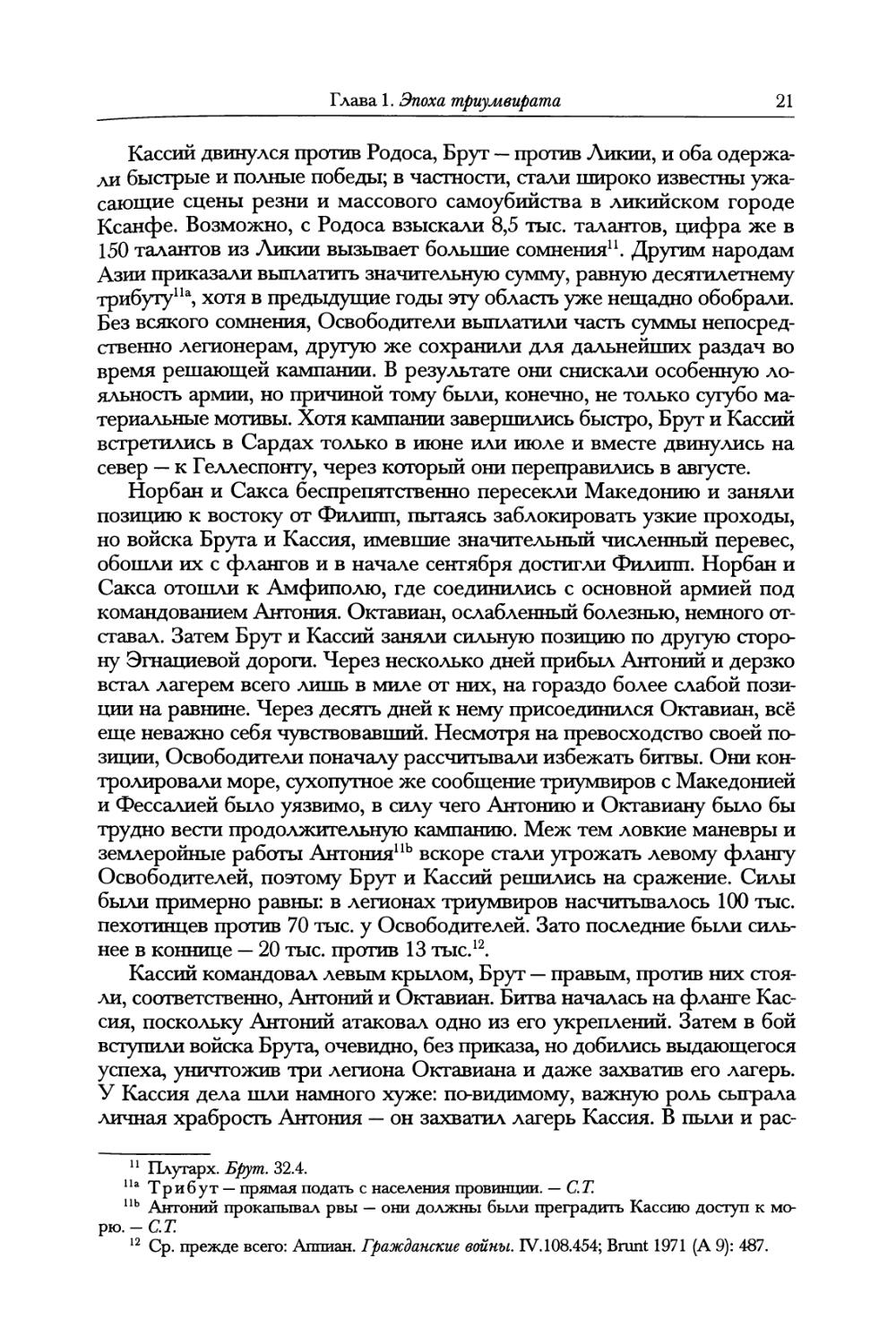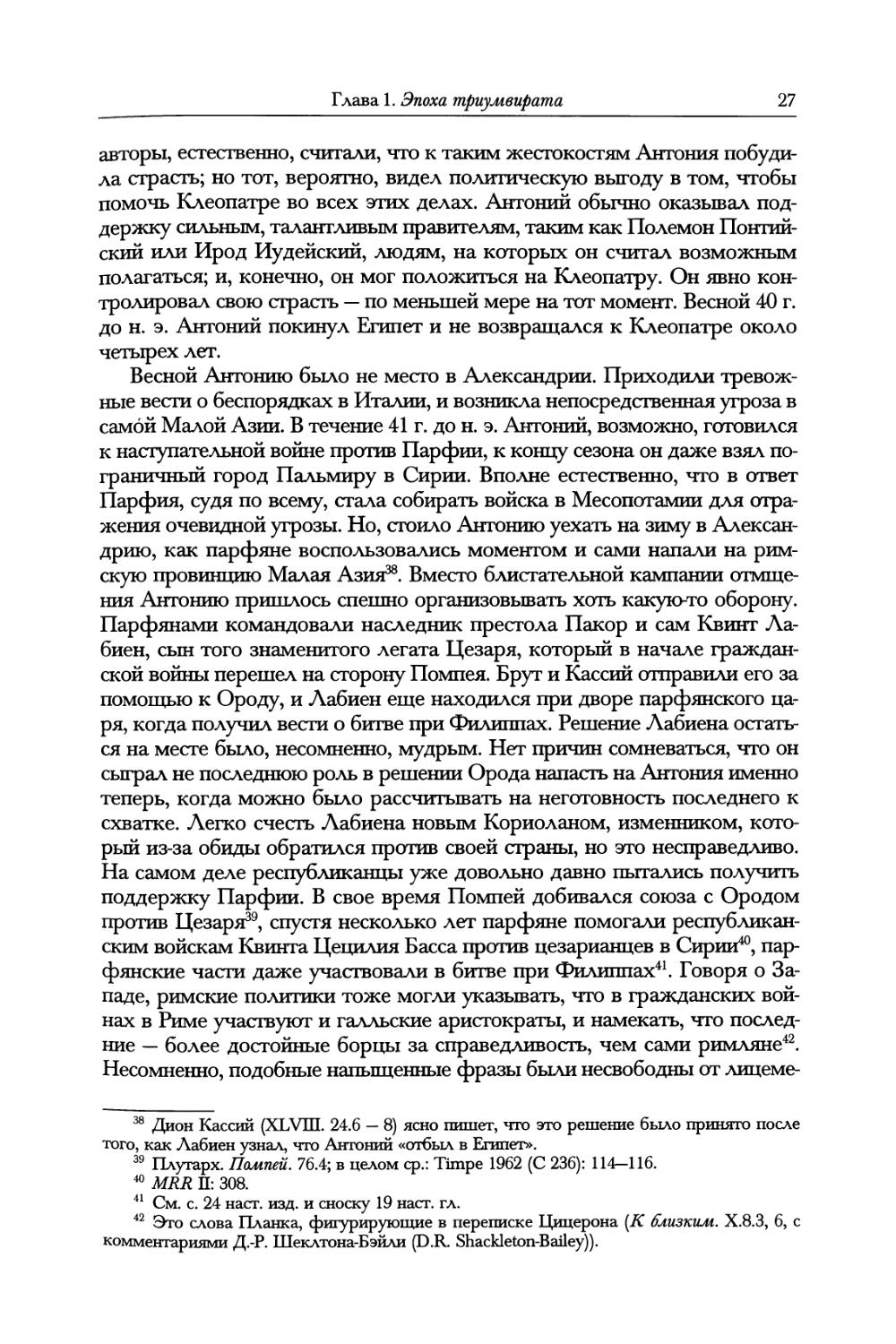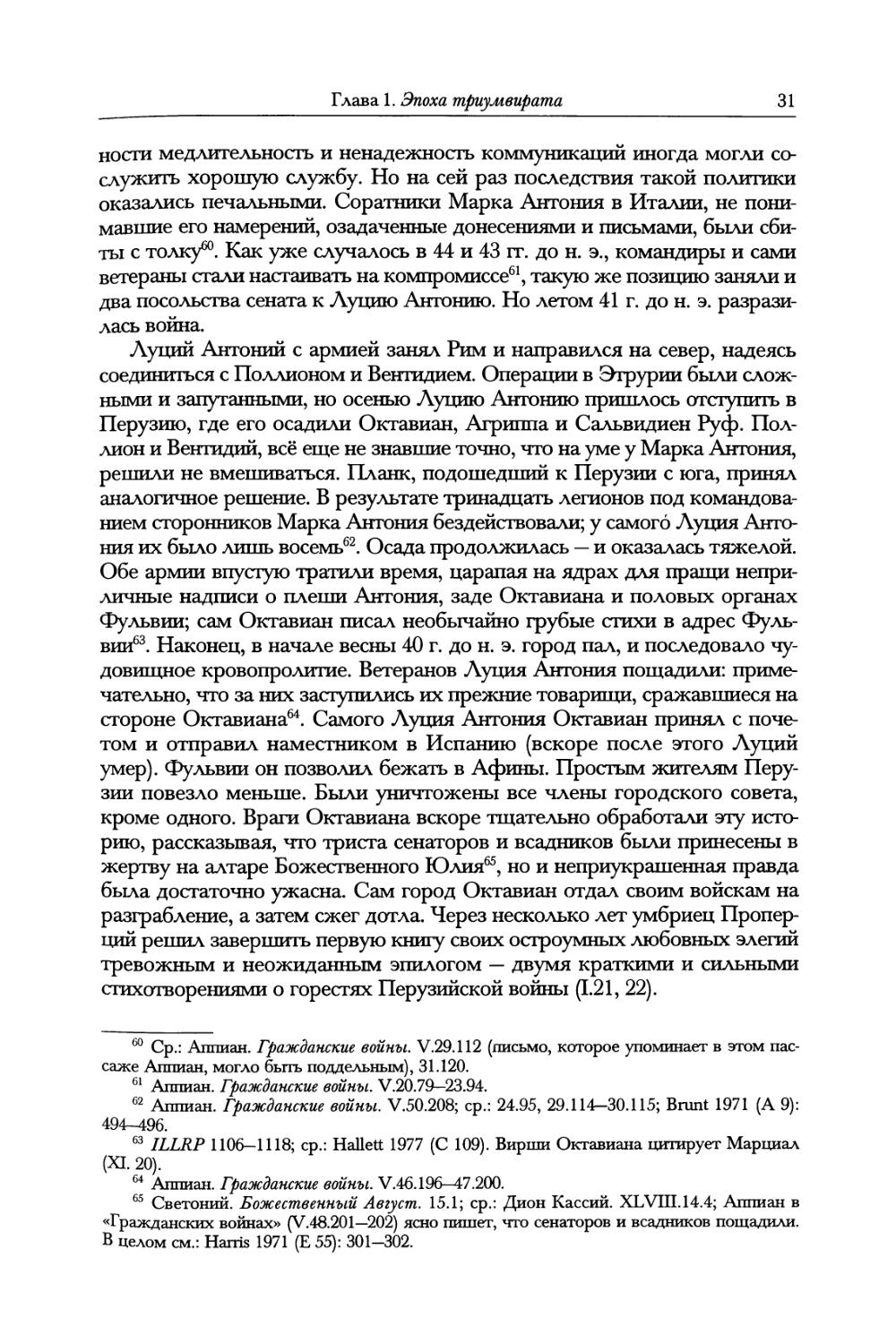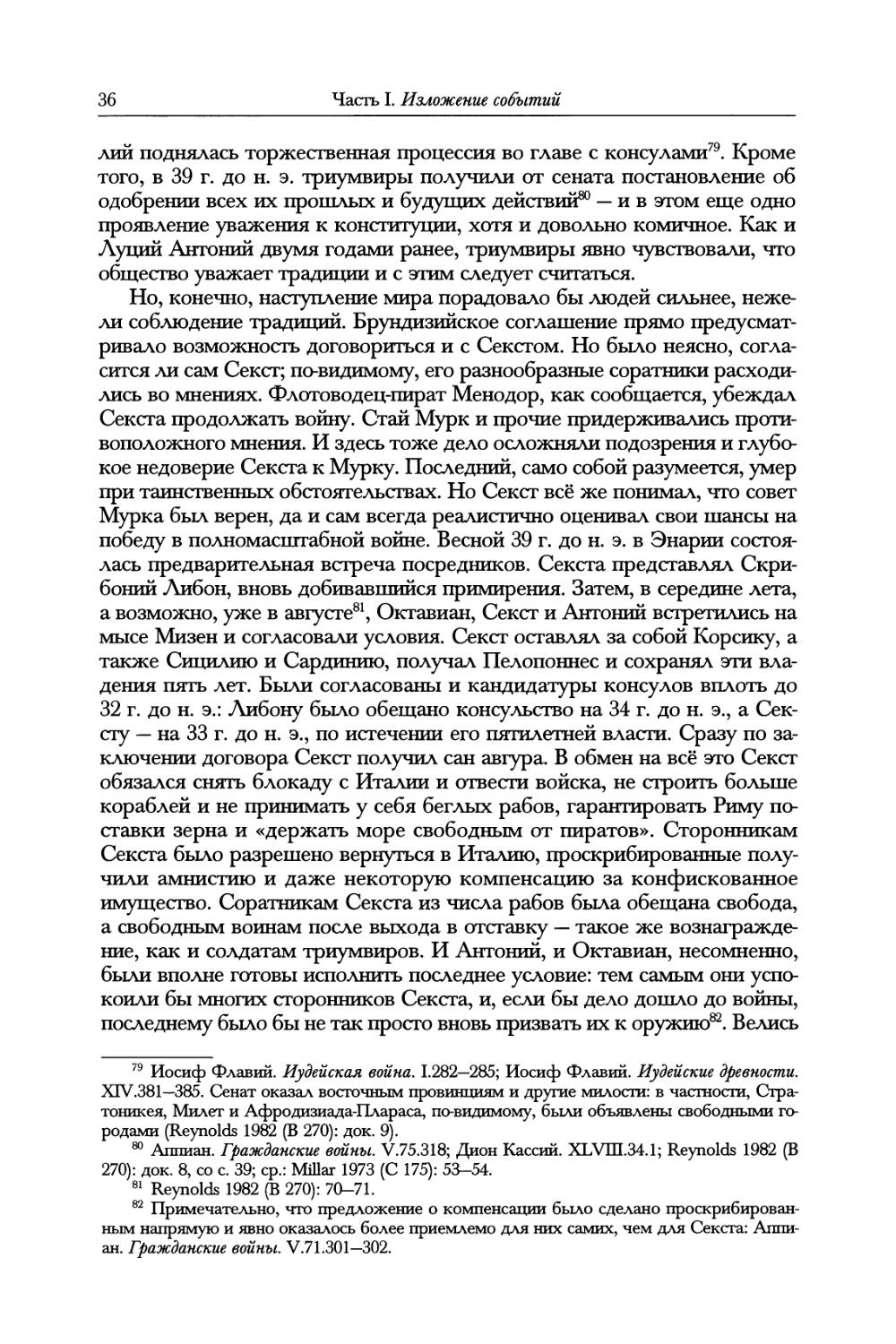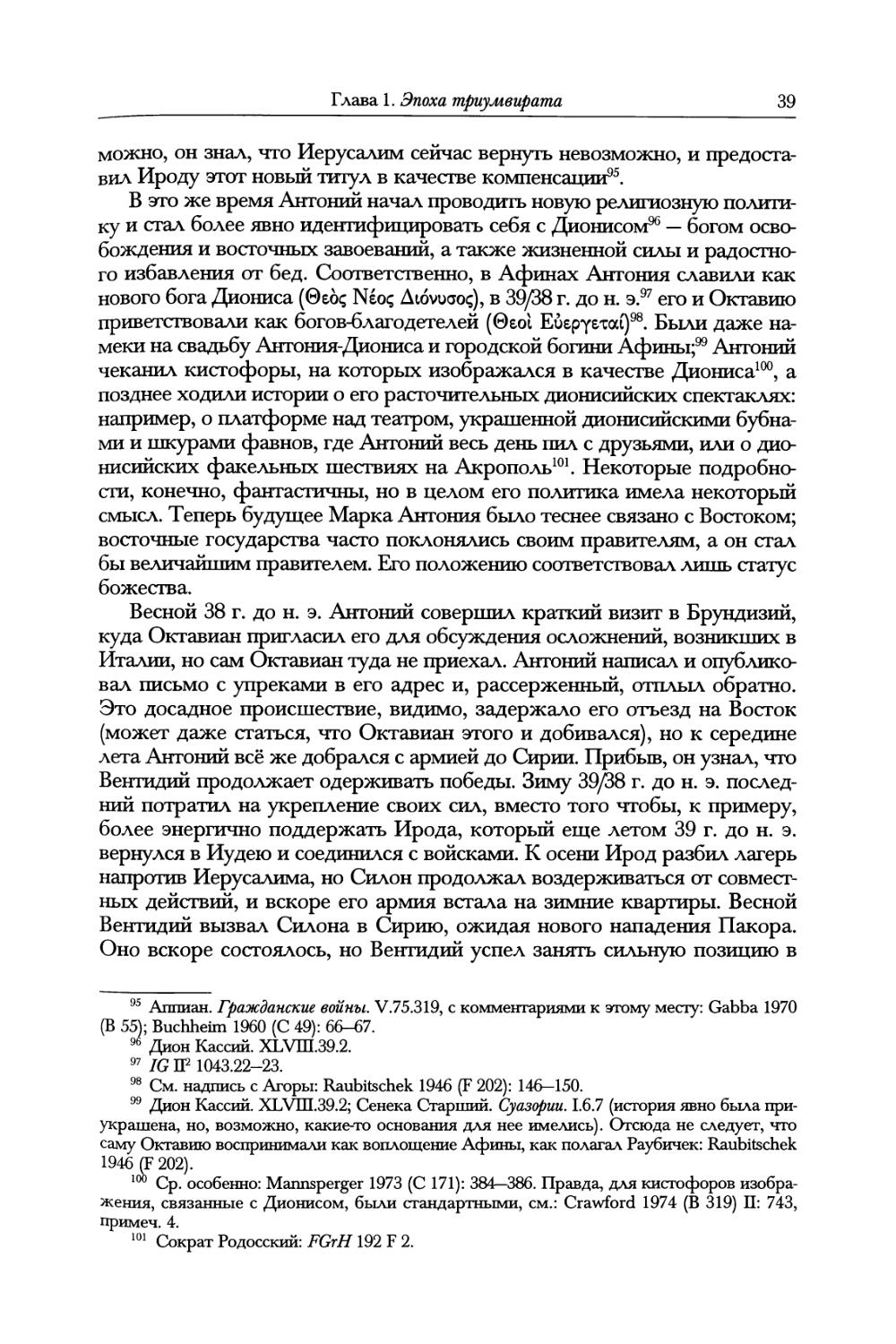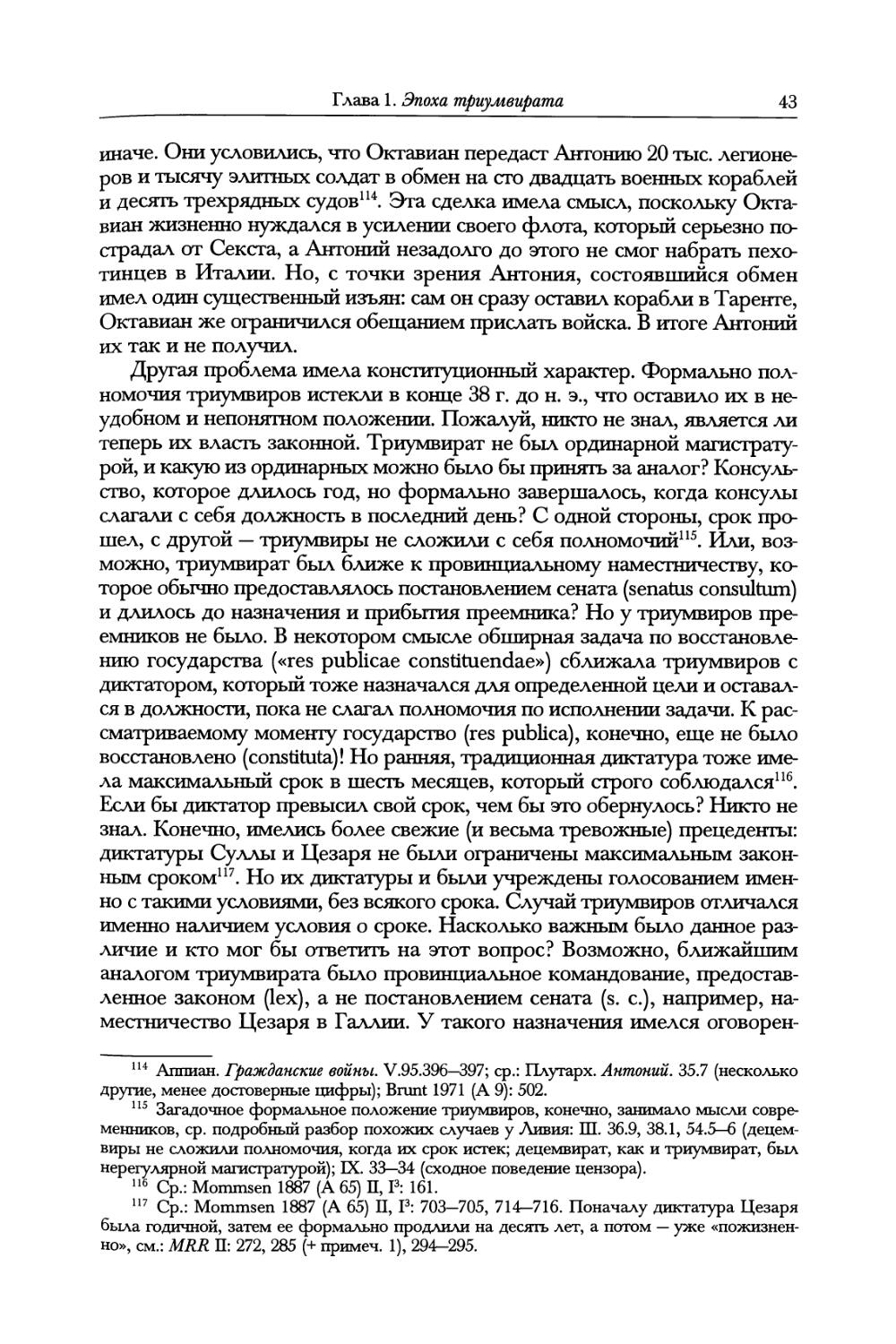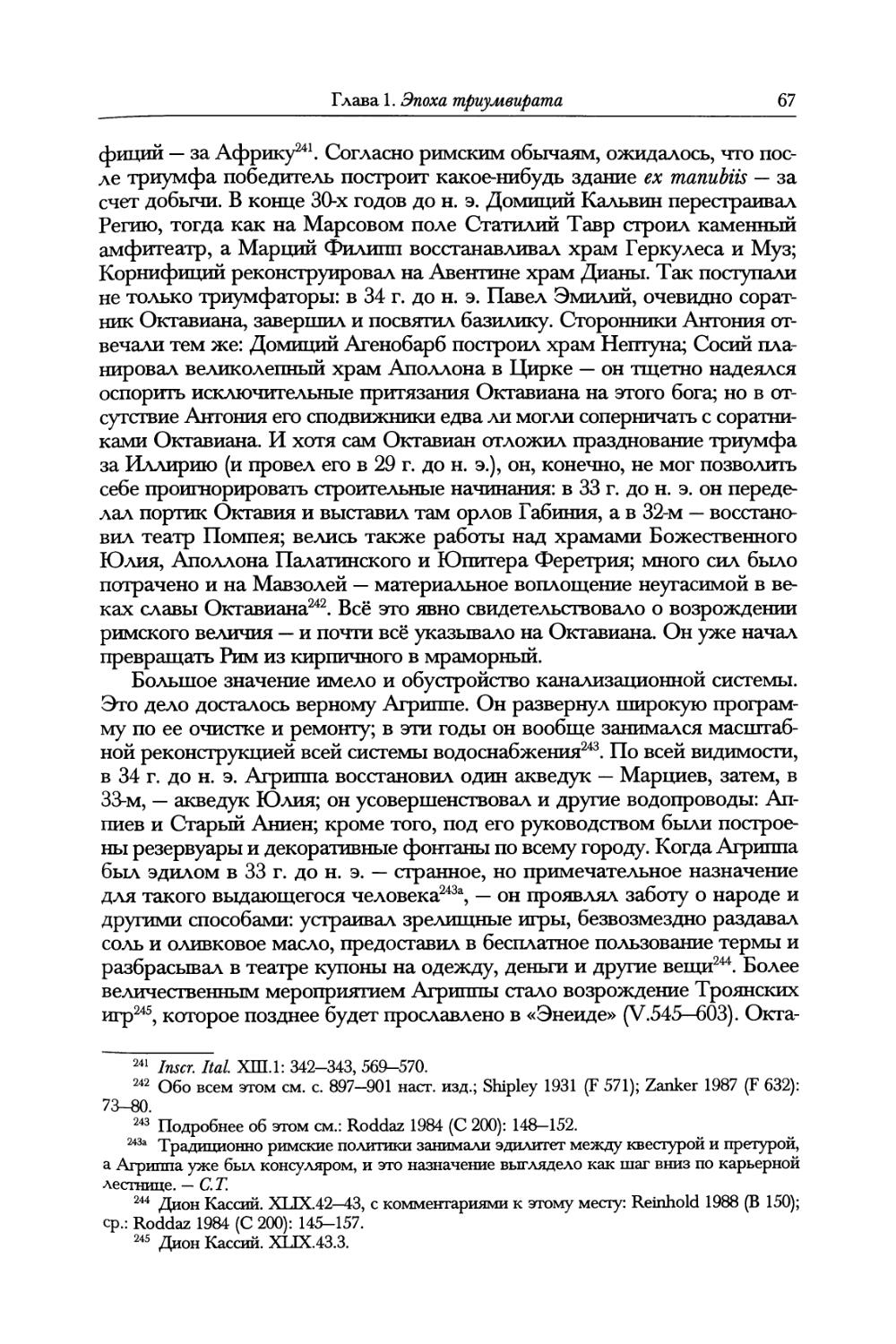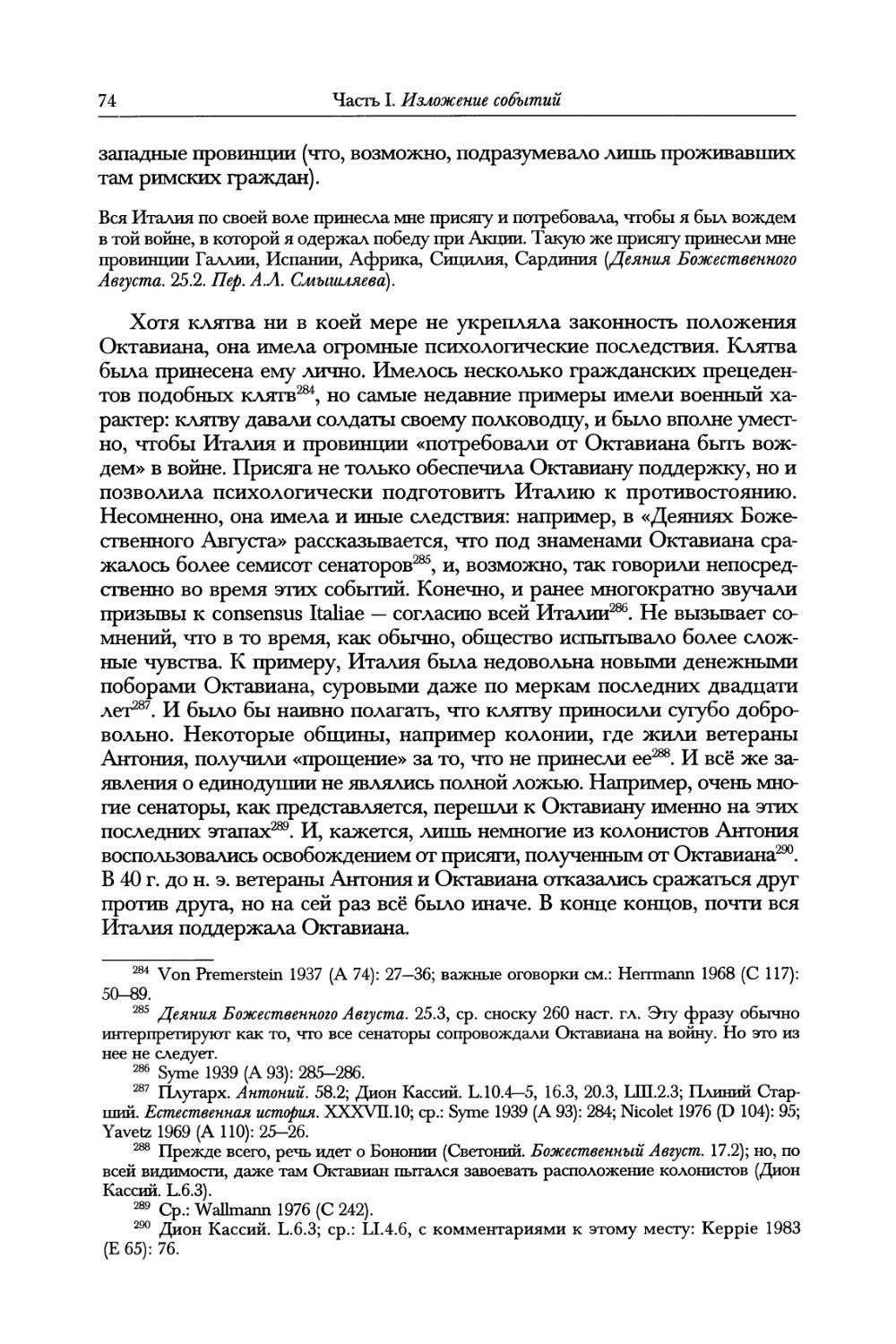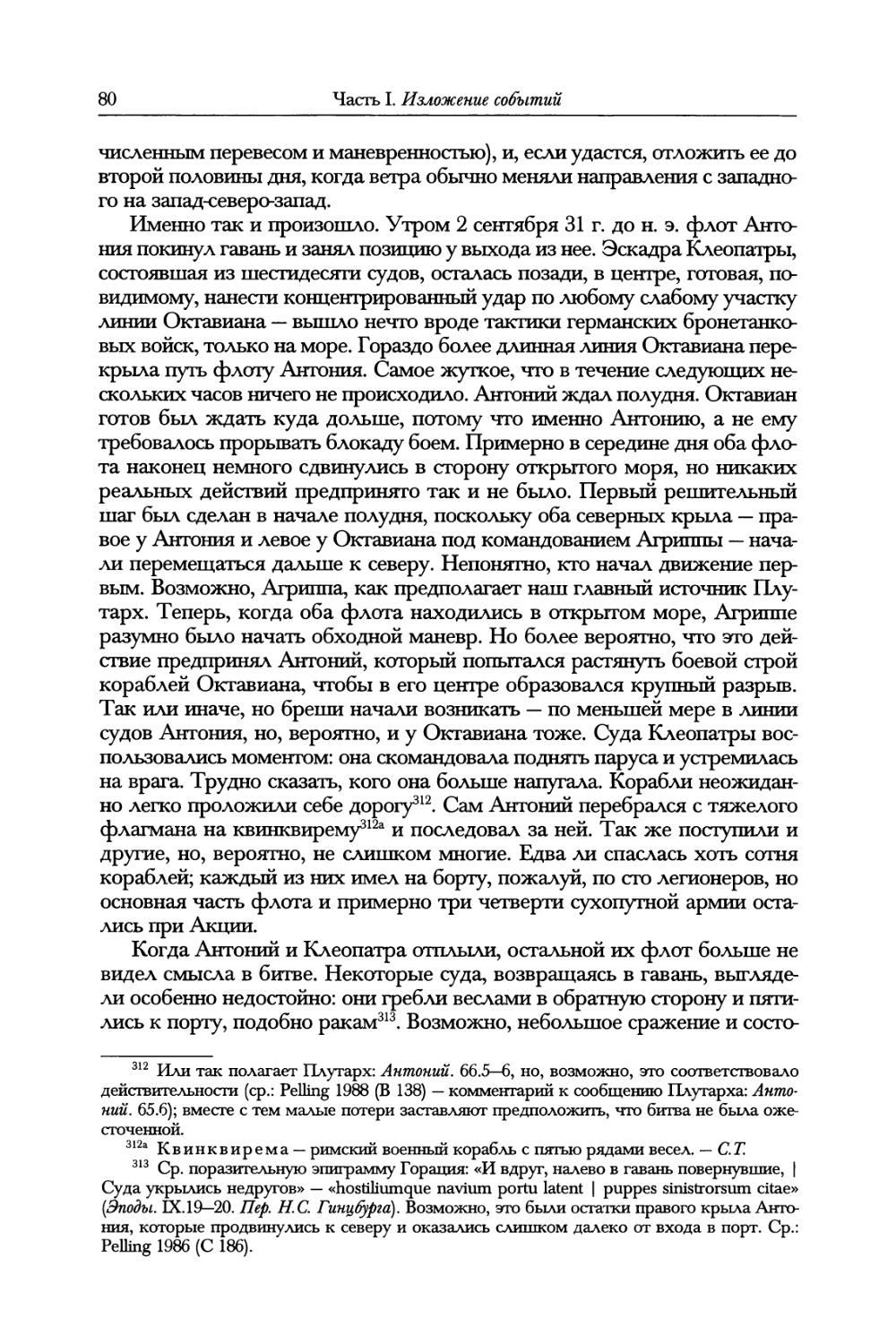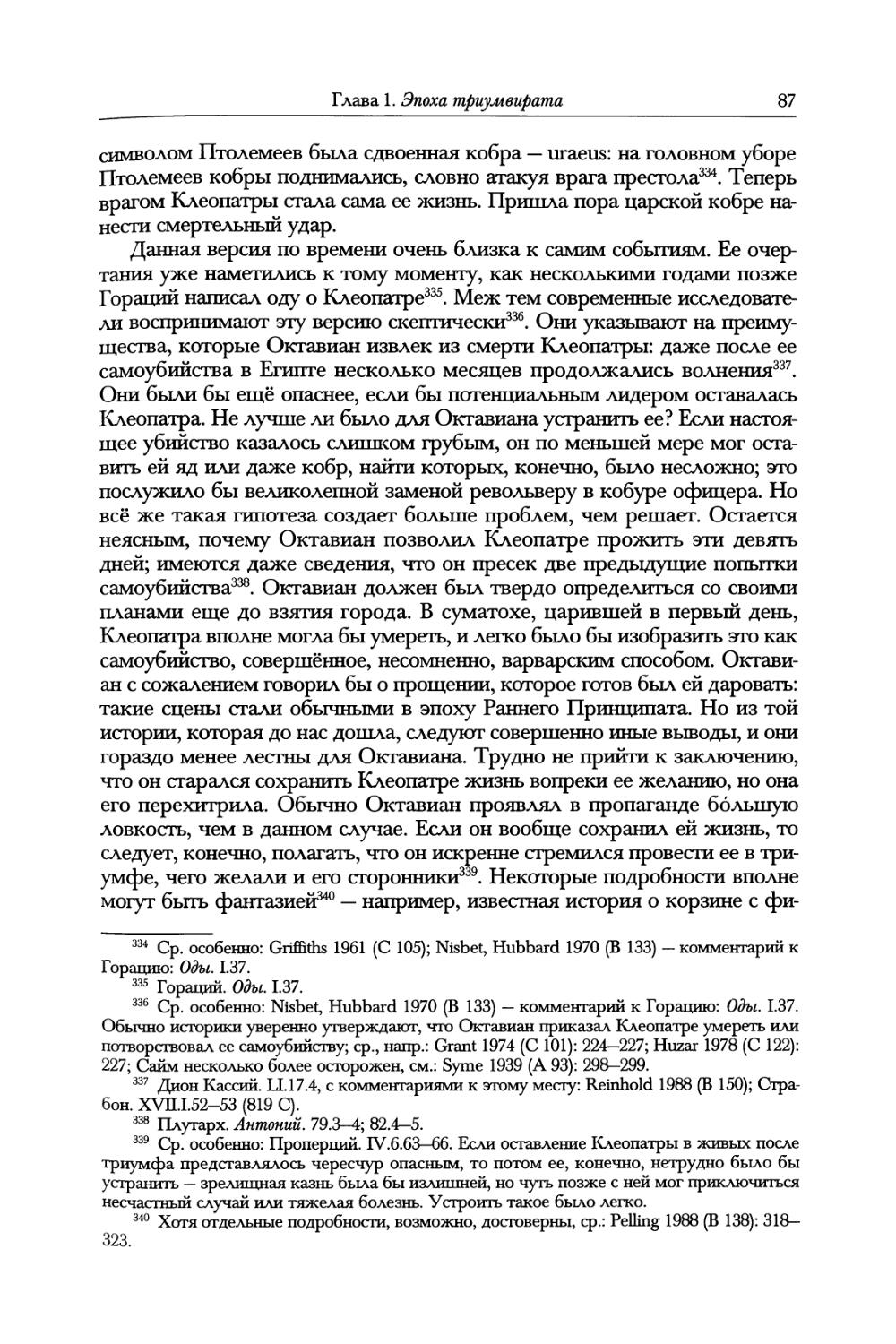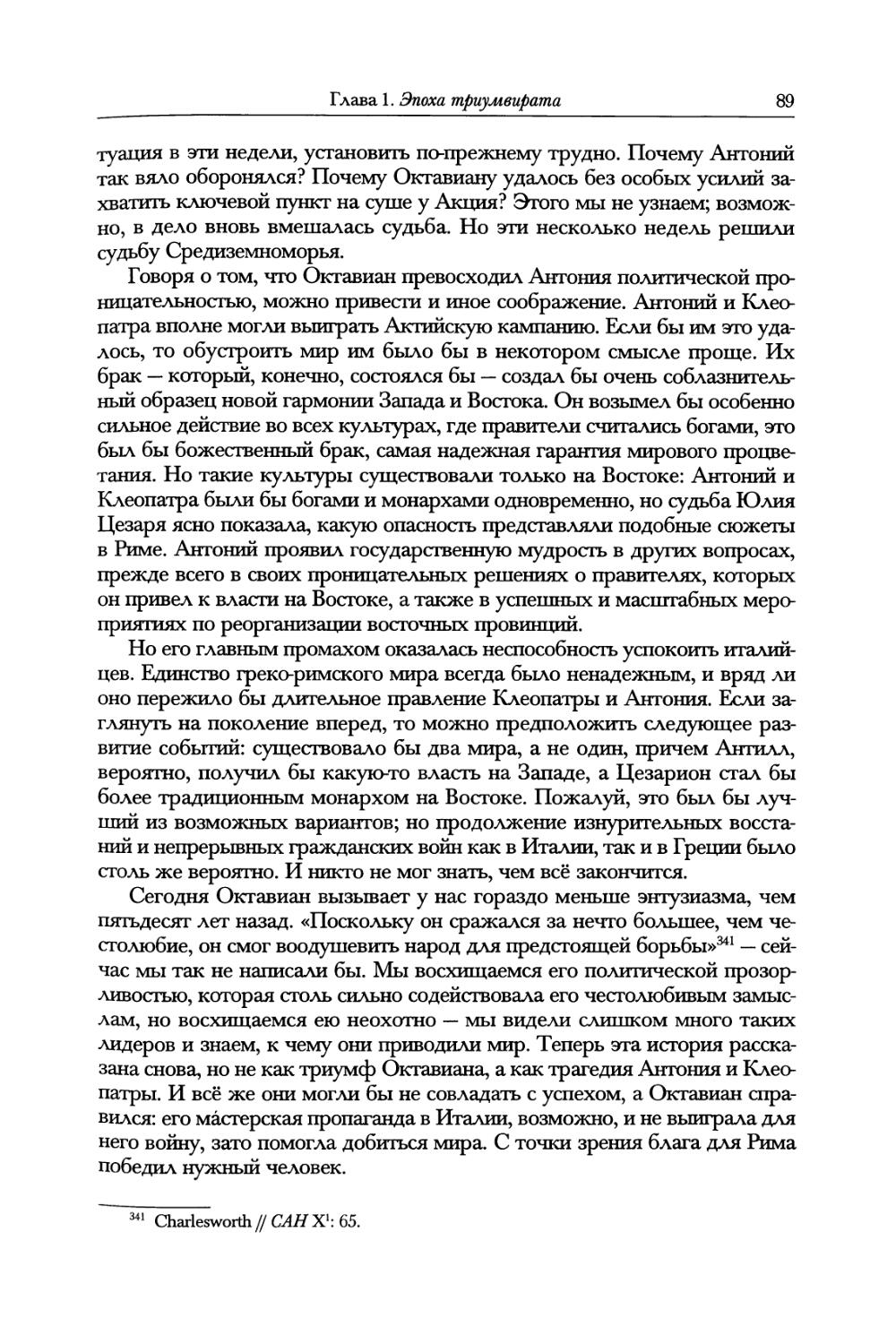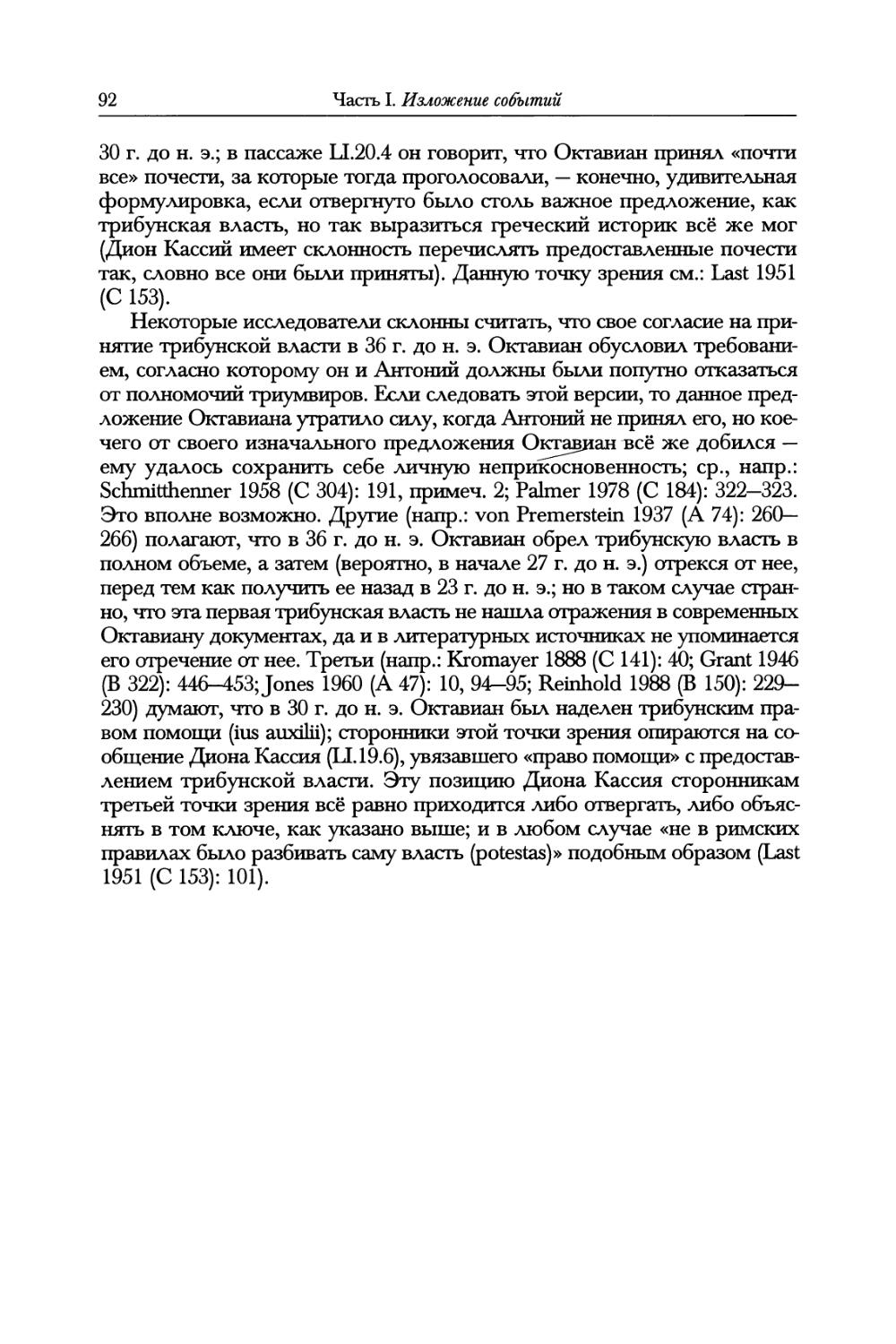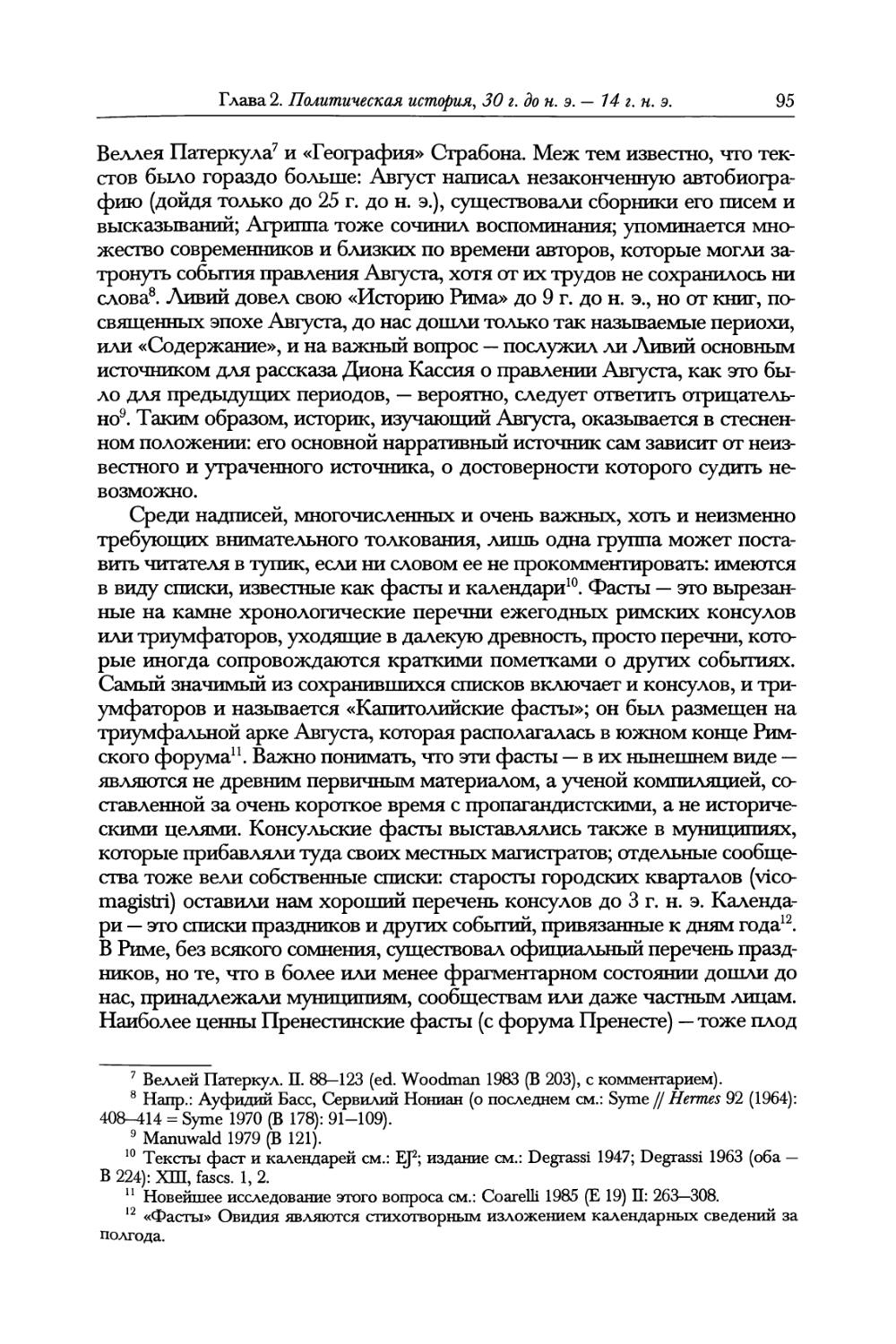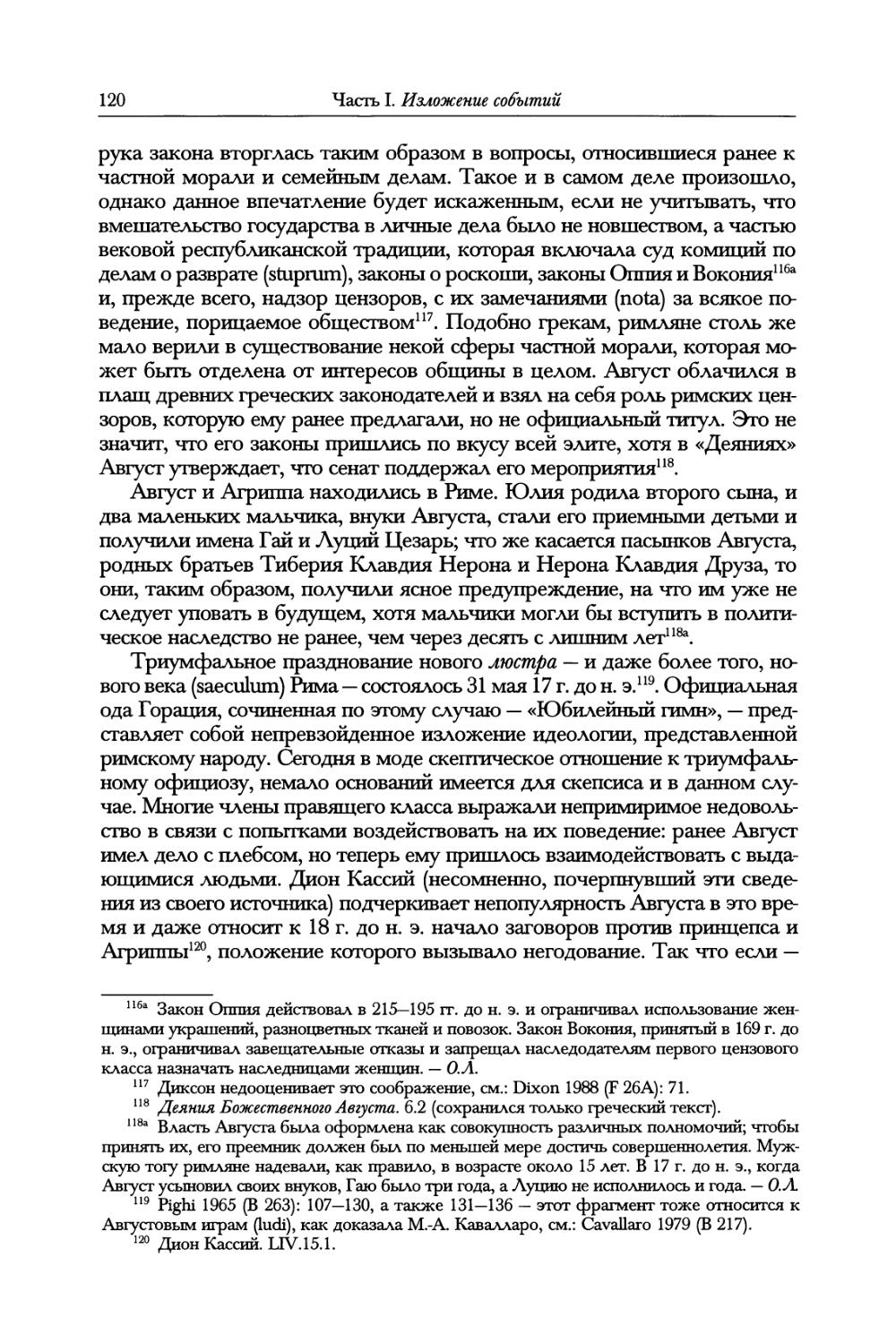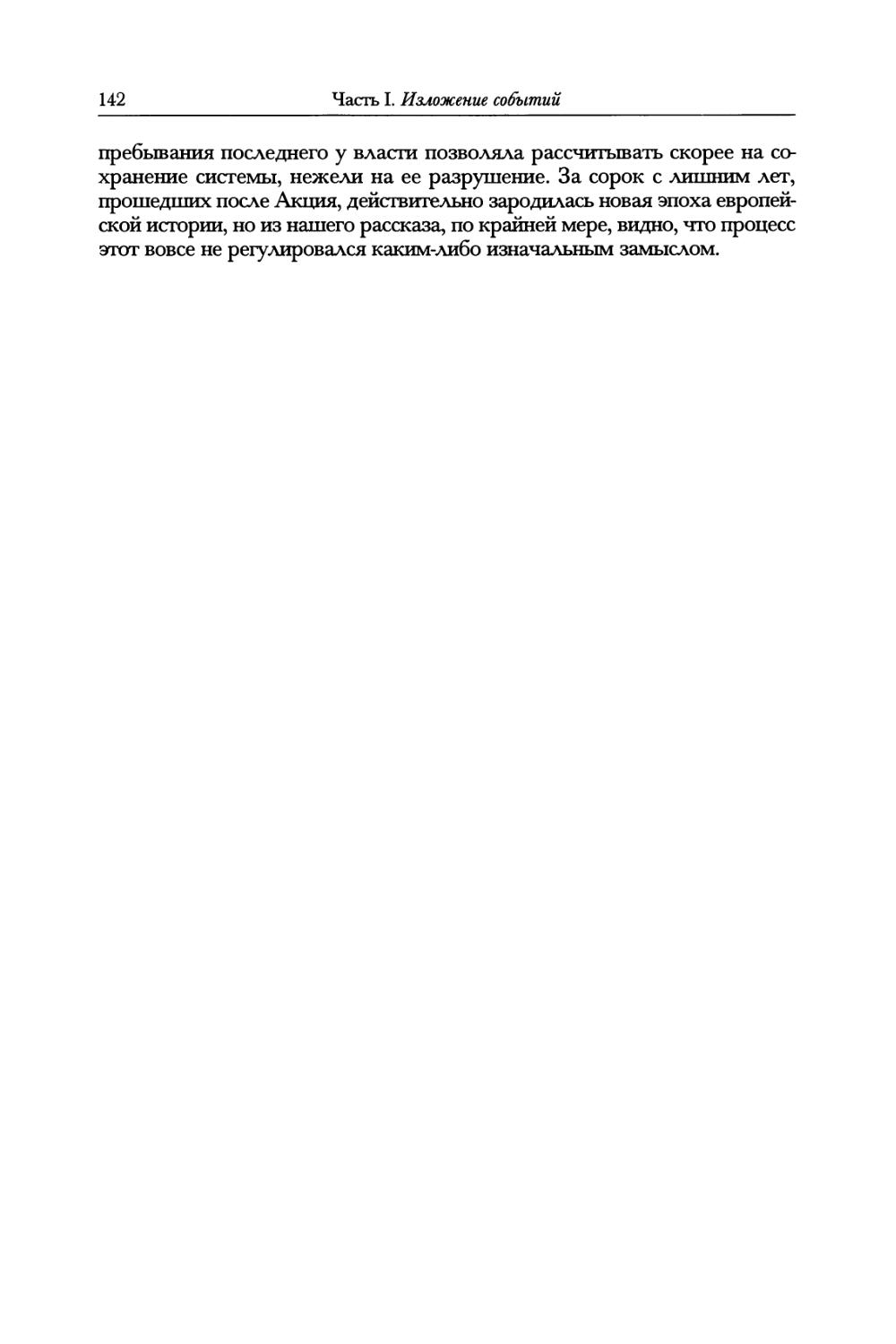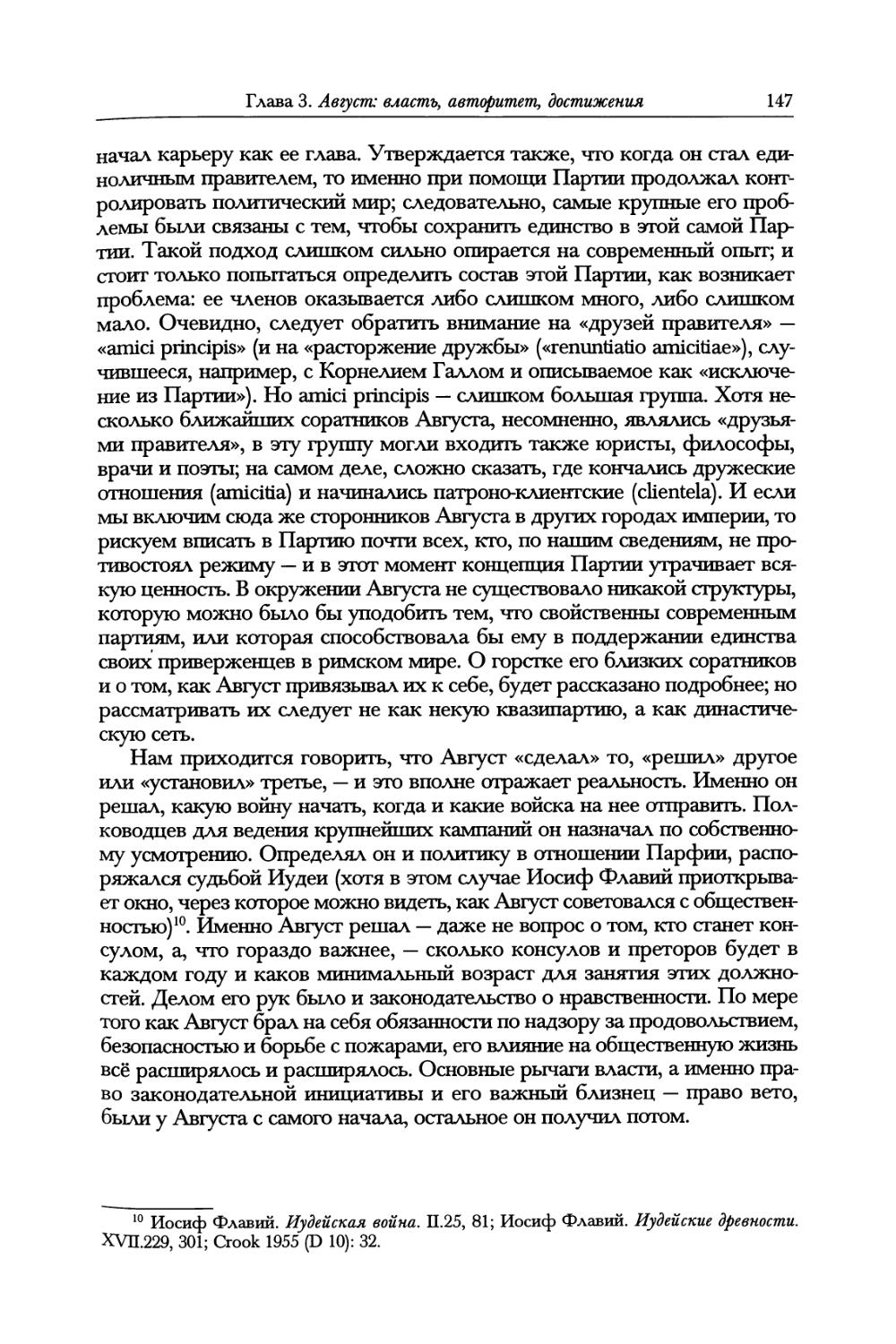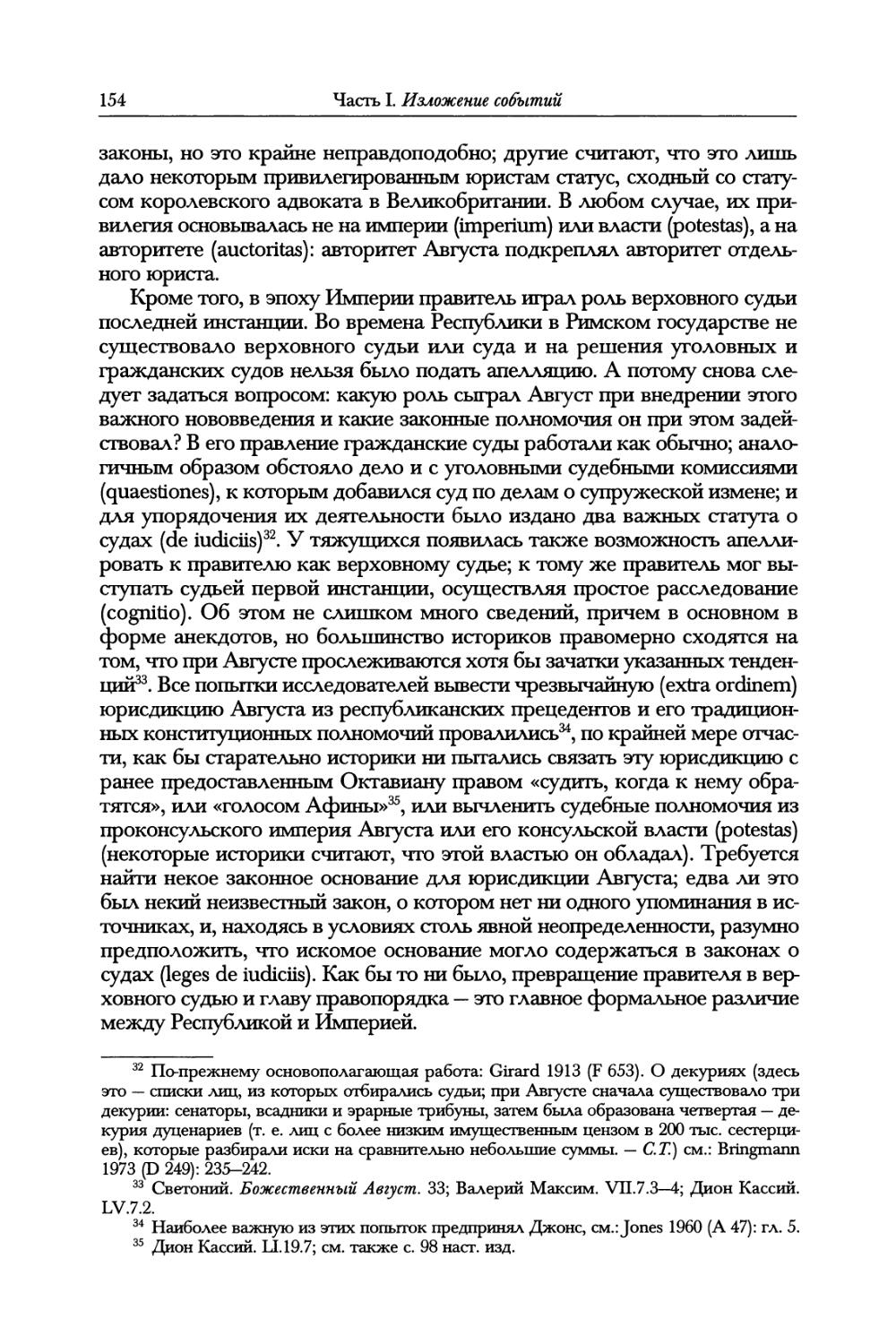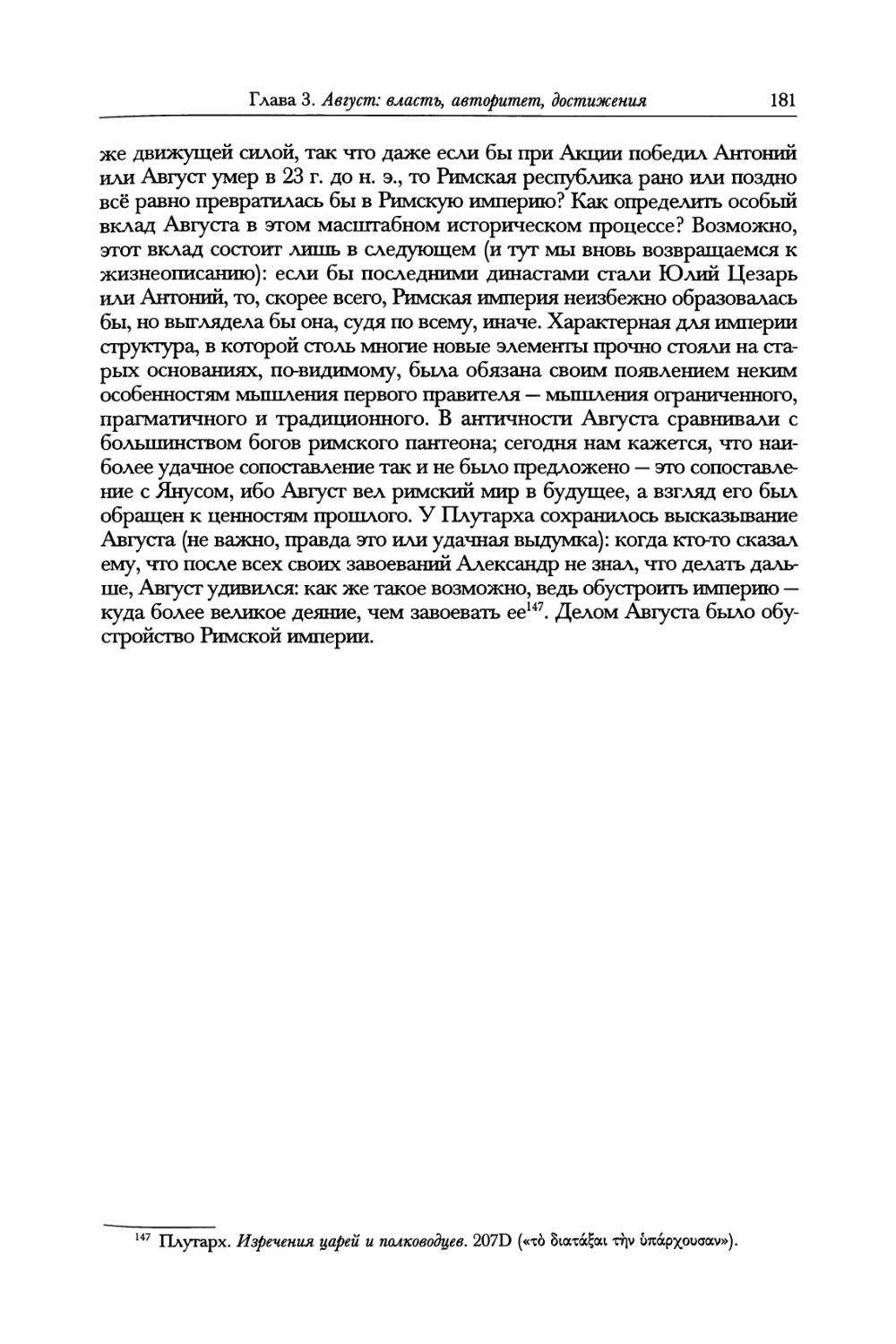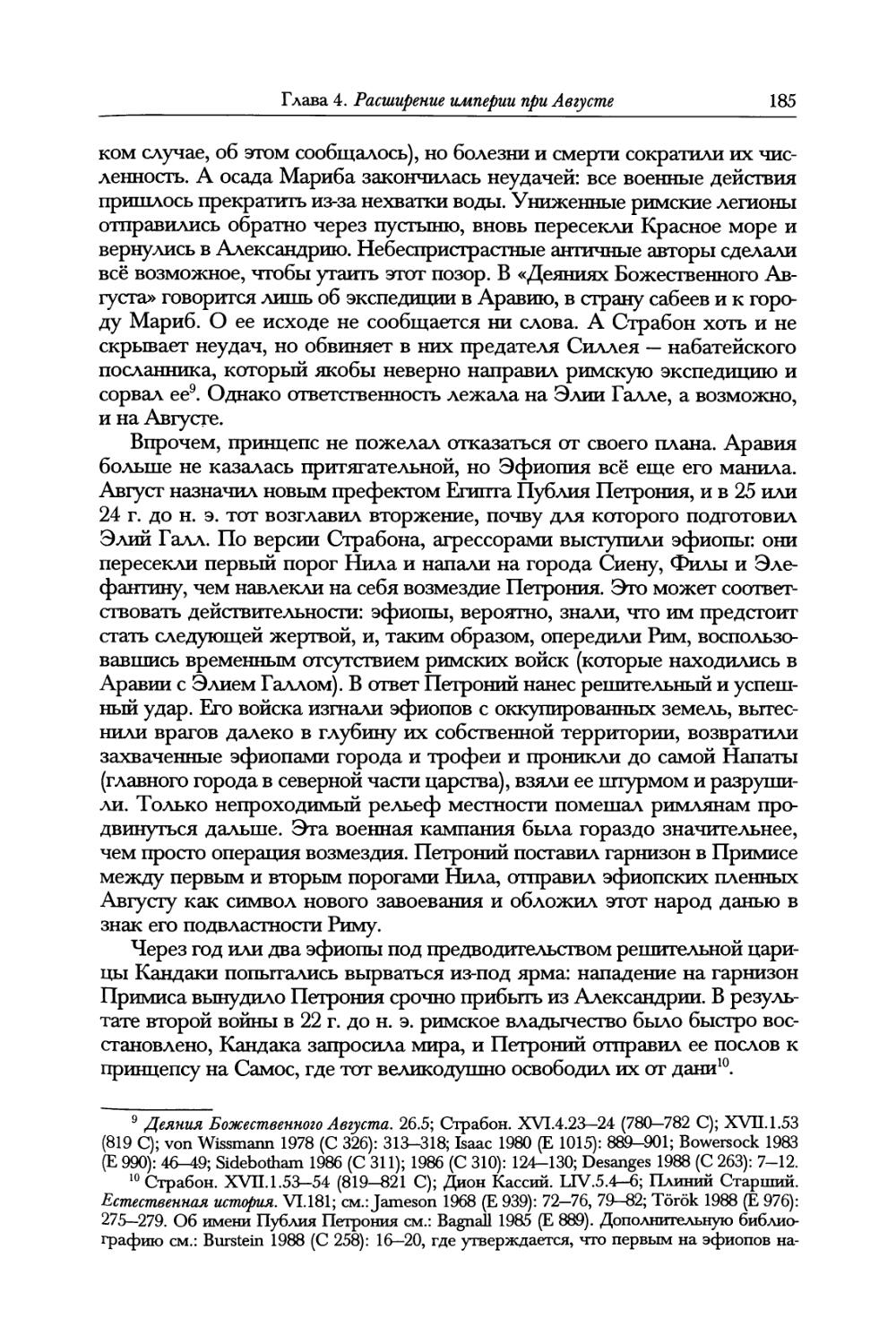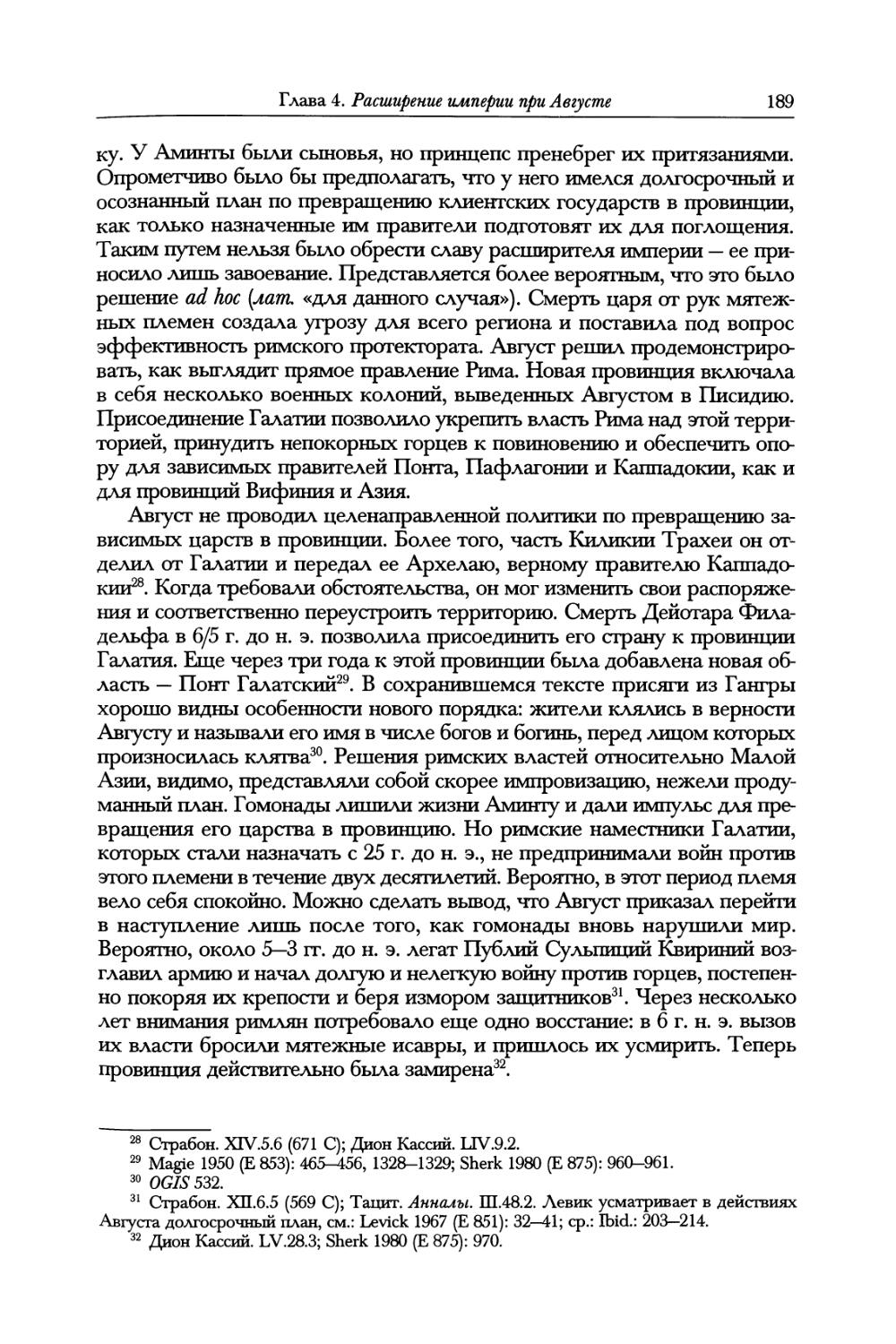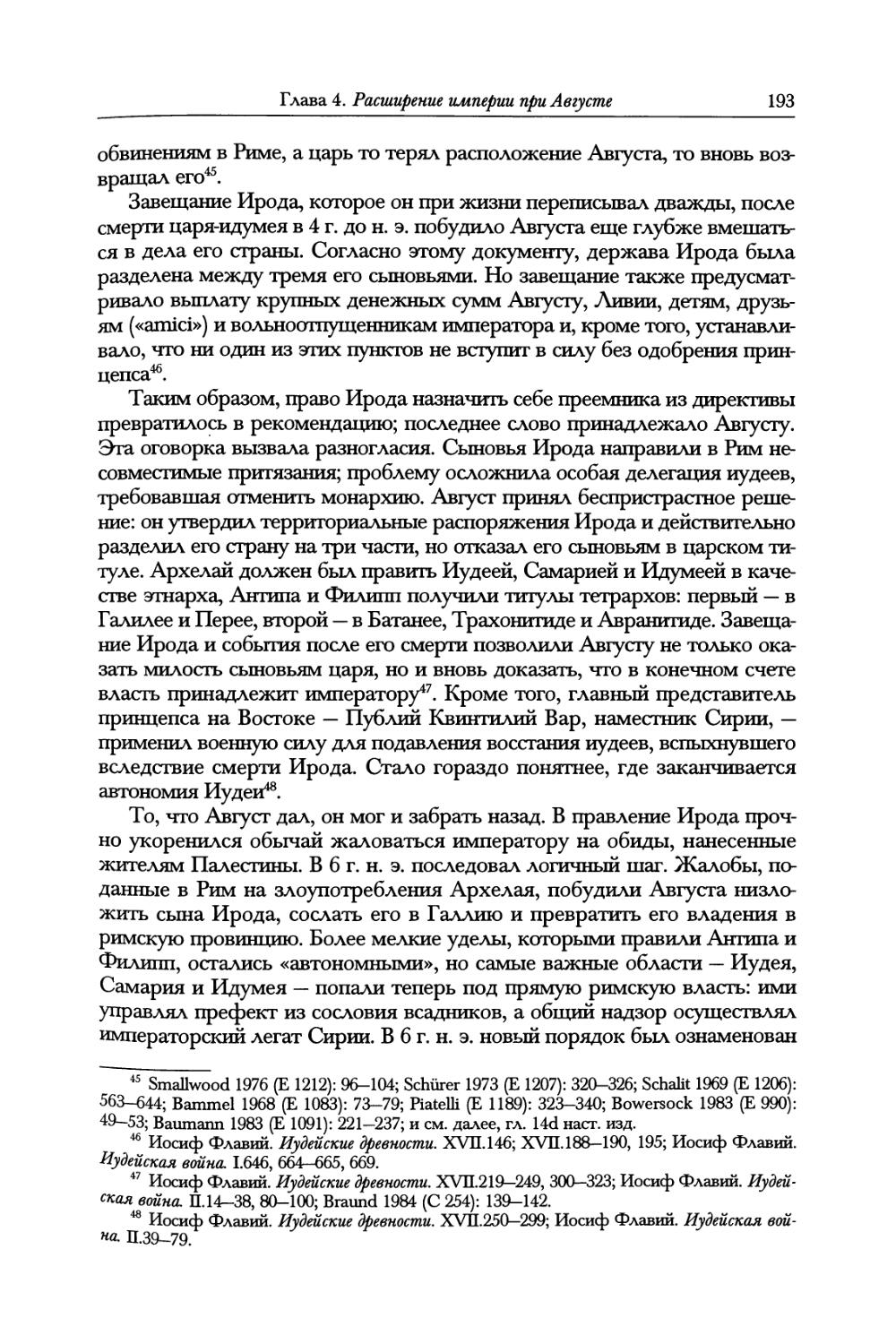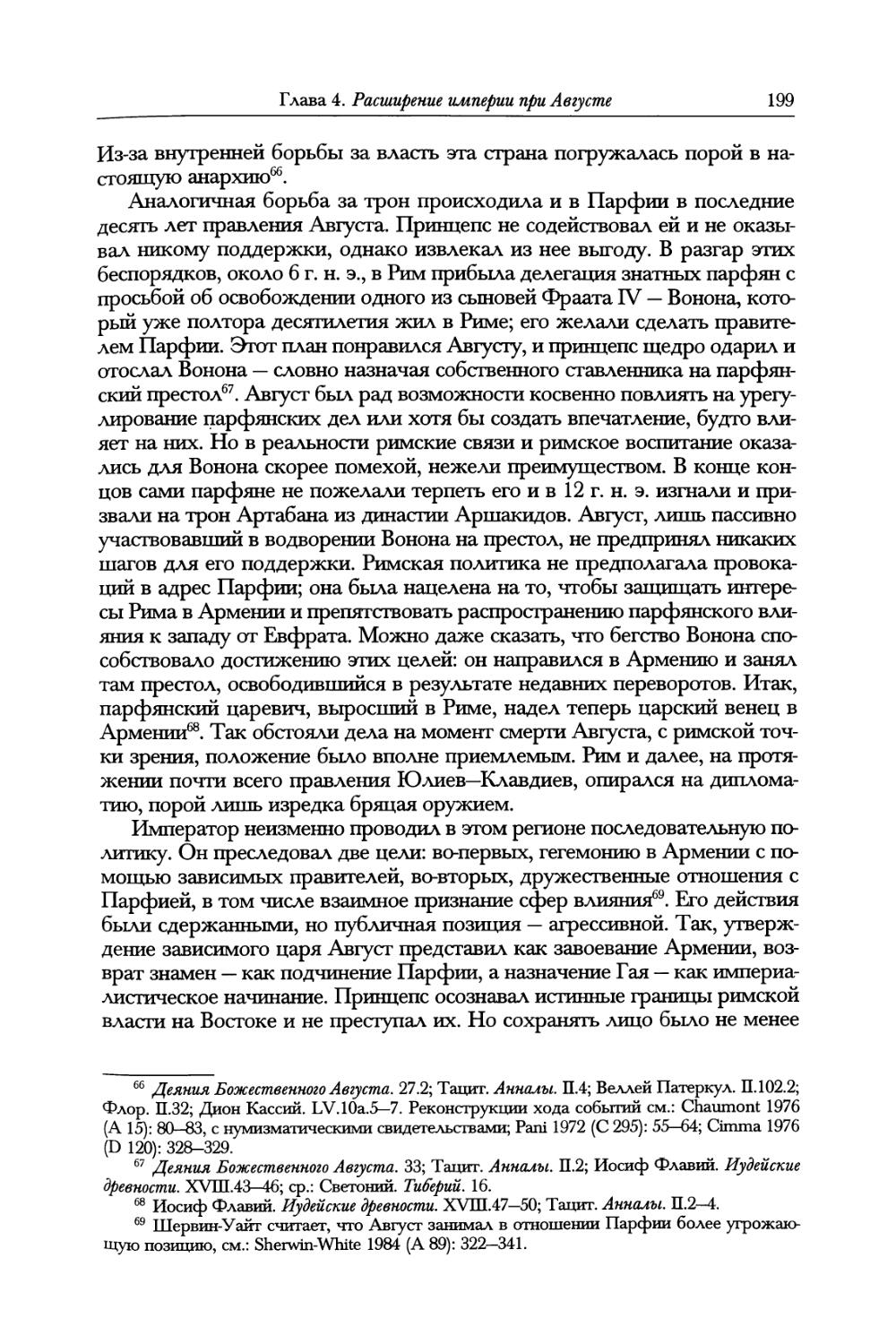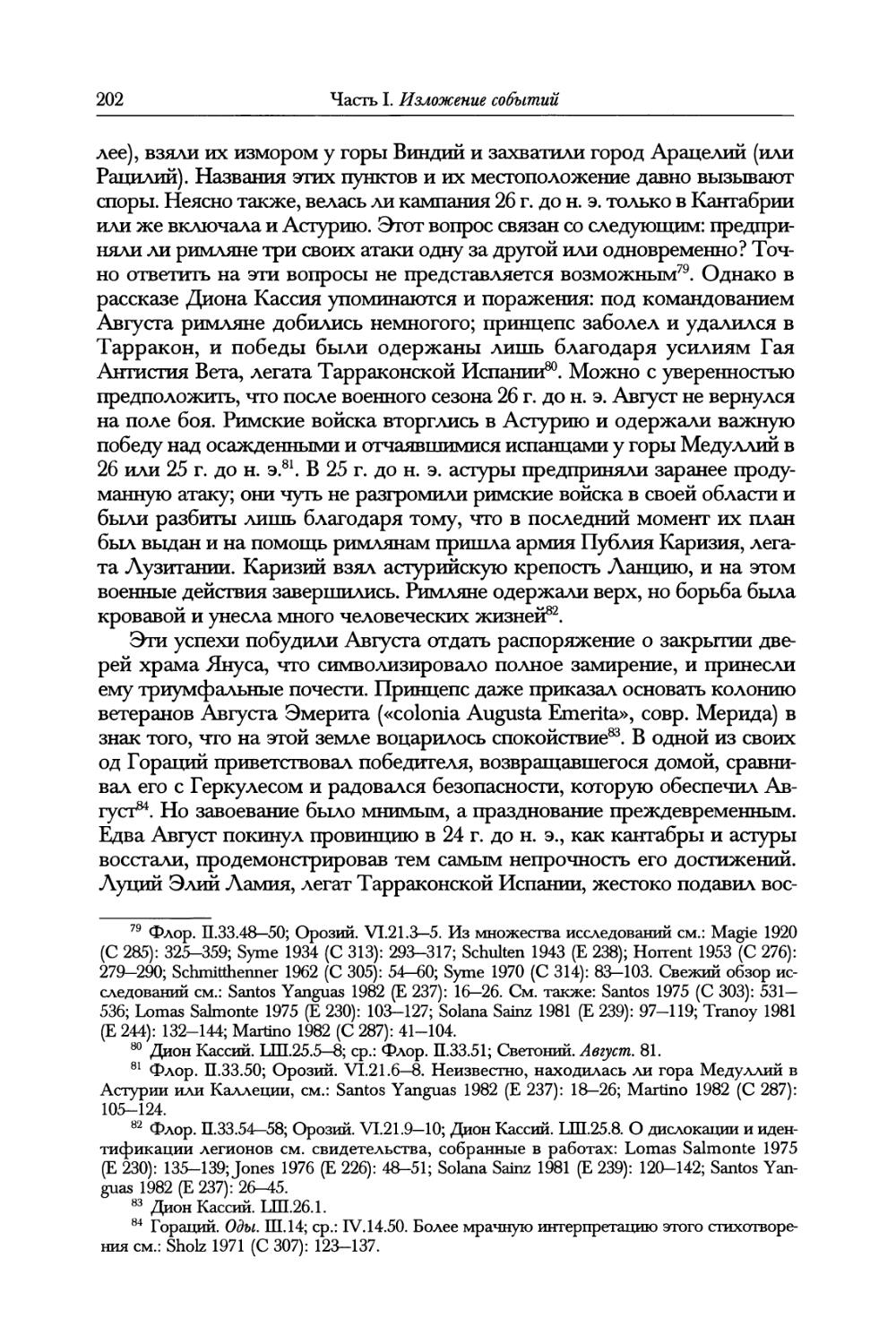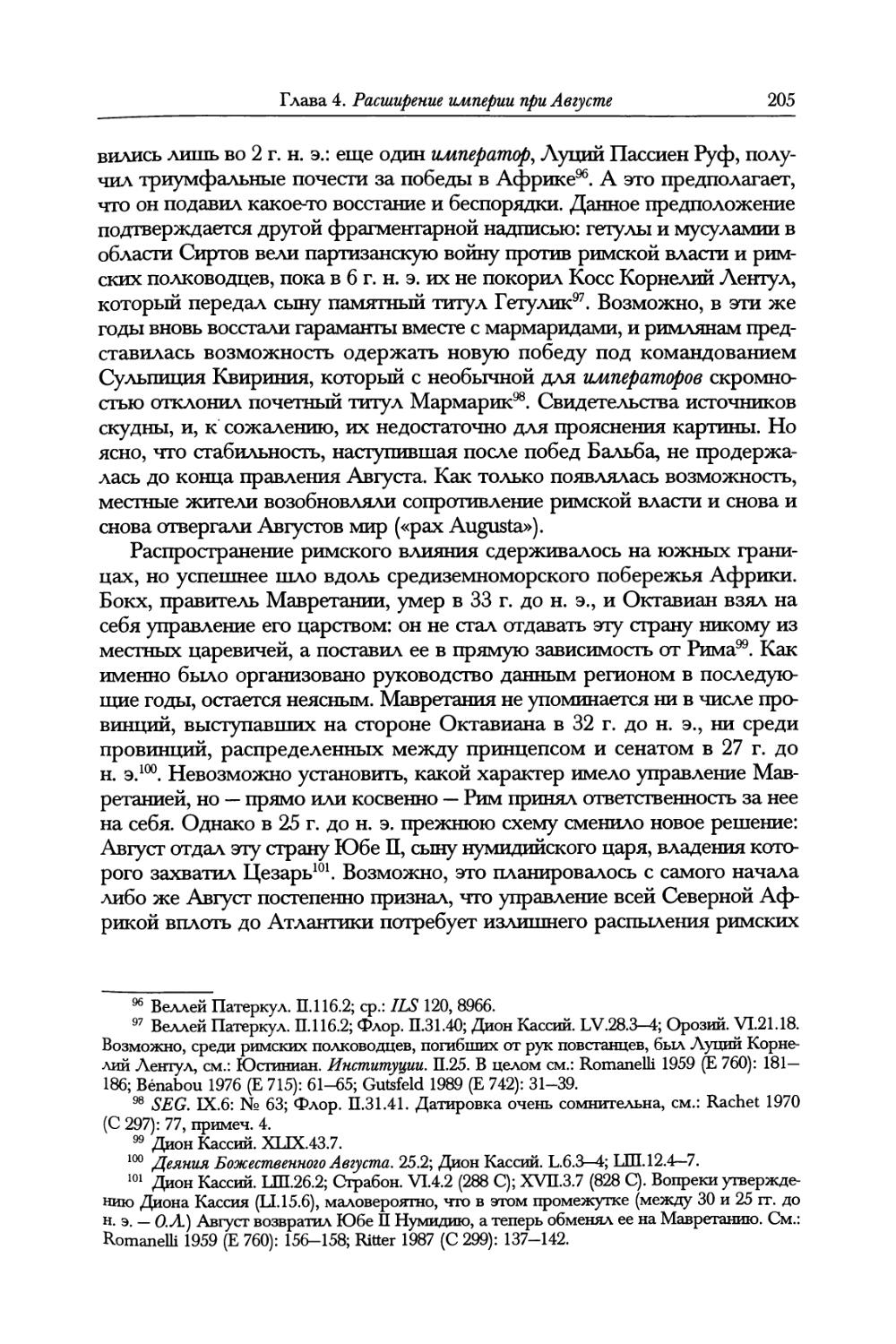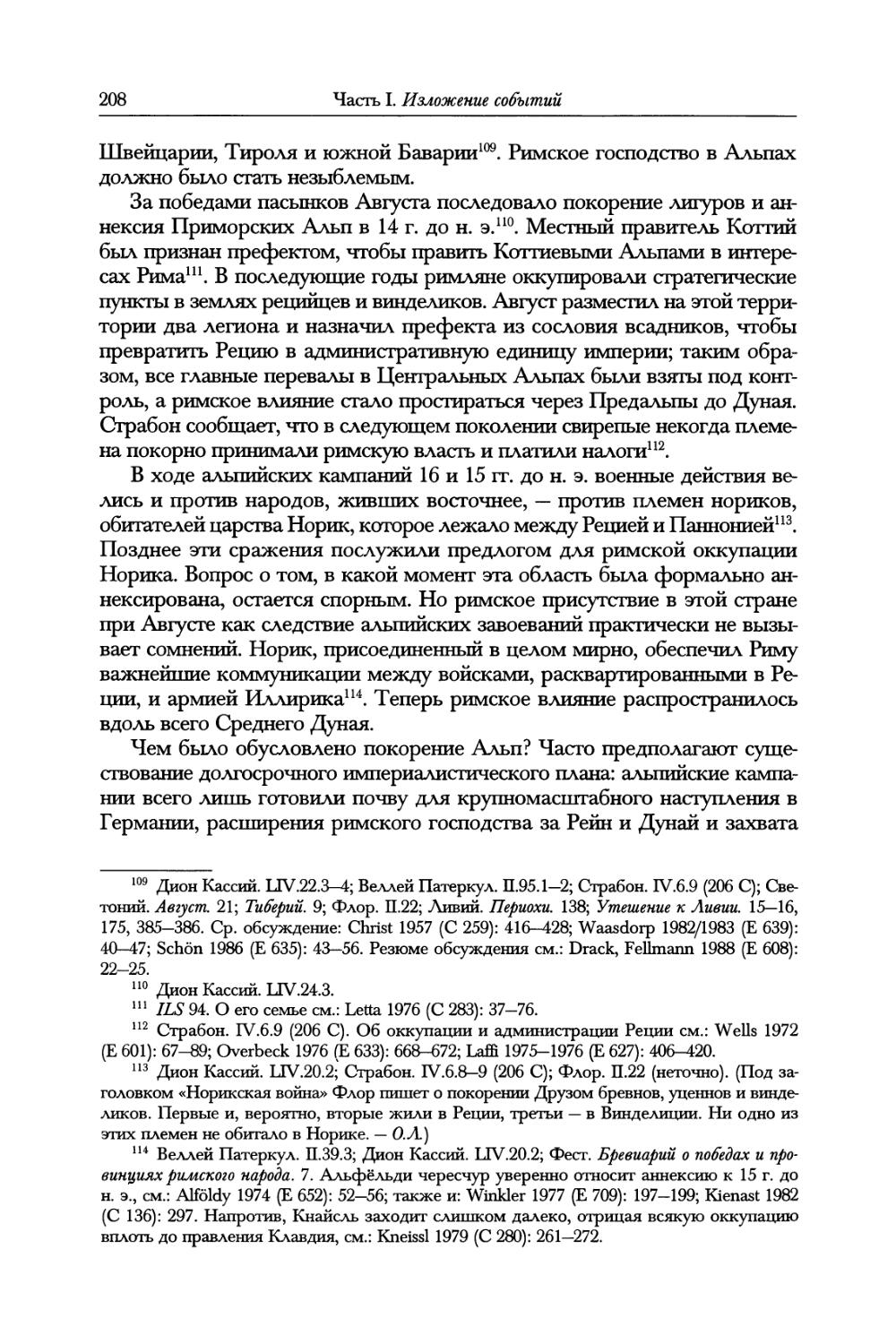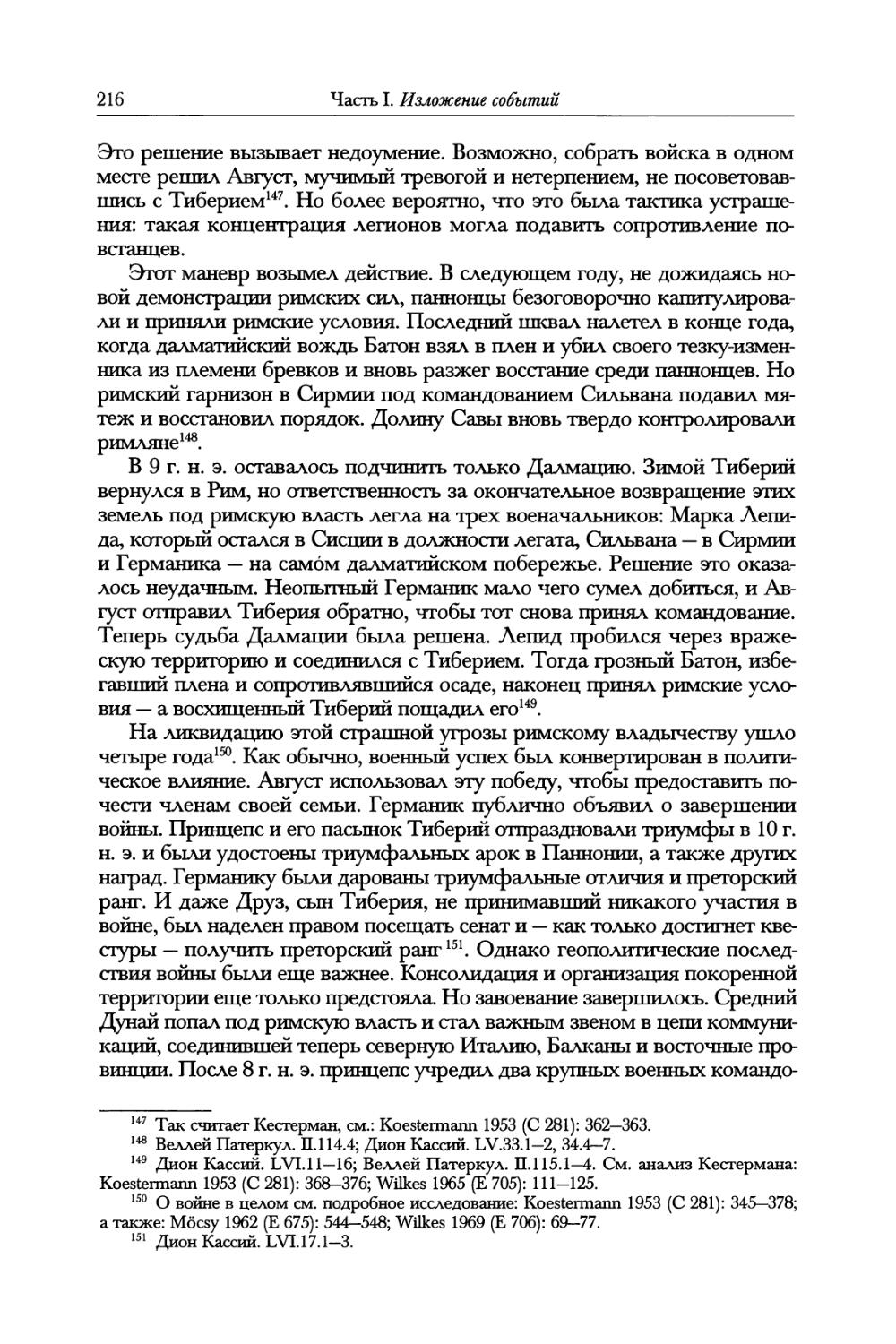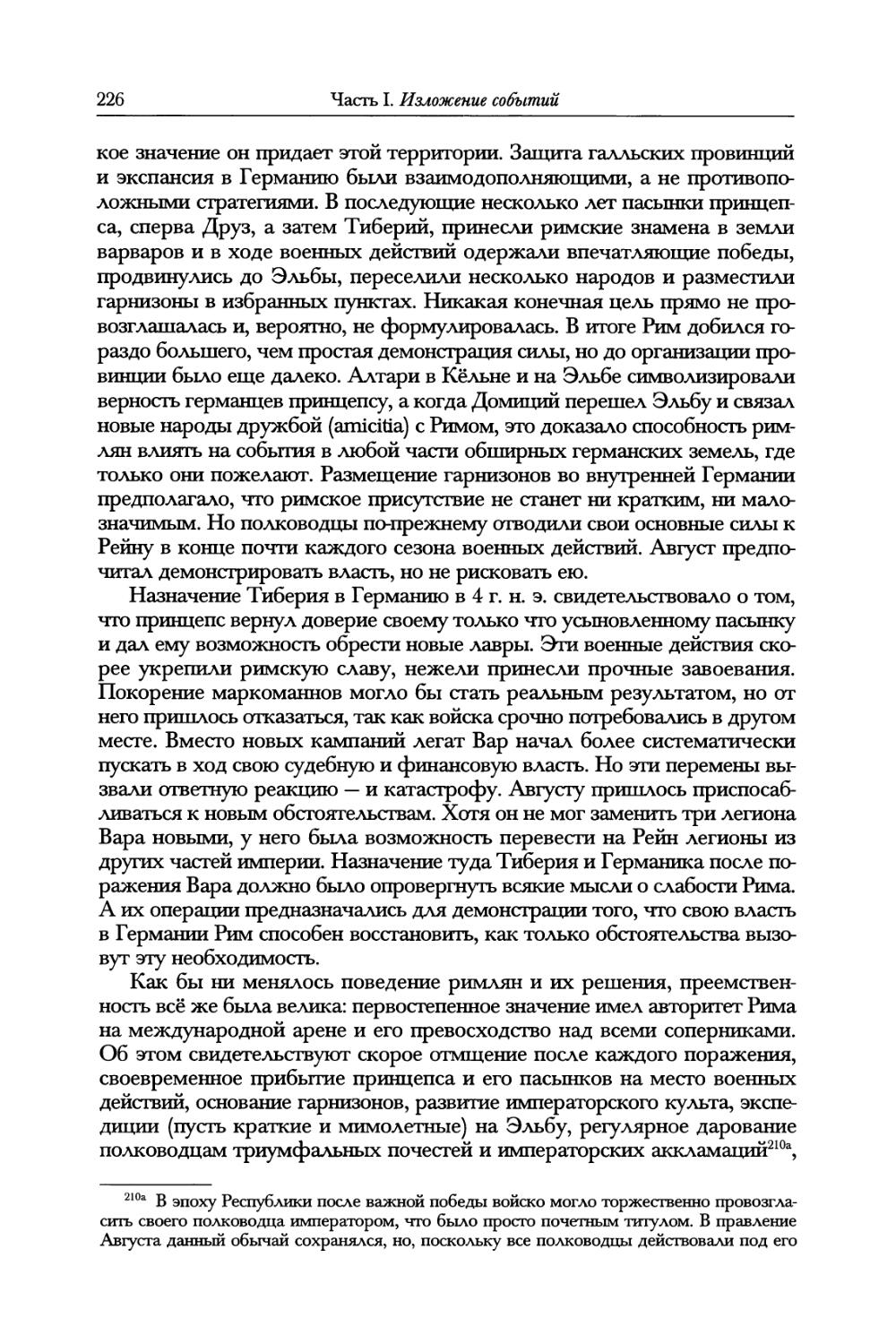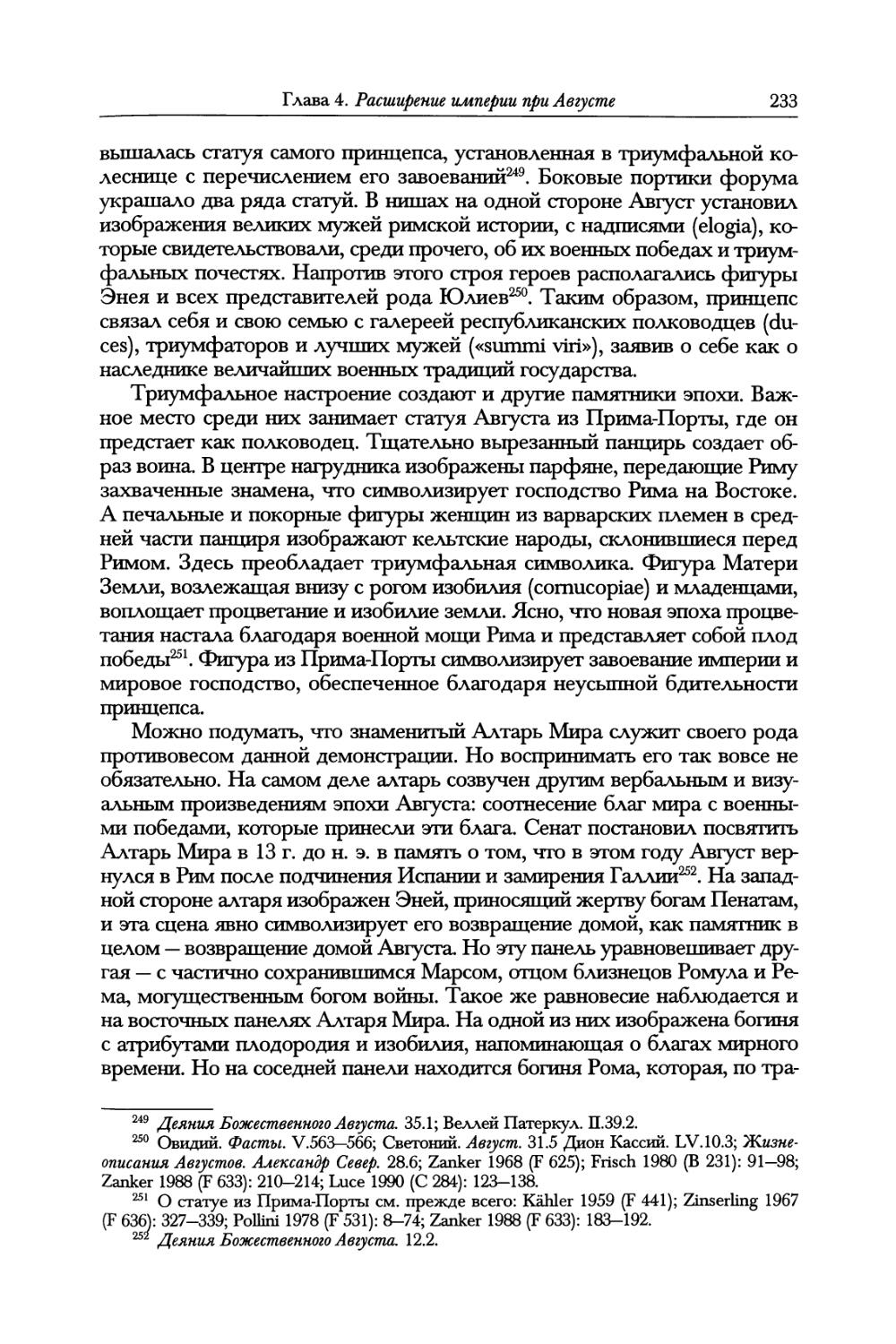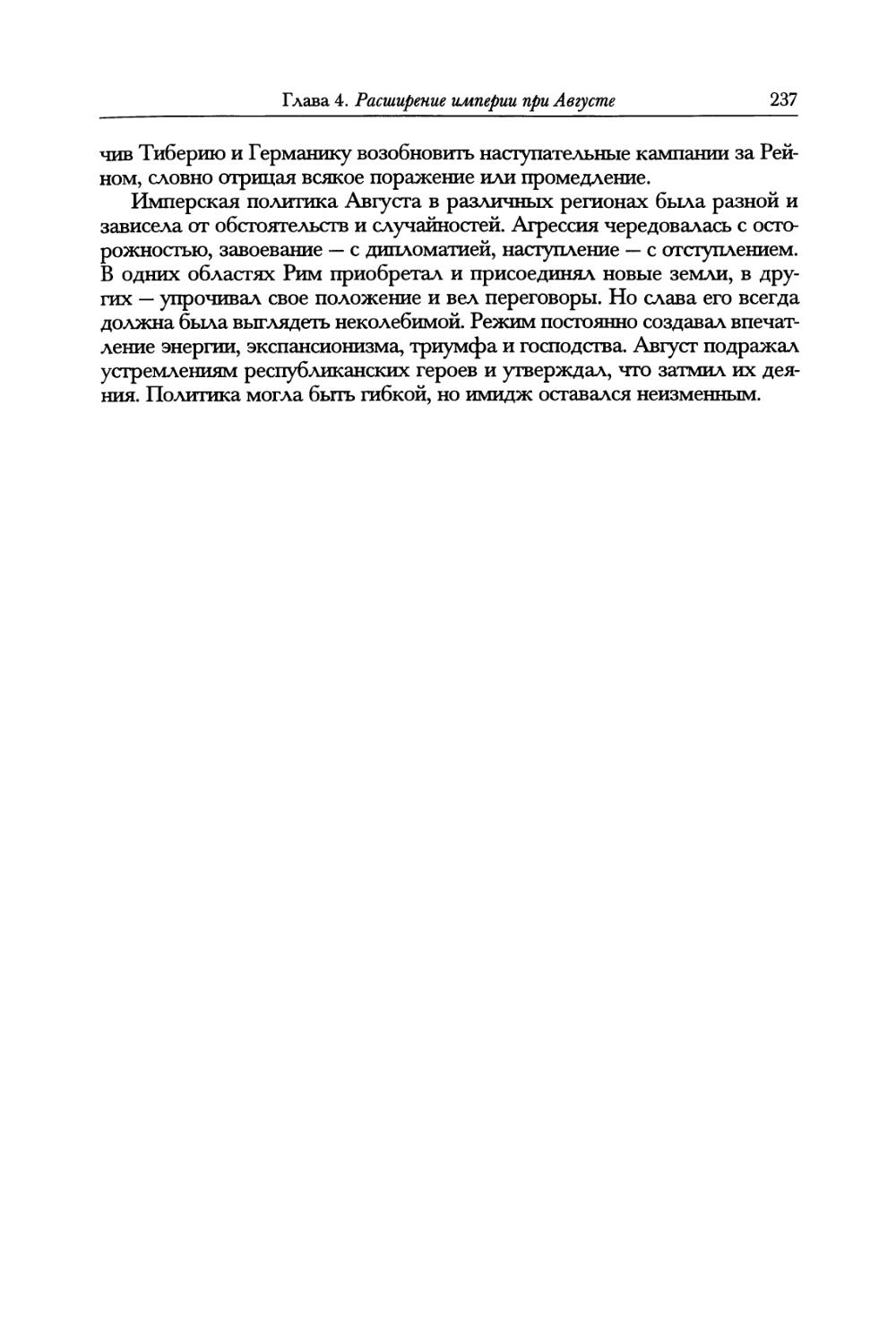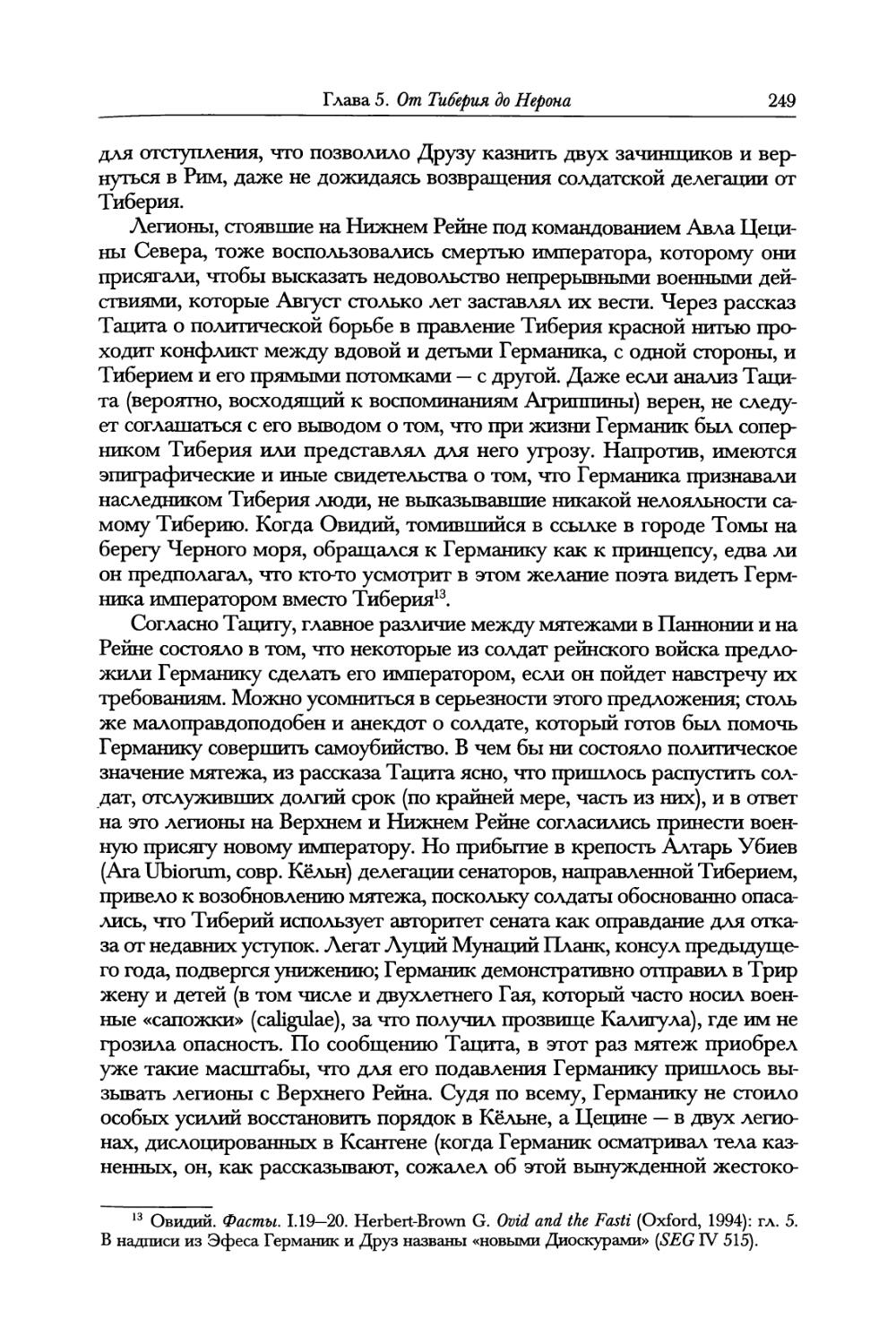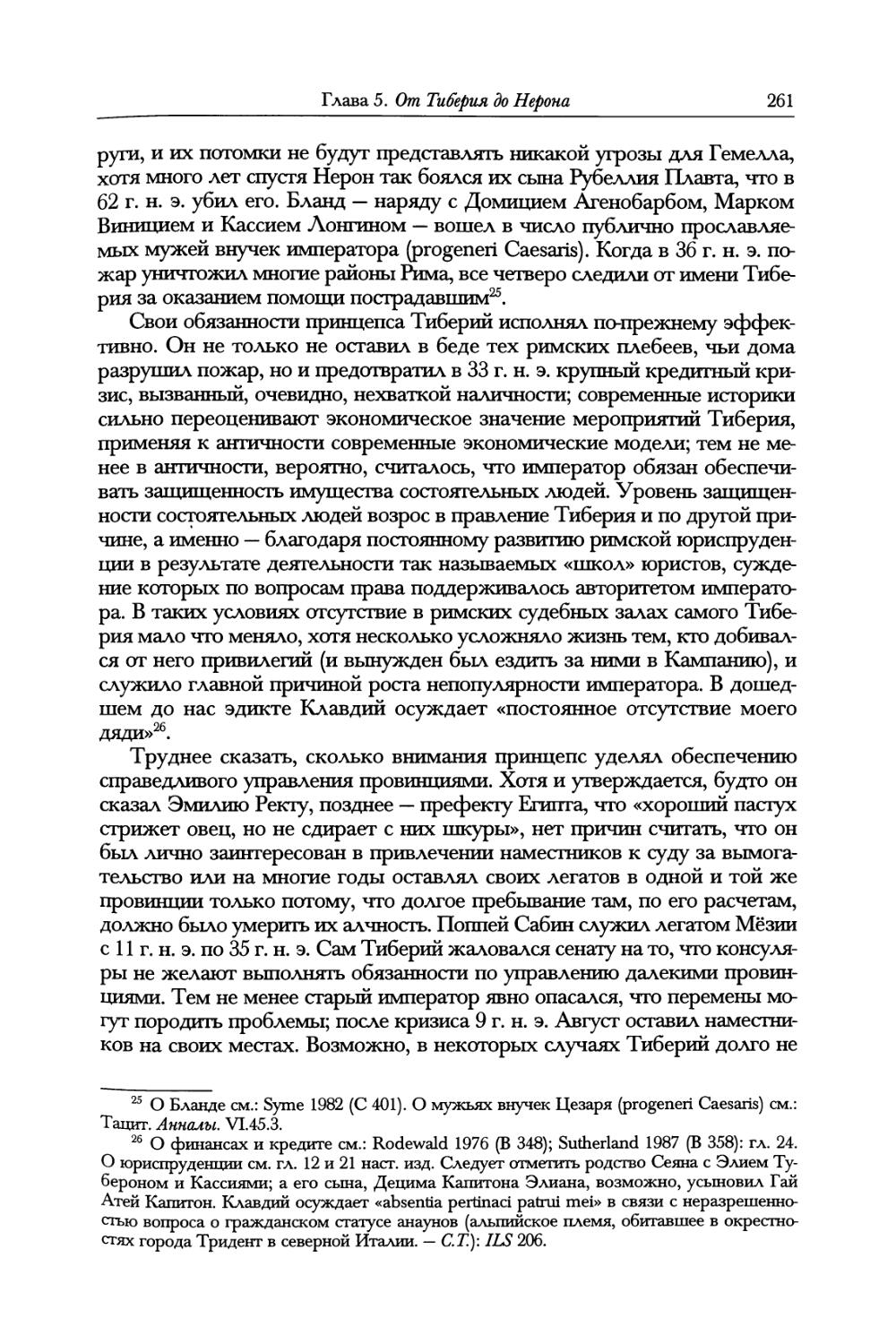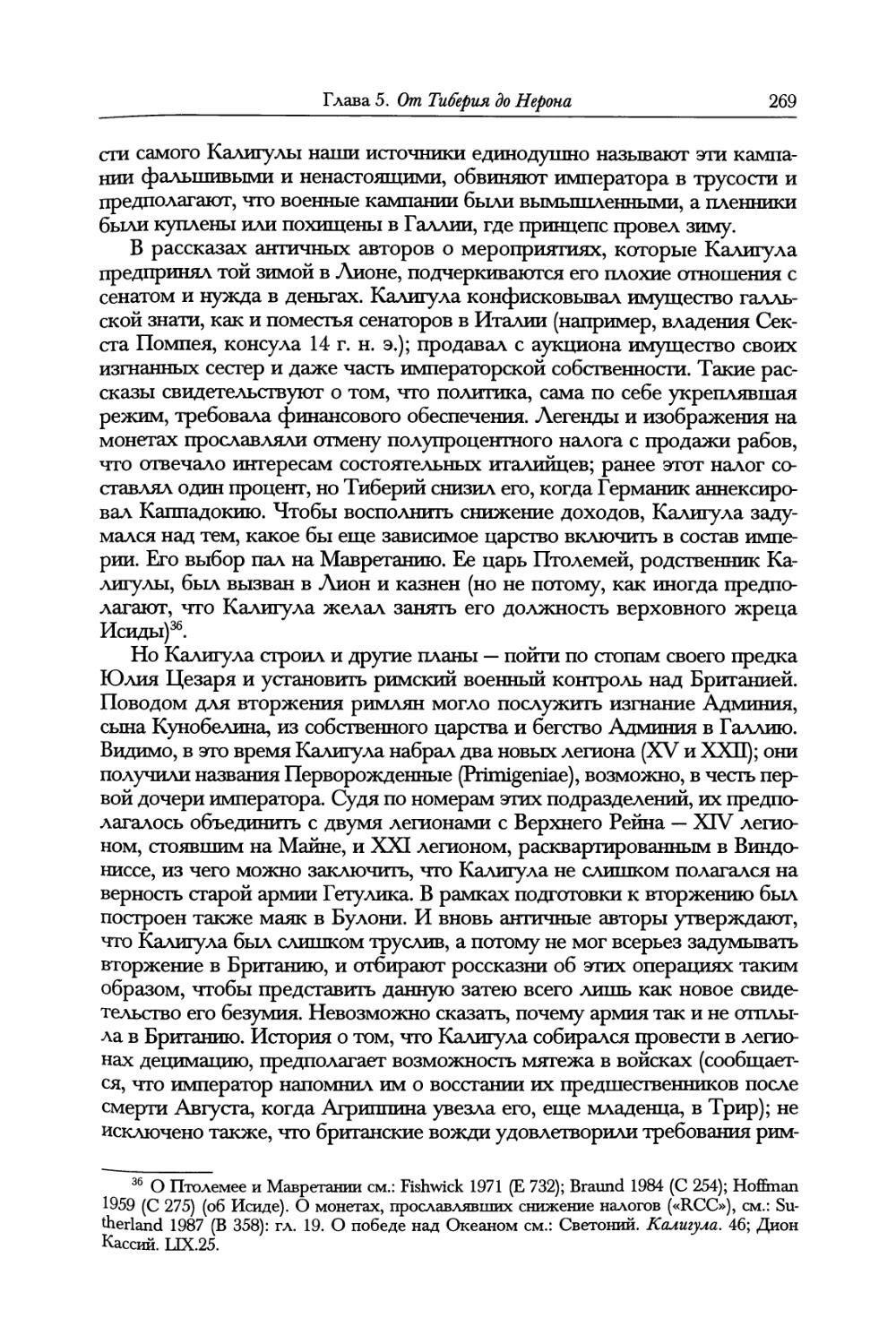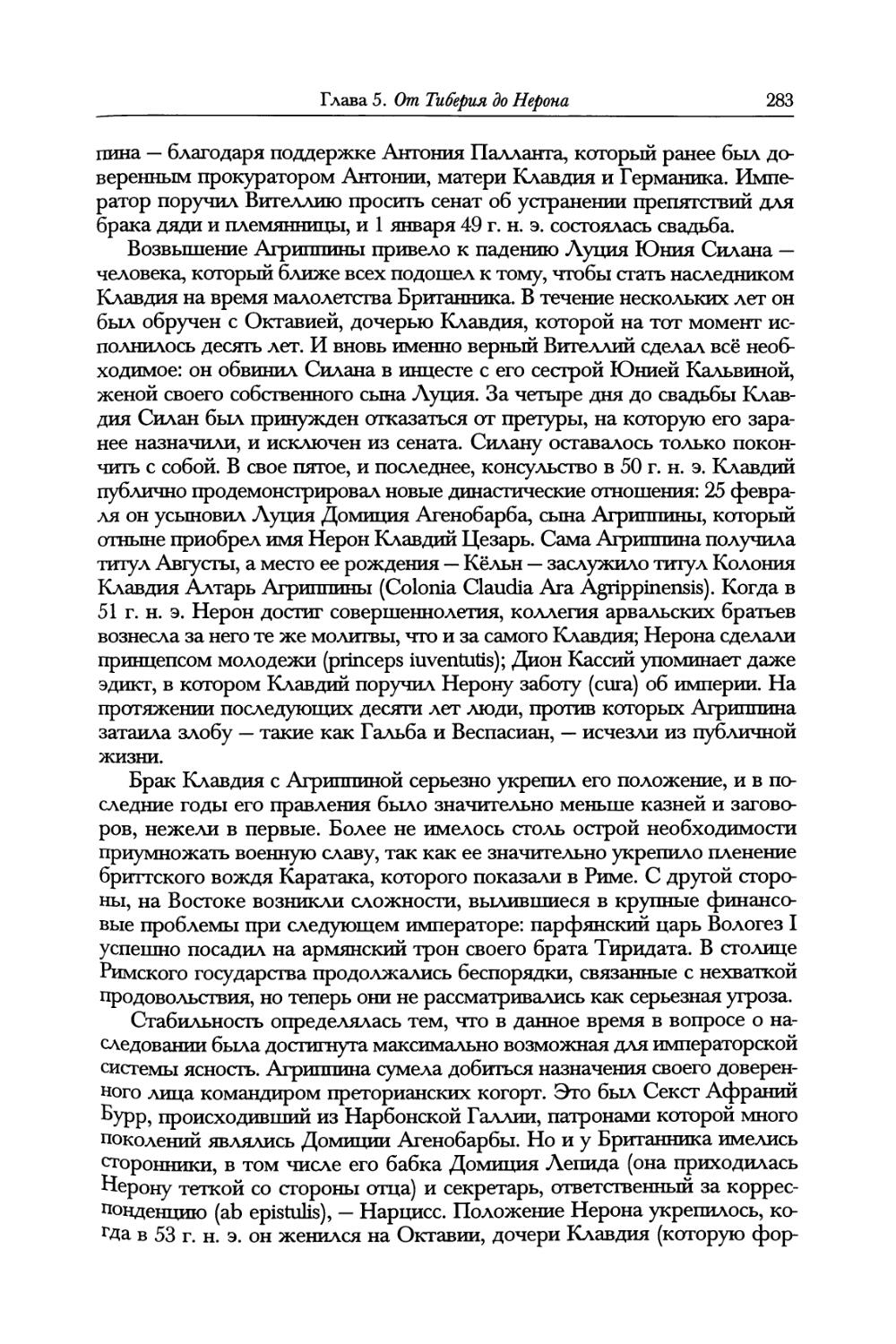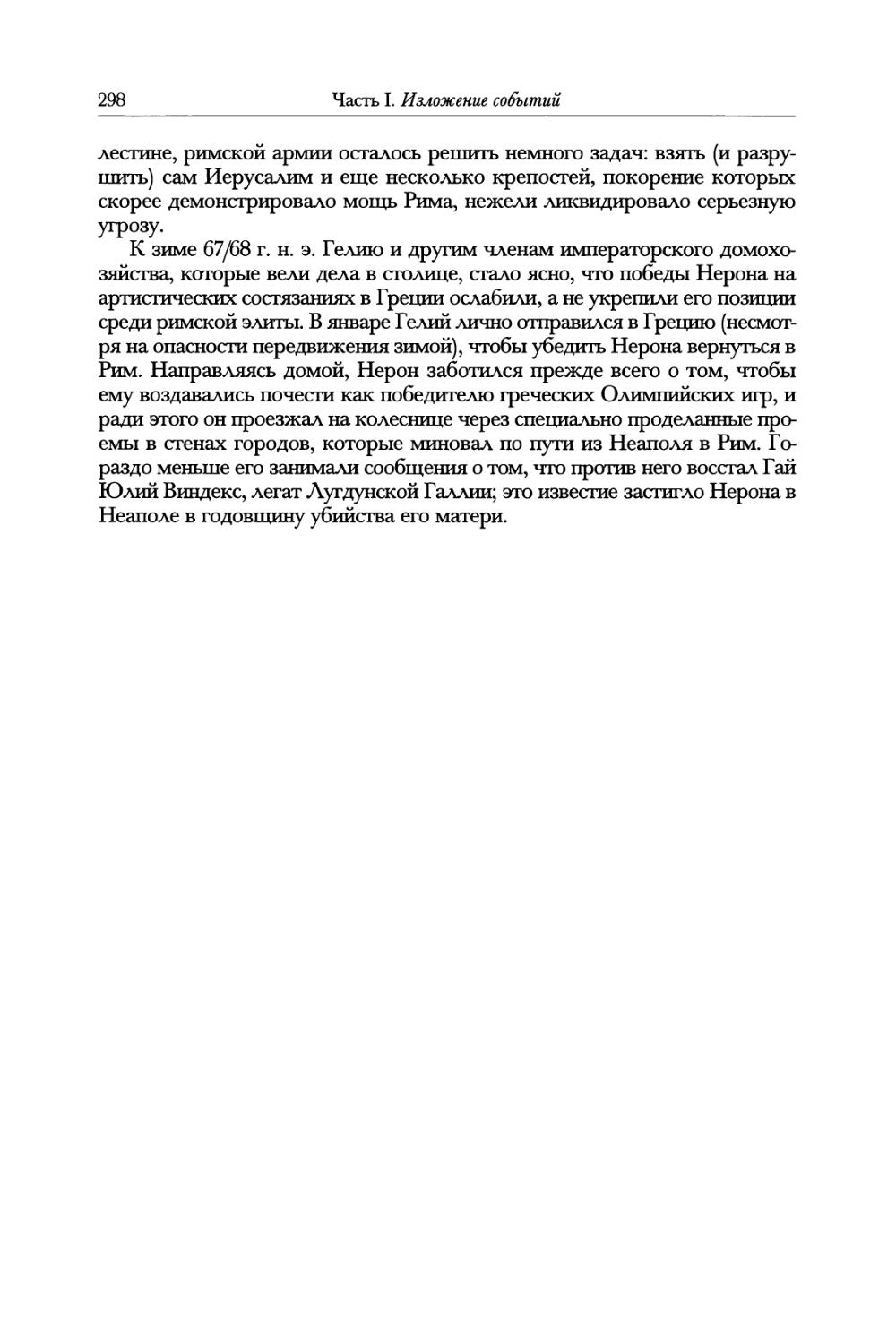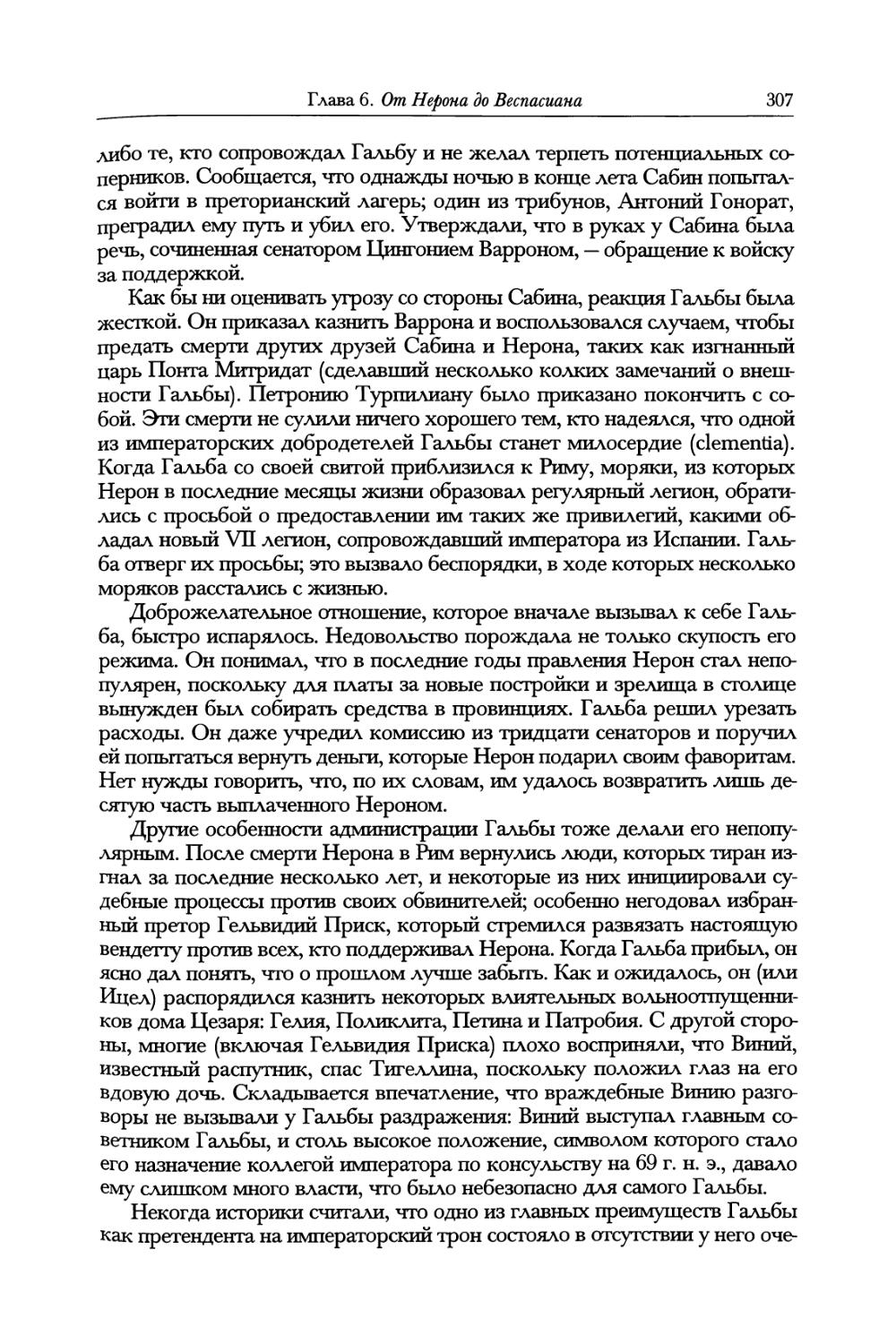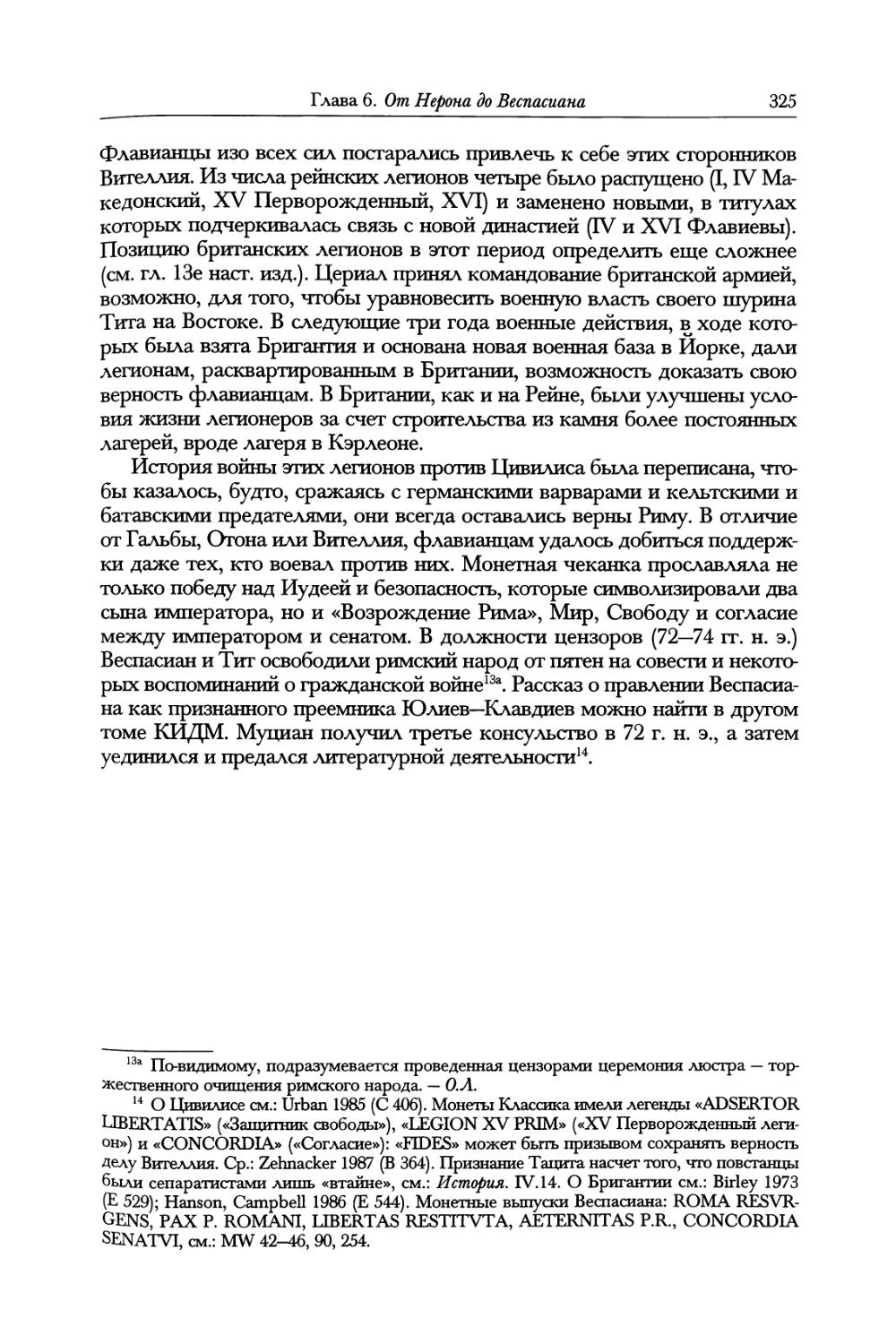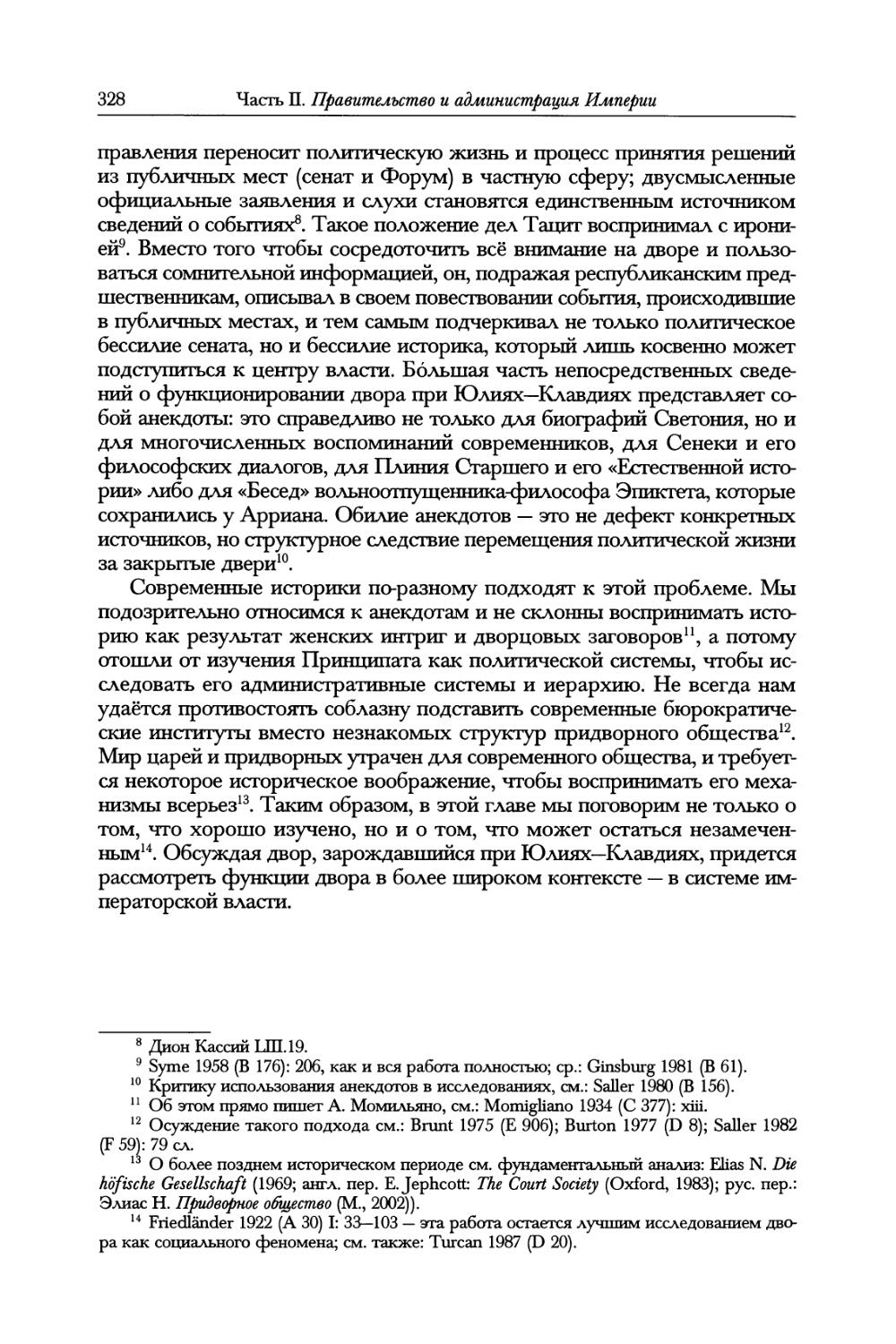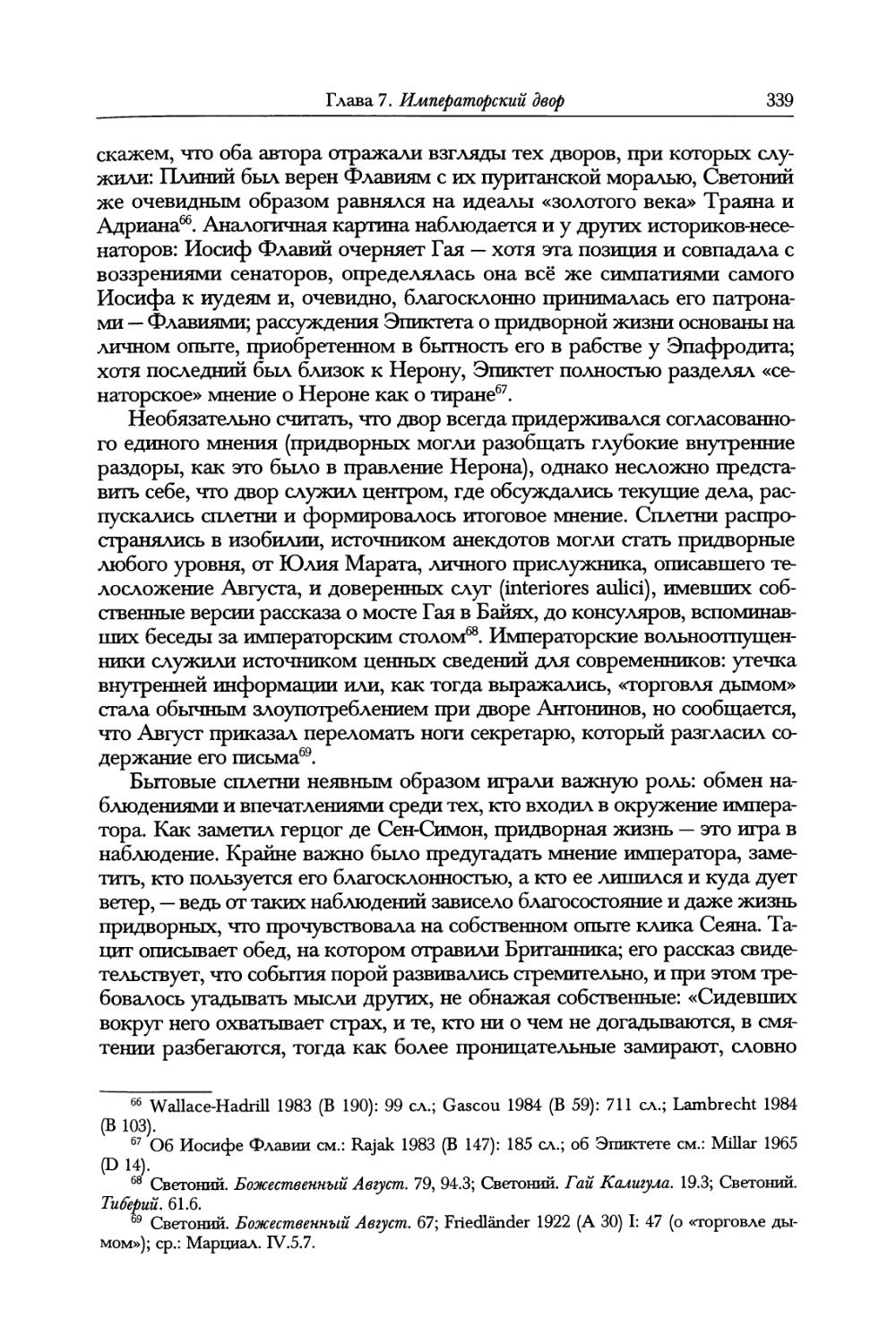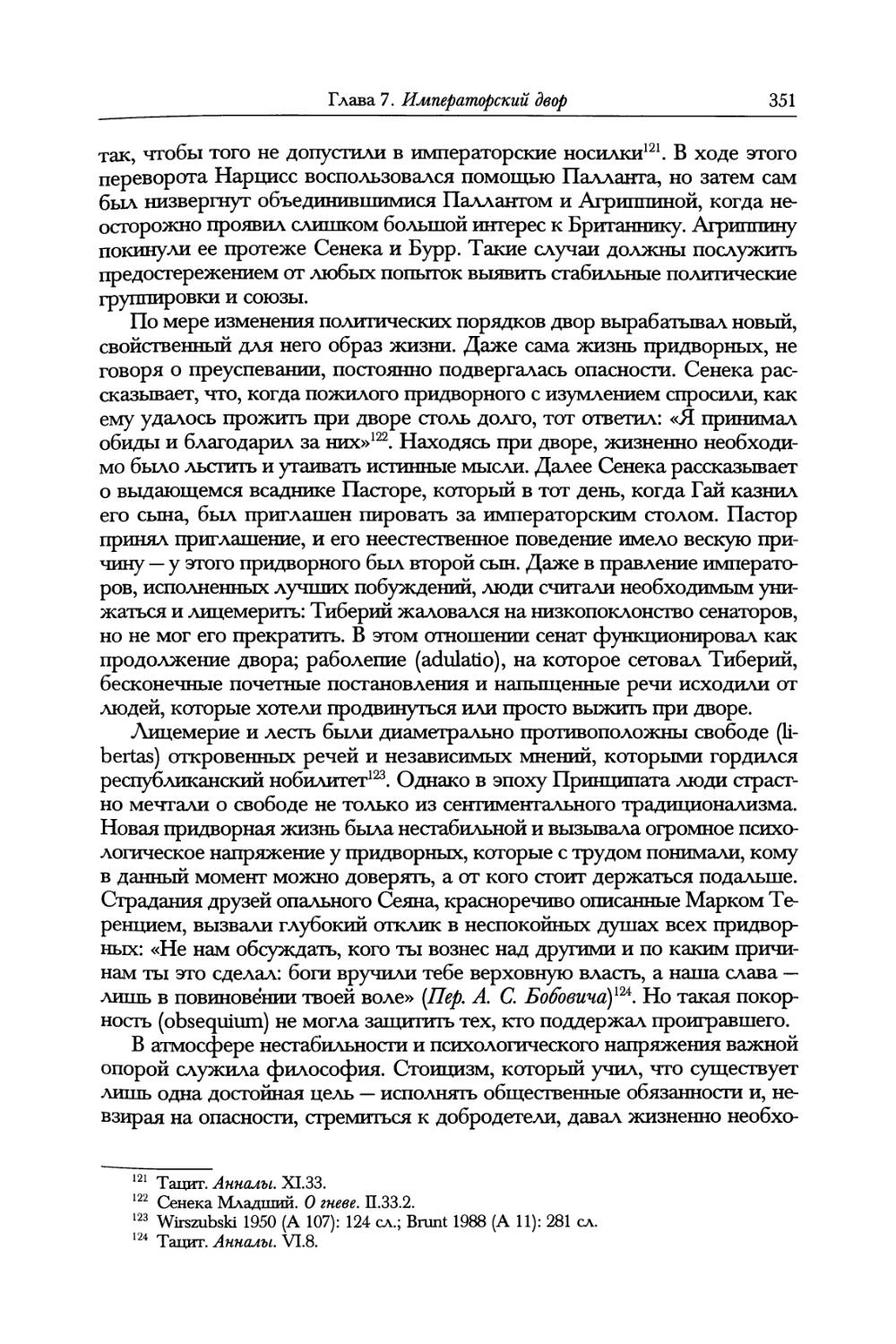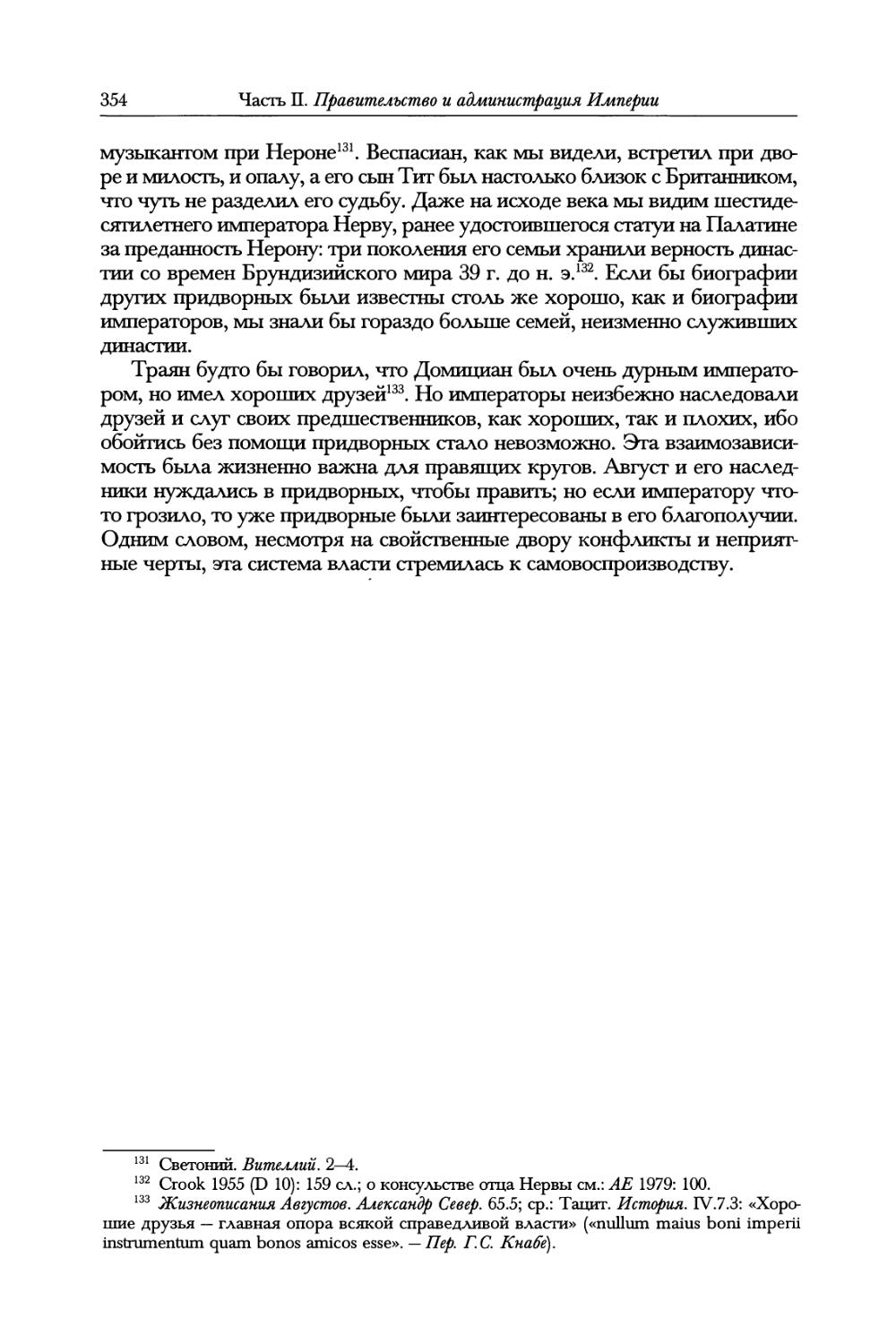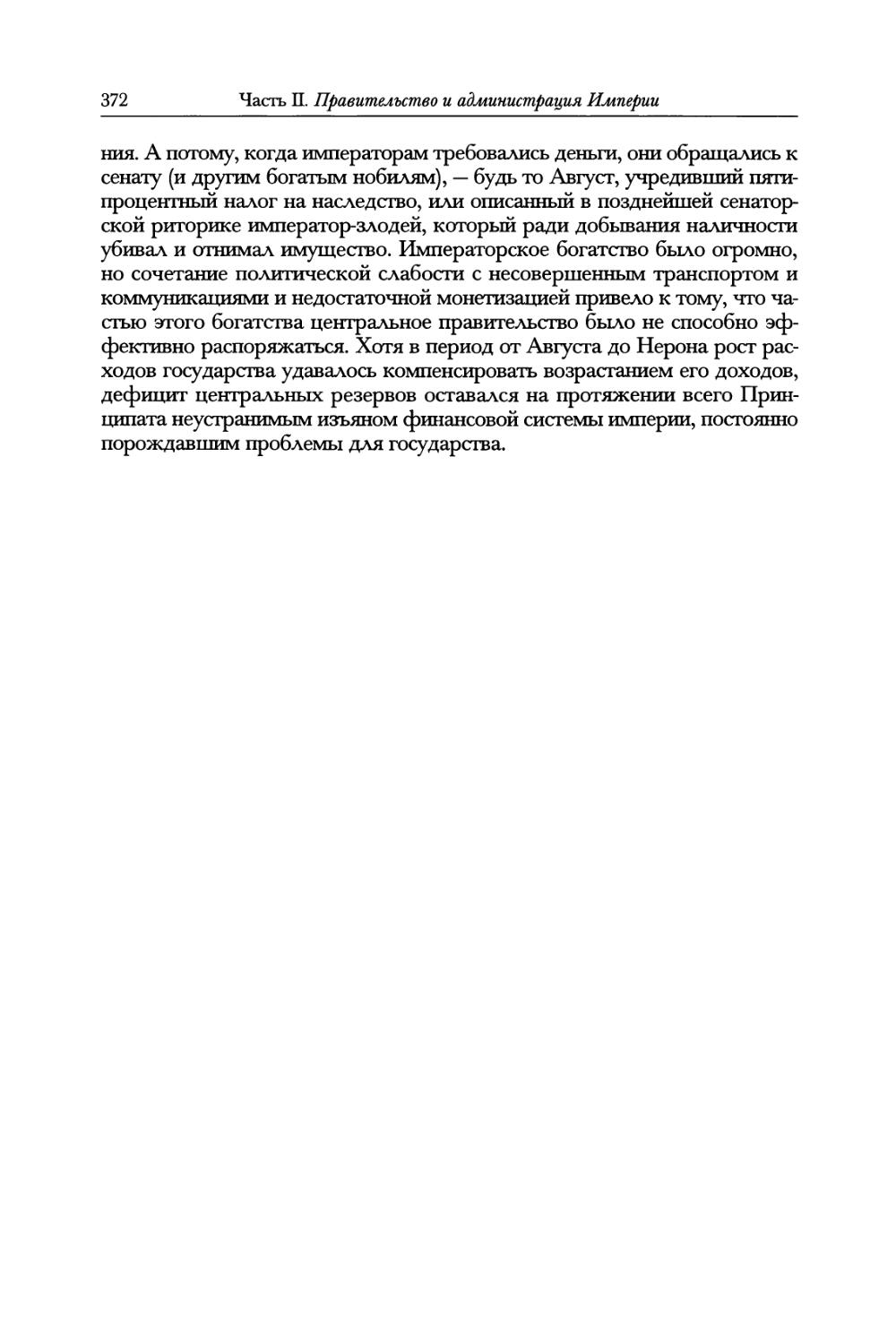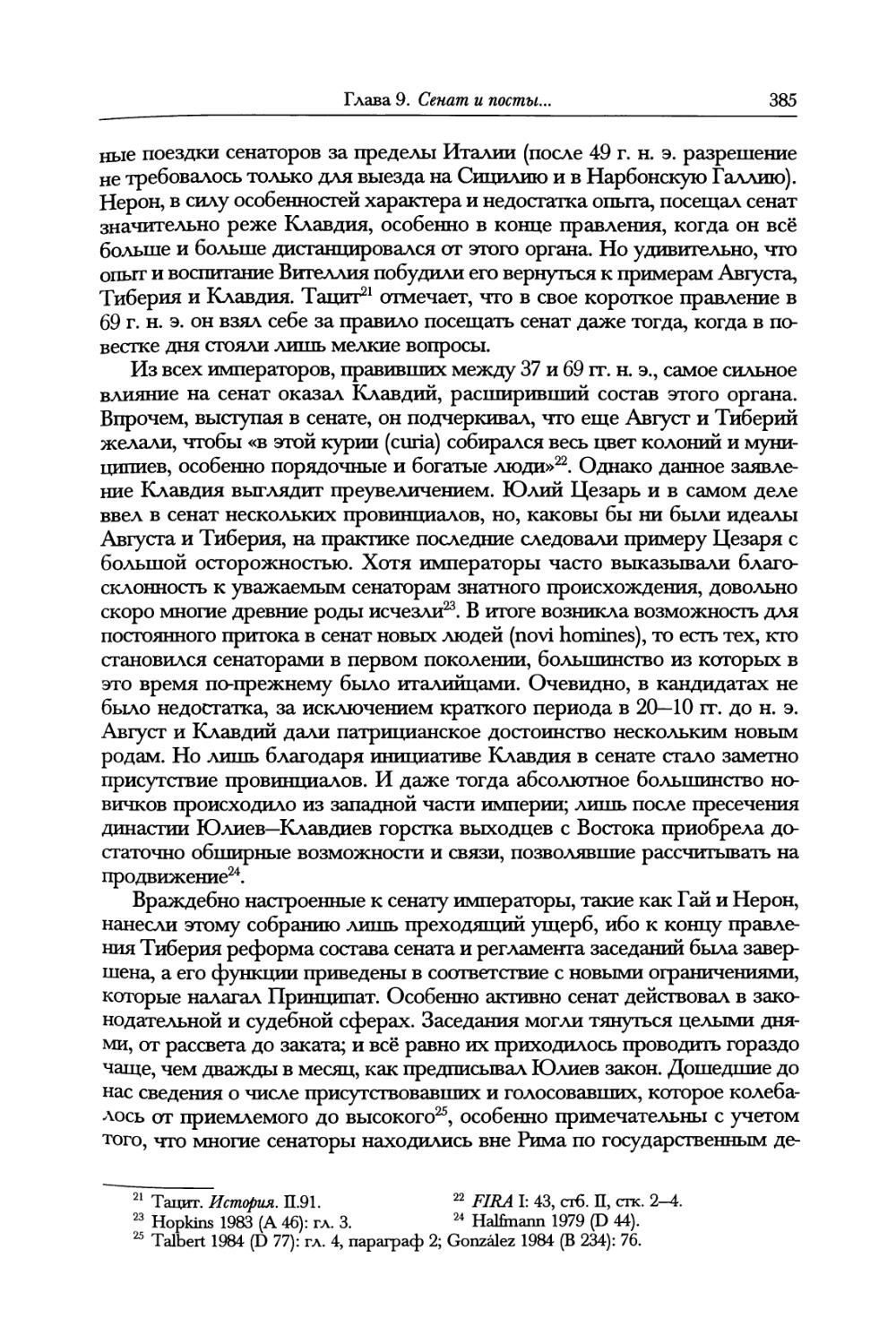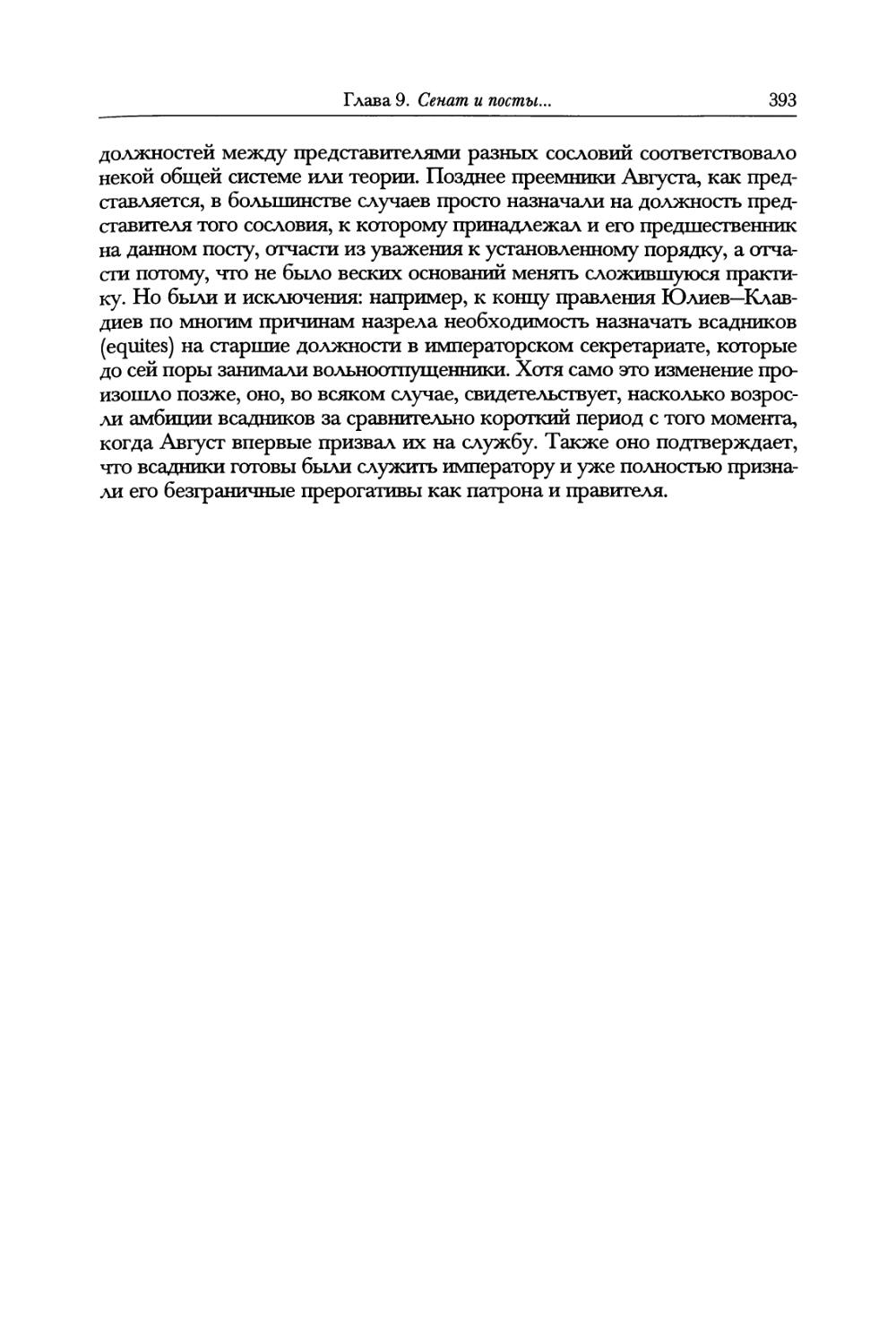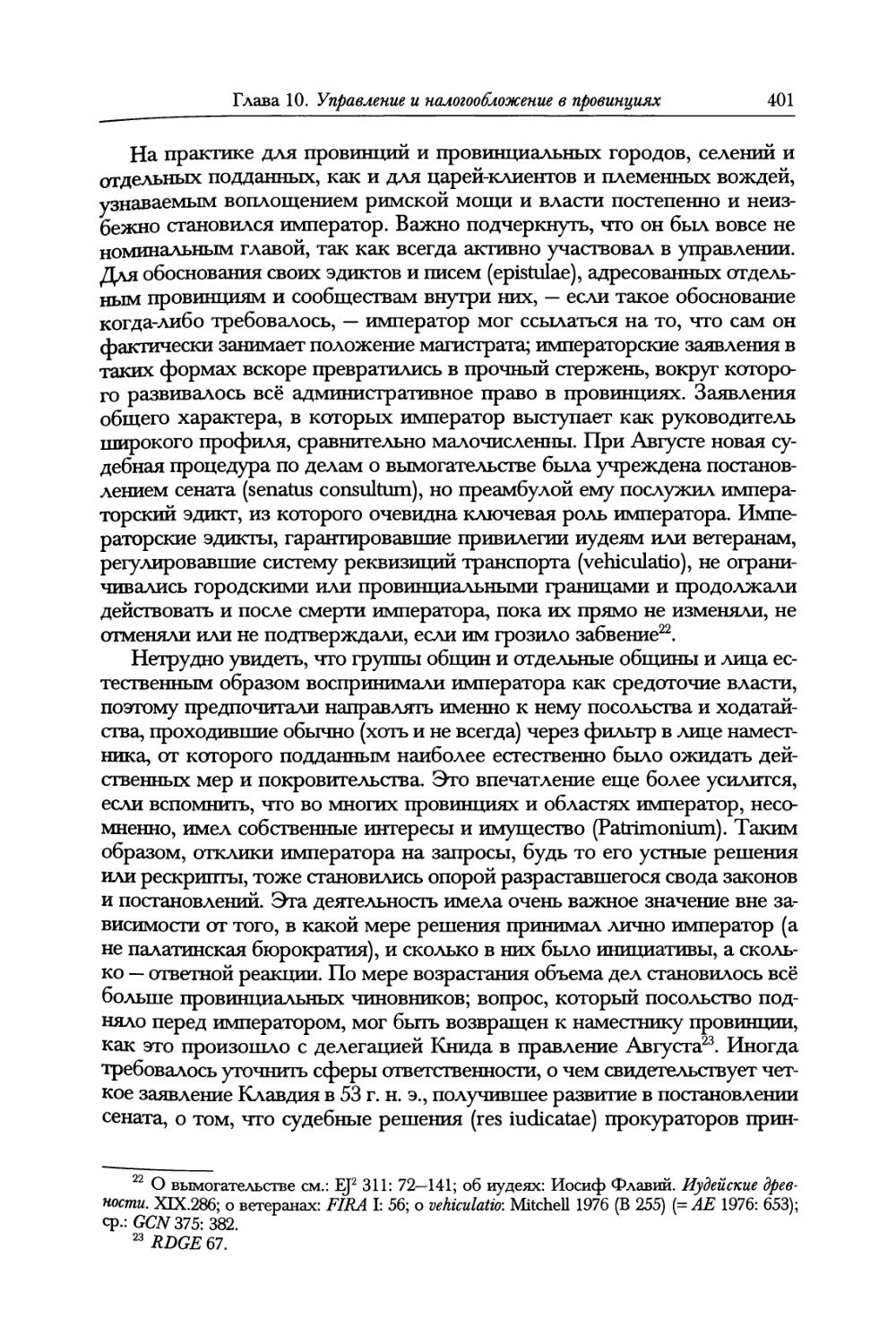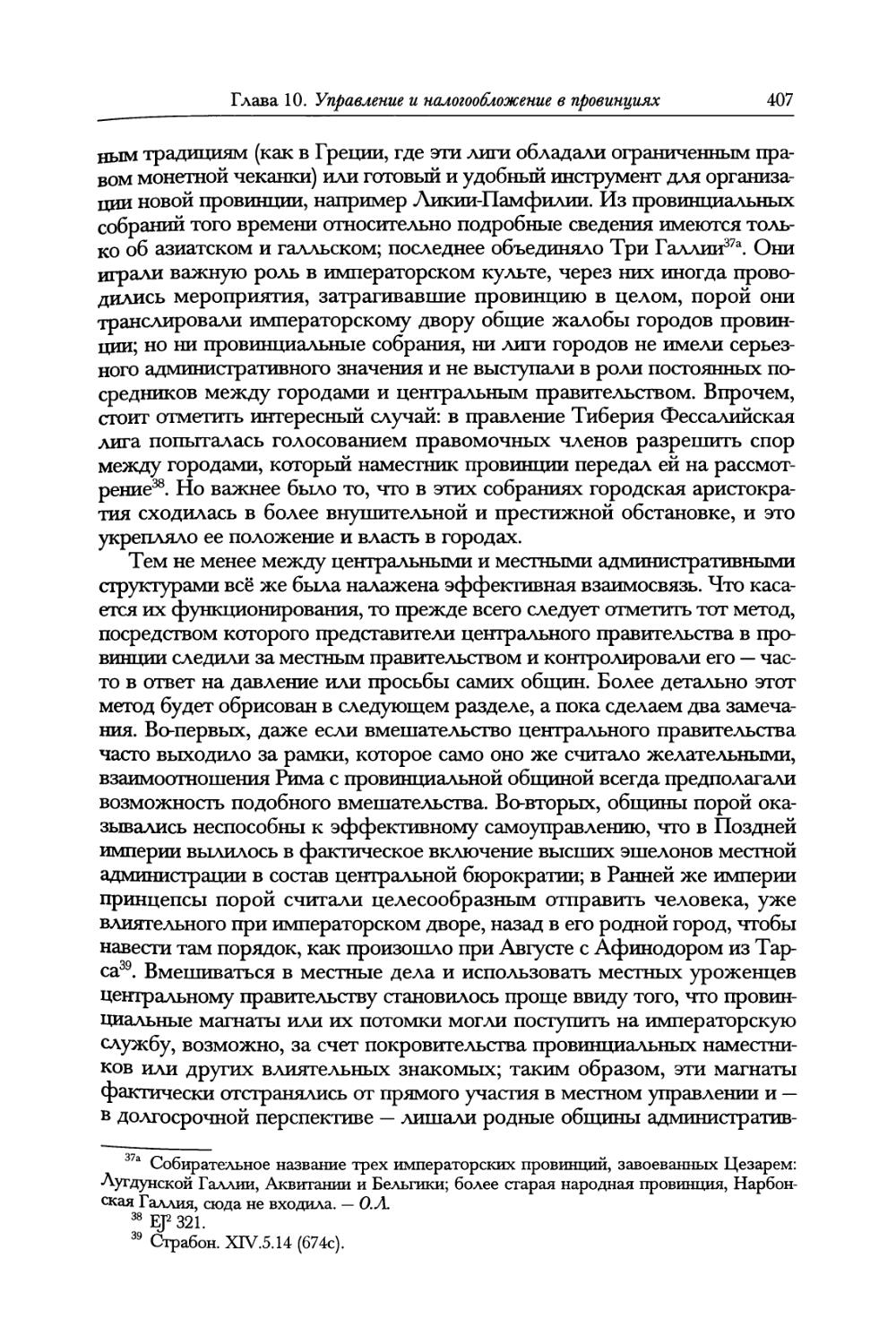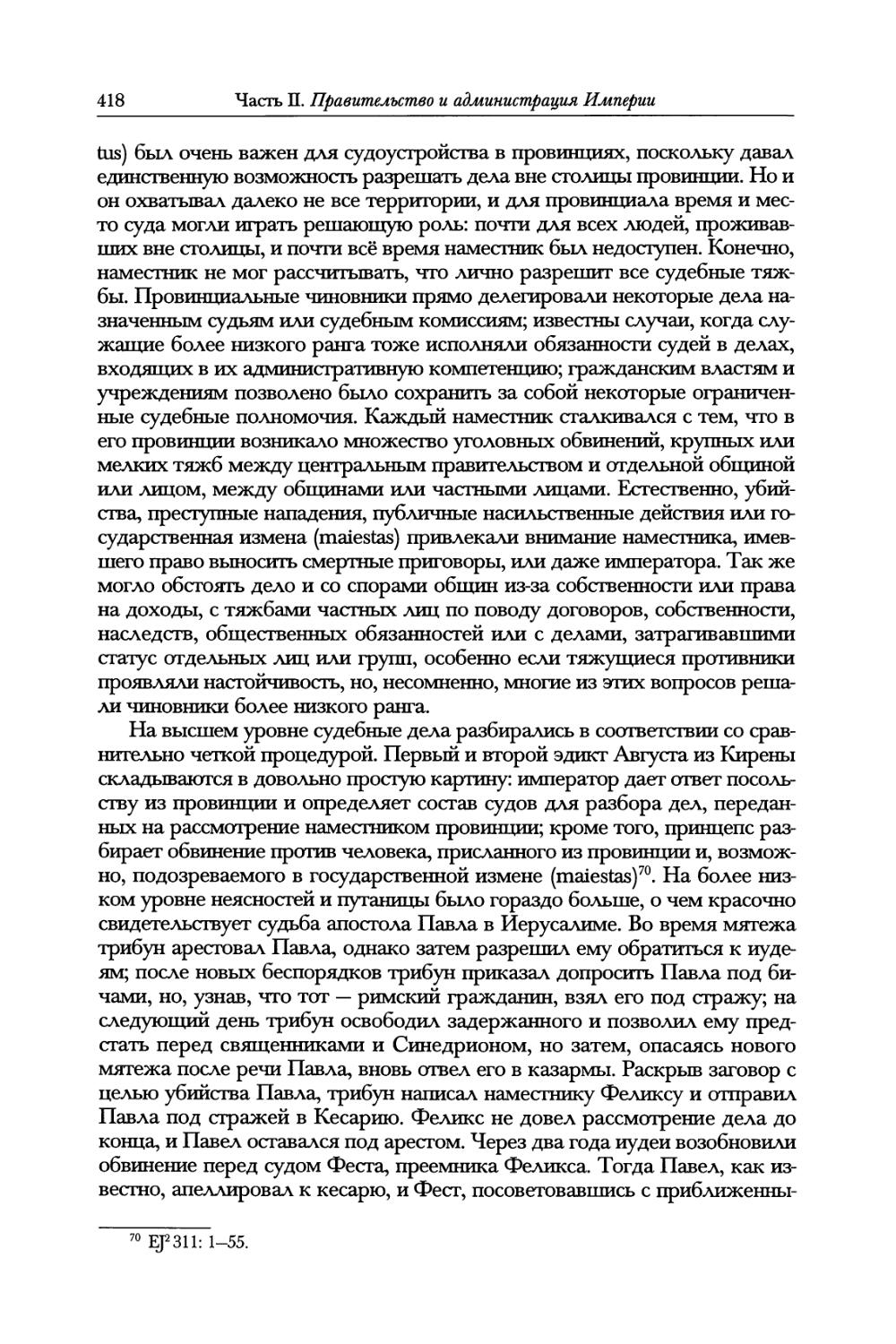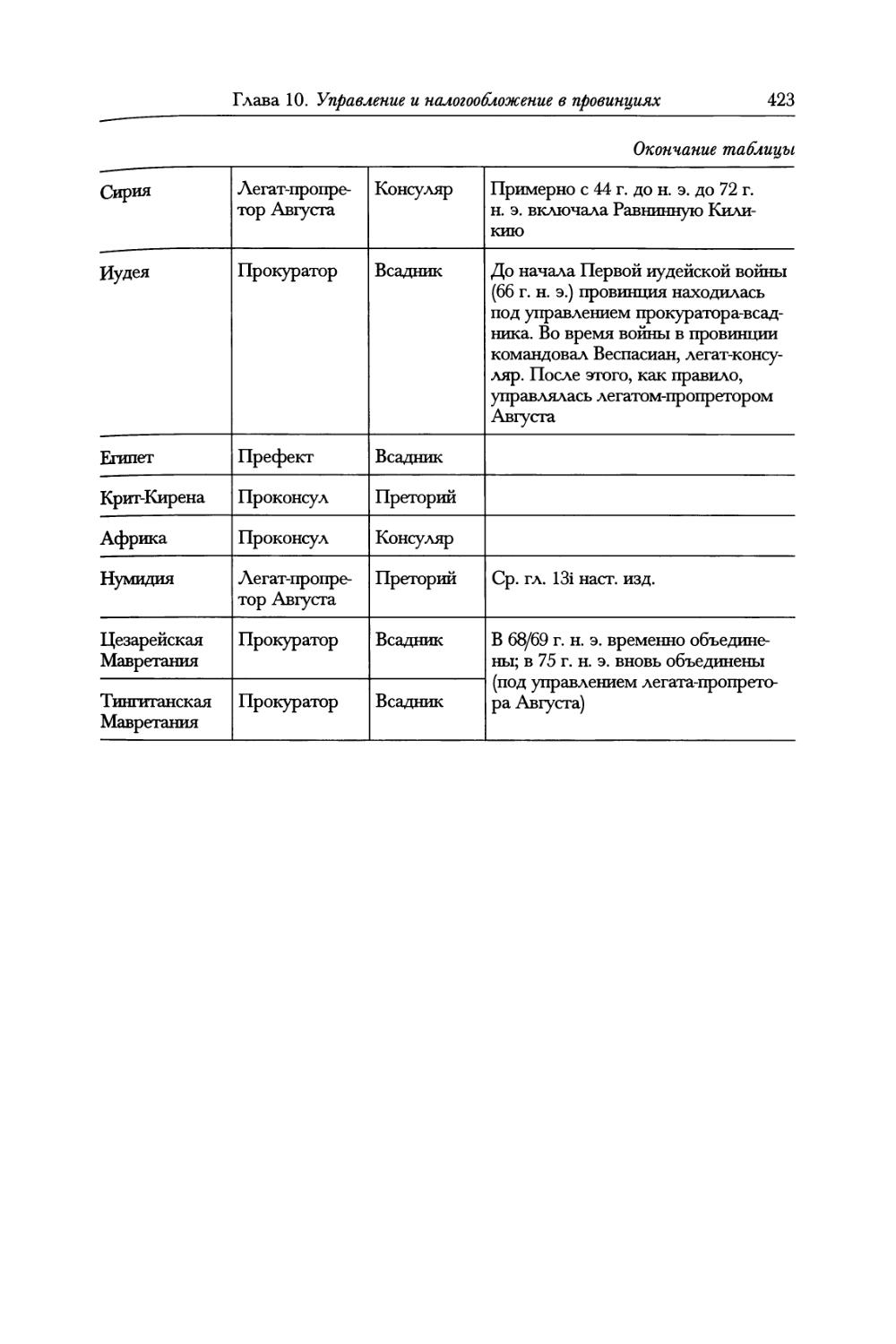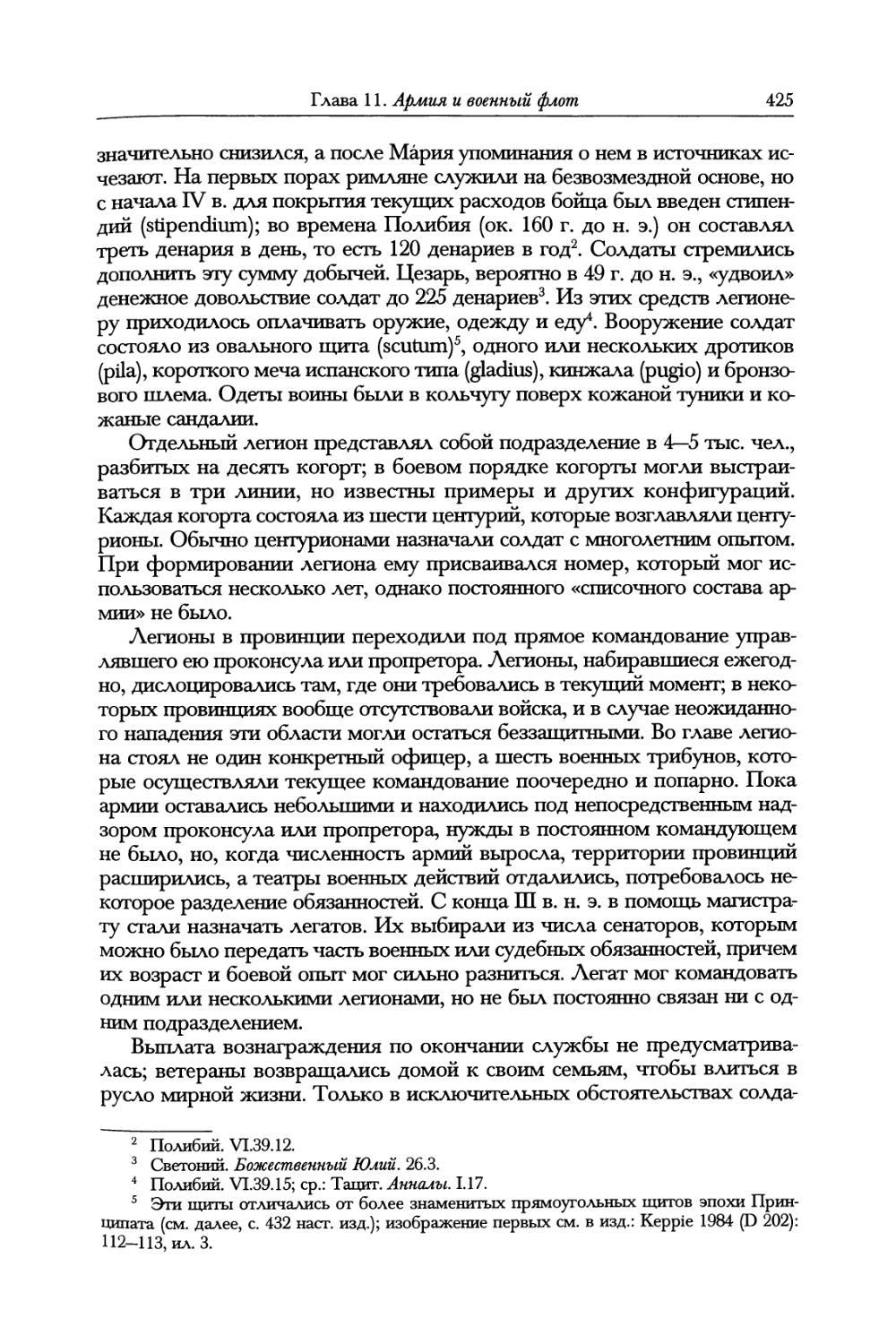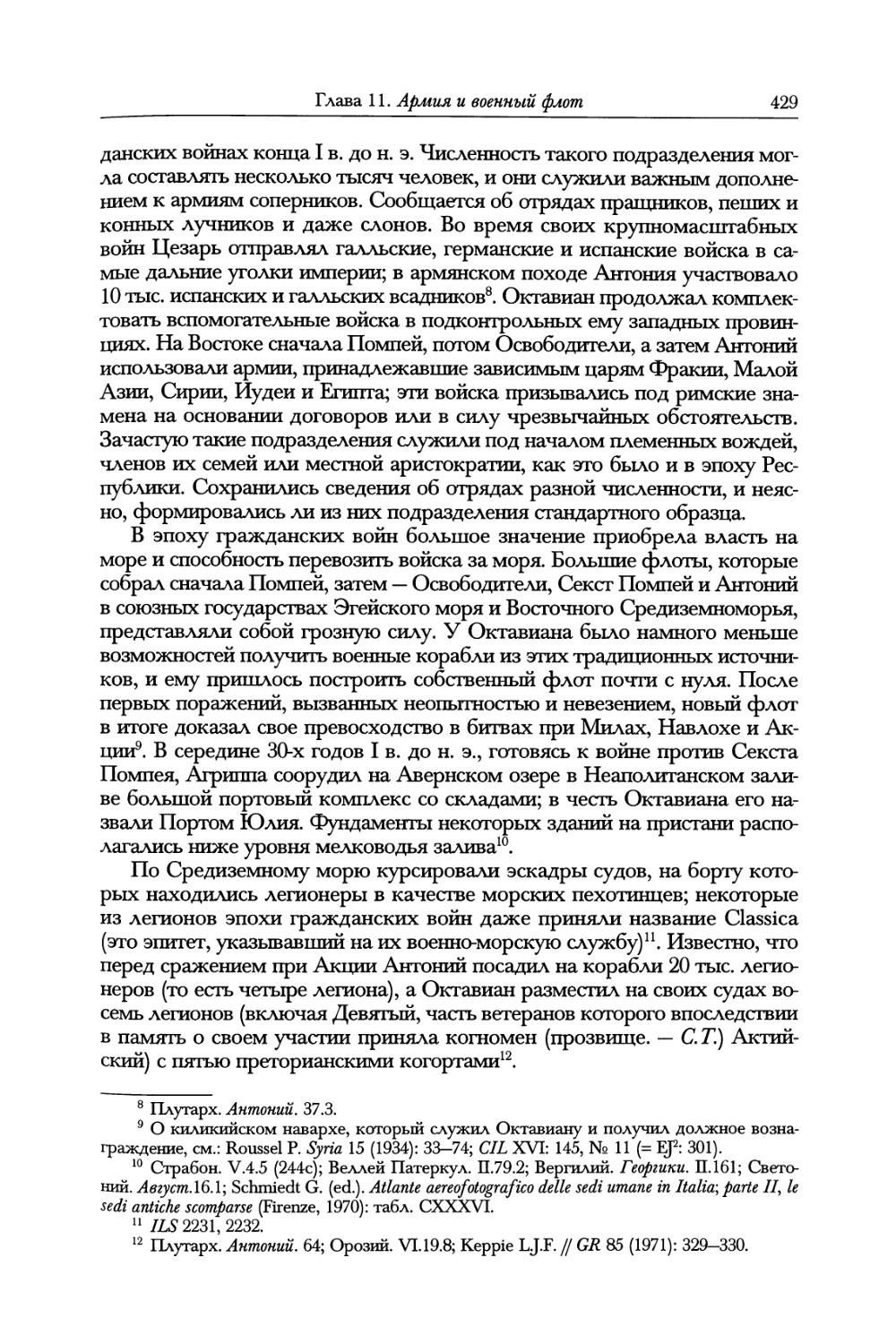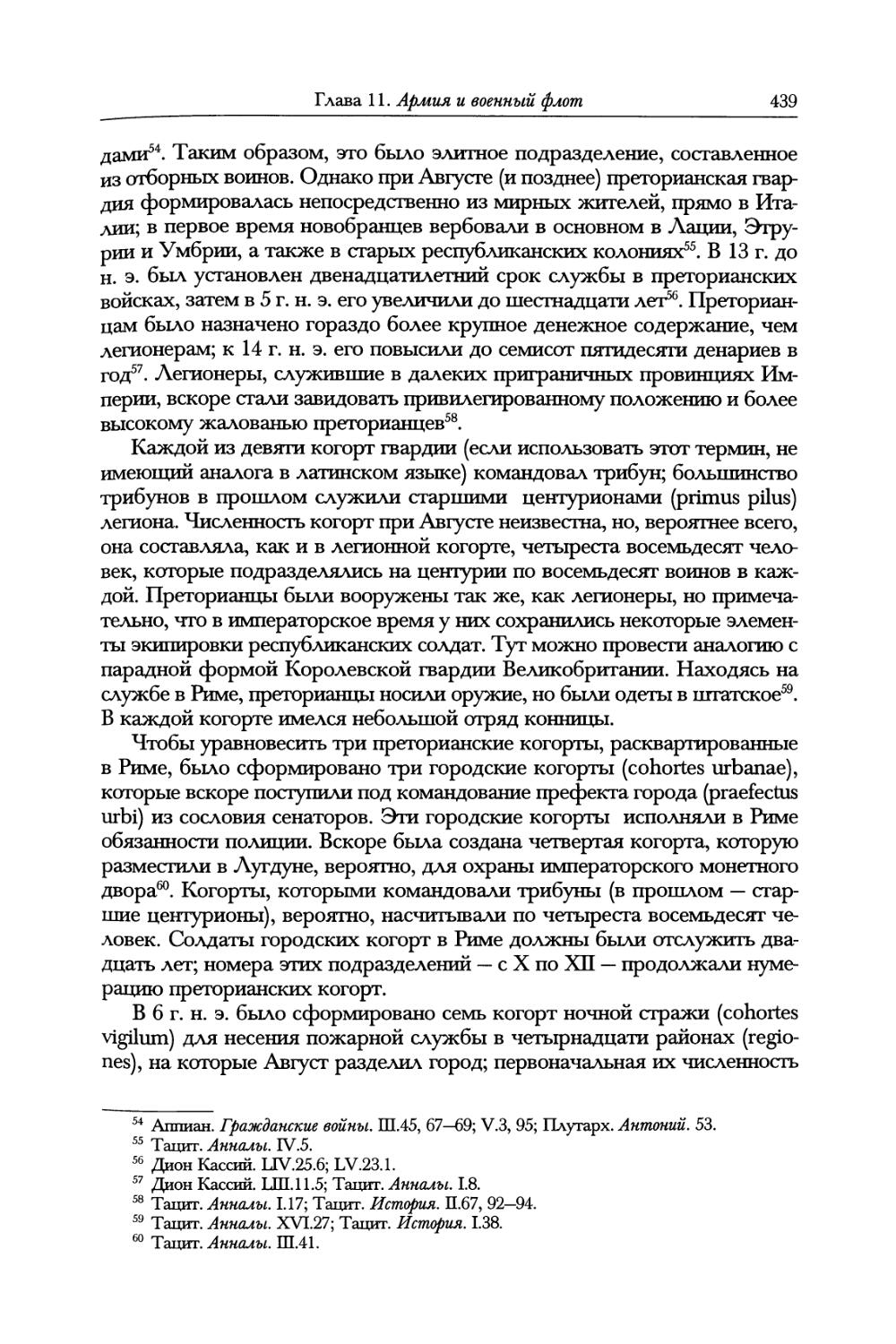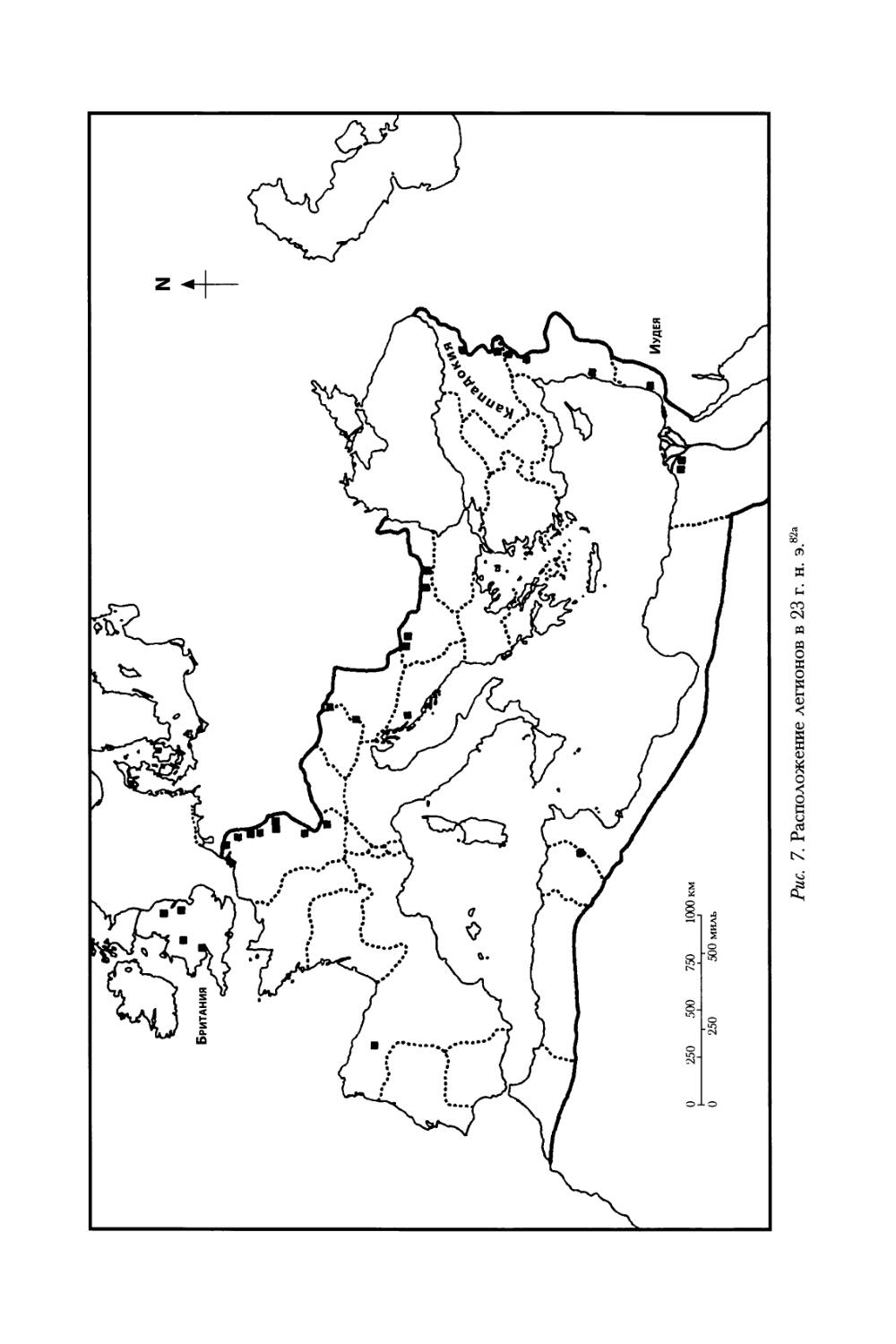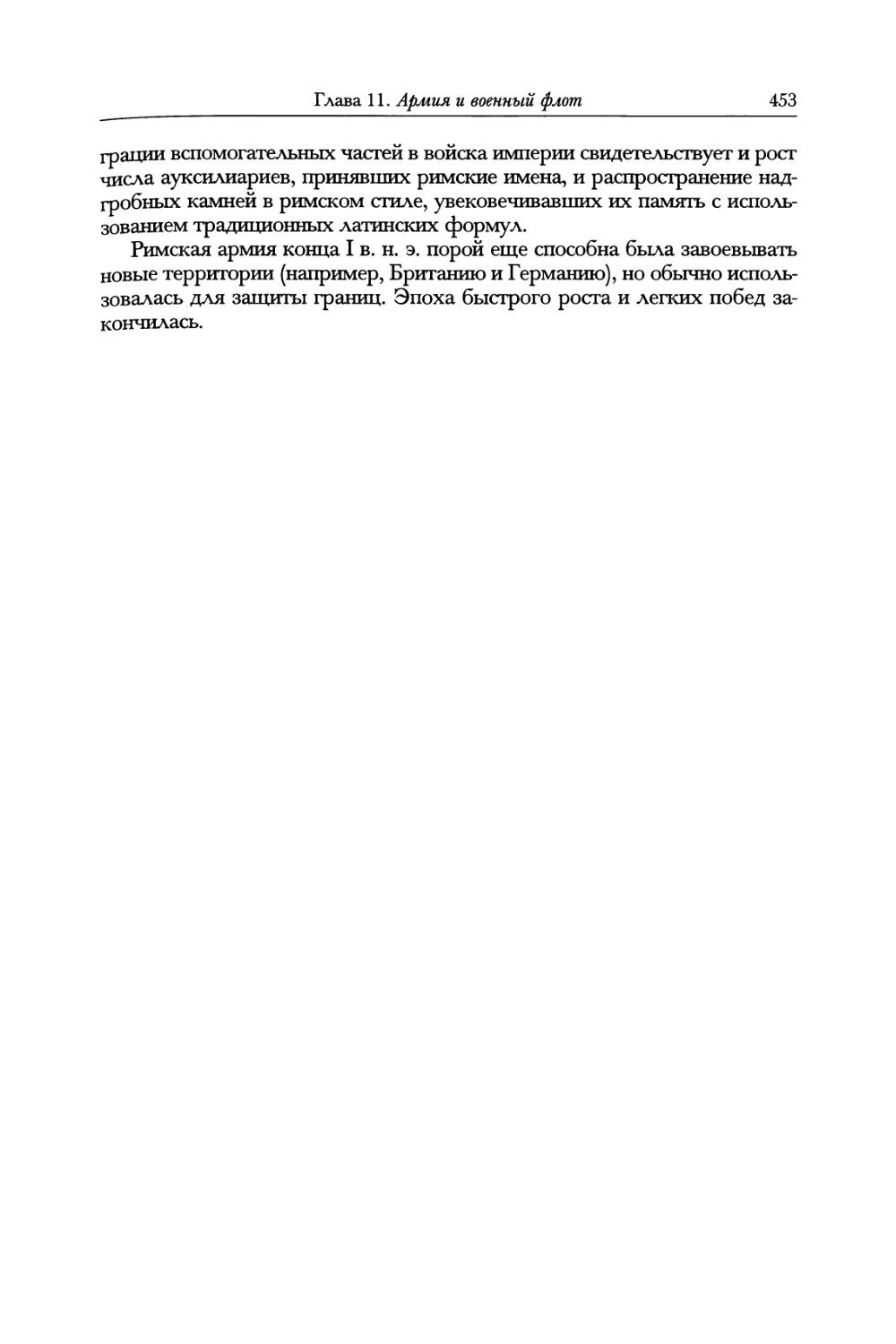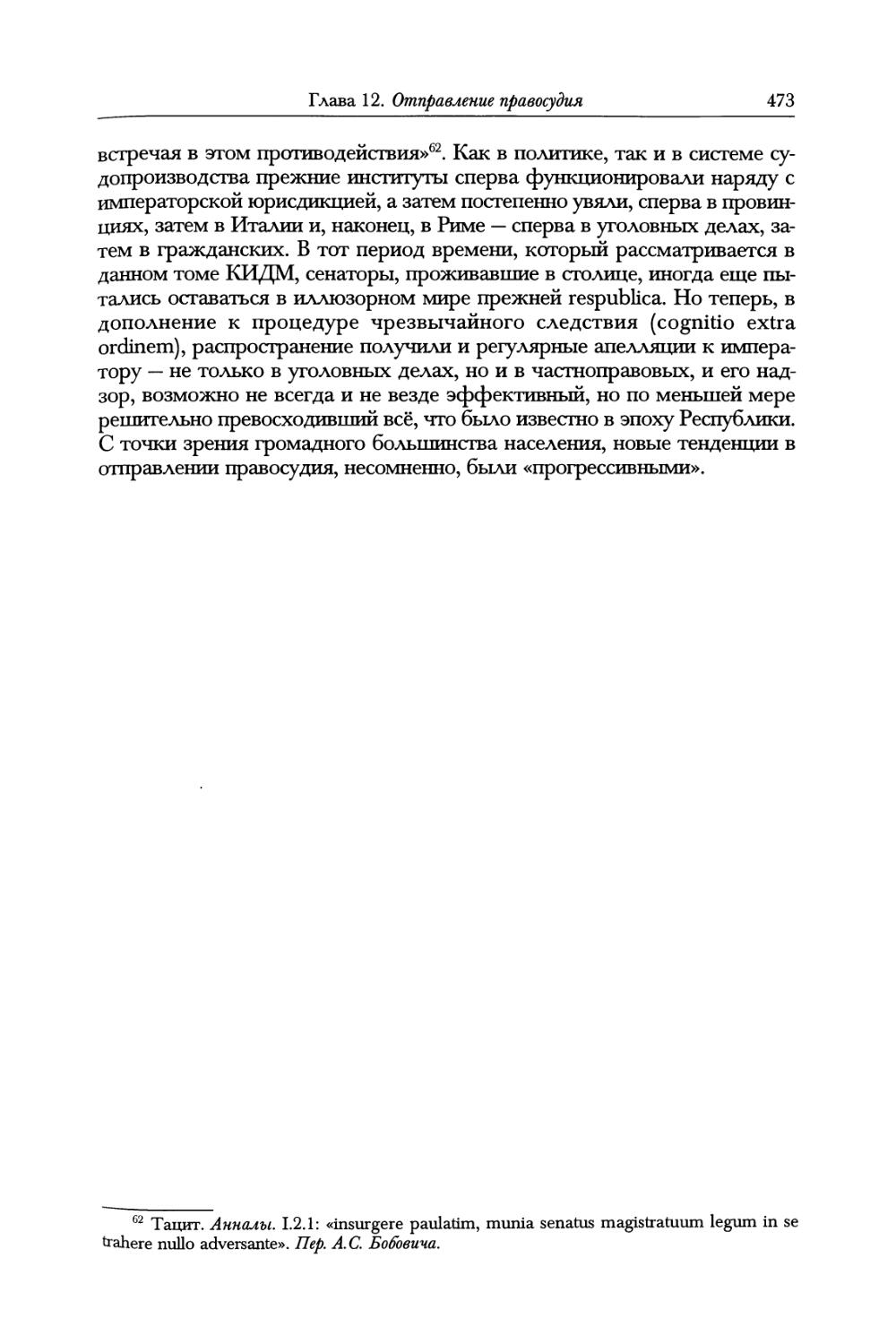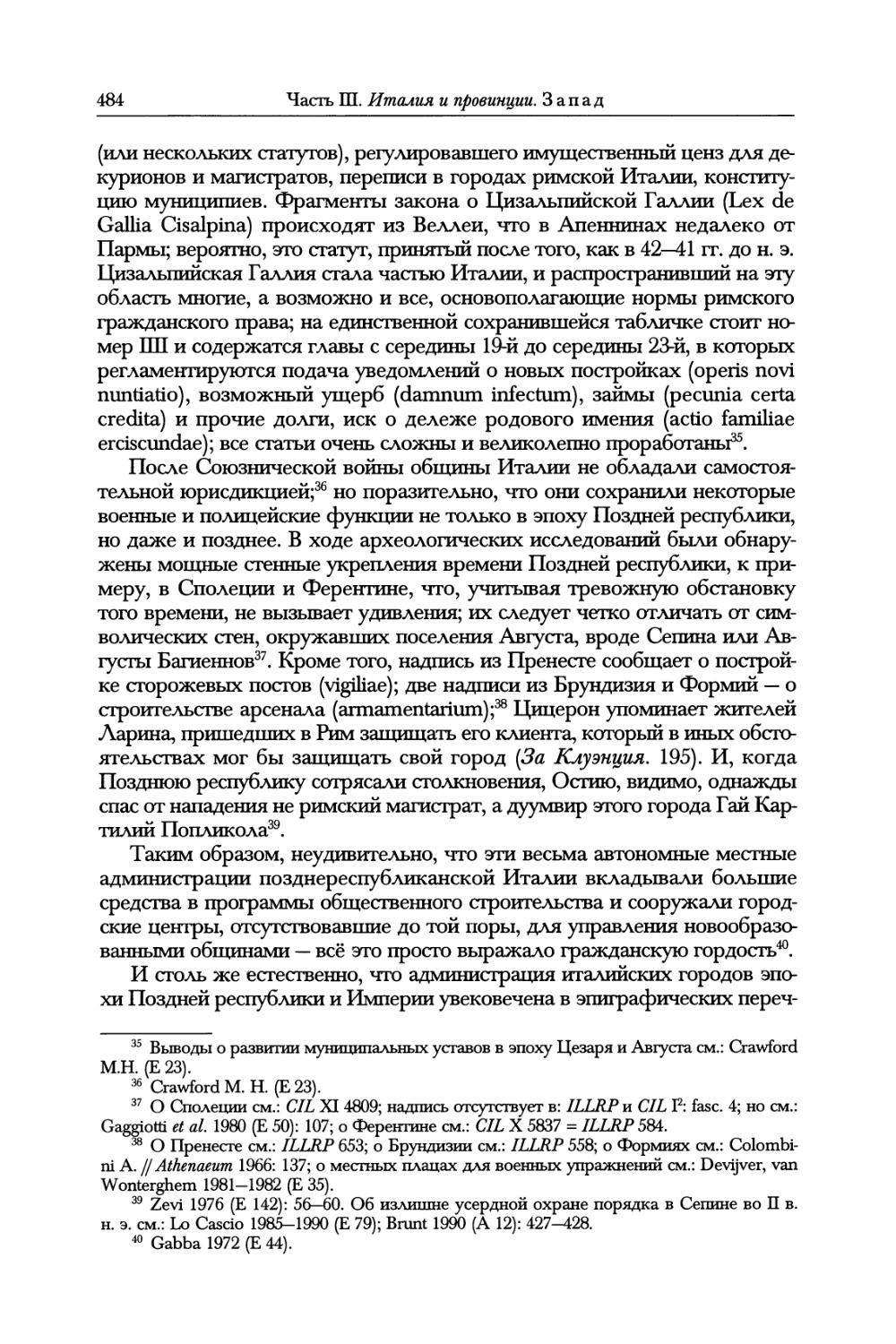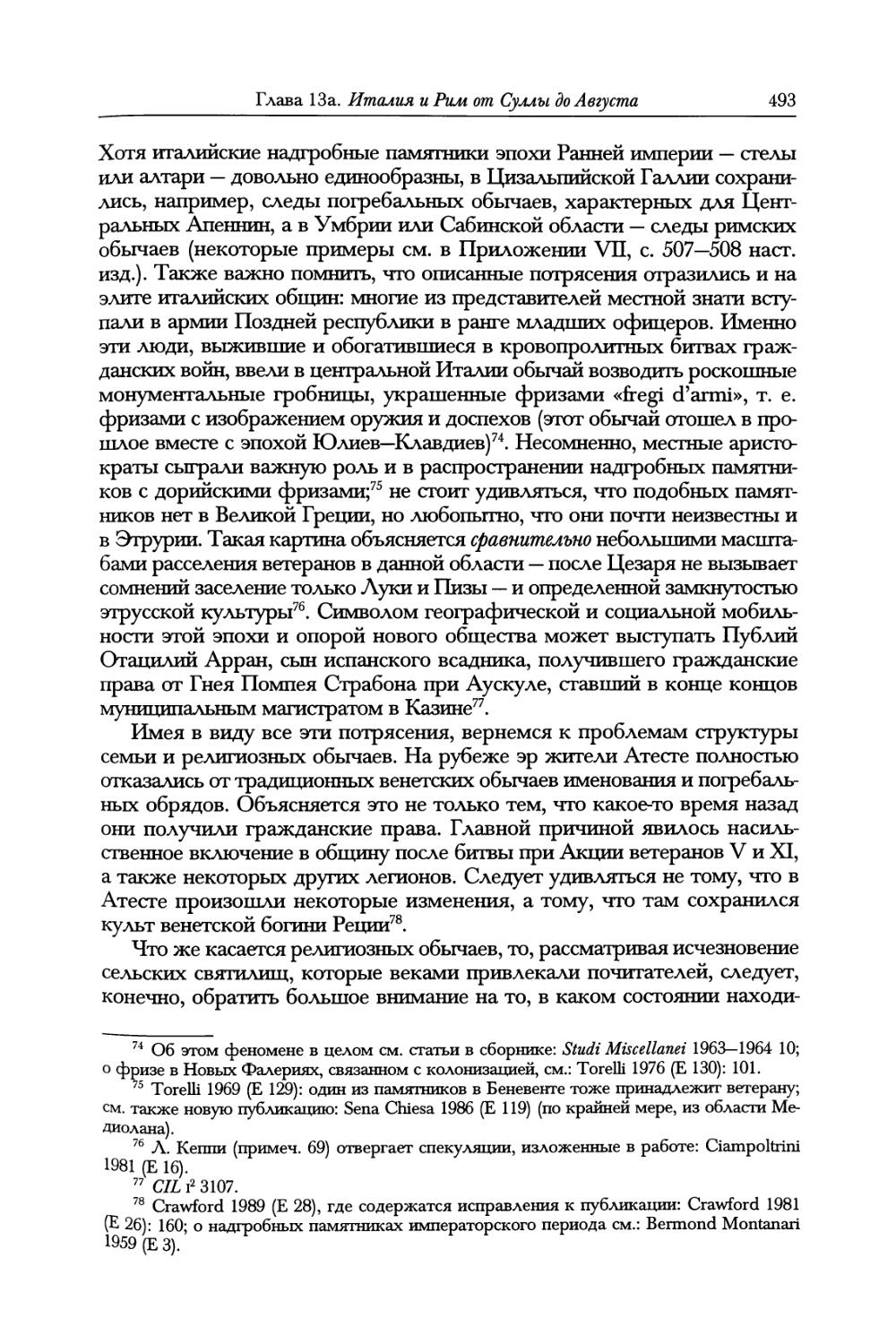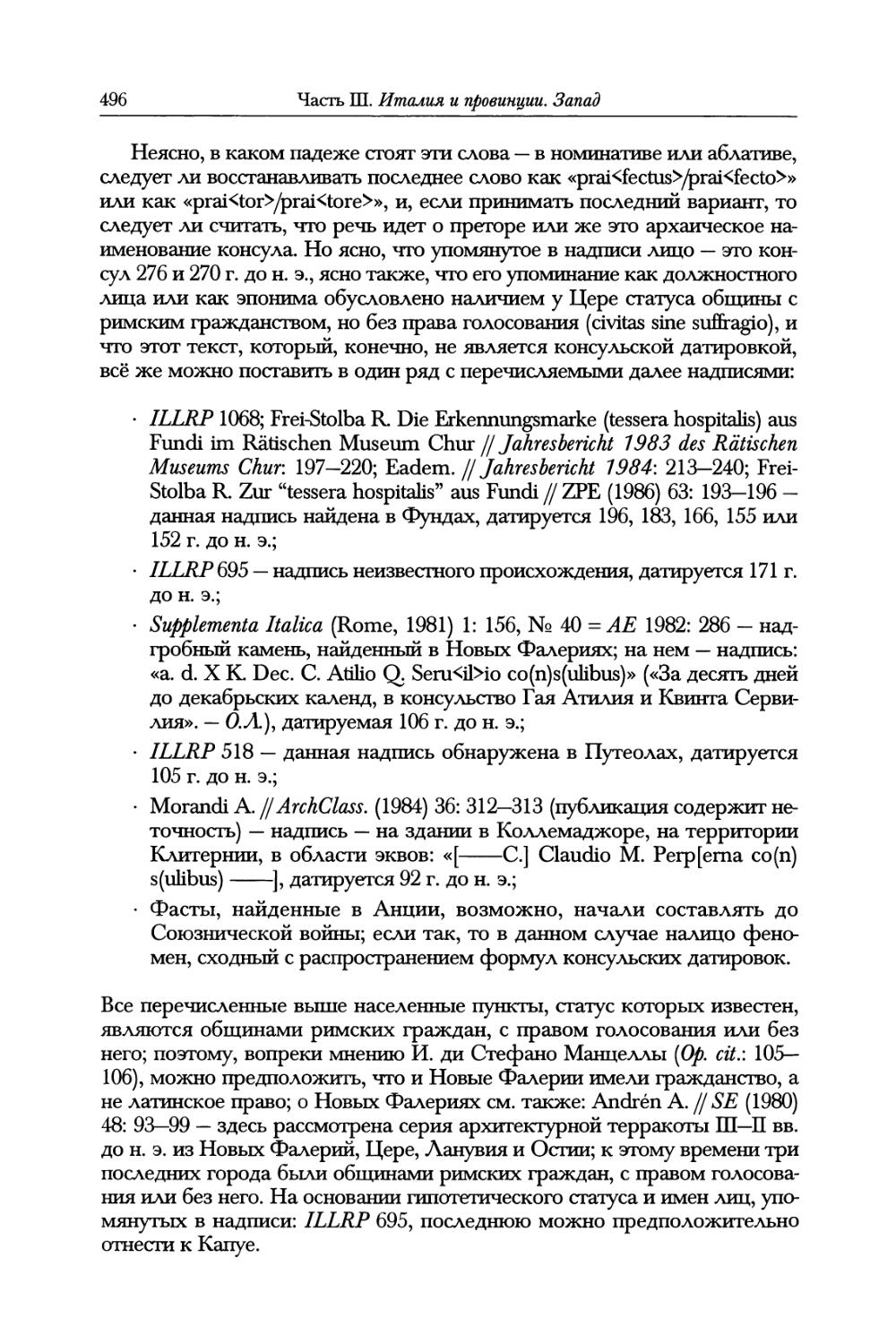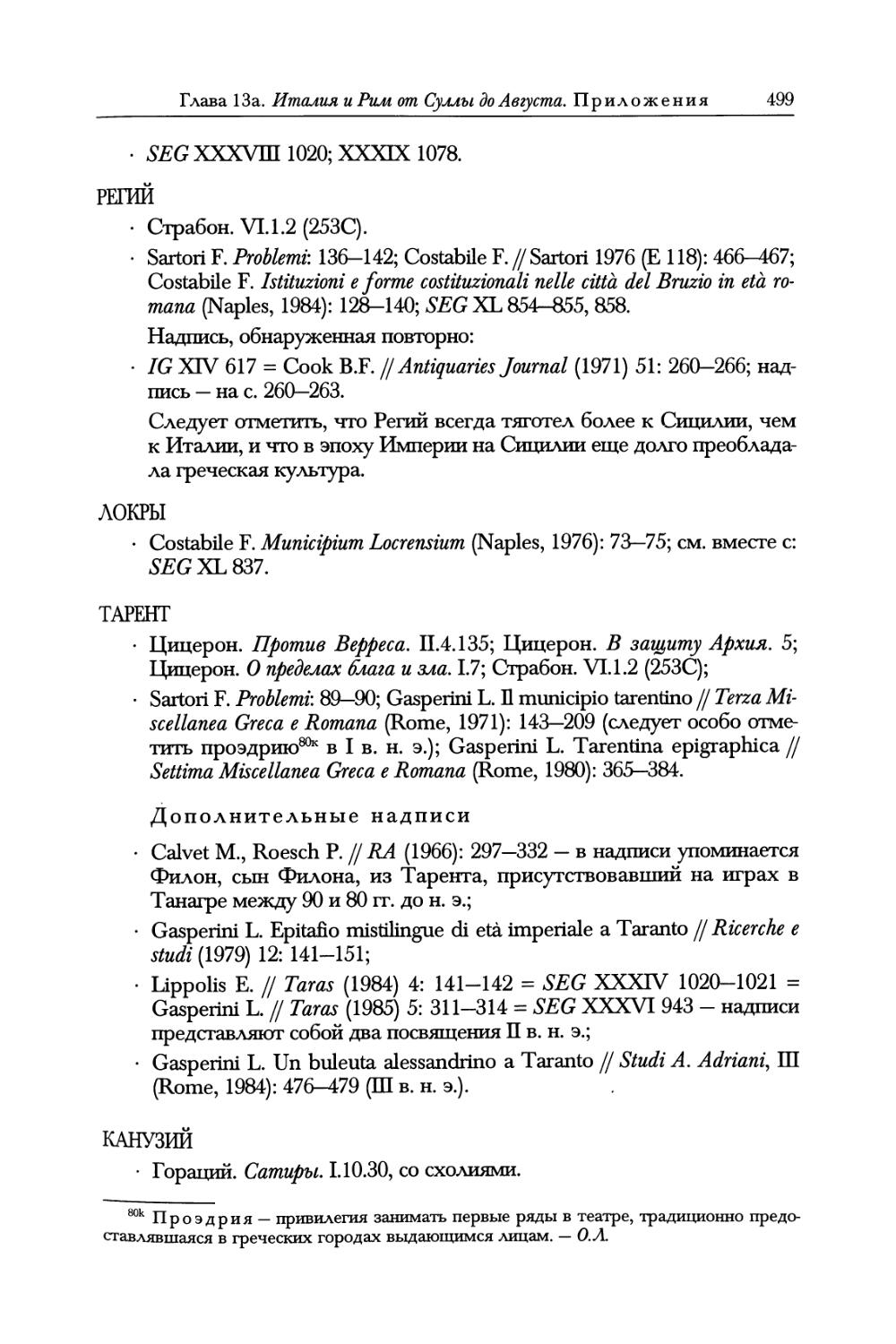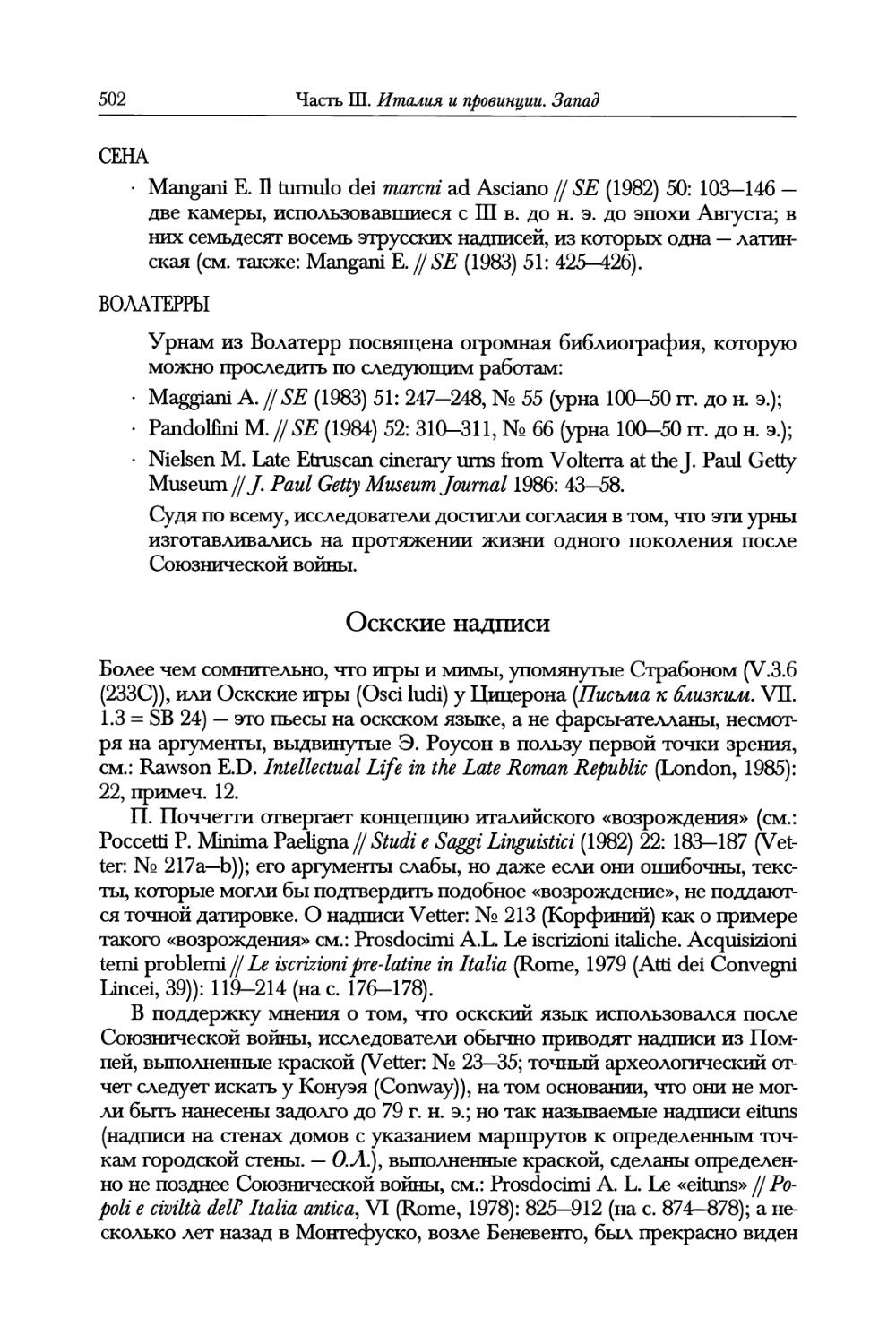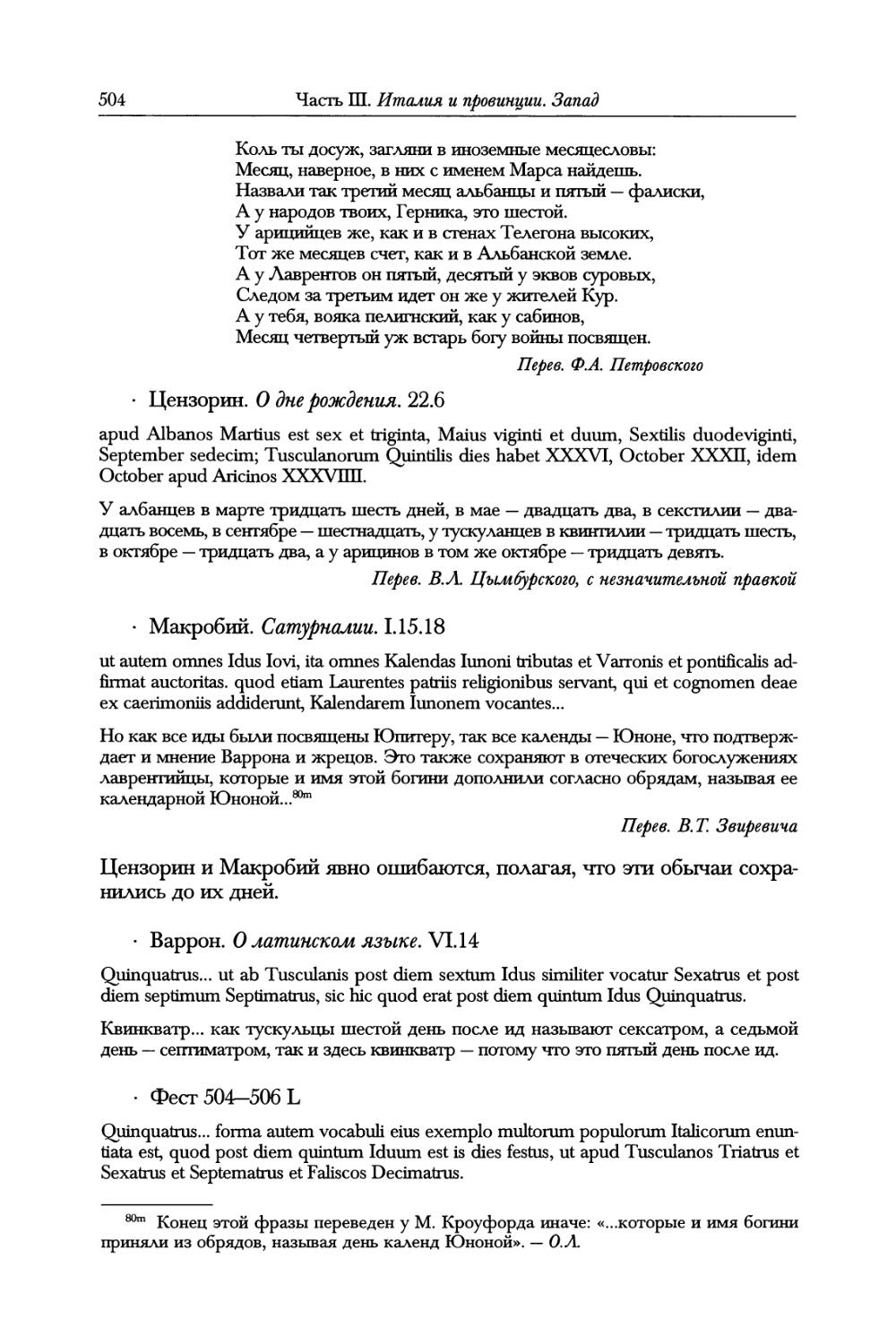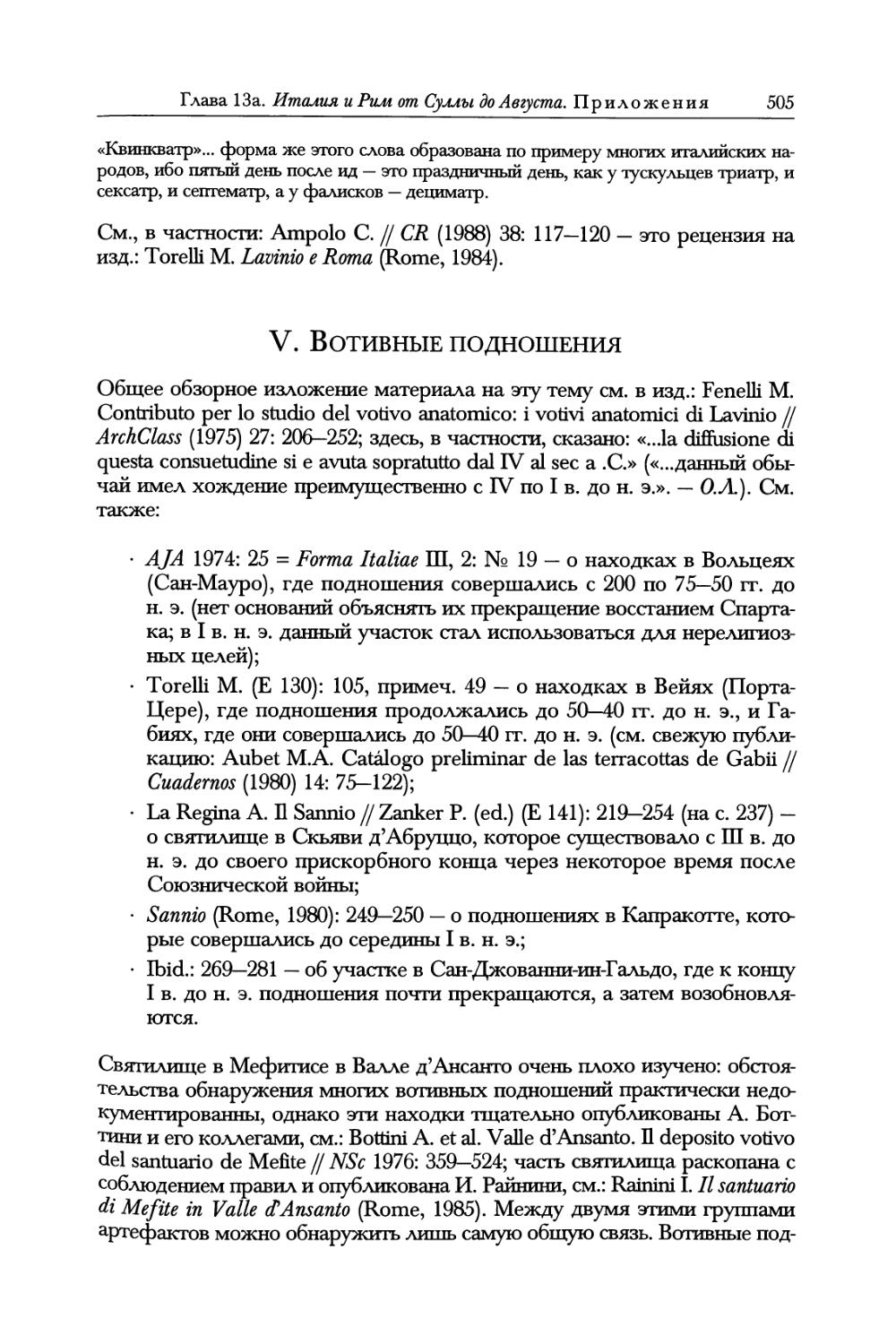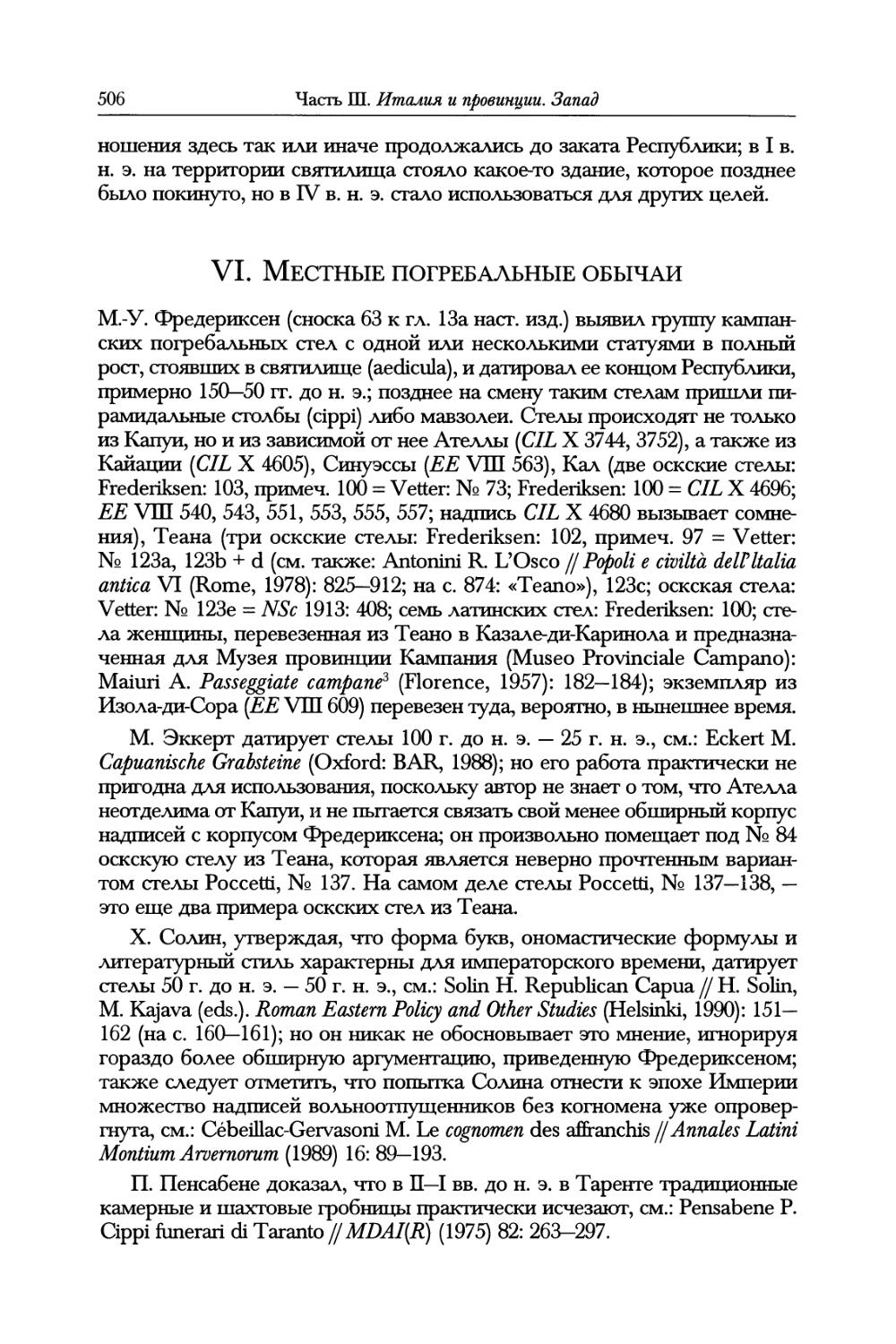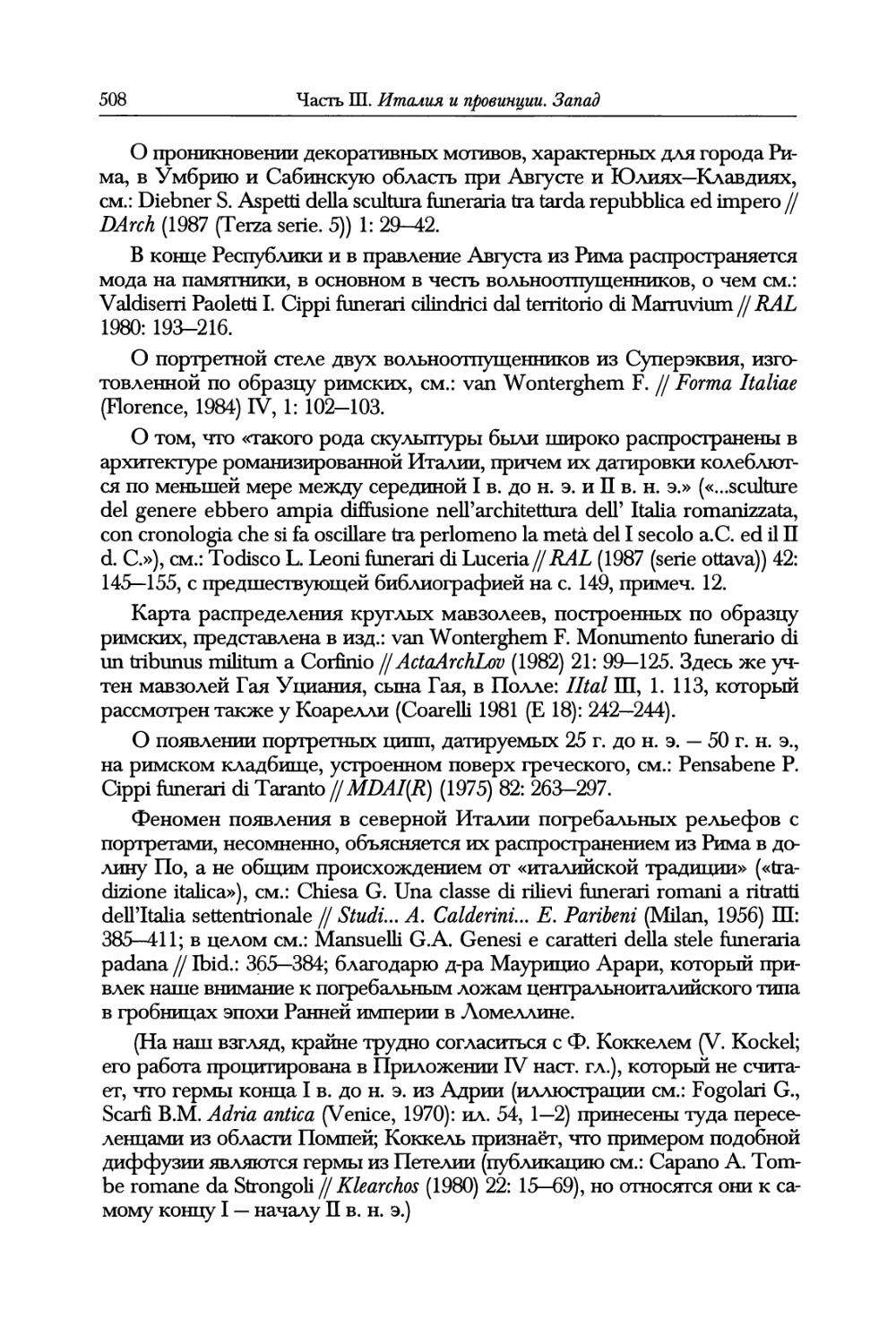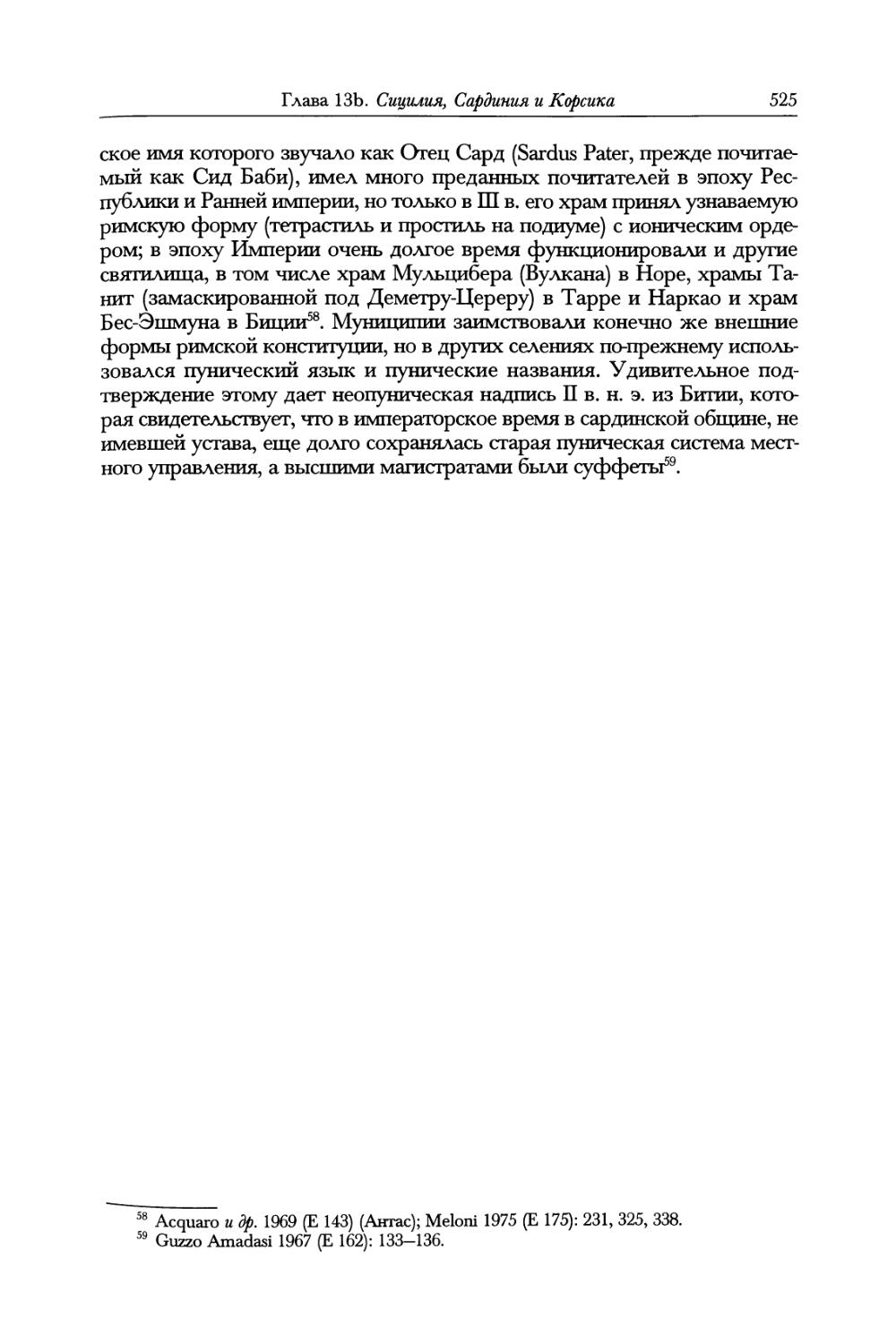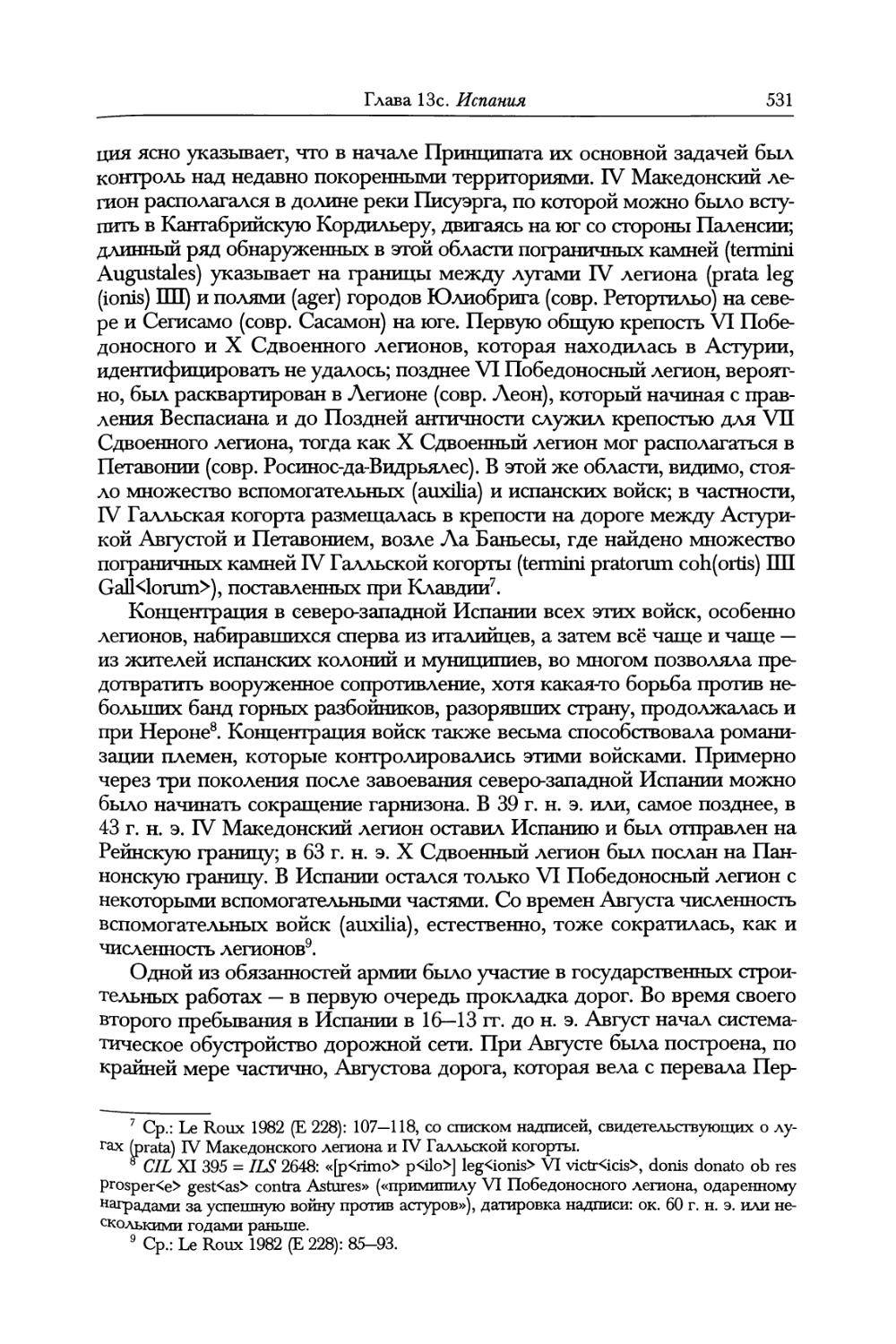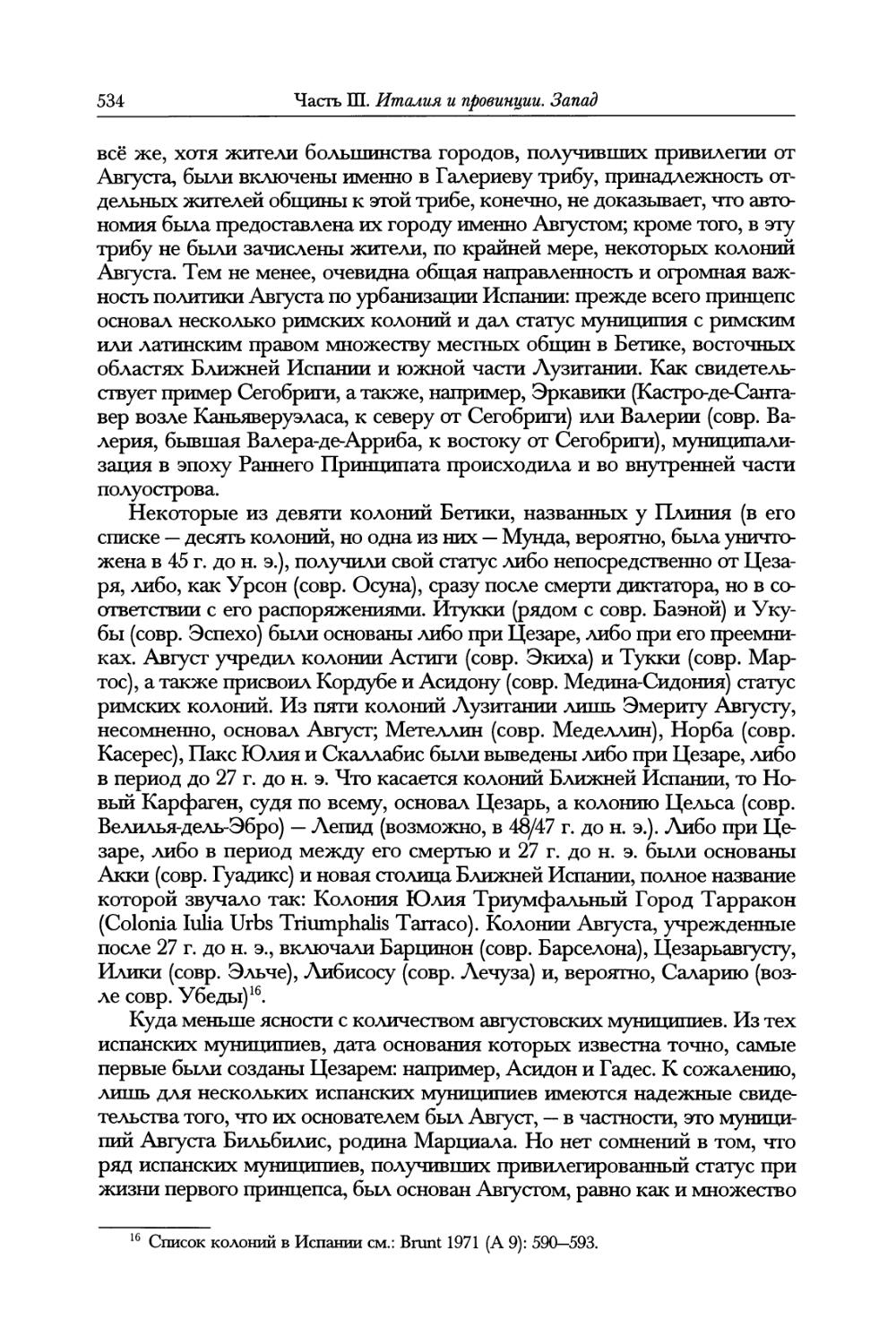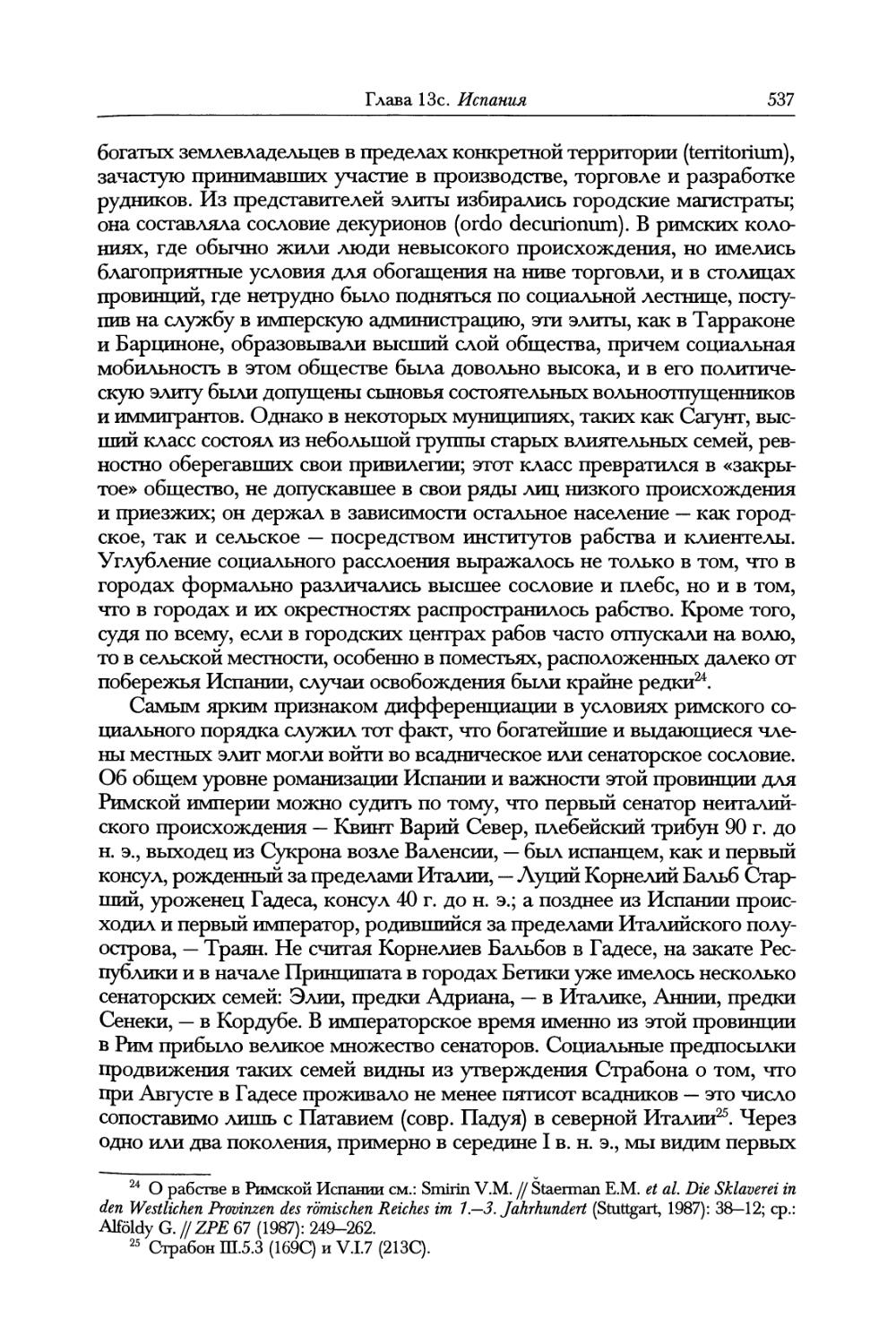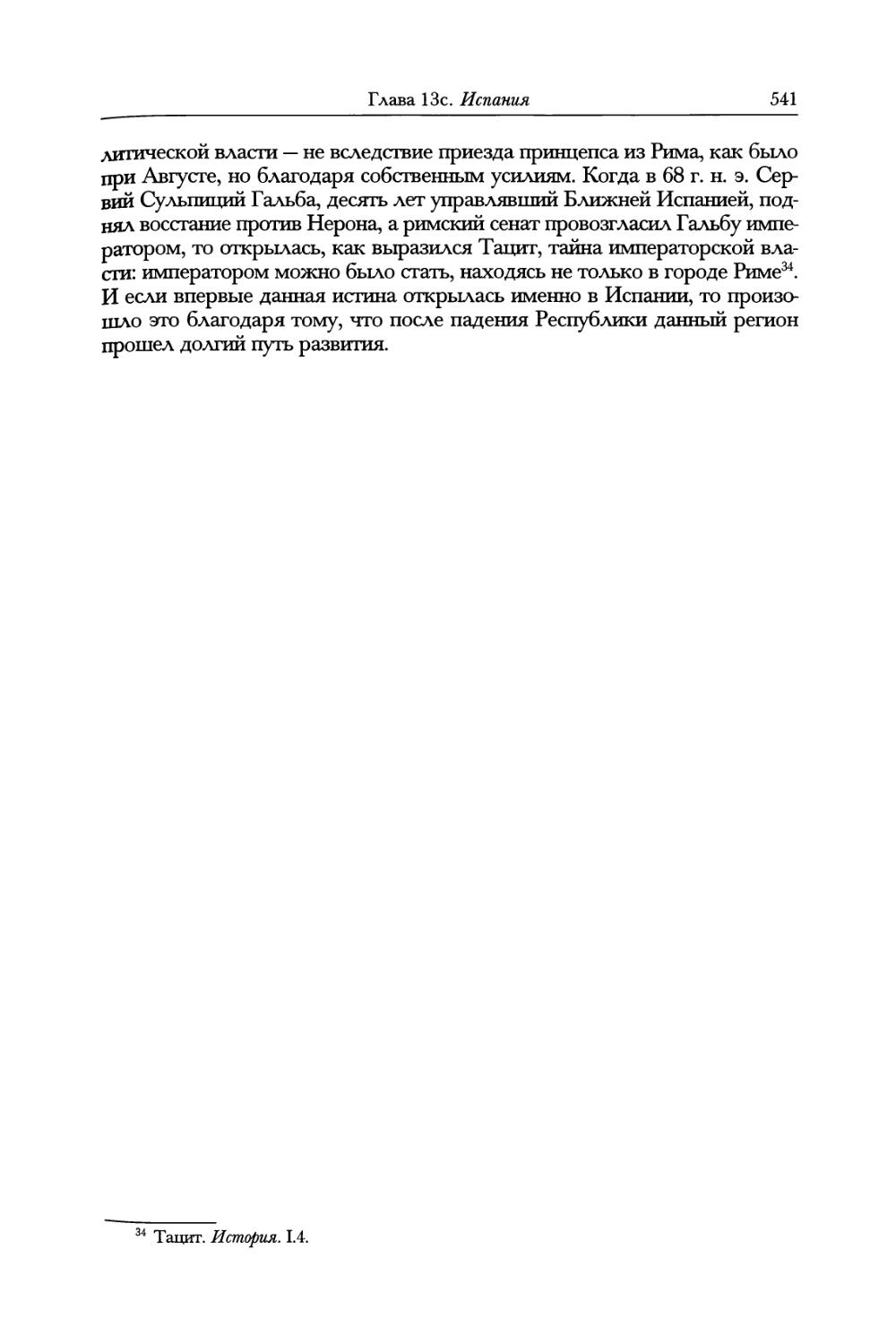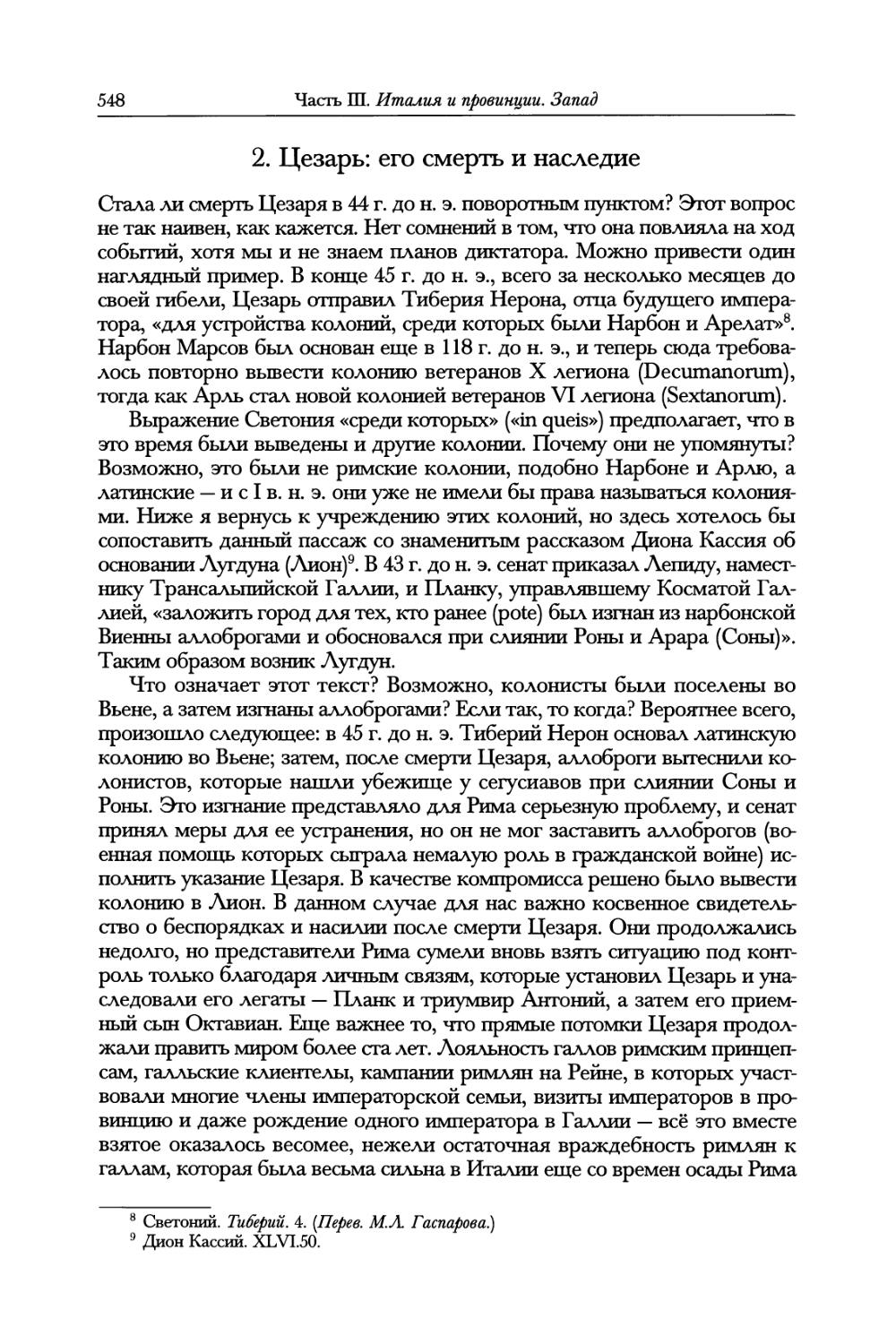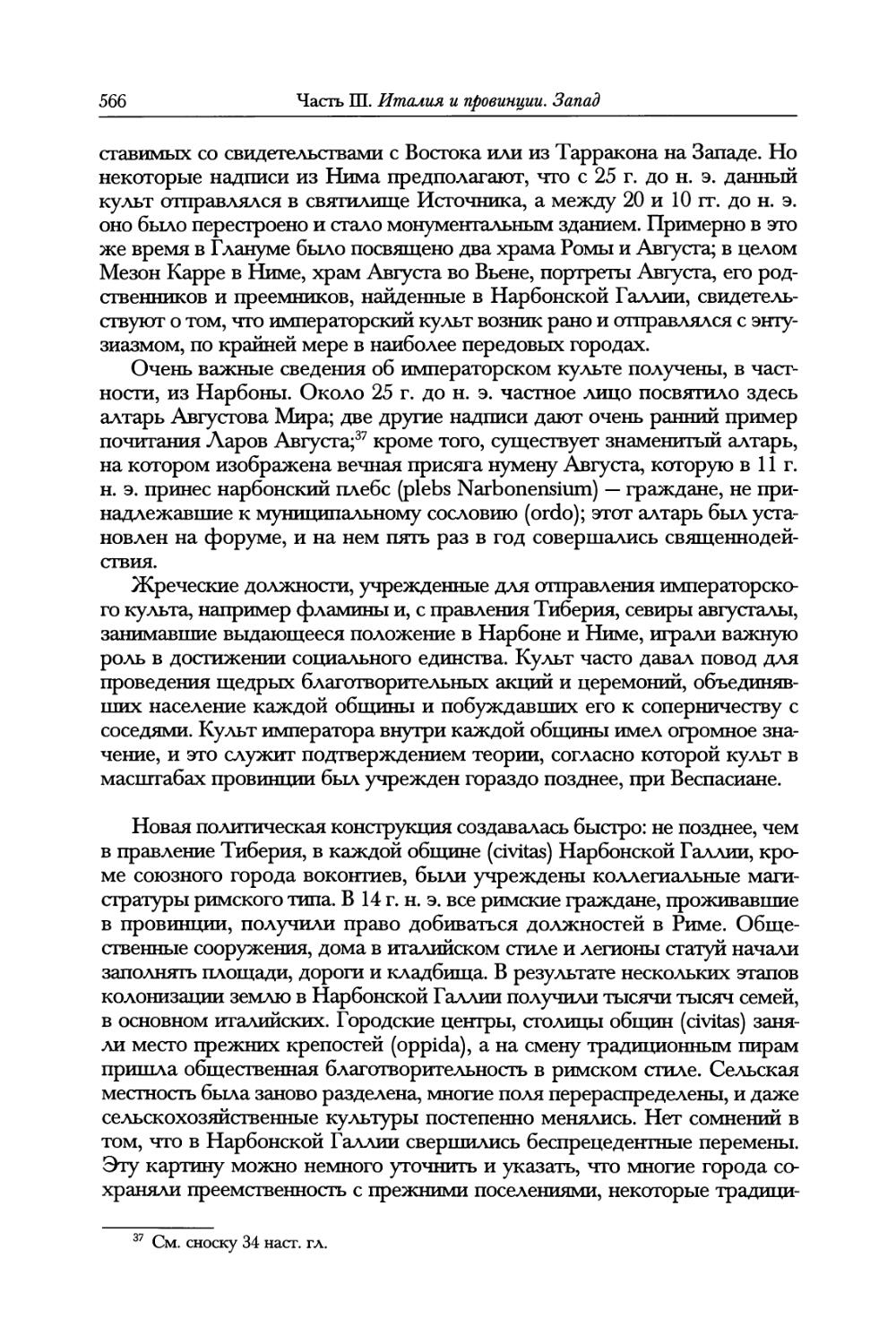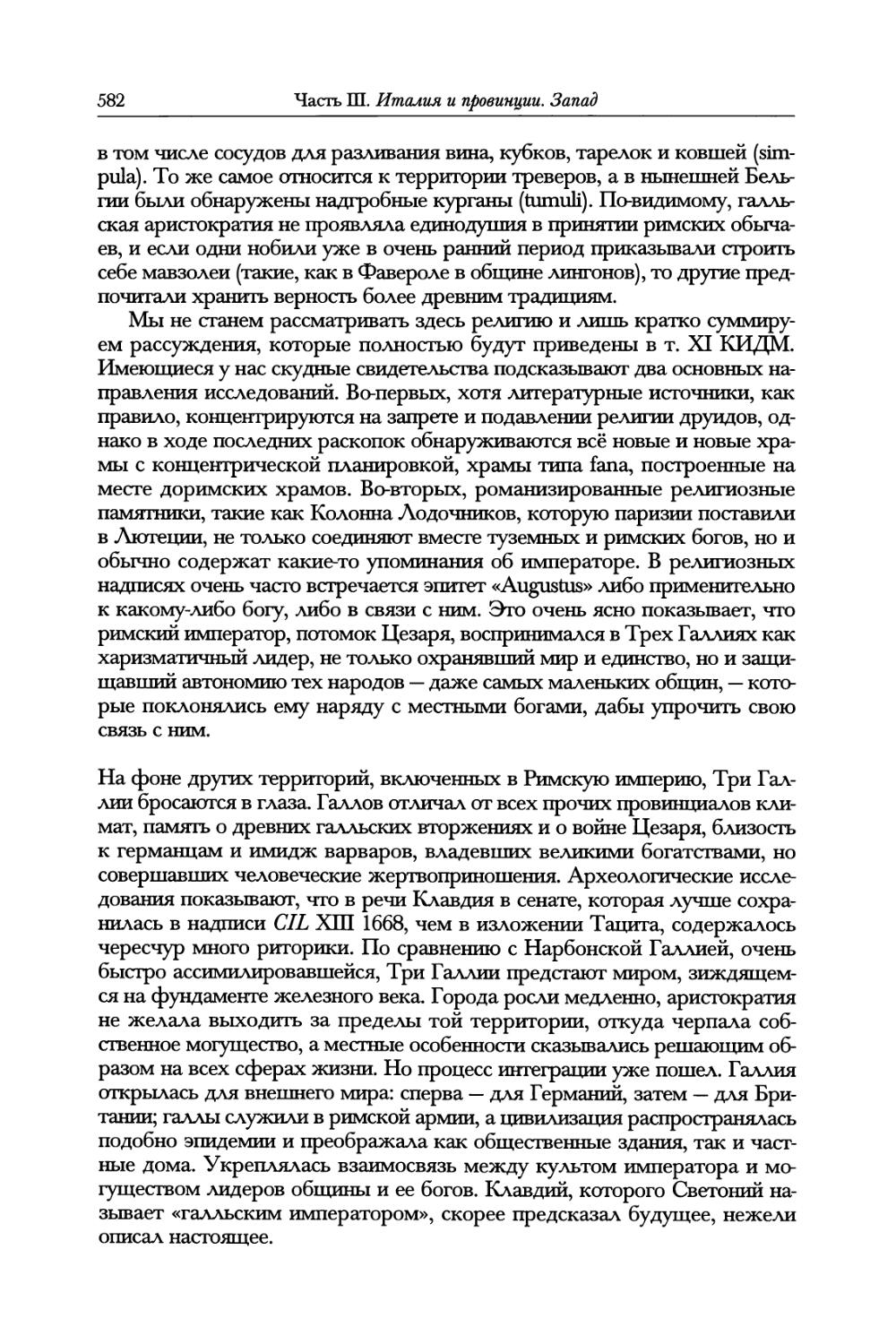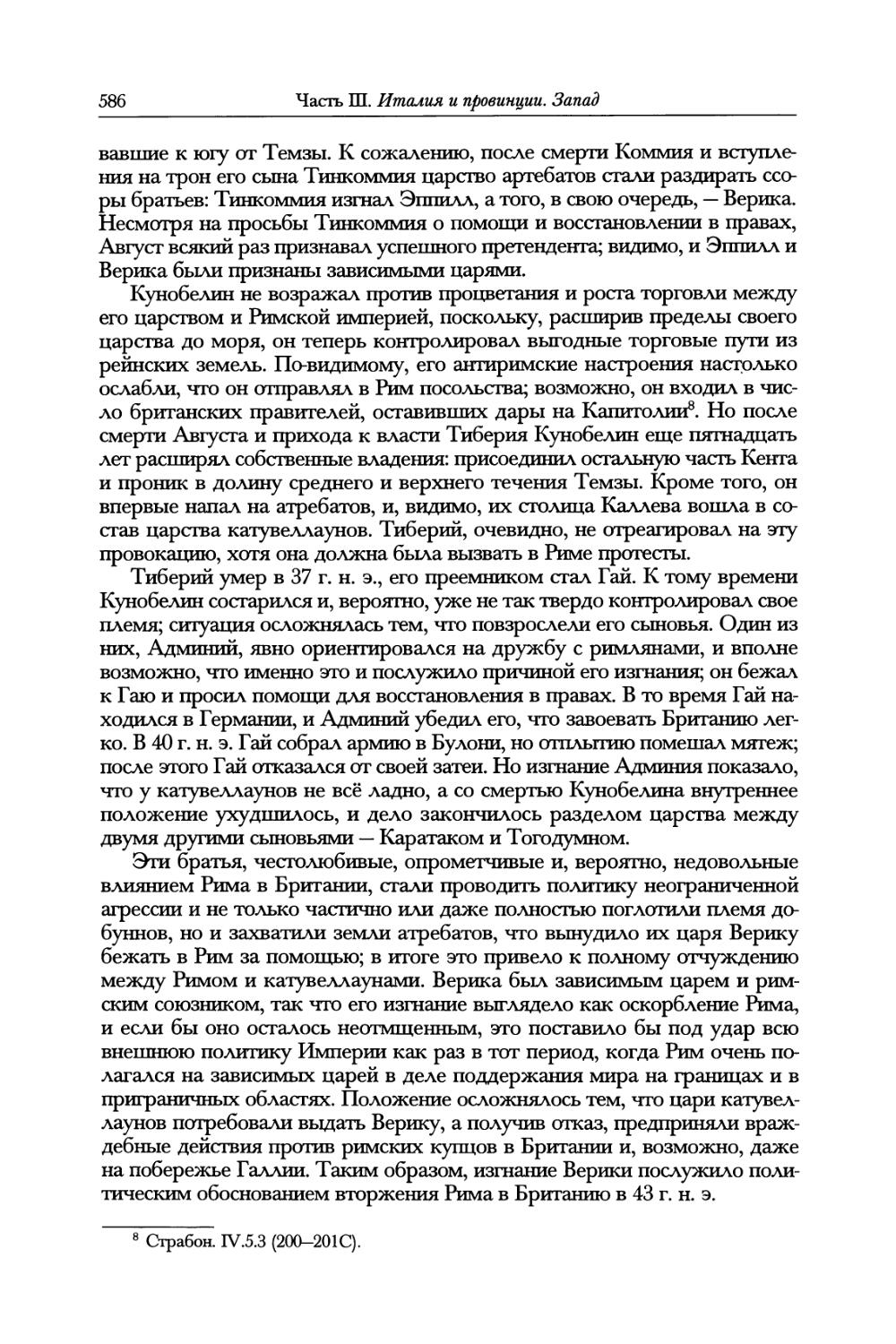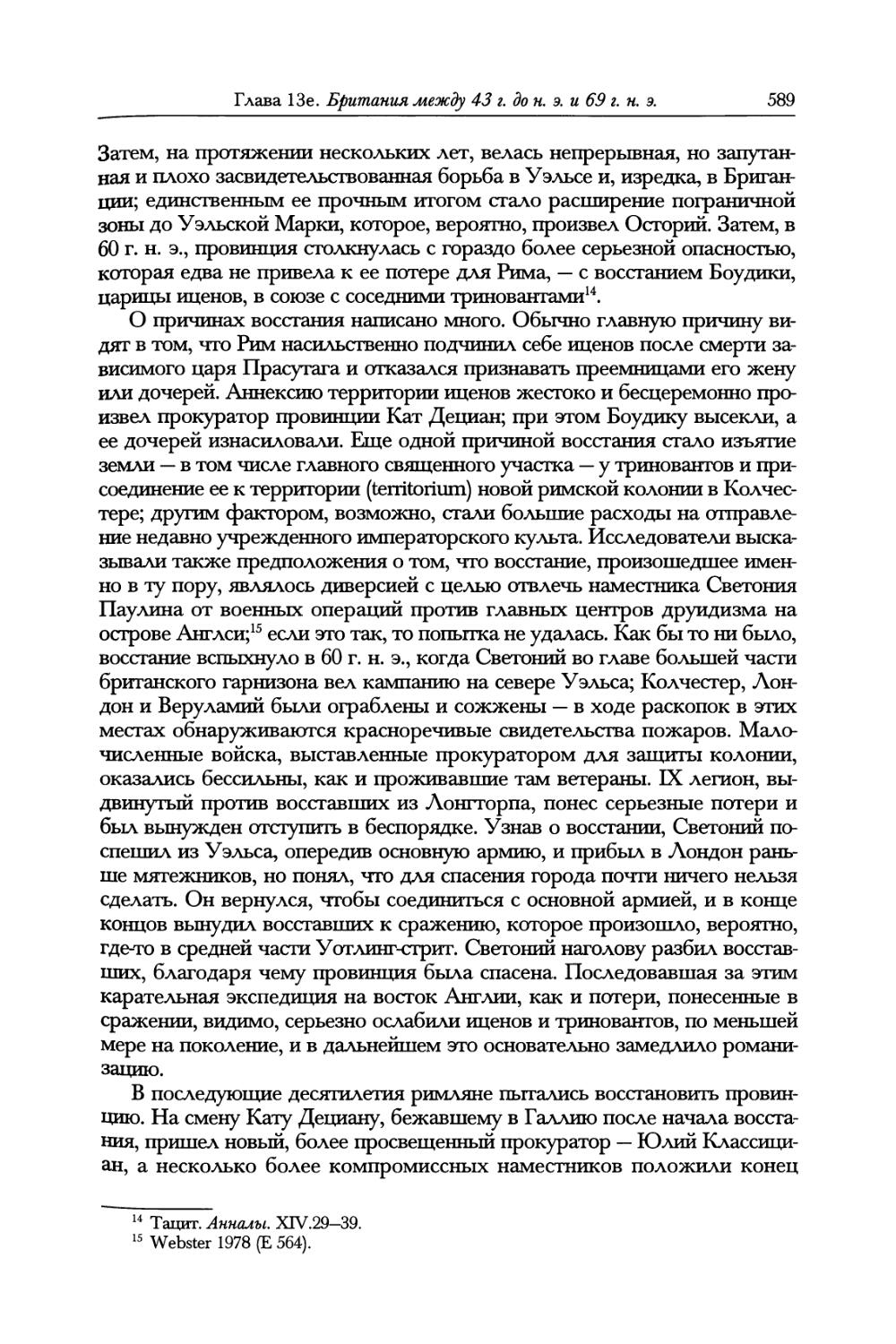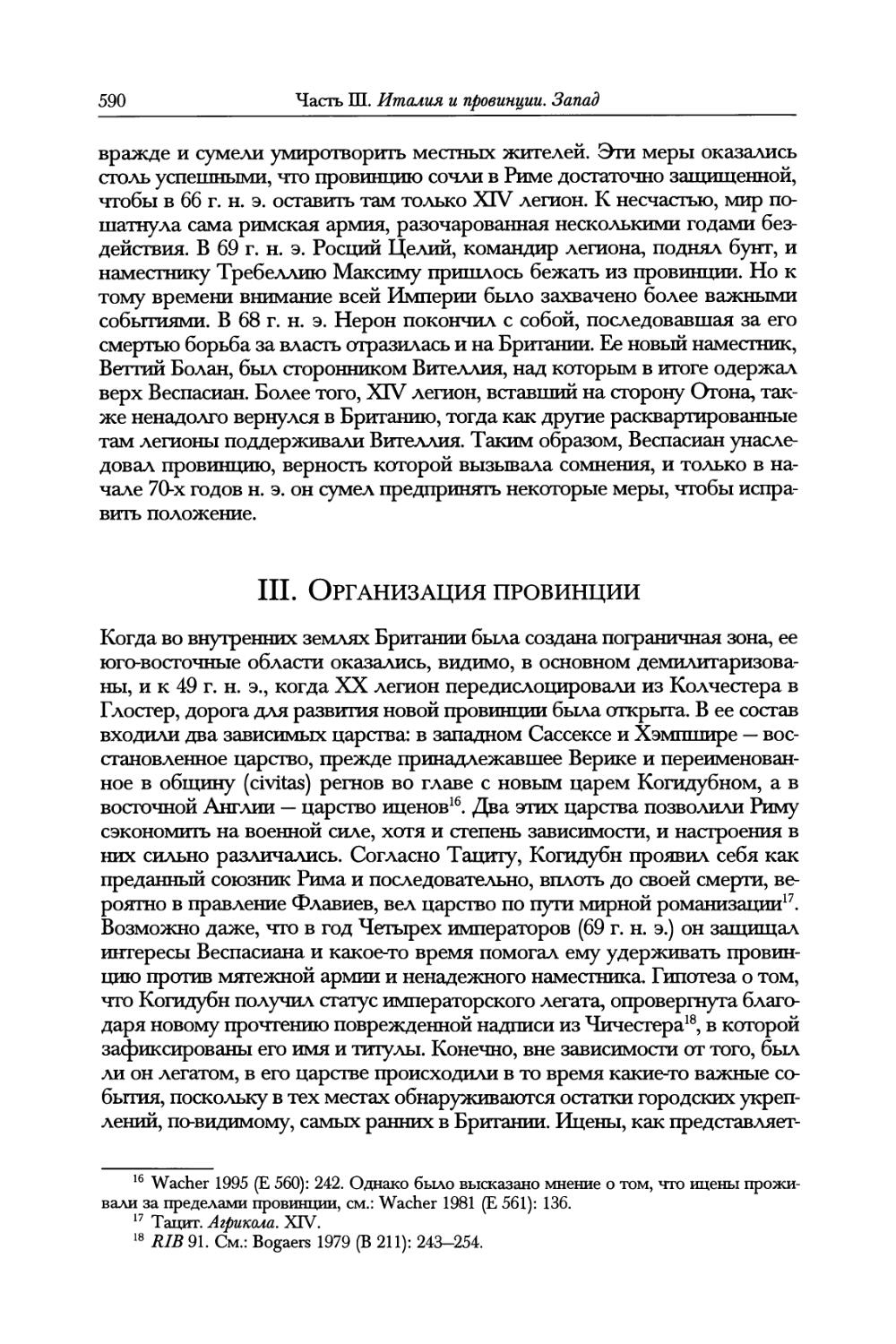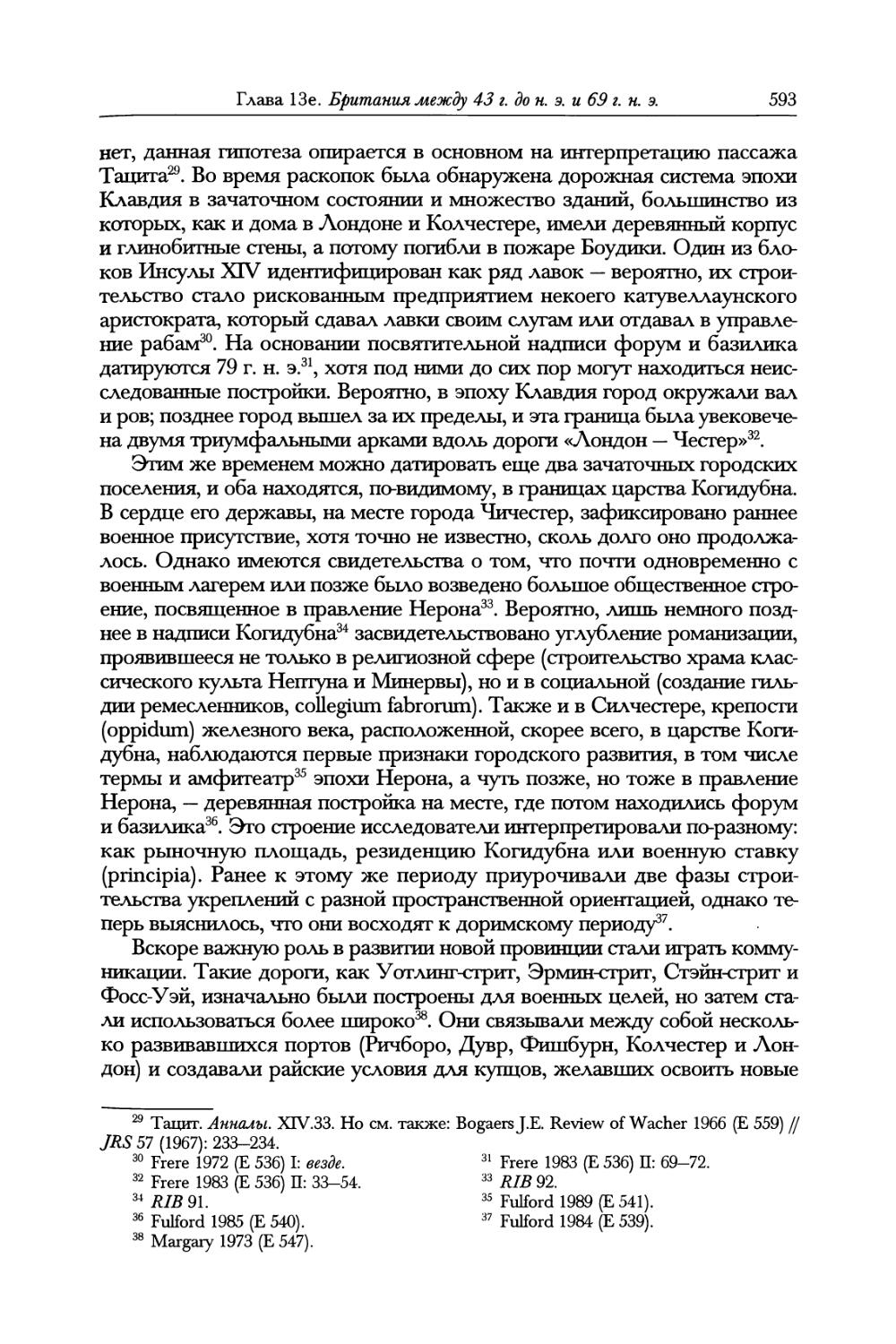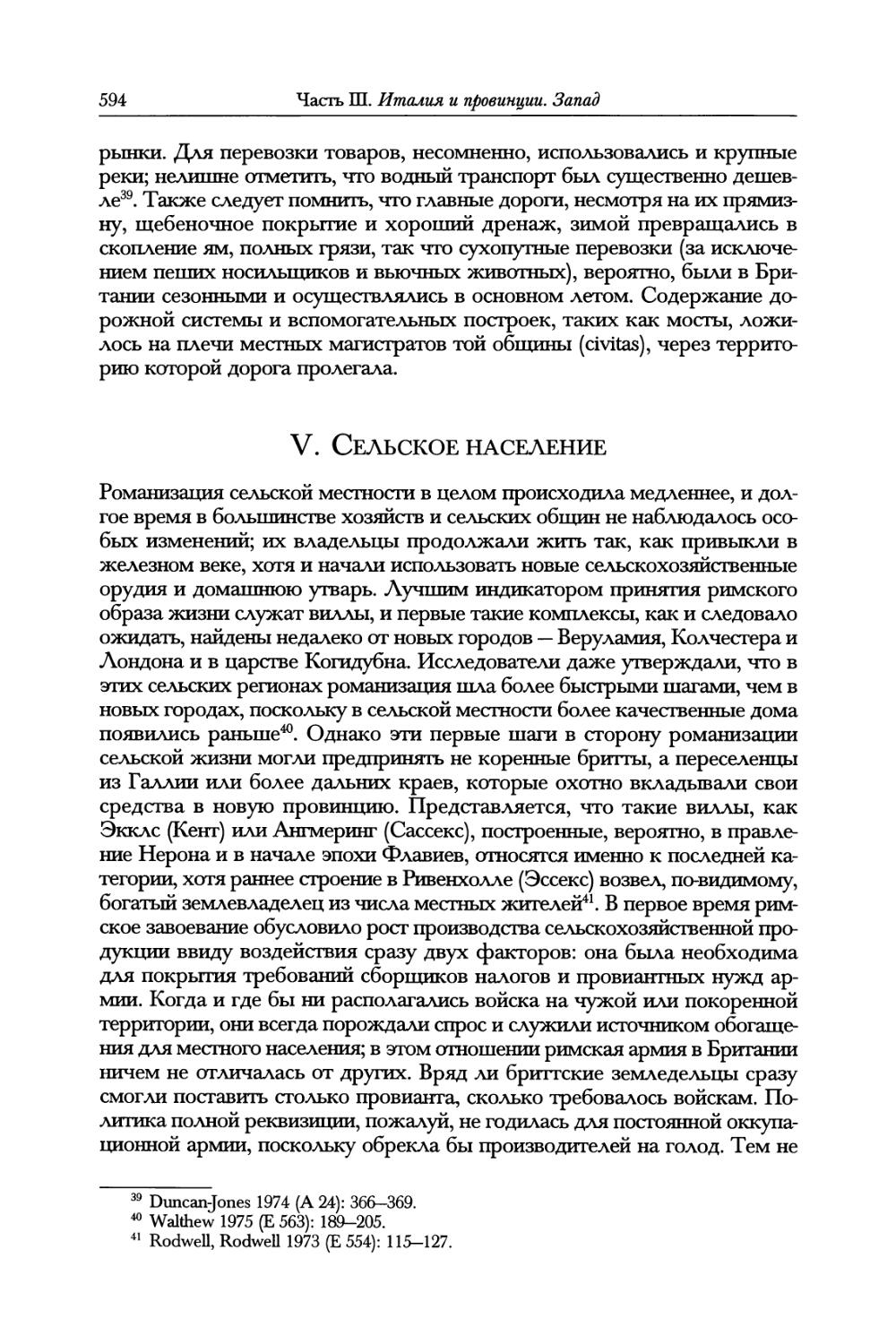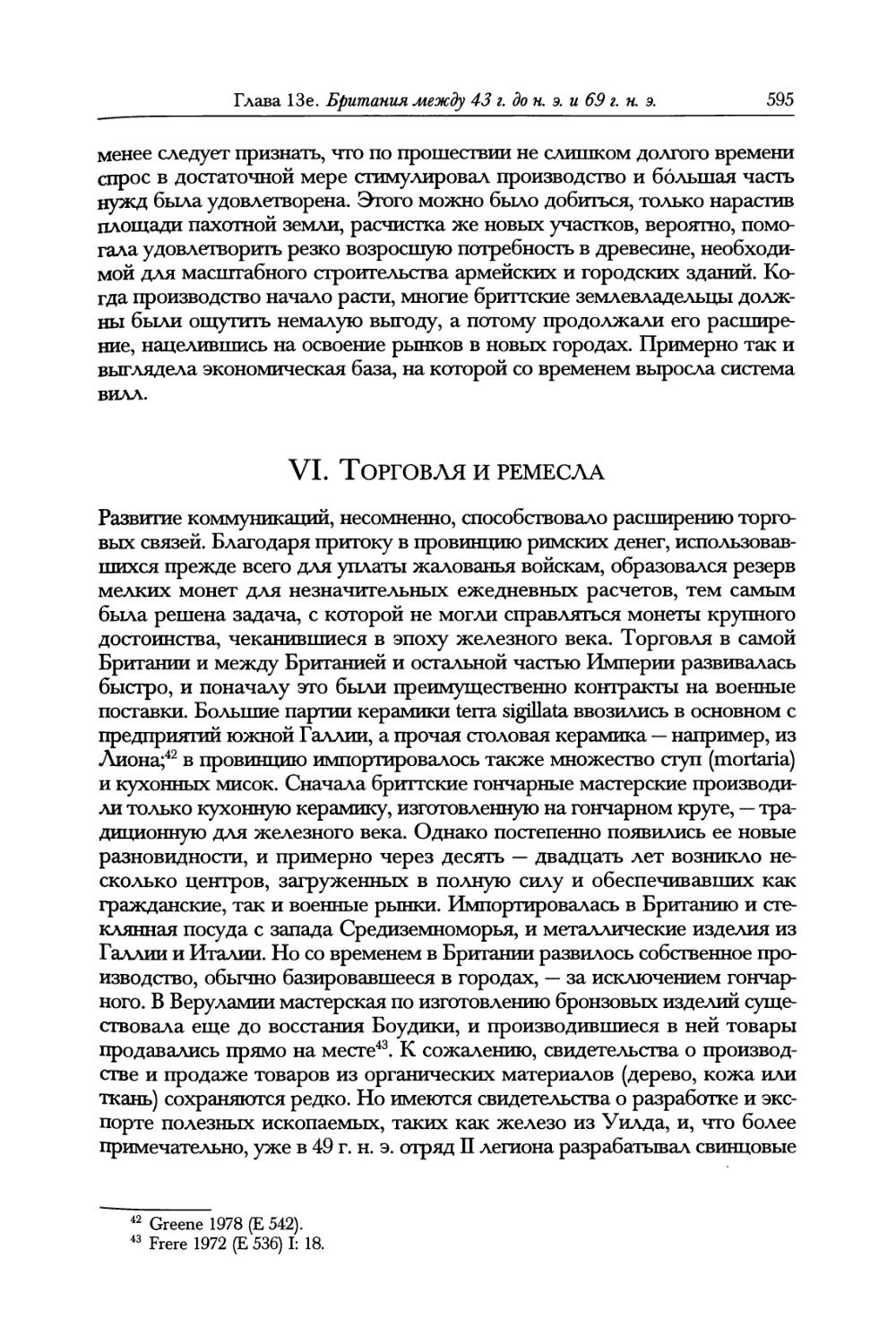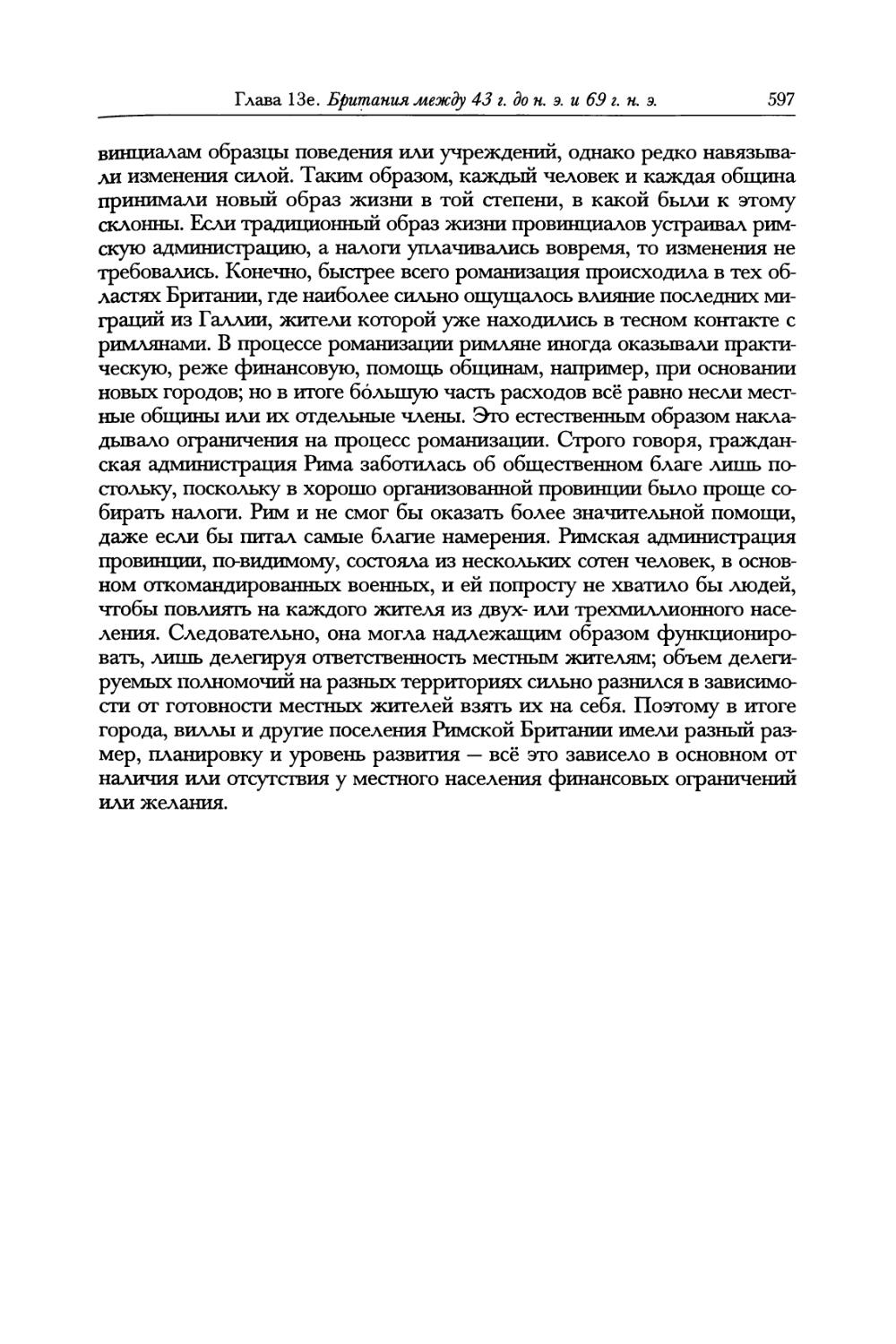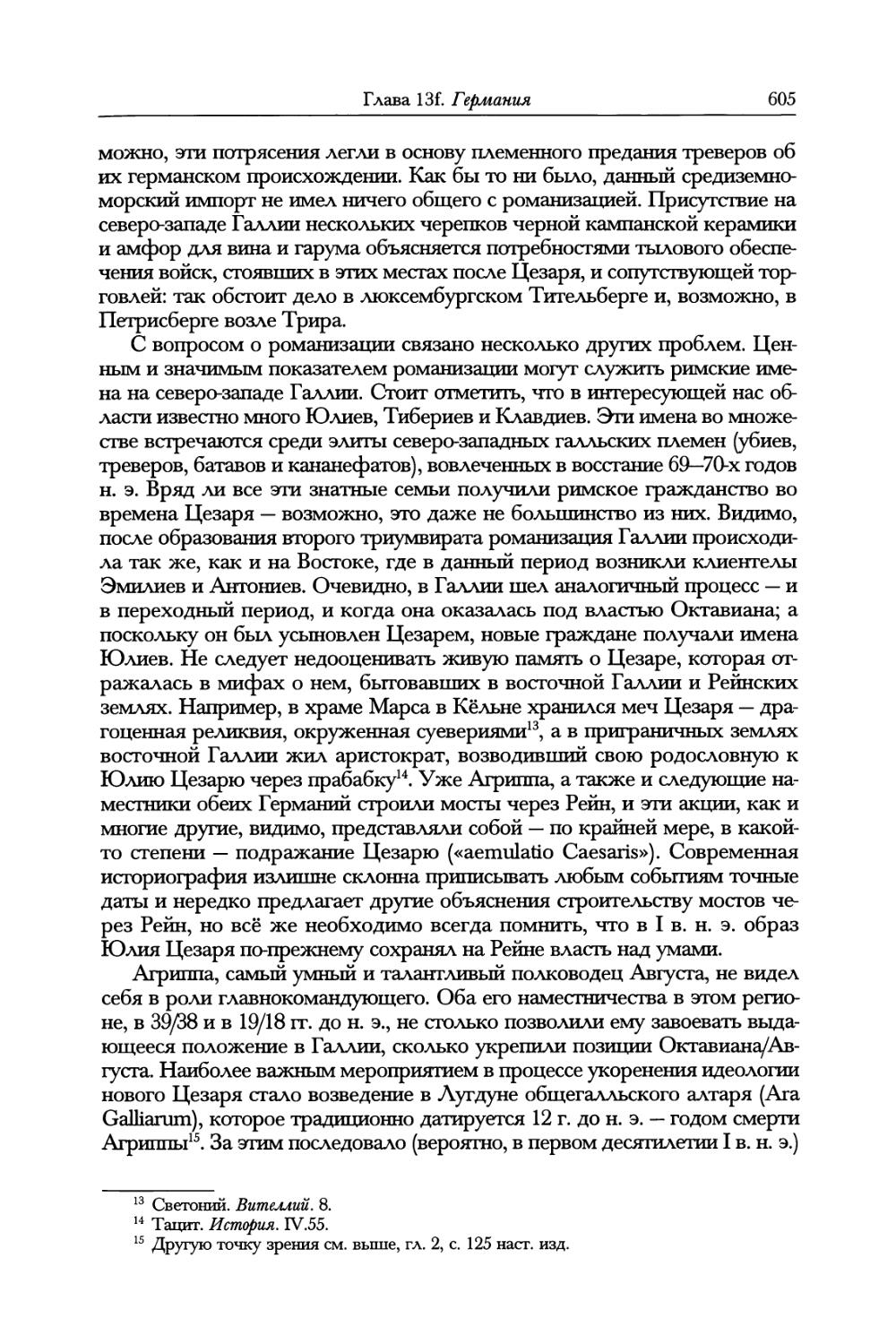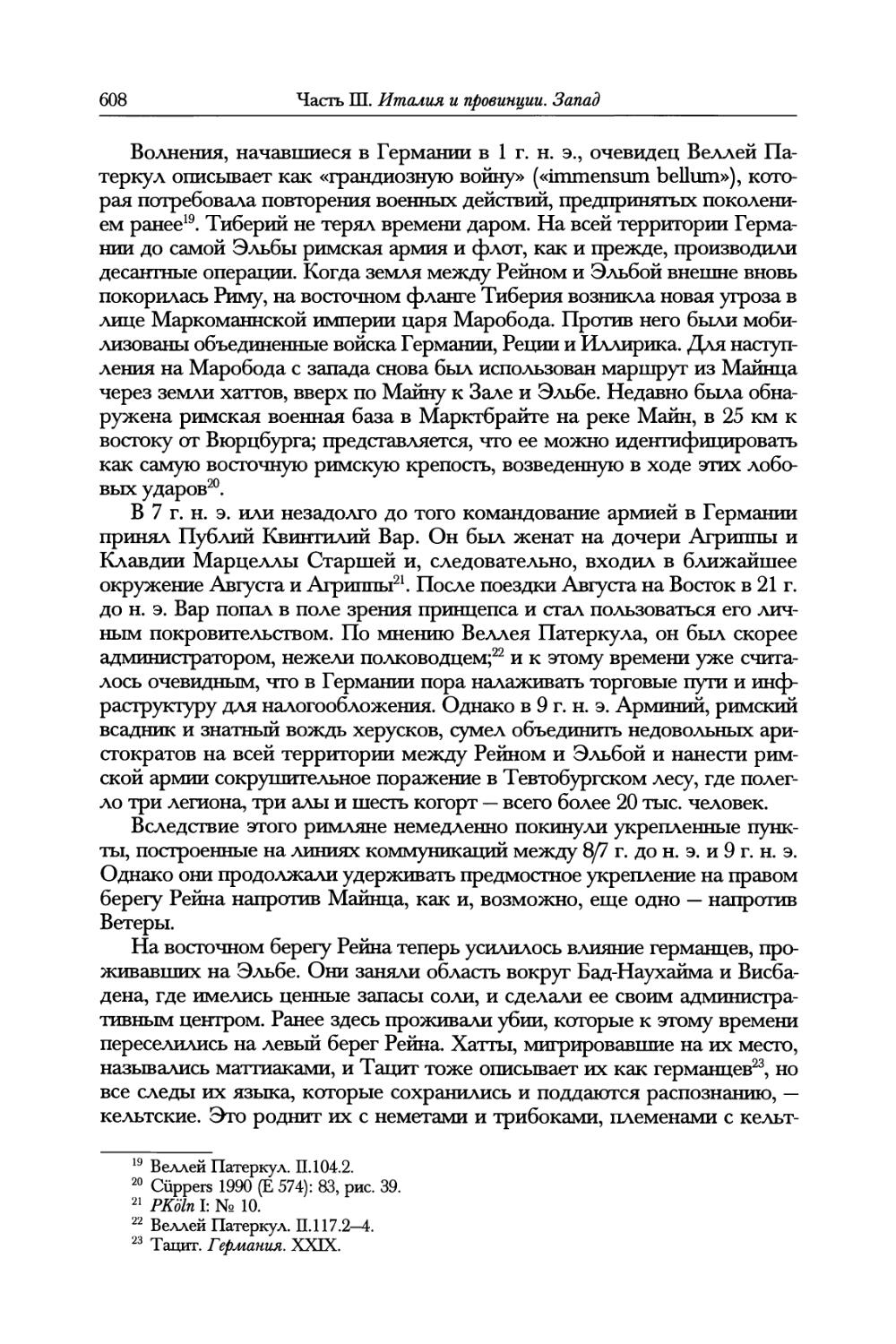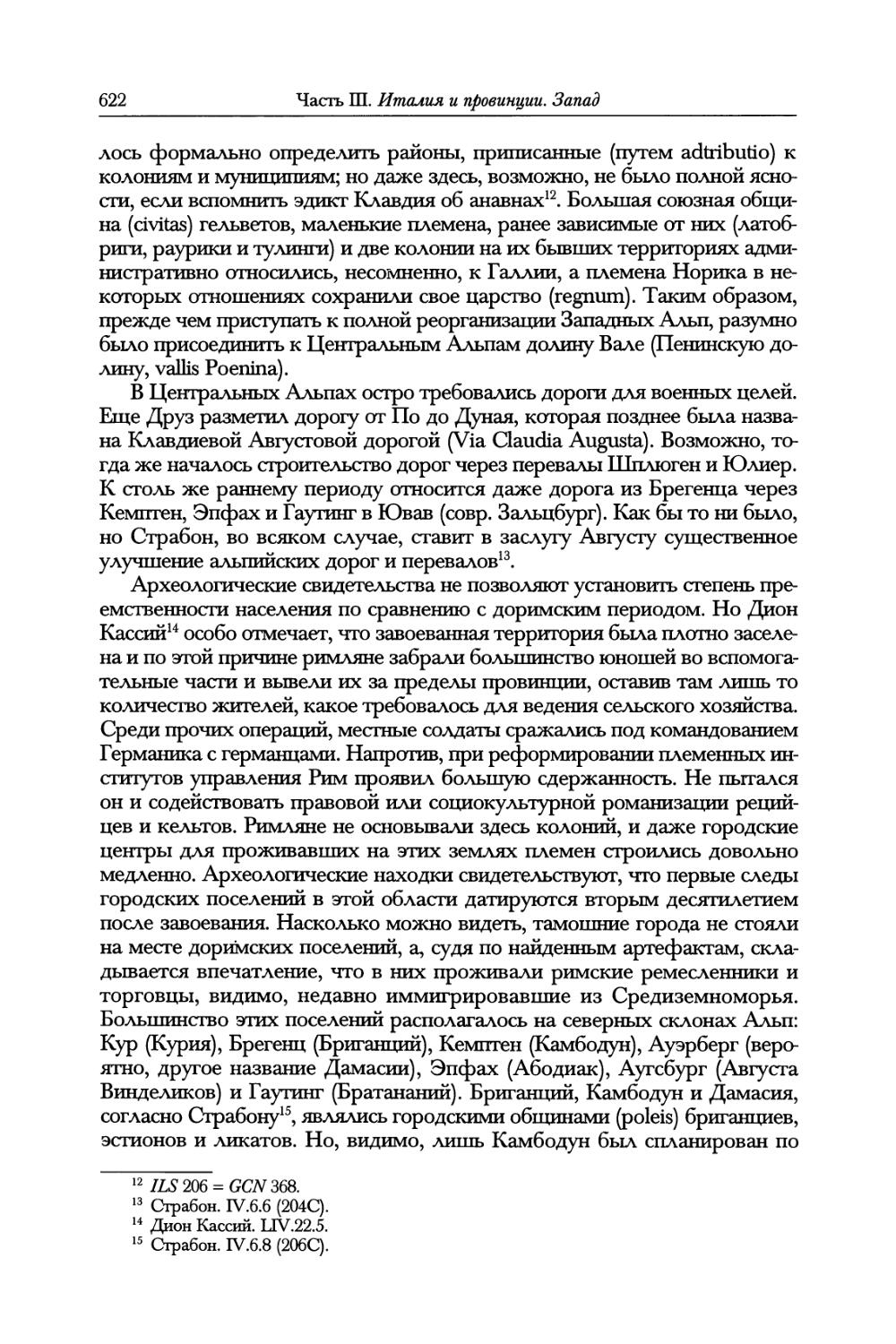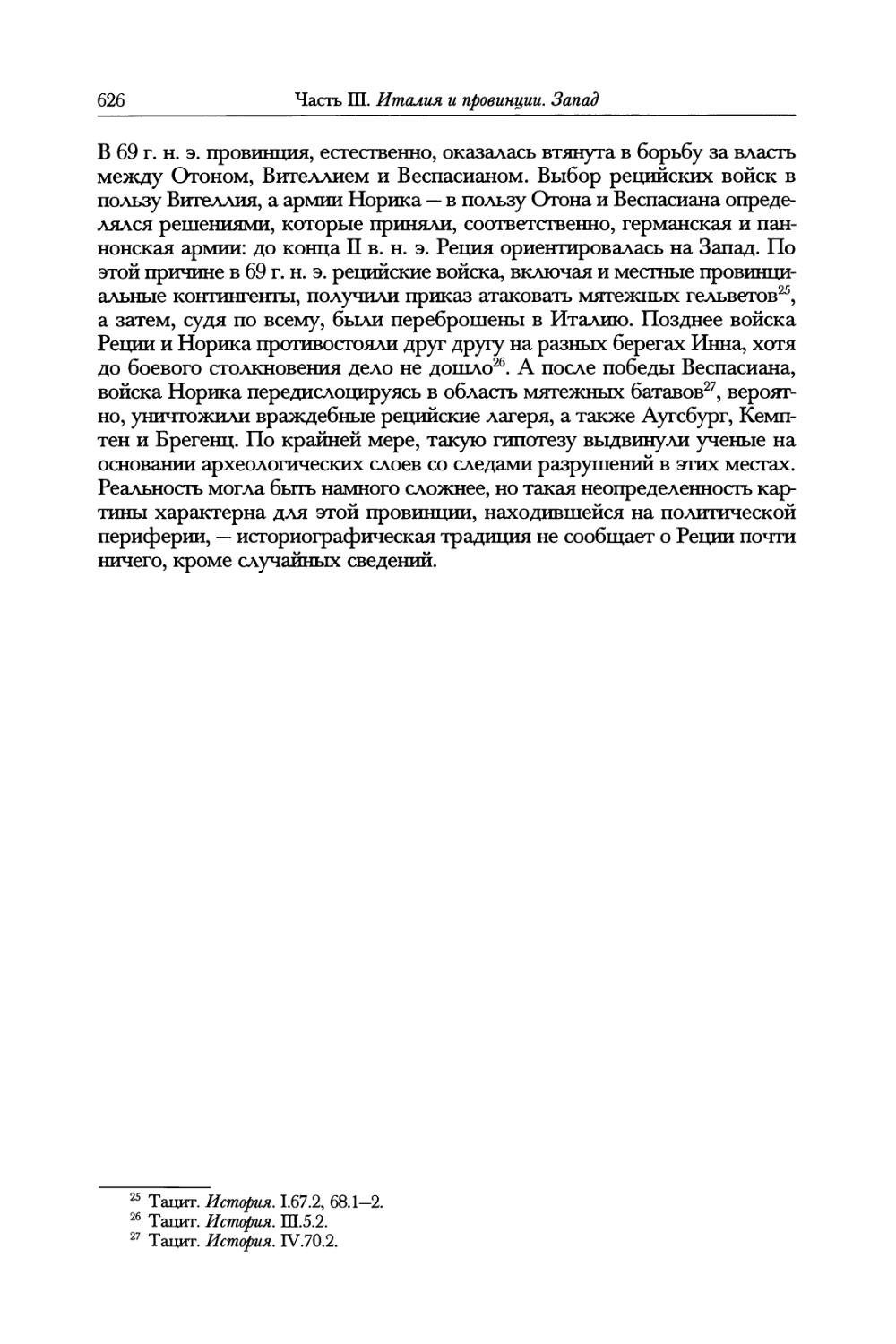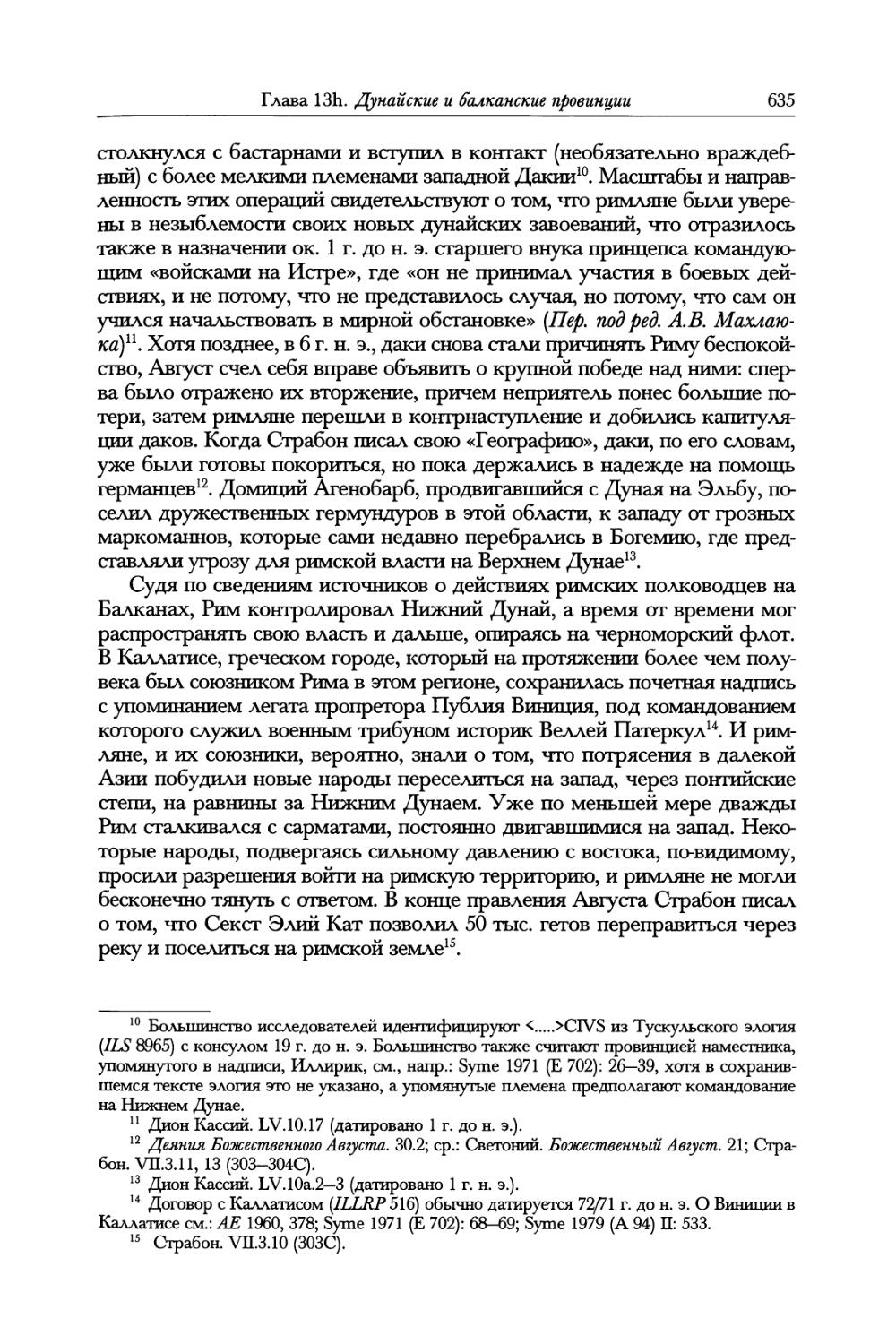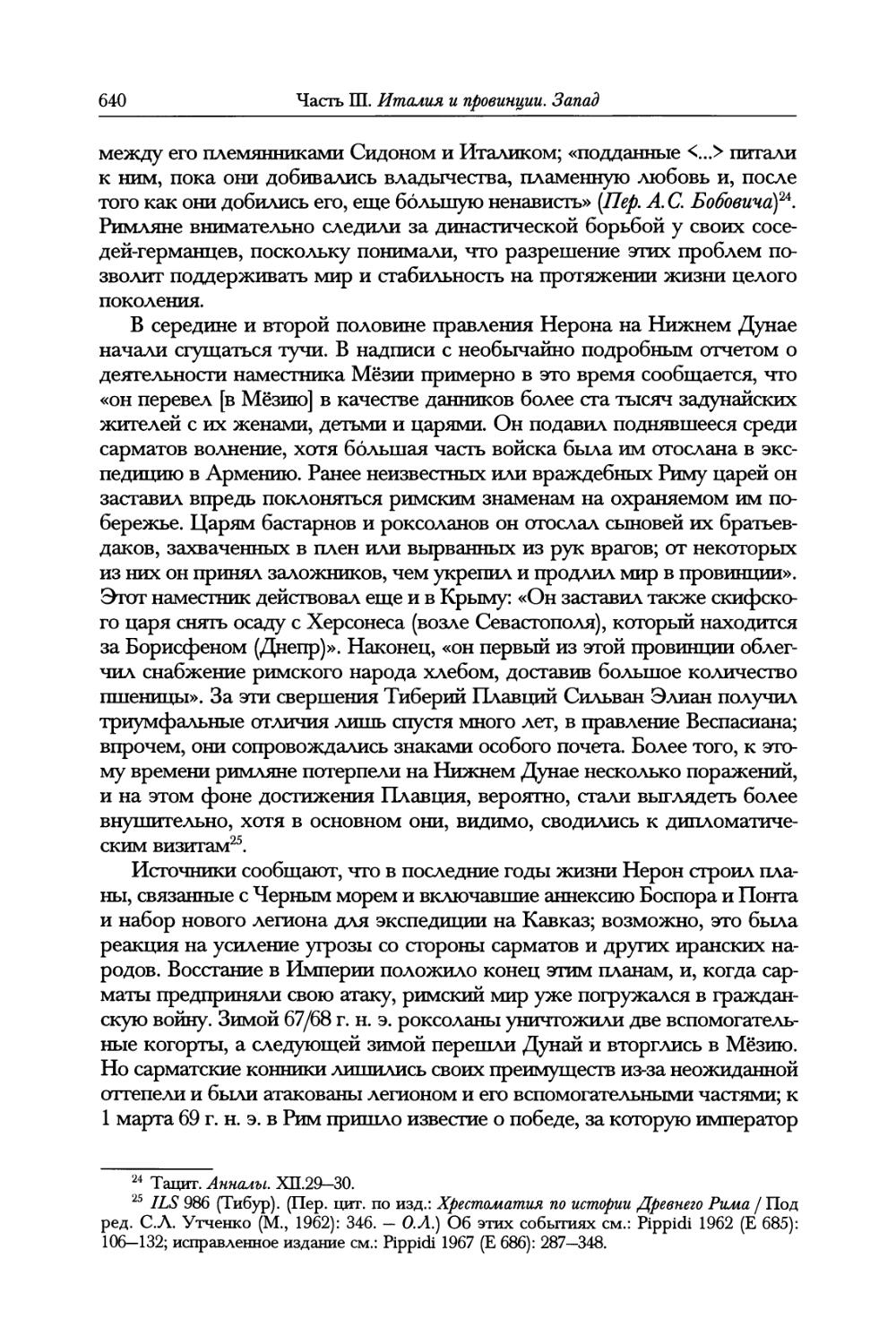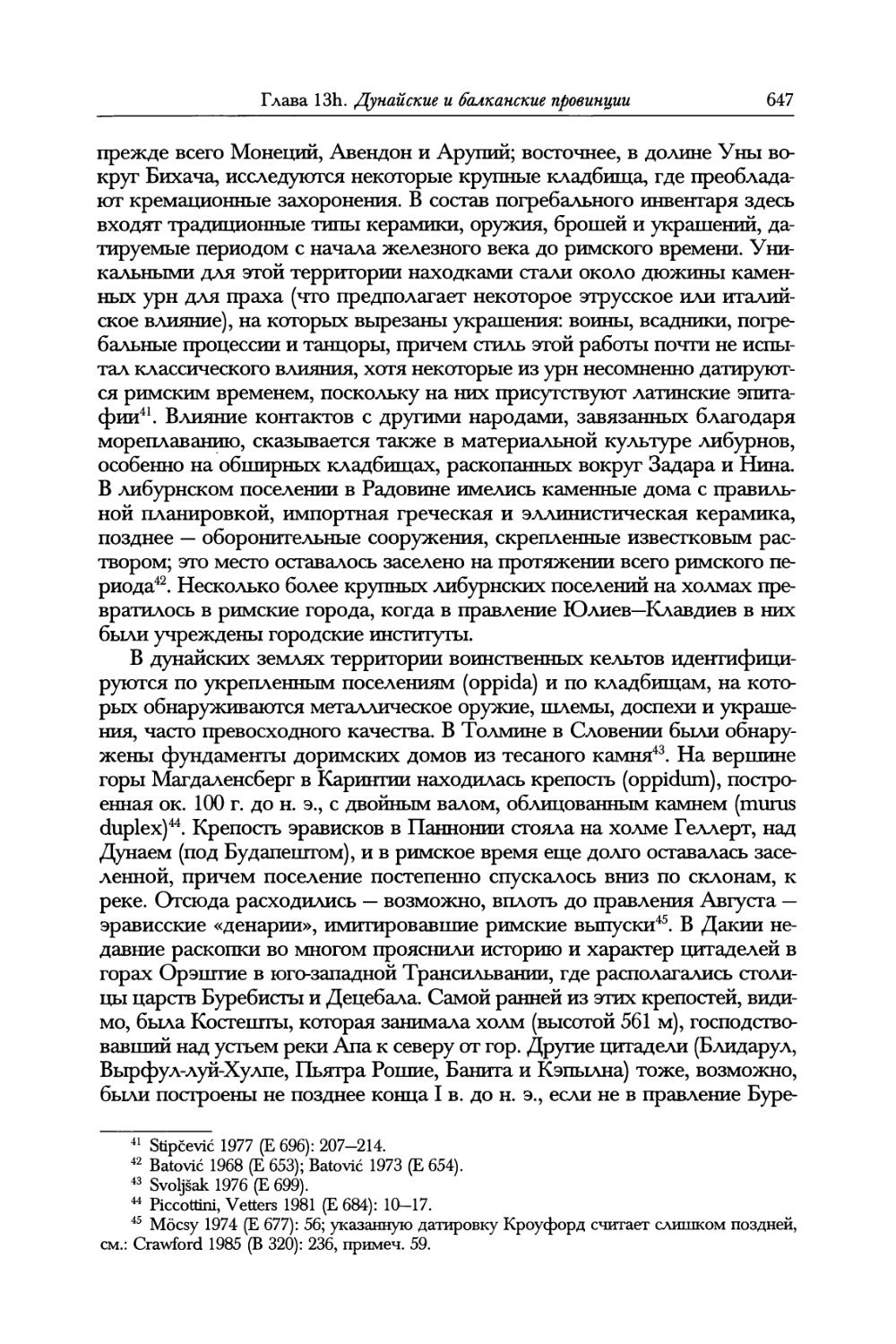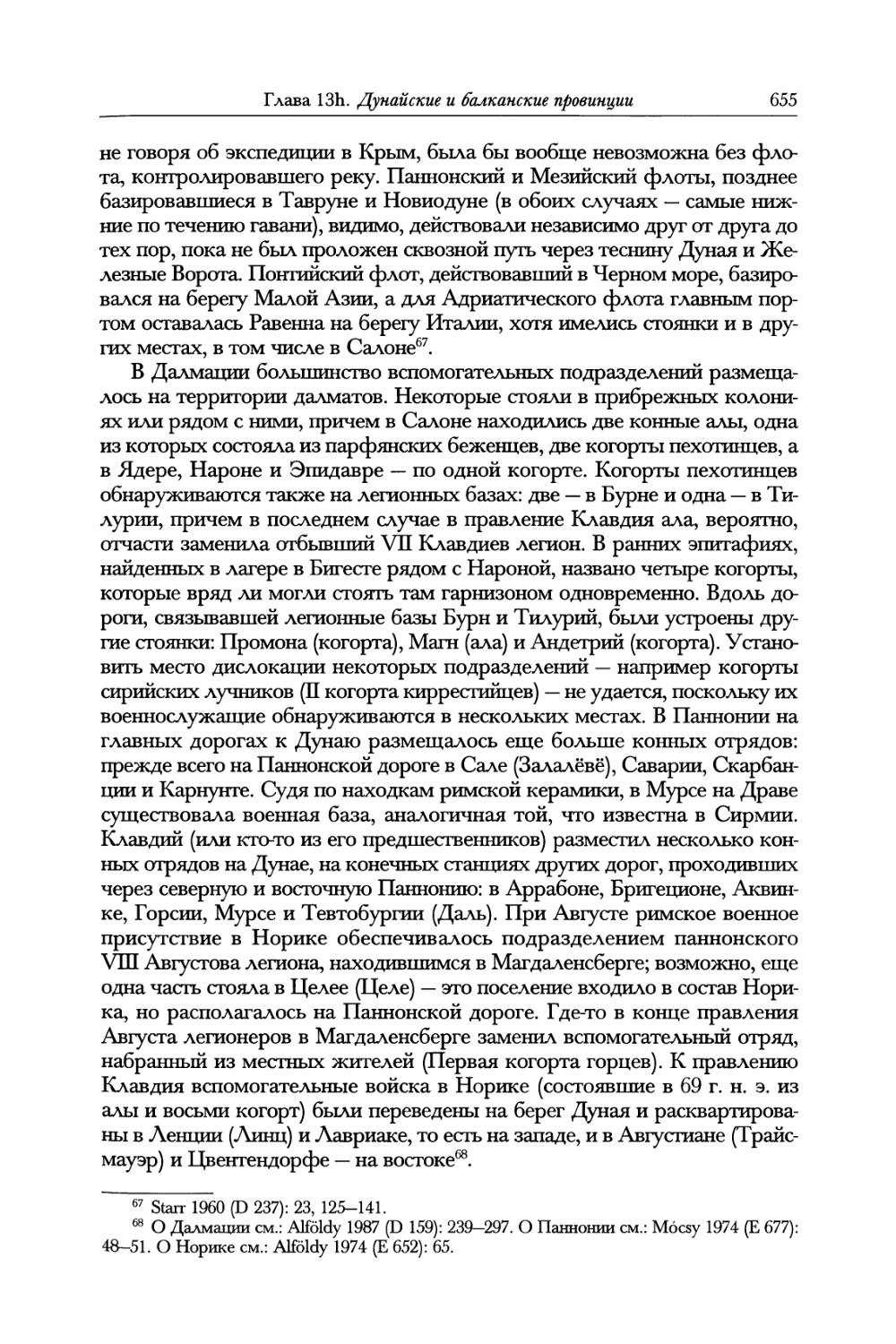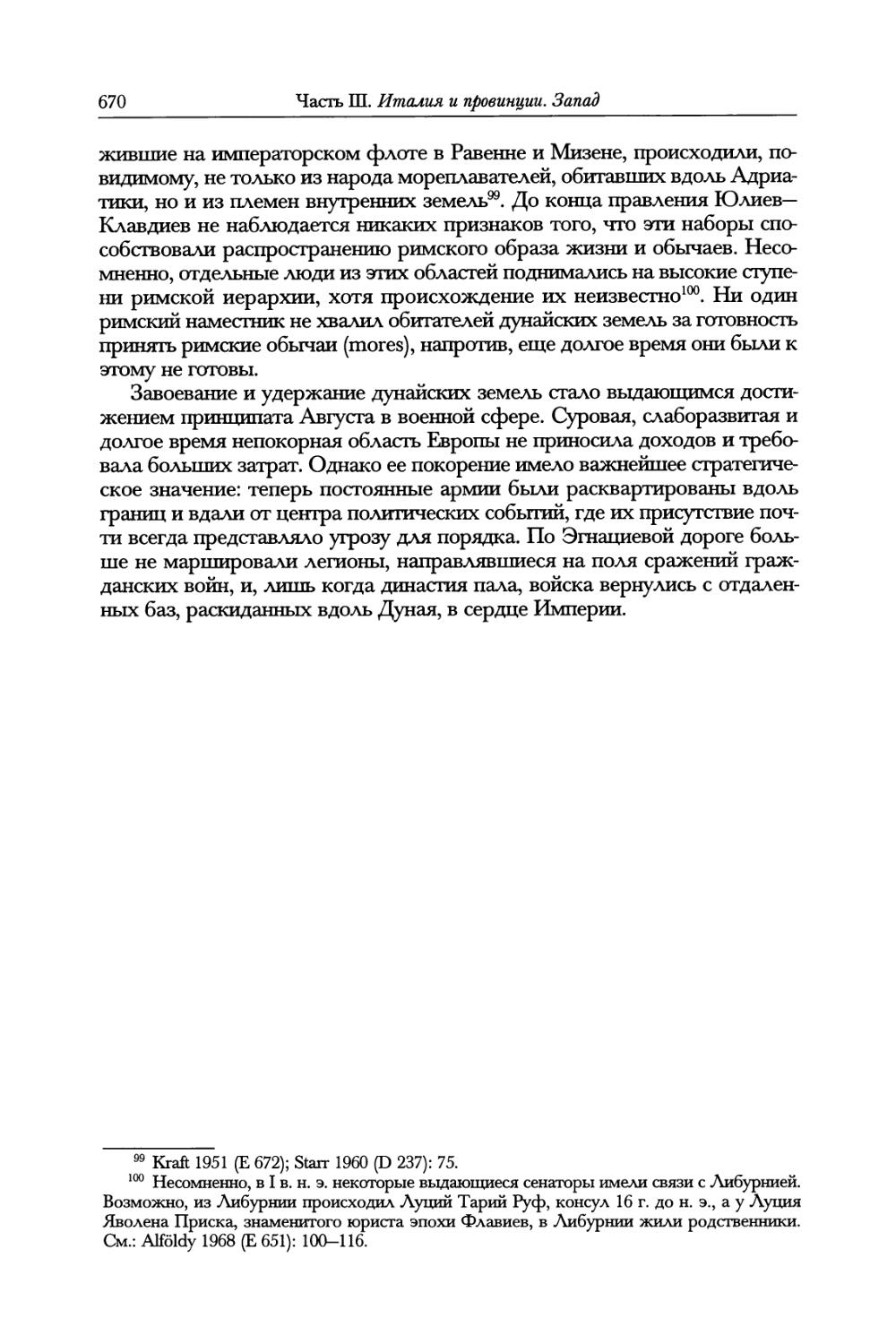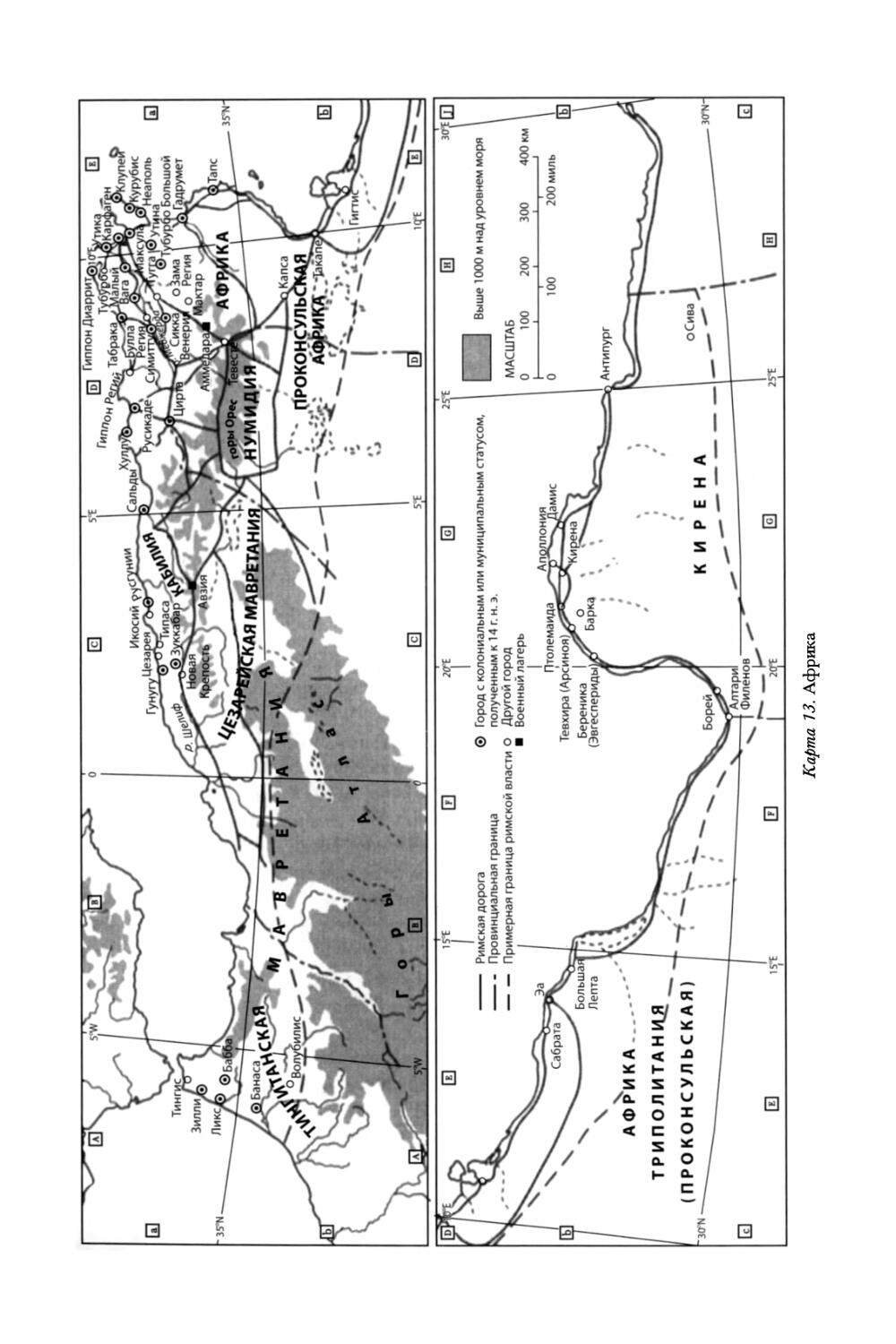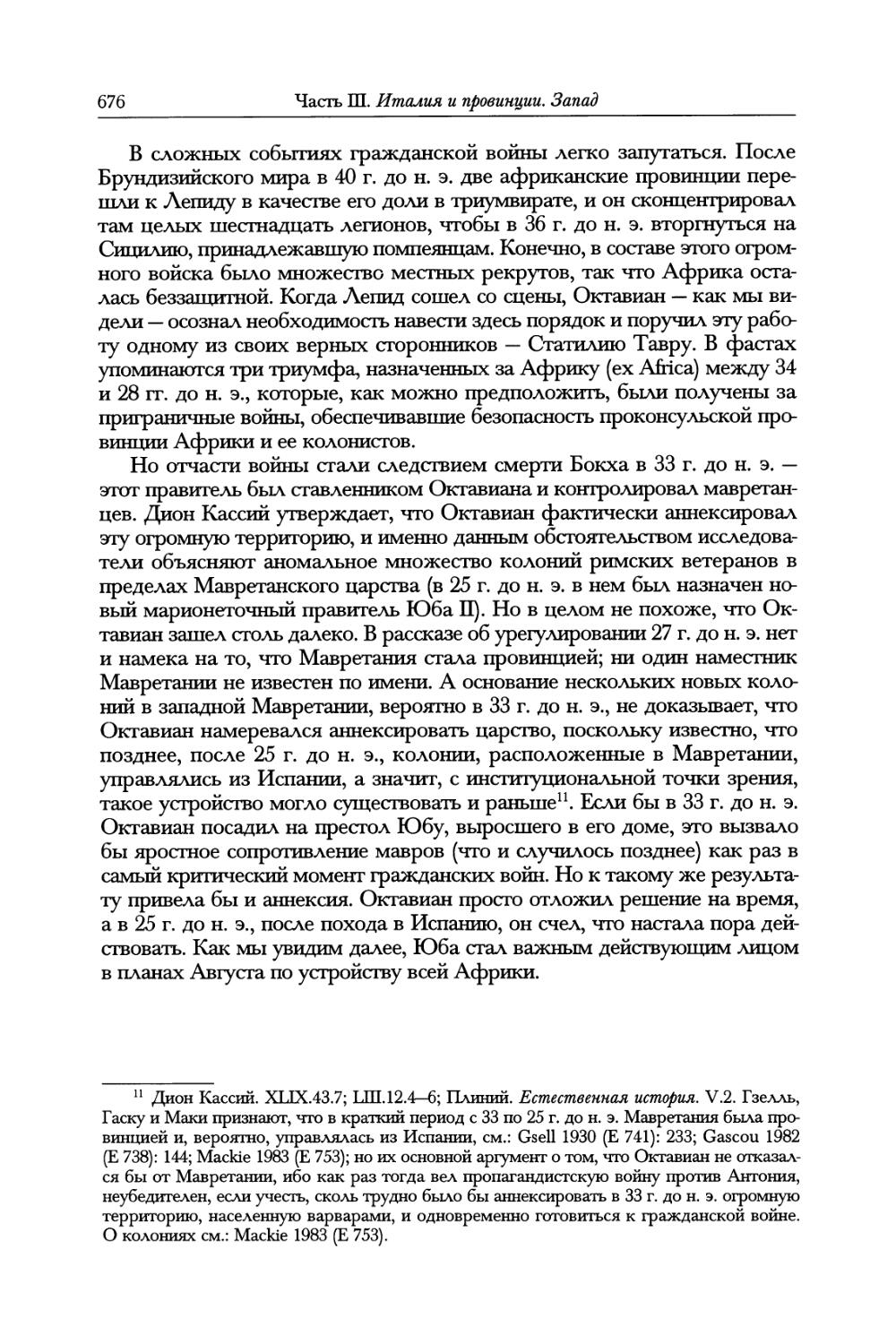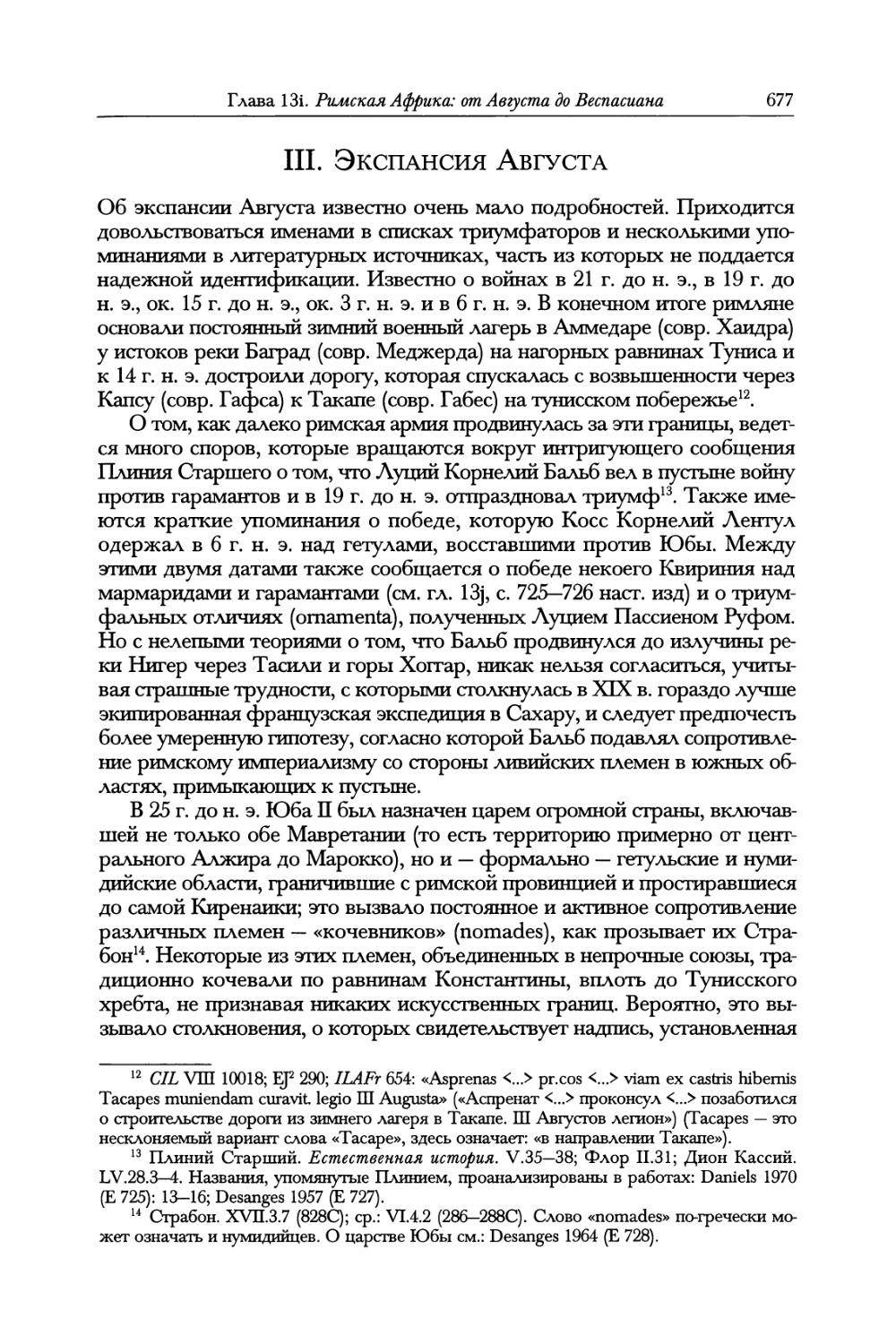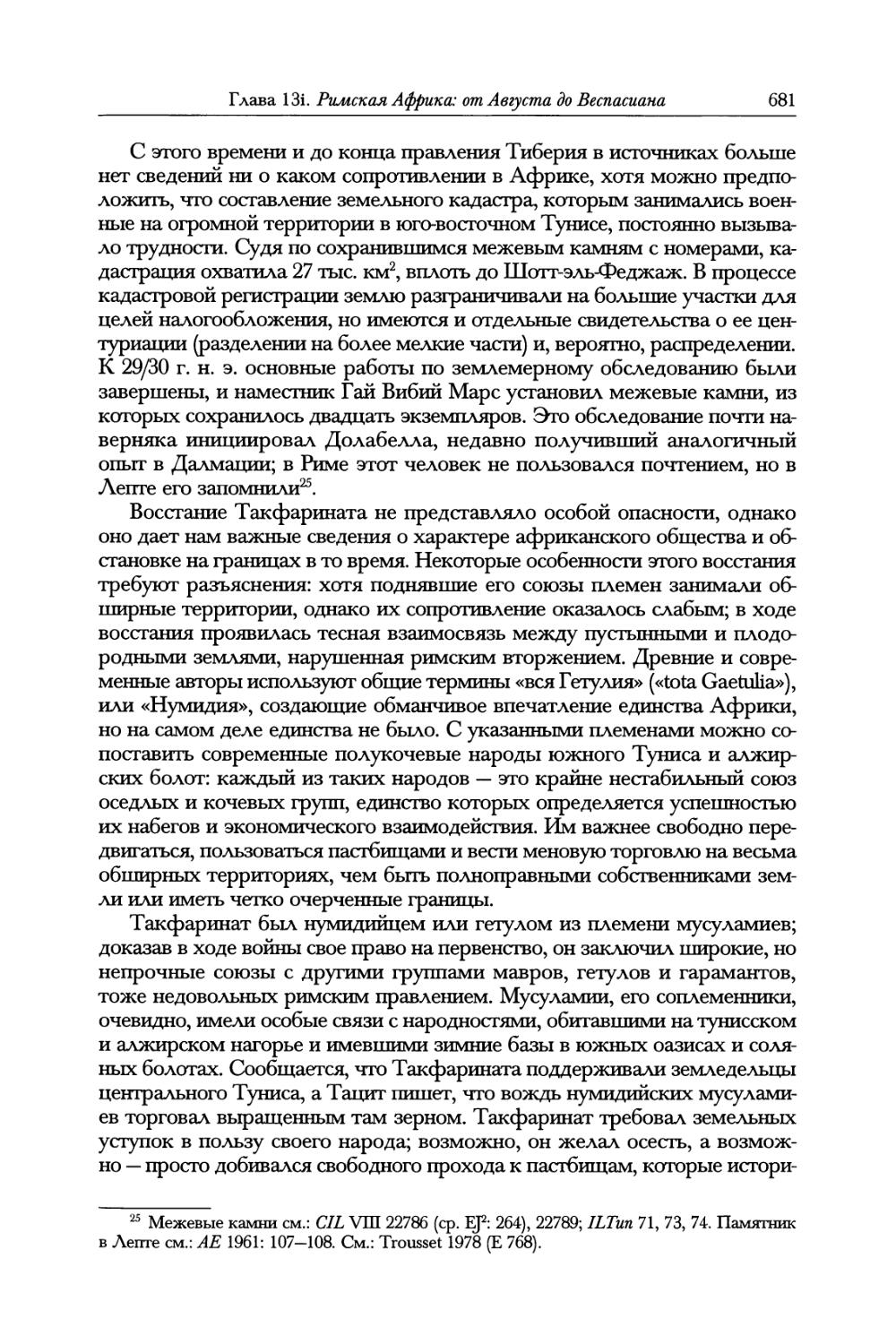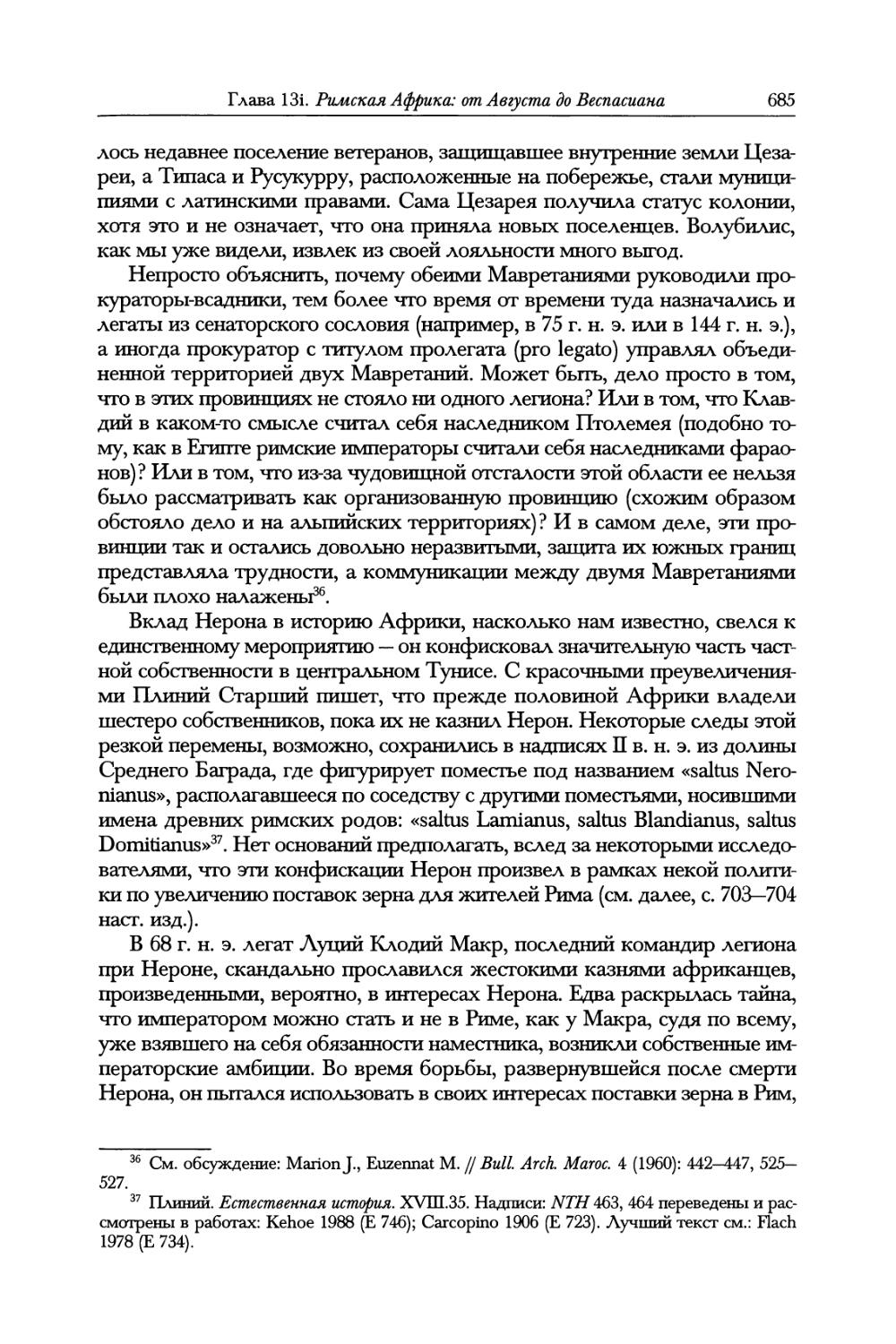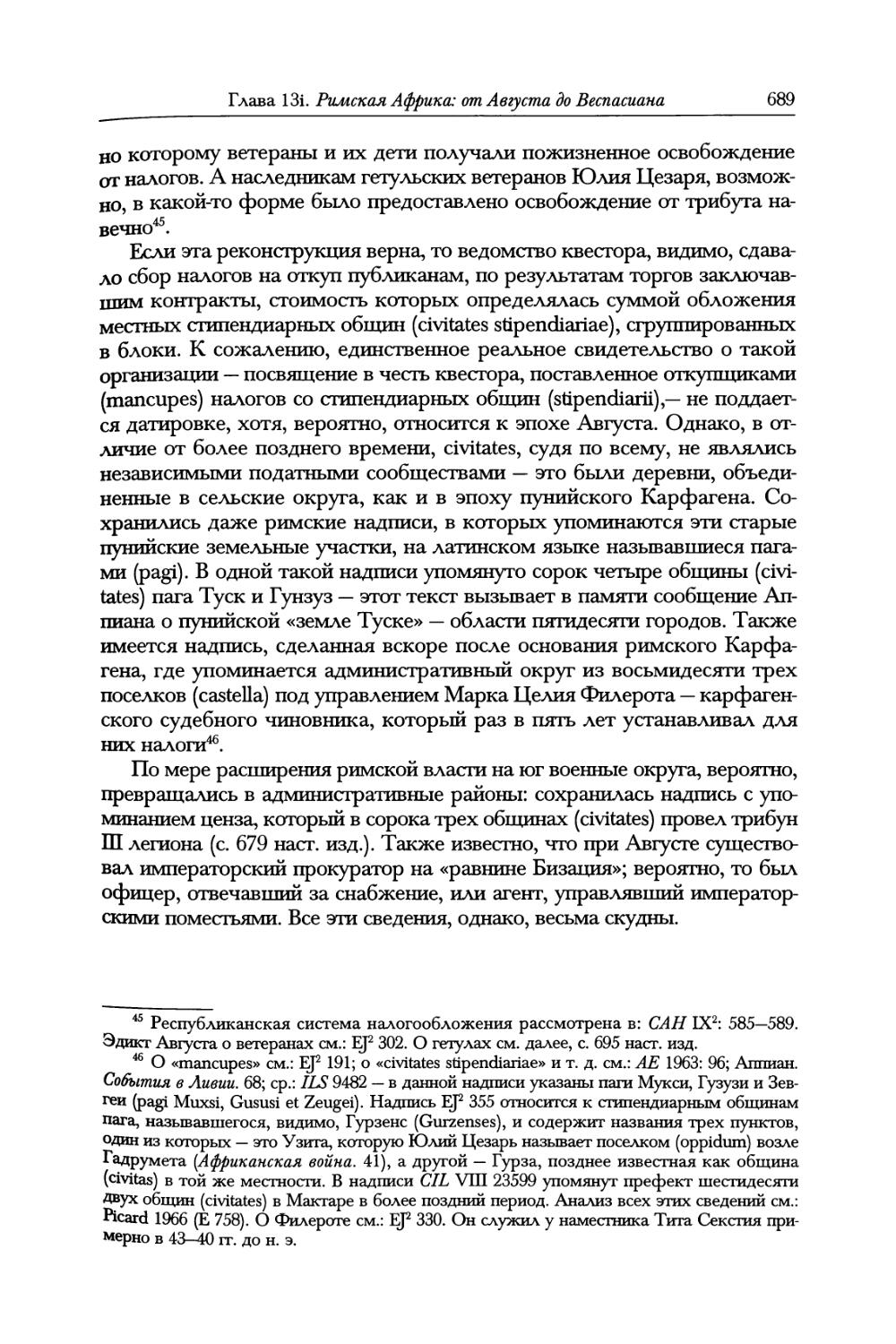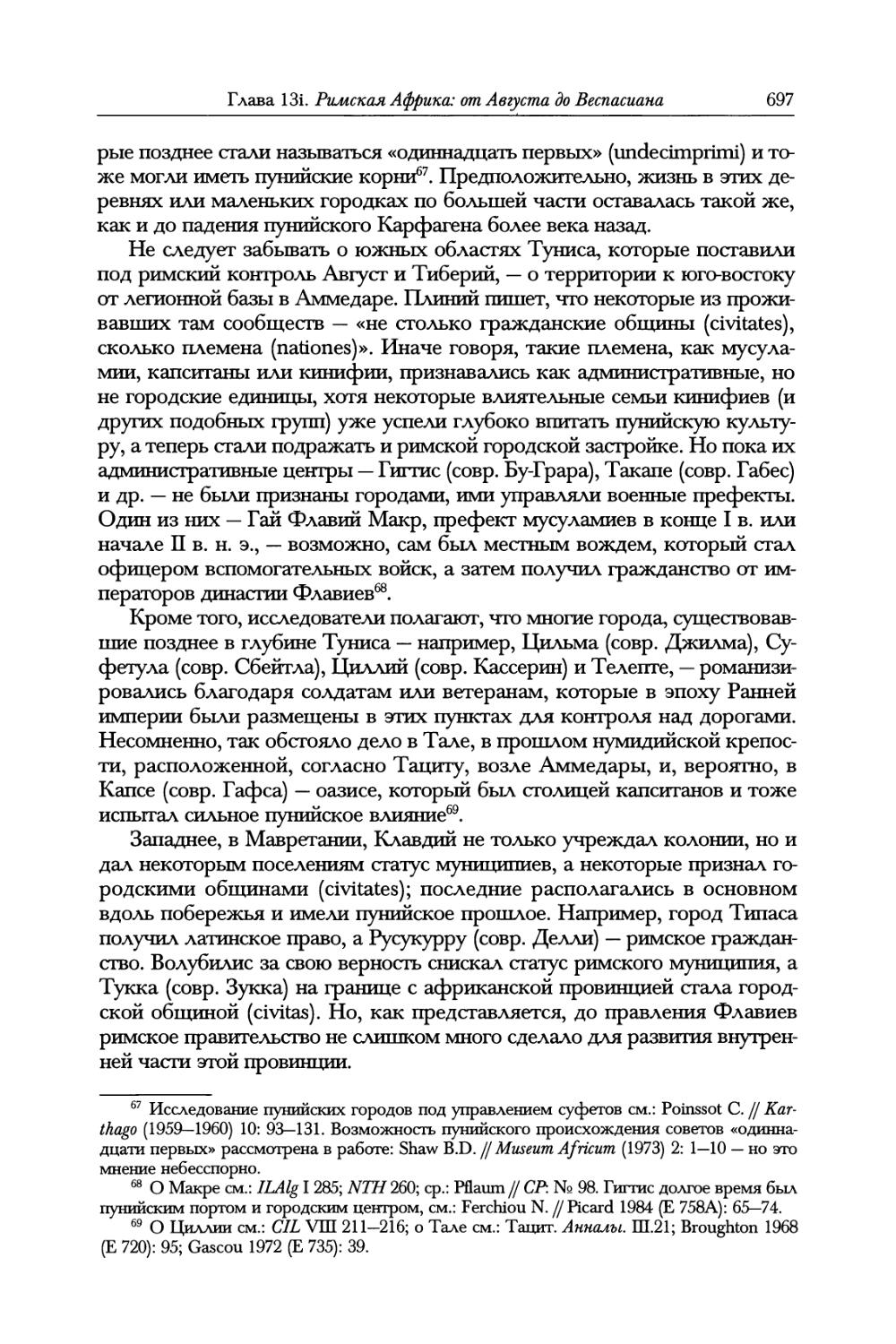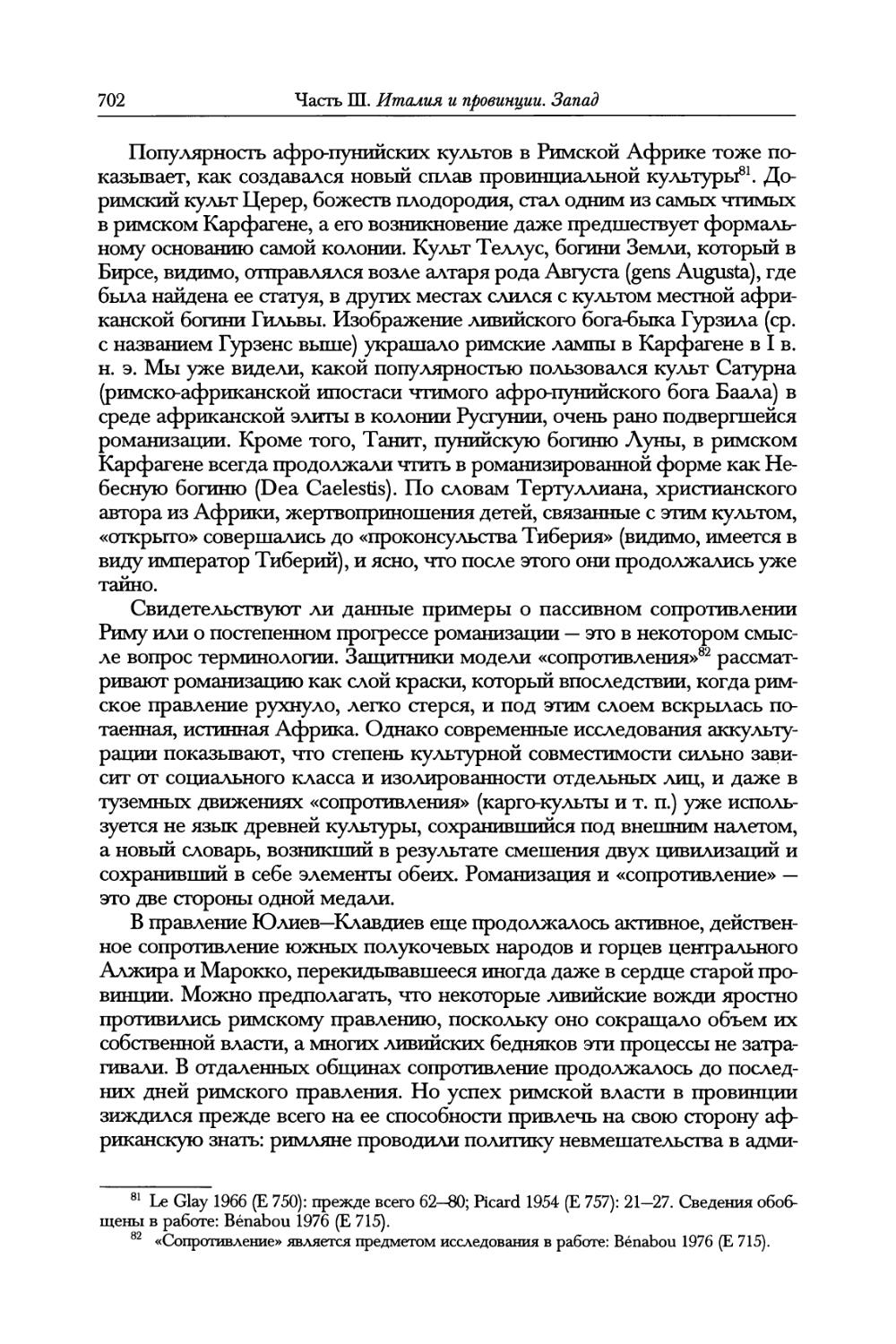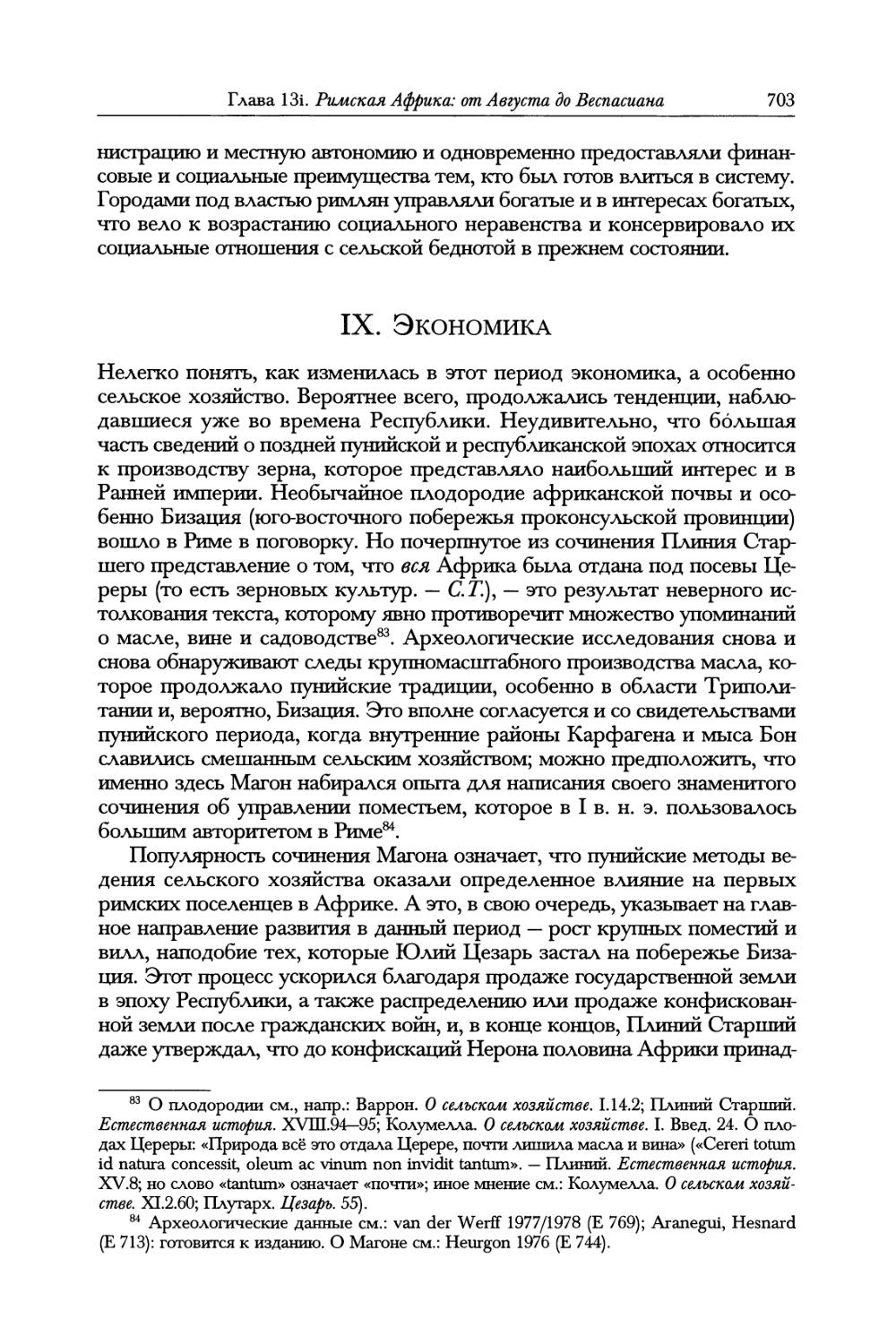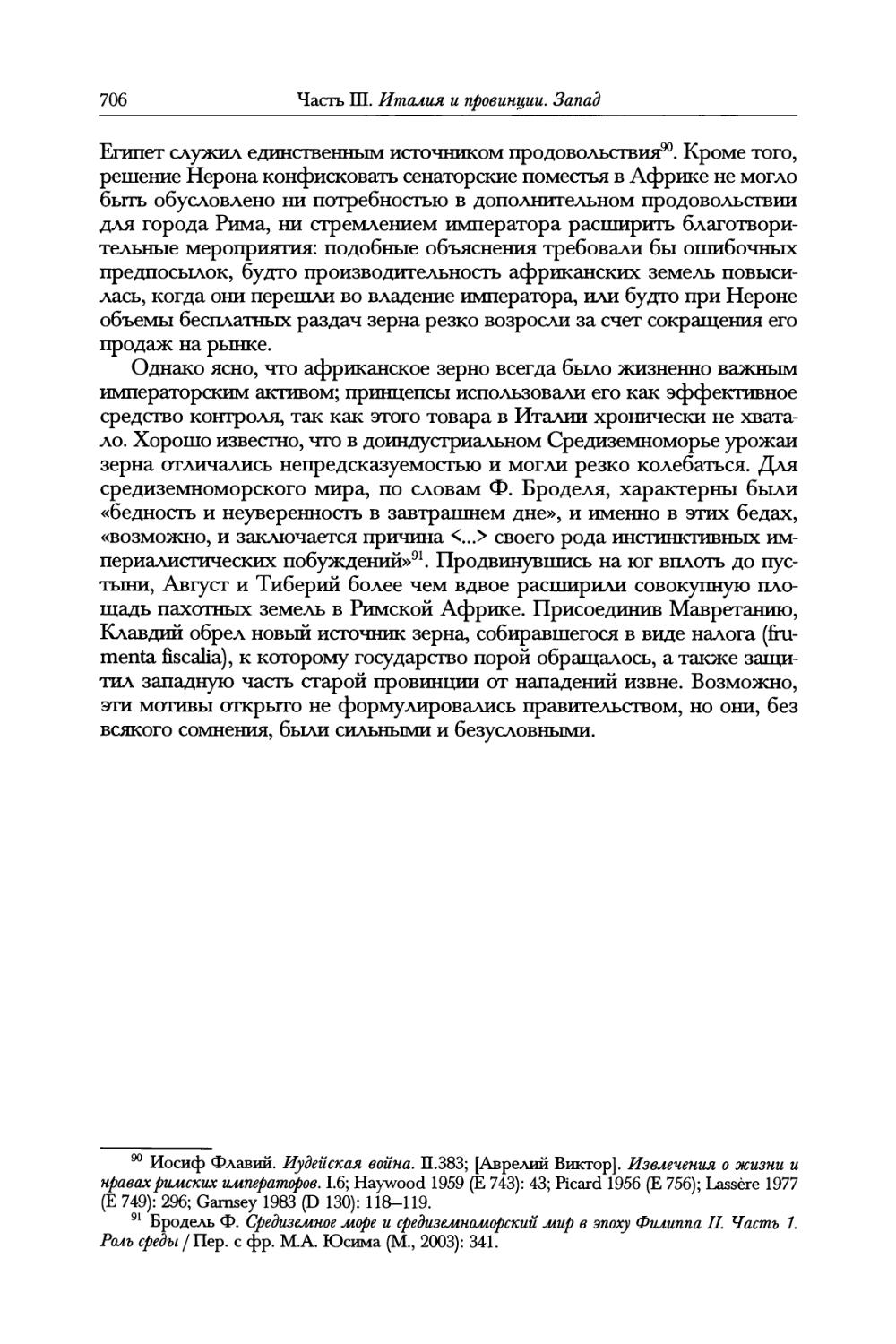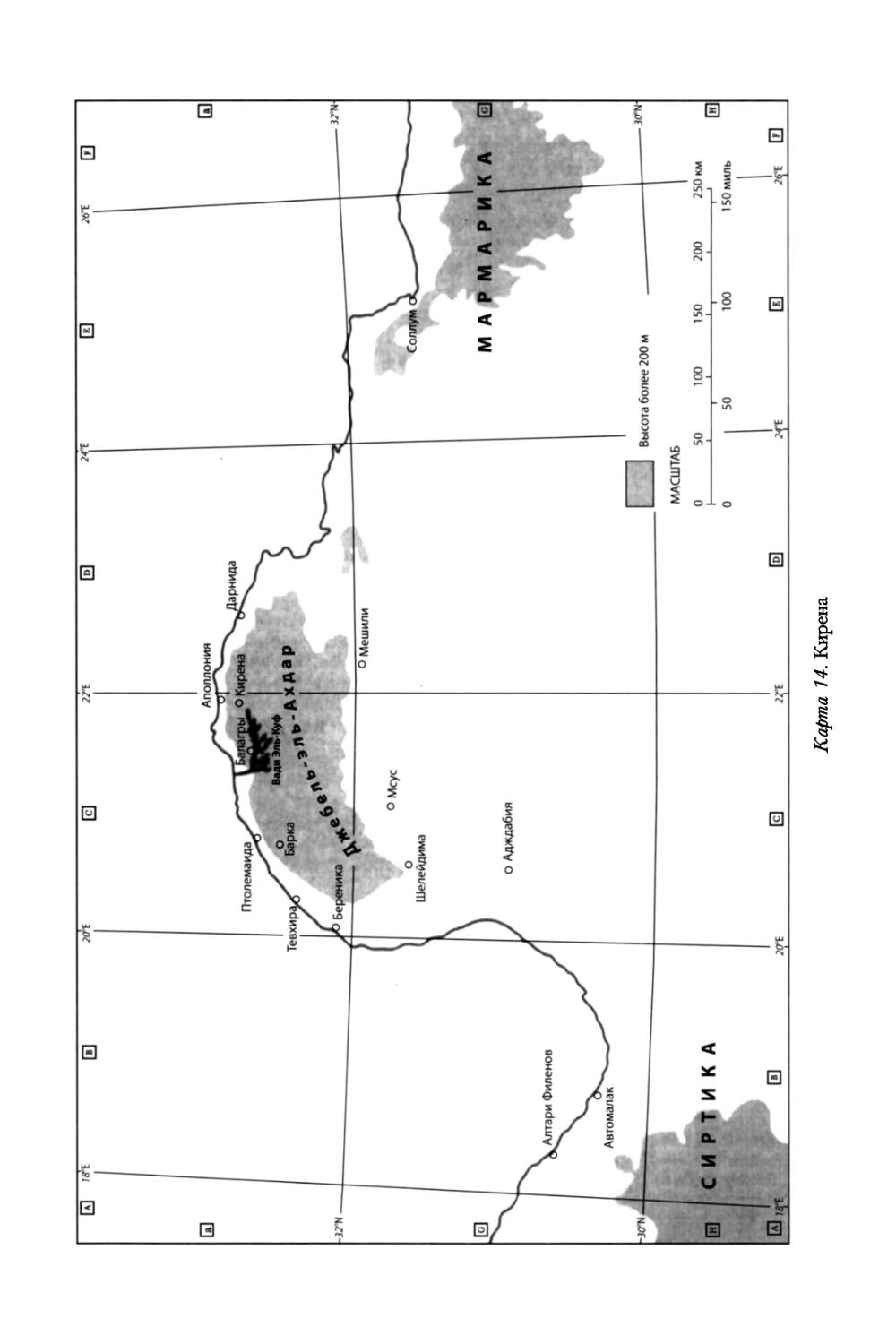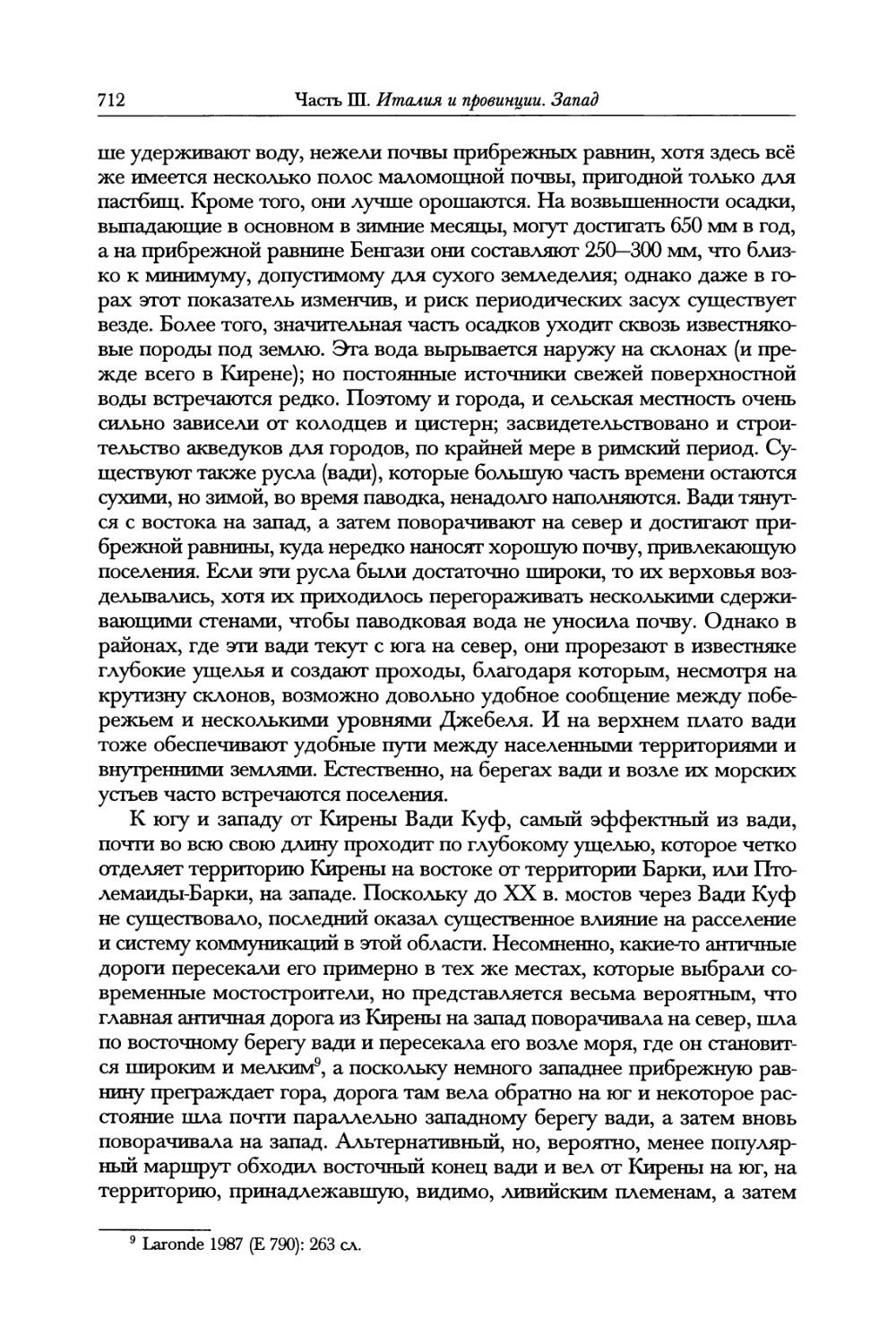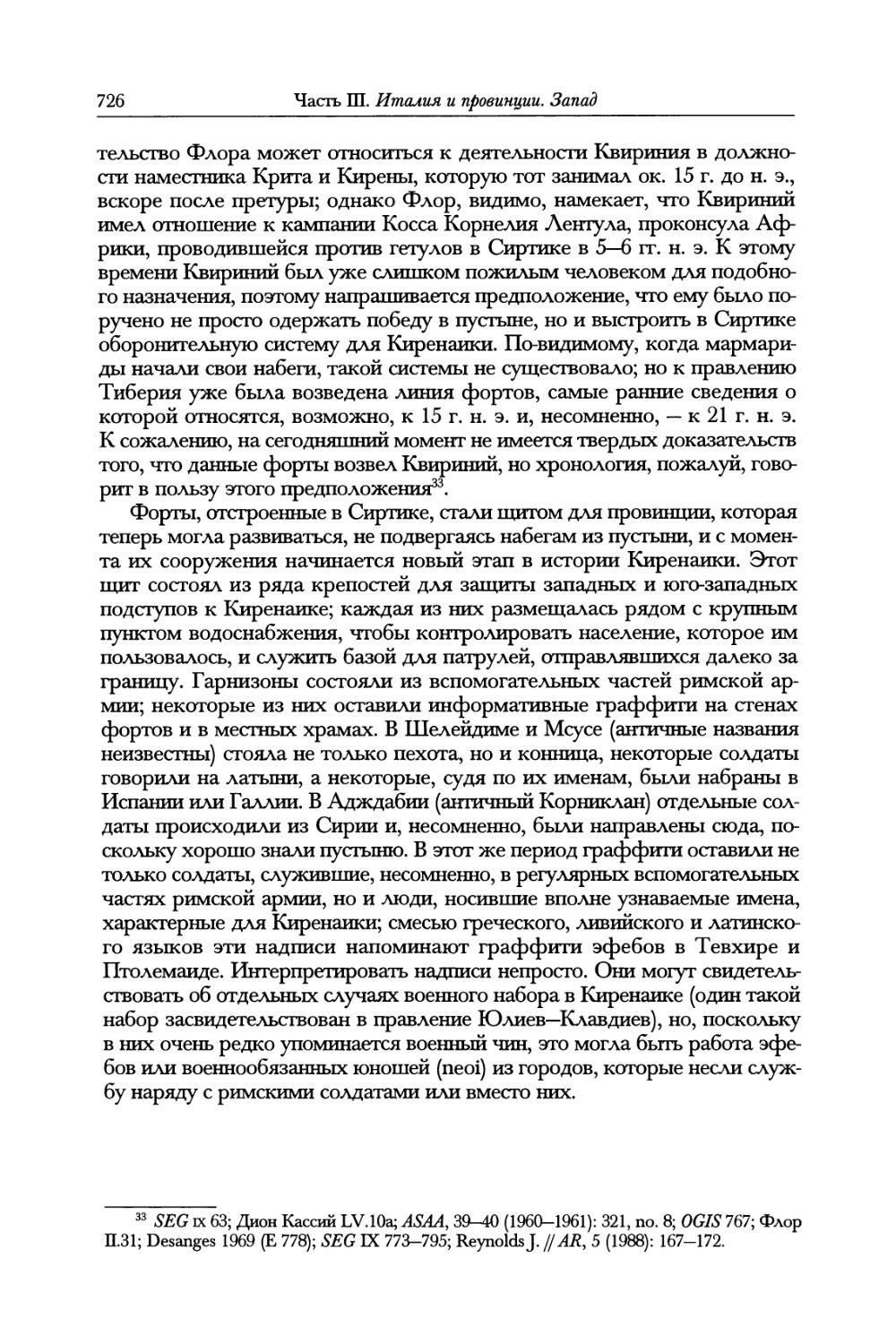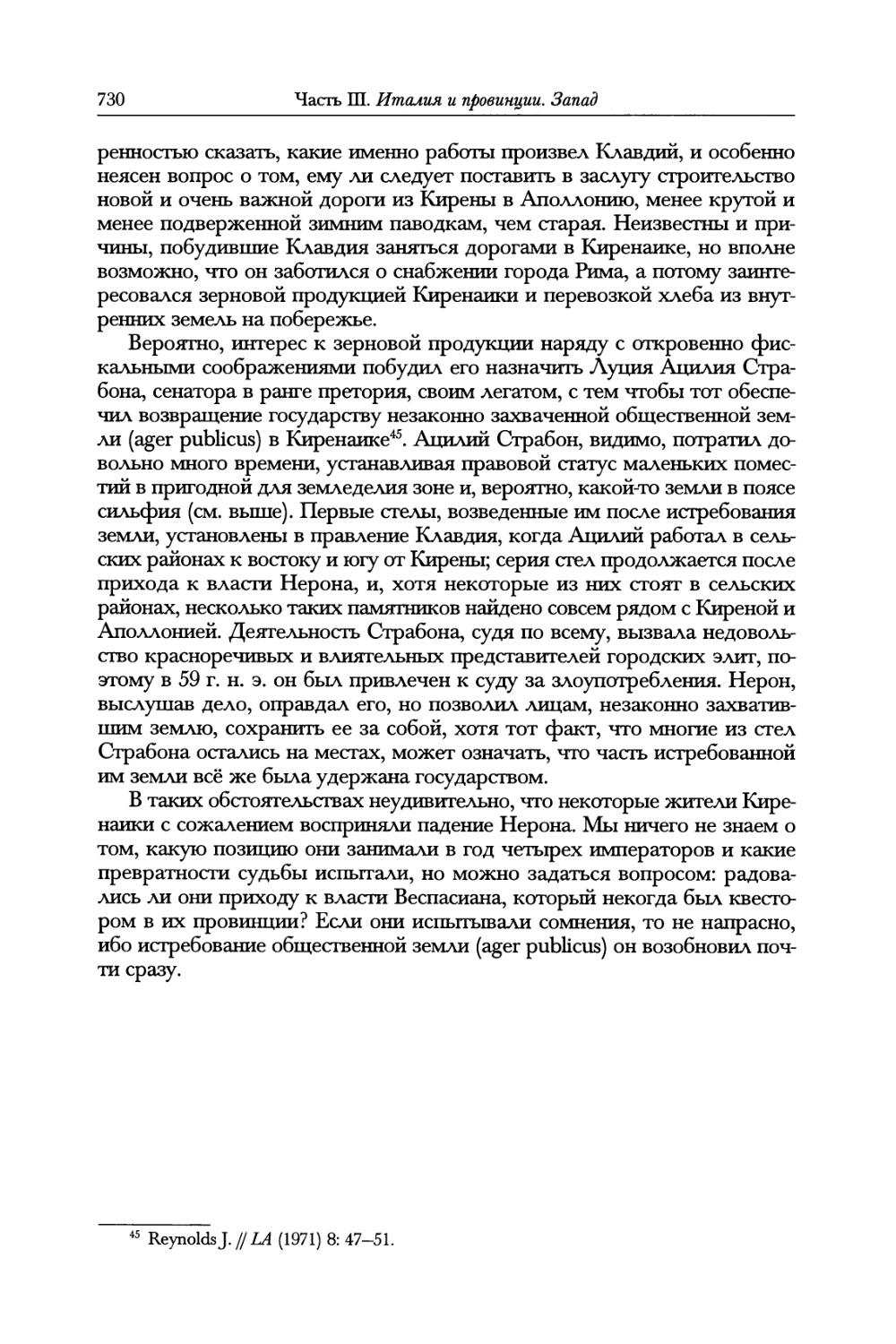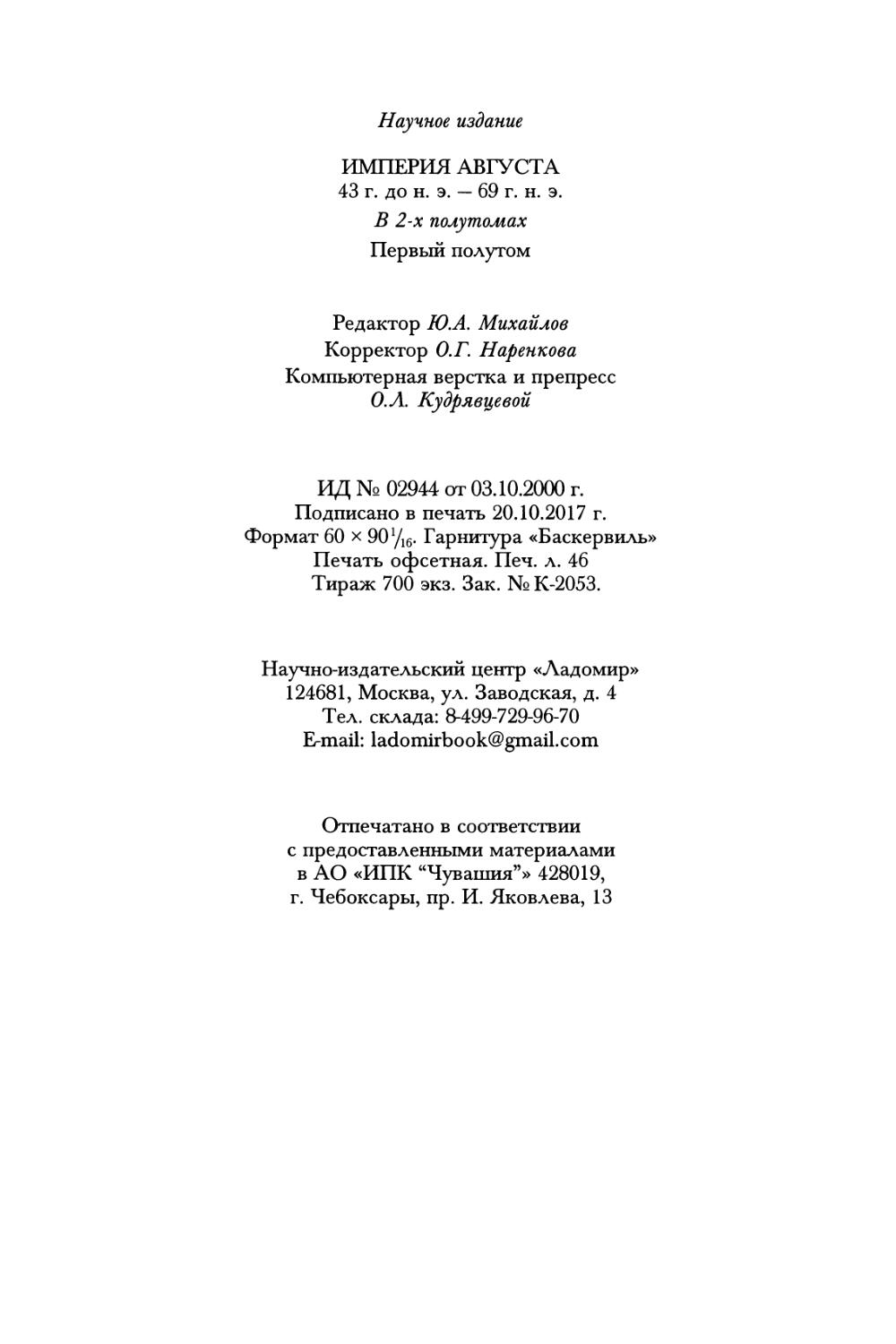Автор: Чэмплин Э. Линтотт Э. Боумэн А.К.
Теги: кембриджская история древнего мира
ISBN: 978-5-86218-551-5
Год: 2018
Похожие
Текст
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
ТОМ X
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY
SECOND EDITION VOLUME X
THE AUGUSTAN EMPIRE 43 B.C. - A.D. 69
Edited by
ALAN K. BOWMAN Student of Christ Churchy Oxford
EDWARD CHAMPLIN
Professor of Classics, Princeton University
ANDREW ΠΝΤΟΤΤ Fellow and Tutor in Ancient History, Worcester College, Oxford
Cambridge
UNIVERSITY PRESS
КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
ТОМХ
Первый полутом
ИМПЕРИЯ АВГУСТА 43 Г. ДО И. Э. - 69 Г. И. Э.
Под редакцией
А.-К. БОУМЭНА, Э. ЧЭМПЛИНА, Э. ЛИНТОТТА
ЛАДОМНр
Научно-издательский центр «Ладомир»
Москва
Перевод О.В. Любимовой
(Предисловие, гл. 2, 4, 6, 8, 10,12, 13b, 13d, 13f, 13h, 13j, Приложения к гл. 13а)
С.Э. Таривердиевой
(гл. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13с, 13е, 13g, 13i)
Империя Августа 43 г. до и. э. — 69 г. и. э.: в 2 полутомах / Под ред. А.-К. Боумэна, Э. Чэмплина, Э. Линтотга; перев. с англ., подготов, текста, предисловие, примечания О.В. Любимовой, С.Э. Таривердиевой. — М.: Ладомир, 2018. — Первый полутом. — 736 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. X, первый полутом [1—736 с.]).
© Cambridge University Press, 1996.
© Любимова О.В. Перевод, 2018
ISBN 978-5-86218-551-5 © Таривердиева С.Э. Перевод, 2018.
ISBN 978-5-86218-553-9 (η/τ. 1) © НИЦ «Ладомир», 2018.
Репродуцирование {воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается
ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Предлагаемый вниманию читателей десятый том «Кембриджской истории древнего мира»1 посвящен весьма насыщенной событиями эпохе от смерти Цезаря до прихода к власти Веспасиана, когда старые республиканские институты гибли в пламени гражданских войн, а пришедшей им на смену Римской империей правила первая, пожалуй, самая знаменитая, яркая и неоднозначная династия — Август и Юлии—Клавдии. Главы тома посвящены различным сторонам жизни достаточно юной еще Римской империи, таким как история гражданских войн, политическая и военная история правления Августа и Юлиев—Клавдиев, методы управления Римской империей, финансы и право, социальная структура, религия и культура, жизнь города Рима, Италии и провинций. Комплексный подход при описании каждого периода истории Древнего Рима, последовательно реализуемый издателями «Кембриджской истории древнего мира», позволяет не только получить более полное представление о политических, экономических и социальных процессах рассматриваемого времени, но и глубже проникнуть в повседневную жизнь самых различных общественных слоев, от императора и его семьи до рабов и вольноотпущенников, от населения города Рима до жителей самых отдаленных провинций — как западных, так и восточных.
В настоящем томе КИДМ были использованы те же правила оформления ссылок на античные источники, что и в уже опубликованных томах.
Так, ссылки на литературные источники строились следующим образом: вначале по-русски давалось имя автора и выделенное курсивом название его произведения (указывалось в случае, если сохранилось несколько сочинений данного автора), затем приводились номера книги/главь]/ параграфа, соответствующие опорному англоязычному изданию. Транс¬
1 Перевод осуществлен по изд.: The Cambridge Ancient History: In 14 vols. Vol. X: The Augustan Empire, 43 B.C. — A.D. 69. 2nd ed. Cambridge, 1996 (5-й завод отпечатан в 2006 г.).
6
От переводчиков
литерация имен античных авторов и перевод названий их произведений следуют устоявшимся традициям русскоязычной научной литературы. Ссылки на нарративные источники, фигурирующие в английском оригинале, выверены, выявленные опечатки выправлены без особого указания на то.
Ссылки на эпиграфические, папирологические и нумизматические источники даны в общепринятом формате, который использован и в английском издании.
Ссылки на современную историографию следуют конструкции исходного английского оригинала: фамилия автора, год издания, далее, в скобках, позиция в разделе «Библиография» настоящего издания, состоящая из латинской буквы, обозначающей подраздел библиографического списка, и порядкового номера в нем, далее, после двоеточия, номер страницы (если имеется в английском оригинале). В случаях, когда выходные данные публикации или расшифровка какого-либо сокращения отсутствовали в разделе «Библиография» английского издания, в русском переводе приводились более полные библиографические сведения.
Цитаты из античных авторов воспроизводятся по авторитетным русским переводам с указанием имени переводчика. Если таковое не указано, это означает, что перевод с древнего языка сделан переводчиком соответствующей главы. Цитаты из Нового Завета даны в переводе Российского Библейского общества.
При переводе личных имен, географических названий и этнонимов мы старались использовать общепринятые варианты транслитерации, преобладающие в переводах античных источников на русский язык и в русскоязычной научной литературе по антиковедению. В гл. 17, посвященной зарождению и распространению христианства, в случае разночтений предпочтение отдавалось тем вариантам транслитерации имен собственных, которые используются в антиковедении, а не в библеистике (например, Аквила, а не Акила, Сцева, а не Скева, Бероя, а не Верия).
Уточнения, дополнения и пояснения переводчиков сопровождаются в тексте пометами «ОЛ.» и «С.Т.» и в большинстве случаев вынесены в подстрочные примечания, маркированные индексом с буквой; это позволило сохранить нумерацию примечаний, соответствующую английскому оригиналу.
* *
*
Мы бы хотели выразить благодарность всем сотрудникам Научно-издательского центра «Ладомир», а в особенности Ю.А. Михайлову за его редакторскую работу, многочисленные ценные замечания, комментарии и дополнения в процессе работы над переводом т. X КИДМ.
О.В. Любимова, С.Э. Таривердиева Москва, 2017 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Исторический период, рассматриваемый в этом томе, начинается через полтора года после смерти Юлия Цезаря и заканчивается в конце 69 г. н. э., то есть через полтора года после смерти Нерона, последнего из династии Юлиев—Клавдиев. Его преемники, Гальба, Отон и Вигеллий, правили недолго и сошли со сцены, оставив Веспасиана единственным претендентом на императорский трон. В этот период произошли глубочайшие изменения в политической конфигурации государства (res publica). В течение десяти лет после смерти Цезаря конституционная власть принадлежала Октавиану, наследнику Цезаря, Антонию и Аепиду — триумвирам для восстановления государства (tresviri rei publicae constituendae). Наше изложение начинается с 27 ноября 43 г. до н. э. — дня, когда Тици- ев закон (Lex Titia) легализовал договоренности триумвиров, и за несколько дней до смерти Цицерона, послужившей финальной точкой для редакторов второго издания т. IX «The Cambridge Ancient History» (САН IX2). В 27 г. до н. э., через пять лет после истечения полномочий триумвиров, Октавиан стал принцепсом и Августом, а в последующие сорок лет постепенно выстроил систему правления, которая, в сущности, была монархической и династической и, хотя переходила от одной династии к другой, не претерпевала каких-либо радикальных изменений вплоть до конца Шв. н. э.
Гений Августа руководил политической трансформацией государства (res publica), но вряд ли меньшим было его влияние на расширение римских владений в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северо- Западной Европе. Никогда Рим не приобретал больше провинциальных территорий или большее влияние за границей, чем в правление первого принцепса. При его преемниках приращение шло равномерно, но гораздо медленнее, нежели в его правление. Если оставить в стороне завоевания, то для этого периода в целом по всей империи хорошо засвидетельствовано процветание, явившееся следствием установления римского мира (рах romana), основания которого были заложены в эпоху Республики.
Карта I. Римский мир в правление Августа и императоров из династии Юлиев—Клавдиев
10
Предисловие
Пожалуй, можно сказать, что за последние шестьдесят лет (САН X2 увидел свет в 1996 г. — О.Л.) воззрения современных исследователей на эту эпоху изменились более решительно, нежели их взгляды на любой другой период римской истории. Поэтому уместно будет кратко указать, чем этот том сильнее всего отличается по своему подходу и содержанию от предыдущего издания, и обосновать его структуру, особенно ввиду того обстоятельства, что новые издания трех томов, охватывающих период между смертью Цезаря и смертью Константина, до некоторой степени задуманы как единое целое.
Что касается общей структуры тома, то мы сочли важным положить в его основу политическую нарративную историю этого периода, в частности, для того, чтобы нагляднее показать те события, которые были случайными и непредсказуемыми (гл. 1—6). Следующие главы более ана- литичны и дают более широкое представление об управлении и институтах (гл. 7—12), регионах (гл. 13—14), социальном и культурном развитии (гл. 15—21), хотя в целом мы постарались избегать слишком широких мазков. Например, мы не смогли представить себе аналог главы Ф. Эрте- ля «Экономическая унификация Средиземноморья» (САН X1: гл. 13), хотя в свое время она была интересной и бесценной. Мы осознаём, что в отсутствие подобных глав ценность нашего издания была отчасти утрачена, и просим читателей не воспринимать том САН X1 как представляющий лишь библиографическую ценность; главы Сайма о северных границах (гл. 12) и Нока о религиозном развитии (гл. 14) — упомянем лишь две — по-прежнему представляют большой интерес для историка.
Весьма очевидно сильное влияние на авторов данного тома работы сэра Рональда Сайма «Римская революция», увидевшей свет через пять лет после САН X1, как и других его просопографических и социальных исследований, которые позволили пересмотреть историю римской аристократии в первом веке Империи. Сегодня никто не сомневается, что историк, изучающий римское государство этого периода, должен придавать семейным связям, патронату, отношениям статуса и собственности не меньшее значение, чем истории конституции или учреждений, и видеть, как эти отношения выражались в государственных институтах, сословиях (ordines), правительственных должностях и провинциальном обществе.
Влияние другой классической работы XX в., «Социальной и экономической истории Римской империи» М.И. Ростовцева, впервые опубликованной в 1926 г., было, пожалуй, менее очевидно на страницах САН X1, чем следовало бы ожидать. Надеемся, что теперь баланс восстановлен. Великое достижение Ростовцева состоит в том, что он, как никто прежде, синтезировал свидетельства письменных источников, строений, монет, скульптуры, живописи, артефактов и археологии в социальную и экономическую историю Империи под властью Рима, написанную не с узкой, романоцентричной, точки зрения. За последние шестьдесят лет получено огромное множество новых свидетельств для различных регионов Империи. Один исследователь не может быть настолько компетентен, чтобы
Предисловие
11
знать подробности обо всей Империи, и характерной чертой современной науки стала региональная специализация. Такое положение дел нашло отражение и в настоящем томе: в него включены главы как о каждом регионе или провинции, так и об Италии, по аналогии со структурой, принятой в томе САН IX2. Что же касается указанных обзоров частей Империи, то направляющим был следующий принцип: мы стремились к тому, чтобы главы нашего тома описывали тенденции, обусловившие достижения Империи эпохи расцвета (в английском оригинале использован термин «Высокая империя» — «The High Empire» — О.Л.), весьма благотворные для населения, тогда как соответствующие главы САН XI более статично, хотя и с учетом произошедших изменений, описывают состояние регионов римского мира в этот период.
Необходимо сказать несколько слов об очевидных пробелах и особенностях нашей работы. Мы не сочли нужным заниматься написанием обзора источников по данному периоду. Основные литературные источники (Тацит, Светоний, Дион Кассий, Иосиф Флавий) очень хорошо изучены современными исследователями, и, с точки зрения литературных свидетельств, данный период не так проблематичен, как последующие. Что касается массы документальных, археологических и нумизматических свидетельств по различным темам и регионам, то мы сочли за лучшее, чтобы их обобщили авторы глав по своему усмотрению.
Наличие в нашем томе главы о социокультурной унификации Италии может показаться странным. Решение включить ее сюда было принято после совещания с редакторами САН IX2, на основании того, что правление Августа — это хорошая точка обзора для изучения процесса, который еще не успел завершиться до прихода Августа к власти и, пожалуй, не вполне завершился даже к моменту его смерти. Две главы (о Египте и о развитии римского права) будут иметь продолжения в САН XII2 (193— 337 н. э.), но не в САН XI2; в обоих случаях приведенное здесь изложение в целом верно для первых двух веков нашей эры. Рассказы об Иудее и об истоках христианства трудно было спланировать и состыковать, учитывая, сколь сильно пересекается этот материал. Тем не менее, мы приняли решение пригласить для написания этих глав разных исследователей и сопоставить данные главы. Однако удивительно, что САН X1 не содержит рассказа об истоках и раннем становлении христианства, хотя, с точки зрения последующего развития цивилизации, это, несомненно, самая важная черта нашего периода. Некоторые пересечения с другими стандартными классическими трудами неизбежны. Вместе с тем в вопросе о литературе мы сознательно попытались этого избежать, включив в САН X2 главу, которая задумана как история литературной деятельности в социальном контексте, а не как история литературы этого периода как таковой. Историю последней можно найти в первых двух томах «Кембриджской истории классической литературы» («The Cambridge History of Classical literature»).
К каждому автору мы обратились с просьбой представить по возможности такое изложение предмета, в котором суммировалось бы нынеш¬
12
Предисловие
нее состояние изученности темы и излагалась общепринятая точка зрения (в той мере, в какой о ней вообще можно говорить), с указанием аспектов, по которым автор придерживается иного мнения. Было бы невозможно и нежелательно требовать единства взглядов, а потому отдельные главы — что неудивительно — отражают разные подходы и точки зрения. Точно так же мы не настаивали на единообразии в использовании постраничных сносок, хотя просили авторов воздерживаться от длинных и уводящих от темы сносок. Мы можем лишь повторить утверждение редакторов САН VTQ2, высказанное ими в предисловии, о том, что расхождения отражают различные требования, которые предъявляют авторы сами к себе и диктуют сферы их научных интересов. Заметно, что раздел «Библиография» гораздо более многопланов и сложен, нежели в предыдущих томах КИДМ; это также свидетельствует о большом количестве опубликованных в последние годы важных исследований нашего периода. Большинство авторов включили в библиографические подразделы, в которых использованы кодовые обозначения, все или почти все публикации, упомянутые в их главах; другие же привели в сносках ссылки на некоторые книги, статьи и, особенно, публикации источников, общее значение которых, по их мнению, не настолько велико, чтобы помещать их в сводную библиографию. Мы оставили это без изменений.
Большинство глав данного тома было написано в 1983—1988 гг., и мы осознаём, что интервал между завершением авторской работы и итоговой публикацией оказался гораздо более продолжительным, чем хотелось бы. Ответственность за это отчасти лежит на самих редакторах. Проверка сносок и библиографических описаний, издательская подготовка рукописи слишком часто вынужденно откладывались под давлением иных обязанностей. Тем не менее, авторам была предоставлена возможность обновить библиографию, и мы надеемся, что они до сих пор не разочарованы тем, что сумели сделать.
Мы искренне рады поблагодарить за помощь всех, кто оказался причастен к данному проекту. В составлении плана тома принимал участие профессор Джон Крук, и мы весьма благодарны ему за эрудицию, проницательность и здравый смысл. Очень жаль, что он не смог продолжить работу уже на этапе редактирования, нам крайне недоставало его помощи. За быстрый и квалифицированный перевод гл. 14с, 14d и 201 мы признательны, соответственно, д-ру Г.-Д. Вульфу, д-ру Дж.-П. Уайльду (снабдившему нас также ценной библиографической справкой) и Эдварду Чэмплину. Мистер Майкл Шарп из колледжа Корпус-Кристи Оксфордского университета и мистер Найджел Хоуп оказали неоценимую помощь в работе с библиографическими материалами. Дэвид Кокс начертил кар¬
1 Гл. 20 написана итальянским археологом М. Торелли и, видимо, переведена с итальянского. Но Д. Кеннеди и М. Гудмэн, авторы гл. 14с и 14d, — англоязычные историки. Возможно, в английском издании — опечатка и речь должна идти о гл. 13с и 13d, авторы которых — Г. Альфёльди, историк венгерского происхождения, писавший в основном по- немецки, и К Гудино, французский исследователь. — О. Л.
Предисловие
13
ты, Барбара Хёрд составила указатель. Наша сердечная благодарность — Паулине Хайр и другим сотрудникам издательства «Cambridge University Press», отвечавшим за выпуск этого тома, за терпение, чувство юмора и готовность помочь.
А.-К. Боумэн, Э.-Дж. Чэмплин, Э.-У. Линтотт
* * *
О ПОСТРАНИЧНЫХ СНОСКАХ
Раздел «Библиография» данного тома разбит на секции, посвященные отдельным вопросам, которые иногда соответствуют конкретным главам, но чаще охватывают тематику сразу нескольких глав. Секции патинированы заглавными буквами латинского алфавита. Каждая книга или статья внутри секции имеет свой порядковый номер. Ссылки в постраничных сносках состоят из буквенного обозначения раздела и номера в нем подразумеваемой публикации. Для удобства восприятия в ссылки включены также имя автора и дата этой публикации. Например, ссылку «Syme 1986 (А 95): 50» следует раскрывать как «Syme R. The Augustan Aristocracy. Oxford, 1986. P. 50»; данная работа описана в разделе «А» «Библиографии» под номером 95.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ
Глава 1 Кр. Пеллинг
ЭПОХА ТРИУМВИРАТА
I. Триумвират
С принятием закона Тиция 27 ноября 43 г. до н. э. в Риме начался период абсолютной власти. Антонию, Лепиду и Октавиану было поручено «восстановление государства»; они получили титул «триумвиры для восстановления государства» («triumviri rei publicae constituendae»), — но приобрели полномочия принимать или отменять законы без совещаний с сенатом или народом, выносить приговоры, которые не подлежали обжалованию, и назначать магистратов по собственному выбору. Мир они поделили на три части: Цизальпийская и Дальняя Галлия достались Антонию, Нарбонская Галлия и Испания — Лепиду, Сицилия, Сардиния и Корсика — Октавиану. Фактически эти трое являлись правителями. Вскоре их осталось двое, а затем — один. К тому времени Республика уже умерла.
Но в тот момент, с которого мы повели речь, еще было совсем не очевидно, что перемены пришли надолго. Как говорится в первой фразе «Анналов» Тацита, ростки абсолютной власти прочно коренились в самой Республике: периоды деспотизма случались и прежде — Сулла и Цезарь, а в некотором роде и Помпей, — но все они остались в прошлом; дело Брута и Кассия на Востоке* вовсе не выглядело безнадежным. Но было ясно, что история и политика изменились и этот процесс не прекращался. В эпоху триумвирата великие деятели прощупывали обстановку. Например, до какой степени преданность легионов можно попросту купить, возможно ли превратить состоятельные сословия или римскую и италийскую бедноту в подлинную силу или в какой мере продолжают сохранять влияние древние роды. Поскольку в маневрах середины 43 г. до н. э. Планк и Поллион играли не меньшую роль, чем Лепид, вместо триумвирата мог образоваться и квинквират (союз пятерых. — С.Т.). Но Лепида в союз включили, а Планка и Поллиона — нет; и этим Лепид был обязан не столько своим войскам, сколько семье и связям. В 43 г. до н. э.
* В дальнейшем под «Западом» и «Востоком» в наст. изд. понимаются, соответственно, территории, о которых рассказывается в гл. 13 и 14 наст. изд. — С.Т
Глава 1. Эпоха триумвирата
15
последние, видимо, еще что-то значили, но спустя уже несколько лет с ними можно было не считаться. Да и с Лепидом тоже. Деньги тоже явились новым, непредсказуемым фактором. В 44—43 гг. до н. э. обещания, которые давались солдатам, достигли новых высот, и конечно же в ход шли деньги: средства самого Цезаря, друзей погибшего диктатора, таких как Бальб и Магий, и монеты, которые в огромных количествах чеканились по всей Римской империи. Неудивительно, что находится так много кладов этого периода, в том числе и довольно значительных1. Но добрались ли бы эти деньги до легионеров?
Ответа на этот вопрос не знали и сами легионеры. Никто не знал. Изменилась и роль пропаганды. Цицерон был мастером обмана. К примеру, не следует думать, что его «Филиппики» предназначались лишь для ушей сенаторов. Когда их читали в лагерях или на рынках Италии, они, без всякого сомнения, также оказывали свое воздействие. Но на кого пропаганда нацеливалась в первую очередь? Конечно, на солдат. Именно они представляли наибольшую ценность в 44—43 гг. до н. э. до н. э. А как же италийцы и жители муниципиев? Можно ли было привлечь их на свою сторону, и могли ли они сыграть решающую роль в борьбе за власть? В 30-х годах пропаганда всё больше и больше обращалась в их сторону, и Октавиану удалось снискать их преданность. Но разумно ли он поступил, опершись на них? Велико ли было их значение в последней войне? В этом можно усомниться, хотя, конечно, на протяжении следующих мирных лет их симпатии играли важную роль. Но таковым было это время. Никто не знал, какие ключи к власти можно отыскать и насколько эффективными они окажутся. Ясно было лишь одно — правила изменились.
Из-за состояния источников нам даже сложнее, чем жившим тогда людям, определить масштаб перемен. От этого времени не сохранилось речей, диалогов и писем Цицерона, в которых рассказывалось бы о текущих событиях; вместо этого нам доступны лишь редкие обрывки современных событиям литературных и эпиграфических данных, а потому приходится полагаться на гораздо более поздние рассказы: на Аппиана, который в своих пространных «Гражданских войнах» довел повествование до смерти Секста Помпея (об Актийской и Александрийской войнах он рассказал в утраченной «Истории Египта»); на Диона Кассия, который в кн. XLVH—L относительно полно говорит о событиях эпохи триумвирата; на Плутарховы жизнеописания Антония и Брута. Некоторые полезные сведения содержатся в «Божественном Августе» Светония. Имеются они и у Иосифа Флавия. Зачастую неясно, какими источниками пользовались эти авторы, хотя очевидно, что на них повлияли работы Азиния Поллиона, Ливия и красочного Квинта Деллия; понятно, что позднейшие авторы вполне могли пользоваться иными, более экзотическими материалами. Тем не менее, сообщения и названных источников нередко содержали бросавшиеся в глаза неточности, более того, во всей письменной
Crawford 1969 (В 318): 117-131; Crawford 1985 (В 320): 252.
Карта 2. Италия и Восточное Средиземноморье
18
Часть I. Изложение событий
традиции содержится немалая доля подтасовок. Тогдашняя пропаганда Октавиана, несомненно повторенная и усиленная в его «Автобиографии», увидевшей свет в 20-х годах до н. э., была полна историями об излишествах и бесчинствах Антония и Клеопатры. Впоследствии более поздние авторы, прежде всего Плутарх, придали этим историям романтическую окраску, демонстрируя порой большую симпатию к любовникам, но едва ли большую точность. И вполне естественно, что все эти авторы сосредотачивали внимание на главных действующих лицах — Бруте, Кассии, Октавиане, Сексте, Антонии и Клеопатре. Мы весьма смутно представляем, как выглядела ежедневная политическая жизнь в Риме, насколько присутствие великих людей подавляло рутинные дела и споры в сенате, судах, собраниях и на улицах. Триумвиры сами назначали консулов и других, менее важных, должностных лиц, но в то же время проводились и какие-то выборы. Нам неизвестно, с какой частотой они происходили или насколько острой и неподдельной была борьба2. Плебс и жители италийских городов не всегда принимали решения триумвиров без сопротивления; но мы не знаем, как часто и насколько эффективно триумвирам возражали в сенате; мы не знаем, наконец, какой свободой слова и действий обладали сенаторы в отдельных сферах. У нас мало, а то и почти вовсе нет сведений о всадниках; мы не можем быть уверены, что они были так уж пассивны или лишены влияния. Мы больше не слышим о выдающихся политических процессах, но это не значит, что их вовсе не было. Всё это представлено в источниках крайне скудно, лишь в свете действий и амбиций самих великих людей. От цветной картины мы переходим к черно-белой.
II. Филиппы, 42 г. до н. э.
42 год до н. э. начался в Риме с важных событий. Юлий Цезарь был обожествлен3. Римские полководцы уже привыкли к божественным почестям на Востоке, много их воздавалось Цезарю и при жизни, но официальное постановление по этому поводу — совсем иное дело. Отныне Окта- виан, если хотел, мог называть себя «сыном Божественного» («divi filius»)4. Важность этого титула для его репутации, как и многое другое, не поддается оценке. Но более неотложной задачей была кампания против Брута и Кассия на Востоке — война возмездия, которой обожествление Цезаря придало новое значение. Антонию и Октавиану предстояло разделить между собой командование. Теперь триумвиры располагали сорока тремя легионами; сорок из них, возможно, было набрано для службы на
2 Cp.: Frei-Stolba 1967 (С 92): 80-86; Millar 1973 (С 175): 51-53.
3 Дион Кассий. XLVTI. 18.3—19.3; cp.: Weinstock 1971 (F 235): 386—398; Wallman 1989 (С 243) 52-58.
4 Некоторое время он не использовал это именование; впервые титул появляется на монетах ок. 40/39 г. (RRC 525).
Глава 1. Эпоха триумвирата
19
Востоке, хотя лишь двадцать один или двадцать два в действительности участвовало в кампании и только девятнадцать сражалось при Филиппах5. Лепид должен был контролировать Италию, но и там влияние Антония было значительным, поскольку двое из его командиров вместе с сильными армиями находились именно в этой области: Кален — в самой Италии, а Поллион — в Цизальпийской Галлии.
В начале года передовые силы триумвиров в составе восьми легионов под командованием Гая Норбана и Луция Децидия Саксы переправились через Адриатическое море, но вскоре на Адриатике начал действовать флот Освободителей — около ста тридцати кораблей под командованием Луция Стая Мурка и Гнея Домиция Агенобарба, и в итоге оказалось сложно перевезти основное войско. Далее неопределенность усилилась из-за возрастания власти Секста Помпея на море. В событиях 44— 43 гг. до н. э. он сыграл незначительную роль, но его имя было внесено в проскрипционный список, и казалось неизбежным, что ему придется присоединиться к Освободителям. К началу 42 г. до н. э. Секст Помпей подчинил Сицилию, его флот существенно возрос, к тому же сам Секст предоставлял убежище недовольным, напуганным и обездоленным из всех сословий. В 42 г. до н. э. его усилило множество проскрибирован- ных5а. Но против флота Секста Октавиан отправил Сальвидиена Руфа, и возле Мессенского пролива состоялась крупная, хотя и не решающая битва, после которой Секст уже не оказывал сколь-либо значимого воздействия, и Освободители почти не получали пользы от такого потенциально ценного союзника. Летом триумвирам удалось переправить основное войско511.
В Македонии вести о проскрипциях и смерти Цицерона решили судьбу Гая Антония: его казнили, вероятно, по приказу Брута6. Сам Брут во второй половине 43 г. до н. э. действовал в Греции, Македонии, Фракии и даже Азии, набирая войска, укрепляя связи с союзниками и накапливая средства. Наконец, он выступил, возможно, в конце лета, более вероятно — в начале 42 г. до н. э.7, чтобы встретиться с Кассием. Тот застрял далеко на Востоке и не мог разобраться с делами вплоть до конца 43 г. до н. э.: даже после июльской победы над Долабеллой оставались проблемы, требовавшие решения, например, в Тарсе, на который он наложил штраф в размере 1,5 тыс. талантов, и в Каппадокии, где продолжались волнения, пока летом 42 г. до н. э. посланцы Кассия не убили
5 Brunt 1971 (А 9): 484-485; Botermann 1968 (С 36): 181-204.
5а Имеются в виду люди, приговоренные триумвирами к смерти: многие из них в поисках защиты бежали на Сицилию к Сексту Помпею и были готовы сражаться на его стороне. — С.Т.
5Ь Армия была переправлена в Македонию для войны с Брутом и Кассием. — С.Т.
6 Плутарх [Брут. 28.1; Антоний. 22.6) — этот автор, вероятно, прав в отношении датировки и ответственности за отданный приказ; ср.: Дион Кассий. XLVn.24.3-6.
7 Плутарх [Брут. 28.3) и Дион Кассий (XLVH 25.1—2) согласны в том, что этот поход начался после смерти Гая Антония, но предлагаемая ими хроника событий весьма ненадежна.
20
Часть I. Изложение событий
царя Ариобарзана и не захватили его казну. Жестокие действия Кассия, несомненно, усугубили эти проблемы, но, невзирая на трудности, богатство Востока всё еще было крупнейшим потенциальным активом Освободителей (и оно оставалось огромным, даже если учесть, что им приходилось кормить свои войска, — финансовое положение триумвиров было еще хуже), и Кассий, естественно, желал воспользоваться данным ресурсом в полной мере. Вероятно, марш на запад (Малой Азии. — С.Т) он предпринял не раньше зимы, когда триумвиры объединились и уже поползли слухи, что их первое войско переправляется в Грецию8. Весной 42 г. до н. э. Кассий и Брут встретились в Смирне. Вероятно, на двоих у них был двадцать один легион, из которых девятнадцать приняло участие в решающей битве9.
Ходили слухи, что они разошлись в вопросах стратегии: Брут желал поскорее вернуться в Македонию, а Кассий настаивал, что сначала необходимо обезопасить тыл, выступив против Родоса и городов Ликии10. У Кассия, разумеется, имелись свои резоны. Ликия и Родос были соблазнительно богаты, и даже существовали некоторые стратегические аргументы в пользу отсрочки возвращения в Македонию: Освободители контролировали море, и армии триумвиров могли погибнуть в силу простой нехватки продовольствия. И, тем не менее, расчеты Кассия, без всякого сомнения, были неверны. Филиппы находились очень далеко на востоке, и сражения при них состоялись в конце года, когда дружественно настроенные области Македонии и северной Греции, в прошлом году довольно спонтанно приветствовавшие Брута и о присоединении которых к делу Освободителей Цицерон так тепло объявил в «Десятой филиппике», уже были утрачены, а их богатство и зерно служили важной поддержкой не Освободителям, а триумвирам. Родос и Ликия имели сильные флоты, но Кассию и Бруту не следовало слишком уж опасаться их — Освободители в любом случае контролировали бы море. Конечно же им следовало быстро продвигаться на запад, чтобы обеспечить своему флоту лучшие базы на Адриатике и искать возможность изолировать передовые силы триумвиров на западном побережье Греции, то есть фактически еще раз переиграть кампанию 48 г. до н. э. В итоге восемь легионов Норбана и Саксы, не получая никакой поддержки, были бы обречены на гибель. Жестокое обращение Освободителей с Родосом и Ликией не улучшило их посмертную репутацию. Возможно, оно также предопределило их поражение.
8 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. IV.63.270—271; Дион Кассий. XLVII.32.1; Плутарх. Брут. 28.3. Трудно поверить в такой длительный зимний переход, но источники четко связывают начало марша с известиями о проскрипциях и сопутствовавших им событиях; в любом случае, последовательность событий не позволяет датировать этот марш концом лета или осенью 43 г. до н. э. Вместе с тем состояться он должен был раньше поздней весны 42 г., поскольку иначе не осталось бы времени для кампании на юге Малой Азии.
9 Brunt 1971 (А 9): 485-488; Boteimaim 1968 (С 36): 204-211.
10 Аппиан. Гражданские войны. IV.65.276—277; ср.: Плутарх. Брут. 28.3—5; противоположный взгляд: Дион Кассий. XLVH.32 — автор, защищая свою версию взаимоотношений Брута и Кассия, подчеркивает их единодушие.
Глава 1. Эпоха триумвирата
21
Кассий двинулся против Родоса, Брут — против Линии, и оба одержали быстрые и полные победы; в частности, стали широко известны ужасающие сцены резни и массового самоубийства в ликийском городе Ксанфе. Возможно, с Родоса взыскали 8,5 тыс. талантов, цифра же в 150 талантов из Линии вызывает большие сомнения11. Другим народам Азии приказали выплатить значительную сумму, равную десятилетнему трибуту11а, хотя в предыдущие годы эту область уже нещадно обобрали. Без всякого сомнения, Освободители выплатили часть суммы непосредственно легионерам, другую же сохранили для дальнейших раздач во время решающей кампании. В результате они снискали особенную лояльность армии, но причиной тому были, конечно, не только сугубо материальные мотивы. Хотя кампании завершились быстро, Брут и Кассий встретились в Сардах только в июне или июле и вместе двинулись на север — к Геллеспонту, через который они переправились в августе.
Норбан и Сакса беспрепятственно пересекли Македонию и заняли позицию к востоку от Филипп, пытаясь заблокировать узкие проходы, но войска Брута и Кассия, имевшие значительный численный перевес, обошли их с флангов и в начале сентября достигли Филипп. Норбан и Сакса отошли к Амфиполю, где соединились с основной армией под командованием Антония. Октавиан, ослабленный болезнью, немного отставал. Затем Брут и Кассий заняли сильную позицию по другую сторону Эгнациевой дороги. Через несколько дней прибыл Антоний и дерзко встал лагерем всего лишь в миле от них, на гораздо более слабой позиции на равнине. Через десять дней к нему присоединился Октавиан, всё еще неважно себя чувствовавший. Несмотря на превосходство своей позиции, Освободители поначалу рассчитывали избежать битвы. Они контролировали море, сухопутное же сообщение триумвиров с Македонией и Фессалией было уязвимо, в силу чего Антонию и Октавиану было бы трудно вести продолжительную кампанию. Меж тем ловкие маневры и землеройные работы Антония11Ь вскоре стали угрожать левому флангу Освободителей, поэтому Брут и Кассий решились на сражение. Силы были примерно равны: в легионах триумвиров насчитывалось 100 тыс. пехотинцев против 70 тыс. у Освободителей. Зато последние были сильнее в коннице — 20 тыс. против 13 тыс.12.
Кассий командовал левым крылом, Брут — правым, против них стояли, соответственно, Антоний и Октавиан. Битва началась на фланге Кассия, поскольку Антоний атаковал одно из его укреплений. Затем в бой вступили войска Брута, очевидно, без приказа, но добились выдающегося успеха, уничтожив три легиона Октавиана и даже захватив его лагерь. У Кассия дела шли намного хуже: по-видимому, важную роль сыграла личная храбрость Антония — он захватил лагерь Кассия. В пыли и рас¬
11 Плутарх. Брут. 32.4.
11а Три бут — прямая подать с населения провинции. — С.Т
11ь Антоний прокапывал рвы — они должны были преградить Кассию доступ к морю. — С.Т.
12 Ср. прежде всего: Аппиан. Гражданские войны. IV. 108.454; Brunt 1971 (А 9): 487.
22
Часть I. Изложение событий
терянности Кассий слишком рано отчаялся и, не зная о победе Брута, покончил с собой. Так (в начале октября 42 г. до н. э.) завершилась первая битва при Филиппах. В тот же день (по крайней мере, так говорили) Освободители одержали крупную морскую победу на Адриатике, когда Мурк и Агенобарб уничтожили два легиона подкреплений триумвиров.
Затем последовали три недели бездействия. Первая битва никоим образом не облегчила трудности триумвиров со снабжением, и Антонию пришлось отправить целый легион за провиантом в Грецию. Но и на Брута оказывали давление собственные войска, жаждавшие нового сражения. Солдаты уважали его как полководца меньше, чем Кассия, и после первой битвы (т. е. после смерти Кассия. — С.Т) Брут опасался дезер- тирств. Кроме того, его собственная линия снабжения с моря вскоре тоже оказалась под угрозой, поскольку Антоний и Октавиан заняли новые позиции на юге. Брут был вынужден принять второе сражение (23 октября). Фланг, которым он командовал лично, вновь добился некоторых успехов, но в итоге все его порядки были разбиты. Произошла страшная бойня, Брут покончил с собой. И с ним пришел конец делу республиканцев. Одни нобили из выживших тоже покончили с собой, другие были казнены, третьи получили прощение, а некоторым удалось сбежать к Мурку, Агенобарбу или Сексту Помпею. Большая часть войск перешла к триумвирам13.
Антоний давно был известен как военный, но до этого момента его успехи не были особенно яркими. При Фарсале крыло, которым он командовал, сыграло незначительную роль; в большинстве других сражений Цезаря он участия не принимал, а Мутинская война закончилась для него позором. Но теперь, когда враг был разбит, всё это было позабыто. Вклад же Октавиана в победу был мал; он действительно отсутствовал в первой битве — прятался в болотах, и даже его друзья14 не могли этого отрицать. Перед битвой войска были почти равны; именно операции Антония вынудили Освободителей на сражение, именно его отвага принесла в тот день победу. Антоний прославился, его реноме ощутимо поднялось. И тогда, и в последующие годы победителем при Филиппах весь мир считал Антония.
III. Восток, 42-40 гг. до н. э.
Возросшая мощь Антония отразилась на перераспределении сфер ответственности и влияния. Ему предстояло навести порядок на Востоке, также он сохранял за собой Дальнюю Галлию и получил Нарбонскую от Аепида; лишился Антоний лишь Цизальпийской Галлии, которая должна была стать частью Италии. Последняя номинально исключалась из
13 Аппиан. Гражданские войны. IV. 135.568—136.576; V. 2.4—9; Дион Кассий. XLVTL 49.3-4; Brunt 1971 (А 9): 488.
14 Агриппа и Меценат; см.: Плиний Старший. Естественная история. VH.148.
Глава 1. Эпоха триумвирата
23
раздела сфер влияния, но в ней оставался Октавиан, которому была поручена трудная и непопулярная задача — расселить ветеранов в италийских городах. И ему же предстояло вести войну с Секстом Помпеем, при этом Октавиан сохранял за собой Сардинию и тоже усиливался за счет Аепида, забрав у него обе испанские провинции. Самому Аепиду оставили только Африку, и даже ее — с некоторыми сомнениями15. Ясно, что он уже отставал от коллег. Антонию досталась также большая часть легионов. Многочисленные войска на Востоке уже отслужили свой срок, и их следовало распустить, остальных, в том числе доставшихся от Брута и Кассия, переформировали в одиннадцать легионов. Антоний получил шесть из них, Октавиан — пять, из которых два одолжил Антонию. Менее ясна ситуация с западными легионами, но и здесь, судя по всему, командиры Антония контролировали столько же легионов, сколько и Октавиан16. Антоний пообещал, что Кален передаст Октавиану два легиона взамен тех, которые Антонию одолжил Октавиан, но такие обещания легко нарушались — оба легиона остались в подчинении у Калена.
Антоний прекрасно помнил, как двое полководцев успешно вторглись в Италию из своих провинций: Сулла — с Востока и Цезарь — из Галлии. Теперь оба этих региона, и Галлия, и Восток, оказались под властью Антония. Угроза вторжения в Италию с этих территорий была очевидна. Случай с Галлией особенно интересен. Вся борьба и дипломатия предыдущих двух лет так или иначе являлись битвой за Галлию — стратегическая важность провинции была вполне очевидна17. Глядя в прошлое, мы неизменно связываем Антония с Востоком — пропаганда Октавиана вволю поиздевалась над его восточной испорченностью. Но нет никаких указаний на то, что Антоний планировал тогда сколько-нибудь длительное пребывание на Востоке. Конечно, его манили богатства и слава Востока; он мог бы снова разыграть сценарий Суллы17а, но столь же вероятным было и мирное возвращение Антония, подобное тому, как в 60-х годах до н. э. Помпей вернулся с Востока и получил новую власть и влияние на Западе. И при таком развитии событий, и в случае весьма вероятной ссоры триумвиров власть над Галлией оказалась бы жизненно важной. Наместником этой провинции был Кален с верными ему одиннадцатью легионами; Антоний мог положиться на него. И даже если Цизальпийская Галлия формально считалась частью Италии, она тем не менее оставалась под контролем Антония, ведь там находился Поллион, который тоже командовал ветеранами. Верный Вентидий тоже действовал на За¬
15 Сообщения Аппиана [Гражданские войны. V.3.12) и Диона Кассия (XLVTIL1.3; ср.: XLVIIL22.2) намекают на некоторые колебания.
16 Ср.: Brunt 1971 (А9): 493-497.
17 «...и Галлия, которая всегда защищает и защищала эту империю» («...Galliaque quae semper praesidet atque praesedit huic imperio». — Цицерон. Филиппики. V.37); ср. прежде всего: Филиппики. V.5; ХП.9, 13; ХШ.37.
17а Сулла воевал на Востоке с царем Понта Митридатом, но, когда Рим захватили его политические противники, Сулла вместе с армией вернулся в Италию, одержал победу над врагами у стен Рима и стал диктатором. — С.Т.
24
Часть I. Изложение событий
паде, возможно, в Галлии, возможно — в Италии18. В конечном счете, власть Антония над Галлией оказалась для него бесполезной, и после смерти Калена в 40 г. до н. э. Октавиан получил данную провинцию без борьбы. Именно эта важная историческая случайность — смерть Калена — и заставила Антония позднее решительно обратиться к Востоку. Но пока Кален был жив, Антоний сохранял власть над Галлией, что позволяло ему свободно рассматривать любые возможности.
Первым делом он занялся Востоком. Наведение там порядка было масштабной, но многообещающей задачей, к тому же это давало возможность начать войну против парфян. Царь Парфии Ород помогал Бруту и Кассию19, и теперь настало время мести. Республиканский полководец Лабиен до сих пор находился при парфянском дворе19а. Никто тогда не знал, чего ожидать от парфян, но, вне зависимости от того, вторгнется ли Парфия вновь в римскую провинцию Малая Азия, римский полководец всегда имел причины напасть на Парфию: отомстить за поражение Красса, пощекотать воображение римлян и поднять свой авторитет. Он даже мог стать вторым Александром, если бы всё прошло удачно, — это особенно соответствовало бы римскому вкусу.
Зиму 42/41 г. до н. э. Антоний провел в Греции, где различными способами выказывал симпатию к грекам20. Весной 41 г. до н. э. он переправился в Азию и, судя по всему, прежде чем вернуться на Эгейское побережье, посетил Вифинию и, вероятно, Понт21. В Эфесе, фактической столице Азии, Антония встретили как бога — на Востоке такие почести были в порядке вещей22, но вскоре, когда Антоний разослал в азиатские города своих представителей и озвучил свои денежные требования, богатство Востока обернулось горечью. И вновь Востоку пришлось финансировать обе стороны гражданской войны:22а на сей раз, чтобы заплатить войскам, требовались громадные суммы, вероятно, около 150 тыс. талантов, если предполагалось выплатить все обещанные вознаграждения23. Это значительно превышало даже возможности Востока, особенно после взысканий Долабеллы, а затем Кассия и Брута. Наконец, Антоний потребовал,
18 Аппиан. Гражданские войны. V.31.121; MRR П: 393.
19 Аппиан. Гражданские войны. IV.59.257, 63.271, 88.373, 99.414.
19а Лабиен был направлен Брутом и Кассием к парфянам за помощью. — С.Т.
20 Плутарх. Антоний. 23.
21 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.301—304; cp.: Buchheim 1960 (С 49): 11-12.
22 Плутарх. Антоний. 24.4, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
22а В 41 г. до н. э. Антоний взыскивал средства для уплаты войскам триумвиров, тогда как в 43-42 гг. до н. э. восточным провинциям приходилось содержать армии Брута и Кассия. ·- С.Т.
23 Аппиан (Гражданские войны. V.5.21) влагает в уста Антония слова о том, что он нуждается «в деньгах, в земле, в городах» для двадцати восьми легионов, в которых — 170 тыс. человек, включая всех, «кто еще находится в войске» («μετά των συντασσομένων»): имелись также конница и «масса других войсковых частей». Цифра в 170 тыс. человек может быть вполне реальной, если говорить обо всех войсках триумвиров, включая и тех, кто находился на Западе («οι συντασσδμενοι?»), которым обещали деньги, землю или и то, и
Глава 1. Эпоха триумвирата
25
чтобы Азия выплатила трибут за девять лет в течение двух лет;24 и ему бы очень повезло, если бы провинция сумела это сделать. Обычный трибут Азии составлял, вероятно, менее 2 тыс. талантов в год25. Даже с учетом контрибуций с других восточных провинций и дополнительных сумм, полученных от зависимых царей и свободных городов26, Антоний мог рассчитывать не более, чем на 20 тыс. талантов — сумму, которую при сходных обстоятельствах получил Сулла после Митридатовой войны. И не все эти средства можно было потратить на вознаграждения. Деньги требовались на текущие расходы для войск и штаба Антония, на строительство флота (поскольку Мурк, Агенобарб и Секст по-прежнему были сильны и внушали опасения27), на необходимые подготовительные мероприятия к войне с Парфией. Спустя год войска всё еще ожидали своих наград28.
Вместе с тем распоряжения Антония были отмечены и великодушием. Он фактически простил сторонников Брута и Кассия, за исключением лишь тех, кто непосредственно участвовал в убийстве, — это решение оказалось более милосердным, нежели многие ожидали29. Области, сильнее всего пострадавшие от Освободителей — Ликия и Родос, — были освобождены от налогов; позднее такую же льготу Антоний предоставил Лао- дикее и Тарсу. Родосу отошли некоторые новые земли — Андрос, Тенос, Наксос и Минд30. Что касается континентальной Греции, то афиняне вскоре прислали к Антонию посольство и тоже были облагодетельствованы: они получили контроль над несколькими островами, включая Эги- ну. Антоний явно благоволил крупным культурным центрам. Такой восточный филэллинизм, несомненно, был присущ его натуре, но также мог и оказаться политически полезным, и не только в определенных кругах в Риме; на самом Востоке среди монархов стало модно демонстрировать восхищение великими городами прошлого, оказывая им благодеяния; и эти города, вероятно, прославляли Антония, когда он оказывал такие же милости. Всякого рода привилегии и освобождения, предоставленные Антонием «всемирному союзу победителей на праздничных играх» (союзу, в котором, по всей видимости, состояли не только атлеты, но и художники с поэтами), теперь тоже стали возможными и вполне соответ-
другое, а вот «масса других войсковых частей» — явное преувеличение. Ср. прежде всего: Brunt 1971 (А 9): 489-494; Keppie 1983 (Е 65): 60-61.
24 Аппиан. Гражданские войны. V.6.27.
25 Броутон оценивает его в 1600 талантов, см.: Broughton 1938 (Е 821): 562—564.
26 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.6.27.
27 Аппиан. Гражданские войны. V.55.230.
28 Дион Кассий. XLVm.30.2.
29 Дион Кассий. XLVm.24.6 (согласно Диону Кассию, Лабиен, находившийся в Пар- фии, предполагал, что триумвиры не пощадят никого из своих противников. — С.Т.). Возможно, античный автор говорит здесь лишь о предположениях, но такие предположения часто сбывались.
30 Возможно, Аморг тоже, ср.: IG ХП 5.38; ХП. Supp.: 102, No 38, вместе с: Schmitt 1957 (Е 872): 186, примеч. 2; противоположное мнение см.: Fraser, Bean 1954 (E 828): 163, при- меч. 3.
26
Часть I. Изложение событий
сгвовали той же культурной политике31. Конец лета 41 г. до н. э. Антоний провел в поездках по Востоку, набирая новые войска и реорганизуя управление в провинциях после разрушений, принесенных войной, при этом сам он говорил о том, что Азии необходимо оправиться после «великой болезни»32. Расторопность Антония и территориальный охват его поездок в итоге оказались весьма впечатляющими, но при этом времени хватило лишь на несколько отдельных мероприятий. Внимание уделялось прежде всего регионам, расположенным восточнее, поскольку в случае войны с Парфией они приобрели бы важное значение. Особенно уязвима была Сирия. Города этой провинции с радостью встречали Кассия, и тот поддерживал тиранов, которые (как казалось) с большой симпатией относились к Парфии;33 большинству из них теперь пришлось уйти. Так, вероятно, повел себя Марион, тиран Тира34. Ирод из Иудеи также был скомпрометирован поддержкой, полученной от Кассия, но в этом случае Антоний достаточно хорошо разобрался в ситуации, чтобы не сыграть на руку антиримски настроенной знати. Ирод и его брат Фазаэль были признаны «тетрархами»; Иудея даже вернула себе часть земель, отданных прежде городам Финикии35. И, конечно, очень важен был Египет со своим богатством. Решение Антония вызвать царицу Египта к себе в Киликию стало судьбоносным.
Плутарх и Шекспир обессмертили знаменитую встречу на Кидне: великолепная позолоченная баржа, пурпурные паруса, Клеопатра в роли Афродиты — и прелестно, что это описание, скорее всего, по большей части правдиво36. Отношения царицы с Антонием быстро переросли просто дипломатические; их дети-близнецы родились всего год спустя. Как позднее рассказывали, Антоний провел зиму 41/40 г. до н. э. с Клеопатрой в Александрии в беспечном веселье37. Но случались и кровавые события. Клеопатра всё еще не вполне упрочила свою власть, угрозу представляла ее сестра — Арсиноя. Антоний приказал вытащить Арсиною из святилища в Эфесе и убить. Тиру пришлось выдать Серапиона — флотоводца, который предательски передал Кассию и Бруту флот Клеопатры; Арад вынужден был выдать претендента на египетский трон. Позднейшие
31 EJ2 300; RDGE 57; но, возможно, эти привилегии были предоставлены только в
32 г.; см.: RDGE ad loc.; Millar 1973 (С 175): 55; Millar 1977 (А 59): 456. Ср. также надпись триумвиров из Эфеса, которая касается привилегий при поездках для «учителей, софистов и врачей», см.: Knibbe 1981 (С 138).
32 В своем письме к иудеям, см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.312.
33 Согласно Аппиану [Гражданские войны. V. 10.39, 42), после своего низложения они бежали к парфянскому царю; возможно, так и было, cp.: Buchheim 1960 (С 49): 27.
34 Тираном он был в 42 г. до н. э., когда вторгся в Галилею (Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.238—239; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.298); но письмо Антония 41 г. до н. э. (см. сноску 35 к наст, гл.) обращено только к магистратам и совету (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV. 314). Cp.: Weinstock Ц RE XIV: 1803.
35 О Тире, Сидоне, Антиохии и Араде ср.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.30T-323 — здесь дословно цитируется письмо Антония к иудеям и Тиру.
36 Плутарх. Антоний. 26, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
37 Плутарх. Антоний. 28—29; ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.11.43—44.
Глава 1. Эпоха триумвирата
27
авторы, естественно, считали, что к таким жестокостям Антония побудила страсть; но тот, вероятно, видел политическую выгоду в том, чтобы помочь Клеопатре во всех этих делах. Антоний обычно оказывал поддержку сильным, талантливым правителям, таким как Полемон Понтий- ский или Ирод Иудейский, людям, на которых он считал возможным полагаться; и, конечно, он мог положиться на Клеопатру. Он явно контролировал свою страсть — по меньшей мере на тот момент. Весной 40 г. до н. э. Антоний покинул Египет и не возвращался к Клеопатре около четырех лет.
Весной Антонию было не место в Александрии. Приходили тревожные вести о беспорядках в Италии, и возникла непосредственная угроза в самой Малой Азии. В течение 41 г. до н. э. Антоний, возможно, готовился к наступательной войне против Парфии, к концу сезона он даже взял пограничный город Пальмиру в Сирии. Вполне естественно, что в ответ Парфия, судя по всему, стала собирать войска в Месопотамии для отражения очевидной угрозы. Но, стоило Антонию уехать на зиму в Александрию, как парфяне воспользовались моментом и сами напали на римскую провинцию Малая Азия38. Вместо блистательной кампании отмщения Антонию пришлось спешно организовывать хоть какую-то оборону. Парфянами командовали наследник престола Пакор и сам Квинт Ла- биен, сын того знаменитого легата Цезаря, который в начале гражданской войны перешел на сторону Помпея. Брут и Кассий отправили его за помощью к Ороду, и Лабиен еще находился при дворе парфянского царя, когда получил вести о битве при Филиппах. Решение Лабиена остаться на месте было, несомненно, мудрым. Нет причин сомневаться, что он сыграл не последнюю роль в решении Орода напасть на Антония именно теперь, когда можно было рассчитывать на неготовность последнего к схватке. Легко счесть Лабиена новым Кориоланом, изменником, который из-за обиды обратился против своей страны, но это несправедливо. На самом деле республиканцы уже довольно давно пытались получить поддержку Парфии. В свое время Помпей добивался союза с Ородом против Цезаря39, спустя несколько лет парфяне помогали республиканским войскам Квинта Цецилия Басса против цезарианцев в Сирии40, парфянские части даже участвовали в битве при Филиппах41. Говоря о Западе, римские политики тоже могли указывать, что в гражданских войнах в Риме участвуют и галльские аристократы, и намекать, что последние — более достойные борцы за справедливость, чем сами римляне42. Несомненно, подобные напыщенные фразы были несвободны от лицеме¬
38 Дион Кассий (ΧΤΛ/ΊΠΤ 24.6 — 8) ясно пишет, что это решение было принято после того, как Лабиен узнал, что Антоний «отбыл в Египет».
39 Плутарх. Помпей. 76.4; в целом cp.: Timpe 1962 (С 236): 114—116.
40 MRR П: 308.
41 См. с. 24 наст. изд. и сноску 19 наст. гл.
42 Это слова Планка, фигурирующие в переписке Цицерона (К близким. Х.8.3, 6, с комментариями Д.-Р. Шеклтона-Бэйли (D.R. Shackleton-Bailey)).
28
Часть I. Изложение событий
рия, но они свидетельствуют, что так себя вел не только Лабиен. Его и в самом деле встретили с радостью многие римские гарнизоны в Сирии43 и, очевидно, в Азии тоже44.
Кампания началась ранней весной 40 г. до н. э. Лабиен, именовавший себя теперь Квинтом Лабиеном Парфянским, императором (Q. LABIENUS PARTHICUS IMPERATOR45), и Пакор быстро вторглись в Сирию. Это случилось прежде, чем Антоний успел добраться до Тира. Впрочем, оттуда он всё равно счел необходимым отплыть на запад, в Италию. Парфяне же продолжали одерживать победы. Пакор занял Палестину и посадил на трон претендента Антигона, Фазаэль попал в плен, но сумел покончить с собой, Ирод бежал в Рим. Тем временем Лабиен стремительно пересек Киликию и устремился к Ионийскому побережью. Карийские города Алабанда и Миласа сдались ему, а Сгратоникея и Афродизиада, очевидно, страшно пострадали46, как, возможно, и Милет47. Была захвачена и Лидия48. Серьезного сопротивления Лабиен не встречал до самого 39 г. до н. э. К тому времени его власть ощутила на себе и Малая Азия, посланцы Лабиена собирали деньги даже с Вифинии49.
Антоний ничего не мог с этим поделать, поскольку из Италии тогда приходили еще более тревожные вести.
IV. Перузия, 41-40 гг. до н. э.
Еще до битвы при Филиппах триумвиры избрали восемнадцать италийских городов, чтобы распределить их земли между своими ветеранами. Миссия проводить расселение выпала Октавиану. Эти ненавистные мероприятия влекли за собой обширные конфискации и глубокое обнищание выселенных, которые не получали никакой компенсации. Такова была страшная кульминация насилия и жестокости, уже полвека царивших в сельской местности. «Эклоги» Вергилия, особенно первая и девятая, трогательно запечатлели горести маленького хозяйства. Но самые мелкие
43 Дион Кассий (XLVTH.25.2) подразумевает, что гарнизоны состояли из старых ветеранов армий Брута и Кассия, хотя вряд ли Антоний мог бы поставить солдат из вражеских армий в такую ненадежную область, как Сирия, ср.: Brunt 1971 (А 9): 497.
44 Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); ср.: Brunt 1971 (А 9): 497.
45 Так он именуется на монетах, см.: Ef2 8; RRC 524; ср.: Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); Плутарх. Антоний. 28.1; Дион Кассий. XLVTIL26.5. И Плутарх, и Страбон понимают титул «Parthicus imperator» как «командир парфян»; но более правдоподобно мнение Диона Кассия, который считает «Parthicus» прозвищем, полученным Лабиеном в момент, когда подчиненные ему войска провозгласили его императором, а он присовокупил еще и кошомен «Парфянский». Ср.: Crawford 1974 (В 319): 529; Wallmann 1989 (С 243): 232—234.
46 Дион Кассий. ХЬУШ.26. 3-Т; Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); Тацит. Анналы. Ш.62.2; RDGE 27 (Сгратоникея) и 59—60 (Миласа); Reynolds 1982 (В 270): док. 11, 12 и, возможно, 7 и 13 (Афродизиада).
47 Rehm 1914 (В 267): 128-129.
48 Плутарх. Антоний. 30.2.
49 Страбон. ХП.8.7—9 (574 С).
Глава 1. Эпоха триумвирата
29
хозяйства, в конце концов, были исключены из программы распределения, и зачастую так же обстояло дело с самыми крупными. В частности, конфискации не подлежали сенаторские поместья. И, поскольку в большинстве городов некоторым прежним владельцам (veteres possessores) удалось сохранить свою собственность, можно предположить, что и наиболее влиятельные местные граждане добивались для себя освобождения от конфискаций. И всё же большая прослойка обеспеченных людей среднего класса лишилась собственности: одни из них прежде вели хозяйство на грани выживания, а другие были весьма состоятельны и имели рабов и виллы. В результате последнего распределения их владения заменила шахматная доска стандартных наделов; по-видимому, обычно рядовые солдаты получали участки в пятьдесят югеров49а, а офицеры, вероятно, — в сто югеров или больше. Восемнадцати городов оказалось недостаточно, и, возможно, конфискациям подверглось целых сорок городов. Обычно в случае нехватки земель в городах, определенных триумвирами заранее, конфискации распространялись и на территории соседних городов, как произошло с Мантуей, родиной Вергилия, когда в соседней Кремоне оказалось слишком мало земли: «Мантуя, слишком, увы, к Кремоне близкая бедной» («Mantua, vae miserae nimium vicina Cremonae»)50.
Всё это происходило на фоне голода, терзавшего Италию, ибо флот Секста Помпея, мощь которого возросла, мешал кораблям с жизненно необходимым зерном заходить в италийские порты. (Суда Агенобарба и Мурка действовали так же, хотя пока независимо от Секста.) Неудивительно, что начались активные протесты землевладельцев, богачей из италийских городов, городского плебса, даже самих ветеранов; последние были недовольны тем, что расселение идет слишком медленно, и в то же время стремились защитить владения своих семей и семей погибших товарищей. Вскоре по всей Италии стали вспыхивать беспорядки, случаться стычки между новыми колонистами и теми, кому они угрожали; в сельской местности рыскали вооруженные банды. Улаживание этих конфликтов грозило затянуться на годы51.
Луций Антоний, брат Марка Антония, был консулом в 41 г. до н. э.; он отнюдь не горел желанием помогать Октавиану и стал объединяющим центром для недовольных. Вероятно, сначала Луцию противодействовала Фульвия, жена Антония52, но вскоре она всецело его поддержала.
49а 1 югер = 2519 кв. м. — С.Т.
50 Вергилий. Эклоги. IX.28. (Пер. С.В. Шервинского.) О расселении см. прежде всего: Gabba 1970 (В 55): lix-lxviii; Gabba 1971 (С 93); Brunt 1971 (А 9): 290-291, 294-300, 328- 331, 342-344; Schneider 1977 (D 231): 213-228; Keppie 1985 (E 65): 58-69, 87-133 и (о Кремоне) 190-192.
5 Аппиан. Гражданские войны. IV.25.104 (43/42 гг. до н. э.), V. 18.72—73 (41^Ю гг. до н. э.), 132.547 (всё это продолжалось и в 36 г. до н. э.); Дион Кассий. XLVIIL9.4—5, ХПХ.15.1; ср. особенно: Gabba 1970 (В 55): lxvi; Brunt 1971 (А 9): 291.
02 Аппиан. Гражданские войны. V.19.75; ср.: Плутарх. Антоний. 30.1. Но роли Фульвии по-прежнему трудно дать адекватную оценку — к моменту заключения Брундизийского мира она уже была мертва, и после этого, как проницательно отмечает Дион Кассий (XLV1II.28.3), всем было выгодно обвинить в войне именно ее.
30
Часть I. Изложение событий
Недовольных они побуждали к сопротивлению во имя свободы и действующих законов53. Вероятно, не следует воспринимать их личную приверженность идеалам свободы слишком серьезно54, но примечательно, что они выбрали достойные лозунги; и действительно, старые республиканцы обычно больше симпатизировали Антонию, чем Октавиану55. Ветеранам Луций и Фульвия внушали, что всё будет хорошо, как только вернется Антоний: ещё одним их лозунгом стал долг верности по отношению к этому великому человеку. Луций Антоний даже взял себе ког- номен Pietas («верность»), что выглядело довольно нелепо56. Также звучали обвинения в том, что при расселении Октавиан оказывает предпочтение собственным ветеранам в ущерб ветеранам Антония, а также требования, чтобы за расселением ветеранов Антония наблюдал кто-нибудь из его сторонников57. Эти обвинения были очевидной ложью: колонии ветеранов Антония в итоге оказались более многочисленны и более удачно расположены стратегически58. Но Октавиан всё же счел за лучшее согласиться на требования представителей Антония, хотя, согласно заключенному при Филиппах соглашению, он был вправе организовать расселения так, как сам сочтет нужным. Это соглашение и вправду казалось менее и менее надежным. От других командиров Антония шуму было меньше, чем от консула Луция, но и они усиливали напряжение: Кален так и не отдал два обещанных легиона; Поллион заблокировал путь Сальвидиену Руфу, когда тот попытался пройти с шестью легионами в Испанию.
Поначалу Антоний, находившийся далеко на Востоке, счел за лучшее не выказывать своего отношения к этим событиям, хотя, конечно, был в курсе происходящего. На сей счет постарались все: Октавиан отправлял к нему тайных посланцев; жители колоний тоже позаботились, чтобы об их тяжелом положении стало известно59. Вероятно, сам Антоний не планировал и не провоцировал трудности: нелегко было решить, выиграет ли он от этого конфликта или проиграет. Теперь он имел возможность просто радоваться трудностям Октавиана, но едва ли мог выступить против него открыто — в конце концов, Октавиан всего лишь выполнял свою часть общей договоренности. Кроме того, Антоний не мог разочаровать своих ветеранов или допустить, чтобы они питали к Октавиану большую благодарность, чем к нему самому. Вскоре ветераны могли вновь потребоваться Антонию. Преднамеренная двойственность его позиции имела свои резоны, позволяя ему извлечь выгоду при любом исходе — в антич¬
53 Аппиан. Гражданские войны. V.19.74, 30.118, 39.159—161, 43.179—180; ср.: Дион Кассий. XLVTIL 13.6; Светоний. Божественный Август. 12.1 (с ошибочной датировкой).
54 Другую точку зрения см.: Gabba 1971 (С 93): 146—150; Roddaz 1988 (С 201).
55 Некоторые даже сражались за Антония и погибли, когда пала Перузия, см.: Roddaz 1988 (С 201): 339-341.
56 Ер7; Дион Кассий. XLVIIL5.4; cp.: Wallmann 1989 (С 243): 82—84.
57 Аппиан. Гражданские войны. V. 14.55; Дион Кассий. XLVIL14.4; cp.: Keppie 1983 (Е 65): 59-60.
5* Keppie 1983 (Е 65): 66-67.
59 Аппиан. Гражданские войны. V.21.83, 52.216, 60.251; ср.: Дион Кассий. ХЬУШ.27.1.
Глава 1. Эпоха триумвирата
31
ности медлительность и ненадежность коммуникаций иногда могли сослужить хорошую службу. Но на сей раз последствия такой политики оказались печальными. Соратники Марка Антония в Италии, не понимавшие его намерений, озадаченные донесениями и письмами, были сбиты с толку60. Как уже случалось в 44 и 43 гг. до н. э., командиры и сами ветераны стали настаивать на компромиссе61, такую же позицию заняли и два посольства сената к Луцию Антонию. Но летом 41 г. до н. э. разразилась война.
Луций Антоний с армией занял Рим и направился на север, надеясь соединиться с Поллионом и Вентидием. Операции в Этрурии были сложными и запутанными, но осенью Луцию Антонию пришлось отступить в Перузию, где его осадили Октавиан, Агриппа и Сальвидиен Руф. Пол- лион и Вентидий, всё еще не знавшие точно, что на уме у Марка Антония, решили не вмешиваться. Планк, подошедший к Перузии с юга, принял аналогичное решение. В результате тринадцать легионов под командованием сторонников Марка Антония бездействовали; у самого Луция Антония их было лить восемь62. Осада продолжилась — и оказалась тяжелой. Обе армии впустую тратили время, царапая на ядрах для пращи неприличные надписи о плеши Антония, заде Октавиана и половых органах Фульвии; сам Октавиан писал необычайно грубые стихи в адрес Фуль- вии63. Наконец, в начале весны 40 г. до н. э. город пал, и последовало чудовищное кровопролитие. Ветеранов Луция Антония пощадили: примечательно, что за них заступились их прежние товарищи, сражавшиеся на стороне Октавиана64. Самого Луция Антония Октавиан принял с почетом и отправил наместником в Испанию (вскоре после этого Луций умер). Фульвии он позволил бежать в Афины. Простым жителям Перузии повезло меньше. Были уничтожены все члены городского совета, кроме одного. Враги Октавиана вскоре тщательно обработали эту историю, рассказывая, что триста сенаторов и всадников были принесены в жертву на алтаре Божественного Юлия65, но и неприукрашенная правда была достаточно ужасна. Сам город Октавиан отдал своим войскам на разграбление, а затем сжег дотла. Через несколько лет умбриец Проперций решил завершить первую книгу своих остроумных любовных элегий тревожным и неожиданным эпилогом — двумя краткими и сильными стихотворениями о горестях Перузийской войны (1.21, 22).
60 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.29.112 (письмо, которое упоминает в этом пассаже Аппиан, могло быть поддельным), 31.120.
61 Аппиан. Гражданские войны. V.20.79—23.94.
62 Аппиан. Гражданские войны. V.50.208; ср.: 24.95, 29.114—30.115; Brunt 1971 (А 9): 494-496.
63 ILLRP 1106—1118; ср.: Hallett 1977 (С 109). Вирши Октавиана цитирует Марциал (XI. 20).
64 Аппиан. Гражданские войны. V.46.196-^7.200.
65 Светоний. Божественный Август. 15.1; ср.: Дион Кассий. XLVHI.14.4; Аппиан в «Гражданских войнах» (V.48.201—202) ясно пишет, что сенаторов и всадников пощадили. В целом см.: Harris 1971 (Е 55): 301—302.
32
Часть I. Изложение событий
Если старшему поколению Помпей казался юным мясником («adulescentulus carnifex»), то Октавиан, конечно, встал с ним вровень. Но, в отличие от Помпея, последний не распустил ветеранов и решительно подчинил себе Италию. Вскоре он даже стал владыкой всего Запада: летом 40 г. до н. э. умер Кален, наместник Галлии, и Октавиан быстро занял эту провинцию. По всей видимости, легионы Калена перешли к Октавиану достаточно охотно, так же поступили и два легиона Планка в Италии. Возможно, они чувствовали, что Октавиан теперь надежнее защитит их интересы66.
Неудивительно, что Антоний встревожился. В середине лета 40 г. до н. э. он поспешил обратно в Италию и прибыл туда с довольно сильным войском.
V. Брундизий и Мизен,
40-39 гг. до н. э.
По мере того как отношения Антония и Октавиана портились, каждый из них старался привлечь на свою сторону Секста Помпея. Он и в самом деле мог стать ценным союзником: к нему недавно присоединился Мурк, и объединенный флот Секста теперь насчитывал примерно две с половиной сотни кораблей67. В это время, летом 40 г. до н. э., Октавиан женился на Скрибонии, сестре Луция Скрибония Либона, соратника и тестя Секста. Но Секст никогда полностью не доверял Октавиану и предпочел обратиться к Антонию; Юлия, мать Антония, тайно бежала к Сексту после падения Перузии — это указывает, что на тот момент Антоний и Секст уже достигли некоторого взаимопонимания. Секст отправил ее к Антонию в сопровождении влиятельных лиц, включая Либона, чтобы воспользоваться возможностью и предложить Антонию союз. Тот ответил сдержанно, но подал надежду: если сам он станет воевать с Октавианом, то будет рад союзнику в лице Секста, а если примирится с Октавианом, то постарается также уладить разногласия между последним и Секстом. Достигнутое взаимопонимание оказалось достаточно глубоким, чтобы Секст совершил рейд на италийское побережье в поддержку Антония68, а несколько позднее занял Сардинию и сместил наместника Октавиана — Марка Лурия.
Жестокость Октавиана в Италии и, возможно, непреклонный отказ восстановить свободу, чего требовал Луций Антоний, имели серьезные последствия. Консул Поллион убедил Домиция Агенобарба примкнуть к Антонию, и его семьдесят судов объединились с двумя сотнями кораблей Антония, направлявшимися в Брундизий. Расстановка сил, имевшая мес-
66 Ср.: Дион Кассий. Х1ЛЧП.20.3; Aigner 1974 (С 3): ИЗ.
67 Аппиан. Гражданские войны. V.25.100; Веллей Патеркул. П.77.3
68 Дион Кассий (XLVTn.20.1—2) четко датирует это событие серединой лета.
Глава 1. Эпоха триумвирата
33
то в начале 43 г. до н. э., парадоксальным образом вывернулись наизнанку. Республиканцы и Антоний (с Секстом на заднем плане) вместе противостояли оказавшемуся в изоляции Октавиану; столкновение в Брунди- зии могло стать Мутной наоборот6821, за исключением лишь того, что теперь и Антоний, и Октавиан существенно усилились. Но, как и в 43 г. до н. э., Антоний и Октавиан сочли разумным договориться — только на сей раз не обостряя ситуацию до серьезного кровопролития.
Поначалу велись некоторые военные действия. Город Брундизий, который охраняли пять легионов Октавиана, не впустил флот Антония и оказался в осаде, а тем временем Секст продолжал набеги на побережье. Октавиан отправил Агриппу на помощь Брундизию и сам быстро после-
u £Q
довал туда же; его войска имели численное превосходство , но подчинялись неохотно, и некоторые солдаты повернули обратно. Состоялась небольшая стычка, в которой Антоний одержал верх. Но к этому времени делегации обеих армий уже добивались компромисса, и было неясно, станет ли вообще кто-то сражаться. Друзья двух полководцев начали обсуждать условия примирения: Меценат выступал от имени Октавиана, Поллион — за Антония, а Луций Кокцей Нерва занимал нейтральную позицию. Представитель Лепида не присутствовал, что неудивительно. (Во время Перузийской войны Лепид действовал в Италии весьма неудачно и теперь находился в Африке, в стороне от дел.) Так (в сентябре 40 г. до н. э.) было заключено Брундизийское соглашение.
Соглашение во многом повторяло договор, заключенный при Филиппах, за исключением важного изменения, вызванного смертью Калена. Власть Октавиана в Галлии теперь была признана, кроме того, он получил Иллирию. Антонию же не просто было поручено навести порядок на Востоке — он признавался его властителем. Соответственно, мир был разделен более четко: Антоний контролировал Восток, а Октавиан — Запад. Город Скодра в Иллирии приобрел беспрецедентное значение, став пограничным пунктом их владений. Лепид, по условиям соглашения, сохранял за собой Африку, хотя она была не слишком ценной. Антонию предстояло отомстить за Красса и выиграть войну с парфянами, а Октавиану — отстоять свои претензии на Сардинию и Сицилию, изгнав оттуда Секста, если только тот не захочет прийти к какому-то соглашению (любопытное условие). Также была согласована амнистия для сторонников республиканцев. Антоний и Октавиан распределили консульства на следующие несколько лет и заново разделили легионы, причем Антоний получил некоторую компенсацию за армию Калена69 70.
Разделение на Восток и Запад было менее жестким, чем это выглядело со стороны. Например, и восточные, и западные области могли адресо¬
68а При Мутине Антоний противостоял объединенным силам Октавиана и республиканцев. — С.Т
69 Brunt 1971 (А 9): 497.
70 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.66.279, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55); Brunt 1971 (А 9): 498.
34
Часть I. Изложение событий
вать свои петиции Октавиану, а тот имел полномочия на них отвечать71. Он даже направил έντολαί, «поручения» [лат. mandata), Антонию, требуя вернуть награбленное Эфесу72. Но, хотя этот раздел был лишь условным, он имел прямые последствия. Во-первых, будущее Антония теперь было сильнее связано с Востоком. Если бы дело дошло до войны, он больше не мог рассчитывать на повторение сценария 49 г. до н. э., что он, будто новый Юлий Цезарь, спустится с Альп в трепещущую Италию. Во-вторых, бесценным ресурсом стала позиция Октавиана в Италии. В 42 г. до н. э. она казалась обузой из-за множества ветеранов, которых требовалось расселить, но Октавиан пережил эту бурю. Теперь предполагалось, что Италия будет принадлежать обоим полководцам и оба смогут набирать там войска. Но Октавиан находился в Италии, а Антоний — нет. Как показало время, у Октавиана имелось больше возможностей представить себя защитником римских и италийских традиций против чудовищного явления — Марка Антония, который деградировал, впал в восточную бездеятельность и усвоил восточные обычаи. Контроль над Италией, который в 42 г. до н. э. свидетельствовал о более слабом положении Октавиана, позднее стал важным фактором его окончательного успеха.
Согласие, достигнутое между Антонием и Октавианом, укрепил новый союз, который добавил красок романтичной легенде, сложившейся позднее. Антоний теперь овдовел, поскольку Фульвия очень кстати умерла в Греции. Его новой невестой стала Октавия, рассудительная сестра Октавиана. Великий династический брак должен был гарантировать единство их владений. Не было нужды всё усложнять какими-то мыслями о Клеопатре.
Италия бурно радовалась Брундизийскому договору. Возможно, не следует связывать с этим событием 4-ю эклогу Вергилия; более вероятно, что она была написана раньше, в тяжелые дни конца 41 г. до н. э., и задумывалась как приветствие в адрес Поллиона, вступившего в должность консула в первый день 40 г. до н. э. Но известно и о более прозаическом праздновании. 12 октября магистраты города Казин возвели памятник в честь согласия, «signum Concordiae»73. В ознаменование этого события были также отчеканены монеты: например, на одной изображена
71 Ср. переписку Октавиана с Розосом (EJ2 301; RDGE 58) и Эфесом, Самосом и Аф- родизиадой (Reynolds 1982 (В 270): док. 10, 12 и, возможно, 6, если этот документ правильно датирован и интерпретирован, 13 со с. 39-40); Millar 1973 (С 175): особенно 56; Badian 1984 (В 208).
72 Reynolds 1982 (В 27): док. 12; Millar 1973 (С 175): 56. В пьесе «Антоний и Клеопатра» (1.1.20—22) слова Клеопатры ближе к истине, чем думал сам Шекспир:
Вдруг Фульвию ты чем-то прогневил?
А может статься, желторотый Цезарь
Повелевает грозно: «Сделай то-то...»
[Пер. М. Донского)
73 ILLRP 562а.
Глава 1. Эпоха триумвирата
35
голова богини Согласия (Concordia) и две руки с кадуцеем (символом согласия) и надписью «M.ANTON.C.CAESAR.IMP»74 (Марк Антоний, Гай Цезарь Император. — С.Т.). Вернувшись в Рим через несколько недель, Антоний и Октавиан отпраздновали овации. Но и на сей раз веселье длилось недолго. Во-первых, обедневшие триумвиры опять установили небывалые налоги75. Столь же серьезные проблемы создавал Секст, который имел основания для недовольства условиями Брундизийского соглашения, а потому продолжал давление. Через несколько недель после заключения соглашения произошли бои на Сардинии: сначала Гелен, полководец Октавиана, вновь захватил остров, но затем его изгнал Менодор, адмирал Секста. К этому времени Секст захватил и Корсику, проник в Галлию и Африку76 и исключительно эффективно блокировал италийские суда с зерном. К ноябрю Рим вновь голодал, а Антоний и Октавиан столкнулись с вооруженными массовыми беспорядками. У обоих были и собственные проблемы, так что обстановка накалилась, взаимные подозрения усилились. Антоний казнил своего представителя Мания, который ранее, во время Перузийской войны, развил очень активную деятельность. Еще удивительнее, что Октавиан отозвал из Галлии своего полководца Сальвидиена Ру фа и приказал его убить. Этот необычный деятель был избран консулом на следующий год, и впервые после Помпея Магна консульство предстояло занять человеку, не входившему в сенат; его падение стало большой неожиданностью. Говорили, что ранее в этом же году он сговаривался с Антонием, и тот публично признал факт договоренностей. Трудно поверить, что такое было возможно, но истина от нас совершенно скрыта77.
Убийству Сальвидиена предшествовало принятие чрезвычайного постановления сената («senatus consultum ultimum» — SCU). Экстраординарные полномочия триумвиров допускали обращение к таким казням в чрезвычайном порядке, но, как обычно, SCU имело значение скорее для морального, нежели правового обоснования их действий. Моральная поддержка сената ценилась до сих пор, и здесь налицо один из нескольких случаев, когда триумвиры продемонстрировали уважение к конституции. Например, для брака Октавии и Антония имелись формальные преграды: у невесты еще не прошел законный срок траура после смерти ее предыдущего мужа, Марцелла, но триумвиры добросовестно получили у сената освобождение от соблюдения этой нормы78. Другой пример: Антоний и Октавиан договорились о том, что царем Иудеи должен быть признан Ирод, но вынесение формального решения было оставлено за сенатом, где в дебатах принял участие сам Антоний. После этого на Капито¬
74 RRC 527-529, особенно: 529.4а; cp.: Wallmaim 1989 (С 243): 80-82.
75 Аппиан. Гражданские войны. V.67.282, с комментариями Габбы; Дион Кассий. XLVHL31; XLVm.34.2; cp.: Nicolet 1976 {D 104): 95.
76 Аппиан. Гражданские войны. V.67.280; Дион Кассий. XLVUI.30.
77 Syme 1939 (А 93): 220, примеч. 6.
78 Плутарх. Антоний. 31.5; cp.: Buchheim 1960 (С 49): 40—41.
36
Часть I. Изложение событий
лий поднялась торжественная процессия во главе с консулами79. Кроме того, в 39 г. до н. э. триумвиры получили от сената постановление об одобрении всех их прошлых и будущих действий80 — и в этом еще одно проявление уважения к конституции, хотя и довольно комичное. Как и Луций Антоний двумя годами ранее, триумвиры явно чувствовали, что общество уважает традиции и с этим следует считаться.
Но, конечно, наступление мира порадовало бы людей сильнее, нежели соблюдение традиций. Брундизийское соглашение прямо предусматривало возможность договориться и с Секстом. Но было неясно, согласится ли сам Секст; по-видимому, его разнообразные соратники расходились во мнениях. Флотоводец-пират Менодор, как сообщается, убеждал Секста продолжать войну. Стай Мурк и прочие придерживались противоположного мнения. И здесь тоже дело осложняли подозрения и глубокое недоверие Секста к Мурку. Последний, само собой разумеется, умер при таинственных обстоятельствах. Но Секст всё же понимал, что совет Мурка был верен, да и сам всегда реалистично оценивал свои шансы на победу в полномасштабной войне. Весной 39 г. до н. э. в Энарии состоялась предварительная встреча посредников. Секста представлял Скри- боний Либон, вновь добивавшийся примирения. Затем, в середине лета, а возможно, уже в августе81, Октавиан, Секст и Антоний встретились на мысе Мизен и согласовали условия. Секст оставлял за собой Корсику, а также Сицилию и Сардинию, получал Пелопоннес и сохранял эти владения пять лет. Были согласованы и кандидатуры консулов вплоть до 32 г. до н. э.: Либону было обещано консульство на 34 г. до н. э., а Сексту — на 33 г. до н. э., по истечении его пятилетней власти. Сразу по заключении договора Секст получил сан авгура. В обмен на всё это Секст обязался снять блокаду с Италии и отвести войска, не строить больше кораблей и не принимать у себя беглых рабов, гарантировать Риму поставки зерна и «держать море свободным от пиратов». Сторонникам Секста было разрешено вернуться в Италию, проскрибированные получили амнистию и даже некоторую компенсацию за конфискованное имущество. Соратникам Секста из числа рабов была обещана свобода, а свободным воинам после выхода в отставку — такое же вознаграждение, как и солдатам триумвиров. И Антоний, и Октавиан, несомненно, были вполне готовы исполнить последнее условие: тем самым они успокоили бы многих сторонников Секста, и, если бы дело дошло до войны, последнему было бы не так просто вновь призвать их к оружию82. Велись
79 Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.282—285; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.381—385. Сенат оказал восточным провинциям и другие милости: в частности, Стра- тоникея, Милет и Афродизиада-Плараса, по-видимому, были объявлены свободными городами (Reynolds 1982 (В 270): док. 9).
80 Аппиан. Гражданские войны. V.75.318; Дион Кассий. Х1ЛЧП.34.1; Reynolds 1982 (В 270): док. 8, со с. 39; ср.: Millar 1973 (С 175): 53-54.
81 Reynolds 1982 (В 270): 70-71.
82 Примечательно, что предложение о компенсации было сделано проскрибирован- ным напрямую и явно оказалось более приемлемо для них самих, чем для Секста: Аппиан. Гражданские войны. V.71.301—302.
Глава 1. Эпоха триумвирата
37
разговоры и об уважении к конституции, на сей раз даже — о «восстановлении республики», возможно, через восемь лет03.
В честь заключения мира состоялось пиршество на галере Секста, которое тоже дало богатый материал для легенды о том, как отчаянный Менодор смотрел на якорный трос и думал о том, чтобы перерубить его и сделать Секста властителем всего мира83 84. Соглашение действительно было довольно шатким, хотя и по менее романтичным причинам — в основном потому, что оно ослабляло Октавиана и представляло для него явно большую угрозу, чем для Антония. Соглашение также давало Антонию возможность вернуться на Восток, и вскоре после 2 октября 39 г. до н. э. он уехал вместе с Октавией85. Впредь Антонию не суждено было увидеть Рим.
V. Восток, 39-37 гг. до н. э.
Всё лето 39 г. до н. э. в Рим приходили вести с Востока. Они были на удивление хорошими. Годом ранее Антоний отправил Вентидия, чтобы тот попытался вернуть Малую Азию86, и, по всей видимости, Вентидий захватил Аабиена врасплох, заставил его отступить на восток и, наконец, заманил в ловушку и разбил у горной цепи Тавр, возможно, в Киликийских воротах (середина лета 39 г. до н. э.). Сам Лабиен бежал в Киликию, но там его настигли и, вероятно, убили. Позднее этим же летом у горы Аман Вентидий одержал другую важную победу над Франипатом — сатрапом недавно покоренной парфянами Сирии. Франипат был убит, а остальные парфянские войска вернулись за Евфрат. Вентидий достиг великолепных успехов, и осенью 39 г. до н. э. сенат уже мог вознаградить некоторые области за то, что они сопротивлялись Лабиену, — Стратони- кею, Афродизиаду-Пларасу и (тогда же или несколько позднее) Милет87. Война казалась завершенной. И в самом деле, Антонию оставалось сделать до неприличия мало.
Проведя зиму в Афинах, весной 38 г. до н. э. Антоний приготовился отбыть на Восток. Следовало позаботиться о некоторых подготовительных мероприятиях. С уходом парфян настал удобный момент для реорганизации (по меньшей мере предварительной) ряда территорий на Востоке. В это время Антоний сосредоточился на большой области, охваты¬
83 Аппиан. Гражданские войны. V.73.313.
84 Плутарх. Антоний.Ъ2\ ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.73.310; Дион Кассий. XLVm.38.
85 Reynolds 1982 (В 270): док. 8, сгк. 26, с комментариями автора.
86 О датировке см.: Pelling 1988 (В 138): 206; Wallmann 1989 (С 243): 234.
87 О Сгратоникее см.: RDGE 27. Об Афродизиаде-Пларасе см.: Reynolds 1982 (В 270): док. 8, 9; ср.: док. 6, стк. 28—29, док. 10, стк. 2, с комментариями автора. О Милете см.: Milet I, 3: Nq 126, стк. 23—25, со с. 252—253. Magie 1950 (Е 853): 1218, примеч. 15. Если в Документе: Reynolds 1982 (В 270): док. 7 речь идет о войне с Лабиеном (ср. сгк 3—4, с комментариями Дж. Рейнолдс), то награждены были также Родос, Ликия, Лаодикея и Таре. В целом об этой кампании ср.: Sherwin-White 1984 (А 89): 303—304.
38
Часть I. Изложение событий
вавшей центральную Малую Азию — с севера до юга. Двадцатью пятью годами ранее Помпей присоединил значительную часть Западного Понта к Вифинии, но тем местным городам, которым покровительствовал, позволил сохранить немалые полномочия во внутренних делах. Антоний обратил процесс вспять: ослабил города и создал новое и сильное Понтий- ское царство88. Править возрожденным Понтом предстояло потомку Митридата Евпатора — Дарию. Дейотар, царь Галатии, умер, и его владения в Понте были переданы Дарию, однако внук Дейотара — Кастор — был признан царем Галатии и получил внутреннюю Пафлагонию89. Итак, Антоний следовал традиционной римской политике, согласно которой следовало поддерживать царей из древних царских династий; по этой же причине и Лисаний был утвержден на троне Итуреи90. Принимая эти решения, Антоний не слишком оглядывался на то, кому ранее служили его ставленники: Лисаний, например, прежде поддерживал парфян91. Но при этом Антоний имел и новых талантливых ставленников — своих собственных. Аминте, который когда-то был секретарем Дейотара, досталась Писидия; Полемон из Лаодикеи на Лике, чей отец, Зенон, был одним из немногих противников Лабиена, получил владение, включавшее западную часть Киликии и некоторые области Ликаонии92. Так же, как Итурея и области Понта, это были дикие и неусмиренные территории: новым царям явно предстояла большая работа. Возможно, именно тогда Клеопатра получила Кипр и часть западной Киликии. И, возможно, она тоже выполняла определенную задачу, ибо Киликия и Кипр были особенно богаты лесом, и, вероятно, ей предстояло построить корабли, чтобы пополнить флот Антония93. Снова получил помощь и Ирод из Иудеи. Ранее Вентидий и его офицер Поппедий Силон, очевидно, не слишком старались устранить другого претендента на трон Иудеи — Антигона:94 у них были более срочные дела. Теперь появилась возможность обеспечить Ироду более сильную поддержку. По-видимому, Антоний сперва признал Ирода царем Идумеи и Самарии, что было довольно странно: воз¬
88 Аппиан. Гражданские войны. V.75.319; ср. особенно: Buchheim 1960 (С 49): 49—51; Hoben 1969 (Е 840): 34-39.
89 См. особенно: Hoben 1969 (Е 840): 116-119.
90 Ср.: Дион Кассий. ХЫХ.32.5; Buchheim 1960 (С 49): 18-19.
91 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.330; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.248.
92 Аппиан. Гражданские войны. V.75.319, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55). О дате см.: Buchheim 1960 (С 49): 51—52. Владение простиралось до самого Икония (Страбон. ХП.5.3. — 6.2 (568 С)), ср.: Mitford 1980 (Е 860): 1242. О сопротивлении Зенона Лабиену ср.: Страбон. XIV.2.24—25 (660 С).
93 Страбон. XIV.5.2—3 (669 С), 671, 685; ср.: Meiggs R. Trees and Timber in the Ancient Meditenanean World (Oxford, 1982): 117. О датировке ср. надпись: Pouilloux 1972 (С 189), в которой упоминается египетский полководец (στρατηγός) «Кипра и Киликии» в 38—37 гг. до н. э.; Mitford 1980 (Е 860): 1293-1294.
94 Ср.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.392—397, 406; Иосиф Флавий. Иудейская война. I. 288—292, 297; Buchheim 1960 (С 49): 67.
Глава 1. Эпоха триумвирата
39
можно, он знал, что Иерусалим сейчас вернуть невозможно, и предоставил Ироду этот новый титул в качестве компенсации95.
В это же время Антоний начал проводить новую религиозную политику и стал более явно идентифицировать себя с Дионисом96 — богом освобождения и восточных завоеваний, а также жизненной силы и радостного избавления от бед. Соответственно, в Афинах Антония славили как нового бога Диониса (Θεός Νέος Διόνυσος), в 39/38 г. до н. э.97 его и Октавию приветствовали как богов-благодетелей (Θεοί Εύεργεταί)98. Были даже намеки на свадьбу Антония-Диониса и городской богини Афины;99 Антоний чеканил кистофоры, на которых изображался в качестве Диониса100, а позднее ходили истории о его расточительных дионисийских спектаклях: например, о платформе над театром, украшенной дионисийскими бубнами и шкурами фавнов, где Антоний весь день пил с друзьями, или о дионисийских факельных шествиях на Акрополь101. Некоторые подробности, конечно, фантастичны, но в целом его политика имела некоторый смысл. Теперь будущее Марка Антония было теснее связано с Востоком; восточные государства часто поклонялись своим правителям, а он стал бы величайшим правителем. Его положению соответствовал лишь статус божества.
Весной 38 г. до н. э. Антоний совершил краткий визит в Брундизий, куда Октавиан пригласил его для обсуждения осложнений, возникших в Италии, но сам Октавиан туда не приехал. Антоний написал и опубликовал письмо с упреками в его адрес и, рассерженный, отплыл обратно. Это досадное происшествие, видимо, задержало его отъезд на Восток (может даже статься, что Октавиан этого и добивался), но к середине лета Антоний всё же добрался с армией до Сирии. Прибыв, он узнал, что Вентидий продолжает одерживать победы. Зиму 39/38 г. до н. э. последний потратил на укрепление своих сил, вместо того чтобы, к примеру, более энергично поддержать Ирода, который еще летом 39 г. до н. э. вернулся в Иудею и соединился с войсками. К осени Ирод разбил лагерь напротив Иерусалима, но Силон продолжал воздерживаться от совместных действий, и вскоре его армия встала на зимние квартиры. Весной Вентидий вызвал Силона в Сирию, ожидая нового нападения Пакора. Оно вскоре состоялось, но Вентидий успел занять сильную позицию в
95 Аппиан. Гражданские войны. V.75.319, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55); Buchheim I960 (С 49): 66-67.
Дион Кассий. XLVm.39.2.
97 IG Π2 1043.22-23.
98 См. надпись с Агоры: Raubitschek 1946 (F 202): 146—150.
99 Дион Кассий. XLV1II.39.2; Сенека Старший. Суазории. 1.6.7 (история явно была приукрашена, но, возможно, какие-то основания для нее имелись). Отсюда не следует, что саму Октавию воспринимали как воплощение Афины, как полагал Раубичек: Raubitschek
: Mannsperger 1973 (С 171): 384—386. Правда, для кистофоров изображения, связанные с Дионисом, были стандартными, см.: Crawford 1974 (В 319) П: 743, примеч. 4.
101 Сократ Родосский: FGrH 192 F 2.
1946 (F 202).
109 Ср. особенно
40
Часть I. Изложение событий
Гиндаре, к северо-востоку от Антиохии в сирийской Киррестике. Как и годом ранее у Киликийских ворот, парфяне совершили опрометчивую атаку, и, как и у горы Аман, их предводитель пал и они были наголову разбиты. Вентидий очень успешно привлек на свою сторону многие сирийские города, демонстрируя повсюду голову Пакора на шесте102.
Дел оставалось немного. Появилась даже возможность поддержать Ирода более открыто, и Вентидий отправил ему на помощь два легиона и тысячу всадников. (Они оказались очень неэффективны.) Кроме того, существовал очаг сопротивления в Коммагене, где богатый царь Антиох оставался непокорен и отказывался выдать выживших парфян, которые бежали к нему. Вентидий осадил его в Самосате, затем прибыл Антоний и принял руководство кампанией. Антиох желал вступить в переговоры, но Антоний отказал ему. Однако осада оказалась сложнее, чем ожидал Антоний, и позже, довольно бесславно, он согласился на мир103. Вентидий вернулся в Рим и 27 ноября 38 г. до н. э. отпраздновал более чем заслуженный триумф; вскоре после этого он умер, и его удостоили государственных похорон. Антоний возвратился в Афины, где провел зиму 38— 37 г. до н. э. Он мог больше не опасаться вторжения парфян в Малую Азию, а возможно, пришло даже время перенести войну в саму Парфию, то есть направиться к славе самой великой дорогой, какую только можно было представить. Но первоочередного внимания вновь потребовали события на Западе.
VII. Тарент, 37 г. до н. э.
Мизенский мир был непрочным. Его мог бы сохранить Антоний, который теперь стал осмотрительным союзником как Секста, так и Окта- виана, но вскоре он отбыл на Восток, и на Западе, который с трудом разделили между собой Секст и Октавиан, возникло напряжение. Признаки разрыва появились спустя всего несколько месяцев после заключения договора, когда осенью 39 г. до н. э. Октавиан развелся со Скрибо- нией, на которой женился годом ранее, добиваясь расположения Секста. (Через несколько месяцев он снова женился на Ливии; возможно, как и говорили, это был брак по любви104, но Ливия, конечно, связала Октавиа- на с другой могущественной семьей, поэтому не следует думать, что в
102 Дион Кассий. XIJX.19—20, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); cp.: Sherwin-White 1984 (А 89): 304—306. Схожесть с событиями 39 г. на самом деле подозрительна — историки могли использовать одни и те же рассказы для двух разных кампаний. Но вполне вероятно, что Вентидий стремился повторить свою игру в ожидание, и вполне возможно, что Пакор угодил в ловушку.
103 Плутарх. Антоний. 34.5—7. Согласно условиям, город переходил к римлянам (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.447; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.322; Орозий. VI.18.23). Cp.: Shervvin-White 1984 (А 89): 306, примеч. 24.
104 Светоний. Божественный Август. 62.2, с комментариями к этому месту: Carter 1982 (В 24); Дион Кассий. XLVTH.34.3.
Глава 1. Эпоха триумвирата
41
этом случае он не руководствовался расчетом.) Голод в Италии продолжался, пираты по-прежнему разоряли берега Кампании и грабили корабли с зерном; Октавиан публично обвинил в этом Секста. Антоний тоже содействовал росту нестабильности, когда схитрил при передаче Сексту Пелопоннеса104а. Зимой 39/38 г. до н. э. ситуация накалилась до предела. Менодор, флотоводец Секста, перешел на сторону Октавиана и передал ему контроль над Сардинией и Корсикой, а также три легиона и шестьдесят кораблей. Разумеется, последовала война между Октавианом и оскорбленным Секстом, и весной 38 г. до н. э. состоялось два крупных морских сражения: одно неподалеку от Кум возле Неаполя, а второе — в Мессенском проливе. Оба завершились крупными победами Секста, но тот остался верен своей оборонительной политике и не воспользовался преимуществом. Октавиан благополучно вернулся в Кампанию.
Услышав об этом, Антоний, вероятно, испытал смешанные чувства. Он вряд ли пришел бы в смятение от того, что Секст и Октавиан ослабляют друг друга, но один из них мог победить и стать бесспорным хозяином Запада, и эта перспектива приводила Антония в замешательство. Еще до того, как весной 38 г. до н. э. состоялись эти два сражения, Антоний достаточно сильно встревожился, чтобы приехать в Брундизий, хотя ему срочно надо было прибыть на восточный фронт. В то время Анггоний еще оказывал давление на Октавиана, чтобы тот не ссорился с Секстом105. Тогда Октавиан уклонился от встречи, но, когда он потерпел поражение, поддержка Антония потребовалась ему гораздо сильнее. Осенью 38 г. до н. э. Октавиан отправил к нему Мецената добиваться помощи против Секста. Сообщается, что Антоний ее предоставил106. И действительно, если шансы Секста на победу были высоки, значит, Антоний, не особо тревожась, мог оказать скромную помощь Октавиану — это был наилучший способ сохранить баланс сил. Но помощь Антония, несомненно, была оказана на определенных условиях, и отношения оставались весьма натянутыми.
У Октавиана были и другие проблемы. Еще с предыдущего года в Галлии происходили волнения, которые вылились в полномасштабное восстание в Аквитании. К концу 38 г. до н. э. с ним справился Агриппа, но при этом лишь одна трудность пришла на смену другой: слава Агриппы слишком сильно контрастировала с поражениями Октавиана, и Агриппа тактично отказался от триумфа107. Власть Октавиана в Италии тоже была непрочной. В общественной жизни царил необычайный беспорядок, для одних должностей не хватало кандидатов, а с других постов магистраты спешили уйти в отставку; в 38 г. до н. э. было целых шестьде¬
104а Антоний потребовал от Секста либо выплатить ему недоимки пелопоннесцев по долгам, либо дождаться, когда он соберет эти долги сам. На эти условия Секст не соглашался, считая, что провинция передана ему вместе с долгами. — С.Т.
105 Аппиан. Гражданские войны. V.79.336.
106 Об этом пишет Аппиан: Гражданские войны. V.92.386.
107 Дион Кассий. XLVHI.49.3—4; ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.75.318, 92.386.
42
Часть L Изложение событий
сят семь преторов108. Не стихали и народные бунты, в том числе народ поддерживал своего нового любимца, некоего Марка Оппия. Неудивительно, что он вскоре умер109. Очень трудно было притворяться, что всё в порядке.
Триумвирам явно требовалась новая встреча. Антоний отплыл в Италию ранней весной 37 г. до н. э. с тремястами кораблями. Угроза, которую он представлял для Октавиана, была несомненной. Возможно, Антоний заявлял, что идет на помощь Октавиану против Секста110. Если так, то ему, естественно, не поверили, и, судя по всему, жители Брундизия отказались впустить флот111. Озадаченные и обеспокоенные горожане, несомненно, верили, что Октавиан одобрит их действия. Антоний отплыл в Тарент, и Октавиан направился туда же для встречи с ним. Лепи- да снова не пригласили. Переговоры шли медленно, и согласие было достигнуто, вероятно, в июле или августе112. Обсуждались действительно острые вопросы, и Антонию было далеко не очевидно, выгодно ли ему решительно поддержать Октавиана против Секста Помпея. Важную роль, как сообщается113, сыграло посредничество Октавии. Думается, что это еще один романтический вымысел, хотя она действительно могла оказать определенное влияние.
Наконец, Антоний согласился поддержать Октавиана против Секста Помпея, который был лишен жреческого сана и обещанного консульства. Вести войну предстояло Октавиану, но нападение на Секста договорились отложить до следующего года, и, без всякого сомнения, настаивал на этом Антоний, ведь таким образом он получал надежду синхронизировать свое вторжение в Парфию с новой войной в Италии. Этот расклад давал очевидные возможности для пропаганды: в то время как Секст Помпей и Октавиан вновь развяжут гражданскую войну, Марк Антоний будет блюсти традиции римских полководцев — расширять границы империи и проливать кровь иноземцев. Но всё произошло совсем
108 Дион Кассий. XLVni.43.1—3; cp.: XLVHI.53.1-3; XLIX.16.2; ХЫХ.43.7; Frei-Stolba 1967 (С 92): 83.
10^ Дион Кассий. XLVHI.43.1, XLVHI.53.4—6; Аппиан. Гражданские войны. IV.41.172— 173.
110 Об этом пишет Аппиан: Гражданские войны. V.93.386—395, 398. О расхождении этого рассказа с сообщениями Плутарха [Антоний. 35.1) и Диона Кассия (XLVHI.54) см.: Pelling 1988 (В 138): 213-214.
111 Плутарх. Антоний. 35.1.
112 Обычно соглашение датируют несколько поздним сроком — сентябрем или октябрем, но основания для этого очень слабы. Июль/авгусг — достаточно поздняя дата, чтобы объяснить отсрочку Парфянской войны до 36 г. до н. э. (ср.: Плутарх. Антоний. 35.8). Октавиан тоже отложил до следующего года войну с Секстом (Аппиан. Гражданские войны. V.95.396), но, вероятно, это было одним из условий договора и никак не помогает его датировать. Трудно поверить, что даже затянувшиеся переговоры продолжались бы до сентября.
113 Аппиан. Гражданские войны. V. 93.390—391, 95.397; Дион Кассий. ХЬУШ.54. 3 и, особенно: Плутарх. Антоний. 35. Вальман (Wallmann 1989 (С 243): 181—182) именно этим объясняет появление Октавии на монетах 37—36 гт. до н. э., выпущенных в честь достигнутого соглашения (CRR 1256, 1262, 1266).
Глава 1. Эпоха триумвирата
43
иначе. Они условились, что Октавиан передаст Антонию 20 тыс. легионеров и тысячу элитных солдат в обмен на сто двадцать военных кораблей и десять трехрядных судов114. Эта сделка имела смысл, поскольку Октавиан жизненно нуждался в усилении своего флота, который серьезно пострадал от Секста, а Антоний незадолго до этого не смог набрать пехотинцев в Италии. Но, с точки зрения Антония, состоявшийся обмен имел один существенный изъян: сам он сразу оставил корабли в Таренте, Октавиан же ограничился обещанием прислать войска. В итоге Антоний их так и не получил.
Другая проблема имела конституционный характер. Формально полномочия триумвиров истекли в конце 38 г. до н. э., что оставило их в неудобном и непонятном положении. Пожалуй, никто не знал, является ли теперь их власть законной. Триумвират не был ординарной магистратурой, и какую из ординарных можно было бы принять за аналог? Консульство, которое длилось год, но формально завершалось, когда консулы слагали с себя должность в последний день? С одной стороны, срок прошел, с другой — триумвиры не сложили с себя полномочий115. Или, возможно, триумвират был ближе к провинциальному наместничеству, которое обычно предоставлялось постановлением сената (senatus consultum) и длилось до назначения и прибытия преемника? Но у триумвиров преемников не было. В некотором смысле обширная задача по восстановлению государства («res publicae constituendae») сближала триумвиров с диктатором, который тоже назначался для определенной цели и оставался в должности, пока не слагал полномочия по исполнении задачи. К рассматриваемому моменту государство (res publica), конечно, еще не было восстановлено (constituta)! Но ранняя, традиционная диктатура тоже имела максимальный срок в шесть месяцев, который строго соблюдался116. Если бы диктатор превысил свой срок, чем бы это обернулось? Никто не знал. Конечно, имелись более свежие (и весьма тревожные) прецеденты: диктатуры Суллы и Цезаря не были ограничены максимальным законным сроком117. Но их диктатуры и были учреждены голосованием именно с такими условиями, без всякого срока. Случай триумвиров отличался именно наличием условия о сроке. Насколько важным было данное различие и кто мог бы ответить на этот вопрос? Возможно, ближайшим аналогом триумвирата было провинциальное командование, предоставленное законом (lex), а не постановлением сената (s. с.), например, наместничество Цезаря в Галлии. У такого назначения имелся оговорен¬
114 Аппиан. Гражданские войны. V.95.396—397; ср.: Плутарх. Антоний. 35.7 (несколько другие, менее достоверные цифры); Brunt 1971 (А 9): 502.
115 Загадочное формальное положение триумвиров, конечно, занимало мысли современников, ср. подробный разбор похожих случаев у Ливия: Ш. 36.9, 38.1, 54.5—6 (децемвиры не сложили полномочия, когда их срок истек; децемвират, как и триумвират, был нерегулярной магистратурой); IX. 33—34 (сходное поведение цензора).
116 Ср.: Mommsen 1887 (А 65) П, I3: 161.
117 Ср.: Mommsen 1887 (А 65) Π, I3: 703—705, 714—716. Поначалу диктатура Цезаря была годичной, затем ее формально продлили на десять лет, а потом — уже «пожизненно», см.: MRR П: 272, 285 (+ примеч. 1), 294—295.
44
Часть I. Изложение событий
ный срок, но события 51—50 гг. до н. э. показали, что правовые последствия его истечения были запутанны и неясны. Но и это не всё — проблему представляли еще и провинциальные командования триумвиров. Они сами, властью триумвиров, назначили себе в управление эти провинции; вместе с тем не будем забывать, что данные назначения сенат утвердил своими постановлениями; и ниоткуда не следовало, что провинциальный империй триумвиров истекает одновременно с их полномочиями118. Близкую аналогию представлял ординарный проконсул, получивший провинцию согласно постановлению сената.
Словом, правовое положение было безнадежно запутанным. Возможно, это и не имело особого значения, ведь было достаточно очевидно, кому принадлежит реальная власть. Но события 51—50 гг. до н. э. показали, что правовые вопросы могут быть важны по меньшей мере для пропаганды, к тому же триумвиры недавно продемонстрировали уважение к конституции. Несомненно, было бы удобнее прояснить их статус. С этой целью полномочия триумвиров были формально продлены еще на пять лет и, вполне возможно, должны были истечь в последний день 33 г. до н. э.119. Немного позднее решение о продлении полномочий триумвиров утвердил римский народ120. Но конституционная путаница еще даст о себе знать.
VIII. 36 г. до н. э.
Пока Антоний и Октавиан вели переговоры в Таренте, их полководцы были заняты другими делами. Агриппа, консул 37 г. до н. э., существенно усилил флот Октавиана, а также набрал множество новых моряков — 20 тыс. рабов обрели свободу, дабы их можно было взять на службу121. Самым удивительным мероприятием Агриппы стало сооружение порта Юлия в Кампании — он соединил каналом мелкое Лукринское озеро с гораздо более глубоким Авернским, а затем уничтожил плотину, отделявшую Лукринское озеро от моря. Работа завершилась строительством двух подземных туннелей, которые соединили Авернское озеро с Кумами
118 Ср. с. 36 насг. изд. и сноску 80 насг. гл.; Girardet 1990 (С 97).
119 Этот вопрос является спорным, см. Заметку, с. 90—91 насг. изд.
120 Об этом пишет Аппиан [Иллирийские войны. 28.80: «...καί о δήμος έπεκεκυρώκει». Здесь нет противоречия (которое часто предполагается) с сообщением: Гражданские войны. V.95.398, где говорится, что триумвиры договорились о продлении полномочий, «не спрашивая уже постановления народа» («ούδέν ετι δήμου δεηθέντες»). В «Гражданских войнах» Аппиан просто противопоставляет процедуру 37 г. до н. э. той, что имела место в ноябре 43 г. до н. э., когда триумвирам потребовался закон, чтобы утвердить их в должности [Гражданские войны. IV.7.27). Теперь они могли заявлять, что полномочия, которыми они наделены, позволяют им продлевать их на новый срок; однако в это время они проводили политику, которая предполагала ратификацию их решений в сенате (ср. с. 36 насг. изд. и сноску 80 насг. гл.) или, как в данном случае, — в народном собрании.
121 Светоний. Божественный Август. 16.1; ср.: Brunt 1971 (А 9): 508.
Глава 1. Эпоха триумвирата
45
и побережьем122. Еще недавно Секст Помпей подвергал непрерывным атакам кампанское побережье123, но теперь по этим туннелям Агриппа безопасно переправлял провизию, а сдвоенное озеро обеспечивало защищенное водное пространство для тренировки экипажей.
Тем временем на Востоке Ирод наконец получил эффективную помощь. Гай Сосий, назначенный Антонием наместник Сирии и Киликии, сначала подчинил арадцев (сирийский народ, который еще оставался непокорным), а затем прибыл в Палестину. На протяжении 38 г. до н. э. военные действия шли вяло, и Антигон имел значительное преимущество, сам же Ирод большую часть лета отсутствовал в Иудее, убеждая Антония в Самосате оказать более энергичную поддержку. В конце 38 г. до н. э. Антоний отправил в Иудею два легиона, передав их под непосредственное командование Ирода (весьма неординарный случай), и тот вскоре одержал крупную победу у Исаны. Остальная часть Иудеи, за исключением столицы, быстро попала под власть Ирода, и весной 37 г. до н. э. он приступил к осаде самого Иерусалима. Затем прибыли новые силы Сосия, и в июле город пал, причем пролилось много крови124. Ирод стал царем, Антигон попал в плен; когда Антоний вернулся на Восток, то уступил давлению Ирода и публично казнил Антигона в Антиохии.
Соотечественники не слишком любили Ирода, но его решающая победа укрепила стабильность на Востоке. Более того, казалось, что парфянская угроза исчезла. И действительно, в самой Парфии назрел новый династический кризис. В конце 38 г. или в 37 г. до н. э. Ород отрекся от власти и из своих тридцати сыновей неразумно выбрал наследником Фраата, который немедленно убил отца, всех братьев и сына. Вскоре парфянская знать восстала — для римского вторжения редко складывались более благоприятные условия.
Но в 37 г. до н. э. Антоний не успел воспользоваться этим кризисом, вернувшись на Восток лишь осенью. Зиму он провел в Антиохии, где продолжил свои административные реформы и на сей раз провел более масштабную реорганизацию. В 39 г. до н. э. Антоний уже намекнул на свои намерения, когда укрепил Понтийское царство и продемонстрировал благоволение новым людям вроде Аминты и Полемона. Теперь он продолжил эту политику, и Восток начал распадаться на множество крупных зависимых царств, каждое из которых управлялось умелым и лояльным правителем. Недавно расширенное Понтийское царство более или менее справлялось с отведенной ему ролью, чего нельзя было сказать о его царе; Дария Антоний заменил Полемоном, который в 39 г. в своем маленьком царстве делом доказал, что заслуживает поддержки125. Был смещен и Кастор, правитель Галатии. (Возможно, Дарий и Кастор своевременно отошли на тот свет, но такое совпадение подозрительно, и 6о-
122 Подробнее см.: Paget 1968 (D 218): 163-169; Roddaz 1984 (С 200): 95-114.
123 Дион Кассий. XLVIIL46.1; Страбон. V.4.3-5 (243 С).
124 О датировке этого события см.: Schörer 1973 (Е 1207) I: 284—286.
125 Территория новых владений Полемона не совсем ясна, но, очевидно, совпадала с той, которой правил Дарий, cp.: Hoben 1969 (Е 840): 42—44.
46
Часть I. Изложение событий
лее вероятно, что обоих сместили.) Дейотару Филадельфу, сыну Кастора, Антоний позволил унаследовать Пафлагонию126, но Галатия перешла к Аминте127, и его держава была значительно расширена, так что в нее вошли части Памфилии и бывших владений Полемона в Ликаонии128. Прежние границы Каппадокии были сохранены, но многие годы там кипели династические споры. После смерти Ариобарзана в 42 г. до н. э. царство должно было перейти к его брату Ариарату, чья лояльность Риму вызывала сомнения, и Антоний предпочел некоего Архелая Сисину из Команы Понтийской и, вероятно, с самого начала ясно продемонстрировал свои предпочтения129. Но в 42—41 гг. до н. э. было еще не время свергать законного наследника в пользу чужака. К 37—36 гг. до н. э. Антоний уже более уверенно проводил свою политику содействия подобным людям и, как и задумывал, утвердил Архелая царем Каппадокии130. Нельзя сказать, что везде правили великие цари: например, цари-жрецы в южном Понте, Комане, Мегалополе и Зеле удержали свою власть и были усилены; трон получили и несколько мелких правителей: Клеон — в Мизии, Адиаториг — в Гераклее Понтийской; Таркондимот, в молодости бывший пиратом, был утвержден в своем маленьком царстве в Верхней Киликии131. Но именно Аминта, Полемон и Архелай вместе с Иродом обеспечили безопасность Малой Азии. Антоний проводил мудрую политику и хорошо выбирал людей. Позднее, после поражения Антония, Октавиан сохранил как саму систему, так и большинство назначенных царей. Например, Архелай правил целых пятьдесят лет132.
Свои владения расширил и еще один монарх: Клеопатре достались области прибрежной Финикии и Набатейской Аравии, а также богатые бальзамом леса вокруг Иерихона в Иудее133. Лисания Итурейского Антоний казнил, и Клеопатра получила его земли с прилегавшей террито¬
126 Возможно, поначалу вместе со старшим братом Дейотаром Филопатором. Ср.: Страбон. ХП.3.40-^2 (562 С); Hoben 1969 (Е 840): 118-119.
127 Страбон. ХП.6.2—7.1 (569 С); Hoben 1969 (Е 840): 123-124.
128 Cp.: Levick 1967 (Е 851): 25-26.
129 Аппиан. Гражданские войны. V.7.31 (41 г. до н. э. «содействовал воцарению», «συνέπραξεν ές την βασιλείαν»; cp.: Buchheim 1960 (С 49): 55—56 — автор отмечает осторожное выражение Аппиана).
130 Дион Кассий. ХЫХ.32.3: о дате этого события см.: Buchheim 1960 (С 49): 59.
131 Страбон. XII.3.6—8 (543 С), 3.33-35 (558 С), 3.37-38 (560 С), 8.7-9 (574 С), XIV.5.16—21 (676 С), с комментариями к этим местам: Pelling 1988 (В 138); cp.: Magie 1950 (Е 853): 435—436, 1240, 1285—1287. В целом о политике Антония см.: Bowersock 1965 (С 39): 42-61.
132 Тацит. Анналы. П.42.2.
133 И Плутарх (Антоний. 36.3—4), и Дион Кассий (ХЫХ.32.3—5) датируют это событие 37—36 гг. до н. э. Иосиф Флавий, по всей видимости [Иудейские древности. XV. 94—95), относит передачу Клеопатре в дар областей Финикии, Аравии и Иудеи к 34 г. до н. э., но сам же, очевидно, связывает эти дары с предоставлением ей владений Лисания, что явно про изошло в 37—36 гг. до н. э. Иосиф Флавий смешивает несколько различных этапов правления Клеопатры. О дате этого события см.: Buchheim 1960 (С 49): 69—73; о передаче Аравии см.: Bowersock 1983 (Е 990): 40—44; о богатых бальзамами лесах см.: Schörer 1973 (Е 1207): 198-300.
Глава 1. Эпоха триумвирата
47
рией;134 возможно, она расширила свои владения в Киликии и тогда же или ранее стала госпожой Крита и Кирены135. Не всё из перечисленного отвечало интересам Рима: например, тогда же или в 34 г. до н. э. и Ирод, и Малх Аравийский арендовали у Клеопатры земли, которые она получила в 37—36 гг. до н. э. Арендная плата была огромной: двести талантов с каждого. Ясно, что от такого перераспределения земель выиграла скорее Клеопатра, нежели Рим. Но эти раздачи всё же соответствовали политике Антония по усилению лояльных монархов, и, таким образом, ничто не предполагает, что Антоний чрезмерно благоволил именно ей. Аминта и Полемон получили от этой реорганизации больше Клеопатры, и Антоний в то время (и позднее тоже) отказался передать ей те части Иудеи, Финикии, Сирии и Аравии, которые она желала получить136. Но, по всей видимости, Антоний объявил о своем союзе с Клеопатрой иным способом. В конце 37 г. до н. э. она приехала к нему в Сирию, а в 36-м родила ему еще одного сына — Птолемея Филадельфа. Также Антоний признал себя отцом близнецов, родившихся в 40 г. до н. э. Это еще был не совсем брак, по крайней мере, в глазах римлян, хотя сами египтяне, возможно, не знали, что об этом думать137. И всё же это был скандал, который сделал Антония весьма уязвимым для пропаганды Октавиана. Парфянская война позволила бы Антонию устроить пропагандистский триумф, который впечатлил бы италийцев гораздо сильнее, чем продолжение гражданской войны Октавиана с Секстом Помпеем138. Но теперь этот триумф выглядел бы не столь красочным.
Почему Антоний так поступил? Возможно, Клеопатре требовалось укрепить свое положение в Египте (мы мало что знаем о ее внутренней политике, но Птолемеи никогда не сидели на троне прочно), но такие средства представляются чрезмерными. Более вероятно, что Антоний надеялся укрепить собственное положение на Востоке, по меньшей мере в самом Египте. Возможно, его веселый роман с восточной царицей — чуть ли не священный союз Диониса-Осириса и Исиды — был столь же популярен на Востоке, сколь непопулярен в Италии. Клеопатра избрала себе стиль правления, в котором подчеркивалась роскошь, — и Антоний вполне мог охотно заимствовать этот стиль. Поддержка восточных регионов оказалась бы жизненно важной в случае войны с Октавианом, и, конечно, уже было ясно, что рано или поздно эта война начнется. И всё же удивительно, что Антоний решил до такой степени пренебречь мнением
134 Порфирий. FGrH 260 F 2.17; Дион Кассий. XLIX.32.5; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.92; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.440. Прилегавшая территория, вероятно, включала в себя Канату (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 112; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.366), Гиппос и Гад ару (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 217; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.396), возможно, также и Дамаск, где портрет Клеопатры чеканится на монетах (хотя это не решающий аргумент). Cp.: Bicknell 1977 (С 29): 339.
135 Дион Кассий. XUX.32.5; ср.: Grant 1946 (В 322): 55-58; Buttrey 1983 (В 315): 24-27.
136 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.79, 91—94, 95, 258; ср.: 24—25, 74—79.
137 Pelling 1988 (В 138): 219-220.
138 См. с. 42—43 наст. изд.
48
Часть I. Изложение событий
италийцев. Неужели Италия была настолько отыгранной фигурой? Возможно, Антоний полагал, что его поведение не более возмутительно, чем поступки Цезаря; Цезарь даже приглашал Клеопатру в Рим. Но Цезарю не противостоял гений пропаганды (имеется в виду Октавиан. — С.Г.), и Антонию следовало бы учесть эту опасность. Нам редко удается так ясно увидеть политическую наивность Антония; вполне возможно, что личный фактор действительно имел значение, и Клеопатра заставила Антония нарушить его собственные политические расчеты. Не то чтобы Антоний был влюблен до потери разума: об этом ясно свидетельствует его отказ предоставить Клеопатре желанные территории. И вскоре ему предстояло вновь покинуть царицу ради войны в Парфии, которая (как он должен был ожидать) могла продлить разлуку на несколько лет. Но, возможно, романтические чувства всё же сыграли определенную роль.
Впрочем, роман с Клеопатрой не мешал Антонию готовиться к парфянскому походу. По-прежнему поступали сведения о смуте при парфянском дворе: в 37 г. или начале 36 г. до н. э. некий Монес из знатной парфянской семьи прибыл к Антонию с обещаниями широкой поддержки от знати. Роль Монеса трудно оценить, возможно, он вел двойную игру139, но всё же, учитывая бесчеловечность Фраата, его известия выглядели правдоподобно. В конце концов, парфяне вполне могли прибегнуть к римской помощи для решения внутренних конфликтов, как когда-то римлянин Лабиен воспользовался помощью парфян. Очевидно, можно было выдвинуть много соображений в пользу стремительной атаки на Парфию, но участь Красса в 53 г. до н. э. показала уязвимость римских сил на открытых равнинах Месопотамии, и Антоний предпочел стратегию, которой, как представляется, намеревался следовать Юлий Цезарь в 44 г. до н. э.140, — пройти в Парфию северным путем через Армению и Мидию Атропатену, более суровую и холмистую местность, где парфянская конница оказалась бы менее эффективной. Кроме того, длительная вражда между царями Армении и Мидии (обоих звали Артаваздами) давала возможность использовать их друг против друга. Пожалуй, Артавазд Армянский стал бы естественным союзником римлян, если бы они напали на его врага-мидийца, и похоже, что он уже подталкивал Антония к войне с Мидией141, но оба царя (армянский и мидийский. — С.Т) были очень сомнительными фигурами. В 37 г. или начале 36 г. до н. э. Публий Канидий Красе добился более устойчивого взаимопонимания с Артаваз¬
139 Ср.: Плутарх. Антоний. 37.1—2, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138); Дион Кассий. ХЫХ.23.5; ХЫХ.24.3, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150). Фраат перетянул Монеса на свою сторону подозрительно быстро; свидетеле ство Горация [Оды. Ш.6.9—12) даже может указывать на то, что Фраат доверил Монесу важное командование. Вероятно, своим «дезертирством» Монес просто подавал сигнал Фраату, что перейдёт на сторону Рима, если его положение в государстве не будет восстановлено.
140 Светоний. Божественный Юлий. 44; cp.: Bengston 1974 (С 22): 4—9; Malitz 1984 (С 169): 56-57.
141 Дион Кассий. XIJX.25.1. В 54—53 гг. до н. э. он советовал то же самое Крассу (Плутарх. Красе. 19, 22.2).
Глава 1. Эпоха триумвирата
49
дом Армянским, затем весной нанес поражения иберам и албанцам: эта поразительно быстрая кампания защитила левый фланг римского тыла. В конечном счете тыл оказался более уязвим, чем тогда казалось, но это произошло из-за ненадежности Артавазда. Этого риска (необходимости полагаться на Артавазда. — С.Т.) римляне могли бы избежать, только предприняв куда более масштабную кампанию.
К этому времени Антоний уже отправил послов к Фраату с требованием возвратить орлов, захваченных в битве при Каррах, и это ясно продемонстрировало, что задача «отомстить за Красса», которую Антоний взял на себя, еще не была выполнена, что бы там ни говорил Октавиан в Риме142. Фраат, разумеется, отказал — новый монарх, занимавший непрочное положение, едва ли мог позволить себе столь унизительную уступку. Приготовления Антония к войне продолжились. Сначала он повел армию к Зевгме. Это может указывать на то, что Антоний планировал последовать примеру Красса и напасть прямо на Месопотамию, но эта стратегия сработала бы только при условии, что наступлению никто не помешает. Однако Фраат быстро собрал в Месопотамии парфянскую армию. Поэтому действовать по плану Красса было невозможно, и Антоний двинулся на север, в направлении Армении. Там он соединился с армией Канидия, возможно, на Эрзерумском плато, возможно, в Артакса- те143. Кроме того, к нему присоединились войска союзных царей, включая Полемона144. Поскольку Армения, очевидно, была избрана пунктом сбора еще несколько месяцев назад, Антоний, видимо, всё время ожидал, что реальным окажется только северный маршрут; в ином случае предварительная кампания Канидия не имела бы особого смысла. И похоже, что поход к Зевгме был всего лишь хитрой уловкой145. Всего у Антония, вероятно, было шестнадцать легионов и множество вспомогательных войск;146 Артавазд Армянский также предоставил в его распоряжение крупный контингент катафрактариев (тяжеловооруженной конницы. — С.Т.) и легковооруженной конницы, — возможно, 16 тыс. человек147. Это
142 Об этом договорились в Брундизии (см. с. 33 наст. изд.). Явный акцент в источниках на том, что Вентидий уже отомстил за Красса (Плутарх. Антоний. 34.3; Дион Кассий. ХЫХ.21.2; Валерий Максим. VI.9.9.; Флор. П.19.7; Тацит. О Германии. ΧΧΧΥΠ.4), отражает, вероятно, настроения, современные самим событиям и при этом желательные для Октавиана, cp.: Buchheim 1960 (С 49): 39; Timpe 1962 (С 236): 114-119; Wallmann 1989 (С 243): 236, 238-239, 263-264.
143 В пользу Эрзерума см.: Кгошауег 1896 (С 142): 82. В пользу Артаксаты см.: Sherwin-White 1984 (А 89): 311.
144 О Полемоне см.: Плутарх. Антоний. 38.6; Дион Кассий. ХЫХ.25.4. О других царях см.: Плутарх. Антоний. 37.3.
145 Так считает Кромайер, см.: Кгошауег 1896 (С 142): 100—101; противоположное мнение см.: Sherwin-White 1984 (А 89): 309—310.
146 Brunt 1971 (А 9): 503-504; Sherwin-White 1984 (А 89): 311, примеч. 37.
147 Так пишет Плутарх (Антоний. 50.3), хотя в параграфе 37.3 он отметил, что в начале кампании Армения выставила шеститысячную конницу. Страбон (XI. 14.9—12 (530 С)) пишет о 6 тыс. катафрактариев, «кроме прочей конницы», и это может объяснить путаницу у Плутарха; или же обе цифры Плутарха могут быть верны, если большая часть конницы присоединилась к Антонию в восточной Армении после сборов; или же, возмож-
50
Часть I. Изложение событий
была поистине огромная армия, значительно больше той, с которой Цезарь завоевал Галлию.
Позднее Антония обвинили в том, что он сорвал кампанию из-за Клеопатры. Говорили, что он начал поход слишком поздно, в конце сезона, потому, что долго развлекался в Александрии, а затем вёл наступление слишком поспешно, желая вернуться к царице148. Но такие упреки едва ли справедливы. Сбор в Армении состоялся в июне или июле, что, учитывая подготовительную кампанию Канидия и долгие предварительные переходы149, удивительно рано. Возможно, всё же стоило подождать до 35 г. до н. э., держать армию сконцентрированной на Востоке и готовиться к нападению ранней весной150. Но приходилось учитывать и парфянский династический кризис (который к весне 35 г. до н. э. уже мог закончиться и удачный момент был бы упущен. — С. 71), и появившуюся в 36 г. до н. э. возможность быстро обойти с фланга парфянскую армию — ход, который Антонию почти удался. Конечно, Парфия не пала бы после одной кампании — Юлий Цезарь отводил на ее завоевание три года151, и это было разумно. Но столь же разумной была и надежда на более или менее полную победу в Мидии, которая укрепила бы дух римского войска и внутренних врагов Фраата; затем, при необходимости, Антоний мог отступить и перезимовать в Армении (хотя вряд ли вместе с Клеопатрой). Стратегия Антония была разумной.
Но она не сработала. Кампания началась успешно, и Антоний продвинулся глубоко в Мидию. Он даже дошел до столицы Фрааты152, прежде чем парфянские войска успели по собственным следам вернуться из Месопотамии. Царь Мидии Артавазд оставил свою семью в царской резиденции во Фраате — он, во всяком случае, явно не ожидал от Антония такой стратегии и скорости. Но, чтобы попасть туда вовремя, Антонию пришлось в спешке обогнать собственные осадные орудия. Это был оче¬
но, 16 тыс. — это обещанные, а 6 тыс. — реально предоставленные силы (Sherwin-White 1984 (А 89): 311, примеч. 37).
14^ Ливий. Периохи. 130: ср.: Плутарх. Антоний. 37.5—38.1, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138). Критика, возможно, восходит к Квинту Деллию, участнику этой кампании (Страбон. XI. 13.1—4 (523 С)), далеко не дружественно настроенному к Клеопатре.
149 От Зевгмы до границы Мидии — примерно 1 тыс. римских миль (Страбон. XI. 13. 4—6 (524 С); Плутарх. Антоний. 38.1), и такой марш обычно занимал три или четыре месяца, а войскам Антония сначала пришлось преодолеть расстояние от Антиохии до Зевгмы.
150 Так пишет Плутарх [Антоний. 38.1), возможно, пересказывая Деллия; Шервин- Уайт полагает, что греческий историк прав (Sherwin-White 1984 (А 89): 316—317).
151 Дион Кассий. ХЫП.51.2.
152 Местонахождение этого города неясно, согласно Деллию (цитату см.: Страбон. XI. 13.1—4 (523 С)), он располагался в 2400 стадиях (т. е. примерно в 480 км) от границы с Арменией. Традиционная его локализация в Тат-и-Сулеймане неправдоподобна, и город, вероятно, стоял намного восточнее, возле Мераге. Cp.: Schippman 1971 (F 220): 338—347; Bengston 1974 (С 22): 29—30. Общепринятая топографическая реконструкция этой кампании нуждается в серьезной корректировке (она по большей части основана на работе: Rawlinson 1841 (Е 866): 113—117); cp.: Sherwin-White 1984 (А 89): 311—321; Pelling 1988 (В 138): 220-243.
Глава 1. Эпоха триумвирата
51
видный риск, хотя и сходный с тем, на который Цезарь не раз шел и в Галлии, и во время гражданской войны, чем и прославился, а быстро подступившая огромная армия действительно могла бы взять незащищенный город. Но ничего не вышло, и потребовалась осада. Без специальных орудий это было на редкость неумелое предприятие153. И, что важнее всего, осадные машины так и не прибыли, ибо конница Фраата захватила обоз врасплох и уничтожила его вместе с двумя легионами сопровождения154. Парфяне взяли в плен самого Полемона, хотя и не убили — на переговорах он был бы полезнее живым155. Армянский царь Артавазд быстро разочаровался в Антонии и отступил со своими войсками; для Антония это была серьезная потеря, так как тяжеловооруженные армянские ка- тафрактарии были бы очень полезны в обороне. Последовала серия стычек, причем в наиболее важных Антоний одержал победу156, но быстрая конница Фраата стремительно отступала, и Антоний не мог ее преследовать.
Вскоре Антонию пришлось отказаться от осады, и, как и следовало ожидать, отступление стало чрезвычайно трудным: от болезней и голода его армия пострадала не меньше, чем от постоянных нападений лучников Фраата. Антоний и его войско прославились стойкостью и мужеством, напрашивалось сравнение с Ксенофонтом и его Десятью тысячами157. Наконец, после последнего героического ночного перехода через предгорья горной цепи Кух-е-Саханд158 армия добралась до Талке, затем до Аракса и Армении. Отступление заняло двадцать семь дней, и даже теперь армия Антония не могла чувствовать себя в безопасности, учитывая недавнее предательство Артавазда. Но Антоний успешно с ним договорился, и в середине зимы остатки войска добрались до Каппадокии. Даже на этом последнем отрезке пути солдаты продолжали гибнуть. Общие потери в кампании были поистине катастрофичны — погибла примерно треть всей армии159.
Так завершилась великая попытка Антония уподобиться Александру. Ирония состоит в том, что в этой кампании наиболее наглядно проявились военные таланты Антония — энергия, находчивость, вдохновенное лидерство; и всё же затея провалилась. Впоследствии Плутарх справедливо поставил эту кампанию в центр жизнеописания Антония, но не
153 Плутарх. Антоний. 38.4; Арриан. Парфика. Фр. 95R.
154 Веллей Патеркул. П.82.2; ср.: Ливий. Периохи. 130; Плутарх. Антоний. 38.5 (10 тыс. чел.).
155 Плутарх. Антоний. 38.6; Дион Кассий. ХЫХ.25.4; ср. с. 57 насг. изд.
156 Плутарх. Антоний. 39 — хотя в этом рассказе содержатся неправдоподобные детали, ср. комментарии к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
157 Его приводит Плутарх (ср.: Pelling 1988 (В 138): 221), но, вероятно, исходило оно от Деллия, см.: Jacoby, комментарии к: FGrH 197 F 1.
158 Вероятнее, по западным склонам, а не по южным, если Фраат был возле Мераге (ср. сноску 152 наст, гл.); ср. карту: Pelling 1988 (В 138): 230; Sherwin-White 1984 (А 89): 318, примеч. 53.
159 Плутарх. Антоний. 50.1, 51.1; ср.: Веллей Патеркул. П.82.3; Флор. П.20.10; Ливий. Периохи. 130.
52
Часть I. Изложение событий
только по вышеназванным причинам. Поход против Фраата явился переломным моментом эпохи триумвирата. До этого Антоний обладал гораздо большим военным авторитетом и властью, чем Октавиан, и, соответственно, занимал более сильные позиции на их дипломатических переговорах. Парфянская кампания должна была вознести Антония на недосягаемую высоту.
Но вместо этого победа была одержана на другом фронте, и добился ее Октавиан. Его война с народным любимцем Секстом Помпеем была непростой и слишком легко могла показаться личной вендеттой Октавиа- на. Действительно, пока Октавиан ее вел, в Риме продолжались беспорядки, которые требовали срочного вмешательства160. Недовольство росло и в колониях ветеранов161, волновалась Этрурия162. Октавиан не мог себе позволить проиграть или отложить войну — он знал, что Антоний опережает его, наращивая авторитет в Парфии. Но события 38 г. до н. э. показали, что Секст — это грозный враг163. Агриппа великолепно подготовился, но и Секст не сидел сложа руки, и к 36 г. до н. э. у него было около трехсот пятидесяти кораблей164. Так же, как и в 38 г. до н. э., Октавиан в конце концов послал за помощью к Лепиду в Африку. В 38 г. до н. э. Ле- пид не откликнулся, довольный тем, что Октавиан остался один на один со своими заботами165. На сей раз Лепид решил прийти на помощь. Он прибыл с двенадцатью легионами и пятью тысячами всадников, еще четыре легиона подкреплений шло следом (два из них Секст уничтожил, не позволив высадиться)166. Возможно, Лепид уже составил ясные планы на будущее, а возможно и нет, но по меньшей мере он знал, что великая битва за власть над Западом не должна состояться без его участия.
К июлю 36 г. до н. э. Октавиан был готов напасть с трех сторон на Секста, который находился на Сицилии. Сам Октавиан атаковал с севера, Стагилий Тавр — с востока, а Лепид — с западного побережья. План был хорош. Позднее сама кампания доказала, как трудно было Сексту растягивать свои силы, чтобы отражать несколько угроз одновременно. Но путь судам Октавиана преградили шторма, погибло столько кораблей, что кампанию даже думали отложить до 35 г. до н. э. На первом этапе успешно смог высадиться только Лепид, который осадил Луция Плиния Руфа, командира Секста, в Лилибее. На востоке шли морские бои, в которых сначала Агриппа одержал верх при Милах, а потом Секст победил самого Октавиана у Тавромения. Победа Секста оказалась более яркой, чем успех Агриппы, но, по крайней мере, младший Цезарь закре¬
160 Аппиан. Гражданские войны. V.99.414, 112.470.
161 Аппиан. Гражданские войны. V.99.414.
162 Дион Кассий. XIJX. 15.1; ср.: Аппиан. Гражданские войны. V. 132.547. Октавиан провел там некоторое время в 38 г. до н. э. Дион Кассий. XLVIII.46.2—3.
163 См. с. 41 наст. изд.
164 Флор. П.18.9. Триста кораблей сражалось при Навлохе (Аппиан. Гражданские войны. V. 118.490, 120.499). Ср.: Brunt 1971 (А 9): 507-508; Hadas 1930 (С 108): 123.
165 Дион Кассий. XLVni.46.2.
166 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.98.406, 104.430—432; Веллей Патеркул. П.80.1; Brunt 1971 (А 9): 499.
Глава 1. Эпоха триумвирата
53
пился у мыса Тиндарида и у Тавромения. На суше Секст оказывал удивительно слабое сопротивление, особенно при Тавромении167. Вскоре на острове находился уже двадцать один легион Октавиана168, не считая войск Лепида, а у Секста их было всего десять169. Спустя короткое время Секст был зажат в северо-восточном углу острова, в треугольнике, ограниченном Милами и Тавромением, а вскоре пали и сами Милы. Теперь приближался уже и Лепид, с большим опозданием. Его бездеятельность во всей этой кампании поистине поразительна — странно, что он не двинулся на восток раньше, ведь он явно там требовался и, возможно, его там ждали170. Последующие события показали, что Лепид был недоволен своим подчиненным положением. Возможно, он желал, чтобы Октавиан и Секст ослабили друг друга на востоке, и надеялся, прибыв в последнюю минуту, захватить власть, которую считал по праву своей? События 44/43 г. до н. э. показали, что Лепид был способен дождаться своего часа, а затем решительно действовать171. Если Октавиан не доверял Лепиду, то не без оснований172.
Последней надеждой Секста была морская битва, на которую он поставил всё. Октавиан согласился на нее, хотя, быть может, это было не слишком разумно (возможно, Секст даже бросил формальный вызов, а Октавиан его принял, с согласованием времени, места и численности войск)173. Но риск оправдался. Сражение состоялось при Навлохе (3 сентября 36 г. до н. э.), с каждой стороны участвовало по триста кораблей. Командовал не Октавиан, а Агриппа. К этому времени на море побеждала сила, а не умение. И более тяжелые суда, а также более сложное абордажное снаряжение принесли Агриппе преимущество. У Секста спаслось только семнадцать кораблей. Сам он бежал и мог лишь слабо надеяться примкнуть на Востоке к Антонию.
Сухопутные силы Секста Помпея перешли к Октавиану почти без колебаний. Ранее Плиний Руф передислоцировался на восток к Мессане, следуя, вероятно, за Лепид ом. К этому моменту он командовал значительной частью армии Секста — восемью легионами174. Было ясно, что они сдадутся, но кому? Агриппа и Лепид прибыли к городу. Агриппа настаивал, что надо дождаться Октавиана, но Лепид его не послушал. Он
167 Аппиан. Гражданские войны. V. 110.457—459, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55).
168 Аппиан. Гражданские войны. V. 116.481; Brunt 1971 (А 9): 498.
169 Brunt 1971 (А 9): 499-500.
170 Аппиан. Гражданские войны. V. 103.427, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55).
171 Ср.: САН IX2: 471, 482.4.
172 Дион Кассий (XT JX.8.3-4-) даже предполагает, что Лепид был в тайном сговоре с Секстом, а Октавиан подозревал это (ср.: ХЫХ.1.4). Это сообщение неправдоподобно и может являться плодом как пропаганды Октавиана, так и склонности Диона Кассия строить догадки о мотивациях людей; но некоторое недоверие вполне могло иметь место.
173 Аппиан. Гражданские войны. V. 118.489, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55); ср.: Gabba 1977 (С 94).
174 Аппиан. Гражданские войны. V. 122.505, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55).
54
Часть I. Изложение событий
даже соединился с войсками Плиния, и вместе они разграбили Мессену. Теперь, видимо, Лепид командовал объединенными силами — примерно двадцатью двумя легионами. У него уже много лет не было такой власти. И теперь наконец настало время заявить о себе, продемонстрировать, как несправедливо его не приглашали на все дипломатические переговоры в Брундизии, Мизене и Таренте. Лепид потребовал себе всю Сицилию, хотя великодушно предложил обменять Сицилию и Африку на область, которую контролировал прежде (в 44—42 гг. до н. э. — С.Г.), — Нарбонскую Галлию, Ближнюю и Дальнюю Испанию175. Сначала друзья Октавиана возражали спокойно, затем сам Октавиан — более жестко, но Лепид оставался непреклонен. Легионы были не в восторге от происходящего. (Иллюзией собственной значимости. — С.Т) Лепид обманывался недолго. Октавиан вошел в его лагерь почти без сопровождения, хотя совсем рядом, снаружи, оставил многочисленную конницу. Войска знали, на чьей стороне сила, и после единственной небольшой стычки перевили к Октавиану. Лепиду было позволено сохранить имущество, жизнь и даже должность верховного понтифика. Но Октавиан лишил его членства в триумвирате и провинциального командования176. И ему даже в голову не пришло сначала посоветоваться об этом с Антонием. Октавиан забрал себе Африку и Сицилию. Лепид же отправился в изгнание и канул в безвестность.
Таким образом, Секст и Лепид, в сущности, были устранены. Оставались Антоний и Октавиан, и Антоний теперь выглядел несколько потрепанным.
IX. 35-33 гг. до н. э.
Теперь политический расклад выглядел проще. Несомненно, предстояла решающая схватка, и можно было ожидать, что Антоний и Октавиан потратят последние несколько лет на приготовления к ней. Но произошло иначе. Октавиану, судя по всему, будущее представлялось достаточно ясно. Вскоре он активизировал борьбу за общественное мнение италийцев, обратив яростную пропаганду против Клеопатры и Марка Антония. Возможно, Октавиан даже контактировал с врагом Антония — Артаваздом Армянским (если только это обвинение — не пропагандистская выдумка Антония)177. И вскоре войска Октавиана уже набирались боевого опыта в ходе кампаний в Иллирии, подозрительно близко к границе владений Антония. Но Антоний медлил с ответом. Он даже заявлял, что желает присоединиться к Октавиану в Иллирийской войне178, — в качестве самозащиты эта уловка могла бы неплохо сработать, если бы только
175 Ср.: САН IX2: 486.
176 MRR П: 400.
177 Дион Кассий. ХЫХ.41.5.
178 Аппиан. Гражданские войны. V. 132.549.
Глава 1. Эпоха триумвирата
55
была осуществима, но в реальности внимание Антония было устремлено на Восток, даже на далекий Восток, и несколько лет он был занят местью вероломному армянскому царю Артавазду. Разумеется, успех в Армении несколько сгладил бы позор от парфянского разгрома, но в глазах римлян Армении недоставало блеска Парфии — новый Александр должен был совершить нечто более славное, и завоевание Армении могло послужить тому лишь началом. Здравомыслящий же человек уже должен был понять, что покорение Парфии — дело безнадежное. Учитывая, что на Западе Октавиан готовился к войне, Антонию попросту не хватило бы времени, у него не было тех нескольких лет, которые потребовались бы для нового вторжения в Парфию. И всё же в 33 г. до н. э. почти все легионы Антония дислоцировались на окраине его восточных владений, и только в этом году, крайне медленно, они начали долгий переход на Запад. Война с Октавианом едва ли была для Антония приоритетом. Возможно, он был настроен на мир и доволен существующим разделом империи, а может быть, попросту оказался наивен. Но вполне ясно, кто из этой пары искал разрыва, а кто витал мыслями еще где-то.
Поражение Секста Помпея создало и Антонию, и Октавиану временные трудности. Октавиан оказался обладателем сорока пяти легионов, но столкнулся с мятежом. Вышло очень неловко: его войска поверили его же собственной пропаганде. Он сам заявлял179, что завершил гражданские войны, установил мир на суше и море, а если так, то воинам незачем было дальше служить и они потребовали немедленного роспуска. Едва ли это было возможно. Октавиан знал, что вскоре ему вновь потребуются солдаты. Но распустить можно было хотя бы тех, кто отслужил дольше всех, кто сражался за него еще при Мутине и Филиппах, то есть примерно 20 тыс. человек180. Пусть и с некоторыми задержками, но для большинства из них нашлись земельные наделы, в основном в Италии и отчасти в Галлии181.Остальным Октавиан пообещал по пятьсот денариев и, что весьма удивительно, вскоре их выплатил182. Кроме того, он убедил солдат, что в Иллирии их ждет богатая добыча, — этим заявлениям вряд ли поверил бы человек, знакомый с этой областью, но, вероятно, таких было немного и трюк удался. Теперь Октавиан мог вернуться в Рим и принимать поздравления. Он отпраздновал овацию и получил другие почести, в том числе и трибунскую неприкосновенность183 — это примечательно, так как предвещало важную опору того конституционного фаса¬
179 Аппиан. Гражданские войны. V. 128.530, 130.540—542, 132.546—548; ср.: Дион Кассий. ХПХ.15.2.
180 Аппиан. Гражданские войны. V. 129.534 («при Филиппах и Мутине»); Дион Кассий (XLIX.14.1) уточняет, что речь идет о солдатах, которые служили «со времен Мутины или целых десять лет»; ср.: комментарии к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Brunt 1971 (А 9): 331; Keppie 1983 (Е 65): 69—73. Некоторые из них вскоре вновь были призваны на службу, см.: Дион Кассий. XLIX.34.3.
181 Keppie 1983 (Е 65): 70-73; ср.: Дион Кассий. ХЫХ.34.4.
182 Дион Кассий. XIIX.14.2, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Аппиан. Гражданские войны. V. 129.536.
183 См. Заметку, с. 91—92 наст. изд.
56
Часть I. Изложение событий
да, который он создал впоследствии. Велось еще больше разговоров о восстановлении республики, после того как вернется Антоний, — разве он смог бы отказать в этом, если Октавиан уже покончил с гражданскими войнами? Вскоре мир и благополучие были восстановлены и дома: Каль- визий Сабин получил поручение покончить с грабежами в Италии, а в самом Риме было учреждено нечто вроде полицейских отрядов184. Октавиан объявил также об освобождении от некоторых налогов, а ординарным магистратам предоставил для виду большую свободу185. Не в первый раз триумвиры изображали из себя борцов за римские традиции и даже, так сказать, за соблюдение конституции186. Но Октавиан уже начал присваивать эту маску в свое единоличное владение.
Трудности же Антония порождал Секст. Зимой 36/35 г. до н. э. последний прибыл в Митилены с намерением заключить союз с Антонием, но, прослышав о парфянской катастрофе, начал строить против него козни. И в том, и в другом случае Секст создавал проблемы. Но не потому, что был силен. Он попытался вновь собрать войска, но в общей сложности имел под началом не больше трех легионов и горстку кораблей187. Дело в том, что для Антония Секст был бы неудобным союзником: когда Италия с воодушевлением праздновала поражение последнего, могло сложиться впечатление, что уже Антоний, а не Октавиан не дает гражданским войнам сойти на нет. Да и прикончить Секста тоже было бы не с руки, ведь в Риме еще многие с тоской вспоминали о надеждах, возлагавшихся на Секста188. (Позднее, как ни возмутительно, сам Октавиан извлек из этого пользу, обвиняя Антония в том, что он бесчестно поступил с Секстом189.) Антоний поручил устранить эту трудность Марку Ти- цию. Ранее отец Тиция был проскрибирован и бежал к Сексту, а самого Тиция Секст пощадил, когда в 40 г. до н. э. того захватил Менодор190. Вероятно, Антоний избрал Тиция именно из-за прежнего благодеяния, оказанного ему Секстом, желая облегчить их сближение, если оно потребуется. Но в итоге всякое взаимодействие оказалось невозможным, поскольку вероломство Секста стало резать глаза. К весне 35 г. до н. э. преследованием Секста были заняты наместники Азии и Вифинии — Гай Фурний и Домиций Агенобарб, а также немалый флот. Участвовал в нем и царь
184 Аппиан. Гражданские войны. V.132.547; ср.: Светоний. Божественный Август. 32; Дион Кассий. XIJX. 15.1; Palmer 1978 (С 184): 320—321.
185 Аппиан. Гражданские войны. V. 130.540, 132.548; Дион Кассий. XIЛХ. 15.3; cp.: Nicolet 1976 (D 104): 95.
186 См. с. 35—37, 43-А4 наст. изд.
187 Аппиан. Гражданские войны. V.137.571, 138.574.
188 Позднее даже вспыхнуло народное выступление против Тиция, см.: Веллей Патеркул. П.79.6 (Тиций — подчиненный Антония, который в конечном итоге казнил Секста Помпея; см. далее. — С. Г).
189 Дион Кассий. L.1.4; ср.: Аппиан. Гражданские войны. V. 127.525.
190 Дион Кассий. XLVm.30.5-6. Впоследствии Тиция безосновательно изобразили личным врагом Секста, ср.: Аппиан. Гражданские войны. V. 140.584, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55): 142.589—590. Но Дион Кассий (XLIX.18.3) более прозорливо предполагает, что Секст надеялся на благосклонность Тиция.
Глава 1. Эпоха триумвирата
57
Дминта. Для Секста это было уже чересчур. В конце концов во Фригии он угодил в плен к Аминте, затем был переправлен к Тицию в Милет и там казнен. Неизвестно, санкционировал ли Антоний умерщвление Секста. Если да — то он замел следы; одни говорили, что приказ отдал не Антоний, а Планк, другие рассказывали о двух письмах: одно — с приказом о казни, а второе — с приказом о ее отмене, которые, как легко догадаться, прибыли в «неверном» порядке191.
Сам Антоний больше был озабочен Арменией. Он явно решил отплатить Артавазду и, несомненно, полагал себя столь же благоразумным, сколь и мстительным, поскольку не оставлял мечты о второй парфянской кампании. (И действительно, чуть не отправился на эту войну через два года.) Для этого требовалась верная Армения, что было недостижимо, пока ее царем оставался Артавазд. Дела приняли неожиданный оборот, поскольку в Александрию прибыло посольство от Артавазда Мидий- ского, который в прошлом году был врагом Антония. Послом выступал выдающийся человек — сам царь Полемон Понтийский. Планы Антония насчет Армении, видимо, не были секретом, и Артавазд Мидийский предложил Антонию союз. Антоний принял его и летом выступил из Египта. Судя по всему, он попросту делал вид, что нападает на парфян, но его непосредственной целью была, разумеется, Армения192.
Тогда из этих планов ничего не вышло, ибо случился кризис иного рода. На Восток прибыла Октавия. Антоний всё еще оставался ее мужем, какие бы слухи ни ходили о нем и Клеопатре. (Поездка Октавии отчетливо показала, что, по крайней мере, италийцы тогда не считали Антония мужем Клеопатры; в противном случае к этому времени она бы уже развелась с ним193.) Вполне возможно, что Октавиан сам посодействовал этой поездке сестры, как некоторые и подозревали194. Ее приезд был, несомненно, крайне неудобен Антонию — и не только из-за Клеопатры, которая в то время не сопровождала его, а тактично осталась дома в Александрии195. Настоящая проблема заключалась в том, что Октавия привезла с собой 2 тыс. элитных воинов от брата, а также деньги и припасы взамен потерянных в Парфии, и, возможно, некоторое количество италийских всадников196. В действительности же Октавиан должен был предоставить Антонию куда больше: 20 тыс. пехотинцев, которых он обе¬
191 Дион Кассии. ХЫХ. 18.4—5, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Аппиан. Гражданские войны. V.144.598—600. Но у Веллея, верного сторонника Октавиана, нет сомнений, что казнили Секста «по приказу Марка Антония» («iussu М. Antonii». — П. 79.5; ср.: 87.2).
192 Об этом пишет Дион Кассий (ХЫХ.ЗЗ.З); возможно, данная версия — лишь его догадка, но весьма разумная.
193 Ср. с. 47 наст, изд.; Плутарх. Антоний. 36.5, с комментариями: Pelling 1988 (В 138): к этому месту, 53.9—10; 54.3.
194 Плутарх. Антоний. 53.1.
195 Несмотря на намеки Плутарха [Антоний. 53.5—9), см. комментарии к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
196 Аппиан. Гражданские войны. V. 138.575 — если только эти «всадники» — не те же самые «элитные части», ср. комментарии к этому месту: Gabba 1970 (В 55).
58
Часть I. Изложение событий
щал выставить в соответствии с Тарентским соглашением в обмен на сто сорок кораблей, полученных от Антония197. Эти корабли оказались очень полезны в войне с Секстом Помпеем, и, окончив ее, Октавиан вернул половину из них; но едва ли этого было достаточно198. Если бы Антоний принял эти войска, это стало бы триумфом Октавиана, если бы отказался, то оскорбил бы Октавию и, вероятно, пострадала бы его политическая репутация, ибо Октавиан вскоре продемонстрировал, что готов строить пропаганду на том, что его сестра испытывает дурное обращение мужа199. Антоний благоразумно согласился принять бойцов, которых привезла Октавия. Но больше никаких неудобств от ее присутствия он терпеть не желал. Поэтому велел ей пребывать в Афинах или даже вернуться в Рим200. Сам Антоний удалился на зиму 35/34 г. до н. э. в Александрию. (Начинать поход против Армении было уже слишком поздно.) Клеопатра была для него более приятной компанией, чем Октавия, и он позволил Октавиану извлечь из этого всё, что тот пожелает. И тот действительно извлек многое.
В начале 34 г. до н. э. Антоний вновь занялся Арменией. Сначала, зимой, в дело пошла дипломатия: Антоний отправил Деллия к Артавазду Армянскому, чтобы просить руки его дочери для своего сына Александра Гелиоса, притворяясь, будто хочет поженить их. Конечно, она стала бы великолепной заложницей. Артавазд оказался достаточно проницателен и отказал. Весной Антоний неожиданно появился в Никополе у армянской границы и отправил послов к армянскому царю, чтобы обсудить новую кампанию против парфян. И вновь Артавазд отказал. Пока Дел- лий снова ездил просить Артавазда о переговорах, сам Антоний быстро направился к городу Артаксате. В конце концов, собственные аристократы и солдаты заставили Артавазда явиться к Антонию, пусть даже столь необычайное дружелюбие и вызывало у него подозрения. Антоний захватил прибывшего царя в плен и быстро занял всю страну. Антоний оставил в Армении войска на зиму, и за год туда прибыло примерно шестнадцать легионов201. Враги Антония (и прежде всего Октавиан) могли заявлять, что эта победа была бесчестной и досталась ценой вероломства; а его друзья возразили бы, что Артавазд получил вполне справедливое возмездие за собственное предательство202. Потускневшая слава Антония
197 См. с. 43 наст. изд.
198 Об их использовании против Секста см.: Аппиан. Гражданские войны. V.98.406; Дион Кассий. ХЫХ.1.1, 5.1. О возврате судов см.: Аппиан. Гражданские войны. V.129.537, 139.577; Дион Кассий. XLK.14.6.
199 Его нападки в этом ключе, возможно, начались уже зимой 35/34 г. до н. э.; ср.: Плутарх. Антоний. 54.1.
200 Пребывать в Афинах: Плутарх. Антоний. 53.2. Вернуться в Рим: Дион Кассий. ХЫХ.33.4.
201 Дион Кассий. ХЫХ.40.3; Плутарх. Антоний. 56.1; ср. с. 68 наст. изд.
202 «Октавиан заявлял, что предательский арест, совершенный Антонием, навлек дурную славу на римский народ» (Дион Кассий. L.1.4); ср.: Тацит. Анналы. П.3.2, с комментариями Гудьера (Goodyear); Веллей Патеркул. П.82.3; Fadinger 1969 (В 42): 150—151. Акцент на предательском поведении Артавазда, вероятно, восходит к Деллию, ср.: Стра¬
Глава 1. Эпоха триумвирата
59
была хоть как-то восстановлена. На монетах он мог наконец прославить победу: «ARMENIA DEVICTA» («Армения побеждена»)203.
Самого царя Артавазда привезли в Александрию. Это было организовано с блеском: царя заковали в серебряные или, возможно, золотые цепи204. И эту победу стоило отпраздновать. В конце 34 г. до н. э. в Александрии состоялась масштабная дионисийская процессия, которая как раз соответствовала образу Антония как Диониса-Осириса и которая уже не однажды проводилась в этом городе. Не всё пошло по плану: Артавазд и другие пленники отказались выразить почтение Клеопатре. И всё же Антоний мог наслаждаться этой церемонией.
К сожалению, это торжество обладало довольно неудобным сходством с римским триумфом, который сам по себе имел множество ассоциаций с Дионисом205. Октавиану было слишком легко представить всё это как кощунственный перенос римской церемонии в Египет206. И это еще не всё. Примерно тогда же, возможно в ходе самой церемонии207, состоялись так называемые «Александрийские дарения»: в Александрийском гимнасии установили золотые троны для Антония и Клеопатры и, более низкие, для их детей; Антоний объявил Клеопатру (вместе с ее сыном Цезарионом) правительницей Египта, Кипра и Келесирии. Армения, Мидия и Парфия (когда она будет завоевана) должны были отойти к их шестилетнему сыну Александру Гелиосу; Ливия и Кирена — его сестре- близнецу Клеопатре Селене; а Птолемею Филадельфу, которому пока было только два года, предназначались Финикия, Сирия и Киликия. Затем на сцене появились сами дети: Александр — в мидийской одежде и головном уборе, Птолемей — в характерной македонской обуви, плаще и шапке; у Александра на голове была также царская тиара, а у Птолемея — диадема208. Всё это было не более чем зрелищем. Данные жесты никак не отразились на управлении на Востоке209. Но зрелище было блестящим и его, несомненно, хорошо приняли в Александрии.
Тем не менее, действия Антония были беспримерными, и Октавиан явно им обрадовался. Как в 36 г. до н. э., выставляя напоказ свою связь с Клеопатрой, так и теперь Антоний, конечно, недооценил опасность такого поведения перед римской публикой. И вновь налицо грубая политиче-
бон. XI. 13.4-6 (524 С); Дион Кассий. ХЫХ.25.5; Плутарх. Антоний. 50.3—7, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
203 RRC 543 — монеты примерно датируются 32 г. до н. э.
204 О серебряных цепях см.: Дион Кассий. XLIX.39.6; о золотых цепях см.: Веллей Патеркул. П.82.3, с комментариями к этому месту: Woodmann 1983 (В 203). Ср.: Дион Кассий. ХЫХ.40.3.
205 Cp.: Versnel 1970 (А 97): прежде всего 20-38, 235-254, 288-289.
206 Таков намек Плутарха [Антоний. 50.6—7); ср.: Веллей Патеркул. П.82.4, с комментариями к этому месту: Woodmann 1983 (В 203); Grant 1974 (С 101): 161—162; Reinhold 1988 (В 150) к сообщению Диона Кассия: ХЫХ.40.3—4; Wallmann 1989 (С 243): 288—291.
207 Так предполагает Дион Кассий (XUX.40—41).
208 Плутарх. Антоний. 54.8, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
209 Pelling 1988 (В 138): 249—250 — комментарии к сообщению Плутарха: Антоний. 54.4—9 (противоположное мнение см.: Wallmann 1989 (С 243): 291—296). Даже объявле¬
60
Часть I. Изложение событий
скал ошибка, прямо связанная с Клеопатрой, которая, возможно, и убедила Антония всё это устроить. В то время Антония еще заботило мнение италийцев. На разговоры Октавиана о нарушении конституции он ответил тем, что сам торжественно написал сенату о восстановлении Республики210. Но демарши Антония в Александрии показали, что он притворялся. Возможно, эти жесты и не имели особого значения, но если всё же имели, то могли означать только династическое наследование: Антоний поистине стал вторым Геркулесом, но лишь в том отношении, что породил новую царскую династию, причем породил ее от чужеземки. Он даже чеканил монеты, где на одной стороне находился его портрет, а на другой — портрет Клеопатры. Это было невообразимо — иноземка на римской монете!211 Правда, он не забыл и своих римских детей: примерно в это же время Антоний чеканил монеты со своим портретом и изображением своего старшего сына Антилла, главного наследника по римским законам212. Но и они слишком напоминали о династическом наследовании, а это был уже не римский путь.
И, тем не менее, не следует преувеличивать ущерб, понесенный Антонием. Конечно, Октавиан привлек к этому внимание, и друзья Антония в Риме, естественно, были в замешательстве213, что достаточно хорошо свидетельствует об опрометчивости такой политики. Но всё же в начале 32 г. до н. э., когда Антоний собирался ратифицировать в Риме все свои распоряжения (acta), поддерживавшие его консулы Сосий и Аге- нобарб полагали, что сумеют скрыть факт «дарений», с момента которых прошло к тому времени уже пятнадцать месяцев214. Но если это так, то трудно поверить, что «дарственные» мероприятия были столь многошумны и зрелищны, как сообщают наши источники — Плутарх и Дион Кассий.
Важнее была другая пропаганда. Конечно, Антоний и Октавиан много лет публично переругивались, особенно ожесточенно — сразу после создания триумвирата, в 44—43 гг. до н. э. и в годы Перузийской войны 40 г. до н. э.215. Но в последние несколько лет мишенью Октавиана был, скорее, Секст — предводитель рабов и пиратов (по крайней мере, таким
ние Цезариона соправителем Клеопатры не стало новшеством: подобное уже проделывалось в 37—36 гг. до н. э. (Samuel 1971 (С 206)).
210 Дион Кассий. XLIX.41.6; ср.: Светоний. Божественный Август. 28.1. Это письмо могло быть включено в послание сенату, которое прибыло в начале 32 г. до н. э. (см. с. 69 наст, изд.); так, например, считают: Fadinger 1969 (В 42): 119—128, 195—206; Gray 1975 (С 102): 17—18, но слова Диона Кассия не содержат столь точного указания.
211 Особенно: RRC 543 — монета с легендой «ARMENIA DEVICTA» (см. с. 59 наст, изд.), но и некоторые более мелкие местные выпуски; cp.: Buttrey 1953 (В 314): 54—86 (особенно: 84), 95; Wallmann 1989 (С 243): 251-252, 255.
212 RRC 541; cp.: Wallmann 1989 (С 243): 251-252.
213 Дион Кассий. XUX.41.4.
214 Дион Кассий. ХЫХ.41.4.
215 Соответствующий материал собран Скоттом, см.: Scott 1933 (С 212); более тонкий анализ с яркими современными параллелями cp.: Kennedy 1984 (С 134); Watson 1987 (В 192) и особенно: Wallmann 1989 (С 243). О пропаганде в искусстве см. выдающуюся работу: Zänker 1987 (F 632).
Глава 1. Эпоха триумвирата
61
выставлял его Октавиан)216. После падения Секста Помпея идеологическая война с Антонием возобновилась, и вскоре они с Октавианом стали обмениваться открытыми письмами и манифестами. Отчасти это было просто соревнование, кто кого перещеголяет в помпезных заявлениях об уважении к конституции, но большей частью нападки имели личностную окраску. Всё это находилось, конечно же, в русле традиций римской инвективы, но отвечало и духу времени. Для успеха пропаганды требовалась заинтересованная публика, заряженная предубеждениями, которые идеология могла бы ловко улавливать и использовать в целях манипуляции общественным сознанием. В то время удобно было рассматривать гражданскую войну и братоубийственное кровопролитие в качестве свидетельства упадка древних добродетелей. Публика созрела, чтобы поверить в разговоры об аморальности Антония и задуматься о ее последствиях. Зимой 35/34 г. до н. э. Октавиан, вероятно, извлек пользу из того, как Антоний обошелся с его сестрой: разумеется, она могла бы развестись, но была для этого слишком благородна217. Кроме того, здесь же упоминалась и вся восточная испорченность, распущенность и непременно безрассудная любовь к Клеопатре. Всё это можно было преподать в самых черных красках. Некоторое представление о приемах тех лет дает девятый эпод Горация, написанный через несколько лет — в 31 г. до н. э.:
О римский воин, — дети, не поверите! — Порабощен царицею,
Оружье, колья носит: служит женщине И евнухам морщинистым;
В военном стане солнце зрит постыдную Палатку в виде полога!
(Гораций. Эподы. IX. 11—16. Пер. Н.С. Гищбурга)
Об Антонии могли распространять выдумки, будто он прилюдно целовал Клеопатре ноги или, верша правосудие, одновременно читал ее любовные письма, будто он даже спрыгнул с трибунала и вцепился в но¬
216 Ср. с. 36 наст, изд.; Wallmaim 1989 (С 243): 163—177, 185—220. Эта идея распространялась даже после падения Секста; ср.: Деяния Божественного Августа. 25.1: «mare pacavi a praedonibus» («Я очистил море от пиратов». Пер. А.Л Смышляева); 27.3 «bello servili» («рабская война». — С.Г.); а в конце 36 г. до н. э. Октавиан устроил большое представление, вернув «рабов» владельцам для наказания (Деяния Божественного Августа. 25.1; Ап- пиан. Гражданские войны. V. 130.544—545, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55); Дион Кассий. XLIX.12.4—5).
217 Плутарх. Антоний. 54.1, 57.4, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138). В 35 г. до н. э. трибунская неприкосновенность (полученная Октавианом в 36 г. до н. э. после победы над Секстом. — С.Т.) была распространена на Ливию и Октавию (Дион Кассий. XLIX.38.1, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); ср. п. 2 Заметки наст. гл.). Несомненно, все эти уловки были взаимосвязаны. Женщин из семьи Октавиана следовало наделить священной неприкосновенностью, чтобы противопоставить их великолепной, но бесстыдной Клеопатре.
62
Часть I. Изложение событий
силки Клеопатры, которую проносили поблизости!218 Красочным нападкам подвергалось и окружение Антония: передавали истории о пире, где Планк танцевал голым и раскрашенным в цвета морского божества219. Ходили легенды и о Клеопатре: она, очевидно, желала править Римом, поэтому ее любимая клятва гласила: «Так пусть я смогу судить с Капитолия!» Но Рим — это пустяки по сравнению с тем, что якобы задумали влюбленные — перенести столицу в Александрию220.
Антоний, разумеется, не отмалчивался. Военная биография Октавиа- на выглядела бледно и свидетельствовала о его малодушии; его поступок с Лепидом был возмутителен. Где часть Сицилии, по праву принадлежавшая Антонию? Или войска, которые были обещаны Октавианом? Октавиан обеспечил землей своих воинов, а что досталось солдатам Антония? Да и ведет себя Октавиан тоже как иноземец — крутит романы с женами консулов, его друзья тщательно осматривают обнаженных матрон и девственниц и выбирают тех, кто ему понравится; и разве в народе не слыхали о странном пире двенадцати богов, на котором Октавиан играл роль Аполлона?221 И не только Антоний вступает в брачные союзы с чужеземками: Октавиан предложил свою дочь Юлию в жены Котису, царю гетов, и даже пообещал, в свою очередь, жениться на дочери Коти- са222. (Любопытно, что думает об этом Ливия!) Октавиан тоже любит азартные игры223. Но во многом, слишком во многом Антонию приходилось защищаться. Он, например, написал произведение «De sua ebrietate» («О своем пьянстве»)224. По всей видимости, его содержание было менее забавным, чем название: не мемуары пьяницы, а серьезные доказательства того, что он — не такой пропойца, как утверждает Октавиан. Но больше всего били по репутации Антония нападки на Клеопатру. В открытом письме 33 г. до н. э. Антоний возражал Октавиану:
С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Разве она жена мне? [Разумеется, нет!]225 И в любом случае это длится уже девять лет. А ты как будто живешь с одной
218 Плутарх. Антоний. 58.9—11 — в данном пассаже воспроизведены рассказы на эту тему Кальвизия Сабина, друга Октавиана; Плутарх не верил им, ср.: 59.1
219 Веллей Патеркул. П.83.2.
220 Дион Кассий. L.4.1—2, 5, 26.5; Веллей Патеркул. П.82.4; Ливий. Периохи. 132; ср.: Проперций. Ш.11.31—50, особенно: 46; Гораций. Оды. 1.37.5—12; Овидий. Метаморфозы. XV.826—828; Scott 1933 (С 212): 43—44; Fadinger 1969 (В 42): 115—118, 163. Сам Август включил эти сведения в свою автобиографию, опубликованную в 20-х годах до н. э.; ср.: Фр. 16М.
221 О военной биографии Октавиана см.: Светоний. Божественный Август. 10.4, 16.2; ср.: Charlesworth 1933 (С 60): 174—175. О Лепиде, Сицилии и расселениях см.: Плутарх. Антоний. 55; Дион Кассий. L.I.3—4, 20.2—3. О пире с Аполлоном см.: Светоний. Божественный Август. 69.1, 63.2, 70; ср.: Charlesworth 1933 (С 60); Wallmann 1989 (С 243): особенно 268-274.
222 Светоний. Божественный Август. 63.2.
223 Светоний. Божественный Август. 71.
224 Плиний Старший. Естественная история. XTV.148; ср.: Scott 1929 (С 211); Geiger 1980 (С 96).
225 Данная пунктуация и толкование не вызывают сомнений, ср. комментарии к этому месту: Kraft 1967 (С 140); Carter 1982 (В 24).
Глава 1. Эпоха триумвирата
63
Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, — да и не всё ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься? (Светоний. Божественный Август. 69. Пер. М.Л. Гаспарова, с исправлениями.)
Выбранный для письма тон, как и его содержание, решает определенные задачи. В данном случае это грубый, несдержанный язык солдата, очень мужественного римлянина. Такой человек не станет попусту терять время, нежась за москитной сеткой.
Пропаганду можно было вести и средствами изобразительного искусства, и здесь Антонию было даже труднее отстоять свои позиции. Особенно поразительно его обращение с богами. Антоний отдавал предпочтение Дионису, а несколькими годами ранее подчеркивал свою связь с Геркулесом. Италийская публика могла решить, что он чересчур уж похож на этих богов. Дионисийское сочетание невоздержанности, пьянства и восточной угрозы едва ли обнадеживало. А Геркулес утратил свою мужественность возле Омфалы, и об этом помнили; этот двусмысленный образ Антония, соответственно, отразился и в тогдашнем искусстве. Окта- виан противопоставил ему более пристойных богов, особенно Аполлона — олицетворение цивилизованного порядка, дисциплины, спокойствия и умеренности. Октавиан и здесь нашел благодарную публику: сдержанноутонченные сюжеты с Аполлоном быстро стали популярны в жилых домах, иногда — в комнатах, закрытых от постороннего взгляда. Это отражало подлинный вкус италийцев, которые от всей души приветствовали новый моральный климат. Но Октавиан использовал не только Аполлона. На прекрасно отчеканенных монетах в связке с Октавианом предстают Венера, Юпитер, Гермес и Виктория. Если боги принимали чью-то сторону, то не вызывало сомнений, чье божественное сопровождение солиднее226. И здесь Антонию нечего было ответить — на Востоке религия функционировала иначе, и он едва ли мог стать чем-то большим, нежели олицетворением Диониса. Обилие богов попросту смазало бы картину, и неудивительно, что даже Геркулес постепенно отошел на второй план.
Итак, пропаганда цвела, не знала удержу. На кого она была направлена? На всех — или по меньшей мере на всех в Италии. Можно предположить, что самыми важными адресатами считались колонии ветеранов. В конце концов, в 40 г. до н. э. ветераны Антония и Октавиана отказались сражаться друг с другом227, а недавний мятеж показал, насколько слабо Октавиан их контролировал. Несомненно, эти люди имели значение, и грубый тон Антония нашел бы у них отклик; но, возможно, они всё же значили меньше, чем мы обычно думаем. Ведь в списке пропагандистских тем наблюдается удивительный пробел: память о самом Юлии
226 Геркулес и Омфала изображены на Аррецийской чаше в Музее Метрополитен (США, Нью-Йорк) (CVA. Metr. Mus. IV. В F: PL 24); см.: Zänker 1987 (F 632): 65-67. Cp.: Проперций. Ш.11.16—20; Плутарх. Антоний. 90(3).4. О монетах см.: Zänker 1987 (F 632): 61-65; cp.: Wallmann 1989 (С 243): 273-274; (об Аполлоне) см.: Mannsperger 1973 (С 171).
227 См. с. 33 наст. изд. Cp.: Wallmann 1989 (С 243): 151-152, 159-161, 219-220, 339- 343.
64
Часть I. Изложение событий
Цезаре. Кто его истинный наследник — Антоний или Октавиан? В 44— 43 гг. до н. э. этот вопрос был весьма животрепещущим228. Но во второй половине 30-х годов до н. э. о нем мало вспоминали: например, Антоний пытался использовать Цезариона, которого в письме сенату называл настоящимi сыном Цезаря (а не просто усыновленным, как Октавиан)229. Октавиан же публично обыгрывал идею нового вторжения в Британию и строил храм Божественного Юлия на Римском форуме — правда, довольно медленно230. Но всего этого, на удивление, мало. Судя по пропаганде, Цезарь исчерпал свой потенциал; точно так же никто особенно не старался изобразить войну с Секстом как повторение прежней гражданской войны, где молодые Цезарь и Помпей снова проживают судьбы своих отцов. И всё же, конечно, в самих колониях имя Цезаря не было бы неуместным, и его ветераны отозвались бы на этот боевой лозунг. Конечно, солдат меньше задевали все эти разговоры о восточной невоздержанности: у Цезаря тоже имелись любовницы — таковы уж солдаты и их командиры. Эти темы находили больший отклик у зажиточных слоев в италийских городах, где всё еще была сильна традиционная мораль. Возможно, именно на этих людей Август ориентировался, принимая через несколько лет свои законы о нравственности231, и именно к этим избирателям он всегда относился настороженно. Даже на богатых и культурных сенаторов эти темы не могли не воздействовать; от сенаторов можно бы ожидать более широких взглядов — впоследствии они оказались слишком искушенными, чтобы проглотить реформы в сфере морали, — и многие республиканцы и традиционалисты действительно сохранили верность Антонию232. Но даже самые искушенные едва ли могли укрыться от пропаганды, если ее изливали на них часто и весьма последовательно и если она достаточно сильно взывала к их прежним убеждениям и предрассудкам. В конечном итоге, на сторону Октавиана встало больше сенаторов, чем на сторону Антония233.
В любом случае, Октавиан умел нечто большее, чем попросту грубо шокировать добропорядочных граждан. «Пропаганда» — слишком приземленная характеристика литературных произведений его сторонников. Например, Гораций едва ли был нелоялен к Октавиану. Для своего эпо- да233а он избрал оскорбительный тон в духе Архилоха. Но он писал и «Сатиры» (а в этом жанре Луцилий создал образец личных нападок и насмешек), и всё же Гораций вполне осознанно ушел от традиции и вместо этого обратился к деликатному изображению собственной жизни и
228 Ср.: САН IX2: 471-478.
229 Светоний. Божественный Юлий. 52.2; ср.: Дион Кассий. XLIX.41.2, L.I.5.
230 О Британии см.: Дион Кассий. XLIX.38.2, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Вергилий. Георгики. 1.30, Ш.25; Гораций. Эподы. VII.7. Храм был достроен только в 29 г. до н. э., хотя уже в 36 г. до н. э. изображался на монетах (RRC 540; ср.: Weinstock 1971 (F 235): 399-400; Zänker 1987 (F 632): 44).
231 См. гл. 18, с. 1007—1014 наст. изд.
232 См. с. 69—70 наст. изд.
233 См. с. 74 наст. изд.
233а Имеется в виду процитированный выше эпод против Антония. — С. Т.
Глава 1. Эпоха триумвирата
65
ценностей, особенно ценностей дружбы. Примечательно, что Гораций не нападает на Антония и Клеопатру — у него действуют иные персонажи, более человечные и близкие. Октавиан находится на заднем плане, и намеки на него очень осторожные: вот его друзья, вот так они живут. Несколькими годами ранее Вергилий тоже сделал Октавиану комплимент в первой «Эклоге» («<...> deus nobis haec otia fecit» — «<...> нам бог спокойствие это доставил» (1.6. Пер. С. Шервинского)), и едва ли можно усомниться, что богом здесь выступает Октавиан. Поскольку он появляется в самом начале первой же поэмы, это почти неофициальное посвящение ему всего сборника. Но при этом тон вовсе не кажется откровенно пропагандистским. В финале первой эклоги акцентируется, скорее, опустошение, которое испытал выселенный Мелибей. И во всей книге рассматриваются отдельные эпизоды трагедии, разыгравшейся в сельской Италии: идиллическая земля теперь разорена, и в этом разорении, если задуматься, повинен во многом сам Октавиан. В конце 30-х годов до н. э. Вергилий работал над «Георгиками» и в них тоже с теплотой отзывался об Октавиане. Но безрадостный тон звучит вновь, когда поэт рассказывает об огромной работе, которую необходимо проделать, чтобы восстановить поврежденную и утраченную красоту234. Как и в первой эклоге, Октавиан, конечно, может дать надежду: «Юноше ныне тому одолеть злоключения века | Не возбраняйте!» («Hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo | ne prohibete» [Георгики. 1.500—501. Пер. С. Шервинского). И однако же, не все эти намеки понравились бы самому Октавиану. Несомненно, под влиянием Мецената он уже понимал важность покровительства поэтам, исключительно мягкого и свободного, а поэты отвечали ему сочинениями, в которые вводили его пропагандистские темы, но не педалировали их без устали и нарочито. Октавиан умел не путать независимость с оппозиционной деятельностью — это умение он сохранял в течение многих последующих лет.
Но чем был занят в это время сам Октавиан? Он находился в Илли- рике, завоевывая себе славу ценой дешевой крови иноземцев. Там и раньше уже проводились кампании: в 39 г. до н. э. Поллион воевал на юге с парфинами, а возможно, и с далматами235, тогда же армия Октавиана явно действовала где-то в другой части этой страны236. Но успехи были
234 Этот же намек содержится и в прологе к третьей «Георгине», где Вергилий, подражая Пиндару, обещает Октавиану поэтический храм. «Храм» будет находиться в Мантуе. На фоне упоминаний об этом городе во второй «Георгике» (198—199) и даже девятой эклоге (27—29) (см. с. 29 наст, изд.) намеки на Мантую трагичны; ее идиллическое описание [Георгики. П.12—15) в таком контексте выглядит бледным, а трагедия — искусственно приглушенной.
233 Это спорная проблема, и она связана со сложным вопросом о политической позиции самого Поллиона в те годы. Ср. другие мнения: Syme 1937 (D 67); Bosworth 1972 (С 34); Woodman 1983 (В 203) — комментарии к отрывку: Веллей Патеркул. П.78.2.
236 Аппиан. Гражданские войны. V.80.338; Веллей Патеркул. П.78.2. Возможно, хотя и маловероятно, что армия Октавиана и армия Поллиона — это одно и то же (ср.: Bosworth 1972 (С 34): 466—467; Woodman 1983 (В 203) — комментарии к сообщению Веллея Патеркула: П.78.2). Аппиан [Гражданские войны. У.75) пишет об экспедиции Антония против пар-
66
Часть I. Изложение событий
скромными, и Октавиану осталось еще немало дел. И конечно, Иллирик граничил с владениями Антония. Вряд ли Иллирик мог бы приобрести стратегическую важность, если бы дело дошло до войны — разве только его удалось бы покорить полностью, а на тот момент это едва ли было возможно. Гражданская война, вероятно, развернулась бы в Греции, а до Греции пока проще всего было добраться по морю из Италии. Но в случае войны войскам Октавиана, по крайней мере, не пришлось бы идти издалека. Он имел основания надеяться, что сможет вторгнуться во владения Антония раньше, чем тот успеет вернуться.
Сами кампании описаны в другом разделе настоящего тома237. К лету 33 г. до н. э. Октавиан уже находился в Риме, вернув орлов, которых потерял в 48 г. до н. э. Габиний, а побеждённые далматы теперь возвратили238. Итоги кампаний были скромными, но реальными, и Иллирик определенно выполнил свою задачу: Октавиан нашел оправдание тому, что не распустил солдат; легионеры были заняты войной, а сам Октавиан после ее окончания выглядел куда более успешным полководцем, чем прежде, — ведь он даже ухитрился получить ранения, хотя и не всегда удачные: например, в Сетовии его ранили камнем в колено. Иногда Октавиан даже выглядел кем-то вроде поборника дисциплины. Однажды он зашел так далеко, что приказал провести децимацию в войске239. Во время своих коротких зимовок в Риме Октавиан мог поносить Антония, противопоставляя собственную энергичную деятельность праздности Антония240. И на сей раз люди действительно могли ему поверить. В самом Риме победы можно было прославить и другими средствами, например, с помощью триумфов. Правда, в 34 г. до н. э. Сосий, полководец Антония, отпраздновал триумф за победу над Иудеей, вероятно, самый блестящий из всех, и провел его именно 3 сентября, в годовщину битвы при Навлохе, то есть как раз тогда, когда мысли людей должны были бы обращаться к победителю в этой битве — Октавиану. У Антония, видимо, еще остались влиятельные друзья, если этого удалось добиться. Но полководцы Октавиана по меньшей мере могли превзойти Антония количеством триумфов: в 36 г. до н. э. Домиций Кальвин отпраздновал триумф за Испанию, в 34-м Статилий Тавр — за Африку, а Норбан Флакк — за Испанию, в 33-м Марций Филипп и Клавдий Пульхр — за Испанию, а Луций Корни-
финов в конце 39 г. до н. э.; скорее всего, именно эта кампания (вопреки мнению: Bosworth 1972 (С 34): 466) идентична походу Поллиона.
237 См. с. 210—211, 631—632 насг. изд.
238 Аппиан. События в Иллирии. 28.82; Деяния Божественного Августа. 29.1. О дате возвращения Октавиана см.: Schmitthenner 1958 (С 304): 215—216.
239 На самом деле децимация (древний римский обычай, согласно которому в провинившейся части казнили — по жребию — каждого десятого легионера. — С. Т.) уже была в моде, примеры подали Цезарь в 49 г. до н. э. (Дион Кассий. XLI.35.5, если этому можно доверять), Домиций Кальвин — в 39-м (Дион Кассий. XLV1II.42.2) и Антоний в 36 г. до н. э. (Плутарх. Антоний. 39.9; Дион Кассий. XIJX.27.1). Но в каждом из перечисленных примеров наказание выглядело гораздо более оправданным, чем в обсуждаемом случае.
240 Ср.: Плутарх. Антоний. 55.1; Аппиан. События в Иллирии. 16.46.
Глава 1. Эпоха триумвирата
67
фиций — за Африку241. Согласно римским обычаям, ожидалось, что после триумфа победитель построит какое-нибудь здание ex manubiis — за счет добычи. В конце 30-х годов до н. э. Домиций Кальвин перестраивал Регию, тогда как на Марсовом поле Статилий Тавр строил каменный амфитеатр, а Марций Филипп восстанавливал храм Геркулеса и Муз; Корнифиций реконструировал на Авентине храм Дианы. Так поступали не только триумфаторы: в 34 г. до н. э. Павел Эмилий, очевидно соратник Октавиана, завершил и посвятил базилику. Сторонники Антония отвечали тем же: Домиций Агенобарб построил храм Нептуна; Сосий планировал великолепный храм Аполлона в Цирке — он тщетно надеялся оспорить исключительные притязания Октавиана на этого бога; но в отсутствие Антония его сподвижники едва ли могли соперничать с соратниками Октавиана. И хотя сам Октавиан отложил празднование триумфа за Иллирию (и провел его в 29 г. до н. э.), он, конечно, не мог позволить себе проигнорировать строительные начинания: в 33 г. до н. э. он переделал портик Октавия и выставил там орлов Габиния, а в 32-м — восстановил театр Помпея; велись также работы над храмами Божественного Юлия, Аполлона Палатинского и Юпитера Феретрия; много сил было потрачено и на Мавзолей — материальное воплощение неугасимой в веках славы Октавиана242. Всё это явно свидетельствовало о возрождении римского величия — и почти всё указывало на Октавиана. Он уже начал превращать Рим из кирпичного в мраморный.
Большое значение имело и обустройство канализационной системы. Это дело досталось верному Агриппе. Он развернул широкую программу по ее очистке и ремонту; в эти годы он вообще занимался масштабной реконструкцией всей системы водоснабжения243. По всей видимости, в 34 г. до н. э. Агриппа восстановил один акведук — Марциев, затем, в 33-м, — акведук Юлия; он усовершенствовал и другие водопроводы: Ап- пиев и Старый Аниен; кроме того, под его руководством были построены резервуары и декоративные фонтаны по всему городу. Когда Агриппа был эдилом в 33 г. до н. э. — странное, но примечательное назначение для такого выдающегося человека243"1, — он проявлял заботу о народе и другими способами: устраивал зрелищные игры, безвозмездно раздавал соль и оливковое масло, предоставил в бесплатное пользование термы и разбрасывал в театре купоны на одежду, деньги и другие вещи244. Более величественным мероприятием Агриппы стало возрождение Троянских игр245, которое позднее будет прославлено в «Энеиде» (V.545—603). Окта-
241 Inscr. Ital ХШ.1: 342-343, 569-570.
242 Обо всем этом см. с. 897—901 насг. изд.; Shipley 1931 (F 571); Zänker 1987 (F 632): 73—80.
243 Подробнее об этом см.: Roddaz 1984 (С 200): 148—152.
243а Традиционно римские политики занимали эдилитет между квестурой и претурой, а Агриппа уже был консуляром, и это назначение выглядело как шаг вниз по карьерной лестнице. — С.Т
244 Дион Кассий. ХЫХ.42-^13, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); cp.: Roddaz 1984 (С 200): 145-157.
245 Дион Кассий. ХЫХ.43.3.
68
Часть I. Изложение событий
виан уже довольно давно стал уделять повышенное внимание тем возможностям, которые сулила связь с древностью. Еще в 43 г. до н. э. он намекал на свою связь с Ромулом246, а в 38-м на Палатине, в доме Ромула (casa Romuli), был проведен некий ритуал247. Думается, не случайно сам Октавиан поселился так близко к дому Ромула248. Традиционализм Ок- тавиана становился всё очевиднее. Чтобы подчеркнуть это, из города были изгнаны астрологи и маги249. Они были совершенно неримским явлением.
А что же Антоний? Его мысли всё еще витали где-то далеко. В 33 г. до н. э. он планировал парфянскую кампанию, на сей раз с новым союзником — Артаваздом Мидийским. Теперь они были связаны теснее, поскольку Александра Гелиоса обручили с дочерью царя — Иотапой. Ее даже привезли в Александрию, и, возможно, это еще сильнее укрепило верность ее отца. Весной 33 г. до н. э. Антоний и Артавазд встретились на Араксе. Вся или почти вся восточная армия Антония уже находилась в Армении и насчитывала шестнадцать полных легионов250. Мы помним, что в 36 г. до н. э. из-за необходимости собрать воедино войска вторжение задержалось до неудобного сезона. Но теперь Антоний занимал намного более выигрышную позицию для раннего нападения. Однако все эти удачные обстоятельства сложились слишком поздно. В итоге это понял и Антоний. Наконец, «его мысли обратились к гражданской войне»251. Войска Антония выступили в поход — к Ионийскому побережью. Им предстояло пройти 2,5 тыс. км. Защита восточной границы была поручена двум монархам — мидийскому царю и Полемону. Последнему Антоний отдал Малую Армению252.
X. Приготовления: 32 г. до н. э.
Второй срок триумвирата истек почти наверняка 31 декабря 33 г. до н. э.253. В это время, разумеется, уже и речи быть не могло о его возобновлении, даже как дуовирата (союза двоих. — С.Т.), каковым он фактически стал. Это, конечно, не означало, что Антоний и Октавиан лишились всех правовых обоснований своего статуса254, но такое положение дел весьма стесняло их, причем Октавиана больше, чем Антония. В последние годы Октавиан слишком явно демонстрировал пиетет к римским
246 Светоний. Божественный Август. 95.
247 Дион Кассий. XLVni.43.4.
248 Светоний. Божественный Август. 72, с комментариями к этому месту: Carter 1982 (В 24). Октавиан получил этот дом в 42/41 г. до н. э.
249 Дион Кассий. ХЫХ.43.5.
250 Плутарх. Антоний. 56.1; ср.: Дион Кассий. XLIX. 40.2; см. с. 58 наст, изд.; Brunt 1971 (А 9): 504.
251 Плутарх. Антоний. 53.12.
252 Дион Кассий. XLEX.44.3.
253 См. Заметку наст, гл, с. 90—91 наст. изд.
254 См. с. 43-44 наст. изд.
Глава 1. Эпоха триумвирата
69
традициям и республиканской системе управления; к тому же Октавиан находился в Италии, где правовые вопросы вызывали более живой интерес. Антоний на Востоке просто правил — как бог, монарх, проконсул или триумвир, едва ли это имело значение. А вот в Италии иметь могло. Положение Октавиана было непростым и по другим причинам: ведь если триумвират истек, то возрастало значение консулов, а консулами 32 г. до н. э. были Гай Сосий и Гней Домиций Агенобарб, не просто сторонники Антония, а очень важные его соратники, особенно Домиций, известный своей приверженностью республиканской политике и происходивший из весьма влиятельного древнего рода. И не он один из бывших республиканцев предпочел Антония Октавиану. Так же поступил и внук Катона — Луций Кальпурний Бибул, да и другие255. Конечно, спор триумвиров нельзя было разрешить, просто сопоставив послужные списки римских сторонников каждого из них. Всё зависело от военной мощи: и сам Антоний, и его армия представляли собой намного более грозную силу, нежели всё, с чем прежде сталкивался Октавиан. Ретроспективно слишком легко думать об Октавиане как о человеке, которому суждено было победить. Возможно, история была на его стороне, но многие важные факторы играли против него. После 37 г. до н. э. Октавиан, конечно, немало сделал, чтобы нивелировать тот громадный перевес, которым ранее обладал Антоний: политика Октавиана была более проницательной, войны — более блестящими, в число его соратников входило всё больше людей хорошего происхождения, имевших в своем активе важные достижения256. Но для вдумчивого наблюдателя преимущество оставалось по-прежнему на стороне Антония.
Вскоре начался обмен любезностями. Консулы вооружились донесением Антония, перечислили принятые им решения (acta) и обратились к сенату с просьбой об их ратификации, — формально Антоний в этом не нуждался257, но они знали, что такая просьба будет расценена как проявление уважения; возможно, они также потребовали упразднения триумвирата258. Правда, в январе обо всем этом почти не говорили; фасции принадлежали опытному Домицию, который полагал, что о некоторых распоряжениях (acta) Антония лучше умолчать. Но 1 февраля259 фасции перешли к Сосию, и он публично напал на Октавиана. Особенно любопытно, что на предложение Сосия, направленное против Октавиана, наложил вето плебейский трибун — вновь казалось, что республиканские установления живы. Если эта интерцессия потребовалась Октавиану для того, чтобы предложение консула не прошло в сенате, то она красноречи¬
255 Syme 1939 (А 93): 222, 239, 266-270, 282; Syme 1986 (А 95): 206-207, 264.
256 Syme 1939 (А 93): 234-242.
257 Все действия триумвиров уже были ратифицированы заранее, см. с. 36 насг. изд., сноска 80.
258 Ср.: с. 60 насг. изд. и сноску 210.
259 Ср.: Gray 1975 (С 102): 17; Reinhold 1988 (В 150), комментарии к пассажу: Дион Кассий. L.2.3. Мнение о том, что Сосий предпринял атаку 1 января, см.: Fadinger 1969 (В 42): 195, примеч. 1.
70
Часть I. Изложение событий
во свидетельствует о том, что сенаторы еще сохраняли сильные симпатии к Антонию. Но такой вывод был бы рискованным. Предложение Сосия являлось крайней мерой; если его автор сомневался, что оно пройдет, то, возможно, он придумал удачный выход и сам заранее подготовил вето.
В это время сам Октавиан благоразумно отсутствовал в городе. Но через несколько недель он ответил демонстрацией силы в сенате: окружил себя вооруженной охраной и, каков бы ни был его законный статус, занял место между двумя консулами. Рим привык к зрелищным демонстрациям силы, но не эту традицию Октавиан желал возродить. Однако на тот момент она возымела действие, ибо консулы сбежали к Антонию. Многие сенаторы, — возможно, несколько сотен260, — последовали за ними. Антоний создал из них «контрсенат», что должно было наглядно свидетельствовать: законность — на его стороне. Учитывая присутствие рядом с ним консулов, которых изгнали из Рима грубой силой, притязание Антония на законность было далеко не пустым. Но их бегство оставило Италию полностью открытой для пропаганды Октавиана, что в итоге позволило ему превратить войну за собственные интересы в общенациональную кампанию. Разумеется, в некотором смысле это была пародия. В конечном счете, консулы могли бы оказаться куда полезнее Антонию в Риме, где служили бы живым напоминанием, что на его стороне не только восточная изнеженность.
Сосий и Агенобарб застали Антония в Эфесе261, где тот организовывал переправу своих войск в Грецию. Задача была масштабной. Армия Антония насчитывала свыше 100 тыс. человек — по меньшей мере столько же, сколько сражалось в парфянской кампании262. Антоний явно набирал солдат на Востоке — вероятно, и самих азиатов, и проживавших там италийцев263. Флот его состоял из восьмисот судов, из которых триста были транспортными264. Но, чтобы перевезти всё войско, этого, конечно, было недостаточно, и его пришлось переправлять через Эгейское море в несколько рейсов. Вскоре Антоний и его штаб перебрались на Самос. Как обычно случается во время войны, требовалось убить какое- то время. Клеопатра и Антоний, как обычно, сделали это эффектно. Эхо
260 Р. Сайм (Syme 1939 (А 93): 278) и другие исследователи указывают, что их было больше трехсот, так как Август заявлял, что из тех, кто сражался под его знаменами в Актийской войне, «сенаторов было свыше семисот» [Деяния Божественного Августа. 25.3), а общая численность сената достигала тысячи человек. Такой подсчет весьма сомнителен.
261 Плутарх. Антоний. 56.1—3; cp.: ZPE 14 (1974): 257—258 — надпись в честь Домиция как патрона Эфеса и Самоса.
262 Плутарх. Антоний. 61, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138); Brunt 1971 (А 9): 503—507. Большая часть этих войск присоединилась к Антонию весной 32 г. до н. э.
263 Brunt 1971 (А 9): 507; Levick 1967 (Е 851): 58—60. Уже в 38 г. до н. э. в некоторых когортах было «много новобранцев из Сирии»; см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.449; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.324.
264 Плутарх. Антоний. 56.2; ср.: 61.5.
Глава 1. Эпоха триумвирата
71
от их развлечений разнеслось далеко за пределы Греции265. И, конечно, снабдило Октавиана новой пропагандистской жвачкой, чтобы скормить ее публике.
Антоний оказался и перед более серьезным выбором. Еще казалось вероятным, что кампания начнется на исходе 32 г. до н. э. Следовало ли Клеопатре остаться или полезнее было вернуться в Египет? Домиций Агенобарб и другие побуждали Антония отослать ее, а Канидий Красе сказал, что ей стоит остаться, — так сообщается, и, возможно, это не просто слухи, ибо Домиций только что приехал из Рима и знал, что там сотворил из имени Клеопатры Октавиан. Другие опытные политики, в том числе Планк, явно придерживались той же точки зрения. Со своей стороны, Канидий, которому вскоре предстояло командовать сухопутной армией, естественно, подчеркивал важность военной помощи Клеопатры — не менее двухсот кораблей (вероятно, вместе с экипажами), — и ее же широкой финансовой поддержки266. Это был непростой выбор, поскольку моральный дух легионеров и союзников тоже имел значение. Если Октавиан побуждал италийцев рассматривать эту войну как поход против Востока, то многие азиаты, конечно, видели в ней шанс отомстить за себя Риму267. Эти люди сражались бы за свою царицу, но не за римского полководца. Клеопатре пришлось остаться.
Неторопливо продвигаясь на запад, к началу лета Антоний достиг Афин268. Настало время для решительных действий, и он отправил Октавии письмо о разводе. Возможно, у него не было особого выбора. Когда началась война, Октавия никак не могла оставаться его женой, скромно заботясь о доме и семье врага государства (было весьма похоже, что скоро его таковым объявят). Октавиан, как представляется, уже некоторое время публично уговаривал сестру развестись с распутным и неверным мужем269. Вряд ли Октавия продолжала бы отказываться. В Афинах эта перспектива уже стала предметом публичных шуток270. Можно было
265 Плутарх. Антоний. 56.6—57.1 — несомненно, рассказ приукрашен, но некоторые подробности (напр., город Приена, предоставленный «артистам Диониса») выглядят слишком обстоятельными, чтобы считать их полной выдумкой. Вероятно, именно тогда Антоний даровал привилегии также «всемирному союзу победителей на праздничных играх», см. с. 25—26 наст. изд.
266 Плутарх. Антоний. 56.2.
267 Ср.: Tam 1932 (С 233): 135—143 — предположение о том, что Оракул Сивилл Ш. 350—361 датируется этим временем. В этом оракуле предвкушается унижение Рима и триумф Азии, и он выглядит как пропаганда Октавиана, но брошенная ему же в лицо. К сожалению, датировка Тарна ненадежна, cp.: Nikiprowetzky 1970 (В 131): особенно 144— 150, 201-202.
268 Евсевий [Хроника. П.140) датирует развод Антония с Октавией маем—июнем 32 г. до н. э.; Плутарх [Антоний. 57) пишет, что письмо о разводе Антоний отправил из Афин, и, вероятно, так и было.
289 См. с. 61 наст. изд.
270 Кто-то нацарапал под статуей Антония: «Октавия и Афина — Антонию: “Забери свои вещи”» («Όκταουια καί Άθηνα Αντωνίαν res tuas tibi habe» (обычная формула развода), см.: Сенека Старший. Суазории. 1.6. Ср. с. 39 насг. изд., о разговорах о божественном браке Антония с Афиной.
72
Часть I. Изложение событий
предвидеть серьезную и печальную речь, в которой Октавия объявила бы о своем решении, что стало бы трогательной и элегантной кульминацией пропаганды ее брата. Гораздо лучше для Антония было инициировать развод самому, покончить с этим, не откладывая в долгий ящик.
Октавию следовало отпустить, а Клеопатре — остаться. Оба решения имели смысл, но оба были трудными: они давали новую пищу нападкам Октавиана и лишали Антония ценной поддержки италийцев. В прежние времена Помпей, Брут и Кассий, представлявшие себя защитниками правого дела, сумели опереться на Восток и при этом сохранить благопристойность, подобающую истинным римлянам. Теперь всё складывалось иначе. Даже самые ценимые Антонием командиры могли видеть в насмешках Октавиана толику правды. История с женщинами символизировала нечто более глубокое. Антоний действительно выглядел, скорее, как владыка Востока и был неудобен как формальный лидер. Мнения о том, что с этим делать, расходились. Наибольшим влиянием обладал До- миций, к тому моменту, как представляется, ставший главой своеобразной «римской партии»271. Он ограничился публичной грубостью по отношению к Клеопатре272. Это было довольно безвредно. Другие действовали решительнее. Планк был старшим из консуляров Антония273, Тиций, племянник Планка и убийца Секста, — избранным консулом274. Примерно в это время275 оба они перебежали к Октавиану, который, несомненно, был доволен этим: с каждым римлянином, перешедшим на его сторону (особенно — если то были такие выдающиеся люди), боевые порядки Востока и Запада разделялись четче и четче. И всё же за Планком и Тицием пока еще никто не последовал, или, во всяком случае, нам об этом не известно. Сторонники Антония колебались, но большинство сохраняло лояльность.
Планк высмеял Антония в сенате. Не на всех это произвело впечатление276, и требовалось более сенсационное представление. Двое изменников предположили, что стоит изучить завещание Антония, которое всё еще хранилось у девственных весталок. Вообще-то вскрытие завещания при жизни человека было незаконным, но это не имело значения — Окта- виан вскрыл его в одиночку и без свидетелей277. Завещание содержало
271 Светоний. Нерон. 3.2.
272 Веллей Патеркул. П.84.2.
273 Syme 1939 (А 93): 267.
274 ILS 891 (Милет). В конце концов он стал консулом-суффектом в 31 г. до н. э., но случилось это благодаря Октавиану; изначально Тиций мог быть избранным консулом на другой год.
275 На Самосе Тиция славили как покровителя, так что в тот момент он еще был на стороне Антония; cp.: IGRR VI1716; MDAI[A) 75 (1960): 149d. Дион Кассий (L.3.2), видимо, считает, что Планк и Тиций перешли на сторону Октавиана после развода Антония в Октавией, хотя это можно лишь предполагать; Плутарх (Антоний. 58.4) связывает их измену с полемикой о том, следует ли Клеопатре остаться.
276 Ср. колкое замечание некоего Копония: Веллей Патеркул. П.83.3.
277 Точно так же, в одиночку и без свидетелей, через несколько лет Октавиан нашел в храме столь же убедительные, по его словам, сведения насчет консульского стату¬
Глава 1. Эпоха триумвирата
73
необычайные условия: Антоний распорядился похоронить себя в Александрии, признал Цезариона сыном Цезаря (хотя трудно сказать, почему этот вопрос затрагивался в завещании Антония) и завещал огромные дары своим детям от Клеопатры. Там было всё, о чем только мог мечтать Октавиан. Можно было подумать, что он написал его сам. Возможно, так оно и было, по меньшей мере отчасти:278 весталки не знали содержания завещания, и Октавиан мог заявить что угодно. И он был достаточно умен, чтобы озвучить такие условия, которые Антонию, желавшему сохранить поддержку на Востоке, было бы одинаково неудобно как отрицать, так и признавать.
В своих интересах Октавиан мог использовать даже приготовления Антония, масштабы которых стали угрожающими. Вероятно, к началу августа войска Антония находились на западном побережье Греции279. Собирался ли он вторгнуться в Италию и Рим, что стало бы высшей государственной изменой?280 На самом деле, это крайне сомнительно. Октавиан уверенно контролировал Тарент и Брундизий, два крупных порта на юге Италии, и Антонию было бы непросто переправить крупное войско в несколько рейсов и высадить его на враждебный берег281. Именно по этой причине римские гражданские войны всегда происходили в Греции: для одной из сторон было естественно обратиться к ресурсам Востока и затем почти невозможно вернуться в защищенную Италию.
Но италийцы не были стратегами. Они боялись того, чем их пугали. Естественно, они нуждались в лидере, и им мог стать только Октавиан, но его положение всё еще оставалось неопределенным. Он больше не называл себя триумвиром (Антоний, между прочим, был не столь щепетилен)282. Трудно усомниться в том, что Октавиан до сих пор сохранял обширный провинциальный империй, однако он желал чего-то большего, чтобы явно представить себя защитником Рима и его традиций, а предстоящую войну, тем самым, — самой справедливой из гражданских войн. На помощь к нему пришли состоятельные классы Италии. Значительную часть лета 32 г. до н. э. Октавиан занимался организацией присяги на верность лично себе283. Клятву должна была принести вся Италия и даже все
са древнего Корнелия Косса; ср.: Ливий IV.20.5—11, с комментариями к этому месту: Ogilvie 1965 (В 135); и ниже: гл. 2, с. 104—105 насг. изд.
278 Ср., напр.: Syme 1939 (А 93): 282, примеч. 1; Crook 1957 (С 68): 36—38; противоположное мнение: Johnson 1978 (С 128); Wallmann 1989 (С 243): 310—313.
279 Kromayer 1898 (С 143): 57.
280 Ср.: Ливий. Периохи. 132; Дион Кассий. L.9.2; Веллей Патеркул. П.82.4; Плутарх. Антоний. 58.1—3, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).
281 Ср.: Плутарх. Антоний. 62.3; Гермократ у Фукидида: VI.34.5. Великолепное описание стратегических позиций Октавиана и Антония см.: Kromayer 1898 (С 143): 57—67.
282 MRR П: 417—418; ср.: RRC 545-546.
283 Ср. особенно: von Premerstein 1937 (А 74); кратко: Brunt, Moore 1967 (В 215): комментарии к пассажу: Деяния Божественного Августа. 25.2; Syme 1939 (А 93): 284—292; Herrmann 1968 (С 117): 78-89; Linderski 1984 (С 164); Girardet 1990 (С 97): 345-350. Свидетельства о датировке присяга см.: von Premerstein 1937 (А 74): 41; Сайм предполагает, — быть может, верно, — что италийские города принимали клятву не одновременно, а по очереди (Syme 1939 (А 93): 284-285).
74
Часть I. Изложение событий
западные провинции (что, возможно, подразумевало лишь проживавших там римских граждан).
Вся Италия по своей воле принесла мне присягу и потребовала, чтобы я был вождем в той войне, в которой я одержал победу при Акции. Такую же присягу принесли мне провинции Галлии, Испании, Африка, Сицилия, Сардиния [Деяния Божественного Августа. 25.2. Пер. АЛ. Сллыиияева).
Хотя клятва ни в коей мере не укрепляла законность положения Октавиана, она имела огромные психологические последствия. Клятва была принесена ему лично. Имелось несколько гражданских прецедентов подобных клятв284, но самые недавние примеры имели военный характер: клятву давали солдаты своему полководцу, и было вполне уместно, чтобы Италия и провинции «потребовали от Октавиана быть вождем» в войне. Присяга не только обеспечила Октавиану поддержку, но и позволила психологически подготовить Италию к противостоянию. Несомненно, она имела и иные следствия: например, в «Деяниях Божественного Августа» рассказывается, что под знаменами Октавиана сражалось более семисот сенаторов285, и, возможно, так говорили непосредственно во время этих событий. Конечно, и ранее многократно звучали призывы к consensus Italiae — согласию всей Италии286. Не вызывает сомнений, что в то время, как обычно, общество испытывало более сложные чувства. К примеру, Италия была недовольна новыми денежными поборами Октавиана, суровыми даже по меркам последних двадцати лет287. И было бы наивно полагать, что клятву приносили сугубо добровольно. Некоторые общины, например колонии, где жили ветераны Антония, получили «прощение» за то, что не принесли ее288. И всё же заявления о единодушии не являлись полной ложью. Например, очень многие сенаторы, как представляется, перешли к Октавиану именно на этих последних этапах289. И, кажется, лишь немногие из колонистов Антония воспользовались освобождением от присяги, полученным от Октавиана290. В 40 г. до н. э. ветераны Антония и Октавиана отказались сражаться друг против друга, но на сей раз всё было иначе. В конце концов, почти вся Италия поддержала Октавиана.
284 Von Premerstein 1937 (А 74): 27—36; важные оговорки см.: Herrmann 1968 (С 117): 50-89.
285 Деяния Божественного Августа. 25.3, ср. сноску 260 наст. гл. Эту фразу обычно интерпретируют как то, что все сенаторы сопровождали Октавиана на войну. Но это из нее не следует.
286 Syme 1939 (А 93): 285-286.
287 Плутарх. Антоний. 58.2; Дион Кассий. L. 10.4—5, 16.3, 20.3, ЫП.2.3; Плиний Старший. Естественная история. XXXVH.10; cp.: Syme 1939 (А 93): 284; Nicolet 1976 (D 104): 95; Yavetz 1969 (А 110): 25-26.
288 Прежде всего, речь идет о Бононии (Светоний. Божественный Август. 17.2); но, по всей видимости, даже там Октавиан пытался завоевать расположение колонистов (Дион Кассий. L.6.3).
289 Cp.: Wallmann 1976 (С 242).
290 Дион Кассий. L.6.3; cp.: LI.4.6, с комментариями к этому месту: Keppie 1983 (Е 65): 76.
Глава 1. Эпоха триумвирата
75
Наступало время действовать, хотя лето подходило к концу и ничто не говорило о том, что дело решится в этом году. На самом деле, решающее сражение отвечало бы интересам Октавиана, ведь у Антония имелась наготове большая армия, подкрепленная всеми богатствами Востока. Казна Октавиана зияла пустотой, что не могло не вызывать тревогу291. Но по меньшей мере политические приготовления Октавиана почти завершились, и в конце лета он уже мог объявить войну. Это тоже следовало сделать правильно. Война объявлялась только Клеопатре, в конце концов, она была настоящим врагом. И Октавиан объявил войну в соответствии со всеми римскими обычаями: он возродил, а может, и выдумал, древний ритуал фециалов — живописный спектакль метания копья на символический участок вражеской земли292. Конечно, не забыли и про Антония: его лишили консульства, которое он должен был занять в 31 г. до н. э., а также «остальной власти»293 (судя по всему, речь идет о полномочиях триумвира, на которые он всё еще претендовал и — как кое-кто полагал — которыми всё еще обладал). Но врагом государства его пока не объявили. Вскоре для этого должно было наступить подходящее время294, ибо Антоний, без всякого сомнения, остался бы с Клеопатрой, а если так, то разве он сам не признал бы себя врагом Рима?
XI. Акций, 31 г. до н. э.
Зимой 32/31 г. до н. э. войска Антония стояли наготове в Греции. Его основной флот размещался в порту Акций; но западное побережье Греции усеяно естественными гаванями, и желательно было защитить их все. Группы кораблей рассредоточились довольно широко — они стояли, например, в Мегоне, на Левкаде, Коркире, Тенаре и, вероятно, в Коринфе295. Сам Антоний зимовал в Патрах вместе с другой частью армии и флота. Уже стало ясно, что решающая кампания состоится следующим летом, поэтому пока можно было радоваться жизни. Он действительно потерял Италию, и потеря стала более тяжёлой, чем он рассчитывал. Это принесло огорчение. Но Антоний вполне мог понимать, чгго если уж Октавиан справился с потрясениями Перузийской войны, то в Италии он всегда будет иметь преимущество. Октавиан был хозяином Италии. Ее
291 Ср. с. 74 наст. изд. и сноску 287 насг. гл.
292 Дион Кассий. L.4.4—5, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); ср.: Ливий 1.32.5, с комментариями к этому месту: Ogilvie 1965 (В 135); Rich 1976 (А 81): 56—57, 105-106; Wiedemann 1986 (F 237).
293 «την (ϊαλλην έξουσίαν πασαν» — Дион Кассий. L.4.3, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); ср.: Плутарх. Антоний. 60.1.
294 Конечно, в какой-то момент Антония объявили врагом (Аппиан. Гражданские войны. IV.45.193; ср.: IV.38.161; Светоний. Божественный Август. 17.2): скорее всего, в конце 32 г. до н. э. или в начале 31 г. до н. э., а не после Акция, как утверждает Фадингер, см.: Fadinger 1969 (В 42): 245-252.
295 Ср.: Дион Кассий. L.11—13; Орозий. VI. 19.6—7; Страбон. VHL4.1-4 (359 С); Веллей Патеркул. П.84.1; Плутарх. Антоний. 62.5; Kromayer 1898 (С 143): 60.
76
Часть I. Изложение событий
могли бы использовать в своих интересах куда менее опытные политики. В любом случае, политические игры фактически закончились. Антоний всё еще мог заявлять, что откажется от власти триумвира после победы (как ему теперь приходилось оговариваться): через два или, возможно, через шесть месяцев296. Едва ли всё это теперь имело значение.
В военной сфере Антоний по-прежнему проявлял предусмотрительность. Он не мог проводить наборы в Италии, но не все восточные солдаты были слабыми, и его войска превосходили противника численностью: возможно, он имел 100 тыс. пехоты против 80 тыс. пехоты Октавиана. В коннице противники не уступали друг другу, но флот Антония, насчитывавший пятьсот военных кораблей, намного превосходил флот Октавиана, и, что столь же важно, суда Антония были крупнее297. В то время морские битвы велись так, что имела значение масса кораблей; во всяком случае, она сыграла важную роль при Навлохе. Кроме того, Антоний был богаче. Поборы Октавиана, несомненно, пополнили его казну, но он всё еще не мог соперничать с Антонием. Начнем с того, что Октавиану пришлось заранее выдать войскам подарки298. Наконец, и сам Антоний продолжал оставаться более успешным, чем Октавиан, полководцем, несмотря даже на победы последнего в Иллирике. Антоний знал, как мало они значили. Конечно, Антоний должен был слышать о впечатляющих успехах Агриппы, который еще не проявил себя, когда Антоний в последний раз приезжал на Запад. Тот мог оказаться более опасным противником. Так вот, с учетом всего этого, Антоний по-прежнему рассчитывал на победу.
Стратегия Антония была вполне очевидна. Вторгнуться в Италию он не мог по серьезным военным причинам299 и должен был ждать, пока Октавиан придет к нему, как ждал Помпей в 49—48 гг. до н. э. Как и Помпей, Антоний рассчитывал напасть на флот Октавиана во время переправы, когда корабли будут сильно перегружены конницей, легионерами и багажом. Даже если бы войскам Октавиана удалось высадиться, то им было бы трудно наладить снабжение в условиях, когда море контролировал бы Антоний. Он собирался вновь преподать Октавиану урок, который Цезарь получил в 48 г. до н. э., когда ему было крайне трудно переправить достаточное количество войск и укрепиться300. Правда, смущало то, что Помпей все-таки проиграл, да и в следующей гражданской войне (т. е. в войне триумвиров с Брутом и Кассием в 42 г. до н. э. — С.Т) Восток тоже был побежден; но Антоний, возможно, списывал эти пора¬
296 Дион Кассий. L.7.1—2.
297 Плутарх. Антоний. 61, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138); Brunt 1971 (А 9): 501—507. Легенда, несомненно, преувеличила величину судов Антония (вероятно, уже у Горация: Эподы. 1.1—2); ср., напр.: Проперций. Ш. 11.44; IV.6.47—50; Плутарх. Антоний. 62.2; Веллей Патеркул. П.84.1, с комментариями к этому месту: Woodman 1983 (В 203); у Октавиана имелись мощные корабли, которые победили Секста в 36 г. до н. э. Но суда Антония, конечно, все-таки были больше.
298 Дион Кассий. L.7.3.
299 См. с. 73 наст. изд.
300 Цезарь. Записки о гражданской войне. 3.7—8, 14, 23—26; ср.: САН IX2: 432.
Глава 1. Эпоха триумвирата
77
жения на то, что при Диррахии Помпей должен был победить300*1, а Брут и Кассий сражались слишком далеко на востоке Балканского полуострова301. Стратегически Восток был сильнее. Пример Суллы убедительно это доказывал.
И снова всё пошло не так302. Положение Антония было опасно тем, что ему пришлось разделить армию и флот между несколькими гаванями. Можно было рассчитывать, что эти разобщенные силы поддержат друг друга в случае угрозы; можно было ожидать также, что основные силы нападут возле Акция на любой флот, направляющийся вниз по Адриатическому морю, к южному пункту высадки. Но Агриппа действовал слишком быстро: в начале сезона военных действий 31 г. до н. э. он неожиданно атаковал крупными силами и взял Метону, затем предпринял несколько внезапных нападений в других частях побережья и добрался даже до Коркиры. Тем временем сам Октавиан сумел, на удивление беспрепятственно, переправиться на материк к северу от Коркиры. Через несколько дней он достиг Акция и занял тактически выгодную позицию на холме Микалици. Вскоре Октавиану при помощи землекопных работ удалось связать свой лагерь с гаванью Гомар. Поразительно, но в источниках не сообщается о каком-либо противодействии ему. Возможно, какие-то операции остались не упомянутыми в источниках, нельзя исключать и то, что сухопутные силы Антония были отозваны из Акция, чтобы противостоять внезапной атаке Агриппы где-то в другом месте. В любом случае, первый ход выиграл Октавиан, и он оказался решающим.
Вскоре Антоний сам прибыл из Патр и разбил лагерь возле Пунты на южном берегу бухты. Октавиан, разумеется, попытался вынудить его к битве прежде, чем тому удастся собрать остальной флот и армию; Антоний, конечно, уклонился. Когда войска Антония прибыли из разных мест, он поставил новый лагерь на северном берегу пролива — у Превезы. Теперь армии разделяла только равнина Никополя, и в этот раз Октавиан отказался от сражения на суше. Антоний усиленно пытался отрезать Октавиана от реки Лурос, которая находилась в тылу последнего и была крайне важна для снабжения водой. Случилось, по-видимому, и несколько конных стычек на севере равнины. Самую важную из них выиграли Статилий Тавр и изменник Тиций, ныне — один из командиров Октавиана. И снова решающим оказался вклад Агриппы. Его флот захватил остров Левкаду, который находился прямо на юго-западе от входа в гавань. Это обеспечило Октавиану более безопасную стоянку, чем в Гомаре, Антонию же стало сложнее усилиться за счет разбросанных судов. Чуть позже Агриппа захватил Патры, где всё еще стояли корабли Антония, и Коринф. Фактически Антоний оказался блокирован.
300а В этом сражении 48 г. до и. э. Помпей был очень близок к окончательной победе над Цезарем, но допустил тактическую ошибку и не сумел развить успех. — С.Т
301 САН IX2: 432; см. с. 20 наст. изд.
302 О первых этапах Актийской кампании см. прежде всего: Kromayer 1899 (С 144): 4-28.
78
Часть I. Изложение событий
И снова неотвратимо приходила на ум аналогия с 48 г. до н. э. Вновь разыгрывалась кампания при Диррахии, но роли странным образом поменялись: теперь именно восточные силы под командованием Антония были, как тогда Цезарь, отрезаны от побережья более сильными войском и флотом. Антоний, естественно, думал об отступлении вглубь Греции — именно так поступил Цезарь, и ему удалось победить при Фарсале. Октавиан уже разослал своих людей в Грецию и Македонию в то время, как Антоний отправил Деллия и Аминту в Македонию и Фракию303 искать наемников, как пишет Дион Кассий, но, возможно, их задача была шире. Вскоре Антоний сам отправился им вдогонку. Пока он отсутствовал, Сосий попытался прорвать морскую блокаду, но его победил Агриппа. По возвращении Антоний проиграл еще одну конную стычку. Теперь всё выглядело крайне безрадостно. Союзные ему цари погибли: Богуд Мавретанский — при Метоне, Таркондимонт304 — вместе с Сосием. Остальные дезертировали. Дейотар Филадельф из Пафлагонии перешел к Ок- тавиану немного ранее, и в какой-то момент к последнему присоединился Реметалк Фракийский;305 а теперь ушел и самый ценный союзник Антония — Аминта. Это порадовало Горация306 и уж точно — Октавиана. Положение Антония становилось отчаянным. Запасы подходили к концу, в армии участились болезни, — вероятно, прежде всего малярия и дизентерия, — усугублявшиеся нехваткой припасов и воды. Антонию не оставалось ничего другого, как передислоцировать все свои войска на южный берег, но тот был еще более безводным, чем северный, и легионеры продолжали умирать.
Из лагеря Антония дезертировали римляне. Самым тяжелым ударом стало бегство Домиция Агенобарба, уже смертельно больного. Деллий, прославившийся своим умением правильно выбирать момент для перехода на другую сторону, понял, что время настало: с собой он прихватил военные планы Антония. Нельзя сказать, что эти планы сложно было предугадать. Конечно, можно было прорываться вглубь материка, и, как представляется, на этом настаивал Канидий Красе, командир сухопутных сил. Но это означало бы потерю флота; и даже если бы армии удалось прорваться в Фессалию, даже если бы Октавиан принял битву, вместо того чтобы дожидаться изнурения противника, войско Антония было настолько измучено болезнями, что едва ли могло сражаться. Если смотреть на дело трезво — сражаться следовало на море. Позднейшие романтические выдумки представили это решение как безумие, совершенное под влиянием Клеопатры307, но это абсурд. На суше Антоний уже сделал
303 Дион Кассий. L.13.4.
304 См. с. 46 насг. изд.
305 [Плутарх.] Моралии. 207А.
306 «Две тысячи тут галлов, повернув коней, | Привет пропели Цезарю» («At huc frementes uerterunt bis mille equos | Galli canentes Caesarem» [Эподы. IX. 17—18. Пер. H. С. Гищбурга)). (Галлы здесь — подданные Аминты, царя Галатии. — С.Т.). В этом эподе, по-видимому, драматически воссоздается настроение тех, кто наблюдал за кампанией, ср.: Nisbet 1984 (В 132): 10-16.
307 Плутарх. Антоний. 62.1, 63.8, 64.
Глава 1. Эпоха триумвирата
79
всё, что мог, и только теперь, на исходе лета, он решил, что единственный выход — это схватка на море308.
В начале кампании флот Антония по численности превосходил флот Октавиана, но Агриппа уничтожил несколько его эскадр, а остальные не смогли добраться до стоянки при Акции. Антонию не хватало и солдат — болезни и дезертирство сильно сократили их число. К этому времени Антоний и надеяться не мог сравняться по силе с Октавианом, в противном случае он бы настоял на морской битве раньше. В конечном счете Антоний вывел двести или двести пятьдесят кораблей, тогда как Окта- виан имел четыреста кораблей или более309. Антоний попросту сжег свои суда, оставшиеся без экипажей: он счел это за лучшее, чем позволить Октавиану их захватить.
Ясно, что шансы Антония на победу были очень малы. Самое большее, на что он мог трезво рассчитывать, — это прорваться и увести как можно больше кораблей и людей, и, вероятно, именно это он с самого начала и задумал: например, он отослал свою казну — невообразимый поступок, если только он не собирался бежать; также он приказал кораблям поднять паруса, что было крайне необычно для античной битвы. Возможно, Антоний оставлял себе выбор: он знал, что не сможет прорваться без сражения, а морские битвы часто бывали непредсказуемы, и, если бы, против ожидания, дело повернулось в его пользу, то в этом случае, конечно, он дрался бы до конца. Сюрпризы могла преподнести даже погода — за несколько дней до сражения разразилась буря, — и битва стала бы еще более непредсказуемой: галеоны Антония были более устойчивы при качке, чем более легкие суда Октавиана. И всё же более вероятной представлялась попытка прорыва. Наверное, Антоний был не слишком откровенен с собственной армией: это серьезно подорвало бы дух войска, ибо большинству солдат предстояло остаться покинутыми на милость победителя. Можно не сомневаться, что они испытали шок и пришли в замешательство, когда в разгар сражения осознали правду310. Но сам Антоний ясно всё понимал. Также он не мог не видеть, что прорыв не дастся легко. Обойти превосходящие силы Октавиана с флангов было невозможно, и оставался единственный путь — прорываться в центре. Даже если бы это удалось, бегство на юг было связано с техническими затруднениями. Прямо к югу от Акция путь преграждал остров Левкада, и при господствующих западных и северо-западных ветрах его было трудно обойти под парусами311. Лучше всего было бы вступить в битву, выйдя как можно дальше в море (Октавиан вряд ли противодействовал бы этому, ведь ему тоже требовалось открытое море, чтобы воспользоваться
308 Великолепный анализ битвы см.: Кготауег 1899 (С 144); Tarn 1931 (С 232); Carter 1970 (С 51). Более подробное рассмотрение и обоснование изложенной здесь точки зрения см.: Pelling 1986 (С 186); Pelling 1988 (В 138): 272-289, особенно: 278-279.
309 Кготауег 1899 (С 144): 30-32; Brunt 1971 (А 9): 508; Pelling 1988 (В 138): 268, 276, 287-288.
310 Этот эпизод незабываемо описан Плутархом: Антоний. 66.6—8.
311 Carter 1970 (С 51): 215-227.
80
Часть I. Изложение событий
численным перевесом и маневренностью), и, если удастся, отложить ее до второй половины дня, когда ветра обычно меняли направления с западного на запад-северо-запад.
Именно так и произошло. Утром 2 сентября 31 г. до н. э. флот Антония покинул гавань и занял позицию у выхода из нее. Эскадра Клеопатры, состоявшая из шестидесяти судов, осталась позади, в центре, готовая, по- видимому, нанести концентрированный удар по любому слабому участку линии Октавиана — вышло нечто вроде тактики германских бронетанковых войск, только на море. Гораздо более длинная линия Октавиана перекрыла путь флоту Антония. Самое жуткое, что в течение следующих нескольких часов ничего не происходило. Антоний ждал полудня. Октавиан готов был ждать куда дольше, потому что именно Антонию, а не ему требовалось прорывать блокаду боем. Примерно в середине дня оба флота наконец немного сдвинулись в сторону открытого моря, но никаких реальных действий предпринято так и не было. Первый решительный шаг был сделан в начале полудня, поскольку оба северных крыла — правое у Антония и левое у Октавиана под командованием Агриппы — начали перемещаться дальше к северу. Непонятно, кто начал движение первым. Возможно, Агриппа, как предполагает наш главный источник Плутарх. Теперь, когда оба флота находились в открытом море, Агриппе разумно было начать обходной маневр. Но более вероятно, что это действие предпринял Антоний, который попытался растянуть боевой строй кораблей Октавиана, чтобы в его центре образовался крупный разрыв. Так или иначе, но бреши начали возникать — по меньшей мере в линии судов Антония, но, вероятно, и у Октавиана тоже. Суда Клеопатры воспользовались моментом: она скомандовала поднять паруса и устремилась на врага. Трудно сказать, кого она больше напугала. Корабли неожиданно легко проложили себе дорогу312. Сам Антоний перебрался с тяжелого флагмана на квинквирему312* и последовал за ней. Так же поступили и другие, но, вероятно, не слишком многие. Едва ли спаслась хоть сотня кораблей; каждый из них имел на борту, пожалуй, по сто легионеров, но основная часть флота и примерно три четверти сухопутной армии остались при Акции.
Когда Антоний и Клеопатра отплыли, остальной их флот больше не видел смысла в битве. Некоторые суда, возвращаясь в гавань, выглядели особенно недостойно: они гребли веслами в обратную сторону и пятились к порту, подобно ракам313. Возможно, небольшое сражение и состо
312 Или так полагает Плутарх: Антоний. 66.5—6, но, возможно, это соответствовало действительности (cp.: Pelling 1988 (В 138) — комментарий к сообщению Плутарха: Антоний. 65.6); вместе с тем малые потери заставляют предположить, что битва не была ожесточенной.
312а Квинквирема — римский военный корабль с пятью рядами весел. — С.Т.
313 Ср. поразительную эпиграмму Горация: «И вдруг, налево в гавань повернувшие, | Суда укрылись недругов» — «hostiliumque navium portu latent | puppes sinistrorsum citae» (Эподы. IX. 19—20. Пер. H. С. Гищбурга). Возможно, это были остатки правого крыла Антония, которые продвинулись к северу и оказались слишком далеко от входа в порт. Ср.: Pelling 1986 (С 186).
Глава 1. Эпоха триумвирата
81
ялось, но не слишком ожесточенное. В битве было ранено 5 тыс. человек — невероятно мало по меркам морского сражения. Октавиан очень постарался сделать ее более зрелищной: несколько кораблей было сожжено314, а сам он демонстративно проявил предосторожность, заночевав на корабле.
Но правду трудно было скрыть. Для Октавиана битва при Акции оказалась весьма неудовлетворительной. В сущности, можно утверждать, что Антоний и Клеопатра ее выиграли: по меньшей мере они добились всего, на что имели основания рассчитывать. Но они настолько безнадежно проиграли кампанию в целом, что этот локальный успех не играл никакой роли. В выжившей армии шли разговоры о том, чтобы самостоятельно спасаться на суше, а кое-кто предпринял безнадежную попытку прорваться в Македонию315. Всё это было в высшей степени нереально. Вскоре войско Антония перешло к Октавиану, который предоставил ему великодушные условия капитуляции316. Битва при Акции отсрочила финальное сражение между Октавианом и Антонием на год, не более того.
XII. Александрия, 30 г. до н. э.
Для Актийской кампании Антоний собрал почти все свои легионы. Исключение составили лишь четыре легиона под командованием Луция Пинария Скарпа в Кирене, которые, вероятно, были оставлены для предотвращения политических беспорядков в Египте, поскольку, как и большинство царей из династии Птолемеев, Клеопатра имела много внутренних врагов. В любом случае, теперь эти легионы стали единственной надеждой Антония, и остатки его флота направились не в Александрию, а в Паретоний — ближайший к войскам Пинария порт. Но, как несложно было предвидеть, надежды не оправдались: Пинарий, не долго думая, переметнулся на сторону Октавиана, и удрученному Антонию пришлось возвращаться в Александрию. Клеопатра уже некоторое время пребывала там и действовала весьма решительно.
Многие знатные люди, попавшие под подозрение, были убиты, Артавазда тоже вытащили из темницы и казнили. По распоряжению Клеопатры с целью сбора средств для содержания армии производились обширные конфискации имущества — довольно безнадежное дело, ибо к этому моменту уже никакие деньги не могли бы вернуть преданность войск.
Гнетущие вести приходили всю зиму. Умные правители, которых Антоний поставил в Малой Азии, оказались достаточно сообразительны,
314 Поэты Августа выжали из этого сожжения всё возможное. Это лучшее, что они могли сделать. Ср.: Гораций. Оды. 1.37.13: «vix una sospes navis ab ignibus...»; Вергилии. Энеида. УТГТ 694—695; затем: Дион Кассий. L.34 — как обычно, данное им описание битвы совершенно недостоверно.
315 Дион Кассий. LI. 1.4; ср.: Плутарх. Антоний. 67.8.
316 Плутарх. Антоний. 68.2—5, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138); Keppie 1983 (Е 65): 79-80.
Рис. 7. Диспозиции флотов в начале битвы при Акции.
Глава 1. Эпоха триумвирата
83
чтобы понять, что пора перебираться на другую сторону. Аминта изменил Антонию уже при Акции, вскоре его примеру последовал и Ирод Иудейский317. Так же поступили и менее значительные деятели, например, сыновья Таркондимота Киликийского318. Мы не знаем, когда перешли к Октавиану Архелай и Полемон, но весьма вероятно, что тоже зимой319. Сам Октавиан после окончания Актийской кампании провел некоторое время на Самосе и в Эфесе, куда к нему прибывали посольства, например, из Розоса и, вероятно, Миласы320, поскольку уже и города поняли, кто отныне их властитель. К концу 31 г. до н. э. Октавиан фактически взял под контроль Малую Азию и назначил своего сторонника, Квинта Дидия, наместником Сирии. Верность, которую внушал Антоний, всё еще приносила незначительные дивиденды: небольшой отряд гладиаторов так хотел присоединиться к нему, что пробился из Кизика через Галатию и Киликию в Сирию321 322. Но это стало единственной хорошей новостью — не слишком много.
В конце года Октавиан ненадолго вернулся в Италию, где возникли небольшие проблемы. Несомненно, финансовая ситуация по-прежнему вызывала недовольство, хотя некоторые налоги были уже отменены. Но более острую проблему создавало множество ветеранов, как его собственных, так и перешедших к нему после битвы при Акции. Их отправили обратно в Брундизий, и они, как и их товарищи после битвы при Нав-
Q09 »-»
лохе , настаивали на роспуске — ведь все знали, что воина практически закончена. Они требовали немедленной демобилизации, а это означало предоставление земельных наделов. Самым очевидным выходом выглядела конфискация земли у италийских сторонников Антония, хотя, кажется, их было крайне мало323. Агриппа был направлен в Италию вскоре после битвы при Акции, вероятно, потому, что проблемы уже просматривались. Меценат уже находился там324. Сам Октавиан не имел возмож-
317 Ирод получил формальное прощение от Октавиана на Родосе весной 30 г. до н. э.; но еще до того он помогал Квинту Дидию справиться с гладиаторами Антония.
318 Дион Кассий. 0.7.4; ср. с. 46, 78 насг. изд.
319 Вскоре после битвы при Акции Октавиан освободил Архелая от всякого наказания — как и Амишу (Дион Кассий. 0.2.1). Это предполагает, что они перешли к Октавиану одновременно. Полемон, который находился далеко на восточных границах, услышал о битве при Акции позже, но ничто не указывает, что он медлил примкнуть к Октавиану.
320 RDGE 58.Ш (= EJ2 301) и, возможно, 60 (= EJ2 303); ср.: Millar 1973 (С 175): 58. Возможно, и с Самоса тоже, см.: Reynolds 1982 (В 270): док. 13; вместе с: Badian 1984 (В 208): 168-169.
321 Там они неохотно заключили соглашение с Дидием. Вскоре большинство из них повстречало свою смерть.
322 См. с. 55 наст. изд.
323 См. с. 74 наст. изд.
324 Вполне возможно, что Меценат присутствовал при Акции — это предполагается в «Элегии к Меценату» (45—48); данную версию см.: Wistrand 1958 (В 200): 16—19. Если так, то он вернулся в Италию вскоре после сражения. Но Дион Кассий (Ы.3.5), судя по всему, полагает, что на время кампании Меценату был поручен Рим, и это более вероятно; эту версию см.: Syme 1939 (А 93): 292; ср.: Woodman 1983 (В 203) — комментарий к пассажу: Веллей Патеркул. П.88.2.
84
Часть I. Изложение событий
носги провести в Италии больше месяца и отъехать от Брундизия, порта высадки. Навстречу ему из Рима отправились многие сенаторы и всадники и большая часть городского плебса. Встречали его и ветераны, правда, несколько менее подобострастно. Октавиан разыграл спектакль, посвященный восстановлению дисциплины, но на самом деле сдался: было решено, что те, кто «служил под его знаменами», — возможно, имелись в виду солдаты, сражавшиеся на его стороне при Акции, — получат землю, другие (возможно, легионеры Антония) — только деньги. И даже при таких условиях расселить требовалось более 40 тыс. человек325. Но откуда было взять землю? Италия содрогалась. Угроза повторения трагедии Перузийской войны была слишком велика. Существовал лишь один выход: купить землю, а не отбирать ее. Так Октавиан и поступил. Разумеется, денег у него не было, но его притягивали богатства Египта. Солдатам и продавцам земли оставалось довольствоваться посулами. В отсутствие Октавиана продолжались волнения и даже сложился таинственный «заговор» под предводительством Марка Лепида, сына бывшего триумвира326. Но Италии пришлось подождать, пока Октавиан обратит на нее внимание. Было вполне очевидно, что первым делом ему необходимо нанести окончательное поражение Антонию и Клеопатре — Октавиан нуждался в египетской добыче.
Войскам Октавиана потребовалось немало времени, чтобы добраться до Александрии. Учитывая, что Сирия уже не представляла опасности, он мог бы высадить их в финикийских портах; но и это отняло бы заметное время, ведь кораблям пришлось бы делать несколько рейсов. Октавиан предпочел повести войска по суше с Ионийского побережья. До Египта они добрались в июле. К тому времени Октавиан и Антоний несколько раз обменялись посольствами327. Октавиан ничего не предлагал, хотя, кажется, Клеопатре он подал чуть больше надежды. Во- первых, Октавиан опасался, что она может уничтожить сокровища, в которых он так отчаянно нуждался: царица уже устроила большое представление, когда сложила их вместе и упаковала в легковоспламеняющийся лен и паклю. Обсуждалась даже возможность сохранить трон ее детям (вероятно, младшим, но не неудобному Цезариону), но при непременном условии, что она выдаст Антония или убьет его. Нельзя сказать, что всё это было немыслимо. Александрия и прежде видела таинственные смерти, Рим и прежде принимал весьма неожиданные решения о
325 Дион Кассий. LI.4.2—8, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Keppie 1983 (Е 65): 73—82, особенно: 85.
326 Веллей Патеркул. П.88; ср.: Ливий. Периохи. 133; Дион Кассий. LIV.15.4; Светоний. Божественный Август. 19.1 — вероятно, в 30-м, а не в 31 г. до н. э. (как явно подразумевает Аппиан (Гражданские войны. IV.50.217)), хотя, вопреки мнению Вудмана, слово «inierat» («начал», т. е. «организовал заговор». — С.Т. ) в сообщении Веллея Патеркула (П.88.1) не указывает на точную датировку. Cp.: Wistrand 1958 (В 200).
327 Плутарх. Антоний. 72—73, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138); Дион Кассий. LI.6—8.
Глава 1. Эпоха триумвирата
85
назначении зависимых царей. Сама Клеопатра вполне могла воспринимать данные предложения всерьез — намного серьезнее, чем желал бы Антоний. Посланцы Октавиана определенно имели возможность встречаться с ней и говорить наедине; это очень странно, если только она сама их не поощряла. Но такой исход всегда был не слишком вероятен, и, возможно, Октавиан никогда не рассчитывал на большее, чем заронить между Антонием и Клеопатрой взаимные подозрения или удержать Клеопатру от преждевременного самоубийства, продиктованного безысходностью. К июлю стало ясно, что сражаться придется до конца.
Октавиан планировал простые клещи. Его полководец Корнелий Галл забрал и усилил легионы Пинария и должен был атаковать с запада, когда войска самого Октавиана завершат долгий поход с востока. Хотя восточный фронт был явно важнее, Антоний почему-то направился на западный фронт (и не достиг там никаких успехов). В трудном переходе через пустыню к Пелузию Октавиан не встретил сопротивления, и сам Пелузий быстро пал, — возможно, благодаря измене. Вскоре армия Октавиана подступила к Александрии. 31 июля случилась конная стычка, в которой Антоний добился успеха. Меж тем штурм самого города неотвратимо надвигался.
Ночью 31 июля произошло весьма любопытное событие (во всяком случае, так рассказывали позднее) — послышалась таинственная божественная музыка и звуки странной процессии, словно сам Дионис покидал город328. Можно предположить, что произошло на самом деле. У римлян существовал обычай призыва (evocatio) богов вражеского города перед битвой: римский полководец взывал к ним и приглашал поселиться в новом гостеприимном доме — в Риме. Такой обряд, вероятно, был проведен перед падением Карфагена в 146 г. до н. э.329. Состоялся он и при рутинном взятии киликийского города Старая Исавра в 75 г. до н. э.330. Октавиан всегда тщательно следил за тем, где можно использовать древние обычаи. Падение Александрии стало бы величайшим завоеванием вражеского города со времен самого Карфагена, а Клеопатра была величайшей угрозой для Рима со времен Ганнибала. Именно Октавиан официально возродил древнюю формулу фециалов для объявления войны; и предполагать в этом случае следует именно эвокацию, поскольку он вряд ли упустил бы такую возможность. Слишком долго Антоний строил из себя Диониса-Осириса. Теперь же богу предстояло его покинуть.
Первого августа Октавиан атаковал, и Александрия пала. Сначала он нанес противнику поражение на море, в порту: весь флот Антония переметнулся к Октавиану. Затем последовала схватка на суше, в которой решительную победу тоже одержал Октавиан. Антоний вернулся во дво¬
328 Плутарх. Антоний. 75.
329 Макробий. Сатурналии. Ш.9.6; Сервий. Коллментарии к Энеиде. ХП.841; сомнения в этом см.: Raws on 1973 (F 203).
330 Hall 1972 (В 240); Le Gall 1976 (D 210).
86
Часть I. Изложение событий
рец и умер. Плутарх, а вслед за ним и Шекспир, рассказывают великолепную историю: Антоний получает ложные вести о смерти Клеопатры, медленно снимает с себя доспехи, его раб совершает самоубийство, вместо того чтобы убить господина, сам Антоний неумело наносит себе смертельный удар — и корчится от боли, пока Клеопатра и ее служанки поднимают его в мавзолей. Мы конечно же вполне можем допустить, что в суматохе Антоний услышал искаженные донесения и опрометчиво решил, что Клеопатра покончила с собой, — это было бы естественно. Но в реальности было иначе: люди Октавиана пленили ее, и она прожила на девять дней дольше331.
Сам Октавиан вошел в Александрию, не встретив сопротивления, и в тщательно продуманной речи объявил, что прощает город. Но его милосердие имело пределы. Конечно, он забрал казну. Цезариона выследили и прикончили; так же поступили и с Антиллом, старшим сыном Антония; были и другие жертвы, включая Кассия Пармского, последнего из убийц Юлия Цезаря, и Канидия Красса, который командовал сухопутными силами в Актийской битве. Но многих и пощадили, в частности, других детей Клеопатры — по меньшей мере на тот момент332. Их сохранили для триумфа и насмешек римской толпы. Такая же участь, видимо, предназначалась и Клеопатре, но этому плану Октавиана не суждено было исполниться.
История смерти Клеопатры еще необычнее, чем рассказ о смерти Антония, и оценить степень достоверности того, что нам сообщают о тех днях, довольно трудно. Античные авторы, прежде всего Плутарх и Дион Кассий333, не сомневаются, что Октавиан старался удержать Клеопатру от самоубийства и угрожал ее детям, чтобы гарантировать, что она не покончит с собой. Разумеется, это делалось для того, чтобы представить ее в унизительном свете во время триумфа в Риме; и, по мнению античных авторов, Клеопатра покончила с собой, когда осознала весь ужас такой судьбы. Она искупалась, надела лучшие царские одежды — странная вариация обмывания и одевания, которые совершались во время настоящих похорон. Затем Клеопатра прижала к руке аспида, воссев на царский трон в окружении преданных служанок Ирады и Хармианы, которые решили умереть вместе с госпожой. Стража ворвалась и обнаружила живописную сцену смерти; Клеопатра одержала последнюю блестящую победу. И такая смерть ей наиболее подобала, поскольку древним
331 О дате ее смерти (вероятно, 10 августа) cp.: Skeat 1953 (С 219): 98—100.
332 Клеопатра Селена осталась в живых и вышла замуж за Юбу, царя Мавретании; Александра Гелиоса провели в триумфе (важных и знатных пленников римские полководцы проводили в триумфальной процессии, демонстрируя их римскому народу наряду с захваченной добычей. — С.Т) в 29 г. до н. э., и больше нам ничего о нем не известно; возможно, он был убит. Птолемей Филадельф не упоминается в связи с триумфом и, вероятно, умер даже раньше.
333 Эта же традиция отражена и у Флора (П.21.9—10) и Орозия (VL19.18). Возможно, она восходит к Ливию, который любил такие финальные сцены (ср. с его описанием смерти Софонисбы: XXX. 12—15), и, конечно, предполагает важность Клеопатры для триумфа (Фр. 54: «ού θριαμβεύσομαι» — «Я не буду проведена в триумфе»).
Глава 1. Эпоха триумвирата
87
символом Птолемеев была сдвоенная кобра — uraeus: на головном уборе Птолемеев кобры поднимались, словно атакуя врага престола334. Теперь врагом Клеопатры стала сама ее жизнь. Пришла пора царской кобре нанести смертельный удар.
Данная версия по времени очень близка к самим событиям. Ее очертания уже наметились к тому моменту, как несколькими годами позже Гораций написал оду о Клеопатре335. Меж тем современные исследователи воспринимают эту версию скептически336. Они указывают на преимущества, которые Октавиан извлек из смерти Клеопатры: даже после ее самоубийства в Египте несколько месяцев продолжались волнения337. Они были бы ещё опаснее, если бы потенциальным лидером оставалась Клеопатра. Не лучше ли было для Октавиана устранить ее? Если настоящее убийство казалось слишком грубым, он по меньшей мере мог оставить ей яд или даже кобр, найти которых, конечно, было несложно; это послужило бы великолепной заменой револьверу в кобуре офицера. Но всё же такая гипотеза создает больше проблем, чем решает. Остается неясным, почему Октавиан позволил Клеопатре прожить эти девять дней; имеются даже сведения, что он пресек две предыдущие попытки самоубийства338. Октавиан должен был твердо определиться со своими планами еще до взятия города. В суматохе, царившей в первый день, Клеопатра вполне могла бы умереть, и легко было бы изобразить это как самоубийство, совершённое, несомненно, варварским способом. Октавиан с сожалением говорил бы о прощении, которое готов был ей даровать: такие сцены стали обычными в эпоху Раннего Принципата. Но из той истории, которая до нас дошла, следуют совершенно иные выводы, и они гораздо менее лестны для Октавиана. Трудно не прийти к заключению, что он старался сохранить Клеопатре жизнь вопреки ее желанию, но она его перехитрила. Обычно Октавиан проявлял в пропаганде большую ловкость, чем в данном случае. Если он вообще сохранил ей жизнь, то следует, конечно, полагать, что он искренне стремился провести ее в триумфе, чего желали и его сторонники339. Некоторые подробности вполне могут быть фантазией340 — например, известная история о корзине с фи¬
334 Ср. особенно: Griffiths 1961 (С 105); Nisbet, Hubbard 1970 (В 133) — комментарий к Горацию: Оды. 1.37.
335 Гораций. Оды. 1.37.
336 Ср. особенно: Nisbet, Hubbard 1970 (В 133) — комментарий к Горацию: Оды. 1.37. Обычно историки уверенно утверждают, что Октавиан приказал Клеопатре умереть или потворствовал ее самоубийству; ср., напр.: Grant 1974 (С 101): 224—227; Ншаг 1978 (С 122): 227; Сайм несколько более осторожен, см.: Syme 1939 (А 93): 298—299.
337 Дион Кассий. Ы.17.4, с комментариями к этому месту: Reinhold 1988 (В 150); Страбон. XVII.L52—53 (819 С).
338 Плутарх. Антоний. 79.3-4; 82.4—5.
339 Ср. особенно: Проперций. IV.6.63—66. Если оставление Клеопатры в живых после триумфа представлялось чересчур опасным, то потом ее, конечно, нетрудно было бы устранить — зрелищная казнь была бы излишней, но чуть позже с ней мог приключиться несчастный случай или тяжелая болезнь. Устроить такое было легко.
340 Хотя отдельные подробности, возможно, достоверны, ср.: Pelling 1988 (В 138): 318—
323.
Часть I. Изложение событий
гами. Но, по меньшей мере в общих чертах, великолепная, спокойная и триумфальная смерть Клеопатры — это, вероятно, всё же история, а не легенда.
XIII. Оглядываясь назад
Почему Антоний и Клеопатра проиграли? Конечно, можно было бы указать на их политические ошибки и большую проницательность Окта- виана. Из-за невнимания к западному кризису Антоний напрасно держал свои легионы на восточных границах слишком долго; он слишком вызывающе демонстрировал связь с Клеопатрой; свою роль сыграли и «Александрийские дарения» — да, это было всего лишь зрелище, но оно тоже повредило репутации Антония в глазах италийцев. С другой стороны, Октавиан умело манипулировал общественным мнением в Италии, используя пропаганду намного умнее и шире, чем кто-либо прежде. Эти факты так легко выделить, что обычно мы считаем их решающими. Конечно, они сыграли свою роль, но вопрос в том, насколько эта роль важна. Если Антоний настолько сосредоточился на Востоке, то Италия в любом случае больше благоволила бы Октавиану; и, несмотря ни на что, в начале 31 г. до н. э., когда все политические реверансы закончились, Антоний всё еще считал, что выйдет победителем. Восток так же твердо поддерживал его, как Запад — Октавиана, при этом стратегические обстоятельства складывались в пользу Антония. Конечно, Октавиан перехитрил Антония в политических интригах, но не это в конечном счете принесло Октавиану победу.
Пожалуй, проще выделить решающие события. Очевидно, что к таковым следует отнести те, что произошли в 36 г. до н. э., когда Антоний потерпел поражение в Парфии, а Октавиан одержал победу над Секстом, — этот удивительный контраст дал италийской публике немало пищи для размышлений: от слабого Октавиана, не блиставшего военными талантами, не ждали победы, зато ее ждали от Антония — величайшего в мире полководца. Но было по меньшей мере еще два поворотных момента. Одним, причем совершенно незаметным, стала смерть Калена в 40 г. до н. э. Именно по этой причине Антоний лишился Галлии и так решительно повернулся к Востоку; и именно это в более отдаленной перспективе принесло Октавиану власть не только над Галлией, но и над всем Западом. Смерть же Калена была не более чем случайностью — Антонию просто не повезло. Вторым переломным пунктом стал первый этап самой Актийской кампании, когда Октавиан быстро и беспрепятственно переправился в Грецию и, что важнее, Агриппа предпринял серию изнурительных атак на рассеянные силы Антония. Именно тогда, за несколько недель, Антоний из победителя превратился в побежденного; а потом противостояние просто шло своим чередом. Как именно развивалась си¬
Глава 1. Эпоха триумвирата
89
туация в эти недели, установить по-прежнему трудно. Почему Антоний так вяло оборонялся? Почему Октавиану удалось без особых усилий захватить ключевой пункт на суше у Акция? Этого мы не узнаем; возможно, в дело вновь вмешалась судьба. Но эти несколько недель решили судьбу Средиземноморья.
Говоря о том, что Октавиан превосходил Антония политической проницательностью, можно привести и иное соображение. Антоний и Клеопатра вполне могли выиграть Актийскую кампанию. Если бы им это удалось, то обустроить мир им было бы в некотором смысле проще. Их брак — который, конечно, состоялся бы — создал бы очень соблазнительный образец новой гармонии Запада и Востока. Он возымел бы особенно сильное действие во всех культурах, где правители считались богами, это был бы божественный брак, самая надежная гарантия мирового процветания. Но такие культуры существовали только на Востоке: Антоний и Клеопатра были бы богами и монархами одновременно, но судьба Юлия Цезаря ясно показала, какую опасность представляли подобные сюжеты в Риме. Антоний проявил государственную мудрость в других вопросах, прежде всего в своих проницательных решениях о правителях, которых он привел к власти на Востоке, а также в успешных и масштабных мероприятиях по реорганизации восточных провинций.
Но его главным промахом оказалась неспособность успокоить италийцев. Единство греко-римского мира всегда было ненадежным, и вряд ли оно пережило бы длительное правление Клеопатры и Антония. Если заглянуть на поколение вперед, то можно предположить следующее развитие событий: существовало бы два мира, а не один, причем Антилл, вероятно, получил бы какую-то власть на Западе, а Цезарион стал бы более традиционным монархом на Востоке. Пожалуй, это был бы лучший из возможных вариантов; но продолжение изнурительных восстаний и непрерывных гражданских войн как в Италии, так и в Греции было столь же вероятно. И никто не мог знать, чем всё закончится.
Сегодня Октавиан вызывает у нас гораздо меньше энтузиазма, чем пятьдесят лет назад. «Поскольку он сражался за нечто большее, чем честолюбие, он смог воодушевить народ для предстоящей борьбы»341 — сейчас мы так не написали бы. Мы восхищаемся его политической прозорливостью, которая столь сильно содействовала его честолюбивым замыслам, но восхищаемся ею неохотно — мы видели слишком много таких лидеров и знаем, к чему они приводили мир. Теперь эта история рассказана снова, но не как триумф Октавиана, а как трагедия Антония и Клеопатры. И всё же они могли бы не совладать с успехом, а Октавиан справился: его мастерская пропаганда в Италии, возможно, и не выиграла для него войну, зато помогла добиться мира. С точки зрения блага для Рима победил нужный человек.
341 Charlesworth // САН Xй. 65.
90
Часть I. Изложение событий
Заметка
Конституционные вопросы
1. Дата окончания срока триумвирата
Общеизвестно, что этот вопрос спорен. Исчерпывающий анализ свидетельств и библиографии см. прежде всего в изд.: Fadinger 1969 (В 42): 98—133; Gabba 1970 (В 55): lxviii—Ixxix.
Закон Тиция, принятый 27 ноября 43 г. до н. э., учредил триумвират на пять лет: полномочия триумвиров должны были истечь 31 декабря 38 г. до н. э., так что точная их продолжительность составляла пять лет и чуть больше месяца. Затем срок был продлен, но только после встречи в Таренте в 37 г. до н. э. (см. с. 43-44 наст. изд.). Спорным остается вопрос о конечной дате, установленной этим продлением: 31 декабря 33 г. до н. э или 31 декабря 32 г. до н. э.
В «Деяниях Божественного Августа» (7.1) Август заявляет, что был триумвиром «в течение десяти лет непрерывно» — «per continuos annos decem / συνεχέσιν ετεσιν δέκα» (ср.: Светоний. Божественный Август. 27.1), то есть с 27 ноября 43 г. до н. э. до 31 декабря 33 г. до н. э.; ср. комментарий к указанному месту в: Brunt, Moore 1967 (В 215). Я согласен с теми, кто считает это свидетельство решающим. Так, в Капитолийских фасгах, созданных при Августе, триумвиры упомянуты перед консулами в записи от 1 января 37 г. до н. э. (а не 36 г. до н. э.), следовательно, второе пятилетие отсчитывалось с данного момента. Из сообщения Аппиана видно, что окончанием триумвирата он считал конец 32 г. до н. э., а не 33 г. до н. э.: [1 января 33 г. до н. э.]: «<...> оставалось еще два года второго пятилетия этой власти» — «<...> δύο γαρ ελειπεν ετη τη δεύτερα πενταετία τήσδε της αρχής» [События в Иллирии. 28.80. Пер. С.П. Кондратьева), но, скорее всего, он ошибался: даже если «События в Иллирии» Аппиан писал, опираясь в целом на автобиографию Августа — а в ней тот намеренно затуманил свое официальное положение в 32 г. до н. э., что неудивительно, — вполне в манере Аппиана было бы прояснить ситуацию, снабдив ее собственными объяснениями. Выражение «так как время их власти истекало» [во время совещания в Таренте] — «έπεί δε о χρόνος εληγε τής αρχής...» (Аппиан. Гражданские войны. V.95.398) может указывать на то, что Аппиан ошибочно считал, будто в 37 г. до н. э. триумвиры всё еще пребывали в должности, хотя на самом деле к тому моменту срок уже истек (ср.: Дион Кассий. XLVIIL54.6). В таком случае Аппиан, естественно, полагал, что пятилетнее продление действовало с 36 г. до н. э. до конца 32 г. до н. э. Поскольку Антоний и Октавиан должны были вступить в консульскую должность 1 января 31 г. до н. э., напрашивался вывод, что триумвират завершался днем ранее, и, вероятно, это запутало Аппиана. Но такие продления обычно делались на пять лет, и первоочередной задачей триумвиров в Таренте было ретроспективно легализовать свое текущее положение и, соответственно, датировать продление задним числом — 1 января 37 г. до н. э.
Глава 1. Эпоха триумвирата
91
Странность состоит не в том, что они продлили собственные полномочия только до декабря 33 г. до н. э. (это легко объясняется пристрастием к пятилетним продлениям и необходимостью постфактум легализовать свое положение в 37 г. до н. э.), а в том, что, когда триумвиры согласовывали в Мизене кандидатуры консулов на следующие годы, датой своего консульства они выбрали 31-й, а не 32 г. до н. э. Уже тогда они могли предвидеть, что второе пятилетие окончится в 33-м, а не в 32 г. до н. э. Но данный выбор вполне мог сделать Антоний: он занимал сильную позицию на переговорах и в Брундизии, и в Мизене, к тому же в 32 г. до н. э. консулами должны были стать соратники Антония — Агенобарб и Сосий. Антоний вполне мог рассчитывать на то, что они поддержат его и при этом создадут трудности Октавиану в решающем году341*1.
2. «Трибунская неприкосновенность»
Октавиана
Дион Кассий (XLIX. 15.5—6) явно считает, что Октавиан получил «трибунскую неприкосновенность» в 36 г. до н. э.: «<...> они [народ] проголосовали за предоставление ему <...> защиты от оскорбления словом или действием (“τό μήτε εργω μήτε λόγω τι ύβρίζεσθαι”): каждый, кто совершит подобное преступление, подлежит тому же наказанию, как если бы оскорбил трибуна». (О терминологии ср.: Bauman 1981 (С 20).) Октавиан получил также право сидеть на трибунской скамье (см.: Там же); в следующем году неприкосновенность была распространена на Октавию и Ливию (Дион Кассий. XLIX.38.1). Но Аппиан [Гражданские войны. V. 132.548) пишет, что в 36 г. до н. э. «они» избрали Октавиана «плебейским трибуном навечно» («δήμαρχος ές αεί»), то есть предоставили ему трибунскую власть, «чтобы этой пожизненной властью побудить отказаться от прежней αρχή» [власти триумвира]» [Пер. А.И. Тюженева); Орозий (VI. 18.34) также относит получение Октавианом полной трибунской власти к 36 г. до н. э. Дион Кассий (LI.19.6) сообщает, что Октавиану предоставили трибунскую власть в 30 г. до н. э.; в таком случае довольно странно, что в пассаже ЫП.32.5—6 он описывает такое же голосование и в 23 г. до н. э. На самом деле Август, конечно, отсчитывал свою трибунскую власть с 23 г. [Деяния Божественного Августа. 4.4), и проще всего разрешить это противоречие, если допустить, что в пассаже XLIX.15.5—6 Дион Кассий прав насчет неприкосновенности. Ошибка Аппиана и Орозия в таком случае не вызывает удивления. Выходит, Дион Кассий (1Л1.32.5) правильно указывает, что окончательное голосование о предоставлении Августу трибунской власти состоялось в 23 г. до н. э., а далее (1Л1.32.6) проясняет, что на сей раз он принял эту почесть. В пассаже LI.19.6 Дион Кассий описывает только предложение трибунской власти в
341а Если в 32 г. до н. э. полномочия Октавиана и Антония заканчивались, их положение в государстве становилось зыбким, и в дальнейшем соотношение их сил во многом зависело бы от авторитета каждого из них в государстве. — С. Т
92
Часть I. Изложение событий
30 г. до н. э.; в пассаже Ы.20.4 он говорит, что Октавиан принял «почти все» почести, за которые тогда проголосовали, — конечно, удивительная формулировка, если отвергнуто было столь важное предложение, как трибунская власть, но так выразиться греческий историк всё же мог (Дион Кассий имеет склонность перечислять предоставленные почести так, словно все они были приняты). Данную точку зрения см.: Last 1951 (С 153).
Некоторые исследователи склонны считать, что свое согласие на принятие трибунской власти в 36 г. до н. э. Октавиан обусловил требованием, согласно которому он и Антоний должны были попутно отказаться от полномочий триумвиров. Если следовать этой версии, то данное предложение Октавиана утратило силу, когда Антоний не принял его, но кое- чего от своего изначального предложения Октавиан всё же добился — ему удалось сохранить себе личную неприкосновенность; ср., напр.: Schmitthenner 1958 (С 304): 191, примеч. 2; Palmer 1978 (С 184): 322—323. Это вполне возможно. Другие (напр.: von Premerstein 1937 (А 74): 260— 266) полагают, что в 36 г. до н. э. Октавиан обрел трибунскую власть в полном объеме, а затем (вероятно, в начале 27 г. до н. э.) отрекся от нее, перед тем как получить ее назад в 23 г. до н. э.; но в таком случае странно, что эта первая трибунская власть не нашла отражения в современных Октавиану документах, да и в литературных источниках не упоминается его отречение от нее. Третьи (напр.: Kromayer 1888 (С 141): 40; Grant 1946 (В 322): 446-453; Jones 1960 (А 47): 10, 9^-95; Reinhold 1988 (В 150): 229- 230) думают, что в 30 г. до н. э. Октавиан был наделен трибунским правом помощи (ius auxilii); сторонники этой точки зрения опираются на сообщение Диона Кассия (II. 19.6), увязавшего «право помощи» с предоставлением трибунской власти. Эту позицию Диона Кассия сторонникам третьей точки зрения всё равно приходится либо отвергать, либо объяснять в том ключе, как указано выше; и в любом случае «не в римских правилах было разбивать саму власть (potestas)» подобным образом (Last 1951 (С 153): 101).
Глава 2
Дж.-А. Крук
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, 30 Г. ДО Н. Э. - 14 Г. Н. Э.
I. Введение
С победой наследника Юлия Цезаря начался — хотя это заметно лишь в исторической ретроспективе — «Августов век», новый этап в европейской истории, и собственно «Римская империя» — новая эпоха в общепринятом делении мировой истории. Данный факт всегда представлял трудность для историков, начиная с первых авторов, писавших об Августе, и до наших современников, ведь Август одновременно воплощает и конец одной эпохи, и начало следующей. Возникает искушение прервать хронологическое изложение — так сказать, остановить время — в начале Принципата (и не важно, какой год считается первым: 27 г. до н. э., 23 г. до н. э., 19 г. до н. э. или какой-то еще) и начать предметное описание «учреждений» Римской империи, созданных ее основателем. Август действительно «основал» Римскую империю; но опасность предметного изложения состоит в том, что если поддаться этому искушению, то начинает казаться, будто созданные первым принцепсом учреждения почти целиком были плодами размышления и проектирования, тогда как следует понимать, что эти учреждения, незавершенные и предварительные, были порождены превратностями живой политической истории. Эта история и будет рассказана в данной главе1.
Источники, свидетельствующие о правлении Августа после периода триумвирата, рассмотренного в гл. 1 наст, изд., слишком разнообразны, чтобы описывать их здесь в общем2, но в некоторых отношениях они всё же далеко не удовлетворительны, и заложенные Августом основы многих учреждений Римской империи по-прежнему трудно выявить. Сохра-
1 Ее рекомендуется читать параллельно с военной историей, изложенной в гл. 4 наст.
ИЗД.
2 Об основных литературных источниках см.: САН X1: 866—876. Эпиграфические Документы см.: Ehrenberg, Jones 1955 (В 227) (переиздание в обложке изд. 1976 и 1979 гг., снабженное важными дополнениями) (далее: EJ2). Переводы: AN (см. «Список сокращений» в разделе «Библиография» наст. изд.). Избранные источники на английском языке: Chisholm, Ferguson 1981 (А 16).
94
Часть I. Изложение событий
лившиеся исторические повествования тоже таковы, что побуждают придавать слишком большое значение второстепенным волнениям. Следует обратить внимание читателей на пару особенностей данных источников. Во-первых, от античных авторов до нас дошло лишь одно полное хронологическое повествование о правлении Августа — это соответствующая часть «Римской истории» (кн. Ы—LTV), которую написал на греческом языке Дион Кассий, сенатор-консуляр времен Северов3. К счастью, сохранился полный рассказ Диона Кассия о большей части этого периода, тогда как исследователи эпохи, следующей за правлением Августа, вынуждены довольствоваться преимущественно византийскими извлечениями из его текста; однако имеется несколько небольших лакун, которые объясняются не какой-то зловещей причиной, а просто утратой листов кодекса, и здесь приходится заменять Диона Кассия этими самыми извлечениями, что не всегда возможно4. Вследствие плохой сохранности основного источника во многом утрачена подробная картина последних двадцати лет правления Августа, что оставляет слишком много места для догадок и неизбежно приводит к тому, что внимание больше акцентируется на первой половине его правления.
Необходимо отметить и вторую особенность «Римской истории» Диона Кассия — это характер кн. LEL Она почти целиком состоит из вымышленного спора, который якобы состоялся в 29 г. до н. э. между Агриппой и Меценатом, советниками будущего Августа, по поводу сравнительных достоинств «демократического» или «монархического» государства; речь Мецената, выступавшего за последнее, значительно длиннее5. Сегодня преобладает теория, принятая и в настоящей работе, что, по крайней мере, речь Мецената — это демарш, придуманный Дионом Кассием в надежде повлиять на правительственную политику своего времени; ее нельзя использовать как прямое свидетельство того, что планировалось или как обстояло дело в то время, когда она будто бы была произнесена.
Помимо «Римской истории» Диона Кассия, в нашем распоряжении — два крупных литературных источника. Это биографии Августа и Тиберия, написанные Светонием; они чрезвычайно важны, однако составлены тематически, а не хронологически6. В любом случае, Светоний и Дион Кассий не являются современниками Августа, и возникает вопрос, каковы были их источники и насколько последние достоверны. Из современного той эпохе материала сохранились «Деяния» самого Августа (как и другие важные надписи и папирусы), соответствующая часть «Римской истории»
3 МШаг 1964 (В 128); Mamiwald 1979 (В 121).
4 6—5 гг. до н. э. — только извлечения; 4—3 гг. до н. э. — текст Диона Кассия полностью отсутствует; 2 г. до н. э. — текст начинается с извлечения, далее становится полным, но заканчивается извлечением; 1 г. до н. э., 1 и 3 гг. н. э. — только извлечения; 8 г. н. э. — лишь отрывок извлечения из последней части рассказа о событиях этого года; 9 г. н. э. — полный текст Диона Кассия, за исключением периода после «катастрофы Вара», для которого имеется только извлечение; с лета 13 г. н. э. по лето 14 г. н. э. — только извлечение.
5 Millar 1964 (В 128): 102—118; McKechnie 1981 (В 116); Espinosa Ruiz 1982 (С 84).
6 Wallace-Hadrill 1983 (В 190): 10-15; Gascou 1984 (В 59): 390-396.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
95
Веллея Патеркула7 и «География» Страбона. Меж тем известно, что текстов было гораздо больше: Август написал незаконченную автобиографию (дойдя только до 25 г. до н. э.), существовали сборники его писем и высказываний; Агриппа тоже сочинил воспоминания; упоминается множество современников и близких по времени авторов, которые могли затронуть события правления Августа, хотя от их трудов не сохранилось ни слова8. Ливий довел свою «Историю Рима» до 9 г. до н. э., но от книг, посвященных эпохе Августа, до нас дошли только так называемые периохи, или «Содержание», и на важный вопрос — послужил ли Ливий основным источником для рассказа Диона Кассия о правлении Августа, как это было для предыдущих периодов, — вероятно, следует ответить отрицательно9. Таким образом, историк, изучающий Августа, оказывается в стесненном положении: его основной нарративный источник сам зависит от неизвестного и утраченного источника, о достоверности которого судить невозможно.
Среди надписей, многочисленных и очень важных, хоть и неизменно требующих внимательного толкования, лишь одна группа может поставить читателя в тупик, если ни словом ее не прокомментировать: имеются в виду списки, известные как фасгы и календари10. Фасгы — это вырезанные на камне хронологические перечни ежегодных римских консулов или триумфаторов, уходящие в далекую древность, просто перечни, которые иногда сопровождаются краткими пометками о других событиях. Самый значимый из сохранившихся списков включает и консулов, и триумфаторов и называется «Капитолийские фасты»; он был размещен на триумфальной арке Августа, которая располагалась в южном конце Римского форума11. Важно понимать, что эти фасгы — в их нынешнем виде — являются не древним первичным материалом, а ученой компиляцией, составленной за очень короткое время с пропагандистскими, а не историческими целями. Консульские фасты выставлялись также в муниципиях, которые прибавляли туда своих местных магистратов; отдельные сообщества тоже вели собственные списки: старосты городских кварталов (vico- magistri) оставили нам хороший перечень консулов до 3 г. н. э. Календари — это списки праздников и других событий, привязанные к дням года12. В Риме, без всякого сомнения, существовал официальный перечень праздников, но те, что в более или менее фрагментарном состоянии дошли до нас, принадлежали муниципиям, сообществам или даже частным лицам. Наиболее ценны Пренесгинские фасты (с форума Пренесге) — тоже плод
7 Веллей Патеркул. П. 88—123 (ed. Woodman 1983 (В 203), с комментарием).
8 Напр.: Ауфидий Басс, Сервилий Нониан (о последнем см.: Syme//Hermes 92 (1964): 408-^14 = Syme 1970 (В 178): 91-109).
9 Manuwald 1979 (В 121).
10 Тексты фасг и календарей см.: EJ2; издание см.: Degrassi 1947; Degrassi 1963 (оба — В 224): ХШ, fascs. 1, 2.
11 Новейшее исследование этого вопроса см.: СоагеШ 1985 (Е 19) П: 263—308.
12 «Фасты» Овидия являются стихотворным изложением календарных сведений за полгода.
96
Часть I. Изложение событий
труда ученого: их составил антиквар Веррий Флакк, учитель Гая и Луция Цезарей, внуков Августа.
К нашему времени появилось не так много новых сведений, которые были недоступны авторам раздела об Августе, опубликованного в первом издании «Кембриджской истории древнего мира» (КИДМ), — лишь несколько надписей и папирусов, однако некоторые из них очень важны. Но задача историка, работающего с источниками по эпохе Августа, значительно расширилась в результате трех концептуальных сдвигов. Во- первых, исследователи увидели, что материальные памятники — здания, предметы искусства, монеты — это главные, а не вспомогательные свидетельства: для римлян эти памятники были говорящими, причем на политическом языке13. Во-вторых, осознание этого — лишь часть общего расширения горизонтов, в результате которого создание символов и мифов рассматривается как неотъемлемая часть деятельности всякого общества, а понимание любого отрезка истории этого общества невозможно без понимания национальных политических символов и образов. Наконец, труды знаменитых литераторов эпохи Августа — это обширное поле боя, и немногие историки достаточно компетентны, чтобы стать более чем наблюдателями в схватках, которые на нем разыгрываются. Сегодня среди литературоведов преобладает тенденция рассматривать эти сочинения как насквозь политические, считать их либо пропагандой политического режима, либо более или менее скрытым сопротивлением ему, видеть в них провозглашение либо «августовских ценностей», либо ценностей «альтернативного общества». Данный материал историки тоже неизбежно должны рассматривать как центральный, а не второстепенный, хотя вследствие этого они еще острее ощущают, что все свидетельства охватить невозможно14.
II. 30—17 гг. дон. э.
Битва при Акции служит удобным разделительным пунктом для историков (Дион Кассий говорит, что следует отсчитывать годы «монархии» нового правителя со 2 сентября 31 г. до н. э.)15 и была удобным символом для победителя. Однако на ней гражданская война не закончилась. Пришлось сразиться за Египет16, и днем подлинного окончания войны стало 1 августа 30 г. — «Aegypto capta»16a, а вскоре последовала смерть Антония и Клеопатры.
13 Hölscher 1984 (F 424); Haimestad 1986 (F 409); Simon 1986 (F 577); Zänker 1987 (F 632).
14 О литературе этой эпохи см. гл. 19 наст. изд.
15 Дион Кассий. 0.1.2.
16 См. гл. 1, с. 81—88 наст. изд.
16а «Египет захвачен» — легенда на золотых монетах, выпущенных в честь победы. —
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
97
Теперь Цезарь17, которому еще не исполнилось и тридцати1751, держал в руках всю власть, но счастливые времена еще не наступили (если они вообще когда-то наступали), поскольку отсутствовало необходимое согласие. Предпосылки республиканской политической жизни не пропали в одночасье, и, хотя многие погибли, а многие выжившие перебежали на сторону победителя, оппозиция не исчезла моментально. В новых научных работах этому уделяется очень много внимания, вплоть до того, что «оппозиция» используется в качестве главного объяснения для большинства событий до 17 г. до н. э.18. Но преувеличивать этот фактор не стоит: оппозиция не имела достаточно мощного источника власти, чтобы заставить Цезаря предпринять какое-либо действие или воздержаться от него. Наверное, здесь важно подобрать правильное выражение, ведь с некоторыми соображениями ему, безусловно, приходилось считаться. После победы на его плечи легли все текущие проблемы и вся будущая политика. Он обладал властью до тех пор, пока соответствовал ожиданиям различных слоев в государстве: легионеров, большинство из которых желало уйти в отставку на выгодных условиях19, своих сторонников, претворивших победу в жизнь, римского плебса, слишком многочисленного, политизированного и непостоянного, чтобы не принимать его во внимание20, и уцелевшего правящего класса, без которого невозможно было поддерживать порядок в империи. Кроме того, сохранялись прежние структуры, и ради удержания власти приходилось с ними считаться и от них нельзя было отмахнуться: примерами таких структур могут служить карьерные ожидания и клиентела.
Возможно, первое важное решение Августа после смерти Клеопатры, с которого начинается наш рассказ, объясняется всего лишь тем, что он желал поощрить влиятельного сторонника карьерным продвижением. Египет стал новой сферой ответственности. Возник вопрос, как управлять этой страной, и ответ гласил, что она должна быть провинцией Римской империи, но ее наместником должен стать всадник, а не сенатор. В тот момент выбор наместника, возможно, был очевиден: член победившей хунты, который успешно провел египетскую кампанию и заслужил крупную награду. Всаднический статус Гая Корнелия Галла21 имел, вероятно, второстепенное значение или вообще не играл роли. Подобно Тациту и Диону Кассию22, оглядываясь назад, мы ищем первопричину того, что с тех пор Египет был неизменно вверен попечению всадника: для Рима жизненно важно было египетское зерно, и к ресурсам этой провинции нельзя было подпускать противников. Но, когда Август принимал это ре¬
17 В этой главе он будет так именоваться до момента, пока не станет Августом.
17а 1 августа 30 г. Цезарю Октавиану было полных 32 года. — О. В.
18 Прежде всего см.: Sattler 1960 (D 63); Schmitthenner 1962 (С 305).
19 Это создавало крупную аграрно-политическую проблему; см.: Brunt 1971 (А 9): 332-342.
20 Purcell N. // САН IX2: гл. 17.
21 Boucher 1966 (Е 37).
22 Дион Кассий. LI.17.1; Тацит. Анналы. П.59.3—4.
98
Часть I. Изложение событий
шение, Галл находился под рукой, а Верхний Египет, издавна входивший в Двойное царство и непокорный Птолемеям, необходимо было силовым путем присоединить к остальной стране. Меж тем Август захватил царскую казну Египта, что положило предел нехватке средств и позволило выплатить обещанные компенсации за землю, приобретенную для демобилизованных ветеранов.
Обстановку в Риме жестко контролировал в интересах отсутствовавшего правителя еще один член победившей хунты и тоже всадник — Гай Меценат. Он пресек заговор с целью убийства Цезаря, якобы составленный Лепидом, сыном низложенного триумвира; правда, учитывая, что Цезарь находился за морем, эта история выглядит неубедительно. Тому, кто разыскивает сведения об узурпаторских и незаконных действиях новых правителей, захвативших власть, нет нужды продолжать поиски, ибо, хотя в Риме имелись вполне законные консулы, Меценат действовал, судя по всему, без всяких официальных полномочий: «ни нравственности, ни правосудия» («non mos, non ius») так и не возникло23. И, хотя отсутствовавшему Цезарю были предоставлены некоторые новые полномочия: «голос Афины», или право помилования24, auxilii latio, или право оказать, подобно трибуну, помощь гражданам в городе Риме25 и право «судить, когда к нему обращаются»26 (за последнее ухватились исследователи, ищущие конституционную основу судебных полномочий императора), — их, скорее, следует рассматривать либо просто как почести, ибо 30 г. до н. э., когда Цезарь отсутствовал в Риме, был не самым удобным временем для законотворчества, либо как некое правовое обоснование его позиции во взаимоотношениях с бывшими сторонниками Антония или его собственными сторонниками на Востоке27. (Ср. гл. I наст, изд., заметка 2.)
Судя по всему, Цезарь не спешил вернуться в центр событий. В 29 г. до н. э. он вступил в пятое консульство (как и за год до того — в четвертое) вне Рима, оставаясь на Востоке, где ему нужно было совершить некоторые дипломатические шаги и, несомненно, обдумать политику и где ему пришлось принять важное решение о собственном культе как нового освободителя, миротворца и благодетеля28. Цезаря засыпали предложениями об учреждении официального культа, наподобие тех, которые обычно отправлялись в эллинистическом мире. Дион Кассий сообщает о решении Цезаря: для римских граждан официальный культ ограничивался на Востоке храмами Рима и Божественного Юлия в Эфесе и Никее, для неграждан создавались храмы Рима и самого Цезаря в Пергаме и Никоме-
23 Тацит. Анналы. Ш.28.2.
24 Jones 1960 (А 47): 95. (Согласно легенде, если в афинском ареопаге голоса судей делились поровну, богиня Афина голосовала за оправдание. — О.Л)
25 Дион Кассий (II. 19.6) сообщает, что все полномочия трибуна Цезарь получил пожизненно. Возможно, они были ему предложены. Цезарь принял липть «большую часть» из предложенного, см.: Ы.20.4.
26 έκκλητόν δικάζειν.
27 Сторонники Цезаря в городах могли обращаться к нему за поддержкой.
28 Habicht 1973 (F 154): 55-64.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
99
дии29. По словам Диона Кассия, это стало прецедентом для общего порядка, который возник позднее; как в случае с префектурой Египта и во многих других ситуациях, постоянная политика вытекала из оперативных решений, принятых в особых обстоятельствах.
На первом в 29 г. до н. э. заседании сенат измыслил новые почести для всё еще отсутствовавшего победителя: право постоянно носить имя Император как первое имя (преномен. — О.Л.)30, формальное утверждение его дипломатических соглашений на Востоке, all января были закрыты ворота Януса в знак того, что в Риме воцарился полный мир. (Вслед за Дионом Кассием31 можно заметить, что войны в Испании, Галлии и Африке еще продолжались, но римляне имели в виду мир в своем непосредственном окружении, и иноземные триумфы, которые позволяли честолюбивым республиканским вождям достигать известности, пока еще шли своим чередом.)
Цезарь не спеша возвращался домой. В августе он снова ступил на италийскую землю (Вергилий и Меценат читали ему в Ателле «Георги- ки»)32, а 13, 14 и 15 августа он отпраздновал три триумфа, единственные во всей его жизни: за далматийские кампании 35—33 гг. до н. э., за Акций и за Египет. Рядом с триумфальной колесницей ехали верхом Марк Клавдий Марцелл, сын его сестры, и Тиберий Клавдий Нерон, его пасынок, — ровесники, родившиеся в 42 г. до н. э. Были устроены гладиаторские бои и звериные травли, раздачи по четыреста сестерциев на человека «из добычи», а уволенные в отставку солдаты получили по 1 тыс. сестерциев. 18 августа состоялась еще одна церемония — посвящение двух зданий, построенных на Римском форуме, которые прославляли род Юлиев:33 храма Божественного Юлия, расположенного на южной стороне площади, и нового здания сената, курии Юлия, — на северной. В новой курии были установлены статуя Победы из Тарента и статуя Апеллеса «Венера, выходящая из воды»33а, специально приобретенные Цезарем, а перед новым храмом — ростры, захваченные при Акции; они располагались напротив старых ростр в северо-западной части Форума, перенесенных туда Юлием Цезарем3315. Все эти подробности далеко не тривиальны: тогда политическое заявление было впервые сделано с помощью наглядных памятников; впоследствии такие приемы перестали быть чем-то особенным.
Цезарю и его главному соратнику Агриппе была предоставлена censoria potestas — цензорская власть, в силу которой в 28 г. до н. э., занимая
29 Дион Кассий. LL20.6—9.
30 В реальности имя Император уже использовалось таким образом на монетах периода триумвирата.
31 Дион Кассий. 0.20.5.
32 Донат. Жизнеописание Вергилия (из сочинения: Светоний. О поэтах (ed. Rostagni 1956 (В 153): 89)).
33 О преобразовании Римского форума см.: Simon 1986 (F 577): 84—91.
33а В действительности это была картина. — О. Л.
ззь Поначалу лат. слово «rostra» означало носы кораблей, затем так стали называть и ораторскую трибуну, украшенную этими носами. — О.Л.
100
Часть I. Изложение событий
одновременно должности ординарных консулов, они совершили торжественное очищение римского народа, первое с 70 г. до н. э. Произвели они и пересмотр списка сената, lectio senatus, что вынудило многих сенаторов отказаться от звания. Это была первая из нескольких чисток сенаторского сословия, но следует предостеречь от опрометчивых выводов из рассказа о том, что во время lectio Цезарь и Агриппа надели панцири под тоги. Конечно, угроза их жизням существовала всегда, однако представление о том, что чистка 28 г. до н. э. потребовалась для искоренения непримиримых сторонников Антония, — это упрощение, ибо вряд ли таких врагов можно было обезвредить, просто исключив их из курии. Известно, что ранее численность сената была существенно увеличена за счет зачисления в него лиц, которые, по мнению остальных членов этого собрания, занимали слишком низкое положение в обществе; и восстановление status quo ante [лат. «прежнее положение»), которое, как мы увидим, подготавливалось, и возврат к нормальному сенату отвечали интересам самого сенаторского сословия. Кроме того, если Цезарь собирался создать комитет, которому предстояло избираться из числа сенаторов по жребию и играть определенную роль в подготовке государственных дел34, сначала нужно было избавиться от недостойных. В связи с этим Дион Кассий упоминает новое правило (первое из множества новых предписаний, связанных с сенатом), согласно которому сенаторы имели право покидать Италию и Сицилию только с разрешения Цезаря; ранее такие разрешения предоставлял сам сенат35.
Именно в 28 г. до н. э. начали оформляться некоторые из медленно созревавших планов. Здесь мы встречаемся наконец с неизбежной проблемой — конституцией Принципата (о ней пойдет речь в гл. 3 насг. изд.), но в данном хронологическом изложении случившееся лучше всего описать словами: «Всё как обычно после изменений» («Business as usual after alterations»35*) и «Рим не желал и не ожидал ничего большего». «В шестое и седьмое консульства, после того как я потушил гражданские войны, владея при всеобщем согласии [греческий вариант: «при согласии моих сограждан»] высшей властью, я передал res publica [греческий вариант: не politeia, a kyrieia («высшая власть»)] из своей власти в распоряжение сената и народа римского»36. Сразу можно отметить, что такого события, как «конституционное урегулирование 27 г. до н. э.», не было: «В шестое [28 г. до н. э.] и седьмое [27 г. до н. э.] консульства...»37 — говорит Август. Про¬
34 Crook 1955 (D 10): И.
35 Дион Кассий. 1Л.42.6; Mommsen 1888 (А 65), Ш: 912—913.
35а Перефразированная цитата из речи У. Черчилля от 9 ноября 1914 г.: «The British people have taken for themselves this motto — ‘Business carried on as usual during alterations on the map of Europe’» («Британский народ следует правилу: вести дела, как обычно, как бы ни менялась карта Европы»). Это высказывание вошло в английский язык в форме устойчивого выражения «Business as usual during alterations». — 0. A
36 Деяния Божественного Августа. 34.1.
37 И ср.: «наконец, в шестое консульство...» (Тацит. Анналы. Ш.28: «sexto demum consulate»).
Глава 2. Политическая история, 30 г. «. э. — Ί4 г. н. э.
101
цесс был задуман как постепенное возвращение к норме после многолетних отклонений. В 28 г. до н. э. Цезарь, согласно традиции, месяц за месяцем делил консульские фасции со своим коллегой (теперь Цезарь находился в Риме, поэтому ничто не мешало это делать) и объявил, что с конца этого года решения триумвиров — в том числе его собственные и, предположительно, лишь те, которые еще не были утверждены, — будут считаться недействительными38. Происходило именно то, что пообещали Антоний и Цезарь, будучи триумвирами. Они намечали вернуться к обычному порядку в свое совместное консульство, которое планировалось в 31 г. до н. э.;39 к сожалению, как намекал Цезарь, из-за гражданской войны всё пришлось отложить, но теперь время настало; и никому в Риме и в голову не приходило, что в восстановленном порядке «властители» не оставят для себя какого-то особого места. Различие заключалось в том, что теперь оставался лишь один «властитель», и нет нужды говорить, что это было немалое различие.
Но поначалу в 28 г. до н. э. римской публике представились другие поводы для волнения. Прежде всего, это целых три «обычных» проконсулы ских триумфа — в мае, июле и августе, затем, в сентябре, — первое празднование Актийских игр в Риме, а в октябре — завершение строительства беломраморного храма Аполлона на Палатине40. В этом сооружении был заложен мощный символизм: Аполлону Актийскому предстояло стать главенствующим духом новой эпохи, синтезом Греции и Рима, оружия и искусства; в его великолепном святилище, воздвигнутом на видном месте, хранились оригиналы знаменитых статуй, к нему примыкали библиотеки, а сам храм соседствовал с домом Цезаря, так что фактически являлся его частью. В этих символах проявился извечный парадокс: с одной стороны, Цезарь старался восстановить «Сципионов Рим» с его прошлой славой, с другой — благодаря стараниям Цезаря стали быстро возникать новые понятия и структуры, «параллельный язык»41. Парадокс становится еще очевиднее, если согласиться с мнением некоторых современных исследователей, что к 28 г. до н. э. огромный Мавзолей Цезаря за Тибром41* уже был достроен и служил великим символом, но, возможно, эта датировка неверна42, и существуют разногласия по поводу того, что именно он должен был символизировать. Несомненно, Мавзолей наводил на мысли о не слишком умеренных устремлениях, но римляне Поздней республики
38 Дион Кассий. 1ЛП.2.5. Гренад (Grenade) идентифицирует это заявление с эдиктом, который цитирует Светоний [Божественный Август. 28.2), что, на наш взгляд, выглядит неубедительно.
39 Аппиан. Гражданские войны. V.73.313.
40 Проперций. П.31; Simon 1986 (F 577): 19-25; Zänker 1987 (F 632): 52-73, 242-245.
41 Это понятие заимствовано из работы: Nicolet С. 1976 (А 66): гл. 9 («les langages paralleles»).
41а Мавзолей находится на Марсовом поле, а не за Тибром. — О. А
42 Эта датировка основана на пассаже Светония [Божественный Август. 100.4); но к тому времени, когда Вергилий писал кн. VI «Энеиды» (стих 873), Мавзолей был построен недавно (recens) и был еще незакончен, когда туда поместили прах Марцелла (Марцелл умер в 23 г. до н. э.; кн. VI «Энеиды» была написана ок. 23—22 гг. до н. э. — О. А).
102
Часть I. Изложение событий
соперничали друг с другом гробницами, и, возможно, это был лишь решающий довод в данном соперничестве43.
На Актийских играх Цезарь не присутствовал — он был болен. Историки часто выражают скептицизм по поводу болезней, которыми перемежаются первые сорок лет жизни Цезаря, и считают их психологическими реакциями на тяжелые ситуации или даже объясняют их уловкой и расчетом. Эти подозрения подкрепляются тремя обстоятельствами: во-первых, после 23 г. до н. э. и до старости его здоровье в целом было неплохим;44 во-вторых, на основании туманных свидетельств историкам медицины не удается определить, чем и насколько серьезно он болел; в-третьих, известно, что один приступ болезни он всё же инсценировал, желая остановить Тиберия, когда тот грозился уйти от дел, — и тем не менее Тиберия это не остановило. И всё же скептицизм здесь излишен. Болезнь и ранняя смерть гордо шествуют по древним коридорам власти45. Юлий Цезарь страдал от эпилепсии; Помпей болел каждый год46, и особенно тяжело — в 50 г. до н. э. в Неаполе; что касается нашего Цезаря, то в ранней юности он чуть не умер, в 42 г. до н. э. был болен в Диррахии и при Филиппах, так что даже ходили слухи о его кончине. В 33 г. до н. э. он заболел в Далмации. В 28 г. до н. э., после Актийских игр, его болезнь продолжалась всю зиму, и к маю следующего года он еще не выздоровел. В 26 г. до н. э., после первой испанской кампании, недуг сразил его в Тар- раконе и, возможно, не отпускал в 25 и 24 гг. до н. э., ибо в июне 24-го, находясь в Риме, он был еще болен и, скорее всего, так и не выздоровел до июля 23 г. до н. э., когда сложил с себя должность консула. Тогда, как известно, считали, что он снова при смерти. И, без всякого сомнения, он тоже так думал: отсюда и строительство Мавзолея, и автобиография, позднее заброшенная, и первые версии «Деяний». Размышляя о «конституционном урегулировании», следует иметь в виду, что здоровье Цезаря было шатким, и об этом он знал: его жизнь вполне могла внезапно оборваться, и ему следовало поторапливаться, чтобы оставить после себя что- то стабильное.
В начале 27 г. до н. э., когда все особые полномочия были прекращены, Цезарь и Агриппа снова стали коллегами по консульству. В январские иды (13 января. — О.Л.) консул Цезарь произнес в курии тщательно продуманную речь, в которой заявил, что возвращает Римское государство в руки сената и народа, чтобы они решили, как управлять страной дальше; этот жест означал исполнение данного им ранее обещания. Трудно поверить, что ответ сената не был старательно подготовлен и организован;47 в нем Цезарю предоставлялось то, что сенат традиционно вправе был предоставлять — provincia. Тем не менее, эта provincia, «провинция
43 О соперничестве см.: Zänker 1987 (F 632): 27.
44 Хотя он всю жизнь, словно ипохондрик, тревожился о своем здоровье и часто жаловался на боли в горле.
45 Syme 1986 (А 95): 20-25.
46 Цицерон. Письма к Аттику. УШ.2.3.
47 Хотя Дион Кассий (1,171.11) пытается убедить нас в обратном.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
103
Цезаря», в силу своих размеров — Испания, Галлия и Сирия (и, конечно, Египет: до 30 г. он вообще не существовал как провинция и, возможно, считалось, что сенат не вправе им распоряжаться) — давала ему превосходящее положение в новом государственном устройстве на десять лет. Цезарь не стал отказываться от консульства, которое предоставлялось народом; и если бы он пожелал по-прежнему каждый год выдвигать свою кандидатуру на выборах, то, несомненно, его всякий раз избирали бы; в итоге он обладал бы своей обширной провинцией либо как консул, либо — в случае отказа от консульства — как проконсул. Традиционное устройство остальных провинций римского мира вовсе не требовало изменений. Страбон даже говорит (подразумевая, что это произошло именно в то время), что Цезарь получил «первое место в управлении государством и пожизненную власть в вопросах войны и мира» [Пер. Г.А. Стратановского), но ниже, в гл. 3 наст, изд., разъясняется, почему это утверждение имеет лишь ограниченное значение48.
Формальные полномочия, которые, таким образом, взял на себя Цезарь, действительно были обширными и, если говорить в целом, нереспубликанскими; тем не менее, свое неодолимое господство он сумел облечь в знакомые и обнадеживающие формы: суверенитет принадлежит сенату и народу, и не существует никаких политических структур, несовместимых с mos maiorum {лат. «нравы предков»). И нельзя сказать, что он грубо обманул доверие сограждан, ибо кто из политически значимых людей мог бы в это поверить? Скорее — раз уж оказалось, что политический маневр Цезаря себя оправдал, — большинство людей отчаянно хотело поверить в восстановление традиционного порядка; кроме того, решение было пробным, а срок его действия — ограниченным. И, наконец, если бы Цезарь умер, традиционная res publica осталась бы в неприкосновенности, на своем месте.
Но тут же возникли противовес и парадокс, ибо 16 января Цезарь был осыпан новыми почестями, которые предложили его сторонники, и, прежде всего, он получил имя Август; это было фантастическое новшество, и его воздействие нам трудно оценить в полной мере, поскольку уже два тысячелетия мы зовем данного императора этим именем. Прежде так не называли ни одного человека, и символическое значение такого имени было очень обширным. В источниках сохранился рассказ о том, что Цезарь, или кто-то из его советников, или они все вместе сначала рассматривали имя Ромул49. Некоторые исследователи сомневаются в этом, другие полагают, что имя Август было для Цезаря менее желательным, и им пришлось воспользоваться из-за сильной оппозиции варианту «Ромул»; но итог был одним и тем же, ибо все знали строки Энния «По августейшем гаданье основан был Рим знаменитый» [Пер. Д.П. Кончаловского). Были и другие инсигнии: «гражданский венок» из дубовых листьев «за спасение граждан»; щит, прославлявший особые добродетели Августа: мужество,
48 Страбон. XVII.3.25 (840 С).
49 Светоний. Божественный Август. 7.2; Дион Кассий. LITI. 16.6—8.
104
Часть I. Изложение событий
милосердие, справедливость и благочестие по отношению к богам и отечеству [virtus, clementia, iustitia и pietas erga deos patriamque!®) (в этой надписи было выражено конечно же то, что люди желали видеть в правителе); лавры, прикрепленные по обеим сторонам от входа в его дом50 51. Мы, дорогой читатель, — дети другой культуры, и эти инсигнии могут вызвать у нас раздражение и показаться политически тривиальными, но в римском обществе человек мог стать великим, только если его таковым признали и провозгласили; титулы, венки и посвящения имели в Риме власть и несли одновременно двойную символическую весть: о том, что было предоставлено, и о том, что в конечном счете ожидалось.
В секстилии (или августе) Август, снова нездоровый, отправился в Галлию, а затем в Испанию. Действительно, в течение пятнадцати лет он фактически придерживался графика, в котором поездки в провинции на три года чередовались с двухлетним пребыванием в Риме;52 Светоний отмечает, что Август лично повидал все римские владения, за исключением Африки и Сардинии53. Нет нужды приписывать ему страсть к тому, чтобы самому всё контролировать, — и увлечение путешествиями, — которое через сто лет вдохновляло Адриана. Возможно, куда важнее было удалиться от оппозиции, хотя бы для того, чтобы плоды эксперимента в области государственного управления могли созреть, а также поддержать впечатление, что «всё идет, как заведено»: наместник отправляется в провинцию, а сенат и народ правят Римом. Однако res publica сразу же была отмечена печатью изменившегося мира: «Ubi imperator, ibi Roma» («Где правитель, там и Рим»). Теперь правитель был лишь один, и миру приходилось перемещаться вслед за ним.
В сентябре Марк Валерий Мессала Корвин (покровитель Тибулла и, возможно, Ливия) отпраздновал, «как заведено», триумф за Галлию, но еще прежде, в июле, состоялся триумф Марка Лициния Красса за Фракию и гетов. Красе (внук коллеги Юлия Цезаря по триумвирату), побывавший сторонником Секста Помпея, затем — Марка Антония, но, несмотря на это, получивший должность ординарного консула в 30 г. до н. э., требовал еще одной почести: права посвятить spolia opima (букв.: «пышный доспех», т. е. доспехи убитого полководца) за то, что своей рукой убил вражеского вождя. Август не разрешил этого, вероятно, под сфабрикованным предлогом:54 никому не позволено было получить столь высокие воинские почести, на которые правитель не мог рассчитывать; в самом деле, вскоре даже триумфы стали доступны лишь членам «божественного семейства». Но видеть в этом происшествии «вызов власти узурпатора», брошенный непримиримым сторонником Антония, или «кризис нового порядка» — значит слишком сильно его раздувать. Красе отпраздно¬
50 Текст приводится по копии из Арля: EJ2 22; фотографию см.: Earl 1968 (Е 81): ил. 38.
51 Ливий (Периохи. 134) сообщает также, что месяц секстилий был переименован в август, но другие свидетельства указывают, что произошло это гораздо позже.
52 Gardthausen 1891 (С 95) I: 806.
53 Светоний. Божественный Август. 47.
54 Ливий. IV.20 — этот историк явно не верит Августу; ср.: 32.4.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
105
вал полноценный триумф, и его последующего «исчезновения из истории» еще недостаточно для построения зловещих подозрений. Более того, его кампании вовсе не замалчивались, и кто-то написал их историю, ибо Дион Кассий рассказывает о них несоразмерно обстоятельно55.
Однако примерно в это же время другой человек, видимо, исчез при более трагических обстоятельствах: в 26 г. до н. э.56 покончил с собой поэт, полководец и соавтор победы Августа — Гай Корнелий Галл, первый префект Египта. Недавно новое (или заново проанализированное) свидетельство57 побудило специалистов пересмотреть прежнюю версию о том, что Галл потерял дружбу (amicitia) Августа из-за того, что слишком превозносил себя за бесспорно успешные кампании по объединению Египта. Но, как бы то ни было, он потерял и дружбу Августа, и его защиту, которую дружба приносила, — сенат объявил, что Галл подлежит обвинению. Светоний сообщает, что Август был огорчен самоубийством Галла и не желал его;58 поэтому современные исследователи настаивают на том, что Галл пал жертвой злобы не своего прежнего командира, а «оппозиции», которую возмутило, что Египет был предоставлен всаднику, и которая воспользовалась какой-то ахиллесовой пятой Галла, чтобы его погубить. Здесь не все фрагменты свидетельств укладываются в стройную картину, но, пожалуй, можно вполне обоснованно сказать, что сенат осмелился объявить — теперь, когда фаворит вышел из милости, — что префект Египта не имеет иммунитета от обвинений, которые могут быть предъявлены прочим наместникам. И, возможно, не будет слишком фантастическим предположение, что расположение Августа Галл утратил потому, что имел дальнейшие карьерные устремления, например, желал стать сенатором высокого ранга. В любом случае, если оппозиция и сыграла роль в этом эпизоде, ей вовсе не удалось устрашить Августа, который продолжил поручать Египет всадникам (и не позволял им подниматься выше по карьерной лестнице).
Оспариваемая здесь концепция гласит, что на хунту узурпаторов нападала всё более сильная и смелая оппозиция, добившаяся распада Пар тин58* и вынудившая правителя переосмыслить собственное положение, что принесло свои плоды в 23 г. до н. э.; в эту картину включают даже испанскую войну Августа: считается, что ее целью была политическая пропаганда и что она не имела результатов59. В течение многих лет, вплоть до 26 г. до н. э., северная Испания была ценным источником три¬
55 Дион Кассий. LI.23.2—27; см. также: Ливий. Периохи. 134—135.
56 Дион Кассий. ЫП.23.4—7. Отталкиваясь от свидетельства Иеронима, Сайм считает, что это произошло в 27 г. до н. э., см.: Syme 1986 (А 95): 32.
57 Hartmann 1965 (В 241); Volkmann 1965 (В 295); Boucher 1966 (С 37); Daly, Reiter 1979 (С 74); Hermes 1977 (В 82).
58 Светоний. Божественный Август. 66.2.
58а Этот термин отсылает к концепции Р. Сайма, который в работе «Римская революция» (Syme 1939 (А 93)) ставит в центр анализа партию Окгавиана/Авгусга — группу Августовых ближайших сторонников и соратников различного происхождения; см. прежде всего гл. ХХШ «Кризис в партии и государстве», гл. XXIV «Партия Августа». — О.Л
59 Schmitthenner 1962 (С 305). См. также гл. 1,4 наст. изд.
106
Часть I. Изложение событий
умфов, но теперь, видимо, данную территорию требовалось окончательно присоединить ради ее драгоценных металлов. Это оказалось трудной задачей. Август собирался лично провести победоносную кампанию и взял с собой Марцелла и Тиберия, назначив их на должности военных трибунов, но в Тарраконе заболел, и войну пришлось вести легатам, которые не смогли добиться решительного успеха. Болезнь Августа позволяет лучше объяснить события этих лет: он не был уверен, что проживет долго. Над ним более довлел страх смерти («timor mortis»), нежели страх перед оппозицией.
В Риме его коллегами по консульству 27—26 гг. до н. э. стали надежные люди: Марк Агриппа и Тит Статилий Тавр. Поэтому вряд ли именно ощущением неуверенности следует объяснять еще один эксперимент, который Август поставил в 26 г. до н. э., находясь в Испании: назначение почтенного триумфатора Мессалы Корвина префектом города60. Эта должность имела давнюю республиканскую историю: в далеком прошлом консулы назначали префекта для управления городом в случае, если оба консула должны были отправиться на войну; Юлий Цезарь назначил в свое отсутствие одновременно несколько префектов. В период Принципата должность префекта стала постоянной; в обязанности последнего входило поддержание порядка в Риме, для чего префект располагал городскими когортами; позднее эта должность даже стала венцом сенаторской карьеры. Но в 26 г. до н. э. в Риме имелся действовавший консул, и Мес- сала тем не менее занял пост префекта города, но через шесть дней отказался от него61. Это выглядит странно: если он считал, что эта должность не соответствует mos maiorum, зачем же он тогда сперва ее принял? Исследователи предполагают, что полномочия он сложил либо потому, что подвергся давлению сенаторов — и это стало еще одной «победой оппозиции», либо потому, что увидел, как правитель манипулирует им, добиваясь согласия на пагубное новшество. Скорее, можно предположить, что Август собирался прибавить эту должность к «списку почестей», предоставляемых выдающимся гражданам, и что именно в качестве таковой ее и принял Мессала, и только затем узнал (от кого-то вроде Ливия (?); следует помнить, что римляне были не очень-то хорошо осведомлены о своей древней истории), сколь разительно она не соответствовала исторической традиции. Нет никаких признаков того, что из-за своей отставки с поста префекта Мессала утратил уважение Августа, и некоторое время после данного инцидента эту должность никто не занимал. Согласно Тациту, ее получил Статилий Тавр, который успешно справлялся со своими обязанностями, но вряд ли это произошло сразу после отставки Мессалы, так как Тавр был тогда консулом, и вовсе не очевидно, что Август когда- либо рассматривал должность префекта Рима как постоянную.
60 Syme 1986 (А 95): гл. 15, 16; о городской префектуре прежде всего см. с. 211—212 указ. изд.
61 «...заявив, что не понимает, что должен делать» (Тацит. Анналы. VI. 11); «стыдясь власти» (Сенека Младший. Апофеоз Божественного Клавдия. 10); из-за того, что занятый им пост оказался «деспотическим» (Иероним. Хроника. 26 г. до н. э.).
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
107
Пока правитель отсутствовал, Агриппа возводил на Марсовом поле новый комплекс общественных построек и мест для отдыха. Это был еще один шаг на пути постепенного наполнения символами нового правителя всех общественных мест Рима, а также, конечно, воздействия на плебс и поддержания популистского имиджа самого Агриппы, начало которому положил его потрясающий эдилитетб1а в 33 г. до н. э.62. В частности, новый комплекс включал Септу Юлия — огромное крытое помещение для голосования (проект Юлия Цезаря), новые бани с парком и новый храм — Пантеон63. Подобный храм уже имел эллинистические и монархические прецеденты, и исследователи вновь почуяли здесь запашок оппозиции, ибо сообщается, что Агриппа собирался назвать свое строение Августеем и водрузить внутрь статую Августа, учредив, таким образом, личный культ правителя в самом Риме. Август отказался от этого; если даже на него не оказывали давления, всё же в вопросах культа он, несомненно, продумывал каждый шаг; а благодаря отсутствию Августа в городе отказ последнего не вызвал замешательства.
Общественные постройки, воспевавшие победоносную славу Рима, возводились и на недавно завоеванных территориях, например, в крупных новых городах Колония Августа Претория (Аоста) и Колония Августа Эмерита (Мерида), в которых Август расселил отставных солдат. Ворота Януса закрылись во второй раз, возвестив об — увы — далеко не окончательной победе в Испании64. Тем временем в Тарракон стекались посольства со всего мира: парфяне, скифы, индийцы, делегации греческих городов. Не могло быть сомнений в том, где вырабатывается политика; и это было обратной стороной медали: отсутствие Августа в Риме создавало затруднения, поскольку невозможно было даже сделать вид, что сенат принимает в этом участие. Кстати, рядом с Августом — и в поездках, и дома — всегда находилась его жена Ливия Друзилла. Но, как ни странно, их брак остался бесплодным.
Поэтому правитель, страдавший в Тарраконе от болезни, более всего был озабочен вопросом: «Что случится, если я завтра умру?» Найденное решение (и вряд ли оно исходило от Ливии) имело исключительно важ¬
61а Об эдилитете Агриппы см. гл. 1, с. 67 наст. изд. — О. А
62 Zänker 1987 (F 632): 144-148.
63 Пантеон Агриппы не был похож на ротонду Адриана, которую можно видеть и сегодня, и был обращен фасадом в противоположную сторону; см.: СоагеШ 1983 (F 116). (Новейшие археологические раскопки позволили уточнить эту картину: согласно последним исследованиям, Пантеон Агриппы, как и Пантеон Адриана, имел круглую форму и прямоугольный портик, обращенный фасадом на север, однако представлял собой не ротонду с отверстием в крыше, а открытый, огороженный стеной священный участок (теменос) такого же диаметра, как и сохранившаяся ротонда; см.: Rehak Р. Imperium and Cosmos. Augustus and the Northern Campus Martius. Madison, 2006; Grbner A. Das Pantheon des Agrippa: Architektonische Form und urbaner Kontext Ц The Pantheon in Rome. Contributions to the Conference, Bern, November 9—Ί2, 2006. Bern, 2009. S. 41—67; Broucke P. The First Pantheon: Architecture and Meaning // Ibid. P. 27—28. — 0.A)
64 Согласно Диону Кассию (ЫП.26.5), ворота Януса были закрыты в 25 г. до н. э.; это, несомненно, произошло раньше, чем Август возвратился в Рим.
108
Часть I. Изложение событий
ное значение: Август решил сочетать браком двух своих ближайших кровных родственников — четырнадцатилетнюю дочь Юлию и семнадцатилетнего племянника Марцелла. В 24 г. до н. э. Марцелл был введен в состав сената в ранге бывшего претора, и ему было обещано досрочное консульство, а в 23-м, дабы улучшить образ Марцелла в глазах народа, его сделали эдилом, и Август постарался, чтобы проведенные его племянником игры особенно запомнились65. Не следует удивляться парадоксу, который заключается в том, что, глядя со стороны, режим был основан на принципе выборности, но каждый правитель, в том числе возвышенный Марк Аврелий, думал о своем преемнике исключительно в рамках династического подхода. Данный парадокс не был чем-то новым, напротив, он был укоренен в сознании республиканского правящего класса, молодые представители которого в каждом поколении должны были соперничать за народные голоса, чтобы получить должности и, таким образом, «остаться в привилегированном клубе», но при этом считали, что право на соперничество им дает происхождение; наиболее же знатные семьи ожидали, что их сыновья добьются высших почестей. Короче говоря, решение Августа было — с необходимыми поправками — традиционным: позаботиться о том, чтобы его кровные династические наследники получили соответствующие должности. Единственной особенностью Августа было чересчур узкое, «генетическое» представление о наследовании: важнее всего была кровь. Легко понять, с какой трудностью столкнулся Август: он должен был сделать тот выбор, который в Республике делал populus Romanus [лат. «римский народ»), и нести за него ответственность. А как же, например, Тиберий, сын Ливии Друзиллы, ровесник Марцелла? Ему пришлось играть вторую скрипку: в 24 г. до н. э. он был избран квестором на 23 г. до н. э. — на шаг позади Марцелла — и получил разрешение добиваться других должностей на пять лет раньше законного возраста. А что же Агриппа, главный творец победы, гарант стабильности и средоточие поддержки плебса? В любом случае, у Агриппы не было сына. Если бы Августа постигла смерть, он один, вероятно, смог бы поддерживать режим в том виде, какой они задумали. Но стал бы он преданно трудиться ради Марцелла и Юлии? Нам известно, что он руководил свадебными церемониями, а это предполагает, что он поддержал принятое Августом решение; заметим, однако, что Август никогда не считался с чувствами близких людей.
В конце 25 г. до н. э. он отправился домой и на пути из Испании в Рим вступил в десятое консульство. В этот день, 1 января 24 г. до н. э., сенат поклялся поддерживать его acta [лат. «распоряжения»). Было объявлено, что он раздаст плебсу по четыреста сестерциев на человека. Вслед за этим сенат, согласно Диону Кассию, «освободил его от действия всех законов»66. Это означало, продолжает Дион Кассий, что Август сгановил-
65 О навесах [лат. — vela), которыми Марцелл защитил Форум от солнца, см.: Проперций. Ш.18.13; Кринагор. Эпиграммы. X, XI (ed. Gow, Page 1968 (В 65)).
66 Дион Кассий. LIK28.2.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
109
ся «сам себе господином и господином законов и мог делать, что пожелает, и не делать, чего не желает». В другом месте Дион Кассий отмечает67, что император был «освобожден от действия законов». В эпоху, когда жил этот историк, конституционная доктрина и в самом деле была такова. Если указанное освобождение, а также разрешение «делать что угодно» было объявлено прерогативой Августа с 1 января 24 г. до н. э., то именно эту дату, а не 31-й, 29-й, 27-й, 23-й, 19-й и не 2 г. до н. э., следовало бы считать началом формальной конституционной автократии в Риме, ибо в словах Диона Кассия нашли отражение две великие доктрины Ранней империи: «Император освобожден от действия законов» и «Пожелание императора имеет силу закона». Однако исследователи не согласны с Дионом Кассием, и они правы: даже те историки, которые на основании закона о власти Веспасиана (Lex de imperio Vespasiani) приходят к выводу, что в отношении Августа вторая доктрина уже действовала68, вынуждены признать, логически продолжая собственные рассуждения, что этот самый закон доказывает отсутствие у Августа общего «освобождения от действия законов»69. Для предоставления такого рода прерогатив решения сената было бы недостаточно, и лучше всего рассматривать упомянутое Дионом Кассием постановление просто как предложение принцепсу почестей, сделанное в отсутствие Августа (ввиду его болезни), которое так и не вышло за пределы сената. Конституционные преобразования готовились, но им предстояло принять иную форму.
В 23 г. до н. э., когда Августу исполнилось сорок лет, разразился кризис: болезнь едва не отправила принцепса на тот свет, Марцелла же смерть не миновала. Многие современные исследователи считают необходимым пересмотреть датировки двух событий, которые Дион Кассий относит к 22 г. до н. э., — «дело Марка Прима» и «заговор Цепиона и Мурены»70. Эти события ученые относят к 23 г. до н. э., полагая, что наряду с предполагаемым раздражением Агриппы из-за продвижения Марцелла они явились кульминацией долгого процесса усиления и возвышения оппозиции, которая чуть было не погубила весь режим и принудила Августа к конституционному отступлению. Болезнь Августа расценивается упомянутыми исследователями как уловка, сильный стимул для консолидации Партии. По методологическим соображениям, этот пересмотр датировок (и все его следствия) не учтены в дальнейшем изложении71.
В начале 23 г. до н. э. Августа преследовала мысль о его скорой смерти. Несомненно, некоторые люди радовались этому, и быстрое и неожиданное выздоровление принцепса глубоко их разочаровало. Но в переломный момент болезни тот передал государственные бумаги своему коллеге по консульству, а личную печать — Агриппе. Это была безупреч¬
67 Дион Кассий. LITT. 18.1.
68 См. гл. 3, с. 149—151 насг. изд.
69 Те из историков, начиная с Диона Кассия, кто полагает, будто эти две доктрины — «почти одно и то же», заблуждаются.
70 Дион Кассий. LJV.3.
71 Убедительные аргументы против передатировки см.: Badian 1982 (С 14).
по
Часть I. Изложение событий
но правильная процедура. Усыновление Марцелла могло послужить сигналом об основании династии, однако Август не сделал этого даже в завещании и постарался уверить народ в том, что не отдавал подобных распоряжений72. И действительно, выздоровев, он поспешил перераспределить полномочия, и прежде всего полномочия Агриппы. Был принят закон о предоставлении Агриппе проконсульского империя, вероятно, на пятилетний срок73 — не для проведения каких-то мероприятий, а для того, чтобы отвести ему второе место после Августа (и этот империй определенно не был высшим (maius), ибо таковым пока не был даже империй Августа). Получив данный империй, Агриппа тут же отплыл на Восток, где ничем особым себя не проявил: он лишь основал штаб-квартиру на Лесбосе и управлял Сирией через своих легатов. Уже в древности историки изыскивали объяснения этому странному поведению: Агриппа или вынужденно удалился, снедаемый гневом и унижением, или был выслан путем предоставления ему проконсульского империя, или же ретировался лояльно и добровольно, дабы не стоять на пути восходящего светила — Марцелла. Сегодня историки, приверженные «кризисным теориям», склонны считать, что его отправили «держать Восток», ибо оппозиция режиму была слишком сильна. Нам же представляется, что предпочтительнее рассматривать отъезд Агриппы как эксперимент с «двойной упряжью»: один правитель на Востоке и один — на Западе. Август, судя по всему, шел на поправку, однако никто не мог поручиться, что тяжкие недуги раз и навсегда оставят принцепса в покое. К тому же в Риме свирепствовала эпидемия.
В любом случае, новая схема, изобретенная для Агриппы, была лишь первой стадией более обширного преобразования — «конституционного урегулирования» 23 г. до н. э. Первого июля Август сложил с себя одиннадцатое консульство и, вероятно, сразу же дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в будущем. Вместо этого была разработана новая схема предоставления ему полномочий, которых он лишался, отказываясь от консульства. Но здесь следует подчеркнуть разницу между полномочиями и властью. Последнюю Август не принимал, не отклонял и не видоизменял; о фактической власти речи не шло — он обладал ею в полной мере, пока правящий класс, плебс и армия оставались в целом удовлетворенными. Принималось, отклонялось или видоизменялось лишь внешнее выражение этой власти, и таким образом устанавливались ожидаемые границы ее применения и поведения правителя, а также допустимые рамки образа жизни (modus vivendi) под его властью. Таким образом, отступления и компромиссы совершались не в борьбе за власть, а ради выработки наиболее приемлемого modus vivendi. В 23 г. до н. э. важнее всего было полностью восстановить доступ к высшему предмету
72 Дион Кассий. ЫП.31.1.
73 Дион Кассий об этом не сообщает. Важным новым свидетельством является дошедший до нас на греческом языке фрагмент речи Августа на похоронах Агриппы (EJ2 366), а также дополнительный отрывок: Gronewald 1983 (В 370): 61—62. Подробное рассмотрение данного вопроса см.: Roddaz 1984 (С 200): 339—351.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — 14 г. н. э.
111
устремлений аристократии — к консульству74, поскольку на протяжении многих лет одно место было монополизировано Августом, а второе дважды занимал Агриппа75. В обмен на сотрудничество аристократия желала, чтобы «всё было, как раньше». Светоний сообщает — правда, без указания даты, — что Август предлагал избирать трех консулов вместо двух в те годы, когда сам занимал эту должность, но данный план был отвергнут76. Его обычно датируют 19 г. до н. э., но он может относиться и к 23 г. до н. э.; возможно, он был представлен руководящему комитету сенаторов и вызвал излишнее смятение. Правителю оставалось лишь отказаться от высшей должности.
Вместо этого (или, во всяком случае, тогда же) Августу были предоставлены официальные полномочия плебейских трибунов — tribunicia potestas, ежегодно возобновляемые, но пожизненные. Можно сказать, что трибунская власть требовалась ему, чтобы, согласно конституции, иметь право созывать сенат и вносить законопроекты, и Август, несомненно, пользовался ею для этого. Некоторые историки считают эту власть главным прикрытием автократии и определяют ее как «бесформенную» и «всеохватную»; но это неверно, ибо, в отличие от империя, который и вправду был бесформенным, tribunicia potestas представляла собой набор вполне определенных полномочий. Это подтверждается и тем, что к полномочиям Августа было предусмотрено дополнение:77 сенат предоставил ему право вносить формальное предложение (т. е. предлагать проект постановления сената, которое затем принималось голосованием. — О.А) на любом заседании (в эпоху Республики трибуны не имели такого права). Иной взгляд на главное значение трибунской власти был у Тацита:
Это наименование (т. е. трибунская власть. — О.Л.) было придумано Августом для обозначения высшей власти: не желая называться царем или диктатором, он, однако, хотел выделяться среди магистратов каким-нибудь титулом [Пер. А. С. Бобовича)78.
Таким образом, Тацит считает трибунские полномочия скорее знаком отличия, нежели властью, и этот же вывод следует из двух других соображений: во-первых, их стали использовать для указания годов правления79 и, во-вторых, они стали высшей почестью, предоставлявшейся тем, кто был избран разделить ответственность правителя, знаком «коллеги по правлению» (collega imperii). Кроме того, в эпоху, привычную к символам, трибунская власть предполагала конечно же покровительство простым людям, хоть и неясно, какое впечатление она на них производила, и, как мы увидим, они надеялись на что-то более полновесное.
74 Дион Кассий. LHL32.3.
75 После 23 г. до н. э. Агриппа больше не становился консулом.
76 Светоний. Август. 37.
77 Дион Кассий. 1Ш.32.5; Talbert 1984 (D 77): 165.
78 Тацит. Анналы. Ш.56.2. Титул, которым Август «хотел выделяться», — это, вероятно, отголосок официального определения; соответствующее греческое выражение можно найти в речи на похоронах Агриппы, см.: EJ2 366: строки 11—12.
79 Хотя произошло это не сразу: Lacey 1979 (С 147).
112
Часть I. Изложение событий
Империй Августа был преобразован, превратившись в высший империй (imperium maius), что наделяло принцепса превосходящей властью в случае любого противоречия с другим провинциальным наместником. Но это был всего лишь проконсульский империй, который не давал той власти во внутренних делах, какой Август обладал, будучи консулом (хотя ради удобства этот империй был предоставлен ему «раз и навсегда», т. е. у Августа не было необходимости всякий раз слагать его, входя в пределы священного римского померил, и возобновлять при каждом отъезде)80. Некоторые исследователи рассматривают такой шаг как своего рода компенсацию, которую Август получил за общий высший империй (maius imperium) над римским миром, которым традиционно обладали римские консулы. Однако не все историки согласны с тем, что консульский высший империй (maius imperium) имел реальное практическое выражение, и, опять-таки, указанное нововведение должно было служить не в последнюю очередь знаком отличия, ставя империй Августа на ступеньку выше империя, полученного недавно Агриппой.
Таким образом, «конституционное урегулирование» — это слишком упрощенное описание реформ 23 г. до н. э., но справедливости ради следует добавить, что в дальнейшем два основных элемента, impenum proconsulare maius и tHbunicia potestas, оказались весьма надежной основой исполнительной власти римских императоров.
Так выглядели официальные мероприятия. Меж тем жизнь не замыкается в тиши рабочего кабинета — на прочности режимов сказываются как природные факторы, так и случай: болезнь и смерть, пожар, потоп и голод. В 23—22 гг. до н. э. Италию охватила эпидемия. Марцелл умер (правда, неизвестно, от эпидемии ли), не оставив детей, и так потерпела крушение первая попытка Августа обеспечить наследование; впрочем, эта проблема стала менее насущной, поскольку опасность для самого правителя, видимо, миновала. Более актуальной оставалась проблема с положением римского городского плебса, благосклонности которого добился Агриппа. Плебс, численность которого значительно возросла, состоял преимущественно из вольноотпущенников и приобрел определенную политическую силу81. Было бы преувеличением считать, что Август либо зависел от него, либо даже когда-либо мог опираться преимущественно на него. Однако плебс имел «высокий индекс вредности», необходимо было работать с ним и не допускать появления популярных вожаков. Эпидемия сопровождалась серьезной нехваткой продовольствия82, и простой народ, рассерженный и разочарованный, призывал правителя отбросить все тщательно проработанные формальности и взять на себя более широкие официальные полномочия, чем когда-либо прежде.
80 Дион Кассий. LITI.32.5.
81 См.: САНТХ2: гл. 17.
82 В связи с этим следует отметить раздачу хлеба («frumentatio»), о которой сообщается в «Деяниях Божественного Августа» (15.1).
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
113
Действительно, 22 г. до н. э. был полон невзгод. Не раз пришлось созывать предусмотренный законом суд по делам об измене83. Суд над Марком Примом, проконсулом Македонии, за ведение им без должных полномочий неспровоцированной войны против фракийских одрисов; заявление Прима, что он действовал по указанию «Августа или Марцелла», появление в суде Августа, отрицавшего существование подобных указаний; вопрос защитника, на каком основании Август вмешивается в ход заседания; и ответное утверждение принцепса о том, что он руководствуется заботой об «общественном благе», — всё это хорошо известно84. Несомненно, дело было важным, тем более что в итоге Прим был осужден не единогласно. Но, возможно, этому процессу исследователи придали больше значения, чем он того заслуживает, когда отнесли его к 23 г. до н. э. Он, скорее, принадлежит к категории «знаменитых ответов»: реакция Августа напоминает слова Перикла о том, что деньги были потрачены «на необходимое»85.
Но был и заговор, замысленный двумя лицами, которые, вероятно, попытались закончить то, что не завершила природа86. Одним из них был совершенно не известный нам Фанний Цепион87, вторым — некий Мурена (так именует его Дион Кассий)88, связанный с окружением правителя: он являлся родным или сводным братом Теренции, жены Мецената89, и Гая Прокулея, еще одного друга Августа из сословия всадников, и именно Мурена был тем самым защитником, который пытался смутить Августа на суде над Марком Примом. Нет оснований считать, что обвинение против заговорщиков было просто сфабриковано Августом90. Состоялся формальный суд по обвинению в измене91, и был вынесен обвинительный приговор — но и в этот раз в отсутствие единогласия. Зловещим в этой истории было то, что осужденным не позволили удалиться в изгнание, как того требовала традиция, — их арестовали и казнили92. Возможно, им просто не удалось вовремя уехать. Светоний сообщает, что Меценат подал знак жене, дабы та подсказала брату немедленно уносить ноги93. Обычно считается, что с этого времени Меценат утратил доверие Августа (хотя то, что он вообще в какой-то момент утратил его доверие, не очевидно, да и Теренция вполне могла получить сведения о раскрытии заго¬
83 По-видимому, по меньшей мере наполовину он состоял из несенаторов.
84 Дион Кассий. UV.3.1—3.
85 Плутарх. Перикл. 23.1.
86 Дион Кассий. LIV.3.4—8; Веллей Патеркул. П.91.2.
87 Syme 1986 (А 95): 40, примеч. 47.
88 Разные источники называют его Лицинием Муреной и Варроном Муреной, но, несомненно, он носил и имя Теренций. Однако он не идентичен таинственному человеку, упомянутому в консульских фасгах за 23 г. до н. э., см.: Syme 1986 (А 95): 387—389.
89 Которая, как говорили, была любовницей Августа.
90 Рассказ Светония [Божественный Август. 56.4) предполагает, что Август был потрясен этим заговором.
91 Возможно, суды происходили раздельно: молодой Тиберий обвинял Цепиона.
92 Объяснение последнему Диона Кассия: «...поскольку они собирались бежать», — вероятно, всего лишь ошибка, естественная для его эпохи.
93 Светоний. Божественный Август. 66.3.
114
Часть I. Изложение событий
вора без помощи мужа93а). Август отпраздновал свое спасение от заговорщиков (которые, вероятно, намеревались его зарезать) как победу и был вне себя от того, что приговор оказался не единодушным.
Из-за эпидемии и голода в Риме начались народные волнения. Август уже было отправился на Восток (далее станет понятно, почему), но поспешил назад, ибо Агриппа отсутствовал и игнорировать столь серьезные беспорядки было невозможно. Сенат под сильным нажимом городского плебса, помнившего Юлия Цезаря, предложил Августу занять должность диктатора;94 ему предложили также пожизненные цензорские полномочия и консульство, «ежегодное, но постоянное», аналогичное его трибунской власти. Подобно Юлию Цезарю на Луперкалиях, он разыграл театральную сцену публичного отказа95. Невероятно, чтобы он замышлял получить эти должности, любая из которых означала формальное конституционное господство, хотя авторы, воспринимающие урегулирование 23 г. до н. э. как отступление перед оппозицией, полагают также, что Август срежиссировал народные крики, дабы получить предлог для возвращения на конституционную почву. Если он что-либо и замышлял, то куда правдоподобнее предположение, что он искал возможности отказаться от этих должностей. Или же противники пытались подтолкнуть его к неверному шагу, который оправдал бы тираноубийство? Вероятно, с обеих сторон не было никакого подвоха, ибо всё происходило на фоне требований, чтобы кто-нибудь как-нибудь добыл хлеб, и Август действительно принял cura annonae — попечение о снабжении зерном, и слишком уж изощренным было бы предположение, что эти последние полномочия служили лишь ширмой для абсолютного господства и что сама нехватка продовольствия была подстроена с этой целью. Довольно скоро хлеб снова появился96, а чтобы усовершенствовать раздачи бесплатного хлеба в будущем, был предпринят не слишком радикальный эксперимент — создание новой, ежегодно переназначаемой комиссии из старших сенаторов — praefecti frumenti dandi (префекты хлебных раздач. — О.Л.).
В сентябре 22 г. до н. э. Август покинул Рим и отсутствовал в городе целых три года. Агриппа пребывал на Востоке, префект города назначен не был, городской плебс полнился недовольством. Консулам пришлось иметь дело с мятежным населением. В комициях народ отказался избрать второго консула на 21 г. до н. э., а Август в письме с Самоса отверг предложение занять вакантное место. Только в начале 21 г. до н. э. народ покорно проголосовал за второго консула.
Правителя призвало на Восток важное политическое дело, и именно он, а не Агриппа, должен был одержать желанную дипломатическую победу. Поэтому Агриппа поменялся с принцепсом местами, вернулся в
93а По-видимому, подразумевается любовная связь Теренции с самим Августом; ср. сноску 89 наст. гл. — О.Л
94 Дважды, как сообщает в «Деяниях» сам Август.
95 Дион Кассий. LIV.1.4—5; Светоний. Божественный Август. 52.
96 Вероятно, Август просто как следует припугнул спекулянтов, укрывавших зерно: ср. Дигесты. 48.12.2 о Lex Iulia de annona (Закон Юлия о продовольствии. — О.Л).
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
115
Рим и, что немаловажно, женился на вдовствующей Юлии. (Тиберию, пасынку Августа, ее рука не предлагалась — ему была уготована блестящая карьера на службе государству, но не вершина всех устремлений.) Если предполагалось, что Агриппа, ненадолго посетив Рим, усмирит плебс и не допустит, чтобы консульство, снова доступное для знати, попало в недостойные руки, то он лишь отчасти добился успеха, поскольку в 20 г. до н. э. комиции вновь избрали лишь одного консула — Гая Сенция Сатурнина, который в начале 19 г. до н. э. в одиночку столкнулся с набиравшим влияние «народным защитником» — неким Марком Эгнадием Руфом.
Искаженную историю последнего97 без особого ущерба можно свести к следующему: он был сенатором; в должности эдила снискал любовь римского плебса тем, что создал пожарную команду; это немедленно принесло ему претуру, воодушевившись которой он в 19 г. до н. э. выдвинул свою кандидатуру в консулы98. В доступных нам источниках эти действия включены в «канонический» перечень заговоров против Августа;99 почему — непонятно, ибо Август находился на Востоке (Агриппа в течение года окончательно покорил кантабров в Испании), и проблему с Эгна- цием, в чем бы она ни состояла, твердо и успешно разрешили консул и сенат. Консул отклонил кандидатуру Эгнация, а когда это решение вызвало, народное восстание, последнее было подавлено в соответствии с чрезвычайным постановлением сената (senatus consultum ultimum); честолюбивый народный вожак был казнен. Быть может, верно наивное предположение, что в лице Эгнация Руфа плебс обрел себе нового Клодия, и это было опасно, причем опасно для всей элиты, не только для правителя; поэтому она сомкнула ряды. Если, как полагают некоторые исследователи, Август надеялся, что политические волнения плебса приведут к расширению его собственных полномочий, то он не мог желать, чтобы это расширение выглядело как следствие мятежных действий демагога; а если он просто боялся, что плебс переманят от него и Агриппы, то имел еще более очевидные причины желать устранения Эгнация. В любом случае, ни он, ни Агриппа не сочли необходимым срочно вернуться домой100.
На Востоке Август, как утверждалось, добился поразительных успехов. Подоплека событий в Парфянском и Армянском царствах описана далее, в гл. 4 насг. изд.101. Первым плодом вмешательства Августа в дела
97 На сей счет в наших источниках — серьезная путаница, и не только хронологическая, см.: Дион Кассий. ЫП.24.4—б (в рассказе о 26 г. до н. э.); Веллей Патеркул. П.91.3-4, с комментариями Вудмэна: Woodman 1983 (В 203).
98 Действительно ли он добивался вакантной должности консула 19 г. до н. э.? Описание событий у Веллея Патеркула, скорее, указывает на то, что столкновение произошло, когда Сенций, консул 19 г. до н. э., проводил регулярные выборы на 18 г. до н. э.
99 Светоний. Божественный Август. 19.1.
100 Акведук Дева (Aqua Virgo), построенный Агриппой, был открыт 9 июня, но вряд ли полководец мог завершить решающую испанскую кампанию настолько быстро, чтобы присутствовать при этом.
101 С. 194—200 насг. изд.
116
Часть I. Изложение событий
этих царств в 20 г. до н. э. стало дипломатическое соглашение с правительством Парфии — единственной крупной державы в поле зрения Рима. Несомненно, его желали обе стороны; таким образом, были установлены равноправные договорные отношения и демаркирована формальная граница. Более того, римлянам были возвращены знамена легионов, захваченные у Марка Красса и Марка Антония. Для внутреннего потребления Август представил это событие как военную победу, каковой оно по сути не являлось, и блестяще в этом преуспел. Кроме того, его пасынку, Тиберию Клавдию Нерону, предоставилась возможность приобрести дипломатическую или военную славу, посадив на трон Армении сторонника римлян, что оказалось нетрудно, ибо правивший монарх был убит до прибытия Тиберия. Но именно «возвращение знамен» явилось краеугольным камнем идеологии возрожденного Рима, который вновь обрел историческое право «милость покорным являть и смирять войною надменных»102.
В восточных провинциях Август сделал много других политических распоряжений: например, одни города лишил статуса «свободных», другим его предоставил, невзирая на то, что — как указывает Дион Кассий — такие провинции, как Азия и Вифиния, формально являлись провинциями римского народа («provinciae populi Romani») под управлением проконсулов103. Август действовал в силу своего imperium maius. Кроме того, согласно Диону Кассию104, он направил в сенат письмо, провозглашавшее политику, до странности схожую с предписанием, которое, по словам Тацита, он оставил своему преемнику в 14 г. н. э.: «держаться в границах империи» [Анналы. 1.11. Пер. А. С. Бобовича). В данном контексте это удивительно, учитывая предстоявшее громадное расширение владений Рима: возможно, именно таким образом обосновывалось заключение договора с Парфией и продолжение использования «царей-клиентов» на Востоке.
Август вернулся домой через Афины, куда ему навстречу выехал Вергилий (и, находясь в его свите, умер в Брундизии на обратном пути в Рим; в этом же году, скорбном для римской поэзии, окончил свой жизненный путь и Тибулл). Магистраты и сенат отправились в Кампанию, чтобы встретить возвращавшегося правителя, и эта встреча стала прецедентом;105 должность второго консула оставалась вакантной, и Август назначил на нее консула по собственному почину; таким образом, он одновременно решительно отказался сменить курс и разрубил гордиев узел исключительно с помощью своего влияния (auctoritas); оно, судя по всему, не оспаривалось.
У Капенских ворот был воздвигнут алтарь «Фортуны Возвратигель- ницы» (Fortuna Redux) и проведена церемония возвращения правителя
102 Вергилий. Энеида. VI.853 [Пер. С. Ошерова). Ср.: Проперций. IV.6.83, а также «Юбилейный гимн» Горация и панцирь статуи Августа из Прима Порты (Simon 1986 (F 577): 52-57).
103 Дион Кассий. LIV.7.4—5.
104 Дион Кассий. LIV.9.1.
105 Впрочем, впервые такая встреча состоялась в 30 г. до н. э., см.: Дион Кассий. LI.4.4.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
117
(reditus), которой уделено большое внимание в «Деяниях»106. Однако триумф Август отклонил и вместо него принял ornamenta triumphalia — ин- сигнии, но не церемонию107. Триумфам суждено было стать довольно редкими событиями отчасти потому, что исчезли независимые проконсульские командования, являвшиеся обязательными условиями триумфа, а отчасти потому, что триумфы, будучи публичными зрелищами, составляли конкуренцию образу самого принцепса; Агриппа стал образцом такой умеренности. В марте 19 г. до н. э. Луций Корнелий Бальб отпраздновал полный формальный триумф за военные действия в Африке, который стал последним в Триумфальных фасгах, и больше никто, кроме членов «божественного семейства», не удостаивался триумфа. Для всех прочих высшей почестью стали ornamenta triumphalia. Возможно, именно тогда рядом с храмом Божественного Юлия была построена арка, внутренние стенки которой представляли пышную картину римской истории — Капитолийские и Триумфальные фасты108. Идеология военных побед и господства была подлинным духом Рима; ее следовало направить на благо правителя.
Дион Кассий перечисляет и другие конституционные права, предоставленные Августу в 19 г. до н. э.: «надзор над нравами» (что соответствует лат. «praefectura morum»), цензорская власть, а также полномочия, которые большинство исследователей расценивают как пожизненную консульскую власть, и право издавать любые законы, какие он пожелает, по-видимому, не представляя их комициям, и называть их leges Augustae109. Явилось ли это результатом успешной макиавеллианской политики «reculer pour mieux sauter» [фр. — «отступить, чтобы дальше прыгнуть»)? Действительно ли народные волнения дали Августу всеобъемлющую формальную власть, рецепт которой наконец-то оказался приемлемым? Так часто думают, но, вероятно, это неверно, и обстоятельства подсказывают иное толкование. В «Деяниях» Август решительно отрицает, что принял всеобъемлющую формальную власть, но в последующие годы он действительно реализовал законодательную программу, которая, как он надеялся, прежде всего была призвана восстановить традиционные нормы римского народа. Его намерение провести такие законы было, наверное, известно заранее благодаря обсуждению в сенатском подкомитете. Можно предположить, что praefectura morum предлагалась для оформления власти, в силу которой Августу предстояло действовать. Цензорская власть была другим предложением, право проводить leges Augustae — третьим. Все они были вежливо отвергнуты, но в документах
106 Деяния Божественного Августа. 11. Амитернские и Оппийские фасты тоже упоминают это событие в записях под 12 сентября.
107 Дион Кассий сообщает, что он отпраздновал овацию, однако см. об этом: Abaecherli Boyce 1942 (А 1).
108 Датировку и доводы в пользу того, что фасты были размещены на «Парфянской арке», см: СоагеШ 1985 (Е 19): 11.
109 Дион Кассий. LTV. 10.5—6.
118
Часть I. Изложение событий
почему-то нашли отражение как принятые110. Вопрос о «консульской власти» более сложен и, конечно, спорен. Сегодня большинство исследователей111 только рады поверить, что в 19 г. Август принял ее пожизненно, ведь это дает формальное обоснование ряду его мероприятий, которым они не могут найти иного обоснования. Однако об этом не сообщает ни один источник, кроме Диона Кассия, а тот, строго говоря, утверждает нечто иное: «<...> и власть консулов он принял пожизненно, так, чтобы всегда и везде иметь двенадцать фасций и в любое время восседать в кресле магистрата между консулами»112. В «Деяниях» Август сообщает читателям, что он пересматривал список сената, «пользуясь консульской властью». Принцепс, несомненно, имел в виду власть, специально предоставленную именно для этих случаев, и, таким образом, подразумевал, что не обладал ею постоянно. Дион Кассий рассказывает не о власти, а о почести, ибо теперь, когда Август уже не занимал каждый год одну из двух высших должностей, пришлось разработать некое «социальное» правило, регулировавшее, какое место относительно двух этих должностных лиц и какие инсигнии подобали ему в официальных ситуациях (напомним, что вариант с тремя консулами оказался непривлекательным и от него пришлось отказаться).
На самом деле, исследователям, которые желают видеть в первой трети правления Августа череду «конституционных урегулирований», лучше обратиться к 18 г. до н. э., нежели к 19-му (хотя в 18 г. до н. э. наблюдаются события, вовсе не подтверждающие, что в предыдущем году он получил какую-либо «абсолютную власть»). В 18 г. до н. э. полномочия Августа в его provincia истекли; с этим определенно надо было что-то делать, и, действительно, полномочия возобновили на скромный пятилетний срок. Тогда же проконсульский империй Агриппы был продлен на те же пять лет и в придачу он получил на пять лет трибунскую власть113. В этих событиях изобиловали конституционные новшества, а именно необычная, по сути экспериментальная, схема, основанная на коллегиальной концепции правления. У Агриппы и Юлии уже был сын, и они ждали второго ребенка, так что династическая преемственность вновь была обеспечена. Прошедшее десятилетие было неспокойным для правителя и его режима; теперь, обретя здоровую дозу оптимизма и милитаризма, Рим должен был вернуться к своей роли завоевателя и повелителя мира.
110 Об отказе от магистратуры куратора нравов («curator morum») см.: Деяния Божественного Августа. 6.1 (сохранился только греческий текст); отказ от цензорской власти подразумевается в: Деяния Божественного Августа. 8; о leges Augustae говорит только Дион Кассий, а там, где сам Август упоминает о собственных законах, на это нет и намека, см.: Деяния Божественного Августа. 8.5. Светоний был введен в заблуждение, см.: Божественный Август. 27.5.
111 Вслед за Джонсом, см.: Jones 1960 (А 47): 13—15.
112 Дион Кассий. LJV. 10.5, что совершенно аналогично его словам: «<...> пожизненно, так, чтобы не слагать <...>» (ЫП.32.5; см. выше, с. 112 наст. изд.).
113 Дион Кассий. LTV. 12.4. Империю Агриппы был придан статус maius только в 13 г. до н. э., см.: Дион Кассий. UV.28.1 (и таков правильный вывод из laudatio (речи Августа на похоронах Агриппы. — О.Л.), см.: EJ2 366).
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
119
Таким образом, в 18 и 17 гг. до н. э. была реализована программа социальных реформ общественной и частной жизни, включавшая второй пересмотр списка сената, а также проведен великий римский праздник, провозгласивший возрождение и традиционные ценности, — Вековые игры («ludi saeculares») 17 г. до н. э.
Социальные законы Августа, принятые на этом этапе, будут подробно рассмотрены в гл. 3 и 18 наст. изд.114. Он не принял предложения обнародовать эти акты как leges Augustae, но, воспользовавшись своей трибунской властью, представил их народу, а потому их стали называть leges Iuliae. В целом, они затрагивали две категории проблем: во-первых, усовершенствование и сглаживание шероховатостей в деятельности государственных органов и функционировании законов и, во-вторых, вопросы семьи и рождаемости в ordines — высшем классе, которому Август придавал особое значение. В первой категории наиболее важными составляющими были два законодательных акта: Юлиевы законы о государственных и частных судах (leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum) — фактически кодекс судоустройства (включавший, вероятно, постановление о насильственных действиях («de vi»), подтвердившее древнее право гражданина на апелляцию (provocatio)). Были приняты также Закон Юлия о злоупотреблениях при соискании должностей и Закон Юлия о коллегиях (Lex Iulia de ambitu и Lex Iulia de collegiis)115. Этот комплекс законбв провозглашал, что традиционная система общественной жизни будет работать, как и прежде, но на новом уровне эффективности. Пересмотр списка сената (lectio senatus) был произведен в том же ключе. Это была попытка приблизить число сенаторов к прежним, досулланским, трем сотням, хотя Августу удалось сократить сенат лишь до вдвое большей численности. Важнее было то, что впервые устанавливался сенаторский ценз — минимальный размер собственности, позволявший войти в это благородное собрание или оставаться в нем116. Август желал получить сенат прежних времен, члены которого должны были по-прежнему занимать почти все основные руководящие должности в государстве, командовать легионами и управлять провинциями, а также время от времени получать от него новые поручения.
Принятые в 18 и 17 гг. до н. э. законы второй категории — то есть Закон Юлия о прелюбодеяниях (Lex Iulia de adulteriis), учреждавший новый уголовный суд по делам о сексуальных преступлениях, которые включали внебрачную связь мужчины со свободнорожденной женщиной, а также прелюбодеяние, и Закон Юлия о браках сословий (Lex Iulia de maritandis ordinibus), устанавливавший поощрения для людей, имевших детей, и санкции для бездетных, — ныне осуждаются за то, что властная
114 С. 165-166, 1002-1014 насг. изд.
115 Вопрос о том, следует ли на основании Ирнитанской таблицы (Gonzalez 1986 (В 235): 150) присовокупить к ним Lex Iulia municipalis, который стандартизировал уставы италийских муниципиев, уже давно вызывает споры.
116 Источники содержат разночтения: Светоний называет 1,2 млн сестерциев [Божественный Август. 41.1), Дион Кассий — 1 млн сестерциев (LIV.17.3).
120
Часть I. Изложение событий
рука закона вторглась таким образом в вопросы, относившиеся ранее к частной морали и семейным делам. Такое и в самом деле произошло, однако данное впечатление будет искаженным, если не учитывать, что вмешательство государства в личные дела было не новшеством, а частью вековой республиканской традиции, которая включала суд комиций по делам о разврате (stuprum), законы о роскоши, законы Оппия и Вокония11ба и, прежде всего, надзор цензоров, с их замечаниями (nota) за всякое поведение, порицаемое обществом117. Подобно грекам, римляне столь же мало верили в существование некой сферы частной морали, которая может быть отделена от интересов общины в целом. Август облачился в плащ древних греческих законодателей и взял на себя роль римских цензоров, которую ему ранее предлагали, но не официальный титул. Это не значит, что его законы пришлись по вкусу всей элите, хотя в «Деяниях» Август утверждает, что сенат поддержал его мероприятия118.
Август и Агриппа находились в Риме. Юлия родила второго сына, и два маленьких мальчика, внуки Августа, стали его приемными детьми и получили имена Гай и Луций Цезарь; что же касается пасынков Августа, родных братьев Тиберия Клавдия Нерона и Нерона Клавдия Друза, то они, таким образом, получили ясное предупреждение, на что им уже не следует уповать в будущем, хотя мальчики могли бы вступить в политическое наследство не ранее, чем через десять с липшим лет118а.
Триумфальное празднование нового люстра — и даже более того, нового века (saeculum) Рима — состоялось 31 мая 17 г. до н. э.119. Официальная ода Горация, сочиненная по этому случаю — «Юбилейный гимн», — представляет собой непревзойденное изложение идеологии, представленной римскому народу. Сегодня в моде скептическое отношение к триумфальному официозу, немало оснований имеется для скепсиса и в данном случае. Многие члены правящего класса выражали непримиримое недовольство в связи с попытками воздействовать на их поведение: ранее Август имел дело с плебсом, но теперь ему пришлось взаимодействовать с выдающимися людьми. Дион Кассий (несомненно, почерпнувший эти сведения из своего источника) подчеркивает непопулярность Августа в это время и даже относит к 18 г. до н. э. начало заговоров против принцепса и Агриппы120, положение которого вызывало негодование. Так что если —
11ба Закон Оппия действовал в 215—195 гг. до н. э. и ограничивал использование женщинами украшений, разноцветных тканей и повозок. Закон Вокония, принятый в 169 г. до н. э., ограничивал завещательные отказы и запрещал наследодателям первого цензового класса назначать наследницами женщин. — О. Л.
117 Диксон недооценивает это соображение, см.: Dixon 1988 (F 26А): 71.
118 Деяния Божественного Августа. 6.2 (сохранился только греческий текст).
118а Власть Августа была оформлена как совокупность различных полномочий; чтобы принять их, его преемник должен был по меньшей мере достичь совершеннолетия. Мужскую тогу римляне надевали, как правило, в возрасте около 15 лет. В 17 г. до н. э., когда Август усыновил своих внуков, Гаю было три года, а Луцию не исполнилось и года. — О. А
119 Pighi 1965 (В 263): 107—130, а также 131—136 — этот фрагмент тоже относится к Августовым играм (ludi), как доказала М.-А. Кавалларо, см.: Cavallaro 1979 (В 217).
120 Дион Кассий. LTV. 15.1.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
121
как нас часто учат — величайшим мастерством Августа был политический такт, используя который он экспериментировал, чтобы встроить свое фактическое господство в рамки, которые желал видеть народ, то в десятилетие до Столетних игр этот предполагаемый талант принес ему не слишком много пользы — или это лишь обманчивое впечатление, которое может измениться, когда мы повнимательнее вглядимся в консулов 16 г.
III. 16 г. до н. э. — 14 г. н. э.
Консулы 16 г. до н. э. были молодыми нобилями (как и консулы следующих лет, так что, по крайней мере, в этом отношении всё было в порядке). Данная конкретная пара еще и состояла в родстве с Августом. Один из консулов, Публий Корнелий Сципион, был сыном его бывшей жены Скрибонии от предыдущего брака и, следовательно, сводным братом Юлии121а, а другой консул, Луций Домиций Агенобарб, был женат на Антонии, племяннице Августа. Кроме нее, у Октавии и Марка Антония была и вторая дочь с таким же именем, и обе Антонии привнесли гены великого врага в самое сердце «божественной семьи»121 122. «Божественная семья» была наиболее характерным для Августа новшеством, позволявшим примириться со старой аристократией. «Божественная семья» была могущественна и как явление, и как идея. На практике она обеспечивала коллаборационистские кадры на самом высшем уровне; психологически она служила образцом моральной программы Августа, а символически именно «параллельный язык» династии и двора пришел на смену выборному республиканизму. (На самом деле во второй половине 16 г. преемником Публия Сципиона стал плебей Луций Тарий Руф; и это хорошо иллюстрирует, как ненадежны попытки историков интерпретировать политику той эпохи, ибо причины данной замены нам неведомы. Руфу нельзя было отказать в почести и пришлось подобрать ему достойное место? Или Сципион был болен, некомпетентен, ненадежен? Можно измыслить множество историй и даже изобрести «кризис 16 г. до н. э.», но всё это будут не более чем досужие вымыслы.)
В любом случае, главная идея второго десятилетия правления Августа была иной. В конце 16 г. до н. э. принцепс и Агриппа отправились из Рима в разные концы империи, каждый на три года — так сказать, согласно установленному порядку. Рим остался на попечении консулов и Тита Сга- тилия Тавра — «префекта Города и Италии»123. Функции Агриппы на Вос¬
121 Syme 1986 (А 95): 53-63.
121 а На основании фрагмента консульских фасг, недавно найденного в Таормине, эта реконструкция родства Августа со Сципионами оспаривается, см.: Etcheto Н. La parente de Cornelia, Scriboniae filia et le tombeau des Scipions Ц REA. 2008. Vol. 110, Ns 1: 117—125. — O.A
122 Обо всех этих лицах см. новую работу: Syme 1986 (А 95): страницы — по Указателю.
123 Дион Кассий. LIV.19.6. Греческое выражение Диона Кассия «τό μέν αστυ τω Ταύρω μετά τής άλλης ’Ιταλίας διοικεΤν έπιτρέψας» («поручив управление Городом и остальной Ита¬
122
Часть I. Изложение событий
токе не имели чисто военного характера: он осуществлял императорскую политику на территории половины империи как collega imperii, в частости, налаживал дела отдаленного зависимого царства в Крыму124, или подтвердил право иудеев диаспоры жить согласно законам и обычаям их предков125. Цели Августа на Западе нам менее ясны. Его отъезд был ускорен смятением, вызванным потерей легионного знамени на Рейне126, ибо подрыв римского военного престижа был недопустим. Согласно Диону Кассию, некоторые поговаривали, что Август покинул Рим, чтобы его сожительство с Теренцией, женой Мецената, порождало меньше пересудов, а другие — что он стремился скрыться от всеобщей неприязни. Но, возможно, уже формировалась главная идея: расширение империи в направлении Северной Европы, которое главным образом должны были осуществить два способных пасынка. Август был неистощим на эксперименты с тем материалом, который имелся под рукой: три века спустя, при Диоклетиане и его преемниках, Римской империей правили два «августа» и два «цезаря», и похоже, что эксперимент, поставленный во второе десятилетие правления Августа, был основан на схожей идее — не считая того щекотливого и зловещего различия, что два «цезаря», из которых предполагалось вырастить преемников, были вовсе не тождественны тем двум братьям, которым предстояло нести бремя текущих обязанностей.
Некоторые мероприятия Августа в этот период целесообразно рассматривать как предварительные. То поколение солдат, которое бьгло набрано после Акция, теперь требовалось отправить в отставку, поэтому в Галлии и Испании бьгло предпринято крупномасштабное расселение ветеранов, и неудивительно, что в связи с отставками и новыми наборами минимальный срок службы был официально определен теперь127 в шестнадцать лет для легионеров и в двенадцать — для преторианской гвардии. Таким образом, в ответ на потребности времени римская армия была формально превращена в профессиональную (профессионалами были рядовые и центурионы, но не офицеры). И примерно в это же время в Лугдуне, видимо, начал работу крупный государственный монетный двор, где чеканились золотые и серебряные монеты; новые деньги требовались для выплат легионам, сражавшимся на севере и западе. Галлия была подвергнута цензу и возненавидела как налог, так и прокуратора.
Первым важным шагом128 стало предпринятое братьями, Тиберием Нероном и Нероном Друзом, покорение Реции и Винделиции (современ¬
лией Тавру») предполагает именно этот титул. Судя по всему, это была официальная, пусть даже и не постоянная, должность.
124 Дион Кассий. LIV.24.4-6.
125 Рэйджек склонна считать тексты, цитируемые Иосифом Флавием, аутентичными, но она сужает сферу их действия, см.: Rajak 1984 (Е 1194).
126 Имеется в виду «Катастрофа Лоллия», случившаяся в 16 г. до н. э. (или в 17 г. до н. э., как полагает Сайм, см.: Syme 1986 (А 95): 402, примеч. 116).
127 Это событие Дион Кассий (IIV.25.6) относит к 13 г. до н. э.
128 Прелюдией послужили кампании Публия Силия в альпийских предгорьях.
Глава 2. Политическая история, 30 г. дон. э.— Ί4 г. н. э.
123
ная Швейцария), — причем не обошлось без массовых переселений, — и бескровное присоединение царства Норик. Август был провозглашен императором; его пасынки не могли получить ни триумфа, ни овации, ибо были всего лишь легатами Августа, и тем не менее Гораций сочинил в их честь величественное восхваление — такое же, как и в честь возвращения Августа в Рим в 13 г. до н. э.129. В связи с данным reditus был придуман великолепный новый способ прославления «божественной семьи»: 4 июля 13 г. до н. э. постановлением сената был инав1урирован священный участок и алтарь «Августова мира» в северной части Марсова поля; посвящен он был лишь 10 января 9 г. до н. э. На его знаменитом фризе была представлена воображаемая процессия членов «священного семейства», а также главных жреческих коллегий на церемонии инавгурации; современники, вероятно, могли идентифицировать каждую фигуру130. И фриз, и отдельные панели Алтаря Мира отражали все темы августовской идеологии, причем не в последнюю очередь внимание уделялось детям — «юным дарованиям», обещающим славу в будущем131.
К Алтарю Мира следует добавить другой — и, возможно, важнейший — элемент сложного архитектурного комплекса: огромные солнечные и астрономические часы, доступные для всеобщего обозрения. Они тоже были сооружены в северной части Марсова поля132. Их гномоном, высотой 30 м (с постаментом), служил один из двух обелисков, доставленных из «покоренного Египта»133. Мостовая под ногами пешеходов сама по себе была солнечными часами, а в день равноденствия тень от гномона падала на Алтарь Мира и образовывала прямой угол с линией, зрительно соединявшей гномон с Мавзолеем на берегу Тибра. В этом обнаруживается всё богатство символизма, связывающего рождение и зачатие Августа с обновлением и миром, что повышает значимость одной из самых известных надписей этого времени — письма проконсула Азии и постановлений объединенного совета этой провинции об учреждении в Азии нового календаря, основанного на дне рождения Августа, который отмечался как событие, «придавшее мирозданию новый облик»134.
В 13 г. до н. э. оба правителя вернулись в Рим, ибо их формальные полномочия истекли и требовали возобновления. Нет нужды говорить,
129 Гораций. Оды. IV.4, 14; IV.5, 2.41—60.
130 Однако см. противоположное мнение: Zänker 1987 (F 632): 128. Идентификация отдельных фигур до сих пор вызывает много разногласий, см., напр., сноску 131 к наст. ΓΛ.
131 Цанкер оспаривает мнение, будто двое из маленьких мальчиков — пленные варвары, и полагает, что это всё же Гай и Луций Цезари, см.: Zänker 1987 (F 632): 219.
132 Büchner 1982 (F 306); Zänker 1987 (F 632) 149—150. В «Деяниях Божественного Августа» эти часы не упоминаются: быть может, уже обнаружилось, что «часы идут неправильно»? (Плиний Старший. Естественная история. XXXV1.72—73).
133 EJ2 14. Второй обелиск был помещен на spina (продольный барьер в центре. — О. А.) Большого цирка. Перевозка и установка обелисков явились гигантским технологическим достижением.
134 EJ2 98.
124
Часть I. Изложение событий
что они были надлежащим образом продлены на умеренный, пятилетний, срок, в том числе и трибунская власть Агриппы135. Историю официальных полномочий существенно усложняет утверждение Диона Кассия о том, что в 12 г. до н. э. Августу еще на пять лет была предоставлена сига morum136, ибо даже если Август и в самом деле осуществлял такой надзор, то, по словам самого же Диона Кассия, получил его на пять лет с 19 г. до н. э., так что продлевать эти полномочия нужно было двумя годами ранее. В «Деяниях Божественного Аыусга» утверждается, что в 11 г. до н. э. cura morum была вновь предложена императору, но отклонена. Однако в
11 г. до н. э. Август, пользуясь censoria potestas, осуществил пересмотр списка сенаторов; не исключено, что искаженный рассказ Диона Кассия — это отзвук решения о временном предоставлении этих полномочий. Для конституционного устройства гораздо важнее было то, что в 13 г. до н. э. империй Агриппы наконец-то был определен как maius137. В течение краткого периода он и Август обладали формально равными полномочиями как правители римского мира; это было совместное правление двух коллег, один из которых превосходил другого только auctoritas. К сожалению, мы слишком мало обращаем внимания на огромную важность этого эксперимента — судьба сделала его слишком скоротечным, ибо в марте
12 г. до н. э., всего через несколько дней после еще одной крупнейшей церемонии, подчеркнутой в «Деяниях Божественного Августа», а именно торжественного собрания римского народа, на котором Август наконец- то был избран верховным понтификом138, Агриппа умер139. Катастрофа, следующая по пятам за триумфом, звучит постоянным лейтмотивом в летописи этой эпохи.
Но уже запущенной машине римского империализма не позволили заглохнуть: Тиберий Нерон и Нерон Друз одновременно приступили к великим свершениям 12—9 гг. до н. э. на Севере, а сам Август отправился в Аквилею и другие северные города, чтобы влиять на выработку большой стратегии. Еще до отъезда в Иллирик Тиберий знал, что ему предстоит сделать: развестись с Випсанией, дочерью Агриппы, от которой он имел сына, и жениться на Юлии, вдове Агриппы. Этот брак состоялся в 11 г. до н. э. и причинил всем невыразимые страдания: жизни были принесены в жертву долгу. Август не знал жалости, требуя деятельной лояльности как от незначительных лиц, так и от высокопоставленных, и к середине его правления появляются намеки на то, что даже люди, настроенные в целом благожелательно, не жаждали сотрудничать с ним на его жестких условиях. Этим объясняются всякого рода эксперименты, по¬
135 Дион Кассий. UV.28.1.
136 Дион Кассий. UV.30.1.
137 Дион Кассий. LIV.28.1; см. сноску ИЗ наст. гл.
138 Деяния Божественного Августа. 10. Бывший триумвир Лепид так и не был лишен этой жреческой должности и оставался сенатором вплоть до самой смерти, хотя ему и не позволено было жить в Риме.
139 Консульские фасты за 12 г. до н. э. выглядят странно: Сайм (Syme) пришел к выводу, что имела место эпидемия.
Глава 2. Политическая история, 30 г. дон. э.— 14 г. н. э.
125
ставленные в данном десятилетии с целью заставить сенат работать должным образом и побудить элшу не бросать службу государству140.
В ознаменование второго года северных войн, в которых Друз, младший пасынок и вместе с тем любимец правителя и общества141, сыграл более впечатляющую роль, ему и Тиберию были предоставлены овации и ornamenta triumphalia, в их честь каждому римлянину было подарено по четыреста сестерциев и проведены игры142. Но затем умерла Октавия, сестра Августа и вдова Антония, дарившая и внушавшая преданность. Друз, ее зять, произнес в ее честь похвальную речь.
На третий год, то есть в 10 г. до н. э., Август со своим штабом отправился в Галлию, где был посвящен «Алтарь на слиянии Роны и Арара» — центр культа правителя на Западе, и в этот же самый день родился будущий император Клавдий, сын Друза и Антонии Младшей. (Из рассказа Диона Кассия большинство исследователей делает вывод, что посвящение состоялось в 12 г. до н. э., но тогда приходится с натяжкой толковать выражение Светония «в тот самый день»; кроме того, в этом году Август не мог находиться в Аугдуне, меж тем как папирус свидетельствует, что в 10 г. до н. э. он там был143.) Зимой Друз не вернулся в Рим, а заочно вступил в должность консула 9 г. до н. э.; и в том же году он принес римские копья на реку Эльбу. Это были замечательные победы: Август и оба его пасынка были провозглашены императорами, Тиберий отпраздновал предоставленную ему овацию, а Друзу предстояло отпраздновать свою. Но здесь смерть снова нанесла удар: 24 сентября любимый всеми Друз умер в свое консульство, не достигнув и 30 лет. О назначении на оставшийся краткий срок консула-суффекта не сообщается. Тиберий спешил изо всех сил, но, как рассказывает Дион Кассий, успел лишь попрощаться с умирающим братом144. Это стало катастрофой прежде всего для Тиберия: рука об руку они могли бы многого добиться.
Август не допустил, чтобы наступление в Германии прекратилось; он просто перевел на этот фронт Тиберия. Однако и для принцепса кончина Друза стала тяжелым ударом, постигшим его столь скоро после смерти Агриппы и Октавии; и, возможно, не так уж фантастично наблюдение, что теперь, когда Август лишился людей, от которых ранее получал совет и поддержку, его позиция и поступки стали более жесткими. Но есть и примечательное продолжение истории, о котором предлагается судить читателю, ибо оно играет довольно важную роль в современных исследованиях, — «республиканская» оппозиция пасынков. Эти сведения исходят
140 См. гл. 3, с. 156—158 наст. изд.
141 Тацит. Анналы. П.41.5: «favor vulgi» [лат. — «всеобщее поклонение». Пер. А. С. Бобо- вича\.
142 Луций Пизон тоже получил ornamenta triumphalia за Фракийскую войну («bellum Thracicum»), вероятно, в 11 г. до н. э.
143 Дион Кассий. LIV.32.1; Светоний. Божественный Клавдий. 2.1; РОху 3020, кол. 1, стк. 4. Правда, отсутствие Августа тоже не исключено: например, в 9 г. до н. э. он был в Тицине и не смог присутствовать при посвящении Алтаря Мира.
144 Дион Кассий. LV.2.1.
126
Часть I. Изложение событий
от Светония, который сообщает, что однажды Друз предложил Тиберию «добиться от Августа восстановления республики»; несомненно, существовал какой-то исторический источник, в котором Друзу приписывались такие взгляды145. В завершение рассказа о 9 г. до н. э. Дион Кассий упоминает о заговорах, а уже в следующем году было установлено новое правило, согласно которому государство получило право принудительно выкупать рабов, дабы в делах об измене они могли выступать свидетелями против бывших хозяев. Итак, быть может, мы обнаружили «кризис 9 г. до н. э.»? Некоторые античные авторы считали, что Август подозревал Друза и приказал отравить его и что не кто иной, как Тиберий передал отчиму предательскую переписку. Однако записавший всё это Светоний дает и основание для сомнений: имеется слишком много свидетельств того, что Друз был любимцем Августа: к примеру, Друз упоминался в завещании правителя. В античности любили истории об отравлениях; но мы не обязаны верить этому рассказу, и Дион Кассий, упоминая заговоры, не связывает их с пасынками Августа. Но нельзя и исключать возможность того, что братья обсуждали, какой res publica они хотели бы служить, и Тиберий взялся изложить их мнение Августу, в то время как тот полностью доверял пасынкам. Можно предположить, что после смерти Друза единственным следствием этого разговора стало нежелание Августа оставлять дела Тиберию.
В 8 г. до н. э. исполнилось двадцать лет с шестого консульства Августа, когда он начал возвращать res publica сенату и народу; в следующем веке эта годовщина стала называться vicennalia, но ее и теперь отмечали, хоть и не очень пышно (впрочем, рука об руку с торжествами опять шли утраты: сначала Меценат, а вскоре после него Гораций). Август, пользуясь консульскими полномочиями (которые были ему предоставлены специально и, возможно, в честь праздника), провел ценз, пересмотрел списки сената и расширил померий Рима; последнее событие стало редкой диковиной146. Кроме того, месяц секстилий был переименован в август147. Годовщина правления принцепса неизбежно сопровождалась очередным официальным продлением полномочий Августа еще на десять полных лет, что странно, но, возможно, тоже связано с юбилеем; однако Тиберий так и не был признан collega imperii: между ними не было ни любви, ни доверия, зато просматривались уже иные возможности наследования.
Однако в 7 г. до н. э. военная кампания Тиберия стала триумфальной, так что Германия была «почти доведена до состояния провинции»148 и в ближайшие несколько лет стало возможно распустить множество легионеров149. Тиберий, в этом году вторично занимавший должность консула, отпраздновал полный официальный триумф, а затем заложил основание
145 Светоний. Тиберий. 50.1; Божественный Клавдий. 1.4.
146 Boatwright 1986 (Е 53).
147 Дион Кассий. LV.6.6. См. сноску 51 наст. гл.
148 Веллей Патеркул. П.97.4; но см. гл. 4, с. 220—222 насг. изд.
149 В «Деяниях Божественного Августа» сообщается о роспуске войск в 7, б, 4, 3 и 2 гг.
до н. э.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
127
храма Согласия на Римском форуме, всё еще размышляя, возможно, об утраченном союзнике.
Своего решения требовали и повседневные задачи и проблемы управления, которые далеко не всегда были незначительными. Как ни поразительно, одной из них стало обвинение в ambitus — подкупе избирателей, предъявленное всем магистратам, вероятно, 8 г. до н. э. Август постарался не слишком в это вдаваться, но всё же ввел новые правила, дабы в будущем ограничить возможности для подкупа на консульских выборах. Сами эти события свидетельствуют о том, что народ до сих пор сохранял возможность делать свой выбор, однако прежде всего они указывают на другое. Дело в том, что на протяжении двадцати лет Август, сообразуясь с древней традицией, настаивал, чтобы в году было лишь два консула (исключая особые обстоятельства). Меж тем этой должности страстно добивались, за нее сражались как за венец общественной карьеры. И вскоре Август поставил еще один эксперимент, разбив год на две половины: с 5 г. до н. э. был установлен порядок, согласно которому двух «ординарных» консулов сменяли два консула-суффекта.
Стихийные бедствия тоже не прекращали вторгаться в историю величайшего города античного мира, и правительству никогда не удавалось до конца с ними справиться. В 7 г. до н. э., прямо перед погребальными играми в память об Агриппе, случился страшный пожар. Август воспользовался: случаем, чтобы преобразовать внутреннее устройство города, создав четырнадцать официальных «районов», которые далее делились на 265 vici, или «кварталов»; последние отвечали за противопожарные меры. Этого оказалось недостаточно.
Поколение ровесников Августа уходило, и он вынужден был полагаться на молодежь. Август глубоко презирал Ирода Великого, его династические трудности и жестокое обращение с сыновьями150, но это обернулось для принцепса ужасной иронией. В б г. до н. э. Тиберию Нерону продлили империй и предоставили трибунскую власть на пять лет, так что перед всем миром он был провозглашен collega imperii; и именно в этот момент он заявил, что желает сложить с себя государственные обязанности и удалиться на Родос. Чтобы задержать его, Август изобразил что-то вроде болезни, но уловка не помогла. Историк Веллей, льстец Тиберия, преувеличивает последствия его отъезда и изображает некий паралич res publica151, утрата же полного текста Диона Кассия за эти годы усугубляет данную картину, вероятно, ложную; но, бесспорно, отсутствие Тиберия стало крупнейшей проблемой высокой политики.
Современные историки, как и античные, интерпретируют данные события как династические затруднения. Гай и Луций Цезари достигли того возраста, когда могли начать перемещаться в центр внимания (по словам Диона Кассия, они уже были самонадеянны; Дион Кассий пишет, что в 6 г. до н. э. народ «избрал» Гая консулом, и Августу пришлось вме¬
150 Макробий. Сатурналии. П.4.11.
151 Веллей Патеркул. П. 100.1.
128
Часть I. Изложение событий
шаться и пресечь это; возможно, речь идёт не о подлинных выборах, а о народном выступлении)152. В 5 г. до н. э. Гая сделали понтификом и избранным консулом на 1 г. н. э. и придумали для него новый титул — princeps iuventutis, то есть почетный предводитель сословия всадников; в его честь были проведены денежные раздачи; в 4 г. до н. э. он был участником большого совета (consilium), созванного, чтобы решить судьбу Иудеи после смерти Ирода. Во 2 г. до н. э. Луций стал авгуром, избранным консулом на 4 г. н. э. и вторым princeps iuventutis. Более того, пару сыновей Августа стали прославлять на монетах, чего не удостаивались ни Тиберий, ни Друз153. Итак, Тиберий сошел со сцены, и вновь перед нами встают вопросы, возникавшие в связи с отъездом Агриппы семнадцатью годами ранее. Что им двигало — скромное желание помочь пли ярость и разочарование? Современные исследователи сконструировали пару противников: партия Клавдиев во главе с Ливией Друзиллой, защищавшей интересы своих сыновей (из которых в живых теперь остался лишь один), и партия Юлиев во главе с Юлией, отстаивавшей интересы своих; соперничеству этих партий предстояло разрывать внутренности режима до смерти Августа и позднее. Возможно, реконструированная картина не столько ошибочна, сколько упрощенна. Во-первых, с момента усыновления Гая и Луция не могло быть никаких сомнений в том, что если и Август, и его приемные сыновья проживут достаточно долго, чтобы последние достигли зрелости, то они будут избраны его преемниками; Тиберий Нерон и Нерон Друз никогда не могли рассчитывать на более важную роль, чем Агриппа. В 6 г. до н. э., прежде чем началось формальное продвижение юношей наверх, Тиберий удалился. Это продвижение больше похоже на незамедлительную реакцию правителя на отъезд Тиберия, нежели на причину этого отъезда. И, наконец, никто не делает человека коллегой по правлению, чтобы тут же его выгнать; скорее, цель состояла в том, чтобы удержать его. Несомненно, в последние годы своего пребывания на Родосе Тиберий был неофициальным изгнанником; но само его решение уехать вписывается в более обширную повесть о том, как люди испытывали всё меньше желания сотрудничать с Августом, работать на него и играть свои роли в его сценарии. Тиберий Нерон, обладавший столь же независимым нравом, как и его брат (и, к несчастью для них обоих, как и его жена, дочь Августа), увидел, что ему отводится роль collega imperii — нового Агриппы, и восстал. Статус collega imperii гарантировал Агриппе, что его сыновья унаследуют власть, и в любом случае был звеном в цепи сотрудничества длиной в целую жизнь. С Тиберием же дело обстояло иначе, поэтому Августу пришлось остаться одному.
Впечатление, будто вся политическая жизнь замерла, несомненно, является ложным, но уравновесить его непросто. Один важный эксперимент 4 г. до н. э. позволяет заполнить пробел; он известен только из над-
152 Дион Кассий. LV.9.1—2.
153 Zänker 1987 (F 632): 218-226.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — 74 г. н. э.
129
писи154. В этом году постановлением сената, по предложению Августа, была введена новая, ускоренная, процедура для провинциалов, выдвигавших против римских магистратов обвинения в вымогательстве, причем распространялась она на все дела, кроме самых серьезных (т. е. уголовных). Вероятно, эта процедура и в самом деле позволяла быстрее выносить судебные решения; с другой стороны, она давала скрытое преимущество наместникам-сенаторам, поскольку позволяла им представать перед судом членов своего же сословия, а не перед quaestio repetundarum (суд по делам о вымогательстве. — О.Л.), в котором сенаторы составляли меньшинство.
А вот 2-й г. до н. э. стал кризисным — во всяком случае, так его называют современные исследователи. Парадоксальное развитие событий в этом году достойно любого романа. Всё началось с громадного шквала церемоний, символов и торжеств. Августу минуло шестьдесят лет, он занимал должность ординарного консула (эту магистратуру он принял ранее — в 5 г. до н. э., чтобы руководить вступлением Гая Цезаря на политическую сцену, а теперь сделал то же самое для Луция); и 5 февраля он был официально провозглашен pater patriae — Отцом Отечества. Данный титул венчает «Деяния», и Светоний дословно цитирует речи, сопровождавшие его предоставление и принятие155. Это не было ни конституционным заявлением, ни символом того, что в конечном счете Август управляет государством властью отца семейства (patria potestas), ни искусно придуманным юридическим основанием для того, чтобы приравнять к государственной измене нападки на «божественное семейство», хотя современные историки пытаются отстаивать все эти версии156. Это была почесть, расширение титула parens patriae (Родитель Отечества), который был предоставлен Марию, Цицерону и Юлию Цезарю и служил высшим знаком отличия в государстве.
В ответ Август устроил не только денежные раздачи, но и грандиозные консульские Марсовы игры (ludi Martiales), которые проводились впервые. Название было не случайным, ибо 12 мая157 два юных Цезаря посвятили самую символичную и горделивую из всех общественных построек Августа — храм Марса Мстителя в дальнем конце нового форума Августа, где должны были постоянно храниться возвращенные знамена. Форум Августа с его портиками, фризами и кариатидами, со статуями всех римских триумфаторов158 — это сооружение, к которому следует приглядеться. И в самом деле, внимание он акцентировал не столько на
154 EJ2 311, V.
155 Светоний. Божественный Август. 58.2.
156 Соответственно: Salmon 1956 (С 204); Lacey. Patria Potestas Ц Rawson 1986 (F 54): 121-144; Bauman 1967 (F 640): 235-239.
157 А вовсе не в августе, см. об этой дате: Simpson 1977 (F 578).
158 Zänker 6. д. [ок. 1968] (F 625); Zänker 1987 (F 632): 215. Он долго строился, см.: Ма- кробий. Сатурналии. П.4.9. О том, что форум был посвящен раньше храма, см.: Degrassi 1945 (F 346).
130
Часть I. Изложение событий
«божественной семье» (и можно ломать голову, почему), сколько на победе и долгой и счастливой истории римского империализма — он олицетворял твердость, отвагу, напор, уверенность и был предназначен для постоянного общественного пользования, прежде всего для судебных заседаний159. А чтобы отметить указанный праздник, было устроено еще одно удивительное увеселение — «морское сражение греков и персов» на специально построенном искусственном озере за Тибром, о чем Август тоже с гордостью упоминает в «Деяниях».
Поэтому, когда позднее в том же году Юлия, дочь Августа, была выслана на остров Пандатерия, это стало многогранным парадоксом. Вместе с ней отправилась в изгнание ее мать Скрибония. Юлия была обвинена в многочисленных прелюбодеяниях — либо они стали просто предлогом160. Тацит сообщает, что Август решил квалифицировать эти прелюбодеяния как государственную измену161, — и данная фраза подразумевает, что на самом деле принцепс не считал Юлию виновной в государственной измене; современные же историки сплели из этого сюжет об опасной попытке государственного переворота. В любом случае следует признать, что безнравственность в самом сердце «божественной семьи», а последнюю Август желал видеть образцом для своего общества, нанесла удар по его самолюбию и вере в лучшее в тот самый год, когда он был провозглашен «Отцом Отечества»; кроме того, следует признать, что Юлия, как и Тиберий, совершала преступление, отказываясь играть в государстве ту роль, которую предназначил ей отец. Этого могло быть более чем достаточно. Но главным из предполагаемых любовников Юлии оказался Юл Антоний, и некоторые пытливые умы полагают, что его участие свидетельствует о более серьезном преступлении162. Он был либо казнен, либо принужден к самоубийству, остальных обвиняемых лишь сослали;163 такое наказание несоразмерно мягко, если они совершили государственную измену и участвовали в заговоре. Это действительно были представители знатных семей164, и один из них занимал консульство в 9 г. до н. э., а Юл Антоний — в 10 г. до н. э., но вряд ли кто-то из них, кроме последнего, обладал достаточным весом или известностью, чтобы подкрепить историю о «группировке нобилитета», враждебной «радикалу» Тиберию164а.
159 Светоний. Божественный Август. 29.1—2; о табличках из Путеол см.: Camodeca 1986 (F 311). (В архиве банкирского дома Сулышциев из Путеол (35—55 гг. н. э.) содержались поручительства о своевременной явке в суд (vadimonia), заседавший на форуме Августа. — О.А)
160 Дион Кассий. LV. 12.12-16.
161 Тацит. Анналы. Ш.24.3.
162 Этого мнения не разделял Тацит (IV.44.5), но ср.: Сенека Младший. О скоротечности жизни. 4.6.
163 В эпитоме Диона Кассия сообщается, что некоторые были казнены, причем по обвинению в заговоре, но их имена в тексте не названы.
164 Syme 1986 (А 95): 91.
164а Вероятно, это высказывание следует понимать как иронию автора насг. гл.: данные обороты характерны для описания политической борьбы оптиматов и популяров в эпоху Поздней республики. — О.А
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
131
Юл Антоний — это другое дело; сын Антония и Фульвии, которого пощадили после Акция, сводный брат двух Антоний, он пользовался покровительством при дворе. В 13 г. до н. э. в должности претора он устроил игры в честь дня рождения Августа, в 10 г. до н. э. — достиг консульства, а в эпитоме Диона Кассия сообщается, что Юл, как полагали, стремился к монархической власти. Был ли он движим желанием переиграть Акций и отомстить за него?
Об этом следует судить с величайшей осторожностью. Во-первых, стоит поразмыслить о том, какую судьбу Юл Антоний и Юлия могли уготовить Гаю и Луцию Цезарям. Предстояло ли им погибнуть в кровавой бане? Юлии пришлось бы пожертвовать сыновьями? Или весь этот план был задуман, чтобы содействовать их приходу к власти вопреки интересам Тиберия Нерона? Меж тем их положение наследников и так было надежным, и именно Тиберий жил во мраке неопределенности и опасности. А Юлу Антонию пришлось бы удовольствоваться выдающимся положением «опекуна» сыновей Юлии, нового Тиберия? Впрочем, безумие плана не доказывает конечно же, что он не мог родиться в человеческих головах.
Во 2 г. до н. э. были впервые назначены префекты преторианской гвардии, и некоторые исследователи склонны связывать это нововведение с предполагаемым чрезвычайным положением; но осторожность призывает нас к сомнениям. Во-первых, префектов было двое, причем они являлись всего лишь всадниками; во-вторых, преторианская гвардия явно была создана не в те годы и существовала ранее. Неизвестно, кто командовал гвардией до 2 г. до н. э., вполне возможно, что — сам Август, без всяких посредников, и в этом случае трудно истолковать назначение пары префектов-всадников как усиление контроля правителя перед лицом кризиса.
Обычно считается, что в то время Овидий написал «Науку любви». Данная датировка была оспорена165, но Дион Кассий сообщает и о некоторых других поступках «модной публики», от которых у Августа могла вскипеть кровь166. Поэтому наилучшим объяснением этой истории будет всё же более простое: важнейшая роль нравственности в суровых замыслах правителя относительно торжествующего Рима; разоблачение компании прожигателей жизни во главе с Юлией и Юлом Антонием (быть может, действительно подстроенное их врагами); унижение и ярость правителя, соразмерные психологическому климату сопротивления его безжалостным повелениям.
Если же говорить об общественной жизни в этом году, то здесь требования времени проявились в ином контексте. Консулы-суффекты Луций Каниний Галл и Гай Фуфий Гемин провели через комиции закон, ограничивавший число рабов, которых один хозяин имел право освободить по завещанию, и этот закон вполне мог быть связан с другой мерой, опгноси-
165 Syme 1978 (В 179).
166 Дион Кассий. LV.10.il
132
Часть I. Изложение событий
мой ко 2 г. до н. э., которая сократила число получателей бесплатного зерна до 200 тыс. человек (среди граждан было слишком много иноземцев и тунеядцев).
В это же время был убит Фраат IV, долго правивший Парфией, и наследником стал его любимый сын, ярый противник Рима, содействовавший изгнанию царя Армении, которым тогда был римский ставленник. Правительства обменивались раздраженными посланиями. В Риме воцарилась атмосфера, предвещавшая войну с Парфией, но ее не случилось, так как Август почти в точности воспроизвел удачный рецепт двадцатилетней давности167. В те годы послом на Восток отправился Тиберий Нерон — и мог бы стать им вновь, однако он удалился от государственных дел; более того, поскольку его формальные полномочия истекли и попыток их возобновления не предпринималось, он, подобно своей жене, являлся изгнанником167а. Так или иначе, этот случай можно было использовать, чтобы отвести Гаю Цезарю первую впечатляющую роль в официальной постановке. В 1 г. до н. э., облеченный империем, который распространялся на весь Восток, он уехал в сопровождении множества советни- ков-дипломатов, задав работу усердным рифмоплетам168. Война не была объявлена, поэтому он не спешил. Вступив в 1 г. н. э.169 заочно («in absentia») в давно предназначенное для него консульство, Гай принял участие в неких военных действиях в Набатейской Аравии170 171. Сколь великие надежды возлагались на его поездку (как и на его брата, который, однако, умер во 2 г. н. э. в Массилии, едва ли по какой-то зловещей причине), можно понять из адресованного Гаю письма Августа, которое было отправлено в сентябре 2 г. н. э.: «...раз вы ведете себя достойно и готовы унаследовать мое положение» {Пер. А.Г. Грушевого)111. В должное время на острове посреди Евфрата состоялся великий дипломатический обмен любезностями172, за которым, как это было заведено, последовал поход с целью вновь посадить римского ставленника на армянский престол. На сей раз это не было формальностью. В каком-то неизвестном месте под названием Ар- тагера Гай получил колотую рану; впрочем, она, казалось, зажила, и как Гай, так и Август были провозглашены императорами173. А затем случилось самое странное событие во всей этой истории. Тиберий Нерон только что получил разрешение вернуться в Рим — частным гражданином,
167 См. с. 115—116 наст. изд.
167а Удалившись на Родос против воли Августа, Тиберий не мог покинуть остров без разрешения принцепса. — О. Л.
168 Прощальное словоизлияние см.: Антипатр. Эпиграммы. 47 (Gow, Page 1968 (В 65)). Ср.: Овидий. Наука любви. 1.177.
169 Этот год следует сразу за 1-м г. до н. э.
170 Römer 1979 (Е 301).
171 Авл Геллий. Аттические ночи. XV.7.3 (в античности существовало собрание писем Августа к внуку, не дошедшее до нас). В элогии из Пизы, написанном после смерти Гая (EJ2 69), говорится, что Гай был «уже предназначен стать принцепсом».
172 Этому событию был свидетелем Веллей Патеркул, он описал его: П.101.
173 Согласно подсчетам Сайма, произошло это в 3 г. н. э.: Syme 1979 (Е 230).
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
133
будущее которого находилось под вопросом174, и теперь уже Гай написал домой о том, что намерен удалиться от дел, стать частным лицом и предаться размышлениям175. Ему было 23 года. Тогда говорили — и, по- видимому, небеспочвенно, — что Гай был смертельно болен. К величайшему смятению Августа, в 4 г. н. э. Гай умер — вот так быстро отошли в мир иной Луций и Гай, двое подававших надежды юношей. Но еще прежде, чем это случилось, Гай написал в Рим письмо отречения. Можно себе представить, какое впечатление оно произвело на Августа: «И ты, дитя мое!»175а Гай поступил так же, как и Тиберий, как и Юлия; именно эта язва и разъедала правление Августа в третье десятилетие: люди, избранные принцепсом, не желали следовать по предписанной им стезе долга. Когда в 3 г. н. э. его конституционные полномочия были возобновлены еще раз (причем на целое десятилетие), о Тиберии Нероне или Гае Цезаре не было сказано ни слова, ибо оба дулись в своих палатках175Ъ, и у Августа теперь не было collega impeni.
Но в 4 г. н. э. одинокий, непреклонный176 и неутомимый Август, в программе которого всё еще значились империализм и социальная реформа, склонился перед политической необходимостью. Faute de mieux [фр. «за неимением лучшего»), Тиберий Нерон был реабилитирован, получил трибунские полномочия на десять лет177 и военное командование в Германии178 179,, хотя, видимо, даже тогда ему не был предоставлен общий гтрепит maius. В династической политике Август ставил себе всё ту же цель178а. Помимо дочери, ближайшими родственниками Августа являлись теперь трое ее детей, оставшиеся в живых (дочери Юлия и Агриппина и сын Агриппа по прозвищу Постум); дальнейшие решения принцепса определялись указанной целью. 26 июня 4 г. н. э. Август усыновил Тиберия и Агриппу. Сообщается, что усыновление Тиберия он сопроводил фразой «Ради блага res publica»119 (хотя невозможно восстановить тон этой реплики — унылая покорность или решительное одобрение). Для Тиберия вы¬
174 Бауэрсок (Bowersock 1984 (С 40)) строит предположения о том, что лояльность Востока разделилась между Тиберием и Гаем Цезарем.
175 Дион Кассий. LV.10a.8.
175а Согласно некоторым источникам, таковы были последние слова Цезаря, обращенные к его убийце Марку Бруту. Речь идет о том, что Август должен был воспринять отречение Гая как удар в спину — О. Л
175Ь Отсылка к завязке сюжета «Илиады»: Ахилл удаляется к себе в палатку, обиженный на верховного предводителя Агамемнона, и отказывается участвовать в осаде Трои. —
О.Л
176 Впрочем, под давлением народа он позволил дочери сменить место ссылки, которым отныне стал Регий.
177 Так у Диона Кассия: LV.13.2. Светоний ошибается.
178 См. гл. 4 наст, изд.; Wells 1972 (Е 601): 158—161. Речь не идет о новой войне, поскольку военные действия шли там постоянно. И Домиций Агенобарб, дошедший до Эльбы, и Марк Виниций получили триумфальные отличия.
178а Как было пояснено выше (с. 107—108 наст, изд.), он стремился передать власть кровному потомку. — О. Л
179 Веллей Патеркул. П.104.1; Светоний. Тиберий. 21.3.
134
Часть I. Изложение событий
бор выглядел так: либо власть и возможность снова обрести воинскую славу — пусть даже опять в роли временно исполняющего обязанности, — либо жизнь в тени, если не хуже. Что касается Агриппы, то не следует считать его роль в этой истории второстепенной180. Все античные авторы сообщают, что он был жесток и отставал в интеллектуальном развитии181. Возможно, он стал таким, а возможно, это всего лишь официальная версия, которая обосновывала его последующую ссылку и устранение. Но в 4 г. н. э. он еще был жизнеспособной, хоть и запоздалой заменой своим ушедшим братьям. В любом случае, план Августа этим не исчерпывался, ибо одновременно Тиберий усыновил собственного племянника — Нерона Клавдия Германика (сына обожаемого Друза), который впредь должен был считаться братом родного сына Тиберия — Друза Младшего. Герма- ник был женат на Агриппине, а потому именно их детям досталось бы наследство Юлиев, и это позволяло весьма эффективно скрепить разорванную на части «божественную семью».
Что касается законодательства, то 4 г. н. э.182 прославился законом Элия—Сенция, самым масштабным из законодательных актов, регулировавших рабство и свободу от рабства183, а также важными усовершенствованиями судопроизводства, в частности, созданием четвертой декурии лиц, наделенных правом заседать в суде184. Если говорить о военных делах, то кампании Тиберия в Германии 4—6 гг. н. э., как и двенадцатью годами ранее, увенчались крупными победами:185 в 5 г. н. э. римские войска вновь дошли до Эльбы, а в 6-м были подготовлены клещи, которым предстояло сомкнуться на великой добыче — богемском царстве Маробода.
Это был последний миг имперского воодушевления в правление Августа. Все последующие события, если рассматривать их узко, окрашены бедствиями и разочарованиями, не в последнюю очередь в военной сфере, где был получен самый тяжелый удар, хотя и не только в ней: вышеупомянутое письмо Августа к Гаю Цезарю начинает выглядеть как насмешка судь6ы185а. Поэтому, прежде чем перейти к рассказу об этом мрачном периоде, стоит также вспомнить и о том, что Августу удалось основать политический порядок, который с некоторыми изменениями просуществовал несколько веков, и территориальную империю, которая расширялась еще сто лет и за два века не утратила ничего из тех земель, которыми владела на момент его смерти.
180 Levick 1976 (С 366): гл. 4.
181 Веллей Патеркул. П. 112.7; Тацит. Анналы. 1.6.3; Светоний. Божественный Август. 65.1; Дион Кассий. LV.32.1—2.
182 Так называемый «заговор Гнея Корнелия Цинны Магна», который Дион Кассий (LV. 14—22.1) относит к этому году (ср.: Сенека Младший. О милосердии. 1.9), — это морализаторский вымысел. О законе Валерия—Корнелия, принятом в 5 г. н. э., см. с. 160 наст. изд.
183 См. с. 1014—1019 наст. изд.
184 Светоний. Божественный Август. 32.3; Bringmaim 1973 (D 249).
185 Веллей Патеркул. П. 105—107; см. также с. 222—223 насг. изд.
185а Об этом письме см. выше (с. 132 насг. изд.); в нем Август выражает надежду, что на протяжении последних лет его жизни государство будет благоденствовать, если его приемные сыновья и наследники, Гай и Луций, станут вести себя достойно. — О.Л.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
135
Войска уже готовы были выступить против Богемии, когда грянул гром: пришла весть о том, что восстал весь Иллирик. Достижения Тиберия пятнадцатилетней давности оказались непрочными. От Богемии пришлось отказаться, и Тиберий вынужден был вернуться на знакомый фронт, чтобы в течение трех тяжелых лет подавлять национальное восстание186. И это была не единственная беда в ту пору187. Сообщается, что восставали города, проконсулов назначал Август, вместо того чтобы избирать их по жребию, а их полномочия продлевались. Среди диких исав- ров в Малой Азии происходило брожение, а Косс Корнелий Лентул получил ornamenta triumphalia за военные действия в Африке против гетулов. Сардинию пришлось включить в состав «провинции Цезаря» из-за новой вспышки пиратства. Снова возникли сложности в Иудее: Архелай, получивший после смерти Ирода львиную долю царства, был обвинен своим народом и сослан в Галлию, а Риму пришлось сделать Иудею всаднической провинцией188.
Ресурсов не хватало. Предметом обсуждения стал сам характер профессиональной армии, порядок ее набора и содержания, и особенно — обеспечение солдат, отслуживших свой срок. Август попытался сократить расходы за счет удлинения продолжительности службы189. Кроме того, он поставил в сенате вопрос о способах общего увеличения государственных доходов190, в ответ встретил мертвую тишину и тогда ввел в 6 г. н. э. для римских граждан пятипроцентный налог на средние и крупные наследства, от которого освобождались только члены семьи наследодателя191. Этот налог предназначался для пополнения новой военной казны, которая должна была обеспечить выплаты солдатам, уходящим в отставку. Август сделал в казну первый взнос из своих личных средств в размере 170 млн сестерциев192. Налог на наследство стал для римских граждан первым прямым налогом со 167 г. до н. э., и платившие его богатые люди восприняли это нововведение с негодованием.
6—7-й гг. н. э. можно с наибольшим основанием назвать самыми «кризисными» годами за всё время правления Августа, ибо за военными и финансовыми заботами и всеобщим недовольством последовали стихийные бедствия и династические раздоры. Природа самым наглядным образом доказала, что ни одна проблема великого города не была решена даже наполовину: из-за нехватки продовольствия было введено нормирование; ко всему прочему случился еще один крупный пожар. Поскольку
186 В 7 г. н. э. были почти полностью утрачены пять легионов, полегло множество младших командиров, см.: Веллей Патеркул. П. 112.6.
187 Дион Кассий. LV.28.1-4.
188 Дион Кассий. LV.27.6; Иосиф Флавий. Иудейская война. П.111, 117.
189 Дион Кассий. LV.23.1.
190 Август создал также комитет сенаторов-консуляров для ревизии государственных расходов, но plus да change... (процитировано начало французской пословицы «Plus 9а change, plus c’est la meme chose» — «Сколько ни переставляй [местами] — всё одно и то же будет». — О.Л).
191 Дион Кассий. LV.25.5.
192 Деяния Божественного Августа. 17.
136
Часть I. Изложение событий
передача городским кварталам полномочий по борьбе с пожарами оказалась неэффективной, была организована новая пожарная служба — так появились вигилы императорского времени под командованием префекта из сословия всадников193. Но народ был взбудоражен: зазвучали мятежные речи, а по ночам стали разбрасываться листовки194. Согласно Диону Кассию, считалось, что всё это раздувал некий Публий Руф, однако тайком его поддерживали более влиятельные лица — и эхо этой истории еще прозвучит.
В 7 г. н. э. Германии в должности квестора был направлен в Иллирик с воинскими подкреплениями для Тиберия. Они были укомплектованы не только гражданами, набранными в Риме (что случалось редко)195, но и рабами, купленными и освобожденными правительством, чтобы их можно было зачислить в войско196. Дион Кассий передает рассказ, будто Август, подозревая, что Тиберий нарочно затягивает войну, отправил Герма- ника с целью поторопить события. Тиберий и в самом деле сказал, что солдат у него предостаточно, и некоторых даже отослал назад197. Вполне возможно, что за всем этим скрывались какие-то политические маневры, но они остаются нам не известными. Выборы сопровождались беспорядками, и Август, пренебрегая формальностями, впервые сам назначил всех магистратов. Пятьдесят лет он работал на износ, и кризис сделал свое дело: он стал меньше появляться на публике и учредил комитет из старших сенаторов, которому поручил заслушивать посольства.
Среди историков бытует мнение198, будто в последнее десятилетие правления Августа все дела вершились волею Тиберия, возвращавшегося в Рим после каждой ежегодной кампании. Это не исключено, хотя в таких рассуждениях часто используется кольцевая аргументация; кроме того, главнокомандующие вообще нередко возвращались в Рим между сезонами военных действий. Вопрос о том, действительно ли всё совершалось по воле Тиберия, безусловно, очень важен для дальнейшего повествования о «страсти и политике»198а. Несомненно, молодой Агриппа должен был стать квестором и повеет войска в Германию, однако, вероятно в 6 г. н. э.199, он был удален из Рима в Суррент, а в 7 г. н. э. Август отрекся от него и сослал на остров Планазию. В 8 г. н. э. в ссылку отправилась и сестра Агриппы — Юлия Младшая, которой уже не суждено было вернуться200. Исследователи вновь делают вывод об измене в самом сердце «божественной семьи». Их гипотеза о тридцатилетием кризисе в Партии
193 Дион Кассий. LV.26.4—5. Для финансирования созданной службы был введен двухпроцентный налог с продажи рабов.
194 Дион Кассий. LV.27.1—3.
195 Ef 368.
196 Дион Кассий. LV.31.1.
197 Веллей Патеркул. П.113.
198 Впервые это мнение было высказано Дионом Кассием (LV.27.5).
198а Обыгрывается название известной книги Ж. Каркопино «Страсть и политика при Цезарях», см.: Carcopino 1958 (С 50). — О. А
199 Веллей Патеркул. П. 112.7.
200 Пришлось уехать и Овидию; разрешения вернуться домой он так и не получил.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — 14 г. н. э.
137
восходит к 23 г. до н. э. и повествует о последней попытке Юлиев помешать приходу к власти ненавистных Клавдиев, что в случае бездействия Юлиев было неминуемо. Некоторые предположения здесь слишком смахивают на вымысел, но в них всё же есть над чем задуматься. Что послужило причиной ссылки Агриппы? Утверждается, что он был или стал слабоумным буяном; однако Клавдий, нелепый и эксцентричный брат Германика, не был ни отвергнут, ни изгнан — Август держал его в тени, но его звезде еще предстояло взойти. Агриппе тоже не позволили выйти на сцену — не получил он ни титула, princeps iuventutis, ни права занимать должности до наступления законного возраста. Причиной ли тому распоряжение Тиберия? Намекал ли Агриппа не слишком учтиво, что такое положение дел его не устраивает? Светоний рассказывает, что какой- то человек (низкого общественного положения) «распространял о нем (Августе. — О.Л.) злобное письмо от имени молодого Агриппы»201 [Пер. М.Л. Гаспарова). Но исследователи, которые торопятся подхватить эту историю, не замечают ее двусмысленности: неясно, желал ли биограф сказать, что письмо распространялось «в интересах Агриппы» — или «так, словно его написал Агриппа»; неясно также, было ли оно составлено как частное письмо, не предназначавшееся для опубликования (и если так, то кому оно было адресовано), или же как послание, и в самом деле адресованное общественности.
Что касается Юлии, то официально вновь сообщалось о прелюбодеянии, пусть даже и с одним любовником — Децимом Юнием Силаном, которого Август всего лишь поставил в известность, что отныне он не может считаться другом императора. Тот воспринял это как требование покинуть Рим202. Юлия же, напротив, без всякой жалости была изгнана пожизненно (как оказалось, на двадцать лет); финансово ее поддерживала — и это следует помнить — Ливия Друзилла203. Точно так же следует помнить, с кем в браке состояла Юлия — ее мужем был Луций Эмилий Павел, которого Светоний называет в числе участников заговора против Августа204. В этом списке Павел связан с неким Плавтием Руфом, напоминающим историкам (хотя это — шаткое предположение) Публия Ру- фа, который, как сообщается, распространял революционные памфлеты в 6 г. н. э. Обвинялись ли муж и жена в организации заговора? Общего заговора или двух разных? Обычно предполагается, что Павел был казнен, но эта точка зрения была убедительно оспорена205. Если он был всего лишь изгнан, то это недостаточно суровое наказание за заговор; вина же Юлии, вероятнее всего, состояла именно в том, что и было объявлено. Август запретил выкармливать ребенка, которого она родила, и проницательный Тацит не сообщает о каких-либо иных тайнах, связан¬
201 Светоний. Божественный Август. 51.1.
202 В отличие от Овидия, Тиберий позволил ему вернуться в Рим, см.: Тацит. Анналы. Ш.24.
203 Тацит. Анналы. IV.71.7.
204 Светоний. Божественный Август. 19.1; Syme 1986 (А 95): гл. 9.
205 Syme 1986 (А 95): 123-125.
138
Часть I. Изложение событий
ных с этим делом. Ни одну из Юлий Светоний не упоминает в списке заговорщиков.
Однако гипотезу о заговоре подпитывают и другие таинственные обстоятельства. Было предпринято две — или, в ироническом смысле, возможно, три — попытки освободить Агриппу. В перечне заговоров у Светония сообщается, что «Авдасий и Эпикад предполагали похитить и привезти к войскам его (Августа. — О. Л.) дочь Юлию и внука Агриппу с островов, где они содержались»206 [Пер. М.А Гаспарова, с правкой). Этот рассказ содержит какую-то неточность, ибо к тому времени, как Агриппа был сослан на свой остров, Юлия — дочь Августа уже покинула свой. Возможно, это просто случайная ошибка и имелась в виду Юлия — внучка Августа. Однако Юлия Старшая всё еще находилась в ссылке и оставалась потенциальным центром раскола, поэтому неточность может заключаться не в этом. В любом случае, этот рассказ подкрепляет точку зрения, согласно которой Агриппа был изгнан, поскольку представлял опасность, и этой опасности подвергался Тиберий. Вторая история повествует о том, что сразу после смерти Августа Клемент, раб Агриппы, спешно отправился на Планазию, но прибыл слишком поздно, когда уже свершилось «primum facinus novi principatus» («первое деяние нового принципата» (Тацит. Анналы. I. 6. Пер. А. С. Бобовича), т. е. убийство Агриппы Постума. — О.Л.), и о том, как спустя два года он привлек к себе сторонников, выдавая себя за Агриппу, после чего был схвачен и предан казни, причем власти постарались не слишком тщательно расследовать, кем были его влиятельные покровители «в доме принцепса» и среди сенаторов и всадников207. Историки склонны верить этому рассказу, но относительно третьей истории — если она правдива, то поистине иронична — их мнения до сих пор расходятся. Согласно ей, незадолго до смерти Август посетил Агриппу в изгнании, и они примирились208. Эта история — правдива она или нет — тоже указывает на большое значение Агриппы для политики. И не исключено, что, конструируя заговор против Августа (или Тиберия) в 6—8 гг. н. э., историки слишком всё усложняют. Устранение детей Юлии было выгодно Тиберию, и, возможно, они были жертвами, а не инициаторами смертельной династической войны.
Когда в начале 9 г. н. э. Тиберий вернулся из Иллирика, в его честь в Септе была устроена церемония reditus; во время этого торжества уже не часть плебса, а высшие слои выразили недовольство политикой принцепса: всадники стали протестовать против установлений Lex Iulia de maritandis ordinibus, ограничивавших права бездетных. Состарившийся Август произнес перед народом, собравшимся на форуме, суровую речь
206 Светоний. Божественный Август. 19.2.
207 Тацит. Анналы. П.39-^0.
208 Тацит. Анналы. 1.5.1 (историк излагает «слух»); Дион Кассий. LVI.30.1. Сайм отвергает этот рассказ (Syme 1986 (А 95): 415). Возможно, данная история являлась частью пропагандистской кампании против Тиберия и Ливии.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — М г. н. э.
139
о вреде бездетности209. Когда Тиберий отправился на фронт, чтобы провести кампанию против паннонских мятежников, оказавшуюся последней в этой войне, консулы-суффекты представили народному собранию закон Папия—Поппея. Этот закон предусматривал внесение изменений в законодательный акт, принятый двадцатью пятью годами ранее. Из рассказов Диона Кассия и Светония, путаных и противоречивых, складывается впечатление, что новый закон был более мягким, тогда как Тацит прямо говорит об обратном210. Во всяком случае, не следует недооценивать тот факт, что этот закон подвергал лиц, не состоявших в браке, общественному бесчестью; если всадническое сословие (где, предположительно, доля богатых неженатых людей (caelibes) была наиболее высокой) полагало, что протестами может повлиять на пожилого правителя, то оно получило резкий отпор.
Когда в конце 9 г. н. э. Тиберий и Германик, подавив опасное восстание в Иллирике, вернулись в Рим, Август и Тиберий были удостоены полноценных триумфов, а Германик — триумфальных знаков отличия; последний получил также ранг претория и разрешение добиваться консульства раньше положенного возраста211. Но триумфы так и не состоялись, ибо через пять дней праздничное настроение было развеяно еще более немыслимым ударом — «катастрофой Вара»:212 погибло три легиона, а вместе с ними потеряны все зарейнские земли. Как и в Иллирике, оптимизм относительно римских завоеваний оказался безосновательным, a imperium sine fine — недостижимым212а. Август был на грани потери самообладания — есть сведения, что он думал о самоубийстве. Поражение обнаружило слабость военной базы, на которую опиралась империя; Иллирийская кампания почти полностью истощила людские ресурсы. Был произведен расширенный набор, сообщается даже о людях, казненных за уклонение от военной службы. Все ветераны были вновь призваны под знамена; в войско опять зачислили вольноотпущенников. Не было уверенности, что римский народ это стерпит: из-за страха перед мятежом (tumultus) для поддержания порядка в Риме были набраны дополнительные войска, а личная охрана правителя, состоявшая из германцев, более не считалась надежной213.
209 Дион Кассий (LVI.1—9) сочинил две речи; Светоний. Божественный Август. 34, ср. 89.2 и Ливий. Периохи. 59.
210 Дион Кассий. LVI.10; Светоний. Божественный Август. 34; Тацит. Анналы. Ш.28.3-4.
211 За службу в решающих кампаниях триумфальные знаки отличия получили многие подчиненные командиры: Мессала Мессалин, Марк Лепид, Гай Вибий Постум, Марк Плавтий Сильван.
212 Эффектный эпизод у Веллея Патеркула (П.117.2—119), а также у Диона Кассия (LVI. 18-22.2).
212а Цитата из «Энеиды» Вергилия (I. 279), где Юпитер обещает Венере, что даст потомкам Энея, т. е. римлянам, imperium sine fine — власть, безграничную во времени и пространстве. — О. А
21* Дион Кассий. LVL23.
140
Часть I. Изложение событий
Тиберию пришлось отправиться в Германию. Он сражался еще три нелегких года214, но не достиг ничего, что можно было бы представить как победу. Когда наконец состоялась церемония его reditus215 и был отпразднован триумф, последний был оформлен не как триумф «над германцами», а как отложенный триумф «за Иллирик». Провинции Германия больше не существовало.
В 12 г. н. э. должность консула занимал Германию Он становился новой «знаменитостью»: Дион Кассий удивительно много рассказывает о его участии в иллирийских и германских войнах, и это предполагает, что некто уже подробно их описал216. Однако консульство Германика стало далеко не радостным. Вновь разразилось стихийное бедствие: разлился Тибр, цирк был затоплен, и Марсовы игры пришлось перенести. Сообщается о новом и зловещем явлении: были сожжены бунтарские сочинения, а их авторы наказаны. Точные даты неизвестны, но весьма вероятно, что в этом году был изгнан язвительный и несносный адвокат Кассий Север217 за то, что «в своих наглых писаниях порочил знатных мужчин и женщин» [Пер. А. С. Бобовича), хотя, судя по выражению Тацита, самого правителя он не задевал. Меж тем данный проступок впервые судили по закону об измене. Одно из саркастических замечаний Кассия касалось предания огню по решению сената сочинений другого судебного защитника — Тита Лабиена, который написал историю, видимо, в «республиканском» духе. Лабиен покончил с собой218. Из библиотек были изъяты и сочинения Овидия. Перемены к худшему бросались в глаза: налицо обеспокоенное, раздражительное правительство и раболепный сенат.
В 13 г. н. э. конституционные полномочия Августа и Тиберия были вновь продлены на десять лет, а империй Тиберия наконец объявлен равным империю Августа219 — он стал collega imperii. Тиберий дважды спас государство, ему исполнилось пятьдесят шесть лет, и теперь он должен был просто тихо взять дела в свои руки, имея в качестве предполагаемых наследников Германика, приемного сына, и Друза, родного сына. Был изменен принцип формирования комитета сенаторов, который осуществлял подготовку дел для заседаний сената и неизменно использовался Августом в качестве референтной группы. Отныне решения данного комитета считались равнозначными формальным постановлениям сената (senatus consulta). В состав комитета вошли Тиберий, Германии и Друз220.
214 Историю этих лет затемняет сложная хронологическая проблема, связанная с вопросом о том, когда — в 12 или 13 г. н. э. — состоялся триумф Тиберия (по крайней мере, известен день данного торжества: 23 октября).
215 В изобразительном искусстве эта церемония увековечена на гемме Августа, см.: Simon 1986 (F 577): 156—161 и ил. 11.
216 Дион Кассий. LVI.11, 15.
217 Тацит. Анналы. 1.72.4, с комментариями: Goodyear 1981 (В 62).
218 Сенека Старший. Контроверсии. X. Вступление. 4-8.
219 Веллей Патеркул. П. 121.1, с комментариями: Woodman 1983 (В 203); Светоний. Тиберий. 20—21.1. Невозможно точно установить, когда именно Тиберий получил равный империй.
220 Дион Кассий. LVL28.2—3; Crook 1955 (D 10): 14—15. Cp.: EJ2 379 — это текст, который, возможно, основан на каком-то подлинном документе.
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — Ί4 г. н. э.
141
Утверждалось, что сделано это ради того, чтобы освободить Августа от регулярных посещений сената, но созданный комитет можно рассматривать и как инструмент для незаметной передачи власти. Нельзя сказать, что теперь Август начал постепенно сходить со сцены. Как ни парадоксально, но сразу после рассказа об этих нововведениях Дион Кассий сообщает о вновь зазвучавших раздраженных голосах представителей высших классов, недовольных несправедливостью налога на наследство, и, судя по его дальнейшему повествованию, состарившийся манипулятор по-прежнему не выпускал из рук политический штурвал. Август предложил каждому сенатору самостоятельно найти более подходящий источник необходимых средств220а, а затем якобы приступил к разработке еще более жесткого механизма -- налога на италийскую землю (solum Italicum), так что сенаторы предпочли смириться с налогом на наследство как с меньшим злом221.
Август и Тиберий приступили к проведению ценза, получив с этой целью консульский империй, и 11 мая следующего года совершили люстр?21*. Август отправился до самого Беневента вместе с Тиберием, который отбывал в Иллирик. Веллей сообщает, что целью поездки Тиберия было «закрепление миром того, что завоевано оружием» [Пер. А. И. Немиров- ского)222, а это подразумевает признание, что в Иллирике уже ничто не требовало внимания Тиберия. Но два collegae imperii не могли находиться в Риме одновременно. Как и в далекие дни Марка Агриппы, они должны были действовать раздельно. Однако Тиберию, по-видимому, уже не стоило уезжать слишком далеко. По дороге домой Август провел несколько дней на Капри, который приобрел у Неаполя в обмен на Исхию, поскольку этот остров нравился ему и Тиберию223. Август посетил местные игры в Неаполе и добрался до старого семейного поместья в Ноле, где и скончался 19 августа.
О передаче власти, как конституционной, так и династической, позаботились заранее. Collega imperii находился на своем месте, и у него не должно было возникнуть липших проблем: хотя три члена «божественной семьи», ближайшие кровные родственники Августа, жили в изгнании, один из них, бедняга, был слишком опасен, чтобы оставить ему жизнь224. Реальная власть теперь зависела от того, достаточно ли сложившаяся система укоренилась в римской политической жизни, чтобы пережить — без всякой серьезной альтернативы — правление преемников, менее искусных и менее безжалостных, чем Август; продолжительность
220а Как указывалось выше (с. 135 наст, изд.), налог на наследство поступал в особую военную казну, предназначенную для выплат вышедшим в отставку ветеранам. — О. Л
221 Дион Кассий. LVI.28.4—6.
221а Лю с тр — торжественный ритуал очищения римского народа, проводившийся цензорами на Марсовом поле и завершавший процедуру ценза. — О. Л
222 Веллей Патеркул. П. 123.1
223 Светоний. Божественный Август. 92.2; Дион Кассий. 1Л.43.2.
224 Проницательный, хоть и не без преувеличений, анализ династической ситуации см.: Pani 1979 (С 185).
142
Часть I. Изложение событий
пребывания последнего у власти позволяла рассчитывать скорее на сохранение системы, нежели на ее разрушение. За сорок с липшим лет, прошедших после Акция, действительно зародилась новая эпоха европейской истории, но из нашего рассказа, по крайней мере, видно, что процесс этот вовсе не регулировался каким-либо изначальным замыслом.
Глава 3
Дж.-А. Крук
АВГУСТ: ВЛАСТЬ, АВТОРИТЕТ, ДОСТИЖЕНИЯ
I. Власть
До Юлия Цезаря римские традиции государственного управления предусматривали разделение власти и наличие нескольких органов, наделенных правом принимать решения. Больше такой системе не суждено было вернуться. Начиная с 30 г. до н. э. весь римский мир оказался в руках одного человека, который обладал всей властью и принимал все решения за исключением лишь тех, принятие которых он желал поручить другим. Нас настойчиво призывают заглянуть за «фасад» и увидеть «реалии» власти Августа; и для начала в этом можно добиться некоторого успеха, если отделить саму власть, то есть ее внешние источники и задачи, которые она была призвана выполнять, от авторитета, то есть тех одеяний, в которые эта власть рядилась. Но следует помнить, что в конечном счете такое разделение является искусственным, потому что в реальной политической жизни народа сам авторитет и его формальное выражение неразрывно связаны, и там, где авторитет прочен, нет необходимости применять формальные инструменты власти.
В самом блестящем по лаконичности пассаже (если сделать скидку на его враждебный тон) с описанием того, чего добился Август, Тацит пишет следующее: «<...> отказавшись от звания триумвира, именуя себя консулом и якобы довольствуясь трибунскою властью для защиты прав простого народа, [Цезарь] сначала покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба — толпу и всех вместе — сладостными благами мира, а затем, набираясь мало-помалу силы (insurgere paulatim), начал подменять собою сенат, магистратов и законы...»1 [Пер. А.С. Бобовича:). Выражение «набираясь мало-помалу силы» («insurgere paulatim») — это весьма проницательное описание того, как изменились само использование власти, сфера ее применения и правовые термины для ее обозначения. Однако реальные инструменты принуждения в руках правителя не менялись и не
Тацит. Анналы. 1.2.1.
144
Часть I. Изложение событий
развивались: он обладал ими изначально в полном объеме и никогда не пренебрегал даже малозначимыми. Власть у него была, полномочия он постепенно расширял, а названия для этой власти и полномочий старательно изобретал. Но кое-что следует выделить с самого начала — речь о его инициативе. Насколько нам известно, вся политика определялась Августом2. Естественно, он прислушивался к мнению достойных кругов, советовался с ними при принятии решений и, насколько мы знаем, мог претворять в жизнь идеи, которые предлагали ему другие, но состояние источников таково, что всё это сложно продемонстрировать. Однако, не считая тех дел, которые Август предпочитал поручать другим (например, сенату), он сделал всё, чтобы свести на нет независимые источники любой инициативы.
Те, кто убеждают историка заглянуть за «фасад» правящего режима и увидеть противоположную ему «истинную сущность» власти Августа, в большинстве случаев имеют в виду, что историк должен признать: в конечном счете, Август мог принуждать к повиновению, ибо имел в своем распоряжении армию. Это трюизм, и едва ли глубокомысленный, так как всё равно придется задаться вопросом — особенно если речь идет о первом единоличном правителе Рима: каким все-таки образом Августу удавалось контролировать войска? В Римской республике не было должности главнокомандующего всеми вооруженными силами; и до того, как во время суровых испытаний Поздней республики порядок призыва изменился, армия состояла из призывников, которых консулы набирали для определенных целей, а армии сенат предоставлял тем должностным лицам, чьи провинции нуждались в вооруженных силах; эти призывники приносили клятву верности каждому полководцу, которого сенат назначал их командиром. Эпоха триумвирата стала кульминацией перемен; и, тем не менее, заслуга Августа состоит именно в том, что он создал из добровольцев профессиональную армию, размер которой определял сам, «деполи- тизировал» ее3 и привил ей дух лояльности самому себе и «божественной семье». Добился он этого не за день. Одна из причин, почему невозможно отделить формальный авторитет Августа от его реальной власти, состоит в том, что набрать и удержать армию, не имея на то законных оснований, можно было только в чрезвычайных случаях и с трудом. В начале 20-х годов до н. э. Август был консулом, а когда в 27 г. до н. э. он получил провинции, то мог и контролировать стоявшие в них армии (а то была большая часть войск, и клятву верности они приносили лично ему). Хотя еще некоторое время существовали независимые проконсулы с собственными ауспициями, у них не хватало воинских сил, чтобы всерьез противостоять армиям Августа. Возможно, решающую роль сыграло то, что в первые десять лет его правления римские граждане были утомлены гражданской войной, которая не приносила никаких выгод обычным солдатам; это поколение более всего желало мира и спокойствия, и еще один претендент на место Августа просто не смог бы набрать достаточно войск.
2 МШаг 1977 (А 59): 616.
3 RaaQaub 1980 (С 190).
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
145
К тому времени, как прошла усталость от войны, Август уже сумел создать преданную себе армию и смог предложить ей приемлемую систему вознаграждения, дабы она ценила свою службу.
Пусть легитимность и имела значение, но непосредственное влияние на солдат оказывали всё же их прямые командиры. Августу следовало позаботиться о том, чтобы обеспечить себе именно верность последних. В Республике не существовало профессионального офицерского сословия с особой идеологией и общностью: командование войсками входило в круг обязанностей всех членов правящего сословия, но предоставлялось оно лишь на отдельные периоды, и никто не желал или не мог получить большего. Таким образом, в правление Августа не было армейского лобби, которое могло либо противостоять ему, либо объединиться и поддержать его. Формальные полномочия давали ему право выбирать легатов для своих провинций, в которые входило большинство зон военных действий, так что официально независимые полководцы вскоре исчезли; кроме того, возможность Августа контролировать командиров войск была просто составной частью его общего патроната над теми, кто добивался высших государственных должностей. Итак, для сохранения контроля над армией Августу необходимо было соблюдать два условия: удовлетворять запросы политического сословия и исправно выплачивать войскам жалованье.
Это соображение подводит нас ко второму «грубому фактору», связанному с властью Августа, — к подавляющему превосходству принцепса в ресурсах. Цифр, которые сам император называет в «Деяниях Божественного Августа», вполне достаточно, чтобы показать: с самого начала (как только казна Птолемеев попала к нему в руки) он лично и непосредственно распоряжался таким объемом ресурсов, что появление другого человека, который смог бы содержать армию, способную противостоять войску Августа, невозможно и вообразить. Империй, которого Август добился для себя, наделял его формальным правом покрывать значительную часть расходов на армию из государственных средств; но и, помимо этого, хотя ему не было нужды открыто смешивать государственные средства с личными, он старался составлять отчеты и планировать бюджет, учитывая все ресурсы государства, в том числе и свои личные средства.
Третьим аспектом фактической власти Августа, на котором в последнее время акцентируется внимание, была его роль универсального патрона — единственного источника благ4. Уже во время приготовлений к войне против Антония и Клеопатры Октавиан взял с италийцев и жителей западных провинций клятву личной преданности, и впоследствии вошло в обычай приносить ее действующему правителю5. Не так давно историки убеждали нас, что это была клиентская клятва, и описывали Августа как всеобщего патрона в том же смысле, в каком бывший хозяин был патроном для своего вольноотпущенника. Излишняя схематичность этой идеи
4 Salier 1982 (F 59): особ. гл. 2.
5 Herrmann 1968 (С 117).
146
Часть I. Изложение событий
уже была продемонстрирована6, и, кроме того, невозможно судить о практической важности клятвы без учета первоначального контекста. Тем не менее патронат сыграл важную роль в укреплении положения правителя, и уже при Августе его влияние стало ощутимым в различных сферах. Ведущие республиканские семьи старались укреплять клиентские связи по всему римскому миру, особенно на Востоке и в Испании с Африкой, а многочисленные документы эпохи триумвирата показывают, что во время гражданских войн «правители» использовали своих клиентов как агентов влияния в городах и областях7. «Имярек, мой друг» («philos, amicus»), мог быть ключевой фигурой в определенной местности. И когда остался только один правитель, именно его «друзья» контролировали города и области по всему миру, исполняя его пожелания, за что могли ожидать награды, — например, получения римского гражданства. (Одна категория таких сторонников — «зависимые цари»8, которые изначально получили власть от Антония, однако вскоре перешли под покровительство победителя при Акции (т. е. Октавиана. — С.Т).)
Довольно сложно понять, до какой степени карьера представителей высшего класса Рима в целом зависела от патроната правителя, по меньшей мере в эпоху Августа. Не представляется возможным выяснить, насколько внимательно принцепс следил за поступлением этих людей на военную службу (militiae), что являлось основой любой государственной карьеры. После этих первых шагов продвижение по гражданской службе зависело, как и прежде, от выборов. Нам известно, что Август был готов продвигать отдельных кандидатов, открыто поддерживая их своим авторитетом и голосом; мог он и предоставить latus clavus (широкую полосу на тунике, т. е. членство в сенате. — С.Т) либо помочь деньгами сенатору, состояние которого не соответствовало сенаторскому цензу. Учреждая новые должности, такие как посты префектов претория, он назначал на них тех, кого сам считал необходимым. Но ему не было нужды контролировать всю систему должностей до мельчайших деталей. В Риме высшие правительственные или исполнительские должности никто не занимал пожизненно или до отставки, не было канцлеров или кого-то в этом роде. Таких постов не создавал и Август. Структура государственной карьеры сохраняла случайный и джентльменский характер: должности занимали на короткий срок, и ни одна из них не являлась для ее держателя чем-то вроде вотчины. С одной стороны, такая система предоставляла преимущества правителю, но с другой — не позволяла ему контролировать политическую жизнь путем назначения друзей на постоянные должности, даже если такое желание у него возникало.
Начиная с 1930-х годов историки стали охотно применять к эпохе Августа понятие «главенствующая Партия»9. Без всякого сомнения, Август
6 Salier 1982 (F 59): 73-74.
7 Bowersock 1965 (С 39): гл. 3 и тексты в изд.: Reynolds 1981 (В 270): No 10—12.
8 Braimd 1984 (С 254).
9 Наиболее убедительный анализ, в основу которого положена концепция Партии, см.: Beranger 1959 (С 27).
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
147
начал карьеру как ее глава. Утверждается также, что когда он стал единоличным правителем, то именно при помощи Партии продолжал контролировать политический мир; следовательно, самые крупные его проблемы были связаны с тем, чтобы сохранить единство в этой самой Партии. Такой подход слишком сильно опирается на современный опыт; и стоит только попытаться определить состав этой Партии, как возникает проблема: ее членов оказывается либо слишком много, либо слишком мало. Очевидно, следует обратить внимание на «друзей правителя» — «amici principis» (и на «расторжение дружбы» («renuntiatio amicitiae»), случившееся, например, с Корнелием Галлом и описываемое как «исключение из Партии»). Но amici principis — слишком большая группа. Хотя несколько ближайших соратников Августа, несомненно, являлись «друзьями правителя», в эту группу могли входить также юристы, философы, врачи и поэты; на самом деле, сложно сказать, где кончались дружеские отношения (amicitia) и начинались патроно-клиентские (clientela). И если мы включим сюда же сторонников Августа в других городах империи, то рискуем вписать в Партию почти всех, кто, по нашим сведениям, не противостоял режиму — и в этот момент концепция Партии утрачивает всякую ценность. В окружении Августа не существовало никакой структуры, которую можно было бы уподобить тем, что свойственны современным партиям, или которая способствовала бы ему в поддержании единства своих приверженцев в римском мире. О горстке его близких соратников и о том, как Август привязывал их к себе, будет рассказано подробнее; но рассматривать их следует не как некую квазипартию, а как династическую сеть.
Нам приходится говорить, что Август «сделал» то, «решил» другое или «установил» третье, — и это вполне отражает реальность. Именно он решал, какую войну начать, когда и какие войска на нее отправить. Полководцев для ведения крупнейших кампаний он назначал по собственному усмотрению. Определял он и политику в отношении Парфии, распоряжался судьбой Иудеи (хотя в этом случае Иосиф Флавий приоткрывает окно, через которое можно видеть, как Август советовался с общественностью)10. Именно Август решал — даже не вопрос о том, кто станет консулом, а, что гораздо важнее, — сколько консулов и преторов будет в каждом году и каков минимальный возраст для занятия этих должностей. Делом его рук было и законодательство о нравственности. По мере того как Август брал на себя обязанности по надзору за продовольствием, безопасностью и борьбе с пожарами, его влияние на общественную жизнь всё расширялось и расширялось. Основные рычаги власти, а именно право законодательной инициативы и его важный близнец — право вето, были у Августа с самого начала, остальное он получил потом.
10 Иосиф Флавий. Иудейская война. П.25, 81; Иосиф Флавий. Иудейские древности. ΧΥΠ.229, 301; Crook 1955 (D 10): 32.
148
Часть I. Изложение событий
II. Авторитет
Итак, весь римский мир находился под властью одного правителя. Грекоязычные жители этого мира, привычные к монархам и их идеологии, не испытывали никакого дискомфорта. Ко временам, скажем, Адриана или Марка Аврелия абсолютная власть принцепса точно так же стала само собой разумеющейся в Риме, Италии и на Западе, и можно было без смущения и сомнений использовать римские термины для ее описания и обоснования. Всё это стало возможным именно благодаря Августу, который обладал консервативным складом ума и считал себя восстановителем былого могущества и стабильности Рима, но при этом с беспощадной решимостью превращал собственную власть в систему, которую можно передавать преемникам. По этой причине описание и оправдание власти римского правителя, чем занимались античные писатели, шло в двух параллельных направлениях: соответствие обычаям предков («mos malorum») и создание «харизмы».
Выше, в гл. 2 наст, изд., мы обратили внимание на то, что в современной историографии много говорится о «лжи», «маске» либо «внешней оболочке», прикрывающих «грубую силу», как о традиционных элементах политического режима Августа. Однако такого рода утверждения крайне некорректны. Более верной является концепция «легитимизации»: «Политическая власть и легитимность опирались не только на налоги и войска, но также и на ощущения и надежды людей»11.
В гл. 2 было показано также, что две основные опоры императорской системы — высший проконсульский империй (imperium proconsulare maius) и трибунская власть (tribunicia potestas) возникли скорее как ответ на конкретные политические вызовы, чем как часть некоего глобального плана. Более того, к моменту смерти Августа далеко не каждый элемент итоговой политической системы оставался на своем месте: одни «опоры режима» привнесли его преемники, другие же на протяжении жизни первого принцепса сохраняли статус экспериментальных и лишь при его наследниках стали постоянными. Неизвестно, были ли все эти нововведения изобретением исключительно одного Августа. Возможно, из-за традиций античной историографии, подпитанных его самопровозглашенным гением, остались неизвестными сведения о людях, чьи идеи и влияние помогли создать систему управления империей. Но едва ли эту картину можно уточнить. Закончим предварительные соображения той сентенцией, что, считая какое-то достижение замечательным, вовсе не обязательно при этом от всей души им восхищаться.
Повторимся: в Римской республике существовало — традиционно и по нормам права — несколько источников принятия решений: голосование комиций (comitia), постановления сената, эдикты магистратов, вмешательство трибунов, приговоры уголовных судов, суждения (sententia) судей в гражданских судах. Самая главная и длительная политическая тен¬
11 Hopkins 1978 (А 45): 198.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
149
денция императорской эпохи римской истории состояла в том, что это многообразие истощалось до тех пор, пока принятие решений — даже по формальным нормам — не перешло целиком в руки императора или тех, кому он делегировал полномочия. Когда возникает вопрос о том, сколь далеко Август завел Рим по этому пути — по пути к представлениям о том, что «император освобожден от действия законов», и то, «что угодно императору, имеет силу закона», — историки дают два полярных ответа, и эта полемика до сих пор не окончена.
Один из возможных ответов дан в гл. 2 наст, изд., где Август описан как человек, который сохранял или блестяще использовал старый республиканский неписаный «свод правил» и его выверенную терминологию и отвергал те полномочия, которые в него не вписывались. Меж тем современные исследователи неоднократно подчеркивали, что такой картине противоречит целый ряд фактов, которые приводят к выводу, что, с исключительно формальной точки зрения, правовое положение Августа было совершенно другим и весьма революционным. Кроме того, проблему вызывает один источник — так называемый закон о власти Веспасиана (lex de imperio Vespasiani), то есть сохранившаяся бронзовая таблица — вторая из двух — с надписью, где перечислены конституционные полномочия, полученные императором Веспасианом12. Шестая из дошедших до нас статей гласит: «И пусть всё, что он сочтет нужным сделать для пользы и величия республики из дел, касающихся богов, людей, государства и частных лиц, он имеет власть (maiestas) и право совершить и исполнить, как имели [их] божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик» [Пер. С.Л Утченко). Если эти слова принять буквально, то они разрушают картину, предложенную в отношении формального положения Августа, ибо придется признать, что всё время своего правления он, строго говоря13, обладал абсолютной конституционной властью. Этот вывод особенно приветствуют историки права, поскольку он объясняет, каким образом Август, по-видимому, был признан главой правового порядка, чего невозможно было бы достичь путем простого соединения исполнительной власти и законодательной инициативы (т. е. империя и трибунской власти). В эту картину встраиваются и многие другие кусочки, прежде всего замечание в «Институциях» Гая14 о том, что «никогда не было сомнения в том, что указ императора (constitutio principis) имеет силу настоящего закона» [Пер. Ф. Дыдынского), и указание Светония в жизнеописании Калигулы на то, что, едва вступив в Рим, Калигула получил одномоментно «высшую и полную власть» [Пер. М.Л. Гаспарова)15. Заявление Страбона насчет того, что Август был наделен правом решать вопросы войны и мира16, — еще одно свидетельство в пользу этой версии. Да и в выражениях, используемых античными авто¬
12 EJ2 364; Brunt 1977 (С 335).
13 В плане прав (ius) и полномочий (potestas).
14 Гай. Институции. 1.5.
15 Светоний. Гай Калигула. 14.1.
16 Страбон. ΧΥΠ.3.25 (840 Cj.
150
Часть I. Изложение событий
рами, исследователи обнаруживают понятия, которые, по-видимому, обозначали предполагаемое главенствующее положение Августа: «попечение о республике», «руководство общественным благосостоянием», «принципат» или просто «империй» («imperium»).
В «Деяниях Божественного Августа» Август оповестил мир о своих представлениях на предмет того, как следует воспринимать его положение. Минимизируя собственные формальные полномочия и подчеркивая отказы от тех из них, что противоречили нравам и обычаям предков (mos maiorum), он утверждал, что превосходил всех сограждан своим авторитетом (auctoritas)17, в силу которого его и воспринимали как главу государства (в эпоху Республики считалось, что авторитетом были наделены лишь «первые лица» («principes viri»)) и что лишь благодаря этому авторитету, благодаря тому, что приказы отдавал его носитель, они исполнялись. Некоторые историки попытались показать, что в какой-то момент (мы не можем его конкретизировать) неофициальный авторитет (auctoritas) превратился в официальное право издавать законы, или что он пришел на смену империю (imperium) в качестве формальной правовой позиции, или что благодаря эдикту 28 г. до н. э. Август получил формальный «принципат», который и повлек за собой всё остальное18.
Приведенные два ответа несовместимы, и компромисса здесь достичь невозможно — приходится делать выбор. Концепция, представленная в гл. 2 и в этом моем рассказе, то есть выбор более устаревшего «минималистского», и ныне еретического, представления о «конституции Августа», сразу же требует некоторых предупреждений и пояснений. Во-первых, повторимся, ни в одной из двух концепций не рассматривается фактическая (de facto) власть Августа, но лишь возможные описания, обоснования, способы легитимации его власти. Таким образом, если мы выбираем минималистскую картину, это не означает, что мы не считаем Августа фактическим (de facto) правителем Рима; означает это лишь то, что для описания его правления он сам и его современники использовали понятия, которые еще не ассоциировались с абсолютной монархией, — в отличие от тех, какие спустя две сотни лет были известны императорам Северам и их современникам. Во-вторых, принимая минималистскую концепцию, мы обязаны предложить иное объяснение по меньшей мере трем свидетельствам, и прежде всего шестой статье закона о власти Веспасиа- на (lex de imperio Vespasiani) — так называемой «дискреционной статье» (т. е. статье, наделяющей правом действовать по собственному усмотрению. — С. Т)19.
Трудно поверить, что эта статья в буквальном смысле означает именно то, что с ходу бросается в глаза, — что формально абсолютной властью
17 Греческое слово: «αξίωμα». Латинское слово, которое ему соответствовало, не было известно до тех пор, пока в Антиохии, в Писидии, не нашли копию «Деяний Божественного Августа» (опубликованную в 1927 г.); Моммзен предполагал, что латинским эквивалентом этого греческого слова было слово «dignitas».
18 Соответственно: Magdelain 1947 (С 167); Grant 1946 (В 322); Grenade 1961 (С 103).
19 Отстаиваемая здесь версия отвергнута в работе: Brunt 1977 (С 335): 113.
Глава 3. Август: власть, авторитету достижения
151
действовать по собственному усмотрению Август был наделен с самого начала, иначе непонятно, зачем понадобился закон о власти Веспасиана, в частности, для чего потребовалось предоставлять принцепсу обширные особые полномочия, о чем, судя по всему, говорилось в утраченной первой таблице. Обсуждаемую статью следует интерпретировать с учетом того положения, какое она занимает в этом законодательном акте: «дискреционная статья» входит в группу завершающих статей, седьмая из которых дарует новому императору освобождение от отдельных законов, а восьмая — придает юридическую силу его действиям, предпринятым в пору, когда он еще не был правителем. В таком контексте шестая статья приобретает естественный и понятный смысл — предоставление правителю чрезвычайных полномочий, не охваченных предшествующим перечнем20. В любом случае, в том обстоятельстве, что «дискреционная статья» наделяла правителя полномочиями совершать те или иные действия, было бы опрометчиво усматривать косвенное свидетельство обладания правителем всей законодательной властью, поскольку лишь в обыденной речи можно характеризовать законодательство как «совершение действий»; в действительности же это гораздо более всеобъемлющая деятельность по выработке правовых регламентов.
Торжественное заявление Гая (если оно и в самом деле принадлежит ему) в учебнике по праву, написанном во П в. н. э., будто «никогда не было сомнения в том», что распоряжение принцепса (constitutio principis) имеет силу закона, звучит не очень уверенно. Конечно, для его времени эта доктрина была верна и его замешательство может объясняться просто его осведомленностью о том, что прежде дело обстояло иначе. Но слова Гая внушают еще меньше доверия, потому что далее он указывает причину возникновения принципа, согласно которому распоряжение принцепса (constitutio principis) имеет силу закона, и эта причина вопиюще нелогична: «...так как сам император приобретает власть (imperium) на основании особого закона». Совершенно непонятно, как одно следует из другого, и возникают сомнения: неужели Гай мог выдумать такую нелепицу? Кроме того, данное сообщение Гая похоже на неумелый пересказ процитированного в «Дигестах Юстиниана» рассказа Ульпиана о так называемом «царском законе», lex regia;21 вполне вероятно, что рассматриваемый пассаж является поздней вставкой в подлинный текст Гая21а, в котором, должно быть, просто разъяснялись возобладавшие к его времени нормы относительно распоряжений императоров.
20 Оспаривая мнение оппонентов, я использую аргументы, приведенные в работе: Jolowicz, Nicholas 1972 (F 660): 365—366; аргументы в пользу моей позиции см.: Hammond
1959 (А 43): 306, примеч. 59; de Martino 1974 (А 58), fase. I: 501-502.
21 Дигесты Юстиниана. I.4.1.pr., Ульпиан. I Институция: «То, что решил принцепс, имеет силу закона, поскольку народ посредством царского закона, принятого по поводу высшей власти принцепса, предоставил принцепсу всю свою высшую власть и мощь» [Пер. ЛЛ Кофанова. — «Qpod principi placuit legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in cum omne suum imperium et potestatem conferat»).
21a Ульпиан писал в начале Ш в. н. э., Гай — в середине П в. н. э., и, если пассаж Гая выглядит как пересказ Ульпиана, это дает основания усомниться в аутентичности этого пассажа. — С.Т
152
Часть I. Изложение событий
Третье свидетельство — текст Страбона. Он был современником Августа и достойным доверия писателем; но в конце его «Географии» содержится утверждение о том, что Август получил «первое место в управлении государством» и «пожизненную власть в вопросах войны и мира». «География» — это всё же не правовой трактат, да и ее автор не описывает в ней конституционное устройство Римского государства (правда, он подробно рассказывает о разделении провинций на «провинции римского народа» и «провинции Цезаря», которое было установлено не некой верховной властью Августа, а, по всей вероятности, сенатом)22.
Таким образом, концепции, согласно которой Август формально получил «власть конституционного монарха», не следует отдавать предпочтение перед рассказом Диона Кассия и других авторов о том, как прин- цепс постепенно и поэтапно приобретал конкретные полномочия; и, когда сам Дион Кассий пишет, что с самого начала режим Августа был «чистой монархией»23, он не ставит задачу описать реальное положение вещей, а лишь предлагает собственный взгляд на этот режим.
Во всяком случае, следует кое-что добавить относительно конституционных форм, в которые была облечена власть правителя. Взаимодействие этих форм с «грубой реальностью» власти принцепса очерчивало допустимые границы его поведения — костюм в какой-то мере определял роль его носителя. А концентрация в одних руках разнородных полномочий имела и еще одно полезное следствие: их можно было предоставлять по одному, постепенно возвышая главного помощника принцепса до положения коллеги императора (collega imperii). Пример того, насколько педантично и аккуратно это делалось, можно видеть в греческом переводе «Похвальной речи на похоронах Агриппы», которую произнес Август: «...трибунская власть была тебе дана на пять лет в 18 г. до н. э. постановлением сената (senatus consultum) и снова — в 13 г. до н. э.; и, помимо того, во всякой провинции, куда бы тебя ни повлекла забота об общественном благе Рима, по закону ничья власть не превосходила твою»24. Эти осторожные выражения подкрепляют изложенную здесь аргументацию в пользу того, что полномочия самого правителя описывались скорее цепочкой терминов, нежели некой глобальной формулой.
Авторитет (auctoritas) — это внешнее выражение конституционных форм, наиболее близкое к реальности (в том смысле, что ему можно было дать название и упомянуть его в «Деяниях Божественного Августа»). Он был личным у каждого правителя, и если тому недоставало авторитета или он его утрачивал, то его власть подвергалась опасности. Принцепс обладал авторитетом отчасти благодаря своим личным качествам, отчасти благодаря тому «грубому факту», что он держал в руках бразды правления; и в то же время удерживал он их именно благодаря своему авторитету, поскольку если правитель обладал авторитетом, то ему достаточно
22 Lacey 1974 (С 146).
23 Дион Кассий 1Л .1.1.
24 EJ2 366.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
153
было отдавать приказы — и ему подчинялись. Надписи, в которых указано, что нечто сделано «по приказу Августа» («iussu Augusti»)25, не должны вводить в заблуждение (т. е. их не следует расценивать как свидетельство того, что распоряжения Августа имели силу закона. — С. Т) — они отражают его авторитет, поскольку люди, поставившие эти надписи, считали вполне достаточным следующее объяснение: они сделали нечто, ибо так велел им Август. Более того, авторитет принцепса одновременно предполагал как соблюдение нравов и обычаев предков (mos maiorum, ибо авторитет был характеристикой республиканских лидеров, principes viri), так и создание «харизмы» (ибо она определялась личностью правителя): благодаря авторитету правителя люди всегда помнили о нем, независимо от норм писаных законов.
Но историки права совершенно справедливо указывают, что для деятельности правителя по выстраиванию общеобязательных норм и правил, имеющих постоянное действие, первым делом следует искать конституционную основу, поскольку означенная деятельность не вытекает из «грубой реальности» власти. Хотя в конкретных ситуациях указаниям Августа следовало повиноваться, они не «имели силы закона». В качестве особой почести ему предлагали право издавать Августовы законы (leges Augustae), но он отказался; вместо этого принцепс вносил законопроекты в ко- мициц на основании своих трибунских полномочий, и они становились Юлиевыми законами (leges Iuliae)26. Он мог созывать сенат и вносить там предложения, но в итоге принятые решения становились постановлениями сената (senatus consulta)27. Эдикты Августа утрачивали силу, если его преемники не утверждали их, пусть даже неявно (хотя, вероятно, никто и не сомневался, что в конечном счете это будет сделано)28. Весомость мнений, высказывавшихся юристами («responsa prudentium»), по-прежнему зависела от авторитета конкретного знатока права (в Поздней республике юристы добивались для своих ответов нормативного статуса29, в императорское же время эти ответы стали официальным источником права). Август не только сам иногда давал ответы (responsa)30, но и, как сообщается, «решил, что они (юристы. — С. Т.) должны высказывать свои мнения, опираясь на его авторитет (ex auctoritate eius)»31. Совершенно непонятно, что это означало и к каким последствиям привело. Некоторые исследователи считают, что тем самым правитель присвоил себе право разъяснять
25 EJ2 283, 368.
26 После принятия одной крупной серии Юлиевых законов даже они стали издаваться очень редко.
27 Только во П в. н. э. речь принцепса (oratio principis) в сенате стала рассматриваться как норма права.
28 Об эдиктах Августа, составленных как правовые нормы, см.: EJ2 282; упоминания таких эдиктов в праве см.: Дигесты. 16.1.2.рг., 28.2.26.
29 Frier 1985 (F 652): 186-187.
30 Напр.: Дигесты Юстиниана. 23.2.14.4. См. также об учреждении фидеикомиссар- ной юрисдикции: Институции Юстиниана. П.25.рг., 23.1.
31 Помпоний в: Дигесты Юстиниана. 1.2.2.49. О праве давать ответы (ius respondendi) см· прежде всего: Wieacker 1985 (F 706).
154
Часть I. Изложение событий
законы, но это крайне неправдоподобно; другие считают, что это лишь дало некоторым привилегированным юристам статус, сходный со статусом королевского адвоката в Великобритании. В любом случае, их привилегия основывалась не на империи (imperium) или власти (potestas), а на авторитете (auctoritas): авторитет Августа подкреплял авторитет отдельного юриста.
Кроме того, в эпоху Империи правитель играл роль верховного судьи последней инстанции. Во времена Республики в Римском государстве не существовало верховного судьи или суда и на решения уголовных и гражданских судов нельзя было подать апелляцию. А потому снова следует задаться вопросом: какую роль сыграл Август при внедрении этого важного нововведения и какие законные полномочия он при этом задействовал? В его правление гражданские суды работали как обычно; аналогичным образом обстояло дело и с уголовными судебными комиссиями (quaestiones), к которым добавился суд по делам о супружеской измене; и для упорядочения их деятельности было издано два важных статута о судах (de iudiciis)32. У тяжущихся появилась также возможность апеллировать к правителю как верховному судье; к тому же правитель мог выступать судьей первой инстанции, осуществляя простое расследование (cognitio). Об этом не слишком много сведений, причем в основном в форме анекдотов, но большинство историков правомерно сходятся на том, что при Августе прослеживаются хотя бы зачатки указанных тенденций33. Все попытки исследователей вывести чрезвычайную (extra ordinem) юрисдикцию Августа из республиканских прецедентов и его традиционных конституционных полномочий провалились34, по крайней мере отчасти, как бы старательно историки ни пытались связать эту юрисдикцию с ранее предоставленным Октавиану правом «судить, когда к нему обратятся», или «голосом Афины»35, или вычленить судебные полномочия из проконсульского империя Августа или его консульской власти (potestas) (некоторые историки считают, что этой властью он обладал). Требуется найти некое законное основание для юрисдикции Августа; едва ли это был некий неизвестный закон, о котором нет ни одного упоминания в источниках, и, находясь в условиях столь явной неопределенности, разумно предположить, что искомое основание могло содержаться в законах о судах (leges de iudiciis). Как бы то ни было, превращение правителя в верховного судью и главу правопорядка — это главное формальное различие между Республикой и Империей.
32 По-прежнему основополагающая работа: Girard 1913 (F 653). О декуриях (здесь это — списки лиц, из которых отбирались судьи; при Августе сначала существовало три декурии: сенаторы, всадники и эрарные трибуны, затем была образована четвертая — декурия дуценариев (т. е. лиц с более низким имущественным цензом в 200 тыс. сестерциев), которые разбирали иски на сравнительно небольшие суммы. — С.Т.) см.: Bringmann 1973 (D 249): 235-242.
33 Светоний. Божественный Август. 33; Валерий Максим. VII.7.3—4; Дион Кассий. LV.7.2.
34 Наиболее важную из этих попыток предпринял Джонс, см.: Jones 1960 (А 47): гл. 5.
35 Дион Кассий. LI.19.7; см. также с. 98 наст. изд.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
155
III. Достижения
1. Правящий класс
Хотя исследователи многократно уточняли и переформулировали данное представление, тем не менее можно констатировать, что в Поздней республике возникло несоответствие между возросшим бременем обязанностей Рима как мировой державы и государственным устройством, обеспечивавшим их выполнение;36 дальнейшее расширение империи потребовало перемен, хотя они не обязательно должны были стать масштабными или революционными. Правительственные органы Римской империи будут рассмотрены в следующих главах, мы же сосредоточимся на том, какую роль Август сыграл в их развитии.
Стоит назвать сенат «правительственным органом» — и сразу становятся очевидны произошедшие с ним перемены, поскольку ранее он был не «органом», а самим «правительством». В какой-то степени он им и оставался37. Никакой «диархии» не сущесгвовало:37а высший империй (imperium maius) Августа позволял ему принимать решения относительно всей империи, но и постановления сената (senatus consulta) могли иметь универсальное применение. И сенат (как и Август) стал играть совершенно новую для себя роль суда38. Нет нужды сомневаться, что постоянные попытки Августа уменьшить численность сената и очистить его состав от нежелательных элементов объясняются желанием сохранить за этим органом ключевую роль в государственных делах. Комитет, который создал Август для подготовки слушаний в сенате, расширял, а не сокращал возможности сената сохранить влияние в важных государственных вопросах, а правителю позволял предварительно выдвигать предложения и оценивать реакцию на них39. За самими сенаторами по-прежнему были оставлены почти все высшие должности в государстве, то есть они занимали все магистратуры в Риме, все посты легатов легионов и все наместничества в провинциях, за одним важным исключением (Египет), а также некоторые младшие магистратуры. (Положение дел в Египте не следует рассматривать как некое предвестие перемен: до эпохи Северов больше ни одна важная провинция, ни один легион не были поручены всадникам.) Также сенаторы по-прежнему отвечали за государственную казну, и многие новые административные комиссии формировались только из сенаторов: с 22 г. до н. э. — префекты хлебных раздач (praefecti frumenti dandi); с 20 г. до н. э. — кураторы дорог (curatores viarum); с 11 г. до н. э. —
36 Хотя существует и противоположное мнение, см.: Eck 1986 (С 82).
37 Brunt 1984 (D 27).
37а Концепцию диархии выдвинул Т. Моммзен, по мнению которого в Римской империи полномочия императора и сената были четко разграничены, а казна, администрация и провинции — разделены между ними. — С. Т
38 Овидий. Скорбные элегии. П. 131—132; Дион Кассий. LV.34.2; см. также с. 467—468 насг. изд.
39 Crook 1955 (D 10): 9-10.
156
Часть I. Изложение событий
кураторы водоснабжения (curatores aquarum); с 6 г. н. э. — префекты военного казначейства (praefecti aerarii militaris); неясно, с какого времени (дата создания комиссии неизвестна), — кураторы общественных зданий (curatores operum publicorum); кураторы продовольствия (curatores frumenti)40, отвечавшие за поставку зерна в 6—7 гг. н. э.; консульская комиссия по расходам 6 г. н. э.; с 8 г. н. э. — консульская комиссия по приему посольств. Консулы также получили новую юрисдикцию по делам о фидеи- комиссах (fideicommissa), то есть завещательных распоряжениях. Наконец, в порядке эксперимента был учрежден пост префекта города; в дальнейшем он стал весьма престижным.
Однако крупной переменой по сравнению с традиционным порядком стало превращение при Августе сенаторского сословия в нечто вроде наследственной аристократии41. Светоний сообщает, что Август позволил сыновьям сенаторов носить «широкую полосу», latus clavus42, на тунике, а Дион Кассий пишет, что в 18 г. до н. э. для кандидатов на должности принцепс установил минимальный имущественный ценз — 250 тыс. драхм, то есть миллион сестерциев. Дион Кассий даже пишет, что поначалу минимальный ценз, установленный Августом, равнялся 100 тыс. драхм (400 тыс. сестерциев), но это был всего лишь «всаднический» ценз, которым должен был владеть каждый, кто желал служить офицером, — что являлось необходимым условием для занятия всех политических должностей. Итак, 18 г. до н. э. следует считать годом установления особого сенаторского ценза43. Впредь сыновья сенаторов автоматически имели право добиваться магистратур, а занятие таковых оставалось единственным способом войти в это сословие. Из текста Светония не следует, что остальные могли претендовать на магистратуры только по милости (beneficium) правителя, что давало бы ему полный и единоличный контроль над доступом в сословие сенаторов; свою власть принцепс мог использовать на то, чтобы держать подальше «незваных гостей»44. Если же говорить об имущественном цензе, то его размер был установлен с расчетом на доведение сенаторского сословия до желаемой численности, поскольку множество людей, и не только сенаторов, владело состояниями, значительно превышавшими уровень ценза.
Но Августу пришлось вести тяжелую борьбу, поскольку он не мог смириться с неизбежной апатией сенаторского сословия. Проще говоря, если заявить людям: «Отныне я — правитель, но, будьте любезны, ведите себя точно так же, как и прежде», — они не послушают. К почестям и высокому общественному положению сенаторы всё еще стремились, за
40 Дион Кассий. LV.26.2, 31.4.
41 Nicolet 1976 (D 53); Chastagnol 1973 (D 31); Chastagnol 1975 (D 33). В свое время на это указывали и Моммзен, и Виллеме.
42 Светоний. Божественный Август. 38.2; из этого свидетельства Светония может и не следовать, что их принуждали вступать в сенат (напр., из-за «нехватки кадров»).
43 Дион Кассий. UV.17.3; Светоний. Божественный Август. 41.1, с примечанием Картера.
44 Как в 36 г. до н. э., см.: Дион Кассий. XT.IX. 16.1.
Глава 3. Август: власть, авторитету достижения
157
командование легионами и управление провинциями всё еще боролись, но требование постоянно находиться в Риме, чтобы посещать заседания сената, теперь вызывало у них досаду. Поэтому потребовалась реформа сенатской процедуры45. «Протоколы сената» перестали публиковаться46, и не исключено, что истинная цель этой меры состояла в том, чтобы возродить свободу сенатских дебатов; но главные реформы были направлены на обеспечение необходимой посещаемости заседаний:47 возросли штрафы за неявку, регулярные заседания сената стали проводиться раз в две недели в установленные дни, и (тут Августу пришлось поднять «белый флаг») — был снижен кворум, необходимый для того, чтобы постановления сената (senatus consulta) приобретали силу.
Недавно историки обнаружили, что общая тенденция к «уклонению от службы», последствия которой для «божественной семьи» были рассмотрены выше, в гл. 2 наст, изд., проявилась и в правящем классе, особенно в сенате. В 13 г. до н. э. сам сенат, встревоженный этим положением дел, в отсутствие Августа назначил представителей всаднического сословия на низшие сенаторские должности, в «вигинтивират» (при этом позволив им остаться всадниками), и обязал квесгориев старше сорока лет по жребию занимать должности плебейских трибунов; по возвращении Август убедил нескольких человек, чье состояние удовлетворяло сенаторскому цензу, вступить в сенат. В следующем году вновь обнаружилась нехватка кандидатов в трибуны, и Август распорядился, чтобы эти должности заняли всадники, которым была предоставлена возможность самим выбрать, членами какого сословия они желают остаться. В 5 г. н. э. не нашлось желающих стать эдилами (что, по словам Диона Кассия, случалось нередко), и на эти должности людей приходилось назначать принудительно. Светоний утверждает, что из-за того, что все уклонялись от обязанностей присяжных, пришлось создать дополнительную декурию, а Дион Кассий пишет о том, как трудно было уговорить кого-либо отдать дочь в весталки48. Таким образом, можно отбросить сомнения и согласиться, что данное явление имело место, но необходимо сделать важную оговорку. Для того, кто стоял на низших ступенях элиты и в эпоху Республики не поднялся бы выше ранга квесгория и так и остался бы педарием [senatores pedarii, т. е. «голосующие ногами»)48*, сенаторский ранг при новом режиме не стоил тех проблем и расходов, которые влек за собой. Но на вершине пирамиды ничего не изменилось; кандидаты по-прежнему боролись за должности преторов и консулов и стремились к ним; из-за этого Августу пришлось принять закон против злоупотреблений при соис¬
45 Talbert 1984 (D 77): 222—224 — вслед за Ротонди этот автор относит Юлиев закон о проведении заседаний сената [lex lulia de senatu habendo) к 9 г. до н. э.
46 Светоний. Божественный Август. 36.1.
47 Дион Кассий. UV.18.3, 35.1; LV.3.
48 Светоний. Божественный Август. 32; Дион Кассий. LV.22.5.
48а Так называли сенаторов низшего ранга, которые не получали слова в ходе обсуждения и лишь участвовали в голосовании тем, что вставали с мест и присоединялись к той или иной стороне. — С.Т.
158
Часть I. Изложение событий
кании (lex de ambitu:) и установить в 8 г. до н. э. правило, согласно которому кандидаты на должности обязаны были внести залог49. В 23 г. до н. э. принцепс заявил, что десяти преторов в год будет достаточно, и эта цифра не менялась несколько лет; но сенаторы оказывали на Августа давление, и вскоре преторов снова стало двенадцать. А в 11 г. н. э. претуры добивалось уже шестнадцать кандидатов, и всем им позволили занять эту должность50. Как отказ Августа от консульства в 23 г. до н. э., так и ежегодное назначение второй пары консулов, вошедшее в обычай с 5 г. до н. э., следует рассматривать как реакцию на приток в систему множества людей, пробивавшихся наверх и желавших занять высокое положение в обществе: пришлось даже снизить возраст, в котором нобили имели право занять эту должность51. Итак, неудивительно, что лицам, имевшим детей, законы Августа о браке предоставляли — среди прочих привилегий — приоритет при соискании должностей.
Август явно не планировал, что выборы магистратов будут проходить просто в соответствии с его указаниями. Он настаивал на том, чтобы народ голосовал; для декурионов (членов городского совета. — С. Т) двадцати восьми италийских колоний было предусмотрено нечто вроде «голосования по почте»;52 а построенные Агриппой сооружения — Септа и Дири- биторий — предназначались и использовались для голосований и подсчета голосов, хотя там проводились и зрелища. Вероятно, этому не следует придавать большого значения: ко временам Плиния народные голосования на Марсовом поле еще проводились, но стали лишь пустой видимостью. В правление же Августа они еще не дошли до этого состояния, и правителю приходилось оказывать на них влияние. Сообщается, что принцепс делал подарки собственным трибам и лично убеждал их голосовать за желательных для него кандидатов53. Одна из привилегий Августа заключалась в том, что он мог «рекомендовать» кандидатов на высшие должности; в результате они становились «кандидатами Цезаря», и их автоматически избирали: судя по всему, император пользовался этим правом довольно скупо и никогда (насколько нам известно) не прибегал к нему на выборах консулов. Он никому не «давал» консульские должности, хотя в гл. 2 наст. изд. мы видели, что он установил особые условия для молодых претендентов — членов «божественной семьи». Дион Кассий утверждает, что Август часто сам выбирал городского претора54 (но, видимо, не претора по делам иноземцев, который тоже обладал гражданской юрисдикцией, а следовательно, дело было не в стремлении принцеп- са «контролировать правосудие»); это, несомненно, означает, что Август решал, кто из ежегодно избираемых преторов займет наивысшее положе¬
49 Дион Кассий. LV.5.3. (В случае противоправных действий кандидата эти деньги ему не возвращались. — С.Т.)
50 Дион Кассий. LVL25.4.
51 Syme 1986 (А 95): 51-53.
52 Светоний. Божественный Август. 46; EJ2 301 П, 2.
53 Светоний. Божественный Август. 40.2, 56.1.
54 Дион Кассий. LHL2.3.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
159
ние55. Что касается наместников, то в собственные провинции Август назначал их по своему выбору; это давало ему значительный контроль над продвижением людей на действительно важные посты. Проконсульства в «провинциях римского народа», как правило, по-прежнему распределялись по жребию. Некоторые исследователи постарались показать, что эти проконсулы назначались с учетом их талантов, опыта или пригодности к выполнению определенных задач56. Данная попытка оказалась не слишком удачной, но при жеребьевке и в самом деле могли случаться некоторые махинации: например, если ставилась задача, чтобы в Африку попал опытный полководец, когда в нем действительно была необходимость; имеются сведения, что по меньшей мере один раз — в чрезвычайной ситуации — жеребьевка была отменена.
В любом случае, важное достижение современных исследователей состоит в том, что они показали: в Империи точно так же, как в Республике, не существовало специализации общественных обязанностей (пожалуй, даже военных, ведь служить в армии был обязан каждый аристократ). Если кандидаты были лояльны и в целом компетентны, не играло большой роли, кто какую должность получит, и не требовалось перекраивать всю систему, разве что исключить из нее людей, недостаточно или чересчур компетентных. Крупные и важные командования попросту и без зазрения совести поручались членам «божественной семьи»; в остальном отбор на должности производился в целом на основании социальных критериев, и лучше рассматривать весь этот механизм как систему должностей, почетных позиций, выстроенных в традиционную лестницу, по которой могли подниматься честолюбивые люди. Она имела важное значение еще и потому, что выполняла промежуточную роль при распределении благодеяний (beneficia) правителя, так как, чем больший вес в его глазах имели рекомендации какого-либо сенатора, чем больших милостей для своих клиентов (людей или городов) последний мог добиться, тем выше он поднимался57.
Помимо сенаторов, важную роль в государстве играло лишь одно «сословие» — всадники (equites), и именно из их числа Август набирал людей на административные должности, чтобы не множить число традиционных магистратур и не размывать сенаторскую элиту. Состоятельный класс новой объединенной Италии был готов встроиться в эту систему. Мы, однако, не считаем, что Август «изобрел римскую гражданскую службу» или эксплуатировал навыки «делового сословия» в интересах своего режима. Император использовал людей, обладавших различными умениями и происхождением, но так и не создал для них дорогу почестей (cursus honorum), аналогичную сенаторской, — она появилась лишь позднее. Август постарался придать сословию всадников более целостный и внушительный облик, учредив формальный «вступительный экзамен» и
55 Лица, которые впоследствии становились коллегами императора (collegae imperii), видимо, сперва занимали должность городского претора.
56 Szramkiewicz 1975—1976 (D 75).
57 Sailer 1982 (F 59): 94-111, 73-78.
160
Часть I. Изложение событий
ежегодный смотр всадников, а когда Гай и Луций Цезари достаточно повзрослели, сделал их принцепсами этого сословия. Из надписей о погребальных почестях Германика мы знаем о законе Валерия—Корнелия 5 г. н. э.58, который поставил между кандидатом на должность и комициями новую избирательную комиссию из сенаторов и отдельных всадников, отвечавшую за составление перечня «намеченных» (destinati) лиц, которые, вероятно, добавлялись к кандидатам, рекомендованным Августом (commendati), и лишь после этого представали перед народом для избрания. Кандидатам всё еще разрешалось выдвигаться независимо, но весьма вероятно, что с той поры народное собрание стало просто штамповать утвержденные списки. Значение новой комиссии оценивается по-разному; одни считают, что, предоставляя некоторым всадникам доступ к избирательному процессу и способствуя тому, чтобы должности занимали «новые люди», которым благоволил Тиберий, она преследовала политические цели. Но более взвешенная и ныне превалирующая точка зрения состоит в том, что эта комиссия представляла собой «почесть», еще один знак отличия всаднического сословия59.
Что касается должностей, открытых для всадников (equites), то какой- либо «лестницы» для них Августом предусмотрено не было60. Сословие неизменно сохраняло свою традиционную роль — выступать главным источником для набора присяжных и младших офицеров. Для всадников, опытных в военном деле, самыми важными новыми постами стали должности префектов маленьких провинций и морских эскадр; на них возложено было также проведение ценза в провинциях. Выше всех, конечно, стоял префект Египта и Александрии. Первые три префекта Египта решали важные военные задачи; довольно много других префектов эпохи Августа известны по именам, но мы мало знаем об их деятельности; срок их службы был невелик, а положение в обществе — не слишком почетно61. Всадники также занимали и прокураторские, то есть финансовые, должности (хотя на такие посты принцепс мог назначать и вольноотпущенников, вроде знаменитого Юлия Лицина)62. Всаднические должности в столице появились намного позднее, да и то в качестве эксперимента: во 2 г. до н. э. — два префекта претория, в 6 г. н. э. — префект ночной стражи (praefectus vigilum), не ранее 7 г. н. э. — префект продовольствия (praefectus annonae)63. Стимулом для их учреждения послужило не столько укреп-
58 Источники о законопроекте Валерия — Аврелия (Rogatio Valeria Aurelia) 19 г. н. э. см.: Гебанская таблица (Tabula Hebana), см.: EJ2 94а; Сиарийская таблица (Tabula Siaren- sis), см.: Gonzalez J. 1984 (В 234); Римский фрагмент, см.: CIL VI 31199; также, возможно: Илицийская таблица (Tabula tiicitana), см.: EJ2 94b (относится, возможно, к аналогичным почестям Друза в 23 г. н. э.).
59 Brunt 1961 (С 47).
60 Демонтаж «лестницы» начался с работы: Sherwin-White 1939 (D 65).
61 Brunt 1975 (E 906).
62 Дион Кассий. LTV.21.3—8.
63 Вероятно, Август учредил и должность префекта транспорта (praefectus vehiculorum), хотя столь ранних эпиграфических свидетельств не сохранилось, см.: Светоний. Божественный Август. 49.3.
Глава 3. Август: власть> авторитет, достижения
161
ление доверия принцепса к всадникам, сколько неудовлетворительные
В императорское время существовала гражданская служба, выполнявшая исключительно исполнительские функции, на которой состояли «рабы Цезаря» или «вольноотпущенники Августа» (такой порядок сохранялся до той поры, пока руководящие должности не были отданы всадникам, но произошло это уже совсем в другую эпоху). В частности, имелось несколько главных постов, которые занимали вольноотпущенники: прежде всего это секретари, отвечавшие за корреспонденцию, счета и прошения; в I в. н. э. эти чиновники могли оказывать на правителей сильное личное влияние. Из-за недостатка свидетельств трудно оценить вклад Августа в создание этой системы, но на основании нехватки данных историки обычно считают, что ее зачатки в его правление были незначительны и бессистемны — и, вероятно, они правы. В последних предсмертных распоряжениях Августа о передаче военных и финансовых ведомостей о состоянии империи «поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет» [Пер. МЛ Гаспароваi);64 65 по всей видимости, это были предтечи счетного департамента; но волнам корреспонденции еще только предстояло нахлынуть66, регулярные же ответы принцепса, по крайней мере на обращения по правовым вопросам, появились позднее. Нет никаких определенных данных о влиянии подобных чиновников на Августа. Разумеется, принцепс имел и штат домашних слуг, не слишком отличный по составу, зато многократно превосходивший численностью штат, которым распоряжались республиканские лидеры (principes viri); с разрастанием «двора» (к которому мы в свое время перейдем) этот штат стал воистину огромным. Но Август держал рабов в строгости67, и нет ни единого свидетельства о влиянии на него управляющих и прочих слуг, если оставить за скобками то обстоятельство, что к правителю невозможно было попасть в обход череды прислужников.
Мы перешли от вопроса о том, как Август находил себе нужных людей, к вопросу об их влиянии на него. Так называемую Партию мы уже обсуждали. К своим друзьям (amici principis) принцепс обращался, очевидно, за советами; но практически невозможно связать какое-либо его решение с влиянием на него конкретного человека, за исключением нескольких случаев личного патроната. Конечно, нам очень не хватает документов, писем, мемуаров и дневников, из которых исследователи, занимающиеся историей Нового времени, черпают подобные сведения. В соответствии с нравами и обычаями предков (mos maiorum), Август лично выбирал и привлекал к совещаниям выдающихся людей, когда решение нужно было принять публично; в протоколах официальных за¬
64 Eck 1985 (С 82).
65 Светоний. Божественный Август. 101.4.
66 Хотя имеется упоминание о служащем, исполнявшем обязанности, которые позднее будут поручены секретарю, ответственному за корреспонденцию (ab epistulis), см.: Светоний. Божественный Август. 67.2, с комментариями: Kienast 1982 (С 136): 262.
67 Светоний. Божественный Август. 67, 74.
162
Часть I. Изложение событий
седаний можно увидеть перечни этих людей, составленные в иерархическом порядке68. Также достаточно ясно, что Август использовал личных друзей, соотнося их таланты с текущими задачами; он обращался к ним как к неформальному совету (consilium), который созывал при необходимости69. Несомненно, эти люди имели на него влияние; кто-то, например, занимался созданием системы символов, ассоциировавшихся с императором (к этому мы еще вернемся). При предварительном обсуждении законопроектов отнюдь не всегда был пассивен, естественно, и сенатский подкомитет. Но ничего больше сказать нельзя70. Существовало несколько «серых кардиналов»: Меценат и Саллюстий Крисп обладали конфиденциальной информацией и были посвящены в тайные планы; считалось, что они могут получить всё, чего пожелают, — и это, несомненно, верно;71 но мы всё же не знаем, какие политические решения исходили от них72. Возможно, Ливия Друзилла, всегда поддерживавшая мужа, имела на него наиболее сильное влияние; и чем меньше люди знали о ее деятельности, тем больше подозревали — и подозревали худшее. Конечно, просопо- графический метод позволил оживить многих могущественных людей той эпохи, и можно с уверенностью предполагать, что они были весьма влиятельны: Марк Лепид, Марк Валерий Мессала Корвин, Луций Каль- пурний Пизон, консул 15 г. до н. э., Гней Корнелий Лентул, консул 14 г. до н. э., Павел Фабий Максим, консул 11 г. до н. э., и множество других. Но, когда Август желал добиться сотрудничества избранных людей и возложить на них высшую ответственность, он, как правило, вводил их в «божественную семью»73. Сложные семейные союзы нисколько не противоречили традициям, но, когда они концентрировались вокруг одного лидера (princeps vir), а не нескольких, количество переходило в качество. Именно так начал формироваться императорский двор. К идеологическим вопросам, связанным с «божественной семьей», мы еще вернемся; практические же последствия состояли в том, что самые крупные командования и самые впечатляющие дипломатические задачи доставались ближайшим родственникам Августа (и вверялись им на установленный правителем срок), а вытекающие из них поручения возлагались затем на менее близких к принцепсу людей. В той мере, в какой эти ближайшие родственники обладали полезным опытом, они, видимо, тоже были главными советниками и помощниками Августа. Политическая трагедия заключалась в том, что Август не доверял Тиберию, а Тиберий уклонялся от сотрудничества с Августом.
68 EJ2 379: спс. 34-40.
69 Crook 1955 (D 10): гл. 3.
70 Государственная политика в отношении дополнительных распоряжений к завещанию была выработана в соответствии с предложением юриста Требадия Тесты, см.: Институции Юстиниана. П.25.
71 Гораций. Сатиры. 1.9.43—56; П.6.38—58.
72 Возможно, Крисп несет единоличную ответственность за устранение Агриппы Постума.
73 Об этом процессе и этих людях см.: Syme 1986 (А 95).
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
163
2. Политика
Ретроспективно историки говорят о римской «политике», но часто это была всего лишь реакция римского правительства на те или иные ситуации. (Именно так обстояло дело с «распространением гражданства» и основанием новых колоний — по крайней мере, в правление Августа, — поскольку ветеранов надо было где-то поселить.) Однако применительно к некоторым сферам всё же следует говорить именно о «политике» Августа. Поэтому необходимо кратко ее описать. Август вел военную и имперскую политику: они рассмотрены в гл. 4 наст. изд. Вел он также финансовую и бюджетную, социальную и демографическую политику, занимался идеологией — самым важным сюжетом всей этой истории.
Поскольку Августу был необходим постоянный бюджет для военных расходов, ему пришлось проводить и инициировать финансовую политику в гораздо больших масштабах, нежели это происходило в эпоху Республики. В этой сфере требовалось довольно строгое хозяйствование, и очевидно, что «Деяния Божественного Августа» написал человек, хорошо знавший точные цифры. Своему преемнику Август оставил «отчет о доходах и расходах» империи, но такой же отчет был подготовлен им и передан коллеге по консульству уже в 23 г. до н. э., когда принцепсу казалось, что он — на пороге смерти74. С республиканских времен общая база налогообложения не слишком изменилась, за исключением того, что ближе к концу правления Августа для формирования денежных резервов на выплаты солдатам при увольнении был введен налог на наследование (vicesima hereditatium). Однако постепенно, в течение многих лет, была проведена полная перепись жителей провинций и их имущества; особое волнение вызывала эта процедура в недавно приобретенных областях, где перепись рассматривалась местным населением как главный признак угнетения и вызывала наибольшее недовольство. Помимо выплат солдатам, еще одну статью расходов составляло обеспечение Рима бесплатным зерном (хотя большая часть соответствующего налога выплачивалась в натуральной форме). Не Август изобрел политику «хлеба и зрелищ»; вероятно, под впечатлением от крупной паники в б г. н. э., вызванной нехваткой продовольствия, он даже собирался отменить хлебные раздачи (frumentatio); при этом он руководствовался не экономическими, а социальными мотивами, а именно — очень консервативным убеждением, что бесплатное распределение зерна в Риме не способствует интересу граждан к весьма достойному занятию — земледелию. Но затем Август решил, что упразднение раздач политически нецелесообразно75. Однако главным экономическим фактором, определявшим политику Августа, являлось его громадное и постоянно возраставшее личное состояние; наследственные имения (patrimonium) могли служить второй казной и, когда в государственной казне расходы превышали доходы, позволяли Августу по¬
74 Дион Кассий. LHL30.2.
75 Светоний. Божественный Август. 42.3.
164
Часть I. Изложение событий
крывать дефицит из собственного кармана. Об этом говорится в гл. 15— 18 «Деяний Божественного Августа», в частности:
Четырежды я из своих средств оказывал помощь эрарию.
<...> когда консулами были Гн. и П. Лентулы (т. е. 8 г. до н. э. — С.Т.), в том случае, если налоговых поступлений не хватало, я выдавал со своих складов и из своих средств взносы хлебом и деньгами иногда 100 тысячам человек, а иногда значительно большему количеству (Пер. А.А Смышляева с правкой).
Таким образом, правитель, как самый богатый гражданин, возлагал на себя высшую литургию, что позволяло ему выступать в роли верховного благодетеля (взаимосвязь, характерная для античных литургий)76.
За исключением тех провинциальных налогов, которые уплачивались в натуральной форме, экономика Римской империи была монетизированной. В частости, наличными выплачивалось содержание войскам и высшим должностным лицам. Наместники провинций получали большое жалованье (это было важное нововведение Августа);77 бюрократические должности всадников оплачивались с первых же дней. В чеканке, как и во всем прочем, римская императорская система строилась на преемственности с местными правительствами и обычаями, и для повседневных нужд города римского мира продолжали выпускать собственные монеты, преимущественно бронзовые. Золотую и прежде всего серебряную чеканку, предназначенную для более крупных выплат, контролировал Рим, то есть правитель. Специалисты по нумизматике указывают, что при Августе возникла «всемирная чеканка». В этой сфере не проводилось какой-то особой политики, всё просто шло своим чередом (удивительно, что единственная реальная реформа Августа в валютной системе касалась римских монет из недрагоценных металлов, которые стали тогда биметаллическими78): в эпоху триумвирата было отчеканено огромное множество монет для уплаты жалованья войскам, так что в правление Августа в обращении находилось много монет; когда возникала необходимость в новых, правительство открывало — в разное время и в разных местах, — а затем снова закрывало монетные дворы. Общий объем чеканки был, бесспорно, огромен79.
Однако более заслуживает названия «политики» та деятельность Августа, которую обычно называют его «социальной политикой», поскольку она явно была плодом его личной страстной заботы: он упорно растил собственную элиту. Из новейших научных работ складывается впечатление, что Август действовал как революционер, когда пытался воздействовать на мораль и демографию общества при помощи законов, и одновременно навязывал ему глубоко реакционные и ущемлявшие свободу нор¬
76 Не только в столице, см.: Светоний. Божественный Август. 47.1; Дион Кассий. LIV.23.7-8.
77 Дион Кассий. Lin. 15.4.
78 Сестерции и дупондии — из латуни (orichalcum), ассы и квадранты — из меди.
79 Sutherland 1976 (В 336): гл. 4; см. также далее, гл. 8, с. 364—367 насг. изд.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
165
мы. Как было указано в гл. 2 насг. изд., Август опирался на прочную республиканскую традицию вмешательства государства в поведение граждан при помощи законов, судов и в первую очередь цензуры80. Что же касается ущемления свободы, то диктаторы и им подобные правители часто считают признаком упадка то, что по меньшей мере часть населения воспринимает как свободу личного выбора, и стараются побороть это явление. Августа легко замазать этой же черной краской. Но дискуссии о вмешательстве государства в сферу морали и семьи нескончаемы, и применять здесь современные лекала следует с осторожностью. Август, как и Цицерон81, верил в светлое прошлое и считал, что в эпоху Ранней и Средней республики Рим одерживал победы благодаря превосходству морали и прочности семейных ценностей римлян. Вот принцепс и пытался воссоздать это идеализированное прошлое.
Законодательство в отношении рабов и бывших рабов (вольноотпущенников й вольноотпущенниц) было издано уже на закате правления Августа и не входило в «пакет» Юлиевых законов82. Его предложили консулы, и вполне возможно, что оно было одобрено сенатом или даже исходило от него; правящий класс иногда любил приструнить самых богатых членов своего сословия, которые уж совсем переходили грань приличий (примером чему — «законы против роскоши»83). Проницательный исследователь даже может усмотреть в разных статьях закона Элия— Сенция влияние разных заинтересованных групп. Так, например, с одной стороны, закон резко ограничивал число и состав лиц, имевших право получить римское гражданство просто благодаря тому, что их освободил владелец-римлянин, а с другой — справедливо регулировал отношения между вольноотпущенниками и их бывшими господами84. Юлиевы законы о прелюбодеяниях (leges Iuliae de adulteriis) и о браках сословий (de maritandis ordinibus), а также закон Палия—Поппея представляют собой программу Августа в сфере регулирования морали, которую он обнародовал с самого начала своего правления85 и от которой никогда не отказывался. Необычное название Юлиева закона о браках сословий (lex Iulia de maritandis ordinibus), по всей видимости, относилось лишь к тем разделам большого статута, которые запрещали полноценный римский брак меж¬
80 См. гл. 2, с. 119—120 насг. изд.
81 Цицерон. В защиту Марцелла. 23.
82 Юниев закон, учредивший статус «юнианских латинов», назван в «Институциях» (1.5.3) законом Юния—Норбана, поэтому его следует датировать 19 г. н. э. Если бы он входил в состав более раннего пакета законов Августа, он назывался бы, как и остальные, Юлиевым законом.
83 О законах против роскоши (leges sumptuariae) Юлия Цезаря и Августа, вписывавшихся в старые республиканские традиции, см.: Rotondi 1912 (F 685): 421, 447; Авл Гел- лий. Аттические ночи. П.24.14—15.
84 Патрон мог предъявить своему вольноотпущеннику обвинение в неблагодарности, см.: Дигесты. 40.9.30.рг.; но если он не поддерживал вольноотпущенника материально, то лишался прав в отношении него, см.: Дигесты. 38.2.33; аналогично и в том случае, если он запрещал вольноотпущеннику или вольноотпущеннице вступать в брак, см.: Дигесты.
37.14.15.
85 Такова общепринятая точка зрения; ее оспорил Бэдиан: Badian 1985 (F 4).
166
Часть I. Изложение событий
ду членами определенных классов, к примеру, между сенаторами и волы ноотпущенниками или между всеми свободнорожденными и «людьми с дурной репутацией» (infames); но более всего этот закон известен тем, что обязывал граждан постоянно находиться в браке, устанавливал поощрения для тех, кто имел минимум трех детей, и наказания для бездетных. Одним из поощрений являлся приоритет при соискании государственных должностей, а одним из наказаний — знаки сурового общественного порицания для неженатых и незамужних. Августу пришлось задействовать и иные средства и ограничить право последней категории лиц на наследование, причем эти ограничения не распространялись на близких родственников и на лиц, чье состояние не превышало умеренно высокий ценз. Справедливо сделать вывод о том, что Август заботился о рождаемости в высших слоях общества (менее справедливым будет вывод, что истинная цель его законодательства отличалась от очевидной и состояла, например, в сохранении поместий неразделенными86). Конечно, Август не обладал необходимыми демографическими познаниями о тенденциях рождаемости и о способах их изменения; но, вероятно, он полагал, что знает достаточно, а за высшими классами мог наблюдать, хоть и не систематически. Законодательство Августа не предназначалось для того, чтобы породить множество крепких фермеров (разве что они стали бы подражать семейному поведению высших классов), но принцепс мог добиты ся создания прочного офицерского слоя. О том, что в этом и состояла его цель, свидетельствуют две новые правовые нормы, которые имели значение исключительно для состоятельных людей: во-первых, учреждение peculium castrense — так назывались средства, заработанные или полученные на военной службе сыном семейства (filius familias), которыми он мог распоряжаться независимо от отца семейства (paterfamilias); во-вторых, норма, согласно которой отец семейства не мог лишить наследства сына, пока тот находился на военной службе87.
Таким образом, в своих «Деяниях» Август, возможно, был честен, когда касался целей собственного законодательства: «С помощью новых законов, принятых по моей инициативе, я восстановил многие обычаи предков, в наш век вышедшие из употребления, и сам88 оставил потомкам много примеров, достойных подражания». Это не означает, что данное законодательство было исключительно успешным или не имело разрушительных последствий, — и худшим из них, вероятно, стал интерес казны к выморочному имуществу, который ранее не существовал, но был пробужден к жизни законом о браке.
86 Данную точку зрения см. в изд.: Wallace-Hadrill 1981 (F 73).
87 См., соответственно: Титулы Ульпиана. 20.10; Дигестьи 28.2.26.
88 Деяния Божественного Августа. 8.5 [Пер. с лат. А.Λ Смышляева). В греческом тексте сказано: «Я сам служил примером».
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
167
3. Идеология
Тем не менее одним из актов созидательной политики, оказавшейся долговечным наследием Августа в Риме, стала выработка идеологии правления. Это была идеология, соответствующая осторожному традиционализму, который в целом описан выше, идеология, удивительная тем, что проявилась она довольно рано в правление Августа, идеология многогранная, так что даже для краткого ее описания необходимо рассмотреть множество феноменов, и «императорский культ» — лишь один из них. Прославление личности правителя, подчеркивание его роли, провозглашение его добродетелей, пышные праздники в честь его достижений, визуальные напоминания о его существовании, создание двора и основание династии — именно этим обстановка в 14 г. н. э. отличается от обстановки в 30 г. до н. э.
Сложно ответить на вопрос о том, до какой степени схема идей и символов, пронизывавших культуру эпохи Августа, контролировалась сверху. Исследователи выдвигают гипотезу о тотальном контроле;89 хотя преувеличений необходимо избегать, следует, однако, согласиться, что хотя бы основные черты этой схемы были кем-то придуманы и хитроумно спланированы. Вероятно, Август совершенно искренне сказал, что желает запомниться как создатель «наилучшего государственного устройства» («optimus status»), и действительно радовался, когда судовая команда и пассажиры встретившегося ему корабля из Александрии надели праздничные одежды, совершили возлияния и сказали, что «в нем — вся их жизнь, в нем — весь их путь, в нем — их свобода и богатство»;90 но в эту широкую реку впадало много каналов, и одни были проложены тщательнее других.
Важной составляющей идеологии Римской империи был государственный культ правителя. Его начал создавать Август, хотя Юлий Цезарь и Антоний поступили бы точно так же. В строгом смысле культ означает поклонение правителю как богу, но в более широком значении он включает в себя и определенное восприятие и описание правителя и его роли в государстве, сложившиеся у населения, и практическую деятельность правителя по приобретению и награждению сторонников, занимавших важные позиции в подвластных городах или областях. Культ правителя как основателя, спасителя и благодетеля был прочно укоренен в греческой части мира, и время от времени такие почести предоставлялись и римским полководцам конца Республики; даже богиня Рома стала на Востоке объектом культа91. Но именно соперничество триумвиров за влияние в городах повысило ставки в игре92, и с тех пор Август и богатейшие его сторонники развивали и финансировали на Востоке культ и символиче¬
89 На них повлияла работа: Weinstock 1971 (F 235). См.: также: Gros 1976 (F 397): прежде всего гл. 1; Zänker 1987 (F 632): 110—113, 215.
90 Светоний. Божественный Август. 28.2, 98.2.
91 Melior 1975 (F 186).
92 Reynolds 1982 (В 270): No 7, 8, 12.
168
Часть I. Изложение событий
ское представление правителя93. В Риме плебс почитал Сципиона, Мария и Юлия Цезаря, но представители высших кругов слишком остро воспринимали себя «первыми среди равных» («principes inter pares»), и Август вел себя осторожно. Несомненно, именно Август первым совершил жест, который затем копировали его преемники94, — не позволил при жизни воздавать себе божественные почести от имени государства: уже говорилось, что он не разрешил назвать Авгусгеем храм, построенный Агриппой на Марсовом поле (имеется в виду Пантеон. — С. 27). С другой стороны, по всему римскому миру теперь было рассредоточено множество римских граждан: колонизация при Юлии Цезаре имела обширные последствия. Для этих людей был изобретен официальный культ «Ромы и Августа». Запад и Север (за исключением Прованса, южной Испании и Африки, где римские граждане (cives Romani) уже давно чувствовали себя как дома) всё еще находились в стадии завоевания или на первом этапе реорганизации, а их традиции не содержали подходящих прецедентов, и там Август учредил крупные культовые и церемониальные центры: Алтарь Трех Галлий в Лугдуне и Алтарь Убиев в Кёльне. Для римского плебса в богатом арсенале нашелся еще один подходящий инструмент: учреждение нового культа гения (genius) правителя, то есть его «постоянного духа- покровителя», наряду со второстепенными богами — покровителями «кварталов» города Рима — Ларами перекрестков (lares compitales); за их культ отвечали «старосты кварталов» (magistri vicorum)95. Эти магистры были вольноотпущенниками; Август вообще хорошо помнил, что этим статусом обладало множество римских граждан, и учредил еще одно новшество: в городах появились коллегии вольноотпущенников, отправлявших культ правителя и получивших название «августалы»; они образовали элиту вольноотпущенников, аналогичную муниципальной элите в среде свободнорожденных96.
В рамках настоящего издания невозможно рассмотреть эту важную тему достаточно подробно. Возрождение древних культов, храмов и церемоний в Риме и приспособление основных жреческих должностей к новому порядку — лишь часть картины;97 сюда же относится и включение гения Августа в клятвы именем богов, и дополнения, внесенные в религиозный календарь и отмечавшие важные для принцепса даты. Нам придется напрячь воображение, чтобы представить себе масштабное визуальное воплощение всего перечисленного: изображения правителя были повсюду, в бесконечном изобилии, как объемные, так и отчеканенные на монетах. В конечном итоге весь этот комплекс мер задумывался как всеобщая
93 Millar 1984 (D 102). «Общие советы», конечно, существовали ранее, но их превратили в главный очаг культа.
94 Charlesworth 1939 (F 115).
95 Simon 1986 (F 577): 97-103; Zänker 1987 (F 632): 135-138.
96 Duthoy 1978 (E 37).
97 Август являлся еще и верховным понтификом (pontifex maximus), членом всех главных жреческих коллегий; их значение ясно демонстрирует рельеф на Алтаре Мира.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
169
объединяющая сила: граждане и неграждане, сословия и классы, языковые и культурные группы были опутаны единой, хотя и многообразной, сетью символов; галльские богачи, выдающиеся горожане Азии, вольноотпущенники, высоко поднявшиеся в муниципиях, римский плебс в столице и легионеры98 — все они совершали ритуалы, которые фокусировались на правителе, причем одновременно легитимизировали его правление, усиливая его харизму, и удовлетворяли стремление самих этих людей к социальному продвижению.
Теперь вернемся к рассмотрению «божественной семьи» с более отвлеченной точки зрения. Следует ли, например, рассматривать Ливию Друзиллу как «императрицу» или Гая и Луция Цезарей как «принцев»? Жил ли Август во «дворце» и был ли окружен «двором»? Лучше всего ответить так: к тому времени — вряд ли. Как и в сфере государственного устройства, сопоставление семьи Августа с императорской семьей эпохи Северов или Диоклетиана показывает, какой долгий путь еще предстояло пройти. И всё же со времен Республики многое уже изменилось, что ясно видно на примере дома Августа99. Его центром служил дом республиканского оратора Гортензия на юго-западном склоне Палатинского холма, его размеры и планировка оставались скромными, хотя к нему присоединили соседние постройки100 — пока не ясно, в каком объеме (хорошо известный «Дом Ливии», вероятно, тоже был его частью). Но символическое значение этого особняка настойчиво подчеркивалось101. Храм Аполлона, построенный Августом, не просто примыкал к дому, но непосредственно с ним соединялся. Далее, в 27 г. до н. э., над входом в дом Августа поместили гражданский дубовый венок, а по бокам от входа посадили лавр102. Когда в 12 г. до н. э. Август стал верховным понтификом (pontifex maximus), в его доме был освящен алтарь Весты103. Во 2 г. н. э., после пожара на Палатине, который сильно повредил дом Августа и храм Великой Матери, собирались публичные пожертвования, часть которых Август благосклонно принял; но затем он объявил свой дом — на том основании, что это здание еще и резиденция верховного понтифика, — государственным имуществом104. Через несколько лет Овидий описал путь своих книг из изгнания к правителю, и, даже если сделать скидку на вполне объяснимую лесть, из его стихотворений прямо следует, что «Дом Цезаря» («Caesaris domus») стал чем-то гораздо большим, нежели просто дом, хотя продолжал называться именно так105.
98 Kienast 1982 (С 136): 211, примеч. 168.
99 СоагеШ 1985 (Е 20): 129-133.
100 Светоний. Божественный Август. 72.1.
101 Wiseman 1994 (F 81): прежде всего 101—108.
102 Деяния Божественного Августа. 34.2.
103 Запись в календаре от 28 апреля, см.: EJ.
104 Дион Кассий LV. 12.4—5.
105 Овидий. Скорбные элегии. I.I.69—70; Ш.1.33-Ж). Официальный вход в дом, как представляется, располагался тогда с северной стороны, обращенной к Римскому форуму.
170
Часть I. Изложение событий
Развитие ассоциаций между правителем и его семьей не заняло много времени106. Мы уже видели «божественную семью», изображенную в 13 г. до н. э. на фризе Алтаря Мира, а более поздний этап можно наблюдать в Айнзидельнской рукописи, где зафиксированы подписи к статуям, украшавшим ворота в Тицине; эти надписи датированы 7—8 гг. н. э., когда Август получил трибунскую власть в тридцатый раз107. Не только Августу, но и членам его семьи в городах тоже воздавали почести и даже учреждали в их честь культы. Неясно, насколько сплоченной была эта семья, и даже неизвестно, жили ли все ее члены в одном месте;108 но зачатки «двора» просматриваются в пожелании Августа к младшим членам семьи посещать обеды вместе со старшими или в его рассуждениях о том, можно ли позволить юному Клавдию появляться на публике;109 имеется еще больше свидетельств относительно обучения «принцев» и другой молодежи, входившей в ближний круг принцепса110. В эпоху Республики дом выдающегося гражданина (princeps vir) никогда не являлся исключительно частным пристанищем, так что новому правителю было не привыкать жить на глазах у общества, но Август хотел, чтобы его дом (domus) служил универсальным образцом продвигаемых им ценностей.
Большая часть сведений об императорских инсигниях и церемониале111 относится к нововведениям, учрежденным уже после Августа, и еще довольно долго после его смерти идеалом оставались доступность правителя и его первенство среди равных (inter pares). Земной шар и скипетр в руках «императора», священный огонь перед «императрицей» — это составляющие той идеологии, которая породила священных и труднодоступных императоров Поздней античности; и едва ли она сформировалась ранее середины П в. н. э. И тем не менее, какие-то ее зачатки можно проследить при Августе: например, венки из дубовых листьев и лавровые венки, фигура Победы на земном шаре на монетах и других изображениях; кроме того, Август получил право в любое время носить триумфальное облачение, которое считалось одеянием самого Юпитера и включало скипетр.
Так или иначе, важнейшее значение имел церемониал в более широком смысле. Август (или кто-то другой, работавший в его интересах) был первоклассным шоуменом: он постоянно и изобретательно использовал «параллельный язык», чтобы сохранить в общественном сознании память о себе и своих достижениях. Одним из средств достижения этой цели были игры и зрелища, которые позволяли принцепсу наладить отношения с плебсом, руководить его развлечениями и наблюдать его демонстрации. Здесь Август проявил большую щедрость, добавив к традиционным
106 Началось оно с предоставления в 35 г. до н. э. трибунской неприкосновенности Ливии и Октавии, женам триумвиров.
107 EJ2 61.
108 В 25 г. до н. э., когда сгорело жилище Агриппы, Август предложил ему переселиться в свой дом (Дион Кассий. LDI.27.5); но это могло быть и временной мерой.
109 Светоний. Божественный Август. 64.3; Божественный Клавдий. 4.1—6.
110 Wallace-HadriU 1983 (В 190): 177-180; Kienast 1982 (С 136): 253-263.
111 Alföldi 1971 (F 246); Alföldi 1980 (F 247).
Глава 3. Август,: власть, авторитет, достижения
171
регулярным играм Актийские (ludi Actiaci) и Марсовы (ludi Martiales); а с
11 г. до н. э. ежегодно устраивались игры в день его рождения. Триумфы проводились, как правило, нерегулярно, а после 19 г. до н. э. их праздновали только члены «божественной семьи», что случалось достаточно редко, но Август дополнил их пышными похоронами, часто тоже включавшими игры, как то имело место при похоронах Марцелла, Октавии, Агриппы и Друза. Что же касается посмертных почестей Гая и Луция Цезарей, то их сложность и всеохватность отражены в надписях112 (которые, кстати, свидетельствуют, что такие церемонии проводились не только в Риме, но и в муниципиях и провинциях).
На протяжении правления Августа еще несколько раз начинался весьма красочный ажиотаж вокруг принцепса; и Август этим очень гордился, судя по тому, сколько внимания он уделяет этим событиям в своих «Деяниях». Когда в 19 г. до н. э. правитель вернулся в Италию, ему навстречу в Кампанию отправились сенаторы и народ, а на алтаре Фортуны Возвращающей (Fortuna Redux) были проведены соответствующие обряды. Впоследствии «возвращения» правителей стали обычным поводом для церемоний. В 17 г. до н. э. состоялись Вековые игры (ludi saeculares), в
12 г. до н. э., при невероятном стечении народа, Август был избран на должность верховного понтифика, в 7 г. до н. э. Тиберий отпраздновал полноценный триумф, затем Гай и Луций один за другим были назначены принцепсами молодежи (principes iuventutis), а кульминация настала во 2 г. до н. э., когда Август получил титул Отца Отечества (pater patriae) и посвятил храм Марса Мстителя (Mars Ultor), что сопровождалось гладиаторскими играми и надолго запомнившейся постановочной «морской битвой греков и персов». После 2 г. до н. э. творческие порывы Августа, пожалуй, иссякли, но работа продолжалась: прославились игры, проведенные в 8 г. н. э. в честь Германика и (что поразительно) Клавдия, и не следует забывать, что и Август, и Тиберий собирались праздновать полноценные триумфы после подавления Паннонского восстания в 9 г. н. э.; это памятное событие Тиберий отпраздновал 23 октября в 12 или 13 г. н. э. Так или иначе, но все эти нововведения складывались в замечательный календарь и были призваны удерживать перед глазами публики образы победы и мира одновременно.
Вклад в процесс создания образа правителя часто вносили легенды и изображения на монетах Августа. Слово «пропаганда» следует осторожно употреблять в отношении чеканки не в последнюю очередь потому, что весьма неясным и дискуссионным остается вопрос о том, на кого чеканка должна была влиять и кто решал, какие изображения и легенды на нее помещать113. Золотые и даже серебряные монеты вплоть до денария («податные деньги») (англ, «tribute money»113а) нечасто попадали в руки прос¬
112 EJ2 68—69, а также ссылки в сноске 58 наст. гл.
113 Consigliere 1978 (С 64); Sutherland 1976 (В 356); Levick 1982 (В 338); Wallace-HadrÜl 1986 (В 362).
113а Отсылка к Евангелию от Матфея: «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм... (οί τά δίδραχμα λαμβάνοντες)» (17: 24; перевод Российско¬
172
Часть I. Изложение событий
тых людей; а некоторые из наиболее известных «говорящих» типов и легенд встречаются очень редко и, видимо, чеканились крохотными выпусками, тогда как некоторые крупные выпуски, напротив, не несут на себе никакой информации. Новые монеты, вероятно, сначала поступали к войскам, так что Август стремился первым делом повлиять на них; конечно, для эпохи, наступившей после убийства Цезаря, характерно быстрое распространение ярких и драматичных, явно пропагандистских изображений на монетах, которые служили оружием триумвиров и Секста Помпея. После битвы при Акции начался новый век и некоторое время инерция сохранялась, но затем сошла на нет. «Спасение граждан» Августом, дарованные ему венок из дубовых листьев и щит добродетелей прославлялись на монетах, как и праздники, постройки и культы — Фортуна Возвращающая, Вековые игры (ludi saeculares), Аполлон Актийский, Алтарь Трех Галлий и храм Ромы и Августа в Пергаме. Коллегиальность Августа и Агриппы тоже подчеркивалась. Но единственная в официальной чеканке кампания, которую можно считать явно пропагандистской, относилась к Гаю и Луцию Цезарям (хотя успехи Тиберия в конце правления не прошли совсем не замеченными). Но, по крайней мере, чеканка Августа — как изображения на монетах, так и масштабы эмиссий — имела мировое значение: монетные дворы в Лугдуне и Немаузе, Эфесе и Пергаме явно чеканили монеты с одними и теми же целями, и образ правителя получил невероятное распространение.
Вернемся к важной теме: строительство тоже служило средством для создания образа правителя114. Облик центрального Рима изменился: всем известна похвальба Августа насчет того, что он «принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным»115, и Овидий, оправдывая холеную внешность матрон, восклицал: «Век простоты миновал. В золотом обитаем мы Риме...» [Пер. М.А Гаспарова:)116. Новшеством стала не только роскошь построек, но и их символическая связь с правителем. Впрочем, несправедливо рассматривать эту программу только в указанном контексте — рука об руку с символизмом шли усовершенствования и удобства. Теперь Рим славился канализацией и водопроводами, рынками и портиками, театрами и амфитеатрами, обновленными скаковыми дорожками, парками, банями и библиотеками, и блеск Агриппы был еще ярче от того, что он сочетал в себе прозаичность и харизму. Но если оказывалось, что работы по благоустройству не шли на пользу престижу принцепса, они быстро прекращались (а после смерти Агриппы вообще сошли на нет), так что для борьбы с некоторыми распространенными бедами плебса — потопами, пожарами и обрушениями — прилагалось не слишком много усилий.
го библейского общества (2015): «Когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмовой подати в две драхмы»), в английском переводе: «...they that received tribute money...». — C.T.
114 Ссылки см. в сноске 13 наст. гл.
115 Светоний. Божественный Август. 28.3. Как раз в это время римляне начали истюльг зоватъ каррарский мрамор.
116 Овидий. Наука любви. Ш.113.
Глава 3. Август власть, авторитет, достижения
173
О перестройке дома Августа было сказано уже достаточно, как и о его новом форуме; символы правителя и его божественного отца появились даже на Римском форуме, а храм Юпитера Громовержца на Капитолии переманил часть молящихся у самого Капитолийского божества117. Агриппа украсил центральную часть Марсова поля, а Август — северную, где построил Мавзолей, Алтарь Мира и солнечные часы. Здания возводились либо самими членами «божественной семьи», либо от их имени; что же касается республиканской традиции, согласно которой полководец, отпраздновавший триумф, украшал столицу и строил дороги «на средства от добычи» («ex manubiis»), то Август изо всех сил старался ее сохранить, и какое-то время ему это удавалось, благодаря чему в Риме появились такие важные строения, как Атрий Свободы (Atrium libertatis) Азиния Поллиона, где расположилась первая публичная библиотека в Риме, Регия, которую Гней Домиций Кальвин заново отделал мрамором, амфитеатр на Марсовом поле, построенный Титом Статилием Тавром, и большие храмы, возведенные Гаем Сосием (храм Аполлона Сосиана на Марсовом поле) и Гаем Корнифицием (храм Дианы на Авентине). Эта традиция умерла только потому, что иссякли триумфы и обеспечивавшие их независимые командования; последним крупным строением стал театр Бальба, и, что примечательно, именно Бальб последним отпраздновал полноценный триумф, не являясь при этом членом «божественной семьи».
Едва ли стоит упоминать о том, что строительство, прославлявшее правителя, велось не только в столице. Но в римском мире оно не ограничивалось постройками, возведенными за государственный счет, поскольку огромное множество зданий сооружалось по местной или частной инициативе, — так богатые жители муниципиев реагировали на стабильность «Августова мира». Однако многие идеи исходили из центра: например, были поставлены сохранившиеся до сих пор арки Августа, которые свидетельствуют о постройке дорог, городских стен и портов, а также другие дошедшие до нас сооружения — Пон-дю-Гар117а, Мезон Карре117Ь, общественные здания Мериды; этого достаточно, чтобы вообразить себе, каким к 14 г. н. э. предстал новый облик мира. На Римском форуме покоился Золотой мильный камень118, а хорографическая карта Агриппы хранилась в портике его сестры Випсании119.
Из таких элементов складывалось мощное воздействие на психологию поколения современников Августа. Они выражали согласованную идеологию — «Августов синтез», и памятники изобразительного искусства находили отражение в литературных сочинениях; суммарно все эти эле¬
117 О Римском форуме см.: Simon 1986 (F 577): 84—91; о Юпитере Громовержце см.: Zänker 1987 (F 632): 114.
117а Римский акведук во французской провинции Гар, пересекающий реку Гардон. — С.Т.
117Ь Прекрасно сохранившийся римский храм в Ниме. — С.Т.
118 Дион Кассий. LIV.8.4.
119 Страбон. П.5.17 (121С); Плиний. Естественная история. Ш.17.
174
Часть I. Изложение событий
менты можно разделить на три или четыре категории. Во-первых, это «новый век» («novum saeculum») — основа «Энеиды» Вергилия120, тема Вековых игр (ludi saeculares) и архитектурного преображения Рима. Культуры Греции и Рима в этом веке больше не враждуют, но сливаются;121 их союз символизируют Аполлон Актийский — бог, совмещавший войну с искусствами, и его Палатинский храм с библиотеками. Во-вторых, даром нового века стал «Августов мир», непременным условием которого было неустанное попечение (cura) о нем правителя, исполненного добродетелями — доблестью (virtus), милосердием (clementia), справедливостью (iusti- tia) и благочестием (pietas). Но — и это третья тема — от остальных граждан ожидалась ответная забота, стремление создать нацию, в которой мораль тверда, а семья прочна; это очевидно из «Юбилейного гимна» Горация — самого морализаторского сочинения эпохи Августа. И в числе прочих обязанностей требовалась также неизменная воинственность, ибо ради сохранения плодов побед Рима и его верховенства в мире римлянам следовало блюсти верность своей долгой истории — и это четвертая тема идеологии Августа. Именно к этому побуждали людей Триумфальные фасты и бюсты римских героев в портиках Форума Августа, триумфальные арки, возводившиеся по всему римскому миру, именно поэтому в символике данной эпохи такое значение придавалось «возвращению знамен». Слова Вергилия: «Римлянин! Ты научись народами править державно...» — это официальное отречение от эпикурейства Лукреция: «Лучше поэтому жить, повинуясь в спокойствии полном, I Нежели власти желать верховной и царского сана»122.
4. Сопротивление
Итак, «Августов синтез» — это сытная пища и пьянящий напиток; диета историка требует противопоставить ему в заключение более горькие и отрезвляющие рассуждения. Историк должен задаться вопросами: насколько успешным оказалось это тайное мастерство? В какой мере в эту эпоху наблюдаются скептицизм, неприятие режима, альтернативная идеология123, даже революционные настроения? «Сопротивление» — это актуальная ныне тема;124 сколь сильно сопротивление, скрывающееся за самоуверенной наружностью «Августова синтеза»?
Следует разграничивать политическое и идеологическое несогласие римского народа (которое мы рассматриваем в данном разделе) и сопротивление завоеванных народов римскому империализму. О последнем учеными сказано достаточно много, но здесь следует поднять только один
120 Вергилий. Энеида. VI.791—853.
121 Bowersock 1965 (С 39): гл. 10.
122 Вергилий. Энеида. VI.851 [Пер. С.А. Ошерова); Лукреций. О природе вещей. V.I.1129— ИЗО (Пер. Ф.А. Петровского).
^ D’Elia 1955 (В 41); La Penna 1963 (В 102).
124 См. сборники статей: Rppidi 1976 (А 72А); Yuge, Doi 1988 (A 111).
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
175
вопрос: как правление Августа воспринималось в греческой половине римских владений, ибо греческий мир тоже являлся миром покоренным? Правда, большая его часть была завоевана еще в эпоху Республики, и «интеллектуальная оппозиция» (изрядно избитая тема)123 * 125 выступала скорее против Рима вообще, нежели против реформ Августа — хотя именно его реформами так долго и ожесточенно возмущалась Александрия126. В целом правящие классы, на которые были направлены основные усилия Августа, радовались наступлению «Августова мира», ибо он упрочил их господство на местах, и не было недостатка в знатных семьях, жаждавших получить римское гражданство. Если они и не «сплотились в поддержке Принципата»127 128, то не сплотились и в противостоянии ему. До наших дней сохранились сочинения двух греческих интеллектуалов-эми- грантов, переселяемых из Рима в эпоху Августа: Дионисия Галикарнасского и Страбона из Амасии, и оба горячо поддерживали Принципат; если остальная часть греческого мира и относилась к нему прохладнее, то всё же не вела себя отчужденно.
Однако, возвращаясь к римской оппозиции Августу, в первую очередь
U 10Q
следует помнить, что, по всей видимости , на протяжении всего его правления случалось множество заговоров. Общеизвестно, что главы государств иногда становятся жертвами простых покушений со стороны частных лиц, но, пожалуй, великий успех Августа состоял в том, что ему удалось избежать зарождения заговора всего правящего класса, как случилось с Юлием Цезарем. Что же касается заговоров отдельных групп внутри «божественной семьи», то уже указывалось, что к некоторым сенсационным гипотезам надо относиться с осторожностью; в той мере, в какой эти заговоры существовали, они, видимо, были направлены против назначения Тиберия наследником, а затем он сам стал строить заговоры против оставшихся соперников.
Однако чаще приходится сталкиваться с явлением, которое было описано выше как отказ вести игру по правилам Августа и подчиняться его этике. В современных исследованиях подчеркивается «кризис рекрутирования» в сенаторском сословии и постоянная борьба Августа с нежеланием сенаторов приходить в Курию; в этих работах уделяется внимание и «кризису рекрутирования» в вооруженных силах в последнее десятилетие правления. И наконец, в новейших штудиях в области латинской литературы эпохи Августа уделяется внимание таким темам, как сопротивление тирании, протест против грубых требований писать панегирики и проявлять конформизм, завуалированный подрыв официальной этики и продвижение альтернативной идеологии «любви, а не войны»; судьбы Корнелия Галла, с одной стороны, и Овидия — с другой, приводятся в пример
123 Bowersock 1965 (С 39): гл. 8.
126 Отсюда — «Деяния языческих мучеников»; о фрагментах, связанных с Августом,
которые могут принадлежать к ним, см.: Musurillo 1954 (В 381): № 1; РОху 3020; РОху 2435;
verso (= EJ2 379).
127 Bowersock 1965 (С 39): 104 — автор сосредоточен на 6 г. н. э.
128 Светоний. Божественный Август. 19.1; Дион Кассий. LIV.15.1.
176
Часть I. Изложение событий
как истинные — и вызывающие содрогание — исторические символы «Августова мира».
Что касается «кризиса рекрутирования» внутри правящей элиты, то кое-что на эту тему уже было сказано выше, причем подчеркивалось различие: на высших ступенях лестницы почестей (cursus honorum) такой проблемы не наблюдалось, и никогда не возникало нехватки кандидатов на ценимые и престижные государственные должности, а вскоре в систему пожелали войти и выдающиеся провинциалы. Что касается армии, то, конечно, в моменты военных кризисов приходилось прибегать к принудительным наборам, и это доказывает, что система, разработанная Августом, была перегружена; вероятно, когда после страшного поражения Вара число легионов уменьшилось до двадцати пяти, размер войска, набранного из граждан, пришел в соответствие с перспективами набора и возможностями казны. Уже в 5 г. н. э. срок службы рядового легионера был увеличен с шестнадцати до двадцати лет, поскольку отслужившие свой срок солдаты не желали задерживаться в армии;129 это означает, что на их место стремилось не слишком много граждан. В конечном итоге военные наборы в Италии действительно стали неэффективными, но это был итог очень долгого процесса, который едва ли следует связывать с недовольством режимом Августа. В конце концов, принцепсу не пришлось повышать войскам плату, он лишь дважды раздал подарки армии и даже запретил легионерам, состоявшим на службе, заключать законные браки (iustum matrimonium)130. После его смерти северные легионы были близки к мятежу, но ни они, ни остальные войска не разбежались.
Наконец, обратимся к социальным и моральным установкам в литературе и жизни. В определенных отношениях Август предложил более жесткие стандарты, нежели те, что были привычны для правящего класса (по меньшей мере для его част). Законодательство о сексуальном поведении, браках, безбрачии и бездетности (и о прямом налогообложении римских граждан (cives Romani)!) встретило очень сильное сопротивление. С другой стороны, люди высокого общественного положения и в самом деле иногда участвовали в театральных и гладиаторских представлениях, и попытки как сената, так и Августа запретить такие выступления131 свидетельствуют о том, что элита была заинтересована в сохранении единства своего сословия и ради этого была готова вводить более жесткие нормы. Тем не менее можно понять, почему очарование этой идеи Августа разрушила именно его дочь (более, чем кто-либо еще) — откровенная и ехидная Юлия, которая полностью исполнила свою династическую задачу, но не пожелала себя ограничивать скромной семейной жизнью.
До нас дошли некоторые остроты Юлии, как и отдельные высказывания ее отца132, а также его врагов. Неверно полагать (хотя иногда так счи¬
129 Дион Кассий. LV.23.1.
130 Campbell 1978 (D 172): прежде всего 153—154.
131 Новый свет на это проливает недавно найденная бронзовая надпись из Ларина, см.: АЕ 1978: 145; см.: Levick 1983 (С 369).
132 Остроты Юлии см.: Макробий. Сатурналии. П.5; шутки Августа см.: там же. П.4.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
177
тают), что голос оппозиции каким-то образом устранили из исторических записей, поскольку мы располагаем множеством пассажей, и не только анекдотами, но и целыми рассказами основных историков, которые издатели сопровождают пометками: «[Автор] следует враждебному источнику».
А что же поэты?133 Некоторые исследователи рассматривали их как рупоры пропаганды, которую кто-то для них уже подготовил в черновом варианте и просто поручил им переложить стихами, ибо как же иначе образы в их произведениях могли бы столь точно совпадать с образами, запечатленными в памятниках изобразительного искусства? Разумеется, отношения патроната требовали «услуги за услугу», и в ту эпоху это не скрывалось: например, Витрувий вполне откровенно говорит об этом в прологе своего сочинения «Об архитектуре»134. Следует остерегаться двойных стандартов: нам нетрудно согласиться с тем, что Кринагор и Ан- типатр сочиняли эпиграммы под заказ, для «божественной семьи» и других покровителей, или что «Панегирик Мессале» или «Утешение к Ливии» написаны клиентами, но тогда почему мы сомневаемся в том, что аналогичный характер имеют патриотически окрашенные строки «Энеиды», «Римские оды» Горация, «Юбилейный гимн» или прославление римских легенд у Проперция? Тибулл никогда не принадлежал к главному поэтическому кружку — и именно поэтому мог оставаться в стороне и не поддаваться воздействию мистической силы Августа, по той же самой причине Овидий смог сыграть роль циника и «разоблачителя», тогда как Проперций шел по трудному срединному пути. Именно у Овидия и Проперция наиболее ясно показан «иной стиль жизни»: культ тайных любовных связей, тема любовной войны (militia amoris), или «любви как истинной службы», и лозунг «ни одного воина не породит моя кровь»135. Однако и среди «приближенных» поэтов были случаи отказов (recusatio), когда они изящно уклонялись от поручений: Август так никогда и не получил ни эпоса, непосредственно повествующего о его деяниях (Res Gestae) — чего он, несомненно, желал, — ни возрождения старой доброй национальной драмы136. Недавно исследователи пошли еще дальше и усмотрели скрытые смыслы даже в самих панегирических сочинениях. Не следует ли расценивать чрезмерную похвалу как своего рода намеренный перегиб? Возможно ли, что в «Энеиде» на самом деле осуждается триумфальный настрой Августа (ибо, и в самом деле, нельзя утверждать, что в этой поэме Вергилий просто наивно провозглашает триумфальные идеи)? Некоторые выводы новейших исследований можно счесть чрезмерными, но, конечно, важно помнить, что мысли и чувства выдающихся поэтов (за исключением Овидия), а также и Ливия, сформировались прежде, чем Август стал Августом, — как и его собственные мысли и чувства. Восхвале¬
133 См. ниже: гл. 19.
134 Витрувий. 06 архитектуре. Пролог. 2—3. Витрувий — единственный известный нам автор, непосредственным патроном которого был Август.
135 Проперций. П.7.14.
136 Если он действительно этого хотел, как доказывает: La Penna 1963 (В 102).
178
Часть I. Изложение событий
ние поэтами мира, единства Италии, миссии Рима, их представление о «новом веке» порождено испытаниями, которые они пережили в конце Республики и в эпоху триумвирата, а Августу, их ровеснику, повезло унаследовать эти настроения — ему не пришлось их насаждать. Возможно, все они, включая и самого Августа, со временем слишком хорошо осознали цену, которую пришлось заплатить за «Августов мир», ибо режим Августа сохранял некую жестокость, свойственную его истокам. Конечно, в «полицейских государствах», известных нам сегодня, простой народ, как и элита, живет в страхе и под давлением: в барах и жилых домах кишат доносчики, диссидентов не допускают к работе, а их детей — к образованию, митинги кроваво подавляют, популярных лидеров арестовывают. Режим Августа не имел аппарата идеологической тирании и не мог действовать столь глобально, хотя обязанность каждого провинциального наместника по «поддержанию мира» включала внимательное наблюдение за общественными собраниями, а коллегии в самом Риме и за его пределами строго контролировались. Эпизод с Эгнацием, также произошедший в Риме, показал, что правительство не намерено было терпеть популярного демагога, а в момент кризиса б г. н. э. город неустанно патрулировался.
Но, если присмотреться к атмосфере, которая царила в среде правящей элиты, сосредоточенной в политическом центре, там (особенно в конце правления Августа, хотя и ранее тоже) наблюдаются явления, которые у нас действительно ассоциируются с политикой «полицейских государств»: расширение перечня нарушений, рассматриваемых как государственная измена (что неизбежно поощряло доносительство); ссылки и изгнание без суда; нежданные вестники и вынужденные самоубийства; гонения на литературу и, что еще хуже, наказание авторов. И все это явления перешли по наследству: при преемниках Августа они являлись частью правительственной машины и время от времени использовались, когда того требовали государственные соображения.
И всё же, хотя эти явления достаточно характерны, они не были главными особенностями и даже главными недостатками режима Августа. В сочинении, которое приписывается Тациту и называется «Диалог» («Dialogus»), «оппозиционный» автор высказывает хорошо известное мнение о том, что окончание созидательного периода, — по крайней мере, в области римского красноречия, — напрямую связано с утратой свободы137. Это мнение не было бесспорным тогда138, не должно быть таковым и сейчас; но историки справедливо отмечают, что после триумфов Августа ослабевают импульсы к развитию общества. Поздняя республика быстро продвигалась вперед; правление Августа само по себе, даже если оставить в стороне его идеалы и политику, затормозило развитие и породило во
137 Heldmann К. Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst (München, 1982) VI. 1: прежде всего 271—286.
138 Это не единственная точка зрения даже в «Диалоге», а в трактате «О возвышенном» (44) она выражена в более общем виде, но отвергнута самим его автором; см.: Heldmann. Antike Theorien. VI. 2.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
179
всем обществе относительный застой. «Новый век» представляли как «возвращение ко временам Сатурна», но не как великий скачок в будущее; и, подобно греческой литературе того века, вернувшейся от «азиан- ства» к «атшцизму», изобразительное искусство вернулось от эллинистического «барокко» к спокойному классицизму и, что примечательно, даже к моде на архаический стиль139. Похоже, что в высших кругах римского мира большинство скорее радовалось этому, чем огорчалось, поскольку эти люди были заинтересованы в стабильности, а Августу приходилось обеспечивать им реализацию карьерных амбиций и социальных ожиданий; тем же, в свою очередь, приходилось откликаться на его намеки и призывы. Конечно, революция Августа не была социальной: одним из стержневых его приоритетов являлось сохранение и укрепление существующей иерархии;140 некоторые историки усмотрели главный исторический итог его правления в консолидации «рабовладельческого общества». Как бы то ни было, «новый порядок справедливо критикуют за стремление к статичности в важных вопросах»141, а стабильность — когда о ней читаешь — греет душу куда слабее, чем прочие политические достижения.
5. Оценка
Тацит дает Августу оценку в двух контрастирующих друг с другом параграфах: сперва он перечисляет то хорошее, что можно о нем сказать, а затем — дурное142. Как и многие последующие историки, Тацит был убежден, что дурное перевешивало хорошее. Тем не менее, на беду или на счастье, Тацит жил в политическом мире, главным архитектором которого был Август; и для оценки достижений последнего, к добру или к худу, необходимо рассмотреть не только условия, предшествовавшие его правлению, но и события, последовавшие за его уходом. Тогда мы увидим, что государство Августа было не воплощением детально разработанного плана, а плодом эксперимента, и впоследствии в нем многое поменялось. Также можно заметить, что уже во времена самого Августа и по его собственным критериям оценки построенная им система далеко не во всех отношениях была удачной:143 некоторые военные походы прославились больше пропагандистской шумихой, нежели реальными победами, а программа социальных реформ, вероятно, не возымела особого положительного эффекта, зато несомненно имела дурные последствия. Что же касается дальнейших перемен, то отдельные из них представляют собой настоящие сбои в работе системы. Например, цепочка династической преемственности оборвалась на Нероне, и вряд ли Август предвидел, что
139 О литературе см.: Gabba 1982 (В 57); об изобразительном искусстве см.: Simon 1986 (F 577): 110—136, с иллюстрациями.
14b Rawson 1987 (F 56).
141 Adcock //CAHX1: 606.
142 Тацит. Анналы. 1.9—10.
143 Raafiaub 1980 (С 190); см. также гл. 4 насг. изд.
180
Часть I. Изложение событий
всадники, которые займут некоторые из созданных им должностей, формально приобретут политическое влияние, и, конечно, он был бы в ужасе, если бы узнал, что политическую власть получат вольноотпущенники.
Если же на мир Тацита взглянуть сквозь призму политического мира Цицерона, то можно понять, какие структуры оставил Август римскому миру (хотя бы в общих чертах, к добру либо к худу). Во-первых, это идеология — и реальность — единоличного правителя (которому порой мог помогать коллега во власти (collega imperii)). Во-вторых, это система передачи власти и влияния кровным или усыновленным потомкам, то есть династия, а также способы максимально ранней легитимации положения избранного преемника в иерархии власти; на практике эта система порой не срабатывала, но затем снова возрождалась в общих чертах и так и не была заменена чем-то иным. В-третьих, предполагалось, что в обычных условиях должна господствовать власть закона, — ибо в целом правитель не стоял «над законом», — хотя в моменты кризисов государственные соображения зачастую слишком легко брали над ней верх144. В-четвертых, это — сохранение строгой социальной иерархии, в которой ведущая роль по-прежнему принадлежала сенату, а правящий класс империи оставался малочисленной элитой. В-пятых, со времен Республики сохранилось в неизменности правило «Правительство — без бюрократии»145, согласно которому во всей империи местное управление было доверено самоуправляющимся общинам, а императорская администрация оставалась непрофессиональной и не требовала много служащих и денег. В-шестых, низшие военные чины, напротив, занимали профессионалы. Вооруженные силы частично состояли из римских граждан, а частично — из неграждан, и тщательное планирование расходов позволяло содержать армию, способа ную — вплоть до эпохи Траяна — понемногу расширять границы римских владений, хотя в Год Четырех Императоров ей пришлось стать орудием новых гражданских войн. Наконец, было бы несправедливо не упомянуть о том, как много сделал Август для превращения Рима в грандиозную столицу империи.
Меж тем термин «достижения» подходит скорее для жизнеописания Августа, чем для оценки его места в истории; если выражаться более нейтрально, можно заменить его словами «итоги» или «последствия», и данные последствия могли иметь множество иных причин, наряду с деятельностью Августа. Он оказался на водоразделе между двумя периодами, которые мы считаем (или определяем для собственного удобства) двумя эпохами европейской истории: Римской республикой и Римской империей. Но, в конце концов, являлся ли он «архитектором» империи? Или он был просто последним «динасгом», которого породила «Римская революция»146 — процесс, начавшийся с Суллы или даже Гракхов, — и ее
144 Когда Нерон собирался убить Британника, он воскликнул: «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!» (Светоний. Нерон. 33.2. Пер. М.А Гаспарова); это доказывает, что император осознавал власть закона в тот самый момент, когда попирал его.
145 Gamsey, Salier 1987 (А 34): гл. 2.
146 См. (в разделе Библиография): А 82А.
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
181
же движущей силой, так что даже если бы при Акции победил Антоний или Август умер в 23 г. до н. э., то Римская республика рано или поздно всё равно превратилась бы в Римскую империю? Как определить особый вклад Августа в этом масштабном историческом процессе? Возможно, этот вклад состоит лишь в следующем (и тут мы вновь возвращаемся к жизнеописанию): если бы последними династами стали Юлий Цезарь или Антоний, то, скорее всего, Римская империя неизбежно образовалась бы, но выглядела бы она, судя по всему, иначе. Характерная для империи структура, в которой столь многие новые элементы прочно стояли на старых основаниях, по-видимому, была обязана своим появлением неким особенностям мышления первого правителя — мышления ограниченного, прагматичного и традиционного. В античности Августа сравнивали с большинством богов римского пантеона; сегодня нам кажется, что наиболее удачное сопоставление так и не было предложено — это сопоставление с Янусом, ибо Август вел римский мир в будущее, а взгляд его был обращен к ценностям прошлого. У Плутарха сохранилось высказывание Августа (не важно, правда это или удачная выдумка): когда кто-то сказал ему, что после всех своих завоеваний Александр не знал, что делать дальше, Август удивился: как же такое возможно, ведь обустроить империю — куда более великое деяние, чем завоевать ее147. Делом Августа было обустройство Римской империи.
147 Плутарх. Изречения царей и полководцев. 207D («το διατάξαι την υπάρχουσαν»).
Глава 4
Э.-С. Грюэн
РАСШИРЕНИЕ ИМПЕРИИ ПРИ АВГУСТЕ
Современники Августа громогласно восхваляли завоевания и империю. В «Энеиде» Юпитер предсказывает, что римская власть будет безграничной во времени и пространстве, а Анхиз, пророчествующий в подземном мире, предвидит, что Август подчинит империи самые отдаленные народы мира. Ливий называет свой город «caput orbis terrarum» [лат. — «столица мира». — Пер. Ф.Ф. Зелинского), а населяющий его народ — «princeps orbis terrarum populus» [лат. — «первый в мире народ». Пер. Г. С. Кнабе). Гораций утверждает, что величие (maiestas) империи чтят по всей земле, от одного края мира до другого1.
Эти фразы перекликаются с чувствами и выражениями, характерными для эпохи Римской республики. Для ее истории весьма характерен милитаризм. Подвигам завоевателей завидовали, их чтили и прославляли. Данные прецеденты повлияли на характер Августовой эпохи и во многом определили его. В этот период основное внимание привлекали войны, Рим раз за разом одерживал победы (или притязал на них), а посрамление внешних врагов стало главным лозунгом режима.
Успехи Августа за рубежом предполагают стремление укрепить империю, создать единую державу под римской властью2. Исследователи утверждают, что принцепс разработал всеобъемлющую военную стратегию, основанную на экономии сил и средств, которая благодаря сочетанию мобильных войск и вассальных государств обеспечивала как внутреннюю безопасность, так и стабильность на границах3.
Однако ретроспективные теоретические формулировки не отражают изменчивость ситуации. Кроме того, они упускают из виду разнообразие географических, политических, дипломатических и культурных сообра¬
1 Вергилий. Энеьда. 1.278—279; Ливий. XXI.30.10; XXXIV.58.8; Гораций. Оды. IV. 15.13—
16.
2 Cp.: Kienast 1982 (С 136): 366-370, 406-420.
3 Luttwak 1976 (А 57): 13-50.
Глава 4. Расширение империи при Августе
183
жений, которые принимал во внимание Август в ходе грандиозного расширения римского мира. Нет нужды полагать, что у принцепса имелся оформленный план империи. Его мероприятия во всех регионах Римской империи не укладываются в единообразный шаблон. Специфика ситуации в различных районах обусловливала разнообразие принимавшихся решений: иногда осторожных, подчас смелых, порой обдуманных заранее, а иной раз и спонтанных. Системный план мирового господства интересовал Августа меньше, чем планомерное выстраивание собственного образа завоевателя мира.
I. Египет, Эфиопия и Аравия
После смерти Антония и Клеопатры Октавиан остался господином Египта. Он не мог допустить, чтобы эта земля вновь ускользнула от него. Ее богатства и ресурсы в руках соперника представляли бы серьезную угрозу; кроме того, она играла важнейшую роль житницы. В 30 г. до н. э. Египет стал провинцией, но не обычной. Всю ответственность за нее Октавиан взял на себя. Для управления этой страной он назначил префекта из всаднического сословия и запретил римским сенаторам и высокопоставленным всадникам даже посещать ее без разрешения. Принцепс считал Египет особой территорией и внимательно следил за происходившими там событиями4.
Префект Египта контролировал сбор налогов в условиях сильно централизованной фискальной системы, отправлял правосудие и командовал тремя легионами и вспомогательными войсками, размещенными в этой стране5. Такого войска, по-видимому, было достаточно для обеспечения безопасности и укрепления римской власти.
Однако Октавиан не удовлетворился присоединением Египта. Первый назначенный им префект Египта, Гай Корнелий Галл, поэт и военачальник, с самого начала стремился к экспансии. Он подавил восстания в Ге- роонполе, к востоку от Дельты, и в Фиваиде. Эти операции были целесообразны и вполне ожидаемы. Но Галл не намерен был на этом останавливаться. Он повел войска на юг, за первый порог Нила, куда, по его словам, никогда прежде не вступала ни римская, ни египетская армия. Галл встретился с послами царя Эфиопии, принял царя под свое покровительство и посадил на трон динасга в Триаконгасхене — области, которая, очевидно, должна была служить буферной зоной между Египтом и Эфиопией. Всё это свершилось не позднее весны 29 г. до н. э., когда Галл, чтобы воссла¬
4 Тацит. Анналы. П.59; История. 1.11; Дион Кассий. II. 17.1—3. См. новые исследования, с библиографией: Geraci 1983 (Е 924): 128—146; Geraci 1988 (Е 926) — автор справедливо оспаривает мнение, будто Август обращался с Египтом как с «частным заповедником». Египет считался одной из провинций, приносивших Риму доходы: Веллей Патеркул. П.39.2; Страбон. ХУП.1.12 (797 С); Тацит. Анналы. XV.36; Huzar 1988 (С 277): 370-379.
5 О его полномочиях см.: Geraci 1983 (Е 924): 163—176; Huzar 1988 (С 277): 352—362 и Далее: гл. 14Ь.
184
Часть I. Изложение событий
вить свои подвиги, воздвиг трехъязычную надпись на латинском и греческом языках, а также иероглифическим письмом6. Склонность префекта Египта к самовосхвалению в конце концов оказалась для него роковой. Он приказал поставить свои изображения по всему Египту и даже на пирамидах вырезать сообщения о своих победах. Следствием подобной дерзости (hybris), якобы отягощенной множеством других проступков, стала его отставка, объявление Августа о расторжении дружбы с ним («renuntiatio amicitiae»), привлечение Галла к суду, осуждение и, наконец, самоубийство, — возможно, в 26 г. до н. э.7. Но все предъявленные ему обвинения не содержали никаких протестов против того, что Галл расширил римское владычество за пределы первого порога Нила и принял вассальные обязательства эфиопских правителей. Возможно, Августу не нравилось, что его префект слишком настойчиво ставил римскую экспансию в заслугу лично себе, но экспансионизма принцепс не отвергал. Возведение на трон правителя-клиента и принятие эфиопского царя под римское покровительство импонировало гордости Августа и, вероятно, было закономерным следствием его политики.
Намерения принцепса становятся еще яснее, если рассмотреть политику следующего префекта — Элия Галла. Превосходное свидетельство о ней принадлежит Страбону, другу и доверенному лицу последнего. Август поручил своему префекту исследовать население и топографию Эфиопии и изучить положение дел в Аравии. Этот план являлся прелюдией к вторжению Галла в Счастливую Аравию7а — страну сабеев в северо-западном углу Аравийского полуострова. От Августа не ускользнули экономические выгоды: сабеи были главными поставщиками или посредниками в прибыльной торговле восточными специями, драгоценными камнями и благовониями. Возможно, вторжение Галла потребовалось, чтобы обеспечить более широкое участие Рима в этих поставках. Но данное предприятие было частью более обширного плана. И Аравию, и Эфиопию предстояло подчинить власти Рима, и первым шагом на этом пути должно было стать покорение сабеев. Август рассчитывал либо принудить их к союзу, либо включить в перечень побежденных противников8.
Но предприятие Элия Галла окончилось провалом, и план Августа не осуществился. В ходе долгого и ненужного морского перехода из Арси- нои в 26 или 25 г. до н. э. потерпело крушение много кораблей. Положение еще более осложнилось, когда из Левке Коме войска отправились пешим маршем во внутреннюю Аравию; дорога до Мариба, главного города сабеев, заняла шесть месяцев. По пути римляне одержали победы (во вся¬
6 ILS 8994, 8995; Ограбон. XVIL1.53 (819 q.
7 Дион Кассий. ТТЛ.23.5—7; Светоний. Август. 66.
7а См. сноску 11а наст. гл. — О. Л.
8 Страбон. П.5.12 (118 С); XVI.4.22 (780 С); ХУП.1.53-54 (819-821 С); о хронологии и мотивах похода Элия Галла см.: Jameson 1968 (Е 939); cp.: Bowersock 1983 (Е 990): 46—47; Sidebotham 1986 (С 311): 592-593; Sidebotham 1986 (С 310): 120-124, 138-140; Desanges 1988 (С 263) I: 4—7. О римской торговле на Востоке см.: Raschke 1978 (С 298): 650—676; Schmitthenner 1979 (С 306): 104-106.
Глава 4. Расширение империи при Августе
185
ком случае, об этом сообщалось), но болезни и смерти сократили их численность. А осада Мариба закончилась неудачей: все военные действия пришлось прекратить из-за нехватки воды. Униженные римские легионы отправились обратно через пустыню, вновь пересекли Красное море и вернулись в Александрию. Небеспристрастные античные авторы сделали всё возможное, чтобы утаить этот позор. В «Деяниях Божественного Августа» говорится лишь об экспедиции в Аравию, в страну сабеев и к городу Мариб. О ее исходе не сообщается ни слова. А Страбон хоть и не скрывает неудач, но обвиняет в них предателя Силлея — набатейского посланника, который якобы неверно направил римскую экспедицию и сорвал ее9. Однако ответственность лежала на Элии Галле, а возможно, и на Августе.
Впрочем, принцепс не пожелал отказаться от своего плана. Аравия больше не казалась притягательной, но Эфиопия всё еще его манила. Август назначил новым префектом Египта Публия Петрония, и в 25 или 24 г. до н. э. тот возглавил вторжение, почву для которого подготовил Элий Галл. По версии Страбона, агрессорами выступили эфиопы: они пересекли первый порог Нила и напали на города Сиену, Филы и Эле- фангину, чем навлекли на себя возмездие Петрония. Это может соответствовать действительности: эфиопы, вероятно, знали, что им предстоит стать следующей жертвой, и, таким образом, опередили Рим, воспользовавшись временным отсутствием римских войск (которые находились в Аравии с Элием Галлом). В ответ Петроний нанес решительный и успешный удар. Его войска изгнали эфиопов с оккупированных земель, вытеснили врагов далеко в глубину их собственной территории, возвратили захваченные эфиопами города и трофеи и проникли до самой Напаты (главного города в северной части царства), взяли ее штурмом и разрушили. Только непроходимый рельеф местности помешал римлянам продвинуться дальше. Эта военная кампания была гораздо значительнее, чем просто операция возмездия. Петроний поставил гарнизон в Примисе между первым и вторым порогами Нила, отправил эфиопских пленных Августу как символ нового завоевания и обложил этот народ данью в знак его подвластности Риму.
Через год или два эфиопы под предводительством решительной царицы Кандаки попытались вырваться из-под ярма: нападение на гарнизон Примиса вынудило Петрония срочно прибыть из Александрии. В результате второй войны в 22 г. до н. э. римское владычество было быстро восстановлено, Кандака запросила мира, и Петроний отправил ее послов к принцепсу на Самос, где тот великодушно освободил их от дани10.
9 Деяния Божественного Августа. 26.5; Страбон. XVI.4.23—24 (780—782 С); XVTL1.53 (819 С); von Wissmann 1978 (С 326): 313-318; Isaac 1980 (E 1015): 889-901; Bowersock 1983 (E 990): 46—49; Sidebotham 1986 (С 311); 1986 (С 310): 124-130; Desanges 1988 (С 263): 7-12.
10 Страбон. XVII.1.53—54 (819—821 С); Дион Кассий. LIV.5.4-6; Плиний Старший. Естественная история. VI. 181; см.: Jameson 1968 (Е 939): 72—76, 79—82; Török 1988 (Е 976): 275—279. Об имени Публия Петрония см.: Bagnall 1985 (Е 889). Дополнительную библиографию см.: Burstein 1988 (С 258): 16—20, где утверждается, что первым на эфиопов на-
186
Часть I. Изложение событий
После этого между Римом и Эфиопией установились мирные отношения. Кампании Петрония обезопасили южные границы Египта и сделали их почти неуязвимыми для внешних угроз. Но он не ограничился оборонительной операцией. Римский протекторат распространялся теперь на Додекасхен — территорию между первым и вторым порогами Нила. И Август в «Деяниях» похвалялся тем, что завоевал земли вплоть до На- паты: римская власть уже почти достигла границ великого эфиопского города Мероэ11.
Неудачный поход Элия Галла сорвал римские планы относительно Счастливой Аравии. Но к набатейским арабам Август не утратил интереса и даже вмешивался во внутренние дела этого царства11а. Вследствие интриг и соперничества между набатейцами и государством Ирода Великого в Палестине принцепсу постоянно приходилось заслушивать и разрешать их взаимные претензии. Некоторое время Август подумывал присоединить набатейцев к царству Ирода, но вместо этого около 8 г. до н. э. решил утвердить на троне Набатейского царства Арету IV. Однако после смерти Ирода Великого в 4 г. до н. э. Рим, возможно, и в самом деле ненадолго аннексировал Набатею и управлял ею напрямую, а затем вновь передал Арете. Последнее мероприятие можно связывать с походом Гая Цезаря, внука принцепса, в 1 г. н. э.: в Аравии или на ее границах он осуществил военную операцию, в результате которой, возможно, Аре- та вновь стал царем Набатеи и клиентом Рима12. Август следил за событиями на Ближнем Востоке и позаботился о том, чтобы укрепить римское влияние в этом регионе.
II. Малая Азия
Греческий Восток был главной опорой Антония. Но битва при Акции и самоубийства Антония и Клеопатры в следующем году полностью нарушили сложившийся баланс. Правители и династы эллинистического мира столкнулись с кризисом. Поддержка, оказывавшаяся Антонию, прежде служила источником их влияния, а теперь навлекала на них опасность. Новый порядок на Востоке складывался в условиях владычества
дожил дань Корнелий Галл, а освобождение от нее, предоставленное Августом, знаменовало отказ от его наступательной политики в этом регионе.
11 Деяния Божественного Августа. 26.
11а В античности Аравийский полуостров делили на Набатейскую (Петрейскую) Аравию на северо-западе, Счастливую Аравию — на юге и Пустынную (Великую) Аравию — на востоке и в центре. — О. А
12 Плиний Старший. Естественная история. П.168; VI. 160; Страбон. XVI.4.21 (779 С) плюс анализ этого пассажа: Bowersock 1983 (Е 990): 53—56; cp.: Römer 1979 (С 301): 204— 208; Sidebotham 1986 (С 310): 130—133. О Набатейском царстве в этот период см.: Negev 1978 (С 292): 549—569. Военные победы Гая прославляются в надписи: ILS 140, стк. 9—12; Ер 69.
Глава 4. Расширение империи при Августе
187
Октавиана, и поэтому правители встревожились и быстро начали переходить на его сторону.
Однако Октавиан прекрасно понимал, что не следует полностью ниспровергать старый порядок. Властители, успевшие накопить немалый опыт и влияние, могли сослужить важную службу для сохранения стабильности в греческом мире. Они требовались, чтобы подтверждать милосердие победителя, создавать у подданных отрадное ощущение преемственности и демонстрировать им, сколь выгодно хранить верность новому режиму13.
Октавиан подтвердил право Полемона, в прошлом сторонника Антония, на трон Понта. Позднее царь был официально признан другом и союзником Рима14. Ему пришлось отказаться от Малой Армении, но лить потому, что Октавиан пожелал отдать ее другому бывшему стороннику Антония — Артавазду Армянскому15. Полемон верно и преданно сотрудничал с режимом Августа. Когда в Боспорском царстве вспыхнуло восстание во главе с неким узурпатором по имени Скрибоний, Агриппа, следивший из Сирии за соблюдением интересов Рима на Востоке, в 14 г. до н. э. поручил Полемону восстановить порядок. Полемон выполнил задание, хотя ему пришлось использовать войска Агриппы для устрашения мятежников. Затем властитель Понта с одобрения Августа женился на Динамии, вдове Скрибония, которая ранее была замужем за предыдущим боспорским царем (по имени Асандр. — О.Л.), и прибавил Боспорское царство к собственным владениям16. Августу явно по душе было объединение царских домов и царств: это позволяло ему удерживать в повиновении обширную территорию под властью испытанного правигеля-клиен- та. Однако этот брак скоро распался. Динамия вернула себе власть над Боспором, а Полемон нашел новую невесту — Пифодориду из Тралл, и вражда между царствами возобновилась. В 8 г. до н. э. Полемон пал в сражении, пытаясь вновь захватить Боспорское государство; его жена Пи- фодорида унаследовала власть над Понтом17. Август оставался над схваткой, надеясь, что положение стабилизируется без его вмешательства. Динамия была признана другом и союзником римского народа. Принцепс предпочитал поддерживать существующие режимы, а не подрывать их и не расшатывать. Династические связи между Понтом и Боспорским царством разрушились, но между Понтом и Каппадокией укрепились, когда Пифодорида, вдова Полемона, вышла замуж за Архелая Каппадокийского, соединив таким образом два царства18. За этим союзом, несомненно,
13 См. далее, гл. 14а наст. изд.
14 Страбон. ХП.8.16 (578 С); Дион Кассий. ПП.25.1.
15 Дион Кассий. IIV.9.2.
16 Дион Кассий. UV.24.4—6.
17 Страбон. XI.2.11 (495 С); ХП.3.29 (556 С); Hoben 1969 (Е 840): 47-53; Sullivan 1980 (Е 879): 915-922; Roddaz 1984 (С 200): 463-468.
18 Страбон. ХП.3.29 (556 С), 3.37 (559^-560 С); Pani 1972 (С 295): 140-142; Cimma 1976 (D 120): 293, примеч. 8.
188
Часть I. Изложение событий
тоже стоял Август, стремившийся к тому, чтобы объединить царские дома Анатолии, которые заменяли в этом регионе римский протекторат.
Архелай, ставленник Антония, сохранил трон благодаря милости Цезаря Октавиана. Более того, вскоре он с одобрения римлян расширил свои владения. К 20 г. до н. э. Архелай присоединил Киликию Трахею, некоторые части побережья и Малую Армению; таким образом создавался более надежный щит против Йарфии19. Внутренняя политика царя была не так успешна, и некоторые из его подданных выдвинули в Риме обвинение против него, однако тщетно20. А в какой-то момент Августу пришлось назначить в Каппадокию опекуна21. Однако благодаря своим связям и интригам Архелай продержался на троне до конца правления Августа22.
Дейотар Филадельф правил Пафлагонией с одобрения Антония, но при Акции перешел на другую сторону и заслужил благодарность победителя. Октавиан подтвердил его полномочия23. Возможно, позднее к царству были присоединены некоторые части Фаземонитиды. Дейотар без помех оставался у власти до своей смерти в 6 г. до н. э.24.
Аминта, царь Галатии, тоже перебежал на другую сторону перед битвой при Акции и извлек из этого выгоду. Он остался властителем своей страны и получил новые территории в Писидии, Ликаонии, Исаврии и Киликии Трахее25. Вместе с новыми владениями Аминта приобрел и новые обязанности: он взялся за покорение чрезвычайно свободолюбивых и беспокойных горных племен, укрывавшихся в горах Тавра и угрожавших южным окраинам Галатии. До определенного момента царь действовал очень успешно и захватил несколько горных крепостей. Но местность благоприятствовала партизанам. Аминта попал в плен к грозному племени гомонадов и в 25 г. до н. э. был казнен26. Ответные меры Августа были быстрыми и решительными. Он не мог потерпеть в Центральной Анатолии вакуума, который стал бы притягивать мародеров или повстанцев. Галатия была присоединена к Риму как провинция. Кроме собственно Галатии, этот регион включал в себя Исаврию, Писидию, Ликаонию и часть Памфилии. Теперь он оказался под властью римского наместника27. Нелегко разгадать, почему Август так резко переменил свою полити¬
19 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 105; Ограбон. ХП.1.4 (535 С), 2.7 (537 С), 2.11 (540 С); XIV.5.6 (671 С); Дион Кассий. UV.9.2; Hoben 1969 (Е 840): 182-187.
29 Светоний. Тиберий. 8; Дион Кассий. LVH.17.3; Pani 1972 (С 295): 107—111.
21 Дион Кассий. LVn. 17.4—5. (Дион Кассий связывает назначение опекуна над Каппадокией с душевной болезнью царя Архелая. — О.А) Возможно, это произошло во время суда над Архелаем; Römer 1985 (С 302): 76—84.
22 Cp.: Pani 1972 (С 295): 131-145; Sullivan 1980 (Е 880): 1149-1161; Römer 1985 (С 302): 84-100.
23 Страбон. ХП.3.41 (563 С).
24 Magie 1950 (Е 853): 1283-1284.
25 Страбон. ХП.6.3—5 (569 q; XIV.5.6 (671 С).
26 Magie 1950 (E 853): 1303-1304; Levick 1967 (E 851): 26-28; Hoben 1969 (E 840): ISO- 138.
27 Дион Кассий. IJn.26.3; Страбон. ХП.5.1 (567 С), 6.5 (569 С), 8.14 (577 С); Levick 1967 (Е 851): 30-32.
Глава 4. Расширение империи при Августе
189
ку. У Аминты были сыновья, но принцепс пренебрег их притязаниями. Опрометчиво было бы предполагать, что у него имелся долгосрочный и осознанный план по превращению клиентских государств в провинции, как только назначенные им правители подготовят их для поглощения. Таким путем нельзя было обрести славу расширителя империи — ее приносило лишь завоевание. Представляется более вероятным, что это было решение ad hoc [лат «для данного случая»). Смерть царя от рук мятежных племен создала угрозу для всего региона и поставила под вопрос эффективность римского протектората. Август решил продемонстрировать, как выглядит прямое правление Рима. Новая провинция включала в себя несколько военных колоний, выведенных Августом в Писидию. Присоединение Галатии позволило укрепить власть Рима над этой территорией, принудить непокорных горцев к повиновению и обеспечить опору для зависимых правителей Понта, Пафлагонии и Каппадокии, как и для провинций Вифиния и Азия.
Август не проводил целенаправленной политики по превращению зависимых царств в провинции. Более того, часть Киликии Трахеи он отделил от Галатии и передал ее Архелаю, верному правителю Каппадокии28. Когда требовали обстоятельства, он мог изменить свои распоряжения и соответственно переустроить территорию. Смерть Дейотара Фила- дельфа в 6/5 г. до н. э. позволила присоединить его страну к провинции Галатия. Еще через три года к этой провинции была добавлена новая область — Понт Галатский29. В сохранившемся тексте присяги из Гангры хорошо видны особенности нового порядка: жители клялись в верности Августу и называли его имя в числе богов и богинь, перед лицом которых произносилась клятва30. Решения римских властей относительно Малой Азии, видимо, представляли собой скорее импровизацию, нежели продуманный план. Гомонады лишили жизни Аминту и дали импульс для превращения его царства в провинцию. Но римские наместники Галатии, которых стали назначать с 25 г. до н. э., не предпринимали войн против этого племени в течение двух десятилетий. Вероятно, в этот период племя вело себя спокойно. Можно сделать вывод, что Август приказал перейти в наступление лишь после того, как гомонады вновь нарушили мир. Вероятно, около 5—3 гг. до н. э. легат Публий Сулышций Квириний возглавил армию и начал долгую и нелегкую войну против горцев, постепенно покоряя их крепости и беря измором защитников31. Через несколько лет внимания римлян потребовало еще одно восстание: в 6 г. н. э. вызов их власти бросили мятежные исавры, и пришлось их усмирить. Теперь провинция действительно была замирена32.
28 Страбон. XIV.5.6 (671 С); Дион Кассий. UV.9.2.
29 Magie 1950 (Е 853): 465-456, 1328-1329; Sherk 1980 (Е 875): 960-961.
30 OGIS 532.
31 Страбон. ХП.6.5 (569 С); Тацит. Анналы. Ш.48.2. Левин усматривает в действиях Августа долгосрочный план, см.: Levick 1967 (Е 851): 32—41; ср.: Ibid.: 203—214.
32 Дион Кассий. LV.28.3; Sherk 1980 (Е 875): 970.
190
Часть I. Изложение событий
В городах и небольших уделах в других областях Малой Азии правили мелкие динасгы. Некоторые из них поддержали Антония, за что были смещены, другие остались на своих местах. Но даже если Август низлагал динасга, позднее он мог реставрировать династию. Он сохранил тирании в Мизии, Каранитиде и Амасии и в Боспорском царстве, лишил власти правителей Иераполя Кастабалы (в Киликии Педиаде) и Ольбы (в Киликии Трахее), но позднее восстановил эти правящие дома. В Комане Понтийской он сместил одного сторонника Антония и назначил на его место другого. Таре, где Октавиан заменил клиента Антония собственным приверженцем, представлял собой скорее исключение, нежели правило. А в Коммагене Август несколько раз изгонял династов, прежде чем вернуть эту область прежнему правящему дому33. Вполне очевидно, что эти распоряжения имели ситуативный характер. После Акция кое-что изменилось, а некоторые династии прервались. Но в целом Август предпочитал оставлять на местах прежних правителей или возвращать власть прежним правящим домам, которые обладали опытом и могли обеспечить стабильность.
III. Иудея и Сирия
В Сирии располагалась главная военная база Рима на Востоке. Там стояло три, а позднее четыре легиона; это была демонстрация силы, адресованная Парфии, и гарнизон, который в случае нужды мог отправиться в Малую Азию или Палестину. Здесь принцепс стремился не к экспансии, а к поддержанию порядка и укреплению власти. Приоритет имела внутренняя безопасность.
Сирия стала римской провинцией после завоевательных кампаний Помпея в 60-х годах до н. э. и с тех пор оставалась центром, из которого осуществлялась восточная политика. Конечно, в 30-е годы ее контролировал Антоний, и вскоре после падения соперника Октавиан постарался утвердить здесь свое господство. Квинт Дидий, наместник Сирии, был в числе тех, кто вовремя перешел на сторону Октавиана после Акция, а на исходе 30 г. до н. э. сам Октавиан провел некоторое время в Сирии. Его присутствие само по себе подчеркнуло важность этой территории34. Согласно урегулированию 27 г. до н. э., на Августа была возложена формальная ответственность за провинцию Сирия и, следовательно, за оборонительную систему Рима на Востоке. Принцепс бдительно следил за этим регионом с помощью назначаемых им должностных лиц. Римские войска подавили восстание итуреев в Ливане; контролировать эту область помогала лояльность мелких династов, таких как Дександр из Апа-
33 Ссылки на источники и их анализ см.: Bowersock 1965 (С 39): 46—51, 57—58. О Коммагене см.: Sullivan 1977 (Е 878): 775—783.
34 Дион Кассий. LI.7.1—2; II. 18.1.
Глава 4. Расширение империи при Августе
191
меи35. В 23 г. до н. э. Август поручил своему главному помощнику Марку Агриппе общее руководство Востоком с базой в Сирии, и эту должность тот исполнял десять лет, хотя по преимуществу заочно («in absentia»), через доверенных легатов на местах36. Такие же обязанности исполнял, видимо, и Гай, внук Августа, во время своей восточной экспедиции около 1 г. до н. э., что подтвердило важнейшее значение Сирии для владычества Рима на Востоке37.
На сирийских флангах Август полагался на зависимых правителей, чьи государства должны были служить буферными зонами и смягчать удары по провинции. Маленькие царства Эмеса и Итурея обеспечивали защиту от племен бедуинов, обитавших в пустыне38. А власть над большей частью Палестины была доверена выдающемуся деятелю — Ироду Великому.
Пространные свидетельства Иосифа Флавия позволяют разглядеть мероприятия Ирода подробнее, чем дела всех остальных зависимых правителей. Поэтому Ирод стал правителем-клиентом par excellence (фр. «в полном смысле слова»), образцовым примером взаимоотношений Рима с вассальными царями.
По происхождению Ирод был наполовину идумеем, наполовину иудеем и получил величайшие милости от Антония, который подтвердил и укрепил его власть. Ирод непоколебимо поддерживал Антония вплоть до самой битвы при Акции. При Акции Ирода не было — он был занят войной с набатеями. Но для Ирода, как и для многих других, эта битва стала поворотным пунктом. У него не было никакой возможности сделать вид, будто прежде он просто скрывал симпатии к Октавиану. В 30 г. до н. э. Ирод отыскал Октавиана на Родосе и избрал самую прямую линию самозащиты: он предложил победителю Антония ту самую непоколебимую верность, которую ранее хранил по отношению к Антонию, и заявил, что ему можно доверить интересы Октавиана, которые он станет блюсти как свои собственные. Октавиан признал подобные отношения взаимовыгодными, подтвердил царский титул Ирода и присоединил к его владениям побережье, Самарию, Десятиградье и окрестности Иерихона. Ирод продемонстрировал лояльность, посетив Октавиана в Египте и проводив римлянина в обратный путь до самой Антиохии39. События 30 г. до н. э. стали образцом взаимоотношений принцепса и зависимого царя.
Ирод выполнил и перевыполнил свои обязательства. Около 26 г. до н. э. он предоставил солдат для кампании Элия Галла в Аравии, заново
35 Об усмирении итуреев см.: ILS 2683; о Дександре и положении дел в целом см.: Rey-Coquais 1978 (Е 1054): 47-49.
36 Дион Кассий. ТШ-32.1; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVI.3.3.
37 Орозий. VII.3.4. Свидетельства о римских наместниках в Сирии при Августе см.: Schürer 1973 (Е 1207): 253-260.
38 По-видимому, Август низложил, а затем вновь реставрировал династию в Эмесе, см.: Sullivan 1977 (Е 1065): 210-214.
39 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 183—201, 218; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.386-397.
192
Часть I. Изложение событий
основал и переименовал свои города в честь Августа, в 23 г. до н. э. отправил двоих из своих сыновей в Рим на обучение и приказал подданным поклясться в верности императору40. Из этого царь извлек выгоду. В течение десяти лет после битвы при Акции Август удвоил территориальные владения царя: в 23 г. до н. э. дружба Ирода с Марком Агриппой, зятем и главным помощником Августа, еще сильнее повысила его статус (Агриппа женился на дочери Августа только в 21 г. до н. э., в 23 г. он был мужем его племянницы. — О.Л). Царь организовал для Агриппы тщательно продуманное путешествие и роскошный прием, когда тот находился в его землях в 15 г. до н. э., и оказал римлянину множество услуг, когда он отправился в Малую Азию41. Однако чем теснее связи, тем сильнее зависимость. Царство Ирода, видимо, не платило Риму подать42. Оно несло менее явные и определенные, а потому в каком-то смысле более тяжелые обязательства. Август возложил на Ирода некоторые обязанности по контролю над Сирией, и царь Иудеи, несомненно, должен был координировать свои действия с легатом принцепса в этой провинции43. Кроме того, Ирод получил право назначить своего преемника44. Прин- цепс, вероятно, задумывал этот жест как знак уважения и способ поощрить самостоятельность царя. Но тот факт, что подобное право требовалось прямо озвучивать, наиболее красноречиво свидетельствует об истинных взаимоотношениях Ирода с Августом. В результате зависимость лишь укрепилась. Ирод не раз обременял Августа просьбами о разрешении конфликтов, возникавших в царской семье. Здесь нет нужды подробно излагать грязную историю о придворных интригах, домашних раздорах и патологической подозрительности Ирода, которые закончились казнью трех его сыновей. Важно, что Ирод отказывался разрешать даже внутренние проблемы собственной семьи, не запросив указаний императора. Его правление стало долгим и памятным, но всегда оставалось непрочным. Конфликт между Иродом и набатеями привел к взаимным
40 О войсках для Элия Галла см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.317; о городах с названиями Себаста и Кесария см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.296, 339; об отправке сыновей в Рим см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.342; о клятве на верность см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVH42.
41 О территориальных приобретениях см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.343—348, 360; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.398—400; Дион Кассий. LIV.9.3; ср.: Bietenhard 1977 (Е 988): 238—240. Об Ироде и Агриппе см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.350, XV.361; XVI. 12—16, 86; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.400. Cp.: Schalit 1969 (Е 1206): 424-426; Smallwood 1976 (Е 212): 86-90; Braund 1985 (С 254): 79-80, 85; Roddaz 1984 (С 200): 450-455.
42 Это доказывает Шюрер, см.: Schürer 1973 (Е 1207) I: 399—427; противоположное мнение см.: Applebaum 1977 (Е 1074): 373. Однако следует отметить, что, когда Ирод посетил Рим в 12 г. до н. э., он подарил Августу крупную сумму денег, см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVI. 128.
43 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.360; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.399.
44 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV.343; XVI. 129.
Глава 4. Расширение империи при Августе
193
обвинениям в Риме, а царь то терял расположение Августа, то вновь возвращал его45.
Завещание Ирода, которое он при жизни переписывал дважды, после смерти царя-идумея в 4 г. до н. э. побудило Августа еще глубже вмешаться в дела его страны. Согласно этому документу, держава Ирода была разделена между тремя его сыновьями. Но завещание также предусматривало выплату крупных денежных сумм Августу, Ливии, детям, друзьям («amici») и вольноотпущенникам императора и, кроме того, устанавливало, что ни один из этих пунктов не вступит в силу без одобрения прин- цепса46.
Таким образом, право Ирода назначить себе преемника из директивы превратилось в рекомендацию; последнее слово принадлежало Августу. Эта оговорка вызвала разногласия. Сыновья Ирода направили в Рим несовместимые притязания; проблему осложнила особая делегация иудеев, требовавшая отменить монархию. Август принял беспристрастное решение: он утвердил территориальные распоряжения Ирода и действительно разделил его страну на три части, но отказал его сыновьям в царском титуле. Архелай должен был править Иудеей, Самарией и Идумеей в качестве этнарха, Антипа и Филипп получили титулы тетрархов: первый — в Галилее и Иерее, второй — в Батанее, Трахонитиде и Авранитиде. Завещание Ирода и события после его смерти позволили Августу не только оказать милость сыновьям царя, но и вновь доказать, что в конечном счете власть принадлежит императору47. Кроме того, главный представитель принцепса на Востоке — Публий Квинтилий Вар, наместник Сирии, — применил военную силу для подавления восстания иудеев, вспыхнувшего вследствие смерти Ирода. Стало гораздо понятнее, где заканчивается автономия Иудеи48.
То, что Август дал, он мог и забрать назад. В правление Ирода прочно укоренился обычай жаловаться императору на обиды, нанесенные жителям Палестины. В 6 г. н. э. последовал логичный шаг. Жалобы, поданные в Рим на злоупотребления Архелая, побудили Августа низложить сына Ирода, сослать его в Галлию и превратить его владения в римскую провинцию. Более мелкие уделы, которыми правили Антипа и Филипп, остались «автономными», но самые важные области — Иудея, Самария и Идумея — попали теперь под прямую римскую власть: ими управлял префект из сословия всадников, а общий надзор осуществлял императорский легат Сирии. В 6 г. н. э. новый порядок был ознаменован
45 Smallwood 1976 (Е 1212): 96-104; Schürer 1973 (Е 1207): 320-326; Schallt 1969 (Е 1206): 563—644; Bammel 1968 (Е 1083): 73-79; Piatelli (Е 1189): 323-340; Bowersock 1983 (Е 990): 49—53; Baumann 1983 (Е 1091): 221—237; и см. далее, гл. 14d наст. изд.
46 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVII. 146; ХУП. 188—190, 195; Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.646, 664-665, 669.
47 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIL219—249, 300—323; Иосиф Флавий. Иудейская война. П.14-38, 80-100; Braund 1984 (С 254): 139-142.
48 Иосиф Флавий. Иудейские древности. ХУП.250—299; Иосиф Флавий. Иудейская война. П.39-79.
194
Часть I. Изложение событий
цензом, который провел Публий Сульпиций Квириний, легат Сирии. Ценз означал введение римских податей и официальное подчинение Иудеи Риму49.
Для политики Августа в Сирии и Палестине была характерна скорее консолидация, нежели экспансия. В Сирии стоял главный римский гарнизон на всем Востоке — она служила опорным пунктом для защиты римских позиций и укрепления римской власти. История Иудеи при Августе показывает, сколь непрочна была «независимость» вассальных государств, служивших буферами для римских интересов. Ирод приобрел благосклонность императора тем, что более тесно связал с ним свою страну; тем самым он укрепил собственную власть, но увеличил зависимость. Превращение зависимого царства в провинцию стало естественным этапом развития. Налогообложение и прямое правление лишь придали оформление длительному процессу становления римской власти на Востоке.
IV. Армения и Парфия
Марк Антоний вложил много сил в войну с Парфией. Противоборство с великой восточной державой привело к гибели многих людей и падению престижа Рима. Парфия нанесла поражение римским армиям, а влияние Рима в Армении оказалось призрачным. Это унижение оставило глубокие шрамы. Знамена республиканской армии, захваченные при Каррах, и пленные, взятые в ходе неудачных кампаний Антония, оставались в руках парфян50. После смерти Антония обязанность восстановить римскую честь легла на победителя при Акции. Но Октавиан поборол искушение отплатить парфянам. После битвы при Акции на первый план вышли более срочные задачи укрепления власти. И эта сдержанность стала его принципом: император признал, что благоразумная дипломатия и ограниченная демонстрация силы предпочтительнее дорогостоящих и опасных походов за далекий Евфрат. Непрямой сюзеренитет в Армении и сосуществование с Парфией позволяли сохранить престиж и обеспечить безопасность.
Октавиан с самого начала относился к Парфии с осторожностью. Как это часто случается, парфянские правящие дома раздирала династическая борьба. Еще перед битвой при Акции и царь Фраат IV, и претендент на его престол Тиридат пытались заручиться поддержкой Октавиана. Октавиан мудро воздерживался от всякого вмешательства. После битвы при
49 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVÜ.342—344; XVTL354—355; Иосиф Флавий. Иудейская война. П.111—113, 117; Дион Кассий. LV.27.6; Pani 1972 (С 295): 133—137. В Евангелии от Луки (2: 1—5) ценз Квириния неверно датирован правлением Ирода. О новой провинции см.: Smallwood 1976 (Е 1212): 144—156; Ghiretti 1985 (Е 1119): 751—766.
50 Об Антонии и Парфии см. выше, гл. 1 наст. изд.
Глава 4. Расширение империи при Августе
195
Акции, когда Фраат изгнал своего соперника, Тиридат попросил убежища в римской провинции Сирия. Октавиан позволил ему там жить, рассматривая его как полезную карту в дипломатической игре с Парфией, а на официальном уровне поддерживал дружеские отношения с Фраатом51. Отклонил он и просьбу армянского правителя Артавазда о возвращении его братьев, которые удерживались в Риме в качестве заложников. Они тоже могли послужить гарантией сотрудничества царя Армении и потенциальным противовесом ему. А Артавазда Мидийского Август назначил царем Малой Армении, обеспечив, таким образом, еще один сдерживающий фактор для любых армянских устремлений52.
В следующее десятилетие отношения Рима с Парфией оставались сдержанно-любезными. В середине 20-х годов Тиридат покинул Сирию и отправился к Августу в сопровождении юного сына Фраата IV, которого ему удалось похитить. Фраат отправил послов к императору с просьбой о выдаче Тиридата и освобождении своего сына. Тиридат, в свою очередь, провозгласил себя другом римлян (φιλορώμαιος) и пообещал стать непоколебимо верным зависимым царем, если Рим посадит его на парфянский престол. Август снова принял сбалансированное решение: он не выдал мятежника для наказания, но и не исполнил его планов относительно Парфии. Тиридат остался в Риме, его потребности щедро удовлетворялись, а его честолюбие было ограничено теми рамками, которые определил Август. Фраат получил сына назад — и это был великодушный жест со стороны Августа, — но второе требование царя Парфии исполнено не было. Дружественные отношения сохранялись до тех пор, пока это зависело от принцепса53.
В 20-х годах сдержанность и спокойная дипломатия позволяли сохранять мир. Внимание Августа занимали другие дела: разработка конституционных учреждений и укрепление римских позиций на Западе. Но принцепса не удовлетворял статус-кво на Востоке. Парфия по-прежнему удерживала пленных и знамена, захваченные у римских армий; эта открытая рана напоминала, что Рим не всемогущ. В 20 г. до н. э. на Востоке был подведен новый баланс. Август лично отправился в восточные провинции, рассудил споры, отдал распоряжения относительно этих территорий и урегулировал внутренние конфликты в городах Греции, Малой Азии и Сирии. Кроме того, властью сюзерена он перераспределил земли между династами Киликии, Эмесы, Иудеи, Коммагены и Малой Армении54. Возможно, присутствие принцепса на Ближнем Востоке послужило поводом для восстания в Армении. Население (или его немалая часть)
51 Дион Кассий. 0.18.2—3.
52 Дион Кассий. 0.16.2; OV.9.2; Ограбон. ХП.3.29 (555 С); Magie 1950 (Е 853): 443.
53 Юстин. Эпитомы Помпея Трога. ХШ.5.6—9; Дион Кассий. ОП.33.2; Деяния Божественного Августа. 32.1. Хронология не вполне ясна; ср., напр.: Debevoise 1938 (А 19): 136— 137, Ziegler 1964 (С 327): 147; и особенно: Timpe 1975 (С 320): 157—160. О монетной чеканке Тиридата см.: Timpe 1975 (С 320): 155—157.
54 Дион Кассий. OV.7; OV.9.1—3.
196
Часть I. Изложение событий
поднялось против Артаксия П, ставленника парфянского монарха, и потребовало нового правителя, а именно Тиграна, брата Артаксия, который в то время жил в Риме. Август, предоставивший братьям царя убежище именно на такой случай, охотно согласился. Император направил своего пасынка Тиберия во главе римской армии, чтобы ввести Тиграна в должность. Одного вида армии оказалось достаточно: армяне убили Артаксия, и Тиберий посадил Тиграна на вакантный трон без применения силы55. Однако в Риме это событие было представлено как военная победа. На монетах провозглашались лозунги «Армения захвачена!» («Armenia capta!») и «Армения возвращена!» («Armenia recepta!»)56.
На Востоке Август имитировал войну, но занимался дипломатией. От приезда принцепса в Сирию и урегулирования в Армении нельзя отделить знаменитый договор с Фраатом IV, заключенный в 20 г. до н. э. Фраат наконец вернул знамена и пленных, которые в течение жизни поколения оставались в руках парфян, и таким образом Август получил возможность утверждать, что смыл пятно, давно осквернявшее римскую честь57. Это было достигнуто путем переговоров. Фраат, очевидно, получил гарантии невмешательства во внутренние дела его страны (после этого о претенденте Тиридате ничего больше не слышно), а Парфия признала римские интересы в Армении. Сообщается также, что царь выдал Риму заложников. Основой для неофициального соглашения послужила договоренность, а возможно, даже открытое признание, что границей зон влияния Рима и Парфии будет служить Евфрат58. Но и здесь Август для внутреннего потребления заявил о победе, завоевании и военном превосходстве над парфянами. В «Деяниях» утверждается, что он «заставил» парфян вернуть трофеи и молить Рим о дружбе. Сенат предложил Августу триумф, а на форуме была возведена триумфальная арка. Изображения на монетах раз за разом напоминают о возвращенных знаменах («signis receptis»); на центральной сцене панциря статуи из Прима Порты представлена сцена возвращения знамен59. Август наилучшим образом использовал свой дипломатический успех. Выгодное и желанное для обеих сторон соглашение заблистало словно военная победа.
55 Дион Кассий. I2V.9.4—5; Веллей Патеркул. П.94.4; Деяния Божественного Августа. 27.2; Тацит. Анналы. П.З; Страбон. ХУЛ. 1.54 (821 С); Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 105.
56 BMCRR, П: № 301—308; ср.: Гораций. Послания. 1.12.26—27; Веллей Патеркул. П.94.4; Chaimont 1976 (А 15): 73-75.
57 Деяния Божественного Августа. 29.2; Веллей Патеркул. П.91.1; Дион Кассий. LIV.8.1—2; Овидий. Фасты. V.579—594; Светоний. Август. 21.3; Светоний. Тиберий. 9.1.
58 Деяния Божественного Августа. 29.2; Страбон. XVI. 1.28 (748—749 С); Веллей Патеркул. П. 100.1; Орозий. VI.21.29. О том, что Парфия признала интересы Рима в Армении, см.: Светоний. Август. 21.3; ср.: Веллей Патеркул. П.100.1; Евтропий. \Ш.9. О Евфрате как границе см.: Страбон. XVI. 1.28 (748 С). О заложниках, выданных Риму, см.: Светоний. Август. 21.3; Евтропий. VH.9; Орозий. VI.21.29.
59 Деяния Божественного Августа. 29.2; Дион Кассий. UV.8.1-3; BMCRE Augustus: 410, 412, 414—419, 421—423. Возможно, пропаганда нашла отражение и в сообщениях источников о том, что знамена Фраат выдал из страха перед римским вторжением, см.: Дион Кассий. LTV.8.1; Юстин. Эпитомы. ХШ.5.10—11.
Глава 4. Расширение империи при Августе
197
В 10 г. до н. э. наблюдаются признаки сохранения теплых отношений между Римом и Парфией. Фраат IV отправил четверых своих сыновей жить в Риме. Этот жест парфянского царя не означал почтения или подчинения, как его иногда изображают; скорее, он желал таким образом обезвредить внутреннюю оппозицию и укрепить собственное положение. Август был рад пойти ему навстречу. Он получил возможность одновременно сделать одолжение Фраату и приобрести полезные аргументы в будущих дипломатических переговорах60.
После того как Фраат уступил Риму знамена, на протяжении почти двух десятилетий взаимодействие двух империй протекало спокойно и ничем не омрачалось. Как часто случается, трудности возникли в зависимом государстве и буферной области — в Армении. В 7 г. до н. э. смерть Тиграна П, ставленника Августа, привела к беспорядкам, описание которых в сохранившихся источниках запутанно и фрагментарно. По- видимому, в Армении началась борьба за трон, и Тигран Ш схватился с очередным римским ставленником Артаваздом; это побудило принцепса направить Тиберия для урегулирования дел. Но Тиберий, руководствуясь мотивами, которые навсегда останутся неясными, не стал исполнять это поручение и поселился на Родосе. Влияние Рима на дальнейшие события в Армении резко ослабло61.
Вскоре положение еще сильнее осложнилось из-за событий в Парфии, которые нанесли римским интересам новый удар. Во 2 г. до н. э. Фраат IV погиб, — возможно, насильственной смертью, — а его преемник Фраат V (или Фраатак) воспользовался случаем для вмешательства в армянские дела62. Август не мог допустить, чтобы римскому престижу на Востоке снова был нанесен урон. Под угрозой находилось его собственное реноме в Риме. Тогда принцепс устроил публичную демонстрацию, чтобы вновь заверить граждан, что в восточных землях еще почувствуют прежнюю римскую власть. Гай, внук Августа (и его приемный сын и наследник), возглавил войско, чтобы пересечь Евфрат, устрашить Парфию и урегулировать дела в Армении. Молодому принцу устроили торжественные проводы. Его отъезд сопровождался тщательно разработанными церемониями и толками о победе, наказании Парфии, новых триумфах и трофеях императорской семьи и расширении Римской империи63.
На самом деле планы Августа были гораздо скромнее. Но, как и всегда, их восприятие обществом имело большое значение. Гай объехал об¬
60 Тацит. Анналы. П.1; Страбон. XVI. 1.28 (748—749 С); Деяния Божественного Августа. 32.2; Веллей Патеркул. П.94.4; Иосиф Флавий. Иудейские древности. ХУШ.41—42; Светоний. Август. 21.3. Cp.: Braund 1984 (С 254): 12—13 — автор справедливо подчеркивает, что сыновей Фраата не следует считать заложниками.
61 Дион Кассий. LV.9.4—5; Тацит. Анналы. П.4. Источники об этом периоде обескураживают своей скудостью. Нумизматические свидетельства не слишком информативны, см.: Chaumont 1976 (А 15): 75—77.
62 Дион Кассий. LV.10.18; Веллей Патеркул. П. 100.1.
63 Овидий. Наука любви. 1.177—186, 201—212; ср.: Дион Кассий. LV.10a.3; Hollis 1977 (В 86): 65—73; Syme 1978 (В 179): 8—11. О назначении Гая см. также: Тацит. Анналы. П.4; Дион Кассий. LV. 10.18—19; Веллей Патеркул. П. 101.1.
198
Часть I. Изложение событий
ширные территории, побывал в Аравии и других областях, отчасти для того, чтобы повысить собственную известность, но прежде всего для того, чтобы продемонстрировать римское знамя64. Известия о его успехах и о его прибытии в Сирию возымели требуемое действие. Тигран Ш, царь Армении, направил принцепсу примирительное послание, в котором просил Рим одобрить его притязания на трон, и получил благожелательный ответ. Фраатак тоже готовился к переговорам. В письме, адресованном в Рим, он прощупывал почву для соглашения, но одновременно требовал возвращения братьев, которые находились теперь под защитой принцеп- са. Август отреагировал резко: в ответном послании он потребовал от Парфии невмешательства в дела Армении и опустил царский титул адресата; это было сознательное оскорбление, однако пренебрежение относилось не к суверенитету Парфии, а к легитимности Фраатака. Царь ответил в том же духе: в письме для обращения к принцепсу он использовал просто имя «Цезарь», себя же называл «царем царей». Обмен посланиями явно предназначался для соотечественников корреспондентов — в обеих странах. Во всей этой цепочке событий видимость преобладала над сущностью. В конечном счете ни военных действий, ни даже враждебного противостояния не потребовалось. Когда встреча на высшем уровне состоялась, она оказалась дружественной и плодотворной. Это тоже было тщательно спланировано заранее. Во 2 г. н. э. Гай и Фраатак, каждый в сопровождении внушительной свиты равной численности, встретились на острове на реке Евфрат. За этим последовал обмен дарами и взаимное признание равенства. Царь отобедал вместе с Гаем на римском берегу, а затем Фраатак устроил пир на парфянском берегу. Эта сцена была хорошо срежиссирована. Теперь Фраатак официально признал интересы Рима в Армении и отозвал требование о возвращении своих братьев. Август фактически согласился оставить Фраатака в покое, возобновил с ним дружбу («amicitia») и неявно указал Евфрат в качестве границы сфер влияния. Но он удержал в Риме парфянских царевичей, а значит, оставил у себя в руках важный дипломатический рычаг65.
В Армении дела шли своим чередом, вне зависимости от договоренностей между Римом и Парфией. Тигран Ш умер, вероятно, в 3 г. н. э., что породило цепь событий, точную последовательность и подробности которых теперь невозможно установить. Гай посадил на трон Армении нового правителя — Ариобарзана Мидийского, подтвердив таким образом тот факт, что Рим осуществляет непрямое управление этим зависимым царством. Но армянские национальные чувства снова воспротивились этому, и вскипел бунт, в ходе которого сам Гай получил ранение, оказавшееся смертельным. При жизни Августа в Армении сменилось еще два или три правителя. Принцепс утверждал, что они были его назначенцами, но истинный масштаб его влияния определить невозможно.
64 Cp.: Römer 1978 (С 300): 187-202; Römer 1979 (С 301): 203-208.
65 Дион Кассий. LV. 10.20—21; LV.10a.4; Веллей Патеркул. П. 101.1—3. Из современных исследований см., напр.: Ziegler 1964 (С 327): 53—56; Chaumont 1976 (А 15): 77—80; Römer 1979 (С 301): 203-204, 208-210; Pani 1972 (С 295): 45—46; Cimma 1976 (D 120): 324-328.
Глава 4. Расширение империи при Августе
199
Из-за внутренней борьбы за власть эта страна погружалась порой в настоящую анархию66.
Аналогичная борьба за трон происходила и в Парфии в последние десять лет правления Августа. Принцепс не содействовал ей и не оказывал никому поддержки, однако извлекал из нее выгоду. В разгар этих беспорядков, около 6 г. н. э., в Рим прибыла делегация знатных парфян с просьбой об освобождении одного из сыновей Фраата IV — Вонона, который уже полтора десятилетия жил в Риме; его желали сделать правителем Парфии. Этот план понравился Августу, и принцепс щедро одарил и отослал Вонона — словно назначая собственного ставленника на парфянский престол67. Август был рад возможности косвенно повлиять на урегулирование парфянских дел или хотя бы создать впечатление, будто влияет на них. Но в реальности римские связи и римское воспитание оказались для Вонона скорее помехой, нежели преимуществом. В конце концов сами парфяне не пожелали терпеть его ив 12 г. н. э. изгнали и призвали на трон Артабана из династии Аршакидов. Август, лишь пассивно участвовавший в водворении Вонона на престол, не предпринял никаких шагов для его поддержки. Римская политика не предполагала провокаций в адрес Парфии; она была нацелена на то, чтобы защищать интересы Рима в Армении и препятствовать распространению парфянского влияния к западу от Евфрата. Можно даже сказать, что бегство Вонона способствовало достижению этих целей: он направился в Армению и занял там престол, освободившийся в результате недавних переворотов. Итак, парфянский царевич, выросший в Риме, надел теперь царский венец в Армении68. Так обстояли дела на момент смерти Августа, с римской точки зрения, положение было вполне приемлемым. Рим и далее, на протяжении почти всего правления Юлиев—Клавдиев, опирался на дипломатию, порой лишь изредка бряцая оружием.
Император неизменно проводил в этом регионе последовательную политику. Он преследовал две цели: во-первых, гегемонию в Армении с помощью зависимых правителей, во-вторых, дружественные отношения с Парфией, в том числе взаимное признание сфер влияния69. Его действия были сдержанными, но публичная позиция — агрессивной. Так, утверждение зависимого царя Август представил как завоевание Армении, возврат знамен — как подчинение Парфии, а назначение Гая — как империалистическое начинание. Принцепс осознавал истинные границы римской власти на Востоке и не преступал их. Но сохранять лицо было не менее
66 Деяния Божественного Августа. 27.2; Тацит. Анналы. П.4; Веллей Патеркул. П. 102.2; Флор. П.32; Дион Кассий. LV.10a.5-7. Реконструкции хода событий см.: Chaumont 1976 (А 15): 80—83, с нумизматическими свидетельствами; Pani 1972 (С 295): 55—64; Cimma 1976 (D 120): 328-329.
67 Деяния Божественного Августа. 33; Тацит. Анналы. П.2; Иосиф Флавий. Иудейские древности. Х\ТП.43-^16; ср.: Светоний. Тиберий. 16.
68 Иосиф Флавий. Иудейские древности. ХУШ.47—50; Тацит. Анналы. П.2—4.
69 Шервин-Уайт считает, что Август занимал в отношении Парфии более угрожающую позицию, см.: Shenvin-White 1984 (А 89): 322—341.
200
Часть I. Изложение событий
важно, чем соблюдать границы. Август создал себе образ завоевателя, подчинившего Восток римскому владычеству.
V. Испания
Репутация принцепса играла важную роль и при принятии решения о расширении империи на северо-запад Испании. Рим не контролировал эту область, где проживали свирепые кантабры и асгуры, хотя присутствовал на Иберийском полуострове уже два века. Август лично возглавил войска — в последний раз. Отсюда ясно, что эта война считалась крайне важной.
Военные действия шли долго и тяжело, как и ранее часто случалось в Испании. Август лично руководил операциями в течение лишь одного года — 26 г. до н. э., но сопротивление с перерывами продолжалось до 19 г. до н. э., а возможно, и дольше. Принцепс был полон решимости покорить эту землю.
Данное наступление объяснялось отнюдь не стратегическими соображениями. Римские полководцы регулярно притязали на триумфы за Испанию: за десять лет, предшествовавших вторжению Августа, было отпраздновано шесть триумфов. Набеги кантабров на соседние племена могли послужить предлогом для войны. Но вряд ли именно они побудили императора лично возглавить армию. Экономические соображения тоже ничего не проясняют. Рим уже давно эксплуатировал испанские рудники и другие местные ресурсы; богатство северо-западной Испании скорее послужило запоздалым оправданием, нежели побудительным мотивом70. Источники содержат скудные объяснения: угроза соседям, исходившая от кантабров, желание Августа урегулировать дела в Испании или просто недовольство тем, что уже двести лет угол полуострова сохранял независимость от римской власти71. Конкретные цели были здесь второстепенны, гораздо большее значение имела пропаганда.
Испанские провинции входили в число заморских территорий, отведенных Августу в начале 27 г. до н. э. (Бетика вскоре была исключена). Он объявил, что намерен окончательно подчинить их римской власти. Поскольку большая часть полуострова уже была покорена, он явно планировал атаковать кантабров и асгуров. Об их свирепости и ожесточенном сопротивлении любым посягательствам на их независимость ходили легенды. Август распахнул двери храма Януса, символически объявив
70 Ср.: Флор. П.33.60.
71 О триумфах см.: Триумфальные фасты за 36, 34, 33, 32, 28 и 26 гг. до н. э.; Iltal. ХШ: 570; ср. также: Дион Кассий. Ы.20.5; ILS 893. О набегах кантабров см.: Флор. П. 33.47; об урегулировании дел см.: Дион Кассий. ТШ.22.5; о покорении независимых народов см.: Орозий. VI.21.1. Анализ этих мотивов см.: Schmitthenner 1962 (С 305): 43—53; Santos Yanguas 1982 (E 237): 7—10, с библиографией.
Глава 4. Расширение империи при Августе
201
тем самым священную войну против врага. Он лично возглавил армию, и это должно было подчеркнуть его военные победы и обуздать реальных или потенциальных соперников, желавших прославиться собственными победами72. Если открытие дверей храма Януса было заявлением о намерениях Августа, то их закрытие возвестило об исполнении этих намерений. В 25 г. до н. э. принцепс распорядился провести данную церемонию, и двери храма Януса закрылись — всего лишь в четвертый раз за всю римскую историю, но во второй раз за пять лет73. В 29 г. их закрытие отмечало официальное окончание гражданской войны; на сей раз этот ритуал символизировал умиротворение империи. Август отказался от триумфа, проявив, таким образом, умеренность (moderatio), но принял более постоянный знак отличия: право носить венок и триумфальное одеяние в первый день каждого года74. Он явно намеревался сохранить память об этом событии, что также подчеркивала сочиненная и опубликованная биография Августа. Данная работа заканчивалась на успешном завершении Кантабрийской войны75. Автобиография увековечила вершину карьеры принцепса. В свете дальнейших достижений Астурийская и Кантабрийская война («bellum Cantabricum et Astuiicum»), возможно, казалась не столь уж важной. В «Деяниях» Август лишь кратко упоминает ее, перечисляя покоренные им области76. Однако более раннее и более яркое изображение этой войны содержится в традиции, восходящей к Ливию, и подхвачено Веллеем Патеркулом: в северо-западной Испании, жестокой и дикой стране, два века лилась кровь, но в результате войн Цезаря Августа там установился прочный мир и прекратилось не только вооруженное сопротивление, но даже разбой77. После завоевания северо-западной Испании под властью Рима оказался весь полуостров.
Как и в случае с Парфией, военные свершения в Испании были куда скромнее их публичного освещения в Риме. Путаница в источниках не позволяет точно восстановить события, географию и хронологию. Во всяком случае, ясно, что личное вмешательство Августа не имело решающего значения. В начале 26 г. до н. э. принцепс находился в Тарраконе, где вступил в восьмое консульство78. Он принимал участие в военных операциях этого года, но где именно и как долго они велись — остается неизвестным. Флор и Орозий сообщают лишь о римских победах в Кантабрии: принцепс возглавил наступление тремя колоннами из лагерной базы в Сегисамо, римляне нанесли врагам поражение при Бергиде (или Вел¬
72 О распределении провинций см.: Дион Кассий. ЦП. 12.4—5; cp.: Syme 1934 (С 313): 300. О заявлении Августа о его намерении подчинить непокорные племена см.: Дион Кассий. LDI.13.1. О свирепости врага см.: Ограбон. Ш.4.17—18 (164—165 С); Орозий. VI.21.8. Об открытии дверей храма Януса см.: Орозий. VI.21.1.
73 Дион Кассий. ЫП.26.5; Орозий. VI.21.il; Деяния Божественного Августа. 13.
74 Дион Кассий. LEH.26.5; ср.: Флор. П.33.53; Barnes 1974 (С 253): 21.
75 Светоний. Август. 85.1.
76 Деяния Божественного Августа. 26.2—3; ср.: Ibid. 29.1.
77 Ливий. ХХУШ.12.12; Флор. П.33.59; Веллей Патеркул. П.90.2—4.
78 Светоний. Август. 26; Дион Кассий. ЫП.23.1.
202
Часть I. Изложение событий
лее), взяли их измором у горы В индий и захватили город Арацелий (или Рацилий). Названия этих пунктов и их местоположение давно вызывают споры. Неясно также, велась ли кампания 26 г. до н. э. только в Кантабрии или же включала и Астурию. Этот вопрос связан со следующим: предприняли ли римляне три своих атаки одну за другой или одновременно? Точно ответить на эти вопросы не представляется возможным79. Однако в рассказе Диона Кассия упоминаются и поражения: под командованием Августа римляне добились немногого; принцепс заболел и удалился в Тарракон, и победы были одержаны лишь благодаря усилиям Гая Антистия Вета, легата Тарраконской Испании80. Можно с уверенностью предположить, что после военного сезона 26 г. до н. э. Август не вернулся на поле боя. Римские войска вторглись в Астурию и одержали важную победу над осажденными и отчаявшимися испанцами у горы Медуллий в 26 или 25 г. до н. э.81. В 25 г. до н. э. асгуры предприняли заранее продуманную атаку; они чуть не разгромили римские войска в своей области и были разбиты лишь благодаря тому, что в последний момент их план был выдан и на помощь римлянам пришла армия Публия Каризия, легата Лузитании. Каризий взял астурийскую крепость Ланцию, и на этом военные действия завершились. Римляне одержали верх, но борьба была кровавой и унесла много человеческих жизней82.
Эти успехи побудили Августа отдать распоряжение о закрытии дверей храма Януса, что символизировало полное замирение, и принесли ему триумфальные почести. Принцепс даже приказал основать колонию ветеранов Августа Эмерита («colonia Augusta Emerita», совр. Мерида) в знак того, что на этой земле воцарилось спокойствие83 84. В одной из своих од Гораций приветствовал победителя, возвращавшегося домой, сравнивал его с Геркулесом и радовался безопасности, которую обеспечил Август34. Но завоевание было мнимым, а празднование преждевременным. Едва Август покинул провинцию в 24 г. до н. э., как кантабры и асгуры восстали, продемонстрировав тем самым непрочность его достижений. Луций Элий Ламия, легат Тарраконской Испании, жестоко подавил вос¬
79 Флор. П.33.48—50; Орозий. VI.21.3—5. Из множества исследований см.: Magie 1920 (С 285): 325-359; Syme 1934 (С 313): 293-317; Schulten 1943 (Е 238); Horrent 1953 (С 276): 279—290; Schmitthenner 1962 (С 305): 54—60; Syme 1970 (С 314): 83—103. Свежий обзор исследований см.: Santos Yanguas 1982 (E 237): 16—26. См. также: Santos 1975 (С 303): 531— 536; Lomas Salmonte 1975 (E 230): 103—127; Solana Sainz 1981 (E 239): 97—119; Tranoy 1981 (E 244): 132-144; Martino 1982 (C 287): 41-104.
80 Дион Кассий. ОП.25.5—8; cp.: Флор. П.33.51; Светоний. Август. 81.
81 Флор. П.33.50; Орозий. VI.21.6—8. Неизвестно, находилась ли гора Медуллий в Астурии или Каллеции, см.: Santos Yanguas 1982 (E 237): 18—26; Martino 1982 (С 287): 105-124.
82 Флор. П.33.54—58; Орозий. VL21.9—10; Дион Кассий. I,ПТ.25.8. О дислокации и идентификации легионов см. свидетельства, собранные в работах: Lomas Salmonte 1975 (E 230): 135—139; Jones 1976 (E 226): 48—51; Solana Sainz 1981 (E 239): 120—142; Santos Yanguas 1982 (E 237): 26-45.
83 Дион Кассий. ЫП.26.1.
84 Гораций. Оды. Ш.14; cp.: IV.14.50. Более мрачную интерпретацию этого стихотворения см.: Sholz 1971 (С 307): 123-137.
Глава 4. Расширение империи при Августе
203
стание85. Через два года кантабры поднялись против нового наместника, Гая Фурния, а астуры — против Каризия, который действовал всё более безжалостно; они были еще беспощаднее усмирены и покорены86. Но в 19 г. до н. э. для подавления нового восстания грозных кантабров Августу пришлось направить самого Марка Агриппу, который покорил их, однако с большими затратами и тяжелыми потерями, и даже отказался принять триумф, дарованный ему по предложению Августа87. Операции Агриппы, который выбил кантабров из их крепостей, а затем заставил поселиться на равнинах, наконец принесли этому региону некоторую стабильность88. В 15—14 гг. до н. э. принцепсу удалось предпринять более мирную поездку в Испанию, где он основал колонии и продемонстрировал свою щедрость89.
Здесь, как и в других случаях, пропаганда расходилась с действительностью. Август отправился в Испанию, чтобы провозгласить победу и объявить об умиротворении провинции. И он это сделал. В своей автобиографии он прославил данное свершение, Веллей Патеркул его приукрасил, традиция, которой следовали Флор и Орозий, всё это воспроизвела. После завоевания северо-западной Испании Иберийский полуостров полностью оказался под властью Рима. Но истинные масштабы победы не соответствовали похвальбам Августа. Она была достигнута далеко не сразу, а в ходе кровавой и жестокой борьбы, продолжавшейся еще долгое время после того, как принцепс объявил об успехе. В честь возвращения Августа из Испании сенат с полным основанием постановил воздвигнуть Алтарь Мира. Однако это произошло не в 25 г. до н. э., когда были закрыты двери храма Януса, а принцепсу предоставлены триумфальные почести, а в 13 г. до н. э., после десяти с лишним лет периодических восстаний, тяжелых потерь и терроризма.
VI. Африка
В Африке Рим стремился скорее укреплять контроль, чем расширять территории. Эта область служила важной житницей Рима, и ее безопасность занимала не последнее место в повестке дня императора. Провинция Африка, некогда Карфагенская держава, уже сто лет находилась под властью римлян. Юлий Цезарь расширил владения империи, присоединив царство Нумидию, которое получило именование Новая Африка, а прежняя провинция стала называться Старая Африка90. После поражения
85 Дион Кассий. LHL29.1—2. Об имени легата см.: АЕ 1948: № 93.
86 Дион Кассий. LIV.5.1—3.
87 Дион Кассий. UV.11.2-6; cp.: Roddaz 1984 (С 200): 402-410.
88 Незначительный мятеж был подавлен в 16 г. до н. э., см.: Дион Кассий. LIV.20.3.
89 Дион Кассий. LIV.23.7, 25.1, LVI.43.3; Деяния Божественного Августа. 12.2.
90 Дион Кассий. ХЫП.9.4; Аппиан. Гражданские eoümL IV.53; Плиний Старший. Естественная история. V.4.25.
204
Часть I. Изложение событий
Секста Помпея в 36 г. до н. э. обе провинции оказались в руках Октавиа- на. Он расширил римское присутствие в обеих, направив новых поселенцев в Карфаген в 29 г. до н. э. и в Цирту — в 26 г. до н. э.91. Он был уверен в их безопасности, а потому передал сенату ответственность за эту территорию (неизвестно, считалась ли она одной или двумя провинциями) в рамках распоряжений 27 г. до н. э.92.
Но полное спокойствие так и не наступило. Сам Рим тоже не отказался от наступательной политики и не пожелал ограничиться лишь укреплением власти. Несколько проконсулов завоевали триумфы за Африку («ex Africa»), пять из них — в период с 34 по 19 г. до н. э.93. Подробности военных действий до нас почти не дошли, как и сведения о том, кем были враги римлян, чем они руководствовались и где базировались. Источники не позволяют определить, следует ли считать эти столкновения защитой границы или расширением империи. Южные рубежи провинции были изменчивы. Вряд ли возможно отделить защиту римских интересов от устрашения полукочевых племен. III Августов легион был расквартирован в провинции на постоянной основе, даже после того как в 27 г. до н. э. формальную ответственность за нее взял на себя сенат. Хотя нам известно несколько триумфов, подробные сведения сохранились только о кампании Луция Корнелия Бальба, награжденного в 19 г. до н. э. Друг и верный помощник Августа, Бальб, хорошо знавший Африку, глубоко вторгся на территорию гарамантов, беспокойного берберского племени, обитавшего к югу от римской провинции. Плиний описывает его триумф и перечисляет города и племена, где была взята добыча, выставленная Б альбом. Масштабы его побед свидетельствуют о тщательно спланированных операциях, в ходе которых войско несколькими колоннами проникло в сегодняшний Феццан и его окрестности. Вполне заслуженный триумф Бальба предполагает, что полководец предпринял методичную атаку с целью устрашения берберов. И Август мог поставить достижения своего подчиненного себе в заслугу. Восхваляя империалистические устремления принцепса, Вергилий упоминает о покорении гарамантов94.
Устрашение, по-видимому, возымело действие. Два десятилетия прошло без всяких признаков волнений кочевых или полукочевых племен на границах провинции. Несомненно, размещение III Августова легиона в Аммедаре способствовало поддержанию порядка95. Проблемы возобно¬
91 О Карфагене см.: Дион Кассий. 01.43.1; Аппиан. События в Ливии. 136. О Цирте см.: АЕ 1955: No 202.
92 Дион Кассий. ПП.12.4.
93 Триумфальные фасты за 34, 33, 28, 21, 19 гг. до н. э.
94 Вергилий. Энеида. VL792—795. О завоеваниях Бальба сообщает Плиний Старший [Естественная история. V.35—37). См. обстоятельную реконструкцию: Desanges 1957 (С 262): 1-43; cp.: Romanelli 1959 (Е 760): 176-181; Rächet 1970 (С 297): 70-74; Gutsfeld 1989 (Е 742): 26-30.
95 Cp.: Romanelli 1959 (Е 760): 186-187; Rächet 1970 (С 297): 74.
Глава 4. Расширение империи при Августе
205
вились лишь во 2 г. н. э.: еще один император, Луций Пассиен Руф, получил триумфальные почести за победы в Африке96. А это предполагает, что он подавил какое-то восстание и беспорядки. Данное предположение подтверждается другой фрагментарной надписью: гетулы и мусуламии в области Сиртов вели партизанскую войну против римской власти и римских полководцев, пока в б г. н. э. их не покорил Косс Корнелий Лентул, который передал сыну памятный титул Гетулик97. Возможно, в эти же годы вновь восстали гараманты вместе с мармаридами, и римлянам представилась возможность одержать новую победу под командованием Сулышция Квириния, который с необычной для императоров скромностью отклонил почетный титул Мармарик98. Свидетельства источников скудны, и, к сожалению, их недостаточно для прояснения картины. Но ясно, что стабильность, наступившая после побед Бальба, не продержалась до конца правления Августа. Как только появлялась возможность, местные жители возобновляли сопротивление римской власти и снова и снова отвергали Августов мир («pax Augusta»).
Распространение римского влияния сдерживалось на южных границах, но успешнее шло вдоль средиземноморского побережья Африки. Бокх, правитель Мавретании, умер в 33 г. до н. э., и Октавиан взял на себя управление его царством: он не стал отдавать эту страну никому из местных царевичей, а поставил ее в прямую зависимость от Рима99. Как именно было организовано руководство данным регионом в последующие годы, остается неясным. Мавретания не упоминается ни в числе провинций, выступавших на стороне Октавиана в 32 г. до н. э., ни среди провинций, распределенных между принцепсом и сенатом в 27 г. до н. э.100. Невозможно установить, какой характер имело управление Мавретанией, но — прямо или косвенно — Рим принял ответственность за нее на себя. Однако в 25 г. до н. э. прежнюю схему сменило новое решение: Август отдал эту страну Юбе П, сыну нумидийского царя, владения которого захватил Цезарь101. Возможно, это планировалось с самого начала либо же Август постепенно признал, что управление всей Северной Африкой вплоть до Атлантики потребует излишнего распыления римских
96 Веллей Патеркул. П. 116.2; ср.: ILS 120, 8966.
97 Веллей Патеркул. П. 116.2; Флор. П.31.40; Дион Кассий. LV.28.3—4; Орозий. VI.21.18. Возможно, среди римских полководцев, погибших от рук повстанцев, был Луций Корнелий Лентул, см.: Юстиниан. Институции. П.25. В целом см.: Romanelli 1959 (Е 760): 181— 186; Benabou 1976 (Е 715): 61-65; Gutsfeld 1989 (Е 742): 31-39.
98 SEG. IX.6: № 63; Флор. П.31.41. Датировка очень сомнительна, см.: Rächet 1970 (С 297): 77, примеч. 4.
99 Дион Кассий. XUX.43.7.
100 Деяния Божественного Августа. 25.2; Дион Кассий. L.6.3-^1; LDL 12.4—7.
101 Дион Кассий. ЫП.26.2; Страбон. VI.4.2 (288 С); ХУП.3.7 (828 С). Вопреки утверждению Диона Кассия (II. 15.6), маловероятно, что в этом промежутке (между 30 и 25 гг. до н. э. — О.Л) Август возвратил Юбе П Нумидию, а теперь обменял ее на Мавретанию. См.: Romanelli 1959 (Е 760): 156-158; Ritter 1987 (С 299): 137-142.
206
Часть I. Изложение событий
ресурсов. Во всяком случае, ученый101а Юба, получивший теперь трон и новые обязанности, принял роль верного и зависимого клиента102.
Вместе с тем принцепс полагался не только на зависимого царя Мавретании и не только на военные силы в приграничных областях Старой и Новой Африки. Август начал систематическую колонизацию. Он пополнил население Карфагена и Цирты и вывел три или четыре колонии в Старую Африку, по меньшей мере две в Новую Африку и двенадцать — в Мавретанию. Кроме того, он расселил ветеранов и других колонистов в сельских районах (pagi) за пределами городов103.
При Августе римское присутствие в Африке заметно усилилось. Этому способствовал гарнизон в Аммедаре, военные действия в приграничных зонах, зависимый правитель Мавретании и, возможно, два десятка новых колоний. Главным мотивом для решений Августа была необходимость обезопасить данную территорию, служившую важным источником зерна. Но эти мероприятия вызывали недовольство и жажду мщения, партизанскую войну и отпадение местных народов. Укрепление римской власти одновременно создавало опасности для этой власти и возбуждало чувства, которые привели к взрыву в правление преемника Августа.
VII. Альпы
Альпы нависали над северной Италией и были раем для диких племен и свирепых народов, которые порой угрожали римской власти в Галлии и нарушали коммуникации этой провинции с Италией. Августу крайне важно было обеспечить беспрепятственный проход через этот барьер и сдержать активность беспокойных племен, способных помешать передвижению. И он постарался достичь этих целей. Не стоит думать, что он руководствовался далекоидущими мотивами и готовил обширные завоевания на Балканах и в Германии, — такой вывод был бы поспешным и преждевременным суждением.
Молодой триумвир Окгавиан рано понял, как важно контролировать перевалы Малый и Большой Сен-Бернар, которые вели в Гельвецию и к Верхнему Рейну. В 34 г. до н. э. его подчиненный Антистий Вет напал на салассов — опасных врагов, обитавших высоко в горах и представлявших постоянную угрозу для этого региона. Первые попытки окончились неуда¬
101а Юба П написал ряд трудов по истории, географии, грамматике, естествознанию и др. на греческом и латинском языках. — О. Л
102 О Мавретании между 33 и 25 гг. до н. э. см.: Pavis d’Escurac 1982 (С 296): 219—225; Mackie 1983 (E 753): 333—342 (выводы очень предположительны). О Юбе см.: Romanelli 1959 (Е 760): 162-174; Pavis d’Escurac 1982 (С 296): 225-229.
10^ Источники и их анализ см.: Romanelli 1959 (Е 760): 187—226; Benabou 1976 (Е 715): 50-57; Kienast 1982 (С 136): 395-397; Pavis d’Escurac 1982 (С 296): 229-230; Mackie 1983 (E 753): 332-358.
Глава 4. Расширение империи при Августе
207
чей: салассы сперва сдались, но затем с ликованием и насмешками изгнали римский гарнизон. Через несколько лет императорский легат Валерий Мессала отплатил им, но и эта победа оказалась недолговечной. Непокорные салассы были подчинены лишь в 25 г. до н. э., когда Теренций Варрон, назначенный Августом, принудил их к капитуляции и продал в рабство всех способных держать оружие. Вскоре на месте лагеря Варрона выросла военная колония Августа Претория (Аоста), облегчившая римлянам доступ в центральную Галлию104.
После этого решимость Августа завладеть Альпами не ослабла. В течение следующего десятилетия в стратегических пунктах постепенно возводились военные укрепления: Цюрих, Базель, Виндонисса, Обервинтер- тур и проч.105. Такое постепенное проникновение в провинцию готовило почву для прямого вторжения.
Всерьез военные действия начались в 17 или 16 г. до н. э., когда Публий Силий Нерва, проконсул Иллирика, покорил два альпийских племени — камуннов и венниев; первое из них, а возможно, и оба проживали в области между Комо и озером Гарда106. Римские источники конечно же возлагают ответственность за провоцирование конфликта на врага. Но более вероятным представляется, что это был очередной этап мероприятий Августа по подчинению альпийских областей римской власти. Вряд ли можно счесть совпадением, что в следующем (15-м) году до н. э. была предпринята двойная атака, которой командовали пасынки принцепса. Тиберий двинулся на восток из Галлии, Друз — на север, через перевалы Бреннер и Решеншейдек, в долину Инна. Вина вновь была возложена на врага: Дион Кассий описывает рецийцев, обитавших в Центральных Альпах, как дикарей, опустошавших Галлию и северную Италию, грабивших путников и убивавших поголовно всех пленных мужского пола, даже детей в утробе матери, если гадание показывало, что это мальчики107. Но римляне желали не просто отомстить. Кампания Силия послужила прелюдией; затем Друз и Тиберий реализовали планомерный замысел: они двинулись в Рецию с двух направлений и одновременно появились во главе своих колонн в двух различных пунктах108. Август решил очистить Альпы от вражеских элементов и распространить римскую власть на все альпийские области. Братья достигли поставленных целей, покорив грозных рецийцев и винделиков, обитавших на территории современной
104 Аппиан. События в Иллирии. 17; Дион Кассий. XLIX.34.2, 38.3; ОП.25.2—5; Страбон. IV.6.7 (205-206 С).
105 Wells 1972 (Е 601): 40-46; Frei-Stolba 1976 (Е 616): 350-355.
106 Дион Кассий. LIV.20.1. Дебаты об идентификации венниев и месте их обитания всё еще не стихли. Если веннии тождественны веннонетам с Верхнего Рейна, то операции Силия были весьма масштабными; ср.: van Berchem 1968 (E 605): 4—7; Wells 1972 (E 601): 63—66. Но этот вопрос продолжает оставаться неясным, см.: Overbeck 1976 (Е 633): 665— 668; Kienast 1982 (С 136): 295; Waasdorp 1982/1983 (Е 639): 39-40.
107 Дион Кассий. LTV.22.1—2; ср.: Флор. П.22.
108 Дион Кассий. LIV.22.3-4; Веллей Патеркул. П.95.1—2.
208
Часть I. Изложение событий
Швейцарии, Тироля и южной Баварии109. Римское господство в Альпах должно было стать незыблемым.
За победами пасынков Августа последовало покорение лигуров и аннексия Приморских Альп в 14 г. до н. э.110. Местный правитель Коттий был признан префектом, чтобы править Коттиевыми Альпами в интересах Рима111. В последующие годы римляне оккупировали стратегические пункты в землях рецийцев и винделиков. Август разместил на этой территории два легиона и назначил префекта из сословия всадников, чтобы превратить Рецию в административную единицу империи; таким образом, все главные перевалы в Центральных Альпах были взяты под контроль, а римское влияние стало простираться через Предальпы до Дуная. Страбон сообщает, что в следующем поколении свирепые некогда племена покорно принимали римскую власть и платили налоги112.
В ходе альпийских кампаний 16 и 15 гг. до н. э. военные действия велись и против народов, живших восточнее, — против племен нориков, обитателей царства Норик, которое лежало между Рецией и Паннонией113. Позднее эти сражения послужили предлогом для римской оккупации Норика. Вопрос о том, в какой момент эта область была формально аннексирована, остается спорным. Но римское присутствие в этой стране при Августе как следствие альпийских завоеваний практически не вызывает сомнений. Норик, присоединенный в целом мирно, обеспечил Риму важнейшие коммуникации между войсками, расквартированными в Ре- ции, и армией Иллирика114. Теперь римское влияние распространилось вдоль всего Среднего Дуная.
Чем было обусловлено покорение Альп? Часто предполагают существование долгосрочного империалистического плана: альпийские кампании всего лишь готовили почву для крупномасштабного наступления в Германии, расширения римского господства за Рейн и Дунай и захвата
109 Дион Кассий. LIV.22.3—4; Веллей Патеркул. П.95.1—2; Страбон. IV.6.9 (206 С); Светоний. Август. 21; Тиберий. 9; Флор. П.22; Ливий. Периохи. 138; Утешение к Ливии. 15—16, 175, 385-386. Ср. обсуждение: Christ 1957 (С 259): 416-428; Waasdorp 1982/1983 (Е 639): 40—47; Schön 1986 (Е 635): 43—56. Резюме обсуждения см.: Drack, Fellmann 1988 (E 608): 22-25.
110 Дион Кассий. IIV.24.3.
111 ILS 94. О его семье см.: Letta 1976 (С 283): 37—76.
112 Страбон. IV.6.9 (206 С). Об оккупации и администрации Реции см.: Wells 1972 (Е 601): 67-89; Overbeck 1976 (Е 633): 668-672; Laffi 1975-1976 (Е 627): 406-420.
113 Дион Кассий. LIV.20.2; Страбон. IV.6.8—9 (206 С); Флор. П.22 (неточно). (Под заголовком «Норикская война» Флор пишет о покорении Друзом бревнов, уценнов и винделиков. Первые и, вероятно, вторые жили в Реции, третьи — в Винделиции. Ни одно из этих племен не обитало в Норике. — О.Л)
114 Веллей Патеркул. П.39.3; Дион Кассий. LIV.20.2; Фест. Бревиарий о победах и провинциях римского народа. 7. Альфёльди чересчур уверенно относит аннексию к 15 г. до н. э., см.: Alföldy 1974 (Е 652): 52-56; также и: Winkler 1977 (Е 709): 197-199; Kienast 1982 (С 136): 297. Напротив, Кнайсль заходит слишком далеко, отрицая всякую оккупацию вплоть до правления Клавдия, см.: Kneissl 1979 (С 280): 261—272.
Глава 4. Расширение империи при Августе
209
всех территорий вплоть до Эльбы115. Возможно, это и так. Но данный честолюбивый план мог и не существовать в годы альпийских завоеваний. Достаточно было и других мотивов. Открытие перевала Большой Сен- Бернар и дороги через Гельвецию сократило путь из Италии к Рейну и дало Галлии дополнительную защиту. Покорение Реции и оккупация Норика обеспечили необходимые коммуникации между рейнскими легионами и иллирийской армией116. На Верхнем Дунае пока еще не имелось крепостей, это была зона влияния, а не установленная граница117. Непосредственным стимулом для завоевания послужило, возможно, стремление облегчить коммуникации, а не планы дальнейшей экспансии.
Решая практические задачи, принцепс одновременно достигал своих политических и пропагандистских целей. Август использовал альпийские кампании, чтобы отточить таланты своих пасынков и подкрепить их притязания. Прославление победы происходило в различных формах и адресовалось обширной аудитории. Гораций воспел эти подвиги в двух одах (carmina), восхваляя Друза, победившего альпийские племена, и Тиберия, окончательно покорившего рецийцев118. В «Утешении к Ливии», сочиненном позднее в правление Августа, тоже превозносились свершения братьев, которые разгромили варваров119. В честь этих событий был воздвигнут памятник — Альпийский трофей (Tropaeum Alpium), установленный в Ла-Тюрби, в Приморских Альпах; на его стене были вырезаны названия не менее сорока пяти племен, покоренных принцепсом120. А в «Деяниях» Август ставит себе в заслугу усмирение Альп на всем их протяжении от Адриатического до Тусского моря и прибавляет сомнительный вывод, что все эти кампании были законными и оправданными121. Как всегда, принцепс укреплял свой образ победоносного и справедливого завоевателя.
VIII. Балканы
Политику Рима в Иллирике определили как стратегические, так и политические соображения. Октавиан быстро понял, как важен этот регион, и, став триумвиром, лично возглавлял там военные операции. Они оказались всего лишь прелюдией к дальнейшим завоеваниям. Масштабная экспансия была здесь предпринята в 13—9 гт. до н. э., а после подавления Паннонского восстания в 9 г. н. э. до н. э. установился новый и более
115 См. прежде всего: Kraft 1973 (А 53) I: 181—208; ср. также: Wells 1972 (Е 601): 70; Kienast 1982 (С 136): 297.
116 Ср.: van Berchem 1968 (E 605): 8-9; Christ 1977 (С 260): 188-189.
117 Christ 1957 (С 259): 425--127.
118 Гораций. Оды. IV.4.17-18, 14.7-19.
119 Утешение к Ливии. 15—16, 175, 384—386.
120 Плиний Старший. Естественная история. Ш. 136—138.
121 Деяния Божественного Августа. 26.3.
210
Часть I. Изложение событий
прочный порядок. Август подготовил почву для создания двух провинций — Далмации и Паннонии, расширил римское владычество до Дуная и обезопасил сухопутную дорогу между северной Италией и Балканами.
Такой исход нельзя было предсказать заранее. Наступление Октавиа- на в Иллирике в 35—33 гг. до н. э. преследовало более скромные цели. Он заботился о собственных интересах и об интересах своих солдат. Труднопроходимые местности по ту сторону Адриатики позволяли хорошо обучить и дисциплинировать войско, укрепить его мускулы, которые иначе ослабли бы от праздности122. Отрабатывать боевые навыки теперь следовало на варварах, и отказ от гражданской войны, которая изматывала солдат и снижала их боевой дух, выглядел знаменательным. Октавиан внушал легионерам надежды, что теперь они разбогатеют за счет взятой у врага добычи. Военные действия против врагов империи должны были укрепить мораль войска, а командиру — дать основания для утверждений, что он занят не партийной борьбой, а защищает государственные интересы123. Иллирийские события были подробно описаны в мемуарах принцепса, которые полтора века спустя частично воспроизвел историк Аппиан. В них приводились необходимые основания для войны: иллирийцы периодически грабили Италию, нанесли ущерб интересам Юлия Цезаря, уничтожили армии Габиния и Ватиния в 40-х годах и удерживали захваченные знамена римских легионов; этих причин было достаточно для отмщения и восстановления национальной чести124. Более суровую оценку действиям Октавиана дал Дион Кассий, опиравшийся на традицию, не связанную с его мемуарами. Дион Кассий справедливо отмечал, что война не была вызвана какой-то провокацией иллирийцев: Октавиан не имел законных поводов для недовольства и искал предлог, чтобы обучить свои легионы в борьбе с врагом, от которого не ожидалось серьезного сопротивления125.
Ни циничное суждение Диона Кассия, ни тенденциозное самооправдание Октавиана не проясняют сути дела. Октавиану требовалось прославиться в военном деле и попытаться сравняться со своим партнером и соперником Антонием. Не случайно в Иллирике Октавиан у всех на глазах лично подвергался опасности и дважды был ранен. Эти знаки доблести могли быть полезны. А по завершении войны он произнес в сенате речь, в которой резко противопоставил праздность Антония и собственную энергию в деле защиты Италии от вторжений диких народов126.
122 Веллей Патеркул. П.78.2.
123 Аппиан. Гражданские войны. V.128
124 Аппиан. События в Иллирии. 12—13, 15, 18; Гражданские войны. V.145; ср.: Дион Кассий. XIJX.34.2.
125 Дион Кассий. ХЫХ.36.1. (Данное утверждение Диона Кассия относится не ко всей Иллирийской войне Октавиана, а только к его военным действиям против паннонцев. —
26 Аппиан. События в Иллирии. 16, 27; Светоний. Август. 20; Плиний Старший. Естественная история. ΥΠ.148; Флор. П.23; Дион Кассий ХЫХ.35.2.
Глава 4. Расширение империи при Августе
211
Историки предполагали также, что у Октавиана имелись более масштабные стратегические соображения. Возможно, он желал обезопасить Италию с северо-востока и предотвратить поход Антония по этому маршруту, который некогда обдумывали Филипп V и Митридат, либо стремился захватить данную территорию, готовя наступление на коллегу по триумвирату. Или, быть может, Октавиан уже вынашивал обширный стратегический замысел, предполагавший расширение границ Иллирика до Дуная и установление коммуникаций с имперскими укреплениями на Рейне127. Но в 35 г. до н. э. вооруженный конфликт с Антонием еще не выглядел неизбежным, и ни один восточный правитель до сих пор не вторгался в Италию таким путем. Что же касается плана наступления на Дунай, то сам Август связывает его с кампаниями своего пасынка Тиберия, проведенными спустя два с лишним десятилетия. У Октавиана имелись более настоятельные нужды: завоевание военной славы путем наказания племен, оставивших пятно на римской чести. Это позволяло ему противопоставить свои немалые достижения бездеятельности Антония. Октавиан хотел высоко поднять римские знамена, возвращенные от варваров. Он желал также намекнуть, что в будущем предстоят еще более крупные завоевания: говорили, что за победами в Иллирии может последовать наступление на даков и басгарнов128. Вряд ли Октавиан тогда и в самом деле обдумывал данное наступление. Но в этом случае, как и всегда, он старательно играл роль завоевателя.
На самом деле итоги Иллирийской войны 35—33 гг. до н. э. были скромными. В 35 г. до н. э. Октавиан начал военные действия с наступления на яподов, вынудил их войско сдаться и осадил их главный город и крепость Метул, который вскоре был уничтожен пожаром129. Затем римское войско напало на Сегесгу (Сисцию), стоявшую возле слияния Савы (с реками Одра и Купа. — О.Л), блокировало город и вынудило его сдаться. Октавиан мог гордиться этим достижением и на зиму вернулся в Рим, намереваясь весной возобновить операции в Иллирии130. Но в следующем году он занялся Далмацией. Разговоры о наступлении на Дакию, видимо, прекратились либо никогда не воспринимались всерьез. Октавиан не собирался продвигаться дальше Савы. Вместо этого он имел возможность обрести новые лавры, покарав племена, разбившие римские армии и удерживавшие римские знамена. Армия принцепса штурмом взяла далматинскую крепость Промону и разрушила Синодий, стоявший на краю того леса, где было уничтожено войско Габиния. В начале следующего (33-го) года до н. э. наказанные и отчаявшиеся далматийцы, отрезанные от снабжения, сдались, выдали римские знамена, обязались выплатить
127 О мотивах Октавиана см.: Syme 1971 (Е 702): 17, 137; Wilkes 1969 (Е 706): 48—49. Здоровый скептицизм высказал Шмиттеннер, см.: Schmitthenner 1958 (С 304): 193—200.
128 Деяния Божественного Августа. 29.1, 30.1; Аппиан. События в Иллирии. 22; Страбон. Vn.5.2 (313 С).
129 Аппиан. События в Иллирии. 18—21.
130 Аппиан. События в Иллирии. 22—24; Дион Кассий. XLEX.37.1—38.1.
212
Часть I. Изложение событий
недоимки по налогам и присягнули на верность римской власти. Другие племена также покорились, и Октавиан привел трехлетнюю Иллирийскую войну к завершению131.
Территориальные приобретения были сравнительно невелики. Но это и не являлось главной задачей. Октавиан дошел до самой Сисции на Саве и продемонстрировал далматийцам римскую мощь, покарав народы, которые нападали на римскую территорию или в прошлом одерживали победы над римскими войсками. Важное значение имело представление этих событий в Риме. Октавиан выступил в сенате и огласил названия почти тридцати племен, которые его войска принудили к покорности, капитуляции и уплате подати. Он с гордостью выставил возвращенные знамена в портике Гнея Октавия, связав, таким образом, свой успех с прежними республиканскими победами131а. Возрос и престиж семьи Окта- виана, поскольку сенат решил даровать трибунскую неприкосновенность Ливии и Октавии и установить им статуи. Как часто случается, значение войны для пропаганды было важнее, нежели осязаемые достижения132.
Римские знамена удерживало в своих руках и еще одно варварское племя — бастарны, проживавшие на Нижнем Дунае. Тридцать лет назад они разбили римскую армию и захватили трофеи. Здесь Октавиан тоже пожелал восстановить римскую честь. В 29 г. до н. э. Марк Лициний Красе, проконсул Македонии, двинулся на север, чтобы схватиться с бас- тарнами, которые, как сообщалось, пересекли горный хребет Гем и вторглись во фракийские области, где жили союзники Рима. Красе вел военные действия на протяжении двух лет: оттеснил бастарнов, одержал победы над другими фракийскими племенами на Нижнем Дунае, в том числе над мезийцами, гетами и, возможно, даками, убил в поединке вождя бастарнов и возвратил римских орлов. В 27 г. до н. э. Красе отпраздновал вполне заслуженный триумф133. Нет никаких свидетельств того, что эти операции в самом деле расширили границы Македонии. Но наказание непокорных племен и возвращение утраченных военных значков должно было демонстрировать и укреплять римскую власть.
Крупное наступление в этом регионе началось лишь через полтора десятилетия. Согласно произведенному в 27 г. до н. э. распределению провинций, сенат отвечал за Далмацию и Македонию, две отдельные и неза¬
131 Аппиан. События в Иллирии. 25—28; Дион Кассий. XLIX.38.3—4, 43.8; Страбон. νΠ.5.5 (315 С).
131а Портик Октавия построил Гней Октавий, претор 168 г. до н. э., в честь своей победы над флотом Персея, царя Македонии. — О. А
132 О перечислении покоренных племен см.: Аппиан. События в Иллирии. 16—17. О знаменах см.: Аппиан. События в Иллирии. 28; Ср.: Дион Кассий. ХЫХ.43.8. О почестях, предоставленных Ливии и Октавии, см.: Дион Кассий. XLEX.38.1. Важность политических результатов справедливо подчеркивает Шмиттеннер, см.: Schmitthenner 1958 (С 304): 218—220, 231—233. Хорошие краткие изложения кампаний см.: Mocsy 1962 (Е 675): 538—539; Wilkes 1969 (Е 706): 49—57. Более подробную библиографию см.: Roddaz 1984 (С 200): 140-145.
133 Военные действия подробно описывает Дион Кассий (Ы.23—27); ср.: Флор. П.26; Ливий. Периохи. 134—135; Danov 1979 (Е 660): 123—127. О триумфе см.: ILS 8810.
Глава 4. Расширение империи при Августе
213
висимые друг от друга проконсульские провинции. Формально такое положение дел существовало в 20-х годах I в. до н. э. и еще несколько последующих лет. Но становилось всё очевиднее, насколько выгодно было бы объединить эти провинции и предпринять наступление на Дунай, что позволило бы взять под контроль сухопутный маршрут из северной Италии в восточные земли. В 16 г. до н. э. беспокойные паннонские племена напали на Исгрию, фракийцы опустошили Македонию, а в Далмации в этом же году пришлось подавлять восстание. В 14 г. до н. э. паннонцы поднялись снова, и опять потребовалось срочно их усмирять134. Теперь Август начал планировать завоевание всерьез. В 14 г. до н. э. военные действия вел Марк Виниций, вероятно, проконсул Иллирика, но вскоре Август поручил верховное командование в этой войне Агриппе, который в следующем году получил широкие полномочия, высшую военную власть (maius imperium)135.
Принцепс явно отнесся к делу очень серьезно. После смерти Агриппы в 12 г. до н. э. он назначил на эту должность Тиберия — своего пасынка, который стал теперь и зятем. Отныне речь шла уже не просто о борьбе со вторжениями племен. Римские войска двинулись против народов, обитавших между Савой и Дравой, предположительно — против воинственных бревков. При содействии скордисков, уже подчиненных римской власти, Тиберий заслужил триумфальные почести за успешные военные действия против паннонцев в 12 г. до н. э., а затем, в 11 г. до н. э., продолжил борьбу с далматинцами и паннонцами. В результате этих операций Рим, видимо, приобрел контроль над долиной Савы и получил возможность наступления на Боснию136. Одновременно война велась во Фракии, где Луций Пизон после трехлетней борьбы покорил враждебные племена и с 11 г. до н. э. утвердил римское господство137. Теперь режим Августа уже всерьез занялся Балканами. Прежняя проконсульская провинция Иллирик перешла под прямую власть Августа, и управлять ею стали легаты принцепса. Спустя недолгое время ее территория простиралась уже от Адриатики до Дуная138. Тиберий провел еще две кампании, в 10 и 9 гг. до н. э.: покорил племена, сопротивлявшиеся римской власти, замирил этот регион и заслужил овацию. Сам Август воздал немалую дань заслугам своего пасынка в «Деяниях»: Тиберий покорил прежде не подвластные никому народы Паннонии и раздвинул границы Иллирика до берегов Дуная139.
134 Дион Кассий. UV.20.2-3, 24.3.
135 Веллей Патеркул. П.96.2; Флор. П.24.8; Дион Кассий. UV.28.1.
136 Дион Кассий. UV.31.2—4, 34.3; Веллей Патеркул. П.96.3; Флор. П.24.8; Светоний. Тиберий. 9; Фест. Бревиарий. 7; Фронтин. Стратегемы. П.1.15.
137 Веллей Патеркул. П.98.1—2; Дион Кассий. UV.34.5—7; Флор. П.27; Danov 1979 (Е 660): 129—131. О взаимоотношениях Рима с дружественными фракийскими правителями см.: Sullivan 1979 (Е 698): 189—204.
138 Дион Кассий. UV.34.4.
139 Деяния Божественного Августа. 30.1; Дион Кассий. UV.36.2; LV.2.4; ср.: Веллей Патеркул. П.90.1. Об операциях с 16 по 9 г. до н. э. см.: Syme 1971 (Е 702): 18—22; Möcsy 1962 (Е 675): 540-541; Wilkes 1969 (Е 706): 63-65.
214
Часть I. Изложение событий
Свидетельства о следующих пятнадцати годах весьма скудны. Можно предположить, что в этот период происходило подлинное замирение провинции, закрепление Рима на Среднем Дунае и устрашение задунайских племен с целью установления контроля над границей. В 8 г. до н. э. Секст Аппулей, легат Августа, завершил покорение паннонцев. В последующие годы были предприняты экспедиции за Дунай: Луций Домиций Агено- барб вернул на прежние места проживания гермундуров, чтобы они сдерживали маркоманнов, и даже дошел со своим войском до Эльбы; эпиграфическое свидетельство сообщает о еще одном легате Августа, возможно, Марке Виниции, который разбил басгарнов и вступил в контакт с несколькими задунайскими племенами; Элий Кат переселил 50 тыс. гетов с дальнего берега Дуная во Фракию, где они стали называться мезийцами; а Гней Корнелий Лентул успешно оттеснил даков и сарматов от Дуная, укрепив тем самым римский контроль над этой рекой140. В эти годы в Мёзии были расквартированы легионы141. Август чрезмерно похваляется тем, что сокрушил даков и вынудил их подчиниться римским порядкам; Страбон повторяет это утверждение, хотя и видоизменяет его142. Положение казалось устойчивым.
Но эта уверенность оказалась преждевременной. В 6 г. н. э. Тиберий собрал войска для решающего броска в Богемию против маркоманнско- го вождя Маробода. Для данной цели римский император призвал солдат из числа внешне покорных иллирийцев. Однако само по себе скопление войск позволило местным частям ощутить собственную силу и многочисленность. Наружу прорвалась национальная гордость, которую подкрепляло недовольство жестокими действиями римских чиновников, взимавших подати, и неистовый боевой дух нового поколения иллирийских воинов. Главным разжигателем вражды стал Батон, вождь десигнатов, проживавших в центральной Боснии. За мятежом десигнатов вскоре вспыхнул бунт бревков в Паннонии, который возглавили Пиннет и другой Батон. Так разразилось великое паннонское восстание, продолжавшееся с 6 по 9 г. н. э. и потрясшее империю до самого основания. Светоний, не слишком преувеличивая, называет его самой опасной внешней угрозой Риму со времен войны с Ганнибалом143.
Повстанцы напали на отряды легионеров и перебили римских купцов. Бревки направились против римского гарнизона в Сирмии и взяли бы
140 Об Аппулее см.: Кассиодор. Хроника. П.35; об Агенобарбе см.: Дион Кассий. LV.10a.2; Тацит. Анналы. IV.44; о Марке Виниции (?) см.: ILS 8965; cp.: Syme 1971 (Е 702): 26—39; Möcsy 1962 (Е 675): 543—544; об Элии Кате см.: Страбон. VH.3.10 (303 С); о Лентуле см.: Флор. П.28—29; Тацит. Анналы. IV.44; Деяния Божественного Августа. 31.2; Syme 1971 (Е 702): 40-72.
141 Дион Кассий. LV.29.3, 30.4; Syme 1971 (Е 702): 50-58.
142 Деяния Божественного Августа. 30.2; Страбон. УП.3.11, 3.13 (304—305 С). Победа над даками, возможно, стала ответом на дакийское вторжение в 10 г. до н. э., см.: Дион Кассий. LIV.36.2.
143 Светоний. Тиберий. 16. Об истоках конфликта и поводе для него см.: Дион Кассий. LV.28.7, 29.3; LVI.16.3. Менее вразумительный рассказ см.: Веллей Патеркул. П. 109.5— 110.5. Ср.: Dyson 1971 (А 25): 250-253.
Глава 4. Расширение империи при Августе
215
город, если бы не своевременное прибытие Авла Цецины Севера, легата Мёзии, который отвратил паннонскую угрозу, хотя и понес тяжелые потери. Тиберий немедленно отменил намеченные операции против Маро- бода и поручил Марку Валерию Мессале, легату Иллирии, обеспечить безопасность другой ключевой римской крепости в Сисции, которая защищала дорогу в северо-восточную Италию. Войска повстанцев в Панно- нии и Далмации не спешили объединить силы; в противном случае римские позиции в Иллирике могли бы рухнуть окончательно. Как бы то ни было, восставшие контролировали большую часть территории между Савой и Адриатическим морем и, как сообщается, собрали армию численностью в 200 тыс. пехотинцев и 9 тыс. конников. Цецина Север вернулся в свою провинцию Мёзия, чтобы защищать ее от вторжений даков и сарматов. Сирмий всё еще находился в уязвимом положении, тогда как Тиберий не мог себе позволить быстро или на большое расстояние удалиться от своей базы в Сисции. Рим был охвачен сильной тревогой. Август, уже серьезно обеспокоенный, распорядился провести чрезвычайный набор, вновь призвал на службу ветеранов, учредил новые налоги, воззвал к патриотическим чувствам сенаторов и всадников и зачислил вольноотпущенников во вспомогательные части иллирийской армии. Прин- цепс послал туда новобранцев под командованием Веллея Патеркула, получившего возможность собственными глазами увидеть войну, которую он затем описал в своем историческом сочинении; кроме того, Август отправил на войну подкрепления во главе с собственным родственником, заслуживавшим доверия, — с Германиком, племянником Тиберия, — и даже перенес свой двор в Аримин, где мог более оперативно реагировать на развитие событий144.
По-настоящему Рим начал восстанавливать свои позиции в 7 г. до н. э. Благодаря подкреплениям, полученным из Италии, численность армии Тиберия достигла пяти легионов. Марк Плавтий Сильван привел два легиона с Востока и объединил силы с армией Цецины в Мёзии. Затем оба полководца вместе с фракийской конницей под командованием Реметал- ка двинулись на запад, на соединение с Тиберием. Возле Волькейских болот их чуть не постигла катастрофа: повстанцы под совместным командованием двух Батонов устроили там засаду. Согласно рассказу Веллея Патеркула, дисциплина, достойная былых времен, помогла сомкнуть прорванные ряды, прекратить панику и обратить поражение в победу145. К зиме 7/8 г. н. э. в Сисции собралось огромное войско численностью в десять легионов, усиленное семьюдесятью вспомогательными когортами, четырнадцатью конными отрядами и десятью с лишним тысячами ветеранов, повторно призванных под знамена в Италии; это было самое многочисленное скопление солдат со времен гражданских войн. Однако, едва эта гигантская масса солдат собралась, Тиберий почти сразу ее распустил, направив подкрепления из Мёзии и с Востока назад в Сирмий146.
144 Дион Кассий. LV.29.3—31.4, 34.3; Веллей Патеркул. П. 110.3-112.2.
145 Веллей Патеркул. П.112. 3—6; Дион Кассий. LV.32.3.
146 Веллей Патеркул. П.113.1—3.
216
Часть I. Изложение событий
Это решение вызывает недоумение. Возможно, собрать войска в одном месте решил Август, мучимый тревогой и нетерпением, не посоветовавшись с Тиберием147. Но более вероятно, что это была тактика устрашения: такая концентрация легионов могла подавить сопротивление повстанцев.
Этот маневр возымел действие. В следующем году, не дожидаясь новой демонстрации римских сил, паннонцы безоговорочно капитулировали и приняли римские условия. Последний шквал налетел в конце года, когда далматийский вождь Батон взял в плен и убил своего тезку-измен- ника из племени бревков и вновь разжег восстание среди паннонцев. Но римский гарнизон в Сирмии под командованием Сильвана подавил мятеж и восстановил порядок. Долину Савы вновь твердо контролировали римляне148.
В 9 г. н. э. оставалось подчинить только Далмацию. Зимой Тиберий вернулся в Рим, но ответственность за окончательное возвращение этих земель под римскую власть легла на трех военачальников: Марка Лепи- да, который остался в Сисции в должности легата, Сильв ана — в Сирмии и Германика — на самом далматийском побережье. Решение это оказалось неудачным. Неопытный Германии мало чего сумел добиться, и Август отправил Тиберия обратно, чтобы тот снова принял командование. Теперь судьба Далмации была решена. Лепид пробился через вражескую территорию и соединился с Тиберием. Тогда грозный Батон, избегавший плена и сопротивлявшийся осаде, наконец принял римские условия — а восхищенный Тиберий пощадил его149.
На ликвидацию этой страшной угрозы римскому владычеству ушло четыре года150. Как обычно, военный успех был конвертирован в политическое влияние. Август использовал эту победу, чтобы предоставить почести членам своей семьи. Германии публично объявил о завершении войны. Принцепс и его пасынок Тиберий отпраздновали триумфы в 10 г. н. э. и были удостоены триумфальных арок в Паннонии, а также других наград. Германику были дарованы триумфальные отличия и преторский ранг. И даже Друз, сын Тиберия, не принимавший никакого участия в войне, был наделен правом посещать сенат и — как только достигнет квестуры — получить преторский ранг151. Однако геополитические последствия войны были еще важнее. Консолидация и организация покоренной территории еще только предстояла. Но завоевание завершилось. Средний Дунай попал под римскую власть и стал важным звеном в цепи коммуникаций, соединившей теперь северную Италию, Балканы и восточные провинции. После 8 г. н. э. принцепс учредил два крупных военных командо¬
147 Так считает Кесгерман, см.: Koestermaim 1953 (С 281): 362—363.
148 Веллей Патеркул. П. 114.4; Дион Кассий. LV.33.1—2, 34.4—7.
149 Дион Кассий. LVI.11—16; Веллей Патеркул. П. 115.1—4. См. анализ Кестермана: Koestermann 1953 (С 281): 368-376; Wilkes 1965 (Е 705): 111-125.
150 О войне в целом см. подробное исследование: Koestermaim 1953 (С 281): 345—378; а также: Möcsy 1962 (Е 675): 544-548; Wilkes 1969 (Е 706): 69-77.
151 Дион Кассий. LVI.17.1—3.
Глава 4. Расширение империи при Августе
217
вания, которым предстояло стать новыми провинциями Далмация и Пан- нония152. Это была крупная и прочная победа.
IX. Германия
Противостояние Рима и Германии развивалось весьма драматично в правление Августа — и породило горячие споры в наше время. С какой целью римляне перешли Рейн, как далеко они намеревались зайти и насколько прочную власть установить? Проникновение в Германию не было изолированным событием. Его следует рассматривать в тесной связи с римским присутствием в Галлии.
Цезарь завоевал Галлию, но не замирил ее окончательно. Октавиан взял дело в свои руки: для укрепления западной части империи это был вопрос первостепенной важности. В начале 30-х годов до н. э. он поручил Марку Агриппе, своему самому надежному сподвижнику, вести войну против восставших племен в Аквитании на юго-западе Галлии и против северо-восточных народов153. Но волнения продолжались. Между 31 и 28 гг. до н. э. произошло три восстания, потребовавших от римлян военного вмешательства: операции велись против моринов, треверов и акви- танов; в итоге три победоносных полководца получили триумфы или императорские аккламации154. Благодаря этим событиям римляне усвоили, что поддержание порядка в Галлии настоятельно требует контроля над германскими племенами за Рейном. Эта проблема встала уже перед Цезарем, когда он столкнулся с крупномасштабными переселениями германцев — сугамбров, узипегов и тенктеров, — которые жили возле реки и испытывали давление могущественных свебов155. Йримечательно и показательно, что беспорядки в Галлии в 30-х и начале 20-х годов до н. э. неизменно происходили при помощи зарейнских племен или вследствие их провокации. Агриппе пришлось вести военные действия на восточном берегу Рейна, треверы получали поддержку от зарейнских германцев, а на помощь моринам пришли свебы156. В 27 г. до н. э. Август упорядочил управление Галлией, провел ценз и, возможно, разделил эту территорию на три части157. Но административные меры не предотвратили беспорядков. Легату Марку Виницию пришлось повести армию против германцев, чтобы отплатить за убийство римских граждан, занимавшихся торговлей в их землях158. В 20—19 гг. до н. э. Агриппа вернулся в Галлию и застал
152 Cp.: Braunert 1977 (С 255): 215-216.
153 Аппиан. Гражданские войны. V.92; Дион Кассий. XLVTII.49.2—3; Евтропий. VII.5; Roddaz 1984 (С 200): 66-75.
154 Дион Кассий. 0.20.5, 21.5—6; Аппиан. Гражданские войны. IV.38; Тибулл. 1.7.3—12; П.1.31-36; ILS 895; CIL I2: 50, 77.
155 Цезарь. Записки о Галльской войне. IV. 1 сл.; cp.: Timpe 1975 (С 321): 125—129.
156 Дион Кассий. XLVni.49.2-3; 0.20.5, 21.6.
157 Дион Кассий. ОП.22.5; Ливий. Периохи. 134; cp.: Drinkwater 1983 (Е 326): 20—21, 95.
158 Дион Кассий. ОП.26.4—5.
218
Часть I. Изложение событий
там знакомую сцену: раздоры среди галлов, усугублявшиеся вмешательством германцев159. Положение мало изменилось со времен Галльских войн, которые Цезарь вел поколением раньше. Рейн был искусственным и довольно неэффективным барьером. Германские племена жили по обе стороны реки. В лучшем случае она являлась пограничной областью, но не установленной границей. И римская Галлия постоянно подвергалась угрозе вторжений из-за Рейна.
Дипломатических мер оказалось недостаточно. Рим вступил в союз с хаттами и, возможно, другими племенами, чтобы использовать их как противовес иным народам, которые могли вторгнуться в римскую провинцию160. Тщетно. В 17 или 16 г. до н. э. сугамбры, узипеты и тенктеры переправились через Рейн, опустошили галльские земли, устроили засаду римскому войску и нанесли позорное поражение легату Марку Лоллию161. В 16 г. до н. э. принцепс лично поспешил в Галлию, чтобы возместить понесенный урон. Ущерб, нанесенный римскому престижу, оказался страшнее материальных потерь. К тому времени, как Август прибыл в Галлию, германцы отступили и сражаться стало не с кем. Конфликт завершился мирным урегулированием162. Но не случайно Август приехал в этот регион и намеревался лично возглавить войско. Нельзя было смириться с поражением Рима, пусть даже незначительным. Настоятельно требовалось продемонстрировать римскому обществу решимость императора. Поэтому он и отправился к месту военных действий. Необходимо было укреплять образ римской власти.
Август провел на Западе три года163. За это время Рим занял более агрессивную позицию, желая обеспечить себе господство в Галлии и устрашить зарейнские племена. Логичным шагом стало основание римских военных крепостей вдоль реки. В итоге на Нижнем и Среднем Рейне было построено шесть лагерей: Фекцион, Новиомаг, Ветера, Новезий, Крепость убиев и Могунциак164. И вновь очевидно, что эти процессы тесно взаимосвязаны с новыми административными мерами, предпринятыми для укрепления римской власти в Галлии165.
Когда в 13 г. до н. э. Август вернулся в Рим, управление Галлией принял на себя Друз, пасынок принцепса166. В следующем году Друз предпринял первую из четырех крупных кампаний против племен, проживавших по ту сторону Рейна. Эта операции дали историкам пищу для размышлений о мотивах римлян и их предполагаемых намерениях завоевать всю территорию до Эльбы или даже далее. Разумнее признать, что
159 Дион Кассий. LTV. 11.2. О деятельности Агриппы см.: Roddaz 1984 (С 200): 383—402.
160 Дион Кассий. UV.36.3; Timpe 1975 (С 321): 135-139.
161 Дион Кассий. LIV.20.4—5; Веллей Патеркул. П.97.1; Светоний. Август. 23; Тацит. Анналы 1.10; Обсеквент. 71.
162 Дион Кассий. LTV. 19.1, 20.6; Веллей Патеркул. П.97.1; Светоний. Август. 23.
163 Дион Кассий. I2V.25.1.
164 Археологические свидетельства, не позволяющие установить точные даты, см.: WeUs 1972 (Е 601): 94-148; cp.: Schönberger 1969 (Е 591): 144-147.
165 О деятельности Августа в Галлии см.: Frei-Stolba 1976 (Е 615): 355—365.
166 Дион Кассий. LIV.25.1.
Глава 4. Расширение империи при Августе
219
существует постоянная взаимосвязь между подавлением галльских беспорядков и мерами римлян по устрашению германских народов, которые способствовали или могли способствовать этим беспорядкам. В источниках эта взаимосвязь очевидна. Друз основал алтарь Августа в Лугдуне (см. с. 125 наст, изд., где высказано мнение о том, что это произошло в 10 г. до н. э.), чтобы таким образом укрепить лояльность галлов режиму Августа. Но проведенный им ценз, сопровождавшийся, вероятно, денежными взысканиями, привел к новому бунту, осложненному вмешательством германских племен с обоих берегов Рейна167. Таким образом, кампании Друза в Германии были обусловлены уже знакомыми трудностями. Друз усиливал давление на германцев, чтобы укрепить римскую власть в Галлии.
Кампании продлились четыре года, набирая силу, и римляне продемонстрировали варварам такую мощь, какой те еще не видывали. В 12 г. до н. э. Друз начал военные действия с атаки на сугамбров, которых застиг на галльском берегу Рейна, и на узипетов, проживавших за рекой. После этого он предпринял десантную операцию на побережье Северного моря и, заключив союз с фризами, вторгся в земли хавков168. В следующем году римляне начали масштабное наступление. Друз покорил узипетов, построил мост через Липпе и прошел сквозь территорию сугамбров в земли херусков, до самой реки Везер. Наступление зимы вновь вынудило его вернуться на Рейн, но сперва он разместил гарнизон на слиянии Липпе и Элизо, возможно, в Хальтерне, и еще один — возле Рейна, в области хаттов. Эти свершения принесли Друзу триумфальные отличия169.
Зимой 11/10 г. до н. э. Август сам проводил Друза в Галлию, чтобы посетить там алтарь в Лугдуне и изучить положение дел в Германии. Вновь поражение германцев было тесно связано с консолидацией Галлии. В следующем сезоне военных действий, в 10 г. до н. э., Друз одержал новые победы над сугамбрами и хаттами, которые покинули земли, предоставленные им в соответствии с прежним дипломатическим соглашением с Римом170.
Более масштабные успехи ознаменовали четвертую, и последнюю, кампанию Друза в 9 г. до н. э. Вторжение он начал, по-видимому, из Мо- гунциака, снова атаковал хаттов, на Верхнем Майне нанес поражение ожесточенно сопротивлявшимся маркоманнам, повернул на север в страну херусков, снова пересек Везер и дошел до Эльбы. Однако на этой реке его дорога окончилась. Друз повернул назад, в результате несчастного
167 Ливий. Периохи. 139; Дион Кассий. UV.32.1; ILS 212.11, стк. 36—39; Timpe 1975 (С 321): 142; Dyson 1975 (С 266): 155—156.
168 Дион Кассий. LTV.32.1—3; Ливий. Периохи. 139. В ходе этой кампании, вероятно, была одержана победа над бруктерами при Эмсе, см.: Страбон. VII.1.3 (290 С).
169 Дион Кассий. LIV.33.1—5; Ливий. Периохи. 140; Флор. П.30.23; Светоний. Клавдий. 1.2—3. О Хальтерне см.: Wells 1972 (Е 601): 163—211.
170 Дион Кассий. UV.36.3—4; Орозий. VI.21.15; Ливий. Периохи. 141. Спекулятивную реконструкцию см.: Timpe 1967 (С 316): 296—300.
220
Часть I. Изложение событий
случая сломал ногу и умер на пути к Рейну171. Что именно остановило его наступление на Эльбе, не уточняется. Но политика Августа требовала, чтобы события были представлены в наилучшем свете. Друз, подобно Александру Великому на Гифазисе, установил на Эльбе трофеи, чтобы обозначить продвижение, а не отступление. Кроме того, своевременно всплыла история о том, что Друза остановило божественное видение, предсказавшее судьбу его похода172. Отступление объяснялось волей богов, а не поражениями римлян. В Риме памяти Друза и его подвигам были оказаны тщательно продуманные почести173. Как бы ни обстояло дело в действительности, Август — в данном случае, как и всякий раз, — настойчиво создавал видимость победы.
Каковы же были достижения Рима? Операции Друза представляли собой скорее вторжения, нежели завоевания, а германцев удалось скорее устрашить, нежели покорить. Но это были не просто «наскоки — отходы». Друз оставил после себя осязаемые напоминания о римской власти. Дион Кассий сообщает о размещении за Рейном двух гарнизонов в 11 г. до н. э.; Флор, явно преувеличивая, говорит о многочисленных крепостях и сторожевых постах, основанных вдоль Мааса, Везера и Эльбы174. Археологические данные свидетельствуют о существовании крупных войсковых баз в Хальтерне и Оберадене на Липпе, а также гарнизонов в других местах, но отнесение их ко времени вторжений Друза остается неподтвержденным, так как точную хронологию установить невозможно175.
Но не следует считать эти гарнизоны признаком постоянной и полномасштабной оккупации. После смерти брата на сцену поспешно вышел Тиберий, и, если верить Веллею Патеркулу, панегиристу Тиберия, то в 8 г. до н. э. этот победоносный полководец покорил всю Германию, не понеся никаких потерь. Другие источники содержат некоторые подробности: Тиберий убедил всех германцев, кроме сугамбров, согласиться на мирный договор, однако Август отказался заключать мир без сугамбров, что стало для римлян удобным предлогом, который позволил им сохранять свободу действий и оставаться в Германии. Затем Тиберий переселил 40 тыс. германцев на галльский берег Рейна176. После смерти Друза столь наглядная демонстрация римской власти оказалась необходима. Но было бы опрометчиво говорить об организации Германии как провинции империи и о римской власти, простиравшейся до Эльбы177. Действительно, даже Веллей, вряд ли склонный приуменьшать достижения Тибе¬
171 Дион Кассий. LV.1.2—5; Флор. П.30.23—27; Страбон. УП.1.3 (291 С); Ливий. Периохи. 142; Светоний. Клавдий. 1.2—3.
172 Дион Кассий. LV.1.3; ср.: Светоний. Клавдий. 1.2. Значение рассказа о видении Друза см. в работе: Timpe 1967 (С 316): 289—306.
173 Дион Кассий. LV.2.1—3; Ливий. Периохи. 142; Светоний. Клавдий. 1.3—5; Тацит. Анналы. П.7.
174 Дион Кассий. LIV.33.4; Флор. П.30.26.
175 Schönberger 1969 (Е 591): 147-149; Wells 1972 (Е 601): 161-233.
176 Дион Кассий. LV.6.2—3; Светоний. Август. 21; Тиберий. 9; ср.: Тацит. Анналы. П.26; ХП.39.
177 Как говорят, напр.: Wells 1972 (Е 601): 156-157; Kienast 1982 (С 136): 300-301.
Глава 4. Расширение империи при Августе
221
рия, говорит лишь о доведении Германии «почти до состояния платящей подать провинции». И Флор признаёт, что германцы были скорее побеждены, чем покорены178. Рим удерживал лишь отдельные части германской территории179. Как часто случалось, римские победы выглядели весьма внушительно, но римская власть в Германии была далеко не столь прочна.
Политика Августа по-прежнему определялась необходимостью демонстрировать в Германии римскую мощь. На территории убиев, населявших прибрежные районы Рейна, в крепости, которая позднее стала называться Колония Агриппины (Кёльн), был воздвигнут алтарь Августа. Жрецом этого культа был назначен херуск, что явно должно было служить доказательством верности германцев принцепсу и его режиму180. Военные вторжения римлян вновь и вновь напоминали об имперской власти. В 7 г. до г. э. Тиберий подавил какие-то мелкие беспорядки181. Незадолго до 1 г. н. э. Луций Домиций Агенобарб предпринял более крупную экспедицию. Он возглавил войско, расквартированное на Дунае, по дороге встретил племя гермундуров и поселил его на Верхнем Майне, на земле, с которой ушли маркоманны, переправился через Эльбу, не встретив никакого сопротивления, заключил союз с племенем на том берегу реки и воздвиг там еще один алтарь Августа в знак того, что последнему верна даже столь отдаленная область. Предположение, что эта экспедиция готовила почву для римского вторжения в Богемию, является избыточным. Она нужна была, чтобы укрепить римское влияние в Германии, не подвергаясь излишнему риску. Домиций даже оказался вовлечен во внутриплеменные конфликты херусков. Однако он позаботился о том, чтобы на зиму отвести своих солдат назад, в более безопасные рейнские области182. Марк Виниций, преемник Домиция, счел необходимым или выгодным вступить в борьбу с германскими племенами и, как сообщается, в 1 г. н. э. начал крупную войну. В источниках нет сведений о том, где и как именно велись военные действия. Но Виниций получил триумфальные отличия, и постановление, принятое в честь его подвигов, было увековечено в надписи183. Август по-прежнему поддерживал в обществе представление о непрерывных победах и господстве Рима в Германии.
В 4 г. н. э. был предпринят, по-видимому, более решительный поход. Тиберий вновь обрел расположение своего отчима, был усыновлен им и
178 Веллей Патеркул. П.97.4; Флор. П.30.29—30. Утверждение Флора (П.30.22), будто Август желал сделать Германию провинцией в память о Юлии Цезаре, не следует воспринимать всерьез.
179 Дион Кассий. LVT.18.1; cp.: Christ 1977 (С 260): 189-198.
180 Тацит. Анналы. 1.32, 57.2.
181 Дион Кассий. LV.8.3.
182 Дион Кассий. LV.10a.2-3; Тацит. Анналы. IV.44. Вышеуказанное предположение о цели Домиция высказал Сайм, см.: Syme 1934 (С 312): 365—366. Вопрос о том, откуда Агенобарб начал поход, остается спорным, см.: Syme 1934 (С 312): 365—366; Timpe 1967 (С 317): 280-284; Wells 1972 (Е 601): 158-159; Christ 1977 (С 260): 181-183.
183 Веллей Патеркул. П. 104.2.
222
Часть I. Изложение событий
сразу же получил назначение в Германию. Восхваляющий его Веллей Патеркул описывает эти события слишком льстиво. Слезы радости якобы наполнили глаза солдат, когда они приветствовали удостоенного множества наград полководца, под командованием которого многие из них уже служили в разных частях империи. По словам Веллея, Тиберий покорил кананефатов, аттуариев и бруктеров, восстановил римскую власть над херусками, переправился через Везер и встал на зимние квартиры у истоков Липпе184. Еще более красноречиво Веллей повествует о второй кампании в 5 г. н. э.: войска Тиберия пересекли всю Германию, снова разбили хавков, сломили могущество грозных лангобардов; флот увенчал этот успех, поднявшись вверх по Эльбе. Согласно Веллею, в эти два года Тиберий одерживал победы повсюду, его армия не несла никаких потерь. Вся Германия была покорена, за исключением маркоманнов185. Это явное преувеличение. Восклицания Веллея не внушают большого доверия. Среди прочего он называет Тиберия первым римским полководцем, достигшим Эльбы и перезимовавшим в Германии186. Дион Кассий дает краткую и умеренную оценку: Тиберий продвинулся до Везера и Эльбы, но не совершил ничего достойного упоминания187. Единственным результатом этой кампании стали мирные соглашения с германцами, при этом легат1873· получил триумфальные отличия, а принцепс и его сын были провозглашены императорами188. Контраст между видимостью и реальностью сохранялся.
Следующим на повестке дня стояло наступление Рима на маркоманнов. Вследствие нападений Друза в 9 г. до н. э. они покинули земли своих предков в долине Майна и к рассматриваемому времени основали новое царство во главе с грозным правителем Марободом189. Эта держава граничила с областями, подвластными Риму или связанными с ним: с Пан- нонией, Нориком и соседними германскими племенами. Некоторые из этих племен Маробод подчинил своей власти, а другие склонил к союзу. Он не предпринимал никаких враждебных империи шагов, но его положение и авторитет вызывали в Риме беспокойство190. В 6 г. н. э. римское верховное командование разработало план наступления с двух направлений. Тиберий должен был привести иллирийскую армию из Карнунта на Дунае, а легат Сенций Сатурнин — пройти во главе рейнских легионов с
184 Веллей Патеркул. П. 104.3—105.3.
185 Веллей Патеркул. П. 106.1—3, 107.3, 108.1. То же самое сообщает и Ауфидий Басс, см.: Peter Н. Historicorum Romanorum reliquiae (Stutgardiae, 1967) Π: 96 (φρ. 3).
186 Веллей Патеркул. Π. 105.3, 106.2.
187 Дион Кассий. LV.28.5; cp.: Timpe 1967 (С 317): 284—288. Следует отметить, что после операций 5 г. н. э. Тиберий, видимо, вернулся на зимние квартиры на Рейне, см.: Веллей Патеркул. П. 107.3.
187а Легата звали Гай Сенций Сатурнин (консул 19 г. до н. э.). — О.Л.
188 Дион Кассий. LV.28.6.
189 Веллей Патеркул. П.108.1—2; Страбон. УП.1.3 (290 С); Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. 42; ср.: Флор. П.30.23—24; Дион Кассий. LV.1.2. О Ма- рободе см.: Dobias 1960 (С 264): 155—166.
190 Веллей Патеркул. П. 108.2—109.4; Страбон. ΥΠ.1.3 (290 С).
Глава 4. Расширение империи при Августе
223
запада через земли хатгов, чтобы взять Маробода в клещи191. Этот план так и не был осуществлен. Когда двум армиям оставалось всего несколько дней до соединения, пришли вести о восстании в Паннонии, которые ввергли Августа в панику, и вторжение в Богемию было отменено192. Вместо этого состоялись мирные переговоры, и Маробод стал другом и союзником Рима. Конечно, каждая сторона интерпретировала этот исход сообразно собственным вкусам: Маробод представил дело так, словно соглашение уравнивало его с противником193, однако, с римской точки зрения, маркоманнский правитель был принужден к сохранению мира194. Эта версия вполне устраивала общественное мнение.
Великое восстание в Паннонии связывало значительную часть римских войск в течение трех с лишним лет — с б по 9 г. н. э. В эти годы в Германии было на удивление спокойно. Маробод соблюдал договор, и на остальных землях, казалось, царил мир. На Рейне оставалось пять легионов, но владычество Рима, по-видимому, ощущалось в Германии довольно слабо. Римская власть распространялась на некоторые племена, но далеко не на все. Развитие городов, торговли и мирных собраний, начавшееся с приходом римлян, протекало без видимого сопротивления195. Новый легат Публий Квинтилий Вар, связанный через брак с семьями Августа и Агриппы, был более привычен к миру, чем к войне, и лучше умел администрировать, чем командовать войсками196. Поэтому основное внимание он уделял установлению законов, отправлению правосудия и взиманию налогов, чем римляне в Германии прежде не занимались. Дион Кассий очень кстати отмечает, что Вар вел себя так, словно германцы были покоренным народом. Стремясь возложить на легата ответственность за грядущее бедствие, другие источники подчеркивают присущее Вару сочетание жадности и бездарности197. Его политика подтолкнула германцев к подрывному движению, которое мотивировалось, вероятно, не только негодованием, но и пренебрежением. Их вожди презирали знаки римской власти — прутья, топоры и тоги — и скрывавшуюся за ними пустоту198.
Подробности восстания здесь можно опустить. Повстанцев вдохновил и возглавил Арминий, молодой воин из правящего дома херусков. Они внушили Вару излишнюю самоуверенность, а затем завлекли его в засаду. В сентябре 9 г. н. э. в окрестностях Тевтобургского леса Вар потерял
191 Веллей Патеркул. П. 109.5; ср.: Тацит. Анналы. П.46.
192 Веллей Патеркул. П.110.1—3; Дион Кассий. LV.28.7.
193 Тацит. Анналы. П.46, 63.
194 Тацит. Анналы. П.26; ср.: П.45.
195 Дион Кассий. LVI.18.1—2. Об этом пассаже см. проницательные замечания Криста: Christ 1977 (С 260): 194—198, с возражениями против мнения Тимпе: Timpe 1967 (С 317): 288-290; Timpe 1970 (С 319): 81-90.
196 Веллей Патеркул. П. 117.2. О его родстве с императорским домом см.: PKöln I: 10; АЕ 1966: 425.
197 Дион Кассий. LVL18.3; Веллей Патеркул. П.117.2-118.1; Флор. П.30.31.
198 Тацигг. Анналы. 1.59.
224
Часть I. Изложение событий
жизнь, а Рим — три легиона; такая катастрофа не имела себе равных в правление Августа199.
Известие об этом потрясло принцепса и произвело на него гнетущее впечатление. Сообщается, что Август несколько месяцев не стриг волосы и не брил бороду в знак траура и не раз издавал знаменитый сгон: «Вар, верни мои легионы!»200 Эти драматические жесты подтверждают распространенное мнение о том, что поражение Вара стало важным поворотным пунктом в германской политике Августа: от плана замирить всю Германию до Эльбы пришлось отказаться, и границы империи были отодвинуты назад, к Рейну201. Но, возможно, здесь интереснее указать на преемственность политики, чем подчеркнуть разрыв. Август не предпринял никаких публичных шагов в знак отказа от Германии. Как раз наоборот. Принцепс тут же поручил Тиберию, только что одержавшему победу в Паннонской войне, вновь принять командование рейнской армией. Вскоре эти войска были усилены подкреплениями, собранными отовсюду, и достигли восьми легионов, что существенно превышало прежнюю численность армии в этом регионе. Август не дал ни намека на отступление. Тиберий вновь обеспечил лояльность Галлии, разместил в ней войска и укрепил гарнизоны202. В 10—11 гг. н. э. опытный командир счел за лучшее не выдвигаться далеко за Рейн: он ограничился осторожными рейдами и демонстрациями. Но и демонстрации имели важное значение. Веллей Патеркул представляет их как энергичные наступательные маневры и агрессивные военные действия, и, несомненно, именно такое впечатление и желал создать Август203. О событиях 12 и 13 гг. н. э. свидетельств нет, но, без сомнения, римские войска не жались за рейнской границей. Римские отряды оставались в земле хавков — либо их только теперь туда направили204. А в 13 г. Август поручил молодому Герм анику, ранее служившему в 11 г. н. э. под командованием Тиберия на Рейне, верховное командование в этом регионе. Это было не просто сдерживание противника. Германику предстояло вести активные наступательные операции во внутренней Германии. Тацит четко указывает мотив: война с германцами объяснялась не столько стремлением расширить империю или приобрести ощутимые выгоды, сколько желанием смыть позор по-
199 Веллей Патеркул. П.118.2—119.5; Дион Кассий. LVI. 18.4—22.2; Тацит. Анналы. 1.57— 61; Светоний. Август. 23; Тиберий. 17. Рассказ Флора (П.30.32—38) недостоверен. О месте сражения см.: Koestermann 1957 (С 282): 441—443. Об Арминии см.: Timpe 1970 (С 319): 11—49; Dyson 1971 (А 25): 253—258. Называя Арминия «освободителем Германии» («liberator Germaniae»), Тацит [Анналы. П.88) не подразумевает, что до его победы Рим уже оккупировал эту территорию как провинцию.
200 Светоний. Август. 23.2; Орозий. VI.21.27.
201 Ср.: Флор. П.30.39.
202 Веллей Патеркул. П. 120.1; Дион Кассий. LVI.23.2—4. Восемь рейнских легионов перечислены у Тацита [Анналы. 1.37).
203 Веллей Патеркул. П. 120.1—2, 121.1; Дион Кассий. LVI.24.6; LVL25.2—3; Светоний. Тиберий. 18.
204 Тацит. Анналы. 1.38.
Глава 4. Расширение империи при Августе
225
ражения Вара205. Принцепс не мог допустить, чтобы эта катастрофа оставила пятно на римской чести.
Кампании Германика после смерти Августа будут рассмотрены далее. Здесь достаточно указать, что в 15 и 16 гг. н. э. эти кампании скорее вписываются в давно знакомый шаблон, нежели знаменуют очевидный разрыв с прошлым. Это еще один пример постоянного несоответствия между реальными достижениями и объявлениями о них. Герм аник собрал флот и сухопутные войска, переправился через Везер, объявил о крупных победах, но достиг очень немногого206. Несмотря на это — или, скорее, вследствие этого, — он был удостоен высоких почестей. Герм аник отпраздновал великолепный триумф, а его легаты получили триумфальные отличия. В ходе триумфа побежденными были провозглашены племена херусков, хатгов, ангривариев и другие народы, обитавшие к западу от Эльбы; подобные утверждения весьма плохо соотносились с реальностью207. Когда в 16 г. н. э. Тиберий отозвал Германика в Рим, молодой полководец выразил разочарование — утверждалось, что еще один год, и война была бы завершена208. Правдоподобные или нет, такие заявления были неизбежны, и Тиберий их не оспаривал. Рим прекратил наступательные операции за Рейном, но он желал дать понять, что мог бы покорить Германию в течение года, если бы захотел209.
Трудно дать определение германской «политике» Августа в целом и, пожалуй, бесполезно даже пытаться это сделать. Обозначить ее как «оборонительную» или «империалистическую» было бы чрезмерным упрощением210. И ошибочно было бы считать, что римские операции в Германии следовали какому-то неизменному плану.
Первые вторжения за Рейн в начале правления Августа были обусловлены необходимостью навести порядок в Галлии и замирить ее. Рим экспериментировал с войной и дипломатией, устрашая враждебные племена и заключая союз с одними германцами, чтобы нейтрализовать других. Ужасное поражение Лоллия потребовало более жестких мер — не ради удовлетворения империалистических устремлений, а ради восстановления престижа империи. На Рейн прибыли легионы, а в ключевых пунктах вдоль реки были возведены крепости. Сам Август вернулся в Галлию, чтобы провести административные реформы и продемонстрировать, ка¬
205 Тацит. Анналы. 1.3.6; ср.: Веллей Патеркул. П. 123.1. Этот мотив подтверждает и Страбон. VII.1.4 (291-292 С).
206 О кампаниях Германика см.: Koestermann 1957 (С 282); ср. анализ Телыпова: Telschow 1975 (С 315): 148-182.
207 Тацит. Анналы. 1.55.1, 72.1; П.41.2-4; Страбон. УП.1.4 (291 С); Timpe 1968 (С 318): 41-77.
208 Тацит. Анналы. П.26.
209 Страбон (УП.1.4 (291 С)), создававший свой труд после смерти Августа, подразумевает, что принцепс так и не отказался от Германии к западу от Эльбы.
210 Подробное изложение мнений, высказанных к началу XX в., см.: Oldfather, Canter 1915 (С 294): 9—20, 35—81. Более новый обзор см.: Christ 1977 (С 260): 151—167. См. также: Welwei 1986 (С 323): 118-137.
226
Часть I. Изложение событий
кое значение он придает этой территории. Защита галльских провинций и экспансия в Германию были взаимодополняющими, а не противоположными стратегиями. В последующие несколько лет пасынки принцеп- са, сперва Друз, а затем Тиберий, принесли римские знамена в земли варваров и в ходе военных действий одержали впечатляющие победы, продвинулись до Эльбы, переселили несколько народов и разместили гарнизоны в избранных пунктах. Никакая конечная цель прямо не провозглашалась и, вероятно, не формулировалась. В итоге Рим добился гораздо большего, чем простая демонстрация силы, но до организации провинции было еще далеко. Алтари в Кёльне и на Эльбе символизировали верность германцев принцепсу, а когда Домиций перешел Эльбу и связал новые народы дружбой (amicitia) с Римом, это доказало способность римлян влиять на события в любой части обширных германских земель, где только они пожелают. Размещение гарнизонов во внутренней Германии предполагало, что римское присутствие не станет ни кратким, ни мало- значимым. Но полководцы по-прежнему отводили свои основные силы к Рейну в конце почти каждого сезона военных действий. Август предпочитал демонстрировать власть, но не рисковать ею.
Назначение Тиберия в Германию в 4 г. н. э. свидетельствовало о том, что принцепс вернул доверие своему только что усыновленному пасынку и дал ему возможность обрести новые лавры. Эти военные действия скорее укрепили римскую славу, нежели принесли прочные завоевания. Покорение маркоманнов могло бы стать реальным результатом, но от него пришлось отказаться, так как войска срочно потребовались в другом месте. Вместо новых кампаний легат Вар начал более систематически пускать в ход свою судебную и финансовую власть. Но эти перемены вызвали ответную реакцию — и катастрофу. Августу пришлось приспосабливаться к новым обстоятельствам. Хотя он не мог заменить три легиона Вара новыми, у него была возможность перевести на Рейн легионы из других частей империи. Назначение туда Тиберия и Германика после поражения Вара должно было опровергнуть всякие мысли о слабости Рима. А их операции предназначались для демонстрации того, что свою власть в Германии Рим способен восстановить, как только обстоятельства вызовут эту необходимость.
Как бы ни менялось поведение римлян и их решения, преемственность всё же была велика: первостепенное значение имел авторитет Рима на международной арене и его превосходство над всеми соперниками. Об этом свидетельствуют скорое отмщение после каждого поражения, своевременное прибытие принцепса и его пасынков на место военных действий, основание гарнизонов, развитие императорского культа, экспедиции (пусть краткие и мимолетные) на Эльбу, регулярное дарование полководцам триумфальных почестей и императорских аккламаций2101,
210а В эпоху Республики после важной победы войско могло торжественно провозгласить своего полководца императором, что было просто почетным титулом. В правление Августа данный обычай сохранялся, но, поскольку все полководцы действовали под его
Глава 4. Расширение империи при Августе
227
демонстрация символов римских магистратов, введение административного регулирования и стремление публично возместить каждую неудачу. Последним штрихом в картине может служить упоминание о Германии в «Деяниях». Август пренебрегает точностью ради пропаганды: наряду с Галлией и Испанией он называет Германию как свидетельство того, что им умиротворена вся Европа от Гадеса до Эльбы211.
X. Имперская идеология
Исследователи давно расходятся в оценках имперской политики Августа. Считать ли его непреклонным сторонником экспансии или благоразумным правителем, установившим границы империи? Вел ли он агрессивную империалистическую политику или оборонительную? Был ли он завоевателем или миротворцем?
Выражение «Августов мир» («Pax Augusta») стало общепринятой характеристикой нового порядка, установленного принцепсом212. Однако в современных исследованиях эта фраза повторяется слишком часто, и мы забьюаем, что в источниках эпохи самого Августа она обнаруживается редко. Время от времени она встречается в посвящениях частных и должностных лиц в италийских или провинциальных городах213. Но правительство не провозглашало такого лозунга.
Часто утверждается, что Август установил пределы территориального расширения и рекомендовал удерживать империю в заданных границах. Но свидетельства в пользу этого вывода слабы и сомнительны. Возвращение знамен из Парфии в 20 г. до н. э. побудило принцепса объявить, что держава может оставаться в существующих границах, но эту позицию он занимал, в лучшем случае, лишь временно и недолго214. Он направил полководцам предписание не преследовать врагов за Эльбой, но и это было краткосрочное ограничение, которое позволило сконцентрировать усилия на другой войне, но вовсе не рассматривалось как фиксация достигнутых рубежей215. Более важен (или может таковым показаться) документ, который был зачитан в сенате после смерти Августа и якобы содержал его совет сохранить империю в существующих границах216. Его подлинность остается сомнительной. Возможно, у Тиберия были причины искать посмертного одобрения Августа для той политики, какой он собирался следовать. А утверждение, приписанное Августу Дионом Кас¬
верховным командованием, все такие аккламации принадлежали ему, и на момент смерти он был провозглашен императором двадцать один раз. Тем не менее некоторым своим полководцам, в частости Тиберию, он тоже позволял носить этот титул. — О. А
211 Деяния Божественного Августа. 26.2
212 Ср., напр.: Stier 1975 (А 91): 18-42; Fears 1981 (С 267): 884-889.
213 ILS 3787, 3789; IGRR IV: 1173; cp.: Weinstock I960 (F 617): 47-50.
214 Дион Кассий. LTV.9.1; ср.: ЦП. 10.4^5.
215 Страбон. VII.1.4 (291 С).
216 Тацит. Анналы. 1.11.7; Дион Кассий. LVI.33.5—6.
228
Часть I. Изложение событий
сием, о том, что тот никогда не присоединял земли варварского мира, звучит абсурдно217.
Военные свершения Августа не позволяют говорить о какой-либо его последовательной политике установления границ или склонности к пацифизму. Полководцы принцепса продвинулись за первый порог Нила в Египте, распространили римское влияние на Эфиопию и вторглись в Аравию. Август превратил Иудею в провинцию, бряцал оружием на границах Парфии и поддерживал непрямую гегемонию в Армении. Римские войска покорили северо-западную Испанию и вели войны против племен Северной Африки. Август или его подчиненные сражались с далматийца- ми и паннонцами, собрали военные силы для войны с маркоманнами и заложили основы для создания римских провинций на Дунае. Принцепс разгромил альпийские племена, открыл горные проходы, покорил Рецию и оккупировал Норик. Римляне переправились через Рейн, разместили гарнизоны в Германии и направили войска на Эльбу. Перечнем завоеваний Август затмил всех своих предшественников. Его режим процветал благодаря экспансионизму — или, по крайней мере, благодаря экспансионистскому реноме.
Август производил впечатление агрессора даже там, где не намеревался предпринимать агрессивных шагов. Лучшим примером служит Британия. Дион Кассий сообщает, что принцепс трижды давал понять, будто собирается предпринять экспедицию на этот отдаленный остров: в 34, 27 и 26 гг. до н. э. И всякий раз удачно возникали другие неотложные дела, побуждавшие его отложить это предприятие, — соответственно, восстание в Далмации, нестабильность в Галлии и Кантабрийская война218. В 30—20-е годы вторжение в Британию представлялось его современникам делом решенным, как и ее завоевание. О распространенности этого общественного восприятия свидетельствуют постоянные намеки в стихах Вергилия, Горация и Проперция219. Позднее Августу удалось вообще отказаться от этой идеи под благовидным предлогом: британские цари направили посольства, совершили жертвоприношения на Капитолии и формально признали власть принцепса. Это было ничем не хуже завоевания — и несравненно дешевле220. После этого Британию можно было игнорировать, и Август прямо называл это политическим решением221. Агрессивная позиция, которую он занимал ранее, тоже была обусловлена политическим решением.
217 Дион Кассий. LVL33.6. Утверждение Светония [Август. 21.2) о том, что Август не стремился расширять империю или умножать свою военную славу, — несуразица. Об этих вопросах см.: Ober 1982 (С 293): 306—328.
218 Дион Кассий. XUX.38.2; 1Ж22.5, 25.2.
219 Вергилий. Буколики. 1.67; Георгики. 1.29; Ш.25; Гораций. Эподы VII.7; Гораций. Оды 1.21.13, 35.29—30; Ш.4.34, 5.2—4; IV. 14.47; Проперций. П.27.5; IV.3.9; cp.: Momigliano 1950 (С 290): 39—41.
220 Страбон. IV.5.3 (200 С). Эти посольства следует отличать от прибытия ко двору Августа изгнанных британских правителей с просьбами о помощи, см.: Деяния Божественного Августа. 32.1.
221 Тацит. Агрикола. 13.
Глава 4. Расширение империи при Августе
229
В державе Августа первостепенное значение имела репутация. Республиканские прецеденты помогли сформировать идеологию Принципата — не столько ее конституционные аспекты, сколько образ военных побед. В эпоху Республики лозунгом редко становился мир (рах). На монетных легендах преобладала Виктория, самыми ценными наградами служили триумфы, ораторы звучными фразами прославляли расширение территории и господство Рима над миром222. Именно в этом контексте следует рассматривать имперскую позицию Августа223.
После поражения Антония и Клеопатры в руках победителя оказалась беспрецедентная власть. Он, быть может, попытался исцелить раны, нанесенные гражданской войной, но позаботился и о том, чтобы увековечить свою победу и упрочить напоминания о ней. В память об этом свершении было возведено два новых города, каждый из которых носил внушительное название Никополь:223а один на месте лагеря Октавиана при Акции, второй — в честь битвы при Александрии, которой завершилась война. В эпирском Никополе победитель субсидировал игры, расширил храм Аполлона, возвел трофей и поставил огромную надпись, чтобы увековечить свой триумф224. А в 29 г. до н. э. Октавиан отпраздновал тройной триумф в честь своих побед в Иллирии, при Акции и в Александрии; это эффектное зрелище продолжалось три дня225. Было совершенно ясно, что эти памятники и церемонии превозносили не мир (рах), но славу (gloria) победителя.
Эта празднества заложили основы системы литературных и визуальных образов, в рамках которой преподносили себя принцепс и его правительство. В «Деяниях Божественного Августа» эта система выражена недвусмысленно. Август перечисляет свои победы во внешних войнах и почести, предоставленные ему за эта победы дома: овации, триумфы, императорские аккламации, присоединение Египта, наступление на Эфиопию и Аравию, возвращение восточных провинций и захваченных знамен, победа над паннонцами и даками, замирение Альп, Галлии, Испании и Германии и расширение иллирийских границ до Дуная226. Август подводит итог собственным достижениям, заявляя, что раздвинул границы каждой провинции, чтобы преподать урок народам, не признававшим
222 См., налр.: Цицерон. О Манилиевом законе. 53; Цицерон. В защиту Мурены. 22; Цицерон. 06 обязанностях. 1.38; П.26; Цицерон. Филиппики. УШ.12. О Виктории как символе см.: Fears 1981 (С 268): 773—804. О республиканском отношении к милитаризму и завоеваниям см.: Harris 1979 (С 273): 10-41; ср.: Brunt 1978 (С 257): 162—172; Jal 1982 (С 279): 143-150.
223 Подробнее о вопросах, рассмотренных ниже, см.: Gruen 1986 (С 271): 51—72.
223а В переводе с греческого: «Город Победы». — 0.Λ
224 Об эпирском Никополе см.: Страбон. УП.7.5—6 (324—325 С); Х.2.2 (450 С); Плиний Старший. Естественная история. IV. 1.5; Павсаний. Х.8. 2—3; Х.38.2; Дион Кассий. 0.1.2—3; ЫП.1.4—5; Светоний. Август. 18; о надписи см.: Oliver 1969 (В 259): 178—182; Carter 1977 (В 216): 227—230; об александрийском Никополе см.: Страбон. ΧΥΠ.1.10 (795 С); Дион Кассий. 0.18.1; см.: Hanson 1980 (С 116): 249-254.
225 Светоний. Август. 22; Дион Кассий. 0.21.5—9.
226 Деяния Божественного Августа. 26.2—5, 27.1, 27.3, 29.1—2, 30.1—2; cp.: Nicolet 1988 (А 69): 28-^0.
230
Часть I. Изложение событий
римский империи221. Правда, принцепс ставит себе в заслугу установление мира (рах). Но это был мир, достигнутый силой оружия. Август заявляет также, что в его правление храм Януса закрывался трижды, но его закрытие означало не длительный мир, а неуклонное покорение врагов и замирение империи227 228. «Деяния» не содержат ни оправданий, ни обоснований. Август считал само собой разумеющимся, что римские завоевания и экспансионизм вполне правомерны229. Сама преамбула к этому документу очень точно обобщает его содержание: «Деяния Божественного Августа, посредством которых он подчинил весь земной круг власти римского народа».
Поэты эпохи Августа усиливают впечатление об экспансионизме его режима. Нет нужды предполагать, что они писали согласно указаниям Августа или, напротив, что их сочинения представляли собой провокацию в адрес принцепса, превосходили его пожелания или содержали скрытую критику его амбиций230. Однако можно с уверенностью утверждать, что в идеях и установках, которые часто озвучивают поэты, отражается атмосфера, царившая в обществе при обсуждении этих событий. Хорошей иллюстрацией может служить поэзия Вергилия. В «Георгиках» принцепс изображен как наследник самых доблестных воинов римской истории: Деция, Камилла, Сципиона и Мария. Победив при Акции, он завладел самыми отдаленными землями Востока; Парфия рассматривается как уже поверженная и сломленная; Октавиан грозит берегам Евфрата, устанавливая законы для покорных народов231. В «Энеиде» предсказывается, что в правление Августа Рим достигнет мирового господства. Юпитер обещает создание империи без границ. А на щите Энея, описанном у Вергилия, принцепс восседает в гордом великолепии, а мимо него строем проходят длинные колонны побежденных народов от Африки до Евфрата232.
Похожие указания имеются и в стихотворениях Горация. Поэт призывает более не обращать оружие против сограждан, но направлять его против внешних врагов. Он считает само собой разумеющимся наступление Рима на парфян, галлов, скифов, арабов и британцев. Для него экспансионистские устремления — это просто данность. Гораций предвидит,
227 Деяния Божественного Августа. 26.1. Слишком узкое толкование этого пассажа в том смысле, что Август не создавал новых провинций, см.: Braunert 1977 (С 255): 207—217. См.: Веллей Патеркул. П.39.3.
228 Деяния Божественного Августа. 13; ср.: Дион Кассий. LIV.36.2.
229 Единственное исключение — это заявление, что в ходе покорения Альп ни одному племени война не была объявлена несправедливо, см.: Деяния Божественного Августа. 26.3.
230 На сей счет существуют различные точки зрения, см., напр.: Meyer 1961 (С 288); Brunt 1963 (С 256): 170-176; Seager 1980 (С 309): 103-111; Williams 1990 (С 325): 258-275. Новую библиографию см.: Doblhofer 1981 (С 265): 1922—1926; Little 1982 (В 111): 352—370. Прежде всего см.: Johnson 1973 (В 93): 171-180; Griffin 1984 (С 269): 189-218.
231 Вергилий. Георгики. П. 169—172; Ш.ЗО—33; IV.559—562.
232 Вергилий. Энеида. 1.278-279; УШ.714-718; cp.: 1.286-290; VI.791—800; ΥΠ.601-615.
Глава 4. Расширение империи при Августе
231
что его народ станет владыкой мира233. Главной целью является Парфия: Август восстановит римскую честь, возвратит знамена, утраченные другими полководцами, проведет в триумфе побежденных парфян и присоединит эти земли к Римской империи234. В 20 г. до н. э. принцепс действительно получил назад знамена, но без сражений, трофеев и триумфов. Однако Гораций изображает этот исход как исполнение собственного предсказания: парфяне лишаются своей добычи, склоняются перед римскими повелениями и благоговеют перед Августом. Возвращение знамен сопоставляется с распространением римской власти на весь мир235. Каковы бы ни были личные предпочтения Горация, его поэзия точно отражает господствовавшую в то время пропаганду.
Отражают ее и строки Проперция. Условности жанра recusatio235"1 хорошо служили этой цели. Заявляя о своей неспособности воспеть военные подвиги Августа, Проперций тем самым привлекает к ним внимание. Поэт намекает на то, что за рубежом одержаны победы, цари проведены в триумфе, а отдаленные земли трепещут и повинуются власти принцеп- са236. Подобно Горацию, Проперций предсказывает войны на дальних рубежах империи и предвидит унижение Парфии237. И когда знамена возвращаются в Рим, Проперций, естественно, представляет это как признание поражения со стороны Парфии238.
Циник Овидий одновременно шутливо и всерьез описывает неистовое волнение, охватившее Рим накануне отъезда молодого Гая Цезаря на Восток во 2 г. до н. э. Цели экспедиции определяются в Овидиевой «Науке любви» так: Август расширит свои владения, Парфия поплатится за злодеяния, тень Красса будет отмщена. Поэт даже предвидит будущий триумф Гая, в котором будут проведены пленные азиаты из экзотических стран239. Однако Гай так и не вернулся из этого похода и не отпраздновал триумф. Поэтому Овидий обращается к логике своих предшественников: возвращения знамен было достаточно, чтобы поставить точку, и Август уже принудил парфян к покорности и подчинению240. В «Метаморфозах» и «Фастах» Овидия говорится о покорении варварских народов и глубоком укоренении римской власти. Юпитер оглядывает мир, полностью подчиненный римскому владычеству. Земля лежит под пятой
233 Гораций. Эподы. УП.3-10; Сатиры. П.1.10—15; Оды. 1.12.49-57, 29.1-5, 35.29-50; Ш.3.45—58, 4.25-36.
234 Гораций. Оды. 1.2.51-52, 12.53-54, 29.4^-5; П.9.18-22; Ш.3.43-^4, 5.2-12.
235 Гораций. Послания. 1.12.27-28, 18.56-57; П. 1.256; Гораций. Оды. IV. 14.41-52, 15.6-8, 15.21—24; Гораций. Юбилейный гимн. 53—56.
235а Recusatio — отказ что-либо или кого-либо восхвалять ввиду величия задачи, т. е. косвенный панегирик. — О. Л
236 Проперций. П.1.25—36, 10.13—18; cp.: IV.4.11—12.
237 Проперций. П. 10.13-14, 14.23-24; Ш.4.1-9, 9.54, 12.3; IV.3.7-10, 3.35-40, 3.63-69.
238 Проперций. IV.6.79—80.
239 Овидий. Наука любви. 1.177—228.
240 Овидий. Фасты. V.579—594.
232
Часть I. Изложение событий
победителя241. Даже в стихотворениях, написанных в изгнании, в конце правления Августа, Овидий, восхваляя принцепса, делает упор на победах, военных лаврах, завоевании Паннонии, Реции и Фракии, капитуляции Армении и Парфии, трепете Германии и величайших размерах империи242.
Публичные заявления режима свидетельствуют о том же. Монеты, надписи и памятники единогласно передают картину римской мощи и господства. На монетах часто изображается бюст или фигура богини Виктории, чаще всего с земным шаром, который служит олицетворением власти над миром. Неизменно встречаются и другие военные символы: триумфальные колесницы, триумфальные украшения (ornamenta triumphalia), трофеи, триумфальная арка, храм Марса Мстителя, победные лавры243. Всё время пропагандируется присоединение и приобретение новых земель и военное возмездие. Монетные легенды прославляют присоединение Египта («Aegyptus capta»), присоединение Армении («Armenia capta»), возвращение Азии («Asia recepta») и возвращение знамен («signa recepta»)244. В надписи на трофее, воздвигнутом в честь замирения Альпийской области при Августе, было перечислено почти пятьдесят племен, подчиненных римской власти245.
В самом Риме возводились впечатляющие памятники, которые создавали образ Августа как победителя, властелина и оплота безопасности, достигнутой благодаря военной мощи. Уже в 29 г. до н. э. Октавиан поставил статую Победы в Юлиевой курии. Триумфальная арка увековечила его победы над внешними врагами?46. Вполне естественно, что два года спустя сенат предоставил Августу право посадить лавровые деревья перед своим домом, а над ними разместить дубовый венок, что представляло его в двойной роли: вечного победителя врагов и спасителя граждан247.
Форум Августа представлял собой наиболее зримое и рельефное воплощение Августовой идеологии. Выдающееся место на нем занимал грандиозный храм Марса Мстителя, обетованный Августом после Филипп, но достроенный лишь во 2 г. до н. э. Он должен был служить местом заседаний сената, на которых решался вопрос об объявлении войны или предоставлении триумфа, и символическим отправным пунктом для каждого полководца, ведущего войско за рубежи империи. Форум Августа служил хранилищем всевозможного оружия и доспехов, захваченных в качестве добычи у побежденных врагов Рима248. В центре форума воз¬
241 Овидий. Метаморфозы. XV.820—831, 877; Овидий. Фасты. 1.85—86, 717; 11.684; IV.857—862.
242 Овидий. Скорбные элегии. П. 1.169—178, 225—232; Ш. 12.45—18.
243 См., наир.: BMCRE Augustus: 1, 68, 77-78, 101-102, 217-219, 224 и др.
244 См, наир.: BMCRE Augustus: 10-19, 40-14, 56-59, 332, 410-423, 647-655, 671-681, 703.
245 Плиний Старший. Естественная история. Ш. 136—137.
246 Дион Кассий. 0.22.1—2; Zänker 1972 (F 626): 8-12.
247 Дион Кассий. LITT. 16.4.
248 Овидий. Фасты. V.550—562; Светоний. Август. 29.2; Дион Кассий. LV.10.2—3.
Глава 4. Расширение империи при Августе
233
вышалась статуя самого принцепса, установленная в триумфальной колеснице с перечислением его завоеваний249. Боковые портики форума украшало два ряда статуй. В нишах на одной стороне Август установил изображения великих мужей римской истории, с надписями (elogia), которые свидетельствовали, среди прочего, об их военных победах и триумфальных почестях. Напротив этого строя героев располагались фигуры Энея и всех представителей рода Юлиев250. Таким образом, принцепс связал себя и свою семью с галереей республиканских полководцев (duces), триумфаторов и лучших мужей («summi viri»), заявив о себе как о наследнике величайших военных традиций государства.
Триумфальное настроение создают и другие памятники эпохи. Важное место среди них занимает статуя Августа из Прима-Порты, где он предстает как полководец. Тщательно вырезанный панцирь создает образ воина. В центре нагрудника изображены парфяне, передающие Риму захваченные знамена, что символизирует господство Рима на Востоке. А печальные и покорные фигуры женщин из варварских племен в средней части панциря изображают кельтские народы, склонившиеся перед Римом. Здесь преобладает триумфальная символика. Фигура Матери Земли, возлежащая внизу с рогом изобилия (cornucopiae) и младенцами, воплощает процветание и изобилие земли. Ясно, что новая эпоха процветания настала благодаря военной мощи Рима и представляет собой плод победы251. Фигура из Прима-Порты символизирует завоевание империи и мировое господство, обеспеченное благодаря неусыпной бдительности принцепса.
Можно подумать, что знаменитый Алтарь Мира служит своего рода противовесом данной демонстрации. Но воспринимать его так вовсе не обязательно. На самом деле алтарь созвучен другим вербальным и визуальным произведениям эпохи Августа: соотнесение благ мира с военными победами, которые принесли эти блага. Сенат постановил посвятить Алтарь Мира в 13 г. до н. э. в память о том, что в этом году Август вернулся в Рим после подчинения Испании и замирения Галлии252. На западной стороне алтаря изображен Эней, приносящий жертву богам Пенатам, и эта сцена явно символизирует его возвращение домой, как памятник в целом — возвращение домой Августа. Но эту панель уравновешивает другая — с частично сохранившимся Марсом, отцом близнецов Ромула и Рема, могущественным богом войны. Такое же равновесие наблюдается и на восточных панелях Алтаря Мира. На одной из них изображена богиня с атрибутами плодородия и изобилия, напоминающая о благах мирного времени. Но на соседней панели находится богиня Рома, которая, по тра¬
249 Деяния Божественного Августа. 35.1; Веллей Патеркул. П.39.2.
250 Овидий. Фасты. V.563—566; Светоний. Август. 31.5 Дион Кассий. LV.10.3; Жизнеописания Августов. Александр Север. 28.6; Zänker 1968 (F 625); Frisch 1980 (В 231): 91—98; Zänker 1988 (F 633): 210-214; Luce 1990 (С 284): 123-138.
251 О статуе из Прима-Порты см. прежде всего: Kahler 1959 (F 441); Zinserling 1967 (F 636k 327-339; Pollini 1978 (F 531): 8-74; Zänker 1988 (F 633): 183-192.
252 Деяния Божественного Августа. 12.2.
234
Часть I. Изложение событий
диции, опирается на гору оружия. Эти изображения приобретают особое значение в сочетании друг с другом. Установление мира неотделимо от победы в войне253.
Эта ассоциация становится еще сильнее благодаря недавнему открытию. Выяснилось, что существовала тесная связь между Алтарем Мира и египетским обелиском, который служил гномоном в колоссальных солнечных часах — Solarium Augusti. 23 сентября, в день рождения Августа, тень обелиска падала прямо в центр Алтаря Мира254. Сам этот обелиск был установлен в память о том, что Август подчинил Египет римской власти. В комплексе с Алтарем Мира он зримо воплощал идею о связи мира с военной властью и расширением империи.
XI. Заключение
Рассматривая территориальную экспансию Рима при Августе, исследователи склоняются к выводам о стратегических замыслах императора, его политике общеимперского масштаба и империалистических планах. Например, утверждалось, что Август принял и усовершенствовал систему военной гегемонии, основанную на сочетании зависимых государств и продуманно распределенных военных сил, размещенных в приграничных зонах, но достаточно мобильных, чтобы при необходимости их можно было перевести в другое место255. Многие полагают, что продвижение на север осуществлялось согласно тщательно продуманному и всеобъемлющему плану, который связывал воедино альпийскую, балканскую и германскую кампании и был нацелен на установление надежной границы империи по Дунаю и Эльбе256. Однако другие исследователи считают Августа решительным империалистом, который стремился к экспансии во всех направлениях и мечтал о мировом господстве. Лишь паннонское восстание и поражение Вара вынудили его умерить амбиции и завещать наследнику оборонительную политику257.
Однако сама по себе идея всеобъемлющего плана не учитывает разнообразие и гибкость внешнеполитических мероприятий Августа. В своих действиях он не руководствовался никаким единым планом или за¬
253 Алтарю Мира посвящена огромная библиография. В числе наиболее важных публикаций см.: МогеШ 1948 (F 505); Toynbee 1953 (F 597): 67-95; Kahler 1954 (F 439): 67-100; Hanell 1960 (F 405): 31-123; Simon 1967 (F 576); Borbein 1975 (F 294): 242-266; Pollini 1978 (F 531): 75-172; Torelli 1982 (F 596): 27-61; Zänker 1988 (F 633): 172-183, 203-206. Де Грам- монд неубедительно идентифицирует богиню как Рах — богиню Мира, см.: de Grummond 1990 (С 272): 663-677.
254 Тщательные расчеты см.: Büchner 1976 (F 304): 319—365; Büchner 1983 (F 307): 494— 508.
255 Luttwak 1976 (А 57): 13-50, 192.
256 См. перечень исследователей в работе: Oldfather, Canter 1915 (С 294): 9—10, и при- меч.; прежде всего: Syme 1934 (С 312): 351—354; Kraft 1973 (А 53): 181—208.
257 Brunt 1963 (С 256): 170-176; Wells 1972 (Е 601): 1-13; Moynihan 1986 (С 291): 149— 162; Nicolet 1988 (А 69): 41-48.
Глава 4. Расширение империи при Августе
235
данной целью. Решения определялись местом, обстоятельствами и случайностями.
С восточными державами Август обращался по-разному. В Малой Азии и Иудее он поддерживал зависимых правителей и обычно оставлял у власти тех, кто ею уже обладал, независимо от того, кого они поддерживали прежде257*. Но иногда он низлагал династов (например, в Комма- гене), изменял распоряжения царей (как в случае с Иродом) и даже превращал царства в провинции (например, Галатию и Иудею), когда этого требовали непредвиденные события. Наиболее крупные римские гарнизоны на Востоке стояли в Египте и Сирии — но с очень разными целями. Египет для Августа играл особую роль; его экономические ресурсы служили опорой империи, а территория — плацдармом для походов в Эфиопию и Аравию. В Сирии, напротив, войска символизировали стабильность, а не наступление, и должны были просто напоминать о себе и умерять амбиции парфян. Принцепс вмешивался в династические проблемы в Армении и внимательно следил за превратностями судьбы царского дома Парфии. Возвращение знамен вышло на первый план в политике и пропаганде. Но отношения с Парфией основывались на дипломатии — то есть демонстрация решимости чередовалась с переговорами и соглашениями, — а не на силе. Это царство давало Риму повод занять воинственную позицию, но не представляло угрозы, против которой требовалось бы разрабатывать стратегию.
На Западе преобладали другие мотивы и другие мероприятия. В 30— 20-х годах до н. э. принцепс или его полководцы вели активные операции в Иллирии и Испании. Однако стратегические цели играли здесь в лучшем случае второстепенную роль. Октавиан использовал иллирийскую кампанию для того, чтобы сравниться с Антонием военной славой, а северо-западную Испанию покорил для того, чтобы продемонстрировать мощь Рима всему Иберийскому полуострову. Римские мероприятия в Африке тоже имели иной (и, возможно, разнообразный) характер: в разное время и в разных местах на этой территории принцепс экспериментировал с зависимыми царями, войнами и основанием колоний — но достигнутые результаты не складываются в единую систему.
Великие германские войны в ретроспективе могут казаться последовательными, но вряд ли они выглядели такими в глазах современников. Действия Августа определялись различными целями, Рим не только проявлял инициативу, но и столь же часто реагировал на угрозы, политические и идеологические задачи часто брали верх над стратегическими целями. Взятие под контроль альпийских областей облегчило коммуникации между рейнскими армиями и войсками в Иллирике. Продвижение к Дунаю принесло принцепсу много преимуществ: наказание непокорных племен, оставивших пятно на римской чести, обретение победных лавров для родственников Августа и открытие сухопутного маршрута из северной Италии в восточные провинции и зависимые царства. Однако самая
257а То есть в период гражданских войн в Риме. — О. А
236
Часть I. Изложение событий
тяжелая война началась в результате восстания и не предусматривалась заранее имперским планом. Наступление на германцев потребовалось, чтобы обеспечить безопасность Галлии и эффективное управление этой провинцией. Нападая на зарейнские земли, можно было демонстрировать римскую мощь и власть, и не требовалось присутствовать там постоянно. Возможно, престиж был важнее стратегии. Демонстрации силы осуществлялись как до поражения Вара, так и после оного.
Во внешней политике Августа разнообразие гораздо заметнее, нежели единство. Однако в одном отношении единство существовало. Возможно, принцепс не считал необходимым безостановочно вести завоевания и беспредельно расширять территорию и власть Рима. Но он считал необходимым представлять свои устремления именно так.
Данная картина часто расходилась с реальным положением дел. Август особенно заботился о том, чтобы она выглядела непротиворечивой. Иногда прагматические соображения предписывали осторожность или отступление. А порой за победой следовало поражение. Но публичная позиция оставалась неизменной: подчеркивалась воинственность прин- цепса, его победы и власть над обширными землями. В «Деяниях Божественного Августа» не упоминается о провале кампаний Элия Галла в Аравии и сообщается лишь о римском наступлении в этой области; неудачи компенсировались агрессивными атаками. Август вернул знамена из Парфии благодаря бескровным переговорам, а приемлемый для Рима компромисс в Армении был достигнут дипломатическими средствами; одновременно режим делал угрожающие жесты, а пропаганда заявляла о поражении Парфии и покорении Армении. По итогам войны на северо- западе Испании были закрыты двери храма Януса, а Августу предоставлены триумфальные почести, но, несмотря на это, данное достижение было непрочным и за ним последовало еще десятилетие жестокой борьбы в этом регионе и довольно тяжелые для Рима потери. Скромные успехи в Иллирии в период триумвирата были преувеличены в донесениях и отчетах, чтобы приумножить славу Октавиана за счет его соперника. Продвижение на Дунай было отмечено победами и победными почестями, так что даже возник план кампании против маркоманнов; однако паннонское восстание развеяло иллюзию римского господства, и для восстановления контроля потребовались огромные ресурсы. Завоевание Альп, возможно, преследовало стратегические цели, но оно также служило прославлению доблести пасынков Августа и осыпанию императорской семьи публичными восхвалениями. Точно так же походы Друза за Рейн принесли ему великолепные почести, не соответствовавшие реальным достижениям, а сворачивание его наступления на Эльбу объяснялось божественным вмешательством. Сходным образом и Тиберий получил высшие почести за победы в Германии, а Веллей, его панегирист, воспел эти свершения, хотя почт ничего существенного не было достигнуто. Когда же разразилась катастрофа — сокрушительное поражение Вара, — принцепс постарался продемонстрировать преемственность политики, пору¬
Глава 4. Расширение империи при Августе
237
чив Тиберию и Германику возобновить наступательные кампании за Рейном, словно отрицая всякое поражение или промедление.
Имперская политика Августа в различных регионах была разной и зависела от обстоятельств и случайностей. Агрессия чередовалась с осторожностью, завоевание — с дипломатией, наступление — с отступлением. В одних областях Рим приобретал и присоединял новые земли, в других — упрочивал свое положение и вел переговоры. Но слава его всегда должна была выглядеть неколебимой. Режим постоянно создавал впечатление энергии, экспансионизма, триумфа и господства. Август подражал устремлениям республиканских героев и утверждал, что затмил их деяния. Политика могла быть гибкой, но имидж оставался неизменным.
Глава 5
Т.-Э.-Й. Видеман
ОТ ТИБЕРИЯ ДО НЕРОНА
I. Приход Тиберия к власти и особенности политики при Юлиях—Клавдиях
Политическая история исследует, какие средства выбирали мужчины (и очень редко — женщины), обладавшие властью, для ее осуществления. В любой системе правления действуют десятки, если не сотни, людей, которым приходится проявлять инициативу, определяя, как применить власть в конкретных обстоятельствах или как лучше реализовать решения, принятые вышестоящими лицами. Но Рим при Августе и его преемниках был монархией: в конечном счете за любое применение политической власти отвечать приходилось перед императором. Авторитету императора нельзя было публично бросить вызов (но тот, кому всё же удалось бы это сделать, стал бы новым императором). Таким образом, политическая история Принципата — это прежде всего рассказ о взаимоотношениях между правящим императором и другими лицами или их группами, игравшими некоторую роль в общественной жизни. Хотя отдельные политические деятели эпохи Юлиев—Клавдиев происходили из семей, имевших большое влияние во времена Республики, отсюда не следует, что «республиканская» аристократия всё еще обладала независимой властью. Такие личности — как и «новые люди», готовые поставить свои военные или риторические таланты на службу цезарям, — имели ровно столько власти, сколько позволял им иметь император, и только до тех пор, пока приносили ему пользу. Эти люди играли какую-то роль в общественной жизни только потому, что принцепс был благосклонен к ним, и только в той мере, в какой он проявлял эту благосклонность; по-латыни их назвали бы «amici» — друзья. Утрачивая дружбу принцепса, человек утрачивал и фундамент своего общественного статуса, и в итоге его публичная жизнь (а порой и жизнь вообще) завершалась вне зависимости от того, патрицием он был, новым человеком (novus homo), вольноотпущенником либо даже близким родственником самого императора1.
1 О природе политики в эпоху Принципата см. гл. 2 и 3 наст, изд.; Wickert 1974 (А 102) (с библиографией на с. 5—8); Millar 1977 (А 59); Levick 1985 (С 371). Образцовый рассказ
Глава 5. От Тиберия до Нерона
239
Как отмечает Дион Кассий, при Августе и последующих императорах политика перестала быть «публичной». Важные политические вопросы больше не обсуждались и не решались открытым голосованием, теперь всё определял закрытый совет (consilium), состоявший из императора и его друзей (amici). Поэтому историкам — как античным, так и современным — недостаёт государственных протоколов, которые сообщали бы о том, как император принимал решения или какие мнения высказывали его друзья. Как и в современных диктаторских государствах, из-за отсутствия достоверной информации процесс принятия решений окружали слухи, шутки, анекдоты и враждебные воспоминания озлобленных и разочарованных мужчин (и женщин), ненавидевших режим в основном за то, что, по их мнению, он не вознаградил их по заслугам. Поступки императоров часто сбивали с толку их современников; люди же часто отмахиваются от непонятных поступков, воспринимая их как проявления безрассудства, или осуждают их как чудовищные деяния. Итак, вторя писавшему позже поэту Клавдиану:
Древних грехи гласятся в дееписаньях:
Скверна прильпнет навсегда. Кто в веках
проклинати престанет Дома Цезарева чудовищ? Нерона зловещи Казни безвестны кому и капрейские гнусные скалы —
Старца нечистого древле удел?* 2
Самый захватывающий рассказ, дающий подобные сведения о Юлиях-Клавдиях, — это сохранившиеся части «Анналов» Тацита. Они охватывают периоды с 14 по 29 г. н. э., с 31 по 37 г. н. э. и с 47 по 66 г. н. э. Малоинформативные, к сожалению, рассказы античных авторов о жизни за пределами столицы можно дополнить археологическими и эпиграфическими свидетельствами; но «Анналы» — это отправная точка для изучения политической истории рассматриваемого времени. Сохранились и другие рассказы древних авторов — зачастую основанные на тех же самых источниках, однако порой не столь надежные из-за особенностей их литературных жанров; впрочем, их можно использовать для корректировки наиболее тенденциозных интерпретаций Тацита. Тацит писал спустя век после смерти Августа, при Траяне и Адриане; действия и установки этих императоров (особенно по отношению к сенату) волновали его не меньше, чем действия и установки Юлиев—Клавдиев3.
об этой эпохе см.: Scullard Н.Н. From the Gracchi to Nero (1st edn. London, 1959); Garzetti 1974 (A 35).
2 Клавдиан. Панегирик на четвертое консульство Гонория Августа. 8. 311—315 [Пер. Л.Р. Шмаракова). Утверждение Диона Кассия о тайной политике см.: ЦП. 19. О совете (consilium) см. гл. 7 наст. изд.
3 Издание «Анналов» Тацита, выполненное Фурно, всё еще остается наиболее досгуп- нь1м; комментарии см.: Koestermann 1963—1968 (В 98); Goodyear 1972; Goodyear 1981 (В 62). Базовым исследованием, посвященным Тациту, остается: Syme 1958 (В 176); среди прочих см.: Christ 1978 (В 28).
240
Часть I. Изложение событий
Взаимоотношения императора и сената всерьез интересовали не только Тацита, но и других писателей из среды сенаторов. И они обычно выражали этот свой интерес, противопоставляя друг другу «тиранию» и «свободу» («libertas») — понятия, унаследованные еще из политического лексикона Поздней республики. Но этот республиканский словарь не должен вводить нас в заблуждение — не следует рассматривать историю правления династии Юлиев—Клавдиев в том же ключе, что и историю республиканской эпохи, как хронику должностей и почестей, которых достигли политики, состязаясь друг с другом. В Империи тоже велось состязание, но призом в нем служила милость императора. Именно император принимал все решения.
В последние годы историки подчеркивают, что императорская «политика» часто была совершенно пассивной и император нередко принимал решения лишь в ответ на чужие действия. Наиглавнейшим в деятельности императора считалось предоставление милостей (gratia) — от него, как от самого могущественного патрона, ожидали благодеяний сенат и плебс, римляне и провинциалы; они приходили и просили о милостях. В других главах наст, тома будет рассмотрен процесс, в ходе которого ответы императоров на подобные инициативы изменили основы средиземноморской культуры и общества. Следует скептически воспринимать бытовавшее ранее у антиковедов мнение об императорах как о великих провидцах, которые пытались возложить на чиновников целый ряд задач: централизацию управления, систематическое распространение римской культуры, упорядочение римского права, отправление правосудия для провинциалов (не говоря о рабах) и даже, как некогда утверждали, поддержку сельского хозяйства, торговли и производства. Не стоит и преувеличивать необходимость для императора выступать успешным шоуменом, подобным современным лидерам демократических масс; конечно, императору следовало демонстрировать свою популярность, но в основе этой популярности лежала его забота о своем народе в качестве патрона как богатых, так и бедных, Отца Отечества (pater patriae). Меж тем императорская политика не сводилась к пассивным ответам на чужие запросы. Каждый император решал по меньшей мере следующие задачи: управление политическими процессами, укрепление собственного престижа и сохранение в своих руках власти, а также назначение себе преемника. Эти задачи стояли как перед Августом, так и перед его преемниками — Юлиями—Клавдиями4.
События, последовавшие за смертью Августа 19 августа 14 г. н. э. в Ноле в Кампании, стали образцом спокойной передачи власти от импера¬
4 Об императорской «политике» как ответах на чужие инициативы см. прежде всего: Millar 1977 (А 59). О патронате см.: Wallace-Hadrill 1989 (F 75): особенно гл. 3, 6. О необходимости для императора быть шоуменом см.: Cizek 1972 (С 340) (и далее — о Нероне). О наследовании власти в доиндустриальных государствах см.: Goody J. (ed.). Succession to High Office (Cambridge, 1966): 113: «В племени баганда твердо убеждены, что заранее объявлять о том, кто станет преемником, опасно, поскольку этот человек, без всякого сомнения, решится на убийство, лишь бы ускорить вступление в наследство».
Глава 5. От Тиверия до Нерона
241
тора его преемнику; нескольким последующим императорам удалось достаточно легко получить верховную власть, так же, как это удалось Тиберию (т. е. преемнику Августа. — С. Т). Тем не менее момент перехода монархической власти от правителя к его наследнику — это критическая точка, в которой наиболее отчетливо проступают элементы политической системы. Хотя рассказ Тацита об этих событиях в начале «Анналов» отражает его мнение о вступлении на престол императоров, правивших гораздо позднее (Траяна — в 97 г. н. э. и Адриана — в 117 г. н. э.), он свидетельствует о том, что первым делом новый император брал под контроль дом Цезаря (domus Caesaris), затем солдат преторианской гвардии, магистратов, сенат и народ Рима и, наконец, римские армии в провинциях.
Хотя формально дом Цезаря (domus Caesaris) был лишь одним из римских домохозяйств, он обеспечивал своему хозяину [лат. paterfamilias) столь широкий доступ к материальным ресурсам, услугам (благодаря прокураторам, управлявшим владениями дома Цезаря по всей империи) и неофициальному социальному контролю, что никакой другой дом не мог с ним соперничать. В дом императора включались не только его потомки, находившиеся под властью («in potestate») императора как отца семейства, — такое определение гораздо уже, чем значение слова «family» в английском языке, — но также их движимое имущество и владения, в том числе рабы [лат. familia) и зависимые лица: вольноотпущенники, богатые провинциалы (включая и «зависимых царей») и те друзья (amici) из числа римских граждан, которые считали себя обязанными жизнью и карьерой правящему Цезарю и его предшественникам. В этом смысле любой экс-магисграт должен был усматривать свой личный долг в обеспечении благополучия действующего главы императорского дома.
Тиберий был пасынком Августа; несмотря на брак с Юлией, дочерью Августа, по рождению он не имел права наследовать Августу как Це- зарь4а. Но в 4 г. н. э. Август формально усыновил его. Затем Тиберий получил трибунскую власть (tribunicia potestas), которая была повторно предоставлена ему в 13 г. н. э., а также высший империй (imperium maius), и это не оставляло сомнений в том, кто станет править Римом после Августа. Некоторые из возможных соперников Тиберия были скомпрометированы вместе с Юлией во 2 г. до н. э.;4Ь других Август отправил в ссылку как сообщников ее дочери — Юлии Младшей, изгнанной в 8 г. н. э. К моменту смерти Августа только Тиберий мог всерьез рассматриваться как его политический преемник5. Меж тем один человек мог законно претендовать на часть личного имущества Августа. Речь о его род¬
4а При Августе это имя указывало на принадлежность — по рождению или усыновлению — к роду Цезарей; позднее оно превратилось в титул наследника императорской власти. — С.Т.
4Ь В этом году Юлия была уличена во многих прелюбодеяниях и отправилась в изгнание. — С.Т.
5 На ниве написания биографий Тиберия подвизались многие исследователи, в том числе: Seager 1972 (С 392); Levick 1976 (С 366). Cp.: Pippidi 1965 (С 385); Rogers 1943 (С 388); Syme 1974 (С 398). О событиях 2 г. до н. э. и 8 г. н. э. см.: Meise 1969 (С 375): гл. 2, 3; Syme 1974 (С 229).
242
Часть I. Изложение событий
ном внуке — Агриппе Постуме, которого Август усыновил одновременно с Тиберием. Хотя римское право давало отцу семейства (paterfamilias) широкие возможности распоряжаться имуществом по своему усмотрению, обычно сыновья (вместе с вдовой и дочерьми, которые на момент смерти отца находились под его властью (in potestate)) получали равные доли наследства. Если отец желал лишить сына наследства, он должен был четко заявить об этом в завещании; и даже в этом случае сын всё же имел право оспорить завещание как «нарушающее [отцовский] долг» («querella inofficiosi testamenti»). Хотя приемный отец, то есть Август, отправил Постума в изгнание, в источниках нет ясных свидетельств о лишении последнего наследства; с точки зрения римского частного права, последний имел такое же право называться Цезарем, как и Тиберий. Сколь бы слабой ни представлялась политическая позиция Агриппы Постума, само его существование в изгнании на острове Планазия создавало угрозу для спокойной передачи власти; этим обстоятельством могли воспользоваться враги Тиберия.
Поэтому Тиберию как наследнику необходимо было занять место Августа сразу же после его смерти. Чтобы Тиберий был признан новым отцом семейства (paterfamilias), ему следовало находиться на месте событий, но последняя болезнь Августа случилась внезапно. В начале года император, которому шел уже семьдесят шестой год, был еще вполне здоров; 11 мая он вместе с коллегой Тиберием закончил проведение ценза. В начале августа Тиберий расстался с принцепсом в Кампании и отправился назад — в паннонскую армию. Услышав о болезни Августа, он немедленно поспешил в Нолу, — возможно, в ответ на вызов самого императора. Тацит пересказывает слух, что к моменту прибытия Тиберия в Нолу Август уже испустил дух, и Ливия скрывала правду, чтобы обеспечить передачу власти именно своему сыну (это больше похоже на описание роли Плотины при вступлении Адриана на престол в 117 г. н. э.). Сам Тиберий заявлял, что говорил с Августом перед его смертью.
Насколько известно, Тиберий после смерти Августа первым делом разослал письма во все римские армии (не только легионам, расквартированным в Паннонии и находившимся под его командованием). Он не называл себя Августом, поскольку покойному принцепсу этот титул дал римский сенат и Тиберий пока не имел на него права. Но не было необходимости ждать, пока сенат подтвердит очевидный факт, что после смерти Августа новым главой императорского дома стал Тиберий. Затем был убит Агриппа Постум. Август полагал, что Постум из-за своего буйного характера совершенно не пригоден для государственных дел. Но Тацит пересказывает слухи, пущенные, вероятно, теми, кто не желал видеть Тиберия следующим императором, что в последний год жизни Август посетил своего изгнанного внука на Планазии и собирался восстановить его в правах. Позднее один из вольноотпущенников Постума выдавал себя за убитого патрона, предполагая, вероятно, что соперник Тиберия должен встретить в обществе поддержку. Интересы Тиберия диктовали необходимость умерщвления Постума. Поскольку в завещании Августа имя
Глава 5. От Тиберия до Нерона
243
Постума вообще не упоминалось, это заставляет предположить, что решение о казни принял еще сам Август, чтобы Тиберию легче было вступить в наследство; руководствуясь теми же соображениями (или «злобой мачехи», как выразился бы Тацит), приказ об убийстве Постума могла отдать и Ливия, заявив, что действует по велению Августа, или сам Тиберий. Возможно также, что это сделал один из советников Августа — Гай Саллюстий Крисп (внучатый племянник историка), как только услышал о смерти императора. Когда Тиберий узнал о казни Постума, он заявил, что непричастен к этому деянию, а виновному придется ответить за него перед сенатом. Дальнейших разбирательств не последовало6.
Унаследовав императорское домохозяйство (domus Caesaris), Тиберий приобрел контроль над такими огромными материальными ресурсами, которые были недоступны более никому из римлян — ни частному лицу, ни магистрату. Цезарь владел имуществом во всех областях империи; в каждой провинции ему подчинялись прокураторы, следившие за соблюдением его интересов (даже когда эти последние вступали в противоречие с интересами наместника — промагисграта или легата), и, следовательно, он обладал более эффективной сетью для сбора информации, чем любой другой гражданин, включая римских магистратов. От Августа Тиберий унаследовал также ту лояльность и благодарность, которые каждый римлянин публично выказывал его предшественнику в обмен на предоставляемый тем патронат (и Тиберий позаботился, чтобы об этом помнили, — см. «Деяния Божественного Авгусга»ба). Несомненно, именно благодаря этим преимуществам Тиберий стал бесспорным правителем Рима после смерти Августа. Символическим признанием этого факта служила клятва защищать Тиберия и весь дом (domus), главой (paterfamilias) которого он теперь являлся; сразу по получении известий о смерти Августа эту клятву принесли консулы, префекты преторианцев и продовольствия, а затем — сенат, всадническое сословие и римский народ. Впоследствии сходные присяги принесли общины по всей империи; сохранился текст клятвы Тиберию и всем его домочадцам, которую дали города Кипра. В этой клятве отражена зависимость отдельных магистратов и общественных групп от главы императорской семьи, который оказывал им покровительство, предоставлял почести и принимал значимые для них решения. Но — в отличие от военной присяги (sacramentum), которую солдаты приносили императору как своему главнокомандующему, — данная клятва имела не публичный и не государственно-правовой, а частный и личный характер. Власть и влияние императора как Цезаря можно отде¬
6 О вступлении Тиберия в наследство см.: Timpe 1962 (С 403). О письмах Тиберия к войскам см.: Дион Кассий. LVII.2.1. О Постуме см.: Jameson 1975 (С 126). О «лже- Постуме» см.: Тацит. Анналы. П.39.
6а В «Деяниях Божественного Августа» перечислены достижения Августа, его расходы в пользу государства и римского народа, а также полученные им почести; текст был составлен Августом и в правление Тиберия вывешен на публичное обозрение, причем не только в Риме, как задумывал сам Август, но и в провинциях, в том числе с параллельным греческим текстом. — С.Т
244
Часть I. Изложение событий
лить от государственных полномочий, которые давали ему сенат и народ — единственные институты, имевшие право предоставлять империй, то есть военную власть. Последующие кандидаты в императоры понимали, что, как только они возьмут под контроль императорское домохозяйство, решения сената и народа о предоставлении им титулов и должностей станут просто формальностью; в 14 г. н. э. из-за отсутствия исторических прецедентов различие между личным могуществом и формальными полномочиями ощущалось очень ясно, и Тиберий постарался действовать в полном соответствии с конституцией. Он не мог считать, что всеобщее молчаливое согласие с его приходом к власти — это нечто само собой разумеющееся. Веллей Патеркул упоминает, что в обществе царил страх перед беспорядками, и данное свидетельство подтверждается тем, что на похоронах Августа в городе было размещено много войск7.
Тело Августа торжественно доставили в Рим, и Тиберий сопровождал его так же, как двадцатью двумя годами ранее сопровождал тело своего брата Друза в долгом переходе из северной Германии. Торжественная процессия и сами похороны Августа должны были стать примером того, как следует поступать с членами императорской семьи после их кончины. Решение о похоронах за государственный счет было принято в начале сентября на заседании сената, которое Тиберий созвал в силу своей трибунской власти (tribunicia potestas), а не империя. Это не значит, что Тиберий считал высший империй (imperium maius), предоставленный ему годом ранее, недостаточным для того, чтобы стать законным императором; но это предполагает некую неясность в вопросе о том, закончилась ли ответственность Августа за управление империей с его смертью (Тацит называет эту ответственность «попечением» (cura) или «обязанностями» (munera)). Завещание Августа было зачитано в сенате. В нем подтверждалось, что главным наследником является Тиберий; ему перешло две трети имущества Августа, а оставшаяся треть доставалась Ливии. Современные исследователи уделяют большое внимание преамбуле в этом завещании, где говорилось, что Август желает видеть Тиберия наследником, ибо «злая судьба» отняла у него сыновей (точнее, приемных сыновей и родных внуков) — Гая и Луция. Эти слова не были просчитанным либо невольным оскорблением в адрес Тиберия, не предполагали они и мысли насчет того, что он — не лучший наследник; Август просто объяснял, почему усыновил и сделал наследником человека, не принадлежавшего к роду Юлиев. Эти слова могли предназначаться только для дальнейшей легитимизации положения Тиберия как главы дома Цезаря (domus Caesaris), тем более что Агриппа Постум в завещании вообще не упоминался.
Семнадцатого сентября, после похорон Августа, состоялось второе заседание сената, на котором сенаторы заслушали доклад о том, что во время сожжения тела Августа его дух видели поднимающимся на небеса в образе орла. Предстояло решить, как относиться к этому сообщению:
7 EJ2 105 = AN 551. Ср.: Price 1984 (F 199) (и гл. 16 наст. изд.). О страхе перед нестабильностью см.: Веллей Патеркул. П.124.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
245
если оно признавалось достоверным, то становилось весомым свидетельством в пользу того, что Август вступил в сонм олимпийских богов. Сенат склонился к тому, что так на самом деле и было, и закрепил свое решение, постановив учредить в Риме официальный культ нового бога.
Затем сенат вернулся к нуждам земного мира, и ему пришлось высказать свое мнение о том, к кому должны перейти обязанности Августа теперь, когда он сошел со сцены. Тацит не сообщает, какое конкретно предложение было поставлено на обсуждение. Речь не могла идти о том, чтобы рекомендовать народу предоставить Тиберию империй, поскольку он у него уже имелся; не было необходимости и назначать ему провинцию (provincia), так как она, вероятно, была назначена еще в 13 г. н. э., когда Тиберий получил высший империй (maius imperium), равный империю Августа. Возможно, на повестке дня стоял вопрос о том, следует ли просить Тиберия принять на себя все заботы (cura) Августа, а именно — попечение о политических (и прежде всего внешнеполитических и военных) делах8. Тиберий акцентировал внимание на том, что эти заботы огромны, и поинтересовался, нельзя ли их как-то распределить. Тацит сообщает, что один из сенаторов, Азиний Галл, не долго думая, поддержал это предложение.
Дойдя в своем изложении до этого места, Тацит рассказывает историю, будто однажды Август высказал предположение, что, помимо Тиберия, в Риме найдутся и другие люди, «способные стать императором» («capaces imperii»), и назвал Марка Лепида, Азиния Галла и Луция Ар- рунция (или, возможно, Гнея Пизона). Тацит не дает точного контекста этого утверждения Августа; его могли выдумать древние историки, писавшие еще до Тацита. Впоследствии сыновья двоих из упомянутых Августом лиц притязали на принципат, и это, вероятно, не просто совпадение: сын Марка (а не Мания, как печаталось начиная с ХУП в. в большинстве изданий Тацита) Эмилия Лепида (консула б г. н. э.) сначала вошел в доверие к Калигуле, но потом был им казнен; а приемный сын Луция Аррунция (другого консула 6 г. н. э., отец которого был одним из полководцев, командовавших флотом Октавиана в битве при Акции) в 42 г. н. э. поднял восстание против императора Клавдия. Многие императоры из династии Юлиев—Клавдиев опасались угрозы со стороны людей, носивших имя Пизон. Какие бы реальные события ни стояли за рассказом Тацита, он ставит перед нами вопрос о том, чем могло быть обусловлено политическое влияние лидеров, способных составить альтернативу Тиберию. Цель рассказа Тацита состоит в том, чтобы показать: к началу правления Тиберия еще существовали политические фигуры, могущество которых не зависело от поддержки принцепса. Четвертый из названных Августом — Азиний Галл, то есть тот, кто подхватил реплику Тиберия насчет того, не следует ли разделить заботы (сига), которые нес на себе Август. Азиний Галл был сыном Азиния Поллиона, служившего пол¬
8 Liebeschuetz 1986 (С 163); ср.: Тацит. Анналы. 1.11: «участие в заботах» («partem curarum»).
246
Часть I. Изложение событий
ководцем Октавиана в 40—30-х годах до н. э.&, но никоим образом не являлся постоянным и безусловным его сторонником. Поллиону Вергилий посвятил IV («Мессианскую») эклогу; и Галл будто бы говорил литературному критику Асконию Педиану, будто он сам и есть тот обетованный спаситель, о котором говорится в данном произведении. Согласно Тациту, Август считал, что Галл не способен исполнять императорские обязанности, но жаждет их получить. Когда Август заставил Тиберия развестись с любимой женой Випсанией и вступить в брак со своей дочерью Юлией (который оказался неудачным), на Випсании женился именно Галл — и Тиберий не мог этого забыть* * 9.
Галл намекал, что в одиночку Тиберий не справится с обязанностями Августа. Тиберий не смог скрыть недовольства; Галл отступился, притворившись, будто хотел лишь доказать: на практике императорская власть неразделима. Этот эпизод заставляет усомниться в искренности заявления Тиберия о том, что он не стремится к восхождению на трон императора. Современные этим событиям свидетельства указывают, что самого Тиберия беспокоила его репутация: считалось, что он утаивает свои намерения и ему свойственна скрытность (dissimulatio), — впрочем, последнее качество, возможно, помогло ему пережить правление Августа10. Последующие императоры, вступая на престол, тоже притворялись, будто отказываются от предложенной им императорской власти; в случае Тиберия его отказ (recusatio imperii) мог быть неверно истолкован, поскольку прецедентов не имелось. Но если всё же Тиберий искренне не желал принимать на себя заботы Августа, то едва ли потому, что опасался противостояния с потенциальными соперниками. Веллей Патеркул рассказывает о страхе и неуверенности, охвативших Рим после смерти Августа; многие не верили, что переход власти пройдет безболезненно. Но Веллей также ясно свидетельствует, что тремя самыми крупными армиями — в Испании, на Балканах и на Рейне — командовали полководцы, лояльные Тиберию. В Испании находился Марк Лепид (консул б г. н. э.), который ранее, при подавлении Паннонского восстания в 6—9 гг. н. э., служил легатом Тиберия; в Паннонии у Тиберия были собственные легаты, в частности Юний Блез, а в Германии командовал приемный сын Тиберия — Германию Тиберий мог не опасаться никого из этих людей; правда, рядовые солдаты не пожелали немедленно изъявить верность новому императору, но это уже был вопрос дисциплины, а не высокой политики. Даже если на мо¬
Азиний Поллион был подчиненным Цезаря, затем Антония, но никогда не служил
под командованием Октавиана. — С.Т.
9 О лицах, способных стать императорами («capaces imperii»), см.: Тацит. Анналы. 1.13.2. О Галле см.: Oliver 1947 (С 382); Shotter 1971 (С 393). О Марке Лепиде см.: Syme 1970 (В 178).
10 О Сиарийской таблице (Tabula Siarensis) и скрытности (dissimulatio) Тиберия см.: Gonzalez 1984 (В 234); Zecchini 1986 (В 301). (Сиарийская таблица — бронзовая таблица с текстом постановления сената и законопроекта о посмертных почестях Герм аника, датируемая концом 19 г. н. э. — С.Т.)
Глава 5. От Тиберия до Нерона
247
мент обсуждения в сенате Тиберий уже знал о волнениях в паннонских легионах, разразившихся сразу же, едва войска прознали о смерти Августа — полководца, которому они присягали, — это не значит, что угроза мятежа могла стать подлинной причиной его нежелания принять императорскую власть.
Сенат надлежащим образом подтвердил, что Тиберий наследует заботы (cura), возложенные на его предшественника (а также предоставил Тиберию титул «Август»). Но сенату надлежало подтвердить полномочия не только Тиберия. Когда Август усыновил Тиберия и принял его в дом Юлиев, он велел ему усыновить Германика — сына Друза (младшего брата Тиберия) и Антонии (дочери Марка Антония и Октавии, сестры Августа). Поэтому формально старшим сыном Тиберия стал Германию В 14 г. н. э. Тиберию было пятьдесят пять лет. Если бы с ним что-то случилось, главой дома Цезаря (domus Caesaris) стал бы Германию
В тот же день сенат принял постановление о почестях для Ливии; Тиберий выразил сомнения в их уместности — вероятно, потому, что его смущали разговоры, будто свое место он получил благодаря влиянию его матери на Августа. На этом же заседании решались и другие вопросы, связанные с объемом забот (cura) Тиберия о государстве; в частности, Тацит сообщает, что Тиберий объявил об изменении процедуры выдвижения кандидатов на должности. В дальнейшем список претендентов обсуждался в сенате; четыре преторских места занимали люди, рекомендованные Тиберием, остальные вакансии оставались открыты для тех кандидатов, которых избирал сенат (хотя, конечно, и тут поддержка прин- цепса была решающей). Затем этот список, следуя действовавшей процедуре, направлялся для одобрения в центуриатные комиции, которые избирали преторов во времена Республики; но теперь соперничество кандидатов в преторы за голоса народа стало простой формальностью (для кандидатов в консулы так обстояло дело со времен Юлия Цезаря): кандидатам требовалась поддержка только императора и сената. Это имело важное следствие: отныне квесторам и эдилам, желавшим получить претуру, не нужно было завоевывать симпатии римского плебса при помощи зрелищных игр. Для участников политической жизни проведение игр служило одним из главных способов демонстрации их веса в государстве. Малочисленность публичных зрелищ при Тиберии стала следствием концентрации власти в руках принцепса, в ущерб как сенатской элите, так и народу11.
Император должен был контролировать не только императорское домохозяйство, сенат и народ, но и армию: как мы видели, после смерти Августа Тиберий первым делом поставил в известность о случившемся все провинциальные войска. Тацит очень подробно описывает мятежи в Двух самых крупных армиях — тех, что стояли на Рейне и на Дунае; но не стоит думать, что они представляли такую же опасность, как то было при
11 О выборах см.: Levick 1967 (С 365).
248
Часть I. Изложение событий
сходных обстоятельствах в 69 г. н. э. и 97 г. н. э. Смерть Августа дала солдатам, служившим в Паннонии и Германии, возможность выплеснуть долго сдерживаемое недовольство условиями службы. Римский солдат присягал на верность не только государству (res publica), но и лично императору, который призывал его на службу в конкретной кампании. Впервые за последние полвека правящий император скончался, на его место должен был встать другой — и не имело значения, что Тиберий много лет прослужил в Паннонии и Германии. Солдаты воспользовались подходящим моментом, чтобы потребовать изменения условий службы. Тацит описывает эти события как полный развал дисциплины и раздувает как их постыдность, так и потенциальную опасность для Тиберия. Тацит и прочие историки, следовавшие тем же источникам (вероятно, «Истории Германских войн» Плиния Старшего и мемуарам Агриппины Младшей), сходятся в том, что справиться с бунтом в паннонской армии оказалось сравнительно легко. Мятеж в войсках на Рейне имел большее политическое значение, ведь там находился Германик, которого эти источники стремились представить как возможную альтернативу Тиберию12.
В рассказе Тацита о волнениях в паннонских легионах содержится речь, в которой перечислены жалобы солдат (во многом правомерные) на долгий срок службы, часто превышавший двадцать лет, на невысокое жалованье и удержания из него для освобождения от неприятных обязанностей, а также на плохое качество земельных наделов, которые по окончании срока службы солдаты получали из военной казны (aerarium militare). У Тацита эту речь произносит Перценний, в прошлом профессиональный клакер в римских театрах, которого за пять лет до описываемых событий призвали в армию в ходе чрезвычайного набора в связи с гибелью трех легионов Вара. Квинт Юний Блез, командир паннонского войска (консул 10 г. н. э. и дядя Луция Элия Сеяна, префекта преторианцев), не смог удержать солдат от грабежа мирных поселений. Хотя Блез пообещал отправить в Рим делегацию (во главе со своим сыном, служившим в этом войске трибуном) с просьбой об улучшении условий службы, ему удалось восстановить дисциплину только после того, как к нему прибыл сын Тиберия — Друз, с двумя когортами преторианцев под командованием их префекта Сеяна (который уже описывается в источниках как коллега своего отца — Луция Сея Страбона). Решение Тиберия командировать своего сына Тацит изображает как реакцию на серьезную угрозу; но следует помнить, что главная тема «Анналов» — это гражданские раздоры.
Изложение Тацита предполагает, что бунтовщики вовсе не были удовлетворены обещанием Друза передать их жалобы главнокомандующему, то есть Тиберию, а через него — сенату. Но совпавшее с этими событиями лунное затмение в ночь с 25 на 26 сентября послужило для них поводом
12 О военной клятве (sacramentum) см.: Campbell 1984 (D 173): 19 сл. О мятежах см.: Schmitt 1958 (С 391); Sutherland 1987 (В 358): гл. 16.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
249
для отступления, что позволило Друзу казнить двух зачинщиков и вернуться в Рим, даже не дожидаясь возвращения солдатской делегации от Тиберия.
Легионы, стоявшие на Нижнем Рейне под командованием Авла Цеци- ны Севера, тоже воспользовались смертью императора, которому они присягали, чтобы высказать недовольство непрерывными военными действиями, которые Август столько лет заставлял их вести. Через рассказ Тацита о политической борьбе в правление Тиберия красной нитью проходит конфликт между вдовой и детьми Германика, с одной стороны, и Тиберием и его прямыми потомками — с другой. Даже если анализ Тацита (вероятно, восходящий к воспоминаниям Агриппины) верен, не следует соглашаться с его выводом о том, что при жизни Герм аник был соперником Тиберия или представлял для него угрозу. Напротив, имеются эпиграфические и иные свидетельства о том, что Германика признавали наследником Тиберия люди, не выказывавшие никакой нелояльности самому Тиберию. Когда Овидий, томившийся в ссылке в городе Томы на берегу Черного моря, обращался к Германику как к принцепсу, едва ли он предполагал, что кто-то усмотрит в этом желание поэта видеть Герм- ника императором вместо Тиберия13.
Согласно Тациту, главное различие между мятежами в Паннонии и на Рейне состояло в том, что некоторые из солдат рейнского войска предложили Германику сделать его императором, если он пойдет навстречу их требованиям. Можно усомниться в серьезности этого предложения; столь же малоправдоподобен и анекдот о солдате, который готов был помочь Германику совершить самоубийство. В чем бы ни состояло политическое значение мятежа, из рассказа Тацита ясно, что пришлось распустить солдат, отслуживших долгий срок (по крайней мере, часть из них), и в ответ на это легионы на Верхнем и Нижнем Рейне согласились принести военную присягу новому императору. Но прибытие в крепость Алтарь Убиев (Ara Ubiorum, совр. Кёльн) делегации сенаторов, направленной Тиберием, привело к возобновлению мятежа, поскольку солдаты обоснованно опасались, что Тиберий использует авторитет сената как оправдание для отказа от недавних уступок. Легат Луций Мунаций Планк, консул предыдущего года, подвергся унижению; Германик демонстративно отправил в Трир жену и детей (в том числе и двухлетнего Гая, который часто носил военные «сапожки» (caligulae), за что получил прозвище Калигула), где им не грозила опасность. По сообщению Тацита, в этот раз мятеж приобрел уже такие масштабы, что для его подавления Германику пришлось вызывать легионы с Верхнего Рейна. Судя по всему, Германику не стоило особых усилий восстановить порядок в Кёльне, а Цецине — в двух легионах, дислоцированных в Ксантене (когда Германик осматривал тела казненных, он, как рассказывают, сожалел об этой вынужденной жестоко-
13 Овидий. Фасты. 1.19—20. Herbert-Brown G. Ovid and the Fasti (Oxford, 1994): гл. 5. В надписи из Эфеса Германик и Друз названы «новыми Диоскурами» [SEGIV 515).
250
Часть I. Изложение событий
сш). На Рейне и в Паннонии произошли крупные бунты, но они не представляли опасности ни для Рима, ни для Тиберия, хотя на это и намекает Тацит или его источники. Эта события произвели глубокое впечатление на общество, но скорее свидетельствовали о неудаче Августа или о его неспособности рассчитать реальную цену военной политики, нежели представляли угрозу для Тиберия.
II. Правление Тиберия14
Осенью 14 г. н. э. и на протяжении двух последующих летних сезонов Германии со своими легионами провел несколько кампаний к востоку от Рейна. И археологические, и литературные свидетельства указывают, что он не предпринимал серьезных попыток напрямую подчинить эта земли римской власти. Эта кампании велись ради чести Рима, военную славу которого следовало восстановить после страшного поражения Вара, а также ради репутации самого Германика. Судя по тому, что в момент получения веста о смерти Августа Германик проводил ценз в галльских провинциях, эта кампании запланировал сам Август; они не вступали в противоречие с советом не расширять границы империи, который Август будто бы присовокупил к своему отчету о состоянии ресурсов государства. Он посоветовал своему преемнику ограничить возможности приобретения полководцами военной славы (gloria), но эта рекомендация не касалась приемного сына самого Тиберия. Тацит был убежден, что историографическое произведение должно содержать подробные описания войн, а также желал героизировать Германика, поэтому он сочинил эпический рассказ о том, как Германик посетил место, где армия Вара потерпела поражение, перезахоронил тела погибших и героически возвратился на римскую территорию через северные болота Германии. Это сообщение Тацита не отменяет того факта, что Германик не добился за Рейном никаких значимых результатов — и, вероятно, не имел такой цели15.
Тацит предполагает, что Тиберий всегда завидовал успехам Германика и поэтому через два года отозвал его из Германии; но с этой точкой зрения вряд ли следует согласиться. Тиберий хотел дать германцам понять, что со смертью Августа военные кампании Рима на северных границах не закончились. Также он желал, чтобы Германик завоевал себе славу и чтобы его доблесть (virtus) стала всем очевидна; поэтому в 17 г. н. э. он наградил своего приемного сына и наследника полноценным триумфом — наивысшим знаком воинского отличия. В следующем году Тиберий ясно
14 Библиографию по правлению Тиберия см. в сноске 5 наст. гл. Основные литературные источники по этой теме: Тацит. Анналы. I—IV; Светоний. Тиберищ Дион Кассий. Ь\П—LVTH; Веллей Патеркул. П. 123—131, с комментариями: Woodman 1977 (В 202).
15 Koestermann 1957 (С 362).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
251
показал, что Германии занимает положение избранного наследника, когда разделил с ним свое третье консульство.
И именно искренняя забота о том, чтобы преемник приобрел необходимый правителю опыт, побудила Тиберия в том же году отправить Гер- маника в восточную часть империи. Подобные решения уже принимались при Августе: Агриппа, сам Тиберий, Гай Цезарь — все они, будучи бесспорными наследниками, некоторое время управляли восточной частью империи. В этом регионе следовало решить и некоторые практические задачи. В 17 г. н. э. в Риме умер царь Архелай Каппадокийский (от естественных причин, но они усугубились из-за враждебности его патрона — Тиберия). Тиберий хотел включить Каппадокию в империю в качестве провинции (см. гл. 14а наст, изд.), чтобы пополнять военную казну, в которой постоянно не хватало средств. Кроме того, Германику предстояло проконтролировать сбор налогов в Пальмире и осмотреть повреждения, которые в 17 г. н. э. землетрясение нанесло нескольким городам Азии. Советником Германика Тиберий назначил Гнея Кальпурния Пизо- на — своего коллегу по консульству в 7 г. н. э., — чтобы тот сопровождал наследника в качестве легата Сирии. Тацит намекает, что на самом деле Тиберий использовал Пизона, дабы держать Германика в узде. Если отказаться от идеи, что Тиберий и Германии не доверяли друг другу, тогда Пизон как доверенный друг (amicus) дома Цезаря (domus Caesaris) должен был просто оказывать Германику поддержку и давать советы. Но советы Пизона лишь раздражали Германика; возможно, Пизон удерживал Германика от ненужных военных кампаний против парфян, которые тот хотел предпринять ради собственной славы. Так или иначе, Пизон славился своим дурным нравом. Германии избавился от советов Пизона, отправившись в Египет, куда римским сенаторам доступа не было (т. е. Пизон не мог последовать за ним в эти края. — С.Т); ради завоевания популярности он открыл там зернохранилища, а это могло усугубить нехватку зерна в Риме. Тиберий был недоволен его поведением, а Пизон ошибочно истолковал недовольство принцепса как разрешение поссориться с Германиком. Германии формально разорвал дружбу (amicitia) между Пизоном и домом Цезаря. Пизон был вынужден уехать из Сирии. К несчастью, вскоре после этого Германии умер (10 октября 19 г. н. э.), и Пизон, несмотря на предостережения своего совета (consilium), счел, что может вернуться и снова управлять провинцией. Если Германии вел себя вызывающе, то реакция Пизона представляла собой настоящую государственную измену;15а он был арестован и отправлен в Рим, где предстал перед судом сената, обвиненный в развязывании войны против провинции римского народа. Агриппина, доставившая прах своего мужа в Рим, позаботилась о том, чтобы Пизона обвинили и в том, что он отравил Германика; обвинителем выступил Публий Вителлий, который служил од¬
15а Возвращение Пизона в Сирию после смерти Германика представляло собой нарушение воли члена правящего дома; пытаясь вернуть себе власть над провинцией, Пизон вступил в вооруженное столкновение с Сенцием, легатом Германика. — С.Т.
252
Часть I. Изложение событий
ним из полководцев Германика в Германии; в дальнейшем братья Вителлин стали верными сторонниками брата и сына Германика — Клавдия и Калигулы. Свидетельств в поддержку обвинения не нашлось. Но, несмотря на усилия, предпринятые Тиберием для открытого и справедливого рассмотрения дела, самоубийство Пизона позже сочли доказательством того, что именно он убил Германика, да еще и по приказу Тиберия16.
Смерть Германика означала, что отныне непосредственным наследником стал родной сын Тиберия — Друз. Это подтверждают монеты, на которых прославляется рождение сыновей-близнецов Друза в 19/20 г. н. э. (выжил только один из них, известный как Тиберий Гемелл). Положение Друза было окончательно подтверждено, когда в 21 г. н. э. принцепс разделил с ним четвертое консульство; а в апреле 22 г. н. э. Друз официально получил трибунскую власть (tribunicia potestas). Агриппина, вероятно, чувствовала, что Судьба лишила ее шанса стать женой императора, но у нее не было причин винить в этом Тиберия; да и нет свидетельств, что на этом этапе она и впрямь считала его истинным виновником смерти своего мужа. Образ Германика как нового Александра, отравленного в начале своего жизненного пути, создала в своих мемуарах ее дочь, Агриппина Младшая, и в них же она обвиняла Тиберия в том, что он не оплакивал Германика должным образом, — хотя можно заметить, что умеренность (moderatio) Тиберий выказывал во всем, не исключая и скорби по всем своим родным; Сенека упоминает о сдержанности, которую Тиберий продемонстрировал в 9 г. до н. э., когда ему пришлось организовывать похороны своего родного брата Друза17.
Эта умеренность (moderatio) Тиберия не означала, что он ограничивал себя в самозащите от тех, кто был достаточно глуп, чтобы притязать на его императорскую власть. Марку Скрибонию Либону, правнуку Помпея и внучатому племяннику Скрибонии (бывшей жены Августа и матери Юлии Старшей), было предъявлено обвинение в колдовстве; он был осужден (3 сентября 16 г. н. э.) и по совету тетки покончил с собой18. Хотя утверждалось обратное, но Тиберий проявлял немалую заботу (cura) о провинциях и принимал меры, чтобы провинциальные наместники не увлекались демонстрацией военной доблести. Когда в провинции Африка потребовалось подавить восстание под предводительством романизированного вождя по имени Такфаринат, на повестку дня встал вопрос о том, кому император может доверять, а кому — нет. Помимо самого принцепса, проконсул Африки был единственным в империи человеком, который командовал легионом в силу собственного империя (хотя его победы император мог приписать и себе). Тиберий попросил сенат назна¬
16 Koestermann 1958 (С 363); Hennig 1972 (С 353); Sutherland 1987 (В 358): гл. 19. О собственной сети клиентов Тиберия на Востоке см.: Levick 1971 (С 156). О нраве Пизона см.: Сенека. О гневе. 1.18.3сл. О Егапте см.: EJ2 320, 379 = AN 557, 558. О посмертных почестях Германика см.: Gonzalez 1984 (В 234).
17 О сьшовьях-близнецах Друза см.: EJ2 91. Об умеренности (moderatio) см.: Levick 1976 (С 366); Sutherland 1987 (В 358): гл. 23.
18 О Либоне см.: Weinrib 1967 (С 411).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
253
чить чрезвычайного командующего. Обсуждались два кандидата; вероятно, оба считались верными слугами принцепса: Марк Лепид и Юний Блез (консул-суффект 10 г. н. э.). Возможно, из уважения к племяннику Блеза — Сеяну, командиру преторианцев и доверенному лицу Тиберия, Лепид снял свою кандидатуру. Можно было рассчитывать, что Блез не злоупотребит триумфальными отличиями (ornamenta triumphalia), если получит их за победу.
В это же время вспыхнуло восстание в Галлии — из-за повышения там налогов, необходимых для содержания армии, и, возможно, из-за приостановки военных действий Рима против Германии, в которых принимали участие галльские контингенты. В рассказе Тацита вождями этого восстания названы Флор и Сакровир, и античный историк намекает, что в него были вовлечены и друиды. Но этот кризис Тацит описывает во многом по аналогии с мятежом Виндекса в 68 г. н. э. и критикует Тиберия за то, что тот не смог лично отправиться подавлять восстание, словно прин- цепс вел себя столь же беззаботно, как Нерон в 68 г. н. э.
Позднее Тиберия считали императором, не справившимся со своими обязанностями; отчасти такая репутация объясняется тем, что слишком большое значение он придавал умеренности (moderatio); так, он с готовностью разрешал высказывать в сенате различные мнения, тогда как сенаторы хотели, чтобы император ясно указал, каково его собственное суждение (sententia). Другой причиной непопулярности Тиберия было его безразличие к зрелищам: когда жители Требии спросили его, что делать с деньгами, завещанными городу, принцепс посоветовал построить дорогу, а не театр. Но главную роль сыграло физическое отсутствие Тиберия в Риме. Его предшественник, Август, часто покидал Рим, но только ради командования в войне или надзора за делами в провинциях. Тиберий же находился по преимуществу в Кампании, где богатые римляне традиционно проводили свободное время. Порой на то имелись серьезные причины, например, в 21—22 гг. н. э. он провел двадцать месяцев здесь, вдали от Рима, вероятно, потому, что пережидал эпидемию. Когда заболела мать Тиберия, он сразу вернулся19.
Но из-за своих отлучек Тиберий не мог контролировать заседания сената. Отчасти поэтому сенаторы начали обвинять друг друга в государственной измене (maiestas), и именно из-за этих процессов правление Тиберия вызывало такое неприятие у позднейшей сенаторской историографии. Для честолюбивых молодых людей, обладавших риторическими способностями, такие обвинения стали самым эффективным способом пробиться наверх, ведь политика Тиберия по сокращению военной активности не позволяла «новым людям» проявлять доблесть (virtus) на полях сражений. Успешный обвинитель мог избавиться от личного врага, заслужить похвалу за свои риторические способности, получить по меньшей
19 О Требии см.: Светоний. Тиберий. 31. Об отсутствии Тиберия в Риме см.: Syme 1986 (А 95): 24; Stewart 1977 (F 583); Orth 1970 (С 384); Houston 1985 (С 357). О Ливии см.: Sutherland 1987 (В 358): 20.
254
Часть I. Изложение событий
мере четверть имущества осужденного и добиться благосклонности императора — а она могла помочь ему в достижении высших должностей. Пока Тиберий находился в Риме, он изо всех сил старался обуздать доносчиков (delatores), чтобы они не вызывали у сенаторов чувство незащищенности. Тацит предполагает, а монеты подтверждают, что в эти годы Тиберий придавал большое значение своей сдержанности (moderatio), выражавшейся в том, что он отказывался давать ход обвинениям в измене (maiestas) сенаторов. Император мог вмешаться в какое-то дело, чтобы проявить свою императорскую добродетель — милосердие (clementia); в 22 г. н. э. он позволил Дециму Юнию Силану вернуться из изгнания, в которое ему пришлось отправиться, когда Август разорвал с ним дружбу (amicitia) в наказание за его связь с Юлией Младшей в момент кризиса 8 г. н. э. Однако возвращение Децима к общественной жизни Тиберий не приветствовал20.
Другим важным последствием отлучек Тиберия из столицы стал рост влияния Элия Сеяна — единственного теперь префекта преторианцев, который служил каналом связи между сенаторами и императором. За эти годы Сеян значительно укрепил полицейские силы в Риме, сосредоточив преторианские когорты в одном постоянном лагере (это был один из первых военных лагерей с каменной стеной). Нет причин считать, что изначально последний создавался с какими-то зловещими целями, а не просто ради укрепления дисциплины солдат; но оказалось, что в лагере удобно содержать и политических заключенных.
Четырнадцатого сентября 23 г. н. э. неожиданная кончина Друза разрушила надежды Тиберия передать власть сыну — не важно, родному или приемному, но достаточно взрослому и опытному, чтобы править. Пожалуй, Друз не стал бы идеальным императором. Подобно своему отцу, он много пил; рассказывали, что однажды во время попойки он ударил Сеяна. Данная история впоследствии стала доводом в пользу гипотезы, что Сеян отравил Друза, но эти выдумки были сочинены уже после падения Сеяна; в течение многих лет Сеян и Друз успешно сотрудничали и были верными друзьями; кстати, лето 23 г. до н. э., когда умер последний, выдалось исключительно нездоровым20а. Тиберий счел необходимым прибыть в Рим, чтобы произнести погребальную речь в честь Друза.
И вновь встал вопрос о наследнике. К началу 23 г. н. э. двое сыновей Германика уже достигли совершеннолетия; чтобы укрепить их положение, их мать Агриппина попросила Тиберия снова выдать ее замуж. Возможно, она желала стать женой Азиния Галла. Один из сыновей последнего, Азиний Салонин, ранее был обручен с дочерью Германика, но свадьба не состоялась, поскольку в 22 г. н. э. жених умер; двое других сыновей Галла были в эти годы консулами: в 23 г. н. э. — Гай Азиний Поллион, в
20 Bauman 1974 (F 641). Нерон урезал награды для доносчиков вчетверо, см.: Светоний. Нерон. 10; о немедленном разрыве дружбы (amicitia) императора с осужденным см.: Дигесты. 37.14.10 (Антистий Лабеон). Об умеренности (moderatio) и милосердии (clementia) см. сноску 17 наст. гл.
20а Ср. выше, с. 253 наст, изд., где упоминается эпидемия 21—22 гг. н. э. в Риме. — С.Т
Глава 5. От Тиберия до Нерона
255
25 г. н. э. — Марк Азиний Агриппа (но в следующем году он тоже отправился к праотцам). Тиберий не мог допустить, чтобы Нерон и Друз перешли под защиту такого могущественного отчима, не говоря о том, что он просто ненавидел его.
Подобно Тиберию, префект преторианцев Сеян тоже заботился о том, как бы правящего императора не сменили сыновья Германика. О личной заинтересованности Сеяна в выживании Тиберия свидетельствует эпизод, случившийся в 26 г. н. э.:21 когда на стол императора, направлявшегося на виллу на Капри и решившего отобедать в гроте возле Терраци- ны, обрушилась часть потолка, Сеян закрыл собой принцепса, чем убедил того в своей искренней преданности. Годом ранее Тиберий испытывал в отношении Сеяна сомнения: он отказал ему в браке с Ливиллой (Ливией Юлией), вдовой Друза. Пусть Сеян, подобно своему отцу и, вероятно, деду, был верным сторонником династии, тем не менее, несмотря ни на что, в знатности он не мог сравниться с представителями республиканского нобилитета. Даже его жена принадлежала к роду, который лишь в первом поколении входил в число консульских21а. Тиберий счел, что у Сеяна не хватило бы политического влияния, чтобы защитить Тиберия Гемелла, сына Ливиллы, от претензий со стороны детей Агриппины. Так или иначе, Тиберий не собирался умирать в обозримом будущем, да и прогнозы его личного астролога Фрасилла не сулили ничего плохого.
В ноябре 25 г. н. э. Тиберию исполнилось шестьдесят шесть лет. В этом возрасте другие римские сенаторы уже могли думать об удалении на покой, но Тиберий не видел спасения от обязанностей, унаследованных от Августа. Неудивительно, что он предпочитал держаться подальше от Рима и не приехал даже на похороны своей матери Ливии в 29 г. н. э. По- видимому, вопрос о наследнике вызывал между матерью и сыном жаркие споры; Тиберий Гемелл приходился Ливии правнуком, но ее правнуками (через Друза) были и трое сыновей Агриппины, а Август ясно указал в своем завещании, что именно они должны стать его преемниками. Пока Ливия была жива, она могла защищать их от враждебности Тиберия. Погребальную речь на похоронах Ливии произнес Гай Калигула, которого та взяла к себе в дом (domus). Вскоре после ее похорон Сеян арестовал Агриппину, Друза и Нерона. Калигула пока не получил разрешения надеть мужскую тогу (toga virilis), поэтому с ним нельзя было поступить как с источником политической угрозы. Мальчик переехал в дом своей бабки, Антонии Младшей, которая в годы господства Сеяна защищала, как могла, интересы соратников своего сына Германика.
После похорон сенат в полной мере воздал Ливии божественные понести, сходные с теми, какие посмертно получил ее муж Август (имелись
^Stewart 1977 (F583).
21 а О происхождении Апикаты, жены Сеяна, понта ничего не известно; возможно, она была родственницей богача Марка Гавия Апиция, но консулы из этого рода появляются только во П в. н. э. Вероятно, имеется в виду мать Сеяна, принадлежавшая к роду Юниев Блезов, первый представитель которого — Квинт Юний Блез, дядя Сеяна, — стал консулом в 10 г. н. э. — С.Т
256
Часть I. Изложение событий
и незначительные, диктуемые протоколом отличия, например, изображение божественного (divus) Августа везли на колеснице, запряженной четверкой лошадей, тогда как божественной Августе (diva Augusta) пришлось довольствоваться парой). Ее завещание содержало примечательное распоряжение: огромную сумму она оставила юному Сервию Суль- пицию Гальбе (родившемуся в 3 г. до н. э.); Ливия Оцеллина, родственница Ливии, приходилась ему мачехой и усыновила его. Тиберий, что совершенно понятно, был расстроен размером завещательного отказа в пользу Гальбы (он составил 50 млн сестерциев) и, очевидно, не выплатил Гальбе даже пересмотренную сумму в 500 тыс. сестерциев, на которую сперва согласился. К этому времени старший брат Гальбы (консул 22 г. н. э.) уже попал в немилость к Тиберию, а позднее вынужден был покончить с собой (ок. 36 г. н. э.). Завещание Ливии свидетельствует о ее недовольстве собственным сыном и убеждении, что Гальба достоин выдающегося положения на общественной сцене. После смерти Ливии Гальбу поддерживала Антония (а затем — Калигула). Женой Гальбы была, возможно, дочь Марка Эмилия Лепида, «достойного императорской власти» (capax imperii), консула 6 г. н. э.; другая дочь, Лепида, вышла замуж за Друза, сына Германика. Сам Гальба уже достиг претуры (неясно, в каком именно году он ее занимал; но сообщается, что на играх в честь Флоры он показал народу слонов-канатоходцев). В 33 г. н. э. Гальба был ординарным консулом. Неудивительно, что Тиберий, велевший составить его гороскоп, сказал, что молодому Гальбе суждено стать императором.
Хотя Тацит намекает, будто одной из главных причин отъезда Тиберия из Рима стало стремление избежать общения с матерью, ее смерть не побудила его вернуться. Отсутствие Тиберия не означало, что он перестал контролировать дела в империи, но позволило Сеяну монополизировать отбор сведений и рекомендаций относительно происходящего в столице, на основании которых Тиберий принимал решения. Сеян уже дал императору понять, что хочет жениться на Ливилле, вдове Друза, и тем самым сразу же стать отчимом внуку и будущему преемнику Тиберия, а со временем, возможно, и отцом других детей, которые тоже смогут стать императорами. Пока пасынок Сеяна или его собственные дети были слишком молоды для этой должности, Сеян мог бы играть при них ту роль, какую Август отвел Тиберию при Германике. Тиберий понимал его намерения, хотя точно не известно, согласился ли он в конце концов на этот брак22. Однако не вызывает сомнений, что Тиберий назначил Сеяна ординарным консулом на 31 г. н. э., хотя тот не был сенатором, а также публично продемонстрировал, до какой степени префект преторианцев «разделяет с ним труды», став сам в пятый раз консулом вместе с Сеяном. Третье консульство Тиберий разделял с Германиком, четвертое — с Друзом; в обоих случаях это служило указанием на то, кого в данный момент следует считать его наследником. Избрание Сеяна состоялось на Авен-
22 Только позднейший источник, Иоанн Антиохийский (FGrHTV. 570), указывает, что Тиберий называл Сеяна сыном (т. е. зятем) и преемником.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
257
тинском холме, который обычно ассоциировался с городским плебсом, а подарки и зрелища, организованные по этому поводу, выгодно контрастировали в глазах плебса с пренебрежением к нему, порожденным избирательными реформами Тиберия, после которых подобная борьба за популярность обычно не имела особого смысла23.
Публично признав существование еще одного потенциального преемника, Тиберий лишь увеличил себе свободу маневра по отношению к детям Агриппины. С другой стороны, Сеян мог реализовать свои династические амбиции только при условии устранения детей Агриппины как претендентов на императорскую власть. Родственник Сеяна, Кассий Лонгин (вероятно, Луций Кассий Лонгин, ординарный консул 30 г. н. э., а не его брат Гай Кассий Лонгин, знаменитый юрист (см. гл. 21 наст, изд.), консул- суффект того же года), обвинил Нерона и Друза в заговоре против императора. Родство Кассиев Лонгинов с Кассием, убийцей Цезаря, не сделало их республиканцами, хотя спустя много лет после раскрытия заговора Пизона император Нерон обвинил Гая Кассия именно в республиканских устремлениях. Нерон и Друз действительно представляли угрозу для Тиберия и для наследования Гемелла (независимо от того, стал бы Сеян его отчимом или нет). Даже после устранения Сеяна Тиберий и не подумал освободить Друза из тюрьмы. Похоже, Агриппина и ее сыновья, видя опасность со стороны Сеяна, начали строить планы по устранению Тиберия, пока позиция Сеяна не стала непоколебимой.
Не кто иной, как Антония Младшая, мать Германика и бабка юношей, через своего вольноотпущенника Марка Антония Палланта направила Тиберию лично в руки письмо с предупреждением, что сосредоточение власти в руках Сеяна опасно не только для Агриппины и ее детей, но и представляет угрозу для политического выживания самого Тиберия. Когда Сеян станет покровителем Гемелла, преемника Тиберия, а других кандидатов на престол не останется, роль Тиберия будет сыграна. Антония, должно быть, обратила внимание императора на то, что именно Сеян отвечает за его личную безопасность, и, когда Агриппина и ее потомки будут устранены, у Сеяна не останется никаких причин сохранять Тиберию жизнь. Это был серьезный аргумент, и Тиберий вызвал последнего сына Германика, Гая Калигулу, в свой надежно защищенный дом на Капри. Но вместе с тем принцепс не стал препятствовать Сеяну предать Нерона казни.
За предшествующие семнадцать с лишним лет своего правления Тиберий ни разу не отдал приказа о казни кого-либо из сенаторов. Поэтому Рим был глубоко потрясен, когда 18 октября 31 г. н. э. этот старик хорошо спланировал и весьма эффективно осуществил устранение Сеяна. Агентом Тиберия стал другой чиновник из всаднического сословия — Су- торий Макрон, префект ночной стражи города (префект вигилов, vigiles):
23 Syme 1956 (В 288). «Недостойные выборы» («inprobae comitiae») упомянуты в надписи: ILS 6044 = EJ2 53 = AN 101. О Сеяне см.: Meise 1969 (С 375): гл. 4; Hennig 1975 (С 354); Woodman 1977 (В 202).
258
Часть I. Изложение событий
он привез в Рим два письма от Тиберия. Одно зачитали в сенате в присутствии Сеяна; оно было длинным и невнятным (Ювенал отметил: «большое и многословное», «grandis et verbosa»). И далеко не сразу стала понятна суть дела: в этом послании Сеян объявлялся предателем. Пока сенат и сам Сеян недоумевали, Макрон, следуя приказу Тиберия, содержавшемуся во втором письме, принял на себя командование преторианцами. Сеян рассчитывал получить трибунскую власть (tribunicia potestas) и стать коллегой Тиберия. Но вместо этого его лишили должности и арестовали. В тот же день Сеян был казнен; такая же участь ждала его жену и дочь. Утверждалось, что восемью годами ранее Сеян вместе с Ливиллой отравил Друза — сына Тиберия и мужа Ливиллы.
Вследствие падения Сеяна многие прежние сторонники Германика получили возможность вернуться на политическую арену под защитой Антонии Младшей. В дальнейшем некоторые из них оказали поддержку режимам ее внука Калигулы и ее сына Клавдия: Луций Вителлий, которому предстояло стать главным советником Клавдия и отцом будущего императора, в 34 г. н. э. являлся ординарным консулом; в 35-м консулом- суффектом был назначен его друг Валерий Азиатик из Виенны, чей сын потом обручится с дочерью императора Вителлия, а внук (Марк Лоллий Паулин Децим Валерий Азиатик Сатурнин) в следующем столетии превратится в могущественную фигуру (консул 94 г. н. э. и, повторно, — в 125 г. н. э.). Флавий Сабин (префект города (praefectus urbi) при Нероне, Отоне и Вителлин и брат Веспасиана) вошел в сенат в 34 или 35 г. н. э. Гальба уже упоминался; его преемником на должности консула-суффек- та в 33 г. н. э. был Луций Сальвий Отон, отец которого, новый человек (novus homo), благодаря милости Ливии достиг претуры в начале правления Тиберия. Дочь Отона некогда была обручена с Друзом, сыном Германика; старший сын Отона, Луций Тициан, достиг консульства в 52 г. н. э., занимал должности проконсула Азии и, как и отец, промагисгра коллегии арвальских братьев; а его младший сын стал императором24.
С другой стороны, свержение Сеяна не умерило вражды Тиберия к самой Агриппине. Ее не вернули из изгнания, а Друза не выпустили из тюрьмы, и оба они умерли в 33 г. н. э. Дочерей Агриппины Тиберий мог обезвредить не убивая. В 33 г. н. э. он выдал Друзиллу за Луция Кассия Лонгина, а Юлию Ливиллу, младшую дочь Германика, — за могущественного и лояльного Марка Виниция; дед последнего, консул 19 г. до н. э., некогда был одним из полководцев Тиберия в Иллирии и за службу в
24 Просопографические исследования карьер отдельных лиц и семейных взаимоотношений зачастую приходится базировать на эпиграфических свидетельствах и случайных замечаниях в литературных источниках. Многие вопросы остаются без ответов (напр., родство различных Скрибониев и Пизонов с Цезарями и между собой). Семейная история была важным элементом императорских биографий, но даже в жизнеописаниях Светония («Гальба», «Отон», «Вителлий» и «Божественный Веспасиан») встречаются недостоверные или двусмысленные утверждения. О Валерии Азиатке ср.: Тацит. История. 1.59; о клиентах Германика и Антонии Младшей см.: Gallotta 1988 (С 348); Kokkinos 1992 (С 364).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
259
Германии снискал триумфальные отличия (ornamenta triumphalia). Отец Виниция, ординарный консул (consul ordinarius) 2 г. н. э., прославился как оратор; сам Виниций был консулом 30 г. н. э. (в этом году Веллей Патеркул посвятил ему свою «Историю») и, вероятно, входил в число лиц, которым верховенство Сеяна представлялось оскорбительным, если не опасным. Выдав Ливиллу за Виниция, Тиберий показал, что этому человеку можно доверить империю; и действительно, хотя в 39 г. н. э. Калигула отправил Ливиллу в ссылку, Виниций обладал таким могуществом, что всерьез претендовал на наследство после убийства Калигулы в 41 г. н. э. Агриппина Младшая, третья дочь Германика, еще с 28 г. н. э. была замужем за Гнеем Домицием Агенобарбом (консулом 32 г. н. э.). Через свою мать Антонию Старшую последний приходился внуком Марку Антонию и Октавии, сестре Августа. Едва ли удивительно, что эта пара постаралась не заводить детей при жизни Тиберия. Лишь в последний год его правления Агенобарб был отправлен в ссылку по обвинению в инцесте со своей сестрой Домицией Лепидой. Кроме того, в 33 г. н. э. Тиберий вынудил покончить с собой Азиния Галла, три года продержав его под домашним арестом. Тиберий возненавидел Галла гораздо раньше, чем тот завязал контакты с Агриппиной и будто бы оказал поддержку Сеяну. Тем не менее трое сыновей Азиния Галла остались в живых и при Калигуле заняли должности (Сервий Азиний Целер, консул 38 г. н. э., казнен в 47 г. н. э.; Азиний Галл, сослан в 46 г. н. э.; Азиний Поллион, проконсул Азии в 38/39 г. н. э.).
Тацит отмечает, что на Сеяна и Ливиллу в сенате нападали люди, носившие великие имена Сципионов, Силанов, Кассиев. Если Тацит желал намекнуть, что политический вес этих персон определялся их республиканскими предками, то это еще не вся правда. Не меньше, а может и больше, значили их связи с домом Цезаря (domus Caesaris). Эти люди, как и другие, воспользовались той свободой, какую давало отсутствие Тиберия в Риме, чтобы устроить вакханалию взаимных нападок, обвиняя своих личных врагов в связях с Сеяном. Конечно, некоторые из пострадавших действительно имели тесные связи с Сеяном — хотя любопытно, что даже его дядя, Квинт Юний Блез, не был формально осужден и казнен, а покончил с собой, когда Тиберий разорвал с ним дружбу (amicitia). Двое сыновей Блеза дожили аж до 36 г. н. э. Более того, с Сеяном были связаны и некоторые из самых пылких обличителей его памяти: два Кассия приходились внуками Квинту Элию Туберону — отчиму Сеяна. Процессы нескольких следующих лет, без всякого сомнения, состоялись вовсе не потому, что Тиберий решил устроить какую-то облаву на участников «заговора» Сеяна против императора — такого заговора попросту никогда не существовало.
Но другим политическим деятелям было выгодно утверждать, что он существовал. Обвинение в связях с Сеяном использовалось как прикрытие для сведения политических, семейных и личных счетов, так что создавалось впечатление, будто Сеян организовал крупный заговор, в котором участвовала чуть ли не половина сената. Слухи настолько преувеличива¬
260
Часть I. Изложение событий
ли могущество бывшего префекта преторианцев, что даже заговорили, будто Тиберий распорядился в случае возникновения угрозы со стороны приверженцев Сеяна из числа преторианцев выпустить из тюрьмы детей Германика, чтобы вокруг них сплотились люди, верные династии. Но малочисленность лиц, осужденных именно за связь с Сеяном, заставляет предположить, что их казнили не за участие в заговоре, а за то, что они, вероятно, возмущались тем, как Тиберий обошелся со своим верным сторонником, его женой и дочерью. Если бы Сеяну удалось устранить всех потомков Германика, он действительно мог бы стать угрозой для Тиберия. Но случилось так, что заговорщиком оказался не Сеян, а сам Тиберий.
Тацит обвиняет Тиберия в смерти многих людей, осужденных за государственную измену (maiestas) (а также в смерти почти всех, кто умер в те годы, даже если они скончались от болезни или старости, как Маний Лепид, или совершили самоубийство, как Луций Аррунций). Если Тиберия и следовало винить, то только в бездействии: его отсутствие в Риме полностью развязало руки доносчикам (delatores), которые при помощи обвинений в измене сводили счеты с личными соперниками или просто обогащались. В процессах по делам о государственной измене (maiestas) обвинитель имел в то время крупные преимущества, поскольку в их основе лежало недовольство подсудимого императором; следовательно, как только человеку предъявляли обвинение в измене, он терял дружбу (amicitia) императора, а это означало немедленное окончание его публичной карьеры (а обычно и жизни). Одним из первых так пострадал Гай Анний Поллион, консул-суффект в 21 или 22 г. н. э., осужденный в 32 г. н. э. Одновременно обвинили и его сына, Луция Анния Винициана, но тот выжил и стал консулом-суффектом, возможно, при Калигуле, причем обладал таким влиянием, что после убийства Калигулы его рассматривали как кандидата в императоры. Но не все процессы об измене заканчивались осуждением. В числе спасшихся был Гай Аппий Юний Силан (консул 28 г. н. э.).
В эти годы Тиберий по-прежнему заботился прежде всего о том, чтобы гарантировать переход власти к своему внуку Тиберию Гемеллу. По всей видимости, личный астролог убедил императора в том, что он доживет до того времени, когда Гемелл достаточно повзрослеет и сможет стать его преемником. Поэтому Тиберий не видел никакой опасности в предоставлении почестей Калигуле, который был введен в коллегии авгуров и понтификов, а в 33 г. н. э. занимал должность квестора. Примерно в это же время Тиберий попытался поставить Калигулу под более жесткий контроль, женив его на Юнии Клавдилле, дочери своего старого соратника Марка Силана (консула 15 г. н. э.). В том же 33 г. н. э. вновь была выдана замуж Ливия Юлия, внучка Ти6ерия;24а ее мужем стал Гай Рубел- лий Бланд, довольно незначительный человек (консул-суффект 18 г. н. э. и внук учителя Тиберия по риторике). Принцепс полагал, что и сами суп-
243 Первый раз она была замужем за Нероном Цезарем, сыном Германика, погибшим в 31 г. н. э. — С.Т
Глава 5. От Тиберия до Нерона
261
руги, и их потомки не будут представлять никакой угрозы для Гемелла, хотя много лет спустя Нерон так боялся их сына Рубеллия Плавта, что в 62 г. н. э. убил его. Бланд — наряду с Домицием Агенобарбом, Марком Виницием и Кассием Лонгином — вошел в число публично прославляемых мужей внучек императора (progeneri Caesaris). Когда в 36 г. н. э. пожар уничтожил многие районы Рима, все четверо следили от имени Тиберия за оказанием помощи пострадавшим25.
Свои обязанности принцепса Тиберий исполнял по-прежнему эффективно. Он не только не оставил в беде тех римских плебеев, чьи дома разрушил пожар, но и предотвратил в 33 г. н. э. крупный кредитный кризис, вызванный, очевидно, нехваткой наличности; современные историки сильно переоценивают экономическое значение мероприятий Тиберия, применяя к античности современные экономические модели; тем не менее в античности, вероятно, считалось, что император обязан обеспечивать защищенность имущества состоятельных людей. Уровень защищенности состоятельных людей возрос в правление Тиберия и по другой причине, а именно — благодаря постоянному развитию римской юриспруденции в результате деятельности так называемых «школ» юристов, суждение которых по вопросам права поддерживалось авторитетом императора. В таких условиях отсутствие в римских судебных залах самого Тиберия мало что меняло, хотя несколько усложняло жизнь тем, кто добивался от него привилегий (и вынужден был ездить за ними в Кампанию), и служило главной причиной роста непопулярности императора. В дошедшем до нас эдикте Клавдий осуждает «постоянное отсутствие моего дяди»26.
Труднее сказать, сколько внимания принцепс уделял обеспечению справедливого управления провинциями. Хотя и утверждается, будто он сказал Эмилию Ректу, позднее — префекту Египта, что «хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с них шкуры», нет причин считать, что он был лично заинтересован в привлечении наместников к суду за вымогательство или на многие годы оставлял своих легатов в одной и той же провинции только потому, что долгое пребывание там, по его расчетам, должно было умерить их алчность. Поппей Сабин служил легатом Мёзии с 11 г. н. э. по 35 г. н. э. Сам Тиберий жаловался сенату на то, что консуля- ры не желают выполнять обязанности по управлению далекими провинциями. Тем не менее старый император явно опасался, что перемены могут породить проблемы; после кризиса 9 г. н. э. Август оставил наместников на своих местах. Возможно, в некоторых случаях Тиберий долго не
25 О Бланде см.: Syme 1982 (С 401). О мужьях внучек Цезаря (progeneri Caesaris) см.: Тацит. Анналы. VI.45.3.
26 О финансах и кредите см.: Rodewald 1976 (В 348); Sutherland 1987 (В 358): гл. 24. О юриспруденции см. гл. 12 и 21 наст. изд. Следует отметить родство Сеяна с Элием Ту- бероном и Кассиями; а его сына, Децима Капитона Элиана, возможно, усыновил Гай Атей Капитон. Клавдий осуждает «absentia pertinaci patrui mei» в связи с неразрешенно- стью вопроса о гражданском статусе анаунов (альпийское племя, обитавшее в окрестностях города Тридент в северной Италии. — С.Т): ILS 206.
262
Часть I. Изложение событий
сменял легатов, командовавших войсками, поскольку опасался, что попытка их отозвать может привести к бунту среди этих солдат; сообщают, что Лентул Гетулик, наместник войска на Верхнем Рейне, заключил с Тиберием неофициальное соглашение о том, что не доставит ему никаких проблем, пока его не сместят. Гетулик, видимо, верно рассчитал, что правление Тиберия близко к закату. Но Тиберий еще мог принимать важные решения, когда того требовало благо государства. В 35 г. н. э. Луций Вителлий был направлен в Сирию в качестве легата, чтобы вмешаться в дела Армении и посадить на трон римского ставленника Тиридата27.
Тиберий твердо верил, что проживет еще десяток лет, однако умер 16 марта 37 г. н. э. в Мизене, на обратном пути в столицу. На следующий день был праздник Либералий, который традиционно считался подходящим днем для того, чтобы облачить мальчика в мужскую тогу (toga virilis). Если Тиберий собирался провести эту церемонию для Гемелла, а затем представить его как наследника сенату и народу в Риме, то смерть принцепса явилась невероятной удачей для Калигулы. Распространились неизбежные слухи о том, что Калигула и Макрон помогли Тиберию покинуть этот мир, удушив его подушкой. В любом случае, Гемелл еще был ребенком и никак не мог помешать Калшуле стать главой дома Цезаря (domus Caesaris).
III. Гай Калигула28
Народное ликование, вызванное вестями о кончине Тиберия, было не только выражением ненависти населения к принцепсу, который в последние годы не посещал Рим и, соответственно, не устраивал там публичных зрелищ и не оказывал своим сторонникам иных благодеяний (beneficia), что входило в круг обязанностей римского правителя; но оно было еще и радостным приветствием, адресованным его преемнику — Калигуле, единственному оставшемуся в живых сыну Германика, а этого последнего Август желал видеть главой дома Цезаря (domus Caesaris), и лишь преждевременная кончина Германика разрушила эти ожидания. 18 марта, спустя два дня после смерти Тиберия, сенат собрался и провозгласил императором Калигулу, и только его. Тот вместе с Макроном поспешил в Рим, обогнав процессию с телом Тиберия. Приехали они 28 марта, и Калигула явился на заседание сената, на котором было подтверждено его положение в государстве (нет необходимости предполагать, что он притворно
27 О провинциях см.: Orth 1970 (С 384); о Ренте см.: Дион Кассий. LVII.10.5. (Вителлий должен был посадить Тиридата на трон Парфии, а не Армении (Тацит. Анналы. VI. 31— 37). - С.Г.).
28 Рассказ Тацита о Калшуле не сохранился: до нас дошел только текст Диона Кассия (LIX) и биография Калигулы, написанная Светонием. Для периода с января 38 г. н. э. по июнь 40 г. н. э. сохранились протоколы арвальских братьев (= GCN 1—11). В историографии по-прежнему выдвигаются гипотезы о душевной болезни Калигулы. Самую масштабную попытку его реабилитации см.: Balsdon 1934 (С 331). Традиционное изложение событий его правления см.: Barrett 1989 (С 333).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
263
отказывался от императорской аккламации, состоявшейся 18 марта)29. Вероятно, в тот же день было оглашено завещание Тиберия; в соответствии с римскими обычаями, он назначил наследниками в равных долях обоих внуков — родного и приемного. Но дом Цезаря (domus Caesaris) отличался от обычного дома; даже если бы его и в самом деле удалось формально разделить между двумя братьями — а на этом настаивало завещание Тиберия, — такой шаг обернулся бы катастрофическими политическими последствиями. В Риме не было прецедентов, чтобы дом возглавляли сразу два отца семейства (patresfamilias). Только в эпоху Марка Аврелия и Луция Вера, в 160-х годах н. э., когда положение Цезаря стало восприниматься как государственная должность, могло возникнуть представление о коллеге, равном императору. В любом случае, в 37 г. н. э. Ге- мелл был еще ребенком и не мог занимать государственной должности. Наследником Тиберия признали только Калигулу. Чтобы оправдать нарушение завещания Тиберия, сенат прибегнул к обычному приему — объявил завещателя утратившим рассудок.
Должностные лица и общины на Востоке и Западе принесли клятву верности Калигуле и его дому (domus). 3 апреля, выступая на похоронах Тиберия, Калигула подчеркнул, что он — сын Германика, и провозгласил, что намерен вернуться к традициям правления Августа. Хотя апофеоз умершего императора был должным образом засвидетельствован, как и апофеоз Августа, непопулярность Тиберия оказалась слишком велика, поэтому сенат решил не предоставлять ему божественные почести. (Монетный двор в Лионе по ошибке выпустил ауреи и денарии, на которых Тиберий изображен обожествленным.) Калигула официально пообещал усыновить Гемелла и сделал его принцепсом молодежи (princeps iuven- tutis). Тем самым Калигула одновременно указал, что Гемелл слишком юн, чтобы считаться его конкурентом, и устранил всякие основания для недовольства сторонников Гемелла30.
Если новый император желал укрепить свою власть, то прежде всего ему необходимо было оказать благодеяния (beneficia) римлянам всех сословий. Тиберий завещал каждому преторианцу по 500 сестерциев; раздав вдвое больше, Калигула создал прецедент, в соответствии с которым умерший император посмертно награждал гвардию, а новый — покупал их лояльность. На протяжении всего правления Калигулы чеканились сестерции, на которых император обращается к преторианским когортам; данные монеты свидетельствуют, что эти раздачи повторялись. Калигула также выказывал заботу о народе; надписи подтверждают, что 1 июня и 19 июля каждый житель города получал по 75 сестерциев. Яркий контраст с Тиберием проявился в том, что Калигула не скупился на усгрой-
29 Timpe 1962 (С 403); о дате аккламации и отказе (recusatio) см.: Jakobson, Cotton 1985 (С 358).
30 О клятвах см. надпись из Ариция в Лузитании, 11 мая 37 г.: GCN 32 = AN 562; надпись из Асса в Троаде: GCN 33 = AN 563. О похоронах Тиберия см.: Дион Кассий. LEX.3.7. Надгробная надпись Гемелла свидетельствует о том, что формально Калигула так и не усыновил его: ILS 172.
264
Часть I. Изложение событий
ство игр для плебса; первая привилегия, которую он запросил у сената, — это право показать в представлении больше гладиаторов, чем допускал закон. Также сообщается, что он вернул комициям право избирать преторов. На практике это означало, что потенциальные кандидаты на данную должность, особенно эдилы, устраивая роскошные игры, старались снискать популярность в народе, чего при Тиберии не требовалось. Также Калигула начал грандиозное строительство на Палатине и в других местах, чтобы возместить годы небрежения при Тиберии. Скорее именно эти планы, а не раздачи наличных денег (которые не могли превысить 150 миллионов сестерциев) легли в основу обвинений, что Калигула растранжирил 2,7 млрд сестерциев, которые будто бы оставил в казне Тиберий.
В то же время Калигула изо всех сил добивался поддержки высших сословий; он отказался от титула «Отец Отечества» (pater patriae), сославшись на свою юность, возвратил изгнанников и публично сжег личные бумаги Тиберия, солгав, будто не прочел их. Сестерций, отчеканенный в начале правления Калигулы, с легендой «За спасение граждан», провозглашал восстановление законности. Для разбора множества судебных дел, накопившихся за время отсутствия Тиберия в Риме, Калигула создал пятую декурию судей и разрешил приводить в исполнение приговоры магистратов без утверждения со стороны императора31.
Новую политику императора в отношении зависимых царей тоже следует рассматривать прежде всего как попытку завязать тесные и личные связи между правящим Цезарем и сетью эллинистических правителей, которая составляла неотъемлемую часть Римской империи. Одни из этих правителей приходились Калигуле родственниками через Антония, а другие ранее воспитывались вместе с молодым императором в доме Антонии Младшей, и это также помогало Калигуле привязать к себе и их самих, и их земли; но у правнука Антония не было масштабных планов по разрешению конфликта между Востоком и Западом32. Котис, Полемон и Реме- талк — три фракийских правителя, которым Калигула отдал царства Малая Армения, Понт и Восточная Фракия, вероятно, приходились ему кузенами. Сыну последнего царя Коммагены было возвращено царство его отца и все налоги, собранные там римлянами за прошедшие двадцать лет. Иудейский царевич Марк Юлий Агриппа (известен под именем Ирод Агриппа I) тоже получил в подарок новые владения. Не следует верить позднейшим обвинениям, что эти цари научили Калигулу восточному (т. е. эллинистическому) деспотизму.
31 Легенды на монетах: «ADLOCVT СОН» («Обращение к когортам»), «OB CIVES SERVATOS» («За спасение граждан»). О чеканке Калигулы см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 26—29; GCN 81—86. О денежных раздачах (congiaria) см.: Остийские фасты = GCN 31 = AN 174. О строительной программе см.: Thornton 1989 (F 594). Возможно, 2,7 млрд сестерциев составляло наследство (patrimonium) Тиберия, см.: Светоний. Гай Калигула. 37.3.
32 Ceau§escu 1973 (С 337) (эта работа написана, когда Румыния тоже пыталась сыграть роль посредника между Востоком и Западом). Cp.: Sherk 42; Braund 1984 (С 254): 41—46; Sullivan 1985 (E 1224) (об Иудее).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
265
Калигула считал необходимым привлечь особое внимание к своим семейным связям, дабы подчеркнуть, что, в отличие от Тиберия, он заслуживает лояльности граждан, потому что является Цезарем по крови, а не только по усыновлению. Он лично привез в Рим прах своей матери и брата Нерона, изгнанных Тиберием, и поместил их в мавзолей, построенный Августом для семьи Цезарей. На монетах были изображены мать императора Агриппина и дед Агриппа, его братья Нерон и Друз верхом на конях и его сестры — Агриппина, Друзилла и Юлия Ливилла, с атрибутами богинь Безопасности, Согласия и Доброй Судьбы. Эти три сестры императора удостоились почестей, подобающих весталкам. Дядя Калигулы, Клавдий (не усыновленный в императорский дом), почитался как достойный брат Германика; он стал коллегой Калигулы по первому консульству и занимал эту должность с 1 июля по 31 августа (чтобы не подрывать уважение к регулярным консулам). Калигула почтил и память Ливии: он начал строительство храма в ее честь и основал государственный культ, решение о котором было принято после ее смерти, но так и не исполнено. Когда 1 мая умерла его бабка Антония, он вновь подчеркнул статус императорской семьи, воздав ей почести, схожие с почестями Ливии.
Проигравшими оказались сторонники Тиберия. Едва ли удивительно, что Гемелл вскоре был принужден к самоубийству на том основании, что он принимал противоядие, то есть неявно обвинял Калигулу в намерении его отравить. Калигула казнил и давнего сторонника Тиберия — Марка Юния Силана (консула 15 г. н. э.), отца своей покойной жены Юнии Клав- диллы, и, вероятно, соратника Гемелла. Калигула обвинил его в злоумышлении государственного переворота в момент, пока императора не было в городе, возможно, как раз в то время, когда принцепс ездил за прахом матери. Недолго прожил и Макрон: Калигула не собирался повторить чужую ошибку и попасть в такую же зависимость от него, в какую Тиберий попал от Сеяна. Любопытно, что позднейшая традиция обвиняет Калигулу в чрезмерном дружелюбии по отношению к зависимым царям, но нет никаких упоминаний о том, что он находился под влиянием своих вольноотпущенников или префектов: Калигула ни на кого не перекладывал ответственность за свои деяния.
Судя по тому, какими средствами Калигула добился поддержки и устранил потенциальных противников, новый император многому научился у Тиберия. Эти казни свидетельствуют и о неуместности попыток разделить его правление на «хорошее начало» и «плохой конец», когда последовали беспрестанные зверства или даже безумие. Поворотной точкой не может служить ни смерть Антонии (спустя два месяца после прихода Калигулы к власти), ни болезнь императора осенью 37 г. н. э., которая, как полагают, могла повредить его рассудок, ни смерть его сестры Друзиллы 10 июня 38 г. н. э. (Согласно античным авторам, Калигула так любил Друзиллу, что его обвиняли в инцесте с ней, а современные историки предполагают, что она могла «сдерживать» его.) Мы не можем судить о том, насколько искренне Калигула был привязан к сестрам; но
266
Часть I. Изложение событий
ясно, что с самого начала он знал: их дети и мужья будут ему соперниками. Рассказывают, что, когда 15 декабря 37 г. н. э. у его сестры Агриппины и ее мужа Гнея Домиция Агенобарба родился сын, Калигула выдвинул оскорбительное предложение — назвать его в честь Клавдия. Но после смерти Агенобарба в 39 г. н. э. Агриппина и ее ребенок — будущий Нерон — на какое-то время перестали представлять для Калигулы непосредственную угрозу.
Друзилла была женой Луция Кассия Лонгина, но Калигула предпочел выдать ее замуж за Марка Эмилия Лепида — члена одного из богатейших родов, сохранившихся с республиканской эпохи, который уже давно был связан с семьей Августа33. Отец Лепида (консул б г. н. э.) входил в число государственных деятелей, которых Август считал подходящими кандидатами на должность императора (см. с. 245—246 наст, изд.); сам он приходился родственником мужу Юлии Младшей — Эмилию Павлу, который ушел в изгнание в 8 г. н. э.; а его сестра Эмилия Лепида была женой Друза, брата Калигулы. Калигула настолько доверял Лепиду, что их даже считали любовниками, и, что важнее, во время серьезной болезни в 37 г. н. э. император отдал Лепиду свое кольцо-печатку — это был обычный знак, что именно Лепид, как муж Друзиллы, должен возглавить дом Цезаря, если Калигула не оставит потомства.
Когда Друзилла умерла, Калигула обожествил ее (23 сентября 38 г. н. э.). В ее культе не содержалось никаких неримских элементов: как представительница семьи Юлиев, она ассоциировалась с Венерой, прародительницей рода. Титул «Пангея» связывал ее с Великой Матерью, но, несмотря на свои эллинистические корни, этот культ существовал в Риме уже свыше двух веков. И не было ничего «восточного» ни в том, что новая богиня изображалась в колеснице (biga), запряженной двумя слонами (обожествленных мужчин (divi), например, Августа, изображали в квадриге, запряженной слонами), ни в том, что отныне римские женщины обязаны были клясться именем Друзиллы (Клавдий заставил женщин своего дома приносить клятвы именем божественной (diva) Ливии).
В связи с обожествлением Друзиллы возникает вопрос о том, проводил ли Калигула — по подобию эллинистических монархов — некую «религиозную политику», предполагавшую поклонение ему как богу. В свете последних исследований «культ императора» уже нельзя сбрасывать со счетов как иррациональное восточное суеверие (см. гл. 16 наст, изд., где анализируются различные культы); если Калигула считал свою личность или должность божественной, то тем самым он пытался показать, что его миссия — это по существу посредничество между римским обществом и миром богов. Не было ничего гротескного в том, чтобы провести аналогию между таким посредником и Геркулесом — человеком, чьи деяния обеспечили ему обожествление (Калигуле, как и последующим императорам, особо почитавшим Геркулеса, нравилось, когда в нем видели гладиатора, который подчиняет диких зверей и преступников закону и порядку),
33 Syme 1970 (В 178): гл. 4; Syme 1986 (А 95); PIR.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
267
не было ничего странного в утверждении, что подобный посредник может общаться с Юпитером. Но Калигула, как и многие другие римляне, не мог понять, что иудеям монотеизм не позволяет принять такую божественность императора. Результаты недавних раскопок указывают на то, что некоторые рассказы о претензиях Калигулы на божественность (например, о заявлении, что Кастор и Поллукс служат его «привратниками») проистекали из его построек на Палатине и в окрестных районах34.
Судя по множеству необычных историй, связанных с Калигулой, он яснее других императоров понимал, что его положение символизирует борьбу человека с природой. Калигула не умел плавать, но, несмотря на это, видимо, очень жаждал подчинить себе море: по словам деда Светония, однажды астролог Фрасилл сказал Тиберию, что у Калигулы столько же шансов стать императором, сколько проехать верхом по морю. Чтобы опровергнуть это предсказание, Калигула построил мост из лодок от Бай до Путеол и проехал по нему. Вскоре после прихода к власти он бросил вызов стихии и в шторм отплыл на остров Планазия, где умерли в изгнании его мать и брат, чтобы продемонстрировать свою скорбь по ним; кроме того, в военных походах он всегда старательно подчеркивал свою власть над Океаном. Если бы такие попытки подчинить природу предпринимал успешный император, их считали бы проявлением его божественности, но, как и мост, построенный Ксерксом через Геллеспонт, они могли служить и признаками тиранических устремлений. Неудивительно, что Калигула, как сообщается, страдал от кошмаров, в которых боролся со Средиземным морем.
Еще одним типичным признаком тирана считалась сексуальная распущенность. Истории об инцесте и гомосексуальности следует понимать как свидетельства о строгом политическом контроле Калигулы над своей семьей и другими лицами, способными угрожать ему. Сообщается, что он помешал Гаю Кальпурнию Пизону (который затем возглавил заговор 65 г. н. э.) заключить брак с Ливией Орестиллой, вероятно, родственницей Ливии; Калигула сам вступил с ней в связь, чтобы вызвать сомнения в происхождении ее детей (если они родятся) от Пизона. Калигула старался контролировать и других Пизонов. Когда Луций Пизон (консул 27 г. н. э. и префект города при Тиберии) был проконсулом Африки в 39/40 г. н. э., Калшула счел необходимым вывести Ш легион из-под командования проконсула (последующие императоры не стали отменять это решение).
Сестры и другие, более дальние, родственники не представляли бы для Калигулы столь непосредственной угрозы, имей он ребенка. В 38 г. н. э. Калигула женился на Лоллии Паулине, внучке полководца Августа (и врага Тиберия), консула 21 г. до н. э. Паулина не пришлась Калигуле по вкусу, и через год он развелся с ней (но она осталась в живых и позднее соперничала с Агриппиной за благосклонность Клавдия). Последней женой Калигулы стала Милония Цезония, мать которой прославилась тем, нто последовательно побывала замужем за шестью супругами; один из
34 О строительстве и религии см.: Wiseman 1987 (Е 140); Barrett 1989 (С 333): гл. 13.
268
Часть I. Изложение событий
отчимов Цезонии, Гней Домиций Корбулон (отец полководца, воевавшего при Нероне), стал в 39 г. н. э. консулом-суффектом. Цезония родила Калигуле дочь, Юлию Друзиллу; он был счастлив, а его положение по сравнению с позициями потенциальных преемников серьезно укрепилось. Марк Лепид больше не являлся текущим наследником, и теперь Калигула мог обойтись без него.
Осенью 39 г. н. э. Калигула заявил, что раскрыл крупный заговор, целью которого было сделать императором вместо него Лепид а; точную последовательность событий восстановить невозможно, но ясно, что император действовал быстро и решительно. Сперва он публично объявил, что консулы совершили поразительное упущение — не вознесли молебствия за его благополучие в день его рождения 31 августа. Затем Калигула обратился к устранению военной угрозы, которую можно было усмотреть со стороны Гнея Корнелия Лентула Гетулика, консула 26 г. н. э., который с 30 г. н. э. командовал легионами на Верхнем Рейне. Калигула приказал собрать в Верхней Германии крупные военные силы, и сам вместе с преторианцами отправился на север, притворяясь, будто желает набрать ба- тавов для своей личной охраны. Демонстрация императорской мощи устрашила легионы Лентула Гетулика, а самого командующего казнили; очень многих трибунов и центурионов Калигуле пришлось заменить.
Во время этого похода он держал Лепида, Агриппину и Ливиллу при себе. Затем Лепид предстал перед судом и был казнен; в суде была предъявлена его переписка, изобличавшая обеих сестер императора, и Калигула отправил в Рим три кинжала, которыми, по его словам, они собирались его убить. Агриппина и Ливилла были осуждены по обычному обвинению в государственной измене и изгнаны. Пародируя возвращение в Рим праха своего деда Друза и отца Германика, Калигула заставил Агриппину на обратном пути везти с собой прах своего «любовника» Лепида. Будущий император Веспасиан, который в том году занимал должность претора, отличился в сенате, нападая на Агриппину. В Протоколах арваль- ских братьев сообщается, что 27 октября 39 г. н. э. промагисгр Луций Сальвий Отон совершил жертвоприношение в благодарность за раскрытие заговора. Смерть Кальвизия Сабина (легата Паннонии) и его жены примерно в то же время также могла быть связана с этим заговором — будь он вымышленным или реальным35.
Поездка Калигулы к рейнским легионам дала ему возможность упрочить свое положение, завоевав военную славу. Первым делом следовало укрепить верность рейнской армии императору. Гетулика сменил Сервий Сульпиций Гальба, зять Лепида; их дружба с Калигулой восходила к тем временам, когда Калигула жил в доме Ливии. Гальба восстановил в легионах строгую дисциплину, и Калигула самостоятельно провел несколько экспедиций за Рейн. По-видимому, для подтверждения римского престижа в глазах германских племен они оказались не менее полезны, чем кампании его отца Германика в 14—16 гг. н. э. Только из-за непопулярно¬
35 О Лепиде и Гетулике см.: Meise 1969 (С 375): гл. 5; Simpson 1980 (С 394); Протоколы арвалъских братьев. GCN 9. О роли Веспасиана см.: Jones 1984 (С 360).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
269
сти самого Калигулы наши источники единодушно называют эти кампании фальшивыми и ненастоящими, обвиняют императора в трусости и предполагают, что военные кампании были вымышленными, а пленники были куплены или похищены в Галлии, где принцепс провел зиму.
В рассказах античных авторов о мероприятиях, которые Калигула предпринял той зимой в Лионе, подчеркиваются его плохие отношения с сенатом и нужда в деньгах. Калигула конфисковывал имущество галльской знати, как и поместья сенаторов в Италии (например, владения Секста Помпея, консула 14 г. н. э.); продавал с аукциона имущество своих изгнанных сестер и даже часть императорской собственности. Такие рассказы свидетельствуют о том, что политика, сама по себе укреплявшая режим, требовала финансового обеспечения. Легенды и изображения на монетах прославляли отмену полупроцентного налога с продажи рабов, что отвечало интересам состоятельных италийцев; ранее этот налог составлял один процент, но Тиберий снизил его, когда Германии аннексировал Каппадокию. Чтобы восполнить снижение доходов, Калигула задумался над тем, какое бы еще зависимое царство включить в состав империи. Его выбор пал на Мавретанию. Ее царь Птолемей, родственник Калигулы, был вызван в Лион и казнен (но не потому, как иногда предполагают, что Калигула желал занять его должность верховного жреца Исиды)36.
Но Калигула строил и другие планы — пойти по стопам своего предка Юлия Цезаря и установить римский военный контроль над Британией. Поводом для вторжения римлян могло послужить изгнание Админия, сына Кунобелина, из собственного царства и бегство Админия в Галлию. Видимо, в это время Калигула набрал два новых легиона (XV и ХХП); они получили названия Перворожденные (Primigeniae), возможно, в честь первой дочери императора. Судя по номерам этих подразделений, их предполагалось объединить с двумя легионами с Верхнего Рейна — XIV легионом, стоявшим на Майне, и XXI легионом, расквартированным в Виндо- ниссе, из чего можно заключить, что Калигула не слишком полагался на верность старой армии Гетулика. В рамках подготовки к вторжению был построен также маяк в Булони. И вновь античные авторы утверждают, что Калигула был слишком труслив, а потому не мог всерьез задумывать вторжение в Британию, и отбирают россказни об этих операциях таким образом, чтобы представить данную затею всего лишь как новое свидетельство его безумия. Невозможно сказать, почему армия так и не отплыла в Британию. История о том, что Калигула собирался провести в легионах децимацию, предполагает возможность мятежа в войсках (сообщается, что император напомнил им о восстании их предшественников после смерти Августа, когда Агриппина увезла его, еще младенца, в Трир); не исключено также, что британские вожди удовлетворили требования рим¬
36 О Птолемее и Мавретании см.: Fishwick 1971 (Е 732); Braiind 1984 (С 254); Hoffman 1959 (С 275) (об Исиде). О монетах, прославлявших снижение налогов («RCC»), см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 19. О победе над Океаном см.: Светоний. Калигула. 46; Дион Кассий. UX.25.
270
Часть I. Изложение событий
ского императора, и поэтому вторжения не потребовалось. Если в рассказе Светония о том, как во время военных операций то ли на северном побережье Германии, то ли против Британии Калигула приказал войскам собирать ракушки, содержится хоть капля правды, она может состоять в том, что эти ракушки символизировали его победу над Океаном. (Предлагалось другое, неправдоподобное объяснение, что «musculi», которые он велел войскам собирать, — это не ракушки, а осадные машины.)
Калигула вернулся в Италию летом 40 г. н. э. Зима, проведенная в Лионе, не улучшила его отношений с сенатом. Сообщение между Римом и Лионом было затруднено; когда один из консулов, заранее избранных на 40 г., умер незадолго до 1 января, Калигула не успел получить запрос о его замене, и императора обвинили (крайне несправедливо) в том, что он вступил в должность консула без коллеги; возможно, именно в связи с этой историей рассказывают, будто он хотел сделать консулом своего коня Инцитата. Некоторые сенаторы были казнены — например, отец Агриколы, тестя Тацита. После устранения Лепида любой родственник Калигулы представлял для него угрозу — даже Клавдий, его дядя. Рассказывали, что Калигула бросил Клавдия в Рейн, когда тот прибыл во главе сенатской делегации, которая должна была поздравить Калигулу с устранением Лепида и Гетулика.
Некоторое время Калигула оставался за пределами Рима, скорее, потому, что желал переждать летнюю жару, а не потому, что боялся заговоров (хотя сообщается, будто он заявил, что хотел бы уничтожить весь сенат разом). Не следует воспринимать враждебные выпады Сенеки или последующие оправдания убийства Калигулы как свидетельства его огромной непопулярности. Едва ли удивительно, что Кассию Херее и другим недовольным офицерам преторианцев, виновным в смерти Калигулы и зверском убийстве его жены и маленькой дочери 24 января 41 г. н. э., пришлось оправдывать свое предательство, объявляя себя тираноубийцами. Несомненно, Херея был искренне огорчен тем, что Калигула преследовал оставшихся родственников Германика, но его раздражало и то, что император всё время привлекал внимание окружающих к высокому, словно у женщины, тембру голоса Хереи.
IV. Клавдий37
Во многих античных источниках Клавдий изображен как дурачок, который стал императором случайно. Уже Сенека в своем сочинении «Отыкв- ление божественного Клавдия», написанном спустя несколько месяцев после смерти Клавдия, изобразил императора порочным, глупым и трус¬
37 Основные литературные источники: Тацит. Анналы. XI—XII, с комментариями: МеЫ 1974 (В 123); Дион Кассий. LX; Светоний. Божественный Клавдищ Сенека. Отыквле- ние божественного Клавдия. Исследования: Momigliano 1934 (С 377); Levick 1978 (С 367); Levick 1990 (С 372).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
271
ливым. Возможно, не один Клавдий виноват в том, что всего за тринадцать с небольшим лет правления казнил двести всадников и тридцать пять сенаторов, включая многих своих родственников. Но не следует поддаваться соблазну реабилитировать Клавдия, которому античность вынесла свой приговор. И не нужно все его действия рассматривать как составляющие грандиозной, дальновидной и всеобъемлющей «политики», когда возникает соблазн объяснить многие из них как непосредственные реакции на распространенные политические угрозы. Клавдий в основном вел ту же «политику», что и любой другой римский принцепс: выжить во что бы то ни стало, обеспечить себе желаемого преемника, приобрести клиентов и завоевать славу — хотя конкретные формы проводившейся им политики могли сложиться под влиянием преданий о представителях рода Клавдиев и уважения императора к Юлию Цезарю.
Не следует игнорировать мнение Августа, Ливии, бабки Клавдия, и Антонии Младшей, его матери, о том, что Клавдий не годился для исполнения государственных должностей. Общественное положение в Риме не наследовалось автоматически; каждый должен был доказать, что достоин его. Ни Август, ни Тиберий не считали, что Клавдия можно избрать на какую-либо должность, и он оставался всадником. Хотя Тиберий изредка предоставлял Клавдию почести, на политической арене тот всегда появлялся только как частное лицо, например, когда сопровождал прах своего брата Германика с Востока или когда выступал как представитель всаднического сословия на похоронах Августа и поздравлял Тиберия с устранением Сеяна. Тиберий не желал, чтобы Клавдий унаследовал политическую поддержку, которой пользовался его брат Германию Как и другие римляне, не допущенные в политическую сферу, Клавдий обратился к научным занятиям, в частности, к изучению истории. Он написал сочинения о Карфагене и этрусках (многие из его сторонников, в том числе и первая его жена, Плавция Ургуланилла, имели этрусское происхождение). Это породило особые симпатии к нему современных историков, которые видят в Клавдии коллегу. Важнее здесь то, что маска педанта позволила Клавдию пережить правление Тиберия.
Придя к власти, Калигула в полной мере вовлек дядю в общественную жизнь, когда пытался укрепить свое положение, выказывая должное уважение своим родственникам. С 1 июля по 12 сентября 37 г. н. э. Клавдий был коллегой Калигулы по первому консульству. В 39 г. н. э. Клавдий вступил в третий брак, на этот раз — с Валерией Мессалиной; ее отцом был кузен Клавдия — Марк Валерий Мессала Барбат, сын консула 12 г. до н. э. и Марцеллы Младшей, племянницы Августа, а матерью — Домиция Лепида. Хотя дети от этого брака, Октавия и Британник, появились на свет не ранее 40/41 г. н. э., сама возможность того, что у Клавдия родятся Дети, в жилах которых, в отличие от Антонии (дочери Клавдия от Ургула- ииллы)37а, будет течь кровь Августа, не могла радовать Калигулу.
37а Антония была дочерью Клавдия от второй жены, Элии Петины; см.: Светоний. Божественный Клавдий. 27.1. — С. Т
272
Часть I. Изложение событий
После неожиданного убийства Калигулы ни один прецедент не мог бы подсказать, как именно власть должна перейти к новому принцепсу. Конечно, тогда, как и сейчас, политические лидеры порой умирали внезапно, и не стоит удивляться, что потенциальные претенденты на власть имели на такого рода случай запасные планы. Быстрота их действий не доказывает, что эти люди участвовали в заговоре Хереи. Как только стало известно, что маленькая дочь Калигулы убита вместе с ним, очевидным претендентом на наследование дома Цезаря (domus Caesaris) стал Марк Виниций, муж изгнанной Юлии Ливиллы (другая сестра Калигулы, Агриппина, была вдовой). Просчет Виниция состоял в том, что за подтверждением своего положения он обратился к сенату38.
Консул Квинт Помпоний Секунд немедленно созвал сенат, но это не значит, что он заранее знал о заговоре. Он приходился Цезонии единоутробным братом и тоже мог претендовать на наследование. Позднее, когда сенату не удалось назначить своего Цезаря, каждый, в том числе и новый император, счел благоразумным притвориться, что действовал исключительно в интересах государства38"1. Сенат обсудил сложившееся положение, причем республиканской риторикой прикрывались амбиции участников заседания. Вечером в день убийства примерно его сенаторов, которым хватило смелости явиться на заседание, не пожелали потакать амбициям Виниция. Вместо этого они объявили об устранении тирана, и впервые после установления Принципата консулы дали пароль следующего дня городским когортам388. Меж тем провозглашение свободы (libertas) не отменяло необходимости подыскать нового принцепса; городские когорты ясно дали понять, что желают именно этого.
Пока сенат всё это обсуждал, Клавдий взял дом Цезаря под контроль. Сообщается, что после смерти Калигулы Клавдий прятался во дворце, но некий гвардеец нашел его, приветствовал как императора и отвел в лагерь преторианцев, где его признали законным наследником Цезарей. Строго говоря, это не соответствовало действительности; но римское право признавало еще и принцип владения (possessio). Эдикт претора защищал права лица, которое фактически владело имуществом, до тех пор, пока соответствующий суд (для дел о наследстве — центумвиральный суд) в строгом соответствии с правом квиритов (ius Quiritium) не выносил решения по вопросу о собственности: «Вопрос о том, находится ли некое имущество в чьем-то владении (possessio), рассматривался как вопрос о фактическом положении дел, но, если имущество находилось в чьем-то владении, это давало владельцу определенные права»39. Фактическое же
38 Рассказ о кризисе наследования см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX. 248-273 = AN 194; Timpe 1962 (С 403); Swan 1970 (С 395); Jung 1972 (С 361); Ritter 1972 (В 151).
38а Подразумевается, что Помпоний Секунд мог быть и лично заинтересован в созыве сената, если втайне надеялся получить императорскую власть. — С.Т.
388 С момента создания городских когорт пароль им всегда давал принцепс. — С.Т.
39 О владении (possessio) см.: Buckland 1963 (F 646): 203. Приобретение поместья по праву давности (usucapio) формально признавалось только через год; но наличие владе-
Глава 5. От Тиберия до Нерона
273
положение дел было, конечно, таково, что дом Цезаря находился во владении (possessio) Клавдия.
Клавдий не принадлежал к дому Юлиев; но его дядя Тиберий и брат Германик вступили в этот род через усыновление, и они, как и Калигула, племянник Клавдия, возглавляли дом Цезаря или должны были его возглавить. Как только преторианцы провозгласили Клавдия своим новым императором, он немедленно принял имя Цезаря, чтобы продемонстрировать, что унаследовал этот дом; принятие данного имени не предполагало никаких претензий Клавдия на фиктивное посмертное усыновление и не являлось преддверием к получению от сената титула (например, «Август»). Называя себя Цезарем, Клавдий не присваивал и никаких конституционных прав. Принятие имени демонстрировало лишь то, что отныне Клавдий стал наследником Калигулы в качестве главы дома Цезаря (domus Caesaris). После убийства Калигулы никто не озаботился поисками его завещания, чтобы последовать его распоряжениям, как произошло это в случае завещания Августа, или отвергнуть данный документ, как было отвергнуто завещание Тиберия.
Когда на следующий день сенат вновь собрался на заседание, было уже слишком поздно признавать притязания Марка Виниция или какого- то другого претендента. Консул Помпоний позволил привлечь внимание к другим именам, в том числе Анния В инициала (поддерживал своего дядю Виниция) и Децима Валерия Азиатика, который ранее являлся советником Калигулы и был женат на сестре Лоллии Паулины. Имелось немало других консуляров, связанных с родом Юлиев по рождению или через брак; возможно, многие из них пожелали бы высказаться о том, кому следует возглавить дом Цезаря (domus Caesaris), но в январе 41 г. эти люди, будучи наместниками провинций, в большинстве своем отсутствовали в Риме, к тому же погодные условия в январе были неблагоприятны как для сообщения с Испанией, Рейнской или Дунайской областью, так и для путешествий оттуда в Рим. Сенат не мог посоветоваться с Сер- вием Сульпицием Гальбой, который так замечательно поддержал Калигулу после восстания Гетулика, а теперь в качестве легата командовал армией на Верхнем Рейне, с Авлом Плавцием, наместником Паннонии, Ка- миллом Скрибонианом, наместником Далмации, и Аппием Юнием Силаном, наместником Тарраконской Испании; эти люди не могли вмешаться и повлиять на признание нового Цезаря в Риме, хотя позднее их и упоминали как альтернативных кандидатов на престол. В конце концов, сенат пригласил Клавдия, чтобы обсудить сложившееся положение. Он вежливо притворился, будто преторианцы удерживали его в лагере насильно; но консулам и другим сенаторам пришлось смириться с тем, что им не остается иного выбора, кроме как подтвердить положение Клавдия, ибо за ним — поддержка преторианцев.
1014 (possessio) определялось путем установления непосредственного факта. О принятии имени умершего его наследником см.: Syme 1984 (D 72).
274
Часть I. Изложение событий
Монеты, отчеканенные в начале правления Клавдия, свидетельствуют о его долге благодарности по отношению к преторианской гвардии. На золотом аурее можно видеть одно из первых изображений лагеря преторианцев в Риме: он обнесен стеной с бойницами, имеющей арочные ворота, пара колонн поддерживает фронтон. Здесь же стоит преторианец, а надпись гласит: «Обретенный император» [то есть император, снискавший лояльность гвардии]. Оборотная сторона особых отношений между новым императором и его солдатами представлена на бронзовом ассе, где изображен Клавдий в гражданской тоге, пожимающий руку солдату, и надпись: «Обретенные преторианцы». Разумеется, эти выпуски предназначались для гвардии и, весьма вероятно, использовались для выплаты беспрецедентного подарка в 15 тыс. сестерциев, который Клавдий пообещал каждому при приходе к власти; есть сведения, что он продолжал платить каждому солдату по 100 сестерциев ежегодно на протяжении всего правления.
На других монетах наблюдаются явно невоенные аспекты того образа нового правителя, который Клавдий желал распространить: имеются изображения «Августовой Свободы» с фригийским колпаком в руках, а также посвящения «Августову Миру» и «Августову Постоянству». Медный квадрант, на котором перечислены почести, только что предоставленные императору (включая его избрание на второе консульство, то есть на 42 г. н. э.), может быть связан с решением Клавдия восстановить традиционное содержание драгоценных металлов в чеканке, сниженное Калигулой. Некоторые монеты Калигулы были намеренно испорчены в ритуальных целях. Если после прихода к власти Калигула отчеканил несколько монетных выпусков с целью дистанцироваться от Тиберия, то Клавдий желал подчеркнуть возвращение к законности и прецедентам, установленным Августом. На сестерциях новый император чеканил дубовый венок, которым в Риме награждали «за спасение граждан». Кроме того, Клавдий старался подчеркнуть связь между родами Клавдиев и Юлиев. На монетах, отчеканенных в начале его правления, изображены портреты его оща Друза, его матери Антонии (получившей титул Августы) и его брата Германика, формально считавшегося «сыном Тиберия Августа и внуком Божественного Августа». Почести получила и Ливия, а посвящение алтаря Августову Благочестию примерно в 43 г. н. э. символизировало притязания нового императора на близость к Августу40.
Клавдий еще раз продемонстрировал, что намерен править страной лучше Калигулы, когда позволил вернуться из ссылки тем людям, которых изгнал его предшественник (так же по приходу к власти поступил и сам Калигула). В числе прочих вернулись Агриппина и Юлия Ливилла. Хотя Клавдий воздал своим родственникам публичные почести, это вовсе не означало, что он мог им доверять. Он очень опасался убийц (вплоть до последних лет своего правления всех его посетителей обыскивали на предмет наличия оружия). Историки высказывали сомнения в том, дей¬
40 Монеты см.: AN 187-188, 194; GCN 81—86; Sutherland 1987 (В 358): гл. 30, 32.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
2 75
ствительно ли главную ответственность за казни, состоявшиеся в первые годы правления Клавдия, несла Мессалина, его третья жена. Но многие из людей, опасных для Мессалины, представляли угрозу и для Клавдия, и он публично поблагодарил супругу за то, что она предупредила его об опасности со стороны, по крайней мере, некоторых из казненных. Вскоре после своего возвращения в Рим Юлия Ливилла снова была изгнана, а затем казнена. Агриппине повезло больше; она воссоединилась со своим сыном Домицием Агенобарбом, причем ему было возвращено имущество, конфискованное Калигулой. Агриппина стала искать поддержки у нового мужа, а для этого оным еще предстояло обзавестись; сначала ее выбор пал на Гальбу, протеже Ливии, но теща Гальбы указала ему, что брак с Агриппиной сделает его слишком сильным претендентом на императорскую власть и вряд ли после этого он долго проживет. (Более того, она публично приструнила Агриппину, ударив ее принародно по лицу.) Отказавшись от Гальбы, Агриппина вышла за Гая Саллюстия Пассиена Криспа, приемного сына одного из ближайших соратников Августа (см. с. 243). Крисп стал новым членом императорской семьи и потенциальным отцом детей, принадлежащих к дому Цезаря; Клавдию пришлось предоставить ему второе консульство на 44 г. н. э.; но вскоре Крисп умер — согласно Светонию, его отравила Агриппина, так что Мессалина позволила Агриппине остаться в живых41.
Клавдий и Мессалина тоже искали себе сторонников при помощи брачных союзов. В 42 г. н. э. Аппий Юний Силан, наместник Тарраконской Испании, был отозван из провинции, чтобы сочетаться браком с Доми- цией Лепидой — матерью Мессалины и дочерью Антонии Старшей, племянницы Августа. Антония, дочь Клавдия от Элии Петины, была выдана замуж за Помпея Магна, сына Марка Лициния Красса Фруги (консула 27 г. н. э.); он приходился родственником Августу через свою мать Скри- бонию. Октавию, свою двухлетнюю дочь от Мессалины, Клавдий обручил с праправнуком Августа, Луцием Юнием Торкватом Силаном (он был самым младшим сыном консула 19 г. н. э., служившего проконсулом Африки при Калигуле, и не состоял в близком родстве с Аппием Силаном), которому было примерно шестнадцать лет. Император счел Силана подходящим наследником, который в силу своей юности не мог представлять непосредственной угрозы: Силан был назначен вигинтивиром и префектом города для празднования Латинских игр (praefectus urbi feriarum Latinarum causa). Вместе с тем предпочтение, оказанное Клавдием Силану, естественным образом снижало шансы остальных претендентов на императорскую власть.
В общем и целом говоря, вначале Клавдию не удавалось сплести достаточно широкую сеть зависимых людей, получивших от него благодеяния (beneficia), — или же ему просто не везло. Во главе некоторых зависи¬
41 Об оппозиции см.: McAlindon 1956 (С 373); McAlindon 1957 (С 374); Baldwin 1964 (С 330); Meise 1969 (С 375); Wiseman 1982 (В 198). Об Агриппине и Гальбе см.: Светоний. Тальба. 5.
276
Часть I. Изложение событий
мых царств он поставил своих сторонников: Митридат получил Малую Армению, а Агриппе досталась Иудея (роль последнего в событиях, последовавших за убийством Калигулы, подчеркивает Иосиф Флавий в «Иудейских древностях»); всего лишь через три года, в 44 г. н. э., Агриппа умер, но он успел убедить Клавдия оказать обширные милости (beneficia) иудейским общинам в Александрии и других областях империи. За то, что Марк Виниций не стал оспаривать у Клавдия право владения (possessio) домом Цезаря (domus Caesaris), он был вознагражден вторым ординарным консульством на 45 г. н. э., а Валерию Азиатику второе консулы ство досталось в 46 г. н. э.
На следующий же год после того, как Клавдий стал императором, 12 января 42 г., стало ясно, что он раздал членам политической элиты достаточно много почестей и должностей, чтобы заслужить титул «Отец Отечества» (pater patriae). (Кроме того, в первые два месяца этого года он вторично занимал консульскую должность.) Но всё это лишь скрывало его слабость. После убийства Калигулы могущественные наместники, находившиеся вне Рима, восприняли власть Клавдия как свершившийся факт. Но Клавдию недоставало политического опыта и военной доблести (virtus), что побудило к действию лидеров, считавших себя более искушенными в этих сферах. Гальба и Авл Плавций остались лояльны; но не Ап- пий Силан и не Камилл Скрибониан. Аппий Силан мог рассудить, что, убрав Клавдия с дороги, он удвоит свои шансы стать Цезарем, ведь его жена, Домиция Аепида, приходится Октавии бабкой41*. Он просчитался, поскольку не учел, что Мессалина и ее мать невзлюбили друг друга. Заручившись поддержкой вольноотпущенника (libertus) Нарцисса, Мессалина рассказала Клавдию о намерениях Силана, и Клавдий осудил и приговорил его к смерти, но не в публичном суде, а у себя дома, в присутствии совета (consilium) своих друзей (amici).
Казнь Силана продемонстрировала, что положение Клавдия непрочно, но он готов безжалостно расправляться с соперниками. Легат Далмации, Луций Аррунций Фурий Камилл Скрибониан (приемный сын Луция Аррунция, одного из тех, кого, по словам Тацита, Август считал достойным унаследовать императорскую власть), решил, что его шансы на выживание повысятся, если он сам попытается стать императором. Под командованием Скрибониана находилось два легиона — УП и XI, и его попытку захватить власть поддерживали некоторые римские политики, годом ранее не обрадовавшиеся тому, что императором провозгласили Клавдия. В числе заговорщиков были Луций Анний Винициан и Квинт Помпоний Секунд — консул, созвавший сенат после смерти Калигулы. В источниках сообщается, что Клавдий всерьез обсуждал возможность передать империй Скрибониану. К несчастью для Скрибониана, сам он в тот момент еще не решался провозгласить себя императором — либо потому, что ждал от своих соратников в сенате одобрения собственной кан¬
41а Домиция Лепида была матерью Мессалины, жены Клавдия, и, соответственно, бабкой их дочери Октавии. — С.Т
Глава 5. От Тиберия до Нерона
277
дидатуры, либо потому, что надеялся на поддержку других провинциальных наместников, таких как Гальба и Авл Плавций. Но эти наместники не были заинтересованы в том, чтобы менять Клавдия на другого императора; а через несколько дней Скрибониана покинули и оба далматийских легиона. Говорили, будто знамена легионов вросли в землю, поскольку измена солдат разгневала богов. Скрибониан покончил с собой, некоторые его сторонники в Риме последовали его примеру, а других казнили.
Третье консульство Клавдия в 43 г. н. э. тоже обнаружило скорее его слабость, нежели силу. В первые годы правления ему приходилось прибегать к любым средствам, литтть бы добиться популярности у римского плебса: помимо игр и зрелищ, Клавдий развернул крупные строительные проекты, и некоторые из них прямо улучшали условия жизни римлян. В числе таких проектов можно упомянуть осушение Фуцинского озера, что обеспечило крайне необходимые сельскохозяйственные земли поблизости от столицы, строительство нового акведука, а также сооружение безопасного порта в Остии. Бунт, который произошел в начале правления Клавдия, ясно показал, что со времен Юлия Цезаря надзор за поставками зерна является одной из основных задач правителя. Другой функцией был надзор за судебной системой; он имел особенно важное значение в те годы, когда император занимал должность консула. Клавдий старался, чтобы его постоянно видели в судах. Даже враждебно настроенные к нему источники (рассказывающие о том, что он игнорировал закон в угоду так называемой «справедливости») вынуждены признать, что он всерьез желал считаться усердным судьей.
Если говорить о качествах, необходимых римскому императору, то главной слабостью Клавдия, как и Калигулы в момент прихода к власти, было отсутствие военного опыта. Этим объясняется его почти навязчивая склонность привлекать внимание к любому военному успеху, достигнутому во время его правления; Клавдий согласился принять двадцать семь императорских аккламаций — больше, чем любой другой император. Даже в первый год его правления на монетах изображалась триумфальная арка с трофеями, которые захватил его отец Друз «у германцев»4115. Вскоре были одержаны настоящие победы. В Мавретании Светоний Паулин успешно завершил войну против кочевых племен, которая началась из-за смещения Калигулой царя Птолемея и введения этой области под прямое управление Рима (об Африке см. гл. 13i наст. изд.). Преемники Паулина завершили замирение региона; это дало Клавдию возможность оказать почести Марку Крассу Фруги, который одновременно был и центральной фигурой старинной аристократии, и свекром Антонии (дочери Клавдия. — С. Т). Красе получил триумфальные отличия (ornamenta) за то, что закончил войну, которую на самом деле выиграл «новый человек» («novus homo») Светоний Паулин.
41Ь Имеется в виду монетная легенда «DE GERMANIS», оформленная как надпись на архитраве арки. — С.Т
278
Часть I. Изложение событий
Для себя Клавдий приберег славу покорителя Британии. Еще со времен Юлия Цезаря Британия, как остров в Океане, имела для римлян символическое значение: ее завоевание должно было продемонстрировать, что не только весь мир, но и земли за краем света тоже подчинены власти римского народа. Кроме того, захват Британии принес бы и дополнительный плюс — удаление нескольких легионов на достаточно большое расстояние от Рима (после набора Калигулой новых легионов численность каждой из германских армий достигла пяти легионов, так что их командиры стали слишком могущественными).
Клавдий полагал, что Авлу Плавцию, наместнику Паннонии, можно доверить проведение серьезных военных операций. Последний был сыном одного из командиров, служивших у Друза, отца Клавдия, а брат Плавция воевал под командованием Германика; к тому же Плавций сохранил верность Клавдию во время восстания Скрибониана и приходился двоюродным братом первой жене Клавдия (хотя император развелся с Ургуланиллой, сообщается, что он остался с ней в хороших отношениях). Второй человек, пользовавшийся доверием Клавдия, — это Луций Вител- лий, консул 34 г. н. э., сын простого всадника, имевший, впрочем, двух братьев-консуляров. Вителлий и его братья, верные соратники Германика, благодаря поддержке Антонии, бабки Калигулы (и матери Клавдия), вновь обрели известность в последние годы правления Тиберия. Вителлий получил второе консульство в 43 г. н. э., и на время экспедиции в Британию Клавдий поручил ему управление столицей.
Но людей, которых Клавдий мог оставить у себя за спиной, не ожидая от них козней, было мало; многим сенаторам пришлось сопровождать императора в походе. Говорили даже, будто Клавдий отложил отправку в Британию на несколько дней, поскольку Гальба пожаловался, что слишком болен для такого путешествия. Но Гальба входил в число тех консу- ляров, которым Клавдий не мог позволить остаться. Среди них были и Валерий Азиатик с Марком Виницием. Сами бритты доставили императору существенно меньше проблем (см. гл. 13е наст, изд.), и финальный триумф позволил Клавдию раздать триумфальные отличия (ornamenta triumphalia) всем сопровождавшим его консулярам и тем самым надежнее привязать их к себе долгом верности. На протяжении большей части остального правления Клавдий старался, чтобы никто не забыл о его символическом успехе — о том, что он раздвинул границы империи за Океан; на монетах изображались трофеи, взятые «у 6риггов»41с. В надписи, датируемой примерно 51/52 г. н. э. и, вероятно, располагавшейся на триумфальной арке Клавдия, упоминается о «капитуляции одиннадцати британских царей без [римских] потерь» и утверждается, что Клавдий «первым подчинил правлению римского народа варварские племена за Океаном». В свое четвертое консульство в 49 г. н. э. Клавдий расширил
41с Имеется в виду монетная легенда «DE BRTTTANIS». — С.Т
Глава 5. От Тиверия до Нерона
279
померий города, чтобы подчеркнуть свои успехи в раздвижении границ империи42.
Но включение в состав империи Мавретании, юго-восточной Британии и Ликии-Памфилии не означало, что в эти годы Клавдий вел «политику» тотальной экспансии, противоположную политике Тиберия. Военные мероприятия диктовались потребностью слабого императора упрочить свою славу (gloria). Но и речи не могло идти о том, чтобы Клавдий позволил приобрести славу другим полководцам. В 47 г. н. э. Гней Домиций Корбулон, легат императора в Нижней Германии (сводный брат Цезонии, жены Калигулы), принял меры для подавления вторжений в Галлию вождя хавков Ганнаска, но Клавдию пришлось прекратить его дальнейшие операции на фризском побережье43.
Административные меры этого времени можно рассматривать прежде всего как попытки Клавдия компенсировать свою политическую слабость, но, судя по формам, которые они принимали, император желал показать, что следует по стопам древних Клавдиев и — как и Калигула — Юлия Цезаря. Именно эти мотивы лежали в основе политического курса на распространение прав римского гражданства в провинциях и учет интересов армии. Легионерам, состоящим на службе, было предоставлено законное право на заключение брака (privilegia maritorum). Также Клавдий очень заботился о том, чтобы его поддерживал римский плебс. Когда император решил освободить некоторых квесторов от архаических обязанностей префектов Остии и «Галлии» (возможно, Сенонской Галлии — области, расположенной к югу от Римини), он не столько проводил в жизнь «политику централизации», сколько, как сообщает Светоний, добивался, чтобы молодые люди, нацеленные на политическую карьеру, уделяли больше внимания устройству игр для плебса. Что же касается зажиточных сословий, то главную свою задачу император видел в обеспечении быстрой и эффективной работы судов. Служба «присяжных» (возможно, лучше переводить соответствующий латинский термин как «судебные заседатели») была утомительной, но необходимой для мирного существования гражданского общества; Клавдий снизил возраст, в котором всадники должны были являться на эту службу, с двадцати пяти до двадцати четырех лет. Чем больше было судов, тем больше требовалось председателей; в 44 г. н. э. Клавдий освободил двух преторов от ответственности за казну Сатурна (aerarium Saturni) и возложил ее на двух квесторов, носивших соответствующий титул и отбиравшихся самим императором на три года, — возможно, его цель была в том, чтобы эти два претора занялись судебными делами. Конечно, не следует усматривать ничего дурного в том, что двух новых квесторов назначал лично импера¬
42 О Британии см.: Barrett 1980 (С 332); Murison 1985 (С 379); Boatwright 1986 (С 33) (померий). Об арке см.: GCN 43. Об изображении «Бретаннии» в Афродизиаде (греческий город в Карии (провинция Азия). — С.Т) см.: JRS 1987: вклейка XIV; Levick 1990 (С 372): вклейка 20.
43 О Корбулоне см.: Syme 1970 (С 397).
280
Часть I. Изложение событий
тор: к этому времени ни один магистрат не избирался без явной поддержки принцепса, и если бы император лично не назначал людей, ответственных за государственную казну, то он изрядно пренебрегал бы своими обязанностями. Не следует приписывать Клавдию никакой осознанной политики централизации; централизацию неявно предполагала сама пат- ронатная система принципата.
Более интересно, что при Клавдии важную роль играли вольноотпущенники, и сообщения об этом не следует считать исключительно враждебной пропагандой. Клавдий имел мало политического опыта и даже в правление Калигулы не успел его приобрести. Он зависел от советов друзей (amici) семьи, таких как Авл Плавций и Луций Вителлий, и вольноотпущенников, таких как Нарцисс — секретарь, ответственный за корреспонденцию (ab epistulis), Паллант — хранитель счетов (a rationibus), Каллист, отвечавший за прошения (a libellis), и Полибий, который, вероятно, писал для него речи (a studiis). Но из этого не следует, что Клавдий систематически создавал государственные департаменты или осознанно проводил «политику» рационализации и контроля над всеми государственными делами, для чего использовал зависимых от него людей, а не свободнорожденных граждан. В эпоху Юлиев—Клавдиев состоятельные люди, имевшие положение в обществе, еще не были готовы служить и подчиняться императору — они пришли к этому лишь позднее. Вольноотпущенники были не только послушны, но и заменимы; иногда политическая целесообразность требовала, чтобы слабый император сваливал непопулярные меры на своих вольноотпущенников — или жен. (Об императорском дворе см. гл. 7 наст, изд.)
Одной из сфер, в которой Клавдий желал продемонстрировать «демократические» традиции, унаследованные от Клавдиев и от Юлия Цезаря, стали раздачи зерна городскому населению. Ранее они финансировались за счет эрария (aerarium), теперь эта обязанность была возложена на фиск; импортеры зерна получили законные привилегии; изменилась и система раздач: дабы покончить с давкой, происходившей раз в месяц, горожанам, имевшим право на получение зерна, выдавались талоны, и за своей долей они должны были приходить в определенный день месяца. Теперь уже не Римское государство, а император заботился о том, чтобы люди не голодали, и это обстоятельство символизировал тот факт, что раздачи проводил императорский прокуратор — de Minucia43a, хотя и нет ясных свидетельств об официальном упразднении сенаторских префектов продовольствия (praefecti frumenti dandi); всё равно этот пост по большей части был синекурой. Император и его семья лично заботились о подданных, что выражалось в надлежащей организации хлебных поставок; о значении этой деятельности свидетельствует тот факт, что ее использовали для представления обществу преемника императора: в 45 г.
43а Минуциев портик, porticus Minucia, — название портика, в котором производились хлебные раздачи; отсюда — название прокураторской должности. — С. Т
Глава 5. От Тиберия до Нерона
281
н. э. Луций Силан, жених Октавии, раздавал народу щедрые дары вместо Клавдия.
Монеты и надписи подтверждают личный интерес императора к обеспечению народа «зерном Августа» и чистой водой. Император не только построил акведук Клавдия, но и учредил вторую бригаду рабов для поддержания в порядке римских акведуков. Столь же серьезно он воспринимал и свою обязанность патрона защищать народ от пожаров и наводнений. В надписи сообщается, что канал, который Клавдий велел прокопать в низовьях Тибра в рамках плана по строительству нового порта в Остии, не только облегчил навигацию; провозглашалось, что в результате император «освободил город от опасности наводнения»44.
В 47 г. н. э. Клавдий снова стал консулом. Кроме того, вместе с Вител- лием он впервые за тридцать с лишним лет провел первый официальный ценз. И это тоже позволило императору оказать почести своим сторонникам и заручиться поддержкой потенциальных противников. Многие из новых сенаторов были обязаны своим положением Клавдию; он также предоставил патрицианское достоинство многим семьям, которые вели политическую деятельность на протяжении двух или трех поколений. Конечно, не следует полностью исключать, что Клавдий чтил древние обычаи и поэтому хотел сохранить древнюю должность цензора и позаботиться о том, чтобы для отправления архаичных религиозных ритуалов в государстве имелись патриции. Об искреннем интересе Клавдия к старине свидетельствует его речь, в которой он отстаивал свое решение позволить галльским аристократам, уже имевшим римское гражданство, занимать политические должности и входить в сенат. В кратком изложении эту речь приводит Тацит, некоторые ее фрагменты сохранились в надписи, установленной в Лионе45. Когда в 48 г. н. э. ценз был завершен, консул Луций Випстан Попликола в подходящий момент предложил предоставить Клавдию титул отца сената (pater senatus), но это предложение было отклонено, поскольку такой титул порождал бы у сенаторов ощущение дискомфорта, уж слишком явно показывая их зависимость от императора.
В том же году Клавдий устроил серию роскошных зрелищ, связанных с Вековыми играми (ludi saeculares), дату которых сам заново пересчитал, чтобы она совпадала с восьмисотлетней годовщиной основания Рима. Эти зрелища включали в себя Троянские игры; отмечалось, что, когда шестилетний Британник и девятилетний Домиций Агенобарб (внучатый племянник Клавдия и сын Агриппины) руководили двумя командами мальчиков, именно Домиций, как потомок Германика, заслужил более громкие аплодисменты. Но, несмотря на свое происхождение, Домиций еще
44 О зерне см.: Momigliano 1934 (С 377); Meiggs 1973 (Е 84); Chandler 1978 (С 338); Rickman 1980 (Е 109). Об «Августовом хлебе» («CERES AUGUSTA») см.: GCN 312(a) =AN 815. Фронтин. Об акведуках. 106; слова «urbem inundationis periculo liberavit» см. в надписи: ILS 207 = GCN 312(b) = AN815. О Палланте см.: Oost 1958 (С 383); Sutherland 1987 (В 358): гл. 34.
45 ILS 212 = GCN 369 = AN 570; ср.: Griffin 1982 (В 237).
282
Часть I. Изложение событий
был слишком юн, и Клавдий не мог рассматривать его как возможного переходного правителя, который заполнял бы брешь до тех пор, пока Британник не повзрослеет и не сможет унаследовать власть. Одним из подходящих кандидатов на роль такого хранителя являлся Гней Помпей Магн, муж Антонии. Наиболее вероятным непосредственным наследником Клавдия был всё же Луций Силан, который в этом году стал претором по делам иноземцев (praetor peregrinus), — примерно на десять лет раньше обычного возраста. О процветании Силанов в те годы свидетельствует и то, что брат Луция, Марк Юний Силан, занимал должность ординарного консула (consul ordinarius) на протяжении всего 46 года н. э.
В 48 г. н. э. возникла крупная угроза для правления Клавдия — его жена Мессалина попыталась заменить его. Источники возлагают на нее ответственность за устранение множества потенциальных соперников как извне, так и внутри императорского дома; в частности, ей приписывают уничтожение в 42 г. н. э. Юлии Ливиллы, дочери Германика, и Гая Аппия Юния Силана, в 43-м — Юлии, внучьей Тиберия и жены или вдовы Рубел- лия Бланда, а также влиятельных сенаторов, таких как Катоний Юст, в 46-м — Марка Виниция и в 47-м — Валерия Азиатка. В 47 г. н. э. был казнен и Гней Помпей Магн (муж Антонии, дочери Клавдия) вместе со своими родителями, через которых он являлся потомком Помпея и Красса. Антония была выдана за Фавсга Суллу, сына Домиции Лепиды; он приходился единоутробным братом Мессалине и не представлял для нее угрозы. По крайней мере, в некоторых из этих казней действительно можно обвинить Мессалину. В ее жилах тоже текла кровь Юлиев, и она закладывала фундамент власти для себя и двух своих детей. Но ее планы угрожали не только Антонии, дочери Клавдии, но и многим слугам дома Цезаря (domus Caesaris). Вольноотпущенники Нарцисс и Мнесгер организовали сопротивление; Мессалину обвинили в том, что она планирует или, вероятно, уже осуществляет развод, а за ним последует повторный брак с патрицием Гаем Силием, который, вероятно, будет править Римом как ее супруг, пока Британник не повзрослеет и не сможет принять власть. Клавдий поверил в правдивость этих заявлений, и Нарцисс казнил Мессалину46.
Хотя заговор Мессалины был подавлен, он вновь продемонстрировал слабость положения Клавдия. Несмотря на обещание Клавдия преторианцам никогда больше не иметь дел с женщинами, ему потребовалось заключить новый брачный союз, чтобы прекратить всякие домыслы о наследовании. Имелось несколько подходящих для него невест. Лоллию Паулину, бывшую жену Калигулы, поддерживал Каллист, ранее служивший предыдущему императору. Элия Петина, мать Антонии, уже побывала замужем за Клавдием и происходила из древнего республиканского рода. Агриппина была прямым потомком Августа, но ее кандидатуре жестко воспротивился Нарцисс, который понимал, что этот брак уничтожит шансы Британника на наследование. И всё же избрана была Агрип¬
46 О Мессалине см.: Meise 1969 (С 375): гл. 6; Ehrhardt 1978 (С 343).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
283
пина — благодаря поддержке Антония Палланта, который ранее был доверенным прокуратором Антонии, матери Клавдия и Германика. Император поручил Вителлию просить сенат об устранении препятствий для брака дяди и племянницы, и 1 января 49 г. н. э. состоялась свадьба.
Возвышение Агриппины привело к падению Луция Юния Силана — человека, который ближе всех подошел к тому, чтобы стать наследником Клавдия на время малолетства Британника. В течение нескольких лет он был обручен с Октавией, дочерью Клавдия, которой на тот момент исполнилось десять лет. И вновь именно верный Вителлий сделал всё необходимое: он обвинил Силана в инцесте с его сестрой Юнией Кальвиной, женой своего собственного сына Луция. За четыре дня до свадьбы Клавдия Силан был принужден отказаться от претуры, на которую его заранее назначили, и исключен из сената. Силану оставалось только покончить с собой. В свое пятое, и последнее, консульство в 50 г. н. э. Клавдий публично продемонстрировал новые династические отношения: 25 февраля он усыновил Луция Домиция Агенобарба, сына Агриппины, который отныне приобрел имя Нерон Клавдий Цезарь. Сама Агриппина получила титул Августы, а место ее рождения — Кёльн — заслужило титул Колония Клавдия Алтарь Агриппины (Colonia Claudia Ara Agrippinensis). Когда в 51 г. н. э. Нерон достиг совершеннолетия, коллегия арвальских братьев вознесла за него те же молитвы, что и за самого Клавдия; Нерона сделали принцепсом молодежи (princeps iuventutis); Дион Кассий упоминает даже эдикт, в котором Клавдий поручил Нерону заботу (cura) об империи. На протяжении последующих десяти лет люди, против которых Агриппина затаила злобу — такие как Гальба и Веспасиан, — исчезли из публичной жизни.
Брак Клавдия с Агриппиной серьезно укрепил его положение, и в последние годы его правления было значительно меньше казней и заговоров, нежели в первые. Более не имелось столь острой необходимости приумножать военную славу, так как ее значительно укрепило пленение бриттского вождя Каратака, которого показали в Риме. С другой стороны, на Востоке возникли сложности, вылившиеся в крупные финансовые проблемы при следующем императоре: парфянский царь Вологез I успешно посадил на армянский трон своего брата Тиридата. В столице Римского государства продолжались беспорядки, связанные с нехваткой продовольствия, но теперь они не рассматривались как серьезная угроза.
Стабильность определялась тем, что в данное время в вопросе о наследовании была достигнута максимально возможная для императорской системы ясность. Агриппина сумела добиться назначения своего доверенного лица командиром преторианских когорт. Это был Секст Афраний Бурр, происходивший из Нарбонской Галлии, патронами которой много поколений являлись Домиции Агенобарбы. Но и у Британника имелись сторонники, в том числе его бабка Домиция Лепида (она приходилась Нерону теткой со стороны отца) и секретарь, ответственный за корреспонденцию (ab epistulis), — Нарцисс. Положение Нерона укрепилось, когда в 53 г. н. э. он женился на Октавии, дочери Клавдия (которую фор¬
284
Часть I. Изложение событий
мально удочерили в другой род (domus), чтобы приемный сын ее родного отца мог сочетаться с ней браком), и несколько раз появился в сенате. Агриппине удалось добиться, чтобы Домицию Лепиду осудили за то, что в ее больших поместьях на юге Италии пастухи нарушали общественное спокойствие.
Двенадцатого февраля 55 г. н. э. Британнику должно было исполниться четырнадцать лет, и в этом возрасте его уже можно было вывести на публичную арену; ходили слухи, будто Клавдий говорил, что желал бы иметь наследником «настоящего» Цезаря. Эти слова — в характере человека, который подражал Юлию Цезарю в том, что покровительствовал народу и армии, содействовал распространению гражданства в провинциях и сделал Британию частью империи. Светоний сообщает, что Клавдий пожелал Британнику «вырасти, чтобы принять от отца отчет во всех делах» [Пер. М.А Гаспароваψ. 13 октября 54 г. н. э. Клавдий внезапно скончался, отведав грибов. Все античные источники высказывают подозрение, что именно Агриппина отравила мужа (только Иосиф Флавий называет это «слухами»). Именно Агриппина и ее сын извлекли наибольшую выгоду из смерти главы своей семьи, и краткосрочное отсутствие Нарцисса во дворце именно в это время представляется слишком удобным, чтобы считать это простым стечением обстоятельств.
V. Нерон47 48
К моменту смерти Клавдия не имелось никаких других наследников императорской власти, кроме Нерона; он был приемным сыном своего предшественника и мужем его дочери (которая, в свою очередь, происходила от сестры Августа); ранее Нерон был избран консулом на 58 год н. э., в котором ему должно было исполниться двадцать лет, и получил проконсульскую власть в Италии за пределами Рима (extra urbem). В 52 г. н. э. Йерон был назначен на символическую должность префекта города для проведения Латинских празднеств (praefectus urbi feriarum Latinarum causa). Если бы Клавдий умер хоть на несколько месяцев позже, он мог бы публично выразить желание оставить империю своему родному сыну Британнику, но вследствие устранения Домиции Лепиды, бабки Британ- ника, а также временного отсутствия Нарцисса Агриппина осталась во дворце за старшую, и передача власти прошла так же гладко, как в 14-м или 37 г. н. э. Несколько часов вести о смерти Клавдия хранились в секрете, а затем Бурр проводил Нерона в лагерь преторианцев, где последнего радостно провозгласили императором. Этому весьма способствовало обещание Нерона раздать подарки — по 15 тыс. сестерциев каждому солдату.
47 «Crescent, rationemque a se omnium factorum acciperet» (Светоний. Клавдий. 43).
48 Основные источники: Тацит. Анналы. ХШ—XVI; Светоний. Нерощ Дион Кассий. LXI—КХШ. Существует много биографий Нерона, cp.: Wankenne 1984 (С 408). Оценки правления Нерона см.: Warmington 1969 (С 409); Griffin 1984 (С 352); Cizek 1972 (С 340); Cizek 1982 (С 341); Rudich V. Political Dissidence under Nero (London, 1993).
Глава 5. От Тиверия до Нерона
285
Хотя Тацит упоминает, что некоторые солдаты спрашивали, где Британ- ник, последний не смог бы разделить с Нероном должность императора: Британник был еще ребенком, как и Тиберий Гемелл в момент прихода к власти Калигулы.
После этого сенат предоставил Нерону полную императорскую власть; но от титула «Отец Отечества» (pater patriae) Нерон отказался, поскольку его не подобало носить шестнадцатилетнему юноше. Сенат не счел необходимым — или разумным — зачитывать завещание Клавдия и либо утверждать его, либо признавать недействительным (Тацит, как ни странно, полагает, что если бы завещание зачитали, то притязания Британника на власть вызвали бы больше симпатий именно потому, что он не был назван наследником Клавдия).
Речь Нерона на похоронах Клавдия, как и его речь в сенате по поводу принятия императорской власти, в которой он изложил свое отношение к предоставленной ему должности, составил для Нерона его учитель риторики — Сенека. Подобно Калигуле и Клавдию в момент прихода к власти, Нерон тоже обещал начать всё заново и вернуться к принципам Августа. Он заявил, что больше не будет тайных судов в спальне (cubiculum) императора, а сенат станет пользоваться уважением. Проявлением этого уважения стали буквы «EX S С» («ex senatus consulto», «согласно постановлению сената». — С. Т.) на ауреях и денариях, отчеканенных между 54 и 64 гг. н. э.; эта легенда показывала, что использование золота и серебра из эрария производилось с одобрения сената.
Трактат Сенеки «О милосердии» («De clementia»), написанный в 55 г. н. э., дает некоторое представление о том, как, по мнению этого советника Нерона, императору следовало править. Сенека настойчиво подчеркивает абсолютный и произвольный характер императорской власти, но это не означает, что, по его мнению, республиканским идеалам следовало уступить место эллинистическому (тем более так называемому «восточному») царствованию. Скорее, автор просто откровенно говорит о том, что с момента битвы при Акции лишь один человек в конечном счете отвечает в римском мире за все решения, влияющие на жизнь общества, и за многие решения, затрагивающие частную жизнь как домочадцев императора, так и участников политического процесса. Сенека указывает Нерону, что абсолютная власть и непревзойденное богатство — это воистину великолепный дар богов, однако они налагают на императора обязанность следовать добродетели (virtus); а милосердие, особенно сдержанность при обоснованном применении императорской власти для наказания противников, — величайшая добродетель императора49.
Сенека и Бурр настолько убедили современников в том, что ведут юного императора по пути добродетели, что это оказало значительное влияние на историографическую традицию. Источники единогласно утверждают, что правление Нерона началось хорошо и лишь в последние
49 О Сенеке и Агриппине см.: Griffin 1976 (В 71). О монетах см.: GCN 107 — AN 240; Sutherland 1987 (В 358): гл. 35-36. О Сенеке и Нероне см.: Leach 1989 (В 106).
286
Часть I. Изложение событий
несколько лет он так настроил против себя элиту, что спровоцировал сначала заговор, а затем и открытое восстание. Пропаганда, которую вели против него мятежники в 68 г. н. э., хорошо обыгрывала особенности его личности и интерес к культуре, в частности, филэллинизм и не свойственное римлянам желание публично выступать в качестве актера. В 60-х годах н. э. врагам Нерона пришлось объяснять, почему эти его черты не вызывали у них враждебности с самого начала. В античности мало кто считал, что со временем человеческий характер может меняться, поэтому утверждалось, что Нерон сдерживал свои желания до тех пор, пока рядом с ним находились Сенека и Бурр, которые давали ему добрые советы. Бурр умер, а Сенека ушел в отставку в 62 г. н. э.; историческая традиция отзывается о них хорошо, зато Офоний Тигеллин, преемник Бурра на посту префекта преторианцев, представлен как дурная противоположность Бурру и даже как враг Сенеки (последнее весьма неубедительно). По меньшей мере отчасти это было сделано, чтобы еще сильнее очернить последние годы правления Нерона.
Одним из последствий таких представлений стало развитие мифа о «пятилетии Нерона» («quinquennium Neronis»): возникло мнение, что в правление Нерона был пятилетний период, когда империя хорошо управлялась, а отношения сената и принцепса были самыми гармоничными. В Поздней античности историки, встречая в своих источниках упоминания об этом пятилетии, вставали в тупик (поскольку Нерон закончил жизнь как типичный тиран). Они считали, что, раз Нерон не мог проявить такую «добродетель» в отношениях с сенатом (или со своей семьей), положительная оценка может относиться либо к его государственной строительной программе, либо к завоеваниям — сфере, где римляне традиционно демонстрировали доблесть (virtus). Строительные проекты Нерона действительно были замечательными. Хотя реконструкция Рима после масштабного пожара в 64 г. н. э. вызвала громкие протесты как из- за своей стоимости, так и из-за того, что Нерон занял огромные территории в городе своим вновь отстроенным дворцом (включавшим Золотой Дом), даже враждебно настроенные к принцепсу писатели вынуждены были признать, что строения Нерона отвечали лучшим римским традициям общественной благотворительности: «Ну что Нерона хуже, | А Неро- новых терм, скажи, что лучше?» [Пер. Ф.А. Петровского)50.
Вряд ли идея о «пятилетии Нерона» предназначалась для того, чтобы объяснить великолепие его построек или реальные (но несущественные) военные успехи, достигнутые Корбулоном и другими полководцами. Скорее, это была попытка объяснить, почему многие сенаторы, позднее клеймившие Нерона как чудовище, столько лет охотно его поддерживали. «Пятилетие», начавшееся в 54 г. н. э., включает 59 г. н. э. — год, когда Нерон убил свою мать, а Тразея Пет, один из сенаторов, подчеркивавший
50 О пятилетии см.: Аврелий Виктор. О Цезарях. V.2—A. Ср.: Murray 1965 (С 380); Hind 1971 (С 355); Levick 1983 (С 368). О банях Нерона см.: Марциал. VII.34. О характере Ти- геллина см.: Roper 1979 (С 389).
Глава 5. От Тиберия до Нерона
287
свою веру в свободу (libertas), ушел из сената; позднее Пета провозгласили стоическим мучеником. Независимо от того, является ли понятие «пятилетие Нерона» («quinquennium Neronis») плодом такой стоической пропаганды, сама по себе эта идея показывает, что популярность, которой император пользовался до последних лет своего правления, вызывала у сенаторов некоторую неловкость.
Наивно полагать, будто Нерон столь долго был замечательным императором лишь благодаря контролировавшим его Сенеке и Бурру; и дело здесь не только в сообщении Диона Кассия, согласно которому Сенека на посту советника императора так обогатился, что на нем лежала часть вины за озлобление бриттов, которое в 60 г. н. э. привело к восстанию Боудики. Политические конфликты не исчезли оттого, что советником императора стал стоик. Пусть Нерон был очевидным наследником Клавдия; но Клавдия пережило множество людей, способных составить ядро оппозиции, если бы новый император сделал хоть один неверный шаг: это, разумеется, Британник, внук Домиции Лепиды, но также и ее сын (единоутробный брат Мессалины) Фавсг Корнелий Сулла Феликс, женатый на Антонии, дочери Клавдия. На наследие Юлиев могли претендовать также Рубеллий Плавт (правнук Тиберия) и оставшиеся в живых братья и сестры Луция Юния Силана, которые приходились внуками Юлии, внучке Августа. Нерону требовалось укрепить свое положение любыми средствами. Честные способы включали завоевание военной славы; в 55 г. н. э. правительство широко пропагандировало императорскую аккламацию, которую Нерон получил за временный успех в Армении, достигнутый Домицием Корбулоном. Для поддержания славы (gloria) Нерона было решено установить в храме Марса Мстителя статую императора и разрешить Нерону отпраздновать овацию.
Следовало укрепить и его династическую легитимность. Сразу после похорон Клавдия сенат проголосовал за предоставление умершему императору божественных почестей; ранее непопулярность Тиберия и Калигулы в последние годы жизни помешала им получить такие же почести, однако некоторые женщины дома Цезаря (domus Caesaris) были обожествлены (Ливия, Антония, Друзилла), и Нерону с его советниками не оставалось ничего другого, как поступить так и в отношении Клавдия. Проблема состояла в том, что, хотя новый император мог называть себя сыном Божественного (divi f.) — и называл, на монетах последующих лет, — однако Британник точно так же был сыном Божественного, а Сулла — зятем Божественного. Пока эти люди оставались на сцене, они представляли для Нерона постоянную угрозу. Как конфликт между Домицией Лепидой и Мессалиной способствовал падению последней, так и раскол между Нероном и Агриппиной мог привести к тому, что она отвернулась бы от сына ради кого-то еще из потомков Августа, которые приходились ей родственниками. Непосредственной проблемой являлся Британник; в конце концов, формально Агриппина была матерью не только Нерона, но и Британника.
288
Часть I. Изложение событий
Независимо от того, считать ли смерть Британника в начале 55 г. н. э. делом рук Сенеки и Бурра, она укрепила положение как их самих, так и Нерона и ослабила позиции Агриппины. Такие же последствия имело и отстранение Палланта, союзника Агриппины, от должности ответственного за счета (a rationibus); он ушел на том условии, что никто не станет задавать ему вопросов о финансах дома Цезаря (domus Caesaris), которыми он управлял. Хотя цель Нерона состояла, по-видимому, в том, чтобы устранить самого Палланта (его брата Феликса император оставил на должности прокуратора Иудеи до 60 г. н. э.), отставка Палланта была истолкована как атака на Агриппину. Юния Силана (сестра Юнии Клавдил- лы, первой жены Калигулы) и Домиция Аепида обвинили Агриппину в том, что та замыслила заменить своего правящего сына Рубеллием Плавтом. Тесть последнего, Антисгий Вет, в том году был коллегой Нерона по консульству, затем занял должность легата Верхней Германии, но через год его сменили. Хотя Нерон не поверил обвинению, после 55 г. н. э. с монет исчезли портреты Агриппины, следовательно, занимая положение матери императора, она была политически слабее, чем в те годы, когда являлась женой императора.
По-видимому, в течение этих лет Сенека и Бурр использовали свое влияние, чтобы назначать соратников на должности, приносившие почет и власть. Помпей Паулин из Арля, брат жены Сенеки, с 56 по 58 г. н. э. командовал армией Нижней Германии; его преемником стал Луций Ду- вий Авит, уроженец Вазиона, родного города Бурра, также расположенного в Нарбонской Галлии. (Нерон унаследовал сторонников в этой провинции скорее от Домициев Агенобарбов, своих предков по отцу, нежели от Юлиев—Клавдиев.) Авит был консулом в 56 г. н. э. С Сенекой и Бур- ром вполне можно связать еще одного провинциала — Луция Педания Секунда из Барселоны; он был консулом в 43 г. н. э., а в 56-м получил должность префекта города (praefectus urbi). В 61 г. н. э. смерть Секунда от рук собственных рабов вызвала большой скандал и побудила консуля- ра и знаменитого юриста Гая Кассия Лонгина (консула 30 г. н. э.) предложить суровые меры для контроля над рабами. В соответствии со строгим толкованием действовавшего закона, порядка четырех сотен рабов Секунда (все, кто находился в его дворце в момент убийства) были казнены, несмотря на выступления городского плебса, который сам в значительной мере состоял из бывших рабов.
Некоторые исследователи утверждают, что толкование, которое дал этому закону Лонгин, следует рассматривать как свидетельство о новом направлении императорской политики, на которую больше не влияли вольноотпущенники, как это было при Клавдии. Поэтому встает вопрос о том, чем следует объяснять события, происходившие в правление Нерона, — «политикой» императора и его советников или же его личностью и темпераментом. В свое первое консульство Нерон понял, что ему очень нравится быть публичной фигурой и находиться в центре внимания. Он с радостью принял титул «Отец Отечества» (pater patriae), когда в 56 г. н. э. сенат вторично предложил его, а также несколько раз стал консулом (во
Глава 5. От Тиберия до Нерона
289
второй раз — в 57 г. н. э., в третий — в 58-м), хотя в 58 г. н. э., сославшись на отсутствие прецедентов, отклонил предложение сената сделать его пожизненным консулом (consul perpetuus) — сенаторы явно считали, что это его осчастливит. Молодой император жаждал, чтобы его видели и слышали, а это побуждало его вмешиваться в дискуссии в сенате, порой без должного инструктажа со стороны своих советников. Однажды он, явно по собственной инициативе, предложил отменить все таможенные пошлины (portoria) во всей империи, поскольку из-за недобросовестности откупщиков они вызывали огромное недовольство. После того как он лично выдвинул столь экстравагантное предложение, оказалось крайне сложно убедить его не исполнять обещанного. Этот инцидент никоим образом не свидетельствует о какой-то гипотетической императорской «политике» по отношению к провинциям или торговле (в свое время исследователи выдвигали анахроничную гипотезу, рассматривая это предложение Нерона как доказательство, что сам он или его советники поощряли свободную рыночную экономику); но он демонстрирует стремление Нерона поражать окружающих своими публичными заявлениями. Отдельные примеры императорских милостей, например, расселение ветеранов на италийской земле, не следует путать с экономической или сельскохозяйственной «политикой». В 57 г. н. э. Нерон основал ветеранские поселения в Капуе и Нуцерии, а в 60 г. н. э. Путеолы получили статус колонии и стали называться Колония Клавдия Нерона (Colonia Claudia Neronensis); вероятно, император не столько стремился обеспечить ветеранов землей, сколько реагировал на внутренние политические проблемы, которые двумя годами ранее обернулись серьезными беспорядками, потребовавшими военного вмешательства.
Желание Нерона появляться на публике не ограничивалось политической сферой. Как и другие хорошие императоры, Нерон серьезно относился к своей обязанности устраивать для римского народа игры. К сожалению, он испытывал неодолимое желание публично выступать самому, как на сцене, так и на скачках. Сначала Нерона удавалось уговорить, чтобы он участвовал только в тех состязаниях, которые проводились в относительном уединении императорского дома (domus) (например, на императорском ипподроме на Ватиканской равнине). Ювеналии — праздник в честь совершеннолетия Нерона в 59 г. н. э. проводился частным образом, но ожидалось, что в нем примут участие сенаторы и всадники. На пятилетних играх, которые Нерон провел по греческому обычаю в 60 и 65 гг. н. э., с такими ограничениями уже не считались; Нерон полагал, что если он лично выступит с игрой на лире и примет участие в скачках на ипподроме, то, как и греческие аристократы, завоюет славу и популярность, а не опозорится. В городах, где преобладала греческая культура, таких как Неаполь, он чувствовал, что его ценят за личные качества, ценят как артиста, а не просто потому, что он император (хотя даже там он °фициально не выступал на публике до 64 г. н. э.).
Личные вкусы Нерона конечно же влияли на политику, когда дело касалось его супружеских отношений. Источники сообщают, что любовь
290
Часть I. Изложение событий
Нерона к Поппее Сабине (внучке легата Тиберия в Мёзии) довела его до полного разрыва с матерью. Согласно более поздним слухам, роман Нерона с Сабиной продолжался несколько лет, прежде чем в 62 г. н. э. он развелся с Октавией, чтобы жениться на Сабине. Говорили, что император просил своего друга Марка Сальвия Отона жениться на Поппее, чтобы сам он мог тайно приходить к ней. Разумеется, у Нерона были веские политические причины не разводиться с Октавией сразу: если бы он так поступил, то Сулла Феликс, муж Антонии, получил бы перед ним преимущество в борьбе за лояльность соратников Клавдия. Агриппина это понимала, и говорили, что она отсоветовала сыну разводиться с Октавией, поскольку в этом случае ему пришлось бы вернуть ей приданое — империю. Не исключено, что величайшее преступление, из-за которого Нерон вошел в историю — убийство матери в 59 г. н. э., — стало результатом их конфликта по поводу возможности развода с Октавией; Сенека и Бурр, по всей видимости, не участвовали в изначальном заговоре, когда было подстроено крушение прогулочного судна, на котором Агриппина возвращалась домой с обеда с сыном, и это может свидетельствовать, что данное деяние не было задумано как акт государственной политики. Возможно, сперва Нерон хотел не убить Агриппину, а напугать ее, чтобы в будущем она не препятствовала желаниям сына.
Так или иначе, но кораблекрушение подстроил один из вольноотпущенников Нерона — Аникет (ранее он был педагогом Нерона), Агриппина же выжила, поэтому Нерон запаниковал; Агриппина угрожала публично поведать всем о происшествии, а это привело бы к резкому падению популярности Нерона, а возможно, даже к его замене другим кандидатом, который пользовался бы поддержкой Агриппины. У него оставался единственный выход — всё скрыть, что подразумевало ликвидацию Агриппины. Нерон посоветовался с Сенекой и Бурром, которые, видимо, ничего о заговоре не знали. Бурр указал на то, что преторианцы не станут помогать в убийстве представительницы той семьи, которую они поклялись защищать. В конце концов решено было объявить, что Агриппину уличили в замыслах, нацеленных на низложение Нерона, — это не показалось бы невероятным, — и ее казнили.
Убийство Агриппины, возможно, положило конец «пятилетию Нерона» («quinquennium Neronis»), но не слишком сказалось на его популярности. Тразея Пет в отвращении покинул сенат, но остальные сенаторы приняли объяснение, данное Нероном и Сенекой. Однако теперь Нерон более, чем когда-либо, нуждался в легитимности, которую давал ему брак с Октавией; не следует удивляться, что между смертью Агриппины и разводом Нерона с Октавией прошло три года. Прежде чем разойтись с ней, Нерон должен был устранить Суллу Феликса и Рубеллия Плавта (последний, судя по всему, не имел ни малейших притязаний на императорский трон). В 58 г. н. э. Сулле пришлось удалиться в Марсель. Комета, появившаяся в 60 г. н. э., вызвала слухи, что близится приход нового принцепса; Нерон воспользовался этим, чтобы сослать Рубеллия Плавта в Азию. В том же году Сервия Сулышция Гальбу отправили в Тарраконскую Ис¬
Глава 5. От Тиберия до Нерона
291
панию в качестве императорского легата; Нерон удерживал его там до самого конца своего правления, и это наводит на мысль, что таким способом он устранял потенциального соперника — достаточно старого, чтобы можно было не прибегать к казни.
В том же году Корбулон одержал новые победы, стремясь сохранить Армению в орбите римского влияния. Посадив на царский трон Тиграна V, сторонника римлян, Корбулон получил должность наместника Сирии. В следующем году Тигран совершил ошибку, напав на зависимую от Парфии область Адиабену, что, естественно, побудило парфян начать военные действия. Корбулону, видимо, пришлось низложить Тиграна, а еще через год (в 62 г. н. э.) попытка Цезенния Пета, нового легата Каппадокии, восстановить римский контроль над Арменией закончилась тем, что его армия была уничтожена парфянами у Рандеи. В 63 г. н. э. Корбулон получил необычные полномочия — высший империй (imperium maius) в восточных провинциях — и дополнительный легион из дунайского войска. Как римляне, так и парфяне решили, что компромисс будет взаимовыгодным (и те, и другие опасались надвигавшейся опасности со стороны аланов, недавно переселившихся из Центральной Азии), и Корбулон заключил соглашение о том, что Арменией будет править Тиридат — парфянский кандидат, который способен был поддерживать в царстве порядок, но свою диадему он формально получит в Риме от Нерона в качестве дара римского народа, и таким образом за Римом будет признано право обращаться с Арменией как с частью своей империи. (Тиридат приехал в Рим в 66 г. н. э.) Хотя эти военные операции обеспечили восточным границам длительное спокойствие, а Нерону — славу, обошлись они дорого.
Немалыми тратами обернулось и восстание в Британии, которое было вызвано, по меньшей мере отчасти, тем, что философы-прокураторы, направленные Сенекой, стали досрочно взыскивать задолженность в размере 40 млн сестерциев. В 62 г. н. э. для проверю! системы сбора налогов в империи была назначена комиссия из трех консуляров. Результаты этой проверки частично сохранились в досье, найденном в Эфесе, где оказались собраны предписания относительно откупа пошлин (portoria) в Азии. Законы (leges), регулировавшие эту деятельность по сбору налогов, имели двойную цель: сдерживать вымогательства откупщиков и гарантировать поступления в казну в полном объеме. Насколько откупщики уважали эти законы — уже другой вопрос. Но крайне вероятно, что император и сенат больше заботились о получении доходов, значительная часть которых шла на содержание войск, чем о том, чтобы публиканы справедливо обращались с провинциалами. В документе, который от имени Гальбы издал в 68 г. н. э. префект Египта Тиберий Юлий Александр, сделан акцент на пресечении лихоимств откупщиков, что отражает недовольство провинциалов беззакониями откупщиков Нерона по всей империи51.
51 О досье из Эфеса см.: Engelmaim, Knibbe 1986 (В 228). О Египте см.: эдикт Тиберия Юлия Александра: MW 328 = GCN 391 = AN 600; cp.: Chalon 1964 (Е 909); а также гл. 14а Н^СГ. изд.
292
Часть I. Изложение событий
В правление Нерона многие бывшие наместники предстали перед судом за злоупотребления. И бесчинства наместников в провинциях, и обвинения, которые выдвигали их противники по истечении срока их полномочий, постоянно служили политическим оружием в эпоху Принципата так же, как и во времена Республики. Но не следует с порога отметать и попечение Нерона о том, чтобы с подданными обходились справедливо. Возможно даже, что некоторую роль в этих событиях сыграла стоическая теория: Тразея Пет внимательно следил за провинциальными делами, и широкую известность приобрел случай, когда он обратил внимание сената на недопустимо возросшее политическое влияние одного из знатных критян — Клавдия Тимарха51а. В 57 г. н. э. Тразея добился осуждения зятя Тигеллина (последний был сторонником Сенеки, а позднее стал преемником Бурра на посту префекта претория). Но в целом подобные процессы свидетельствуют скорее о соперничестве между сенаторами, нежели о некой «политике» правительства52.
Некоторые источники обвиняют Нерона в смерти Бурра, скончавшегося в 62 г. н. э., и предполагают, что император (которому на тот момент было двадцать четыре года) желал избавиться от сдерживающего влияния своих советников. Сенека ушел в отставку в том же году; но это не означает, что «партия» советников утратила влияние или ее сменила другая, во главе которой якобы стоял Тигеллин. Своим возвышением Тигел- лин был обязан Сенеке; его попытались изобразить врагом Сенеки и Бурра люди, которые вначале верно служили Нерону, а затем вознамерились провести четкую, но выдуманную ими грань между хорошими «ранними» годами правления Нерона и отвратительными последними. Смерть Бри- танника и Агриппины, изгнание Суллы и Рубеллия Плавта, восстание в Британии — всё это произошло, когда Сенека и Бурр были советниками Нерона. Удаление Сенеки от общественной жизни в возрасте шестидесяти пяти лет не выглядит неожиданностью.
В изложении Тацита важное место занимает возобновление в 62 г. н. э. процессов по обвинению в умалении величия (maiestas). Античный автор пытается убедить нас, что эти суды свидетельствуют о систематической политике императора по уничтожению оппозиции; возможно, при Домициане именно так и обстояло дело. Но мы уже видели, что при Тиберии расцвет обвинений в умалении величия был вызван тем, что император слишком плохо контролировал государственные дела и вообще отсутствовал в Риме. Как и обвинения в вымогательстве, эти процессы были порождены конфликтами между сенаторами; кроме того, они давали возможности «новым людям» («novi homines») разбогатеть, завоевать славу и дружбу императора. Пожалуй, после ухода Сенеки таким персонам стало проще использовать доверчивость и неопытность Нерона. В начале правления он отвергал обвинения в умалении величия (maiestas) на
51а Сенатор Тразея Пет был выдающимся приверженцем стоического учения; подразумевается, что его интерес к провинциальным делам мог быть обусловлен его стоическими принципами, т. е. заботой об общем благе. — С.Т
52 О Тимархе см.: Тацит. Анналы. XV.20.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
293
том основании, что ни у кого не могло быть причин для ненависти к нему. Первый подобный процесс в рассказе Тацита — это суд над Антистием Сосианом, которого обвинили в сочинении эпиграмм, порочивших императора. Дело обсуждалось в сенате, и Тразея Пет выступил против смертного приговора, предложенного избранным консулом. Консулы не одобрили предложение Тразеи о более мягком наказании (изгнание) и передали вопрос на рассмотрение Нерону; Тацит намекает, что император был недоволен снисходительностью сената, но нет никаких оснований подозревать, что Нерон покривил душой, когда сказал, что и сам предпочел бы назначить более мягкое наказание. Большинство обвиненных в измене (кроме тех, кто сразу совершил самоубийство) было изгнано, а не казнено.
В целом до 64 г. н. э. пострадали в основном те, кто состоял в родстве с семьей Августа. Сулла Феликс и Рубеллий Плавт, изгнанные в 58 и 60 гг. н. э., были казнены в 62-м; это настолько укрепило положение Нерона, что он развелся с Октавией (заявив, что она бесплодна) и изгнал ее в Кампанию, а затем, через двенадцать дней, женился на Поппее. Ее муж Отон отправился управлять Лузитанией вскоре после смерти Агриппины в 59 г. н. э. Среди городского плебса, по-видимому, не забывшего благодеяний Клавдия, начались публичные выступления в защиту Октавии. Они продемонстрировали Нерону, что он недооценивал ее влияние. Император объявил, что Октавия участвовала в заговоре, и 9 июня казнил ее. В январе 63 г. н. э. Поппея родила дочь, но через несколько месяцев ребенок умер. Ее обожествление под именем Клавдии Августы не могло послужить утешением, ведь у Нерона по-прежнему не было прямого наследника. И теперь император боялся любого, кто мог притязать на высшую власть в государстве. В 64 г. н. э. был вынужден покончить с собой Децим Юний Силан Торкват, внук Юлии Младшей, внучки Августа; теперь из всех детей консула 19 г. н. э. в живых осталась только Юния Ле- пида, жена Гая Кассия Лонгина.
До сих пор жертвами ошибок Нерона становились в основном те, кого он опасался как соперников. Но в ночь с 18 на 19 июля 64 г. н. э. случайное событие породило огромное недовольство императором как в самом Риме, так и по всей империи. Пожар в Риме и последовавшее за ним восстановление города обошлись невероятно дорого и привели к тому, что Нерон утратил популярность среди состоятельных людей по всей Италии и в некоторых других провинциях. Позднейшие слухи о том, что пожар устроил сам Нерон, анекдоты, будто он наслаждался игрой на лире, пока Рим горел, а также отвращение авторов, обычно враждебных к христианам, к попытке Нерона выставить их поджигателями — всё это свидетельствует, сколь большая личная ответственность возлагалась на императора за бедствия, а равно и за блага его подданных. На самом деле Нерон сделал всё возможное, чтобы пожар не распространился дальше, в частности, были проложены заградительные противопожарные полосы (впоследствии его обвинили, что он сносил здания в тех районах, которые ре- ншл отдать под свой дворец); подобно своим предшесгвенникам-импера-
294
Часть I. Изложение событий
торам, он помогал тем, кто лишился крова, и лично руководил программой восстановления города.
Но заново отстроить обширные районы Рима стоило очень дорого, и это вылилось в дополнительное финансовое бремя для дома Цезарей (domus Caesaris) и империи в целом. Нерон составил грандиозный план нового дворца, предполагавший конфискацию всей земли в тех районах Рима, где традиционно жили представители сенатской элиты, и не позволил аристократам отстроить собственные дома на тех землях, которые он забрал для своего Проходного дома (domus transitoria). Вот пример прямого и неразрешимого конфликта интересов императора и его сенаторов.
Пострадали не только сенаторы. Сообщается, что на какое-то время пришлось приостановить бесплатную раздачу зерна городскому населению, а некоторым войскам даже не платили жалованье. Нерон столь отчаянно искал дополнительные источники дохода, что якобы велел магистратам обеспечить как можно больше обвинительных приговоров, а значит, конфискаций, то есть повел себя как типичный тиран. Рассказывают, что он конфисковал «половину провинции Африка» (на самом деле — плодородную долину Баграда в северном Тунисе), казнив для этого шестерых землевладельцев. Храмовые сокровища переплавлялись; потребность императора в драгоценных металлах вызвала сильное недовольство в западных и восточных провинциях и привела к восстаниям Виндекса и иудеев. В мае 66 г. н. э. Гессий Флор, прокуратор Иудеи, прибыл в Иерусалим и заявил, что иудеи задолжали императорской казне (fiscus) недоимки по налогам в размере 40 золотых талантов. Когда деньги ему не выдали, он забрал 17 талантов из сокровищ храма; и этот поступок спо- двиг население провинции к столь яростному сопротивлению римлянам, что иудейская элита и зависимые цари не сумели совладать с ним. Попытка Цестия Галла, наместника Сирии, подавить восстание вооруженной силой в ноябре 66 г. н. э. провалилась (современники не понимали причин его отступления, как не понимаем и мы), и Нерону пришлось начать настоящую войну, чтобы восстановить контроль Рима над Иудеей.
Масштабный пожар в Риме усугубил финансовые проблемы, но, как свидетельствует восстание Боудики, они довлели и ранее. На протяжении всего правления Нерона содержание драгоценных металлов в монетах постоянно снижалось. Примерно в 64 г. н. э. произошла крупная денежная реформа: число ауреев [aurei) на фунт золота было повышено с сорока или сорока двух до сорока пяти, число денариев на фунт серебра — с восьмидесяти четырех до девяноста шести. Новые монеты Нерона были очень красивыми, но это не могло замаскировать его нужду в деньгах53.
После того как Нерон уничтожил потомков Августа, возможность занять его место появилась у еще более дальних родственников Цезарей. Непопулярностью Нерона воспользовалась группа людей, избравшая сво¬
53 О проблемах в провинциях, а именно о конфискациях в Африке, см.: Плиний Старший. Естественная история. Х\ЧП.7.35. Об Иудее см. гл. 14d наст. изд. О недостатке металлов см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 40.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
295
им лидером Гая Кальпурния Пизона, браку которого с Ливией Орестил- лой воспротивился Калигула (см. с. 267 наст, изд.); Клавдий вернул его из изгнания и в 41 г. н. э. поручил ему консульство. Сообщается, что в число заговорщиков входил Фений Руф, второй префект преторианцев, который опасался влияния Тигеллина, а также трое из шестнадцати преторианских трибунов. Избранный консул Плавций Латеран тоже участвовал в заговоре, обвинены были и многие другие. Чтобы придать своему предприятию легитимность, они — после того, как убьют Нерона в цирке — планировали привезти в лагерь преторианцев Антонию, дочь Клавдия. Ничего «республиканского» в этом заговоре не было.
После этого заговора Нерон начал опасаться многих людей, не состоявших с ним в родстве, и отправил на тот свет огромное число подозреваемых. Среди тех, кто получил приказ покончить с собой, был и Сенека. Преторианцам достались подарки; иными дарами были вознаграждены и те, кого Нерон еще считал достойными доверия: триумфальных отличий удостоились Тигеллин, Петроний Турпилиан и Кокцей Нерва, который впоследствии стал императором. Нимфидий Сабин, внук Каллиста, вольноотпущенника Калигулы, получил консульские знаки отличия (insignia consularia) и назначение префектом преторианцев наравне с Тигеллином. Нерон, судя по всему, решил, что военная служба дается Тигеллину хуже, нежели коневодсгво53а.
Смерть Поппеи Сабины в 65 г. н. э. стала для Нерона как личным, так и политическим несчастьем: супруга не оставила ему наследника54. Последовали слухи о новых заговорах и новые казни. Нерон запретил Гаю Кассию Лонгину, мужу Юнии Лепиды, появляться на заседаниях сената, а вскоре после этого потребовал, чтобы сенат изгнал и Лонгина, и племянника жены последнего — Луция Юния Силана. Силан, сын Марка, которого, по общему мнению, отравила в 54 г. н. э. Агриппина, был потомком Августа; несмотря на то, что участники заговора Пизона совершенно проигнорировали его преимущественные права на положение нового Цезаря, Нерон счел нужным обвинить Силана в инцесте и казнить. Сам Кассий вернулся из изгнания на Сардинии лишь в правление Гальбы. От родства с императорской семьей пострадал и Антистий Вет, тесть Рубеллия Плавта и в прошлом протеже Агриппины.
В 66 г. н. э. Нерон продолжил казнить людей, вызывавших у него опасения. Осгорий Скапула, сын бывшего наместника Британии, спрашивал у астрологов, сколько еще проживет император. В том же преступлении обвинили и консуляра Публия Антея; оба покончили с собой. В перечень жертв попали также два брата Сенеки — Анней Мела (отец Лукана, который ранее покончил с собой по приказу Нерона) и Галлион (названный «наместником Ахайи» в «Деяниях Апостолов»); Гай Петроний, соперник Тигеллина за место собутыльника Нерона; Руфрий Криспин, бывший
53а Тигеллин владел обширными пастбищами в Апулии и Калабрии, где разводил скаковых лошадей. — С.Т
54 О том, что выкидыш у Поппеи случился из-за Нерона, см.: Ameling 1986 (С 329).
296
Часть I. Изложение событий
префект преторианцев; Аниций Цереал, консул 65 г. н. э.; двое известных стоиков — Тразея Пет и Барея Соран. Возможно, некоторые из них почерпнули термины и лозунги для выражения протеста против поведения Нерона из стоической философии, но заметим, что римские семьи, которые в то время выступили против императора, не действовали как «группа» или «партия» и, главное, не руководствовались какими-то философскими воззрениями об «идеальном правлении», не говоря уже о «республиканизме».
Дабы укрепить собственное династическое положение, Нерон предложил Антонии (дочери Клавдия) сочетаться с ним браком, но она этого не пожелала. Тогда Нерон женился на Статилии Мессалине, вдове одного из своих жертв — Весгина Аттика. Среди ее предков числились полководцы Августа — Статилий Тавр и Валерий Мессала Корвин.
Кроме того, после 65 г. н. э. Нерон всеми средствами старался восстановить свой военный престиж. Он извлек максимум выгод из решения армянской проблемы, которого добился Корбулон, и в бб г. н. э. устроил впечатляющие зрелища по случаю прибытия в Рим царя Тиридата для получения диадемы из рук императора. На новых монетах изображались «Августова Победа», Алтарь Мира и подчеркивался тот факт, что император «запер храм Януса, когда на суше и на море установился мир». Нерон предоставил почести таким полководцам, как Веспасиан и Светоний Паулин (последний получил второе консульство), — возможно, для того, чтобы устранить угрозу, которую представляла для него доблесть (virtus) Корбулона. В эти годы Нерон планировал также завоевать военную славу, возглавив крупный поход на Восток; тогда и римляне (на Нижнем Дунае), и парфяне ощущали усиление давления со стороны восточных племен (Тиберий Плавтий Сильван, легат Мёзии между 60 и 67 гг. н. э., уже вел с ними сражения). Хорошие отношения Нерона (а позднее и Веспасиана) с парфянами предполагают, что при решении армянского конфликта оба государства признали необходимость военного сотрудничества. Нерон объявил о походе в направлении Каспийских Ворот на востоке Кавказа, а астрологи предсказали, что он со славой взойдет на трон в Иерусалиме. Из Британии в рамках подготовки кампании был отозван XIV легион; он хорошо проявил себя во время подавления восстания Боудики и получил имя Марсова Победоносного (Martia Victrix). Нерон поручил Турпиллиану (единственному человеку, пользовавшемуся его доверием) руководить набором нового легиона в Италии. Аннексия Понта и превращение его в провинцию в 64 г. н. э. тоже могли быть связаны с восточными планами Нерона. Монеты, которые чеканились в последние годы его правления, указывают на возрастание интереса императора к военным делам55.
Но очевидно, что Нерона прежде всего заботила его слава артиста, выступающего на публике. Он будто бы говорил, что только греки ценят * 28755 Нерон назван императором (imperator) в надписи: ILS 233 (Луна) = GCN 149 = AN
287. О легенде «РАСЕ Р. К TERRA MARIQUE PARTA IANUM CLUSIT» см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 39.
Глава 5. От Тиберия до Нерона
297
истинную доблесть. Возможно, сперва он хотел посетить Грецию в 65 г. н. э., чтобы участвовать в регулярных Олимпийских играх. В итоге пришлось сдвигать четырехлетние игры, чтобы Нерон имел возможность принять в них участие и выиграть призы. Ясно, что, приехав в Грецию, он приобрел там громкую популярность. В Коринфе он театрально разыграл «освобождение» Греции от прямого римского управления, как это сделал Фламинин в 196 г. до н. э.56.
Когда Нерон со свитой двигался в направлении Греции, в Беневенте был раскрыт очередной заговор (подробностей известно мало, и не ясно, присутствовал ли там Нерон, когда заговор обнаружили). Лидером был Анний Винициан; его казнили. Трудно сказать, в каком родстве он состоял с Аннием Виницианом, который участвовал в мятеже Камилла Скри- бониана против Клавдия; братом заговорщика против Нерона мог быть Анний Поллион, вовлеченный в заговор Пизона в предыдущем году. Но известно, что Винициан был влиятельным сторонником Корбулона. Он служил легатом Пятого легиона во время армянской кампании Корбулона примерно в 58 г. н. э. и женился на одной из его дочерей (другая впоследствии стала женой Домициана). В предыдущем году Корбулон послал Анния сопровождать Тиридата на пути в Рим; Дион Кассий объясняет это решение тем, что Корбулон желал оставить у Нерона заложника в качестве гарантии своей доброй воли. Тиридат заметил Нерону, «какого хорошего раба обрел тот в Корбулоне». Заговор в Беневенте — реальный или вымышленный — свидетельствует, что Нерон понял: он больше не может рассчитывать на поддержку Корбулона. Вывод был очевиден, и император пригласил Корбулона к себе в Грецию, а там велел ему покончить с собой. Немного позднее (и, вероятно, в связи с тем же самым заговором) в Грецию к Нерону были вызваны легаты армий на Верхнем и Нижнем Рейне — и тоже получили приказ совершить самоубийство. Это были братья Публий Сульпиций Скрибоний Прокул и Скрибоний Руф, сыновья сенатора, казненного Калигулой в 40 г. н. э. (согласно источникам — прямо в здании сената).
Прибыв в Грецию, Нерон узнал, что в ноябре 66 г. н. э. Цесгию Галлу, наместнику Сирии, не удалось восстановить римский контроль над Иерусалимом. Видимо, вскоре после этого Галл умер, и требовалось быстро поручить кому-то командование в полномасштабной войне за власть над Иудеей. В феврале 67 г. н. э. Нерон назначил на смену Галлу двоих человек — Муциана как легата Сирии и Веспасиана как главнокомандующего в войне; неудивительно, что административные проблемы, вызванные разделом прежде единого провинциального управления на два разных командования, неизбежно породили трения между двумя командирами, но нет необходимости предполагать некую глубоко укоренившуюся вражду между ними. Их разногласия не помешали Веспасиану успешно замирить в 67—68 гг. н. э. Галилею, как описано в гл 14Ь наст. изд. К моменту смерти Нерона, когда Веспасиан прекратил масштабные операции в Па¬
56 Об освобождении Греции см.: ILS 8794 = GCN 64 = AN 127.
298
Часть I. Изложение событий
лестине, римской армии осталось решить немного задач: взять (и разрушить) сам Иерусалим и еще несколько крепостей, покорение которых скорее демонстрировало мощь Рима, нежели ликвидировало серьезную угрозу.
К зиме 67/68 г. н. э. Гелию и другим членам императорского домохозяйства, которые вели дела в столице, стало ясно, что победы Нерона на артистических состязаниях в Греции ослабили, а не укрепили его позиции среди римской элиты. В январе Гелий лично отправился в Грецию (несмотря на опасности передвижения зимой), чтобы убедить Нерона вернуться в Рим. Направляясь домой, Нерон заботился прежде всего о том, чтобы ему воздавались почести как победителю греческих Олимпийских игр, и ради этого он проезжал на колеснице через специально проделанные проемы в стенах городов, которые миновал по пути из Неаполя в Рим. Гораздо меньше его занимали сообщения о том, что против него восстал Гай Юлий Виндекс, легат Лугдунской Галлии; это известие застигло Нерона в Неаполе в годовщину убийства его матери.
Глава б
Т.-Э.-Й. Видеман
ОТ НЕРОНА ДО ВЕСПАСИАНА
I. 68 г. н. э.
В январе 68 г. н. э. Гелий, вольноотпущенник Нерона, убедил императора прервать поездку по Греции, удачную и популярную у местных жителей, и немедленно вернуться в Италию. Судя по тому, что Гелий бросил вызов зимним штормам и переправился через Адриатику, он серьезно опасался не просто заговора римских сенаторов, а восстания одного или нескольких наместников, возглавлявших армии в провинциях. Об этой угрозе свидетельствовали письма с призывами к свержению Нерона, которые рассылал другим наместникам Гай Юлий Виндекс, занимавший, вероятно, должность легата Лугдунской Галлии. Некоторые из получателей переслали письма Виндекса в Рим через императорских прокураторов своих провинций. Но люди, управлявшие государством от имени Нерона, не могли точно знать, кто из наместников по-прежнему заслуживает доверия и заслуживает ли его вообще хоть кто-то.
Например, императорские прокураторы в Тарраконской Испании должны были понимать, что легат Сервий Сулышций Гальба ничего не предпринимает для наказания лиц, распространявших враждебные Нерону стихи. Никто не мог сказать заранее, проявит ли Гальба такую же снисходительность к тем, кто устроит вооруженный заговор (и не исключено, что это будут те же самые люди).
Единственное прямое свидетельство о причинах, побудивших Виндекса восстать, и о его целях — это направленные против Нерона сочинения, которые он распространял, и легенды на монетах, отчеканенных им для выплаты наград сторонникам. Светоний сообщает, что Виндекс прозывал Нерона Агенобарбом, подчеркивая тем, что по рождению он не принадлежал к «дому Цезаря» («domus Caesaris»), и осуждал его за фил- эллинизм, именуя колесничим и безголосым кифаредом. Монетная чеканка подтверждает, что Виндекс стремился представить себя приверженцем традиционных римских ценностей и защитником Римского государства от тирана. На монетах упоминается «спасение рода человеческого» и изображается дубовый венок (им награждали римского солдата за
300
Часть I. Изложение событий
спасение жизни гражданина), а также легенда SPQR. Существует аурей (римская золотая монета, эквивалентная двадцати четырем серебряным денариям; при Нероне имела вес 7,3—7,7 г. — О. А) с богом войны Марсом Мстителем и двумя военными знаменами, которые описаны как принадлежащие римскому народу. Имеется денарий с изображением «Рима, возвращенного [к свободе]», и Геркулеса и Юпитера как Освободителей. Гальба, после того как нарушил верность Нерону, чеканил в Испании очень похожие монеты. На испанских денариях упоминаются «Свобода» и «Жизненная сила римского народа» с изображениями Марса Мстителя и шапки вольноотпущенника. На самом, пожалуй, интересном выпуске отчеканены персонификации Испании и Галлии с Победой между ними и легендой «Гармония Испанской и Галльской провинций»; на реверсе представлена «Победа римского народа» в колеснице, запряженной двумя лошадьми. Сходство выпусков Виндекса и Гальбы указывает на сговор между легатами, существовавший после того, как они прекратили поддерживать Нерона, но не доказывает, что Гальба с самого начала активно участвовал в заговоре Виндекса. И хотя оба легата чеканили монеты с легендами, провозглашавшими республиканские добродетели и упоминавшими «римский народ», это еще не доказывает, что Виндекс или Гальба восстали против Нерона, чтобы возродить республиканскую форму правления. Виндекс, предки которого в эпоху Республики даже не были римскими гражданами, под «Свободой римского народа» имел в виду нечто другое. Он хотел заменить негодного принцепса более достойным и должен был хорошо понимать, что сам не имеет шансов занять данное положение. С другой стороны, это не означает, что декларация верности сенату и народу римскому (SPQR) была просто прикрытием для измены легитимному императору, ибо в некотором смысле верховная власть принадлежала SPQR. Сенат и народ, конечно, не могли сделать одного человека сильнее или слабее другого, но были способны определить, кто из них (и какая из групп поддержки) обладает наибольшей силой и авторитетом. Виндекс признавал за сенатом и народом право решать, кто в действительности правит государством, — надеясь, конечно, что это будет не Нерон, а кто-то другой, способный предъявить притязания на имущество и власть Цезарей. Очевидным кандидатом был Гальба, наместник Испании, который в 41 г. н. э. уже рассматривался как претендент на императорскую власть1.
1 Нарративные источники неудовлетворительно освещают события 68 г. н. э.: нет даже уверенности в том, что провинцией Виндекса была Лугдунская Галлия, см.: Светоний. Нерон. 40—50; Плутарх. Гальба; Дион Кассий LXH (LXIH) .22—ЬХШ.З. О нумизматических свидетельствах см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 41—46; Zehnacker 1987 (В 364). О монетных выпусках Виндекса см.: GCN 70 (cp.: MW 27): «SALVS GENERIS HVMANI»; «SPQR»; «MARS VLTOR»; «SIGNA POPVLI ROMANI»; «HERCVLES ADSERTOR»; «ROMA RESTlTVTA»; «IVPP1TER LIBERATOR». О монетах Гальбы см.: GCN 72 (cp.: MW 25-26): «LIBERTAS P.R.»; «GENIO P.R.»; «CONCORDIA HISPANIARVM ET GALUARVM»; «VICTORIA P.R.».
Исследования последнего этапа правления Нерона см.: Griffin 1984 (С 352); Reece 1969 (С 387); Warmington 1969 (С 409): гл. 13. До сих пор можно встретить интерпретацию вое-
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
301
Виндекс был не просто легатом императора, он и сам обладал в Галлии немалым влиянием. Сообщается, что его предки были «царями» аквитанов (этнически это баски, хотя корень *vent кельтский). Неудивительно, что Виндекс пользовался своими местными связями, и в источниках сообщается о баскских воинах, желавших присоединиться к Талибе. Соперничество между галльскими племенами, с одной стороны, и общинами, происходившими от италийских поселенцев и традиционно лояльными Агенобарбам, — с другой, должно было сыграть свою роль, когда эти племена и общины решали, присоединиться ли к Виндексу или воспротивиться ему. Но это не может служить аргументом в пользу теории, популярной несколько десятилетий назад, о том, что мятеж Виндекса по существу представлял собой восстание местных жителей против римского правления. Тацит воспроизводит официальную версию, бытовавшую при Флавиях, и объединяет Виндекса с Цивилисом, словно оба были местными вождями и стремились основать собственные независимые (но романизированные) государства в Северо-Западной Европе. Подобно Ци- вилису, Виндекс мог использовать недовольство римским правлением, усугубленное фискальными требованиями Нерона, но было бы анахронизмом видеть в Виндексе борца за национальную свободу, а не римского сенатора, поднявшегося против «тирании» Нерона.
Если нумизматические свидетельства показывают, что оба лидера восстания против Нерона признавали высший авторитет «сената и народа римского», то литературные источники указывают на то, что поначалу было неясно, поддержит ли Виндекса Гальба или кто-либо еще. Хотя Гальба скрыл от прокураторов Нерона доказательства мятежных намерений Виндекса, он скептически оценивал шансы последнего на победу. Однако Тит Виний Руфин, командовавший VI легионом (в то время единственным легионом в Испании) указал Гальбе, что если все противники Нерона не объединятся сейчас вокруг Виндекса, то впоследствии испуганный и разгневанный император без труда расправится с ними поодиночке.
Второго или третьего апреля на регулярном выездном судебном слушании в Новом Карфагене войско Гальбы провозгласило его Цезарем. Он сразу же отверг титул императора, предоставлять который солдаты не имели права, и стал называться «легатом римского сената и народа». Некоторое сопротивление он всё же встретил и вынужден был казнить Обултрония Сабина, проконсула Бетики, и Корнелия Марцелла, его легата. Гальба заручился поддержкой не только Тита Виния, но и квестора Цецины Алиена, который взял на себя управление Бетикой, и прежде всего Марка Сальвия Огона, легата Лузитании. Эти три наместника контролировали большую часть запасов драгоценных металлов в империи. Отон долго был другом юности Нерона. Почти девять лет назад Нерон °тправил его в Лузитанию, чтобы облегчить себе доступ к его жене Поп-
стания Виндекса как «бунта местных жителей», см.: Dyson 1971 (А 25). Исследование состава сторонников Гальбы см.: Syme 1982 (С 400). Существует интересная биография Гальбы на французском языке: Sancery 1983 (С 390).
302
Часть I. Изложение событий
пее. Теперь Поппеи уже не было в живых; Отон ничего не терял в случае свержения Нерона, но многое мог приобрести. В декабре Гальбе должно было исполниться семьдесят лет, и ему некому было передать императорскую власть, поскольку он не имел сына; Отону же было тридцать семь лет, и он мог стать сторонником и преемником Гальбы.
О восстании Виндекса Нерон узнал, когда находился в Неаполе. Известия о мятеже в Галлии его не слишком встревожили, но притязания Гальбы на титул Цезаря имели некоторые шансы на признание, и его отступничество полностью изменило расстановку сил. Оно подтвердило, что ни на одного наместника император больше не мог полагаться.
Петроний Турпилиан, проявивший безусловную лояльность Нерону при подавлении заговора Пизона, был направлен в северную Италию, чтобы возглавить армию, которая должна была включать XIV легион и новый легион, набранный из моряков в Мизене. В качестве меры устрашения для других потенциальных мятежников были конфискованы поместья Гальбы в Италии; в ответ Гальба продал с торгов имущество «дома Цезаря» («domus Caesaris») в Испании, а на вырученные деньги набрал в этой провинции второй легион из римских граждан — УП Гальбан- ский легион (Galbiana). Орел этого легиона был официально представлен солдатам 10 июня. Командиром легиона Гальба назначил Антония Прима, уроженца Толозы; в 61 г. н. э. его (вероятно, еще не достигшего претуры) исключили из сената за соучастие в подделке завещания и сослали в Марсель. Поскольку он был изгнан Нероном и почти наверняка знал Виндекса, то немедленно оказал поддержку Гальбе.
Прим, Отон, Виний и Алиен ясно дали понять, что переходят от Нерона на сторону Гальбы. Намерения других лиц, сыгравших важную роль в свержении Нерона, оказались не столь очевидны как для современников, так и для нас. В какой-то момент в 68 г. н. э. Клодий Макр, легат Ш легиона в Северной Африке, восстал против римского правительства, низложил проконсула Африки и набрал еще один легион, который назвал I Макровым Освободителем (Macriana Liberatrix). На денарии, отчеканенном, вероятно, в Карфагене, Макр назван не императором, а просто «пропретором Африки» (на этом денарии отчеканены также буквы S<enatus> C<onsulto> [лат. — «по постановлению сената»)). Гальбе пришлось использовать военную силу, чтобы разбить Макра. Сообщается, что приближенные Нерона отправились к Макру в Африку и убеждали его противостоять Гальбе; это могло происходить как до, так и после смерти Нерона и решения сената признать Гальбу императором, которое было принято в июне. Но в Риме задолго до смерти Нерона наблюдался серьезный дефицит зерна, а это предполагает, что Макр восстал против власти Нерона и вскоре после того, как узнал о восстании Виндекса, запретил судам с зерном отплывать из Карфагена в Италию. Возможно, Макр рассчитывал, что с помощью продовольственной блокады ему удастся убедить сенат признать его, а не Гальбу, преемником Нерона2.
2 Монеты Макра см.: Sutherland 1987 (В 358): гл. 42; GCN 73, cp.: MW24.
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
303
Истолковать поведение Вергиния Руфа, легата, командовавшего армией на Верхнем Рейне, еще труднее. Надо полагать, что Виндекс связался с Руфом, как и с его коллегами. Когда Виндекс предлагал Гальбе поддержку Галлии, то утверждал, что может предоставить в его распоряжение 100 тыс. солдат; поскольку набор в провинции самого Виндекса дал лишь 20 тыс. человек, он должен был рассчитывать на то, что, по крайней мере, некоторые из рейнских легионов и их командиры поддержат его мятеж. С другой стороны, не исключено, что Руф сохранял верность Нерону. Тацит прямо сообщает, что рейнские легионы стояли за Нерона и Цезарей дольше всех остальных армий.
Руф собрал свои легионы и двинулся на юго-запад, через Франш-Кон- те, в центральную Галлию. Виндекс получил известия о передвижениях Руфа, когда безуспешно пытался покорить Лион, который оставался верен Нерону в благодарность за недавние милости. Виндекс прервал осаду, отправился навстречу Руфу и, вероятно, в конце мая, встретился с ним в Везонтионе. За этим последовало сражение, в котором новобранцы Виндекса были разбиты рейнскими легионами, превосходившими их в численности, вооружении и подготовке. Виндексу оставалось лишь покончить с собой. Вскоре после битвы (но, возможно, не сразу после нее) Руф был провозглашен императором; он отверг это предложение (или несколько подобных предложений). Через много лет эпитафия на его могиле гласила: «Здесь покоится Руф; когда прогнали Виндекса, | Власть он не взял себе: родине отдал ее» [Пер. М.Е. Сергеенко).
С 1950-х годов в историографии господствует согласие в вопросе о том, что битва при Везонтионе, как и сообщает Дион Кассий, произошла по ошибке. Виндекс и Руф участвовали в одном заговоре и, объединив силы, должны были вместе двинуться в Италию для поддержки Гальбы. К несчастью, когда новобранцы Виндекса, в большинстве своем галлы по происхождению, встретились с рейнскими легионерами, их взаимная неприязнь привела к неожиданной вспышке насилия, которую командиры не сумели подавить. Такое же неуправляемое насилие в римских войсках во время кампаний следующего года доказывает, что в этом нет ничего невозможного. Такая интерпретация предполагает, что рейнские легионы ненавидели галлов и их командир а-выскочку, но это не значит, что они были верны Нерону, — размявшись при Везонтионе, они предложили своему командиру посадить его на место Нерона.
Если Виндекс действительно был уверен, что Руф поддержит его и Гальбу, то непонятно, почему он отправился на север и встретил Руфа при Везонтионе, а не подождал его армию в Лионе или Виенне. Более вероятно, что Виндекс боялся, как бы Руф и рейнская армия не поддержали Нерона. Что касается Руфа, то вполне возможно, что он уничтожил Виндекса в интересах Нерона. Но вскоре после победы Руфа над Вин- Дексом в битве при Везонтионе в Галлию пришли известия, что Нерон пал духом и покончил с собой. Теперь Руфу было важно скрыть то обстоятельство, что он и его солдаты поддержали Нерона и уничтожили союз- ^псов Гальбы, и, возможно, лишь тогда рейнские легионы провозгласили
304
Часть I. Изложение событий
Руфа кандидатом в императоры — как альтернативу не Нерону, а Гальбе, который не отнесся бы с пониманием к тому, как они поступили с Вин- дексом. Понимания он и в самом деле не проявил3.
Руф, несомненно, действовал не заодно с Гальбой; позднее Гальба отозвал его из армии, чтобы предоставить ему «честь» сопровождать себя в путешествии в Рим. Как только Гальба получил известие о победе Руфа над Виндексом, он отступил на свою базу в Клунии, где, как сообщается, погрузился в мысли о самоубийстве. Позже утверждалось, что он опрометчиво решил, будто Руф его предал; но Гальба, скорее, мог опасаться, что рейнские легионы навяжут Риму собственного кандидата в императоры или что их победа вновь укрепит власть Нерона.
Как оказалось, победа Руфа при Везонтионе никак не повлияла на исход дела, ибо в начале июня Нерон пал духом и фактически забросил государственные дела. Точная хронология событий этого года известна недостаточно подробно, чтобы понять, успел ли он узнать о поражении Виндекса или о попытке рейнской армии провозгласить Руфа императором. Возможно, он сомневался в лояльности армии Турпилиана на севере Италии. Когда Нерон решил отплыть в Египет, то Нифмидий Сабин, командовавший преторианской гвардией во время продолжительной болезни Тигеллина, пообещал солдатам Турпилиана подарки — 30 тыс. сестерциев каждому, если они нарушат присягу Нерону, ибо император их уже покинул. Подтвердить, что Нерон больше не стоит у власти, и решить, кто же обладает ею, предстояло сенату. Девятого (или, возможно, одиннадцатого) июня сенат объявил Нерона врагом римского народа, признал Гальбу Цезарем, провозгласил его Августом и предоставил ему императорские полномочия. Нерон понял, что теперь может рассчитывать на поддержку лишь части своей прислуги (и, возможно, римского плебса), и покончил с собой; его последние слова «Какой великий артист погибает!» [Пер. МЛ Гаспарова) свидетельствуют о том, насколько сильнее он интересовался своим публичным образом, нежели государственным управлением. Ицел, вольноотпущенник Гальбы, был освобожден из-под стражи и всего за семь дней добрался до Клунии, чтобы сообщить новому императору о событиях в столице.
Каждый новый император из династии Юлиев—Клавдиев, утверждаясь на престоле, сталкивался с крупными, но довольно разными трудностями. Гальбу ожидали почти все эти трудности одновременно. Когда на престол вступал Тиберий, не имелось прецедента перехода власти от одного императора к другому; но Тиберий, Калигула и Нерон были законными наследниками своих предшественников. Связи Гальбы с династией
3 О том, сколь трудно дать оценку сообщениям источников о Везонтионе, см.: Brunt 1959 (С 334); Daly 1975 (С 342); Levick 1985 (С 370). Рассказ Диона Кассия см.: LXII(LXni).24. Эпитафия Руфа (Плиний Младший. Письма. VI. 10.4; ср.: П.1; см. выше, в основном тексте, перевод М.Е. Сергеенко: «Здесь покоится Руф...»):
Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam imperium adseruit non sibi sed patriae.
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
305
Юлиев—Клавдиев были столь слабы, что совершенно не позволяли ему рассчитывать на лояльность ее приверженцев. Он постарался как можно лучше использовать эти связи: в официальном документе из Египта он фигурирует как «Луций Ливий Гальба», а на его монетах изображена голова Ливии4. Но, как и Клавдий, Гальба был чужаком, вступившим во владение (possessio) домом Цезаря (domus Caesaris) после смерти предыдущего отца семейства (paterfamilias) и в отсутствие прямых наследников. Как и в 41 г. н. э., имелись и другие претенденты, заявлявшие о своих притязаниях, и следовало либо уничтожить их (как Клодия Макра в Африке), либо заручиться их поддержкой, по крайней мере, до тех пор, пока не удастся устранить исходившую от них опасность (как в случае с Верги- нием Руфом). Все эти группы Гальба должен был поставить в такую же зависимость от себя, в какой они находились по отношению к прежним Цезарям; не стоит удивляться, что в складывавшихся обстоятельствах он не добился успеха.
В силу самой природы принципата каждый новый император имел то естественное преимущество, что мог оказывать покровительство своим сторонникам и снимать с высоких постов людей, на лояльность которых не рассчитывал, чтобы заменить их другими ставленниками, которые тем самым оказывались в долгу у нового императора. Если Вергилий Руф не был признателен никому, то его преемник Гордеоний Флакк был обязан своей должностью Гальбе. В начале нового правления разные лица соперничали за милость человека, который привел с собой из Испании не слишком много сторонников. Так, хотя легионы на Нижнем Рейне, которыми командовал Фонтей Капитон, не участвовали в событиях при Везон- тионе, отдельные офицеры постарались продемонстрировать особую лояльность Гальбе. В Бонне командир легиона Фабий Валент (который называл себя сторонником Вергилия Руф а, а поэтому, возможно, противником Нерона) спешно принес присягу Гальбе. Позднее в этом же году он еще раз попытался продемонстрировать лояльность и казнил своего командира — Фонтея Капитона, на том основании, что тот участвовал в заговоре против Гальбы. Валент, должно быть, считал, что заслуживает награды за свои усилия — возможно, в форме командования рейнским войском. Гальба не наградил его, командующим же рейнской армией назначил в декабре Авла Вителлия. Поплатиться за неблагодарность Гальбы пришлось Огону.
Кроме Африки, подвластной Макру (которого вскоре, возможно, после войны на море, Гальба уничтожил), ни одна провинция не посмела отказаться признать нового императора. Но не все обладатели военной власти получили свои полномочия от Гальбы. Можно даже считать, что свои полномочия Гальба приобрел в результате решения Нимфидия Сабина, префекта преторианцев, отречься от Нерона. Именно Сабин фактически Управлял Римом. Он позволил той части городского плебса, которая счи¬
4 Гальба назван Ливием в эдикте Тиберия Юлия Александра, см.: MW 328 — AN 600 (см. выше, с. 291 наст. изд.). О монете с легендой «DIVA AVGVSTA» см.: MW 75.
306
Часть I. Изложение событий
тала себя пострадавшей от правления Нерона, расправиться с некоторыми вольноотпущенниками последнего. Кроме того, он освободил от должности больного Офония Тигеллина, своего колле1у по командованию преторианской гвардией, заявив, что за время правления Нерона Тигеллин особенно активно участвовал во всех дурных деяниях императора (и этот миф охотно поддержали все, кто многие годы верно служил Нерону). После устранения Тигеллина Сабин сосредоточил в своих руках всю власть и вскоре убедил себя, что его персона заслуживает чего-то большего, чем роль «создателя царей». Дабы обосновать свои попытки взять под контроль императорское домохозяйство, Сабин распускал слухи, будто он — незаконный сын Калигулы, вольноотпущенником которого был Сабинов дед.
Гальба настаивал на том, что, поскольку он принадлежит к республиканскому роду, история которого насчитывает несколько столетий, его власть берет начало в его собственном доме (domus), а не только в доме Цезарей. Вряд ли это могло понравиться императорским домочадцам. Подобно другим императорам, Гальба вынужден был полагаться на помощь доверенных вольноотпущенников, но его собственные вольноотпущенники (которым он предоставил привилегии всадников), Азиатик и Ицел, конечно, представляли угрозу для тех, кто ранее служил Юлиям- Клавдиям. Позднее Отон добился большого успеха, когда ему удалось представить себя как наследника Нерона во главе его дома (domus). Рассказывали, что Гальба задумал проявить щедрость и раздать народу небольшие суммы, подчеркивая при этом: деньги эти — из его частных средств, а не из казны Цезарей. Сперва он вообще отверг имя Цезарь; затем всё же принял его от делегации сената, встретившей его в Нарбоне на пути из Испании в Рим, однако сенаторы заметили, что угощение подают в фамильной столовой посуде Гальбы, а не в той, что принадлежала Цезарям и специально была ему выслана. Титу Винию пришлось объяснить Гальбе, что такой снобизм не придаст ему легитимности.
Прибытие нового Цезаря в Рим повлияло на распределение власти в городе; он привез с собой сторонников: Ицел и Азиатик должны были помогать ему в частных делах, а Тит Виний и Отон — в управлении. Эти люди должны были заменить не только старших управляющих дома Цезарей, но и государственных чиновников, назначенных Нероном, например, префекта города (praefectus urbi) Флавия Сабина. Слухи о том, что Гальба может назначить Корнелия Лакона, командира своей легионной гвардии, префектом преторианцев, означали, что Нимфидию Сабину придется либо согласиться на гораздо менее выдающуюся роль, чем роль «благодетеля сената и римского народа», которую он играл после смерти Нерона, либо захватить власть, прежде чем Гальба и его сторонники прибудут в Рим. Кроме того, Макр прекратил поставки зерна из Африки, и это подорвало популярность Гальбы в Риме. У нас недостаточно свидетельств, чтобы уверенно судить о том, действительно ли Нимфидий Сабин составил заговор или же его и его друзей оклеветали, а очернить их могли либо те, кто находился в Риме и желал подольститься к Гальбе,
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
307
либо те, кто сопровождал Гальбу и не желал терпеть потенциальных соперников. Сообщается, что однажды ночью в конце лета Сабин попытался войти в преторианский лагерь; один из трибунов, Антоний Гонорат, преградил ему путь и убил его. Утверждали, что в руках у Сабина была речь, сочиненная сенатором Цингонием Варроном, — обращение к войску за поддержкой.
Как бы ни оценивать угрозу со стороны Сабина, реакция Гальбы была жесткой. Он приказал казнить Варрона и воспользовался случаем, чтобы предать смерти других друзей Сабина и Нерона, таких как изгнанный царь Понта Митридат (сделавший несколько колких замечаний о внешности Гальбы). Петронию Турпилиану было приказано покончить с собой. Эти смерти не сулили ничего хорошего тем, кто надеялся, что одной из императорских добродетелей Гальбы станет милосердие (clementia). Когда Гальба со своей свитой приблизился к Риму, моряки, из которых Нерон в последние месяцы жизни образовал регулярный легион, обратились с просьбой о предоставлении им таких же привилегий, какими обладал новый УП легион, сопровождавший императора из Испании. Гальба отверг их просьбы; это вызвало беспорядки, в ходе которых несколько моряков расстались с жизнью.
Доброжелательное отношение, которое вначале вызывал к себе Гальба, быстро испарялось. Недовольство порождала не только скупость его режима. Он понимал, что в последние годы правления Нерон стал непопулярен, поскольку для платы за новые постройки и зрелища в столице вынужден был собирать средства в провинциях. Гальба решил урезать расходы. Он даже учредил комиссию из тридцати сенаторов и поручил ей попытаться вернуть деньги, которые Нерон подарил своим фаворитам. Нет нужды говорить, что, по их словам, им удалось возвратить лишь десятую часть выплаченного Нероном.
Другие особенности администрации Гальбы тоже делали его непопулярным. После смерти Нерона в Рим вернулись люди, которых тиран изгнал за последние несколько лет, и некоторые из них инициировали судебные процессы против своих обвинителей; особенно негодовал избранный претор Гельвидий Приск, который стремился развязать настоящую вендетту против всех, кто поддерживал Нерона. Когда Гальба прибыл, он ясно дал понять, что о прошлом лучше забыть. Как и ожидалось, он (или Ицел) распорядился казнить некоторых влиятельных вольноотпущенников дома Цезаря: Гелия, Поликлита, Петина и Патробия. С другой стороны, многие (включая Гельвидия Приска) плохо восприняли, что Виний, известный распутник, спас Тигеллина, поскольку положил глаз на его вдовую дочь. Складывается впечатление, что враждебные Винию разговоры не вызывали у Гальбы раздражения: Виний выступал главным советником Гальбы, и столь высокое положение, символом которого стало его назначение коллегой императора по консульству на 69 г. н. э., давало ему слишком много власти, что было небезопасно для самого Гальбы.
Некогда историки считали, что одно из главных преимуществ Гальбы как претендента на императорский трон состояло в отсутствии у него оче¬
308
Часть I. Изложение событий
видного наследника. Правда, у него был внучатый племянник Публий Долабелла, и личная охрана Цезаря, состоявшая из германских солдат, ожидала, что Долабелла станет его преемником. Это вызвало недовольство Гальбы: история прежних императоров показала, что когда наследование не вызывает сомнений, то люди, стремящиеся к преуспеванию, начинают служить не заходящему солнцу, а восходящему. Императору было выгодно иметь много потенциальных наследников, хотя это порождало нестабильность в империи (см. выше, гл. 4, сноска 4). И если в таких обстоятельствах Гальба считал, что усыновление преемника разрешит его трудности, это выглядит крайне странно. Еще удивительнее личность усыновленного: Луций Кальпурний Пизон Фруги Лициниан. Этот Пизон был самым младшим сыном консула 27 г. н. э., которого в 47 г. н. э. погубила Мессалина. Хотя при Нероне Пизон был изгнан как член семьи, которая считалась постоянной угрозой для Юлиев—Клавдиев, у него не было политических амбиций (неизвестно даже, был ли он сенатором). Гальба выбрал Пизона не потому, что нуждался в поддержке его родственников. Гальба утверждал, что делает этот выбор по чисто личным причинам: много лет назад, будучи частным лицом, он решил сделать Пизона своим наследником, а теперь, став Цезарем, не видел оснований менять свое решение в свете новых обстоятельств его жизни (на самом деле Пизон был братом Гнея Помпея Магна, который женился на Антонии, дочери Клавдия, и состоял в родстве с Юлиями через Скрибонию. — См. генеалогическую табл. Ш, с. 1111 наст. изд.). Но, если решение Гальбы определили личные мотивы, почему он пренебрег собственным племянником Долабеллой?
Усыновление такого неприметного наследника, как Пизон, может объясняться тем, что очевидный преемник уже имелся, и это был Отон. Отон ассоциировался с первыми — «хорошими» — годами правления Нерона; он был популярен среди преторианцев и пользовался значительной поддержкой в «доме Цезаря». Его влияние можно усмотреть в том, что на последние месяцы 68 г. н. э. Гальба назначил консулом-суффектом брата Поппеи — Сципиона Азиатского (или оставил в силе решение Нерона о назначении последнего). Отон пользовался поддержкой и Тита Виния. Оттон обещал жениться на дочери Виния, если тот убедит Гальбу его усыновить. Так что, если бы всё пошло так, как было задумано, Виний в конце концов должен был бы стать дедом сына и наследника Отона. В тот момент, когда Гальба официально признал бы Отона наследником, его собственная роль была бы сыграна.
II. 69—70-е годы н. э.
Наши сведения о происходившем в 69 г. н. э. гораздо богаче, чем о 68 г. до н. э., поскольку в «Истории» Тацита сохранилось описание событий этого «долгого» года. Конечно, рассказ Тацита имеет свои изъяны. Он основан на благоприятных для Флавиев источниках и написан ретроспек¬
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
309
тивно, с учетом проблем, актуальных в правление Нервы и Траяна. Ему также свойственна ограниченность античной историографии как литературного жанра, в частности, излишнее внимание к военным действиям. Конечно, в 69 г. н. э. римские армии сошлись в двух великих сражениях; но успех или неудача кандидатов на императорский престол зависели от их способности завоевать лояльность не только солдат, сражавшихся на севере Италии, но и гораздо более широких групп населения5.
Заменив Вергиния Руфа на Гордеония Флакка, Гальба устранил потенциального соперника в борьбе за императорскую власть, а Тит Ви- ний — личного врага; но им не удалось завоевать верность трех легионов армии Верхнего Рейна. Эти войска вызывали у Гальбы тревогу, о чем свидетельствует назначение одного из самых первых его сторонников, Це- цины Алиена, легатом двух легионов, расквартированных в Майнце. Не слишком удивительно, что 1 января 69 г. н. э. Гордеоний Флакк не смог убедить майнцские легионы принести ежегодную военную присягу Галь- бе; как и в предыдущем году, они присягнули на верность «римскому сенату и народу», тем самым вновь замаскировав измену императору. Такая непочтительность была чревата серьезной угрозой для Гальбы лишь в случае, если бы войска нашли альтернативного кандидата на император ский трон, более склонного пойти на риск гражданской войны, чем Руф. Флакк был пожилым и хромым человеком — императора из него не вышло бы.
Однако примерно месяцем ранее командиром армии Нижнего Рейна — вместо казненного Фонтея Капитона — был назначен Авл Вителлий. Вителлий родился 7 сентября 12 г. н. э., занимал ординарное консульство в 48 г. н. э. и был знаменитой фигурой: его отец входил в число виднейших сторонников Клавдия (см. выше, с. 278 насг. изд.), а сам он пользовался доверием Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Предложение выдвинуть Вителлия на должность императора исходило, по-видимому, от Цецины Алиена. Источники сообщают, что Вителлий с легкостью изменил Гальбе, поскольку боялся грозившего ему обвинения в злоупотреблениях, совершенных в должности наместника Бетики; такое обвинение было выгодно Винию и Отону, двум виднейшим сторонникам Гальбы, которые желали устранить с дороги соперника. Восстание было тщательно подготовлено, возможно, даже до назначения Вителлия. В тот же вечер известия о мятеже легионов в Майнце были доставлены Вителлию в Кёльн, предположительно через Бонн. Легатом легиона, расквартированного в Бонне, был Фабий Валент — тот самый человек, который подстроил казнь Капитона. Валент был разочарован тем, что Гальба недо¬
5 События 69 г. н. э. Тацит описывает в I—Ш книгах «Истории»: Heubner 1963—1982 (В 84); Wellesley 1972 (В 193); Chilver 1979 (В 27). Имеются также жизнеописания Гальбы и Отона у Плутарха, Светоний, ТХГТТ и LXIV книги Диона Кассия и краткий рассказ Иосифа Флавия (Иудейская война. IV. 10 сл.).
В хороших работах, написанных современными исследователями (Wellesley 1975 (С 412), Greenhalgh 1975 (С 351)), военным действиям уделяется больше внимания, чем анализу политических маневров.
310
Часть I. Изложение событий
статочно щедро наградил его за устранение Капитона. Он активнее всех убеждал Вителлин рискнуть и, несмотря на грозившие тому опасности — жена и дети Вителлин находились в Риме, не говоря уже о военных превратностях, — заявить притязания на императорскую власть. Хотя у Вителлин не было причин для недовольства Гальбой, он должен был сознавать, что скоро начнется правление Тита Виния и Огона (будущего Виние- ва зятя), от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Когда Ва- лент прибыл в резиденцию легата в Кёльне (остатки которой до сих пор можно видеть под современным зданием муниципалитета) и приветствовал Вителлин как своего императора, тот уже созрел для того, чтобы принять этот титул. Легионы, расквартированные ниже по реке, в Нойсе и Ксантене, в тот же день присоединились к Валету, а на следующий день присягу Вигеллию принесла и армия Верхнего Рейна в Майнце6.
Помпей Пропинкв, назначенный Гальбой прокуратором Галлии Бель- гики, немедленно сообщил правительству о том, что случилось в Майнце 1 января. Гальба вполне мог счесть, что армия, которой раньше командовал Вергиний Руф, враждебна не столько ему, сколько Винию и Огону; 1 января Гальба и Виний вступили в совместное консульство. Как сообщает Плутарх, многие ожидали, что в этот день Отон будет публично объявлен приемным сыном и наследником Гальбы. Даже если Гальба знал, как далеко зашли рейнские армии, уже провозгласившие другого императора, он всё еще мог надеяться на то, что лояльность этих войск удастся вернуть, если продемонстрировать реальность альтернативы Винию и Огону. Назначать своим наследником Публия Корнелия Долабеллу Гальба не стал только потому, что был слишком привязан к нему, чтобы противопоставлять его Огону. А вот Пизон не имел такого значения, и Гальба готов был подвергнуть его жизнь риску: 10 января он объявил о своем решении совету друзей (amicorum consilium), а затем представил Пизона преторианцам и сенату как Луция Сулышция Гальбу Цезаря.
Это усыновление демонстрировало не столько то, что новым императором станет Пизон, сколько то, что им не станет Отон. Последний резко активизировался, желая вернуть себе награду, которая уже была почти у него в руках. После того как Виний не вступился за Огона в императорском совете (consilium), тот больше не нуждался в его поддержке и, видимо, не поставил его в известность о своих планах. Гальба оттолкнул от себя «дом Цезаря», когда казнил вольноотпущенников Нерона и заменил их собственными; оттолкнул он от себя и некоторых преторианских трибунов, когда подавил заговор, приписанный Нимфидию Сабину, а также и рядовых — когда отказался выплатить подарки по 30 тыс. сестерциев на человека, которые в июне обещал им Сабин. (Такие подарки, строго говоря, до сих пор выплачивались по завещанию умершего императора, из его наследства, в награду за верность, и Гальба не обязан был платить эти деньги от имени Нерона; но оскорбительные слова о том, что «он набирает солдат, а не покупает их», не прибавили ему популярности.) Отону,
6 О провозглашении Вителлин императором см.: Munson 1979 (С 378).
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
311
возможно при поддержке Виния, не составило труда обзавестись сторонниками среди преторианцев, вигилов и городских когорт. В начале января Гальба был так напуган масштабами этой поддержки, что сместил несколько трибунов (которые со своими друзьями легко поддались на уговоры присоединиться к затее Огона).
В конце концов, Отон по совету своего астролога наметил переворот на 15 января. Он сопровождал Гальбу в храм Аполлона на Палатине — к месту жертвоприношения от имени государства; в подходящий момент Ономасг, вольноотпущенник Отона, обронил условную фразу: «Землемеры ждут тебя дома», и Отон незаметно покинул церемонию, отправившись туда, где двадцать три солдата гвардии провозгласили его императором. Когда эта маленькая группа сторонников прибыла в лагерь преторианцев, она не встретила противодействия со стороны офицеров. Сторонники Гальбы — в том числе Виний, который, видимо, не подозревал о планах Отона, — послали к другим войскам, размещенным в Риме, за военной помощью, но безрезультатно. Ложный слух о том, что Огон убит гвардией, верной Гальбе, побудил последнего покинуть дворец и отправиться на Капитолий, чтобы возблагодарить богов. Когда он в сопровождении свиты пересекал форум, стало ясно, что их надежды тщетны: на них напало несколько преторианцев — гораздо меньше, чем потом притязало на славу содеянного. Гальбу убил на форуме солдат одного из рейнских легионов; Пизон умер возле храма Весты, в котором искал убежища; Титу Винию отсекли голову — он так и не сумел убедить своего убийцу в том, что участвовал в заговоре Отона.
В тот же вечер сенат формально признал, что Отон контролирует императорское домохозяйство и империю. Отон стал первым императором, захватившим власть с помощью неприкрытого кровопролития (Клавдий казнил убийц своего предшественника). Кроме того, он скоро понял, что на Рейне у него имеется соперник. Отон обменялся письмами с узурпатором и предложил Вителлию занять место Виния в качестве его будущего тестя. К Вителлию была направлена делегация сенаторов, чтобы убедить его отказаться от притязаний, но скоро стало ясно, что тот не свободен в своих действиях и что рейнская армия не потерпит мирного урегулирования конфликта.
Тем не менее режим Отона пользовался поддержкой. На его сторону уже встали преторианцы и их офицеры. Несмотря на то, что ранее он считался вероятным преемником Гальбы, после прихода к власти он публично дистанцировался от непопулярного императора и подчеркивал свои связи с Нероном: Ицел, вольноотпущенник Гальбы, и Корнелий Ла- кон, которого тот поставил во главе преторианской гвардии, были казнены. Статуи Нерона и Поппеи были восстановлены, а городской плебс провозгласил императора «Нероном Отоном». Вина за все дурные события последних лет правления Нерона (когда Отон находился в Испании) была возложена на несчастного Тигеллина, которого Отон теперь казнил. Убийство Виния стало удачей: во-первых, ему можно было приписать все непопулярные решения, принятые Гальбой, а во-вторых, Отон освободил¬
312
Часть I. Изложение событий
ся от обещания жениться на дочери Виния. Вместо этого он намеревался подкрепить свои притязания на место законного отца семейства (paterfamilias) императорского домохозяйства с помощью женитьбы на вдове Нерона Статилии Мессалине. Представляя себя преемником Нерона и подражая его щедрости, Отон добился поддержки городского населения; он также сделал всё возможное, чтобы приобрести сторонников в сенате: не только приглашал сенаторов на обеды во дворец (что однажды причинило им большие неудобства, когда преторианцы заподозрили их в заговоре против императора), но и назначил несколько дополнительных консулов-суффектов, в том числе Вергиния Руфа. Гальба сделал Мария Цельса консулом-суффектом на вторую половину года, и Отон подтвердил это назначение. 26 января сам Отон вместе со своим старшим братом Луцием был формально избран консулом. Флавий Сабин, старший брат Веспасиана, был вновь назначен на должность префекта города, которую занимал при Нероне.
Подобно другим императорам, Отон старался в полной мере использовать в своих интересах известия о военных успехах. Февральская победа Марка Апония Сатурнина, легата Мёзии, отразившего набег сарматов, не только принесла Отону некоторую военную славу, которой ему до сих пор недоставало, но и позволила ему привязать к себе и наместника, и легата одного из его легионов — Аврелия Фульва (деда императора Антонина Пия), которым он предоставил военные почести. Луций Тампий Флавиан, наместник Паннонии, получил другую награду — место Гальбы в коллегии арвальских братьев; он был родственником Вителлия, но, несмотря на это, хранил верность Отону. Так или иначе, большинство наместников провинций без колебаний признали убийцу Гальбы императором. Даже Клувий Руф, наместник Тарраконской Испании, поначалу признал Отона. Такое же решение приняли и восточные армии: в сирийской Антиохии чеканились монеты с портретом и титулом Отона. Золотые монеты, выпущенные от его имени, провозглашали «мир во всём мире»; этот лозунг был, пожалуй, чересчур оптимистичным, однако не абсурдным7. Только германские и британские легионы отказались принести присягу. (Положение дел в Британии было запутанным: наместник Требеллий Максим, видимо, утратил контроль над событиями и бежал к Вителлию; но и изгнавшие его легаты легионов тоже предоставили Вителлин) вексилляции7а (численностью в 8 тыс. человек).)
Переворот Отона не повлиял на планы Вителлия, Валента и Цецины. Их восстание было направлено не только против самого Гальбы, но и против его приближенных. Чтобы Вителлий стал законным императором — а он не притязал на титул Август, пока не получил одобрения сената и народа, — требовалось устранить тех, кто правил Римом в настоящее время, и рейнские легионы могли это сделать. Историческое повествование о
7 Монетные выпуски Отона: «PAX ORBIS TERRARVM», MW 32; о признании Отона в Антиохии см.: MW 77. О Сабине см.: Wallace 1987 (С 407).
7а Вексилляции — особые воинские отряды, выделявшиеся из состава легионов для выполнения конкретных заданий. — О. А
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
313
событиях 69 г. н. э. создает впечатление, что именно поддержка войск придавала легитимность претенденту на императорскую власть; но к этому дело не сводилось. Последовавшее затем поражение Отона свидетельствует, что император должен был контролировать свои войска; но падение Вителлия доказывает, что одной военной силы было недостаточно для того, чтобы удерживать империю. Пока Цецина и Валент готовились к походу на Италию с большей частью войск Верхнего и Нижнего Рейна, Вителлий оказался совершенно неспособен завоевать поддержку за пределами западных провинций. В частности, почти нет свидетельств того, что его признал кто-то из зависимых царей, вольноотпущенников и прокураторов «дома Цезаря».
Вероятно, две рейнские армии, двинувшиеся на Италию, едва на альпийских перевалах растаял снег (Цецина — через Швейцарию и Большой Сен-Бернар, Валент — через центральную Галлию и Монженевр), еще не знали о приходе Отона к власти. Античные историки, следуя за флавиан- скими источниками, очень красочно рассказывают о разорении, которое учинили эти две армии на своем пути. Расквартированный в Виндониссе XXI легион, выстроившись в правильный боевой порядок, сразился в январе с общиной (civitas) гельветов, которые, видимо, задержали одного из вестников Вителлия, направлявшегося на Дунай, чтобы добиваться поддержки Луция Тампия Флавиана. Гельветы сдались Цецине, когда в начале февраля тот прибыл к их столице Авентику. Рассказ Тацита о продвижении армии Валента через Галлию тоже окрашен антивителлиан- ской пропагандой, и в нем подчеркивается насилие солдат в отношении галльского населения (особенно разрушение Виенны за поддержку Вин- декса) и друг против друга. Если верить источникам, то, когда в марте Вителлий во главе третьей армии покинул рейнские земли, он всю дорогу не занимался ничем, кроме пиров.
Отон действовал без промедления и, насколько можно судить, разумно. У него не было причин опасаться, что вражеская армия перейдет Альпы раньше марта — апреля (Отон не мог предвидеть необычайно раннюю весну). В этом случае он успел бы разместить верные ему балканские легионы в северной Италии задолго до прибытия основных сил Вителлия, пока эта территория еще оставалась под контролем правительства. В зимнее время единственным слабым местом на северо-западной границе Италии была Домициева дорога, проходившая по побережью между Лигурийскими Альпами и морем. Несколько отрядов под командованием офицеров, поддержавших переворот Отона (но ссорившихся между собой), прибыли на этот участок в начале февраля. Правительство обладало господством на море; когда Децим Пикарий, наместник Корсики, слишком поспешно перешел на сторону Вителлия, он вскоре был убит. Легат Приморских Альп Марий Матур тоже присоединился к Вителлин) слишком рано: армия Валента еще не успела подойти достаточно близко и не смогла защитить провинцию Матура от войск Отона (последние предались грабежам, и среди их жертв оказалась мать Агриколы). Валент направил на юг конницу (в том числе отряд треверов под коман¬
314
Часть I. Изложение событий
дованием Юлия Классика, впоследствии возглавившего восстание), но ей не удалось вытеснить войска Отона.
Победа солдат Отона в Лигурии предотвратила стремительный бросок конницы Валента на Рим вдоль побережья Этрурии. Однако Отон не мог предвидеть, что Цецина воспользуется ранним потеплением, чтобы пересечь Большой Сен-Бернар примерно с 18 тыс. солдат и к началу марта обосноваться в северо-западной Италии. Цецина дошел до самой Кремоны, не встретив ощутимого сопротивления.
После того как Отон — до прибытия верных легионов с Дуная — позволил мятежной армии вителлианцев вступить в Италию, он мог считаться проигравшим. Однако офицеры, которых он направил для защиты северной Италии, сумели нанести Цецине несколько поражений. Три преторианские когорты, базировавшиеся в Вероне под командованием Анния Галла, а также набранный Нероном I Вспомогательный легион и две преторианские когорты, размещенные в Плаценции под началом Вестриция Спуринны, оттеснили Цецину к Кремоне. 14 марта сам Отон выехал из Рима со всеми доступными ему силами; сопровождали его и все сенаторы, которым он не мог доверять; на время кампании они были размещены в Мутине (совр. Модена), где императору удобно было наблюдать за ними. Его войско, состоявшее, вероятно, из 15 тыс. человек, всё еще уступало в численности армии Цецины. В начале апреля, узнав, что Италии достигло и войско Валента, Цецина решил попытаться покончить с Огоном, прежде чем его коллега и соперник сможет вмешаться и разделить с ним славу. Попытка заманить императорскую армию под командованием Светония Паулина и Мария Цельса в засаду у места под названием У Касторов (примерно в двенадцати римских милях от Кремоны на Постумиевой дороге) закончилась еще одним поражением Цецины.
К моменту прибытия Валента в Кремону превосходство сил Вигеллия на какое-то время стало выглядеть непреодолимым. Но Отон уже начал получать подкрепления, вызванные из Паннонии. Для подхода мёзий- ских легионов в полном составе требовался еще месяц; меж тем основные силы одного из паннонских легионов (ХП) соединились с войсками Отона уже через несколько дней после сражения У Касторов, а в Италию переправились еще два легиона (VII Гальбанский и XIV). С чисто военной точки зрения, Отон был заинтересован в том, чтобы оттянуть битву на пару недель; и сообщается, что именно с такими рекомендациями выступили на императорском совете (consilium) Светоний Паулин, Марий Цельс и Анний Галл. Но окончательное решение оставалось за императором, и он принял его, руководствуясь не только военными, но и политическими соображениями. Вителлианцы благодаря численному превосходству имели возможность переправить часть своих войск через По и двинуться на столицу, а у Отона никаких войск между Апеннинами и Римом не было. Надо было преградить дорогу на юг всем сторонникам Ви- теллия, и для этого существовал лишь один способ — дать сражение немедленно.
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
315
Битва, известная как первая битва при Кремоне (или при Бедриаке), состоялась 14 апреля. На стороне войска Отона был фактор неожиданности, и поначалу оно действовало вполне успешно, но сказалось утомление от 20-километрового перехода к месту сражения, да и местность, изобиловавшая виноградниками и ручьями, не благоприятствовала нападавшим. На исходе битвы сказался более богатый боевой опыт вителлиан- цев, а также их численное превосходство. Войска Отона, разумеется, считали, будто их предали некоторые офицеры или даже большинство командиров. Светоний Паулин немедленно бежал, чтобы просить прощения у Вителлия в Лионе. На следующий день после сражения Марий Цельс, Сальвий Тициан и другие офицеры капитулировали вместе со своими войсками.
Отон ждал исхода битвы в Брикселле (на южном берегу реки По), в 20 км от поля сражения. Он пока имел возможность несколько дней сдерживать армию вителлианцев в надежде, что ему на подмогу прибудут еще два паннонских легиона. Это было маловероятно, ибо их сослуживцы из XII легиона потерпели поражение вместе с остальной армией. Императору пришлось признать, что война окончена. Он отдал распоряжения, которые в античности ожидались от хорошего монарха, чтобы оградить своих сторонников от мести Вителлия, сказал несколько теплых слов своему племяннику Сальвию Кокцеяну (для которого родство с Ото- ном не имело гибельных последствий, пока к власти не пришел Домициан) и утром 16 апреля покончил с собой. Отон не мог предвидеть, что его смерть лишь на несколько месяцев отсрочит новое ужасное кровопролитие в Риме; и тогда, и позднее его самоубийству отдавали дань восхищения, расценивая его как отважный поступок.
По окончании битвы Цецина и Валент вернулись к Вителлию в Лион. Там узурпатор принял несколько офицеров Отона и даровал им прощение; затем он узнал о том, что 19 апреля сенат предоставил ему императорскую власть. Вителлий принял империй, но не считал себя Цезарем и некоторое время даже отказывался от титула Август. В середине мая в Павии его встретила делегация сената. Некоторое время Вителлий провел на севере Италии: он побывал на поле битвы при Кремоне и посетил гладиаторские игры (в честь установления нового порядка), устроенные Цециной в Кремоне, а Валентом — в Болонье. В июне Вителлий и его многочисленная армия (вероятно, 60 тыс. солдат) вступили в Рим, причинив горожанам огромные неудобства.
Хотя войска Вителлия одержали победу, а сенат формально признал его, он занимал более шаткое положение, нежели любой из предыдущих императоров в момент прихода к власти. Вителлий позаботился о том, чтобы легионы, оставшиеся верными правительству Отона, оказались как Можно дальше друг от друга: XIV легион возвратился в Британию, I Вспомогательный легион Нерона был отправлен в Испанию, УП, XI и ХЦ легионы вернулись в Паннонию, Далмацию и Мёзию, а ХШ легион °стался в северной Италии и получил унизительный приказ строить ам¬
316
Часть I. Изложение событий
фитеатры для зрелищ Валента и Цецины. Эти легионы не примирились с узурпатором и готовы были поддержать любого кандидата, который выступит против Вителлин. Светоний сообщает, что слышал (вероятно, от отца, участвовавшего в этих событиях), будто некоторые солдаты УП Клавдиева легиона уже тогда выступали за Веспасиана. Более вероятным кандидатом мог стать Корнелий Долабелла, племянник Гальбы, который после смерти Отона неосторожно вернулся в Рим и тщетно попытался объединить вокруг себя противников Вителлин. Флавий Сабин, префект города и брат Веспасиана, арестовал и казнил его.
Монеты Вителлин свидетельствуют о том, что он осознавал глубокий раскол в войсках между своими сторонниками и противниками. Испанский асе прославляет «Единство армий» (во множественном числе). Легенда денария, который, возможно, был отчеканен для рейнских армий до того, как Вителлин признал сенат, гласит, что и армии (на аверсе), и преторианцы (на реверсе) хранят верность; на обеих сторонах изображены две ладони в церемониальном дружеском рукопожатии. Преторианцы остались верны своему императору Отону, и Вителлий счел за лучшее распустить многих из них (те, кто получил земельные наделы в Приморских Альпах и возле Аквилеи, уже осенью присоединились к флавианцам) и заменить солдатами рейнских легионов. Он пытался создать впечатление, будто его поддерживают другие армии. В пропагандистских целях использовались, например, монеты, прославлявшие покорение Иудеи Веспасианом.
Вителлию не только не удалось примирить с собой враждебные ему войска, но и в других кругах он не смог снискать популярность. Монеты, пропагандирующие усилия императора по обеспечению поставок зерна, свидетельствуют о том, что он прекрасно понимал, насколько важно заручиться поддержкой плебса. На следующий день по прибытии в Рим он, подчинившись требованиям народа, принял титул Август (на ранних монетах Вителлий назван Германиком с преноменом Император). Принял он и титул «пожизненный консул», отвергнутый Нероном. Но Вителлий не смог или не пожелал признать, сколь важно возглавить «дом Цезаря» и до самых последних дней своего правления не желал называть себя Цезарем. Вместо этого он подчеркивал, что наследование в новой династии надежно гарантировано, ибо у него есть сын и дочь. Его дети изображены на золотых монетах, отчеканенных в Риме; дочь была обручена с Децимом Валерием Азиатиком, который в должности легата Галлии Бельгики стал одним из первых сторонников Вителлия. Будучи всего лишь преторием, он приходился сыном тому Азиатку, который в 41 г. рассматривался как кандидат в императоры, а в 47 г. н. э. был вынужден покончить с собой из-за враждебного отношения к нему Мессалины. Союз Вителлия с Азиатиком, вероятно, представлял собой попытку одновременно и примириться с теми галльскими общинами, которые поддержали Виндекса (в том числе с Виенной, родиной (origo) Азиатка), и получить поддержку семей, которые были связаны с отцом Вителлия в начале правления Клавдия. На других ауреях, отчеканенных Вителлием в Риме,
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
317
изображен цензор713. Еще один союзник отца Вителлин — Флавий Сабин, старший брат Веспасиана, занимавший ок. 45 г. н. э. должность консула- суффекта, — сохранил за собой должность префекта города, которую ему вернул Отон. Сын Сабина получил консульство. Но ни Азиатик, ни Сабин не смогли оказать Вителлию особой помощи, когда военачальники, назначенные в правление Нерона, выдвинули в императоры его соперника. Даже мать Вителлин скептически оценивала его шансы на основание новой династии — передают ее слова о том, что рожденного ею сына зовут Авл, а не Германии* 8.
Самым могущественным из провинциальных военачальников был Гай Лициний Муциан, легат Сирии. Муциан предпочитал литературную деятельность военной службе и не собирался выдвигать собственную кандидатуру. У нас недостаточно сведений о его семье, чтобы понять, насколько он был знатен, но его собственные карьерные достижения (в 57 г. н. э. он был наместником Ликии и Памфилии, в конце правления Нерона — консулом) давали ему достаточный авторитет, чтобы рекомендовать кого- то римским правящим кругам. А те командиры, продвижению которых ранее способствовал Корбулон, казненный в бб г. н. э., теперь ожидали, что Муциан защитит их интересы в условиях, когда Вигеллий быстро повышал их коллег из рейнских легионов. Веспасиан, как и Муциан, верно служил Нерону в последние годы его правления; он имел большой военный опыт и заслуженные награды; кроме того, у него было два взрослых сына, а значит, наследование было гарантировано. Оба легата вместе командовали шестью легионами, и этого было вполне достаточно, чтобы бросить вызов мятежным рейнским армиям. Несмотря на первоначальные разногласия, которых вполне можно было ожидать, когда весной 67 г. н. э. Нерон отдал Муциану Сирию, а Веспасиану — сирийскую армию, Муциан решил встать на сторону Веспасиана.
Тит, сын Веспасиана, немало содействовал тому, что его отец получил поддержку Муциана. В конце 68 г. н. э. Тит отправился из Палестины в Рим, чтобы добиваться квестуры; Гальба был командиром его отца в Страсбурге в 41—43 гг. н. э., когда Тит был еще ребенком, и Тит был уверен, что император окажет ему покровительство. Но, когда сын Веспасиана добрался до Коринфа, он узнал об убийстве Гальбы и провозглаше¬
7Ь Имеется в виду отец Вителлин, который в 47—48 гг. н. э. был коллегой императора Клавдия в должности цензора. — О. Л
8 Монетные выпуски Вителлин: «IMP. GERMANICVS», Sutherland 1987 (В 358): гл. 47-49; «CONSENSVS EXERCITVVM S.C»; «FIDES EXERCITVVM»; «PRAETO- RIANORVM»; «ANNONA AVG. S.C», MW 36-39; «LIBERI IMP. GERM. AVG.», MW 80; «L. VnELLIVS COS Ш CENSOR», MW 82 (можно отметить, что Иосиф Флавий делает вид, будто ничего не знает о детях Вителлин, см.: Иудейская война. IV. 10.3 (596)). О должности пожизненного консула (consul perpetuus) см.: ILS 242 = MW 81.
(Авл — личное имя (преномен), полученное Вителлием при рождении, Герм аник — почетный титул, который он принял, когда солдаты провозгласили его императором. Сек- сгилия, мать Вителлин, хотела сказать, что ее сын претендует на чересчур высокое положение в государстве, не имея на то права. Согласно Тациту [История. П.64), она сказала, «нто рожала не Германика, а Вителлин».— О.Л)
318
Часть I. Изложение событий
нии императором Вителлия и решил вернуться в Палестину. На всем пути оракулы и знамения укрепляли его убеждение, что следует выступить против Вителлия. Получив известия о поражении Отона, Муциан и Веспасиан не испытывали ни малейших сомнений, что пришло время восстановить законную власть. О своих намерениях они известили наместников, императорских прокураторов и легатов легионов по всей империи и получили поддержку зависимых царей в Восточном Средиземноморье. Проведя в июне того же года в Палестине незначительные военные операции против иудейских повстанцев, Веспасиан взял под контроль почти всю территорию провинции, кроме Иерусалима и еще трех крепостей; большая часть армии Иудеи освободилась для переброски на другой театр боевых действий.
К тому времени, как Веспасиана публично провозгласили императором, дунайские армии уже отреклись от Вителлия. Неясно, каким образом удалось привлечь их на сторону Веспасиана, а не более легитимного преемника Гальбы. Свою роль сыграла личная вражда командиров: в войске Мёзии рухнула дисциплина, когда наместник Марк Апоний Сатурнин, обвинив легата VII Клавдиева легиона в измене, попытался его убить. Другой мёзийский легион, Ш Галльский, недавно был переведен в Мёзию из Сирии. Узнав, что остальные сирийские легионы поддержали Веспасиана, он немедленно высказался в пользу его кандидатуры. Легат этого легиона, Тит Аврелий Фульв из Нима, высоко поднялся на службе у Веспасиана. В дальнейшем, около 70 г. н. э., он был почтен первым консульством, затем, в 85 г. н. э., вместе с Домицианом вновь стал консулом, а его внук Антонин Пий получил императорскую власть. Напротив, Антоний Прим, продолжавший командовать VII Гальбанским легионом и сохранивший верность памяти Гальбы и Отона, наград не удостоился. Его легион объявил о поддержке флавианцев, как и другой паннонский легион — XIII, который вынужден был помогать при строительстве театров для проведения победных игр Цецины и Валента в Кремоне и Болонье. Данные легионы сделали это лишь для того, чтобы возобновить вражду с Вителлием. Они обвинили Марка Тампия Флавиана, наместника Панно- нии, в лояльности Вителлию — Флавиан приходился ему дальним родственником, но, как мы видели, почести получил от Отона. Сперва Флавиан оставил свою должность, но затем по просьбе прокуратора Корнелия Фуска вернулся. Фуска назначил на эту должность Гальба, и тому было уготовано стать еще одним влиятельным сторонником новой династии9.
В итоге первым должностным лицом, официально провозгласившим Веспасиана императором, стал префект Египта, Тиберий Юлий Александр. Он был сыном Александра Алабарха9а, прокуратора Антонии
9 О сторонниках Веспасиана см.: Townend 1961 (С 404); Nicols 1978 (С 381); Gailivan 1981 (С 347); Jones 1984 (С 360); Wallace 1987 (С 407). См. также сноску 10 насг. гл.
9а Алабарх — таможенный чиновник в порту Александрии. В какой-то период Александр занимал эту должность, и Иосиф Флавий несколько раз использует ее название для идентификации этого человека [Иудейские древности. ХУШ.б.З, 8.1; XIX.5.1; ХХ.5.2). — О.Л
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
319
Младшей, и племянником иудейского философа Филона, а его покойный брат был зятем царя Юлия Агриппы I (последнего обычно, хоть и ошибочно, называют Иродом Агриппой). Неудивительно, что с самого начала правления Клавдия Александр сделал хорошую карьеру: в 46-48 гг. н. э. он занимал должность наместника-прокуратора Иудеи. После нескольких лет в тени, которые, вероятно, объясняются влиянием Агриппины (Веспасиан тоже был тогда в немилости), Александр благодаря своему опыту и связям во всем Восточном Средиземноморье получил в 63 г. н. э. должность офицера в штабе Корбулона (вероятно, став префектом лагеря (praefectus castrorum), отвечавшим за продовольственное снабжение). В 66 г. н. э. его назначили префектом Египта. Префект Египта был единственным в Римской империи наместником провинции, за которым не следовал по пятам императорский прокуратор, поэтому ему было легче объявить о поддержке нового императора. Провозглашение Веспасиана императором состоялось в Александрии 1 июля (через два дня армия самого Веспасиана совершила то же самое в Кесарии) и было встречено с энтузиазмом; город Александрия обладал лишь ограниченными правами местного самоуправления, и, вероятно, его жители надеялись, что за поддержку успешного претендента их вознаградят привилегиями, достойными второго по величине города в Средиземноморье. Веспасиан обманул эти ожидания — он не желал выглядеть обязанным греческому Востоку10.
В середине июля Веспасиан и Муциан провели совещание в Берите (совр. Бейрут), чтобы составить план кампании. Присутствовали также Агриппа и представители других восточных клиентов Юлиев—Клавдиев, например, Антиоха Коммагенского. Сельская местность в Иудее была подчинена Веспасианом; славу покорителя Иерусалима, центра восстания, вполне можно было оставить Титу, которому помогал Александр в должности префекта лагеря (praefectus castrorum). Титу требовался опытный советник, а возможно, это был политический шаг, предназначенный для того, чтобы Александр не стал слишком популярен в своем родном городе (т. е. в Александрии. — О.Л). Муциан должен был отправиться на Балканы с одним полным легионом и вексилляциями из семи других легионов общей численностью в тринадцать тысяч солдат. Для переправы через Боспор были собраны корабли, а ход последующих событий наводит на мысль, что флавианцы связались с префектами обоих италийских флотов, рассчитывая на их поддержку при переправе войска Муциана из Диррахия в Брундизий. Независимо от того, планировалось ли вторжение в Италию с юга или с севера (или с обоих направлений), Веспасиан, судя по всему, рассчитывал на то, что масштабные операции в Италии начнутся не раньше весны следующего года. За это время необходимо было продемонстрировать Вителлию и его сторонникам, что никто не может быть императором, опираясь только на рейнские легионы. Были прекра¬
10 О Тиберии Юлии Александре см.: Turner 1954 (С 405); Вшт 1955 (С 336); Sullivan 1985 (Е 1224): 300—305. О провозглашении Веспасиана в Александрии см.: MW 41 = СР/П: 418а. О Муциане см.: Syme 1977 (С 399).
320
Часть I. Изложение событий
щены поставки зерна из Египта, от которых зависел Рим. Сам Веспасиан ожидал исхода событий в Александрии.
Трудно сказать, что за план был разработан в Берите, поскольку, когда через два месяца Муциан достиг Балкан, он обнаружил, что дунайские легионы уже начали собственную войну против Вителлин под командованием Антония Прима. Ради этого они оставили дунайскую границу почти без защиты от постоянного давления сарматов, и Муциан вынужден был двинуть свою армию на север, чтобы отразить опасное вторжение варваров. Оставив войско в провинции, он поспешил вслед за дунайскими легионами и в декабре достиг Италии. Его спешка означает, что наступление Прима на Италию не вписывалось в планы, составленные в Берите. Тацит сообщает, что Прим оставил без внимания письменный приказ Веспасиана оставаться в Аквилее. Веспасиан и Муциан не испытывали особых восторгов от побед Прима, и тому пришлось провести остаток дней на покое в своем родном городе Толозе. Прибыв в северную Италию, Прим продемонстрировал, кому принадлежит его лояльность: в Падуе он призвал восстановить бюсты Гальбы. Примечательно также, что с его войском не удается соотнести ни одной монеты, легенда которой прославляла бы Веспасиана; теория, согласно которой серия монет с портретом Гальбы и титулом «Отец Отечества» («Р<ater> Р<atnae>») была выпущена посмертно, возможно, в Лионе, вызвала серьезные возражения; но если эти монеты действительно чеканились после смерти Гальбы, то было бы заманчиво связать их с выплатой жалованья солдатам Прима11.
С точки зрения Вителлия, непосредственным следствием действий Прима стало то, что Италия оказалась отрезана от всех новых пополнений из британских и рейнских армий. Кроме того, некоторым из сторонников Вителлия стало ясно, что теперь не осталось шансов на его признание законным императором. Цецина и Валент заняли в сентябре должности консулов-суффектов, которые стали их наградой за победу. В ответ на вторжение Прима Цецина повел армию на север (в Риме остались преторианцы и лучшие солдаты из рейнского войска, а также заболевший Валент). Он разместил ее в Болонье, а затем отправился в Равенну, чтобы обсудить с Секстом Цецилием Бассом, префектом Адриатического флота, пути разрешения кризиса и избежания кровопролития. (Басс разочаровался в Вителлин, поскольку надеялся получить должность префекта претория.) К этому времени Басс уже вошел в контакт с Гормом, императорским вольноотпущенником, работавшим на Веспасиана.
Если командиры и чиновники пытались избежать кровопролития, то войска-то стремились к нему. Легионы Прима, расквартированные в Вероне, восстали против наместников провинций, и Тампий Флавиан и Апо- ний Сатурнин были изгнаны из лагеря. Тем временем в Болонье Цецина попытался убрать портреты Вителлия, но убедить свои легионы признать императором Веспасиана не сумел. Он бежал к Бассу, который без труда перевел своих моряков на сторону флавианцев. Два легионных трибуна,
О так называемых «посмертных» монетах Гальбы см.: Кгаау 1956 (В 332).
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
321
фабий Фабулл и Кассий Лонг, приняли командование армией Вителлин до прибытия Валента.
Прим понял, что должен навязать противнику сражение немедленно, пока Валент не укрепил боевой дух вителлианцев. Прим двинулся на Кремону, всецело преданный Вителлию город, и вителлианцы вынуждены были попытаться его опередить. Битва началась к востоку от города вечером 24 октября и не стихала всю ночь; античные источники, как и следовало ожидать, во всех красках живописуют ужасы этой «второй битвы при Кремоне». Сообщается, что погибло 50 тыс. человек, и страшнее самой битвы стало последовавшее за ней разрушение Кремоны победившими флавианцами; ХШ легион, желая отомстить за оскорбление, нанесенное после первой битвы, когда солдат заставили строить амфитеатр для игр Валента, поджег город; огонь полыхал четыре дня.
Измена Цецины показала, что Вителлий не может больше доверять некоторым из собственных офицеров. Ему пришлось сменить префекта преторианцев, Публилия Сабина, а затем почти вся оставшаяся у Вител- лия армия — четырнадцать когорт преторианцев — двинулась на север по Фламиниевой дороге на помощь Валенту, оставшемуся без армии. Тем временем Корнелий Фуск занял для флавианцев Римини; армия Вител- лия отступила, заняв позиции при Нарнии, примерно в 100 км к северу от Рима. Валент лично отправился через северную Италию в Нарбонскую Галлию, рассчитывая набрать новую армию на Рейне; но прокуратор Валерий Паулин (который, подобно многим известным нам императорским прокураторам, сразу же поддержал притязания Веспасиана на верховную власть) арестовал его и отправил к Приму; тот приказал казнить пленника.
В конце ноября один из центурионов Мизенского флота содействовал переходу флота на сторону Веспасиана. Но на этом фронте Вителлию удалось добиться некоторого успеха: он отправил в Кампанию своего брата Луция с несколькими преторианскими когортами, и 18 декабря, во время Сатурналий, войскам Луция удалось отбить у моряков Террацину. Но эту победу Луций одержал слишком поздно, чтобы спасти своего брата: за один или два дня до нее когорты Вителлия, размещенные в Нарнии, сдались Приму.
Неспособность Вителлия быстро покончить с гражданской войной после второй битвы при Кремоне сравнивали не в его пользу с самоубийством Огона после первой битвы. Нерешительность Вителлия может объясняться неопределенностью в вопросе о том, в какой мере Прим и его армия на самом деле поддерживали Веспасиана. На протяжении осени брат Веспасиана, префект города Флавий Сабин, готов был играть роль посредника; Вителлий, видимо, гарантировал ему жизнь и предоставил возможность удалиться в Кампанию. Но Сабин тоже не знал, подчинится ли Прим его власти (Домициан, двадцатилетний сын Веспасиана, не решился выехать из Рима вместе с посланниками Прима). Только когда сам Муциан прибыл в северную Италию, Сабин и Вителлий получили возможность действовать публично. Но солдаты рейнских легионов, кото¬
322
Часть I. Изложение событий
рых Вителлий повысил до преторианцев, слишком много потеряли бы в случае его отречения. Когда 18 декабря на форуме была созвана официальная сходка (contio) для объявления о сложении Вителлием империя, собравшиеся разразились криками протеста. Попытка Вителлия в знак отказа от императорской власти передать кинжал консулу Цецилию Симплексу была отвергнута. Вителлию пришлось вернуться во дворец, а Сабин (командовавший в качестве префекта города городскими когортами) и Домициан удалились на Капитолий, полагая, что там-то они будут в безопасности, пока Вителлий не восстановит контроль над своими сторонниками.
Пока шли эти переговоры, Прим не спешил прийти на помощь родственникам Веспасиана в Риме. Один отряд конницы действовал самостоятельно под командованием Петиллия Цериала, близкого родственника Веспасиана; прежде он почти наверняка был женат на Домицилле, умершей к тому времени дочери Веспасиана. Попытка Цериала прорвать оборону Вителлия в северном предместье Рима была отражена, и в отместку солдаты Вителлия обратились против Сабина. Видимо, в целях защиты некоторые из флавианцев подожгли здания на склоне Капитолия; огонь распространился и охватил главный храм Рима. Несколько флавианцев погибло. Сам Сабин был взят в плен и приведен к Вителлию, попытки которого сохранить пленнику жизнь оказались тщетными. Домициан бежал в одежде жреца Исиды вместе со своим двоюродным братом Титом Флавием Клементом, сыном Сабина (в 95 г. н. э. Клемент стал коллегой Домициана по консульству)12.
Когда Антоний Прим узнал о том, что Цериалу не удалось войти в Рим, а Капитолий разрушен, он больше не мог сдерживать свою армию. Возможно, он также рассчитывал на то, что после смерти Сабина сможет представить сенату собственного кандидата. Тацит намекает, что в первые дни или недели оккупации Рима Прим безуспешно пытался уговорить Лициния Красса Скрибониана стать марионеточным императором. Красе был братом Пизона, усыновленного Гальбой, и Гнея Помпея Магна, мужа Антонии, дочери Клавдия, так что был теснее связан с домом Цезаря, чем Веспасиан. Прим вступил в Рим 20 декабря (возможно, 21 декабря), где встретил серьезное сопротивление. Вителлий попытался бежать из города — возможно, он знал о победах своего брата в Кампании, — но преторианцы не отпустили его. Его нашли прячущимся в покинутом дворце, толпа солдат Прима и граждан протащила его через форум, и затем он был казнен.
Муциан сумел прибыть в Рим через несколько дней после Прима и быстро принял меры для его изоляции. Еще до своего прибытия Муциан отправил письменные распоряжения сенату: именно Веспасиан должен был быть официально признан Цезарем и Августом, народу же следова¬
12 О военных действиях в Италии в 69 г. н. э. см.: Тацит. История. Ш; Светоний. Домициан. 1.2 сл. О пожаре на Капитолии см.: Murison 1979 (С 378); Wellesley 1981 (С 413). О роли Домициана остается актуальной работа: Waters 1964 (С 410).
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
323
ло принять закон, предоставлявший последнему все юридические полномочия, которыми обладали предыдущие императоры (сохранилась одна из бронзовых таблиц с текстом этого закона о власти Веспасиана (Lex de Imperio Vespasiani); судя по грамматическим особенностям, Муциан составлял его в спешке)13. Неудивительно, что отдельные сенаторы начали задавать вопросы о том, кто именно представляет нового императора. В январе 70 г. н. э., с согласия Домициана, сенат предоставил посмертные почести Гальбе и Пизону; лишь позднее стало понятно, что это совсем не отвечает пожеланиям Муциана и Веспасиана. Некоторую ясность внесло возвращение Домициана на сцену в качестве Цезаря. Он был формально избран городским претором, но наделен беспрецедентным консульским империем. Муциан обеспечил награды тем, кто участвовал в реализации планов Веспасиана. Сам он вместе с Петиллием Цериалом был загодя назначен вторым консулом-суффектом 70 г. н. э.; зависимые цари, поддержавшие Веспасиана, получили почести, а вольноотпущенник Горм, сыгравший важную роль в переговорах относительно флота, получил всадническое достоинство. Что же касается Антония Прима, того самого полководца, который нанес поражение Вителлию, то он был тихо отстранен от власти и более никогда не участвовал в политической жизни. Ради безопасности Веспасиана Муциан распорядился казнить тех, кто мог собрать вокруг себя сторонников Гальбы и претендовать на императорскую власть: Гая Пизона Галериана (сына заговорщика 65 г. н. э.) и его тестя проконсула Африки Луция Пизона (консула 57 г. н. э.). Последний был женат на сестре наследника Гальбы и Лициния Красса Скрибониана; через нее оба казненных состояли в родстве со Скрибонией, первой женой Августа. Луция Пизона убил Валерий Фест, легат Ш легиона и родственник Вителлин, стремившийся продемонстрировать новому режиму свою лояльность.
Затем Муциану пришлось разрешить следующую трудность — погасить соперничество между сыновьями Веспасиана. Тит завоевал воинскую славу в качестве легата своего отца в Иудее (он остался там ради славы разрушителя Иерусалима, которую и обрел следующим летом). Домициан подозревал, что у него мало шансов на долгую жизнь, если его брат однажды придет к власти. Домициану оставалось лишь самому завоевать ратную славу и, дабы покончить с оставшимися в Галлии, Британии и Рейнской области вителлианцами, повести флавианские легионы на север. Муциан уже отправил на Рейн Петиллия Цериала и теперь позволил Домициану последовать за ним (таким образом, удалив его из Рима); позднейшая традиция сообщает, что Домициан лично принял капитуляцию лингонов, однако ему, по-видимому, не довелось увидеть сражение собственными глазами. Вместо того чтобы соперничать в воинской славе со своим братом Титом и зятем Цериалом, Домициан посвятил себя поэзии и, в частности, сочинил эпос, повествующий о битве за Капитолий и его собственных достижениях в Галлии.
13 Lex de Imperio: ILS 244= MW 1 =AN 293; cp.: Brunt 1977 (С 335).
324
Часть I. Изложение событий
Отказ рейнских легионов признать Веспасиана императором после смерти Вигеллия создал большие трудности как для флавианцев, так и для флавианских историков. Хронику событий 69—70 гг. н. э. в Рейнской области пришлось переписать так, чтобы не создавалось впечатление, будто Веспасиана поддерживали батавы и некоторые галлы, тогда как легионы римских граждан и других галлов по-прежнему составляли войско «вителлианцев». Вследствие этого восстание против Вителлин во главе с Цивилисом, вождем батавов, описано в «Истории» Тацита как мятеж провинциалов, направленный против римской власти. Но Тацит всё же вынужден был признать, что, когда восстание началось, флавианцы восприняли его с одобрением: он пишет, что поначалу лидеры мятежников высказывали ангиримские взгляды лить тайно. Если Цивилис и был изменником, то изменил он только Вителлию. Осенью 69 г. н. э. по настоянию Антония Прима Цивилис принес присягу Веспасиану, а затем осадил вителлианский легион в Ветере (Ксантен). Текст Тацита рождает неверное впечатление, будто к началу 70 г. н. э. легионы тоже поклялись в верности Веспасиану. В действительности же Гордеоний Флакк, легат Верхней Германии, поддержавший действия Цивилиса, был убит войсками, когда пытался привести их к присяге; в лагерях были вновь выставлены изображения Вителлия. Легат Диллий Вокула, сторонник Вителлия, пришел на помощь солдатам в Ветере; когда в марте 70 г. н. э. легионеры попытались эвакуировать расположенный там лагерь и переместиться на юг, батавы Цивилиса перебили их (Тацит подчеркивает присутствие среди солдат Цивилиса зарейнских германцев).
Вожди ряда галльских племен тоже сохранили верность делу Вителлия. После того как в Риме были признаны флавианцы, а весной 70 г. н. э. в Галлию прибыли Цериал и Домициан, сопротивление этих вождей можно было истолковать как восстание местных племен. Но галльский национализм был присущ этим людям не больше, чем Цивилису. Ранее, в начале 69 г. н. э., Юлий Классик руководил наступлением армии Вителлия на отрезке до Приморских Альп; другие лидеры восстания, Юлий Тутор и Юлий Сабин, были «римлянами» до такой степени, что легионы Диллия Вокулы признали их командирами после катастрофического отступления из Ветеры. Не имея сенатора, которого можно было выдвинуть как претендента на императорскую власть от вителлианцев, Юлий Сабин заявил о собственных притязаниях на власть, утверждая, что отцом его деда был не кто иной, как сам Юлий Цезарь. Цод «Галльской империей» («Imperium Galliarum»), которую они провозгласили, подразумевалась не империя под властью галлов, но Римская империя в Галлии — компромиссное решение, которое могли поддержать как легионеры, желавшие сохранить верность Вителлию, так и батавы Цивилиса и другие сражавшиеся с ними галльские племена.
Именно отсутствие приемлемого лидера не оставило легионерам иной альтернативы, кроме признания Веспасиана. Последнюю надежду они возлагали на Цериала, которого попытались переманить на свою сторону; но тот сообщил Домициану об их предложении сделать его императором.
Глава 6. От Нерона до Веспасиана
325
флавианцы изо всех сил постарались привлечь к себе этих сторонников Вителлин. Из числа рейнских легионов четыре было распущено (I, IV Македонский, XV Перворожденный, XVI) и заменено новыми, в титулах которых подчеркивалась связь с новой династией (IV и XVI Флавиевы). Позицию британских легионов в этот период определить еще сложнее (см. гл. 13е наст. изд.). Цериал принял командование британской армией, возможно, для того, чтобы уравновесить военную власть своего шурина Тита на Востоке. В следующие три года военные действия, в ходе которых была взята Бригантия и основана новая военная база в Йорке, дали легионам, расквартированным в Британии, возможность доказать свою верность флавианцам. В Британии, как и на Рейне, были улучшены условия жизни легионеров за счет строительства из камня более постоянных лагерей, вроде лагеря в Кэрлеоне.
История войны этих легионов против Цивилиса была переписана, чтобы казалось, будто, сражаясь с германскими варварами и кельтскими и батавскими предателями, они всегда оставались верны Риму. В отличие от Гальбы, Отона или Вителлия, флавианцам удалось добиться поддержки даже тех, кто воевал против них. Монетная чеканка прославляла не только победу над Иудеей и безопасность, которые символизировали два сына императора, но и «Возрождение Рима», Мир, Свободу и согласие между императором и сенатом. В должности цензоров (72—74 гг. н. э.) Веспасиан и Тит освободили римский народ от пятен на совести и некоторых воспоминаний о гражданской войне13а. Рассказ о правлении Веспасиана как признанного преемника Юлиев—Клавдиев можно найти в другом томе КИДМ. Муциан получил третье консульство в 72 г. н. э., а затем уединился и предался литературной деятельности* 14.
13а По-видимому, подразумевается проведенная цензорами церемония люстра — торжественного очищения римского народа. — О. Л.
14 О Цивилисе см.: Urban 1985 (С 406). Монеты Классика имели легенды «ADSERTOR LIBERTATIS» («Защитник свободы»), «LEGION XV PRIM» («XV Перворожденный легион») и «CONCORDIA» («Согласие»): «EIDES» может быть призывом сохранять верность Делу Вителлия. Cp.: Zehnacker 1987 (В 364). Признание Тацита насчет того, что повстанцы были сепаратистами лишь «втайне», см.: История. IV. 14. О Бригантин см.: Birley 1973 (Е 529); Hanson, Campbell 1986 (E 544). Монетные выпуски Веспасиана: ROMA RESVR- GENS, PAX Р. ROMANI, LIBERTAS RESTITVTA, AETERNITAS P.R., CONCORDIA SENATVI, см.: MW 42-46, 90, 254.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ ИМПЕРИИ
Глава 7
Э. Уоллес-ХэЬрилл
ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР
I. Введение
Если власть Августа и его преемников была монархической, то важнейшим пространством ее приложения являлся двор. И слово «двор», и само это явление были чужды Республике. Понятие «aula», происходящее от греческого «aule» — обычный в эллинистическом мире термин для обозначения царских дворов восточных и греческих правителей, — почти не встречается в республиканской литературе (в том числе у Ливия), но быстро входит в употребление в эпоху Ранней империи (особенно при Нероне в сочинениях Сенеки) — этим словом называют не только физическое местонахождение носителя императорской власти, но и определенный тип власти, а также обслугу и тот рискованный образ жизни, с которым данная власть ассоциировалась1. Хотя данное явление было непривычным для римлян, они прекрасно знали, с чем имеют дело, — с обычным институтом, свойственным монархическим обществам. Как писал в своих «Размышлениях» император Марк Аврелий: «Упорно воображать, как всё то, что происходит теперь, происходило и прежде <...> скажем, весь двор Адриана, и весь Антонина, и весь двор Филиппа, Александра, Креза. Потому что и тогда всё было то же, только с другими» [Пер. А. К. Гаврилова)2.
Античные историки и составители биографий понимали, какую роль двор играл при Юлиях—Клавдиях. В рассказах о ранней карьере Веспа- сиана содержатся указания на то, как двор функционировал. Успех Вес-
1 См.: TLLI: 1457—1458, под словом «aula» П.З.С. Единственное упоминание этого слова в республиканское время встречается у Цицерона [Письма к близким. XV.4.6 (о дворе Ариобарзана)). Для описания чужеземных дворов оно использовалось также при Августе и позднее; см., напр.: Вергилий. Георгики. П.504; Валерий Максим. УП.1.2; применительно к Риму это слово впервые употребил Сенека, см.: О гневе. П.33.2; О спокойствии души. VI.2; о дворе Нерона см.: [Сенека.] Октавия. 285 и сл.; в дальнейшем его постоянно использовали при описании императорского двора Марциал, Стаций, Тацит, Светоний и более поздние авторы.
2 Размышления. 10.27. О взглядах Марка Аврелия см.: Brunt 1974 (В 19).
Глава 7. Императорский двор
327
пасиана при Клавдии приписывали влиянию вольноотпущенника Нарцисса; кроме того, у Веспасиана была наложница из числа императорских вольноотпущенниц — Ценида. Тит, сын Веспасиана, воспитывался при дворе (in aula) вместе с Британником. Падение Нарцисса и возвышение Агриппины привели к политическому ослаблению Веспасиана. Тем не менее он оставался придворным, и Нерон взял его с собой в Грецию вместе с другими спутниками (comites). Но откровенная нелюбовь Веспасиана к пению ввергла его в немилость2а, и Нерон не только исключил его из ближнего круга (contubernium), но даже отстранил от общих аудиенций (publica salutatio). Веспасиан узнал о своей опале от одного из вольноотпущенников, контролировавших доступ к императору (ex officio admissionis), — тот обошелся с ним столь злобно, что Веспасиана спасло лишь вмешательство других придворных* 3. Здесь мы видим ряд устойчивых элементов, которые присутствуют во всех рассказах о Юлиях—Клавдиях и более поздних правителях: шаткость политического успеха и его зависимость от расположения императора; важное значение вольноотпущенников и членов императорской семьи как посредников при раздаче милостей; появление слуг, влиявших на определение круга лиц, допущенных или не допущенных ко двору; переплетение политической и социальной жизни при дворе и, как следствие, важность личных вкусов императора.
Труды историков последнего поколения позволили гораздо лучше понять, что представлял собой императорский двор в эпоху Ранней империи. Несколько крупных исследований расширили и углубили наши знания о вольноотпущенниках, состоявших при дворе4, о друзьях принцепса (amici principis) из числа всадников5 и о связях внутри сенатской элиты6. Кроме того, изучение отношений императоров с их подданными, процесса принятия решений и распределения ресурсов, а также патроната позволяет увидеть сеть подчиненных императора в движении и проливает свет на некоторые структуры, в рамках которых они действовали7.
Но, несмотря на все эти научные достижения, императорской двор по- прежнему остается отчасти скрыт от нашего взора. В историографии он находится в некоем полумраке. Это верно как для античных источников, так и для современных исследований. Сложности, с которыми сталкивается историк, перечислил Дион Кассий: установление монархического
2а Сопровождая Нерона в поездке по Греции, Веспасиан навлек на себя жестокую немилость тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте (Светоний. Божественный Веспасиан. 4.4). — С.Т
3 Слегка отличающиеся друг от друга версии см.: Светоний. Божественный Веспасиан. 3-4, 14; Божественный Тит. 2; Тацит. Анналы. XVI.5; Дион Кассий LXQI.10.la; LXVL 11. 2; cp.: Gascou 1984 (В 59): 323-326.
4 Chantraine 1967 (D 9); Weaver 1972 {D 22); Boulvert 1970 (D 6); Boulvert 1974 (D 7).
5 Pflaum 1960-1961 (D 59); cp.: Brunt 1983 (D 26).
6 Понимание природы императорского двора лежит в основе просопографического исследования Сайма, хотя прямые утверждения на эту тему встречаются у этого исследователя редко — вот, к примеру, одно из них, см.: Syme 1939 (А 93): 385.
7 Millar 1977 (А 59) — основная работа; также см.: Crook 1955 (D 10); Sailer 1982 (F 59).
328
Часть П. Правительство и администрация Империи
правления переносит политическую жизнь и процесс принятия решений из публичных мест (сенат и Форум) в частную сферу; двусмысленные официальные заявления и слухи становятся единственным источником сведений о событиях8. Такое положение дел Тацит воспринимал с иронией9. Вместо того чтобы сосредоточить всё внимание на дворе и пользоваться сомнительной информацией, он, подражая республиканским предшественникам, описывал в своем повествовании события, происходившие в публичных местах, и тем самым подчеркивал не только политическое бессилие сената, но и бессилие историка, который лишь косвенно может подступиться к центру власти. Большая часть непосредственных сведений о функционировании двора при Юлиях—Клавдиях представляет собой анекдоты: это справедливо не только для биографий Светония, но и для многочисленных воспоминаний современников, для Сенеки и его философских диалогов, для Плиния Старшего и его «Естественной истории» либо для «Бесед» вольноотпущенника-философа Эпиктета, которые сохранились у Арриана. Обилие анекдотов — это не дефект конкретных источников, но структурное следствие перемещения политической жизни за закрытые двери10.
Современные историки по-разному подходят к этой проблеме. Мы подозрительно относимся к анекдотам и не склонны воспринимать историю как результат женских интриг и дворцовых заговоров11, а потому отошли от изучения Принципата как политической системы, чтобы исследовать его административные системы и иерархию. Не всегда нам удаётся противостоять соблазну подставить современные бюрократические институты вместо незнакомых структур придворного общества12. Мир царей и придворных утрачен для современного общества, и требуется некоторое историческое воображение, чтобы воспринимать его механизмы всерьез13. Таким образом, в этой главе мы поговорим не только о том, что хорошо изучено, но и о том, что может остаться незамеченным14. Обсуждая двор, зарождавшийся при Юлиях—Клавдиях, придется рассмотреть функции двора в более широком контексте — в системе императорской власти.
8 Дион Кассий Lin.19.
9 Syme 1958 (В 176): 206, как и вся работа полностью; cp.: Ginsburg 1981 (В 61).
10 Критику использования анекдотов в исследованиях, см.: Salier 1980 (В 156).
11 Об этом прямо пишет А. Момильяно, см.: Momigliano 1934 (С 377): xiii.
12 Осуждение такого подхода см.: Brunt 1975 (Е 906); Burton 1977 (D 8); Salier 1982 (F 59): 79 сл.
18 О более позднем историческом периоде см. фундаментальный анализ: Elias N. Die höfische Gesellschaft (1969; англ. пер. Е. Jephcott: The Court Society (Oxford, 1983); рус. nep.: Элиас H. Придворное общество (Μ., 2002)).
14 Friedländer 1922 (А 30) I: 33—103 — эта работа остается лучшим исследованием двора как социального феномена; см. также: Turcan 1987 (D 20).
Глава 7. Императорский двор
329
II. Доступ и ритуал:
ПРИДВОРНОЕ ОБЩЕСТВО
Двор и придворные не имели «официального» определения, поскольку этот институт был социальным, а не правовым, частным по составу, хотя и публичным по уровню значимости. Показательно различие между двором и сенатом: сенаторы обладали формальным статусом, который был доступен лишь представителям определенного социального слоя, возрастной группы и пола, и Август в начале своего правления предпринял дополнительные меры, чтобы законодательно отрегулировать право на членство в сенате и формализовать сенатские процедуры и регламент15. Сущность двора оставалась неопределенной: к нему принадлежали лица, близкие к императору, а степень этой близости определялась только социальными ритуалами. Противоположной крайностью было расторжение дружбы (amicitia) — формально выраженное недовольство императора и изгнание неугодного со двора; но дружба (amicitia) императора с теми, кто сохранял его милость, была изменчивой и неопределенной (и нас не должны вводить в заблуждение попытки некоторых исследователей составить список друзей принцепса (amici principis), словно это перечень должностных лиц)16. Доступ ко двору (aula) имели многие; но куда меньше людей могло попасть в личные покои принцепса (cubiculum principis)17. Двор не выполнял никаких официальных или публичных функций. Общественно значимые события — такие как прием посольств, обсуждение государственных дел и судебные процессы — происходили на Палатине (где жил император. — С. Т.) со времен Августа, но не потому, что являлись «придворными событиями», а потому, что входили в личные обязанности императора. Согласно традиции, любой римский государственный деятель обязан был использовать свой дом для квазипублич- ных мероприятий18. Неопределенность лишь добавляла двору могущества: один из секретов власти, arcana imperii, состоял в том, что правила ее не ограничивали.
У двора не было и определенного местонахождения: само же слово «двор» (aula) — это не более, чем абстракция, но не описание конкретного места. В эпоху Поздней империи двору приходилось странствовать подобно дворам многих средневековых монархов; во все времена двор (хотя необязательно все придворные) перемещался вместе с императором19. Это не значит, что присутствие императора превращало все события в придворные: например, император посещал заседания сената или игры,
15 Talbert 1984 (D 77): 10 сл., 137 сл. и т. д.
16 О друзьях (amici) см.: Crook 1955 (D 10): 21—30; Millar 1977 (А 59): 110—122; Bemougin 1988 (D 37): 743—751; о расторжении дружбы (renuntiatio amicitiae) см.: Rogers 1959 (D 19).
17 Tamm 1963 (F 590): ИЗ сл.
18 Витрувий. 06архитектуре. VI.5.2; ср.: Millar 1977 (A 59): 18 сл.
19 Millar 1977 (A 59): 28-57.
330
Часть П. Правительство и администрация Империи
но эти мероприятия происходили публично, тогда как двор был местом для частных и семейных дел, даже если они рассматривались в походной палатке главнокомандующего20. Хотя уже Август приобрел ряд владений по всей Италии, а Юлии—Клавдии питали любовь к Неаполитанскому заливу и особенно к острову Капри, примечательно, что на практике двор с самого начала прочно укоренился в городе Риме, а именно — на Палатинском холме21. Данное обстоятельство нашло отражение и в языке. Слово «palatium» приобретает к концу I в. н. э. значение «дворец» (метафорически его использовал в этом смысле уже Овидий), и, как позднее указал Дион Кассий, скорее сама жизнь, нежели какое-то постановление, превратила слово «palatium» в название императорской резиденции, где бы она ни находилась22. Дворец быстро поглотил парадные особняки республиканского нобилитета на Палатине; эта тенденция ясно просматривалась уже к концу правления Августа и наглядно символизировала общественное влияние императора, которое вобрало в себя влияние аристократии23. Август и его преемники относились к этому символизму с осторожностью: они предпочитали использовать богатые ассоциации Палатина с религиозными ритуалами и эпохой Ромула; кроме того, избранное прин- цепсами место строительства давало им обширные возможности для наблюдения и контроля за общественной жизнью на Форуме и массовыми собраниями в Большом Цирке.
Светоний особо подчеркивал скромность жилища Августа, и это может породить ложное впечатление об императорском доме — последующие поколения склонны были идеализировать простоту прошлого24. Судя по реакции поэтов-современников, ясно выраженной у Проперция и Овидия и завуалированной у Вергилия, новый комплекс, состоявший из дома, государственного храма Аполлона Актийского, портика, украшенного скульптурами Данаид, и библиотек, производил сильнейшее впечатление25. Замечательные архитектурные фрагменты, обнаруженные в ходе недавних археологических раскопок, прямо свидетельствуют о том, сколь тесно переплеталось общественное и частное в храме Аполлона, в который из дома Августа вело несколько пандусов, что несравненно больше походило на эллинистические царские дворцы, чем на традиционный римский дом26. Эта особенность наблюдается в доме Августа с 28 г. до н. э. (когда был посвящен храм Аполлона Палатинского. — С. Z), и в тече¬
20 П. Вейн упрямо считает двором весь город Рим, см.: Veyne 1976 (F 71): 682—685.
21 Millar 1977 (А 59): 15-28.
22 Овидий. Метаморфозы. 1.176; Дион Кассий ЦП. 16.4—6; cp.: RE ХУШ.З (1949): 10—15, под словом «Palatium».
23 Wiseman 1987 (F 81).
24 Светоний. Божественный Август. 72. Источники о доме Августа см. в изд.: Lugli 1962 (Е 82): 154-161.
25 Прежде всего см.: Проперций. П.31; Овидий. Фасты. IV.951—954; Овидий. Скорбные элегии. Ш. 1.31—48; Овидий. Письма с Понта. П.8.17; Вергилий. Энеида. VH.170 сл.; ср.: Wiseman 1987 (F 81).
26 См.: Carettoni 1983 (F 316); Zänker 1983 (F 630); Coarelli 1981 (F 332): 129-134.
Глава 7. Императорский двор
331
ние его правления она становилась всё заметнее: в 12 г. до н. э. Август стал верховным понтификом (pontifex maximus), и в его частном жилище был учрежден государственный культ Весты, что сделало этот дом символическим очагом города, а в 3 г. н. э., после крупного пожара и перестройки дворца на общественные средства, вся резиденция была объявлена государственной собственностью. Таким образом, с самого начала императорской эпохи соединение общественного и частного в архитектуре стало выражать принципиальную неопределенность двора, который одновременно являлся институтом, частным домохозяйством, стоявшим в центре общественной жизни, особняком (domus) гражданина и преторием (praetorium) — штаб-квартирой командующего под охраной преторианцев27.
Жилищу Августа не хватало единства; оно больше походило на комплекс из нескольких домов, которые постепенно присоединялись к нему по отдельности; Иосиф Флавий свидетельствует, что так обстояло дело и в день убийства Гая (то есть императора Калигулы. — С.Т)28. Масштабная строительная программа Нерона как до пожара, так и после него впервые соединила эти здания воедино и уничтожила последние следы аристократических особняков на Палатине — таких как дом Красса Оратора со знаменитыми лотосовыми деревьями, последним владельцем которого был Цецина Ларг, один из придворных Клавдия29. Даже если забыть, что Нерон расширил Золотой дом до Эсквилина, можно лишь изумляться — вслед за его современниками — ошеломляющим размерам палатинского комплекса30. Занимая площадь порядка десяти гектаров, он в тридцать раз превосходил дворец Атгала в Пергаме, хотя, впрочем, если бы сохранились дворцы Александрии или Антиохии, то их размеры, пожалуй, были бы сопоставимы с римским. Обширное строительство предполагает столь же обширную человеческую деятельность. Так называемая Царская зала (Aula Regia) во дворце Домициана построена на месте более раннего и не менее впечатляющего аудитория (auditorium). Скромным свидетельством служат уборные — одно из нескольких помещений, сохранившихся от построек Нерона на Палатине: их было сорок — больше, чем общественных: туалетов на форумах таких городов, как Остия или Коринф, и примерно столько, сколько бывает на крупных современных вокзалах. Следует помнить, что во дворце вели очень активную деятельность его обитатели и посетители31.
Именно в Риме первые императоры созывали двор для решения серьезных вопросов: италийские виллы и Неаполитанский залив служили принцепсам (даже Тиберию в последние годы его правления) лишь убежищами от давления народа, позволявшими в какой-то мере предаваться
27 Millar 1977 (А 59): 61-66; Turcan 1987 (D 20): 76 ел.
28 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX. 117.
29 Асконий. Комментарии к речи Цицерона в защиту Скавра. 27С; Плиний Старший. Естественная история. XVII.5.
30 О Золотом доме и его размерах см.: Griffin 1984 (С 352): 134—142; а также: Frezouls 1987 (D И).
31 О строениях под дворцом Домициана см.: Giuliani 1982 (F 387): 246—254.
332
Часть П. Правительство и администрация Империи
досугу (otium)32. Избрав Рим в качестве местонахождения двора, императоры задали направление развития этого города как столицы империи и великолепного памятника архитектуры. Их выбор мог быть продиктован многими соображениями, не в последнюю очередь — традицией; но важнее всего было обеспечение доступности правителя. Император обязан был организовать свою деятельность так, чтобы огромное множество людей могло без труда попасть к нему на прием. Первой задачей двора было предоставление и контроль физических контактов с правителем; придворными являлись те лица, которые в той или иной мере добились постоянного доступа к императору и при этом в качестве посредников могли обеспечить его и другим. Таким образом, отличительными чертами двора служили именно порядки и ритуалы, с помощью которых предоставлялся доступ к правителю. Кто же мог попасть к императору и на каких условиях?
Состав императорского двора и его ритуалы сложились под влиянием обычаев, характерных для римских высших классов в целом33. Можно выделить три группы придворных: члены семьи, домашняя прислуга и друзья. Первые две группы — это члены дома, или фамилии, Цезаря (domus, или familia33a, Caesaris). Важнейшую роль в жизни двора играли жена и дети императора. Другие родственники были связаны с двором не так прочно: римские обычаи не благоприятствовали расширенным семьям, и многие члены императорской семьи имели собственные дома. Если взглянуть на невероятно разветвленную семейную сеть, созданную Августом, то становится понятно, почему в его дни дворец выглядел как комплекс из множества частично обособленных домов: даже Тиберий в последнее десятилетие правления Августа жил отдельно от приемного отца, в своем доме (Domus Tiberiana), в правление же Тиберия собственный дом имел Германии, отец Гая.
Согласно римским обычаям, вольноотпущенники тоже были в той или иной степени связаны с императорским домом патрона: они могли жить во дворце и выполнять там ежедневные обязанности, но и могли иметь собственное отдельное жилье. Чтобы уклониться от посетителей или посмотреть на игры, Август останавливался в домах своих вольноотпущенников на Палатине или в других районах Рима; особняки могущественных вольноотпущенников Клавдия, таких как Посид и Каллист, числились среди городских достопримечательностей34. Члены семьи и вольноотпущенники императора входили в его ближний круг не в силу своего места жительства, а в силу особых взаимоотношений с императором. Фортуна — через рождение или брак либо через посредство работоргов¬
32 D’Arms 1970 (Е 30): 73-115.
33 Об императорском церемониале см.: Friedländer 1922 (А 30) I: 90—103; Alföldi 1934 (D 1);о республиканской практике см.: Kroll 1933 (А 54) П: 59—81.
Римское понятие «familia» включало в себя совокупность лиц, подвластных одному отцу семейства, — как членов семьи, так и рабов. — С.Т
34 Светоний. Божественный Август. 45 и 72; Плиний Старший. Естественная история. XXXVI.60.
Глава 7. Императорский двор
333
ца — подарила им возможность постоянной близости к правителю, которой не мог добиться никто из посторонних. В отличие от дворов средневековых монархов или первых королей Нового времени, императорское домохозяйство не открывало дорогу талантам и амбициям: значение чистой случайности для возвышения вольноотпущенника описывает Эпиктет в рассказе о некоем рабе-сапожнике Фелиционе, который сменил хозяина и, к смятению своего бывшего господина, превратился в императорского служащего35. Начнем с того, что дом Цезаря (domus Caesaris) состоял из множества других домов и хозяйств: члены императорской семьи имели собственных домочадцев, и Антоний Паллант, самый известный вольноотпущенник Клавдия, начал карьеру, будучи доверенным рабом Антонии, матери Клавдия36.
Двор был не просто домохозяйством правителя, это домохозяйство обеспечивало его связь с обществом, которым он управлял. Распределение власти в монархическом обществе обычно соответствует распределению доступа к правителю. В эллинистических царствах существовал явно выраженный конфликт между статусными системами двора и городов. Царские друзья (philoi) приобретали высокий статус благодаря близости к главе государства; ранги придворной иерархии определялись не функциональной дифференциацией, а близостью к царской особе — так, например, при дворе Птолемеев существовали, в нисходящем порядке: родственники (syngeneis), лица, почитаемые как родственники, телохранители (то есть царские пажи), первые друзья и (просто) друзья. Цари не обращали внимания на систему предписанных статусов3ба, действовавшую в городах; вследствие этого за пределами двора над друзьями царя смеялись как над презренными выскочками, «подхалимами» или «паразитами»37. Соответственно, при эллинистических дворах развивались ритуалы и церемонии, которые углубляли пропасть между царем и греческим и македонским обществом с его нормами: появились помпезные наряды и роскошная обстановка (троны под изысканными балдахинами); церемониальный язык, развившийся из языка культа, а также такие ритуалы, как падение ниц перед правителем (proskynesis); несмотря на всю свою значимость и уместность в персидском обществе, в греко-македонском всё это вызывало сильное отвращение.
Часто отмечалось сходство между этими друзьями (philoi) эллинистических монархов и друзьями Цезаря (amici Caesaris), тем более что в Риме явно существовали (хотя и плохо засвидетельствованы) различия между группами первого допуска к императору (cohors primae admissionis),
35 Эпиктет. Беседы. 1.19.16—23.
36 Weaver 1972 (D 22): 90-92, 212-223.
36а Предписанный статус — положение в обществе, приобретаемое человеком вне зависимости от его желания, лишь в силу того, что оно навязано социальным окружением (в противоположность приобретенному статусу). — С.Т
37 О придворной иерархии эллинистических дворов см.: Corradi 1929 (А 18); Mooren 1977 (D 16); анализ несоответствия статусов см.: Herman 1980—1981 (D 12).
334
Часть П. Правительство и адлшнистрация Иллперии
второго допуска (secundae admissionis) и так далее38. Бесспорно, римские общественные ритуалы испытывали эллинистическое влияние, что осознавали и сами римляне, да и специализация секретариата вольноотпущенников, вероятно, тоже сложилась на основе эллинистической модели. Но, несмотря на эти сходства, между императорским двором и любым его эллинистическим аналогом — огромная бездна. Ибо первые Цезари, как правило, уделяли большое внимание статусной иерархии в римском обществе, приводили привилегии, порожденные дружбой (amicitia) с императором, в соответствие с требованиями предписанных статусов, избегали ритуалов, которые отделяли бы правителей от аристократии, и сдерживали стремление двора отграничиться от общества пропастью39.
Доступ к правителю обеспечивали социальные ритуалы, бытовавшие среди нобилитета как во времена Поздней республики, так и в эпоху Ранней империи, — особенно утреннее приветствие (salutatio) и вечерний обед (cena). Описания суматохи во время утреннего приветствия (salutatio) в домах влиятельных римлян, часто встречающиеся у Сенеки и сатириков, лишь подчеркивают их сходство с императорской рутиной: приемы императора отличались масштабом, но не содержанием40. Император делил друзей по очередности допуска (admissiones), но так же поступали и остальные; Сенека, единственный наш источник сведений об этом обычае, приписывает его учреждение Гаю Гракху и Ливию Друзу41. Если принять допущение, что Веспасиан следовал образцу своих предшественников, то порядок был следующим: сперва император беседовал с секретарями и чиновниками, заслушивал их доклады (breviaria), потом впускал в спальню друзей, а за этим уже следовало общее приветствие. Возможно, день Веспасиан начинал раньше других, но, например, ежедневники египетских чиновников свидетельствуют, что и там дела велись схожим образом42. В ту пору еще пока не возникло ни особое императорское одеяние, ни церемониал. Во время дневного приема император носил тогу; когда Калигула стал надевать туники с цветочными узорами, это было воспринято как отклонение от нормы, и закрепить новый церемониал ему не удалось43.
Другие институты, прямо восходящие к обычаям республиканского нобилитета, включали избрание спутников (comites), которые получали денежные выплаты (salarium), образовывали «когорту друзей» (cohors
38 Friedländer 1922 (А 30) I: 76 сл.; Bang 1921 (D 5); Crook 1955 (D 10): 21—30.
39 Wallace-Hadrill 1982 (D 21).
40 Friedländer 1922 (A 30) I: 90 сл. (императорские приемы), 240 сл. (приемы аристократов); Sailer 1982 (F 59): 128 сл.; Turcan 1987 (D 20): 132 сл.
41 Сенека Младший. О благодеяниях. VL34.2; альтернативная точка зрения: Alföldi 1934 (D 1): 28.
42 Светоний. Божественный Веспасиан. 21; Millar 1977 (А 59): 209 сл.; ср.: Плиний. Письма. Ш.5.9, с комментариями Шервин-Уайта (Sherwin-White) к данному месту; ср.: Wilcken 1912 (В 389): No 41 — о записках (commentarii) местного стратега, служившего в Египте, наиболее обстоятельном из нескольких подобных документов, дошедших до нас.
43 Светоний. Гай Калигула. 52. Альфёльди придает слишком большое значение исключениям, см.: Alföldi 1935 (D 2).
Глава 7. Императорский двор
335
amicorum) и сопровождали императора в общей палатке (contubernium) в походе или поездке, а также созыв друзей (amici) для формирования совета (consilium), который консультировал императора по конкретным вопросам44. Разумеется, «друзья» и «советники» императора принимали участие в государственных делах и обладали влиянием, намного превосходившим любые республиканские прецеденты; «друзья принцепса» (amici principis) были людьми занятыми и внушали благоговение и даже страх45. Но неверно представлять императорский совет (consilium) неким стабильным органом управления с четко определенным членством. Важна была именно его неофициальность46. Все эти виды дружбы (amicitia) Цезари строили на республиканском фундаменте, тем самым не только демонстрируя уважение к нравам и обычаям предков (mores maiorum), но и увязывая поведение двора с нормами поведения, царившими в аристократическом обществе вокруг них.
Анекдотичные описания императорских приемов у античных авторов особенно поражают тем, что в этих собраниях преобладают сенаторы и представители высшей страты всаднического сословия. Очевидно, что приветствия посещало множество членов сенаторского сословия (вместе с женами и детьми); только в 12 г. н. э. из-за старческой немощи Август попросил у сенаторов прощения за то, что больше не может, как прежде, приветствовать их у себя дома47. Как правило, сенаторы занимали на этих приемах самое видное место. Их приветствовали поцелуем — на самом деле это был эллинистический обычай, который укоренился у римской элиты уже во времена Цицерона48. Сообщается, что Нерон после возвращения из Греции отказался целовать сенаторов: это было серьезным признаком императорского недовольства, но не попыткой лишить сенаторов права на этот жест близости49. Социальные узы, опутывавшие высшие слои и связывавшие их с императором, нашли живое отражение в рассказе Плиния о вспыхнувшей в правление Тиберия болезни, поражавшей кожу лица50. Плиний мимоходом замечает, что эта эпидемия свирепствовала только в Риме и только среди высших слоев (proceres): болезнь передавалась через поцелуи и была широко распространена и локализована именно в тех кругах общества, которые обменивались поцелуями во время приветствий. Тиберий временно запретил данный обычай, — по-видимому, он и сам подхватил заразу. Поцелуй не был лишь символом по¬
44 Crook 1955 р 10): 4-7, 22-24; Millar 1977 (А 59): 110-118; АшагеШ 1983 (D 4); Tur- сап 1987 (D 20): 143 сл.
45 Об их занятости см., нанр.: Сенека Младший. О благодеяниях. П.27.2; Плиний Младший. Письма. Ш.5.7, Эпиктет. Беседы. 1.10.9. О страхе: Тацит. Диалог об ораторах. УШ.З; Плиний Младший. Письма. 1.18.3.
46 Crook 1955 (D 10): 104, но и всё это исследование полностью. Возможно, Август за- Думывал нечто более формальное, см. с. 380 наст. изд.
47 Дион Кассий. LVI.26.2—3.
48 Цицерон. Письма к Аттику. XVI.5.2; Kroll 1933 (А 54) П: 59 сл.
49 Светоний. Нерон. 37.
50 Плиний Старший. Естественная история. XXVI.3; ср.: Валерий Максим. XI.6.17; Светоний. Тиберий. 34.2, 68.2.
336
Часть П. Правительство и администрация Империи
клонения. Сенека горячо возмущался поступком Гая, который для поцелуя подставил консуляру ногу, — этот жест, напоминавший о ритуалах восточного двора, так и не стал в Риме нормой51.
Сенаторы и всадники присутствуют и в рассказах об императорских обедах52. Пусть Гай и тешился зловещей мыслью о том, что в угоду своей прихоти он может казнить обоих консулов, но примечательно, что эта идея взбрела ему в голову тогда, когда консулы возлежали рядом с ним на почетном месте53. Напротив, очень мало анекдотов, в которых император принимает за обедом людей скромного происхождения, мало и сетований на то, что подобные люди были приняты за императорским столом. Рассказывают, что Август лишь раз допустил к своему столу вольноотпущенника (чужого)54. Возможно, преемники Августа были не столь строги; но нет никаких сведений о том, что вольноотпущенники соперничали за места за столом с представителями высших сословий (proceres). К императорам вольноотпущенники приближались главным образом не на официальных мероприятиях, а неформально, окольными путями. Геликон имел огромное влияние на Гая благодаря тому, что бывал с ним в интимные моменты: «<...> когда он играл в мяч, упражнялся, принимал ванну, завтракал и готовился ко сну»55. Но в общественной жизни первые императоры вели себя как представители своего сословия: устраивали приветствия, обеды, а порой и сами пользовались чужим гостеприимством и посещали приемы56.
Придворное общество вовсе не ограничивалось сенаторами и всадниками. При дворе Августа и его наследников регулярно упоминается примечательная группа — греческие интеллектуалы и ученые: таковы при Августе — философ Арей, при Тиберии — грамматик Селевк и астролог Фрасилл, при Клавдии — врач Ксенофонт, при Нероне — музыкант Терпи. Известно, что большинство из них жили при дворе и входили в свиту принцепса (contubernium principis)57. В этом отношении императоры тоже не отказывались от обычаев республиканского и раннеимператорского нобилитета, а, напротив, придерживались их. Когда историк Тимаген лишился дружбы (amicitia) Августа, он отправился жить к Азинию Поллио- ну58. Не следует считать, что, поддерживая таких интеллектуалов, императоры возвышали группу, которой остальное общество пренебрегало: они лишь удовлетворяли именно те духовные потребности — свои и своих друзей, — какие и ожидались от римлян высшего класса. С другой стороны, ресурсами и значимостью императорский дом намного превосходил
51 Alföldi 1934 (D 1): 40 сл.; Сенека Младший. О благодеяниях. П.12.1; ср.: Эпиктет. Беседы. IV. 1.17.
52 Friedländer 1922 (А 30) 1.98-103; Turcan 1987 (D 20): 237 сл.; cp.: D’Arms 1984 (F 23).
53 Светоний. Гай Калигула. 32.
54 Светоний. Божественный Август. 74; но ср. о работорговце, приглашенном на обед: Макробий. Сатурналии. П.4.28.
Филон. О посольстве к Гаю. 175; ср.: Millar 1977 (А 59): 74.
56 Millar 1977 (А 59): 112; Wallace-Hadrill 1982 (D 21): 40.
57 Friedländer 1922 (А 30) I: 86-88; Millar 1977 (А 59): 83 сл.; Turcan 1987 (D 20): 208 сл.
58 Сенека Младший. О гневе. Ш.23.4—8.
Глава 7. Императорский двор
337
любую другую знатную семью, а это привело к зарождению нового обычая: возникло фактически «государственное» покровительство искусству — в противоположность строго частному покровительству в эпоху Республики59.
Двор, интегрированный в социальную и культурную жизнь высших слоев римского общества, не только отражал существующие нормы, но и задавал тон в обществе60. Люди рассматривали императора как образец и охотно подражали ему. Тепличная атмосфера двора содействовала распространению не только кожных заболеваний, но также вкусов и стиля. В эпоху Империи мода на прически или украшение жилищ быстро и точно воспроизводила образцы, принятые при дворе, так что история искусства показывает нам, сколь глубоко проникали в жизнь римлян стилистические и моральные ценности императорского окружения61.
Значение двора как законодателя мод возрастало еще и потому, что при дворе воспитывали детей привилегированных придворных (а также детей чужеземных и варварских царей). В эллинистических государствах пажество (basilikoi рaides) при дворе существовало как формальный институт и пользовалось особым престижем; цари вводили в свой ближний круг тех, с кем вместе выросли (syntrophoi). Нет свидетельств того, что в Риме пажи обладали каким-то формальным статусом, но дети знати часто появлялись при дворе, учились там (при Августе — у грамматика Вер рия Флакка), посещали обеды (на сей счет ясные свидетельства имеются о правлении Клавдия) и привлекали к себе внимание императоров и их жен62.
Когда античные авторы, творившие в эпоху самодовольной респектабельности Флавиев и Антонинов, оглядывались в прошлое, их поражали и изумляли нравы (mores) двора эпохи Юлиев—Клавдиев. Сексуальная распущенность, непристойность и излишнее пристрастие к экзотическим блюдам, а главное — сверх всякой меры сверкающее роскошью строительство и убранство домов сочетались с утонченным вкусом в литературе и (неримской) любовью к музыке. Во всех этих проявлениях двор продолжал «эллинизирующие» тенденции аристократических домов Поздней республики. Императоры не могли управлять по своему желанию этим социальным и культурным процессом: попытки насадить более строгие нравы силой законов или собственным примером, предпринятые Августом и даже Тиберием, провалились. В итоге императоры (быть может, сами того не желая) поощряли те самые веяния, которым, казалось бы, противились: вследствие их политики аристократия утратила возможность повышать свою общественную значимость и наглядно ее выражать
59 Rawson 1985 (А 79): 100 ел., 319.
60 WaUace-Hadrill 1983 (В 190): 177 сл.; Friedländer 1922 (А 30) I: 33-35.
61 О дворе как законодателе мод см.: Zänker 1988 (F 633): гл. 7. Об аналогичной роли Дворов в развитии позднейшей европейской культуры см.: Elias N. Court Society, особ. 258 сл.
62 Светоний. О грамматиках и риторах. 17 (Веррий Флакк); Светоний. Божественный Клавдий. 32; ср.: Тацит. Анналы. ХШ.16; Friedländer 1922 (А 30) I: 85 сл.
338
Часть П. Правительство и администрация Империи
традиционными для Республики путями, то есть как нежелательные стали восприниматься добывание полководческой славы и снискание народной любви63, и тогда соревновательная энергия элиты оказалась перенаправлена в сферу социальной демонстрации, определявшей успех человека в придворном обществе.
Но всё это великолепие обречено было рухнуть под собственной тяжестью. Как отмечает Тацит, столь демонстративный образ жизни наносил вред великим аристократическим домам; роскошь Золотого дома Нерона и расточительность его пиров, во время которых на гостей с потолка лились благовония, не оставляла соперникам принцепса никаких шансов, и сам Нерон, без всякого сомнения, прекрасно осознавал, какие политические дивиденды приносило ему разорение конкурентов, гарантированное ввиду того, что лишь у императора имелся доступ к богатству империи64. Но данная практика вышла боком и для Нерона — как в финансовом, так и, что еще опаснее, в моральном плане: в его правление расточительность так возросла, что это обусловило перелом во вкусах самого придворного круга, муниципалов и провинциалов, которые теперь осознали все пагубные последствия того образа жизни, в который они оказались втянуты65. Атмосфера при дворе Флавиев, представителем которого выступает Плиний, уже была ощутимо иной.
Двор не только оказывал решающее влияние на общее развитие культуры и морали римского общества, но и нередко играл определяющую роль в формировании общественного мнения. Часто утверждается, что наши источники излагают события с «сенаторской» точки зрения. В некоторых отношениях это, несомненно, так и есть. В республиканской историографии преобладали сенаторы, а историки императорской эпохи вполне осознанно следовали республиканским традициям. Одним из критериев причисления императора к дурным или хорошим правителям служило выказываемое ими уважение к высшим классам в целом и сенату — в частности. Скорее всего, в относительно малочисленной группе сенаторов существовали тесные социальные контакты, и, несомненно, по отдельным вопросам многие из сенаторов занимали солидарную позицию. Но недоказуемо, что существовала некая альтернативная точка зрения, противостоявшая «сенаторской», и нет оснований утверждать, что из дворца открывалась иная картина.
Примечательно, что два автора, оставившие важные свидетельства о правлении Юлиев—Клавдиев — Плиний Старший и Светоний, — были всадниками и занимали должности на службе у императора. Представляется, что их суждения о личностях императоров и установки, определившие данные суждения, не слишком отличались от суждений и установок сенатора Тацита; с другой стороны, мы не погрешим против истины, если
63 Eck 1984 (D 39).
64 Тацит. Анналы. Ш.55. Cp.: Elias N. Court Society, прежде всего 183 сл. (о практикова- нии таких методов Людовиком XTV).
65 Тацит. Анналы. XVI.5; cp.: Warmington 1969 (С 409): 169 сл.
Глава 7. Императорский двор
339
скажем, что оба автора отражали взгляды тех дворов, при которых служили: Плиний был верен Флавиям с их пуританской моралью, Светоний же очевидным образом равнялся на идеалы «золотого века» Траяна и Адриана66. Аналогичная картина наблюдается и у других исгориков-несе- наторов: Иосиф Флавий очерняет Гая — хотя эта позиция и совпадала с воззрениями сенаторов, определялась она всё же симпатиями самого Иосифа к иудеям и, очевидно, благосклонно принималась его патронами — Флавиями; рассуждения Эпиктета о придворной жизни основаны на личном опыте, приобретенном в бытность его в рабстве у Эпафродита; хотя последний был близок к Нерону, Эпиктет полностью разделял «сенаторское» мнение о Нероне как о тиране67.
Необязательно считать, что двор всегда придерживался согласованного единого мнения (придворных могли разобщать глубокие внутренние раздоры, как это было в правление Нерона), однако несложно представить себе, что двор служил центром, где обсуждались текущие дела, распускались сплетни и формировалось итоговое мнение. Сплетни распространялись в изобилии, источником анекдотов могли стать придворные любого уровня, от Юлия Марата, личного прислужника, описавшего телосложение Августа, и доверенных слуг (interiores aulici), имевших собственные версии рассказа о мосте Гая в Байях, до консуляров, вспоминавших беседы за императорским столом68. Императорские вольноотпущенники служили источником ценных сведений для современников: утечка внутренней информации или, как тогда выражались, «торговля дымом» стала обычным злоупотреблением при дворе Антонинов, но сообщается, что Август приказал переломать ноги секретарю, который разгласил содержание его письма69.
Бытовые сплетни неявным образом играли важную роль: обмен наблюдениями и впечатлениями среди тех, кто входил в окружение императора. Как заметил герцог де Сен-Симон, придворная жизнь — это игра в наблюдение. Крайне важно было предугадать мнение императора, заметить, кто пользуется его благосклонностью, а кто ее лишился и куда дует ветер, — ведь от таких наблюдений зависело благосостояние и даже жизнь придворных, что прочувствовала на собственном опыте клика Сеяна. Тацит описывает обед, на котором отравили Британника; его рассказ свидетельствует, что события порой развивались стремительно, и при этом требовалось угадывать мысли других, не обнажая собственные: «Сидевших вокруг него охватывает страх, и те, кто ни о чем не догадываются, в смятении разбегаются, тогда как более проницательные замирают, словно
66 Wallace-Hadrill 1983 (В 190): 99 сл.; Gascou 1984 (В 59): 711 сл.; Lambrecht 1984 (В 103).
67 Об Иосифе Флавии см.: Rajak 1983 (В 147): 185 сл.; об Эпиктете см.: Millar 1965 (D 14).
68 Светоний. Божественный Август. 79, 94.3; Светонии. Гай Калигула. 19.3; Светонии. Тиберий. 61.6.
69 Светоний. Божественный Август. 67; Friedländer 1922 (А 30) I: 47 (о «торговле дымом»); ср.: Марциал. IV.5.7.
340
Часть П. Правительство и адлшнистрация Илтерии
пригвожденные каждый на своем месте, и вперяют взоры в Нерона» [Пер. АС. Бобовича)70.
В наших источниках приводятся удивительно схожие суждения об отдельных императорах и их характерах; неудивительно поэтому, что некогда было модно критиковать источники, предполагая наличие единого первоисточника, откуда черпали свои сведения все последующие авторы. Такое объяснение не учитывало, пожалуй, способность социальных кругов, примыкавших ко двору (convivia et circuli, роль которых в формировании общественного мнения осознавал Тиберий71) формировать стереотипное представление о характере правителя. Пока император был жив, про него могли говорить всякое, но после его смерти придворные следующего правителя нередко выносили о нем окончательный вердикт. Клавдия намеренно выставляли дураком при прямом содействии Нерона, который то и дело отпускал о своем предшественнике уничижительные реплики, а его ближайший советник, Сенека, опубликовал сатиру «Отыквле- ние божественного Клавдия»; придворные сплетни насчет Клавдия Нерон конечно же поддерживал и поощрял; и вовсе не одной только злобой сенаторов, недовольных могуществом секретарей, объясняется сложившийся в источниках образ Клавдия как законченного глупца72.
Итак, какие бы политические трения ни возникали между династией Юлиев—Клавдиев и сенатом, какую бы власть принцепсы ни давали своим вольноотпущенникам, но, если взглянуть на ситуацию с социальной точки зрения, эти императоры рекрутировали друзей и соратников прежде всего из высшего класса, облегчая им доступ к своей особе, не отделяя себя от них ритуалами и — в силу общей культуры — ощущая неразрывную связь с ними. Двор не следует считать неким особым институтом, скорее, его надлежит воспринимать как центр своего рода «солнечной системы». Многочисленные дома богатых и могущественных людей Рима функционировали так же, как и менее значимые дворы, то есть как средоточия влияния, где концентрировалась социальная активность: по утрам толпились посетители и клиенты, а по вечерам устраивались пышные развлечения. Дворец одновременно и походил на них, и превосходил их — он служил центром притяжения, вокруг которого вращались эти маленькие дворы, и их свет в конечном итоге являлся лишь отражением сияния двора.
III. Патронат, власть и управление
Общественные ритуалы, принятые при дворе, играли роль фасада, который маскировал реалии правящего режима. Бесконечно сложный этикет
70 Тацит. Анналы. ХШ.16. См. о значении наблюдений в придворной жизни: Elias. Cort Society: 104 сл.
71 Тацит. Анналы. Ш.54.1.
72 О контексте «Отыквления» см.: Griffin 1976 (В 71): 129 сл.
Глава 7. Императорский двор
341
и церемониал двора французских королей XVII—XVIII вв. частично скрывал тот факт, что старая аристократия утратила власть, и вместо реального контроля над делами давал ей иллюзию социального превосходства73. Точно так же ряд исследователей рассматривает «гражданственность», за которую источники хвалят «хороших» императоров, как фарс, изобретенный для сокрытия горькой правды об императорской власти. Но они слишком преувеличивают различие между видимостью и реальностью. Ведь императоры, несомненно, использовали придворных не только для того, чтобы с их помощью контролировать и ограничивать власть высших сословий, но и для того, чтобы укреплять собственное могущество, встраивая двор в существующую социальную структуру. Отношения между императором и высшими классами были сложными и противоречивыми74.
Люди тянулись ко двору не только для того, чтобы участвовать в общественной жизни. Двор служил источником власти и благ, а также страха и унижений. Эпиктет писал: люди любят или ненавидят Цезаря только потому, что он имеет власть давать или отнимать привилегии, богатство, военные звания, претуры или консульства75. Двор внушает страх не только из-за стражников, казначеев и им подобных, но еще и потому, что придворные желают сохранить полученные от Цезаря благодеяния: деньги или должности наместника, прокуратора, претора, консула; они ведут себя как дети, которые толкаются, чтобы подобрать разбросанные фиги и орехи76. Соблазну двора невозможно сопротивляться: вернувшиеся изгнанники, которые клялись жить незаметно, не могут устоять перед приглашением ко двору и становятся префектами претория77. И всё же, стоит ли успех тех унижений, которые его сопровождают, раннего подъема, беготни, целования рук, томительного ожидания у чужих дверей, раболепных речей и деяний, подарков?78
С самого начала источником императорской власти служила возможность распределять ресурсы. По словам Сенеки, Клавдий доказал, насколько эффективнее удерживать власть посредством благодеяний (beneficia), нежели силой оружия79. Благодеяния можно перечислять без конца: это предоставление статусных и правовых привилегий (гражданство, включение во всадническое или сенаторское сословие, такие преимущества, как право трех детей (ius trium liberorum)79а, и т. д.), магистратур, должностей в армии и администрации, финансовая помощь (налоговые льготы и освобождения, поддержка общин, пострадавших от природных
73 Так считает Н. Элиас, см.: Elias N. Court Society. 78 сл.
74 Wallace-Hadrill 1982 (D 21).
75 Эпиктет. Беседы. IV.I.60; cp.: Millar 1965 (D 14).
76 Беседы. IV.7.
77 Беседы. 1.10.
78 Беседы. IV. 10.
79 Сенека. Утешение к Полибию. 12.3.
79а Гражданам, имевшим троих и более детей, предоставлялись различные привилегии, напр., преимущество при соискании должностей и т. п. — С.Т.
342
Часть П. Правительство и администрация Империи
катастроф, подарки, повышающие общественный статус одаряемых, бесчисленные щедроты для любимцев и придворных) и благоприятные судебные решения (во всех делах, от денежных до уголовных). Из документов и анекдотов складывается весьма яркий образ императора, который завален прошениями и обращениями частных лиц и общин со всей империи и лично вмешивается во все эти дела80. Несмотря на то, что источником благодеяний являлся исключительно сам император, а не его подчиненные, запросы неизбежно поступали к нему через других людей. Следовательно, император как патрон находился в центре сложной сети, в которой придворные действовали одновременно и как посредники, и как благополучатели81.
Эта сеть быстро разрасталась. С одной стороны, активно развивался и разветвлялся секретариат рабов и вольноотпущенников. Более 4 тыс. надписей, преимущественно надгробных, дают свидетельство о масштабах императорского секретариата на протяжении существования Империи82. Разделение и организация труда в этом секретариате определялись порядком работы императора, и важно, что разграничивались не сферы управления, а каналы коммуникации между подданными и правителем. Подданные вступали в контакт с императором посредством писем, прошений, посольств и судебных слушаний; этим формам взаимодействия соответствовали палатинские «ведомства» писем (ab epistulis), прошений (a libellis), посольств (a legationibus) и расследований (a cognitionibus) и наряду с ними — архив (a memoria); еще выше стояло ведомство счетов (а rationibus), отвечавшее за всё огромное и двойственное по своей природе (одновременно государственное и частное) императорское имущество и служившее бухгалтерией для основных отделов секретариата83. На неформальном уровне эта организация могла восходить к Августу84, но хорошо известно, что только в правление Клавдия в литературных источниках впервые стала встречаться формальная титулатура, позднее превратившаяся в обычную: Полибий, Нарцисс и Паллант названы ответственными, соответственно, за ученые занятия (a studiis), письма (ab epistulis) и денежные дела (a rationibus), причем об этом свидетельствует автор, который и сам позднее занимал две из этих должностей85. Данные титулы сразу стали ассоциироваться с императором: при Нероне два человека из семьи Торкватов Силанов были обвинены в том, что вынашивали императорские амбиции, называя своих секретарей ab epistulis, a libellis и a rationibus, и это доказывает, что, хотя корни императорского домохозяйства и лежали в разросшейся рабской обслуге аристократических домов, однако оно приобрело уже совершенно иной, отличный от последних, характер86.
80 Millar 1977 (А 59): повсюду; Millar 1967 (D 15).
81 Salier 1982 (F 59): 41 ca.
82 Weaver 1972 (D 22): 8.
83 Millar 1977 (A 59): 203 сл.
84 Boulvert 1970 (D 6): 53 сл.
85 Светоний. Божественный Клавдий. 28; cp.: Wallace-Hadrill 1983 (В 190): 73 сл.
86 Тацит. Анналы. XV.35; XVI.8.
Глава 7. Императорский двор
343
Фамилия Цезаря обнаруживала некоторые черты, характерные для бюрократического правительства. Можно отметить возникновение ведомств с собственной иерархией подчиненных должностей: рабы-посыльные (tabellarii), младшие вольноотпущенники — помощники (adiutores), счетоводы (tabularii), ответственные за ведение записей (a commentariis), — и проксим (proximus), занимавший высшую ступень и подчиненный лишь руководителю, который именовался просто по своим обязанностям (officium) — например, ab epistulis. Эти ступени в иерархии, видимо, легко различить по возрасту служащих (старшие чиновники обычно были пожилыми людьми), хотя о системе оплаты труда остается только догадываться87. Этих служащих можно рассматривать как «чиновников», которые делали квазипубличную карьеру, отчасти аналогичную «дороге почестей» («cursus honorum»): что подразумевается в панегирическом рассказе Стация о карьере отца Клавдия Этруска, который поднимался от должности к должности, получая всё новые почести88, а также в эпитафиях этих служащих, где их должности перечисляются в восходящем или нисходящем порядке — в подражание надгробным надписям сенаторов и всадников.
Но, анализируя функции и полномочия фамилии Цезаря, некорректно уподоблять ее современной бюрократии. Более подходящие аналогии можно найти в европейских королевских домах эпохи Средневековья и Возрождения. Важной характеристикой дома является то, что он помогает правителю во всех его делах — государственных и частных, крупных и мелких. Частные дела правителя (спальня, стол, конюшни и т. д.) трудно отделить от государственных или административных. Как при средневековом английском дворе создавались многочисленные, — и, с нашей точки зрения, немного нелепые — должности в частной сфере, такие как ответственные за пряности, постельное белье, столовую посуду, лекарства, вьючных лошадей или уборку мусора89, как двор французского короля Франциска I прославился тем, что имел шестьдесят категорий домашней обслуги, вплоть до скорняков, точильщиков кос, гобеленщиков и прачек90, так и в Древнем Риме при дворе императора с головокружительной скоростью разрасталась система должностей, например, имелись ответственные за различные типы платья: частное, выходное, военное, чистое, белое, триумфальное, утреннее, охотничье, царское и греческое (a veste privata, forensi, castrensi, munda, alba, triumphali, matutina, venatoria, regia et Graecula и т. д.), или посуды: хрустальные бокалы, кубки, бутыли, чаттти (a crystallinis, a cyatho, a lagona, a potione и т.д.)91. Бывший раб мог, подобно Тиберию Клавдию Буколе, вольноотпущеннику Августа, вырасти от
87 Weaver 1972 (D 22): 227 сл.; Boulvert 1974 (D 7): 127 сл. — эта авторы пишут об указанных ступенях слишком схематично, ср.: Burton 1977 (D 8).
88 Стаций. Сильвы. Ш.3.63 сл.; ср.: Weaver 1972 (D 22): 284 сл.
89 Given-Wilson С. The Royal Household and the Kings Affinity. Service, Politics and Finance in England 1360-1413 (New Haven; London, 1986): 58 сл.
90 Knecht R. J. H European Studies Review 8 (1978): 2.
91 Hirschfeld 1912 p 13): 307 сл.; Duff 1958 (F 28): 143 сл.; Turcan 1987 p 20): 51 сл.
344
Часть П. Правительство и администрация Империи
дегустатора (praegustator) и виночерпия (tricliniarchus) до прокуратора акведуков (procurator aquarum) и управляющего дворцом (procurator castrensis)92, и это, конечно, влияло на восприятие современниками императорских вольноотпущенников, так что следует по меньшей мере поразмыслить, прежде чем называть их «государственными служащими». Обещание Нерона отделить свой дом (domus) от государства (respublica) так и не было выполнено93.
Перечень должностей, как во дворце, так и за его пределами, отражал многообразную деятельность — от распределения ресурсов и вынесения судебных решений до пиров и развлечений. При Вителлин на руководящие посты в секретариате начали назначать всадников, и это доказывает, что при Юлиях—Клавдиях данные посты стали играть заметную роль в общественной жизни; однако всадники и ранее занимали должности в императорском хозяйстве на менее «политических» позициях: например, Помпей Макр был при Августе заведующим библиотеками (a bibliothecis), не говоря уже о том, что Тиберий назначил всадника ответственным за свои «удовольствия» (a voluptatibus) — позднее вольноотпущенники расценивали эту должность как желанное повышение94. Но всё же невозможно провести четкую и ясную границу между частными и государственными делами. Примечательно, что неизвестно, чем занималось такое важное лицо, как помощник императора, в его ученых занятиях (а studiis) — его обязанности могли включать что угодно, от консультирования императора при сочинении речей до грамматических комментариев во время чтения на досуге95.
Таким образом, чтобы описать природу власти императорских вольноотпущенников, недостаточно сказать, что ранние императоры превратили свой дом в новое средство управления (хотя дело обстояло именно так). Власть вольноотпущенников проистекала от их близости к императору и, соответственно, от возможности так или иначе влиять на распределение ресурсов. Даже слово придворного шута могло стоить человеку жизни96. Могущественные вольноотпущенники Клавдия, в число которых входили евнух Посид и Гарпократ, а также «главы ведомств», своей властью были обязаны тому обстоятельству, что их господин страстно желал раздавать блага и выносить приговоры, но неспособен был детально контролировать всё множество дел. Любовницы императоров, как и многих последующих королей, занимали идеальное положение для того, чтобы добиваться милостей, и Ценида, наложница Веспасиана, имевшая большой опыт придворной жизни, хорошо это понимала97. Неудивительно,
92 CIL XI 3612; XV 7279 = ILS 1567, 8679, 7280.
93 Тацит. Анналы. ХШ.4; Pavis d’Escurac 1987 (D 18).
94 Светоний. Тиберий. 42.2; CIL VI 8619: Януарий, вольноотпущенник Августа, «повышен до прекрасной должности ответственного за удовольствия» («ad splendidam voluptatum statio<nem> [promotus]»).
95 Millar 1977 (A 59): 205; Wallace-Hadrill 1983 (В 190): 83-86.
96 Светоний. Тиберий. 61.6.
97 Светоний. Божественный Веспасиан. 3, 21; Дион Кассий. LXVI.14.
Глава 7. Императорский двор
345
что элиту возмущало богатство и влияние, приобретенное такими посредниками, — возмущало не потому, что использование политического положения для раздачи благ (gratia) стало новым явлением в римском обществе, но в основном потому, что элита традиционно считала осуществление патроната своей собственной прерогативой, определявшей ее сущность. Императорские вольноотпущенники не имели монополии на оказание покровительства, и трения были обусловлены тем, что одновременно с ними эту деятельность при дворе осуществляли и аристократы.
В правление Августа произошел переход от плюралистической республиканской системы патроната, где представители нобилитета соперничали друг с другом, стремясь увеличить число своих клиентов и, следовательно, собственное влияние на римский народ (populus Romanus), к императорской системе, где лишь правитель мог пользоваться поддержкой народа (populus), а элита ждала от него благодеяний, которые, в свою очередь, раздавала другим98. На протяжении правления Юлиев—Клавдиев неуклонно возрастал объем благ, распределяемых правителем: число императорских служащих возрастало, и принцепсы постепенно брали на себя распоряжение такими правами и привилегиями, как право трех детей (ius trium liberorum) или право отсутствовать в сенате, хотя поэтапно проследить этот процесс мы уже не можем. Вместе с тем ядро императорского патроната, вокруг которого наросло всё остальное, существовало с самого начала: им послужило богатство, которое принесли Августу победы в гражданских войнах, и возможность осуществлять назначения в армии и «императорских» провинциях.
Таким образом, с самого начала представители элиты ожидали от императора благодеяний и находились при дворе именно для того, чтобы их добиться. Следовательно, двор играл важную роль в консолидации власти в обществе эпохи Империи99. Во-первых, он позволял правителю контролировать аристократию. Чтобы добиться влияния, необходимо было приехать в Рим и ввязаться в придворные интриги. Это окончательно превратило Рим в арену политических конфликтов и создало препятствия для возникновения альтернативных центров власти в провинциях. «Крупные фигуры» империи всё время были на глазах императора. Он мог управлять их амбициями, стравливая их друг с другом, использовать ресурсы, находившиеся в его распоряжении, — и всё это ради того, чтобы держать их в напряжении, лишать их благосклонности и возвышать новых фаворитов, если влияние прежних становилось чрезмерным и начинало представлять угрозу. Во-вторых, с помощью представителей элиты император мог расширять контроль над империей. Члены правящего класса — сенаторы и всадники — происходили из муниципиев Италии, а на заре Принципата среди них росло число выходцев из западных провинций. При дворе они представляли свои родные области, добивались Для них милостей и вводили всё новых и новых земляков во властные
98 Salier 1982 (F 59): 73 ca.; Wallace-Hadrill 1989 (F 75): 78 сл.
99 Cp.: Elias N. Court Society: 146 сл.
346
Часть П. Правительство и администрация Империи
круги Рима; этот процесс хорошо прослеживается на примере испанцев, число которых на различных должностях заметно возросло в тот период, когда на Нерона оказывал влияние Сенека, выходец из Кордубы100.
В широкий круг честолюбивых и исполненных надежд придворных был вписан внутренний круг друзей (amici), к которым император обращался за советами в различных обстоятельствах: они помогали выносить приговоры — как на публичных императорских слушаниях (cognitiones), так и в более мрачных судах, происходивших в личных покоях (intra cubiculum), — и решать широкий круг вопросов: от обычной рутины до серьезных государственных дел. Пожалуй, иногда даже друзья (amici) не могли бы предсказать важность вопросов, которые им предстояло рассмотреть; возможно, рассказ Ювенала о заседании императорского совета, решавшего, как приготовить рыбу, — всего лишь сатира, но сообщается, что во время кризиса, вызванного восстанием Виндекса, Нерон созвал в свой дом виднейших граждан (primores) только ради того, чтобы после краткого политического совещания целый день посвятить обсуждению типов органов101. Август учредил постоянный комитет сенаторов с установленным членством и ротацией состава, который регулярно собирался и готовил повестку дня сената, но наследники первого принцепса отказались от данного нововведения; после Августа эта деятельность, как и исполнение других обязанностей, велась так же неформально и спонтанно (ad hoc). В классическом исследовании было доказано, что такого явления, как «совет принцепса» (consilium principis), никогда не существовало102. Неопределенность состава и задач внутреннего круга лишь расширяла свободу действий правителя: в этом состоял один из секретов власти (arcana imperii). Но всё же одних людей приглашали на совещания чаще, чем других, и для обсуждения более важных вопросов; именно этих людей следовало бы считать друзьями Цезаря.
Таким образом, доступность императора для элиты приносила выгоду обеим сторонам. Отдельные представители элиты получали допуск к власти и влиянию, а император мог подчинить себе элиту. Это не значит, что двор функционировал плавно и без напряжения. Напротив, его можно назвать полем битвы с гораздо большим основанием, чем сенат, где настоящие сражения разыгрывались только в ходе судебных процессов. При дворе Юлиев—Клавдиев велись особенно жестокие бои, поскольку система находилась еще в стадии становления, а значит, неизбежно возникало ощутимое напряжение. Острота конфликтов отражена в горьких рассказах античных авторов, например, о могуществе преторианского
100 Griffin 1976 (В 71): 81-96.
101 Ювенал. Сатиры. 4; Светоний. Нерон. 41.2: «Но и тогда он не вышел с речью ни к сенату, ни к народу, а созвал во дворец виднейших граждан, держал с ними недолгий совет и потом весь остаток дня показывал им водяные органы нового и необычайного вида, объяснял их в подробностях, рассуждал об устройстве и сложности каждого и даже обещал выставить их в театре, ежели Виндексу будет угодно». — Пер. МЛ Гаспарова) — этот рассказ достовернее сообщения Диона Кассия (ЬХШ.26.4).
1(fo Crook 1955 р 10): 8-20, 104 сл.
Глава 7. Императорский двор
347
префекта Сеяна при Тиберии или Палланта и Нарцисса — при Клавдии. Хорошо просматриваются две сферы конфликтов: столкновения внутри сенаторско-всаднической элиты и столкновения между этой элитой и членами императорского дома, особенно чиновниками-вольноотпущен- никами.
Монархическая природа двора резко контрастировала с республиканской природой сената, поэтому напрашивается предположение, что отношения между сенаторами как группой и несенаторами (всадниками или императорскими вольноотпущенниками) как их противниками всегда были напряженными, — и это предположение можно подкрепить старой теорией о формальном разделе власти между императором и сенатом. Но такой взгляд привел бы к упрощению конфликта103. Действительно, когда Август учредил должности могущественных префектов-всадников, а Гай, Клавдий и Нерон, в свою очередь, дали власть вольноотпущенникам, возглавлявшим секретариат, они тем самым разорвали взаимосвязь между властью и статусом, что привело к странным инверсиям социальной иерархии: например, префекты-всадники приносили клятву верности Тиберию после консулов, но перед остальными магистратами, а вот Полибий, вольноотпущенник Клавдия, на публике шествовал между двумя консулами104. Рассогласование между статусом и властью означало, что, когда император распределял власть, он был не слишком связан социальными ограничениями и мог нейтрализовывать людей, которых считал опасными, всучив им знаки высокого статуса, дававшие очень мало реальной власти105. Похоже, что уже Август видел преимущества такой стратегии и применял ее осознанно.
Но неверно рассматривать сенаторов как группу, единую в политическом или социальном отношении. Как и императорские вольноотпущенники, они тоже являлись порождением двора. Патронат проникал сквозь статусные барьеры: сенаторы заручались поддержкой всадников и вольноотпущенников, но и, наоборот, всадники и вольноотпущенники могли получать должности благодаря посредничеству сенаторов. Союзы наподобие того, который заключили Веспасиан и Нарцисс, приносили выгоду обеим сторонам. Самих сенаторов тоже можно разделить на категории — вероятно, среди них следует выделять не людей «на императорской службе» и всех остальных (ведь император влиял на замещение и тех постов, на которые не мог назначать людей своим решением), но «важных особ», которые быстро повышали собственный статус, но имели мало власти, и «властных особ», которые продвигались наверх медленнее, но получали более ответственные поручения106. Но даже если проводить различие таким образом, мы рискуем недооценить придворное влияние аристократов, быстро сделавших карьеру благодаря хорошим связям и, вероятно,
103 См.: Millar 1977 (А 59): 275 сл.; Brunt 1983 (D 26); Demougin 1988 (D 37).
104 Тацит. Анналы. 1.7; Светоний. Божественный Клавдий. 28; ср. о «нелепом тщеславии» («praepostera ambitio») Анния Мелы: Тацит. Анналы. XVI. 17.
10* Hopkins 1983 (А 46): 176 сл.
106 Hopkins 1983 (А 46): 171; Elias N. Court Society: 169 сл.
348
Часть П. Правительство и администрация Империи
продолжавших использовать свои связи к выгоде других лиц. Разделительные линии внутри придворной элиты пролегали не между группами разного социального статуса, то есть не между сенаторами, всадниками и вольноотпущенниками, связанными узами родства, дружбы и общих интересов, но между группами смешанного статуса: трещины были вертикальными, а не горизонтальными.
Расцвет могущества вольноотпущенников приходится на период, для которого характерны интриги и влияние женщин дома Цезаря. Императорских жен и вольноотпущенников объединяла общая особенность: они принадлежали к «внутреннему» кругу, что отделяло их от элиты, находившейся «вовне». Вольноотпущенники никоим образом не конкурировали с представителями элиты: они не могли занимать должности ни в армии, ни в сенате (хотя могли получить военные или сенаторские знаки отличия в качестве награды); вольноотпущенники не могли быть друзьями (amici) принцепса, и нет никаких свидетельств, что их приглашали на советы (consilium), — Тацит пишет, что Клавдий на совете (in consilio) консультировался со своими вольноотпущенниками, однако это лишь едкая ирония107. Как уже было показано, отпущенники, видимо, не принимали участия и в социальной жизни двора. В отличие от представителей элиты, выступавших посредниками при оказании патроната, сами вольноотпущенники в этой борьбе не участвовали. Они состязались только друг с другом (награждение Палланта преторскими инсигниями отражает его соперничество не с сенаторами, а с таким же вольноотпущенником Нарциссом, который ранее получил квесторские знаки отличия); точно так же и женщины императорского дома соперничали между собой, ибо не были допущены в мужской мир должностей. Поэтому влияние вольноотпущенников следует рассматривать на фоне придворных интриг, в которые были также вовлечены и женщины. И для тех, и для других источником власти служили конфликты соперничавших групп.
Женщины из династии Юлиев—Клавдиев открыто предоставляли патронат разным людям. У нас есть случайные сведения о роли Ливии в продвижении Гальбы и деда императора Отона108. В надписи Август открыто признавал, что она содействовала предоставлению привилегий острову Самос109. Дружеские связи между знатными женщинами выходили за пределы дворца. Сенека (начинавший карьеру при содействии своей тетки Гельвии, которая оказывала поддержку Агриппине) считал само собой разумеющимся, что Марция, близкая подруга Ливии, использовала свое влияние, чтобы обеспечить сыну жреческую должность110. Мессалина злоупотребляла своим положением не потому, что раздавала патронат, а потому, что торговала им: вместе с вольноотпущенниками Клавдия она продавала гражданство столь щедро, что говорили, будто она давала его за стеклянные бусы, — и не только гражданство, не только военные ко¬
107 Тацит. Анналы. ХП.1; ср.: Crook 1955 (D 10): 42.
108 Светоний. Гальба. 5; Светоний. Отон. 1; Purcell 1986 (F 50).
109 Reynolds 1982 (В 270): № 13, строка 5; ср.: Светоний. Божественный Август. 40.
110 Сенека. Утешение кМарции. 24.3.
Глава 7. Императорский двор
349
мандования и провинциальные наместничества, но и вообще всё что угодно111. Еще большее негодование вызвало ее присутствие на суде над Валерием Азиатиком, проходившем в личных покоях принцепса («intra cubiculum»)112.
Участие женщин в предоставлении патроната было не просто побочным эффектом системы. Для императорского двора в период от Августа до Нерона характерны ожесточенные интриги, которые периодически предавались гласности, когда между соперничавшими группами вспыхивали острые конфликты; почти во всех этих конфликтах главную роль играли женщины. Придворные Людовика XIV полагали, что двор расколот между кликами, складывавшимися вокруг различных членов королевской семьи; все политические или религиозные различия между такими кликами были второстепенны113 114. Вероятно, это справедливо и для двора эпохи Юлиев—Клавдиев. Группировки, боровшиеся за власть, были разнородными: в них входили женщины дома Цезаря и их дети, старшие вольноотпущенники, сенаторы и всадники (equites). Рассказывали, что Луций Вителлий, воплощение истинного придворного, трижды консул и цензор, не расставался с туфлей Мессалины и время от времени целовал ее, а изображения Нарцисса и Палланта держал среди своих ларов (lares) (домашние божества, покровители дома и семьи. — С. Т.)ш.
Цель такой клики состояла в увеличении ее влияния на распределение ресурсов. Обычно группировки возникали вокруг потенциальных наследников: уже начало правления Августа отмечено намеками на соперничество между окружением Октавии и ее сына Марцелла, с одной стороны, и Агриппы, Ливии и ее сыновей — с другой115, позднее налицо явные признаки соперничества групп, сплотившихся вокруг Юлии и Ливии, а впоследствии, соответственно, вокруг их сыновей;116 при Тиберии уже прямо сообщается о распре между соратниками Агриппины и сторонниками Сеяна, который имел внебрачную связь с Ливиллой117. Не стоит считать, что такие группы формировались с явным намерением захватить престол: уже само существование потенциального наследника порождало интриги, и, вероятно, противодействие формированию конкурентных групп было одной из главных целей политики внутрисемейных браков и усыновлений, особенно в том виде, как ее проводил Август (хотя она и оказалась неэффективной). Например, брак Тиберия с Юлией не прояснял линию наследования власти, но, видимо, предназначался для снижения напряжения и ослабления соперничества, которые всё же возымели самые печальные последствия.
111 Дион Кассий. LX.17.5—8.
112 Тацит. Анналы. XI.2.
113 Обзор клик см.: Le Roy Ladurie E. Versailes observed: the court of Louis XIV in 1709 Ц The Mind and Method of the Historian /Transi. S. and B. Reynolds. Brighton, 1981.
114 Светоний. Вителлий. 2.
115 Syme 1939 (A 93): 340-342.
116 Syme 1984 (A 94) Ш: 912-936.
117 Levick 1976 (C 366): 148 сл.
350
Часть П. Правительство и адлшнистрация Илтерии
Характерно, что кульминациями конфликтов соперничавших клик становились обвинения в супружеской неверности: их выдвигали против двух Юлий; Ливиллы и Сеяна; сестер Гая; Мессалины; Октавии, помолвленной с Нероном117а. Исследователи часто рассматривают обвинение в супружеской неверности как предлог, маскирующий политические реалии; действительно, перечни «соучастников» двух Юлий в прелюбодеянии доказывают, что дело не сводилось к супружеской неверности118. Но не следует недооценивать угрозу, которую внебрачные связи представляли для стабильности двора (и не стоит преувеличивать невиновность осужденных). Поскольку браки официально использовались как инструмент династической политики для обозначения наследника и объединения потенциально конфликтных групп, измена приводила к противоположным результатам — интриганству самого низкого пошиба и формированию групп, не подконтрольных императору. Внебрачная связь Сеяна с Ливиллой стала его важным шагом на пути к возвышению и приобретению господства над сетью патроната. Конечно, некоторые обвинения в супружеской измене были ложными, и их могли состряпать соперники обвиняемых, лишь бы дискредитировать своих противников (в этом можно заподозрить Ливию). Но, подобно тому как вера людей в божественное покровительство императорской власти обусловила распространение обвинений в колдовстве, так же и обвинения в прелюбодеянии предъявлялись всё чаще, поскольку участники событий усматривали в этих проступках вполне реальную угрозу императорской власти.
Наконец, не стоит преувеличивать прочность таких групп. Их состав был непостоянным и часто менялся. Лояльность и дружеские отношения могли испариться в один миг (сторонникам Сеяна просто не повезло, что они заранее не знали о его падении). Придворные зорко следили за тем, чье положение при императоре укреплялось, а чье — слабело. «Среди дел человеческих нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества» [Пер. А.С. Бобовича): переполненный атрий Агриппины опустел в одночасье, когда прошел слух, что Нерон недоволен своей матерью119. Придворную жизнь Эпиктет сравнивал с участью путешественника, который присоединяется к эскорту должностного лица для защиты от разбойников; дружба Цезаря — столь же ненадежный способ продвижения, ее трудно приобрести и легко потерять, к тому же она ограничена сроком жизни самого Цезаря120. Это справедливо и для дружбы с друзьями Цезаря. Более того, группировки были нестабильны и могли распадаться на несколько частей. Мессалину, объединившись, ниспровергли ее бывшие сторонники — Нарцисс и Вител- лий; во время кризиса Нарцисс не полагался даже на Вигеллия и устроил
117а Когда против Октавии были выдвинуты обвинения в прелюбодеянии, она была не невестой Нерона, а его разведенной женой (Тацит. Анналы. XIV.60). — С.Т.
118 Тацит. Анналы. Ш.24; cp.: Syme 1984 (А 94) Ш: 924 сл.
119 Тацит. Анналы. ХШ.19.
120 Эпиктет. Беседы. IV.I.91—98.
Глава 7. Императорский двор
351
так, чтобы того не допустили в императорские носилки121. В ходе этого переворота Нарцисс воспользовался помощью Палланта, но затем сам был низвергнут объединившимися Паллантом и Агриппиной, когда неосторожно проявил слишком большой интерес к Британнику. Агриппину покинули ее протеже Сенека и Бурр. Такие случаи должны послужить предостережением от любых попыток выявить стабильные политические группировки и союзы.
По мере изменения политических порядков двор вырабатывал новый, свойственный для него образ жизни. Даже сама жизнь придворных, не говоря о преуспевании, постоянно подвергалась опасности. Сенека рассказывает, что, когда пожилого придворного с изумлением спросили, как ему удалось прожить при дворе столь долго, тот ответил: «Я принимал обиды и благодарил за них»122. Находясь при дворе, жизненно необходимо было льстить и утаивать истинные мысли. Далее Сенека рассказывает о выдающемся всаднике Пасторе, который в тот день, когда Гай казнил его сына, был приглашен пировать за императорским столом. Пастор принял приглашение, и его неестественное поведение имело вескую причину — у этого придворного был второй сын. Даже в правление императоров, исполненных лучших побуждений, люди считали необходимым унижаться и лицемерить: Тиберий жаловался на низкопоклонство сенаторов, но не мог его прекратить. В этом отношении сенат функционировал как продолжение двора; раболепие (adulatio), на которое сетовал Тиберий, бесконечные почетные постановления и напыщенные речи исходили от людей, которые хотели продвинуться или просто выжить при дворе.
Лицемерие и лесть были диаметрально противоположны свободе (libertas) откровенных речей и независимых мнений, которыми гордился республиканский нобилитет123 124. Однако в эпоху Принципата люди страстно мечтали о свободе не только из сентиментального традиционализма. Новая придворная жизнь была нестабильной и вызывала огромное психологическое напряжение у придворных, которые с трудом понимали, кому в данный момент можно доверять, а от кого стоит держаться подальше. Страдания друзей опального Сеяна, красноречиво описанные Марком Теренцием, вызвали глубокий отклик в неспокойных душах всех придворных: «Не нам обсуждать, кого ты вознес над другими и по каким причинам ты это сделал: боги вручили тебе верховную власть, а наша слава — лишь в повиновении твоей воле» [Пер. А. С. Бо6овича)ш. Но такая покорность (obsequium) не могла защитить тех, кто поддержал проигравшего.
В атмосфере нестабильности и психологического напряжения важной опорой служила философия. Стоицизм, который учил, что существует лишь одна достойная цель — исполнять общественные обязанности и, невзирая на опасности, стремиться к добродетели, давал жизненно необхо¬
121 Тацит. Анналы. XI.33.
122 Сенека Младший. О гневе. П.33.2.
123 Wirszubski 1950 (А 107): 124 сл.; Brunt 1988 (А 11): 281 сл.
124 Тацит. Анналы. VI.8.
352
Часть П. Правительство и администрация Империи
димое противоядие от лицемерия придворной жизни125. Не случайно стоицизм в лице таких мучеников, как Тразея Пет, процветал при Нероне, когда бесчинства при дворе достигли пика. Философия Сенеки и Эпиктета создавалась бывшими придворными и представляла собой откровенную реакцию против придворной морали. В конце концов стоицизм сумел доказать свою правоту, и тон учения изменился. И всё же даже спустя век император-стоик Марк Аврелий нуждался в этой философии как в лекарстве от придворной жизни с ее показным великолепием и легковесностью, с ее преходящими ссорами и амбициями и от постоянного раздражения, вызванного низостью придворных, с которыми ему приходилось иметь дело126.
IV. Заключение
Двор как социальный и политический институт служил ядром нового режима, установленного Августом и его преемниками. Он воплощал в себе парадоксы этого режима и средства, с помощью которых старые институты города-государства были трансформированы в новые монархические институты. Центром государства стало домохозяйство частного гражданина, унаследовавшее структуру и порядки домохозяйств республиканского нобилитета; вся политическая деятельность велась теперь не во множестве домов, а в одном-единственном, чудовищно разраставшемся в символическом сердце Рима. Вобрав в себя сеть патроната, двор обеспечил императору контроль над политическими делами.
Участники этих событий не могли не замечать сходство императорского двора с царскими дворами Востока. При дворе свобода общества равных сограждан сменилась раболепием. Иным стал тон публичных выступлений: на место бесстыдного самопрославления и безудержных нападок на соперников пришли скрытность и лицемерие по отношению к источнику власти. И всё же переход от города-государства к монархии происходил осторожно и постепенно, причем важное значение имело использование старых форм. Двор при Юлиях—Клавдиях сохранял социальную иерархию Республики и одновременно, по-видимому, подрывал ее и подчинял сенаторов рабам. Первым императорам приходилось реализовывать свою власть совместно с традиционным правящим классом, а не против него. Для установления собственного верховенства принцепсы задействовали республиканские формы, сохраняя видимость уважения к согражданам. Придворные ритуалы позволяли императорам, с одной стороны, опираться на республиканскую статусную иерархию, чтобы узаконить свое положение, а с другой — стравливать аристократию с новыми людьми, прибывшими в Рим из провинций, и незнатными, но могуще-
125 О стоицизме и политике см.: Brunt 1975 (F 107); о дворе Нерона см.: Griffin 1976 (В 71); Warmington 1969 (С 409): 142-154.
126 Ср.: Brunt 1974 (В 19).
Глава 7. Императорский двор
353
сгвенными вольноотпущенниками. Доступность императора для высших классов и его «гражданственное» обращение с ними как с «равными» были важными составляющими его политической стратегии, и именно это резко отличает императорский двор от дворов всех эллинистических монархов.
В период от Августа до Нерона придворные обычаи только развивались и еще не установились окончательно. Но наблюдается несомненная тенденция к их формализации и институционализации. Осязаемым примером может служить разветвление секретариата и развитие его внутренней иерархии. Следует также подчеркнуть, что при смене императоров двор обеспечивал преемственность127. Система правления, установленная Августом, была уникальна тем, что не имела правового определения и опиралась на харизму его личности, и когда мы задаемся вопросом о том, что именно обеспечило ей стабильность, позволило пережить эксцентричные выходки четырех членов императорского дома и новую гражданскую войну и превратило ее в порядок, вне которого мирное существование уже не мыслилось, то отчасти ответ можно найти в такой институции, как императорский двор. Опала политических фаворитов, таких как Сеян или Сенека, наделала много шуму, но в основном состав двора был стабильным. Флавиям служили многие придворные Юлиев—Клавдиев, имевшие большой опыт пребывания у власти. Отец Клавдия Этруска, имя которого до нас не дошло, вольноотпущенник, служивший всем Цезарям от Тиберия до Домициана и умерший на девяностом году жизни, восхищал Стация тем, что пережил столько перемен упряжи и столько штормов128. Немногие могли сравниться с ним в долголетии, однако императорские рабы и вольноотпущенники, изначально принадлежавшие лично Августу, автоматически переходили на службу к новому режиму, обеспечивая стабильность персонала.
Такое же постоянство наблюдалось и в высших социальных слоях. Поразительно, какие длительные и тесные связи имели преемники Нерона с двором Юлиев—Клавдиев. Гальба начинал как фаворит Ливии и служил последующим императорам, будучи особенно близок с Клавдием, который ввел его в свою «когорту друзей» («cohors amicorum»)129. Отон был внуком другого протеже Ливии, а его отца Клавдий так любил, что поставил в его честь статую на Палатине; Отон и сам скандально прославился дружбой с Нероном130. Вителлий, внук прокуратора Августа и сын самого искусного из придворных Клавдия, имел также дядю, чьи связи с Сеяном стоили последнему жизни; сам же Вителлий с примечательной гибкостью следовал вкусам каждого Цезаря: он был фаворитом императора при Тиберии, возничим при Гае, игроком в кости при Клавдии и
127 Crook 1955 р 10): 29, 115 ел. и т. А
128 Стаций. Сильвы. Ш.3.83 сл.: «tu totiens mutata ducum iuga rite rulisti | integer, inque omni felix tua cumba profundo»; Weaver 1972 p 22): 284 сл.
129 Светоний. Гальба. 5, 7.
130 Светоний. Отон. 1.
354
Часть П. Правительство и администрация Империи
музыкантом при Нероне131. Веспасиан, как мы видели, встретил при дворе и милость, и опалу, а его сын Тит был настолько близок с Британником, что чуть не разделил его судьбу. Даже на исходе века мы видим шестидесятилетнего императора Нерву, ранее удостоившегося статуи на Палатине за преданность Нерону: три поколения его семьи хранили верность династии со времен Брундизийского мира 39 г. до н. э.132. Если бы биографии других придворных были известны столь же хорошо, как и биографии императоров, мы знали бы гораздо больше семей, неизменно служивших династии.
Траян будто бы говорил, что Домициан был очень дурным императором, но имел хороших друзей133. Но императоры неизбежно наследовали друзей и слуг своих предшественников, как хороших, так и плохих, ибо обойтись без помощи придворных стало невозможно. Эта взаимозависимость была жизненно важна для правящих кругов. Август и его наследники нуждались в придворных, чтобы править; но если императору что- то грозило, то уже придворные были заинтересованы в его благополучии. Одним словом, несмотря на свойственные двору конфликты и неприятные черты, эта система власти стремилась к самовоспроизводству.
131 Светоний. Вителлий. 2-4.
132 Crook 1955 (D 10): 159 сл.; о консульстве отца Нервы см.: АЕ 1979: 100.
133 Жизнеописания Августов. Александр Север. 65.5; ср.: Тацит. История. IV.7.3: «Хорошие друзья — главная опора всякой справедливой власти» («nullum maius boni imperii instrumentum quam bonos amicos esse». — Пер. Г.С. Кнабе).
Глава 8
Д.-У. Рэтбоун
ФИНАНСЫ ИМПЕРИИ
Чтобы лучше понять, какие экономические ресурсы находились в распоряжении императоров от Августа до Вителлия и как те оперировали ими, следует сопоставить их с государственными расходами Римской империи1.
Империи требовалось войско, и в правление Августа возникла регулярная армия; ее численность и условия службы легионеров оставались в целом неизменными на протяжении периода, рассматриваемого в данном томе КИДМ, хотя формирование вспомогательных войск в их окончательном виде потребовало несравненно большего времени2. Ежегодное жалованье легионеров составляло девятьсот сестерциев; всадники, высшие чины и преторианцы оплачивались гораздо лучше. Из жалованья военнослужащего удерживались определенные суммы в уплату за снаряжение и одежду и почти наверняка — за продовольствие. Легионер, доживший до отставки, в теории должен был получить премию в 12 тыс. сестерциев, что превышало жалованье за двенадцать лет и, таким образом, составляло треть общей суммы, выданной этому ветерану за время военной службы; но нередко вместо этой выплаты (или ее части) ему выделяли участок земли в приграничной зоне. Превращение вспомогательных войск, традиционно поставлявшихся союзными государствами для решения конкретных задач, в регулярные части римской армии и стандартизация условий их службы и вознаграждения происходили медленно и продолжались еще в правление Флавиев. К сожалению, точно неизвестно, какую величину составляло жалованье солдата вспомогательных войск (пехотинец мог получать от половины до пяти шестых жалованья легионера) и когда оно было стандартизировано (возможно, произошло это при Клавдии, но не исключено, что лишь при Флавиях). В источниках
1 Общее рассмотрение этих вопросов см.: Frank 1940 (D 128) V: гл. I—П; Neesen 1980 (D 151); Lo Cascio 1986 (D 145); Noe 1987 (D 152).
2 См. гл. 11 наст. изд.
356
Часть П. Правительство и администрация Империи
за этот период нет свидетельств о предоставлении денег или земли солдатам вспомогательных войск, увольняемым в отставку. Вместо этого начиная с правления Клавдия самой малозатратной наградой служило предоставление римского гражданства вкупе с частичным освобождением от налогов, которого, вероятно, удостаивались все ветераны. Порой жалованье солдат подкреплялось премиями — императоры выплачивали их в связи с политическими событиями (еще одним источником обогащения воинов порой становилась добыча, хотя вряд ли ее можно отнести к государственным тратам). Военные расходы включают также затраты на материалы для строительства оборонительных сооружений и лагерей, все виды снаряжения, транспорта и верховых животных, а также провиант. Требовалось финансировать и флот. Точно подсчитать общую годовую стоимость содержания вооруженных сил империи невозможно из-за множества переменных и неизвестных факторов. Большинство современных исследователей оценивают средний годовой фонд жалованья (до его повышения при Домициане) не менее, чем в 400 млн сестерциев, не считая выплат при увольнении3. Даже если эти оценки и не ошибочны, они всё же вводят читателя в заблуждение. Значительная часть расчетного фонда, вероятно, никогда не выплачивалась наличными, поскольку действовала система вычетов из полагавшегося жалованья. С другой стороны, с ростом числа вспомогательных частей и упорядочением выплаты им вознаграждения общий фонд должен был постепенно возрастать. Фактические денежные расходы множились также в пору военных кампаний — вероятно, они шли главным образом на обеспечение дополнительного снабжения: сообщается, что раб-интендант (dispensator), ответственный за снабжение армянских операций Нерона, сумел прибрать к рукам 13 млн сестерциев и за эти деньги выкупился на свободу4. Однако в целом военные расходы искусственно занижались, поскольку для пополнения вспомогательных частей, а иногда и легионов регулярно использовался набор, и правительство не рассчитывало, что жалованье привлечет добровольцев.
Империи требовалась администрация, главным образом для управления финансами и поддержания законности и правопорядка. Должностных лиц, получавших жалованье, было немного — наместники и легаты сенаторского ранга, а также прокураторы-всадники, число которых постепенно возрастало, однако их жалованье было весьма значительным и могло составлять свыше 50 млн сестерциев в год, которые, вероятно, выплачивались наличными; кроме того, на службе у них состоял постоянный и неуклонно разраставшийся штат канцелярских служащих, которые снимали сливки с государственных доходов5. Однако многие административные расходы оставались скрытыми. Предполагалось, что император, сенаторы и члены городских советов по всей империи должны
3 Hopkins 1980 (D 133): 124-125; MacMullen 1984 р 146).
4 Плиний Старший. Естественная история. VII. 129.
5 Frank 1940 (D 128) V: 6.
Глава 8. Финансы Империи
3 57
были исполнять государственные обязанности за собственный счет, и это соображение приводилось как обоснование их экономического доминирования6. В качестве подчиненных они должны были использовать зависимых от себя лиц — и первоначально «фамилия Цезаря» (императорские рабы и вольноотпущенники) существовала за счет императора, хотя затем стала частично финансироваться из государственных доходов. Кроме того, для исполнения полицейских и административных функций центральное правительство и его представители в провинциях использовали прикомандированных солдат. Если в интересах государства возникала необходимость в каком-либо транспорте, работах или провианте, то как центральное, так и местные правительства и уполномоченные ими лица имели право требовать от подданных, по сути, всё что угодно. Наиболее показательными примерами могут служить государственная почта (cursus publicus) и исключительно хорошо засвидетельствованные местные трудовые повинности в Египте7.
В империи не существовало экономических и социальных программ, однако она несла огромные расходы на строительство общественных зданий и дорог, на гражданские ритуалы, такие как жертвоприношения, игры и пиры, на артистов, атлетов и преподавателей, на чеканку монеты и обеспечение регулярных поставок основных продуктов питания для городского населения, — словом, на создание и поддержание того, что мы называем римской цивилизацией. В провинциях и Италии эти расходы обычно ложились на местную аристократию, которая в эпоху Ранней империи, как правило, не возражала против этого бремени — в обмен на престиж, укреплявший ее власть. В самом Риме Август учредил сенаторские комиссии по надзору за общественными зданиями и сооружениями, а также возродил жреческие коллегии, и тем не менее аристократам запрещалось проявлять инициативу из опасения, чтобы они не стали соперниками императора в сфере благотворительности8. В определенных случаях сенаторы еще могли устраивать игры, но за все главные общественные здания и сооружения, за крупные праздники и снабжение населения зерном теперь отвечал император. Начиная с Августа императоры время от времени проводили подобные мероприятия и в других городах Италии и провинций, используя, например, такую тактику, как финансирование строительства через посредство своих родственников, а также перенаправление императорских налогов или освобождение от них местных советов в целях содействия муниципальным проектам9.
Помимо этой государственной благотворительности, которую можно расценить как обязательную, от всех богатых и выдающихся людей империи подданные ожидали также ситуативной щедрости, а более всего —
6 Veyne 1976 (А 98).
7 Pflaum 1940 CD 153); Tones 1974 CD 137): 169 (примеч. 96), 180; Mitchell 1976 (В 255); Lewis 1982 (E 945).
8 Eck 1984(D 39).
9 Bourne 1946 (D 115); Corbier 1985 (D 124); Mitchell 1987 (D 150).
358
Часть П. Правительство и адллинистрация Иляперии
от самого богатого и выдающегося человека — императора10. Он выражал свою дружбу и доверие, раздавая придворным поместья и другие «бонусы» в денежной и имущественной форме. Особые заслуги соответствующим образом вознаграждались, будь то крупная сумма для влиятельного вольноотпущенника либо несколько монет для уличного поэта. Порой император прощал городу часть налогов просто в знак своего расположения; Нерон мог освободить от налогов даже целую провинцию. Желая потешить свое тщеславие и продемонстрировать превосходство, император иной раз бросал римской толпе жетоны, дававшие право получить от него подарки-сюрпризы, которыми могли стать наличные деньги и всевозможные вещи. Нереально составить полное представление о масштабах императорских дарений, да никто и не пытался. «Нет ничего, чего нельзя было бы обрести от моих щедрот», — сказал Нерон11. Поскольку такие «спонтанные» дарения неизменно ожидались от императора, как и от местных магистратов (хоть и в меньших масштабах), их следует относить к государственным расходам.
Стоимость всей этой благотворительности — как обязательной, так и спонтанной — подсчитать невозможно. Важнее ее соотношение с военными расходами. Например, сообщается, что при императоре Клавдии для осушения Фуцинского озера понадобилось более одиннадцати лет и 30 тыс. человек (хотя, возможно, имеется в виду 30 тыс. человеко-дней); предварительная же оценка затрат на строительство нового порта в Остии оказалась столь велика, что архитекторы ожидали угасания энтузиазма Клавдия в отношении этого сооружения. Параллельно император осуществлял и другие строительные проекты, устраивал роскошные представления, иногда проводил раздачи. Сообщается, что вольноотпущенники Паллант и Нарцисс скопили на пару сумму, равную полутора годовым военным бюджетам12. По-видимому, Клавдий ежегодно тратил в Риме и его предместьях — и непременно наличными — столько же, сколько составлял расчетный фонд военных расходов, и это при том, что на практике значительная часть затрат на армию была условной, поскольку их покрывали поставки натурой. Если учесть также невоенные расходы за пределами Рима и его предместий, то весьма вероятно, что в данный период военные расходы, будучи самой крупной постоянной статьей в бюджете империи, составляли в среднем менее половины всех затрат империи. Утверждения более поздних римских авторов о том, что высокое налогообложение было оправдано необходимостью содержать войска, занятые поддержанием мира, ощутимо попахивают пропагандой.
Для возмещения этих разнообразных расходов государство имело столь же разнообразные активы и доходы. Римское правительство, унаследовавшее идеологию греческого города-государства, не собирало со своих граждан (где бы они ни проживали) регулярных прямых подуш¬
10 Kloft 1970 (D 138).
11 GCN 64: стк. 10-11.
12 Thornton 1989 (F 594): гл. V-VI; Frank 1940 (D 128) V: 42, 57; Noe 1987 (D 152): 49-51.
Глава 8. Финансы Империи
359
ных налогов и не облагало налогами «землю граждан» (то есть землю, которой собственники владели «по праву квиритов» — «iure Quiritium»), а она включала материковую Италию и территории заморских колоний римских граждан и провинциальных городов, обладающих италийским правом (ius Italicum)13. Как имперская держава, Рим взимал прямые налоги или арендную плату с остальных подвластных ему земель и народов. Вряд ли в эпоху принципата фискальная эксплуатация получила последовательное юридическое обоснование; вместо этого господствовал прагматизм14. Там, где существовали сложные доримские фискальные системы (главным образом в старых эллинистических царствах), их обычно адаптировали и сохраняли, в целом же в таких регионах процветала консервативная идеология фискального минимализма (никаких новых налогов, никакого повышения прежних). Ежегодный подушный налог (выплачивавшийся наличными) был впервые учрежден Августом в Египте; цензовые мероприятия, аналогичные переписям римских граждан, постепенно распространились на восточные провинции, а провинциям Северной и Центральной Европы была в ускоренном порядке навязана римская налоговая система, а вместе с ней и денежные отношения15. Учреждение в провинциях регулярного подушного налогообложения позволило Августу и его преемникам покончить с нерегулярными эллинистическими подушными податями (время от времени их продолжали собирать и республиканские наместники) и прекратить взимание трибута в Италии, временно возобновленное в период триумвирата. Однако время от времени правительство по-прежнему эксплуатировало подданных Рима и даже римских граждан в упрощенном порядке — такая эксплуатация могла включать, в частности, конфискацию земли для колоний или ветеранских поселений (не всегда осуществлявшуюся в наказание за нелояльность), постои, реквизицию скота и провианта для военных или административных целей и набор в армию16.
На заре Принципата в разных провинциях по-прежнему собирались различные прямые налоги, которые начислялись на разных основаниях и по разным ставкам. В этой сфере сохранялись республиканские представления и термины: фискальная стоимость провинции оценивалась как годовая сумма наличных поступлений оттуда, понятие «vectigalia» по-прежнему могло обозначать все налоговые поступления с провинции (прямые и косвенные), a «stipendium» — общую сумму прямых налогов с сенатской провинции. Но уже развивалась новая классификация: теперь дефиниция «vectigalia» уже часто обозначала исключительно косвенные налоги, a «tributum» — регулярные прямые налоги (а не чрезвычайный сбор, взимавшийся наличными, как то происходило в эпоху Республики), которые распадались на две основные категории: налог с земли (tributum soli) и налог с лица (tributum capitis). В этом не следует усматривать некую про¬
13 Neesen 1980 (D 151): прежде всего 19—22.
14 Neesen 1980 (D 151): 22, примеч. 4.
15 Brunt 1981 (D 118); Rathbone 1993 (E 962).
16 См. сноску 7 наст, гл., а также: Brunt 1974 (D 171).
360
Часть П. Правительство и администрация Империи
грамму стандартизации прямого налогообложения, тем более что некоторые исследователи оспаривают представление о том, что подушные налоги взимались во всех провинциях. Изменения в терминологии указывают на то, что была предпринята какая-то попытка упростить и усовершенствовать общее управление налогообложением, а наместники провинций утратили независимость в фискальных вопросах и были подчинены центральному правительству империи17.
Отныне взимание прямых налогов в основном было поручено формально автономным городам и народам империи, каждый из которых обязан был ежегодно вносить установленную сумму прямого налога, предписанную правительством в денежном выражении. Основные меры для отмены десятин и практики их сбора римскими откупщиками (publicani) в грекоязычных провинциях осуществили, судя по всему, Авл Га- биний и Юлий Цезарь. И десятина, и откупщики сохранились на Сицилии, но ни Август, ни его преемники не позволяли откупщикам собирать прямые налоги в новых провинциях18. Общая сумма прямых налогов, причитающаяся с каждой общины, подчитывалась путем умножения налогооблагаемой базы (площадь земли и, вероятно, численность населения) на соответствующие налоговые ставки. В одних случаях эта сумма могла исчисляться на основании данных римского ценза, в других фигурировала просто некая величина, которую город называл по традиции, для многих же племен, вероятно, это была не более чем произвольная цифра. Городской совет (или вожди племени) обязаны были возмещать любые недостачи в причитавшейся с них итоговой сумме, но чаще, вероятно, получали неплохую прибыль — либо путем вымогательства, либо за счет возрастания фактической налогооблагаемой базы с момента первоначальной оценки. Основная работа местного римского финансового чиновника (квестора — в провинции римского народа или прокуратора — в императорской провинции) состояла, видимо, в том, чтобы обеспечивать своевременную и полную выплату предписанного налога и — что несколько усложняло задачу — поддерживать приемлемое соотношение денежных и натуральных сборов.
Хотя общие суммы налоговых поступлений с провинций и общин обычно указывались в денежном выражении, прямые поземельные налоги часто оценивались и собирались в натуральной форме — в основном это было зерно, а не деньги. (Нельзя исключать и того, что крестьяне рассчитывались с местным сборщиком натурой, а тот продавал продукцию и выплачивал правительству наличные, но это отдельный вопрос.) Ранние свидетельства из Египта и Британии об adaeratio (то есть о замене хлебной повинности на денежные выплаты по официально установленной фиксированной цене) и более широко засвидетельствованные государственные закупки зерна (судя по ним, натуральные налоговые поступления не удовлетворяли потребность правительства в зерне, поскольку
17 Neesen 1980 (D 151): 25-29, 117-120.
18 Brunt 1990 (D 119); Jones 1974 (D 137): 164-168, 180-183; Cimma 1981 (D 121).
Глава 8. Финансы Империи
361
слишком большая часть налогов собиралась в денежной форме) предполагают, что римское правительство с самого начала проявляло гибкость в вопросе о форме уплаты налогов19. Существовала официально установленная оценка зерна для фискальных целей, позволявшая пересчитывать и регистрировать налоговые сборы в денежном выражении, вне зависимости от того, какая доля из них в тот или иной год выплачивалась натурой. Невозможно определить цифру, отражающую среднюю годовую пропорцию между прямыми налогами, собиравшимися в натуральной форме, и прямыми налогами, поступавшими в денежной форме, но, по-видимому, в начале Принципата неденежная часть была куда больше, чем это обычно считается.
В Римской империи собиралось также множество косвенных налогов — вектигалей (vectigalia)20. Их основной разновидностью были таможенные сборы (portoria), которые обычно взимались в портах, на рубежах империи, на границах между провинциями или группами провинций, а иногда — на внутренних границах в пределах одной провинции. На восточных рубежах ставка составляла, судя по всему, двадцать пять процентов от полной стоимости товара; известные нам ставки на границах между провинциями колеблются в диапазоне от двух до пяти процентов. В Италии доход правительства империи складывался из однопроцентного налога на торги (centesima rerum venalium), четырехпроцентного (первоначально — двухпроцентного) налога с продажи рабов, сборов у ворот Рима, пятипроцентного налога на наследство (vicesima hereditatum; уплачивался с наследства всех римских граждан (независимо от их места жительства), владевших имуществом свыше определенного размера и не имевших наследников, которые состояли бы с ними в близком родстве), а также пятипроцентного налога со стоимости рабов, отпущенных римскими гражданами на свободу. Местные власти в городах империи устанавливали и другие косвенные налоги и с их помощью пополняли казну.
В начале Принципата, как и в эпоху Республики, имперские косвенные налоги по-прежнему собирались откупщиками. Ранее контракты с ними заключали цензоры, и они же контролировали их исполнение; теперь эти задачи были поручены новым императорским финансовым чиновникам; в Италии данная сфера деятельности, несомненно, входила в круг обязанностей префекта государственной казны21. В теории государство уступало некоторую часть прибыли откупщикам, но на практике эта система позволяла избежать излишней бюрократизации и стабилизировать поступления. Невозможно оценить значение косвенных налогов для центрального правительства по сравнению с прямыми, но для государ¬
19 Тацит. Агрикола. XIX.4; Neesen 1980 (D 151): 104-116; Brunt 1981 (D 188): 161-162; Rathbone 1989 (E 960): 178-174.
20 Общие сведения см.: de Laet 1949 (D 140); Neesen 1980 (D 151): 136—141; см. сноску 18 наст. гл. О положении в Азии и Египте см.: Engelmann, Knibbe 1989 (В 229); Sijpesteijn 1987 (E 965); Wallace 1938 (E 979).
21 Дион Кассий. LX. 10.3; Corbier 1974 {D 122); Millar 1964 (D 149); см. сноски 18 и 20 наст. гл.
362
Часть П. Правительство и администрация Империи
ственных финансов они, вероятно, были очень важны. С политической точки зрения, проще было повысить или учредить косвенные налоги, чем прямые. На практике так и выходило: все новые налоги, установленные в начале Принципата, были косвенными. Другое преимущество этой формы налогообложения состояло в том, что отдача от косвенных налогов была довольно скорой, ведь в некоторых случаях они уплачивались прямо в Риме, причем римские граждане, кроме, возможно, ветеранов, от них не освобождались. В конечном счете, лишь посредством косвенных налогов правительство империи могло на постоянной основе эксплуатировать частное богатство римлян; помимо данных сборов, оно получало лишь поступления с земельных владений римских граждан на территориях, не освобожденных от tributum soli.
Государство владело также материальными активами, прежде всего землей, городской недвижимостью и рудниками. Формально вся общественная земля (ager publicus), не переданная в частное владение, по- прежнему принадлежала Римскому государству и приносила ренту. К сожалению, неизвестно, сколько еще оставалось этой земли, собиралась ли с нее арендная плата и если собиралась, то каким образом. Вместе с тем известно, что правительство по-прежнему сдавало на откуп публиканам сбор платежей (последние назывались «scripturae») за пользование общественными пастбищами в Италии, Кирене, а возможно, и в других местах. Многие города тоже владели землями — причем не только на своей территории — и сдавали их в аренду; эта категория общественной собственности постоянно расширялась за счет наследств частных лиц. Что касается других материальных активов государства, то общественные здания, скорее, следует рассматривать как финансовые обязательства. Однако в храмах хранились сокровища, которые в случае необходимости можно было «заимствовать», склады же, торговые площади в портиках и другие функциональные помещения могли сдаваться городскими властями в аренду.
Владения самого императора, его Patrimonium, тоже следует рассматривать как государственные фонды22. Император был не просто одним из представителей богатой имперской элиты, которая исполняла общественные обязанности и финансировала общественные проекты из личных средств. Значительная часть императорской собственности, возможно, была приобретена благодаря операциям между частыми лицами, таким как наследование, личное дарение или покупка, да и завещания императоры составляли так, словно являлись частными лицами. Однако императорский патримоний переходил от одного императора к другому как атрибут должности, а не как обычное наследство; вполне очевидно, что именно так он доставался императорам от Отона до Веспасиана, но впервые, вероятно, особый статус патримония был признан обществом, когда к власти пришел Гай. Иное дело, например, консулы — они не на¬
22 Millar 1977 (А 59): гл. IV, а также Приложения 1—3; Rogers 1947 (D 154); Crawford 1976 (D 125); Parässoglou 1978 (E 956); Rathbone 1993 (E 962).
Глава 8. Финансы Империи
363
следовали личное состояние своих предшественников23. Более того, патримоний всё увереннее заявлял свои права на ряд «общественных» источников дохода, и, хотя формально он функционировал обособленно от государственных финансов, его служители, как прокураторы-всадники, так и императорские вольноотпущенники и рабы, вскоре стали неотъемлемой частью государственной бюрократии.
Изначально в патримоний входили родовые поместья, городская недвижимость, рабы и другие владения Юлиев, Октавиев и Клавдиев. Согласно Тациту, при Тиберии патримоний в Италии, по сенаторским стандартам, был еще невелик; это замечание предполагает, что к концу столетия он существенно вырос. Кроме того, императоры с самого начала владели обширными землями в провинциях. Наилучшим примером могут служить крупные поместья в Египте, приобретенные Августом (известные там как ousiai); другой пример — «половина» Африки, конфискованная Нероном24. Ни одно частное состояние не росло столь стремительно, как патримоний, ибо положение императора давало ему исключительные возможности для расширения своих владений. Как и всякий римский нобиль, он ожидал наследств от родственников и друзей и конечно же получал их, но у тех императоров, что были склонны к стяжательству, категория «друзей» могла включать почти весь италийский нобилитет и некоторых выдающихся провинциалов, особенно зависимых царей. В I в. н. э. к патримонию постепенно перешли права эрария на bona vacantia (имущество, владелец которого был неизвестен, как правило, потому, что прежний владелец умер, не оставив завещания и не имея родственников), bona caduca (имущество, которым завещатель распорядился незаконно) и bona damnatorum (имущество осужденных преступников). Поскольку в Египте уже с момента его присоединения к империи вся подобная собственность поступала в распоряжение фиска (то есть в состав патримония; о фиске см. далее, с. 367—369. — О.Л), данную практику явно следует рассматривать как царскую прерогативу, заимствованную из эллинистических обычаев. В патримоний включалась также добыча (manubiae) от военных кампаний императора и золотые короны, которые иногда добровольно преподносили ему провинциальные общины в честь военных побед. На земельных угодьях императора (как и на землях любого нобиля) велась хозяйственная деятельность: разводились стада, перегоняемые с одного пастбища на другое, разрабатывались глиняные карьеры и функционировали гончарные мастерские, предприятия по обработке кожи и ткани, лавки городских ремесленников и так далее. При Августе и Тиберии почти все рудники, которыми еще не управляло государство, перешли в состав патримония, многие из них, если не все, были взяты под вооруженную охрану; так поступали и с новыми рудниками, например в Британии. Некоторые каменоломни тоже стали импе¬
23 Bellen 1974 (D 112).
24 Тацит. Анналы. IV.6; Плиний Старший. Естественная история. ΧΥΙΠ.35.
364
Часть П. Правительство и адллинистрация Иллперии
раторской собственностью25. В самом Риме императоры владели складами, где хранилось всё что угодно: от продукции их собственных поместий до экзотических даров иноземных посольств. Имелся и дворец, который каждый император из династии Юлиев—Клавдиев считал своим долгом существенно расширить, а также императорские сады; хотя эти земли и здания вряд ли могли быть выставлены на продажу, их роскошная отделка и обстановка представляли собой крупное состояние. Количественно оценить вклад патримония в императорские финансы невозможно, однако его политическое значение очевидно: он позволял императорам утверждать, что они не эксплуатируют, а субсидируют государственный бюджет.
Таковы в общих чертах были ресурсы, доступные имперскому правительству для возмещения его расходов. Последний вопрос, на котором следует остановиться, прежде чем описывать механизм управления имперскими финансами, — это деньги империи и их изготовление26. Римская денежная система, упорядоченная Августом около 19 г. до н. э., была триметаллической и включала монеты из почти чистого золота и серебра, а также несколько разновидностей монет, которые для удобства называют бронзой (или aes), хотя некоторые экземпляры были отчеканены из почти чистой меди, а другие — из орихалка, то есть сплава меди и цинка. В системе, которую ввел Август, в обращении находились следующие основные монеты, соотношения между которыми были закреплены государством: золотой аурей, серебряный денарий (У25 часть аурея), медный асе (}/\§ часть денария) и мелкие монеты, составлявшие доли асса; однако основной расчетной единицей оставался сестерций, равный четырем ассам, хотя монеты-сесгерции (из орихалка) встречались редко. Что касается веса, то из одного римского фунта золота чеканили сорок или сорок два аурея, а из одного фунта серебра — восемьдесят четыре денария. Эти стандарты существовали до реформы Нерона 64 г. н. э. Он сохранил номинальную стоимость монет системы Августа и их соотношение, но из фунта стал чеканить по сорок пять ауреев и девяносто шесть денариев. Кроме того, содержание серебра в денарии было понижено в среднем до 93,5%. Хотя попытка Нерона учредить «бронзовую» чеканку только из орихалка вскоре потерпела неудачу, в основных чертах его система сохранялась до правления Коммода.
Различные номиналы монет системы Августа—Нерона выпускались в разных объемах, часто с перерывами, на двух основных и нескольких второстепенных монетных дворах. Монетный двор в Лионе (Лугдун) производил почти все золотые и серебряные монеты империи с 15 г. до н. э., пока Нерон (или, возможно, Гай) не перенес производство на монетный двор в Риме. С 23 или 19 г. до н. э. римский монетный двор чеканил большую часть «бронзовых» монет империи, но почти при всех импера¬
25 Domergue 1990 (Е 216); Dodge 1992 (D 127): гл. 5.
26 Burnett, Amandry, Ripolles 1992 (В 312); Sutherland 1984 (В 357); Crawford 1985 (В 320): гл. 17; Walker 1976 (В 361).
Глава 8. Финансы Империи
365
торах засвидетельствованы спорадические и порой довольно крупные региональные выпуски имперских монетных типов на провинциальных монетных дворах. Производство основных имперских монет дополняла чеканка серебряных тетрадрахм, дидрахм и драхм на монетных дворах нескольких греческих городов, прежде всего Эфеса, Пергама, Кесарии Каппадокийской и Антиохии Сирийской. На этих и других городских монетных дворах иногда выпускались и довольно крупные серии бронзовых разменных монет. В Египте велась собственная внутренняя чеканка, основой для которой послужила александрийская тетрадрахма. На Западе местных монетных дворов всегда было мало. Большинство из них располагалось в Испании, они чеканили исключительно бронзовые монеты; те дворы, что пережили Тиберия, были закрыты Гаем. В общих чертах система монетной чеканки в этот период выглядела так: монетные дворы в Риме и Лионе выпускали золотые монеты для всей империи, а серебряные и бронзовые — для всех западных провинций; западные серебряные монеты попадали и на Восток, однако там преобладала местная чеканка, а потребность восточных провинций в бронзовых монетах почти полностью удовлетворяли региональные монетные дворы.
Выпуск монет контролировал в основном император. Почти все слитки драгоценных металлов, использовавшиеся в монетном деле, происходили из подвластных ему источников; одним из первых примеров может служить изъятие слитков в Галлии, предпринятое прокуратором Лици- ном, вольноотпущенником Августа, вероятно, для снабжения нового монетного двора в Лионе27. Контроль над государственными монетными дворами, по крайней мере в Риме, был снова поручен монетным тресви- рам (tresviri monetales) — молодым людям из сенаторского сословия, полный титул которых («aere argento auro flando feriundo»27a) предполагает надзор за производством всех номиналов. На протяжении недолгого времени Август позволял им выбирать изображения для некоторых выпусков, но этим их независимость и ограничивалась. Буквы «S.C.» («senatus consulto»27b), встречающиеся на новых бронзовых монетах Августа, а также на некоторых провинциальных выпусках и имперских выпусках Нерона, не указывают на то, что сенат продолжал контролировать чеканку, но декларируют, что это — официальные римские денежные знаки (ныне с этим согласны все исследователи); первоначально данные буквы могли относиться к постановлению сената, которым были одобрены новые весовые стандарты системы Августа28. В провинциях многие «местные» выпуски, такие как кистофорные тетрадрахмы провинции Азия (с латинскими легендами), являлись, по сути, «имперскими». Монетный двор в Александрии находился под прямым контролем императора, и при Тиберии доля серебра в александрийских тетрадрахмах была изменена, чтобы соответствовать денарию; примерно в то же время Пальмира и
27 Дион Кассий. LTV.21.
27а «Для литья и чеканки меди, серебра, золота». — О.Л.
27Ь «Согласно постановлению сената». — О.Л.
28 WaUace-Hadrill 1986 (В 362); Kraft 1962 (В 334); Griffin 1984 (С 352): 57-59, 120-125.
366
Часть П. Правительство и администрация Империи
правители Иудеи вынуждены были привести свою серебряную чеканку в соответствие с римской. Закрытие всех монетных дворов в Испании указывает, без всякого сомнения, на вмешательство императора, и примечательно, что многие из спорадичных восточных выпусков совпадали по времени с военными действиями в этом регионе29. Император мог контролировать чеканку когда хотел и где хотел; иногда он допускал местную инициативу, но это не свидетельствует о реальном разделении власти. Таким образом, теоретически император имел возможность в общем плане регулировать количество и тип монет, находившихся в обращении; вопросы о том, когда и где он желал этого, а когда и где не желал, подводят нас к более масштабной проблеме управления имперскими финансами в целом.
Детальный количественный анализ производства монет в Ранней империи требует систематического исследования числа штемпелей, использованных для каждого выпуска, хотя даже после этого оценить объемы выпусков можно будет лишь приблизительно30. По сравнению с предшествующей и последующей эпохами, от этого периода сохранилось сравнительно мало золотых и серебряных монет; до самого конца I в. н. э. в клады попадало значительное количество более тяжелых республиканских денариев. Августу пришлось предпринять масштабную чеканку, чтобы основать новую систему бронзовых монет, но впоследствии их производство сократилось: так, в частности, Тиберий и Гай закрыли провинциальные монетные дворы на Западе, а в первые десять лет правления Нерона имперская бронза вообще не чеканилась. У нас нет свидетельств того, что старые монеты регулярно отзывались и перечеканивались (что требовало бы больших затрат). Старые монеты, стекавшиеся в государственные хранилища, просто вновь выпускались в обращение. Главными источниками металла для чеканки новых монет были слитки, полученные в результате сбора налогов или конфискации, и, прежде всего, рудники, вскоре оказавшиеся под императорским контролем. Поэтому очень вероятно, что общая монетная масса в Ранней империи неуклонно, хотя и неспешно, возрастала.
Вопрос о том, в силу каких обстоятельств сложился именно такой порядок чеканки, является спорным31. Вероятно, правительство империи признавало за собой некую политическую ответственность, обусловленную его почти полной монополией на чеканку, за надлежащее обеспечение экономики монетами всех номиналов. Однако редкие, но довольно объемные выпуски мелких номиналов следует считать единичными реакциями на обнаружившийся дефицит монет; следовательно, они указывают на отсутствие перспективного планирования. Знаменитый «кризис наличности» в Риме 33 г. н. э. свидетельствует, что с более крупными номиналами дело обстояло так же32. Понятно, что правительство не в состоя¬
29 Crawford 1985 (В 320): 271; Howgego 1982 (D 134).
30 Howgego 1992 (D 135).
31 См., напр.: Crawford 1970 (D 126); Lo Cascio 1981 (D 144); Howgego 1992 (D 135).
32 Rodewald 1976 (В 348): гл. 1.
Глава 8. Финансы Империи
367
нии было вести статистический учет монетной массы, находившейся в обращении, ибо при обмене могли использоваться любые серебряные или золотые деньги, в том числе монеты Римской республики и эллинистических царей, тогда как имперское золото и серебро люди могли зарывать в качестве кладов или переплавлять в слитки. Этими соображениями опровергаются современные теории о том, что колебания интенсивности производства имперских монет, их веса и чистоты отражают попытки правительства подстроить чеканку под изменения рыночной стоимости натуральных металлов; более вероятно, что с самого начала «бронзовые» монеты в значительной мере являлись символическими, а денарий был намеренно переоценен по отношению к аурею, чтобы иметь перед золотом номинальное преимущество, которое предотвращало бы переплавку серебряных монет частными лицами. И в самом деле, крайне трудно дать удовлетворительное экономическое объяснение осуществленной Нероном «девальвации» серебряных и золотых монет — единственной крупной реформы денежной сферы в этот период. Распространенное мнение о том, что она предназначалась для более экономного расходования императорских фондов, неудовлетворительно отчасти потому, что не все старые тяжелые монеты были выведены из обращения, но прежде всего потому, что эта теория игнорирует предпринятую тогда же попытку учредить чеканку aes только из орихалка33. Вероятно, Нерон пытался реформировать всю монетную систему, руководствуясь как административными, так и эстетическими соображениями. Но в целом императоры, как представляется, мало заботились о чеканке и отдавали соответствующие распоряжения, как правило, в ответ на конкретные и срочные нужды. Пока рудники вкупе с военной добычей и конфискованными у частных лиц слитками обеспечивали достаточно металла для чеканки, у правительства не было очевидных причин затруднять себя проведением определенной политики в этой сфере.
Государственные доходы и расходы Римской империи, выраженные в наличных деньгах, лучше представлять не как ежегодный обильный прилив денежной массы в Рим и последующий отлив в провинции, а как множество провинциальных водоворотов, которые сливались друг с другом и периодически доливались из имперских монетных дворов, расположенных в Риме и других городах. Вся эта система в значительной мере функционировала по инерции, и правительство империи редко вмешивалось в ее работу напрямую. По-видимому, сохранялась республиканская модель, в рамках которой в каждой провинции имелся «fiscus» («корзина [для хранения монет]»), нечто вроде филиала главной государственной казны (aerarium). Основная задача каждого фиска состояла в том, чтобы получать и фиксировать единовременно уплачиваемые суммы прямых и непрямых налогов, причитавшиеся с местных общин и откупщиков налогов. Фиск должен был оплачивать и государственные расходы в данной провинции: жалованье наместника и его подчиненных, все строительные
33 Bolin 1958 (D 113): гл.4; Lo Cascio 1980 {D 143).
368
Часть П. Правительство и администрация Империи
проекты, финансируемые за счет империи, наличные траты на содержание гарнизона, если таковой имелся.
В республиканском Риме центральной государственной казной, куда в теории поступали все государственные доходы и откуда производились выплаты (хотя на практике многие операции не выходили за пределы провинциальных фисков), был эр арий, расположенный в храме Сатурна. Эта казна продолжала существовать и в эпоху Принципата и называлась теперь «эрарий Сатурна», чтобы отличать ее от особой «военной казны» («aerarium militare»), учрежденной Августом в б г. н. э. для выполнения новой специализированной функции — выплаты увольняемым в отставку ветеранам вознаграждения из ассигнованных на это доходов34. В дополнение к этим двум государственным казначействам, которыми формально руководили уполномоченные из сенаторского сословия, существовала и администрация императорского патримония или фиска (как его иногда называют); первоначально она была частной и формировалась из императорских рабов и вольноотпущенников, но вскоре стала играть ведущую роль в управлении государственными финансами в целом; поэтому общий налоговый и финансовый центр Римского государства начали именовать не эрарием, а фиском.
Общеизвестно, что происхождение и сущность этого императорского фиска вызывают горячие споры35. Распространено мнение, что данная новая императорская казна, не идентичная патримонию, была учреждена, скорее всего, при Клавдии, чтобы функционировать параллельно с эрарием Сатурна; одновременно, по всей вероятности, было создано такое ведомство, как «бухгалтерия» (a rationibus) императорской фамилии во главе с Паллантом. Другое предположение состоит в том, что рассматриваемый фиск являлся подразделением эр ария, которое, по аналогии с провинциальными фисками, распоряжалось финансами комплексной provincia императора. Однако источники не подтверждают существование четкого разграничения «императорских» и «сенатских» финансов и контроля над ними. При Августе в эрарий Сатурна поступали доходы от новой императорской провинции Египет, а в 17 г. н. э. военный эрарий получал средства из Каппадокии; эрарий Сатурна финансировал вигилов — созданную императором пожарную команду — вплоть до Ш в. н. э.; до этого же времени независимо функционировал военный эрарий36. В общем отчете о финансах империи, который перед смертью оставил Август вместе со своим частным завещанием, он указал объемы наличности, находившейся в эрарии и провинциальных фисках, а также суммы, причитавшиеся со сборщиков налогов37. Несомненно, при Августе и речи не шло о создании официальной императорской казны, да и о ее существовании при его преемниках из династии Юлиев—Клавдиев тоже нет надежных
34 Corbier 1974 (D 122); Corbier 1977 (D 123); Millar 1964 (D 149).
35 Millar 1963 (D 148); Brunt 1966 (D 116); Jones 1950 (D 136); Rathbone 1993 (E 962).
36 Веллей Патеркул. П.39.2; Тадит. Анналы. П.42 (ср.: 1.78); Дион Кассий. LV.26.5.
37 Светоний. Божественный Август. 101.4.
Глава 8. Финансы Империи
369
свидетельств. Императоры способны были контролировать государственные финансы, не перенаправляя доходы в какую-то новую особую казну.
Эр арий Сатурна не обладал подлинной финансовой независимостью. Его контролировали чиновники-сенаторы, однако на первых порах это были преторы, избранные по жребию, затем — квесторы, а в дальнейшем — претории, назначенные императором; и это один из признаков того, что эр арий подчинялся императорской власти38. Как и в эпоху Республики, указанные должностные лица, а также префекты военного эра- рия из сенаторского сословия выполняли чисто технические функции, такие как курирование контрактов на откуп налогов, расследование обвинений в уклонении от уплаты налогов и судебное преследование неплательщиков; поскольку эти обязанности часто предполагали взаимодействие с италийцами из высших классов, благоразумно было препоручить их чиновникам из сенаторского сословия39. Кроме того, неясно, какие доходы и расходы по-прежнему учитывались в эрарии Сатурна (не говоря уже о фактическом получении первых или последующем распоряжении вторыми). Например, когда Август составлял отчет о государственных финансах, то включил в него немалые суммы, которые содержались в фисках императорских провинций и контролировались императорскими вольноотпущенниками или чиновниками из всаднического сословия, а вся наличность, которую он держал в Риме, вероятно, учитывалась как «находящаяся» в фисках или «причитающаяся» эрарию. Эти суммы, как и те, что не проходили через эр арий, видимо, не отражались в отчетах, представляемых чиновникам эр ария, ибо Август предложил сенату обращаться за более подробными сведениями к членам своей фамилии, ответственным за счета. Таким образом, этих императорских служащих, которые, строго говоря, являлись финансовыми администраторами (a rationibus) патримония, придумал не Клавдий, даже если он и учредил для них более формализованную организацию в виде департамента. Возможно, такое положение дел и породило у исследователей представление о существовании императорского казначейства, ядро которого составляла администрация патримония и которое поэтому называлось фиском; со временем роль эрария Сатурна свелась, судя по всему, на практике к получению не израсходованных на местах налогов из провинций римского народа и доходов, собранных в Италии, а также к покрытию расходов на мероприятия в Риме и Италии, номинально подконтрольные сенату, — например, на содержание акведуков и храмов и на государственные ритуалы.
В некоторых отношениях Август следовал традициям позднереспубликанскиX полководцев, прежде всего Помпея. Поэтому формального разделения ответственности между императором и сенатом не существовало, и в теории государственной казной оставался эр арий Сатурна. Однако на практике всю финансовую политику определяли императоры.
33 МШаг 1964 (D 149): 34.
39 Ср., напр., судебное дело Клавдия: Светоний. Божественный Клавдий. 9.2.
370
Часть П. Правительство и администрация Империи
После Августа лишь Гай однажды представил сенату отчет о доходах и расходах империи. Вероятно, не агенты императора отчитывались перед эрарием, а, напротив, префекты эрария — перед императорскими счетоводами, составлявшими общие сводки финансов империи для информирования принцепса и узкого круга его советников.
На самом деле, вопрос об администрировании казны лишь уводит нас в сторону от главного: Август и его преемники контролировали государственные финансы исключительно благодаря тому, что монополизировали принятие решений по финансовым вопросам. Если выражаться точнее, то по завершении политической борьбы в республике государственные финансы претерпели деполитизацию: честолюбивые граждане больше не могли предлагать спорные законопроекты о расходах (на войны, строительство, хлебные раздачи) или налоговых реформах. Регулярной армии автоматически выдавалось теперь денежное и материальное довольствие, император организовал постоянное снабжение зерном населения Рима, а в провинциях действовала упорядоченная система налогообложения, которая на протяжении более чем двухсот лет подвергалась лишь небольшим модификациям.
Даже если отдельные земледельцы Римской империи и страдали от необходимости платить налоги, то налоговое бремя, приходившееся на каждую общину, оставалось всё же довольно щадящим, и этим обстоятельством исследователи часто объясняют то одобрение и поддержку, которые римское правление получало от провинциальных высших классов40. Меж тем причинно-следственная связь, вероятно, была обратной: для Рима добровольное сотрудничество с ним местных элит имело столь важное значение, что римляне старались не вызывать недовольства у знатных провинциалов и редко осмеливались повышать в провинциях налогообложение, уровень которого скорее ограничивал имперские расходы, нежели определялся ими. В правление Юлиев—Клавдиев расходы на армию должны были постепенно возрастать по мере того, как вспомогательные силы превращались в регулярные войска. Однако по мере превращения в провинции новых территорий множились и общегосударственные расходы, что, естественно, подразумевало подпадание их под прямое римское налогообложение. Свидетельства источников указывают на то, что за пределами Египта цензы не являлись регулярными мероприятиями, обособленными от финансовой политики; предпринимались они от случая к случаю с целью нарастить сумму трибута отдельных провинций; а если это так, то можно предположить, что, когда экономическое состояние Галлии улучшилось, ее трибут был увеличен41. Вероятно, налоги порой повышались и в других сравнительно новых и неразвитых провинциях, как, например, в Мёзии при переселении племен из-за Дуная в правление Нерона42. Однако из всех правителей эпохи Принципата лишь
40 Jones 1974 (D 137); MacMullen 1987 (D 147).
41 Ср.: Brunt 1981 (D 118); позиция автора была уточнена в работе: Brunt 1990 (А 12):
533.
42 GCN 228.
Глава 8. Финансы Империи
371
одному Веспасиану источники приписывают повсеместное повышение трибута (причем эти сведения сомнительны), примеры же щепетильного отношения императоров к общему уровню провинциального налогообложения многочисленны; кроме того, отдельные общины могли просить о снижении трибута — и просили, без всякого сомнения, часто и время от времени своего добивались.
Трудно оценить размер и характер сборов, которые императорский Рим получал от провинций. Общую картину можно представить так: пустующие фиски во внешнем кольце приграничных провинций с большими гарнизонами пополнялись наличностью за счет переполненных фисков внутренних мирных провинций43. Сколь большая (или малая) часть этой избыточной наличности отправлялась в Рим, установить невозможно; к ней также следует прибавить всю вновь отчеканенную монетную массу, которая вливалась в провинциальную систему. Но империалистические доходы поступали не только в виде наличности. Хотя прямые налоги устанавливались и учитывались в денежной форме, собирались они отчасти в форме натуральной. Так, например, поскольку солдаты получали вместо денежного вознаграждения провиант, фиски приграничных провинций, судя по всему, далеко не всегда остро нуждались в наличных, с другой стороны, мирные провинции могли давать прибыль не только в денежной, но и в товарной форме. Еще важнее то, что надежные сведения имеются только об одной разновидности дохода с провинций, которая, несомненно, переправлялась в Рим, — это пшеница для продовольственного снабжения.
Размер доходов, которые удавалось получить с провинций наличными, был ограничен, меж тем императорам всё время приходилось демонстрировать щедрость, прежде всего в Риме. Тиберий, скопивший крупные денежные резервы, представлял в этом плане исключение; Гай немедленно израсходовал все эти запасы, что было почти неизбежно. Считалось, что при наличии подобной финансовой «подушки» налогообложение не имеет никаких'оправданий; отчасти такие воззрения являлись наследием республиканской системы, в рамках которой финансовые мероприятия проводились по мере необходимости; упомянутые представления объяснялись еще и тем, что император монополизировал контроль над государственными финансами. Принцепсы охотно кичились своими расходами на благотворительность, но им приходилось выслушивать и критику в свой адрес по поводу высокого налогообложения, поэтому они предпочитали тратить, а не сберегать. В обычных условиях в Риме вообще не могло существовать централизованных финансовых накоплений, сопоставимых с сокровищницами царей из династии Ахеменидов. К тому же ясно, что для императоров, которые желали или вынуждены были финансировать крупные начинания (например, войны или строительство) и нуждались в наличных деньгах, особенно важное значение имели доходы от непрямых налогов, собиравшихся прежде всего в Италии, и от патримо¬
43 Hopkins 1980 (D 133).
372
Часть П. Правительство и администрация Империи
ния. А потому, когда императорам требовались деньги, они обращались к сенату (и другим богатым нобилям), — будь то Август, учредивший пятипроцентный налог на наследство, или описанный в позднейшей сенаторской риторике император-злодей, который ради добывания наличности убивал и отнимал имущество. Императорское богатство было огромно, но сочетание политической слабости с несовершенным транспортом и коммуникациями и недостаточной монетизацией привело к тому, что частью этого богатства центральное правительство было не способно эффективно распоряжаться. Хотя в период от Августа до Нерона рост расходов государства удавалось компенсировать возрастанием его доходов, дефицит центральных резервов оставался на протяжении всего Принципата неустранимым изъяном финансовой системы империи, постоянно порождавшим проблемы для государства.
Глава 9
Р.-Дж.-А. Талберт
СЕНАТ И ПОСТЫ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИ В ГОСУДАРСТВЕ СЕНАТОРЫ И ВСАДНИКИ
I. Сенат1
Не приходится сомневаться, что 20-е годы I в. до н. э. и следующие полвека стали для сената и его членов эпохой беспримерных перемен. И главным их инициатором был Август. Как только после длительных гражданских войн наступил мир, «восстановление Республики» стало одной из первейших задач императора. И конечно же ее реализация прямо затра¬
1 Поскольку большинство свидетельств того времени утрачено, как и Юлиев закон 9 г. до н. э., в котором была прописана сенатская процедура, основной источник сведений о сенате времен Юлиев—Клавдиев — это сочинения позднейших авторов: Тацита, Светония и Диона Кассия, прежде всего Тацита, который при написании «Анналов», несомненно, использовал подробные протоколы заседаний сената (acta senatus), хотя спорным остается вопрос о частоте его обращений к этим источникам и методах работы с ними (Talbert 1984 (D 77): гл. 9; Brunt 1984 (А 10)). Всё больше новых сведений дают надписи и папирусы. Сопоставление юридических текстов и всех остальных источников позволяет составить впечатление о характере и масштабах законодательной деятельности сената (Talbert 1984 (D 77): гл. 15, разд. 5). У Сенеки живая зарисовка заседания божественного сената на Олимпе под руководством Юпитера (Отыквление Божественного Клавдия. 8—11) представляет собой пародию на римский сенат, членом которого был сам автор, и позволяет взглянуть на работу этого органа глазами современника — что удается нечасто. Если верно предположение исследователей, что курия Диоклетиана в Риме (построенная в конце Ш в. н. э. и до сих пор стоящая в отреставрированном виде) на самом деле — реконструкция курии Юлия, то мы можем подробно рассмотреть помещение, где проходило большинство заседаний сената; см. об этом подробнее: Bartoli А. Сипа Senatus, lo scavo e il restauro (Roma, 1963).
Основной источник сведений о чиновниках из сенаторского и всаднического сословий — это надписи. В этом смысле примечательно, что начиная с правления Августа надписи с перечислением всех должностей человека всё чаще ставились не только посмертно, но уже при его жизни (Millar, Segal 1984 (С 176): гл. 5).
Из современных исследований для первого ознакомления со многими аспектами см.: Talbert 1984 (D 77); о сенаторах и их карьерах см. также: Hopkins 1983 (А 46): гл. 3. Значительная часть релевантных документов собрана в изд.: FIRA 1.
374
Часть П. Правительство и администрация Империи
гивала базовые республиканские институты, в том числе сенат. Начал Август с того, что уделил первоочередное внимание числу и составу сенаторов. Численность сената составляла примерно тысячу человек или немного больше, отчасти из-за того, что в пору своей диктатуры Юлий Цезарь ввел в него много новых членов, а отчасти из-за того, что после смерти диктатора доступа в сенат добились и другие люди, пуская в ход знакомства и взятки. Более того, увеличив число квесторов с двадцати до сорока, Цезарь удвоил ежегодный приток новых сенаторов, поскольку на практике занятие этой младшей должности давало право на пожизненное членство в сенате. Уже в 29 г. до н. э. Октавиан, как его тогда звали1а, провел пересмотр списка сенаторов и использовал эту процедуру для того, чтобы на том или ином основании исключить из него 190 членов. Вероятно, в 20-е годы I в. до н. э. он сократил также число квесторов до прежних двадцати. Либо тогда же, либо в 20— 10-е годы I в. до н. э. Август сделал следующий шаг, уменьшив число младших магистратов (большинство из которых претендовало на членство в сенате, но еще не входило в него) с двадцати шести человек (vigintisexviri) до двадцати (vigintiviri).
Сенат, состоявший примерно из восьмисот членов, всё еще казался принцепсу слишком многочисленным. Сообщается, что когда в 18 г. до н. э.* 2 Август вновь принялся за сокращение количества сенаторов, то он желал оставить всего триста человек, что потребовало бы единовременного исключения аж пятисот человек. Если только Август не проявил в этом случае вопиющую недальновидность, то на следующем этане он, должно быть, собирался фундаментально пересмотреть роль сената в государстве, поскольку едва ли столь малочисленная группа сенаторов справилась бы со всеми обязанностями, возложенными в то время на этот коллективный орган и его членов. Однако в итоге Август отказался от столь радикальных мер и посредством своеобразного метода, сочетавшего кооптацию и жребий, оставил в сенате примерно 600 человек. Таким образом, сенат вернулся приблизительно к той численности, какую установил диктатор Сулла. Известно, что вплоть до конца правления династии Юлиев—Клавдиев было еще по меньшей мере два пересмотра списка сенаторов при Августе (ок. 13—11 гг. до н. э. и в 4 г. н. э.), а третий осуществили в качестве цензоров император Клавдий и Луций Вителлий в 47/ 48 г. н. э. Но во всех этих случаях численность сената, по-видимому, уже существенно не менялась. Количество сенаторов оставалось примерно тем же — шестьсот человек, хотя следует иметь в виду, что эта цифра — всего лишь умозрительный оптимум, но не фиксированная предельная или фактическая величина. Обычно новые члены входили в сенат всё тем же путем — через занятие одной из двадцати ежегодных квесгорских должностей. По крайней мере, судя по имеющимся свидетельствам, в эпоху Юлиев—Клавдиев иные способы «зачисления» или прямого возве¬
1а На самом деле его тогда звали «Император Цезарь, сын Божественного». — С. Т
2 Дион Кассий. ЫУ. 13—15.
Глава 9. Сенат и посты...
375
дения несенаторов в сенаторы (по инициативе императора) использовались крайне редко3.
Состав сената волновал Августа не меньше, чем его численность. Как показали цензы 29 г. до н. э. и 18 г. до н. э., император старался исключить из этого органа людей безнравственных, безответственных или слишком бедных. Август хотел, чтобы в это собрание входили только выдающиеся деятели — благородные, заботящиеся о благе государства, состоятельные. Чтобы претворить этот идеал в жизнь, он ждал до 18 г. до н. э. Начиная с этого времени все сенаторы должны были владеть состоянием не менее миллиона сестерциев вместо прежнего скромного всаднического ценза в 400 тыс. сестерциев4. Август понимал, что это ограничение создаст напряжение, и на протяжении следующих лет действительно помогал как достойным сенаторам, не отвечавшим новым цензовым требованиям, так и многим кандидатам на включение в сенат. Среди наследников Августа из династии Юлиев—Клавдиев аналогичную помощь оказывали Тиберий (хотя порой и весьма скупо) и Нерон.
Также, по всей вероятности, в 18 г. до н. э. был отменен старый обычай, согласно которому все желавшие войти в сенат должны были начать носить на своей тунике отличительный знак сенатора — широкую полосу (latus clavus), причем еще до того, как занимали первую сенаторскую магистратуру и становились действительными членами этого собрания в качестве квесторов5. В дальнейшем привилегия ношения туники с широкой полосой осталась доступна лишь тем сыновьям сенаторов, которые решили идти по стопам своих отцов. Конечно, и другие молодые люди, стремившиеся первыми из своего рода оказаться в числе сенаторов, могли добиться своей цели, но им не дозволялось носить желанную тунику с широкой полосой (latus clavus), пока они не займут должность квестора.
Таким образом Август пытался выделить сыновей сенаторов из общей массы и вдохновить их на подражание отцам, но эксперимент окончился неудачей. Очевидно, что не позднее 30-х годов н. э. этот запрет перестал соблюдаться. Возник новый обычай, согласно которому всадники, желавшие войти в сословие сенаторов, должны были заручиться позволением императора на ношение туники с широкой полосой. Нам трудно судить, насколько последующие императоры были взыскательны при рассмотрении таких прошений. Тем не менее ясно, что этот эксперимент Августа предпринимался в рамках более масштабных мероприятий по возвышению не только самих сенаторов, но и членов их семей, которых император впервые определил как особый, высший «сенаторский класс».
Формально этот класс был впервые выделен в брачном законодательстве Августа, принятом в 18 г. до н. э., и, разумеется, оказался долговечным. В него входили сенаторы с женами и их потомки до третьего коле¬
3 Demougin 1982 (D 36): 81—82.
4 Nicolet 1976 р 53); Millar, Segal 1984 (С 176): гл. 4.
5 Chastagnol 1975 (D 33); Salier 1982 (F 59): 51, примеч. 58; Talbert 1984 (D 77): 513.
376
Часть П. Правительство и администрация Империи
на. Естественно, что после того как особое сословие было создано, оно обросло бессистемными привилегиями и запретами. Если говорить о привилегиях, то членам сенаторского сословия достаточно рано были предоставлены места в первых рядах на зрелищах и определенный приоритет на выборах; возможно также, что в определенных пределах они освобождались от некоторых обязанностей в своих родных общинах6. А ограничения — запреты на браки с представителями низших сословий и проститутками, а также на выступления в зрелищах или на театральной сцене — предназначались для того, чтобы оберегать достоинство высшего общественного класса7.
Желавшие сделать сенаторскую карьеру были обязаны проходить реформированную Августом дорогу почестей (cursus honorum), вне зависимости от того, каким способом они получили тунику с широкой полосой8. Теперь непременным условием включения в сенат стало занятие одной из двадцати младших должностей вигинтивирата, назначения на которые ежегодно производил император. До или после вигинтивирата соискателю желательно было, хотя и необязательно, пройти службу в легионе в должности военного трибуна (tribunus militum) — аристократы часто ее избегали. Доступ непосредственно в сенат можно было получить, заняв одну из двадцати ежегодных квесгорских должностей, а претендентам на нее должно было исполниться двадцать пять лет (в эпоху Республики возраст соискания квестуры составлял тридцать лет). После этого плебеи, соблюдая символический годичный перерыв между магистратурами, должны были занять одну из шести эдильских или одну из десяти трибунских должностей (патриции пропускали этот этап); затем все вместе боролись за претуру; кандидату на данную должность должно было исполниться тридцать лет (в эпоху Республики — тридцать девять или сорок). На этом важном этапе борьба обострялась в зависимости от количества преторских мест: из года в год их число определял император, и эта его прерогатива имела важное значение. Сначала, при Августе, преторских мест было всего десять в год, и даже к концу его правления это число редко превышало двенадцать. В таких условиях средний человек, первым в своем роду вошедший в сенат и достигший претуры, мог гордиться, что поднялся так высоко. Преемники Августа из династии Юлиев—Клавдиев оказались более щедры (не в последнюю очередь благодаря тому, что расширился круг обязанностей сенаторов преторского ранга), так что к концу этой эпохи общее число преторов ежегодно колебалось от четырнадцати до восемнадцати. Но, тем не менее, риск потерпеть поражение на выборах оставался вполне реальным.
После претуры лишь немногие сенаторы, пользовавшиеся благосклонностью императора, могли добиться высшей магистратуры — консульства. На самом деле император довольно рано начал единолично определять количество и состав консулов на каждый год. В начале правления
6 МШаг 1983 (D 101): 88-90.
8 Morris 1964 и 1965 (D 51).
7 Levick 1983 (С 369): 97-115.
Глава 9. Сенат и посты...
377
Августа ежегодно избиралось не более одной пары консулов — что соответствовало традиционному республиканскому порядку. Но начиная с 5 г. до н. э. этих «ординарных» консулов, которым по-прежнему принадлежала честь начать год, регулярно сменяла еще одна или две пары консулов- «суффектов» (через разные интервалы ), и в итоге в течение одного года консулами могли побывать шесть человек. Вследствие этого борьба за консульские места стала не такой острой, и появилось больше кандидатов на должности, зарезервированные для сенаторов консульского ранга. Разумеется, особо выдающиеся деятели могли получить высшую почесть в виде второго и даже третьего консульства.
Со временем Август счел необходимым уделить внимание не только составу сената, но и процедуре его работы. Восстановление в 17 г. до н. э. штрафов за отсутствие на заседаниях свидетельствует, что императора раздражало несоответствие сенаторов его идеалам. Хотя формально председательствующий магистрат всегда имел право оштрафовать отсутствующих, так обычно не поступали уже со П в. до н. э., так что эта бестактная мера Августа лишь стала поводом для обид. Следующий шаг император предпринял только в 11 г. до н. э., официально упразднив прежний кворум в 400 голосов, необходимый для вступления в силу принятого сенатом предложения. По всей вероятности, требование о кворуме было установлено в диктатуру Цезаря, но, должно быть, не применялось после сокращения численности сената до 600 человек в 18 г. до н. э.
Отмена этого требования, по крайней мере, расчистила путь для конструктивной реформы — всестороннего Юлиева закона о регламенте сената (lex Iulia de senatu habendo) (9 г. до н. э.), который регулировал все сферы деятельности этого органа. По-видимому, закон был направлен в основном на повышение посещаемости заседаний, которая уже некоторое время вызывала у Августа беспокойство. Для этого принцепс повысил штрафы за неявку, но они оказались столь же неэффективны, как и прежде, поэтому от них постепенно и незаметно отказались и больше не возрождали. Теперь в законе были определены кворумы, необходимые для каждого типа решений (в источниках упоминается только скромный кворум в 200 голосов9): сами по себе они не были новшеством, но никогда прежде не использовались в таком объеме. Еще более важным нововведением стало установление в каждом месяце определенных дней, по которым проводились заседания, — а именно, календ (первое число каждого месяца. — С. Т) и ид (15 марта, мая, июля и октября и 13 число остальных месяцев. — С.Т.). Теперь сенаторы могли загодя выкраивать в своем графике необходимое время. В качестве послабления закон допускал, чтобы на четырех плановых заседаниях в сентябре и октябре (когда сенаторы обычно отдыхали) присутствовал только необходимый кворум, состав которого выбирался жеребьевкой; вероятно также, что обычно отменялись два плановых заседания, выпадавших примерно на апрель, когда в работе сената наступал традиционный перерыв (res prolatae или
9 FIRA I: 68, кол. V, спс. 106-107.
378
Часть П. Правительство и адллинистрация Иллперии
discessus senatus). Однако при необходимости сенаторов могли в любое время вызвать на особое заседание (в дополнение к плановым) короткой запиской. Две следующие статьи закона тоже были направлены на решение проблем с посещаемостью. Во-первых, список с именами сенаторов должен был выставляться на всеобщее обозрение и обновляться ежегодно. Во-вторых, закон установил «пенсионный возраст» для сенаторов. Раньше, согласно официальному порядку, каждый член сената обязан был посещать его до конца своих дней. Август счел, что настаивать на этом было бы непрактично и неразумно, и поэтому прописал в законе, что сенаторы старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет (точно не известно) вправе больше не являться на заседания. Тем не менее их добровольные посещения приветствовались, и многие продолжали бывать на заседаниях.
Помимо всего этого, закон Юлия устанавливал порядок проведения заседаний. Это стало настоящим нововведением, поскольку ранее заседания проводились, по всей видимости, в соответствии только с обычаями, а не с писаным законом. Возможно, именно в законе Юлия впервые была регламентирована процедура опроса сенаторов и способ голосования. Несомненно, такая систематизация объяснялась любовью Августа к порядку. И всё-таки поразительно, что он, судя по всему, не воспользовался возможностью существенно изменить процедуру. Видимо, на практике заседания проводились после 9 г. до н. э. так же, как и раньше. Для утверждений современных историков10 о том, что этот закон в какой-то мере урезал древнее право сенатора, спрошенного о его мнении (sententia), говорить сперва о чем угодно без ограничения времени (egredi relationem), нет оснований. Данное право сохранялось за сенаторами, которые продолжали им пользоваться.
Конечно, ни в законе Юлия, ни в каком-либо другом законе никогда не прописывалось положение императора в сенате. Присутствие императора стало важным новшеством, и с 20-х годов до н. э. данному коллективному органу приходилось к этому приспосабливаться. Хотя Август, единственный из всех Юлиев—Клавдиев, взял себе титул принцепса сената (с 28 г. до н. э.), все императоры были патрициями и в период своего правления должны были возглавлять список сенаторов. До 23 г. до н. э. Август также не сталкивался с особыми сложностями, поскольку ежегодно занимал консульство и часто выезжал из Рима. Однако после 23 г. до н. э. Августу потребовалось гарантировать себе возможность вносить предложения раньше других сенаторов на любом этапе заседания (эту привилегию несколько неуклюже назвали ius primae relationis), а также наделить себя правом созывать сенат по своему усмотрению (формально он мог это делать на основании уже имевшейся у него трибунской власти (tribunicia potestas)). В 19 г. до н. э. Август получил право сидеть во время заседаний на месте председателя, расположенном между двумя консулами. Кроме того, уже в правление Августа император получил (быть мо¬
10 Mommsen 1888 (А 65): Ш.2: 940.
Глава 9. Сенат и посты...
379
жет, неофициально) исключительное право вносить предложения не лично, а посредством писем. Всеми этими привилегиями, видимо, наделялись и последующие императоры в момент их прихода к власти.
Август выказывал уважение к сенату, являясь на его заседания не только в роли председателя, но и в качестве рядового члена по меньшей мере до 8 г. н. э., когда преклонный возраст вынудил его поубавить активность. Известно, что одно заседание он пропустил умышленно — во 2 г. до н. э., когда необходимо было предать огласке скандальное поведение его дочери Юлии; от стыда император не смог явиться в сенат лично, отправив вместо этого письмо. К сожалению, источники не позволяют реконструировать участие Августа в заседаниях и его поведение в сенате столь же подробно, как мы представляем себе поведение Тиберия на основании «Анналов» Тацита. Однако в целом ясно, что Август достаточно активно участвовал в обсуждениях, несмотря на то, что это сразу же породило две серьезные проблемы.
Первая — это реакция сенаторов на господствующее положение императора: в зависимости от точки зрения — уважение, страх или негодование. Эти чувства возникали по разным поводам, их порождало понимание, что ни одну предложенную или открыто поддержанную императором меру нельзя отвергнуть; признание, что продвижение любого сенатора по службе в значительной мере зависит от одобрения императора; осознание, что ключевые вопросы государственного управления перешли под его единоличный контроль. Даже многие помещения, где проходили заседания сената, стали впечатляющими символами императорского режима: курия Юлия, строить которую начал еще Цезарь, а посвятил Окта- виан в 29 г. до н. э., позднее украсив ее многочисленными памятниками и посвящениями в честь императора и членов его семьи; храм Аполлона на Палатине, рядом с домом императора, а со 2 г. до н. э. и храм Марса Мстителя, перед которым стояла огромная статуя победоносного Августа в колеснице. В таких обстоятельствах и в подобной обстановке сенаторы более или менее добровольно пришли к выводу, что впредь нет смысла активно высказывать на заседаниях критические и независимые суждения, ведь итог казался им заранее предсказуемым, а обнародовать теперь можно было только избранные выдержки из протоколов заседания (acta senatus), которые учредил в 59 г. до н. э. Юлий Цезарь. К тому же некоторые важнейшие вопросы вообще никогда не передавались на рассмотрение сената. При таком раскладе едва ли удивительно, что известно лишь два случая открытых разногласий сената с Августом, и в обоих случаях Август, вероятно, был готов к возражениям, когда запросил не одного коллегу для консульства, а двоих, и когда в 23 г. до н. э. после болезни предложил зачитать вслух свое завещание. По-видимому, чаще всего на заседаниях под руководством Августа сенаторы избегали высказывать независимые мнения, и порой это так огорчало принцепса, что он опрашивал их в произвольном порядке, а не по старшинству, как обычно.
Несмотря на попытки Августа изменить ситуацию, сенаторы неизменно упорствовали в нежелании высказываться откровенно. Как сообщает¬
380
Часть П. Правительство и адллинистрация Илтерии
ся, это якобы так раздражало Тиберия, что, выходя с заседаний сената, он всякий раз восклицал: «О homines ad servitutem paratos» («О люди, созданные для рабства!»)11. Вероятно, эта же установка сенаторов отражена в высказывании более ничем не запомнившегося Тиция Руфа о том, что «сенат думает одно, а объявляет в качестве решения другое»12, за которое он был осужден в 39 г. н. э.; и, несомненно, именно с этой установкой боролся консуляр Тразея Пет в конце 50-х — начале 60-х годов н. э., когда открыто призывал некоторых сенаторов проявлять больше независимости, осознанно рискуя навлечь на себя неодобрение Нерона. Однако самая яростная критика пассивности сената содержится в речи неизвестного сенатора (по всей видимости, императора Клавдия), сохранившейся на фрагменте папируса:
Если вы одобряете эти меры, отцы сенаторы, скажите об этом ясно и сразу, обдумав свои слова. Но, если вы их не одобряете, предложите иное решение прямо здесь, в этом храме, или же, если вам необходим более длительный срок для раздумий, возьмите его, но помните, что, где бы вас ни созвали, вы должны высказывать нам собственное мнение. Ибо более всего не соответствует достоинству этого сословия, отцы сенаторы, когда лишь избранный консул высказывает мнение (sententia), но даже в нем дословно цитирует доклад (relatio) консулов, а все остальные произносят лишь одно слово «Согласен» (adsentior) и при прощании: «Ну, мы высказались»13.
Даже когда император не озвучивал своей точки зрения, суждение его родственников (которые, как правило, делали сенаторскую карьеру) могло восприниматься как его собственное. Так, в 13 г. н. э., когда обсуждались альтернативы решению о введении пятипроцентного налога на наследство, Август особым распоряжением запретил Германику и Друзу вносить предложения, поскольку опасался, что их проекты сочтут его собственными и без каких-либо оговорок примут.
Вторая проблема, сковывавшая свободу и активность сенаторов на заседаниях в правление Августа, — это учреждение где-то между 25 и 18 гг. до н. э. небольшого совета (consilium), с которым император стал обговаривать вопросы, прежде чем вынести их на обсуждение в сенате (этот совет не идентичен совету принцепса (consilium principis), о последнем см. с. 335 наст. изд.). Следует признать, что принцепс не планировал наделять этот комитет никакими иными функциями, кроме совещательной. Но, несмотря на все попытки Августа ограничить деятельность совета этой задачей, сенаторы, вполне естественно, заподозрили, что «настоящее» обсуждение происходит в комитете и там же принимаются «настоящие» решения, а после этого от сената уже ничего особо не зависит. В таких условиях мало кто из сенаторов имел склонность к масштабным и откровенным дебатам в сенате. И их худшие опасения только подтвердились в 13 г. н. э., когда Август (уже в очень преклонных летах) реформировал состав совета (consilium) и придал его решениям такую же силу, как и постановлениям сената.
11 Тацит. Анналы. Ш.65. 12 Дион Кассий. ЫХ.18.5.
13 FIRA I: 44, сгб. Ш, спс. 10-22.
Глава 9. Сенат и посты...
381
Позднее Тацит лаконично написал, что Август «начал подменять собою сенат, магистратов и законы»14. Во многом это верно; хотя формально не только Август, но и все его преемники получали власть от сената, самому этому органу приходилось привыкать к сокращению собственных прерогатив. Конечно, многие традиционные функции сената сохранялись за ним. Сенат вел активную законодательную деятельность, его решения более не нуждались в одобрении народного собрания и обретали силу закона. Сенаторы получали почести — намного более разнообразные и многочисленные, чем когда-либо прежде. Сенат всё еще имел высший авторитет в вопросах религии, и на его заседаниях по-прежнему заслушивались посольства, хотя теперь последних стало меньше. С другой стороны, император оставил за собой преимущественно военную и внешнеполитическую сферы, государственные финансы, а также административный надзор как за многими старыми провинциями, так и за всеми новыми. В итоге сенат навсегда лишился своего главного права (которое всерьез оспаривалось уже в конце Республики) ежегодно определять, где будут размещаться римские войска и на какие территории следует притязать империи. Учреждение кураторов для надзора за дорогами, акведуками, продовольствием и другими вопросами (о них см. далее) на практике означало дальнейшее вторжение императора в области, которые прежде относились исключительно к компетенции сената.
Хотя о подобных вещах республиканский сенат заботился крайне бессистемно, Август старался, чтобы этот орган не только отвечал за назначение новых должностных лиц, но и санкционировал их деятельность. Помимо того, принцепс постоянно уведомлял сенат о делах военных, провинциальных, дипломатических и финансовых, советовался с ним по данным вопросам; одобрения сената он запрашивал и в случаях, когда предпринимал в этих сферах крупные реформы или когда прибегал к нетипичным методам15. Возможно, во многих случаях это было не просто проявление тактичности или осторожности; скорее, Август искренне желал услышать несколько предложений, чтобы узнать разные мнения, обсудить их и сформировать собственное отношение к ним, а также чтобы заручиться разумным согласием сенаторов с тем решением, которое в итоге будет принято. Август лучше всех понимал, сколь важно знать мнение высшего класса и сколь опасно настраивать его против себя. Но, хотя Август и демонстрировал готовность прислушиваться к сенаторам, им всегда трудно было понять его цели и определить, в какой момент они рискуют перейти в своей искренности границы дозволенного. Осознавая эту дилемму, большинство сенаторов предпочитали не рисковать, из-за чего сенат не мог должным образом выполнять функции совещательного органа.
В целом, влияние Августа на сенат оказывалось двойственным. Он неизменно демонстрировал ему самое глубокое уважение. Сократив численность сената, он повысил его моральный и социальный статус, различ¬
14 Тацит. Анналы. 1.2.
15 Brunt 1984 (D 27); FIRA I: 99: спс. 1-7.
382
Часть П. Правительство и адллинистрация Иллперии
ными мерами обеспечил постоянную посещаемость и кодифицировал (хотя вряд ли изменил) регламент заседаний. Вместе с тем, хотя он регулярно совещался с сенатом, поощрял высказывание откровенных мнений, сенаторы не могли не замечать, что, занимая в государстве главенствующее положение, он фактически узурпировал определенные прерогативы сената. Существование сенатского совета (consilium) еще сильнее обескураживало их, особенно после 13 г. н. э., когда укрепился авторитет этого органа.
Влияние Тиберия на сенат тоже было неоднозначным. До определенного момента в отношении сената, как и во всем прочем, он просто следовал политике Августа. Однако, хотя такая оценка имеет полное право на существование, она, пожалуй, не вполне учитывает акцент античных авторов на том, что Тиберий, особенно в начале правления, обсуждал с сенатом широчайший круг вопросов — государственных и частных, крупных и мелких. Он не обращал внимания на разумные предостережения всадника Гая Саллюстия Криспа, доверенного лица Августа, о том, что не стоит вести себя столь открыто. Более того, сенаторы могли почувствовать, что теперь у них больше свободы во всех этих вопросах, поскольку после прихода к власти Тиберий предпринял радикальную меру: он не просто ослабил сенатский совет (consilium) Августа, вернув его к тому положению, которое тот занимал до 13 г. н. э., но полностью его упразднил. В итоге полноценному сенату весьма неожиданно было возвращено верховенство.
Дальнейшую поддержку сенат получил в первые недели правления Тиберия, когда император перенес в него выборы магистратов, проводившиеся ранее в народном собрании (хотя оно по-прежнему собиралось, чтобы утвердить выбранных кандидатов). В какой степени эта идея принадлежала Августу, а в какой — Тиберию, неясно, но в наших источниках нет и намека на то, что планы первого принцепса когда-либо заходили дальше, чем предоставление высшим классам главенствующей роли на выборах в народном собрании, и, во всяком случае, нет сомнений в том, что момент для проведения этой реформы выбрал именно Тиберий16. Она конечно же не дала сенату никакой формальной власти. И предпочтения императора всё так же влияли на состав кандидатов и поведение голосующих. На консульских выборах император по-прежнему поддерживал столько кандидатов, сколько было мест. Но что касается других магистратур, то там кандидаты императора занимали лишь часть мест, поэтому за оставшиеся разгоралась нешуточная борьба. И тем не менее перенос выборов польстил сенаторам и обеспечил сенату постоянную активную деятельность, которой придавалось большое значение17. В источниках почти нет сведений о том, за какой срок и в какое время года избирались магистраты в эпоху Юлиев—Клавдиев; по всей видимости, дол¬
16 Brunt 1961 (С 47); Brunt 1984 (D 27): 429.
17 Talbert 1984 (D 77): 202-204, 341-345.
Глава 9. Сенат и посты...
383
гое время просто не существовало никакого постоянного порядка. Когда Гай попытался вернуть выборы в народное собрание, сенаторы воспротивились, и он вскоре отказался от этой идеи.
Еще больше сенаторам понравилось, что сенат стал регулярно выступать в качестве верховного суда, и Тиберий отвел ему эту задачу более или менее осознанно18. В эпоху Республики или при Августе сенат никогда не играл такой роли. Напротив, при предыдущем императоре эту функцию выполняли суды присяжных (quaestiones), которые он реформировал и дополнил и в которых сенаторам было отведено определенное место; кроме того, с 4 г. до н. э. некоторые дела о вымогательстве (repetundae) могли заслушивать небольшие коллегии сенаторов. Август созывал сенат в полном составе только по необходимости и в случаях, выходивших за рамки обычной рутины, — когда судебное дело непосредственно затрагивало его интересы и репутацию или когда сложность и новизна разбираемого вопроса превосходили компетенцию суда (quaestio). Но в начале правления Тиберия обращения императора к сенату как к судебному органу — ранее случайные — так участились, что последний приобрел постоянную юрисдикцию, и всё больше и больше дел о вымогательствах (repetundae) заслушивалось перед полным составом сената, а не просто в небольшой коллегии. Возможно, поворотным моментом стал суд над Гнеем Кальпурнием Пизоном в 20 г. н. э., когда он обвинялся в убийстве Германика. Согласно Тациту19, сам Тиберий открыто признавал, что рассмотрение дела в сенате, а не в суде (quaestio), — это исключительный случай. Но нет сомнений, что с 20-х годов н. э. судебные функции сената уже прочно укоренились, и весьма вероятно, что в итоге суды по делам о государственной измене (maiestas) и вымогательствах (repetundae) практически исчезли.
Чтобы приспособить установленную процедуру сенатских заседаний для судебных слушаний, требовалось лишь немного ее изменить, особенно учитывая, что сенат уже давно принимал жалобы и прошения и разрешал споры. Маловероятно, что постоянная судебная компетенция была предоставлена сенату каким-то законом; но этого и не требовалось, если такой порядок поддерживал император. Хотя сенат, как высший законодательный орган, формально имел право заслушивать любые дела и налагать любые наказания (в отличие от судов (quaestio)), на практике быстро выработались определенные правила. В эпоху Юлиев—Клавдиев сенат стал главным судом по рассмотрению дел о государственной измене (maiestas) и вымогательствах (repetundae). В остальных случаях он ограничивался вмешательством лишь в те дела, которые затрагивали высокопоставленных персон, имели важное значение, вызывали скандал или привлекали особое внимание общественности. Например, естественно было обратиться к сенату для рассмотрения дела о прелюбодеянии, в котором участвовали лица высокого статуса и могли возникнуть сопут-
18 Bleicken 1962 (D 248); Gamsey 1970 (F 35); Talbert 1984 (D 77): гл. 16.
19 Тацит. Анналы. Ш.12.
384
Часть П. Правительство и администрация Империи
ствукяцие обвинения, не говоря уже о тонком политическом подтексте. Столь же уместен был сенат и в случае расследования обрушения шаткого амфитеатра в Фиденах в 27 г. н. э., повлекшего катастрофические жертвы среди зрителей; дело кончилось изгнанием строителя, который был вольноотпущенником, и принятием нормативов, чтобы предотвратить повторение такой беды.
Следующее правило состояло, видимо, в том, что император держался в стороне от дел о вымогательствах (repetundae), давая сенаторам полную свободу разрешать их по собственному усмотрению, и с его стороны такая беспристрастность не требовала особых жертв. Однако с делами о государственной измене (maiestas) всё, конечно, обстояло наоборот: в первой инстанции обвинение рассматривал император, и дело могло перейти в сенат только по его инициативе. Поскольку эти случаи по самой своей сути касались его личной безопасности и его интересов, император считал важным обнародовать свое мнение и всеми средствами обеспечить его проведение в жизнь. В итоге сенаторам лишь изредка удавалось свободно принимать решения по таким делам, и неизбежное вмешательство императора вызывало у них горькую досаду, особенно когда обвиняемый принадлежал к их сословию. Глубокая трагедия правления Тиберия состояла в том, что он прикладывал всё меньше и меньше усилий для контроля за выдвижением обвинений в государственной измене (maiestas). Более того, в любом политическом деле он заботился прежде всего о том, чтобы учитывались именно его пожелания, а не о том, чтобы поощрялась независимость сенаторов.
Не меньше вреда причинило и его удаление на Капри в 26 г. н. э., откуда он так и не вернулся. Вплоть до этого времени Тиберий вел себя исключительно добросовестно — в судах и в сенате, как председатель и как частное лицо, и даже во время выборов. Он активно участвовал в заседаниях — терпел оскорбления, вступал в неприятные перепалки, а порой его даже побеждали большинством голосов. Принимая во внимание другие его мероприятия, вполне понятно, что такое поведение укрепляло уверенность сената в важности и ценности собственной роли, так что отстраненность императора от этого органа после 26 г. н. э. нанесла государству еще больше вреда.
Придя к власти, Гай пообещал20 никогда не писать сенату (то есть всегда лично присутствовать на заседаниях); это заявление свидетельствует, что поведение Тиберия в предыдущие одиннадцать лет оценивалось негативно. Но предпринять серьезные усилия в этом направлении выпало Клавдию. Вероятно, он никогда не был так усерден, как Тиберий, однако регулярно посещал заседания и суды и как председатель, и как рядовой член, охотно участвовал в них и передавал на рассмотрение сената множество дел. По всей видимости, он исключительно жестко контролировал посещаемость заседаний. Он ужесточил запрет на несанкционированные часг-
20 Дион Кассий. UX.3.1.
Глава 9. Сенат и посты...
385
ные поездки сенаторов за пределы Италии (после 49 г. н. э. разрешение не требовалось только для выезда на Сицилию и в Нарбонскую Галлию). Нерон, в силу особенностей характера и недостатка опыта, посещал сенат значительно реже Клавдия, особенно в конце правления, когда он всё больше и больше дистанцировался от этого органа. Но удивительно, что опыт и воспитание Вителлия побудили его вернуться к примерам Августа, Тиберия и Клавдия. Тацит21 отмечает, что в свое короткое правление в 69 г. н. э. он взял себе за правило посещать сенат даже тогда, когда в повестке дня стояли лишь мелкие вопросы.
Из всех императоров, правивших между 37 и 69 гг. н. э., самое сильное влияние на сенат оказал Клавдий, расширивший состав этого органа. Впрочем, выступая в сенате, он подчеркивал, что еще Август и Тиберий желали, чтобы «в этой курии (curia) собирался весь цвет колоний и муниципиев, особенно порядочные и богатые люди»22. Однако данное заявление Клавдия выглядит преувеличением. Юлий Цезарь и в самом деле ввел в сенат нескольких провинциалов, но, каковы бы ни были идеалы Августа и Тиберия, на практике последние следовали примеру Цезаря с большой осторожностью. Хотя императоры часто выказывали благосклонность к уважаемым сенаторам знатного происхождения, довольно скоро многие древние роды исчезли23. В итоге возникла возможность для постоянного притока в сенат новых людей (novi homines), то есть тех, кто становился сенаторами в первом поколении, большинство из которых в это время по-прежнему было италийцами. Очевидно, в кандидатах не было недостатка, за исключением краткого периода в 20—10 гг. до н. э. Август и Клавдий дали патрицианское достоинство нескольким новым родам. Но лишь благодаря инициативе Клавдия в сенате стало заметно присутствие провинциалов. И даже тогда абсолютное большинство новичков происходило из западной части империи; лишь после пресечения династии Юлиев—Клавдиев горстка выходцев с Востока приобрела достаточно обширные возможности и связи, позволявшие рассчитывать на продвижение24.
Враждебно настроенные к сенату императоры, такие как Гай и Нерон, нанесли этому собранию лишь преходящий ущерб, ибо к концу правления Тиберия реформа состава сената и регламента заседаний была завершена, а его функции приведены в соответствие с новыми ограничениями, которые налагал Принципат. Особенно активно сенат действовал в законодательной и судебной сферах. Заседания могли тянуться целыми днями, от рассвета до заката; и всё равно их приходилось проводить гораздо чаще, чем дважды в месяц, как предписывал Юлиев закон. Дошедшие до нас сведения о числе присутствовавших и голосовавших, которое колебалось от приемлемого до высокого25, особенно примечательны с учетом того, что многие сенаторы находились вне Рима по государственным де¬
21 Тацит. История. П.91. 22 FIRA I: 43, сгб. П, стк. 2—4.
23 Hopkins 1983 (А 46): гл. 3. 24 Halfinann 1979 (D 44).
25 Talbert 1984 (D 77): гл. 4, параграф 2; Gonzalez 1984 (В 234): 76.
386
Часть П. Правительство и администрация Империи
лам или уже достигли «пенсионного возраста». Обсуждения были жаркими, а участвовали в них, несомненно, лишь сенаторы высшего ранга — консуляры и претории, которых спрашивали первыми. Членство в сенате было весомым поводом для гордости, и, очевидно, привлечение новых кандидатов и обеспечение лояльности вновь прибывших никогда не представляло проблемы для этого собрания. Более того, хотя сенат уже и не имел большой формальной власти, его члены, вместе и по отдельности, по-прежнему оказывали решающее влияние на все дела империи. С одной стороны, благополучие сената, как и всё в государстве, зависело от настроения императора, и это воспринималось в обществе болезненно, с другой — Август и Тиберий на протяжении своего длительного правления создали образец поведения, которого сенаторы могли требовать от их преемников. Сенаторы рьяно защищали эти ценности, и ответственные императоры старались считаться с ними, что весьма шло на пользу сенату как корпоративному органу и его имиджу. В самом напыщенном из сохранившихся свидетельств Тацит26 устами Огона так говорит о важности сената для Рима: в этом институте люди по-прежнему видят неизменное воплощение древней республики (respublica).
II. Посты СЕНАТОРОВ И ВСАДНИКОВ
Ни один принцепс, каким бы деятельным он ни был, не мог управлять империей в одиночку. Более того, административная компетенция магистратов, ежегодно избиравшихся в Риме, была намеренно сокращена. Они, конечно, по-прежнему руководили судами в Городе, а квесторы действовали как финансовые чиновники в десяти сенаторских провинциях. Кроме того, трое магистратов курировали работу монетного двора, а между 23 г. до н. э. и 56 г. н. э. магистраты управляли также государственной казной в Риме. Но этим дело и ограничивалось. Во всех прочих делах императору приходилось искать помощи, в основном — у высших классов. В этой сфере выдающуюся роль играли сенаторы. В свой личный совет (consilium) император большей частью приглашал представителей этого сословия. Со времен Республики сенаторы сохраняли за собой исключительную привилегию управлять провинциями и командовать легионами, на которую еще долгое время почти не покушались ни Юлии- Клавдии, ни последующие императоры. Только для выполнения этих двух важнейших задач в 68 г. н. э. требовалось больше пятидесяти сенаторов единовременно и почти все — в ранге консуляров или преториев (имеются в виду лица, которые прежде занимали должности, соответственно, консула или претора); другие сенаторы сопровождали наместников в качестве легатов.
Проконсулы сенаторских провинций всё еще избирались традиционным способом — при помощи жребия, на один год, который обычно на¬
26 Тацит. История. 1.84.
Глава 9. Сенат и посты...
387
чинался в конце весны или начале лета. О порядке и дате жеребьевки почти нет сведений. Проконсульство в Африке или Азии предлагалось обычно тем старшим консулярам, которые еще не занимали этой должности. Поэтому, когда имелось два претендента, имевших право на это назначение и желавших его получить, жребий определял, какая провинция кому достанется. Возможно, в общем виде эта же процедура применялась и для других проконсульств, предназначенных для преториев (хотя в этой должности им позволено было оставаться дольше одного срока). Поскольку таким способом распределялось целых восемь должностей, жребий мог выпадать случайно, и, как представляется, его не пытались подтасовать. В некоторых случаях исследователи подозревают манипуляции, но они, видимо, были исключением, как и случаи пребывания в должности сверх срока27.
Не считая этих десяти проконсульств, остальных наместников и командиров легионов назначал император на такой срок, какой считал нужным. Аналогично обстояло дело и с большинством новых сенаторских должностей в Риме и Италии, которые на постоянной основе учредили Август и Тиберий, хотя в этом случае кандидатов одобрял сенат.
Таблица 7
Новые сенаторские должности в Риме и Италии
Название
должности
Обязанности
Количество мест / требуемый ранг
соискателей
Дата
учрежде¬
ния
Примечания
Префект
эрария
Сатурна
(praefectus
aerarii
Saturni)28
Управление государственной казной
2 / претории (praetorii)
С 29 по 23 г. до н. э. и с 56 г. н. э.
Между 23 г. до н. э. и 56 г. н. э. эти обязанности выполняли действующие преторы и квесторы
Префект по
распределению
зерна
(praefectus
frumenti
dandi)29
Раздачи зерна в Риме
4 / претории; номинально избирались жребием
С 22 г.
до н. э. — две должности, в 18 г. до н. э. добавлены еще две
27 Talbert 1984 (D 77): гл. 10, параграф 3 и Прилож. 8.
28 Corbier 1974 (D 122): 476-478.
29 Pflaum 1963 (D 108): 234-237.
388
Часть П. Правительство и администрация Империи
Продолжение таблицы
Куратор дорог (curator viarum)30
Надзор за дорогами в Италии (хотя точный перечень обязанностей неизвестен)
Состав
неизвестен
С 20 г. до н. э.
Регулярно поручать одну или несколько основных крупных дорог попечительг сгву конкретного сенатора почт наверняка начали после Юлиев- Клавдиев
Куратор
водопроводов
(curator
aquarum)31
Надзор
за акведуками
Рима
3 / номиналы но выбирались по жребию; в составе: 1 консуляр,
1 преторий и 1 сенатор более низкого ранга
С 11 г. до н. э.
Эти должностные лица получили официальную власть, чтобы выполнять обязанности, которые более 20 лет неформально выполнял Агриппа до своей смерти в 12 г. до н. э.
Префект военного эрария (praefectus aerarii militaris)32
Управление военной казной
3 / претории
С 6 г. н. э.
Префект
города
(praefectus
urbi)33
Надзор за законностью и порядком в Риме, командование тремя городскими когортами (ранее находившимися под прямым контролем Августа)
1 / старший консуляр
Архаическая должность, восстановленная в новой форме на постоянной основе с 13 г. н. э.
Куратор священных зданий и общественных работ
Надзор
за священными строениями, а также обще-
2 / как
правило,
консуляры
Учреждена Августом или Тиберием
30 Еск 1979 (Е 38): гл. 3.
31 Фронггин. Об акведуках. 99 сл.; Ashby 1935 (F 257).
32 Corbier 1974 (D 122): 570-571.
33 Vitucci 1956 (E 136); рецензии см.: Cadoux 1959 (D 29); AE 1972: 174.
Глава 9. Сенат и посты...
389
Окончание таблицы
и мест (curator aedium sacrarum et operum locorumque publicorum)34
ственными работами и местами
Куратор государственных участков, наделенный судебными полномочиями (curator locorum publicorum iudican- dorum)35
Надзор за судебными делами, связанными с государственной собственностью
5 / главой этой группы назначался консуляр
Засвидетельствовано только при Тиберии
Куратор государственного архива (curator tabularum publicarum)36
Надзор
за государственными записями
3
Больше всего сведений в период с конца правления Августа до конца правления Нерона
Куратор берегов и русла реки Тибр (curator riparum et alvei Tiberis)37
Защита берегов и русла реки Тибр (прежде всего для предотвращения разлива)
5 / номинально избирались по жребию; главой этой группы назначался консуляр
Почти наверняка с 15 г. н. э.
Ответственный за протоколы сената (ab actis senatus)38
Хранитель
протоколов
сенатских
заседаний
1 / ранг неизвестен
Засвидетельствован лишь однажды — в 29 г. н. э.
Постоянная должность (которую занимали квестории) засвидетельствована только после эпохи Юлиев- Клавдиев
34 Gordon 1952 (С 350): 283-284.
35 ILS 942, 5939-5941; CIL VI 37037.
36 М. Hammond 1938 (D 45).
37 Le Gall 1953 (E 73): 137-145.
38 Talbert 1984 (D 77): 310-312.
390
Часть П. Правительство и администрация Империи
Хотя указанные должности (см. Табл. 1) возникли скорее как бессистемное расширение госаппарата, нежели вследствие запланированных реформ, все они в равной мере были наделены на то, чтобы усовершенствовать механизм государственной службы и тем самым упрочить положение самого императора. И хотя для выполнения конкретного круга обязанностей он учреждал одну или даже несколько должностей, это не мешало ему время от времени лично вмешиваться в данную сферу.
Императоры не ограничивались постоянными усовершенствованиями и экспериментами, о которых свидетельствует Табл. 1. В любое время они могли призвать сенаторов на помощь для разрешения какого-то кратковременного кризиса или затруднения. И всё же можно заметить, что значительная часть новых сенаторских административных должностей в Риме и Италии была учреждена в начале правления Тиберия. Вероятно, так же обстояло дело и с новыми всадническими должностями по всей империи, хотя античные авторы не уделяют особого внимания развитию всаднической карьеры, а потому чаще всего не удается точно установить, когда та или иная должность была введена39.
Уже в эпоху Поздней республики некоторые командные должности в армии обычно занимали всадники (очень немногие из них затем продвигались вверх и делали сенаторскую карьеру). Август расширил возможности для их военной службы, так что со временем большинство военных трибунов и все префекты вспомогательных войск были всадниками; некоторые префекты флота также входили в это сословие (остальные являлись вольноотпущенниками). Изредка на эти должности назначали бывших центурионов, дослужившихся до примипила и получивших всаднический статус; но в основном эти посты занимали всадники по рождению, незадолго до назначения поступившие на военную службу в армию, которая продолжалась несколько лет. Считалось, видимо, что такая военная служба необходима любому всаднику, желавшему получить гражданскую должность на службе императора.
Как и любой республиканский магнат, Август нуждался в прокураторах для управления своими поместьями, за которыми он не мог следить лично; они же представляли его интересы в суде. Обычно выполнение этих задач он поручал всадникам и с самого начала правления, видимо, имел представителей в большинстве провинций, если не во всех. В сенатских провинциях (где имелись квесторы) обязанности прокуратора формально сводились к управлению частной собственностью императора. Однако в императорских провинциях прокураторы уже при Августе играли более важную роль — распоряжались государственными средствами и командовали войсками; некоторым из них поручалась область или целая провинция; подчинялись прокураторы либо командиру ближайшей армии, либо непосредственно императору. Самым выдающимся из импе¬
39 Hirschfeld 1912 {D 13); Stein 1927 (D 66); Pflaum 1950 (D 56): 1960-1961; 1982 (D 59); 1974 (D 58). Ко многим датировкам учреждения новых должностей, предложенным Пфлаумом, следует относиться с осторожностью.
Глава 9. Сенат и посты...
391
раторских представителей второго типа был префект Египта (в эпоху Юлиев—Клавдиев эта должность считалась высшей для всадников); его непосредственные подчиненные (даже командиры двух легионов, расположенных за пределами Александрии) также были всадниками40. В сенатских провинциях прокураторы тоже начинали играть всё более важную роль, и, видимо, эта тенденция сказалась на решении Клавдия о предоставлении всем его прокураторам юрисдикции в вопросах налогообложения41. В пору его правления нашелся даже всадник, который считал, что, занимая должности, доступные членам его сословия, он сможет достичь такого же богатства и влияния, что и консуляр42.
Со 2 г. до н. э. Август передал прямое командование преторианскими когортами Рима двум префектам-всадникам. Через несколько лет случился кризис, побудивший его куда решительнее, нежели прежде, взяться за постоянные проблемы в двух сферах. Во-первых, после грандиозного пожара в 6 г. н. э. Август назначил для борьбы с огнем префекта ночной стража {praefectus vigilum) из сословия всадников и передал ему под начало 7 тыс. вольноотпущенников. Это новшество, на первый взгляд временное43, вскоре утвердилось навсегда. Во-вторых, жестокий голод, случившийся в том же году, вынудил Августа назначить на следующие два года двух консуляров для надзора за поставками зерна; затем, в какой-то момент между 7 г. н. э. и своей смертью в 14 г. н. э., он перепоручил эту задачу префекту продовольствия (praefectus annonae), который назначался из числа всадников, и эта должность стала постоянной44. Есть основания предполагать, что всаднический пост префекта транспорта в Италии также был учрежден в правление Августа45, и нет сомнений, что в начале правления Юлиев—Клавдиев многие из вышеупомянутых чиновников сенаторского и всаднического сословия получили помощников (adiutores) различного ранга из числа всадников.
Следует подчеркнуть, что данное возрастание числа всаднических должностей явилось столь же спонтанной реакцией на текущие проблемы, как и сенаторские назначения, о которых уже говорилось. Не существовало «гражданской службы» для всадников, которая бы гарантировала постоянную занятость, и заранее известной карьеры, которая побуждала бы их повышать свою компетентность46. Представляется, что общие соображения, побудившие Августа обратиться за помощью к всадникам, достаточно очевидны. С одной стороны, назначать сенаторов на некоторые должности было бы некорректно, даже если бы император имел в своем распоряжении достаточно членов этого сословия, да и компетентность сенаторов вызывала в некоторых случаях сомнения. С другой сго-
40 Brunt 1975 (Е 906).
41 Brunt 1966 р 87); Alföldy 1981 р 23).
42 Тацит. Анналы. XVI.17.
43 Дион Кассий. LV.26.4—5.
44 Pavis d’Escurac 1976 р 55); Rickman 1980 р 109).
45 Eck 1979 р 38): 88-94.
46 Brunt 1983 р 26).
392
Часть П. Правительство и администрация Империи
роны, хотя всадники стояли по рангу ниже сенаторов (и поэтому с большей готовностью исполняли приказы), первые всегда были неразрывно связаны со вторыми; некоторые из всадников, пользовавшиеся особой благосклонностью Августа, даже входили в число его ближайших советников. Кроме того, всадники как сословие были состоятельны, образованны и придерживались консервативных взглядов — как и сенаторы. Многие из них уже участвовали в общественной жизни в качестве присяжных, подрядчиков и муниципальных магистратов, а также служили в армии. В целом императору, который искал помощников в делах управления, естественно было обратиться именно к ним.
Сложнее, однако, точно сказать, почему для занятия определенных постов он выбирал представителей именно всаднического сословия. Например, в Риме должности префекта пожарной бригады и куратора поставок зерна, по-видимому, можно было поручить и сенаторам (ранее обе эти сферы входили в общую компетенцию сенаторских магистратур). Что касается провинциальных дел, то невозможно доказательно выделить общие характеристики, которые отличали бы области, порученные всадникам, от тех, в которых по-прежнему распоряжались сенаторы. Даже в случае с Египтом заявления позднейших античных авторов47 о том, что эта область была слишком беспокойной и представляла собой слишком серьезную угрозу, чтобы ее можно было без опасений поручить сенатору, едва ли звучат убедительно, тем более в свете того смятения, которое устроил первый префект Египта — всадник Корнелий Галл. Если же говорить о назначении всадников на должности прокураторов, то современные исследователи выдвинули гипотезу о том, что в силу специфики своих занятий представители этого сословия особенно хорошо разбирались в финансах, торговле и производстве; однако данная версия представляется неудовлетворительным упрощением, которое не учитывает того обстоятельства, что большинство всадников были не более чем владельцами крупных поместий, да и опыт, который приписывается данному сословию, не передавался по наследству. Столь же неуместны и любые предположения исследователей насчет того, что чиновники из сословия всадников в целом вели дела честнее, нежели сенаторы, а также были лояльнее императору. Лучше в связи с этим вспомнить то, о чем уже говорилось выше: все администраторы, как сенаторы, так и всадники, имели помощников (adiutores) из числа всадников. Возможно, на таких помощников возлагалась задача по борьбе со злоупотреблениями, но столь же вероятно, что их начальники действительно не справлялись со всем объемом работы без посторонней помощи.
Пожалуй, корректнее будет признать, что мы уже не можем сколь- либо точно выявить мотивы, побудившие Августа начать использовать всадников именно в указанной форме. По крайней мере, он, судя по всему, больше заботился о том, чтобы каждый наиболее эффективно исполнял свои обязанности здесь и сейчас, нежели о том, чтобы распределение
47 Тацит. Анналы. П.59; История. 1.11; Дион Кассий Ы. 17.1.
Глава 9. Сенат и посты...
393
должностей между представителями разных сословий соответствовало некой общей системе или теории. Позднее преемники Августа, как представляется, в большинстве случаев просто назначали на должность представителя того сословия, к которому принадлежал и его предшественник на данном посту, отчасти из уважения к установленному порядку, а отчасти потому, что не было веских оснований менять сложившуюся практику. Но были и исключения: например, к концу правления Юлиев—Клавдиев по многим причинам назрела необходимость назначать всадников (equites) на старшие должности в императорском секретариате, которые до сей поры занимали вольноотпущенники. Хотя само это изменение произошло позже, оно, во всяком случае, свидетельствует, насколько возросли амбиции всадников за сравнительно короткий период с того момента, когда Август впервые призвал их на службу. Также оно подтверждает, что всадники готовы были служить императору и уже полностью признали его безграничные прерогативы как патрона и правителя.
Глава 10
А. -К. Боумэн
УПРАВЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПРОВИНЦИЯХ
I. Рим, ИМПЕРАТОР И ПРОВИНЦИИ
В результате реформы провинциального управления, которая началась в январе 27 г. до н. э. с так называемого первого урегулирования Августа, в провинциях была создана система императорской администрации, сохранявшаяся более трех веков. Ее основополагающий принцип можно до конца понять лишь на фоне событий конца республиканского периода1. На Востоке, организуя управление Грецией и Азией, римляне воспользовались урбанистическим наследием эллинизма и создали определенную модель, логическим развитием которой стали масштабные восточные мероприятия Помпея. Здесь ярче всего выразилось такое повсеместное явление, как управление через посредство эллинизированных полисов (poleis), на основе особым образом очерченных взаимосвязей между городом и господствующей державой. При этом военные и финансовые интересы Рима объединяли разнообразные общины в рыхлую провинциальную структуру. На Западе — в Испании, Африке и Нарбон- ской Галлии — развитие и приспособление к римскому правлению происходило медленнее и заметно ускорилось лишь в последние три-четыре десятилетия I в. до н. э., а вслед за этими провинциями потянулись и новоприобретенные области Косматой Галлии. Скорость «романизации» и многие важные ее характеристики на Западе и Востоке различались, но основные цели были одинаковы: Риму необходимо было поддержи¬
1 См.: САН IX2: гл. 15. Свидетельства о провинциальном управлении при Августе и Юлиях—Клавдиях содержатся преимущественно в надписях; их дополняют разрозненные упоминания в литературных источниках. Мы не ставим задачу привести исчерпывающий перечень документов. Использовать более подробные документальные и литературные источники, относящиеся к периоду от Флавиев до Северов, следует с осторожностью, так как они, возможно, отражают более высокоразвитую провинциальную администрацию, чем та, что существовала между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э. Ниже приводится несколько более поздних свидетельств — но лишь те, которые вряд ли могут содержать серьезные анахронизмы.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
395
вать или создавать цивилизованные и самодостаточные сообщества (на базе polis или civitasla) под управлением местной аристократии. Требовалось обеспечить обороноспособность Рима и защиту интересов Империи в широком смысле, причем расходы на это должны были как минимум возмещаться доходами Рима с провинций, пользующихся его защитой. Наконец, отсюда естественным образом вытекала необходимость поддерживать и обеспечивать интересы римлян в провинциях: интересы сенаторов и всадников, стоявших на вершине социальной и экономической иерархии, затем — предпринимателей (negotiatores), колонистов-ве- теранов, а также ассимилированных римских граждан-провинциалов, которых становилось всё больше. Этим целям служила зримая и эффективная система: вооруженные силы, учреждения провинциального и городского управления, могущество римских денег, возраставшее господство римских экономических интересов и постепенное распространение римского права* 2.
Созданные в Поздней республике модели провинциального управления, несомненно, пережили период триумвирата; политические и военные потрясения, несомненно, причинили ущерб местной администрации, но на более высоких уровнях долгосрочные потери оценить сложнее. С точки зрения римских магистратов и чиновников в провинциях, порядок, установленный законом Тиция от 27 ноября 43 г. до н. э. и уточненный после битвы при Филиппах, позволял триумвирам оказывать покровительство своим сторонникам и назначать их наместниками и легатами провинций. Более общим следствием этого порядка стала эволюция «сфер влияния», в результате которой триумвиры получили доступ к военным и финансовым ресурсам провинций на своих территориях3. Но из этого не следует делать вывод, что конституционные полномочия или влияние каждого триумвира были ограничены каким-то «железным занавесом». Антоний мог писать в провинциальное собрание (koinon) Азии в поддержку привилегий атлетов и актеров, но и Октавиан имел возможность тесно контактировать с Афродизиадой-Пларасой в Карии, предоставить личные привилегии капитану (nauarchos) Селевку из Розоса и издать эдикт о привилегиях ветеранов, действие которого не ограничивалось западной частью империи4. Но даже на своей собственной территории триумвир не всегда заботился о подданных Рима. Некоторые общины страдали от небрежного отношения или не получали действенной помощи и поддержки, о чем свидетельствуют внутренняя борь¬
1а πόλις — городская гражданская община в восточной, греческой, части империи, civitas — в западной, латинской. — О.Л
2 Расчеты, какой доход с провинции можно получить в обмен на ее защиту, прямо приводятся у Страбона (IV.5.3; 200С), который рассуждает о том, что для сбора налогов в Британии потребовался бы легион с конницей и затраты на войско были бы равны доходам. О распространении римских денег и экономических интересов в целом см.: Crawford 1985 (В 320): гл. 17.
3 Аппиан. Гражданские войны. IV.2.7; Дион Кассий. XLVI.55.3—56.1.
4 О письме Антония в koinon см.: RDGE 57; о Селевке см.: RDGE 58; о ветеранах см.: EIRA 1: 56; об Афродизиаде см.: Reynolds 1982 (В 270): № б, 10, 12.
396
Часть П. Правительство и администрация Империи
ба и запоздалое возмещение ущерба в азиатских городах Афродизиада и Миласа во время вторжения Лабиена и парфян5.
Прочный порядок управления, установленный в начале 27 г. до н. э., несомненно, должен был что-то унаследовать из опыта предыдущих пятнадцати лет, хотя публичные ссылки на прецеденты эпохи триумвирата в этот период не допускались. Предоставление Августу крупной провинции (provincia) и разрешение управлять ею через легатов из сенаторского сословия, срок службы которых определял принцепс, скорее, могло напоминать испанское наместничество Помпея Великого в 55 г. до н. э. Первоначально провинция Августа должна была включать Испанию (хотя Бетику вскоре исключили из его сферы ведения), Галлию, Сирию, Киликию, Кипр и Египет (которым с 30 г. до н. э. управлял префект из сословия всадников, назначаемый лично принцепсом)6. Через несколько лет Кипр и Нарбонская Галлия вернулись под власть проконсулов, которые получали наместничество сроком на год путем традиционной жеребьевки, а в руках императора оказался Иллирик (в 22 г. до н. э. — О.Л.), на исходе правления Августа разделенный на провинции Паннония и Далмация7.
Новые провинции по самой своей природе должны были передаваться под управление императора. Наместники «императорских» и «народных» провинций различались по рангу: более крупные, имевшие военное значение императорские провинции поручались консулярам, менее крупные — преториям; сенат назначал бывших консулов только в Африку и Азию, а в остальные провинции — бывших преторов. Возможно, префектура Египта послужила прообразом для тех императорских провинций, которые обычно поручались всадникам; другими провинциями управляли наместники, первоначально именовавшиеся военными префектами или гражданскими прокураторами, а в правление Клавдия получившие общее название прокураторов. С точки зрения конституции, эти наместничества не были предназначены исключительно для всадников: известен вольноотпущенник, исполнявший обязанности префекта Египта, и нет свидетельств того, что Антоний Феликс, брат Палланта, был возвышен до всаднического достоинства, прежде чем занять пост префекта Иудеи8.
Важно подчеркнуть, что при Августе и его преемниках порядок оставался гибким. Он позволял поручить наместнику управление несколькими провинциями; передать власть в провинции от проконсула легату Августа сенаторского ранга или наместнику-всаднику (а иногда наоборот);
5 Reynolds 1982 (В 270): Na 7, И, 12; о Миласе см.: RDGE 59, 60.
6 Дион Кассий. ЦП. 12; Бетика перешла к сенату, вероятно, вскоре после 27 г. до н. э., см.: Mackie 1983 (Е 753): 353-354.
7 Дион Кассий. ЦП.12.7; LIV.4.1; Thomasson 1975 (D ПО) I: 87 сл.
8 Страбон. XVn.3.24^-25 (839—840с); о Египте см.: Тацит. Анналы. ХП.60.3; Дион Кассий. БУШ. 19.6; Филон Александрийский. Против Флакка. 1.2; о Феликсе см.: Тацит. Анналы. ХП.54. Провинции, управлявшиеся проконсулами, в настоящей главе намеренно названы не «сенатскими», а «народивши», поскольку последний термин точнее отражает утверждение Ограбона (Указ, соч.), что это были провинции, принадлежавшие народу.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
397
объединить народные и сенатские провинции под властью одного наместника; «повысить» статус провинции, передав власть над ней от всадника легату или от легата-претория — легату-консуляру; признать старшинство легата Августа над префектом-всадником соседней провинции (хотя, наверное, лишь в особых обстоятельствах)9. Категории наместников явно отличались друг от друга сроком полномочий и способом назначения. Легаты и прокураторы, которых напрямую назначал принцепс, обычно управляли провинцией несколько лет подряд; проконсулы назначались по жребию и служили один год, хотя в отдельных случаях продлить полномочия или назначить проконсула можно было без жребия (extra sortem). В остальном полномочия и обязанности наместников со временем всё более сближались (закон, регулировавший положение египетского префекта-всадника, преследовал именно эту цель и достиг ее10). Независимость проконсулов от императора слишком часто преувеличивают.
Эволюция этой «системы» свидетельствует о том, что ее значение было весьма велико, хотя она вовсе не предполагала (как иногда ошибочно считают), что империя делилась на две половины или существовало два разных метода управления ею. Если бы Августа однажды спросили, то он мог бы утверждать, что до 23 г. до н. э. имел право действовать в своих собственных и народных провинциях в силу консульского империя; консульский декрет Августа и Агриппы, изданный в 27 г. до н. э., определенно распространялся на провинцию Азия. После 23 г. до н. э. Август мог утверждать, что действует в силу высшего проконсульского империя (imperium proconsulare maius), данного ему пожизненно. Но повторное решение о предоставлении ему провинции в 18 г. до н. э. (далее повторявшееся с интервалом в пять и десять лет, пока этот обычай не исчез после 14 г. н. э.), видимо, свидетельствует, что первоначально империй в принципе можно было отделить от территорий, переданных прин- цепсу11. Все эти территории (по крайней мере, поначалу) считались провинциями сената и римского народа (senatus populusque Romanus), что очевидно, если принять во внимание следующее: Веллей подразумевает, что налог с Египта по праву должен поступать в эрарий (aerarium); Тиберий порицал собственных легатов за то, что они не посылают в сенат до¬
9 Иллирик, разделенный на Паннонию и Далмацию, перешел от проконсулов к легатам, как и Македония (см. сноску 7 наст, гл.); Сардинией при Юлиях—Клавдиях управляли проконсулы, затем — префекты, а после — снова проконсулы; во П в. Ликия-Памфи- лия была передана от легата проконсулу (Thomasson 1975 (D ПО) I: 275 сл.); об объединении Мёзии с Македонией и Ахайей см.: Тацит. Анналы. 1.80.1; Дион Кассий. LVIII.25.4; Фракия, Норик и Реция сначала находились под властью прокураторов, а во П в. н. э. были переданы легатам; о взаимоотношениях префекта Иудеи и легата Сирии см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. ХУШ.8&-89; XX. 132; Иудейская война. П.244; Schürer 1973 (Е 1207) 1: 360—361. Перечень провинций на 69 г. н. э. см. в конце наст, гл., в табл. 2.
10 О продлении срока полномочий легатов см.: Тацит. Анналы. 1.80; о проконсуле, назначенном без жребия, см.: GCN 237; о Египте см.: Тацит. Анналы. ХП.60.3; Дигесты. 1.17 (Ульпиан).
11RDGE 61 (Кимы); Дион Кассий. ЫП. 16.2—3.
398
Часть П. Правительство и администрация Империи
несения о своих провинциях; постановления сената могли повлиять на деятельность особого императорского счетовода (Idios Logos) в Египте12. С другой стороны, множество свидетельств показывает, что в реальности дела как народных, так и императорских провинций всё в больших объемах стекались к императору, так как он был самым очевидным и действенным источником власти. Это хорошо заметно во всех случаях, когда принцепс применял свой высший империй (imperium maius), например, в первом эдикте Августа из Кирены: из этого документа ясно видно, что киренцы обратились к принцепсу по собственной инициативе. Примечательно, что в сходных обстоятельствах Тиберий, напротив, не стал рассматривать дело самостоятельно или совместно с сенатом, а счел нужным оставить сенату видимость традиционных полномочий (imaginem antiquitatis), отослав к нему посольства городов из проконсульских провинций13.
Возрастание влияния императора и усиление его контроля над провинциями также можно проиллюстрировать, рассмотрев его взаимоотношения с наместниками. В 22 г. до н. э. всех привела в замешательство позиция, занятая Августом по отношению к неправомерным действиям македонского проконсула Прима, который был призван к ответу за ведение войны с фракийцами-одрисами за пределами своей провинции14. Подробности этого дела туманны, однако ясно, что если бы Август действительно дал Приму совет, то он имел бы такой вес, что мог бы спасти проконсула от осуждения за измену (maiestas). Из-за того, что защита Прима приписывала роль посредника Марцеллу, племяннику принцепса, Август рисковал оказаться в неловком положении. Но позднее император мог уже вполне открыто контролировать наместников. Когда это было целесообразно, он вмешивался в жеребьевку сенатских провинций. Однажды Август официально заявил, что не осуждает проконсула Крита и Кирены за то, что тот отправил в Рим провинциала для допроса, а значит, Август, сочти он это нужным, мог бы и осудить наместника. Сохранилась надпись, которая прямо свидетельствует, что в правление Клавдия император давал сенатским проконсулам, как и собственным легатам, императорские указания (mandata), и, возможно, дело обстояло так уже при Августе. С другой стороны, стоит отметить, что, судя по контексту пассажа Тацита, сенат вполне мог обсуждать продление срока полномочий легатов Тиберия или, по крайней мере, заслушать доклад об этом15.
Модели управления создавались постепенно, и апробация, доработка и развитие были столь же важны, как и замысел. Эта гибкость наиболее очевидна, если проследить, как в начале Принципата возникали и учреждались новые провинции; однако она не менее значима и в ранее присоединенных провинциях. Учрежденную провинцию можно описать как
12 Веллей Патеркул. П.39.2; Светоний. Тиберий. 32; BGU 1210: преамбула.
13 EJ2 311.1-40; Тацит. Анналы. Ш.60.
14 Дион Кассий. LIV.3.1^; о проблематичности датировки дела Прима см. с. 109 насг.
изд.
15 EJ2 311: 40—55; Тацит. Анналы. 1.80.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
399
определенную географическую область, границы которой иногда были четко очерчены самой природой, но чаще не были ясно установлены, и тогда провинция определялась как совокупность общин и зависевших от них территорий (territoria). Рим мог определить границы новой провинции (подтвердив или изменив ту область, которая первоначально была поручена военному легату с империем) и структуру наместничества, выделить ей воинские силы, построить пути сообщения и установить налогообложение. Нередко в провинции проводились и другие мероприятия, еще прочнее скреплявшие ее воедино (хотя ни одно из них не было универсальным для всех провинций): это предоставление ей устава (lex provinciae), определявшего основы налогообложения, организацию вооруженных сил и, в общих чертах, характер местного управления; издание наместником провинциального эдикта, где излагался его подход к управлению; поддержка или создание koinon или concilium — объединенного собрания представителей общин в провинции, которое играло особенно важную роль в организации императорского культа.
С другой стороны, внутри каждой провинции картина выглядела далеко не однородной, если не принимать во внимание некоторые общие характеристики, свойственные всем имперским вооруженным силам. Во многих провинциях, даже старых, армия недостаточно жестко контролировала менее развитые области; администрация провинции не могла охватить всю ее территорию, поэтому ключевую роль играли крупные и малые города. Римские власти в провинции представляли собой надстройку, которая была вполне совместима с теми учреждениями и взаимоотношениями, которые сложились или начинали развиваться до римского завоевания, и не уничтожала их. «Романизация» не сводилась просто к строительству путей сообщения или введению в обращение римских денег — она предполагала поддержку и развитие определенных учреждений, стимулирование и формирование взаимосвязи между Римом и местной общиной, между разрозненными элементами провинциальных общин. Так, с крупными и прославленными городами восточных провинций Рим мог заключить договор о «свободе» или о «дружбе и союзе», смягчающий его власть, а аристократию этих городов Рим побуждал взять на себя заботы городского управления, обещая взамен повышение ее авторитета и карьерное продвижение16. Даже в Египте, который был менее урбанизирован, столицы округов (метрополии номов) приобретали некоторые черты греческих полисов: например, там существовали магистраты и «греческие» гимнасии17. Многим общинам римляне позволили оставить в силе местные законы (nomoi): пережитки действовавших ранее норм, религиозные и судебные учреждения, такие как афинский ареопаг или иудейский синедрион. Там, где сохранялась «свобода», большинство граждан могло жить в соответствии с местным правовым укладом, однако Риму было несложно продемонстрировать городским магна¬
16 RDGE 26; Reynolds 1982 (В 270): № 8.
17 См. далее, с. 800 наст. изд.
400
Часть П. Правительство и администрация Империи
там, что «независимое» сообщество подчинено чужой власти18. Даже город Пальмира, который в начале Принципата находился на периферии империи, подчинился указаниям Германика о порядке уплаты местных налогов наличными деньгами; если Пальмира и была в какой-то момент включена в провинцию Сирия, то неясно, когда именно19. Более жесткое и открытое расширение римского контроля можно наблюдать на Западе, например, в 47 г. н. э., когда Корбулон методично навязал жителям области, граничившей с Галлией Бельгикой, «старейшин, должностных лиц и законы» («senatus, magistratus, leges»)20.
Римская власть не заканчивалась на границах провинций. Рим постоянно стремился создать условия для присоединения новых территорий, а потому столь же важное значение, как и внутренние механизмы управления провинциями, имели «щупальца» Рима, тянувшиеся наружу, — символы римского присутствия, внушавшие племенам и царям-клиентам представление о римской мощи. Вовне использовались методы, мало отличавшиеся от внутренних, и, несомненно, они были призваны подчеркивать, что граница между «римской» и «неримской» территориями, по существу, не имеет особого значения. Например, в Германии римская армия заняла позиции на стратегически важных заграничных территориях, вероятно, всего через несколько лет после поражения Квинтилия Вара и потери трех легионов в 9 г. н. э., а затем — снова, в 47 г. н. э., но к этому дело не сводилось. Соседние племена поставляли Риму солдат. Сегимунд, сын вождя херусков, был назначен жрецом императорского культа в Алтаре Убиев20а, хотя оставался жить на восточном берегу Рейна, а Италик, племянник Арминия, воспитывался в Риме в правление Клавдия. Около 2—3 гг. н. э. наместник Элий Кат, вероятно, легат Мёзии и проконсул Македонии, переселил 50 тыс. гетов во Фракию, а при Нероне Элий Плавций Сильван переселил в Мёзию из-за Дуная более 100 тыс. человек. В Мавретании в правление Юбы имелось двенадцать колоний римских ветеранов, которые были основаны между 33 и 25 гг. до н. э. и административно относились к Бетике. В 4 г. до н. э. в Иудейском царстве Ирода действовали галльские вспомогательные подразделения21.
18 Тацит. Анналы. Ш.60.6.
19 CIS П.3.3913.181—186 (греческий текст); Matthews 1984 (Е 1037) (перевод); о статусе Пальмиры см.: Mann J.G. // Roxan М.М. Roman Military Diplomas 7978- Ί984 (ICS 1985): 217-219.
20 Тацит. Анналы. XI. 19.2—3.
20а Ага Ubiorum — храм императорского культа в городе Oppidum Ubiorum (Крепость Убиев), позднее называвшемся Colonia Agrippinensis (Колония Агриппины), ныне — Кёльн. — О. А
21 О германских фортах см.: Schönberger 1969 (Е 591): 151; Тацит. Анналы. XI. 19.7; о солдатах: Тацит. Анналы. 1.56.1; о Сегимунде: Тацит. Анналы. 1.57.2; об Элии Кате: Страбон. УП.З.Ю (ЗОЗС) (о предположительной датировке переселения гетов см.: Syme 1971 (Е 702): 40-72 (на с. 53-55); Oliver J.H. // GRBS 6 (1965): 51-55); о Сильване: GCN 228; о колониях в Мавретании см.: Плиний. Естественная история. V.2, 5, 20—21; cp.: Mackie 1983 (Е 753); о галлах: Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.397.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
401
На практике для провинций и провинциальных городов, селений и отдельных подданных, как и для царей-клиентов и племенных вождей, узнаваемым воплощением римской мощи и власти постепенно и неизбежно становился император. Важно подчеркнуть, что он был вовсе не номинальным главой, так как всегда активно участвовал в управлении. Для обоснования своих эдиктов и писем (epistulae), адресованных отдельным провинциям и сообществам внутри них, — если такое обоснование когда-либо требовалось, — император мог ссылаться на то, что сам он фактически занимает положение магистрата; императорские заявления в таких формах вскоре превратились в прочный стержень, вокруг которого развивалось всё административное право в провинциях. Заявления общего характера, в которых император выступает как руководитель широкого профиля, сравнительно малочисленны. При Августе новая судебная процедура по делам о вымогательстве была учреждена постановлением сената (senatus consultum), но преамбулой ему послужил императорский эдикт, из которого очевидна ключевая роль императора. Императорские эдикты, гарантировавшие привилегии иудеям или ветеранам, регулировавшие систему реквизиций транспорта (vehiculatio), не ограничивались городскими или провинциальными границами и продолжали действовать и после смерти императора, пока их прямо не изменяли, не отменяли или не подтверждали, если им грозило забвение22.
Нетрудно увидеть, что группы общин и отдельные общины и лица естественным образом воспринимали императора как средоточие власти, поэтому предпочитали направлять именно к нему посольства и ходатайства, проходившие обычно (хоть и не всегда) через фильтр в лице наместника, от которого подданным наиболее естественно было ожидать действенных мер и покровительства. Это впечатление еще более усилится, если вспомнить, что во многих провинциях и областях император, несомненно, имел собственные интересы и имущество (Patrimonium). Таким образом, отклики императора на запросы, будь то его устные решения или рескрипты, тоже становились опорой разраставшегося свода законов и постановлений. Эта деятельность имела очень важное значение вне зависимости от того, в какой мере решения принимал лично император (а не палатинская бюрократия), и сколько в них было инициативы, а сколько — ответной реакции. По мере возрастания объема дел становилось всё больше провинциальных чиновников; вопрос, который посольство подняло перед императором, мог быть возвращен к наместнику провинции, как это произошло с делегацией Книда в правление Августа23. Иногда требовалось уточнить сферы ответственности, о чем свидетельствует четкое заявление Клавдия в 53 г. н. э., получившее развитие в постановлении сената, о том, что судебные решения (res iudicatae) прокураторов прин-
22 О вымогательстве см.: EJ2 311: 72—141; об иудеях: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX.286; о ветеранах: FIRA I: 56; о vehiculatio: Mitchell 1976 (В 255) (= АЕ 1976: 653); cp.: GCN 375: 382.
23 RDGE 67.
402
Часть П. Правительство и администрация Империи
цепса следует считать наделенными такой же силой, как и его собственные. Тиберий осудил прокуратора Азии, преступившего границы дозволенного, но ни одна из этих мер не могла положить предел должностным злоупотреблениям чиновников24.
II. Структура
Функционирование системы управления в провинциях обеспечивала надстройка, состоявшая из военных и гражданских служащих, которые назначались на должности центральным правительством и несли перед ним ответственность. Сравнительно малочисленные сенаторы и всадники, занимавшие высшие посты, обычно не являлись уроженцами тех провинций, где служили, хотя известно достаточно исключений, особенно в конце правления Юлиев—Клавдиев, чтобы убедиться: данное правило не было незыблемым25. Базис же этой системы составляли органы местного управления в провинциальных сообществах (то есть в городах и деревнях), обладавшие разной степенью автономии. Эти два элемента — базис и надстройка — мы подробно рассмотрим в данном подразделе, сделаем и некоторые выводы об их природе и взаимосвязи.
Наместники любого ранга — легаты, проконсулы и префекты или прокураторы — обладали в своих провинциях полным спектром административных, военных и судебных полномочий, которые предусматривал их империй. Даже если проконсул или прокуратор имел в провинции лишь горстку вспомогательных войск, его власть над ними была не меньшей, чем власть легата Сирии над его четырьмя легионами и вспомогательными силами. Наместник нес главную ответственность за поддержание мира в провинции (quies provinciae), и Улышан, описавший в начале Ш в. н. э. обязанности наместника, подчеркивает его обширную власть, что, конечно, справедливо и для начала императорского периода26. Нет нужды говорить, что свободу действий наместника ограничивала воля' императора, а также его представителя — например, Агриппы, Гая Цезаря, Германика или Корбулона, — обладавшего превосходящими полномочиями. События, сопровождавшие смерть Германика на Востоке в 19 г. н. э., и его сложные взаимоотношения с Пизоном, легатом Сирии, показывают, какие трения порой возникали. Они могли возникать и в случае, когда императорский прокуратор, как личный агент принцепса, посягал на прерогативы наместника, о чем свидетельствует конфликт, который случился в Британии в 62 г. н. э. между наместником Светонием Паули- ном и прокуратором Юлием Классицианом; Нерон попытался разрешить его, направив туда императорского вольноотпущенника Поликли-
24 Тацит. Анналы. ХП.60.1—2; IV.15.3.
25 Виндекс, наместник Лугдунской Галлии в 68 г. н. э., был аквитанцем, см.: Дион Кассий. ТХШ.22.1(2); о Тиберии Юлии Александре (родился в Александрии и в 66—69 гг. I в. н. э. был префектом Египта.. — О.Л) см.: Тацит. История. 1.11; cp.: PIR21: 139.
26 Дигесты. 1.16.4.3; 1.18.3; ХЬУШ.18.1.20.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
403
та27. С другой стороны, полномочия наместника формально были ограничены привилегиями отдельных общин и лиц; не вызывает сомнений, что наместники часто не желали с ними считаться и на практике эти привилегии, конечно, иногда попирались.
Наместнику провинции непосредственно подчинялись различные служащие. Для периода Ранней империи сохранилось очень мало источников о рутинной работе служебного персонала (officium) наместника, однако надпись П в. н. э. свидетельствует, что его штат состоял из свиты ликторов, посыльных (viatores), рабов и солдат («beneficiarii consulares», «консульские освобожденные солдаты»), откомандированных из своих частей); в I в. н. э. штат, возможно, был меньше, но имел примерно такой же состав28. У легатов [Августа] (то есть наместников императорских провинций. — О. Л) и проконсулов имелись подчиненные и более высокого ранга: гражданские, а там, где имелись легионы, и военные легаты; военные трибуны, командиры вспомогательных частей и центурионы тоже играли важную роль как в гражданском, так и в военном управлении. Наместники-проконсулы имели квесторов, которые выполняли свои традиционные функции в области государственных финансов, тогда как финансовыми вопросами, связанными с императорской собственностью (Patrimonium), занимался прокуратор провинции (обычно всадник, иногда вольноотпущенник), которому подчинялись прокураторы-всадники или вольноотпущенники, отвечавшие за определенные поместья или источники дохода. Не всегда можно точно оценить степень их независимости от наместника, и эта проблема еще сильнее усложняется тем, что фиск постепенно приобретал всё более государственный характер, а в императорских провинциях прокуратор провинции с самого начала принял на себя традиционные финансовые обязанности квестора. Только для Египта имеются ясные свидетельства того, что служащие-всадники в ранге прокураторов действовали непосредственно как «главы департаментов» наместника; но и в других императорских провинциях могла существовать такая же система, со временем всё более приближаясь к египетской29. Из этих служащих наместник относительно свободно мог выбирать членов собственного совета (consilium), которые должны были помогать ему в рамках своей компетенции, однако его выбор не ограничивался квестором, легатами, прокураторами или офицерами, приглашать он мог и зависимых царей, местных магнатов, городских магистратов или специалистов по местным законам и учреждениям.
Свидетельства о делении провинций на областные административные единицы обрывочны и случайны, и в них невозможно обнаружить какой- то общий принцип. На недавно присоединенных или менее романизированных территориях римским властям иногда приходилось отдавать особые распоряжения. В Ранней империи альпийскими областями управля¬
27 Тацит. Анналы. П.57; XTV.38—39.
28 OliverJ.H. //AJP 87 (1966): 75-80; Weaver P.R.C. ЦAJP 87 (1966): 457-458.
29 См. далее, с. 785—787 наст. изд.
404
Часть П. Правительство и администрация Империи
ли военные префекты, каждый из которых отвечал за несколько общин (civitates); по мере покорения и обустройства этих областей префектуры объединялись и формировали более традиционное наместничество30. Несомненно, это устройство было продиктовано теми же потребностями, в силу которых, например, позднее отдельными областями в Британии управляли центурионы (centuriones regionarii); отсюда видно, что во многих, если не во всех, «приграничных» провинциях организация вооруженных сил была неразрывно связана с развитием зачаточной гражданской структуры управления31. Имеются свидетельства того, что в некоторых провинциях сохранялось традиционное административное деление: три (или четыре) эпистратегии (epistrategiae) и составляющие их номы в Египте, стратегии (strategiae) во Фракии (в конце правления Юлиев—Клавдиев Рим начал постепенно их упразднять), топархии в Сирии и Иудее. Кое- где несколько городов объединялись в административные единицы (например, сирийское Десятиградье), в других местах создавались паги (pagi) — главным образом, быть может, для удобства налогообложения32. Служащие, управлявшие такими округами, судя по всему, стали важным связующим звеном между властями общины и чиновниками, отвечавшими за провинцию в целом, не ущемляя (формально) ту автономию внутреннего управления, которой были наделены местные общины. Наконец, следует добавить, что разросшиеся императорские поместья, в сущности, превратились в еще одну разновидность административных единиц: в границы такого поместья зачастую входило несколько маленьких общин, а управление им было поручено императорскому прокуратору. Эффективность работы этой сравнительно небольшой бюрократической надстройки (вероятно, в общей сложности не более трехсот служащих на провинцию) зависела от базиса, который складывался из местной администрации, действовавшей в городах и селах провинции. В этом отношении были неизбежны глубокие различия между провинциями и регионами, особенно заметные при сопоставлении Востока и Запада в целом. На Востоке Рим в основном присоединил провинции, сохранившие греческое или эллинистическое полисное наследие, тогда как во многих западных провинциях для преобразования сообществ или племен в гражданские общины (civitates) требовалось несравненно более прямое и сильное воздействие Рима, и важнейшим социальным, экономическим и техническим стимулом для этого процесса служило римское военное присутствие. Если это многообразие можно уложить в какую-то общую модель, то, вероятно, ее будет определять цель, которую преследовало правительство Римской империи: сохранить или создать систему общинного управления, где городской центр главенствовал бы над областью, а богатая аристократия господствовала бы в городском центре. Урбанизация, в таком понимании этого слова, лежала в основе социального и политиче¬
30 EJ2 243, 244.
31 Tab Vindol 22 (=11:250).
32 О Египте см. далее, с. 786 наст, изд.; о Фракии см. с. 650—651 наст, изд.; о Декаполе см.: IGRR I: 824; ср.: Isaac 1981 (D 93); Pflaum 1970 (E 755).
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
405
ского контроля Рима над провинциями, и ее развитие стало одной из наиболее важных особенностей провинциальной истории I в. н. э. И на Востоке, и на Западе основывались колонии (coloniae). На Востоке Рим поддерживал полисы, повышая их статус и расширяя права самоуправления. В Галлии (и в меньшей степени в Северной Африке, Испании и Сардинии) уже существовавшие городские центры превращались в гражданские общины (civitates); некоторые из местных крепостей (oppida) были преобразованы в новые civitates, а часть — заменена ими; рано или поздно эти civitates могли рассчитывать на получение статуса колонии или муниципия.
Стержнем структуры управления в провинциальных полисах и civitates служили олигархические институты — советы и магистраты, доступ к которым определялся богатством и знатным происхождением; они были наделены исполнительной властью, чтобы управлять внутренними делами своих общин и представлять их перед центральным правительством. Более многочисленные собрания, состав которых был тщательно определен, чтобы отделить граждан от постоянных жителей без гражданства (incolae), представляли собой демократический элемент, но их роль была ограничена, ибо они действовали под руководством местного сената и сословия куриалов (членов городских советов. — О. Л.)33. В некоторых городах определенным группам населения дозволялось жить по законам своей общины, пока они не преступали общегородских законов34. Более универсальное значение имели другие общинные институты, которые выполняли в системе управления определенные функции и обеспечивали своим служащим власть и влияние, статус и авторитет: это местные суды, храмовые учреждения, герусии (gerousiai, советы старейшин), коллегии (collegia, гильдии) и различные объединения. Важную роль в них нередко играли представители сословия куриалов, выступавшие в качестве их руководителей или покровителей, но многие из этих институтов содействовали социальному и политическому восхождению представителей более низких слоев системы, в которой привилегиям неизменно сопутствовали обязательства, а правящая аристократия отвечала за распределение тягот местного управления между собой и другими группами граждан, обладавшими более низким статусом. Это было универсальной особенностью системы, и лучшей иллюстрацией здесь служат повсеместные общественные обязанности (на Востоке они назывались литургиями, а на Западе — munera), благодаря которым неизбежное бремя местного управления (включая сбор налогов для центрального правительства) распределялось среди населения в зависимости от имущественного ценза. По высокоразвитой и хорошо организованной литургической системе Поздней империи нельзя с уверенностью судить о более раннем периоде; не следует и считать, что в разных сферах она развивалась рав¬
33 MW 454: гл. ЫП; cp.: Mackie 1983 (Е 231): гл. Ш.
34 Самый известный случай — иудейская община Александрии; см.: CPJI: с. 7; а также далее, гл. 14d наст. изд.
406
Часть П. Правительство и администрация Империи
номерно. Но редкие и разрозненные свидетельства для раннего императорского периода ясно показывают, что корни этой системы следует искать здесь, в тот период, когда, вероятно, такие общественные обязанности (как престижные и формально добровольные, так и всё более унизительные и принудительные) еще четко отграничивались от выборных магистратских должностей (honores или archai)35.
Хотя обычно города главенствовали над селами, расположенными на их территории, следует подчеркнуть, что крайне редко городской центр управлял селами напрямую. Некоторые альпийские племенные селения подчинялись соседним муниципиям, а в Африке магистраты Карфагена участвовали в управлении теми селами, где среди жителей были римские граждане. Но даже там поселения местных уроженцев, вероятно, имели собственных магистратов, а в Испании известно селение (vicus), действовавшее независимо от своей городской общины (civitas)36. В селах Западной Малой Азии и Сирии политическая жизнь кипела: там существовали сельские собрания, иногда — советы старейшин (gerousiai) и коллегии магистратов. В Каппадокии, которая была мало затронута эллинистическим влиянием, так что не могла похвастаться множеством городов, именно сёла первоначально стали центрами организации и экономической и религиозной жизни. В Египте внутреннее управление в селениях не зависело от столиц номов, хотя, возможно, контроль правительственных чиновников здесь был плотнее, чем в других местах. В Галлии Бель- гике, где известно около 150 селений (vici), выявлено два периода роста: сразу после завоевания и в середине I в. н. э.; в число виков входили как доримские крепости (oppida), так и новые селения, возникавшие вдоль главных дорог. В этой провинции объединение сёл в округа (pagi) и превращение крупных виков в религиозные центры указывает, что размеры поселений могли быть разными, но все они стремились выстраивать иерархию вокруг центров37. Крупные селения играли важную роль как рыночные, торговые и производственные центры; в них проживала богатая элита, владевшая землей (и, следовательно, занимавшая магистратуры), и на этом основании во П—Ш вв. н. э. они всё чаще стали притязать на статус города.
В этом кратком обзоре система управления представлена как совокупность центрального бюрократического аппарата и местных административных учреждений, однако здесь упущена одна особенность, заслуживающая упоминания: это лиги городов и общепровинциальные собрания (koina или concilia). Первые никогда не были широко распространены, а там, где существовали, представляли собой, вероятно, лишь уступку мест¬
35 EJ2, 311: 55-62; FIRA, I: 56; I: 21, гл. ХСП.
36 Об анавнах и Триденте см.: GCN 368: 21—36 (анавны — альпийское племя в верховьях реки Атес, совр. Адидже; Трид ент — город, которому анавны подчинялись, совр. Тренто. — О.Л); о карфагенских магистратах: ILS: 1945; CIL УШ: 26274; об испанском vicus см.: АЕ 1953: 267; ср. с надписью: OGIS: 527 (дата неизвестна), в которой сказано, что Иераполь отправляет в селения должностных лиц для поддержания порядка.
37 Wightman 1985 (Е 520): 91-96.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
407
ным традициям (как в Греции, где эти лиги обладали ограниченным правом монетной чеканки) или готовый и удобный инструмент для организации новой провинции, например Ликии-Памфилии. Из провинциальных собраний того времени относительно подробные сведения имеются только об азиатском и галльском; последнее объединяло Три Галлии37а. Они играли важную роль в императорском культе, через них иногда проводились мероприятия, затрагивавшие провинцию в целом, порой они транслировали императорскому двору общие жалобы городов провинции; но ни провинциальные собрания, ни лиги городов не имели серьезного административного значения и не выступали в роли постоянных посредников между городами и центральным правительством. Впрочем, стоит отметить интересный случай: в правление Тиберия Фессалийская лига попыталась голосованием правомочных членов разрешить спор между городами, который наместник провинции передал ей на рассмотрение38. Но важнее было то, что в этих собраниях городская аристократия сходилась в более внушительной и престижной обстановке, и это укрепляло ее положение и власть в городах.
Тем не менее между центральными и местными административными структурами всё же была налажена эффективная взаимосвязь. Что касается их функционирования, то прежде всего следует отметить тот метод, посредством которого представители центрального правительства в провинции следили за местным правительством и контролировали его — часто в ответ на давление или просьбы самих общин. Более детально этот метод будет обрисован в следующем разделе, а пока сделаем два замечания. Во-первых, даже если вмешательство центрального правительства часто выходило за рамки, которое само оно же считало желательными, взаимоотношения Рима с провинциальной общиной всегда предполагали возможность подобного вмешательства. Во-вторых, общины порой оказывались неспособны к эффективному самоуправлению, что в Поздней империи вылилось в фактическое включение высших эшелонов местной администрации в состав центральной бюрократии; в Ранней же империи принцепсы порой считали целесообразным отправить человека, уже влиятельного при императорском дворе, назад в его родной город, чтобы навести там порядок, как произошло при Августе с Афинодором из Тар- са39. Вмешиваться в местные дела и использовать местных уроженцев центральному правительству становилось проще ввиду того, что провинциальные магнаты или их потомки могли поступить на императорскую службу, возможно, за счет покровительства провинциальных наместников или других влиятельных знакомых; таким образом, эти магнаты фактически отстранялись от прямого участия в местном управлении и — в долгосрочной перспективе — лишали родные общины ад министр атив-
37а Собирательное название трех императорских провинций, завоеванных Цезарем: Лугдунской Галлии, Аквитании и Бельгики; более старая народная провинция, Нарбон- ская Галлия, сюда не входила. — О. А
38 EJ2 321.
39 Страбон. XIV.5.14 (674с).
408
Часть П. Правительство и администрация Империи
ных рычагов и ресурсов, определявших их влияние. Такое положение можно считать неизбежным следствием того, что богатые провинциалы получили доступ в сословие всадников. Вероятно, предпосылки к этому возникли, когда местные магистраты, такие как Лампон Александрийский, стали помогать провинциальному наместнику на судах или входить в его совет (consilium). Местная династия (например, Эвриклиды в Спарте), получившая гражданство при Августе, ко временам Клавдия могла похвастаться тем, что ее представитель стал прокуратором, то есть занял всадническую должность40.
III. Функционирование
Бюрократическая структура была сравнительно формальной, однако, описывая, как на практике осуществлялось управление провинциями, необходимо учесть определенную гибкость этой структуры и выявить модели и взаимосвязи, возникшие в эпоху Ранней империи. Чтобы проанализировать, как осуществлялось управление провинциями, требуется рассмотреть роль разных элементов структуры — императора, сената, провинциального наместника и его подчиненных, общин, институтов и отдельных лиц, взаимосвязи между ними, а также обстоятельства, которые ограничивали или определяли масштаб и содержание их действий. Функции этих участников будут проиллюстрированы примерами, показывающими, что и в каком случае они имели право предпринимать и как менялась совокупность взаимосвязей между ними в различных ситуациях.
Вероятно, лучше всего начать снизу и первым делом рассмотреть села. В целом, они, видимо, имели довольно широкую автономию во внутренних делах (хотя, несомненно, всё зависело от конкретного региона) и избирали коллегии магистратов из числа местных землевладельцев, чтобы распоряжаться сельской казной, поступавшими в общину дарами и наследствами, следить за состоянием рынков, храмов, общественных зданий и имущества. Местная администрация сохранила довольно активный демократический элемент в форме сельских собраний, где обсуждались как существенные вопросы, так и общественные посвящения и почетные постановления41. Подробные свидетельства о сельских делах можно найти лишь в Египте, но не следует недооценивать важность наших сведений о таком, например, селении, как Тебтюнис в Фаюме (в этой области было особенно сильно влияние греков, во множестве поселившихся здесь в правление Птолемеев), документы из которого, относящиеся к правле¬
40 О Лампоне см.: Филон Александрийский. Против Флакка. 131—134; об Эвриклидах см.: Bowersock 1961 (Е 817): 117—118.
41 Пример почетного постановления см. в надписи: IGRR IV: 1304 (Иерокесария) — в ней говорится о почестях, предоставленных жрецу, который за свой счет посвятил алтарь Риму, Августу и народу (demos). Обсуждение существенного вопроса засвидетельствовано в надписи: OGIS: 488 — в ней сказано о собрании, проведенном герусией, на котором было обсуждено распределение общественного имущества.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
409
нию Клавдия, свидетельствуют о работе сельского архива, где хранились подробные записи о сделках между жителями селения и о деятельности местной гильдии торговцев солью, помогавшей своим членам находить рынки сбыта в Тебтюнисе и вокруг него42. Здесь, как и следовало ожидать, важную роль играл контроль со стороны правительственных служащих, а связь селений, подобных Тебтюнису, с более крупными городами области была довольно слабой, за исключением того обстоятельства, что города служили центрами сбора налогов для своих областей. Подобная картина наблюдалась и в других провинциях. Даже там, где сёла были прочно связаны с городами, определенная независимость и автономия селений всё же допускались. Но отсутствие у маленьких общин четко определенного статуса и привилегий приводило к тому, что провинциальному наместнику и его подчиненным легче было вмешиваться в их дела с целью контроля43.
Более многочисленные свидетельства о малых и крупных провинциальных городах дают, разумеется, более подробную картину. Городские общины могли иметь очень разный статус, и привилегированных городов было сравнительно мало, во всяком случае, поначалу: например, из 399 городов трех испанских провинций, которые перечисляет Плиний Старший, 291 город был всего лишь податной общиной (civitates stipendiariae)44. Более привилегированные общины могли пользоваться свободой и освобождением от налогов либо только свободой; эти права устанавливались уставом, постановлением сената (senatus consultum), императорскими эдиктами или письмами. Постепенно складывались общие модели, но они не исключали предоставления прав и уступок отдельной общине45. Первоначальные модели гражданских и иноземных общин на Западе не поддаются простой классификации, но в целом ясно, что статус общины повышался, если она становилась колонией или муниципием с латинским правом, которое могло подтверждаться уставом и обычно предоставляло магистратам и членам их семей возможность получения римского гражданства. Туземные города, например в Испании или Африке, иногда заранее готовились к такому повышению статуса, имитируя римские учреждения в своих системах магистратур и местном гражданском праве. В результате даже в эпоху Республики спорный вопрос, возникавший в иноземной испанской общине, можно было описать на римском юридическом языке; в Африке в период Ранней империи местный магистрат, отмечая возвышение своего города до статуса муниципия, просто сменил
42 РМгск 237-242, 245.
43 См. выше, сноска 36 наст. гл.
44 Плиний Старший. Естественная история. Ш.7, 18; IV. 117. Большинство исследователей считают, что эти перечни восходят к источникам времен Августа.
45 Об италийском праве (Ius Italicum) см.: Дигесты. 50.15.1 (некоторые провинциальные города, подобно италийским городам, были освобождены от поземельного налога. — О.Л); о постановлениях сената и др. см.: Reynolds 1982 (В 270): № 8, 9, 13; о правах убежища, предоставленных храму Зевса в Панамаре, см.: RDGE 30; о доходе от косвенных налогов, который Август передал гражданам Саборы (причем прошения о прибавке следовало адресовать проконсулу Бетики), см.: MW 461.
410
Часть П. Правительство и администрация Империи
титул с суффета (sufes) на дуовира (duovir)46. Иногда этот процесс шел в обратном направлении, ибо императорская власть могла сократить или отменить привилегии определенной общины или группы общин. Хотя это и не делалось регулярно, но император или наместник всегда имел возможность аннулировать права общины по каким-то особым причинам47.
Несмотря на различия между давно существовавшими полисами Востока и развивавшимися civitates западных провинций, несмотря на множество всяких статусов, которыми могли обладать общины, установить в общих чертах их роль в управлении провинциями всё же возможно. В привилегированных общинах как Востока, так и Запада существовали советы и магистраты, которые осуществляли местное самоуправление и выполняли обязательства общины перед императорским правительством; членами этих учреждений становились выходцы из состоятельных классов. Общее представление об их роли дает часто цитируемый отрывок Плутарха, который свидетельствует прежде всего о положении дел на греческом Востоке под властью римлян: городскому магистрату «попроще надо шить хламиду, не забывать о преторе, стоя на месте для ораторов, и не возлагать непомерных горделивых упований на свой венок, видя римский сапог над головою. <...> Когда правители наших городов необдуманно приводят толпу в возбуждение, призывая подражать деяниям, мыслям и подвигам предков, не сообразным нашему времени и настоящим обстоятельствам, дела их смешны, но участь может быть вовсе не смешна, разве что к ним отнесутся уже с полным презрением. <...> Но мало являть себя и свой город без вины перед высшей властью; полезно всегда иметь наверху влиятельного друга как надежную опору для своих действий, тем более что сами римляне охотно идут навстречу политическим пожеланиям своих друзей» [Пер. С. С. АверинцеваJ48. На Востоке, как и следовало ожидать, эти магнаты и динасгы были родом из зажиточных семей, нередко имевших длинную историю и обладавших влиянием еще в те времена, когда полисы были городами-госу¬
46 О предоставлении римского гражданства магистратам и членам их семей см.: Lex Imitana, гл. 21 (Gonzalez 1986 (В 235)) (имеется в виду найденный на бронзовых таблицах недалеко от Севильи устав муниципия Флавия Ирни, который датируется правлением Флавиев. — О. А); cp.: Sherwin-White 1973 (А 87): гл. 14; о tabula Contrebiensis см.: Richardson 1983 (В 271): 33—41 (имеется в виду так называемая Контребийская таблица, т. е. надпись 87 г. до н. э., в которой тяжба между испанскими племенами, в итоге разрешенная сенатом города Контребии, описана римскими юридическими формулами. — О.Л.); о первом дуовире Волубилиса см.: GCN 407Ь.
47 Следует отметить, сколь четко Плиний и Траян формулируют свое отношение к просьбе Амиса, свободной и союзной общины (civitas libera et foederata), о разрешении на создание общества взаимопомощи: «ut tu <...> dispiceres quid et quatenus aut permittendum aut prohibendum putares» («Посмотри, <...> что здесь и в какой мере следует разрешить или запретить»), «possumus quo minus habeant non impedire» («Мы можем им в этом не препятствовать») (Письма Плиния Младшего. Х.92, 93. Пер. М.Е. Сергеенко); ср. письмо IV.22: совет (consilium) при Траяне подтверждает право магистрата Виенны отменить игры, предусмотренные в завещании.
48 Плутарх. Наставления о государственных делах. 17, 18.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
411
дарствами, а не просто провинциальными поселениями. Старая аристократия вбирала в себя влиятельные новые элементы (например, переселенцев из Италии), слабо эллинизированная аристократия приспосабливалась к общей модели. На Западе образ жизни племенной аристократии можно было видоизменить так, чтобы он содействовал развитию про- римского высшего класса — видимо, именно это произошло в Трех Гал- лиях (хотя антиримские настроения так и не были окончательно подавлены)49. Формально стать куриалом мог только состоятельный человек, родившийся свободным; зажиточных вольноотпущенников обычно не допускали к должностям, но сыновья вольноотпущенников имели право войти в сословие куриалов, и уже ко П в. н. э. их выдвигалось всё больше50.
Таким образом, городские правительства по сути были олигархическими. С начала П в. н. э., по мере того как городские должности становились всё менее притягательными, фактическая власть концентрировалась в руках еще более узкой группы, которая ко временам Поздней империи приобрела правовой статус и упоминается в юридических текстах как принципалы (principales, старшие декурионы). Вместе с тем во многих городах сохранились демократические собрания граждан, которые формально могли избирать должностных лиц и принимать решения. К концу I в. н. э. выборы потеряли прежнее значение, поскольку советы стали всё чаще кооптировать своих членов и назначать магистратов, но примечательно, что процедуры голосования в народных собраниях еще находили отражение в муниципальных уставах эпохи Флавиев. Возможно, постановления народных собраний никогда не затрагивали более важных дел, нежели формальности и почести, но всё же они сохранились в надписях с греческого Востока, а значит, теоретически собрание (demos) оставалось элементом городской структуры51.
Рим предоставлял городам автономию во внутреннем управлении, которое осуществлял класс булевтов, или куриалов, и это позволяло империи сокращать численность и функции правительственных чиновников. Перечень сфер, в которых формально осуществлялось самоуправление, впечатляет. В этот перечень входили регулирование и организация городских советов, магистратов и других городских учреждений, таких как герусии (gerousiai), торговые и культовые объединения и гимнасии; выполнение общественных обязанностей посредством системы munera или
49 Из древнего аристократического рода происходил, например, сирийский правитель Дександр, первым занимавший должность верховного жреца императорского культа, см.: Rey-Coquais 1973 (В 269): 42 сл. (= АЕ 1976: 678); о Трех Галлиях см.: Drinkwater 1978 (Е 323); об антиримских настроениях свидетельствует восстание Флора и Сакровира, см.: Тацит. Анналы. Ш.40—46.
50 Эти вопросы регулировал закон Визеллия, принятый в 24 г. н. э., см.: Кодекс Юстиниана. IX.21.
51 Известно, что выборы должностных лиц проводились в Малаке, см.: MW 454: гл. 55—59; о demos есть много свидетельств, в том числе: EJ2 114 (Алабанда), 318 (Кос), RDGE 26: колонка d (Митилены), 60 (Миласа); AJ 68; ср.: Oliver J.H. // GRBS 6 (1965): 143-156 (Истрия); GCN 371 (Тасос).
412
Часть П. Правительство и администрация Империи
литургий (о них см. выше, с. 405-А06 наст. изд. — О.А); обеспечение продуктовых поставок и поддержание в порядке рынков; общий контроль над городскими финансами, в том числе использование определенных ресурсов, управление общественным имуществом, установление некоторых пошлин или местных налогов; заведование храмами и культами (в том числе определенный контроль над императорским культом, если было разрешено его учредить) с сопутствовавшими праздниками и играми; осуществление особых правомочий, которые Рим мог предоставлять отдельным учреждениям или должностным лицам (и, возможно, не так строго ограничивал, как обычно считается); поддержание общественного порядка и надзор за тюрьмами; иногда — право местной чеканки; городское строительство, часто за счет щедрот местной знати.
Однако автономия общин во внутренних делах была существенно ограничена жесткими рамками. Ее регулировали общие для всей провинции правила, изложенные, например, в провинциальном законе (lex provinciae), который могли изменить император или сенат, или установленные отдельными наместниками; автономию общин ограничивали и постановления общего характера, определявшие положение и привилегии отдельных категорий населения империи, например евреев или ветеранов52. Сходные последствия имело и распространение римского гражданства, которое можно было получить в качестве личного пожалования, за военную службу или путем занятия муниципальной должности. Гражданство давало отдельным лицам и группам привилегии, которые могли иметь приоритет перед законами и учреждениями их общин. Например, в 63 г. н. э. смешанная группа ветеранов подала префекту Египта жалобу в связи с тем, что их гражданские права не принимаются во внимание; и, напротив, известен удивительный пример из эпохи Августа, свидетельствующий о том, что римские граждане, проживавшие на Хиосе, подчинялись местным законам53. В третьем эдикте Августа из Кирены содержится важное указание на то, что жители города, имевшие римское гражданство, ссылались на него, чтобы избежать местных обязанностей, и эту практику необходимо было ограничить: эдикт запрещал киренцам, являвшимся римскими гражданами, уклоняться от литургий в Кирене; повсеместное признание этого принципа привело к тому, что провинциальные города по-прежнему получали выгоды от литургий, которые, по сути, представляли собой форму местного налогообложения54. Но в целом, вследствие того, что представители местной элиты продвигались наверх, получали гражданство, а иногда в конце концов и всаднический
52 См. поправки, внесенные Августом в закон Помпея: Плиний Младший. Письма. Х.79; постановления наместника: Lex Imitana, гл. 85 (Gonzalez 1986 (В 235)); о евреях и ветеранах см. выше, сноску 22 наст. гл.
53 О жалобе египетских ветеранов см.: GCN 297; о статусе римских граждан на Хиосе см.: Ef2 317 (о возможном республиканском прецеденте см.: Robert J. and L. Claros /, Les decrets hellenistiques (Paris, 1989): 64, сгк. 43—44).
54 EJ2 311: 55-62.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
413
или сенаторский статус, они меньше интересовались нуждами своих городов и выходили из-под их власти, и городам оставалось лишь одно средство воздействия на них — развитие патроно-клиентских связей.
Со временем правительственные чиновники стали всё более открыто вмешиваться в городское самоуправление, отчасти из-за того, что правящие классы в городах всегда разобщала внутренняя борьба. Когда сама община не имела средств или сил для разрешения проблем, вызванных этой борьбой, она, вероятно, апеллировала к центральной власти. Такие просьбы о вмешательстве неизбежно подрывали уверенность римского правительства в том, что общины способны мирно и разумно управлять своими делами, и в конечном счете вели к размыванию независимости общин.
Необходимость во внимании центрального правительства возникала чаще всего тогда, когда общины оказывались неспособны урегулировать внутренние конфликты, протестовали против попыток сократить их привилегии либо вступали в споры с другими общинами. Четвертый кирен- ский эдикт Августа был явно порожден конфликтом в самой Кирене и предназначен для решения проблемы предвзятого отношения римлян к грекам в судах по делам, не предусматривавшим смертной казни; раздоры внутри общины послужили и причиной для выдвижения уголовного обвинения, которое посольство Книда в б г. до н. э. изложило Августу, а тот переадресовал проконсулу Азии55. Наступление на общинные привилегии иллюстрирует надпись 100 г. н. э., в которой изложено решение Лаберия Максима, наместника Нижней Мёзии, об установлении границ между городом Истрией и территорией, откупленной подрядчиком для сбора таможенных пошлин. В этой надписи процитированы письма трех легатов, составленные ранее, в правление Юлиев—Клавдиев, в каждом из которых подтверждается право города на доходы от сосновых лесов и засолки рыбы на его территории. Судя по тому, сколь часто это право приходилось защищать, можно сделать вывод, что оно постоянно подвергалось угрозе (вероятно, со стороны откупщиков, собиравших налоги для центрального правительства), о чем, по сути, и говорится в письме Лаберия Максима56. Что же касается споров между общинами, то уже упоминалось дело, которое наместник времен Тиберия передал на рассмотрение Фессалийской лиге. Несколько больше подробностей можно найти в постановлении, которое в 69 г. н. э. издал Гельвий Агриппа, проконсул Сардинии, относительно спора между патулькенсиями и галил- ленсиями о территориальных границах. Первоначально эти границы были установлены решением республиканского проконсула, которое незадолго до постановления Агриппы, в 66/67 г. н. э. подтвердил наместник из всаднического сословия, действовавший, видимо, в соответствии с указанием императора Нерона. Патулькенсии желали сохранить существу¬
55 EJ2 311: 62-71.
56 AJ 68; cp.: Oliver J.H. // GRBS 6 (1965): 143-156.
414
Часть П. Правительство и администрация Империи
ющее положение, но галилленсии посягнули на их собственность и сообщили предшественнику Агриппы, что могут представить документ (вероятно, первоначальное решение) из императорских архивов в Риме, подтверждающий их правоту и, как подразумевалось, лишающий законной силы любые местные акты, которыми руководствовались наместники. Однако после двух отсрочек галилленсии так ничего и не предъявили, и Агриппа своим постановлением предписал им очистить спорную территорию57.
Важные функции городов не сводились только к внутреннему самоуправлению. Города также гарантировали исполнение обязательств, которые накладывало на них центральное правительство. Общий размер прямых подушных налогов и налогов на имущество устанавливался для провинции в целом, но индивидуальные обязательства определялись на основании провинциального ценза. Именно городские власти отвечали за выплату своей части налога и вправе были определять обязательства отдельных лиц (по крайней мере, когда речь шла о налогах, не установленных по фиксированной ставке); об этом свидетельствует надпись из Мес- сены, где подробно излагается такое распределение и прославляется магистрат, который его организовал58. Значительная часть работы по сбору этих налогов была возложена на города, которые назначали местных сборщиков, и если последние не обеспечивали необходимую сумму, то ответственность за восполнение дефицита лежала на общине. Косвенные налоги по-прежнему часто собирались путем откупов, и некоторые контракты заключались городскими властями. Точно так же и военные поставки — реквизиции провианта, обеспечение транспорта и постоя — организовывались в соответствии с планом распределения обязательств, возложенных на провинцию, между составлявшими ее общинами59.
Нетрудно увидеть, как сильно интересы центрального правительства ограничивали независимость городов в тех сферах, где Риму важно было постоянно отслеживать обстановку и поддерживать связь с провинциальными чиновниками. В вышеупомянутой надписи из Мессены сообщается, что магистрат распределил налоговое бремя в присутствии легата пропретора60. Если налогоплательщики не исполняли своих обязательств, провинциальные чиновники могли вмешаться напрямую либо по собственной инициативе, либо по просьбе местных властей. Эти же чиновники, а порой и сами городские власти могли воспользоваться возможностью и взыскать налоги и услуги сверх установленного объема. Иногда жалобы на подобные злоупотребления привлекали внимание наместника провинции или даже императора; именно такое превышение полномочий,
57 О деле, переданном на рассмотрение Фессалийской лиге, см.: EJ2 321; о территориальном споре на Сардинии см.: GCN 392.
58 IG V, 1: 1432 сл., а также: Wilhelm А. // JÖAI17 (1914): 1-120; о датировке этой надписи 35—44 гг. н. э. (которая не является общепринятой) см.: Giovannini A. Rome et la circulation monetaire en Grece (Basel, 1978): 115—122.
59 Mitchell 1976 (B 255); cp.: GCN 375, 382.
60 /G, V, 1: 1432:6, 10-11.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
415
среди прочего, заставило Тиберия Юлия Александра, префекта Египта, издать в 68 г. н. э. милостивый эдикт61.
Сферы, в которых центральное правительство осуществляло прямое управление, были весьма обширны. Его ответственность за вооруженные силы была тесно взаимосвязана с финансовыми делами и отправлением правосудия, и всякое предполагаемое разделение между данными областями управления будет обманчиво, если не учитывать, что любое дело, явно относящееся к одной из этих сфер (кроме чисто военного командования и применения вооруженных сил), могло затрагивать и смежные области. Полномочия чиновников, подчиненных наместнику, обычно определялись их функциями: легат, отвечавший за правосудие (legatus iuridicus), мог разбирать судебные дела, касавшиеся собственности или финансов, а офицер или финансовый прокуратор, естественно, решал вопросы, связанные с юридическими проблемами, — административные функции данных чиновников давали им на это право. Даже в уголовных делах, исключая некоторые четко определенные и установленные полномочия, вроде права приговаривать к смертной казни (ius gladii), чиновники обладали немалой самостоятельностью и свободой действий, особенно в отношении неграждан. Иногда предпринимались попытки четко описать полномочия наместника или прокуратора (и, видимо, не случайно они участились во П—Ш вв. н. э.), но обычно пределы и ограничения их власти определялись, с одной стороны, их административной ролью и, с другой — необходимостью соблюдать прерогативы других чиновников и права общин и индивидуумов, с которыми эти должностные лица имели дело62.
Чтобы организовать функционирование и содержание вооруженных сил в провинции, приходилось решать разнообразные задачи, за которые обычно отвечали военные легаты, младшие офицеры (трибуны и префекты) и центурионы. Время от времени необходимо было передислоцировать контингенты солдат и подразделения для несения гарнизонной, караульной или конвойной службы. Требовалось пополнять численность военнослужащих: легионеров вербовали на определенных территориях62а, а вспомогательные войска — в той местности или провинции, откуда происходило подразделение, где им предстояло служить. Выплату солдатского жалованья и военные поставки можно расценивать как внутренние дела армии, но следует иметь в виду, что они, как и реквизиции транспорта и организация постоя, сильно отражались на провинции в целом, так как
61 GCN 391:10—15, 26—29, 46. (В данном эдикте префект дает предписания о пресечении различных злоупотреблений чиновников, на которые поступили жалобы от египетского населения. — О. А)
62 О правах прокураторов и законе (lex), устанавливающем полномочия префекта Египта см.: Тацит. Анналы. ХП.60.1—3; более позднее свидетельство см. у Ульпиана: Сравнение законов Моисеевых и римских. 14.3.1—2 (FIRA П: 577—578); Кодекс Юстиниана, Ш.26.1— 4 (письма императоров, написанные в 197—233 гг. н. э.).
б2а В легионах служили только римские граждане, которых набирали либо в Италии, либо в муниципиях и колониях римских граждан в провинциях. — О. А
416
Часть П. Правительство и адлшнистрация Империи
сопровождались обращением больших денежных сумм и требовали наличия в доступе определенных товаров, их сбора и перевозки. Некоторые функции армии сближали ее с гражданским населением: дорожное строительство, охрана общественного порядка, надзор за рудниками и каменоломнями, а также за другими специальными учреждениями, например монетными дворами, производственными предприятиями или рынками, помощь при проведении провинциального ценза и перевозке продовольствия (annona); вероятно, военные также руководили распределением земельных участков среди отставных ветеранов, а когда в приграничных провинциях производилось перемещение и расселение множества жителей — эскортировали их, что было немаловажной задачей. Не так уж редко случались и более серьезные кризисы, когда к армии обращались для поддержания порядка, если миру в провинции (quies provinciae) угрожали гражданские беспорядки или разбои63.
Управлять провинциальными финансами было непросто. Проконсулы имели квесторов, отвечавших за финансы, но в императорских провинциях эта задача была возложена на прокураторов — всадников или вольноотпущенников — и на их служащих, а также на областных провинциальных чиновников. В основе системы налогообложения и общего управления фискальными мероприятиями лежал провинциальный ценз. Весьма вероятно, что ценз проводился во всех провинциях через установленные промежутки времени (хотя засвидетельствован он очень скудно) и входил в официальные обязанности наместника и его служащих. Документы о праве собственности и личном статусе жителей, конечно, требовали регулярного и крупномасштабного пересмотра, и, скорее всего, был организован их учет и внесение текущих поправок в результаты ценза. Также римским властям было жизненно важно поддерживать эффективную связь с провинциальными общинами и со сборщиками и перевозчиками прямых и непрямых налогов. В некоторых провинциях сдачей государственных земель арендаторам и сбором с них платы тоже занимались провинциальные чиновники, но невозможно оценить, сколько земли попадало в эту категорию64.
Во всех провинциях прокураторы заботились об императорской собственности (patrimonium), которая постоянно прирастала и играла всё более важную роль в общественном хозяйстве65. Ясно, что прокураторы управляли императорскими сельскохозяйственными угодьями, но к этому их обязанности не сводились, ибо в состав патримония постепенно
63 О гражданских функциях армии см.: RMR 51; о цензе см.: ILS 2683; о перевозке продовольствия см.: Gueraud О. // JJP 4 (1950): 107—115; о переселениях см. выше, сноску 21; о поддержании мира см.: Иосиф Флавий. Иудейская война. П.266—269; Дигесты. I. 18.3.
64 Свидетельства о провинциальном цензе собраны в работе: Brunt 1981 (D 118); о государственной земле в Египте см.: Rowlandson 1996 (Е 963).
65 Вопрос о взаимоотношении патримония с фиском, вызывающий много споров, здесь не рассматривается, ср.: Millar 1963 (D 148); Brunt 1966 (D 116) и выше, гл. 8 наст, изд.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
417
стали включаться все без исключения новые рудники, каменоломни и производственные предприятия66. Более общий финансовый контроль римское правительство осуществляло путем регулирования денежных запасов и обмена; пожалуй, именно в этой области наиболее очевидно размывание границы между интересами государства и интересами патримония, ибо чеканку контролировал император, рудники входили в состав патримония, но объем денежной массы и денежное обращение в провинциях воздействовали на все сферы управления67.
Весьма обширные интересы фиска в Египте засвидетельствованы уже в «Своде правил особой казны»;67а ее операции затрагивали статус отдельных лиц и социальных групп (египтян, греков, римлян, столичных жителей, вольноотпущенников и женщин, жрецов и солдат) и вопросы, связанные с собственностью, наследованием и конфискацией имущества. Возможно, это послужило прецедентом для аналогичного расширения роли фиска по всей Империи, которое хорошо наблюдается в более поздних юридических источниках68. Последствия деятельности чиновников фиска для низших общественных слоев прекрасно иллюстрируют несколько папирусов из деревни Сокнопайу Несос в Фаюме, которые касаются спора между двумя крестьянами по имени Нестнеф и Сатабут69. В 12 г. н. э. Нестнеф напал на Сатабута и украл ступу с его мельницы. Сатабут направил жалобы на это нападение главе нома (стратегу), его помощнику, центуриону по имени Лукреций и префекту Египта. Неизвестно, расследовалось ли это дело, но в 14/15 г. Нестнеф подал царскому писцу нома заявление, в котором обвинил Сатабута в том, что к своему дому, приобретенному в 11 г. н. э., тот присоединил в текущем году какую-то пустующую землю (adespotos), формально принадлежавшую идиологу; Сеппий Руф, чиновник, заведовавший идиологом, включил это дело в список судебных разбирательств префекта, и тяжущиеся были вызваны в Александрию. Однако Сатабут не явился, и расследование, проводившееся в основном в письмах, было продлено на следующий год. В итоге Сатабута присудили к уплате 3500 драхм за эту землю в пользу идиолога. Этот случай иллюстрирует также масштаб и разнообразие «судопроизводства» и демонстрирует, что его невозможно отделить от других сфер управления. Наместники провинций, легаты и некоторые прокураторы имели судебные полномочия как в уголовных, так и в гражданских делах. Во время выездных судебных сессий наместники и их легаты — обычно при поддержке своего совета (consilium) — рассматривали целые горы дел, прошений и тяжб. Судебный объезд провинции (conven-
66 Свидетельства о сельскохозяйственных угодьях и прочей императорской собственности собраны в работах: Crawford 1976 (D 125); Millar 1977 (А 59): 175—189.
67 См. выше, гл. 8 наст. изд.
67а «Гномон идиолога»; Idios Logos, νΙδιος λόγος — в Египте название особой казны, включавшей выморочное и бесхозяйное имущество, которое должно было отойти императору; идиологом (ίδιόλογος) называли и должностное лицо, отвечавшее за эту казну. — О.Л.
68 BGU 1210; ср.: РОху 3014.
69 Документы перечислены в работе: Swamey 1970 (Е 972): 41—42.
418
Часть П. Правительство и администрация Империи
tus) был очень важен для судоустройства в провинциях, поскольку давал единственную возможность разрешать дела вне столицы провинции. Но и он охватывал далеко не все территории, и для провинциала время и место суда могли играть решающую роль: почти для всех людей, проживавших вне столицы, и почти всё время наместник был недоступен. Конечно, наместник не мог рассчитывать, что лично разрешит все судебные тяжбы. Провинциальные чиновники прямо делегировали некоторые дела назначенным судьям или судебным комиссиям; известны случаи, когда служащие более низкого ранга тоже исполняли обязанности судей в делах, входящих в их административную компетенцию; гражданским властям и учреждениям позволено было сохранить за собой некоторые ограниченные судебные полномочия. Каждый наместник сталкивался с тем, что в его провинции возникало множество уголовных обвинений, крупных или мелких тяжб между центральным правительством и отдельной общиной или лицом, между общинами или частными лицами. Естественно, убийства, преступные нападения, публичные насильственные действия или государственная измена (maiestas) привлекали внимание наместника, имевшего право выносить смертные приговоры, или даже императора. Так же могло обстоять дело и со спорами общин из-за собственности или права на доходы, с тяжбами частных лиц по поводу договоров, собственности, наследств, общественных обязанностей или с делами, затрагивавшими статус отдельных лиц или групп, особенно если тяжущиеся противники проявляли настойчивость, но, несомненно, многие из этих вопросов решали чиновники более низкого ранга.
На высшем уровне судебные дела разбирались в соответствии со сравнительно четкой процедурой. Первый и второй эдикт Августа из Кирены складываются в довольно простую картину: император дает ответ посольству из провинции и определяет состав судов для разбора дел, переданных на рассмотрение наместником провинции; кроме того, принцепс разбирает обвинение против человека, присланного из провинции и, возможно, подозреваемого в государственной измене (maiestas)70. На более низком уровне неясностей и путаницы было гораздо больше, о чем красочно свидетельствует судьба апостола Павла в Иерусалиме. Во время мятежа трибун арестовал Павла, однако затем разрешил ему обратиться к иудеям; после новых беспорядков трибун приказал допросить Павла под бичами, но, узнав, что тот — римский гражданин, взял его под стражу; на следующий день трибун освободил задержанного и позволил ему предстать перед священниками и Синедрионом, но затем, опасаясь нового мятежа после речи Павла, вновь отвел его в казармы. Раскрыв заговор с целью убийства Павла, трибун написал наместнику Феликсу и отправил Павла под стражей в Кесарию. Феликс не довел рассмотрение дела до конца, и Павел оставался под арестом. Через два года иудеи возобновили обвинение перед судом Феста, преемника Феликса. Тогда Павел, как известно, апеллировал к кесарю, и Фест, посоветовавшись с приближенны¬
70 EJ2 311: 1-55.
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
419
ми, вынужден был согласиться. Но через несколько дней у Феста появилась возможность обсудить этот вопрос с Иродом Агриппой П, зависимым царем, и в итоге Фест и Агриппа повторно рассмотрели дело Павла. Выслушав оправдательную речь Павла, Фест и Агриппа посовещались и решили, что Павел не совершил ничего, заслуживающего казни или заключения, и Агриппа заметил, что его можно было бы отпустить, если бы он не воззвал к императору71. Предшествующие эпизоды в Греции подчеркивают размывание границы между юрисдикцией городских властей и провинциальных чиновников. В Филиппах владельцы рабыни привлекли Павла и Силу к суду местных магистратов на рыночной площади; суд постановил раздеть их, бичевать и бросить в тюрьму. Но позднее магистраты обнаружили, что имеют дело с римскими гражданами, которых нельзя было подвергать такому наказанию, встревожились и распорядились их освободить. В Коринфе именно иудеи привели Павла на суд проконсула, но Галлион, оказавшийся на месте, счел, что это дело касается собственного закона иудеев, отказался вынести приговор и оставил без последствий избиение начальника синагоги72.
Эта система, если ее можно так назвать, была весьма непоследовательна. Свидетельства «Деяний апостолов» доказывают, что Б. Левик недавно описала ее очень точно:
В судебном процессе могли в любом сочетании участвовать частные лица одинакового или разного социального статуса, римляне и неграждане, местные общины или должностные лица, римские чиновники. Не имело значения и то, что все виды разбирательства были собраны в одну кучу: процесс в судебной коллегии в провинциях или Риме по обвинениям, установленным законом; расследование преступных действий, на которые поступил донос; гражданские дела, представленные тяжущимися; арбитраж между общинами и скорее административные, нежели юридические решения; полицейские мероприятия...73
С точки зрения правительства, эта система имела два выдающихся достоинства: она была очень гибкой и экономила время и силы чиновников на местах и в общем и целом она работала.
IV. Заключение
Управление провинциями можно рассматривать как совокупность одно- временно действующих взаимосвязей между различными элементами системы, такими как император, наместник провинции и подотчетные ему чиновники, провинция, объединение провинциальных общин, отдельная община и, наконец, частное лицо. Такой подход (особенно с опорой на свидетельства с римского Востока, более многочисленные и подробные, чем свидетельства о западных провинциях) подталкивает к выводу,
71 Деяния апостолов. 21.31 — 26.32.
72 Деяния апостолов. 16.16-40; 18.12—17.
73 Levick 1985 (D 98): 46.
420
Часть П. Правительство и администрация Империи
что внутри этой совокупности взаимосвязей римское правительство не считало нужным заниматься разработкой определенного политического курса, что управление империей фактически представляло собой последовательность спонтанных решений, на принятие которых серьезно влияли прецеденты. Это, безусловно, правильное описание одного из аспектов провинциального управления: насколько мы видим, эта система и в самом деле редко подвергалась резким и всесторонним изменениям; обычно они представляли собой постепенную перестройку. Примечательной особенностью данной системы является гибкость административной деятельности, ввиду чего важное значение имели отклики администраторов на определенные запросы снизу. Поскольку в управлении избирательно применялись прецеденты, такие отклики могли утвердиться — или не утвердиться — в качестве моделей и правил, применяемых постоянно. Римские власти проявляли избирательность, когда им требовалось определить, следует ли подходить к данному делу так же, как к некоему предыдущему, схожему случаю, или необходимо разработать для него какое-то новое решение. В сущности, такую практику можно описать как систему управления, основанную на прецедентном праве и обладающую безграничными возможностями для приспособления к конкретным обстоятельствам. Такими обстоятельствами могли послужить характер провинции, ее особенности, сохранившиеся с доримской эпохи, статус сообщества, института или частного лица, положение и полномочия должностных лиц. Римские власти не принимали априорных решений о порядке управления провинциями и не подгоняли любую ситуацию под заранее определенную процедуру. Напротив, в основе управления лежала способность администрации уловить сущность любой проблемы, разрешить ее, пользуясь доступными средствами и руководствуясь некоторыми общими представлениями о взаимоотношениях императорской власти и подданных, а затем встроить это решение в постоянно расширявшуюся мозаику гибких процедур и институтов.
Отдельные свидетельства ярко иллюстрируют конкретные случаи и взаимоотношения, но хорошо известно, сколь трудно на их основании составить целостное представление о том, как император разрабатывал или осуществлял «политику управления провинциями»; и очень мало сохранилось программных заявлений римских властей, в которых бы отчетливо выражались их общие воззрения на эту политику — если не считать обобщенных изъявлений благосклонности или обещаний исправить выявленные злоупотребления. Любые выводы о постоянных задачах и последовательной политике римской администрации в правление Юлиев- Клавдиев, а также о дальновидности определенных императоров, неизбежно приходится делать на основании разрозненных и не сопоставимых друг с другом свидетельств, неравномерно распределенных в пространстве и времени, или же на основании наблюдаемых тенденций, среди которых можно назвать следующие. В провинциях распространялось римское гражданство, особенно в правление Августа и Клавдия. Римские власти оказывали поддержку городским общинам и их знати (особенно
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
421
на Западе, где распространение гражданства было тесно связано с предоставлением городам статуса муниципиев и колоний). Развивались коммуникации; объединялись экономические структуры города и села. Рим стимулировал торговые связи в рамках довольно упорядоченной денежной и налоговой системы, где (как утверждается74) рационально регулировался объем денежной массы. Армия, размещенная в новых провинциях, привносила туда новые городские, социальные и экономические порядки. Наконец, сам римский подход к делу всегда был нацелен на обеспечение безопасности и мирного развития подвластной территории, но учитывал и возможность дальнейшей экспансии.
Таблица 2
Римские провинции и наместники в конце правления Юлиев—Клавдиев
Провинция
Титул
Ранг
Примечание
Сицилия
Проконсул
Преторий
Сардиния
Проконсул
Преторий
В начале правления Юлиев—Клавдиев, а затем при Флавиях провинция находилась под управлением префектов/прокураторов-, ср. гл. 13Ь наст. изд.
Тарраконская
Испания
Легат-пропретор Августа
Консуляр
Бетика
Проконсул
Преторий
Лузитания
Легат-пропре- тор Августа
Преторий
Нарбонская
Галлия
Проконсул
Преторий
Аквитания
Легат-пропретор Августа
Преторий
Лугдунская
Галлия
Легат-пропретор Августа
Преторий
Бельгика
Легат-пропретор Августа
Преторий
Lo Cascio 1981 (D 144).
74
422
Часть П. Правительство и администрация Империи
Продолжение таблицы
Верхняя
Германия
Легат-пропретор Августа
Консуляр
До правления Домициана это скорее были военные командиры, не- жели провинциальные наместники; ср. гл. 13f насг. изд.
Нижняя
Германия
Легат-пропретор Августа
Консуляр
Приморские
Альпы
Прокуратор
Всадник
Коттиевы
Альпы
Прокуратор
Всадник
Пенинские
Альпы
Прокуратор
Всадник
Британия
Легат-пропретор Августа
Консуляр
Реция
Прокуратор
Всадник
До 47 г. объединена с Ленинскими Альпами
Норик
Прокуратор
Всадник
Далмация
Легат-пропретор Августа
Консуляр
Мёзия
Легат-пропре- тор Августа
Консуляр
Ср. гл. 13Ь насг. изд.
Фракия
Прокуратор
Всадник
Македония
Проконсул
Преторий
Ахайя
Проконсул
Преторий
Азия
Проконсул
Консуляр
Вифиния-Понт
Проконсул
Преторий
Галатия
Легат-пропретор Августа
Преторий
Каппадокия
Легат-пропретор Августа
Преторий
Во время Парфянской войны Нерона наместники были консуляр ами.
В начале правления Флавиев наместник являлся преторием, но затем ранг снова был повышен
Ликия-
Памфилия
Легат-пропретор Августа
Преторий
Кипр
Проконсул
Преторий
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
423
Окончание таблицы
Сирия
Легат-пропретор Августа
Консуляр
Примерно с 44 г. до н. э. до 72 г. н. э. включала Равнинную Киликию
Иудея
Прокуратор
Всадник
До начала Первой иудейской войны (66 г. н. э.) провинция находилась под управлением прокуратора-всад- ника. Во время войны в провинции командовал Веспасиан, легат-консу- ляр. После этого, как правило, управлялась легатом-пропретором Августа
Египет
Префект
Всадник
Крит-Кирена
Проконсул
Преторий
Африка
Проконсул
Консуляр
Нумидия
Легат-пропре- тор Августа
Преторий
Ср. гл. 13i наст. изд.
Цезарейская
Мавретания
Прокуратор
Всадник
В 68/69 г. н. э. временно объединены; в 75 г. н. э. вновь объединены (под управлением легата-пропрето- ра Августа)
Тингитанская
Мавретания
Прокуратор
Всадник
Глава 11
Л Кеши
АРМИЯ И ВОЕННЫЙ ФЛОТ
I. Армия Поздней республики
К середине I в. до н. э., после нескольких столетий почти непрерывных войн, в римской армии развился профессиональный дух. Ежегодно на службе состояло по меньшей мере пятнадцать легионов (около 60—70 тыс. чел.), куда набирали людей со всей Италии к югу от реки По. Отдать воинский долг обязан был каждый римский гражданин в возрасте от семнадцати до сорока пяти лет. Добровольцы обычно служили не менее шести лет подряд и после этого могли просить об увольнении. По закону, они оставались военнообязанными, и их могли призвать как evocati (сверхсрочников. — С.Т.), но не более чем на шестнадцать лет (в кризисные времена — на двадцать)1. Солдаты, желавшие продолжить службу в армии свыше обязательных шести лет, составляли ядро профессионалов, ратный труд становился для них повседневной обязанностью. Меж тем в эпоху Поздней республики нередко проводились воинские призывы, и было бы неправильно считать, что большинство в легионе всегда образовывали добровольцы. До конца П в. н. э. конница состояла из представителей сословия всадников (о чем говорит и их название), служивших три года, редко больше. Затем Рим обратился к союзникам, как в Италии, так и за ее пределами, чтобы восполнить нехватку людских ресурсов (формально всадники оставались военнообязанными, но к тому времени призывать их было уже не принято).
Сначала римляне считали воинскую службу важнейшим общественным долгом: к ней допускались только очень состоятельные люди (и лишь они могли ее себе позволить). Но со временем имущественный ценз
1 Сведения о сроке службы основаны на сообщении Полибия (VI. 19.2), но данный пассаж испорчен. Согласно рукописям, нормой считались десять лет службы в коннице и шесть — в пехоте. Исходя из того, что срок службы пехотинца должен был превышать срок службы всадника, последнюю цифру было принято заменять на шестнадцать (ср.: Гераклейская таблица // ILS: 6085.90). В 13 г. до н. э. Август установил такую продолжительность службы в качестве обязательной (Дион Кассий. LTV.25.5; и см. далее, с. 431 насг. изд.).
Глава 11. Армия и военный флот
425
значительно снизился, а после Мария упоминания о нем в источниках исчезают. На первых порах римляне служили на безвозмездной основе, но с начала IV в. для покрытия текущих расходов бойца был введен стипендий (stipendium); во времена Полибия (ок. 160 г. до н. э.) он составлял треть денария в день, то есть 120 денариев в год2. Солдаты стремились дополнить эту сумму добычей. Цезарь, вероятно в 49 г. до н. э., «удвоил» денежное довольствие солдат до 225 денариев3. Из этих средств легионеру приходилось оплачивать оружие, одежду и еду4. Вооружение солдат состояло из овального щита (scutum)5, одного или нескольких дротиков (pila), короткого меча испанского типа (gladius), кинжала (pugio) и бронзового шлема. Одеты воины были в кольчугу поверх кожаной туники и кожаные сандалии.
Отдельный легион представлял собой подразделение в 4—5 тыс. чел., разбитых на десять когорт; в боевом порядке когорты могли выстраиваться в три линии, но известны примеры и других конфигураций. Каждая когорта состояла из шести центурий, которые возглавляли центурионы. Обычно центурионами назначали солдат с многолетним опытом. При формировании легиона ему присваивался номер, который мог использоваться несколько лет, однако постоянного «списочного состава армии» не было.
Легионы в провинции переходили под прямое командование управлявшего ею проконсула или пропретора. Легионы, набиравшиеся ежегодно, дислоцировались там, где они требовались в текущий момент; в некоторых провинциях вообще отсутствовали войска, и в случае неожиданного нападения эти области могли остаться беззащитными. Во главе легиона стоял не один конкретный офицер, а шесть военных трибунов, которые осуществляли текущее командование поочередно и попарно. Пока армии оставались небольшими и находились под непосредственным надзором проконсула или пропретора, нужды в постоянном командующем не было, но, когда численность армий выросла, территории провинций расширились, а театры военных действий отдалились, потребовалось некоторое разделение обязанностей. С конца Ш в. н. э. в помощь магистрату стали назначать легатов. Их выбирали из числа сенаторов, которым можно было передать часть военных или судебных обязанностей, причем их возраст и боевой опыт мог сильно разниться. Легат мог командовать одним или несколькими легионами, но не был постоянно связан ни с одним подразделением.
Выплата вознаграждения по окончании службы не предусматривалась; ветераны возвращались домой к своим семьям, чтобы влиться в русло мирной жизни. Только в исключительных обстоятельствах солда¬
2 Полибий. VI.39.12.
3 Светоний. Божественный Юлий. 26.3.
4 Полибий. VI.39.15; ср.: Тацит. Анналы. 1.17.
5 Эти щиты отличались от более знаменитых прямоугольных щитов эпохи Принципата (см. далее, с. 432 насг. изд.); изображение первых см. в изд.: Keppie 1984 (D 202): 112—113, ил. 3.
426
Часть П. Правительство и администрация Империи
ты могли получить награду за годы службы, а именно денежный подарок в случае триумфа или земельный надел после увольнения, если полководец прилагал особые усилия, чтобы добиться этого поощрения.
В сражениях легионам всегда оказывали поддержку подразделения союзников. Вплоть до 90 г. до н. э. в такие части входили в основном отряды из италийских городов, образовывавшие вспомогательные союзные войска (alae sociorum). Кроме того, как до, так и после 90 г. до н. э. пехоту и конницу набирали в провинциях и союзных царствах, зачастую прямо в том регионе, где велись боевые действия; при этом каждая часть служила под началом собственных вождей и аристократов, а общее командование поручалось римскому префекту. Вероятно, некоторые отряды, например критские лучники и нумидийская конница, состояли в римской армии на постоянной основе и несли службу на территории всего Средиземноморья.
Численность флота, как и численность армии, изменялась в зависимости от нужд момента. В портах и на пристанях Италии постоянно размещалось лишь несколько кораблей, которые при необходимости дополнялись эскадрами союзных государств из прибрежных областей Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Командовать такими эскадрами наместник поручал одному из своих легатов, а капитаны кораблей помогали последнему профессиональными советами. В 70-х гг. до н. э., когда пиратские отряды, базировавшиеся в Киликии, открыто и успешно разбойничали в Средиземном море, стало совершенно очевидно, что для должной охраны морских путей такого флота недостаточно.
II. Армия в гражданских войнах 49—30 гг. до н. э.
Гражданская война, разразившаяся в 49 г. до н. э. между Цезарем и законным правительством Республики, привела к стремительному наращиванию военной мощи. Легионы, которыми Цезарь командовал в Галлии, имели номера с V по XIV и впоследствии составили костяк его армии. В первые месяцы после вторжения в Италию и в свое консульство в 48 г. до н. э. Цезарь набрал новые легионы и, вероятно, присвоил им номера с I по IV (как правило, эти номера ежегодно резервировались для легионов, которыми командовали консулы) и с XV примерно по ХХХШ. Победив Помпея, Цезарь сформировал еще три или четыре легиона из его солдат. Таким образом, к 47 г. до н. э. в строю находилось по меньшей мере 36—38 легионов — почти все они были укомплектованы и реорганизованы по прямому приказу Цезаря. Когда его противники прекратили активное сопротивление, он распустил легионы, служившие дольше остальных (они состояли из солдат, которые воевали с Цезарем в Галлии и уже несколько лет вполне обоснованно просили об отставке), и поселил их в колониях в Италии и северной Галлии. Взамен расформированных
Глава 11. Армия и военный флот
427
были набраны новые легионы. Цезарь явно намеревался держать в ежовых рукавицах римскую территорию, часть которой лишь недавно была завоевана. Планировалось, что шестнадцать легионов, передислоцированных преимущественно из Македонии и Сирии, примут участие в парфянской кампании.
Но Провидение распорядилось иначе. Состоявшие на службе легионеры и вышедшие в отставку ветераны, большинство из которых к тому времени получили обещанные земельные наделы и втянулись в новую жизнь, были разгневаны убийством Цезаря. В первые месяцы после его смерти несколько его сторонников, сражаясь за власть, привлекали на свою сторону разрозненные группы солдат Цезаря; многие, а возможно и все, недавно распущенные легионы были восстановлены. Особое значение придавалось славному прошлому этих частей, впоследствии ставших ядром армии триумвиров и внесших важный вклад в победу при Филиппах.
После Филипп триумвиры отправили в отставку ветеранов Цезаря и солдат из обширных наборов 49—48 гг. до н. э., к тому времени уже отбывших на службе обязательные шесть лет (всего около 40 тыс. чел.), и предоставили им земельные наделы в Италии. Многие из городов (например, Капуя, Аримин, Бонония6) располагались на важных перекрестках, которые контролировали подступы к Риму. Из тех подразделений, солдаты которых еще не отслужили обязательные шесть лет, было сформировано одиннадцать легионов; многим из них были присвоены номера и названия старых частей, снискавших славу на службе у Цезаря и у триумвиров, а также частей, принявших участие в битве при Филиппах. Эти легионы со своими боевыми отличиями, названиями и значками сделались узнаваемым символом и приобрели огромное значение как зримая опора триумвиров — подлинных наследников убитого и обожествленного Цезаря. После морской битвы при Акции (в которой легионы не сыграли существенной роли) Октавиан неделю вел переговоры с солдатами Антония и в конце концов гарантировал им вознаграждение за долгие годы службы — земельные наделы, но, вероятно, не в самой Италии, а в провинциях. Некоторые из самых старых легионов Антония в полном составе влились в армию Октавиана. Последний, будучи названным наследником Цезаря, сумел выступить в роли объединителя его прежней армии под своими знаменами. Собственные легионы Октавиана получили земли в двадцати восьми колониях в Италии7. Легионы, сформированные во времена гражданских войн, оставались на постоянной службе в последующие три с липшим столетия, если только не были опозорены или уничтожены в бою.
В письменных источниках постоянно упоминаются боевые отряды местной пехоты и конницы, сражавшиеся бок о бок с легионами в граж-
6 Аппиан. Гражданские войны. IV.3.
7 Деяния Божественного Августа. 28.2. О постановлении Октавиана, в соответствии с которым ветеранам были предоставлены в провинциях реальные привилегии, см.: CIL XVI: 145, № 10 (= EJ2: 302).
Рис. 2. Распределение легионов в 44 г. до н. э. (Кеппи)
Глава 11. Армия и военный флот
429
данских войнах конца I в. до н. э. Численность такого подразделения могла составлять несколько тысяч человек, и они служили важным дополнением к армиям соперников. Сообщается об отрядах пращников, пеших и конных лучников и даже слонов. Во время своих крупномасштабных войн Цезарь отправлял галльские, германские и испанские войска в самые дальние уголки империи; в армянском походе Антония участвовало 10 тыс. испанских и галльских всадников8. Октавиан продолжал комплектовать вспомогательные войска в подконтрольных ему западных провинциях. На Востоке сначала Помпей, потом Освободители, а затем Антоний использовали армии, принадлежавшие зависимым царям Фракии, Малой Азии, Сирии, Иудеи и Египта; эти войска призывались под римские знамена на основании договоров или в силу чрезвычайных обстоятельств. Зачастую такие подразделения служили под началом племенных вождей, членов их семей или местной аристократии, как это было и в эпоху Республики. Сохранились сведения об отрядах разной численности, и неясно, формировались ли из них подразделения стандартного образца.
В эпоху гражданских войн большое значение приобрела власть на море и способность перевозить войска за моря. Большие флоты, которые собрал сначала Помпей, затем — Освободители, Секст Помпей и Антоний в союзных государствах Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, представляли собой грозную силу. У Октавиана было намного меньше возможностей получить военные корабли из этих традиционных источников, и ему пришлось построить собственный флот почти с нуля. После первых поражений, вызванных неопытностью и невезением, новый флот в итоге доказал свое превосходство в битвах при Милах, Навлохе и Акции9. В середине 30-х годов I в. до н. э., готовясь к войне против Секста Помпея, Агриппа соорудил на Авернском озере в Неаполитанском заливе большой портовый комплекс со складами; в честь Октавиана его назвали Портом Юлия. Фундаменты некоторых зданий на пристани располагались ниже уровня мелководья залива10.
По Средиземному морю курсировали эскадры судов, на борту которых находились легионеры в качестве морских пехотинцев; некоторые из легионов эпохи гражданских войн даже приняли название Classica (это эпитет, указывавший на их военно-морскую службу)11. Известно, что перед сражением при Акции Антоний посадил на корабли 20 тыс. легионеров (то есть четыре легиона), а Октавиан разместил на своих судах восемь легионов (включая Девятый, часть ветеранов которого впоследствии в память о своем участии приняла когномен (прозвище. — С. Т.) Алтайский) с пятью преторианскими когортами12.
8 Плутарх. Антоний. 37.3.
9 О киликийском навархе, который служил Октавиану и получил должное вознаграждение, см.: Roussel Р. Syria 15 (1934): 33-74; CIL XVI: 145, No 11 (= EJ2: 301).
10 Страбон. V.4.5 (244c); Веллей Патеркул. П.79.2; Вергилий. Георгики. П.161; Светоний. Август. 16.1; Schmiedt G. (ed.). Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia\ parte II, le sedi antiche scomparse (Firenze, 1970): табл. CXXXVI.
11 ILS 2231, 2232.
12 Плутарх. Антоний. 64; Орозий. VI. 19.8; Keppie LJ.F. // GR 85 (1971): 329—330.
430
Часть П. Правительство и администрация Империи
III. Армия и флот при Августе
1. Легионы
К середине правления Августа число состоявших на службе легионов достигло двадцати восьми. Почти все они принимали участие в гражданских войнах. Эти части имели номера с I по ХХП, причем некоторые из них дублировались, поскольку после битвы при Акции в армию Окта- виана влились легионы Антония. Последний легион имел номер ХХП и название Дейотаров легион, данное в честь Дейотара, царя Галатии, который формировал войска по римскому образцу и в гражданских войнах был сначала союзником Помпея, а затем Цезаря. По всей видимости, этот легион получил свой номер до 25 г. до н. э., когда Галатия была включена в состав империи. Следовательно, к этому времени состав войска Августа окончательно определился, так что можно отбросить старые теории о постепенном возрастании численности армии на протяжении правления этого императора, особенно во время Паннонского восстания и после поражения Вара.
Легионы были размещены в приграничных провинциях империи, главным образом в тех, которыми управлял сам Август через своих легатов. По мере того как Август присоединял новые провинции, войска продвигались вперед, чтобы содействовать аннексии. В источниках нет точных данных о местах службы многих легионов в эпоху Августа; можно предположить, что они часто меняли места своей дислокации, когда замирение провинции завершалось или ее объединяли с другой провинцией. В течение некоторого времени гарнизон Египта состоял из трех легионов; к 23 г. н. э. их осталось только два13. В 20-х годах I в. до н. э. в Испании размещалось примерно семь легионов; около 14 г. н. э. их было только три14. В 9 г. н. э. Вар потерял три легиона (ХЛШ, ХУШ и XLX) на рейнской границе, и, чтобы заполнить брешь, потребовалось перебросить на запад крупные силы15. Всего в конце правления Августа на службе состояло двадцать пять легионов. Принцепс не счел нужным увеличить их общее число ни ради контроля над присоединенными территориями, ни ради возмещения потерь 9 г. н. э. — содержать легионы было слишком дорого.
В Поздней республике легионер должен был отслужить не менее шести лет. Но в период гражданских войн засвидетельствованы случаи, когда солдаты находились в строю дольше. Очевидно, что некоторые солдаты сами не желали покидать войско, но другие, разумеется, этого хотели и не скрывали своих чувств, демонстрируя их при любой возможности. В 16—14 гг. до н. э. Август и Агриппа провели обширную программу колонизации и расселения в провинциях, вероятно, чтобы удовлетворить
13 Страбон. XVTL1.12 (797—798с); Тацит. Анналы. IV.5; Spiedel 1982 (Е 969).
14 Jones 1976 (Е 226).
15 Syme 1933 (D 238).
Глава 11. Армия и военный флот
431
запросы ветеранов, призванных после Акция. Вернувшись в Рим в 13 г. до н. э., Август постановил, что в дальнейшем срок легионной службы составит шестнадцать лет (в республиканское время такой срок был не обычным, а предельным), и те солдаты, которые останутся в живых, будут вознаграждены деньгами, а не земельными наделами (которые обычно предоставлялись в предыдущие десятилетия, особенно в период гражданских войн). Из сообщения Диона Кассия16 ясно, что воины по- прежнему предпочитали получать землю, однако основание колоний в самой Италии к этому времени стало уже политически неприемлемым, поскольку вызывало вражду между старыми жителями и колонистами и приводило хозяйство в упадок. После шестнадцати лет службы легионер еще четыре года оставался в запасе (эта мера также имела республиканский прецедент — в неспокойные времена солдата могли призвать на двадцать лет)17. В 5 г. н. э. срок службы был еще раз повышен и составил не менее двадцати лет обязательной службы и пять лет в запасе. Сведения о жалованье, установленном в 13 г. до н. э., отсутствуют, но в 5 г. н. э., согласно рассказу Диона Кассия, вознаграждение возросло до 3 тыс. денариев18. Центурионы получали намного больше и могли стать состоятельными людьми. Чтобы решить проблему финансирования вооруженных сил, Август в 5 г. н. э. предложил ежегодно выделять из государственных фондов средства для выплаты жалованья и наград военнослужащим19. Эта инициатива не имела последствий, и в следующем году Август учредил военную казну (aerarium militare); он сам внес туда деньги и установил весьма непопулярный пятипроцентный налог на наследство, который вместе с однопроцентным налогом на торги (явно существовавшим ранее) обеспечивал постоянный приток средств в этот эр арий20. Военная казна предназначалась для того, чтобы выдавать денежные вознаграждения отслужившим срок ветеранам21. Неясно, направлялись ли эти деньги также на выплату жалованья солдатам (это было бы естественно и на это, по всей видимости, указывают Дион Кассий и Светоний)22, однако сами солдаты считали, что и жалованье, и денежные подарки им платит непосредственно император. Установив величину оплаты и продолжительность службы, Август устранил неопределенность, сохранявшуюся с предыдущих времен. Однако и сам Август, и его наследники не всегда справлялись со своими обязанностями23. Солдатам, состоявшим на службе, запретили жениться (вероятно, это сделал Август), а любые браки, заключенные ранее, расторгались при поступлении
16 Дион Кассий. LIV.25.5.
17 Полибий. VI. 19.4.
18 Дион Кассий. LV.23.1.
19 Дион Кассий. LV.24.9.
20 Дион Кассий. LV.25.2—5; Светоний. Август. 49.2; ср.: Тацит. Анналы. 1.78; П.42; Светоний. Калигула.16; Дион Кассий. ЫХ.9.6.
21 Деяния Божественного Августа. 17.
22 СогЫег 1977 {D 123).
23 См. далее, с. 432—433 наст, изд.; ср. также: Светоний. Тиберий. 48; Светоний. Калигула. 44; Светоний. Нерон. 32.1.
432
Часть П. Правительство и администрация Империи
на службу24. Предпочтение отдавалось добровольцам, но при необходимости проводились наборы, особенно в 6 г. н. э., когда вспыхнуло Паннон- ское восстание, и в 9 г. н. э. — после поражения Вара25.
В правление Августа легионы стали постоянными боевыми подразделениями, состав которых регулярно обновлялся, поэтому структура командования в них тоже была реформирована. Август стал сам назначать легатов (обычно ими становились бывшие преторы, но иногда и бывшие квесторы, эдилы и плебейские трибуны), которые возглавляли отдельные легионы и на протяжении нескольких лет занимали пост легата легиона (legatus legionis). Надзор за основным лагерем легиона поручался всаднику на должности префекта лагеря (praefectus castrorum). Военные трибуны существовали по-прежнему, но по чину стояли ниже префекта лагеря — все, кроме одного трибуна сенаторского ранга, который по меньшей мере формально считался вторым командиром после легата. В Египте, куда сенаторы не допускались, легионом командовал префект лагеря. Насколько можно судить, внутренняя структура легиона не изменилась, к нему лишь присоединили небольшой отряд конницы (equites legionis), по- видимому, для охраны легиона и разведки26. Численность полностью укомплектованного легиона составляла, вероятно, 5,0—5,2 тыс. чел.
Имеются археологические и скульптурные свидетельства о переменах в снаряжении: овальный щит уступил дорогу закругленному прямоугольному (или почти прямоугольному), а место кольчуги занял панцирь из скрепленных между собой узких железных пластин (lorica segmentata). Новая форма щита и усложненный доспех обеспечивали каждому солдату большую защиту. До сих пор неясно, были ли эти нововведения предписаны из Рима или возникали постепенно. По-видимому, в более позднее время вооружение в провинциальных войсках могло существенно различаться. Археологические исследования позволили также обнаружить некоторые из временных и постоянных укреплений того периода, особенно по обоим берегам Рейна27. О подобных следах в других провинциях известно мало, хотя можно упомянуть недавно идентифицированную ле- гионную крепость в Испании — в Росинос де Видриалис к югу от Астор- ги, — которая, вероятно, была построена еще в правление Августа28.
Август провел масштабные реформы, которые не пользовались популярностью. Когда в 14 г. н. э. легионам, стоявшим на Рейне и в Паннонии, объявили о его смерти, солдаты увидели возможность высказать недовольство долгим сроком службы (намного больше максимума, установленного Августом), низким жалованьем, жестокостью и продажностью центурионов и перспективой поселиться в бедной гористой местности вдали от дома (если удастся выжить)29. Легионеры требовали отставки для
24 Дион Кассий. LX.24.3; СашрЬеИ 1978 (D 172).
25 Светоний. Август. 24.1; Тацит. Анналы. 1.16 сл.
26 Breeze 1969 (D 166).
27 См. далее, с. 606—609 наст. изд.
28 Le Roux 1982 (E 228): 105.
29 Тацит. Анналы. 1.17 сл.; Wilkes 1963 (С 414).
Глава 11. Армия и военный флот
433
солдат, отвоевавших шестнадцать лет (предельный срок в старой Республике), и выплаты вознаграждения за военную службу (premia militae) наличными сразу после увольнения. Уступки, на которые пришлось пойти Германику, были отменены в 15 г. н. э.30.
2. Вспомогательные войска
Сохранять целостность империи было поручено не только легионам; эту задачу решал как сам Рим, так и подвластные ему народы. По окончании гражданских войн многие войска, набранные в местных племенах и зависимых царствах, были распущены или отправились по домам; но некоторые части так задержались на службе из-за гражданских войн, что превратились в такие же постоянные части, как и легионы, — и они, видимо, были сохранены, чтобы помогать последним в кампаниях, которые вел Август31. В военное время такие подразделения обычно дополнялись крупными отрядами, которые комплектовались из местных племен и жителей клиентских царств, расположенных поблизости от театра военных действий; в рассматриваемый период между этими категориями не было четкого разграничения.
Из этих вспомогательных войск (auxilia, или auxiliares) в правление Августа, если не раньше, были образованы когорты (cohortes) пехоты и алы (alae, «крылья») конницы. Также существовали смешанные подразделения пехоты и конницы. Назывались они конными когортами (cohortes equitatae). Численность таких отрядов составляла, как правило, 500 чел.
В Ранней империи во вспомогательные войска обычно набирали неграждан, которые проживали в недавно завоеванных провинциях, зачастую находившихся под прямым контролем императора. Имеются свидетельства о том, что при Августе и его ближайших преемниках такие части формировались в Галлии, Испании, Рейнской области и на альпийских территориях, в Далмации, придунайских землях и Фракии, в Северной Африке и на Востоке. Первоначально вербовка проводилась, вероятно, в соответствии с союзными договорами, и ее задача состояла в том, чтобы отобрать в войска молодых людей и направить их силы на защиту империи32. Часто такие отряды дислоцировались в своих родных местах или вблизи от них, и предполагалось, что действовать они будут там же. Когорты и алы обычно получали названия в честь тех племен, из которых были набраны (например, cohors VI Nerviorum, укомплектованная нерви- ями, жителями Галлии Бельгики), или, на более урбанизированном Востоке, в честь родных городов (например, ala I Hamiorum, из города Хама в Сирии). Некоторые части, в основном алы конницы, были названы именами выдающихся римлян (например, ala Agrippiana, вероятно, в честь
30 Тацит. Анналы. 1.78.
31 Saddington 1982 (D 227).
32 Дион Кассий. UV.22.5.
434
Часть П. Правительство и администрация Империи
Рис. 3. Рёдген, Германия. Схема базы снабжения Августа {рост. Шонбергер и Симон). К востоку от Рейна было обнаружено множество сооружений, которые могут относиться к разным кампаниям, предпринятым с 13 г. до н. э. по 16 г. н. э. База снабжения в Родге- не занимает территорию в 3,3 гектара (8 акров). За валом и двойным рвом располагалось несколько деревянных строений: три зернохранилища (а—с), штаб или дом командира [d] и казармы [е].
Там имелось четверо ворот {1—4); главный вход находился с восточной стороны.
Агриппы), а иногда — именем своего основателя или первого префекта (например, ala Scaevae — в честь Сцевы, преданного центуриона Цезаря; ala Atectorigiana — в честь галла Атекторига; ala Indiana — в честь Юлия Инда). Продолжались и наборы в тылу, проводившиеся, вполне вероятно, в силу союзных договоров. Ауксилиарии были экипированы традиционным для своей родины оружием, которым хорошо владели. Под¬
Глава 11. Армия и военный флот
435
разделения, стоявшие вдоль длинных границ, таких как Рейн, были расквартированы вблизи лагерей легионов.
Тацит сообщает ценные сведения о том, что в 23 г. н. э. вспомогательные войска были примерно равны легионам по численности, которая составляла приблизительно 150 тыс. чел.33. Он не счел нужным приводить цифры для каждой провинции, поскольку они не были постоянными; и даже общее число ауксилиариев колебалось в зависимости от нужд момента. Эпиграфические данные позволяют назвать по именам лишь немногие части, служившие при Августе, да и реестр провинциальных гарнизонов известен только с эпохи Флавиев. Условия службы в Ранней империи не слишком хорошо засвидетельствованы: неясно, всегда ли вспомогательные отряды, набранные на основании союзных договоров, получали от Августа плату. Возможно, точный срок службы не был установлен, и имеются сведения, что некоторые ауксилиарии оставались в строю более тридцати лет. Вряд ли подарки по окончании службы раздавались им автоматически, но отдельные лица могли получить в награду гражданство, привилегии или деньги34.
На войне легионы и вспомогательные части действовали совместно: в 9 г. н. э. в Германии Вар взял в поход в дополнение к трем своим легионам шесть когорт пехоты и три алы конницы. В 7 г. н. э. в Сирмии Тиберий собрал десять легионов, более семидесяти когорт и десять ал35. Обычно в любом гарнизоне большинство составляли когорты пехоты.
Отрядами ауксилиариев командовали префекты, имевшие звания praefectus cohortis (в пехоте) или praefectus equitum (в конной але). Часто ими становились представители племенной знати, хотя иногда их связи с родными племенами трудно проследить, поскольку гражданство предоставлялось им лично, а вместе с ним — и римские имена. Арминий, возглавивший успешное восстание против римской власти к востоку от Рейна, имел римское гражданство и статус всадника, полученные за военную службу (вероятно, в качестве префекта) в правление Августа36. Если префектами вспомогательных частей назначали римских офицеров, то обычно это были центурионы с большим военным опытом, особенно при- мипилярии (в прошлом — старшие центурионы в легионе), или члены всаднического сословия, многие из которых уже отслужили в должности трибуна легиона. В течение какого-то времени Август назначал сыновей сенаторов командовать алами попарно — вероятно, в качестве альтернативы военному трибунату37. Но тогда еще не сложилась определенная последовательность или иерархия подобных назначений.
33 Тацит. Анналы. IV.5.
34 ILS: 2531.
35 Веллей Патеркул. П.117.1; П.113.1.
36 Веллей Патеркул. П.118.
37 Светоний. Божественный Август. 38.2. Примеры см.: ILS: 911 = EJ2: 195 = Н. De- vijver, Prosopographia Militiarum Equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum (Leuven 1977) (далее — PME) N: 15; ILS: 912 = PME А: 162; CIL VI: 3516 = PME C: 257. (Военный трибунат — командная должность в римском легионе. — С.Т.)
436
Часть П. Правительство и администрация Империи
На солдат, набранных среди недавно покоренных народов, нельзя было всецело полагаться. Их верность родным общинам могла оказаться тверже, нежели преданность Риму. В 6 г. н. э. далматийские вспомогательные части были собраны в одном месте для предстоящей кампании против Маробода; столь неразумное решение привело к Паннонскому восстанию, так как эти отряды ощутили шанс сбросить римское ярмо38.
В государствах зависимых царей, особенно на Востоке, вспомогательные подразделения формировались по римскому образцу. Ирод назначал римлян командовать своими войсками, в состав которых входили галлы и германцы39. Маробод, правивший на периферии римского мира, использовал успешный римский опыт как образец для организации и подготовки своей армии40. Несколько позже, в правление Тиберия, когорты, формально состоявшие на службе у зависимого царя Фракии, восстали, так как прошел слух, будто римляне планируют разместить их вдали от дома и перемешать с иноземцами; лишь жестокое сражение заставило фракийцев признать поражение41.
Несколько вспомогательных когорт было набрано из римских граждан. В эпоху Империи засвидетельствовано по меньшей мере шесть «когорт свободнорожденных римских граждан» («cohortes ingenuorum civium Romanorum») и множество (не менее тридцати двух) «когорт римских граждан-добровольцев» («cohortes voluntariorum civiorum Romanorum»). Почти наверняка эти части были созданы во время кризиса 6—9 гг. н. э. Литературные источники единодушно подчеркивают, с каким трудом Август набирал дополнительные войска, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией42. «Набор свободнорожденных» («dilectus ingenuorum») проводился в городе Риме в 9 г. н. э.;43 возможно, он позволил не только пополнить легионы, но и создать «когорты свободнорожденных» («cohortes ingenuorum») из людей, которые не подходили для службы в легионах. «Когорты римских граждан-добровольцев» (cohortes voluntariorum с. R.), по-видимому, комплектовались из освобожденных рабов, призванных Августом на службу; эпитет voluntariorum подчеркивал их желание служить, которое другие члены общества не разделяли44. Кроме того, вероятно, еще в начале правления Августа в Италии и за ее пределами было набрано еще несколько когорт римских граждан. Командиры таких когорт назывались трибунами. В завещании Августа, оглашенном в 14 г. н. э., подчеркивалось промежуточное положение этих подразделений между легионами и вспомогательными войсками: они получили та¬
38 Дион Кассий. LV.29.1; ср.: Тацит. Анналы. Ш.41^2.
39 Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.20 (397); 1.27 (535); 1.33 (672); П.З (52); П.5 (74).
40 Веллей Патеркул. П. 109.1.
41 Тацит. Анналы. IV.46.
42 Дион Кассий. LV.31; LVI.23; Веллей Патеркул. П.111; Плиний Старший. Естественная история. УП.149; Светоний. Божественный Август. 25.2.
43 АЕ 1973: 501 = EJ2: 368; Тацит. Анналы. 1.16, 31; Brunt 1974 (В 214).
44 Дион Кассий. LV.31.1; LVI.23.3; Веллей Патеркул. П.111.1; Светоний. Божественный Август. 25.2. Особенно см.: Макробий. Сатурналии. 1.11.32. Также см.: Kraft 1951 (Е 672): 87 и сл.
Глава 11. Армия и военный флот
437
кие же подарки, как и легионеры45. Видимо, позднее их рассматривали как вспомогательные части и набирали туда неграждан.
3. Военный флот
В период гражданских войн стало предельно ясно, как необходим государству постоянно действующий сильный флот. Сразу после битвы при Акции Октавиан заложил две крупные военно-морские базы: одна из них находилась на Мизенском мысе, в западной части Неаполитанского залива (вместо порта Юлия, который больше не использовался, хотя его строительство потребовало значительных усилий), другая располагалась в Равенне, на северном побережье Адриатического моря46. С 31 г. до н. э. (или даже раньше) одна эскадра дислоцировалась в Форуме Юлия (Фре- жюс) на юге Галлии, где, как предполагают исследователи, были сосредоточены крупные склады и административные здания; но вскоре эта база утратила прежнее значение47. Судя по сведениям позднейших источников, корабли, размещенные в Мизене, патрулировали Западное Средиземноморье и береговую линию Африки и Египта, а суда, стоявшие в Равенне, выполняли более узкие задачи в Адриатическом и Эгейском морях. Оба крупных флота имели стоянки на Корсике и Сардинии, в Остии и самом Риме.
Общую численность обоих флотов можно оценить лишь ориентировочно, примерно в 15—20 тыс. человек, которые составляли экипажи приблизительно семидесяти пяти — ста кораблей. Эти судовые команды служили для Италии ценным резервом опытных воинов. Надписи и рельефы позволяют сделать вывод, что большинство кораблей составляли триремы, имелось также несколько квадрирем и более легких судов, известных как либурны47а. Корабли получали имена в честь рек, богов, богинь, а также мужских и женских персонификаций. Отдельным судном командовал триерарх, эскадрой — наварх, а во главе каждого крупного флота стоял префект (praefectus classis). Названия кораблей и командных должностей свидетельствуют о том, что на греческом Востоке имелись богатые традиции мореплавания, а у римлян подобного опыта не было; при Августе триерархов и навархов часто набирали в приморских городах-государствах Востока. В то время префекты флота обычно назначались из числа военных трибунов или старших центурионов. Экипажи состояли из провинциалов-неграждан и немногочисленных вольноотпущенников; рабов больше не привлекали на службу во флоте, хотя ранее, во времена гражданских войн в Поздней республике, их порой использо¬
45 Тацит. Анналы. 1.8.
46 Плиний Старший. Естественная история. Ш.119.
47 Страбон. IV. 1.9 (184С); Тацит. Анналы. IV.5, История. Ш.43. Cp.: ILS: 2688 = РМЕ, А: 201 о praefectus classis (префекте флота. — С. Т.) при Тиберии. Тацит (История. Ш.43) утверждает, что в 69 г. н. э. порт всё еще играл довольно важную роль.
47а Триремы — военные корабли с тремя рядами весел, квадриремы — с четырьмя рядами весел, либурны — быстрые суда с двумя рядами весел. — С.Т.
438
Часть П. Правительство и администрация Империи
вали при нехватке личного состава. У римлян не было практики наказания осужденных работами на галерах. Судовые команды строились по военному образцу, гребцы и моряки составляли центурии, которыми командовали центурионы, не имевшие римского гражданства. Флот обеспечивал безопасность торгового судоходства в Средиземном море; в этот период почти не было слышно о пиратстве.
4. Преторианцы и другие войска в городе Риме
Когда в эпоху Республики магистрат вел войну в своей провинции, он обычно формировал для себя небольшой отряд охраны из имевшихся в его распоряжении войск. Такие отряды назывались «cohors praetoria» («когорта полководца»). У Цезаря ее никогда не было, хотя однажды он польстил солдатам X легиона, заявив, что эту роль выполняют они48. Известно, что в период гражданских войн такие преторианские когорты имелись у нескольких полководцев. После битвы при Филиппах Октавиан и Антоний оставили при себе в качестве преторианцев 8 тыс. отслуживших срок ветеранов, которые отказались от предложенных земельных наделов49. Сообщается, что при Акции у Октавиана было пять преторианских когорт, но их численность неизвестна; и имеются сведения, что немного ранее на службе у Антония состояло три таких когорты50.
После битвы при Акции преторианские когорты продолжали служить Октавиану и превратились в постоянную «гвардию»; они были приписаны к военной штаб-квартире (praetorium), которую Октавиан как проконсул сохранял за собой. В 23 г. н. э. на службе состояло девять когорт51. По политическим соображениям Август сперва разместил в самом Риме лишь три когорты и расквартировал их маленькими группами, чтобы присутствие военных в городе не бросалось в глаза52. Изначально когорты были напрямую подчинены Августу, но во 2 г. до н. э. он назначил двух всадников префектами претория (praefecti praetorio)53. Они обладали скорее управленческим талантом, нежели военным опытом. В правление Юлиев—Клавдиев префектов обычно тоже было двое, но иногда гвардией командовал только один человек: Элий Сеян (14—31 гг. н. э.), Суторий Макрон (31—38 гг. н. э.), Афраний Бурр (51—62 гг. н. э.). Преторианские когорты должны были служить опорой власти императора в Риме и сопровождать его в поездках. Кроме того, в торжественных случаях они играли роль почетного караула.
В период гражданских войн преторианцев набирали из отслуживших срок ветеранов или из опытных солдат, отмеченных почестями и награ¬
48 Цезарь. Записки о Галльской войне. 1.42.
49 Агашан. Гражданские войны. V.3.
50 (Эрозий. VI. 19.8; Плутарх. Антоний. 39.53.
51 Тацит. Анналы. IV.5.
52 Светоний. Божественный Август. 49, Тиберий. 37.1; Тацит. Анналы. IV.2.
53 Дион Кассий. LV.10.10.
Глава 11. Армия и военный флот
439
дами54. Таким образом, это было элитное подразделение, составленное из отборных воинов. Однако при Августе (и позднее) преторианская гвардия формировалась непосредственно из мирных жителей, прямо в Италии; в первое время новобранцев вербовали в основном в Лации, Этрурии и Умбрии, а также в старых республиканских колониях55. В 13 г. до н. э. был установлен двенадцатилетний срок службы в преторианских войсках, затем в 5 г. н. э. его увеличили до шестнадцати лет56. Преторианцам было назначено гораздо более крупное денежное содержание, чем легионерам; к 14 г. н. э. его повысили до семисот пятидесяти денариев в год57. Легионеры, служившие в далеких приграничных провинциях Империи, вскоре стали завидовать привилегированному положению и более высокому жалованью преторианцев58.
Каждой из девяти когорт гвардии (если использовать этот термин, не имеющий аналога в латинском языке) командовал трибун; большинство трибунов в прошлом служили старшими центурионами (primus pilus) легиона. Численность когорт при Августе неизвестна, но, вероятнее всего, она составляла, как и в легионной когорте, четыреста восемьдесят человек, которые подразделялись на центурии по восемьдесят воинов в каждой. Преторианцы были вооружены так же, как легионеры, но примечательно, что в императорское время у них сохранились некоторые элементы экипировки республиканских солдат. Тут можно провести аналогию с парадной формой Королевской гвардии Великобритании. Находясь на службе в Риме, преторианцы носили оружие, но были одеты в штатское59. В каждой когорте имелся небольшой отряд конницы.
Чтобы уравновесить три преторианские когорты, расквартированные в Риме, было сформировано три городские когорты (cohortes urbanae), которые вскоре поступили под командование префекта города (praefectus urbi) из сословия сенаторов. Эти городские когорты исполняли в Риме обязанности полиции. Вскоре была создана четвертая когорта, которую разместили в Лугдуне, вероятно, для охраны императорского монетного двора60. Когорты, которыми командовали трибуны (в прошлом — старшие центурионы), вероятно, насчитывали по четыреста восемьдесят человек. Солдаты городских когорт в Риме должны были отслужить двадцать лет; номера этих подразделений — с X по ХП — продолжали нумерацию преторианских когорт.
В б г. н. э. было сформировано семь когорт ночной стражи (cohortes vigilum) для несения пожарной службы в четырнадцати районах (regiones), на которые Август разделил город; первоначальная их численность
54 Аппиан. Гражданские войны. Ш.45, 67—69; V.3, 95; Плутарх. Антоний. 53.
55 Тацит. Анналы. IV.5.
56 Дион Кассий. UV.25.6; LV.23.1.
57 Дион Кассий. ЦП. 11.5; Тацит. Анналы. 1.8.
58 Тацит. Анналы. 1.17; Тацит. История. П.67, 92—94.
59 Тацит. Анналы. XVL27; Тацит. История. 1.38.
60 Тацит. Анналы. Ш.41.
440
Часть П. Правительство и администрация Империи
неизвестна, командовал ими префект вигилов (praefectum vigilum)61. Эти постоянные отряды пришли на смену прежним бессистемным попыткам защитить город от очень частых и разрушительных пожаров; возможно, вигилы также исполняли обязанности ночной полиции, но они не были вооружены как солдаты. Эти когорты состояли из вольноотпущенников; более поздние свидетельства позволяют сделать вывод, что, отслужив шесть лет (возможно, таков был обычный срок их службы), они получали полноправное гражданство. Когортами вигилов командовали трибуны, в прошлом — старшие центурионы легионов.
Для охраны собственной персоны Август создал небольшой отряд конных телохранителей-германцев (Germani corporis custodes), укомплектованный представителями зарейнских племен, в основном батавами62. Это подразделение пришло на смену охране, набранной Октавианом во время гражданских войн в Поздней республике, и просуществовало вплоть до правления Гальбы, который его распустил.
IV. Армия и флот при Юлиях—Клавдиях
В конце правления Августа Империя отказалась от экспансионистской политики — начался период мирного развития. Большая часть войск располагалась вдоль внешних рубежей империи и в основном решала задачу укрепления римской власти. Первоначально крупные военные силы были сконцентрированы в стратегических приграничных пунктах с целью дальнейших завоеваний, но с течением времени стали рассредотачиваться более равномерно. Временные лагеря постепенно превращались в постоянные. Роль армии всё больше и больше сводилась к обороне, и основное внимание уделялось защите подконтрольных Риму областей от внешних вторжений. В результате в конце I в. н. э. началось строительство пограничных укреплений, которые на некоторых территориях являли собой четкую демаркационную линию между землями, полностью подчиненными римской власти, и независимыми племенами.
Расположение легионов на момент смерти Августа известно достаточно точно, хотя конкретная дислокация отдельных легионов внутри провинции порой остается несколько неясной63. Армия одной провинции могла насчитывать до четырех легионов (по четыре легиона стояло в Сирии и двух Германиях) вместе со вспомогательными войсками примерно той же численности. В провинциях, менее подверженных внешним угрозам, размещались гарнизоны из вспомогательных когорт и ал, но легионов там не было. Эпиграфические свидетельства, которых к концу I в. становится очень много, позволяют понять, как дислоцировались и пере-
61 Дион Кассий. LV.26.4; Страбон. V.3.7 (234—235С); Светоний. Божественный Август. 25.2.
62 Bellen 1981 (D 160); Spiedel 1984 (D 236).
63 Тацит (Анналы. IV.3) сообщает расположение римских войск в 23 г. н. э.
Рис. 4. Распределение легионов в 14 г. н. э. (Л. Кеппи)
442
Часть П. Правительство и администрация Империи
мещались легионы и вспомогательные войска в зависимости от изменений императорской политики (или под давлением внешних обстоятельств). Ясно, что тщательно поддерживался численный баланс между армиями, стоявшими на Рейне, Дунае и Востоке. Если крупная война требовала дополнительных сил на определенной территории, то Рим перебрасывал туда легионы и вспомогательные войска — на временной или постоянной основе. Например, Тиберий в середине своего правления отправил IX Испанский легион с Дуная в Африку на четыре года; когда Корбулон вел кампании на Востоке, его армия была пополнена тремя легионами, переведенными с Балкан64. Таким образом, укрепление одной границы империи достигалось ценой ослабления другой.
Табл. 3
Легионы Ранней империи
Легион
Дислокация в 14 г. н. э.
Дислокация в 70 г. н. э.
I Germanica (I Германский)
Нижняя Германия
(расформирован в 70 г. н. э.)
I Adiutrix
(I Вспомогательный)
(создан в 68 г. н. э.)
Верхняя Германия
П Adiutrix
(П Вспомогательный)
(создан в 69 г. н. э.)
Британия
I Italica (I Италийский)
(создан в 66 г. н. э.)
Мёзия
П Augusta (П Августов)
Верхняя Германия
Британия
Ш Augusta (Ш Августов)
Африка
Африка
Ш Cyrenaica (Ш Киренейский)
Египет
Египет
Ш Gallica (Ш Галльский)
Сирия
Сирия
IV Macedonica (IV Македонский)
Испания
(расформирован в 70 г. н. э.)
IV Scythica (TV Скифский)
Мёзия
Сирия
64 Тацит. Анналы. Ш.9, IV.23, ХШ.35, XV.6, 25.
Глава 11. Армия и военный флот
443
Продолжение таблицы
IV Flavia (IV Флавиев)
(создан в 69—70 гг. н. э.)
Далмация
V Alaudae (Пятый Жаворонка)
Нижняя Германия
(? расформирован в 70 г. н. э.)
V Macedonica (V Македонский)
Мёзия
Мёзия
VI Ferrata (VI Железный)
Сирия
Сирия
VI Victrix
(VI Победоносный)
Испания
Нижняя Германия
VH Claudia (VH Клавдиев)
Далмация
Мёзия
VH Gemina (VH Сдвоенный)
(создан в 68 г. н. э.)
Тарраконская Испания
УТЛ Augusta (VEI Августов)
Паннония
Верхняя Германия
IX Hispana (IX Испанский)
Паннония
Британия
X Fretensis (X Проливный)
Сирия
Иудея
X Gemina (X Сдвоенный)
Испания
Нижняя Германия
XI Claudia (XI Клавдиев)
Далмация
Нижняя Германия
ХП Fulminata (ХП Молниеносный)
Сирия
Каппадокия?65
ХШ Gemina (ХШ Сдвоенный)
Верхняя Германия
Паннония
XIV Gemina (XTV Сдвоенный)
Верхняя Германия
Верхняя Германия
XI Apollinaris (XI Аполлонов)
Паннония
Паннония
65 АЕ 1983: 927; van Berchem D. ЦΜΗ 40 (1983): 185-196
444
Часть П. Правительство и администрация Империи
Окончание таблицы
XV Primigenia
(XV Перворожденный)
(создан в 39—42 гг. н. э.)
(расформирован в 70 г. н. э.)
XVI Gallica (XVI Галльский)
Верхняя Германия
(расформирован в 70 г. н. э.)
XVI Flavia (XVI Флавиев)
(создан в 69—70 гг. н. э.)
Сирия66
χνπ
(погиб с Варом в 9 г. н. э.)
Британия
xvm
(погиб с Варом в 9 г. н. э.)
Нижняя Германия
ХГХ
(погиб с Варом в 9 г. н. э.)
Египет
XX Valeria (XX Валериев)
Нижняя Германия
Нижняя Германия
XXI Rapax
(XXI Стремительный)
Нижняя Германия
(расформирован в 70 г. н. э.)
ХХП Deiotariana (ХХП Дейотаров)
Египет
Верхняя Германия
ХХП Primigenia (ХХП Перворожденный)
(создан в 39-^12 гг. I в. н. э.)
Британия
Всего на службе легионов
В 14 г. н. э.
В 70 г. н. э.
25
28 или 29
Вскоре, однако, возникла практика слияния воедино отдельных подразделений (vexillationes), которые выделялись из гарнизонов, становившихся всё менее мобильными, и создания временных оперативных групп, перебрасывавшихся в другую провинцию; это позволяло не оставлять без гарнизона границы большой протяженности67. В ходе крупных войн порой еще формировались новые легионы, которые обычно набирались в самой Италии: при Калигуле или Клавдии было создано два новых легиона — XV и ХХП Перворожденный (Primigenia), чтобы высвободить опытные войска для намеченного вторжения в Британию; в 66 г. н. э. Нерон набрал новый легион — I Италийский, для запланированной экспедиции на Кавказ68. В остальном число легионов, состоявших на службе,
66 АЕ 1983: 927; van Berchem D. ЦΜΗ 40 (1983): 185-196
67 Saxer 1967 (Ό 228).
68 Ritterling 1925 (D 223): 1758, 1797, 1407; Светоний. Нерон. 19.
Глава 11. Армия и военный флот
445
оставалось неизменным до гражданской войны после смерти Нерона, когда особые обстоятельства потребовали комплектации новых легионов, а последствия конфликта — роспуска нескольких старых (см. Табл. 3).
В эпоху Республики легионы состояли из италийцев, которые служили традиционным источником людских ресурсов, но в периоды гражданских войн все полководцы, начиная с Цезаря, успешно наращивали собственные силы, формируя своеобразные «легионы» из жителей своих провинций, не имевших гражданства, а также обучая и вооружая их по римскому образцу. Хотя Октавиан и отправил по домам неграждан, служивших в легионах Антония, вскоре он согласился принять в состав своей постоянной армии ХХП Дейотаров легион, а позднее использовал неграждан, чтобы восполнять людские потери, особенно на Востоке69. В ходе гражданских войн италийцы готовы были отслужить в армии довольно короткий срок, но они не желали проводить значительную часть своей взрослой жизни — двадцать пять лет или даже больше — на границах провинций вдали от дома. Правительство направляло усилия, скорее, на то, чтобы найти рекрутов в провинциях, в которых — это было очевидно — люди хотели служить и рассматривали пребывание в легионе как ступень к улучшению своего социального положения70. Некоторые из них, вероятно, были гражданами, выходцами из италийских семей, долго проживших на этих территориях, или из колонистов эпохи Цезаря и Августа, но у исследователей есть подозрения, что в армию всё чаще призывали неграждан, предоставляя им гражданство и римские имена при зачислении в армию. Вероятно, к концу правления Юлиев—Клавдиев менее половины всех легионеров империи были рождены в Италии; возможно, на Востоке их было еще меньше.
Когда общество осознало, что империя почти достигла пределов роста, за которыми эффективное управление будет невозможно, войска лишились своей традиционной роли. За долгие десятилетия относительного мира легионы легко могли утратить боевой дух, что и обнаружил Корбу- лон в Сирии в начале правления Нерона71. Деятельные полководцы занимали войска маршами и маневрами; легионы часто использовались для поддержания внутренней безопасности в тех провинциях, где стояли. Кроме того, армия служила резервом дисциплинированных кадров, которые можно было использовать для строительства и других работ, хотя подобные задачи вызывали у солдат глубокое отвращение72. Само по себе присутствие войск постоянно воздействовало на экономику провинций: легионеры нуждались в еде и одежде и имели деньги, которые могли потратить. По окончании военной службы (до которого доживало от сорока до пятидесяти процентов воинов) большинство солдат получали денежное вознаграждение, но некоторым из них (как в эпоху Республики) до-
69 ILS: 2483 = EJ2 261.
70 Тацит. Анналы. IV.4.
п Тацит. Анналы. ХШ.35.
72 Плутарх. Марий. 15; Тацит. Анналы. 1.20; XI.20; ХШ.53; Светоний. Божественный Август. 18.
Рис. 5. Ветера (Ксантен), Германия: план двойного лагерного укрепления на нулевой отметке, эпоха Нерона. (Публ по: Bogaers, Ruger.) К концу правления Августа были установлены основные опорные пункты вдоль западного берега Рейна. Об укреплении, построенном в Ксантене в этот период или в правление Тиберия или Клавдия, известно очень мало. Площадь крепости времен Нерона составляла 56 гектаров (138 акров).
Примечание. Каменная пггаб-квартира (а), два дома легатов (b, с), мастерские (d), дома трибунов [е) и лазарет (/). Тацит красочно описывает осаду Ветеры повстанцами в 69 г. н. э., после которой крепость перенесли на возвышенность.
Глава 11. Армия и военный флот
447
сгавались земельные наделы в колониях, в тех провинциях, где размещались их части, или поблизости от них. Эти ветераны представляли собой надежный оплот системы, которой некогда служили. При Клавдии ветеранов, которые дислоцировались в Британии, лишь недавно присоединенной к империи, селили в Колчестере (Камулодуне), ветеранов рейнских легионов — в Кёльне, а сирийских — в Акке (Птолемаиде). Нерон попытался окончательно прекратить выведение колоний в Италию, но не добился успеха73.
Если структура легионов и условия службы в них в Ранней империи более или менее определились уже к моменту смерти Августа, то окончательное формирование вспомогательных войск и флота заняло больше времени. Вливанию вспомогательных частей в вооруженные силы империи весьма содействовало распоряжение Клавдия, который установил систему вознаграждений за почетную службу: ауксилиарий (солдат вспомогательной части, набранной из иноземцев. — C.Z), отвоевавший двадцать пять лет (хотя его могли удерживать в войсках и дольше), получал гражданство; а если ранее, находясь на службе, он женился, то теперь его брак признавался законным, так что гражданами становились и все дети этих супругов, как уже родившиеся, так и будущие. Сведения о предоставленном гражданстве записывались на маленьких, покрытых бронзой дощечках, которые назывались дипломами и вручались легионерам в качестве документального подтверждения их привилегий74. Эти льготы воспринимались как важный стимул для поступления на военную службу и очень способствовали распространению гражданства в провинциях, а это укрепляло верность жителей императору. Наборы по-прежнему проводились в основном на недавно приобретенных территориях, таких как Британия. Когда Рим поглощал клиентское царство, войска последнего могли переходить на службу к римлянам75. К моменту смерти Нерона общее число ауксилиариев, служащих или годных к службе, составляло примерно 200 тыс. чел. Но по-прежнему невозможно указать названия или точное местонахождение всех существовавших тогда когорт и ал.
Подобно легионам, которые начали растягиваться вдоль границ империи, вспомогательные части тоже постепенно распределялись по этим регионам, поодиночке или попарно. Самые ранние опознаваемые руины укреплений ауксилиариев в Валкенбурге, Хофхайме и Оберштимме датируются правлением Клавдия. Вероятно, примерно тогда же (если не раньше) был установлен размер жалованья солдат вспомогательных войск. Во времена Флавиев оно составляло 3/4 или 5/6 от оплаты легионера, но для эпохи Юлиев—Клавдиев такая сумма представляется чересчур щедрой76.
73 Тацит. Анналы. ХШ.51; XTV.27; Светоний. Нерон. 9.
74 CIL. XVI, везде; Roxan М.М. Roman Military Diplomas, 1954—1977 (London, 1978); Roxan M.M. Roman Military Diplomas, 1978—1984 (London, 1985).
75 Напр.: Тацит. История. Ш.47.
76 Speidel 1973 (D 233).
448
Часть П. Правительство и администрация Империи
Более того, Клавдий выстроил последовательность чинов во вспомогательных войсках и определил, кто именно вправе занимать эти должности. Он предписал, что командовать отдельными вспомогательными частями могут только всадники (тем самым от этих задач отстранялись примипилярии76а, причем последовательность должностей должна была быть следующей: префект когорты — префект алы — трибун легиона77. Таким образом, в иерархии Клавдия офицер в легионе граждан стоял выше, чем независимый командир вспомогательного подразделения, сформированного из неграждан.
Имеются письменные свидетельства о подобных карьерах в правление Клавдия78, но этот порядок не приобрел универсального характера: к моменту смерти Нерона (или по меньшей мере после гражданской войны 68—69 гг. н. э.) всадники обычно занимали должность трибуна легиона между двумя префектурами, а не после них. Для центурионов эти чины были недоступны, но примипилярий мог продолжить карьеру в когортах, расквартированных в Риме, и стать сперва трибуном когорты вигилов, затем трибуном городской и, наконец, преторианской когорты. Поднимаясь по этой лестнице, он постепенно мог достигнуть высших должностей, доступных всадникам, и стать прокуратором. В эту же иерархию включались и префекты флота в Мизене и Равенне; им не требовалось воинского опыта, поскольку их обязанности были в основном административными, и порой одним из префектов флота становился вольноотпущенник императора, пользовавшийся особым доверием последнего.
Возможно, именно Клавдий установил для моряков 26-летний срок службы и гарантировал им гражданство и признание законности брака после ее окончания, хотя самое раннее надежное свидетельство о продолжительности службы на флоте относится к эпохе Веспасиана79. Постепенно, быть может еще при Августе, стали появляться маленькие морские эскадры локального базирования, патрулировавшие Рейн, Ла-Манш, Дунай, Черное море, Египет, Сирию и побережье Северной Африки.
В самом Риме в начале правления Тиберия девять преторианских когорт и три римские городские когорты были сконцентрированы в укреплении, построенном на возвышении на северо-восточной окраине города за Сервиевой стеной. Это укрепление называлось преторианским лагерем (castra praetoria). Вероятно, его строительство завершилось к 23 г. н. э.80. В результате частичных раскопок (на месте лагеря в наши дни снова базируются военные) обнаружилась часть фундамента казарм81. Возможно,
76а Примипилярий — первый цешурион первой когорты легиона. — С.Т.
77 Светоний. Божественный Клавдий. 25.1.
78 CIL П 4239 = РМЕ р 96; (?) CIL V 4058 = РМЕ с 25; ILS 2681 = GCN 280 = PME v 137; АЕ 1966: 124 = РМЕ d 33; Devijver 1970 (Ό 178).
79 CIL XVI 1, 12-17; Maim 1972 p 214).
80 Тацит. Анналы. IV.2; Светоний. Тиберий. 37.1; Дион Кассий. LVIL9.7.
81 Nash 1968 (Е 87): 221 сл.
Глава 11. Армия и военный флот
449
Рис. 6. Валкенбург, Голландия: план форта, ок. 40 г. н. э. (Публ. по: Glasbergen.) К этому периоду относятся самые ранние опознаваемые примеры укреплений, построенных для отдельных вспомогательных частей. Валкенбург, крепость площадью 1,5 гектара (3,7 акров), была построена, вероятно, для конных когорт численностью пятьсот человек («cohors quingenaria equitata»). За крепостным валом и тройным рвом находилась деревянная штаб-квартира (я), дом командира (3), длинные бараки для конников (?) (с), лазарет (d) и бараки (е).
объединить когорты предложил Элий Сеян, единоличный префект преторианцев в 14—31 гг. н. э.; это, разумеется, привело к возрастанию влияния префекта на политические события в городе. К моменту смерти Клавдия число преторианских когорт увеличилось с девяти до двенадцати, хотя это могло произойти и намного раньше82.
82 АЕ 1978: 286; Letta С. Athenaeum 56 (1978): 3-19.
Рис. 7. Расположение легионов в 23 г.
Глава 11. Армия и военный флот
451
V. Римские войска в 70 г. н. э.
Сохранилось два подробных рассказа о сражениях римской армии в последние годы правления Юлиев—Клавдиев. Во-первых, Иосиф Флавий дает нам представление о том, как между 66 и 73 гг. н. э. армия восточных провинций империи, подкрепленная вспомогательными частями и войсками клиентских царств, вела традиционные военные действия против мятежных жителей Иудеи и одну за другой брала вражеские крепости; археологические находки в осадных лагерях вокруг Масады и в других местах дают его словам печальное подтверждение. Во-вторых, в сохранившихся частях «Истории» Тацита почти день за днем описаны сражения 69 г. н. э., когда армии северных и восточных провинций империи пошли войной друг на друга. В этом случае легионеры обратили свой боевой опыт, копившийся более сотни лет, против подобных же себе легионеров, так же вооруженных и обученных той же тактике.
С точки зрения обычных римлян, войска 69—70 гг. н. э., вероятно, почти ничем не отличались от армии времен Юлия Цезаря. Оружие легионеров осталось тем же, войска несли перед собой серебряного (иногда золотого) орла, каждый легион имел название, отражавшее его происхождение или предыдущие заслуги. Но в действительности изменилось очень многое: прежде войска состояли из италийцев, теперь же по преимуществу — из провинциалов, не имевших особых связей с сенатом или народом Рима; эти солдаты были верны императору, поскольку он платил им, а его милостивое правление шло на пользу их родным областям. Рим они воспринимали как город, который им поручено было защищать, но большинство солдат никогда в нем не бывали. Постепенно легионеры стали всё теснее связывать свои интересы с теми провинциями, в которых стояли. Только в преторианские и городские когорты продолжали набирать преимущественно италийцев, и в этих частях могли реализовать свои военные чаяния те юноши, которых отпугивала служба в легионах из-за необходимости много лет находиться вдали от дома. Если император был наделен мудростью, то старался поддерживать тесную связь с армией: раздавать вознаграждения и чеканить особые монеты, прославлявшие войска; важной причиной падения Нерона стало почти полное отсутствие у него интереса к военным делам. Весной 69 г. н. э. вторжение армии Вителлия показалось жителям северной Италии нашествием варваров* 83. Поворотным моментом во второй битве при Кремоне стал рассвет 25 октября, когда солдаты Ш Галльского легиона (который в течение сотни лет, со времен битвы при Акции, стоял в Сирии) повернулись, чтобы, по восточному обычаю, приветствовать восходящее солнце, а изнуренные солдаты Вителлия решили, что к флавианцам прибыло подкрепление. К 69 г. н. э. в Ш Галльском легионе, как и в других легионах,
82а По-видимому, опечатка, т. к. в 23 г. н. э. легионов в Британии быть не могло. Сведения карты соответствуют сведениям в табл. 3 о дислокации легионов в 70 г. н. э. — С.Т.
83 Тацит. История. П.21.
452
Часть П. Правительство и адллинистрация Илтерии
длительное время расквартированных на Востоке, было много местных уроженцев84. Сообщение Тацита о том, что римские легионы поклялись в верности Галльской империи, а колония ветеранов (Кёльн основан в 50 г. н. э.) легко перешла на сторону Цивилиса, становится более понятным, если принять во внимание, что на протяжении нескольких поколений набор производился из местных уроженцев85. Летом 69 г. н. э. в Сирии распространились слухи, будто Вигеллий, чтобы наградить рейнские легионы, предложил перевести их все в благодатные края — в Сирию, а сирийские, в свою очередь, отправить на холодные северные окраины империи, и эти слухи сыграли решающую роль в том, чтобы восточные войска перешли на сторону Веспасиана86.
Можно отметить размывание традиционных различий между военными частями. При определении солдата в легион или вспомогательные войска его физические и умственные качества вскоре стали важнее, нежели культурная и этническая принадлежность. Во время кризиса 68— 69 гг. н. э. из моряков крупных флотов было сформировано два новых легиона — I и П «Вспомогательный» (Adiutrix), которые впоследствии стали постоянными частями имперской армии. Гальба сформировал новый легион в Испании, когда боролся за власть. После войны 69—70 гг. н. э. многие легионы были переведены на новые места дислокации, причем базы вблизи Италии заняли флавианские легионы.
До 69—70 гг. н. э. многие вспомогательные части сохраняли тесные связи со своими племенами или родными областями и порой располагались не слишком далеко от них. Только после событий 69—70 гг. н. э., когда несколько галльских и рейнских частей в полном составе перешли на сторону Цивилиса и стало ясно, что их преданность Риму слабее, чем казалось, эти местные связи были решительно разорваны: многие войска отправились в дальние провинции и утратили этническую однородность. Рим прекратил поручать представителям племенной знати командование их соплеменниками. И тем не менее с течением времени вспомогательные войска, как и легионы, стали всё чаще формироваться из жителей тех провинций, где они размещались, таким образом зарождались новые связи войск с регионами. К этому времени, если не раньше, была введена новая амуниция: кольчуга или чешуйчатый доспех, меч и метательные копья для пехоты, длинные рубящие мечи и более тяжелые копья для конницы; меж тем некоторые части сохраняли традиционное вооружение, в том числе восточные когорты лучников, отличавшиеся длинными развевающимися одеждами, коническими шлемами и изогнутыми луками. После гражданской войны были сформированы большие когорты и алы, численность которых доходила до 1 тыс. человек (их называли milii ariae), вероятно, по образцу уже существовавших на Востоке. Об инте¬
84 Тацит. История. Ш.24; ср.: Иосиф Флавий. Иудейская война. IV.38, вместе с: VI.54,
81.
85 Тацит. История. IV.54 сл., 63 сл.
86 Тацит. История. П.80.
Глава 11. Армия и военный флот
453
грации вспомогательных частей в войска империи свидетельствует и рост числа ауксилиариев, принявших римские имена, и распространение надгробных камней в римском стиле, увековечивавших их память с использованием традиционных латинских формул.
Римская армия конца I в. н. э. порой еще способна была завоевывать новые территории (например, Британию и Германию), но обычно использовалась для защиты границ. Эпоха быстрого роста и легких побед закончилась.
Глава 12
X. Галъстерер
ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ
I
Данная глава посвящена применению законов, а не законам и правосудию как таковым. В ней рассматриваются различные суды и судебные чиновники, судьи и судебные процедуры, иски и наказания; а развитие законов в эпоху Поздней республики и Ранней империи, их доклассиче- ское состояние и зарождение римской юриспруденции описаны в гл. 21 наст. изд.1.
Временные рамки, установленные для этого тома, не могут служить ориентирами при рассмотрении законов и правосудия. Цезарь был убит, не успев приступить к программе реформ, которую, возможно, планировал2, а гражданская война, разразившаяся после его смерти, отсрочила всякие серьезные преобразования до тех пор, пока новый принцепс не восстановил мир. Конец периода, охватываемого данным томом, тем более нельзя считать переломным моментом в сфере правосудия. Поэтому лучше всего начать с рассмотрения ситуации, сложившейся накануне реформ Суллы, кратко описать некоторые реформы, проведенные Августом и его преемниками, и закончить рассказ на том положении дел, которое наблюдалось во второй половине I в. н. э.
На этих страницах часто будет встречаться слово «возможно» и тому подобные выражения — быть может, слишком часто, учитывая, что период между Цицероном и Тацитом — один из самых изученных в античной истории. Но в источниках мы видим одностороннюю картину, где избы¬
1 Дабы «ощутить», как на практике функционировали римские законы, лучше всего, пожалуй, прочитать несколько крупных отрывков «Дигест» — собрания юридических текстов, подготовленного по указанию императора Юстиниана; существует их новый и хороший перевод на английский язык. Среди современных авторов выдающееся место занимают Дж. Крук и П. Гэрнси, которые в своих исследованиях соединяют историю права и социальную историю; их работы тоже прекрасно написаны, см.: Crook 1967 (F 21): прежде всего гл. 3; Gamsey 1970 (F 35). То же можно сказать о гл. 13 и 14 девятого тома «Кембриджской истории древнего мира», написанных Д. Клаудом и Дж. Круком.
2 Светоний. Божественный Юлий. 44.2; Исидор. Этимологии. 5.1.5; Polay 1965 (D 274).
Глава 12. Отправление правосудия
4 55
точное внимание уделяется Риму и высшим классам. С другой стороны, правовые тексты дошли до нас в сокращении: юристы Юстиниана удалили или изменили многие части, которые в VI в. н. э. уже не имели силы. Особенно это касается муниципального правосудия. Но и другие отрасли права известны не так хорошо, как хотелось бы.
II
Лучше всего начать с города Рима3, ибо об отправлении там правосудия известно больше всего, и с гражданского судопроизводства. В последние годы Республики главными судебными чиновниками римского народа (populus Romanus) оставались два старших претора: городской претор (praetor urbanus), ответственный в общем и целом за судопроизводство между римскими гражданами, и претор по делам иноземцев (praetor peregrinus), разбиравший тяжбы иноземцев друг с другом и с римскими гражданами. Шесть остальных преторов руководили во времена Суллы различными уголовными судами.
Консулы, империй которых, как и империй преторов, давал право на судопроизводство, обычно не вмешивались в отправление правосудия, хотя и могли отменять решения преторов4. Более важное значение имела юрисдикция эдилов: они контролировали городские рынки и следили за соблюдением правил торговли и норм качества, а потому внесли значительный вклад в формирование римского торгового права.
Процедура в судах преторов и эдилов представляла собой так называемую формулярную систему, по крайней мере в большинстве случаев (ср.: Crook J. Ц САНТХ2: та. 14). Римское судопроизводство с самого начала происходило в два этапа: претор (или эдил) заслушивал дело в присутствии обеих сторон, чтобы установить, допускает ли закон принятие дела к рассмотрению, а затем поручал частному судье вынести решение по существуй.
В этот период претор мог принять (и всё чаще принимал) к рассмотрению дела, не предусмотренные писаными законами или несколько отличавшиеся от тех ситуаций, которые регулировались данными законами. Если он поступал так, то решение дела определялось уже не гражданским правом (ius civile) в узком смысле слова, а империем магистрата. Претор составлял формулу — нечто вроде сценария для дела, которое предстояло разрешить судье. Простейшая формула выглядела так:
3 По меньшей мере со времен Суллы юридический термин «город Рим» определялся как «in urbe Roma propiusve mille passus» («В собственно городе Риме или на расстоянии мили от него». — О.Л), как, например, в Корнелиевом законе об убийцах (lex Cornelia de sicariis), см.: Сравнение законов Моисеевых и римских. 1.3.1.
4 См.: Валерий Максим. VII.7.6 — о деле 77 г. до н. э.
4а Первая стадия называлась «in iure», вторая — «in iudicio», или «apud iudicem»; данные термины встретятся далее в наст. гл. — О. Л
456
Часть П. Правительство и администрация Империи
Пусть Тиций будет судьей (iudex). Если окажется, что N.N. должен уплатить А.А. 10 тыс. сестерциев, пусть судья присудит N.N. к уплате А.А. 10 тыс. сестерциев. Если выяснится иное, пусть судья его оправдает5.
Формулы, удачно отражавшие новые экономические или социальные потребности, заимствовались последующими преторами: при вступлении в должность они публиковали заявления о намерениях (edictum), в которых заранее сообщали, какие формулы станут давать тяжущимся.
Гражданский иск начинался in iure, в присутствии одного из двух преторов. При этом должны были присутствовать истец и ответчик или их представители. Как правило, им назначалась встреча, например «третьего декабря этого года в Риме, на форуме Августа, перед трибуналом городского претора, во втором часу», — так сказано в одном из недавно найденных документов такого рода (vadimonium) из Муречины близ Помпей6. В вадижонии оговаривался денежный штраф, призванный обеспечить явку обеих сторон, и, если один из тяжущихся не представлял поручителей своей явки и не прибывал в назначенный день, претор мог счесть его незащитившимся (indefensus) и предоставить его оппоненту право на его имущество. Нам трудно судить, сколь эффективно эта система работала в отношении непокорных ответчиков либо в случаях, когда социальный статус сторон существенно различался.
Если обе стороны присутствовали, претор, переговорив с тяжущимися и их советниками и выслушав правоведов (iuris periti) из своего собственного совета (consilium), составлял формулу в соответствии с характером дела либо отказывался принять это дело к рассмотрению, если считал, что данное исковое требование ему неподсудно. Формула редко выглядела такой же простой, как приведенная выше: в ней могли содержаться различные условия, повторы и многие другие уточнения. Например, формула для иска о восстановлении права владения имуществом, так называемого Публициева иска (actio Publiciana), выглядела так:
Пусть Тиций будет судьей. Если Авл Агерий добросовестно купил этого раба Стиха, о котором ведется спор, и раб был передан ему и он владел рабом в течение года, тогда, если этот раб должен принадлежать ему по квиритскому праву и этот раб не принадлежит Нумерию Нигидию по квиритскому праву или если Нумерий Нигидий не продал и не передал Авлу Агерию этого раба, о котором ведется спор, и если в этом деле не было принуждения, то, судья, если этот раб по твоему [, судьи,] решению не будет возвращен Авлу Агерию, присуди Нумерию Нигидию выплатить из своего имущества в пользу Авла Агерия столько, сколько может стоить указанный раб; если окажется, что это (перечисленные выше обстоятельства. — О.Л.) не так, то отклони иск7.
5 Буквы N.N., подставленные вместо отрицающего долг Нумерия Нигидия, и А.А. — вместо истца Авла Агерия, это просто пустые графы, как и «Тиций» в качестве имени судьи. Введение в формулярную систему см. в изд.: Jolowicz, Nicholas 1972 (F 660): 199— 232; Kunkel 1973 (F 667): 91—98; см. также гл. 21, с. 1085—1086 насг. изд.
6 TabPomp XIV; перевод см.: Crook 1967 (F 21): 75.
7 Schiller 1978 (F 689): 439 сл., с комментарием.
Глава 12. Отправление правосудия
4 57
Сторонам предоставлялось достаточно времени, чтобы обозначить позиции, и, вероятно, уже на этой стадии велись крупные споры, в которых обсуждались вопросы права; но решение в конечном счете принимал всё же претор — его роль не сводилась к тому, чтобы быть просто рефери для тяжущихся.
После того как был назван судья и определена формула, разбирательство перед претором (этап in iure) заканчивалось, и теперь могло открыться слушание перед судьей — apud iudicem. В течение долгого времени все судьи назначались из числа сенаторов, и список судей (album iudi- cum) был идентичен списку сенаторов (album senatorum). Гай Гракх первым стал набирать присяжных для суда по делам о вымогательствах из сословия всадников. Нет необходимости затрагивать здесь тему баталий вокруг назначения судей, прежде всего для суда по делам о вымогательстве (quaestio repetundarum) — они навсегда закончились с принятием в 70 г. до н. э. компромиссного Аврелиева закона. С этого времени судьи назначались из списка, который делился на три категории разного общественного статуса (декурии): в первую входили сенаторы, во вторую — всадники, в третью — так называемые эрарные трибуны, несколько загадочная категория8 (Цезарь исключил этих трибунов из списка судей, но Антоний восстановил их). Август создал четвертую декурию судей низшего ценза (ex inferiore censi)9, а Калигула — пятую, которая занимала третье место по размеру ценза, поскольку состояла из всадников. В эпоху Ранней империи каждая из этих декурий насчитывала не менее тысячи членов10, которые являлись римскими гражданами, проживавшими в Риме и Италии, а со времен Калигулы, вероятно, и в провинциях, в возрасте от тридцати (двадцати пяти — при Августе) до шестидесяти лет. Каждый год одна из декурий отдыхала, а члены остальных четырех должны были служить судьями в Риме, если только не получали освобождения (vacatio) ввиду отправления римских или муниципальных магистратур, военной службы или иных уважительных причин (excusationes). О важности этой организации свидетельствует тот факт, что даже чиновники, исполнявшие важные обязанности, — например, кураторы дорог, кураторы акведуков и префекты зернового снабжения, — каждый год делегировались на три месяца, чтобы служить судьями11.
Из списка судей (album iudicum) набирались присяжные для уголовных судов и суда центумвиров, но большинство внесенных в него людей разрешало гражданские дела либо как единоличные судьи (judex unus), либо как члены судебной комиссии, работавшей в упрощенном порядке
8 Август создал четвертую декурию и установил для ее членов минимальный ценз в 200 тыс. сестерциев; поскольку эрарные трибуны, очевидно, стояли выше них, но ниже всадников, их ценз мог составлять 300 тыс. сестерциев; но ср.: Cloud D. Ц САН IX2: 509 — здесь отстаивается мнение, что цензовая квалификация эрарных трибунов, как и всадников, составляла 400 тыс. сестерциев.
9 Светоний. Август. 32.3.
10 Плиний Старший. Естественная история. 33.30.
11 Постановление сената об акведуках [FIRA I2: 276—277): гл. 100.
458
Часть П. Правительство и администрация Империи
(recuperatores). Система назначения судей для конкретного дела была довольно сложной, и нет необходимости подробно рассматривать ее здесь;12 однако неудивительно, что процедура, исправно работавшая в случаях, когда все участники процесса — тяжущиеся, судьи и магистраты — жили в Риме или недалеко от него, легко давала сбои, когда тяжущихся и судей приходилось вызывать в Рим с разных концов империи, от Черноморского до Атлантического побережья.
В принципе, по договоренности тяжущиеся могли избрать судьей любое подходящее лицо13, но большинство дел, видимо, поступало на рассмотрение к судьям из указанных пяти декурий (iudices ex V decuriis), и вполне естественно, что судопроизводство заметно ориентировалось на высший класс. Светоний, Авл Геллий и Плиний Младший — вот лишь некоторые из известных нам судей; последний писал другу, что судьей бывал едва ли не чаще, чем адвокатом14.
Устанавливать факты в судебном процессе, выяснять, действительно ли Нумерий Негидий был должен 10 тыс. сестерциев Авлу Агерию или при каких обстоятельствах состоялась продажа раба Стиха, если состоялась вообще, предстояло судье. Кроме того, в большинстве дел судья обязан был не только осудить или оправдать ответчика, но и оценить стоимость того, что следовало отдать или сделать, и его задача еще сильнее осложнялась тем, что в таких процессах не существовало никаких общепризнанных норм, которые препятствовали бы тяжущимся и их адвокатам как можно глубже хоронить доказательства под нагромождением утверждений, не относящихся к делу; некоторые речи Цицерона (например, «В защиту Бальба») служат наглядными примерами этой техники. С другой стороны, судья всё же занимал сильную позицию, поскольку его мало ограничивали правила, и если он действительно не видел выхода, то в крайнем случае мог заявить, что дело осталось ему неясно, sibi non liquere, и отказаться от вынесения приговора. Именно так поступил во П в. н. э. Авл Геллий, когда впервые оказался судьей и перед ним предстал «человек весьма достойный, отличавшийся известной и испытанной надежностью» («vir bonus notaeque et expertae fidei»), судившийся по поводу долга с ответчиком, который «не пользовался хорошей репутацией; жизнь его была постыдной и низкой» («homo non bonae rei vitaque turpi et sordida»), причем истец не представил ни малейших доказательств своей правоты. В конце концов Геллий отказался от этого дела, но лишь потому, что, по собственной оценке, был слишком молод и занимал недостаточно высокое положение в обществе, чтобы решить дело в пользу «хорошего» человека — к чему он, видимо, склонялся15. Между прочим, определения «хороший» и «плохой» в данном случае сопряжены с определения¬
12 Behrens 1970 (D 245); Galsterer 1973 (D 255). Следует иметь в виду, что не все исследователи принимают интерпретацию Беренса, см.: Eder W. Ц Gnomon 46 (1974): 583—589.
13 Исключение составляли рабы, женщины, душевнобольные и лица, осужденные за определенные правонарушения, cp.: Kaser 1966 (F 661): 140 и далее, примеч. 20.
14 Авл Геллий. Аттические ночи. XIV.2; Плиний Младший. Письма. 1.20.12; VL2.7.
15 Авл Геллий. Аттические ночи. XIV.2.2—11 [Пер. А.Г. Грушевого, с изменениями).
Глава 12. Отправление правосудия
459
ми, соответственно, «богатый» и «стесненный в средствах»; судьи, принадлежавшие к высшему классу, вполне могли считать такую взаимосвязь естественной.
После вынесения приговора обязанности судей заканчивались, если только на рассмотрении не находилось несколько исков того же истца, которые он имел право немедленно представить этому же судье. Если победителем становился ответчик, то теперь он имел право подать в суд на своего противника за клевету (de calumnia), если же выигрывал истец, то он должен был добиться, чтобы ответчик выдал ему предмет иска. В Риме не существовало судебных приставов, судебной полиции или других чиновников, обеспечивавших выполнение решения, и если ответчик не подчинялся решению суда, то истцу приходилось подавать еще один иск, на этот раз actio indicati. На первый взгляд кажется довольно странным, что претор сразу не давал победителю право на исполнение решения, и исследователи высказывали предположение, что этот второй иск служил своего рода апелляционной процедурой16. Но, скорее всего, второй иск был учрежден потому, что наделял истца правом применять всю силу закона, вплоть до продажи имущества своего противника.
III
Так было организовано гражданское судопроизводство в городе Риме. Со времен Суллы, по крайней мере до правления Августа, процедура уголовного судопроизводства не слишком изменилась17. Главными органами уголовного правосудия были учрежденные особыми законами суды, каждый из которых рассматривал определенный тип преступлений: вымогательство (repetundae), казнокрадство (peculatus), нарушения на выборах (ambitus) и так далее. Существовали также суды по менее политизированным делам: например, суд над убийцами и отравителями (de sicariis et veneficis), но в целом в этих постоянных судах (quaestiones perpetuae) рассматривались именно политические преступления. Судьи выбирались из списка (album iudicum); вероятно, для каждого суда существовал перечень имен, из которого присяжные отбирались по жребию, а затем путем поочередного отвода каждой стороной18. Фактическое число присяжных в процессе часто бывало невелико, поэтому, по-видимому, небезосновательны утверждения о продажности судей, во все времена сопровождавшие разбирательства в этих комиссиях. Председателями суда со времен Суллы и позднее являлись преторы и другие (младшие) магистраты.
16 Обсуждение этой проблемы см.: Kaser 1966 (F 661): 298—299.
17 Iudicium domesticum, суд отца семейства (paterfamilias), вероятно, всё еще существовал, и в соответствии с этой процедурой рассматривался ряд дел, которые в ином случае попали бы в суды (ср.: Cloud D. // САН IX2: 499—500).
18 Данная процедура лучше всего известна из Гракханского закона о вымогательствах (lex repetundarum); ср: Lintott A. Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic (Cambridge, 1992): 116-122.
460
Часть П. Правительство и администрация Империи
Процедура рассмотрения дела в судебных комиссиях (quaestiones) предполагала nominis delatio, то есть обвинение, которое подавал председателю соответствующего суда гражданин (обвинителями были, как правило, граждане), имевший отношение к данному делу или стремившийся получить награду; доносчики и обвинители, печально известные delatores и indices, представляли собой неискоренимый порок этой системы «народного обвинения», как и сикофанты в Афинах19. Если имелось несколько желающих выдвинуть обвинение (порой возникали слухи о praevaricatio, то есть сговоре одного из них с обвиняемым), то перед магистратом и судом происходило первое слушание (divinatio), на котором решалось, кто станет главным обвинителем. Лучше всего этот и последующие этапы прослеживаются в «Верринах» — речах Цицерона на суде над Гаем Берресом, обвиненным в вымогательстве. За формальным обвинением и определением состава судей следовало представление доказательств, показаний свидетелей и очевидцев. Всё это должен был организовать обвинитель, и здесь государство тоже почти не оказывало ему помощи; полиции не существовало, хотя свидетелей можно было официально вызвать в Рим. После финальных речей обвинения и защиты проводилось тайное голосование присяжных. Если обвиняемый (reus) был оправдан, то имел право подать на обвинителя в суд за клевету (calumnia), если же был осужден, то ему грозила утрата гражданских прав, так как осуждение влекло за собой по меньшей мере потерю гражданской репутации (fama);20 в большинстве судов закон предусматривал в качестве наказания смертную казнь, хотя преступникам обычно предоставлялась возможность избежать ее, отправившись в изгнание.
Кроме правосудия для высшего класса, отправлявшегося в судебных комиссиях (quaestiones) и в суде народного собрания (если эта процедура еще использовалась), по меньшей мере со П в. до н. э. существовало и упрощенное судопроизводство, которое вершили уголовные триумвиры (Dlviri capitales), чьи основные обязанности состояли в надзоре за тюрьмами и казнью очевидных преступников (confessi). Эта должность была первой ступенью в иерархии магистратур; ее занимали лица младше двадцати пяти лет, не наделенные империем, ввиду чего исследователи сомневаются в том, что уголовные триумвиры имели право приговаривать людей к смерти. Но их «клиентура» состояла, вероятно, из «воров и негодных рабов» («fures et servi nequam»), то есть из отбросов столицы, так что ука¬
19 В эпоху Республики награды имели преимущественно политический характер, то есть позволяли повысить гражданский статус. Материальные награды, судя по всему, впервые были предусмотрены Педиевым законом против убийц Цезаря и вошли в обычай в эпоху Империи, особенно в делах об умалении величия (maiestas); они составляли определенную часть состояния осужденного.
20 Гражданское бесчестие (infamia) являлось следствием осуждения в некоторых гражданских и во всех уголовных процессах. Существует несколько перечней инфамиру- ющих (то есть влекущих за собой гражданское бесчестье для проигравшего. — О.Л) исков, которые немного различаются между собой, см.: Гай. Институции. 4.182; Дигесты. 3.2.1; Гераклейская таблица. 108—125; и недавно обнаруженный перечень в гл. 84 Ирниган- ского закона.
Глава 12. Отправление правосудия
461
занное ограничение полномочий уголовных триумвиров могло не иметь особого значения. Маловероятно также, что всех мелких правонарушителей привлекали к суду перед quaestio21. Поскольку у триумвиров имелся consilium из опытных советников, который должен был компенсировать их неопытность, в целом, вероятно, следует допустить существование этой уголовной юрисдикции.
IV
Судопроизводство в Италии в последнем столетии до нашей эры сформировалось под воздействием итогов Союзнической войны, когда все общины вплоть до Рубикона стали городами римских граждан. Сегодня мало кто поддерживает теорию Рудольфа о том, что италийские муниципии получили право на собственное судопроизводство лишь в силу закона Цезаря, учредившего муниципальную юрисдикцию22. После 89 г. до н. э. латинские колонии и города союзников (socii), получив римское гражданство, сохранили собственную юрисдикцию, которую пришлось лишь как-то приспособить к римской системе, — вероятно, так же обстояло дело до Союзнической войны в старых городах римских граждан (municipia и coloniae).
В некоторых городах до правления Августа сохранялись префекты для судопроизводства (praefecti iure dicundo), которые являлись представителями римского претора (вероятно, городского) и отвечали за местную юрисдикцию. Рассматривать подробно сложный вопрос об их обязанностях и компетенции нет особой необходимости, поскольку, по-видимому, ко второй половине I в. до н. э. во всех городах Италии уже имелась собственная администрация, а вместе с ней и юрисдикция. С этого времени префекты для судопроизводства обычно упоминаются в надписях как представители муниципальных магистратов, заменявшие местных судебных чиновников, дуовиров или кваттуорвиров для судопроизводства (Ilviri или ТТТТviri iure dicundo), на время их отлучки; впрочем, иногда общины предоставляли должность префекта для судопроизводства выдающемуся римскому политику или даже императору.
Различие в юрисдикционной компетенции между колониями и муниципиями, существовавшее, возможно, в эпоху Республики, исчезло к началу принципата; законы, регулировавшие муниципальную юрисдикцию, такие как так называемый закон Рубрия, не проводили различий между городами. Но в это время уже существовали — и неизвестно, с какого го¬
21 Jones 1972 (D 264) (но ср. критические рецензии: Behrens 1973 (D 246); Brunt 1974 (D 251)); Крук и Брант сомневаются в том, что Шуш capitales имели уголовную юрисдикцию, см.: Crook 1967 (F 21): 69; Brunt 1964 (D 250); Клауд допускает, что она распространялась на рабов, а возможно, даже на граждан, принадлежавших к рабочему классу, см.: Cloud Ti. Ц САН IX2: 501.
22 Аргументы против существования Юлиева муниципального закона общего действия (lex Iulia municipalis) см.: Galsterer 1987 (D 92).
462
Часть П. Правительство и администрация Империи
да — верхние пределы юрисдикционной компетенции муниципальных судов. Рубриев закон 41 г. до н. э., приводивший муниципальную юрисдикцию в бывшей Цизальпийской Галлии в соответствие с италийской муниципальной юрисдикцией после упразднения провинции, видимо, ограничил эти пределы суммой в 15 тыс. сестерциев, а для некоторых категорий дел, влекущих за собой infamia, — в 10 тыс. сестерциев, но пределы эти, судя по всему, различались не только в провинциях, но и в Италии в зависимости от статуса и значения города (ср. далее, с. 469-470 наст. изд). Поскольку право или обязанность обращаться для рассмотрения своего дела в суд в Риме (revocatio Romam) распространялось всё шире, прежде всего среди местной элиты, муниципальная юрисдикция поэтому тоже постепенно сводилась к мелким делам.
Что касается уголовного права, то представляется, что в начале рассматриваемого периода муниципальные суды еще действовали и по- прежнему обладали широкой компетенцией. Читая речь Цицерона в защиту Клуэнция, трудно избавиться от впечатления, что на местах существовали quaestiones для рассмотрения таких уголовных дел, как убийство и отравление23, а поскольку компетенция учрежденного Суллой суда по делам об убийстве (quaestio de sicariis) ограничивалась Римом и его ближайшими окрестностями, такие quaestiones были необходимы для безотлагательного рассмотрения местных преступлений24. Неизвестно, можно ли было обжаловать их приговоры в Риме.
Судебная процедура в италийских городах, вероятно, соответствовала римским обычаям, то есть это был формулярный процесс, где в роли римских преторов выступали старшие магистраты. Сначала они, видимо, тоже назывались преторами, ибо их главной обязанностью было судопроизводство, но позднее, когда этот титул стал казаться слишком высокопарным для магистратов маленького города, последних стали именовать просто дуовирами либо кваттуорвирами для судопроизводства (Ilviri iure dicundo либо ППуш iure dicundo). Судьи в муниципиях назначались из списка (album), в целом совпадавшего с album decurionum — списком членов совета. Однако встречались и местные особенности: в Нарбоне была установлена надпись в честь Августа за то, что он добавил к судам, где заседали члены совета, плебейские суды (iudicia plebis decurionibus coni- unxit); в Ирни также имелись судьи, обладавшие более низким имущественным цензом, но, очевидно, наделенные такой же компетенцией, что и судьи из числа декурионов25.
23 Ср.: Цицерон. В защиту Клуэнция. 176 — здесь упоминается уголовное разбирательство, инициированное муниципальными магистратами против Клуэнция. Вероятно, эти слушания представляли собой те самые «государственные суды» («iudicia publica»), которые упомянуты в: Гераклейская таблица 119 (F1RA I2: 149).
24 Сравнение законов Моисеевых и римских. 1.3.1; ср.: Cloud D. // САН IX2: 522, сноска 157 — здесь упоминается Юлиев закон о насилии (Lex Iulia de vi).
25 О Нарбоне см.: CIL ХП: 4333 — это надпись 11 г. н. э. (иное мнение см. у Дессау, см. комментарий к: ILS 112); Ирнитанский закон. 86.
Глава 12. Отправление правосудия
463
V
Перейдем к судопроизводству в провинциях, которые первоначально представляли собой территории, управляемые магистратами или промагистратами с империем. Пока наместники были немногочисленны, а их провинции, как правило, обширны, говорить об активном администрировании не приходилось. В области гражданской юрисдикции наместники разбирали в основном дела римских граждан, проживавших в провинции, и италийских союзников, поскольку те не имели права на рассмотрение их дел в Риме (revocatio Romam).
Наместник осуществлял формулярную юрисдикцию, подобно претору в Риме. В недавно опубликованной надписи из Контребии упоминается наместник Ближней Испании, который в 87 г. до н. э. дал формулу двум общинам из долины Эбро, спорившим из-за права на водопользование; эта формула очень сложна и свидетельствует о его высокой юридической квалификации. В той части формулы, которая называлась nominatio, судьей в данном деле назначался сенат третьей общины26. Это была тяжба между общинами иноземцев, но, если наместнику требовалось рассудить римлян, он назначал судей, единолично выносивших приговоры, или рекуператоров из провинциального списка судей (album). С другой стороны, наместник ни в коей мере не обязан был использовать формулярный процесс. Разбирая споры по преимуществу (хотя и не всегда, как мы только что видели) провинциалов-иноземцев, но также и тяжбы римлян, он имел право не назначать судью и не инструктировать его в формуле, но сам, в присутствии своего совета (consilium), рассмотреть факты и юридические обстоятельства дела. Такое судопроизводство, базировавшееся исключительно на его империи, называлось cognitio; определенную роль оно играло уже в деятельности Берреса на Сицилии, но лишь в эпоху принципата приобрело подлинную важность, а затем и доминирование27.
Судопроизводство в провинциях имело и еще одну особенность: наместник не проживал всё время в одном городе, куда людям, имевшим к нему дело, приходилось бы являться, но, следуя определенному графику, объезжал главные города своей провинции, в которые могли стекаться люди с окрестных земель, чтобы представить ему свои иски и совершить иные юридические действия28. Это собрание истцов, ответчиков, свидетелей, судей и всевозможных деловых людей называлось conventus (от лат. convenio — «сходиться, съезжаться, собираться». — О. Л.), но вскоре данное слово приобрело географический смысл и стало обозначать округ. Так, например, Плиний Старший приводит списки провинциальных общин, из которых известен состав четырех округов Бетики, семи округов Тарракон-
26 Richardson 1983 (В 271); Birks, Rodger, Richardson 1984 (D 247).
27 См.: Цицерон. Против Берреса. П.2.70 сл.; а также четвертый эдикт Августа из Ки- рены [FIRA Р: 409).
28 Иногда наместник мог созывать (evocare) жителей нескольких судебных округов (conventus), как поступал, например, Цицерон в своей провинции Киликия [Письма к Аттику. V.21.9; VI.2.4).
464
Часть П. Правительство и администрация Империи
ской Испании и т. д.; и это деление провинции на округа часто служило и другим целям, как показало несколько лет назад новое свидетельство из Малой Азии29.
VI
Учреждение единоличного правления в Риме оказало разное влияние на различные сферы правосудия. Основой гражданского судопроизводства оставались суды двух преторов в Риме. Цезарь увеличил число преторов, которое теперь стало составлять от десяти до шестнадцати, и Август оставил его на том же уровне. Позднее оно колебалось от двенадцати до восемнадцати, причем чаще всего преторов было двенадцать30. Некоторые из них председательствовали в постоянных судебных комиссиях (quaestiones perpetuae), другие были наделены особой компетенцией в гражданском судопроизводстве — например, praetor hastarius, председательствовавший теперь в суде центумвиров и заменивший прежних децемвиров для разрешения тяжб (Xviri stlitibus iudicandis), или два (а после Тита — один) praetores fideicommissarii, к ведению которых Клавдий отнес фидеи- комиссы (неформальные отказы завещателя наследникам), иски по которым начали принимать при Августе. Но возрастание числа преторов объяснялось не столько нуждами судопроизводства, сколько политическими обстоятельствами и потребностью государственного аппарата в преториях для замещения административных должностей. По мере укрепления императорской юрисдикции значение преторов снижалось; так, они потеряли возможность вносить свой вклад в развитие законодательства, поскольку эдикт, долгое время передававшийся от одного претора к другому почти в неизменном виде, теперь был практически стандартизован;31 знаменитые юристы эпохи Северов, как правило, являлись не преторами, а преторианскими префектами (praefecti praetorio) в императорском штабе. Юрисдикция эдилов перешла к различным чиновникам на службе у императора — преимущественно к правителю города Рима (praefectus urbi), командиру ночной стражи (praefectus vigilum) и префекту зернового снабжения (praefectus annonae). Эти императорские чиновники всегда могли входить в совет (consilium) принцепса — орган, который постепенно стал играть самую важную роль в развитии законодательства32.
Но республиканские суды еще функционировали, и в 17 г. до н. э. Август реорганизовал их, приняв два хорошо проработанных закона —
29 Хабихт опубликовал надпись из Эфеса со списком городов Малой Азии, разделенным по диоцезам^конвентам (Habicht Ch. // JRS 65 (1975): 64—91); Бёртон рассматривает организацию выездных судебных сессий в более общем плане (Burton G.P. // JRS 65 (1975): 92-106).
30 Дион Кассий. LVI.25.4.
31 Аргументы в пользу кодификации постоянного эдикта (edictum perpetuum) при Адриане см: Guarino 1980 (D 261).
32 Ср.: Crook 1955 (D 10).
Глава 12. Отправление правосудия
465
Юлиевы законы о частных и государственных судах (leges Iuliae iudicio- rum privatorum et publicorum). Насколько мы можем судить, они затрагивали всю процедуру и организацию судопроизводства: предусматривали отмену legis actiones32a, регулировали сроки судебных слушаний и каникул, обязанности судей, перерывы между заседаниями и проч. Юлиевы законы наряду с постановлениями сената (senatusconsulta), которые их уточняли и обновляли, сохраняли фундаментальное значение на протяжении нескольких веков.
Отныне прежний порядок судопроизводства, которое вершили претор и частные судьи, был ограничен в двух отношениях. Один аспект мы рассмотрим ниже; он состоит в том, что теперь консулы всё чаще стали использовать свою судебную компетенцию, причем сенат играл при них роль присяжных, и обычно перед таким судом равных представали правонарушители из сословия сенаторов. Второе ограничение создавала юрисдикция императора, значение которой было еще больше и возрастало еще быстрее. Принцепс был наделен трибунской властью (tribunicia potestas), которая давала ему право оказания помощи (ius auxilii) лицам, приговор которым вынес магистрат с империем, а в 30 г. до н. э. это ius auxilii было преобразовано в прерогативу рассматривать апелляции (appellatum iudicare); принцепс имел постоянный консульский и проконсульский империй, который позволял ему вести самостоятельное следствие (cognitio); наконец, принцепс обладал преобладающим влиянием (auctoritas); ввиду всего этого император очень быстро стал самой важной судебной инстанцией. Не все дела попадали к нему на суд, но всё шире распространялось представление о том, что в крайнем случае гражданин может апеллировать к императору, и в конце концов это осознали даже самые последние провинциалы.
Как сообщается, Август был усерднейшим судьей, заседавшим до самого вечера; Светоний называет его очень снисходительным, а Дион Кассий — весьма строгим33. Необычайное рвение в судопроизводстве проявлял и император Клавдий, но о причинах его интереса к данному занятию высказывались сомнения: возможно, вынося приговоры, он лишь давал выход своей природной жестокости34. Имеется превосходное свидетельство об одной из его судебных реформ — папирус с фрагментами, относящимися, вероятно, к речи Клавдия в сенате о минимальном возрасте судей из списка (iudices ex albo) и о сдерживающих мерах в отношении доносчиков (delatores)35. Во всяком случае, слова «Положим же конец безза¬
32а Легисакция [лат. «иск по закону») — наиболее древняя, торжественная и ритуализированная форма судебного процесса, предшествовавшая формулярному процессу и имевшая сравнительно узкое применение. — О. А.
33 Светоний. Август. 33; Дион Кассий. LV.7.2.
34 Сенека Младший. Апофеоз Божественного Клавдия. 12.2; cp.: Garzetti 1974 (А 35): 137 сл., 600 сл.
35 Аргументы в защиту авторства Клавдия против теории Миллара (МШаг 1977 (А 59): 350, примеч. 59) см.: Talbert 1984 (D 77): 499 сл.
466
Часть П. Правительство и администрация Империи
конной тирании обвинителей» звучат красиво, даже если их реальные последствия были гораздо менее впечатляющими.
VII
Судебные процедуры продолжали развиваться в период принципата. В гражданском судопроизводстве, которое вершилось в городе Риме, городской претор (praetor urbanus) и претор по делам иноземцев (praetor peregrinus) действовали так же, как и в эпоху Республики, но от прежнего разделения их компетенций (provinciae) почти ничего не осталось. Эти два претора всё так же пользовались формулами, a praetor hastarius, новый руководитель суда центумвиров (iudicium centumvirale) использовал еще более древнюю legis actio sacramento35"1. Все новые «особые» преторы, появлявшиеся после Августа, прибегали к процедуре расследования (cognitio), то есть не были связаны порядком и сроками, характерными для прежнего судопроизводства (ordo iudiciorum). Некоторые квазисудебные функции, предусмотренные гражданским законодательством, были поручены консулам, вероятно, для того, чтобы возместить потерю политического влияния магистратов, которые прежде были старшими. В конце правления Августа Овидий считал одним из главных занятий консулов отправление правосудия; Светоний тщательно разграничивал юрисдикцию Клавдия как консула и как частного лица (privatus)36. Но большая часть работы выпадала на долю императоров. Некоторые дела они рассматривали в первой инстанции — вероятно, в тех случаях, когда приговоры, основанные на cognitio, могли стать прецедентами (exempla), либо в тех спорах, для разрешения которых одного закона было недостаточно. Позднее императоры делегировали часть своих судебных функций чиновникам, состоявшим у них на службе, так что префект города (praefectus urbi), префект продовольствия (praefectus annonae), префект вигилов (praefectus vigilum), а иногда даже префект претория (praefectus praetorio) могли осуществлять гражданское судопроизводство в первой инстанции, — разумеется, на основании империя, принадлежавшего императору. Неизвестно, как именно разграничивались их прерогативы и могли ли истцы, как в уголовных делах, выбирать, в какой суд им обратиться.
Наибольшую активность император, конечно, проявлял в сфере апелляций. В эпоху Республики регулярного права апелляции на приговоры обычных судей или судов не существовало: provocatio (то есть апелляция к плебейским трибунам. — О.Л) всегда была политической мерой, направленной против применения империя. И, видимо, при Августе первые
35а Процедура legis actio sacramento («законный иск по залогу») состояла в следующем: стороны высказывают в установленных выражениях свои требования и вносят определенный залог; суд, руководствуясь формальными правилами, решает вопрос о том, чей залог проигран, тем самым разрешая дело по существу; залог выигравшей стороны возвращается ей, залог проигравшей — взыскивается в пользу казны. — О. Л
36 Овидий. Письма с Понта. IV.5.17; IV.9.43; Светоний. Клавдий. 14.
Глава 12. Отправление правосудия
467
апелляции подавались именно на приговоры, вынесенные в результате расследования (cognitio), то есть в силу империя судьи; логично предположить, что должностные лица, наделенные высшим или исходным им- перием, рассматривали апелляции на решения обладателей низшего или делегированного империя. С самого начала это было нечто большее, нежели provocatio. В 30 г. до н. э., после взятия Александрии, Октавиан получил — вместе с трибунским правом оказания помощи (ius auxilii) — право рассматривать апелляции (εκκλητον δικάζειν, то есть appellatum iudicare), а также «голос Минервы» («calculus Minervae») во всех судах, посредством которого можно было отменить голосование судей37. Позднее, обладая консульским империем, он принимал апелляции на решения преторов и проконсулов уже на основании своего высшего империя (imperium maius). В первые годы принципата число подобных обращений так возросло, что Августу пришлось делегировать апелляции городских тяжущихся (urbani litigatores) городскому претору, а апелляции приезжих из провинции — избранным консулярам38. Нерон постановил, что все апелляции из Италии и провинций римского народа должны подаваться в сенат, функционировавший как совет (consilium) при консулах, причем за апелляции, подаваемые как в сенат, так и императору, должен был взиматься определенный залог39. Эта политика явно потерпела неудачу: тяжущиеся предпочитали обращаться в суд императора вне зависимости от того, откуда они прибывали — из Италии, из императорских провинций или из провинций римского народа.
VIII
Сосуществование различных судов в сфере уголовного судопроизводства порождало гораздо больше проблем. Когда в 20 г. н. э. Гней Пизон был обвинен (среди прочих преступлений) в отравлении Герм аника, доносчик (delator) представил свое обвинение консулам, но друзья Германика заявили, что это дело должен разбирать лично император. С данным требованием согласился даже сам Пизон, «studia populi et patrum metuens» («который боялся враждебности сенаторов и народа». Пер. А. С. Бобовича)40. Выходит, что это дело было подсудно не только сенату и императору, но и римскому народу, то есть постоянному суду над убийцами и отравителями (quaestio de sicariis et veneficis). Решение о том, какой суд выбрать, принимали обвинители, которые — по крайней мере в делах об умалении величия (maiestas) — по очевидным причинам предпочитали обращаться к суду императора.
37 Дион Кассий. 1X19.7; Läntott 1972 (D 271): 263-267.
38 Светоний. Август. 33.3
39 Тацит. Анналы. ХШ.4; Светоний. Нерон. 17. Хотя рассказ Светония несколько отличается, в нем, по-видимому, речь идет о том же постановлении Нерона, что и у Тацита.
40 Тацит. Анналы. Ш.10.4; Дион Кассий. LVTI.18.10 (согласно Диону Кассию, Пизон предстал перед судом сената); Jones 1960 (А 47): 87.
468
Часть П. Правительство и администрация Империи
Постоянные суды (quaestiones) рассматривали преимущественно политические преступления, совершенные представителями высшего общественного слоя, поэтому данные суды исчезли первыми. Август и последующие принцепсы — на основании трибунской власти и консульского империя — могли осуществлять и осуществляли уголовную юрисдикцию; то же самое делали и консулы, предварительно проводя консультации с сенатом41. Последний не был классическим «судом равных», но с I в. н. э. сенаторы считали, что их не должны судить лица, занимавшие более низкое общественное положение, по крайней мере по обвинениям в умалении величия (maiestas) и вымогательствах (repetundae)42. Теоретически принцепсы были с этим согласны, но в делах о государственной измене — перед лицом потенциально враждебного сената — императоры, как правило, не решались следовать данному принципу. Теперь император и сенат делили между собой большую часть судебных дел, которые прежде поступали в судебные комиссии. Поэтому к концу I в. н. э. почти все quaestiones просто исчезли, — возможно, за исключением лишь суда по делам о прелюбодеяниях (quaestio de adulteriis), учрежденного Августом и сохранявшегося, видимо, до Ш в. н. э.43.
Множились не только суды, но и штрафы и наказания. В эпоху Республики, за исключением нескольких довольно архаических наказаний, вроде погребения заживо весталки, уличенной в потере девственности, или утопления отцеубийцы в мешке со змеями и другими животными, применялись либо денежные штрафы, либо уголовное наказание — казнь или добровольное изгнание, которое влекло за собой и deminutio capitis (потерю гражданства). В рамках системы постоянных судов (quaestiones) соответствующее наказание устанавливалось законом об учреждении quaestio44. Иначе обстояло дело в судопроизводстве, основанном на следствии (cognitio) императора или сената. Даже когда закон предусматри¬
41 Джонс предположил, что уголовную юрисдикцию консулов вновь учредил Юлиев закон о частных судах (Lex Iulia de iudiciis privatis), см.: Jones 1960 (А 47): 90 сл. Поскольку многие уголовные дела имели явно выраженные политические последствия, вряд ли Август потерпел бы такое сенатское судопроизводство до окончательного урегулирования властных отношений в Риме. Процессы 23 г. до н. э. по-прежнему рассматривались перед судьями (apud iudices) и претором. Только в последующие годы правления Августа есть упоминания о том, что сенат функционировал как суд: Овидий упоминает о такой возможности в 8 г. н. э.; известны и конкретные дела, рассмотренные сенатом в 12 и 13 гг. н. э., ср.: Talbert 1984 (D 77): 460-Т87. Уже в 4 г. до н. э. пятый киренский эдикт Августа предоставил сенату судебную компетенцию в менее важных, то есп> неуголовных, делах по обвинению в вымогательстве (repetundae); cp.: FIRA Р: 410-414.
42 Ср.: Talbert 1984 р 77): 470 сл.
43 Комментируя Юлиев закон о прелюбодеяниях (Lex Iulia de adulteriis), юрист Павел цитирует libellus (обвинительный акт), который по-прежнему следовало представлять претору, руководившему этой quaestio (Дигесты. 48.2.3.рг.).
44 Даже в начале П в. н. э. мнение Плиния Младшего о том, что «licere senatui, sicut licet, et mitigare leges et intendere» («сенату дозволено (как и есть в действительности) делать к закону смягчающие поправки и применять его со всей строгостью». — Письма Плиния Младшего. IV.9.17. Пер. М.Е. Сергеенко), вызвало возражения у других сенаторов; ср. также: П.11.2 сл. и: Levick В.//Historia 28 (1979): 358—379.
Глава 12. Отправление правосудия
469
вал определенное наказание за некое преступление, входившее в компетенцию судебной комиссии, данное деяние могло вызвать совершенно иную кару, когда дело рассматривалось согласно процедуре cognitio. В рамках cognitio развилась и та система наказаний, которую у исследователей Тацита нередко ассоциируется с императорской юрисдикцией: устранение подлинных или подозреваемых противников при помощи высылки и ссылки (deportatio и relegatio), осуждения их на принудительный труд или гладиаторские бои, «казни на народном празднике» (Volksfesthin- richtung). Еще одно проявление указанных тенденций — возрастание дифференциации между высшими и низшими классами (honestiores и humiliores) в уголовном праве45. Кстати, ни тюремное заключение, ни пытки не являлись наказанием: и то и другое использовалось лишь на этапе, предшествовавшем вынесению приговора, чтобы лишить обвиняемых свободы или вынудить их к признанию.
Император не только выносил приговоры в первой инстанции и рассматривал апелляции на приговоры своих уполномоченных (римские чиновники всё чаще воспринимались обществом как уполномоченные императора, да они и сами себя воспринимали таковыми); он представал также наследником римского народа (populus Romanus) в том смысле, что теперь он сделался адресатом provocatio, которая на практике стала идентична апелляции46. Отныне слова «provoco ad Caesarem» («взываю к Цезарю») превратились в пароль римского гражданина, которому закон Августа об общественном насилии (vis publica) даже гарантировал иммунитет от пыток и немедленной казни. «Καισαρα επικαλούμαι» («Требую суда кесарева»), — заявил апостол Павел, и прокуратор Порций Фест, посовещавшись с советом, прекратил следствие: «Раз ты потребовал суда кесарева, то к кесарю и отправишься»47.
IX
Судопроизводство в муниципиях и колониях Италии велось, как и раны ше. Если за политический контроль над Италией, ограниченной Альпами и Мессинским проливом, отвечали консулы и сенат, то юрисдикция в спорах о суммах, превышавших компетенцию муниципальных судов, перешла к римским преторам. Согласно Рубриеву закону, принятому на закате Республики, предельная сумма иска, принимаемого к рассмотрению в местных судах, составляла, видимо, 15 тыс. сестерциев в «нормальных» гражданских делах и 10 тыс. — в делах, влекших за собой гражданское бесчестье (infamia), по крайней мере, такое ограничение существовало в городах бывшей Цизальпийской Галлии. Размер, статус или еще какие-то характеристики городов не имели значения. С другой стороны, Ирнитан-
45 Ср.: Gamsey Р. Ц Natural Law Forum 13 (1968): 141—162.
46 Тацит. Анналы. ХП.60; Gamsey 1966 (D 257).
47 Деяния апостолов. 25: 12.
470
Часть П. Правительство и администрация Империи
ский закон свидетельствует, что в испанских муниципиях предельные суммы исков были различными: пятьдесят сестерциев в Ирни и тысяча в Малаке48. Конечно, эти ограничения были установлены в иных обстоятельствах — в провинции Бетика, в правление Флавиев и для латинских граждан, но по меньшей мере они свидетельствуют о существовании некой дифференциации, поэтому можно предположить, что и италийские города выстраивались в иерархию в зависимости от их важности, политического и экономического веса и так далее. Одна из табличек, недавно найденных в Помпеях, содержит важное указание на то, что местный суд в этом городе мог рассматривать споры о суммах, существенно превышавших 20 тыс. сестерциев49. В некоторых надписях дуовиры Милана названы «manumittendi potestate» («наделенные властью освобождать [рабов]». — О. Л.), и, возможно, такую же власть имели дуовиры Геркуланума, хотя, как правило, правом освобождать рабов были наделены только обладатели империя50. Процедура разбирательства в муниципальных судах представляла собой формулярный процесс. В так называемом Флорентийском фрагменте муниципального закона, по-видимому, запрещается cognitio магистратов колонии, однако неизвестно, в какой именно сфере магистратам не было позволено производить следствие (cognoscere), неясно также, действовало ли это правило во всех городах или лишь в некоторых51.
Уголовное судопроизводство в италийских городах, вероятно, пришло в упадок даже раньше, чем гражданское. Обычно считается, что муниципиям и колониям никогда не предоставлялась юрисдикция в уголовной сфере, но если муниципальные судебные комиссии (quaestiones) всё же существовали, то они могли иметь обширную компетенцию, по крайней мере в тех делах, где ответчиками выступали представители низших слоев общества. Подобное предположение проливает свет на дошедший до нас договор аренды (lex locationis) предприятия в Путеолах, занимавшегося в I в. н. э. погребением, казнями и пытками. Его клиентуру составляли, вероятно, не только рабы, но и свободные люди52. Но на
48 Об этом говорится в главах 69 Малакийского и Ирнитанского законов: в первом установлен верхний предел в тысячу сестерциев, во втором — в пятьсот сестерциев (в остальном эти статьи идентичны).
49 Cp.: Purpura G. Tabulae Pompeianae 13 e 34: due documenti relativi al prestitio marittimo // Atti XVII Congresso Internazionale di Papirologia (Napoli, 1984): 1245—1266.
50 AE 1947: Nq 47; cp.: Kaser 1966 (F 661): 129, 134. Вывод об освобождении рабов в Геркулануме сделан — вероятно, справедливо — в работе: Arangio-Ruiz V. Studi Epigraf ici e Papirologici (Napoli, 1974): 568—570, на основании одной таблички из досье Юсгы (подразумевается собрание табличек, связанных с судебным делом Петронии Юсгы, которое найдено в Геркулануме и относится к 70-м годам I в. н. э. — О.Л.). Тот факт, что Милан и Геркуланум были колониями, возможно, не просто совпадение. В Поздней республике магистраты италийских и провинциальных городов еще могли обладать империем, о чем свидетельствуют Урсонский (125, 128) и Рубриев законы (20).
51 Bruns C.W. Fontes Iuris Romani Antiqui (Tübingen 1909): 158, Nq 33.
52 См.: AE 1971: No 88 сл., а также свидетельство Агенния Урбика (в: Корпус агримен- соров: с. 47 Th.), предполагающее, что все города имели «loca noxiorum poenis destinata» («места, предназначенные для наказания преступников». — О.Л.). В наст. изд. принята
Глава 12. Отправление правосудия
471
протяжении первых двух веков нашей эры всё уголовное судопроизводство Италии постепенно взяли на себя уполномоченные императора: городской префект — в пределах ста миль от Рима, префекты претория — на более отдаленных территориях; согласно Ульпиану, муниципальные магистраты не имели даже права приговаривать рабов к смерти, и лишь «право налагать умеренные наказания не следует у них отрицать»53.
X
В провинциях судебные полномочия наместника становились всё весомее по мере того, как военные действия велись всё реже и реже54. После 27 г. до н. э. для судопроизводства приобрело значение различие между провинциями римского народа и императорскими провинциями, поскольку проконсулы обладали собственным империем, а легатам Августа его предоставлял принцепс. В силу этого проконсулы могли назначать собственных легатов для оказания помощи в судопроизводстве, а наместники императорских провинций — не могли, ибо сами имели делегированный империй55. Поэтому императору самому приходилось направлять судебных чиновников (iuridici) в те провинции, где, как он полагал, таковые требовались, например, в Тарраконскую Испанию. Префект Египта, правда, обладал империем, подобным проконсульскому («imperium ad similitudinem proconsulis»), но предоставлен он ему был особым законом, принятым при Августе56. С другой стороны, император в силу своего высшего проконсульского империя (imperium proconsulare maius) мог отдавать распоряжения и проконсулам и направлял им поручения (mandata) так же, как и собственным представителям, поэтому на практике провинции римского народа и императорские провинции не столь сильно различались между собой, как можно было бы ожидать57.
Как и прежде, наместник мог использовать процедуру iurisdictio, то есть предоставлять формулу в соответствии с собственным эдиктом и назначать судей (iudices) из провинциального списка (album). Согласно Ирнитанскому закону, эдикты, формулы, стипуляции и прочие документы, изданные наместником, становились обязательными для муниципальных магистратов. Даже в новых, весьма слабо романизированных, провинциях, таких как Аравия, учреждались строго римские формы судеб¬
точка зрения Кункеля, см.: Kunkel // PW 24 (1963): 779—783; противоположного мнения придерживается Ф. де Мартино, см.: de Martino F. //Labeo 21 (1975): 211—214.
53 Дигесты. 2.1.12.
54 Cp.: Gamsey, Sailer 1987 (A 34): 34—40.
55 Еще одна проблема связана с ius gladii (право приговаривать к смерти. — О.Л.), которым были наделены некоторые или все наместники, ср.: Jones 1960 (А 47): 58—65.
56 О префекте Египта см.: Дигесты. 1.17. Должность судьи Ближней Испании (iuridicus Hispaniae Citerioris) тоже учредил Август.
57 Ср.: Burton 1976 (D 89). Надпись с Коса (АЕ 1974: N« 629) также свидетельствует о людях, которые пытались уклониться от муниципального правосудия.
472
Часть П. Правительство и администрация Империи
ного процесса, как свидетельствуют недавно найденные в архиве некой Бабаты образцы иска об опеке (actio tutelae), датируемые первой четвертью П в. н. э.58. С другой стороны, наместник мог разрешать споры, используя процедуру cognitio, и либо выносил приговоры самостоятельно, либо делегировал свои полномочия судье (judex pedaneus). В уголовном судопроизводстве тоже сохранялась двойная процедура, по крайней мере в I в. н. э. Первым киренским эдиктом Август учредил смешанный суд, который состоял из греков и римских граждан, проживавших в Кирене и имевших ценз более 7,5 тыс. денариев, но из четвертого эдикта очевидно, что наместник мог и самостоятельно производить следствие и выносить решение59. Решения проконсулов, обладавших собственным империем, и провинциальных судов теоретически могли быть окончательными и не подлежать обжалованию, но на практике provocatio или appellatio использовались всякий раз, когда это было возможно.
Муниципальное судопроизводство в провинциях различалось в зависимости от того, обладал ли город римским гражданством или латинским правом или же был просто неримской иноземной общиной (civitas peregrina), а среди последних выделялась маленькая привилегированная группа — свободные и союзные общины (civitates liberae et foederatae), которые теоретически были свободны от римского вмешательства. Но теория и практика существенно расходились уже в I в. н. э. В б г. до н. э. дело об убийстве, орудием которого послужил полный ночной горшок, выброшенный из окна, было передано из юрисдикции свободного города Книда в юрисдикцию Августа, который приказал расследовать его проконсулу Азии60. Во П в. н. э. подобные различия почти исчезли.
XI
Историк Веллей Патеркул, лояльный Августу и Тиберию, написал, что после окончания гражданских войн «законам была возвращена сила, судам — их авторитет, сенату — величие» («restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas». Пер. А.И. Немировского)61. Так могло и в самом деле казаться, и те сенаторы, которые верили этим громким фразам, пожалуй, чувствовали себя счастливее и, несомненно, жили благополучнее прочих. Но Тацит, например, знал и другое: «<...> набираясь мало-помалу силы, император начал подменять собою сенат, магистратов и законы, не
58 Здесь не место для рассмотрения множества проблем, связанных с этим архивом (содержит документы на арамейском, греческом и латинском языках), который к тому же еще и не весь опубликован; ср.: Wolff 1980 (D 278); Bowersock 1983 (E 990): 76—79.
59 Ср. четвертый эдикт из Кирены: FIRA I2: 409.
60 FIRA Ш: 185; дело это было конечно же весьма непростым, поскольку оно тесно сплеталось с местными интригами, ср. комментарий: Millar 1977 (А 59): 443.
61 Веллей Патеркул. П.89.3.
Глава 12. Отправление правосудия
473
встречая в этом противодействия»62. Как в политике, так и в системе судопроизводства прежние институты сперва функционировали наряду с императорской юрисдикцией, а затем постепенно увяли, сперва в провинциях, затем в Италии и, наконец, в Риме — сперва в уголовных делах, затем в гражданских. В тот период времени, который рассматривается в данном томе КИДМ, сенаторы, проживавшие в столице, иногда еще пытались оставаться в иллюзорном мире прежней respublica. Но теперь, в дополнение к процедуре чрезвычайного следствия (cognitio extra ordinem), распространение получили и регулярные апелляции к импера- тору — не только в уголовных делах, но и в частноправовых, и его надзор, возможно не всегда и не везде эффективный, но по меньшей мере решительно превосходивший всё, что было известно в эпоху Республики. С точки зрения громадного большинства населения, новые тенденции в отправлении правосудия, несомненно, были «прогрессивными».
62 Тацит. Анналы. 1.2.1: «insurgere paulatim, munia senatus magistratuum legum in se trahere nullo adversante». Пер. А. С. Бобовича.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИТАЛИЯ И ПРОВИНЦИИ
ЗАПАД
Глава 13а М.-Х. Кроуфорд
ИТАЛИЯ И РИМ ОТ СУЛЛЫ ДО АВГУСТА
I. Масштабы романизации
Предоставление прав гражданства жителям полуостровной Италии в 90 и 89 гг. до н. э. и Транспаданской Галлии — в 49 г. до н. э. стало кульминацией процесса, начавшегося в V в. до н. э.1. Романизация Италии и «итализа- ция» Рима, резко ускорившиеся после Союзнической войны, тоже имели свои истоки в далеком прошлом. Анализируя взаимосвязи между Римом и Италией в эпоху от Суллы до Августа, развитие и важнейшие особенности их отношений, следует обязательно принимать в расчет историю этих областей2.
Однако скажем несколько слов в качестве введения. В 91 г. до н. э. как в мятежных, так и в лояльных Риму областях глубина романизации была весьма различной. Так, против Рима поднялись и самниты, и марсы, но первые говорили на собственном языке и использовали собственный алфавит, а вторые писали и говорили на латыни. Прекрасным свидетельством о языковой разнородности восставшей Италии служит ее двуязычная чеканка. Более того, до начала войны самниты познакомились с греческими культурными моделями напрямую, тогда как марсы, по- видимому, длительное время взаимодействовали с греками через посредство Рима3. Аналогичным образом обстояло дело и с этрусками, которые сыграли малую роль в восстании или не участвовали в нем вовсе: жители южных общин еще в Ш в. до н. э. почти перестали говорить на этрусском и выпускать собственную художественную продукцию, меж тем как в северных городах сохранялись и этрусский язык, и этрусское искусство4.
1 Я бы хотел — с обычными оговорками — высказать благодарность доктору А.-К. Боумэну, проф. П.-А. Бранту, д-ру Т.-Дж. Корнеллу, мисс А.-К. Дионисотти, проф. Э. Габбе, покойному профессору А. Тара, мистеру Ф. Моро, д-ру Дж.-А. Норту за их комментарии к рукописи этой главы. Я очень хотел бы также, чтобы моя благодарность могла преодолеть Стикс и достичь Мартина Фредериксена, щедро делившегося со мной своими плодотворными идеями, которые очень обогатили данную главу.
2 Ее основные черты я попытался систематизировать в работе: Crawford 1986 (Е 27).
3 См.: Crawford 1981 (Е 26).
4 ТогеШ 1976 (Е 130).
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
4 75
Столь же неоднородная картина вырисовывается и в других сферах деятельности. Несмотря на повсеместное распространение ориентированных на рынок плантаций и скотоводства5, в некоторых частях Италии во П в. до н. э. сохранились традиционные формы сельского хозяйства; и, напротив, уже примерно через поколение после окончания Второй Пунической войны по всему Италийскому полуострову использовались одинаковые стандарты чеканки и системы мер и весов6. В 91—89 гг. до н. э. мятежники чеканили только денарии — и всего лишь один раз выпустили ауреи. В связи с этим стоит также обратить внимание на Оскский закон Б андийской таблицы (Lex Osca Tabulae Bantinae) — надпись, вырезанную на бронзовой табличке незадолго до начала Союзнической войны, где частично сохранился устав луканской общины Банции7. Надпись выполнена на оскском языке, но латинским алфавитом, а положения устава в значительной части заимствованы из устава соседней латинской колонии Венузии, при этом автор текста старался создать оскские термины для описания этих установлений.
Примерно с 86 г. до н. э. все эти области, романизированные и нерома- низированные, мятежные и лояльные, имели общее гражданство. Сразу после Союзнической войны римское правительство попыталось ограничить влияние новых граждан, включив их в ничтожное меньшинство римских триб —то ли уже существовавших, то ли специально созданных, дополнительных7^ — Сулла же, к примеру, вообще стремился лишить некоторые италийские общины полноправного римского гражданства. Но когда эти попытки провалились, вся Италия к югу от реки По, за исключением, возможно, лишь некоторых областей Лигурии, формально стала единой политической общностью с центром в Риме. Граждане Плаценции, в прошлом латинской колонии, отныне имели полное право голосовать на выборах в Риме, хотя и оставались в юрисдикции наместника Цизальпийской Галлии. Однако право и практика не всегда совпадают, и опрометчиво было бы ожидать резкой и быстрой смены ориентиров политического сознания. Впрочем, один небольшой признак указывает, что они действительно начали меняться. Во всех регионах Италии стали довольно регулярно использоваться формулы консульских датировок, прежде не засвидетельствованные в надписях за пределами римской территории и до Союзнической войны чрезвычайно редко встречавшиеся вне самого города Рима (см. Приложение I, с. 494—497 насг. изд.).
Итак, сначала рассмотрим политические структуры. На 86 г. до н. э. были избраны цензоры, но ясно, что они не решились составить полный список лиц, недавно получивших римское гражданство. Затем, в течение
5 Lepore 1981 (Е 75).
6 См.: Crawford 1985 (В 320).
7 Roman Statutes 1995 (F 684): No 13.
7a В римском народном собрании подсчитывались голоса не отдельных граждан, а их территориальных объединений — триб, коих общим числом было тридцать пять, поэтому, чем меньше было триб, в которые новые граждане имели доступ, тем меньшим было влияние этой категории граждан на исход голосования. — С.Т
476
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
шестнадцати лет, цензов не проводилось, ибо Сулла, несомненно, предпринял некоторые шаги, чтобы Республика могла функционировать и без цензоров, хотя не вполне ясно, действительно ли он намеревался или распорядился упразднить сами цензы и рассчитывал или надеялся таким образом помешать регистрации больших масс новых граждан8. Даже цензоры 70 г. до н. э. — сразу после отмены некоторых наиболее одиозных положений сулланского урегулирования — смогли зарегистрировать в списках граждан лишь часть лиц, формально имевших на это право.
В следующий раз ценз удалось довести до конца только при Августе — в 28 г. до н. э. Но проблема состояла не только в этом. Ввиду огромной численности и территориального разброса граждан теперь выявилась трудность, сложившаяся уже давно: ни одно народное собрание в Риме не способно было выражать мнение всех граждан; даже римская система группового голосования уже не обеспечивала этого, хотя если несколько жителей Арпина добиралось до Рима, чтобы проголосовать, то в некотором смысле их можно было рассматривать как представителей данной части Корнелиевой трибы. Впрочем, если говорить о знати италийских городов, то всего через несколько лет после неудачного ценза 70—69 гг. до н. э. она, по крайней мере, нашла способ донести до римского сената собственное мнение — местные советы направляли в Рим свои постановления: так, к примеру, произошло в 63 г. до н. э., в ходе кризиса, вызванного Каталиной, о чем Цицерон вспоминал в 59 г. до н. э., защищая Флакка:
Да помогут ему хвалебные отзывы муниципиев и колоний; да поможет ему прекрасная и искренняя хвала сената и римского народа! О, ночь, едва не погрузившая этот Город в вечный мрак...9 [Пер. В. О. Горенштейна).
Конечно, в эпоху Цицерона местные нобили (domi nobiles), принимавшие данные постановления, в то же самое время еще сильнее, чем прежде, старались пробиться в римскую политику или римское общество, подражая должностным лицам разросшейся республики или, подобно Катуллу, заводя романы с их женами, сестрами и дочерьми10. В эту эпоху, как и прежде, взаимоотношения Рима и Италии в значительной мере определялись личными контактами между представителями римской и италийской знати и никогда не отделялись от политической жизни обеих сторон. Распространение римского гражданства и сопутствующая аккультурация
8 Wiseman 1969 (Е 137).
9 Цицерон. В защиту Флакка. 101—102; ср.: Цицерон. В защиту Сестия. 9—11; Gabba 1986 (Е 49).
10 Обстоятельные свидетельства о включении италийцев в римский правящий класс во все периоды вплоть до Августа см. в изд.: Syme 1938 (D 68); Syme 1939 (А 93): 90—94; Wiseman 1971 (D 81). См. также: Nicolet 1966 (D 52) I: 387—422; Cebeillac Gervasoni 1978 (E 14); статьи в сборнике: Epigrafia e ordine senatorio 1982 (D 42); David 1983 (E 32); D’Arms 1984 (E 31). О юристах см.: Frier 1985 (F 652): 253—254. О культурных связях см.: Wiseman 1983 (E 138); Dumont 1983 (E 36); Wiseman 1985 (E 139); Rawson 1985 (A 79).
Карта 3. Италия
478
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
всегда предполагали шаткое равновесие между изменением и сохранением имеющихся политических и экономических структур11.
Веллей Патеркул восхвалял своего предка Минация Магия из Эклана (который, в свою очередь, вел род от капуанца, сохранившего верность Риму в годы Второй Пунической войны) за помощь, оказанную Риму во время Союзнической войны, но этот эпизод оставляет ощущение напряженности. Веллей хорошо знал, что италийцы вели справедливую борьбу, но считал, что преданность Риму была важнее; он прекрасно сознавал, что, когда война разразилась, Рим дал италикам то, в чем отказывал им в мирное время (П. 16.1—2):
Со стороны италиков наиболее знаменитыми полководцами были Силон Попедий, Герий Азиний, Инстей Катон, Г. Понтидий, Телезин Понтий, Марий Эгнаций, Палий Мутил. Со своей стороны, я, несмотря на свою скромность, не могу опустить касающееся моей семейной славы, особенно потому, что передаю правду: ведь дань памяти моему прадеду Минагию Магию из Экулана, вождю кампанцев, мужу прославленной верности, должна быть великой. В этой войне он выказал такую верность римлянам, что с легионом, который был набран им самим у гирпинов, взял совместно с Т. Дидием Геркуланум, осадил вместе с Л. Суллой Помпеи и захватил Компсу... [Пер. А.И. Немцовского).
Странное соседство Минация Магия с вождями восставших говорит само за себя. Также следует ненадолго остановиться перед «Arringatore» — великолепной бронзовой статуей оратора в полный рост, которая сейчас хранится в Археологическом музее Флоренции. Статуя датируется началом эпохи Юлиев—Клавдиев и великолепно представляет одного из людей, стоявших между двумя новыми мирами: на ораторе — тога и кальцеи (закрытые башмаки. — С. Т.) магистрата Перузии, а также кольцо (anulus) и туника с узкой полосой (angustus clavus) римского всадника11 12.
Но весьма сомнительно, что в те годы, когда эти люди делали карьеру, римское правительство проводило какую-то систематическую политику, которая бы способствовала административной централизации или социальному конформизму. Правда, имеется несколько изображений на монетах, которые, видимо, прославляют популярские идеалы свободы (libertas) или союза Италии и Рима13, но в римском мире была совершенно неизвестна концепция современных национальных государств, и, вероятно, исследователи придают слишком большое значение давлению из Рима, которое будто бы обусловило упадок местного патриотизма в Италии во времена Поздней республики14. Следует помнить, что даже для римской
11 См. отличные ремарки в работе: Gabba 1984 (Е 48): 214—217; пару примеров см. в изд.: Castren 1983 (Е 13); Sensi 1983 (Е 120).
12 Demougin 1988 (D 37): 781; Cristofani Μ. 1986-1987 (F 338).
13 Crawford 1974 (В 319) I: Nq 391 (Гай Эгнаций Максим, сын Гнея внук Гнея), 392 (Луций Фарсулей Менсор), 403 (Кален, Корд).
14 См., напр.: Galsterer 1976 (Е 52): 13—14; о концепции современных национальных государств см.: Weber Е. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France. 1870— 1914 (London, 1979); об отсутствии италийского самосознания в Ранней империи см.: Gabba 1978 (Е 45).
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
479
элиты эпоха Цицерона стала периодом бурного разнообразия и экспериментов с новыми социальными и культурными моделями15. Предоставление Италии гражданских прав даже устранило важный фактор, способствовавший принятию римских моделей, а именно — необходимость подчеркивать разницу между статусом, скажем, латинской колонии со всеми ее правами и привилегиями (такой как Эзерния) и соседней самнитской деревни. С другой стороны, свою роль мог сыграть и другой фактор. Если в Ш в. до н. э. процесс расширения контроля Рима над Италией на последних стадиях совпал с началом римских заморских завоеваний и испытал их влияние, то в эпоху, которую мы рассматриваем, началось масштабное предоставление римского гражданства в провинциях, массовое выведение колоний на заморские территории и превращение Рима не просто в мировую державу, но в мировое государство. Ввиду этого примечательно, что возможность одновременно обладать римским гражданством и гражданством другого государства впервые появляется во времена Цезаря16. Возможно, различия между италийскими общинами, в прошлом имевшими разный статус, казались второстепенной проблемой по сравнению с необходимостью создать и сохранить италийское своеобразие перед лицом быстро менявшегося внешнего мира. Стоит отметить, что когда Август получил власть в Риме и сфокусировал на себе лояльность Италии и всей империи, то за Италией он со всем тщанием сохранил привилегированное положение.
В таких обстоятельствах Цицерон в зрелые годы написал трактат, в котором отражается как осознание масштабности перемен в Италии, свершившихся на глазах одного поколения, так и напряжение, вызванное этими переменами (Цицерон. О законах. П.1.2—2.5):
— Именно здесь, сказать правду, настоящая моя родина и [родина] моего брата (germana patria)...
— Но, — ответил Аттик, — что хотел ты сказать, заявив недавно, что эта местность, то есть Арпин (насколько я понял тебя), — ваша настоящая родина? Да разве у вас две родины? Или же одна — общая для всех родина? Если только для мудрого Катона родиной был не Рим, а Тускул.
— ...и у него, и у всех членов муниципиев, по моему мнению, две родины: одна — по рождению, другая — по гражданству [Пер. В.О. Горенштейна)17.
Итак, наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять, почему и до какой степени разнообразные местные культуры Ита¬
15 Beard, Crawford 1985 (А 3): гл. 2.
16 См.: Rawson 1985 (Е 107). Пайс считает, что возможность иметь двойное гражданство Рима и иноземного государства появилась раньше, чем возможность иметь двойное гражданство Рима и муниципия, см.: Pais 1918 (Е 88) I. Как нам представляется, Брант прав, утверждая (в противовес Браунерту и Гальстереру), что чисто правовых оснований Для обвинения Бальба не было, см.: Brunt 1982 (F 644); Braunert 1966 (E 9); Galsterer 1976 (E 52): 162—164. (В 56 г. до н. э. гадитанец Луций Корнелий Бальб был привлечен к суду за незаконное получение римского гражданства без согласия своей общины, но избег наказания и даже был оправдан. — С.Т)
17 См.: Hammond 1951 (Е 54); а также: de Ruggiero 1921 (F 686); Bonjour 1975 (E 7). Гели идеализирует положение, см.: Gely 1974 (Е 53).
480
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
лии (то есть обычаи и ценности конкретного региона, разделяемые и передаваемые из поколения в поколение) сохранились в эпоху Августа и позднее.
Прежде всего следует отметить одну особенность: в некоторых южных городах греческая культура сохранялась достаточно долго, но ее устойчивость нельзя считать чем-то заурядным. Она объясняется двумя факторами: во-первых, в тысячах городов за пределами Италии жители говорили по-гречески и вели греческий образ жизни, и контакт с ними укреплял греческую культуру и институты в Италии; во-вторых, римская элита весьма ценила данную культуру, что способствовало развитию центров греческой цивилизации, располагавшихся неподалеку18. Последний фактор, вероятно, действовал еще до Союзнической войны. В большинстве греческих городов Италии не происходило тех потрясений, которые, как мы увидим далее, сыграли важную роль в ее общей романизации. Именно этим объясняются колебания Неаполя и Гераклеи, которые не решались принять римское гражданство, предложенное им в 90 г. до н. э., сохранение местной чеканки в Гераклее, Велии и даже Пестуме19, общая устойчивость греческого языка и греческих институтов в Неаполе, Велии, Регии, Таренте, Канузии20. Любопытно, что оба сохранившихся устава латинских муниципиев республиканского периода происходят из греческого города Тарента и святилища в Гераклее; в эпоху Августа Ге- раклея медленно умирала, но Тарент во времена Ранней империи оставался вполне греческим городом. Специфика южной Италии в правление Августа сказывалась и в том, что Страбон описал Бруттий, Ауканию и Великую Грецию в соответствии с греческой традицией, которая противопоставляла архаический и классический периоды эллинистическому и римскому, и при этом полагал, что весь этот регион имел общую историю21. Но, несмотря на это, несмотря на исчезновение многих свидетельств (К. Т. Рэймидж, отважный шотландец, обошедший всю Великую Грецию сразу после реставрации Бурбонов, видел греческую надпись П в. н. э., ныне утраченную, где сообщалось о праздничных состязаниях атлетов в Сколации), нет достаточных оснований предполагать, что к сере-
18 D’Arrns 1970 (Е 30).
19 Crawford 1985 (В 320): 71—72; о сохранении некоторых неримских единиц счета, мер и весов см.: Там же: 14—16, 177—178; полное описание стола мер и весов (mensa ponderaria) в Помпеях, основанное на личном наблюдении, см.: Conway 1897 (Е 23) I: Прил. I. При изготовлении этого стола в основу был положен оскский фут. Когда стол мер и весов привели в соответствие с римской системой, пять отверстий в нем были расширены и в придачу вырезаны четыре новых (Prosdocimi 1978 (Е 100): 1072—1073); вместе с тем сексга- рий остался оскским, соотношение же с другими мерами емкости стало римским.
20 Предварительные замечания см.: Crawford 1978 (F 20): 195, примеч. 12; следует отметить статую грека в тоге, стоявшую в Велии, см.: de Franciscis 1970 (E 40); а также: Sartori 1976 (E 118); Keuls 1976 (E 67); Lepore 1983 (E 76); см. Приложение П, с. 497—500 наст. изд. Не следует рассматривать Тарент с тех же позиций, что и остальную Италию, как это делает Торелли, см.: ТогеШ 1984 (Е 132): 42—43.
21 Prontera 1988 (Е 99).
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
481
дине Ш в. н. э. какая-то часть Италии сохраняла явно греческий харак- тер .
В текстах Цицерона можно найти пару редких эпизодов, где мы видим местные обычаи и приверженных им людей. Первый — это всего лишь мимолетное упоминание о «свадьбе <...> на которой, по обычаю жителей Ларина, пировало множество людей» («cum eius in nuptiis more Larinatium multitudo hominum pranderet». — Цицерон. За Клуэнция. 166. Пер.
В. О. Горешитейна). Но второй пример относится к рабам-служителям (ministri) Марса в Ларине, и, когда «неожиданно Оппианик стал утверждать, что все они — свободные люди и римские граждане» («repente Oppianicus eos omnis liberos esse civisque Romanos coepit defendere»), жители Ларина проявили такую верность своим обычаям, что убедили Авла Клуэнция Габита защищать их интересы в этом деле в Риме (Цицерон. За Клуэнция. 43—44). Еще один пример содержится в письме императора Марка Аврелия Фронтону, написанном в середине П в. н. э., где сообщается о жителе Анагнии, который знал и постарался объяснить императору, посетившему город, что в религиозной формуле, написанной на латинском языке над городскими воротами, использован технический термин гер- никского происхождения (Фронтон, 66-67 Naber = 60 van den Hout).
Сохранению подобных обычаев, несомненно, способствовало то, что италийские общины не только управляли своими городами, но и выполняли задачи, которые в иных обществах ложились на плечи центральных органов власти. Основные принципы управления в Италии, вероятно, были заложены сразу после Союзнической войны, чтобы преодолеть последствия включения членов половины италийских общин в число римских граждан. Но важно помнить и о том, что во времена Цицерона происходила стандартизация управления теми общинами, которые уже давно являлись римскими. Капуя, лишенная прав самоуправления в 211 г. до н. э., стала колонией в 59—58 гг. до н. э. Цингул получил устав от Тита Лабиена накануне гражданской войны, начавшейся в 49 г. до н. э. В 46 г. до н. э. устав Арпина пересмотрели сын и племянник Цицерона вместе с еще одним коллегой и при поддержке самого оратора. В этот же период постепенно исчезают префектуры (praefecturae), «форумы» (fora) и «рынки» (conciliabula), которые ранее служили временными общинами для групп римских граждан, постепенно покорявших и заселявших Италию: 2222 The Nooks and Byways of Italy: Wanderings in Search of Its Ancient Remains and modern Superstitions (Liverpool, 1868): 113; нет оснований считать, что петгоранский фрагмент эдикта Диоклетиана о ценах высечен в каррарском мраморе или даже что он когда-либо выставлялся в грекоязычной части Италии; М. Гуардуччи сообщила, что ее экспертам показали лишь крохотный образец, см.: Guarducci 1985 (В 238); а визуальная идентификация мелких фрагментов не имеет никакой ценности. (Эдикт Диоклетиана о ценах был издан в 301 г. н. э.; в Петторано-суль-Джицио в центральной Италии был найден фрагмент этого эдикта на греческом языке. В данной области не было греческих городов, но если бы Удалось подтвердить, что надпись вырезана на плите из каррарского мрамора, добывавшегося в Италии, то это указывало бы, что она произведена для какой-то греческой общины полуострова. — С. Т)
482
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
теперь их статус либо повышался до муниципального, либо их включали в состав другого муниципия. Стандартизацию можно было наблюдать и в другой сфере. На протяжении поколения после Союзнической войны сёла (pagi) френтанов, каррицинов, марруцинов, пелигнов и вестинов, деревни (vici) вестинов, марсов, эквикулов и сабинов оставались административными единицами римской Италии, но затем были упразднены, возможно, Цезарем. Разумеется, никогда не существовало единого нормативного акта, который регулировал бы все вопросы в каждом отдельно взятом муниципии. Но некоторые базовые элементы, судя по всему, содержались в Юлиевом законе 90 г. до н. э. о предоставлении гражданства или в принятом позднее статуте; и имелось множество институтов, общих для большинства новых муниципиев того времени.
Пожалуй, не слишком важно, регламентировались эти институты законами, принятыми в Риме, или учреждались теми деятелями, которые давали новым общинам уставы, опираясь в целом на вековой опыт предоставления конституций общинам в Италии и на заморских землях. Сам Юлиев закон, видимо, устанавливал правило, согласно которому для принятия римского гражданства община обязана была за это проголосовать, а также, возможно, требовал, чтобы новые муниципии учреждались надлежащим лицом или лицами23. Представляется, что высшими магистратами муниципиев обычно были триумвиры, а префекты, ответственные за отправление правосудия (praefecti iure dicundo), помогали им и при необходимости заменяли их; тогда же, вероятно, администрация муниципиев унаследовала и институт междуцарствия24. Вероятно, эти компоненты муниципального управления прямо устанавливались статутом, а не вытекали из соглашения лиц, учреждавших новые муниципии. И, конечно, в какой-то момент был принят общий статут, который регулировал кооптацию декурионов в муниципиях25. Правила проведения местных цензов, зафиксированные в Гераклейской таблице, почти наверняка были приняты вскоре после Союзнической войны;26 примечательно, что фраза «граждане колонии (или муниципия), поселенцы, гости, приезжие» (coloni (или municipes), incolae, hospites, adventores) часто употребляется в эпоху Поздней республики и Ранней империи, и это предполагает, что так зву¬
23 Об отдельных любопытных случаях учреждения муниципиев (constitutio) см.: Harvey 1973 (Е 57); Gabba 1983 (Е 47); в более полном виде материалы этого параграфа см. в изд.: Crawford (готовится к печати) (Е 29).
24 ILLRP555 (Беневенг); 627 (Нарбон); ILS 6285 (Формии); 6279 (Фунды); ILS 6975 (Не- маус); CIL IV 54, а также 13, 50, 53, 56, 70 (о Гае Попидии в Помпеях. Смысл даже этих текстов не до конца ясен; No 48, 3822 и 9827 явно не относятся к делу, а Касгрен ошибается, см.: Castren 1975 (Е 12): 51); Gonzales. Actas I Cong. And. Est. Cias. (Jaen 1982): 223 = AE 1982: 511 (Сиар); см. также: Roman Statutes 1995 (F 684): No 25, гл. 130 (Урсон).
25 См.: Ирнитанский закон (Lex Imitana) в изд.: Gonzales 1986 (В 235): гл. 31— слова данного закона: «...которые до принятия настоящего закона существовали в этом муниципии по праву и обычаю» («quod ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eiius municipi fuerunt»), несомненно, представляют собой неудачную адаптацию главы из более общего статута; вряд ли в правление Флавиев народное собрание в Риме по отдельности принимало уставы муниципиев Бетики.
26 Roman Statutes 1995 (E 684): No 24, строки 142—158.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
483
чало официальное определение жителей италийской общины27. К тому же уже в свидетельствах времени заката Республики встречаются упоминания об официальных правилах, регулировавших расходы местных магистратов на игры или постройки28. Возможно, уставы муниципиев включали и предписания о размещении мест сожжения трупов (ustrina), крематориев и кладбищ.
Сохранившиеся фрагменты уставов зачастую ставят больше вопросов, чем дают ответов. Единственный не вызывающий затруднений текст — это Тарентский закон, уцелевшая часть которого ясно показывает, что он относится только к Таренту; данный закон содержит фрагменты глав, которые регулируют незаконное использование государственных и священных денег (pequnia publica, sacra, religiosa); порядок внесения залога первыми кваттуорвирами и эдилами муниципия и кандидатами на должности; имущественный ценз для декурионов; порядок сноса зданий, устройства дорог, рвов и канализации (viae, fossae, cloacae); правила выезда из муниципия29. С другой стороны, фрагменты статутов из Фалерио, видимо, направлены на регулирование судопроизводства, причем сразу в нескольких общинах;30 фрагменты из Атесге, несомненно, регламентируют судопроизводство во всех тех общинах, на которые распространяется данный статут, независимо от их местонахождения31. В некоторых отношениях лучшим свидетельством является значительная часть устава цеза- рианской колонии Урсон в Испании, текст которого вновь относится только к самому Урсону32. По содержанию он сходен с Тарентским законом, хотя сохранившийся фрагмент гораздо крупнее, поэтому в нем затрагивается множество вопросов, не упомянутых в тексте из Тарента; но две статьи Тарентского закона встречаются как в уставе Урсона, так и в уставах, которые императоры из династии Флавиев издали для новых латинских муниципиев Бетики: это статьи о сносе зданий и об устройстве дорог, рвов, канализации33. Однако очень рискованно делать выводы о содержании более ранних уставов на основании тех, что сохранились от эпохи Флавиев; ясно, что последние лучше составлены, гораздо лаконичнее сформулированы и, вероятно, более комплексны, чем уставы Тарента и Урсона. Осталось рассмотреть еще два крайне своеобразных текста34. Ге- раклейская таблица найдена в святилище на границе Гераклеи с Мета- понтом; судя по всему, в ней содержались выдержки из римского статута о дорогах и общественных местах в городе, а также из другого статута
27 Paci 1989 (В 260): 125—133. Приведенная фраза находит отражение у Цицерона: «А нас, приехавших из Рима [в Капую], называли уже не гостями, а чужестранцами, вернее, пришельцами» («nos autem hinc Roma qui veneramus, iam non hospites, sed peregrini atque advenae nominabamur». — Речь об аграрном законе. П.94. Пер. В. О. Горенштейна).
28 ILLRP 648 (Помпеи); ср.: Там же: 675 (Телезия).
29 Roman Statutes (F 684): N° 15.
30 Там же: No 17, 18.
31 Там же: Nq 16.
32 Там же: No 25.
33 Gonzales 1986 (В 235): гл. 62, 82.
34 Roman Statutes 1995 (F 684): No 24, 26.
484
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
(или нескольких статутов), регулировавшего имущественный ценз для де- курионов и магистратов, переписи в городах римской Италии, конституцию муниципиев. Фрагменты закона о Цизальпийской Галлии (Lex de Gallia Cisalpina) происходят из Веллеи, что в Апеннинах недалеко от Пармы; вероятно, это статут, принятый после того, как в 42-^11 гг. до н. э. Цизальпийская Галлия стала частью Италии, и распространивший на эту область многие, а возможно и все, основополагающие нормы римского гражданского права; на единственной сохранившейся табличке стоит номер ПП и содержатся главы с середины 19-й до середины 23-й, в которых регламентируются подача уведомлений о новых постройках (operis novi nuntiatio), возможный ущерб (damnum infectum), займы (pecunia certa credita) и прочие долги, иск о дележе родового имения (actio familiae erciscundae); все статьи очень сложны и великолепно проработаны35.
После Союзнической войны общины Италии не обладали самостоятельной юрисдикцией;36 но поразительно, что они сохранили некоторые военные и полицейские функции не только в эпоху Поздней республики, но даже и позднее. В ходе археологических исследований были обнаружены мощные стенные укрепления времени Поздней республики, к примеру, в Сполеции и Ферентине, что, учитывая тревожную обстановку того времени, не вызывает удивления; их следует четко отличать от символических стен, окружавших поселения Августа, вроде Сепина или Августы Багиеннов37. Кроме того, надпись из Пренесге сообщает о постройке сторожевых постов (vigiliae); две надписи из Брундизия и Формий — о строительстве арсенала (armamentarium);38 Цицерон упоминает жителей Ларина, пришедших в Рим защищать его клиента, который в иных обстоятельствах мог бы защищать свой город [За Клуэнция. 195). И, когда Позднюю республику сотрясали столкновения, Остию, видимо, однажды спас от нападения не римский магистрат, а дуумвир этого города Гай Кар- тилий Попликола39.
Таким образом, неудивительно, что эти весьма автономные местные администрации позднереспубликанской Италии вкладывали большие средства в программы общественного строительства и сооружали городские центры, отсутствовавшие до той поры, для управления новообразованными общинами — всё это просто выражало гражданскую гордость40.
И столь же естественно, что администрация италийских городов эпохи Поздней республики и Империи увековечена в эпиграфических переч¬
35 Выводы о развитии муниципальных уставов в эпоху Цезаря и Августа см.: Crawford М.Н. (Е 23).
36 Crawford М. Н. (Е 23).
37 О Сполеции см.: CIL XI 4809; надпись отсутствует в: ILLRP и CIL Р: fase. 4; но см.: Gaggiotti et al. 1980 (E 50): 107; о Ферентине см.: CIL X 5837 = ILLRP 584.
38 О Пренесге см.: ILLRP 653; о Брундизии см.: ILLRP 558; о Формиях см.: Colombi- ni А. Ц Athenaeum 1966: 137; о местных плацах для военных упражнений см.: Devijver, van Wonterghem 1981—1982 (E 35).
39 Zevi 1976 (E 142): 56—60. Об излишне усердной охране порядка в Сепине во П в. н. э. см.: Lo Cascio 1985-1990 (E 79); Brunt 1990 (A 12): 427-128.
40 Gabba 1972 (E 44).
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
485
нях местных магистратов и жрецов и в элогиях в честь местных знаменитостей прошлого и настоящего. Но эти обычаи свидетельствуют не только о стремлении общин к обособленности, но и равным образом о влиянии на них римской модели. Эти обычаи трудно рассматривать как свидетельства о сохранении местных культур в том смысле, как мы их определили. В частости, Тарквинийские элогии и Фасты гаруспиков отражают тот факт, что сенаторские роды Этрурии участвовали в римской политической жизни, ибо данные надписи переносят в Тарквинии обычаи, характерные для римской аристократии41. На фоне этой общей картины не следует придавать особого значения эпизодическому использованию местного летоисчисления в датировках, прежде всего в Патавии, где несколько надписей датируется эрой, начинающейся в 173 г. до н. э.; дело в том, что в 174 г. до н. э. Рим вмешался в дела Патавия, чтобы покончить с внутренней смутой (Ливий. XLL27.3--4), и магистраты следующего года, несомненно, считали себя первыми должностными лицами новообразованной общины42.
II. Сохранение местных культур
Таким образом, рассматривая сохранение местных культур, мы сосредоточимся на четырех, как представляется, важнейших идентификаторах любой древней культуры, притязающей на индивидуальность и своеобразие, а именно — на языке, религии, структуре семьи и погребении. Конечно, мы никогда не узнаем подробностей о том, как менялись поведение и менталитет жителей Этрурии или Самния в тот век, когда рухнула Республика и была основана Империя. Но ценность четырех предметов, рассматриваемых ниже, состоит в том, что свидетельства о них выводят исследователя далеко за пределы узкого круга элиты. Если же говорить в целом, то действовавшие в то время факторы должны были в равной мере повлиять на всё общество.
1. Язык
Для эпохи после Союзнической войны имеются сведения лишь о двух местных нелатинских языках Италии — этрусском и оскском, хотя о последнем сведений из Самния дошло мало ввиду учиненного Суллой опус¬
41 Фаспы см.: Ша1 ХШ.2: No 6 (Венузия); CIL X 1233 (Нола); 5405, с комментариями: Solin 1988 (В 285): 90—91 (Интерамна); АЕ 1905, 192 (Теан). Списки понтификов см.: CIL IX 3254 (Сутри); о Тарквинийских элогиях см.: ТогеШ 1975 (В 291); Cornell 1976 (Е 24); Cornell 1978 (Е 25); Gabba 1979 (Е 46) — все эти авторы справедливо утверждают, что создание Тарквинийских элогий объясняется скорее модой на древности, распространившейся в Риме П в. н. э., нежели сохранением местной культуры Тарквиний.
42 Harris 1977 (Е 56); Linderski 1983 (Е 78) (анализ буквы «N»); имеются отдельные примеры такого же явления в Фельтрии, а также в Интерамне Нахарсе, Бовиллах и Путео- лах [ILLRP 518); также ср.: Катон. Начала. Фр. 49 Р = П.16 Chassignet, об Америи.
486
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
тошения43. Более того, переход к латинскому языку произошел, видимо, очень быстро; имеется лишь одна двуязычная надпись на оскском и латинском языках; и даже в Этрурии, где это явление распространилось шире, оно всё же наблюдалось нечасто44. Что же касается поздних текстов на этрусском языке, то, не считая геммы из Тарквиний, которую могли переместить после изготовления, и камня из Пезаро, который точно был перемещен, около тридцати текстов — в основном конца П в. до н. э. и первой половины I в. до н. э. — происходит из областей Клузия, Арреция, Перузии и Волатерр, в основном — из Клузия. Нет свидетельств того, что хоть один местный язык продолжал использоваться в официальной обстановке после начала I в. н. э.; некоторое время продержался только этрусский, бывший в ходу у ученых и антикваров. В этом контексте примечательно, что семья Ургуланиллы, жены Клавдия — императора и этрусколога, — была весьма нетипичной в том плане, что долгое время сознательно оставалась этрусской45.
Мы попросту не знаем, насколько Рим желал исчезновения (во всяком случае, на официальном уровне) всех языков, кроме латинского. Если бы Оскский закон Банцинской таблицы можно было датировать временем после Союзнической войны, то у нас имелось бы свидетельство, что муниципальные уставы не обязательно было составлять на латинском языке. Но почти наверняка Оскский закон датируется более ранним временем (см. выше); а муниципальный устав бесспорно греческого города Тарента был обнародован на латинском языке где-то в 80—70-х годах до н. э. В любом случае, непохоже, что после 90 г. до н. э. Рим признавал в Италии какой-то иной язык, кроме латинского; и некоторые институты, способствовавшие сохранению местных языков до Союзнической войны (например, этнические подразделения римской армии), исчезли тогда же или немного позднее46. Литературный язык позднереспубликанской и раннеимперской Италии, несмотря на различное происхождение авторов, отмечен удивительным единообразием.
2. Религия
Имеются свидетельства об аналогичных изменениях религиозных обычаев. Прежде всего перемены коснулись календарей, огромная важность которых для римской (как и для греческой) религии общеизвестна. Из античных источников мы знаем, что в древние времена множество об¬
43 В целом см.: de Simone 1980 (E 121); Coleman 1986 (E 22). Лучшей историей исчезновения этрусского языка остается работа: Harris 1971 (Е 55): 172—184; см. также: Harris 1975 (Е 64); Michelsen 1975 (В 254) — эти авторы утверждают, что этрусские буквы в текстах, написанных на латыни, встречаются крайне редко. Об исчезновении оскского языка в Помпеях см.: Castren 1975 (Е 12): 44-^6. См. Приложение Ш, с. 500—503 наст. изд.
44 РоссеШ 1988 (Е 97): единственный двуязычный умбрийский текст, видимо, датируется периодом до Союзнической войны.
45 Heurgon 1953 (Е 59); Briquel 1990 (Е 10).
46 Bari 1974 (D 196); этнические контингенты в армии Спартака являлись продолжением прежней римской практики.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
487
щин Италии, даже самых близких к Риму, имело свои календари, существенно отличавшиеся друг от друга и от календаря Рима:
<...> но в городе Лавинии целый месяц был посвящен Либеру <...> (Варрон. Божественные древности. Фр. 262 Cardauns);
<...> ведь до Августа Цезаря они отсчитывали год по-разному, поскольку в Египте он состоял из четырех месяцев <...> в Италии в Аавинии — из тринадцати, где в году было 374 дня <...> (Солин 1.34; см. также: Августин. О Граде Божьем. XV. 12; Приложение IV, с. 503—505 наст, изд.)
Также мы знаем, что общины могли менять и действительно меняли свои календари47. И, видимо, в большинстве случаев это делалось систематически — чтобы избавиться от местных особенностей. В последний раз местные календари засвидетельствованы эпиграфически в этрусской Ферентиде в 67 г. до н. э. и в Фурфоне в 58 г. до н. э.48. Следующим этапом стало широкое распространение в Италии копий юлианского календаря — в правление Августа и позднее49.
На самом деле романизация религиозной карты Италии происходила уже давно. Именно понтифики заботились о сохранении культов общин, ставших муниципиями (Фест. 146 L). Римляне принимали на свой счет предзнаменования, наблюдавшиеся за пределами Рима, причем с источниками лучше всего согласуется гипотеза о том, что сенат всегда сам решал, на какие знамения следует отреагировать, и постепенно всё чаще и чаще обращал внимание на неримские территории50. Этот процесс достиг кульминации в эпоху Империи, когда италийские святилища стали считаться собственностью римского народа (populus Romanus):
В конце концов выяснилось, что <...> в италийских городах все священнодействия, храмы и изображающие божества статуи подлежат римской юрисдикции и состоят в ведении Рима (Тацит. Анналы. Ш.71. Пер. А. С. Бобовича);
<...> [священные рощи в Италии,] территории которых бесспорно принадлежат римскому народу, даже если находятся в границах колоний и муниципиев <...> (Фронтин 56 L).
Описанное Тацитом и Фронтином положение дел, несомненно, было обусловлено предоставлением гражданских прав населению Италии; но почва для этого долго подготавливалась по мере того, как возрастало вмешательство Рима в религиозные дела Италии.
47 В дополнение к текстам, процитированным выше, см. также: Светоний. Божественный Август. 59; Гальсгерер не придает должного значения этому феномену: Galsterer 1976 (Е 52): 128-129.
48 ILLRP 589 (Ферентида), читать с комментариями: Emiliozzi 1983 (Е 39) (название месяца неясно, но в любом случае это не chosfer); Degrassi 1961—1962 (В 223); ILLRP 508, с комментариями: Laffi 1978 (Е 69).
49 Iltal ХШ. 2: Na5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 37, 39; элогии римского типа из Арреция и Помпей — это элементы того же явления.
50 McBain 1982 (F 177), с рецензией: Beard 1983 (F 90).
488
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Об изменении религиозных обычаев свидетельствуют также вотивные приношения в сельских святилищах Италии, как малых, так и крупных. В целом, имеющихся данных уже достаточно, чтобы продемонстрировать, что на рубеже эпох сельские святилища в Италии практически приходят в запустение (некоторые примеры см. в Приложении V, с. 505—506 наст. изд.).
Разумеется, не стоит рассматривать данное явление лишь как следствие романизации — оно, между прочим, коснулось и храмов на тех территориях, которые уже долгое время являлись римскими (ager Romanus). Отчасти мы, вероятно, наблюдаем здесь следствие урбанизации, которая в I в. до н. э. и в I в. н. э. затронула большую часть Италии, хотя ее масштабы и не следует преувеличивать51. Именно этот процесс способствовал исчезновению независимых селений (pagi) — данная форма местной администрации процветала между Союзнической войной и правлением Цезаря в областях френтанов, каррицинов, марруцинов, пелигнов и вес- тинов: в патах избирали магистратов, собирали деньги, принимали постановления и строили здания52. Эту точку зрения подтверждает тот факт, что сохранившиеся сельские храмы выжили благодаря их включению в административную структуру ближайшего города: так произошло со святилищем Геркулеса Курина, вошедшим в состав Сульмона, или со святилищем Россано ди Валья, приписанным к Потенции; нечто подобное случилось и со святилищем на озере Клитумны, которое Август отнес не к соседнему городу, а к Гиспеллу.
Тем не менее перемещение населения и власти из деревни в город было не единственным и даже, вероятно, не главным действующим фактором. Как мы увидим, скорее, здесь сыграла роль социальная трансформация Италии в последнее поколение Республики и революционную эпоху. Сельские святилища сильно зависели от поддерживавших их социальных структур; и именно эти структуры были уничтожены как в Риме, так и в Италии, но в последнем случае — с куда более разрушительными последствиями.
Более того, именно в сфере религии мы встречаем конкретные свидетельства о принятии в Италии римских моделей. Одним из важнейших открытий последних лет в области религии стали раскопки авгур акула в Банции — платформы, с которой авгур следил за полетом птиц, и ряда столбов (cippi) с надписями, объясняющими значение птиц, появлявшихся над ними. Теперь представляется, что первая фаза этого строения, когда на столбах были начертаны оскские имена божеств, датируется 90-ми годами до н. э. Позднее, по крайней мере, один текст был заменен на римское имя соответствующего божества53. Это согласуется со свидетель¬
51 Gabba Е.: примем. 40.
52 Frederiksen 1976 (Е 42).
53 ТогеШ М. Contributi al Supplemento del CIL IX// RAL 8, 24, 1969: 9-48 (на с. 39-48); Torelli 1983 (Е 131); ТогеШ 1984 (Е 133); cippus из Фригенто (Grella С. Economia Irpina. 1976, I: вкл. 9), — к сожалению, это, видимо, просто межевой знак, а не пограничный камень с такого же авгур акула; противоположную точку зрения см.: Crawford 1981 (Е 26): 156.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
489
ством Цицерона о наблюдении авгуров за птицами, которое практиковалось во Фригии, Писидии, Киликии и Аравии: «Это, как мы знаем, относится также и к населению Умбрии» [О дивинации. 1.92. Пер. М.И. Рижского)54.
3. Структура семьи
Перейдем к третьей теме. У Авла Геллия мы читаем, что предоставление гражданских прав всем латинским общинам после Союзнической войны привело к исчезновению sponsalia, защищенных иском, то есть обручений, имеющих обязательную юридическую силу;55 Сиарийская таблица, на которой сохранился фрагмент постановлений в честь Германика, принятых после его смерти, теперь убедительно подтверждает, что некоторые правовые нормы, регулирующие обручение (sponsalia), у римлян и латинов действительно различались56. Также можно предположить, что после Союзнической войны стало свободным зависимое население Этрурии, — если оно вообще еще существовало. В остальном мы совершенно не осведомлены о частном праве различных италийских общин, даже Ларина, сведения о котором нам дает речь Цицерона «За Клуэнция»;57 и совершенно не очевидно, что утверждение Катона «Если арпинец умирает, священнодействия (sacra) не следуют за его наследником» [Начала. Фр. 61 Р = П.31 Chassignet) относится к частному праву Арпина58, а не к области священного права. Но, быть может, правомерно предположить, что тусклое отражение изначальных различий можно найти в правилах именования, отличных от римских.
Возьмем три примера: этрусская традиция предписывала указывать имя матери; этот обычай метронимии засвидетельствован в двуязычных надписях и латинских текстах только для Поздней республики, затем он отмирает59. Согласно оскской традиции, преномен отца указывался в родительном падеже после когномена, но без эквивалента слову «сын», f<ilius>; и этот обычай тоже засвидетельствован в нескольких латинских надписях, а затем он исчезает60. Примечательно, что в Италии романиза¬
54 См. также: Rawson 1978 (Е 106) — здесь приводятся слова Филодема о стоицизме в области, «что когда-то была Этрурией» (не следует считать, что здесь подразумевается Рим).
55 Авл Геллий. Аттические ночи. IV.4.1—4; о том, как могло обстоять дело в Риме, см.: Watson 1967 (Е 700): 11—18; доводы, основанные на свидетельствах Плавта, не слишком надежны.
56 Roman Statutes 1995 (F 684): № 37.
57 Moreau 1983 (E 85): 117-118.
58 Так утверждается в работе: Humbert 1978 (Е 61): 305, примеч. 71а, которой я изначально следовал, см.: Crawford 1981 (Е 26): 155.
59 TLLRP 790 (Монтепульчано), 570, 904 (Клузий), 638, 814 (Перузия).
60 ILLRP 286 (Трассакон в области марсов), 483 (Фалернское поле), 1254 (Новый Форум в Сабинской области), Vetter 195 (Аукания); в целом см.: Lejeune 1976 (Е 74) — здесь говорится об утрате богатого разнообразия оскских преноменов, возникновении и укоренении стандартных аббревиатур для преноменов, о принятии аббревиатуры «f.» (сын) и появлении когноменов.
490
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ция оскских имен произошла после Союзнической войны, а среди оскско- язычных жителей Делоса — до этой войны61. Известно, что совместное проживание и сотрудничество деловых людей из числа римлян и италийцев за границей весьма способствовали их взаимной ассимиляции. Согласно умбрийскому обычаю, преномен отца в родительном падеже указывался между преноменом и когноменом; о процессе перехода к римским обычаям свидетельствует группа надгробных надписей одной семьи из Тудера (Vetter 232): мужчина из первого поколения следовал умбрийской традиции и писал справа налево; его дочь и ее муж писали слева направо; их сын именовался в соответствии с римским обычаем, хотя писал по-прежнему на умбрийском языке, пусть даже слева направо.
С одной стороны, легко понять, чем объясняются вышеописанные перемены. После того как Италия получила гражданские права, магистрат мог применять только римское гражданское право; и когда во время ценза человека вносили в списки римских граждан, он, естественно, обязан был называться в соответствии с римским регламентом. Но, с другой стороны, мы уже видели, что первый полноценный ценз в Италии был проведен Августом лишь в 28 г. до н. э., и в любом случае нет априорных оснований ожидать, что людей станут называть в надгробных надписях точно так же, как перед римским цензором (независимо от того, регистрировались ли они в списках через посредство местного магистрата или напрямую); и не следует переоценивать взаимосвязь предоставления гражданских прав с распространением римского гражданского права62. Скорее, как мы увидим, причину этих процессов следует искать в более глубоких катаклизмах италийского общества.
4. Погребение
В этой сфере более всего следует ожидать консерватизма. И тем не менее в I в. до н. э. и начале I в. н. э. в Италии исчезает множество разновидностей местных надгробных памятников и перестают использоваться кладбища, где веками хоронили людей.
Первым обратил внимание на это явление М.-У. Фредериксен, опубликовавший группу надгробных памятников, характерных для Капуи и ее окрестностей, которые перестали производить после установления принципата63. На расстоянии нескольких километров оттуда, в области между Помпеями и Нуцерией Альфатерной, использовался совсем другой тип памятников, столь же характерный для этой местности и тоже обреченный на вымирание. В Лации та же судьба постигла памятники, характерные для вольсков. К северу от Рима огромные этрусские кладбища перестали использоваться в правление Августа или немного позднее (ссылки на некоторые примеры см. в Приложении VI, с. 506—507 наст. изд.). В од¬
61 РоссеШ 1984 (Е 96).
62 Письмо Домициана жителям Ирни показывает, с каким трудом шел этот процесс в более позднее время; аргументы Мурге неубедительны: Mourgues 1987 (В 257).
63 Frederiksen 1959 (Е 41) = (частично) Frederiksen 1984 (Е 43): 285—318, 281—284.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
491
ном конкретном случае отказ от фамильной гробницы можно связать с романизацией в самом полном смысле слова: гробница Сальвиев в Фе- рентиде была заброшена в 23 г. до н. э., поскольку семья переехала в Рим64. Посмотрим, как ситуация с захоронениями развивалась в дальнейшем.
Настало время вернуться к Цицерону. Он говорит об Арпине: «Здесь мы появились на свет как отпрыски древнейшего рода; здесь наши святыни, отсюда ведет начало наш род, здесь сохранилось много воспоминаний о наших предках» («Hinc enim orti stirpe antiquissima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigial». Пер. В. О. Горенштейна), имея в виду, несомненно, родовые культы, длинную семейную историю, гробницы своих предков65. Выделенные им отличительные черты Арпина точно совпадают, за исключением лишь языка, с теми элементами местных культур, где в эпоху Поздней республики и Ранней империи наблюдался отказ от традиционных местных обычаев.
Интерпретируя свидетельства материальной культуры, находящиеся вне контекста религиозных или погребальных традиций, следует, разумеется, проявлять осторожность. Тем не менее в свете вышеизложенного можно также указать, что единообразие архитектурных стилей в Италии эпохи Ранней империи тоже служит доказательством культурной ассимиляции66. Еще одно удивительное свидетельство об этой интеграции дают гораздо более скромные артефакты — красная глянцевая посуда, которая при Августе украшала столы представителей италийского среднего класса. Если в эпоху Республики черную глянцевую посуду изготавливали десятки мастерских по всей Италии, то в годы потрясений производство локализовалось всего в нескольких центрах, самым известным из которых является Арреций. Керамика из этих центров распространялась по всей Италии, и данное явление ясно свидетельствует о значительной экономической интеграции и служит аналогом культурной ассимиляции, о которой речь шла выше67.
Итак, представляется, что Италия в эпоху Августа (и Ранней империи) была более однородной, чем когда-либо до или после этого. Ее един¬
64 Degrassi 1961—1962 (В 225).
65 См.: Цицерон. О законах. П. 1.2—2.5, а также сноска 17 насг. гл.; ср.: «Ведь великое дело — иметь одни и те же памятники предков, совершать одни и те же священнодействия, иметь общие места для погребения» («Magnum est enim eadem habere monumenta maiorum, iisdem uti sacris, sepulcra habere communia». — Цицерон. 06 обязанностях. 1.54— 55. Пер. В. О. Горенштейна) — этот фрагмент не имеет никакого отношения к появлению общих гробниц для одной семьи; противоположное мнение см.: Visscher 1963 (Е 135): 129-130.
66 Bejor 1979 (F 269): 126; Rossignani 1990 (E 115); Италия очень слабо представлена в большом каталоге выставки: Kaiser Augustus und die verlorene Republik 1988 (F 443).
67 Аналогичная картина, но в меньших масштабах, наблюдается с красной глянцевой столовой посудой, изготовленной в Путеолах, см.: Pucci 1981 (Е 101): 107—110; и со стилем керамики, который рассматривается в работе: Lavizzari Pedrazzini 1987 (E 72). См. также: Torelli Μ.: 34—36 (примеч. 20) — о распространении по всей Италии между 50-ми годами До н. э. и рубежом эр «системы вилл», что бы ни понимать под этим термином.
492
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ство выразилось в том, что Август создал стройную систему административных областей: семь на Италийском полуострове и четыре — в долине По, границы которых многократно пересекали прежние этнические и культурные границы: так, лигурийская Луна оказалась в Этрурии, кам- панский, или самнитский, Кавдин — в Апулии, латинский Тибур — в Сам- нии68.
Однако остается еще дать объяснение этому относительному единству Италии в эпоху Августа. Отчасти разгадка может крыться в характере военной службы после Союзнической войны69. В легионах числились люди со всей Италии, вероятно, не имевшие права обзавестись женами или семьями до окончания службы; их надолго забирали из дома (если таковой у них был), а затем, при наборе пополнений в существующие легионы, еще и перемешивали, причем единственным общим языком оставался латинский. Мы уже видели, что использование этнических контингентов прекратилось после Союзнической войны. Единство Италии в эпоху Августа выковалось в том числе и на полях сражений Республики.
Но к этому дело не сводится. Поздняя республика и гражданские войны стали эпохой, когда невиданные массы людей покидали свои дома, не просто надолго, а навсегда, и переселялись на другой конец Италии — как индивидуально, так и в составе колоний70. Этот процесс начался при Сул- ле, ускорился после принятия аграрного закона (lex agraria) Цезаря в 59 г. до н. э. и достиг кульминации в эпоху триумвирата и в начале правления Августа. Именно это смешение и породило культуру Августовой Италии71.
Указанный процесс затронул не только солдат. Вообще говоря, мы не имеем никаких сведений о том, что случилось с людьми, которых лишили собственности, чтобы наградить ветеранов, расселенных после 42 г. до н. э. Ибо не следует считать, что «Эклоги» имеют хоть какую-то ценность как свидетельство о биографии конкретного человека, известного под именем Вергилий; хотя небольшая вероятность того, что один-два обездоленных были поэтами и расположили к себе власть имущих, конечно же существует. Но, видимо, некоторых беженцев из Мантуи поселили возле Бононии;72 выходцы из Кремоны в эпоху гражданских войн обнаруживаются в Конкордии73. Даже если вычесть умерших или переехавших за море, остаются тысячи людей, которые, видимо, нашли новое место жительства в Италии.
Археологические свидетельства позволяют нам бросить беглый взгляд на людей, которые в новых домах крепко держались прежних традиций.
68 Thomsen 1947 (Е 127); Nicolet 1988 (А 69): 221—223; об Италии в эпоху Империи см.: Eck 1979 (Е 38).
69 Smith 1958 (D 232); Harmand 1967 (D 193); Keppie 1983 (E 65).
70 Vitünghoff 1952 (С 239); Keppie 1983 (E 65); см. оправданно пренебрежительную рецензию Кеппи (Keppie 1981 (D 201)) на работу: Schneider 1977 (D 231); о новых свидетельствах по этому вопросу см.: Tagliafeni 1986 (Е 125); Solin 1988 (В 285): 99—101.
71 Заметим, что, по мнению Авла Геллия, браки мужчин-марсов с женщинами из других народов лишили их магической силы, см.: Аттические ночи. XVI. 11.1.
72 Susini 1976 (Е 124).
73 Panciera 1985 (Е 91).
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа
493
Хотя италийские надгробные памятники эпохи Ранней империи — стелы или алтари — довольно единообразны, в Цизальпийской Галлии сохранились, например, следы погребальных обычаев, характерных для Центральных Апеннин, а в Умбрии или Сабинской области — следы римских обычаев (некоторые примеры см. в Приложении VII, с. 507—508 наст, изд.). Также важно помнить, что описанные потрясения отразились и на элите италийских общин: многие из представителей местной знати вступали в армии Поздней республики в ранге младших офицеров. Именно эти люди, выжившие и обогатившиеся в кровопролитных битвах гражданских войн, ввели в центральной Италии обычай возводить роскошные монументальные гробницы, украшенные фризами «fregi d’armi», т. е. фризами с изображением оружия и доспехов (этот обычай отошел в прошлое вместе с эпохой Юлиев—Клавдиев)74. Несомненно, местные аристократы сыграли важную роль и в распространении надгробных памятников с дорийскими фризами;75 не стоит удивляться, что подобных памятников нет в Великой Греции, но любопытно, что они почти неизвестны и в Этрурии. Такая картина объясняется сравнительно небольшими масштабами расселения ветеранов в данной области — после Цезаря не вызывает сомнений заселение только Луки и Пизы — и определенной замкнутостью этрусской культуры76. Символом географической и социальной мобильности этой эпохи и опорой нового общества может выступать Публий Отацилий Арран, сын испанского всадника, получившего гражданские права от Гнея Помпея Страбона при Аускуле, ставший в конце концов муниципальным магистратом в Казине77.
Имея в виду все эти потрясения, вернемся к проблемам структуры семьи и религиозных обычаев. На рубеже эр жители Атесге полностью отказались от традиционных венетских обычаев именования и погребальных обрядов. Объясняется это не только тем, что какое-то время назад они получили гражданские права. Главной причиной явилось насильственное включение в общину после битвы при Акции ветеранов V и XI, а также некоторых других легионов. Следует удивляться не тому, что в Атесге произошли некоторые изменения, а тому, что там сохранился культ венетской богини Реции78.
Что же касается религиозных обычаев, то, рассматривая исчезновение сельских святилищ, которые веками привлекали почитателей, следует, конечно, обратить большое внимание на то, в каком состоянии находи¬
74 Об этом феномене в целом см. статьи в сборнике: Studi Miscellanei 1963—1964 10; о фризе в Новых Фалериях, связанном с колонизацией, см.: ТогеШ 1976 (Е 130): 101.
75 ТогеШ 1969 (Е 129): один из памятников в Беневенте тоже принадлежит ветерану; см. также новую публикацию: Sena Chiesa 1986 (E 119) (по крайней мере, из области Ме- диолана).
76 Л. Кеппи (примеч. 69) отвергает спекуляции, изложенные в работе: Ciampoltrini 1981 (Е 16).
77 CIL I2 3107.
78 Crawford 1989 (Е 28), где содержатся исправления к публикации: Crawford 1981 (Е 26): 160; о надгробных памятниках императорского периода см.: Bermond Montanari 1959 (E 3).
494
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
лись италийские общины в эпоху от Суллы до Августа: их навсегда покинула молодежь, как богатая, так и бедная, а многие города еще и пострадали от насильственного вселения чужаков79. Именно так и создавалось относительное единство Италии при Августе. Римский мир не оставил нам документов, сопоставимых с теми, что имеются в распоряжении историков современности. Но нетрудно спроецировать на римский мир процессы, происходившие в 20-м столетии с французскими деревнями80.
«Война 1914—1918 гг. была иной. Как писал отец Гарнере о Франш- Конте, это была “кровавая война, которая нанесла удар по нашим деревням: двадцать погибших на триста жителей — и от местных обычаев не осталось и следа”».
Приложения
I. Формулы консульских датировок
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИТАЛИИ
Систематические консульские датировки встречаются в республиканской Италии крайне редко; эти формулы можно обнаружить на амфорах для вина, на кровельной черепице, на так называемых tesserae nummulariae, а также в надписях магистров Капуи.
(1) Начнем с дат на амфорах для вина. Интерпретировать их несложно:
• CIL I2 2929, фалернское — 160 г. до н. э.;Ша
• ILLRP 1178 —> 121 г. до н. э.;
• ILLRP 1180а — 107 г. до н. э.;
• ILLRP 1181, массийское фалернское — 102 г. до н. э.;
• ILLRP 1182, фалернское — 102 г. до н. э.;
• IILRP 1179, «о<пимианское?>» фалернское8015 — 101 г. до н. э.;
• Hispania Epigraphica (1990) 2: No 75, амфора типа Дрессель 1 — 90 г. до н. э.;
• Bucchi E. // II Veneto net!eta romana (Verona, 1987) I: 157, амфора типа Ламболья 2 — 46 г. до н. э.;
• ILLRP 1185, лукрецианское фалернское — 35 г. до н. э.
79 Ср.: СоагеШ 1981 (Е 18): 242—244 о том, что в период между Республикой и Империей некоторые семьи исчезают из тех мест, где жили в республиканское время.
80 Weber Е. Peasants into Frenchmen (выше, примеч. 14): 476.
Ша А. Чернил (Tchemia А. Le vin de ГItalie romaine (Rome, 1986): 60—63) напрасно отвергает свидетельство Цицерона [Брут. 287); отсутствие во фрагменте Полибия (XXXIV. 11.1) термина «фалернское» не имеет существенного значения, если учесть контекст, в котором Афиней приводит его. (В указанном пассаже Цицерона речь идет о том, что у слишком молодого либо слишком старого фалернского вина — плохой вкус. — О.Л) ш Cp.: IILRP 1180, «о<пимианское?>» фалернское.
Глава 13а. Италия и Рим, от Суллы до Августа. Приложения
495
(2) Датировки на кровельной черепице (напр., надпись: ILLRP 1151— 1170 — 76—36 годы до н. э.) объясняются тем, что черепица, подвергшаяся воздействию погодных явлений, ценилась выше (поскольку она уже показала на деле свою прочность, тогда как новая, непроверенная черепица могла быстро сломаться. — О.Л.), см.: Roman Statutes 1995 (F 684): М> 15, кол. I, стк. 32—38, с комментарием.
(3) Так называемые «tesserae nummulariae» рассмотрел Ж. АндроШс, который согласился с общепринятым мнением, высказанным впервые Р. Херцогом, о том, что это были ярлыки, прикрепленные к проверенным и опечатанным мешочкам с монетами. Вместе с тем остается совершенно непонятным, зачем требовалось записывать не только год, но также месяц и день проверки монет. Один экземпляр, например, имеет следующую надпись:80*1
Anchial<us> Str<a>ti L. s.
specta<ui>t num( )
mense Febr<uario>
M. Tul<lio> C. Ant<onio> co<n>s<ulibus>80e
Есть и иное объяснение назначения этих ярлыков: использовали их для маркировки скоропортящихся товаров, таких как зерно.
(4) Надписи магистров Капуи появились, несомненно, вследствие того, что в конце П в. до н. э. римляне позволили этому городу иметь какую- то местную администрацию; сделаны данные надписи в интервале со 112 или 111 г. до н. э. по 71 г. до н. э., с двумя десятилетними перерывами, и это позволяет полагать, что данная серия продолжалась до 59 г. до н. э., когда Цезарь учредил в Капуе колонию;* 801 попытка X. Солина801 доказать, что магистры играли в городе второстепенную роль, неубедительна, поскольку надписи минтурнских магистров совершенно не похожи на надписи магистров капуанских.
(5) Остальные релевантные надписи таковы:
• Cristofani М. С. Genucius Cleusina pretore a Caere // Archeologia nella Tuscia (Rome, 1986) II: 24—26; Epigraphica (1986) 48: 191; Prospettiva (1987, April) 49: 2—14 — данная надпись найдена в Цере, вырезана на сырой штукатурке в камере гробницы:
С. Cenucio Clousino prai( )
80с AndreauJ. La vie financiere dans le monde romain (Rome, 1987): 485—506.
808 ILLRP 1023 — в этом издании она воспроизведена неточно.
806 Анхиал, раб Луция Страта, проверил монеты в месяце феврале в консульство Маг жа Туллия и Гая Антония (63 г. до н. э.). — О.Л. f Frederiksen 1959 (E 41).
801 Solin H. Republican Capua Ц Solin H., Kajava M. (eds.). Roman Eastern Policy and Other Studies / (Helsinki, 1990): 151-162.
496
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Неясно, в каком падеже стоят эти слова — в номинативе или аблативе, следует ли восстанавливать последнее слово как «prai<fectus>/prai<fecto>» или как «prai<tor>/prai<tore>», и, если принимать последний вариант, то следует ли считать, что речь идет о преторе или же это архаическое наименование консула. Но ясно, что упомянутое в надписи лицо — это консул 276 и 270 г. до н. э., ясно также, что его упоминание как должностного лица или как эпонима обусловлено наличием у Цере статуса общины с римским гражданством, но без права голосования (civitas sine suffragio), и что этот текст, который, конечно, не является консульской датировкой, всё же можно поставить в один ряд с перечисляемыми далее надписями:
• ILLRP1068; Frei-Stolba R. Die Erkennungsmarke (tessera hospitalis) aus Fundi im Rätischen Museum Chur // Jahresbericht 1983 des Rätischen Museums Chur. 197—220; Eadem. // Jahresbericht 1984: 213—240; Frei- Stolba R. Zur “tessera hospitalis” aus Fundi Ц ZPE (1986) 63: 193—196 — данная надпись найдена в Фундах, датируется 196, 183, 166, 155 или 152 г. до н. э.;
• ILLRP 695 — надпись неизвестного происхождения, датируется 171г. до н. э.;
• Supplementa Italica (Rome, 1981) 1: 156, № 40 = AE 1982: 286 — надгробный камень, найденный в Новых Фалериях; на нем — надпись: «a. d. X К Dec. С. Atilio Q. Seru<il>io co(n)s(ulibus)» («За десять дней до декабрьских календ, в консульство Гая Атилия и Квинта Серви- лия». — О.Л), датируемая 106 г. до н. э.;
• ILLRP 518 — данная надпись обнаружена в Путеолах, датируется 105 г. до н. э.;
• Morandi А. // ArchClass. (1984) 36: 312—313 (публикация содержит неточность) — надпись — на здании в Коллемаджоре, на территории
Клитернии, в области эквов: «[ С.] Claudio М. Perp[ema со (η)
s(ulibus) ], датируется 92 г. до н. э.;
• Фасты, найденные в Анции, возможно, начали составлять до Союзнической войны; если так, то в данном случае налицо феномен, сходный с распространением формул консульских датировок.
Все перечисленные выше населенные пункты, статус которых известен, являются общинами римских граждан, с правом голосования или без него; поэтому, вопреки мнению И. ди Стефано Манцеллы [Ор. ей.: 105— 106), можно предположить, что и Новые Фалерии имели гражданство, а не латинское право; о Новых Фалериях см. также: Andren А. // SE (1980) 48: 93—99 — здесь рассмотрена серия архитектурной терракоты Ш—П вв. до н. э. из Новых Фалерий, Цере, Ланувия и Остии; к этому времени три последних города были общинами римских граждан, с правом голосования или без него. На основании гипотетического статуса и имен лиц, упомянутых в надписи: ILLRP 695, последнюю можно предположительно отнести к Капуе.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
497
Надписи с консульскими датировками, вырезанные после Союзнической войны:
• ILLRP 1267, Калы — 86 г. до н. э.;
• ILLRP 1123, Помпеи — 78 г. до н. э.;
• ILLRP 911, Канузий — 67 г. до н. э.;
• ILLRP 589, Ферентин — 67 г. до н. э.;
• ILLRP 735, Мишурны — 65 г. до н. э.;
• ILLRP 200, возможно, Кремона, а не Мантуя — 59 г. до н. э.;
• ILLRP 508, Фурфон — 58 г. до н. э.;
• ILLRP 608, Грумент — 57 г. до н. э.;
• ILLRP 152, Интерамна Претуттиев — 55 г. до н. э.;
• Forma Italiae (1974) I, 10: No 382, Коллация, резервуар для масла —► 55 г. до н. э.;
• ILLRP 607, Грумент — 51 г. до н. э.;
• ILLRP 763, Помпеи — 47 г. до н. э.;
• ILLRP 562а, Казин — 40 г. до н. э.;
• ILLRP 203, Верона —► 38 г. до н. э.
II. Сохранение греческого языка
и УЧРЕЖДЕНИЙ
Из дальнейшего рассмотрения мы исключим большинство надгробных надписей, поставленных в память о лицах иноземного происхождения, многие из которых были рабами или вольноотпущенниками.
Общие сведения
Ghinatti F. Riti е feste della Magna Grecia // Cntica Stoma (1974) 11: 533—576; мы не рекомендуем: Arnold I.R. Agonistic festivals in Italy and Sicily Ц AJA (1960) 64: 245-251.
НЕАПОЛЬ
• Варрон. О латинском языке. V.85; VI. 15; Цицерон. В защиту Бальба. 55; Цицерон. В защиту Рабирия Постума. 26—27; Цицерон. Тускулан- ские беседы. 1.86; Дион Кассий. LV.10.9; Страбон. V.4.7 (246С); VI. 1.2 (253 С); Веллей Патеркул. 1.4.2; Светоний. Божественный Клавдий. 11; Нерон. 20, 25; Тацит. Анналы. XV.33; Дион Кассий. LX.6.1—2; Авторы жизнеописаний Августов. Адриан. 19.1;
• de Martino F. Le istituzioni di Napoli greco-romana Ц PP (1952) 7: 333— 343; Sartori F. Problemi di stona costituzionale italiota (Rome, 1953): 46—55;
498
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Ghinatti F. Ricerche sui culti greci di Napoli in eta romana imperiale // Atene e Roma, n. s. (1967) 12: 97—109; Pinsent J. The magistracy at Naples Ц PP (1969) 24: 368—372; Merkelbach К Zu der Festordning für die Sebasta in Neapel // ZPE (1974) 15: 192—193; Miranda E. I cataloghi dei Sebasta di Napoli // Rend. Acc. Arch. Napoli (1982) 57: 165—181; Costabi- le F. Istituzioni e forme costituzionali nette cittä del Bruzio in eta romana (Naples, 1984): 126—128; Miranda E. Istituzioni, agoni e culti //Napoli antica (Naples, 1985): 386—397.
Дополнительные надписи
• Miranda Е. Ц Napoli antica (Naples, 1985): 394, № 117.1 — надпись с упоминанием жрицы Афины Сицилийской;
• Osborne MJ. Attic epitaphs //AncSoc (1988) 19: 5—60; на с. 27, № 159, — надпись «Λαελία Ρωμαία γυνή Πύρρου Νεαπολίτου» («Римлянка Лелия, жена неаполитанца Пирра. — О. А) (римский период);
• Miranda Е. Tito a Napoli // Epigr. (1988) 50: 222—226 — надпись с посвящением Титу;
• Ferone С. SulPiscrizione napoletana della fratria degli Artemisi // Miscellanea Greca e Romana, ХШ (Rome, 1988): 167—180 (AE 1913, 134);
• Miranda E. Due nuove fratrie napoletane Ц Miscellanea Greca e Romana, ХШ (Rome, 1988) (IG XIV 730; IGRR 1436);
• Miranda E. Un decreto consolatorio da Neapolis Ц Puteoli (1988—1989) 12—13: 95—102 — надпись эпохи Августа;
• Miranda E. Iscrizionigreche d Italia. Napoli, / (Rome, 1990): № 7, 17, 22, 26, 27.
ДИКЕАРХИЯ (ПУТЕОЛЫ)
• Цицерон. Тускуланские беседы. 1.86.
ВЕЛИЯ
• Цицерон. В защиту Бальба. 55;
• Sartori F. Problemi: 106—107;^ Sartori F. 1976 (E 118): 113, примем. 119— 120.
Дополнительные надписи
• ILS 6461 — надпись в честь гимнасиарха;
• Miranda E. Nuove iscrizioni sacre di Velia // MEFRA (1982) 94: 163— 174; на c. 163—165 — надпись с посвящением Афине (Полиаде?), датируемая I в. до н. э. — I в. н. э.;
• Morel J.-P. Ц Les bourgeoisies (E 77): 21—39; на с. 23, примем. 14, — надпись «Πόπλι,ος έπόησε» («Сделал Публий». — О.Л.);
^ Автор не знает о следующей приведенной здесь надписи.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
499
• SEG ХХХУШ 1020; XXXIX 1078.
РЕГИЙ
• Страбон. VL1.2 (253С).
• Sartori F. Problemi: 136—142; Costabile F. Ц Sartori 1976 (E 118): 466-467; Costabile F. Istituzioni e forme costituzionali nelle citta del Bruzio in eta ro- mana (Naples, 1984): 128-140; SEG XL 854-355, 858.
Надпись, обнаруженная повторно:
• IG XIV 617 = Cook B.F. //Antiquaries Journal (1971) 51: 260—266; надпись — на с. 260—263.
Следует отметить, что Регий всегда тяготел более к Сицилии, чем к Италии, и что в эпоху Империи на Сицилии еще долго преобладала греческая культура.
ЛОКРЫ
• Costabile F. Municipium Locrensium (Naples, 1976): 73—75; см. вместе с: SEG XL 837.
ТАРЕНТ
• Цицерон. Против Берреса. П.4.135; Цицерон. В защиту Архия. 5; Цицерон. О пределах блага и зла. 1.7; Страбон. VI. 1.2 (253С);
• Sartori F. Problemi: 89—90; Gasperini L. П municipio tarentino // Terza Miscellanea Greca e Romana (Rome, 1971): 143—209 (следует особо отметить проэдрию80к в I в. н. э.); Gaspermi L. Tarentina epigraphica // Settima Miscellanea Greca e Romana (Rome, 1980): 365—384.
Дополнительные надписи
• Calvet M., Roesch P. // RA (1966): 297—332 — в надписи упоминается Филон, сын Филона, из Тарента, присутствовавший на играх в Танагре между 90 и 80 гг. до н. э.;
• Gasperini L. Epitafio mistilingue di eta imperiale a Taranto Ц Ricerche e studi (1979) 12: 141-151;
• Lippolis E. // Taras (1984) 4: 141-142 = SEG XXXIV 1020-1021 = Gasperini L. // Taras (1985) 5: 311—314 = SEG XXXVI 943 — надписи представляют собой два посвящения П в. н. э.;
• Gasperini L. Un buleuta aiessandrino a Taranto // Studi A. Adriani, IH (Rome, 1984): 476-479 (Ш в. н. э.).
КАНУЗИЙ
• Гораций. Сатиры. 1.10.30, со схолиями.
ш Проэдрия — привилегия занимать первые ряды в театре, традиционно предоставлявшаяся в греческих городах выдающимся лицам. — Ο.Λ.
500
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
См. также: Moretd L. //RFIC (1972) 100: 180-182 = Gaeta R et al. Le epigrafi romane di Canosa, I (Bari, 1985): Nq 282 — в надписи упомянут приезжий из Ликии. (Текст надписи No 193 слишком плохо сохранился, чтобы служить серьезным аргументом.)
III. Нелатинские надписи после Союзнической войны
Этрусские надписи
Согласно Гаю Фонтею Капитону, Ромул получил оракул о том, что Тихе (богиня удачи. — О. Л) покинет Рим, когда город забудет свою отчую речь («πάτριος φωνή»; Иоанн Лид. О магистратах. П.12 = Ш.42 = О месяцах. Фр. 7, с. 180W); Иоанн Лид, передавший это свидетельство, определенно считал, что в нем подразумевается латинский язык, и весьма рискованно утверждать, что первоначально имелся в виду этрусский, как это делает Э. Габба, см.: Gabba E. Considerazioni sulla tradizione letteraria suile origini della Repubblica // Les origines de la ripublique romaine (Geneva, 1967 (Fonda- tion Hardt, Entretiens. 13)): 133—169; аргументация — на с. 148—149.
Возможно, Дж.-Р. Вуд не ошибается, полагая, что Иоанн Лид был осведомлен о практике двуязычного изложения этрусской науки, и предложенные Вудом дополнения пробелов в тексте Лида вполне правдоподобны, см.: WoodJ.R The Etrusco-Latin liber Tageticus in Lydus’ de ostentis // MPhL (1981) 5: 94—125. Но вместе с тем Лид утверждает, что иноземцы никогда не могли в полной мере понять этрусский текст, и это утверждение у нас нет оснований принимать на веру.
У .В. Харрис анализирует латинские надписи из Этрурии и подчеркивает, что на собственно этрусской территории их гораздо меньше, чем на римской или латинской, см.: Harris W.V. Rome in Etrwria and UmbHa (Oxford, 1971): 172—175. С нашей точки зрения, надпись из Сан-Джулиано (с. 173, примеч. 1) следует рассматривать как свидетельство того, что данная местность входила в состав территории Сутрия; и нельзя утверждать с уверенностью, что надпись на статуэтке из Вольсиний-Орвието (с. 175, примеч. 1) была вырезана именно в этом городе. Туфовый блок из окрестностей Вольсиний-Орвието (с. 175, примеч. 2, NSc (1932): 482—483) с надписью «МАША» — это загадка. Следует отметить и единственное латинское граффито «ADON» на аррецинском сосуде (coppetta) второй половины I в. до н. э. из этрусского и греческого святилища в Грависках, см.: Torelli М. Scavi e ricerche archeologkhe, 1976—1979 (Rome: CNR, 1985 (Quader- ni di «La Ricerca Scientifica». Π)): 355.
Анализ двуязычных надписей см. в изд.: Harris W.V. Rome in Etruria and Umbria: 175—177; следует отметить поразительный случай, когда для перевода слова «tins», связанного с Tinia (верховный бог у этрусков. —
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
501
О. Л.), слово «Iuuentius» было (ошибочно) сконструировано из имени Iuppi- ter, см.: Rix Н. Die Personnamen auf den etruskischen Bilinguen // Beiträge zur Namenforschung (1956) 7: 147—172. Существует примечательная этрусская надпись, вырезанная латинским алфавитом на керамическом кухонном горшке до его обжига; она найдена в Аиментре возле Порретты, на дороге через перевал из долины По в Писгойю, см.: Susini G. // CRAI1965: 155, примеч. 1, со ссылкой на Феста (17 L):
[ ]AGI[ ]
[ TIN] AFFNIN ARSE V[ERSE ]
Мы не знаем, как истолковать фрагментарную и не поддающуюся пониманию надпись (частично — на этрусском, частично — на латинском языке), вырезанную перед обжигом на кирпиче, обнаруженном на свалке I— П вв. н. э. в Пизе, см.: Cristofani М. Ц SE (1970) 38: 288.
Рассмотрение латинских надписей, сделанных после Союзнической войны, см. в изд.: Harris W.V. Rome in Etruna and Umbria: 180—182, последние этрусские надписи см.: Ibid.: 177—180.
Дополнительные надписи
АРРЕЦИЙ
• Maetzke G. Tomba con umetta iscritta trovata in Arezzo // SE (1954) 23: 353—356 — могила с аррецинской керамикой и двуязычной надписью;
• Cherici А. // SE (1987—1988) 55: 331—332, No 104 — урна с надписью Π—I вв. до н. э.
ЦЕРЕ
• Martelli М. //SE (1987—1988) 55: 340-341, No 118 — этрусское имя, написанное латинским письмом, Π—I вв. до н. э.;
• Cristofani М. // Ibid.: 324—325, No 95 — латинская надгробная надпись.
КЛУЗИЙ
• CIL XI 2146-2157, 2185-2189, 2190-2195, 2196-2200, 2201-2210, 2217—2219, 2250—2252 — серии надгробных надписей, где в эпитафиях Π—I вв. до н. э. наблюдается переход от этрусского к латинскому языку, обычно через этрусско-латинский.
ПЕРУЗИЯ
• Rasmussen Т. // ArchRep 1985-1986: 113—114 — гробница семьи Куту, использовавшаяся с Ш по I в. до н. э., один саркофаг и пятьдесят урн, этрусские, а затем латинские надписи;
• Cenciaioli L. // SE, 55 (1987—1988): 311—314 — группа из четырех урн, Π—I вв. до н. э., этрусские, а затем латинские надписи.
502
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
СЕНА
• Mangani E. Б tumulo dei marcni ad Asciano Ц SE (1982) 50: 103—146 — две камеры, использовавшиеся с Ш в. до н. э. до эпохи Августа; в них семьдесят восемь этрусских надписей, из которых одна — латинская (см. также: Mangani E. // SE (1983) 51: 425-426).
ВОЛАТЕРРЫ
Урнам из Волатерр посвящена огромная библиография, которую можно проследить по следующим работам:
• Maggiani А. //SE (1983) 51: 247-248, No 55 (урна 100-50 гг. до н. э.);
• Pandolfini М. Ц SE (1984) 52: 310—311, № 66 (урна 100—50 гг. до н. э.);
• Nielsen М. Late Etruscan cinerary ums from Volterra at the J. Paul Getty Museum // J. Paul Getty Museum Journal 1986: 43—58.
Судя по всему, исследователи достигли согласия в том, что эти урны изготавливались на протяжении жизни одного поколения после Союзнической войны.
Оскские надписи
Более чем сомнительно, что игры и мимы, упомянутые Страбоном (V.3.6 (233С)), или Оскские игры (Osci ludi) у Цицерона [Письма к близким. УП. 1.3 = SB 24) — это пьесы на оскском языке, а не фарсы-ателланы, несмотря на ар1ументы, выдвинутые Э. Роусон в пользу первой точки зрения, см.: Rawson E.D. Intellectual Life in the Late Roman Republic (London, 1985): 22, примеч. 12.
П. Поччетти отвергает концепцию италийского «возрождения» (см.: Poccetd Р. Minima Paeligna // Studi e Saggi Linguistici (1982) 22: 183—187 (Vetter: No 217a—b)); его аргументы слабы, но даже если они ошибочны, тексты, которые могли бы подтвердить подобное «возрождение», не поддаются точной датировке. О надписи Vetter: No 213 (Корфиний) как о примере такого «возрождения» см.: Prosdocimi A.L. Le iscrizioni italiche. Acquisizioni temi problemi // Le iscrizionipre-latine in Italia (Rome, 1979 (Atd dei Convegni Lincei, 39)): 119-214 (нас. 176-178).
В поддержку мнения о том, что оскский язык использовался после Союзнической войны, исследователи обычно приводят надписи из Помпей, выполненные краской (Vetter: No 23—35; точный археологический отчет следует искать у Конуэя (Conway)), на том основании, что они не могли быть нанесены задолго до 79 г. н. э.; но так называемые надписи eituns (надписи на стенах домов с указанием маршрутов к определенным точкам городской стены. — О.Л.), выполненные краской, сделаны определенно не позднее Союзнической войны, см.: Prosdocimi A. L. Le «eituns» //Ро- poli е civiltä dell Italia antica, VI (Rome, 1978): 825—912 (на с. 874-878); а несколько лет назад в Монтефуско, возле Беневенто, был прекрасно виден
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
503
лозунг «Viva Badoglio» («Да здравствует Бадольо!801»), намалеванный краской почти за полвека до того. Все выполненные краской надписи из Помпей вполне могли быть сделаны еще до правления Августа.
О группе оскских граффити на керамике П — середины I в. до н. э., найденных в Помпеях, см.: Reusser С.//SE (1982) 50: 360—363.
М.-Л. Порцио Джерния показала, что Помпеи были почти единственным оскским городом, где в эпоху Союзнической войны иногда опускали концевую «М» под влиянием латинского языка, см.: Porzio Gemia M.L. Contributi metodologici alio studio dei latino arcaico. La sorte di M e D finali // MAL 1973—1974:111—337 (нас. 151—152); процесс ассимиляции, по-видимому, уже начался.
КАПУЯ
• Табличка с проклятием (Vetter: No б) может относиться к периоду после Союзнической войны; в ней концевая «М» пропущена в трех из двадцати шести случаев, см.: Porzio Gemia M.L. ЦMAL 1973—1974.
КУМЫ
• Табличку с проклятием (Vetter: No 7) обычно датируют периодом между Суллой и Цезарем; это странная смесь оскского и латинского языков.
Мессапские надписи
К. де Симоне рассматривает возможность того, что мессапский язык сохранялся после Союзнической войны, см.: de Simone С. // Krähe Н. Die Sprache der Illyrier, Π (Wiesbaden, 1964): 36—37.
IV. Италийские календари
• Овидий. Фасты. Ш.87—98 (cp.: VL59—63):
quod si forte vacas, peregrinos inspice fastos: mensis in his etiam nomine Martis erit, tertius Albanis, quintus fuit ille Faliscis, sextus apud populos, Hernica terra, tuos, inter Aricinos Albanaque tempora constat factaque Telegoni moenia celsa manu, quintum Laurentes, bis quintum Aequiculus acer, a tribus hunc primum turba Curensis habet; et tibi cum proavis, miles Paeligne, Sabinis convenit: huic genti quartus utrique deus.
801 Бадольо Пьетро (1871—1956) — премьер-министр Италии в 1943—1944 гг. после свержения Муссолини. — О. А
504
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Коль ты досуж, загляни в иноземные месяцесловы: Месяц, наверное, в них с именем Марса найдешь. Назвали так третий месяц альбанцы и пятый — фалиски, А у народов твоих, Герника, это шестой.
У арицийцев же, как и в стенах Телегона высоких,
Тот же месяцев счет, как и в Альбанской земле.
А у Лаврентов он пятый, десятый у эквов суровых, Следом за третьим идет он же у жителей Кур.
А у тебя, вояка пелигнский, как у сабинов,
Месяц четвертый уж встарь богу войны посвящен.
Перев. Ф.А. Петровского
• Цензорин. О дне рождения. 22.6
apud Albanos Martius est sex et triginta, Maius viginti et duum, Sextilis duodeviginti, September sedecim; Tusculanorum Quintilis dies habet XXXVI, October ХХХП, idem October apud Aricinos ХХХЛТШ.
У албанцев в марте тридцать шесть дней, в мае — двадцать два, в секстилии — двадцать восемь, в сентябре — шестнадцать, у тускуланцев в квинтилии — тридцать шесть, в октябре — тридцать два, а у арицинов в том же октябре — тридцать девять.
Перев. В. А. Цымбурского, с незначительной правкой
• Макробий. Сатурналии. 1.15.18
ut autem omnes Idus Iovi, ita omnes Kalendas Iunoni tributas et Varronis et pontificalis ad- firmat auctoritas, quod etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et cognomen deae ex caerimoniis addiderunt, Kalendarem Iunonem vocantes...
Но как все иды были посвящены Юпитеру, так все календы — Юноне, что подтверждает и мнение Варрона и жрецов. Это также сохраняют в отеческих богослужениях лаврентийцы, которые и имя этой богини дополнили согласно обрядам, называя ее календарной Юноной...80111
Перев. В.Т. Звиревича
Цензорин и Макробий явно ошибаются, полагая, что эти обычаи сохранились до их дней.
• Варрон. О латинсколА языке. VI. 14
Quinquatrus... ut ab Tusculanis post diem sextum Idus similiter vocatur Sexatrus et post diem septimum Septimatrus, sic hic quod erat post diem quintum Idus Quinquatrus.
Квинкватр... как тускульцы шестой день после ид называют сексатром, а седьмой день — септиматром, так и здесь квинкватр — потому что это пятый день после ид.
• Фест 504—506 L
Quinquatrus... forma autem vocabuli eius exemplo multorum populorum Italicorum enuntiata est, quod post diem quintum Iduum est is dies festus, ut apud Tusculanos Triatrus et Sexatrus et Septematrus et Faliscos Decimatrus.
80,11 Конец этой фразы переведен у М. Кроуфорда иначе: «...которые и имя богини приняли из обрядов, называя день календ Юноной». — О.Λ
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
505
«Квинкватр»... форма же этого слова образована по примеру многих италийских народов, ибо пятый день после ид — это праздничный день, как у тускульцев триатр, и сексатр, и сегггематр, а у фалисков — дециматр.
См., в частности: Ampolo С. // CR (1988) 38: 117—120 — это рецензия на изд.: Torelli М. Lavinio е Roma (Rome, 1984).
V. Вотивные ПОДНОШЕНИЯ
Общее обзорное изложение материала на эту тему см. в изд.: Fenelli М. Contributo per lo studio del votivo anatomico: i votivi anatomici di Lavinio Ц ArchClass (1975) 27: 206—252; здесь, в частности, сказано: «...la diffusione di questa consuetudine si e avuta sopratutto dal IV al see а .С.» («...данный обычай имел хождение преимущественно с IV по I в. до н. э.». — О.Л). См. также:
• AJA 1974: 25 = Forma Italiae Ш, 2: No 19 — о находках в Вольцеях (Сан-Мауро), где подношения совершались с 200 по 75—50 гг. до н. э. (нет оснований объяснять их прекращение восстанием Спартака; в I в. н. э. данный участок стал использоваться для нерелигиозных целей);
• Torelli Μ. (Е 130): 105, примеч. 49 — о находках в Вейях (Порта- Цере), где подношения продолжались до 50—40 гг. до н. э., и Га- биях, где они совершались до 50-^Ю гг. до н. э. (см. свежую публикацию: Aubet М.А. Catalogo preliminar de las terracottas de Gabii // Cuadernos (1980) 14: 75—122);
• La Regina А. Б Sannio Ц Zänker P. (ed.) (E 141): 219—254 (на c. 237) —
0 святилище в Скьяви д’Абруццо, которое существовало с Ш в. до н. э. до своего прискорбного конца через некоторое время после Союзнической войны;
• Sannio (Rome, 1980): 249—250 — о подношениях в Капракотте, которые совершались до середины I в. н. э.;
• Ibid.: 269—281 — об участке в Сан-Джованни-ин-Гальдо, где к концу
1 в. до н. э. подношения почти прекращаются, а затем возобновляются.
Святилище в Мефитисе в Валле д’Ансанто очень плохо изучено: обстоятельства обнаружения многих вотивных подношений практически недо- кументированны, однако эти находки тщательно опубликованы А. Бот- тини и его коллегами, см.: Bottini A. et al. Valle d’Ansanto. П deposito votivo del santuario de Mefite // NSc 1976: 359—524; часть святилища раскопана с соблюдением правил и опубликована И. Райнини, см.: Rainini I. II santuano di Mefite in Valle cTAnsanto (Rome, 1985). Между двумя этими группами артефактов можно обнаружить лишь самую общую связь. Вотивные под¬
506
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ношения здесь так или иначе продолжались до заката Республики; в I в. н. э. на территории святилища стояло какое-то здание, которое позднее было покинуто, но в IV в. н. э. стало использоваться для других целей.
VI. Местные погребальные обычаи
М.-У. Фредериксен (сноска 63 к гл. 13а наст, изд.) выявил группу кампан- ских погребальных стел с одной или несколькими статуями в полный рост, стоявших в святилище (aedicula), и датировал ее концом Республики, примерно 150—50 гг. до н. э.; позднее на смену таким стелам пришли пирамидальные столбы (cippi) либо мавзолеи. Стелы происходят не только из Капуи, но и из зависимой от нее Ателлы [CIL X 3744, 3752), а также из Кайации [CIL X 4605), Синуэссы [ЕЕ УШ 563), Кал (две оскские стелы: Frederiksen: 103, примеч. 100 = Vetter: № 73; Frederiksen: 100 = CIL X 4696; ЕЕ УШ 540, 543, 551, 553, 555, 557; надпись CIL X 4680 вызывает сомнения), Теана (три оскские стелы: Frederiksen: 102, примеч. 97 = Vetter: № 123а, 123b + d (см. также: Antonini R L’Osco Ц Popoli e civiltä dell Italia antica VI (Rome, 1978): 825—912; на с. 874: «Teano»), 123с; оскская стела: Vetter: No 123е = NSc 1913: 408; семь латинских стел: Frederiksen: 100; стела женщины, перевезенная из Теано в Казале-ди-Каринола и предназначенная для Музея провинции Кампания (Museo Provinciale Campano): Maiuri A. Passeggiate сатрапе3 (Florence, 1957): 182—184); экземпляр из Изола-ди-Сора [ЕЕ УШ 609) перевезен туда, вероятно, в нынешнее время.
М. Эккерт датирует стелы 100 г. до н. э. — 25 г. н. э., см.: Eckert М. Capuanische Grabsteine (Oxford: BAR, 1988); но его работа практически не пригодна для использования, поскольку автор не знает о том, что Ателла неотделима от Капуи, и не пытается связать свой менее обширный корпус надписей с корпусом Фредериксена; он произвольно помещает под No 84 оскскую стелу из Теана, которая является неверно прочтенным вариантом стелы РоссеШ, № 137. На самом деле стелы РоссеШ, № 137—138, — это еще два примера оскских стел из Теана.
X. Солин, утверждая, что форма букв, ономастические формулы и литературный стиль характерны для императорского времени, датирует стелы 50 г. до н. э. — 50 г. н. э., см.: Solin Н. Republican Capua Ц Н. Solin, М. Kajava (eds.). Roman Eastern Policy and Other Studies (Helsinki, 1990): 151— 162 (на c. 160—161); но он никак не обосновывает это мнение, игнорируя гораздо более обширную аргументацию, приведенную Фредериксеном; также следует отметить, что попытка Солина отнести к эпохе Империи множество надписей вольноотпущенников без когномена уже опровергнута, см.: Cebeillac-Gervasoni М. Le cognomen des afifanchis ЦAnnales Latini Montium Arvernorum (1989) 16: 89—193.
П. Пенсабене доказал, что в П—I вв. до н. э. в Таренте традиционные камерные и шахтовые гробницы практически исчезают, см.: Pensabene Р. Cippi funerari di Taranto // MDAI[R) (1975) 82: 263—297.
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа. Приложения
507
В Помпеях, Стабиях, Сурренте и Нуцерии Альфатерне на смену квадратным гермам из местного камня (более ранним — без изображений, более поздним — с изображениями) пришли мраморные циппы, о чем см.: Ibid.: 285—286, примеч. 110—118; Frederiksen M.W. Op. cit. Следует согласиться с Фредериксеном, который, в отличие от Пенсабене, считает это изменение важным. (Изображения герм см.: Un impegno per Pompei. Fotopiano e documentazione della necropoli di Porta Nocera (Touring Club Italiano, 1983); Kockel V. Die Gr abbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji (Mainz, 1983) — представленный здесь тип встречается во П в. до н. э., а некоторые экземпляры могут датироваться даже последними годами существования Помпей (с. 17—18)).
Квадратные блоки с надписями, с отверстиями для пепла, закрытыми яйцеобразными крышками с надписью «OSSA», с бывшей территории вольсков, датируются эпохой Поздней республики — Ранней империи, о чем см.: Diebner S. Un gruppo di cinerari romani del Lazio meridionale // DArch (1983 (Terza serie. 1)) 1: 63—78.
Крышки в форме сундуков с деньгами из Корфиния, с одной стороны, и Амитерна и Форул — с другой, см. в изд.: D’Henry G. // Samnium (Rome, 1991): 229—231, с предшествующей библиографией; из рассмотрения следует исключить Эзернию, где крышки совсем другие и, кроме того, происходят только из одной гробницы.
Об Этрурии в целом см.: Harris W.V.: 177—180; Maetzke G.; Rasmussen T.; Cenciaioli L.; Mangani E.; Maggiani A.; Pandolfini M.; Nielsen M., ссылки на все эти работы см. в Приложении Ш наст, гл.; о Вольсиниях (Орвието) см.: Andren А. II santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto (Orvieto, 1968): 3, примеч. 4—5; Mostra degli scavi archeologici alia Cannicella di Orvieto. Campagna 1977. О кладбище, которое просуществовало достаточно долго, чтобы на нем в минимальном количестве появилась аррецин- ская керамика, см.: Orvieto, 1978: 103; о южной Этрурии см.: di Paolo Со- lonna E. Su una classe di monumenti funerari romani delTmeridionale // Studi G. Maetzke (Rome, 1984) Ш: 513—526; о ступенчатых гробницах, которые восходили к предыдущим образцам и исчезли между П в. до н. э. и правлением Августа: Prayon F. L’architettura funeraria etrusca. La situazione attua- le delle ricerche e problemi aperti //Atti Sec. Cong. Int. Etr. (Florence, 1989) 1: 441-449 (на с. 448-^49).
VII. Распространение
ЧУЖДЫХ НАДГРОБНЫХ СТЕЛ
«Архитектурные стелы» («stele architettoniche»), встречающиеся в основ- ном между Луни и Флоренцией, стали популярны при Августе отчасти благодаря ветеранам, отчасти благодаря распространению идеологии римских городских вольноотпущенников, см.: Ciampoltrini G. Le stele funerarie d’eta imperiale delTEtruria settentrionale // Prospettiva (1982) 30: 2—12.
508
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
О проникновении декоративных мотивов, характерных для города Рима, в Умбрию и Сабинскую область при Августе и Юлиях—Клавдиях, см.: Diebner S. Aspetti della scultura funeraria tra tarda repubblica ed impero Ц DArch (1987 (Terza serie. 5)) 1: 29-42.
В конце Республики и в правление Августа из Рима распространяется мода на памятники, в основном в честь вольноотпущенников, о чем см.: Valdiserri Paoletd I. Cippi funerari cilindrici dal territorio di Marruvium Ц RAL 1980: 193-216.
О портретной стеле двух вольноотпущенников из Суперэквия, изготовленной по образцу римских, см.: van Wonterghem F. // Forma Italiae (Florence, 1984) IV, 1: 102-103.
О том, что «такого рода скульптуры были широко распространены в архитектуре романизированной Италии, причем их датировки колеблются по меньшей мере между серединой I в. до н. э. и П в. н. э.» («...sculture del genere ebbero ampia diffusione nell’architettura dell’ Italia romanizzata, con cronologia ehe si fa oscillare tra perlomeno la meta del I secolo a.C. ed il П d. C.»), cm.: Todisco L. Leoni funerari di LuceriaЦRAL (1987 (serie ottava)) 42: 145—155, с предшествующей библиографией на с. 149, примеч. 12.
Карта распределения круглых мавзолеев, построенных по образцу римских, представлена в изд.: van Wonterghem F. Monumento funerario di un tribunus militum a Corfinio Ц ActaArchLov (1982) 21: 99—125. Здесь же учтен мавзолей Гая Уциания, сына Гая, в Полле: Iltal Ш, 1. 113, который рассмотрен также у Коарелли (СоагеШ 1981 (Е 18): 242—244).
О появлении портретных ципп, датируемых 25 г. до н. э. — 50 г. н. э., на римском кладбище, устроенном поверх греческого, см.: Pensabene Р. Cippi funerari di Taranto // MDAI[R) (1975) 82: 263—297.
Феномен появления в северной Италии погребальных рельефов с портретами, несомненно, объясняется их распространением из Рима в долину По, а не общим происхождением от «италийской традиции» («tra- dizione italica»), см.: Chiesa G. Una classe di rilievi funerari romani a ritratd dell’Italia settentrionale // Studi... A. Calderini... E. Paribeni (Milan, 1956) Ш: 385—411; в целом см.: Mansuelli G.A. Genesi e caratteri della stele funeraria padana // Ibid.: 365—384; благодарю д-ра Маурицио Арари, который привлек наше внимание к погребальным ложам центральноиталийского типа в гробницах эпохи Ранней империи в Ломеллине.
(На наш взгляд, крайне трудно согласиться с Ф. Коккелем (V. Kockel; его работа процитирована в Приложении IV насг. гл.), который не считает, что гермы конца I в. до н. э. из Адрии (иллюстрации см.: Fogolari G., Scarfi В.М. Adna antica (Venice, 1970): ил. 54, 1—2) принесены туда переселенцами из области Помпей; Коккель признаёт, что примером подобной диффузии являются гермы из Петелии (публикацию см.: Capano А. Тот- be romane da Strongoli // Klearchos (1980) 22: 15—69), но относятся они к самому концу I — началу П в. н. э.)
Глава 13b
Р.-Дж.-Э. Уилсон
СИЦИЛИЯ, САРДИНИЯ И КОРСИКА
Незадолго до своей смерти в 44 г. до н. э. Юлий Цезарь предоставил латинское право (Latinitas) всем свободнорожденным сицилийцам. Цицерон, которому мы обязаны этими сведениями, явно не одобрял данную меру, и тем более ему не понравилось, когда в марте или апреле 44 г. до н. э. Антоний превратил это латинское право в полноценное римское гражданство — под тем сомнительным предлогом, что таково было намерение Цезаря;1 ибо, хотя Сицилия была римской провинцией почти два века (по словам Цицерона, «она первая дала понять нашим предкам, как прекрасно управлять иностранными народами»)2, в эпоху Йоздней республики она, по существу, оставалась греческим островом. Конечно, по меньшей мере со П в. до н. э. многие италийцы вели там дела как землевладельцы или предприниматели (negotiatores), формируя «конвент римских граждан» («conventus civium Romanorum»), не входивший в административную юрисдикцию сицилийских городов. Очень немногим сицилийцам было предоставлено римское гражданство: у Цицерона названо всего четырнадцать имен, а в сенат, возможно, вошло два «новых человека» («novi homines») с Сицилии, но вряд ли последние были по рождению сицилийскими греками3. Латынь в провинции оставалась иностранным языком, который использовало и понимало незначительное меньшинство: Цицерон вынужден был напоминать своей аудитории, что сиракузяне называют свою курию булевтерионом3а, подробно останавливаться на греческой календарной системе, которая по-прежнему использовалась по всей Сицилии, и объяснять, в каком смысле сицилийцы употребляют греческие слова в документах, оглашавшихся в суде4. Латинские надписи республикан¬
1 Цицерон. Письма к Аттику. XEV.12.1.
2 Цицерон. Речи против Берреса. П.2.2. Пер. Ф.Ф. Зелинского.
3 Wiseman 1971 (D 81): 22—23, 190; Sherwin-White 1973 (А 87): 306—307. Ср. также: Fraschetti 1981 (Е 159).
За Булевтерион [лат. curia, греч. βουλευτήριον) — названия городского совета. — О.А
4 Цицерон. Речи против Берреса. П.2.21.50; П.2.52.129; П.5.57.148.
510
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ского времени на Сицилии малочисленны (и все они поставлены либо иммигрантами из Италии, либо администрацией провинции)5, в сицилийских городах по-прежнему действовали конституции, характерные для эллинистического греческого мира, в рамках которых «совет и народ» (ή βουλή κα'ι о δήμος) издавали постановления, а магистраты носили титулы «простат», «стратег» и «агораном». Таким образом, когда в 44 г. до н. э. Цезарь решил предоставить латинское право Сицилии, она была довольно слабо романизирована.
В честь своего нового статуса сицилийские общины, естественно, стали чеканить монеты и устанавливать надписи, в которых упоминаются дуо- виры или титул «муниципий»; примечательно, что в этих случаях, за исключением одной монетной легенды, по-прежнему использовался греческий язык (δύο ανδρες, τό μουνικίπιον)6. Эти документы относятся к периоду с 44 по 36 г. до н. э., ибо в течение этого времени у сицилийцев сохранялись привилегии: решение сената об отмене всех распоряжений Антония, принятое в конце 44 или в начале 43 г. до н. э., было проигнорировано, ибо в конце 43 г. до н. э. остров был захвачен Секстом Помпеем и на протяжении последующих семи лет находился вне прямого политического и военного контроля Рима.
Трудно сказать, насколько пагубными оказались для Сицилии господство Секста Помпея и последствия его поражения, но, при всей несомненной предвзятости сохранившихся источников, в которых он описан как безжалостный пират, исполненный решимости эксплуатировать остров ради достижения собственных целей, жизнь на Сицилии при Сексте Помпее всё же трудно изобразить в розовых красках7. Сицилийскому сельскому хозяйству вряд ли пошли на пользу как внезапная блокада поставок зерна в Италию в 43 г. до н. э., которая продолжалась вплоть до заключения Мизенского мира с Октавианом в 39 г. до н. э.8 и привела к резкому падению спроса на хлеб и, вероятно, доходов его производителей, так и зачисление сицилийских земледельцев в легионы Секста Помпея; городам пришлось немногим лучше, хоть они и покорно приняли помпеян- скую власть (важное исключение составили Мессана и Центурипы), ибо
5 Напр.: ILS 864; АЕ 1963, 131; Manganaro 1972 (Е 169): 453.
6 О монетах см.: Grant 1946 (В 322): 190—192, 195; Burnett 1992 (В 311). О надписях см.: Willers Н. // RhM 60 (1905): 321—360; Manganaro G. Cronache di Archeologia e Storia dl Arte 3 (1964): 53—68 (Тавромений); IG XIV 367 (Галунтий); IG XIV 954 и AE 1966, 168 bis (Агри- гент). См. также: Wilson 1990 (Е 197): 357, примеч. 25—26. Я полагаю, что надпись: АЕ 1966, 165 (= 1990, 437), с упоминанием колонии (αποικία) в Центурипах, была сделана в 44 г. до н. э., сразу после того, как Цезарь предоставил Сицилии латинское право, и прежде, чем Антоний превратил его в римское гражданство (Wilson 1990 (Е 197): 41—42); если так, то Цезарь планировал создание на Сицилии латинских колоний, аналогичных тем, которые были основаны в Нарбонской Галлии около 45 г. до н. э.
7 Несмотря на мнение Стоуна, см.: Stone 1983 (Е 188). Подробнее об этом периоде см.: Hadas 1930 (С 108): 71-150; Tarn 1934 (Е 189); Goldsberry 1982 (Е 161): 489-497; Roddaz 1984 (С 200): 117-138.
8 О прекращении экспорта зерна см.: Аппиан. Гражданские войны. IV.84—86; ср.: Дион Кассий. XLVin.17.4—19; о его возобновлении см.: Аппиан. Гражданские войны. V.56, 67—74; Дион Кассий. ХГЛТП.Зб.
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
511
они вынуждены были поставлять деньги и солдат для армии и флота Секста Помпея. Еще большим потрясением стало прибытие из Италии тысяч беглых рабов и жертв проскрипций и конфискаций второго триумвирата, нашедших пристанище на Сицилии, подвластной Сексту Помпею. Когда в 36 г. до н. э. состоялась его решающая схватка с триумвирами, ожесточенная война вызвала новые опустошения. Лепид высадился на западе острова и взял штурмом несколько городов, хотя Лилибей, защищенный новыми усиленными укреплениями, устоял против него; затем Лепид отправился через всю Сицилию на соединение с Октавианом, которому едва удалось спастись, когда Секст Помпей застал его врасплох на море при Тавромении9. Решительную победу Октавиан одержал, разгромив флот Секста Помпея при Навлохе; после этого сухопутные силы последнего капитулировали, а затем была разграблена и сожжена Мессана. Осенью 36 г. до н. э. Октавиан наконец завладел Сицилией, но в провинции царил хаос.
Октавиан был не склонен к милосердию. На города, активно поддержавшие Секста Помпея, он наложил огромную контрибуцию в 1600 талантов, а его основных приверженцев разыскал и казнил. Земли он конфисковал и некоторые из них отдал в награду за верную службу своим сторонникам; среди таковых были сицилийские владения Агриппы, которыми управлял Икций, друг Горация; остальная земля стала зачатком обширных императорских поместий на острове, возникших позднее. Несчастные жители Тавромения, вставшие на сторону Секста Помпея и активно поддерживавшие его в борьбе в 36 г. до н. э., были без промедления высланы10. Но наиболее красноречиво Октавиан выразил свое отношение к сицилийцам тем, что решил лишить их латинского права (ius Latii), предоставленного им Цезарем. Сам Октавиан вскоре покинул остров, препоручив легатам предпринять неотложные меры по восстановлению порядка в разоренной провинции. Сицилийцам оставалось лишь подсчитать убытки от поддержки партии, проигравшей в жестокой борьбе, и приступить к долгому и мучительному возрождению острова.
Ни один античный источник прямо не сообщает, что в 36 г. до н. э. Сицилия потеряла латинское право, но такой вывод можно сделать на основании анализа реформ, проведенных пятнадцать лет спустя, в 21 г. до н. э., когда Август (как теперь звали Октавиана) вернулся на Сицилию, которая в результате реорганизации 27 г. до н. э. стала одной из провинций римского народа под управлением проконсула, и начал с нее объезд провинций. Весьма спорен вопрос о том, включали ли эти реформы отмену десятинной системы (decumana), существовавшей в эпоху Республики, и ее замену фиксированным сбором (stipendium), который, возмож-
9 О Лепиде см.: Аппиан. Гражданские войны. V.98.408. Об укреплениях Лилибея см.: ILS 8891. О последующих событиях см.: Аппиан. Гражданские войны. V.105, 109, 110—112.
10 О контрибуции см.: Аппиан. Гражданские войны. V.129. О казни помпеянцев см.: Дион Кассий. ХЫХ.12.4. Об Икции см.: Гораций. Послания. 1.12.1. О Тавромении см.: Диодор. XVI.7.1 (вероятно, высылке подверглась только знать, поскольку колония там была основана лишь в 21 г. до н. э., см. сноску 12 насг. гл.).
Карта 4. G
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
513
но (хотя полной определенности здесь нет), должен был с этих пор выплачиваться деньгами, а не зерном (как иногда утверждается): свидетельства о такой реформе в данный период скудны, зато точно известно, что в других провинциях в период Ранней империи налоговые ставки исчислялись в долях от дохода11. На Сицилию было выведено шесть колоний ветеранов: в Сиракузы (совр. Сиракуза), Катину (Катания), Тавромений (Таормина), Тиндариду, Термы Гимерские (Термини-Имерезе) и Панорм (Палермо); все они, вероятно, были учреждены в 21 г. до н. э., хотя Дион Кассий упоминает лишь о том, что в тот год была основана колония в Сиракузах «и другие» колонии12. Плиний добавляет также, что Мессана и Липара были «oppida civium Romanorum» (значение этого выражения неясно), а Сегеста, Нет (совр. Ното) и Центурипы являлись «Latinae condicionis», то есть обладали латинским правом. Все остальные общины перечисляются у этого автора как податные и, следовательно, не обладающие привилегиями. Поскольку источник сведений Плиния о статусе указанных общин почти наверняка восходит к данным ценза, проведенного при Августе, отсюда неизбежно следует вывод, что решение о массовом предоставлении Сицилии латинского права было отменено, вероятно, в 36 г. до н. э.13, и лишь позднее, в ходе преобразования административной системы в 21 г. до н. э., гражданство было возвращено некоторым избранным общинам. Монеты и надписи свидетельствуют о том, что еще четыре сицилийских города (Талеса, Галунтий, Лилибей и Агригент) получили статус муниципиев до 14 г. н. э.14, вероятно, уже после того, как был составлен источник Плиния.
Поскольку обширные земли на Сицилии были конфискованы правительством у сторонников Секста Помпея, а сам остров располагался близко к Италии, он стал очевидным и, несомненно, излюбленным местом расселения ветеранов, так что вследствие притока поселенцев еще силь¬
11 Ср.: Gamsey Р. // Gamsey, Hopkins, Whittaker 1983 (D 130): 120—121; Brunt P.A. // JRS 71 (1981): 162 (об отсутствии свидетельств о реформе); противоположное мнение см.: Rickman 1980 (Е 109): 60, 64—65.
12 Дион Кассий. I2V.7.1. Даты учреждения колоний в Панорме и Тавромении неизвестны; мнения современных ученых относительно датировки основания последней разделились поровну между 36 и 21 гг. до н. э. (Диодор (XVL7.1) и Аппиан [Гражданские войны. V.129) очевидным образом противоречат друг другу). Панорм назван колонией Августа у Страбона (VI.2.5 (272С) и в надписи CIL X 7279, но Плиний [Естественная история. Ш.90) не считает его таковой, возможно, ошибочно. Обоснование мнения о том, что обе колонии были учреждены в 21 г. до н. э., см.: Wilson 1990 (Е 197): 33—34 (Тавромений), 37 (Панорм).
13 Не все ученые согласны с тезисом о лишении Сицилии латинского права. Белох, например, корректирует текст Плиния [Естественная история. Ш.91) так, чтобы из его прочтения следовало, что все города являлись общинами латинского права (Latinae condicionis), а Центурипы, Нет и Сегеста еще и были освобождены от налогов (immunis), остальные же их платили, см.: Beloch 1886 (А 4): 327. За Белохом следуют: Scramuzza 1937 (Е 187): 343—347; Manganaro 1980 (Е 170): 452; Clemente 1980 (Е 154): 466—467, но мы полагаем, что для правки текста Плиния нет убедительных оснований (Wilson 1990 (Е 197): 36-37).
14 CIL X 7463 (Галунтий), 7458 (Талеса). Монеты: Grant 1946 (В 322): 195—197; Burnett 1992 (В 311). Подробнее см.: Wilson 1990 (Е 197): 42.
514
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
нее возросла доля италийцев среди населения, которая и так уже была весомее, чем в любой другой сопоставимой части грекоязычного мира. Возможно, правительство и в самом деле сознательно рассматривало основание колоний как стимул для дальнейшей романизации Сицилии, да и постановление, дозволявшее сенаторам посещать эту провинцию без особого разрешения императора15, можно истолковать как лишнее свидетельство того, что Сицилия, в сущности, воспринималась как еще один округ (regio) Италии. Позднее, в правление Августа, другие сицилийские общины добивались статуса муниципиев и получали его, а следовательно, сицилийцы считали, что латинское право (ius Latii) заслуживает усилий. Конечно, культурная романизация Сицилии всерьез началась только при Августе и последующих императорах. Латинский язык пришел на остров надолго. Он использовался почти во всех официальных предписаниях и монетных легендах, а с этого времени впервые стал широко применяться и в частных посвящениях, например, на надгробных камнях.
Колонии стимулировали и экономический рост. Страбон считал, что прибытие колонистов всегда содействует процветанию16, и в 21 г. до н. э. Сицилия, несомненно, созрела для преобразований, ведь долгосрочная политика Августа не предусматривала, что провинция так и будет чахнуть и не выходить из экономического спада. Активную программу строительства тоже можно расценивать как зримый признак экономического стимулирования, и Страбон, не сообщая подробностей, специально отмечает, что Август восстановил Сиракузы и Катину, как и Центурипы17. Однако перечень общественных зданий, возведенных, вероятно, при Августе или Юлиях—Клавдиях в сицилийских колониях, весьма значителен: в Сиракузах он включает, например, амфитеатр, монументальную арку, площадь и окружающие ее портики к западу от алтаря Гиерона, перестройку театра и ремонт стен (при Калигуле), а также водопроводные сооружения и, возможно, бани (последние — при Клавдии); в Тавромении — реконструкцию форума и, вероятно, акведук и масштабную перестройку театра; в Катине, по-видимому, акведук и новое здание театра, а в Гимерских Термах — акведук и большие строения на форуме. Всё это вкупе с археологическими свидетельствами того, что примерно в середине I в. н. э. жилые кварталы Тиндариды перестраивались, а жилой район, раскопанный археологами в центре Агригента, оставался густонаселенным, свидетельствует вовсе не о стагнации, а об экономическом росте, который в эпоху Ранней империи переживала Сицилия; после периода неопределенности в 40—30-х годах до н. э. вышеназванные городские центры сравнительно быстро возродились и восстановились18.
15 Вероятно, оно было принято при Августе и, несомненно, до правления Клавдия: Тацит. Анналы. ХП.23.1 (46 г. н. э.); ср.: Дион Кассий. 1Л.42.6 (29 г. до н. э.).
16 Ср.: Страбон. УШ.7.5 (386-388С) (о Патрах); VI. 1.6 (257-259С) (о Реджо); ср. также: Деяния Божественного Августа. 28.1; Светоний. Божественный Август. 46.
17 Страбон. VL2.4 (269-272С).
18 Wilson 1988 (Е 196); Wilson 1990 (Е 197) — здесь подробно рассматриваются указанные свидетельства.
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
515
Выбор мест для основания колоний тоже был важен. Большинство из них имело прекрасные гавани и обширные плодородные территории; все эти колонии располагались на северном и восточном побережьях, благодаря чему могли извлекать наибольшую прибыль из экспорта в Италию. В глубине острова, напротив, ни один город не был превращен в колонию: советники Августа верно рассудили, что в долгосрочной перспективе эти поселения вряд ли выживут. Вполне возможно, что многие из них уже находились в глубоком кризисе, как Моргантина, которая в конце концов исчезла в правление Тиберия. Другие города, например Иета (Монте Ято), около того же времени начали приходить в упадок; так, в середине I в. н. э. перестал функционировать тамошний театр, который в последний раз перестраивался при Августе, а прекрасный дом с перистилем обрушился и так и не был восстановлен; булевтерион был замурован и перестал использоваться, а агора стала превращаться в мусорную свалку. По меньшей мере Гелор и Солунт, а возможно, и Акра, и, несомненно, многие другие города тоже переживали кризис в эпоху Ранней империи. Даже те удаленные от моря города, которым Август предоставил статус муниципиев, процветали недолго: например, деградировала Галеса, где в эпоху Империи эллинистический городской центр не перестраивался ни разу; возможно, тем же самым была отмечена и Сегеста (где, однако, проведены не столь обширные раскопки)19. К 25 г. н. э. обветшало знаменитое святилище Венеры на горе Эрике на землях Сегесты, и, хотя Клавдий завершил его восстановление, этот культ никогда уже больше не обрел той популярности, которой пользовался в эпоху Республики20. Из всех удаленных от моря городов, получивших латинское право при Августе, в эпоху расцвета Империи, по-видимому, благоденствовали только Цешу- рипы, и этот успех, несомненно, был достигнут благодаря прославленному плодородию окружающих земель.
Словом, как Август, так и его преемники не слишком поддерживали урбанизацию во внутренней части Сицилии. Вряд ли стоит удивляться упадку старых городов, построенных на холмах, ибо жить на вершине высокой и, часто, безводной горы (например, вышина Иеты составляет 852 м) неуютно и неудобно, и это теряет смысл, как только выбор места для центрального поселения перестает определяться соображениями безопасности. Однако упадок городов во внутренней части острова не означал снижения численности населения в реальном исчислении, поскольку ему, вероятно, соответствовал рост благосостояния и влияния расширявшихся сельскохозяйственных поселений и рыночных центров, которые с конца Ш в. до н. э. начали возникать в хорошо орошаемых долинах и вдоль крупных дорог. Такими поселениями Сицилия была усеяна в эпоху Империи, крупные же города располагались далеко друг от друга, преимущественно на побережье или вблизи него. Эта земля отвечала
19 Wilson 1985 (Е 194); Wilson 1990 (Е 197): 148-159.
20 Тацит. Анналы. IV.43; Светоний. Божественный Клавдий. 25.5.
516
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
всем требованиям для ведения высокоэффективной сельскохозяйственной деятельности. В количественном выражении Африка и Египет теперь производили и экспортировали больше хлеба, чем Сицилия, но не вызывает сомнений, что в эпоху Ранней империи на острове по-прежнему выращивалось огромное количество зерна21. На монетах местной и императорской чеканки изображен символ Сицилии (голова Медузы с триске- лисом21а), к которому прикреплены колосья; в 68 г. н. э. политическое значение поставок сицилийского зерна (обнаружившееся еще во время войны с Секстом Помпе ем) снова нашло отражение в чеканке Клодия Макра — африканского претендента на императорскую власть, который также наносил на монеты символ Сицилии с колосьями; кроме того, в один ряд с Африкой, Египтом и Испанией Сицилия помещена на остийской мозаике середины I в. н. э., которая символически представляет производителей зерна и — в случае Испании — масла22. Славилось и сицилийское вино. Больше всего ценилось мамертинское вино с северо-востока острова, которое, по словам Страбона, «могло соперничать с лучшими сортами италийских вин» и в больших объемах вывозилось в Рим, Африку и другие страны. Вино из Тавромения, которое иногда выдавали за мамертинское, было известно в Помпеях, а месопотамиан («vinum Mesopotamium») с южного побережья засвидетельствован в Карфагене (в 21 г. до н. э.), в Помпеях и даже в далекой северной Виндониссе в современной Швейцарии23. Животноводство, особенно овцеводство, тоже являлось важной отраслью сельского хозяйства: Страбон упоминает шерсть как предмет сицилийского экспорта. Вывозились также лес, особенно с горы Этна, мельничные жернова из черного базальта, добытого в той же области, которые встречаются по всей Сицилии, а также в Италии и Африке, и сера из Агригента — единственного крупного поставщика этого вещества в римском мире24.
21 Доводы Габбы о значительном сокращении производства зерна на Сицилии неубедительны (Gabba 1986 (Е 160): 79—80).
21а Трискелис (triskeles ) — фигура из трех ног, растущих из одной точки. — О.Л.
22 О монетах см.: Sutherland, Кгаау 1975 (В 359): No 1088 (Панорм); RICI2 (1984): 195 (Макр). О мозаике см.: ВесаШ G. Scam di Ostia (Rome, 1961) IV: No 68.
2^ О мамертинском вине см.: Страбон. VI.2.3 (268—269С); ср.: Плиний Старший. Естественная история. XTV.66, 97; Витрувий. 06 архитектуре. VHL3.12; Марциал. ХШ.117; Афиней. I.27d; Диоскорид. V.6.11. Об экспорте мамертинского вина в Африку см.: CIL VIII 22640.60. О вине из Тавромения см.: Плиний Старший. Естественная история. XIV.66. О месопотамиане см.: CIL IV 2602—2603 (Помпеи); Callender М.Н. Roman Amphorae (Oxford, 1965): 37 (Виндонисса); AE 1893: 111 (Карфаген). О других сицилийских винах см.: Гален Х.834—835; Страбон. VL2.3 (268—269С); XIÜ.4.11 (628С); Плиний Старший. Естественная история. XTV.35, 80; Поллукс. Ономастикой. VI.16; Афиней 1.31Ь; Элиан. Пестрые рассказы. ХП.31. О производстве вина на Сицилии в целом см.: Wilson 1990 (Е 197): 22-23, 191-192, 263-264.
24 О шерсти см.: Страбон. VI.2.3 (268—269С); 2.7 (224—225С). О лесе см.: Страбон. VL2.8 (273—274С); ср.: Диодор. XTV.42.4; Manganaro G. // Cronache di Archeologia e Storia (ГArte (1964) 3: 43-44, кол. П, сгк 25—26, 51—52 (экспорт леса из Тавромения). О базальте см.: Страбон. VI.2.3 (268-269С). О сере см.: De Miro Е. //Kokalos 28-29 (1982-1983): 320- 325; Wilson 1990 (E 197): 238-239.
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
517
О системе землепользования и сельскохозяйственной экономике у нас очень мало сведений, поскольку глубоких археологических исследований не проводилось. Не вызывает сомнений, что на Сицилии по-прежнему были распространены крупные поместья: плодородие, сравнительно удобное расположение относительно Рима и предоставленное сенаторам право приезжать туда без особого разрешения — все эти факторы, вместе взятые, стимулировали прибыльные инвестиции в местные угодья. Об интересе италийских частных лиц (privati) к сицилийской земле и его масштабах (даже если сделать скидку на художественное преувеличение) свидетельствует острота Овидия, по словам которого поместья Секста Помпея (сенатора в I в. н. э.) на Сицилии были так обширны, что он мог бы провозгласить Сицилию своей собственностью, и вымышленная шутка Тримальхиона о том, что, владея сицилийской землей, он мог путешествовать из Италии в Африку через Сицилию, не покидая собственных поместий25. Однако к широким обобщениям античных комментаторов следует относиться с осторожностью. Например, знаменитый пассаж Страбона, в котором утверждается, что вся северная и западная Сицилия, кроме Агригента и Лилибея, была «покинута» — «остальные поселения и большая часть внутренней области перешли во владение пастухов»26, — рассматривался исследователями как указание на то, что сельская Сицилия переживала упадок, а обширные сельские территории отошли к огромным латифундиям, на которых использовался в основном рабский труд. Однако на западе и юго-западе Сицилии обнаруживаются всё новые свидетельства того, что в эпоху Ранней империи данная сельская местность была плотно заселена и усеяна поместьями, виллами и селениями;27 в реальности система землепользования здесь, как и везде, была конечно же сложной, и на одной и той же территории располагалось множество владений разного размера. Конечно, археологические данные не позволяют прийти к содержательным выводам о хозяевах этих владений и определить, кто из них был фермером-арендатором, а кто — собственником, проживавшим на своей земле, поэтому теоретически ряд маленьких участков мог принадлежать одному, а не нескольким хозяевам; когда Страбон рисует нам картину запустения сельской Сицилии, он, скорее всего, сильно сгущает краски. В любом случае, отведение обширных угодий исключительно под скотоводство было бы неприбыльным, и даже в крупных поместьях, несомненно, широко практиковалось смешанное хозяйство. Однако для уточнения картины необходимы новые археологические исследования.
В эпоху Ранней империи в городах было заметно влияние романизации, но в сельской местности оно едва ли ощущалось. Здания здесь по- прежнему строились в традиционном греческом стиле, со стенами из глинобитного кирпича на каменном фундаменте28. Всё так же использовался
25 Овидий. Письма с Понта. IV. 15.15; Петроний. Сатирикон. 48.
26 Страбон. VI.2.6 (272—273С). {Пер. Г.А. Стратановского.)
27 Bejor 1975 (Е 147); Bejor 1983 (Е 148): 365-372.
28 Wilson 1985 (Е 195).
518
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
сицилийский греческий календарь, как свидетельствует надпись 35 г. н. э. из сельского святилища Анны и нимф в Бушеми на юго-востоке Сицилии;29 разговорным языком оставался греческий, а латинские надписи встречались редко. На дальнем западе острова, возможно, сохранялось пуническое влияние, так как во П в. н. э. Апулей называет сицилийцев трехъязычными (trilingues), и третьим их языком, вероятно, был пунический; но в этот период на Сицилии, в отличие от Сардинии и Северной Африки, не обнаруживается неопунических надписей, и даже в Лилибее, основанном карфагенянами, греческий язык глубоко укоренился еще во времена Поздней республики (хотя, как намекает Цицерон, говорили на нем не слишком чисто)30. В городах было распространено греко-латинское двуязычие, но даже там греческие корни отмирали с трудом. Например, не позднее конца П в. н. э. «советом и народом славного города тав- роменийцев» была установлена почетная надпись на греческом языке, которая свидетельствует о том, что к тому времени колония могла делать официальные посвящения на греческом языке и использовать терминологию, не соответствовавшую римскому уставу31. Сицилия располагалась близко к Италии, при Августе сюда прибыло множество колонистов-вете- ранов, а италийцы проявляли большой интерес к земельным спекуляциям на острове, но, несмотря на всё это, в данной провинции сохранялся до конца эпохи античности вполне ощутимый отзвук греческой культуры.
Сардиния и Корсика в культурном отношении сильно отличались от Сицилии. На обоих островах греческое влияние было незначительным, но в крупных городах на западном побережье Сардинии, основанных карфагенянами, сохранилось немалое наследие карфагенской культуры. К обоим островам римские авторы относились в целом неприязненно. Страбон утверждал, что Корсика (латинский Кирн) — дикая страна, а ее обитатели хуже животных; она гораздо более труднопроходима, нежели Сардиния, и хорошие равнины встречаются там лишь на восточном побережье. Диодор упоминал корсиканский мед, молоко и мясо, однако единственным ценным продуктом этого острова считался лес; особенно славились корсиканская сосна и самшит32. Сардиния превосходила Корсику плодородием (хотя почвы Сардинии были скуднее сицилийских, а горы выше) и служила еще одним крупным поставщиком зерна в Италию в эпоху Поздней республики; этим объяснялась ее исключительная политическая значимость33. Однако ее обитатели не внушали римлянам доверия,
29 Notizie degli Scavi 1920: 327—329.
30 Апулей. Метаморфозы. XI.5; Цицерон. Дивинация против Цецилия. 12.39.
31 IG XIV 1091.
32 Об обитателях Корсики см.: Страбон. V.2.7 (224—225С), противоположное мнение см.: Диодор. V.14.1. О продукции см.: Диодор. V.14.1; V. 13.4—5; ср. также: Ливий. XL.34.12; XLEL7.2; Плиний Старший. Естественная история. XVI.71 (мед). О самшите см.: Плиний Старший. Естественная история. XVI.71. О сосне см.: Теофраст. История растений. V.8.I. Столь же высоко ценилась корсиканская краснобородка, см.: Ювенал. V.92.
33 Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею. 12.34: «tria frumentaria subsidia reipublicae» («три житницы государства». Пер. В.О. Горенштейна) — здесь две другие жиг-
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
519
разбои там процветали, а нездоровый климат пользовался дурной славой. Страбон рисует особенно мрачную картину: «Аетом остров вреден для здоровья, особенно же в плодородных областях. Как раз эти самые области постоянно опустошают горные жители»34.
Значение сардинского зерна для Италии становится очевидным, если рассмотреть события 40—38 гг. до н. э. Прекращение поставок с Сицилии с 43 г. до н. э. было достаточно болезненным, но, когда в 40 г. до н. э. Мена, легат Секста Помпея, оккупировал Корсику и Сардинию35 и в результате оказались перерезаны поставки сардинского зерна, над Римом нависла угроза голода. Октавиан не мог игнорировать это политическое оружие. Поэтому в 39 г. до н. э. он заключил с Секстом Помпеем Мизенское соглашение, согласно которому власть последнего над тремя островами была надлежащим образом признана, а поставки сицилийского и сардинского зерна в Рим возобновились. Однако в начале следующего года Мена перешел на сторону Октавиана, и тот обрел власть над Сардинией и Корсикой36.
В 27 г. до н. э., когда проводилась реорганизация провинциального управления, Сардинию и Корсику сочли достаточно мирными, чтобы сделать их, подобно Сицилии, единой провинцией римского народа под управлением одного наместника в ранге проконсула. Расчет оказался неверным. Сообщается, что в 6 г. н. э. во внутренней части Сардинии вспыхнули серьезные беспорядки, а в Тирренском море появились пираты37. На остров были направлены войска, и Сардиния с Корсикой перешли под власть императора; почти наверняка именно в это время острова стали двумя отдельными провинциями, каждой из которых, вероятно, управлял префект из всаднического сословия38. Несмотря на использование во
ницы — это Сицилия и Африка. О плодородии Сардинии см.: Полибий. 1.79.6; Варрон. Сельское хозяйство. П. Praef. 3; Страбон. V.2.7 (224—225С); Лукан. Ш.65; Валерий Максим. Vn.6.1 («Siciliamque et Sardiniam, benignissimas urbis nostrae nutrices» («Сицилию и Сардинию, самых щедрых кормилиц нашего города». — О.Л.)).
34 Страбон. V.2.7 (224—225С). [Пер. Г.А. Стратановского); ср.: Ливий. ХХШ.34.11; Пом- поний Мела. П.108; Павсаний. Х.17.6; Тацит. Анналы. П.85.5. О сардинской малярии см.: Brown 1984 (Е 153): 225—230. О коварстве сардов см.: Фест. О значении слов. 428L («Sardi venales», «продажные сарды»); ср.: Цицерон. В защиту Скавра. 38 сл. О разбоях см.: Варрон. Сельское хозяйство. 1.16.2.
35 В таком написании его имя приводится во всех источниках (и, видимо, в надписи: CIL X 8034), кроме Аппиана, который называет его Менодором (см.: Гражданские войны. V.56, с комментарием: Gabba 1970 (В 55): ad loc.).
36 Аппиан. Гражданские войны. IV.2; V.56, 67, 72, 78—80; Дион Кассий. Х1ЛТП.28.4, 30.7—31.2, 36.1—6, 45.4—9; Плутарх. Антоний. 32.
37 Дион Кассий. ЫП.12.4 (27 г. до н. э.); LV.28.1—2 (6 г. н. э.); ср.: Ливий. XL.34.13.
38 О префекте Корсики см.: CIL ХП 2455 (правление Юлиев—Клавдиев); о префекте Сардинии см.: ЕЕ УШ 744 (46 г. н. э.); АЕ 1893, 47. Я полагаю, что Тит Помпей Прокул, упомянутый на мильном камне эпохи Августа [ILS 105), был наместником; он охарактеризован как «pro legato» (т. е. префект), а это может указывать, что он командовал легионерами (это мнение см.: Meloni 1958 (Е 174): 11—17). Однако другие исследователи (Sasel J. // Chiron (1974) 10: 467—472; Thomasson 1972 (E 190)) считают, что «пролегат» («pro legato) и «префект Корсики» («praefectus Corsicae») были подчиненными наместника еди¬
520
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
енной силы, беспорядки на Сардинии не прекращались. Рим не предпринимал специальных военных экспедиций для окончательного усмирения провинции, и Страбон даже предполагает, что ее завоевание не было окончательно завершено главным образом из-за климата, способствовавшего распространению малярии. В 19 г. н. э. на Сардинию было направлено 4 тыс. иудеев в качестве рядовых солдат для умиротворения внутренних частей острова, мятеж в которых продолжал тлеть, причем в сенате прозвучал прозрачный намек: если посланные солдаты заболеют, то особой потери не случится; это предполагает, что установить твердый военный контроль над островом по-прежнему не удавалось39. В глазах Рима Сардиния была враждебной территорией варваров (Barbaria), и хотя в надписи времен Августа или Тиберия40 все ее народы (civitates Barbariae) выразили свое почтение Риму и императору, однако на протяжении I в. н. э. военному гарнизону, составленному из вспомогательных частей, приходилось зорко следить за внутренней частью острова.
К 67 г. н. э. Нерон счел Сардинию достаточно мирной провинцией, чтобы вернуть ее под контроль сената в качестве утешительного приза вместо Ахайи, городам которой он предоставил свободу и освобождение от налогов41. Однако Корсика по-прежнему была административно отделена от Сардинии, поскольку Децим Пикарий, прокуратор Корсики, безуспешно пытавшийся привлечь остров на сторону Вителлия в ходе переворотов 69 г. н. э. (в результате этих усилий он был убит в собственной ванне), несомненно, являлся ее наместником: к 56 г. н. э. на Корсике, как и в других местах, титул «префект» уступил место титулу «прокуратор»42. И вновь включение Сардинии в число провинций римского народа оказалось преждевременным. На острове постоянно происходили беспорядки, и важные сведения об одном из их очагов дает бронзовая табличка, датируемая 69 г. н. э., из Эстерцили (центральная Сардиния): она свидетельствует не только о том, что горные племена (в данном случае галиллен- сии) издавна посягали на более богатые южные земли (в данном случае — на земли кампанских патулькенсиев, предположительно, потомков италийских переселенцев, границы которых, как сообщается в документе, установил Метелл около ста восьмидесяти лет назад), но и о том, что проконсулы Сардинии один за другим уклонялись от того, чтобы взяться за дело и решительно устранить проблему; а упоминание в надписи о
ной провинции Сардиния-Корсика, и лишь в 67 г. н. э. управление островами было разделено. Ср. также: RE ХХП, 2 (1954): 1291—1292.
39 Страбон. V.2.7 (224—225С). О событиях 19 г. н. э. см.: Тацит. Анналы. П.85.5 (с комментарием Гудьера к этому месту); ср.: Светоний. Тиберий. 36; Дион Кассий. LVTL 18.5а.
40 АЕ 1921, 86 = Sotgiu 1961 (В 286): Nq 188 — эта надпись вполне могла быть установлена до 19 г. н. э., несмотря на аргументы Мелони, см.: Meloni 1958 (Е 174): 15—17.
41 Павсаний. VH. 17.3; Светоний. Нерон. 24. (До этого Ахайя являлась «сенатской» провинцией (точнее, провинцией римского народа), и Нерон произвел обмен Сардинии на Ахайю, получившую свободу. — О. А)
42 Тацит. История. П.16 (с примечанием Чилвера (Chilver) к этому месту). К 56 г. наместники носили уже другой титул: Випсаний Ленат, прокуратор Сардинии, осужденный в этом году за вымогательство (Тацит. Анналы. ХШ.30.1), явно был наместником.
Карта 5. Сардиния и Корсика
522
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
«мятеже» («seditio») и насильственной оккупации («quos per vim occupaverunt») указывает на то, что недавно имели место не мелкие беспорядки, но внезапный и ожесточенный бунт43. К 73 г. н. э. терпение Веспасиана исчерпалось. Войска возвратились на Сардинию, и провинция снова оказалась под императорским контролем, а ее наместник стал называться «прокуратором и префектом» (этот титул соединял в себе старое и новое обозначение). Корсика осталась самостоятельной провинцией под управлением прокуратора44.
Неудивительно, что романизация на столь не обустроенных островах происходила неспешно. На протяжении всей эпохи античности особенно неразвитой оставалась Корсика, и можно посочувствовать унынию Сенеки, сосланного в столь мрачное, по его мнению, место45. Марий основал колонию в Мариане, а Сулла — в Алерии, но больше не предпринималось никаких попыток содействовать урбанизации Корсики, и Плиний, рассказывая об острове, упоминает лишь два этих поселения. В Мариане в ходе раскопок обнаружились только позднеримские строения, не считая нескольких захоронений I и П вв. н. э., но в Алерии проводились более обширные работы и был найден форум и несколько примыкающих к нему домов46. Форум с окружающими портиками относится к типу двойных форумов с Капитолием в центре и храмом Ромы и Августа в восточном конце; в развитой форме такая планировка вряд ли могла появиться до правления Флавиев, но сетчатая кладка монументальной арки и лавок на северной стороне форума, возможно, свидетельствует о более ранней фазе комплекса (эпоха Августа или Юлиев—Клавдиев). Амфитеатр, скромное здание небольших для столицы провинции размеров (его длинная ось составляет лишь 29,6 м), свидетельствует о слабости римской урбанизации на Корсике47. Внутренние земли острова оставались довольно дикими. Постоянный гарнизон дислоцировался в Президии, а с пиратством боролась эскадра Мизенского флота, размещенная в лагуне в Порту Дианы, к северу от Алерии. Птолемей перечисляет четырнадцать крепостей (oppida), расположенных в горах, но вряд ли это были развитые города классического средиземноморского типа: в ходе раскопок крепости в Лури на мысе Коре, которая, несомненно, идентична Лурину в земле ванацинов, упомянутому у Птолемея, обнаружились прочные каменные укрепления, а внутри них — простые прямоугольные строения, напоминающие одну из разновидностей галльского oppidum, хорошо известную по
43 Иное мнение см.: Rowland 1985 (Е 185): 110; Dyson 1985 (Е 157): 258. Надпись см.: ILS5947.
44 О Сардинии см.: CIL X 8023—8024 (74 г. н. э.). О Корсике см.: CIL X 8038 (72 г. н. э.).
45 Сенека Младший. Диалоги. ХП.6.5; 7.8—10. Изгнанных ссылали и на Сардинию, так, например, Нерон отправил туда Аникета, Гая Кассия Лонгина и Криспина (Тацит. Анналы. XIV.62.6; XVL9.2, 17.2).
46 Плиний Старший. Естественная история. Ш.80; Moracchini-Mazel 1971 (Е 177); Moracchini-Mazel 1974 (Е 178) (Мариана); об Алерии см.: Jehasse, Jehasse 1982 (E 166), но датировки строений, предложенные этими авторами, представляются слишком ранними. О датировке форумов, имеющих два участка, см.: Todd 1985 (F 595): 64.
47 Gallia (1976) 34: 503-505; (1978) 36: 463; (1982) 40: 430-433.
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
523
таким примерам, как Амбрусс и крепости в Наже недалеко от Нима48. Крепость в Лури была заселена с Ш в. до н. э. до I в. н. э. Однако, несмотря на явную примитивность, по крайней мере одного из этих oppidum, у ванацинов, получивших какие-то благодеяния (beneficia) от Августа, наблюдаются признаки императорского культа со жрецами Августа (sacerdotes Augusti: Ласемон, сын Левкана, и Евн, сын Томаса, — лица, явно не имеющие римского гражданства): это известно из рескрипта 72 г. н. э., который Веспасиан направил «магистратам и сенаторам» ванацинов относительно их спора о границах с Марианой, соседней общиной, расположенной южнее49.
Сардиния постепенно развивалась. Многие города на западном побережье сохранили явно пунический дух вплоть до эпохи Поздней республики — их жители по-прежнему делали надписи на неопуническом языке, а магистраты именовались суффетами. Первой римской колонией стала Башня Либисона (Порто Торрес), основанная для пролетариев (то есть беднейших граждан, переселяемых из Рима. — О. Л.), вероятно, около 42— 40 гг. до н. э. на нетронутой земле в северо-западной Сардинии, а ко временам Августа город Кар алы (Кальяри) уже обладал муниципальным статусом (по крайней мере, это подразумевается у Плиния, который пользовался источником эпохи Августа); община Уселис, видимо, тоже рано получила права муниципия, ибо, когда в первой половине П в. ее статус был повышен до колонии, в числе ее титулов значились «Юлиева Августова»50. Точно не известно, когда Каралы стали муниципием, но это могло случиться незадолго до 44 г. до н. э., так как город сохранил верность Цезарю, когда вся остальная Сардиния поддержала помпеянцев, а его магистраты, в отличие от магистратов августовских муниципиев, были кват- туорвирами, а не дуовирами51. Так или иначе, Август уделял мало внимания развитию городов на Сардинии; в отличие от Сицилии, он не селил ветеранов на этом острове52. Латинское право было предоставлено постепенно и другим сардинским общинам, в том числе Норе, Сулькам и Корну, — вероятно, в I в. н. э.; любопытно, что их уставы были составлены по образцу устава Карал, поэтому предусматривали кваттуорвиров, а не дуовиров53. Но свидетельств — как эпиграфических, так и археологиче¬
48 О Корсике у Птолемея [География. Ш.2) см.: Jehasse 1976 (Е 164). О Лури см.: Gallia (1976) 34: 507; (1978) 36: 468. Об Амбруссе см.: Fiches 1982 (Е 351); Fiches 1986 (Е 353). О замках в Наже см.: Ру (Е 466) 1978.
49 CIL X 8038.
50 Плиний Старший. Естественная история. Ш.85; ср.: Brunt 1971 (А 9): 597, 605. (Такие названия обычно имели колонии, основанные Августом. — О.Л.)
51 Meloni 1975 (Е 175): 209. О кваттуорвирах см.: ILS 1402, 6763; CIL X 7600, 7605.
52 Корсика не упомянута в перечне в «Деяниях Божественного Августа» (28).
53 Sotgiu 1961 (В 286): Na 45 (Нора); Sotgiu 1961 (В 286): Na 3; ILS 6764; CIL X 7519 (Сульки). О Корне см.: Meloni 1975 (Е 175): 242. Если Каралы оставались столицей провинции, то позднее, несомненно, превратились в колонию (cp.: АЕ 1982, 423); Ольбия, вероятно, получила хотя бы муниципальный статус. О том, насколько редко встречаются кваттуорвиры в провинциальных муниципиях в эпоху Империи, см.: Degrassi A. Scritti vari di antichüa (1962) I: 150 сл.; (1971) IV: 79.
524
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ских — масштабного государственного строительства на Сардинии в правление Августа или Юлиев—Клавдиев очень мало54, и лишь во П в. н. э. в городах этой провинции появляются более осязаемые признаки материального благополучия: проводятся акведуки, строятся бани и тому подобные сооружения. Однако уже в I в. н. э. была отремонтирована и усовершенствована сеть коммуникаций на острове, прежде всего главная магистраль, ведущая с севера на юг, из Башни Либисона — в Каралы; мильные камни свидетельствуют о строительстве в 13/14, 46, 67/68, 69 и 74 гг. н. э.55.
Как уже отмечалось, экономическая роль Сардинии, без всякого сомнения, определялась экспортом зерна. Она всегда была менее плодородной, нежели Сицилия, и, когда в эпоху Ранней империи главными поставщиками пшеницы в центральную Италию стали Африка и Египет, значение Сардинии снизилось так же, как и значение Сицилии; но на Сардинии, как и на Сицилии, не наблюдалось никаких признаков упадка сельского хозяйства или снижения объемов производства зерновых. Для эпохи Ранней империи у нас нет подробных сведений об экономике сельского хозяйства Сардинии (как и Сицилии), поскольку нет ни раскопанных вилл этого периода, ни надежных результатов полевых исследований; представление о повсеместном распространении на Сардинии латифундий, которое часто воспроизводят современные авторы, несомненно, является серьезным упрощением (как и для Сицилии). Немаловажную роль играла и сардинская металлургия. Горнодобывающий район Иглесьенте с центром в Металлах («Рудники») производил свинец, железо и медь; клеймо на свинцовом слитке позволяет датировать его правлением Августа56.
На удалении от прибрежных районов и главных городов Сардинии романизация при Августе и Юлиях—Клавдиях была довольно слабой. Языком повседневного общения в гористой внутренней части острова оставался сардский, и, хотя лица, посвятившие в 62 г. н. э. здание возле Цеппары, сочли нужным увековечить это событие в надписи на латинском языке, их имена (Мислий, Бенетс, Бакору, Сабдага) совершенно неримские57. В эпоху Империи многие нурэтические поселения по-прежнему были обитаемы. Религия не претерпела особых изменений, что и неудивительно, и особенно почитались пунические культы, зачастую едва затронутые римским влиянием. В Антасе культовый центр божества, латин¬
54 Исключения составляют места для прогулок (ambulationes) в Каралах, построенные до 6 г. н. э. (CIL X 7581), храм Цереры в Ольбии эпохи Нерона (Sotgiu 1961 (В 286): No 309) и, вероятно, театр в Норе (о его датировке см.: Wilson 1980—1981 (Е 193): 222, примем. 7). Бани в Порто Торресе, вопреки мнению Мецке (см.: Maetzke 1966 (Е 168): 162), не могли быть построены на исходе I в. до н. э., поскольку до правления Нерона осевая планировка в Риме не встречается; кирпичное сооружение столь внушительных размеров, как эта бани, вряд ли могло быть возведено в провинции ранее 100 г. н. э. (cp.: Boninu, Le Glay, Mastino 1984 (E 151): 13—18). О городах в целом см.: Tronchetti 1984 (Е 191).
55 Meloni 1975 (Е 175): 268, со ссылками.
56 О зерне см.: Rickman 1980 (Е 109): 106—107; Rowland 1984 (Е 183). О сельской местности в целом см.: Rowland 1984 (Е 184). О рудниках см.: Meloni 1975 (Е 175): 157—161. О железе см.: Дион Кассий. XI Л.56.3 (46 г. до н. э.). О слитке см.: CIL X 8073.1.
57 АЕ 1907, 119 = Sotgiu 1961 (В 286): № 177.
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика
525
ское имя которого звучало как Отец Сард (Sardus Pater, прежде почитаемый как Сид Баби), имел много преданных почитателей в эпоху Республики и Ранней империи, но только в Ш в. его храм принял узнаваемую римскую форму (тетрастиль и простиль на подиуме) с ионическим ордером; в эпоху Империи очень долгое время функционировали и другие святилища, в том числе храм Мульцибера (Вулкана) в Норе, храмы Та- нит (замаскированной под Деметру-Цереру) в Tappe и Наркао и храм Бес-Эшмуна в Биции58. Муниципии заимствовали конечно же внешние формы римской конституции, но в других селениях по-прежнему использовался пунический язык и пунические названия. Удивительное подтверждение этому дает неопуническая надпись П в. н. э. из Битии, которая свидетельствует, что в императорское время в сардинской общине, не имевшей устава, еще долго сохранялась старая пуническая система местного управления, а высшими магистратами были суффеты59.
58 Aequaro и др. 1969 (Е 143) (Антас); Meloni 1975 (Е 175): 231, 325, 338.
59 Guzzo Amadasi 1967 (E 162): 133—136.
Глава 13с
Г. Алъфёлъди
ИСПАНИЯ
I. Завоевание, администрация
и ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОВИНЦИИ
В начале императорского периода Иберийский полуостров — первая заморская территория, где было установлено римское управление (в 218 г. до н. э.), — стал одной из важнейших областей империи* 1. Объясняется это прежде всего завоевательными войнами, в ходе которых ее военное и политическое значение всё более возрастало. В конце Республики и в период триумвирата, когда уже миновали почти два столетия постоянных военных действий и римская цивилизация глубоко укоренилась вдоль восточного побережья и на юге полуострова, труднодоступные горные райо-
* Эта глава была написана в 1987 г. и пересмотрена в 1988-м. В 1991 г. автор попросил редакторов «Cambridge University Press» внести некоторые дополнения и изменения. К сожалению, сделать это не удалось, а потому издательство несет ответственность за то, что параграф не отражает современное состояние исследований. По меньшей мере следует отметить, что в 1995 г. были опубликованы две части CIL П2: CIL IP/14, часть 1 (южная часть Тарраконского судебного округа) и П2/7 (Кордубский судебный округ) под ред. А. Альфёльди, А.-У. Стилоу и др. О местных монетных дворах см.: Bumett et al. 1992 (В 312). Об истории и археологии Иберийского полуострова см. прежде всего: Churchin L.A. Roman Spain: Conquest and Assimilation (London; New Yourk, 1991); Trillmich W. et al. Hispania antique: Denkmäler der Römerzeit (Mainz am Rhein, 1993).
1 Литературные источники по римской Испании см. в сб.: Schulten А. et al. Fontes Hispaniae Antiquae I—IX (Barcelona, 1922—1947). В последние годы число римских надписей с Иберийского полуострова возросло с примерно 6 тыс., опубликованных Э. Хюбнером в т. П «Corpus Inscriptionem Latinarum», до примерно 20 тыс. В их числе — важные документы, такие как Сиарийская таблица, новый вариант Гебанской таблицы [АЕ 1984, 508; см. прежде всего: Lebek W.D. //ZPE 66 (1986): 31—48) и Ирнитанский закон (см. далее, сноска 20 и текст к ней). Издание нового Корпуса, включающего все надписи (iCIL П2), готовится под руководством Г. Альфёльди, М. Майера и А.-У. Стилоу. Классической работой о местных монетных дворах сегодня является исследование: Vives у Escudero А. La moneda hispänica I—IV (Madrid, 1924—1926); репринт (в 2 т.): Madrid, 1980. Богатый археологический материал, значительно расширившийся за последние два десятилетия благодаря интенсивным раскопкам в Испании и Португалии, слишком обширен, чтобы его можно было описать здесь. Об археологической и исторической топографии ср.: Tovar 1974—
1976 (Е 243); Кеау 1988 (Е 227). Недавно опубликованное обобщающее исследование истории римской Испании (несколько устаревшее концептуально и не свободное от ошибок) см.: BläzquezJ.M. et al. 1982 (E 210).
Карта 6. Испания
528
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ны северо-западной Испании всё еще сопротивлялись Риму. Начиная с 39 г. до н. э. обеими испанскими провинциями — Ближней Испанией и Дальней Испанией — управлял один проконсул в ранге консуляра (позднее «эру консуляров» для Ближней Испании стали отсчитывать с 38 г. до н. э.); этот наместник командовал армией и по поручению Октавиана/ Августа осуществлял гражданское управление. До последнего проконсула — Секста Аппулея в 28/27 г. до н. э. — все наместники постоянно вели войны, и в Триумфальных фастах за этот период зафиксировано шесть триумфов проконсулов. Но именно первый принцепс завершил подчинение оставшейся части полуострова — этим он стремился продемонстрировать заботу о своей провинции, завоевать лавры и в то же время получить предлог для отсутствия в Риме в то время, когда его присутствие там после предварительного урегулирования нового режима могло вызвать политические сложности.
Весной или летом 27 г. до н. э. Август отправился в Галлию, а затем — в Испанию. В Тарраконе (совр. Таррагона) — новой столице Ближней Испании, которая заменила республиканскую столицу Новый Карфаген (совр. Картагена), — он вступил сперва в восьмое, затем — в девятое консульство, соответственно, 1 января 26 г. до н. э. и 25 г. до н. э.; здесь же он принимал посольства. Таким образом, Тарракон ненадолго стал местом принятия важнейших политических решений и, следовательно, центром власти. Внимание римского мира было обращено на Испанию, где в 26 г. до н. э. принцепс лично вел кампанию против кантабров в горах между Бургосом и Сантандером. Во время второй кампании в 25 г. до н. э. в Астурии и Каллекии, к западу от Кантабрии, император заболел и оставался в Тарраконе. В конце 25 г. до н. э. он отправился из Испании в Рим, и завоевание завершили его легаты, покончившие с последними мятежами. В 19 г. до н. э. Агриппа окончательно подавил всякое сопротивление.
Для ведения этих победоносных войн в Испании пришлось сконцентрировать не менее шести легионов и множество вспомогательных частей, и сам Август присутствовал там в течение двух лет, а позднее еще раз посетил эту провинцию в 16—13 гг. до н. э., чтобы осуществить ее административную реорганизацию, — всё это ясно свидетельствует о значимости Испании для Римской империи. Показателем ее важности в эпоху Раннего Принципата служит и большое число испанских общин, пользовавшихся покровительством виднейших римских сенаторов и даже членов императорской семьи2. Как повелось еще в эпоху Республики, социальные и политические связи с Испанией приносили римским политикам немалый авторитет и влияние.
На Иберийском полуострове, как и в других провинциях, Август установил новую систему управления, которая в последующие три века претерпела лишь незначительные изменения3. Начиная с 27 г. до н. э. в каче¬
2 Ср. об Агриппе: Koch М. // Chiron (1979) 9: 205-214.
3 См.: Albertim 1923 (Е 198): 25—42; Alföldy 1969 (Е 201): прежде всего 285—296.
Глава 13с. Испания
529
стве представителей принцепса Испанией управляли — и прежде всего командовали войсками — легаты пропреторы Августа (legati Augusti pro praetore): один находился в Ближней Испании, второй — в Дальней. Первым легатом Ближней Испании стал Гай Антистий Бет (27—25/24 гг. до н. э.), Дальней — Публий Каризий (27—22 гг. до н. э.). Свой окончательный вид эта система приобрела около 13 г. до н. э., хотя реформы проводились не единовременно. Однако к этому моменту не только изменились границы между провинциями, но и Дальняя Испания была разделена надвое, и в следующие три с лишним столетия Римская Испания состояла уже из трех частей (Hispaniae tres): это Бетика, Лузитания и Ближняя Испания.
Провинция Бетика, прежде входившая в состав Дальней Испании и до начала П в. н. э. называвшаяся также Дальней Испанией Бетикой, включала Андалусию, за исключением восточной части этого региона, причисленной к Ближней Испании. В то время как две другие провинции оставались императорскими, Бетика со столицей в Кордубе (совр. Кордова) являлась провинцией римского народа. Наместником ее был проконсул в ранге старшего претория, и назначался он ежегодно путем жеребьевки (sortitio) в сенате. Осуществлять управление ему помогали легат пропретор (им — по выбору проконсула — становился младший преторий или сенатор более низкого ранга) и квестор, распоряжавшийся налогами, собранными с провинциальных общин. Лузитания — это современная Португалия за исключением северной части последней, но в нее входила также испанская Эстремадура и область Саламанка в западной части Кас- тилья-ла-Вьехи; столицей Лузитании была Эмерита Августа (совр. Мерида), и управлял ею легат пропретор Августа (legatus Augusti pro praetore), старший преторий. Недавно завоеванная территория Астурии и Каллекии (включавшая северную Португалию) поначалу являлась частью Дальней Испании, затем была отделена от Лузитании, из которой Рим вывел войска, и присоединена к Ближней Испании, единственной провинции на Иберийском полуострове, где все еще стоял гарнизон из легионов. Эта провинция, одна из крупнейших в империи, включала в себя восточное побережье Испании вплоть до Альмерии, восточную часть Андалусии и большую часть внутренней Испании вместе с северными и северо-западными территориями полуострова. В Тарраконе располагалась резиденция наместника этой крайне важной провинции; как правило, им являлся старший консуляр, имевший хорошее происхождение и сделавший прекрасную карьеру: во всяком случае, Ближнюю Испанию, в отличие от Бетики и Лузитании, возглавляли представители высшей аристократии императорского времени. При отправлении правосудия ему оказывал помощь сенатор преторского ранга (которого в I в. н. э. называли легатом Августа (legatus Augusti), а позднее также iuridicus). В подчинении наместника находились и другие должностные лица сенаторского ранга — легаты расквартированных в провинции легионов. В конце правления Августа и начале правления Тиберия два из трех легионов размещались в одной крепости и подчинялись одному легату — это следует из рассказа Стра¬
530
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
бона об административном устройстве Испании и из эпиграфического свидетельства4.
Еще одним нововведением в управлении провинциями стало их разделение на судебные округа (conventus iuridici) для целей судопроизводства, а также для отправления императорского культа. В Ближней Испании было семь округов (conventus): в Тарраконе, Новом Карфагене, Це- зарьавгусге (совр. Сарагоса), Клунии (совр. Пеньяльба-де-Касгро), Асгури- ке Августе (совр. Асторга), Августовой Роще (совр. Луго) и Бракаре Августе (совр. Брага); в Бетике — четыре: в Кордубе, Астиги (совр. Эсиха), Гиспалисе (совр. Севилья) и Гадесе (совр. Кадис); в Лузитании — три: в Эмерите Августе, Паке Юлия (совр. Бежа) и Скаллабисе (совр. Санта- рем). Хотя учреждение этих округов (conventus) некоторые исследователи приписывают Веспасиану, описанная система, несомненно, восходит к Августу, во всяком случае в ранних формах, и это засвидетельствовано в патронатной таблице (tabula patronatus), датированной 1 г. н. э.5. Отсутствие свидетельств еще не доказывает отсутствия организации. Хотя уже в правление Августа засвидетельствованы императорские прокураторы, которые занимались финансовым управлением Ближней Испании и Лузитании и в установленной позднее системе имели бы ранг дуценария, первое известие о прокураторе Бетики (который, правда, отвечал только за императорские доходы с этой сенаторской провинции, а не за налоги с общин) относится ко временам Веспасиана; но данная должность вполне могла быть учреждена и ранее, вероятнее всего — в правление Августа.
Согласно Страбону, основной задачей прокураторов Испании было снабжение армии6. В начале Принципата Испания являлась одной из важнейших военных зон империи. В покорении северо-западной Испании принимали участие по меньшей мере шесть легионов, и все они хорошо засвидетельствованы в эпиграфических и нумизматических источниках, а именно: I, П (Августов), IV (Македонский), V (Жаворонка), VI (Победоносный) и X (Сдвоенный). Так, например, нам известно, что ветераны V и X легионов были расселены в Эмерите Августе в 25 г. до н. э.; ветераны IV, VI и X — в Цезарьавгусге, вероятно, между 16 и 13 гг. до н. э.; а ветераны I и П — в Акци (совр. Гуадикс), несомненно, в начале принципата. Но имеются некоторые сведения, позволяющие сделать вывод, что в начале правления Августа легион IX (Испанский) и XX (Валериев Победоносный) также входили в состав испанского войска.
Когда завоевание было завершено, Август решил оставить на Иберийском полуострове три легиона, сконцентрировав их в реорганизованной Ближней Испании. Начиная с правления Тиберия лагеря этих легионов образовывали дугу в северо-западной части нагорной равнины Кастилья- ла-Вьеха напротив Кантабрийских и Астурийских гор, и такая дислока¬
4 Страбон. Ш.4.20 (166С); CIL IX 4133 = ILS 2644. О рассказе Страбона об Испании ср.: BlazquezJ.M. // Hispania Antiqua (1971) I: 11—94.
5 Dopico Cainzos M.D. // Gerion (1986) 4: 265—283; cp.: AE 1984, 553.
6 Страбон. Ш.4.20 (167C). О римской армии в Испании см. прежде всего новую работу: Le Roux 1982 (E 228); cp.: Alföldy 1987 (D 159): 482-513.
Глава 13с. Испания
531
ция ясно указывает, что в начале Принципата их основной задачей был контроль над недавно покоренными территориями. IV Македонский легион располагался в долине реки Писуэрга, по которой можно было вступить в Кантабрийскую Кордильеру, двигаясь на юг со стороны Паленсии; длинный ряд обнаруженных в этой области пограничных камней (termini Augustales) указывает на границы между лугами IV легиона (prata leg (ionis) ПП) и полями (ager) городов Юлиобрига (совр. Ретортильо) на севере и Сегисамо (совр. Сасамон) на юге. Первую общую крепость VI Победоносного и X Сдвоенного легионов, которая находилась в Астурии, идентифицировать не удалось; позднее VI Победоносный легион, вероятно, был расквартирован в Легионе (совр. Леон), который начиная с правления Веспасиана и до Поздней античности служил крепостью для VII Сдвоенного легиона, тогда как X Сдвоенный легион мог располагаться в Петавонии (совр. Росинос-да-Видрьялес). В этой же области, видимо, стояло множество вспомогательных (auxilia) и испанских войск; в частности, IV Галльская когорта размещалась в крепости на дороге между Асгури- кой Августой и Петавонием, возле Ла Баньесы, где найдено множество пограничных камней IV Галльской когорты (termini pratorum coh(ortis) ПП Gall<lorum>), поставленных при Клавдии7.
Концентрация в северо-западной Испании всех этих войск, особенно легионов, набиравшихся сперва из италийцев, а затем всё чаще и чаще — из жителей испанских колоний и муниципиев, во многом позволяла предотвратить вооруженное сопротивление, хотя какая-то борьба против небольших банд горных разбойников, разорявших страну, продолжалась и при Нероне8. Концентрация войск также весьма способствовала романизации племен, которые контролировались этими войсками. Примерно через три поколения после завоевания северо-западной Испании можно было начинать сокращение гарнизона. В 39 г. н. э. или, самое позднее, в 43 г. н. э. IV Македонский легион оставил Испанию и был отправлен на Рейнскую границу; в 63 г. н. э. X Сдвоенный легион был послан на Пан- нонскую границу. В Испании остался только VI Победоносный легион с некоторыми вспомогательными частями. Со времен Августа численность вспомогательных войск (auxilia), естественно, тоже сократилась, как и численность легионов9.
Одной из обязанностей армии было участие в государственных строительных работах — в первую очередь прокладка дорог. Во время своего второго пребывания в Испании в 16—13 гг. до н. э. Август начал систематическое обустройство дорожной сети. При Августе была построена, по крайней мере частично, Августова дорога, которая вела с перевала Пер-
7 Cp.: Le Roux 1982 (E 228): 107—118, со списком надписей, свидетельствующих о лугах (prata) IV Македонского легиона и IV Галльской когорты.
® CIL XI 395 = ILS 2648: «[p<rimo> p<ilo>] leg<ionis> VI victr<icis>, donis donato ob res prosper<e> gest<as> contra Astures» («примипилу VI Победоносного легиона, одаренному наградами за успешную войну против асгуров»), датировка надписи: ок. 60 г. н. э. или несколькими годами раньше.
9 Cp.: Le Roux 1982 (E 228): 85-93.
532
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
пос в Пиренеях вдоль восточного побережья Испании в Тарракон и Ва- ленцию (совр. Валенсия), а оттуда по южной части полуострова, через Кордубу, в Гадес; в последующие годы ее разметили мильными камнями, к примеру, в Бетике — во 2 г. до н. э. В правление Домициана этот путь, имевший, согласно Страбону, важнейшее значение, всё еще звался «военной дорогой» («via militaris»), как и многие другие магистрали империи10 11. Дорожная сеть в северо-восточной Испании, конечно, создавалась с участием армии. На камнях, из которых построен римский мост в поселении У Рубежей (совр. Марторель) возле Барцинона (совр. Барселона), сооруженный, вероятно, между 16 и 13 гг. до н. э., можно прочесть сокращенные названия IV, VI и X легионов, как и на мильных камнях в области Цезарьавгусты, поставленных, соответственно, в 9 г. до н. э. и 5 г. до н. э.11. Благодаря итинерариям, мильным камням и археологическим открытиям известно и еще о нескольких дорогах, и это доказывает, что государственная дорожная сеть (viae publicae) тянулась через весь полуостров. Например, одна из двух главных диагональных магистралей вела с северо-запада на юго-восток, вторая — с юго-запада на северо-восток, а пересекались они точно в географическом центре полуострова — в Титульции (в районе современной Титульсии, бывшей Байоны-де-Тахуньи, к югу от Мадрида). На западе главная римская дорога вела из Асгурики Августы до Эмериты Августы и оттуда до Гиспалиса, так называемого Камино-де-ла-Платы, где самые ранние мильные камни датируются правлением Августа12.
II. Урбанизация
Завоевание и замирение территорий, реорганизация провинциального управления и сети дорог — лишь часть достижений Августа в Испании. Урбанизация, а именно основание колоний и предоставление муниципального статуса местным общинам, оказывала огромное влияние на политическую систему, социальный строй, экономическое и культурное развитие провинции, а потому служила одним из самых действенных средств в арсенале императорской политики в Испании. Городская жизнь на Иберийском полуострове имела давние традиции, ибо там имелись финикийские и греческие колонии, а некоторые местные селения превратились в
10 Страбон. Ш.4.9. (160С); SiUieres Р. // REA (1981) 83: 255—271. Об Августовой дороге, которая, в отличие от своей предшественницы, Домициевой дороги, была скорее сетью дорог, нежели одной дорогой, ср.: РаШ Aquilera F. La via Augusta en Cataluna. Bellaterra, 1985.
11 Fabre G., Mayer M., Roda I. Inscriptions romaines de Catalogue /, Barcelone [sauf Barcino) (Paris, 1984): № 1; Castillo C, Gomez-PantojaJ., Mauleon M.D. Inscriptiones romanas del Museo de Navarra (Pamplona, 1981): No 1; Там же: No 2 = Fatäs G., Martin Bueno M.A. Epigraf ia romana de Zaragoza у su provincia (Zaragoza, 1977): No 11; Там же: Nq19; cp.: AE 1984, 583—585. О дорожной системе в Римской Испании ср.: Roldan Hervas 1975 (E 236).
^ Roldan Herväs J.M. Iter ab Emerita Asturicam. EI Camino de la Plata (Salamanca, 1971): 51, № 25.
Глава 13с. Испания
533
города; однако к последним десятилетиям Республики римская урбанизация в Испании продвинулась не слишком далеко. Если исключить те общины, статус которых до сих пор вызывает споры, то до 40-х годов I в. до н. э. в Испании засвидетельствовано лишь несколько городов, которые предположительно или несомненно обладали латинским правом — например, Картея (Кортихо-эль-Рокадильо возле Гибралтара, позднее ставшая муниципием) или Валенция, — и несколько городов, которые, видимо, имели статус корпораций римских граждан (conventus civium Romanorum), таких как Тарракон и Новый Карфаген13. В последние годы правления Цезаря, и главным образом в правление Августа, произошли глубокие изменения, и их хорошо иллюстрирует список городов, который составил Плиний Старший преимущественно на основании источника, датируемого серединой принципата Августа (до 12 г. до н. э.). Помимо множества общин, не обладавших привилегиями, Плиний перечисляет в Бетике девять колоний, десять муниципиев римских граждан (municipia civium Romanorum) и двадцать семь городов со «старым» латинским правом (имеется в виду латинский статус, предоставленный до того, как Веспасиан распространил латинское право (ius Latii) на Испанию); в Ближней Испании (вместе с Балеарскими островами) насчитывалось двенадцать колоний, пятнадцать муниципиев римских граждан и двадцать общин, обладавших «старым» латинским правом, а в Лузитании — пять колоний, один муниципий римских граждан и три общины «старого» латинского статуса14. Вместе с тем эти цифры не дают полного представления о масштабах урбанизации Испании к концу принципата Августа (не говоря уже о множестве городов, получивших привилегии к эпохе Флавиев). Некоторые испанские города обрели уставы в последнее десятилетие правления Августа и поэтому не попали в списки Плиния, которые были составлены раньше. Так, например, Плиний сообщает, что жители Сегобриги (возле Саэлисеса, 100 км к юго-востоку от Мадрида), одного из важнейших кель- тиберских центров, являлись данниками (stipendiarii), то есть образовывали иноземную общину; однако из эпиграфических свидетельств известно, что в 12/14 г. н. э. Сегобрига уже обладала статусом муниципия и управлялась кваттуорвирами и эдилами15.
К сожалению, наши источники, в частности список городов у Плиния, надписи и местная чеканка нескольких городов не позволяют составить точный перечень колоний и муниципиев, основанных Августом. Свидетельства недостаточно ясны. Общины, жители которых были зачислены в Галериеву трибу (Galeria tribus), действительно были учреждены на более раннем этапе урбанизации, нежели основанные Флавиями города, граждане которых принадлежали к Квириновой трибе (Quirina tribus); и
13 Об урбанизации Римской Испании см. прежде всего: Galsterer 1971 (Е 221); Wiegels 1985 (Е 245); Alföldy 1987 (Е 205).
14 Плиний Старший. Естественная история. Ш.7, 18, 77—78; IV. 117.
15 CIL П 3103—3104 (эдилы, 12/14 гг. н. э.); CIL П 381* (несомненно, подлинная, aed. Hllvir (эдил, кваттуорвир. — С.Т.)). Cp.: Alföldy 1987 (Е 205): 77—80.
534
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
всё же, хотя жители большинства городов, получивших привилегии от Августа, были включены именно в Галериеву трибу, принадлежность отдельных жителей общины к этой трибе, конечно, не доказывает, что автономия была предоставлена их городу именно Августом; кроме того, в эту трибу не были зачислены жители, по крайней мере, некоторых колоний Августа. Тем не менее, очевидна общая направленность и огромная важность политики Августа по урбанизации Испании: прежде всего принцепс основал несколько римских колоний и дал статус муниципия с римским или латинским правом множеству местных общин в Бетике, восточных областях Ближней Испании и южной части Лузитании. Как свидетельствует пример Сегобриги, а также, например, Эркавики (Касгро-де-Санта- вер возле Каньяверуэласа, к северу от Сегобриги) или Валерии (совр. Валерия, бывшая Валера-де-Арриба, к востоку от Сегобриги), муниципализация в эпоху Раннего Принципата происходила и во внутренней части полуострова.
Некоторые из девяти колоний Бетики, названных у Плиния (в его списке — десять колоний, но одна из них — Мунда, вероятно, была уничтожена в 45 г. до н. э.), получили свой статус либо непосредственно от Цезаря, либо, как Урсон (совр. Осуна), сразу после смерти диктатора, но в соответствии с его распоряжениями. Итукки (рядом с совр. Баэной) и Уку- бы (совр. Эспехо) были основаны либо при Цезаре, либо при его преемниках. Август учредил колонии Астиги (совр. Экиха) и Тукки (совр. Мар- тос), а также присвоил Кордубе и Асидону (совр. Медина-Сидония) статус римских колоний. Из пяти колоний Лузитании лишь Эмериту Августу, несомненно, основал Август; Метеллин (совр. Меделлин), Норба (совр. Касерес), Паке Юлия и Скаллабис были выведены либо при Цезаре, либо в период до 27 г. до н. э. Что касается колоний Ближней Испании, то Новый Карфаген, судя по всему, основал Цезарь, а колонию Цельса (совр. Велилья-дель-Эбро) — Лепид (возможно, в 48/47 г. до н. э.). Либо при Цезаре, либо в период между его смертью и 27 г. до н. э. были основаны Акки (совр. Гу ад икс) и новая столица Ближней Испании, полное название которой звучало так: Колония Юлия Триумфальный Город Тарракон (Colonia Iuha Urbs Triumphalis Tarraco). Колонии Августа, учрежденные после 27 г. до н. э., включали Барцинон (совр. Барселона), Цезарьав1усгу, Илики (совр. Эльче), Либисосу (совр. Лечуза) и, вероятно, Саларию (возле совр. Убеды)16.
Куда меньше ясности с количеством августовских муниципиев. Из тех испанских муниципиев, дата основания которых известна точно, самые первые были созданы Цезарем: например, Асидон и Гадес. К сожалению, лишь для нескольких испанских муниципиев имеются надежные свидетельства того, что их основателем был Август, — в частости, это муниципий Августа Бильбилис, родина Марциала. Но нет сомнений в том, что ряд испанских муниципиев, получивших привилегированный статус при жизни первого принцепса, был основан Августом, равно как и множество
16 Список колоний в Испании см.: Brunt 1971 (А 9): 590—593.
Глава 13с. Испания
535
других городов, приписанных к Галериевой трибе, которые, скорее всего, являлись муниципиями17.
Эта программа урбанизации Испании в эпоху Поздней республики и при Августе выглядит особенно масштабной на фоне политики императоров из династии Юлиев—Клавдиев, которые не считали нужным слишком щедро предоставлять статус колоний и муниципиев другим общинам Иберийского полуострова. Одним из немногих, а то и единственным муниципием, основанным в период от Тиберия до Нерона, был, вероятно, Белон (совр. Болония) на Атлантическом побережье Бетики, который засвидетельствован в надписи как «муниципий Клавдия» («municipium Claudium»)18 — хотя, возможно, этому городу просто повысили статус. Статус колонии даровал Клунии, которая при Августе и Тиберии являлась муниципием, Гальба, получивший в этом городе известие о том, что сенат провозгласил его императором. Урбанизацию полуострова окончательно завершили Флавии.
III. Экономика и общество
Основание множества муниципиев и колоний на закате Республики и при Августе в корне изменило обстановку в Испании. Юридический статус нескольких общин был повышен. В старых и недавно учрежденных колониях существовали общины римских граждан, а теперь автономию получило и множество местных иноземных общин. Если ранее последние могли осуществлять самоуправление лишь в ограниченном объеме, то теперь они обрели статус муниципиев, а их взаимоотношения с провинциальным наместником или другими римскими чиновниками были четко очерчены; в результате общины получили право самостоятельно вести собственные дела: в общинах правили законные магистраты, избранные собранием граждан, а ключевые решения принимало местное сословие декурионов (ordo decurionum). Главным компонентом этого привилегированного статуса являлось либо римское гражданство, либо по меньшей мере латинское право (ius Latii), которое позволяло состоятельным согражданам приобретать римское гражданство (civitas Romana) путем занятия муниципальных магистратур (honores)19. Внутреннюю организацию городов, имевших латинское право, регулировали городские уставы, в основе которых лежали положения, одинаковые для всех латинских муниципиев и восходившие, вероятно, к общему закону Августа о муниципиях в провинциях, как можно заключить из текста Ирнитанского закона эпохи Флавиев — недавно обнаруженного городского устава муниципия Ирни в
17 Cp.: Alföldy 1987 (Е 205): 53—54, 104—105; ср. также списки и карты в работе: Wiegels 1985 (Е 245): 164-168.
18 АЕ 1971, 172; cp.: Wiegels 1985 (Е 245): 20-22.
19 О муниципальных учреждениях в Римской Испании cp.: Alföldy 1987 (Е 205): 27—29 (с более подробной библиографией).
536
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Бетике20. Начиная с принципата Августа, в городах прослеживался заметный экономический подъем. Земля (territoria) городов включала в себя области, наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства, такие как, например, долина реки Бетис (Гвадалквивир), где, согласно Страбону, располагалось множество хозяйств с рощами и садами и возделывались различные культуры21. Города стали центрами производства и торговли. Тот же автор восхваляет экспорт зерна, вина и масла из Бетики и подчеркивает важность торговли с Испанией для Италии и Рима; также Страбон упоминает несколько других продуктов, производившихся в Испании, в том числе рыбный соус (garum), который хорошо засвидетельствован археологическими находками. Также он подчеркивает богатство Иберийского полуострова минералами, отмечая, что ни в одной другой стране нет столь чистого и изобильного золота, серебра, меди и железа, как в Испании. Разработки этих месторождений служили еще одним источником богатства городов, как видно из замечания Страбона о том, что серебряные рудники, разрабатывавшиеся возле Нового Карфагена и в других местах, перешли из государственной собственности в частные руки.
О том, сколь сильно во времена Ранней империи могли обогатиться владельцы рудников и других экономических ресурсов, ярко свидетельствует пример Секста Мария, вероятно, уроженца Кордубы, который, согласно Тациту22, был в Испании богатейшим человеком своего времени. В 33 г. н. э. Мария казнили, и его невероятное богатство, часть которого составляли золотые шахты и другие рудники, перешло во владение (patrimonium) императора и вплоть до эпохи Флавиев управлялось чинов- ником-прокуратором. Его именем была названа не только дорожная станция Мариана (совр. Нуэстра Сеньора-де-Майрена) на востоке Сьерра- Морены, но и вся Сьерра-Морена, имя которой происходит, видимо, от древнего названия горной цепи: гора Мариан (Mons Marianus).
В то же время в городах возводились великолепные общественные постройки — главным образом усилиями новых местных элит. Некоторые из этих зданий, впрочем, были подарками императоров и членов их семьи, как, например, изумительный театр в Эмерите Августе, построенный Агриппой, или амфитеатр в этой же колонии — дар Августа; но обычно общественные постройки возводились за счет местных магистратов или других состоятельных горожан; например, в правление Августа строительство форума Сагунта (совр. Сагунто) финансировалось из наследства Гнея Бебия Гемина — представителя самой влиятельной семьи этого муниципия23.
Накопление богатства влекло за собой изменения в социальной структуре. В каждом городе возникали местные элиты, которые состояли из
20 См. об этом: d’Ors А. // Anuario de Historia del Derecbo Espanol (1984) 54: 535—573; Его же. Lex Flavia Municipalis (Rome, 1986); Gonzales 1986 (В 235).
21 Далее материал излагается в соответствии со свидетельством Страбона: Ш.2.3—10 (142-148С).
22 Тацит. Анналы. VI. 19.
23 Beltran Lloris F. Epigraf ia latina de Saguntum у su territorium (Valencia, 1980): No 64.
Глава 13с. Испания
537
богатых землевладельцев в пределах конкретной территории (territorium), зачастую принимавших участие в производстве, торговле и разработке рудников. Из представителей элиты избирались городские магистраты; она составляла сословие декурионов (ordo decurionum). В римских колониях, где обычно жили люди невысокого происхождения, но имелись благоприятные условия для обогащения на ниве торговли, и в столицах провинций, где нетрудно было подняться по социальной лестнице, поступив на службу в имперскую администрацию, эти элиты, как в Тарраконе и Барциноне, образовывали высший слой общества, причем социальная мобильность в этом обществе была довольно высока, и в его политическую элиту были допущены сыновья состоятельных вольноотпущенников и иммигрантов. Однако в некоторых муниципиях, таких как Сагунт, высший класс состоял из небольшой группы старых влиятельных семей, ревностно оберегавших свои привилегии; этот класс превратился в «закрытое» общество, не допускавшее в свои ряды лиц низкого происхождения и приезжих; он держал в зависимости остальное население — как городское, так и сельское — посредством институтов рабства и клиентелы. Углубление социального расслоения выражалось не только в том, что в городах формально различались высшее сословие и плебс, но и в том, что в городах и их окрестностях распространилось рабство. Кроме того, судя по всему, если в городских центрах рабов часто отпускали на волю, то в сельской местности, особенно в поместьях, расположенных далеко от побережья Испании, случаи освобождения были крайне редки24.
Самым ярким признаком дифференциации в условиях римского социального порядка служил тот факт, что богатейшие и выдающиеся члены местных элит могли войти во всадническое или сенаторское сословие. Об общем уровне романизации Испании и важности этой провинции для Римской империи можно судить по тому, что первый сенатор неиталийского происхождения — Квинт Барий Север, плебейский трибун 90 г. до н. э., выходец из Сукрона возле Валенсии, — был испанцем, как и первый консул, рожденный за пределами Италии, — Луций Корнелий Бальб Старший, уроженец Гадеса, консул 40 г. до н. э.; а позднее из Испании происходил и первый император, родившийся за пределами Италийского полуострова, — Траян. Не считая Корнелиев Бальбов в Гадесе, на закате Республики и в начале Принципата в городах Бетики уже имелось несколько сенаторских семей: Элии, предки Адриана, — в Италике, Аннии, предки Сенеки, — в Кордубе. В императорское время именно из этой провинции в Рим прибыло великое множество сенаторов. Социальные предпосылки продвижения таких семей видны из утверждения Страбона о том, что при Августе в Гадесе проживало не менее пятисот всадников — это число сопоставимо лишь с Патавием (совр. Падуя) в северной Италии25. Через одно или два поколения, примерно в середине I в. н. э., мы видим первых
24 О рабстве в Римской Испании см.: Smirin V.M. // Staerman Е.М. et al. Die Sklaverei in den Westlichen Provinzen des römischen Reiches im Ί —3. Jahrhundert (Stuttgart, 1987): 38—12; cp.: Alföldy G. Ц ZPE 67 (1987): 249-262.
25 Страбон Ш.5.3 (169C) и V.I.7 (213C).
538
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
сенаторов из городов восточного побережья Ближней Испании: Педании из Барцинона, Реций Тавр из Тарракона и Марк Элий Градил из Дертозы (совр. Тортоза). Ровесником двоих последних был и Квинт Юлий Корд — преторий при Нероне, который, видимо, происходил из Лузитании и был первым из немногих сенаторов — уроженцев этой провинции26.
Эволюция городской жизни, особенно подъем высших классов городского общества, способствовала и культурному развитию. Не говоря уже о распространении грамотности, в некоторых городах имелись хорошие возможности для получения образования и поощрялись интеллектуальные занятия, особенно в Бетике, где было сконцентрировано множество городских центров. При Августе и Юлиях—Клавдиях городские элиты Бетики (как и северной Италии и южной Галлии) постоянно порождали не только новые сенаторские и всаднические семьи; из этого же социального окружения выходили люди, покорявшие вершины тогдашней интеллектуальной жизни. К семье Анниев из Кордубы принадлежали Сенека Старший, ритор и историк всаднического ранга эпохи Августа; Сенека Младший, не только самый богатый, но и самый эрудированный сенатор в правление Клавдия и Нерона; Марк Анний Лукан, поэт и племянник философа, — и все эти люди, проявлявшие величайший интерес и способности к интеллектуальным занятиям, принадлежали к честолюбивой и влиятельной семье, уходившей корнями в провинциальный высший класс столицы Бетики. Но родом из этой провинции были и другие литераторы: например, ритор и сенатор Юний Галлион, вероятно, уроженец Кордубы, усыновивший одного из братьев Сенеки Младшего, Помпоний Мела, географ из Тингентеры возле Альхесираса, и Луций Юний Модерат Колу- мелла, всадник из Гадеса, автор трактата «О сельском хозяйстве»27.
IV. Влияние романизации
В период между падением Республики и концом правления династии Юлиев—Клавдиев в Испании имело место масштабное политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. В прошлом Иберийский полуостров служил ареной постоянного сопротивления Риму, а в эпоху Империи приобрел важнейшее значение, хотя и находился на периферии средиземноморского мира. Но не следует думать, что все изменения, которые произошли на Иберийском полуострове за рассматриваемый в настоящем томе период, в конце концов сложились в единую картину. В целом, пожалуй, не так уж важно, что в некоторых древних торговых центрах Средиземноморского побережья не наблюдался быстрый рост, характерный для других городов: например, Эмпории (совр. Эмпурьес), где
26 О римских сенаторах из Испании, в том числе и об упомянутых здесь и ниже, см. прежде всего: Le Roux 1982 (E 229) (Ближняя Испания); Castillo Garcia 1982 (E 214) (Бети- ка); Etienne 1982 (E 218) (Лузитания).
27 О возвышении и значимости таких «колониальных элит» из Римской Испании ср.: Syme R. Colonial Elites·. Rome, Spain and the Americas (Oxford, 1958): 1—23.
Глава 13с. Испания
539
сливались воедино греческая колония, туземное поселение и римский город, не выдержали конкуренции с процветавшими портами, основанными позднее, такими как Тарракон или Барцинон28. Существовал громадный контраст, с одной стороны, между урбанизированными областями Бетики, восточными регионами Ближней Испании и южной Лузитанией и, с другой — между отсталыми районами в центре и на северо-западе полуострова. На этих слаборазвитых территориях, где менее благоприятные географические условия и, прежде всего, совсем другие исторические предпосылки обусловили совершенно иной путь развития, чем на юге и востоке, римское влияние вовсе не было таким глубоким, как в регионах, романизированных ранее. Судя по литературным, эпиграфическим и археологическим свидетельствам, в этих регионах сохранялась преемственность не только самого местного населения, но и его социальной организации и культуры29.
Местные имена и культы сохранялись во внутренней и, отчасти, северо-западной Испании не только в эпоху Ранней империи, но и позднее. Элементами социальной структуры здесь являлись местные кланы — gentilitates (в Каллекии их роль стали играть общности жителей castella — организованных местных поселений). До муниципализации римское управление опиралось на объединения нескольких кланов, называвшиеся «род» (gens), «община» (civitas) или «народ» (populus). Эти общины имели собственные власти — местный сенат и должностных лиц, называвшихся магистратами или магистрами (magistratus или magistri), и зачастую охватывали крупное поселение и принадлежавшие ему земли, а потому нередко становились эпицентрами городского развития30. Изначально такие общины входили в состав более крупных племен, с куда более свободной организацией — настолько свободной, что в них случались вооруженные конфликты между отдельными группами. Поскольку такая племенная организация не подходила для целей римского управления, Рим не был заинтересован в сохранении племенных единиц. Впрочем, судебные округа (conventus) Асгурики Августы, Августовой Рощи и Бракары Августы соответствовали племенной организации астуров и каллаиков (последних разделили на два округа), однако в других областях Испании племена не сохранили свое устройство. Напротив, Рим не ограничился разделением, скажем, кельтиберов в центральной Испании на несколько народов (populi), таких как, например, сегобригцы, но и распределил народы, проживавшие на землях от Сегобриги до Клунии, по трем судебным округам (conventus): Новому Карфагену, Цезарьавгусге и Клунии31.
28 Об Эмпориях ср. новую работу: Aquilue J. et al. El forum romä (PEmpmies [excavations de Г any Ί982). Una aproximacio arquelögica al procis historic de la romanizacio al nord-est de la Peninsula Iberica (Barcelona, 1984).
29 Это относится прежде всего к северо-западной части Иберийского полуострова; см. на данную тему: Тгапоу 1981 (Е 244): особ. 261—384.
30 О клановой организации см.: Gonzales Rodriquez 1986 (E 225); о местных магистратах и сенатах см. прежде всего новое исследование: Alföldy 1987 (Е 205): 50—51.
31 Alföldy 1987 (Е 205): 110-111.
540
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Несмотря на сохранение в этих отсталых районах местных традиций, влияние романизации в эпоху Юлиев—Клавдиев было заметно даже здесь. Если вынести за скобки строительство римских дорог и торговые, административные и военные контакты местных жителей с римлянами, проживавшими на полуострове, то главный метод романизации этих территорий, как и везде, сводился к тому, что Рим старался убедить хотя бы высшие классы местного населения в том, что их интересы совпадают с римскими. В начале Империи молодежь из местных племен призывалась на службу во многие вспомогательные части, комплектовавшиеся из представителей отсталых районов; эта мера обеспечивала безопасность провинции, а на службе местные жители начинали изучать латинский язык и римские обычаи (mores)32. Благодаря расширению римского гражданства в центральной и северо-западной Испании возникли новые привилегированные группы населения. Но политические интересы Рима защищали и иноземцы — предводители местных общин. Основание первых муниципиев во внутренней части полуострова открыло возможности для более глубокой романизации, аналогичной тому процессу, который шел на юге и востоке. Кроме того, существовал институт, связывавший воедино местную знать по всей стране: это императорский культ, который учреждался не только в колониях и муниципиях, но и в более крупных областях — на уровне судебных округов (conventus) и даже целых провинций (по-видимому, в Бетике провинциальный культ впервые был институционализирован при Веспасиане). Провинциальный культ предполагал ежегодное проведение съезда — совета провинции (concilium provinciae), на котором присутствовали представители общин, имевших различный правовой статус, а председательствовал фламин провинции (flamen provinciae); эти съезды способствовали слиянию местных элит, социальное окружение которых могло сильно различаться, в новую, единую «провинциальную» аристократию. О заинтересованности испанской элиты в данном культе, немало укреплявшем ее влияние, свидетельствует тот факт, что разрешение на строительство знаменитого храма Августа в Таррако- не, основанного в 15 г. н. э. и ставшего образцом (exemplum) для других провинций, было выдано Римом по запросу испанцев (Hispani)33.
В целом, спустя век после того, как в Риме был установлен принципат, а первый принцепс покорил северо-западную Испанию, южная и восточная области Иберийского полуострова полностью интегрировались в политическую, экономическую, социальную и культурную систему Рима, тогда как слаборазвитые регионы центральной и северо-западной Испании уже во многом преодолели отставание, вызванное географическими и историческими факторами. К концу правления Юлиев—Клавдиев Испания в каком-то смысле созрела для того, чтобы превратиться в центр по¬
32 О наборе испанцев в римскую армию см. прежде всего: Roldan Hervas 1974 (E 235): особ. 233-286; cp.: Le Roux 1982 (E 228): 284-290.
33 Тацит. Анналы. 1.78. Об императорском культе в Испании ср.: Etienne 1958 (Е 217); ср. также новое исследование: Fishwick 1987 (F 137): особ. 150—158, 219—239.
Глава 13с. Испания
541
литической власти — не вследствие приезда принцепса из Рима, как было при Августе, но благодаря собственным усилиям. Когда в 68 г. н. э. Сер- вий Сульпиций Гальба, десять лет управлявншй Ближней Испанией, поднял восстание против Нерона, а римский сенат провозгласил Гальбу императором, то открылась, как выразился Тацит, тайна императорской власти: императором можно было стать, находясь не только в городе Риме34. И если впервые данная истина открылась именно в Испании, то произошло это благодаря тому, что после падения Республики данный регион прошел долгий путь развития.
34 Тацит. История. 1.4.
Глава 13d
К. Гудино
ГАЛЛИЯ
I. Введение
Когда Цезарь завоевал Галлию, это сильно сместило центр тяжести римского мира, который прежде располагался в Средиземноморье (если вынести за скобки Черное море). «Новые области» стали обширным дополнением к империи: они составляли порядка 30% ее сухопутной территории, за вычетом Италии. Эти земли, уязвимые для нападений из Центральной Европы и особенно для вторжений германских варваров и других племен, в числе которых были кимвры и тевтоны, уже оставившие свой след в римской истории, простирались до Северного моря и Британии, от которой Цезарь отказался, потерпев там свое единственное поражение. В ближайшей перспективе оккупация новых провинций потребовала покорения Альп и Пиренеев и установления контроля над Рейном и Дунаем. Галльские войны полностью и необратимо изменили геополитику античного мира. С другой стороны, на историю Галлии повлияло ее новое окружение и новая стратегическая география, которую определяло приграничное положение и близость Британии, со всеми сопутствующими социальными и экономическими последствиями1.
Но невозможно понять античные тексты или управленческие решения — например, о создании административной структуры или сети до¬
1 Несмотря на огромный объем текстов, написанных о Галлии, библиография по нашему вопросу ограничена прежде всего потому, что никто не оказался настолько смел или настолько безрассуден, чтобы переработать и исправить великую «Историю Галлии» Камиля Жюллиана, увидевшую свет в восьми томах между 1907 и 1927 гг. Основным справочником по археологии по-прежнему остается «Руководство по галло-римской археологии» Альбера Гренье, тоже в восьми томах, первый из которых был издан в 1931 г., а последний — в 1960-м. Обе эти работы во многих отношениях устарели, но по праву пользуются прекрасной репутацией, поэтому никто больше не попытался создать что-либо подобное, тем более что современный вариант этих работ стал бы мультидисциплинар- ным исследованием, а такой совместный проект, пожалуй, непросто организовать. Работа: Duval 1971 (Е 332) содержит исчерпывающий библиографический список по всем областям исследования Римской Галлии. Опубликовано несколько общих работ, однако в целом исследователи направили свои усилия на создание серии сводов для специалистов: ка-
Глава 13d. Галлия
543
рог, — если при анализе по-прежнему исходить из современной нам картографии. Важно помнить, что даже в эпоху Плиния, а возможно, и позднее, во времена Птолемея, представления о географии оставались весьма неточными. Эту мысль можно проиллюстрировать на примере кн. УП «Географии» Страбона, посвященной Галлии и завершенной ок. 18 г. н. э. Сведения о южной Галлии более или менее достоверны: описания рельефа и рек, расстояния (которые иногда приводятся в римских милях), территории, занятые разными народами и городами, представлены с высокой для данного периода точностью. Но рассказ об остальной Галлии вы-
талогов литературных ссылок, надписей, мозаик, скульптур, монет, а недавно началось составление каталога фресок. Однако никакого синтеза на основании этих сводов не производилось. В последние 20—30 лет популярность приобрели два рода исследований: работы, сконцентрированные либо на определенном городе, либо на конкретной общине (civitas), часто принимающие форму местного географического справочника или инвентарной описи. Но о сельской местности написано мало, если не считать вопросы экономики в целом. Дело усложняется также и тем, что территория, известная римлянам как Галлия, сегодня разделена между Швейцарией, Люксембургом, Бельгией, Германией и Францией. Каждый народ имеет свои собственные методы и традиции исследования, и вполне естественно, что в каждой из этих стран образ Галлии отражает ее место в национальном наследии. В университетах Франции изучению классического мира традиционно отводится особое место. Французские исследователи сосредотачивались преимущественно на эпиграфике, законах, городах, памятниках и искусствоведении за счет таких направлений, как региональный анализ, исследование стратиграфических последовательностей, сельской местности и повседневной жизни. Экономика изучалась ими только через призму керамики (значение которой вследствие этого было сильно преувеличено), а затем и других мелких находок, в том числе предметов из стекла и металла. Таким направлениям, как ландшафтная археология, системы землепользования, археология окружающей среды, анализ пыльцы и исследование костей человека и животных, оказывалось гораздо сложнее получить признание. Полевые работы во Франции долгое время велись разрозненно. В некоторых областях дело обстоит так и сегодня, но в последние годы ввиду необходимости охранных раскопок было предпринято несколько крупномасштабных археологических проектов в некоторых наиболее важных римских городах, а также несколько программ обследования сельской местности перед строительством автострад или расширением сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Ранее же основные раскопки велись в маленьких, хоть и представляющих исторический интерес, городах — таких как Гланум и Алезия. Охранные раскопки всё это изменили, однако их приходится проводить в таких условиях, что значительная часть огромного массива новых данных остается неопубликованной.
Тексты: Duval 1971 (Е 332); Lerat 1977 (Е 415). Надписи: основной материал содержится в: CIL ХП, ХШ (о дополнениях к последнему см. гл. 13f, примеч. 1 насг. изд.) и ILTG. Наиболее важные новые собрания надписей: ILGN и RIG; отметим также: Marichal К Les graff it es de la Graufesenque (Supplement ä «Gallia», Na 47) (1988). О мозаиках см.: Recueil general des mosatques de la Gaule, сборник, который регулярно публикуется в «Supplement Na X» журнала «Gallia». О живописи см.: Barbet 1974 (Е 267); т. 1 изд.: Recueil general des peintures murales de la Gaule. О монетах см.: Corpus des tresors monitaires de la France (1982—).
Археологическая карта «Carte archeologique de la Gaule», изданная Академией надписей и изящной словесности, первоначально была составлена в 1930 г. и начала пересматриваться в 1988-м. В каждом томе анализируются открытия, относящиеся к периоду от Железного века до УШ в. н. э. С 1988 г. опубликованы разделы, покрывающие следующие Департаменты: Алье, Крёз, Финистер, Эндр и Луара, Луара и Шер, Луара, Луаре, Лозер, Мен и Луара, Манш.
Обзоры работ, связанных с Галлией, по-прежнему публикуются в REA. Отметим также журнал «Resumes d’archeologie suisse» (с 1981 г.), сведения же об археологических на¬
544
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
зывает ошеломление: вслед за Цезарем2 вся береговая линия (в том числе побережье Атлантического океана) описана как обращенная к северу, а Пиренеи — как горная цепь, вытянутая с севера на юг, параллельно Рейну, а также Гаронне, Луаре и Сене. Побережье Британии, согласно Страбону, тянется вдоль побережья всей Галлии, от устья Рейна до Пиренеев, а ширина пролива между Британией и Галлией, как сообщается, составляет 320 стадиев (ок. 50 км). Все указанные расстояния ошибочны, в некоторых случаях ошибки огромны.
На карте 7 изображены только римские пункты в галльских, германских и альпийских провинциях, но не в Испании или Британии.
Наконец, наши источники одновременно скудны и несбалансированны. В нарративных источниках содержатся сведения о периоде с 43 г. до н. э. по 69 г. н. э., но касаются они по преимуществу германских войн или отдельных галльских эпизодов; поэтому им обычно придают непропорционально большое значение. Далее, на протяжении полутора столетий, тексты хранят почти нерушимое молчание. Эпиграфические свидетельства распределены очень неравномерно: в правление Юлиев—Клавдиев надписи часто встречаются в Нарбонской Галлии, но в Трех Галлиях их мало, и большинство сделано позднее I в. н. э.
1. Галлия или галльские провинции?
Далее нами будет рассмотрена Нарбонская Галлия (в эпоху Республики называлась Трансальпийской) отдельно от Трех Галлий (ранее — Косматая Галлия). Такое разделение идет вразрез с традиционными историческими работами, в которых Галлия представлена как единое целое. Есть ли в нем смысл?
С эпохи Августа ни в текстах, ни в надписях термин «Галлия» не используется, — разве что в чисто географическом смысле, как мы сказали бы «Южная Америка» или «Дальний Восток». В источниках всегда говорится о Галлия# (Galliae), и они вовсе не выглядят как однородная и единая территория, простирающаяся от Средиземного моря до Ла-Манша. Нарбонская Галлия неизменно рассматривалась отдельно. Это объясняется не только тем, что она была завоевана за восемьдесят лет до смерти Цезаря. Дело еще и в том, что для римлян это была знакомая зона, часть средиземноморского мира, уже давно включенная в его историю, глав¬
ходках публикуются в новой серии журнала «Gallia», озаглавленной «Gallia-Informations». Национальный центр городской археологии в Туре выпускает издание «Bibliographie d’ar- cheologie urbaine»; вышло две части: за 1975—1985 и 1986—1987 гг. (Тур, 1989). Существует также множество музейных путеводителей и каталогов с библиографиями. Прежде всего следует отметить серию Министерства культуры Франции «Guides archeologiques de le France» (c 1984 г.: 7. Везон-ла-Ромен; 2. Сен-Ромен-ан-Галь; 4. Алезия; 5. Альба; 7. Булард; 8. Нарбона; 12. Огён; 13. Бибракт) и аналогичную серию «Guides archeologiques de la Suisse». Существуют заслуживающие внимания каталоги или путеводители по Лиону (улица де Фарж), Отёну, Триру, Нойсу, Женеве и другим городам, но, к сожалению, многие из них не представлены в библиотеках.
2 Цезарь. Галльская война. IV.20.1.
Карта 7. Галлия
546
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Рис. 8. География Галлии по Страбону
ным образом благодаря Марселю. Однако за Севеннами и Вьеном располагались северные земли, суровый климат которых наложил отпечаток не только на сельскую местность и ее продукцию, но и на население. В рассказах об этих областях далеко не всегда систематически подчеркивается дикость этих «варваров», но римляне никогда о ней не забывали. Это был новый мир, пока плохо понимаемый, а то и вовсе не изученный. Таким образом, различие между Нарбонской и Косматой Галлией наблюдается уже в источниках.
Рассматривалась ли сама Косматая Галлия как единое целое? Возможно, и нет — ведь Август разделил ее на три провинции (Аквитания, Бельги- ка и Лугдунская Галлия). Но, по меньшей мере до правления Тиберия, этим трем провинциям соответствовало единое военное командование, и в 12 г. до н. э. Друз основал алтарь в Кондате, на месте слияния Соны и Роны возле Лугдуна (Лион), и на протяжении следующих трех веков у этого алтаря собирались делегации шестидесяти народов из трех провинций3. Каждый год 1 августа делегации, направленные знатью Сента и Шартра, Лангра и Перигё, встречались в Кондате ради отправления императорского культа. Там они, конечно, боролись на выборах за должности верховного жреца (sacerdos) и его помощников, и победители прино¬
3 Другое мнение о дате посвящения алтаря см. выше, с. 125 наст. изд.
Глава 13d. Галлия
547
сили славу своим общинам (civitates), но важнее то, что представители галльской знати объединялись для защиты своих общих интересов. Так случилось, например, в 48 г. н. э., в правление Клавдия, когда речь зашла о предоставлении римским гражданам из Галлии, не выходившей к Средиземному морю, права занимать магистратуры в Риме. И действительно, сам Клавдий, отстаивая в римском сенате законность этой просьбы, использовал выражение «Косматая Галлия»4. Кроме того, насколько нам известно из эпиграфических находок, официальные посвящения совершались в Кондате от имени Tres Provinciae Galliae («трех галльских провинций», а не «трех провинций Галлии»). Делает ли это Галлию единым целым?
В самом деле, административное устройство не всегда соответствует психологическому восприятию. Во всех своих почетных и надгробных надписях галлы описывают себя не как галлов, не как жителей определенной провинции, а как представителей общины (civitas), скажем, ремов, пиктонов, редонов или эдуев. В одной из надписей сообщается, что император Клавдий позволил сильванектам основать собственную civitas, отделенную от общины лингонов5. Тацит пишет, что во время потрясений 68—69 гг. н. э. общины Дальней Галлии никак не могли выработать общую политику, так как их по-прежнему разделяла давняя вражда и соперничество: «“Кто встанет во главе восстания? <...>”. Ничего еще не добившись, галлы уже начали ссориться; одни гордились своими договорами о союзах (т. е. своим статусом союзников (foederati). — К.Г), другие — мощью и богатством, третьи — древним происхождением»6. Вражда Лиона и Вьена, хоть и вызванная иными причинами, хорошо отражает накал гражданского патриотизма7. Монеты, отчеканенные в правление Гальбы, с легендой «TRES GALLIAE» являются порождением имперской пропаганды в период кризиса и прославляют единство, достигнутое (или считавшемся достигнутым) на алтаре в Кондате.
Таким образом, Галлии не существовало нигде, кроме разве что отвлеченной географии древних. Три Галлии возникли в результате небрежного административного разделения, основанного на ошибочных этнографических представлениях, не отражавших состав населения этих территорий до римского завоевания. И хотя это деление немного содействовало формированию новой идентичности, оно было столь же искусственным, как и колониальные границы, навязанные Африке в XIX в. (с соответствующими поправками). Тем не менее императорский культ и ежегодные церемонии в Кондате сыграли некую объединяющую роль, скорее в политическом, нежели в административном или психологическом плане.
4 CIL ХШ 1668.
5ILTG 357.
6 Тацит. История. IV.69. (Перев. Г. С. Кнабе.)
7 Тацит. История. 1.65.
548
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
2. Цезарь: его смерть и наследие
Стала ли смерть Цезаря в 44 г. до н. э. поворотным пунктом? Этот вопрос не так наивен, как кажется. Нет сомнений в том, что она повлияла на ход событий, хотя мы и не знаем планов диктатора. Можно привести один наглядный пример. В конце 45 г. до н. э., всего за несколько месяцев до своей гибели, Цезарь отправил Тиберия Нерона, отца будущего императора, «для устройства колоний, среди которых были Нарбон и Арелат»8. Нарбон Марсов был основан еще в 118 г. до н. э., и теперь сюда требовалось повторно вывести колонию ветеранов X легиона (Decumanorum), тогда как Арль стал новой колонией ветеранов VI легиона (Sextanorum).
Выражение Светония «среди которых» («in queis») предполагает, что в это время были выведены и другие колонии. Почему они не упомянуты? Возможно, это были не римские колонии, подобно Нарбоне и Арлю, а латинские — и с I в. н. э. они уже не имели бы права называться колониями. Ниже я вернусь к учреждению этих колоний, но здесь хотелось бы сопоставить данный пассаж со знаменитым рассказом Диона Кассия об основании Лугдуна (Лион)9. В 43 г. до н. э. сенат приказал Лепиду, наместнику Трансальпийской Галлии, и Планку, управлявшему Косматой Галлией, «заложить город для тех, кто ранее (pote) был изгнан из нарбонской Виенны аллоброгами и обосновался при слиянии Роны и Арара (Соны)». Таким образом возник Лугдун.
Что означает этот текст? Возможно, колонисты были поселены во Вьене, а затем изгнаны аллоброгами? Если так, то когда? Вероятнее всего, произошло следующее: в 45 г. до н. э. Тиберий Нерон основал латинскую колонию во Вьене; затем, после смерти Цезаря, аллоброги вытеснили колонистов, которые нашли убежище у сегусиавов при слиянии Соны и Роны. Это изгнание представляло для Рима серьезную проблему, и сенат принял меры для ее устранения, но он не мог заставить аллоброгов (военная помощь которых сыграла немалую роль в гражданской войне) исполнить указание Цезаря. В качестве компромисса решено было вывести колонию в Лион. В данном случае для нас важно косвенное свидетельство о беспорядках и насилии после смерти Цезаря. Они продолжались недолго, но представители Рима сумели вновь взять ситуацию под контроль только благодаря личным связям, которые установил Цезарь и унаследовали его легаты — Планк и триумвир Антоний, а затем его приемный сын Октавиан. Еще важнее то, что прямые потомки Цезаря продолжали править миром более ста лет. Лояльность галлов римским принцеп- сам, галльские клиентелы, кампании римлян на Рейне, в которых участвовали многие члены императорской семьи, визиты императоров в провинцию и даже рождение одного императора в Галлии — всё это вместе взятое оказалось весомее, нежели остаточная враждебность римлян к галлам, которая была весьма сильна в Италии еще со времен осады Рима
8 Светоний. Тиберий. 4. (Перев. М.А Гаспарова.)
9 Дион Кассий. XLVI.50.
Глава 13d. Галлия
549
и даже в правление Клавдия сохранялась в сенаторском сословии10. Прямые, личные связи Галлии с императором проявятся еще не раз, вплоть до правления Нерона. Это были двусторонние взаимоотношения: после некоторого периода волнений галльские провинции, или, точнее, их элиты, хранили верность потомкам Цезаря, которые, в свою очередь, хранили верность галлам.
Характер источников и связанные с ними проблемы побуждают нас сделать два предварительных замечания. Во-первых, бессмысленно ставить в центр данного изложения романизацию. Галльские провинции уже были римскими. Поскольку рассказ о них вносит вклад в наше представление о римском мире, необходимо охарактеризовать и подчеркнуть гетерогенность и, возможно, смешанный характер этого мира. Какой смысл пытаться оценить соответствие галльских провинций стандарту «римско- сти», который сам по себе не поддается определению? Гораздо важнее постараться исследовать, если это удастся, трансформацию данных провинций, ее ритм и обусловившие ее процессы. Во-вторых, вместо того чтобы по очереди рассматривать в т. X и XI КИДМ два периода, свидетельства о которых очень неравномерны, мы решили отложить обсуждение сложных вопросов, связанных с долгосрочным развитием (например, сельское хозяйство, экономику и религию), до т. XI, за исключением случаев, когда в рассматриваемый здесь период в указанных сферах происходили важные события.
I. Нарбонская Галлия
Если исключить одно двусмысленное упоминание у Цицерона11, представляется, что термин «Нарбонская» («Narbonensis») возник в эпоху Августа. Впервые он упоминается в описании карьеры (cursus) Гнея Пуллия Пол- лиона, проконсула «Нарбонской провинции» («provincia Narbonensis») ок. 18—16 гг. до н. э.12. Данный термин, несомненно, стал официально употребляться в 27 г. до н. э., когда Август провел судебную сессию (conventus) в Нарбоне, «произвел среди галлов перепись и упорядочил условия их жизни и управления»13. Границы провинции более или менее совпадали с границами прежней провинции Трансальпийская Галлия.
В 13 г. до н. э., после завершения кампаний по замирению Пиренеев, вероятно, были произведены некоторые изменения, например в отношении племени конвенов. После завоевания Альп последовали новые перемены, в честь которых был установлен Альпийский трофей (Tropaeum Alpium) в Ла-Тюрби; это произошло в период, когда Август обладал трибунской властью в семнадцатый раз, то есть между 1 июля 7 г. до н. э. и
10 Тацит. Анналы. XI.23—24.
11 Цицерон. Письма к близким. Х.25.
12 CIL XI 7553.
13 Дион Кассий. ΙΙΓΓ.22. [Перев. А.В. Махлаюка, с изменением.)
550
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
30 июня 6 г. до н. э. Было учреждено три новых альпийских округа (Приморские Альпы, Коттиевы Альпы и Грайские Альпы); они не входили в состав галльских провинций и поэтому не рассматриваются в данной главе. Их создание вызвало необходимость демаркации границ между этими новыми округами, Нарбонской Галлией и, возможно, Италией. В это время город Антиб, ранее входивший в состав Италии14, был включен в Нарбонскую Галлию, а Кеменел, расположенный неподалеку от Никеи, старого торгового поселения массилийцев, превратился в столицу нового округа Приморские Альпы.
Трофей в Ла-Тюрби не отмечал границу между Италией и Трансальпийской, или Нарбонской, Галлией, хотя так нередко утверждается. Он был поставлен в самой западной точке, которой достигли римляне в ходе кампаний по завоеванию Альп «от Верхнего до Нижнего моря» («а mari supero ad inferum»), то есть от Адриатики до лигурийского побережья Средиземного моря15. Он стоял на Юлиевой Удобной дороге (Via Iulia Apta), которая вела из Италии в Нарбонскую Галлию, и символизировал завоевание гор и освобождение этой дороги от разбойников. Вероятно, он был задуман как пара трофею, установленному Помпеем в Пиренеях — тоже на дороге, связывающей Испанию с Италией. Почти наверняка именно этот последний трофей был недавно обнаружен на перевале Паниссар, где проходит современная граница Франции и Испании. Он символизирует установление надежного контроля над коммуникациями между Италией и западными провинциями. С этого времени Нарбонская Галлия, как и Тарраконская Испания с Бетикой, была полностью интегрирована в римский мир в такой степени, что вплоть до кризиса при Нероне источники не сообщают нам ни об одном заслуживающем упоминания событии в тех местах.
Рассмотрение этой провинции стоит начать с сопоставления двух важных текстов. Если верить речи Цицерона «За Фонтея», написанной ок. 70 г. до н. э., Трансальпийская провинция в это время была населена дикими и нецивилизованными племенами, а культурные ценности цивилизации хранили лишь римская администрация, италийские земледельцы и торговцы, нарбонские колонисты (с 118 г. до н. э.) и Массилия, верная союзница Рима. Плиний же, писавший ок. 70 г. н. э., характеризовал Нарбонскую Галлию как лучшую из провинций: это «скорее Италия, нежели провинция» («Italia verius quam provincia»)16. Контраст между этими пассажами поразителен, хотя, конечно, первый из них — это предвзятое описание, которое составил адвокат наместника, обвиненного в присвоении государственных средств и других провинностях, а второй столь лаконичен, что может быть только упрощением. Эти два автора имеют много общего: оба они были римлянами, оба участвовали в общественной жизни, получили хорошее образование и предавались литературным занятиям,
14 Страбон. IV. 1.9 (1840).
15 Плиний Старший. Естественная история. Ш.136.
16 Плиний Старший. Естественная история. Ш.31. {Дерев. Б.А. Старостина.)
Глава 13d. Галлия
551
однако их мнения о провинции предельно полярны. Что же изменилось? Сама провинция или мнение о ней правящих классов в Риме? Изменилось и то, и другое, и эту взаимосвязь важно учитывать, а не игнорировать.
Эти два текста разделяют 140 лет, то есть примерно шесть поколений; по меркам тогдашней эпохи это очень краткий промежуток времени для столь фундаментальной трансформации. Плиний ощущал огромные масштабы этих перемен и подчеркивает данное обстоятельство в другом пассаже, где описывает великолепное столовое серебро Помпея Паулина, сына римского всадника из Арелата (Арль), но затем замечает, что прадеды Паулина по отцовской линии одевались в звериные шкуры17. Такие же выражения встречаются и в других источниках. Таким образом, в Риме было распространено клише, согласно которому Нарбонская Галлия неожиданно и быстро стала цивилизованной провинцией. Наша задача состоит в том, чтобы с помощью скудных источников разобраться, на чем основано это утверждение.
1. Юридическая интеграция
Необходимо кратко обрисовать основные тенденции развития Трансальпийской Галлии в предшествовавший период, поскольку они имеют важное значение. У нас мало сведений о том, как изначально происходило учреждение данной провинции, хотя можно предположить, что между 78 и 75 гг. до н. э. важную роль в этом процессе сыграл Помпей; однако мы знаем, что несколько общин получило статус городов от различных римских политиков, в том числе от Гая Валерия Флакка, Помпея и, конечно, Цезаря. Что бы ни утверждал риторически Цицерон, однако известные нам судебные процессы, например обвинение, выдвинутое против Фонтея, свидетельствуют о возникновении «проримской» элиты. Во время Галльской войны Цезарь включил в свой штаб несколько сыновей наиболее влиятельных в южной Галлии лиц; некоторые из этих персон ранее были его гостями в Риме. Он гордился лояльностью своей провинции, тем самым подсказывая нам, что эта верность не считалась само собой разумеющейся.
Постепенная интеграция солдат вспомогательных войск (auxiliarii) в римскую армию повлияла и на другие общественные классы, в том числе на жителей сельских территорий и селений, которые ранее почти не испытывали воздействия торговли с Римом или римской администрации. Ауксилиарии с их опытом военной службы, а также приобретенным на службе богатством и знанием латинского языка содействовали изменению местной ментальности. Важным фактором стало то, что в 49—48 гг. до н. э. Цезарь уничтожил, так сказать, «массилийский империализм», который был тем более тягостен для местных жителей, что не предполагал никакой политической интеграции. Точно неизвестно, когда именно латинское право было предоставлено общинам, описанным у Плиния как
17 Плиний Старший. Естественная история. ХХХШ.143.
552
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
«латинские крепости» («oppida latina»)18, вероятнее всего, эту реформу произвел Цезарь. Но важно, что самое большее за пятнадцать лет, то есть между 58 и 44 гг. до н. э., вся южная Галлия получила латинское право. Неизвестно ни одной группы населения, которая составляла бы исключение.
После основания Нарбона Марсова Рим не предпринимал больше никаких попыток колонизации, хотя и выдвигалась гипотеза, не подкрепленная источниками, об основании колоний во Вьене и Балансе. Цезарь начал новую колониальную программу: она включала повторное выведение колонии в Нарбоне, основание Арля и латинских колоний, учреждение колонии во Вьене (окончилось неудачей, описанной выше), в Ньоне в современной Швейцарии и в других местах; одна из этих колоний располагалась, вероятно, в Ниме, а другая, несомненно, в Балансе.
Именно в таком контексте следует рассматривать деятельность преемников Цезаря. Окгавиан возобновил программу колонизации и, в свою очередь, основал колонии в Безье, Оранже и Фрежюсе, хотя соответствующие датировки вызывают споры. Наиболее важное значение имели несколько императорских решений, способствовавших интеграции элиты Нарбонской Галлии. Около 22 г. до н. э. провинция была «возвращена римскому народу»19, то есть император передал сенату управление Нарбонской Галлией, которая больше не имела ни стратегического, ни военного значения. Август и Тиберий в 14 г. н. э., незадолго до смерти первого принцепса, решили предоставить право добиваться магистратур в Риме всем римским гражданам провинции, как тем, кому гражданство было даровано в индивидуальном порядке, так и тем, icto получил его в силу занятия городской магистратуры в латинской общине, иными словами, в любом городе провинции. Это давало будущим магистратам надежду войти в сенаторское сословие — ранее такая привилегия была доступна лишь гражданам римских колоний. Еще одно символическое, но важное решение, принятое в 49 г. н. э., позволило римским сенаторам путешествовать без разрешения принцепса не только по Италии и Сицилии, но и по Нарбонской Галлии.
Стоит попытаться оценить масштабы данной правовой интеграции, хотя нередко исследователи ограничиваются перечнем знаменитых выходцев из Нарбонской Галлии. Это всегда одни и те же имена: такие всадники, как Помпей Паулин (префект продовольствия (annona) в правление Клавдия), Луций Весгин (префект Египта) и Бурр (наставник Нерона, префект претория, награжденный консульскими знаками отличия), а также такие сенаторы, как Валерий Азиатик из Вьены, дважды занимавший должность консула, причем во второй раз, в 46 г. н. э., — как коллега Клавдия. Но даже если отложить в сторону эти знаменитые имена, статистический анализ покажет, что с конца республиканской эпохи Нар бонская Галлия опережала все остальные провинции и оставалась на первом
18 Плиний Старший. Естественная история. Ш.31—37.
19 Дион Кассий LTTT.12.
Глава 13d. Галлия
553
месте до конца I в. н. э. — как по числу происходивших оттуда сенаторов и всадников, так и по блеску их карьер она превосходила все остальные части римского мира, за исключением полуостровной Италии. Особенно поразительно, что от Нарбонской Галлии отставали испанские, африканские и восточные провинции, хотя большинство из них было создано раньше нее и во многих из них тоже располагались римские колонии. Чтобы понять причины такого успеха Нарбонской Галлии, необходимо отвлечься от более широкой картины и исследовать составные части провинции — общины (civitates).
2. Организация территории
Когда император Август посетил Нарбону в 27 г. до н. э.20, свою главную задачу, согласно Диону Кассию21, он видел в организации территории, завоеванной Цезарем, то есть Галлии, не выходящей к Средиземному морю. Что же касается Нарбонской Галлии, то Август, судя по всему, просто добавил последние штрихи к устройству, заложенному еще Цезарем и немного видоизмененному (в частости, некоторые колонии были основаны в период триумвирата). В провинциальном уложении (formula provinciae) перечислено пять римских колоний (Нарбона, Арль, Фрежюс, Безье и Оранж), два союзных государства (Марсель и воконтии) и около семидесяти пят oppida latina, το есть порядка семидесяти пята общин, наделенных латинским правом, обладали некой ограниченной административной автономией и имели собственных магистратов, по крайней мере младших, — эдилов, квесторов и т. п.
Это уложение оставалось в силе весьма продолжительное время, но позднее в него были внесены изменения, о которых сообщает Плиний Старший. В какой-то момент две общины, Вьена и Баланс, получили статус колоний римских граждан. Но гораздо важнее было то, что сорок три oppida latina утратили автономию и были включены в соседние общины. Из общин, расширенных таким образом, известна лишь одна: Плиний Старший отмечает, что двадцать четыре oppida latina были приписаны к Ниму, и Страбон подтверждает это, прибавляя, что «они платили ему [Ниму] подати»;22 это предполагает, что Рим предоставил Ниму привилегию собирать налоги в свою пользу. Данную меру следует датировать правлением Августа, возможно, 16—13 гг. до н. э., когда он посещал Галлию. Более поздняя датировка не позволяла бы объяснить согласованность сведений Плиния Старшего и Страбона.
Таким образом, число самостоятельных латинских общин резко сократилось, почт на 60%. С другой стороны, некоторые из oppida, сохранившие латинский статус, по-прежнему имели хотя бы младших магистратов, что давало их гражданам возможность получения римского граж¬
20 Ливий. Периохи. 134.
21 Дион Кассий. ЫП.22.
22 Ограбон. IY.1.12 (186-187С).
554
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
данства, и были включены в гораздо более крупные общности при помощи какого-то неизвестного нам механизма. Хотя всегда трудно утверждать что-то с уверенностью относительно точного числа общин (civitates) или их точных границ, но представляется, что в Нарбонской Галлии их было около двадцати двух.
Замена множества маленьких городов несколькими объединенными общинами — мероприятие, характерное для правления Августа. Эти тенденции свидетельствуют о желании императора содействовать урбанизации, сконцентрировать элиты в крупных центрах и, возможно, ограничить возможности автоматического получения римского гражданства в индивидуальном порядке. Наиболее поразительна судьба Нима: ранее этот город уже являлся столицей вольков-арекомиков и служил резиденцией магистратов этого союза, однако то была лишь одна из двадцати пяти общин арекомиков. Август приписал к Ниму двадцать четыре остальные общины, которые теперь зависели от него в политическом отношении и в вопросах налогообложения, профинансировал строительство стены вокруг города23 и основал или позволил основать в нем монетный двор, на котором была отчеканена знаменитая серия ассов с крокодилом. Археологические памятники этого города входят в число прекраснейших на римском Западе. На эту политику централизации, впрочем, накладывали свои ограничения местные традиции и география. Наряду с обширными округами тектосагов со столицей в Тулузе, арекомиков с центром в Ниме, воконтиев с главным городом Везоном и аллоброгов, проживавших вокруг Вьены, существовали и более мелкие общины, и в том числе колонии, основанные римлянами в Безье и Оранже.
Традиция оказывала влияние и на институты. Новые общины не сразу усвоили италийские административные формы, и коллегиальные магистратуры вытесняли единоличных магистратов медленно и поэтапно. Сперва преторы стали носить титул преторов дуовиров и кваттуорвиров (praetores Ilviri и ΠΠνιπ), затем им на смену пришли дуовиры (в римских колониях) и кватгуорвиры (в латинских общинах), и лишь воконтиями управляли до Ш в. н. э. преторы. Кроме того, необычные титулы должностных лиц, которые, по-видимому, исполняли военные или полицейские обязанности, засвидетельствованы в Ниме (praefectus vigilum et armorum, префект ночной и вооруженной стражи), Ньоне (praefectus arcendis latrociniis, префект для борьбы с разбоями) и у воконтиев (praefectus praesidiorum et privatorum, префект стражи и рядовых).
Свидетельства о повышении гражданского статуса отдельных лиц, об их вхождении в сенаторское и всадническое сословия, показывают, что большинство этих людей происходило не из римских колоний, а из Вьены и Нима. Наряду с Нарбоной эти города лидируют также по количеству сохранившихся надписей. Посидоний, источник Страбона, писавший в начале I в. до н. э., упомянул эти два города, и только их, как «столицы»
23 CIL ХП 3151.
Глава 13d. Галлия
555
великих народов, аллоброгов и арекомиков соответственно24. В речи Цицерона «В защиту Фонтея», написанной ок. 70 г. до н. э., тоже упоминаются только они. С другой стороны, Нарбона в рассказе Посидония — это не колония, не столица провинции, но просто «порт всей Кельтики»25. Несмотря на то, что колония Фрежюс дала империи таких выдающихся людей, как оба деда Агриколы и его отец Юлий Греции, представляется очевидным, что колонисты-ветераны и их потомки, даже проживавшие в Нарбоне, добивались меньших успехов, чем выходцы из великих городов Вьен и Ним, по крайней мере в Ранней империи.
Чем это объясняется? Одной из причин может быть участие аллоброгов и арекомиков в военных походах конца I в. до н. э. Возможно, императоры или наместники старались заручиться поддержкой местных лидеров, способных повести за собой тысячи вооруженных сторонников26. Возможно, между этими племенами и выдающимися римскими деятелями были установлены личные связи. Возможно, могущество этих племен определялось как военной силой, которую они способны были мобилизовать, так и территориями, которые они контролировали. Вероятно, все эти причины сыграли свою роль. Но самым важным фактором было то, что в своих распоряжениях Август не просто учел существующее неравенство общин, но и укрепил его.
3. Экономическая трансформация?
Завоевав Нарбонскую Галлию, италийцы сразу начали приобретать там землю. Речь Цицерона «В защиту Квинкция» дает представление о том, как происходил этот процесс в начале I в. до н. э., а немного позже оратор произнес речь «В защиту Фонтея», в которой постоянно упоминаются земледельцы и скотоводы италийского происхождения, проживавшие в данной провинции. Нарбона была основана в 118 г. до н. э. в рамках сельскохозяйственной колонизации и в интересах италийских жителей. Тем временем Марсель приобрел обширные территории, отчасти собственным трудом27, отчасти силой28, а затем благодаря покровительству Рима. Цезарь утверждал, что Помпей от имени Римского государства предоставил Марселю землю на территории вольков-арекомиков и гельвиев к западу от Роны29.
С самого завоевания Трансальпийский Галлии большое значение имело горное дело, хотя в доступных нам текстах об этом не упоминается. Рядом с шахтами и штольнями в Корбьере, на Черной Горе, в долине Тарна и в Пиренеях были найдены амфоры типа Дрессель I. В этих местах, вероятно, добывали серебро и медь, а не золото. В древнейшем из
24 Ограбон. IV.ni, 12 (185-187С).
25 Ограбон. IV.1.12 (186-187С).
26 Цицерон. К близким. Х.21; XI.11.
27 Ограбон. Ш.4.17 (1&П165С).
28 Ограбон. IV. 1.5 (179—1810).
29 Цезарь. Гражданская война. 1.35.
556
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
обнаруженных на французской земле мавзолеев находился портрет воина, датируемый первой половиной I в. до н. э.; видимо, этот человек управлял серебряными рудниками в Аргентоне в Альпах. Само название данного места, Аргентон, говорит о многом.
Но истинной целью предпринятой Цезарем колонизации Нарбоны (где было произведено межевание и перераспределение территории) и Арля являлась земля. Верно ли это для латинских колоний, основанных, вероятно, во Вьене, Ниме и Балансе, как уже упоминалось? Недавние исследования земельного межевания, базирующиеся в основном на археологических находках в Оранже, в целом подтверждают эту гипотезу. Основание колоний в Арле и Ниме объясняется тем, что после осады Марселя в 49-48 гг. до н. э. все земли фокейского города были конфискованы, за исключением собственно его территории, Леринских островов и города Ниццы. Как обычно, эта конфискованная территория была распределена между отдельными лицами и общинами, но еще важнее, что Цезарь получил возможность расселить на ней ветеранов и солдат вспомогательных войск в тот период, когда ему особенно остро требовалась земля для этих целей.
Между 40 и 28 гг. до н. э. Октавиан поселил ветеранов УП легиона в Безье, ветеранов П легиона — в Оранже, а ветеранов УШ легиона — во Фрежюсе. Если верить Диону Кассию, то между 16 и 14 гг. до н. э., уже после принятия титула Август, принцепс выделил колонистам новые земли в Галлии30. Объяснить это сообщение можно только при помощи предположения, что он отправил новые контингенты колонистов в ранее основанные колонии: сам Август утверждает, что предоставил компенсацию городам, пострадавшим от притока новых жителей31.
Главную трудность составляет не столько исследование воздействия этой колонизации на общество, сколько оценка ее экономических последствий. Представление о том, что прибытие такого множества новых семей оживило сельское хозяйство в южной Галлии, сегодня уступает место весьма скептическим воззрениям, согласно которым если в этой сфере и наблюдался прогресс, то весьма незначительный. Пожалуй, следует предпочесть более сбалансированную точку зрения.
Земельное межевание в Нарбонской Галлии уже много лет служит предметом крупных исследований. По мере разработки современных методов анализа эти исследования дают всё новые и новые результаты. Но первые выводы, относящиеся к долине Роны и Лангедоку, по-видимому, указывают на то, что разные схемы земельного межевания, отличающиеся ориентацией участков относительно сторон света, были приняты одновременно для соседних территорий, а не наложены одна на другую в разные периоды. Иногда ряд участков имел определенную ориентацию (возможно, она зависела от рельефа), тянулся вдоль дороги или в каком-то ином направлении. При этом к нему примыкал второй ряд участков, ко¬
30 Дион Кассий. LTV.23.
31 Деяния Божественного Августа. 16.
Глава 13d. Галлия
557
торый в кадастровом списке значился следующим, но был ориентирован иначе — по необходимости или из соображений удобства — и, в свою очередь, соседствовал с еще одним рядом... и так далее. Возможно, в ходе первой кадастровой регистрации были разделены лучшие земли, наиболее пригодные для обработки, в ходе второй — участки, занимавшие следующее место по качеству, и так далее.
В кадастре В, сохранившемся на хорошо известных мраморных таблицах из Оранжа, различаются лучшие земли, предоставленные колони- стам-ветеранам, земли, сдаваемые колонией в аренду, и, наконец, земли, «возвращенные трикастинам» («Tricastinis reddita»), то есть оставшиеся в распоряжении местных жителей. В эту последнюю категорию были включены в основном участки, наименее пригодные для обработки и требующие мелиорации. Земля, сдаваемая в аренду, тоже не блистала качеством, но сегодня там растет хороший виноград. Наконец, всё новые археологические открытия совершаются на территориях, которые в конце римского периода оказались покинуты. Можно сделать вывод, что колонизация, вероятно, дала сильный импульс к освоению и мелиорации новых земель.
Развитию более крупных и разноплановых земельных владений содействовала и романизация. Археологические методы, особенно аэрофотосъемка, позволяют идентифицировать сельскохозяйственные угодья, окружавшие обычно виллы, но не дают сведений о том, как разграничивались права собственности. Меж тем из эпиграфических источников известны аристократы, которым воздавались почести в нескольких общинах (civitates), и это позволяет предположить, что они владели обширными поместьями. Постоянное укрупнение земельных владений облегчало внедрение сельскохозяйственных культур, требовавших крупных капиталовложений и не приносивших немедленной прибыли, таких как олива, из плодов которой изготавливали масло, и виноград. В правление Августа данные процессы только начинались (впрочем, на территории, принадлежавшей Марселю, они шли уже давно), но в середине I в. н. э. и в правление Флавиев они заметно ускорились.
Однако сложнее всего оценить воздействие этих перемен на трансформацию экономики в целом, и особенные трудности представляет оценка изменений в торговле.
Ранее в основе рассуждений исследователей лежали преимущественно сведения о керамике. На всех раскопанных археологами участках в слоях, датируемых правлением Августа, обнаруживается множество черепков terra sigillata — керамики с красным глянцевым покрытием, часто помеченной штемпелями с латинскими именами и иногда украшенной узорами в стиле подражания классицизму. Эта посуда, которую в Британии иногда называют «самосской керамикой» («samian ware»), сперва производилась в Ареццо (античный Арреций), а затем в Пизе и Поццуоли (античные Путеолы). Черепки аррецинской керамики обычно встречаются вместе со столовой керамикой другого типа с севера Италии, прежде всего с определенной разновидностью кубков, известной как АСО. Но ок. 10—
558
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
20 гг. до н. э. на смену этой керамике приходит другая, произведенная в Галлии. Продукция из Монтана, расположенного недалеко от Тулузы, и из Ла Грофесенка близ Мийо была широко распространена в приграничных римских лагерях, в Испании, Британии и даже Италии. Ранее исследователи толковали это явление как экономический бум в южной Галлии, вследствие которого италийская продукция оказалась вытеснена с рынка.
Сегодня ученые отказались от этой точки зрения по двум причинам. Во-первых, стало понятно, что керамика, которая всегда была дешевым товаром, вряд ли может служить показателем функционирования глобальной экономики. Во-вторых, последние исследования позволили установить, что ок. 20—10 гг. до н. э. италийские гончары перевезли свои мастерские и оборудование (формы для украшенной посуды) в Галлию и основали филиалы во Вьене, Лионе (к которому мы вернемся позже) и, возможно, в Нарбоне и других центрах. Иными словами, италийские производители прилагали целенаправленные усилия для децентрализации производства. Это может объясняться только трансформацией глобальной торговли италийскими изделиями. Тогда почему эти мастерские так быстро прекратили производство и их сменили мастерские Монтана и Ла Грофесенка?
Интерпретировать сведения об амфорах еще труднее. Примерно до 30 г. до н. э. вино (как правило, италийское) перевозили в так называемых амфорах типа Дрессель. Было обнаружено много затонувших судов, груженных этими сосудами; множество амфор, иногда сотни тысяч, было извлечено при раскопках поселений, рудников и, так сказать, «крепостей- рынков», то есть центров перераспределения товаров. Огромное множество таких сосудов было найдено на одном участке близ Тулузы. Около 30—20 гг. до н. э. амфоры типа Дрессель 1 сменяются амфорами другой формы и объема, названными Дрессель 2—4. Судя по числу затонувших кораблей, перевозивших их вдоль южного берега Галлии, и по числу находок при раскопках на суше, количество амфор резко сократилось. Иными словами, в Галлию прибыло гораздо меньше амфор типа Дрессель 2—4, чем сосудов типа Дрессель 1. Почему? Возможно, италийское вино стали перевозить в других сосудах, таких как dolia или бочки. Известно несколько затонувших судов, большую часть груза которых составляли dolia — огромные глиняные сосуды; по-видимому, затем вино переливалось в другие сосуды. Бочки, однако, не оставляют никаких археологических следов. Кроме того, недавно обнаружилось, что в некоторых галльских печах для обжига керамики производились не только амфоры местного типа (так называемые галльские амфоры), но и подражания италийским и испанским сосудам. Неизвестно, какое вино в них перевозилось, италийское и испанское или же местное.
Таким образом, в течение тридцати или сорока лет после установления Августова мира в экономике Нарбонской Галлии происходили разнообразные перемены. Археология может пролить свет лишь на некоторые фрагменты общей картины, которые нередко выглядят противоречи¬
Глава 13d. Галлия
559
выми и неупорядоченными. Но эти свидетельства всё же можно синтезировать, хотя выводы останутся весьма предположительными.
Прежде всего следует отметить, что методы ведения сельского хозяйстве не претерпели резкой трансформации. Для мелиорации почвы и внедрения новых культур, таких как виноград и олива, всегда требуегся время. В любом случае перемены стали заметны лишь к середине I в. н. э. и даже тогда были невелики: Нарбонская Галлия так и не стала крупным производителем вина или масла — до этого было еще далеко.
С другой стороны, преобразилась торговля. Резкое падение количества италийских амфор в Нарбонской Галлии лучше всего объясняется с социологической точки зрения. Вследствие реорганизации при Августе прервалась кельтская традиция крупных пиров, которые устраивали вожди, — теперь, под влиянием римлян, местные властители предпочитали оказывать благодеяния в общественной сфере, а не раздаривать еду и напитки. Тем не менее через Нарбонскую Галлию проходили большие торговые потоки: одни товары везли по долине Роны во Вьен и Лион, другие — через Нарбону в Тулузу и Бордо. Возникло и несколько других торговых путей. Производители керамики из Монтана отправляли свою продукцию в Тулузу, а через нее, несомненно, — по атлантическим морским путям, тогда как Ла Грофесенк имел более тесные контакты с Лангедоком, откуда местные товары (как и многие другие) вывозились в другие регионы.
Самое поразительное открытие последних лет было сделано во Вьене. Город стоял на обоих берегах Роны, и в ходе недавних раскопок там обнаружились склады (horrea), которые занимали территорию, огромную по сравнению со всеми известными складами римского мира. Площадь их поверхности, не считая этажей, составляет 50 тыс. квадратных метров и более чем вдвое превосходит площадь складов в Остии. Эти строения датируются правлением Тиберия или Клавдия. Даже если сделать скидку на то, что результаты раскопок зависят от всякого рода случайностей (хотя Остия хорошо изучена), вместимость этих хранилищ феноменальна. Как следует интерпретировать данную находку? Для каких регионов предназначались товары, хранившиеся в этих помещениях, — для внутренней Галлии, Британии или Швейцарии, для гарнизонов лимеса? Или же для Средиземноморья и, в частности, для Рима? В последнем случае это могли быть склады продовольствия (annona). Обе гипотезы равновероятны и не исключают друг друга.
Среди археологических свидетельств данные о торговле всегда преобладают, и об этой погрешности необходимо помнить. Тем не менее не вызывает сомнений, что в I в. н. э. некоторые города в Нарбонской Галлии служили крупными центрами перераспределения товаров, а торговля — как в Косматой Галлии, так в средиземноморском мире — оживилась. Но Для общины (civitas) гораздо важнее были взаимоотношения между городом и его сельской округой, и именно они оказывали решающее влияние на развитие провинции.
560
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
4. Урбанизация
В отличие от многих завоеванных Римом территорий, южная Галлия имела давнюю традицию расселения вокруг городских центров, и за последние два века она укрепилась. Поселения занимали умеренную площадь, в среднем около трех гектаров, на которой проживало несколько сотен или, реже, тысяч человек — земледельцы, обрабатывавшие окрестные поля, небольшое количество ремесленников и малочисленная элита. В ходе недавно проведенных раскопок в Антремоне, Наже, Латте, Амб- руссе и Ансерюне археологи обнаружили, что укрепления, планировка и главные улицы этих населенных пунктов придают им определенное сходство с городами. Назначение общественных зданий — портиков, украшенных скульптурными рельефами, — остается загадкой. Жилищами служили как однокомнатные и двухкомнатные дома, так и более крупные здания, выстроенные вокруг маленьких внутренних двориков, иногда двухэтажные. В некоторых поселениях под влиянием Марселя и его аванпостов уже появились «протогородские» черты. Возможно, их внушительные окружные стены и башни, господствовавшие над ландшафтом — к примеру, та, что была построена в Ниме во второй половине Ш в. и позднее превращена в знаменитую башню Мань, — символизировали гордость населения новым, городским образом жизни.
Свой вклад в дебаты недавно внесла городская археология: исследователи обнаружили свидетельства о преемственности между старыми и новыми поселениями, которые противоречат общепринятым теориям, гласящим, что римляне основали великие города «из ничего». На месте римских городов Фрежюс и Оранж действительно нет крупных слоев, предшествующих правлению Августа, но они найдены поблизости, а в большинстве городов доримские слои засвидетельствованы на том же самом месте. Недавние раскопки в Безье, Ниме и Арле подтвердили это. Другие участки в целом соответствуют описанию, которое Страбон дает Вьену:32 простая (во всяком случае, по меркам средиземноморского наблюдателя) деревня превратилась здесь в город, населенный аллоброгской знатью.
Действительно, в ходе преобразований при Августе на смену поселениям среднего размера, служившим административными центрами небольших территорий, пришли гораздо более крупные города. Это явилось как следствием, так и одной из целей описанных выше процессов колонизации и attributio (включение небольших племен в состав более крупной общины. — 0.Л.). Укрепленные поселения (oppida), видимо, были покинуты довольно быстро, хотя иногда в них обнаруживаются следы более позднего проживания; несколько новых деревень располагалось на месте покинутых селений на вершинах холмов. Но такие города, как Нар- бона, Арль и Вьен, росли очень быстро. Наглядным примером может служить Вьен. Недавние раскопки показали, что районы Сен-Ромен-ан- Галь и Сен-Коломб, расположенные на правом берегу Роны и включав-
32 Страбон. IV.U1 (185—1860).
Глава 13d. Галлия
561
щие жилые кварталы, ремесленные мастерские и крупные общественные сооружения, были заселены не с конца I в. н. э., как ранее считалось, но с конца I в. до н. э.
Правда, некоторые города развивались не столь быстро. Первоначально городу Фрежюс было отведено порядка 50 гектаров, но потребовалось время для того, чтобы заселить территорию к северу от его декума- на32а. В античности обширные территории в Везон-ла-Ромен никогда не были застроены. Форум в Экс-ан-Провансе был сооружен только в конце I в. н. э. И тем не менее по своим масштабам эти города превосходили всё, что им предшествовало. Согласно первоначальным планам, Арлю и фрежюсу отводилось по меньшей мере по пятьдесят гектаров, а площадь Нима, Оранжа и Вьена могла превышать двести гектаров. Вне зависимости от того, был ли город окружен валом, его размер определяется на основании местоположения соседних кладбищ. Марсель, самый крупный из доримских городов на этой территории, никогда не занимал больше пятидесяти гектаров, а площадь его аванпостов, таких как Ольбия, Антиб и Агд, не превышала пяти гектаров. Наиболее красноречивым свидетельством преображения этой местности служат беспрецедентные масштабы общественных работ: крутые склоны были террасированы, а почва, подверженная оседанию, укреплена и осушена.
Урбанизацию южной Галлии не следует считать простым следствием таких взаимосвязанных факторов, как социальная мобильность, возвышение местных элит и распространение городского образа жизни. Самих по себе этих причин было бы недостаточно, и для процессов урбанизации важное значение имело всемерное содействие Рима — например, Тацит свидетельствует, что так обстояло дело в Британии33. Руководящую роль играли, пожалуй, выдающиеся римляне, такие как Агриппа, но решающий пример подавали императоры: иногда они из собственных средств финансировали крупные общественные работы в городах провинции, а иногда использовали какие-то другие стимулы, о которых известно меньше, например, освобождение от налогов. Так, в надписи из Нима, сделанной в правление Августа, сообщается, что сам император даровал городу стены и ворота (muros portasque)34.
Лишь недавно исследователи установили, как рано в Нарбонской Галлии стали возводить монументальные строения, посвященные императорскому культу, и особенно Августу. Самый поразительный пример обнаруживается в Ниме, где на склоне горы Мон-Кавалье был сооружен Авгус- тей, который включал комплекс святилищ, храмов, театров и садов, сгруппированных вокруг источника и отмеченных башней Мань. Форум в нижнем городе был ориентирован по той же оси и служил архитектурным противовесом святилищу; самым внушительным памятником на форуме был Мезон Карре, храм Гая и Луция Цезарей, принцепсов молоде¬
32а Декуман — главная улица города, проходившая с запада на восток. — О.Л
33 Тацит. Агрикола. XXI.
34 CIL ХП 3151.
56 2
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
жи. В центральных частях Вьена, Арля и Гланума исследователи также обнаружили огромные форумы — площади, окруженные храмами, портики которых стояли на криптопортиках, базиликами, административными зданиями и проч. Этой ранней эпохой датируются и многие театры.
Императорский культ оказал большое влияние на социальную, строительную и финансовую сферы. В городах наиболее полно проявлялись упорядоченность и великолепие того мира, безопасность которого гарантировал принцепс. Поэтому весьма символично, что мраморная копия Щит Доблестей (clipeus virtutis), которым сенат наградил Августа в 27 г. до н. э., была найдена в криптопортике Арля. Форум Арля, несомненно, один из древнейших в Галлии. Этот комплекс, как и другие городские памятники — например, театр и арка на берегу Роны, обнаруженные в этих местах скульптуры, — заставляет предположить, что в Арль прибыли артели высококвалифицированных италийских мастеров, благодаря которым город стал прекрасным образцом архитектурной и художественной романизации Нарбонской Галлии.
В Нарбонской Галлии очень рано начали строить театры, которые часто располагались в непосредственной близости от форума (как в Арле и Оранже), а в правление Августа и Тиберия здесь возводились триумфальные арки. Всё это свидетельствует о важнейшем значении городов, которые символизировали принадлежность к цивилизованному миру. В иконографии нередко встречается изображение варваров, закованных в цепи; бессмысленно пытаться идентифицировать этих варваров, поскольку это не более чем обобщение. Но в изображениях присутствуют также элементы классического символизма, которые подчеркивают переход от варварства к цивилизации, от хаоса к порядку.
Позволительно ли сказать, что города Нарбонской Галлии представляли собой множество прекрасно обустроенных маленьких вселенных? Трудно утверждать что-то с уверенностью, ибо ни один римский город в южной Галлии не превратился в окаменелость и не был избавлен от разрушительного воздействия истории. С той поры каждый город не раз преображался как в Средние века, так и в Новое время. Но всё же представляется, что города южной Галлии далеко не всегда строились в соответствии с обычным ортогональным планом, разбитым на квадраты. В некоторых случаях это было обусловлено существованием доавгустовского поселения, в других — особенностями местности. Так произошло с Бьеном, зажатым между Роной и склонами долины, тогда как в Ниме начиная с железного века несколько раз закладывались разные планы улиц. С другой стороны, Везон-ла-Ромен развивался совершенно беспрепятственно.
Кроме того, со временем многие города претерпели предсказуемые изменения. В Арле при строительстве амфитеатра была разрушена часть окружной стены, а во Фрежюсе часть уличного пространства заняли дома и одна секция городской стены была разобрана, чтобы провести акведук. Довольно часто при возведении новых зданий (особенно бань) разруша-
Глава 13d. Галлия
56 3
дись соседние, а сооружение складов во Вьене потребовало строительства огромной террасы на берегах Роны.
В городах наблюдались, конечно, ошеломляющие контрасты. Правящий класс сосредотачивал усилия на зонах общего пользования, которые, вероятно, поглощали основные ресурсы: здесь работали специалисты-архитекторы, использовались престижные материалы и заимствованные техники строительства, такие как римский бетон (opus caementicium). Тем временем в других районах города по-прежнему применялись строительные методы, унаследованные с доримских времен: необожженный кирпич, сухая каменная кладка и стены, скрепленные глиной. Так, в Ниме совсем рядом со святилищем Источника был возведен жилой квартал, почти идентичный тем строениям, которые обнаруживаются в современных ему крепостях (oppida) в этой провинции. В то же время в таких городах, как Везон и Вьен, сооружались огромные дома в иноземном стиле с внутренними двориками или садами, но порой они строились очень грубо и имели стены из сухой каменной кладки или обшивку из деревянных панелей. В римской колонии Фрежюс дома эпохи Августа и Тиберия, сооруженные, возможно, для колонистов, представляли собой скромные здания из трех комнат с внутренним двориком. По всей Нарбонской Галлии быстро распространялись мозаики и настенные росписи. В Глану- ме ненадолго обрел популярность Второй помпейский стиль, но ок. 15 г. до н. э. долину Роны покорил Третий помпейский стиль, модный в Риме. Как и в экономической сфере, в Нарбонской Галлии можно наблюдать культурную динамику, обусловленные ею противоречия и различия, которые нелегко свести к единой модели.
Быть может, урбанизация южной Франции происходила не столь быстро и единообразно, как ее нередко описывают исследователи, но всё же в рассматриваемый период этот процесс стал необратимым. Конечно, второстепенные городские центры часто возникали и развивались на основе доавгустовских центров. Некоторые из них, например Гланум или Ди, выросли вокруг святилищ, а некоторые, например Угерн (современный Бокер), появились на развилках дорог или крупных перекрестках. Однако другие развились в рамках огромных общин (civitates), столицы которых располагались слишком далеко от их географического центра и не могли обслуживать всю их территорию: так произошло с Греноблем, Анси и Женевой в общине аллоброгов и с воконтийскими городами Гап и Сисгерон. Но почти все крупные южные города, от Тулузы до Антиба, возникли при Августе как столицы общин. Некоторые из них, прежде всего Нарбона, Арль, Вьен и, возможно, Оранж, к началу I в. н. э. уже имели внушительные монументальные строения, в том числе форумы, храмы, театры, амфитеатры, а иногда и окружные стены. Другие центры были менее урбанизированы, и таким городам, как Везон, Фрежюс и Экс, пришлось ждать строительства многих из этих сооружений вплоть до правления Флавиев. Базовая же модель города восходила к правлению Августа.
564
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Таким образом, начало урбанизации повлекло за собой крупные сдвиги. Быстрое расширение некоторых городов при финансовой поддержке императоров или представителей элиты привлекало градостроителей, архитекторов, художников по фрескам и скульпторов, каждый из которых имел собственную артель специалистов и нанимал местных рабочих. Они, в свою очередь, способствовали развитию в городах торговли и сферы обслуживания. Новые монументальные строения были не просто зданиями: они закладывали фундамент для нового типа общества и нового образа жизни.
Но жесткое разграничение города и сельской местности было бы обманчивым, ибо все источники указывают на их тесную взаимосвязь. Некоторые города, например Безье, были окружены кольцом вилл; известно, что аристократия проживала в пригородных поместьях (как До- миции на своих землях под Экс-ан-Провансом), а городские магистраты и севиры августалы (жрецы императорского культа, обычно назначавшиеся из числа богатых вольноотпущенников) совершали посвящения в сельской местности. Новый стиль жизни городской элиты предполагал попеременное проживание в городе и в сельской местности. Пожалуй, это нагляднее всего свидетельствует о распространении италийских обычаев.
5. Новая культура?
Хотя Нарбонскую провинцию Рим завоевал в 124—123 гг. до н. э., до эпохи Цезаря латинский язык не оставил следов даже в официальных документах35. Только в правление Августа латинская эпиграфика заменила кельтские надписи, выполненные греческими буквами (галло-греческие надписи). Примечательно, что в Нарбоне, основанной в 118 г. до н. э., две самые древние надписи (CIL ХП 4338 и 4389) датируются только концом I в. до н. э.
Тем не менее начиная с правления Августа латынь, по-видимому, быстро распространялась в Нарбонской Галлии. Вполне естественно, что это происходило в высшем обществе, из которого в результате выдвинулись знаменитые ораторы (Домиций Афр из Нима и Вотиен Монтан из Нар- боны), или поэты (Варрон Атацинский), или историки (Трог Помпей). В развитии эпиграфики элита тоже играла важную роль, но установка надписей имела смысл только в том случае, если они были понятны значительной части населения. Судя по всему, городское население, подобно друзьям Тримальхиона36, могло читать надписи (litterae lapidariae), а также распознавать штампы или торговые марки на глиняных сосудах. В противном случае изготовителю поддельных ваз из Ла Грофесенка не имело бы смысла помечать их надписью «verum vas arretinum» («настоящая аррецинская посуда»). Кроме того, начиная с правления Августа на
35 ILS 884. Надпись из Баланса, которая, вероятно, относится к Луцию Нонию Аспре- нату.
36 Петроний. Сатирикон. 58.
Глава 13d. Галлия
565
тарелках и блюдах стали появляться латинские граффити, нацарапанные сгилосом. Часто они состоят всего из двух или трех букв, обозначающих имя владельца, но иногда встречаются и фразы без сокращений. На одном экземпляре из Везона написано «Flacci Nemo AtÜerit» («Я принадлежу Флакку. Никто да не притронется ко мне!»). Форма букв на знаменитых метках обжиговых печей из Ла Грофесенка, датируемых примерно 40 г. н. э., идентична форме букв на метках, обнаруженных в Помпеях. Надписи, установленные представителями знати в сельской глубинке, например в Сен-Венсан-де-Гожак в Гарде, доказывают, что латинский язык проник туда довольно рано. Распространение языка и базовой письменной культуры, которому способствовали административные решения и публичные зрелища, представляло собой существенную перемену. Что же касается галльского языка, то он больше не встречается нигде, кроме имен и названий, и очень редко — в граффити на глиняных черепках.
Хорошо известно, что в процессе аккультурации важную роль играет изменение погребальных обычаев, поэтому особенно интересно взглянуть, насколько быстро жители провинции восприняли римскую практику. Конечно, в Трансальпийской Галлии уже давно была распространена кремация, но до правления Августа для каждого сравнительно небольшого района (например, долины Нижней Роны) был характерен свой стиль устройства гробниц и своя разновидность погребальных обрядов. Кроме того, мы знаем очень мало захоронений: на территории от Нарбоны до Ниццы найдено менее двухсот погребений, датируемых последними двумя веками н. э., а это предполагает, что людей хоронили неформально, и неизвестно, как именно. Но начиная с эпохи Августа кладбища появляются возле городов вдоль дорог, причем захоронения на них обустроены и упорядочены иерархически: это мавзолеи, группы камер и отдельные могилы, отмеченные надгробными камнями и разбросанные на обширной территории, которую с 50 г. н. э. обычно огораживали. В то же время крупные мавзолеи начали служить межевыми знаками, а более скромные кладбища аккуратно вписывались в ландшафт, разделенный на центурии (здесь — единица пахотной земли, около 50 га. — О. Л.), как, например, в Августе Трикастинов, современном Сен-Поль-Труа-Шато. Некоторые региональные различия сохранялись, но погребальный инвентарь, конструкция гробниц и наличие места сожжения (ustrina) свидетельствуют о крупных переменах. Скульптурные украшения гробниц настолько напоминают италийские образцы, что некоторые исследователи предположили даже, что уже в I в. до н. э. по Галлии путешествовали группы скульпторов, предлагавшие аристократам погребение, достойное их положения. Примером наиболее роскошных творений этих мастеров может считаться мавзолей Юлиев в Глануме. Но в качестве неоспоримых свидетельств италийского влияния, пожалуй, лучше привести более распространенные артефакты: фрагменты небольших памятников из Нарбоны, Фрежюса и Арля, а также первые латинские эпитафии.
Наконец, рассмотрим императорский культ. У нас нет данных о его торжественном и официальном учреждении в Нарбонской Галлии, сопо¬
566
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ставимых со свидетельствами с Востока или из Тарракона на Западе. Но некоторые надписи из Нима предполагают, что с 25 г. до н. э. данный культ отправлялся в святилище Источника, а между 20 и 10 гг. до н. э. оно было перестроено и стало монументальным зданием. Примерно в это же время в Глануме было посвящено два храма Ромы и Августа; в целом Мезон Карре в Ниме, храм Августа во Вьене, портреты Августа, его родственников и преемников, найденные в Нарбонской Галлии, свидетельствуют о том, что императорский культ возник рано и отправлялся с энтузиазмом, по крайней мере в наиболее передовых городах.
Очень важные сведения об императорском культе получены, в частности, из Нарбоны. Около 25 г. до н. э. частное лицо посвятило здесь алтарь Августова Мира; две другие надписи дают очень ранний пример почитания Ларов Августа;37 кроме того, существует знаменитый алтарь, на котором изображена вечная присяга нумену Августа, которую в 11 г. н. э. принес нарбонский плебс (plebs Narbonensium) — граждане, не принадлежавшие к муниципальному сословию (ordo); этот алтарь был установлен на форуме, и на нем пять раз в год совершались священнодействия.
Жреческие должности, учрежденные для отправления императорского культа, например фламины и, с правления Тиберия, севиры авгусгалы, занимавшие выдающееся положение в Нарбоне и Ниме, играли важную роль в достижении социального единства. Культ часто давал повод для проведения щедрых благотворительных акций и церемоний, объединявших население каждой общины и побуждавших его к соперничеству с соседями. Культ императора внутри каждой общины имел огромное значение, и это служит подтверждением теории, согласно которой культ в масштабах провинции был учрежден гораздо позднее, при Веспасиане.
Новая политическая конструкция создавалась быстро: не позднее, чем в правление Тиберия, в каждой общине (civitas) Нарбонской Галлии, кроме союзного города воконтиев, были учреждены коллегиальные магистратуры римского типа. В 14 г. н. э. все римские граждане, проживавшие в провинции, получили право добиваться должностей в Риме. Общественные сооружения, дома в италийском стиле и легионы статуй начали заполнять площади, дороги и кладбища. В результате нескольких этапов колонизации землю в Нарбонской Галлии получили тысячи тысяч семей, в основном италийских. Городские центры, столицы общин (civitas) заняли место прежних крепостей (oppida), а на смену традиционным пирам пришла общественная благотворительность в римском стиле. Сельская местность была заново разделена, многие поля перераспределены, и даже сельскохозяйственные культуры постепенно менялись. Нет сомнений в том, что в Нарбонской Галлии свершились беспрецедентные перемены. Эту картину можно немного уточнить и указать, что многие города сохраняли преемственность с прежними поселениями, некоторые традици¬
37 См. сноску 34 наст. гл.
Глава 13d. Галлия
567
онные техники по-прежнему применялись, а в горных районах, лежащих за великими равнинами Средиземноморского побережья и долиной Роны, эта трансформация была менее выражена. Но огромный масштаб преобразований отрицать невозможно. Фраза Плиния «скорее Италия, нежели провинция» («Italia verius quam provincia») подтверждается новыми и новыми примерами. И неудивительно — в конце концов, он знал об этом больше нашего.
III. Три Галлии38
Со времен Цезаря Косматая Галлия была организована как единая провинция; вероятно, в 27 г. до н. э. Август разделил ее на три части. Некоторые пассажи Страбона свидетельствуют о том, что в этот период границы Аквитании были установлены по Луаре и Пиренеям39. С Бельгикой и Лугдунской Галлией дело обстояло иначе: они тянулись с востока на запад параллельно друг другу. В состав Бельгики входили все племена, населявшие побережье Ла-Манша и Северного моря, Лугдунская же Галлия объединяла тех, кто жил «на центральных равнинах» вплоть до Луары и Верхнего Рейна на юге. Наследием этого первоначального устройства стала граница между военными округами Нижняя и Верхняя Германия, соответствовавшая границе между Бельгикой и Лугдунской Галлией. В какой-то момент, возможно в начале правления Тиберия, августовская система была преобразована: территорию Бельгики ограничили северо-восточной Галлией, а остальные земли отошли к Лугдунской Галлии.
Эти перемены свидетельствуют о том, что изначально провинции были организованы довольно произвольно — на основании весьма зачаточных географических познаний. Замысел Августа был прост: он стремился создать три провинции примерно одинакового размера. Изменения, внесенные в первоначальный план, свидетельствуют о том, что после 27 г. до н. э. важное значение приобрела граница по Рейну и проблема германцев. Во всяком случае, следует отказаться от тех теорий, согласно которым эти разделы отчасти предназначались для того, чтобы распределить по трем разным провинциям три самых могущественных племени позднего железного века — арвернов, секванов и эдуев. Страбон называет Реймс столицей Бельгики40, но неясно, сохранил ли этот город свое положение после реорганизации. Лион был столицей Лугдунской Галлии, но о столицах провинций Бельгики и Аквитании у нас нет точных сведений. Последней, возможно, управляли из Сента, затем — из Пуатье, а потом, быть может, из Бордо. Сведения о количестве общин (civitates) столь же неопределенны, поскольку источники противоречат друг другу, называя от шестидесяти до шестидесяти четырех общин, да и административное
38 Памяти Эдит Уайтмен.
39 Страбон. IV.1.1 (176-177С); IV.3.1 (191-192С); IV.4.3 (196-197С).
40 Страбон. IV.3.5 (194С).
568
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
деление южной Аквитании совершенно непонятно. Большинство источников, правда, сообщает, что эти общины соответствовали территориям проживания племенных групп позднего железного века. Исключения из этого общего правила составляют битуриги-вивиски, которые, возможно, откололись от битуригов-кубов, обитавших вокруг Буржа (древнего Ава- рика), и во второй половине I в. до н. э. переселились в устье Гаронны; трикассы из района Труа (Августобона), которых Август, вероятно, отделил от сенонов; и, наконец, сильванекты, которых Клавдий отграничил от суессионов41.
Таким образом, существовали три соразмерные провинции, в каждой из которых проживали могущественные племена, имевшие сильные традиции и плодородные земли. Исходя из этого, можно было бы ожидать, что они будут развиваться параллельно, тем более что невероятное богатство Галлии было общим местом, постоянно упоминавшимся как в римской литературе, так и в римских официальных речах42. Но археологические свидетельства складываются в картину, из которой очевидны глубокие различия между провинциями.
1. Импульс событий
О некоторых последствиях Галльской войны и политики Цезаря можно лишь догадываться. Десятки тысяч галлов были убиты или взяты в плен и обращены в рабство, а многие вожди и родичи последних обнаружили, что их состояния сократились или даже были конфискованы и переданы сторонникам Цезаря — их собственным соплеменникам или иноземцам. Если ранее Рим предоставил городу Массилия43 и отдельным аллоброгам44 землю и доходы (vectigalia) с внутренних областей, то насколько же больше обязанностей, почестей (вплоть до членства в римском сенате) и всевозможных богатств могли получить новые Юлии из Косматой Галлии! Именно вследствие этого перераспределения власти и богатства и возникли тесные личные связи новых галльских вождей с диктатором, именно поэтому галльские лидеры согласились последовать за Цезарем, когда он поименно вызвал их к себе в начале гражданской войны45. В конце концов, в целом он проводил умеренную политику: назначил небольшую подать, проявил уважение к целостности племенных территорий и не основывал колоний, исключая Новиодун у гельветов.
41 См. сноску 5 наст. гл.
42 Напр., Дион Кассий. LIX.22; Тацит. Анналы. XI.23; История. 1.51; ТУ.74; Светоний. Нерон. 40.
43 Цезарь. Гражданская война. 1.35.
44 Цезарь. Гражданская война. Ш.59.
45 Цезарь. Гражданская война. 1.39: «ex omnibus civitatibus nobilissimo et fortissimo quoque evocato» («Он вызвал поименно самых знатных и храбрых людей из всех общин». Перев. М.М. Покровского).
Глава 13d. Галлия
569
Смерть Цезаря породила в Риме страх перед галльским мятежом (tumultus Gallicus)46. Он так и не разгорелся, но письма Цицерона в последующие месяцы свидетельствуют о том, что сперва Луций Мунаций Планк, наместник Косматой Галлии, а затем Децим Брут пытались привлечь на свою сторону галльских вождей (principes Galliae), хотя и неизвестно, что именно им было обещано. После этих событий источники содержат лишь краткие упоминания о волнениях в провинции. Вследствие беспорядков в 39—38 гг. до н. э.47 в Галлию был направлен Агриппа, и известно, что он не только одержал победу над аквитанами48, но и вынужден был также перейти Рейн49. Что именно тогда произошло — общее восстание или лишь местные вспышки волнений? Скорее всего, беспорядки охватили только Пиренеи, где вскоре после 30 г. до н. э. также вел военные действия Марк Валерий Мессала50, и северо-восток, где в связи с мятежами упоминаются племена моринов, свебов и треверов. В источниках сообщается о триумфах «за галлов» («ex Gallis») или «за Галлию» («ex Gallia»), но это не предполагает побед над всеми племенами Галлии. Наконец, Август раз и навсегда прекратил мятежи аквитанов в ходе боевых операций в Пиренеях в 13 г. до н. э. Устранение проблем на Рейне потребовало гораздо больших усилий.
Трудности на северо-востоке и юго-западе объясняют, почему Агриппа разработал и построил дорожную систему, описание которой мы находим у Страбона51. Агриппа планировал соорудить две линии коммуникаций, начиная от Лиона: одна должна была вести в Рейнскую область и на север, вторая — в область к югу от Гаронны, которой до Августа ограничивалась Аквитания. План этих двух стратегических дорог, которые предназначались для войск, прибывавших из Италии, был, видимо, составлен довольно рано, возможно, в первое наместничество Агриппы в Галлии между 40 и 37 гг. до н. э. Их строительство предполагало проведение инженерных работ, прежде всего сооружение мостов, заняло продолжительное время, потребовало значительных материальных и людских ресурсов и, возможно, способствовало росту некоторых городов.
Одним из самых важных мероприятий римлян в Галлии до правления Августа было основание Лиона (ср. выше, с. 548 наст. изд.). Заложивший его Луций Мунаций Планк основал в этом же году город Рау- рику, которому предстояло стать Августой Рауриков (современный Аугст в Швейцарии). Но если Аугсг и был колонией, имевшей стратегическое значение (что далеко не бесспорно), то вскоре он уступил место Лиону, который всего через несколько лет занял главенствующее положение как центр дорожной сети Агриппы, а затем — как столица Лугдун-
46 Цицерон. Письма к Аттику. XIV. 1.
47 Аппиан. Гражданские войны. V.75.318.
48 Аппиан. Гражданские войны. V.92.386.
49 Дион Кассий. XLVIII.49.
50 Тибулл. 1.7.11.
51 Ограбон. IV.6.11 (208С).
570
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ской Галлии, где располагался монетный двор и общее святилище Трех Галлий.
В правление Августа основные военные действия, если не считать аквитанских, происходили в Германиях и на восточной границе, где были сконцентрированы войска. Означает ли это, что вся остальная часть страны была полностью замирена? Некоторые исследователи доказывают, что распределение аррецинской керамики и концентрация галльских монет, отчеканенных в этот период, указывают на присутствие римских войск, хотя письменные свидетельства об этом отсутствуют. Но данная теория совершенно недоказуема. Найдено несколько военных баз: в Оне (область Сентонж), в Мирбо близ Дижона, в Арлене и в других местах вдоль линии «Реймс — Суассон — Амьен». Но с хронологией этих археологических участков многое неясно, и они могут датироваться правлением Тиберия или даже гораздо более поздним временем. Все источники указывают на то, что в Трех Галлиях царил Августов мир, несмотря на цензы, проведенные в 27 и 12 гг. до н. э., а затем в 14 г. н. э., и невзирая на административные злоупотребления (вероятно, преувеличенные), например проступки Гая Юлия Лицина ок. 16 г. до н. э. или ему подобных персон52. На основании результатов раскопок в богемском Штрадонице была выдвинута теория, согласно которой в 12 г. до н. э. многие галлы ушли в добровольное изгнание и примкнули к Марободу53, чье царство погибло в 19 г. н. э., однако сторонники этой гипотезы, по-видимому, преувеличивают значение богемских археологических находок.
Крупным историческим событием I в. н. э. стало восстание 21 г. н. э., описанное Тацитом54 и, в нескольких строках, — Веллеем Патеркулом55. Рассказ Тацита овеян романтикой. Два отпрыска знатнейших галльских семей собирали на тайных встречах пеструю компанию преступников и должников. Андекавы, проживавшие в Анжере, и туроны из области Тура восстали первыми, но римляне легко их подавили. Юлий Флор, возглавивший треверов, и Юлий Сакровир, лидер эдуев, постарались вооружиться как можно лучше, но в свою очередь были разбиты римлянами, вновь без всякого труда. И Веллей, и Тацит указывают, что «римский народ раньше узнал о победе, чем о войне». Но если Веллей, рассказывая эту историю, прославляет Тиберия, то Тацит сетует на то, что римский сенат оставался в неведении, а восстание объясняет тяжелым налоговым бременем, ростовщичеством и своеволием наместников.
Современные историки, занимающиеся Галлией, переоценивают значение этого эпизода. Существует тенденция не только связывать с данным восстанием археологические слои, отмеченные признаками разрушения (например, следы пожаров на востоке Галлии), но и выводить из этих инцидентов всевозможные социологические следствия. Эти события изображаются либо как последнее восстание галльских всадников — эли¬
52 Дион Кассий. IIV.21.
53 Веллей Патеркул. П.129.
54 Тацит. Анналы. Ш.40—47.
55 Веллей Патеркул. П.129.
Глава 13d. Галлия
571
ты, сложившейся в ходе Галльской войны, место которой занял теперь новый правящий класс ремесленников и торговцев, либо, напротив, как попытка отнять власть у тех галльских всадников, чьих сыновей Юлий Сакровир взял в заложники, захватив их в школе в Отёне. Но с этими интерпретациями нельзя согласиться: сам Тацит, рассказывая о деятельности галльских аристократов в 69 г. н. э., свидетельствует о том, что они гнались за привилегиями и статусом не меньше, чем прежде56.
На самом деле история Флора и Сакровира ясно показывает, сколь трудно оказалось этим двум нобилям получить поддержку себе подобных. Захватив заложников в Отёне, они смогли лишь добиться нейтралитета галльской элиты, однако правящие классы в Галлии были прочно включены в римский порядок, и лишь незначительное меньшинство взялось за оружие.
В правление Клавдия возобновилась активность Рима на рейнской границе. По-видимому, важное стимулирующее значение имели два мероприятия: во-первых, строительство канала между старым Рейном и Маасом и, во-вторых, основание в 50 г. н. э. Кёльна — Клавдиевой колонии Алтаря Агриппины (colonia Claudia Ara Agrippinensium). Завоевание и колонизация Британии, очевидно, стимулировали торговлю между Британией и Галлией, особенно западной Галлией. Энергия и влияние Клавдия ощущались во всех сферах. В Галлии строились дороги, расширялись города, возникали новые городки, в том числе Мартиньи в Швейцарии (Форум Клавдия) и Эм в Тарантесе. Принцепс активно содействовал благотворительному строительству общественных сооружений. Взаимоотношения императора с галльской элитой пространно изложены в речи, которую он произнес перед сенаторами57, предлагая допустить в их ряды галлов, имеющих римское гражданство, и разрешить им добиваться магистратур в Риме. Его предложение встретило ожесточенное сопротивление, и сперва разрешение было предоставлено только эдуям, самым давним союзникам римлян. Данный эпизод свидетельствует о том, насколько Три Галлии в восприятии сенаторских кругов отличались от Нарбонской провинции, жители которой обладали указанным правом с 14 г. до н. э.
Упоминания о Галлии в правление Нерона редки и случайны, если не считать сообщения о проведенном цензе58. В области арвернов была установлена статуя Меркурия, а в Лионе в 65 г. н. э. произошел пожар.
На основании этого краткого обзора можно сделать несколько общих наблюдений. На протяжении почти всего рассматриваемого периода главные события разворачивались на северо-востоке, где были расквартированы десятки тысяч солдат, что соответствовало населению нескольких античных городов. Эти войска играли роль огромного экономического магнита, поскольку данную территорию часто посещали императоры и члены императорской семьи. Кроме того, военные действия в указанный пе¬
56 Тацит. История. IV.68—69; ср. выше, с. 547 наст. изд.
57 Тацит. Анналы. XI.24; CIL ХШ 1668.
58 Тацит. Анналы. XIV.46.2.
572
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
риод велись в Аквитании в узком смысле слова, а именно в области к югу от Гаронны. В дорожной системе Агриппы, которая была задумана очень рано, но строилась в течение длительного времени, учитывалось важное значение как северо-восточного, так и юго-западного региона. Наконец, невзирая на выдвинутые историками ошибочные интерпретации событий 21 г. н. э., в Галлии не наблюдается никаких признаков ослабления прочных связей, установленных Цезарем между «юлианской» аристократией и императорской властью.
2. Инновации и инерция
Пытаясь оценить последствия завоевания Галлии и установления в ней нового порядка, исследователи сталкиваются с крупной проблемой. Ни в одном из поселений, из которых затем развились галло-римские города, не найдено археологических слоев, датируемых периодом между окончанием Галльской войны и примерно 20 г. до н. э. или даже позднее. Самым наглядным примером служат три колонии, основанные Цезарем и Планком. В Ньоне (колония Юлия Эквесгрис) не обнаружено ни одного сооружения, построенного до 15 г. до н. э.; в Аугсге (Августа Раурика) самые ранние слои датируются концом правления Августа, а в Лионе первые археологические следы (не считая оборонительных рвов, которые, возможно, окружали лагерь Планка) относятся к периоду между 30 и 20 гг. до н. э. С помощью дендрохронологических методов первое укрепленное поселение у Петрисберга в Трире датируется 30 г. до н. э., но археологический материал этого времени отсутствует. Имеется ряд исключений, но их можно интерпретировать по-разному. Несколько единичных находок было сделано в Реймсе, где обнаружилось два рва и пространство, окруженное валом, известны остатки поселения в Меце, тысячи галльских монет найдены в Лангре, а в ходе раскопок «Ма-Мезон»58* в Сенте на юго- западе Галлии было извлечено на поверхность несколько черепков 40— 30 гг. до н. э.
Следует ли сделать вывод, что для возникновения городов потребовалось какое-то время? На самом деле, аргументация по умолчанию вызывает сомнения по двум причинам. Во-первых, во Франции городская археология — сравнительно новое направление исследований. Во-вторых, когда речь идет о столь раннем времени, стратиграфическая система отсчета построена на основании находок из римских военных лагерей, а самые первые из раскопанных лагерей относятся к периоду после 19 г. до н. э. Нойс датируется временем после 19 г. до н. э., Дангштеттен — 15—9 гг. до н. э., Рёдген — 12—9 гг. до н. э., Обераден — 11—9 гг. до н. э., Хальтерн — 7 г. до н. э. — 9 г. н. э., и так далее. В результате археологи часто не в силах датировать материал, относящийся к периоду между 50 и 20 гг. до
58а «Ма-Мезон» (фр. «Мой дом») — название археологического участка, соответствующего античному кварталу, где в начале правления Августа находились небольшие и безыскусные постройки. — О. А
Глава 13d. Галлия
57 3
н. э., особенно если это не импортная керамика. Таким образом, вполне вероятно, что исследования в этой области скоро принесут новые результаты, но в настоящее время можно литтть констатировать медленные темпы развития городов.
Первые признаки зарождения городского образа жизни наблюдаются в эпоху Августа, а следующие — в конце его правления: на месте почти всех городов обнаруживаются сперва черепки аррецинской керамики, а затем — ранней галльской terra sigillata. Эти археологические участки необходимо разделить на несколько категорий. Сперва следует выделить Лион и Отён. После 20 г. до н. э. Лион чрезвычайно расширился. Он, несомненно, не имел укреплений, однако холм Фурвьер был заселен, в городе был построен театр из камня, доставленного из каменоломен на юге, прежде всего из Гланума, и, вероятно, имелся форум. Для снабжения римских военных лагерей здесь открылись ремесленные мастерские, сконцентрированные на вершине холма и вокруг него, и филиалы крупных гончарных производств из Ареццо, Пизы и северной Италии. Начиная с правления Августа, эти гончары даже копировали амфоры типа Дрессель 2—4 и некоторые другие их разновидности. Лион стал центром распределения средиземноморских товаров, в том числе вина, оливкового масла и заготовленной для долгого хранения рыбы, направлявшихся в Швейцарию, долину Мозеллы и Рейнскую область, не говоря уже о центральной и западной Галлии. В 12 г. до н. э. было основано союзное святилище в Кондате, и после этого в Лионе распространился эвергетизм и начали возводиться новые здания, например, амфитеатр, подаренный городу аристократами из Сента в 19 г. н. э. Лион стал политической, религиозной и экономической столицей, украшенной множеством изумительных памятников. Первые дома были построены из деревянных панелей, имели несколько комнат, полы, выполненные в технике «терраццо» (заливные полы из глины и извести с включениями из камня, отполированные и окрашенные в красный цвет. — О. Л.), и настенные росписи, испытавшие непосредственное влияние римской моды.
В Отёне дело обстояло совсем иначе. В конце железного века столицей эдуев была Бибракта, несколько раз упомянутая Цезарем, который там останавливался. Она располагалась на вершине горы Мон-Бевре, примерно в 20 км от Отёна. В ходе раскопок, проведенных в XIX в. и недавно возобновленных, были открыты зоны общественного пользования, множество частных жилищ, в том числе несколько огромных домов, выстроенных по римскому образцу, и ремесленные кварталы; застройку окружал массивный вал. Весь этот город переместился в Отён, причем население, должно быть, перебралось очень быстро, поскольку в Бибракте практически не обнаружено артефактов, датируемых после I в. до н. э. Название Августодун отражает желание Августа оказать личное благодеяние самым давним союзникам Рима. Существует и множество других свидетельств его расположения: только в этом городе Трех Галлий в данный период была построена окружная городская стена, увенчанная башнями и снабженная четырьмя украшенными воротами, которая огораживала
574
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Рис. 9. План города Отён
территорию площадью порядка двухсот гектаров. Кроме того, в Отёне находились знаменитые «университеты» для молодых аристократов со всей Галлии и гладиаторская школа.
Отён, заложенный на пустом месте, с самого начала имевший правильную ортогональную планировку улиц, был образцовым городом. Средства к существованию ему давала элита, проживавшая в пределах городских стен, но черпавшая богатства из земельных владений. Отён располагался на естественном перекрестке дорог, что привлекало в него
Глава 13d. Галлия
575
ремесленников, и, как свидетельствует священный квартал вокруг храма Януса, вероятно, имел большое культовое значение. Но через город никогда не проходили великие торговые потоки, служившие источником жизненной силы для Макона и Шалона. Выдающееся значение Отёна на раннем этапе его существования было обусловлено стремлением галлов к городскому образу жизни, которому способствовали интеграция элиты и действенная помощь со стороны римских властей, возможно, в форме налоговых льгот или даров.
В других галльских городах дело обстояло иначе. В Швейцарии с самого начала были заложены ортогональные сетки улиц, которые постепенно заполнялись зданиями из дерева и глины. Для общественного пользования отводилось определенное пространство, но строения на таких участках встречаются редко: Аугсг был частично обнесен стеной и имел театр, а Ньон — здание, похожее на базилику. Поскольку Аугсг и Ньон имели статус колоний, они могли оказать влияние на другие города, например Аванш.
Свою роль сыграла, видимо, и дорожная система. В последнее время августовские слои и улицы обнаруживаются в ходе раскопок в городах, расположенных вдоль главной дороги на юго-запад. Это такие города, как Лимож и Клермон-Ферран, римские названия которых указывают на раннюю дату основания59. В эту картину укладываются и недавние находки в Фёре (в римскую эпоху — Форум Сегусиавов), где обнаружена восходящая к Августу планировка улиц, форум, датируемый ок. 10—20 гг. н. э., и надпись, свидетельствующая о существовании в городе деревянного театра60.
Итак, беспорядки в Аквитании были подавлены довольно быстро, но дорога на юго-запад еще долгое время способствовала урбанизации.
То же самое происходило на северо-востоке и востоке. Города Лангр, Мец, Трир и Амьен образовались как ключевые узлы дорожной системы. Это же относится и к менее значительным центрам, например к Баве, и к близлежащим селениям, таким как Париж. Если перекрестки дорог находились на судоходных реках, то города развивались еще быстрее и становились еще крупнее. Например, в Амьене обнаружена система улиц, в основе которой лежал «друзов фут»60'1, а его глинобитные дома занимали
59 Ряд галльских городов имел названия, начинавшиеся с «Augusto-», напр., Отён, Клермон, Лимож, Труа, Байё и Санлис (соответственно, Августа дун, Августонемет, Авгу- сторит, Авгусгобона, Августа дур, Августомаг. — О.Л); с «Caesaro-», напр., Тур и Бове (соответственно, Цезародун, Цезаромаг. — О.А), или с «Iuliо-», напр., Лилльбонн или Анже (соответственно, Юлиобона, Юлиомаг. — О.Л.). В других случаях за словом «Augusta» следовало название племени, как в Трире, Сен-Кантене, Суассоне и Оше (соответственно, Августа Треверов, Августа Виромандуев, Августа Суессионов, Августа Авсков. — О.А). Такие названия мог даровать в качестве милости любой из императоров династии Юлиев-Клавдиев.
60 CIL ХШ 1642. В правление Клавдия некий гражданин-благодетель объявил, что перестроил в камне прежний деревянный театр.
60а Pes drusianus составлял 33,4 см и немного превышал стандартный римский фут, эквивалентный 29,6 см; применялся в провинциях. — О.Л.
576
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
территорию в 40 гектаров. Трир, Мец и Реймс, вероятно, выглядели примерно так же. В этих городах очень хорошо засвидетельствовано ремесленное производство, но нет никаких признаков общественных сооружений.
Первые этапы жизни городов, расположенных в остальных областях, трудно реконструировать. На юго-западе лучше всего известен Сент (Ме- диолан Сантонов). Этот город прославился семьей Юлиев, ведущей происхождение от галла Эпотсовирида, правнук которого, Гай Юлий Руф, построил в Кондате амфитеатр Трех Галлий, а в 18 или 19 г. н. э. возвел в собственном городе арку Германика. Но сам город эпохи Августа был заложен бессистемно и имел узкие, кривые улицы, глинобитные дома и мастерские размерами всего по двадцать — тридцать квадратных метров.
В Бордо «эмпорий» железного века площадью не более пяти-шести гектаров располагался на мысу, окруженном рыхлой почвой берегов Гаронны. Вплоть до начала нашей эры римское завоевание никак не отражалось на этом участке. В конце правления Августа и начале правления Тиберия город расширился и занял от двенадцати до пятнадцати гектаров; появились также первые признаки систематического городского планирования и римских строительных методов, но в фазу наиболее активного роста город вошел только в середине I в. н. э. Примерно так же события развивались и в других городах, от Пуатье и Перигё до Аванша и Трира. Что же касается Бретани, Нормандии и долины Луары, то можно лишь сказать, что археологические следы здесь весьма незначительны.
Иначе говоря, многие столицы общин (civitas) в Трех Галлиях, пожалуй, следует представлять как малонаселенные, грубо спланированные центры с несколькими комплексами общественных сооружений (возможно, деревянных); в этих городах велась скромная торговля, трудились немногочисленные ремесленники, а дома строились почти тем же способом, что и в конце железного века.
Эпиграфика и сохранившиеся архитектурные элементы позволяют немного уточнить картину, хотя и эти свидетельства сконцентрированы в Швейцарии, на северо-востоке и юго-западе Галлии. В тексте из Лангра упоминается храм Августа, обет о строительстве которого дал Друз в 9 г. до н. э. Надписи и памятники в честь принцепсов молодежи (Гая и Луция Цезарей, приемных сыновей Августа. — О.Л) были установлены в Лионе, Сансе, Трире и Реймсе, где находился кенотаф (надгробный памятник без погребения. — О. Л). В 4 г. до н. э. город Баве (античный Б атак) прославлял прибытие (adventus) Тиберия. С конца I в. до н. э. у колонн и капителей в Сенте и Перигё появляется сходство с римскими образцами, а на территории современной Швейцарии начиная с правления Августа производилась и импортировалась скульптура. Следует иметь в виду, что многие здания, в том числе базилики, театры и амфитеатры, вполне могли быть построены из дерева, как в военных лагерях, и поэтому не оставили следов. Тем не менее, за редкими исключениями, в правление Августа Три Галлии были небогаты городами. Контраст этих провинций с Нар- бонской Галлией бросается в глаза.
Глава 13d. Галлия
577
Для большинства рассмотренных выше городов сорок лет между приходом к власти Тиберия и смертью Клавдия стали периодом роста и строительства крупных сооружений. Планировка улиц была упорядочена, и во многих местах, особенно в Швейцарии, начала использоваться каменная кладка. Были проложены первые магистрали, соединившие, например, Сент, Пуатье и, возможно, Париж. Амфитеатры были возведены в Сенте (возможно, и в Санлисе) и в Перигё, где семье Авлов Помпеев, первый представитель которой звался Думнотом, потребовалось три поколения, чтобы завершить эту работу. Сооружались общественные бани, проводились акведуки, как в Бордо, размеры домов возрастали, их украшали настенные фрески Третьего помпейского стиля. В Лионе в ходе раскопок на территории ордена Воплощенного слова выяснилось, что плато Ла Сарра выровняли, чтобы построить на нем храм, окруженный портиками на кршггопортиках и посвященный императорской семье. В Лионе был также сооружен монументальный фонтан, посвященный Клавдию, а воду для него поставлял новый акведук; кроме того, в результате крупных мелиорационных работ полоса земли между Роной и Соной стала пригодной для проживания — здесь возник торговый район.
Новые города появлялись, а старые расширялись и становились настоящими урбанистическими центрами благодаря прежде всего весьма быстрому развитию коммуникаций, что повлияло на многие регионы Галлии, прежде всего на западные. В правление Клавдия засвидетельствованы не только крупномасштабные строительные проекты (особенно в долине Луары), но и расширение дорожной сети на севере, в центре, в Бретани, Нормандии и других местах. Завоевание Британии дало импульс развитию всего побережья Атлантики. Кроме того, в этот период заметно увеличились в размерах Пуатье и Бордо, а также Тур, Бурж, Анжер, Ренн и многие другие центры, хотя не все они достигли таких же успехов.
Почему в Трех Галлиях урбанизация происходила так медленно, а ее масштабы часто были столь ограниченны? Видимо, в течение очень долгого времени после завоевания кельтские крепости (oppida) имели низкую плотность населения; действительно, совсем недавно археологи внесли новый вклад в дискуссию по этой проблеме, когда установили раннее происхождение многих второстепенных городских центров, представлявших собой частую сеть поселений, обычно называемых vici. Некоторые из этих виков возникли, когда племена спустились с холмов на соседние равнины, другие развились из туземных поселений сходных размеров, которые редко располагались на высотах (знаменитым исключением является Алезия), но многие были построены на незаселенном месте. Если не считать поселений, выросших вокруг центров паломничества, вики обычно располагались на сухопутных или речных путях, важных для всех эпох начиная с неолита, иными словами, вдоль тех коммуникаций, которые с незапамятных времен упорядочивали здесь жизнь людей. Почти на всей территории Трех Галлий в таких маленьких центрах обнаруживаются признаки ремесленного производства, часто довольно сложного, в том числе связанного с обработкой бронзы и железа, плотницким, ткацким и
578
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
гончарным делом. Маленькие города имели торговое значение: иногда они обеспечивали поставки для военного лагеря, как склады (canabae) Мирбо, или Страсбург, или Баден в Швейцарии, но чаще просто обслуживали близлежащую территорию. Вскоре в некоторых виках были спроектированы и построены общественные сооружения. Система улиц района Вида в Лозанне датируется 20—10 гг. до н. э., а ок. 30-40 гг. н. э. там возвели здание, по планировке похожее на базилику; Алезия и Мален были спроектированы при Августе и должным образом обустроены при Клавдии, причем в Алезии появились улицы, портики с фасадами, каменные здания, храмы и площадь. Некоторые из этих городов развивались более динамично, чем столицы их общин (civitates), например, Орлеан рос гораздо быстрее, чем Шартр. Первые земельные межевания, выявленные методом аэрофотосъемки, свидетельствуют о том, что в Трех Галлиях крупные города и пригородные и сельские виллы не были столь тесно интегрированы между собой, как в Нарбонской Галлии. Гораздо чаще связи между городом и деревней наблюдаются в виках.
Означает ли это, что в целом, за исключением районов, испытавших колонизацию и, возможно, соседних с Нарбонской Галлией, галльский ландшафт определяли не столько новые рамки, установленные римскими властями, сколько более долговременные факторы? Чтобы проверить эту гипотезу, нам необходимо больше узнать об этих постоянных структурах, избегая понятия «племенные пережитки». Но представляется, что в сравнении с римскими общинами (civitates) местные уклады обладали большим влиянием.
3. Объединяющие факторы
В правление Цезаря латинское право получили все общины Нарбонской Галлии, и, хотя заключение с некоторыми civitates договоров или дарование им римского гражданства в качестве привилегий вызвало некоторые юридические затруднения, общее правило было таким образом установлено. С другой стороны, в Трех Галлиях действовал принцип многообразия. На основании разных источников, прежде всего сочинения Плиния, можно составить перечень союзных общин. Он включает гельветов, кар- нутов, ремов, эдуев и лингонов. Гораздо меньше ясности в вопросе о том, какие города являлись уже свободными (liberae), а какие были освобождены от налогов (immunes), причем эпиграфические свидетельства не всегда согласуются с данными литературных источников61. Страбон утверждает, что Рим предоставил латинское право некоторым аквитанским народам, «как, например, авскам и конвенам»62. Возможно, это объясняется военными действиями в Пиренеях или тем, что конвены некогда входили в состав Трансальпийской Галлии. Латинское право было даровано и дру¬
61 Напр., община (civitas) туронов названа свободной (libera) в надписях: CIL ХШ 3076, 3077.
62 Ограбон. IV.2.2 (190-191С).
Глава 13d. Галлия
579
гим общинам (civitates)63, но неизвестно, когда оно получило широкое распространение. Это могло произойти в любой период времени от правления Клавдия до правления Флавиев, но нет возможности более точно определить датировку.
Ввиду почти полного отсутствия эпиграфических свидетельств очень трудно получить хоть сколько-нибудь надежное представление о развитии правительственных учреждений в общинах (civitates). На монетах лексовиев, столицей которых был Лизьё в Нормандии, упоминается вер- гобрет (магистрат), а надпись из Сента гласит: «Гай Юлий Марин, сын Гая Юлия Риковеринга, из Вольтиниевой трибы, первый [фмшин] Августа, куратор римских граждан, квестор, верго<6рет>»64. Эта надпись сделана довольно рано, как и граффито «вергобрет совершил жертвоприношение» («vercobretos readdas»), найденное в Сен-Марселе в департаменте Эндр (античный Аргентомаг) и датируемое примерно 20—30 гг. н. э. Галльская должность вергобрета может соответствовать посту претора, который засвидетельствован в Бордо в эпоху Клавдия65. Но название должности, туземное или романизированное, гораздо менее важно по сравнению с тем, что эта магистратура была индивидуальной, а не коллегиальной. Дошедшие до нас сведения столь скудны, что на их основании нельзя сделать уверенных выводов. Тем не менее Сент и Бордо были одними из самых урбанизированных общин Трех Галлий. Поразительно также, с какой гордостью влиятельные лица вспоминают о своих предках. Из Сента происходил также Гай Юлий Руф, провозгласивший, что ведет род от Гая Юлия Отуаневна, сына Гая Юлия Гедемона, сына Эпотсовирида66. Таким образом, из источников складывается впечатление, что за пределами колоний — под прикрытием туманной римской терминологии — сохранились учреждения позднего железного века, а выдающиеся семьи юлианской аристократии сохранили преобладающее влияние на сограждан.
Как мы уже видели, до правления Клавдия римские граждане из Трех Галлий не имели права добиваться магистратур в Риме. Но благодаря покровительству императора они могли войти в сенаторское сословие. Поразительно, что до 70 г. н. э. известно лишь о трех сенаторах из Трех Галлий — все они происходили из Аквитании. Удивляет также малочисленность всадников: в I в. н. э. в этом сословии известно в совокупности лишь около двадцати человек из Трех Галлий и Германий; из Нарбонской Галлии вышло вчетверо больше всадников. Можно подумать, что вершиной мечтаний для этих вельмож было избрание на должность жреца союзного святилища в Кондате, что являлось высшей почестью в Трех Гал- лиях как для самих избранных, так и для их общин.
Трудно определить, какое значение имело союзное святилище и церемонии, которые проводились в нем ежегодно и начинались 1 августа — в
63 Как свидетельствует Тадит [Анналы. XL23), латинское право получили, по крайней мере, союзные общины.
64 CIL ХШ 1048, 1074.
65 CIL ХШ 590, 596-600.
66 CIL ХШ 1036.
580
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
день падения Александрии и праздника Гения Августа. Эти мероприятия включали молебствия в честь императора и Рима и состязания, а также предполагали «политическое» представительство, поскольку в это же время созывался concilium, или провинциальное собрание. Тем не менее не следует решительно отвергать теорию, согласно которой в это празднование были вплетены кельтские традиции. В случайных рассказах о данном месте упоминается, что рядом с алтарем и амфитеатром находилась священная роща и множество статуй, а само собрание (concilium) было организовано в соответствии с традициями, характерными для Галлии: главным должностным лицом на нем являлся жрец (sacerdos), а не фламин, а также судья (iudex), главный сборщик галльских податей (allectus arcae Gailiarum) и следователь по делам Галлий (inquisitor Galliarum). Этот съезд не выглядел как точное повторение знаменитых собраний друидов, упомянутых Цезарем, но, возможно, явился результатом некоего их преобразования. И место, и порядок собрания были иными, однако на нем решались важные вопросы, а участники, равные между собой, официально признавали высокое положение друг друга. Алтарь Убиев для германцев, проживавших к западу от Рейна, и съезд (conventus) в Сен-Бертран- де-Комменж (Лугдун Конвенов) для аквитанов, обитавших южнее Гаронны, тоже были учреждены довольно рано, из чего можно заключить, что римляне желали увековечения традиционных у галлов ежегодных праздников, а возможно, даже нуждались в них. К сожалению, сохранилось слишком мало надписей как из Кондате («Слияние [Соны и Роны]»), так и из галльских общин, так что нельзя точно сказать, откуда происходили жрецы императорского культа, хотя известно, что первым из них стал эдуй Юлий Веркондаридубн, избранный в 12 г. до н. э., а в начале I в. н. э. его преемниками были кадурк Марк Луктерий Сенциан, вероятно, потомок вождя Луктерия, сражавшегося против Цезаря в 52—51 гг. до н. э., и Гай Юлий Руф из Сента. Собрание Трех Галлий преподнесло Августу золотое ожерелье (торквес) весом в 100 фунтов, и именно это собрание, а не город Лион, официально приветствовало прибывшего с визитом Кали- хулу, который учредил здесь состязания в греческом и латинском красноречии67. Участвуя в собрании, элита демонстрировала лояльность императору и приверженность латинской культуре, а также расходовала огромные средства на благотворительность, но важнее всего, что на этой сцене аристократы соперничали друг с другом и выставляли напоказ собственное богатство и общественный вес. Когда новоизбранный жрец возвращался на родину, ему, несомненно, предоставляли триумфальные почести, некоторые же из этих жрецов воспроизводили в своих городах, хоть и с меньшим размахом, те увеселения, которые они только что устроили и провели в Лионе.
Следует еще раз вернуться к вопросу о малочисленности надписей. Обычно это явление объясняют тем, что галлы отторгали латинский язык, хотя, скорее, оно свидетельствует о психологическом дискомфорте,
67 Светоний. Гай Калигула. 20.
Глава 13d. Галлия
581
который вызывало у них использование письменности, так как в конце железного века ее монополизировали друиды, и поэтому надписи никогда не выставлялись галлами публично. С другой стороны, галлы играли важную роль в римской армии. До 68 г. н. э. из них было сформировано двадцать восемь конных отрядов и семьдесят шесть когорт, то есть около 65% вспомогательных сил западных провинций. Многие галлы служили также легионерами: четверть надписей эпохи Клавдия и Нерона, найденных в Галлии, в том числе Нарбонской, составляют надписи легионеров. Возвращение множества солдат, долгие годы прослуживших в римской армии, должно было иметь разнообразные последствия как для языка, так и в целом для «цивилизации» Трех Галлий.
Ассимиляция, хоть и медленная, началась не только среди элиты, но также и в других группах, занимавших более низкое общественное положение. Часто утверждают, что этот процесс сопровождался значительной экономической и торговой интеграцией, но вряд ли это соответствует действительности. Последние нумизматические исследования показали, что в Трех Галлиях наблюдался дефицит монет, постепенно возраставший вплоть до правления Флавиев. Монеты местной чеканки принимались здесь по меньшей мере до конца I в. до н. э., но в дальнейшем возросло число фальшивых монет; при Клавдии и Нероне подделывались даже клейма, предназначенные для официальной легализации монет. Отсюда следует, что центральное правительство не заботилось о создании интегрированной денежной системы или какой-то реальной экономической организации. Таким образом, в Трех Галлиях господствовала политика невмешательства, вследствие которой мощными центрами притяжения становились приграничные области, где солдаты получали жалованье наличными, а также развивалась прибыльная бартерная торговля с соседними «варварами» как основа экономики таких портов, как Бордо и, возможно, Резе близ Нанта, а также крупных центров распределения, прежде всего Лиона. Таким образом, если вынести за скобки некоторые города, обладавшие особыми преимуществами, торговлю нельзя считать движущей силой смешения галлов и италийцев. Гораздо важнее была деятельность элиты и армии.
Исследования погребальных обрядов показали, что в Трех Галлиях широко практиковалась кремация, однако обнаружились и некоторые местные особенности. Вокруг Лиона, Бриора и Роана была распространена и ингумация, а на некоторых кладбищах на Сене, между Парижем и Руаном и, особенно, в самом Париже фактически только этот обряд и практиковался. Напротив, ингумационные захоронения, обнаруженные на западе Центральной Франции, в Пуату и Сентонже, — это захоронения женщин высокого положения, упокоенных либо в каменных саркофагах, либо в огромных деревянных гробах. Данные гробницы весьма богаты погребальным инвентарем. Точно так же отдельные гробницы в Берри, датируемые периодом от Августа до Клавдия, содержат ингумированные или кремированные останки, а также богатые собрания амфор, керамической столовой посуды, инструментов, оружия и бронзовых предметов,
582
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
в том числе сосудов для разливания вина, кубков, тарелок и ковшей (simpula). То же самое относится к территории треверов, а в нынешней Бельгии были обнаружены надгробные курганы (tumuli). По-видимому, галльская аристократия не проявляла единодушия в принятии римских обычаев, и если одни нобили уже в очень ранний период приказывали строить себе мавзолеи (такие, как в Фавероле в общине лингонов), то другие предпочитали хранить верность более древним традициям.
Мы не станем рассматривать здесь религию и лишь кратко суммируем рассуждения, которые полностью будут приведены в т. XI КИДМ. Имеющиеся у нас скудные свидетельства подсказывают два основных направления исследований. Во-первых, хотя литературные источники, как правило, концентрируются на запрете и подавлении религии друидов, однако в ходе последних раскопок обнаруживаются всё новые и новые храмы с концентрической планировкой, храмы типа fana, построенные на месте доримских храмов. Во-вторых, романизированные религиозные памятники, такие как Колонна Лодочников, которую паризии поставили в Лютеции, не только соединяют вместе туземных и римских богов, но и обычно содержат какие-то упоминания об императоре. В религиозных надписях очень часто встречается эпитет «Augustus» либо применительно к какому-либо богу, либо в связи с ним. Это очень ясно показывает, что римский император, потомок Цезаря, воспринимался в Трех Галлиях как харизматичный лидер, не только охранявший мир и единство, но и защищавший автономию тех народов — даже самых маленьких общин, — которые поклонялись ему наряду с местными богами, дабы упрочить свою связь с ним.
На фоне других территорий, включенных в Римскую империю, Три Галлии бросаются в глаза. Галлов отличал от всех прочих провинциалов климат, память о древних галльских вторжениях и о войне Цезаря, близость к германцам и имидж варваров, владевших великими богатствами, но совершавших человеческие жертвоприношения. Археологические исследования показывают, что в речи Клавдия в сенате, которая лучше сохранилась в надписи CIL ХШ 1668, чем в изложении Тацита, содержалось чересчур много риторики. По сравнению с Нарбонской Галлией, очень быстро ассимилировавшейся, Три Галлии предстают миром, зиждящем- ся на фундаменте железного века. Города росли медленно, аристократия не желала выходить за пределы той территории, откуда черпала собственное могущество, а местные особенности сказывались решающим образом на всех сферах жизни. Но процесс интеграции уже пошел. Галлия открылась для внешнего мира: сперва — для Германий, затем — для Британии; галлы служили в римской армии, а цивилизация распространялась подобно эпидемии и преображала как общественные здания, так и частные дома. Укреплялась взаимосвязь между культом императора и могуществом лидеров общины и ее богов. Клавдий, которого Светоний называет «галльским императором», скорее предсказал будущее, нежели описал настоящее.
Глава 13е
Джон Уочер
БРИТАНИЯ МЕЖДУ 43 Г. ДО Н. Э. И 69 Г. Н. Э.
I. Период до завоевания
Впервые Рим официально вступил в контакт с Британией во время экспедиций Юлия Цезаря в 55 и 54 гг. до н. эА К тому времени уже закончились почти все миграции позднего железного века из Галлии в Британию, хотя в самой Британии еще происходили значительные политические и культурные сдвиги. Цезарь называет по именам только шесть племен, в том числе триновантов и ценимагнов (иценов?) и упоминает без указания названий еще четыре племени племени, обитавших в Кенте; его рассказ предполагает также существование одиннадцатого племени, тоже не поименованного, вождем которого был Кассивелаун, глава британского сопротивления; возможно, речь идет о катувеллаунах. В событиях, разворачивавшихся в период между экспедициями Цезаря и Клавдия, а также сразу после последней, участвовали также племена бригантов, кориелта- вов, корновиев, думнониев, атребатов и добуннов, проживавшие на территории современной Англии, и силуры и ордовики, обитатели территории современного Уэльса. Атребаты прибыли в Британию после походов Цезаря, их привел сюда царь Коммий, который поначалу был союзником Цезаря, а потом опрометчиво присоединился к неудачному восстанию Верцингеторига в Галлии; добуннов обычно считают боковой ветвью атребатов1 2. Постепенно самым могущественным племенем юго-восточной Англии стали катувеллауны, которые заняли область, примерно соответствовавшую царству Кассивелауна. Кроме того, четыре непоименованных племени, населявших Кент, в конце концов объединились в одно и стали прозываться кантиаками. Если исключить упоминания о племенах у Цезаря и в других литературных источниках, значительная часть
1 Цезарь. Записки о Галльской войне. V.
2 Allen 1961 (В 304): 75-149.
Карта 8. Британия
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
585
наших знаний о существовании и месте расселения этих народов получена благодаря тщательному изучению отчеканенных ими монет3.
Хотя Цезарю не удалось добиться прочного успеха, его экспедиции всё же способствовали усилению интереса римлян к Британии. Отчасти это проявилось в значительном возрастании объема торговли между островом и Римской империей, расширившейся теперь до Ла-Манша. Об этой торговле рассказывает Страбон4 и свидетельствуют многочисленные археологические находки импортных товаров, которые особенно часто обнаруживаются к северу от нижнего течения Темзы. Политическая и военная деятельность Цезаря в Британии осталась незавершенной, и Август трижды собирался отправить туда экспедицию: в 34 г. до н. э., в 28 г. до н. э. и в 27 г. до н. э. — и всякий раз отказывался от этих планов, потому что его отвлекали другие дела.
Поскольку Британия так и не была завоевана, Август стремился сохранить баланс сил между основными племенами, для чего поначалу, дабы уравновесить возраставшее влияние катувеллаунов, поддерживал Тинкоммия4*, сына Коммия из атребатов. Но эта политика не помешала катувеллаунам вопреки положениям договора с Цезарем вторгнуться на территорию триновантов и занять ее. Судя по всему, время для нападения, ок. 10 г. н. э., катувеллауны выбрали очень тщательно — Август тогда был крайне занят устранением последствий страшного поражения Вара в Германии. Саму операцию предпринял Кунобелин, которому предстояло стать самым могущественным правителем Британии до вторжения Клавдия. Светоний называет его царем британнов (Britannorum Rex); Кунобелин, вероятно, являлся прямым потомком великого Кассивелауна5.
Некоторые исследователи выдвинули и иную версию: возможно, Кунобелин был вождем тринов антов и покорил катувеллаунов; его столицей, несомненно, был Камулодун возле современного Колчестера, в области триновантов6. Но принятие этой точки зрения требует слишком больших натяжек. Из рассказа Диона Кассия о вторжении Клавдия7 следует, что главным врагом Рима были не тринованты, а именно катувеллауны. Логично предположить, что ранее именно их царем был Кунобелин. Крайне сомнительно, что он отказался от названия собственного племени и предпочел ему вражеское, даже если и покорил его.
Хотя поначалу некоторые действия Кунобелина и казались направленными против римлян, он, видимо, стабилизировал на время взаимоотношения племен в Британии. Сложившееся положение устраивало римлян, пока противовесом Кунобелину служили их союзники атребаты, прожи¬
3 Allen 1958 (В 305): 97—308. Однако следует отметить, что некоторые современные исследователи сомневаются в точности перечня монетных выпусков, который приводит Аллен: см., напр.: Collis 1971 (В 317): 71—84.
4 Сграбон. IV.5.1—4 (199—2010).
4а На основании последних монетных находок имя этого вождя восстанавливается как Тинкомар. См.: Cheesman С.Е.А. Tincomarus Commi Filius // Britannia. Vol. 29. 1998. P. 309-315. - C.T.
5 Светоний. Гай Калигула. 44.
6 Rodwell 1976 (E 553): 265-277.
7 Дион Кассий. LX. 19—22.
586
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
вавшие к югу от Темзы. К сожалению, после смерти Коммия и вступления на трон его сына Тинкоммия царство артебатов стали раздирать ссоры братьев: Тинкоммия изгнал Эппилл, а того, в свою очередь, — Верика. Несмотря на просьбы Тинкоммия о помощи и восстановлении в правах, Август всякий раз признавал успешного претендента; видимо, и Эппилл и Верика были признаны зависимыми царями.
Кунобелин не возражал против процветания и роста торговли между его царством и Римской империей, поскольку, расширив пределы своего царства до моря, он теперь контролировал выгодные торговые пути из рейнских земель. По-видимому, его антиримские настроения настолько ослабли, что он отправлял в Рим посольства; возможно, он входил в число британских правителей, оставивших дары на Капитолии8. Но после смерти Августа и прихода к власти Тиберия Кунобелин еще пятнадцать лет расширял собственные владения: присоединил остальную часть Кента и проник в долину среднего и верхнего течения Темзы. Кроме того, он впервые напал на атребатов, и, видимо, их столица Каллева вошла в состав царства катувеллаунов. Тиберий, очевидно, не отреагировал на эту провокацию, хотя она должна была вызвать в Риме протесты.
Тиберий умер в 37 г. н. э., его преемником стал Гай. К тому времени Кунобелин состарился и, вероятно, уже не так твердо контролировал свое племя; ситуация осложнялась тем, что повзрослели его сыновья. Один из них, Админий, явно ориентировался на дружбу с римлянами, и вполне возможно, что именно это и послужило причиной его изгнания; он бежал к Гаю и просил помощи для восстановления в правах. В то время Гай находился в Германии, и Админий убедил его, что завоевать Британию легко. В 40 г. н. э. Гай собрал армию в Булони, но отплытию помешал мятеж; после этого Гай отказался от своей затеи. Но изгнание Админия показало, что у катувеллаунов не всё ладно, а со смертью Кунобелина внутреннее положение ухудшилось, и дело закончилось разделом царства между двумя другими сыновьями — Каратаком и Того думном.
Эти братья, честолюбивые, опрометчивые и, вероятно, недовольные влиянием Рима в Британии, стали проводить политику неограниченной агрессии и не только частично или даже полностью поглотили племя до- буннов, но и захватили земли атребатов, что вынудило их царя Верику бежать в Рим за помощью; в итоге это привело к полному отчуждению между Римом и катувеллаунами. Верика был зависимым царем и римским союзником, так что его изгнание выглядело как оскорбление Рима, и если бы оно осталось неотмщенным, это поставило бы под удар всю внешнюю политику Империи как раз в тот период, когда Рим очень полагался на зависимых царей в деле поддержания мира на границах и в приграничных областях. Положение осложнялось тем, что цари катувеллаунов потребовали выдать Верику, а получив отказ, предприняли враждебные действия против римских купцов в Британии и, возможно, даже на побережье Галлии. Таким образом, изгнание Верики послужило политическим обоснованием вторжения Рима в Британию в 43 г. н. э.
8 Страбон. IV.5.3 (200-201С).
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
587
II. Вторжение и его последствия
Помимо вышеизложенных причин, высказываются и иные мнения о мотивах, побудивших Рим вторгнуться в Британию именно в это время. Среди таковых можно назвать военные амбиции Клавдия, ставшего императором после убийства Гая; надежды на полезные ископаемые и другие богатства; избыток легионов на германской границе, образовавшийся после создания Гаем двух новых легионов для своего несосгоявшегося вторжения; окончательное уничтожение религии друидов, запрещенной в Галлии, что, несомненно, заставило многих ее последователей искать убежища за Ла-Маншем. Немаловажное значение имела и военно-стратегическая проблема: если бы римляне не вторглись в Британию, то вынуждены были бы оборонять побережье Галлии от враждебной силы, контролировавшей другой берег Ла-Манша. Для этого Риму пришлось бы пойти на опасное усиление армии в западной части империи, не приобретая при этом новых территорий, которые могли бы ее прокормить. Та же самая армия, размещенная в Британии, была бы надежно изолирована и получила бы новые источники продовольствия и прочих запасов. Чем бы Клавдий ни руководствовался, он решился атаковать. В Булони была собрана армия из четырех легионов и вспомогательных частей, общей численностью примерно в 40 тыс. человек под командованием Авла Плавция, который прежде занимал должность наместника Паннонии. Та часть «Анналов» Тацита, где рассказывалось об этом вторжении, утрачена, и из литературных источников можно опереться только на более позднее сообщение Диона Кассия9, которое нельзя назвать ни всесторонним, ни особенно ясным описанием. Некоторую информацию дают археологические свидетельства, но их тоже немного, и они явно предполагают высадку римлян только в Ричборо10. Однако Дион Кассий подчеркивает, что силы были разделены на три части; следовательно, можно допустить три сценария. Возможно, вся армия высадилась в Ричборо последовательно в три приема; но следует указать, что укрепленный плацдарм в этом месте далеко не так велик, чтобы вместить столь много людей, а следов другого лагеря поблизости пока не обнаружено. Вторая возможность состоит в том, что, пока одна часть высаживалась в Ричборо, две другие причалили, соответственно, в Дувре и Лимпне; однако следует отметить, что ни в одном из этих пунктов нет никаких свидетельств раннего римского присутствия. Высказывалось и третье остроумное предположение: хотя бы одна эскадра была направлена для высадки в окрестностях Силчестера, дабы как можно скорее восстановить Верику в его царстве, что было крайне необходимо11. Более вероятной представляется первая версия.
Очевидно, высадка прошла беспрепятственно. После небольшой стычки во внутренних землях, в которой, вероятно, был убит Тогодумн, рим¬
9 См. сноску 7 наст. гл.
10 Cunliffe 1968 (Е 533): 232-234.
11 Hawkes 1961 (Е 545) (см. сноску 2 наст, гл.): 62—67.
588
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ляне предприняли первую масштабную операцию против бриттов у переправы через реку Медуэй, где и одержали победу; затем они продвинулись до Темзы. Сообщают, что в это время Кар атак бежал в Уэльс. Выдержав паузу до прибытия Клавдия на место военных действий, армия продолжила наступление, и император с триумфом вошел в столицу ка- тувеллаунов. Затем последовали новые операции, в результате которых римляне продвинулись до границы, которую примерно можно обозначить как линию от Хамбера до Северна, и там на время остановились. Некоторые исследователи утверждают, что Рим всегда мечтал о покорении всей Британии12. Если так, то очень сложно объяснить, почему примерно в 47 г. н. э. римляне остановились на определенной границе и лишь двадцать три года спустя продолжили массированное наступление в Уэльс и на север. Численность и мощь римской армии вполне позволяли немедленно продолжить вторжение.
Таким образом, более вероятно, что изначально римляне вторглись в Британию всего лишь для того, чтобы через завоевание и оккупацию решить конкретную проблему катувеллаунов; граница, на которой римляне остановились, служила именно для этих целей. В 43 г. н. э. трудно было предвидеть, что данное наступление вызовет череду новых военных проблем, которые потребуют своих решений.
Римляне обозначили границу наступления, построив дорогу Фосс-Уэй для рокадных коммуникаций между Линкольном и Эксетером и разместив вдоль нее, перед ней и за ней форты и крепости; в результате была создана обширная военная зона для защиты недавно покоренных территорий. В большинстве фортов стояли вспомогательные части, но по меньшей мере в некоторых были оставлены боевые группы из отрядов П Августова, XIV Сдвоенного и IX Испанского легионов, усиленных конницей. Местонахождение крепостей, служивших штаб-квартирами этих легионов в первые годы после вторжения, известно не точно и до сих пор является предметом споров. Представляется, что XX Валериев легион оставался в резерве в Колчестере вплоть до основания там колонии в 49 г. н. э., после чего тоже был выдвинут к границе.
Но, даже когда главная цель римлян была достигнута, обстановка в Британии не вполне стабилизировалась. В 47 г. н. э. Каратак побудил своих новых союзников в Уэльсе напасть на римскую провинцию именно в то время, когда Осторий Скапула принимал наместничество от Авла Плавция. Прежде чем выступить против Кар атака, римляне разоружили племена в своей новой провинции, и уже это мероприятие вызвало проблемы и привело к небольшим волнениям среди союзных иценов. Едва Рим начал кампанию против уэльских племен, как ее прервали беспорядки на севере, среди бригантов, царица которых, Картимандуя, занимала проримскую позицию. Действительно, после поражения в Уэльсе Каратак совершил ошибку, бежав к Картимандуе за защитой, — его выдали Риму13.
12 Напр.: Mann 1974 (С 286): 529-531.
13 Тацит. Анналы. ХП.36; см. также: Hanson, Campbell 1986 (E 544): 73—90.
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
589
Затем, на протяжении нескольких лет, велась непрерывная, но запутанная и плохо засвидетельствованная борьба в Уэльсе и, изредка, в Бриган- ции; единственным ее прочным итогом стало расширение пограничной зоны до Уэльской Марки, которое, вероятно, произвел Осгорий. Затем, в 60 г. н. э., провинция столкнулась с гораздо более серьезной опасностью, которая едва не привела к ее потере для Рима, — с восстанием Боудики, царицы иценов, в союзе с соседними триновантами14.
О причинах восстания написано много. Обычно главную причину видят в том, что Рим насильственно подчинил себе иценов после смерти зависимого царя Прасутага и отказался признавать преемницами его жену или дочерей. Аннексию территории иценов жестоко и бесцеремонно произвел прокуратор провинции Кат Дециан; при этом Боудику высекли, а ее дочерей изнасиловали. Еще одной причиной восстания стало изъятие земли — в том числе главного священного участка — у тринов антов и присоединение ее к территории (territorium) новой римской колонии в Колчестере; другим фактором, возможно, стали большие расходы на отправление недавно учрежденного императорского культа. Исследователи высказывали также предположения о том, что восстание, произошедшее именно в ту пору, являлось диверсией с целью отвлечь наместника Светония Паулина от военных операций против главных центров друидизма на острове Англси;15 если это так, то попытка не удалась. Как бы то ни было, восстание вспыхнуло в 60 г. н. э., когда Светоний во главе большей части британского гарнизона вел кампанию на севере Уэльса; Колчестер, Лондон и Веруламий были ограблены и сожжены — в ходе раскопок в этих местах обнаруживаются красноречивые свидетельства пожаров. Малочисленные войска, выставленные прокуратором для защиты колонии, оказались бессильны, как и проживавшие там ветераны. IX легион, выдвинутый против восставших из Лонгторпа, понес серьезные потери и был вынужден отступить в беспорядке. Узнав о восстании, Светоний поспешил из Уэльса, опередив основную армию, и прибыл в Лондон раньше мятежников, но понял, что для спасения города почти ничего нельзя сделать. Он вернулся, чтобы соединиться с основной армией, и в конце концов вынудил восставших к сражению, которое произошло, вероятно, где-то в средней части Уотлинг-сгрит. Светоний наголову разбил восставших, благодаря чему провинция была спасена. Последовавшая за этим карательная экспедиция на восток Англии, как и потери, понесенные в сражении, видимо, серьезно ослабили иценов и триновантов, по меньшей мере на поколение, и в дальнейшем это основательно замедлило романизацию.
В последующие десятилетия римляне пытались восстановить провинцию. На смену Кату Дециану, бежавшему в Галлию после начала восстания, пришел новый, более просвещенный прокуратор — Юлий Классици- ан, а несколько более компромиссных наместников положили конец
14 Тацит. Анналы. XIV.29—39.
15 Webster 1978 (Е 564).
590
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
вражде и сумели умиротворить местных жителей. Эти меры оказались столь успешными, что провинцию сочли в Риме достаточно защищенной, чтобы в 66 г. н. э. оставить там только XIV легион. К несчастью, мир пошатнула сама римская армия, разочарованная несколькими годами бездействия. В 69 г. н. э. Росций Целий, командир легиона, поднял бунт, и наместнику Требеллию Максиму пришлось бежать из провинции. Но к тому времени внимание всей Империи было захвачено более важными событиями. В 68 г. н. э. Нерон покончил с собой, последовавшая за его смертью борьба за власть отразилась и на Британии. Ее новый наместник, Веттий Болан, был сторонником Вителлия, над которым в итоге одержал верх Веспасиан. Более того, XIV легион, вставший на сторону Огона, также ненадолго вернулся в Британию, тогда как другие расквартированные там легионы поддерживали Вителлия. Таким образом, Веспасиан унаследовал провинцию, верность которой вызывала сомнения, и только в начале 70-х годов н. э. он сумел предпринять некоторые меры, чтобы исправить положение.
III. Организация провинции
Когда во внутренних землях Британии была создана пограничная зона, ее юго-восточные области оказались, видимо, в основном демилитаризованы, и к 49 г. н. э., когда XX легион передислоцировали из Колчестера в Глостер, дорога для развития новой провинции была открыта. В ее состав входили два зависимых царства: в западном Сассексе и Хэмпшире — восстановленное царство, прежде принадлежавшее Верике и переименованное в общину (civitas) регнов во главе с новым царем Когидубном, а в восточной Англии — царство иценов16. Два этих царства позволили Риму сэкономить на военной силе, хотя и степень зависимости, и настроения в них сильно различались. Согласно Тациту, Когидубн проявил себя как преданный союзник Рима и последовательно, вплоть до своей смерти, вероятно в правление Флавиев, вел царство по пути мирной романизации17. Возможно даже, что в год Четырех императоров (69 г. н. э.) он защищал интересы Веспасиана и какое-то время помогал ему удерживать провинцию против мятежной армии и ненадежного наместника. Гипотеза о том, что Когидубн получил статус императорского легата, опровергнута благодаря новому прочтению поврежденной надписи из Чичестера18, в которой зафиксированы его имя и титулы. Конечно, вне зависимости от того, был ли он легатом, в его царстве происходили в то время какие-то важные события, поскольку в тех местах обнаруживаются остатки городских укреплений, по-видимому, самых ранних в Британии. Ицены, как представляет¬
16 Wacher 1995 (Е 560): 242. Однако было высказано мнение о том, что ицены проживали за пределами провинции, см.: Wacher 1981 (Е 561): 136.
17 Тацит. Агрикола. XIV.
18 RIB 91. См.: Bogaers 1979 (В 211): 243-254.
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
591
ся, не столь охотно пользовались преимуществами завоевания, а когда их насильно разоружил Осторий Скапула, подняли небольшой мятеж, который был быстро подавлен; но это лишь предвещало более опасные события.
На остальной территории юго-восточной Англии, через которую римская армия быстро прошла, были основаны, судя по всему, три общины (civitates), то есть три местных административных центра, в основу которых легли территории, принадлежавшие с железного века кантиакам, катувеллаунам и триновантам19. Последние впервые упоминаются в истории в рассказе Цезаря о Британии, который несколько парадоксален. Цезарь называет их самым могущественным племенем Британии, но в то же время изображает дело так, словно тринов анты искали у него защиты и помощи против нападений западных соседей — племени Кассивеллауна. Больше они не упоминаются, даже в рассказе о завоевании Клавдия, и появляются на страницах истории только как участники восстания Боуди- ки; следовательно, остается предположить, что они много лет находились под властью катувеллаунов, а после римского завоевания снова стали независимым субъектом местного управления. Но именно их территорию выбрали римляне для основания в Британии первого города, который для жителей новой провинции должен был служить образцом урбанизации; это решение имело далекоидущие последствия.
IV. Урбанизация и коммуникации
Тацит сообщает, что основание колонии в Колчестере в 49 г. н. э., на месте недавно покинутой крепости легионеров, было обдуманным политическим шагом, который в отсутствие постоянного гарнизона позволил сохранить на юго-востоке резерв ветеранов20. Колония должна была послужить также образцом урбанизации для коренных бриттов, и коренных жителей (incolae) сразу же включили в состав ее населения. Раскопки показали, что самые ранние дома ветеранов во многом восходят к предшествующим легионным строениям, хотя и существенно отличаются планировкой; даже некоторые улицы этой крепости были сохранены21. Хотя исследователи выдвинули несколько гипотез о местонахождении форума колонии, оно до сих пор точно не известно; Тацит упоминает еще и курию. Пишет он и о театре, который удалось идентифицировать в ходе недавних раскопок, но подчеркивает, что во время восстания Боудики город не имел фортификаций, а значит, легионные укрепления были разобраны22. На главной дороге в Лондон, на его западной границе, была построена триумфальная арка, которая, вероятно, увековечивала основа¬
19 Freie 1961 (Е 535); Wacher 1995 (Е 560): 23, 189-241.
20 Тацит. Анналы. ХП.32.
21 Crummy 1982 (Е 532): 125-134.
22 Тацит. Анналы. XIV.32.
592
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ние колонии и воздавала почести ее основателю — Клавдию. Впрочем, более достойным знаком уважения его памяти стало главное здание нового города — большой храм Клавдия, которому предстояло стать и центром императорского культа в Британии23. От этого храма сохранился только подиум, который находится под Норманнским замком; изначально храм стоял в центре большого двора с колоннами и имел вход с юга. Часто утверждают, что Колчестер должен был сделаться административным центром провинции и выполнять ту задачу, которая потом досталась Лондону. Однако следует подчеркнуть, что у нас нет свидетельств в пользу этого предположения, и в условиях крайней нестабильности новой провинции «столица», вероятно, находилась там, где пребывал наместник; и нет никаких оснований связывать последнего именно с Колчестером.
Сразу после вторжения было основано еще несколько городских центров. Кентербери, который, как полагает большинство исследователей, был заселен уже в железном веке, достаточно рано стал столицей общины кантиаков (civitas Cantiacorum), хотя если раньше многие его элементы датировались эпохой основания, то теперь считается, что они появились несколько позднее, а крупный скачок в развитии произошел не ранее рубежа I—П в. н. э. Некоторая беспорядочность системы улиц в ее окончательном виде может объясняться тем, что они следуют очертаниям прежних дорог и строений24. Что касается Лондона, то Тацит называет его торговым центром, процветавшим даже до восстания Боудики;25 хотя на сегодняшний день раскопано множество домов и лавок изначального города, сожженного во время восстания, тем не менее почти ничего не известно о его общественных зданиях. К северу от моста через Темзу обнаружены признаки системы дорог в зачаточном состоянии; предполагаемая северная граница этой зоны была идентифицирована в ходе раскопок на улочке Паддинг-Лейн26. Ряд свидетельств указывает также на то, что в Лондоне осуществлялись некоторые функции провинциального управления; вероятно, дело обстояло так еще до восстания Боудики, а после него — уже несомненно. Прокуратор Юлий Классициан умер в должности и был похоронен в Лондоне; найден его надгробный камень, украшенный в алтарном стиле, который был повторно использован при строительстве городской стены в Тауэр-Хилл27.
Веруламий, как и Кентербери, был основан на месте крупного поселения железного века, вероятно крепости (oppidum) Тасциована. Почти наверняка с самого начала он служил административным центром катувел- лаунов. Однако до сих пор ведутся споры, получил ли он статус муниципия, и если «да», то когда именно. Согласно новейшей гипотезе, этот статус Веруламию предоставил Клавдий, примерно в то же время, когда была основана колония Колчестер28. Но решающих свидетельств этому
23 Сенека. Отыквление Божественного Клавдия. 8.3; см. также: Fishwick 1972 (Е 554): 164-181.
24 Bennett 1984 (Е 528): 47-56.
26 Milne 1982 (Е 549): 271-276.
28 Freie 1983 (Е 536) П: 26-28.
25 Тацит. Анналы. XIV.33. 27 RIB 12.
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
593
нет, данная гипотеза опирается в основном на интерпретацию пассажа Тацита29. Во время раскопок была обнаружена дорожная система эпохи Клавдия в зачаточном состоянии и множество зданий, большинство из которых, как и дома в Лондоне и Колчестере, имели деревянный корпус и глинобитные стены, а потому погибли в пожаре Боудики. Один из блоков Инсулы XIV идентифицирован как ряд лавок — вероятно, их строительство стало рискованным предприятием некоего катувеллаунского аристократа, который сдавал лавки своим слугам или отдавал в управление рабам30. На основании посвятительной надписи форум и базилика датируются 79 г. н. э.31, хотя под ними до сих пор могут находиться неисследованные постройки. Вероятно, в эпоху Клавдия город окружали вал и ров; позднее город вышел за их пределы, и эта граница была увековечена двумя триумфальными арками вдоль дороги «Лондон — Честер»32.
Этим же временем можно датировать еще два зачаточных городских поселения, и оба находятся, по-видимому, в границах царства Когидубна. В сердце его державы, на месте города Чичестер, зафиксировано раннее военное присутствие, хотя точно не известно, сколь долго оно продолжалось. Однако имеются свидетельства о том, что почти одновременно с военным лагерем или позже было возведено большое общественное строение, посвященное в правление Нерона33. Вероятно, лишь немного позднее в надписи Когидубна34 засвидетельствовано углубление романизации, проявившееся не только в религиозной сфере (строительство храма классического культа Нептуна и Минервы), но и в социальной (создание гильдии ремесленников, collegium fabrorum). Также и в Силчесгере, крепости (oppidum) железного века, расположенной, скорее всего, в царстве Когидубна, наблюдаются первые признаки городского развития, в том числе термы и амфитеатр35 эпохи Нерона, а чуть позже, но тоже в правление Нерона, — деревянная постройка на месте, где потом находились форум и базилика36. Это строение исследователи интерпретировали по-разному: как рыночную площадь, резиденцию Когидубна или военную ставку (principia). Ранее к этому же периоду приурочивали две фазы строительства укреплений с разной пространственной ориентацией, однако теперь выяснилось, что они восходят к доримскому периоду37.
Вскоре важную роль в развитии новой провинции стали играть коммуникации. Такие дороги, как Уотлинг-стрит, Эрмин-стрит, Стэйн-стрит и Фосс-Уэй, изначально были построены для военных целей, но затем стали использоваться более широко38. Они связывали между собой несколько развивавшихся портов (Ричборо, Дувр, Фишбурн, Колчестер и Лондон) и создавали райские условия для купцов, желавших освоить новые
29 Тацит. Анналы. XIV.33. Но см. также: JRS 57 (1967): 233-234.
30 Frere 1972 (Е 536) I: везде.
32 Frere 1983 (Е 536) П: 33-54.
34 RIB 91.
36 Fulford 1985 (E 540).
38 Margaiy 1973 (E 547).
BogaersJ.E. Review of Wacher 1966 (E 559) //
31 Frere 1983 (E 536) П: 69-72.
33 RIB 92.
35 Fulford 1989 (E 541).
37 Fulford 1984 (E 539).
594
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
рынки. Для перевозки товаров, несомненно, использовались и крупные реки; нелишне отметить, что водный транспорт был существенно дешевле39. Также следует помнить, что главные дороги, несмотря на их прямизну, щебеночное покрытие и хороший дренаж, зимой превращались в скопление ям, полных грязи, так что сухопутные перевозки (за исключением пеших носильщиков и вьючных животных), вероятно, были в Британии сезонными и осуществлялись в основном летом. Содержание дорожной системы и вспомогательных построек, таких как мосты, ложилось на плечи местных магистратов той общины (civitas), через территорию которой дорога пролегала.
V. Сельское население
Романизация сельской местности в целом происходила медленнее, и долгое время в большинстве хозяйств и сельских общин не наблюдалось особых изменений; их владельцы продолжали жить так, как привыкли в железном веке, хотя и начали использовать новые сельскохозяйственные орудия и домашнюю утварь. Лучшим индикатором принятия римского образа жизни служат виллы, и первые такие комплексы, как и следовало ожидать, найдены недалеко от новых городов — Веруламия, Колчестера и Лондона и в царстве Когидубна. Исследователи даже утверждали, что в этих сельских регионах романизация шла более быстрыми шагами, чем в новых городах, поскольку в сельской местности более качественные дома появились раньше40. Однако эти первые шаги в сторону романизации сельской жизни могли предпринять не коренные бритты, а переселенцы из Галлии или более дальних краев, которые охотно вкладывали свои средства в новую провинцию. Представляется, что такие виллы, как Экклс (Кент) или Ангмеринг (Сассекс), построенные, вероятно, в правление Нерона и в начале эпохи Флавиев, относятся именно к последней категории, хотя раннее строение в Ривенхолле (Эссекс) возвел, по-видимому, богатый землевладелец из числа местных жителей41. В первое время римское завоевание обусловило рост производства сельскохозяйственной продукции ввиду воздействия сразу двух факторов: она была необходима для покрытия требований сборщиков налогов и провиантных нужд армии. Когда и где бы ни располагались войска на чужой или покоренной территории, они всегда порождали спрос и служили источником обогащения для местного населения; в этом отношении римская армия в Британии ничем не отличалась от других. Вряд ли бриттские земледельцы сразу смогли поставить столько провианта, сколько требовалось войскам. Политика полной реквизиции, пожалуй, не годилась для постоянной оккупационной армии, поскольку обрекла бы производителей на голод. Тем не
39 Duncan Jones 1974 (А 24): 366—369.
40 Walthew 1975 (E 563): 189-205.
41 Rodwell, Rodwell 1973 (E 554): 115-127.
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
595
менее следует признать, что по прошествии не слишком долгого времени спрос в достаточной мере стимулировал производство и большая часть нужд была удовлетворена. Этого можно было добиться, только нарастив площади пахотной земли, расчистка же новых участков, вероятно, помогала удовлетворить резко возросшую потребность в древесине, необходимой для масштабного строительства армейских и городских зданий. Когда производство начало расти, многие бриттские землевладельцы должны были ощутить немалую выгоду, а потому продолжали его расширение, нацелившись на освоение рынков в новых городах. Примерно так и выглядела экономическая база, на которой со временем выросла система вилл.
VI. Торговля и ремесла
Развитие коммуникаций, несомненно, способствовало расширению торговых связей. Благодаря притоку в провинцию римских денег, использовавшихся прежде всего для уплаты жалованья войскам, образовался резерв мелких монет для незначительных ежедневных расчетов, тем самым была решена задача, с которой не могли справляться монеты крупного достоинства, чеканившиеся в эпоху железного века. Торговля в самой Британии и между Британией и остальной частью Империи развивалась быстро, и поначалу это были преимущественно контракты на военные поставки. Большие партии керамики terra sigillata ввозились в основном с предприятий южной Галлии, а прочая столовая керамика — например, из Лиона;42 в провинцию импортировалось также множество ступ (mortaria) и кухонных мисок. Сначала бриттские гончарные мастерские производили только кухонную керамику, изготовленную на гончарном круге, — традиционную для железного века. Однако постепенно появились ее новые разновидности, и примерно через десять — двадцать лет возникло несколько центров, загруженных в полную силу и обеспечивавших как гражданские, так и военные рынки. Импортировалась в Британию и стеклянная посуда с запада Средиземноморья, и металлические изделия из Галлии и Италии. Но со временем в Британии развилось собственное производство, обычно базировавшееся в городах, — за исключением гончарного. В Веруламии мастерская по изготовлению бронзовых изделий существовала еще до восстания Боудики, и производившиеся в ней товары продавались прямо на месте43. К сожалению, свидетельства о производстве и продаже товаров из органических материалов (дерево, кожа или ткань) сохраняются редко. Но имеются свидетельства о разработке и экспорте полезных ископаемых, таких как железо из Уилда, и, что более примечательно, уже в 49 г. н. э. отряд П легиона разрабатывал свинцовые
42 Greene 1978 (Е 542).
43 Frere 1972 (Е 536) I: 18.
596
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
и серебряные рудники в холмах Мендип44. Интересно, что в некоторых отношениях торговый баланс между Британией и остальными частями Империи сходен с современным торговым балансом между развитыми и неразвитыми странами: первые производят товары, а вторые поставляют сырье. Среди товаров, экспортируемых Британией в эпоху Августа, Страбон называет зерно, скот, шкуры, рабов, золото, серебро, железо и охотничьих собак; импортировались же украшения из слоновой кости, янтарь, стекло и другие безделушки, к этому перечню, пожалуй, вполне можно присовокупить вино и масло45.
VII. Религия
В новой провинции были довольно хорошо развиты местные культы, как правило локализованные на небольших территориях; однако для римского периода имеются сведения о существовании племенных божеств, таких как Бриганция46, и о святилищах, почитавшихся на более обширных землях, таких как Бат с его богиней Сулис, покровительствовавшей горячим источникам47. Кельты и римляне были привержены суевериям приблизительно одного и того же плана48. Соответственно, введение классических культов сразу же нашло отклик; часто кельтские и римские божества отвечали за одни и те же сверхъестественные явления, так что Минерву можно было идентифицировать и с Сулис в Бате, и с Бриганцией на севере. Но учреждение императорского культа с центром в Колчестере было совершенно чуждо религиозным обычаям бриттов. Этот культ представлял собой некий общий элемент для всей Империи, религиозные обычаи которой были невероятно разнообразны, и в то же время требовал изъявления верности императорскому дому. Императорский культ ввел в большие расходы самых влиятельных жителей провинции — размеры и великолепие храма Клавдия удостоились нелестных комментариев даже в Риме. Однако в Галлии императорский культ функционировал вполне успешно, здесь его крупным центром служил Лион, и у римлян не было оснований считать, что в Британии дело пойдет в чем-то не так; невозможно было предвидеть, что этот культ окажется одной из главных причин восстания Боудики.
Из вышеизложенного очевидно, что процесс, который обычно описывают как романизацию Британии, был очень неравномерным по территории, срокам и глубине проникновения. Обычно римляне поощряли в провинциях подражание (aemulatio) своему стилю поведения и часто давали про¬
44 Но см. оговорю! в работе: Whittick 1982 (Е 566): 113—124.
45 Страбон. IV.5.3 (200-201 q.
46 RIB 2091.
47 RIB 141-150.
48 Wacher 1978 (E 562): 217-226.
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
597
винциалам образцы поведения или учреждений, однако редко навязывали изменения силой. Таким образом, каждый человек и каждая община принимали новый образ жизни в той степени, в какой были к этому склонны. Если традиционный образ жизни провинциалов устраивал римскую администрацию, а налоги уплачивались вовремя, то изменения не требовались. Конечно, быстрее всего романизация происходила в тех областях Британии, где наиболее сильно ощущалось влияние последних миграций из Галлии, жители которой уже находились в тесном контакте с римлянами. В процессе романизации римляне иногда оказывали практическую, реже финансовую, помощь общинам, например, при основании новых городов; но в итоге большую часть расходов всё равно несли местные общины или их отдельные члены. Это естественным образом накладывало ограничения на процесс романизации. Строго говоря, гражданская администрация Рима заботилась об общественном благе лишь постольку, поскольку в хорошо организованной провинции было проще собирать налоги. Рим и не смог бы оказать более значительной помощи, даже если бы питал самые благие намерения. Римская администрация провинции, по-видимому, состояла из нескольких сотен человек, в основном откомандированных военных, и ей попросту не хватило бы людей, чтобы повлиять на каждого жителя из двух- или трехмиллионного населения. Следовательно, она могла надлежащим образом функционировать, лишь делегируя ответственность местным жителям; объем делегируемых полномочий на разных территориях сильно разнился в зависимости от готовности местных жителей взять их на себя. Поэтому в итоге города, виллы и другие поселения Римской Британии имели разный размер, планировку и уровень развития — всё это зависело в основном от наличия или отсутствия у местного населения финансовых ограничений или желания.
Глава 13f
К. Рюгер
ГЕРМАНИЯ
I. Введение
В 50 г. до н. э. Цезарь покинул Галлию, и после этого ее восточная и северная границы отодвинулись к Рейну1. Он достиг своей цели, которая состояла в том, чтобы обезопасить северо-запад Римской империи от переселения племен и нападений варваров с севера и востока, четко прочертив пограничную линию. В Центральной Европе, в верховьях Дуная, эта политика, конечно, свелась лишь к установлению контроля над альпийскими перевалами, через которые на протяжении почти трех предшествующих веков неукротимые варвары совершали атаки на принадлежавшие Риму предгорья Альп и даже на сам Город.
Завоевав Галлию, Цезарь оказал влияние на процессы переселения народов, которые происходили, видимо, на протяжении нескольких веков, на северо-западе Европейского континента. Цезарь не пожелал терпеть постоянные миграции германцев на левый берег Рейна. Но «цисренские» (Cisrhenani, т. е. обитавшие по эту, римскую, сторону Рейна. — О.Л.) германцы уже проживали на левом берегу реки. Согласно определению самого Цезаря, в их число входили эбуроны на территории между Рейном и Маасом и кересы, пеманы, сегны и кондрусы, населявшие Айфель и Арденны. Но вполне возможно, что эпитет «германцы» означал для Цеза¬
1 Основные литературные источники о Германии в данный период — это Дион Кассий (кн. LIV—LVI), Веллей Патеркул (П.60—132) и Тацит (Анналы. Π; XI. 16—19; ХП.27—28; ХШ.55—56; История. 1У.12—37, 54—79; V.14—26 (Цивилис и восстание батавов)), Страбон (IV.3 сл. (190С сл.); УП (289—329С)). «Германия» Тацита написана на исходе I в. н. э., но содержит очень много значимых и важных сведений. Литературные источники собраны в изд.: Capelle 1937 (Е 572); Klinghoffer 1955 (Е 582). Надписи приведены в сборнике: CIL ХШ; более поздние дополнения см. в изд.: Finke R. // BRGK 17 (1927): 31—105, 201—214; Nesselhauf Н. //Ibid. 27 (1937): 66-134; Lieb H., Nesselhauf Η. //Ibid. 40 (1959): 129-216; Schillinger-Hafele U. //Ibid. 58 (1977): 473—561. О монетах см. изд.: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Имеется значительное число археологических свидетельств, многие из которых опубликованы в периодических изданиях «Germania», «Bonner Jahrbücher» и BRGK. Ценные обзоры: Schönberger 1969 (E 591); Raepsaet-Charlier 1975 (E 587). См. также в насг. изд. гл. 13d, сноска 1.
Глава 13f. Германия
599
ря всего лишь «стойкие воины». Географические соображения требуют отнести к «цисренским» германцам и тексуандров, обитавших к западу от голландской и бельгийской реки Маас. Хотя в их языке кельтский элемент выделяется и идентифицируется лучше, чем германский, находившийся еще на самой ранней стадии развития, всё же можно выявить некоторые примитивные германские особенности, например, удвоение определенных согласных или гортанное произношение, неизвестное кельтам2.
С севера и запада с этими племенами соседствовали бельги — мена- пии, нервии, ремы и треверы, которые, по словам Цезаря, имели некоторые галльские черты. Треверы, согласно Тациту, всячески подчеркивали свое германское происхождение, что трудно согласовать с упоминанием «германцев, которые обитают за Рейном» («Germani qui trans Rhenum incolunt»), в рассказе Цезаря о его столкновении с гельветами3 4. Лингвистические и археологические исследования не выявили почти ничего германского в области треверов и на территории, которая позднее стала Де- куматскими полями — по крайней мере, ничего сопоставимого с культурой германцев, обитавших на Везере и Эльбе, насколько она известна благодаря археологическим данным или работам кельтологов в области языкового родства и лингвистической географии. Быть может, треверы участвовали во вторжении «германских» племен в центральную Галлию после 113 г. до н. э. или в столкновении 109 г. до н. э., когда потерпел поражение консуляр Марк Юний Силан; могли они входить и в число тех захватчиков, которые в конце концов поселились в центральной Галлии после 115 г. до н. эЛ
Насколько древними могли быть племенные традиции? В чем именно состояли германские черты, побуждавшие треверов, по словам Тацита, так гордиться своим происхождением? По мнению лингвистов и археологов, в области Мозеллы эти черты встречаются столь же редко, как и на правом берегу Рейна, в юго-западной Германии, где, насколько мы можем судить, в языке догерманского населения (то есть в языке, использовавшемся до набегов аламаннов в 223 г. н. э.) почти нет германских элементов. Так же обстояло дело и у неметов, трибоков и вангионов, которые переселились на левый берег Рейна при Цезаре или вскоре после его проконсульства. Нервии, менапии, эбуроны и треверы проживали на северной границе территории распространения общин (civitates) Π—I вв. до н. э. с центрами в крепостях (oppidum) (латенская культура С — латенская культура Di). Такое устройство обычно считается кельтским. Севернее же обитали племена, которые после Цезаря занимали земли к югу и за-
2 Первыми свидетельствами такого рода являются имена солдат (напр., Храуттий) в Виндоланде, где в конце I в. н. э. стоял гарнизон из тунгрийских и батавских частей; см.: Bowman А.К., Thomas J.D., AdamsJ.N. ЦBritannia 21 (1990): 33—52; Weisgerber 1968 (E 599): 143-168.
3 Тацит. Германия. ХХУШ; Цезарь. Галльская война. I. 22—29, особенно: 28. 4.
4 Ливий. Периохи. 63; Аппиан. Гражданские войны. 1.29. (Варварские племена, вторгшиеся в конце П в. до н. э. в Галлию, Испанию и северную Италию, обычно характеризуются в античных источниках как германцы, хотя в нашествии участвовали и племена, имевшие кельтское или смешанное происхождение. — О.А.)
Карта 9. Германия
602
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
паду от Рейна до самого Северного моря: это кананефаты, батавы, свебы (сугамбрь0сиберны), убии, неметы, трибоки и вангионы, а на правом берегу, по словам Тацита, «наиболее предприимчивые из галлов» («levissimus quisque Gallorum») поселились на покинутой гельветами территории на юго-западе Германии, которая позднее стала называться Декуматскими полями5. До сих пор невозможно установить, как происходили эти миграции. Согласовать литературные источники с археологическими свидетельствами удалось только пока в сфере чеканки. Тацит сообщает, что батавы входили в состав большого племенного союза хаттов, центр которого находился на обоих берегах реки Лан в Весгервальде и горах Таунус. Действительно, была доказана явная зависимость батавской чеканки ла- тенской культуры D2 от хаттов6. Однако больше не известно никаких материальных следов миграции, произошедшей в следующем после Цезаря поколении — вопреки всем ожиданиям, ибо эти народы были достаточно развиты, чтобы иметь опыт и навыки гончарного производства и принести с собой ремесленные технологии, которые бы сохранялись на протяжении хотя бы одного-двух поколений и повлияли на тип керамики и форму сосудов.
Эти племена поселились на северо-западе завоеванной Цезарем Галлии с одобрения и под контролем Рима или без оных. В литературных источниках, охватывающих период между отъездом Цезаря и прибытием войск на Рейн при Августе (16 г. до н. э.), постоянно повторяются сообщения, позволяющие сделать вывод, что переселение правобережных германцев на левый берег Рейна было сознательной политикой — особенно в интервале между двумя визитами Марка Агриппы в эту область (39—38 и 19—18 гг. до н. э.). Многие полководцы, командовавшие на Рейне, прославляли в Риме свои победы «над германцами» («de Germanis») или выдающиеся военно-инженерные деяния, например, строительство каналов или изменение фарватера рек. Конечно, судя по тому, как размещались в Галлии римские войска после Цезаря, никто не планировал использовать их для защиты Рейнской области: и литературные, и археологические данные свидетельствуют о расквартировании зимних гарнизонов по всей внутренней Галлии. Впервые о такой защите позаботились Тиберий и Клавдий между 17 и 47 гг. н. э. Более того, постыдное поражение полководца Лоллия в 17/16 г. до н. э. («maioris infamiae quam detrimenti» — «больше позора, чем урона». Перев. МЛ Гаспарова)7 свидетельствует, что в данный период армия как ударная сила находилась в процессе тактической перегруппировки. Это дало правобережным германцам достаточно времени, чтобы поселиться — даже без дозволения Рима — на опустошенной земле, принадлежавшей прежде эбуронам и менапиям, которые были вытеснены на берег Ла-Манша.
5 Тацит. Германия. XXIX.4.
6 Тацит. История. IV. 12. О батавской чеканке см.: Roymans N., van der Sanden W. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 30 (1980): 173—254.
7 Светоний. Божественный Август. 23.1.
Глава 13f. Германия
603
Археологические данные с северо-западных европейских равнин неопровержимо свидетельствуют, что в течение всего постнеолитического доисторического периода и особенно в галыптатский и латенский периоды (800—50 гг. до н. э.) распространение культур шло здесь с юга на север. Самые северные свидетельства о крупномасштабной племенной организации и аристократических традициях обнаруживаются на территории тре- веров. Их военный союз с эбуронами распался сразу после того, как Цезарь разгромил последних. Название племени эбуронов в римский период больше не встречается. Хорошо осведомленный Плиний Старший называет их родные земли по обоим берегам Мааса территорией различных племен — «pluribus nominibus»8. Бедность и изоляция севера, где до Ш в. до н. э. господствовала «эпилитическая» (букв.: «растущая на поверхности скалы». — О.Л.) культура, в которой использовались древние каменные орудия и инструменты, могут объясняться только тем, что местные залежи металлов были скудны, а экономические возможности приобретения металлов путем обмена ограниченны. В первом тысячелетии до н. э. новым технологиям было очень трудно закрепиться в условиях бедной дилювиальной геологии Северо-Западной Европы. На богатом юге этой низменности, в центральной Галлии, встречаются имена местных аристократов, указывающие на их клиентскую зависимость от римских семей, которые во Π—I вв. до н. э. участвовали в войнах на территории Галлии: До- миции, Корнелии, Валерии, Вибии, Кальпурнии. Многие из этих романизированных клиентов носили титул друга римского народа («amicus populi Romani»).
На севере до эпохи Цезаря таких связей с Римом не наблюдалось, а следовательно, отсутствовал важный инструмент романизации. На континентальном северо-западе этой низменности не обнаруживается амфор типа Дрессель IA начала I в. до н. э.9. Дипломатические контакты Рима с германским царем Ариовисгом вылились в обмен экзотическими царскими подарками в эллинистическом стиле10. Цезарь не изменил существующую систему, но, желая обеспечить безопасность границы, подчеркнул различие между народами, живущими на разных берегах Рейна. Отсюда возникла любопытная дихотомия между, с одной стороны, археологией и лингвистикой и, с другой — античной (а также и современной) историографией. Если судить по материальной культуре и языку, то граница разделяла север и юг и шла с востока на запад по линии «Айфель — Арденны», тогда как историки проводят границу между востоком и западом вдоль Рейна, текущего с юга на север. Это деление имеет крестообразную форму и представляет собой загадку. Все предложенные модели, объясняющие образование племенных групп и этногенез в северо-западной четверти этого поля (например, идея независимого северо-западного блока, отличного от германского и кельтского, то есть подлинной третьей силы),
8 Плиний Старший. Естественная история. IV. 106.
9 Roymans 1987 (Е 588).
10 Цезарь. Галльская война. 1.44; Плиний Старший. Естественная история. П.170.
604
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
пока оказались неудовлетворительными, несмотря на все усилия историков и археологов.
Утверждение римской власти в северной Галлии оставило след в археологии крупных городских центров, таких как великая крепость (oppidum) треверов Тительберг в Люксембурге. Известны имена треверских вождей, чеканивших здесь монеты, — нумизматы датируют данные выпуски периодом между прибытием Цезаря в Галлию и подавлением восстания треверов в 29 г. до н. э. Эти предводители выпустили в обращение так называемую вторую треверскую группу монет (первая предшествует Цезарю)11. Известны по именам вожди Вокарант<...> и Лукоций, правившие до Цезаря, а Поттина и Арда засвидетельствованы уже при Цезаре. Ни один из них не упоминается в сочинениях Цезаря. Для последующего периода монетные легенды с упоминанием вождей треверов, видимо, не известны. Затем, вероятно в 45 г. до н. э., появляются выпуски Авла Гир- ция. В этом году он стал пропретором Галлии и получил титул императора, а на его монетах изображен, скорее всего, триумфальный проезд Гнея Домиция Агенобарба (консул 122 г. до н. э.) на слоне после победы над аллоброгами в 121 г. до н. э. — после той войны слоны уже никогда не использовались в военных действиях на Европейском континенте. Последний тип треверской монетной серии был выпущен около 10 г. до н. э. мастером по чеканке Германом, вольноотпущенником аристократа Инду- тилла, а затем, возможно, чеканился в новой столице треверов — Августе Треверов12. Интересно, что между 29 г. до н. э. и 16 г. до н. э., когда Август начал военные действия, на высоте Тительберг размещался римский гарнизон, однако располагавшееся вокруг нее поселение (oppidum) не было покинуто. Видимо, этому гарнизону требовалось много мелких разменных монет, которые до сих пор тут обнаруживаются, причем значительная их часть здесь же и была отчеканена. В этот период на северо- западе континентальной Европы впервые появляются импортные римские товары. Купцы, следовавшие за Цезарем, должны были оставлять после себя амфоры средиземноморских типов и кампанскую керамику этого времени. Пока ничего этого не обнаружено ни на Рейне, ни вообще в области северных племен. Несколько черепков черной керамики кам- панского стиля, а также амфоры для вина и гарума найдены на возвышенностях, которые были заселены после Цезаря. В этом состоит резкое отличие северо-западной Галлии от южной. Судя по сохранившимся на юге следам, экспорт с Кампанского побережья поступал в приморскую Лшурию и на Лазурный Берег, затем шел вверх по Роне и Соне и далее до излучины Рейна, откуда товары обычно везли не вниз по Рейну, а на северо-восток, через территорию будущей Реции, на Дунай. По этому маршруту, видимо, проходил торговый путь, по которому перевозили — до великих потрясений, случившихся в регионе Айфель—Арденны между периодами В и С латенской культуры, — средиземноморское вино. Воз¬
11 См.: Heinen 1985 (Е 580): 27-30.
12 См.: Heinen 1985 (Е 580): 29-30, 38-39.
Глава 13f. Германия
605
можно, эти потрясения легли в основу племенного предания треверов об их германском происхождении. Как бы то ни было, данный средиземноморский импорт не имел ничего общего с романизацией. Присутствие на северо-западе Галлии нескольких черепков черной кампанской керамики и амфор для вина и гарума объясняется потребностями тылового обеспечения войск, стоявших в этих местах после Цезаря, и сопутствующей торговлей: так обстоит дело в люксембургском Тительберге и, возможно, в Петрисберге возле Трира.
С вопросом о романизации связано несколько других проблем. Ценным и значимым показателем романизации могут служить римские имена на северо-западе Галлии. Стоит отметать, что в интересующей нас области известно много Юлиев, Тибериев и Клавдиев. Эта имена во множестве встречаются среди элиты северо-западных галльских племен (убиев, треверов, батавов и кананефатов), вовлеченных в восстание 69—70-х годов н. э. Вряд ли все эта знатные семьи получили римское гражданство во времена Цезаря — возможно, это даже не большинство из них. Видимо, после образования второго триумвирата романизация Галлии происходила так же, как и на Востоке, где в данный период возникли клиентелы Эмилиев и Антониев. Очевидно, в Галлии шел аналогичный процесс — и в переходный период, и когда она оказалась под властью Октавиана; а поскольку он был усыновлен Цезарем, новые граждане получали имена Юлиев. Йе следует недооценивать живую память о Цезаре, которая отражалась в мифах о нем, бытовавших в восточной Галлии и Рейнских землях. Например, в храме Марса в Кёльне хранился меч Цезаря — драгоценная реликвия, окруженная суевериями13, а в приграничных землях восточной Галлии жил аристократ, возводивший свою родословную к Юлию Цезарю через прабабку14. Уже Агриппа, а также и следующие наместники обеих Германий строили мосты через Рейн, и эта акции, как и многие другие, видимо, представляли собой — по крайней мере, в какой- то степени — подражание Цезарю («aemulatio Caesaris»). Современная историография излишне склонна приписывать любым событиям точные даты и нередко предлагает другие объяснения строительству мостов через Рейн, но всё же необходимо всегда помнить, что в I в. н. э. образ Юлия Цезаря по-прежнему сохранял на Рейне власть над умами.
Агриппа, самый умный и талантливый полководец Августа, не видел себя в роли главнокомандующего. Оба его наместничества в этом регионе, в 39/38 и в 19/18 гг. до н. э., не столько позволили ему завоевать выдающееся положение в Галлии, сколько укрепили позиции Октавиана/Ав- густа. Наиболее важным мероприятием в процессе укоренения идеологии нового Цезаря стало возведение в Лугдуне общегалльского алтаря (Ага Galliarum), которое традиционно датируется 12 г. до н. э. — годом смерти Агриппы15. За этим последовало (вероятно, в первом десятилетии I в. н. э.)
13 Светоний. Вите Алий. 8.
14 Тацит. История. IV.55.
15 Другую точку зрения см. выше, гл. 2, с. 125 наст. изд.
606
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
основание аналогичного ему Алтаря Убиев (Ara Ubiorum), который для германцев должен был стать таким же идеологическим центром культа Рима, какой уже был создан для галлов в Лионе, на слиянии Соны и Роны. Но Алтарь Убиев возник лишь тогда, когда Рим заложил твердую основу для оккупации земель между Рейном и Эльбой, предпринятой для защиты Галлии и создания новой провинции к северу от Альп, которая граничила бы со старыми завоеваниями Цезаря.
II. Римская Германия,
16 г. до н. э. — 17 г. н. э.
Когда во время своего второго наместничества в Галлии Агриппа был отозван в Рим, где состоялись необыкновенные и тщательно спланированные Вековые игры, это знаменовало окончание фазы военной активности Рима в Средиземноморье, между Евфратом и северо-западной Испанией. После того, как установился мир, принцепс Август впервые обратился к подражанию Цезарю («aemulatio Caesaris») и начал внешнюю войну («bellum externum»). Как и Цезарь, он попытался совершить свой подвиг в Северо-Западной Европе и приложил огромные усилия, чтобы подчинить Римской империи землю между изгибом Дуная возле Виенны (совр. Вьен) и устьем Везера.
В период с 16 г. до н. э. до поражения Вара в 9 г. н. э. или, вернее, до окончательного отказа от завоевательной политики к востоку от Рейна в 17 г. н. э. Рим систематически применял долгосрочную стратегию двойного охвата. На Рейне и побережье Северного моря, на Боденском озере и Верхнем Рейне, на Лехе и Дунае такие маневры были основаны на десантной тактике. Необходимой предпосылкой для них служил сбор военных и географических разведывательных данных, производившийся с базы на Рейне; возможно, эти сведения аккумулировать начал уже Агриппа в 39—38 или 19—18 гг. до н. э. (вспомним его интерес к географии). Аннексия царства Норик обеспечила безопасность альпийских перевалов на юге и востоке оккупационной зоны.
Исследователями выдвинута заманчивая гипотеза о том, что лагерь А в Новезии (совр. Нойс) — пока единственный лагерь, датированный между 16 и 12 гг. до н. э. — был построен главным образом для сбора разведывательных данных. Остальные крепости и форты возводились, видимо, после 12 г. до н. э., уже после основания разведывательного лагеря в Новезии ок. 16 г. до н. э. Этот лагерь расположен в конечной точке важной дороги, связывающей континентальный северо-запад со Средиземноморьем, Рейн — с Роной. Она идет из Марселя вверх по Роне через Лугдун (Лион) в Андематунн (Лангр) и Диводур (Мец), затем вниз по Мозелле в Августу Треверов (Трир) и через гряду Айфель — Арденны, мимо поселка Беда (Битбург), затем вниз по реке Эрфт в Новезий. Где-то после 5 г. до н. э. было построено ответвление этой дороги, которое поз¬
Глава 13f. Германия
607
днее приобрело еще большее значение — путь из поселка Бельгика (Бил- лиг) к Алтарю Убиев (Кёльн)16.
Римские войска были передислоцированы из внутренней Галлии в лагеря операционной базы на Рейне. Самое важное место в плане, составленном в Риме, занимали области, расположенные напротив устьев притоков, впадающих в Рейн севернее и восточнее Кёльна: Могонциак (Майнц) — против устья Майна, Новезий — против устья Рура, Ветера (Ксантен) — против устья Липпе, Новиомаг (Неймеген) — против устья Эйссела, возможно, также территория, расположенная напротив устья Неккара, в области Базеля, и, несомненно, Фекцион (Вехтен) как база десантных операций на Северном море.
Важнейшие события, случившиеся в Германии между 16 г. до н. э. и 17 г. н. э., рассматриваются в настоящем томе КИДМ в главах, посвященных общей истории империи; в данном же разделе мы сосредоточим внимание на основных стадиях романизации этой территории. Идентифицировано четыре направления римского вторжения в Германию из-за Рейна. Во-первых, наступление от Неймегена через Вехтен вдоль побережья, населенного фризами и хавками, до устья Везера; во-вторых, наступление от Ксантена вверх по Липпе в направлении земли херусков и Везера; в-третьих, наступление от Майнца на север через Веттерау к среднему Лану, Фульде и Верре в направлении Везера и Эльбы. Операционная база четвертого маршрута, видимо, находилась к югу от Майнца в земле вангионов, и вторжение осуществлялось с запада на восток, на территорию маркоманнов, и затрагивало по касательной два изгиба рею! Майн к югу; однако этот четвертый маршрут пока не слишком хорошо засвидетельствован. Кроме того, римские войска нащупали также из области Базеля через Дангпггеттен и Хюфинген на северо-восток, к Дунаю.
Друз и Тиберий повели легионы по данным маршрутам и к 8 г. до н. э. завоевали всю эту территорию; казалось, что создание германской буферной зоны обеспечило безопасность Галлии. Между 6 г. до н. э. и 1 г. н. э. римский главнокомандующий Домиций Агенобарб дошел до Эльбы — вероятно, он двигался по операционному маршруту, начинавшемуся в Майнце. О его мероприятиях по расселению гермундуров в южной Тюрингии и северной Франконии могут свидетельствовать остатки римского лагеря недалеко от Вюрцбурга17.
В этот период римские полководцы предпринимали различные операции: они присоединяли земли и обеспечивали лояльность германской знати Риму, устанавливая связи между ней и армией. Сыновья германских вождей, в том числе Арминий, получали офицерские должности в римской армии и римское гражданство, а Агенобарб оказался вовлечен во внутренние дела херусков, когда попытался возвратить на родину их политических изгнанников18.
16 Библиографию см.: Raepsaet-Charlier 1975 (Е 587): 92—93.
17 Cüppers 1990 (Е 574): 83, рис. 39.
18 Об Арминии см.: Веллей Патеркул. П. 118.2; об Агенобарбе см.: Дион Кассий. LV.10a.2-3.
608
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Волнения, начавшиеся в Германии в 1 г. н. э., очевидец Веллей Патеркул описывает как «грандиозную войну» («immensum bellum»), которая потребовала повторения военных действий, предпринятых поколением ранее19. Тиберий не терял времени даром. На всей территории Германии до самой Эльбы римская армия и флот, как и прежде, производили десантные операции. Когда земля между Рейном и Эльбой внешне вновь покорилась Риму, на восточном фланге Тиберия возникла новая угроза в лице Маркоманнской империи царя Маробода. Против него были мобилизованы объединенные войска Германии, Реции и Иллирика. Для наступления на Маробода с запада снова был использован маршрут из Майнца через земли хаттов, вверх по Майну к Зале и Эльбе. Недавно была обнаружена римская военная база в Марктбрайте на реке Майн, в 25 км к востоку от Вюрцбурга; представляется, что ее можно идентифицировать как самую восточную римскую крепость, возведенную в ходе этих лобовых ударов20.
В 7 г. н. э. или незадолго до того командование армией в Германии принял Публий Квинтилий Вар. Он был женат на дочери Агриппы и Клавдии Марцеллы Старшей и, следовательно, входил в ближайшее окружение Августа и Агриппы21. После поездки Августа на Восток в 21 г. до н. э. Вар попал в поле зрения принцепса и стал пользоваться его личным покровительством. По мнению Веллея Патеркула, он был скорее администратором, нежели полководцем;22 и к этому времени уже считалось очевидным, что в Германии пора налаживать торговые пути и инфраструктуру для налогообложения. Однако в 9 г. н. э. Арминий, римский всадник и знатный вождь херусков, сумел объединить недовольных аристократов на всей территории между Рейном и Эльбой и нанести римской армии сокрушительное поражение в Тевтобургском лесу, где полегло три легиона, три алы и шесть когорт — всего более 20 тыс. человек.
Вследствие этого римляне немедленно покинули укрепленные пункты, построенные на линиях коммуникаций между 8/7 г. до н. э. и 9 г. н. э. Однако они продолжали удерживать предмостное укрепление на правом берегу Рейна напротив Майнца, как и, возможно, еще одно — напротив Ветеры.
На восточном берегу Рейна теперь усилилось влияние германцев, проживавших на Эльбе. Они заняли область вокруг Бад-Наухайма и Висбадена, где имелись ценные запасы соли, и сделали ее своим административным центром. Ранее здесь проживали убии, которые к этому времени переселились на левый берег Рейна. Хатты, мигрировавшие на их место, назывались маттиаками, и Тацит тоже описывает их как германцев23, но все следы их языка, которые сохранились и поддаются распознанию, — кельтские. Это роднит их с неметами и трибоками, племенами с кельт-
19 Веллей Патеркул. П. 104.2.
20 Cüppers 1990 (Е 574): 83, рис. 39.
21 PKÖln I: № 10.
22 Веллей Патеркул. П. 117.2—4.
23 Тацит. Германия. XXIX.
Глава 13f. Германия
609
скими названиями, которые, как и убии, переправились на левый берег Рейна; на всей этой территории только вангионы, с точки зрения языка, являются германцами. Что касается германцев с Эльбы, то некоторые контингенты из великого племенного союза свебов поселились на Верхнем Рейне, на правом берегу реки. Возможно, они принадлежали к племенам, входившим в состав державы Маробода, и переселились к Рейну под давлением римлян.
Самые ранние признаки романизации, отраженные в нарративных источниках, затрагивают лишь высшую знать германцев в области между Рейном и Эльбой. Так, представители правобережной аристократии служили жрецами на Алтаре Убиев. Римляне решили — возможно, сознательно — не возводить между Рейном и Эльбой еще один провинциальный алтарь наподобие Лугдунского, и идеологическим культовым центром недавно завоеванных земель оставался алтарь, основанный на земле убиев в последнем десятилетии I в. до н. э. Когда Гай и Луций Цезари, внуки и приемные сыновья императора, умерли и удостоились официального культа, он, возможно, отправлялся на династических алтарях, надписи с которых найдены в нескольких городах на севере Галлии, и укреплял присутствие и влияние Рима на недавно присоединенной территории.
III. Создание милитаризованной зоны,
14—90 гг. н. э.
Германии осуществлял общее командование войсками Верхней и Нижней Германии до 16 г. н. э. Тацит утверждает, что две рейнские армии были разделены между собой («exercitus superior», «exercitus inferior») в 14 г. н. э.24. После смерти Августа Тиберию потребовалось три года, чтобы успокоить войска Нижней Германии, возместить неизбежный политический урон, проведя очень точечные боевые операции на правом берегу Рейна, и отозвать войска на левый берег, на базы, которые ранее использовались для наступления в сторону Эльбы. После этого на Рейне были одновременно дислоцированы верхнегерманское войско («exercitus Germanicus superior») и нижнегерманское войско («exercitus Germanicus inferior»), штабы которых находились, соответственно, в Могунциаке (Майнц) и Алтаре Убиев (Кёльн). Со времен Цезаря римляне не сомневались в том, что на левом берегу Рейна, среди прочих народов, обитали и германцы. Особенности римской терминологии, а также смешанный, военно-гражданский характер римского управления, которое осуществляли легаты провинции (легаты пропреторы Августа, legati Augusti pro praetore), позволили римскому правительству создать не только две германские армии, но и две «провинции»: в самом строгом традиционном смысле данный термин означал «военное командование». Этот блестящий прием политической пропаганды замаскировал уход римлян с территории меж¬
24 Тацит. Анналы. 1.31.
610
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ду Эльбой и Рейном. Несмотря на их отступление, «Германия» всё же существовала, и в следующие шестьдесят лет в этом регионе появятся две постоянные провинции на левом берегу Рейна, в действительности представлявшие собой лишь маленькие военные зоны вдоль восточной границы Трех Галлий. Однако политическая стабилизация при Веспасиане и его сыновьях позволила наконец разработать новую конкретную программу, в рамках которой ок. 85 г. н. э. были основаны две официальные провинции: Верхняя Германия со столицей в Майнце и Нижняя Германия со столицей в Кёльне.
Столпом романизации служила галло-германская знать с обоих берегов Рейна, лояльности которой оккупирующая держава, то есть Рим, пыталась добиться, предоставляя отдельным лицам гражданство и всаднический ранг. Но, как показал кризис, вызванный Арминием между 5 и 9 гг. н. э., романизация была неглубокой. Ясно, что таковой она и оставалась вплоть до восстания батавов. В крупных и по-прежнему сильных племенах на восточной границе то и дело разгорались конфликты между сторонниками Рима и консервативными приверженцами племенных традиций — как, например, в 21 г. н. э., когда произошло восстание тревер- ской и эдуйской знати под руководством Юлия Флора и Юлия Сакро- вира; проримские силы треверов возглавлял Юлий Инд25. Как всегда, мятеж треверов закончился победой оккупирующей державы и ее сторонников. В наказание Рим отнял у побежденных землю на берегу Рейна между Бингеном и Кобленцем, отчего пострадала и вся община (civitas) треверов. Возможно, имели место и другие подобные эпизоды, не столь хорошо засвидетельствованные. Тацит упоминает о войне с хаттами, которая, по-видимому, велась в горах Вестервальд и Таунус; эти сведения недавно подтвердились, когда был обнаружен мост через Рейн, который с помощью дендрохронологического метода может быть датирован 42 г. н. э.26. Во Фрисландии, вероятно, случались схожие инциденты, обусловившие взятие заложников у фризов после поражения Луция Апрония и расселение этого племени, произведенное Корбулоном в 47 г. н. э.27.
Вторую категорию безусловно верных сторонников римской оккупации составляли те из уроженцев восточной Галлии, которые вели торговлю с отдаленными регионами; многие из них также владели судами на внутренних водных артериях Галлии и Германии. Это члены гильдий грузоотправителей, действовавших на Женевском озере и на Сене, владельцы складов в Лионе, богатые и уверенные в себе перевозчики на Рейне. Их имена названы — порой с гордостью — на надгробных памятниках, и мы видим, что они, подобно судовладельцу (nauta) Блуссу в Майнце28, не имели римского гражданства. Они придерживались местных обычаев погребения и даже в надгробных надписях сохраняли особый диалект, ха¬
25 Тацит. Анналы. Ш.40—47.
26 О войне с хаттами см.: Тацит. Анналы. ХП.27—28. О дендрохронологической датировке моста см.: Schmidt В.// BJ181 (1981): 301—311.
27 Тацит. Анналы. XI. 19.
28 CIL ХШ.2: 7067.
Глава 13f. Германия
611
рактерный для галло-германской области: данное явление хорошо иллюстрируют экспортеры жерновов из Никкениха, в вулканической облает Айфеля. Такие же торговцы перевозили и импортировали средиземно морские товары, прежде всего вино и другие италийские и испанские про дукты (например, гарум), через Галлию в Британию. Предприниматели, принадлежавшие к одному племени, объединялись в группы, подобные клубам (consistentes), занимавшиеся торговлей с армией и в коммерческих центрах на Рейне, — примером могут служить гильдии купцов из племен ремов и лингонов, имевшие тесные связи с военной базой в Ветере29. Торговцы с характерными галльскими именами встречаются даже в Помпеях. Другие предприниматели, подобно преуспевавшему негражданину (peregrinus) из Никкениха, были связаны с армией, поскольку она нуждалась в их товарах, в данном случае жерновах, которые, подобно шлемам, являлись собственностью центурий легиона30.
Ассимиляция германской знати осуществлялась при помощи продуманной политики Рима по предоставлению ей гражданства, а также благодаря содействию, которое военные оказывали местным предпринимателям (negotiatores) и купцам (mercatores), владельцам барж и торговцам, взаимодействовавшим с отдаленными ретонами; но, помимо этого, римское правительство прилагало целенаправленные усилия для урбанизации крупных местных поселений, сперва при Августе, а затем, более активно, — при Клавдии. Веспасиан замедлил этот процесс в левобережной области пограничной зоны и сконцентрировал усилия на Декуматских полях, но Траян и Адриан вновь ускорили ход событий.
К северу от Лиона, между этим городом и Рейном, выросли две крупные колонии, Юлия Эквесгрис (Ньон) и Августа Раурика (Аугсг), обе — на севере Швейцарии. Эти города, по-видимому, обладали статусом колоний раньше, чем сам Луг дун (Лион), который получил его только при Клавдии. Поэтому Эквесгрис и Раурику следует считать настоящими военными колониями ветеранов, тогда как Лугдун, римский провинциальный город, был спроектирован главным образом для самих галлов, в качестве административной столицы, и стал центром монетной чеканки и культа Рима и императора31.
На севере развитие происходило, видимо, примерно так же. Трир (Августа Треверов) был основан Августом во второй декаде его единоличного правления, но сперва не имел статуса колонии. К северу от него находился алтарь Рима в Крепости Убиев (Кёльне). Создание новых колоний и муниципиев на северо-западе Римской империи по-прежнему осуществлялось медленнее, чем на других окраинах, например в Мавретании. Однако Рим поощрял развитие городских общин (civitas), что было необходимо во внутренних областях, имевших мало городских центров. Подобные общины могли надеяться, что со временем получат и формаль¬
29 О гражданах-consistentes в мирном поселении, которые вели торговлю с армией, см.: CIL ХП 11806; Rüger С. //ZPE 43 (1981): 332-335.
30 WeisgerberJ.L. 1969 (Е 600): 87-102 = Germania 17 (1933): 14-104.
31 Дион Кассий. XLVI.50; ср. гл. 13d наст, изд., с. 548.
612
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ный устав — императорская власть, видимо, проводила такую политику сознательно. В военной зоне Нижней Германии и в Галлии Бельгике продолжался процесс урбанизации, распространявшейся с юга на север, тогда как в военной зоне Верхней Германии к западу от Рейна значительных изменений вообще не наблюдалось. На Декуматских полях ни одно поселение так и не стало колонией: самый высокий правовой статус здесь имел муниципий Алтари Флавиев (Ротвайль).
При Клавдии колониями стали Трир (возможно) и Кёльн (несомненно). В случае Трира вполне возможно, что Клавдий просто повысил его правовой статус до колонии и предоставил римское гражданство его жи- телям-иноземцам, которые принадлежали к высшим общественным слоям треверов (такую политику он проводил и в прочих провинциях); с другой стороны, колония Клавдия Алтарь Агриппины (Кёльн) была населена колонисгами-ветеранами. Конечно, это не означает, что среди новых граждан Кёльна не было аристократов из племени убиев. Таковые, несомненно, имелись, — возможно, в их число входили даже аристократы с правого берега Рейна. Без них последующая романизация общественных институтов в этой области шла бы гораздо медленнее. Но новая колония в Кёльне, основанная в 50 г. н. э., располагалась между гарнизонами легионов на Рейне. Следовательно, неподалеку проживало достаточно много ветеранов, и это необходимо принимать во внимание. Среди первого поколения граждан Кёльна было немало выходцев из Средиземноморья, и многие из них, несомненно, вернулись на юг. Возможно, при Флавиях и Траяне гражданский коллектив Кёльна несколько раз пополнялся. Судя по всему, «эффект домино», наблюдаемый при Клавдии, проявился и в том, что муниципием стала столица кугернов, или кибер- нов, в Ксантене (Кибернодун?)31а. Так или иначе, при Траяне (возможно, уже в 98 г. и несомненно — к 104 г.) ей был предоставлен статус колонии под названием Колония Ульпия Траяна. Последний этап романизации приходится на правление Адриана или Антонина Пия. Римские города с официальным уставом появляются на территории кананефатов, где на побережье был создан муниципий Элий (Municipium Aelium Cananefa- tium).
Рейнские легионы, составлявшие элиту и ядро римской армии, по- прежнему комплектовались только из выходцев из Средиземноморья, а аристократия восточной Галлии и Рейна могла служить лишь в высших чинах вспомогательных войск, рассчитывая таким образом получить римское гражданство. Если при Цезаре страх римлян перед противником еще имел значение, то вскоре заметно ослаб. Даже катастрофическое поражение в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) не возродило прежний ужас перед германцами («кимврами»). Решение отказаться от завоевания терри- 3131 а Под «эффектом домино» подразумевается политика Клавдия, в рамках которой был повышен правовой статус многих городских общин, как правило, на одну ступень в иерархии. — О. А
Глава 13f. Германия
613
тории до Эльбы было принято римским правительством, исходя из, несомненно, совершенно рациональных соображений; подражание Цезарю (aemulatio Caesaris) ограничилось изумительными инженерными сооружениями — например, повторением его свершений при строительстве моста через Рейн. Это стало чем-то вроде моды среди командующих в Верхней и Нижней Германии в первой половине I в. н. э., и мосты возводились именно в той части Рейна, которую Цезарь пересек дважды за необычайно короткое время. Возможно, каждый легат Германии, желавший получить следующее назначение и имевший военные амбиции, стремился увенчать свою карьеру в Германии сооружением моста через Рейн по образцу Цезаря.
Официальная точка зрения на сопротивление германцев за Рейном, особенно на севере, логически вытекала из вышеописанной установки: в римском тылу не имелось широких и глубоких оборонительных сооружений. Левый берег Рейна, некогда использовавшийся как плацдарм для завоевания Германии, теперь на всем протяжении служил оборонительной линией от возможного нападения германцев. Войска размещались «по берегу Рейна» («per ripam Rheni», как это, вероятно, называлось) и не имели тактической поддержки легионных резервов на линиях возможного наступления германцев в направлении на юг, в сердце Галлии; и если составители военных планов в Риме оценивали обстановку реалистично — а они, без всякого сомнения, были на это вполне способны, — то такое расположение войск свидетельствует, что для римской армии сопротивление германцев на правом берегу Рейна не имело особого значения: данная территория и данный противник просто не стоили тех затрат, которых потребовала бы оккупация, а любые враждебные движения поблизости от границы легко было выявить силами разведки с баз на самом Рейне. Поэтому в Безансоне и Трире, в Тонгерене и Баве отсутствовала необходимость в легионах в качестве гарнизона; единственным исключением стало размещение легионов на Верхнем Рейне: они перемещались между Виндониссой (Виндиш) на Аре, Аргенторатом (Страсбургом) и Мирбо, старой базой страсбургского гарнизона к юго-западу от Лангра. Считалось, что для подавления потенциальных местных восстаний во внутренних галльских землях, примыкавших к приграничной зоне, достаточно было держать в северо-восточной Галлии вспомогательные гарнизоны. Вышеописанное тактическое расположение войск подверглось пересмотру только в конце 80-х годов I в. н. э. Как правило, римляне оставляли себе ударный резерв из гарнизонных легионов на удалении от границы только там, где встречали более серьезное сопротивление: в Британии, Сирии и Северной Африке.
При Тиберии и Клавдии была обустроена линия границы вдоль реки, протянувшаяся на тысячу километров от Базеля до Валкенбурга (с ответвлениями на правом берегу для наступательных операций в Верхней Германии), которая стала бы помехой для самой Римской империи, если бы на нее напали действительно сильные враги. Не только в 69/70 г. н. э., но
614
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
и в 260-м, и в 274-м неприятель успешно прорывал эту границу и проникал глубоко на римскую территорию, в самое сердце Галлии, а в 274-м даже достиг Испании. Такая система пограничных укреплений не была рассчитана на сильного врага.
Племена, обитавшие на левом берегу Рейна и недалеко от него, до самого правления Нерона оставались весьма разнородными, и если представители их аристократии получали римское гражданство, то в более низших слоях романизация почти не развивалась. С кананефатами и 6а- тавами римляне сперва обращались как с союзными народами (foederati), имевшими право самостоятельно набирать войска, так что ни одно из этих племен не подлежало римскому набору (dilectus) и оба имели статус союзников (socii). Их столицей был Батаводур. Мало-помалу Рим предоставлял поселениям на севере Рейнской области статус городов, и в конце концов во второй половине П в. н. э. (возможно, в 104 г. н. э.) этот город получил имя Ульпия Новиомаг и право периодически проводить рыночные торги (ius nundinarum). Как и столица кананефатов, он, по-видимому, был возвышен до статуса муниципия. Однако батавские отряды сохраняли свой национальный характер и, по крайней мере, в рассматриваемый в настоящем томе период (от Августа до Веспасиана) вовсе не служили плавильным котлом, из которого выходили новые римские граждане.
Фризы, проживавшие на севере, с самого начала сотрудничали с римлянами. В 20-е годы н. э. административный контроль Рима в этом регионе явно усилился, но интерес к данной области ослаб уже в конце правления Тиберия. В 47 г. н. э. Гней Домиций Корбулон снова попытался формально подчинить территорию фризов. Это предприятие увенчалось некоторым успехом, но оно не соответствовало имперской политике Клавдия, и император отозвал все гарнизоны на левый берег Рейна32. Вдоль Старого Рейна в Голландии и Нижнего Рейна в Германии была построена цепь фортов, о которой теперь имеются археологические свидетельства. Ее можно считать лимесом32а Нижней Германии на левом берегу реки; это была оборонительная мера для защиты Нижней Германии; при этом правобережные племена исключались из состава Империи и оставались на растерзание собственных аристократических группировок, боровшихся друг с другом. Особенно регулярно и успешно римляне вмешивались в дела бруктеров — почти до конца I в. н. э., когда Нижней Германией уже управляли наместники, назначенные Нервой. Однако это не мешало правобережным германцам время от времени ненадолго переправляться на левый берег Рейна без оружия33.
К северу от Лана маттиаки (которые, как и батавы, очевидно, имели хатгское происхождение) и проримские германцы Веттерау появляются
32 Тацит .Анналы. XL 19.
32а Л и м е с — линия оборонительных укреплений вдоль границ Римской империи. — О.Л
33 Тацит. Анналы. ХШ.56.2.
Глава 13f. Германия
615
на сцене уже во времена Германика. Имеются археологические следы расселения маттиаков вокруг Висбадена после 16 г. н. э. — здесь находилась община маттиаков (civitas Mattiacorum)34. На юге с ними непосредственно соседствовали общины трибоков, переселившиеся при Августе на левый берег Рейна, и неметов и вангионов, интегрированных в Империю не позднее правления Клавдия. Земли за границей, на правом берегу Рейна, ранее принадлежавшие мигрировавшим племенам, заняли, видимо, германские племена с Эльбы, названия которых нам не известны.
Верхний Рейн, в противоположность Нижнему, явно представлял собой единую зону расселения, западная граница которого проходила по Вогезам, а восточная — по гребню Шварцвальда. Поэтому со времен Августа Рейн здесь не считался границей, и его постоянно переходили войска и — под контролем властей — мирное население. Так обстояло дело, пока Рим окончательно не установил свое господство на Декуматских полях, то есть на территории между Рейном и Верхнегерманским лиме- сом. Сюда проникали группы поселенцев, но они, очевидно, не имели политической организации; в этом, среди прочих античных авторов, уверяет нас Тацит35.
Приграничная обстановка в двух германских провинциях в общем и целом определялась тем, что римляне эффективно контролировали границу и имели прочные торговые связи с германцами на правом берегу Рейна. В то же время римляне не слишком настаивали на радикальной романизации. Туземное общество в Германиях имело сравнительно прочную структуру. Однако влияние романизации было очень слабо, и в этих условиях контроль обеспечивала железная хватка многочисленных римских войск, сконцентрированных вдоль всего берега реки. После смерти Нерона обе германские военные зоны превратились в подмостки драмы, растянувшейся на три года: там начались внутренние беспорядки, получившие поддержку от правобережных германцев и известные как Батав- ское восстание.
Это восстание свидетельствует об удивительных талантах местных лидеров из числа аристократии левобережных племен — от кананефатов до лингонов. Каждый из них преследовал собственные интересы и интересы своих сторонников, часто с большой находчивостью, и — по крайней мере, если говорить о вожде батавов Юлии Цивилисе, — пожалуй, с некоторым политическим успехом. Это свидетельствует о том, что либо Риму не удалось уничтожить или нейтрализовать политические дарования и чутье богатой рейнской знати, либо военное командование на Рейне и не пыталось этого сделать. Нет сомнений в том, что левобережная племенная аристократия была заинтересована в сохранении единства Империи, хотя Тацит считал возможным называть это восстание внешней войной (bellum externum) ввиду особой формы договора, ранее заключенного между
34 Baatz, Herrmann 1982 (E 569): 53.
35 Тацит. История. IV.32, 37, 67.
616
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Римом и батавами36. Поэтому можно сделать вывод, что романизация аристократии продвигалась довольно быстро, по крайней мере после правления Клавдия и Нерона. Для этого периода сильный средиземноморский элемент, присутствующий в археологической культуре войска, скрывает, подобно плотному покрывалу, все археологически осязаемые проявления местного субстрата. В течение П в. н. э. армия приобрела ярко выраженный галльский характер, и в последующий период мы впервые можем беспрепятственно взглянуть на само германское и галло-римское мирное население.
36 Тацит. История. IV. 22.
Глава 13g X. Вольф
РЕЦИЯ
На первый взгляд кажется поразительным, что Рим завоевал Альпийскую область и южногерманские земли у предгорий Альп только в 15 г. до н. э., хотя к этому времени уже более двухсот лет властвовал над северной Италией. Однако такой курс полностью соответствовал римской концепции безопасности и внешней политики: Рим в основном реагировал на военные угрозы — например, когда враги нападали на Рим или на его союзников и, следовательно, возникал военный кризис или даже когда некий иноземный народ демонстрировал свою силу, что лишь потенциально могло угрожать безопасности Рима. Как правило, по собственной инициативе римляне не принимали внутриполитических решений о присоединении каких-либо земель, хотя в Поздней Республике подобные случаи участились. А в Альпах и их северных предгорьях не было крупной державы, которая могла бы попасть в фокус внимания римской внешней политики. Не считая нападений небольших отрядов, которые могли явиться из доисторического племенного мира в любое время и любом месте, альпийские племена никогда не угрожали северной Италии.
Альпийские народы дробились на множество более мелких племен или общностей, каждая из которых проживала в своей долине; отчасти их объединяли языковые и культурные узы, но значимые социально- политические связи между ними отсутствовали. В этой области не возникло более крупных племенных агломераций (таких, как единое племя рецийцев) и отсутствовали крупные поселения городского типа за исключением разве что области винделиков к северу от Альп. Эти племена переняли письменность у италийцев, прежде всего у этрусков, и использовали ее в посвятительных, надгробных и строительных надписях. Но развитие системы управления явно отставало от уровня грамотности.
В течение I в. до н. э. Рим все-таки покорил некоторые долины к югу от Альп. Особенно примечательно развитие Тридента, муниципия Юлия (municipium Iulium), который существенно преобразился при Цезаре или, самое позднее, при Августе; вероятно, в 23 г. до н. э. последний возвел там
Карта ΊΟ. Реция
Глава 13g. Реция
619
крупное здание. В период между принятием в 89—87 гг. до н. э. закона Помпея и правлением Августа к этому городу были приписаны (данная процедура называлась «adtributio») даже анавны, синдуны и тулиассы, жившие в западных долинах реки Адидже (Эч)1.
Жители Норика, в состав которого входили племенные образования восточного Тироля (Осгшроль), Каринтии (Карнтен) и Штирии (Штайер- марк), никогда не проявляли враждебности к италийским купцам и обычно были настроены к Риму дружелюбно. С другой стороны, преимущественно кельтские племена, населявшие предгорья Альп, жестоко страдали от набегов германских воинов из населенных свебами Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии. Согласно недавно уточненной хронологии, крепости (oppida) Манхинг, Кельхайм и Пассау, так же как и не защищенное стенами поселение Берхинг-Поллантен (расположенное к северу от Ин- голынгадта), несомненно, были уничтожены германскими отрядами примерно в 50-40-х годах до н. э.
В 15 г. до н. э. в Центральных Альпах и предгорьях Альп Рим имел только косвенные интересы. Они возникли вследствие изменения его политики в отношении зарейнской Германии — и причиной смены курса изначально послужило поражение Марка Лоллия: чтобы германцы не могли бежать от наступающей римской армии на юг, в сторону Италии, Риму пришлось взять под контроль Центральные Альпы и их предгорья. Что же касается нападений «каммунов» (kammunioi, cammuni) и венниев (ven- nioi), с одной стороны, и некоторых более восточных племен Норика и Паннонии — с другой (Публий Силий Нерва, проконсул Иллирии в 16 г. до н. э., остановил их и покарал, подчинив три альпийских племени)2, то они сыграли, вероятно, второстепенную роль, то есть послужили лишь обоснованием кампании 15 г. до н. э.; эта война дала возможность легко и просто завоевать военную славу двум пасынкам Августа — Тиберию и Друзу.
I. «Реция» до Клавдия
В научной литературе ведутся яростные споры по поводу отдельных аспектов военных действий в ходе завоевательной кампании 15 г. до н. э., и при текущем состоянии источников их невозможно окончательно разрешить. Основная сложность состоит в том, чтобы убедительно истолковать порядок перечисления побежденных народов в единственном подробном источнике — в надписи Альпийского трофея в Аа-Тюрби (возле Монако)3, так как в нем слишком много племен, место проживания которых неизвестно. Тем не менее на основании сведений Диона Кассия, Гора¬
1 О Юлии Триденте см.: АЕ 1984, 707; о здании см.: ILS 86; об эдикте относительно анаунов (ILS 206); ср.: Mommsen Th. Gesammelte Schriften (Berlin, 1906) 4: 291—311; Fre- zouls E. Ktema (1981) 6: 239—252, особ.: 243.
2 Дион Кассий. LTV.20.1—2.
3 Плиний Старший. Естественная история. Ш.136 f.; CIL V 7817 = EJ2 40.
620
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ция и других авторов4 можно восстановить хотя бы некоторые важные этапы этого римского похода, который ввиду ландшафтных условий в Альпах должен был состоять из нескольких независимых и прекрасно скоординированных операций. Друз и основная часть его армии наступали из долины Адидже, где Друз провел первое крупное сражение выше Тренто. Оттуда он двинулся дальше, в долину реки Инн, несомненно, через перевалы Решен и Бреннер. Возможно, один из его офицеров прошел от озера Комо в альпийскую долину Рейна через перевалы Шплюген или Малоя и Юлиер. Чуть позже выступил и Тиберий — против других враждебных племен, с которыми, как предполагают, он сразился у Боденского озера и еще в каком-то месте; его маршрут неизвестен, но в пути ему пришлось столкнуться с рецийцами из внутренних Альп. Совершив один дневной переход от Боденского озера, Тиберий, видимо, «достиг истоков Дуная» (хотя неизвестно, что имеется в виду под этим выражением). 1 августа, в годовщину взятия Александрии5, братья победили оставшихся врагов в крупном сражении. В числе побежденных могли быть виндели- ки и прочие племена, населявшие предгорья Альп, в том числе, если верить Страбону6, рукантии (руникаты?) и котуантии (косуанты?), принадлежавшие к рецийской языковой группе. Что касается племен близлежащего Норика, то Друз покорил амбизонтов — вероятно, в долине Зальцах. Итак, римские войска добились цели в течение одной летней кампании, двое пасынков Августа получили возможность принести ему в Галлию победные лавры — и это дало Горацию достаточно оснований, чтобы превознести всех троих до небес. После этой кампании мы уже не слышим о каких-либо антиримских восстаниях в данной области. Альпийские народы мудро склонились перед превосходящей мощью Рима.
Важнейшим итогом этой кампании стало размещение римских военных сил в северных предгорьях Альп. На несколько лет — самое большее, с 15/14 г. до н. э. до 8 г. до н. э. — в Дангштеттен на северном берегу Верхнего Рейна (напротив Тенедо, совр. Цурцах) была переведена значительная часть легиона — вероятно, XIX, который позднее был подчинен Вару и погиб вместе с вспомогательными войсками в битве в Тевтобург- ском лесу (горная цепь Виен). Кроме того, система коммуникаций вдоль реки Лиммат, Цюрихского озера и озера Валензе до альпийской долины Рейна была укреплена несколькими сторожевыми башнями. После смерти Друза римляне покинули Дангштеттен и одновременно основали важную крепость (Оберхаузен, ныне — часть города Аугсбург) у слияния Вер- таха и Леха. Она просуществовала примерно до 9 г. н. э. (или даже до 14—17 гг. н. э.) и, вероятно, была связана с недавно обнаруженной легион- ной крепостью Марктбрайт-на-Майне. Однако предгорья Альп и южногерманский регион в целом, очевидно, не сыграли важной роли в качестве базы для кампаний Рима по замирению свободной Германии. На сей
4 Дион Кассий. LTV.22; Гораций. Оды. IV.4, 14; Страбон. IV.6.8 (206С); VII. 1.5 (292С); Веллей Патеркул. П.95.1 сл.
5 Гораций. Оды. IV. 14.34 сл.; Веллей Патеркул. П.95.2.
6 Страбон. IV.6.8 (206С).
Глава 13g. Реция
621
счет у нас имеются свидетельства лишь о незначительных военных приготовлениях, которые предназначались, скорее, для защиты фланга — именно такая роль была поручена армии на Верхнем Рейне. Удивительно, что нет никакой информации о событиях в области баварских предгорий Альп, особенно в районе, где река Инн протекает через дилювиальные холмы (и северная часть Норика в правление Августа тоже не удостоилась никакого внимания): по неизвестным причинам уже в эпоху Цезаря и Августа свебов и остальные германские племена больше привлекал регион, который теперь называется Суэбия.
Что же касается управления недавно покоренными территориями, то в первые два поколения после их завоевания административная организация велась медленно и нерешительно. В этом отношении Рецию вновь можно сравнить с Нориком: для периода военной оккупации у нас имеется свидетельство о легате пропреторе в области винделиков («legatus pro [pr<aetore> i]n Vindol<icis>»), а также о его подчиненном из числа местных жителей — префекте когорты трумплинов (cohors Trumplinorum)7. Для эпохи Августа (до 2 г. н. э.) у нас, вероятно, есть сведения о бывшем офицере из сословия всадников, который четыре года занимал должность прокуратора Цезаря Августа в Винделиции и Реции и в Ленинской долине («procurator Caesaris Augusti in Vindalicis et Raetis et in valle Poenina per annos ПП»)8. Примерно к тому же социальному слою принадлежал бывший примипил (primipilus) XXI Стремительного легиона (legio XXI Rapax) с Нижнего Рейна, который в начале правления Тиберия выполнял в Центральных Альпах обязанности префекта рецийцев, винделиков, Ленинской долины и легковооруженных вспомогательных войск (pra[ef<ectus>] Raetis Vindolicis valli[s PJoeninae et levis armatur<ae>)9. Таким образом, до правления Клавдия в Центральных Альпах не было провинциального наместника и этот район еще не являлся полноценной провинцией — не считая взимания трибута10 11, который племена мирно платили с 15/14 г. до н. э., и военного присутствия легковооруженных вспомогательных войск, в которых служили и местные воины (levis armatura)11, никаких важных административных задач или должностей здесь не засвидетельствовано. Итак, римский представитель мог именоваться как прокуратором, так и префектом, — вероятно, это зависело от предыдущей карьеры каждого конкретного чиновника. Конечно, не следует думать, что в рассматриваемое время территория, позднее ставшая провинцией Реция, имела точно очерченные границы с германской военной зоной, с внешними племенами и с будущей провинцией Норик. Четкое размежевание территории существовало только на границе с Италией, поскольку требова¬
7 CIL V 4910 = ILSm = EJ2 241.
8ILS 9007 = EJ2 224.
9 CIL EX 3044 = ILS 2689 = EJ2 244.
10 Страбон. IV.6.9 (206C).
11 Если крепость Иркавий (castellum Ircavicum) располагалась в границах провинции Реция, как их очертили позднее, то надпись CIL ХШ 1041 = ILS 2531 свидетельствует о существовании таких военных отрядов: «gaestati DC Raeti».
622
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
лось формально определить районы, приписанные (путем adtributio) к колониям и муниципиям; но даже здесь, возможно, не было полной ясности, если вспомнить эдикт Клавдия об анавнах12. Большая союзная община (civitas) гельветов, маленькие племена, ранее зависимые от них (латоб- риги, раурики и тулинги) и две колонии на их бывших территориях административно относились, несомненно, к Галлии, а племена Норика в некоторых отношениях сохранили свое царство (regnum). Таким образом, прежде чем приступать к полной реорганизации Западных Альп, разумно было присоединить к Центральным Альпам долину Вале (Ленинскую долину, vallis Poenina).
В Центральных Альпах остро требовались дороги для военных целей. Еще Друз разметил дорогу от По до Дуная, которая позднее была названа Клавдиевой Августовой дорогой (Via Claudia Augusta). Возможно, тогда же началось строительство дорог через перевалы Шплюген и Юлиер. К столь же раннему периоду относится даже дорога из Брегенца через Кемггген, Эпфах и Гаутинг в Ював (совр. Зальцбург). Как бы то ни было, но Страбон, во всяком случае, ставит в заслугу Августу существенное улучшение альпийских дорог и перевалов13.
Археологические свидетельства не позволяют установить степень преемственности населения по сравнению с доримским периодом. Но Дион Кассий14 особо отмечает, что завоеванная территория была плотно заселена и по этой причине римляне забрали большинство юношей во вспомогательные части и вывели их за пределы провинции, оставив там лишь то количество жителей, какое требовалось для ведения сельского хозяйства. Среди прочих операций, местные солдаты сражались под командованием Германика с германцами. Напротив, при реформировании племенных институтов управления Рим проявил большую сдержанность. Не пытался он и содействовать правовой или социокультурной романизации реций- цев и кельтов. Римляне не основывали здесь колоний, и даже городские центры для проживавших на этих землях племен строились довольно медленно. Археологические находки свидетельствуют, что первые следы городских поселений в этой области датируются вторым десятилетием после завоевания. Насколько можно видеть, тамошние города не стояли на месте доримских поселений, а, судя по найденным артефактам, складывается впечатление, что в них проживали римские ремесленники и торговцы, видимо, недавно иммигрировавшие из Средиземноморья. Большинство этих поселений располагалось на северных склонах Альп: Кур (Курия), Брегенц (Бриганций), Кемптен (Камбодун), Ауэрберг (вероятно, другое название Дамасии), Эпфах (Абодиак), Аугсбург (Августа Винделиков) и Гаутинг (Братананий). Бриганций, Камбодун и Дамасия, согласно Страбону15, являлись городскими общинами (poleis) бриганциев, эстионов и ликатов. Но, видимо, лишь Камбодун был спланирован по
12 ILS 206 = GCN 368.
13 Страбон. IV.6.6 (204С).
14 Дион Кассий. UV.22.5.
15 Страбон. IV.6.8 (206С).
Глава 13g. Реция
623
римскому образцу, тогда как «город» на горе Ауэрберг, процветавший на протяжении всего лишь одного поколения, располагался на поразительной высоте — 1000 м. Военные силы, расквартированные здесь, видимо, были незначительны: крепости эпохи Тиберия найдены лишь в Брегенце и в Редерцхаузене возле Аугсбурга, тогда как в остальных районах о присутствии армии свидетельствуют лишь разрозненные находки; однако следует учитывать возможность того, что в этих местах просто производилось или ремонтировалось военное снаряжение. Если так, то едва ли Центральные Альпы и их предгорья контролировались в правление Тиберия римскими оккупационными силами — ближайший легион был расквартирован в крепости Виндонисса (совр. Виндиш) после 16/17 г. н. э. Также нам не известно ни о каких новых поселениях эпохи Августа или Тиберия в долине реки Инн, в верховьях Адидже, на востоке провинции Реция (как ее очертили впоследствии) или вдоль Дуная. В начале императорского периода центр Реции находился в Суэбии.
С экономической и налоговой точки зрения, Реция не была выгодной провинцией — она не приносила очевидной пользы Риму, если не считать ее стратегической важности для германских кампаний.
II. Провинция в правление Клавдия
Вероятно, именно Клавдий отказался от сдержанной политики в отношении Альпийской области, если только не допустить, что столь практичное и проницательное решение принял Калигула (который, как полагали, планировал построить город высоко в горах)16. Возможно, изменение римской установки объясняется успехами в развитии Верхней Германии и Паннонии, что увеличило важность путей сообщения по Дунаю и вдоль Дуная. Теперь на Дунае стояли многочисленные вспомогательные войска, и, пожалуй, логично было передать рецийские части под командование особому провинциальному наместнику. Попытка улучшить организацию административного аппарата соответствует общему характеру императора Клавдия и его интересам, насколько они нам известны.
Клавдий послал в Рецию и Винделицию прокуратора из всаднического сословия. Поскольку в войсках под командованием этого прокуратора служили римские граждане (в то время существовала по меньшей мере I когорта свободнорожденных римских граждан — cohors I civium Romanorum ingenuorum), первый известный нам провинциальный прокуратор (procur<ator> Augustor<um>) имел дополнительный титул «пролегат провинций Реции и Винделиции и Ленинской долины» («pro leg<ato> provinciae Raitiai et Vindelic<iai> et vallis Poenin<ai>»)17. Вероятно, сначала его резиденция располагалась в Кемптене, а не в Аугсбурге, который пока еще медленно превращался в «город». При Клавдии область Вале (vallis
16 Светоний. Гай Калигула. 21.
17 CIL V 3936 = ILS 1348.
624
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Poenina), по всей видимости, оставалась отделенной от «Реции и Винде- лиции» и вместе с Грайскими Альпами образовывала другую прокуратор- скую провинцию. Четкая граница провинций Реция и Винделиция была проведена не позднее этого же времени. На севере она шла по Дунаю, на востоке — по Инну, затем, вступив в Альпы, поворачивала на юг, а потом делала последний изгиб на запад, к югу от долины Пустера. Южная граница с Италией проходила в основном вдоль вершин Альпийского водораздела, но в Рецию включались и долины верховий Изарко и Адидже до Клаузена и Мерано, а также долина Тессина до Беллинзоны. Западная граница с Галлией Бельгикой и Верхней Германией шла от перевала Сен- Готард до гор Тоди и Гларниш, проходила между Цюрихским озером и озером Валензе на север, затем пересекала Рейн западнее Тасгеция (Эшенц) и, наконец, достигала Дуная к востоку от Туттлингена18.
Укрепления вдоль Дуная, вероятно, впервые были построены в конце 30-х годов н. э., еще до официального учреждения провинции; в этом случае возводил их, видимо, легион, стоявший в Виндониссе, поскольку линия укреплений обеспечивала безопасность правого фланга этого легиона. Насколько известно, самыми ранними лагерями на Дунае являются крепость Айслинген и небольшие форты Нерсинген и Бурлафинген; они датируются правлением Тиберия. Спустя недолгое время, примерно в 40 г. н. э. или между 40 г. н. э. и 50 г. н. э., была отстроена вся цепь укреплений от Эмеркингена до Оберштимма (возможно, она доходила даже до Вельтенбурга). И вновь у нас нет свидетельств о существовании лагерей во внутренних Альпах, а это означает, что здесь римской власти не угрожали внутренние мятежи. Помимо строительства лагерей, вокруг которых вскоре выросли гражданские селения (vici), были усовершенствованы и укреплены размеченные ранее дороги. Впрочем, свидетельства имеются только для Клавдиевой Августовой дороги19 в 46 г. н. э., но, поскольку соответствующая потребность имелась и в других районах, логично предположить, что так же развивались и остальные коммуникации, ведущие с севера на юг, с запада на восток и вдоль Дуная.
Чтобы составить представление о гражданском управлении в Реции, очень важно ответить на вопрос о том, сколь долго существовали племенные образования (civitates), сохранившиеся с доримских времен. Эта проблема имеет фундаментальное значение, поскольку в данной провинции не было римских «городов» до тех пор, пока Адриан не основал муниципий Элий Августа Винделиков (municipium Aelium Augusta Vindelicum), а также не засвидетельствовано местных городов, которые имели бы статус иноземных, за исключением лишь общины Курия (civitas Curia) и общин (civitates), предположительно существовавших в Бриганции и Камбо-
18 Многие отрезки этой линии могут быть поставлены под сомнение. Поскольку путь приходится прослеживать по множеству источников, покрывающих весь римский период (некоторые из них относятся к VI в. н. э.), невозможно точно определить, какие изменения претерпевала граница в то или иное время, если только речь не идет о границе с внешними племенами.
19 CIL V 8002-8003 (cp.: ILS 208).
Глава 13g. Реция
62 5
дуне; по крайней мере, в I в. н. э. Курия, Бриганций и Камбодун (как и позднее Августа) до некоторой степени стали походить на города. Если судить по тому, как свое происхождение определяли солдаты, то, по- видимому, во второй половине I в. н. э. или даже во П в. н. э. засвидетельствованы такие региональные административные общности, как руника- ты, катенаты, а недавно появились сведения о ликатах20. Кроме того, бреоны, которых Страбон считает иллирийцами, засвидетельствованы как политическая единица в VI в. н. э.21. И такие свидетельства подтверждают мнение исследователей о том, что даже в эпоху Средней империи немало доримских общин (civitates) существовало по-прежнему как местные образования и осуществляло местное самоуправление22. Очевидно, что многие из данных общин так и не развились в городские центры и, возможно, именно поэтому от них не осталось надписей. Как следствие, невозможно точно локализовать все эти племена и лишь с некоторой долей вероятности допустимо утверждать, что ликаты, которых не поглотил муниципий Августа Винделиков, проживали у истоков Леха, недалеко от Альп. Примерно в 40 г. н. э., когда исчезло поселение на Ауэрберге, столицей ликатов в конце концов стал Абодиак (Эпфах). Остальные племена альпийских предгорий, перечисленные на Альпийском Трофее или упомянутые Страбоном и Птолемеем, вероятно, селились у главной цепи Альп, и, таким образом, север Нижней Баварии в начале I в. н. э. мог оставаться почти безлюдным.
Иллирийские таможенные посты («publicum portorium Illyrici») в Пас- сау (Бойодур) и Пфаффенхофене (Мост Эна), несомненно, были учреждены в правление Клавдия. Однако больше никаких подробностей об экономической или социальной истории ранней Реции не известно, поскольку коренное население, которое, конечно, по-прежнему жило здесь и занималось преимущественно сельским хозяйством, почти не засвидетельствовано в источниках. В известных нам поселениях, постепенно приобретавших некоторые характерные черты городских центров, конечно, преобладали ремесло и торговля. О высшем сословии сведений очень немного; особенно знаменита семья Клавдия Патерна Клеменциана из окрестностей Эпфаха: его родители получили римское гражданство от Клавдия (или, возможно, Нерона), а сам он поднялся до должности прокуратора при Траяне или Адриане23. Но из альпийского региона и восточной Реции до нас по каким-то причинам не дошло никаких сведений о высшем социальном слое.
Почти ничего не известно и о политической истории провинции. Сообщается, что в 14 г. н. э. альпийским предгорьям угрожали свебы, против которых были отправлены ветераны мятежной германской армии24.
20 О ликатах см.: RMD 119; АЕ 1988, 905. О руникатах см.: АЕ 1940, 114. О катенатах см.: АЕ 1935, 103.
21 Cp.: Heuberger 1932 (Е 621): 149-167; Страбон. IV.6.8 (206С).
22 Иную возможную версию см.: Wolff 1986 (Е 643): 166 сл.
23 Pflaum 1960 (D 59): 150 bis (61).
24 Тацит. Анналы. 1.44.6.
626
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
В 69 г. н. э. провинция, естественно, оказалась втянута в борьбу за власть между Отоном, Вителлием и Веспасианом. Выбор рецийских войск в пользу Вителлия, а армии Норика — в пользу Отона и Веспасиана определялся решениями, которые приняли, соответственно, германская и пан- нонская армии: до конца П в. н. э. Реция ориентировалась на Запад. По этой причине в 69 г. н. э. рецийские войска, включая и местные провинциальные контингенты, получили приказ атаковать мятежных гельветов25, а затем, судя по всему, были переброшены в Италию. Позднее войска Реции и Норика противостояли друг другу на разных берегах Инна, хотя до боевого столкновения дело не дошло26. А после победы Веспасиана, войска Норика передислоцируясь в область мятежных батавов27, вероятно, уничтожили враждебные рецийские лагеря, а также Аугсбург, Кемп- тен и Брегенц. По крайней мере, такую гипотезу выдвинули ученые на основании археологических слоев со следами разрушений в этих местах. Реальность могла быть намного сложнее, но такая неопределенность картины характерна для этой провинции, находившейся на политической периферии, — историографическая традиция не сообщает о Реции почти ничего, кроме случайных сведений.
25 Тацит. История. 1.67.2, 68.1—2.
26 Тацит. История. Ш.5.2.
27 Тацит. История. IV.70.2.
Глава 13h
Дж.-Дж. Уилкс
ДУНАЙСКИЕ И БАЛКАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ
I. Продвижение на Дунай и за Дунай,
43 г. до н. э. — 6 г. н. э.
«Magnum est stare in Danubii ripa» («Великое дело — остановиться на берегу Дуная». Пер. В. С. Соколова), — провозгласил Плиний Младший, обращаясь к императору Траяну. Эта река, разлившаяся по равнине или грозно бурлящая в ущелье, волнует воображение почти каждого, кто приближается к ней. Дунай упоминается в некоторых древнейших европейских мифах, зародившихся в далеком доисторическом прошлом: например, в легенде об аргонавтах, которые проплыли вверх по реке из Черного моря в Адриатическое. На протяжении всей истории завоеватели и их армии торжествовали, покорив эту реку, хотя, вероятно, никто не радовался так подчеркнуто, как император Август, который в «Деяниях» восхваляет продвижение Тиберия, своего пасынка и легата, от границ Иллирика до берега Дуная. Лишь обеспечив себе контроль над средним течением Дуная, Рим обрел возможность удерживать и использовать сухопутный маршрут из Италии на свои восточные территории1. Он и сегодня осгает-
1 Главными источниками о дунайских землях в правление Юлиев—Клавдиев служат греческие и латинские авторы и надписи на камне. Что касается рассказа о завоевании, то пространное повествование Аппиана о кампаниях 35—33 гг. до н. э. (События в Иллирии. XIV—XXV Ш) непосредственно восходит к воспоминаниям Октавиана. Веллей Патеркул (П.110—116) рассказывает о Паннонском восстании 6—9 гг. н. э., отталкиваясь от собственных впечатлений: в этот период он какое-то время служил офицером в штабе Тиберия, хотя задуманная им пространная история покорения далматов и паннонцев (П.96.3), видимо, так и не была завершена. Если не считать подробного описания дунайских кампаний Лициния Красса в 29—28 гг. до н. э. (Ы.23.2—27), «Римская история» Диона Кассия содержит лишь эпизодические сводки, в которых военные действия нескольких лет нередко изложены в двух-трех предложениях и помещены внутри рассказа о событиях одного года, в частности 16 г. до н. э. (LIV.20.1—3). «Жизнеописания» Светония, эпитомы «Истории» Ливия наряду с работами более поздних компиляторов, таких как Флор, Руф, Фест и Орозий, могут содержать важные подробности, хотя последние из названных авторов с такой же вероятностью способны вносить и путаницу. Для некоторых периодов крайне недостаточно литературных свидетельств, прежде всего это касается диапазона с 9 г.
Карта 7 7. Военные базы, города и поселения в дунайских провинциях
630
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ся главной дорогой между Европой и Средним Востоком, через Загреб, Белград, Ниш и Софию в Стамбул, или из Ниша на юг через Скопье и Фессалонику в Афины.
На протяжении почти четырех столетий эта дорога была главной военной осью Римской империи, особенно в гражданских войнах, случавшихся не раз — от смуты 68—69 гг. н. э. после пресечения династии Юлиев—Клавдиев, до великих столкновений IV в. н. э., потрясавших династии Константина и Валентиниана. В 394 г. н. э. император в последний раз проехал по суше с Востока на Запад — и это был Феодосий I, последний правитель объединенной Римской империи2.
до н. э. по 4 г. н. э.: в рукописи Диона Кассия отсутствует несколько листов, а Веллей не расположен был описывать военные операции тех лет, когда его герой Тиберий сошел со сцены. Для периода после прихода Тиберия к власти ценные сведения о событиях во Фракии и в землях германцев-свебов к северу от Паннонии содержат «Анналы» Тацита, а в «Истории» сообщается о нападении сарматов на Мёзию в 69 г. н. э. Наконец, свой вклад вносят два автора-современника, хоть и очень по-разному. Поэт Овидий, находившийся в суровом изгнании в Томах, описывает свою жизнь на Нижнем Дунае. Географ Страбон сообщает важные сведения о населении этой территории, о его истории, обычаях и экономике, в своем повествовании не раз затрагивая недавние кампании римлян.
Число эпиграфических свидетельств растет по мере приближения к концу рассматриваемого периода. Надписей, связанных с войнами Августа, сохранилось мало, если не считать пассажей из «Деяний» и нескольких текстов с упоминанием деятельности его легатов, см., напр.: ILS 918, 8956. В Норике, Паннонии и Далмации эпохи правления Клавдия имеется уже достаточно эпитафий военным, чтобы установить с их помощью названия и местоположение легионов и вспомогательных частей, и примерно в это же время здесь начинается производство кирпича и черепицы с клеймами для нужд войска. Надписи с дунайских земель впервые собрал Т. Моммзен в т. Ш «CIL», опубликованном в 1873 г. с дополнениями, вышедшими в 1902 г. Сегодня это издание дополняют, а для некоторых провинций и заменяют, новые собрания. Надписи, обнаруженные в бывшей Югославии между 1902 и 1970 гг., приводятся в трех томах «ILIug», а надписи Верхней Мёзии сегодня готовятся к полному переизданию [IMS). К сожалению, современные собрания надписей, как правило, ограничены территориями существующих ныне государств: например, изданы надписи Венгрии (RIU), Болгарии [IGBulg), Греции (ILGR) и Румынии [IDR и ISM). Что же касается нумизматических источников, то присутствие римских монетных выпусков в кладах на Дунае сегодня хорошо задокументировано, как и местные кельтские, дакийские и фракийские выпуски. Функции и значение последних вызывают много споров; новое рассмотрение этого вопроса см.: Crawford 1985 (В 320): 219—239.
В ходе археологических исследований, проводившихся в основном после Второй мировой войны, обнаруживаются свидетельства о планировке, наиболее крупных строениях и прилегавших кладбищах нескольких римских городов, хотя многие важные открытия еще предстоит опубликовать, предварительно задокументировав в полном объеме. Исследуются также многие военные лагеря вдоль Дуная, хотя раскопки редко достигают самых ранних археологических слоев. В последние годы проводится большая и важная работа по упорядочению и классификации основных типов римской керамики, в том числе амфор и столовой посуды терра сигиллата, прежде всего в бывшей Югославии и Венгрии, что позволяет локализовать гарнизоны и поселения этого периода. Как правило, археологические свидетельства представляют собой импортные товары или товары римского происхождения, которые не имеют почти ничего общего с местными традициями дунайских земель. По-видимому, для многих территорий такой состав артефактов верно отражает взаимоотношения, сложившиеся в правление Юлиев—Клавдиев между, с одной стороны, захватчиками, солдатами и поселенцами и, с другой — местными племенами.
2 Плиний Младший. Панегирик. 18.1; Деяния божественного Августа. 30.1.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
631
Провинция Паннония, а в ней прежде всего область Нижнего Дуная и Савы вокруг Мурсы и Сирмия, служила замковым камнем арки, которую Империя возвела для обороны от северных народов, обитавших между Черным и Северным морями. Когда этот камень выпал, интересы восточной и западной половины Империи быстро разошлись. При заключении в 40 г. до н. э. Брундизийского мира иллирийский город Скодра, расположенный недалеко от Адриатического моря, был признан границей между Западом, уделом Октавиана, и Востоком, владениями Антония3. На практике границей служила почти непроходимая горная гряда — водораздел между севером и югом, пересекающий Боснию, Черногорию и Албанию. Римскому правительству стало очевидно, что единственный способ покорить эти территории и их стойких обитателей — это наступление с северных равнин, со стороны Загреба и Белграда. Не стоило и пытаться осуществить это предприятие, пока безопасность сухопутного маршрута через бассейн Среднего Дуная не была гарантирована. К середине правления Августа ее удалось обеспечить, что явилось выдающимся успехом новой армии, набранной после битвы при Акции. Стратегическая ценность этого маршрута дала о себе знать в полной мере, когда он, хоть и с трудом, устоял во время восстания в Паннонии в 6—9 гг. н. э. Хотя свершения Друза, Германика и Арминия за Рейном волновали воображение поэтов и панегиристов, но в реальности трезвый расчет позволял Риму отказаться от зарейнской Германии, и в 15/16 г. н. э. она была оставлена. В Иллирике и на Дунае дело обстояло иначе.
Именно на Балканах происходила предсмертная агония Римской республики после смерти Цезаря. Сенат поручил командование в Иллирике, Македонии и Ахайе Бруту, который делегировал власть Квинту Гортензию Горталу, проконсулу Македонии. Публий Ватиний, бывший легат Цезаря, завершил операции против далматов, обитавших вокруг Нароны, и вернулся в Рим, где 31 июля 42 г. до н. э. отпраздновал иллирийский триумф. Республиканцы нашли себе союзников среди иллирийцев и фракийцев, хотя, когда Децим Брут безрассудно попытался пройти из северной Италии в Македонию, в области яподов его настигла неминуемая гибель. Согласно условиям Брундизийского мира, заключенного в сентябре 40 г. до н. э., Иллирик оставался за Октавианом, а Македония — за Антонием. Последний отдал приказ о нападении на иллирийских парфинов, союзников Брута, и дарданов, постоянно угрожавших Македонии. За победы над парфинами триумф получил Азиний Поллион, но сведения о полководце Антония, командовавшем в дарданской войне, а также о ее исходе, не сохранились, и не исключено даже, что их скрыл соперник Антония4.
3 Аппиан. Гражданские войны. V.65.
4 Сведения античных источников о римских полководцах собраны в MRR П (до 30 г. до н. э.), в PIR2, издатели которой сейчас дошли до буквы О, а также в «Списках наместников» («Laterculi Praesidum»), составленных Томассоном, см.: Thomasson 1975—1984 (D 110). Осадный парк, захваченный в 43 г. до н. э. у Децима Брута (Дион Кассий. XLVL 53.2), яподы спустя восемь лет использовали против Октавиана (Аппиан. События в Ил¬
632
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Что касается владений Октавиана, то экспансия Дакии в правление Буребисгы вновь возродила в Италии прежний страх перед вторжением с северо-востока. Не случайно в «Истории» Ливия, уроженца Патавия, заметное место занимает рассказ о том, что македонский царь Филипп V якобы планировал направить свирепых бастарнов по суше против Италии. Теперь Буребисты уже не было в живых, а его державу поделили между собой четыре или пять правителей, большинство из которых остались лишь тенями в исторических хрониках: Комоиск, Косой, Котизон и Диком; первые трое правили в юго-западной Дакии, последний — в юго- восточной. Победа триумвира над Секстом Помпеем при Навлохе, одержанная 3 сентября 36 г. до н. э. после долгой борьбы, прославлялась римскими поселенцами в Иллирике, далеко от места событий5, но вскоре этот регион стал для римлян театром военных действий. Наследник Цезаря провел целых два сезона в операциях против народов, обитавших за Адриатикой (см. с. 209—210 насг. изд.), хотя побудили его к этому в основном причины, не связанные с местными делами. В 35 г. до н. э. римляне прошли через земли яподов и паннонцев и оставили гарнизон из двадцати пяти когорт в Сисции. Ходили разговоры о наступлении против даков, и, возможно, это послужило поводом для засвидетельствованных в источниках контактов Октавиана с Котизоном, которые впоследствии обусловили союз Антония с Дикомом. В следующем году атаке подверглись далматы; после ожесточенных сражений в долинах и лесах за Салоной они капитулировали и возвратили знамена, захваченные в 48 г. до н. э. при Синодии у Авла Габиния, неудачливого полководца Цезаря, хотя сперва одному из лучших полевых командиров младшего Цезаря пришлось подвергнуть их зимней блокаде в 34—33 гг. до н. э. Судя по перечню покоренных народов, теперь под властью римлян находилось всё побережье и внутренние земли между Истрией и Македонией, хотя наступление против пан- нонских народов через горы, по долинам Боснии, Дравы и Савы, еще не предпринималось.
О событиях, происходивших в дунайских землях на протяжении почти двадцати лет после победы над далматами (принесшей Октавиану 13 августа 29 г. до н. э. первую часть тройного триумфа), почти ничего не сообщается. Исключение составляет необыкновенно подробный рассказ Диона Кассия о военных операциях четырех легионов Марка Красса, проконсула Македонии, в 29 и 28 гг. до н. э. В первый год войны он одержал победу над басгарнами возле Дуная на реке Киабр (Кибрика), лично убив в поединке царя Дельдона. Крассу был предоставлен триумф, но отказано в титуле «император». Более того, есть основания подозревать, что Красе одержал победу и над даками, которая и стала главным его досги-
лирии. ΧνΐΠ). Прежде чем начать операции против парфинов, Азиний Поллион, возможно, напал на далматов и взял Салону, но об этом сообщают — несколько путано — только поздние источники. Некоторые исследователи отвергают этот рассказ, см., напр.: Syme 1979 (А 94): 118—130, другие же принимают его: Bosworth 1972 (С 34): 464—468. Нападение Антония на дарданов засвидетельствовано у Аппиана [Гражданские войны. У.57).
5 CIL Ш 14265: «Sicilia recepta» («Сицилия возвращена». — Ο.Λ.).
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
633
жением, но позднее сообщение об этом было искажено, чтобы не ставить в неудобное положение Октавиана. В следующем году Красе вел военные действия в северной Добрудже. Закончились они возвращением римских знамен, которые более тридцати лет назад бастарны захватили у Гая Антония, печально известного коллеги Цицерона по консульству 63 г. до н. э. Вернувшись в Рим, Красе отпраздновал 4 июля 27 г. до н. э. триумф «над Фракией и гетами», но возвращенные знамена не выставлялись публично, а притязания полководца на исключительную почесть — право посвятить spolia opima5a были отклонены под формальным предлогом6.
В этот период осложнения во Фракийском царстве не раз побуждали римлян вводить армию на эту территорию: там постоянно возникали конфликты между одрисами, проживавшими на более культурном востоке, и могущественными бессами с гористого запада. Сапей Реметалк (I), возможно, получил единоличную власть во Фракии за то, что покинул Антония накануне Акция, однако оказался хорошим царем — о его долгом и благополучном правлении свидетельствуют серебряные монеты, отчеканенные по стандарту римских денариев7. События на Балканах, связанные с делом Марка Прима, наместника Македонии, обвиненного в ведении войны против одрисов, о котором Дион Кассий сообщает среди событий 22 г. до н. э., так же плохо понятны, как и политическое значение этого дела в Риме. Несколько лучше нам известна деятельность консуля- ра Марка Лоллия, чья интервенция в интересах Реметалка, возможно в 19/18 г. до н. э., могла послужить поводом для передачи македонской ар мии в состав новой военной провинции «Фракия и Македония». Преемником Лоллия мог быть Луций Тарий Руф, консул 16 г. до н. э., сражавшийся с сарматами, что стало первым известным столкновением с этими иранскими конниками8. Затем балканское командование, возможно, было поручено Тиберию (после его альпийских кампаний в 15 г. до н. э.) — для ведения операций, в результате которых скордиски, проживавшие вокруг Сирмия, вступили в союз с Римом, что послужило решающим фактором для последующего покорения паннонцев. Вероятно, из-за того, что балканские войска вели бои далеко на северо-западе, подавление крупного восстания фракийских бессов пришлось поручить Луцию Пизо- ну, командовавшему армией, вызванной с Востока. Кровопролитная фра¬
5а Доспех вражеского вождя, лично убитого полководцем, посвящался в храм Юпитера Феретрия на Капитолии. — О.Л.
6 Дион Кассий. LI.23.2—27; cp.: PIR2: L 186; Mocsy 1966 (С 289): 511. Дакийские пленники, сражавшиеся с германцами на римской арене через несколько дней после триумфа Октавиана (Дион Кассий. Ы.22.6—9), возможно, были захвачены Крассом, когда он разбил армию Котизона, см.: Гораций. Оды. Ш.8. Об эпизоде со spolia opima см.: Syme 1959 (А 93): 308-309.
7 О личностях фракийских правителей и их взаимоотношениях см.: Sullivan 1979 (Е 698). Нумерация правителей приводится в соответствии с той, которая дана в статьях У. Карпггедта, см.: Kahrstedt U. // RE IA: 255—257, 1003—1004.
8 Дион Кассий. LTV.20.3. Надпись, в которой засвидетельствовано строительство моста через Стримон в Амфиполе (АЕ 1936, 18 = ILGR 230), читается недостаточно ясно, чтобы определить, кем был Тарий Руф — проконсулом или легатом.
634
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
кийская война продолжалась три года, вероятно в 12—10 гг. до н. э., и за это время римляне потерпели поражение, оправились от него и одержали победу, за которую полководец получил триумфальные отличия.
Иллирик не входил в число территорий, отведенных в 27 г. до н. э. Цезарю Августу, и им, вероятно, управляли проконсулы, хотя ни один из них не известен по имени. В сводке недавних военных действий, которую Дион Кассий приводит, рассказывая о событиях 16 г. до н. э., упоминаются операции Публия Силия Нервы против народов Восточных Альп, в ходе которых его легаты отразили нападение нориков и паннонцев на Истрию. Представляется, что провинцией Силия был не Иллирик, а Транспаданская Галлия, включавшая Истрию и Либурнию. В этом же пассаже Дион Кассий упоминает о восстании в Далмации, с которым скоро было покончено, — вероятно, его подавил проконсул. Наземные коммуникации между Италией и Балканами обеспечил Тиберий в ходе Пан- нонской войны (см. с.213 насг. изд.), когда, опираясь на достижения Марка Виниция и Марка Агриппы в 14—13 гг. до н. э., в 12 г. до н. э. победил бревков в долине Савы при помощи скордисков. Еще четыре сезона военных действий под командованием Тиберия в 11—9 гг. до н. э. и Секста Аппулея в 8 г. до н. э. завершили завоевание земель на южном берегу Дравы и расширили границы Иллирика до Дуная. Побежденные паннон- цы были разоружены, а молодые люди, способные носить оружие, отправлены на италийские рынки рабов. Сенат предоставил полководцу триумф, но Август позволил ему получить только триумфальные отличия. Так, по словам современника, закончилось «восстание далматов», продолжавшееся, считая с первой иллирийской войны Рима в 229 г. до н. э., более 220 лет9.
Завоевав Паннонию и захватив Норик (последнее достижение, видимо, стало результатом операций Силия (см. выше)), римляне обрели контроль над долинами Дравы и Савы, что позволило им определить судьбу большинства народов в бассейне Среднего Дуная. Как они распорядились этой властью, в источниках не сообщается, поскольку исторические сведения о середине правления Августа очень неполны, хотя известно, что на первый план снова вышли даки. В конце 10 г. до н. э. последние совершили набег через замерзший Дунай, что помешало закрыть храм Януса9а, и в ответ Корнелий Лентул (возможно, преемник Пизона по балканскому командованию), судя по всему, провел операции против даков, то есть того самого племени, которое сдалось Крассу в 29 г. до н. э., и их сарматских наемников. Преемником Лентула стал, вероятно, тот неизвестный полководец (скорее всего, Марк Виниций), который за Нижним Дунаем
9 Дион Кассий. LIV.20.3. Большинство исследователей считают, что провинцией Силия был Иллирик, хотя нет никаких свидетельств, связывающих его с этим регионом, тогда как в Эноне в Либурнии было воздвигнуто посвящение в его честь, в котором он назван проконсулом, см.: ILS 899. Конец далматского «восстания» продолжительностью в два века отмечает Веллей Патеркул (П.90.1).
9а Двери храма Януса в Риме закрывались, когда во всём государстве царил мир. — О. Л.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
635
столкнулся с бастарнами и вступил в контакт (необязательно враждебный) с более мелкими племенами западной Дакии10 11. Масштабы и направленность этих операций свидетельствуют о том, что римляне были уверены в незыблемости своих новых дунайских завоеваний, что отразилось также в назначении ок. 1 г. до н. э. старшего внука принцепса командующим «войсками на Истре», где «он не принимал участия в боевых действиях, и не потому, что не представилось случая, но потому, что сам он учился начальствовать в мирной обстановке» [Пер. под ред. A.B. Махлаю- ка)п. Хотя позднее, в 6 г. н. э., даки снова стали причинять Риму беспокойство, Август счел себя вправе объявить о крупной победе над ними: сперва было отражено их вторжение, причем неприятель понес большие потери, затем римляне перешли в контрнаступление и добились капитуляции даков. Когда Страбон писал свою «Географию», даки, по его словам, уже были готовы покориться, но пока держались в надежде на помощь германцев12. Домиций Агенобарб, продвигавшийся с Дуная на Эльбу, поселил дружественных гермундуров в этой области, к западу от грозных маркоманнов, которые сами недавно перебрались в Богемию, где представляли угрозу для римской власти на Верхнем Дунае13.
Судя по сведениям источников о действиях римских полководцев на Балканах, Рим контролировал Нижний Дунай, а время от времени мог распространять свою власть и дальше, опираясь на черноморский флот. В Каллатисе, греческом городе, который на протяжении более чем полувека был союзником Рима в этом регионе, сохранилась почетная надпись с упоминанием легата пропретора Публия Виниция, под командованием которого служил военным трибуном историк Веллей Патеркул14. И римляне, и их союзники, вероятно, знали о том, что потрясения в далекой Азии побудили новые народы переселиться на запад, через понтийские степи, на равнины за Нижним Дунаем. Уже по меньшей мере дважды Рим сталкивался с сарматами, постоянно двигавшимися на запад. Некоторые народы, подвергаясь сильному давлению с востока, по-видимому, просили разрешения войти на римскую территорию, и римляне не могли бесконечно тянуть с ответом. В конце правления Августа Страбон писал о том, что Секст Элий Кат позволил 50 тыс. гетов переправиться через реку и поселиться на римской земле15.
10 Большинство исследователей идентифицируют < >CIVS из Тускульского элогия
(ILS 8965) с консулом 19 г. до н. э. Большинство также считают провинцией наместника, упомянутого в надписи, Иллирик, см., напр.: Syme 1971 (Е 702): 26—39, хотя в сохранившемся тексте элогия это не указано, а упомянутые племена предполагают командование на Нижнем Дунае.
11 Дион Кассий. LV.10.17 (датировано 1 г. до н. э.).
12 Деяния Божественного Августа. 30.2; ср.: Светоний. Божественный Август. 21; Страбон. УП.3.11, 13 (303—304С).
13 Дион Кассий. LV.10a.2-3 (датировано 1 г. н. э.).
14 Договор с Каллатисом (ILLRP516) обычно датируется 72/71 г. до н. э. О Виниции в Каллатисе см.: АЕ 1960, 378; Syme 1971 (Е 702): 68-69; Syme 1979 (А 94) П: 533.
15 Страбон. УП.3.10 (ЗОЗС).
636
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Тем временем последние годы принципата Августа были омрачены несчастьями, худшим из которых стало восстание паннонцев.
II. Восстание в Иллирике и аннексия Фракии,
6—69 гг. н. э.
Когда в б г. н. э. солдаты из племени десигнатов и из других паннонских народов были собраны вместе, чтобы отправиться в экспедицию против Маробода, они вместо этого решили обратить оружие против римлян (с. 214—217 насг. изд.). Под руководством десигната Батона и бревка Батона они напали на римские поселения, колонии на Адриатическом море и даже проникли в Македонию. Балканская армия и фракийская конница под командованием Реметалка спасли Сирмий в устье Савы, служивший ключом к Среднему Дунаю, а на западе иллирийская армия твердо удерживала Сисцию. В следующем году эта две армии ненадолго соединились друг с другом в Сисции и до 3 августа 8 г. н. э., когда паннонцы сдались на реке Батин (Босна?), вели совместные операции под командованием Тиберия. В следующем сезоне военных действий римляне атаковали паннонцев, обитавших между Савой и Адриатикой (в том числе десигнатов и пирустов), пока капитуляция Батона в Андетрии (Муч) возле Салоны на территории далматов не положила конец ужасной войне. Тиберий вернулся в Рим в начале 10 г. н. э., но вскоре был брошен на Рейн ввиду поражения Вара, и иллирийский триумф был отложен до 23 октября 12 г. н. э. Победа была отмечена императорскими аккламациями, триумфальными почестями для командующих армиями и возведением триумфальных арок в Иллирике, но всё это празднование не могло скрыть истинной цены «самой тяжелой из всех войн римлян с внешними врагами после Пунических», «для ведения которой пришлось содержать множество легионов, а добычи было взято совсем мало»16. Менее чем через два года после триумфа Тиберий снова оказался в Иллирике, хотя едва он успел прибыть туда, как известия о смертельной болезни Августа вынудили его спешно возвращаться назад в Италию.
Вероятно, ок. 9 г. н. э. Иллирик был разделен на провинции Паннония и Далмация, которыми в течение долгого времени после Паннонского восстания управляли старшие консуляры. Сражения стали тяжелым испытанием для верности легионов, и в конце концов после известия о смерти Августа (19 августа 14 г. н. э.) армия Паннонии взбунтовалась. Легионы требовали более щедрых наград за труды в недавних войнах и желали
16 Светоний. Тиберий. 16. [Пер. М.А Гаспарова); Дион Кассий. LVL16.4. [Пер. под ред. А.В. Махлаюка). Победа Тиберия, вероятно, изображена на «Августовой гемме», которая ныне хранится в Вене, см.: Bianchi Bandinelli 1970 (F 275): 195. Среди побежденных народов, изображенных в недавно раскопанном Себастее в Афродизиаде, были паннонские племена андизетов и пирустов; присутствуют здесь и другие дунайские народы, в том числе бессы, даки, дар даны и яподы, см.: Smith 1987 (F 580): 96.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
637
получить их немедленно. Даже Друз, сын Тиберия, прибывший на место событий, не сумел прекратить беспорядки, и лишь лунное затмение, случившееся ранним утром 27 сентября, подорвало боевой дух восставших, а затем перемена погоды затруднила их передвижения. Когда Друз вернулся в Рим, его восхваляли за решительные действия, хотя, как отмечает Тацит, уступки, которые Германик сделал мятежникам на Рейне, были распространены и на паннонскую армию17.
Через три года в центре внимания Друза, которому тогда было поручено управление Иллириком, оказались беспорядки у германцев-свебов, где подходило к концу долгое правление Маробода, вождя маркоманнов. Сперва в 17 г. н. э. последнему бросил вызов великий Арминий, а в следующем году он был изгнан своим родственником Катуальдой и удалился в изгнание в Равенну, где прожил восемнадцать лет. Сторонники Мародоба, как и Катуальды (который и сам вскоре был изгнан гермундурами и приговорен римлянами к отбытию ссылки в Форуме Юлия в Галлии), были расселены за Дунаем между реками Мар (Морава) и Куз (вероятно, Ваг) в южной Словакии. Здесь они стали подданными Ванния, который тридцать лет правил свебским племенем кв адов и на протяжении жизни целого поколения хранил мир с римлянами. Пожалуй, примерно тогда же римляне позволили сарматскому племени язигов занять равнины между Паннонией и Дакией, хотя в источниках их присутствие на этой территории впервые засвидетельствовано только в 50 г. н. э., когда они состояли на службе у Ванния (см. далее). 28 мая 20 г. н. э. Друз отпраздновал овацию, назначенную ему прошлым летом за принятие Маробода под римское покровительство и другие достижения. Теперь ничто не тревожило римский мир (pax romana) в дунайских землях, кроме возобновившейся вражды среди фракийцев18.
В «Скорбных элегиях» и «Письмах с Понта», сочиненных Овидием во время его девятилетней ссылки (9—17 гг. н. э.) в Томах, поэт описывает действия римских войск в дельте Дуная, то есть вне формальных границ римской территории (как их предположительно проводят исследователи). Жизнь там была тяжелой, и неподалеку постоянно присутствовали варвары. В стихотворении, написанном в 16 г. н. э., Овидий благодарит Флакка, императорского легата, за обеспечение лояльности мезийцев и сдерживание гетов. В 12 г. н. э. последние захватили крепость в Эгисе (Эгиссе; совр. Тулча) и вторглись на юг до самых Том. Против них выступила фракийская колонна, а вниз по реке отправилась римская экспедиция, чтобы вернуть крепость. Особую хвалу Овидий воздает старшему центуриону (Юлию) Весталису, выходцу из альпийского царского рода и, возможно, потомку царя Донна. В другом стихотворении описан похо¬
17 Тацит. Анналы. 1.16—30.
18 Тацит. Анналы. П. 44—46, 53, 62—63; Ш.2, 19, 56. Присутствие Друза на далматском острове Исса (Вис) в 20 г. н. э. упоминается в надписи, найденной там на площадке для упражнений, см.: ILIug 257. А. Мочи предполагает, что победа над сарматами в 7 г. н. э., которую Евсевий в пересказе Иеронима (Хроника: р. 170 Helm) приписывает Тиберию, была одержана в ходе расселения язигов, см.: Mocsy 1977 (Е 678): 439.
638
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
жий эпизод: упоминается крепость в Тресмии (Иглижа), с боем возвращенная легатом Флакком19. На юге Фракийское царство было разделено после смерти Реметалка (I) ок. 12 г. н. э., и борьба возобновилась. Когда умер Август, Котису (VJLLL), сыну последнего фракийского царя, получившему более престижный восток, стал угрожать его дядя Рескупорид (Ш), владевший более диким и отдаленным западом. В 18 г. н. э. Тиберий направил во Фракию предупреждение, но Котиса всё же схватили и убили; тогда его дядя был вызван в Рим, и Антония Трифена — вдова Котиса, среди предков которой были Митридат и Антоний, — предъявила ему обвинение перед сенатом. Рескупорида сослали в Александрию, где «он был убит, то ли при попытке к бегству, то ли по чьему-то навету». Царство досталось его сыну Реметалку (П) и детям убитого Котиса, регентом которых стал преторий Требеллен Руф. В связи с этим же делом сообщается, что влиятельный римлянин из Македонии был обвинен в изменнических связях с Рескупоридом, и его сослали на остров, «удаленный как от Македонии, так и от Фракии». В следующий раз римляне вмешались во фракийские дела в 21 г. н. э., когда Реметалк был осажден мятежными подданными в Филиппополе, а затем — в 26 г. н. э., когда требовалось подавить восстание в Гемских горах, вызванное набором в римскую армию. Эта кампания принесла римскому полководцу триумфальные отличия, а фракийский царь за свою службу, возможно, был награжден римским гражданством и титулом «гех». Правление Реметалка (П), очевидно, закончилось к тому времени, когда Калигула вернул отцовское наследство Реметалку (Ш), сыну Котиса (\ТП) и Антонии Трифены, утвердив его на фракийском престоле. Тесные связи и дальнее родство нового царя с императором прославлялись в посвятительных надписях в Кизике, на противоположном по отношению к Фракии берегу Геллеспонта, где семья Котиса проживала после его смерти в 19 г. н. э.20.
В 44 г. н. э. объединенная балканская провинция Мёзия, Македония и Ахайя, учрежденная в начале правления Тиберия, была разделена. Две последние области вернулись под власть проконсулов, назначавшихся сенатом, а Мёзия формально стала провинцией под управлением легата- консуляра21. Эта реформа, видимо, явилась следствием аннексии Фракии после убийства Реметалка (Ш). Присоединение царства осуществил Авл Дидий Галл, первый наместник Мёзии; он столкнулся с довольно сильным сопротивлением, потребовавшим присутствия легионов. Дидий Галл вел операции и в Крыму — располагавшееся там Боспорское царство имело давние связи с Фракией. В первый год своего правления Клавдий отменил решение Калигулы о передаче Боспора понтийскому царю Поле- мону, сыну Антонии Трифены, и в качестве правителя утвердил Митри- дата, пасынка Гепепириды, вдовы царя Аспурга (последний умер ок. 37/
19 Овидий. Письма с Понта. 1.8; TV.7. О Весгалисе см.: PIR2 J 621.
20 Тацит. Анналы. 11.64—67 (падение Рескупорида); ΠΙ.38—39 (события 21 г. н. э.); IV.47—51 (события 26 г. н. э.). Надписи в Кизике: IGRR IV 145—146, 147 (Кизик); см. о них: Sullivan 1979 (Е 698): 200-204.
21 Светоний. Божественный Клавдий. 25; Дион Кассий. LX.24.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
639
38 г. н. э.). Новый царь повел слишком агрессивную политику, и в результате экспедиция Дидия Галла низложила Митридата и водворила на бос- порском престоле его сводного брата Котиса, чеканка которого начинается в 45/46 г. н. э. (342 г. местной эры). Попытку Митридата вернуть свое царство отразил римский префект, командовавший на Боспоре несколькими вспомогательными когортами, при помощи сарматского племени аорсов, которое кочевало по равнинам между Танаисом (Дон) и Каспийским морем. Низложенный царь был приговорен к отбыванию ссылки в Италии, а позднее Гальба казнил его по подозрению в заговоре. Хотя мё- зийская армия принимала участие в этих событиях, представляется, что на Боспоре интересы Рима определялись в малоазийском Понте, а не на Нижнем Дунае22.
События в Паннонии и Далмации после 9 г. н. э. выглядят как полная противоположность событиям в Мёзии и Фракии. Рим теперь надежно контролировал Дунай, и о волнениях паннонцев ничего не сообщается. В правление Тиберия наместниками Паннонии и Далмации были старшие консуляры, необычайно долгое время сохранявшие за собой должности. Полномочия балканского наместника (т. е. легата пропретора Македонии, Ахайи и Мёзии. — О. Л) Гая Поппея Сабина продолжались двадцать три года и окончились только с его смертью, а его преемник Мем- мий Регул оставался в провинции десять лет. Луций Мунаций Планк управлял Паннонией семнадцать лет; в Далмации в правление Тиберия было всего два наместника: до 20 г. н. э. — Публий Корнелий Долабелла, а затем — Луций Волузий Сатурнин. О прочности римского контроля над этой территорией свидетельствует тот факт, что в 20—24 гг. н. э. один легион был переброшен из Паннонии в Африку для войны против Такфа- рината, а в 43 г. тот же IX Испанский легион был окончательно, уже без замены, вьюеден из провинции для экспедиции в Британию. Попытка мятежа, предпринятая наместником Далмации в 42 г. н. э., окончилась спустя пять дней, когда легионы (УП и XI) вновь заявили о верности правительству, а благодарный Клавдий наградил их титулами «Клавдиев Верный и Преданный» («Claudia pia fidelis»)23. Кроме этого, единственным важным событием в данной области стало падение Ванния, долгое правление которого над задунайскими свебами (см. выше) пресекла гражданская война. В 50 г. н. э. римское правительство отказало в помощи недовольным, но предложило Ваннию убежище, римскому же наместнику было приказано — «для оказания помощи побежденным и устрашения победителей» — защитить берег Дуная с помощью легионов и вспомогательных войск. Конница царя, состоявшая из сарматов-язигав, ввязалась в сражение с лугиями и была разбита, но римский флот спас царя, а его сторонников римляне поселили в Паннонии. Царство было разделено
22 Тацит. Анналы. ХП.15—21; cp.: Gajdukevic 1971 (Е 664): 338. Эта война называлась Митридатовой («bellum Mithridaticum»); см.: ILS 9197 (Таррацина).
23 Мятеж поднял Луций Аррунций Камилл Скрибониан, см.: Светоний. Божественный Клавдий. 13.2; Дион Кассий. LX.15.1—2. О титулах легионов см.: Wilkes 1969 (Е 706): 96.
640
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
между его племянниками Сидоном и Италиком; «подданные <...> питали к ним, пока они добивались владычества, пламенную любовь и, после того как они добились его, еще большую ненависть» [Пер. А. С. Бобовича)24. Римляне внимательно следили за династической борьбой у своих сосе- дей-германцев, поскольку понимали, что разрешение этих проблем позволит поддерживать мир и стабильность на протяжении жизни целого поколения.
В середине и второй половине правления Нерона на Нижнем Дунае начали сгущаться тучи. В надписи с необычайно подробным отчетом о деятельности наместника Мёзии примерно в это время сообщается, что «он перевел [в Мёзию] в качестве данников более ста тысяч задунайских жителей с их женами, детьми и царями. Он подавил поднявшееся среди сарматов волнение, хотя большая часть войска была им отослана в экспедицию в Армению. Ранее неизвестных или враждебных Риму царей он заставил впредь поклоняться римским знаменам на охраняемом им побережье. Царям басгарнов и роксоланов он отослал сыновей их братьев- даков, захваченных в плен или вырванных из рук врагов; от некоторых из них он принял заложников, чем укрепил и продлил мир в провинции». Этот наместник действовал еще и в Крыму: «Он заставил также скифского царя снять осаду с Херсонеса (возле Севастополя), который находится за Борисфеном (Днепр)». Наконец, «он первый из этой провинции облегчил снабжение римского народа хлебом, доставив большое количество пшеницы». За эти свершения Тиберий Плавций Сильван Элиан получил триумфальные отличия лишь спустя много лет, в правление Веспасиана; впрочем, они сопровождались знаками особого почета. Более того, к этому времени римляне потерпели на Нижнем Дунае несколько поражений, и на этом фоне достижения Плавция, вероятно, стали выглядеть более внушительно, хотя в основном они, видимо, сводились к дипломатическим визитам25.
Источники сообщают, что в последние годы жизни Нерон строил планы, связанные с Черным морем и включавшие аннексию Боспора и Понта и набор нового легиона для экспедиции на Кавказ; возможно, это была реакция на усиление угрозы со стороны сарматов и других иранских народов. Восстание в Империи положило конец этим планам, и, когда сарматы предприняли свою атаку, римский мир уже погружался в гражданскую войну. Зимой 67/68 г. н. э. роксоланы уничтожили две вспомогательные когорты, а следующей зимой перешли Дунай и вторглись в Мёзию. Но сарматские конники лишились своих преимуществ из-за неожиданной оттепели и были атакованы легионом и его вспомогательными частями; к 1 марта 69 г. н. э. в Рим пришло известие о победе, за которую император
24 Тацит. Анналы. ХП.29—30.
25 ILS 986 (Тибур). (Пер. цит. по изд.: Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко (М., 1962): 346. — О.Л.) Об этих событиях см.: Pippidi 1962 (Е 685): 106—132; исправленное издание см.: Pippidi 1967 (Е 686): 287—348.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
641
Отон щедро наградил всех, кто внес в нее вклад26. Позднее, в этом же году, варвары вновь напали на провинцию, оставшуюся почти без армии, и опасности подверглись даже базы легионов, пока очень кстати не появился Муциан с восточными легионами, направлявшимися в Италию. VI Железный легион был откомандирован, чтобы расправиться с захватчиками, — это были скорее сарматы, нежели даки, ибо позднее Муциан получил триумфальные почести за победу именно над сарматами27. Следующей зимой, когда Мёзия, видимо, была еще дезорганизована после гражданской войны, сарматы явились снова, убили наместника и прошли через всю провинцию, от начала и до конца. Новый наместник сумел изгнать лишь горстку отставших28. После этого Рим полностью реорганизовал оборонительную систему Мёзии, что положило начало новой эпохе в истории римского Дуная.
III. Дунайские народы
В течение жизни одного-двух поколений к Римской империи были присоединены обширные дунайские земли, включавшие северную часть Балканского полуострова. Рим обрел контроль над Дунаем, покорив паннон- цев, а затем расширил его, аннексировав Фракию; это позволило Риму окружить и сделать безопасными горные цепи, местами вздымающиеся на 2,5 тыс. метров и более, и густые леса, покрывавшие большую часть Балкан. На востоке этой территории бассейн Нижнего Дуная ограничен полукруглой грядой гор, образованной южными Карпатами и Балканскими горами, через которую река пробивает себе дорогу с Венгерской равнины, где некогда располагалось великое внутреннее море. В западной части этих земель холмистая равнина Паннонии, простирающаяся к западу от Дуная, ограничена с юга реками Драва и Сава. Южнее Динарский водораздел и несколько горных цепей тянутся в основном с северо-запада на юго-восток, параллельно Адриатическому побережью, и далее на юг, через Черногорию, Албанию и горы Пинд в Греции. На юго-востоке господствует массив Родопских гор, которые занимают центр Балканского полуострова, а их отроги уходят в направлении Черного и Эгейского морей. Связь со всеми этими землями и их населением, а также контроль над ними Рим мог установить только с Дуная, по его главным притокам.
Длина этой крупнейшей в Европе реки составляет 2,8 тыс. км — от Черного леса (Шварцвальд) до Черного моря. С римской эпохи Дунай редко становился государственной границей — только в наши дни он стал рубежом между Болгарией и Румынией28*. Эту роль чаще играли некото¬
26 Тацит. История. 1.79. В этот день арвальские братья совершили в честь победы жертвоприношение на Капитолии, см.: MW: р. 13.
27 Тацит. История. Ш.46; cp.: IV.4.
28 Тацит. История. Ш.46.3; Иосиф Флавий. Иудейская война. VTL4.3.
28а В настоящее время по Дунаю проходят также границы между Словакией и Венгрией, Сербией и Хорватией, Сербией и Румынией. — О.Л
642
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
рые его крупные притоки, тогда как великая река, скорее, служила дорогой через Европу. В верхнем и нижнем бассейнах Дуная, ограниченных Альпами, Карпатами и Балканскими горами, южный берег, как правило, более высокий, а в некоторых местах, где цепи низких холмов подходят прямо к реке, — скалистый. Северный берег обычно более низкий, болотистый и труднодоступный — исключая сезон с января по март, когда и болота, и реку сковывает лед. Ниже Белграда сообщение между верхним и нижним бассейнами затрудняют ущелья длиной около 130 км, образованные южными отрогами Карпатских гор. Быстрое течение, скалы и водовороты создают такую преграду, что в античности верхнее и нижнее течения Дуная воспринимались практически как разные реки. Нижнее ущелье (Доня Клисура), где река сужается до 150 м в теснине Казан, более труднопроходимо, чем верхнее (Горня Клисура). Еще ниже по течению, в пяти километрах от Нижнего ущелья, расположен грандиозный тектонический барьер Железные Ворота (Преграда), где скальная стена перегораживает русло реки и препятствует всякому сообщению. Эту пятикилометровую теснину, сквозь которую бурлящая река пробивается через отмели и пороги, в конце концов удалось обойти с помощью канала, построенного в первый год вторжения Траяна в Дакию;29 в конце ХЕК в. это предприятие повторили австро-венгерские инженеры. Когда в 9 г. н. э. в Риме было принято решение сохранить контроль над Дунаем, это означало присоединение оккупированных великих равнин вдоль Верхнего и Среднего Дуная на постоянной основе. Позднее, когда река превратилась в укрепленную оборонительную линию, именно низменности Паннонии и Мёзии оказались особенно уязвимыми для неожиданных вторжений из-за пределов Империи, особенно когда река покрывалась льдом.
В эпоху римского завоевания коренные жители дунайских земель делились на четыре группы, и все они говорили на языках, принадлежавших к индоевропейской семье30. На северо-западе жили кельты, на западе — иллирийцы, а на востоке — даки (к северу от Дуная) и фракийцы (к югу от него). Краткие сообщения античных источников об их социальной организации и материальной культуре можно дополнить эпиграфическими и археологическими находками. Основным материалом для исследований личных имен, структуры семьи и других социальных групп служат надписи римского времени. Фракийцы считались древнейшей стратой населения и, судя по всему, некогда населяли западные земли до самой Адриатики, хотя в исторические времена границами их земель являлись Нижний Дунай, побережье Черного и Эгейского морей и, на западе, река Стримон.
На западе фракийских земель обитали дентелеты и меды — в долине Стримона, а также грозные бессы — на западной равнине и в Родопских горах. На более плодородном и спокойном востоке жили асты и одри-
29 Sasel 1973 (Е 692).
30 Polome 1982 (Е 687).
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
643
сы — племена, из которых вышли правящие династии Фракии. К северу от гор Гем (Стара Планина) обитали мезийцы и трибаллы, состоявшие в союзе друг с другом, а к востоку от реки Ут — геты Добруджи, родственные дакам. Фракийцы проживали в укрепленных селениях и в крепостях на холмах. В прежние времена они импортировали изящно украшенные металлические предметы и керамику и в больших количествах погребали их в курганных захоронениях (tumuli): таких гробниц описано более 15 тыс. Македонское правление в IV в. до н. э. позволило фракийцам познакомиться с городской жизнью, но предвещало общий упадок материального благосостояния, который позднее углублялся по мере того, как эллинистические цари наперебой эксплуатировали фракийские земли31.
К западу от фракийцев жили иллирийцы, земли которых в целом ограничивались долиной Моравы в центре Балканского полуострова. Некогда так назывались просто непосредственные соседи Эпира и Македонии, но позднее в число иллирийцев стали включать далматов, либурнов, яподов, паннонцев и другие племена. Эпитафии римского времени, найденные в Албании, Югославии и Венгрии, позволяют идентифицировать среди иллирийцев отдельные группы, прежде всего «иллирийцев в узком смысле» (как описывает их Плиний Старший), проживавших на севере Албании, далматов и родственные им племена на Средней Адриатике, паннонцев в Боснии и долинах Савы и Дравы, яподов и либурнов вдоль северного побережья Адриатики32.
«Даки и геты говорят на одном языке», — отмечал Страбон33. Некоторые античные авторы явно путали эти два народа, пока в I в. до н. э. не возникло дакийское царство Буребисты, достигшее господства в дунайских землях. На западе были сломлены некогда могущественные кельтские племена бойев и таврисков, а на востоке под влияние даков попали черноморские города от Ольвии до Аполлонии. Сообщается, что диктатор Цезарь планировал поход в Дакию, однако вскоре после смерти Буребисты, убитого примерно тогда же, когда и Цезарь, дакийское царство распалось и было поделено между четырьмя или пятью правителями. Материальная культура даков превосходила культуры всех остальных дунайских народов, так как кельтское влияние стимулировало природный талант к обработке металлов у жителей земли, исключительно богатой минералами. Они уже давно были знакомы с импортными товарами из эллинистического и римского мира — ювелирными изделиями, керамикой, вином и маслом, — и, обмениваясь с этим миром, даки, вероятно, вели широкомасштабную работорговлю, вследствие чего в середине I в. до н. э. в их земли поступило множество римских монет34.
Кельтские народы переселились в бассейн Среднего Дуная в IV в. до н. э. Вскоре они вступили в конфликт с иллирийцами и в начале Ш в. до
31 Hoddinott 1981 (Е 670).
32 Alföldy 1964 (Е 647); Garasanin 1982 (Е 665): 586-587, 598-610.
33 Страбон. УП.3.13 (305С).
34 Cri§an 1978 (E 656); Crawford 1985 (В 320): 227-235.
Карта 72. География и коренные народы дунайских провинций
646
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
н. э. достигли южных Балкан, а в 279 г. до н. э. прославились тем, что чуть не уничтожили Македонское царство. Позднее они рассеялись: некоторые группы перебрались в Азию, а другие вернулись на север в поселения на Дунае35. Потомками кельтских переселенцев были скордиски в низовьях Савы, господствовавшие на Средних Балканах в конце П — начале I в. до н. э. О существовании кельтских поселений на Нижнем Дунае свидетельствуют топонимы, имеющие несомненно кельтское происхождение: Рациария, Дуростор и Новиодун. Кельты по-прежнему преобладали на Среднем Дунае, в Норике и Паннонии, где между землями бойев и эрависков располагалась территория иллирийского племени азалов, которое, возможно, было переселено сюда во время Паннонской войны 14г- 9 гг. до н. э. В целом, на западе Балканского полуострова кельтское влияние ощущалось довольно сильно, прежде всего в оружейном производстве и вообще в обработке металлов. Комментарий Страбона по поводу яподов свидетельствует о характере этого влияния: «Вооружение у них кельтское; подобно прочим иллирийцам и фракийцам, они применяют татуировку» [Пер. Г.А. Стратановского)36.
Об экономике, социальной организации и материальной культуре большинства дунайских народов известно не слишком много, хотя сегодня необходимо внести некоторые коррективы в нелестные стереотипы античных источников: «незнакомство» с сельским хозяйством и виноградарством, «неумеренность» в винопитии, сексуальная распущенность, «нецивилизованное поведение» по отношению друг к другу и к иноземцам. Для некоторых областей имеется чуть больше сведений о планировке и общем характере поселений. На юге, у иллирийцев, сказывалось греческое влияние — в укрепленных поселениях Иллирийского царства, в Лис- се, Скодре и в других местах37. В главном городе иллирийского племени даорсов, в Ошаничах возле Столаца, имелись стены и башни, похожие на греческие38. На побережье Адриатики к югу от Истрии найдены остатки множества укрепленных поселений на холмах, так называемых истрий- ских castellieri и далматских gradina. В области далматов поселение риди- тов в Данило рядом с Шибеником прославилось обилием латинских надписей с упоминанием местных имен, и многие из этих памятников были изготовлены, видимо, еще до основания здесь муниципия в правление Флавиев39. Немало поселений такого типа сохранялось и в римский период, и в них властвовали местные семьи, представители которых часто именуют себя «главами крепости» («princeps castelli»)40.
В области яподов в северной Лике идентифицировано и раскопано несколько поселений на холмах, атакованных римлянами в 35 г. до н. э.,
35 Papazoglu 1978 (Е 681): 272-278.
36 Страбон. VII.5.4 (314—315С); Дионисий Галикарнасский (Фр. 16) называет их кельтским народом.
37 Iliria II: La Ville Illyrienne (Tirana, 1972): 239—268 (Лисе).
38 Marie 1977 (E 673).
39 Alföldy 1968 (E 650): 1213-1214.
40 Hanp.: ILIug 1852—1853.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
647
прежде всего Монеций, Авендон и Арупий; восточнее, в долине Уны вокруг Бихача, исследуются некоторые крупные кладбища, где преобладают кремационные захоронения. В состав погребального инвентаря здесь входят традиционные типы керамики, оружия, брошей и украшений, датируемые периодом с начала железного века до римского времени. Уникальными для этой территории находками стали около дюжины каменных урн для праха (что предполагает некоторое этрусское или италийское влияние), на которых вырезаны украшения: воины, всадники, погребальные процессии и танцоры, причем стиль этой работы почти не испытал классического влияния, хотя некоторые из урн несомненно датируются римским временем, поскольку на них присутствуют латинские эпитафии41. Влияние контактов с другими народами, завязанных благодаря мореплаванию, сказывается также в материальной культуре либурнов, особенно на обширных кладбищах, раскопанных вокруг Задара и Нина. В либурнском поселении в Радовине имелись каменные дома с правильной планировкой, импортная греческая и эллинистическая керамика, позднее — оборонительные сооружения, скрепленные известковым раствором; это место оставалось заселено на протяжении всего римского периода42. Несколько более крупных либурнских поселений на холмах превратилось в римские города, когда в правление Юлиев—Клавдиев в них были учреждены городские институты.
В дунайских землях территории воинственных кельтов идентифицируются по укрепленным поселениям (oppida) и по кладбищам, на которых обнаруживаются металлическое оружие, шлемы, доспехи и украшения, часто превосходного качества. В Толмине в Словении были обнаружены фундаменты доримских домов из тесаного камня43. На вершине горы Магдаленсберг в Каринтии находилась крепость (oppidum), построенная ок. 100 г. до н. э., с двойным валом, облицованным камнем (mums duplex)44. Крепость эрависков в Паннонии стояла на холме Геллерт, над Дунаем (под Будапештом), и в римское время еще долго оставалась заселенной, причем поселение постепенно спускалось вниз по склонам, к реке. Отсюда расходились — возможно, вплоть до правления Августа — эрависские «денарии», имитировавшие римские выпуски45. В Дакии недавние раскопки во многом прояснили историю и характер цитаделей в горах Орэштие в юго-западной Трансильвании, где располагались столицы царств Буребисты и Децебала. Самой ранней из этих крепостей, видимо, была Косгешты, которая занимала холм (высотой 561 м), господствовавший над устьем реки Апа к северу от гор. Другие цитадели (Блидарул, Вырфул-луй-Хулпе, Пьятра Рошие, Банита и Кэпылна) тоже, возможно, были построены не позднее конца I в. до н. э., если не в правление Буре-
41 Stipcevic 1977 (Е 696): 207-214.
42 Batovic 1968 (Е 653); Batovic 1973 (Е 654).
43 Svoljsak 1976 (Е 699).
44 Piccotoni, Vetters 1981 (E 684): 10—17.
45 Möcsy 1974 (E 677): 56; указанную датировку Кроуфорд считает слишком поздней, см.: Crawford 1985 (В 320): 236, примеч. 59.
648
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
бисгы. В центре этой территории находится огромный комплекс Грэдиш- тя Мунсел, который состоит из обширной крепости и большого храма и был идентифицирован как дакийская столица Сармизегетуза. Большинство здешних находок датируется эпохой Децебала, примерно 80—105 гг. н. э., но уже при Буребисте здесь существовал обширный культовый участок, где отдельные святилища состояли из рядов деревянных колонн на круглых андезитовых базах и изображали собой рощи, в которых вешали подношения богам46.
IV. Провинции и армии
К началу правления Клавдия на дунайских землях было учреждено пять провинций. Наибольшее значение имели три крупных командования — Паннония, Далмация и Мёзия, каждое из которых было поручено легату консульского ранга; в общей сложности здесь стояло семь легионов и равные им по численности вспомогательные войска47. На северо-западе и юго- востоке находились менее крупные провинции Норик и Фракия, где некогда правили местные династии, а теперь — наместники-прокураторы.
Норик лежал по обе стороны Тауэрнских Альп в Нижней Австрии, между верховьями Дравы и Дунаем, а его западной границей служила река Инн48. Хотя в некоторых местах узкие теснины затрудняют там путешествие, несколько широких долин вполне гостеприимны для поселений — прежде всего долина Драу (Дравы) и равнина Цолльфельд вокруг современного Клагенфурта, долина Мура в области города Граца и, к северу от водораздела, долина Трауна вокруг города Вельса. Главная дорога из Италии в Норик пересекала седловину Сайфниц (высота 812 м), шла в Каринтию и далее на север к Дунаю через Ноймаркт, Овилаву (Вельс) и Лавриак. Ответвление этой дороги, проходившее через перевал Бреннер, вело в Норик с запада через области Айсакталь и Пусгерталь, а дорога с юга пересекала хребет Караванке через перевал Лойбль (Дюбель). Маршруты через долины Мура и Дравы вели к главной Паннонской дороге, в Петовион (Птуй) на Драве. Хотя сезонный маршрут пересекал
46 Daicoviciu 1972 (Е 658): 127-199.
47 Датировка раздела Иллирика на Паннонию и Далмацию по-прежнему представляет проблему; недавно ее рассмотрел Фиц, см.: Fitz 1988 (Е 663) (по его предположению, это 19/20 г. н. э.). Сегодня следует отказаться от мнения, что в результате раздела Иллирика в 8 или 9 г. н. э. возникли две провинции: Верхний Иллирик (Далмация) и Нижний Иллирик (Паннония), поскольку это мнение основано на сомнительной рукописной передаче надписи CIL Ш 1741 (Эпидавр), которая сохранилась лишь фрагментарно (имеется в виду посвящение Корнелию Долабелле, легату в начале правления Тиберия, поставленное «общинами верхней провинции Иллирик» («civitates superioris provinciae Hillyrici»); см.: Novak 1966 (E 680)). Далмация впервые упоминается в надписи на памятнике, воздвигнутом в Риме, вероятно, в правление Клавдия [АЕ 1913: 194), но топоним «Иллирик» (видимо, в значении «Паннония») еще встречается в официальных документах в 60 г. н. э., см.: CIL XVI 4.
48 Alföldy 1974 (Е 652): 7-13.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
649
Высокий Тауэрн через Хохтор (высота 2500 км), главный путь через горы проходил между Теурнией и Ювавом (Зальцбург) через перевалы Кач- берг (Ин Альпе, высота 1740 м), Радиггадт и Люг. К северу от гор главная дорога с запада на восток вела через Ював, Овилаву, Лавриак и Цетий в Виндобону (Вену), через границу Паннонии.
Граница между Нориком и Паннонией проходила по подножию восточных склонов Альп, так что в состав Паннонии попадала территория, которая некогда считалась частью Норика, в том числе почти вся Паннон- ская дорога (часть «Янтарной дороги» доисторических времен) между Аквилеей и Дунаем, проходившая через Эмону, Целею, Петовион, Сава- рию и Карнунт. Граница между Паннонией и Далмацией вдоль южного края долины Савы, вероятно, была установлена после стратегического раздела командования в Иллирике, произошедшего вслед за капитуляцией паннонцев в конце лета 8 г. н. э.49. Северные и восточные пределы Паннонии отмечало русло Дуная, протянувшееся через Венгерские равнины, между Виндобоной и Сингидуном (Белградом), где возле устья Савы уже начиналась Мёзия. Паннонские земли к северу и югу от Дравы различались между собой по характеру местности, климату и материальной культуре. Северная Паннония во многом являлась продолжением Великой Венгерской равнины, причем несколько более благодатные области располагались возле озера Балатон, в холмах Баконь ближе к излучине Дуная и вокруг Печа на юго-востоке. На юге сухопутные маршруты, связывавшие Италию с Балканами, ответвлялись от Паннонской дороги в Эмоне и Петовионе и шли через широкие и плодородные долины Савы и Дравы. Далее к северу две главные дороги через северную Паннонию вели из Петовиона в Аквинк (Будапешт) через Балатон и из Саварии вдоль Арабона (Раба) в Аррабону (Дьёр). Дороги вдоль берега Дуная в Норике и Паннонии тогда не существовало.
Почти вся южная граница Мёзии проходила по северным предгорьям Гема50. Хотя при Тиберии мезийские легионы построили дорогу по берегу Дуная, по крайней мере через верхнюю часть его теснины51, для этого периода нет свидетельств существования единого маршрута вдоль Дуная между Рациарией (Арчар) и Эгиссом, расположенным в вершине дельты. Самый прямой путь с юга в центр провинции Мёзия и Трибаллия, то есть в область вокруг Рациарии и Эска, проходил по долине Стримона (Струмы) в Сердику и далее, по долине Искура, в Эск. Более длинная и трудная дорога шла вдоль рек Аксий (Вардар) и Марг (Морава) через Скупы и Наисс, а затем — вдоль Тимака (Тимок) к Дунаю и Рациарии.
Хотя до конца I в. н. э. Далмация была «безоружной провинцией», огромные пространства здесь покрывали леса и горы, и в период завоева¬
49 Mocsy 1974 (Е 677): 33—34. Душанич предполагает, чгго граница между Паннонией и Далмацией проходила южнее, см.: Dusanic 1977 (Е 661): 64-66.
50 Gerov 1979 (Е 668).
51 ILIug 57, 60 (33/34 г. н. э.).
650
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ния Августу пришлось вести здесь тяжелую борьбу52. На юге безводный и пустынный известняковый карстовый ландшафт контрастирует с побережьем и островами, почти целиком покрытыми зеленой средиземноморской растительностью. От Юлиевых Альп на севере до долины Дрина на юге пути во внутренние области одинаково затруднены. За водоразделом Динарских горных цепей боснийские реки текут на север в Саву: если перечислять их с востока на запад, это Глина, Колапис (Кульпа), Уна, Сана, Врбас, Босна и Дрина. В правление Юлиев—Клавдиев в этой местности не обнаруживается никаких следов римского влияния, хотя римские войска не раз пересекали ее, когда по суше были проложены военные дороги.
Провинциальная администрация дунайских земель при Юлиях—Клавдиях была в основном ориентирована на военные цели: завоевание, замирение и эксплуатацию местных народов и обеспечение безопасности и снабжения оккупационных армий. До 27 г. до н. э. Иллириком и Македонией (включавшей также Ахайю) управляли проконсулы, назначавшиеся из числа преториев или консуляров. После 27 г. до н. э. Македония, в том числе Эпир и Фессалия, и Ахайя стали разными провинциями, каждой из которых управлял проконсул из числа преториев; их резиденциями служили, как правило, Фессалоника и Коринф соответственно. Северной границей Иллирика, еще одной проконсульской провинции, возможно, служила река Тит (Крка), так что Либурния по-прежнему относилась к Исгрии и Транспаданской Галлии. Даже позднее, когда Либурния стала частью Далмации, там сохранялась собственная организация императорского культа53.
Что касается административного устройства во Фракии, Македонии и Мёзии, то в настоящей работе принимается концепция, согласно которой после нескольких фракийских кризисов была учреждена новая балканская провинция, к которой были приписаны македонские легионы; вероятно, ок. 19/18 г. до н. э. она была поручена Марку Лоллию (см. выше, с. 633—634 насг. изд.) и получила название «Фракия и Македония» (Thracia Macedoniaque). Можно предположить, пусть даже у нас и нет доказательств, что впоследствии Македония вернулась под управление проконсулов, хотя они более не имели неограниченной военной власти. В 15 г. н. э. Македония и Ахайя, испытавшие многие тяготы в ходе недавних войн, были присоединены к балканской провинции императора, называвшейся к этому времени Мёзия, или Мёзия и Трибаллия, чтобы содействовать их восстановлению от последствий этих войн. Такое устройство сохранялось до 44 г. н. э., когда Мёзия стала отдельной провинцией, а Маке¬
52 Wilkes 1969 (Е 706): xxi-xxvn.
53 CIL Ш 2810 (Скардона): «sacer(dos) ad aram Lib<bum(iae)>» («жрец у алтаря Либур- нии». — О.Л.), ср. с посвящением Нерону, сыну Германика (ум. 31 г. н. э.): Ш 2802 с 9877 (надпись утрачена и опубликована повторно, см.: АЕ 1938, 68). Центр провинциального культа в Далмации находился сперва в Эпидавре (CIL Ш 1741), а позднее — в Доклее (CIL Ш 12695, ср.: с. 2253).
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
651
дония и Ахайя были возвращены под власть проконсулов54. Управление недавно присоединенной Фракией было поручено прокуратору — для бывших зависимых царств Клавдий явно считал предпочтительной именно эту форму администрации. Римский наместник проживал на побережье, в Перинфе, а не в бывшей столице Визе, расположенной во внутренних землях, но существовавшее при царях разделение на административные районы сохранялось. Херсонес Фракийский (Галлиполи), с 12 г. до н. э. являвшийся собственностью императора, по-прежнему имел особую администрацию, тогда как Византий был включен в азиатскую провинцию Вифиния. Вскоре после аннексии Фракии этот город в награду за свой вклад в римскую военную мощь добился освобождения от налогов. Такой же режим управления был введен и в Норике; администрация тамошнего прокуратора находилась в новом городе Вирун в Цолльфельде55.
В некоторых землях за завоеванием следовало строительство новых дорог через горы и леса, как это обычно происходило у римлян. Сооружение Клавдиевой Августовой дороги через Восточные Альпы по перевалу Резня было завершено при Клавдии56, и, вероятно, примерно тогда же были проложены дороги через Альпы в Норик. В Далмации к 20 г. н. э. было построено по меньшей мере пять больших дорог, расходившихся из Салоны во всех направлениях57. В Паннонии в 14 г. н. э. велось строительство дороги через Юлиевы Альпы из Аквилеи в Эмону58. В Мёзии дорога по берегу Дуная через его верхнюю теснину была проложена к 33/34 г. н. э. и отремонтирована при Клавдии, а в дальнейшем, несомненно, и еще несколько раз (учитывая состояние реки во время весеннего ледохода, это было необходимо)59. Во Фракии первые прокураторы построили охранные посты на главных дорогах, ведущих через Гем к мёзийским легионам на Дунае60. Организованное строительство оборонительных стен в римских колониях тоже указывает на то, что эти новые поселения носили, в сущности, военный характер (см. далее).
Только в колониях римских граждан на юге Либурнии засвидетельствована более гражданская администрация. При наместнике Корнелии Долабелле было завершено землемерное обследование этого региона (for-
54 Веллей Патеркул. П. 101.3; Тацит. Анналы. 1.80; Дион Кассий. LV.29.3; ILS 1349. Следует отметить, что источники по истории Мёзии до правления Клавдия неполны и порой содержат анахронизмы.
АЕ 1957, 23 — это надпись, в которой тридцать три стратегии (strategiae) чествуют прокуратора; Тацит. Анналы. ХП.61—63 (обращение Византия в 53 г. н. э.).
56 ILS 208.
57 CIL Ш 3198—3201, 10156—10159; Wilkes 1969 (Е 706): 452-^55 (чтение надписей — на основании: Alföldy 1964 (Е 648): 247). Дорога через Бурн в долину Савы была достроена в 47 г. н. э., см.: CIL Ш 13329 сл. О «военных дорогах» («viae militares») в дунайских землях см.: Sasel J. Studien zu den Militärgrenzen Roms II (Köln, 1977): 235—244.
58 Тацит. Анналы. 1.20.
59 ILIug 56, 55, 58. Фотографию одной из надписей времен Тиберия см. в работе: Swo- boda 1939 (E 701): ил. V.
60 ILS 231 и р. CLXX (CIL Ш 6123, ср. с. 1059 = 1420734); АЕ 1912, 193 - здесь засвидетельствованы работы, проводившиеся в 61 г. н. э. при прокураторе Тите Юлии Усте.
652
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
та Dolabelliana), определившее границы и права собственников в таких вопросах, как водоснабжение. Видимо, вскоре возникло много споров, потребовавших внимания наместника. Практическое исполнение его решений обычно возлагалось на старшего центуриона, который должен был следить за размещением межевых знаков в нужных местах61.
После победы Рима над Митридатом Понтийским греческие города вдоль фракийского побережья Черного моря постепенно подпали под римское влияние, и известно, что один из них, Каллатис, вступил в официальный союз с Римом. На протяжении нескольких веков города Доб- руджи, главным из которых была Истрия, эксплуатировали ресурсы дельты Дуная и вели выгодную торговлю с народами внутренних земель. Пять прибрежных городов к югу от дельты — Истрия, Томы, Каллатис, Дионисополь и Одесс — вместе составляли Пятиградье Левого Понта. До принципата Нерона здесь чеканились общие монеты для местного обращения; Пятиградье было включено в провинцию Мёзия. В Томах периодически проводились собрания под руководством понтарха для отправления религиозных обрядов и решения общезначимых вопросов. Этот город занял место Истрии в качестве главного регионального порта, и со времен Августа здесь стояла флотилия под командованием «префектов морского побережья»62. Последние являлись проводниками римской власти и служили посредниками между городами и центральной властью. Когда Овидий жил в изгнании в Томах, замерзание Дуная между январем и мартом грозило вторжением варваров с другого берега, но поэт описывает и мирный зимний переход громыхающих повозок язигов и других сарматов по недавно построенному мосту через реку. Когда городам Добруджи угрожали геты, их жители ожидали защиты от Рима, хотя, как мы уже видели, она обычно приходила уже после того, как ущерб был нанесен. Овидий подчеркивает, что его собственная безопасность зависит от римского полководца и его легионов, и, несомненно, поэт искренне так считал и даже соорудил свое частное святилище императорской семьи, чтобы хоть отчасти избавиться от чувства незащищенности. Севернее, в Истрии, при жизни Августа был построен или отремонтирован храм в его честь, что свидетельствует об упрочении связей между Римом и этим регионом еще до того, как он был формально включен в провинцию Мёзия63.
Некоторые сведения о жизни этих городов после учреждения в них при Клавдии прямого правления дает документ, вырезанный по меньшей мере в двух копиях и определяющий границы и экономические привилегии Истрии в начале правления Траяна; к этому документу приложены письма, адресованные городу прежними наместниками. Когда нижнедунайские земли были обложены римскими налогами, фракийское побережье (Ripa Thraciae) стало особым округом налоговой провинции Илли-
61 Wilkes 1969 (Е 706): 456-^59; Wilkes 1974 (Е 707).
62 Danoff 1938 (Е 659) (ГЪгшградье); Vulpe, Bamea 1968 (E 704): 66. Стены Одесса (Варна) были отремонтированы при Тиберии, см.: IGBuh F 57.
63 ISM I No 146.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
653
рик. Видимо, ревностные сборщики налогов посягали на традиционные привилегии Исгрии в дельте Дуная, включавшие заготовку сосновой древесины и рыболовство в устье Певки. Город апеллировал к наместникам, перед лицом которых его поддерживали местные римские префекты, и, видимо, решение в его пользу выносилось не один раз. При Нероне один из наместников отметил, что в Исгрии главный доход приносит соленая рыба; это позволяет предположить, что спор мог вестись также о соледобыче, которая обычно являлась императорской монополией и традиционно производилась в нескольких местах на побережье64.
Если не считать сведений о походах, то нам мало известно о первоначальном размещении армии на этих территориях до военных реформ Августа, в результате которых были созданы постоянные провинциальные армии и вспомогательные части (auxilia). Скорее всего, сперва базой легионов служила Аквилея, затем, вероятно во время Паннонской войны 14—9 гг. до н. э. или позднее, они были передислоцированы в лагеря в Паннонии. Македонские легионы (по крайней мере, четыре легиона армии Красса в 29—28 гг. до н. э.) могли размещаться в Дардании, возможно в Скулах и Наиссе, еще до учреждения императорской провинции на Балканах. Затем V Македонский легион, вероятно, был переведен вверх по реке — в Эск. На юге Иллирика базы легионов, известные позднее как Бурн и Тилурий, видимо, были основаны после расширения новой императорской провинции Иллирик до Адриатического моря, возможно в 11 г. до н. э. После 9 г. н. э. семь дунайских легионов размещались следующим образом: в Паннонии — УШ Августов (в Петовионе), IX Испанский (в Сисции?) и XV Аполлонов (в Эмоне?); в Далмации — УП, ранее называвшийся Македонским (в Тилурии) и XI (в Бурне); в провинции Мёзия и Трибаллия — V Македонский (в Эске), а в Дардании — ГУ Скифский (в Наиссе?)65. До настоящего времени археологические раскопки мало что прибавили к нашим знаниям о размещении легионов в этот период. В Эмоне пока не нашлось никаких бесспорных следов базы XV Аполлонова легиона, которая, как предполагается, предшествовала основанию здесь колонии в 14/15 г. н. э. В Карнунте и Бурне тоже не обнаружилось признаков поселения до конца правления Тиберия, хотя в эпитафиях сообщается, что XV Аполлонов легион размещался в Карнунте, а XX — в Бурне, пока в 9 г. н. э. его там не сменили. Кроме того, эпитафии состоявших на службе солдат, во множестве найденные в Бурне и Тилурии и датируемые периодом до 42 г. н. э. (поскольку упомянутые в них легионы не имеют титула «Клавдиев Преданный Верный» (см. выше)), свидетельствуют о том, что при Тиберии и Гае их лагеря располагались в этих областях, хотя и необязательно на месте будущих крепостей. На южном берегу Дравы в Петовионе множество черепков эпохи Августа со складов (canabae) указывает на присутствие здесь УШ Августова легиона. В крупном улове римского военного снаряжения, извлеченном из реки возле
64 ISM I No 67, No 68.
65 Обобщение свидетельств см.: Wilkes 1969 (Е 706): 92—95; Mocsy 1974 (Е 677): 42-44.
654
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Сисции, обнаружился шлем, принадлежавший солдату IX Испанского легиона. На Балканах первым датированным свидетельством присутствия IV Скифского и V Македонского легионов являются надписи на скале в верхней теснине Дуная, датированные 33/34 г. н. э., о которых говорилось выше. Обнаружение в Эске ранней эпитафии позволило предположить, что с середины правления Августа он служил базой для V Македонского легиона. Место, где размещался П легион, остается совершенно неясным: возможно, он дислоцировался в Рациарии на Дунае, но более вероятно — в Наиссе, на стратегическом перекрестке Дардании. Аргументом против последнего предположения может послужить отсутствие в Наиссе материальных свидетельств раннего присутствия легиона, хотя упомянутая выше надпись, недавно найденная в Иллирике, делает такое рассуждение менее убедительным66.
Последующие перемещения легионов определялись событиями в других частях империи. В 43 г. н. э. IX Испанский легион отправился в Британию, и в Сисции никто не пришел ему на смену, так что в паннонском гарнизоне осталось два легиона. Когда в 44/45 г. н. э. УШ Августов легион был переброшен на Нижний Дунай, его место в Петовионе занял ХШ Сдвоенный легион, переведенный с Верхнего Рейна. Вместе с УШ Августовым легионом, стоявшим, вероятно, в Новах на Дунае, ниже Эска, армия Мёзии составляла теперь три легиона. Позднее, в правление Клавдия, IV Скифский легион был передислоцирован на Восток, а его место занял УП Клавдиев; вероятно, сначала последний стоял в Скулах, затем в Виминации на Дунае выше теснины, и армия Далмации сократилась теперь до одного легиона. В 62 г. н. э. в связи с кризисом в Армении с Дуная было отозвано два легиона: XV Аполлонов из Карнунта, на место которого из Испании был переведен X Сдвоенный легион, и V Македонский, на смену которому в Эске не пришел никто, так что Мёзия временно осталась с двумя легионами, пока в конце правления Нерона на Нижний Дунай не прибыл ненадолго Ш Галльский легион.
Для военных операций и их логистики важное значение имел римский флот на Дунае и его притоках, хотя сооружение для него постоянных баз, судя по всему, еще не завершилось. В 35 г. до н. э. римляне при поддержке кораблей, предоставленных союзниками, напали на Сисцию, но в экспедициях против даков при Августе, а также, чуть позднее, в столкновениях на Нижнем Дунае, описанных у Овидия, уже участвовал римский флот. Западное побережье Черного моря тоже патрулировала римская флотилия, стоявшая в Томах. При Клавдии римский флот вовремя оказался на месте, чтобы эвакуировать Ванния из его царства, деятельность же Плавтия Сильвана Элиана на Нижнем Дунае при Нероне (см. выше),
66 Об Эмоне см.: Sasel 1968 (Е 691): 562—563. О Карнунте см.: Kandier Ц Stiglitz, Kandier, Jobst 1977 (E 695); cp.: ZabehHcky-Sheffenegger, Kandier 1979 (E 710): 13. О Тилурии см.: Wilkes 1969 (E 706): 97. О Петовионе см.: Klemenc, Sana 1936 (E 671): 56; cp.: Curk 1976 (E 657): 64. О Сисции см.: Sasel 1974 (E 693): 734. Об Эске см.: Gerov 1967 (Е 667): 87-90. О Наиссе см.: Petrovic Р. //IMS IV (1979): 30—31.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
655
не говоря об экспедиции в Крым, была бы вообще невозможна без флота, контролировавшего реку. Паннонский и Мезийский флоты, позднее базировавшиеся в Тавруне и Новиодуне (в обоих случаях — самые нижние по течению гавани), видимо, действовали независимо друг от друга до тех пор, пока не был проложен сквозной путь через теснину Дуная и Железные Ворота. Понтийский флот, действовавший в Черном море, базировался на берегу Малой Азии, а для Адриатического флота главным портом оставалась Равенна на берегу Италии, хотя имелись стоянки и в других местах, в том числе в Салоне67.
В Далмации большинство вспомогательных подразделений размещалось на территории далматов. Некоторые стояли в прибрежных колониях или рядом с ними, причем в Салоне находились две конные алы, одна из которых состояла из парфянских беженцев, две когорты пехотинцев, а в Яд ере, Нароне и Эпидавре — по одной когорте. Когорты пехотинцев обнаруживаются также на легионных базах: две — в Бурне и одна — в Ти- лурии, причем в последнем случае в правление Клавдия ала, вероятно, отчасти заменила отбывший УП Клавдиев легион. В ранних эпитафиях, найденных в лагере в Бигесте рядом с Нароной, названо четыре когорты, которые вряд ли могли стоять там гарнизоном одновременно. Вдоль дороги, связывавшей легионные базы Бурн и Тилурий, были устроены другие стоянки: Промона (когорта), Магн (ала) и Андетрий (когорта). Установить место дислокации некоторых подразделений — например когорты сирийских лучников (П когорта киррестийцев) — не удается, поскольку их военнослужащие обнаруживаются в нескольких местах. В Паннонии на главных дорогах к Дунаю размещалось еще больше конных отрядов: прежде всего на Паннонской дороге в Сале (Залалёвё), Саварии, Скарбан- ции и Карнунте. Судя по находкам римской керамики, в Мурсе на Драве существовала военная база, аналогичная той, что известна в Сирмии. Клавдий (или кто-то из его предшественников) разместил несколько конных отрядов на Дунае, на конечных станциях других дорог, проходивших через северную и восточную Паннонию: в Аррабоне, Бригеционе, Аквин- ке, Горсии, Мурсе и Тевтобургии (Даль). При Августе римское военное присутствие в Норике обеспечивалось подразделением паннонского УШ Августова легиона, находившимся в Магдаленсберге; возможно, еще одна часть стояла в Целее (Целе) — это поселение входило в состав Норика, но располагалось на Паннонской дороге. Где-то в конце правления Августа легионеров в Магдаленсберге заменил вспомогательный отряд, набранный из местных жителей (Первая когорта горцев). К правлению Клавдия вспомогательные войска в Норике (состоявшие в 69 г. н. э. из алы и восьми когорт) были переведены на берег Дуная и расквартированы в Ленции (Линц) и Лавриаке, то есть на западе, и в Августиане (Трайс- мауэр) и Цвентендорфе — на востоке68.
67 Starr I960 (D 237): 23, 125-141.
68 О Далмации см.: Alföldy 1987 (D 159): 239—297. О Паннонии см.: Möcsy 1974 (Е 677): 48—51. О Норике см.: Alföldy 1974 (Е 652): 65.
656
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
В Мёзии вспомогательные подразделения, возможно, размещались в Сингидуне (Белград) и Виминации, которые позднее стали базами легионов. Сообщается, что признаки раннего поселения были обнаружены в фортах, расположенных в теснине Дуная, в Больетине и Доньи Милано- ваце. На Нижнем Дунае найдено несколько ранних эпитафий, которые, впрочем, невозможно точно датировать, — они свидетельствуют о присутствии конных отрядов в Августах (Хырлец), Секуриске, Вариане, Уте, Эске и Никополе. Пехотные части были размещены на главных дорогах внутренней области, в Малом Тимаке (Равна), в долине реки Тимак (Тимок), в Наиссе, а возможно, уже и в Монтане (Михайловград); последняя являлась стоянкой Клавдиевой ветеранской когорты сугамбров, которая уже при Тиберии была расквартирована во Фракии. Наконец, конник- ветеран, похороненный в Томах, мог служить в недавно оккупированной Добрудже при Клавдии или Нероне69. Размещение войск в дунайских землях при Юлиях—Клавдиях выглядело следующим образом: до правления Клавдия легионы находились в основном в тылу, конные подразделения были выдвинуты к переправам через Дунай, а когорты пехоты патрулировали дороги между ними. При Клавдии и Нероне наблюдается постепенное передвижение войск к реке, но нам по-прежнему неизвестно, когда именно были впервые заселены некоторые пункты, позднее служившие базами легионов, например Карнунт, Виминаций и Новы. До правления Флавиев римской границы вдоль Дуная не существовало — по крайней мере, в военном смысле.
V. Римская колонизация
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Римские купцы и поселенцы добрались до Македонии и Иллирика задолго до Цезаря, но формальное учреждение римских колоний на этих территориях началось только после гражданской войны Цезаря и Помпея. Колонии были основаны здесь после решающих сражений при Фар- сале в 48 г. до н. э., при Филиппах в 42 г. до н. э. и при Акции в 31 г. до н. э. После этого новые колонии римских граждан создавались редко и лишь для легионеров-ветеранов, служивших в этих же или соседних провинциях70. Даты основания первых колоний по-прежнему точно не известны, особенно это касается колоний в Ахайе и Македонии, где свидетельства часто сводятся к нескольким монетам местной чеканки. По- видимому, некоторые колонии были основаны повторно: правительство направляло туда дополнительных поселенцев и предоставляло этим городам новые титулы. В выборе мест для основания поселений не просматри¬
69 Wilkes JJ. Ц Hartley, Wacher 1983 (С 274): 266-267.
70 Vittinghoff 1952 (С 239): 85-87, 124-129; Brunt 1971 (А 9): 597-599.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
6 57
вается всеобъемлющего стратегического замысла, хотя, несомненно, во внимание принималась близость к крупным гаваням и сухопутным маршрутам. Город, основанный Цезарем в Коринфе (Laus Iulia Corinthiensis), был скорее коммерческим предприятием, нежели колонией поселенцев; позднее он господствовал над остальной Ахайей. Патры (colonia Arae Augusta), поселение ветеранов X Проливного и ХП Молниеносного легионов, укрепленное за счет населения, депортированного из северной Это- лии, служило главным портом для сообщения с Италией. Колонию в соседних Димах римское правительство пыталось заселить не один раз, но позднее она была поглощена Патрами. Новый город Никополь в Амбра- кийском заливе, основанный в память о победе при Акции, являлся не колонией, а, скорее, объединением нескольких существовавших поселений, образовавших новый город. Далее к северу колонисты Цезаря, возможно, внесли свой вклад в последующее преуспеяние Бутрота (Бутринт) на побережье напротив острова Коркиры; на этой же территории процветала колония в Буллиде (Градингг) над рекой Аой, также основанная Августом.
Пять колоний в Македонии первоначально представляли собой репарации, взысканные победителями в гражданских войнах71. Колонии в Кассандрии на Палленском перешейке Халкидики и в Дие в заливе Тер- маикос впервые основал Брут, а в Филиппах после битвы были поселены ветераны Антония. После сражения при Акции Октавиан позволил сторонникам Антония, лишившимся земли в Италии, поселиться в Дирра- хии, Филиппах и других местах. Судя по титулам «Юлия Августа», этими «другими местами», помимо Филипп, могли быть Кассандрия, Пелла и Дий. Диррахий (прежде — коринфская колония Эпидамн) лежал в западном конце Эгнациевой дороги и, подобно Филиппам, Дню и Кассандрии, владел обширной территорией. Диррахий, Кассандрия, Филиппы и Дий, как сообщается, обладали исключительной привилегией «италийского права» («ius Italicum»), которая предусматривала освобождение от налогов и, видимо, служила компенсацией для беженцев из Италии; она распространялась и на жителей муниципия Стоби в Пеонии, основанного позднее. Что касается других общин, то Фессалоника, резиденция проконсула, обладала статусом «свободного города» («civitas libera») — вероятно, с 42 г. до н. э., тогда как Амфиполь, возможно, пользовался «свободой» еще со времен учреждения провинции. О «свободном народе Скотуссы» или о привилегиях, предоставленных Аманде на границе Эпира и Иллирии, нам не известно никаких подробностей. Рим сохранил существовавшие федерации (koina) коренных народов, чтобы создавалось впечатление, будто их автономия существует на протяжении многих столетий.
Для нескольких греческих колоний, расположенных вдоль Адриатического побережья — прежде всего это Исса, Фарос и Черная Коркира, — быстрый рост римских поселений представлял угрозу. К тому времени, когда Плиний Старший писал о «множестве греческих городов и даже
71 Papazoglu 1979 (Е 682): 357-361.
658
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
мощных полисов, о которых память поблекла» [Пер. Б.А. Старостина:), изначальные поселки римских граждан (conventus civium Romanorum) превратились в процветавшие города со статусом колоний72. Колония Марсова Юлия в Салоне и колонии Юлии в Нароне и Эпидавре, вероятно, были основаны Цезарем для укрепления позиций римлян, проживавших в этой области, и вознаграждения их за исключительную верность в гражданской войне. Имеются сообщения о том, что в доколониальный период в Нароне существовали городские учреждения: конвент, коллегия двух магистров и двух квесторов, причем один из каждой пары являлся вольноотпущенником73. Новые колонии владели обширными землями; территория Салоны включала не только поселения на континенте, некогда принадлежавшие Иссе, но и остров Фарос (Хвар), управлявшийся как префектура. Неясен статус нескольких небольших римских поселений на далматском берегу, которые Плиний Старший описывает как «города римских граждан» («oppida civium Romanorum»): Ризиний (Рисан), Акру- вий (Котор), Бутуя (Будва), Олыданий (Улцинь), Скодра (Шкодер) и Лисе (Лежа). Ризиний имел эпитет Юлиев, а Скодра названа колонией в надписи более позднего времени, но, скорее всего, это были неорганизованные поселения, которые лишь позднее стали муниципиями.
В Либурнии колония Ядер гордилась тем, что Август основал ее (в надписи он назван «отцом колонии» — «parens coloniae») и финансировал строительство ее оборонительных сооружений74. Вероятно, это произошло после того, как в 35 г. до н. э. Агриппа захватил флот либурнов. Тогда же могли быть учреждены колонии в либурнском порту Сения (Сень) и на полуострове Исгрия — в Поле (colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea) и Паренции (Пореч), а основанной немного ранее колонии в Тер- гесте (Триест) Октавиан оказал благодеяние, возведя там стены после разрушительного набега яподов. Несколько либурнских общин обладали италийским статусом, который мог быть им предоставлен в качестве возмещения за их включение в провинцию Иллирик в 11 г. до н. э., ведь ранее Либурния административно входила в состав северо-восточной Италии. Италийское право (ius Italicum) получили Альвона (алуты) и Фланона (фланаты) на западе Истрии, Лопсика (лопсы) к югу от Сении и Варвария (варварины) на границе с иллирийскими далматами. Этими же причинами может объясняться освобождение от налогов (immunitas), предоставленное Курику (курикты) и Фертинию (фертинаты), общинам острова Курикты (Крк), и Ассерии (ассериаты), расположенной на юге возле Яде- ра. В этой области известны местные семьи Юлиев, получившие римское гражданство, а это предполагает, что при Августе некоторые из перечисленных поселений были организованы как муниципии, и представляется несомненным, что к концу правления Юлиев—Клавдиев этот статус получило большинство из них: вдоль побережья — Альвона, Фланона, Лопси-
72 Плиний Старший. Естественная история. Ш.144; Wilkes 1969 (Е 706): 192—261.
73 CIL Ш 1820; Wilkes 1969 (Е 706): ил. 28.
74 CIL Ш 2907; Wilkes 1969 (Е 706): ил. 24.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
659
ка, Ортопла, Вегий и Аргирунт; в заливе Фланона (Кварнер) — Фертиний и Курик на острове Курикты, Крекса и Абсорций на Апсоре (Осор), а также Арба (Раб) и Цисса (Паг). К югу-востоку от Ядера, на удалении от моря, находились Недин, Кориний, Ассерия, Альверия и Варвария и, вероятно, Кламбеты, Сидрона, Ансий и Пазин (местонахождение двух последних не установлено)75.
Высокая продолжительность службы (stipendia) ветеранов, поселившихся возле Бурна и в Скунастийском пате на территории Нароны, обусловлена войнами последних лет правления Августа, из-за которых задерживалось увольнение ветеранов из иллирийских армий76. Многие ветераны, расселенные в Далмации, перебрались в расположенные неподалеку прибрежные колонии. Мятеж 14 г. н. э. в Паннонии отчасти был вызван не слишком соблазнительной для ветеранов перспективой поселения в недавно основанной колонии Эмона, оборонительные сооружения которой были достроены как раз в 14/15 г. н. э.77. При Клавдии были основаны новые колонии для расселения дунайских ветеранов. Савария находилась на Паннонской дороге в нескольких километрах от крупного поселения кельтов-бойев, далматийский Экв — рядом с покинутой легионной базой в Тилурии, а фракийский Апр, или Апры, — на Мраморном море. В этих городах, по-видимому, преобладали ветераны легионов: VTH Августова и XV Аполлонова — в Саварии (хотя здесь в числе первоначальных поселенцев могли быть и гражданские лица), УП и IX Клавдиева — в Экве и УШ Августова — в Апре. Ветеранов привлекали и более мелкие, но удачно расположенные городки, что, видимо, поощрялось римскими властями. Скарбанция, смешанное поселение ветеранов и гражданских лиц, стоявшее в Паннонии на дороге, ведущей от Саварии на север, носила гордое имя Юлия, хотя муниципий здесь был формально учрежден только в правление Флавиев78. Возможно, еще до основания Эква Клавдий поселил ветеранов в деревне на территории Салоны; это могло быть результатом его особого распоряжения относительно солдат V Македонского легиона, отслуживших свой срок на холодных пустошах Нижнего Дуная79.
Пять из восьми муниципиев кельтского Норика учредил Клавдий80. Основание Вируна в Цольфелльде положило конец существованию торгового поселения в Магдаленсберге, хотя исчезновение этого центра стихийного и свободного предпринимательства могло быть вызвано и другими причинами, в том числе установлением императорской монополии на
75 Wilkes 1969 (Е 706): 107-115.
76 Alföldy 1987 (D 159): 298-312.
77 Sasel 1968 (E 691): 564-565.
78 Möcsy 1974 (E 677): 74 (Скарбанция), 76—79 (Савария). Плиний Старший. Естественная история. IV.47-^8; ILS 2718; cp.: Velkov 1977 (Е 703): 122 (колония Клавдия Ап- рийская). Ветеранов селили также в стратегических пунктах на главных дорогах Фракии, см.: Gerov 1961 (Е 666).
79 Плиний Старший. Естественная история. Ш.141; CIL Ш 8753 (2028); cp.: АЕ 1984,
228.
80 Alföldy 1974 (Е 652): 91-96.
660
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
обработку железа в Норике. На протяжении столетия с лишним в Вируне располагалась провинциальная администрация и он был главным городом провинции. Существовали и другие муниципии: Теурния и Агунт — в верхней долине реки Драу (Дравы); Теурния располагалась на крутом холме над рекой, что позволило ей пережить последующие столетия. На юго-востоке находилась Целея — кельтская крепость (oppidum) на главной дороге между Эмоной и Петовионом. Ював (Зальцбург) лежал к северу от Тауэрнских Альп, где из ущелья вытекает Зальцах. После эпохи Юлиев—Клавдиев в Норике было учреждено еще три новых муниципия: Сольва — в долине Мура при Флавиях, Цетий и Овилава — возле Дуная при Адриане, но урбанизация Норика в правление Клавдия служит показателем того, что основная масса коренных народов этой дунайской провинции уже начала поверхностно усваивать римский образ жизни.
В третьей книге «Естественной истории» Плиния Старшего содержится перечисление иноземных общин (civitates peregrinae) в дунайских провинциях, которое, видимо, частично восходит к официальным спискам, сформированным после римского завоевания. Перечень народов в «Географии» Птолемея, составленный во II в. н. э. с использованием более ранних сведений, имеет несколько отличий от списка Плиния. Однако оба свода дают достаточно полное представление о том, как были организованы, разделены или объединены местные племена после формального установления римского правления81.
В Иллирике первоначально был учрежден один судебный округ (conventus) с центром в Нароне, в который входило целых восемьдесят шесть общин. Позднее племена Далмации были сгруппированы в три таких округа с центрами в Скардоне, Салоне и Нароне. Первый округ был самым маленьким, в него входили яподы и четырнадцать общин (civitates) Либурнии — видимо, какие-то мелкие группы, обитавшие во внутренних землях, из которых Плиний Старший считает достойными упоминания только лацинийцев, сгульпинов, бурнистов (т. е. коренных жителей Бурна) и ольбонийцев. Чтобы дать представление о размерах общин в округах Салоны и Нароны, Плиний Старший приводит сведения о числе декурий в каждой из них, и эти декурии могут быть римскими цензовыми единицами, приблизительно эквивалентными существующим группам коренного населения. Одни из упомянутых народов известны с более ранних времен и могут быть локализованы достаточно точно, тогда как другие были созданы римлянами как объединения нескольких более мелких общин, причем некоторые из последних тоже названы у Плиния Старшего.
Далматы, относившиеся к конвенту Салоны, насчитывали триста сорок две декурии и являлись крупнейшим племенем провинции, названной в их честь. Их территория простиралась вдоль Адриатического моря от реки Тит (Крка) до реки Нарента (Неретва) и от побережья до внутренних нагорных равнин вокруг Ливно, Гламоча и Дувно, включая водораз¬
81 Mocsy 1974 (Е 677): 53-54; Wilkes 1969 (Е 706): 482-486.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
661
дел. Когда в Далмации были основаны римские поселения, далматы лишились большей части своего побережья, ради удобства коммуникаций на их территории размещался почти весь гарнизон провинции, и даже когда легион был передислоцирован, его место заняла колония ветеранов. Имеются сведения о том, что после 9 г. н. э. некоторые далматы были высланы в новые поселения, расположенные во внутренних землях. Диттио- ны (двести девяносто три декурии) обитали к северо-западу от далматов, в лесах и долинах западной Боснии на реке Унац. На их территории, «у подножия горы Ульцир в области диционов», начиналась одна из военных дорог, построенных после их завоевания (см. выше). К северу от них, в долинах Саны и Врбаса, жили паннонцы-мезеи (двести шестьдесят девять декурий), экспедицию против которых в 7 г. н. э. возглавил Германию Сардеаты (пятьдесят две декурии), название которых может быть связано с областью Сарнаде, или Саруте, на большой дороге между Савой и Адриатикой, проживали, вероятно, вокруг Яйце в долине Пливы, тогда как девры (двадцать пять декурий), деррии, упомянутые Птолемеем, и, возможно, дербаны, названные Аппианом, обитали в районе Бугойно в верховьях Врбаса.
От восьмидесяти девяти общин конвента Нароны после масштабной реорганизации осталось тринадцать. В их число входили ардеи (вардеи), «некогда опустошавшие Италию», хотя теперь их численность сократилась всего до двадцати декурий, и даверсы (дверсы, даорсы — семнадцать декурий), тоже упоминавшиеся в рассказах о войнах П в. до н. э. Дере- месты (тридцать декурий) представляли собой вновь созданное объединение нескольких мелких племен во внутренних землях Эпидавра, в том числе озуэев, партенов, гемасинов, артитов и армистов. Народы, в Ш— П вв. до н. э. составлявшие ядро прежнего Иллирийского царства — лабеа- ты, эндирудины, сасеи, грабеи, иллирийцы «в узком смысле», тавланции и пиреи (ранее плереи), — были объединены и стали называться доклеата- ми с центром при слиянии рек Зета и Морака, в Доклее, которая позднее, при Флавиях, стала муниципием. Многие из этих общин имели всего по одному селению: например, Эндерон (возле Никшича) у эндирудинов или Кинна (к востоку от озера Скодра) у кинамбров, которые фигурируют в перечне племен, сдавшихся Октавиану в 33 г. до н. э. Заметно ослабевшие деситиаты (сю три декурии), которые начали восстание в 6 г. н. э., населяли центральную Боснию вокруг Сараева и реки Босна. Крепость (castellum) десигнатов Гед, расположенная, вероятно, в их восточных землях возле Брезы, была конечным пунктом еще одной военной дороги, проложенной через провинцию после завоевания (см. выше). Наренсии (сто две декурии) представляли собой, видимо, еще одно объединение племен, центр которого, судя по их названию, располагался на реке Нарон, или Нарента; возможно, этот народ занимал земли в среднем и верхнем течении данной реки, в том числе равнину вокруг Мостара. Мелькуманы (двадцать четыре декурии) названы в перечне народов, покорившихся Риму в 33 г. до н. э., поэтому вряд ли они жили далеко от побережья. Высказывалось предположение, что они обитали во внутренних землях
662
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
фазу за деремесгами, на равнинах вокруг Гадко и Невесине в восточной Герцеговине.
К востоку и югу от десигнатов, в горах, с которых текут реки Дрина, Пива, Тара и Лим, жили грозные пирусты, «почти неодолимые благодаря обитанию в горах, неукротимости нрава, а также исключительным навыкам боя и главным образом узости лесистых ущелий» [Пер. А.И. Немиров- CKOiof1. Птолемей упоминает их в своем перечне, но в списке Плиния Старшего они отсутствуют; очевидно, из соображений безопасности римляне разделили их на не известных ранее сикулотов (двадцать четыре декурии) и керавнов (двадцать четыре декурии). В число сикулотов могли входить и далматы, переселенные с побережья и, возможно, занявшие область Плевли на севере нынешней Черногории. Не исключено также, что некогда частью племени пирусгов были более многочисленные скир- тары (семьдесят две декурии), обитавшие недалеко от Македонии, по- видимому, на севере Албании вдоль феднего течения Дрины (хотя Птолемей упоминает их отдельно под именем скиртонов). В состав племени пирусгов могли входить и глинтидионы. Они названы в числе сдавшихся в 33 г. до н. э. народов, следовательно, должны были обитать в более легкодоступных местах, чем остальные фуппы, и могли занимать район Фочи в долине Верхней Дрины. Случайное упоминание о предводителе (princeps) диндаров в надписи, найденной в Скелани и датируемой П в. н. э., видимо, позволяет локализовать это племя (тридцать три декурии) в долине Средней Дрины. Кельтские имена в эпитафиях, обнаруженных в этой области, свидетельствуют, что здесь проживала община могущественных кельтов-скордисков; такие же кельты, обитавшие через границу от них в Мёзии, именовались целегерами, а на севере, в провинции Паннония, кельтская civitas сохранила первоначальное название скорди- сков82 83. Как и в случае с пирусгами, римляне, как представляется, осознанно проводили политику расчленения племен на небольшие фуппы, а территорию скордисков еще и поделили между разными римскими провинциями.
Перечень паннонских общин (civitates) у Плиния Старшего хорошо соответствует списку Птолемея, но не содержит никаких сведений об их сравнительных размерах или распределении по конвентам. Как и в Далмации, здесь появляются новые, не упоминавшиеся ранее образования, причем некоторые из них названы в честь рек или селений, а на Северном Дунае римляне, видимо, осуществили крупномасштабное переселение целых общин с одного берега на другой. Спускаясь по трем главным рекам, можно локализовать следующие общины: вниз по Дунаю — бойи, азалы, эрависки, геркуниаты, андизеты, корнакаты, амантины и скордиски; вдоль Дравы — серреты, серапиллы, ясы, андизеты и — между серапилла- ми и бойями — арабиаты; вдоль Савы — катары, латобики, варцианы, ко-
82 Веллей Патеркул. П. 115.4.
83 Alföldy 1964 (Е 646). Папазоглу по ряду причин отвергает эту реконструкцию, см.: Papazoglu 1978 (Е 681): 371-378.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
663
лапианы, оссериаты, бревки, амантины и скордиски. Локализовать бель- гитов, упомянутых у Плиния Старшего, не удается. Позднее в Паннонии появилась община котинов, обитавшая, возможно, в низине к югу от озера Балатон. Некоторые из перечисленных выше племен — прежде всего бойи, бревки, андизеты, амантины, скордиски и латобики — были хорошо известны до римского завоевания, другие названы в честь отдельных селений: корнакаты — от Корнака (Сотин на Дунае выше Белграда), варциа- ны — от Варцеи (засвидетельствована, но не локализована) и оссериаты — в честь селения где-то на Средней Саве; колапианы и арабиаты — в честь рек Колапис (Кулпа) и Арабон (Раба), геркуниаты, возможно, напоминали каким-то образом о Герцинском лесе — великом германском лесе за Дунаем. Бревки и амантины, сыгравшие важную роль в восстании 6—8 гг. н. э., вероятно, были разделены на несколько общин. Возможно, к последним принадлежали корнакаты, а оссериаты, колапианы и варцианы возникли в результате разделения могущественных бревков. Арабиаты и геркуниаты на западе, в свою очередь, могли принадлежать к народу бой- ев. Иллирийскую народность азалов римляне, возможно, отделили от бревков и переселили — скорее всего, после Паннонской войны 14—19 гг. до н. э. — на север, в новые области на Дунае между кельтскими племенами бойев и эрависками. За Дунаем тоже происходили перемены: сперва миграция свебского племени маркоманнов на восток, а немного позднее — переселение сарматского народа язигов на равнину между Панно- нией и Дакией (см. выше).
Идентификацию и локализацию местных общин в Мёзии затрудняет почти полное отсутствие надписей, предшествующих правлению Флавиев. Можно предположить, что римская оккупация и обустройство Мёзии не сопровождались столь решительными мерами в отношении местного населения, как в Иллирике. Список племен у Плиния Старшего восходит к тому периоду, когда Мёзия еще не была расширена до Черного моря (что произошло после присоединения Фракии при Клавдии), и включает дар- данов, целегеров, трибаллов, тимахов, мезийцев, фракийцев и скифов, «обитающих у Черного моря»84. Поскольку перечень составлен в географическом, а не алфавитном порядке, он, вероятно, не является официальным реестром общин (civitates) и, видимо, не включает отдельные общины, расположенные восточнее трибаллов. Среди названных народностей целегеры, проживавшие на северо-западе, как уже говорилось, могли принадлежать к кельтскому племени скор дисков, а тимахи — это обитатели долины Тимака (Тимок). Перечень Птолемея, совпадающий со списком Плиния Старшего только в двух пунктах (мезийцы и трибаллы), соответствует положению дел после реорганизации при Клавдии. Трикорнийцы из Трикорния (Ритопек) пришли на смену целегерам, пиценсии из города Пинка (Градиште) в устье реки Пинк (Пек) — на смену тимахам, но на юге по-прежнему жили дарданы, а вокруг Рациарии — община (civitas) мёзий-
84 Плиний Старший. Естественная история. III. 149; Птолемей. География. Ш.9.2; Mocsy 1974 (Е 677): 67-69.
664
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
цев. На Нижнем Дунае появились общины: этийцев — в Уте, на реке Ут (Вит), димийцев — в Диме (Балине), обулийцев (локализовать их невозможно), аппиарийцев — в Аппиарии (Ряхово) и певцинов, названных в честь острова Певке (Килия) в дельте Дуная. При Клавдии и Нероне обстановка на Нижнем Дунае не отличалась стабильностью, и имеются некоторые свидетельства о недолговечной общине (civitas) даков на этой территории, возникшей, вероятно, в результате переселений из-за реки85.
Норик, как и Мёзия, был, видимо, организован как римская провинция при Клавдии, но существует гораздо более раннее свидетельство о коренных народах, попавших под власть Рима: это посвящения, установленные в Магдаленсберге в 10/9 г. до н. э., в честь трех женщин из семьи Августа: Ливии и двух Юлий86. В этих надписях упоминается восемь племен: норики, амбилины, амбидр(авы), упераки, севаты, лаянки, амбизонты и эльветы. С этим списком в целом совпадает перечень племен Норика у Птолемея, куда, впрочем, добавлены алавны. Норики жили в самом сердце старого царства: вокруг Магдаленсберга (где, возможно, располагалась древняя столица Норея), в Каринтии и отчасти в Верхней Штирии. Амбилинов, название которых указывает на то, что они жили по обоим берегам реки, исследователи предположительно локализуют в долине Гайля и связывают с селением Иловна где-то на юго-западе Норика. Ам- бидравы, очевидно, проживали вдоль реки Драу (Драва), а упераки, возможно, — к востоку от них, ближе к Паннонии; последних можно связать с селением Упеллы где-то к северу от Целей. Селение под названием Се- бат, как представляется, позволяет локализовать севатов в Пусгертале. Сперва они были объединены в одну общину (civitas) с лаянками, которые, следовательно, могли быть их западными соседями и проживать в области Лиенца, где позднее был учрежден муниципий Агунт. Амбизон- ты, упоминаемые на памятнике Августа возле Монако (Аа-Тюрби) в числе побежденных альпийских племен, занимали протяженную долину Исонты, или Ивара (Зальцах). За ними жили алавны — вокруг Зальцбурга и Кимзее, где были установлены посвящения местным божествам Алавне, Аловне и Алоне. Эльветы, несомненно, были как-то связаны с гельветами, проживавшими далеко на западе, и могли происходить от гельветско- го племени тигуринов, прибывшего в Норик во П в. до н. э. Судя по тому, какое место эльветы занимают в перечне племен в магдаленсбергских посвящениях, они были соседями амбизонтов и, возможно, обитали в верховьях Мура или низовьях Зальцаха. Девять общин (civitates), названных у Птолемея, располагались на юге и западе Норика, но в провинции проживали и другие племена. Высказывалось предположение о том, что всего было тринадцать общин, ибо именно столько ниш имеется в «зале собраний» в Магдаленсберге, однако исследователи восприняли эту точку зрения довольно скептически.
85 Mocsy 1970 (Е 676): 29, примеч. 32, со ссылкой на военный диплом, выданный «да- ку» 9 февраля 71 г. н. э., см.: CIL XVI 13.
86 Sasel 1967 (Е 690); Alföldy 1974 (Е 652): 67.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
665
Иноземные общины (civitates peregrinae), которых в дунайских провинциях к правлению Клавдия насчитывалось более восьмидесяти, оставались под надзором военных на протяжении жизни по меньшей мере одного поколения. Для управления некоторыми племенами, не принимавшими прямого участия в сражениях при Августе, командные должности создавались по особым случаям: например, префектура Япидии и Либур- нии во время войны с Батоном в 9 г. н. э.86*. Местные предводители сражались на стороне римлян, например, влиятельный гражданин либурнской Эноны, которого Тиберий наградил «большим торквесом» за службу на Далматской войне в том же 9 г. н. э.87. При Тиберии и его преемниках легионы и вспомогательные войска были размещены на более или менее постоянных базах, и у нас имеются некоторые свидетельства о том, как был организован военный контроль над коренными народами в эти десятилетия относительного бездействия. При Клавдии или Нероне старший центурион ХШ Сдвоенного легиона, расквартированного в Петовионе, управлял соседними колапианами. Бойи и азалы, проживавшие на севере Паннонии, находились под властью вспомогательной части, размещенной в Аррабоне и отвечавшей также за данный отрезок берега Дуная. На севере Далмации паннонскими племенами мезеев и десигнатов руководил старший центурион XI Клавдиева легиона, расквартированного в Бурне. Первый известный нам прокуратор Норика на каком-то более раннем этапе карьеры — либо в то время, когда занимал должность старшего центуриона V Македонского легиона в Эске, либо позже — управлял «общинами (civitates) Мёзии и Трибаллии»; это означает, что еще до эпохи Клавдия на территории, которая позднее стала провинцией Мёзия, уже существовала администрация88. Возможно, общинами дарданов руководили старшие офицеры другого балканского легиона — IV Скифского, размещенного в Скулах или Наиссе. Имеются указания на то, что спустя не- долгое время после завоевания дунайских земель власть над некоторыми далматскими племенами была вверена местным вождям и, возможно, они даже избежали тягостной военной администрации: например, так обстояло дело у яподов, у некоторых далматов и доклеатов89. Возможно, римляне рассматривали такое устройство как подготовку к основанию городов, хотя в некоторых случаях оно сохранялось еще долгое время после эпохи Юлиев—Клавдиев. Все засвидетельствованные названия должностей, такие как «принцепс», или термины, отражающие социальную или семейную организацию — род (gens), кровное родство (cognatio),
86а В данном случае префектура — не административная, а командная должность: в надписи CIL V 3346 упоминается офицер, который командовал (praefuit) в Япидии и Ли- бурнии во время войны с Батоном (bello Batoniano). — О.Л
87 ILS 2673, 3320 (вероятно, из Эноны: VAHD 52 (1939-1945): 55, рис. 1).
88 ILS 9199 (колапианы), 2737 (бойи и азалы); CIL IX 2564 (мезеи и десигнаты); ILS 1349 (Мёзия и Трибаллия).
89 CIL Ш 14325—14328, 15064—15065 (надписи с упоминанием «предводителей» (principes) и «начальников» (praepositi) яподов, найденные в храме Бинда Нептуна возле Бихача в западной Боснии); Ш 2776 («принцепс» далматов, получивший римское гражданство от Клавдия); ILIug 185 («принцепс общины доклеатов»).
666
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
центурия, декурион и декурия, — имеют римское происхождение, хотя структуры, которые ими обозначались, существовали задолго до римского завоевания, а в некоторых областях сохранялись на протяжении всей римской эпохи90.
Все надежные показатели романизации единогласно свидетельствуют о том, что этот процесс материальной и культурной диффузии, хорошо поддающийся наблюдению и характерный для эпохи Раннего Принципата, почти не затронул иллирийцев в правление Юлиев—Клавдиев91. Так же обстояло дело и у большинства фракийцев, несмотря на их контакты с греческим и эллинистическим миром, и, возможно, у многих кельтских племен на северо-западе; последние рано усвоили так называемый «эпиграфический о6ычай»91а, что могло привести к завышению оценки римского влияния на них в целом.
Впрочем, с середины I в. до н. э. в дунайские земли начинают поступать эллинистические и римские монеты, а некоторые местные народности из числа фракийцев, даков, иллирийцев и кельтов чеканили собственные монеты, подражая средиземноморским стандартам. С другой стороны, представляется обоснованным мнение исследователей, что в дунайских областях обнаруживается слишком мало монетных выпусков и номиналов — как импортных, так и местных, — а потому не приходится говорить о существовании здесь настоящей экономики, основанной на монетном обращении. Недавно было высказано предположение, что приток на эту территорию множества монет, отчеканенных после 100 г. до н. э. в греческих городах Диррахий и Аполлония, располагавшихся на Адриатическом побережье Эпира, может объясняться работорговлей, удовлетворявшей спрос римского пастбищного хозяйства, зависимого от рабского труда, которое распространилось на юго-западе Балкан после поражения Македонии в 167 г. до н. э. Поступление множества римских денариев около середины I в. до н. э. в Дакию тоже могло стать следствием работорговли: Дакия, находившаяся под властью Буребисты, служила весьма востребованным поставщиком рабов после того, как в 67 г. до н. э. Помпей уничтожил пиратство на Средиземном море. Впоследствии могущественная Дакия, созданная Буребисгой, прекратила свое существование, а Рим продвинулся до Дуная, и тогда рабов пришлось закупать на другом берегу, о чем свидетельствуют большие объемы римского серебра, найденного за рекой. В Иллирик римские монеты впервые прибыли вместе с римской армией и сопровождавшими ее лицами. Клады этих монет были
90 Wilkes 1969 (Е 706): 185-190.
91 Однако следует отметить упоминание Веллея (П. 110.5) о том, что многие паннонцы знают и используют латинский язык; это сообщение анализирует А. Мочи, см.: Mocsy А. // Hartley, Wacher 1983 (С 274): 235-237.
91а Эпиграфический обычай (epigraphic habit) — термин, введенный Р. Мак- Мюлленом и обозначающий традицию фиксировать на камне различные документы, прежде всего эпитафии; этот культурный феномен был характерен для романизированных народов и распространялся по территории Римской империи на протяжении I—П вв. н. э. — О.Л
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
667
обнаружены вдоль Паннонской дороги — в Эмоне, Целее и Петовионе, а также на территории Мурсы и Сирмия в низовьях Дравы и Савы; в правление Августа все эти города, несомненно, были военными центрами. Вероятно, такое же происхождение имеют клады, найденные в области далматов, в Басгаси и Ливно, и на территории яподов в Рибнице в области Лика, хотя монетные клады из более спокойных областей, расположенных поблизости от побережья (Задар и Крушево — в Либурнии, Чаплина и Нарона — в долине Наренты, Хвар и Гаине — на острове Фарос), свидетельствуют о существовании более полноценной экономики92.
Италийские купцы вели торговлю с северо-восточными землями через Аквилею, откуда начиналась дорога через Паннонию на Дунай. В эпоху Поздней республики за Юлиевыми Альпами уже существовало римское торговое поселение (vicus) в Навпорте (Врхника), где коренные кельтские жители некогда имели собственный таможенный пост93. Кроме рабов, скота, шкур и балтийского янтаря, в Аквилею ввозили также готовые металлические изделия из Норика. Примерно к 50 г. до н. э. на террасе, расположенной на высоте 920 м на склоне горы Магдаленсберг (общая высота 1058 м), обосновался преуспевавший римский торговый центр. О его благоденствии лучше всего свидетельствует, пожалуй, бронзовая статуя кельтского бога Марса Латобия в человеческий рост, посвященная купцами из Аквилеи, в число которых входил и представитель знаменитой семьи Барбиев. Здесь велась крупная торговля готовыми изделиями из железа, меди, свинца, цинка и латуни (сплав меди и цинка). Некоторые деревянные каркасные дома римских купцов имели изысканное внутреннее убранство. На стенах подвалов, засыпанных обломками ок. 35 г. до н. э. (в каждом из подвалов в особой нише имелось святилище Меркурия), были нацарапаны инвентарные перечни готовых изделий — железных или стальных колец (anuli), топоров (secures), наковален (incudes) и крюков (unci), латунных или медных банок (cafi), чаш (cumbae), блюд (disci), кубков (scifi) и кувшинов (urcei). После аннексии Норика Магдаленсберг стал римским административным центром, и часть торгового города была снесена, чтобы освободить место для комплекса официальных зданий. На некоторых стенах были нацарапаны неформальные приветствия, обращенные к императорам Августу и Тиберию, а также их примитивные портреты; но были обнаружены и более формальные посвящения в честь дам из семьи Августа, вырезанные на плитах, которые в 10/9 г. до н. э. установили восемь племен Норика. Рядом с административными зданиями располагался классический храм размерами 30 на 18 м, предназначавшийся, вероятно, для недавно учрежденного культа Рима и Августа, но так и не достроенный к тому времени, как город был покинут94.
Римские поселения в Иллирике вовсе не служили предтечами римского политического и экономического господства и почти не оказали влия¬
92 Mimik 1981 (В 345); Crawford 1985 (В 320): 235-237.
93 Тацит. Анналы. 1.20; Плиний Старший. Естественная история. Ш.128; ILLRP 33—34 («магистры» поселения (vicus)); Sasel 1966 (E 689).
94 Piccottini 1977 (E 683); о граффити см.: Egger 1961 (E 662).
668
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ния на местные племена. Возможно, в низовьях Неретвы, на землях, захваченных у далматов, существовало несколько латифундий, но в других местах прибрежные поселения «повернулись спиной» к внутренним землям, как это часто случалось в истории Далмации. Проконсул Публий Ватиний, отвечая на адресованный своему предшественнику запрос Цицерона относительно беглого раба, которого в последний раз видели в На- роне, где находилась штаб-квартира проконсула, сообщил, что этот раб, по слухам, находится у ардиеев, и такой ответ фактически подразумевал окончание дела, хотя Ватиний и пообещал сделать всё возможное для его розыска, если беглец еще не покинул провинцию95. Ветеранские и гражданские поселения в Ахайе и Македонии мало содействовали урбанизации этих территорий в период до битвы при Акции, исключая такие крупные центры, как Патры, Коринф, Никополь и Филиппы. Население римских колоний в Иллирике в это время тоже представляло собой смесь военных и гражданских лиц, но едва ли в них можно обнаружить хоть какие-то следы коренных племен. И напротив, урбанизация Либурнии и Норика при Юлиях—Клавдиях почти не сопровождалась римской колонизацией, ни гражданской, ни военной.
Городская планировка и архитектура ранних римских городов не отличались единообразием. Нарона (Вид) сохраняла прежний характер торгового города на холме и была окружена доримскими стенами, но внутри стояло несколько прекрасных зданий и памятников, причем многие из них возвели преуспевавшие вольноотпущенники. Здесь класс землевладельцев — насколько они вообще участвовали в жизни города — предпочитал селиться в элегантных и хорошо обставленных резиденциях, существование которых засвидетельствовано в окружающей сельской местности в I в. н. э. В Салоне, старом судебном центре (conventus), прежняя планировка улиц была сохранена при проектировании нового форума; впрочем, величием архитектуры он не мог сравниться с внушительным двойным форумом и Капитолием в Ядере, которые занимали огромную площадь 180 на 130 м в центре города. В соседней Эноне Капитолий был возведен на новом форуме, украшенном статуями представителей династии Юлиев—Клавдиев из каррарского мрамора, больше человеческого роста. Симметрично спланированные укрепления и улицы Эмоны, площадью 524 на 435 м, напоминают августовскую планировку Августы Претории (Аоста) или Августы Тавринов (Турин). Основанные позднее колонии ветеранов в Экве и Саварии тоже были выстроены по предварительно составленному плану, как и муниципий Вирун в Норике, хотя в последнем отсутствовали крепостные стены. Не все римские города строились на новых и ровных участках: когда Клавдий учреждал муниципии в Либурнии, местные поселения на холмах физически трансформировались в римские города, например в Ассерии и Варварии, где к застроенному участку, огражденному крепостными стенами, были присоединены традиционный форум и другие общественные сооружения. Известно, что
95 Цицерон. Письма к близким. V.9.
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции
669
в нескольких колониях в Иллирике проводились землемерные работы, и сетки дорог и троп разделили их территории на квадратные центурии. К настоящему моменту исследована центуриация земли в Салоне, Ядере, Нароне, Эпидавре, Поле и Саварии; в этих общинах центурии имели размеры 20 на 20 актов (примерно 710 на 710 м); следовательно, каждой общине принадлежала территория площадью около 124 акров (около 51 га), что соответствует норме, распространенной в эпоху Раннего Принципата96.
Хотя в городах, расположенных на побережье Адриатики, сохранились некоторые следы эллинистических традиций, в целом римские города в дунайских землях имели совершенно римский и италийский характер. В эпоху Юлиев—Клавдиев кирпич и кровельная черепица, произведенные на крупных предприятиях вокруг Аквилеи, по меньшей мере одно из которых (Пансиана) принадлежало императору, сплавлялись вниз по Адриатике, хотя при Клавдии армия начала производить собственные кирпич и черепицу непосредственно на местах дислокации97. Дунайские войска порождали спрос на резные надгробные камни местного производства, особенно на стелы из прекрасного известняка Далматского побережья. Некоторые ранние памятники легионеров в Далмации выполнены в стиле «камень над дверью»; данный стиль зародился в Малой Азии и был популярен у солдат восточного происхождения, особенно в УП легионе. Самая распространенная форма надгробия (как среди солдат, так и в городах) — это модный в столице «портрет в окне», обрамленный архитектурными элементами — рельефным фронтоном и колоннами; такой надгробный камень устанавливался вертикально, а панель с эпитафией в рамке располагалась в его нижней части. Похожий вариант приобрел популярность и в Норике и Паннонии, где кельтские и римские надгробные изображения встречаются вперемежку. Римские эпитафии обнаруживаются на либурнийских круглых надгробных камнях; эта местная традиция сохраняла популярность в муниципиях, учрежденных в правление Юлиев—Клавдиев. Пожалуй, один рельеф из далматского известняка мог бы служить самым наглядным символом Рима в дунайских землях того времени: на памятнике в Тилурии изображен трофей (tropaeum), то есть победа римлян, к основанию которого прикованы два коренных иллирийца в ожидании своей — слишком очевидной — участи98.
Завоевание еще не завершилось, а фракийцев, иллирийцев и кельтов уже стали призывать на службу в римские вспомогательные части — как в конницу, так и в пехоту. Известно несколько частей, названных в честь таких народов, как бревки, далматы и паннонцы. Многие далматы, слу¬
96 Zaninovic 1977 (Е 711): 791—793; Zaninovic 1980 (Е 712) (Нарона); Clairmont 1975 (Е 655): 38—82 (Салона); Suic 1976 (Е 697): 150—153 (Ядер и Энона), 138, рис. 74 (Ассерия), 88—104 (центуриация); Sasel 1968 (Е 691): 549—555 (Эмона); Mocsy 1974 (Е 677): 74—89 (Эмо- на и Савария), 78—79 (центуриация) ;Wilkes 1969 (Е 706): 359, рис. 15, 369 (Экв), 366—367 (Ассерия); Alföldy 1974 (Е 652): 87—89 (Вирун); Bradford 1957 (А 7): 175—193 (центуриация).
97 Wilkes 1969 (Е 706): 499-502; Matijasic 1987 (Е 674): 495-531.
98 Иллюстрации см. в изд.: Wilkes 1969 (Е 706).
670
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
жившие на императорском флоте в Равенне и Мизене, происходили, по- видимому, не только из народа мореплавателей, обитавших вдоль Адриатики, но и из племен внутренних земель". До конца правления Юлиев- Клавдиев не наблюдается никаких признаков того, что эти наборы способствовали распространению римского образа жизни и обычаев. Несомненно, отдельные люди из этих областей поднимались на высокие ступени римской иерархии, хотя происхождение их неизвестно99 100. Ни один римский наместник не хвалил обитателей дунайских земель за готовность принять римские обычаи (mores), напротив, еще долгое время они были к этому не готовы.
Завоевание и удержание дунайских земель стало выдающимся достижением принципата Августа в военной сфере. Суровая, слаборазвитая и долгое время непокорная область Европы не приносила доходов и требовала больших затрат. Однако ее покорение имело важнейшее стратегическое значение: теперь постоянные армии были расквартированы вдоль границ и вдали от центра политических событий, где их присутствие почти всегда представляло угрозу для порядка. По Эгнациевой дороге больше не маршировали легионы, направлявшиеся на поля сражений гражданских войн, и, лишь когда династия пала, войска вернулись с отдаленных баз, раскиданных вдоль Дуная, в сердце Империи.
99 Kraft 1951 (Е 672); Starr 1960 (D 237): 75.
100 Несомненно, в I в. н. э. некоторые выдающиеся сенаторы имели связи с Либурнией. Возможно, из Либурнии происходил Луций Тарий Руф, консул 16 г. до н. э., а у Луция Яволена Приска, знаменитого юриста эпохи Флавиев, в Либурнии жили родственники. См.: Alföldy 1968 (Е 651): 100-116.
Глава 13i
К.-Р. Уиттакер
РИМС1САЯ АФРИКА:
ОТ АВГУСТА ДО ВЕСПАСИАНА
I. До Августа
Возможно, в эпоху Римской республики Африка и не была землей без всякой истории, как описал ее Т. Моммзен, но она уж точно не находилась в центре римских интересов. Управление, осуществлявшееся из пу- нийского города Утики, находилось на зачаточном уровне и по большей части сводилось к надзору за местными общинами и сдаче на откуп налогов. Почти нет сведений и о военном гарнизоне, за исключением небольшого отряда, сопровождавшего наместника. Конечно, это не останавливало римских и италийских иммигрантов, которые прибывали в Африку либо как поселенцы, либо как предприниматели и откупщики. Но создается впечатление, что даже в прибрежных городах, где возникали римские анклавы, иммигрантов было немного1. Официальное основание колонии Карфаген в 122 г. до н. э. окончилось полным провалом, вследствие чего какая-то часть ее территории так и осталась в неопределенном положении. Консервативно настроенные римляне были возмущены расходами на провинцию и боялись отправлять туда колонистов. Информация о римлянах и италийцах, расселенных здесь Марием, столь скудна, что трудно оценить их численность, хотя, вероятно, сколько-то поселенцев всё же прибыло в провинцию.
Единственным исключением стали гетулы, ветераны Мария, расселенные за пределами провинции, которые во время кампании Цезаря в Африке в 46 г. до н. э. оказали ему ценную помощь; позднее Август отвел им важную роль в ходе своей реорганизации Африки2. Во время гражданских войн между Помпеем и Цезарем довольно многие римляне нашли убежище в Африке. Но, несмотря на это, помпеянцам с трудом удалось набрать здесь 12 тыс. человек, и, даже получив подкрепления числом в 10 тыс. человек из Кирены, они почти наверняка вынуждены были
1 Ср.: Цезарь. Африканская война. 97.2.
2 Цезарь. Африканская война. 35.4.
672
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
призывать на службу коренных африканцев, рабов и вольноотпущенников, благодаря чему численность их армии достигла 40 тыс. человек.
Иммиграция в Африку была относительно невелика, но экономическая заинтересованность Рима в этой провинции и прилегающих территориях мавретанцев — весьма значительна, прежде всего из-за плодородной земли, зерна и, возможно, рабов. Ко временам Цицерона Африку уже рассматривали как «оплот» продовольственного снабжения Рима. Во П в. до н. э. в городах, находившихся за пределами провинции, таких как Вага (совр. Беджа) и Цирта (совр. Константина), пребывало множество италийских купцов (negotiatores). Сообщается, что в ходе археологических раскопок на западе современного Марокко находят столько же черепков италийских амфор республиканского времени, сколько и в южной Франции3. В аграрном законе 111г. упоминается о том, что земли в Африке не раз продавались, — вероятно, их покупатели находились в Риме. Такие продажи могли совершаться и позднее. Эта экономическая заинтересованность не могла не повлиять на политику Августа.
Не всегда понято, что именно планировал Юлий Цезарь в свою краткую диктатуру в 46—44 гг. до н. э. и чего конкретно в итоге добился. На прибрежные города в областях Бизаций (юго-восточный Тунис) и Трипо- литания была наложена крупная контрибуция; Триполитания должна была поставлять миллион литров масла в год в качестве налога, который, вероятно, оставался в силе до Ш в. н. э. Прилегавшую область Нумидии Цезарь тоже преобразовал в провинцию под названием Новая Африка и потребовал от нее выплатить в качестве единовременного налога 8 тыс. тонн зерна — к бурной радости римского народа. Поселенцы стали прибывать не только в новую провинцию, в состав которой входила и особая область вокруг Цирты3*, но и в некоторые районы Старой Африки. Многие из них были ветеранами гражданских войн, которых Цезарь поспешно распустил, чтобы предотвратить волнения. Но многие, конечно, ранее жили в Риме — за границей Цезарь поселил 80 тыс. римских плебеев. Африканская земля и продовольствие по-прежнему вызывали интерес в Риме4.
Далее мы сталкиваемся с трудноразрешимой проблемой идентификации и датировки колоний, в которых осели все эти поселенцы. Не вызывает сомнений, что Цезарь намеревался реорганизовать провинцию Африка, но невозможно понять, кто в конечном итоге основал эти колонии — Цезарь или его наследник. Самое лучшее из имеющихся у нас свидетельств о деятельности Цезаря в Африке — это надпись из колонии Курубис (совр. Корба) на мысе Бон, в которой назван городской маги-
3 Цицерон. О Манилиевом законе. 34; ср. о кораблях в Утике: Цезарь. Записки о гражданской войне. П.25.6. Об амфорах см.: Hesnard А. // Lancel 1985 (Е 748): 49—59.
За Данную область Цезарь предоставил П. Ситтию, римскому изгнаннику на службе у мавретанского царя Бокха и своему союзнику в гражданской войне, для расселения его африканских солдат. — С.Т.
4 Дион Кассий. XLin.14.1; Светоний. Божественный Юлий. 42.1. Лучшее исследование поселений, основанных Цезарем, см.: Teutsch 1962 (Е 765).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
673
страт 45 г. до н. э. Но, в известном смысле, это не имеет особого значения. И Цезарь, и Октавиан решали одни и те же трудные задачи, и представляется весьма вероятным, что Август формально закончил то дело, которое фактически начал Цезарь. Те исследователи, которые видят в этих расселениях грандиозные схемы в эллинистическом духе5, вероятно, забывают о простой логике тогдашних событий. В результате гражданских войн в распоряжении победителей оказались конфискованные территории, пригодные для распределения. Ветераны и римские бедняки могли оживить хотя бы часть плодороднейших территорий того времени и вести на них хозяйство.
История основания колонии Карфаген прекрасно иллюстрирует, насколько сложно разделить деятельность Цезаря и Августа. К концу правления Августа Карфаген стал административной столицей объединенных провинций Старая и Новая Африка, большим и прекрасным городом. Территория (pertica) Карфагена простиралась до самой Тугги (совр. Дуг- га), на 100 км от долины Баграда6, и включала в себя целый ряд общин как римских поселенцев, так и местных жителей. Но кто основал римский Карфаген? Сегодня большинство исследователей согласны, что план, вероятно, принадлежал Цезарю, но фактически, физически колонию основал не он, так как территория Карфагена включала земли созданной Цезарем провинции Новая Африка, что, разумеется, стало возможно лишь после его смерти, когда две провинции были слиты воедино.
Но точно установить, в какой именно момент после 44 г. до н. э. была основана колония, не представляется возможным. В загадочном утверждении христианского теолога Тертуллиана, жившего два века спустя, сказано: «<...> после <...> насильственных издевательств Лепида, после <...> долгих промедлений Цезаря, когда Статилий Тавр воздвиг стены, а Сен- ций Сатурнин произнес торжественную речь» [Перев. А.Я. Рыжова). Пожалуй, самой вероятной представляется датировка 36 или 35 г. до н. э., когда Октавиан, как сообщает Дион Кассий, отправил Сгатилия Тавра с поручением привлечь на свою сторону «обе Африки». Очевидно, старые провинции еще не были объединены и «нуждались в переустройстве». Тавр выполнил обе эти задачи; в то время армию Октавиана раздирали мятежи солдат, требовавших наград, а немного ранее друг с другом схватились два наместника Старой и Новой Африки. Гипотеза о том, что в этот период происходила реорганизация всей данной области, отчасти подтверждается тем, что в 36 г. до н. э. Утика получила статус муниципия, видимо, после уточнения ее границ7.
Самый убедительный аргумент против такой хронологии — это система датировки жреческих должностей чтимого культа Церер, богинь пло-
5 См.: Broughton 1971 (Е 721) — автор оппонирует Корнеману, который и высказал данное соображение.
6 NTH 510.
7 Тертуллиан. О плаще. 1; Дион Кассий. XLIX.14.6, 34.1. Об Утике см.: Дион Кассий. ХЫХ.16.1. См. новейшую из работ, в которой высказывается отстаиваемое здесь мнение: Le Glay Μ. // Lancel 1985 (E 748): 235-248.
Карта 7 3. Африка
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
675
дородия в Карфагене, засвидетельствованного во множестве более поздних надписей: летоисчисление в них начинается, видимо, до 35 г. до н. э., хотя данные свидетельства не удается полностью согласовать. Однако не вполне очевидна взаимосвязь между учреждением культа, уже имевшего в Ливии долгую историю, и основанием римской колонии8. Не вызывает трудностей и свидетельство о том, что колониальный устав и «свободу» город получил лишь в 29 или 28 г. до н. э., поскольку задержки между предоставлением статуса колонии и принятием устава случались и в других местах9.
II. Африка и гражданские войны,
44—31 гг. до н. э.
Гражданские войны, разразившиеся после смерти Юлия Цезаря в 44 г. до н. э., неизбежно затронули не только провинции Новая и Старая Африка, но и союзных царей Магриба, которые зависели от милостей римских политиков и при этом не упускали возможности извлечь выгоду из их соперничества10. Например, ливийский правитель Арабион вернулся в 44 г. до н. э. в центральную Мавретанию и, подстрекаемый сыновьями Помпея в Испании, убил Ситгия, старого союзника Цезаря, поселившегося в Цир- те вместе со смешанной группой своих сторонников. Достигнув соглашения с оставшимися ситгианцами, Арабион привлек их на сторону Квинта Корнифиция, сенатского наместника Старой Африки, против Тита Сек- стия, цезарианского наместника Новой Африки, а в 42 г. до н. э., когда удача покинула убийц Цезаря, перешел на сторону Сексгия против Корнифиция. Впоследствии Арабион оказывал сопротивление Фангону — наместнику, назначенному Октавианом, — но был казнен Секстием (который к тому времени стал соратником Антония), заподозрившим его в чрезмерных амбициях, и это заставило сторонников Арабиона снова сменить сторону и поддержать Фангона. В итоге Секстий вытеснил основную их массу из африканских провинций.
Западнее, в Марокко, развернулась схожая борьба за власть между царем Богудом, сторонником Антония, и Бокхом, поддержавшим восстание города Тингиса (совр. Танжер) против Богуда. В награду за такую предприимчивость Октавиан отдал Бокху царство Богуда и остальную часть западной Мавретании от Тингиса до Цирты. Этой обширной областью Бокх правил до своей смерти в 33 г. до н. э.
8 Fevrier 1975 (Е 731). Возражения: Fishwick, Shaw 1978 (E 733). Гаску оспаривает все принятые датировки надписей и выступает за 44 г. до н. э. как первый год назначения жреца Цереры, см.: Gascou 1987 (Е 740).
9 Дион Кассий. LII.43.1. Хорошее обобщение такого рода свидетельств см.: Van Nerom 1969 (E 754).
10 Наиболее полный рассказ о событиях см. у Аппиана: Гражданские войны. IV.53 сл.; дополнительные сведения см.: Дион Кассий. XLVHL21—23.
676
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
В сложных событиях гражданской войны легко запутаться. После Брундизийского мира в 40 г. до н. э. две африканские провинции перешли к Аепиду в качестве его доли в триумвирате, и он сконцентрировал там целых шестнадцать легионов, чтобы в 36 г. до н. э. вторгнуться на Сицилию, принадлежавшую помпеянцам. Конечно, в составе этого огромного войска было множество местных рекрутов, так что Африка осталась беззащитной. Когда Лепид сошел со сцены, Октавиан — как мы видели — осознал необходимость навести здесь порядок и поручил эту работу одному из своих верных сторонников — Статилию Тавру. В фастах упоминаются три триумфа, назначенных за Африку (ex Africa) между 34 и 28 гг. до н. э., которые, как можно предположить, были получены за приграничные войны, обеспечивавшие безопасность проконсульской провинции Африки и ее колонистов.
Но отчасти войны стали следствием смерти Бокха в 33 г. до н. э. — этот правитель был ставленником Октавиана и контролировал мавретан- цев. Дион Кассий утверждает, что Октавиан фактически аннексировал эту огромную территорию, и именно данным обстоятельством исследователи объясняют аномальное множество колоний римских ветеранов в пределах Мавретанского царства (в 25 г. до н. э. в нем был назначен новый марионеточный правитель Юба П). Но в целом не похоже, что Октавиан зашел столь далеко. В рассказе об урегулировании 27 г. до н. э. нет и намека на то, что Мавретания стала провинцией; ни один наместник Мавретании не известен по имени. А основание нескольких новых колоний в западной Мавретании, вероятно в 33 г. до н. э., не доказывает, что Октавиан намеревался аннексировать царство, поскольку известно, что позднее, после 25 г. до н. э., колонии, расположенные в Мавретании, управлялись из Испании, а значит, с институциональной точки зрения, такое устройство могло существовать и раньше11. Если бы в 33 г. до н. э. Октавиан посадил на престол Юбу, выросшего в его доме, это вызвало бы яростное сопротивление мавров (что и случилось позднее) как раз в самый критический момент гражданских войн. Но к такому же результату привела бы и аннексия. Октавиан просто отложил решение на время, а в 25 г. до н. э., после похода в Испанию, он счел, что настала пора действовать. Как мы увидим далее, Юба стал важным действующим лицом в планах Августа по устройству всей Африки.
11 Дион Кассий. XTJX.43.7; LDL12.4—6; Плиний. Естественная история. V.2. Гзелль, Гаску и Маки признают, что в краткий период с 33 по 25 г. до н. э. Мавретания была провинцией и, вероятно, управлялась из Испании, см.: Gsell 1930 (Е 741): 233; Gascou 1982 (Е 738): 144; Mackie 1983 (Е 753); но их основной аргумент о том, что Октавиан не отказался бы от Мавретании, ибо как раз тогда вел пропагандистскую войну против Антония, неубедителен, если учесть, сколь трудно было бы аннексировать в 33 г. до н. э. огромную территорию, населенную варварами, и одновременно готовиться к гражданской войне. О колониях см.: Mackie 1983 (Е 753).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
677
III. Экспансия Августа
Об экспансии Августа известно очень мало подробностей. Приходится довольствоваться именами в списках триумфаторов и несколькими упоминаниями в литературных источниках, часть из которых не поддается надежной идентификации. Известно о войнах в 21 г. до н. э., в 19 г. до н. э., ок. 15 г. до н. э., ок. 3 г. н. э. и в 6 г. н. э. В конечном итоге римляне основали постоянный зимний военный лагерь в Аммедаре (совр. Хандра) у истоков реки Баград (совр. Меджерда) на нагорных равнинах Туниса и к 14 г. н. э. достроили дорогу, которая спускалась с возвышенности через Капсу (совр. Гафса) к Такапе (совр. Габес) на тунисском побережье12.
О том, как далеко римская армия продвинулась за эти границы, ведется много споров, которые вращаются вокруг интригующего сообщения Плиния Старшего о том, что Луций Корнелий Бальб вел в пустыне войну против гарамантов и в 19 г. до н. э. отпраздновал триумф13. Также имеются краткие упоминания о победе, которую Косс Корнелий Лентул одержал в б г. н. э. над гетулами, восставшими против Юбы. Между этими двумя датами также сообщается о победе некоего Квириния над мармаридами и гарамантами (см. гл. 13j, с. 725—726 наст, изд) и о триумфальных отличиях (ornamenta), полученных Луцием Пассивном Руфом. Но с нелепыми теориями о том, что Бальб продвинулся до излучины реки Нигер через Тасили и горы Хоггар, никак нельзя согласиться, учитывая страшные трудности, с которыми столкнулась в XIX в. гораздо лучше экипированная французская экспедиция в Сахару, и следует предпочесть более умеренную гипотезу, согласно которой Бальб подавлял сопротивление римскому империализму со стороны ливийских племен в южных областях, примыкающих к пустыне.
В 25 г. до н. э. Юба П был назначен царем огромной страны, включавшей не только обе Мавретании (то есть территорию примерно от центрального Алжира до Марокко), но и — формально — гетульские и нуми- дийские облает, граничившие с римской провинцией и простиравшиеся до самой Киренаики; это вызвало постоянное и активное сопротивление различных племен — «кочевников» (nomades), как прозывает их Страбон14. Некоторые из этих племен, объединенных в непрочные союзы, традиционно кочевали по равнинам Константины, вплоть до Тунисского хребта, не признавая никаких искусственных границ. Вероятно, это вызывало столкновения, о которых свидетельствует надпись, установленная
12 CIL УШ 10018; EJ2 290; ILAFr 654: «Asprenas <...> pr.cos <...> viam ex castris hibernis Tacapes muniendam curavit legio Ш Augusta» («Аспренат <...> проконсул <...> позаботился о строительстве дороги из зимнего лагеря в Такапе. Ш Августов легион») (Tacapes — это несклоняемый вариант слова «Тасаре», здесь означает: «в направлении Такапе»).
13 Плиний Старший. Естественная история. V.35—38; Флор 11.31; Дион Кассий. LV.28.3—4. Названия, упомянутые Плинием, проанализированы в работах: Daniels 1970 (Е 725): 13-16; Desanges 1957 (Е 727).
14 Страбон. XVII.3.7 (828С); cp.: VI.4.2 (286—288С). Слово «nomades» по-гречески может означать и нумидийцев. О царстве Юбы см.: Desanges 1964 (Е 728).
678
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
римским колонистом примерно в 3 г. н. э. возле колонии Ассуры (совр. Занфур) на плодородной тунисской земле. Во всяком случае, сообщается, что Косс «подавил активность мусуламов и гетулов, которые кочевали на всё более широких просторах, и, стеснив их более узкими пределами и нагнав на них страху, принудил их держаться подальше от римских границ»15.
Упоминания о мармаридах, которых обычно локализуют в Киренаике, и о гарамантах из Феццана в современной Ливии показывают, сколь далеко на восток простирались приграничные земли провинции Африка, — так далеко, что исследователи даже высказывали гипотезу о временном изъятии Триполитании из провинции Африка и включении ее в провинцию Кирену, а также о совместных военных действиях двух наместников этих провинций. Если так, то эти действия продолжались недолго и не имели особых последствий, поскольку археологические находки в Фец- цане и ливийских долинах не подтверждают существования контактов между этими внутренними районами и Римом до эпохи Флавиев16. Но можно не сомневаться, что царство Юбы рассматривалось как часть оборонительной системы Африки, и именно из-за его неспособности справиться со столь сложной задачей римляне сами продвинулись на юг.
Южные племена вполне обоснованно считали Юбу агентом Рима и вообще не признавали царей над царями. Несложно понять, за что они сражались. Мусуламии, занимающие важное место в рассказах о войне, контролировали область вокруг Аммедары, и именно здесь в конце концов была размещена штаб-квартира легиона. Дорога с базы к заливу Габес служила препятствием на пути традиционных сезонных перемещений ливийцев-гетулов к северу от оазисов и шоттов (соляных болот) юго-восточного Туниса. Триполитания, расположенная восточнее, нуждалась в защите от гарамантов, проживавших в Феццане, и насамонов из залива Сирт; оба эти народа, вероятно, рассматривали дорогу, достроенную в начале правления Тиберия, как угрозу собственной независимости17. О том, планировал ли Август крупные перемены в этом регионе или просто принимал меры для защиты провинциалов, будет сказано позже. Ясно, что проблему он не решил.
IV. Тиберий и Такфаринат
В процессе замирения западных провинций за завоеванием нередко следовало вооруженное сопротивление; очевидными примерами могут слу¬
15 CIL УШ 16456; Орозий. История против язычников. VI.21.18 [Пер. В.М. Тюленева); Флор. П.31.
16 Отчет об исследовании ливийских долин под эгидой ЮНЕСКО публикуется в периодическом издании «Libyan Studies» с 1979 г. Предположение о том, что Триполитанию могли временно присоединить к Киренаике, первым выдвинул Гзелль, см.: Gsell 1930 (Е 741).
17 Ер 291 — мильный камень с упоминанием дороги.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
679
жить восстание Сакровира и Флора в Галлии, мятеж Боудики в Британии, движение Цивилиса в Германии. Источники называют различные причины сопротивления Риму: ненависть к надменным и продажным чиновникам, неприязнь к офицерам, проводившим наборы. Несомненно, зачастую повстанцы пользовались удобным моментом, когда казалось, что Рим занят другими проблемами. Но наибольший гнев у провинциалов вызывало введение римского земельного налога18.
Восстание Такфарината следует рассматривать как следствие наступления римлян, которое повлекло за собой планомерную конфискацию земель, введение упорядоченной системы налогообложения и обязательного набора рекрутов. О податях известно немного, но недатированное посвящение сорока четырех общин (civitates) Африки в честь трибуна Ш Августова легиона, совершившего здесь ценз, показывает, что определенную роль в установлении налогообложения играли военные19. Такфа- ринат, вождь нумидийских мусуламиев, служил в римских вспомогательных войсках, несомненно, в составе этнического контингента. Итак, налицо все составляющие империализма, которые способствовали втягиванию южных гетулов под власть Рима.
Вероятно, сразу после того как Аммедара стала штаб-квартирой легионов, начался кадастровый учет земель южного Туниса для целей налогообложения, завершенный в 29/30 г. н. э.; основная ориентировочная прямая кадастра (decumanus maximus) проходила, видимо, через коническую вершину Джебель-Бу-эль-Ханеше, расположенную строго к северу от лагеря20. Таким образом, «гетульские племена» (римляне использовали это понятие в широком смысле и включали в него такие южные племена, как мусуламии, кинифии, нибгении и такапийцы) обнаружили, что их сезонным миграциям теперь препятствуют приграничные дороги и укрепления. Не меньшее раздражение вызвало у них, вероятно, и требование римлян признать власть Юбы — римской марионетки; в этом вопросе гетульские племена и западные мавры нашли общую почву для сопротивления. Серебряные монеты Юбы, отчеканенные в 16 г. н. э. (за год до римского вторжения) и прославлявшие его победы, вероятно, свидетельствуют о том, что царь пытался самостоятельно справиться с беспокойными племенами21.
Трудно представить, что война Такфарината с Римом, всё-таки разразившаяся в 17 г. н. э. и продолжавшаяся до 24 г. н. э., всерьез угрожала римской власти в Африке. Веллей Патеркул, современник событий, едва упоминает о данном конфликте, и, если исключить обрывочные фразы у позднейших эпитоматоров, лишь Тацит придает ему какое-то значение, поскольку его глубоко волновала история правления императора Тиберия, когда эти события и произошли. Тацита не слишком занимала гео-
18 Dyson 1975 (С 266). О причинах сопротивления в целом см.: Дион Кассий. LXVII.4. 6; Тацит. Анналы. Ш.40; Тацит. История. IV. 14; Тацит. Агрикола. XXXI.
19 CIL Ш 338. О земельных требованиях Такфарината см.: Тацит. Анналы. Ш.73.
20 Trousset 1978 (Е 768): 141.
21 Desanges 1964 (Е 728).
680
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
графил войны и вообще не интересовали ее причины. В его сочинении упоминается несколько мест сражений — Тубуск, Тала, Авзия, Цирта, Аеггга и река Пагида и сообщается, что в боях участвовали разные племена, в частности кинифии и гараманты22. Но все реконструкции, основанные на этих сведениях, очень ненадежны. Авзия, если она идентична одноименному городу (совр. Сор-Эль-Гозлане), существовавшему в последующие годы к юго-востоку от Алжира, отстояла на 1600 км от Большой Лепты. Тубуск может быть идентичен упомянутому позднее Тубурсику Нумидийскому (совр. Хамисса) на востоке Алжира, или Тубурсику Буре (совр. Тебурсук) в Тунисе, или одному из полудюжины других поселений со сходными названиями. Тем не менее, следует отметить, что война была масштабной и на востоке затронула гарамантов, а на западе распространилась на значительную часть Алжира.
Военные действия начались с нападения на Талу, расположенную возле Аммедары, и скоро охватили другие поселения. Вероятно, это означает, что конные кочевники предприняли серию характерных для них молниеносных набегов (razzia) вглубь провинции Африка. От возмездия римлян гетулы ускользали, отступая в «пустыню», пока в 18 г. н. э. не прибыл новый наместник — Юний Блез, дядя Сеяна. Как он, так и его преемник Публий Долабелла, командовавший в 23—24 гг. н. э., придерживались единой стратегии, которая во времена Англо-бурской войны называлась «стратегией блокпостов»: чтобы отрезать Такфарината от базы, они размещали постоянные крепости (castella) и укрепления в «подходящих местах», контролирующих проходы к Тунисскому хребту, вероятнее всего, в таких пунктах, как Кассерина, Сбейгла и Телепта, где позднее выросли римские города.
IX легион (или его части) был переведен из Паннонии23 — отчасти для защиты Большой Лепты от гарамантов, а отчасти, как представляется, для контроля над ливийскими земледельцами, проживавшими в пределах старой провинции, потому что, как только в 22 г. н. э. легион был отозван, они взбунтовались. Так пошатнулась стабильность, за достижение которой Блез в этом же году получил триумфальные почести, а в 23 г. н. э. трудности лишь усугубились: на смену Юбе пришел его сын Птолемей, отвративший от себя значительную часть своих маврских войск. Несмотря на это, в 24 г. н. э. Долабелла, имевший опыт командования на Дунае, поймал наконец Такфарината в ловушку в мавретанской Авзии, убил его и казнил нескольких вождей мусуламиев. Вскоре после этого гетульские племена (nationes Gaetulicae) были подчинены римскому военному префекту. После усмирения мусуламиев гарамантам тоже пришлось молить Рим о мире и, вероятно, расплатиться за него территориями, которые были присоединены к Большой Лепте24.
22 Тацит. Анналы. П.52; Ш.20—21, 32, 73—74; IV.13, 23—26; Веллей Патеркул. П.125. Географию военных действий рассмотрел Сайм, см.: Syme 1951 (Е 764).
23 Тацит. Анналы. Ш.74; EJ2 210 — в этой надписи упоминается командир Публий Корнелий Лентул Сципион, прибывший вместе с легионом.
24 Аврелий Виктор. 4.2; ILS 2721; IRT331; EJ2 218а (датируется 35/36 г. н. э.).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
681
С этого времени и до конца правления Тиберия в источниках больше нет сведений ни о каком сопротивлении в Африке, хотя можно предположить, что составление земельного кадастра, которым занимались военные на огромной территории в юго-восточном Тунисе, постоянно вызывало трудности. Судя по сохранившимся межевым камням с номерами, кадастр ация охватила 27 тыс. км2, вплоть до Шотт-эль-Феджаж. В процессе кадастровой регистрации землю разграничивали на большие участки для целей налогообложения, но имеются и отдельные свидетельства о ее цен- туриации (разделении на более мелкие части) и, вероятно, распределении. К 29/30 г. н. э. основные работы по землемерному обследованию были завершены, и наместник Гай Вибий Марс установил межевые камни, из которых сохранилось двадцать экземпляров. Это обследование почти наверняка инициировал Долабелла, недавно получивший аналогичный опыт в Далмации; в Риме этот человек не пользовался почтением, но в Лепте его запомнили25.
Восстание Такфарината не представляло особой опасности, однако оно дает нам важные сведения о характере африканского общества и обстановке на границах в то время. Некоторые особенности этого восстания требуют разъяснения: хотя поднявшие его союзы племен занимали обширные территории, однако их сопротивление оказалось слабым; в ходе восстания проявилась тесная взаимосвязь между пустынными и плодородными землями, нарушенная римским вторжением. Древние и современные авторы используют общие термины «вся Гетулия» («tota Gaetulia»), или «Нумидия», создающие обманчивое впечатление единства Африки, но на самом деле единства не было. С указанными племенами можно сопоставить современные полукочевые народы южного Туниса и алжирских болот: каждый из таких народов — это крайне нестабильный союз оседлых и кочевых групп, единство которых определяется успешностью их набегов и экономического взаимодействия. Им важнее свободно передвигаться, пользоваться пастбищами и вести меновую торговлю на весьма обширных территориях, чем быть полноправными собственниками земли или иметь четко очерченные границы.
Такфаринат был нумидийцем или гетулом из племени мусуламиев; доказав в ходе войны свое право на первенство, он заключил широкие, но непрочные союзы с другими группами мавров, гетулов и гарамантов, тоже недовольных римским правлением. Мусуламии, его соплеменники, очевидно, имели особые связи с народностями, обитавшими на тунисском и алжирском нагорье и имевшими зимние базы в южных оазисах и соляных болотах. Сообщается, что Такфарината поддерживали земледельцы центрального Туниса, а Тацит пишет, что вождь нумидийских мусуламиев торговал выращенным там зерном. Такфаринат требовал земельных уступок в пользу своего народа; возможно, он желал осесть, а возможно — просто добивался свободного прохода к пастбищам, которые исгори-
25 Межевые камни см.: CIL VTH 22786 (cp. EJ2: 264), 22789; ILTun 71, 73, 74. Памятник в Лепте см.: АЕ 1961: 107—108. См.: Trousset 1978 (Е 768).
682
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
чески принадлежали мусуламиям. Конфликт Массиниссы с пунийцами из Карфагена свидетельствует, что в те дни ливийские кочевники считали, будто обладают исконным правом доступа на «великие равнины» центрального Туниса — плодородные нагорья, где главным образом и выращивалась пшеница26.
Почти наверняка римские понятия права собственности и границ не использовались в обыденной жизни южных племенных групп (таких как такапийцы или нибгении), которые почти не взаимодействовали ни с пуническими, ни с римскими республиканскими властями. Римский термин «limitare», означавший разметку земли при помощи межевых камней при составлении кадастра, стал использоваться для обозначения границы и уже на этом этапе приобрел оттенок «ограничения», контроля над перемещениями южных племенных групп27. Если Такфаринат дошел до равнины Константины по дорогам, пролегавшим к югу от гор Орес (что представляется вероятным), то римляне уже тогда должны были осознать необходимость контроля над этими путями.
V. От Гая до Нерона
Император Гай считается инициатором двух важных перемен, осуществленных Римом в Северной Африке: это вывод армии под командованием легата (legatus) из провинции Африка и лишение Мавретании независимости. Если говорить строго, то ни первое, ни второе не верно. Обе реформы были обусловлены конкретными причинами. О первом мероприятии Тацит и Дион Кассий рассказывают кратко и противоречиво;28 но в целом оба автора согласны друг с другом в том, что Гай опасался поручать командование войском сенаторам высокого ранга, однако в 37 г. н. э. он не вывел легион из провинции, а изъял его из прямого подчинения наместнику и из сферы его влияния, поставив во главе этой воинской части императорского легата. Армия продолжала действовать в пределах провинции29. Подобное разделение полномочий не было ни беспрецедентным, ни даже необычным, и время от времени наместники-проконсулы снова принимали на себя военное командование. Однако, если говорить о географии, то вскоре после этой реформы, в эпоху Флавиев, армейская база действительно была перенесена в плохо известную область Нумидии, к юго-западу от Аммедары, сначала — в Тевесге (совр. Тебесса), а затем — в Ламбесис (совр. Ламбесе).
26 Отметим присутствие нумидийцев в Маскулуле невдалеке от Симитту (ср. далее, сноска 29 наст, изд.), см.: EJ2 111. О зерне Такфарината см.: Тацит. Анналы. IV. 13. О требованиях Массиниссы см.: Аппиан. События в Ливии. 68.
27 «Leg<io> Ш Aug<usta> leimitavit» («Ш Августов легион разграничил»); напр.: EJ2 264.
28 Тацит. История. IV.48; Дион Кассий. ЫХ.20.7. Benabou 1972 (Е 714).
29 См., напр.: EJ2: 260 — надпись солдата, который к этому времени девятнадцать лет прослужил на заставе в Симитту на северо-западе провинции; Тацит. История. IV.50 — упоминание о легате в Гадрумете.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
683
Решение об аннексии Мавретании — огромной территории, простиравшейся от алжирской Ампсаги (совр. Уэд-эль-Кабир) на запад до самой Атлантики, — принял Клавдий, преемник Гая, по итогам войны, разразившейся после того, как в 40 г. н. э. Гай казнил Птолемея. Вопрос о том, почему Гай это сделал, остается открытым, поскольку античные авторы, повествующие об этом эпизоде — Тацит, Светоний и Дион Кассий, — не питали симпатий ни к Гаю, ни к мавретанскому царю и дали волю своим предубеждениям30. Светоний рассказывает невероятную историю о том, как Птолемей затмил императора, появившись в пурпурном плаще на публичных зрелищах в Лионе. Дион Кассий сообщает более правдоподобную причину казни царя: у Гая возникли опасения, что Птолемей слишком уж разбогател. Тацит изображает Птолемея слабым, непопулярным щеголем, который во всем подчинялся своим вольноотпущенникам.
Обширное царство Мавретания всегда представляло угрозу для Рима, и угроза эта неизменно была персонифицирована в лице мавретанского правителя: он мог стать слишком независимым и выйти из-под римского контроля. Птолемей чеканил золотые монеты, что обычно было прерогативой императоров, и это заставляет предположить, что он притязал на самостоятельность — как раз в то время на северной границе империи Гаю угрожал заговор выдающихся сенаторов, одним из лидеров которого был Корнелий Лентул Косс «Гетулик»; отец последнего в 6 г. н. э. вел военные действия в союзе с Юбой и по наследству передал сыну свои политические связи. Сам Птолемей, несомненно опасавшийся, что римляне всё глубже будут проникать в Нумидию и Мавретанию, добровольно присоединился к планам заговорщиков. В конце концов, он был внуком Антония и кузеном императора. Неудивительно, что в 39 г. н. э. Птолемея вызвали именно в Галлию, поскольку император отправился туда как раз для того, чтобы покончить с кризисом на севере. Внешняя бравада, которую позволил себе Птолемей, окончательно убедила Гая в том, что царя пора устранить. Так ушел последний из великих ливийских царей.
Если бы Птолемей был столь непопулярен у подданных, как утверждает Тацит, его смерть едва ли вызвала бы бурную реакцию в западной Мавретании и уж тем более не привела бы к восстанию под предводительством одного из Птолемеевых «вольноотпущенников» — Э демона. Можно предположить, что последний на самом деле был вассалом Птолемея, одним из мавретанских правителей при его дворе, и что многие вожди мавров видели в Птолемее символ собственной свободы. Впоследствии римские наместники проводили дальновидную политику — они чтили память Юбы П и Птолемея и возводили им статуи, а один римский претендент на власть, дабы получить поддержку местных жителей, даже самонарекся в 69 г. н. э. именем Юбы31. Археологические свидетельства
30 Светоний. Гай Калигула. 35; Дион Кассий. LEX.25; Тацит. Анналы. IV.23. См.: Faur 1973 (Е 730) — данная работа предпочтительнее, нежели: Fishwick 1971 (Е 732).
31 АЕ 1966: 595; Тацит. История. П.58—59.
684
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
указывают, что восставшие совершили вооруженные нападения на такие города западной Мавретании, как Тамуда, Лике и Куасс, где римляне, несомненно, вели торговлю. В Волубилисе — важном центре, который, возможно, имел особый статус, предоставленный договором, — к этому времени уже многие местные семьи получили римское гражданство, что подтверждают две знаменитые надписи в честь Марка Валерия Севера, сына Бостара, который собрал нерегулярную конницу, а впоследствии сумел добиться для города привилегий, в том числе и «римского гражданства» (что, вероятно, означало получение муниципального статуса)32.
Для Рима эта долгая война шла тяжело и требовала снабжения из Испании. Основные сведения о военных действиях дает современник — Плиний Старший, а дополняет его Дион Кассий33. Однако ясно, что, в отличие от Плиния, Дион Кассий правильно датирует начало войны — 40 г. н. э., до прихода Клавдия к власти. В 41-^2 гг. н. э. военные действия охватили ущелье Мулуя, затем Средний Атлас и пустыню, но к 44 г. н. э. кампания была завершена, а вся территория царства превратилась в две римские провинции — Мавретания Цезарейская и Мавретания Тингитанская, которые управлялись, соответственно, из Цезареи (совр. Шершель) и Тингиса (совр. Танжер).
Возможно, война против Эдемона стала искрой, из которой вновь разгорелось пламя мятежа мусуламиев, поскольку известно, что в 45 г. н. э. Гальба (будущий император) был назначен наместником Африки в чрезвычайном порядке (extra ordinem) на два года, чтобы покончить с волнениями в Нумидии, и для решения этой задачи он вел военные действия и в восточном Алжире, который ранее принадлежал Юбе34. Но, как и прежде, не стоит поддаваться соблазну и воображать, что национально-освободительное движение охватило всю Африку: эти беспорядки следует воспринимать как отдельные вспышки, характерные для данного региона.
Предотвращать такие вспышки позволяла романизация — основание колоний римских ветеранов и дарование гражданства отдельным лицам, чем особенно прославился Клавдий35. Город Тингис был основан заново, Лике повышен в статусе до колонии и, возможно, укреплен, хотя полной уверенности в этом нет. В Новой Крепости (Oppidum Novum) располага¬
32 «Praef<ectus> auxilior<mn> adversus Aedemonem oppressum bello» («префект вспомогательных войск против Эдемона, уничтоженного на войне») — GCN: 407. Вопрос о том, подразумевается ли под предоставлением римского гражданства (civitas romana) муниципальный статус, является спорным; об этом и о предполагаемом федеративном статусе Волубилиса см.: Gascou 1982 (Е 738): 148—149.
33 Romanelli 1959 (Е 760): 260; ср.: Дион Кассий. LX.24.5; Дион Кассий. LX.8—9; Плиний Старший. Естественная история. V.11—15.
34 Аврелий Виктор. О Цезарях. 4.2; Светоний. Гальба. 7—8; ср.: Тацит. История. 1.49; Дион Кассий. LX.9.6; Плутарх. Гальба. 3; АЕ 1966: 595. История «национального самосознания» и «постоянных мятежей» в Римской Африке рассмотрена в работе: Benseddik 1982 (Е 716): 145-162.
35 Gascou 1982 (Е 738): 145-158; Mackie 1983 (Е 753).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
685
лось недавнее поселение ветеранов, защищавшее внутренние земли Цезареи, а Типаса и Русукурру, расположенные на побережье, стали муниципиями с латинскими правами. Сама Цезарея получила статус колонии, хотя это и не означает, что она приняла новых поселенцев. Волубилис, как мы уже видели, извлек из своей лояльности много выгод.
Непросто объяснить, почему обеими Мавретаниями руководили прокураторы-всадники, тем более что время от времени туда назначались и легаты из сенаторского сословия (например, в 75 г. н. э. или в 144 г. н. э.), а иногда прокуратор с титулом пролегата (pro legato) управлял объединенной территорией двух Мавретаний. Может быть, дело просто в том, что в этих провинциях не стояло ни одного легиона? Или в том, что Клавдий в каком-то смысле считал себя наследником Птолемея (подобно тому, как в Египте римские императоры считали себя наследниками фараонов)? Или в том, что из-за чудовищной отсталости этой области ее нельзя было рассматривать как организованную провинцию (схожим образом обстояло дело и на альпийских территориях)? И в самом деле, эти провинции так и остались довольно неразвитыми, защита их южных границ представляла трудности, а коммуникации между двумя Мавретаниями были плохо налажены36.
Вклад Нерона в историю Африки, насколько нам известно, свелся к единственному мероприятию — он конфисковал значительную часть частной собственности в центральном Тунисе. С красочными преувеличениями Плиний Старший пишет, что прежде половиной Африки владели шестеро собственников, пока их не казнил Нерон. Некоторые следы этой резкой перемены, возможно, сохранились в надписях П в. н. э. из долины Среднего Баграда, где фигурирует поместье под названием «saltus Neronianus», располагавшееся по соседству с другими поместьями, носившими имена древних римских родов: «saltus Lamianus, saltus Blandianus, saltus Domitianus»37. Нет оснований предполагать, вслед за некоторыми исследователями, что эти конфискации Нерон произвел в рамках некой политики по увеличению поставок зерна для жителей Рима (см. далее, с. 703—704 наст. изд.).
В 68 г. н. э. легат Луций Клодий Макр, последний командир легиона при Нероне, скандально прославился жестокими казнями африканцев, произведенными, вероятно, в интересах Нерона. Едва раскрылась тайна, что императором можно стать и не в Риме, как у Макр а, судя по всему, уже взявшего на себя обязанности наместника, возникли собственные императорские амбиции. Во время борьбы, развернувшейся после смерти Нерона, он пытался использовать в своих интересах поставки зерна в Рим,
36 См. обсуждение: Marion J., Euzennat М. //Bull. Arch. Maroc. 4 (1960): 442-447, 525— 527.
37 Плиний. Естественная история. ХУШ.35. Надписи: NTH 463, 464 переведены и рассмотрены в работах: Kehoe 1988 (Е 746); Carcopino 1906 (Е 723). Лучший текст см.: Flach 1978 (Е 734).
686
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
к чему его подталкивала одна из придворных приятельниц Нерона38. Но по приказу Гальбы Макр был убит, а когда пал сам Гальба, провинция оказалась добычей враждовавших между собой сторонников Вителлия и Веспасиана. Достаточно странно, что трое из претендентов на императорскую власть — Гальба, Вителлий и Веспасиан — ранее служили в этой провинции, причем последний пользовался здесь наименьшей популярностью. Но Валерий Фест, командир африканского легиона, поддерживавший Веспасиана, обладал самостоятельной властью; он расправился с проконсулом Луцием Кальпурнием Пизоном и, конечно, получил за это награду39. Некоторые исследователи считают, что Пизон, как и ранее Макр, манипулировал поставками зерна в Рим.
Что касается Мавретании, то в краткое правление Гальбы наместник Цезарейской провинции Лукцей Альбин получил командование и в Тин- гитанской Мавретании — вероятно, Гальба желал противопоставить его Макру. Альбин собрал крупные вспомогательные войска численностью в 12 тыс. человек, а после падения Гальбы объявил о своей независимости и стал готовить вторжение в Испанию. Однако сторонники Вителлия убили его, положив конец его притязаниям.
После окончания гражданских войн римское управление в Африке нуждалось в реорганизации. Соперники, боровшиеся за власть, предоставили провинциалам слишком большие налоговые послабления. Города Африки использовали эти войны для ведения собственной вендетты: например, город Эа призвал гарамантов в поход против Лепты. Следовало также ослабить напряжение, возникшее между легатом легиона и намесг- ником-проконсулом. Можно предположить, что в ходе всех этих конфликтов мавры и нумидийские племена внутренних земель тоже не остались безучастны, а потому потребовалось укрепить безопасность границ. Кроме того, со всей наглядностью проявилась необходимость защищать и развивать производство африканского зерна, а с данного времени — еще и масла. Вся эта работа предстояла новой администрации Флавиев.
VI. Управление и организация провинции
Какие бы планы ни строил Цезарь, от его реальных достижений сохранилось немногое. Провинция Новая Африка, конечно, была его творением; она, вероятно, простиралась от «царского рва» («fossa regia») — республиканской границы, унаследованной от нумидийских царей, на запад. Но неясно, включил ли Цезарь в состав провинции анклав ситтианцев, располагавшийся вокруг Цирты. Октавиан сразу понял, что иметь одновременно две провинции Африка неудобно, тем более что к новой колонии Кар¬
38 Плутарх. Гальба. 6; ср.: Тацит. История. 1.11; Светоний. Гальба. 11; Тацит. История. 1.73. Неправдоподобное предположение, согласно которому Макр действовал заодно со сторонниками сената, см. в изд.: BunanJ. // Klio (1960) 38: 167—173.
39 Тацит. История. IV.38, 48—50; MW 266 — свидетельство о его военных наградах и карьере при Флавиях.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
687
фаген он решил присоединить ветеранские поселения гетулов, находившиеся за пределами fossa regia Дион Кассий упоминает, что поначалу Август отдал в управление Юбе П ту область Новой Африки, которой прежде правил отец последнего — Юба I40. Но, учитывая важное значение африканского зерна для Рима, это представляется маловероятным.
Итак, как уже говорилось выше, в 35 г. до н. э. была создана единая проконсульская провинция Африка, которая включала все принадлежавшие Риму территории, в том числе и область вокруг Цирты. Известен лишь один легион, дислоцированный в этой провинции постоянно, — Ш Августов; правда, и о нем сведения имеются лишь с 14 г. н. э., хотя очевидно, что он находился там и раньше, а до перемещения в Аммедару, возможно, стоял в Карфагене. Почти наверняка в провинции имелось и довольно много вспомогательных войск, набранных на месте, — в то время поставка рекрутов была обычной обязанностью местных общин. Но о точном числе иноземных или местных вспомогательных отрядов, располагавшихся в то время в Африке, можно лишь догадываться. В Аммедаре найдена стела, установленная до правления Флавиев, на которой упоминается XV когорта добровольцев (cohors XV Voluntariorum), — несомненно, нерегулярный отряд римских граждан; кроме того, в Африке засвидетельствовано пребывание Силиевой алы (ala Siliana)41. Вероятно, оба отряда были набраны на месте.
Проблема взаимоотношений провинциального наместника с армией, а провинции и армии — с Августом интересует историков, пожалуй, больше, чем она интересовала самого Августа. Согласно урегулированию 27 г. до н. э., Африка формально стала провинцией римского народа, однако император всегда жестко контролировал тамошнюю армию, куда мог отправлять — и иногда отправлял — легата легиона, хотя формально наместник имел право ставить собственных легатов. Более того, император всегда имел возможность влиять на назначение наместника, если тому предстояла важная война. Тиберию несложно было «убедить» сенат в том, что для ведения кампании в 18 г. н. э. разумно будет избрать на должность наместника Африки Юния Блеза42. При Клавдии Гальба стал наместником Африки без жребия (extra sortem), когда в таком назначении возникла необходимость. Итак, в целом проблемы решались от случая к случаю — даже после того, как Гай покончил с ненормальной ситуацией, когда назначенный императором командир подчинялся наместнику.
Невозможно установить, где именно пролегали границы провинции в правление Августа, когда она еще находилась в процессе реорганизации.
40 Дион Кассий. П.15.6; ОП.26.2.
41 О легионе см.: EJ2 290 (14 г. н. э.); CIL УШ 22786; о вспомогательных войсках см.: CIL УШ 23252, 23255, 25646; АЕ 1972: 969; Тацит. История. 1.70. Для раннего периода численность вспомогательных войск установить невозможно, но см.: Cagnat 1913 (Е 722): 107-110, 140 сл.; Holder 1980 (D 195): 289, 330.
42 О Блезе см.: Тацит. Анналы. Ш.32, 35. Отношения между наместником и легатом описаны у Диона Кассия (ЫП.14.7) и Тацита [История. IV.48) и рассмотрены в работе: Benabou 1972 (Е 714).
688
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Примерно через пятьдесят лет после смерти Августа Плиний Старший, описывая побережье Магриба, привел два разных недатированных списка колоний и городов, которые ряд исследователей стали возводить к раннему устройству провинции (formulae provinciae)43. Но эта точка зрения неправдоподобна. Какая-то часть тех списков датируется, вероятно, эпохой Юлия Цезаря, поскольку в них содержится разделение на две провинции — Старую и Новую Африку. Другие части списков были обновлены, так как они включали колонии, основанные Августом или Клавдием. Многие города, упоминаемые в списках, не отнесены к какой-либо определенной правовой или податной категории, но помечены туманным общим словом «крепости» («oppida»). Реконструировать устройство этой области, проведенное Августом, на основании таких данных — безнадежное дело. Тем не менее списки Плиния всё же дают нам кое-какие опорные точки.
Исследуя налогообложение в провинции, мы можем опираться лишь на несколько уже упомянутых надписей, где зафиксировано составление нового земельного кадастра на юге. В северной части провинции сохранилось довольно много следов кадастрации и центуриации вдоль ориентировочных линий, проложенных еще в эпоху Республики; возможно, эту работу провели наместники Августа, распределявшие наделы среди новых поселенцев, ибо кадастрация не ограничивалась «царским рвом» («fossa regia») и распространялась гораздо дальше. Между северной и южной системой межевания, в прибрежных районах Бизация, обнаруживается и третья землемерная ориентация, применявшаяся на обширных площадях, а также следы еще нескольких кадастраций, менее значительных: эти работы, возможно, проводились первыми императорами44.
К сожалению, следы кадастр ации не дают нам сведений о том, как устанавливались и взимались налоги. Вероятнее всего, при Юлиях—Клавдиях сохранялся республиканский порядок, поскольку в этот период засвидетельствованы субъекты налогообложения и отдельные агенты по сбору налогов, существовавшие в этом статусе еще до установления Империи. Иначе говоря, в Африке поддерживалась смешанная система налогообложения, установленная аграрным законом 111 г. до н. э., согласно которому с местных общин или владельцев движимого имущества взималась фиксированная сумма (stipendium), а с римских граждан, купивших государственные земли, — десятина (decuma). Этот налог взимался в дополнение к пастбищной подати на скот. В отсутствие иных свидетельств можно предполагать, что для новых римских поселенцев, за исключением ветеранов, действовал тот же порядок, что и для старожилов. Однако на папирусе сохранился эдикт Августа, изданный в 31 г. до н. э., соглас¬
43 Плиний Старший. Естественная история. V.1—30. Эти списки проанализированы в работах: Teutsch 1962 (Е 765), Brunt 1971 (А 9): Прил. 13.
44 Chevallier 1958 (Е 724); Atlas des centuriations romaines de Tunisie (Paris, 1954). Dilke 1971 (A 21): 151-158.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
689
но которому ветераны и их дети получали пожизненное освобождение от налогов. А наследникам гетульских ветеранов Юлия Цезаря, возможно, в какой-то форме было предоставлено освобождение от трибута навечно45.
Если эта реконструкция верна, то ведомство квестора, видимо, сдавало сбор налогов на откуп публиканам, по результатам торгов заключавшим контракты, стоимость которых определялась суммой обложения местных стипендиарных общин (civitates stipendiariae), сгруппированных в блоки. К сожалению, единственное реальное свидетельство о такой организации — посвящение в честь квестора, поставленное откупщиками (mancupes) налогов со стипендиарных общин (stipendiarii),— не поддается датировке, хотя, вероятно, относится к эпохе Августа. Однако, в отличие от более позднего времени, civitates, судя по всему, не являлись независимыми податными сообществами — это были деревни, объединенные в сельские округа, как и в эпоху пунийского Карфагена. Сохранились даже римские надписи, в которых упоминаются эти старые пунийские земельные участки, на латинском языке называвшиеся патами (pagi). В одной такой надписи упомянуто сорок четыре общины (civitates) пага Туск и Гунзуз — этот текст вызывает в памяти сообщение Ап- пиана о пунийской «земле Туске» — области пятидесяти городов. Также имеется надпись, сделанная вскоре после основания римского Карфагена, где упоминается административный округ из восьмидесяти трех поселков (castella) под управлением Марка Целия Филерота — карфагенского судебного чиновника, который раз в пять лет устанавливал для них налоги46.
По мере расширения римской власти на юг военные округа, вероятно, превращались в административные районы: сохранилась надпись с упоминанием ценза, который в сорока трех общинах (civitates) провел трибун Ш легиона (с. 679 наст. изд.). Также известно, что при Августе существовал императорский прокуратор на «равнине Бизация»; вероятно, то был офицер, отвечавший за снабжение, или агент, управлявший императорскими поместьями. Все эти сведения, однако, весьма скудны.
45 Республиканская система налогообложения рассмотрена в: САН IX2: 585—589. Эдикт Августа о ветеранах см.: EJ2 302. О гетулах см. далее, с. 695 наст. изд.
46 О «mancupes» см.: EJ2 191; о «civitates stipendiariae» и т. д. см.: АЕ 1963: 96; Аппиан. События в Ливии. 68; cp.: ILS 9482 — в данной надписи указаны паги Мукси, Гузузи и Зев- геи (pagi Muxsi, Gususi et Zeugei). Надпись EJ2 355 относится к стипендиарным общинам пага, называвшегося, видимо, Гурзенс (Gurzenses), и содержит названия трех пунктов, один из которых — это Узита, которую Юлий Цезарь называет поселком (oppidum) возле Гадрумета (Африканская война. 41), а другой — Гурза, позднее известная как община (civitas) в той же местности. В надписи CIL УЛЕ 23599 упомянут префект шестидесяти Двух общин (civitates) в Мактаре в более поздний период. Анализ всех этих сведений см.: Picard 1966 (Е 758). О Филероте см.: EJ2 330. Он служил у наместника Тита Секстия примерно в 43—40 гг. до н. э.
690
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
VII. Города и колонии47
Общеизвестно, что Римская империя, в сущности, была лишь совокупностью городов-государств, которым император обеспечивал оборону в обмен на уплату ими налогов. Таким образом, основной административной единицей Империи являлся именно город, или civitas. Африка отличалась от других западных провинций: здесь проблема римлян состояла не в том, чтобы убедить сельское население, рассеянное по обширным территориям, собраться в городах (как это было в северной Галлии и Британии), а в том, чтобы превратить множество уже существовавших мелких, независимых селений и крепостей на холмах в управляемые общины. Несмотря на наличие прибрежных карфагенских городов и нескольких местных центров (таких как Тугта), за сто лет владычества Римской республики в Африке этот процесс не слишком продвинулся.
Только гражданские войны и принципат принесли крупные перемены. Вследствие этих войн возникла острейшая необходимость демобилизовать солдат; эти же войны дали Риму землю для расселения ветеранов. Август был достаточно настойчив, чтобы провести эти мероприятия, и достаточно заинтересован, чтобы осознавать, что его политическое выживание зависит от награждения ветеранов и от регулярного обеспечения продовольствием переменчивых в настроениях жителей Рима. Главными столпами римского империализма в Африке стали колонии, общины и зерно.
Для начала рассмотрим колонии. Не считая Карфагена, Юлий Цезарь и Август основали двадцать шесть или двадцать восемь колоний на всем пространстве Магриба. Не все они датируются правлением Цезаря или Августа — некоторые могли быть выведены вскоре после смерти последнего48. На карте 13 обозначены названия тех колоний, сведения о которых сравнительно надежны. Очевидно, некоторые из этих поселений имели оборонительную, военную цель — именно так обычно и обстояло дело в колониях, где компактно проживали ветераны одной и той же воинской части. Воины ХШ легиона были поселены в Малом Тубурбо (совр. Тебу- ра) и в Утине (совр. Удна), которые служили укреплениями для Карфагена и контролировали южные и западные долины рек Меджерда и Милиа- на. Точно так же колонии в Зуккабаре (совр. Милиана) и Аквах (совр. Риха Хаммам) защищали Цезарею, столицу Юбы, от набегов из внутренней Мавретании. Колонии вдоль алжирского и марокканского побережий служили важными портами, а колонии на побережье восточного Туниса и мыса Бон контролировали старые пунийские порты. На территории, ранее составлявшей провинцию Новая Африка, пунийский город Сикка Ве- нерия — единственная колония, где имеется надпись с упоминанием Ав¬
47 Свидетельства см. в работе: Gascou 1972 (Е 735); Gascou 1982 (Е 738).
48 Эти проблемы всесторонне проанализированы в работе: Teutsch 1962 (Е 765). См. также: Brunt 1971 (А 9): прилож. 15.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
691
густа в качестве ее основателя (conditor);49 все остальные колонии — Ту- бурника, Симитту и Ассура, — возможно, поначалу являлись сателлитами Сикки (военными укреплениями или поселениями ветеранов). Аммедара, к 14 г. н. э. служившая легионной базой, стала колонией при Флавиях.
После аннексии Мавретании Клавдий продолжил политику основания колоний (с. 684—685 наст, изд.), хотя во многих случаях он просто повышал статус городов, не отправляя в Африку новых поселенцев. Это означает, что в правление Юбы и Птолемея происходила романизация их царства и неофициальная иммиграция в Мавретанию. Новая Крепость (Oppidum Novum), при Клавдии ставшая колонией ветеранов, вначале могла быть гарнизоном римских вспомогательных войск, отправленных в помощь Юбе, поскольку известно, что там имелся куратор (curator) форта50.
Подражая другим эллинистическим правителям, Юба поставил задачу возвести в Иоле Цезарее (совр. Шершель) подчеркнуто образцовый город, с прямоугольной планировкой и множеством монументальных строений51. Самое важное место в нем занимали храмы, в том числе храм Августа, от которого сохранилась колоссальная статуя императора; это свидетельствует об обдуманном политическом намерении Юбы принести маврам римскую городскую культуру и навести порядок в производстве и потреблении ресурсов сельской местности. Возможно, предоставление Цезарее статуса колонии не повлекло за собой прибытия новых поселенцев, но, вероятно, в город переселились италийские ремесленники, специализировавшиеся на производстве гончарных изделий. Среди множества римских имен, упомянутых в городских надписях, которые почти наверняка датируются правлением Юбы, содержатся, вероятно, и имена италийских купцов (negotiatores).
Что касается численности римских поселенцев в каждой колонии, то, по самым правдоподобным оценкам, она составляла от трехсот до пятисот взрослых мужчин, то есть общая численность для всех колоний Августа составляла примерно 8—13 тыс. семей. Здесь не учтены Карфаген и Цирта, о них речь пойдет ниже. Но на территории колоний проживали не только римские поселенцы из Италии. Земельный кадастр Араузиона в Нарбонской Галлии и руководства римских землемеров свидетельствуют, что на ней оставались и местные жители. Некоторые представители местной элиты получали гражданство, при этом формировались объединенные общины, как это произошло в ветеранской колонии Эмерите в Испании52. Гражданство предоставлялось местным жительницам, вышедшим замуж за ветеранов, не говоря уже о том, что многие ветераны Це¬
49 CIL УШ 27568.
50 АЕ 1926, 23.
51 Gsell 1930 (Е 741): 206—284. Новые исследования см.: Leveau 1984 (Е 752); Benseddik, Potter (E 717): готовится к печати [см.: Benseddik N., Potter T.W. Fouilles du forum de Cher- chell Ί977—Ί98Ί. Alger: Agence Nationale d’Archeologie et de Potection des Sites et Monuments Historiques, 1993].
52 Brunt 1971 (A 9): 246—261; Romanelli 1959 (E 760): 207. Корпус римских землемеров. 155.6—8 (Lachmann); Ограбон. Ш.2.15 (151C).
692
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
заря и Августа и сами были местными рекрутами, набранными в чрезвычайных обстоятельствах гражданских войн как в легионы, так и в гетуль- ские вспомогательные части53.
Итак, не следует переоценивать культурное влияние новых поселений. Они обладали колониальным статусом, их жители — римским гражданством, а зачастую и большими наделами (ветеран Августа мог рассчитывать по меньшей мере на треть центурии, то есть 16 га), поэтому в них формировалось привилегированное меньшинство, лояльное своему поселению и стремившееся доказать свою принадлежность к римлянам. Но эти люди часто имели культурные связи с местным населением, общий с ним язык, религию и обычаи. Новые поселенцы колоний очень часто брали себе имя Юлий, например в Сикке Венерии оно составляет более 20% от всех известных имен. В другой колонии, Симипу, имя Юлий Нумидик (встречающееся дважды) говорит само за себя54. В самых ранних надписях сообщается о религиозных почестях, которые алжирская колония Русгунии оказывала мавретанскому царю Птолемею (в 29 г. н. э.) и африканскому богу Сатурну; но последнего почитали в его романизированной ипостаси, да и имена выдающихся семей, сделавших это посвящение, также свидетельствуют о получении ими римского гражданства55.
Карфаген сильно отличался от военных колоний на побережье. Рассказывая о его основании, Аппиан пишет: «Я нахожу, что он (Август. —
С.Т) послал туда поселенцами самое большее три тысячи римлян, остальных же собрал из окрестных жителей (perioikoi)». Проще всего истолковать это утверждение в том смысле, что римские переселенцы, вместе с уже проживавшими в Карфагене римлянами, в сумме составили 3 тыс. человек; к ним присоединили местных жителей. Конечно, среди колонистов были и ветераны Цезаря, но необычайно высокая доля вольноотпущенников, состоявших на гражданских и жреческих должностях в ранний период существования колонии, заставляет предположить, что многие иммигранты прибыли из города Рима. У жителей сельской Италии, как сообщает нам Вергилий, не вызывала энтузиазма мысль о переезде в «истомленную жаждою» [Пер. С.П. Кондратьева) Африку56.
Археологические раскопки дают некоторое представление о том, что представляла собой колония Карфаген в начальный период своего существования57. Интересно, что, хотя ранее, при Гае Гракхе, здесь уже прово
53 Ветераны Августа получали гражданство «для себя, своих родителей, детей и жен» («ipsis, parentibus liberisque eorum et uxoribus») — EJ2 302; а также, вероятно, право выбора: войти в состав колонии или остаться в местной общине; cp.: FIRA I: 55.
54 Thompson, Ferguson 1969 (E 767): 132—181; уточнение см.: Lassere 1977 (E 749): 152— 153.
55 EJ2 163; CIL Vm 9257. Leschi 1957 (E 751): 389-393; Salama 1955 (E 761).
56 Аппиан. События в Ливии. 136; Страбон. XVIL3.15 (832—833С); Плутарх. Цезарь. 57; Вергилий. Эклоги. 1.64.
57 Обзор и интерпретацию результатов исследования, проведенного в Карфагене под эгидой ЮНЕСКО, см. в работе: Hurst 1985 (Е 745). Ш. Сомань обнаружил здесь следы центуриации, см.: Saumagne 1962 (Е 762). Новейшая информация и свежая библиография по Карфагену регулярно публикуются в бюллетене Национального института археологии
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
693
далась кадасграция, в городе, вновь заложенном в I в. до н. э., за основу была взята старая пунийская ориентация, причем широко использовались пунийские постройки, строительный материал и цистерны, которые с 146 г. до н. э. лежали в руинах и не использовались. Пунийская цитадель на холме Бирса послужила исходным пунктом городской планировки, а сам холм был превращен в монументальный центр города, что явилось первым этапом трансформации Карфагена. От города эпохи Августа осталось немного, но имеются свидетельства о том, что первым делом была выровнена вершина цитадели и засыпано землей пространство к югу от нее, в верхней части города Ганнибала. Именно на этом месте во П в. н. э. появился большой центральный форум. Кстати, недалеко оттуда, на частной земле, один из первых поселенцев поставил алтарь роду Августа (gens Augusta).
Монументальные подготовительные работы на Бирсе резко контрастируют со скромными и дешевыми постройками на берегу и в портах. Судя по глинобитным кирпичам и немощеным улицам, сначала колония была весьма незначительной и лишь со временем разрослась. Некоторые руины пунийской эпохи не перестраивались на протяжении двух поколений, а первые римские кладбища располагались там, где позднее была проложена сеть городских улиц. Романтическое описание колонистов, возводящих первый город Дидоны, его великую крепость, мощеные улицы, ворота и театр, вероятно, было сочинено Вергилием для прославления колонии Августа, но не слишком соответствовало реальности.
Исследуя основание Карфагена, трудно решить вопрос о том, как были организованы сельские поселения на территории (pertica) Карфагена, которая простиралась по меньшей мере на 100 км вниз по долине Баг- рада. В ряде надписей начала императорской эпохи упомянуты общности римских граждан, названные патами, что вызывает путаницу, но нет ничего похожего на туземные округа-паги (с. 689 наст. изд.). Это были единичные анклавы, и многие из них были сконцентрированы сразу за «царским рвом» («fossa regia»), то есть за границей Старой Африки, в плодородных долинах Баграда и Силианы, в таких местах, как Тугга, Большой Уки и Тибарис58. Они являлись частью Карфагена, в них жили римские граждане, а позднее даже магистраты колонии, управляли же ими «префекты для судопроизводства», назначаемые из Карфагена. И в то же время эти анклавы стояли на вершине иерархии местных поселений.
Некоторые из этих патов (например, Большой Уки и Тибарис), хотя и не все, Плиний Старший называет поселениями римских граждан (oppida civium Romanorum). Упомянутая выше надпись вольноотпущенника Марка Целия Филерота59, который до 40 г. до н. э. был служителем на¬
и искусств Туниса, см.: CED АС (Centre d’Etudes et de documentation archeologique de la Conservation de Carthage). Исследователи — до реализации проекта ЮНЕСКО — считали описание города Дидоны у Вергилия подробным путеводителем по колонии Августа.
58 Свидетельства собраны в работе: Pflaum 1970 (Е 755); самое новое исследование см.: Gascou 1980 (Е 737).
59 EJ2 330; CIL УШ 26274.
694
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
местника, а потом переселился в новую колонию, где стал эдилом, префектом для судопроизводства и чиновником по сбору налогов в восьмидесяти трех местных поселениях (castella), перекликается с другой, поврежденной надписью из Большого Уки: в ней, вероятно, тоже упоминается Филер от, выступавший арбитром между колонистами и местными жителями Большого Уки. В этих общинах были распространены номены «Марий» и «Юлий»; более того, позднее, получив муниципальный устав, некоторые из них открыто оказали почести Марию.
Существование римских патов засвидетельствовано и в старой провинции60. Два из них — Сатурнука и Медели — находились недалеко от колонии Утина в долине Милианы; в обоих имеются надписи, где эти паги определяются как ветеранские поселения, а в одной из надписей Август назван благодетелем. Похожее поселение имелось и в Гиппоне Диаррите (совр. Бизерта), и еще два — возле Табраки. Помимо этих патов, в надписях упоминаются и другие типы римских общин:61 «Римские граждане, которые ведут дела (negotiantur) в Тиниссуте», на мысе Бон; «Римские граждане, живущие (morantur) в Суо», в долине Баграда; «корпорация (conventus)» римлян и нумидийцев, живущих в Маскулуле к западу от Сикки Венерии.
Наконец, очень запутанные взаимоотношения существовали между Карфагеном и множеством городков на Тунисском побережье, которые в итоге стали колониями с титулом «Юлия» в названиях. В рассмотренной выше надписи Филерота сообщается, что он занимал должность не только магистрата Карфагена, но и — дважды — высшего магистрата (duovir) Клупеи (совр. Келибия) на мысе Бон. Плиний называет Клупею «свободным oppidum», но она стала колонией Юлия. Ее судьбу разделили Курубис, Неаполь и Карпи (последний город не назван «свободным»); два из них тоже имели магистратов, которые на каком-то этапе своей карьеры занимали должности в Карфагене — и также были вольноотпущенниками.
Судя по всему, Цирта тоже получила очень обширную территорию, управлялась префектами и делилась на паги и другие общины, в которых жили римские граждане, приписанные к основной колонии. Известно, что Август принял в состав Цирты ветеранов Ситтия, а в 26 г. до н. э. пополнил ее население новыми колонистами. Насколько нам известно, таким образом зародились особые отношения контрибуции (contributio), упоминаемые во П в. н. э., в силу которых три из этих подчиненных общин, позднее ставших колониями, имели право обмениваться магистратами с Циртой62.
Исследователи высказывали предположение, что изначально так была организована и Сикка Венерия — единственная из колоний Августа в
60 ILAFr 301; CIL УШ 885, 25423.
61 EJ2 106; ILTun 682; EJ2 111.
62 ILAlg Π(Ι) 36; AE 1955, 202; ILAlg Π(Ι) 3596.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
695
Новой Африке, упомянутая в списке Плиния, который был составлен до основания колоний Тубурника, Симитту и Ассура. Две из этих позднейших колоний Плиний называет поселениями римских граждан (oppida civium Romanorum), так что, возможно, они возникли как паги, тем более что у нас имеются сведения о патах и других типах небольших римских общин возле Сикки. Некоторые из этих патов располагались в местностях, где стояли крепости (castella), а это может означать, что продуманная система римских патов строилась так, чтобы контролировать местные крепости на холмах. Однако в Цирте castella входили в состав пага и, похоже, представляли собой укрепления, предназначенные для обеспечения безопасности первых колонистов63. Но, несмотря на эту путаницу, и Цирта, и Сикка удивительно схожи с Карфагеном.
Итак, что можно извлечь из этих обрывочных сведений? Нет необходимости рассматривать основание Карфагена как создание некой новой, суперэллинистической модели города, поскольку известны современные ему колонии Августа, обладавшие такой же территорией (pertica), во Франции (Араузион) и Испании (Эмерита), причем последней, как и Карфагеном, управляли префекты. Паги как части городской территории тоже были совершенно заурядным явлением. Но напрашивается вывод, что большинство патов Карфагена, находившихся за «царским рвом» («fossa regia»), или даже все они, были вовсе не новыми поселениями, а деревнями гетульских ауксилариев, которых Марий и Юлий Цезарь наградили землей и, возможно, гражданством и семьи которых отныне вошли в число граждан новой колонии вдобавок к новым поселенцам-ве- теранам. Возможно, то же произошло и с ситтианцами в Цирте. Что же касается прибрежных Юлиевых колоний, то они могли сохранять некие особые отношения с Карфагеном и после того, как сами стали полноправными колониями.
Вдобавок к колониям и поселениям римских граждан (oppida civium Romanorum — вероятно, имеются в виду паги) Плиний перечисляет другие типы общин в африканской провинции, однако сложно сказать, как они были организованы и выглядели. Названо множество свободных поселений (oppida libera), несколько простых поселений (oppida) и общин (civitates), одно стипендиарное поселение (oppidum stipendiarium), одно латинское поселение (oppidum Latinum) и, наконец, Утика — бывшая столица провинции, имевшая, по словам Плиния, римское гражданство; вероятно, она получила статус римского муниципия. Иначе говоря, не считая Утики и единственного города с латинскими правами, все остальные поселения можно юридически классифицировать как иноземные общины (civitates peregrinae), то есть города, имевшие собственные террито¬
63 Последнюю точку зрения отстаивает Гаску, см.: Gascou 1983 (Е 739); не согласен с ним: Beschaouch 1981 (Е 719). Упомянутая выше надпись Филерота (CIL VIII26274) свидетельствует, что он провел размежевание земли крепости (castellum) в Уки, — где имелся римский паг, — между коренными жителями и колонистами. Таким образом, эта крепость могла быть или местной, или римской, или общей.
696
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
рии, самоуправляемые и признанные в уложении о провинции (formulae provinciae). Имеются свидетельства о двух таких общинах — Тисдр (совр. Эль Джем) и Гадрумет (совр. Сус), вступивших в территориальный спор примерно в середине I в. н. э. Некоторые из этих общин, в прошлом крепости нумидийских царей (Зама Регия, Гиппон Регий, Булла Регия), вероятно, были учреждены Цезарем в его провинции Новая Африка. Другие поселения, расположенные вдоль тунисского и триполитанского побережий, имели длительную историю урбанизации в пунийский и республиканский период64.
Можно только гадать, является ли список Плиния полным и в чем именно состоят различия между названными им категориями. Например, Большая Лепта, богатый пунийский центр экспорта оливкового масла, названа просто поселением (oppidum), а ее соперник Эа — общиной (civitas). Может быть, Лепта попала в немилость за сопротивление Цезарю? Если так, то Август ее реабилитировал, поскольку Лепта получила право чеканить собственные монеты как «свободный город», и уже в 8 г. до н. э. в ней начали возводиться прекрасные общественные здания в римском стиле. А вот Туггу, в прошлом столицу царя Массиниссы, где был основан паг римских граждан, Плиний не называет общиной (civitas), и этот статус для нее засвидетельствован только при Клавдии. Однако Тугга почти наверняка была признана общиной раньше, поскольку ее жители оказали почести наместнику в 3 г. н. э. Вероятно, так же обстояло дело и в соседнем Мусти65. Как ни удивительно, в некоторых ранних надписях словом «civitates» названы маленькие деревни, которые явно не могли признаваться общинами66. Так что налицо существенная путаница.
Многие из этих маленьких деревенских общин глубоко впитали пу- нийскую культуру и еще долгое время в эпоху Империи сохраняли собственного пунийского магистрата, которого называли суфетом (sufet, мн. ч. sufetim); вполне вероятно, что некоторых из них императоры династии Юлиев—Клавдиев не признавали независимыми городами — о таком признании нет никаких сведений. Множество подобных селений располагалось к западу от Большого Тубурбо (который и сам мог входить в их число, а затем стал колонией), в богатой долине Милианы в 50 км к югу от Карфагена. Высказывалось любопытное предположение, что в упомянутых селениях нашли второй дом изгнанные жители Карфагена, когда в 146 г. до н. э. их город был уничтожен. Если так, то было вполне логично снова включить их в обширную территорию (pertica) Карфагена, пусть и на правах иноземцев. Другие общины, многие из которых располагались возле деревень, возглавляемых суфетами, управлялись советами, кото¬
64 О списке Плиния см. сноску 43 наст, гл.; об Утике см.: Дион Кассий. XLIX.16.1; о Тисдре см.: Корпус римских землемеров. 57.3 (Lachmaim); о Цезаре см.: Африканская война. 77.1; 97.1.
65 О постройках в Лепте см., напр.: EJ2 105Ь (9-8 гг. до н. э.). О Тугге см.: ILS 6797; CIL УШ 26580; Poinssot 1958 (Е 759); Beschaouch 1968 (Е 718): 151.
66 CIL Ш 338.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
697
рые позднее стали называться «одиннадцать первых» (undecimprimi) и тоже могли иметь пунийские корни67. Предположительно, жизнь в этих деревнях или маленьких городках по большей части оставалась такой же, как и до падения пунийского Карфагена более века назад.
Не следует забывать о южных областях Туниса, которые поставили под римский контроль Август и Тиберий, — о территории к юго-востоку от легионной базы в Аммедаре. Плиний пишет, что некоторые из проживавших там сообществ — «не столько гражданские общины (civitates), сколько племена (nationes)». Иначе говоря, такие племена, как мусула- мии, капситаны или кинифии, признавались как административные, но не городские единицы, хотя некоторые влиятельные семьи кинифиев (и других подобных групп) уже успели глубоко впитать пунийскую культуру, а теперь стали подражать и римской городской застройке. Но пока их административные центры — Гиггис (совр. Бу-Грара), Такапе (совр. Габес) и др. — не были признаны городами, ими управляли военные префекты. Один из них — Гай Флавий Макр, префект мусуламиев в конце I в. или начале П в. н. э., — возможно, сам был местным вождем, который стал офицером вспомогательных войск, а затем получил гражданство от императоров династии Флавиев68.
Кроме того, исследователи полагают, что многие города, существовавшие позднее в глубине Туниса — например, Цильма (совр. Джилма), Су- фетула (совр. Сбейтла), Циллий (совр. Кассерин) и Телепте, — романизировались благодаря солдатам или ветеранам, которые в эпоху Ранней империи были размещены в этих пунктах для контроля над дорогами. Несомненно, так обстояло дело в Тале, в прошлом нумидийской крепости, расположенной, согласно Тациту, возле Аммедары, и, вероятно, в Капсе (совр. Гафса) — оазисе, который был столицей капситанов и тоже испытал сильное пунийское влияние69.
Западнее, в Мавретании, Клавдий не только учреждал колонии, но и дал некоторым поселениям статус муниципиев, а некоторые признал городскими общинами (civitates); последние располагались в основном вдоль побережья и имели пунийское прошлое. Например, город Типаса получил латинское право, а Русукурру (совр. Делли) — римское гражданство. Волубилис за свою верность снискал статус римского муниципия, а Тукка (совр. Зукка) на границе с африканской провинцией стала городской общиной (civitas). Но, как представляется, до правления Флавиев римское правительство не слишком много сделало для развития внутренней части этой провинции.
67 Исследование пунийских городов под управлением суфетов см.: Poinssot С. Ц Karthago (1959—1960) 10: 93—131. Возможность пунийского происхождения советов «одиннадцати первых» рассмотрена в работе: Shaw B.D.// Museum Afncum (1973) 2: 1—10 — но это мнение небесспорно.
68 О Макре см.: ILAlg I 285; ΝΊΉ 260; cp.: Pflaum // CP. № 98. Гигтис долгое время был пунийским портом и городским центром, см.: Ferchiou N. // Picard 1984 (Е 758А): 65—74.
69 О Циллии см.: CIL УШ 211—216; о Тале см.: Тацит. Анналы. Ш.21; Broughton 1968 (Е 720): 95; Gascou 1972 (Е 735): 39.
698
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
VIII. Романизация и сопротивление
Из анализа этих админисгративных реформ в провинциях Северной Африки можно сделать два вывода. Первый: поскольку италийских иммигрантов здесь было сравнительно немного, они оказали не столь решающее влияние на жизнь этой области, как иногда считают исследователи. Второй: наиболее охотно интегрировались в городскую систему местные африканские элиты (в том числе включенные в новые колонии), ранее подвергшиеся сильному пунийскому влиянию. Оба этих вывода помогут нам понять, как происходила романизация.
Конкретный правовой статус общины не слишком влиял на реальную жизнь людей в маленьких крепостях (castella) и поселках (vici) сельской местности: здешние жители по-прежнему подчинялись собственным принцепсам, магистрам и старостам (principes, magistri, seniores) и идентифицировали себя как членов своей семьи и рода (domus и familia), то есть подгрупп внутри этих селений, а также как членов своего племенного союза (gens). Во многих частях Африки эти категории сохранились до времен Поздней империи. Помпоний Мела, географ середины I в. н. э., писал, что африканское население состоит из кочевников и сельского простонародья (vulgus), которое до сих пор живет в хижинах (mapalia) и подчиняется своим вождям. Существует хорошее собрание ливийских надгробных надписей из области вокруг Гиппона Регия (совр. Аннаба) в восточном Алжире, которые иногда датируются римским периодом, поскольку составлены на двух языках. Они свидетельствуют, что даже похожий на ветерана человек с очень романизированным именем — Гай Юлий Гетул — был вождем мисициров и жил в традиционном обществе, где говорили по-ливийски70.
Многие из этих ливийцев оставались простыми земледельцами и работали на землях бывших вождей. Своему другу Гаю Юлию Массиниссе Юлий Цезарь оставил землю, которая, вероятно, принадлежала царственному предку последнего. В надписи, найденной в пате Абуцца возле Сикки Венерии, женщина по имени Мария Планцина прославляется как «самая выдающаяся из всех нумидийских женщин, представительница царского рода», а ее дочь была женой крупного землевладельца Лициния Фортуната. Вокруг Сикки имеется особенно много надписей более позднего времени, из которых ясно, что здесь продолжали существовать крепости (castella) под руководством старост (seniores)71. Когда собственники земли взяли себе римские имена, крестьяне, работавшие на этих участках, вполне могли не заметить никакой разницы. В отношениях зависимости бедных ливийцев от богатых наблюдается значительная преемствен¬
70 Помпоний Мела. 1.42. О Юлии Гетуле см.: Chabot R. Recueils des inscnptions libyques. No 146. Cm.: Whittaker 1978 (E 770): прежде всего 341—344.
71 О Массиниссе см.: Витрувий. 06архитектуре. VTH.3.24—25; о Марии Планцине см.: ILTun 1633; CIL. УШ 16159. См.: Broughton 1968 (Е 720): 187 — о надписях из крепостей (castella) Сикки.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
699
ность, поэтому у нас так мало сведений о появлении на этой земле римского рабства.
С другой стороны, история двух нумидийских городов, принадлежавших прежде нумидийским царям, — Буллы Регии и Тугги — свидетельствует о том, как быстро местные поселения перенимали римский архитектурный стиль и культуру72. В Булле, которая в созданной Августом провинции была признана «свободным городом», проживало множество романизированных семей с именем Юлий, причем самые выдающиеся из них возводили свое происхождение к древним временам. Для строительства общественных зданий в центре достаточно рано начинает использоваться римская техника сетчатой кладки — так римское правление содействовало урбанизации.
Тугга, вероятно, во П в. до н. э. была столицей Массиниссы и уже давно имела административные институты, подвергшиеся влиянию пуний- ской культуры, а также множество монументальных строений; теперь ее статус был повышен, и она стала римским патом. В этот ранний период был заложен анклав, примыкавший к старому туземному городу, а также городской центр с форумом и рынком римского типа. Но быстрая романизация этой общины (civitas) отчасти объяснялась господством в ней двух выдающихся нумидийских фамилий: Габиниев и Юлиев, которые, вероятно, получили гражданство от Цезаря или Августа и гордились этим. В надписи, сделанной в 48 г. н. э., сообщается, что патрон пага, гражданин Карфагена, посвятил храм, построенный на средства местного магистрата — Юлия Венуста, мужа Габинии Феликулы; Венуст был фла- мином римского императорского культа, как до него — его отец Фавст Тиноба, за что оба получили почетный пунийский титул суфета73.
Таким образом, в сообществах, состоявших из двух элементов — паг (pagus) и гражданская община (civitas), — ускорялась романизация африканских элит. Со временем правовые отношения между этими двумя группами усложнились, поскольку римские граждане из туземных городов иногда заключали браки с римлянами из патов и приобретали там землю. В некоторых надписях содержатся выражения «обе части общины» («utraque pars civitatis») или «оба сословия» («uterque ordo»), которые создают впечатление, что эти две составляющие образовывали единое гражданское общество, хотя паги по-прежнему оставались территориальными единицами Карфагена74. Понятно, почему эти два элемента не слились воедино. Люди, владевшие землей в паге, ревностно охраняли эту привилегию из-за сопряженной с ней экономической выгоды: население пага с самого начала обладало налоговым иммунитетом. В надписи П в. н. э., найденной в Тугге, человек с примечательным именем Марий Фаус- тин (из семьи марианских ветеранов?) гордо называет себя «защитником иммунитета территории (pertica) карфагенян»: он входил в состав делега¬
72 О Булле см.: Thebert 1973 (Е 766); о Тугге см.: Poinssot 1958 (Е 759).
73 ILS 6797, она снова упоминается ниже.
74 О Тугге см.: CIL УШ 26591; 26615; о Тигнике см.: CIL УШ 15212.
700
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ции, направленной для подтверждения этого иммунитета. По-видимому, Август или Цезарь предоставили пожизненное освобождение от налогов этим поселенцам (вероятно, только потомкам гетульских ветеранов) и их наследникам; позднее это уже не практиковалось75. Если данная интерпретация верна, то такое значимое преимущество неизбежно расширяло экономическую пропасть между римскими колонистами и местным населением.
Социальные и политические преимущества, которые система Августа предоставляла аристократии, стали очевидными уже в эпоху Юлиев- Клавдиев. В правление Тиберия гражданин Муста Луций Юлий Красе добился всаднического статуса, а при Веспасиане появились первые консулы-африканцы: Квинт Аврелий Пактумей Фронтон из Цирты и его брат Клемент76. Они могли быть эмигрантами из Италии, но Юлий Красе больше похож на ливийца, получившего римское гражданство. Покровительство со стороны высших римских чиновников, например наместника провинции, представляло большую ценность для местных аристократов и вдохновляло их подражать римским институтам, как видно на примере жителей Тугга, увековечивших свою «дружбу» с наместником в 3 г. н. э.
Патронат римских чиновников, вероятно, содействовал романизации и более низких слоев. Уже в 12 г. до н. э. «сенат и народ стипендиарных общин Гурзенского пага» зафиксировали в надписи свои формальные отношения клиентелы с консуляром Публием Сулышцием Квиринием. Невозможно не заметить, что столь высокопарное именование местных административных учреждений подчеркивало близость людей, обитавших в области Гадрумета на тунисском побережье, к римлянам, хотя и резко контрастировало с именами тех, кто получил поручение поставить эту надпись, и с названиями их родных поселений (oppida): Аммилькар из Кинсине, Бонкар из Этогурсы и Мутунбал из Узиты. В другой надписи назван бывший офицер Ш Августова легиона, проживавший в Бриксии (совр. Брешиа) в северной Италии и связанный узами гостеприимства (hospitium) с четырьмя африканскими общинами в долине Милианы77.
Римские воззрения могли распространяться и другим путем — благодаря службе африканцев во вспомогательных войсках: как в этнических подразделениях вроде когорты мусуламиев (cobors Musulamiorum), которые возникли довольно рано, так и в смешанных частях. В 69 г. н. э. «множество» мавров служило в двадцати четырех военных частях, находившихся под командованием Альбина, хотя подробности нам и неизвестны78. Гетульские ветераны и их влияние в патах уже несколько раз упоминалось выше. Но следует помнить и о восстании Такфарината, служившего в римской армии, и не преувеличивать воздействие подобного воспитания.
75 NTH 510; о ветеранах см. примеч. 53.
76 О Юлии Крассе см.: CIL УШ 15519 и 26475; ILTun 1393. О сенаторах из Цирты см.: MW 298; ILAlg П(1) 642.
77 Две из этих надписей см. в изд.: EJ2 354—355; всё собрание см.: CIL V 4919-4922.
78 Тацит. История. П.58—59. Cp.: Benseddik 1982 (Е 716).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
701
Ясно, что доримская культура Африки, в которой были сильны пу- нийские и эллинистические элементы, неизбежно встраивалась в структуру нового провинциального общества, причем как среди высших, так и среди низших классов. В вышеупомянутой надписи из Тугги назван человек, который был жрецом божественного Августа и одновременно — почетным суфетом. В Волубилисе в Марокко местный сановник Марк Валерий, сын Бостара (как и многие другие в городе), вероятно, стал римским гражданином еще до того, как город был включен в провинцию; уже обладая гражданством, он занимал пост суфета, а когда город сделался муниципием, был избран первым дуовиром и фламином (с. 684 наст. изд.). В Большой Лепте, которая прежде была важным пунийским портом, сохранилась надпись на латинском языке в честь Аннобала Тапа- пия Руфа, сына Гимильхона, члена одной из знатнейших семей города, построившего здесь рынок. Он тоже занимал должность суфета и добавил к латинской надписи еще одну — на новопуническом языке.
Как видно из приведенных примеров, отправление императорского культа позволяло местной знати продемонстрировать свою близость к Риму, и не стоит считать этот акт неискренней лестью или думать, что его навязывали сверху государственные чиновники. Например, в Карфагене алтарь роду Августа (gens Augusta) явно стоял на частной земле. Другие посвящения выглядят как заявления изолированных анклавов римских граждан, проживавших в преимущественно ливийских городах (Тиниссут, Тисдр или Вага), о своей идентичности. Вскоре сами городские общины (civitates) стали инициировать возведение храмов, служивших центрами городского культа, — как это было в Мактаре. В Большой Лепте развитие императорского культа шло рука об руку с превращением пунийского города в римский; в храме на новом форуме стояли статуи членов императорской семьи, а богачи, оплачивавшие возведение больших театров и рынков и носившие такие имена, как Иддибал Тапапий, сын Магона, одновременно были и жрецами культа79.
В историографии было много споров о сохранении и преемственности африканских и пунийских политических институтов в римских провинциальных городах80. Не считая суфетов, которые засвидетельствованы во всех областях Северной Африки, где финикийские поселенцы появились раньше римских, вышеупомянутая надпись из Тугги ссылается также на постановление, за которое проголосовали «все врата» («omnium portarum sententiis») города. Не так уж важно, было ли это учреждение пунийской мизрой (mizrah) — братством религиозного характера, дожившим до римских времен в Мактаре и Альтибуре на нагорных равнинах Туниса, — либо чисто ливийским советом, ибо еще до прихода римлян в Африке господствовал культурный синтез.
79 Ранние надписи об императорском культе см.: ILAfr 306; EJ2 106; возможно, многие из них просто прославляют Августа, см.: CIL VTH 14392, 22844, о городском культе см.: IRT273; EJ2 105b; IRT321—323. См.: Smadja 1978 (Е 763).
80 Gascou 1976 (Е 736), против: Kotula 1968 (Е 747). См. также выше, примеч. 67.
702
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Популярность афро-пунийских культов в Римской Африке тоже показывает, как создавался новый сплав провинциальной культуры81. До- римский культ Церер, божеств плодородия, стал одним из самых чтимых в римском Карфагене, а его возникновение даже предшествует формальному основанию самой колонии. Культ Теллус, богини Земли, который в Бирсе, видимо, отправлялся возле алтаря рода Августа (gens Augusta), где была найдена ее статуя, в других местах слился с культом местной африканской богини Гильвы. Изображение ливийского бога-быка Гурзила (ср. с названием Гурзенс выше) украшало римские лампы в Карфагене в I в. н. э. Мы уже видели, какой популярностью пользовался культ Сатурна (римско-африканской ипостаси чтимого афро-пунийского бога Баала) в среде африканской элиты в колонии Русгунии, очень рано подвергшейся романизации. Кроме того, Танит, пунийскую богиню Луны, в римском Карфагене всегда продолжали чтить в романизированной форме как Небесную богиню (Dea Caelestis). По словам Тертуллиана, христианского автора из Африки, жертвоприношения детей, связанные с этим культом, «открыто» совершались до «проконсульства Тиберия» (видимо, имеется в виду император Тиберий), и ясно, что после этого они продолжались уже тайно.
Свидетельствуют ли данные примеры о пассивном сопротивлении Риму или о постепенном прогрессе романизации — это в некотором смысле вопрос терминологии. Защитники модели «сопротивления»82 рассматривают романизацию как слой краски, который впоследствии, когда римское правление рухнуло, легко стерся, и под этим слоем вскрылась потаенная, истинная Африка. Однако современные исследования аккультурации показывают, что степень культурной совместимости сильно зависит от социального класса и изолированности отдельных лиц, и даже в туземных движениях «сопротивления» (карго-культы и т. п.) уже используется не язык древней культуры, сохранившийся под внешним налетом, а новый словарь, возникший в результате смешения двух цивилизаций и сохранивший в себе элементы обеих. Романизация и «сопротивление» — это две стороны одной медали.
В правление Юлиев—Клавдиев еще продолжалось активное, действенное сопротивление южных полукочевых народов и горцев центрального Алжира и Марокко, перекидывавшееся иногда даже в сердце старой провинции. Можно предполагать, что некоторые ливийские вожди яростно противились римскому правлению, поскольку оно сокращало объем их собственной власти, а многих ливийских бедняков эти процессы не затрагивали. В отдаленных общинах сопротивление продолжалось до последних дней римского правления. Но успех римской власти в провинции зиждился прежде всего на ее способности привлечь на свою сторону африканскую знать: римляне проводили политику невмешательства в адми-
81 Le Glay 1966 (E 750): прежде всего 62—80; Picard 1954 (E 757): 21—27. Сведения обобщены в работе: Benabou 1976 (Е 715).
82 «Сопротивление» является предметом исследования в работе: Benabou 1976 (Е 715).
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
703
нисграцию и местную автономию и одновременно предоставляли финансовые и социальные преимущества тем, кто был готов влиться в систему. Городами под властью римлян управляли богатые и в интересах богатых, что вело к возрастанию социального неравенства и консервировало их социальные отношения с сельской беднотой в прежнем состоянии.
IX. Экономика
Нелегко понять, как изменилась в этот период экономика, а особенно сельское хозяйство. Вероятнее всего, продолжались тенденции, наблюдавшиеся уже во времена Республики. Неудивительно, что большая часть сведений о поздней пунийской и республиканской эпохах относится к производству зерна, которое представляло наибольший интерес и в Ранней империи. Необычайное плодородие африканской почвы и особенно Бизация (юго-восточного побережья проконсульской провинции) вошло в Риме в поговорку. Но почерпнутое из сочинения Плиния Старшего представление о том, что вся Африка была отдана под посевы Цереры (то есть зерновых культур. — С. Г.), — это результат неверного истолкования текста, которому явно противоречит множество упоминаний о масле, вине и садоводстве83. Археологические исследования снова и снова обнаруживают следы крупномасштабного производства масла, которое продолжало пунийские традиции, особенно в области Триполи- тании и, вероятно, Бизация. Это вполне согласуется и со свидетельствами пунийского периода, когда внутренние районы Карфагена и мыса Бон славились смешанным сельским хозяйством; можно предположить, что именно здесь Магон набирался опыта для написания своего знаменитого сочинения об управлении поместьем, которое в I в. н. э. пользовалось большим авторитетом в Риме84.
Популярность сочинения Магона означает, что пунийские методы ведения сельского хозяйства оказали определенное влияние на первых римских поселенцев в Африке. А это, в свою очередь, указывает на главное направление развития в данный период — рост крупных поместий и вилл, наподобие тех, которые Юлий Цезарь застал на побережье Бизация. Этот процесс ускорился благодаря продаже государственной земли в эпоху Республики, а также распределению или продаже конфискованной земли после гражданских войн, и, в конце концов, Плиний Старший даже утверждал, что до конфискаций Нерона половина Африки принад¬
83 О плодородии см., напр.: Варрон. О сельском хозяйстве. 1.14.2; Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.94—95; Колумелла. О сельском хозяйстве. I. Введ. 24. О плодах Цереры: «Природа всё это отдала Церере, почти лишила масла и вина» («Cereri totum id natura concessit, oleum ac vinum non invidit tantum». — Плиний. Естественная история. XV.8; но слово «tantum» означает «почт»; иное мнение см.: Колумелла. О сельском хозяйстве. XI.2.60; Плутарх. Цезарь. 55).
84 Археологические данные см.: van der Werff 1977/1978 (E 769); Aranegui, Hesnard (E 713): готовится к изданию. О Магоне см.: Heurgon 1976 (Е 744).
704
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
лежала шести землевладельцам. Как бы сильно он ни преувеличивал, но именно на примере Африки авторы императорского времени иллюстрировали величину крупных поместий. Петроний описывал Тримальхиона и его гостя как собственников обширных владений в Нумидии и Африке, тогда как Сенека поучительно рассуждал о тысячах колонов, работавших на одного землевладельца в Африке85. Одним из таких собственников, разумеется, был сам император. Именно императорский прокуратор прислал Августу, а затем Нерону множество колосьев пшеницы, выросших из одного зерна, чтобы продемонстрировать плодородие почвы; а первый раб — управляющий императорского поместья засвидетельствован в эпоху Нерона в районе Каламы (совр. Гуэлма)86.
Многие из этих землевладельцев, как и император, не проживали в своих поместьях, и даже непонятно, как в них были организованы труд и производство. Петроний пишет об армии рабов, а Сенека — о земледель- цах-арендаторах. Конечно, позднее арендаторы преобладали, и, как уже говорилось выше, имеются теоретические основания, позволяющие полагать, что для африканских поместий всегда был характерен именно этот тип работников. Но в любом случае нет конкретных причин считать, что укрупнение поместий радикально изменило или, тем более, подорвало, как пишет Плиний, африканские методы ведения сельского хозяйства либо производительность. Вместе с тем оно повлияло на социальный баланс: как уже отмечалось, богатство сконцентрировалось в руках меньшинства, которое получило возможность оплачивать строительство всё новых и новых дорогостоящих общественных зданий в таких городах, как Тугга, Большая Лепта или Карфаген. Всё это, конечно, при условии, что доходы не изымались из Африки для оплаты расходов аристократии и императора в Риме. Благодаря экспансии на юг и запад римско-африканская экономика стала одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции для Империи и города Рима.
X. Римский ИМПЕРИАЛИЗМ
Римское завоевание Магриба в I в. н. э. началось как побочный результат гражданской войны и завершилось приобретением новых территорий, с которых во время этих потрясений были сметены африканские вожди и правители. Непосредственным следствием победы Октавиана над Антонием стало возникновение проблемы южных «гетулов» и прибытие римской армии на границу с пустыней. Для решения этой проблемы служили союзные мавретанские царства на западе, но такой порядок оказался
85 Цезарь. Африканская война. 40, 65. О конфискациях см., напр.: Цезарь. Африканская война. 97. Плиний. Естественная история. ХУШ.35. Петроний. Сатирикон. 48, 117. Сенека Младший. Письма к Луцилию. 114.26.
86 Плиний Старший. Естественная история. ХУШ.95; ILAlg I 324.
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
705
непрочным и в правление Клавдия в конце концов рухнул, вследствие чего Рим приобрел еще две провинции.
Вопрос заключается в том, проводили ли римские императоры последовательную империалистическую политику, более серьезную, чем подобные моментальные реакции на чрезвычайные ситуации? Даже в республиканскую эпоху, когда римляне в целом пренебрегали Африкой, эта область явно рассматривалась как источник земельных владений для частных лиц и продовольствия и масла — для государства. Кульминацией такого отношения стало публичное заявление Цезаря о том, что он каждый год намерен забирать для римского народа 8 тыс. тонн зерна и миллион литров масла из новой, приобретенной им провинции, которое он сделал, дабы впечатлить народ масштабами своей победы87.
Традицию государственного патроната продолжил Август, который, например, гордился тем, что в 23 г. до н. э. бесплатно снабдил миллион римлян запасом зерна на год, и заявлял, что несколько раз спасал город от нехватки хлеба. Император прекрасно знал, что угроза сбоя в поставках и страх перед дефицитом зерна способны вызвать в городе бунт. В 51 г. н. э. императора Клавдия чуть не растерзали, когда по Риму поползли верные слухи, что зерновые склады практически пусты88.
Учитывая вышеописанную пропаганду и реальную потребность Рима в зерне, было бы удивительно, если бы императоры, оценивая целесообразность военных кампаний, не принимали во внимание африканское зерно — хотя источники и не связывают напрямую завоевания на юге с подобными соображениями. Но неужели глубокие рейды Такфарината в провинцию Африка и последующие войны в 19—24 гг. н. э. совершенно случайно совпали с резким взлетом цен на зерно в 19 г. н. э., которые оставались высокими до 23 или даже 24 г. н. э.? Тацит не сомневался в том, что пропитание Рима зависело от Африки (и Египта), а в гражданских войнах африканское зерно имело стратегическое значение89. Ценность Африки понимал весь Рим.
Огромное значение африканского и египетского зерна для снабжения Рима подтверждается двумя античными текстами, о которых исследователи вели много споров. В первом из них сообщается, что в правление Нерона Африка кормила жителей Рима восемь месяцев в году, а Египет — четыре; а во втором — что в правление Августа Египет поставлял в Рим 20 млн. модиев (примерно 130 тыс. тонн) зерна. К сожалению, тут неприменим простой математический подсчет, поскольку регулярный ежегодный импорт примерно 40 млн. модиев зерна намного превосходил бы потребности римского населения (по любым оценкам), даже если бы
87 Плутарх. Цезарь. 55; Haywood 1959 (Е 743): 21.
88 Деяния Божественного Августа. 5, 15.1; Дион Кассий. LV.26.1—27.3; Тацит. Анналы. ХП.43; ср.: Сенека Младший. О скоротечности жизни. 18. О Клавдии см.: Светоний. Божественный Клавдий. 18.2.
89 Тацит. Анналы. П.87; IV.6; ХП.43; Тацит. История. 1.73; Ш.48; IV.38.
706
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
Египет служил единственным источником продовольствия90. Кроме того, решение Нерона конфисковать сенаторские поместья в Африке не могло быть обусловлено ни потребностью в дополнительном продовольствии для города Рима, ни стремлением императора расширить благотворительные мероприятия: подобные объяснения требовали бы ошибочных предпосылок, будто производительность африканских земель повысилась, когда они перешли во владение императора, или будто при Нероне объемы бесплатных раздач зерна резко возросли за счет сокращения его продаж на рынке.
Однако ясно, что африканское зерно всегда было жизненно важным императорским активом; принцепсы использовали его как эффективное средство контроля, так как этого товара в Италии хронически не хватало. Хорошо известно, что в доиндустриальном Средиземноморье урожаи зерна отличались непредсказуемостью и могли резко колебаться. Для средиземноморского мира, по словам Ф. Броделя, характерны были «бедность и неуверенность в завтрашнем дне», и именно в этих бедах, «возможно, и заключается причина <...> своего рода инстинктивных империалистических побуждений»91. Продвинувшись на юг вплоть до пустыни, Август и Тиберий более чем вдвое расширили совокупную площадь пахотных земель в Римской Африке. Присоединив Мавретанию, Клавдий обрел новый источник зерна, собиравшегося в виде налога (frumenta fiscalia), к которому государство порой обращалось, а также защитил западную часть старой провинции от нападений извне. Возможно, эти мотивы открыто не формулировались правительством, но они, без всякого сомнения, были сильными и безусловными.
90 Иосиф Флавий. Иудейская война. П.383; [Аврелий Виктор]. Извлечения о жизни и нравах рижских императоров. 1.6; Haywood 1959 (Е 743): 43; Picard 1956 (Е 756); Lassere 1977 (Е 749): 296; Gamsey 1983 (D 130): 118-119.
91 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 7. Роль среды /Пер. с фр. М.А. Юсима (М., 2003): 341.
Глава 13j
Дж. Рейнолдс, Дж.-А. Ллойд
КИРЕНА
I. Введение
Современная Киренаика в римское время называлась Киреной (по главному городу), Киренеей, Киренской областью, Киренской Ливией; в 155 г. до н. э. царь Птолемей Фискон, не имея наследников, завещал эту область Риму, а в 96 г. до н. э. Рим унаследовал ее после смерти его сына Птолемея Апиона1. Рим предоставил свободу греческим городам Кирены (неизвестно, была ли им дарована также свобода от налогов) и, вероятно, сразу обратил в свою собственность царское имущество (первое бесспорное свидетельство владения Римом данными поместьями относится к
1 Литературные источники по истории римской Киренаики малочисленны, а часто — кратки и туманны. Археологические находки, в том числе монеты и надписи, дают важные новые сведения, но нередко бывают фрагментарны и ненадежно датированы. Особую проблему порождает множество надписей, где в качестве даты стоит ссылка на эпонимного жреца бога Аполлона, год службы которого мы не знаем, либо указан год, но летосчисление не конкретизировано. Авторы наст, главы предполагают, что после 96 г. до н. э. города использовали летосчисление, начинавшееся с момента провозглашения их свободы римлянами. Но в 75/74 или в 67 г. до н. э. они вполне могли начать новое летосчисление (последняя дата начала эры была предложена недавно для Береники, хотя и не вполне надежно доказана). Битва при Акции стала новой точкой отсчета в Кирене (несомненно) и Тевхире (почти несомненно), а возможно (как полагают авторы наст, главы), и в других городах. Более того, даже в Кирене многие надписи эпохи принципата явно датированы не по актийскому летосчислению, а иногда в них прямо указано, что имеется в виду год правления определенного императора. К сожалению, в текстах часто не упоминается имя императора, годы правления которого использованы в них, а это вносит большую неясность в хронологию и последовательность событий. В целом см.: Reynolds J. Ц Gadullah 1968 (E 780А); о летосчислении в Беренике см.: Bowsky 1987 (Е 776).
Основные античные источники:
Надписи: CIG Ш 5129—5362; CIL Ш 6—11; SEGIX; надписи в разделе «Киренаика» в SEG ХШ, ХУШ, XX, XXVI-XXVn и АЕ 1946, 1950, 1961-1962, 1967-1969/1970, 1973, 1974, 1976-1978, 1980-1983, 1985, 1987, 1989; Smith, Porcher 1864 (Е 804А): Прил. IV; Robinson D.M. И AJA (1913) 17: 157-200; de Visscher 1940 (В 293); Oliverio G. // QAL (1961) 4: 3- 54; Pugliese-Caratelli G., Morelli D. //ASAA (1961-1962) 39-40: 217-375; Giambuzzi G. // QAL (1972) 6: 43—104; Lüderitz 1983 (B 250); и собрания, опубликованные в отчетах о раскопках в Аполлонии (Е 785), Беренике (Е 793), Кирене (Е 775, Е 780, Е 795, Е 798, Е 805, Е 807, Е 809) и Птолемаиде (Е 789, Е 799).
708
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
63 г. до н. э.). Ливийцы, проживавшие в этой области, рассматривались, видимо, как население, зависимое от городов2.
К 75/74 г. до н. э. стало ясно, что попытка Рима осуществлять протекторат над Киреной, не неся никаких затрат, не удалась. Недавно найденные надписи добавили живые детали к литературным свидетельствам о нестабильности в Киренаике в данный период; в городах разгорались раздоры и устанавливались тиранические режимы, а порой города вступали в конфликты друг с другом; поселения, возможно, страдали от вторжений ливийцев и, несомненно, от нападений пиратов, а также от голода, осад, грабежей и т.д.3. В таких условиях жители Кирены могли предпочесть свободе постоянное римское присутствие, ибо оно давало надежду на мир и новое процветание как местному населению, так и римским предпринимателям (negotiatores), засвидетельствованным в Ки- рене и, вероятно, проживавшим во всех городах области. Сообщается, что в 75 или 74 г. до н. э. сенат принял решение направить в Киренаику квестора, но первые сведения о серьезных административных мероприятиях относятся к 67 г. до н. э.: группа надписей свидетельствует о деятельности Гнея Корнелия Лентула Марцеллина, легата Помпея в войне против пиратов. Евтропий даже датирует присоединение Киренаики 67 г. до н. э., а не 75/74 г. до н. э., и местные жители вполне могли считать эту дату первым фактическим годом нового правления. Однако мы очень мало знаем о том, что стояло за этой аннексией. Часто утверждается, что на данном этапе Киренаика составляла одну административную единицу с Критом, а наместники имели квесторский ранг, но точных сведений об этом нет (хотя последнее, пожалуй, вероятно). Нам известны лишь имена нескольких квесторов, служивших в Кирене, а также предпринимателей (negotiatores) и откупщиков (publicani), которые вели там дела; сообщает-
Монеты: Robinson 1927 (В 347A); Chapman 1968 (В 316А); Buttrey 1983 (В 315); Buttrey 1987 (В 315А); несколько недавно найденных монет опубликовано в перечисленных выше отчетах о раскопках.
Литературные источники очень разрозненны; все важные источники собраны в примечаниях к работе: Thrige 1940 (Е 807А), а некоторые приведены в примечаниях ниже.
Современные археологические находки публикуются в основном в трех журналах, специализирующихся на ливийской археологии: «Libya Antiqua» (= LA, издается в Триполи), «Libyan Studies» (= LS, издается в Лондоне), «Quademi di Archeologia della Libia» (= QAL, издается в Риме); отметим также журнал «Africa Romana» (= AR, издается в Сассари). Время от времени в этих журналах подводятся итоги исследований, а иногда обобщающие работы публикуются как отдельные издания, см. прежде всего: Stucchi 1967 (E 805А); Gadullah 1968 (E 780А); Barker, Lloyd, Reynolds 1983 (E 775A); Stucchi 1990 (E 806A).
(Завещание Птолемея VLH Эвергета (Фискона) было составлено и опубликовано задолго до его смерти; впоследствии у него родились дети, один из которых, Апион, стал царем Кирены. Рим унаследовал Кирену по завещанию не Фискона, а самого Апиона (Ливий. Периохи. 70). — О.Л.)
2 SEGIX 7; Ливий. Периохи. 70; Тацит. Анналы. XLV.18; Цицерон. 06 аграрном законе. 1.19.51.
3 Плутарх. Лукулл. 2.2—4, [Плутарх.] Моралии. 255Е—257Е; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.7.114; SEG XXVI1817; ХХУШ 1540.
Карта 74. Кирена
710
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ся также о том, что в римской казне хранился сильфий из Киренаики, хотя какое-то его количество могло попасть туда и до аннексии. Откупщики, несомненно, управляли царскими поместьями и могли также собирать налоги, но об этом нет свидетельств; сильфий — растение, смолистая камедь которого использовалась как приправа и лекарственное средство, мог поступить в казну как натуральная рента из поместий или как натуральный налог, но и этого мы не знаем4.
Если кто-то и надеялся, что римская аннексия возвратит Киренаике процветание, то скоро наступило разочарование, ибо всего через несколько лет эта область ощутила на себе последствия гражданских войн в Риме. Помпей взял в Киренаике зерно, чтобы кормить войска, набранные им против Цезаря; после Фарсала здесь собрались беженцы-помпеян- цы — как сообщается общим числом 10 тыс. — под предводительством Катона, который принудил не желавших того местных жителей принять их и, несомненно, обеспечить их провиантом. Неудивительно, что археологические свидетельства, недавно обнаруженные в Бенгази, в районе Сиди Хребиш (пригород античной Береники), и относящиеся к середине I в. до н. э., рисуют нам очень четкую картину упадка5.
II. Страна
Согласно решению Птолемея I, восточной границей Киренаики являлся Большой Катабатм, крутой перевал возле современного египетского города Соллум, а западной — Автомалак, крепость на побережье Сирта, вероятно, возле современного рифа Бу Скифа, расположенная немного восточнее Алтарей Филенов, которые традиционно служили восточными пределами карфагенского влияния6. Примерно так же выглядели границы римской провинции в 44 г. до н. э.
Менее ясно, насколько далеко протекторат Птолемеев и римлян распространялся вглубь материка. Свидетельствами о границе там служат крепости, существовавшие уже в правление Тиберия (см. далее) на подступах к плато Киренаики со стороны Сирта. Совсем недавно ливийские археологи обнаружили античный материал в пустыне к югу от Мешили, в том числе часть камня, который был установлен в 53/54 г. н. э. в качестве границы поместья, унаследованного римским народом от Птолемея Апиона; если он найден на своем месте, то власть Птолемеев, как и римлян, распространялась гораздо дальше, чем считалось ранее7.
4 Саллюстий. История. П. Фр. 43; Аппиан. Гражданские войны. 1.111; Евтропий. VI. 11; о надписях см.: JRS 52 (1962): 97—103. Цицерон. В защиту Планция. 26.63; Плиний Старший. Естественная история. XIX. 15.39.
5 Цезарь. Гражданская война. Ш.5; Лукан. IX.39 сл., 294 сл.; Плутарх. Катон Младший. 56; Страбон. ХУП.3.20 (836-837С); Uoyd 1977-1985 (Е 793).
6 SEG EX 1 (как сегодня считается, надпись датируется 322/321 г. до н. э.).
7 Fadel Ali, Reynolds // AR (1994) Π.
Глава 13j. Кирена
711
Вследствие дурного климата, обусловленного близостью Сахары, и неплодородия почв западное и восточное побережье Киренаики по большей части непригодны для оседлой цивилизации. Однако некоторые области, обладающие таким преимуществом, как подземные воды, а иногда и якорные стоянки, в античности стали дорожными станциями и небольшими портами. Следы систематического межевания, обнаруженные в Триполитанской Сиртике, свидетельствуют, что исследователи серьезно недооценивали интенсивность сельскохозяйственной деятельности (включавшей, несомненно, скотоводство) в этих областях в начале римского периода; производительность во П в. н. э. Мармарийской области, расположенной рядом с Большим Катабатмом, иллюстрирует сохранившийся на папирусе кадастр, в котором описан хорошо организованный ландшафт, отведенный под зерновые культуры, виноградники, фиги и оливы. Успешному ведению сельского хозяйства в этих приграничных областях способствовало террасирование, системы сбора и хранения воды и ирригация. О существовании там в античности более благоприятной природной среды сведений пока нет8.
Самая пригодная для обработки земля, на которой и размещались античные города, городки и деревни, расположена в северной части Дже- бель-эль-Ахдар, или Зеленой горы, и на ее прибрежной равнине. Дже- бель — это известняковое плато, круто обрывающееся с одной стороны, которое простирается примерно на 250 км по прямой от Береники (Бенгази) на западе к Дарниде (Дерне) на востоке, а на юге спускается в Сахару. Рельеф, климат, почва и растительность северной части плато, обращенной к морю (в направлении Пелопоннеса), имеют явно выраженные средиземноморские черты. Прибрежная равнина преимущественно узкая, а порой ее преграждают горы, спускающиеся к морю; поэтому, исключая широкую область в ее западной части, за Тевхирой (Токра) и Береникой, она оставляет мало места для городов и не дает возможности проложить непрерывную прибрежную дорогу (сегодня она еще сильнее сузилась, поскольку с эпохи античности повысился уровень моря, однако это, видимо, не повлияло на существенные условия жизни).
На севере горы круто вздымаются двумя откосами от уровня моря до верхнего плато, которое на большей части своей протяженности достигает пятисотметровой высоты, а возле Сиди-Мохамед-эль-Хамри, чуть южнее Кирены, имеет в высоту почти девятьсот метров. Нижнее плато, узкое на востоке, расширяется к западу, где располагается единственная в этой стране обширная плодородная равнина, которой владел греческий город Барка и его эллинистический преемник Птолемаида-Барка. За пределами этой равнины ландшафт часто холмистый, и почва скапливается в сравнительно небольших низинах и на полях, окруженных обнаженными скальными породами. Однако в облает Кирены пахотной земли довольно много. В целом почвы северного Джебеля глубже, тяжелее и луч¬
8 Redde 1988 (Е 800); Р. VaL Gr. П (Catani E. // Barker, Lloyd, Reynolds 1985 (E 775A) со ссылками).
712
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ше удерживают воду, нежели почвы прибрежных равнин, хотя здесь всё же имеется несколько полос маломощной почвы, пригодной только для пастбищ. Кроме того, они лучше орошаются. На возвышенности осадки, выпадающие в основном в зимние месяцы, могут достигать 650 мм в год, а на прибрежной равнине Бенгази они составляют 250—300 мм, что близко к минимуму, допустимому для сухого земледелия; однако даже в горах этот показатель изменчив, и риск периодических засух существует везде. Более того, значительная часть осадков уходит сквозь известняковые породы под землю. Эта вода вырывается наружу на склонах (и прежде всего в Кирене); но постоянные источники свежей поверхностной воды встречаются редко. Поэтому и города, и сельская местность очень сильно зависели от колодцев и цистерн; засвидетельствовано и строительство акведуков для городов, по крайней мере в римский период. Существуют также русла (вади), которые большую часть времени остаются сухими, но зимой, во время паводка, ненадолго наполняются. Вади тянутся с востока на запад, а затем поворачивают на север и достигают прибрежной равнины, куда нередко наносят хорошую почву, привлекающую поселения. Если эти русла были достаточно широки, то их верховья возделывались, хотя их приходилось перегораживать несколькими сдерживающими стенами, чтобы паводковая вода не уносила почву. Однако в районах, где эти вади текут с юга на север, они прорезают в известняке глубокие ущелья и создают проходы, благодаря которым, несмотря на крутизну склонов, возможно довольно удобное сообщение между побережьем и несколькими уровнями Джебеля. И на верхнем плато вади тоже обеспечивают удобные пути между населенными территориями и внутренними землями. Естественно, на берегах вади и возле их морских устьев часто встречаются поселения.
К югу и западу от Кирены Вади Куф, самый эффектный из вади, почти во всю свою длину проходит по глубокому ущелью, которое четко отделяет территорию Кирены на востоке от территории Барки, или Пто- лемаиды-Барки, на западе. Поскольку до XX в. мостов через Вади Куф не существовало, последний оказал существенное влияние на расселение и систему коммуникаций в этой области. Несомненно, какие-то античные дороги пересекали его примерно в тех же местах, которые выбрали современные мостостроители, но представляется весьма вероятным, что главная античная дорога из Кирены на запад поворачивала на север, шла по восточному берегу вади и пересекала его возле моря, где он становится широким и мелким9, а поскольку немного западнее прибрежную равнину преграждает гора, дорога там вела обратно на юг и некоторое расстояние шла почти параллельно западному берегу вади, а затем вновь поворачивала на запад. Альтернативный, но, вероятно, менее популярный маршрут обходил восточный конец вади и вел от Кирены на юг, на территорию, принадлежавшую, видимо, ливийским племенам, а затем
Laronde 1987 (Е 790): 263 сл.
Глава 13j. Кирена
713
поворачивал на запад. Вдоль обоих этих окольных путей и рядом с ними, конечно, располагались селения.
На пологих южных склонах Джебеля по мере приближения к пустыне почва становится всё менее плодородной, а осадки всё более скудными. Эта степь была ценна главным образом произраставшим здесь диким растением сильфий, а также кустарниками, которые использовались как пастбища. Южнее 32-й параллели оседлая жизнь вряд ли была возможна, если не считать редких и изолированных оазисов. И в степи, и в пустыне, несомненно, господствовали ливийские племена.
Рассказы античных источников об этой области схематичны и описывают в основном территорию Кирены, однако содержат некоторые оценки ландшафта и его воздействия на жизнь людей. Геродот называет три пояса земли, для которых, по его словам, характерны три разных сезона жатвы, один за другим: прибрежная равнина, срединная холмистая область и самая высокая местность в глубине страны. Страбон и Плиний описывают зону, простирающуюся примерно на пятнадцать римских миль к югу от побережья, в которой можно выращивать деревья, а далее — полосу такой же ширины, отведенную в основном под зерновые культуры. Диодор отмечает, что земля вокруг Кирены (относящаяся к первой зоне) дает большой урожай (пшеница, оливки, виноград и дикие деревья) и орошается реками (вероятно, он имеет в виду источники, бьющие вдоль границы склонов). Дальше от моря, согласно Плинию, простирается земля в тридцать миль глубиной и двести пятьдесят миль шириной, на которой растет только сильфий. Диодор не упоминает об этом растении, но говорит о необрабатываемой и ровной области к югу от Кирены, которая лишена источников и окружена пустыней; данную зону следует идентифицировать со степью, изобиловавшей сильфием10.
III. Население, его распределение,
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Из античных источников складывается впечатление, что в Киренаике жили только греки или греко-римляне; однако коренное ливийское население было многочисленным и играло важную роль в истории этого региона. Кроме того, источники подразумевают, что все ливийцы, почти не затронутые цивилизацией, занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни и враждовали с греками; но действительность, несомненно, была сложнее.
Греки, в основном дорийцы, прибывали в Киренаику отдельными группами начиная с УП в. до н. э. Они селились в зоне, пригодной для земледелия, и к началу эллинистического периода основали четыре горо¬
10 Геродот. IV. 196; Страбон. XVTL3.23 (838—839С); Плиний Старший. Естественная история. V.5.33; Диодор. Ш.50.1.
714
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
да, а также деревни, число которых неизвестно. Эллинистические цари, правившие Киренаикой либо как зависимой областью, либо как частью Египта, разместили здесь новых жителей; часть из них, несомненно, составляли эллинизированные иудеи, а часть, возможно, происходила из Македонии, Фракии и Анатолии, судя по характерным для этих народов именам, которые встречаются в более поздних надписях. В городах сохранились вполне четкие свидетельства об эллинистических поселенцах. В сельской местности их гораздо меньше; не вызывает сомнений, что некоторые из этих людей все-таки жили в сельской местности, но опрометчиво было бы пытаться оценить их численность. Возможно, в I в. до н. э. сюда прибыли новые иммигранты, если надпись из Птолемаиды действительно позволяет сделать вывод, что в 67/66 г. до н. э. Помпей распорядился поселить там бывших пиратов. Более того, к 67 г. до н. э. в Кирене, несомненно, находились италийские предприниматели (negotiatores), и имеются указания на то, что некоторые мужчины и женщины, в основном происходившие из южной Италии, и/или их работники из числа рабов и вольноотпущенников, возможно, проживали в Кирене более или менее постоянно11.
Коренные ливийцы, у которых, согласно Геродоту, существовала племенная организация, жили и в пригодной для земледелия зоне, и в степи на юге и, несомненно, перемещались между ними, когда им требовались пастбища и пашни; но в источниках имеются сведения, что в благоприятных географических условиях некоторые из ливийцев строили деревни или даже поселения, напоминавшие города; и это отчасти подтверждается недавними открытиями ливийских «городков» во внутренних землях Триполитании (в удаленных от моря областях Киренаики обследования такого масштаба пока не проводились)12. Сообщается, что жители этих городков помогали первым греческим поселенцам, и, хотя последующая история Киренаики пестрит войнами греков с ливийцами, можно предположить, что столь же постоянно оба народа вели мирную меновую торговлю, заключали смешанные браки и оказывали культурное влияние друг на друга. Об этом сообщает уже Геродот, и позднее этот процесс, несомненно, продолжался. Ему способствовала торговля сильфием: собирали его ливийцы, но продавался он в городах (см. далее); культурному взаимообмену содействовала, несомненно, и торговля скотом и продуктами животноводства, от которой, вероятно, сохранилось обширное огороженное пространство за пределами южного сектора городской стены Кирены эллинистического и римского периодов; недавно была предложена убедительная интерпретация этого сооружения как караван-сарая для пастухов, пригонявших скот из степи на городской рынок13. Птолемей I установил, что сыновья греков и ливиек должны считаться гражданами; и это согласуется с тем, что уже в эллинистический период в скулытгур-
11 JRS (1962) 52: 99—101, а также другие надписи, прежде всего в Птолемаиде и Тев- хире.
12 Геродот. IV. 158 сл.; Barker G.,Jones G.D.B. //LS 15 (1984): 1-44.
13 Limi M. // QAL (1979) 10: 49 сл.
Глава 13j. Кирена
715
ных портретах граждан можно видеть ливийские типы внешности; в надписях, поставленных гражданами, часто встречаются несомненно ливийские имена, транслитерированные греческими буквами, которые, видимо, носили выходцы из семей со смешанной кровью (но недавно опубликованный анализ греческих традиций именования показывает, что ливийские имена в знатных семьях Кирены и Барки могут отражать и отношения гостеприимства (xenia) между этими семьями и ливийскими племенными вождями)14. Свидетельства о ливийском культурном влиянии на греческие культы особенно многочисленны, но оно, несомненно, было еще более глубоким.
Чернь (ochloi), проживавшая в городах и упомянутая в надписи I в. до н. э. из Тевхиры, вряд ли может быть кем-либо, кроме ливийцев. Они, видимо, оставили кочевой образ жизни и, по крайней мере отчасти, эллинизировались, но не были включены в число граждан. Такие же группы, вероятно, существовали во всех городах, а возможно — и в деревнях15.
В это же время, в I в. до н. э., многие ливийцы, видимо, продолжали вести традиционный образ жизни, хотя и восприняли какие-то элементы пришлой культуры. Несомненно, так обстояло дело даже в самых развитых областях зоны: следы ливийцев (относящиеся даже к римскому периоду) можно встретить, например, в верхнем археологическом слое пещеры под названием Хауа-Фгеах на побережье возле Аполлонии;16 систематическое обследование позволило бы обнаружить гораздо больше свидетельств. Несомненно, многие из этих людей занимались сельским хозяйством, одни — как зависимые работники на земле, принадлежавшей грекам, другие, вероятно, — как работники на земле, которой сообща владели их племена, обитавшие в основном в степях, но пригонявшие стада на север для выпаса после сбора урожая. Эта система сезонных перегонов скота, судя по всему, существовала в античной Киренаике почти в той же форме, что и в середине XX в. Информативных свидетельств о племенах, проживавших в степи, сохранилось мало. Плутарх описывает вождя племени из области к югу от Кирены, который в 87/86 г. до н. э. контактировал с городскими аристократами, явно мог с ними общаться и даже был призван на помощь для свержения тирании. Диодор Сицилийский пишет в пассаже, который частично может восходить к хорошо осведомленному эллинистическому источнику, о четырех ливийских племенах в области Киренаики и о трех разных образах жизни ливийцев. Этот историк сообщает, что существовали мирные земледельцы и мирные кочевники (последние, вероятно, занимались отгонным скотоводством и ежесезонно кочевали по одним и тем же маршрутам), причем обе группы повиновались своим вождям, но третья группа состояла из грабителей, жила за счет добычи от набегов и иногда вынуждала мирных ливийцев присоединяться к их вылазкам. Следовательно, греки зна¬
14 Herman G. // CQ (1990) 40: 349-363.
15 SEG EX 1; XXVI1817.
16 McBurney С.В.М. The Наиа Fteah [Cyrenaica) (Cambridge, 1967).
716
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ли, что многие ливийцы — вполне приемлемые соседи, а по-настоящему беспокойные элементы появляются издалека17. Недавно в историографии обрела популярность интерпретация большей части истории Киренаики как циклической последовательности: экспансия греческого оседлого земледелия угрожала традициям ливийского отгонного скотоводства и вела к войне, после которой навязанный ливийцам мир давал возможности для новой экспансии греческого оседлого земледелия. Иногда события действительно происходили именно так, но, судя по рассказу Диодора, эта теория не может служить объяснением для всех греко-ливийских столкновений. Перемещаясь по своим сухопутным маршрутам, ливийцы контактировали с родственными им племенами на юге, востоке и западе; иногда набеги ливийцев на греческие земли, несомненно, были вызваны социальными, политическими или климатическими переменами за пределами Киренаики.
Еще некоторые сведения можно извлечь из истории сильфия, произраставшего к югу от греческих городов (см. выше). Есть серьезные основания полагать, что по меньшей мере до 50 г. до н. э. он регулярно поставлялся на рынок, но к правлению Нерона это растение стало редкостью; обычно утверждается, что оно вымерло, но, вероятно, с ним можно идентифицировать растение, обнаруженное в 1990 г. в одном из районов античного пояса сильфия. Страбон поясняет, что вторгшиеся варвары специально уничтожили его, чтобы навредить своим врагам; его свидетельство согласуется с сообщением Диодора, так как из него следует, что племена, явившиеся издалека, уничтожили ресурсы мирных ливийских скотоводов, собиравших сильфий. С другой стороны, Плиний обвиняет в исчезновении сильфия римских откупщиков (publicani), заключивших контракт на сбор pascua (предположительно, это налог на выпас скота, который собирался за использование под пастбища общественной земли римского народа, «ager publicus populi Romani»), которые, по его словам, ради своей выгоды содействовали столь интенсивному расширению выпаса, что растение вымерло. Сегодня мы не можем дать обоснованную оценку этим двум объяснениям; но они не исключают друг друга. Растение вполне могло серьезно пострадать во время Мармарийской войны в правление Августа (см. ниже), и после этого в течение какого-то времени урожаи сильфия были слишком малы, так что прибыль откупщикам приносил только налог на выпас. Однако для наших целей важно убеждение Страбона, что деятельности одной группы ливийских скотоводов, живших обычно в мире с греками, воспрепятствовали другие ливийцы, явившиеся издалека18.
В начале П в. до н. э. в Киренаике было четыре греческих города: Кирена, Птолемаида (которая сперва была портом Барки, но в Ш в. до н. э. стала ее административным центром), Тевхира (которая в эллини¬
17 Плутарх. Моралии. 257А—С; Диодор Ш.49 и Chamoux F. Ц QAL (1987) 12: 57—65.
18 Страбон. XVII.3.20 (836—837С); Плиний Старший. Естественная история. XIX. 15.3.
Глава 13j. Кирена
717
стический период назьшалась Арсиноей, но при римлянах вернула себе изначальное ливийское название) и Береника (это название получила новая гавань, куда ок. 246 г. до н. э. переселились граждане Евгесперид). Во П в. до н. э. или первой трети I в. до н. э. появился пятый город, Аполлония, — в прошлом главный порт Кирены, статус которого был теперь повышен; а поскольку города, основанные эллинистическими царями, обычно получали династические имена, вполне возможно, что Аполлония возникла в результате римского вмешательства. Основание этого города, когда бы оно ни произошло, было, конечно, невыгодно для Кирены, хотя, возможно, и не столь неприятно, как кажется на первый взгляд; ясно, что к этому времени обширные земли рядом с Аполлонией были отняты у киренцев и стали царскими владениями; представляется вероятным, что после 75/74 г. до н. э. все портовые сборы здесь взимались в пользу Рима. В 67 г. до н. э. между Аполлонией и Киреной шел спор, но о последующих разногласиях между ними нет никаких сведений. Скоро Аполлония стала настолько неотъемлемой частью Киренаики, что вся эта область получила название Пентаполь — «земля пяти городов» (впервые оно встречается у Плиния Старшего)19.
Города (прежде всего Кирена, Барка и Тевхира) размещались так, чтобы удобнее было эксплуатировать самые обширные плодородные области. За пределами непосредственного окружения этих городов имелось много других плодородных и хорошо орошаемых земель, вполне пригодных для эксплуатации, но такие поля всё же были слишком малы, чтобы кормить целый город. Поселенцев привлекали также прибрежные районы, где можно было обустроить гавани для связи с Грецией, для экспорта и импорта и для удобства прибрежного плавания, поскольку путешествовать на восток и на запад по морю было удобнее, чем по суше (см. выше). На этом побережье имелось мало хороших гаваней; для удовлетворения основных потребностей античного судоходства требовалось не так уж и много, но даже самые скромные гавани Кирены в большинстве своем расположены на столь узкой прибрежной полосе, что земля вокруг них не способна прокормить город. Поэтому и в глубине суши, и на побережье было гораздо больше деревень, чем городов; вследствие этого площади большинства городов были необычайно велики. Некоторые деревни достигали крупных размеров — например, дорожные станции, где пересекалось несколько маршрутов, или места сбора товаров, перевозившихся между внутренними районами и побережьем; но лишь очень немногие из деревень получили статус городов даже в Поздней античности, когда добиться этого стало проще.
О внутреннем управлении этих греческих общин как до, так и после установления римской власти сведений мало. Сохранилась копия устава Кирены, принятого в 322/321 г. до н. э., но неизвестно, осталось ли от него хоть что-то существенное к 96 г. до н. э., тем более — к 44 г. до н. э. По¬
19 SEG XX 709; Плиний Старший. Естественная история. V.5.31.
718
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
становление, принятое в городе Тевхире и датируемое Ш в. до н. э., свидетельствует о том, что граждане, обладавшие правом голоса, были тогда крайне малочисленны, и, по-видимому, так обстояло дело во всех городах. Проживавшие в них ливийцы, скорее всего, не имели гражданства. Что касается остальных жителей, то группа римских предпринимателей (negotiatores) в Кирене явно представляла собой самоуправляющуюся общину, обособленную от города, но расположенную внутри него; такие же привилегии имела община иудеев в Беренике (как и, несомненно, в других городах); в Беренике иудеи называли себя «политевма» (politeu- ma) и управляли своими делами (как религиозными, так и нерелигиозными) посредством квазигородских институтов. Это давало им автономию, которая очень легко могла выливаться в столкновения с городскими властями20.
Города не могли напрямую осуществлять рутинное управление деревнями, расположенными на принадлежавшей им территории, если те находились слишком далеко. Поэтому во многих таких деревнях, видимо, имелись административные учреждения, не слишком отличные от иудейской политевмы в Беренике; представление о том, как они могли быть устроены, дает единственное известное нам деревенское постановление, вероятно, начала I в. до н. э., в котором засвидетельствована организация, очень похожая на городскую, а также местный эвергетизм и местная инициатива в вопросах строительства общественных зданий и снабжения зерном. Страбон называл деревни Киренаики «городками» («πολί- χνια»), а примерно через столетие Птолемей Географ охарактеризовал некоторые из них как города («πόλεις»); судя по всему, оба автора считали, что это не просто деревни. Точно определить характер взаимоотношений последних с городами не представляется возможным. Единственное реальное свидетельство сводится к тому, что на территории, принадлежавшей Кирене, некоторые селения использовали киренскую систему датировки по эпонимным жрецам Аполлона в Кирене; известно также, что в двух деревнях киренские жрецы Аполлона исполняли некоторые обязанности при отправлении других культов; в обоих случаях это были культы, привлекавшие иноземных паломников, но невозможно сказать, имеет ли это какое-то отношение к делу21.
Кроме греческих деревень, следует также помнить о нескольких районах, которые находились на принадлежавших городам территориях, но не являлись их частью. Так, известно, что область каждого города (см. далее) включала участки «царской земли», ставшей затем государственной землей римского народа («ager publicus populi Romani»), которая, разумеется, находилась вне компетенции городских властей. В некоторых из этих поместий располагались деревни; их жители (в ряде случаев, воз¬
20 SEG ГХ 1; XXVI 1817; XX 715; XVI 931; XVII 823.
21 SEG IX 354; Страбон. XVII.3.21 (837С); Птолемей. География. IV.4.7; как пример: SEG IX 349.
Глава 13j. Кирена
719
можно, ливийцы, иудеи или другие иммигранты из эллинистического мира), без всякого сомнения, не входили в состав гражданских общин; вероятно, у них имелись институты политевмы или нечто подобное. Наконец, некоторые участки земли, по-видимому, принадлежали ливийским племенам и тоже были выведены из городского подчинения, но ни один из них пока не удается точно локализовать.
Взаимоотношения греческих городов друг с другом тоже вызывают вопросы. Кирена притязала на роль метрополии для всех остальных городов; Страбон называет их «окрестными городами» («περιπολία») Кире- ны. К тому же в античности весь этот регион назывался Киреной; вкупе данные соображения привели многих исследователей к выводу, что остальные города были зависимы от Кирены; но такая точка зрения не согласуется с имеющимися сведениями о независимой городской жизни в Беренике и Тевхире в I в. до н. э. В эпоху Принципата, возможно уже в правление Августа, в Кирене собирался koinon, или общий совет городов (см. далее); он вполне мог существовать и раньше, и это предположение лучше соответствует выражениям источников, чем гипотеза о зависимости городов от Кирены22. Что касается отношений с ливийцами, то вполне возможно, что некий выдающийся киренец, получивший вскоре после смерти Птолемея Апиона почести за услуги, оказанные Кирене, другим городам и племенам этих земель, вел переговоры между городами и племенами, в результате которых были установлены те связи, которые прежде основывались на соглашениях царей с племенами23.
Логично предположить, что все вышеописанные народы и типы общин включались в четыре категории, которые Страбон выделяет в «Ки- ренее»:23* граждане, земледельцы, периэки и иудеи. Однако в его формуле есть неясности. Граждане — это, видимо, греки, проживавшие как в городах, так и в деревнях; под земледельцами могут пониматься зависимые работники, возможно, ливийского происхождения, трудившиеся на земле, принадлежавшей грекам, но понятие «земледельцы» может обозначать и иммигрантов-неиудеев, обрабатывавших царскую землю, и оседлых ливийцев, обитавших на земле ливийских племен в пределах городских территорий; интерпретация периэков вызывает еще больше трудностей — возможно (но далеко не точно) это ливийцы из племен, обитавших в степи24.
22 Ограбон. ХУП.3.21 (837С).
23 SEG XX 729.
23а У Страбона использовано выражение «έν τη πόλει των Κυρηναίων» («в городе кире- нейцев»). — О. Л
24 Страбон в соч. Иосифа Флавия «Иудейские древности» (XIV.7.114).
720
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
IV. От смерти Цезаря
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ МАРМАРИЙСКОЙ ВОЙНЫ
(ок. 6/7 г. н. э.)
Летом 44 г. до н. э. Киренаика была назначена провинцией Кассия, а Крит — провинцией Марка Брута. Нет никаких свидетельств того, что Кассий хоть когда-то приближался к этой провинции. После битвы при Филиппах она, конечно, стала частью территории Антония и, как и Крит, вероятно, использовалась им прежде всего в качестве военно-морской базы. К этому периоду исследователи часто относят серию монет, часть из которых отчеканена в римских деноминациях, с параллельными выпусками для Крита и Кирены; но лишь немногие из этих монет можно датировать достаточно точно, чтобы данная гипотеза не вызывала сомнений. Совершая «александрийские дарения», Антоний отменил римскую аннексию Киренаики и передал ее как царство либо самой Клеопатре, либо Клеопатре Селене; обнаруженная в Кирене монета 31 г. до н. э. с портретами Антония и Клеопатры считается указанием на то, что весь этот выпуск был отчеканен в Кирене, и отсюда исследователи делают вывод, что новой царицей Кирены была сама Клеопатра. Однако нет никаких признаков того, что здесь предпринимались какие-то меры для восстановления царской администрации. Антоний поставил в Киренаике гарнизон из четырех легионов под командованием Луция Пинария Скар- па (сохранились монеты нескольких выпусков, отчеканенных им для уплаты жалованья солдатам); и города, несомненно, должны были поставлять для них провиант. После битвы при Акции Скарп быстро перешел на другую сторону, не позволил Антонию высадиться, а затем передал Киренаику и ее гарнизон Корнелию Галлу, представителю Окгавиана; как ни удивительно, до отъезда Скарп еще успел отчеканить монеты с именем последнего. Возвращение Киренаики под власть Рима, упомянутое в «Деяниях Божественного Августа», несомненно, прославлялось в триумфе Октавиана. Но возвращенная территория находилась в плохом состоянии; раскопки в Сиди Кребиш свидетельствуют о непрерывном упадке на протяжении третьей четверти I в. до н. э.25.
Октавиан/Август установил в государстве новый порядок, и Кирена отметила этот факт учреждением провинциального летосчисления, начинавшегося в 31 г. до н. э. Во всяком случае, с 27 г. до н. э. Киренаикой и Критом управлял проконсул в ранге претория. Наместник и назначенный вместе с ним квестор обычно занимали должность в течение одного года и делили свое время между двумя частями провинции. Списки наместников провинции изобилуют пробелами и неясностями, так что было бы опрометчиво делать на их основании выводы о том, что за люди слу¬
25 Аппиан. Гражданские войны. Ш.1.8; Цицерон. Филиппики. П.38.97; XI.12.27. О монетах см.: Buttrey 1983 (В 315); Плутарх. Антоний. 54.4, 69.2; Дион Кассий. XLIX.32.4—5; LI.5.6; Деяния Божественного Августа. 27. О Сиди Хребиш см.: Uoyd 1977—1985 (Е 793).
Глава 13j. Кирена
721
жили в Кирене и как они продвигались по карьерной лестнице — по крайней мере, для правления Августа, да и для большей части I в. н. э.
Столица провинции находилась в Кирене, однако наместник, вероятно, проводил выездные судебные сессии и в Птолемаиде, где, как и в Кирене, имеется несколько официальных надписей на латинском языке. Эти официальные тексты содержат молитвенные формулы, подобные тем, что произносили арвальские братья в Риме 3 января каждого года, и убедительно доказывают, что на агорах обоих городов проводились латинские обряды за благополучие правящего императора и его семьи. В каждом из этих городов имеется также несколько солдатских надгробий, и некоторые из них, вероятно, относятся к I в. н. э.; возможно, эти люди служили в гвардии наместников26.
Как бы ни обстояло дело ранее, теперь города утратили свободу, и провинция, несомненно, платила налоги. Сбор пошлин (portoria) на товары, ввозимые и вывозимые через порты и пограничные станции провинции, обычно сдавался на откуп публиканам. Учитывая огромные площади земель, занятых ливийцами, а также составной характер большинства территорий, принадлежавших городам, было бы вполне понятно, если бы Август счел за лучшее использовать откуп и для сбора поземельного налога, вместо того чтобы поручать его городам; но, поскольку публика- ны, несомненно, управляли и государственной землей (ager publicus), на основании имеющихся у нас скудных сведений не всегда можно отличить откупщиков налогов от откупщиков государственных земель. На обширном священном участке Деметры и Коры в Кирене недавно найдена надпись, относящаяся, вероятно, к правлению Юлиев—Клавдиев, с посвящением Церере Августе, которое совершил promagister publici Cyrenen<sis>, то есть киренский представитель компании откупщиков, занимавшейся сбором налогов. Учитывая его связь с Церерой, он, вероятно, взимал поземельный налог, который вполне мог собираться натурой, главным образом зерном. Логично предположить, что контракт на сбор всех римских налогов в Киренаике заключался с одной компанией (отсюда — «publicum Cyrenense» в противоположность, например, четырем откупным компаниям Африки — «quattuor publica Africae»), поскольку прибыль от каждого отдельного налога, скорее всего, была не столь велика, чтобы привлекать претендентов. Возможно, контракт на управление государственной землей (ager publicus) заключался вместе с контрактом на сбор налогов27.
К настоящему времени не имеется свидетельств о существовании в Киренаике в I—П вв. н. э. императорских поместий; до начала Ш в. н. э. здесь не упоминается ни один прокуратор, и нет серьезных оснований соглашаться с мнением некоторых исследователей, что прокураторы Крита
26 PBSR 30 (1962): 33-36.
27 SEGIX 8; XXVII1159; Плиний Старший. Естественная история. XIX. 15.3, Fadel Ali, Reynolds Ц LS (1994) 25: 214-217.
722
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
действовали и в Киренаике. Одна недатированная надпись из Птолемаи- ды свидетельствует о том, что в какой-то момент здесь находились члены императорского домохозяйства; но пока у нас нет сведений об их задачах28.
В долгосрочной перспективе мероприятия Августа принесли Киренаике стабильность и процветание; в краткосрочной перспективе здесь возникли новые проблемы, процесс восстановления прервался, а потому период правления данного императора нельзя считать безусловно успешным. Лучше всего это иллюстрирует положение дел в Сиди Хребиш: район оставался полуразрушенным и покинутым на протяжении всего указанного времени, хотя в один маленький храм, расположенный здесь, приносили посвящения по обету; кроме того, через Сиди Хребиш был проведен акведук, доставлявший воду в другой район; следовательно, развитие местного социума происходило ближе к центру города. Об этом развитии имеется небольшое позитивное свидетельство — две надписи, поставленные общиной иудеев в Беренике; в них упоминается группа активных жителей, владевшая домом для собраний, который высокопарно именуется амфитеатром, причем один из членов группы мог позволить себе заново отделать это здание за свой счет; тем не менее, несмотря на то, что в эту иудейскую общину входили несколько римских граждан, ее финансовый достаток представляется скромным, так как стелы с надписями невелики29.
В центрах других городов тоже обнаружены свидетельства; лишь немногие из них можно без сомнений отнести к первым трем четвертям правления Августа, однако представляется обоснованным мнение исследователей, согласно которому нормальная жизнь постепенно возвращалась сюда. В Кирене это доказывает стела, поставленная около 16—15 гг. до н. э., на которой сохранилось окончание текста городского постановления о назначении Баркая, сына Тевхреста, на должность ежегодно сменяемого жреца Августа (известно, что данную должность он занимал в 17/16 г. до н. э.), а также других постановлений, связанных с завещанием Баркая, который оставил одно поместье Аполлону и Артемиде, в пользование жрецам, а другое — Гермесу и Гераклу для снабжения городского гимнасия маслом. Таким образом, горожанам были доступны высоко ценившиеся удовольствия городской жизни, и, по крайней мере, один богатый гражданин проявил свой патриотизм в соответствии с традициями, в форме благодеяний. Городская администрация функционировала нормально. Кроме того, быстро утверждался и интегрировался в местную систему почестей (и, несомненно, литургий) императорский культ; действительно, из других надписей известно, что в этот период имя жреца
28 CIG Ш 5194.
29 SEG XVI 931; ХУП 823. Дж. Рейнолдс не согласна с мнением, что это был городской амфитеатр, в котором иудеи имели право выставлять свои надписи и в расходах на содержание которого обязаны были участвовать.
Глава 13j. Кирена
723
Августа, наряду с именем жреца Аполлона, использовалось для датировки городских документов30.
Тем не менее, датированные надписи с упоминанием общественных работ свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие правления Августа городам Кирены еще требовалась обширная программа ремонта и нового строительства, и частично ее реализовывали римские должностные лица; это может объясняться некоторыми проблемами, которые обнаруживаются в более ранний период.
Первой в источниках упоминается проблема, связанная с иудейскими общинами. В начале правления Августа они жаловались на то, что города не позволяют им ежегодно отправлять деньги в Иерусалим, а также вредят им и иными способами; в ответ Август направил наместнику письмо, в котором подтверждалось как право иудеев отсылать деньги, так и их isoteleia, что, вероятно, означало освобождение от налога на метеков, который вносили в казну городов постоянно проживавшие в них иноземцы. К тому времени, когда Агриппа стал наместником на Востоке (17/16— 13 гг. до н. э.), это решение уже игнорировалось; по крайней мере, в Ки- рене, но, вероятно, и в других городах, доносчики обвиняли иудеев в том, что они не платят причитавшиеся с них городские налоги, а городские власти на этом основании препятствовали отправке священных денег. Выслушав иудейское посольство, Агриппа направил послание городу Ки- рене, упомянув также и другие города, и подтвердил распоряжения Августа. Конфликт был явно вызван финансовыми мотивами, а значит, города осознавали ограниченность своих средств. Об этом деле больше ничего не сообщается. Более того, к 3—4 гг. н. э. в списке эфебов в Кирене и среди граффити на памятниках в гимнасии появляется несколько иудейских имен, а в 60—61 гг. н. э. иудейское имя носил один из киренских магистратов, которые здесь назывались νομοφύλακες. Складывается впечатление, что между греками и иудеями было достигнуто какое-то примирение (вероятно, оно должно было гарантировать, что иудеи станут вкладывать свои средства в городскую жизнь), как это произошло в Малой Азии в правление Северов31.
Когда в 7—6 гг. до н. э. города Киренаики направили посольство к Августу (вероятно, сообща), оно доложило ему о совсем иных проблемах, связанных главным образом с отправлением правосудия в уголовных делах, но касавшихся также отношений греков с римскими гражданами и, до некоторой степени, греков с греками. Сам факт направления этого посольства свидетельствует о том, что города проявляли некоторую инициативу, а возможно, и консолидировали свои усилия в рамках совета (koinon). Обстоятельства, обусловившие необходимость посольства, проливают необыкновенно яркий свет как на прежние недостатки римского
30 SEGIX 4, а также некоторые неопубликованные тексты.
31 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVI.160.9 сл., 165 сл.; SEG XX 737.8, 740.2—3, 741а.34, 47, 48, 57, 741с. 13; Дигесты. 50.2.3.3.
724
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
провинциального управления, так и на особые трудности данной провинции32.
Во-первых, римские граждане, проживавшие в Киренаике (большинство из которых, судя по их именам, вероятно, было иммигрантами), сговаривались против греков и добивались вынесения определенных приговоров, в том числе смертных приговоров невиновным. Им на руку играла явно не продуманная система судов присяжных, в которых обвинители, свидетели и судьи отбирались из одной и той же очень маленькой группы римлян-резидентов. Второй эдикт, возможно, позволяет еще пристальнее взглянуть на эту проблему: за его неясными и иносказательными формулировками может скрываться сговор трех римских граждан с целью навлечь на греков обвинение в нелояльности Августу.
Во-вторых, из предварительных предложений Августа о реформировании системы судов присяжных следует, что греки порой не желали, чтобы суд над ними вершили другие греки; Август счел необходимым дать грекам возможность при желании предстать перед чисто римской коллегией присяжных в тех судах, которые в норме (согласно его предложению) должны быть смешанными, а также посоветовал, чтобы в тех судах, где (согласно его предложению) присяжные должны были быть только греками, судьи не отбирались из граждан тех городов, из которых происходили непосредственные участники процесса. Надо признать, что у нас нет уверенности в том, что эти распоряжения были обусловлены какими-то событиями недавней истории Киренаики, а не более общими впечатлениями от взаимной вражды между греками, однако первый вариант вполне возможен, учитывая, что ранее Кирена славилась жестокими раздорами (staseis).
В-третьих, эдикты содержат ясные указания на финансовую слабость провинции. Список, из которого отбирались римские присяжные, состоял из двухсот пятнадцати имен — больше не нашлось людей, соответствовавших очень низкому имущественному цензу в 2,5 тыс. денариев; Август предложил установить имущественный ценз в 7,5 тыс. денариев как для греков, так и для римлян, но он осознавал, что найти достаточное число людей, удовлетворявших таким требованиям, окажется непросто. Конечно, не следует полагать, что в Киренаике не имелось богачей, но надо признать, что зажиточных людей там было немного, даже среди постоянно проживавших римских граждан. Такой же вывод следует и из решения Августа о том, что греки из Киренаики, которым даровано римское гражданство, должны по-прежнему выполнять свои местные обязанности, если только не получили особое освобождение от них при приобретении гражданства (причем такое освобождение может распространяться лишь на имущество, принадлежавшее им на тот момент).
Трудно поверить, что жители Киренаики ощущали какую-то угрозу нападения извне, когда направляли посольство к Августу, и даже два года спустя, когда провинция получила свою копию пятого эдикта (кото¬
32 SEGIX 8 = EJ2 311.
Глава 13j. Кирена
725
рый устанавливал новую процедуру судопроизводства для определенных разновидностей вымогательства и был адресован всем провинциям, а не только Киренаике), ибо власти Кирены явно не были ничем обеспокоены, когда решили вырезать все пять документов на мраморной стеле и поставить ее на агоре. Поэтому логично принять 5/4 г. до н. э. за terminus post quem для следующей крупной проблемы, которой стали набеги ливийского племени мармаридов (обитавшего как на территории между Киренаикой и Египтом, так и в Сиртике, между Киренаикой и Триполи- танией), столь широкомасштабные, что их можно было охарактеризовать как ведение войны. В надписи из Кирены сообщается, что война, в которой участвовал сей город, завершилась в 3 г. н. э. благодаря доблести Павсания, занимавшего в том году должность эпонимного жреца Аполлона. К событиям, происходившим между двумя этими датами, почти наверняка относится извлечение из кн. LV Диона Кассия (лишенное контекста), которое, видимо, повествует о военных действиях 1 г. н. э. В нем сообщается, что набеги не удавалось прекратить ни страдавшим от них жителям, ни солдатам, прибывшим из Египта, пока в дело не вступил трибун преторианцев; восстановить контроль над Киренаикой удалось лишь спустя долгое время, в течение которого никто из римских сенаторов не управлял городами в этой области32*1. С этими событиями может быть связано также несколько надписей из Киренаики; наиболее интересны два постановления из Кирены. Первое из них прославляет Александра, сына Эгланора, который лично сражался с врагами, многих убил и взял в плен. Вполне возможно, что, когда набеги начались, в провинции не было римских войск, поскольку правительство считало, что города способны самостоятельно справляться с подобными трудностями силами местного ополчения — эфебов и юношей, только что прошедших эфебское обучение (neoi); для начала I в. до н. э. такая практика засвидетельствована в постановлении из Береники. Если так, то эта система оказалась неэффективной, и пришлось вызывать войска, но и они поначалу терпели неудачи. Во втором постановлении подробно описана деятельность Фая, сына Клеандра, который во время войны, в разгар зимних штормов, отправился в опасное посольство и очень вовремя прибыл с подмогой; вполне возможно, что Фай ездил в Рим и убедил Августа отправить в Киренаику трибуна преторианцев, упомянутого Дионом Кассием, вероятно, во главе подкреплений. Конечно, в этих постановлениях может быть преувеличено бремя ответственности, выпавшей на долю городов в начале конфликта; но очевидно, что введенный Августом порядок не обеспечил Киренаике необходимой защиты. Имеется также краткое литературное свидетельство Флора о том, что в какой-то момент Август поручил войну против мармаридов и гарамантов Публию Сульпи- цию Квиринию — сенатору, в карьере которого много неясностей. Свиде¬
32а Подразумевается, что во время войны в провинцию не направлялись регулярные наместники из сенаторского сословия; управление в этот период осуществляли военные. — О.Л
726
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
тельство Флора может относиться к деятельности Квириния в должности наместника Крита и Кирены, которую тот занимал ок. 15 г. до н. э., вскоре после претуры; однако Флор, видимо, намекает, что Квириний имел отношение к кампании Косса Корнелия Лентула, проконсула Африки, проводившейся против гетулов в Сиртике в 5—6 гг. н. э. К этому времени Квириний был уже слишком пожилым человеком для подобного назначения, поэтому напрашивается предположение, что ему было поручено не просто одержать победу в пустыне, но и выстроить в Сиртике оборонительную систему для Киренаики. По-видимому, когда мармари- ды начали свои набеги, такой системы не существовало; но к правлению Тиберия уже была возведена линия фортов, самые ранние сведения о которой относятся, возможно, к 15 г. н. э. и, несомненно, — к 21 г. н. э. К сожалению, на сегодняшний момент не имеется твердых доказательств того, что данные форты возвел Квириний, но хронология, пожалуй, говорит в пользу этого предположения33.
Форты, отстроенные в Сиртике, стали щитом для провинции, которая теперь могла развиваться, не подвергаясь набегам из пустыни, и с момента их сооружения начинается новый этап в истории Киренаики. Этот щит состоял из ряда крепостей для защиты западных и юго-западных подступов к Киренаике; каждая из них размещалась рядом с крупным пунктом водоснабжения, чтобы контролировать население, которое им пользовалось, и служить базой для патрулей, отправлявшихся далеко за границу. Гарнизоны состояли из вспомогательных частей римской армии; некоторые из них оставили информативные граффити на стенах фортов и в местных храмах. В Шелейдиме и Мсусе (античные названия неизвестны) стояла не только пехота, но и конница, некоторые солдаты говорили на латыни, а некоторые, судя по их именам, были набраны в Испании или Галлии. В Адждабии (античный Корниклан) отдельные солдаты происходили из Сирии и, несомненно, были направлены сюда, поскольку хорошо знали пустыню. В этот же период граффити оставили не только солдаты, служившие, несомненно, в регулярных вспомогательных частях римской армии, но и люди, носившие вполне узнаваемые имена, характерные для Киренаики; смесью греческого, ливийского и латинского языков эти надписи напоминают граффити эфебов в Тевхире и Птолемаиде. Интерпретировать надписи непросто. Они могут свидетельствовать об отдельных случаях военного набора в Киренаике (один такой набор засвидетельствован в правление Юлиев—Клавдиев), но, поскольку в них очень редко упоминается военный чин, это могла быть работа эфебов или военнообязанных юношей (neoi) из городов, которые несли службу наряду с римскими солдатами или вместо них.
33 SEG к 63; Дион Кассий LV.lOa; ASAA, 39-40 (1960-1961): 321, по. 8; OGIS 767; Флор П.31; Desanges 1969 (Е 778); SEG IX 773-795; ReynoldsJ. //AR, 5 (1988): 167-172.
Глава 13j. Кирена
727
V. 4—70 гг. н. э.
Сразу после Мармарийской войны начались восстановление и перепланировка городов. В Кирене ряд надписей, относящихся к последнему десятилетию правления Августа и первым годам правления Тиберия, свидетельствует о том, что римские должностные лица занимались ремонтом общественных сооружений на агоре и рядом с ней, в святилище Аполлона, в храме Зевса и, возможно, на оборонительных стенах акрополя (но последние работы могли быть выполнены и раньше). В некоторых случаях заслуги приписаны командиру когорты; это указывает на то, что работа началась прежде, чем было восстановлено нормальное проконсульское управление, хотя она, несомненно, продолжалась последующие несколько лет34. Участие римских должностных лиц в строительстве, для которого они, вероятно, обеспечивали финансирование, можно, пожалуй, поставить в один ряд с помощью, которую Рим обычно оказывал провинциалам, пострадавшим от стихийных бедствий; впрочем, у нас нет прямых свидетельств того, что этот ремонт потребовался из-за непосредственного ущерба, нанесенного врагами (возможно, причина была просто в том, что строения из мягкого местного камня не поддерживались в надлежащем состоянии). Латинских надписей на зданиях имеется больше, чем можно было бы ожидать, и это, вероятно, означает, что на латыни здесь говорили не только солдаты, но постоянно проживавшие в провинции римские предприниматели (negotiatores), которые в правление Юлиев—Клавдиев оставили по меньшей мере одну надпись (точно не датируемую) на здании, построенном, видимо, ими самими35. Но и граждане-греки играли в городах важную роль, которую не следует игнорировать. Фрагменты нескольких городских постановлений, вырезанных в камне, позволяют взглянуть на то, как осуществлялось управление городом36. В некоторых надписях подчеркивается гражданственный дух лиц, получивших почести, и отсюда ясно, что во время Мармарийской войны люди действительно не щадили ни усилий, ни денег ради победы, да и позднее продолжали так же поступать. Небольшие памятники свидетельствуют о наличии немалого числа кандидатов на финансово обременительную должность жреца Аполлона и об активной работе организации эфебов. Из всех посвящений особенно примечательной и дорогостоящей иллюстрацией последнего тезиса является большой городской алтарь из мрамора, предназначенный для культа Гая и Луция Цезарей на агоре37. Более того, к середине I в. н. э. в киренских списках жрецов Аполлона появляются римские граждане (обычно носившие имя Тиберий Клавдий,
34 АЕ 1927, 140; 1968, 536—538, вероятно, также: 532—534, 539, 540; Oliverio G. Ц Afпса Italiana (1930) 3: 198 сл.; Gasperini L. // QAL (1971) 6: 3—22; й некоторые неопубликованные надписи.
35 Напр.: Gasperini L. // Stucchi 1967 (Е 805А): 175, Nq 38.
36 См. надписи, указанные в сноске 28 насг. гл.
37 Не опубликован.
728
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
что предполагает получение гражданства при императорах Клавдии и Нероне); это должно означать, что общественные заслуги данных людей были весьма заметны38. Возможно также, что один выходец из Кирены вошел в римский сенат — Антоний Фламма, проконсул Крита и Кирены, который был привлечен к суду и изгнан в 70 г. н. э. за вымогательство в Киренаике. В середине I в. н. э. среди жрецов Аполлона и спонсоров общественных работ встречается несколько человек по имени Марк Антоний Фламма; внук одного из них (по дочери), несомненно, был римским сенатором в правление императора Траяна. Поэтому заманчиво было бы идентифицировать первого из киренских Антониев Фламм с проконсулом; но, поскольку само по себе невероятно, чтобы в столь ранний период грек из этой провинции вошел в сенат, его семью, видимо, следует считать иммигрантами из Италии, которые приняли гражданство Кирены и, возможно, заключали браки с местной аристократией. Если проконсул происходил из Кирены (не важно, был ли он настоящим греком или нет), то мы знаем в этом городе, по крайней мере, одного по-настоящему богатого человека. Предъявленное ему обвинение можно рассматривать как проявление раздоров среди высшего класса Кирены, которые, возможно, выразились и в том, что во время гражданской войны после падения Нерона представители данного класса поддерживали разные римские группировки39.
Таким образом, экономический подъем в Кирене очевиден. Скудные сведения об Аполлонии указывают на аналогичные процессы, происходившие в тот период. Для Птолемаиды и Тевхиры имеются свидетельства иного рода. К настоящему времени в этих городах найдено сравнительно мало городских постановлений и посвящений, зато от I в. н. э. сохранилось множество эфебских граффити и надгробных надписей;40 это, пожалуй, свидетельствует о том, что гражданское население здесь было весьма многочисленным и горожане могли оплачивать эфебское воспитание для своих сыновей, а для себя — памятники с грамотными эпитафиями, хоть порой и скромные. Для Береники опять-таки имеются иные свидетельства — это результаты раскопок в Сиди Хребиш (а также несколько статуй эпохи Тиберия, которые могут происходить из городского центра или его окрестностей). Примерно в середине I в. н. э. вся заброшенная территория была выровнена, на ней проложили новые мощеные улицы и возвели дома. Последние имели такую же планировку и фасады, как и дома эллинистического периода, но более массивные фундаменты и несколько более продуманные конструктивные особенности, например, внутренние дворы-перисгили, подземные цистерны и небольшие архитектурные украшения. Во всяком случае, эти постройки, видимо, свидетельствуют о том, что население Береники снова возросло и потребовало нового жизненного пространства. Независимо от данных свидетельств
38 Напр.: SEGIX 183, 184.
39 Reynolds 1982 (Е 802).
40 SEG IX 361—726 (издание надписи требует пересмотра). Имеется также несколько неопубликованных текстов.
Глава 13j. Кирена
729
иудейская надпись из этого города, относящаяся к эпохе Нерона, приводится исследователями как доказательство роста численности иудейской политевмы; в последней, в частности, должностных лиц стало больше, чем таковых зафиксировано в более ранних надписях; в данном тексте надежно засвидетельствована перестройка синагоги, оплаченная за счет весьма многочисленных, хоть и небольших, взносов членов общины41.
В деревнях тоже возрастает число надгробных надписей, большинство из которых довольно скромны, некоторые — очень скромны; тем не менее они свидетельствуют о том, что среди сельчан стали выше цениться грамотные эпитафии, а возможно, указывают и на рост численности сельского населения. Во всяком случае, военный набор, проведенный в Киренаике в 50-е годы I в. н. э., говорит о том, что в это время нехватка людских ресурсов здесь не ощущалась42.
Свидетельства об официальных мероприятиях Рима в Киренаике пока малочисленны. Известно, что однажды в правление Тиберия сложившийся порядок был нарушен и полномочия наместника продлены на три года, но это, пожалуй, следует объяснять скорее падением Сеяна, нежели обстановкой в Киренаике. Четырежды римские должностные лица давали жителям Кирены повод для возбуждения судебного обвинения в Риме, обычно за вымогательство. Известно лишь два римских мероприятия, о которых можно сказать несколько больше, и оба осуществил Клавдий: это строительство дорог и ревизия государственной земли (ager publicus)43.
Обычно считается, что еще до прихода римлян в Киренаике существовала хорошая система коммуникаций, которая обеспечивала вполне удовлетворительную связь между деревнями и городами, внутренними землями и побережьем. От троп, проложенных в этой области, сохранились мелкие выемки в скальной поверхности, порой — с глубокими бороздами от колес, вдоль которых иногда расположены вырезанные в скале саркофаги и другие гробницы; нет никаких признаков того, что здесь когда-либо применялся иной метод дорожного строительства. Ни сооружение таких дорог, ни их ремонт (который сводился просто к срезанию поврежденной поверхности) не поддаются датировке. Можно предположить, что римляне довольно рано начали уделять внимание дорожной системе и даже расширили ее в связи с Мармарийской войной, но об этом нет никаких указаний до тех пор, пока они не начали устанавливать мильные камни. Судя по имеющимся на сегодня данным, первые мильные камни были поставлены в Киренаике от имени Клавдия на дороге из Кирены в Аполлонию, имевшей важнейшее значение для связи Кирены с внешним миром, и на дороге из Кирены в Балагры, которая вела из города к его самым плодородным землям, а оттуда — к городам Птолемаида- Барка, Тевхира и Береника и далее — к фортам Сиртаки44. Нельзя с уве¬
41 SEG ХУП 823.
42 Тацит. Анналы. XIV. 18.1.
43 InscrCret IV 272 [ILS 158); Тацит. Анналы. Ш.38.1; XIV. 18.1; История. IV.45.2.
44 Goodchild 1950 (Е 781).
730
Часть Ш. Италия и провинции. Запад
ренностью сказать, какие именно работы произвел Клавдий, и особенно неясен вопрос о том, ему ли следует поставить в заслугу строительство новой и очень важной дороги из Кирены в Аполлонию, менее крутой и менее подверженной зимним паводкам, чем старая. Неизвестны и причины, побудившие Клавдия заняться дорогами в Киренаике, но вполне возможно, что он заботился о снабжении города Рима, а потому заинтересовался зерновой продукцией Киренаики и перевозкой хлеба из внутренних земель на побережье.
Вероятно, интерес к зерновой продукции наряду с откровенно фискальными соображениями побудил его назначить Луция Ацилия Страбона, сенатора в ранге претория, своим легатом, с тем чтобы тот обеспечил возвращение государству незаконно захваченной общественной земли (ager publicus) в Киренаике45. Ацилий Страбон, видимо, потратил довольно много времени, устанавливая правовой статус маленьких поместий в пригодной для земледелия зоне и, вероятно, какой-то земли в поясе сильфия (см. выше). Первые стелы, возведенные им после истребования земли, установлены в правление Клавдия, когда Ацилий работал в сельских районах к востоку и югу от Кирены; серия стел продолжается после прихода к власти Нерона, и, хотя некоторые из них стоят в сельских районах, несколько таких памятников найдено совсем рядом с Киреной и Аполлонией. Деятельность Страбона, судя по всему, вызвала недовольство красноречивых и влиятельных представителей городских элит, поэтому в 59 г. н. э. он был привлечен к суду за злоупотребления. Нерон, выслушав дело, оправдал его, но позволил лицам, незаконно захватившим землю, сохранить ее за собой, хотя тот факт, что многие из стел Страбона остались на местах, может означать, что часть истребованной им земли всё же была удержана государством.
В таких обстоятельствах неудивительно, что некоторые жители Киренаики с сожалением восприняли падение Нерона. Мы ничего не знаем о том, какую позицию они занимали в год четырех императоров и какие превратности судьбы испытали, но можно задаться вопросом: радовались ли они приходу к власти Веспасиана, который некогда был квестором в их провинции? Если они испытывали сомнения, то не напрасно, ибо истребование общественной земли (ager publicus) он возобновил почти сразу.
45 Reynolds J. Ц LA (1971) 8: 47-51.
СОДЕРЖАНИЕ
От переводчиков 5
Предисловие 7
Часть первая ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ
Глава 1. Эпоха триумвирата
Кр. Пеллинг
I. Триумвират 14
П. Филиппы, 42 г. до н. э 18
Ш. Восток, 42—40 гг. до н. э 22
IV. Перузия, 41—40 гг. до н. э 28
V. Брундизий и Мизен, 40—39 гг. до н. э 32
VI. Восток, 39—37 гг. до н. э 37
VE. Тарент, 37 г. до н. э 40
\ТП. 36 г. до н. э 44
IX. 35—33 гг. до н. э 54
X. Приготовления: 32 г. до н. э 68
XI. Акций, 31 г. до н. э 75
ХП. Александрия, 30 г. до н. э 81
ХШ. Оглядываясь назад 88
Заметка. Конституционные вопросы 90
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — 14 г. н. э.
Дж.А. Крук
I. Введение 93
П. 30—17 гг. до н. э 96
Ш. 16 г. до н. э. — 14 г. н. э 121
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения
Дж.-А. Крук
I. Власть 143
П. Авторитет 148
Ш. Достижения 155
732
Содержание
Глава 4. Расширение империи при Августе
Э.-С. Грюэн 182
I. Египет, Эфиопия и Аравия 183
П. Малая Азия 186
Ш. Иудея и Сирия 190
IV. Армения и Парфия 194
V. Испания 200
VI. Африка 203
VH. Альпы 206
VQI. Балканы 209
IX. Германия 217
X. Имперская идеология 227
XI. Заключение 234
Глава 5. От Тиберия до Нерона Т.-Э.-Й. Видежан
I. Приход Тиберия к власти и особенности политики
при Юлиях—Клавдиях 238
П. Правление Тиберия 250
Ш. Гай Калигула 262
IV. Клавдий 270
V. Нерон 284
Глава 6. От Нерона до Веспасиана Т. -Э. -Й. Видежан
I. 68 г. н. э 299
П. 69—70-е годы н. э 308
Часть вторая ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ ИМПЕРИИ
Глава 7. Императорский двор
Э. Уоллес-Хэдрилл
I. Введение 326
П. Доступ и ритуал: придворное общество 329
Ш. Патронат, власть и управление 340
IV. Заключение 352
Глава 8. Финансы Империи
Д.-У. Рэтпбоун 355
Содержание
733
Глава 9. Сенат и посты, которые занимали в государстве сенаторы и всадники Р.-Дж.-А. Талберт
I. Сенат 373
П. Должности сенаторов и всадников 386
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях
А. -К. Боумэн
I. Рим, император и провинции 394
П. Структура 402
Ш. Функционирование 408
IV. Заключение 419
Глава 11. Армия и военный флот
Л Кеппи
I. Армия Поздней республики 424
П. Армия в гражданских войнах 49—30 гг. до н. э 426
Ш. Армия и флот при Августе 430
IV. Армия и флот при Юлиях—Клавдиях 440
V. Римская армия в 70 г. н. э 450
Глава 12. Отправление правосудия
X. Галъстерер 454
Часть третья ИТАЛИЯ И ПРОВИНЦИИ
Запад
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа М.-Х. Кроуфорд
I. Масштабы романизации 474
П. Сохранение местных культур 485
Приложения к главе 13а
I. Формулы консульских датировок в республиканской Италии 494
П. Сохранение греческого языка и учреждений 497
Ш. Нелатинские надписи после Союзнической войны 500
IV. Италийские календари 503
V. Подношения по обету 505
VI. Местные погребальные обычаи 506
734
Содержание
УП. Распространение чуждых надгробных стел 507
Глава 13Ь. Сицилия, Сардиния и Корсика
Р-Дж.-Э. Уилсон 509
Глава 13с. Испания
Г. Альфёлъди
I. Завоевание, администрация и военное устройство провинции 526
П. Урбанизация 532
Ш. Экономика и общество 535
IV. Влияние романизации 538
Глава 13d. Галлия К. Гудино
I. Введение 542
П. Нарбонская Галлия 549
Ш. Три Галлии 567
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э.
Джон У онер
I. Период до завоевания 583
П. Вторжение и его последствия 587
Ш. Организация провинции 590
IV. Урбанизация и коммуникации 591
V. Сельское население 594
VI. Торговля и ремесла 595
VII. Религия 596
Глава 13f. Германия К. Рюгер
I. Введение 598
П. Римская Германия, 16 г. до н. э. — 17 г. н. э 606
Ш. Создание милитаризованной зоны, 14—90 гг. н. э 609
Глава 13g. Реция
X. Вольф 617
I. «Реция» до Клавдия 619
П. Провинция в правление Клавдия 623
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции Дж.-Дж. Уилкс
I. Продвижение на Дунай и за Дунай,
43 г. до н. э. — 6 г. н. э 627
Содержание
735
П. Восстание в Иллирике и аннексия Фракии,
6—69 гг. н. э 636
Ш. Дунайские народы 641
IV. Провинции и армии 648
V. Римская колонизация и административное устройство
коренных народов 656
Глава 131. Римская Африка: от Августа до Веспасиана
К.-Р. Уиттакер
I. До Августа 671
П. Африка и гражданские войны, 44—31 гг. до н. э 675
Ш. Экспансия Августа 677
IV. Тиберий и Такфаринат 678
V. От Гая до Нерона 682
VI. Управление и организация провинции 686
VTL Города и колонии 690
VTH. Романизация и сопротивление 698
IX. Экономика 703
X. Римский империализм 704
Глава 13j. Кирена
Дж. Рейнолдс, Дж.-А. Ллойд
I. Введение 707
П. Страна 710
Ш. Население, его распределение, организация и внутренние взаимоотношения 713
IV. От смерти Цезаря до завершения Мармарийской
войны (ок. 6/7 г. н. э.) 720
V. 4—70 гг. н. э 727
Научное издание
ИМПЕРИЯ АВГУСТА 43 г. до н. э. — 69 г. н. э.
В 2-х полутомах Первый полутом
Редактор Ю.А. Михайлов Корректор О. Г. Наренкова Компьютерная верстка и препресс О. А. Кудрявцевой
ИД No 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 20.10.2017 г. Формат 60 X 90у1б. Гарнитура «Баскервиль» Печать офсетная. Печ. л. 46 Тираж 700 экз. Зак. №К-2053.
Научно-издательский центр «Ладомир» 124681, Москва, ул. Заводская, д. 4 Тел. склада: 8-499-729-96-70 E-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в АО «ИПК “Чувашия”» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13