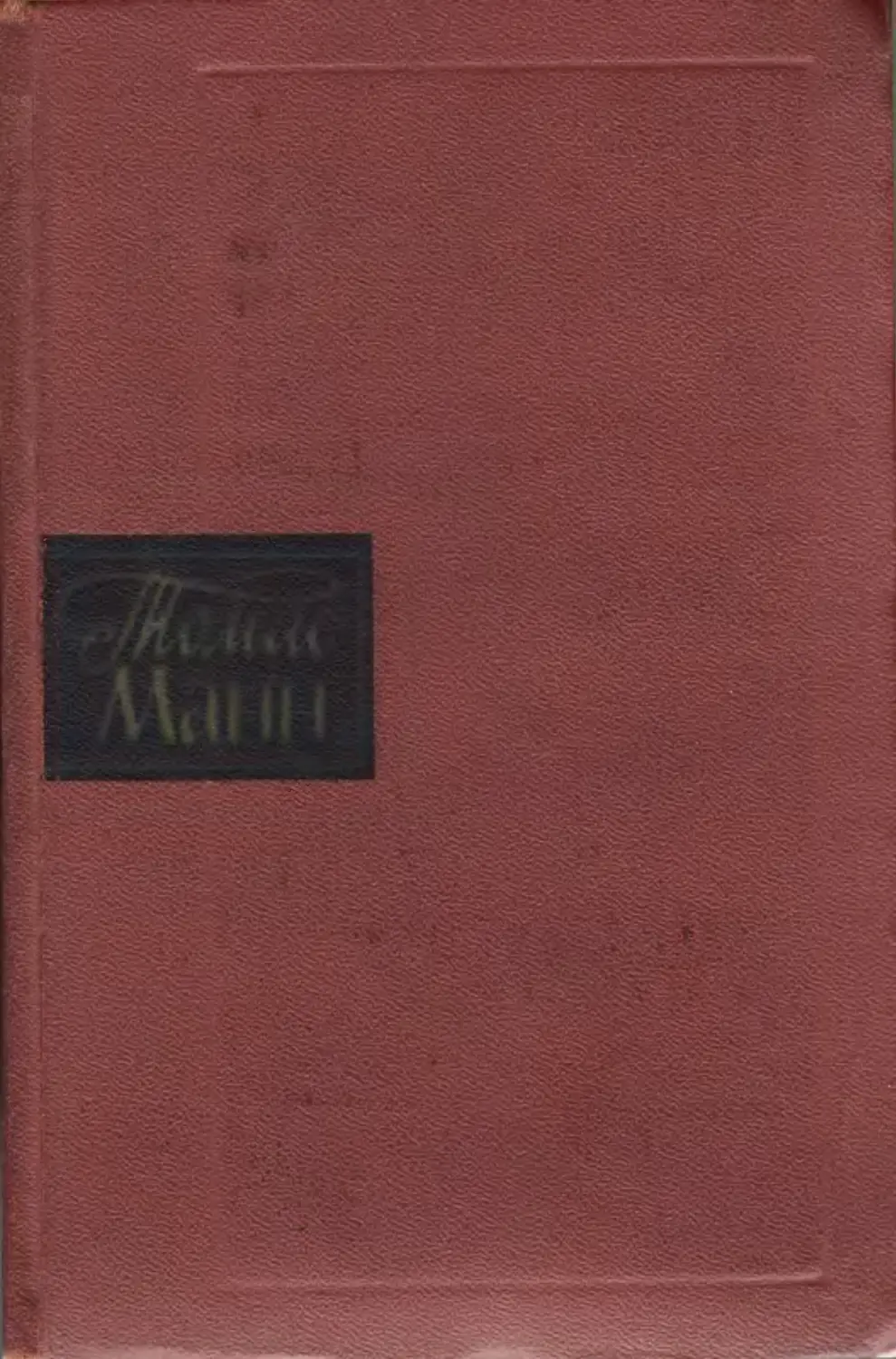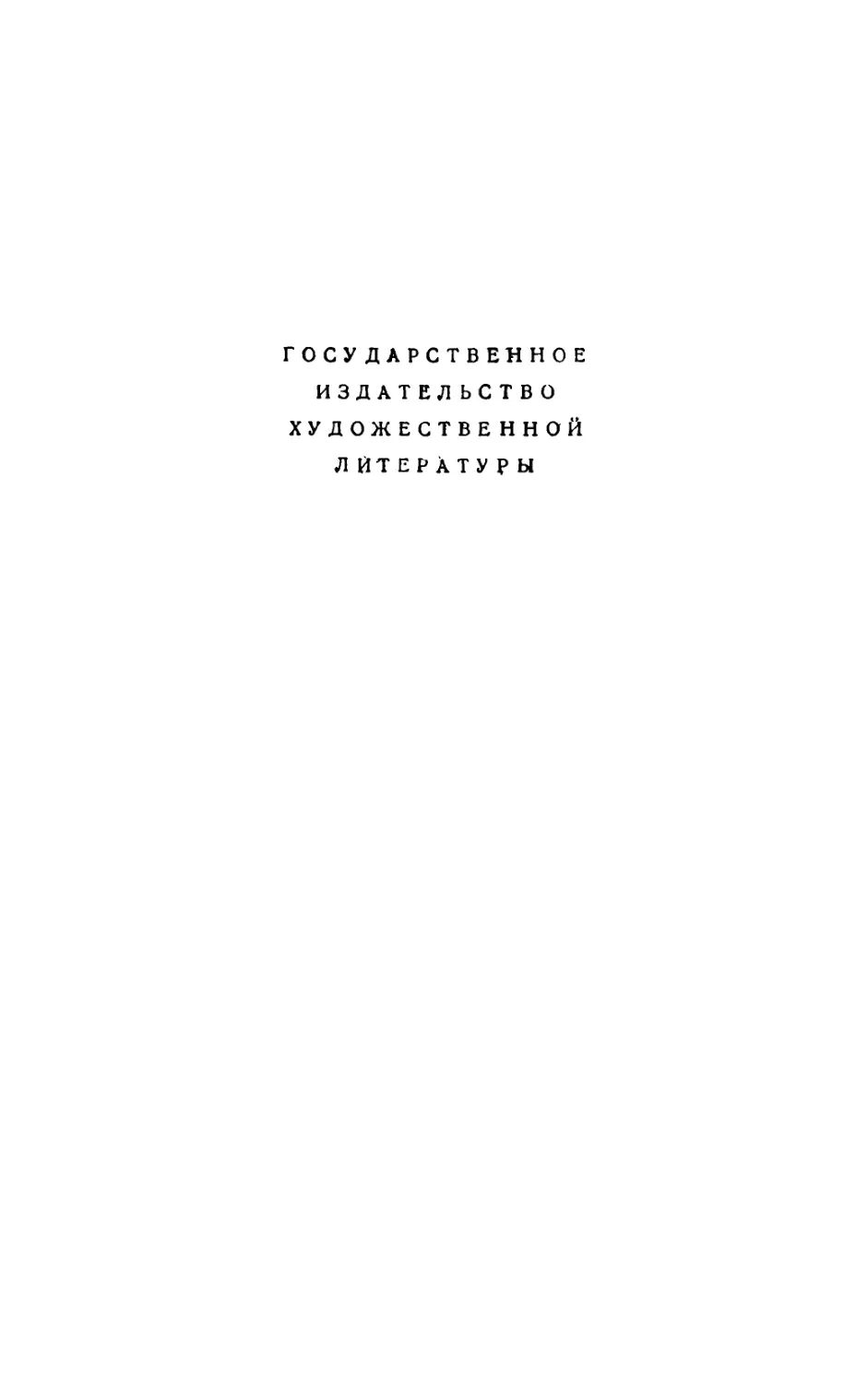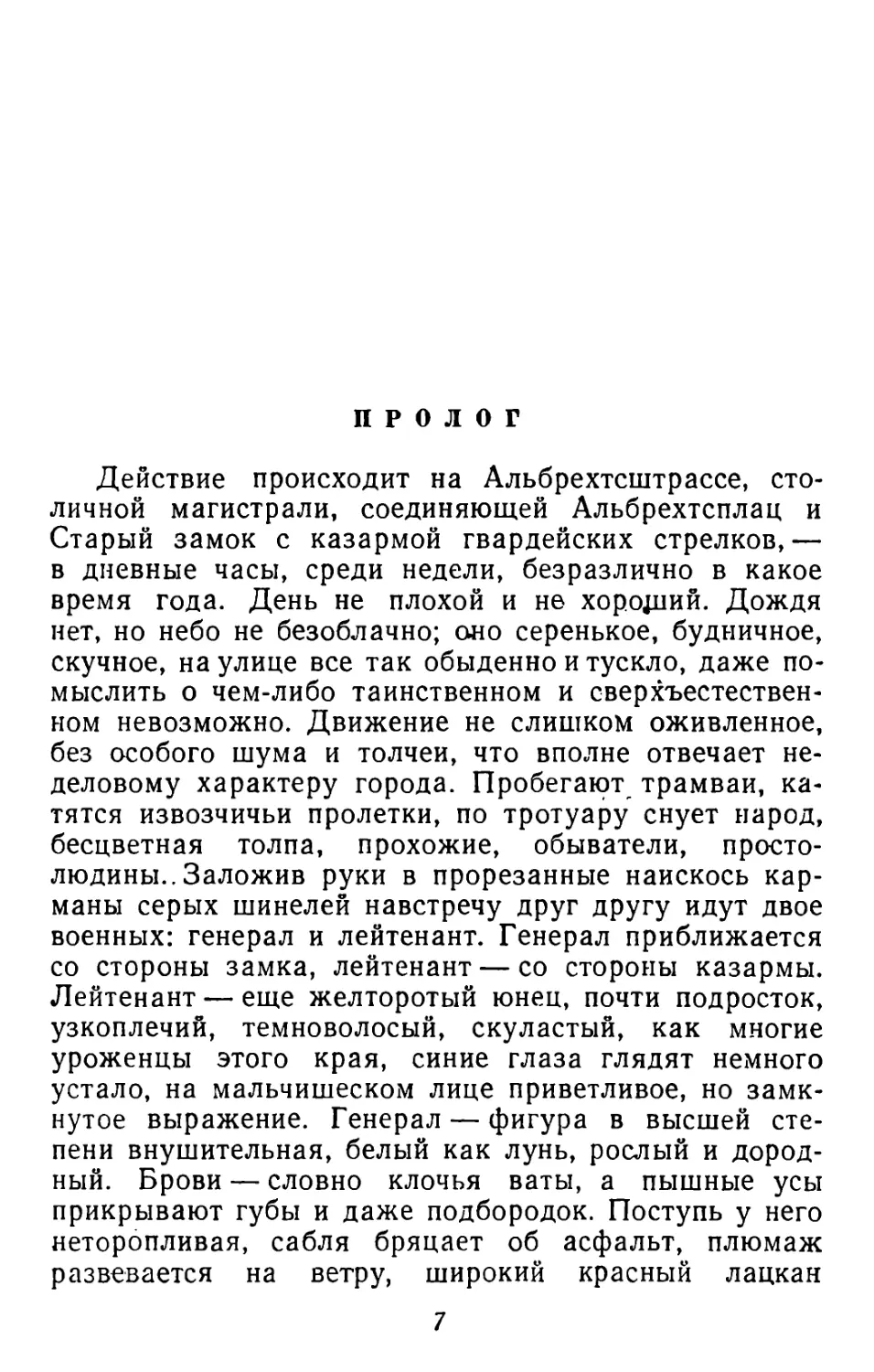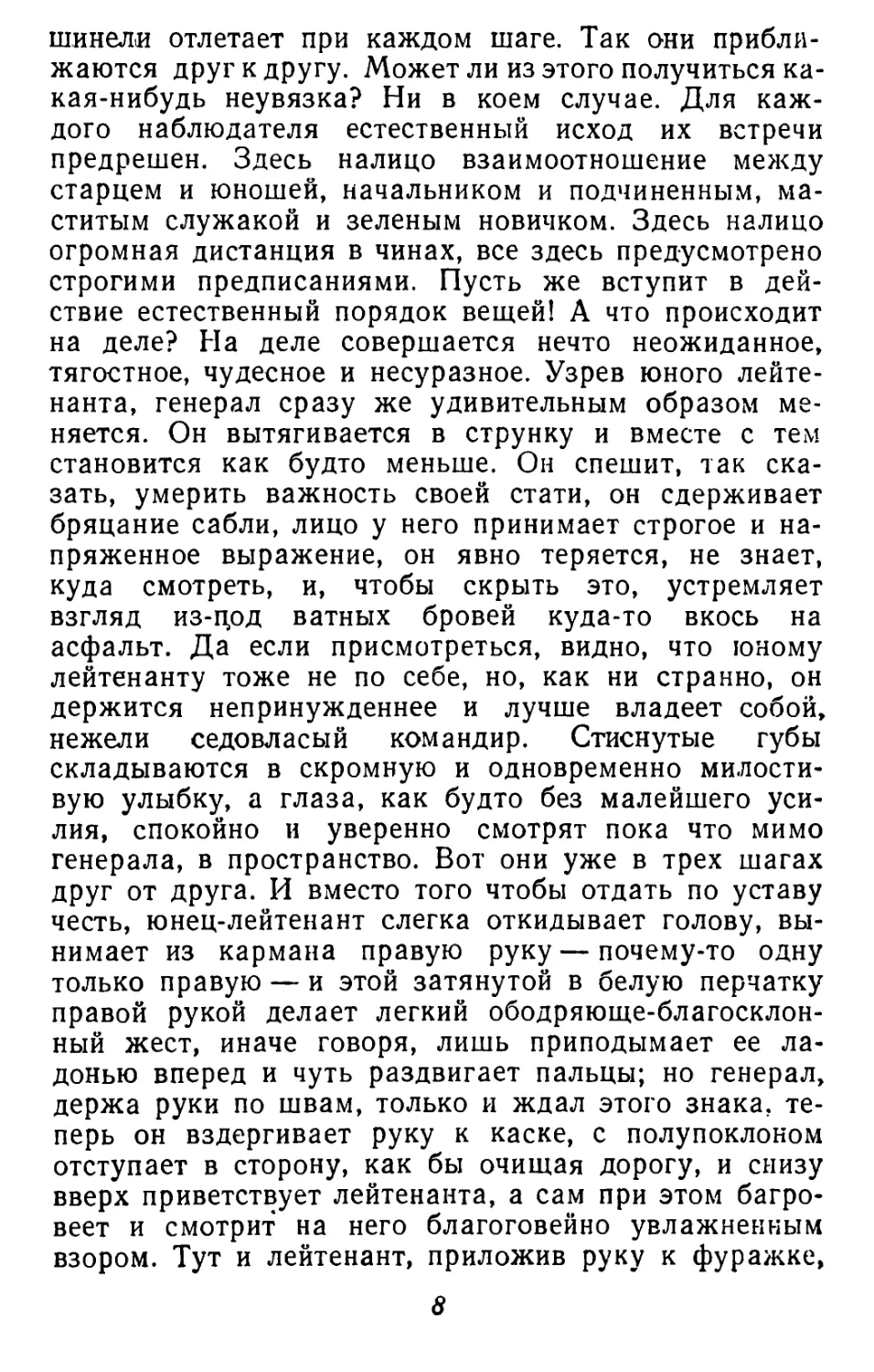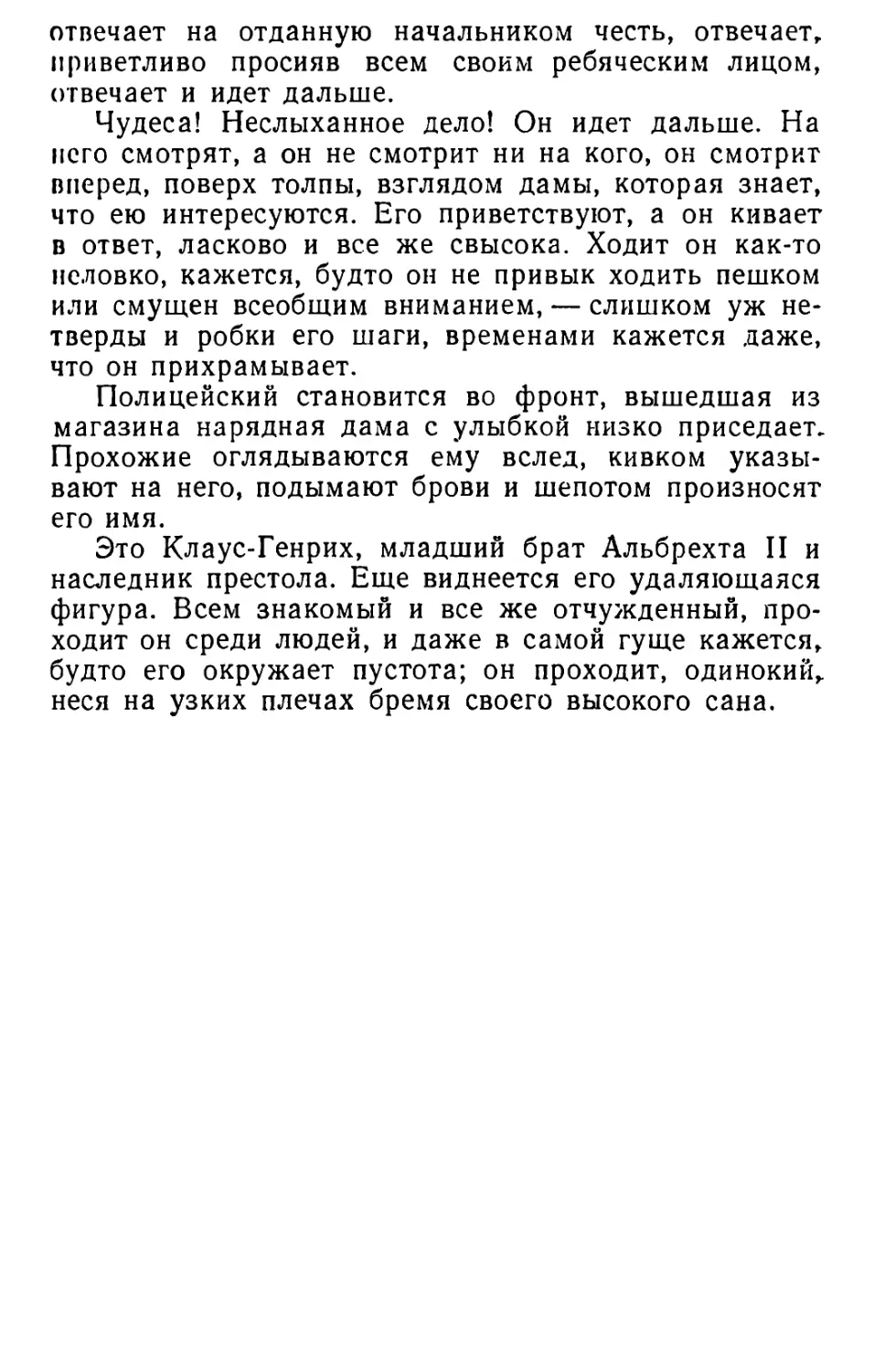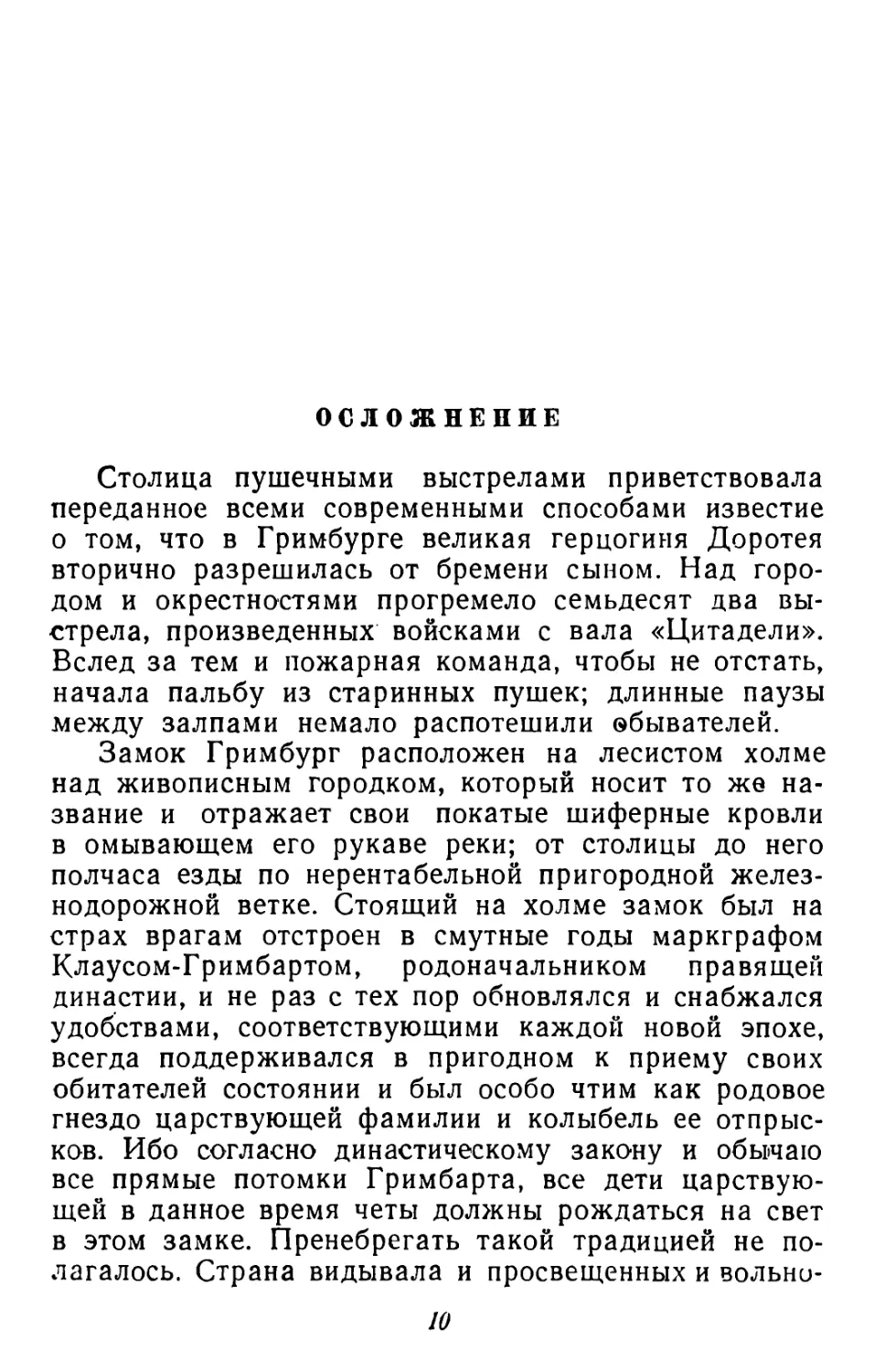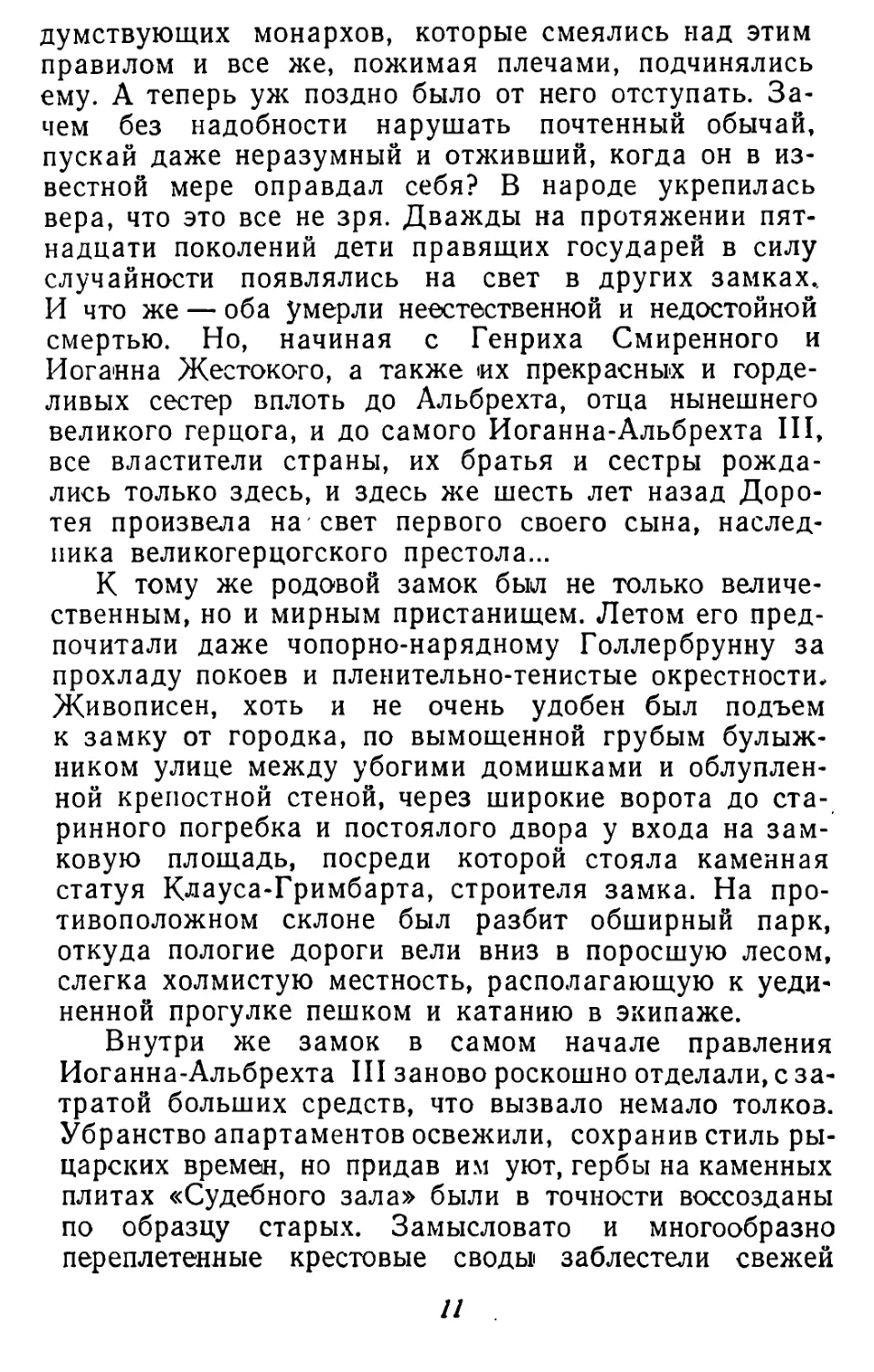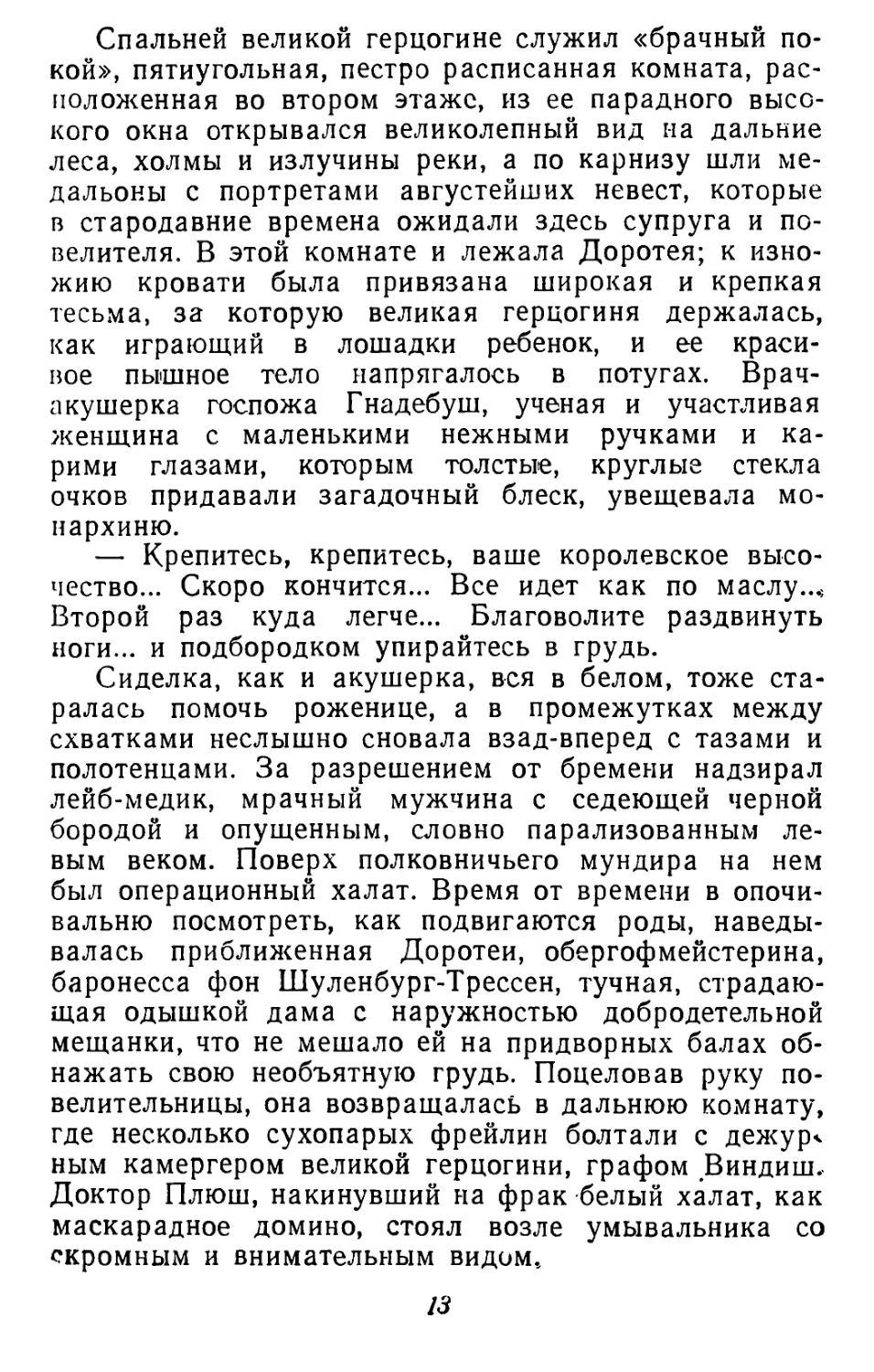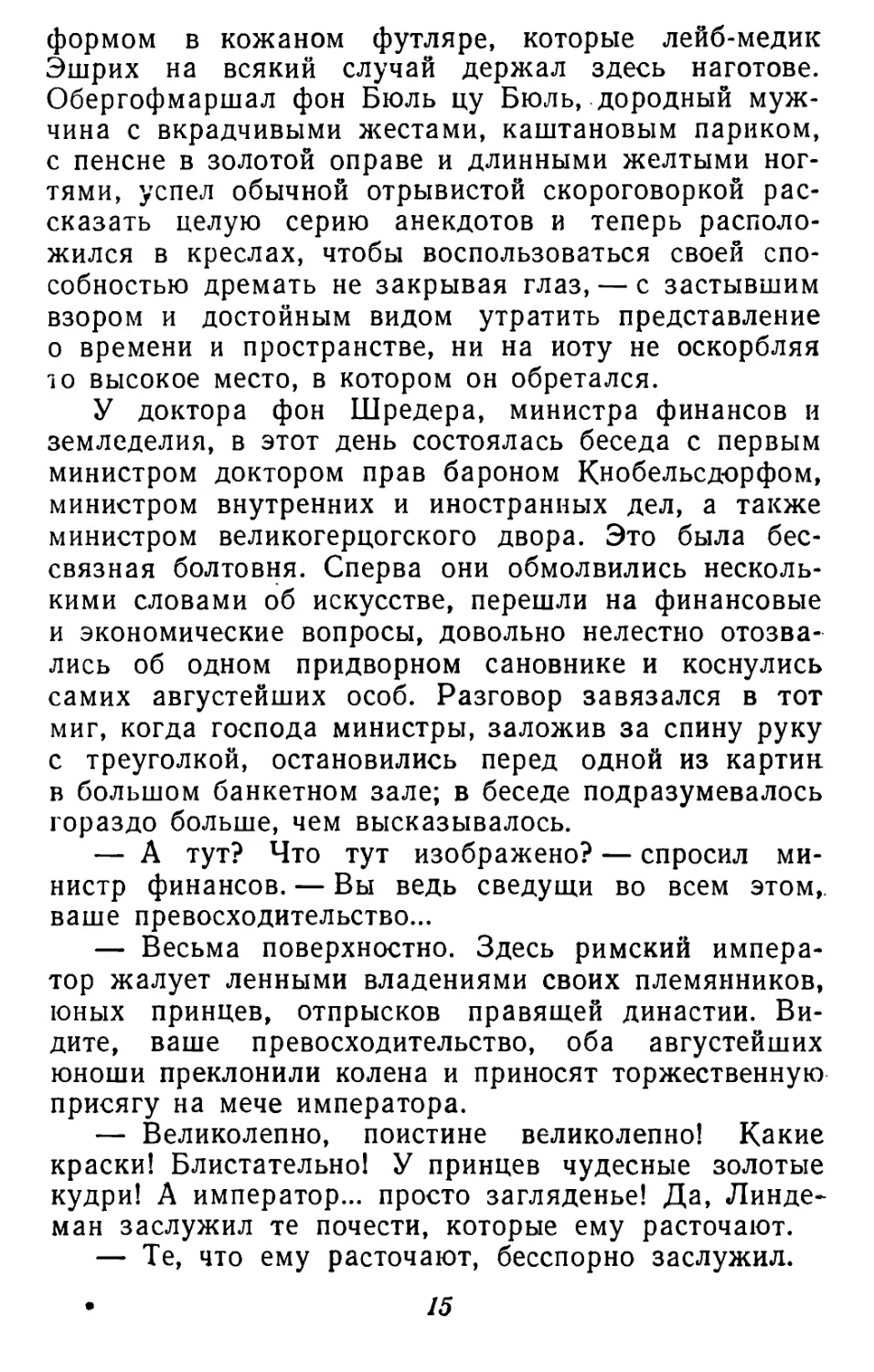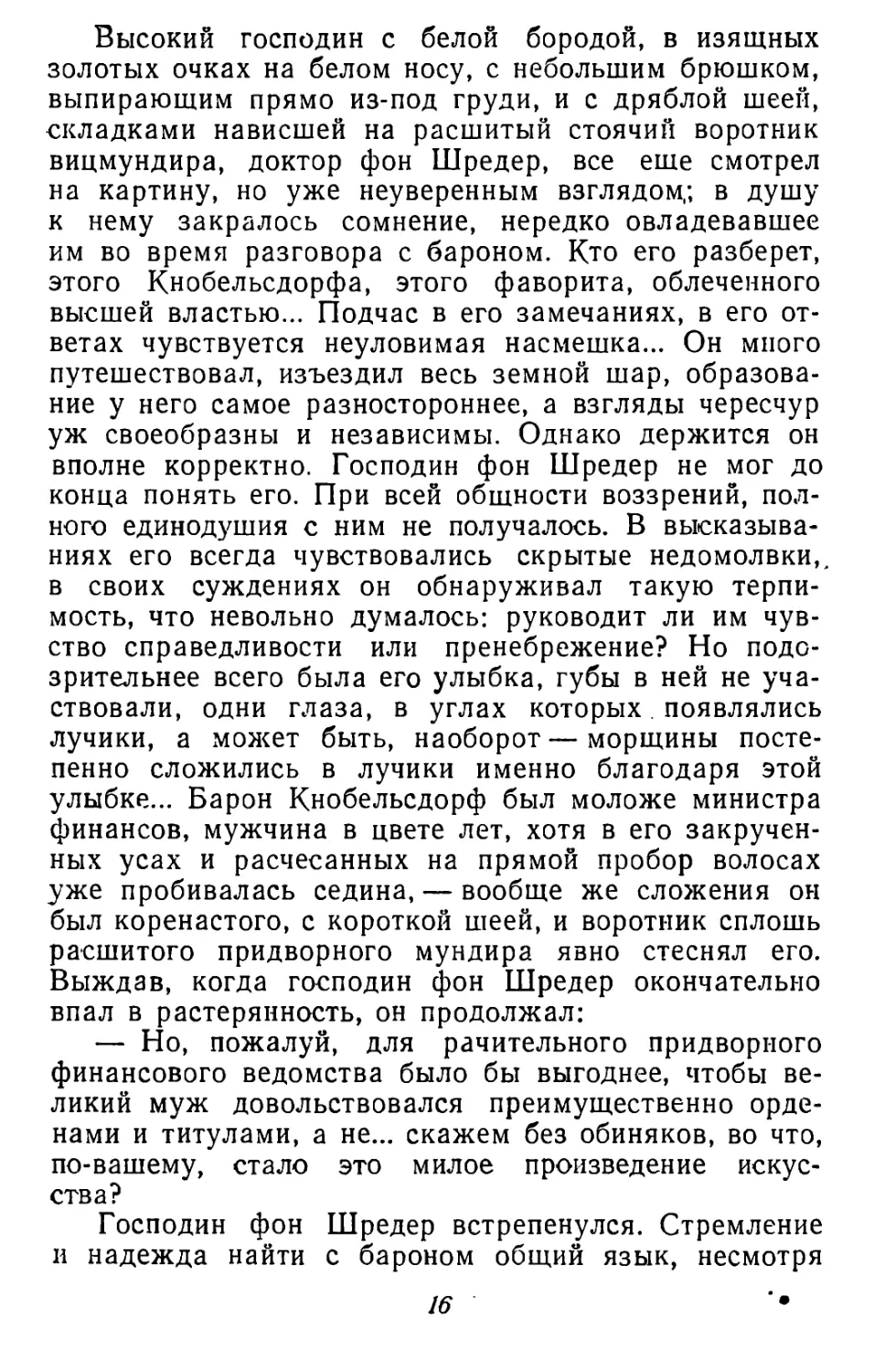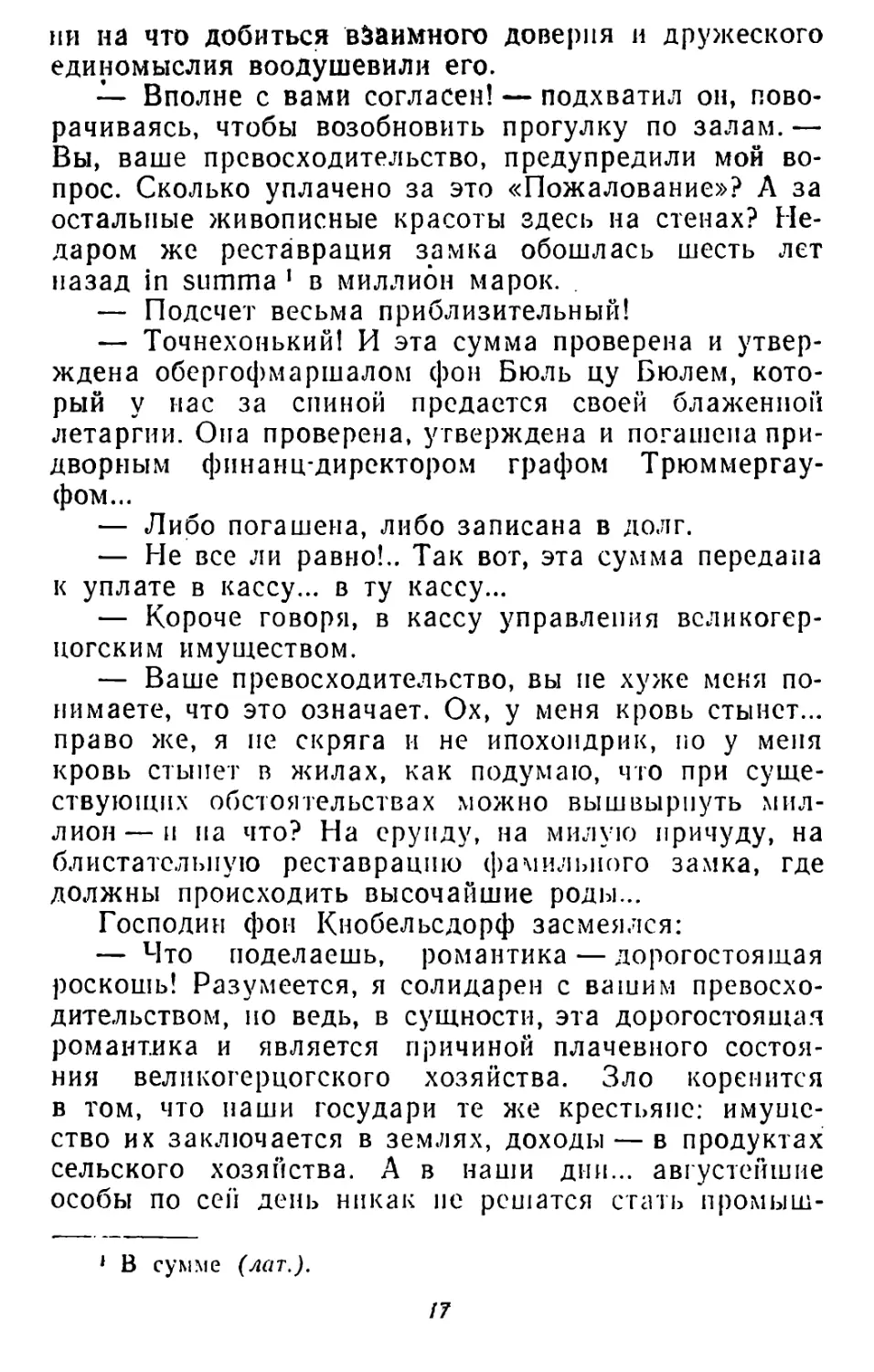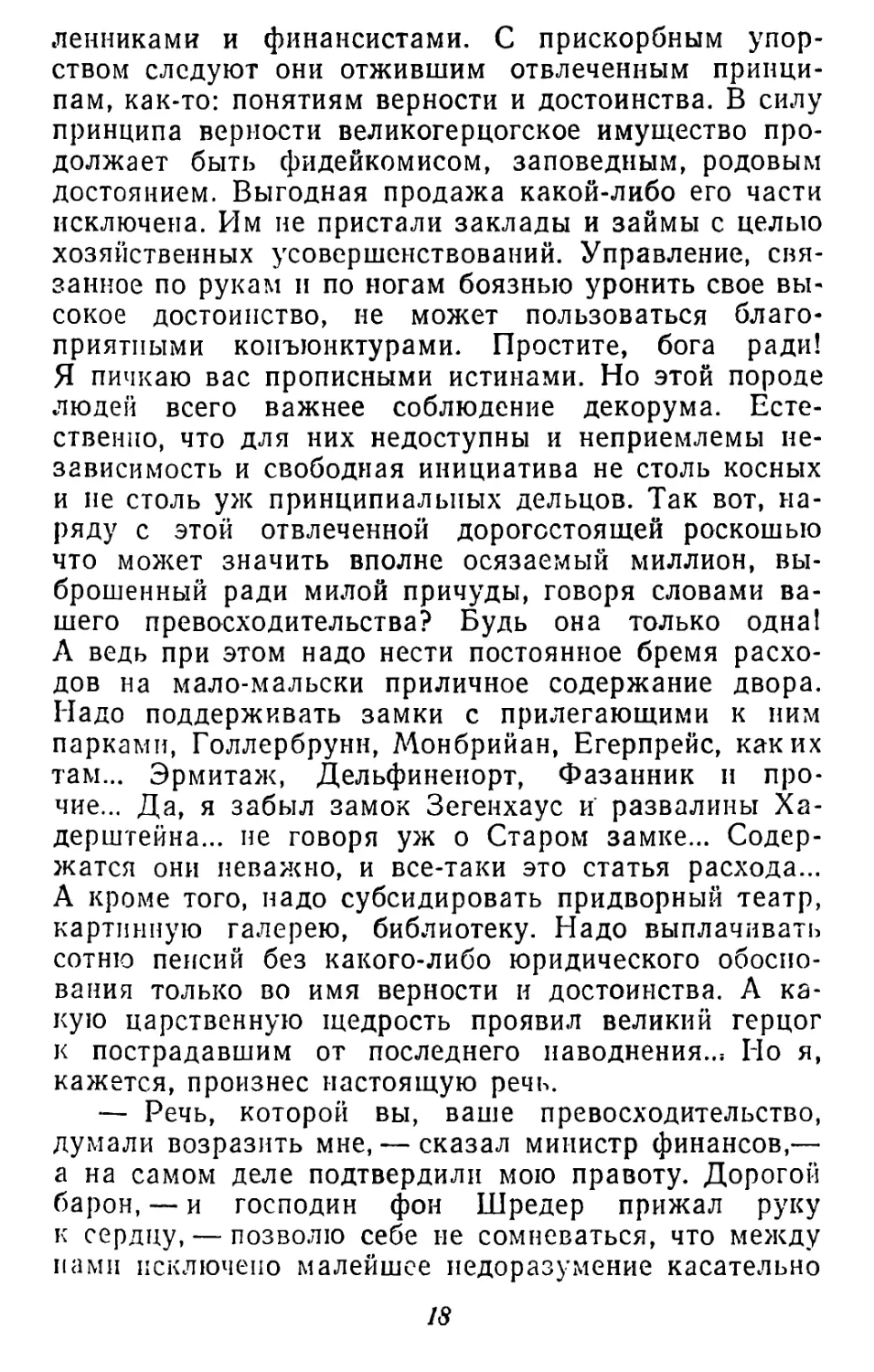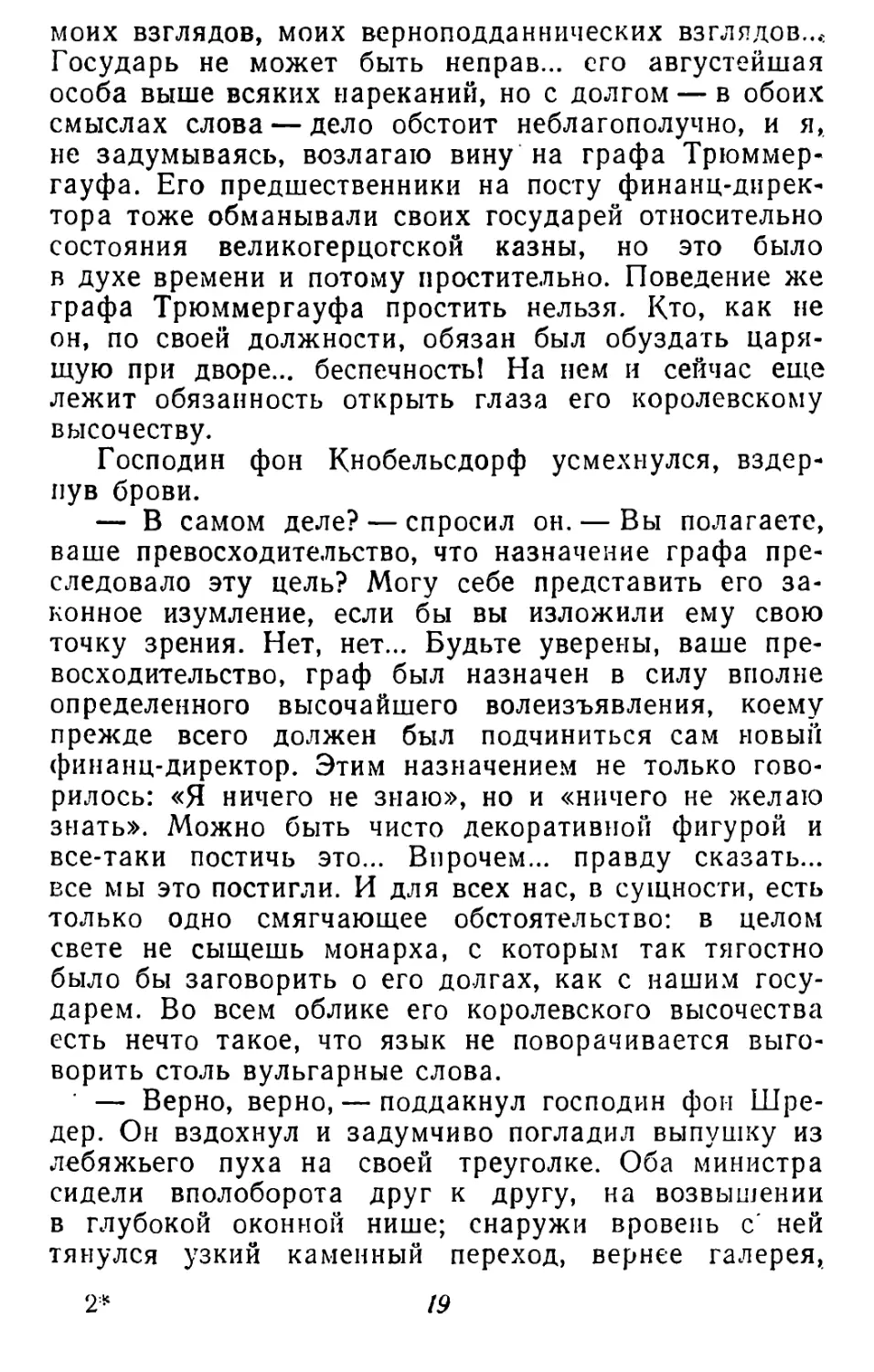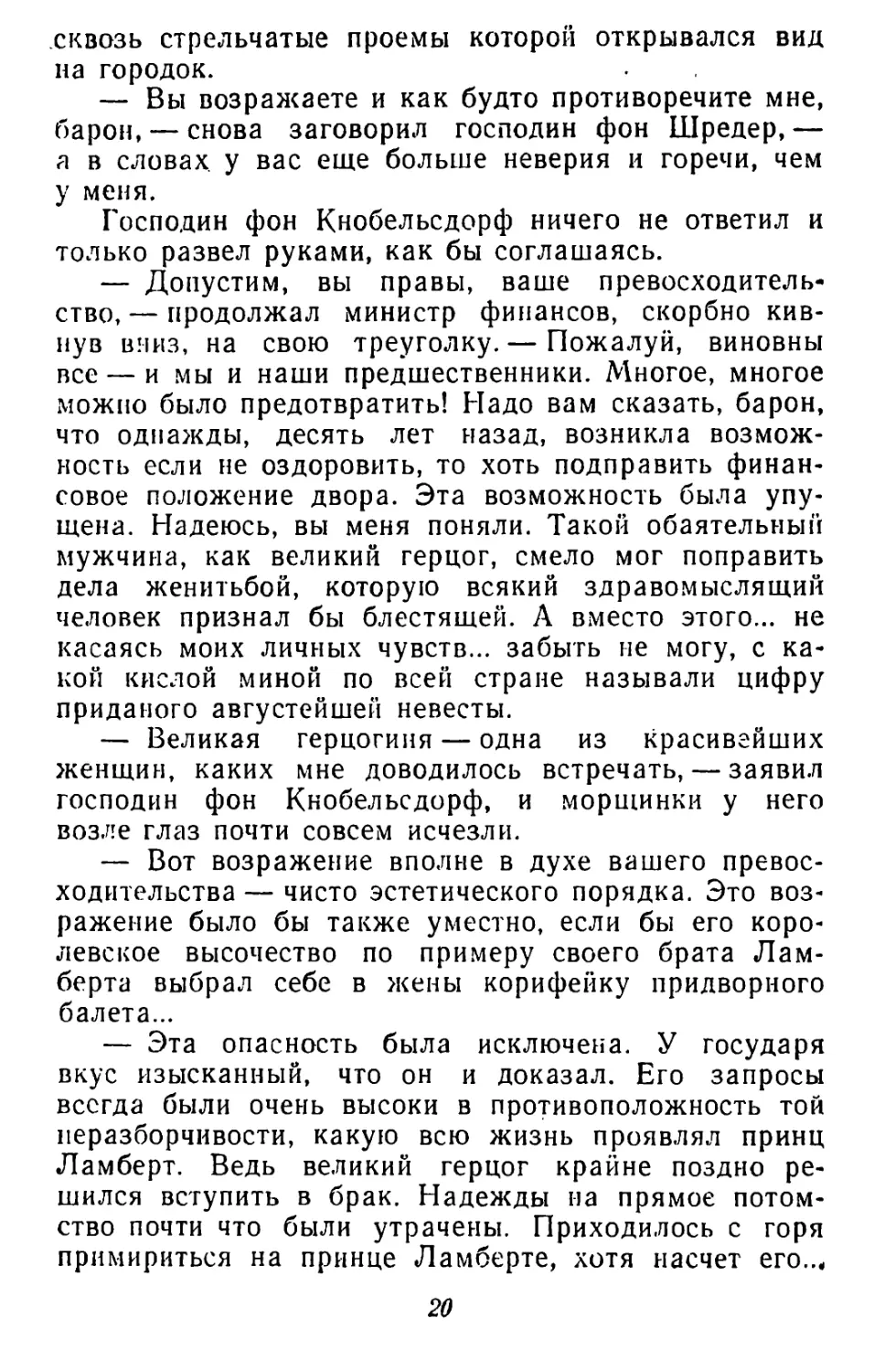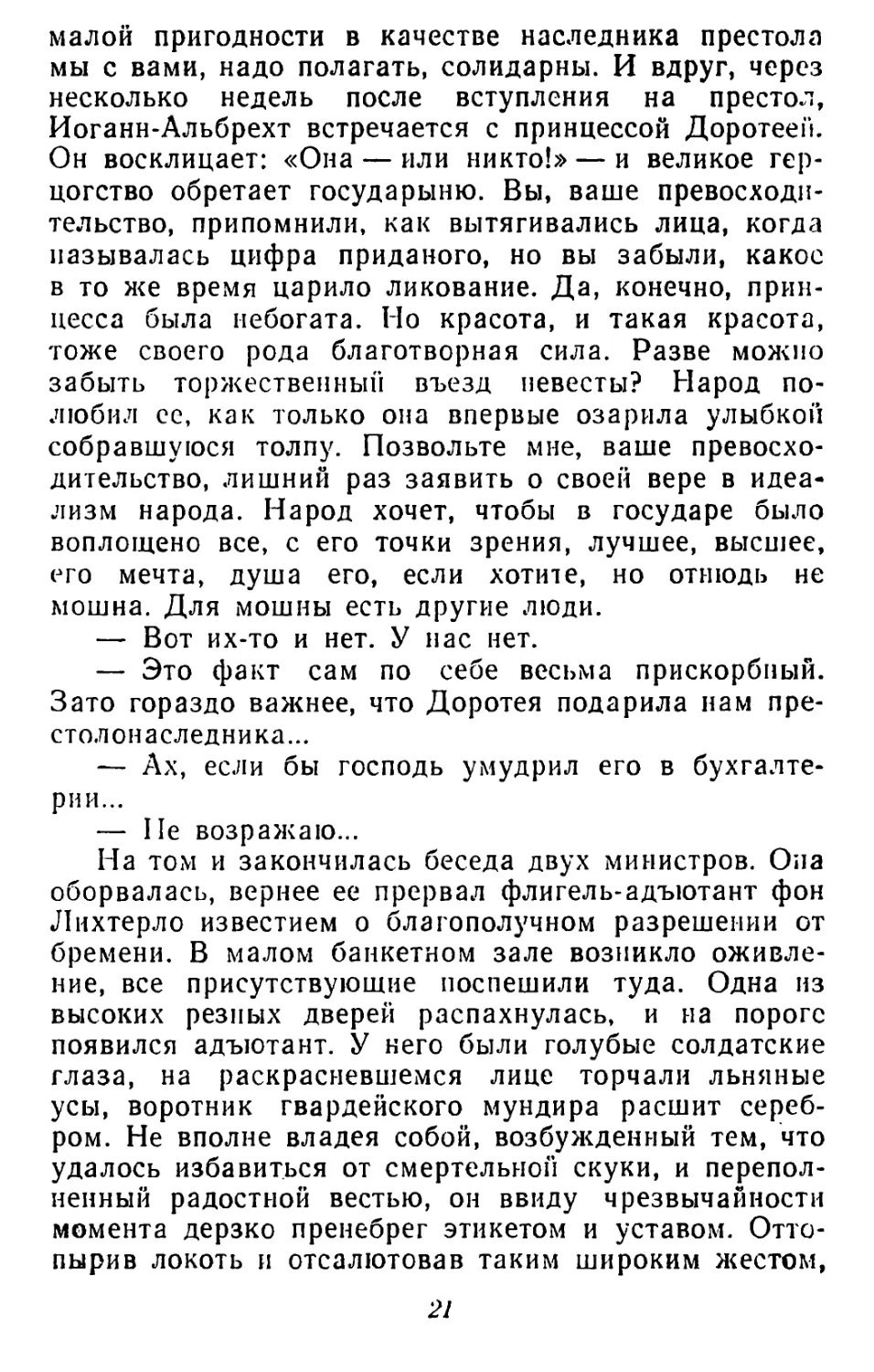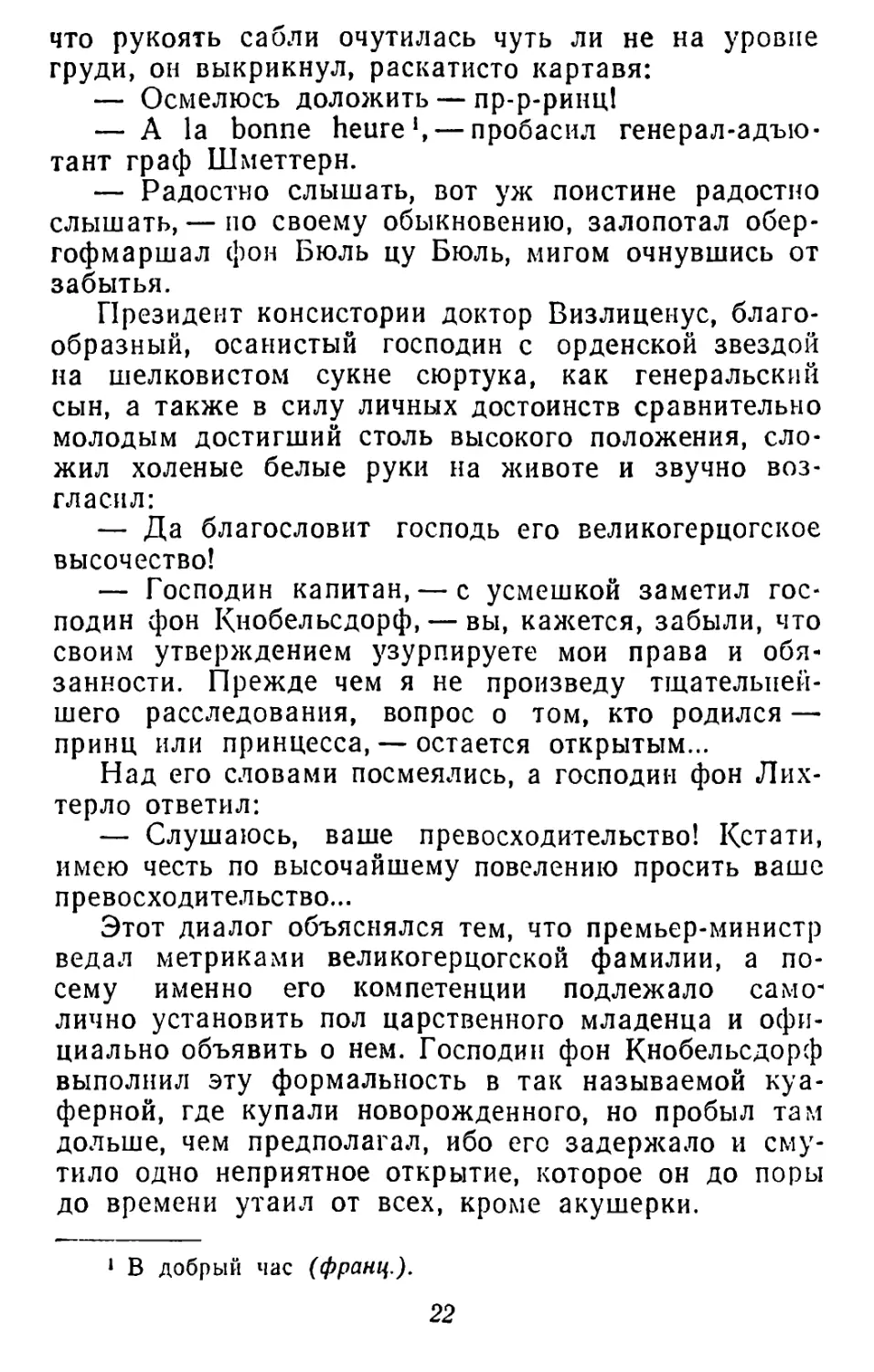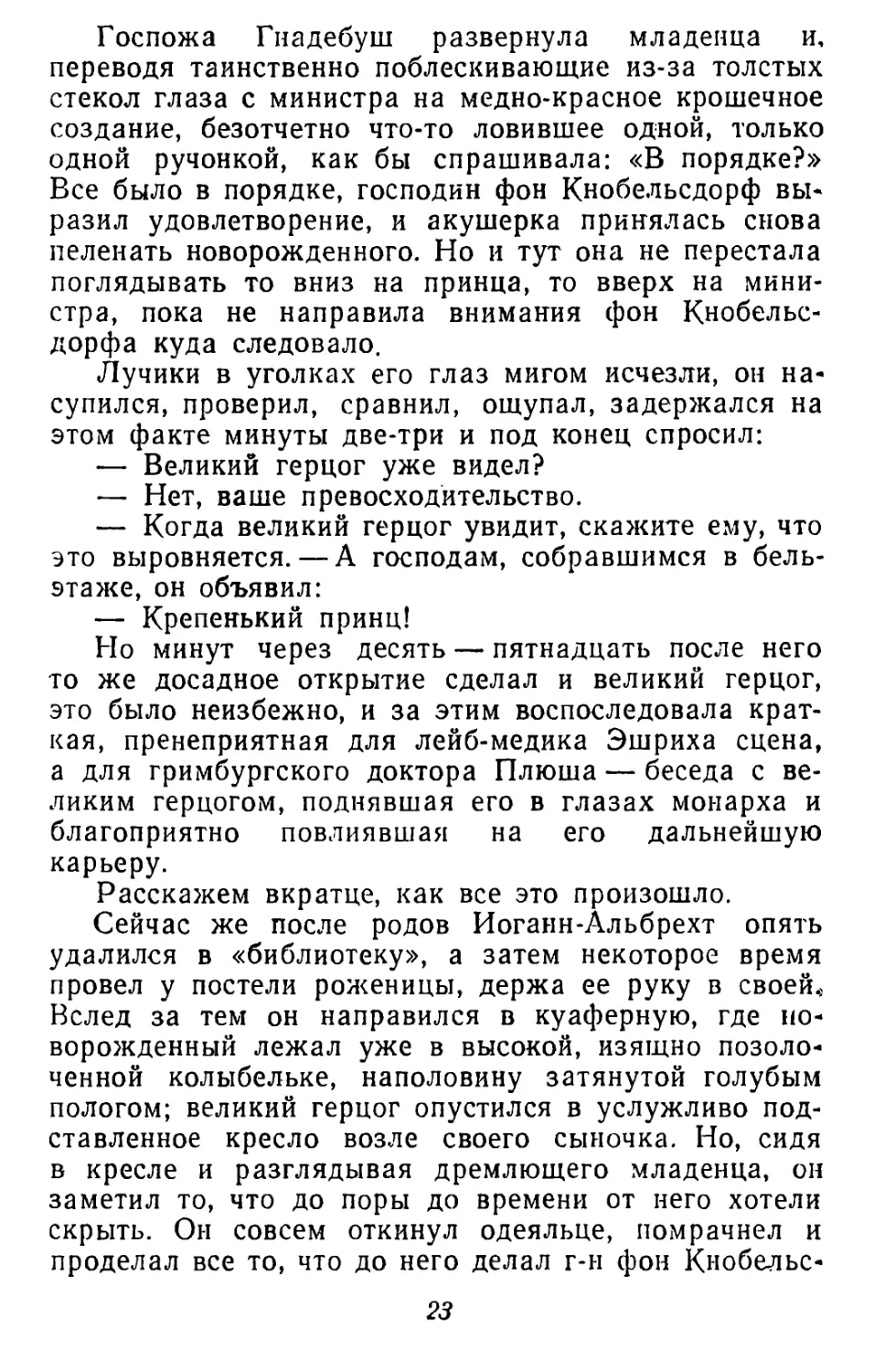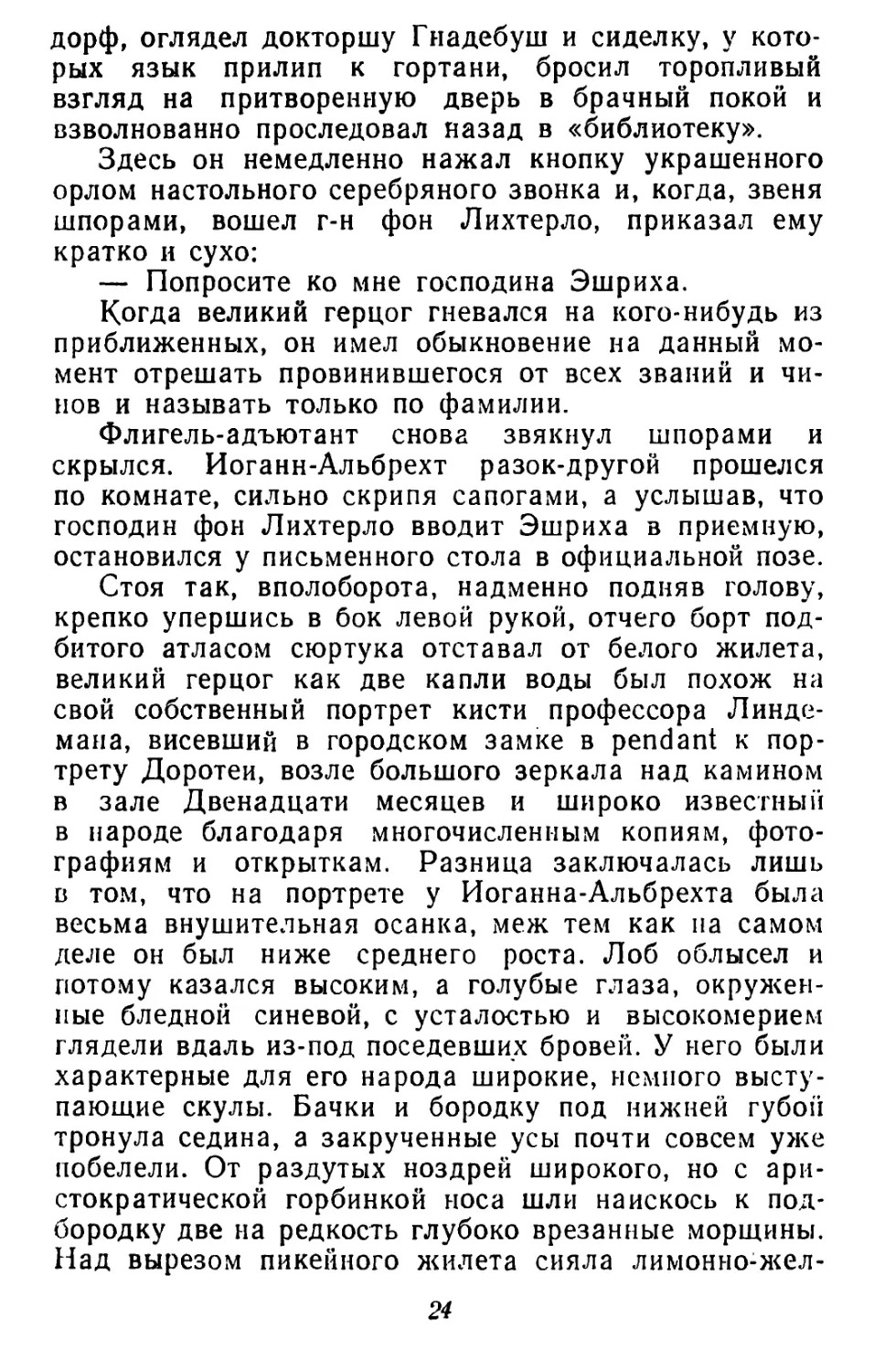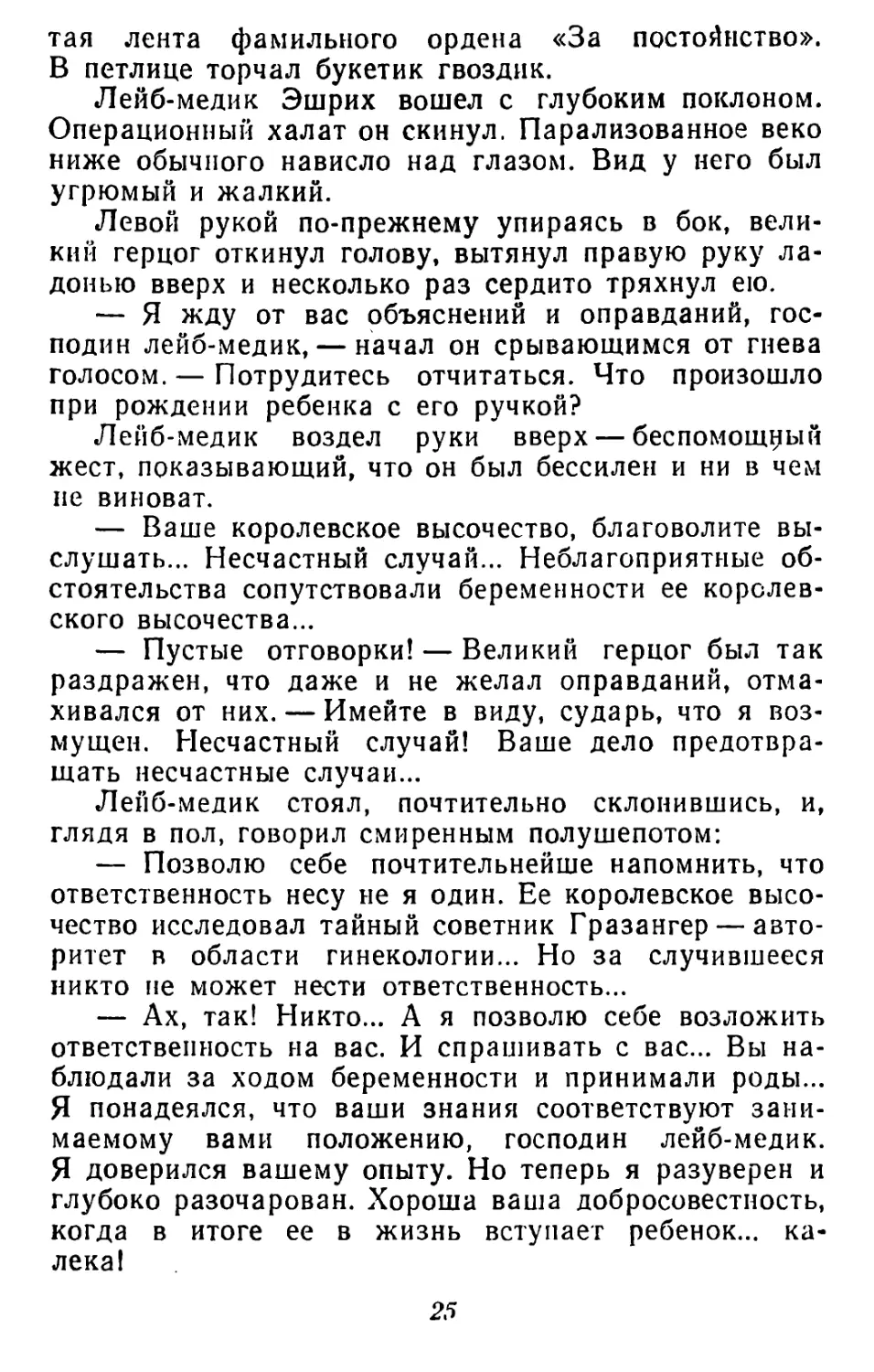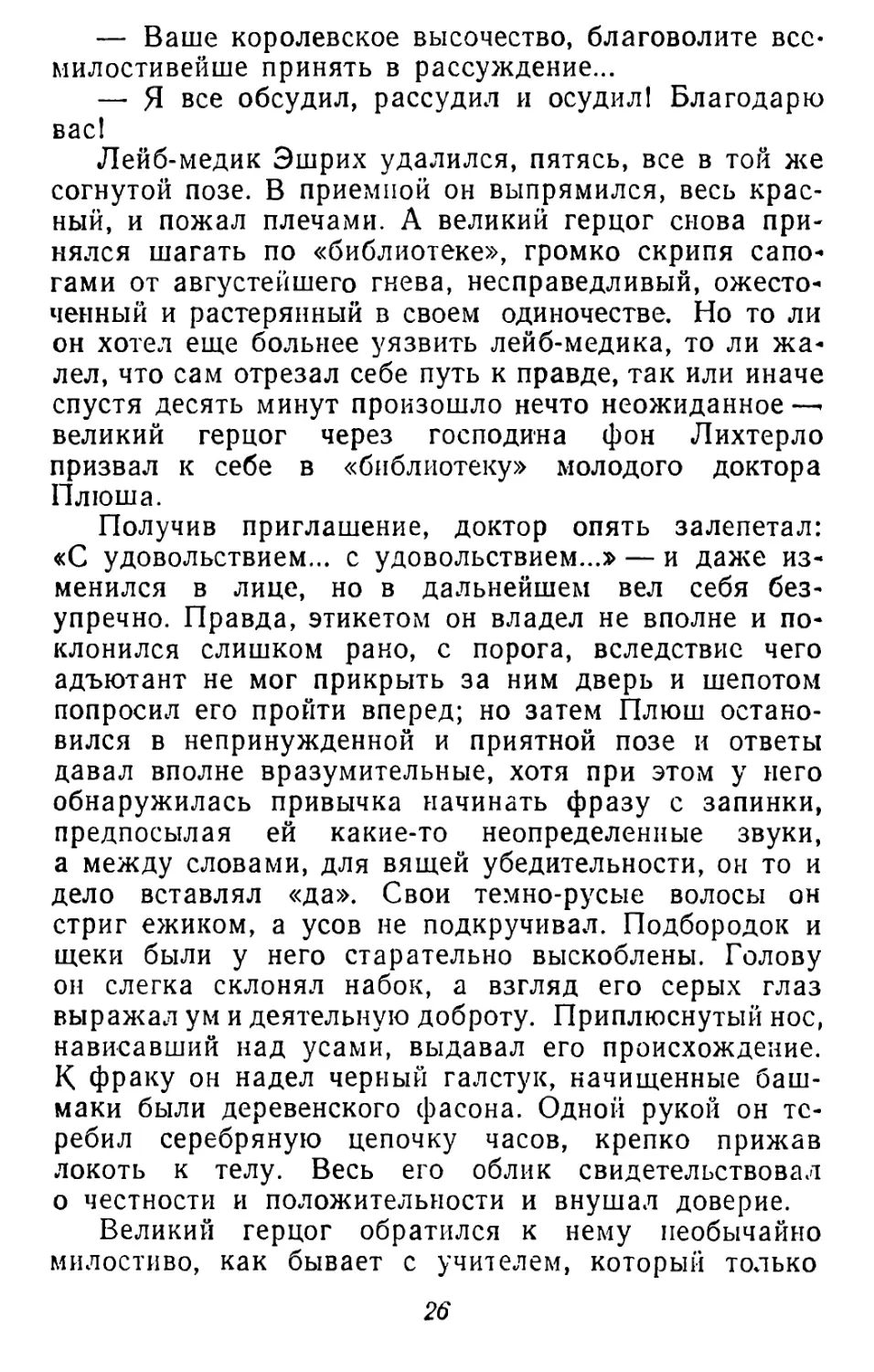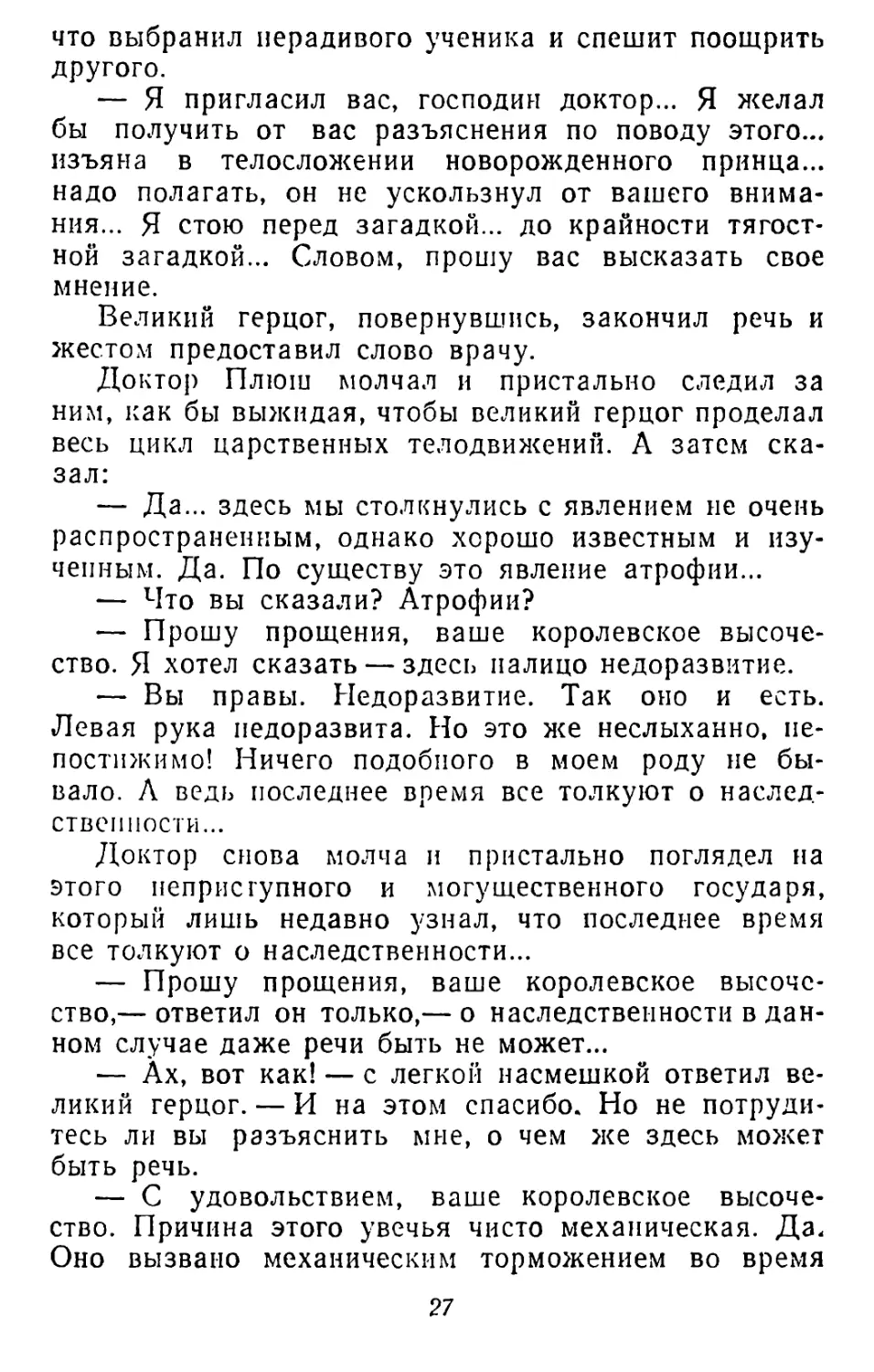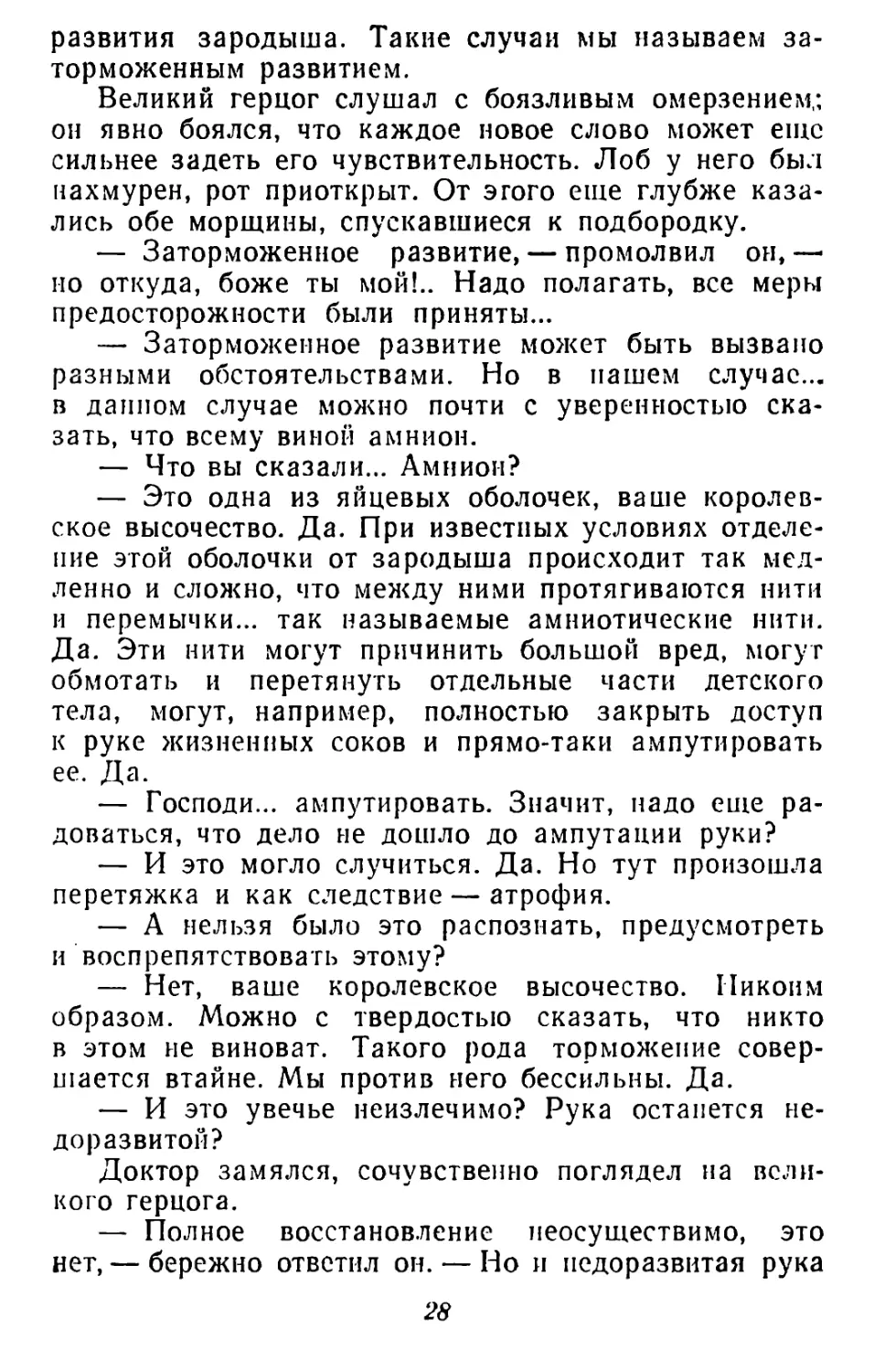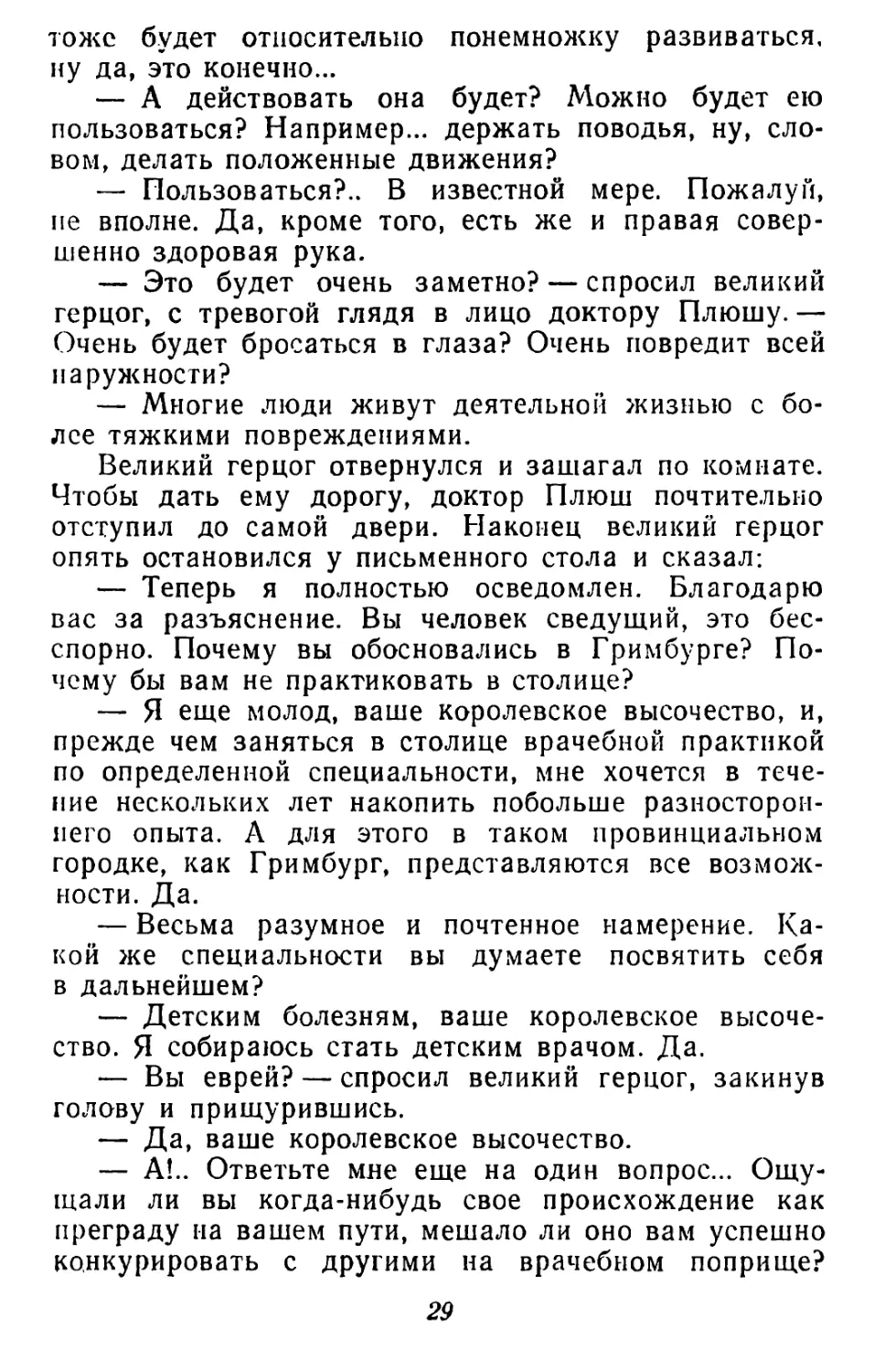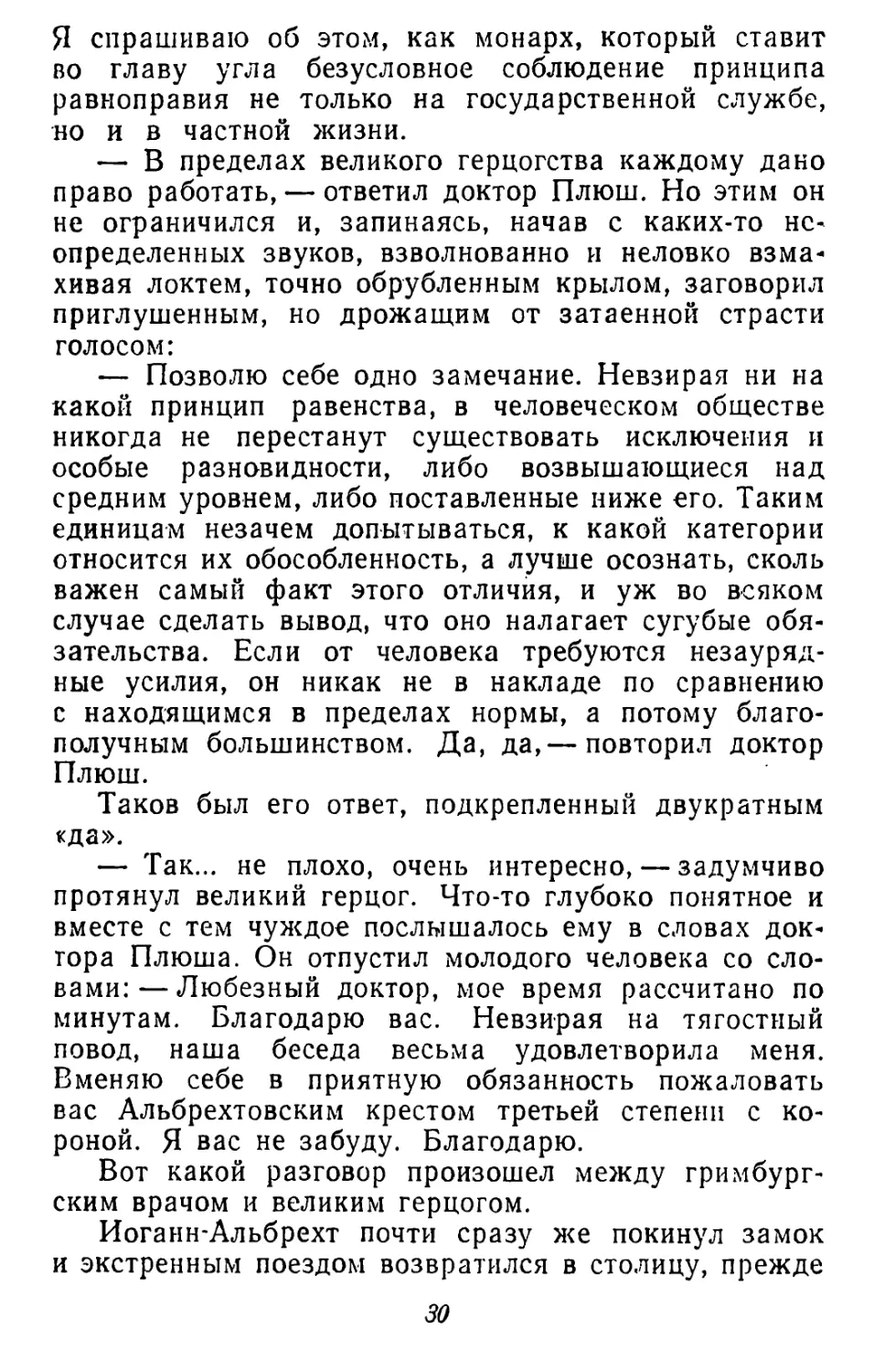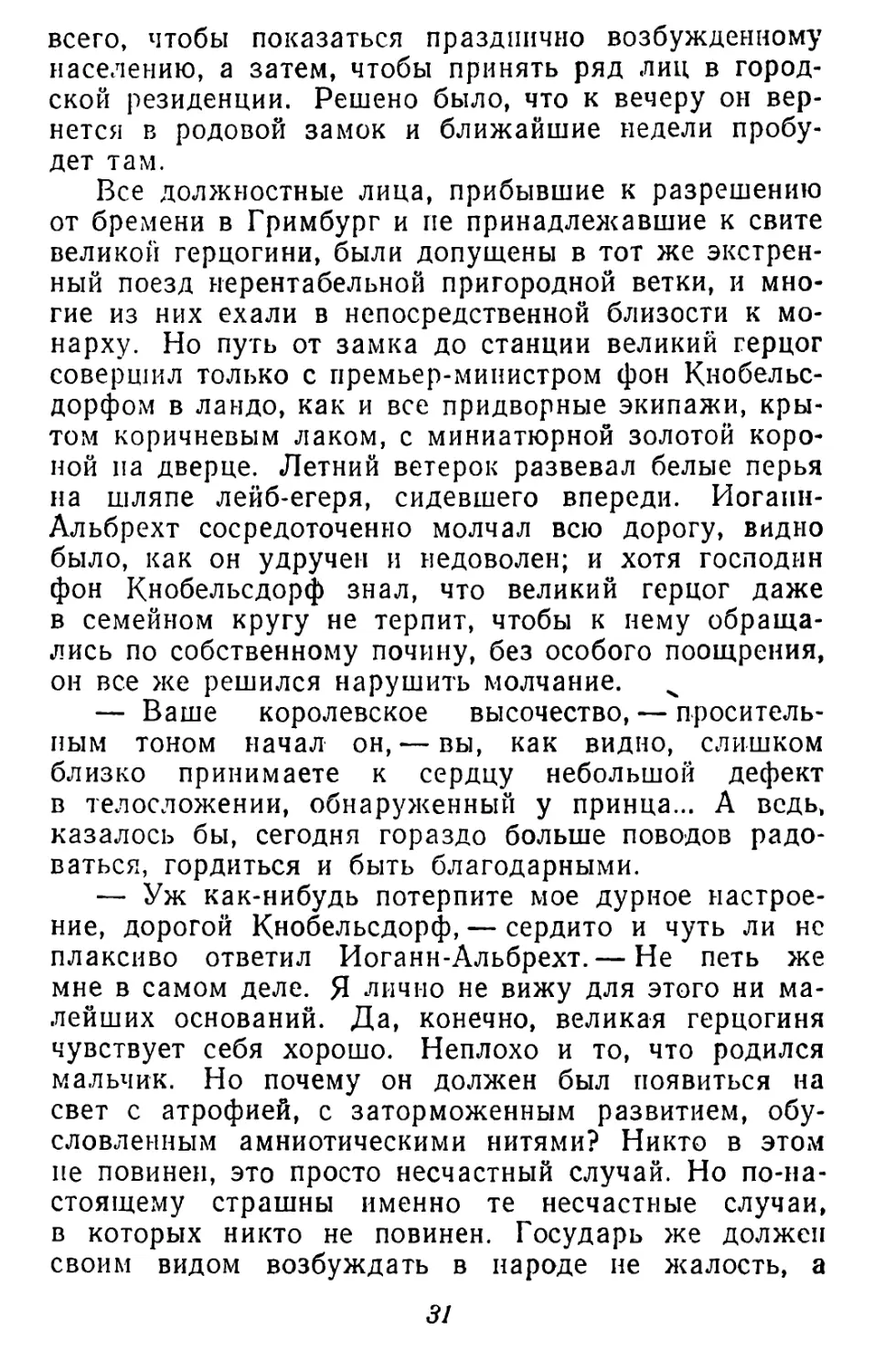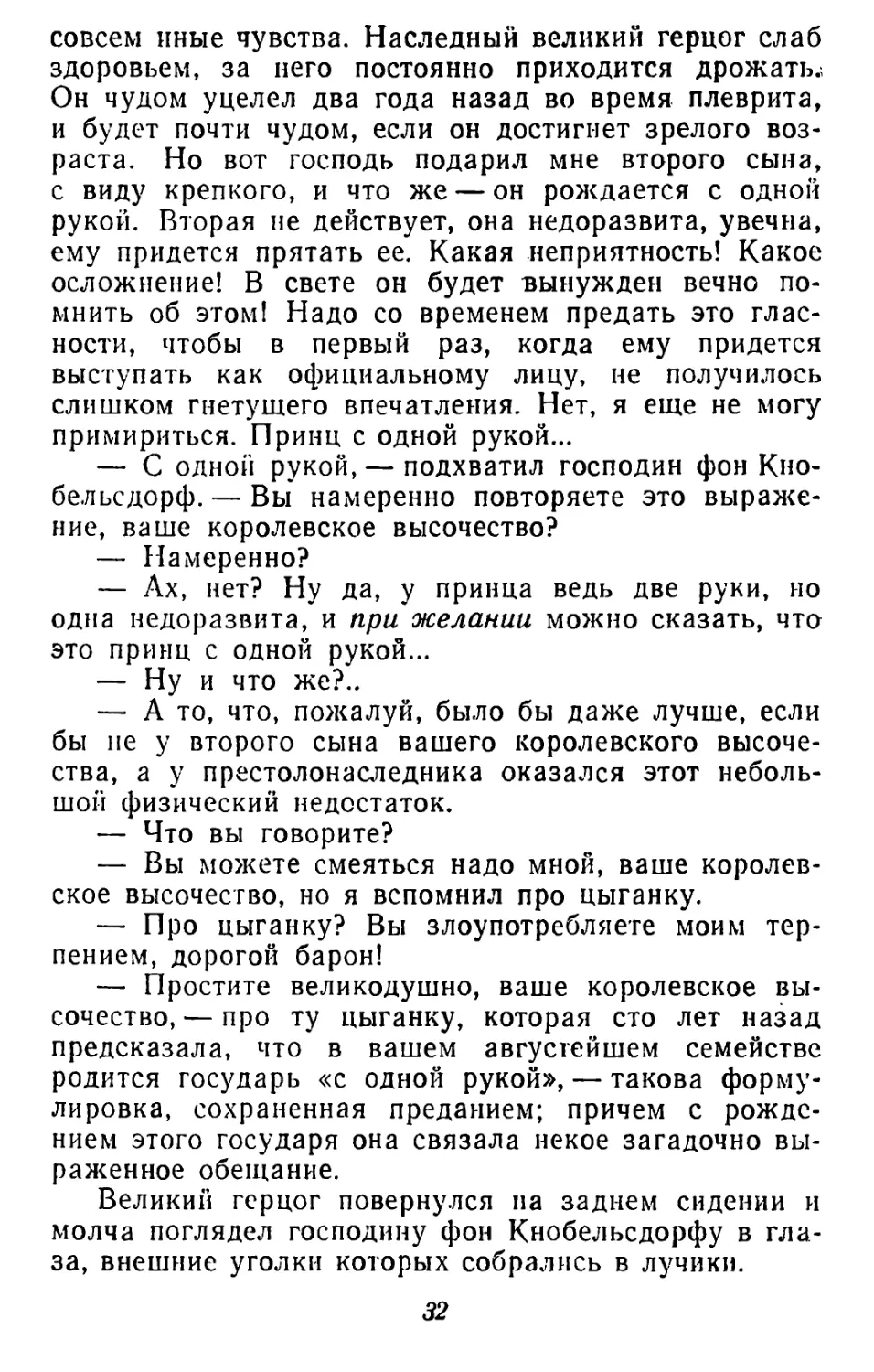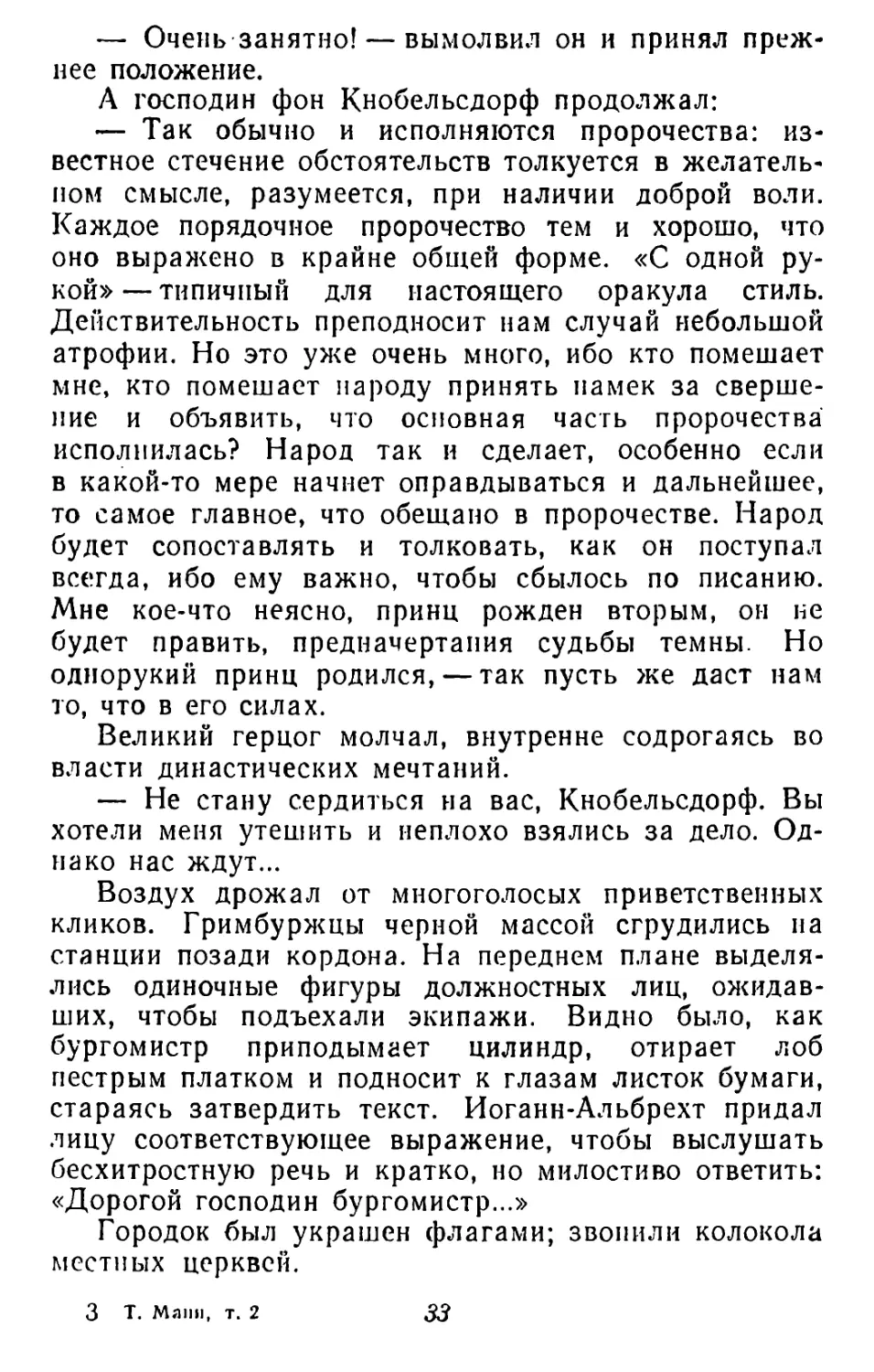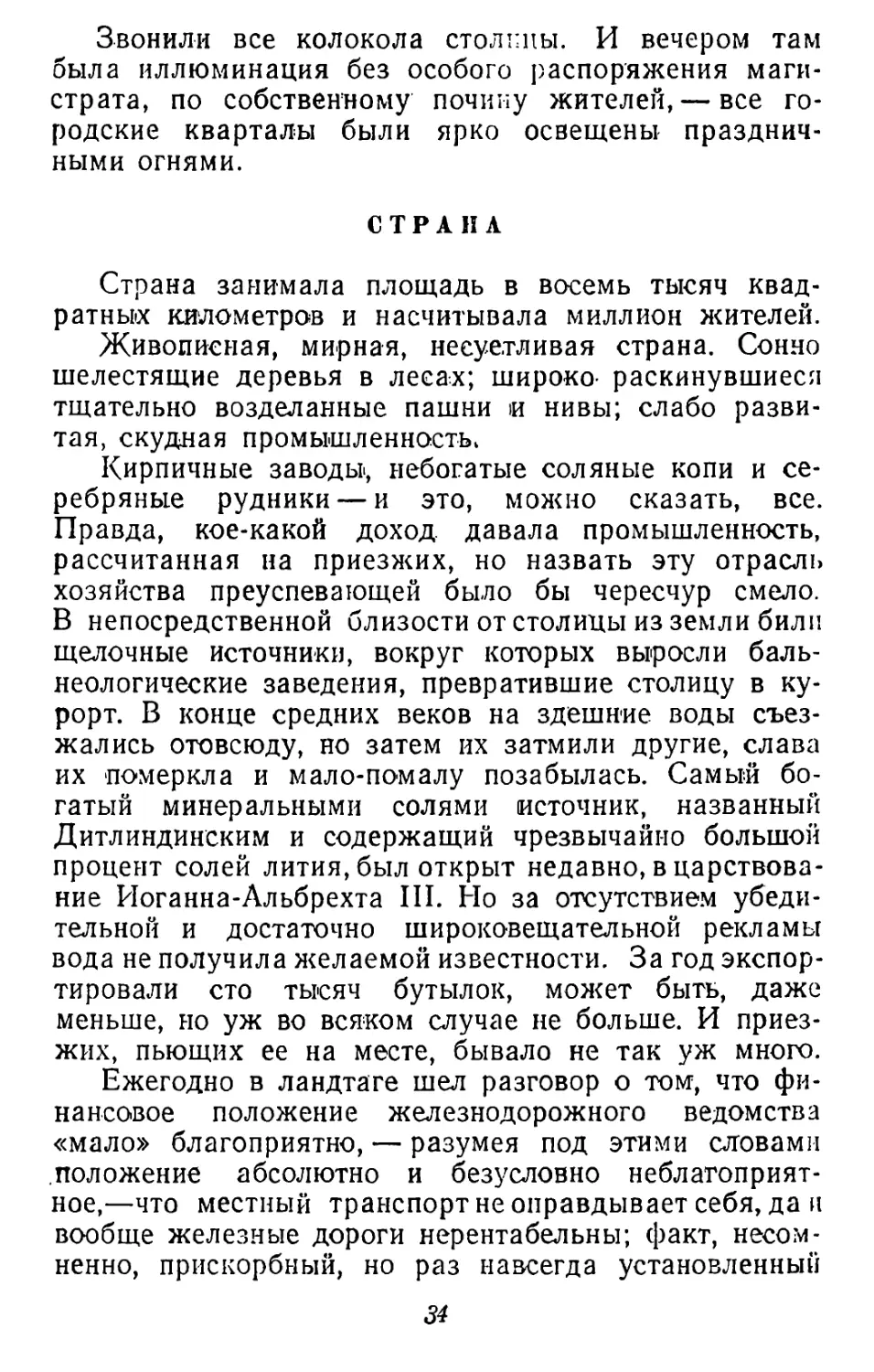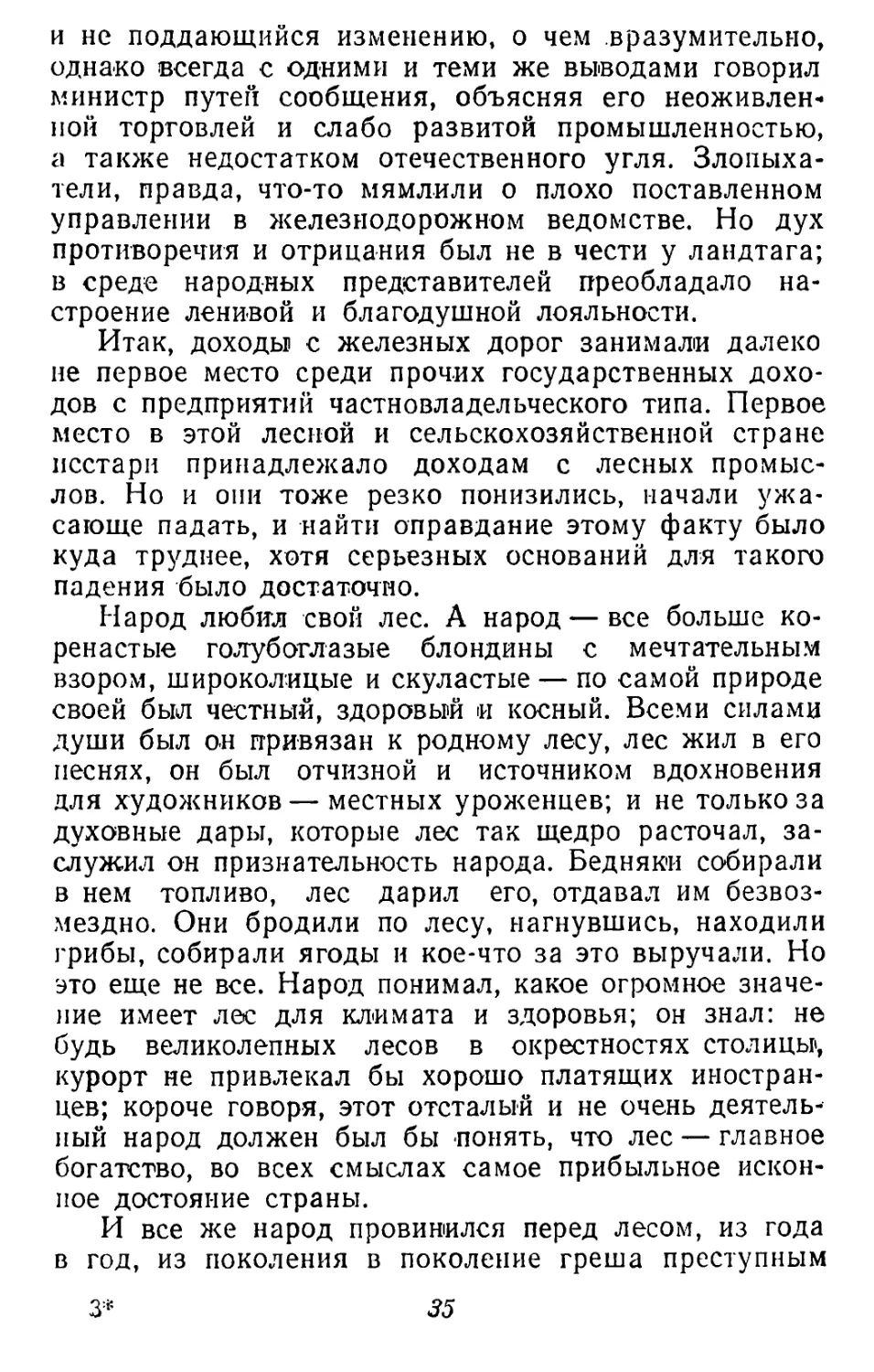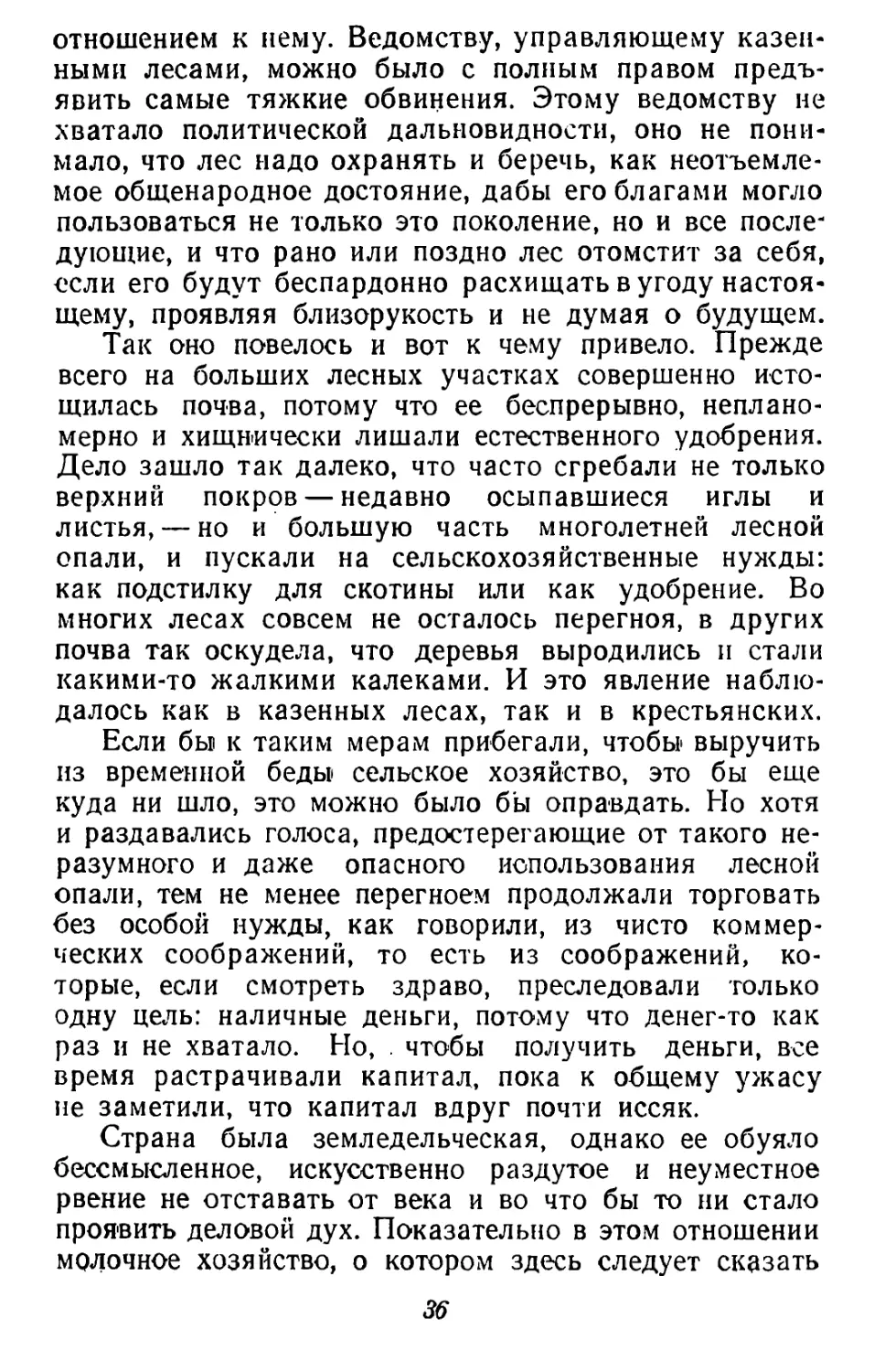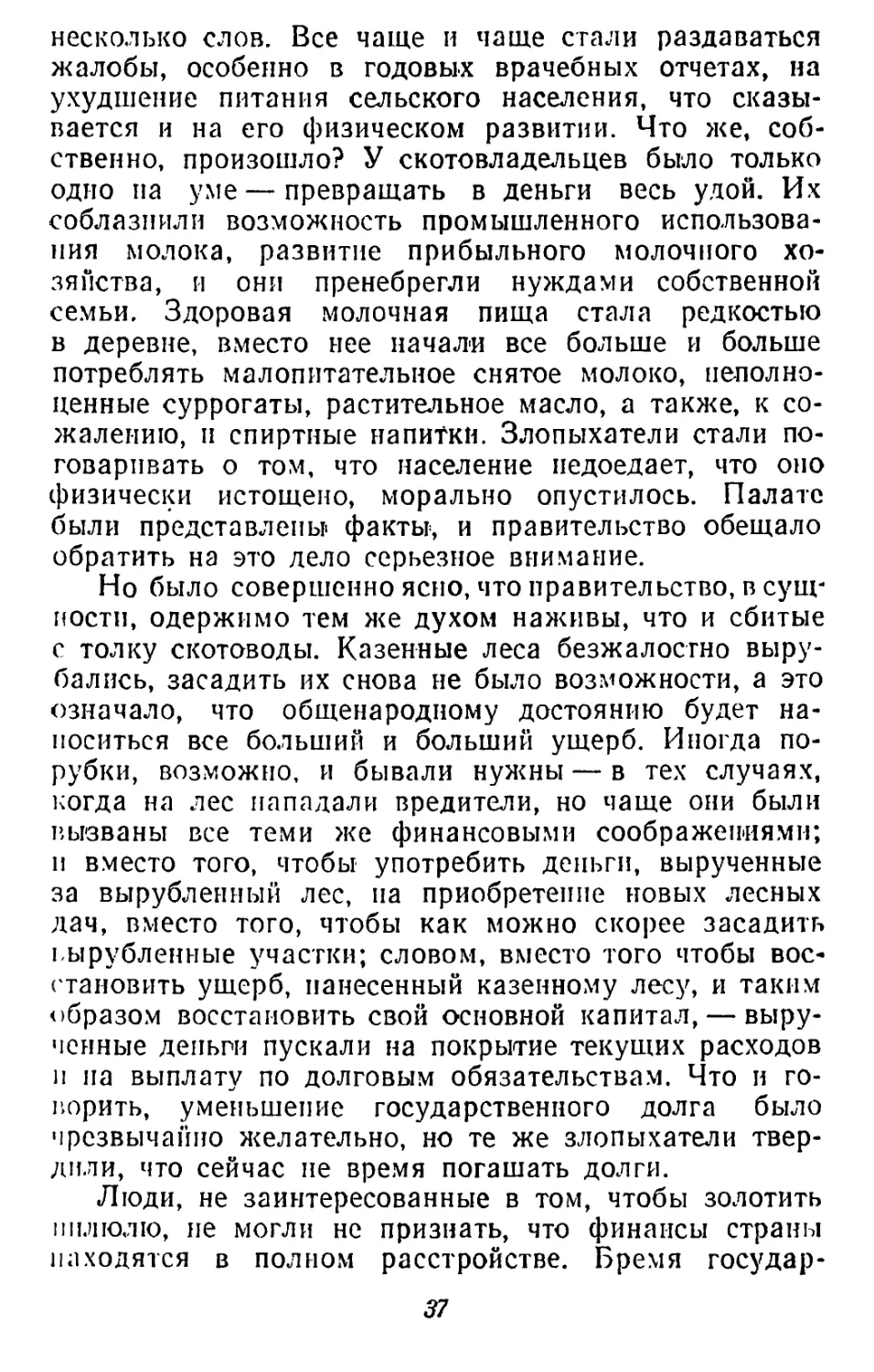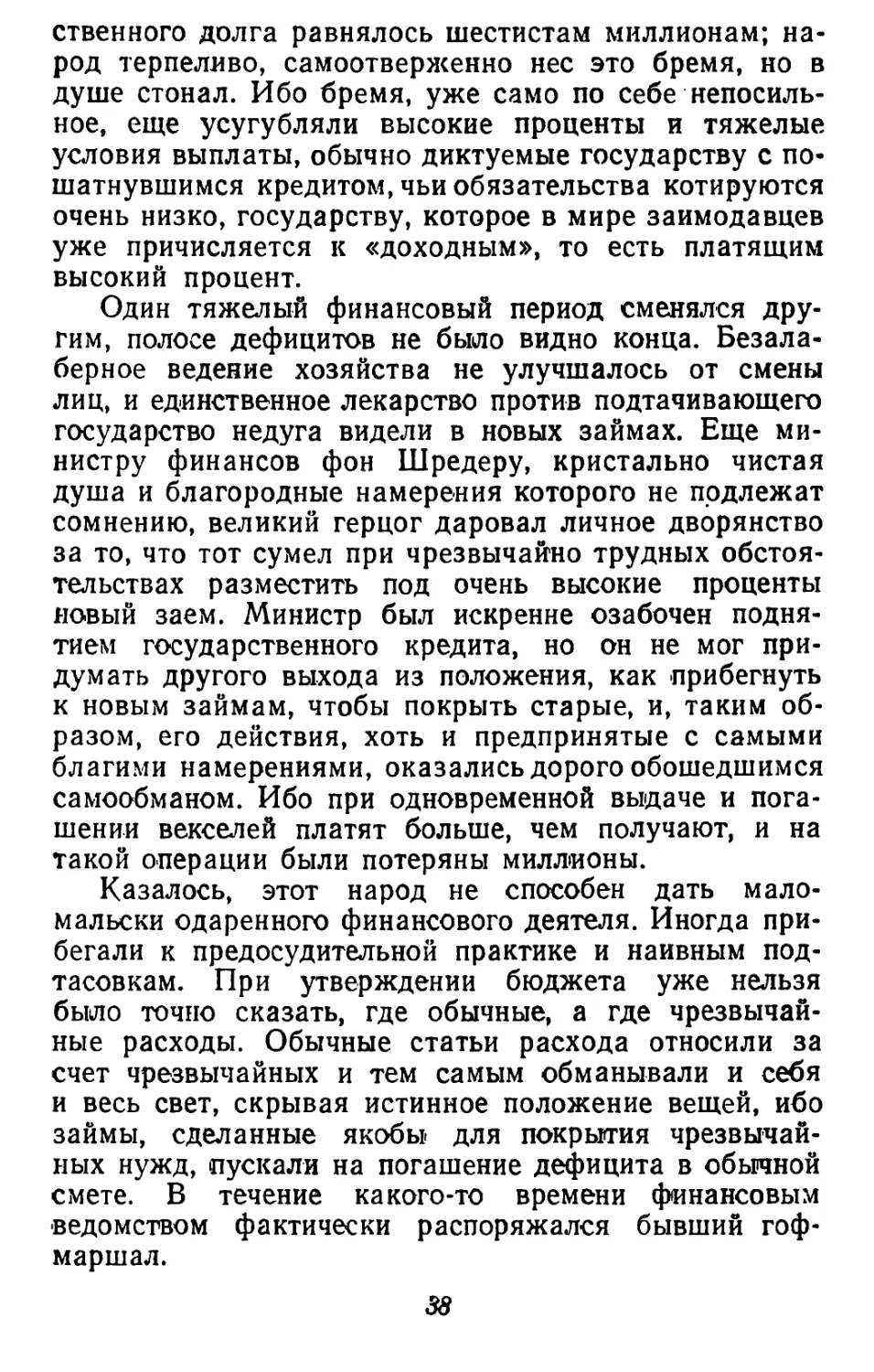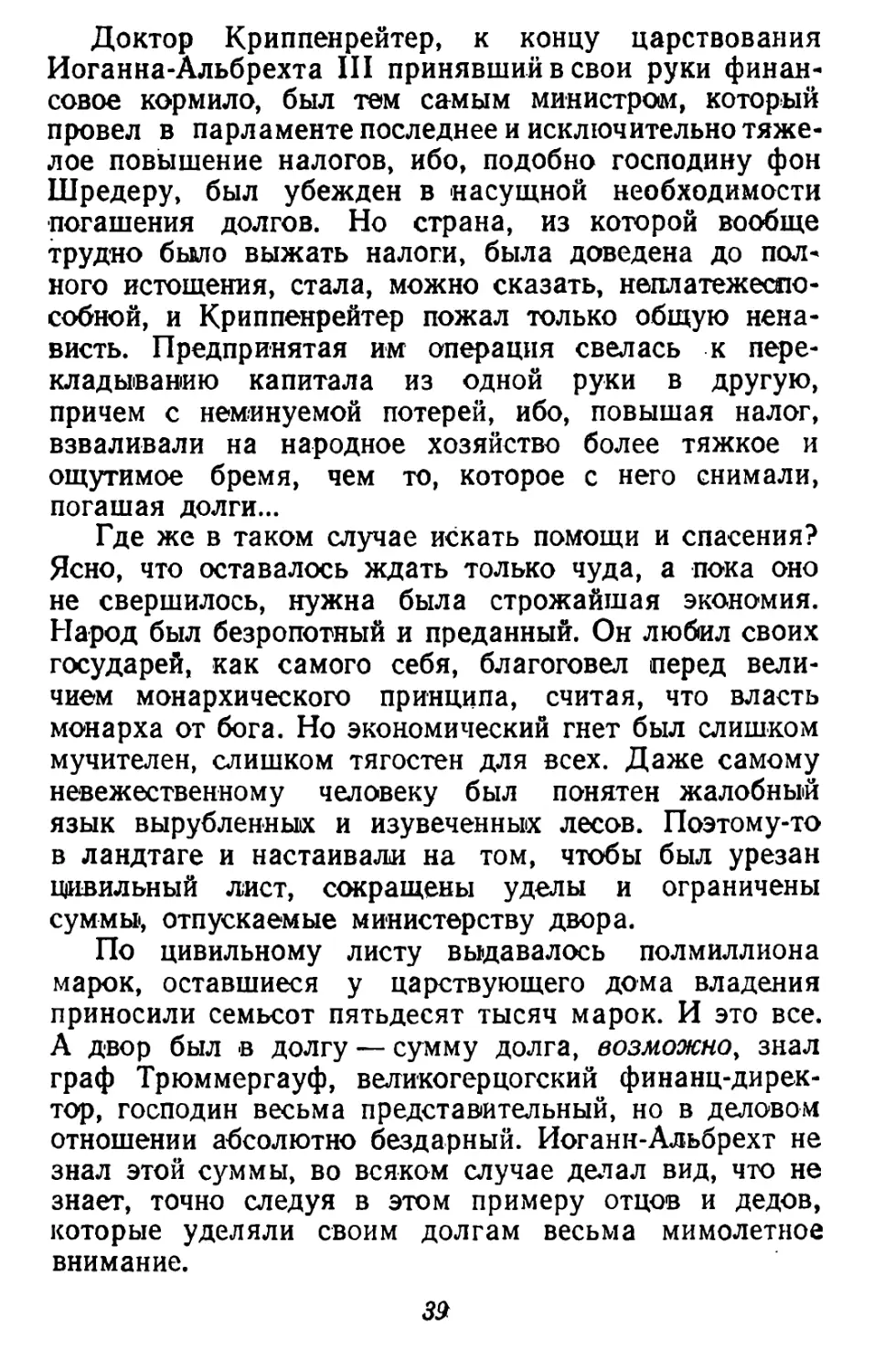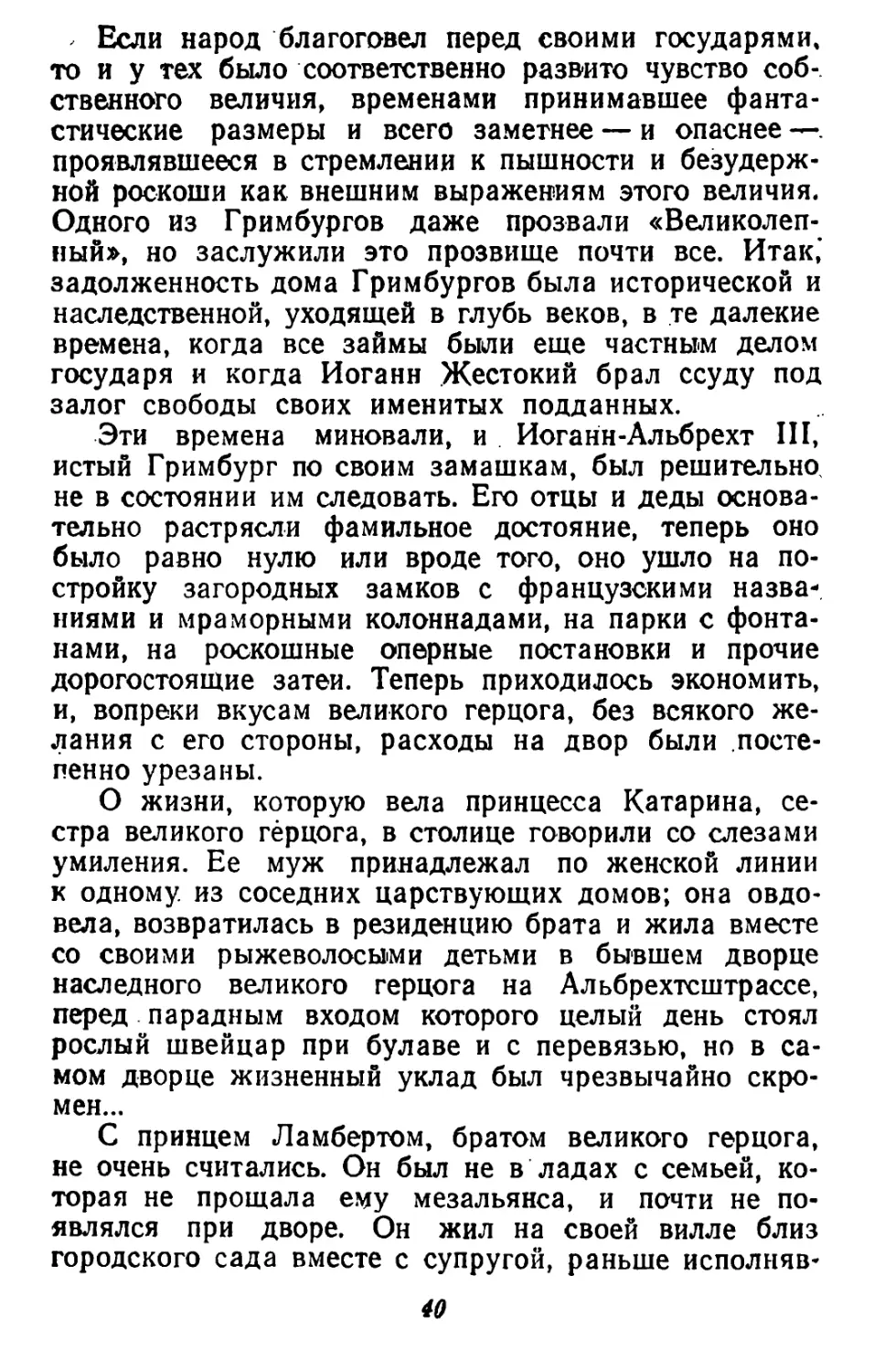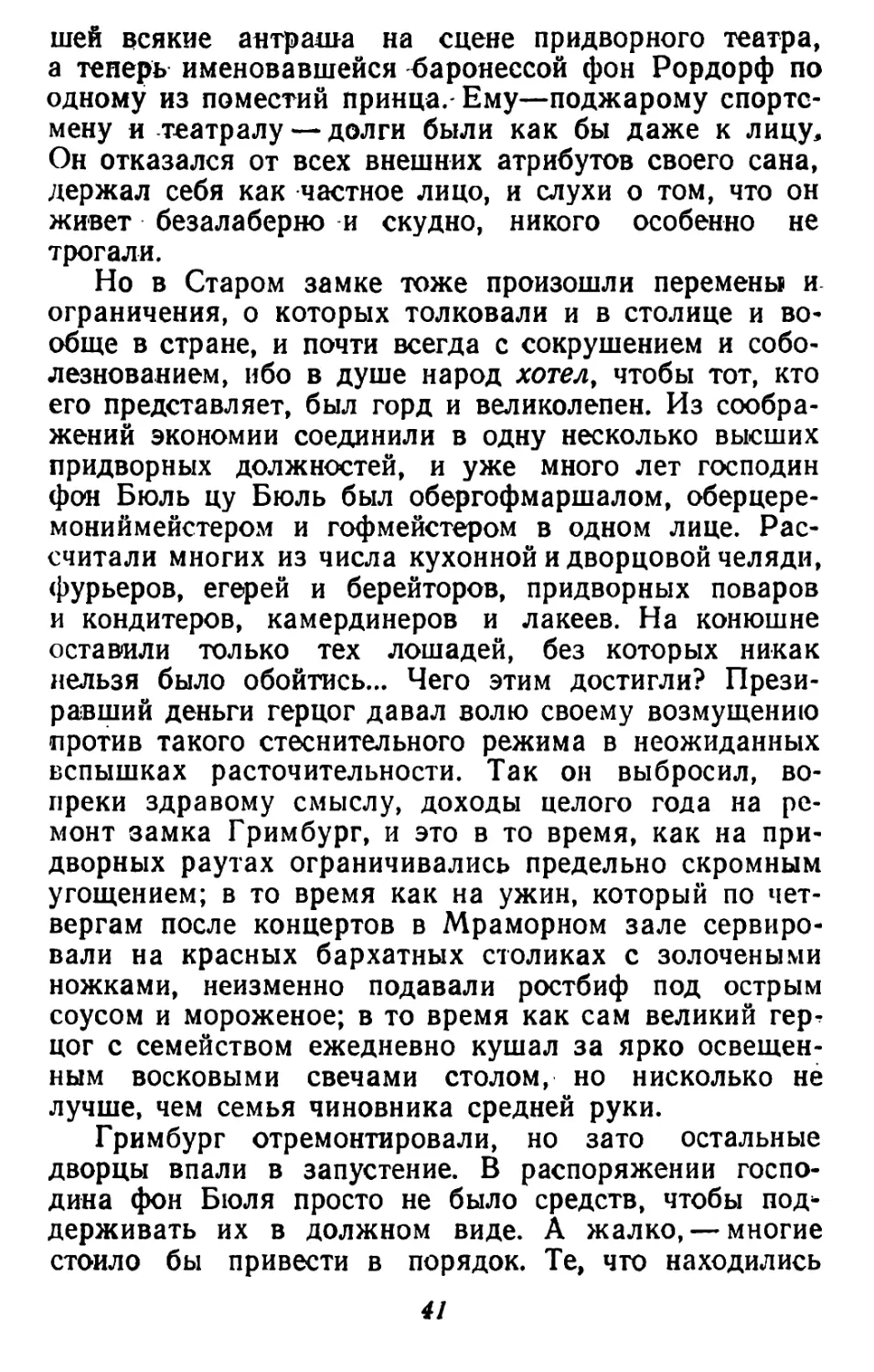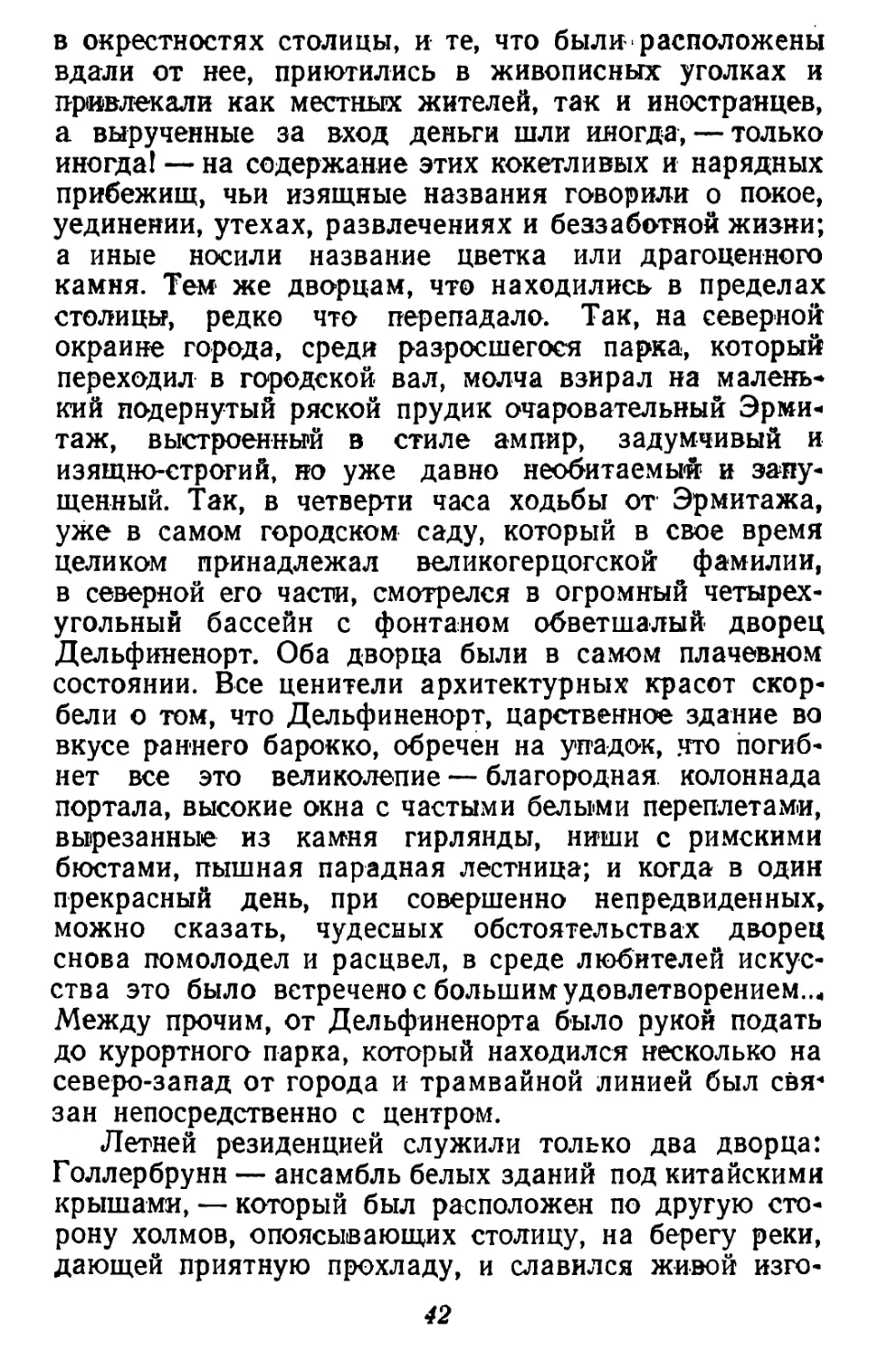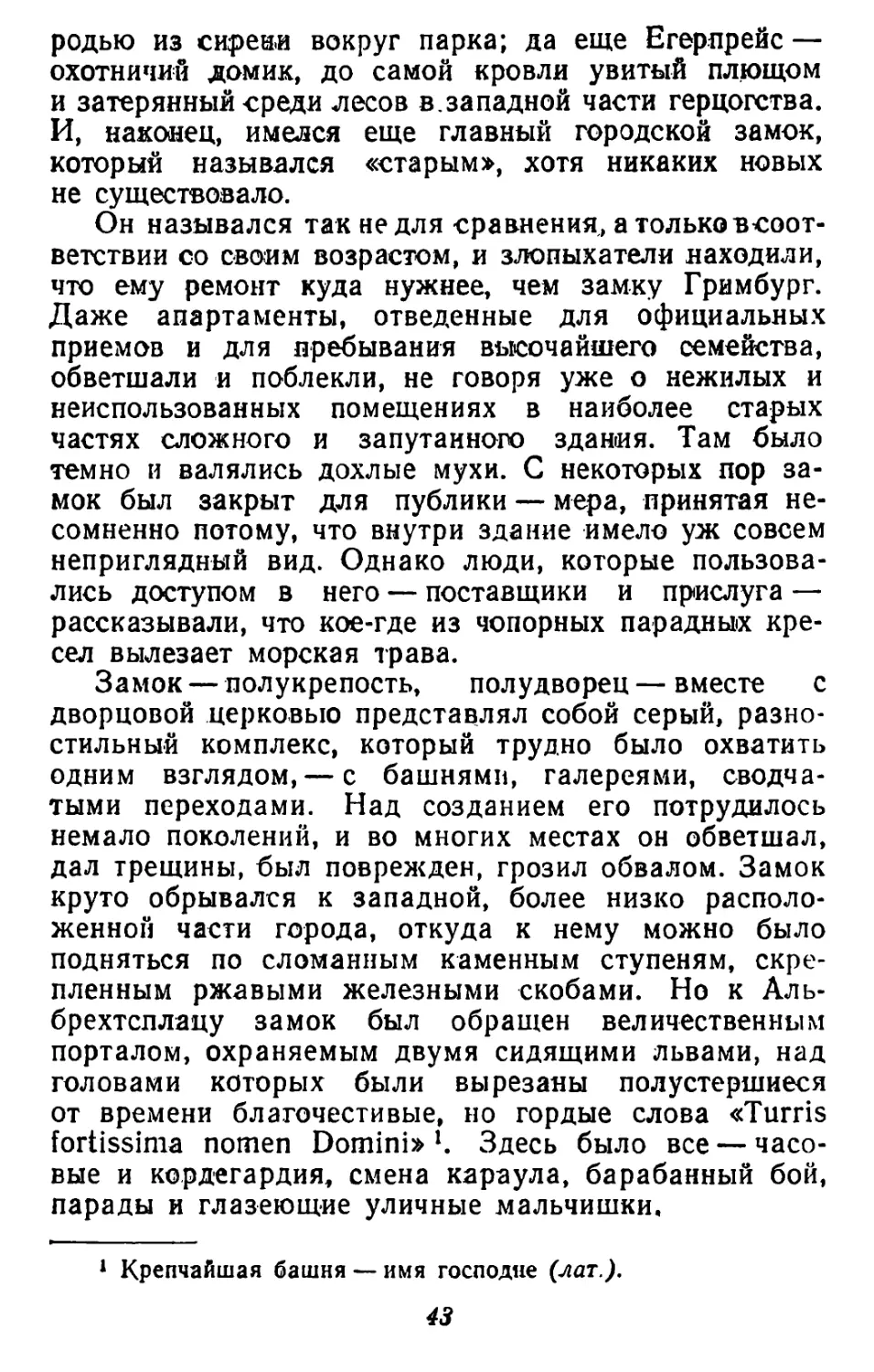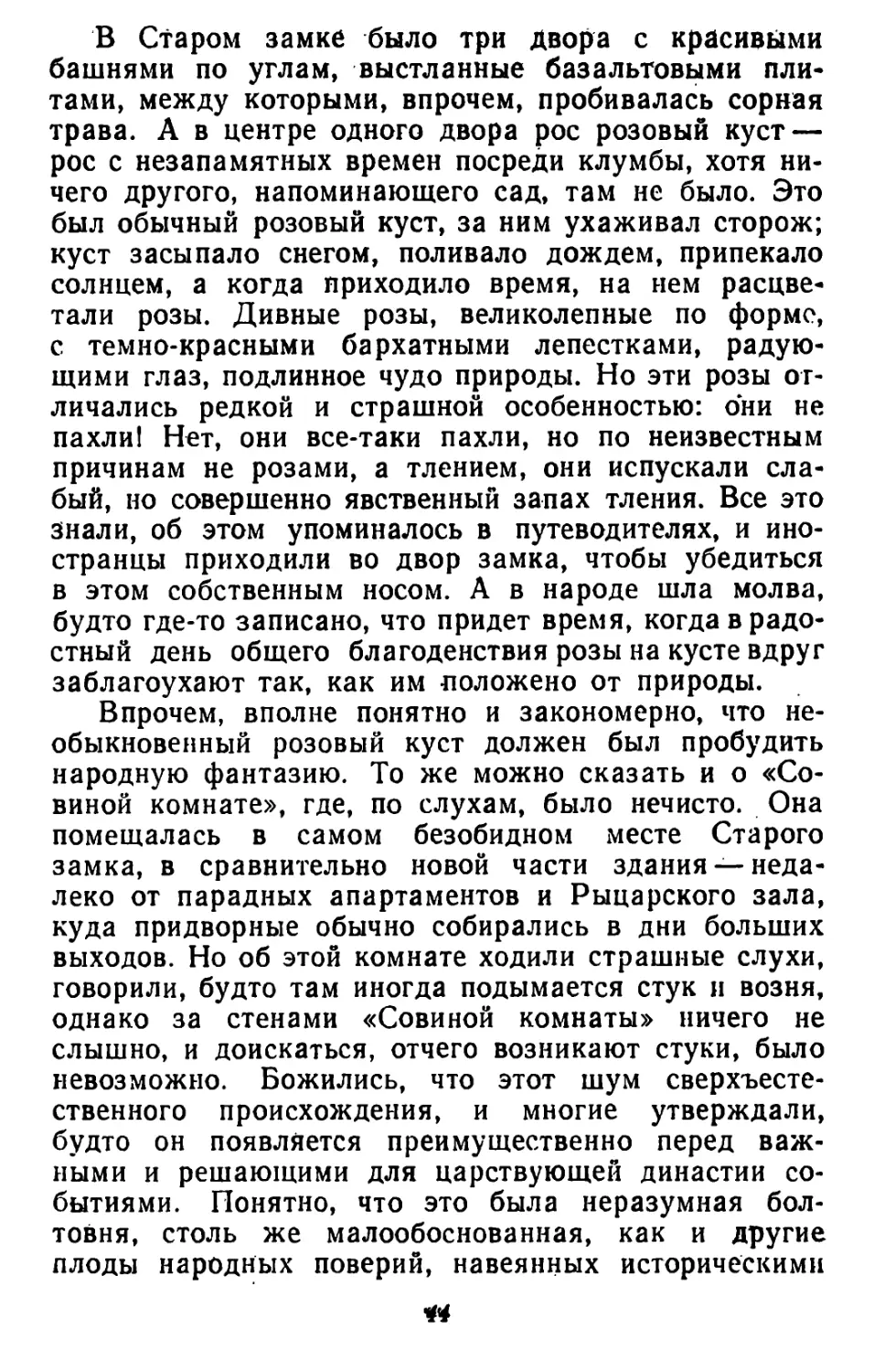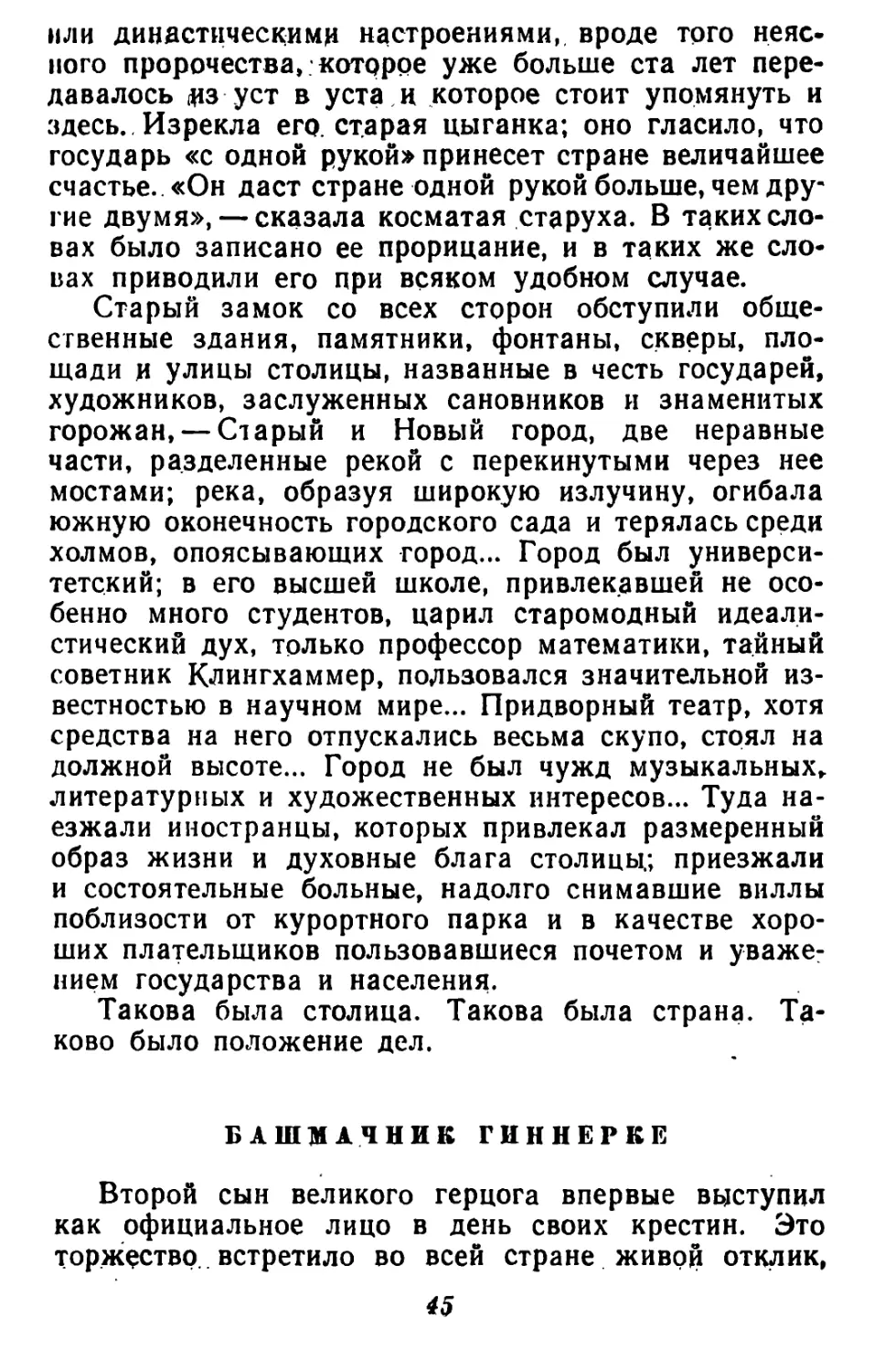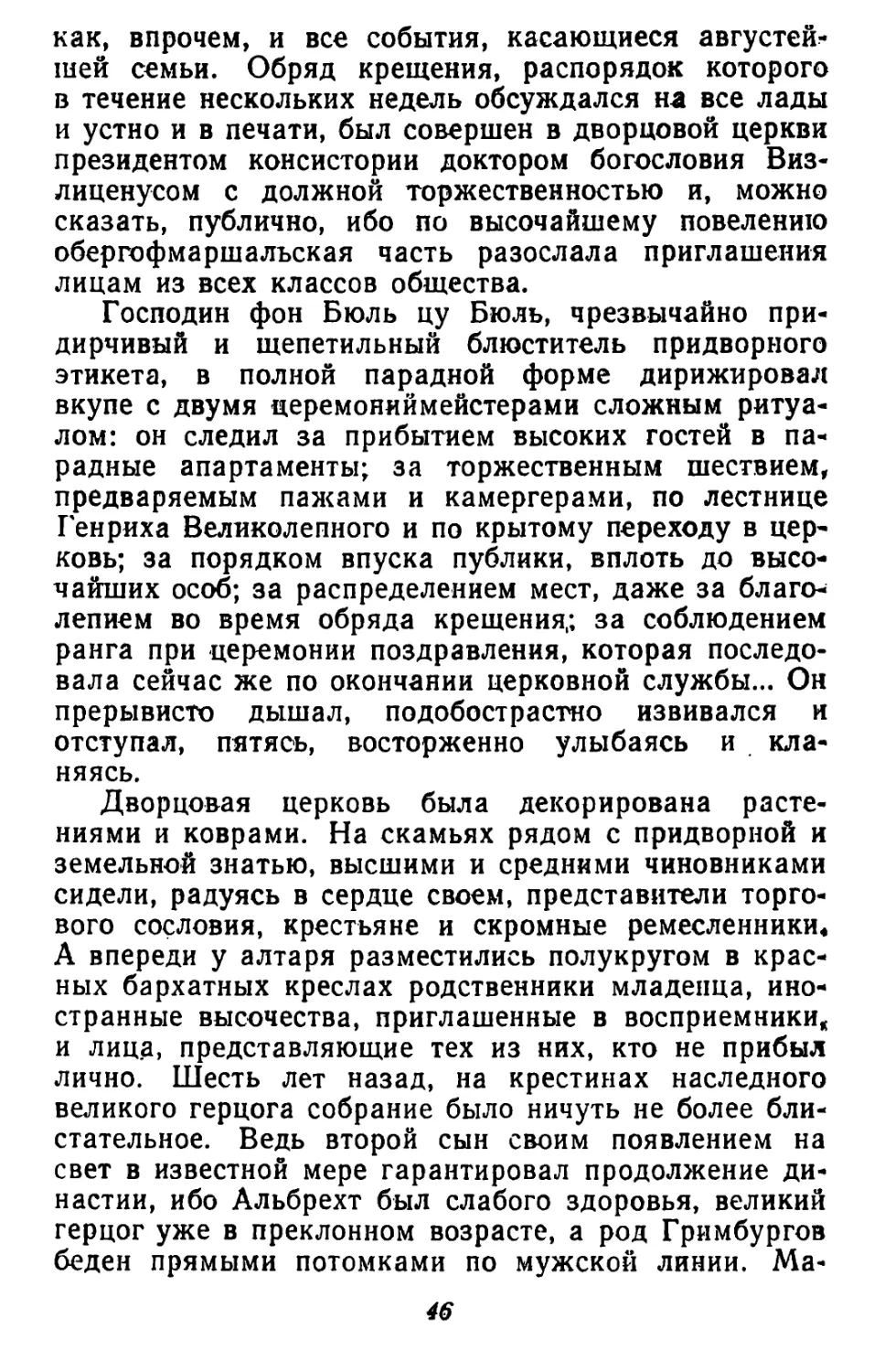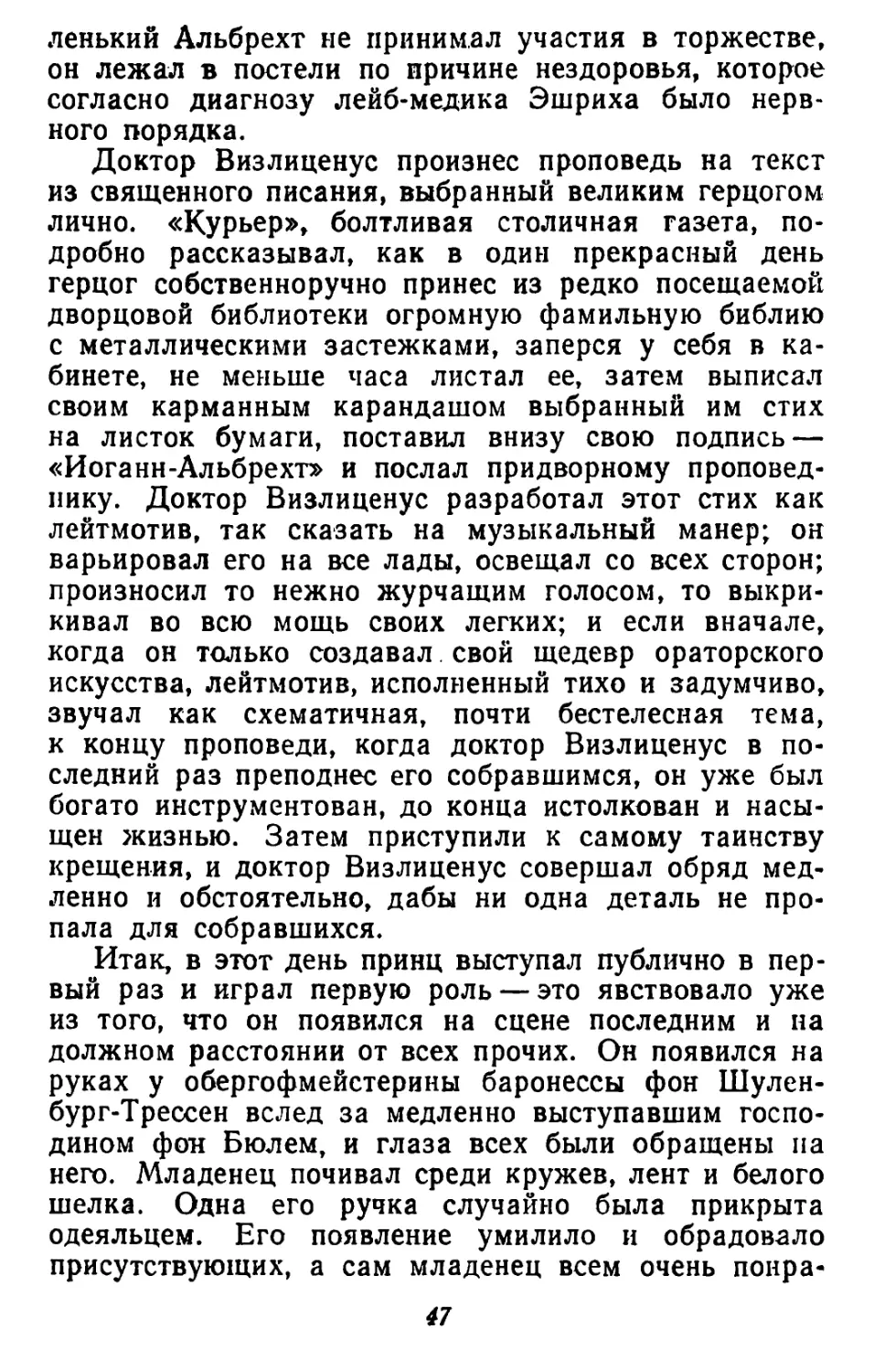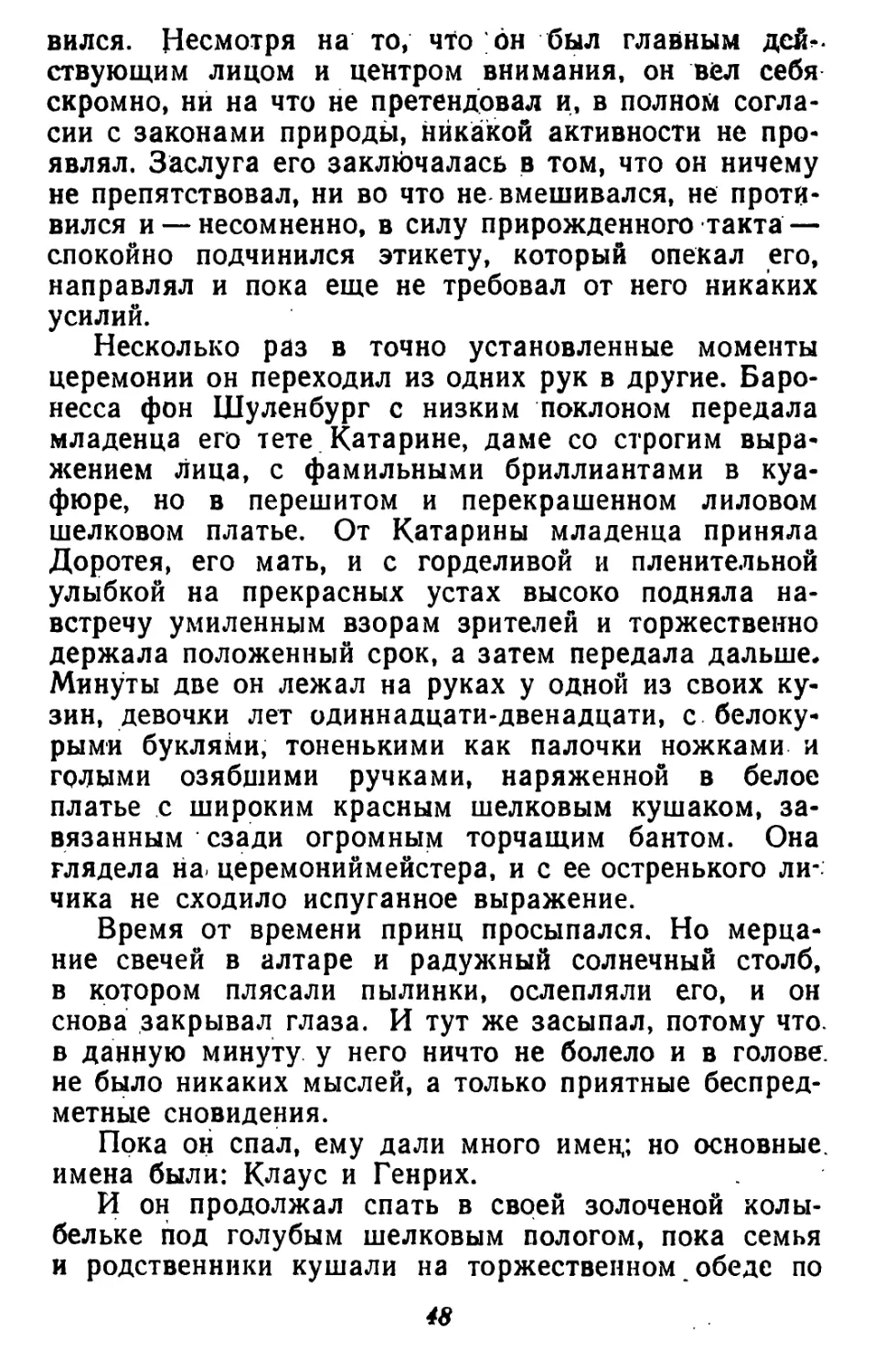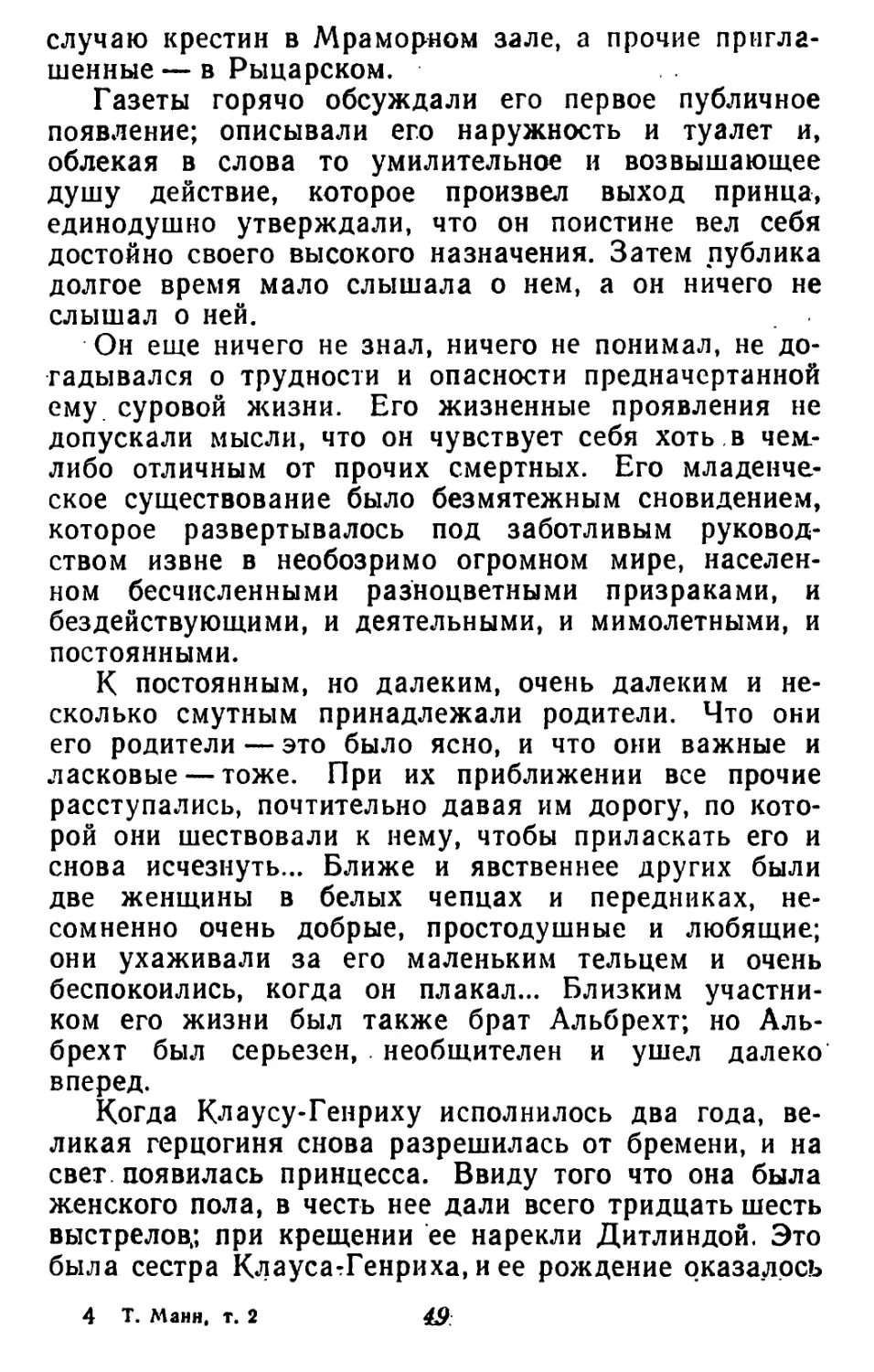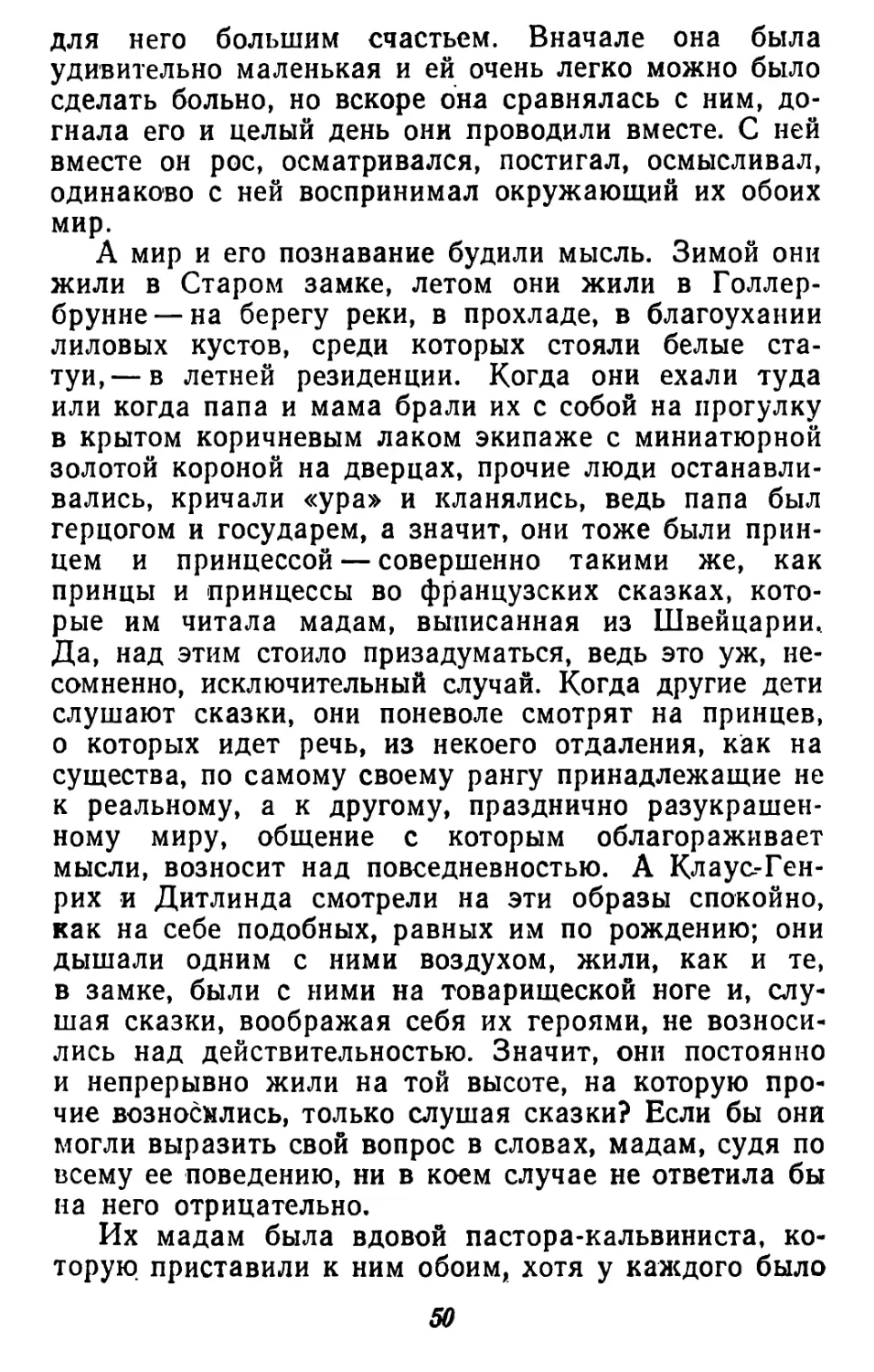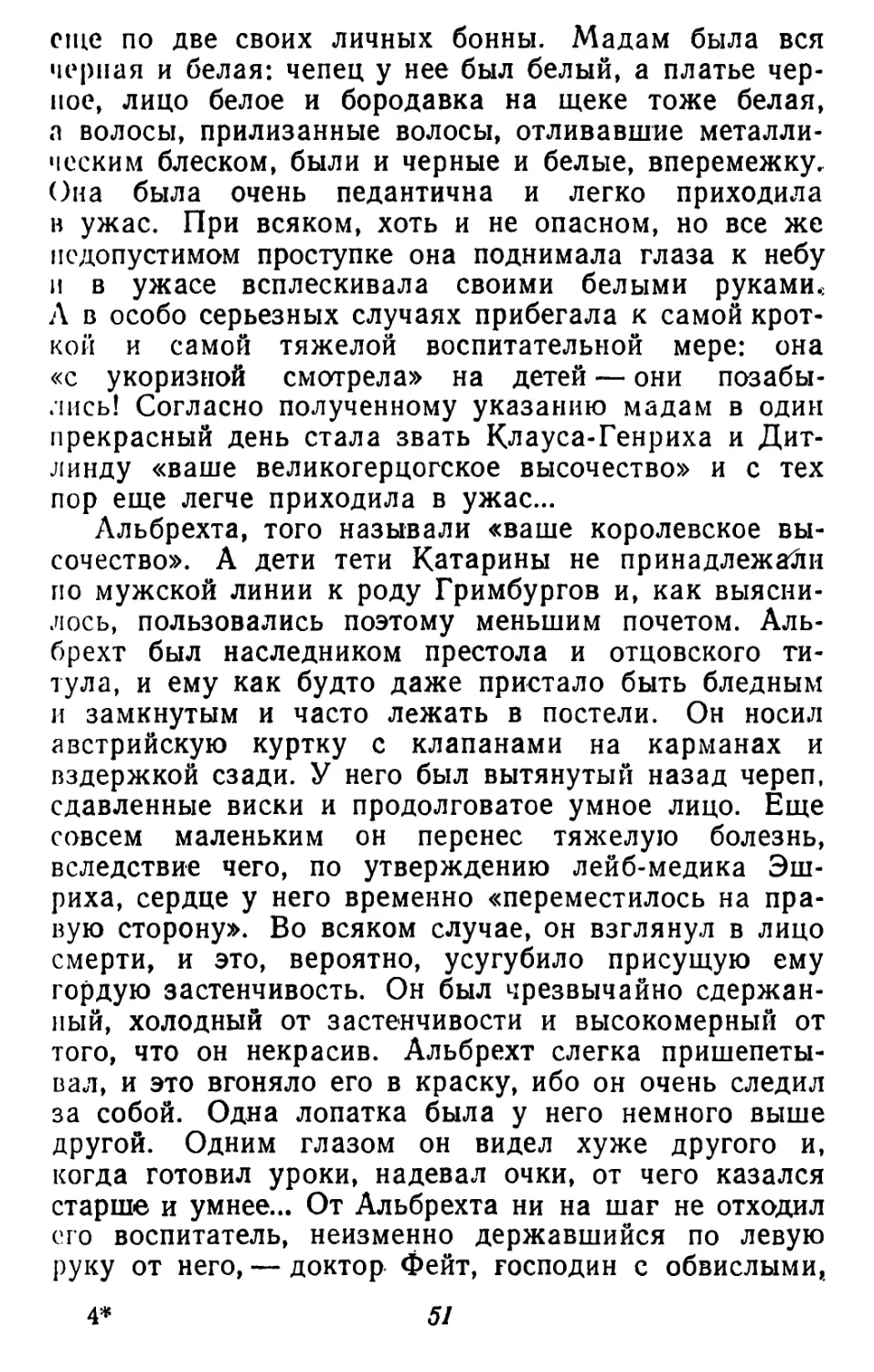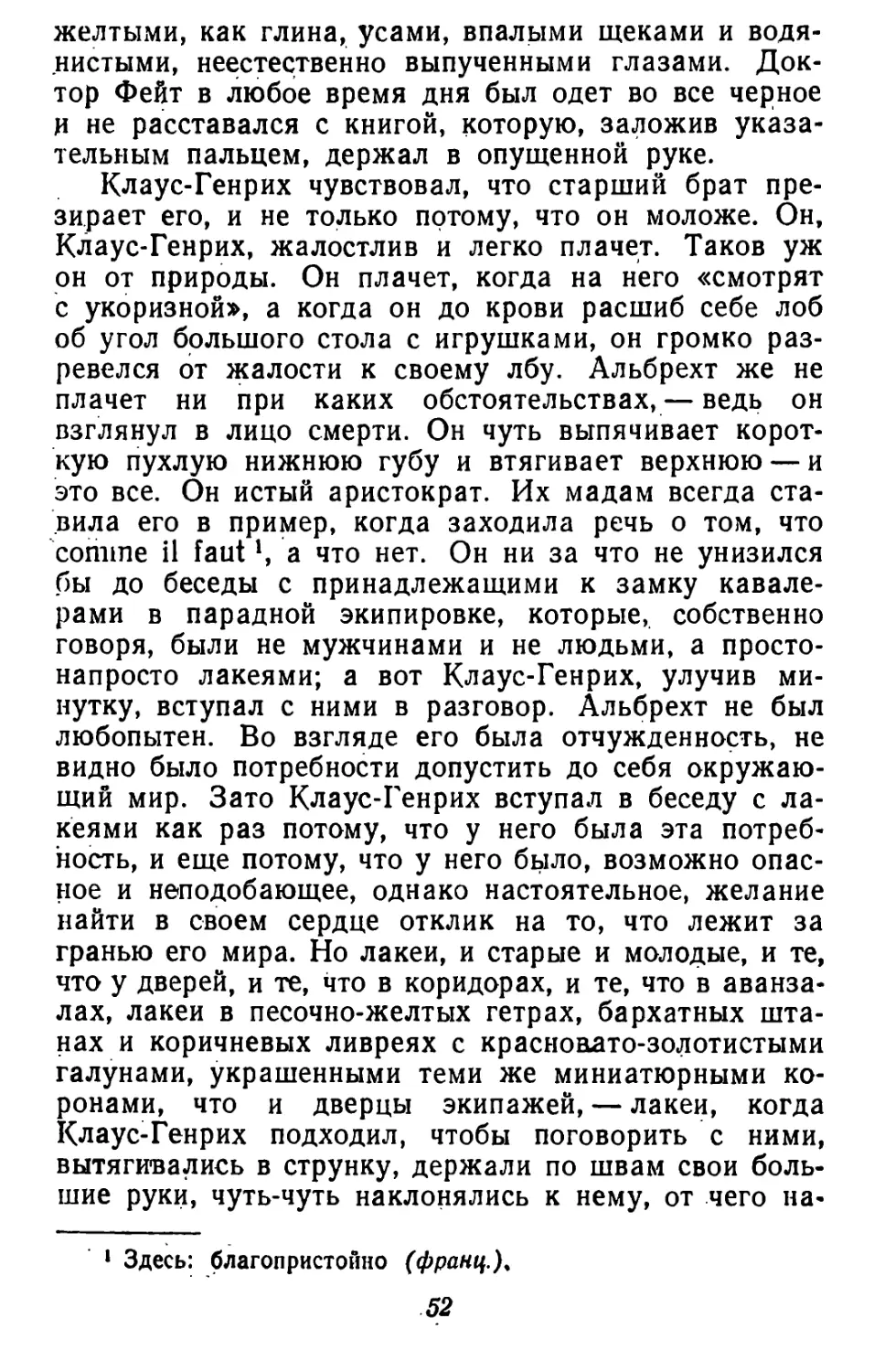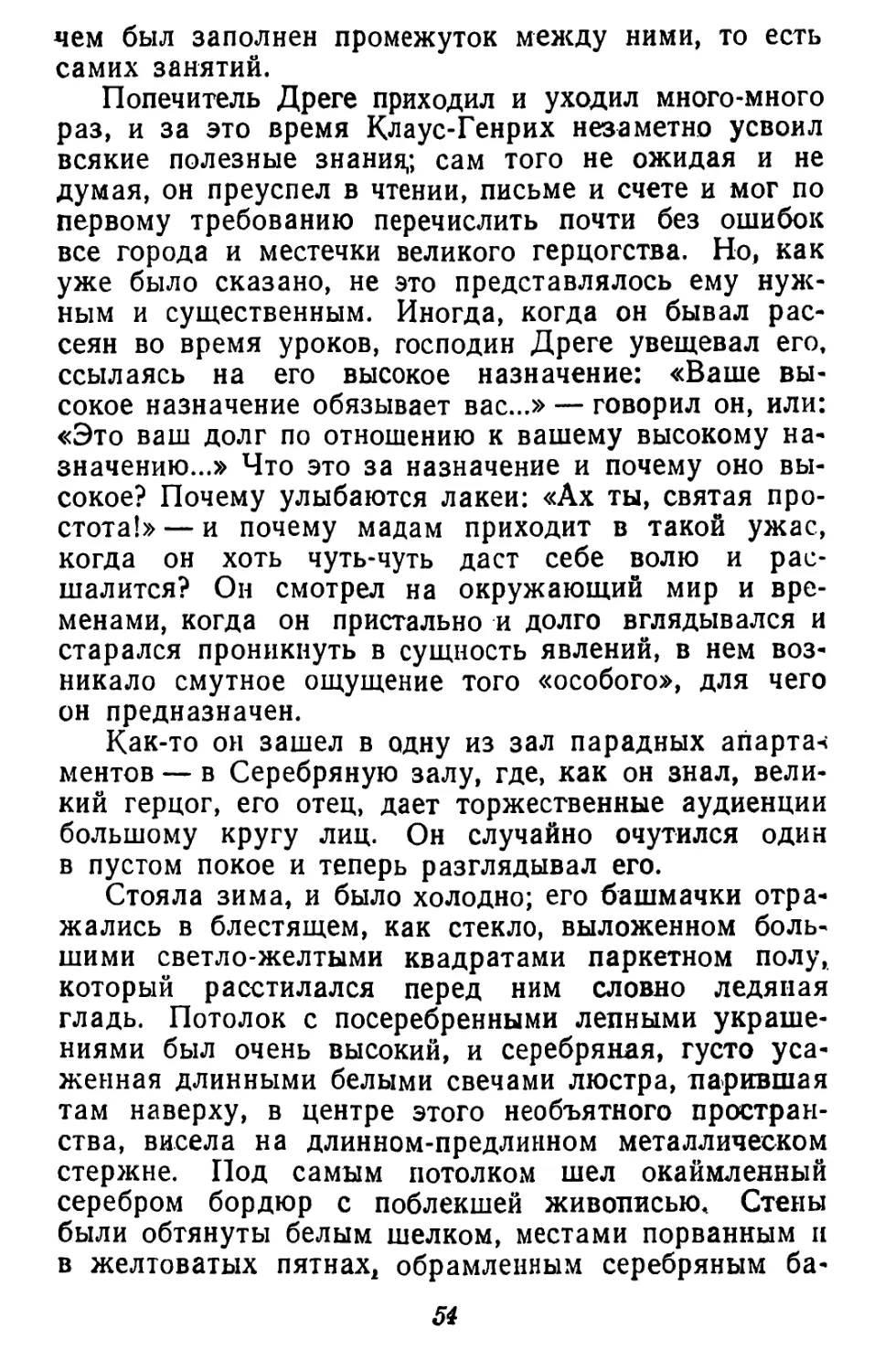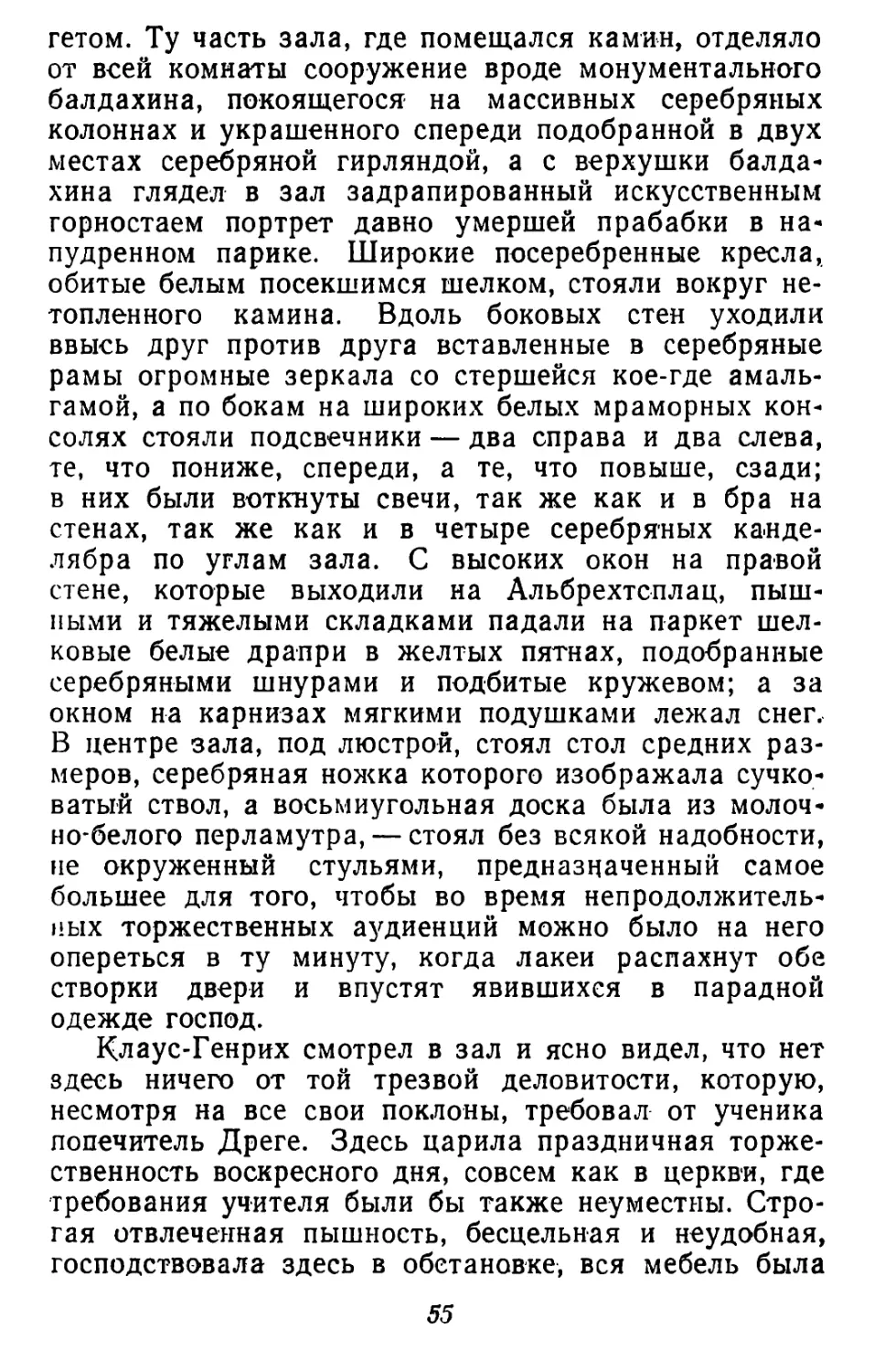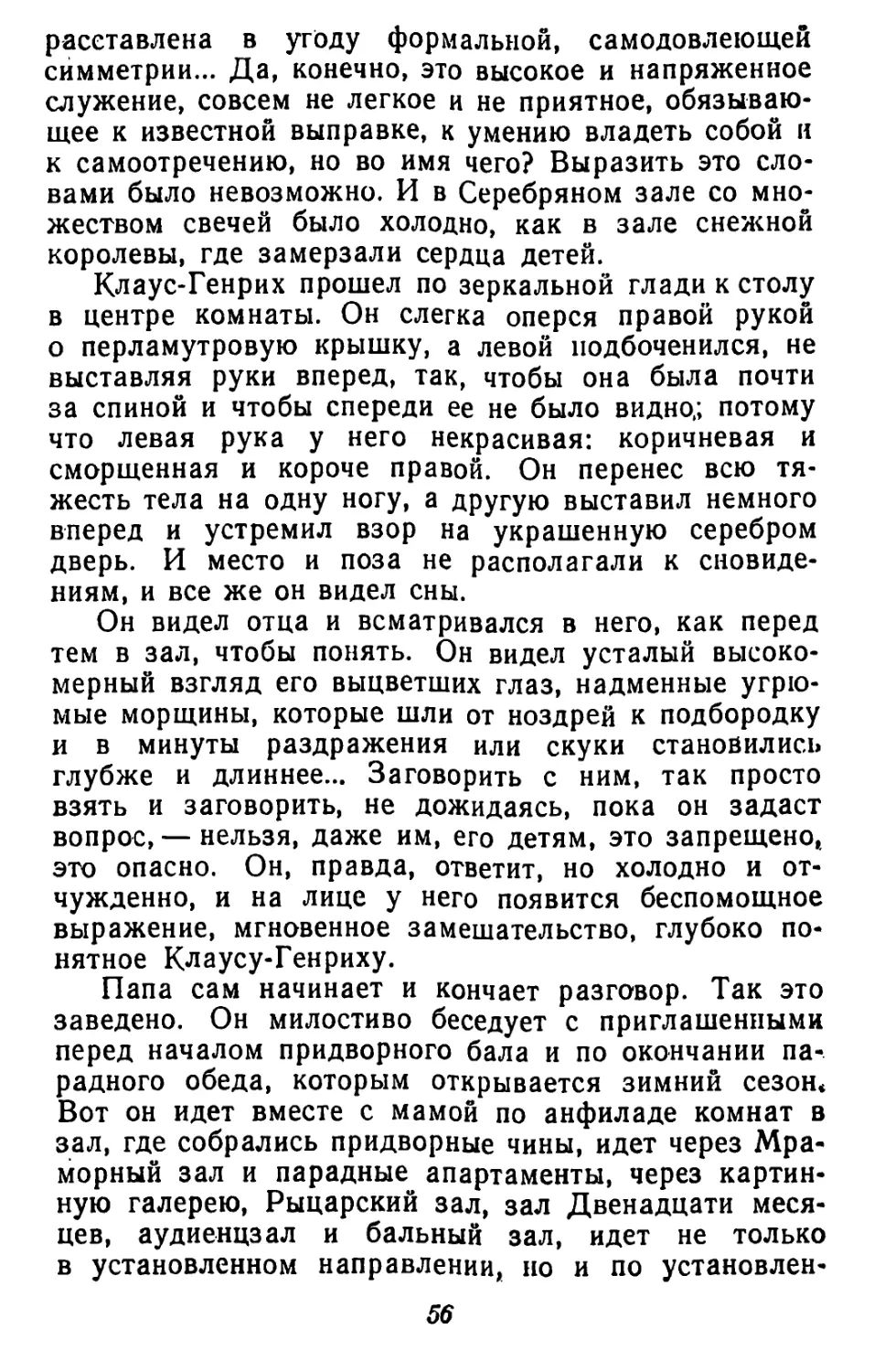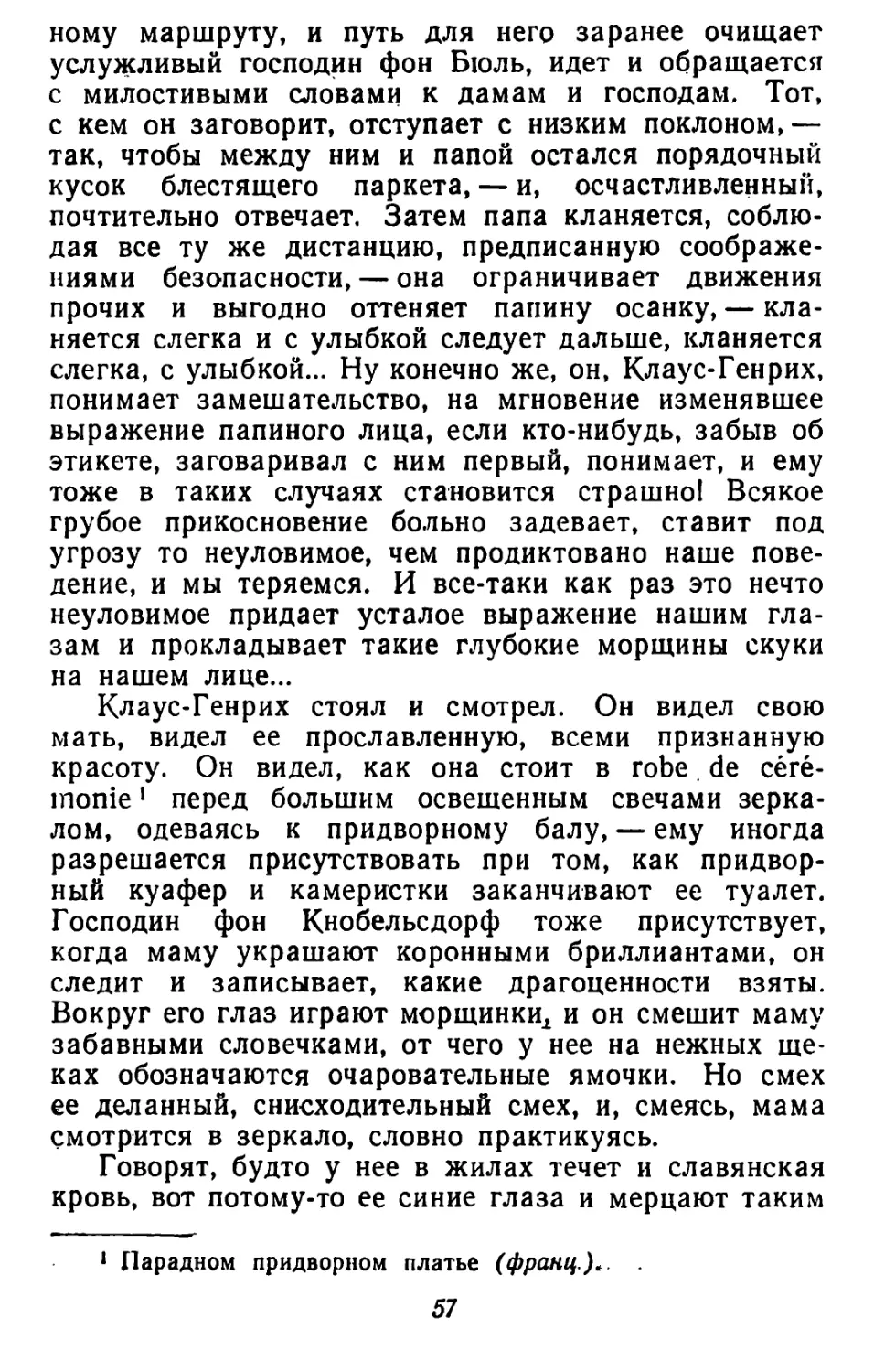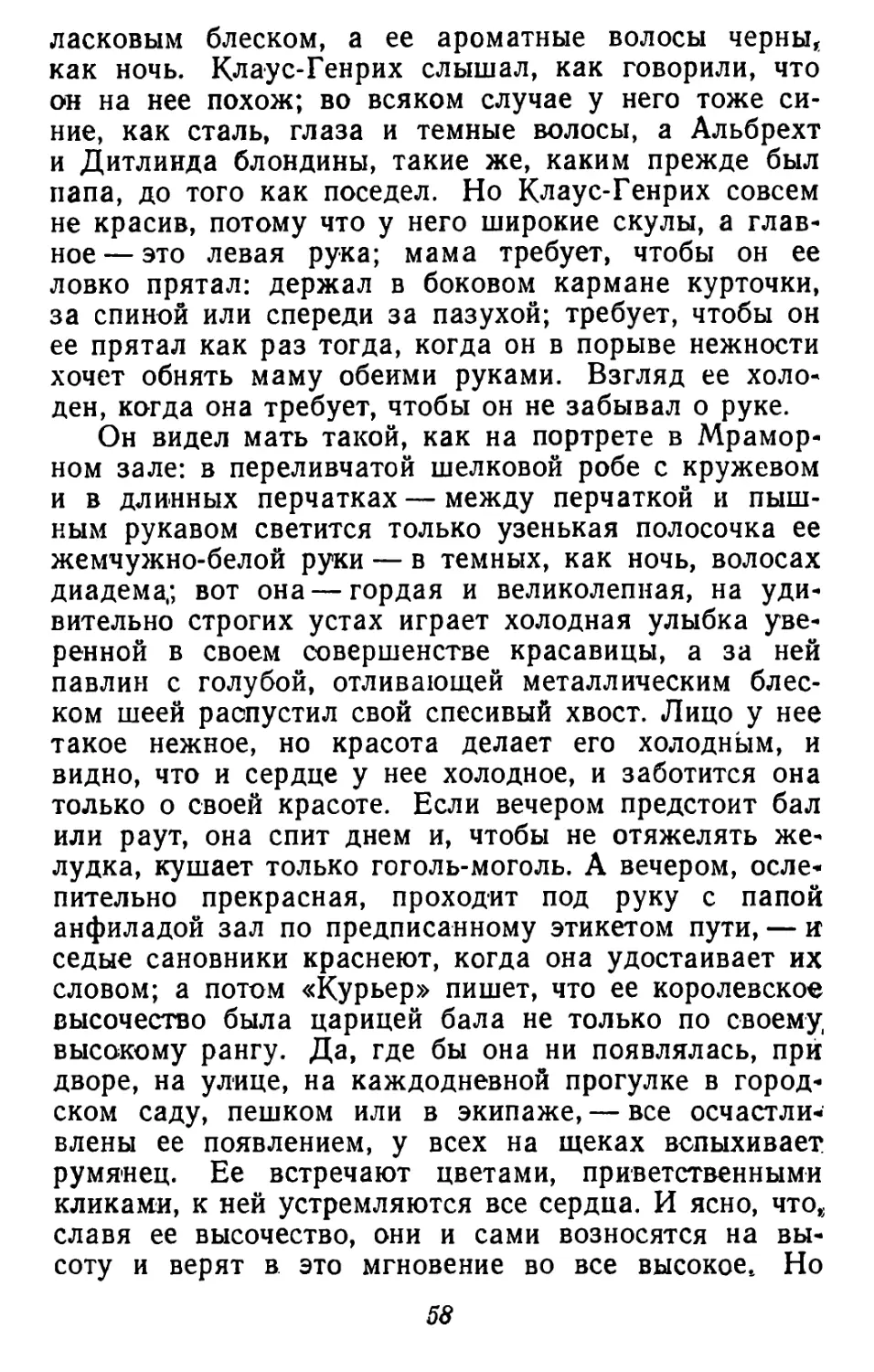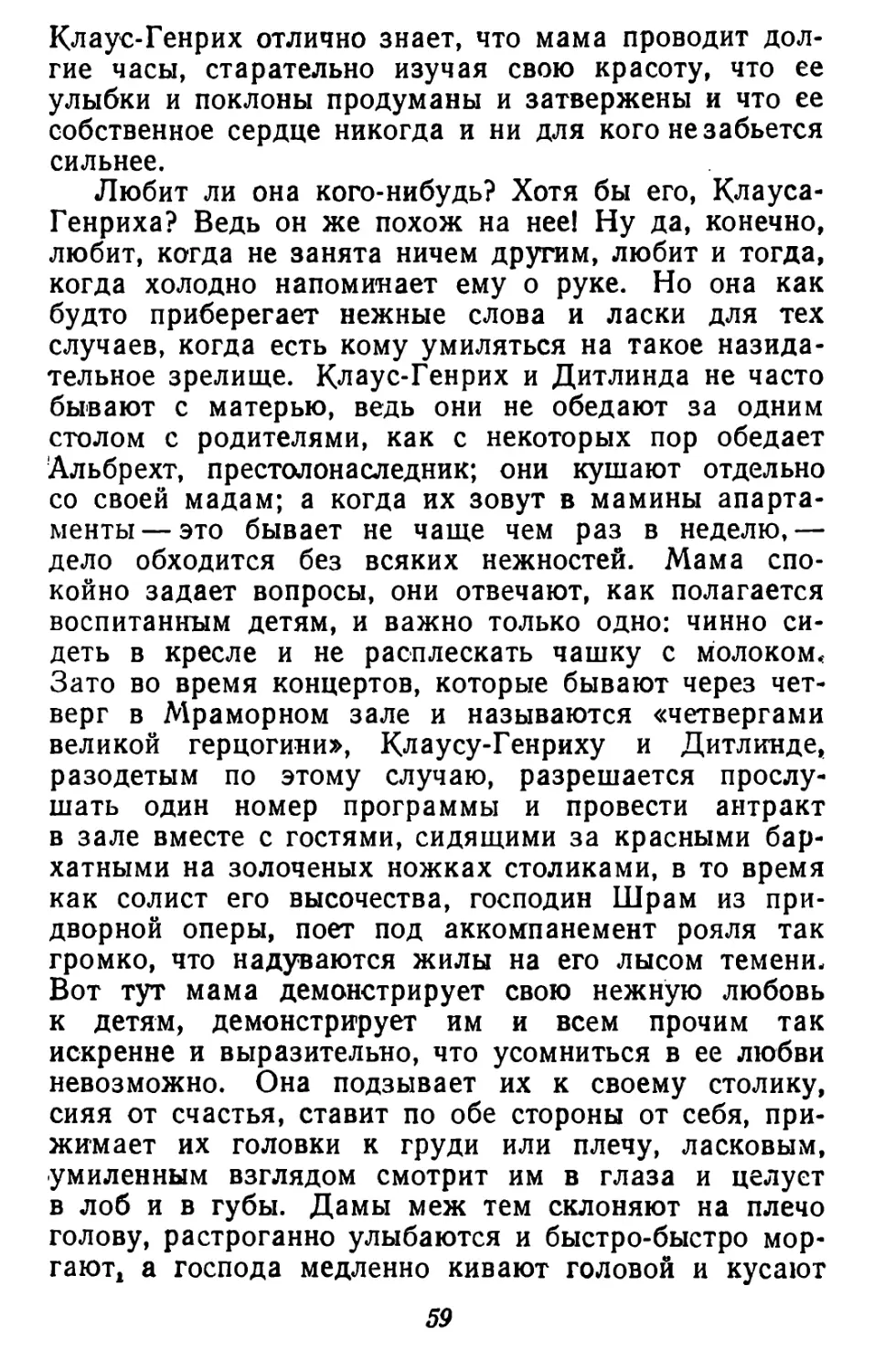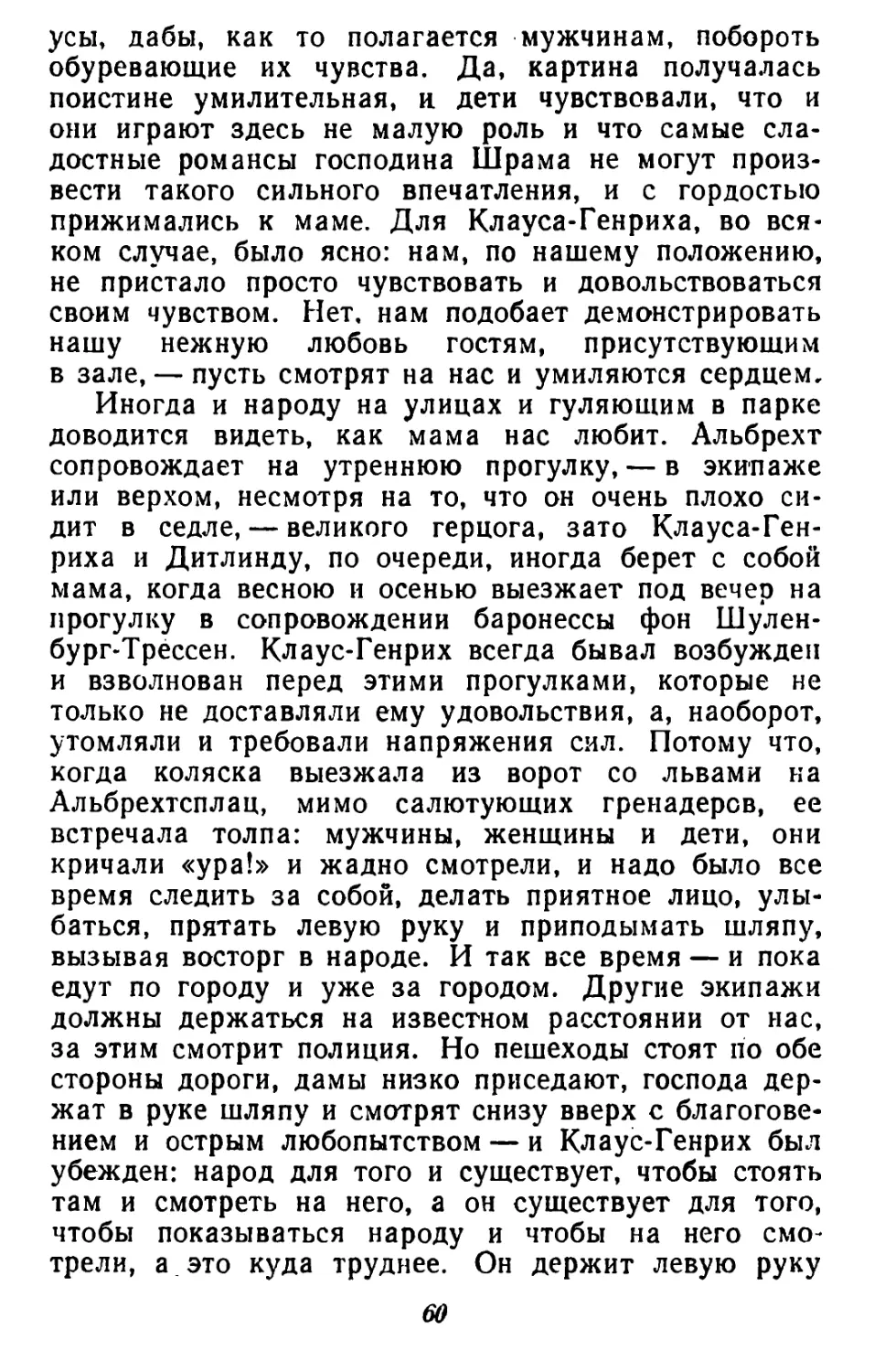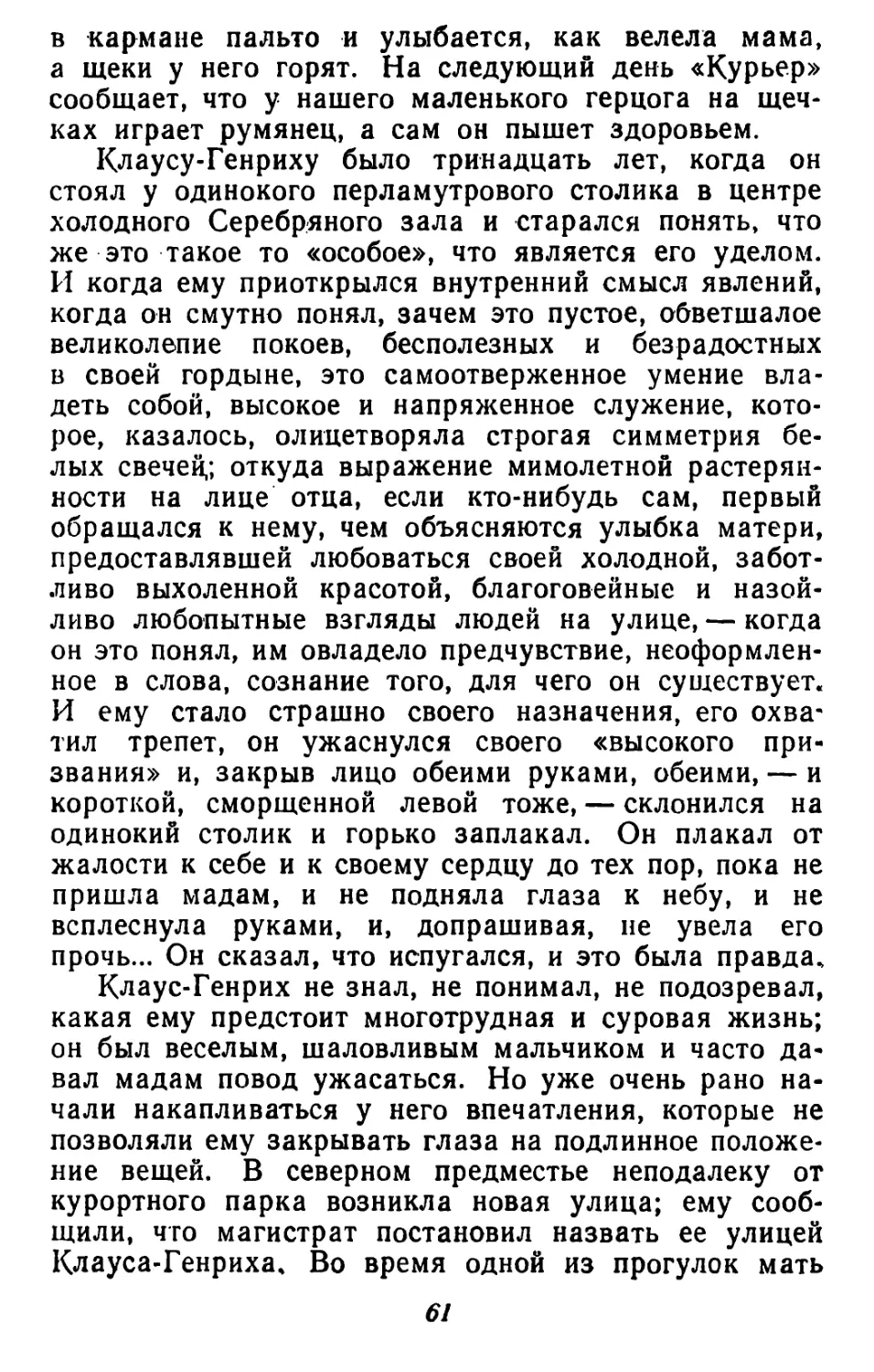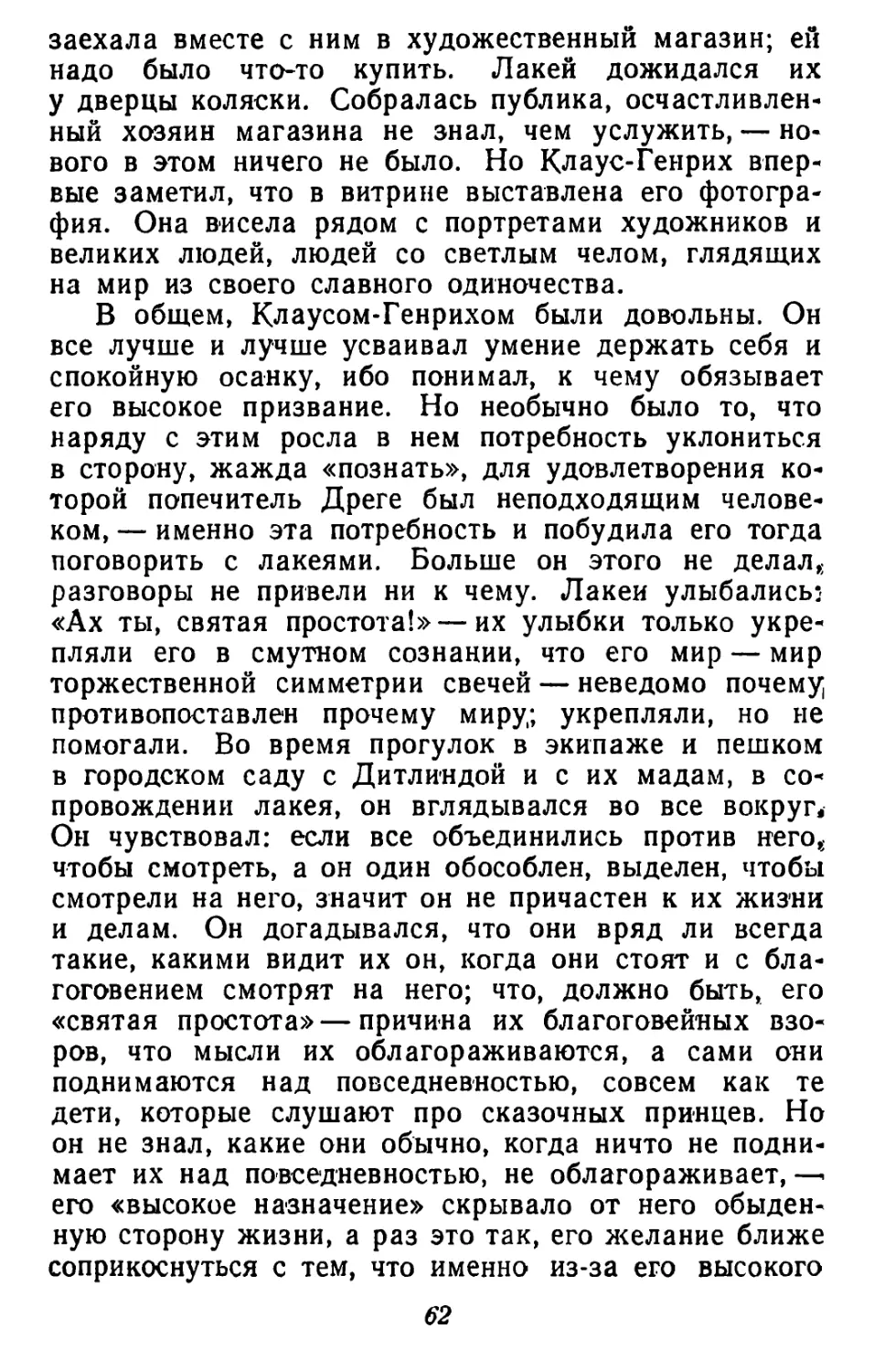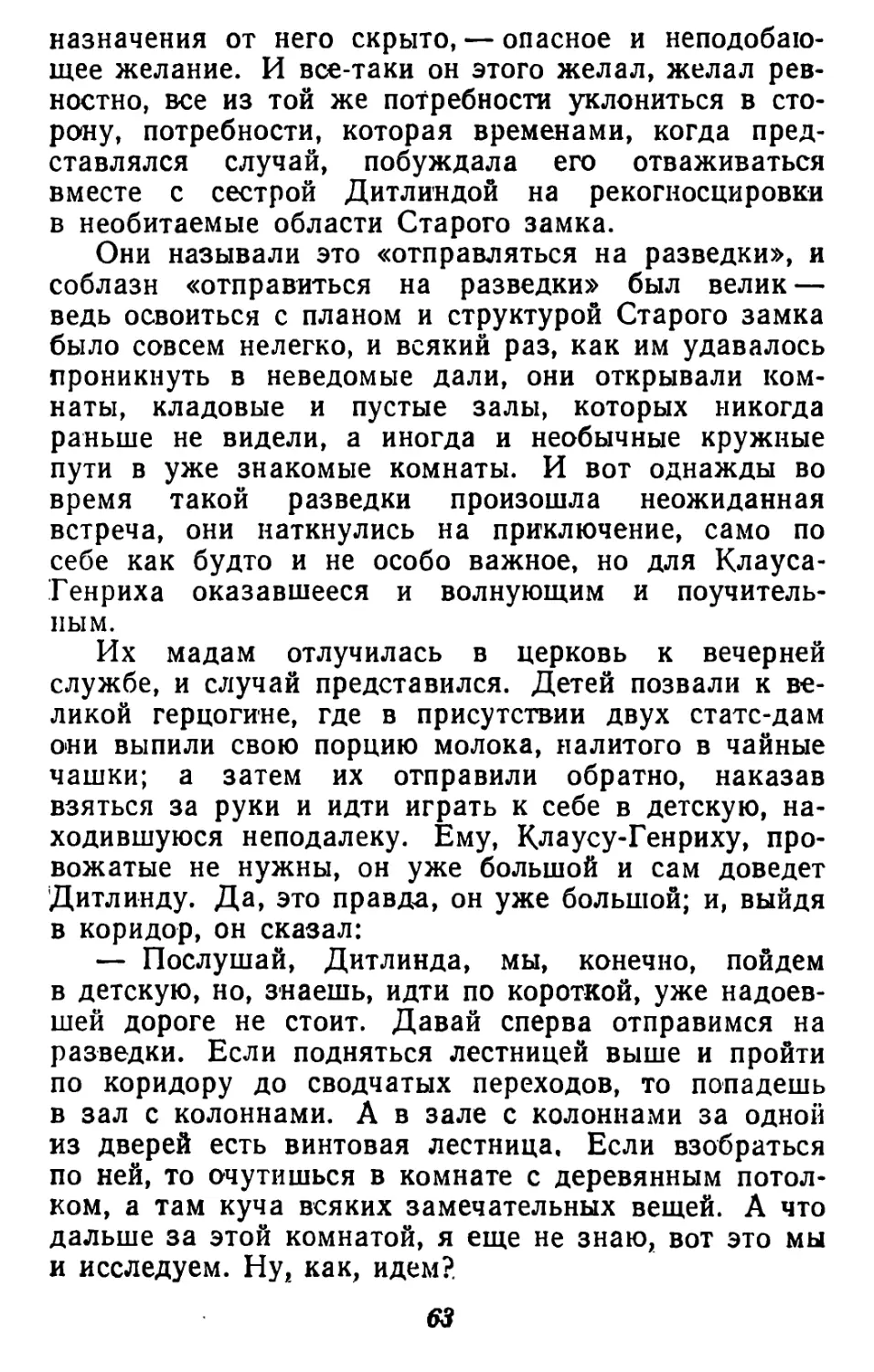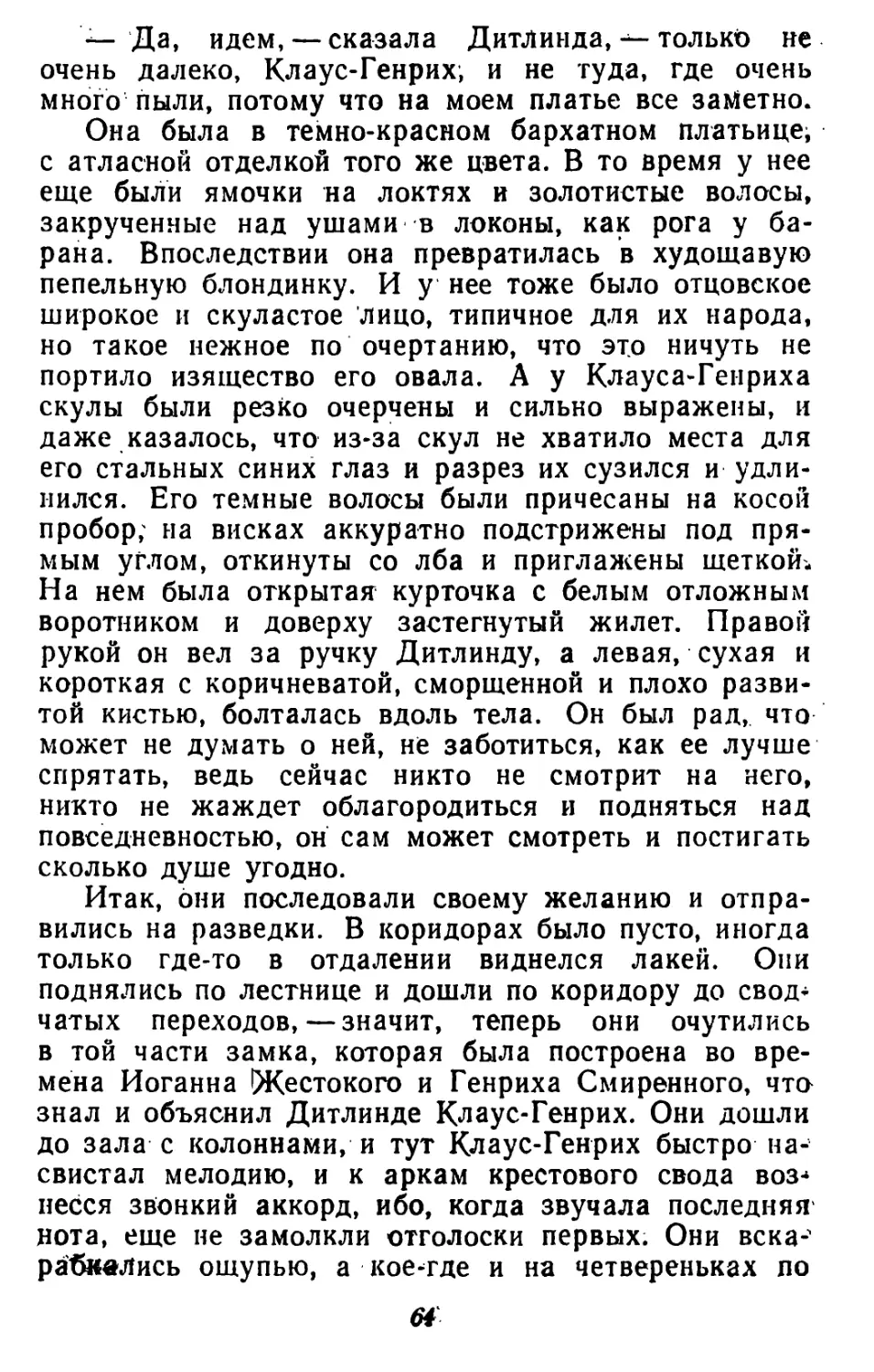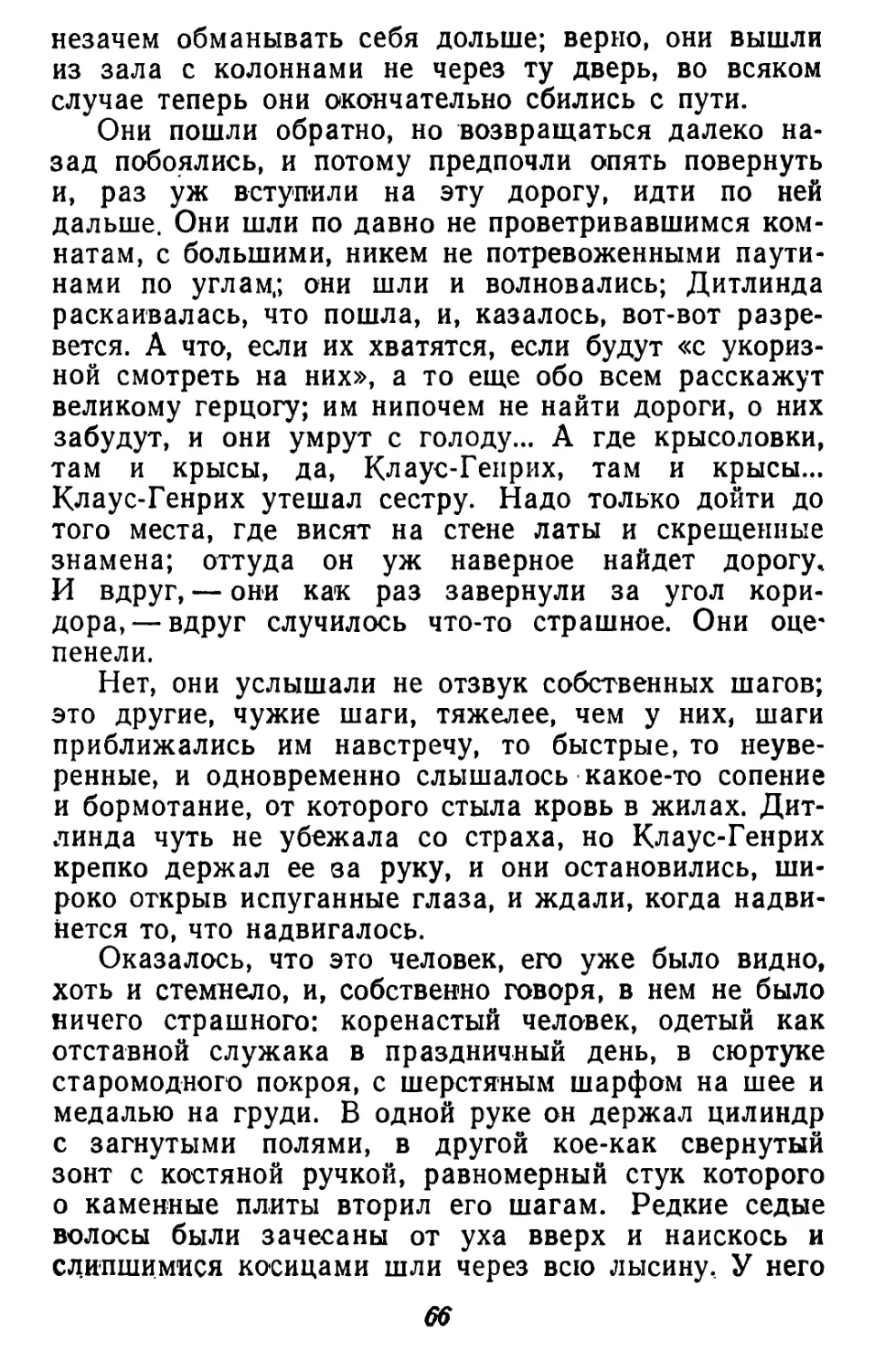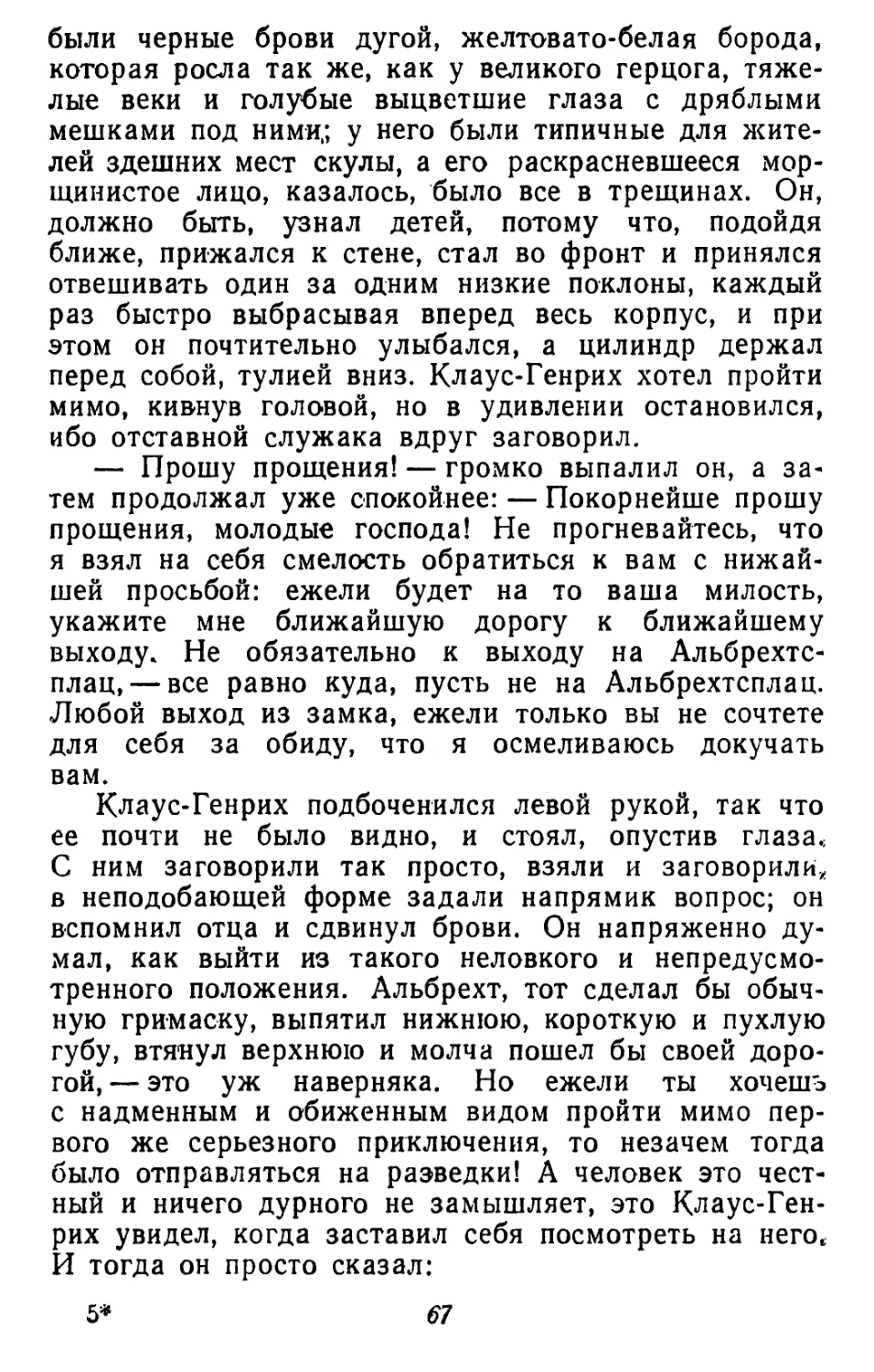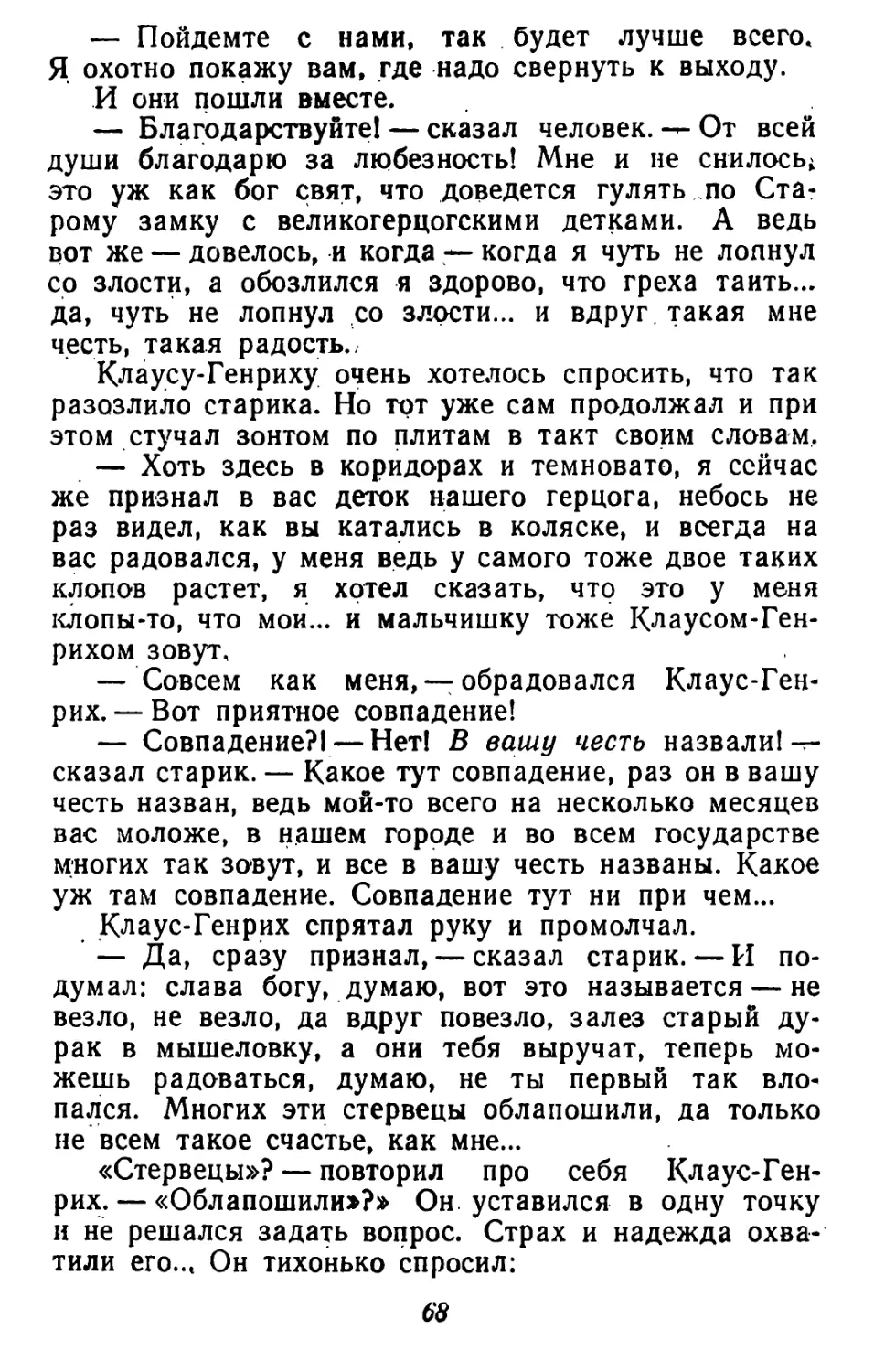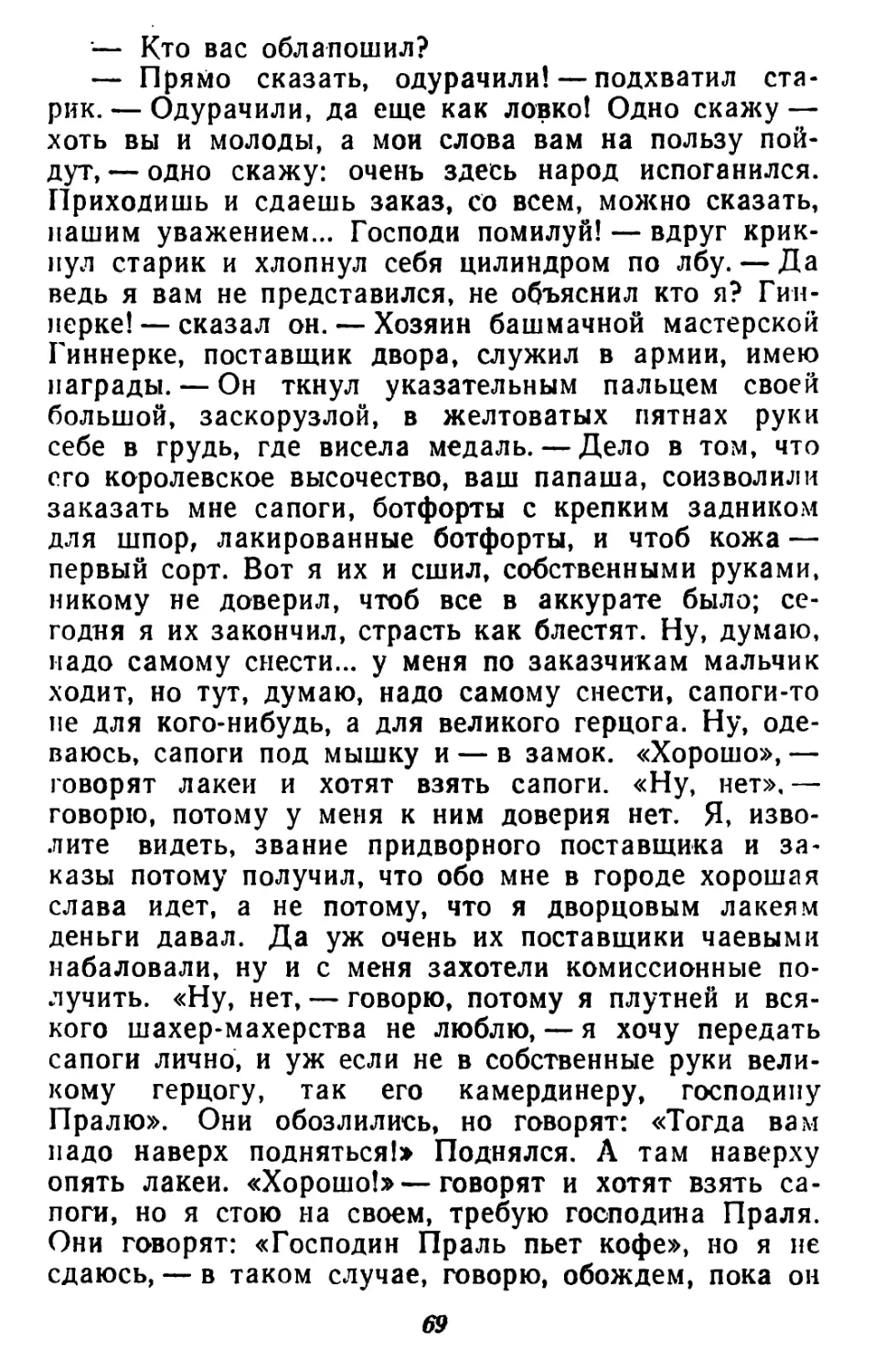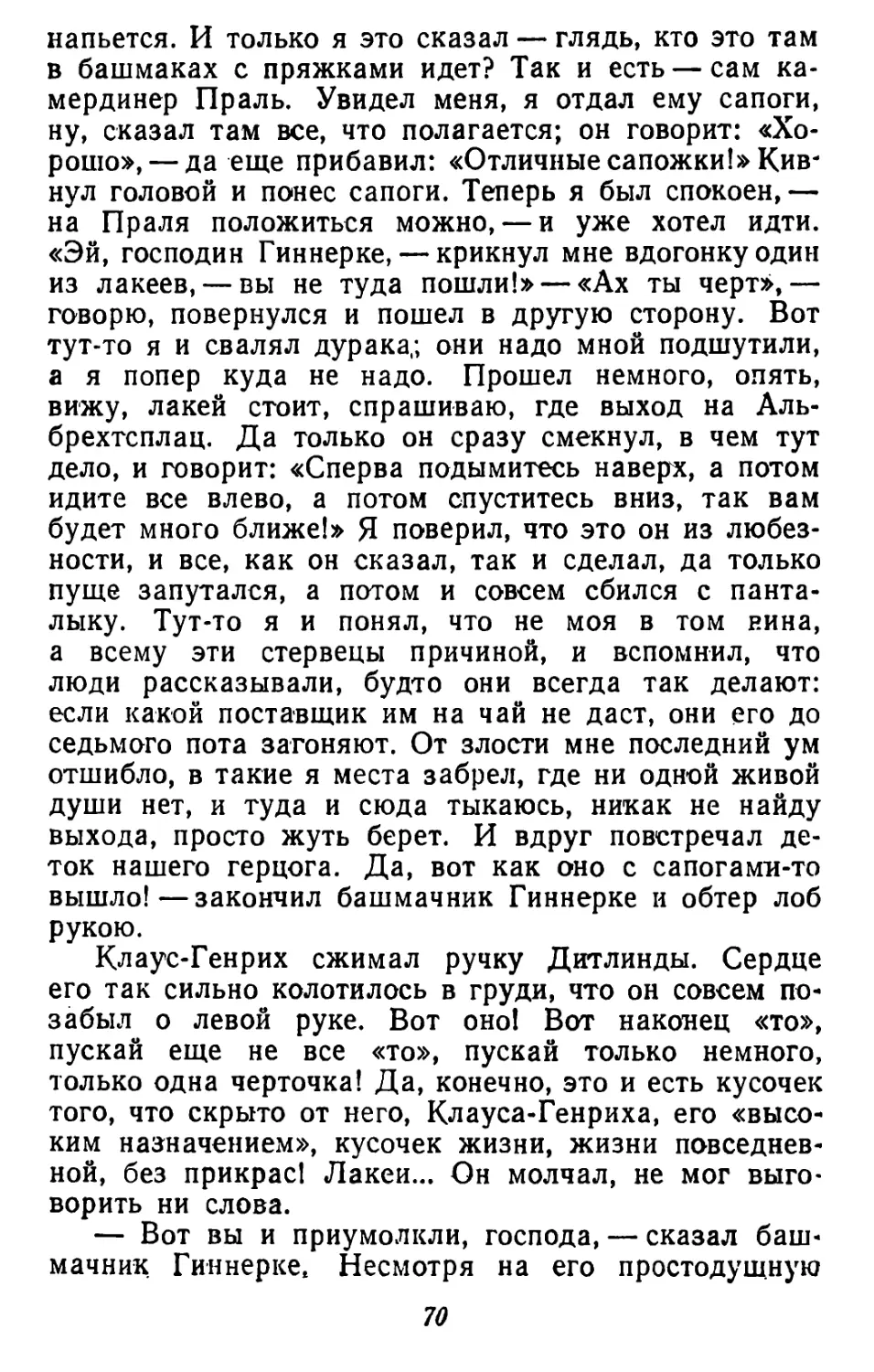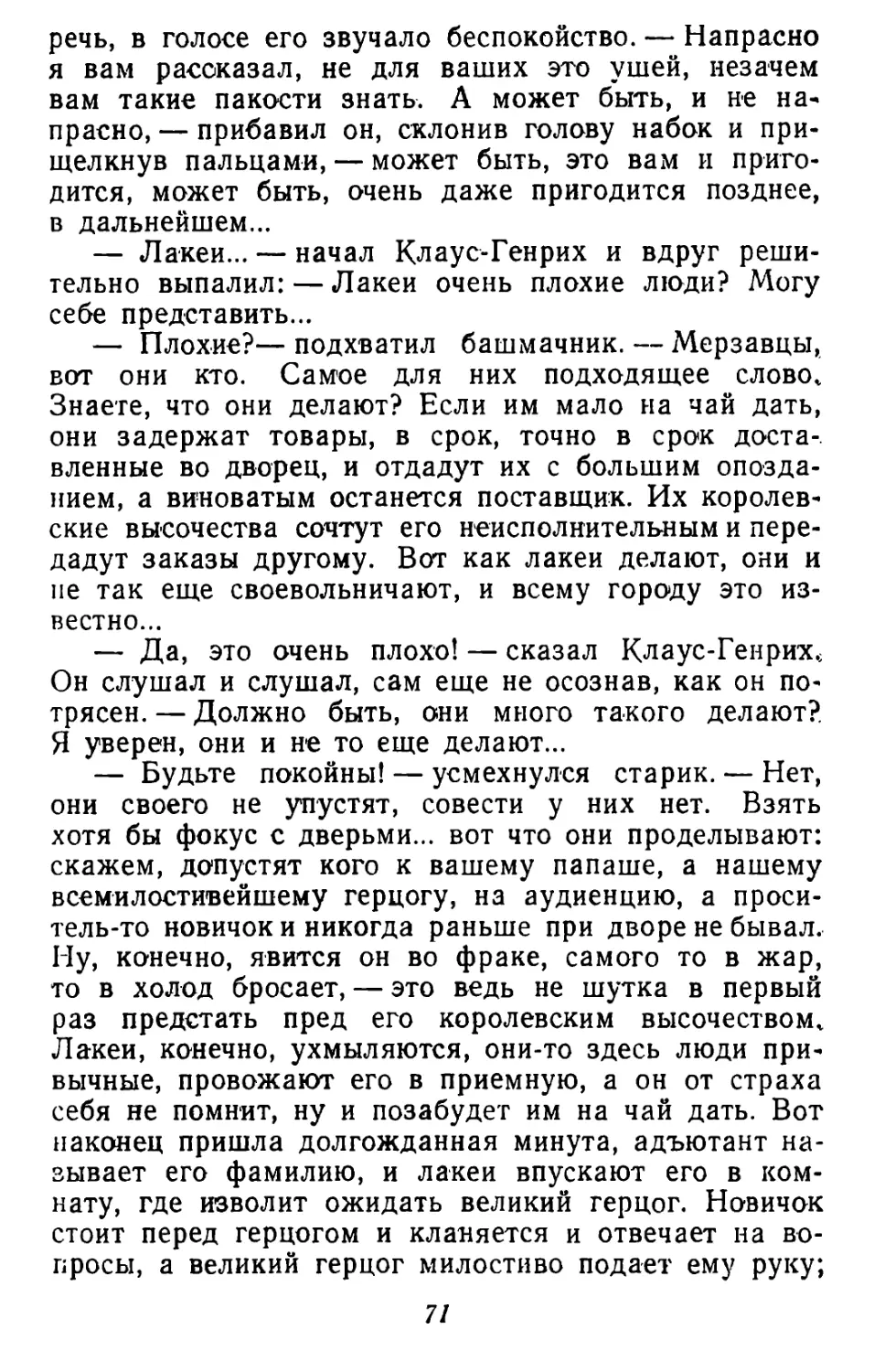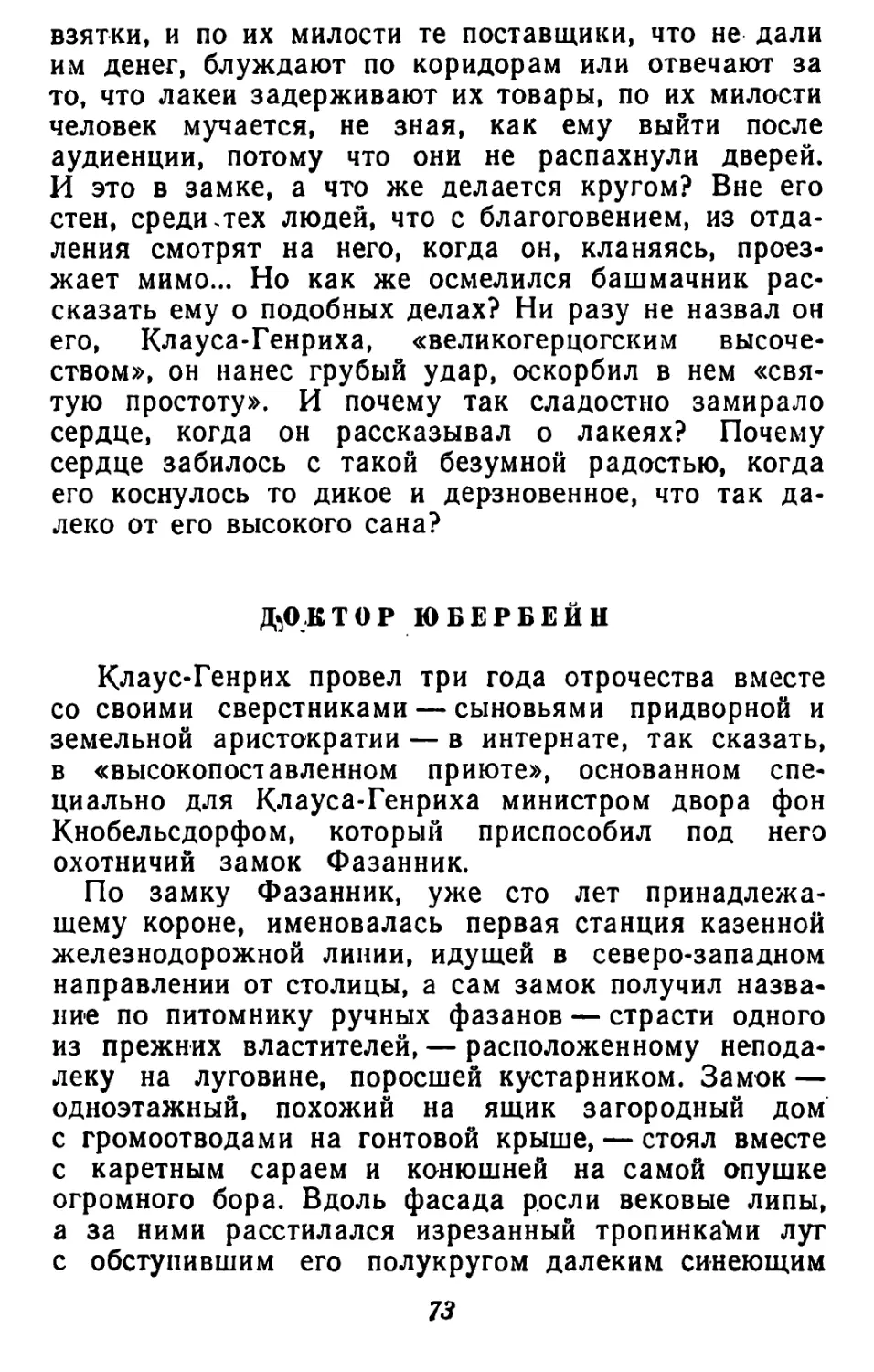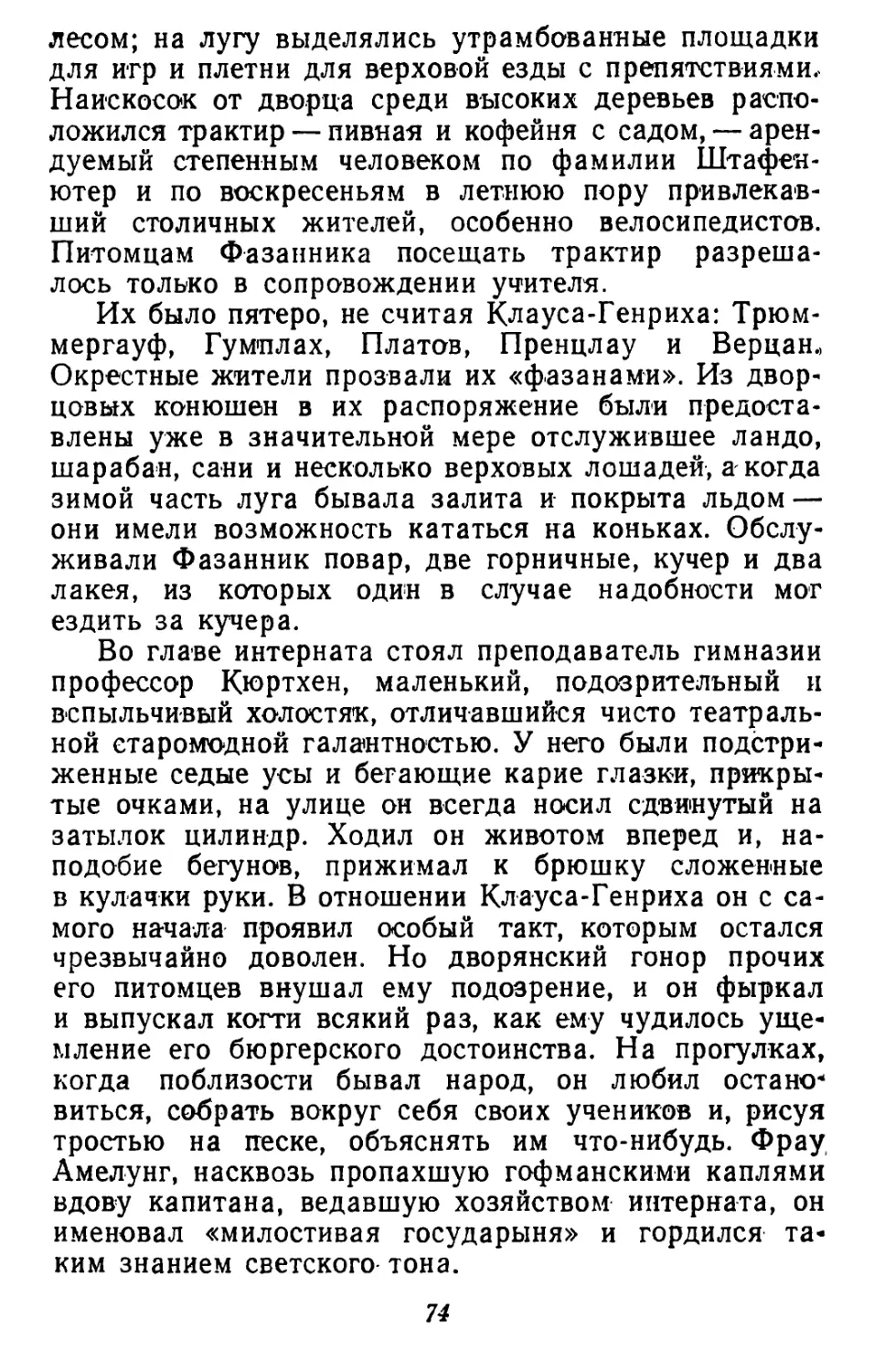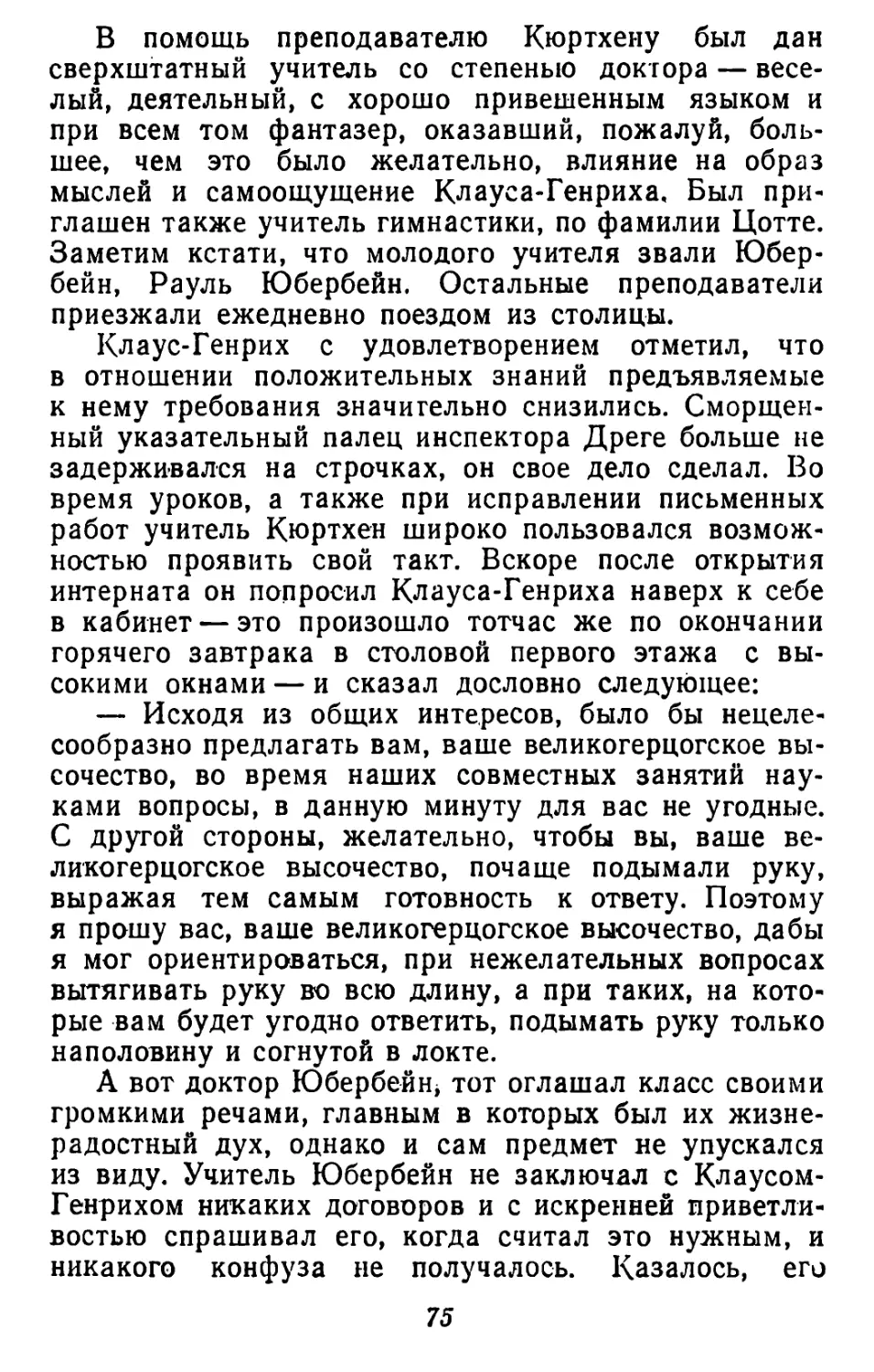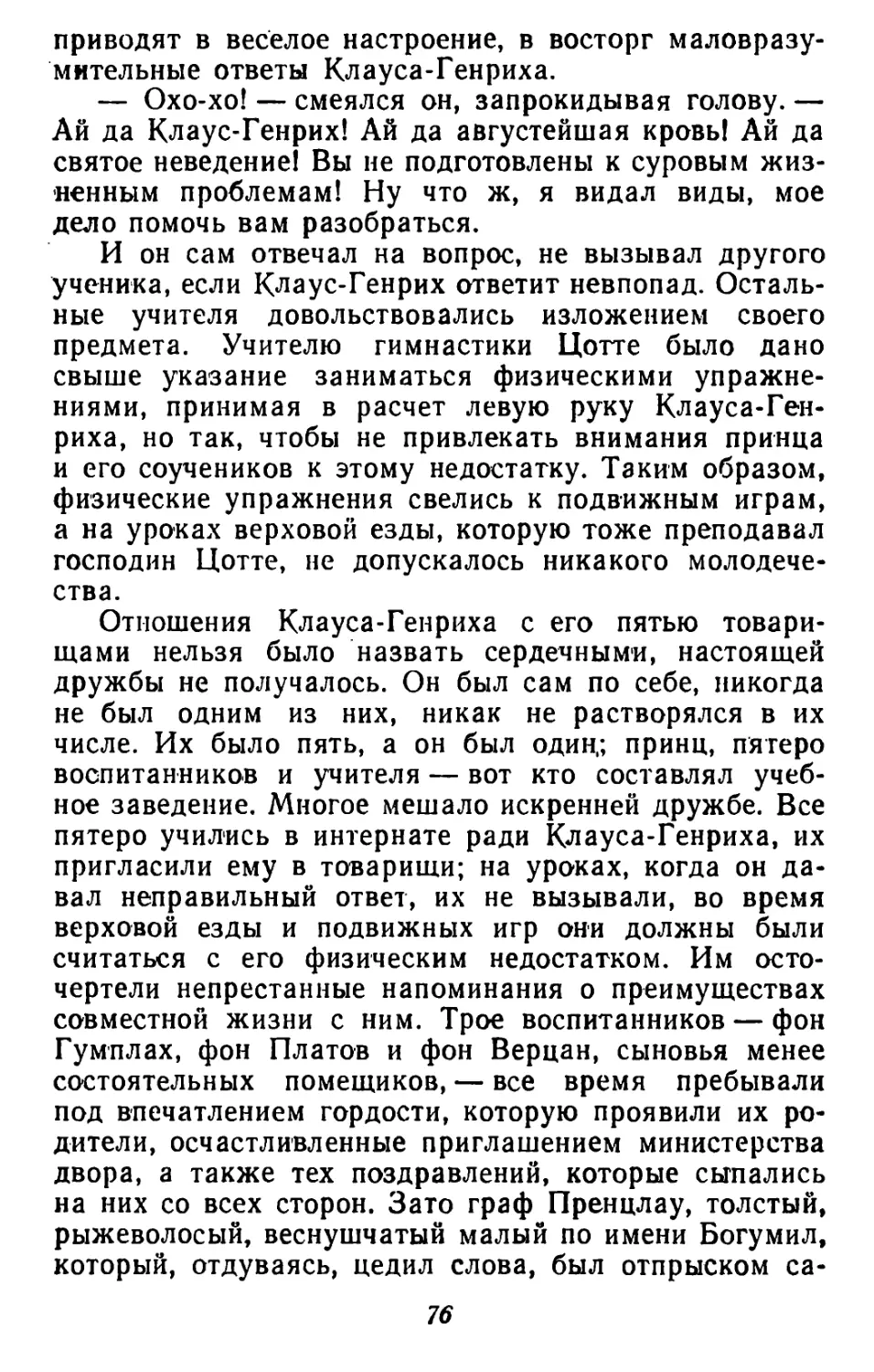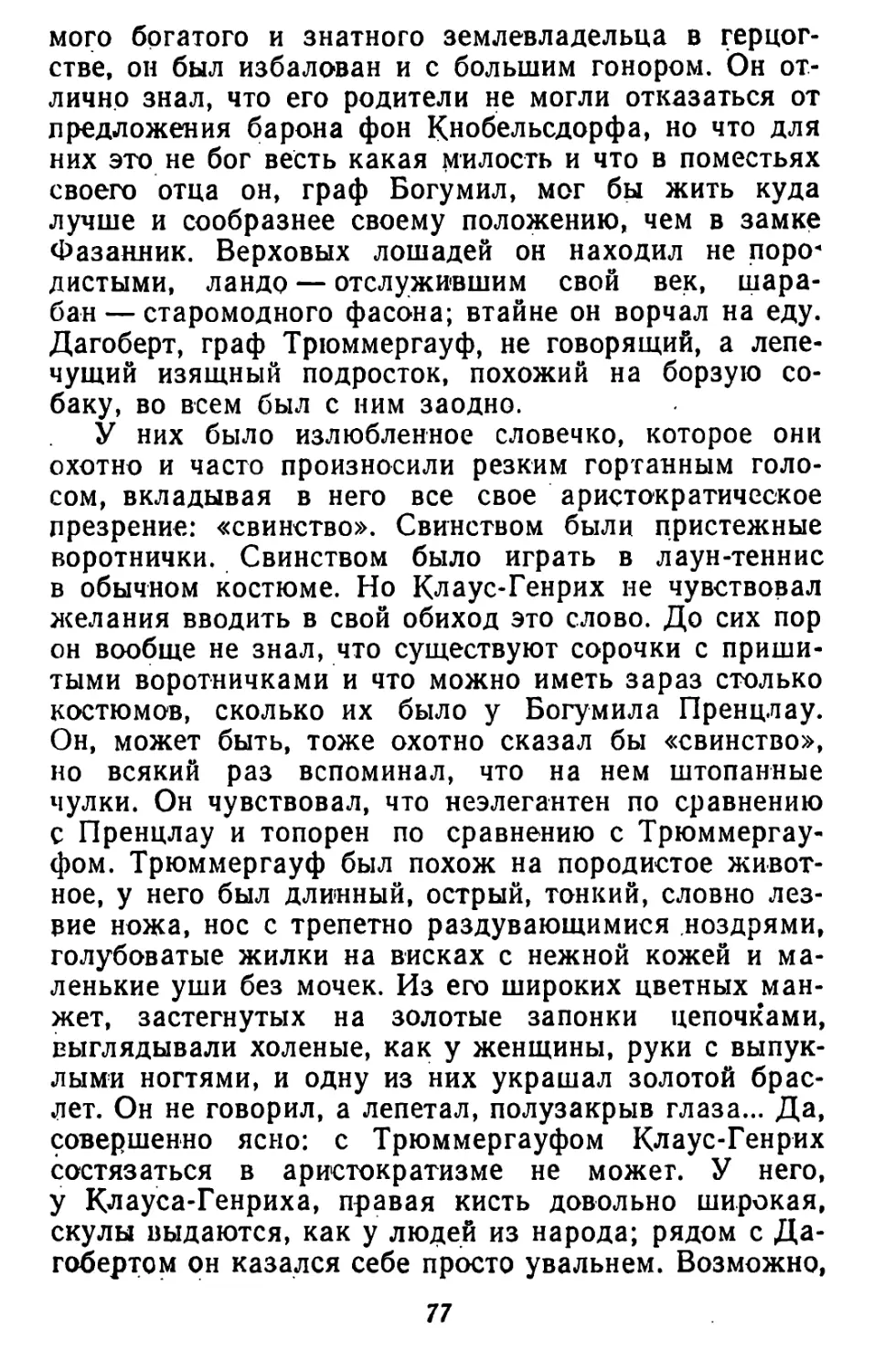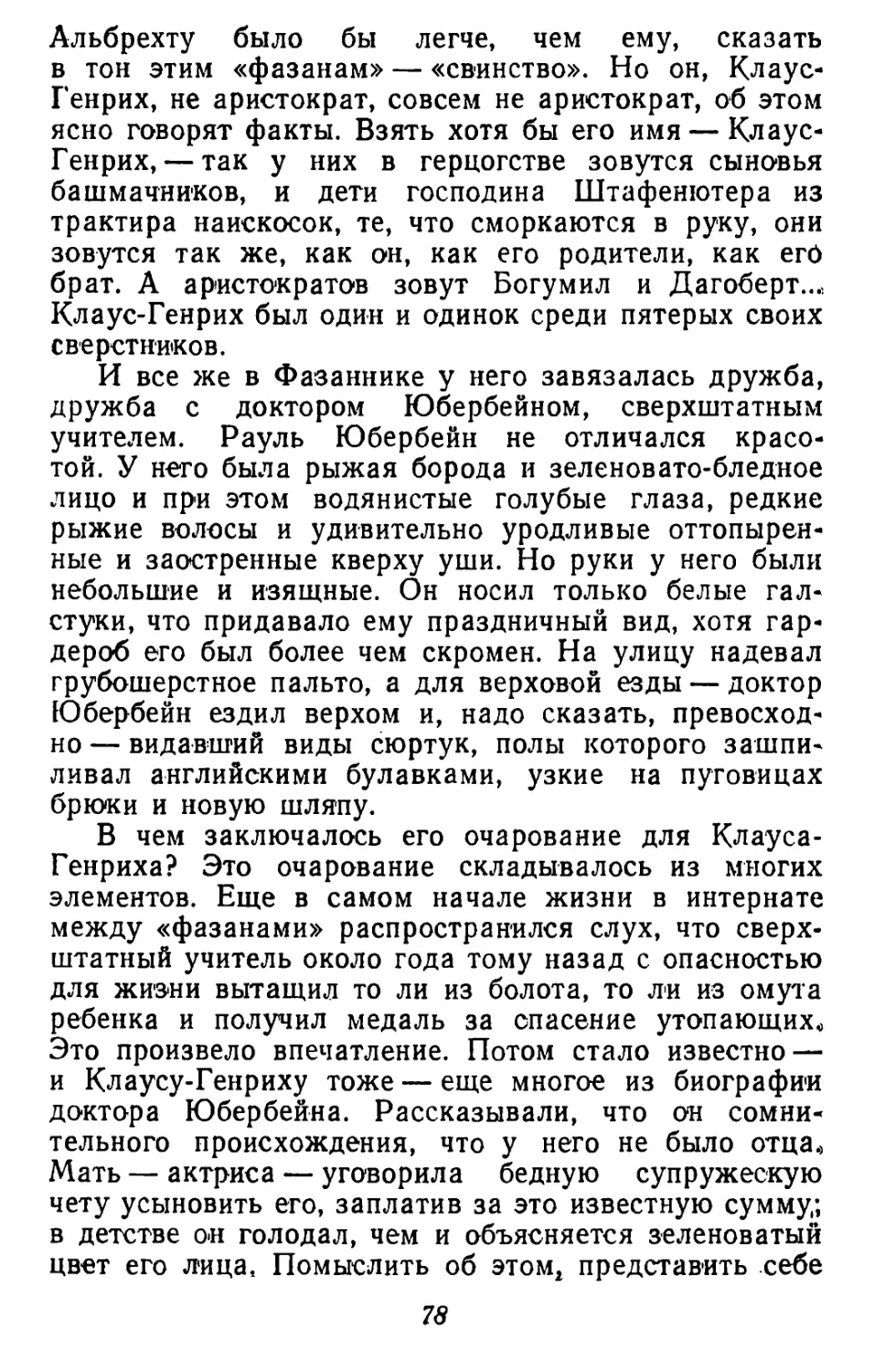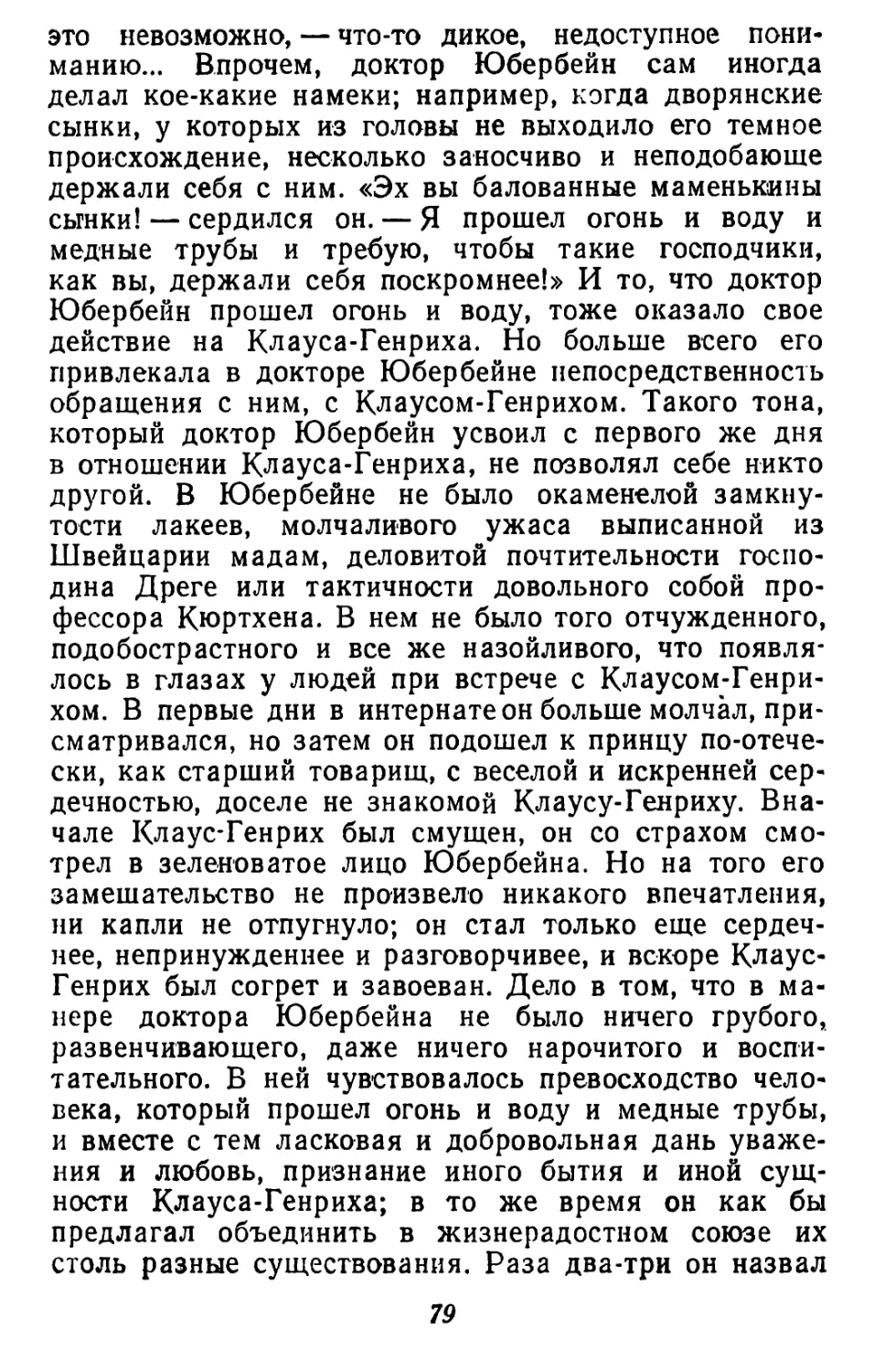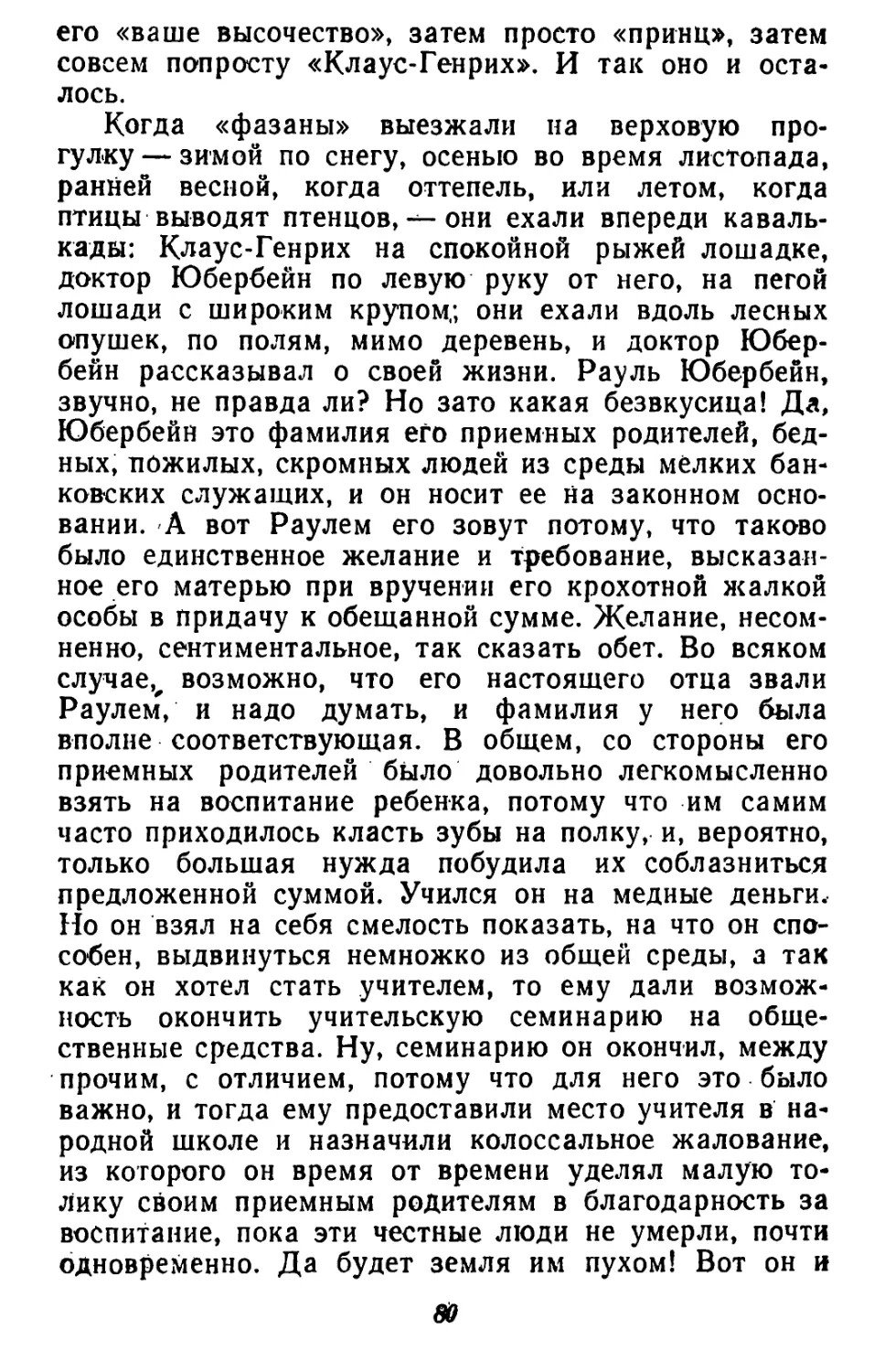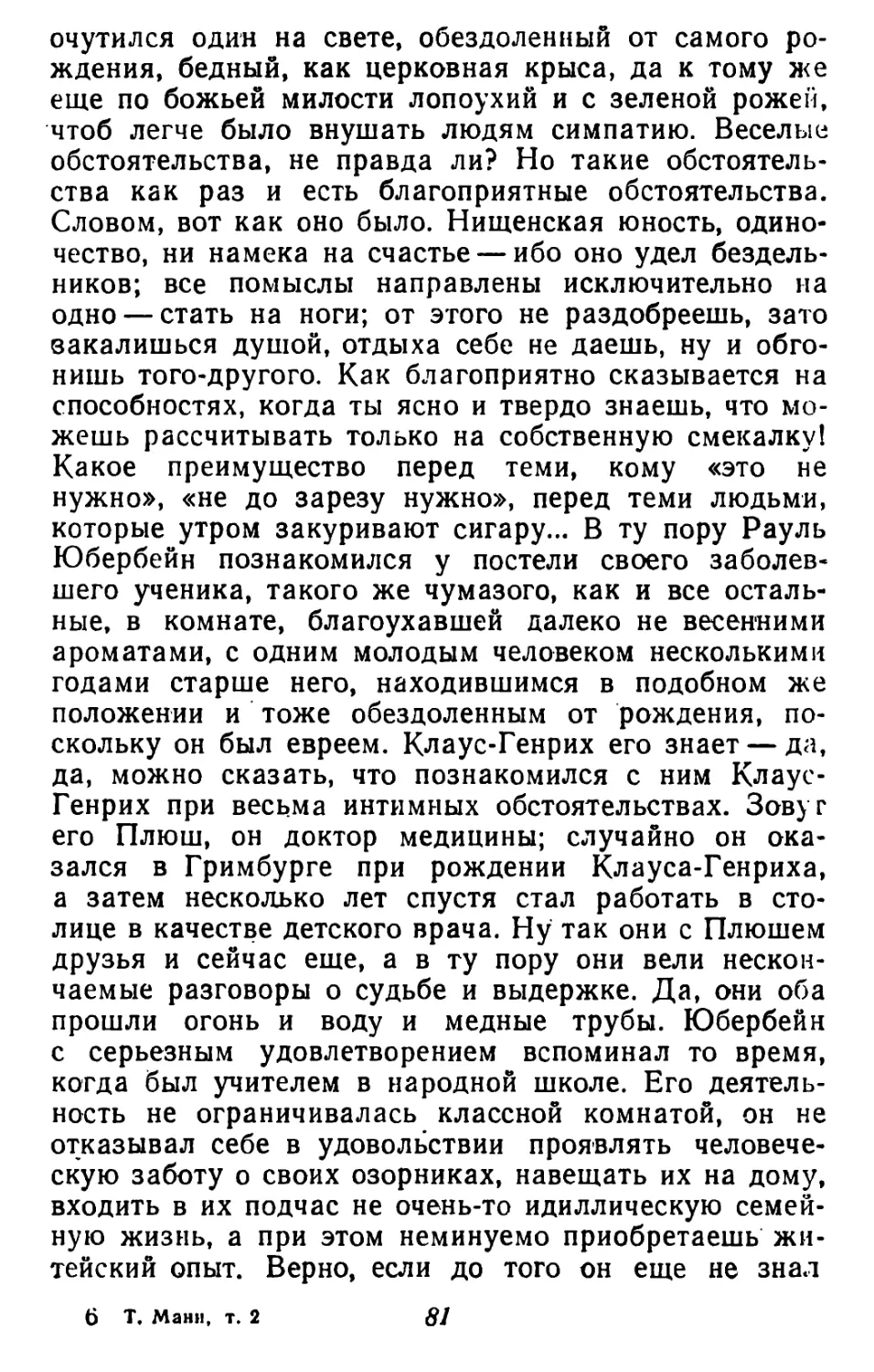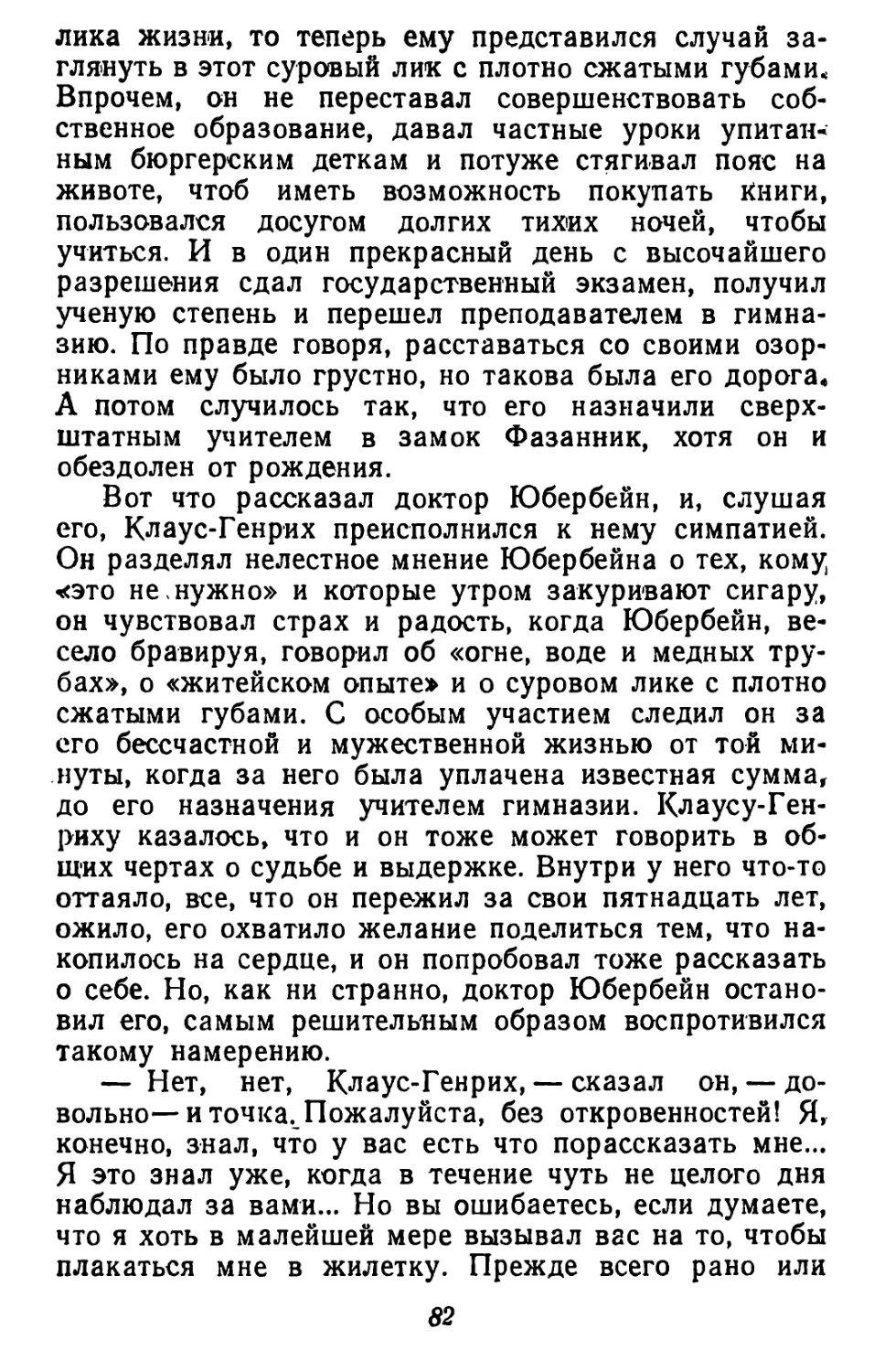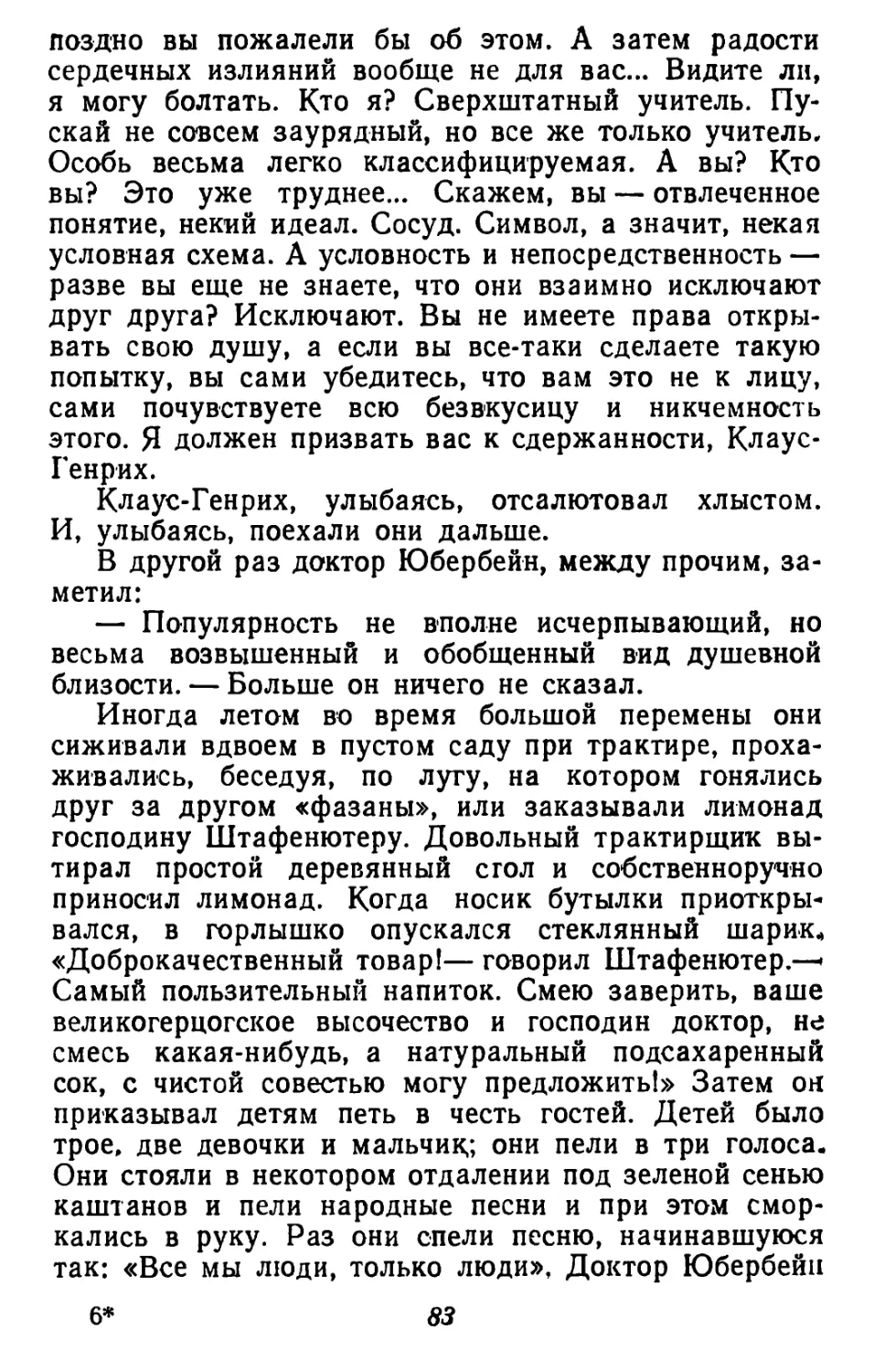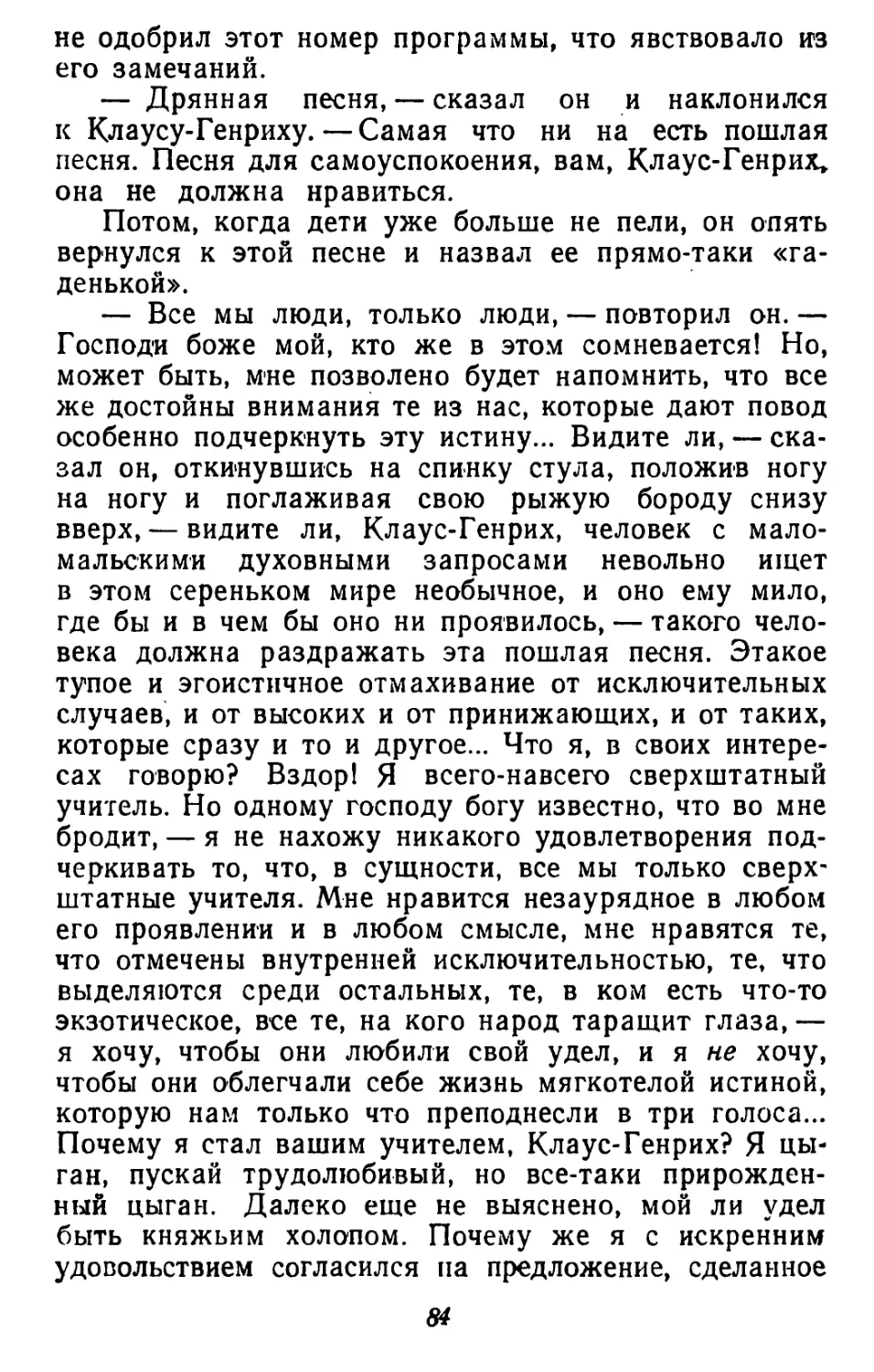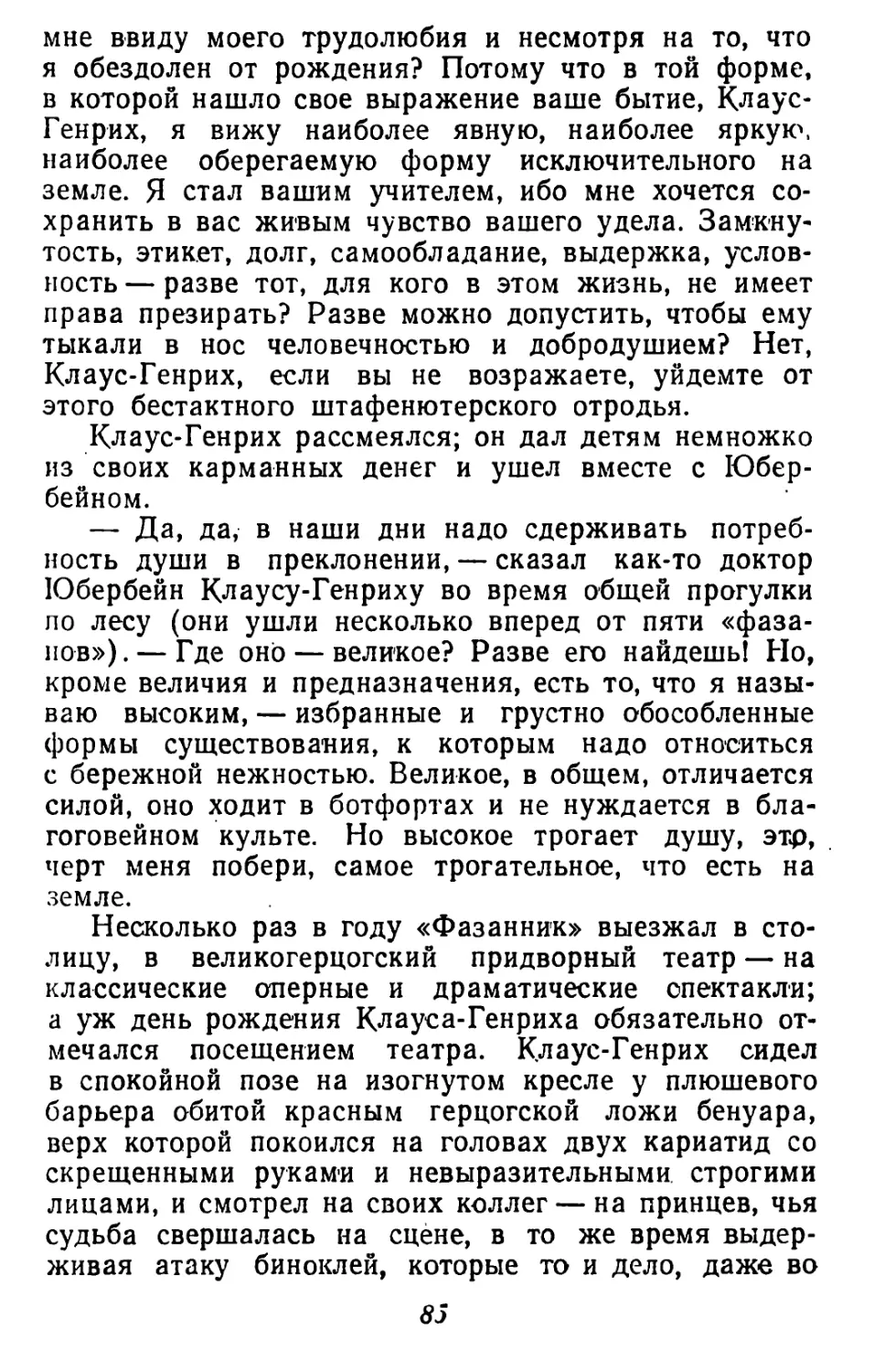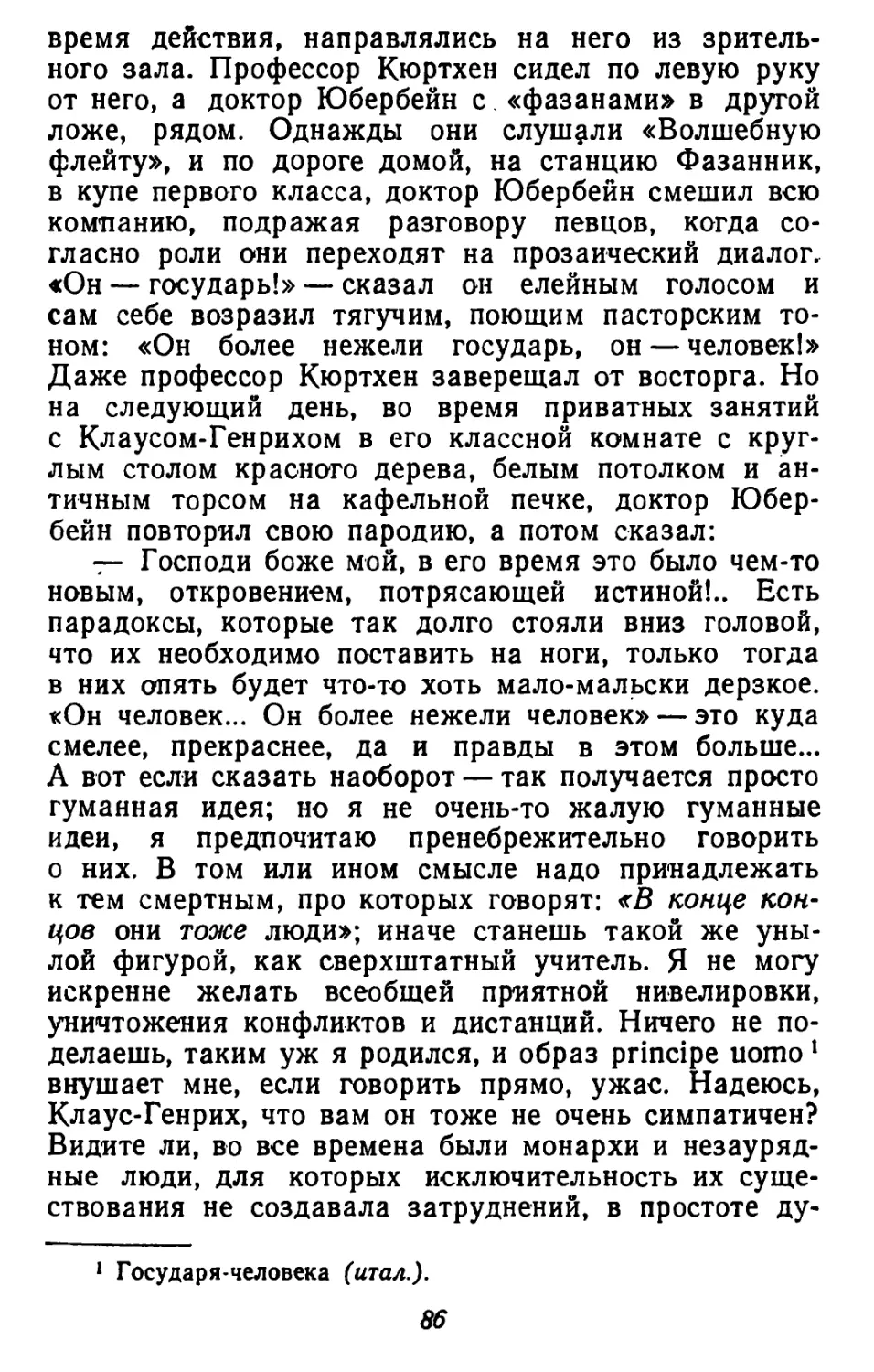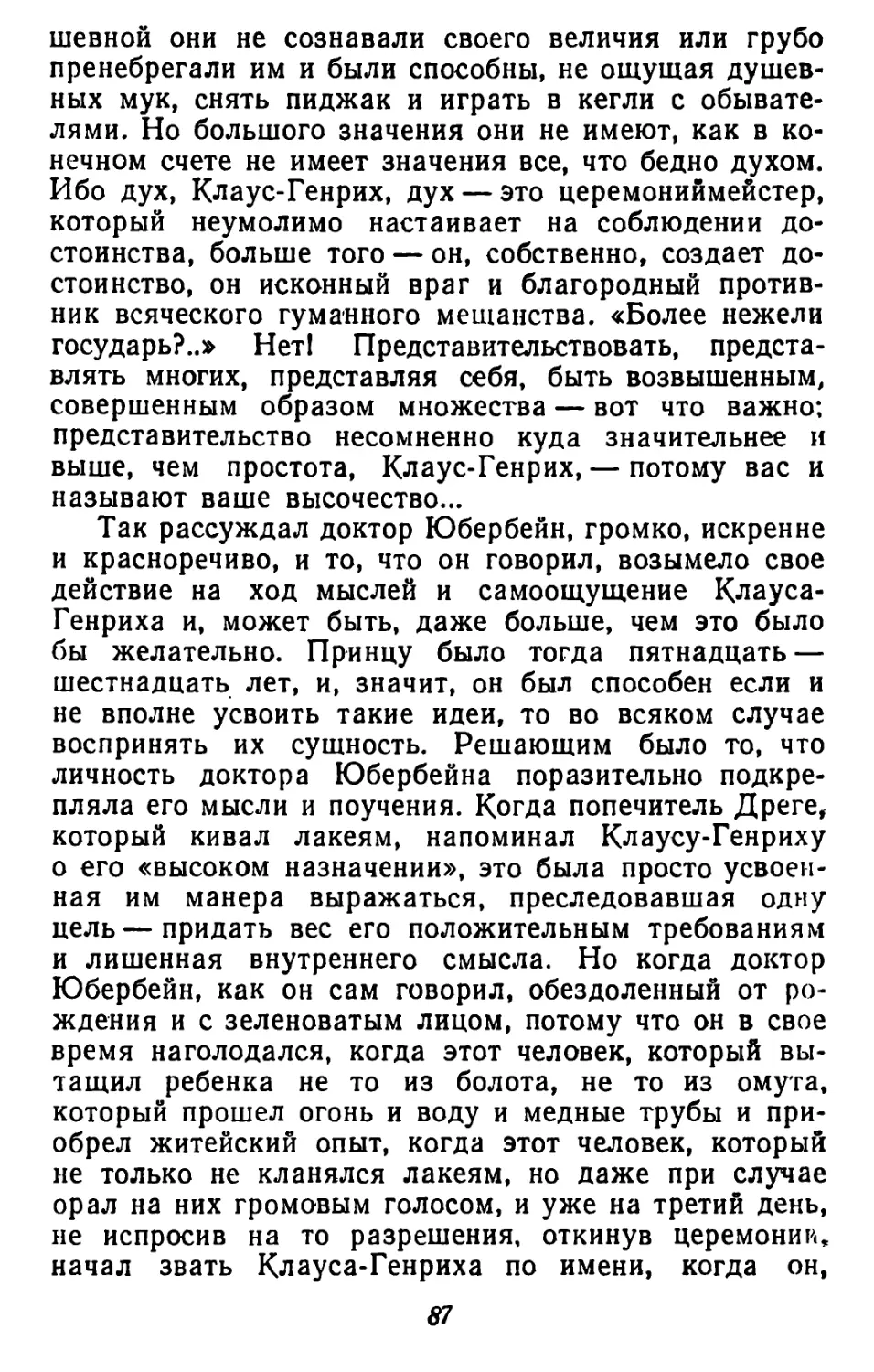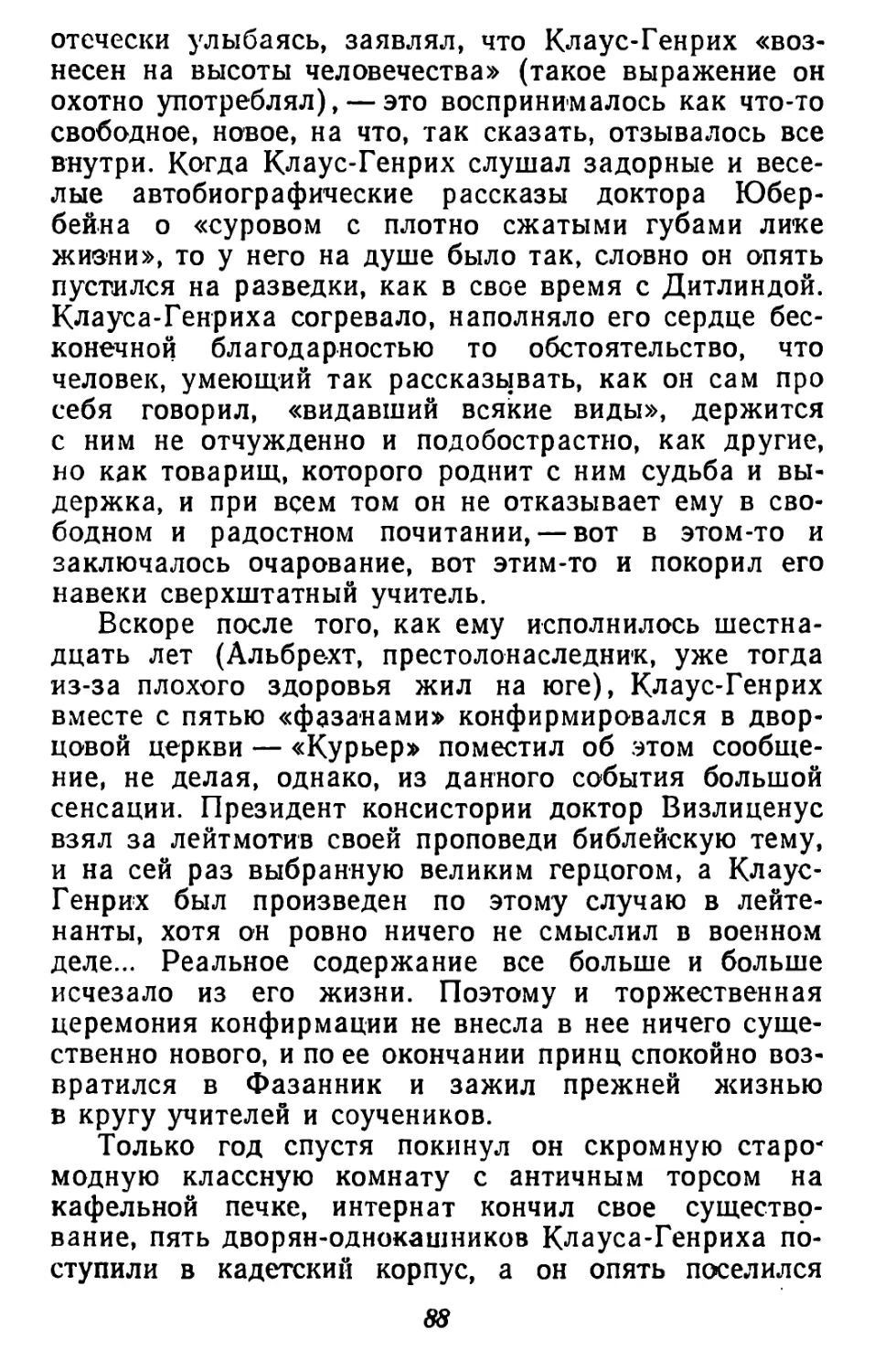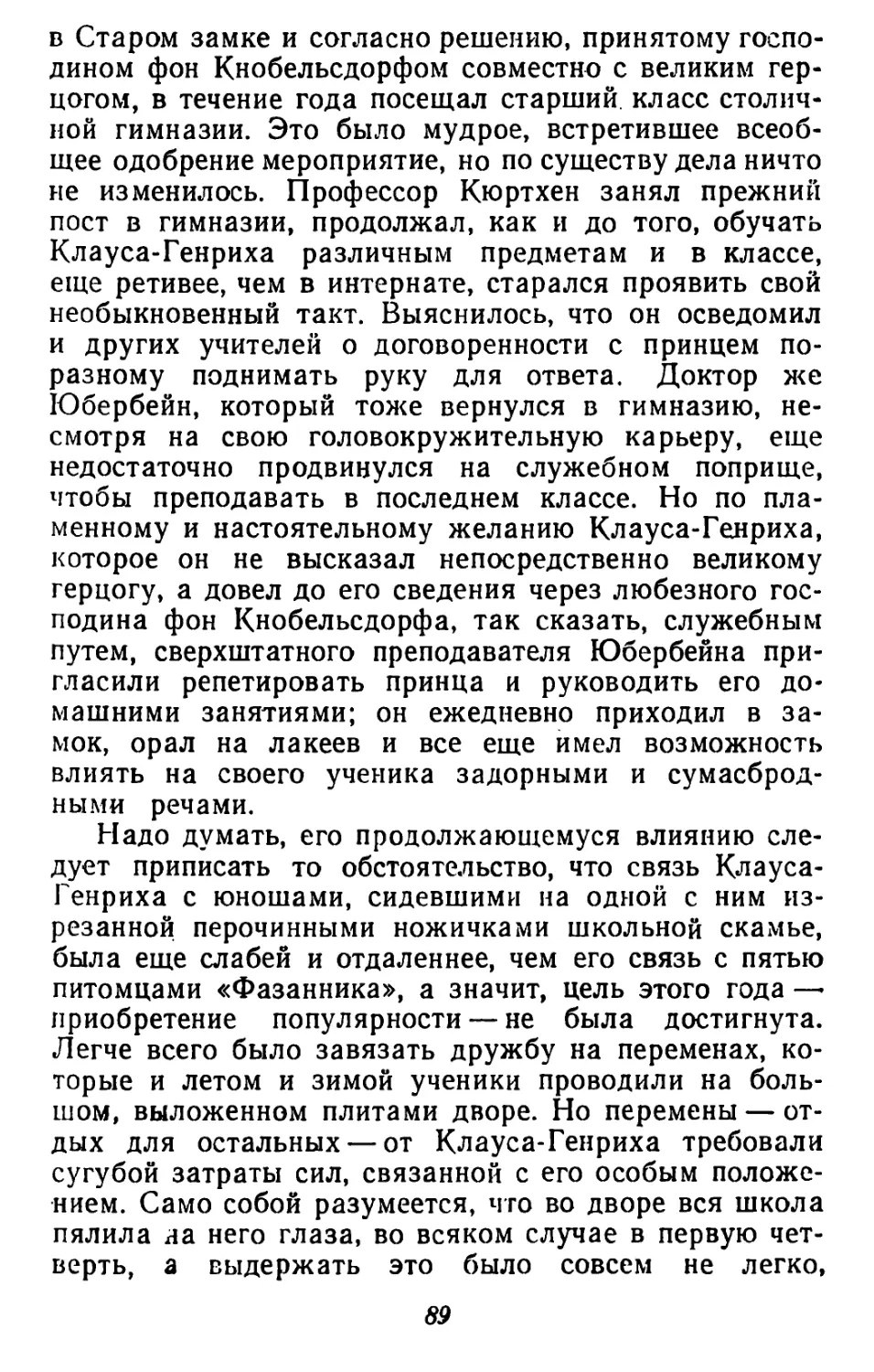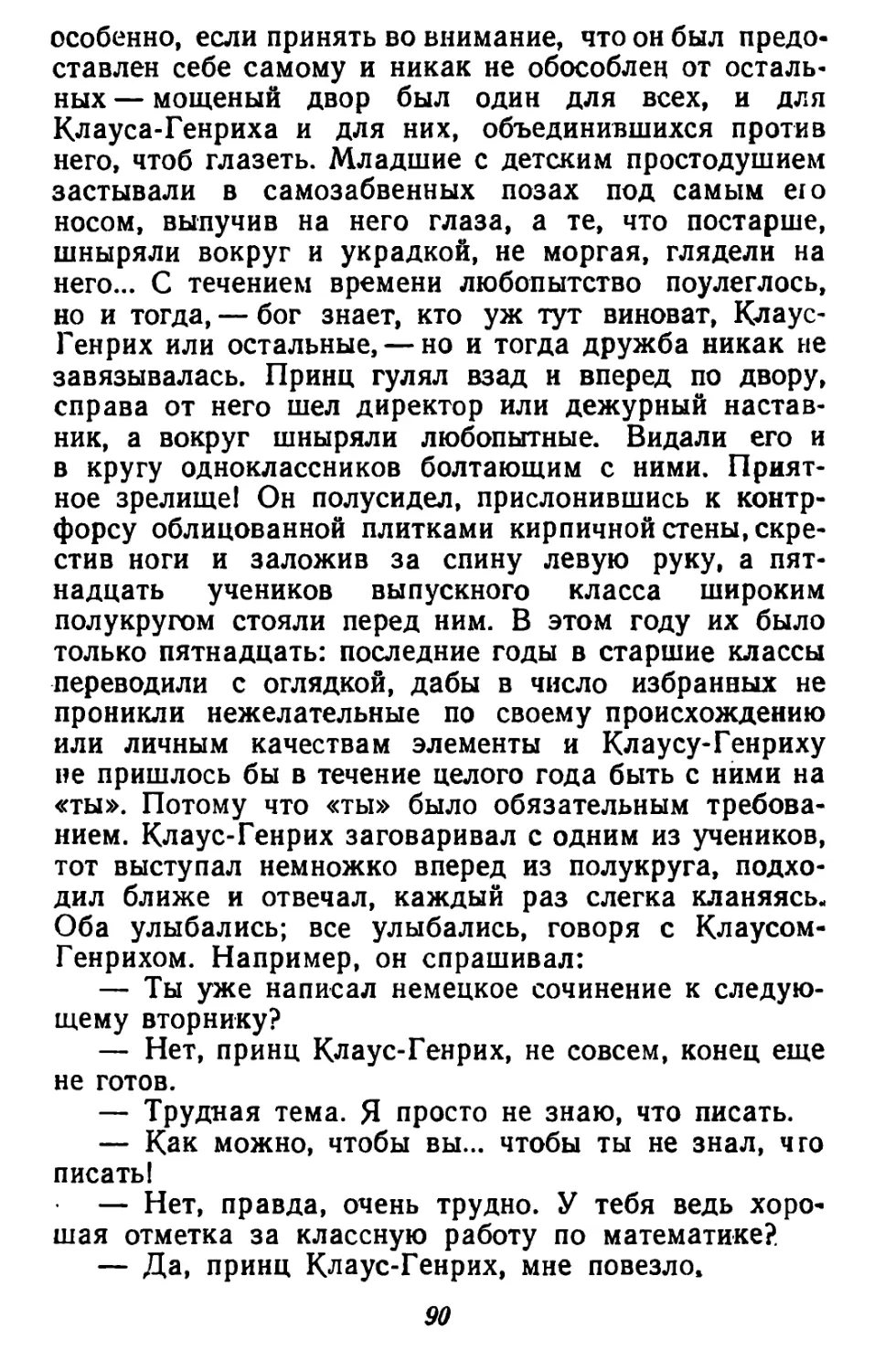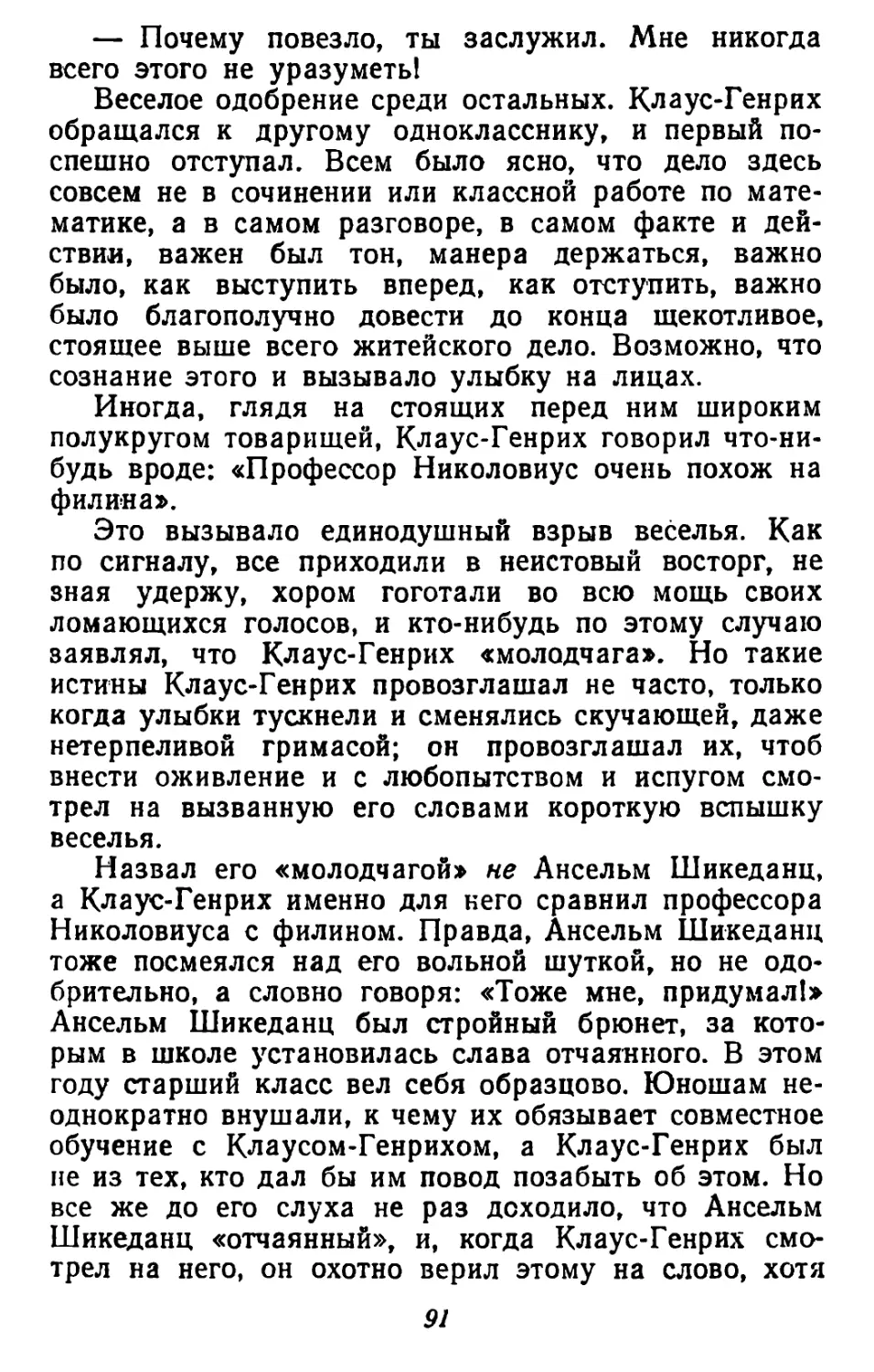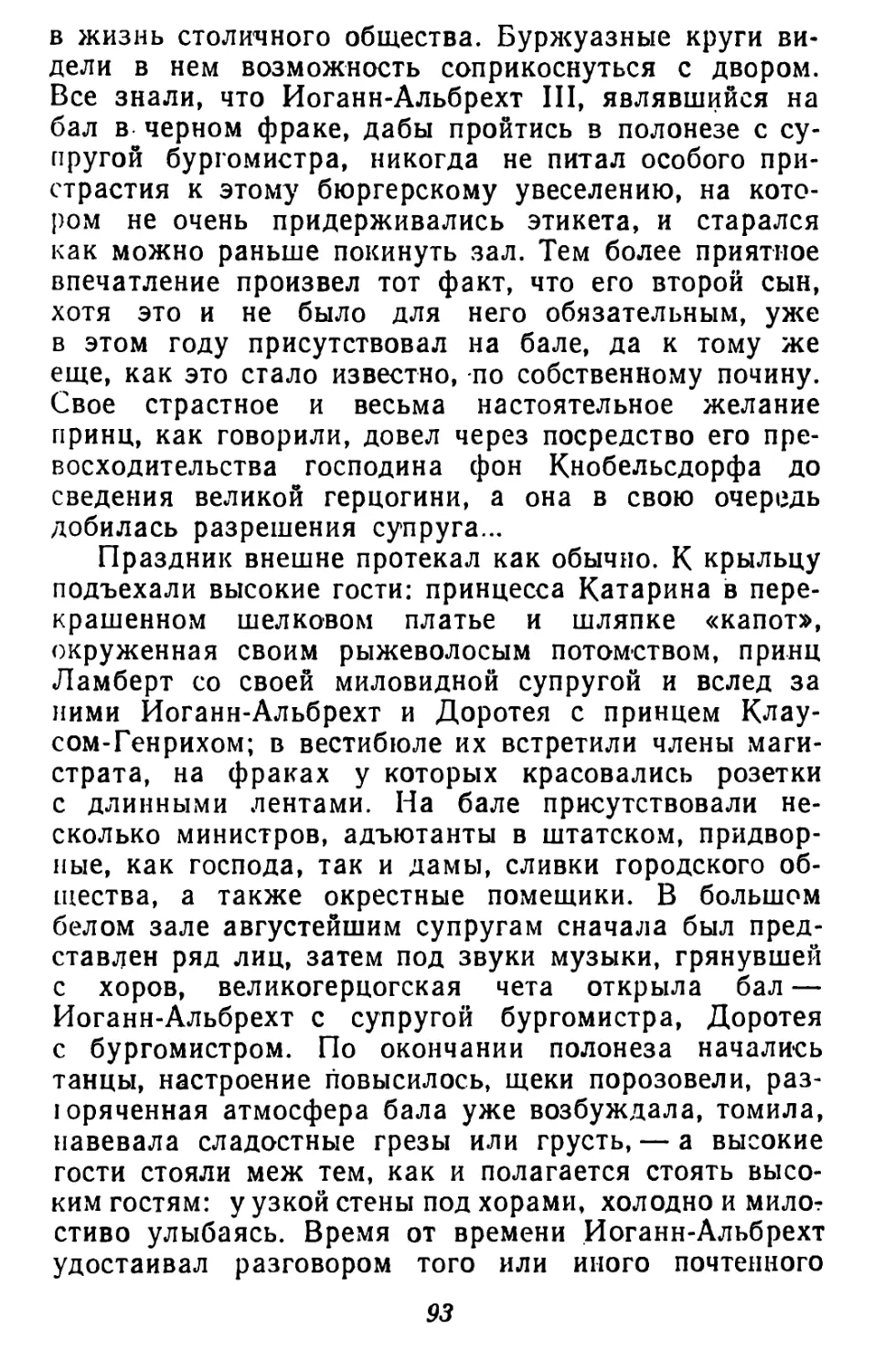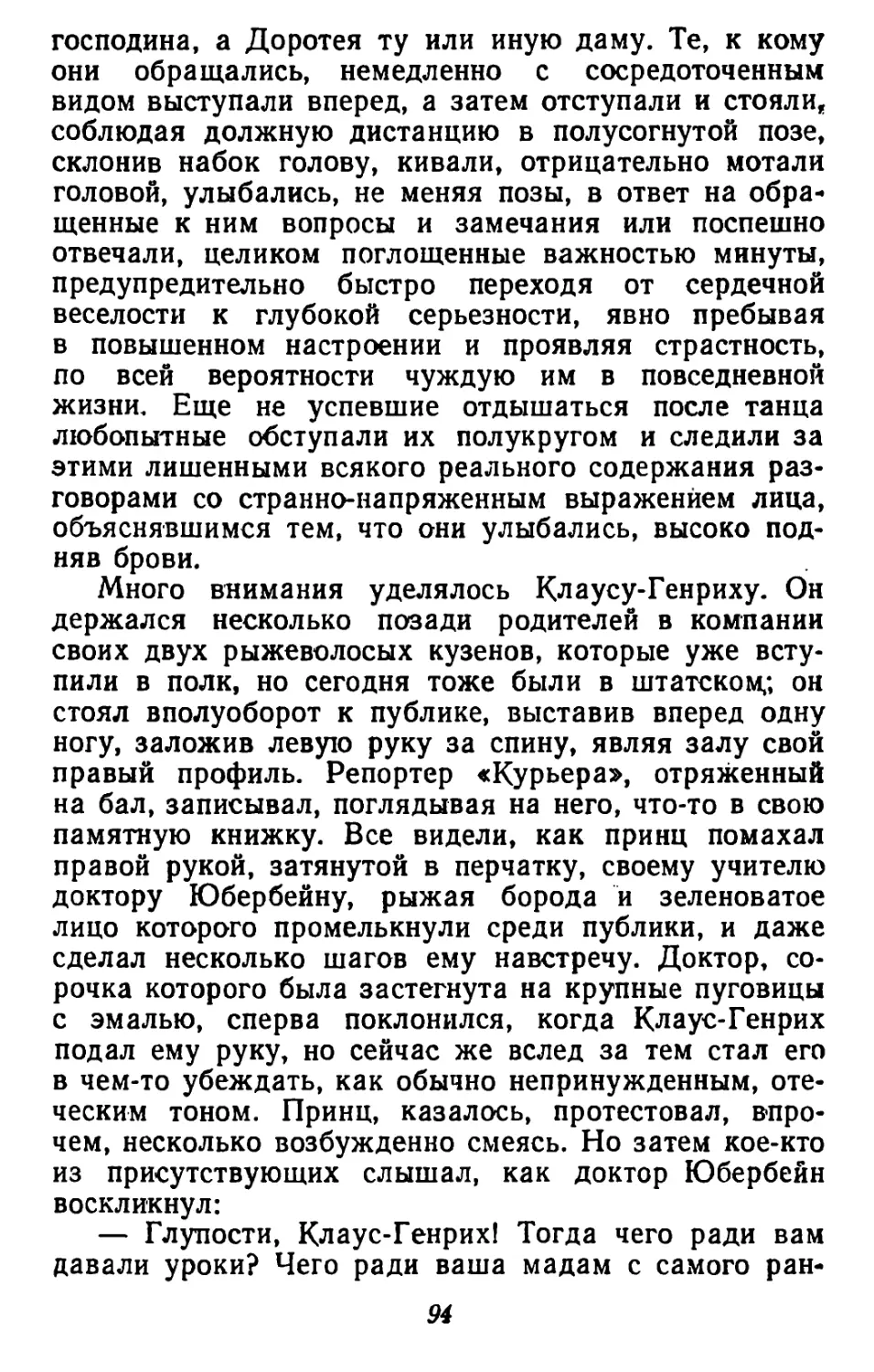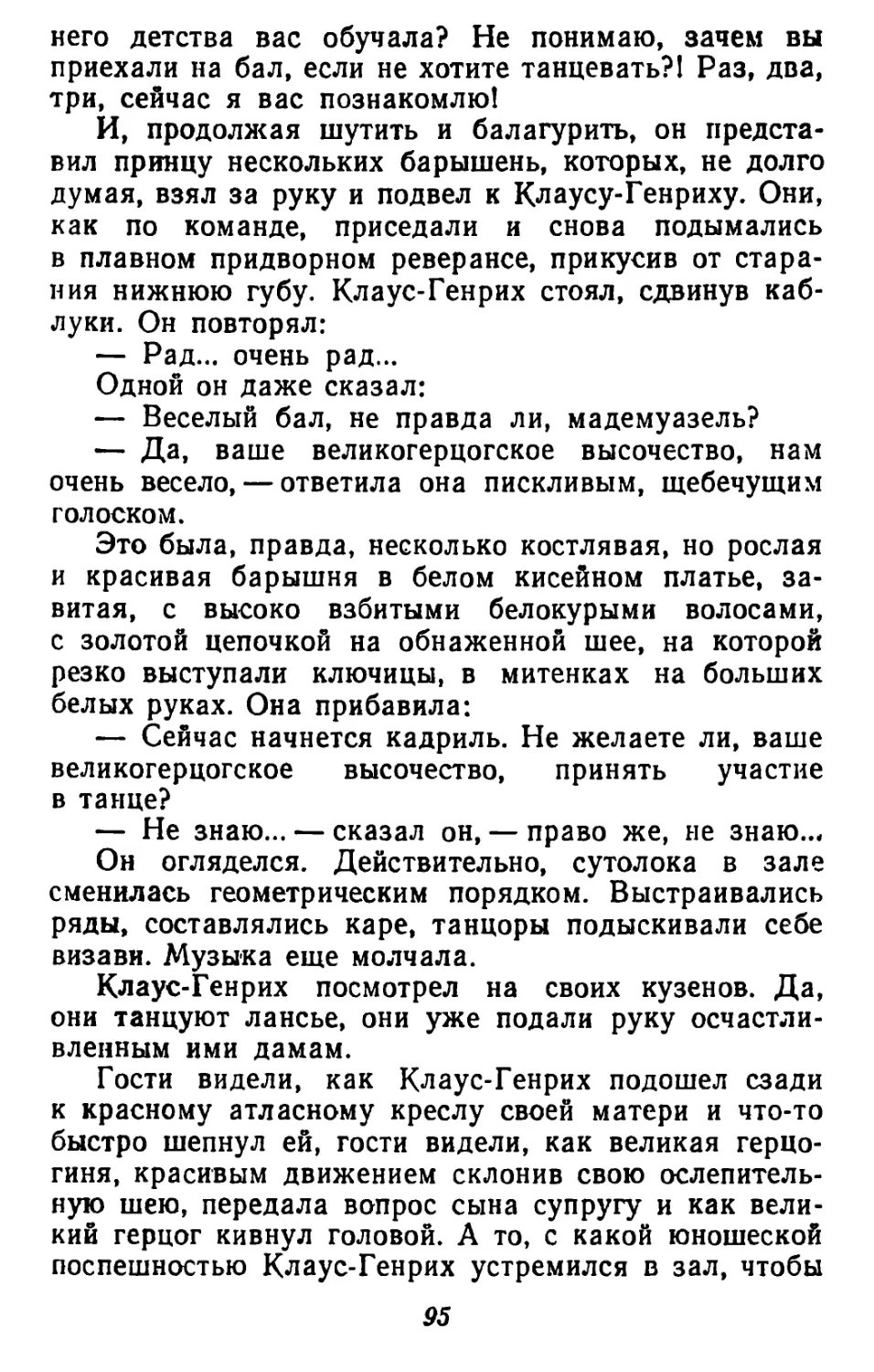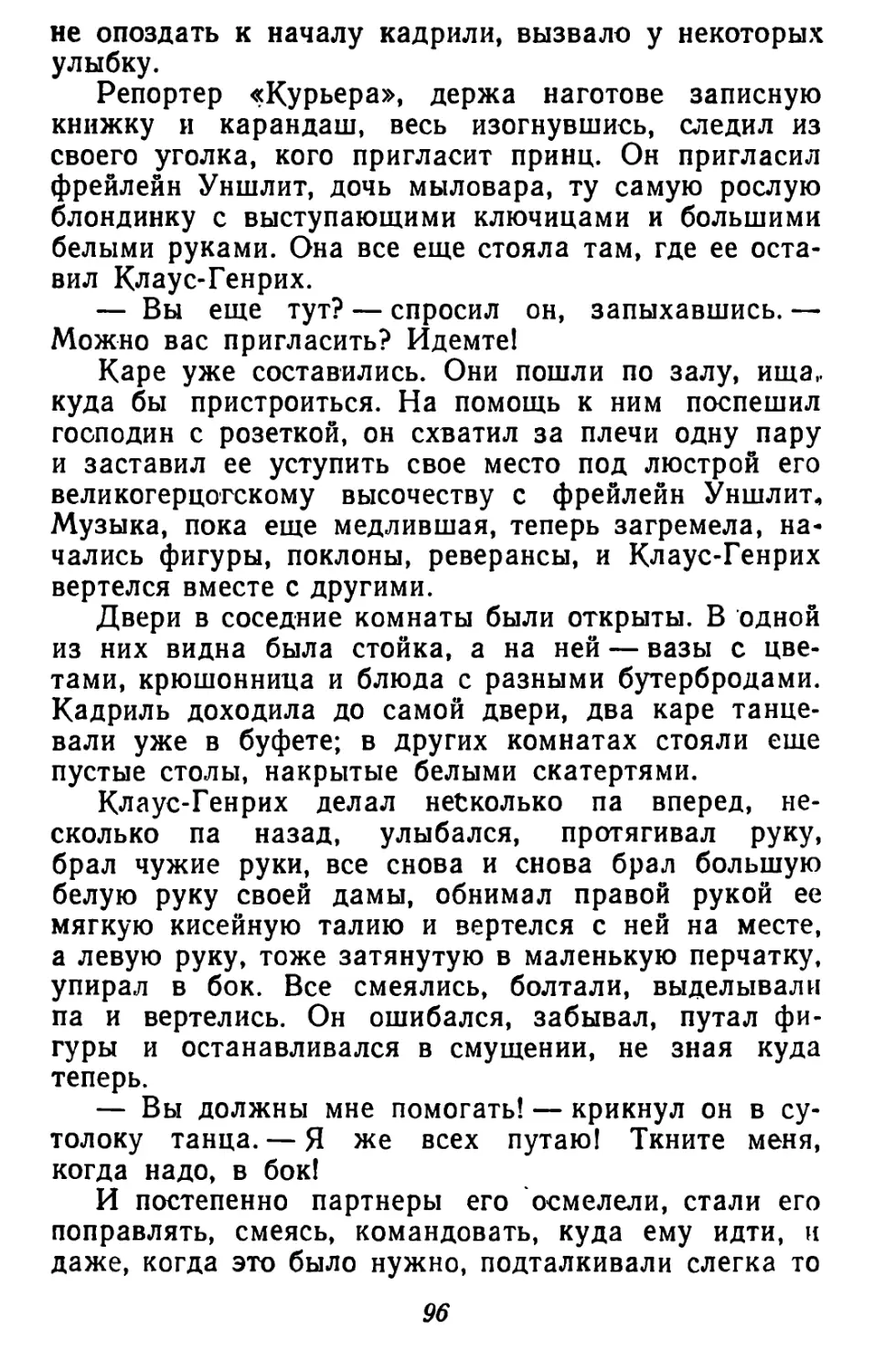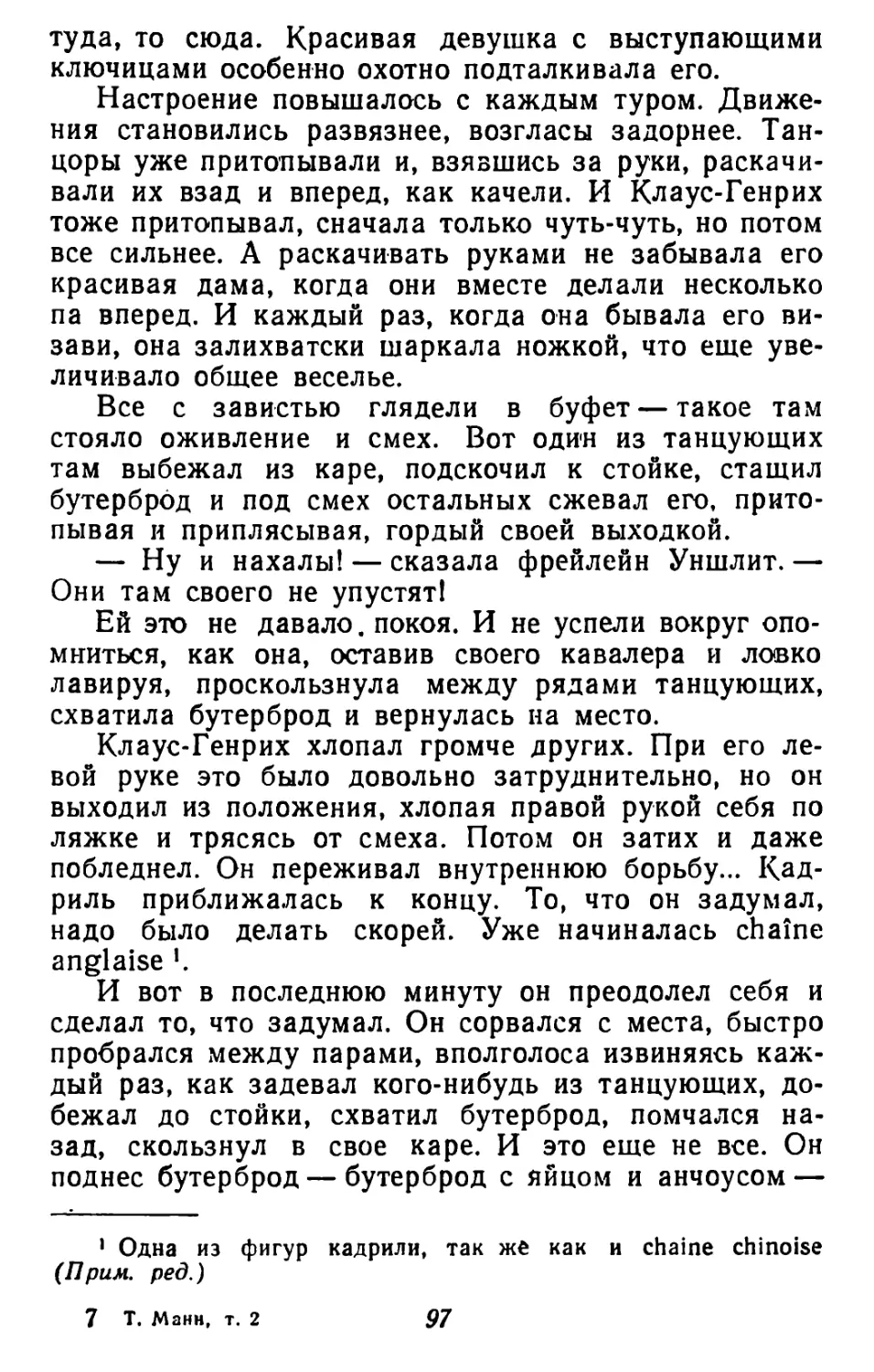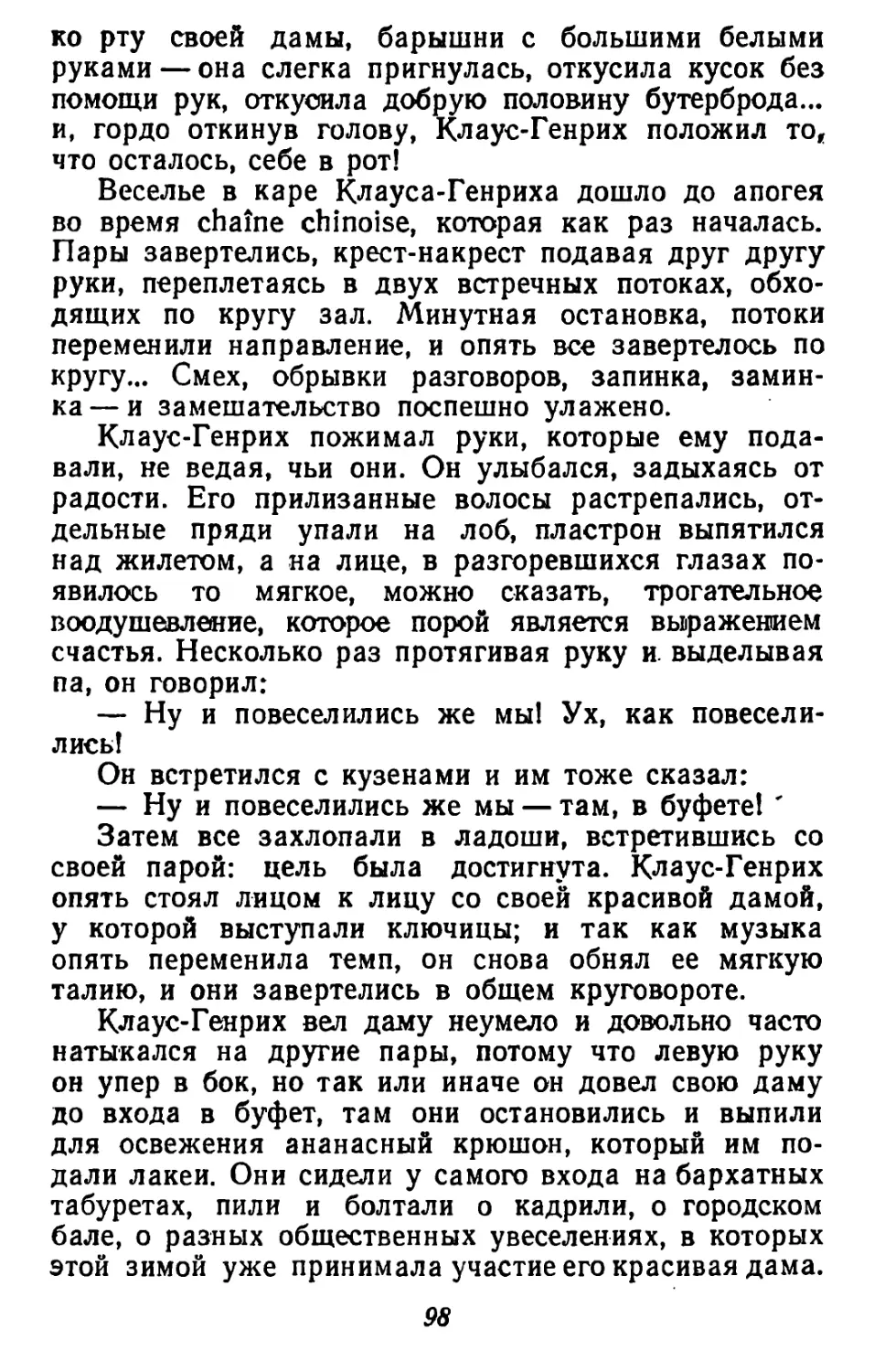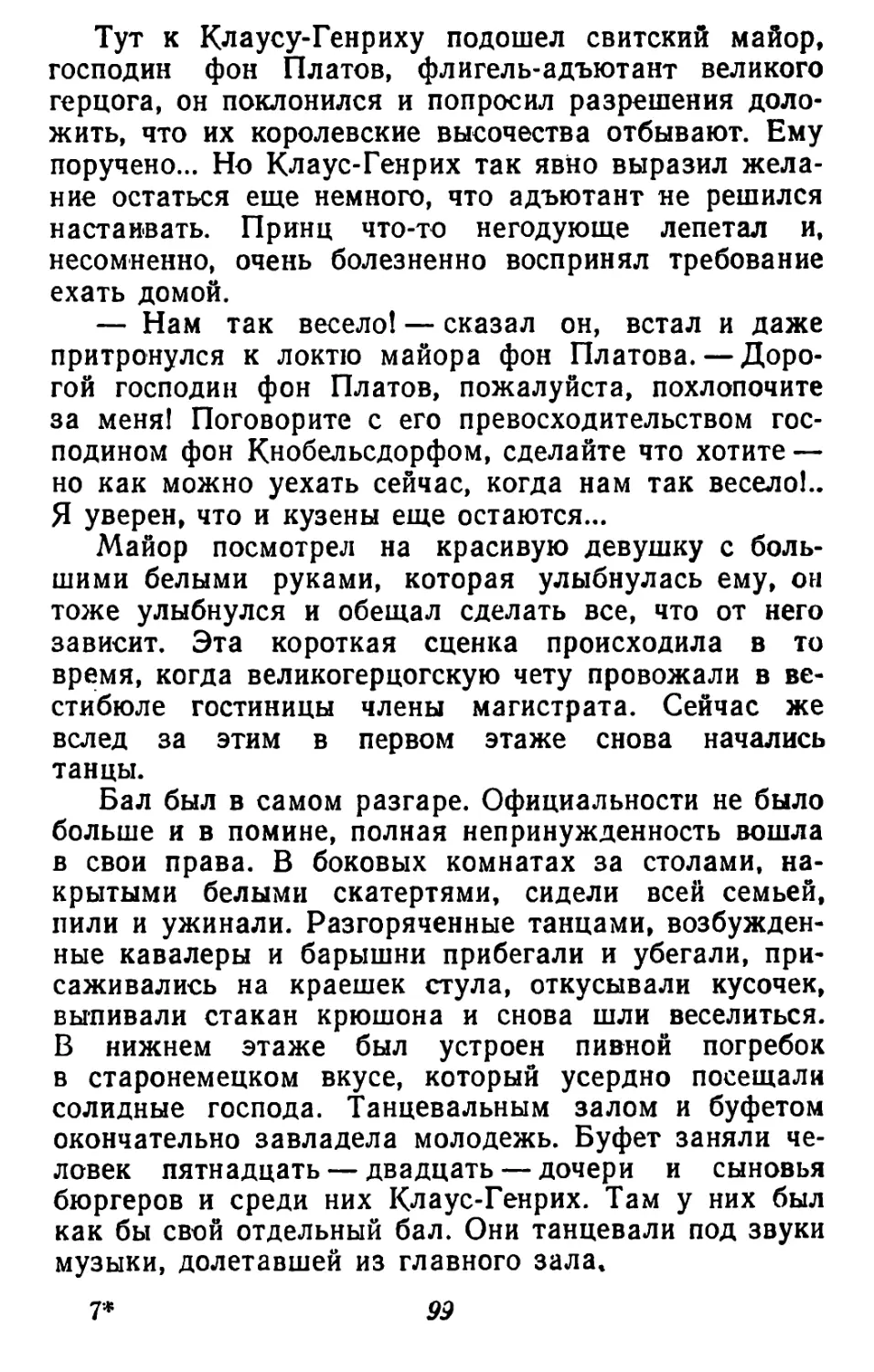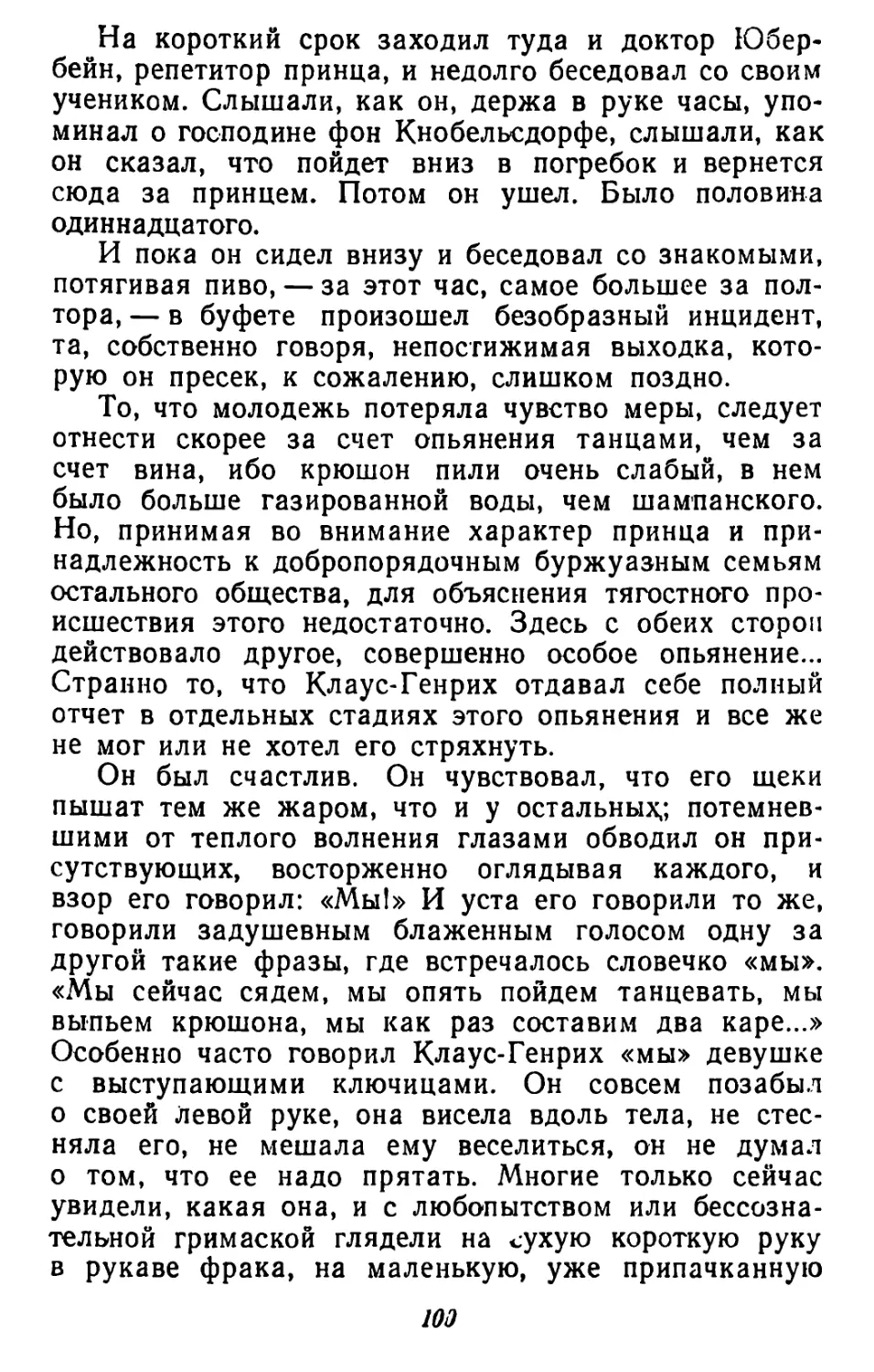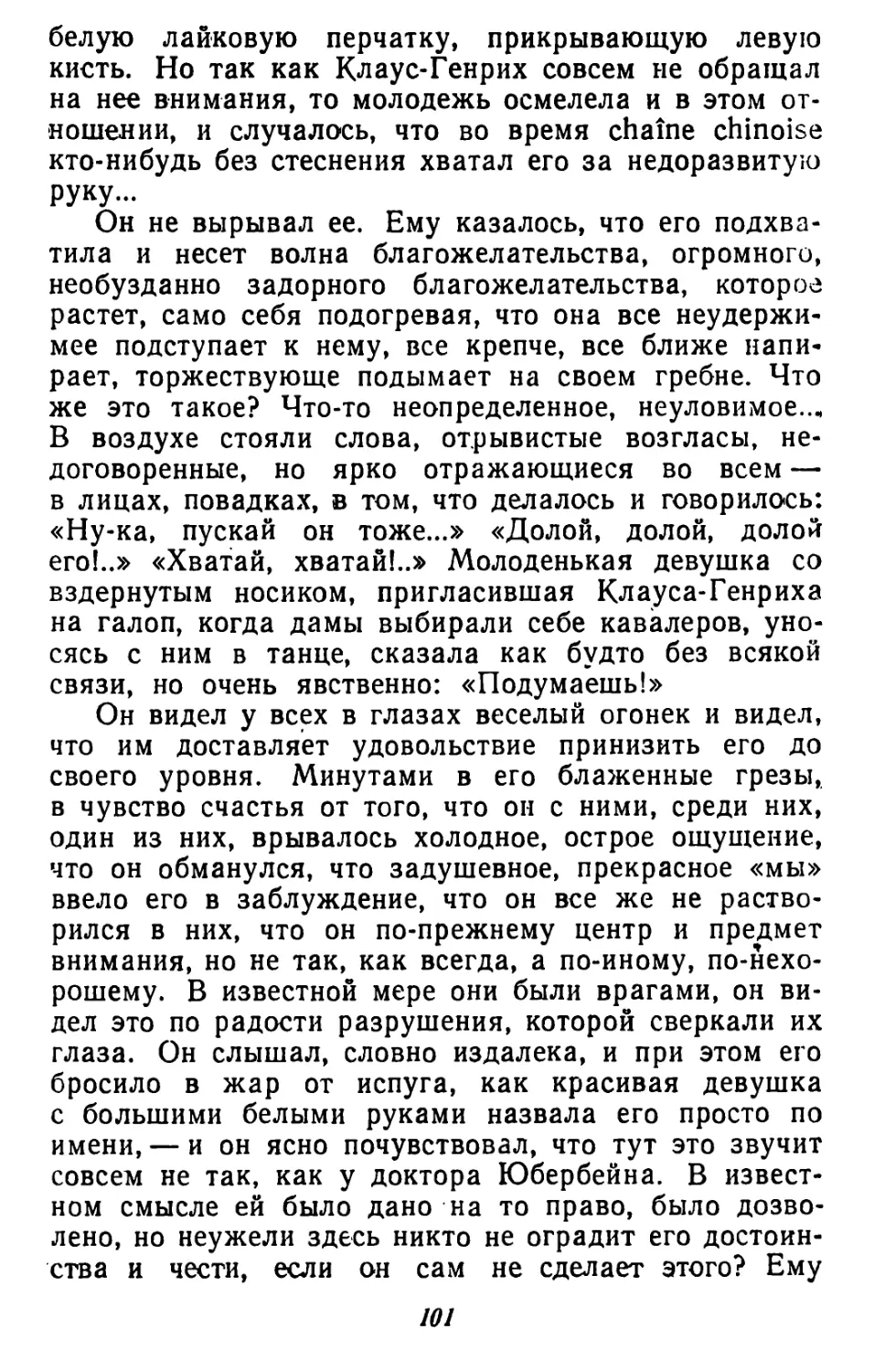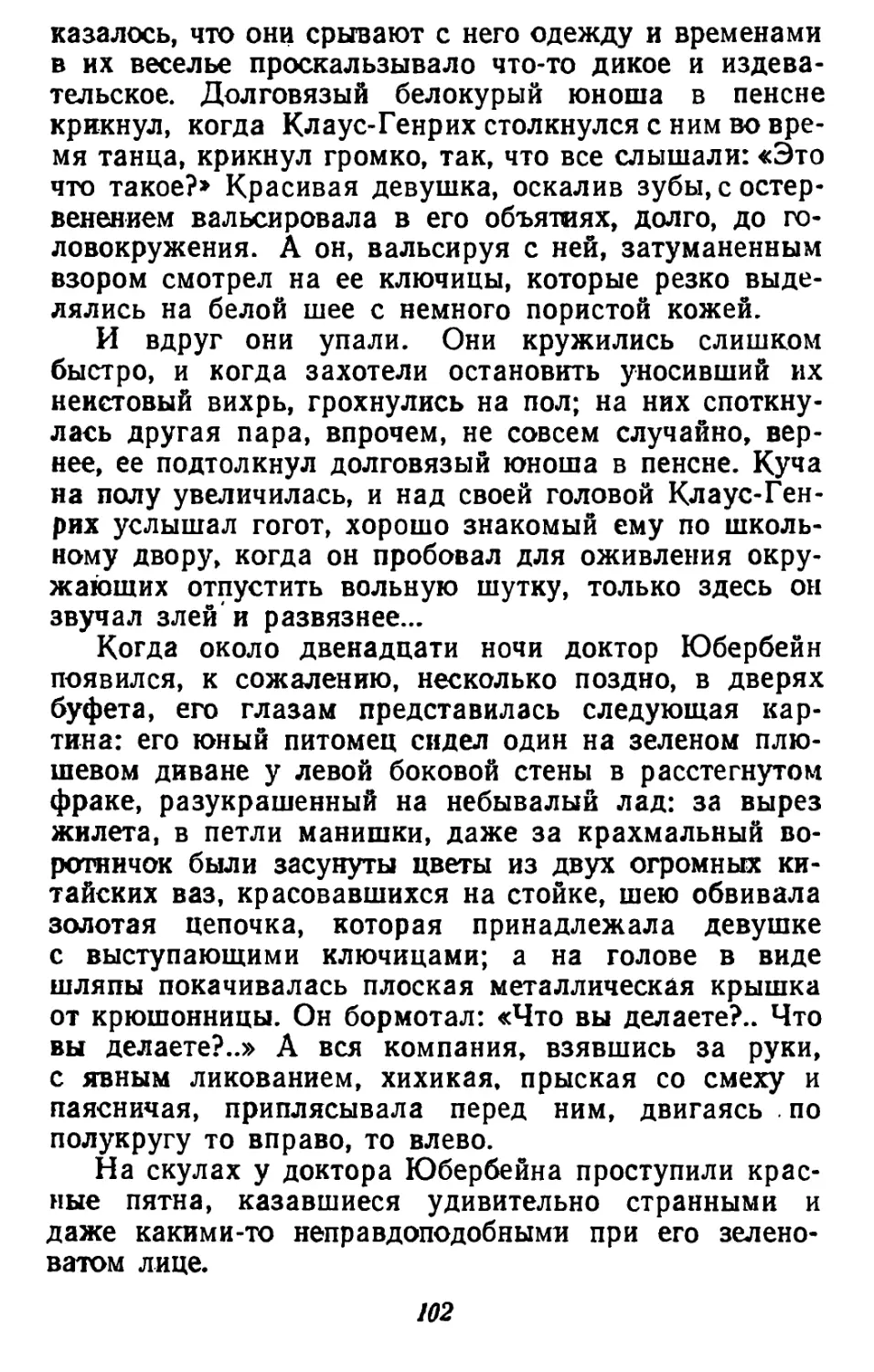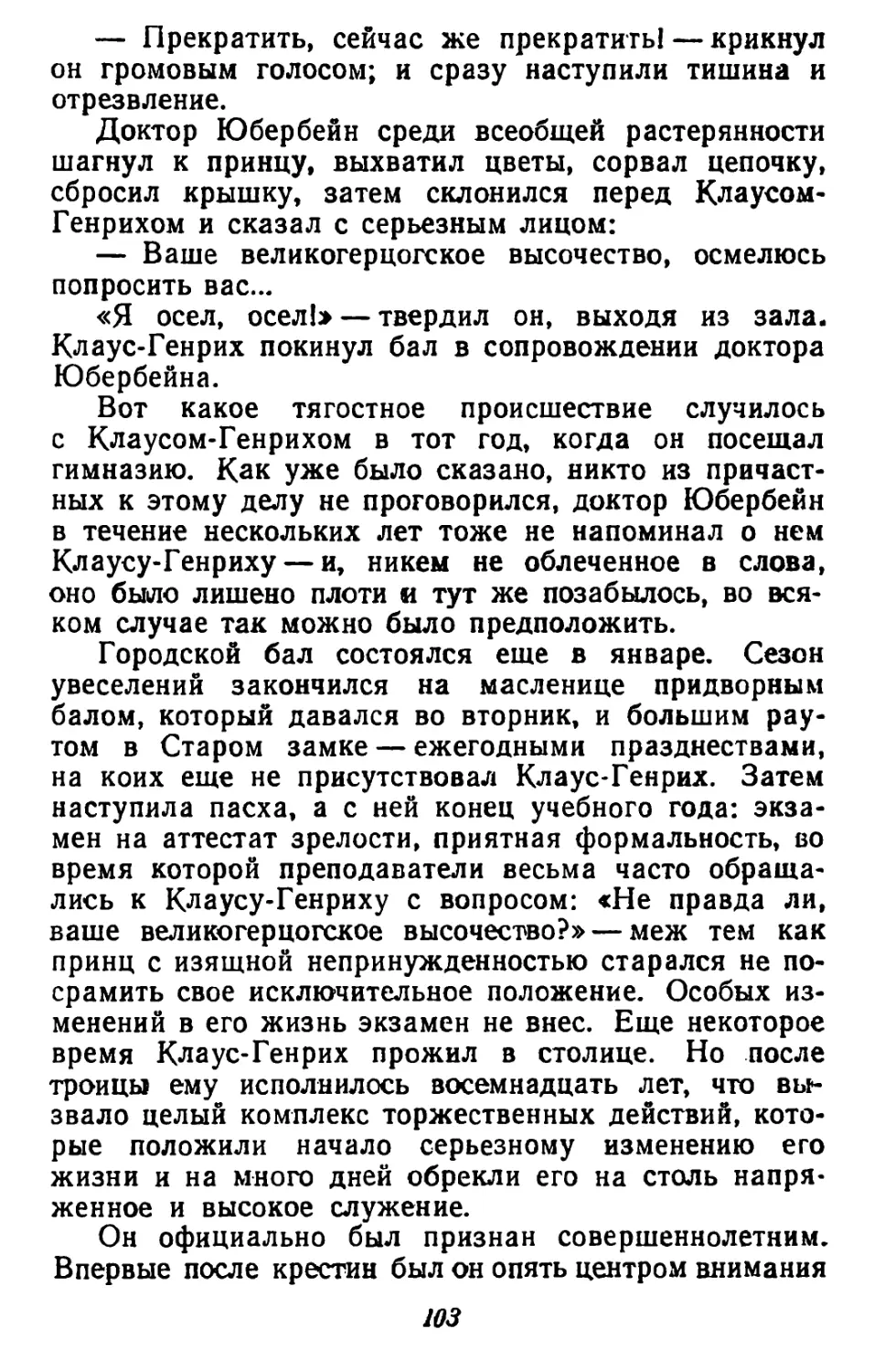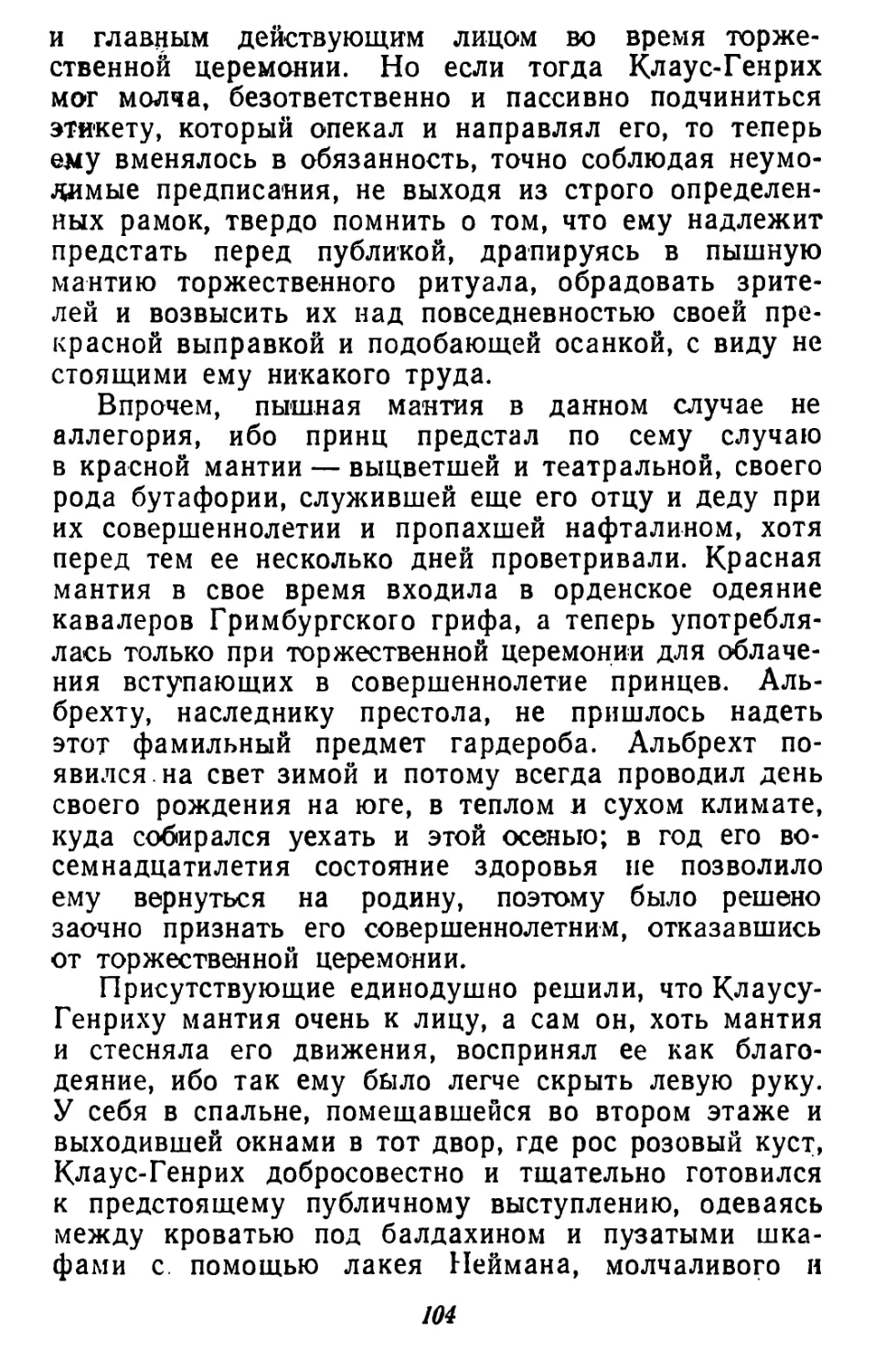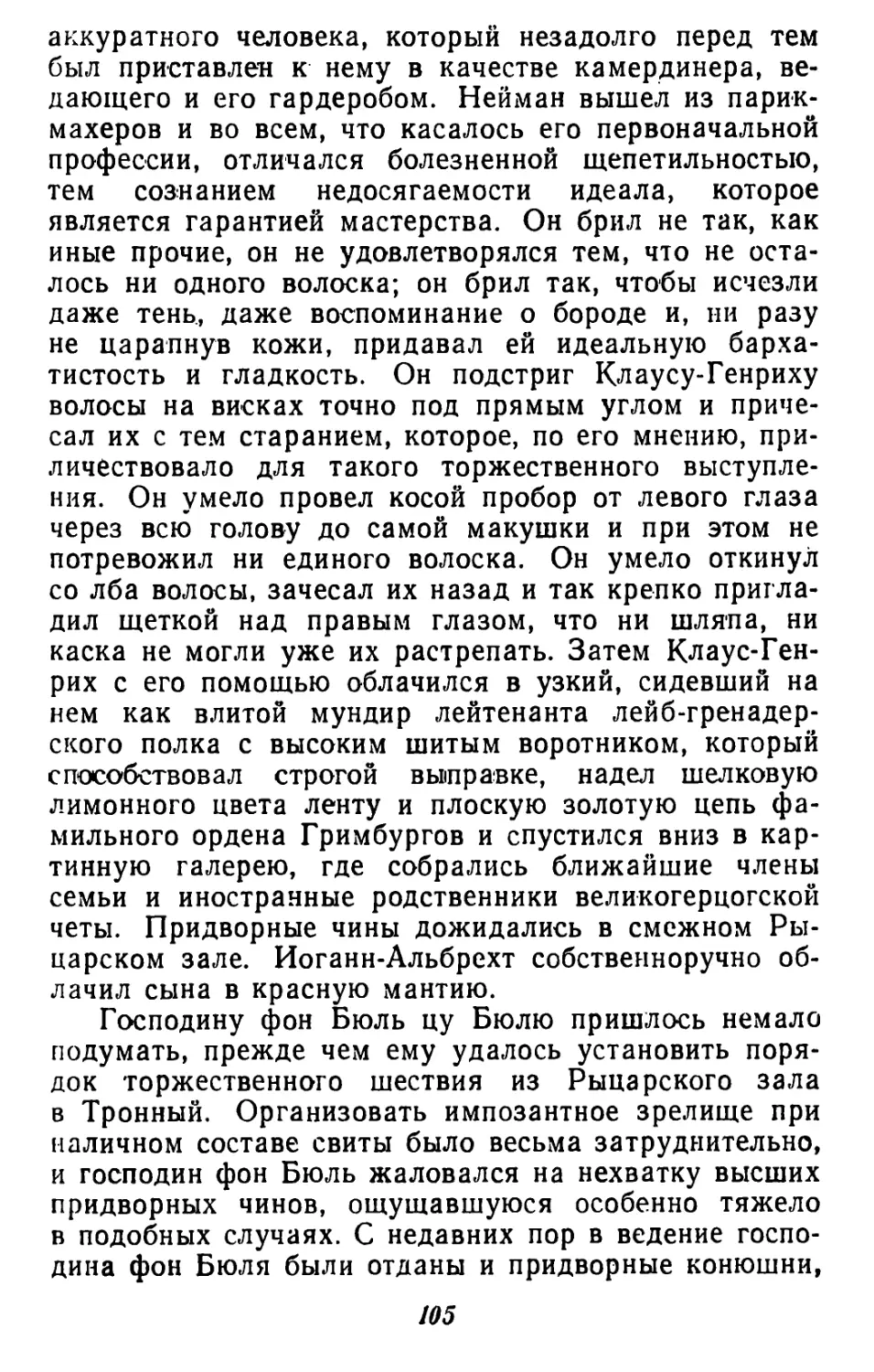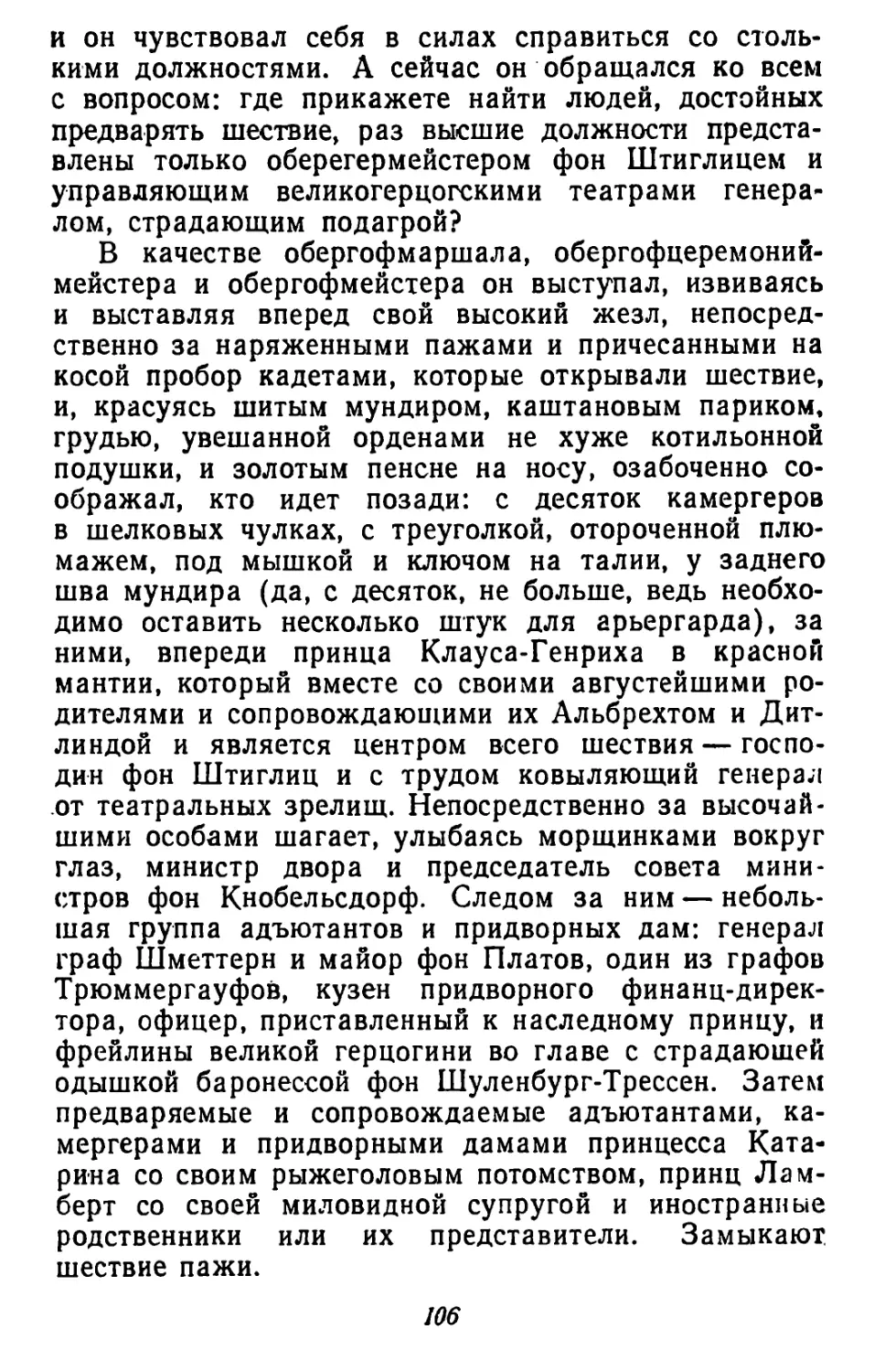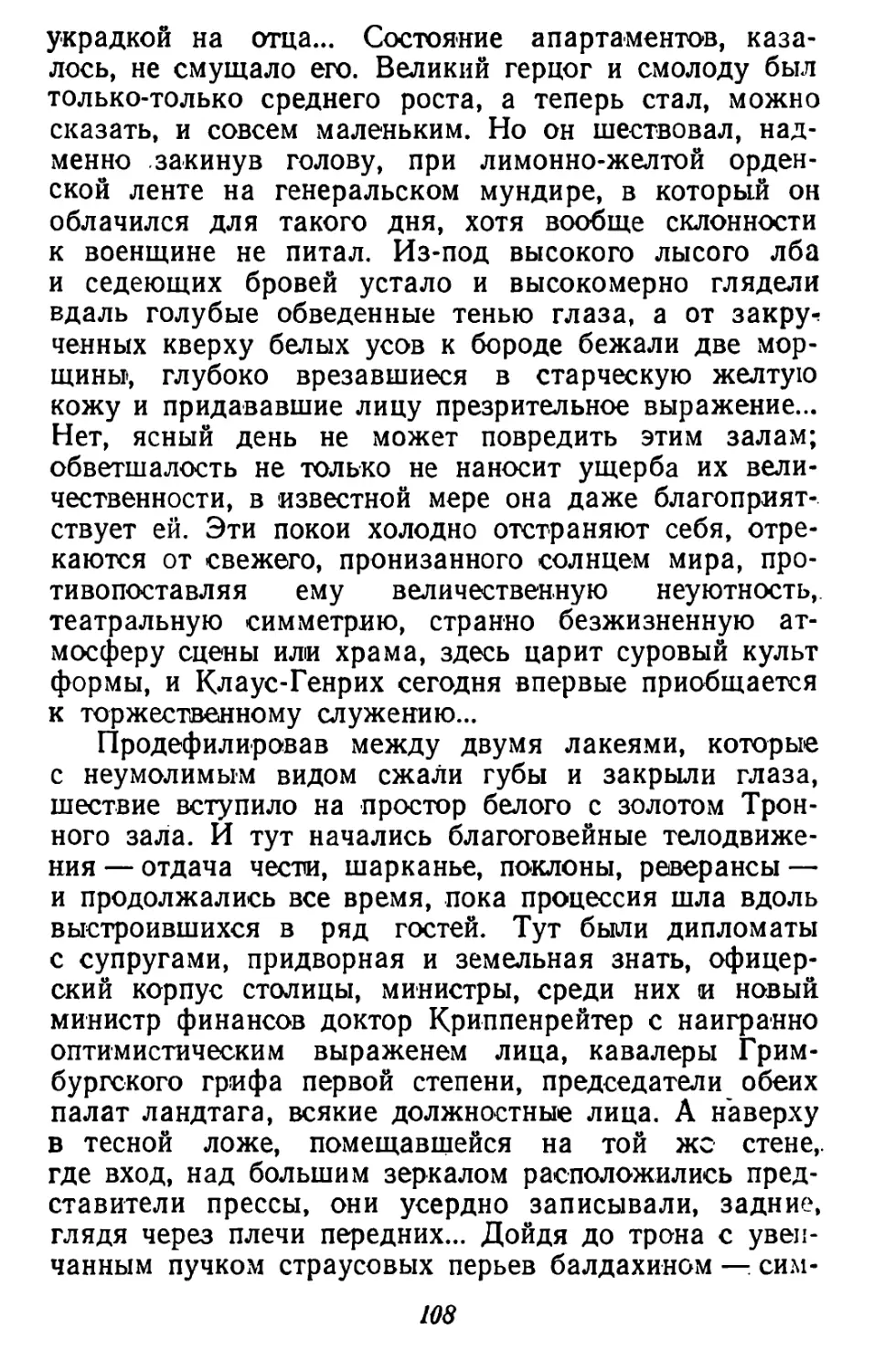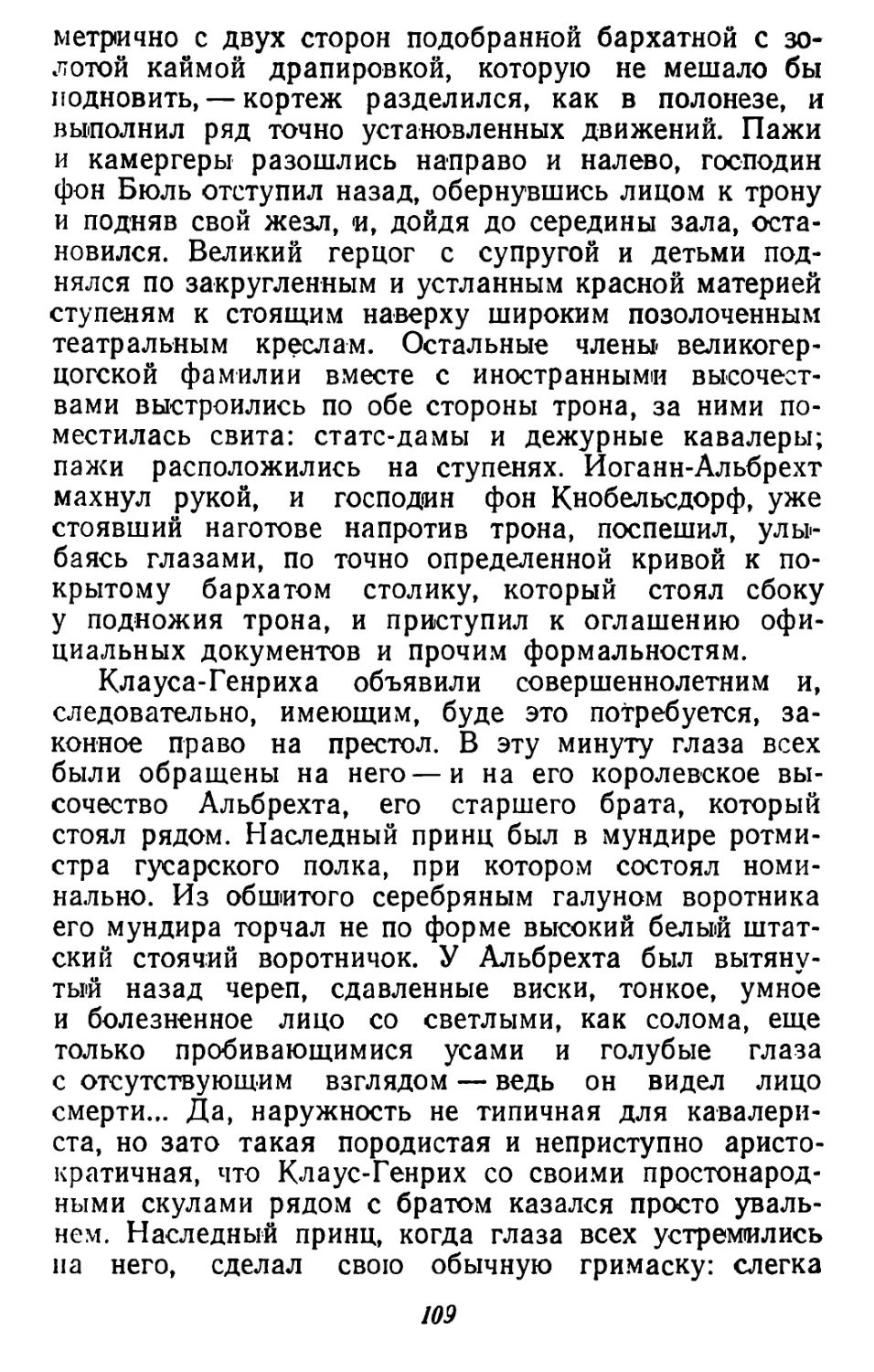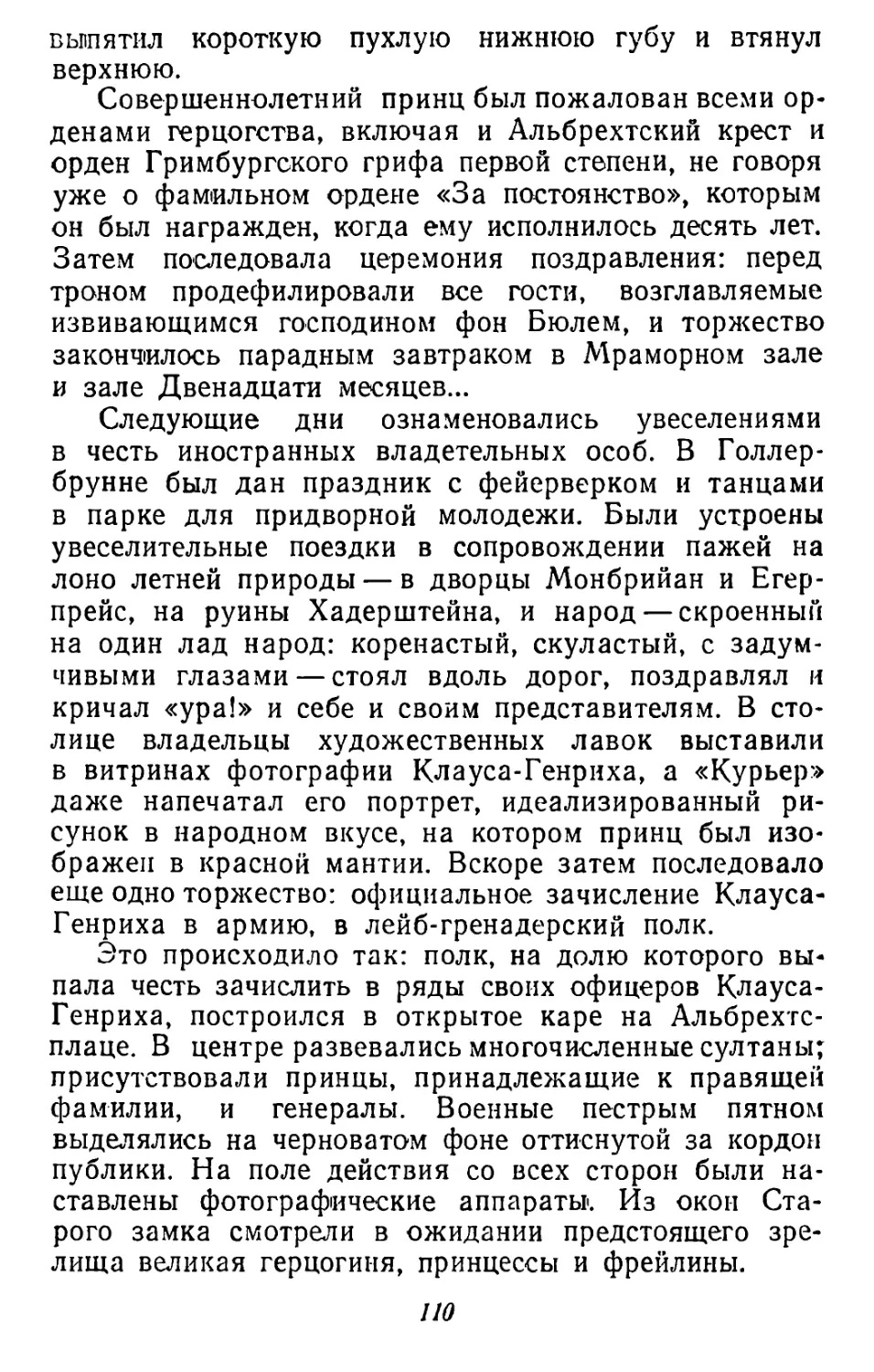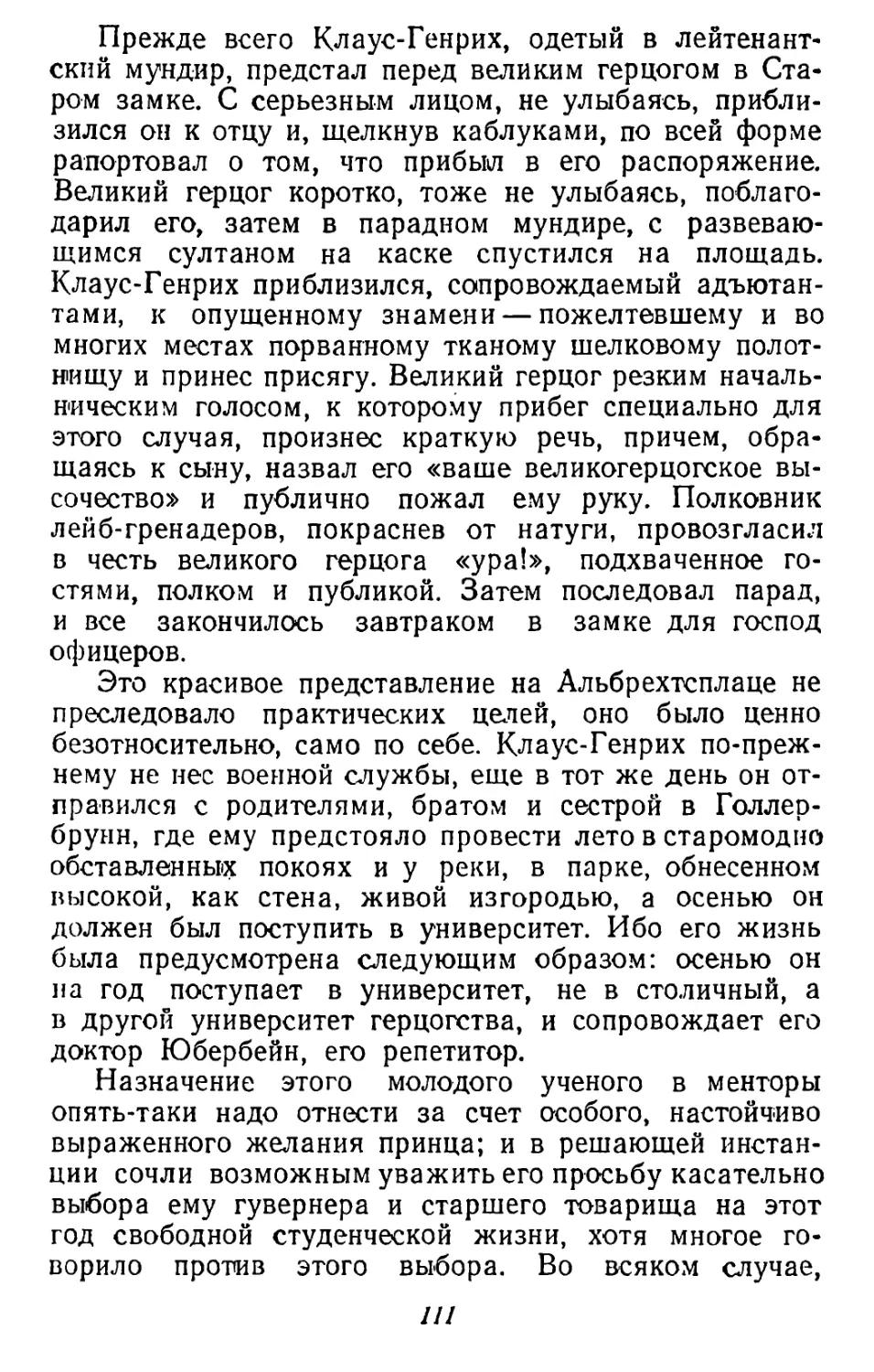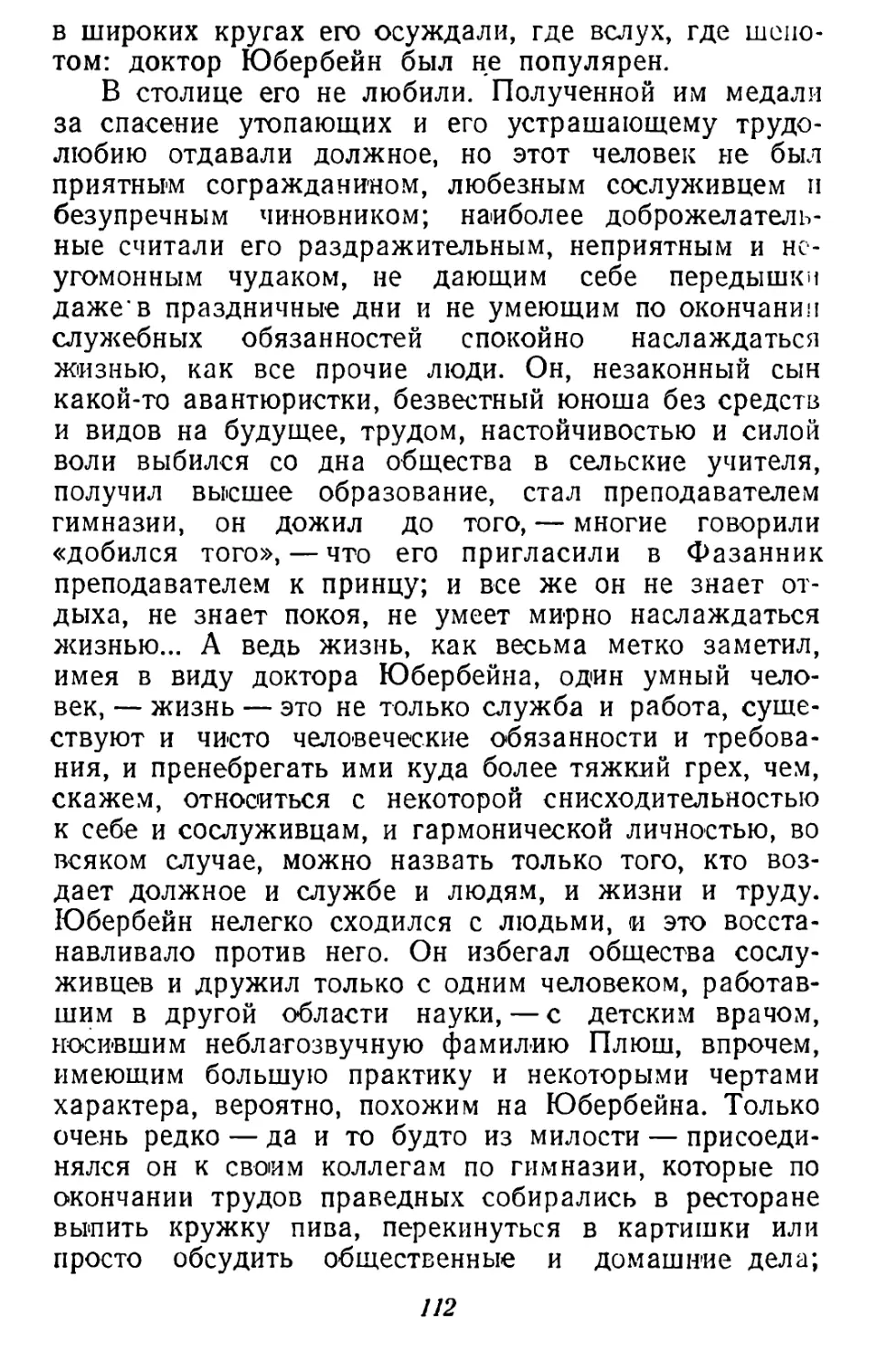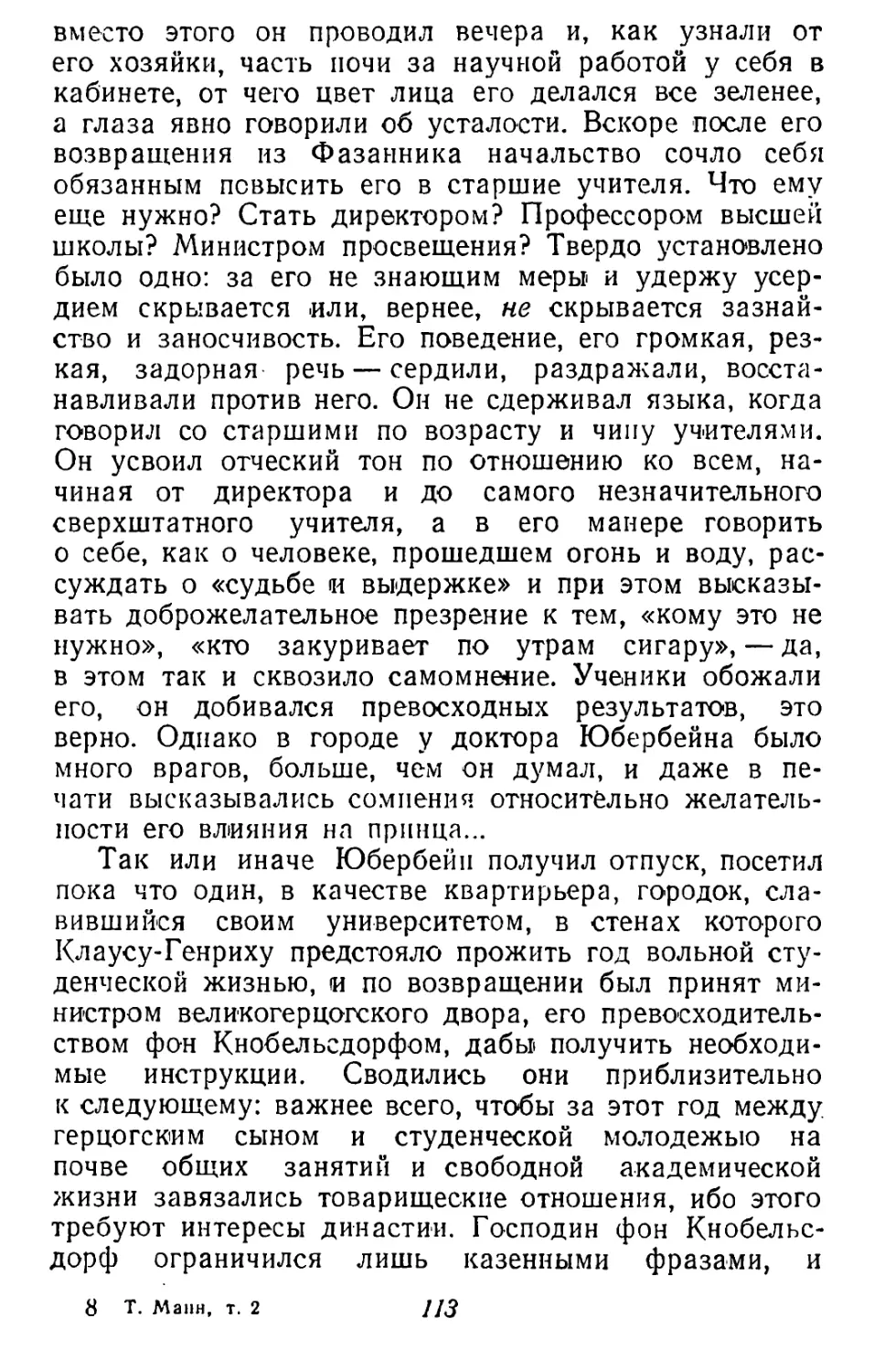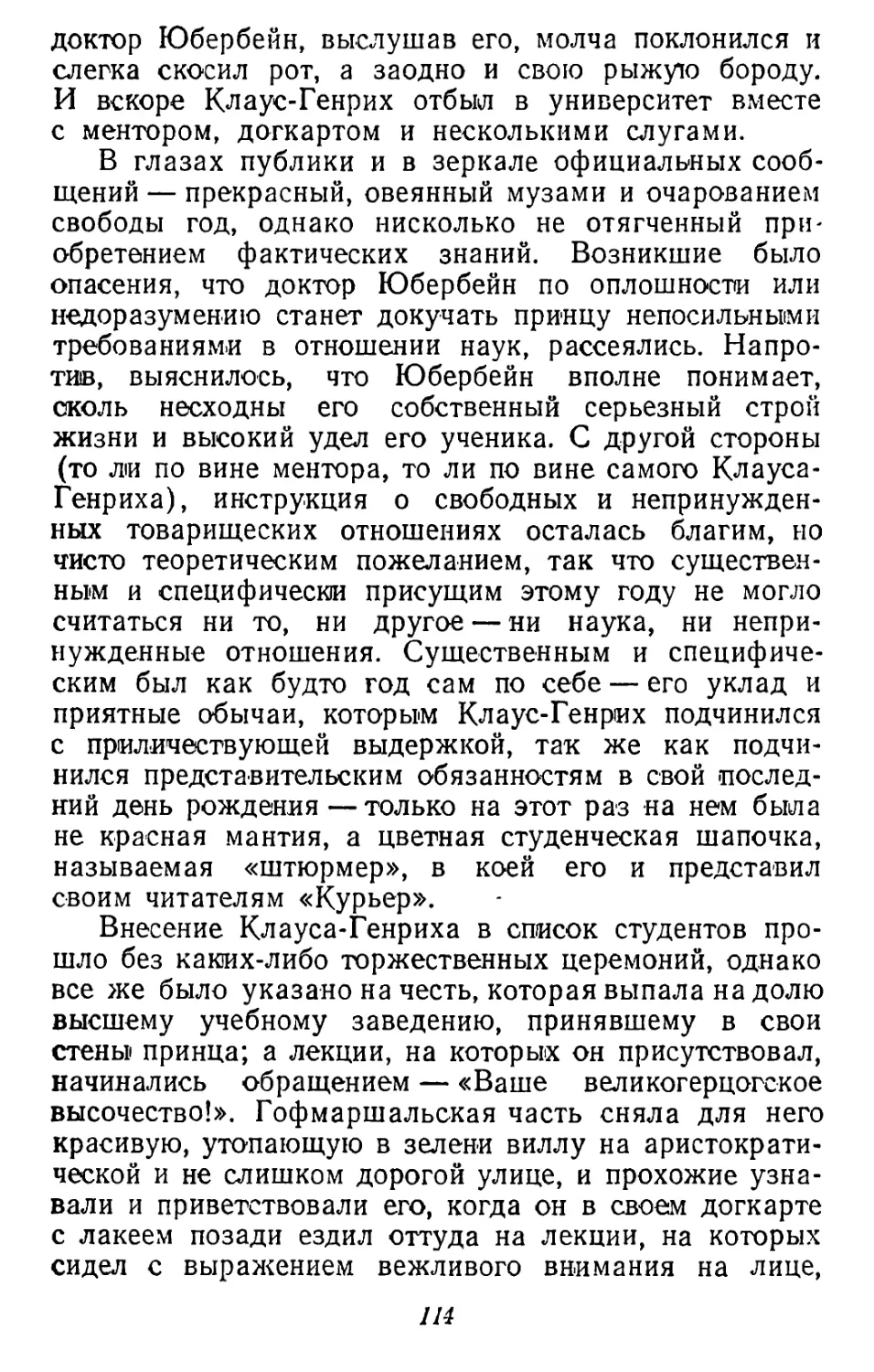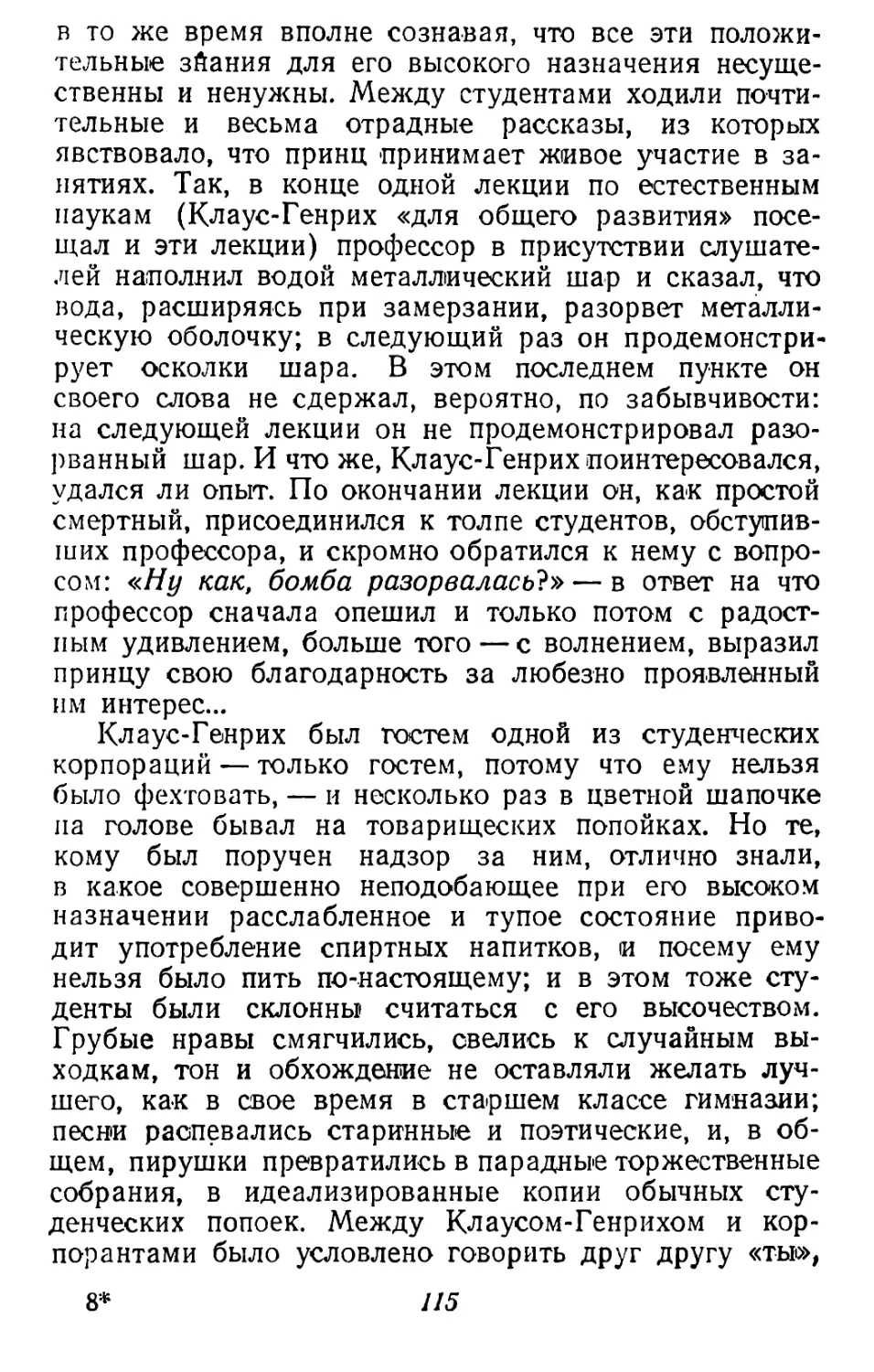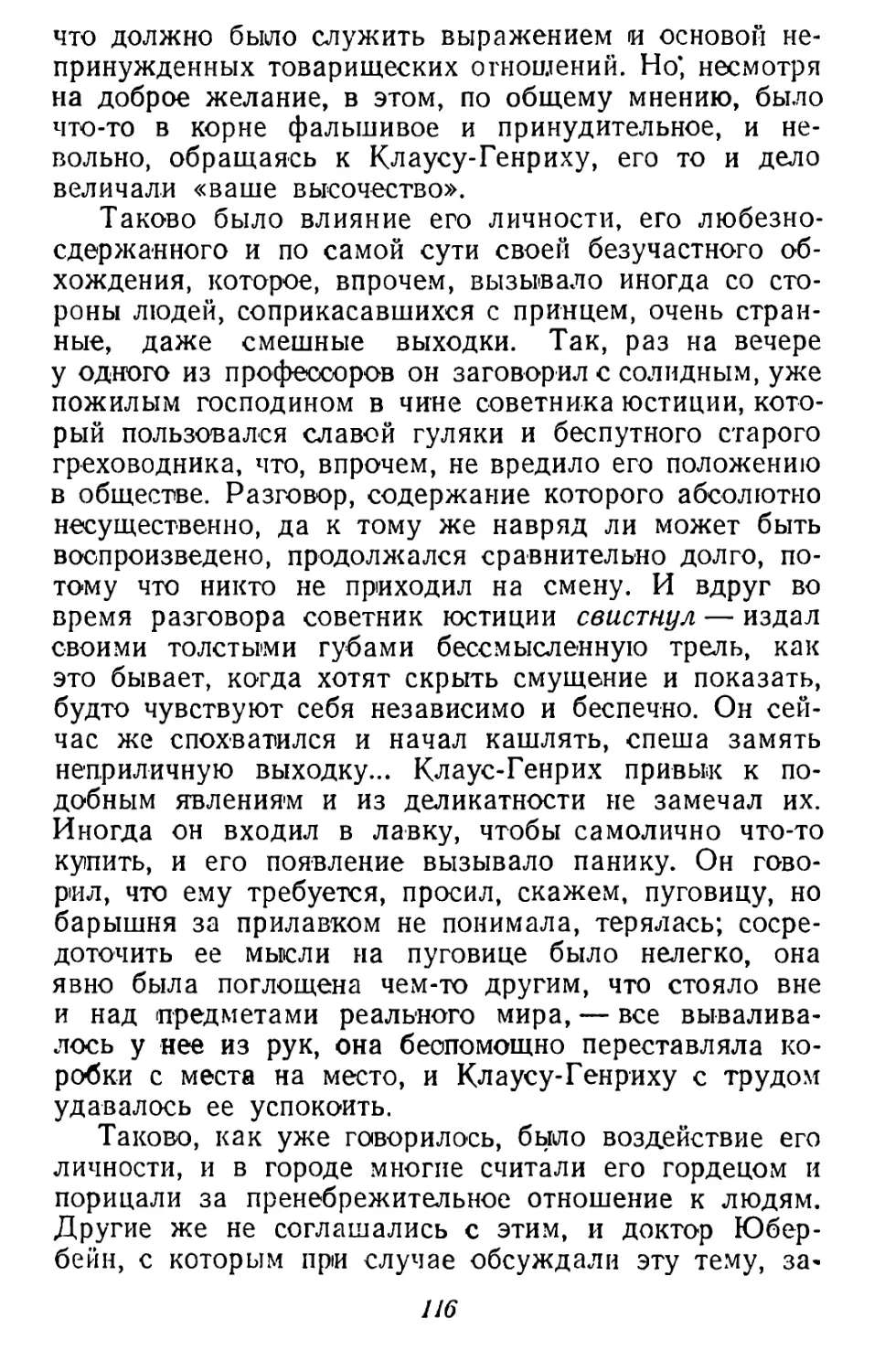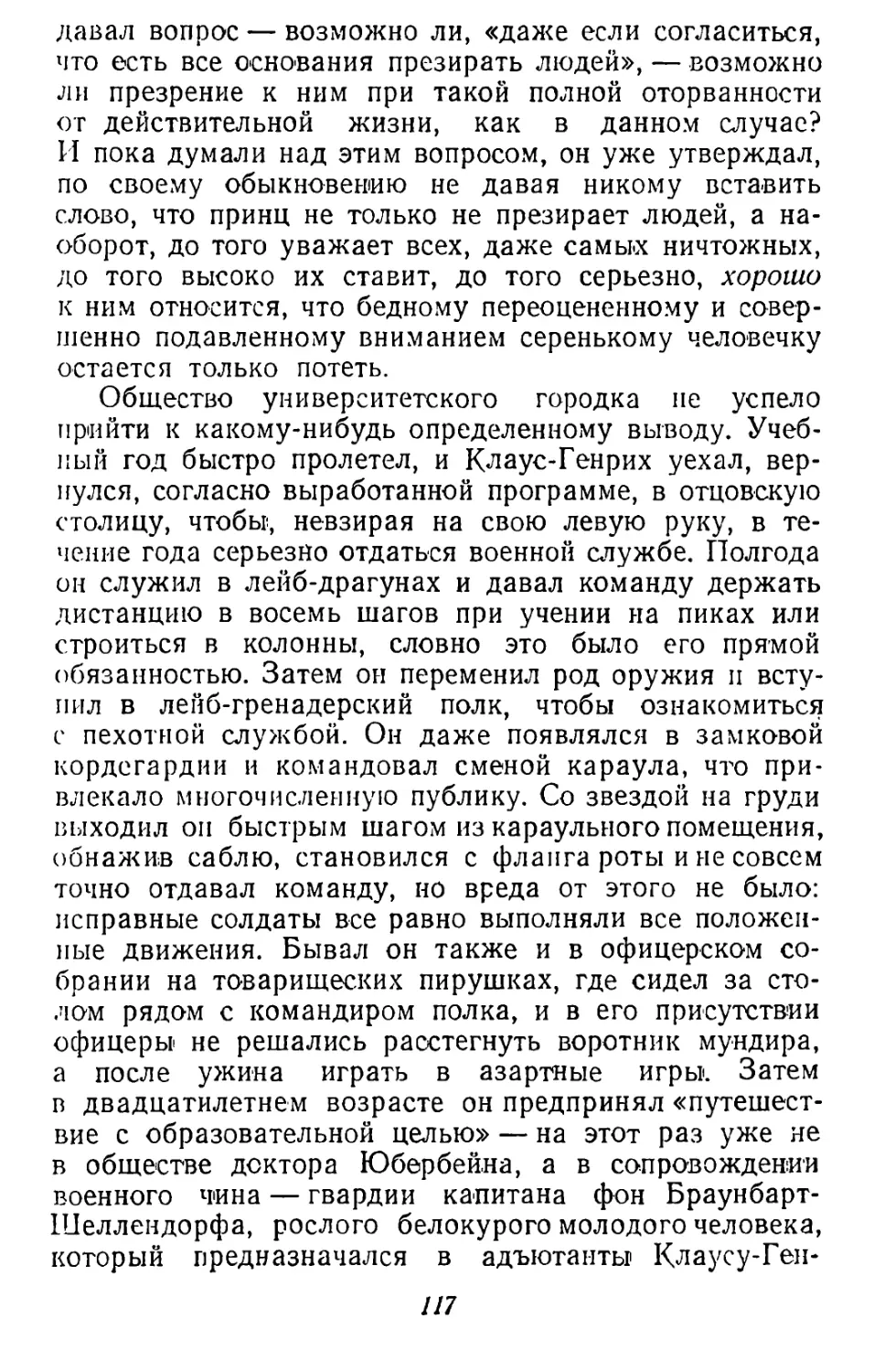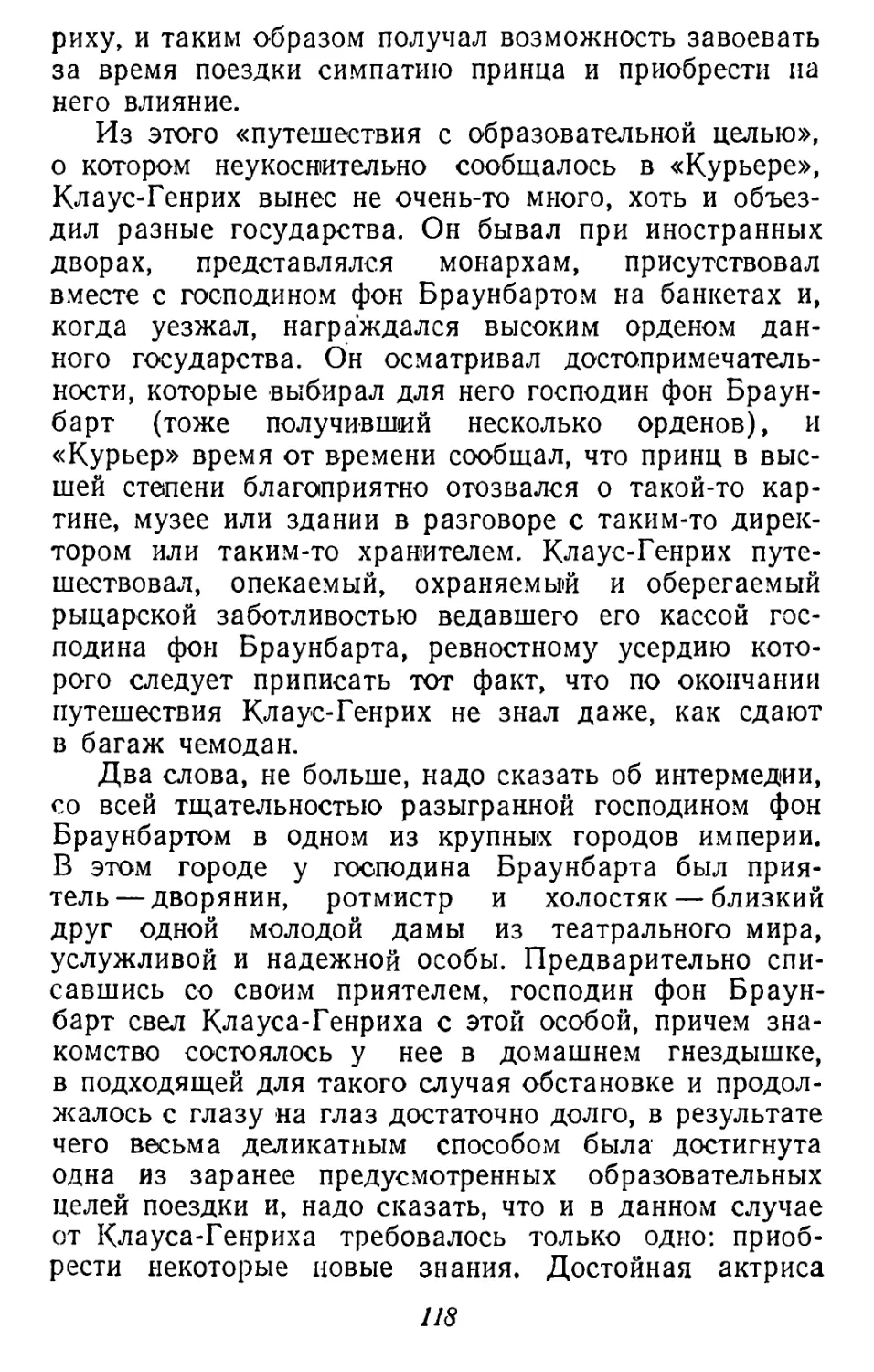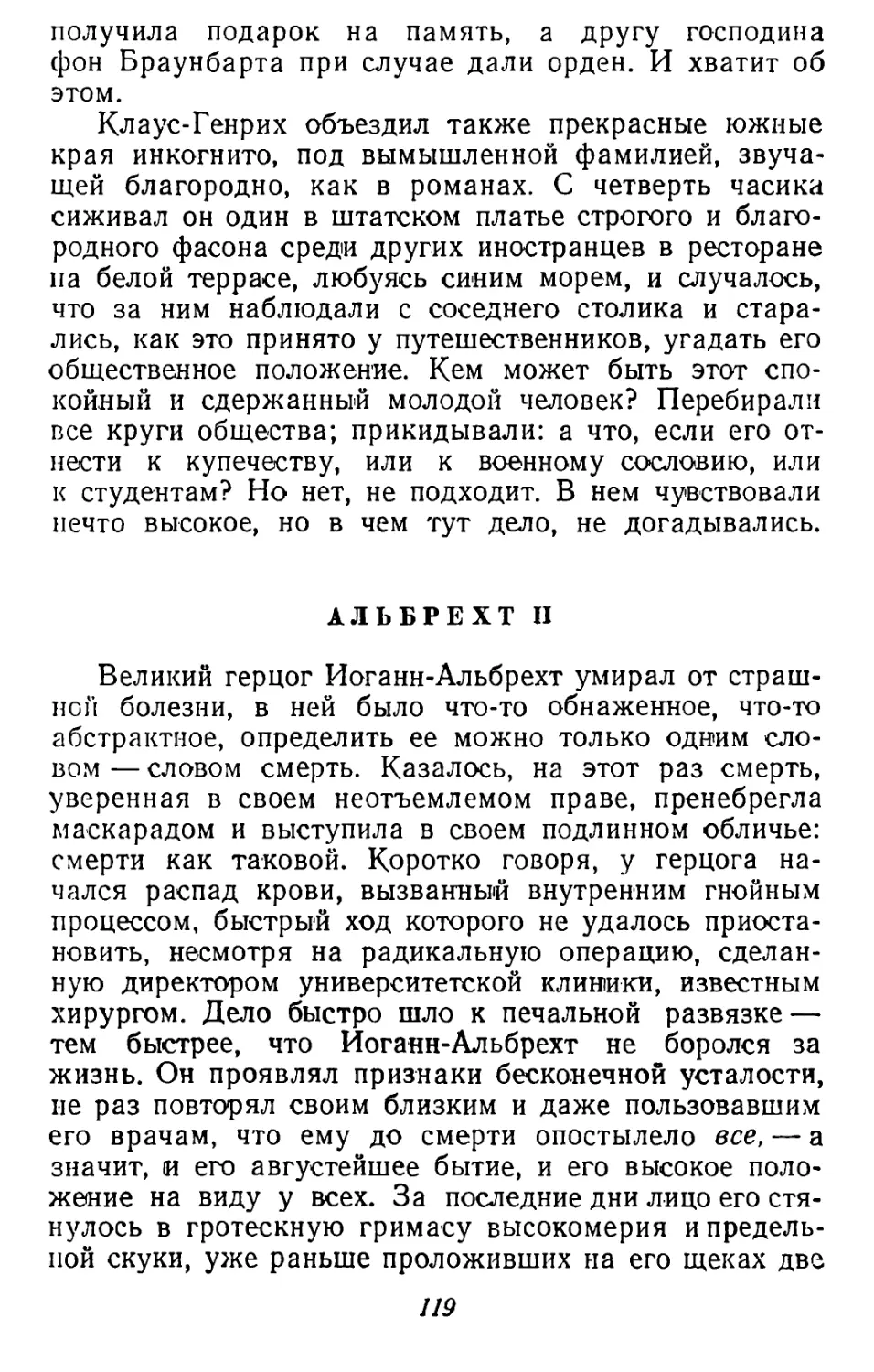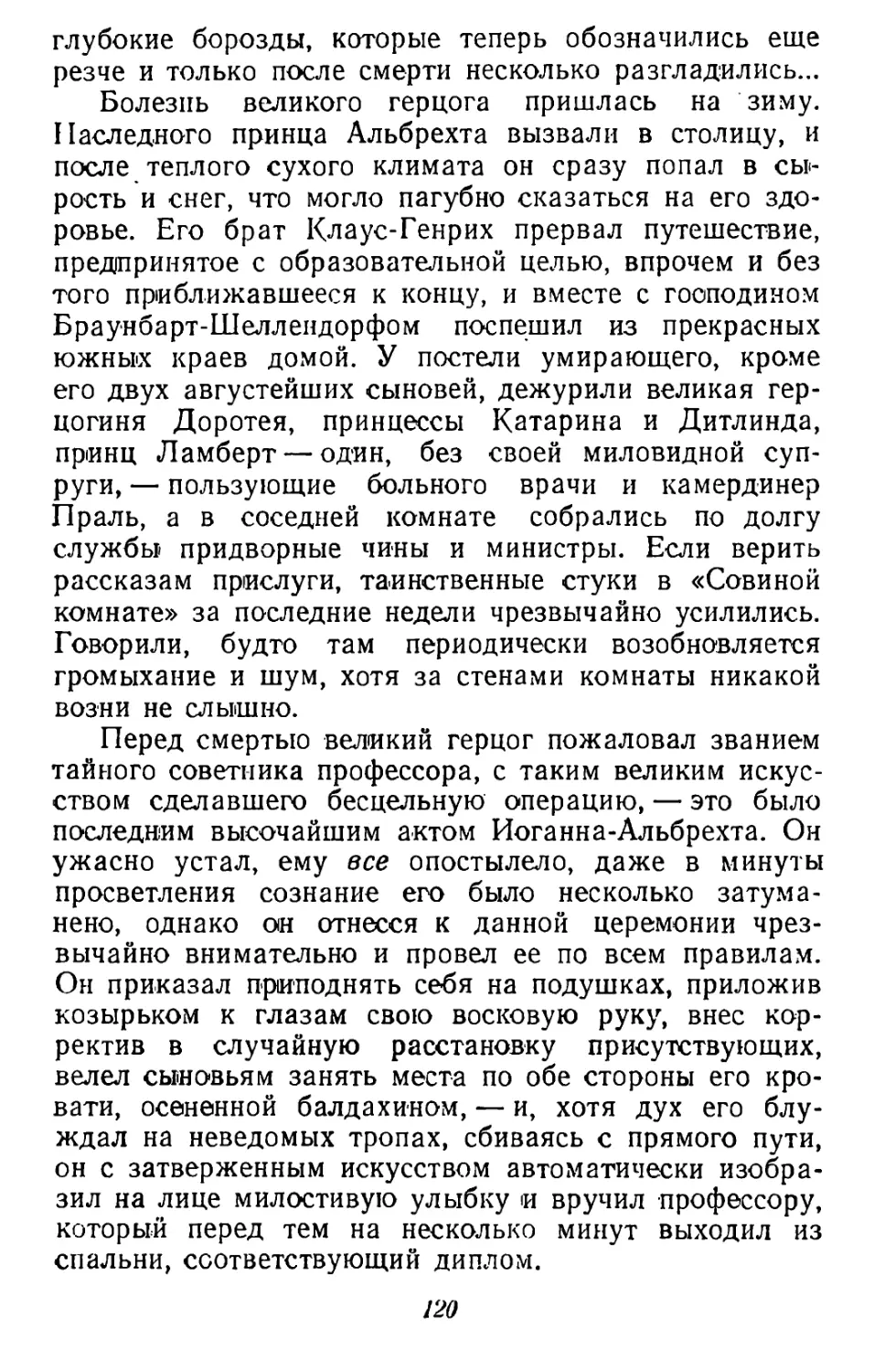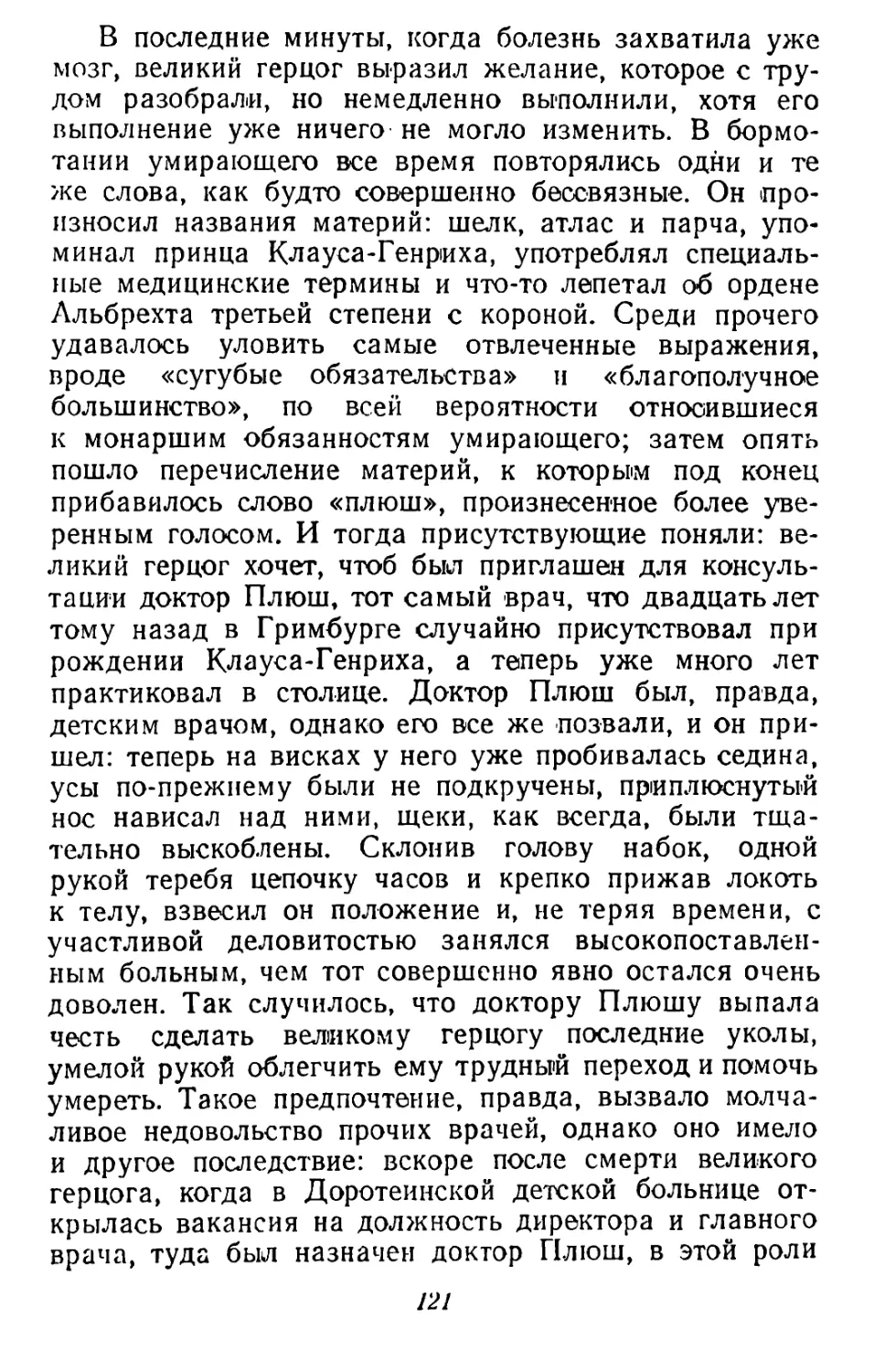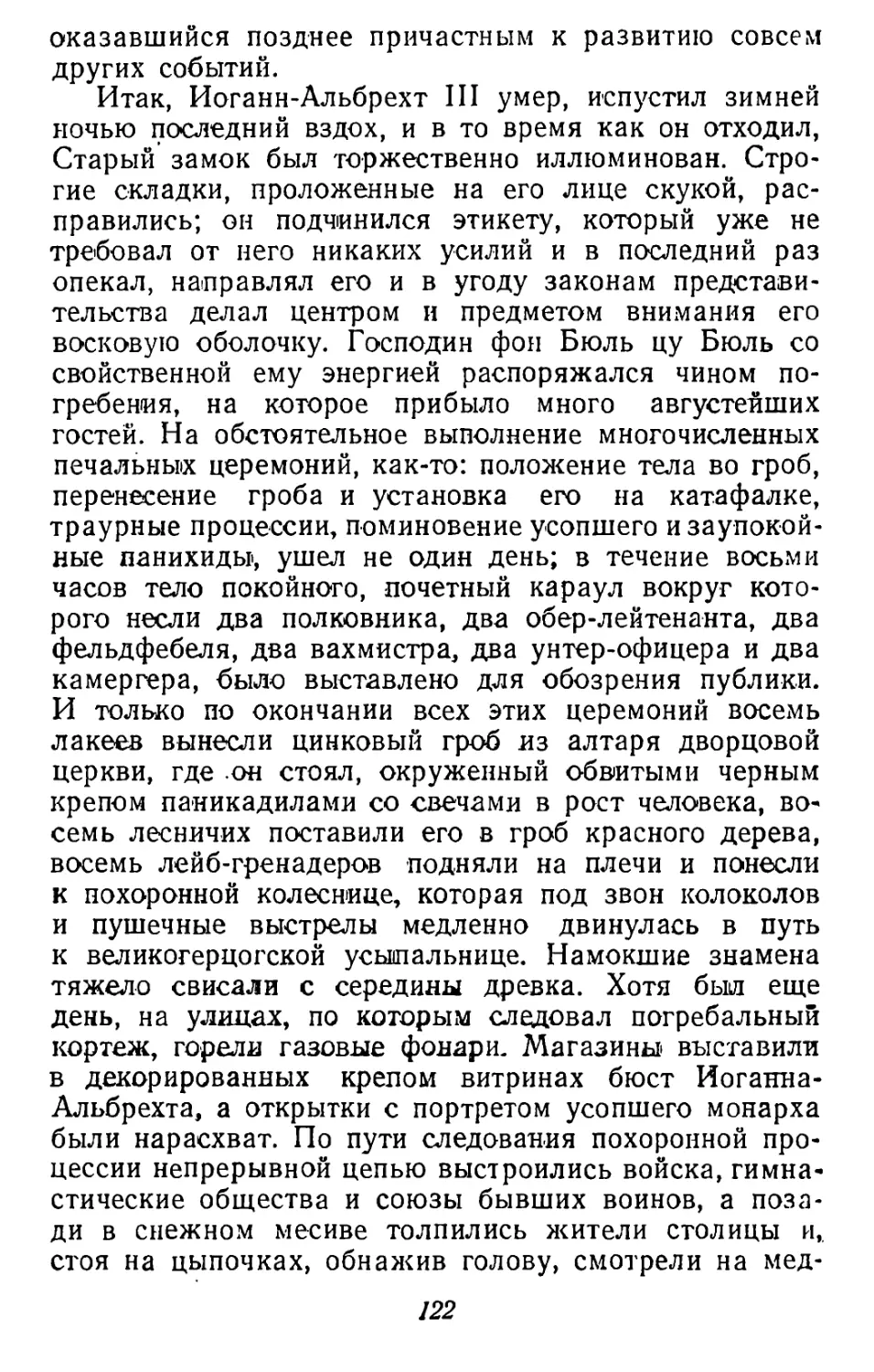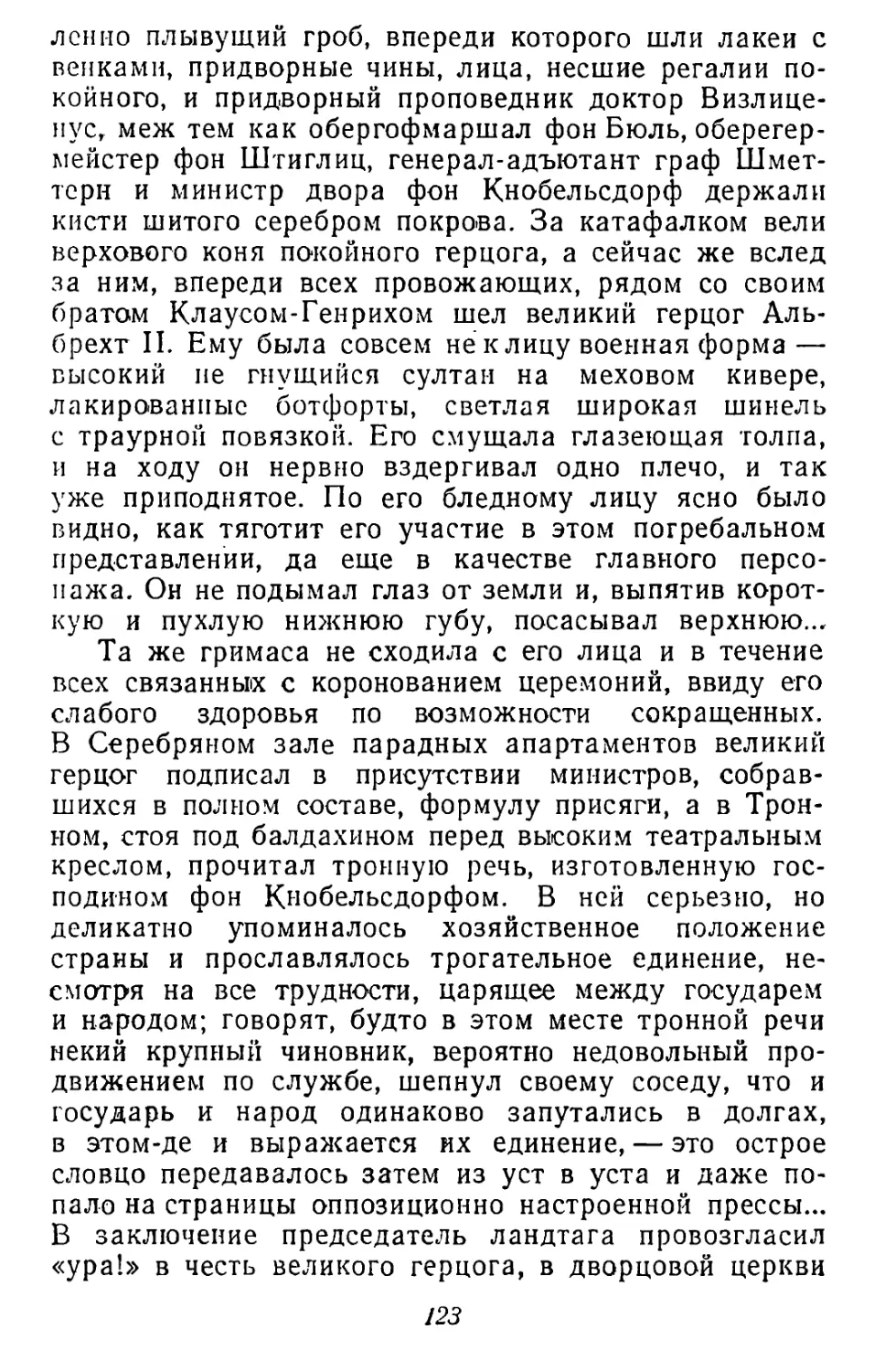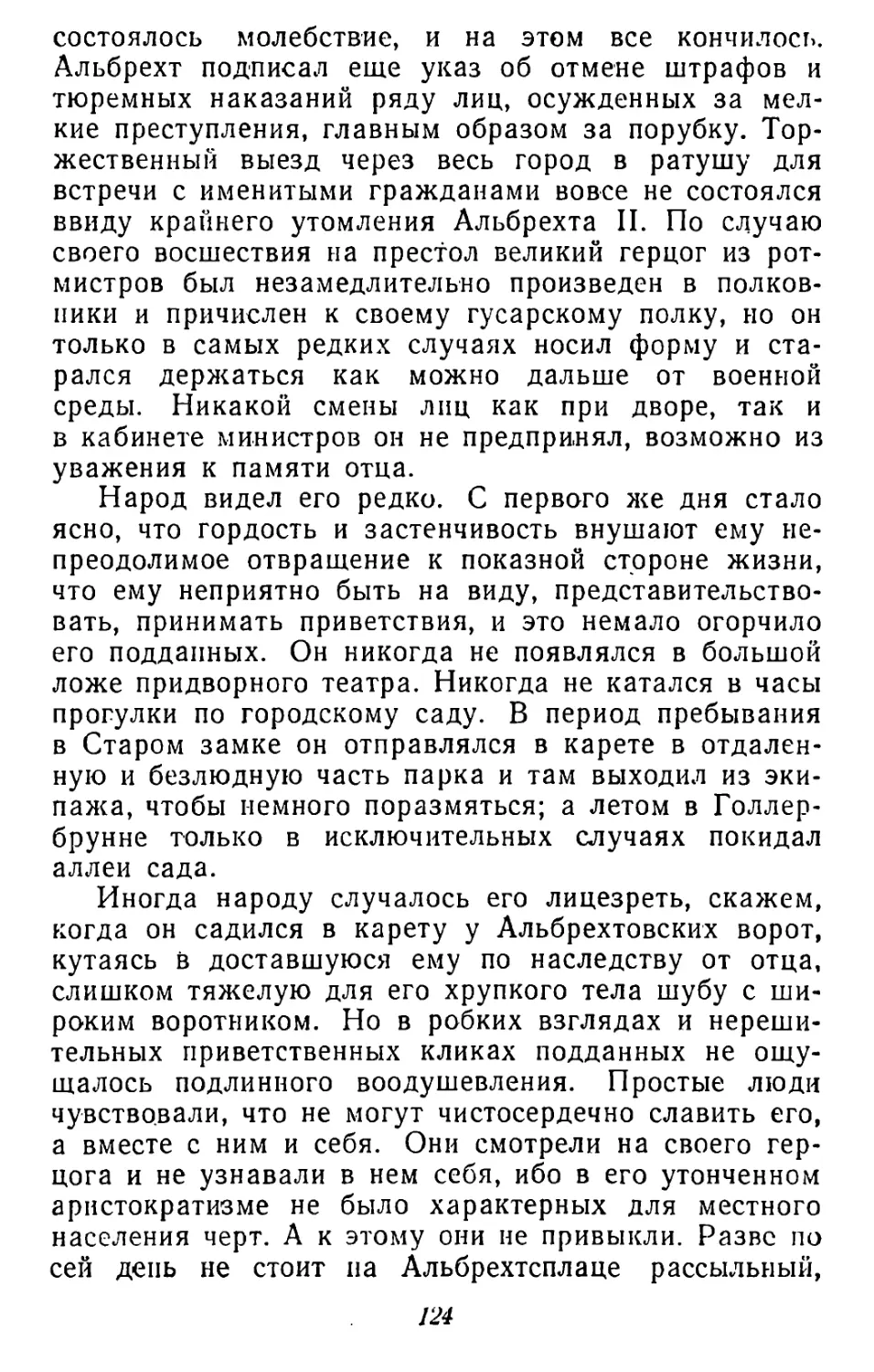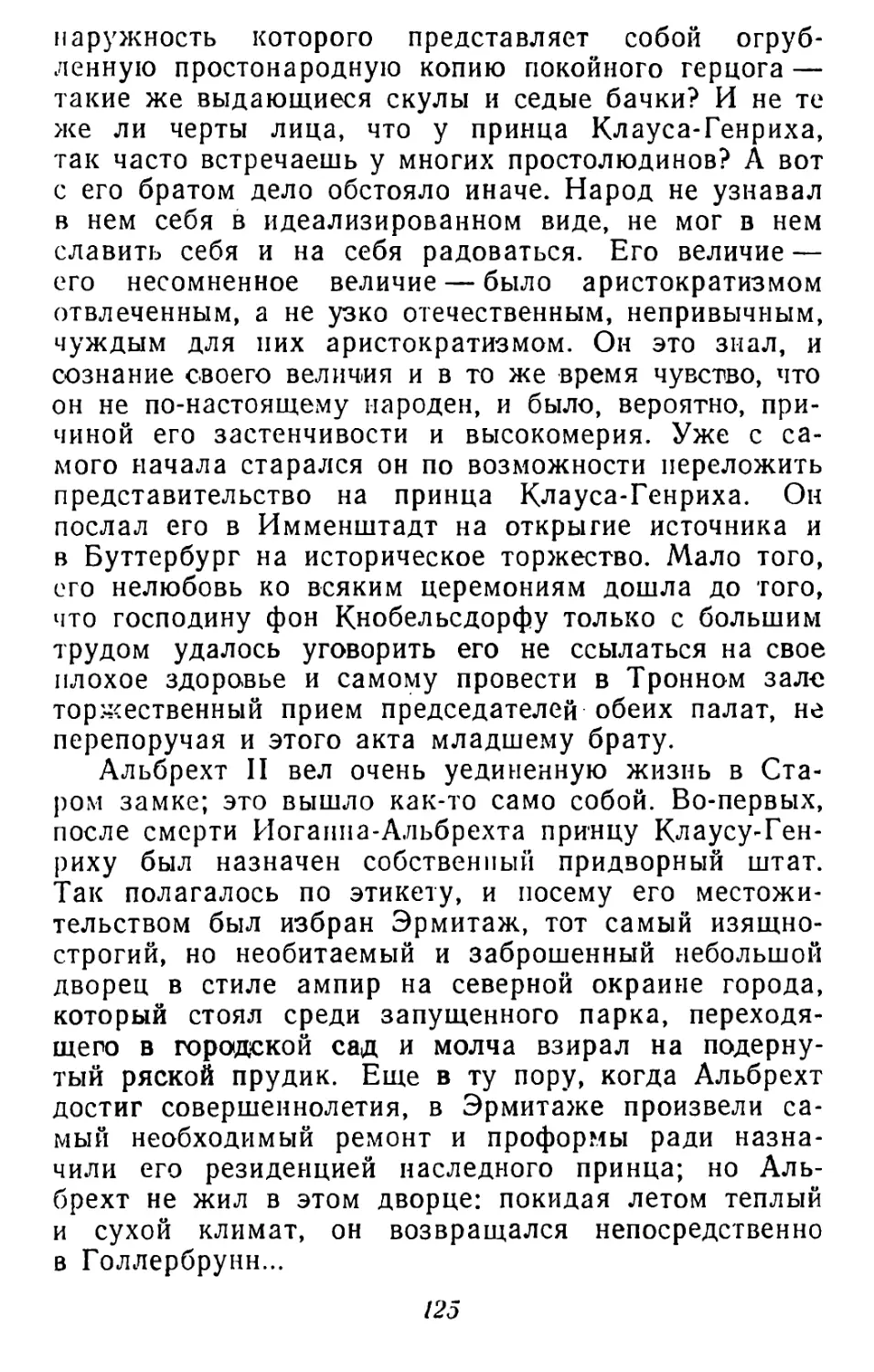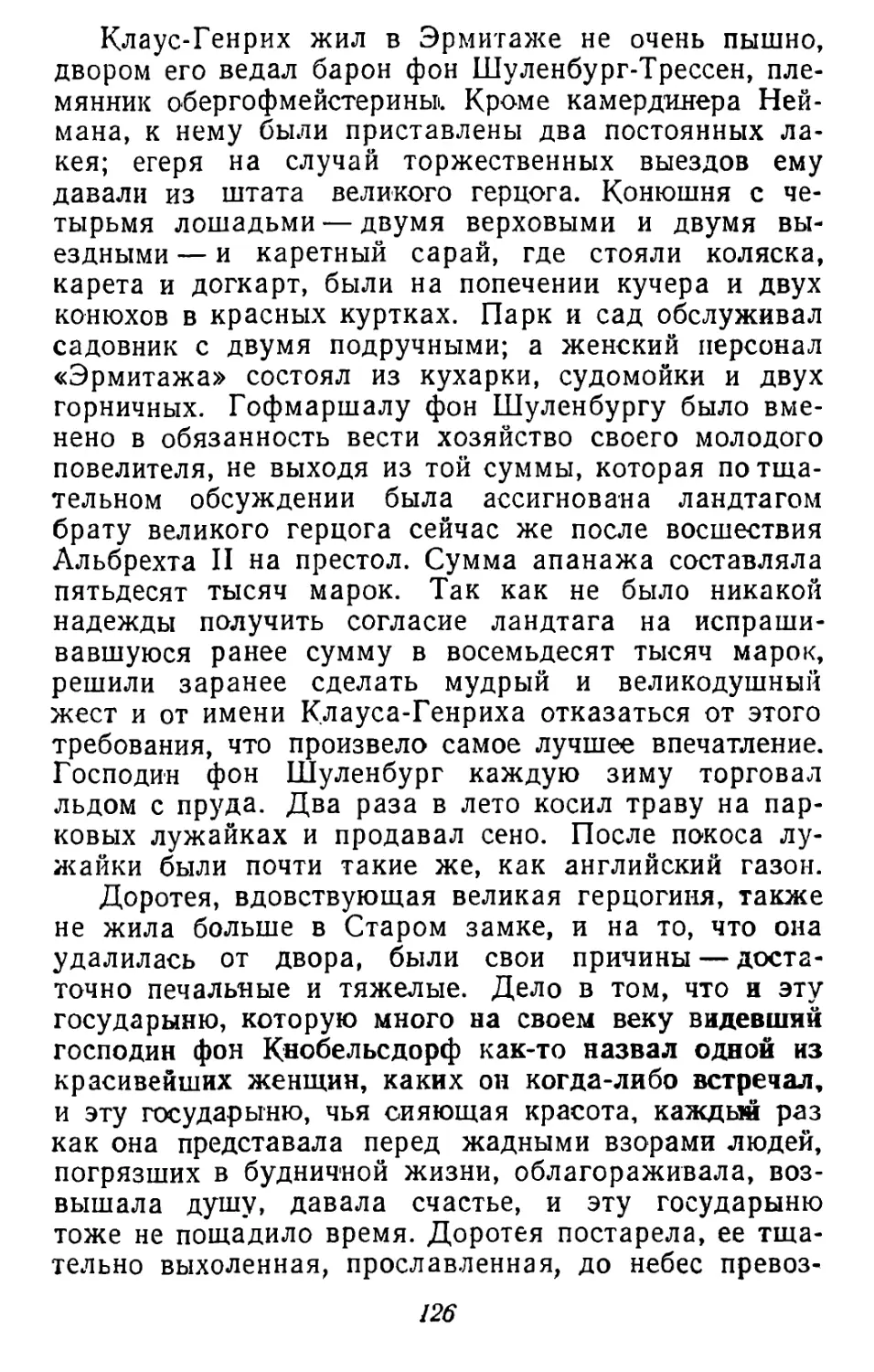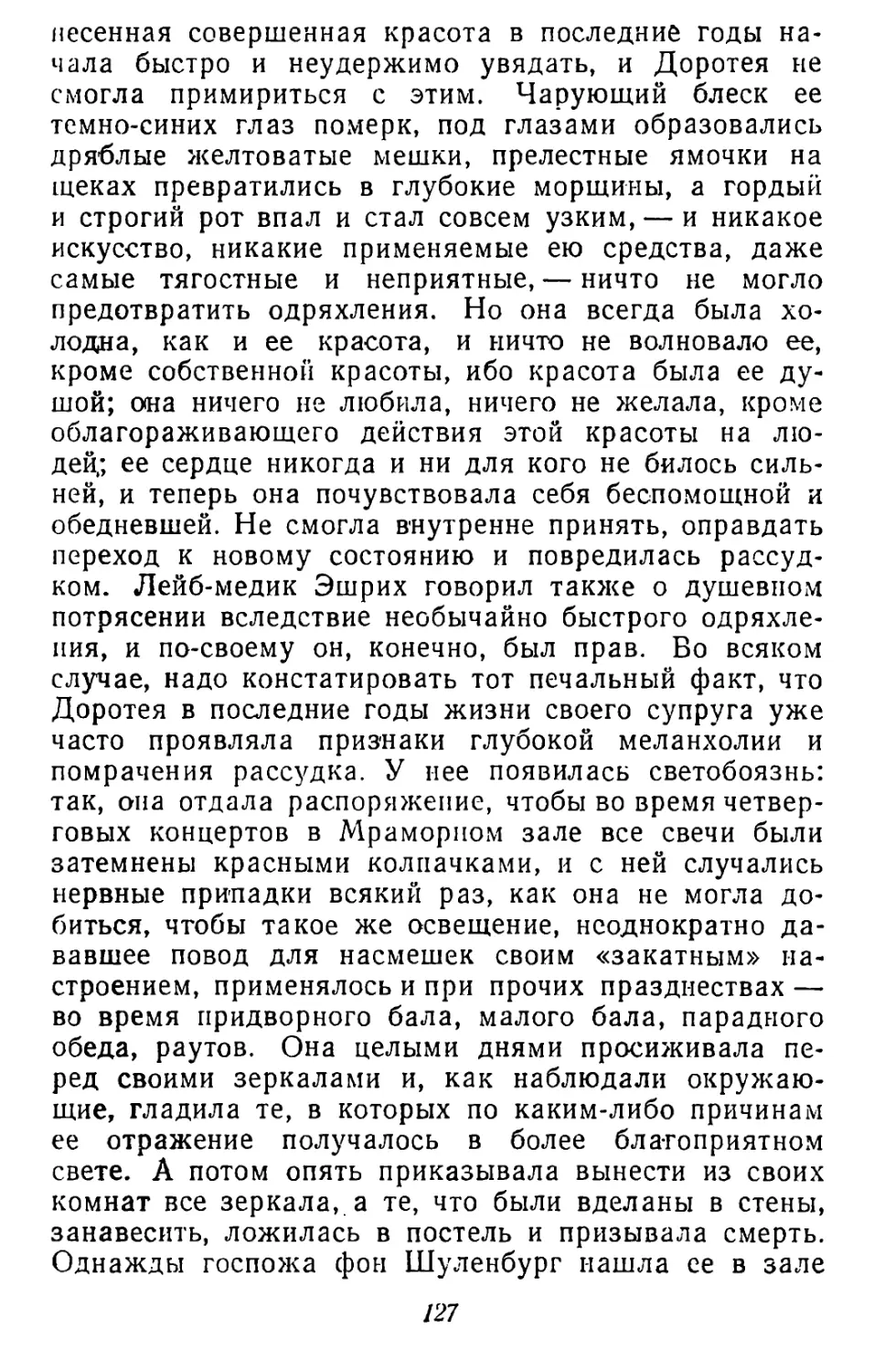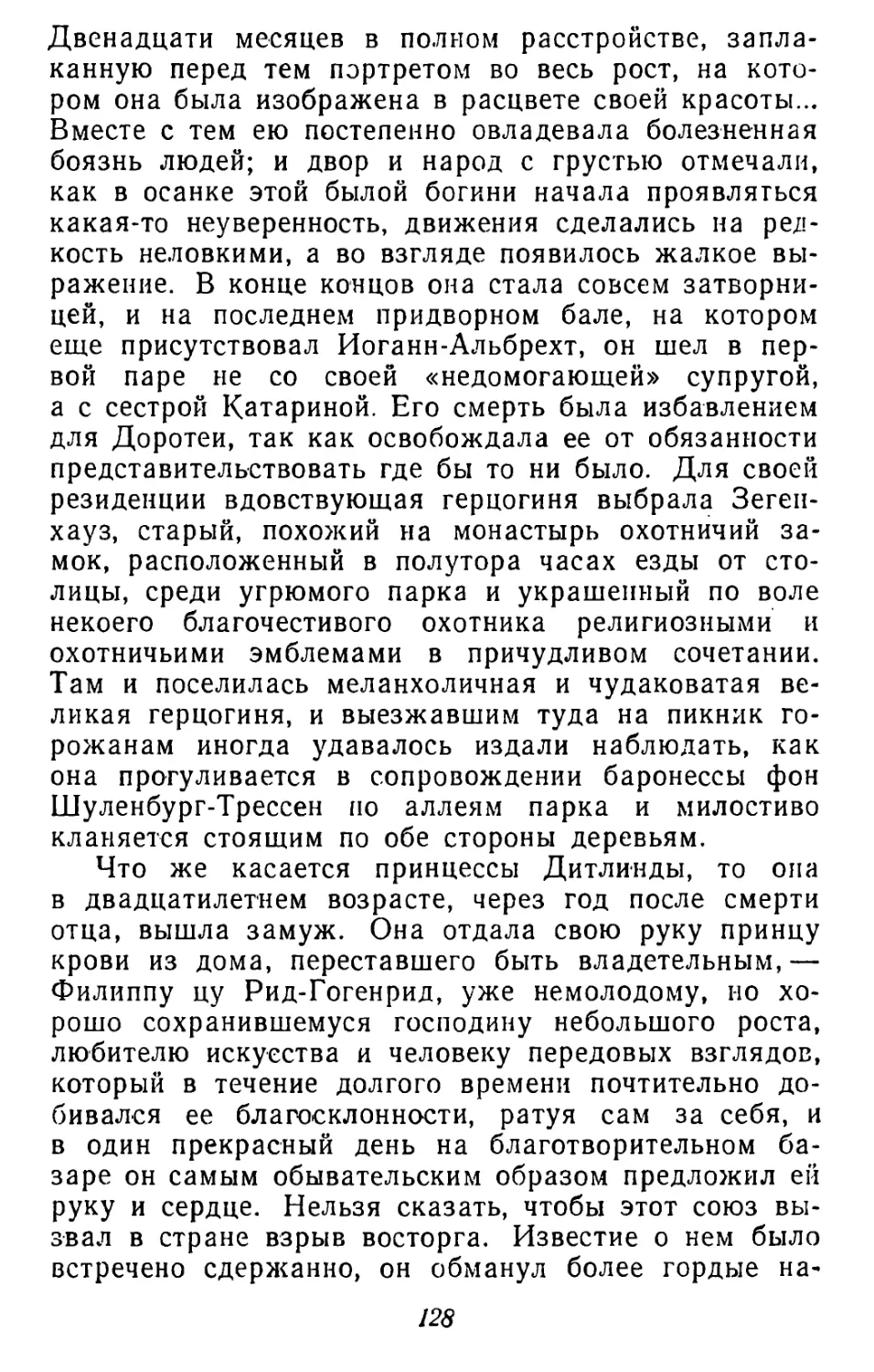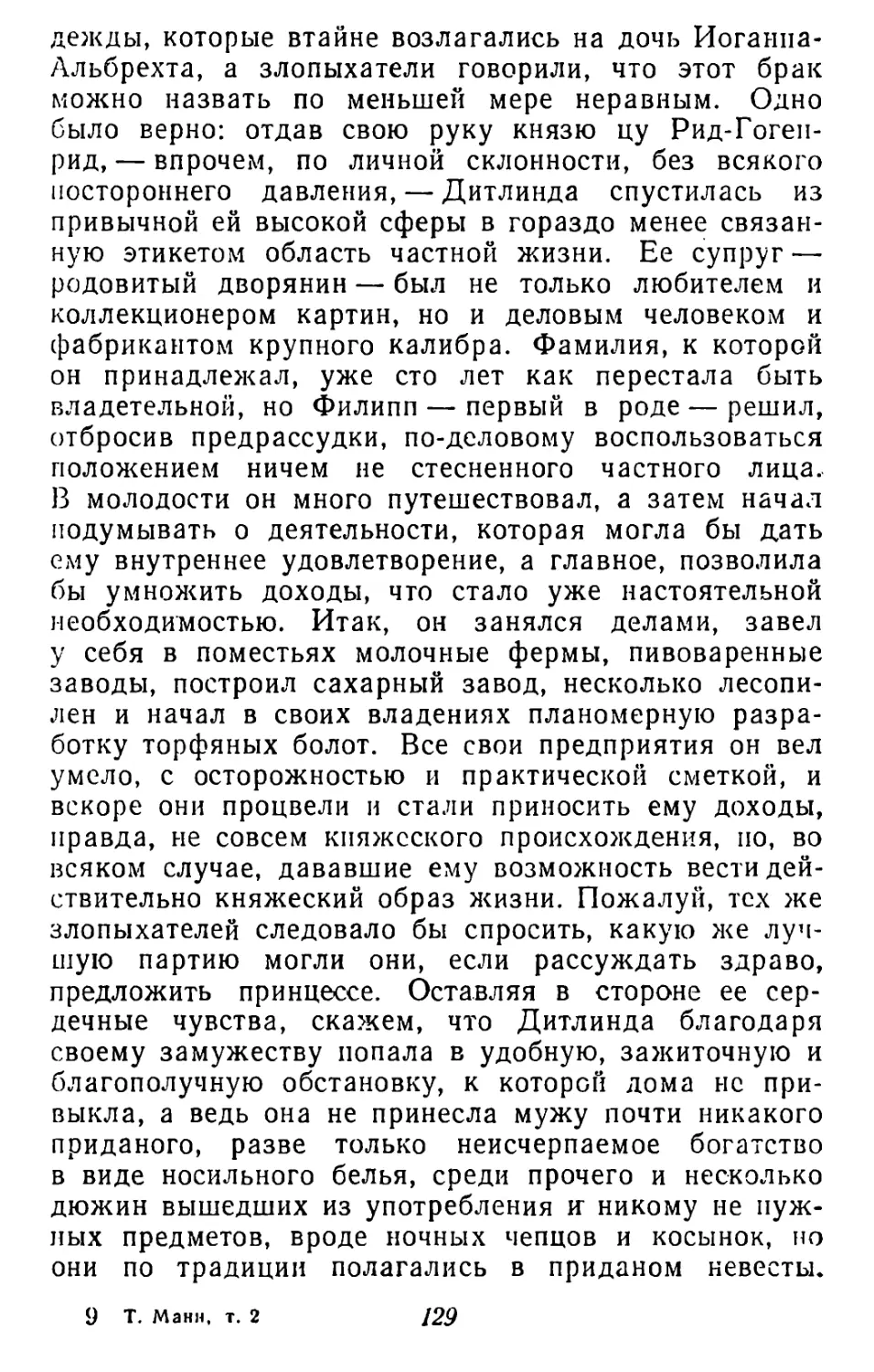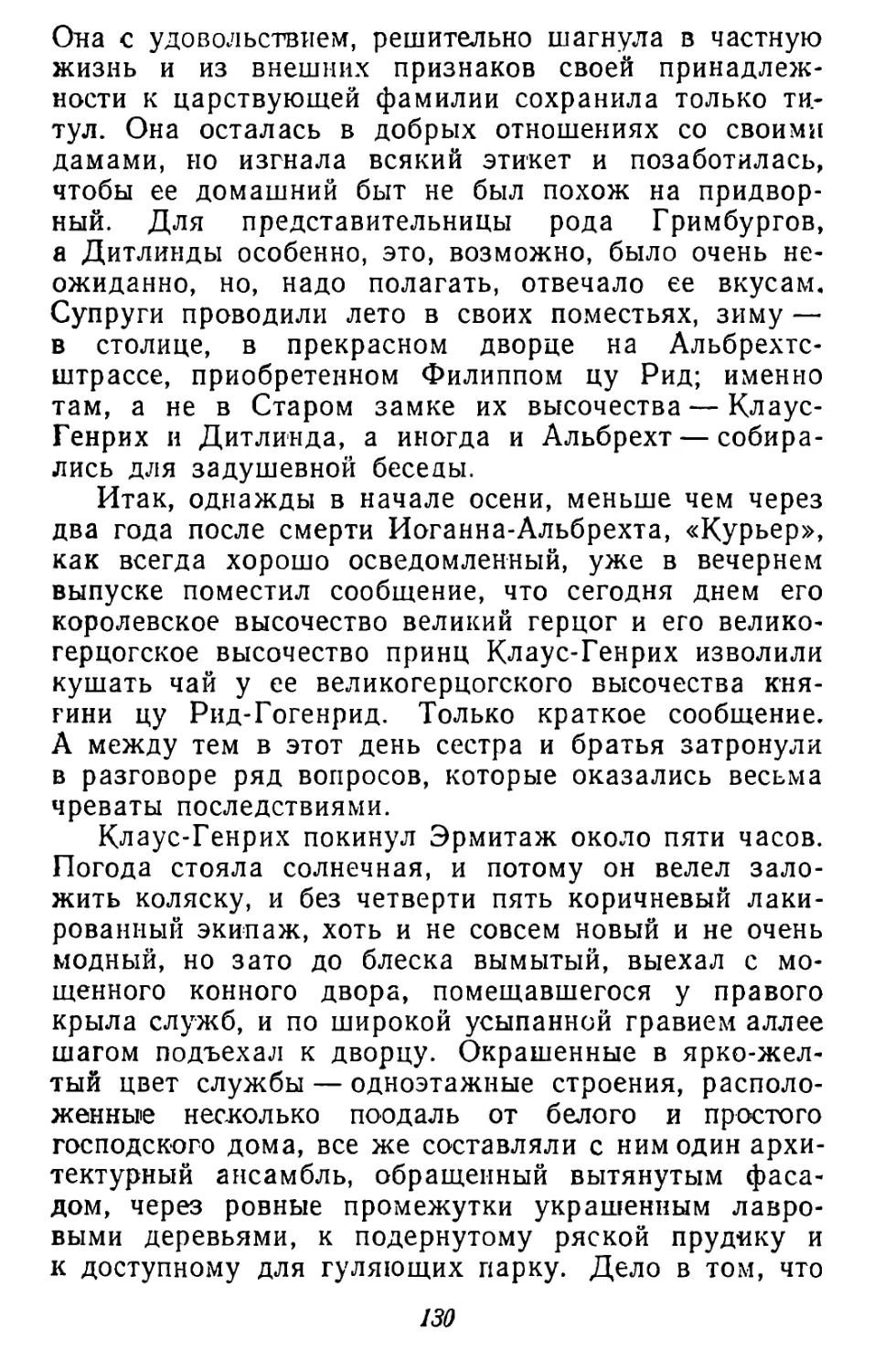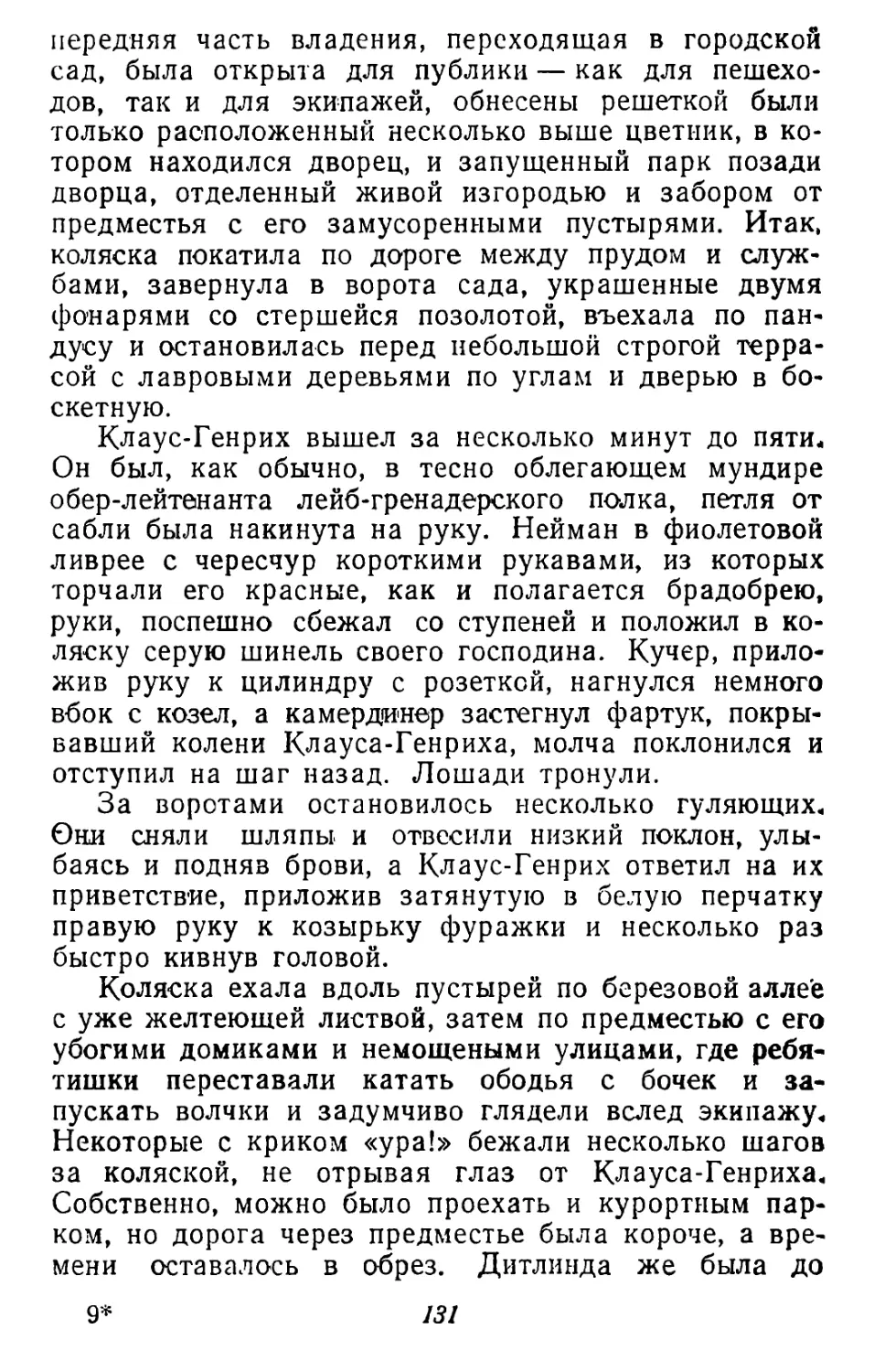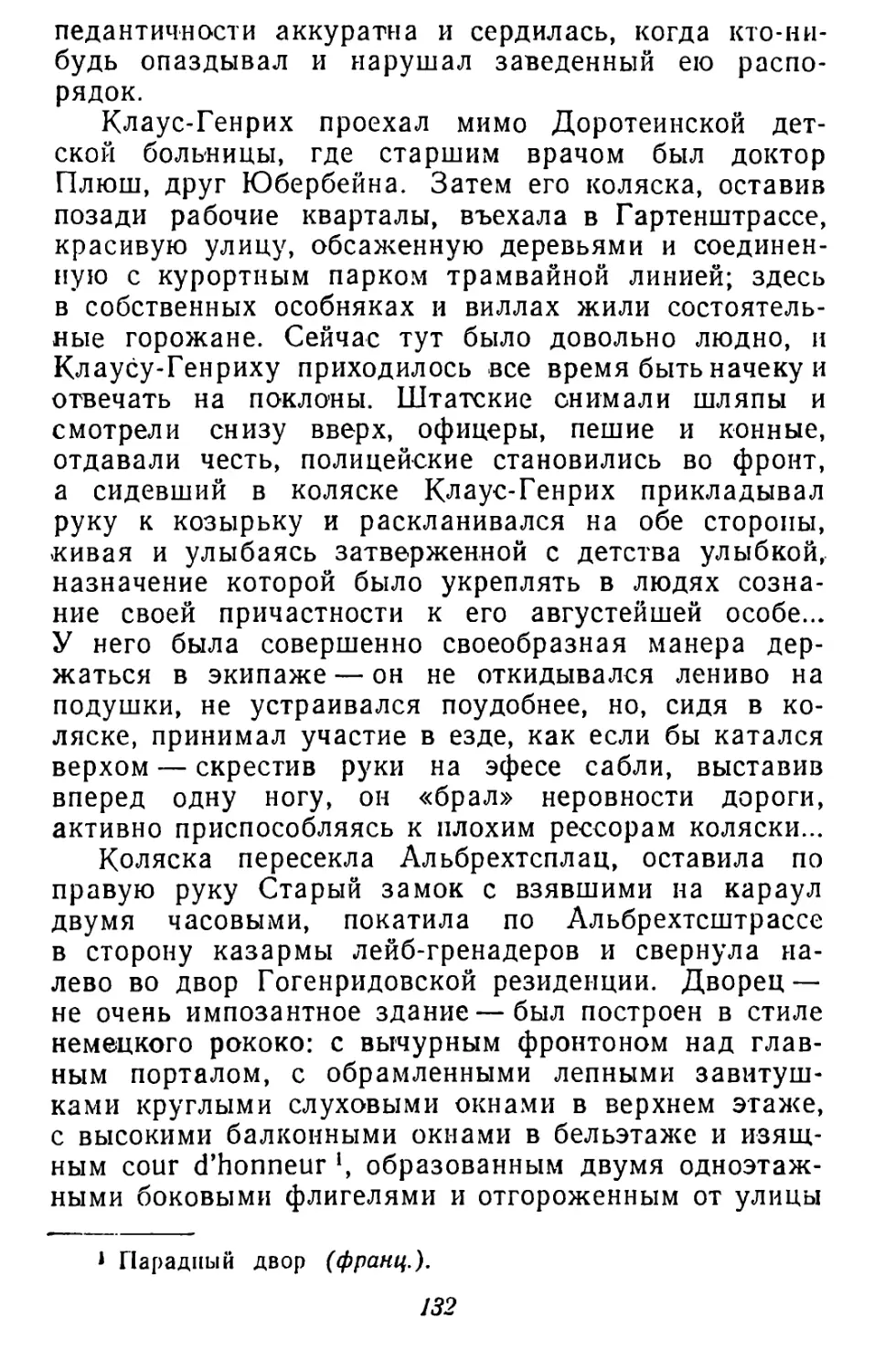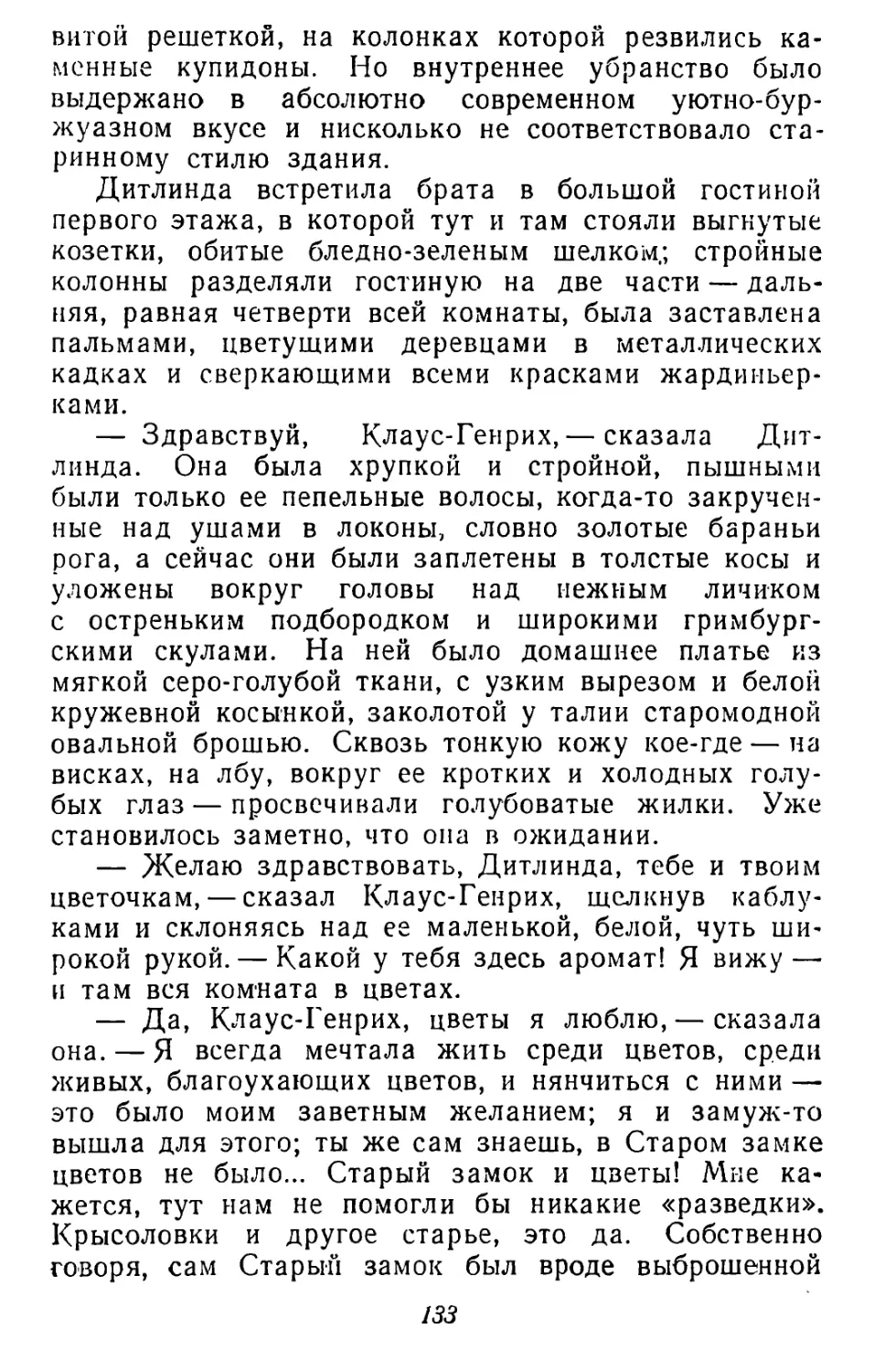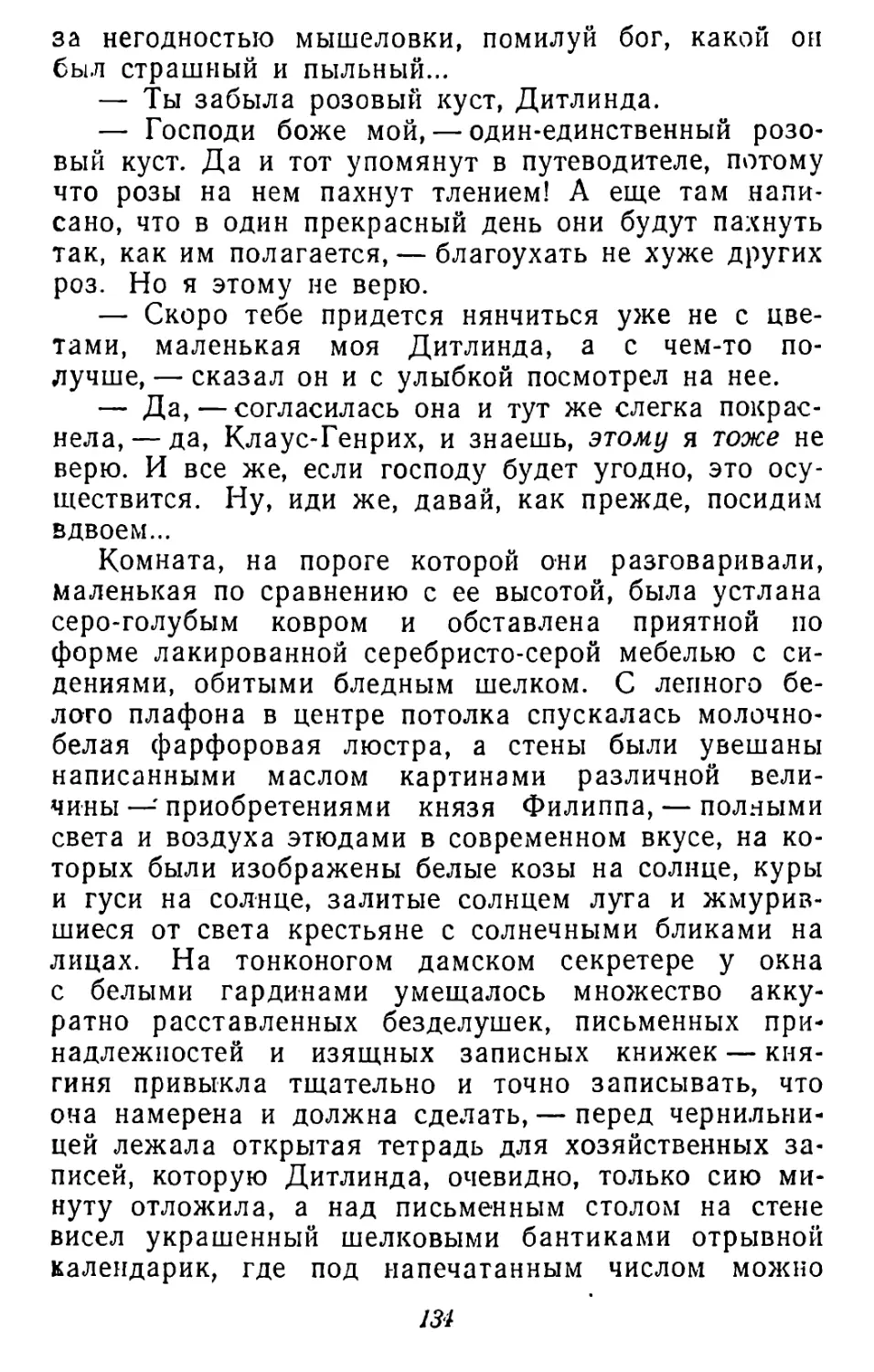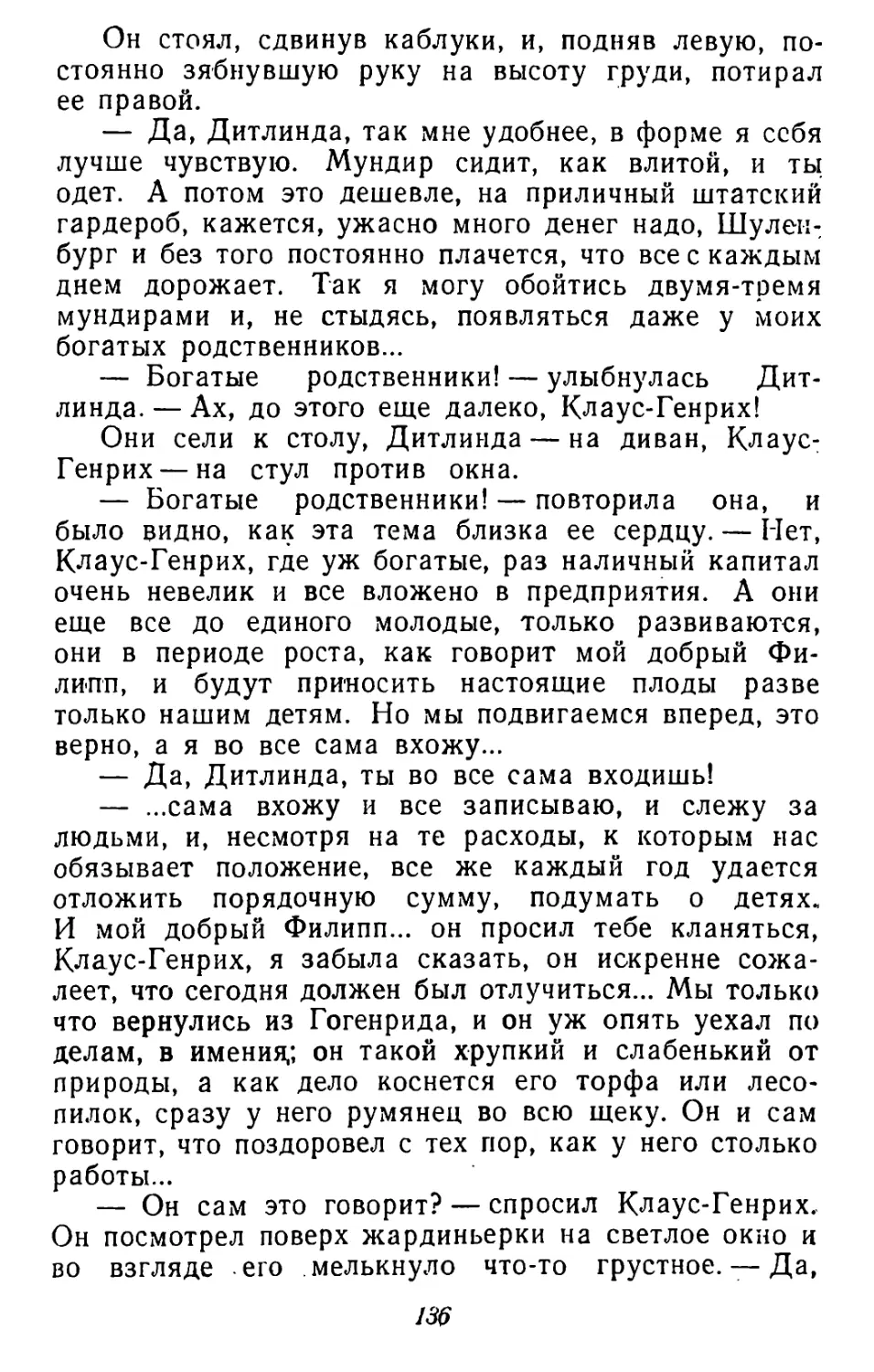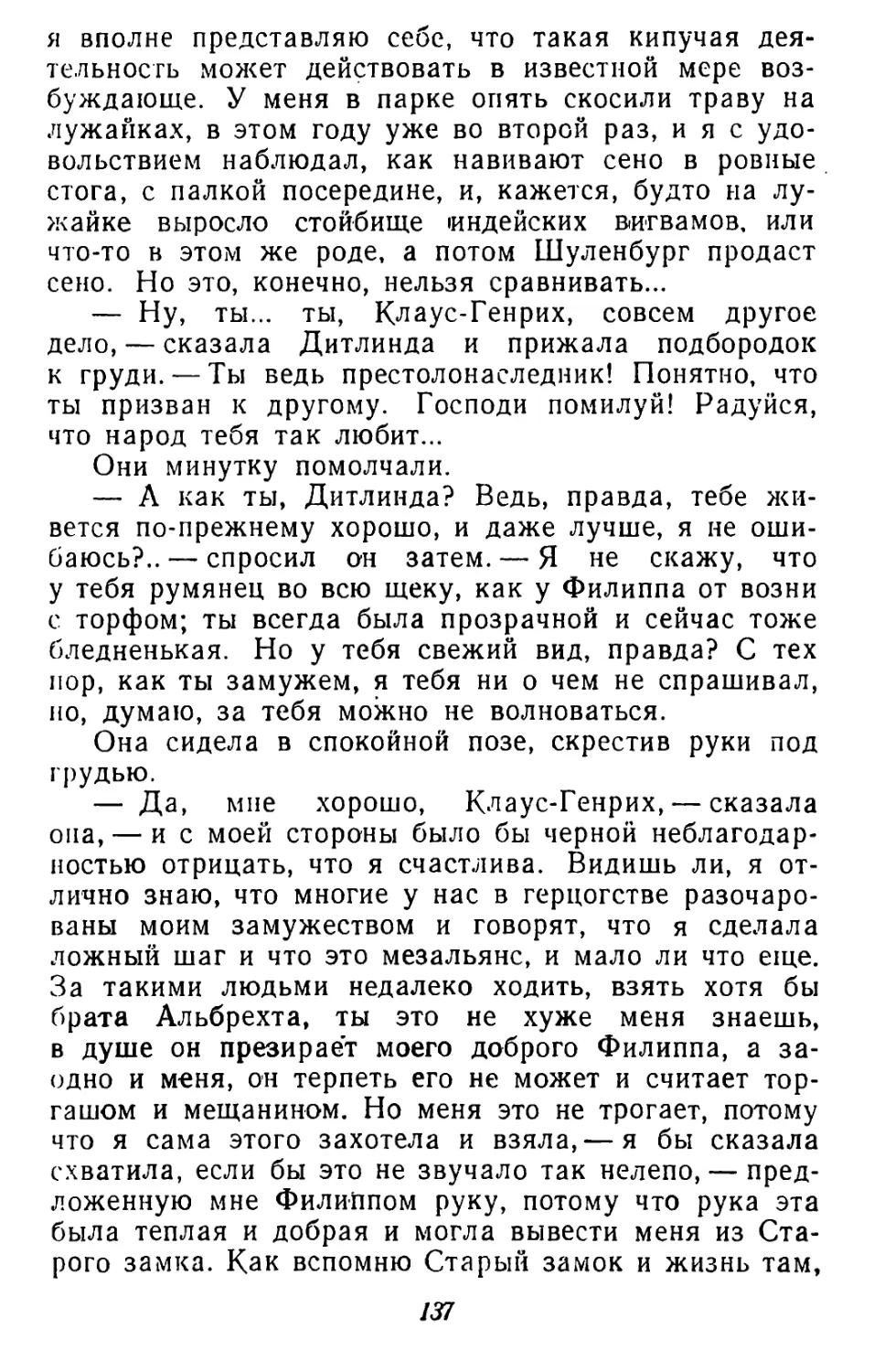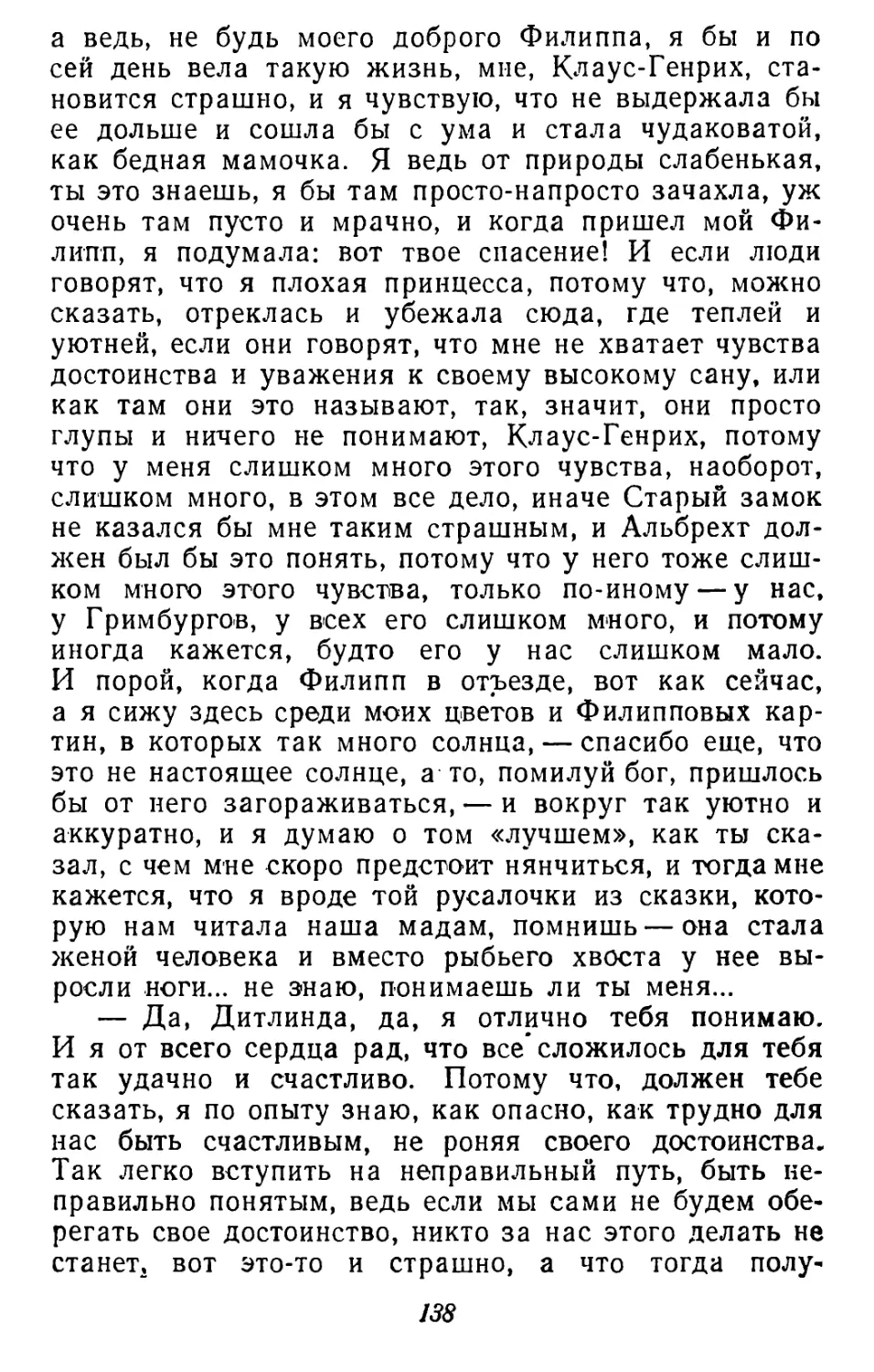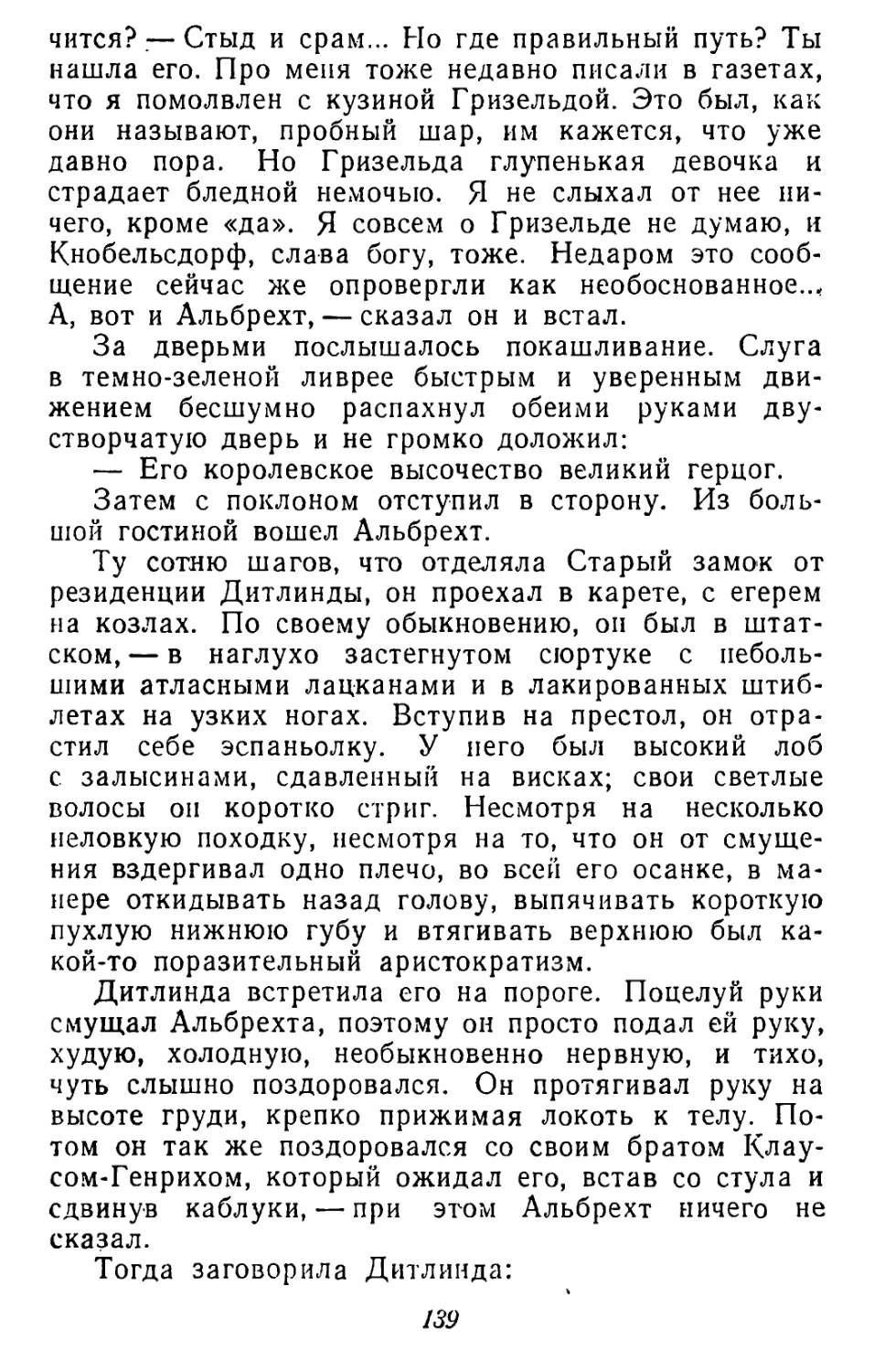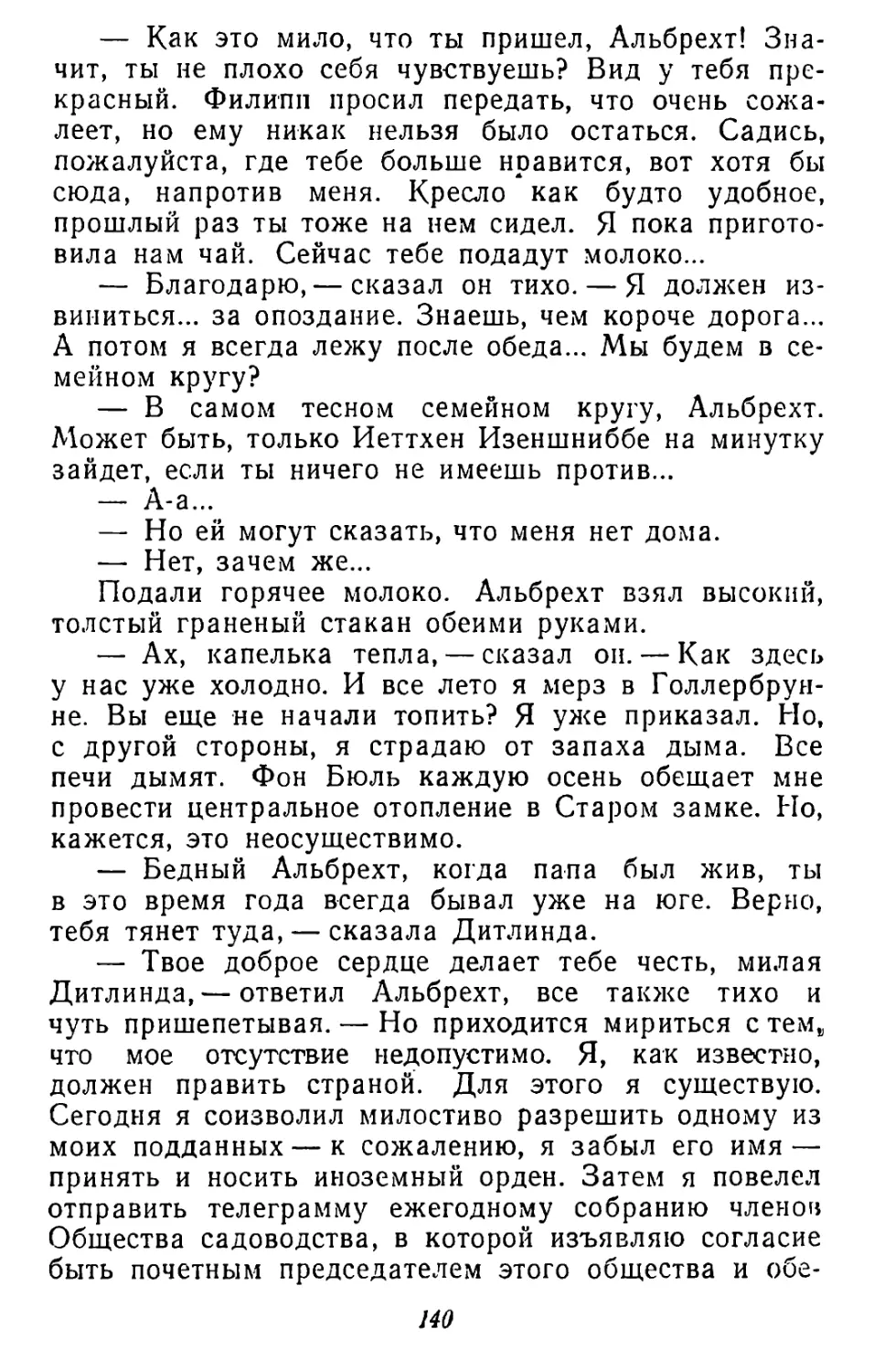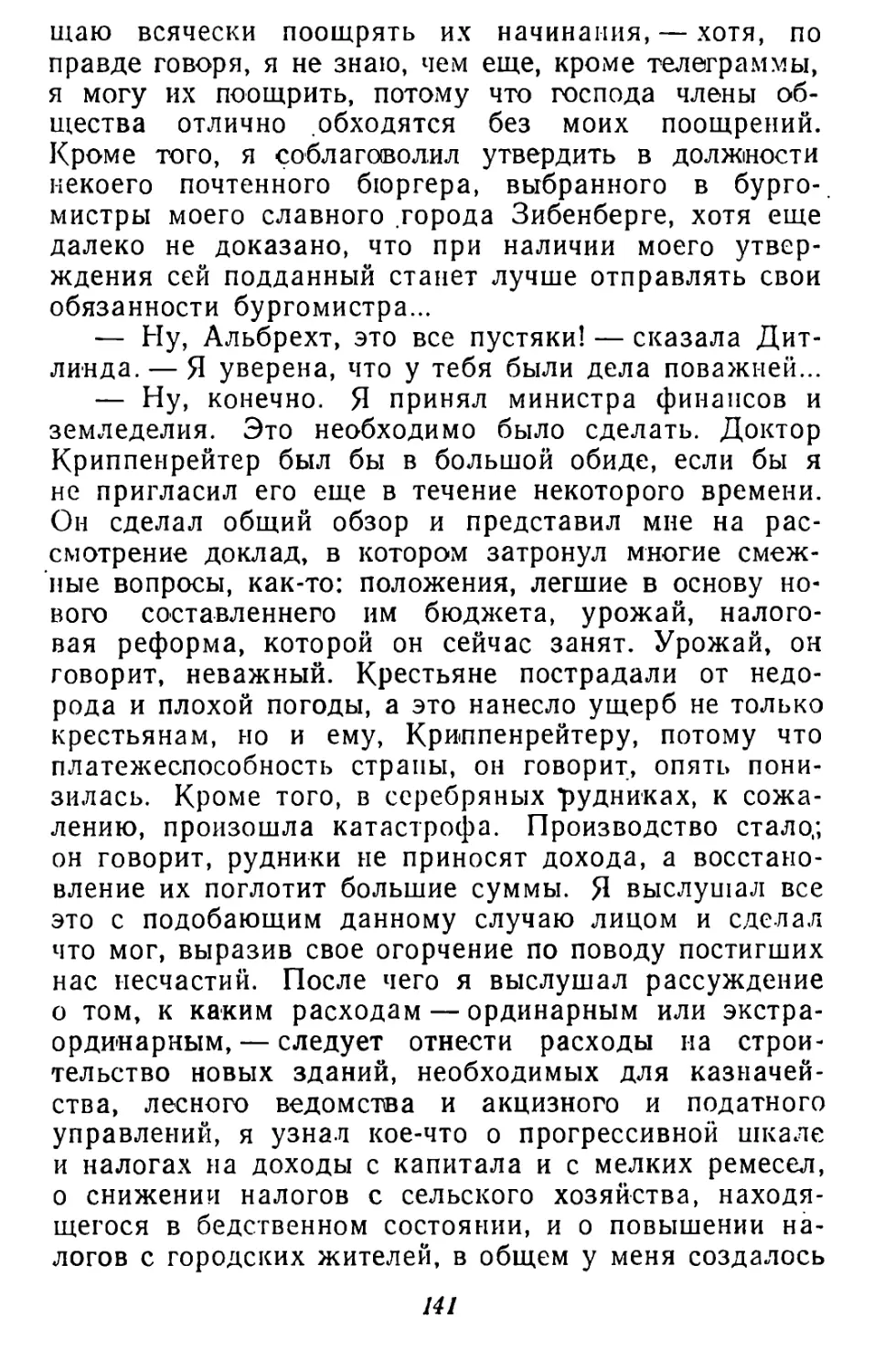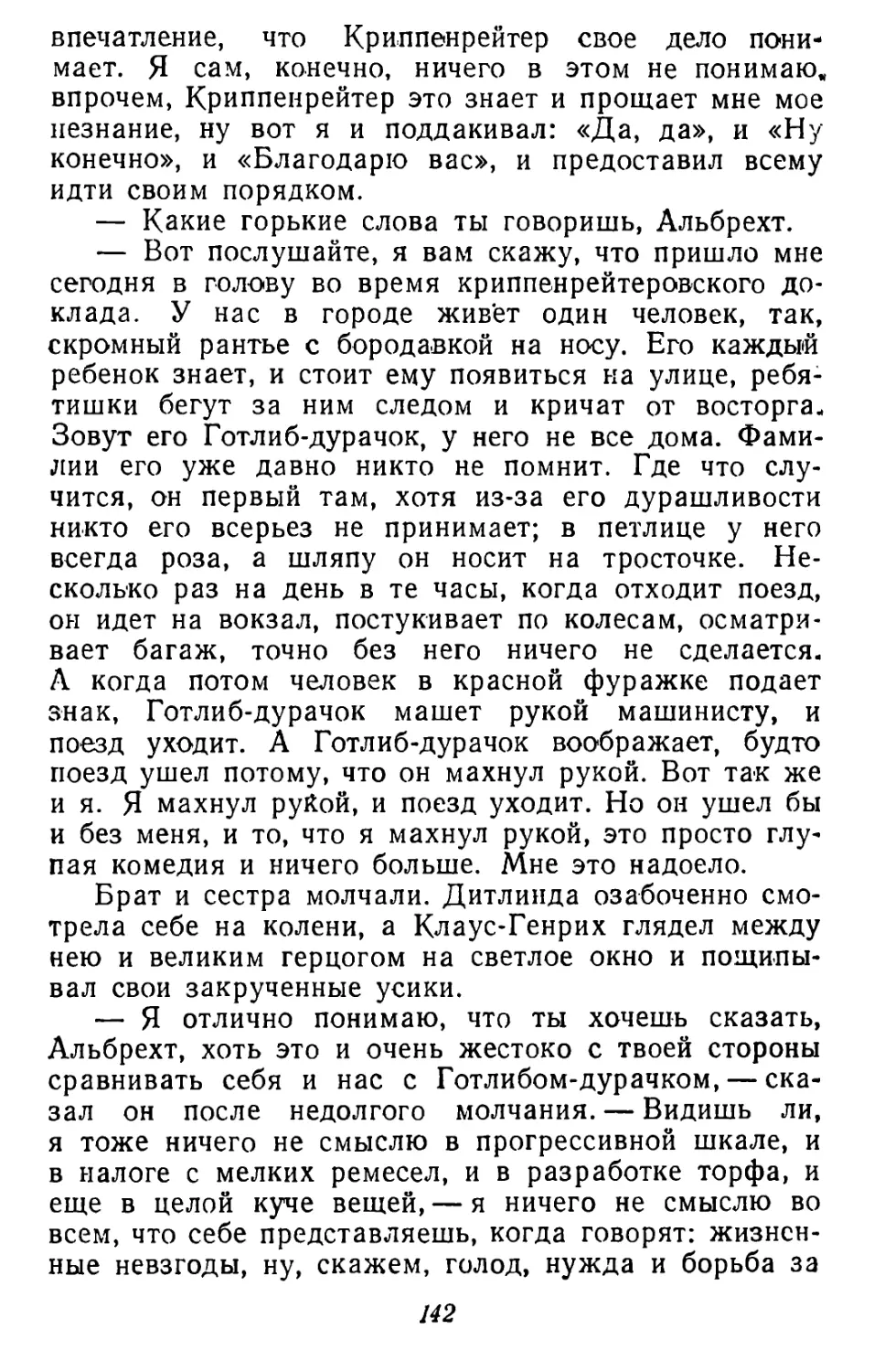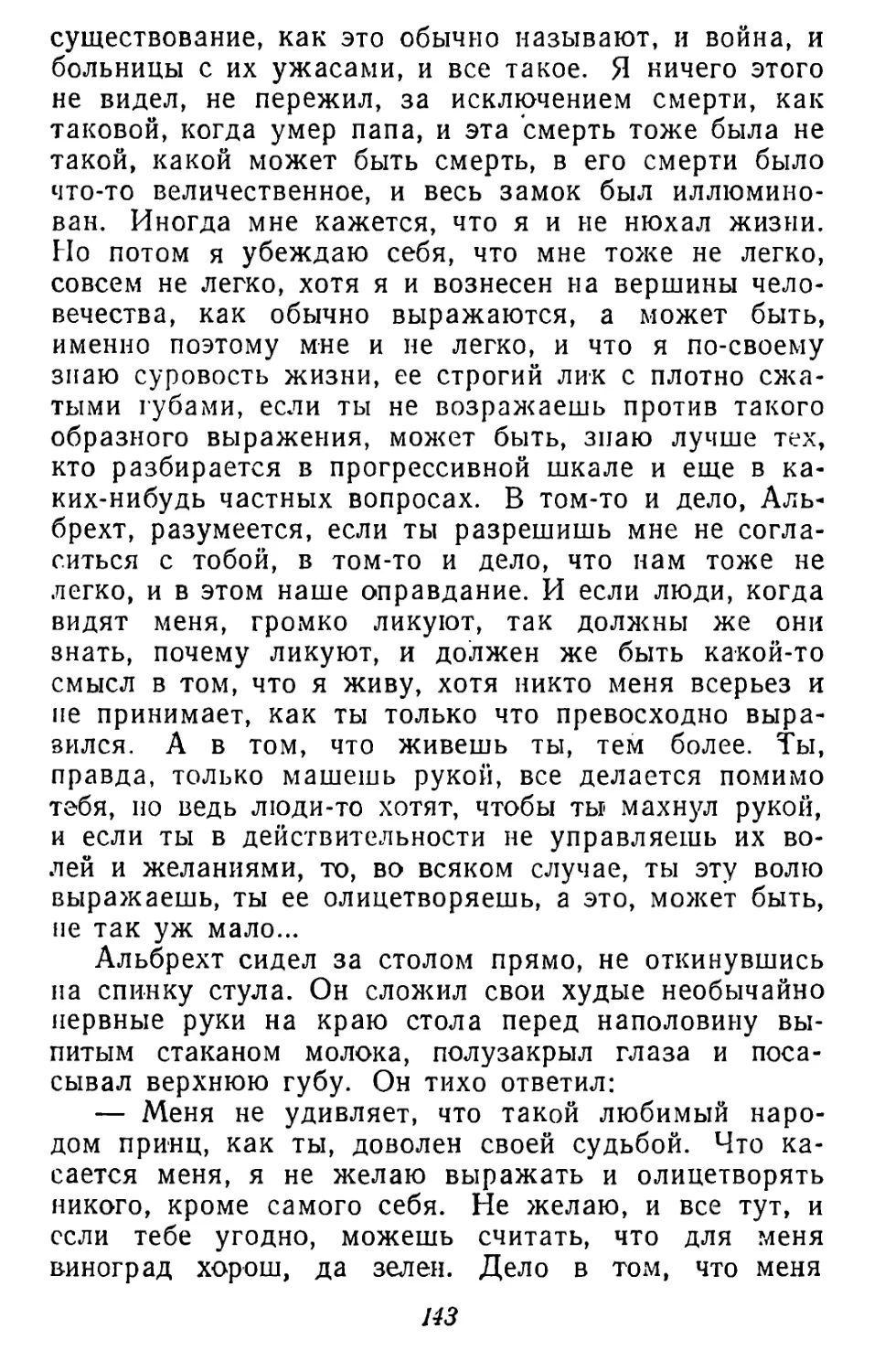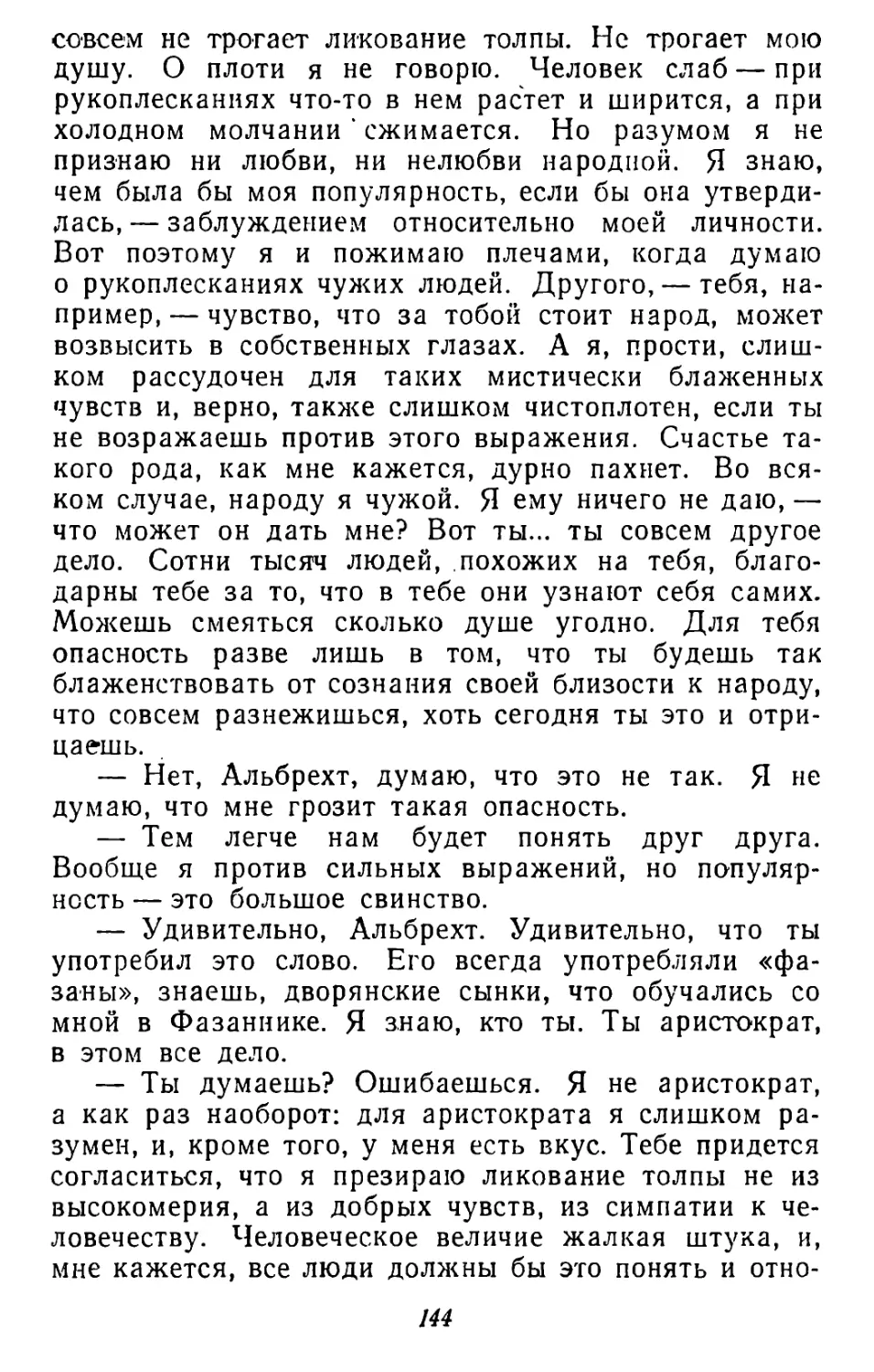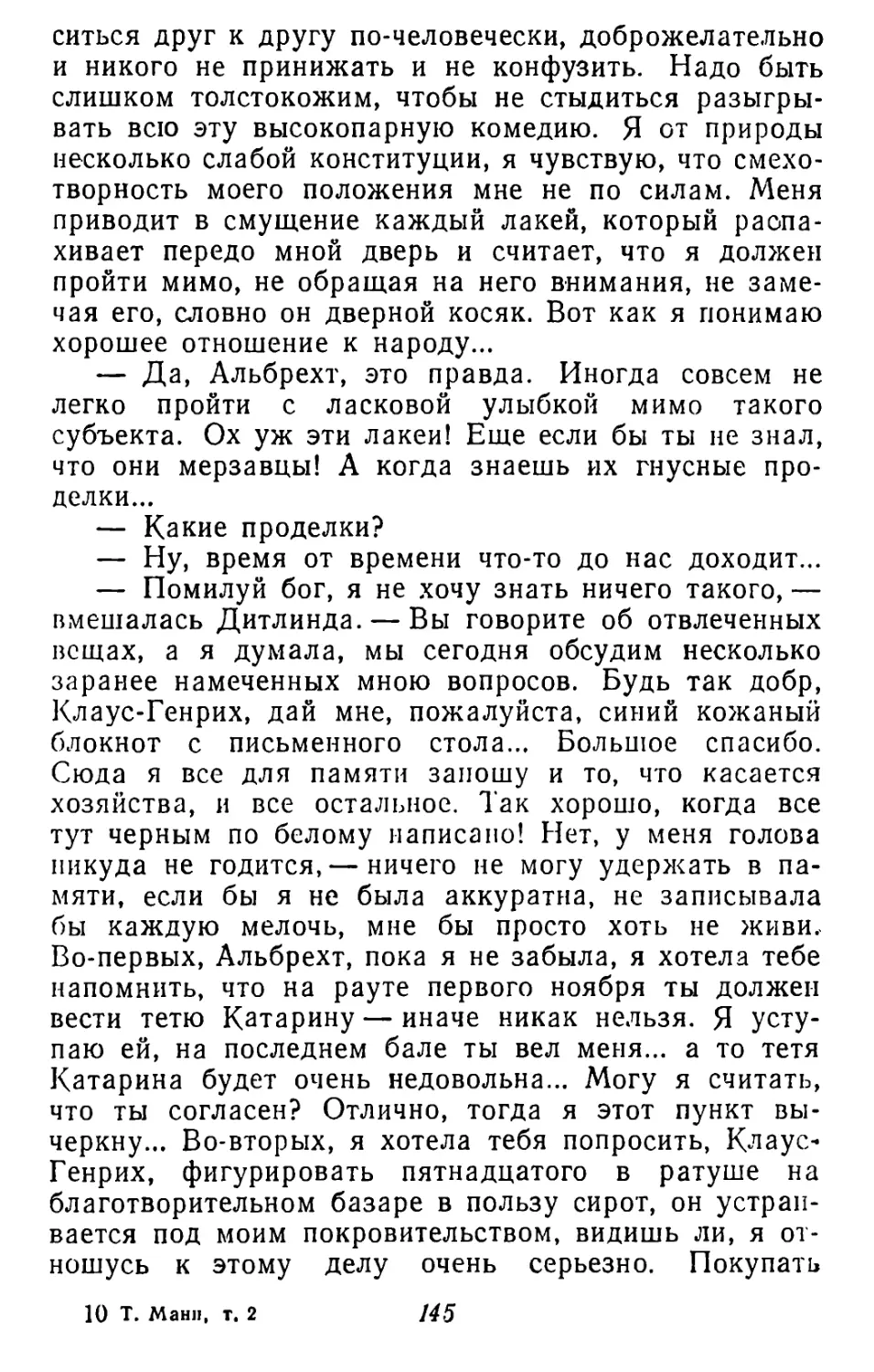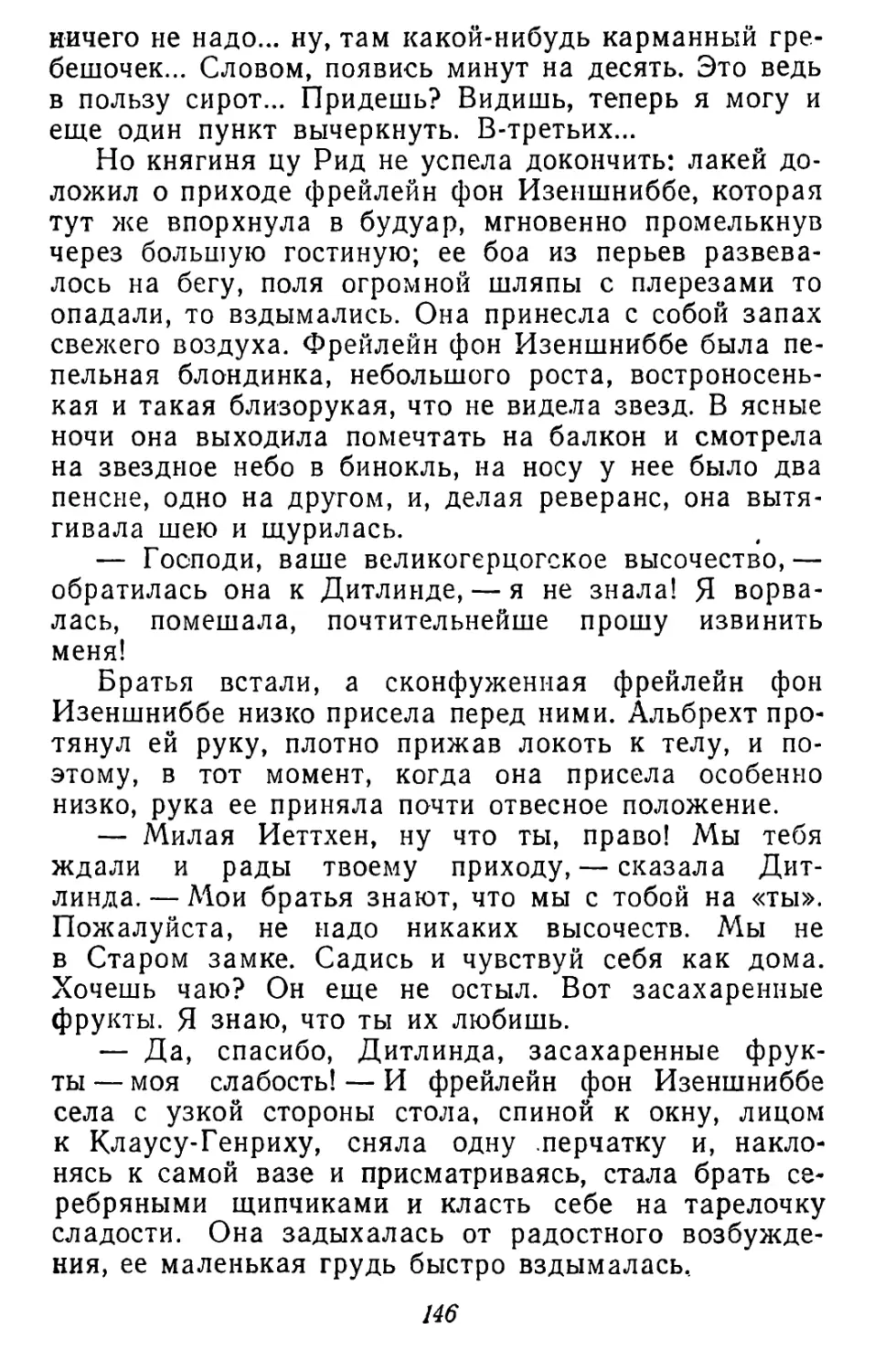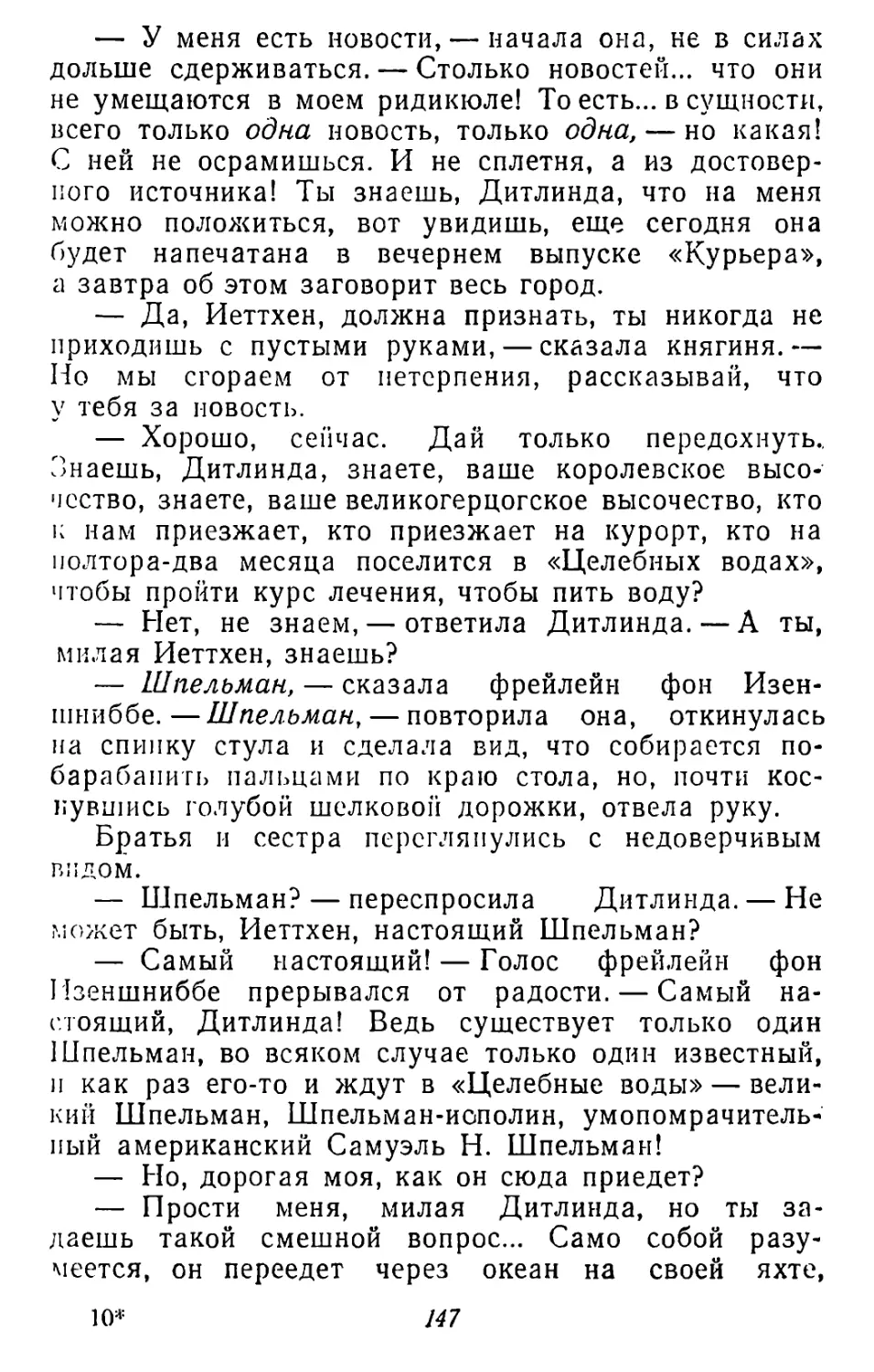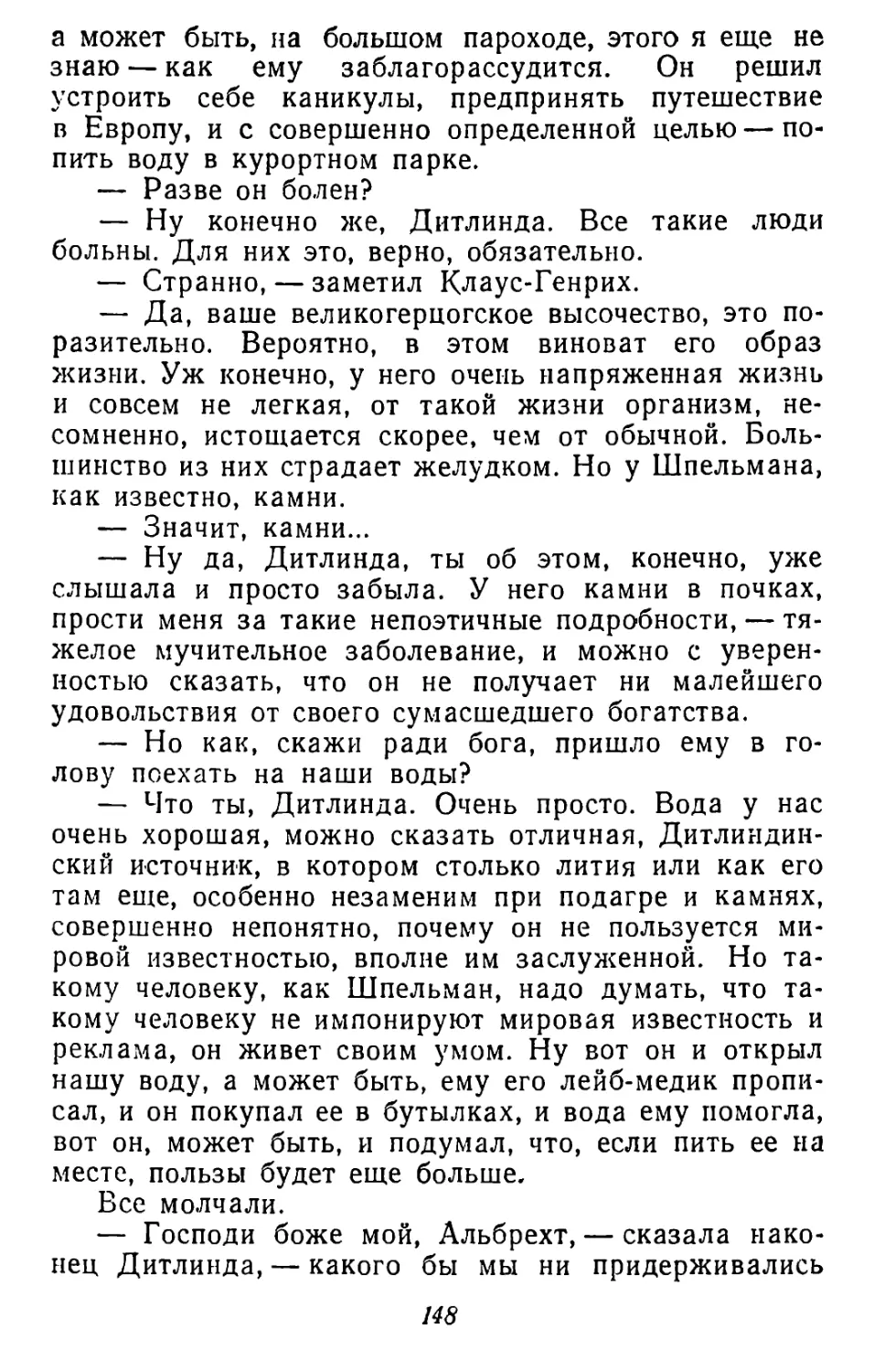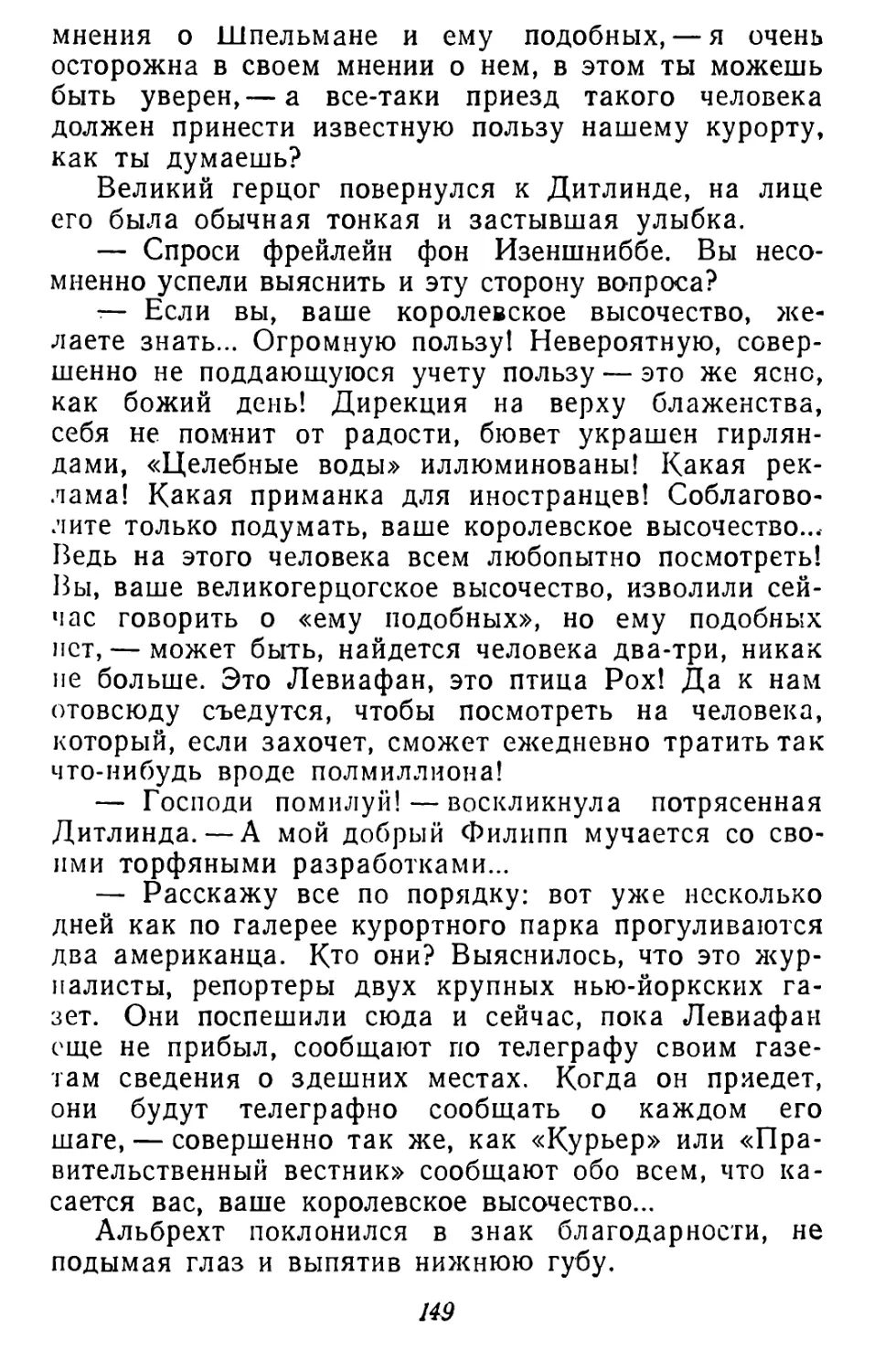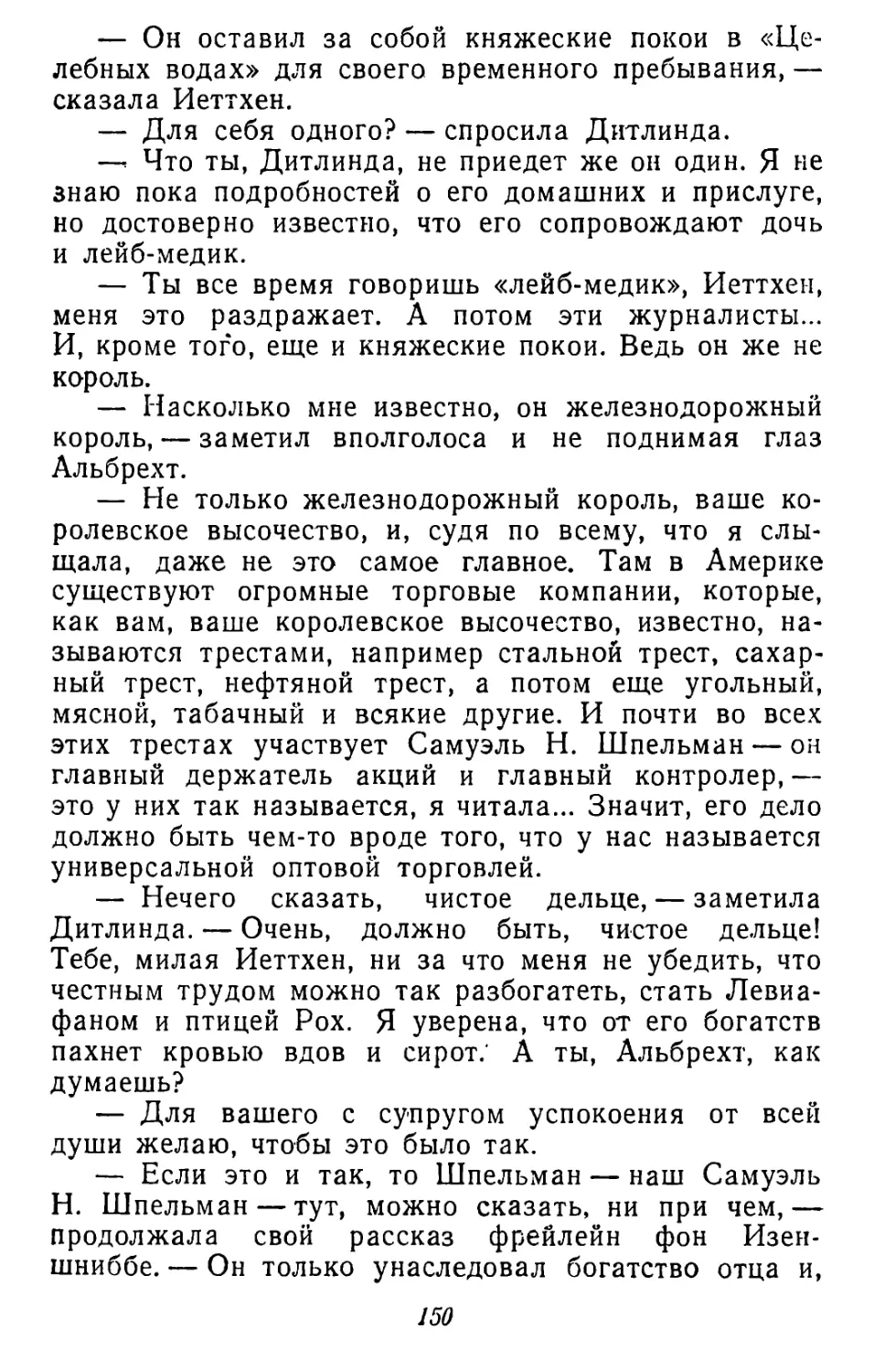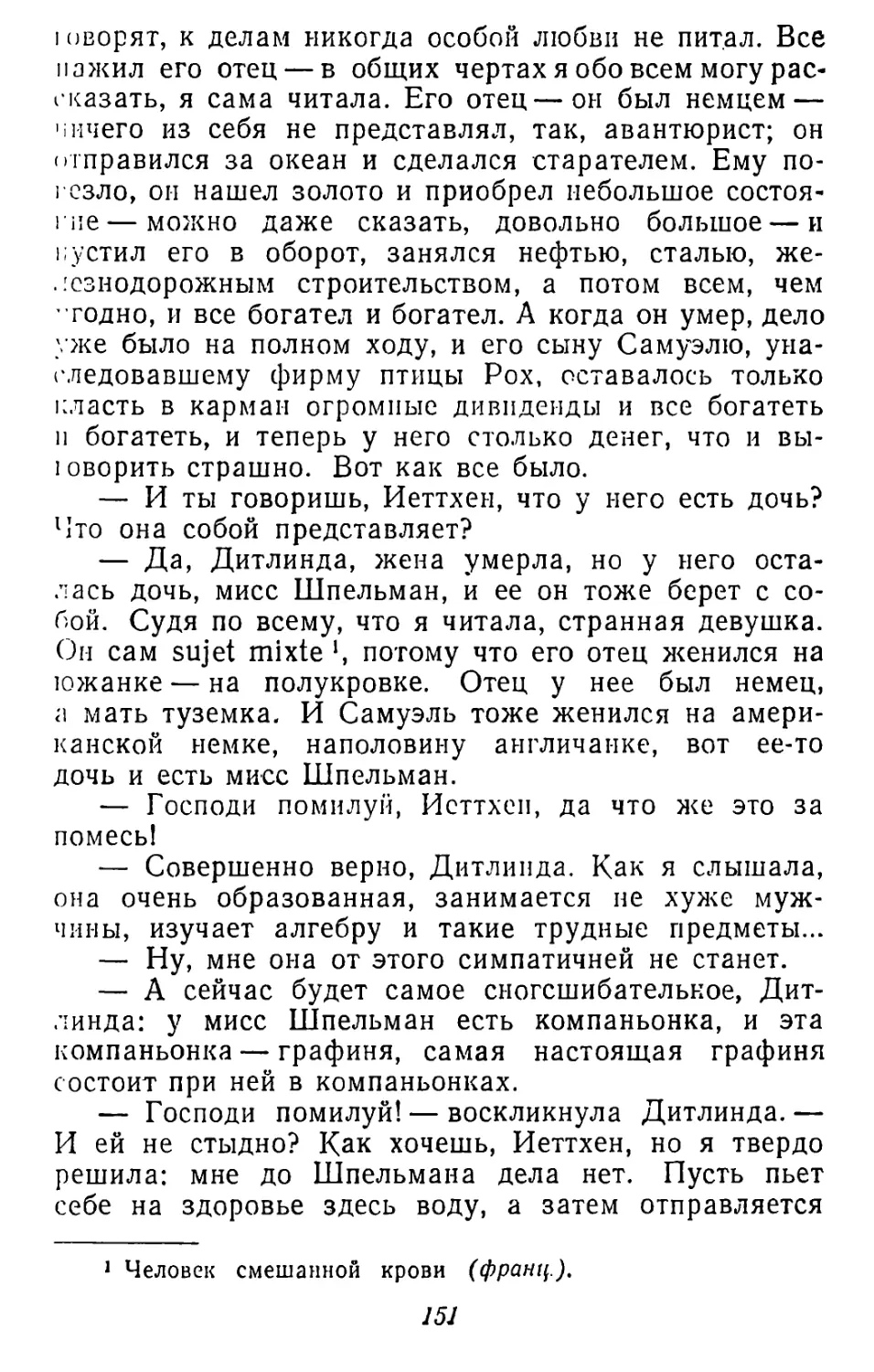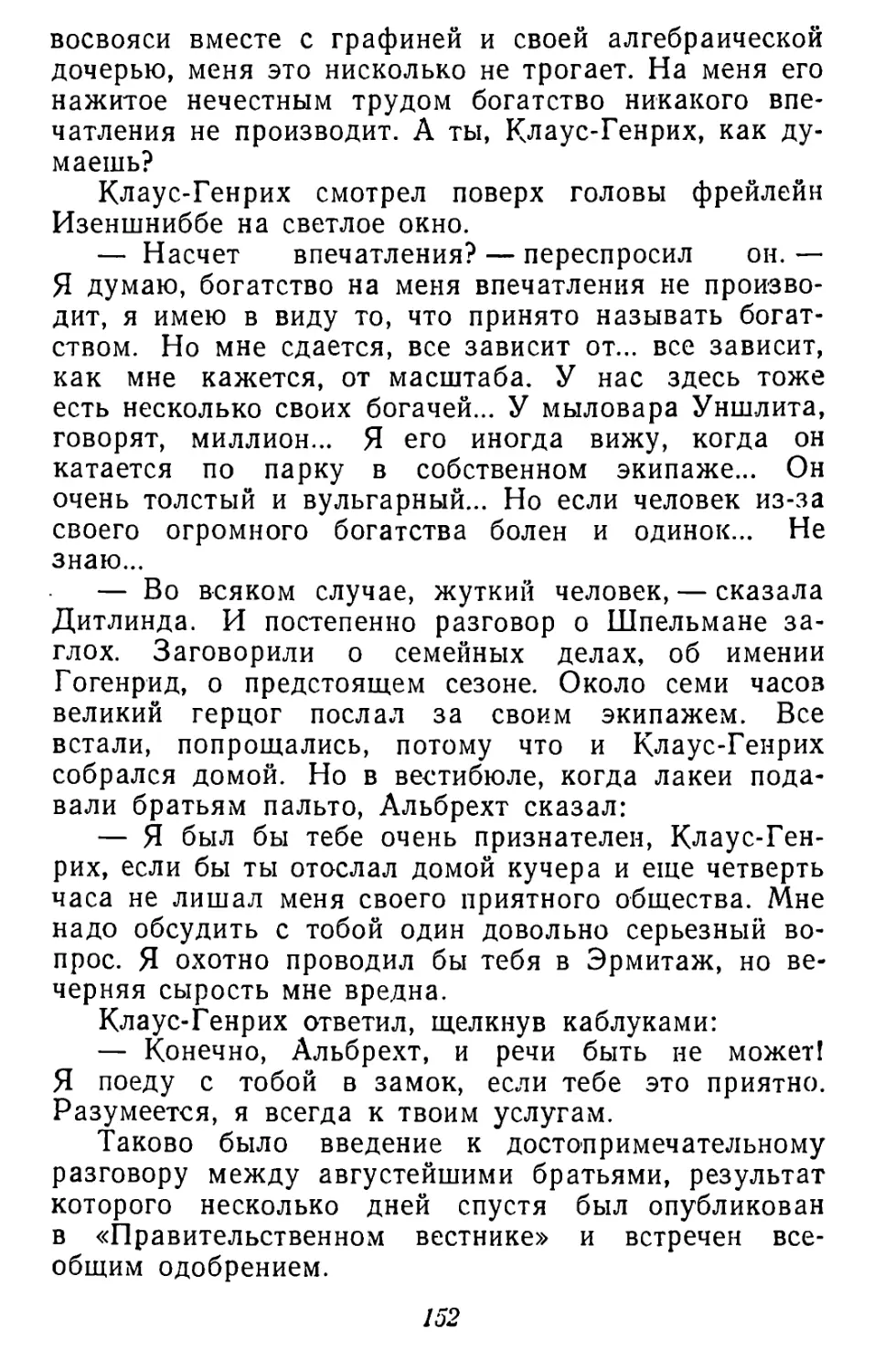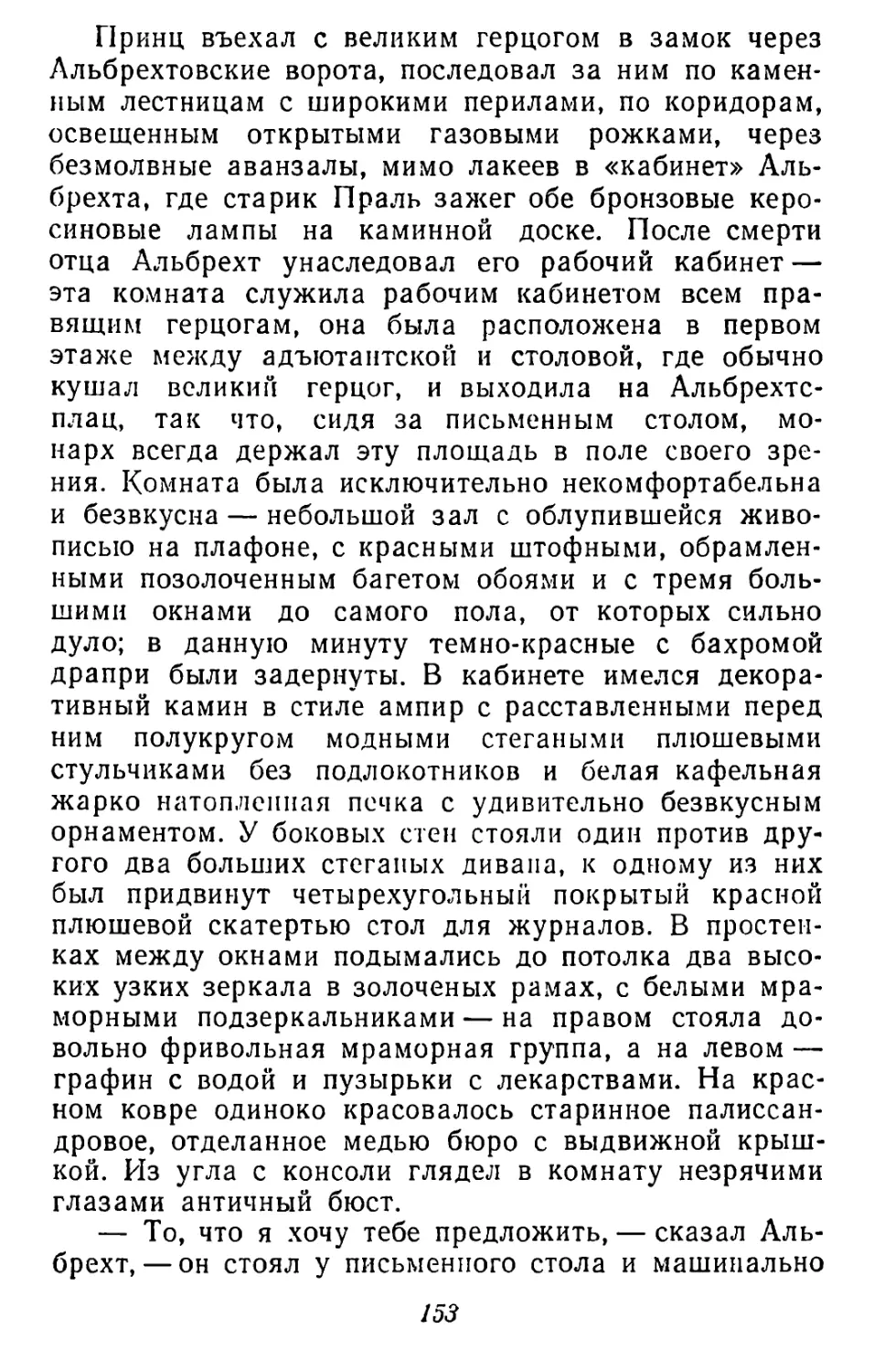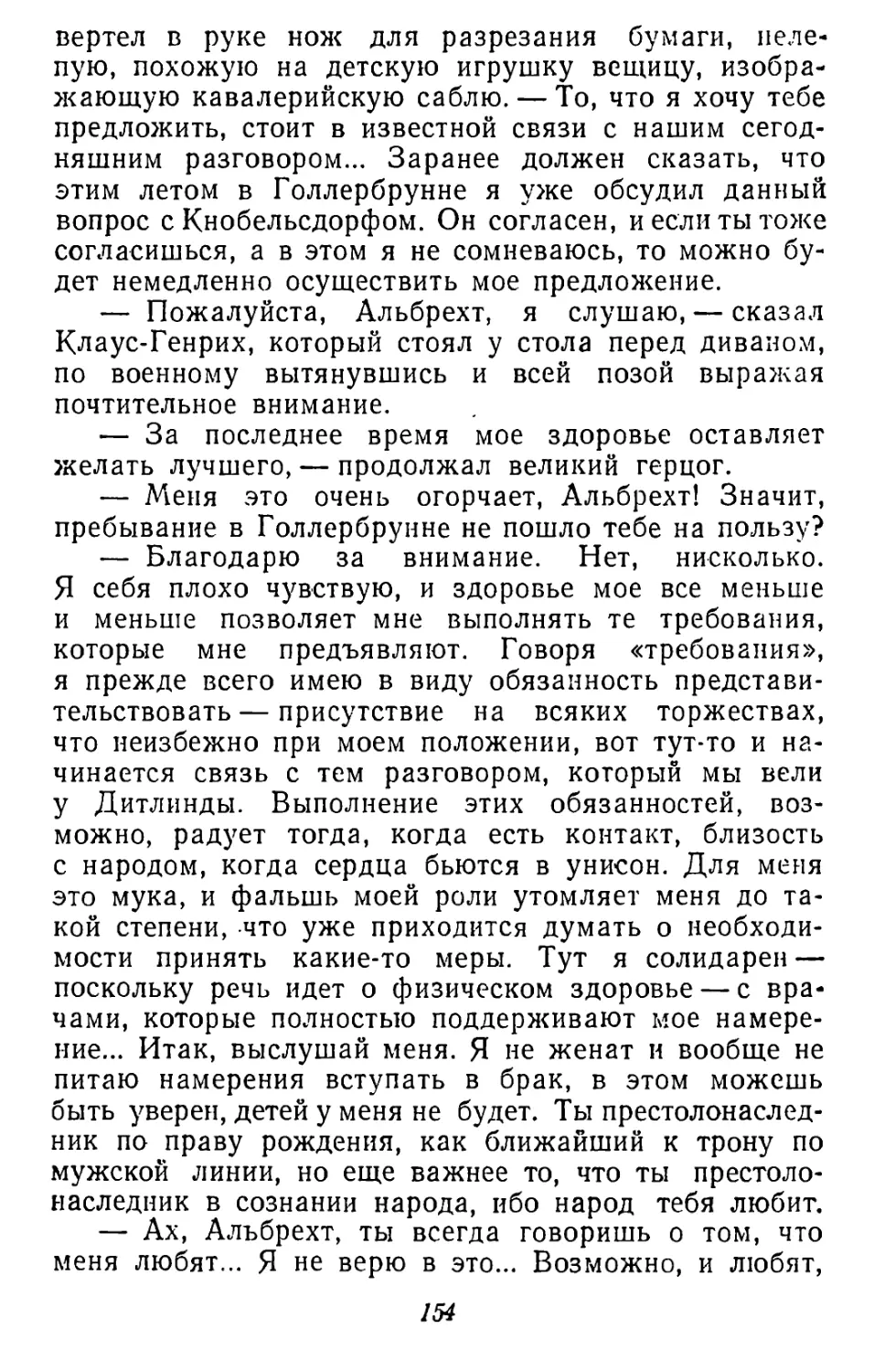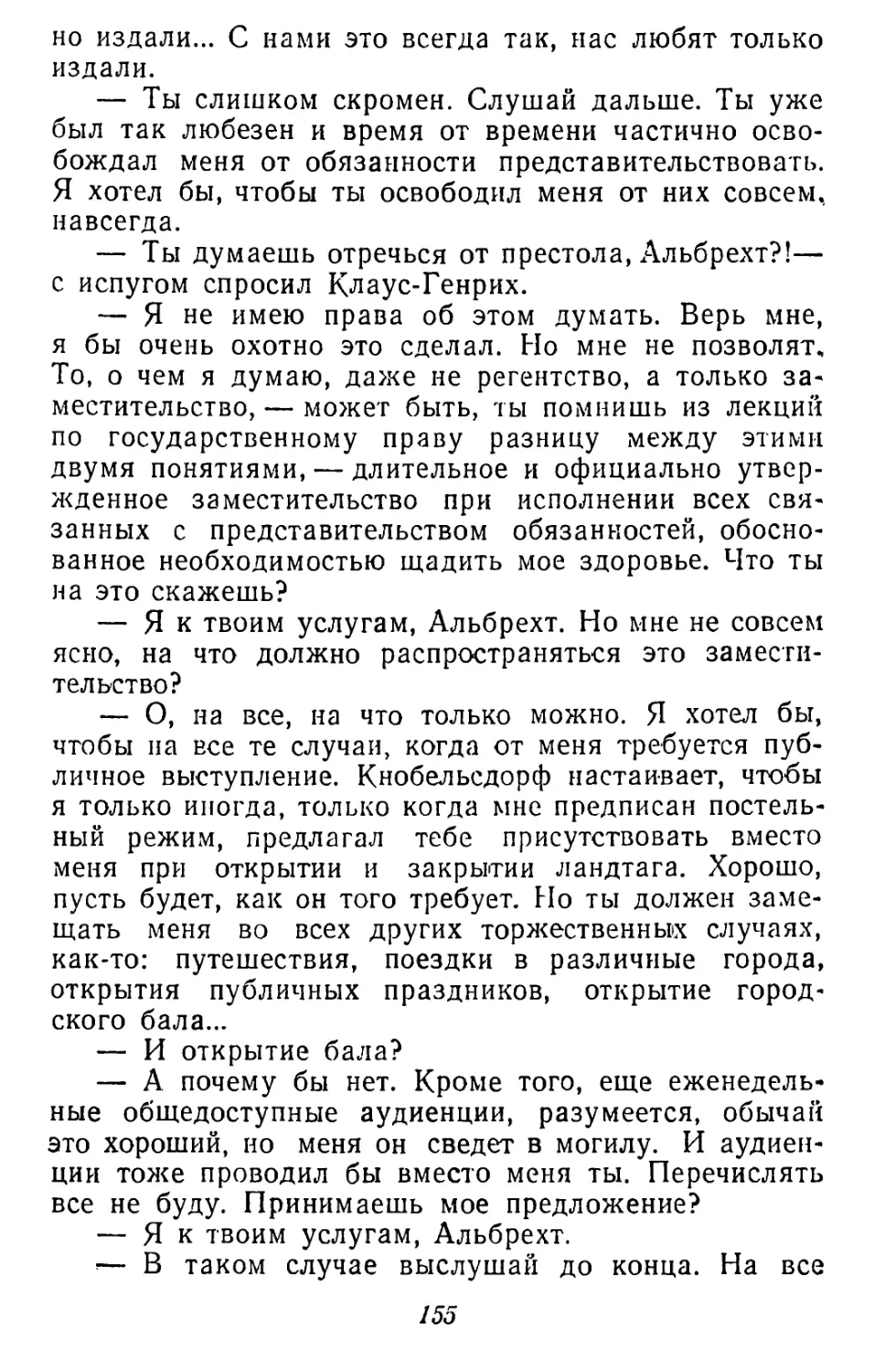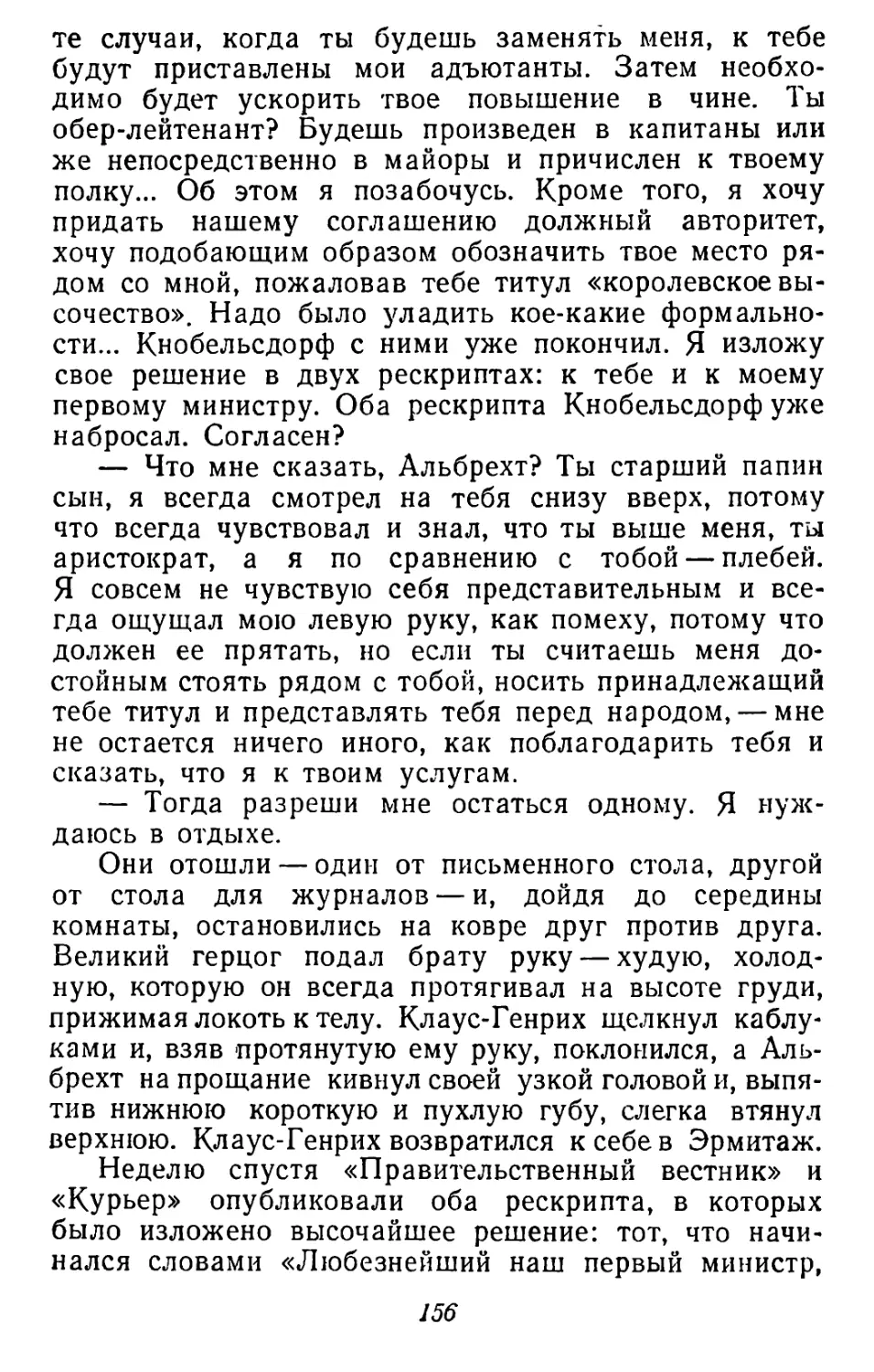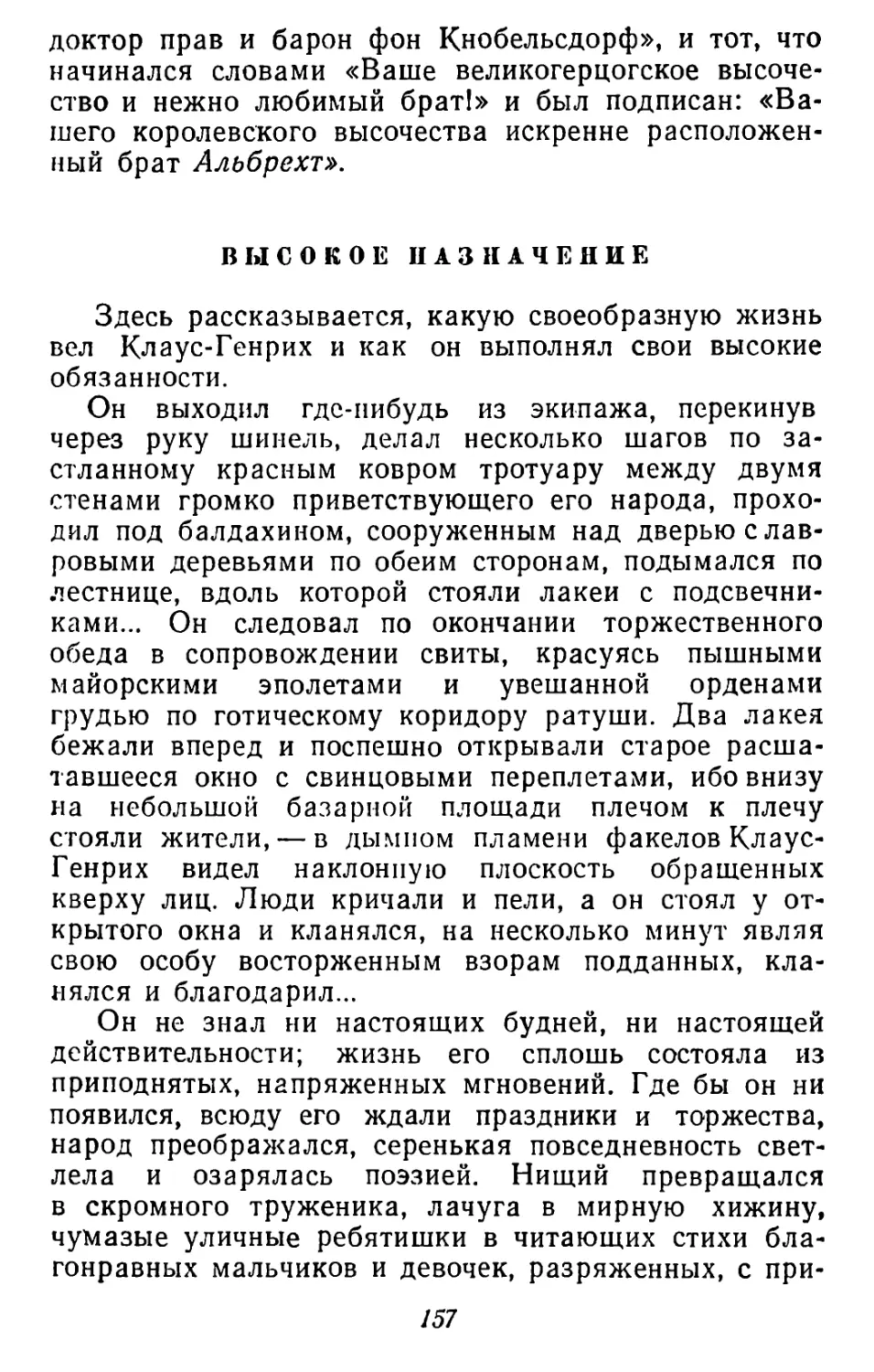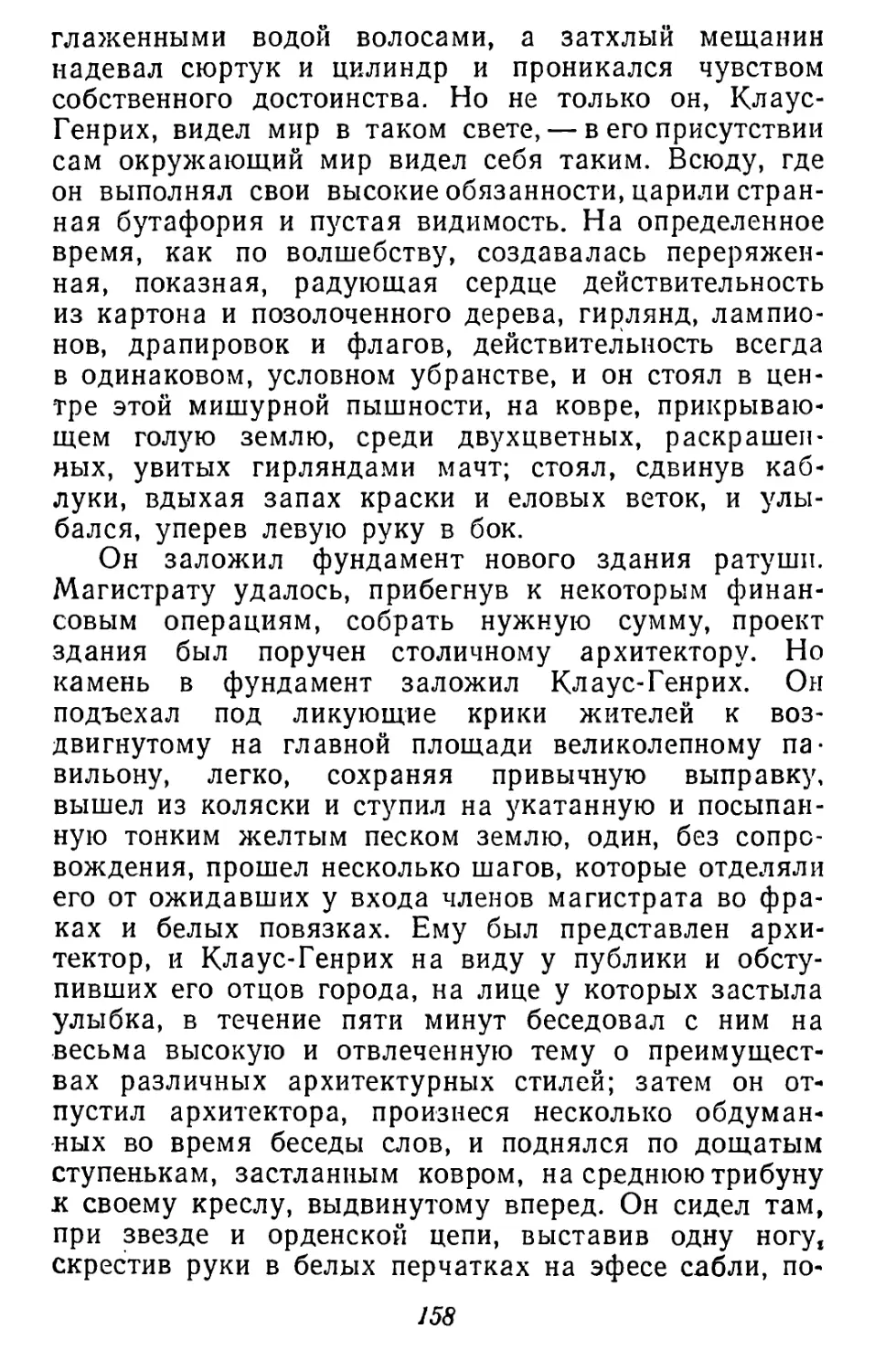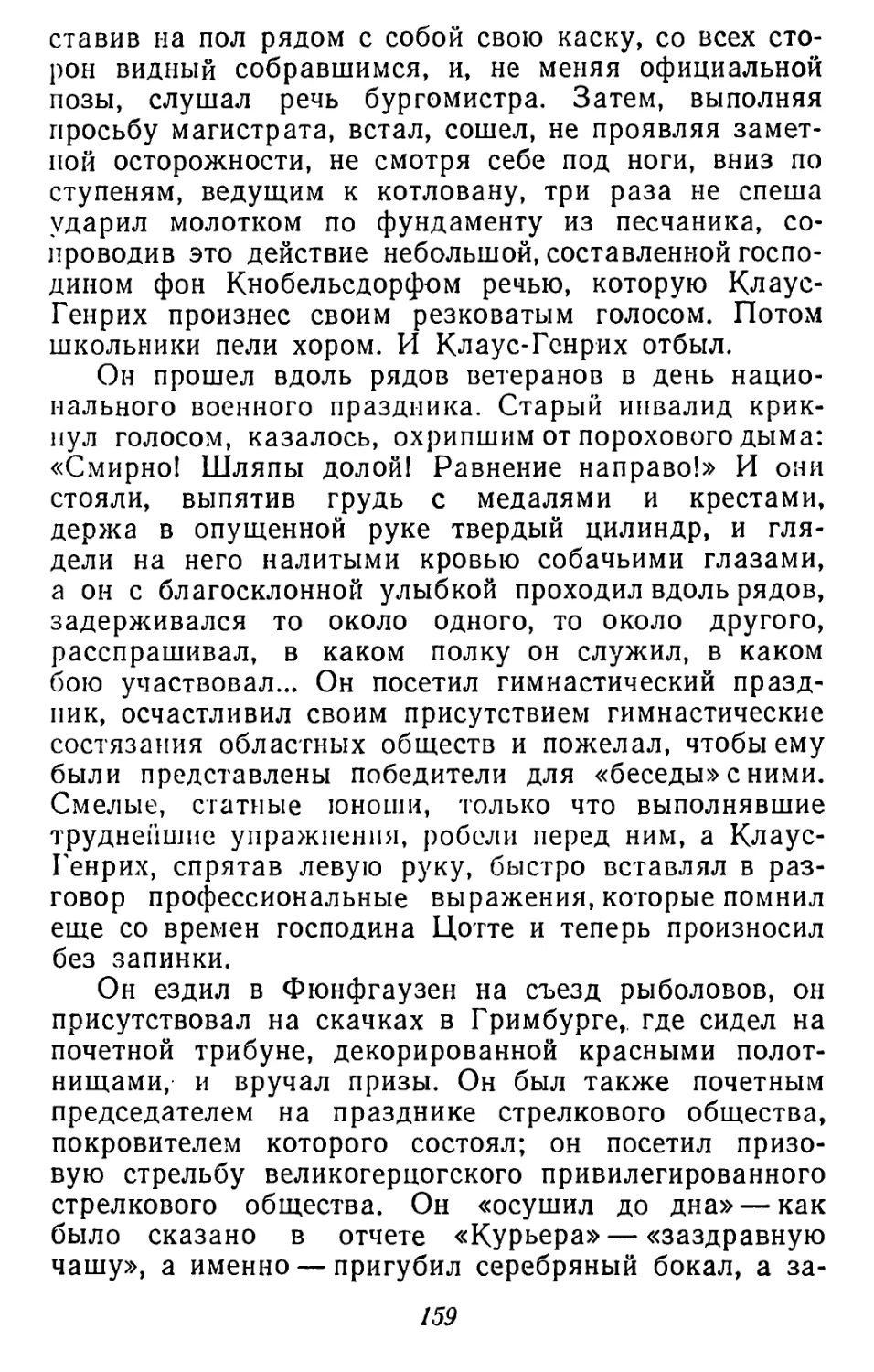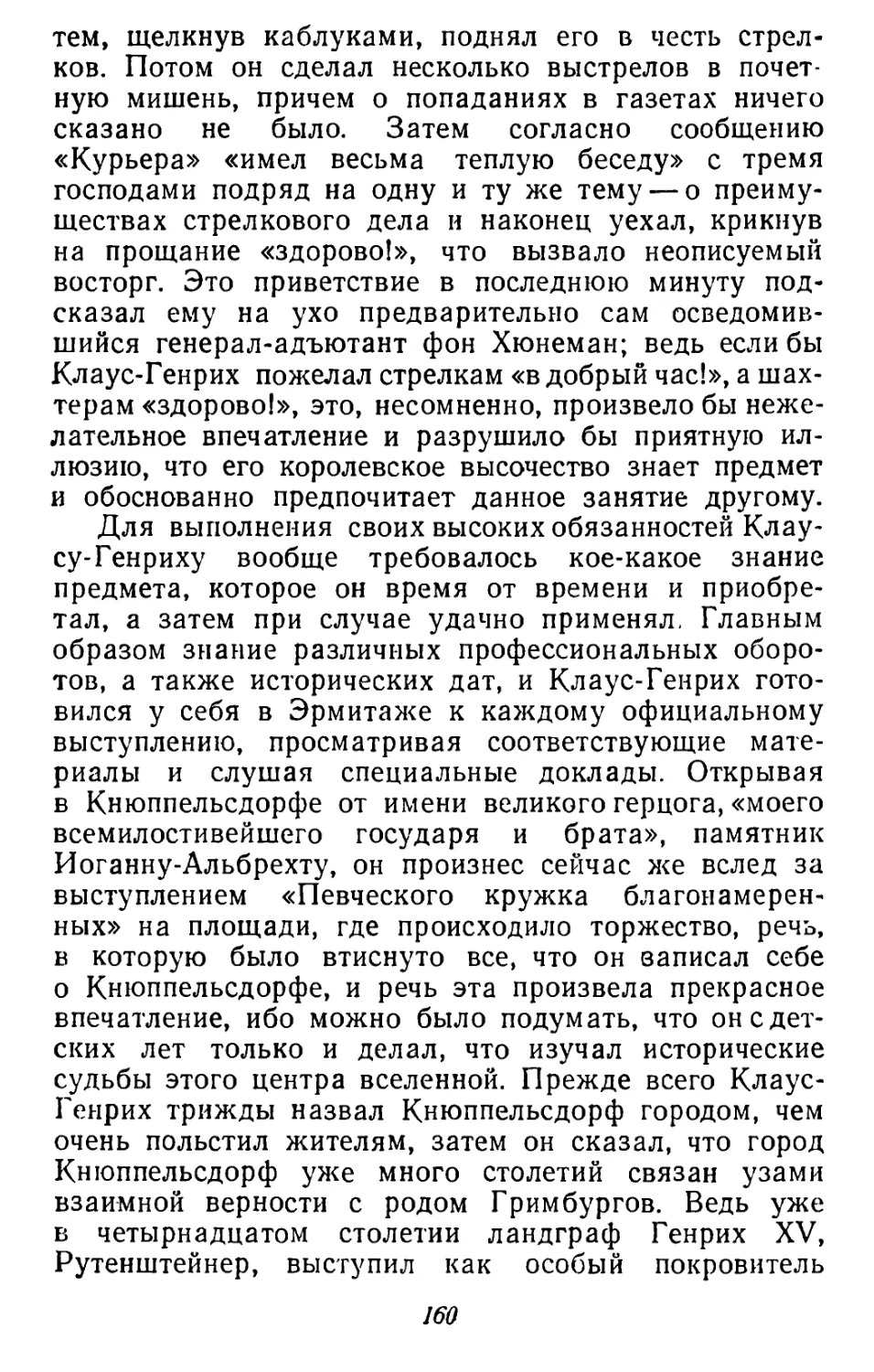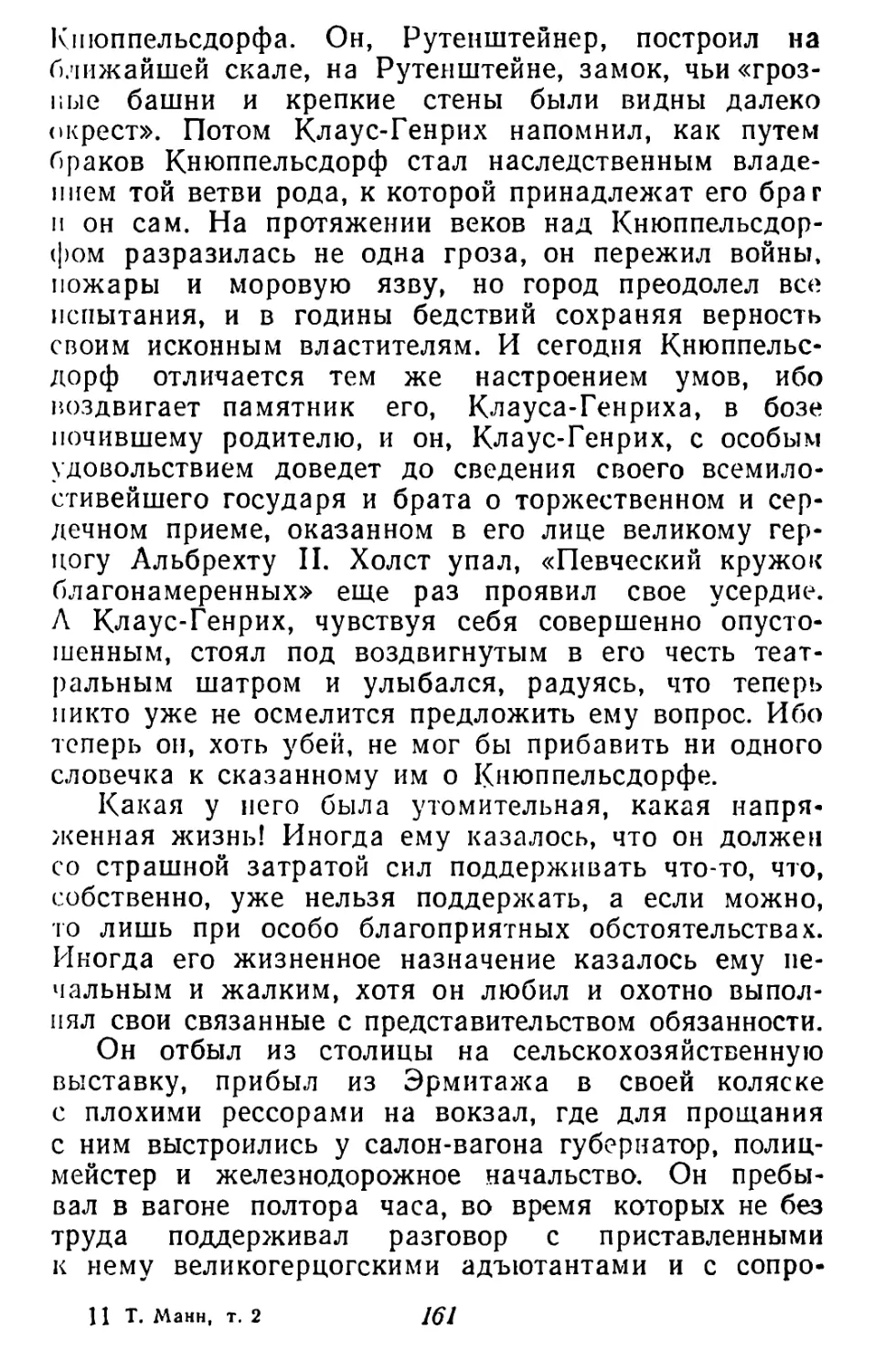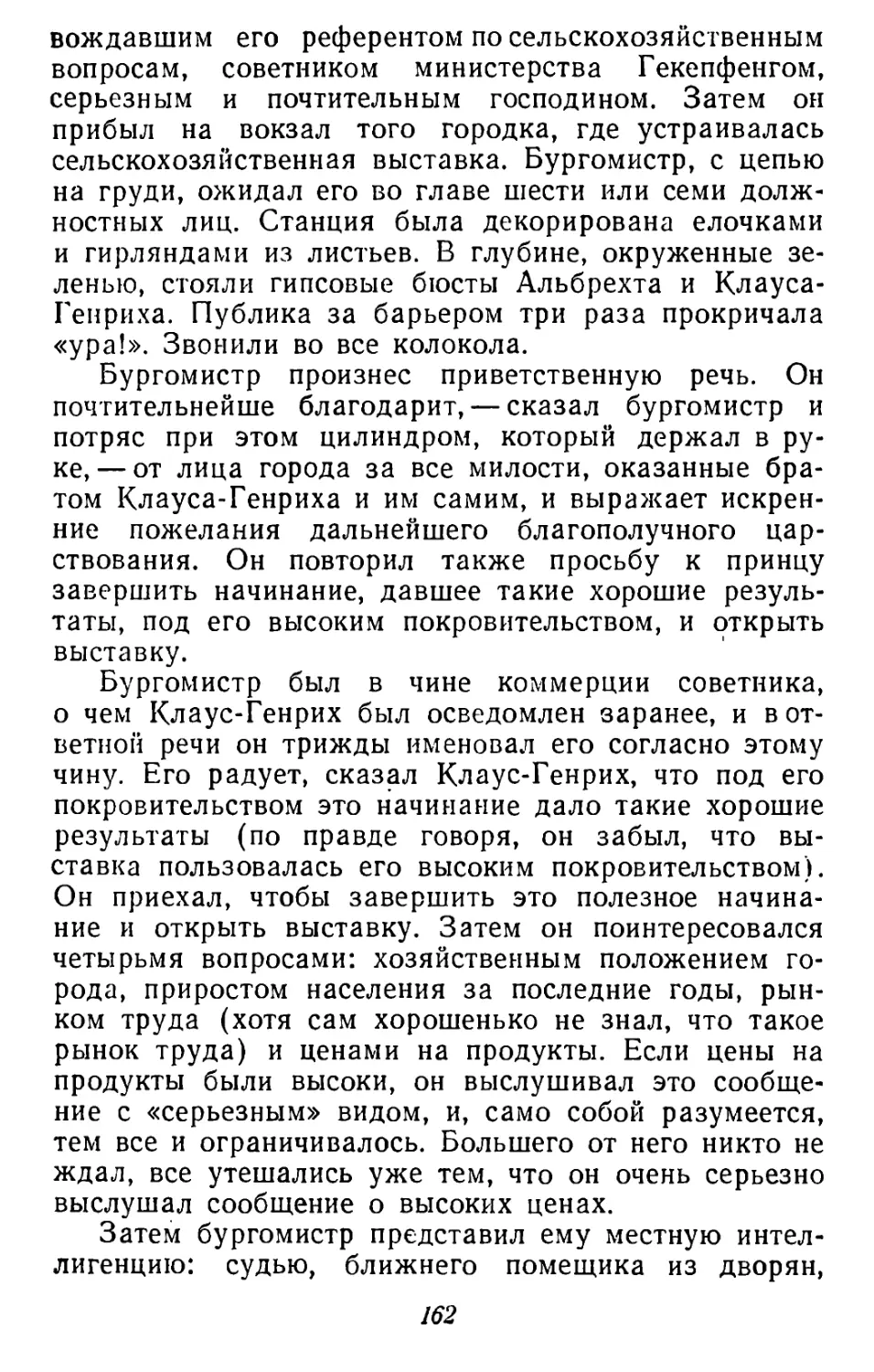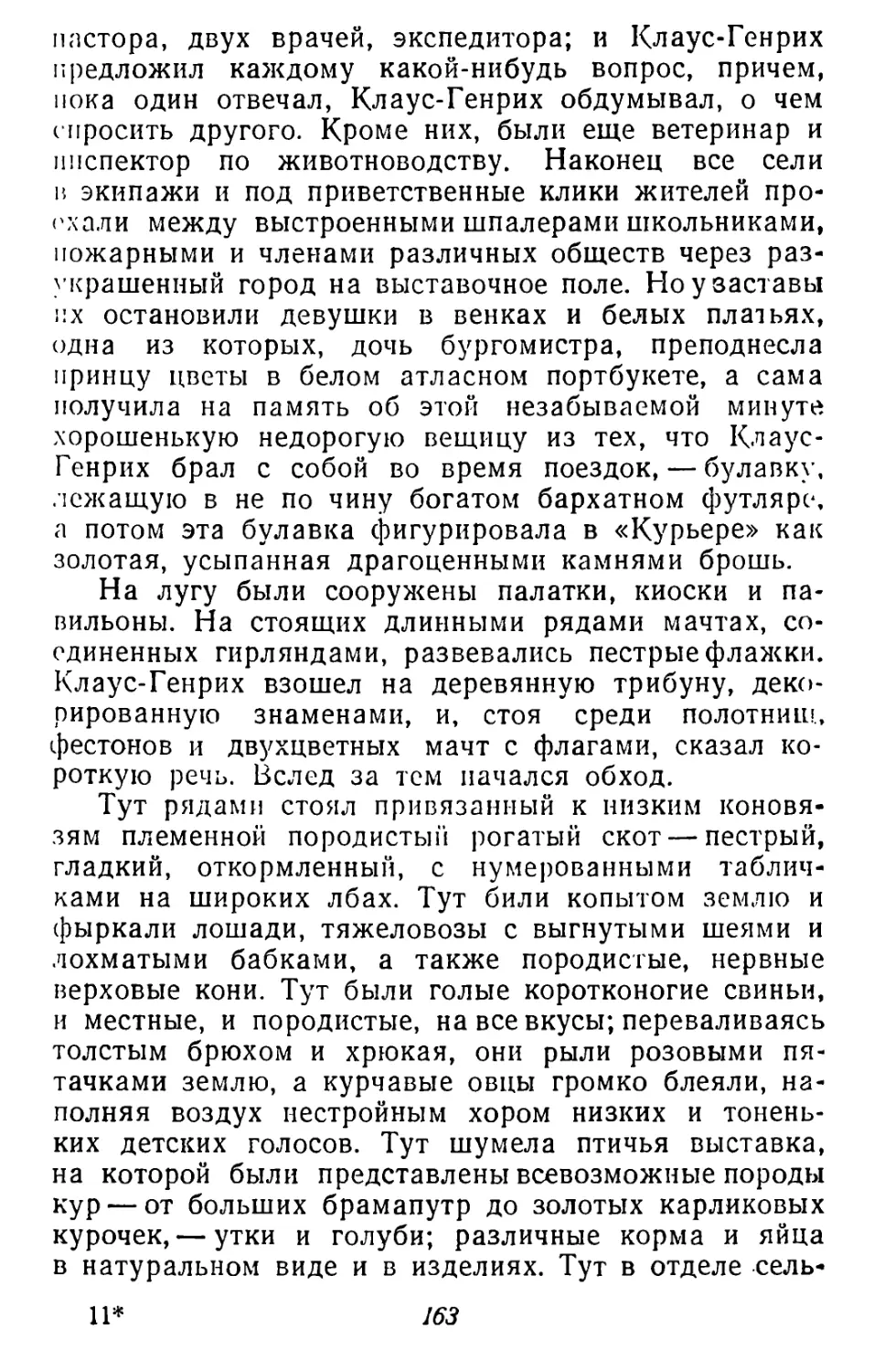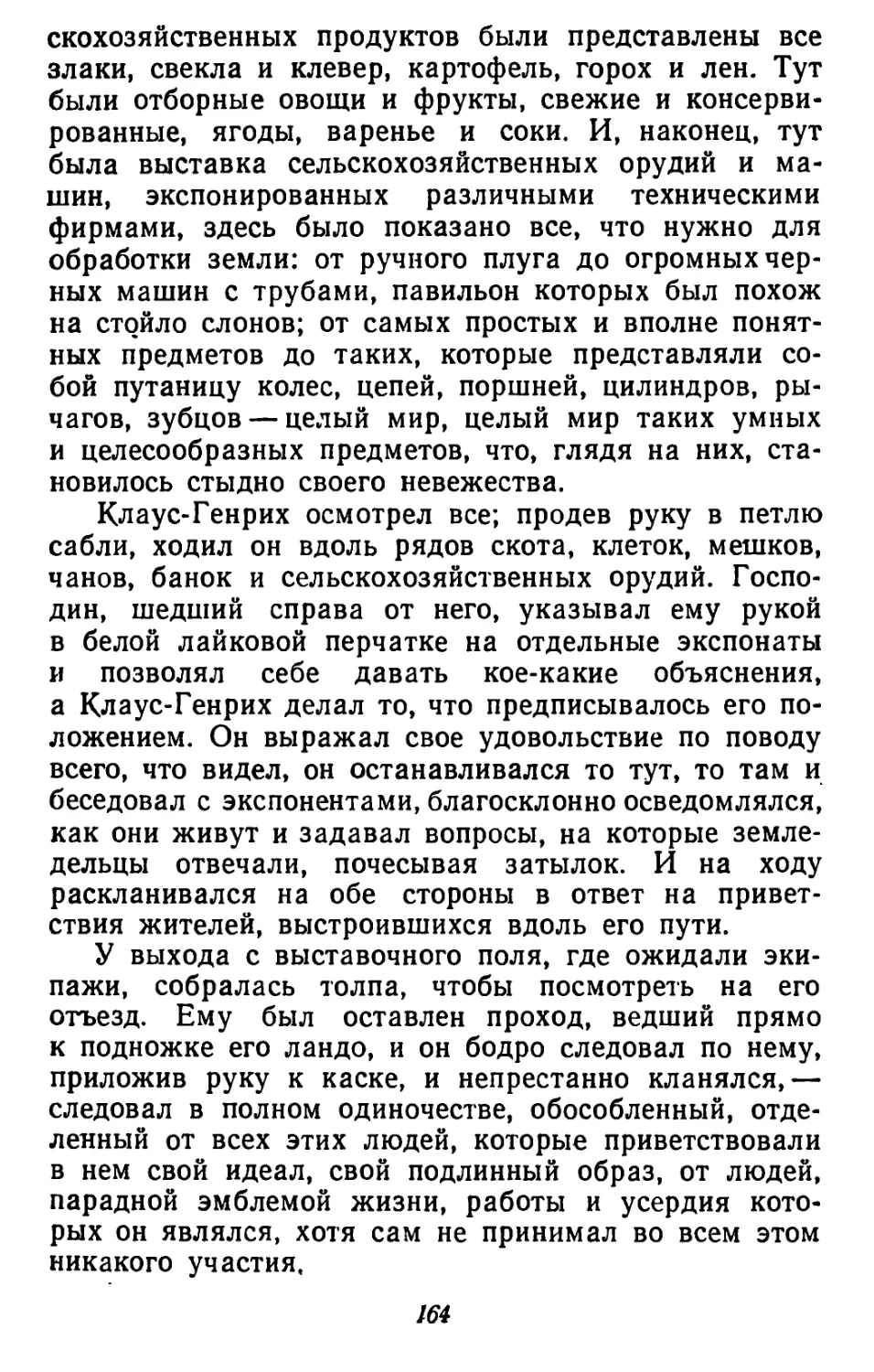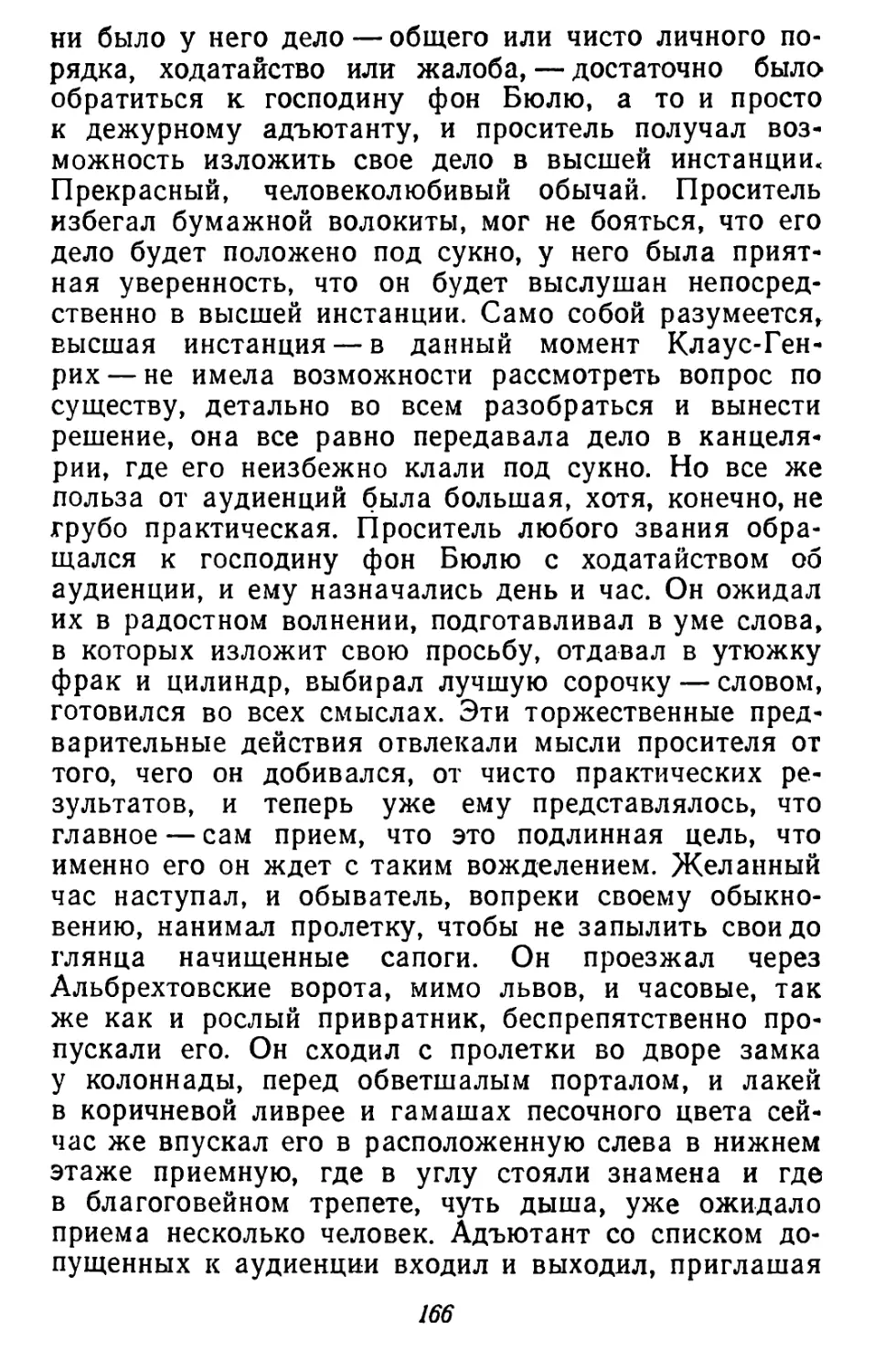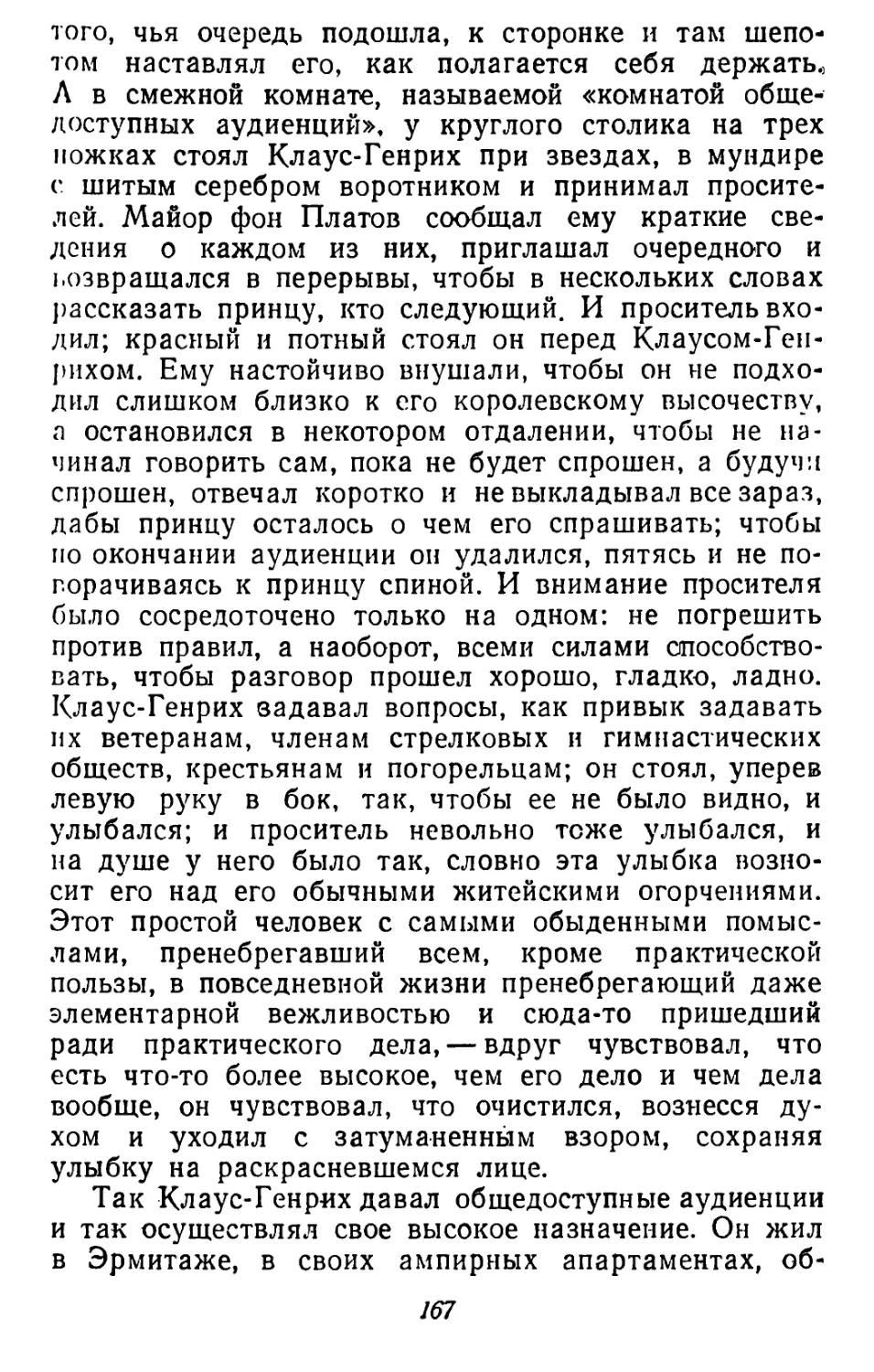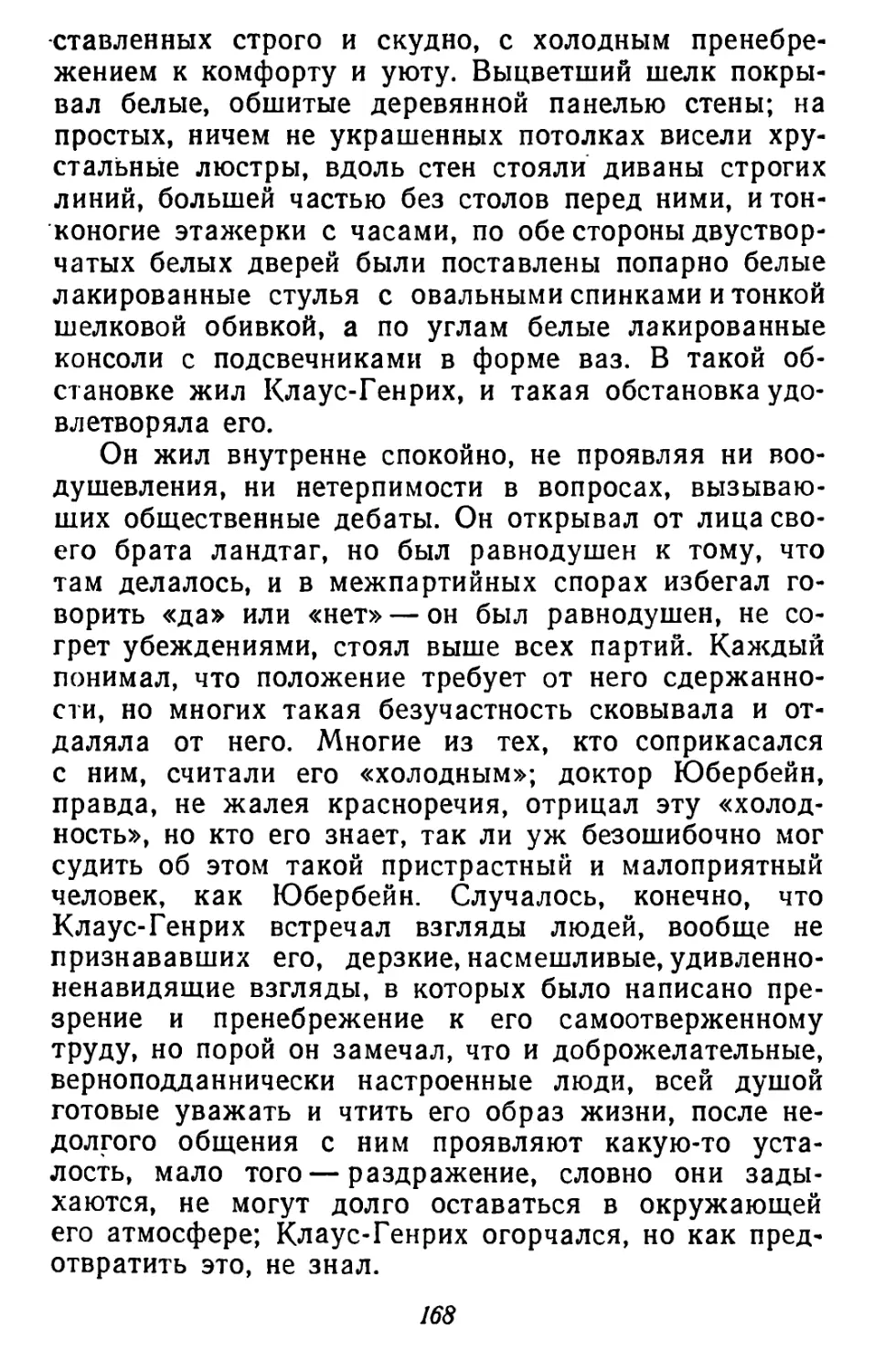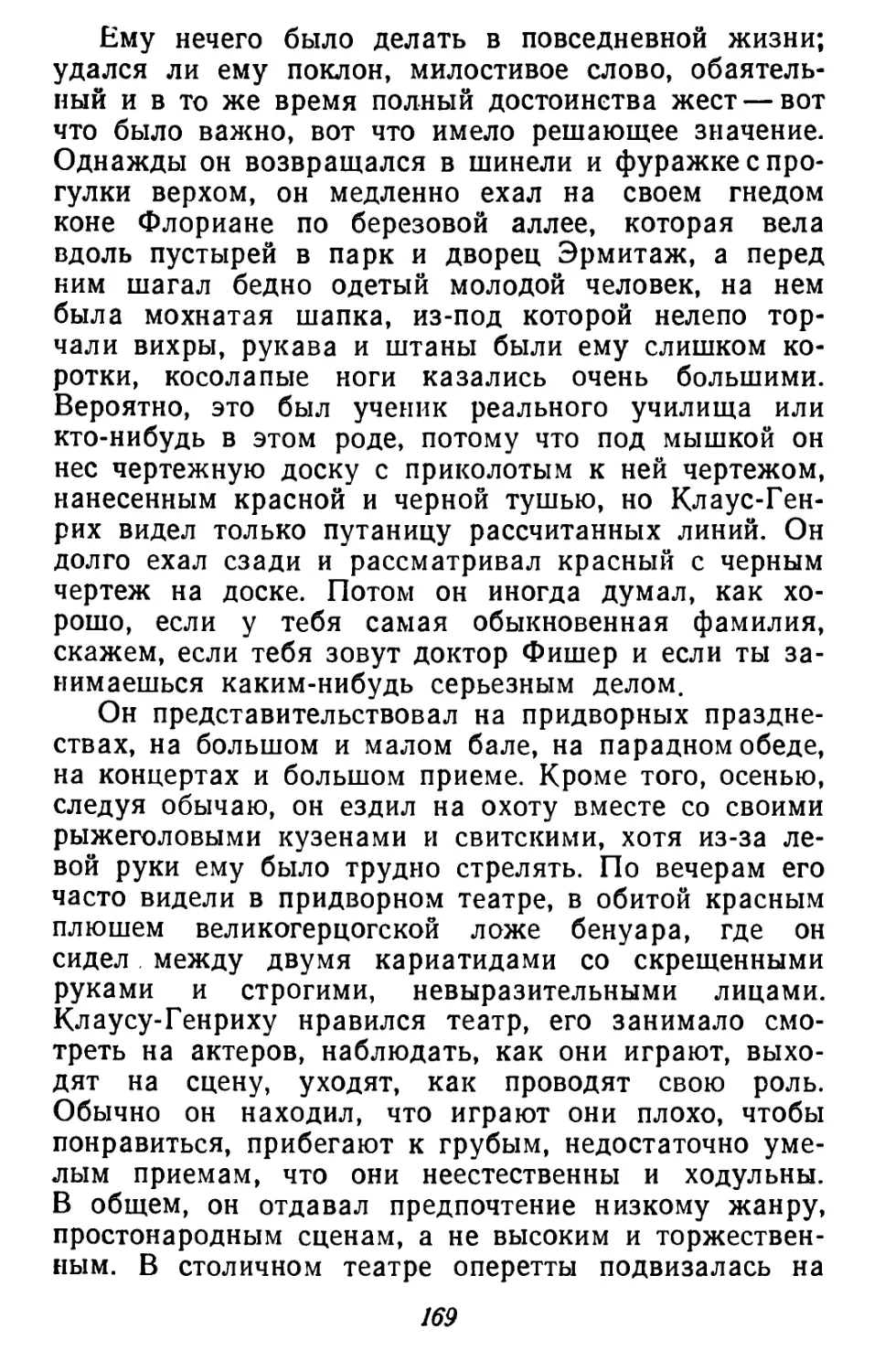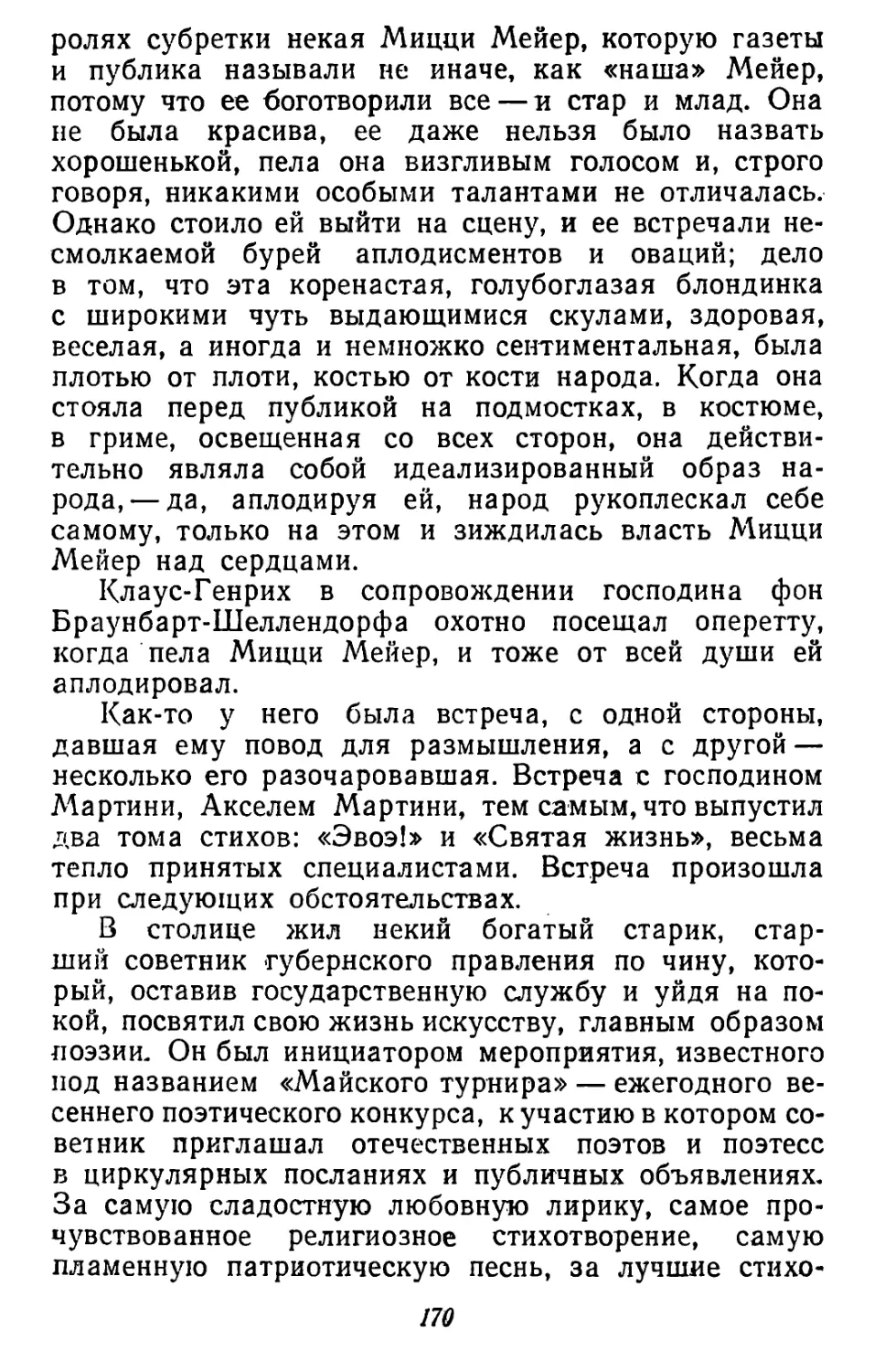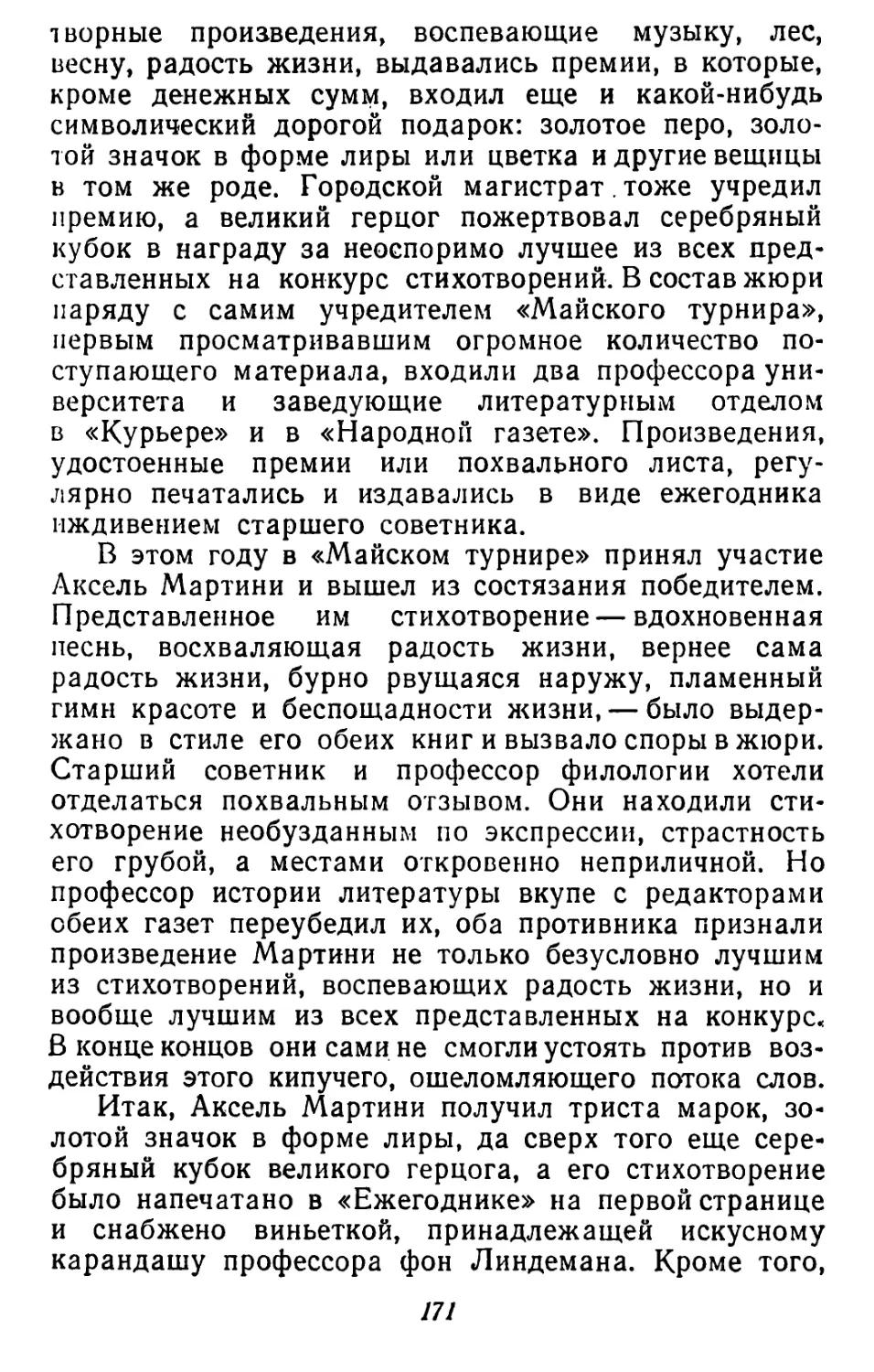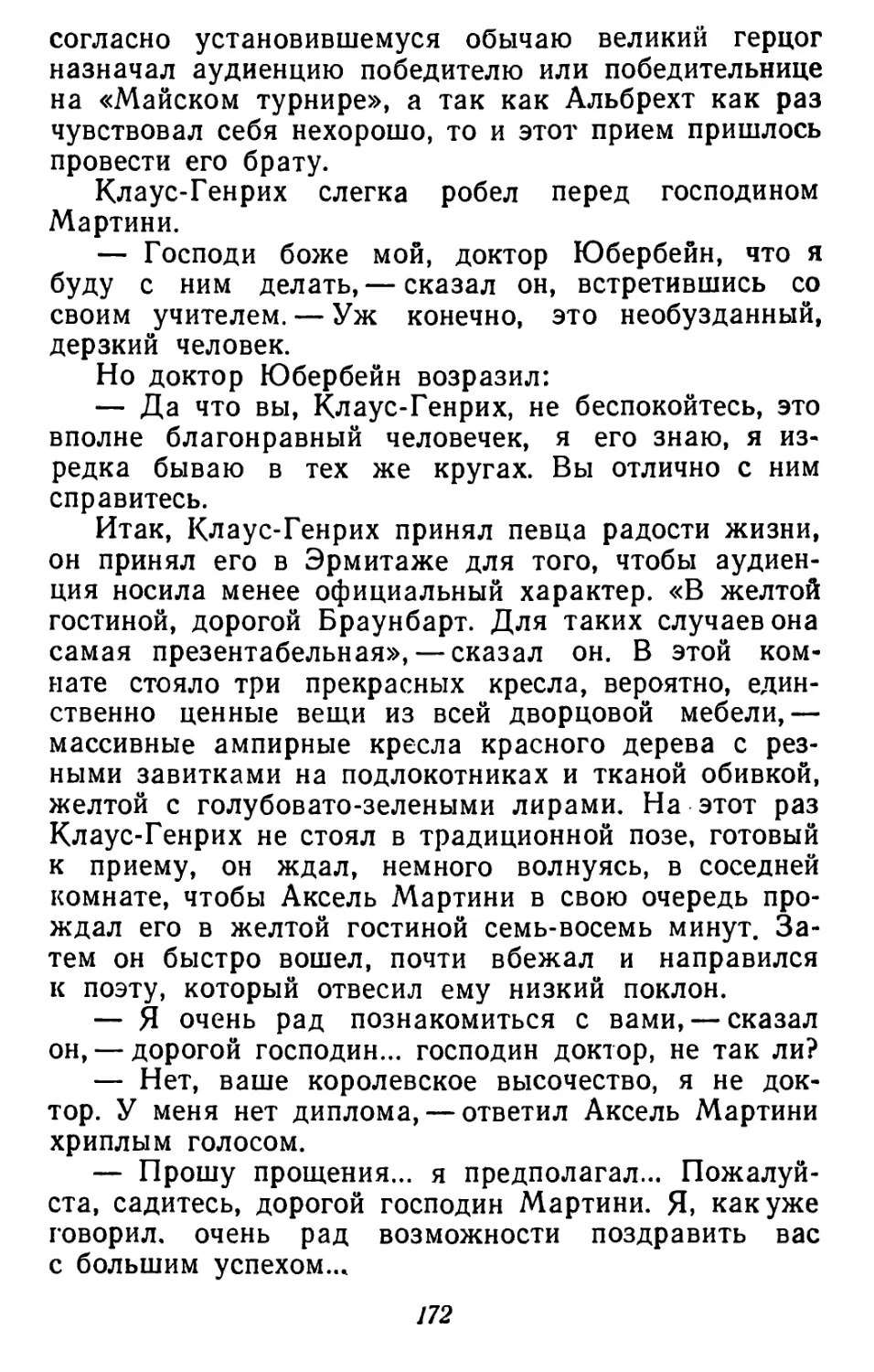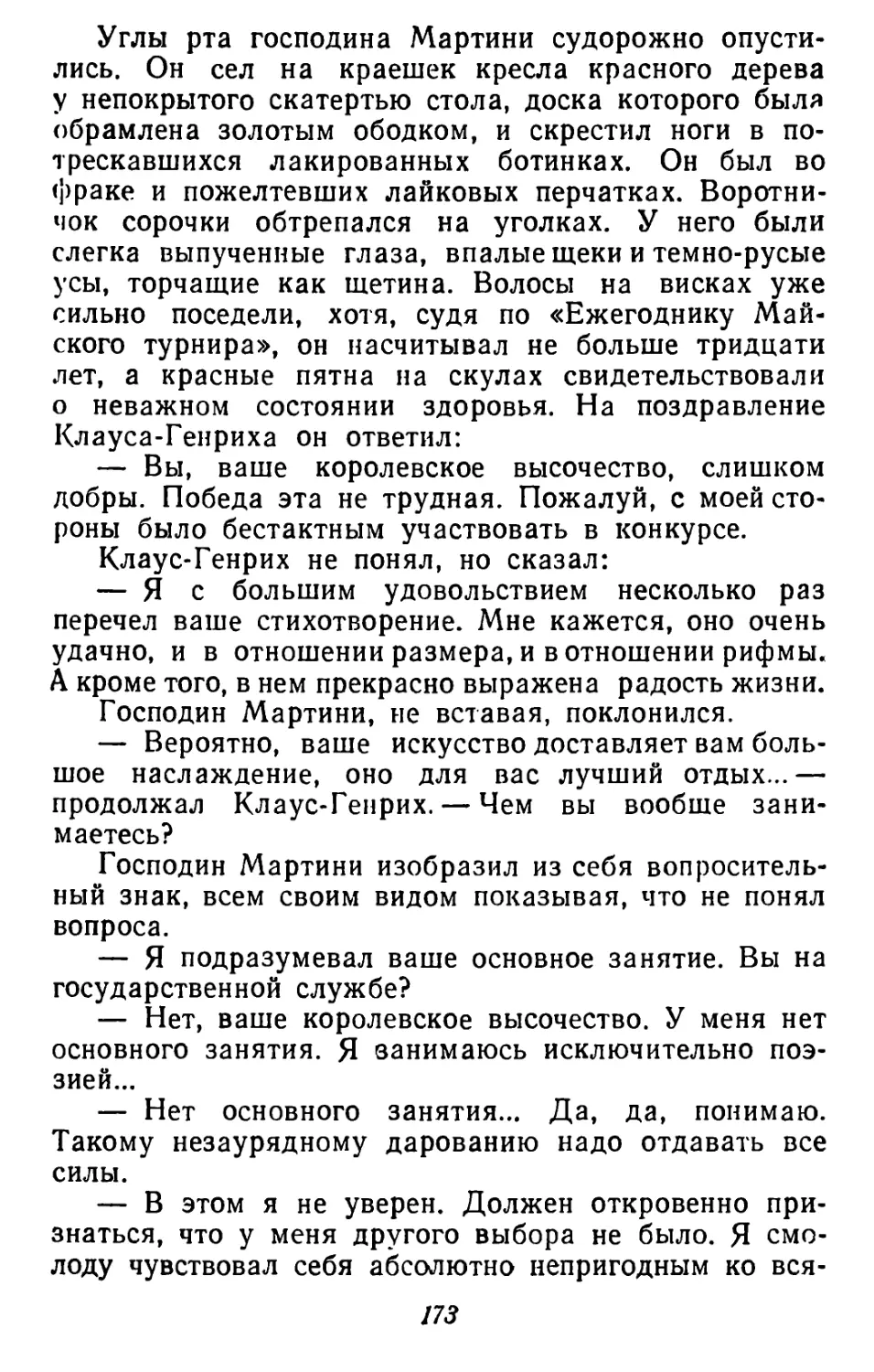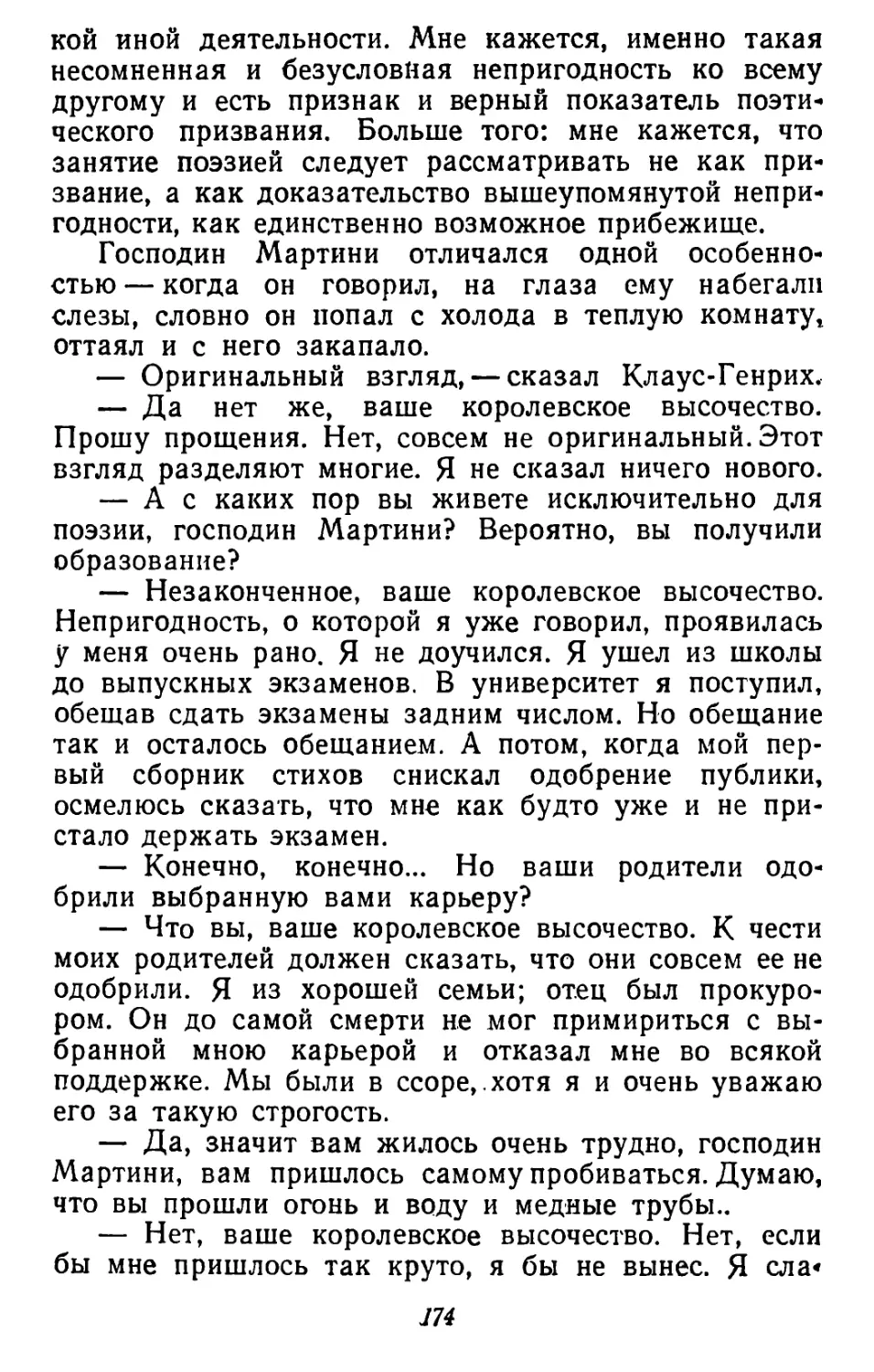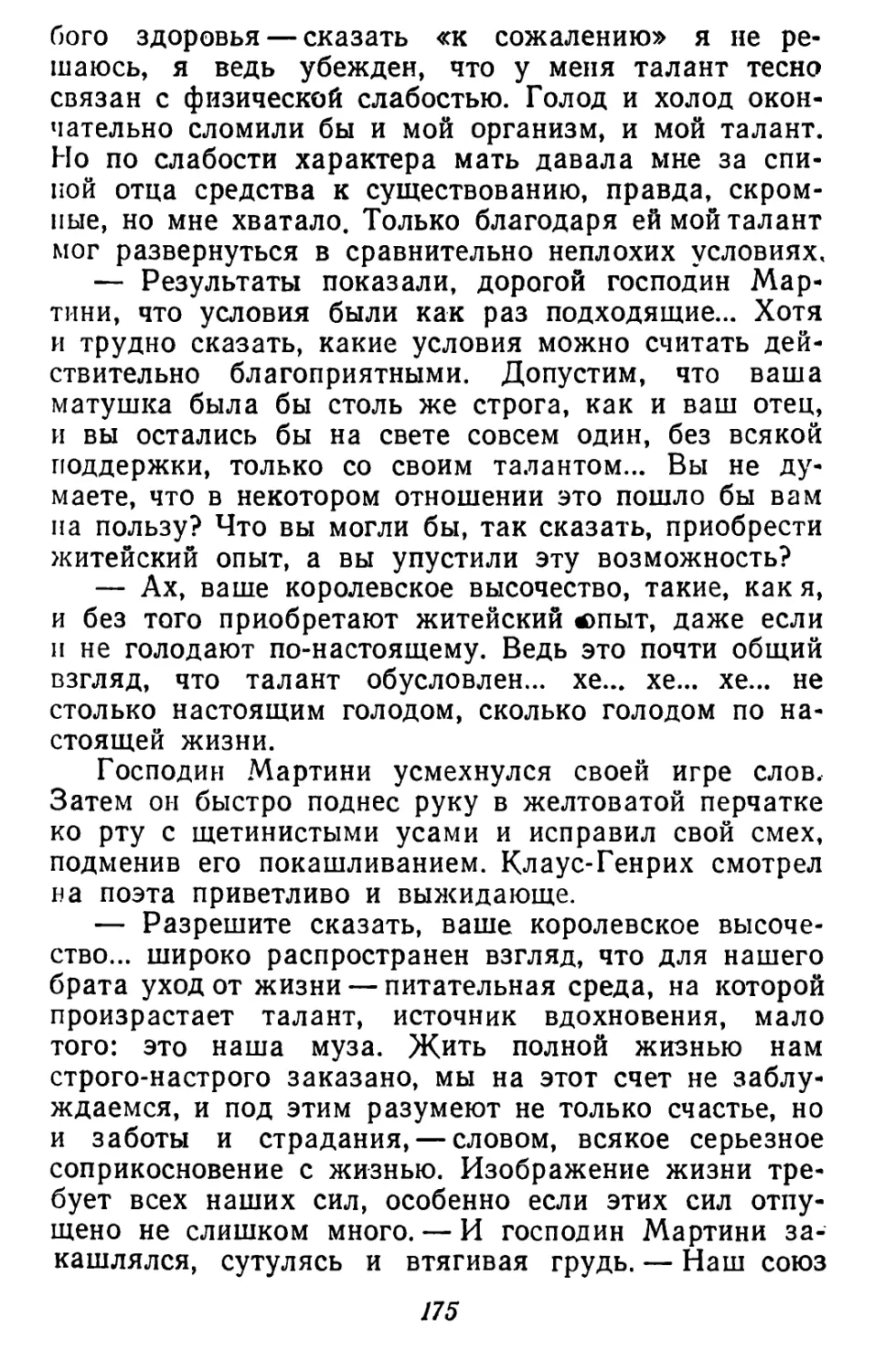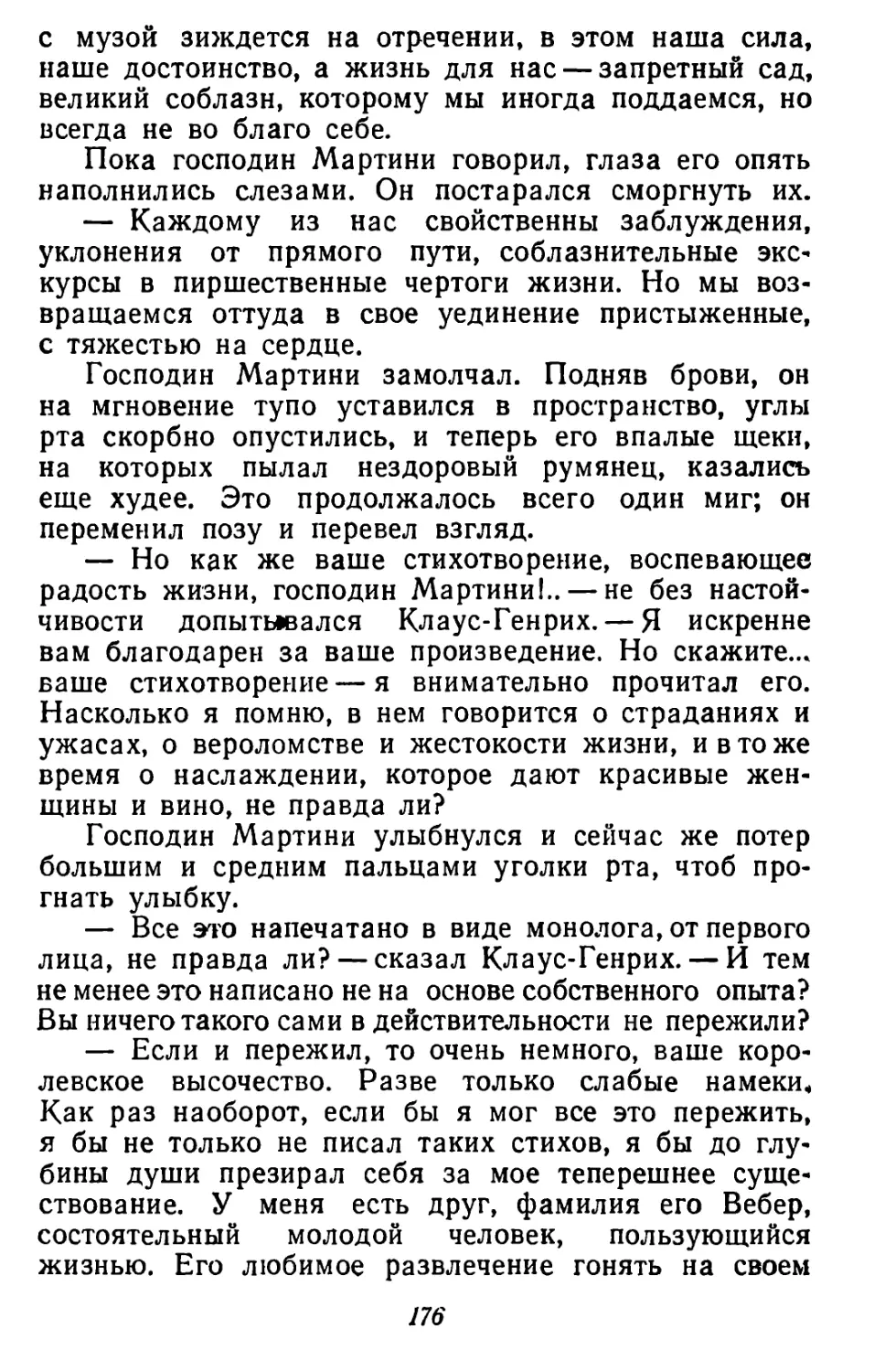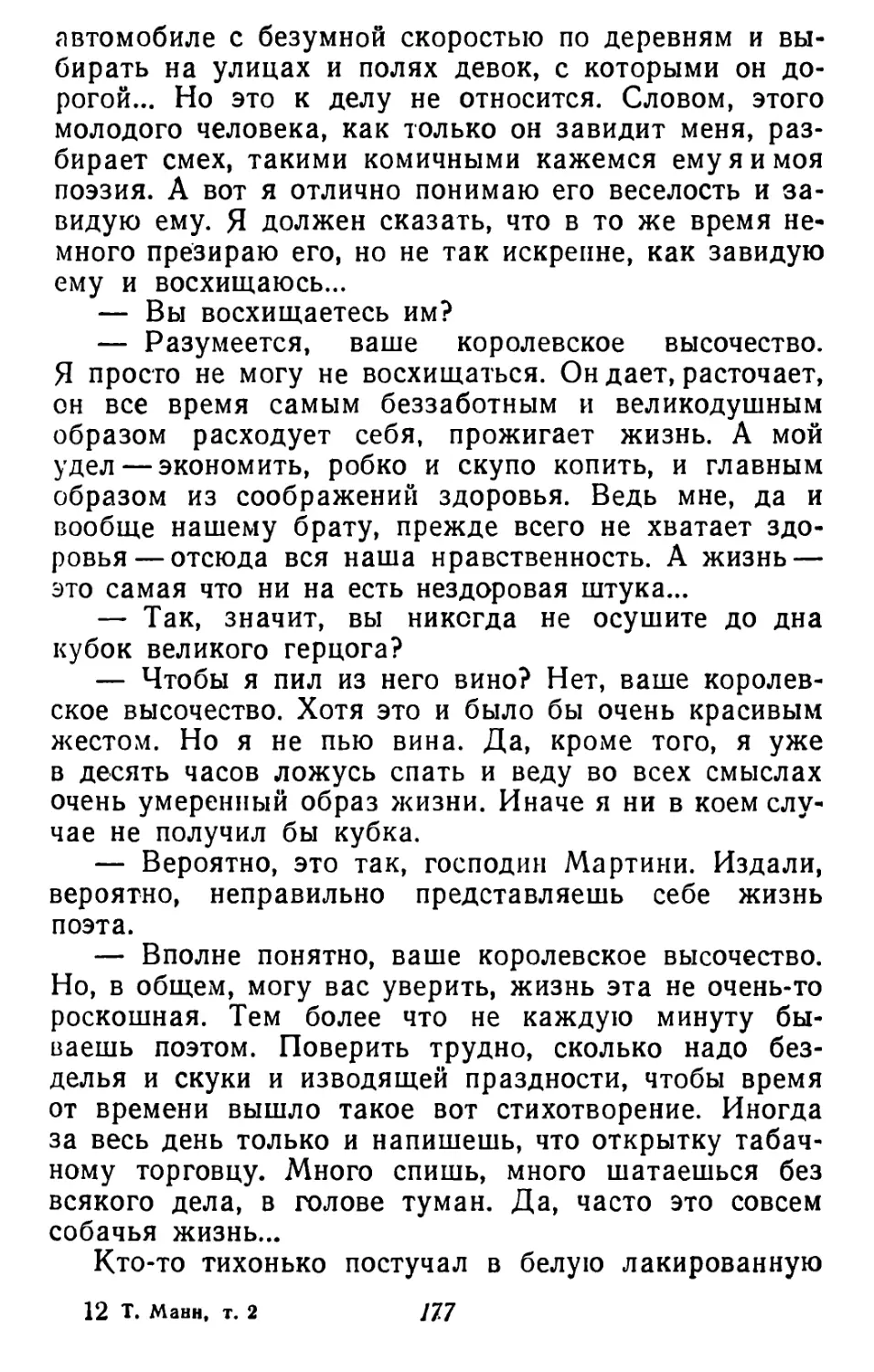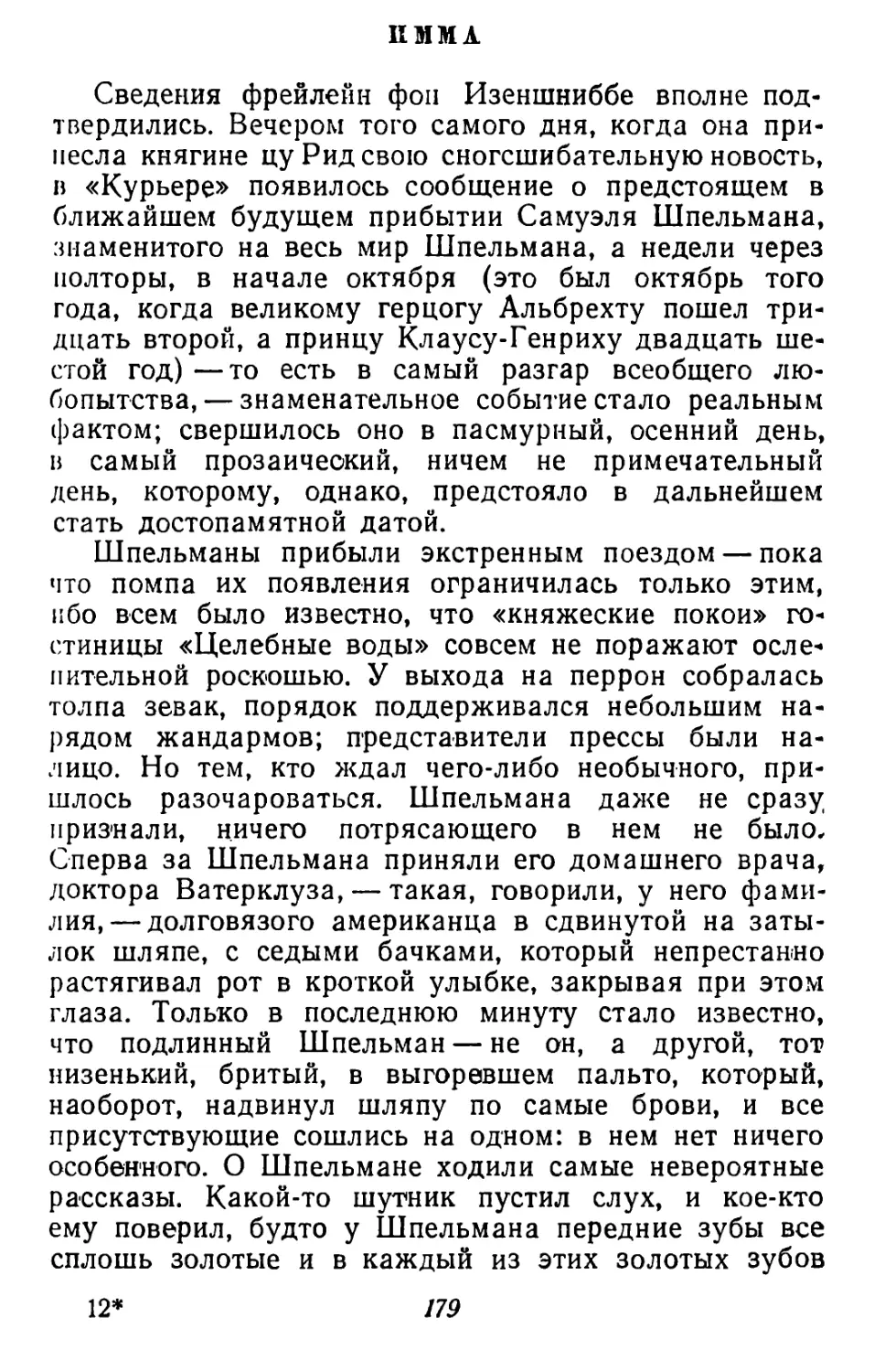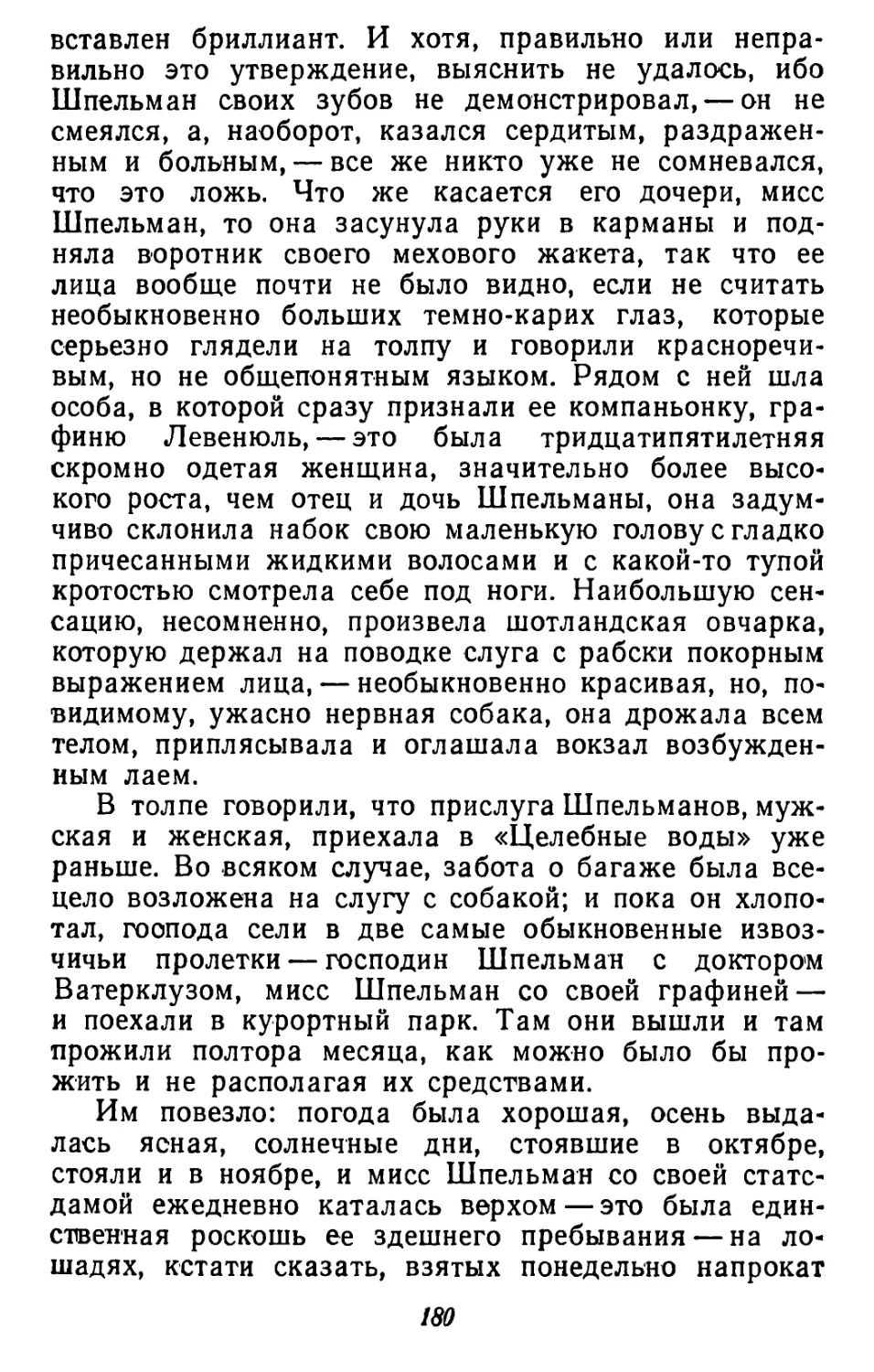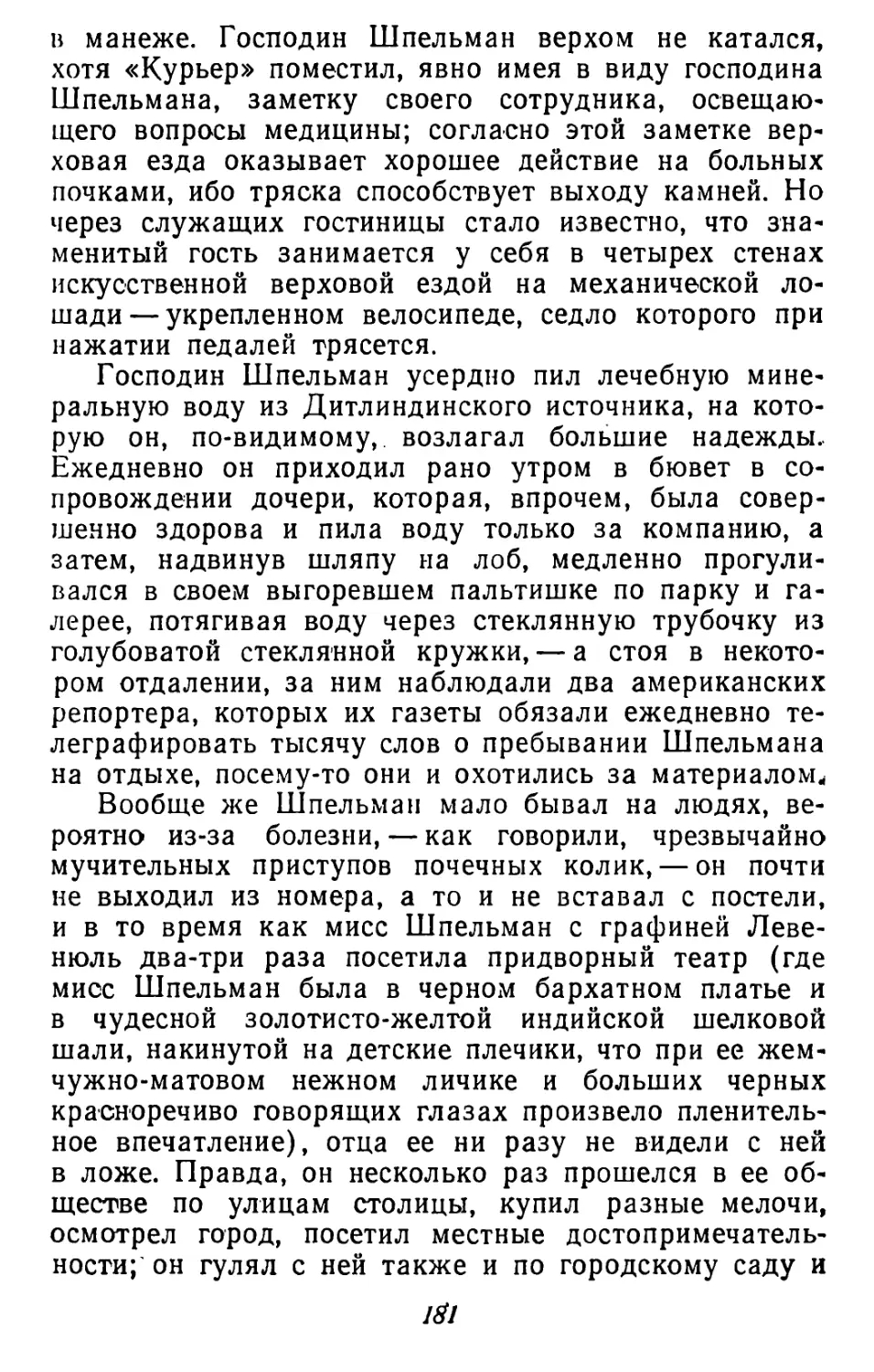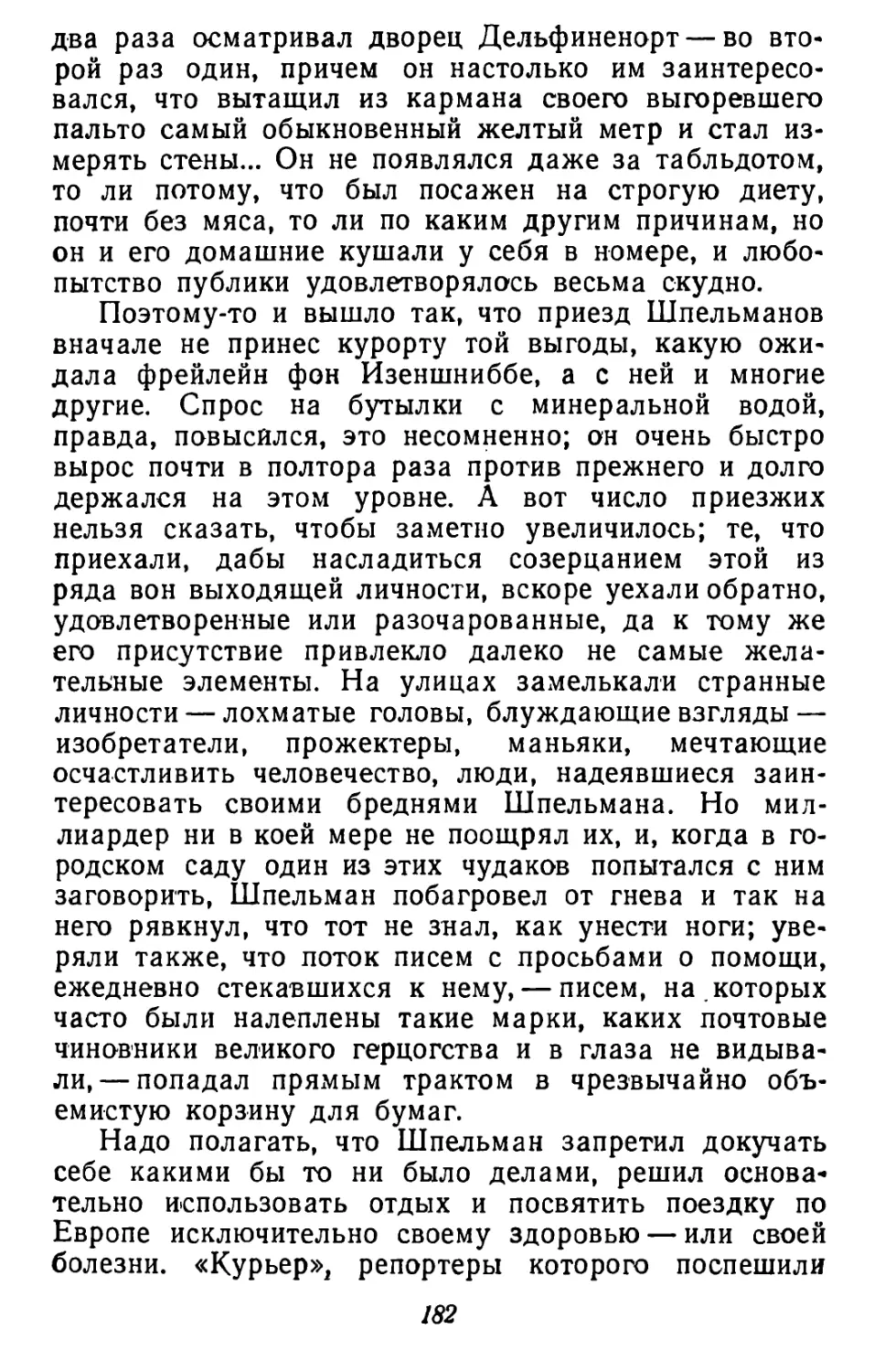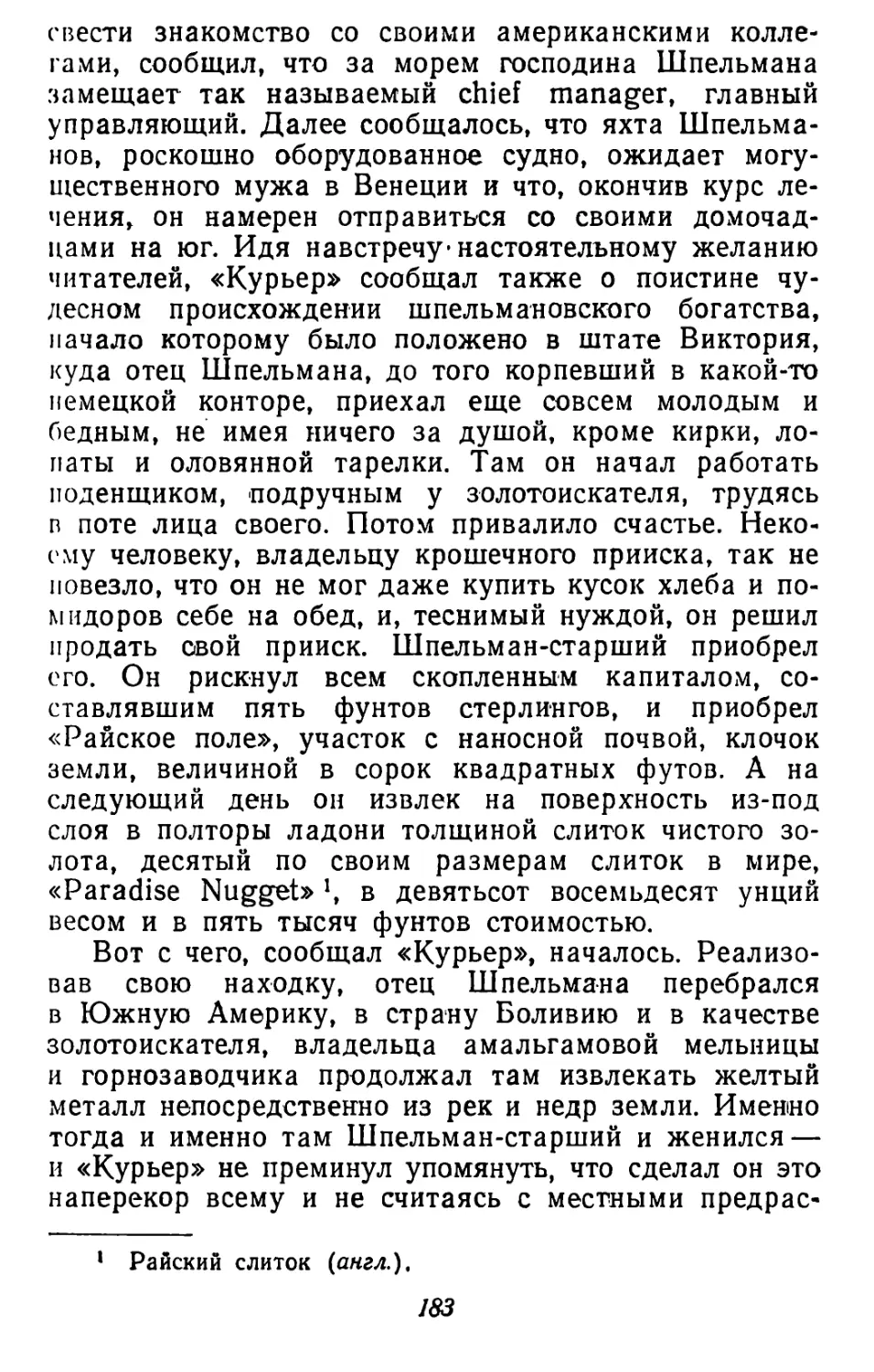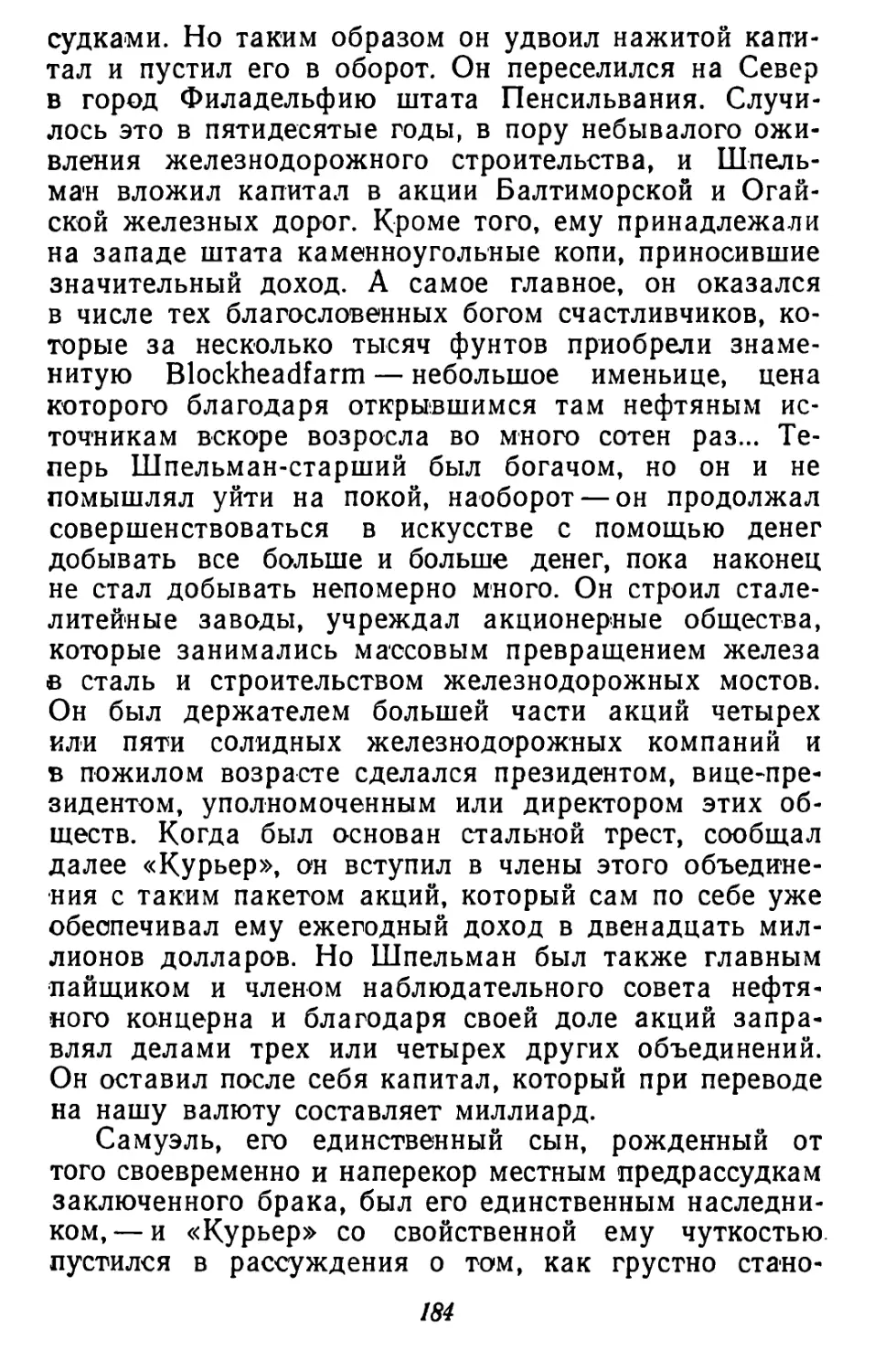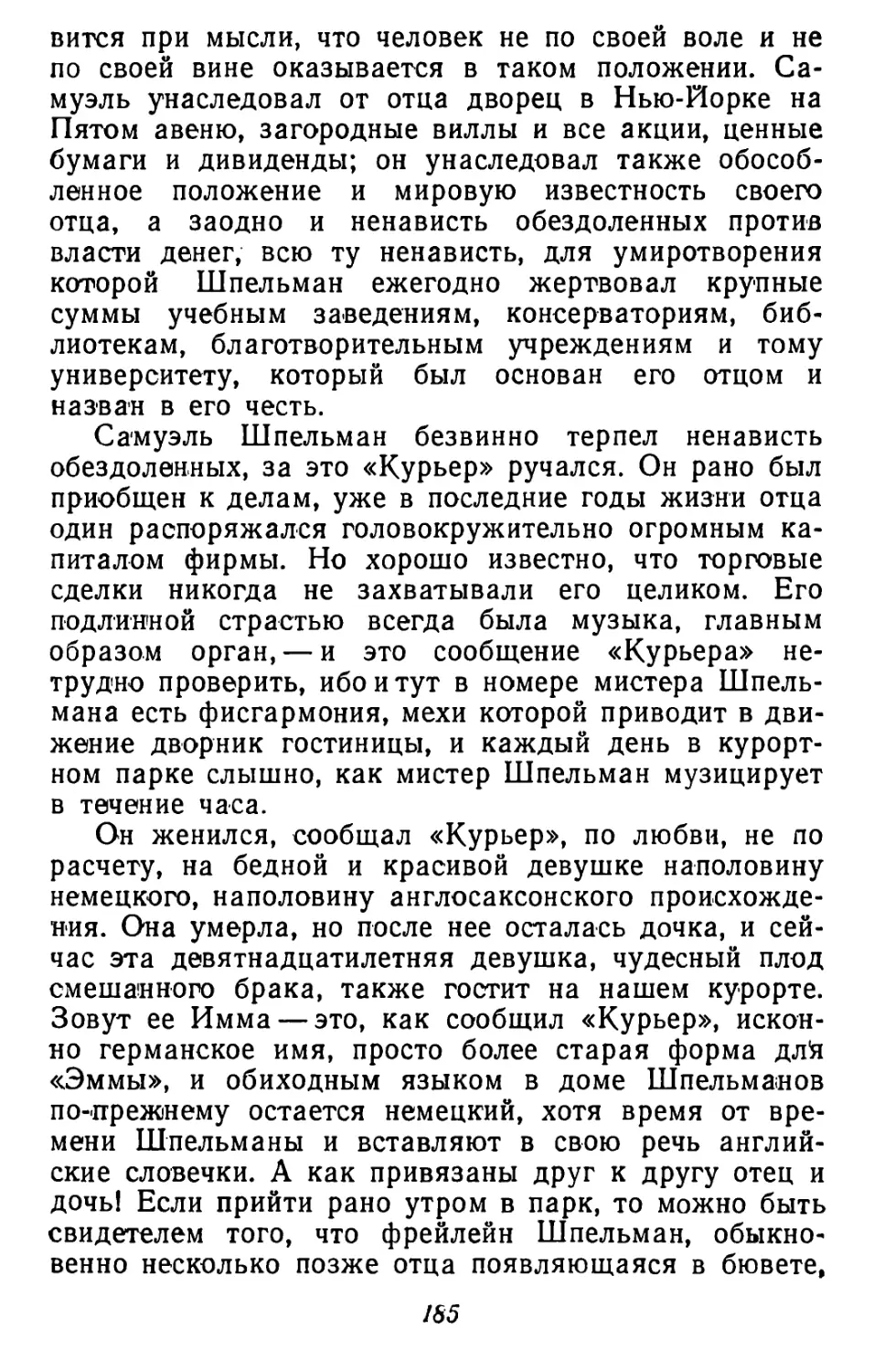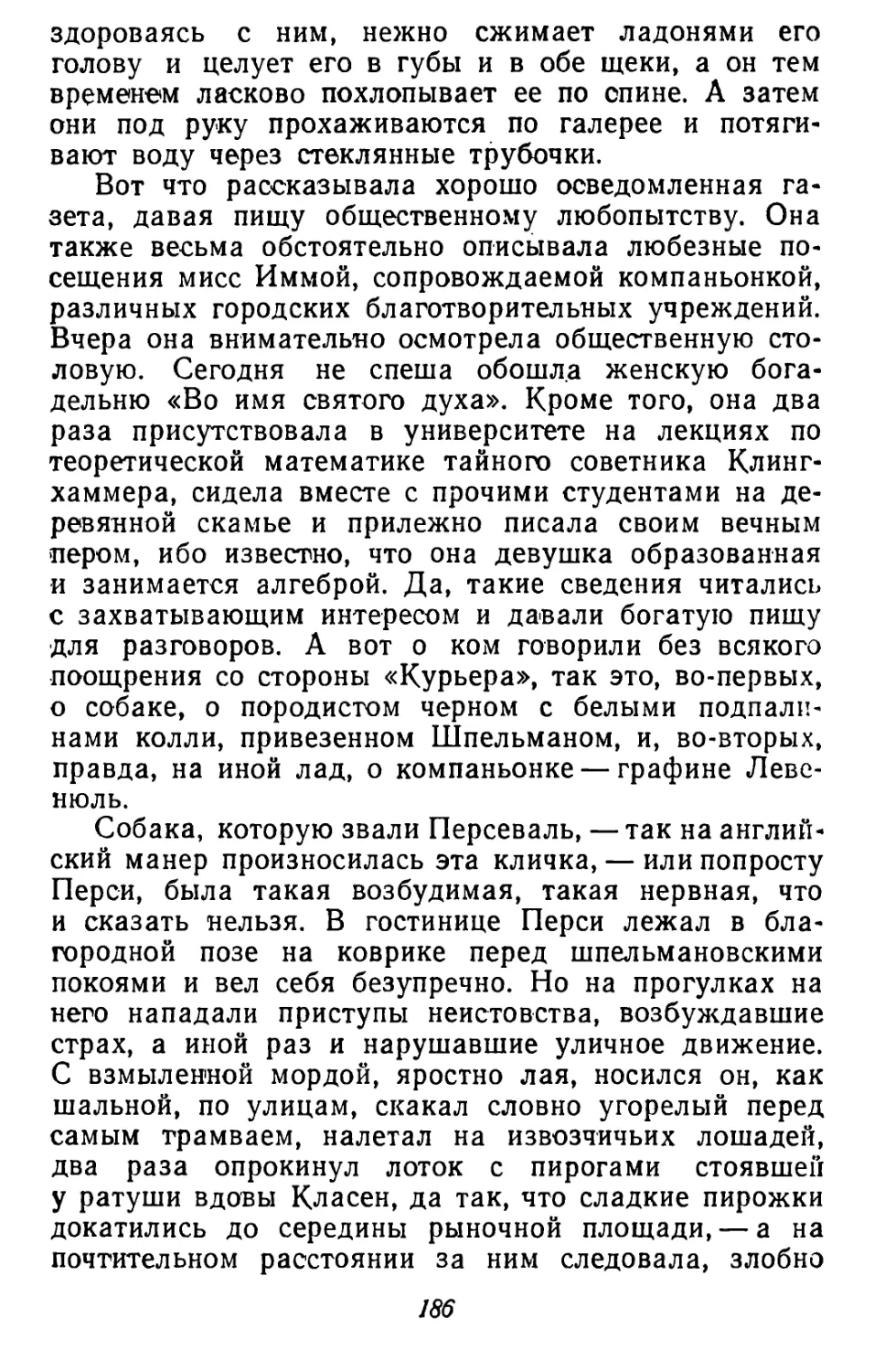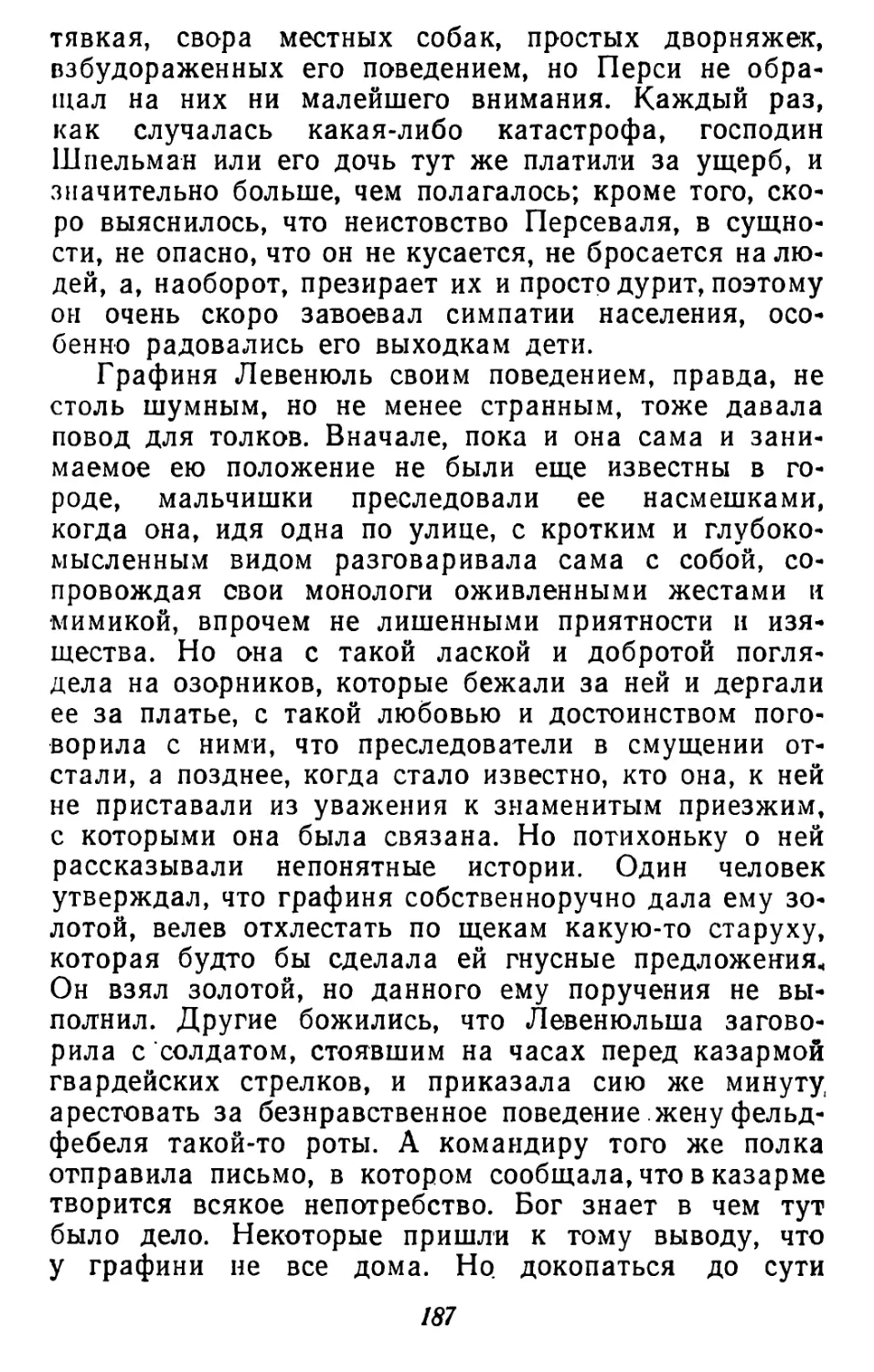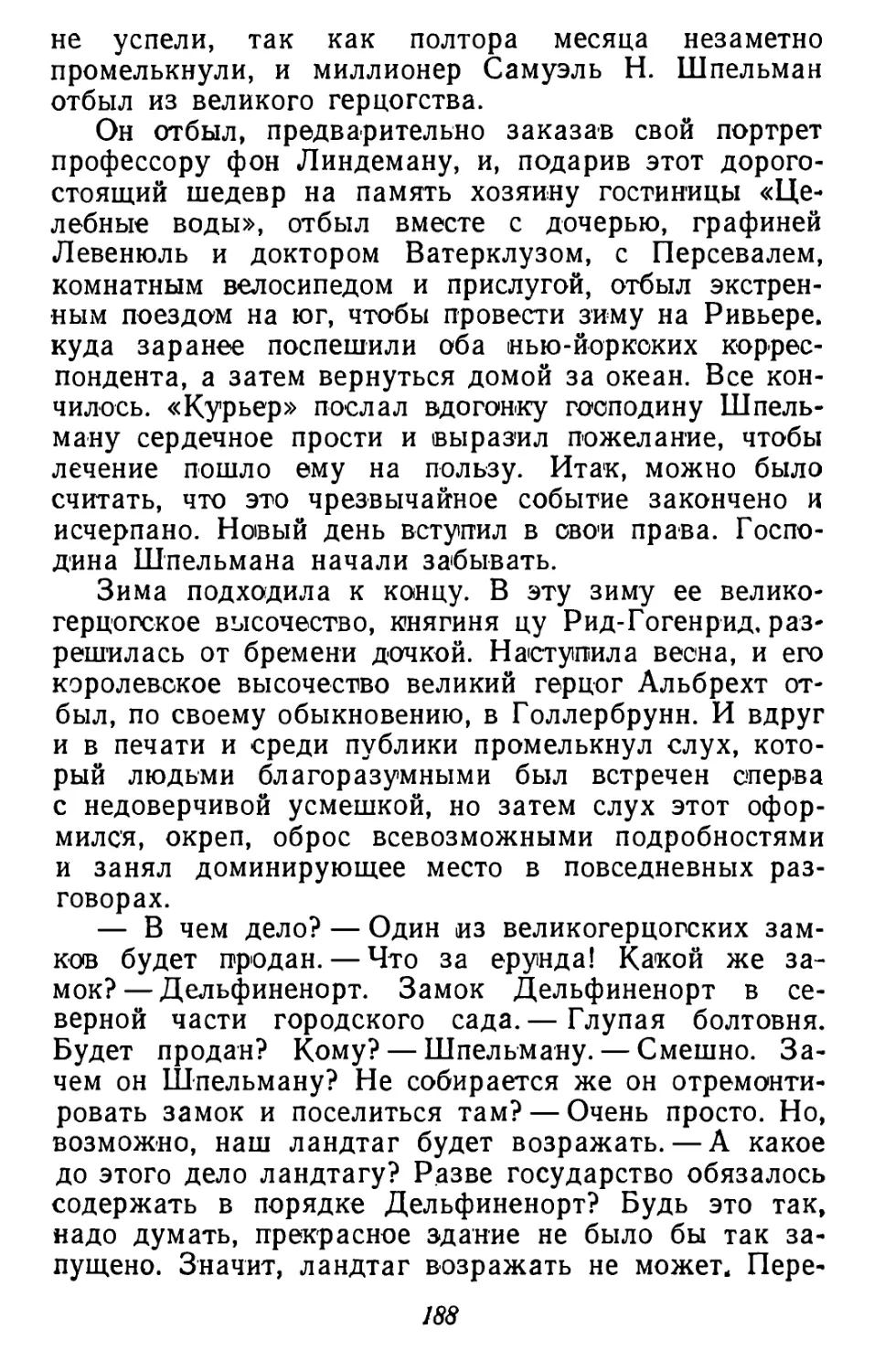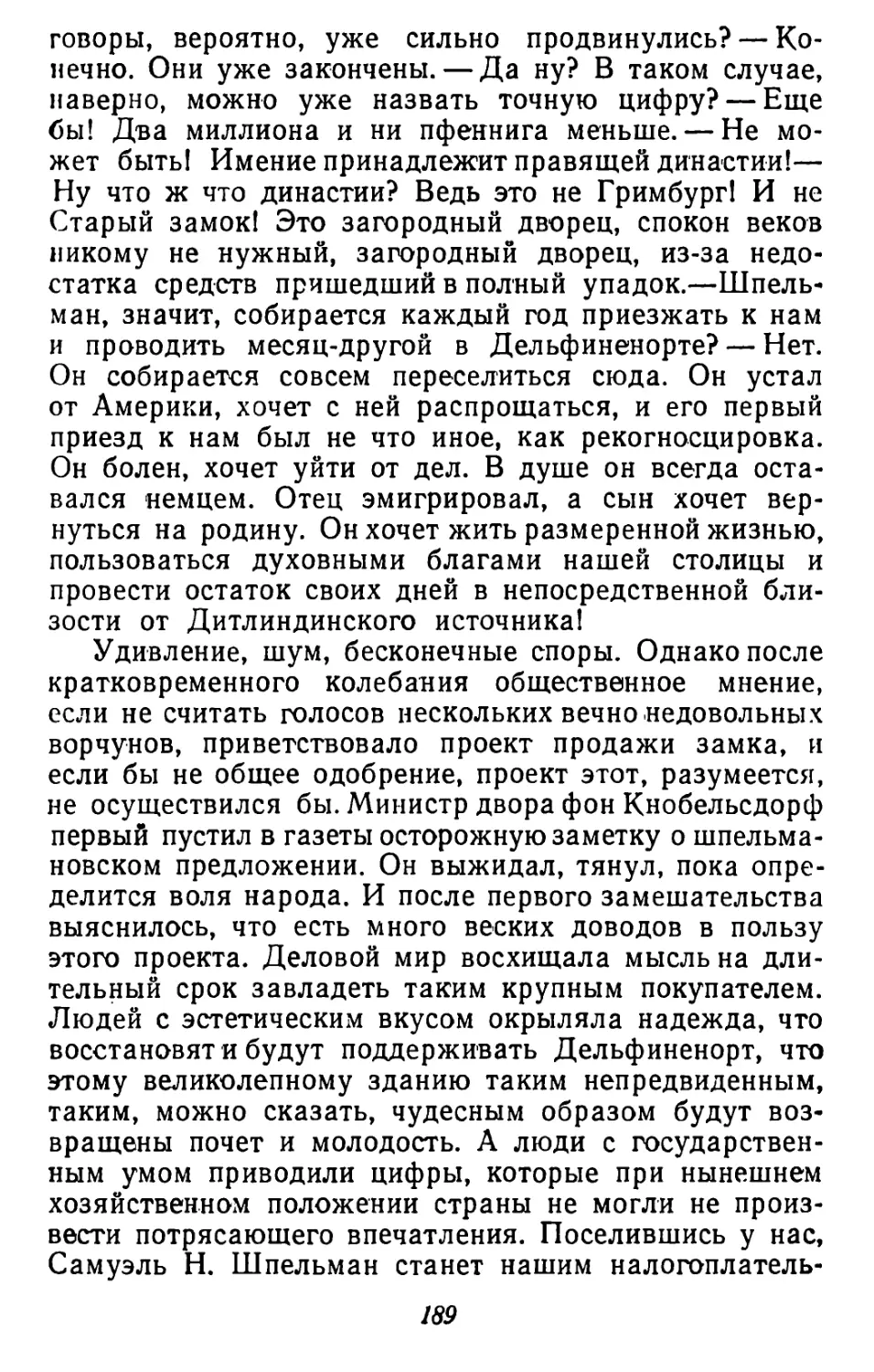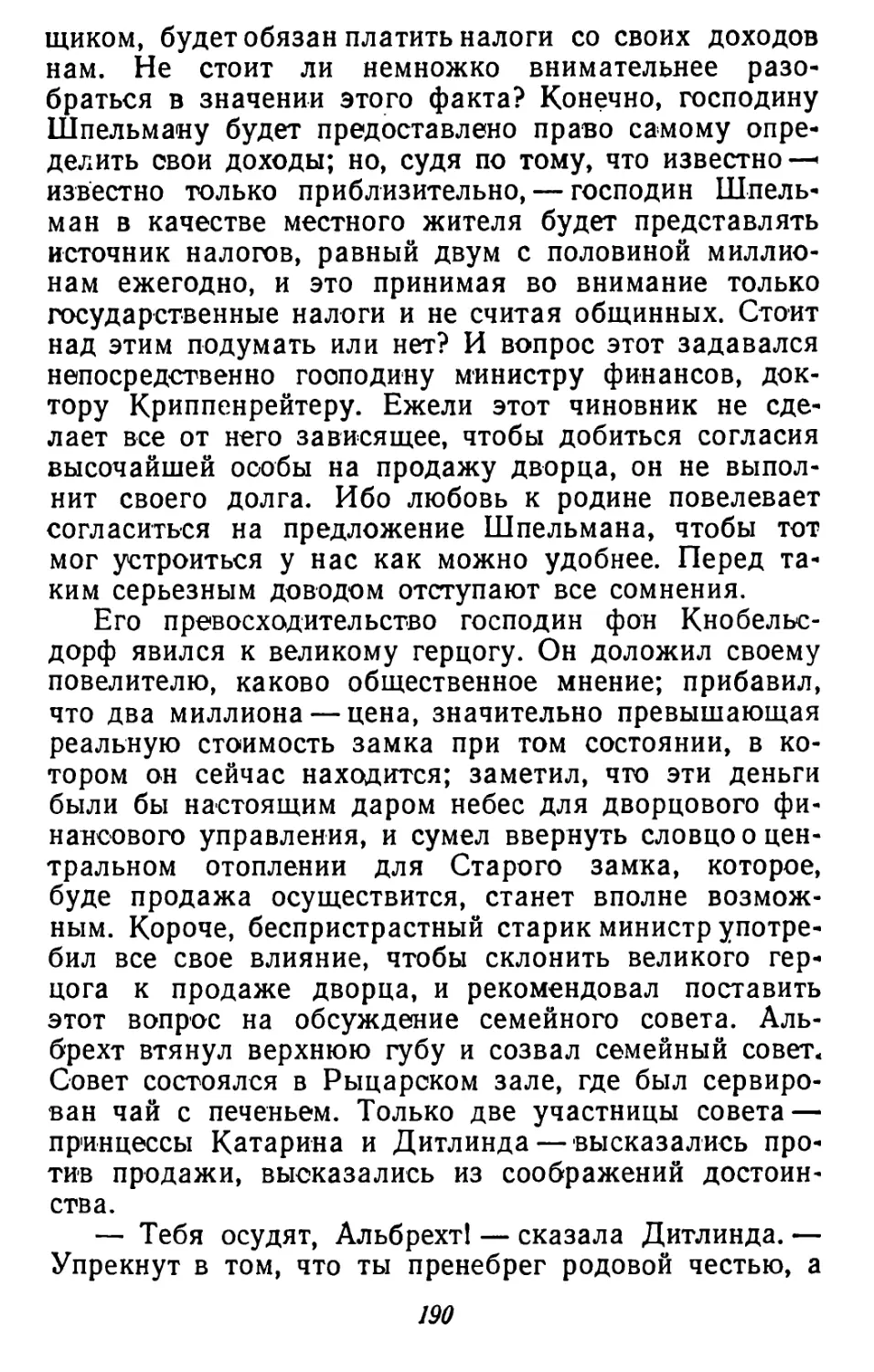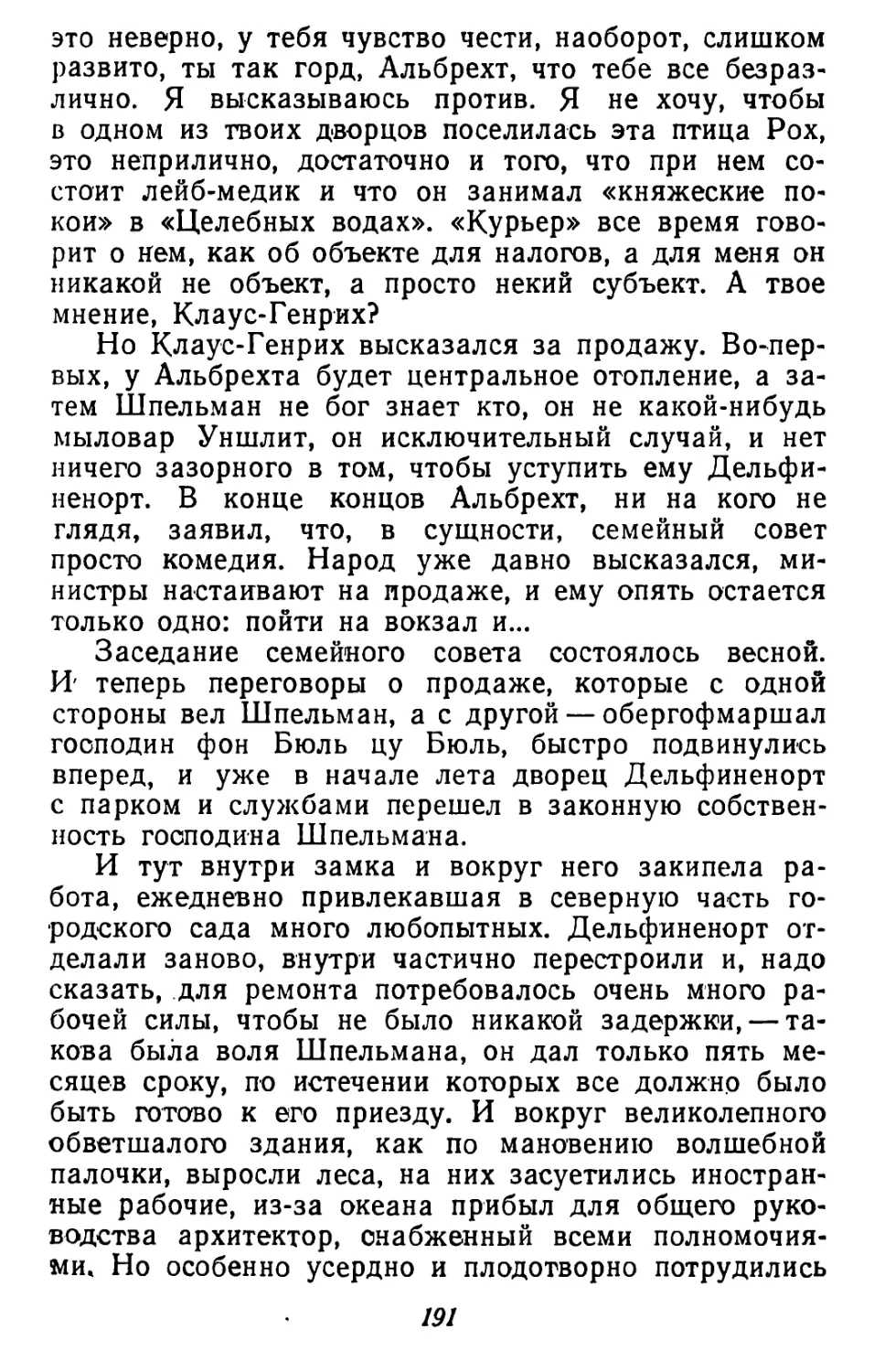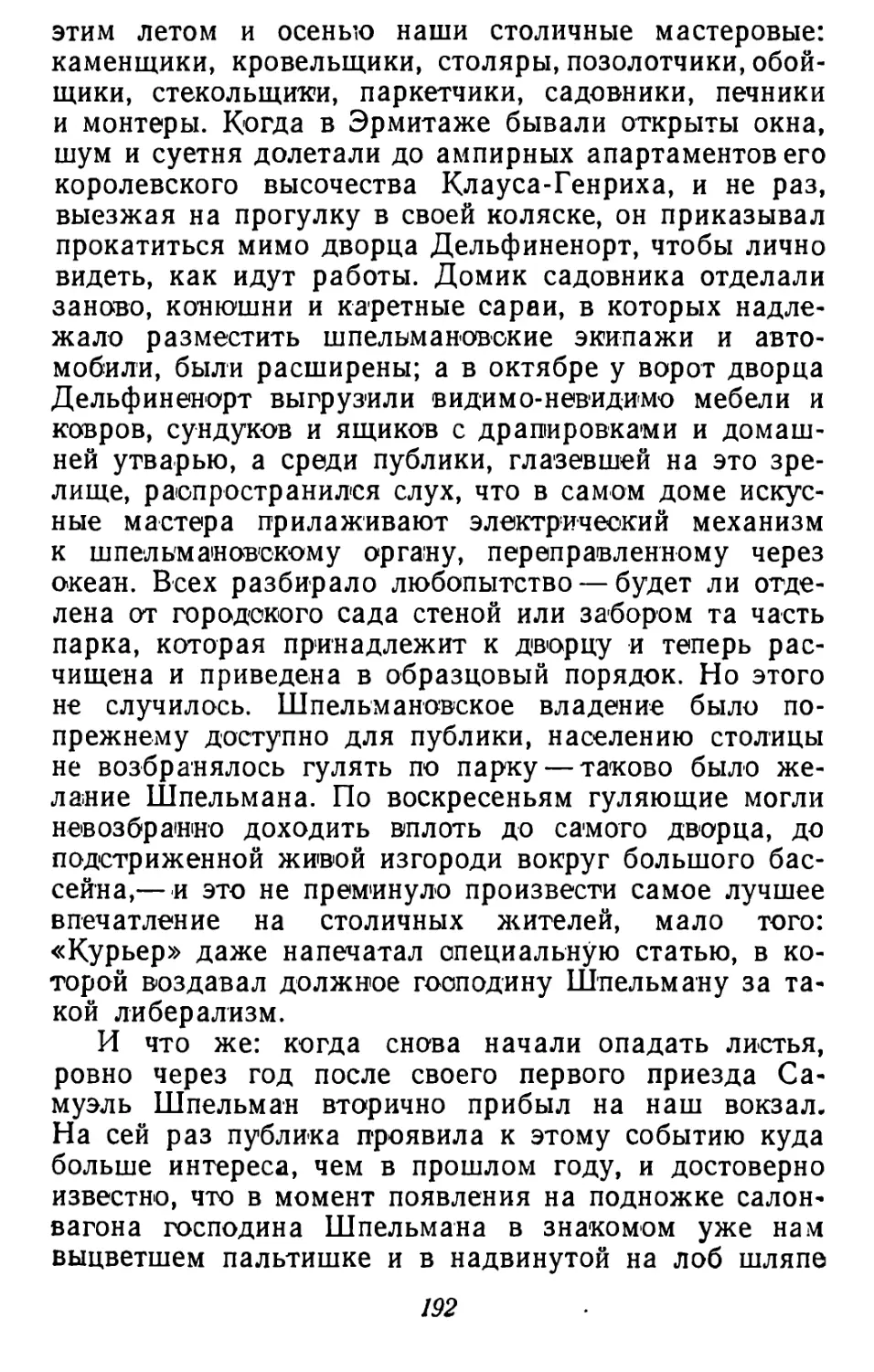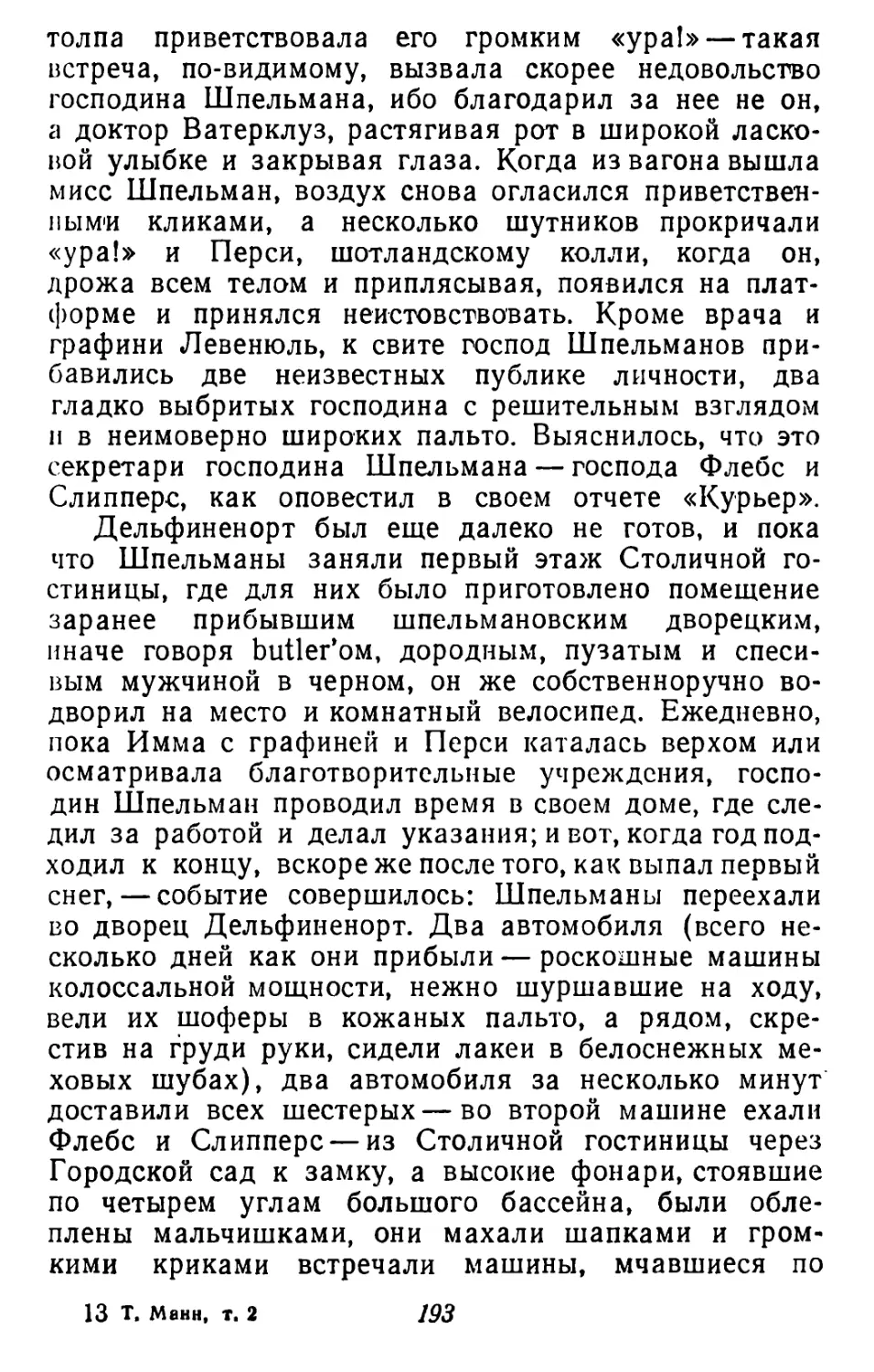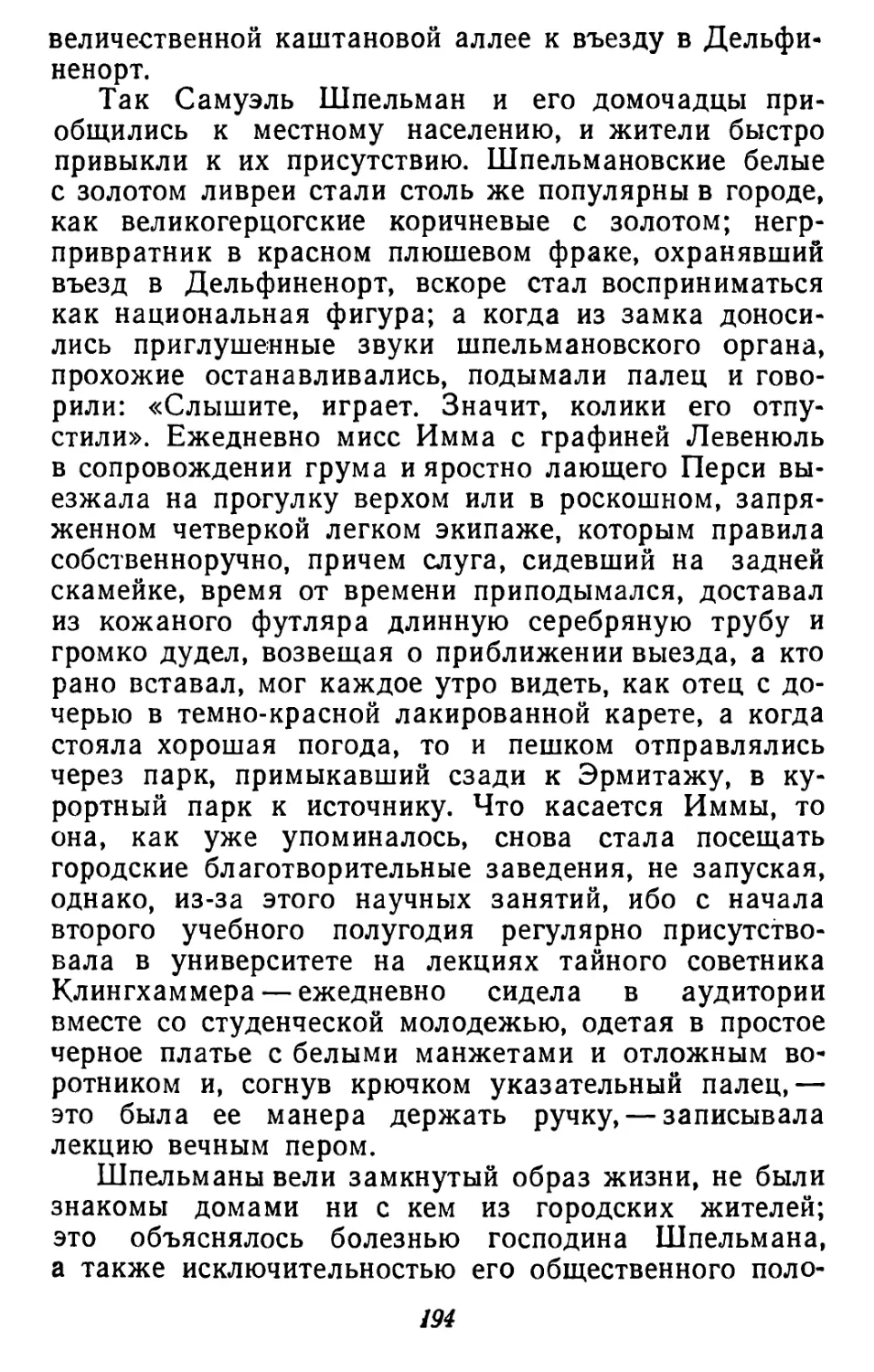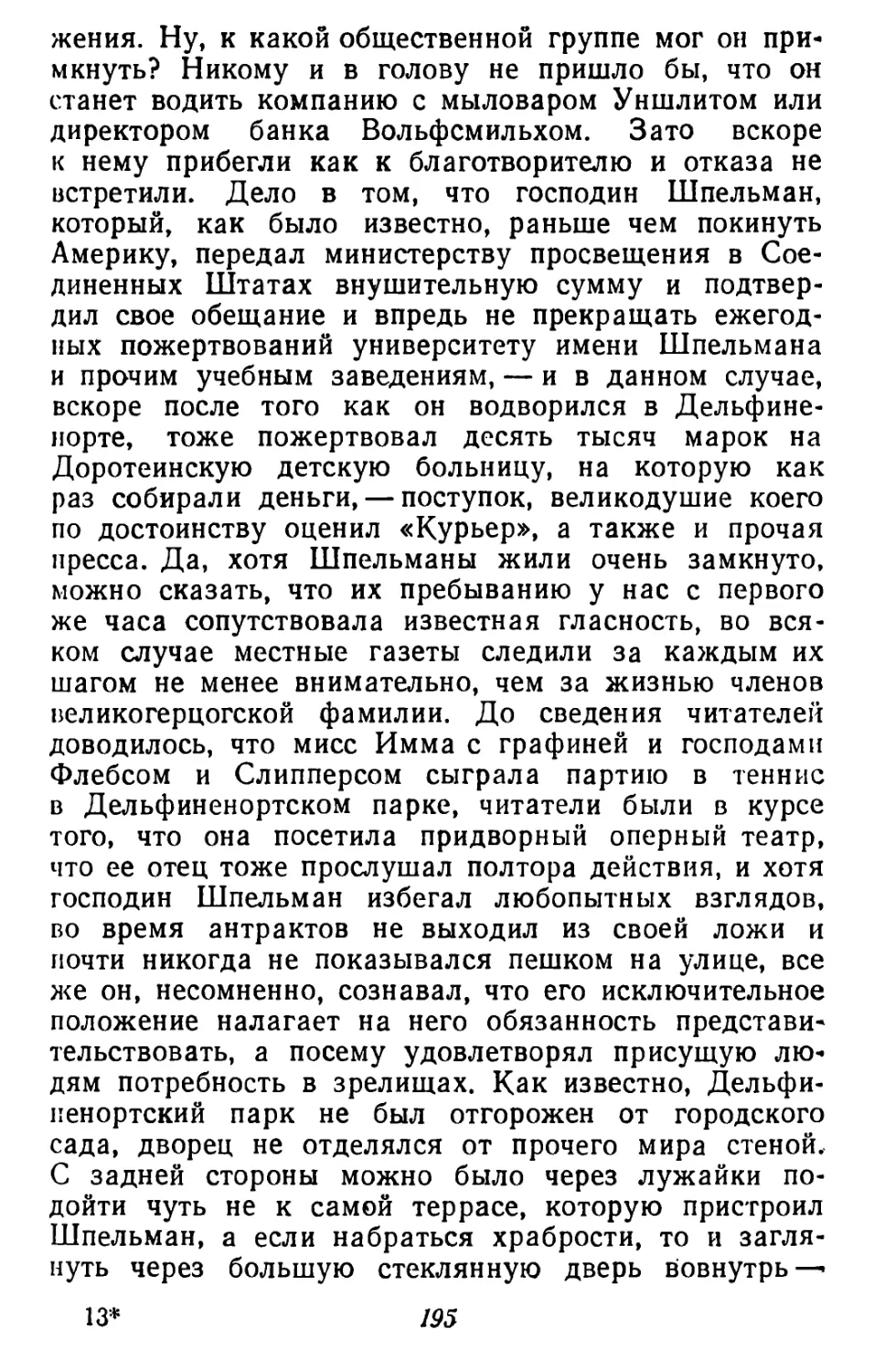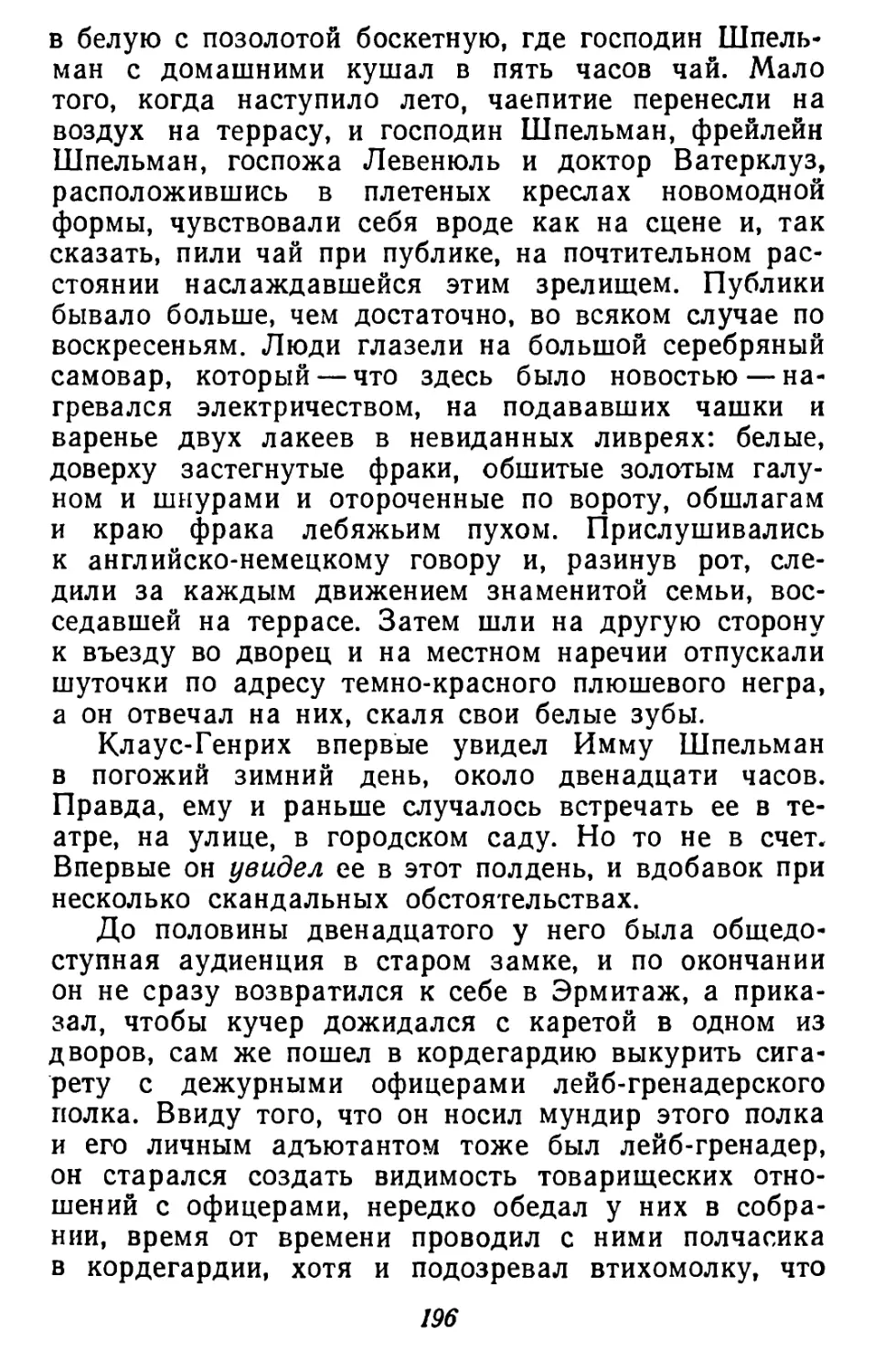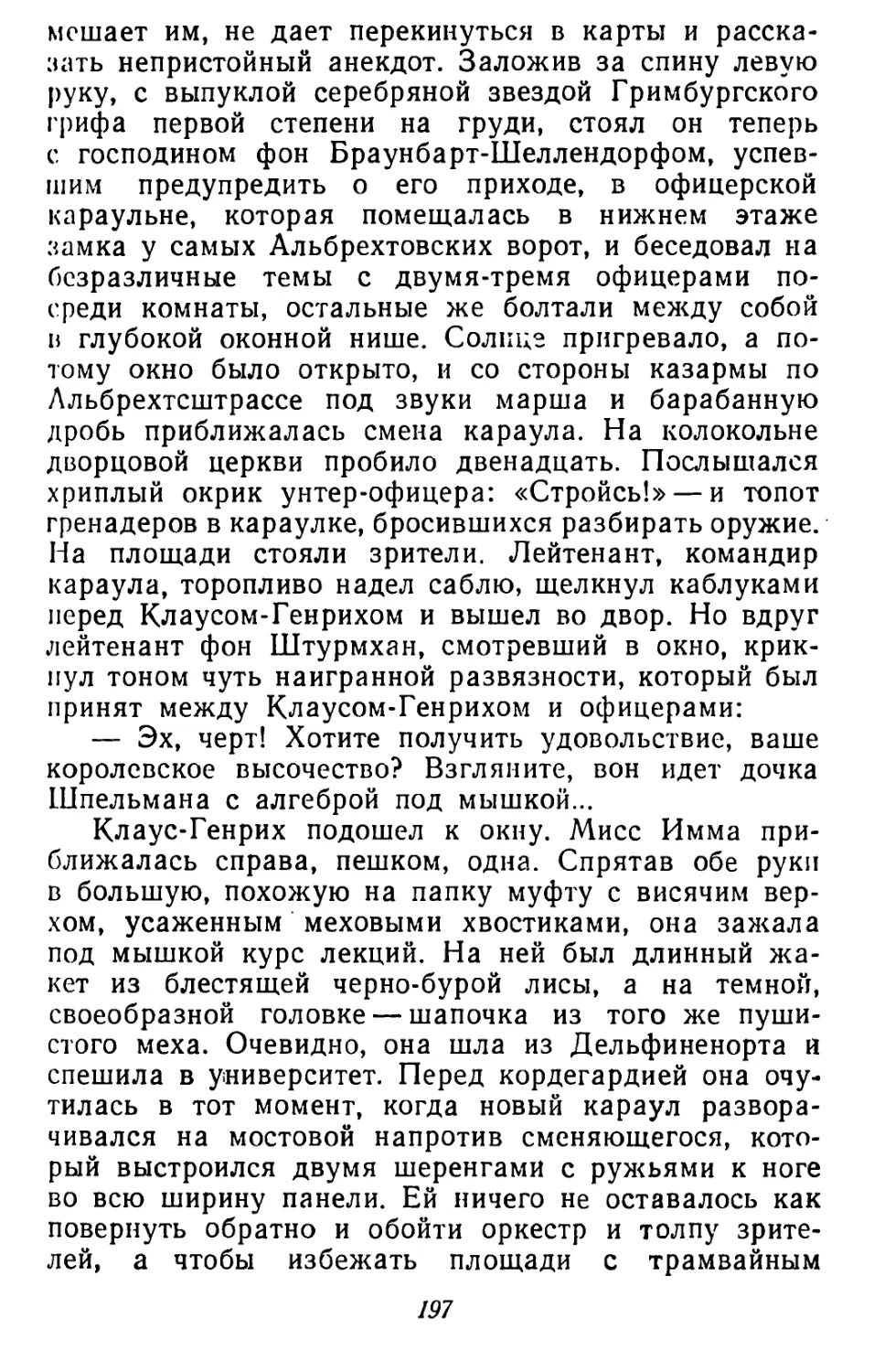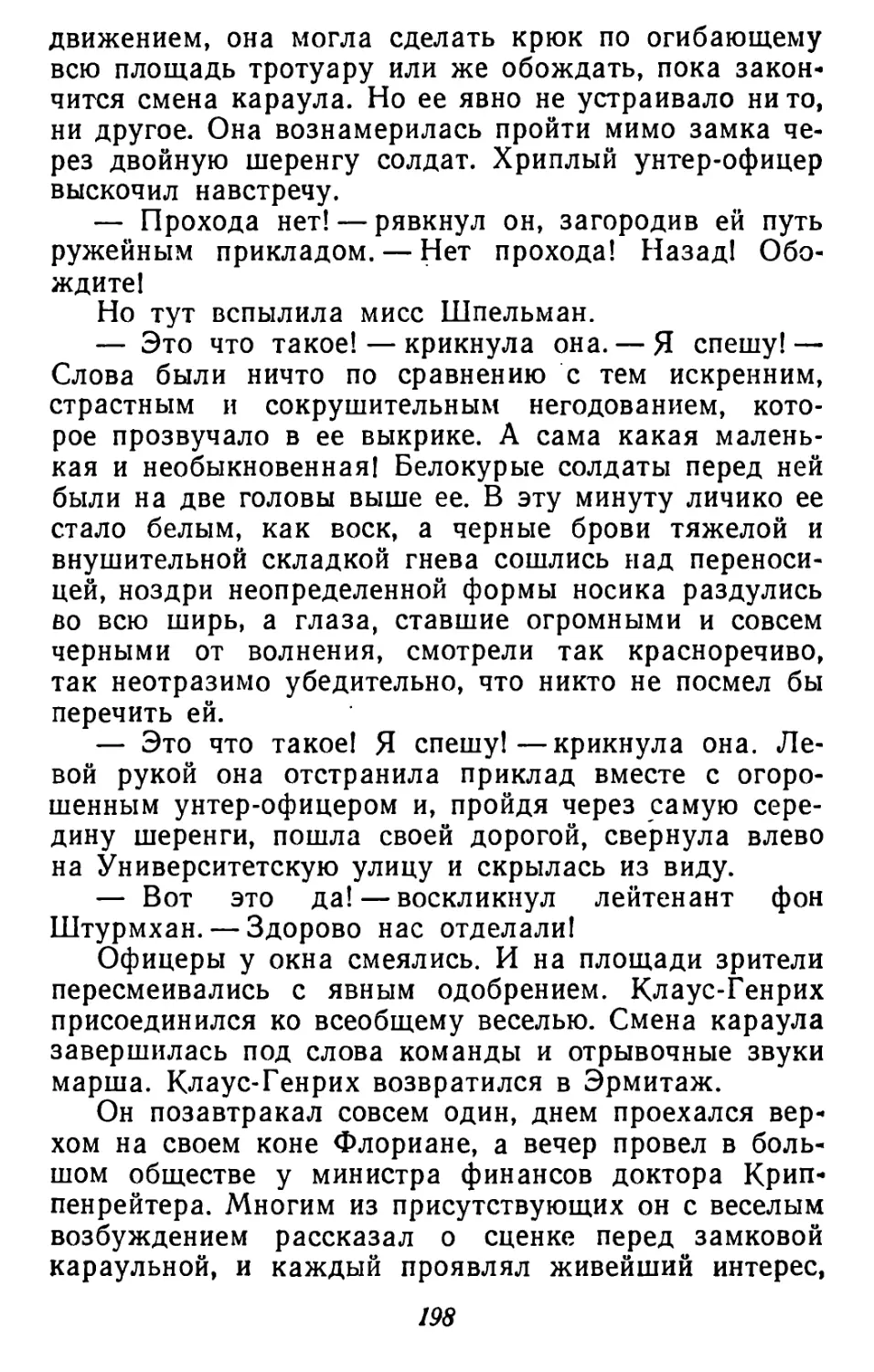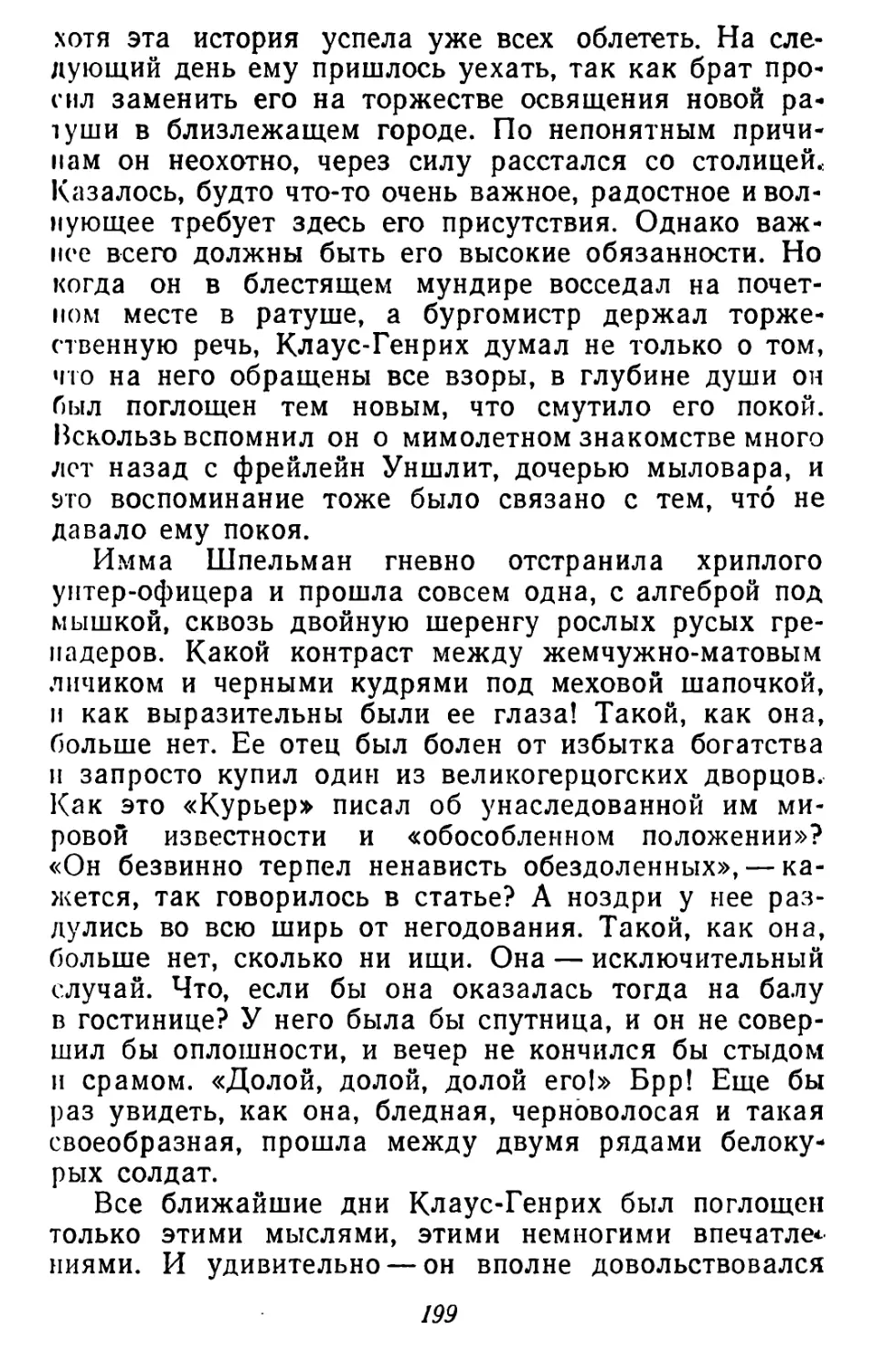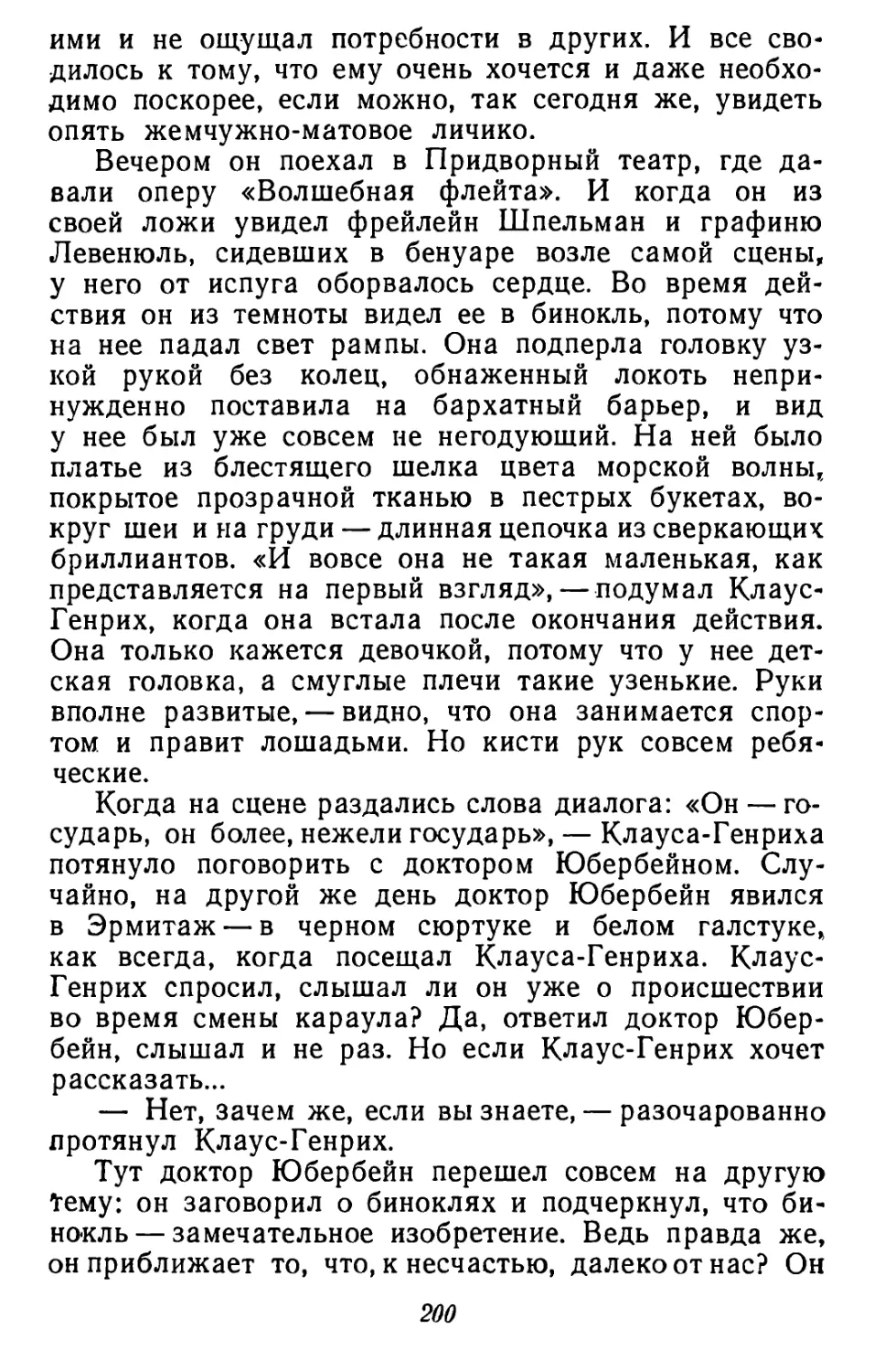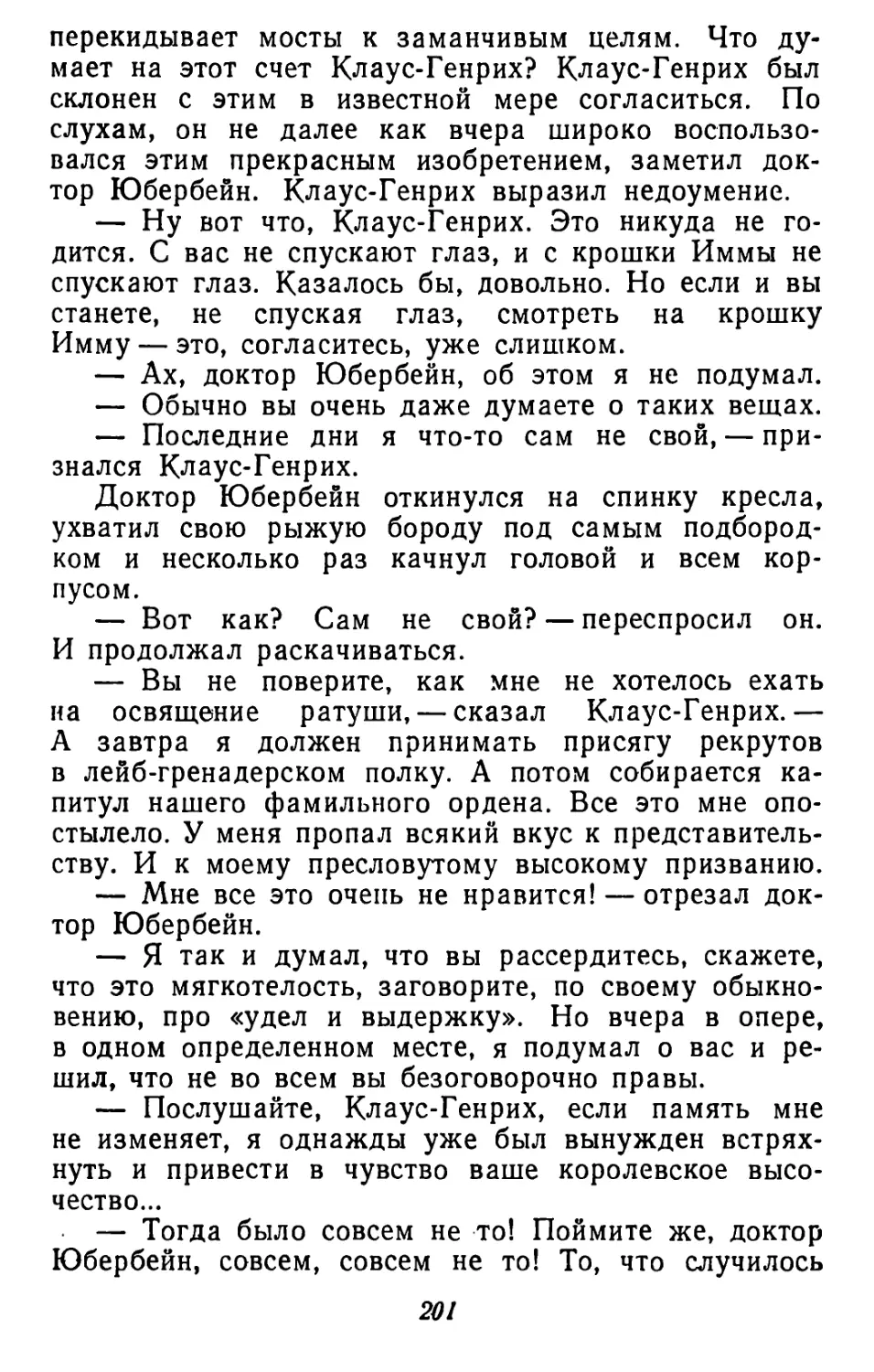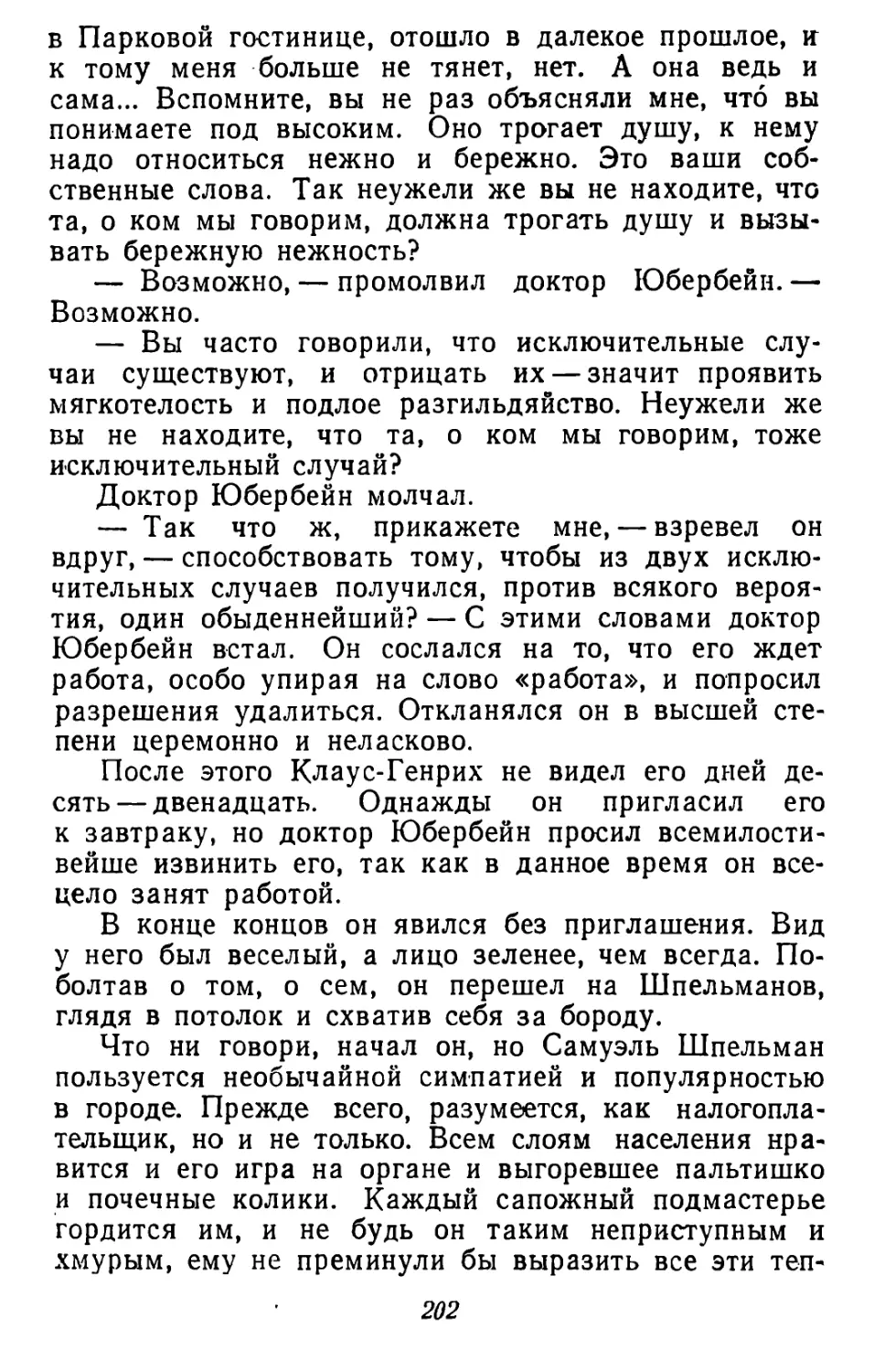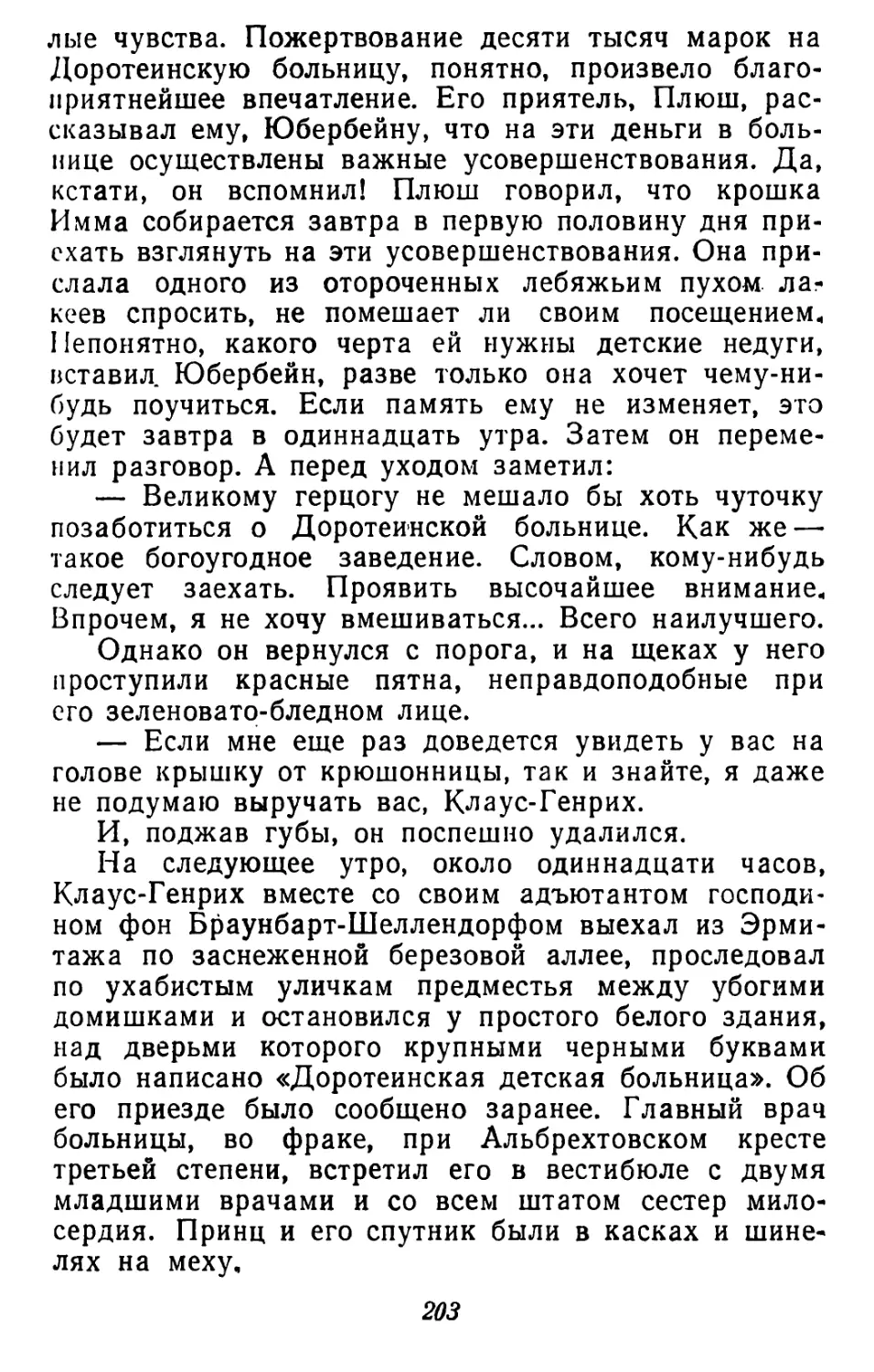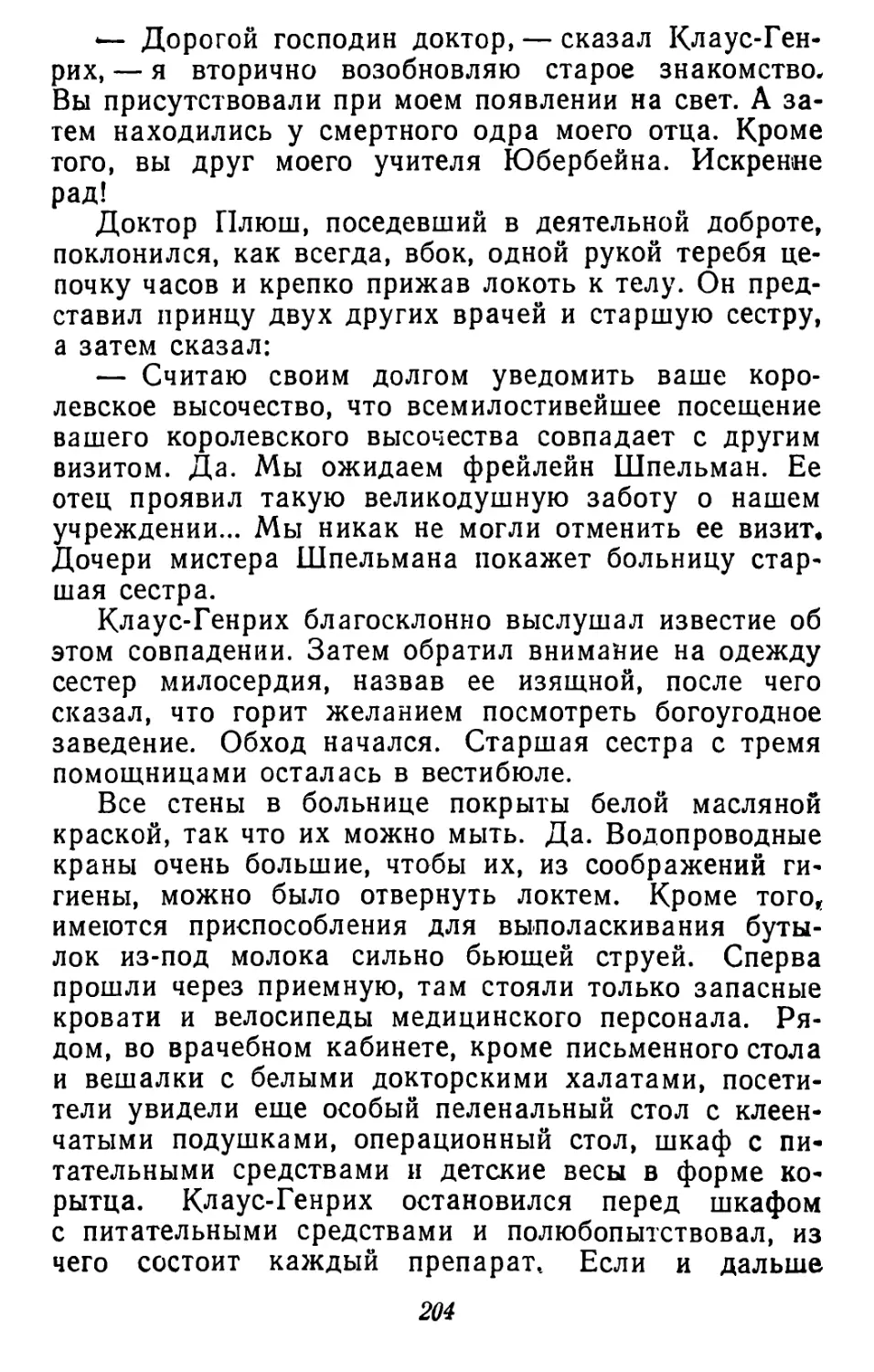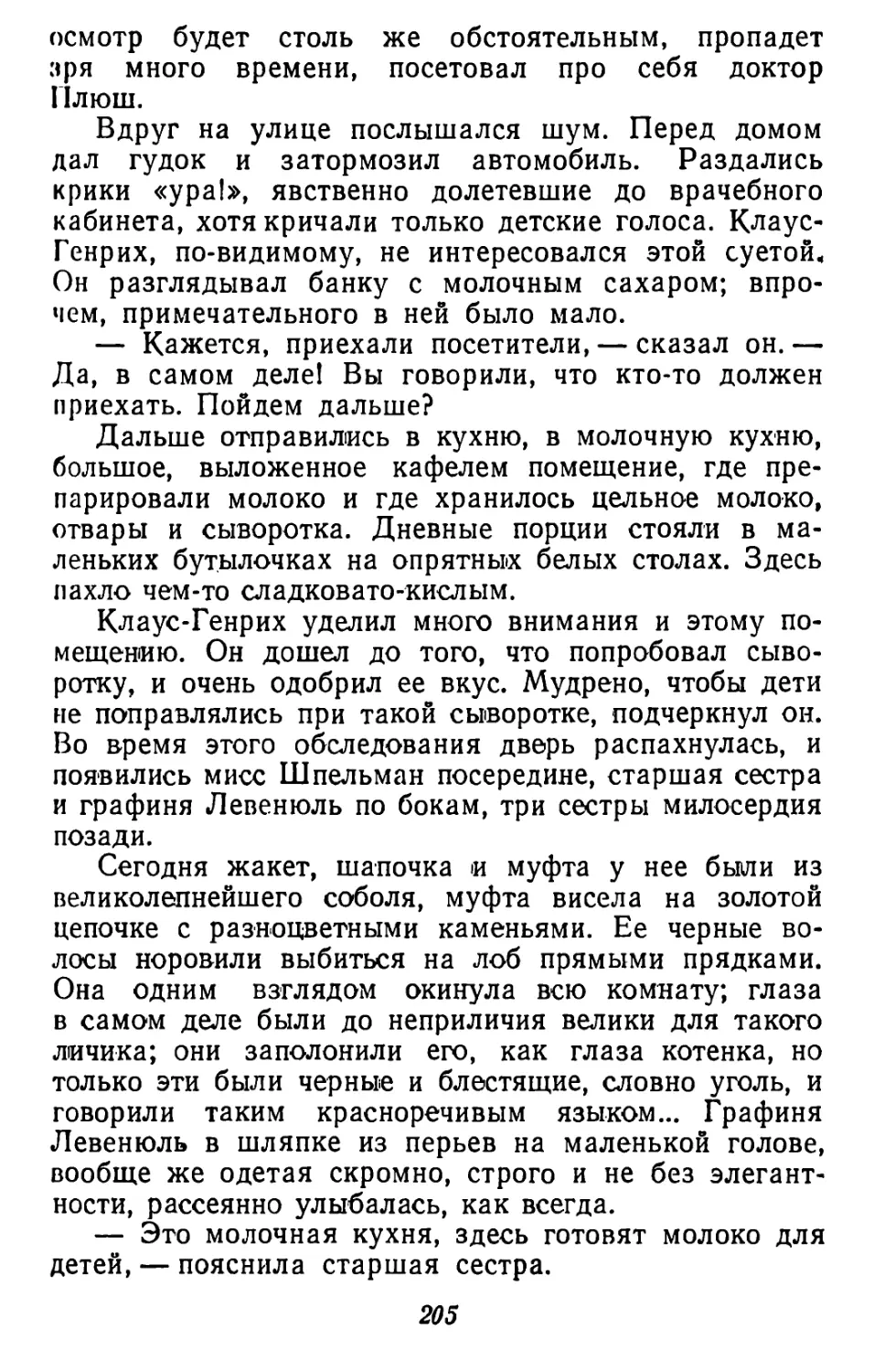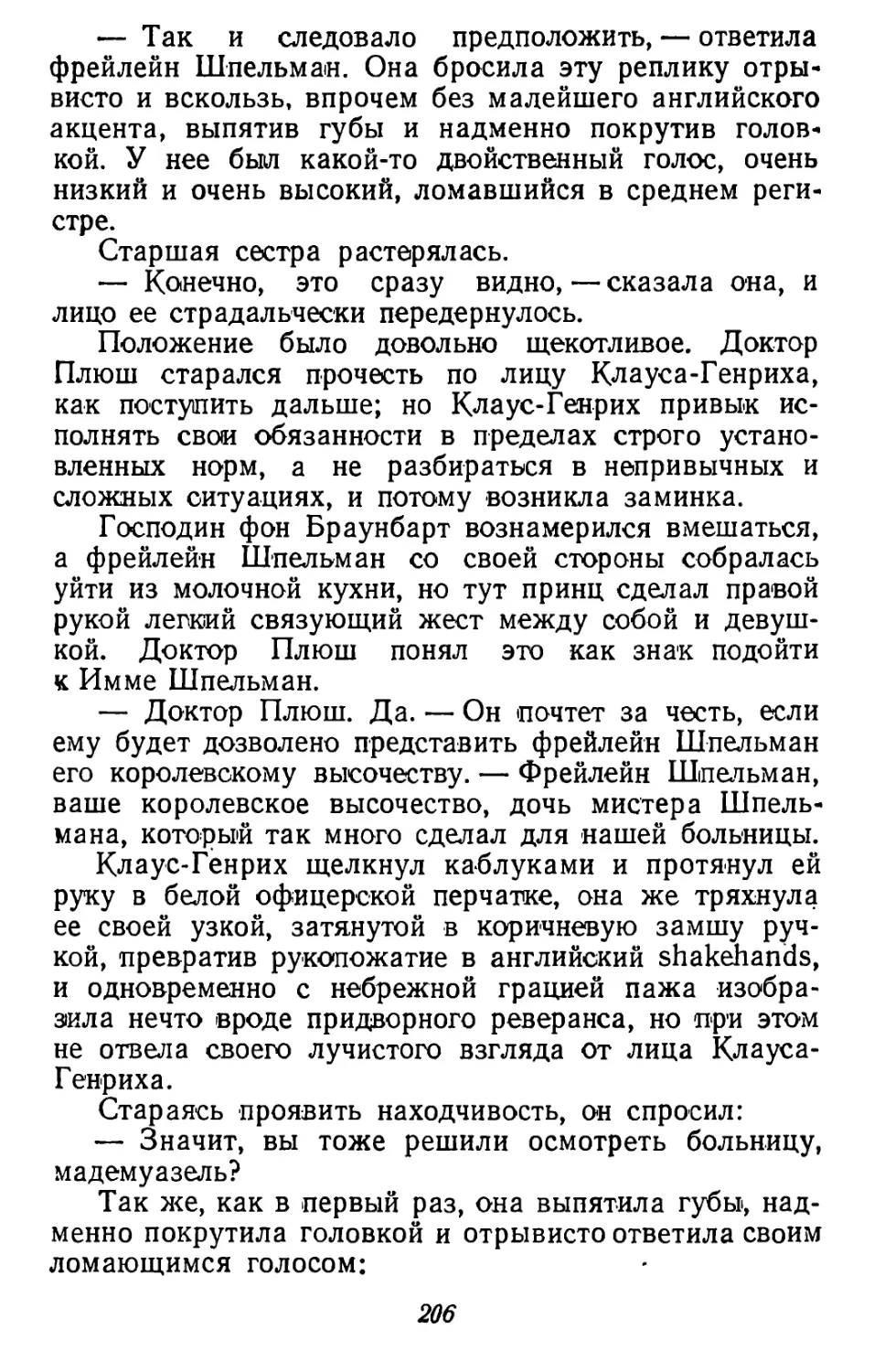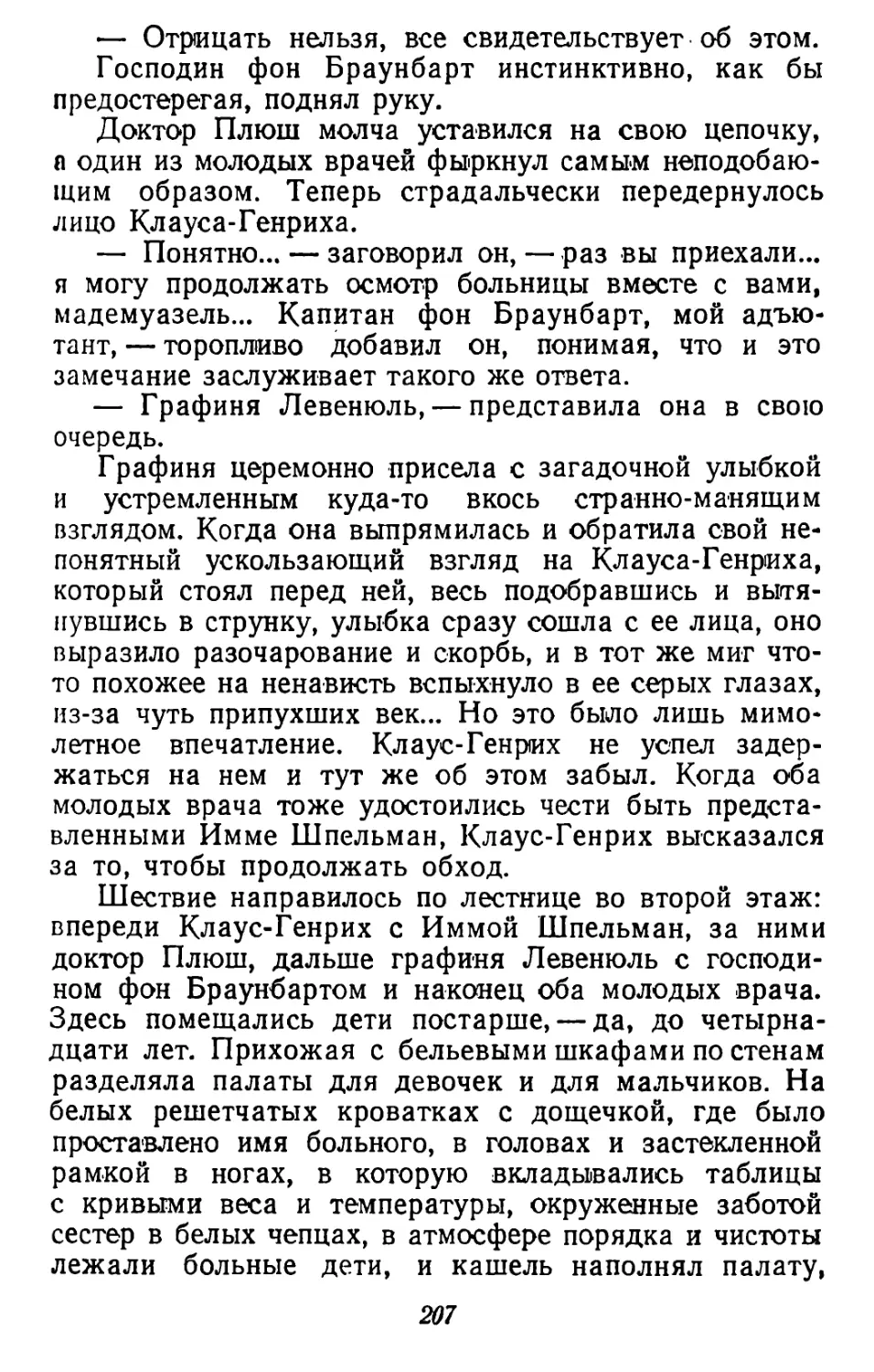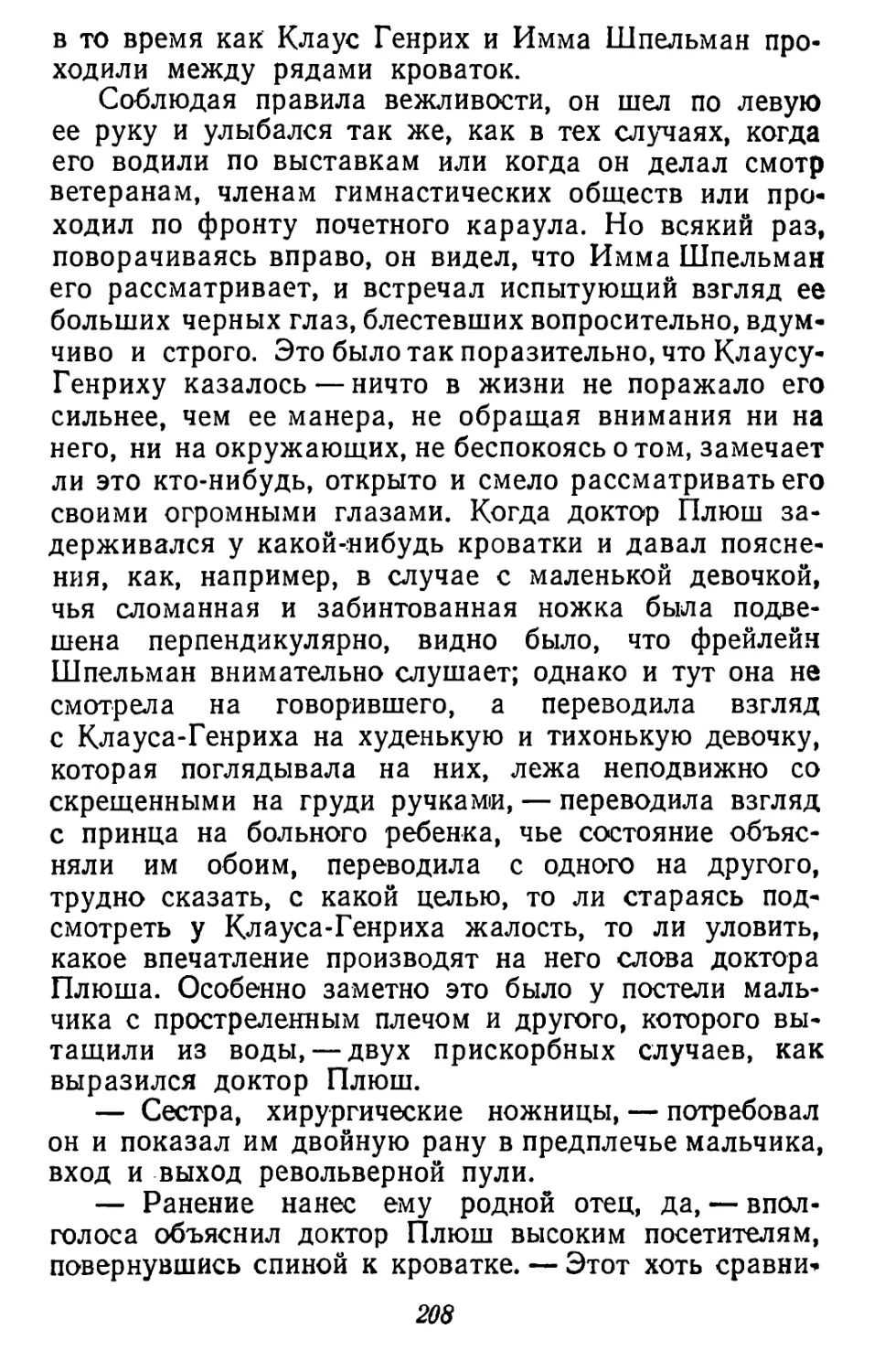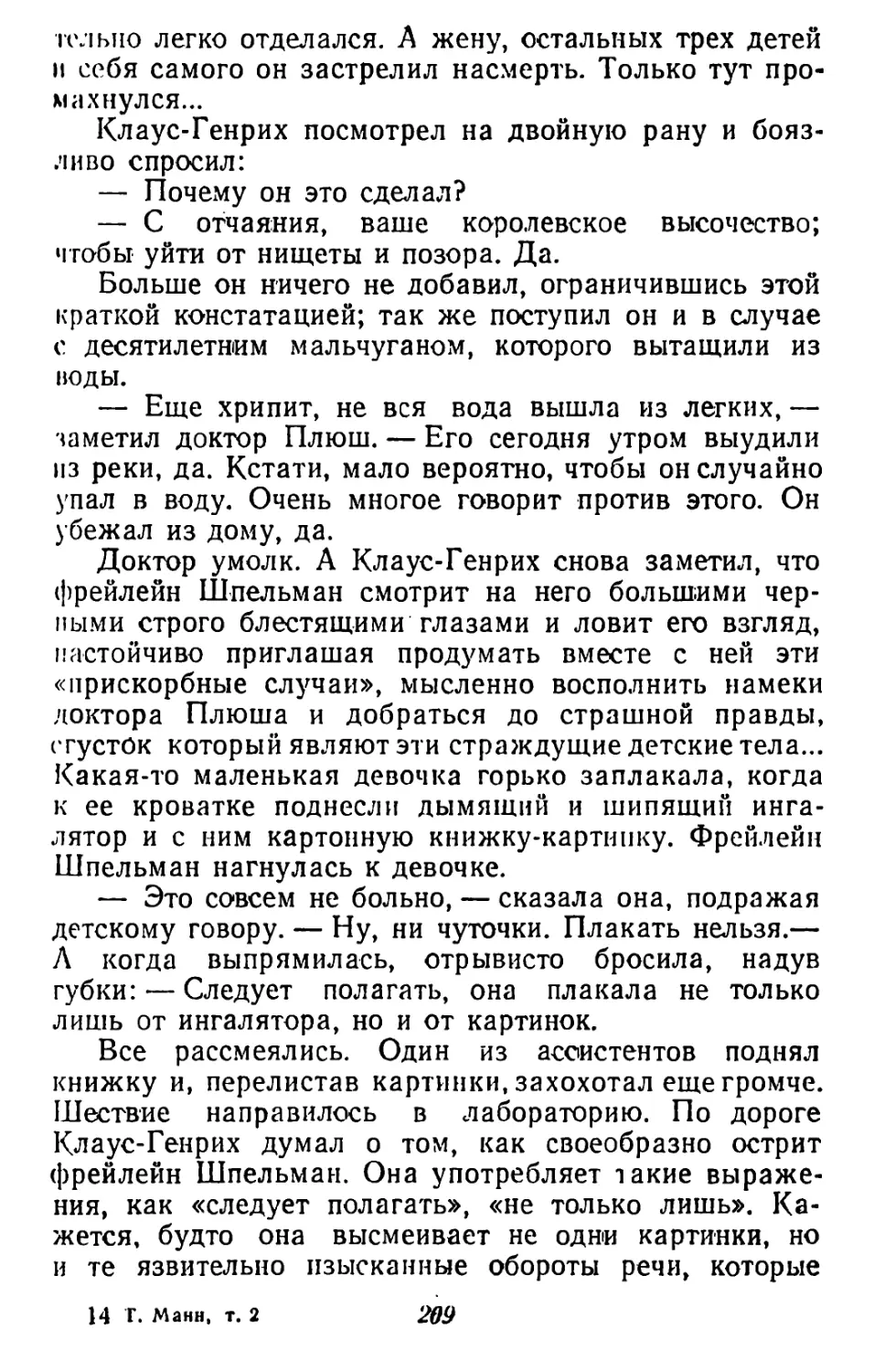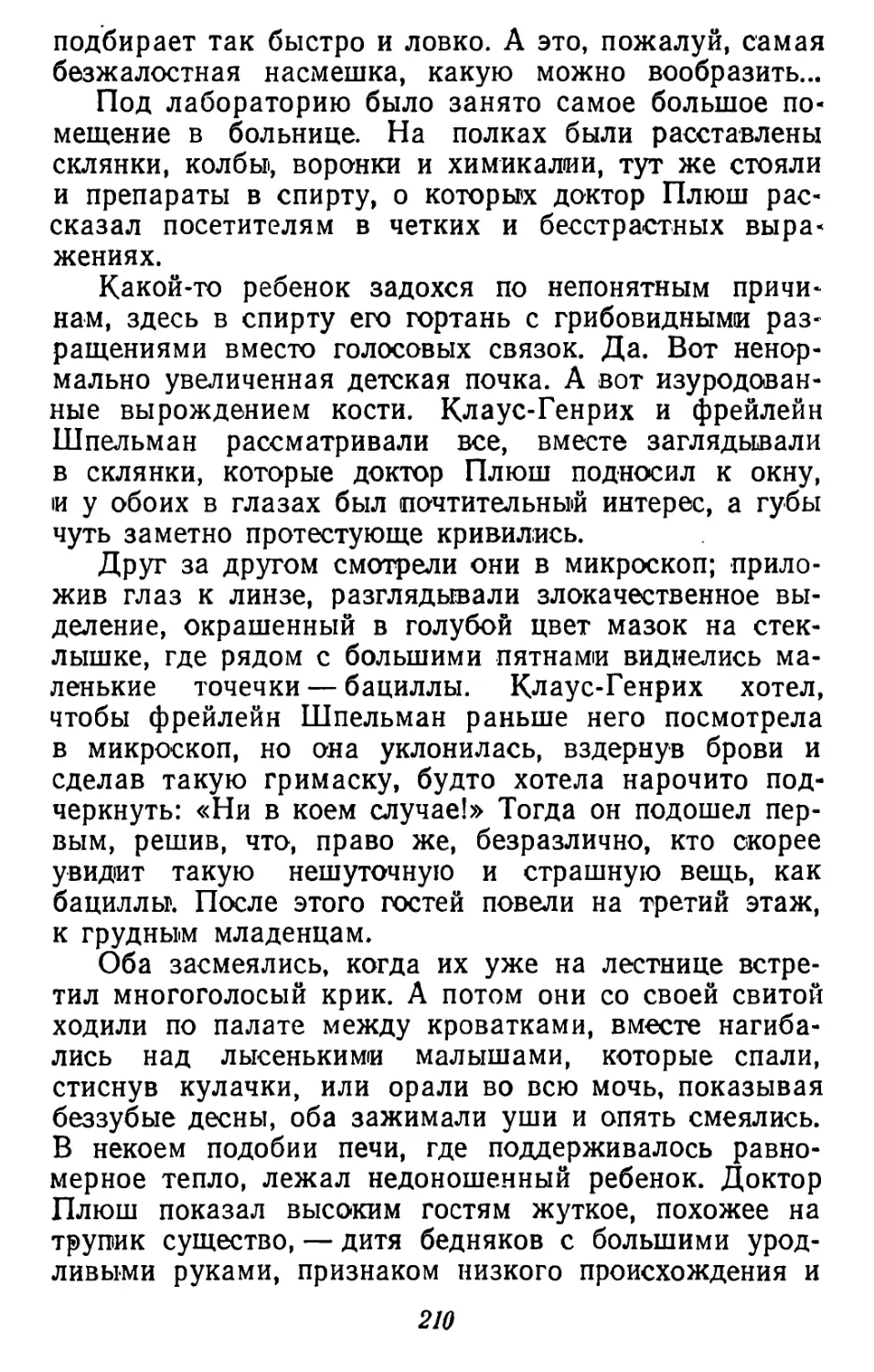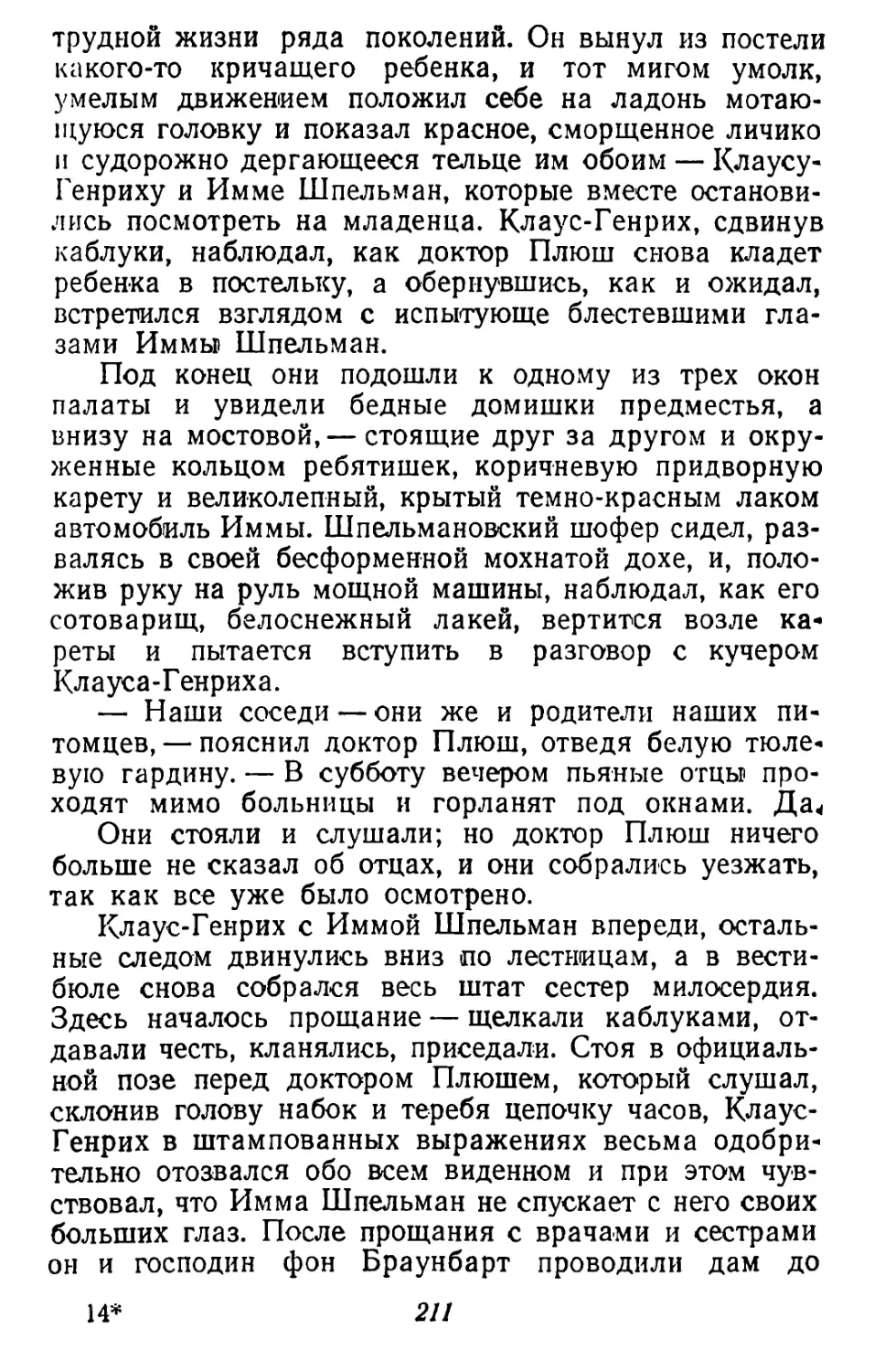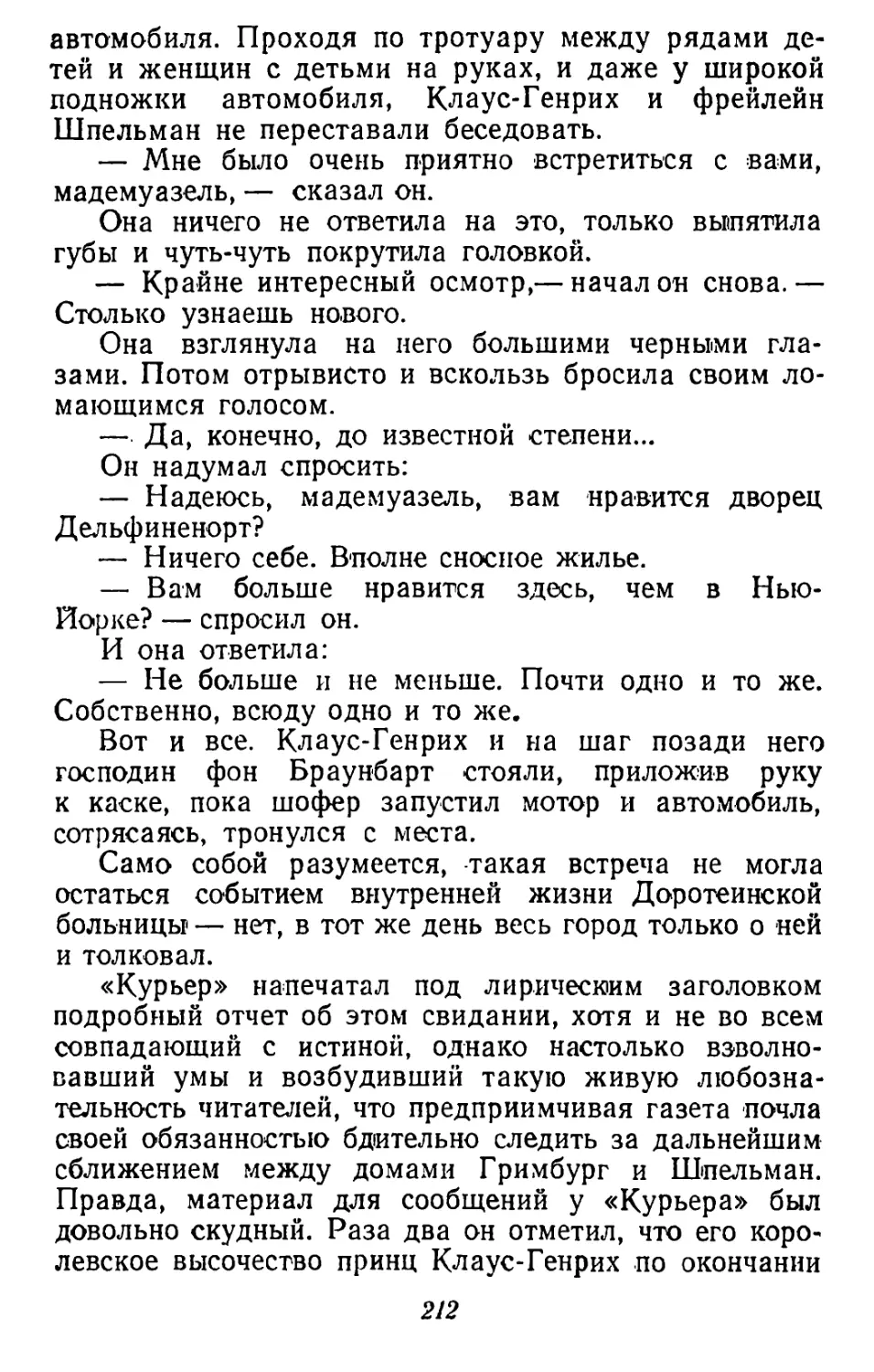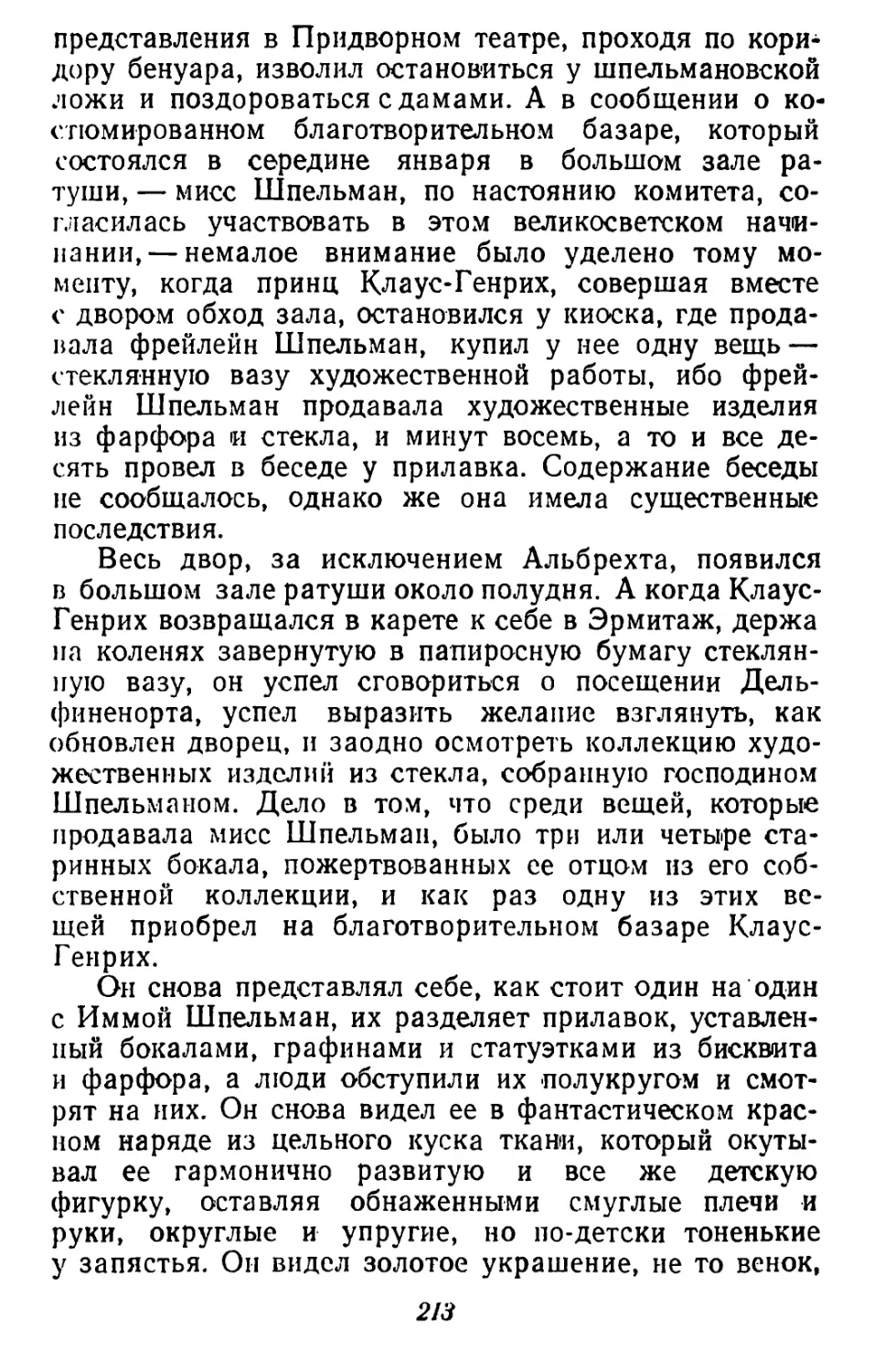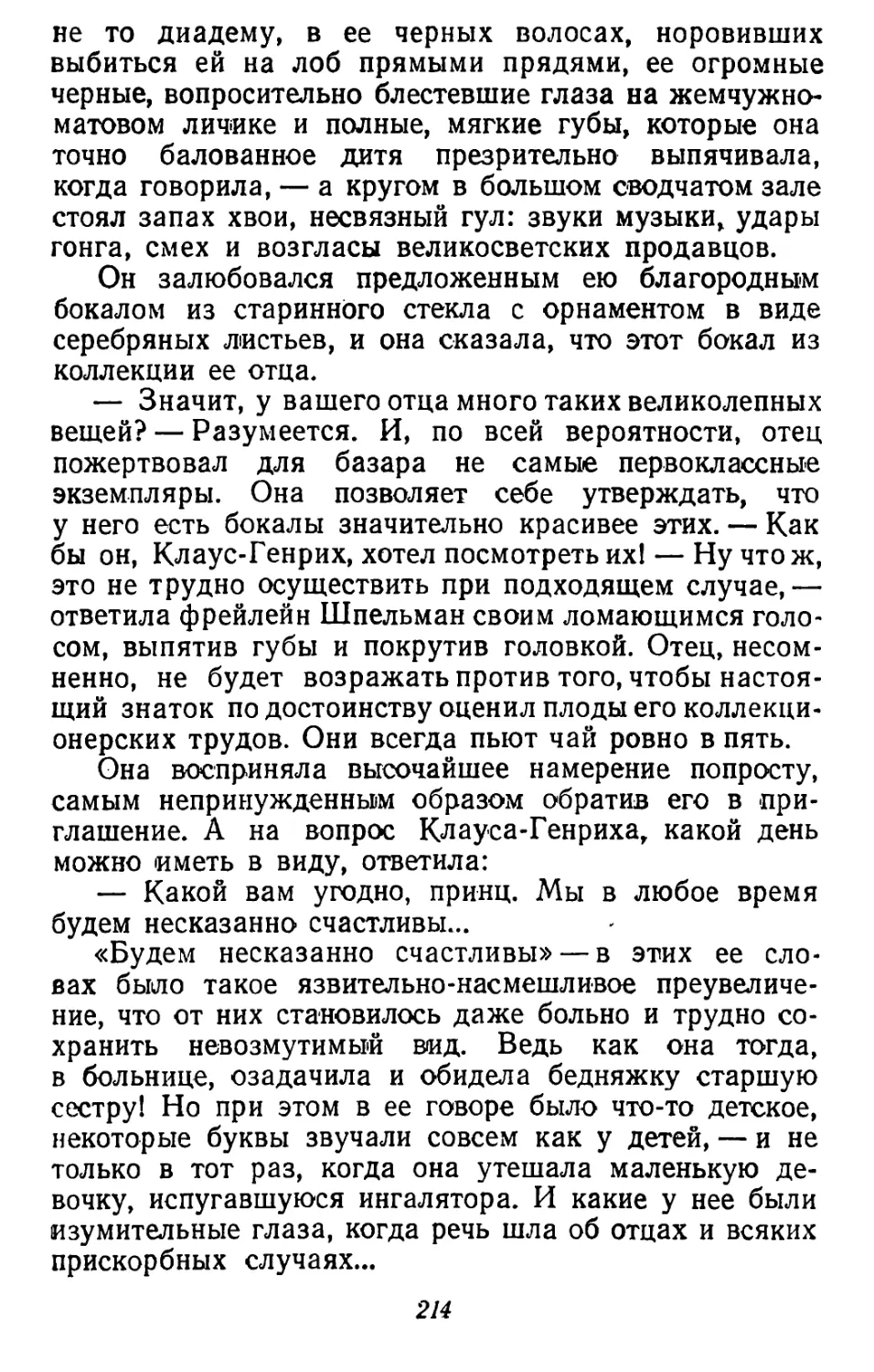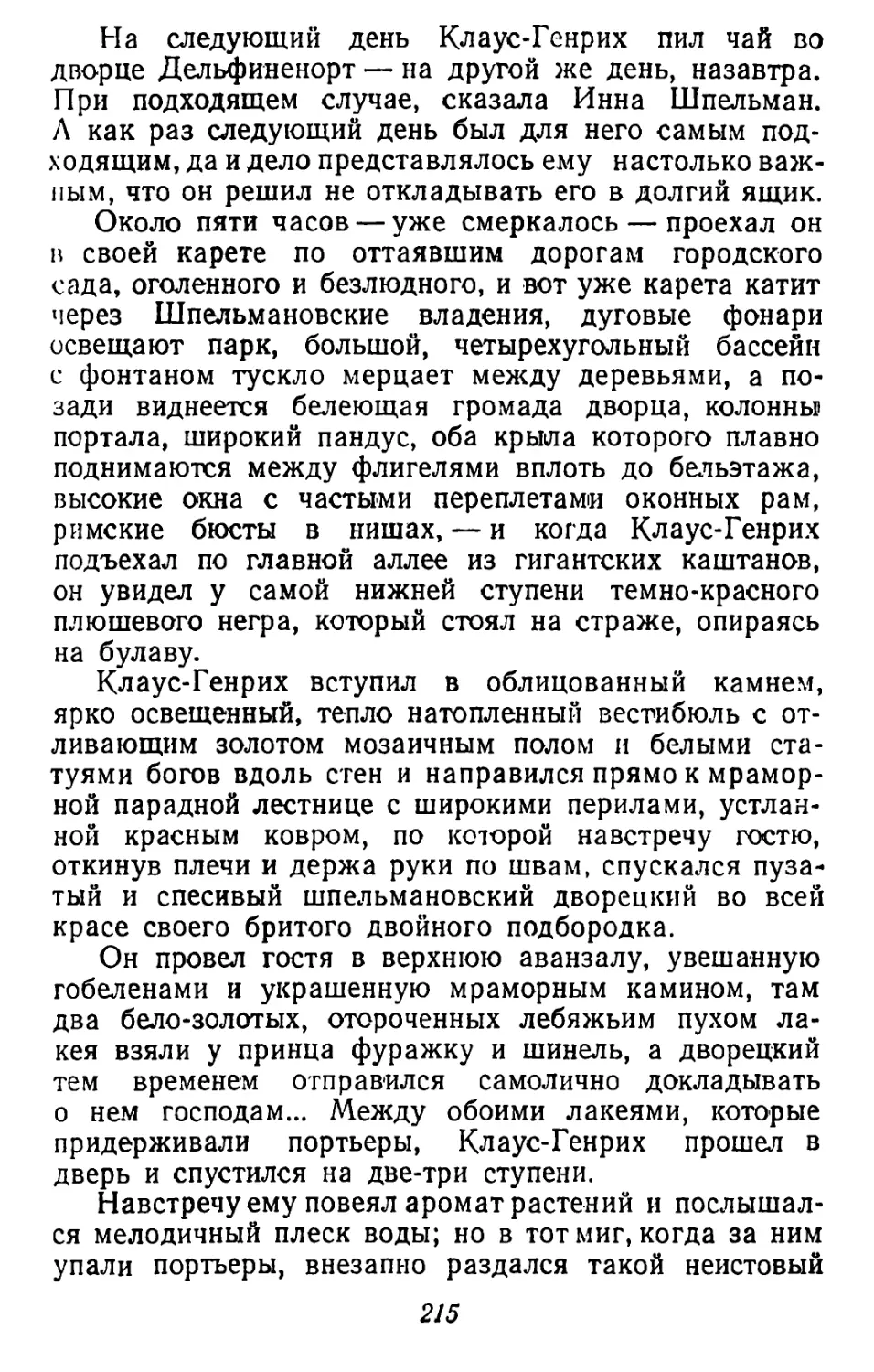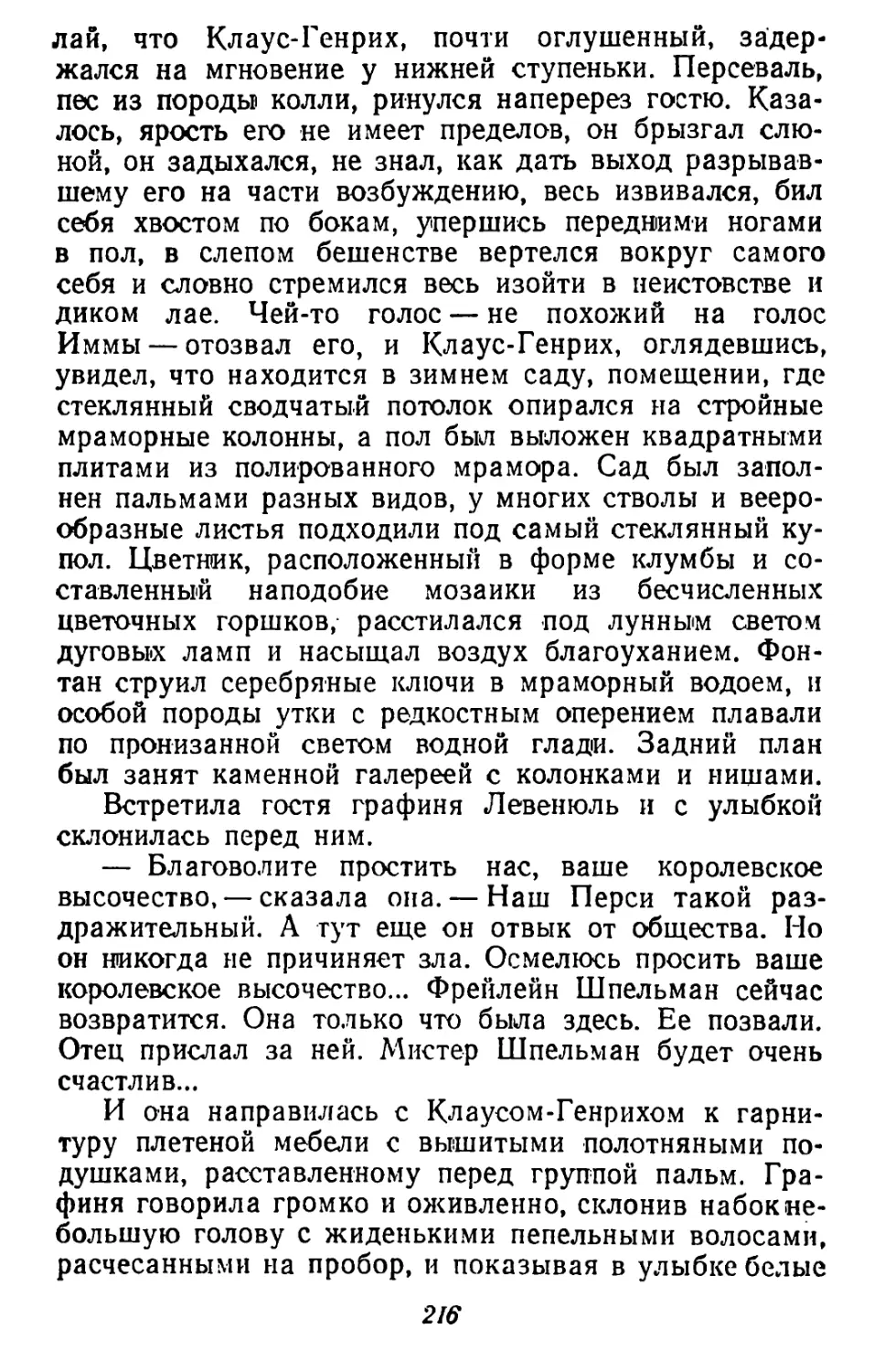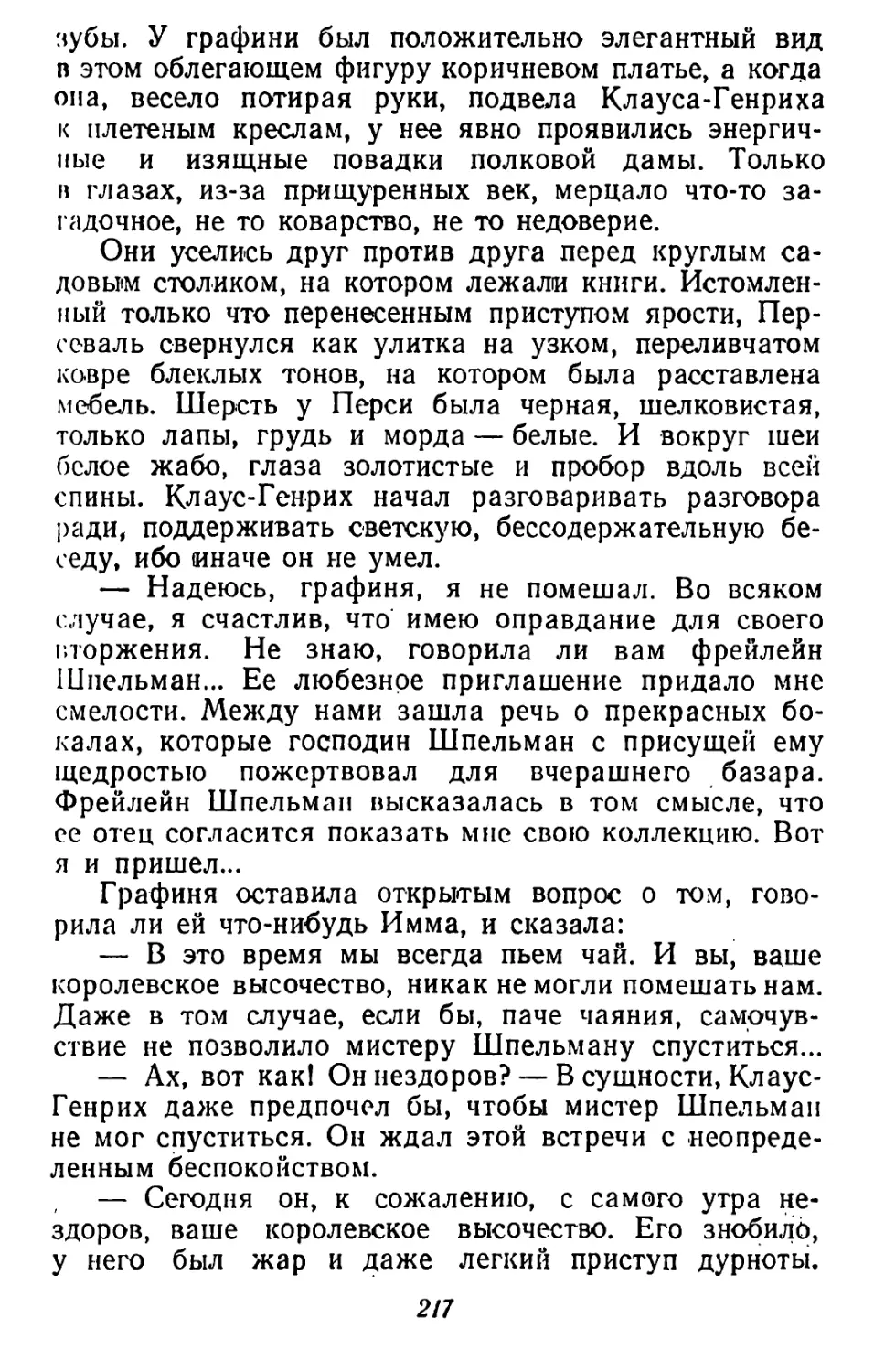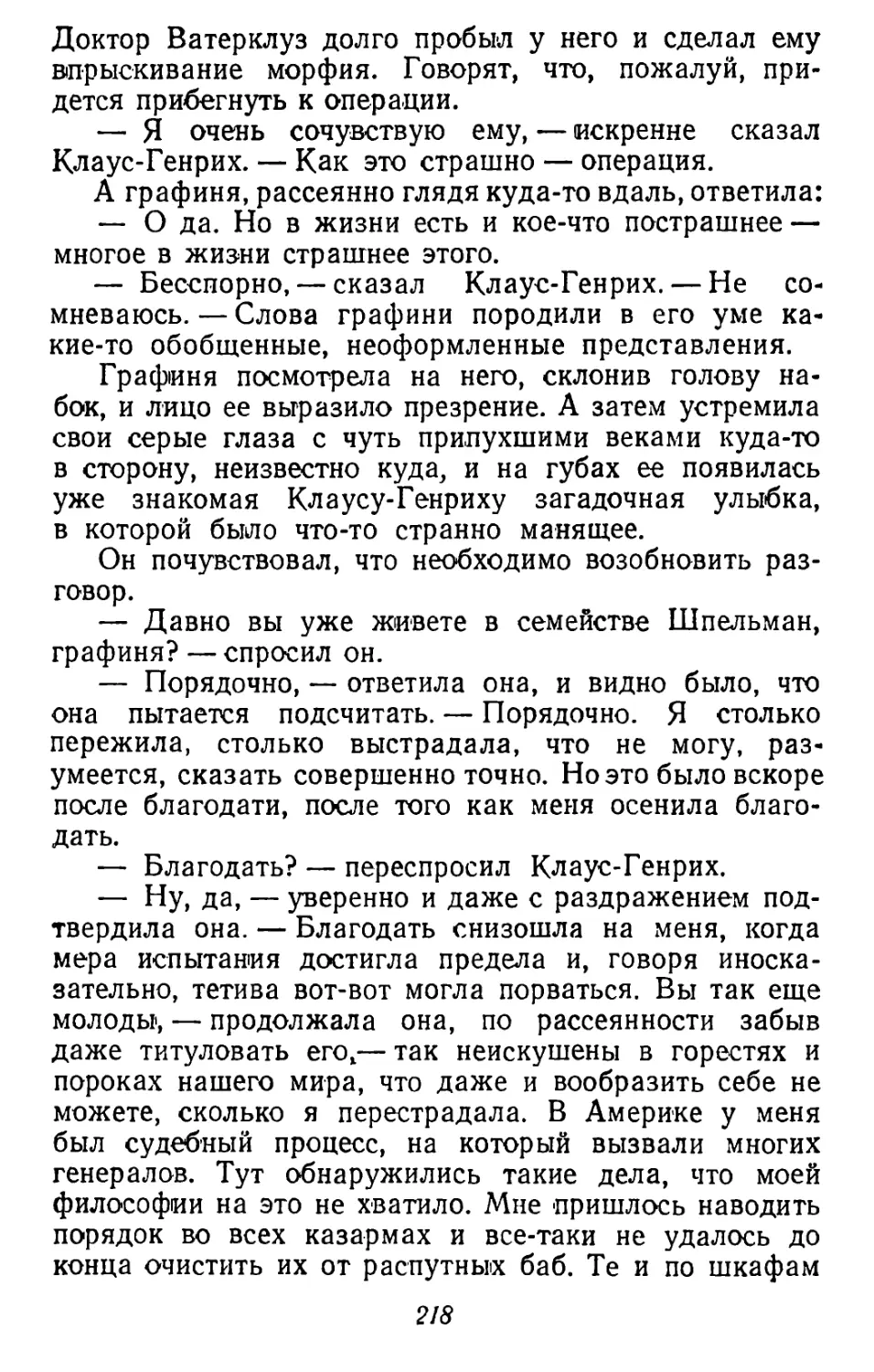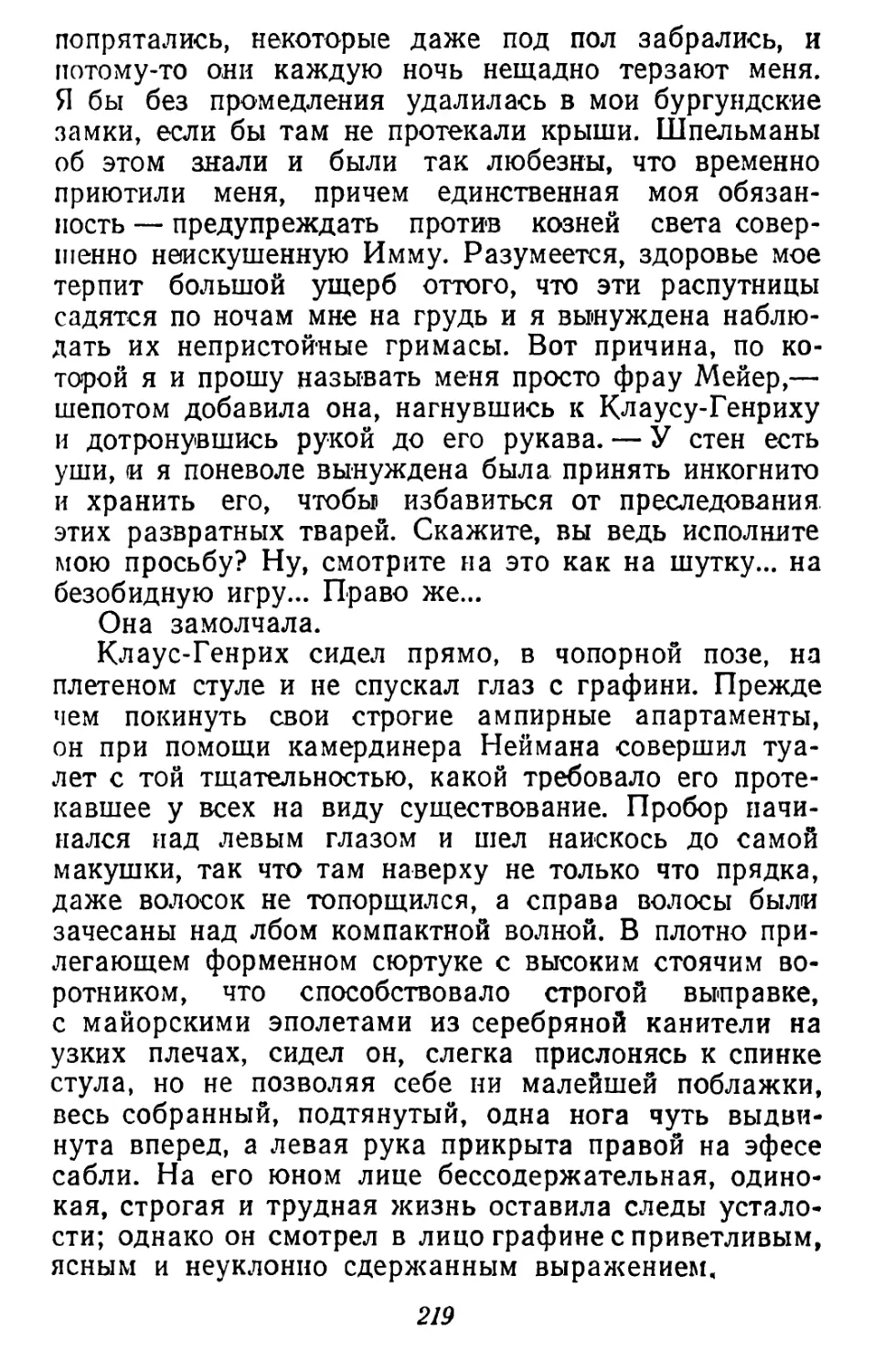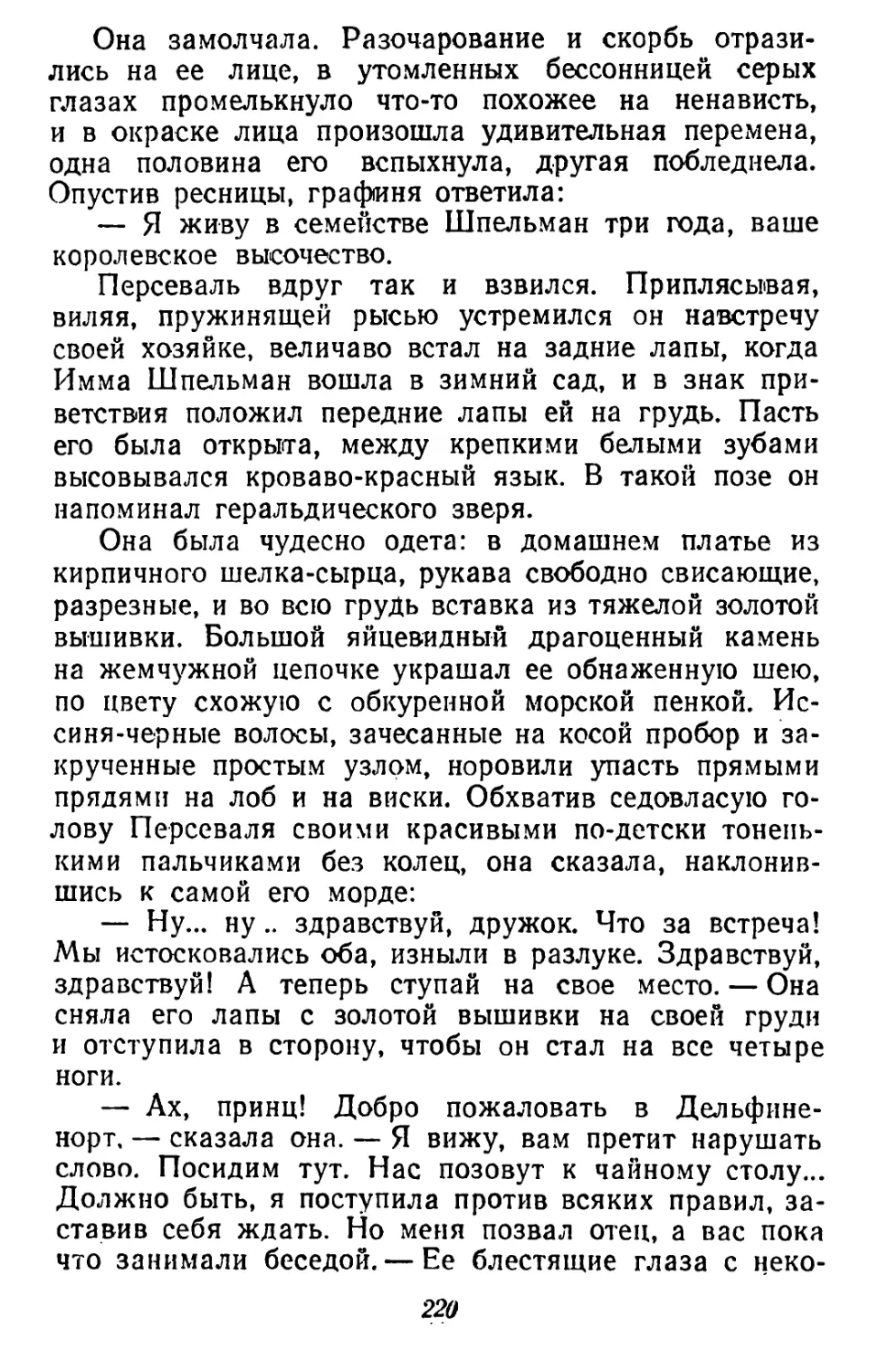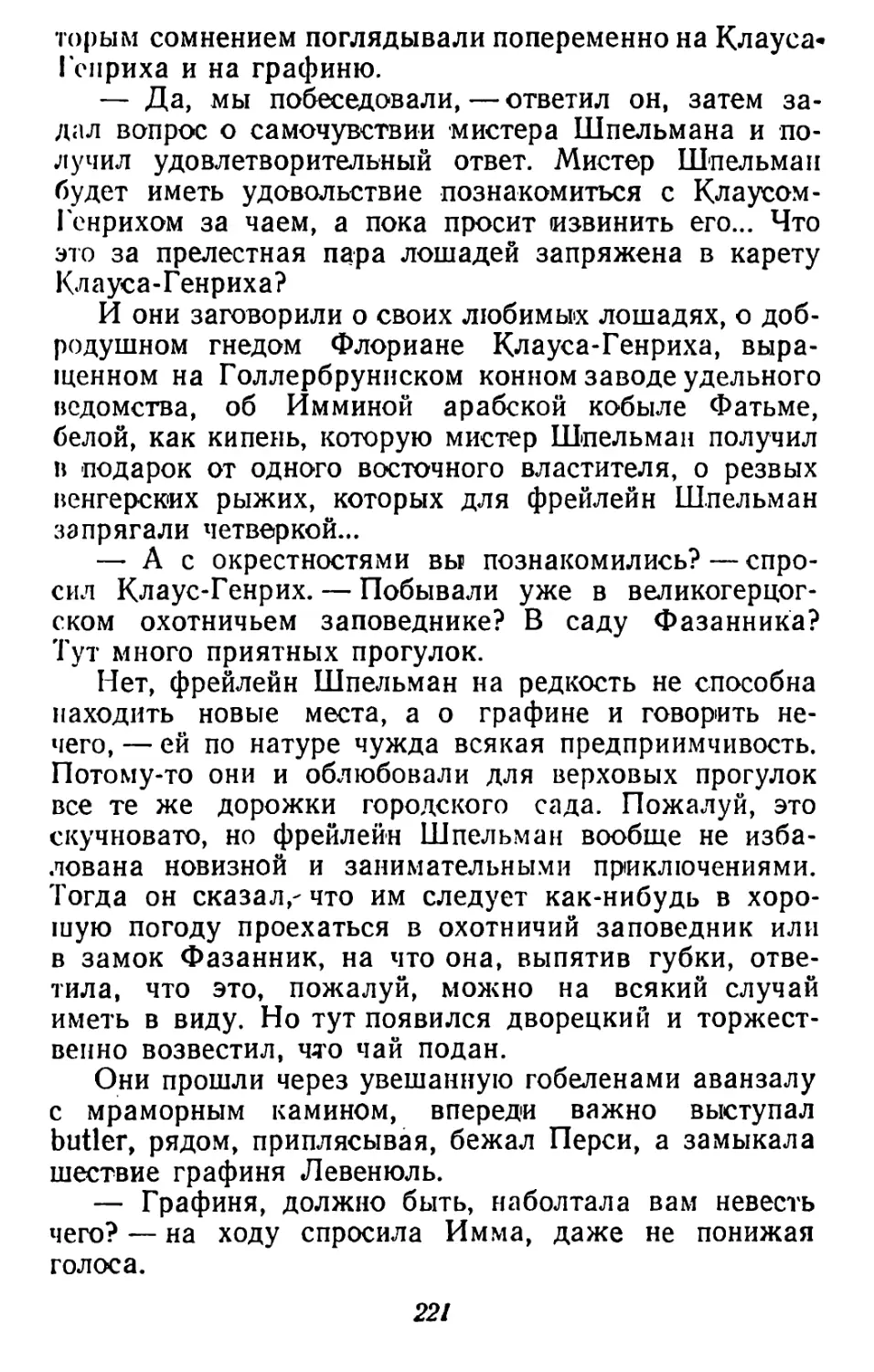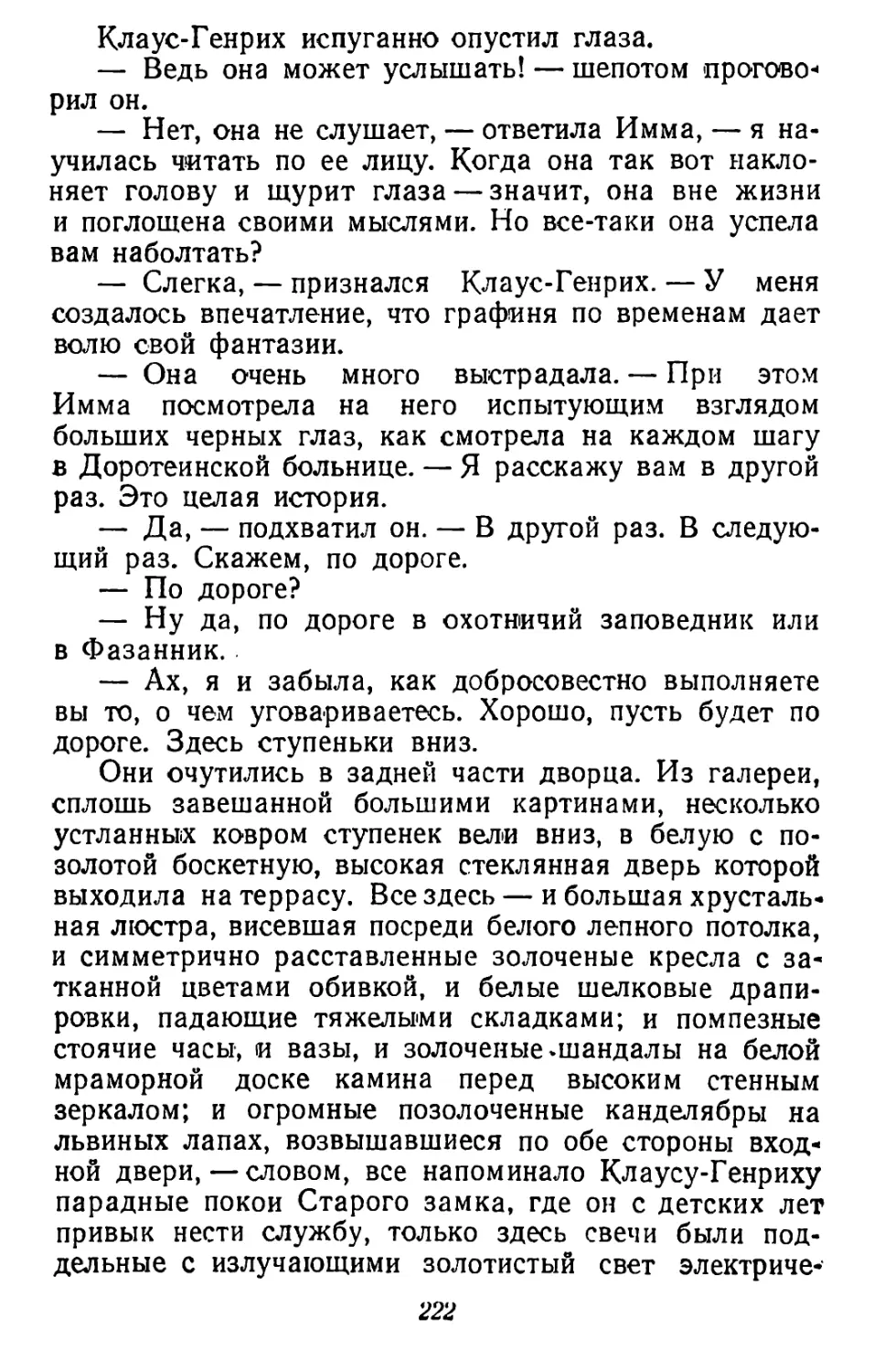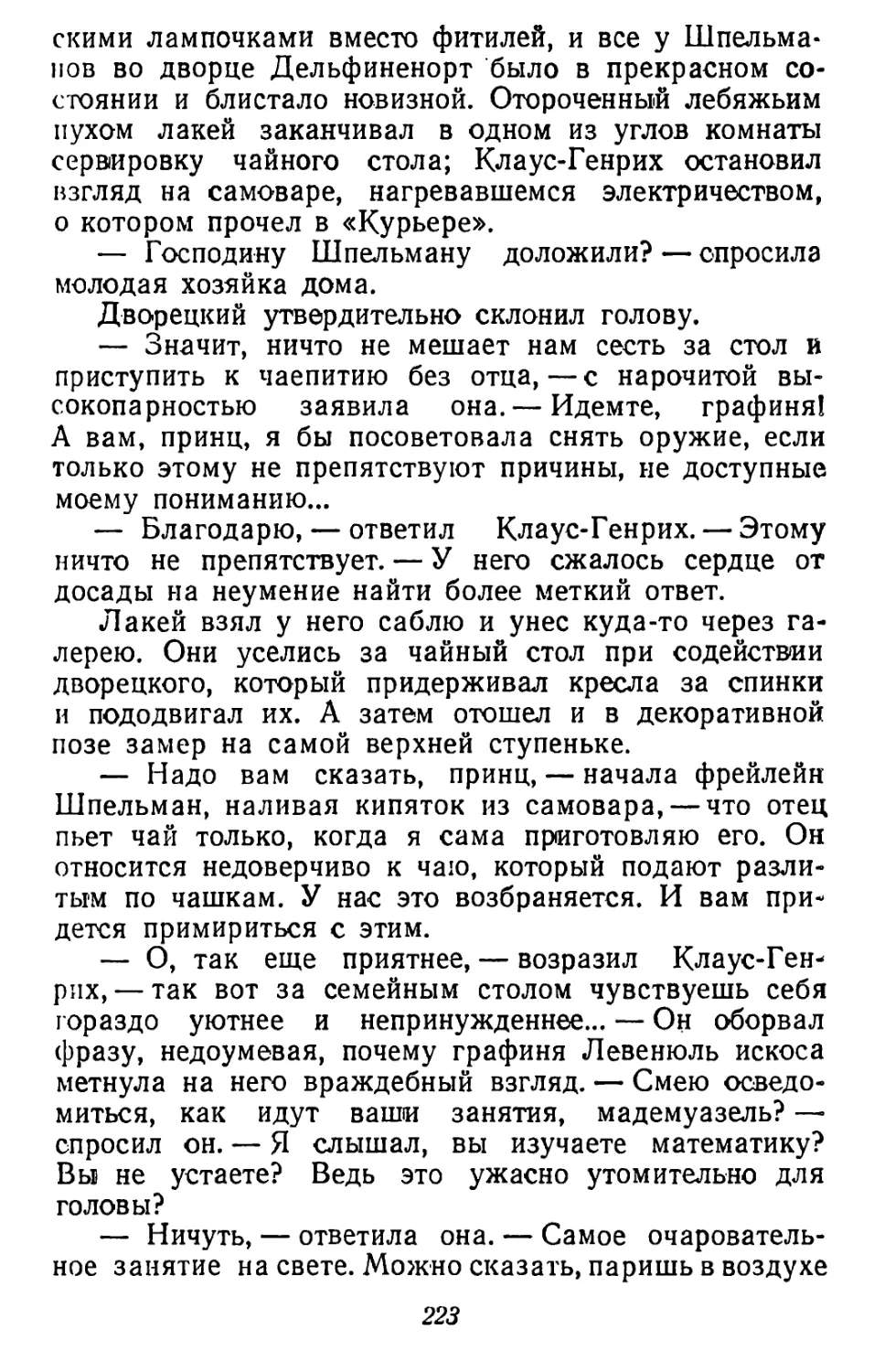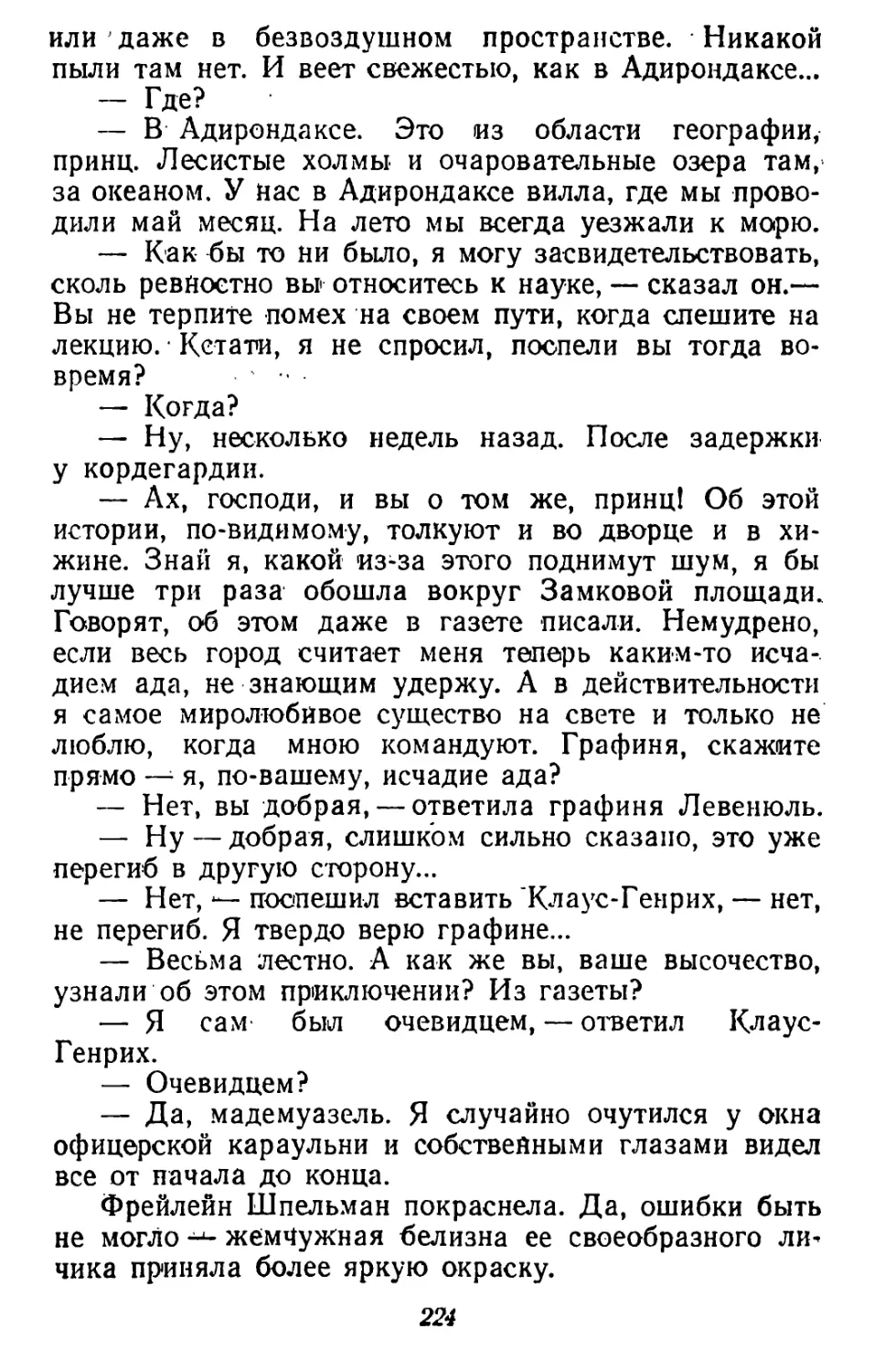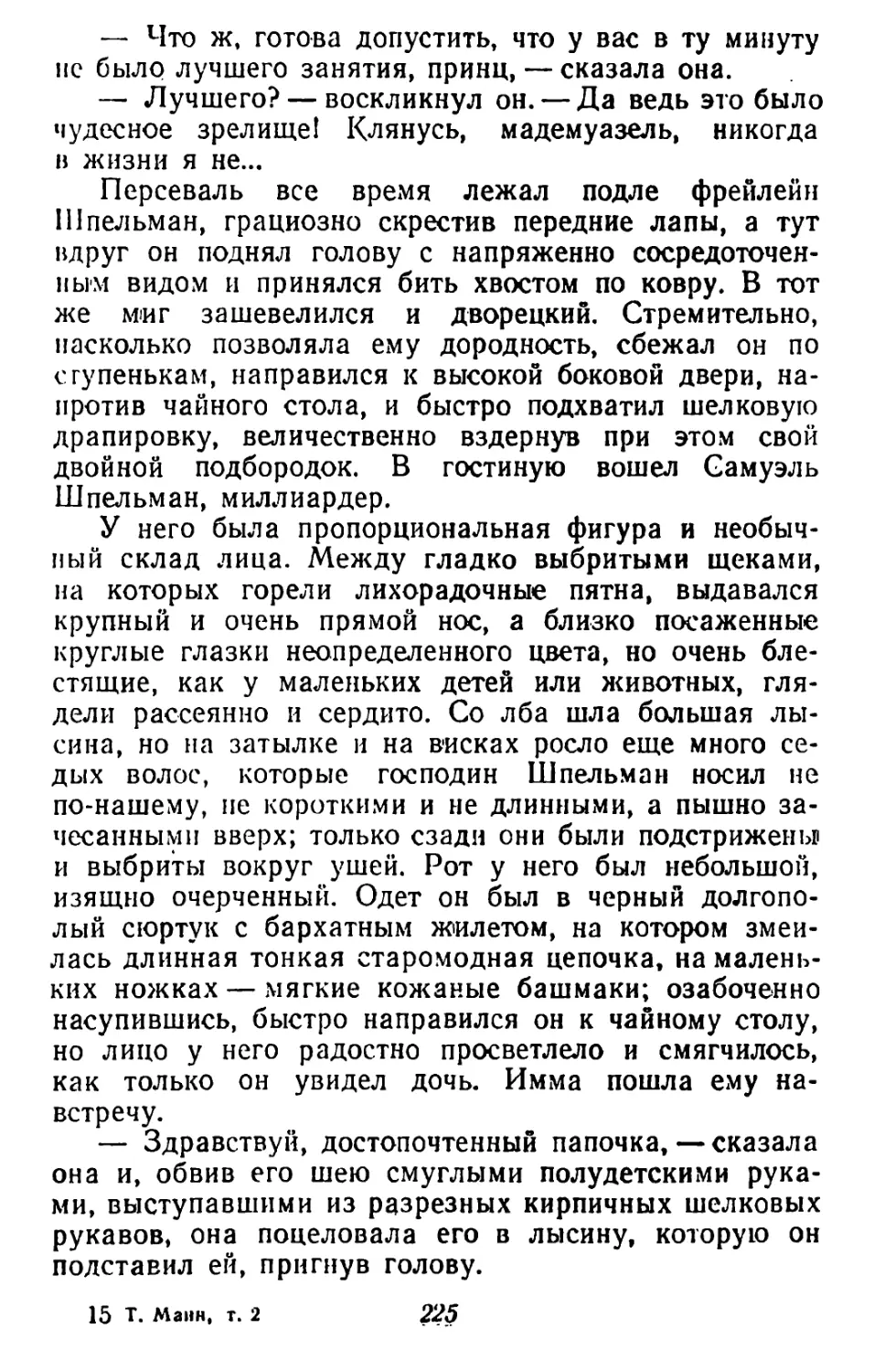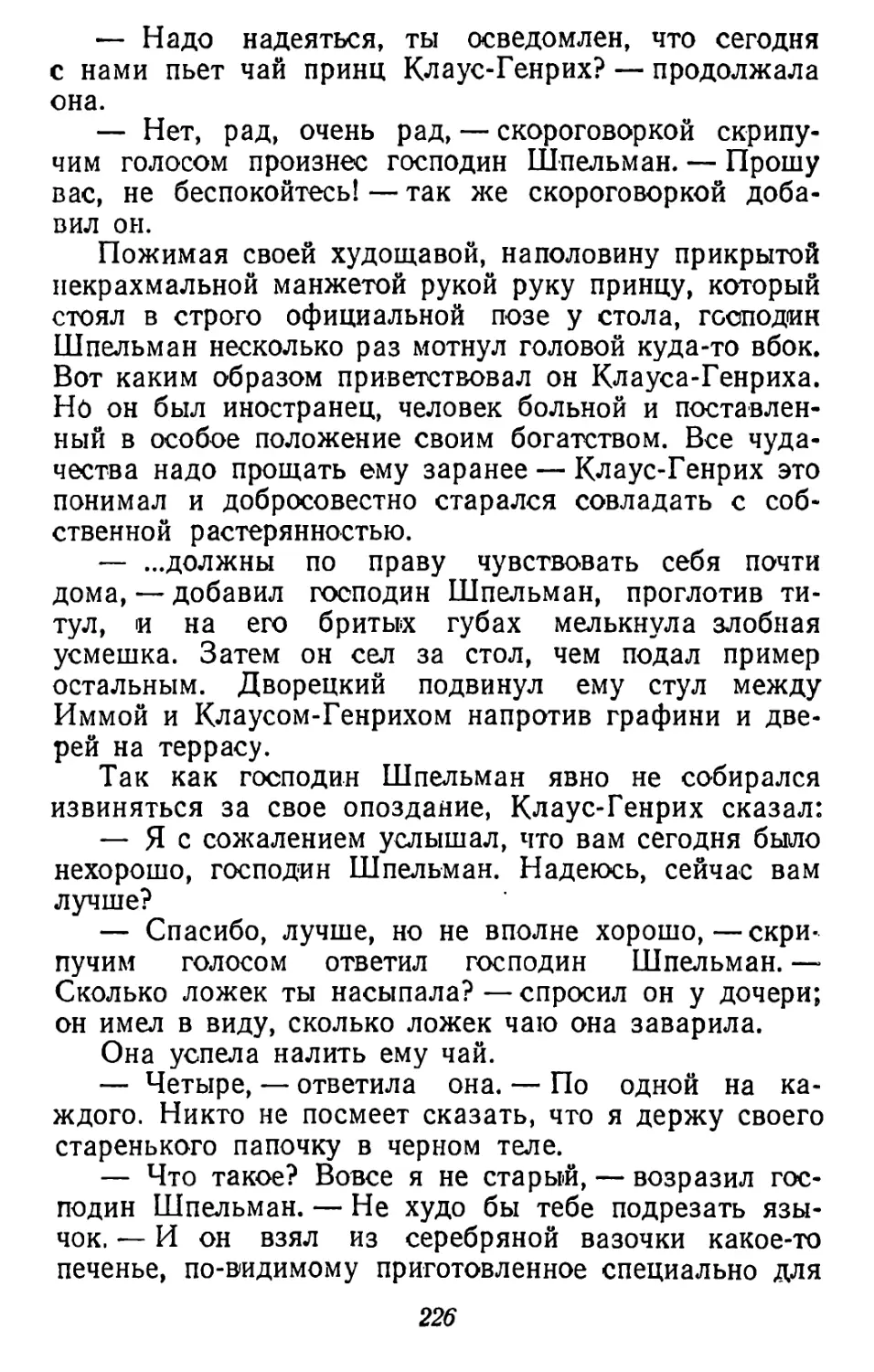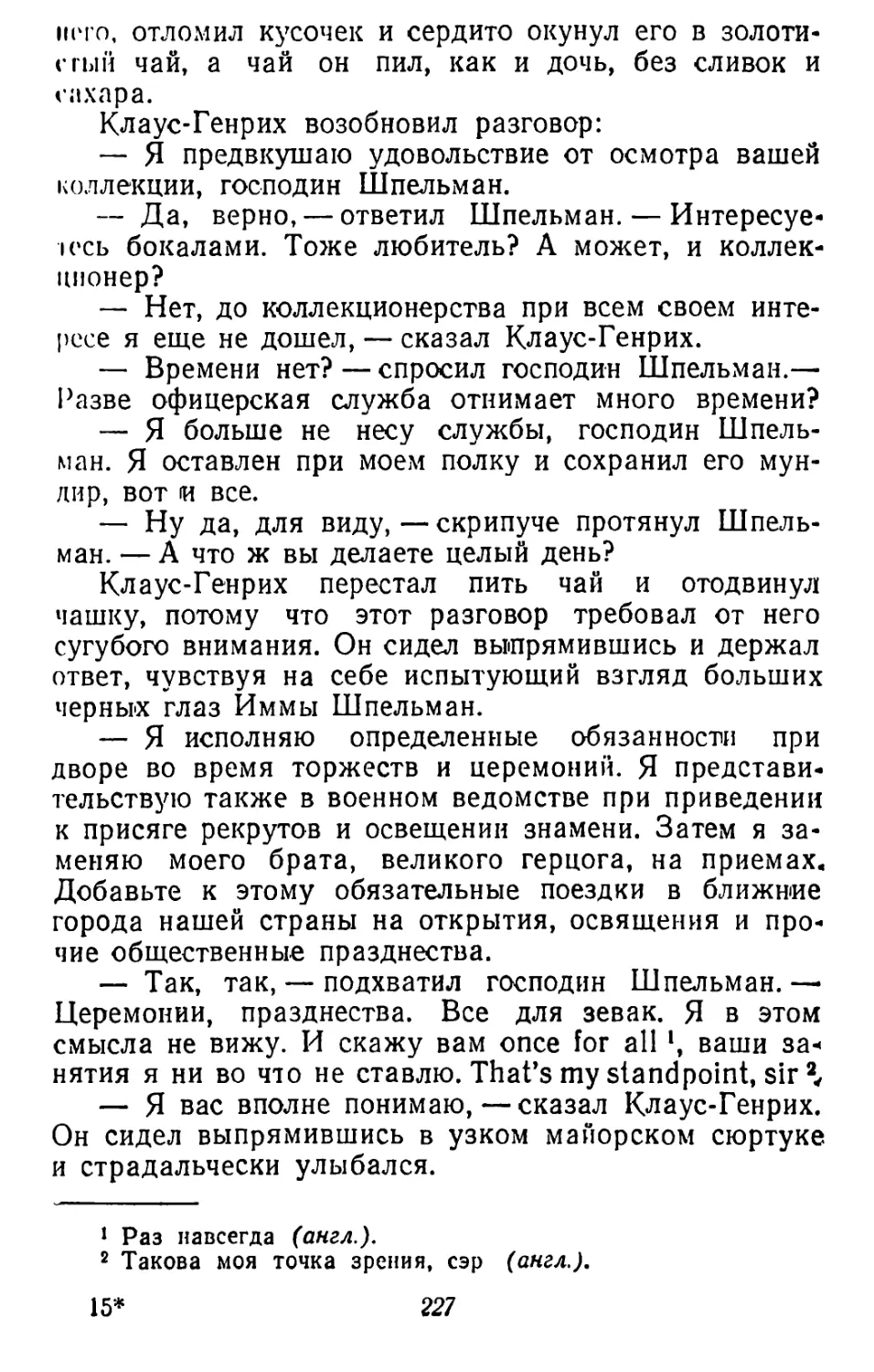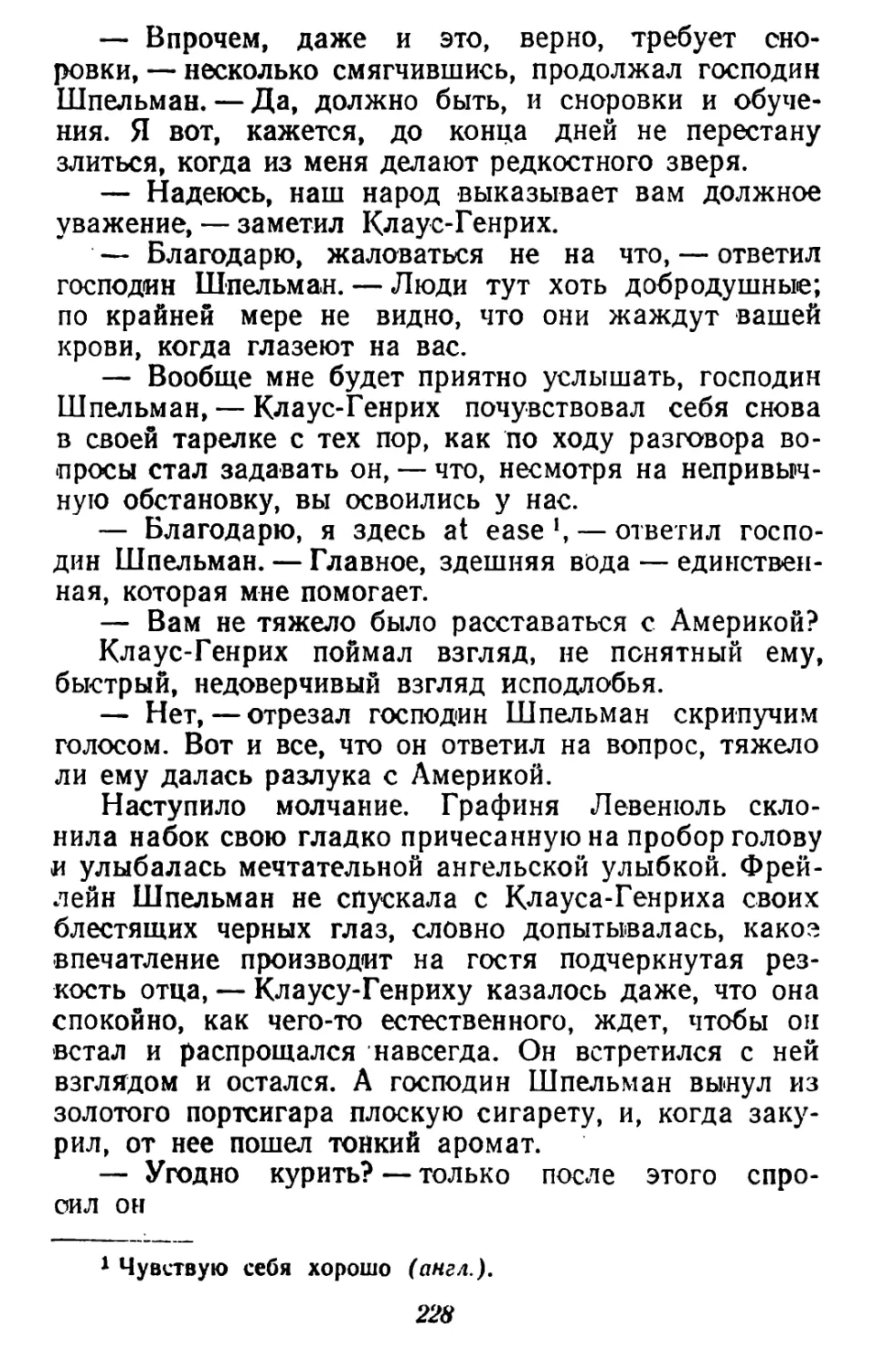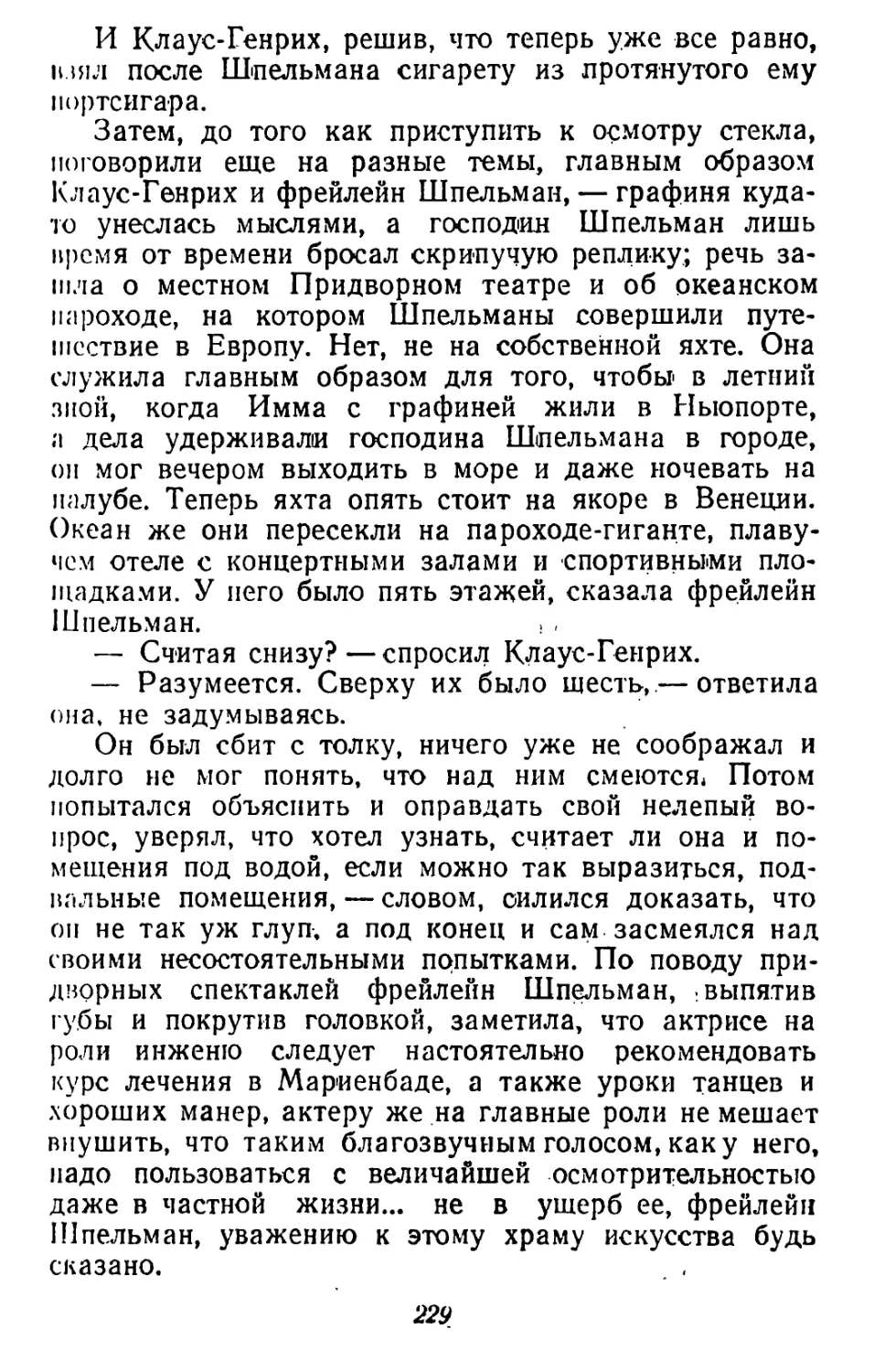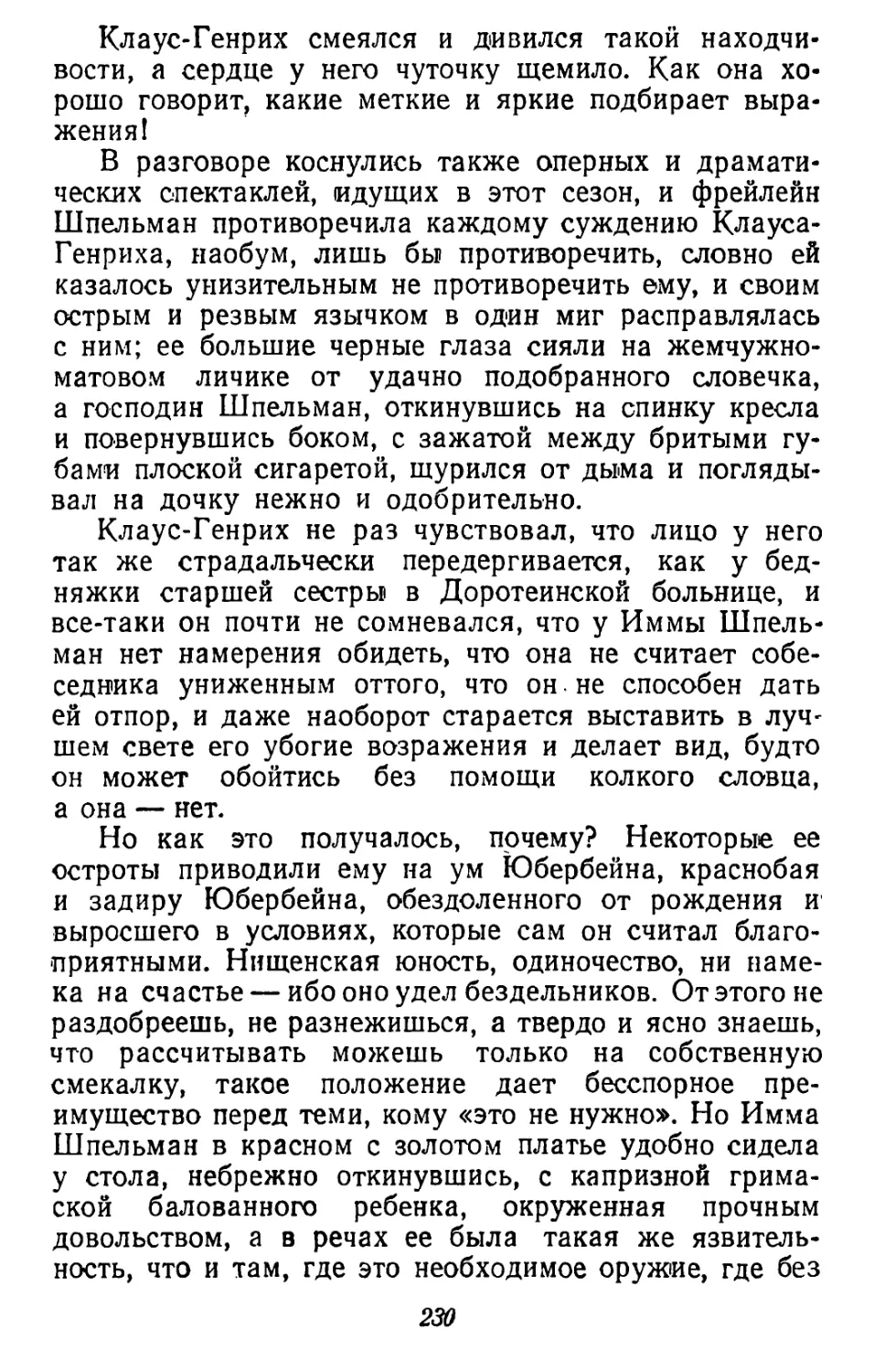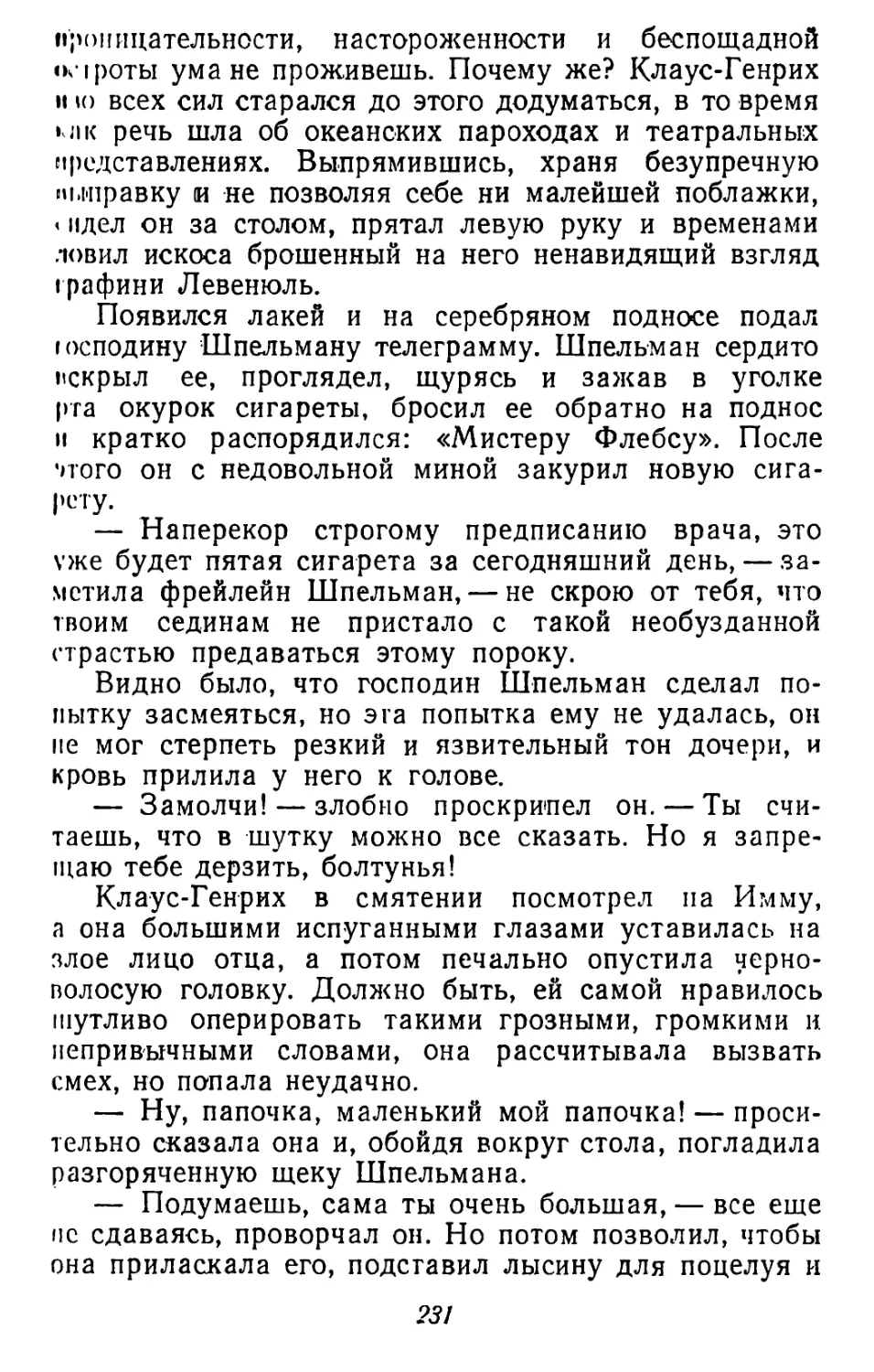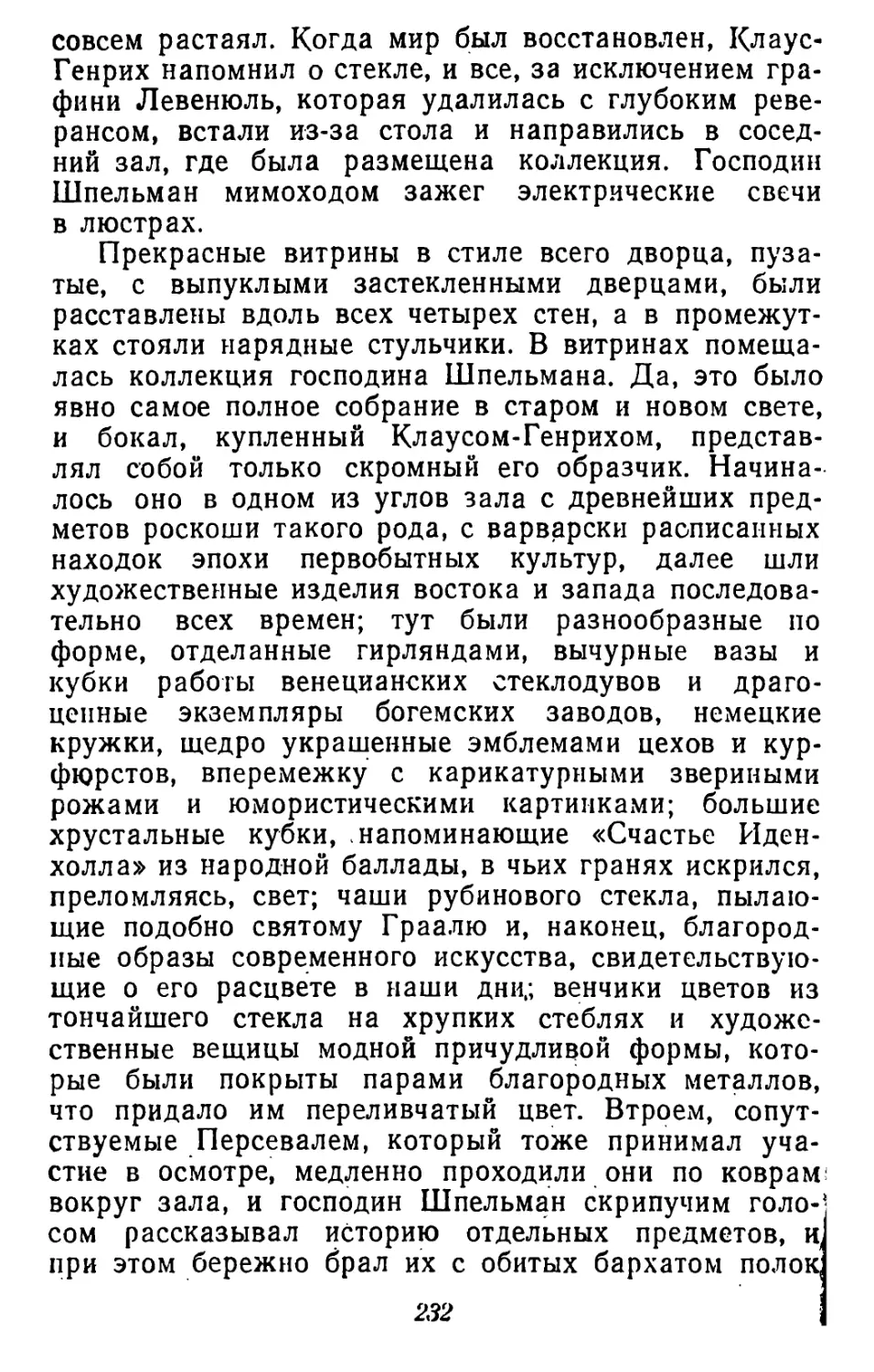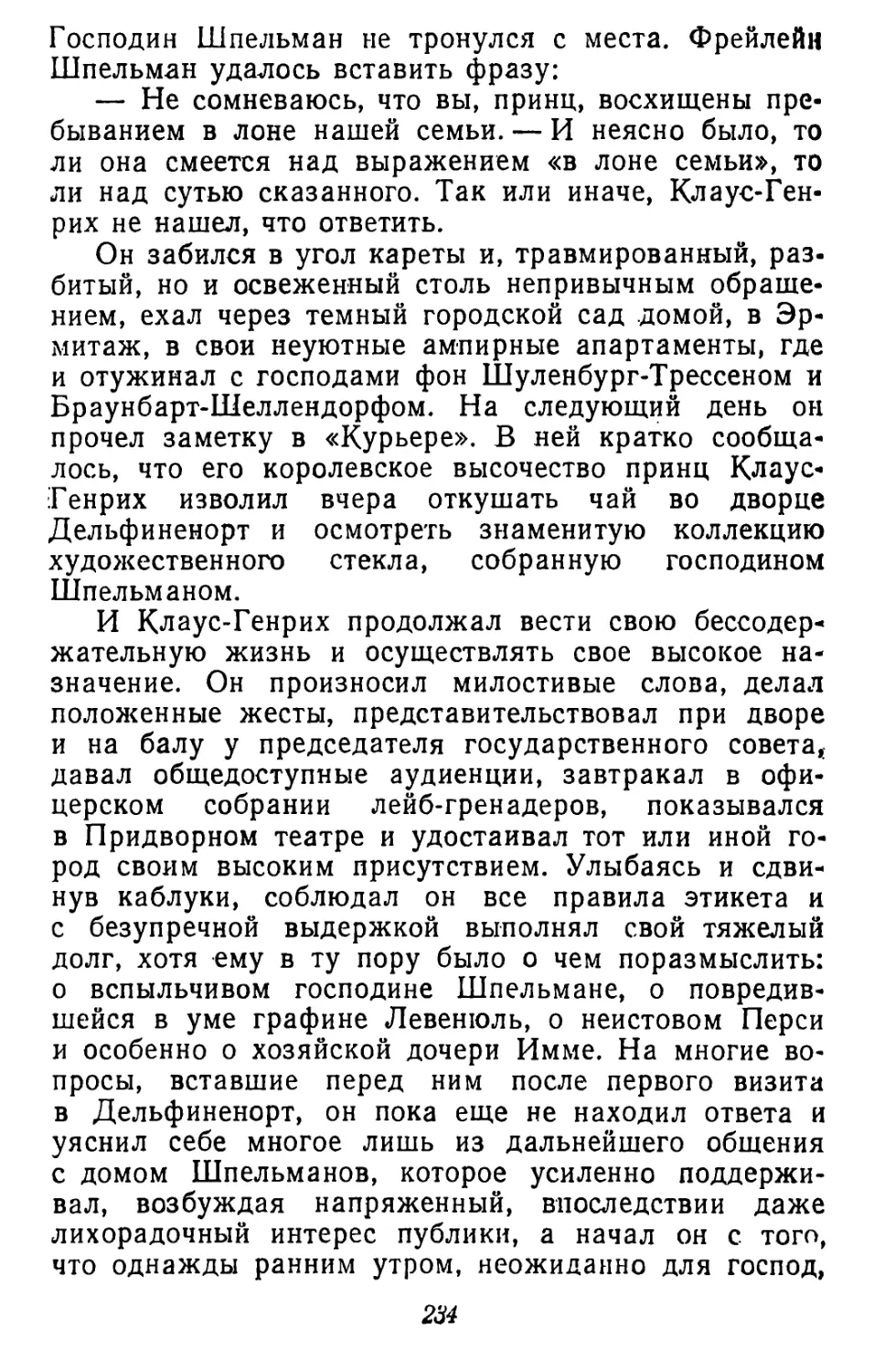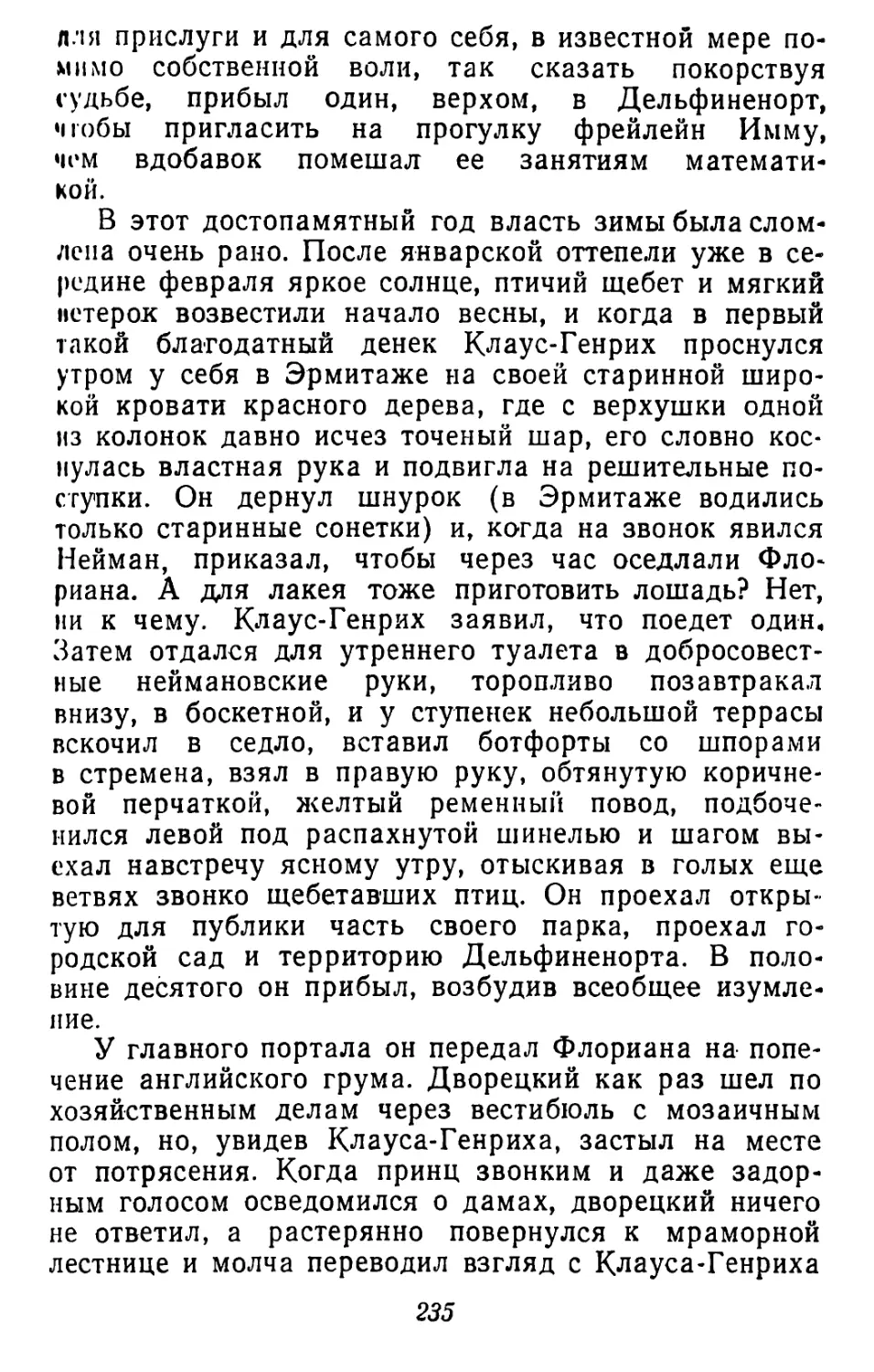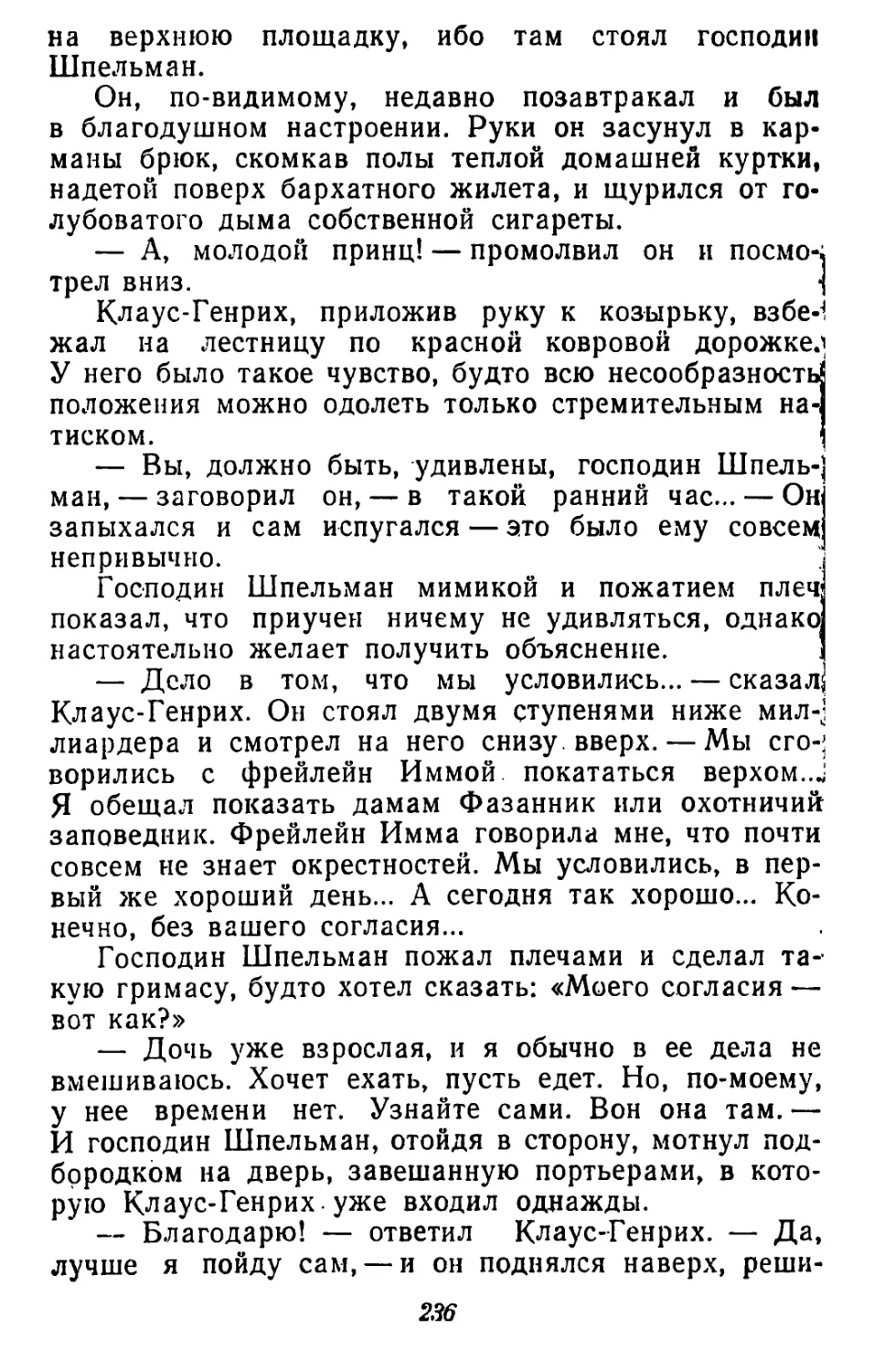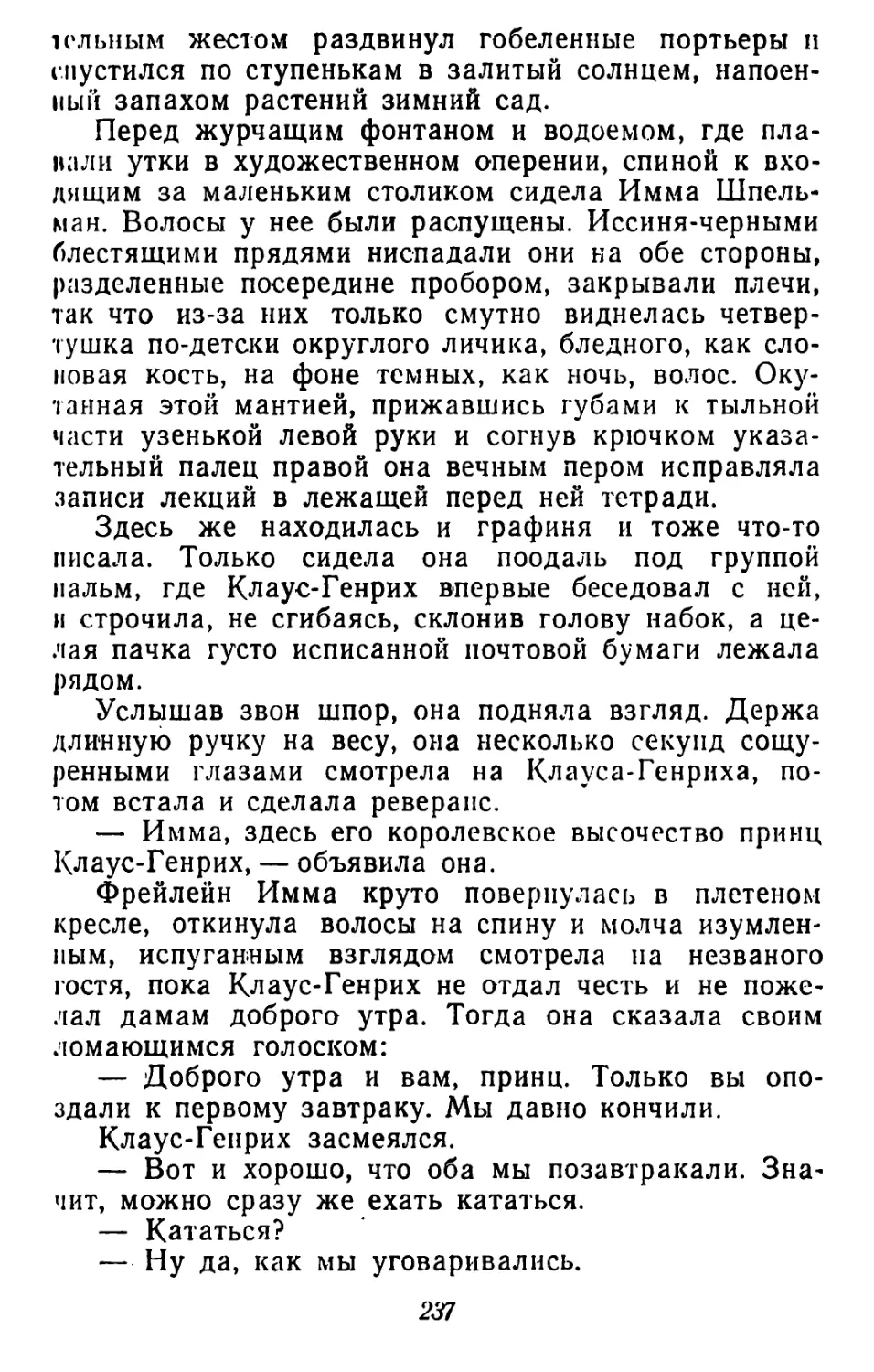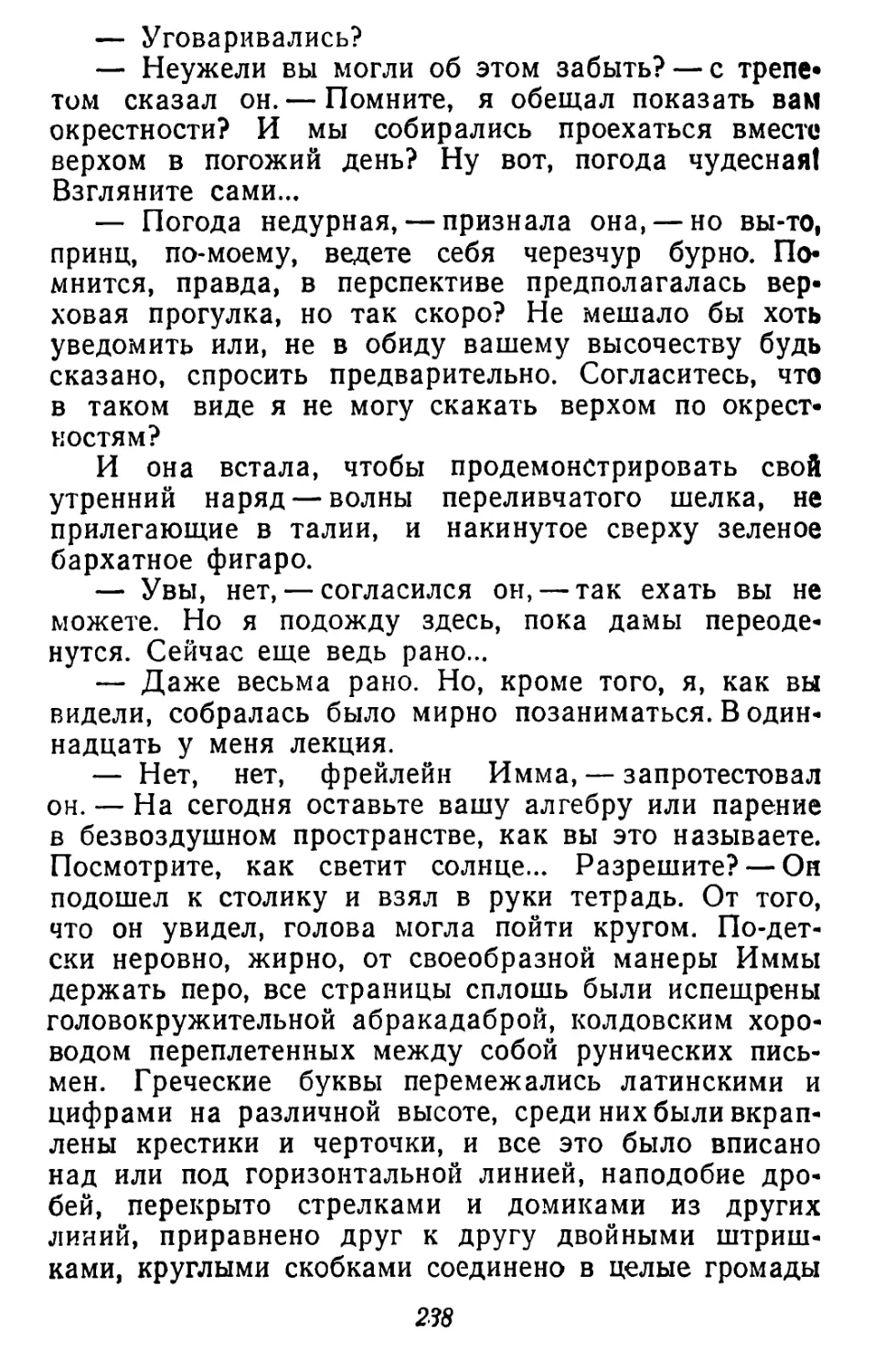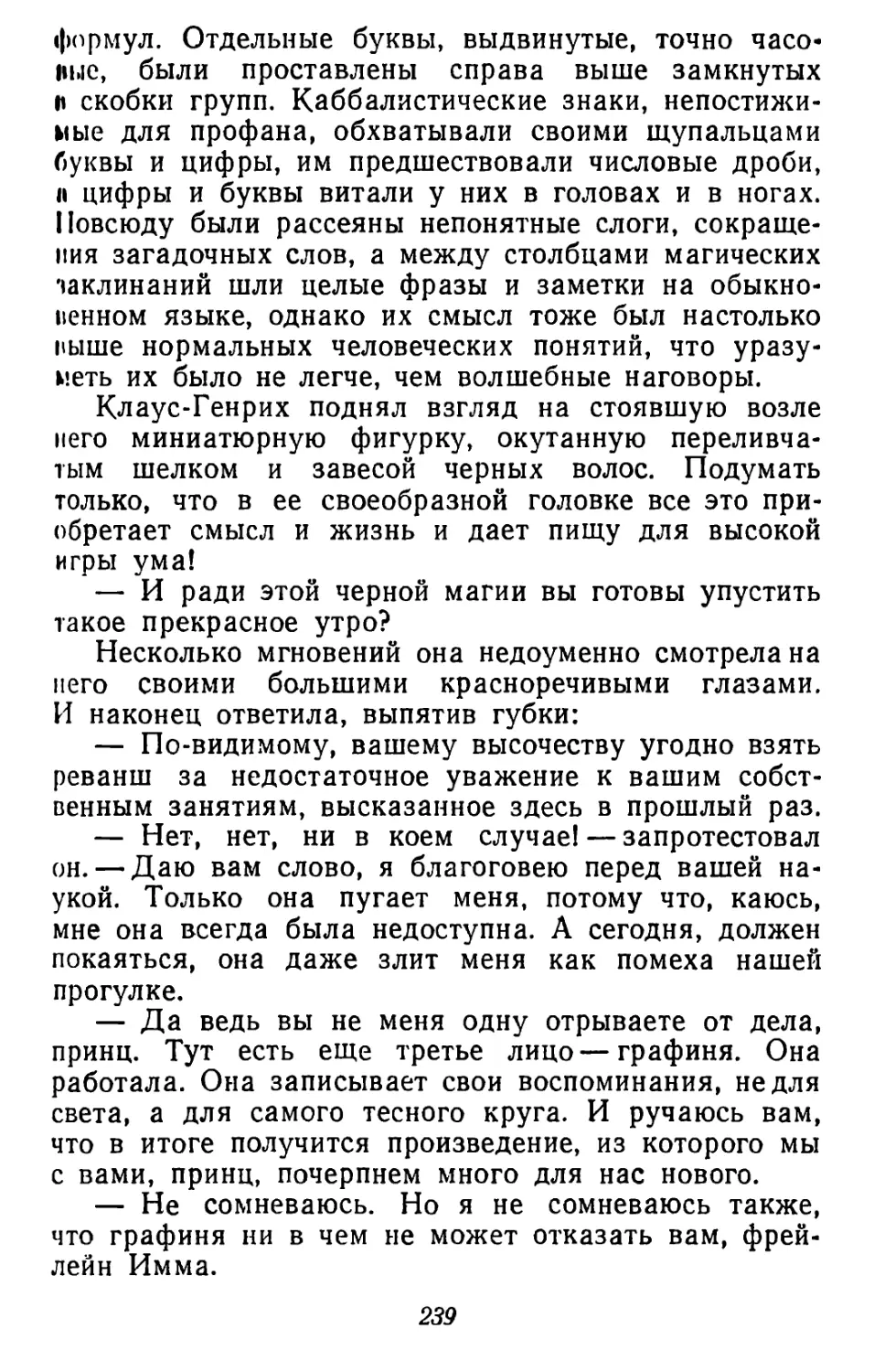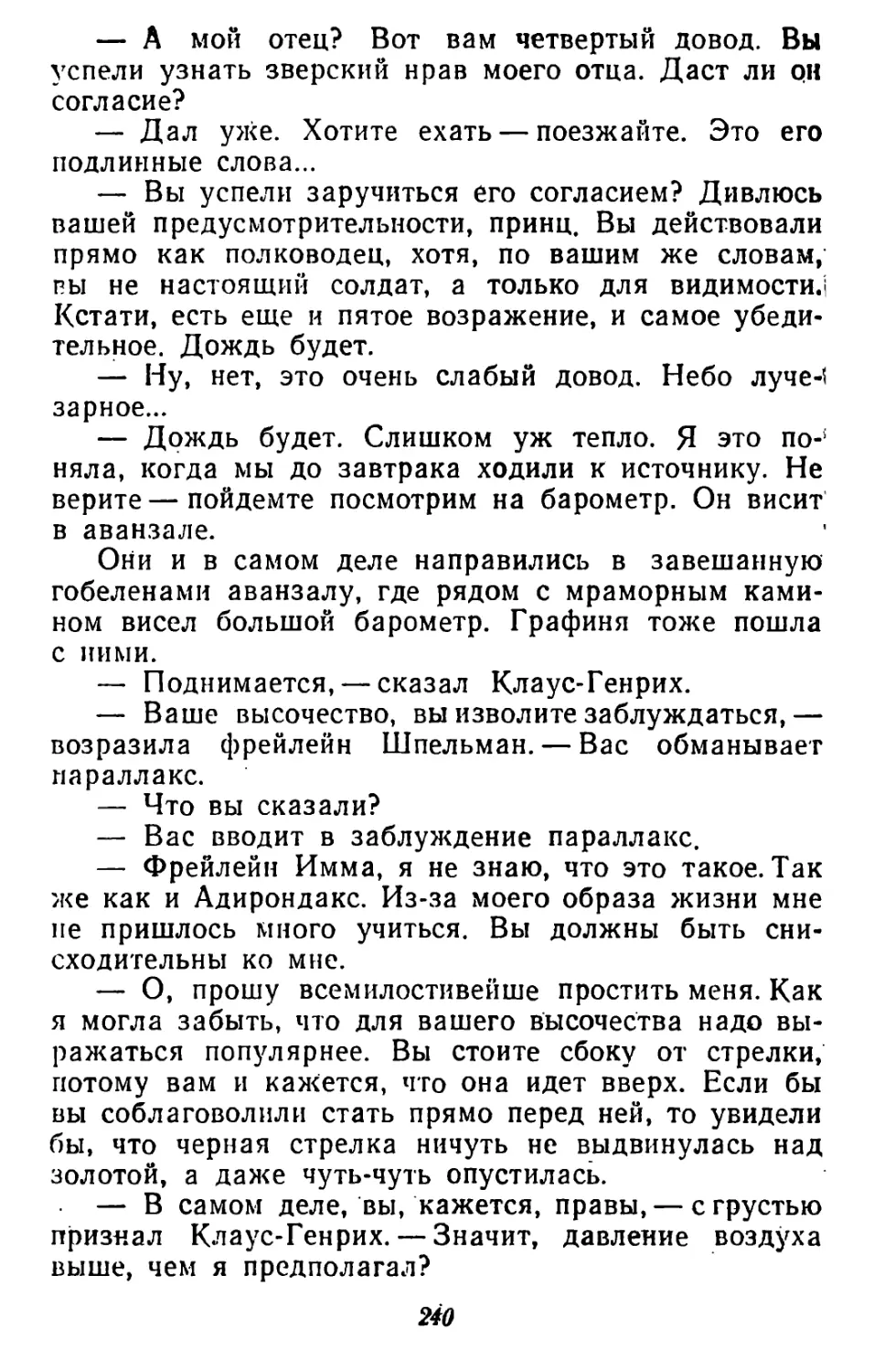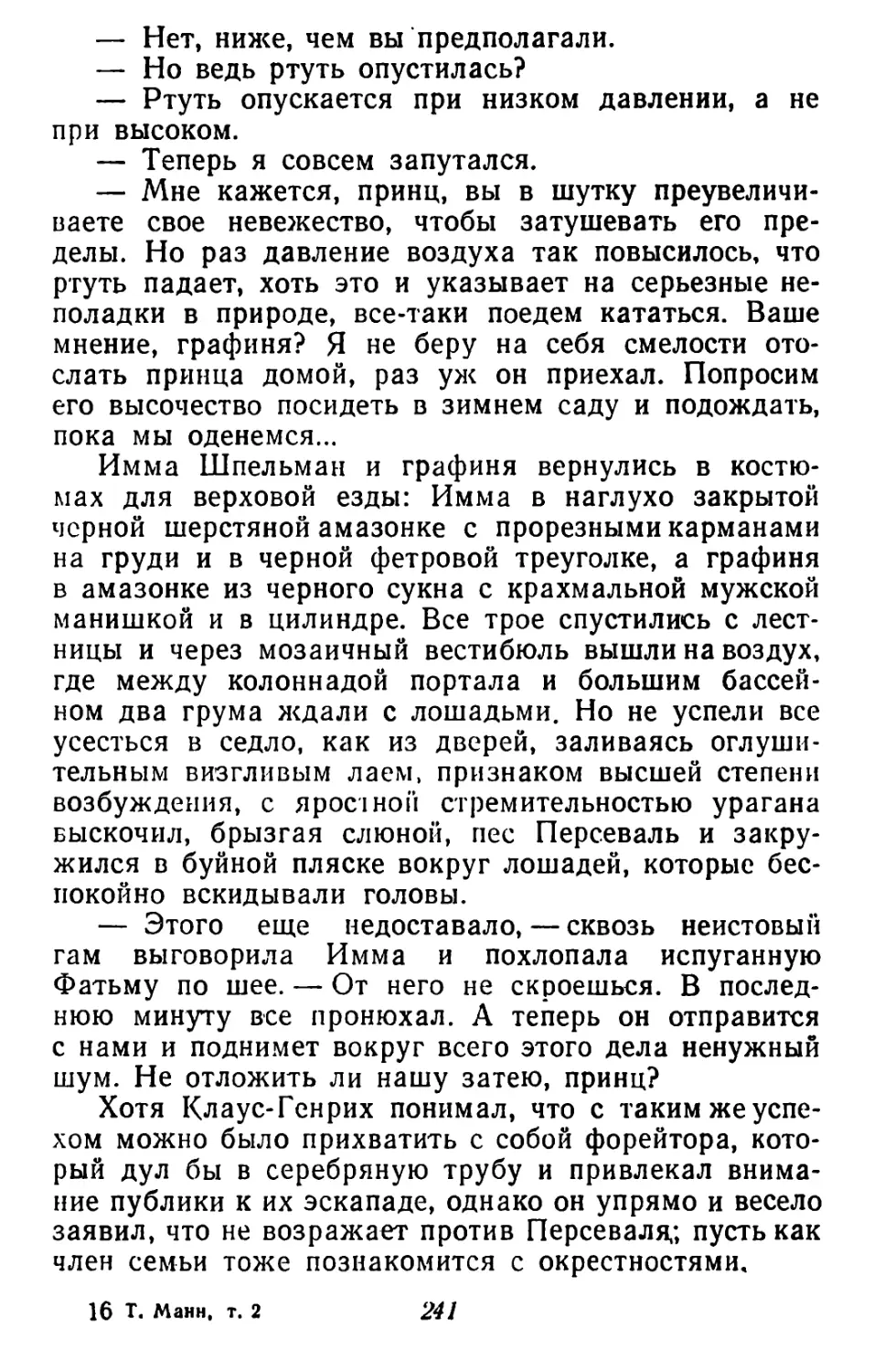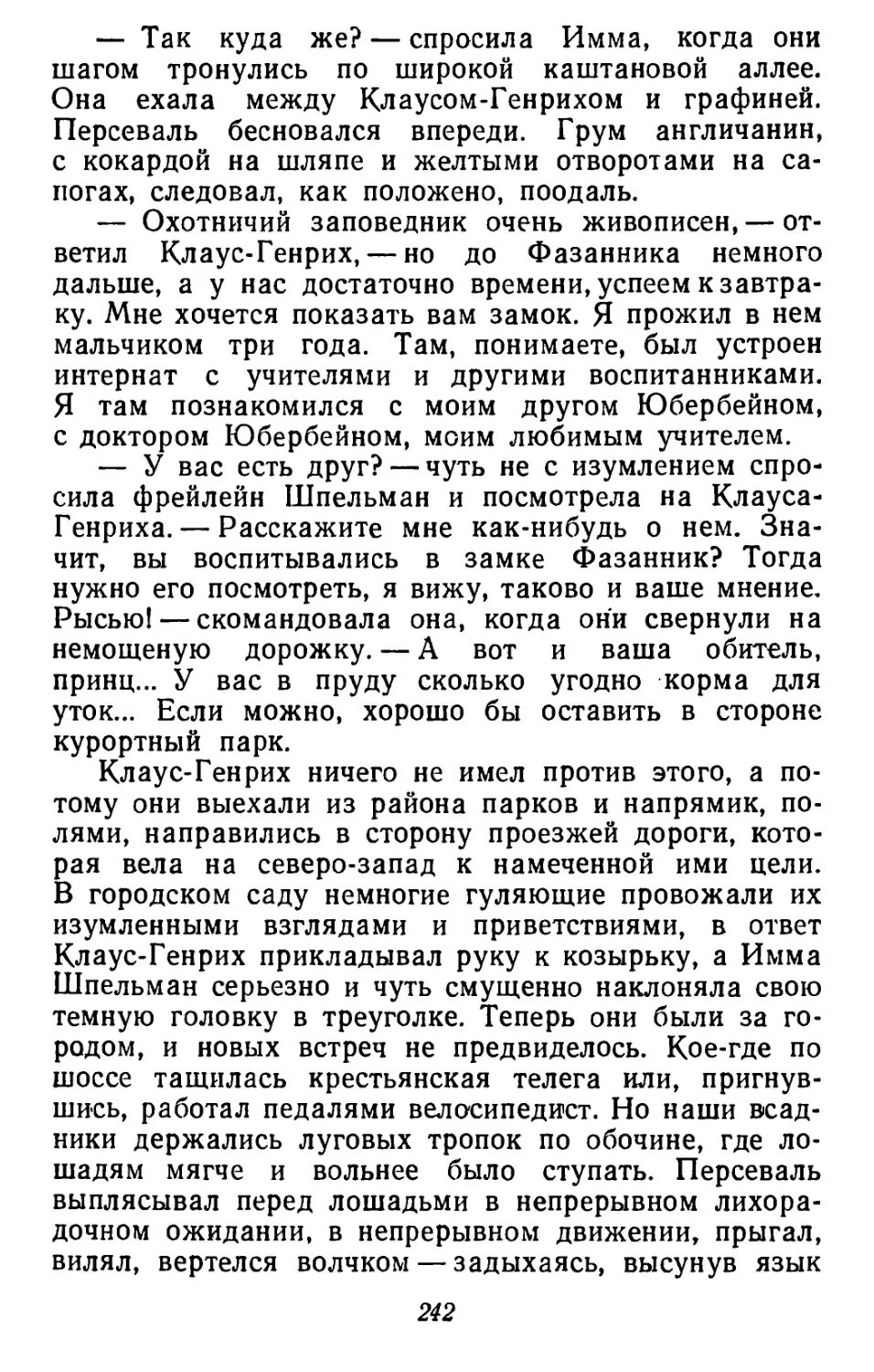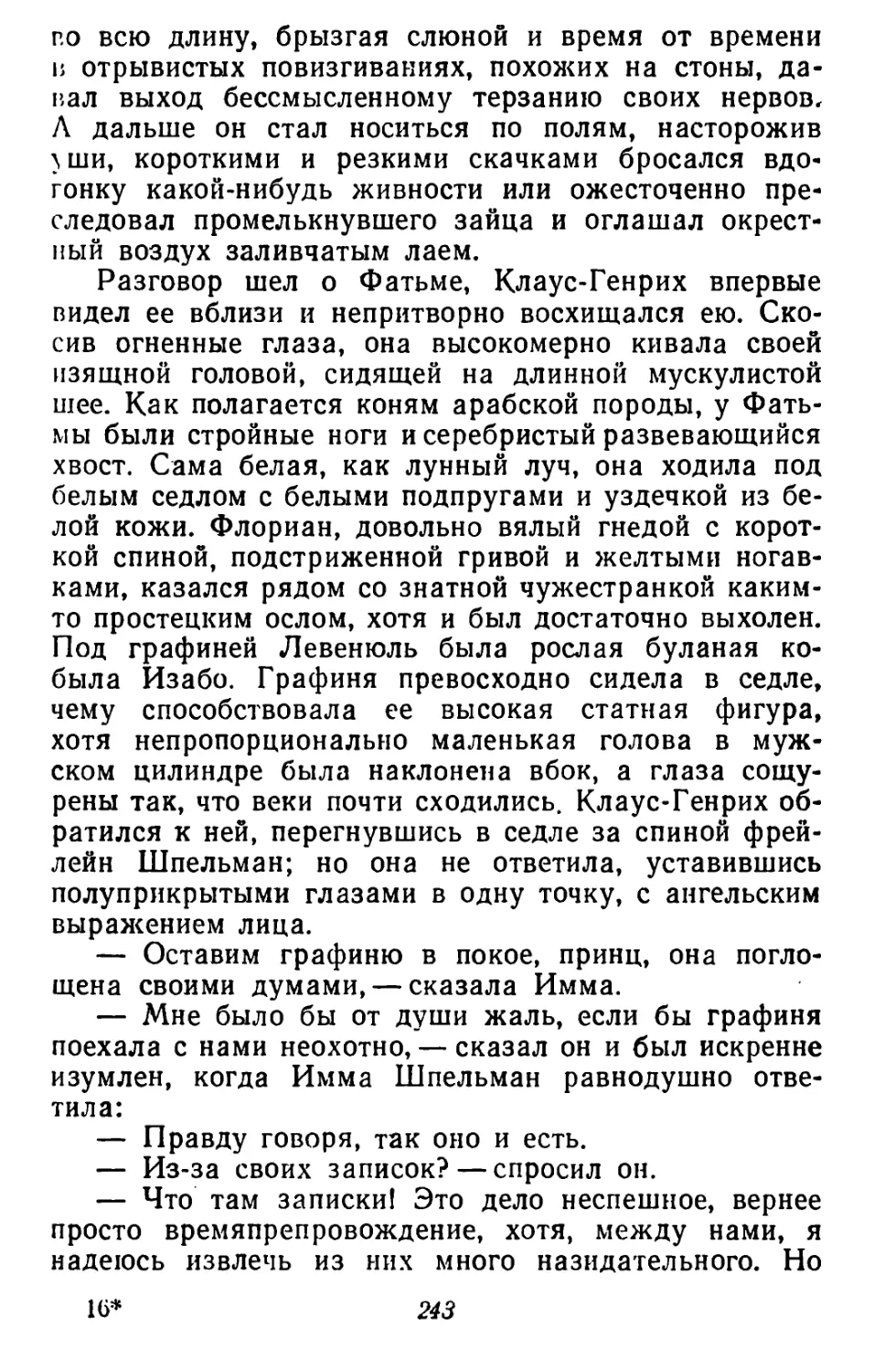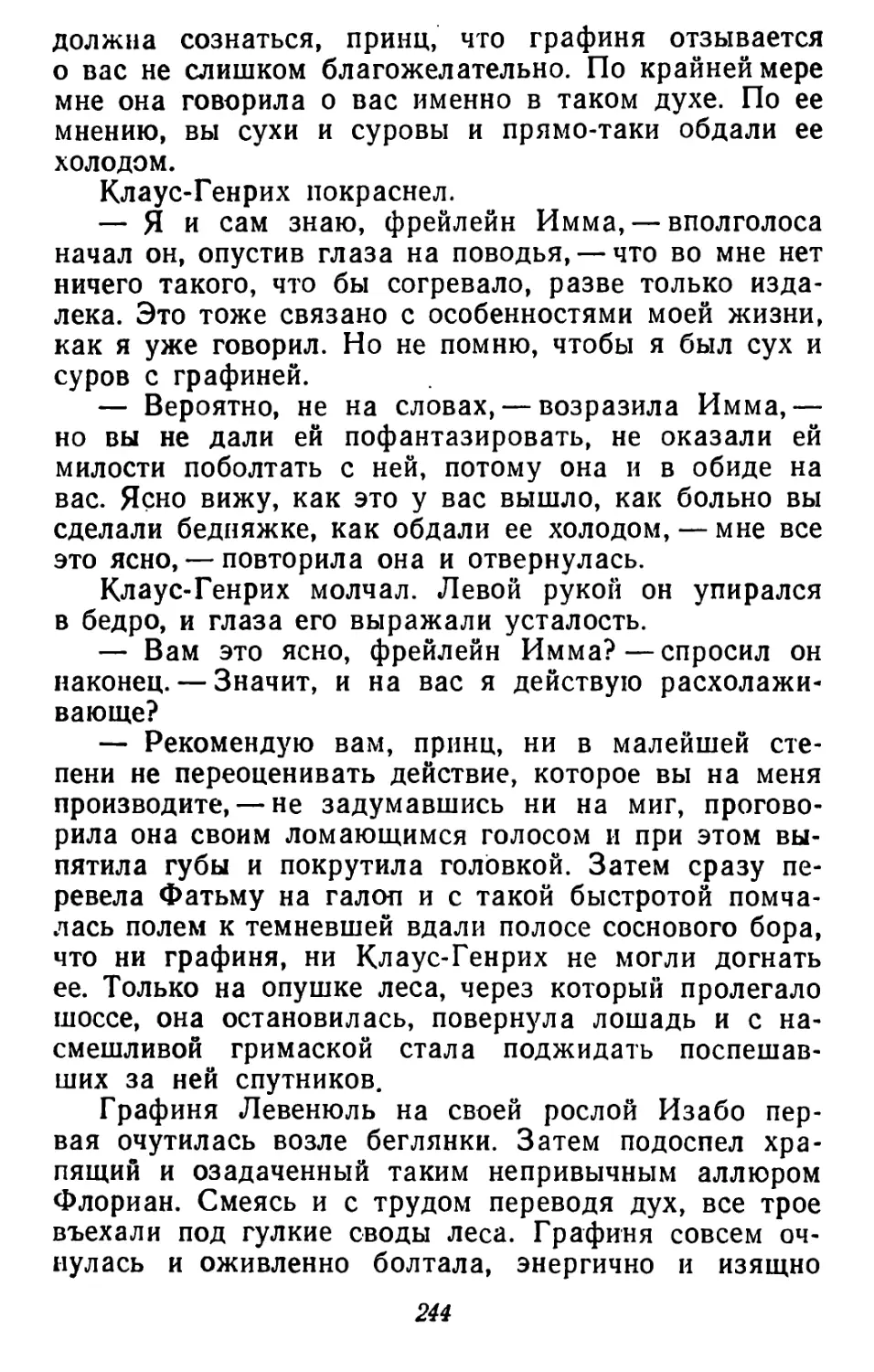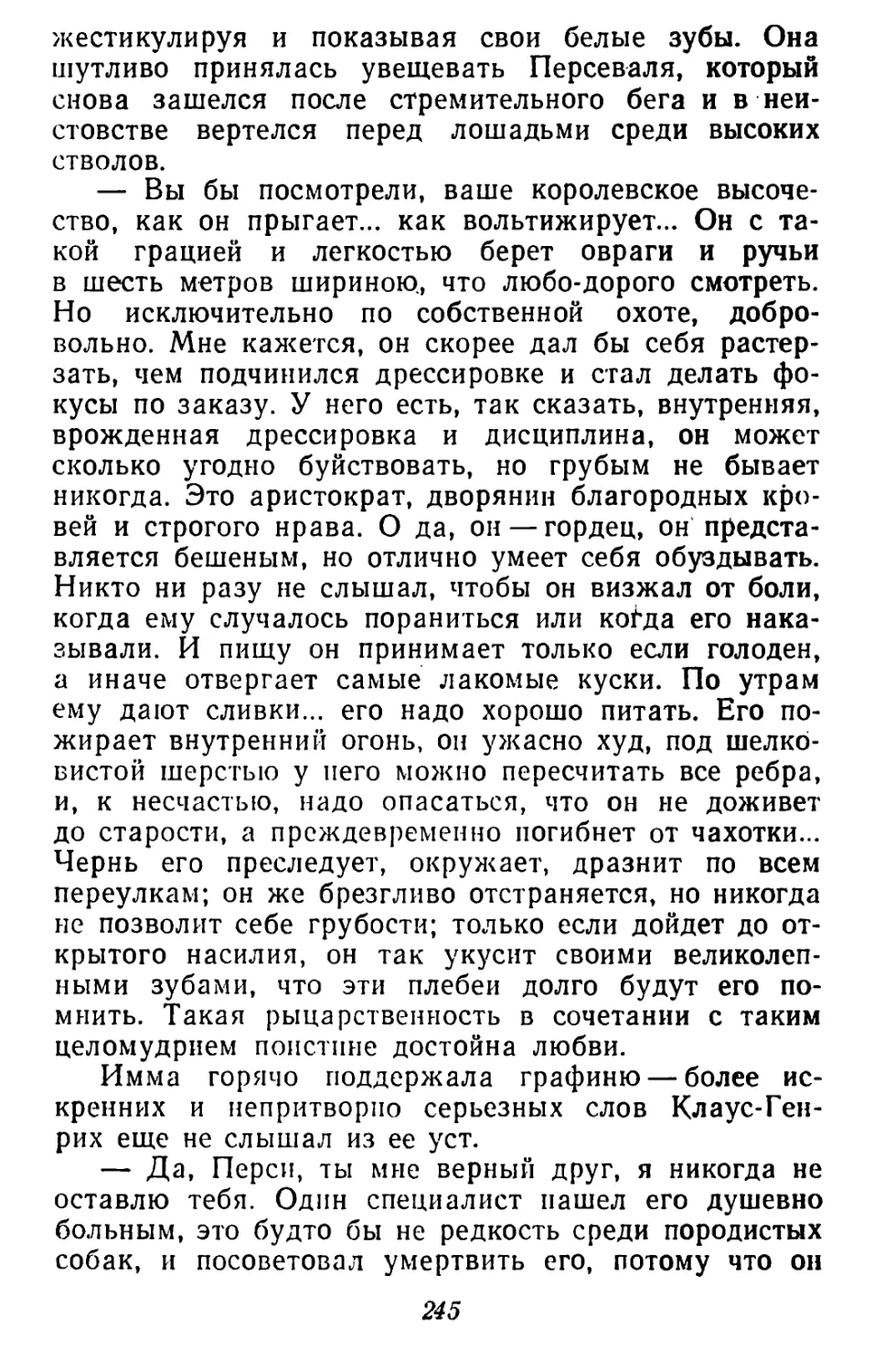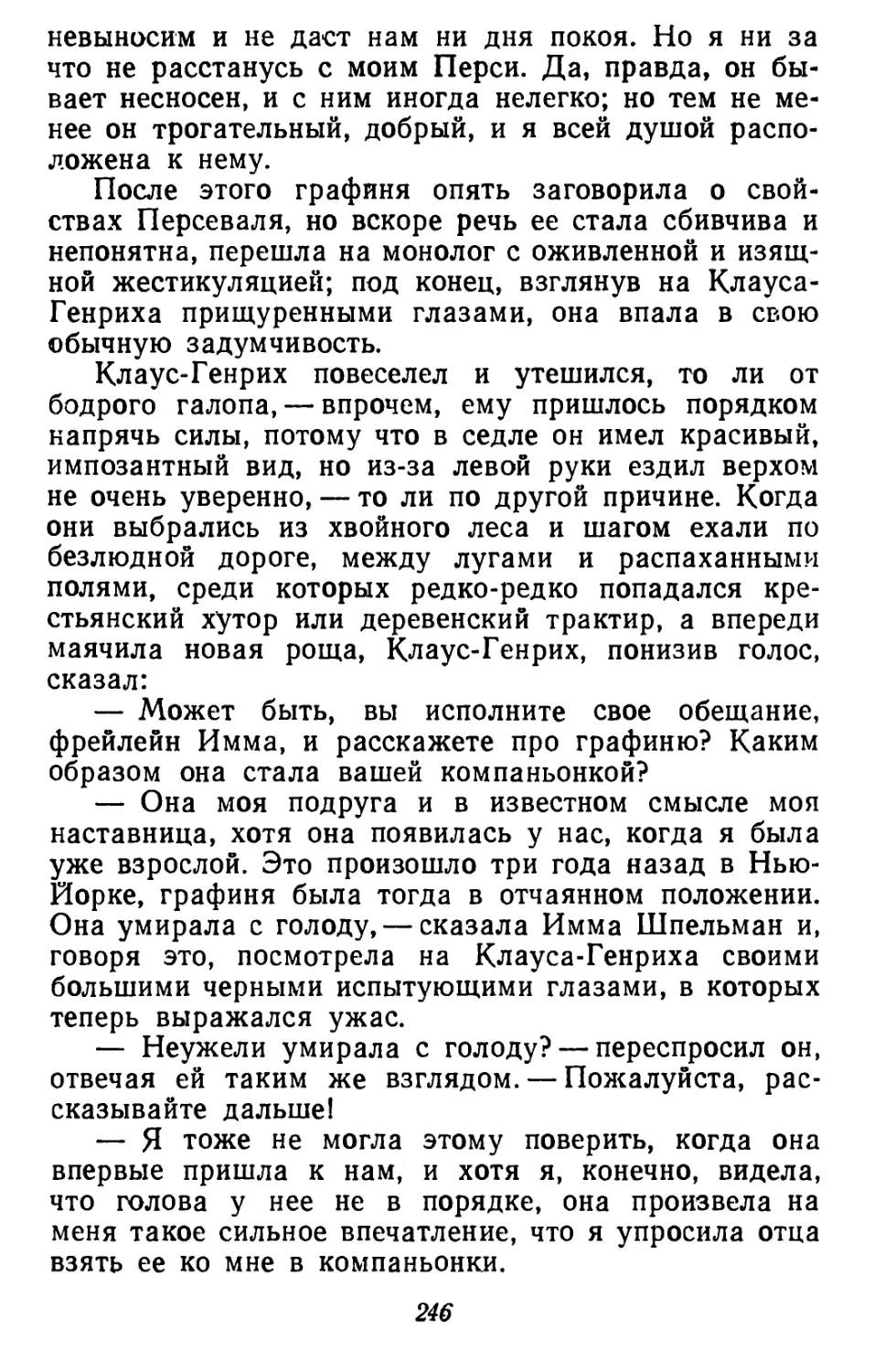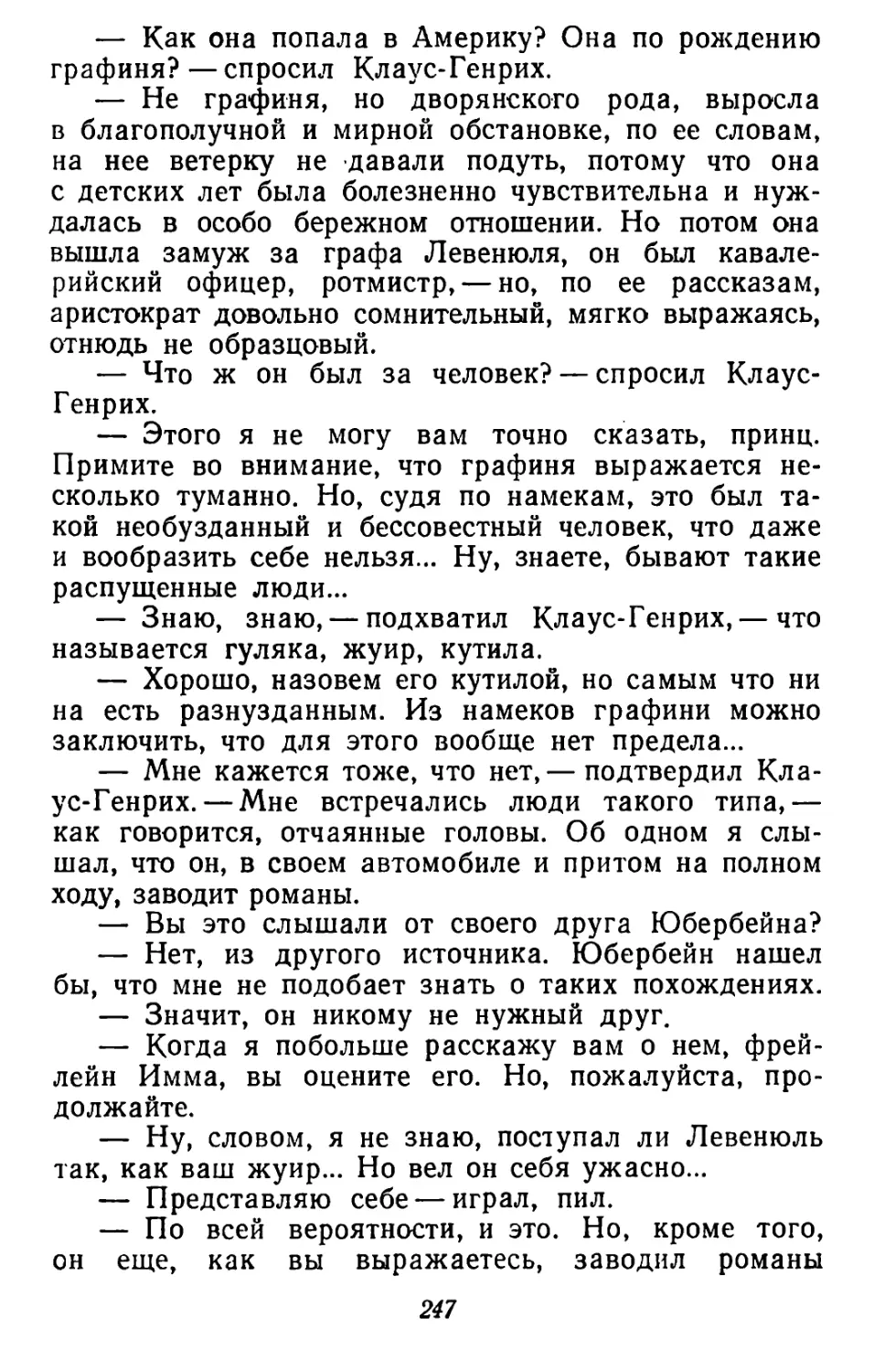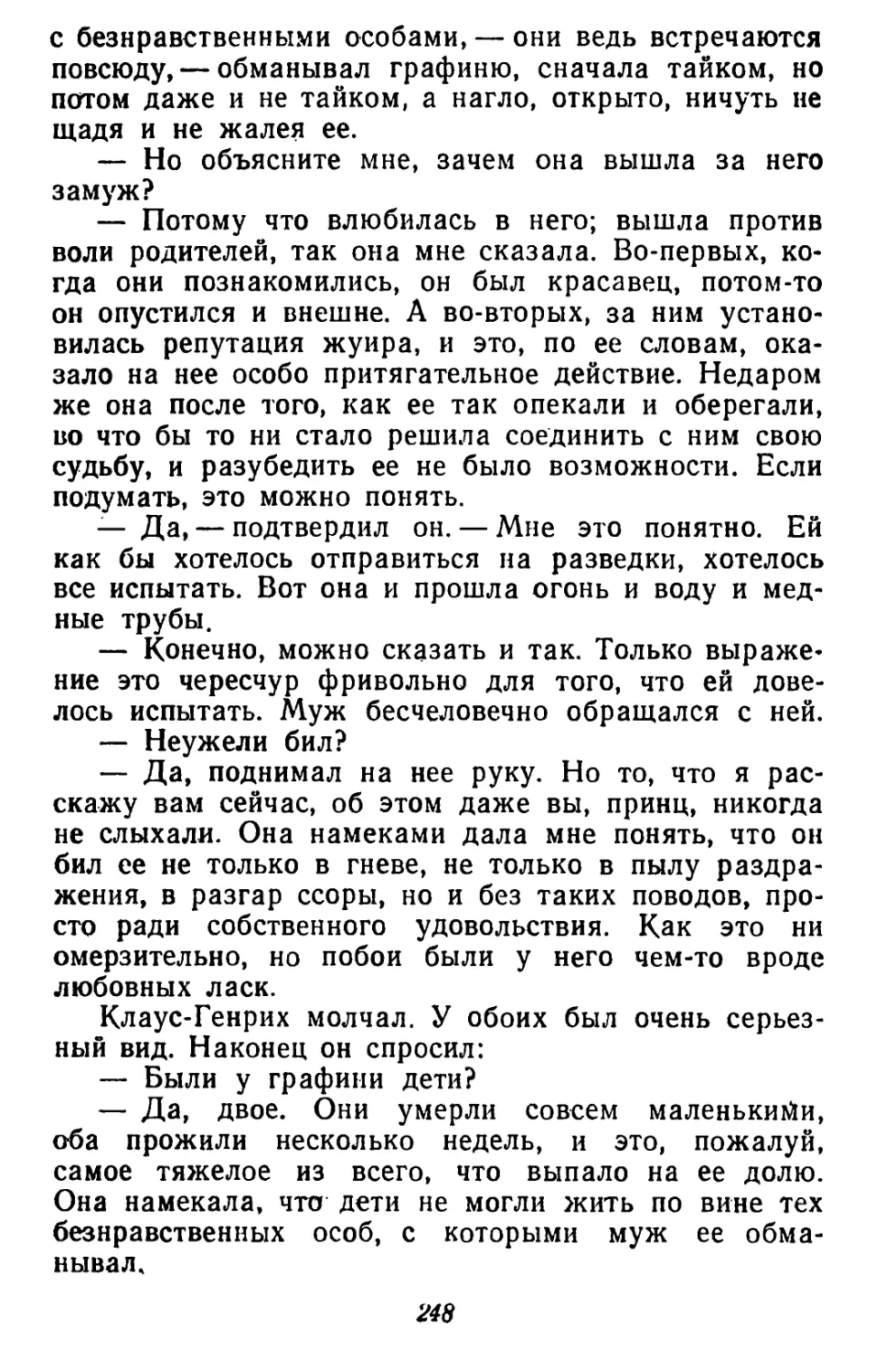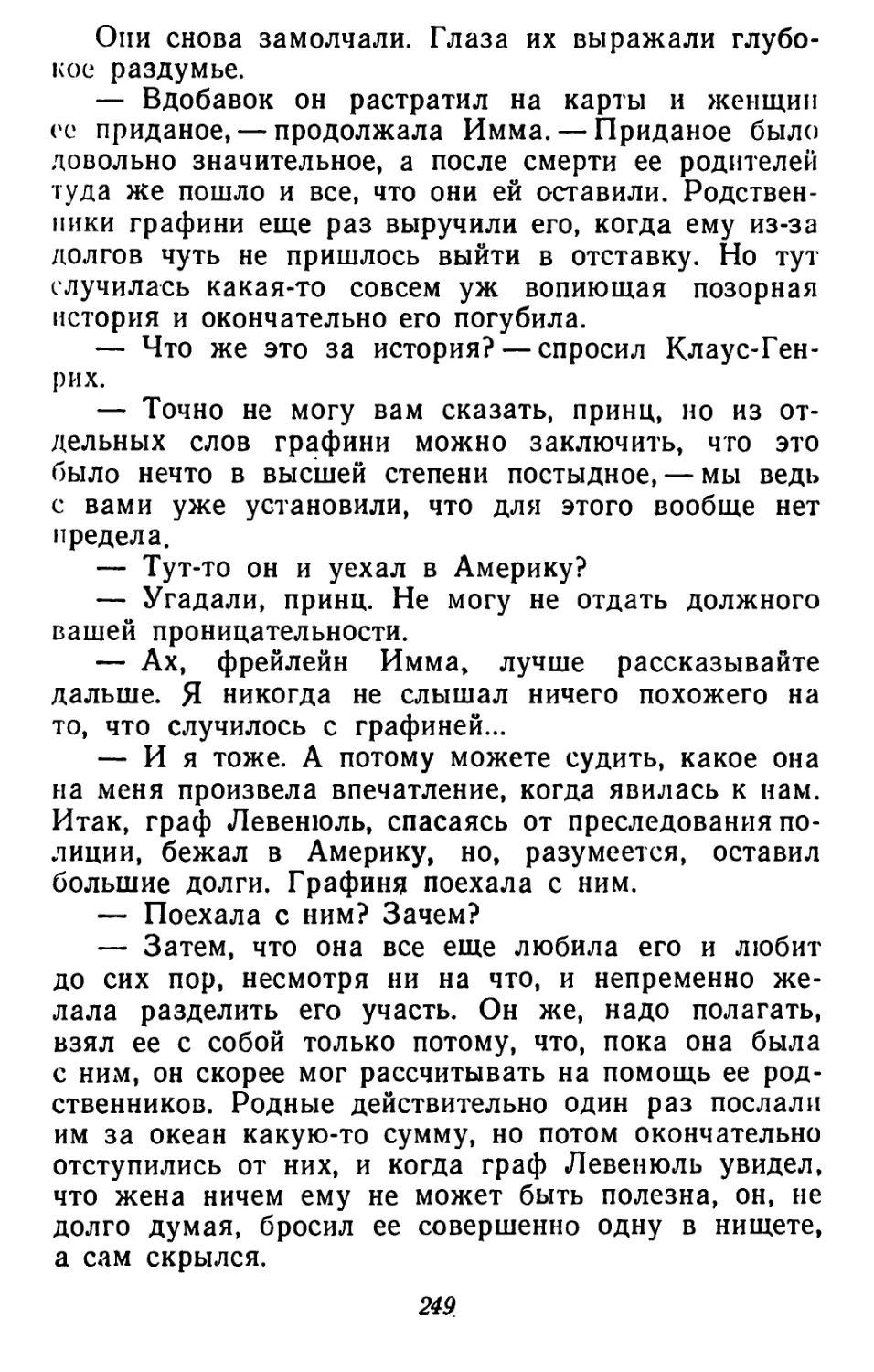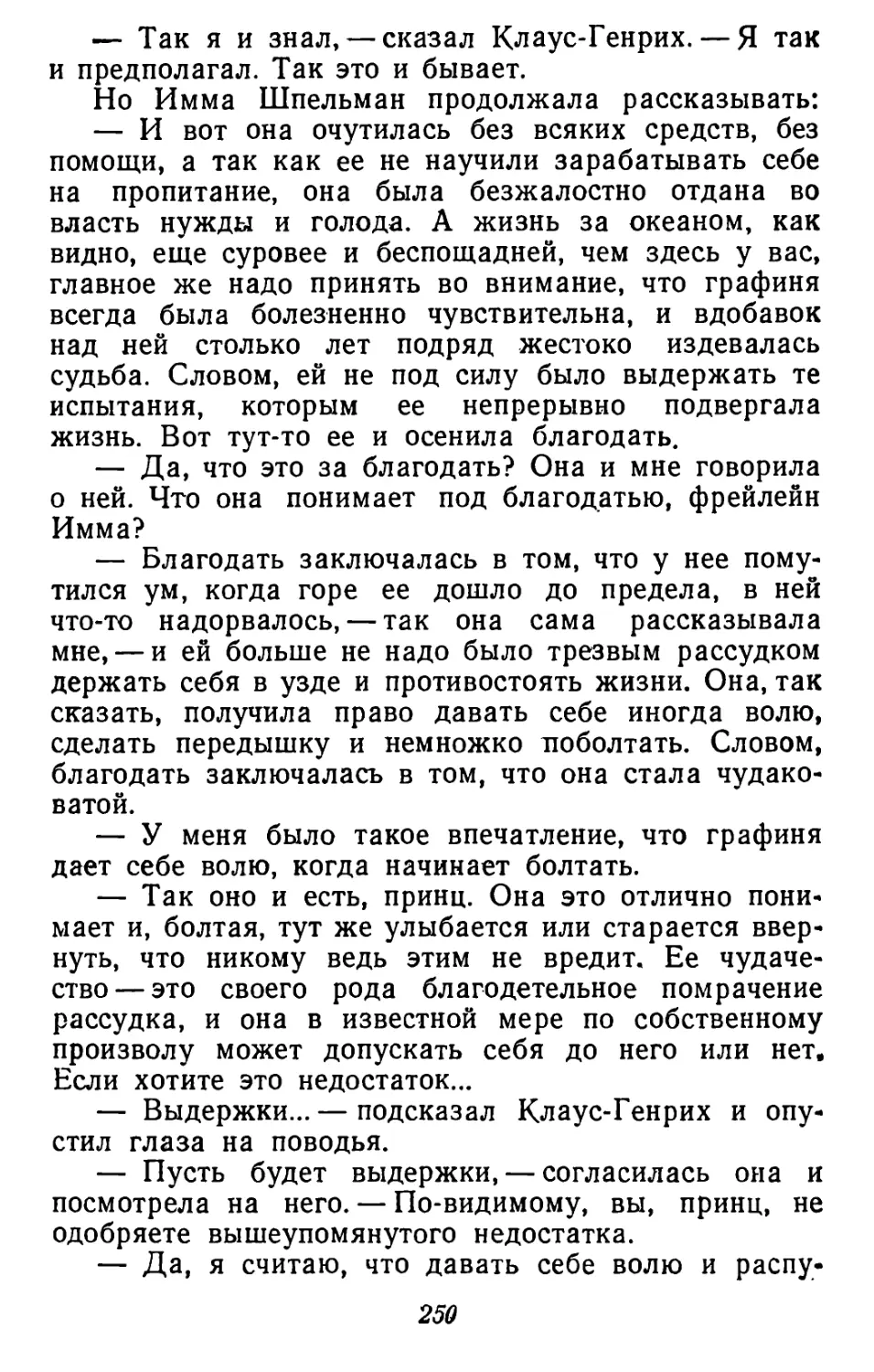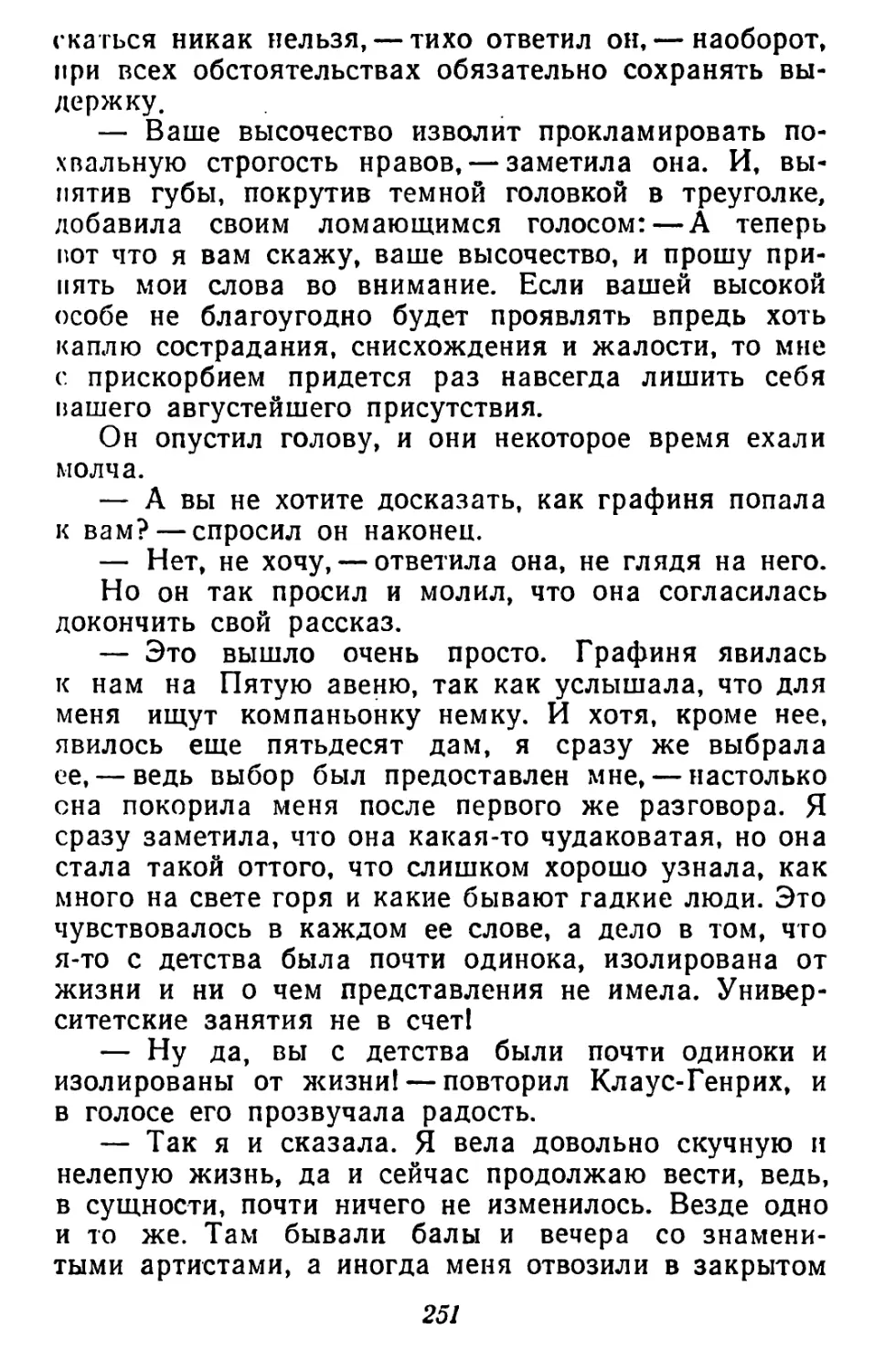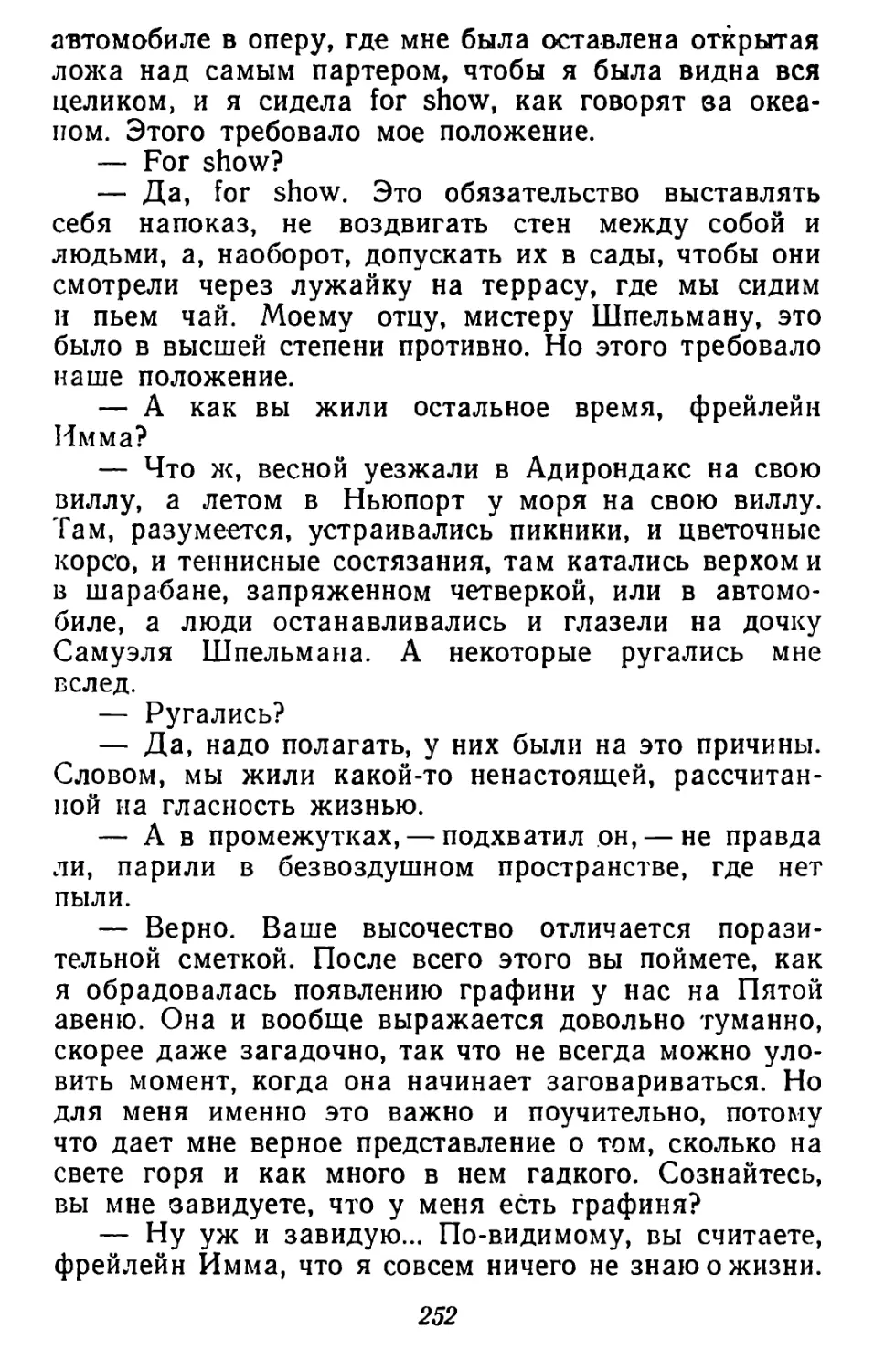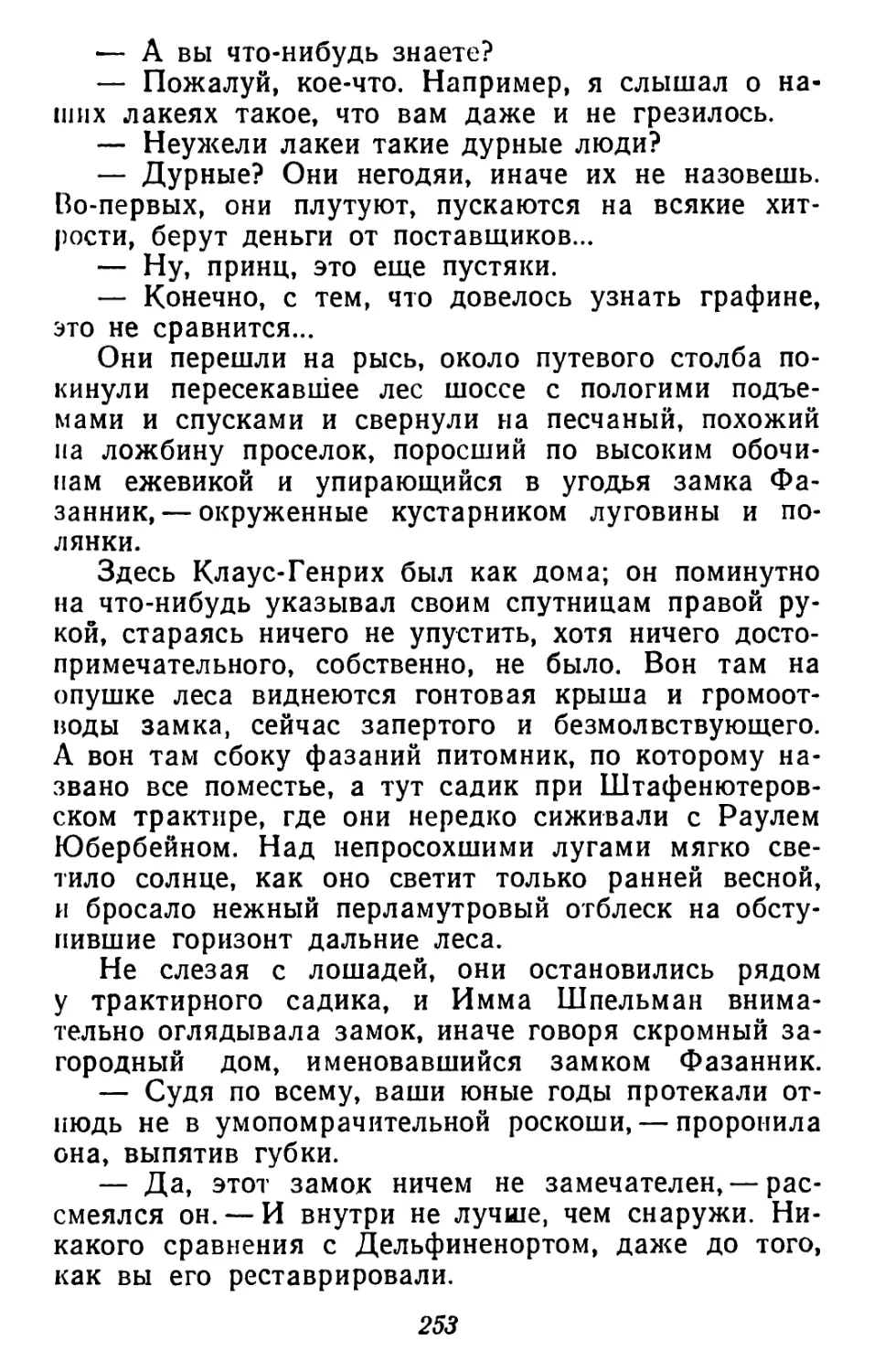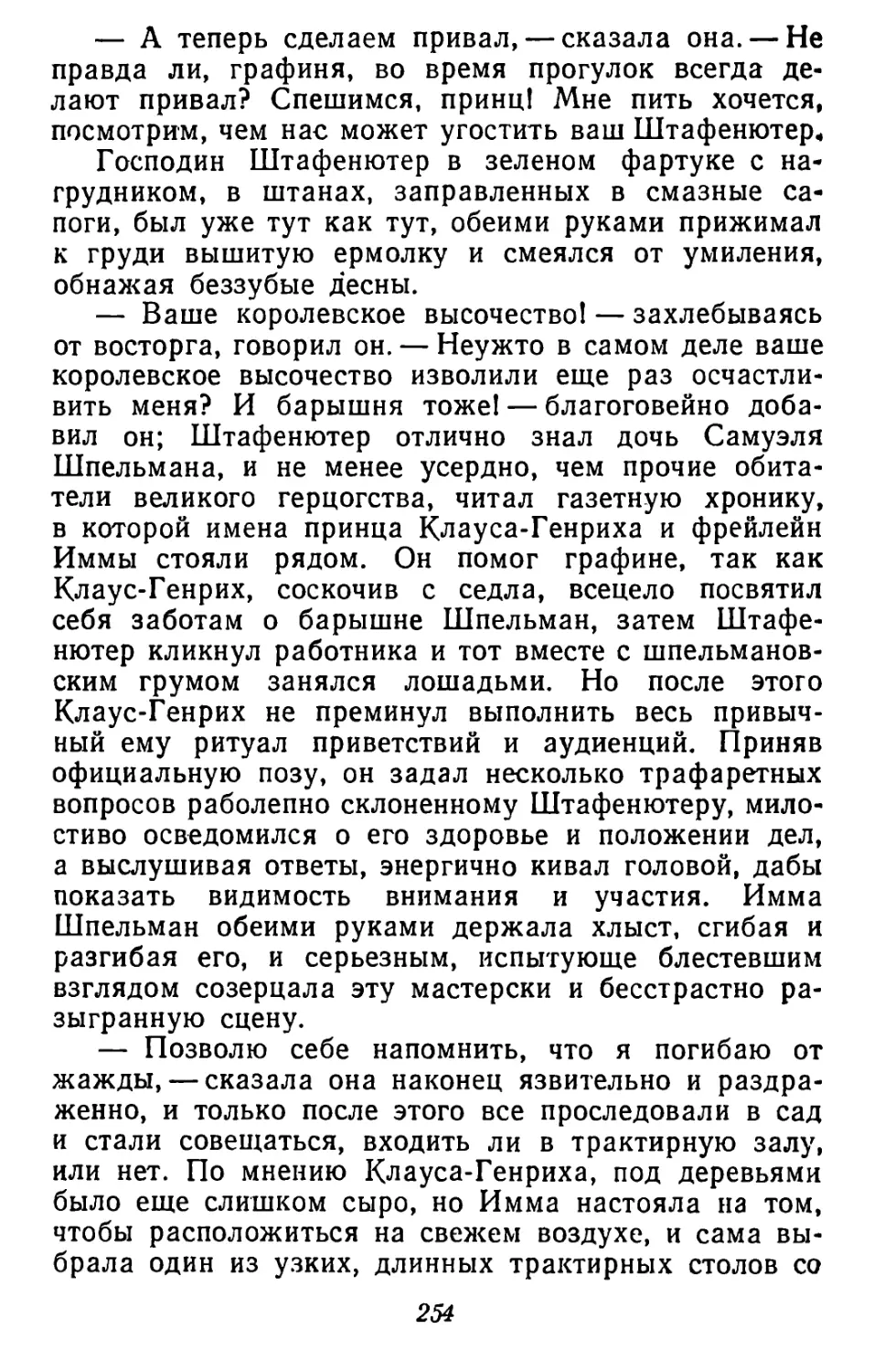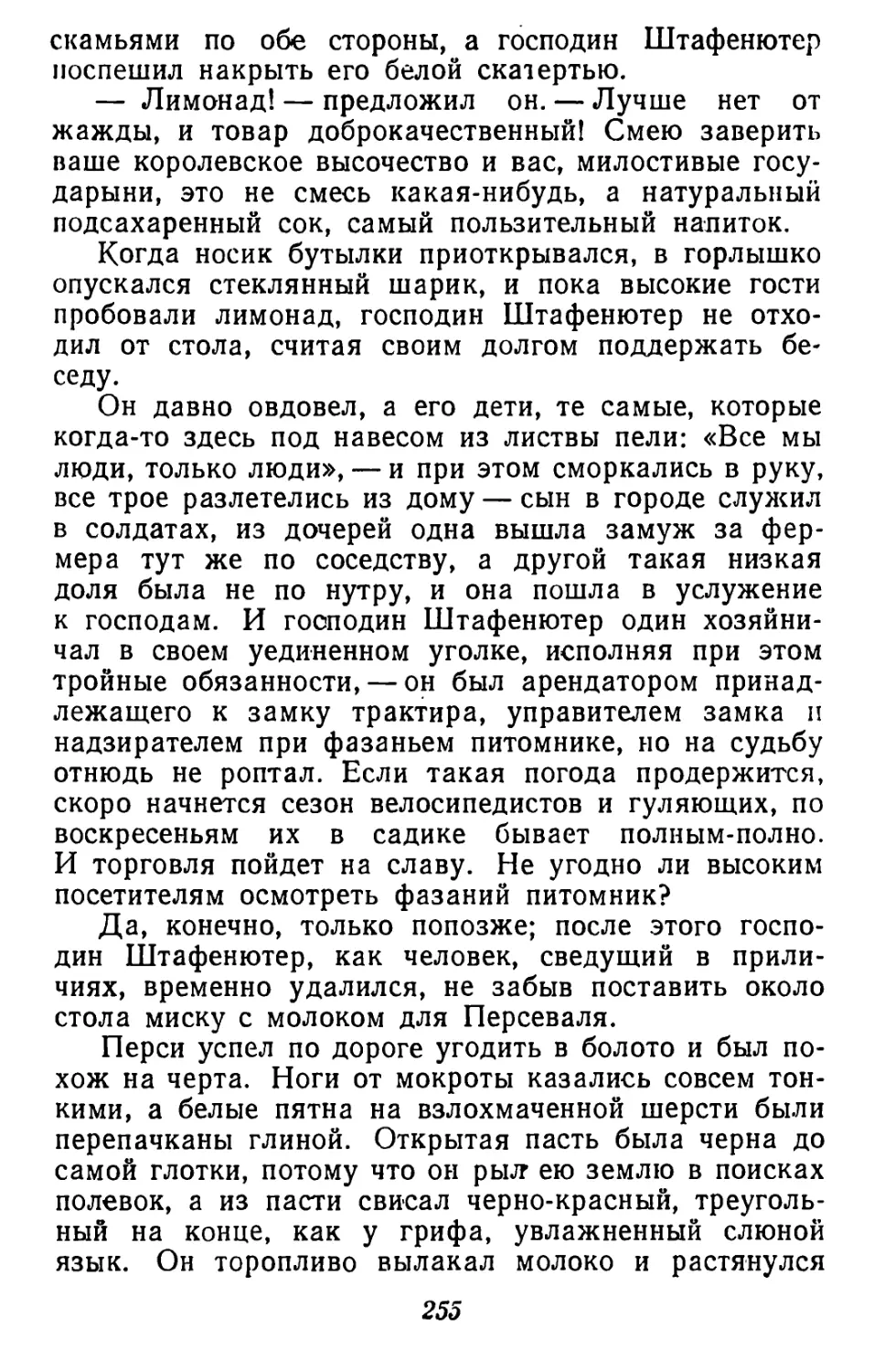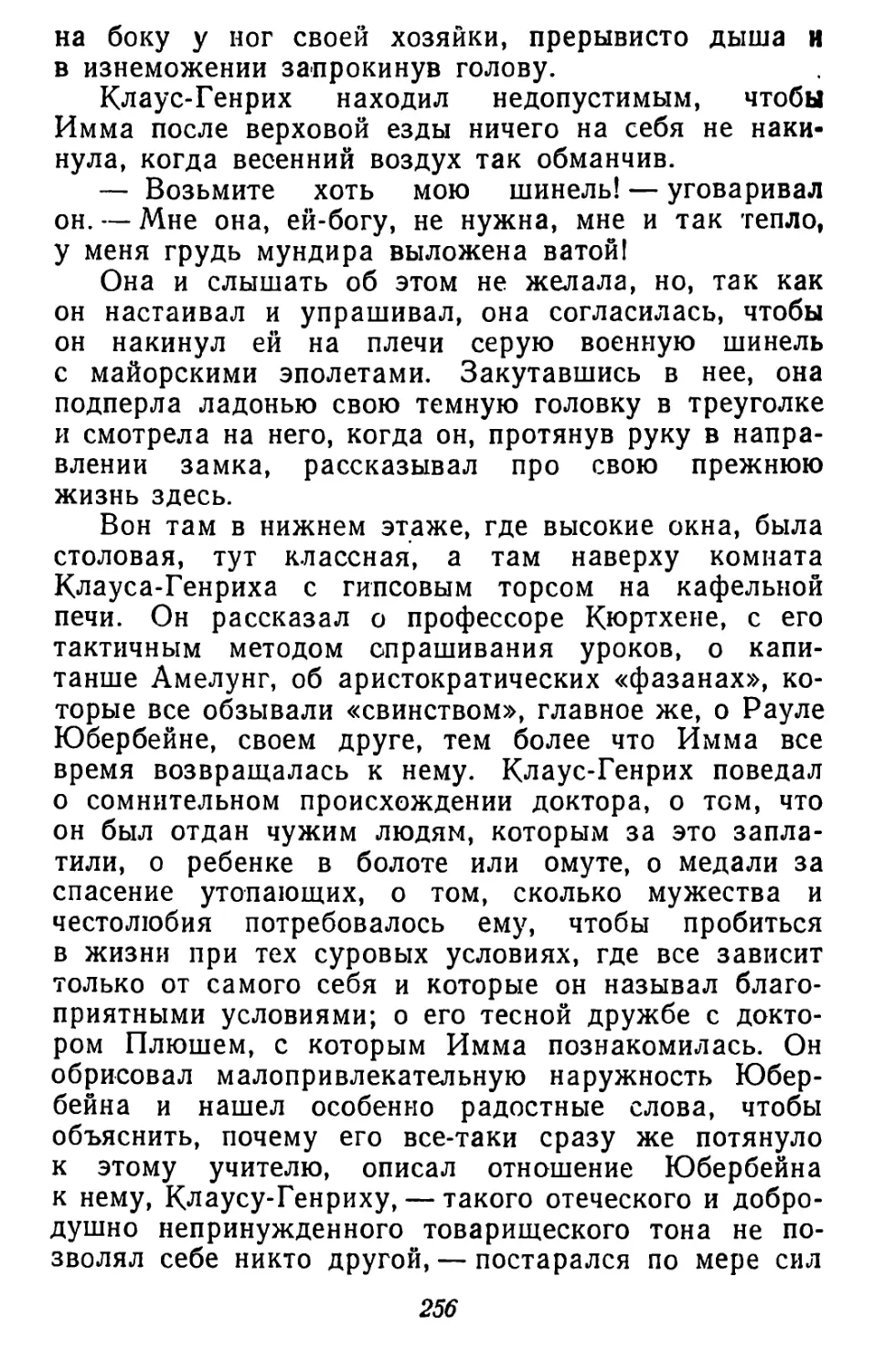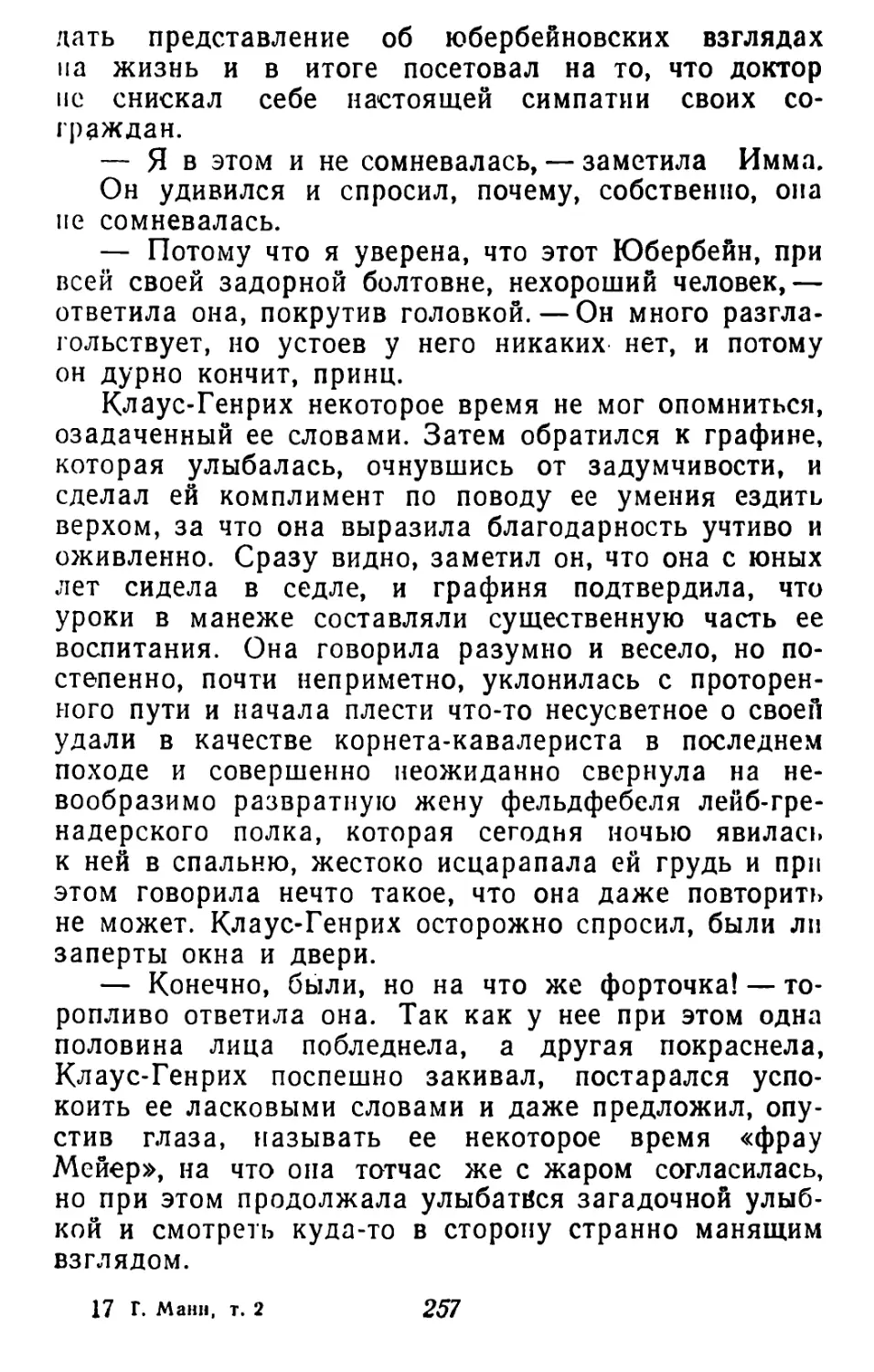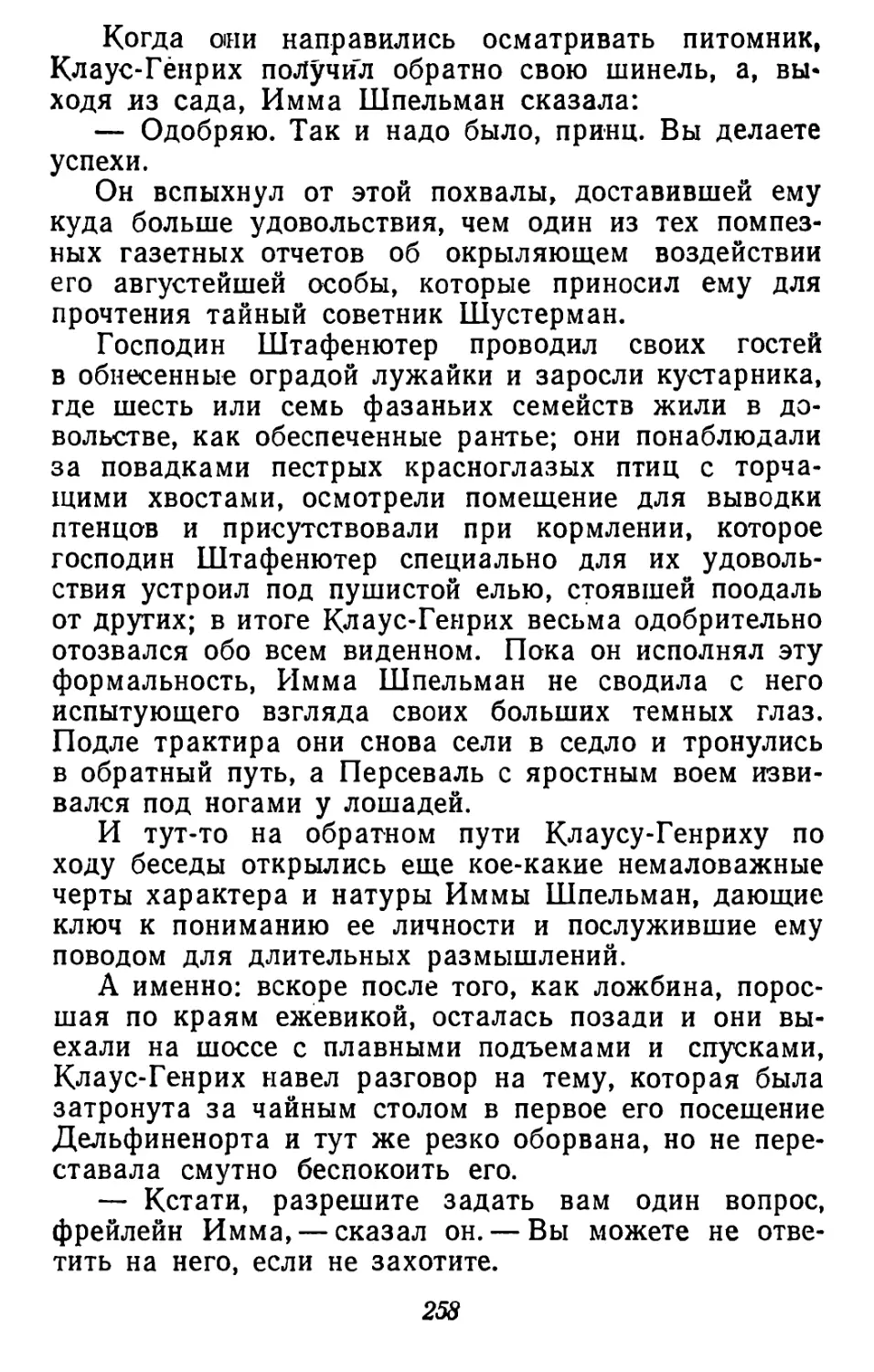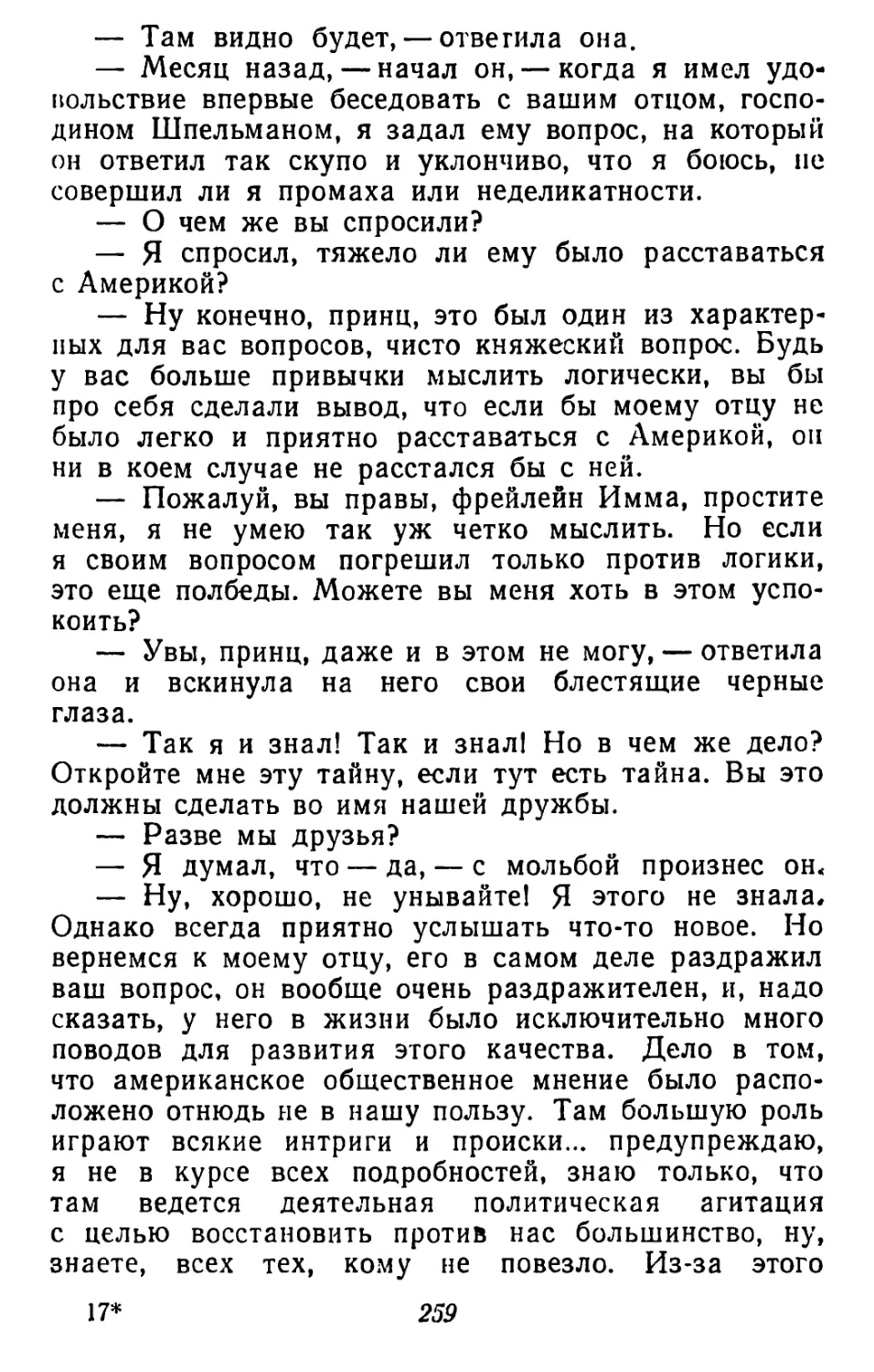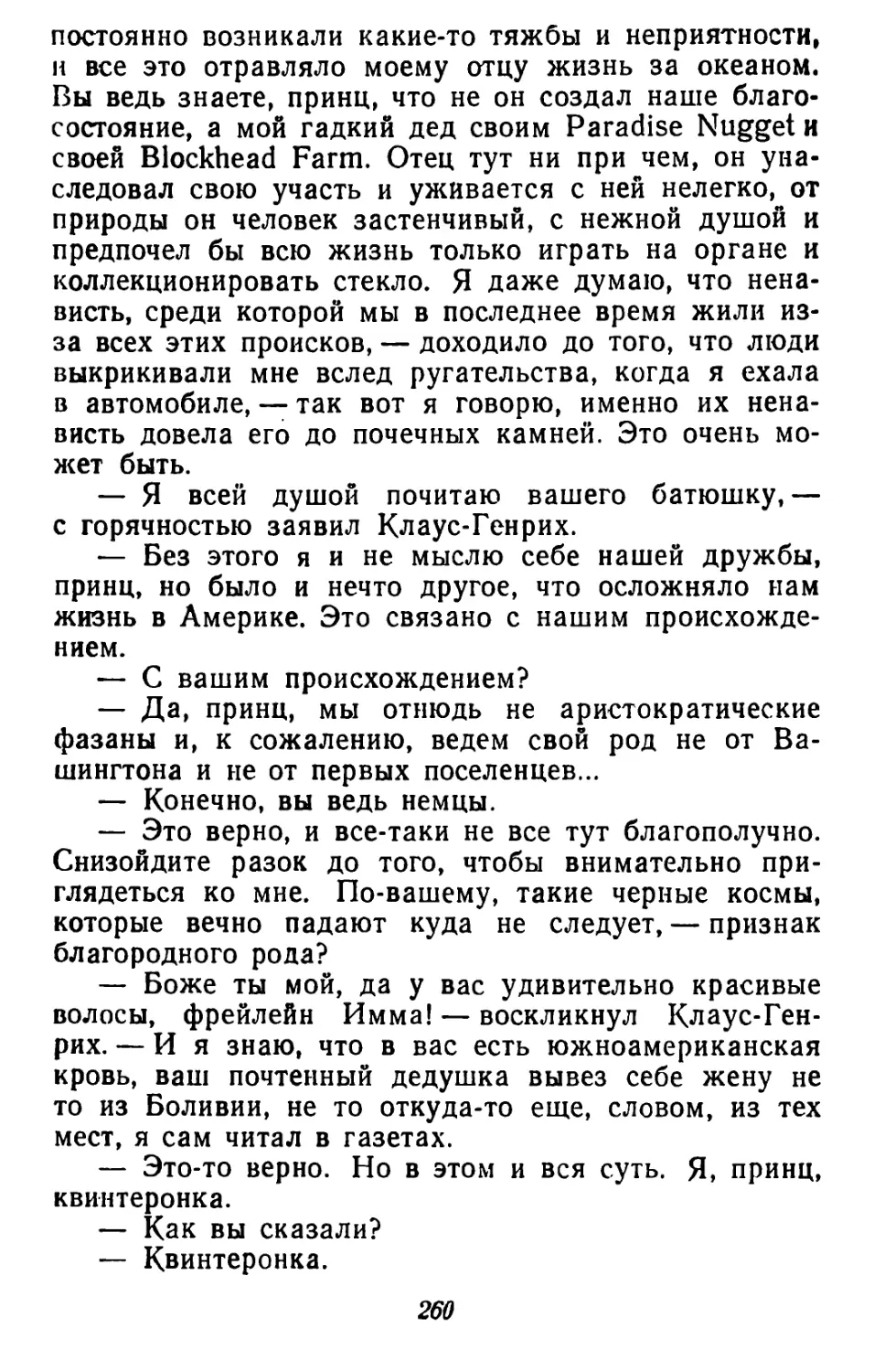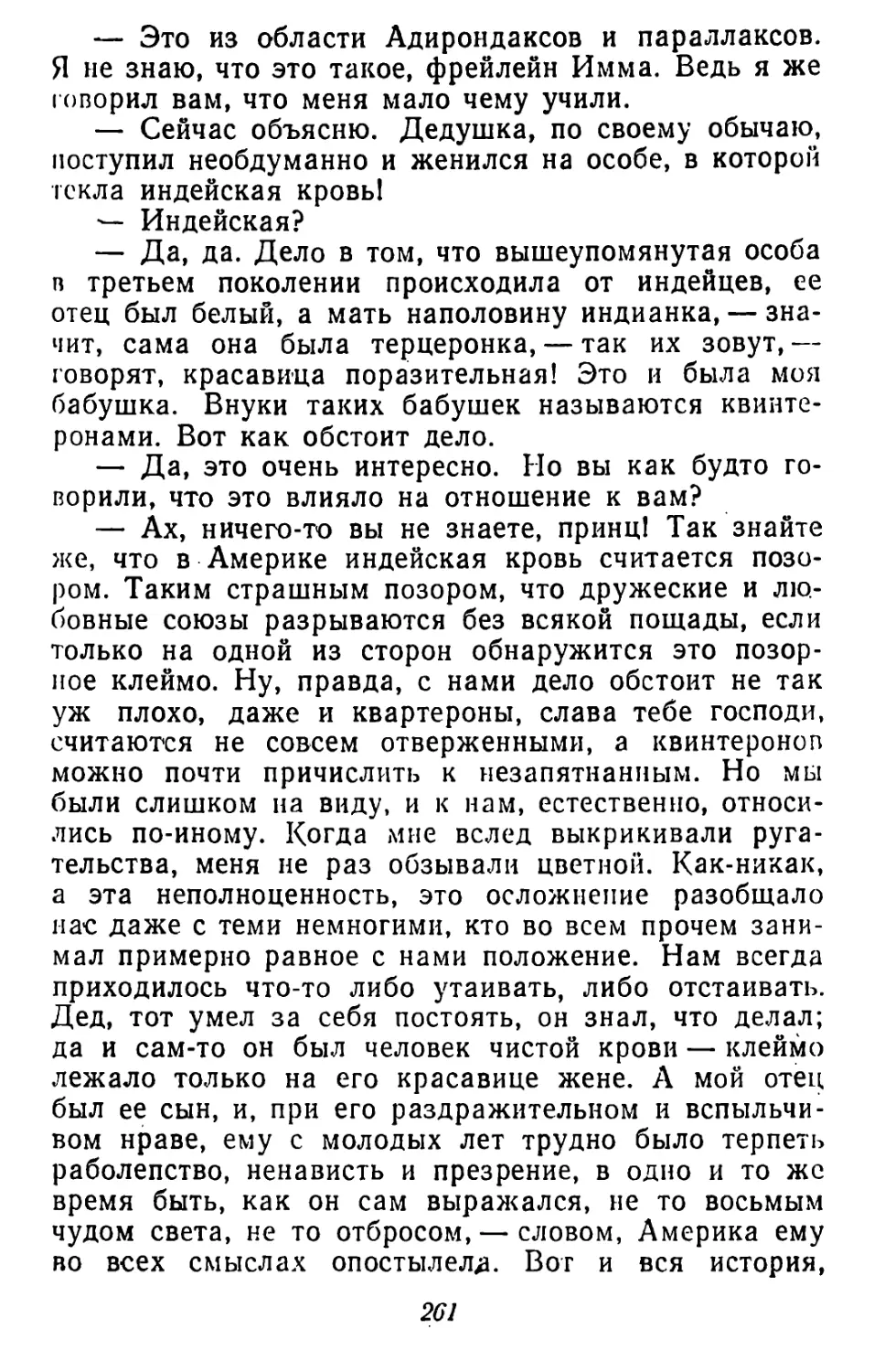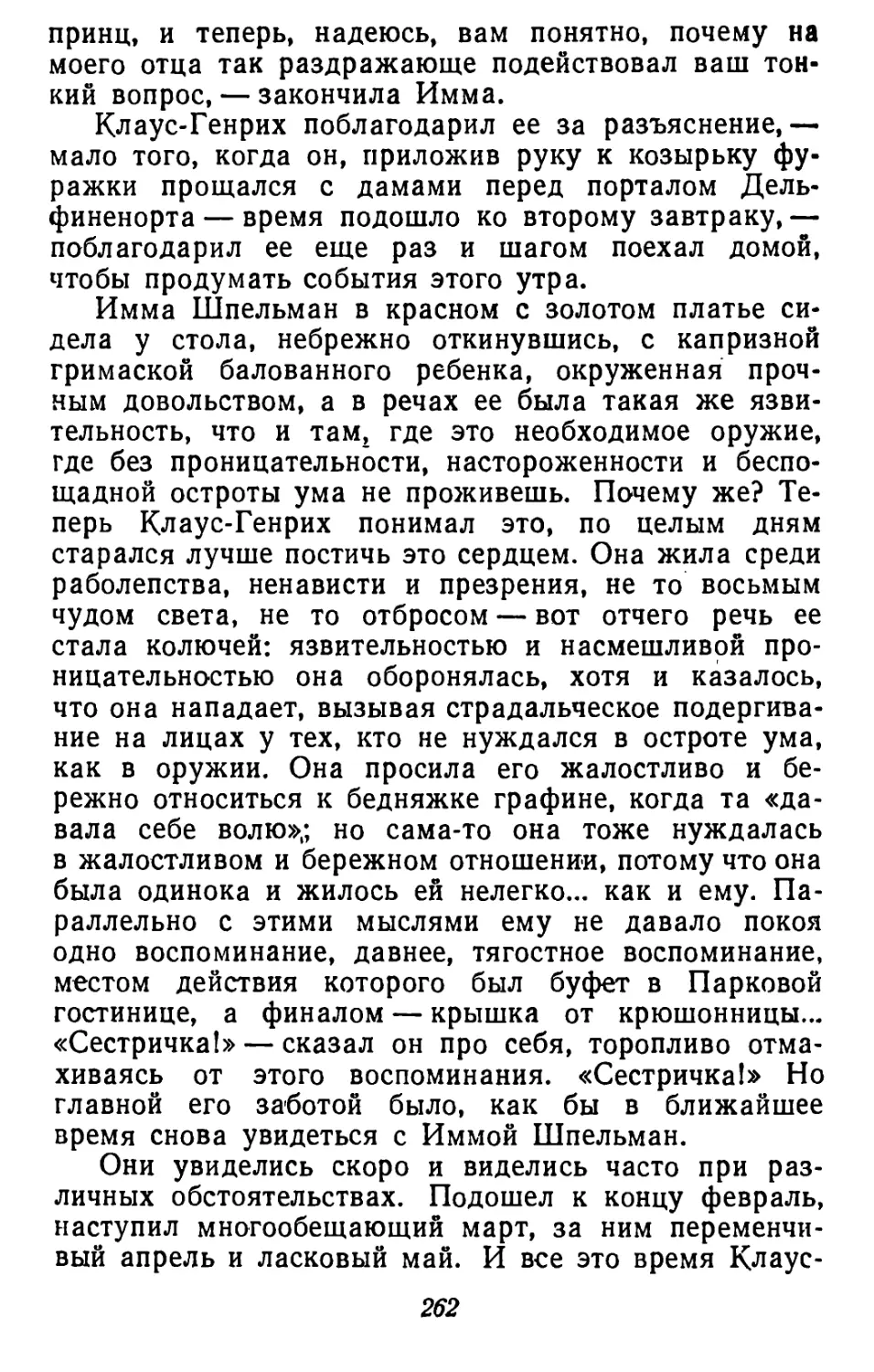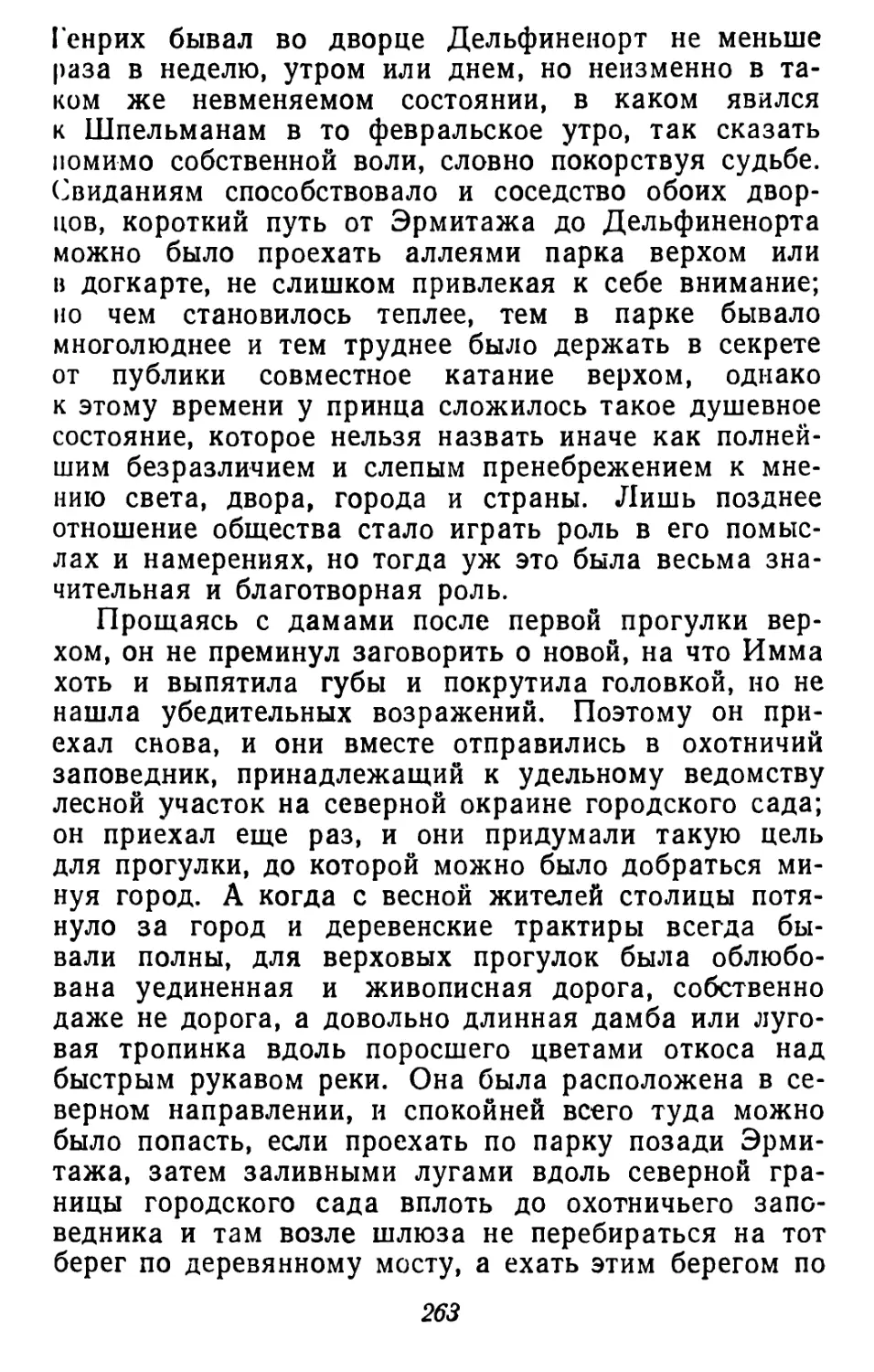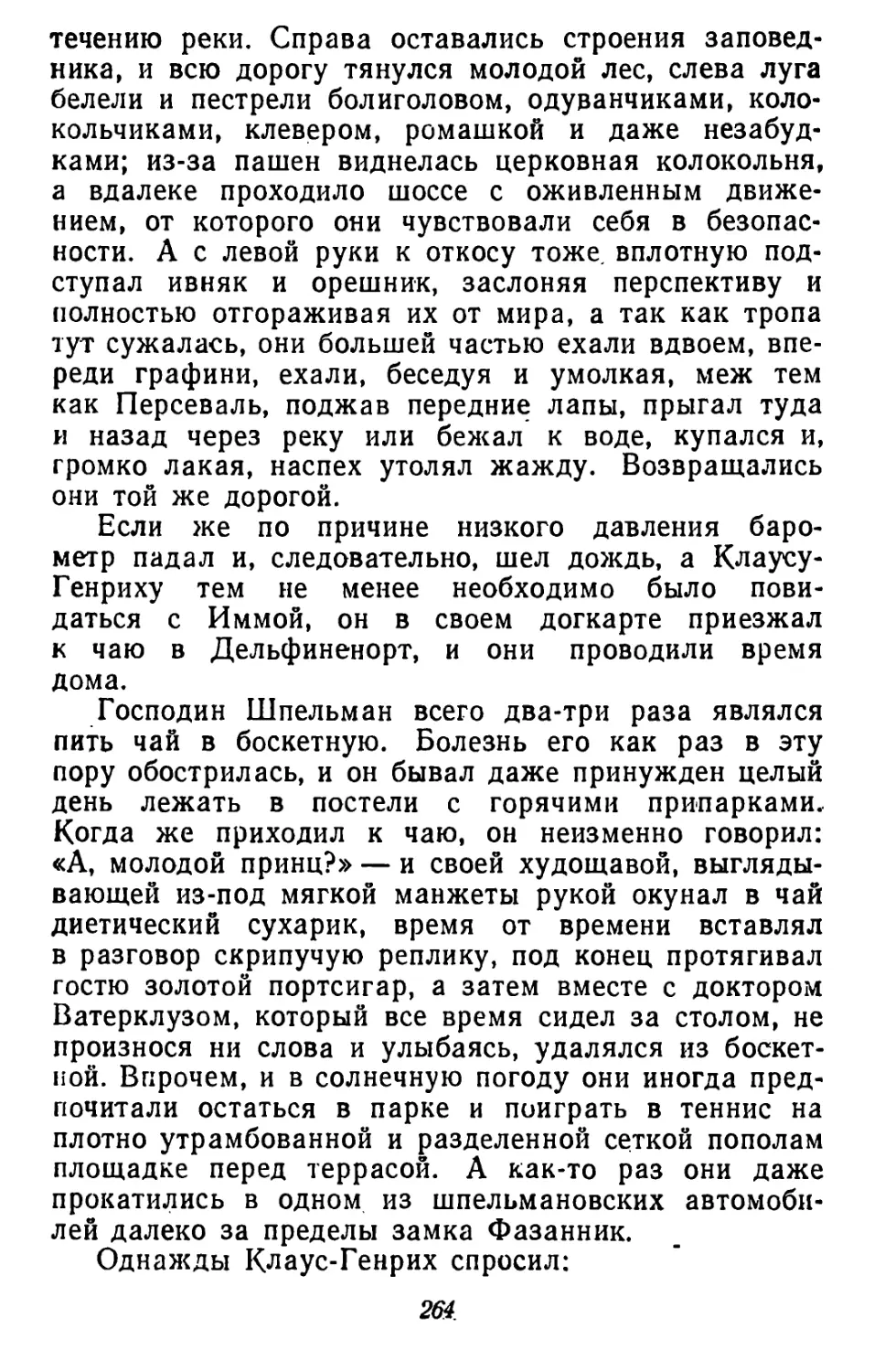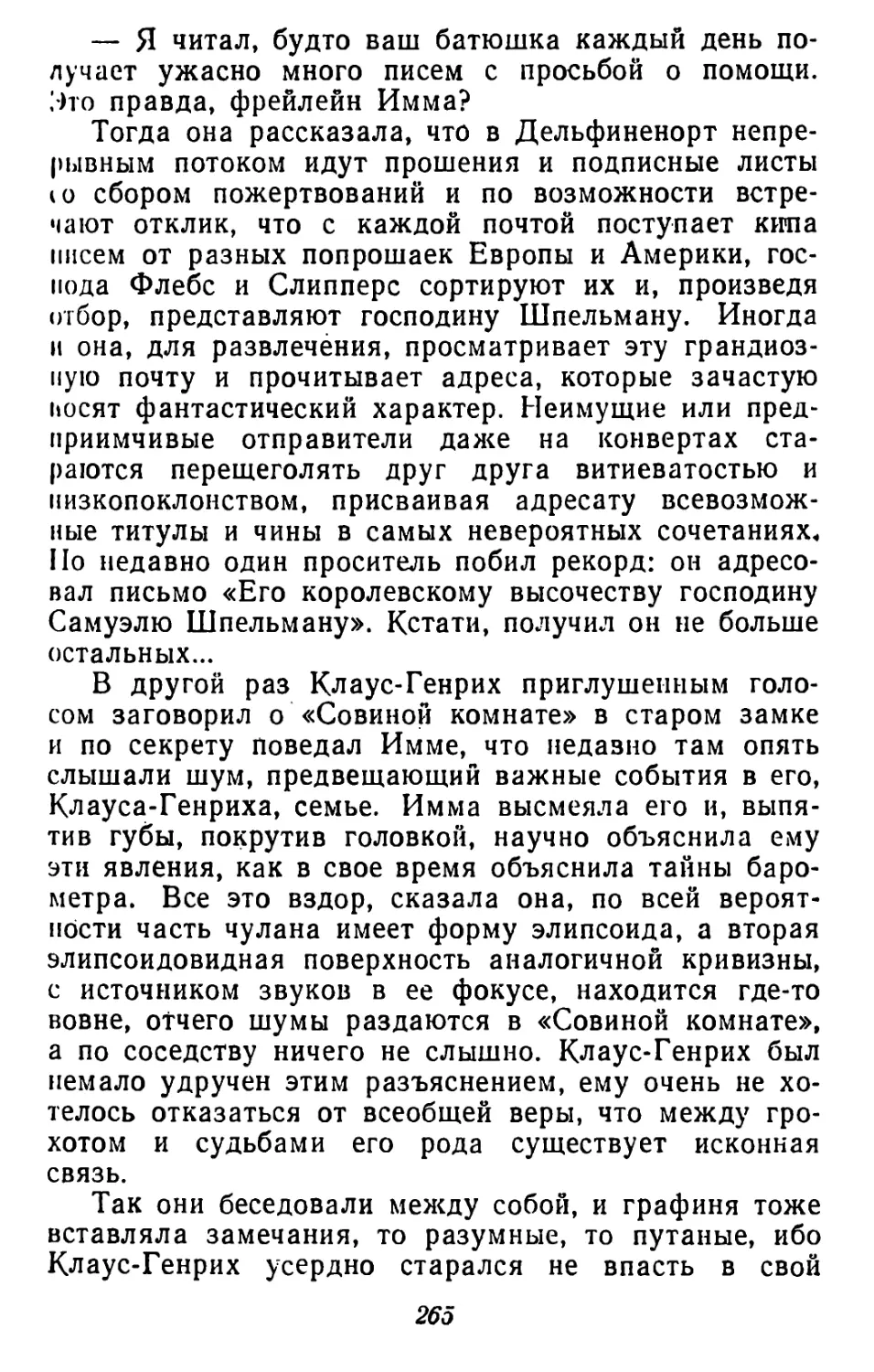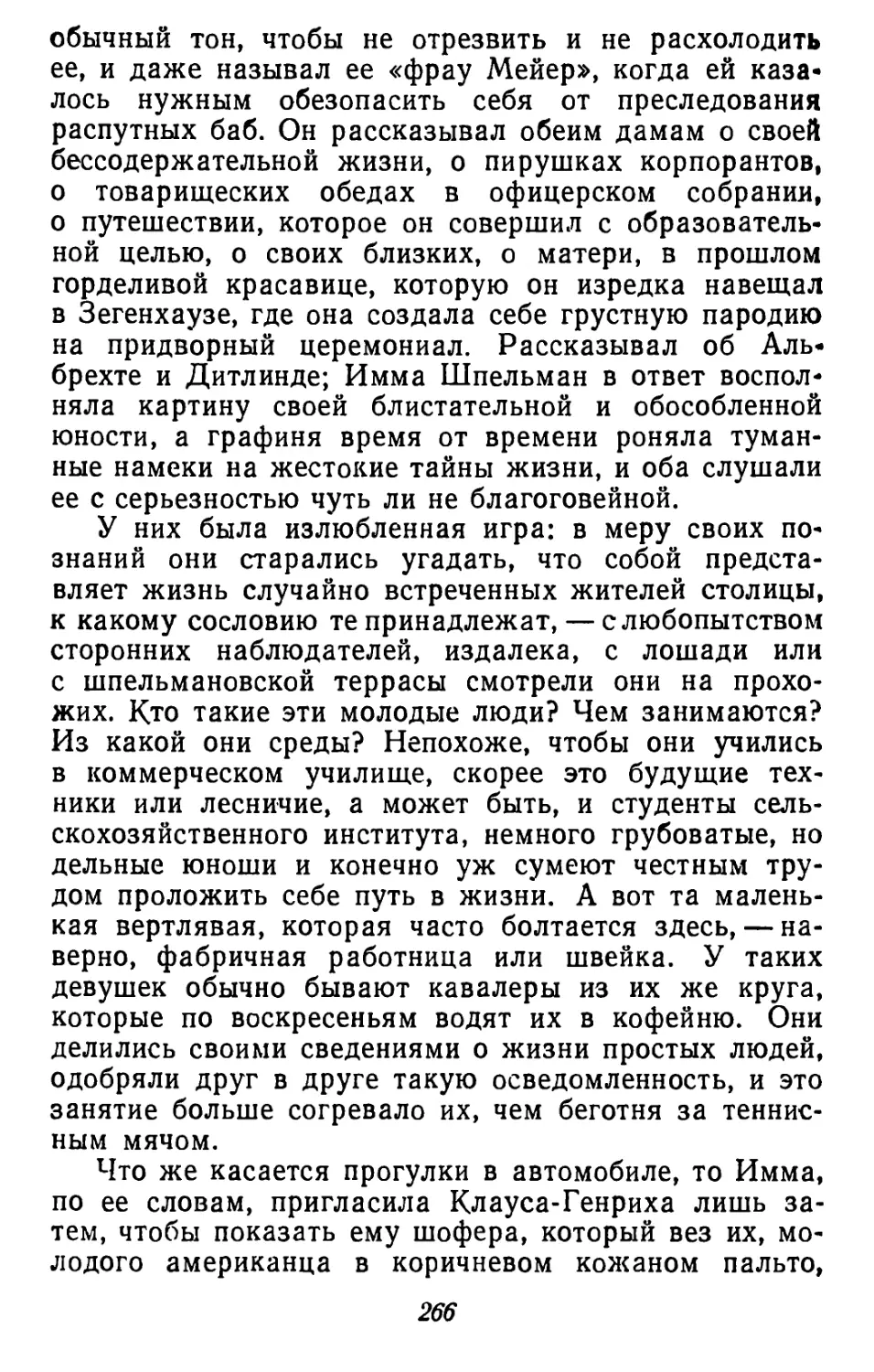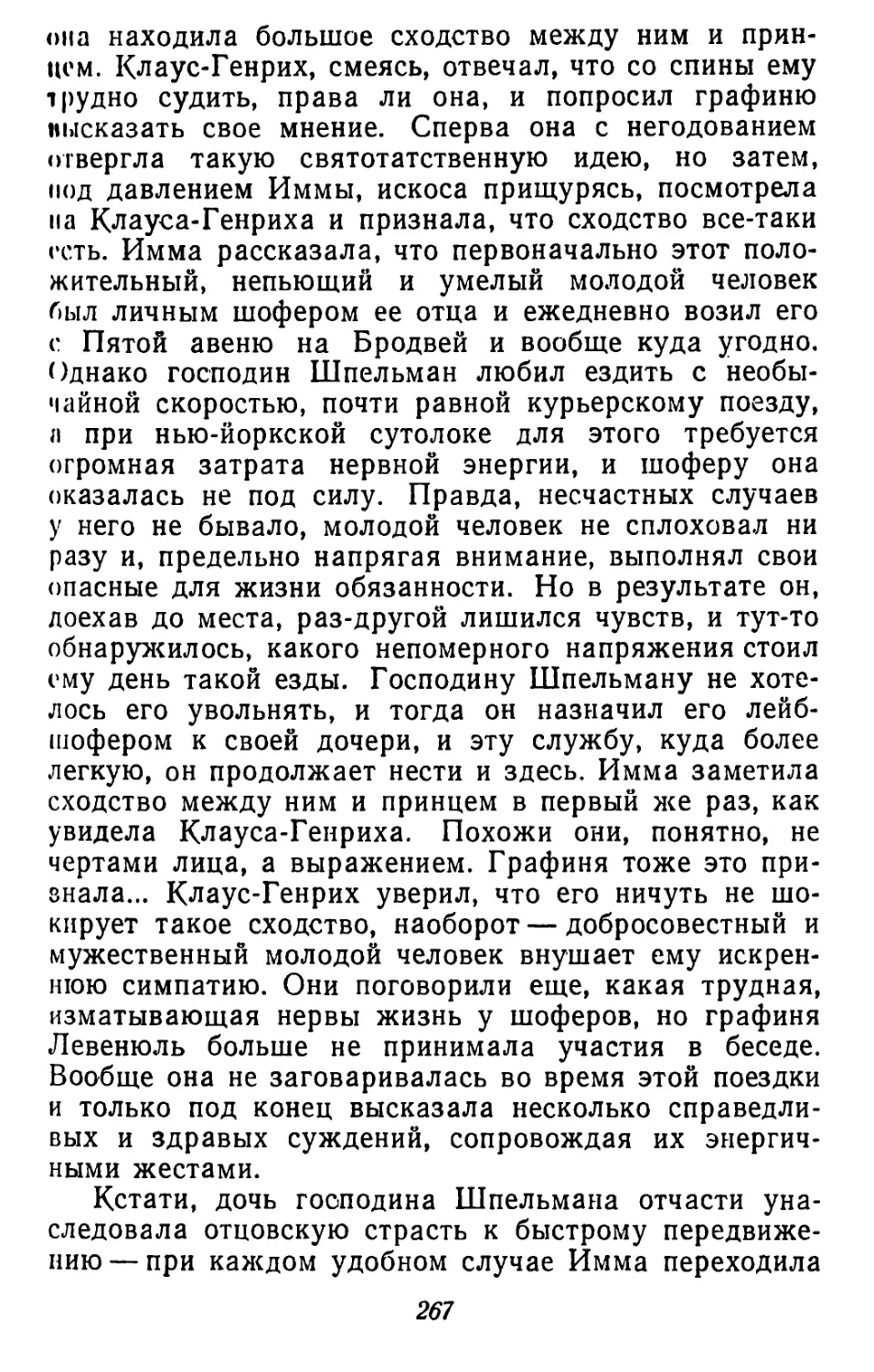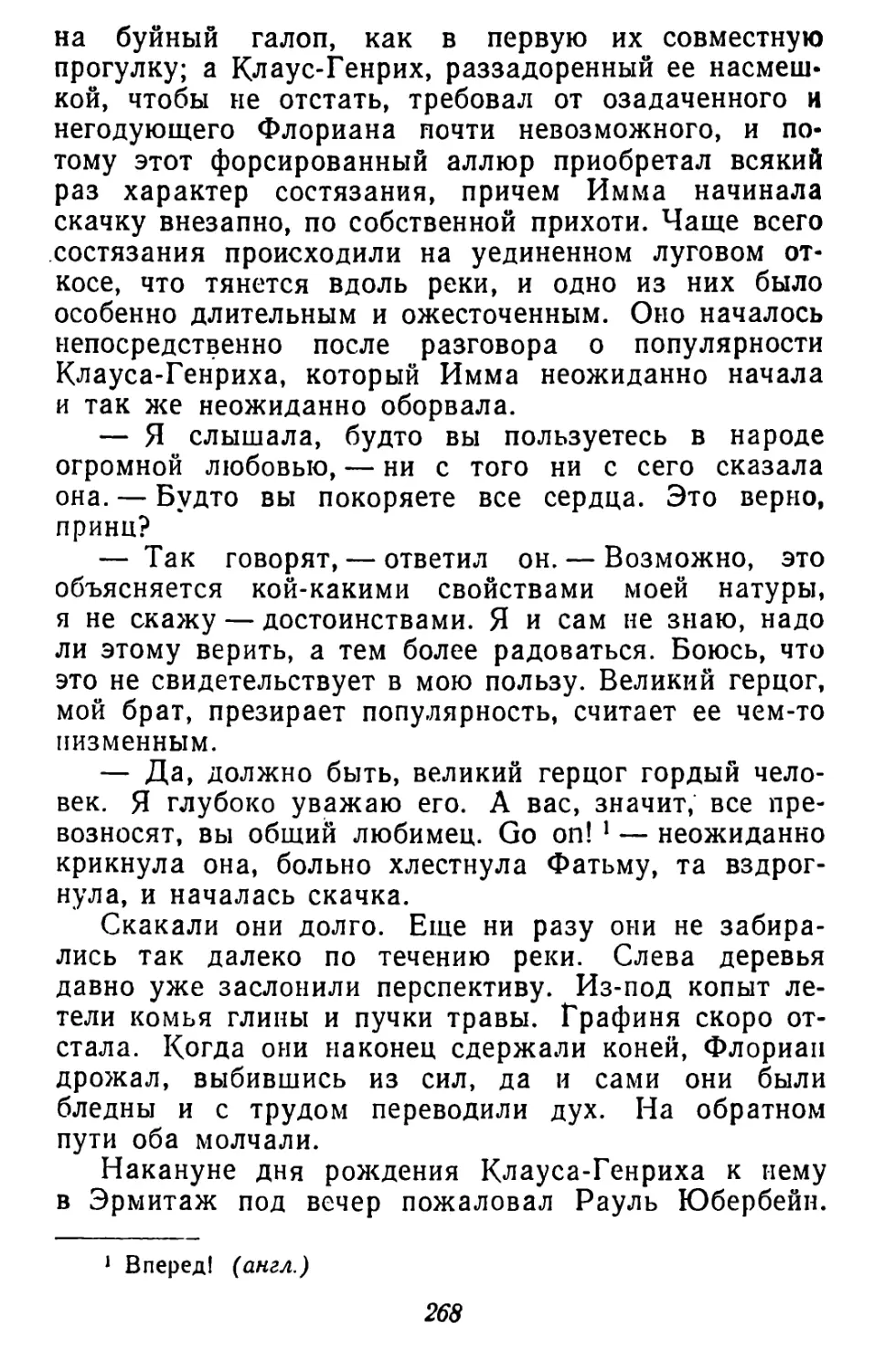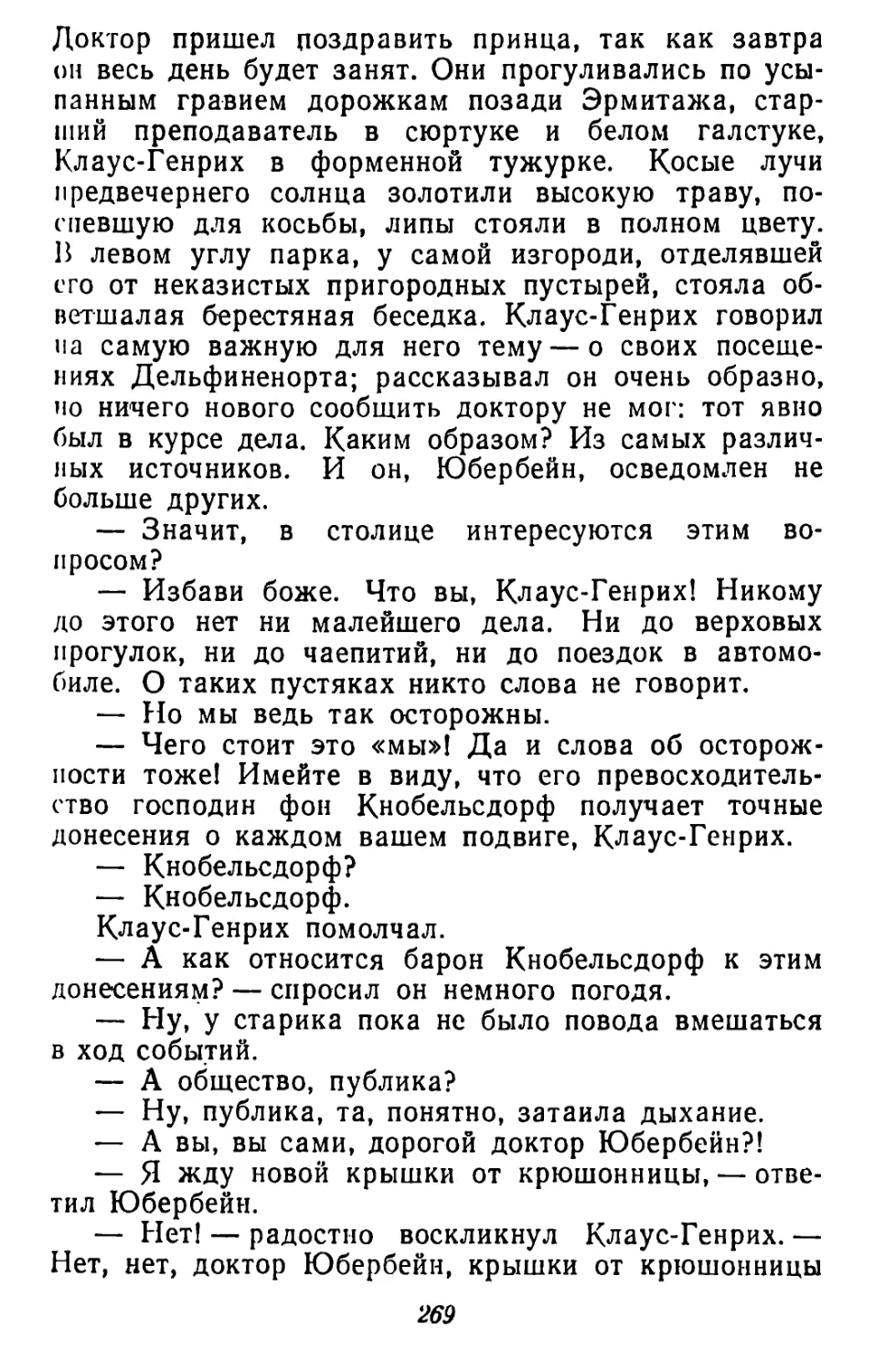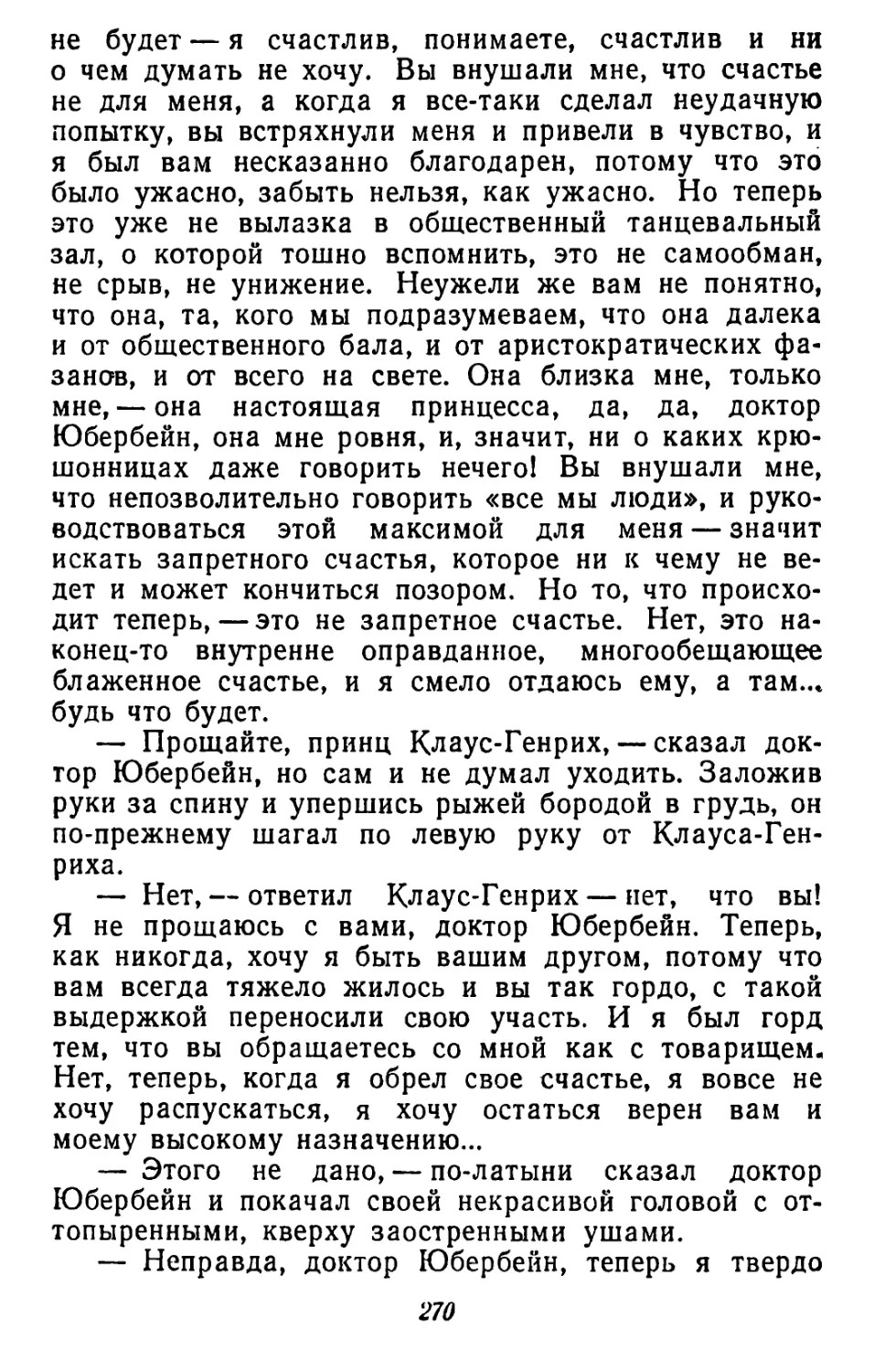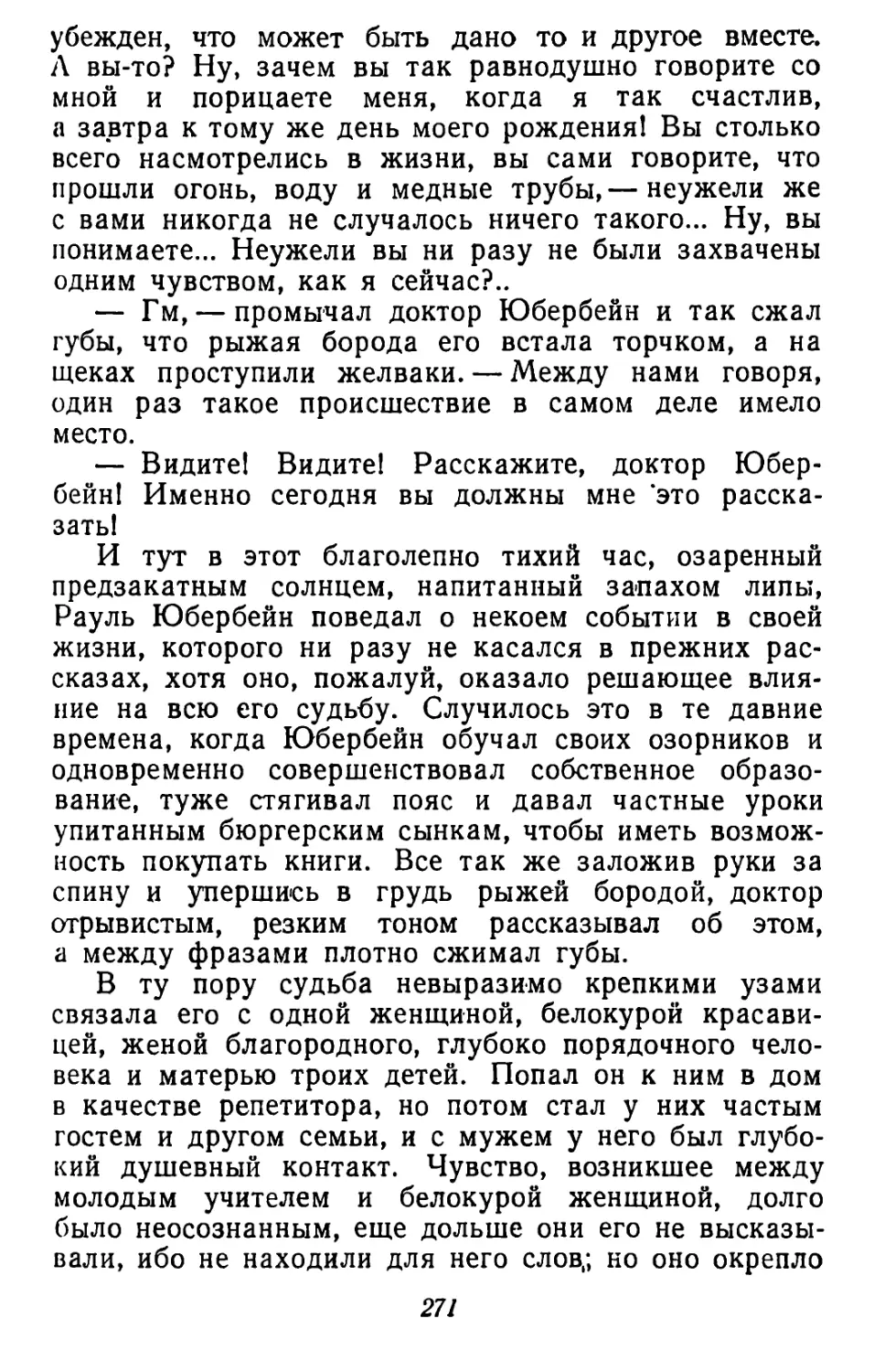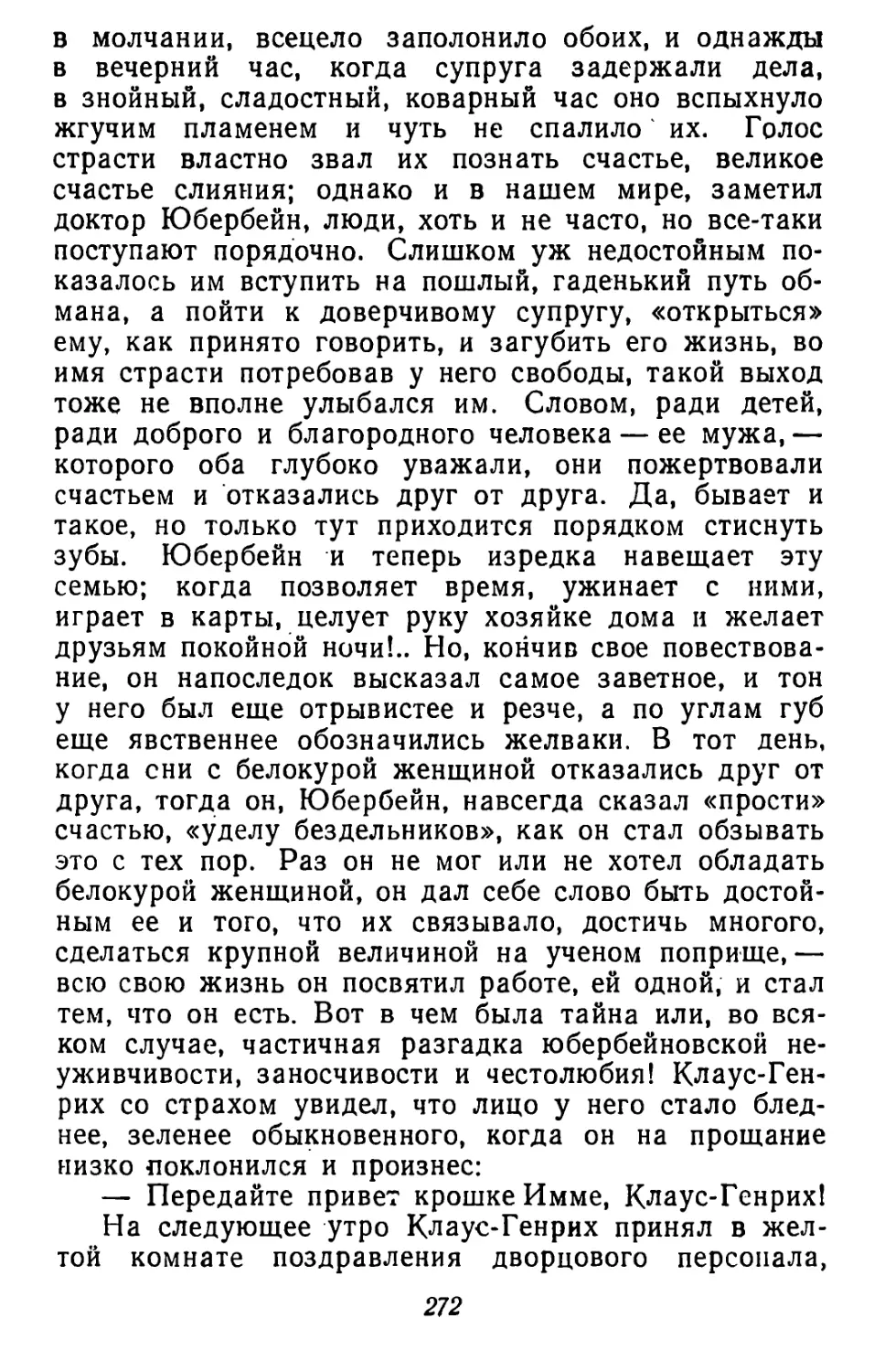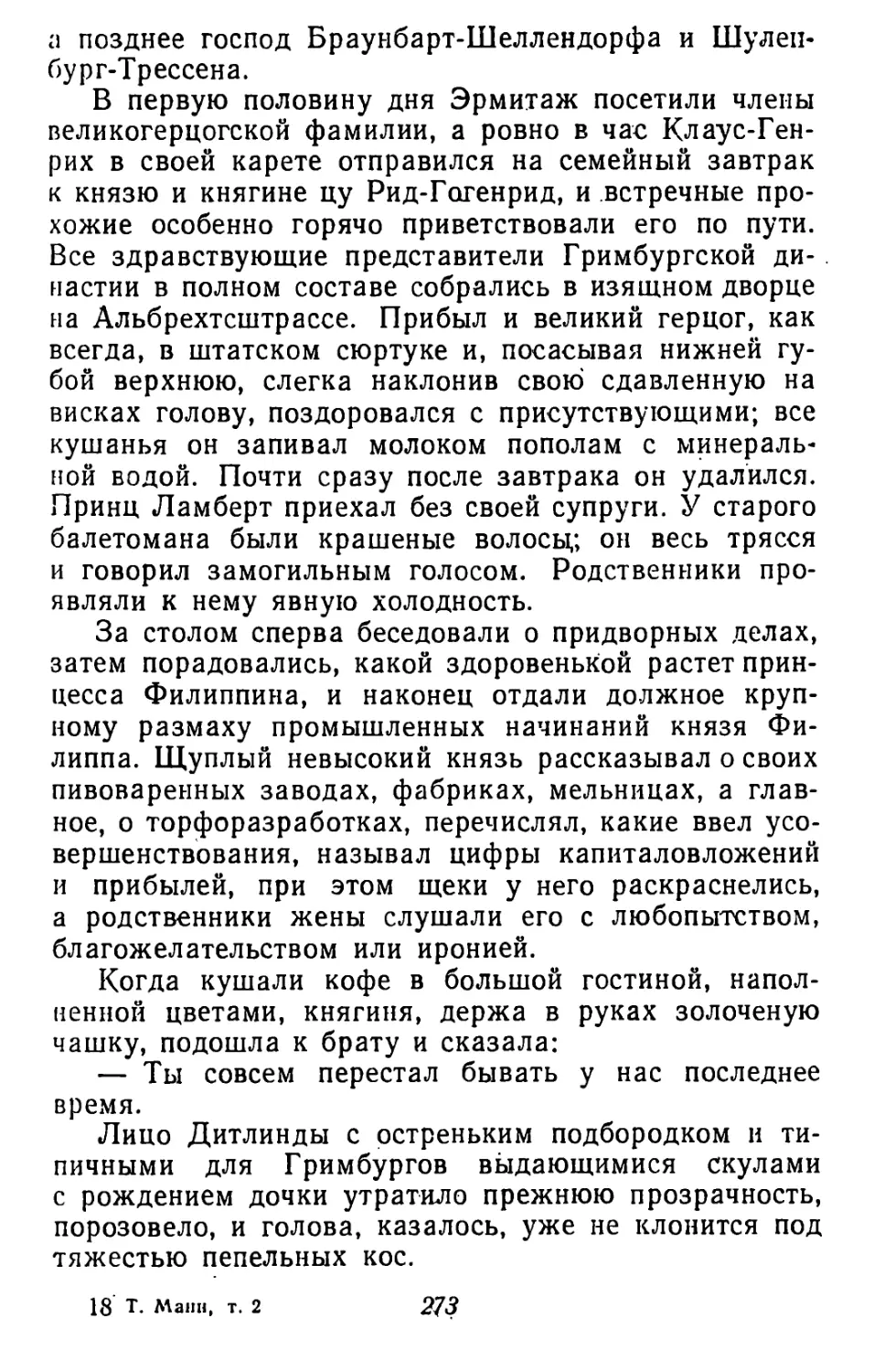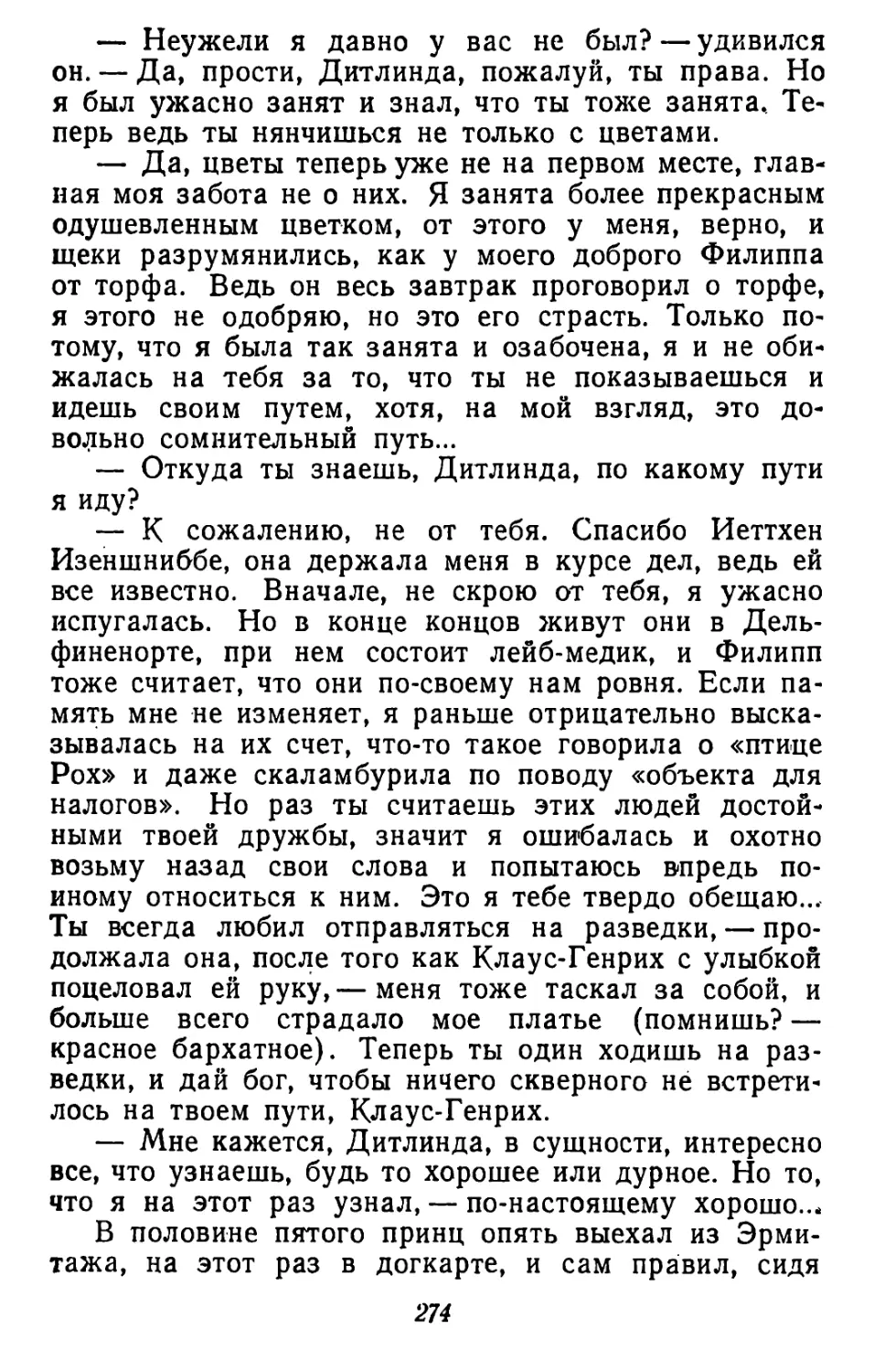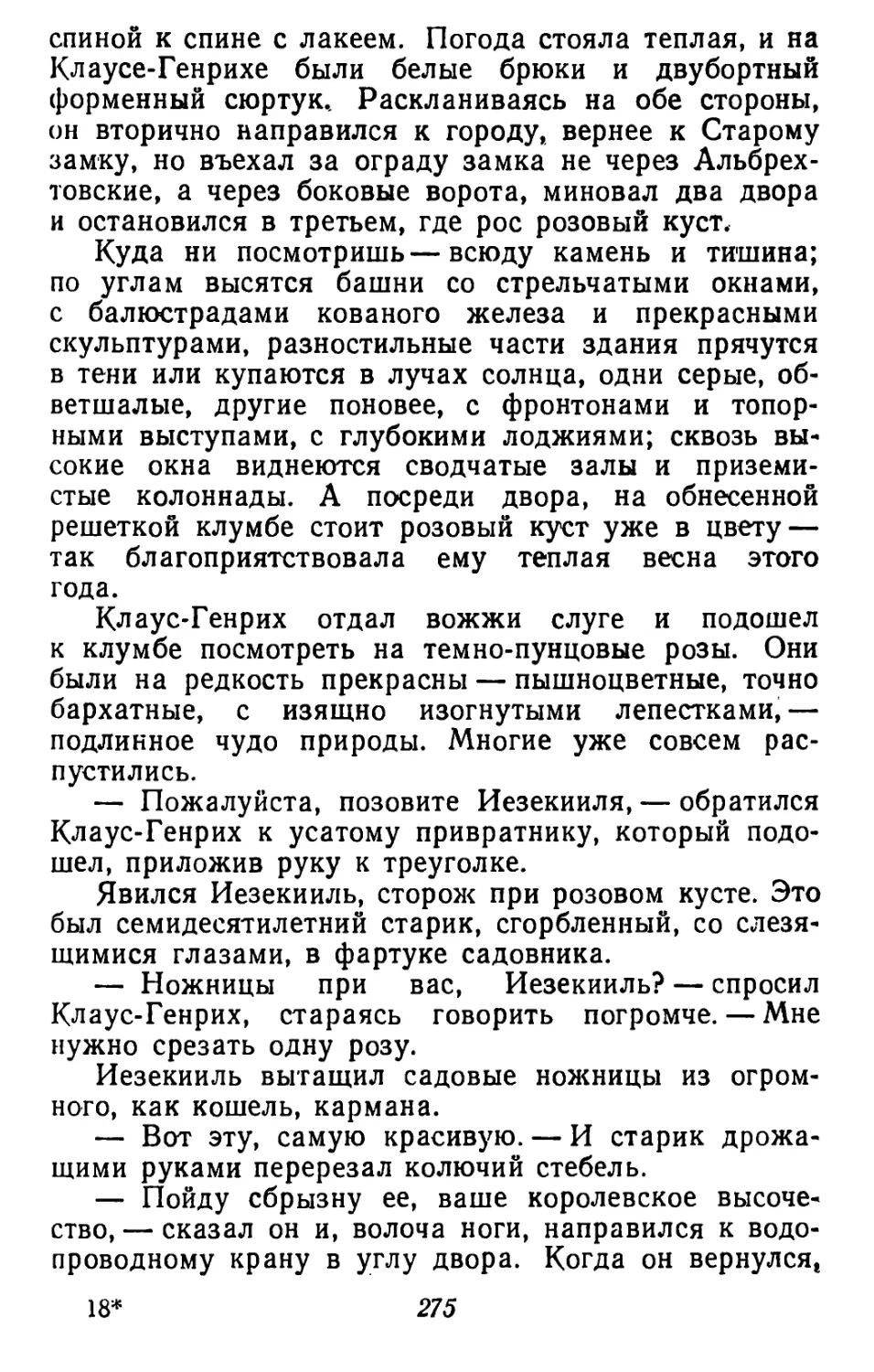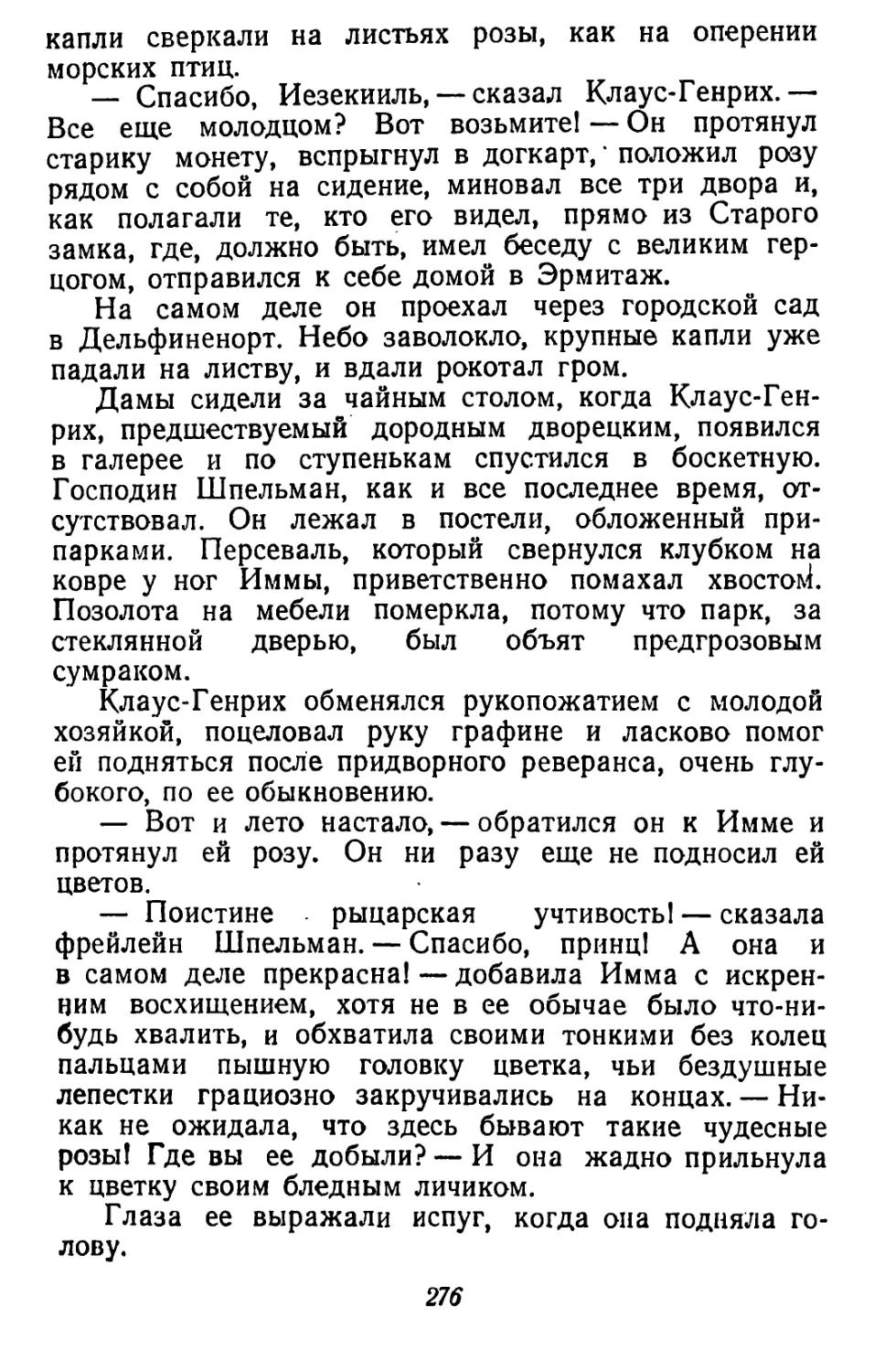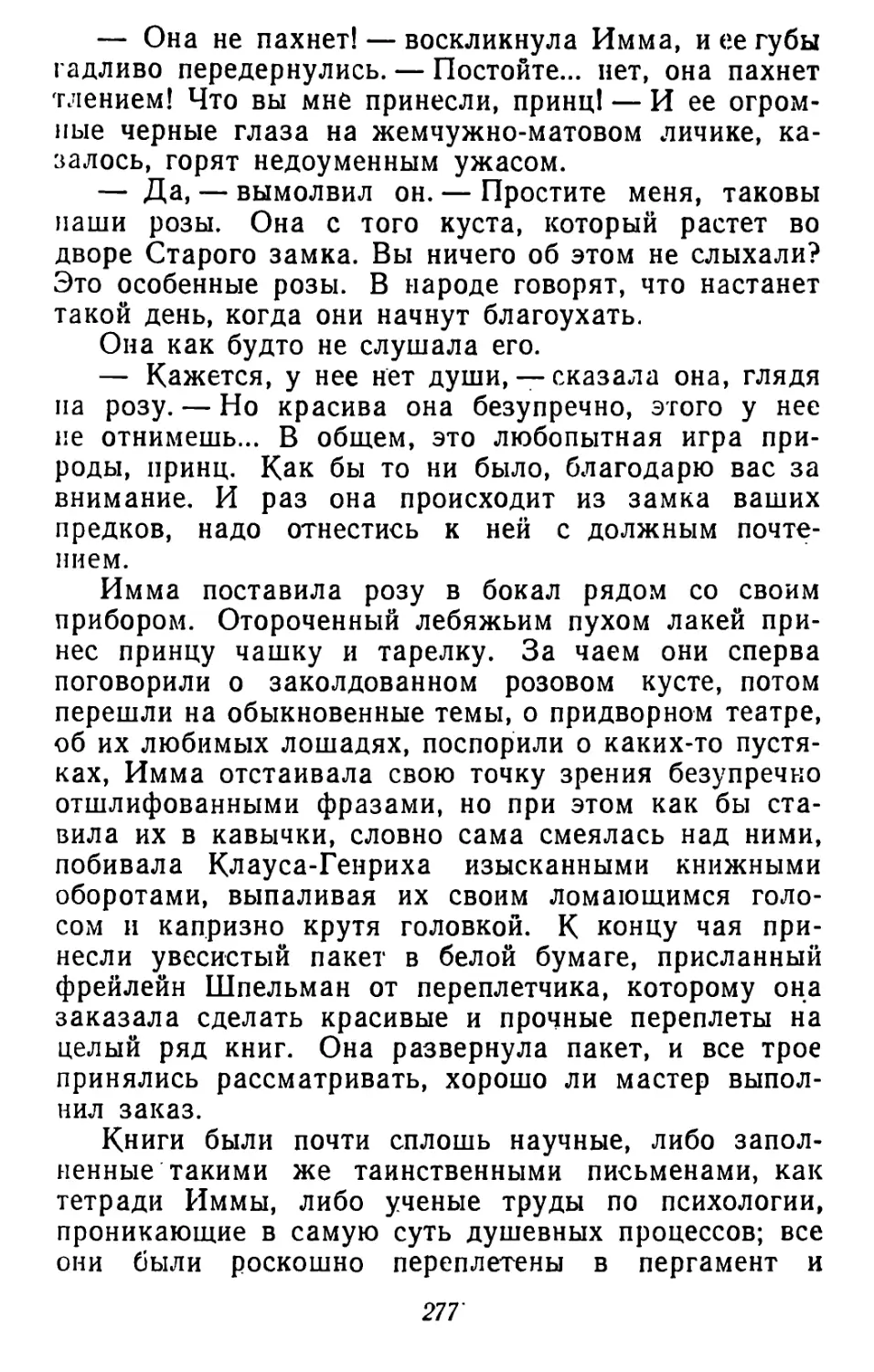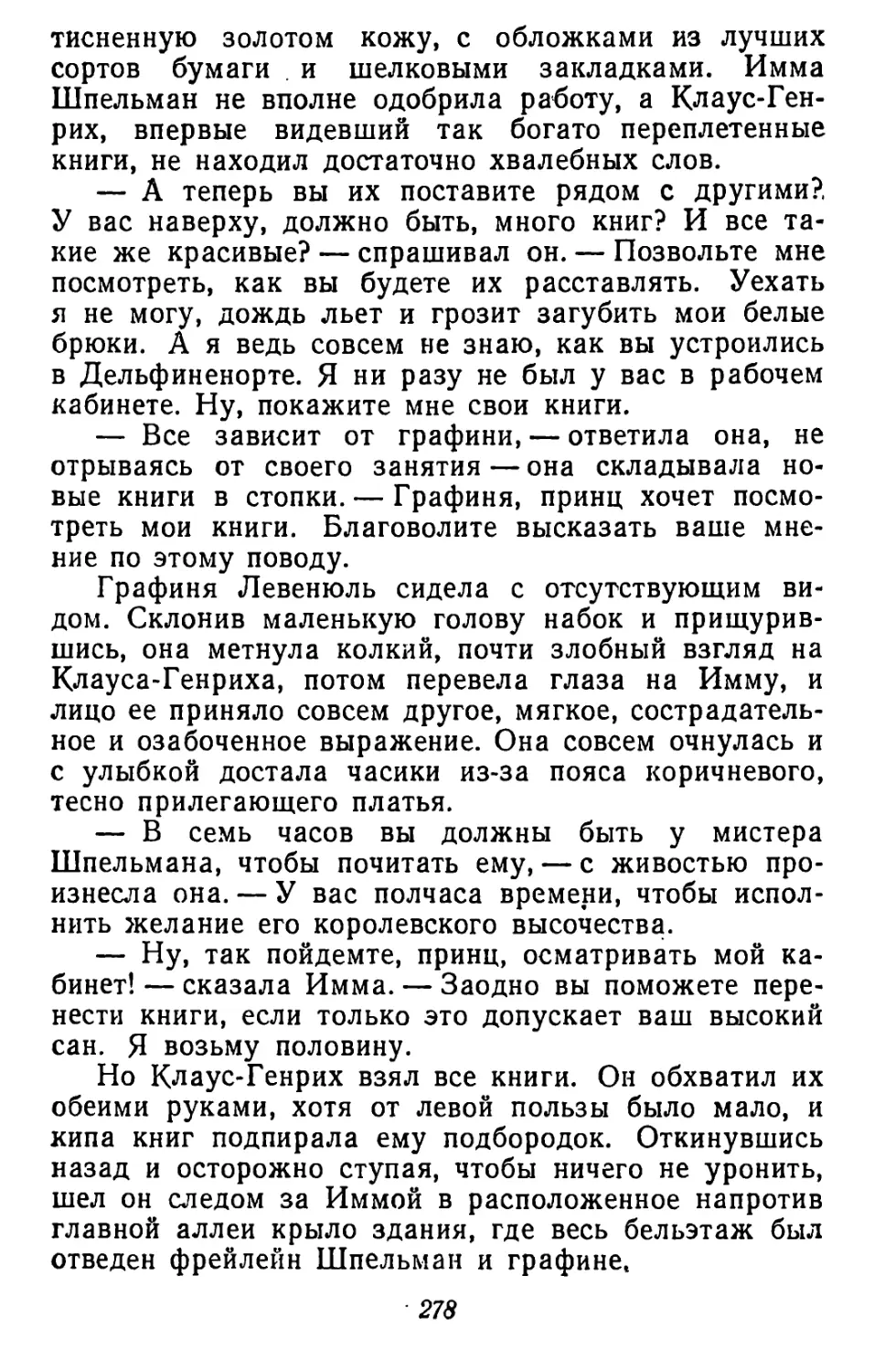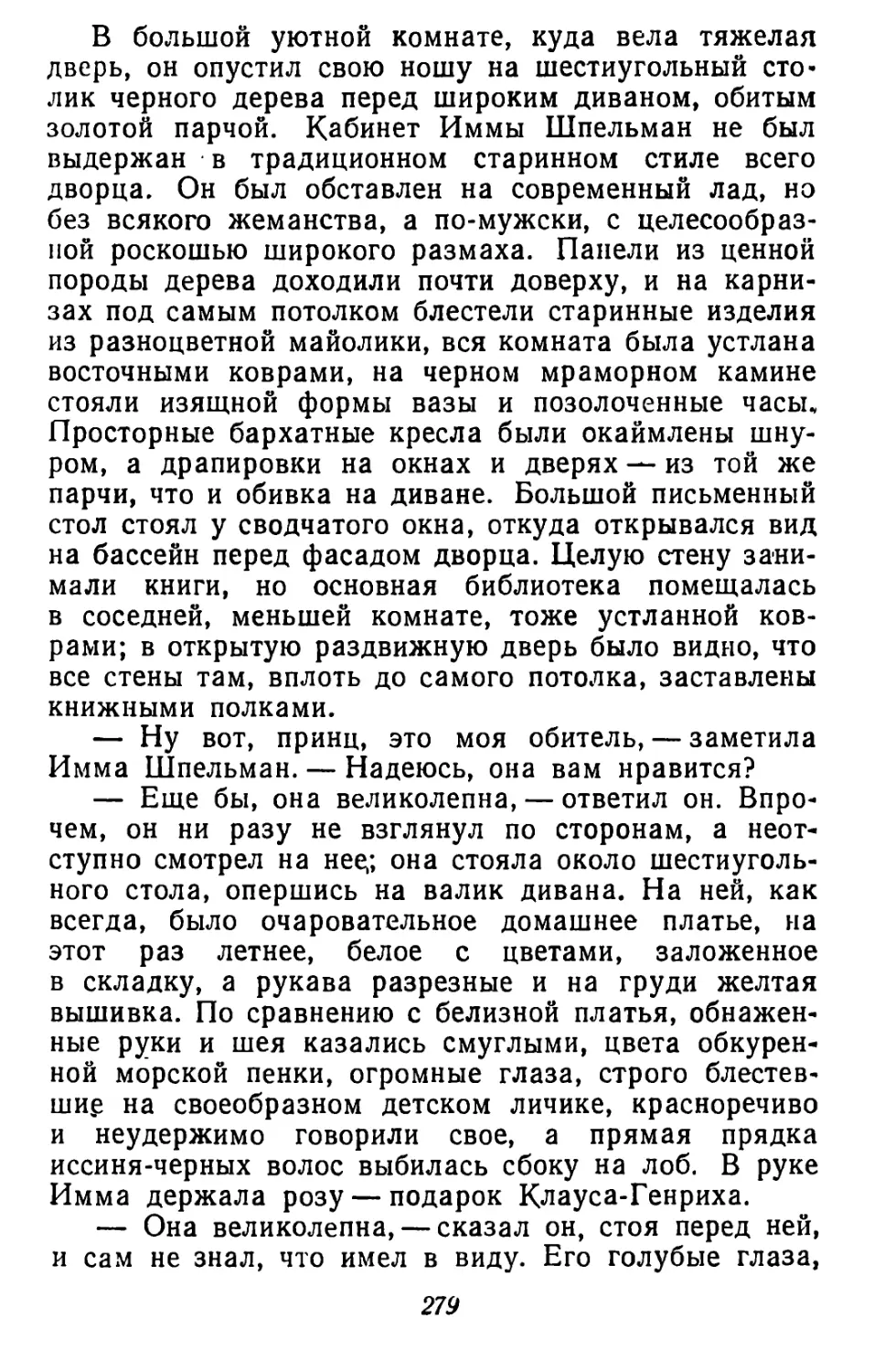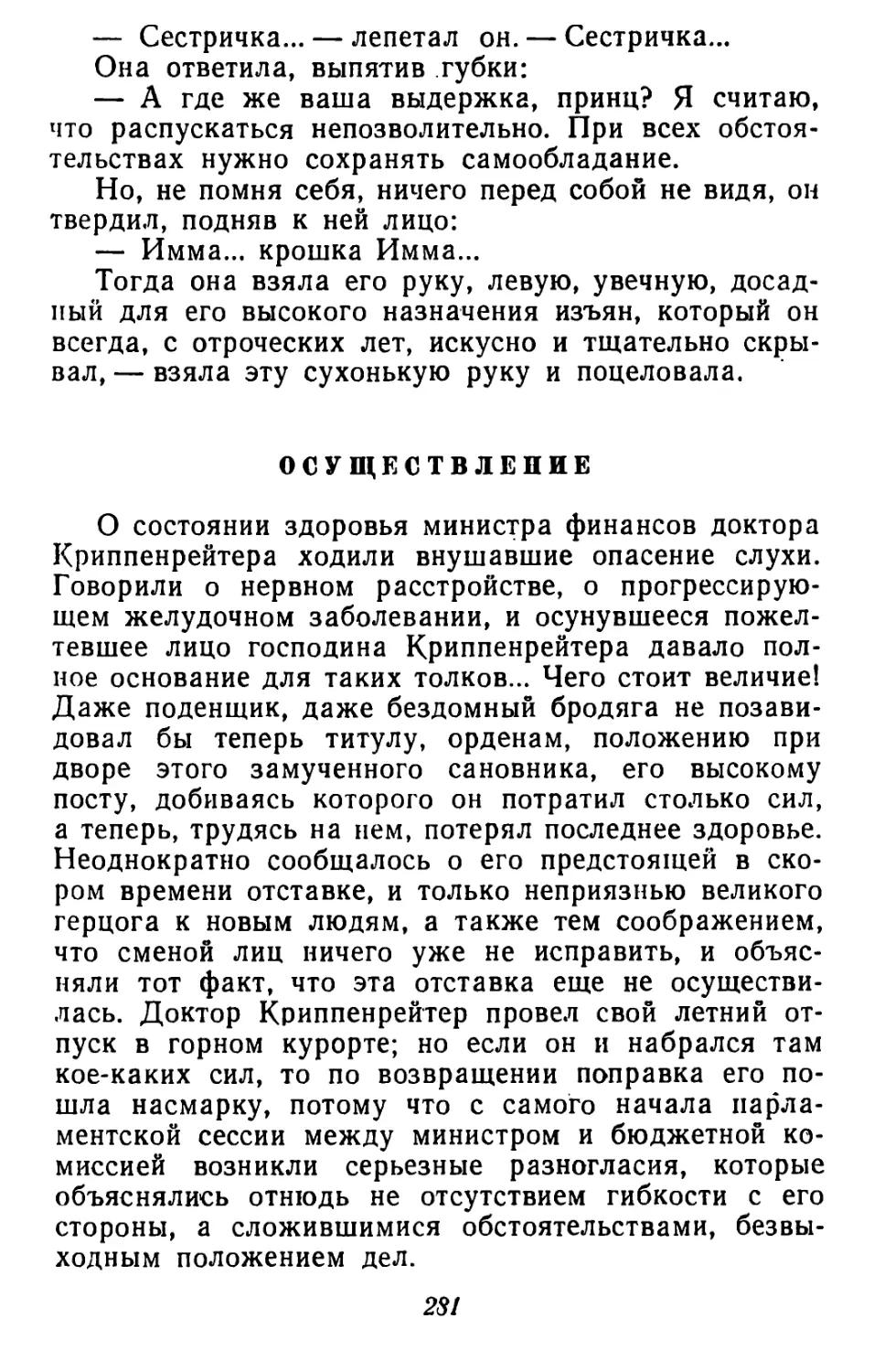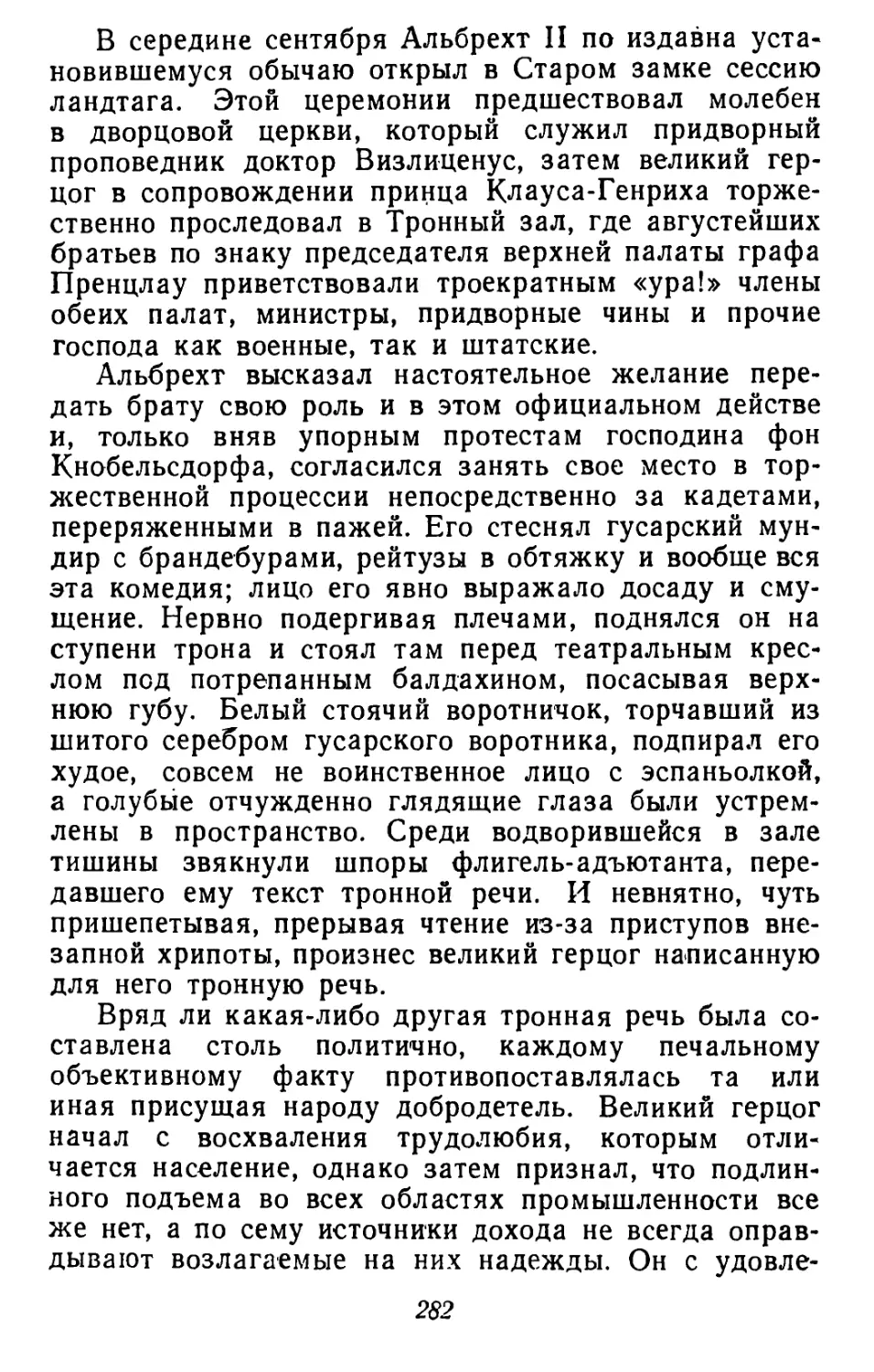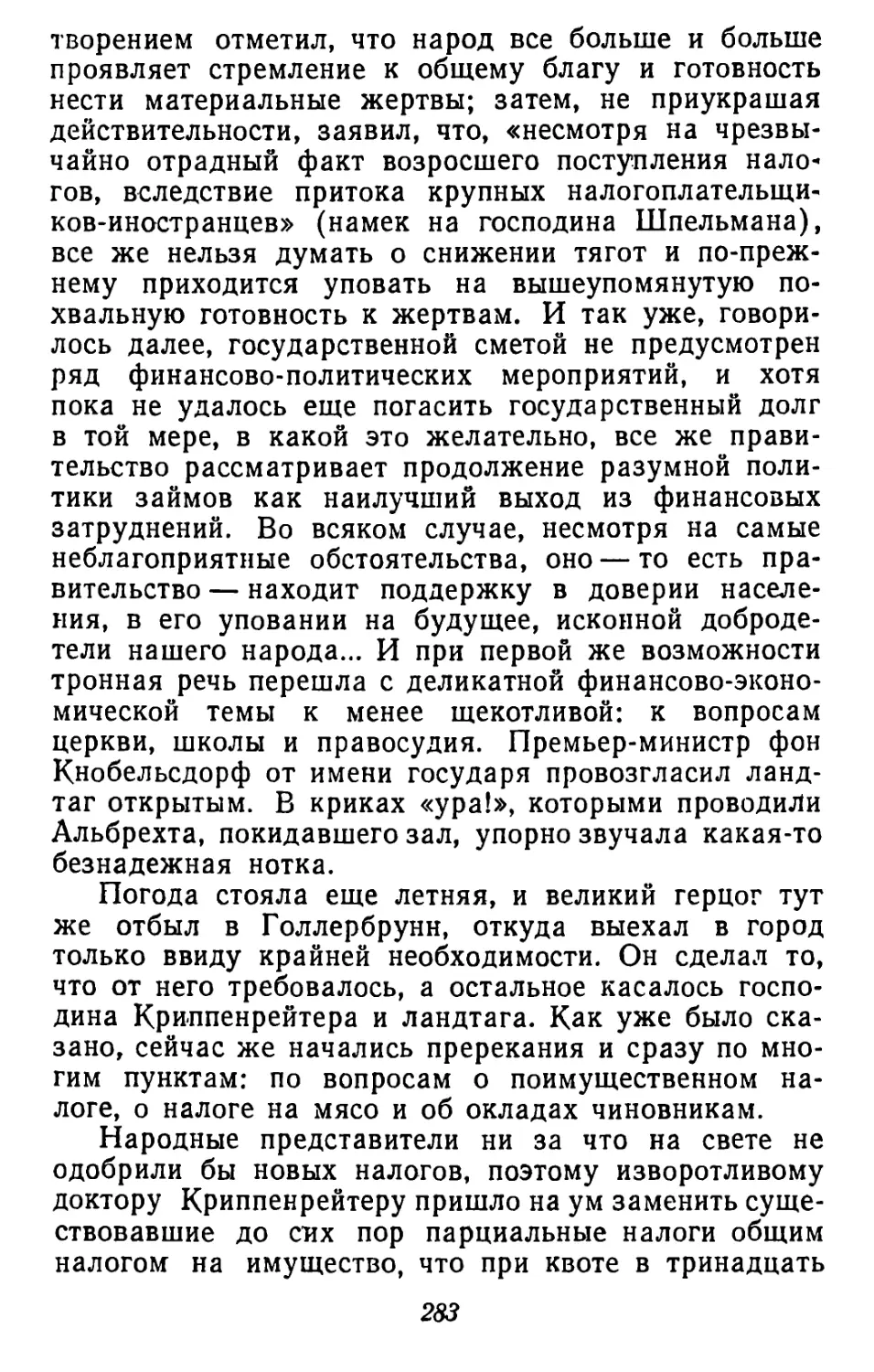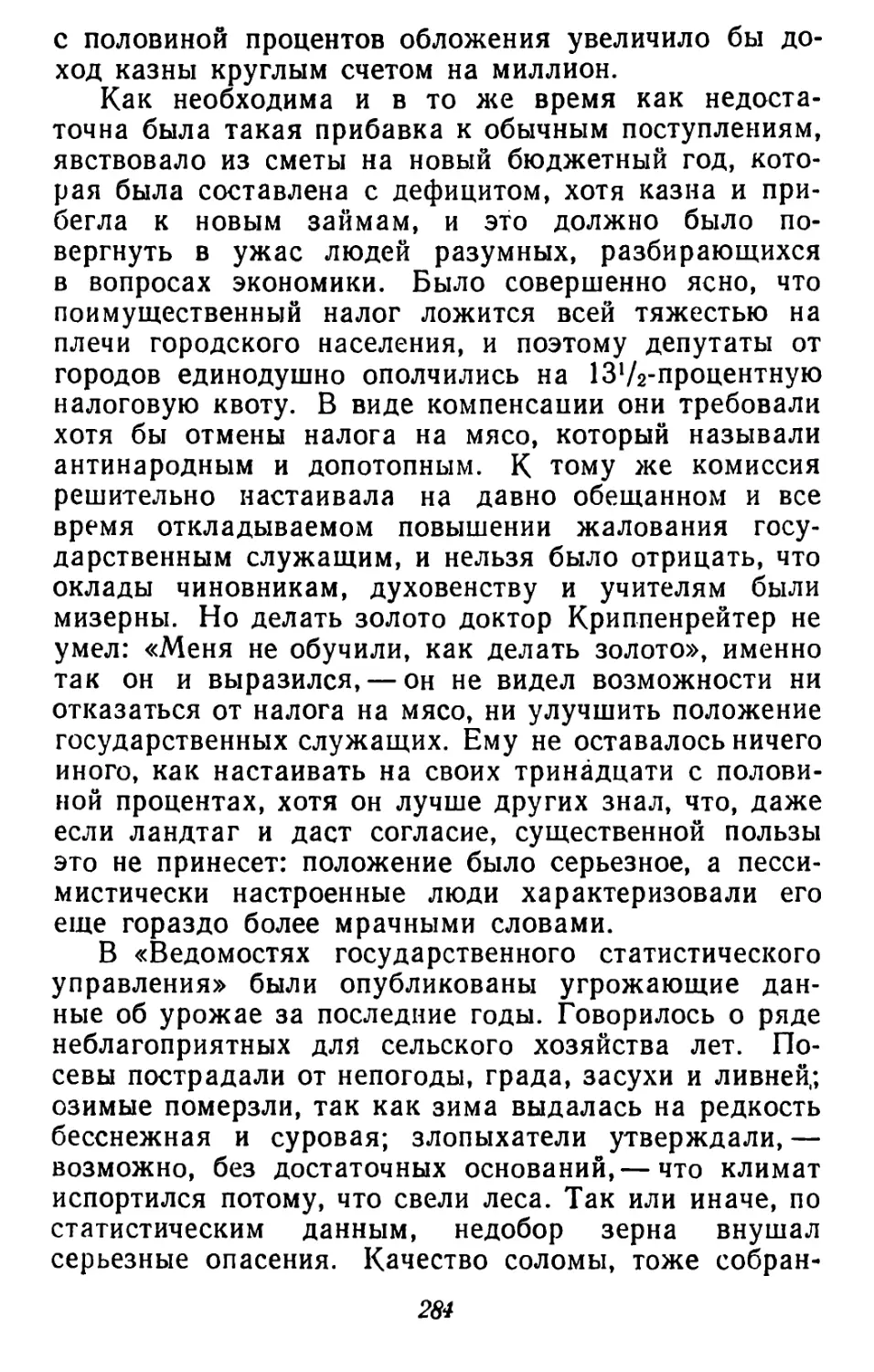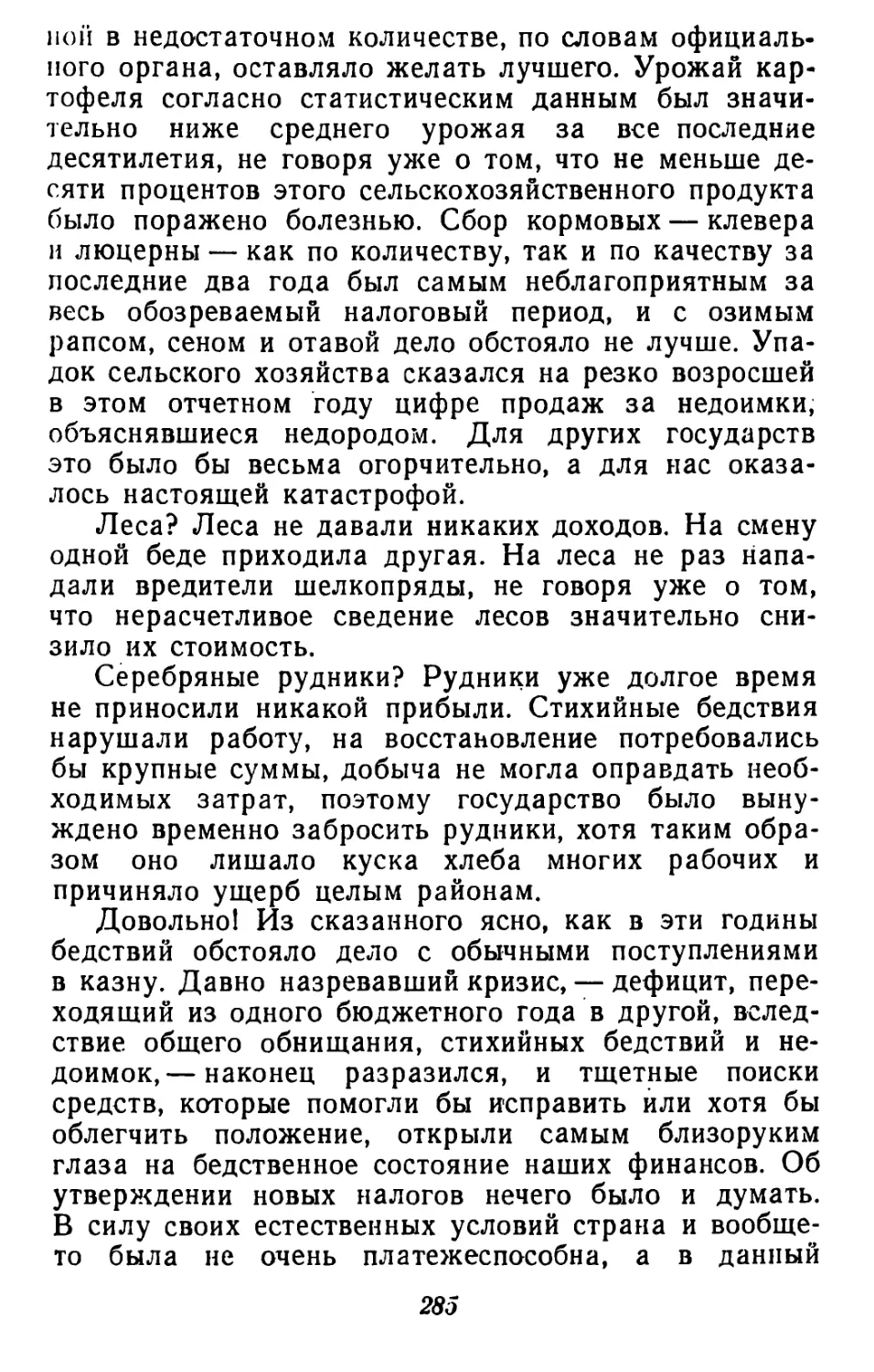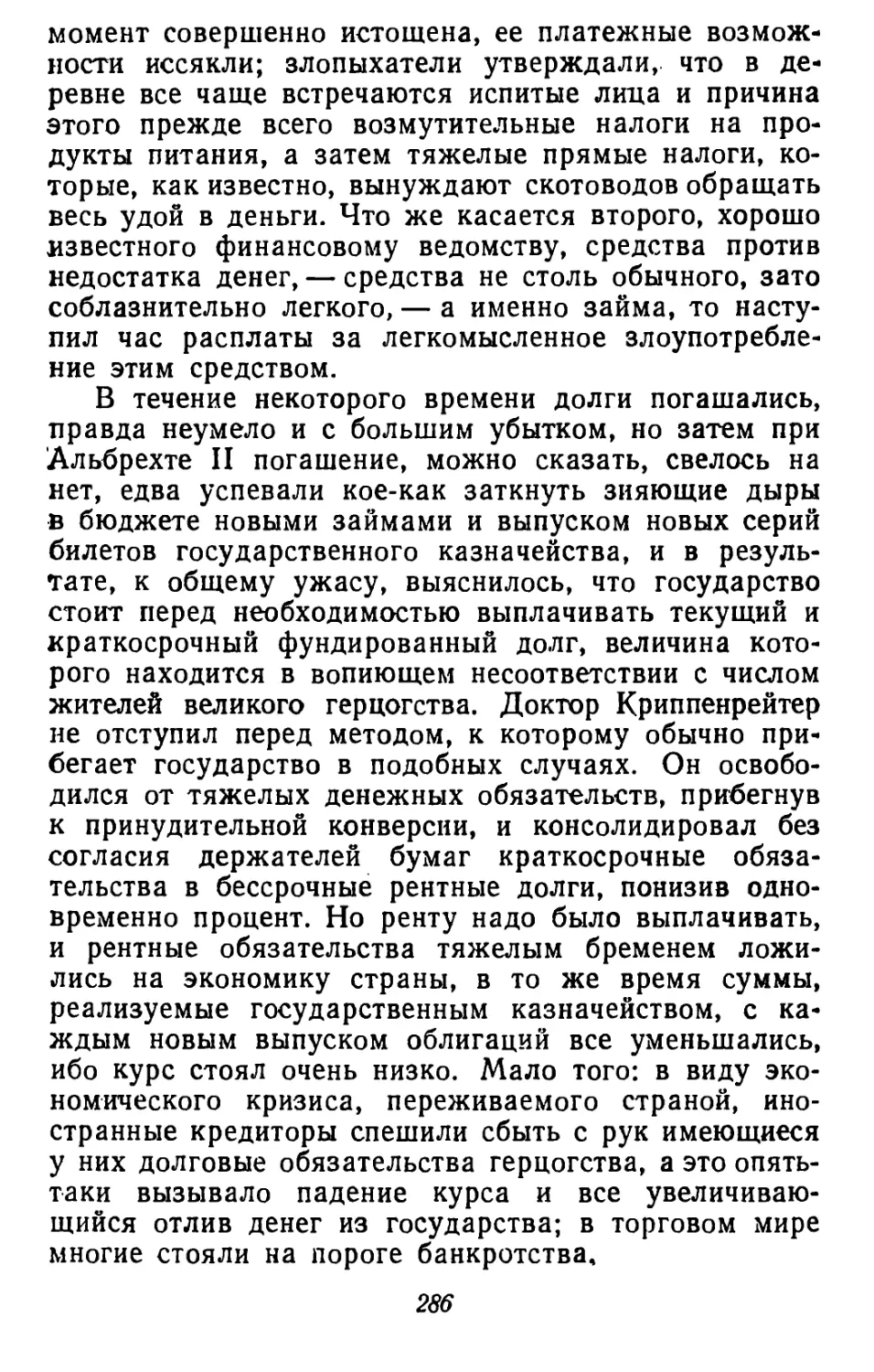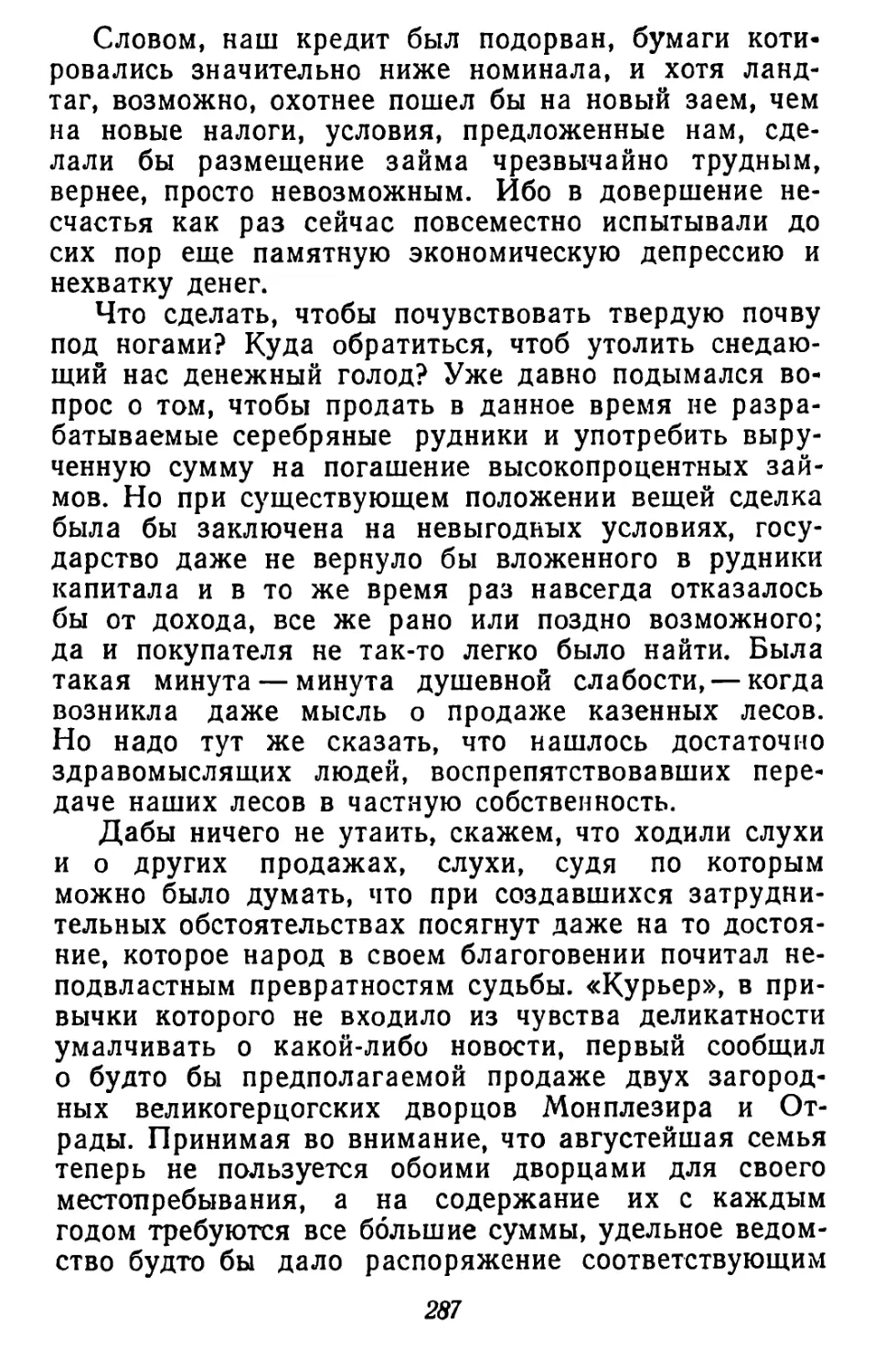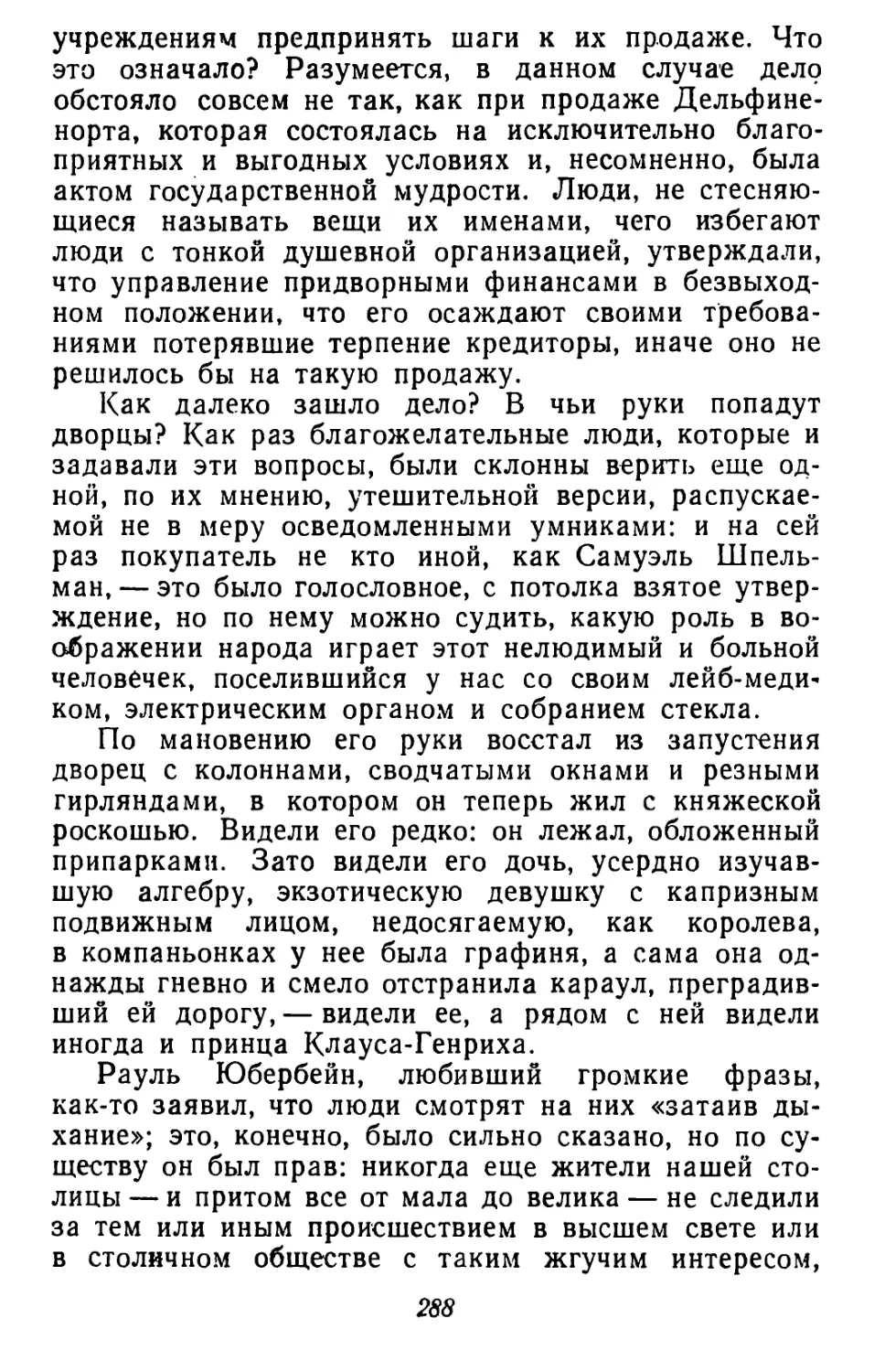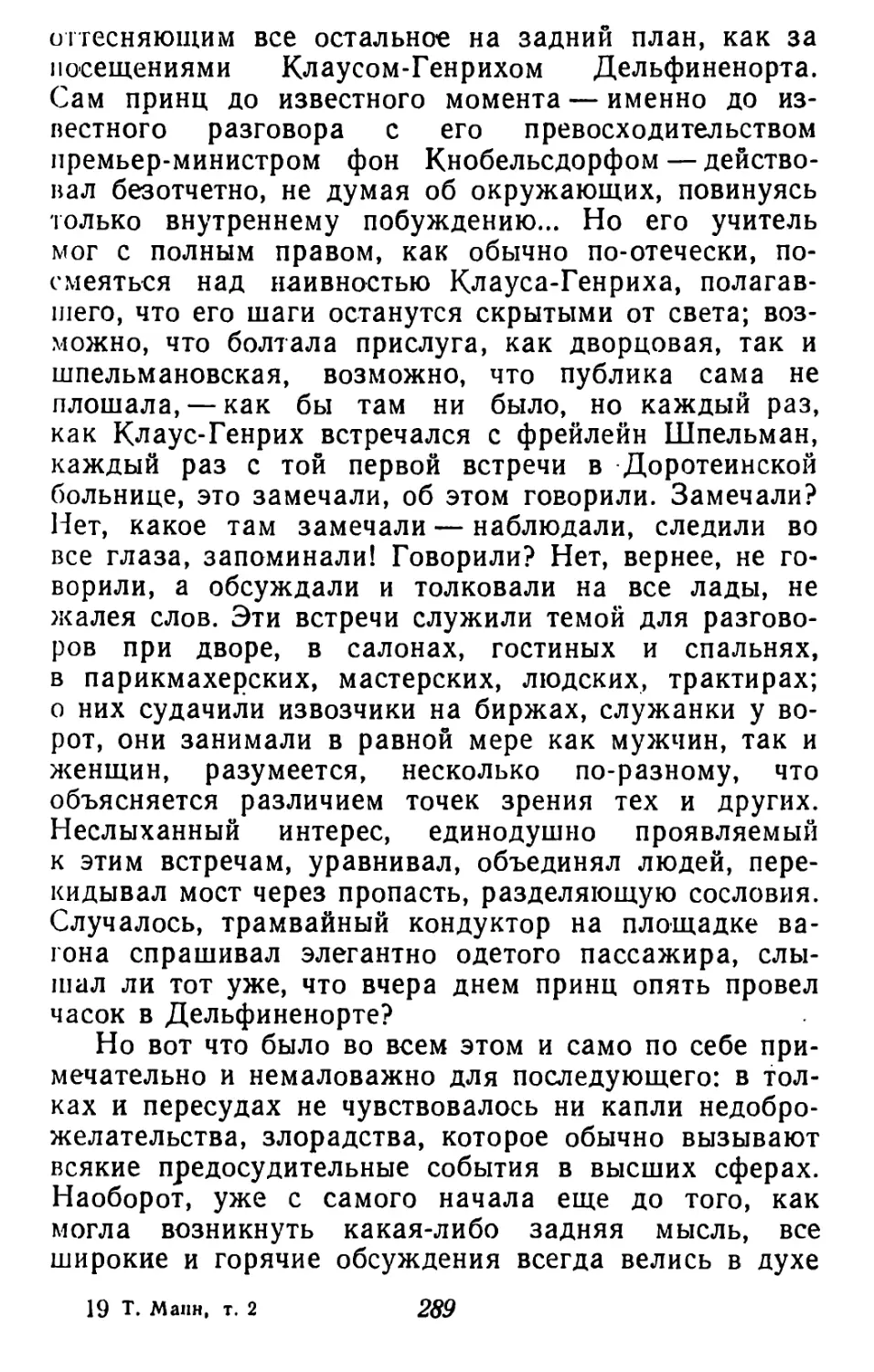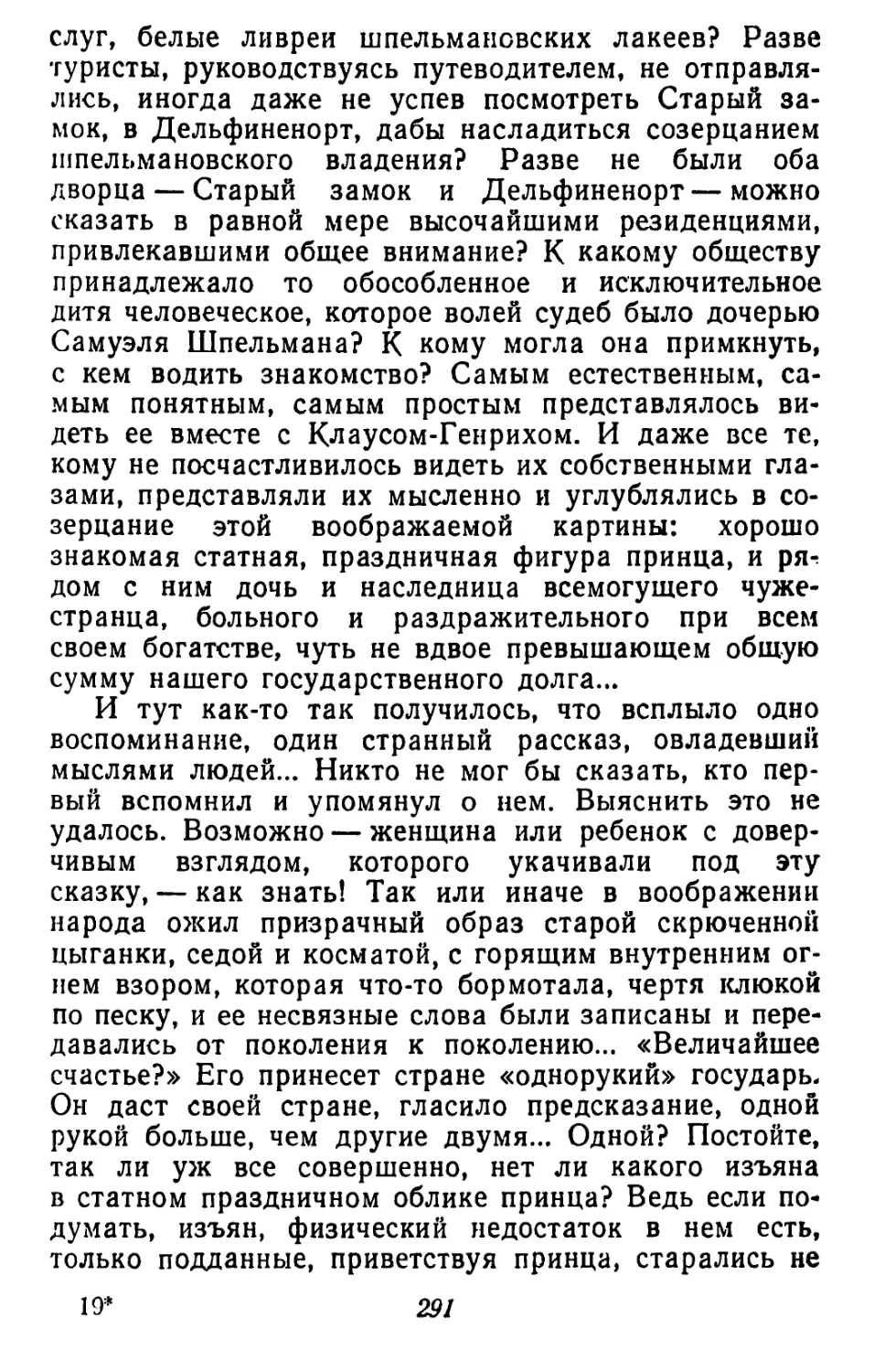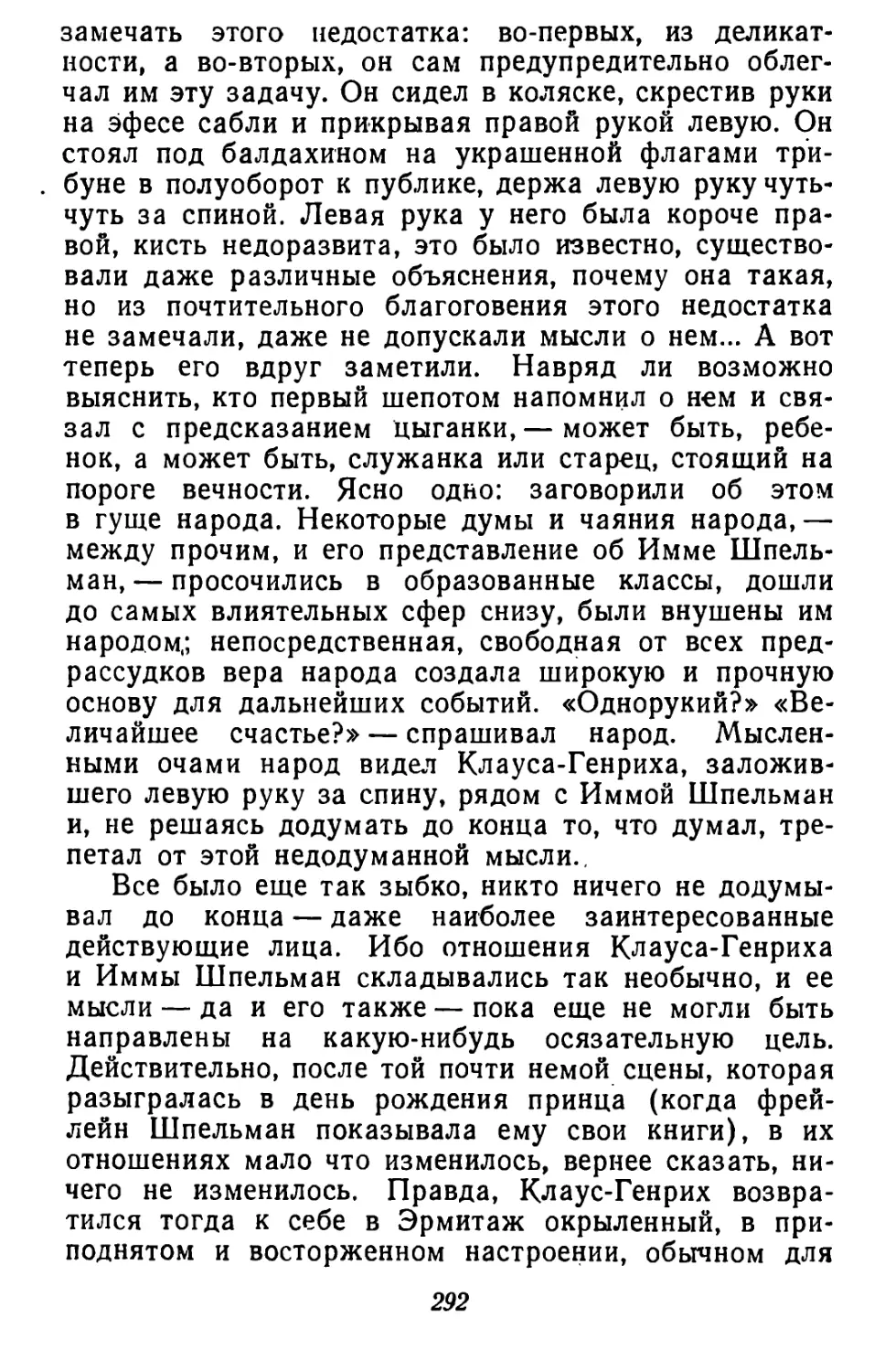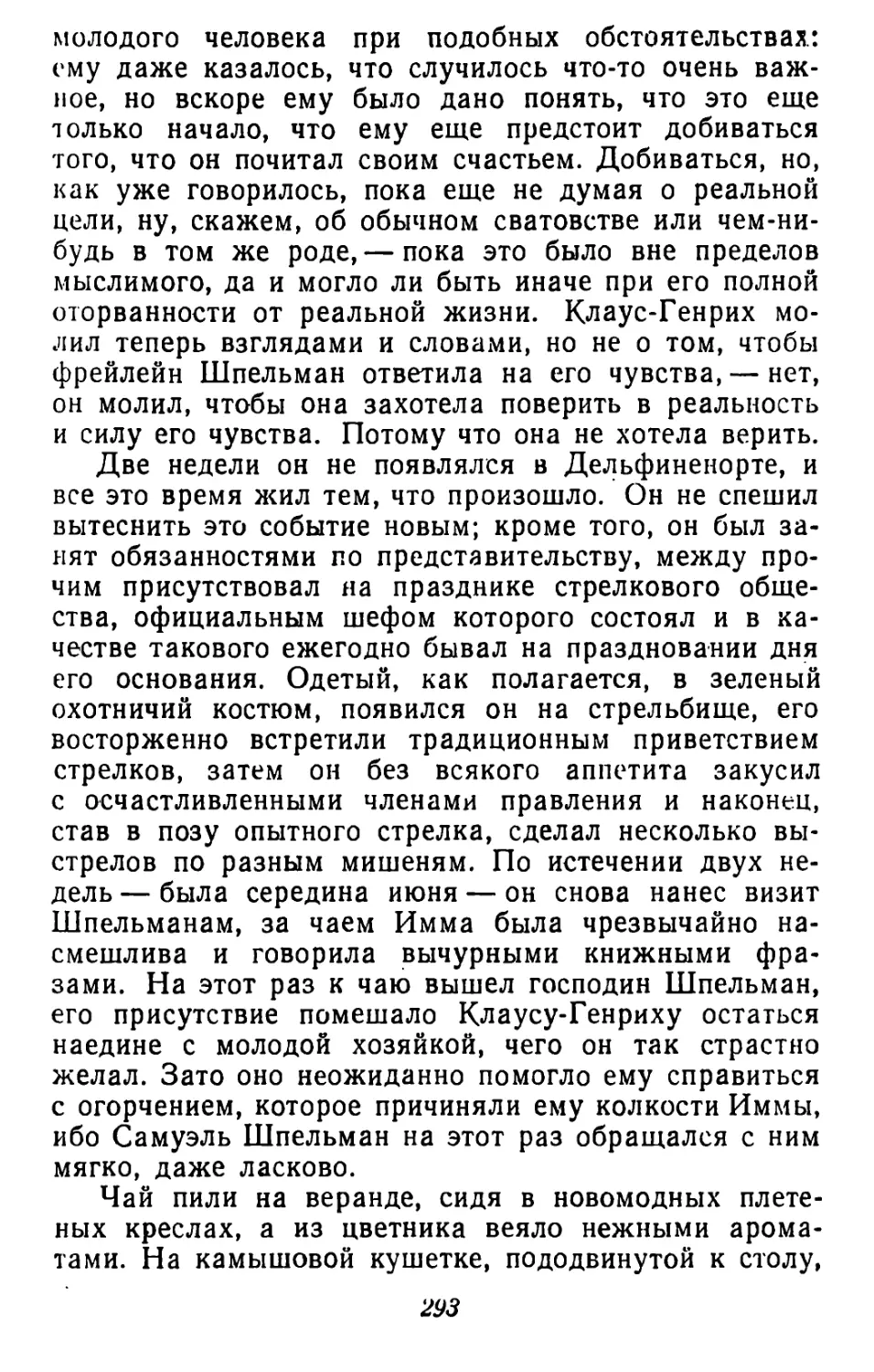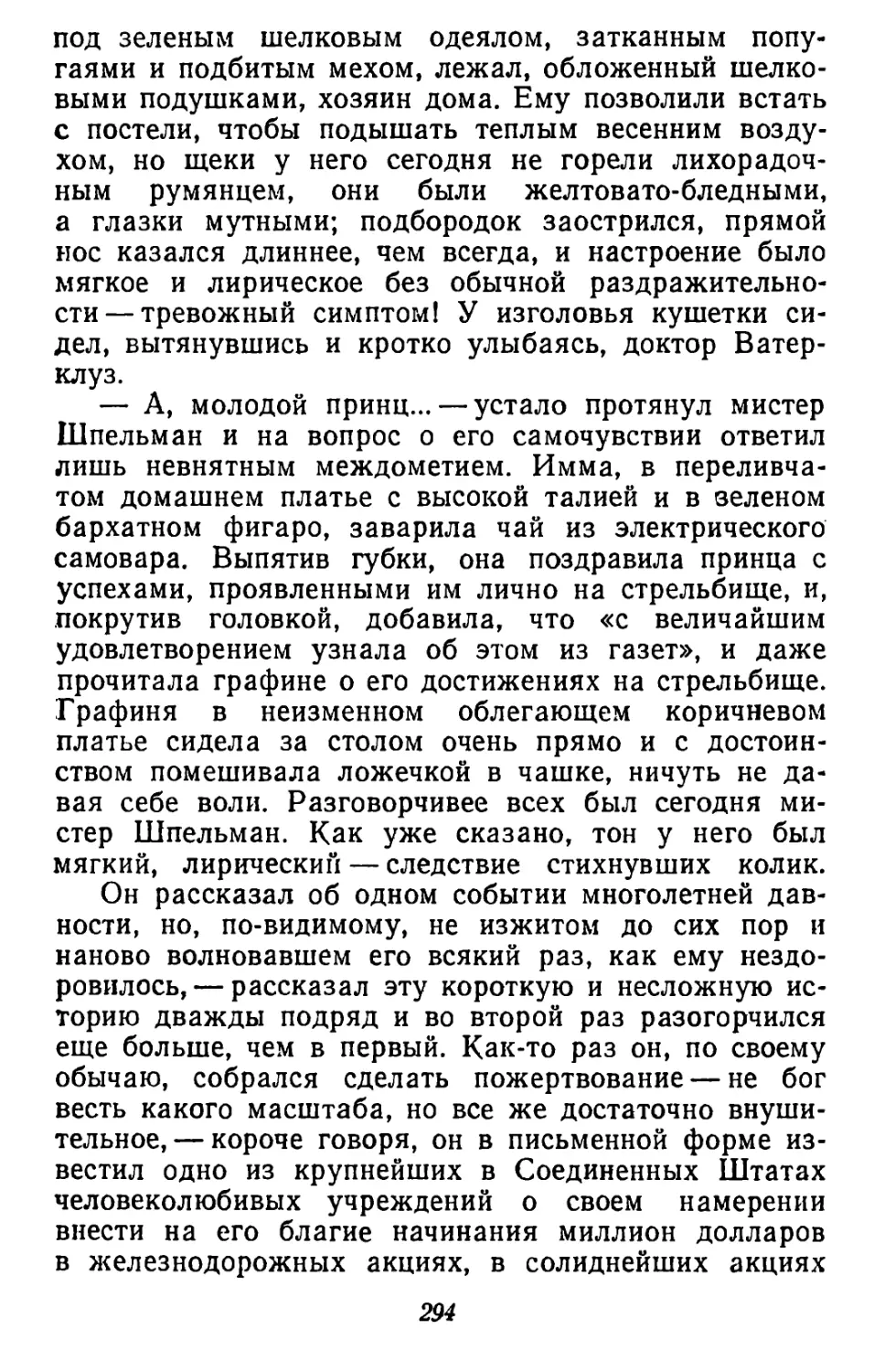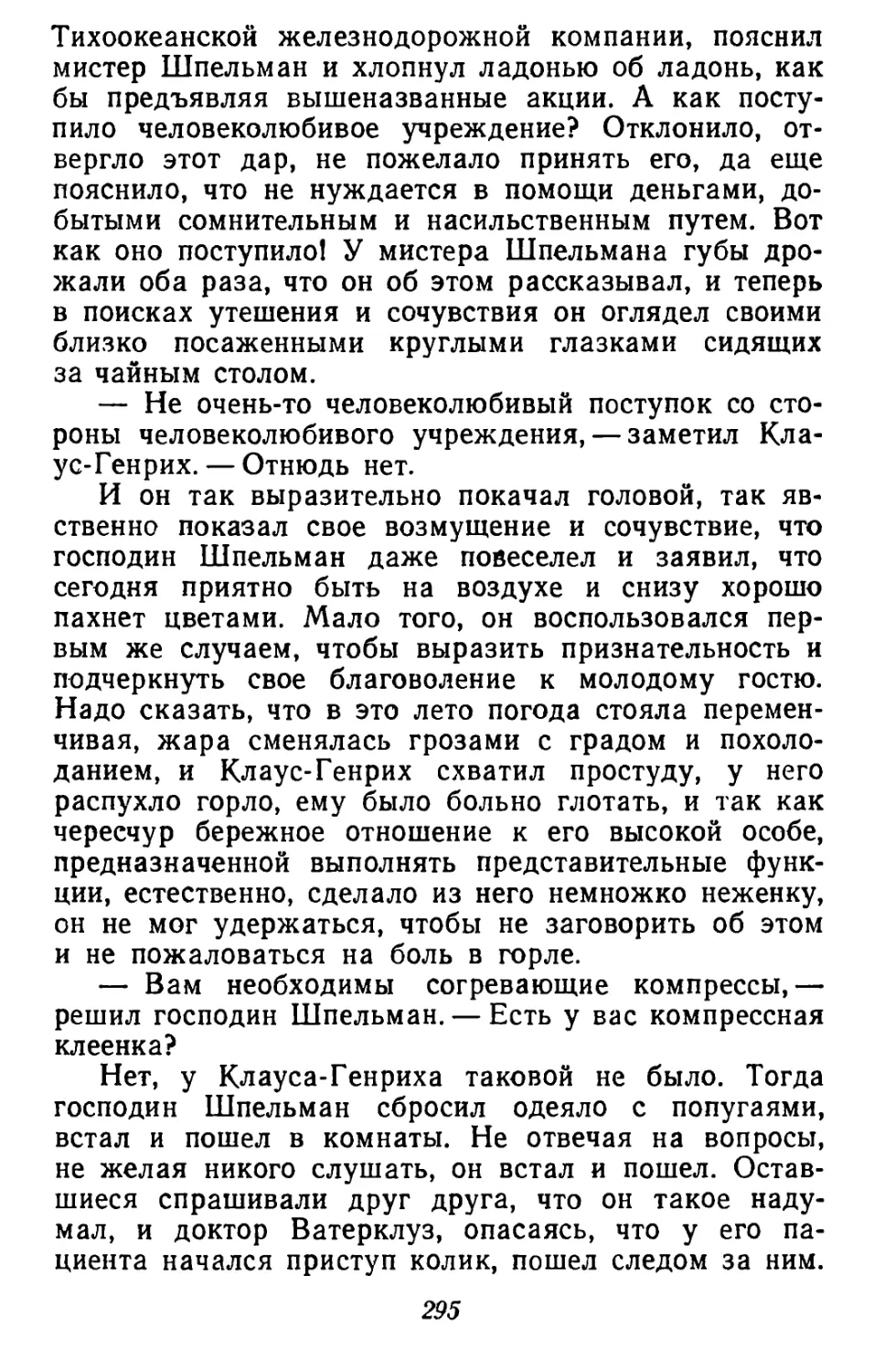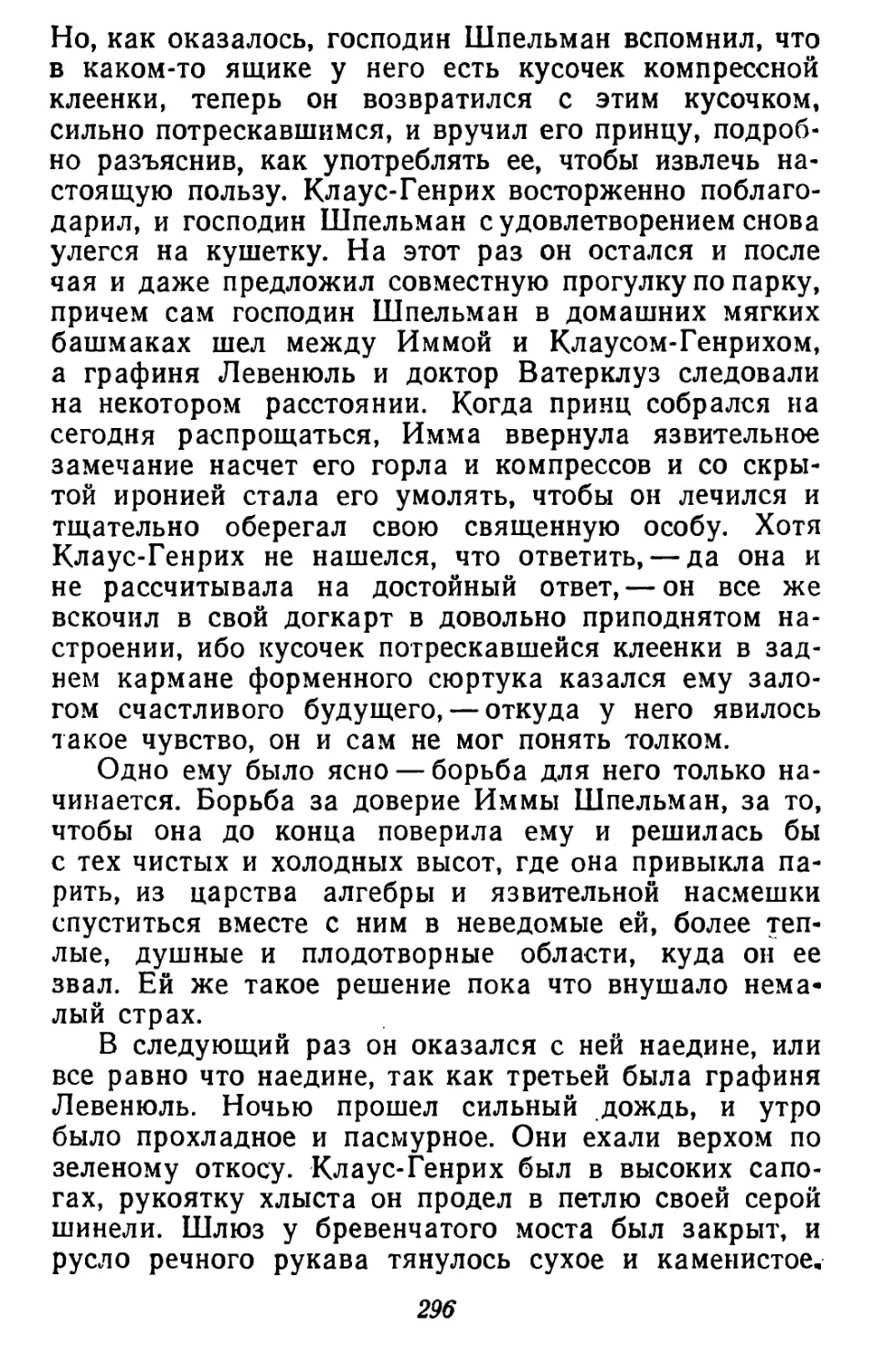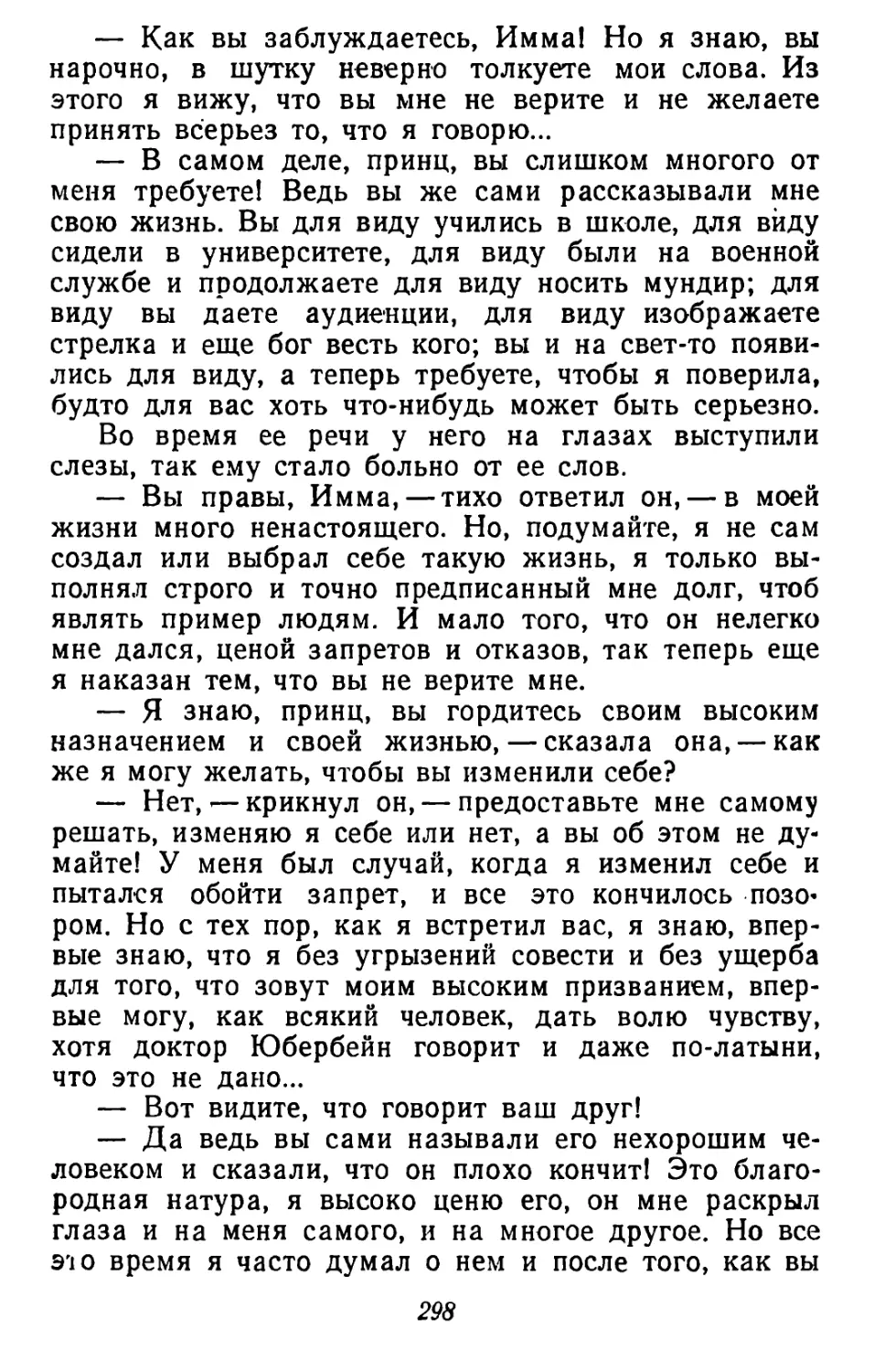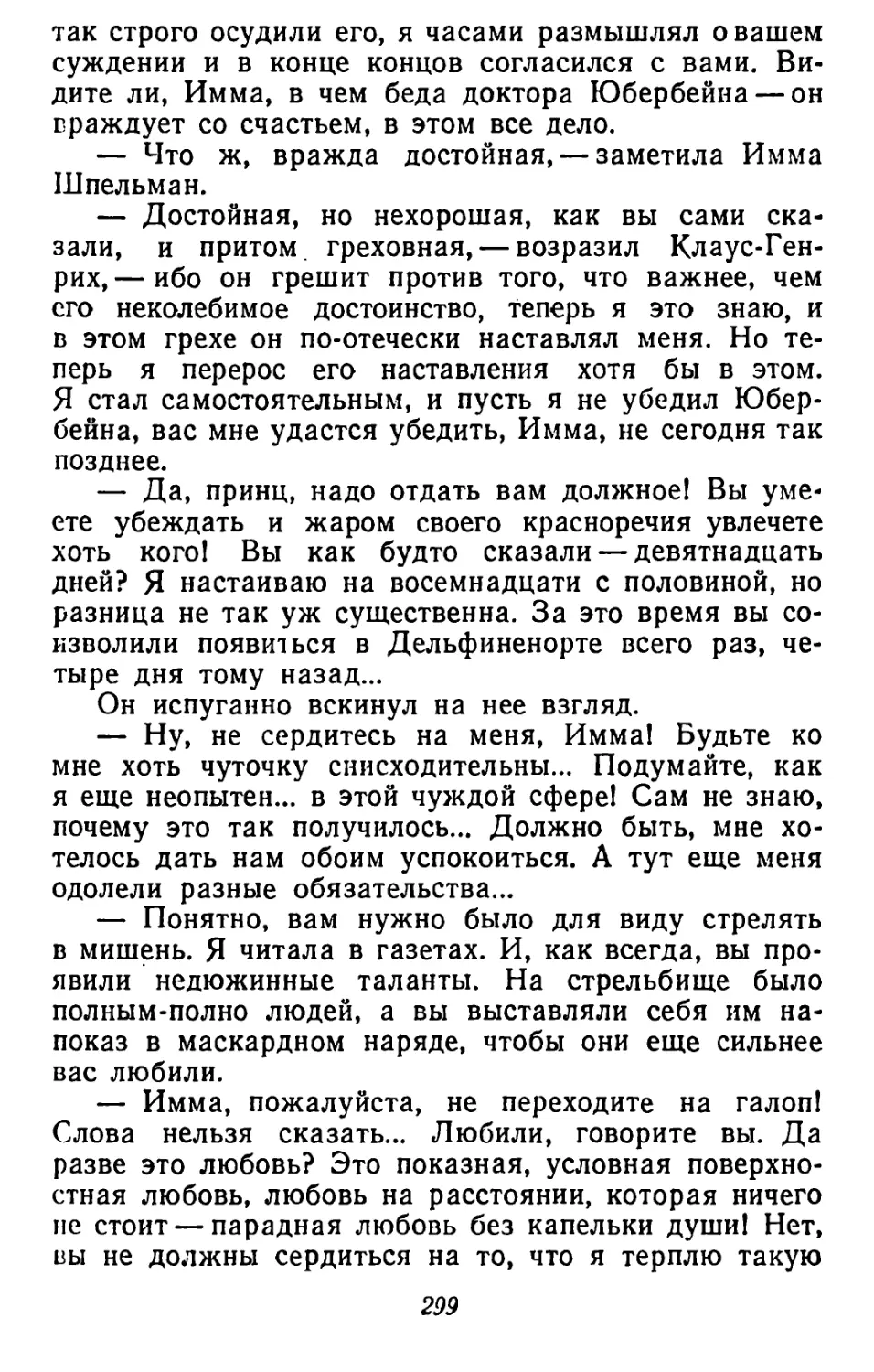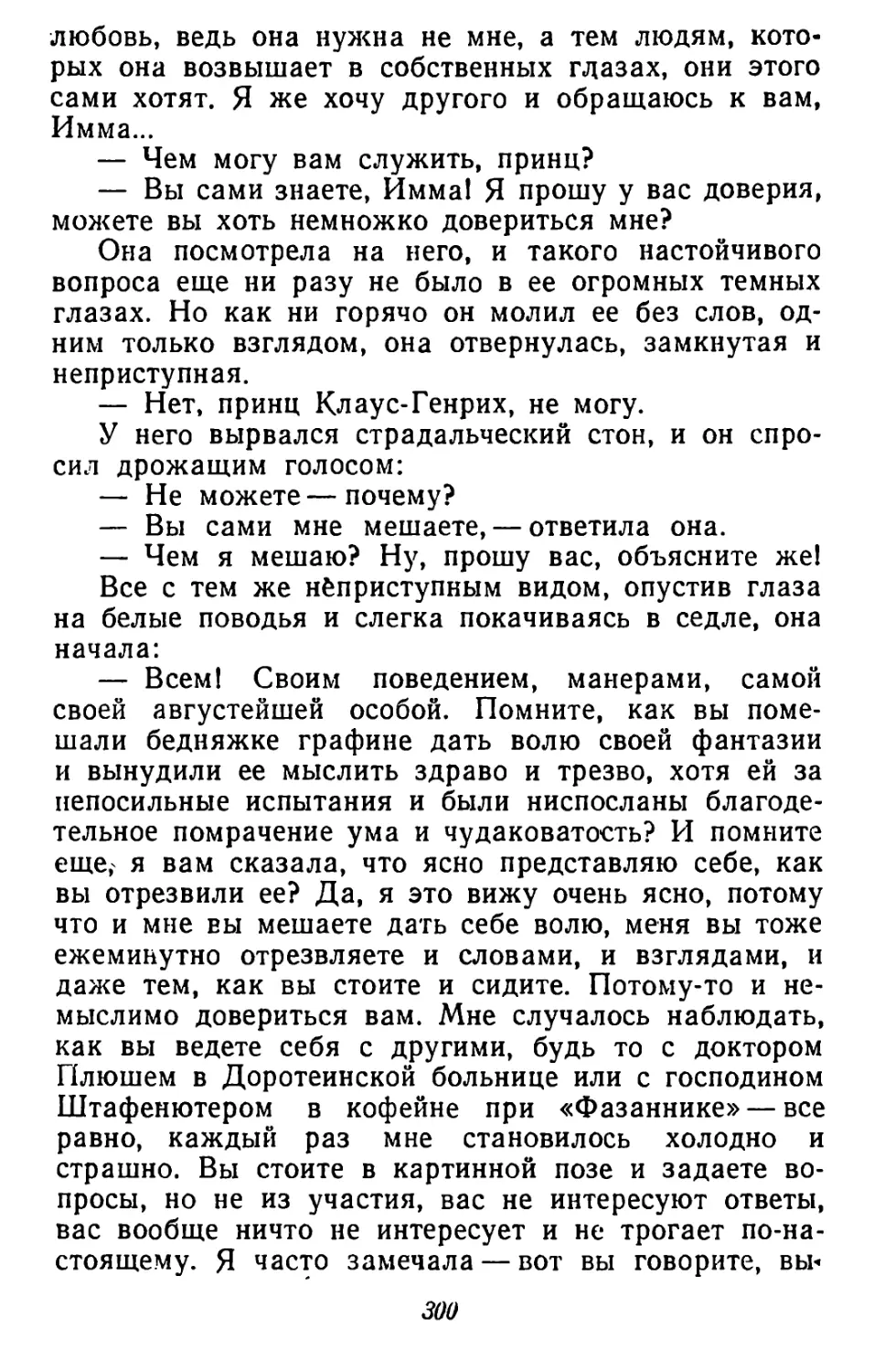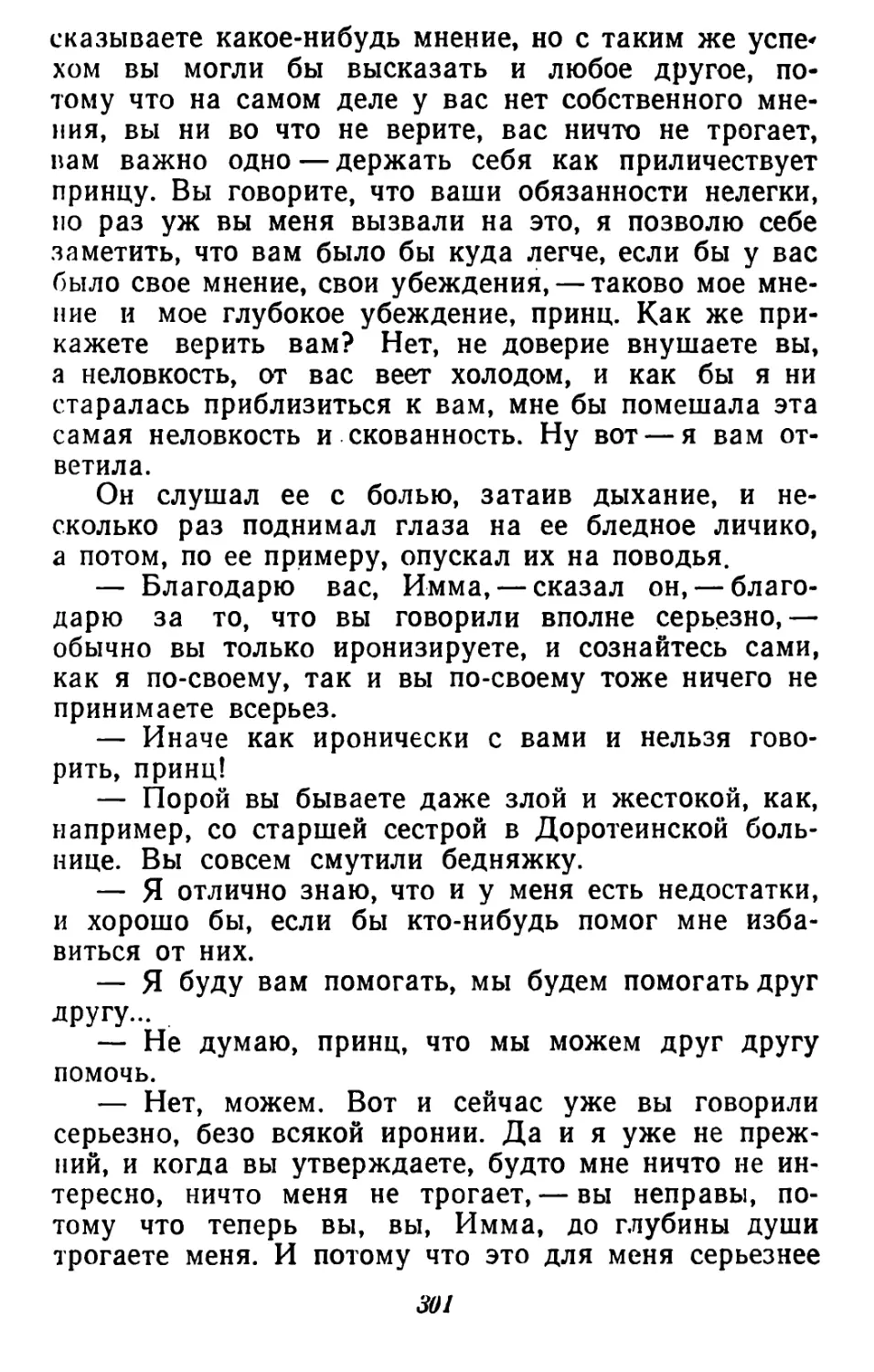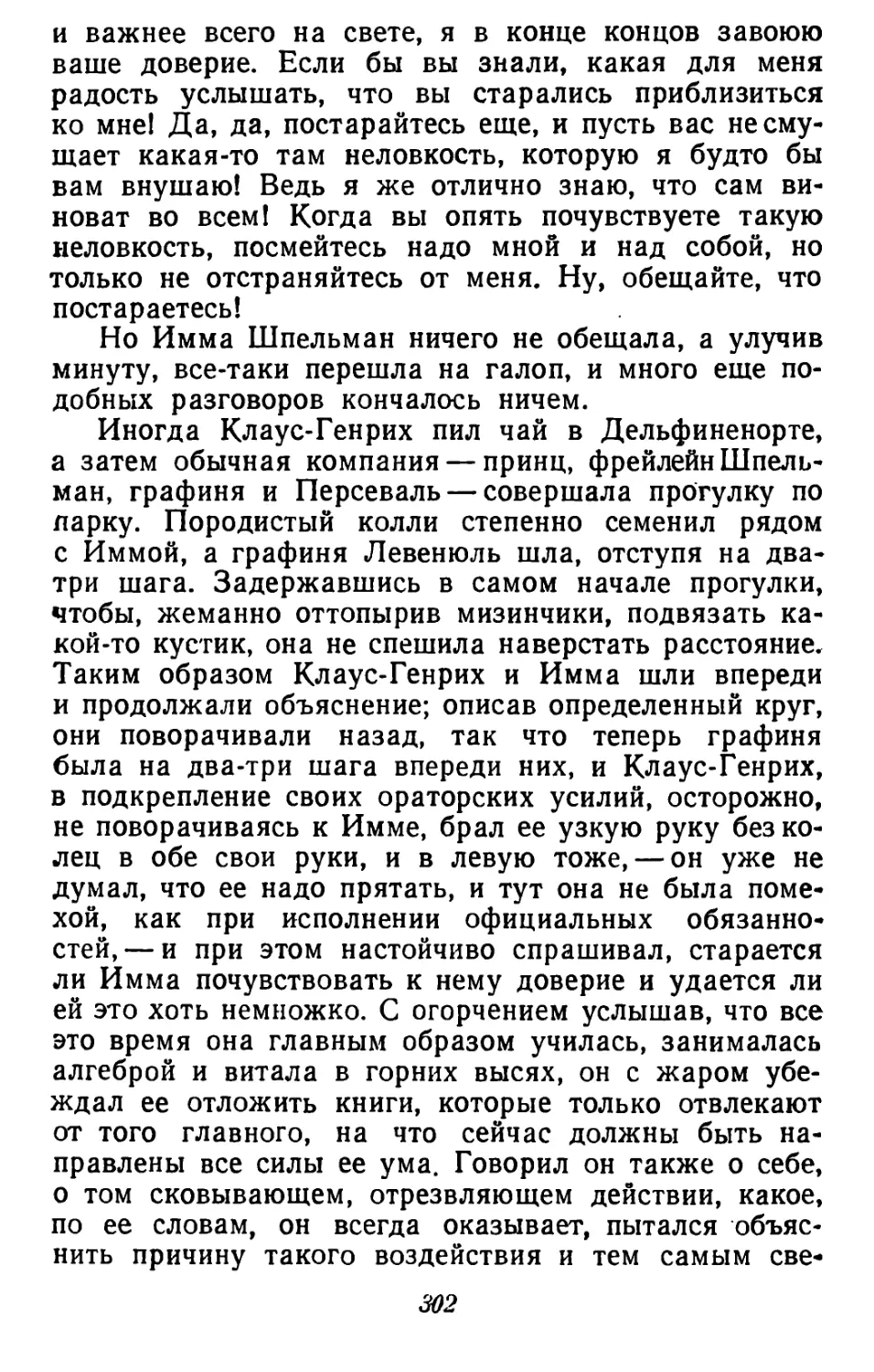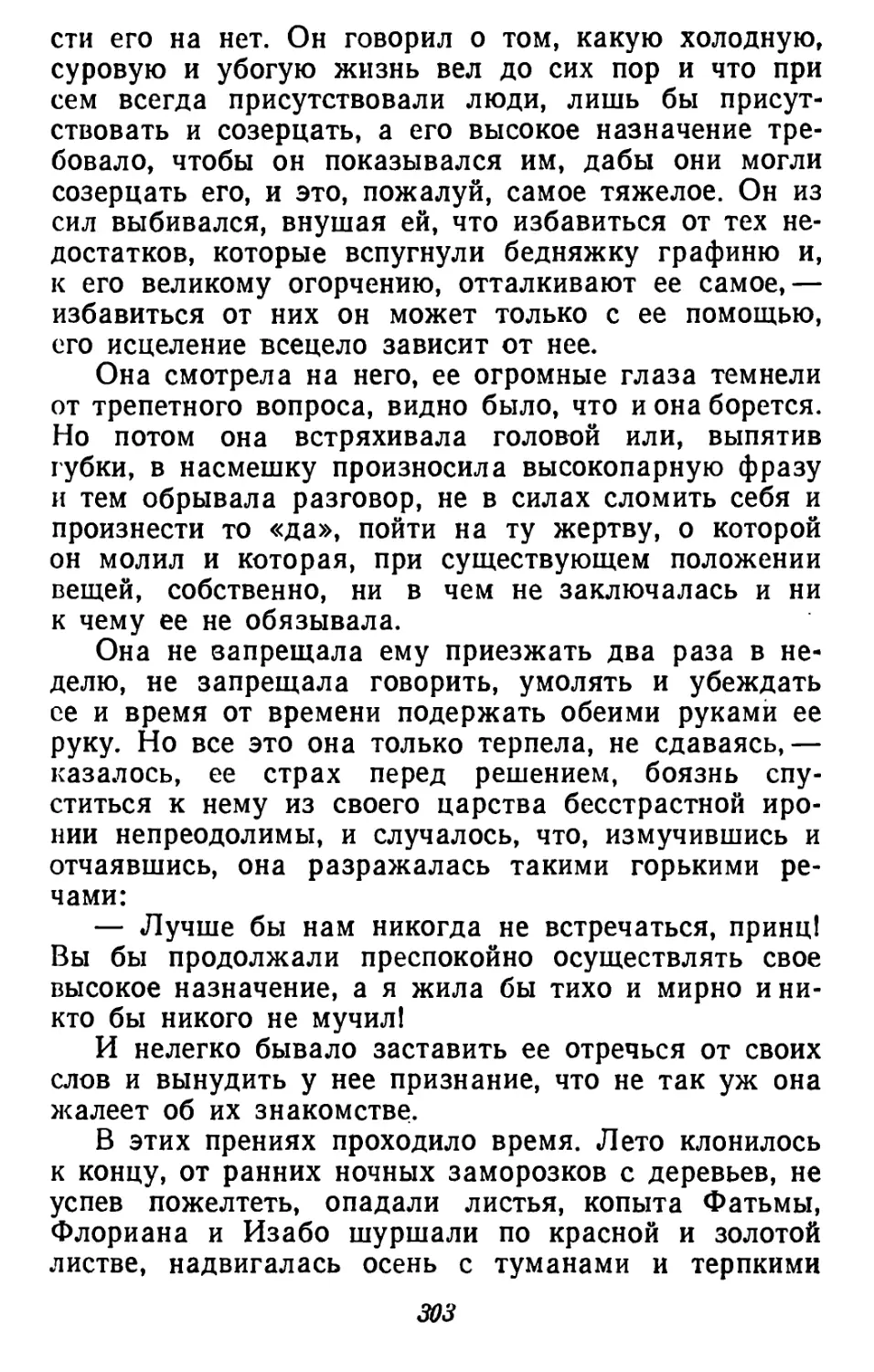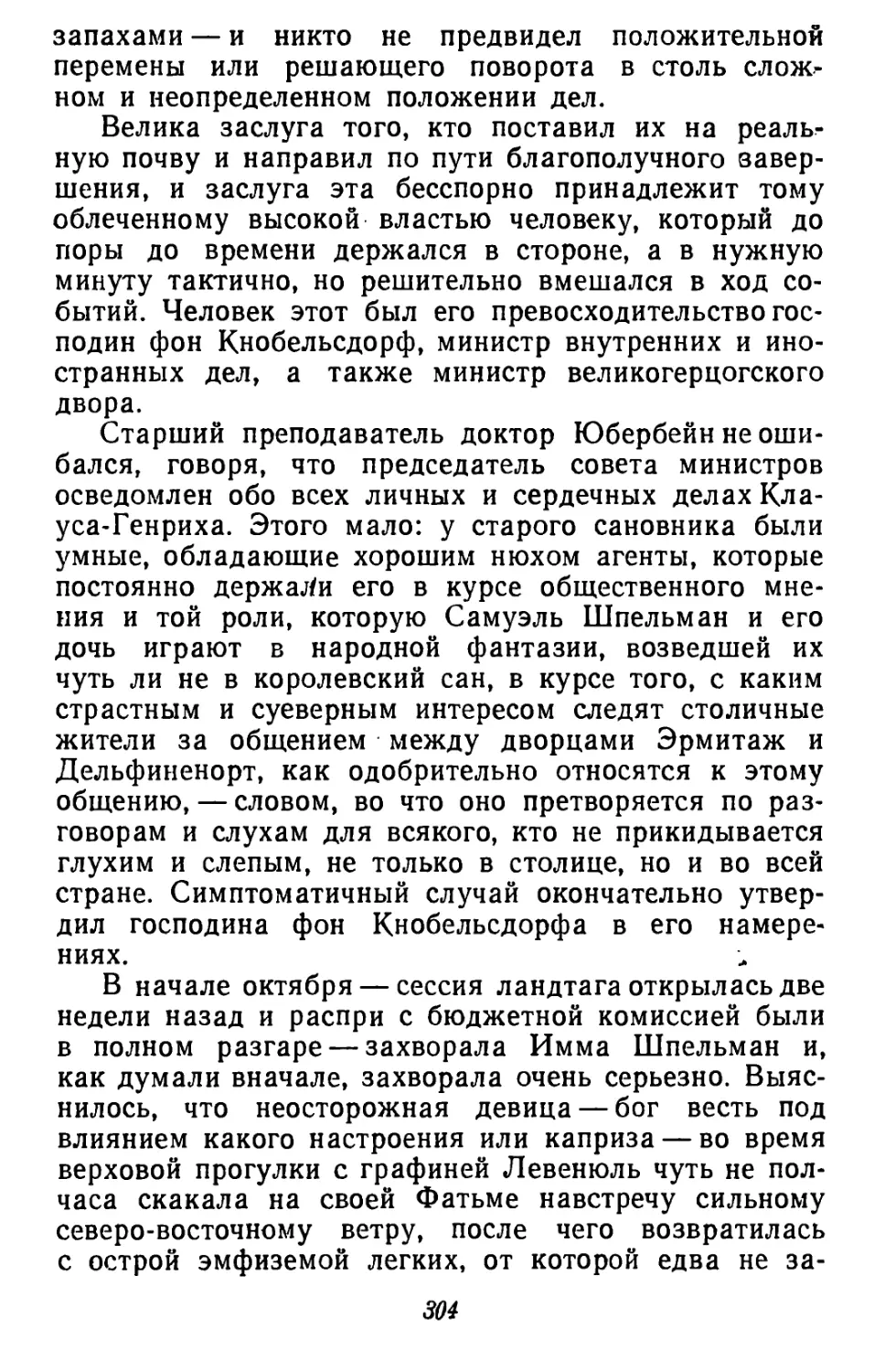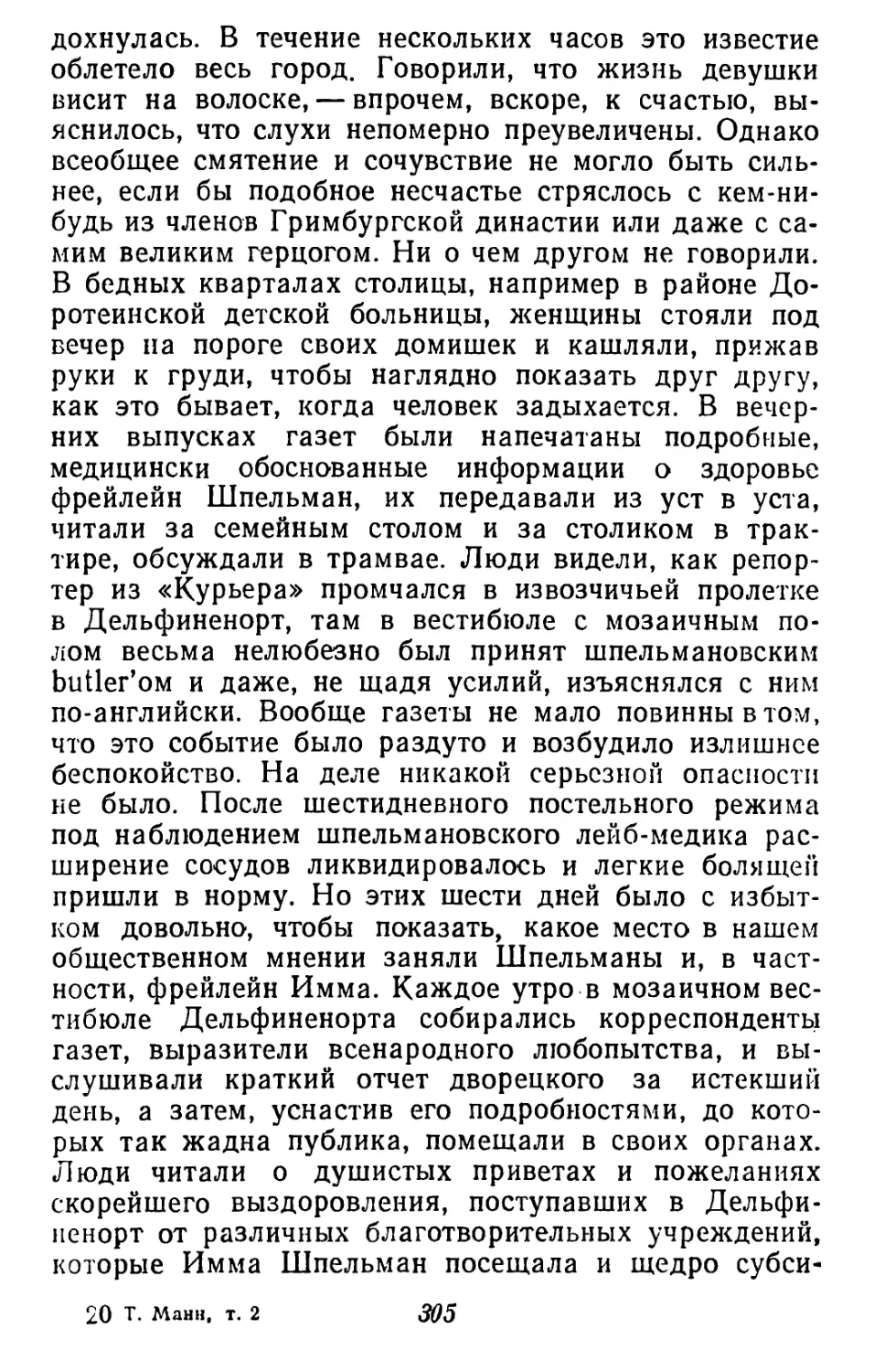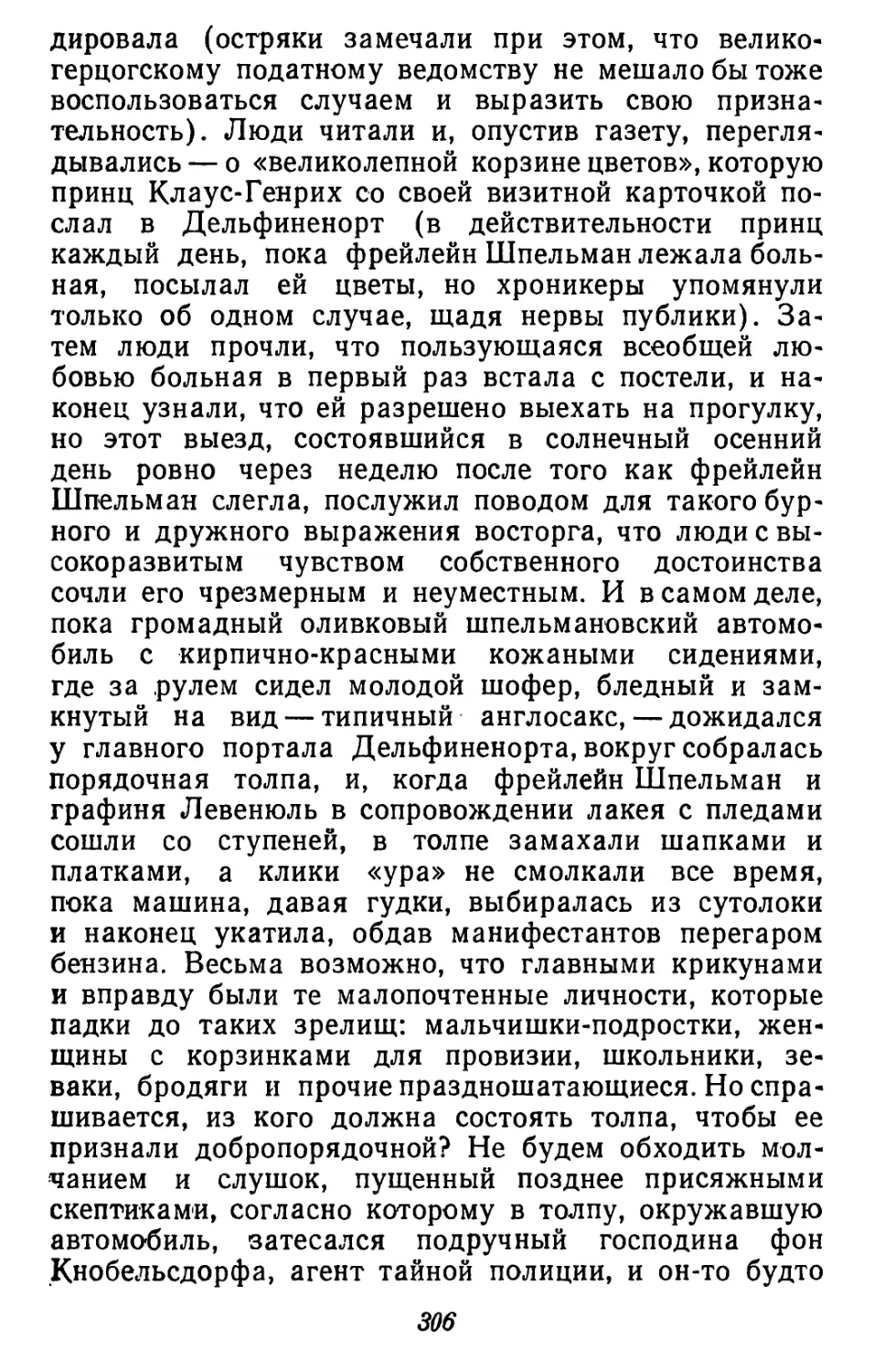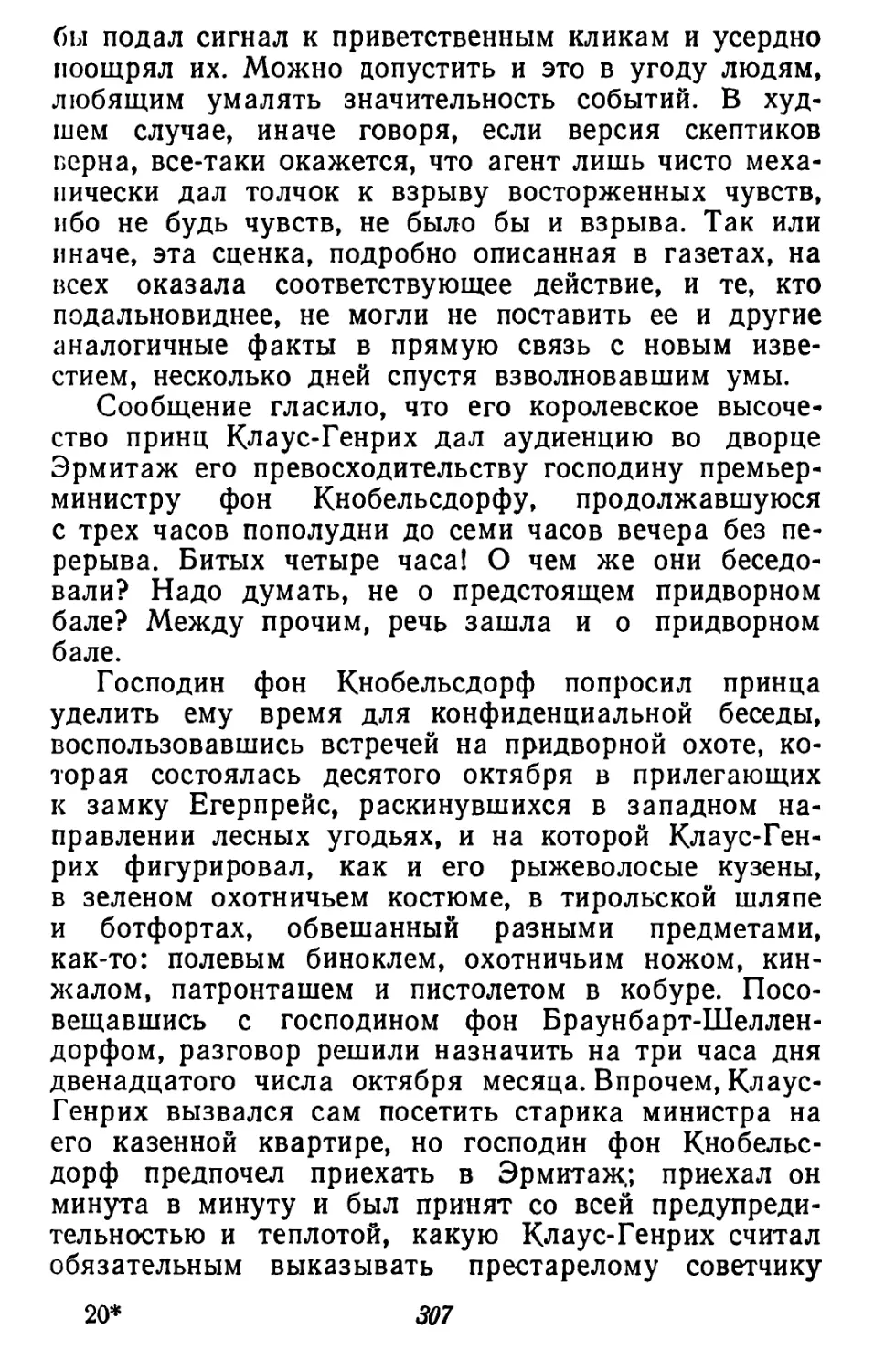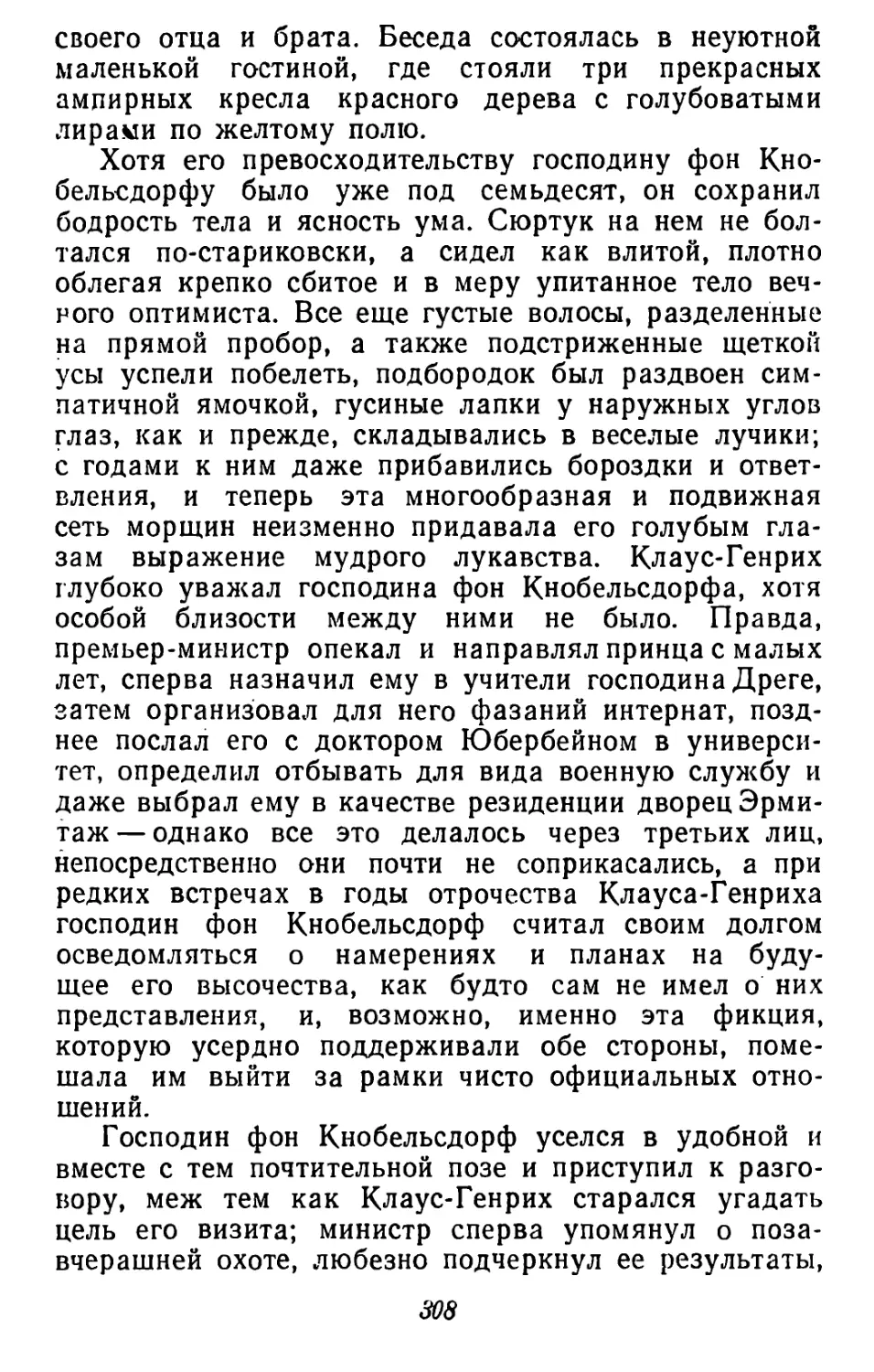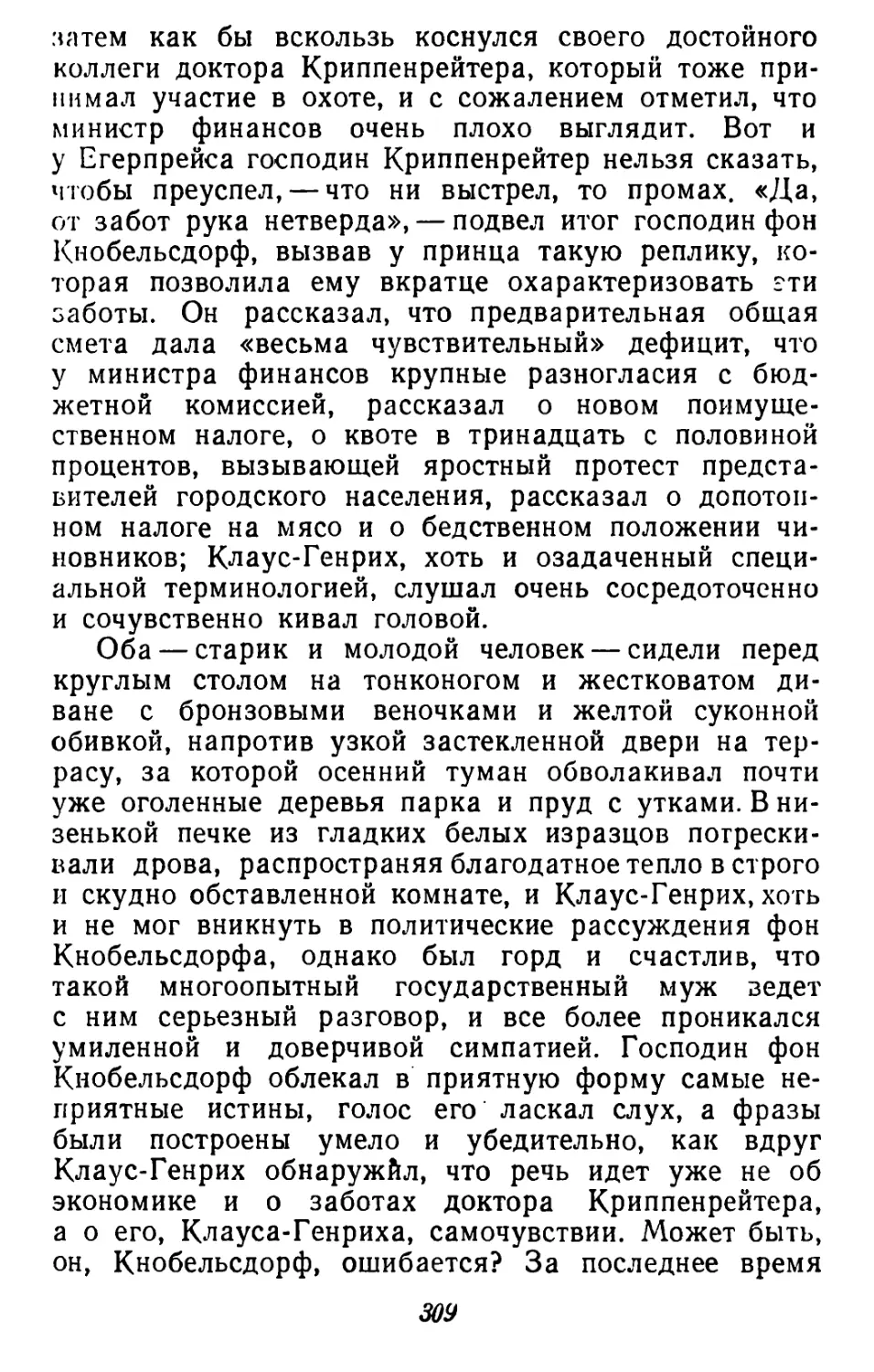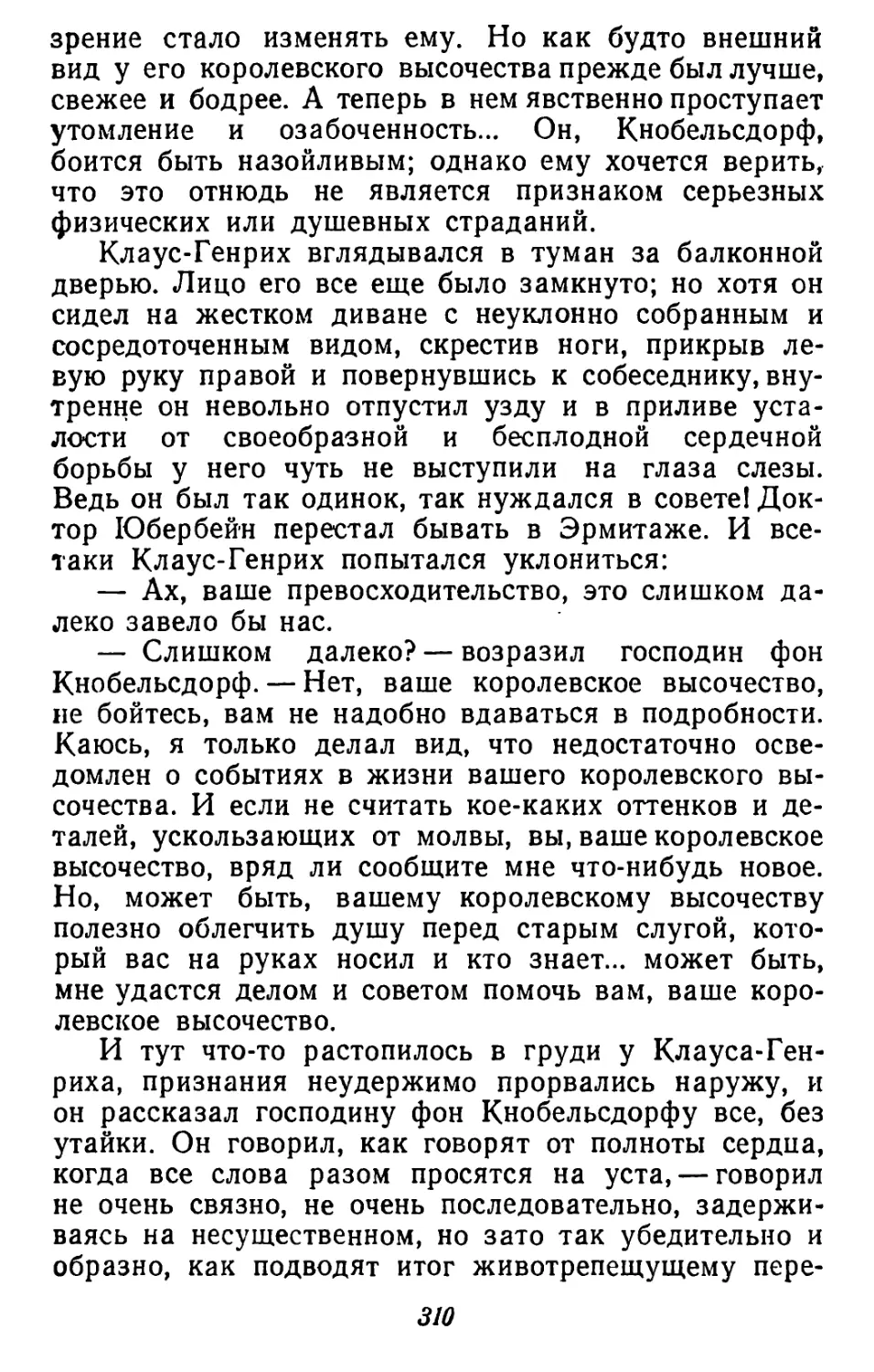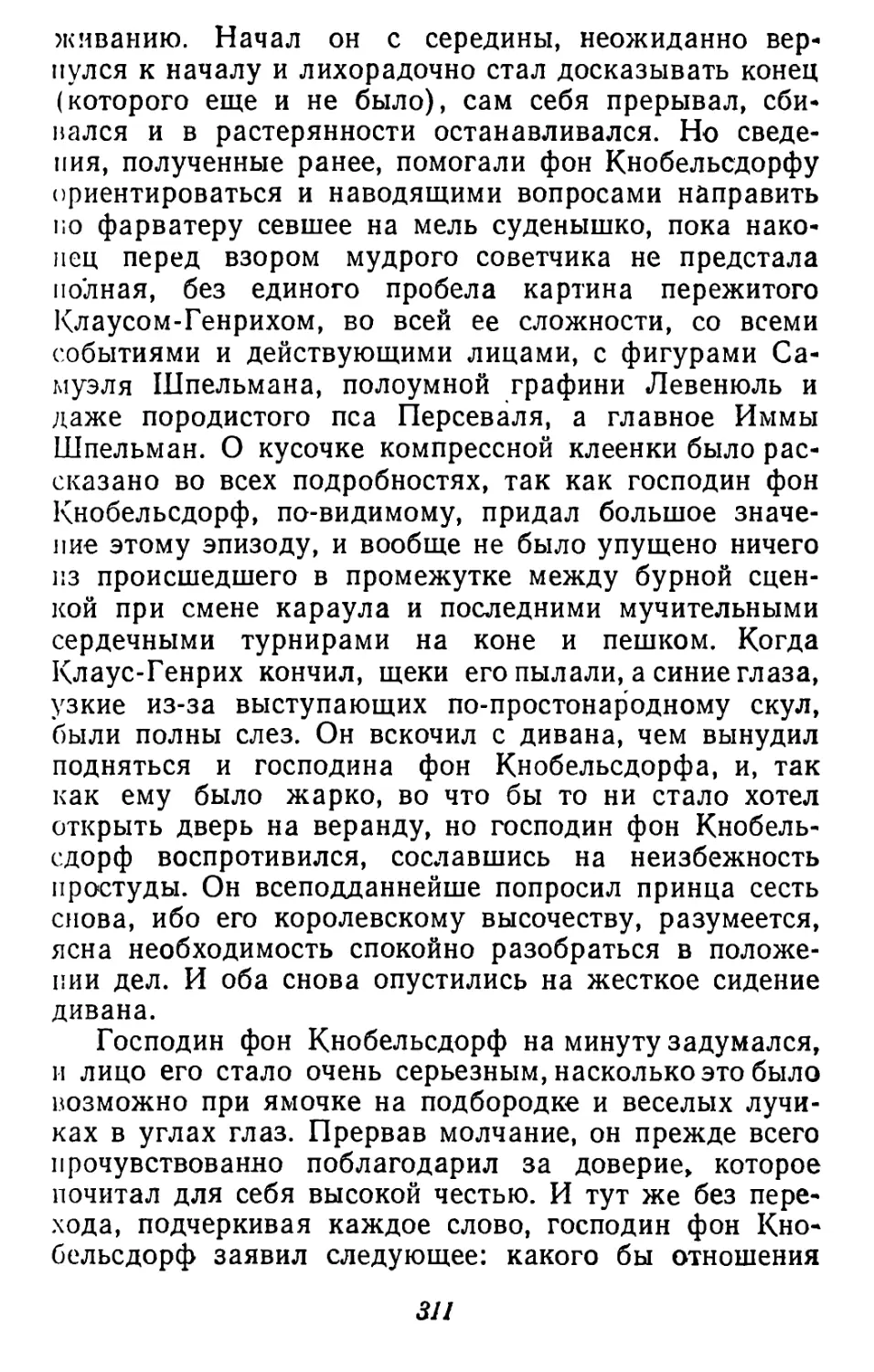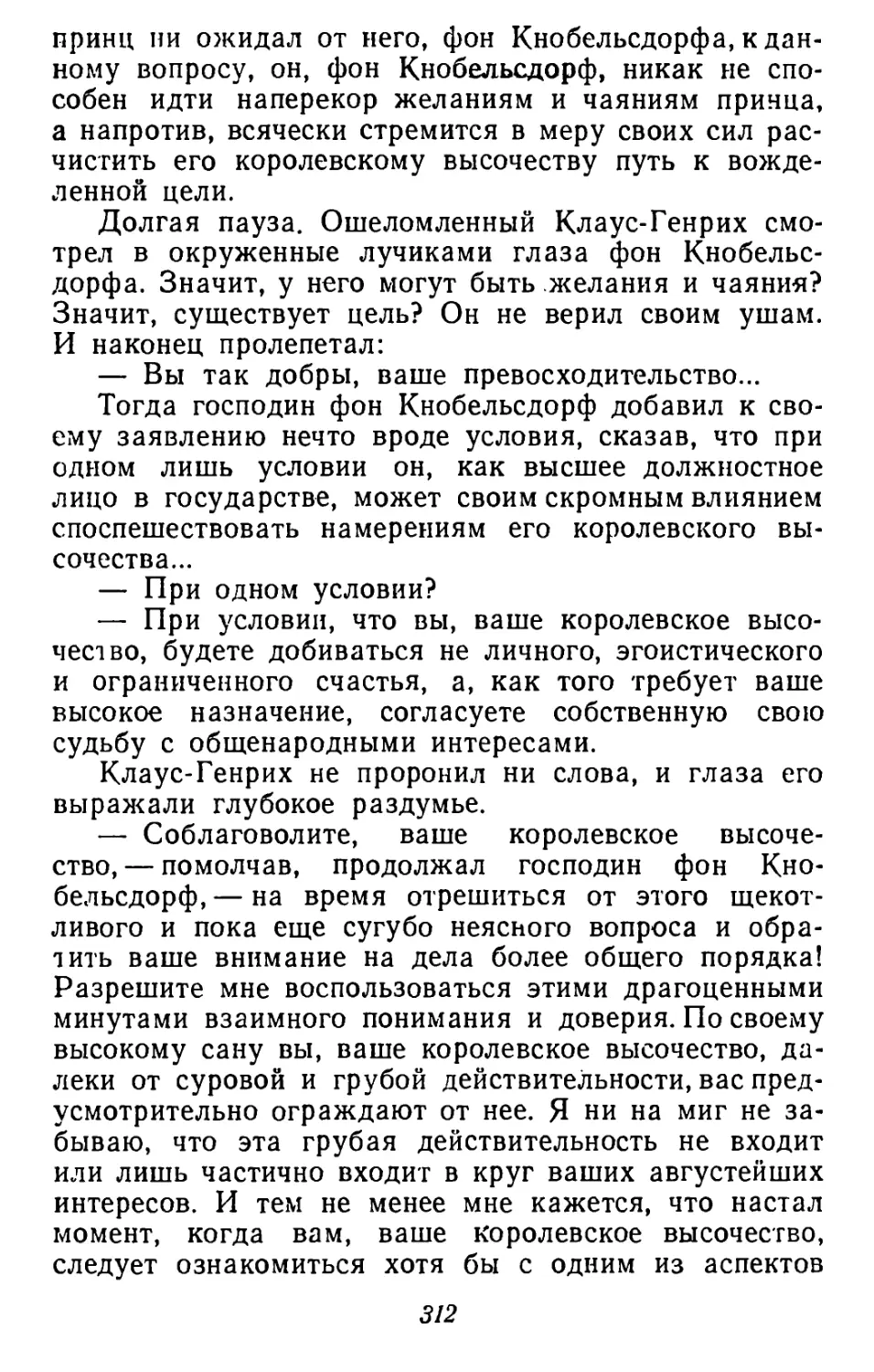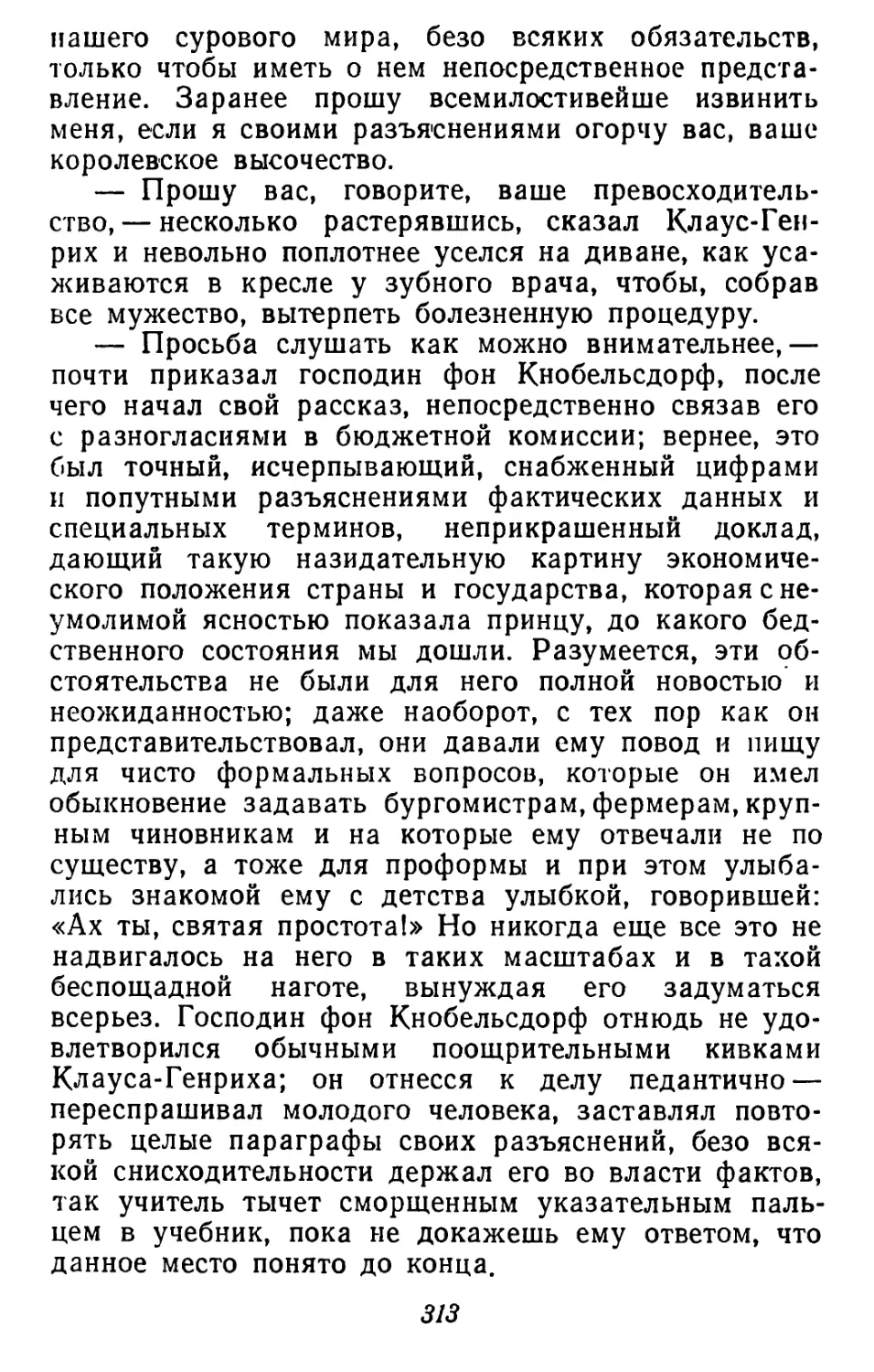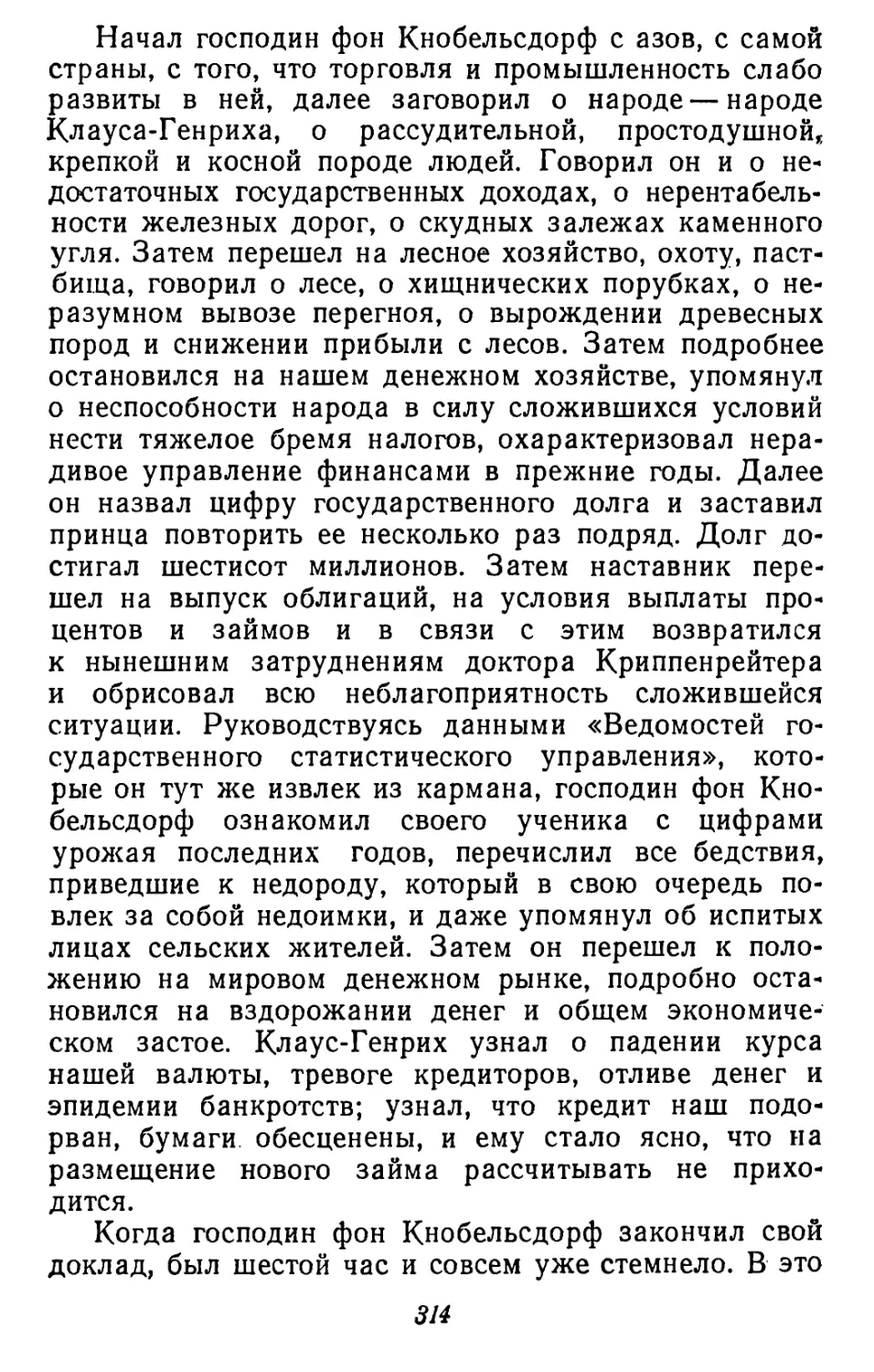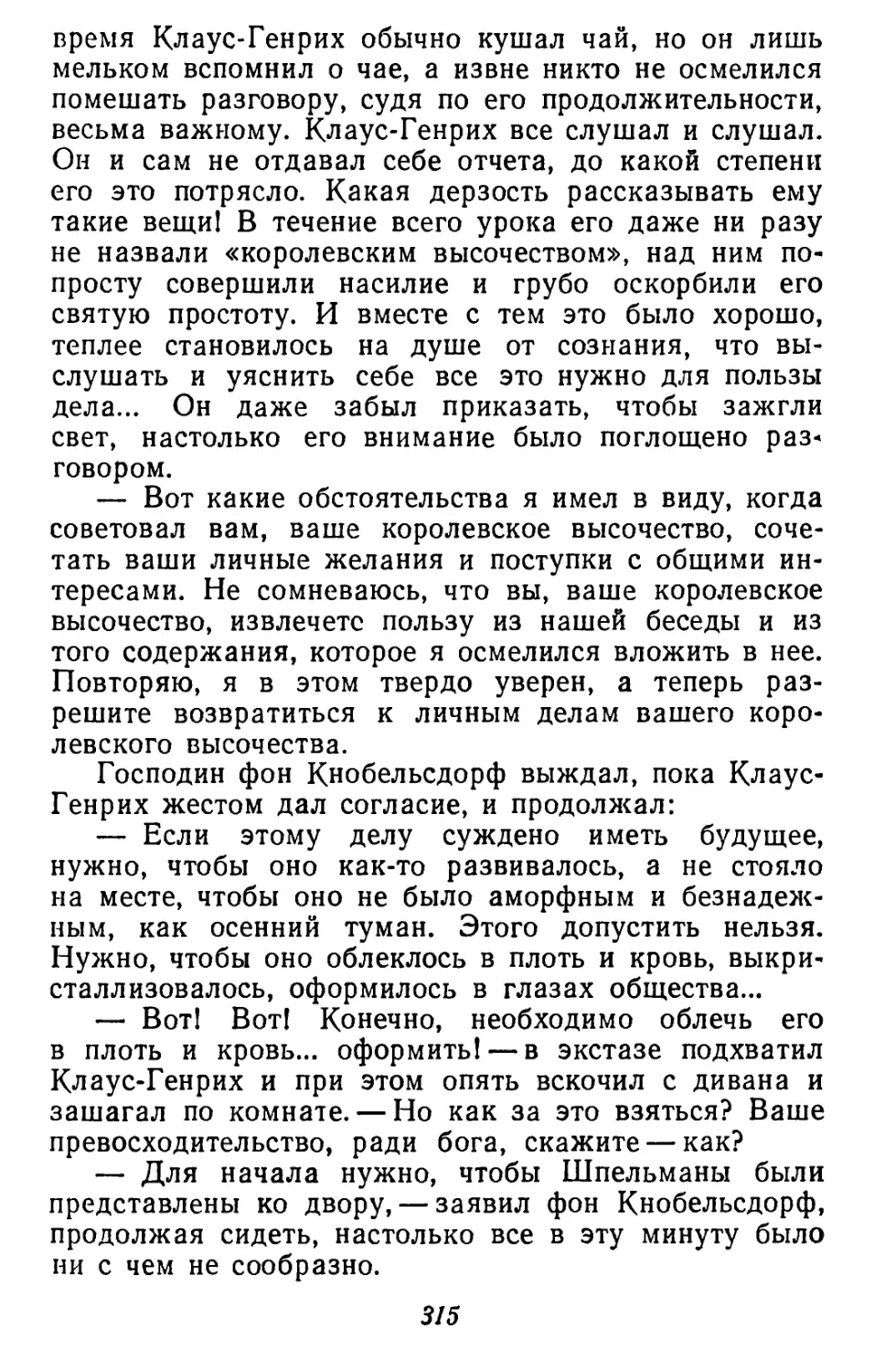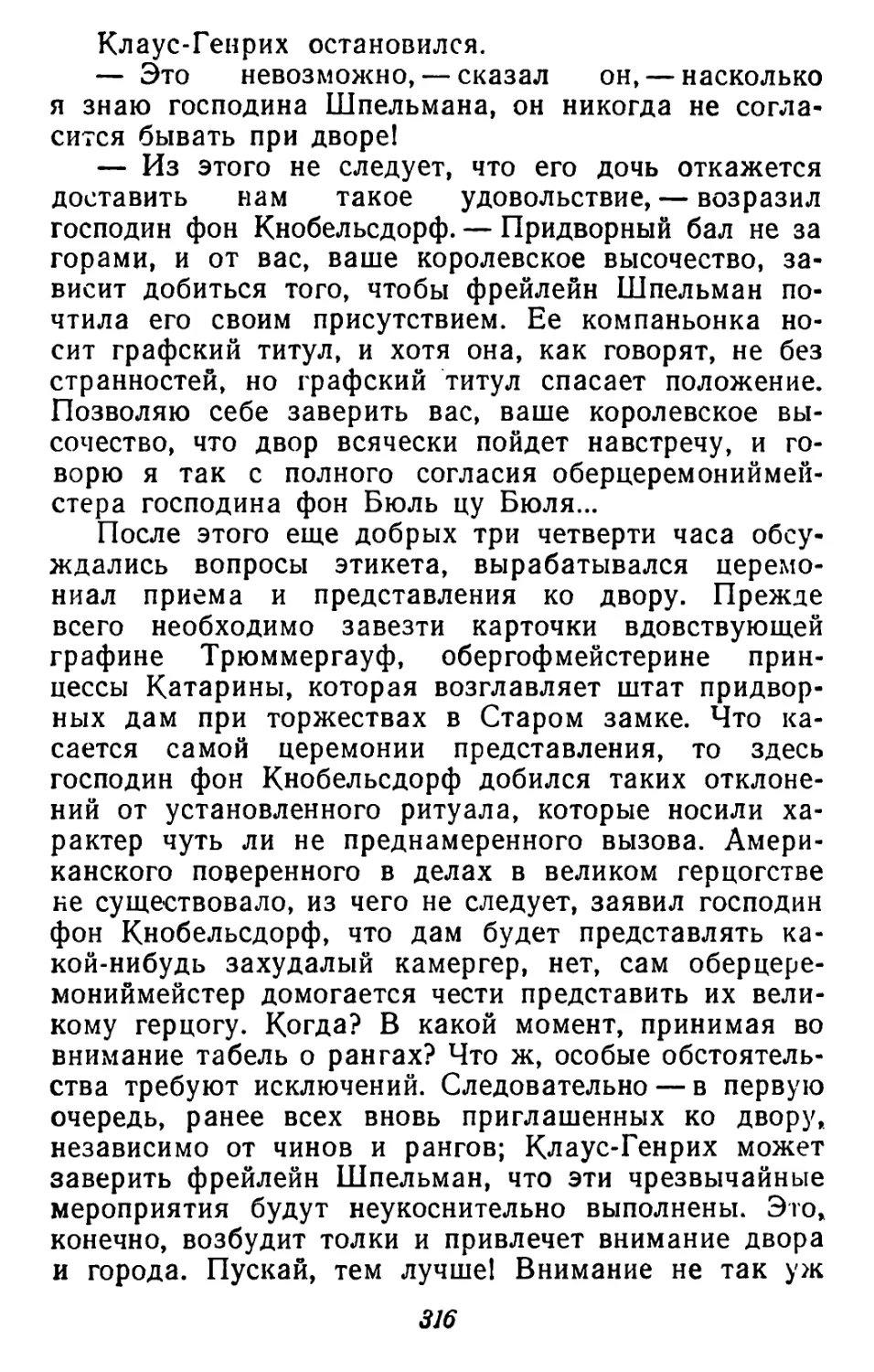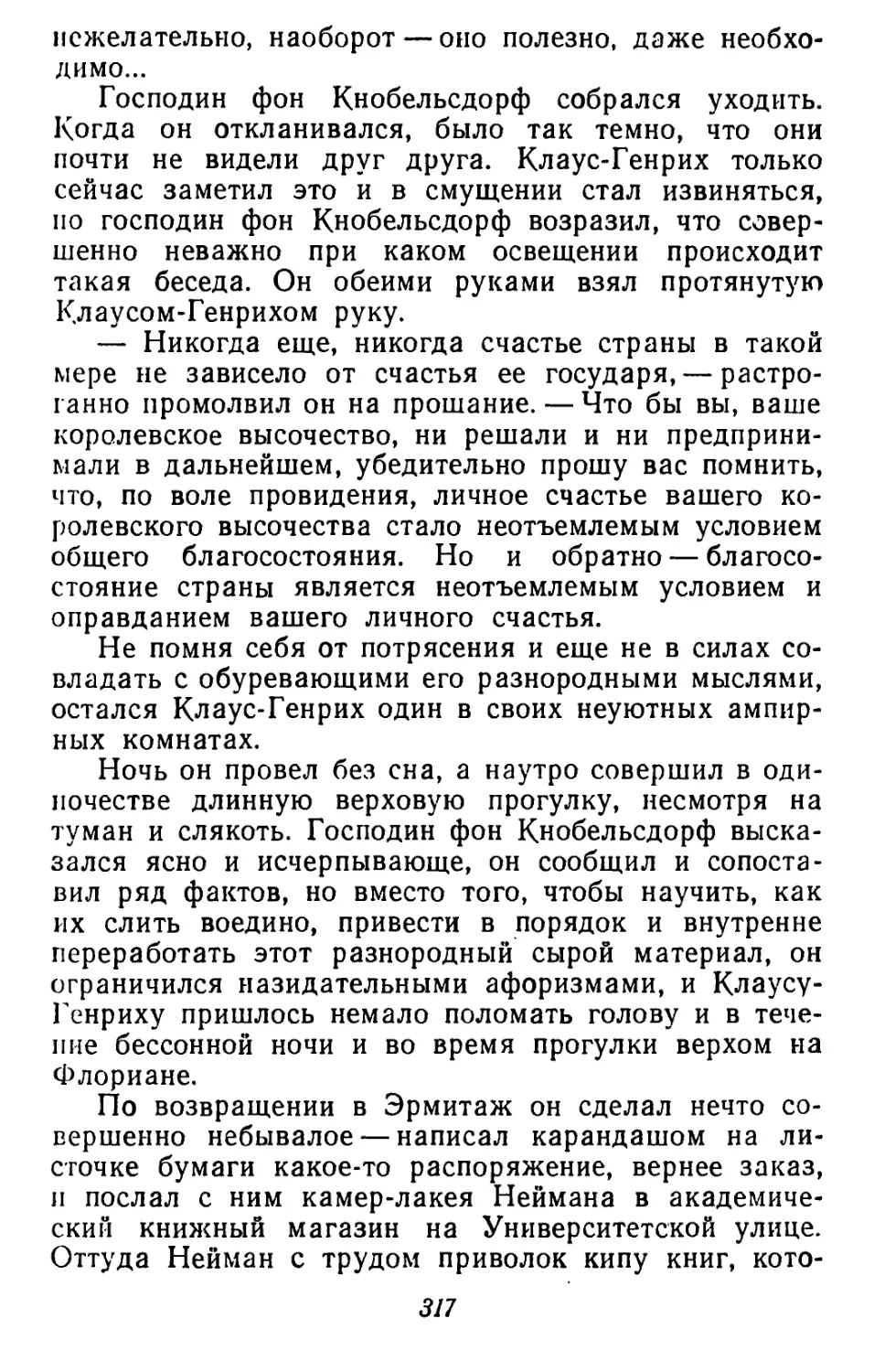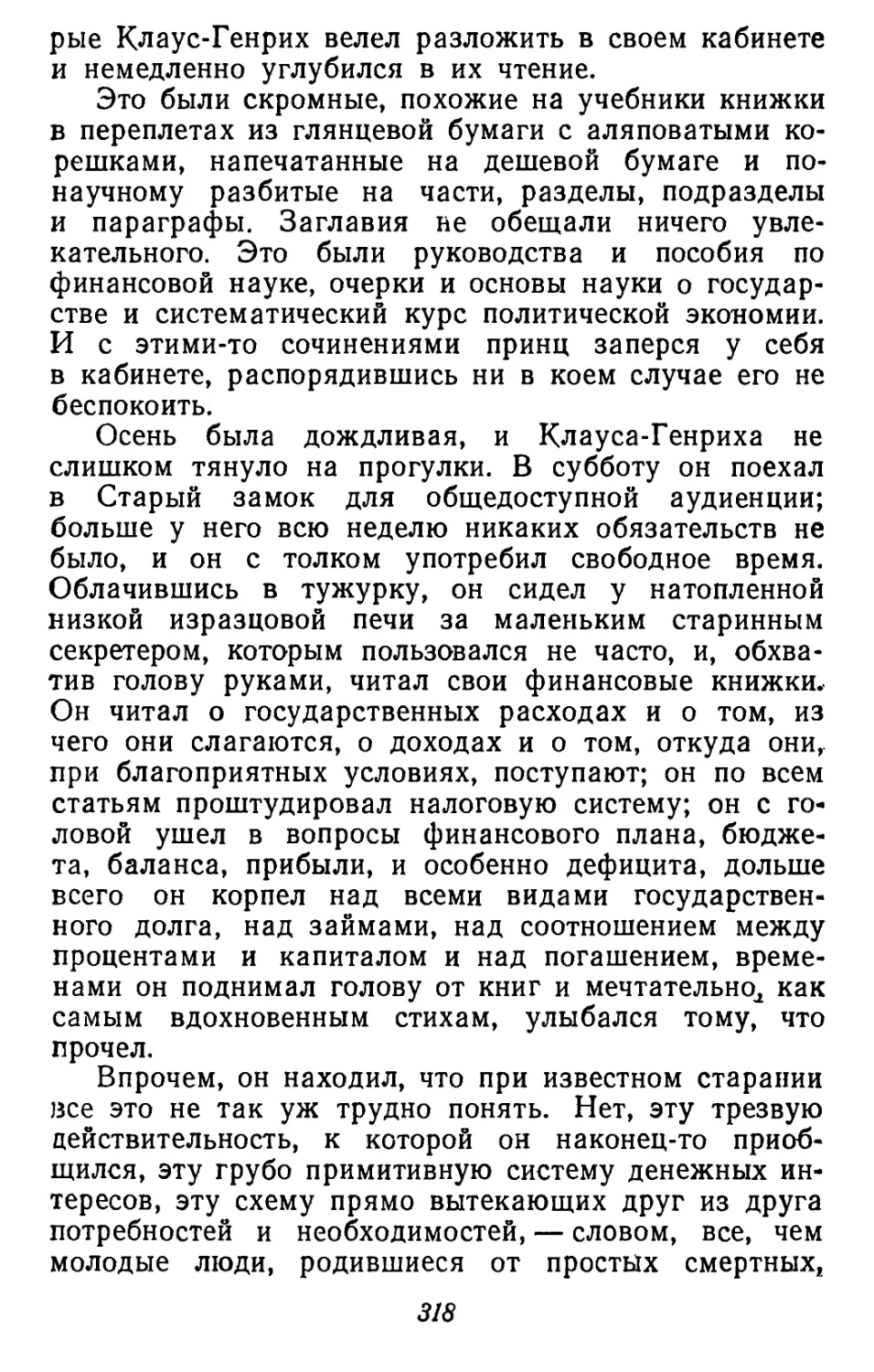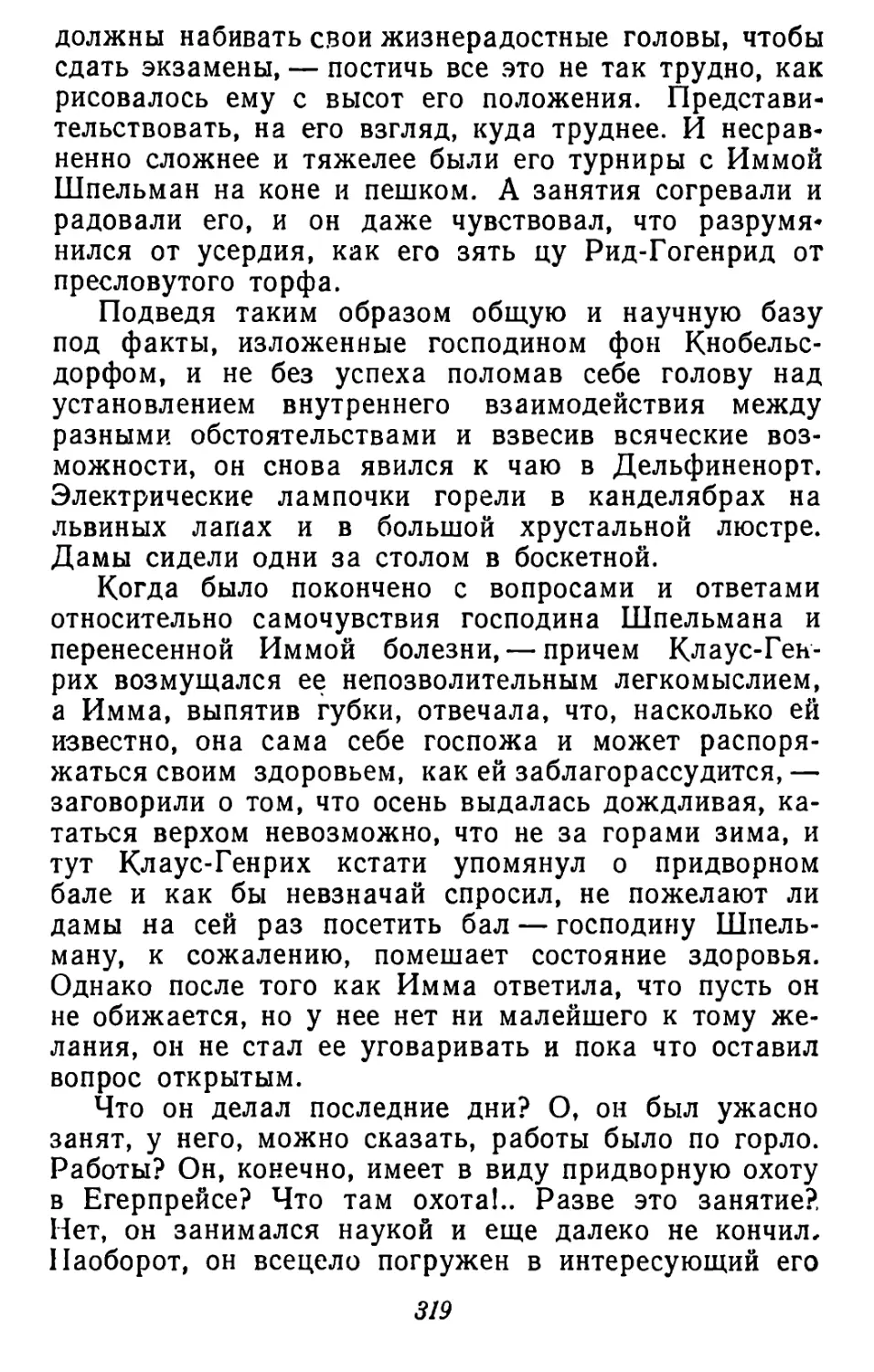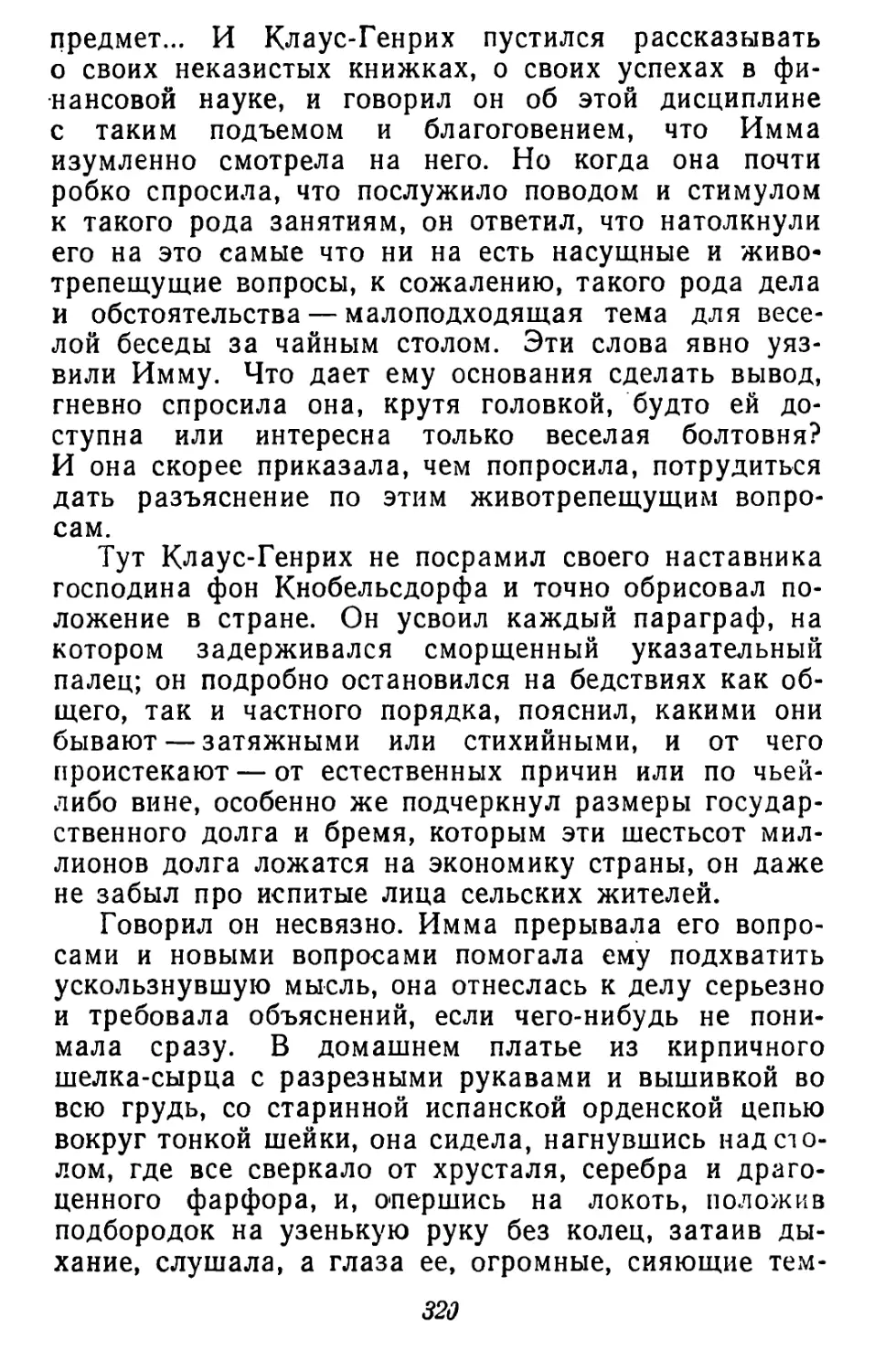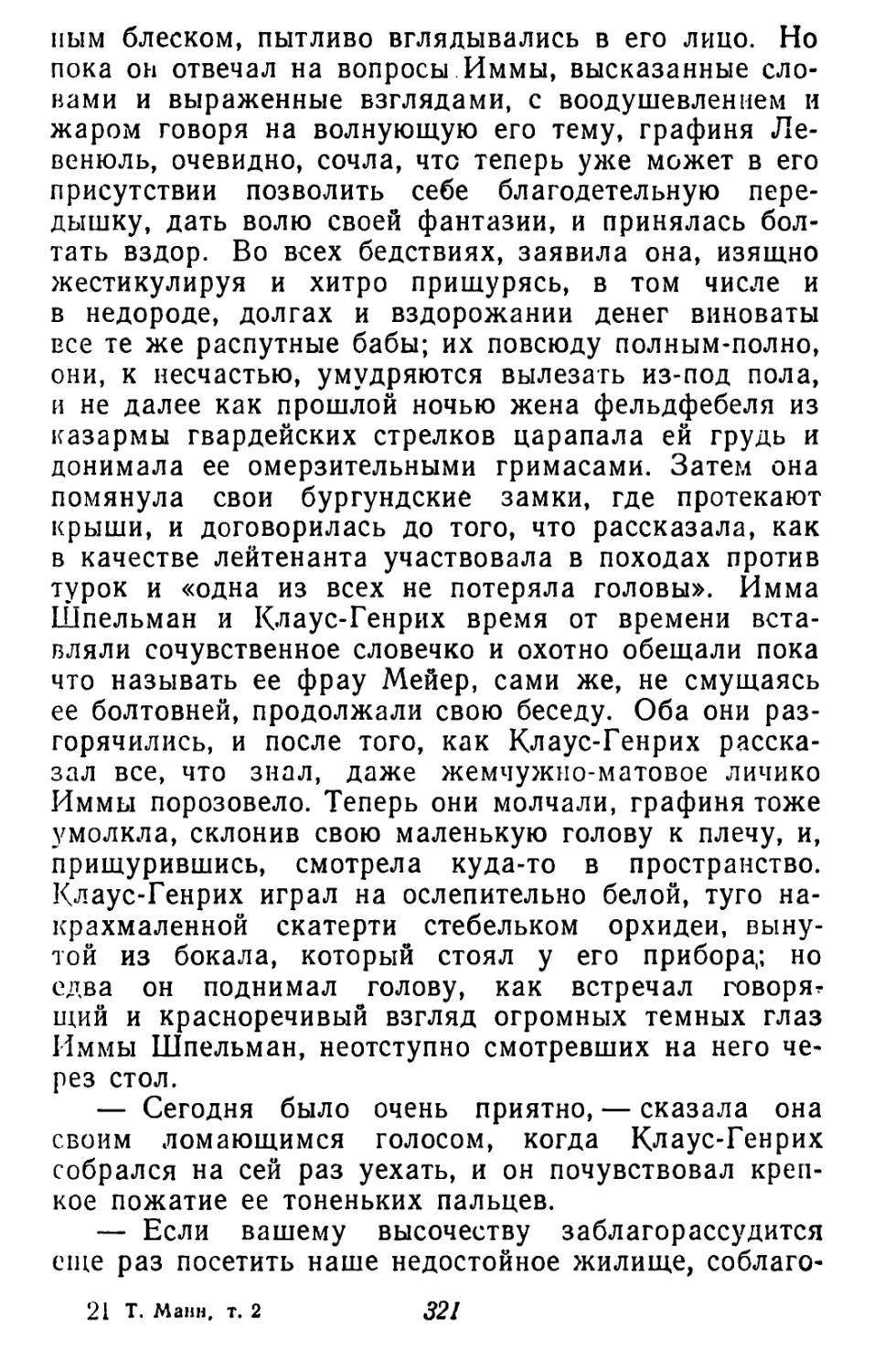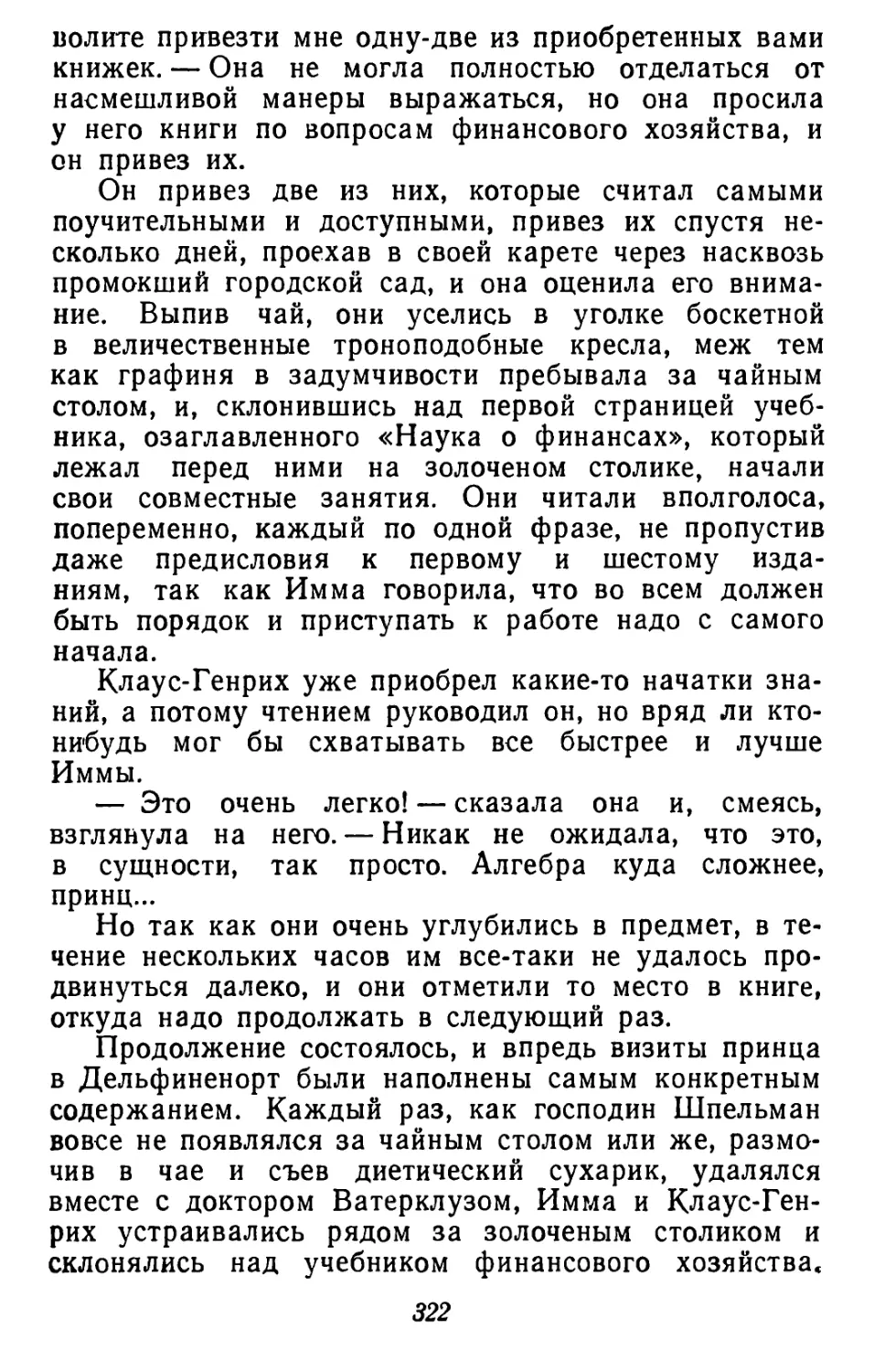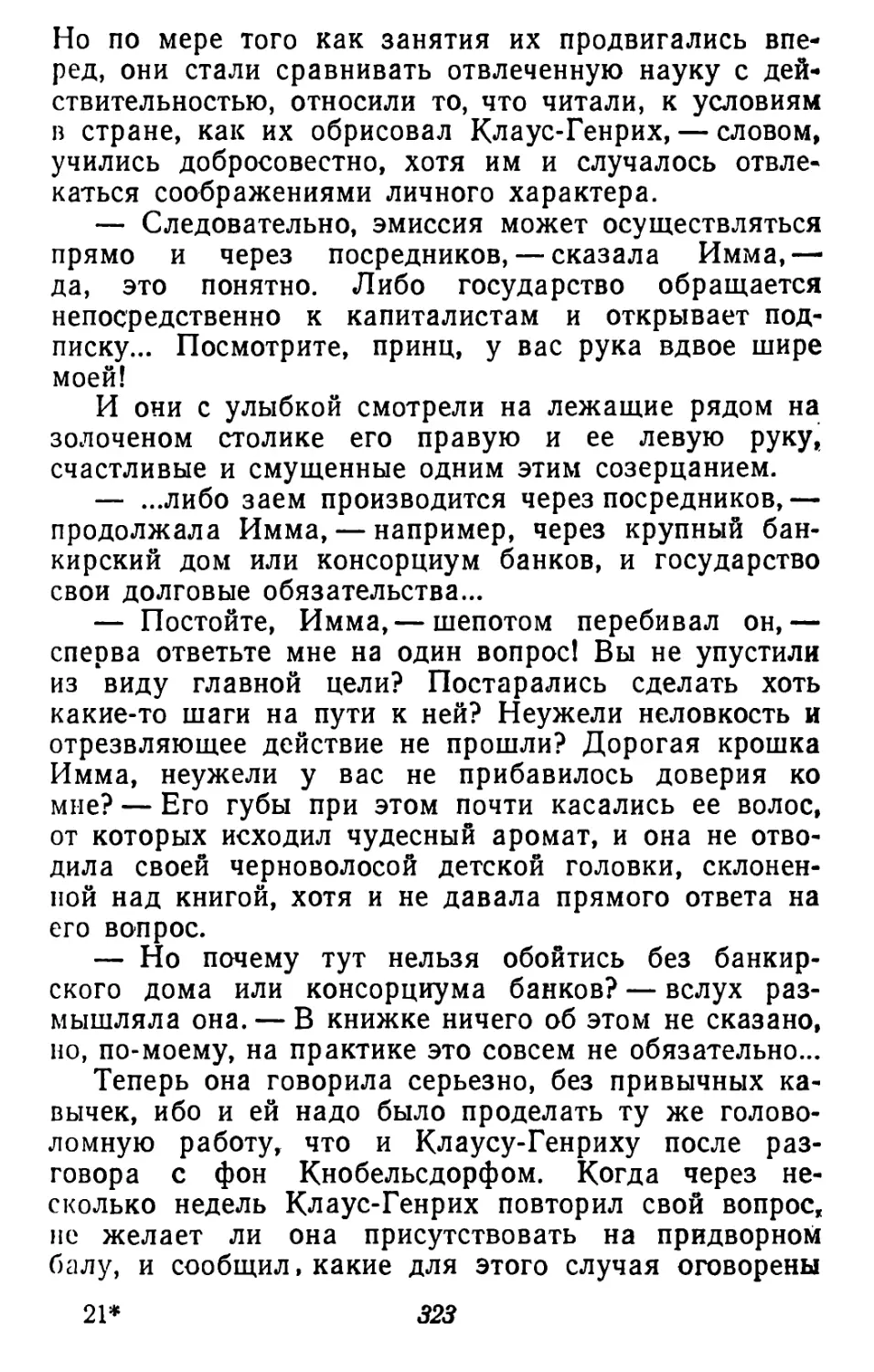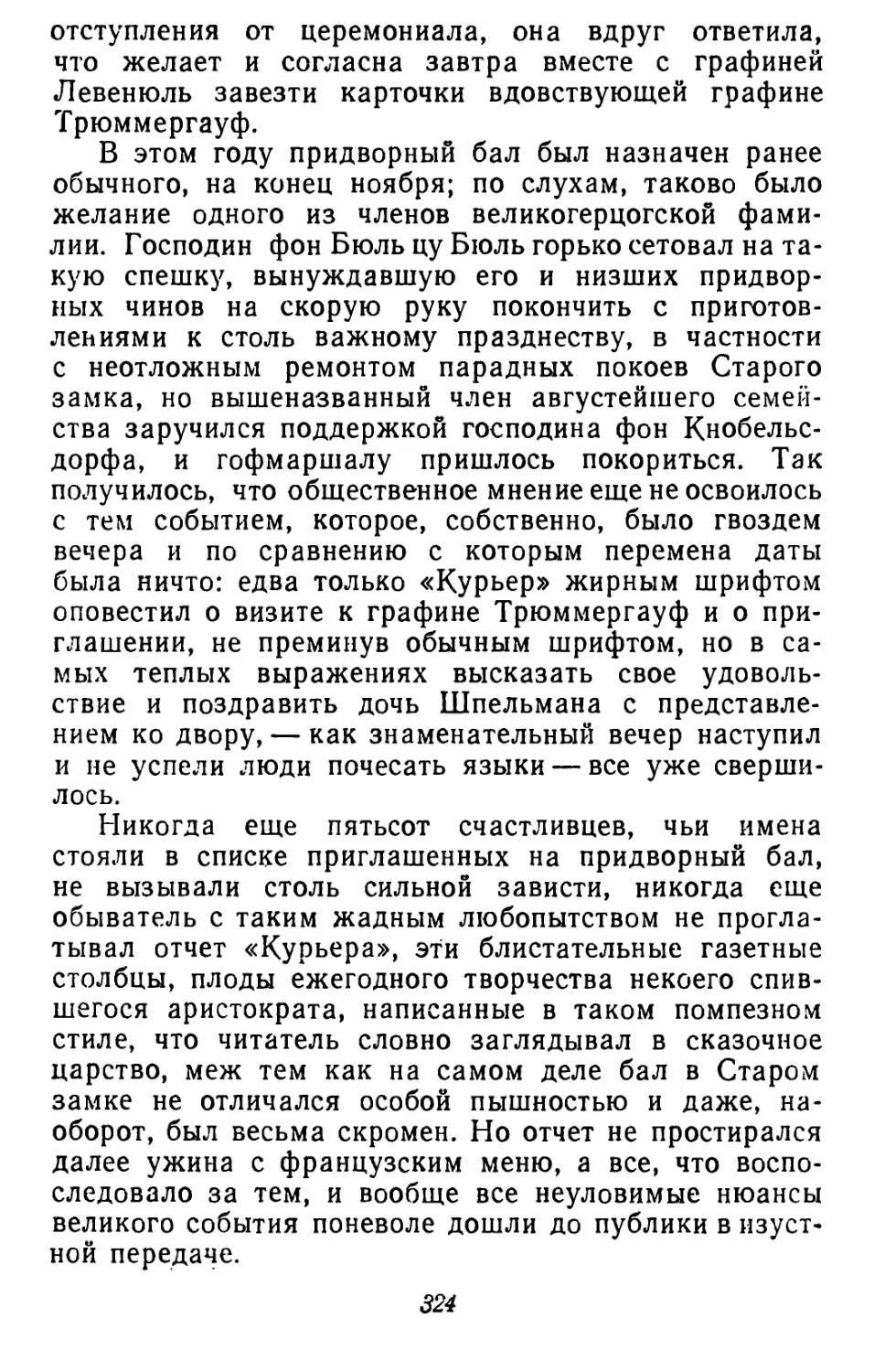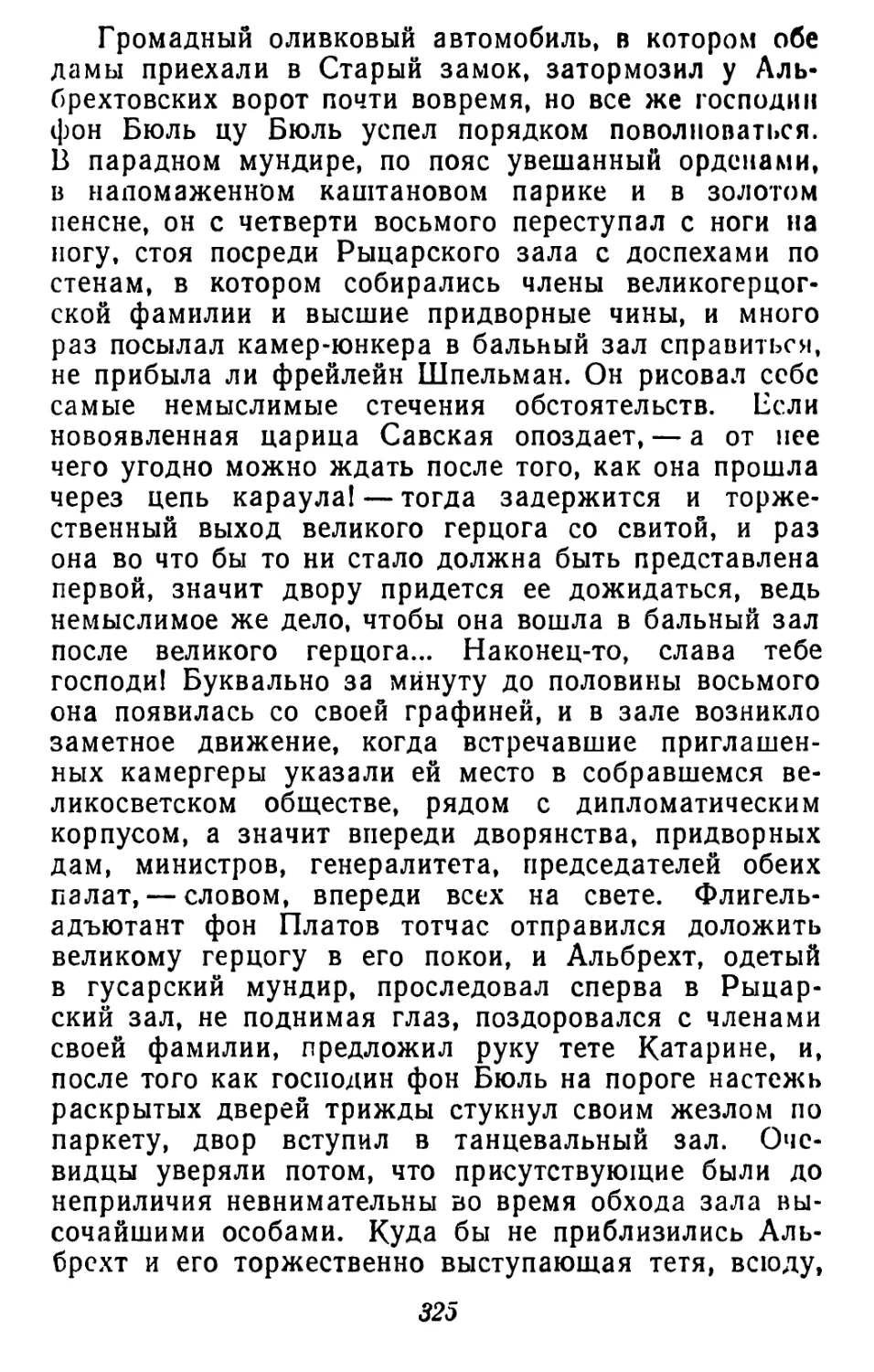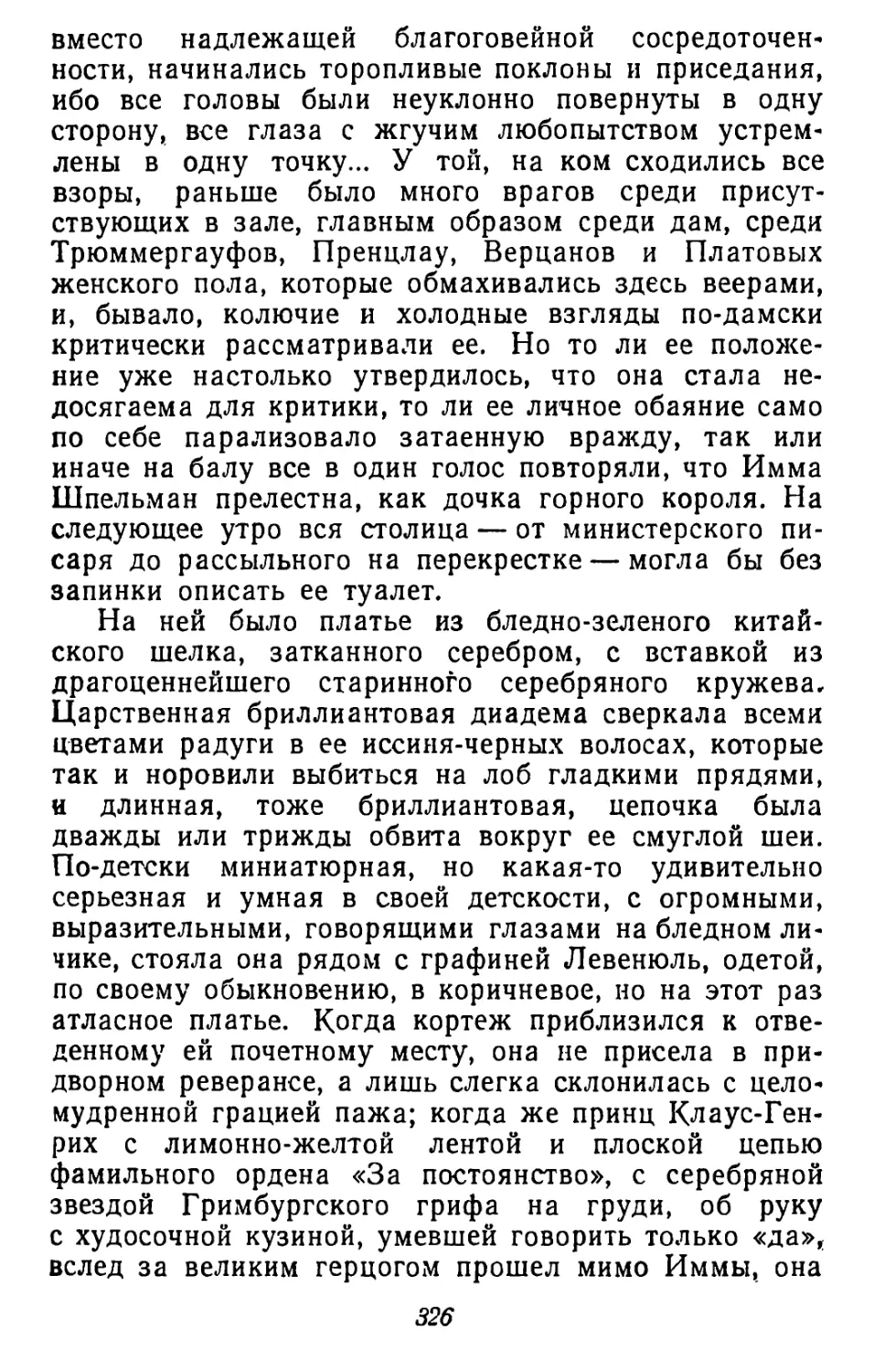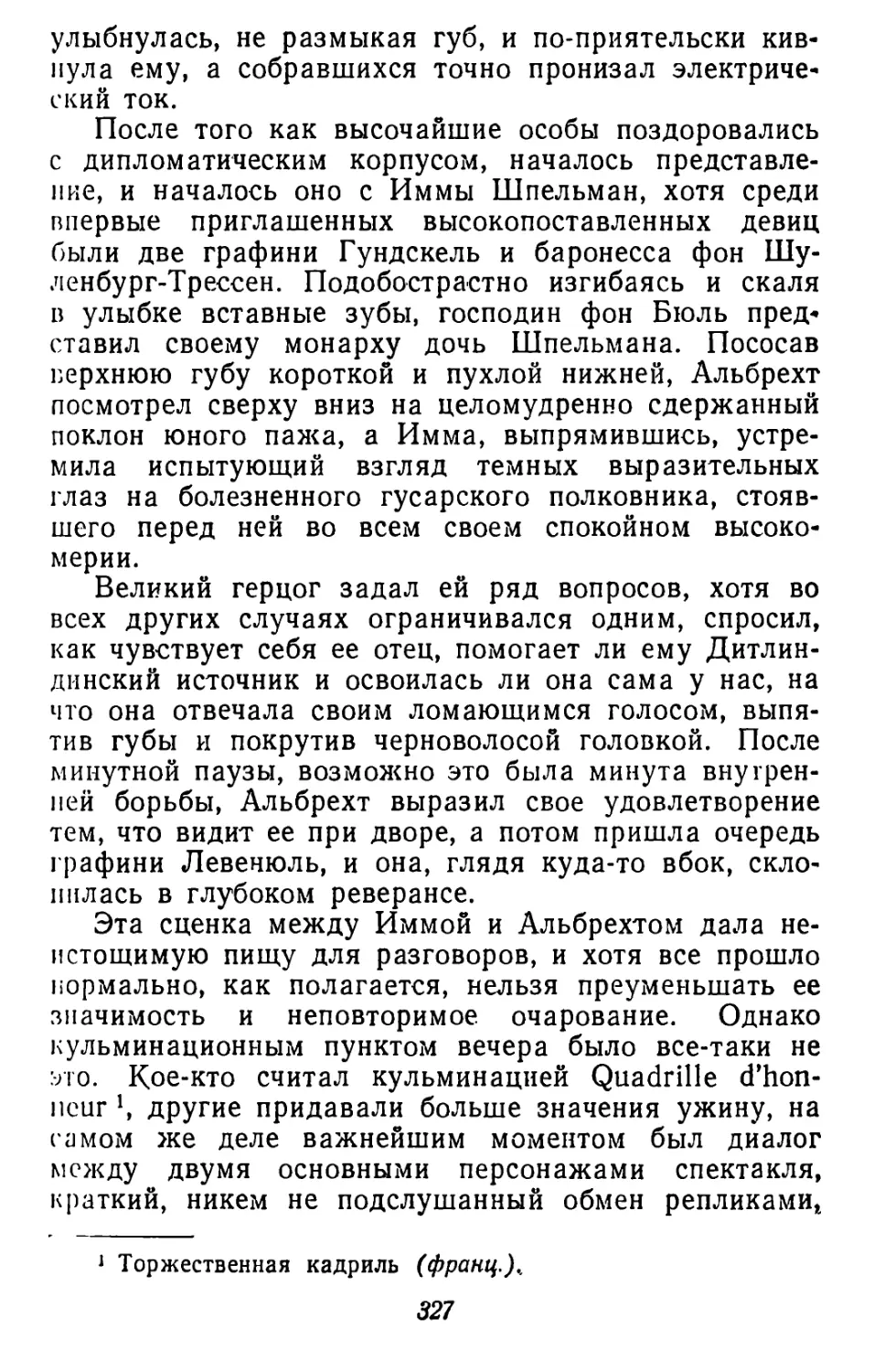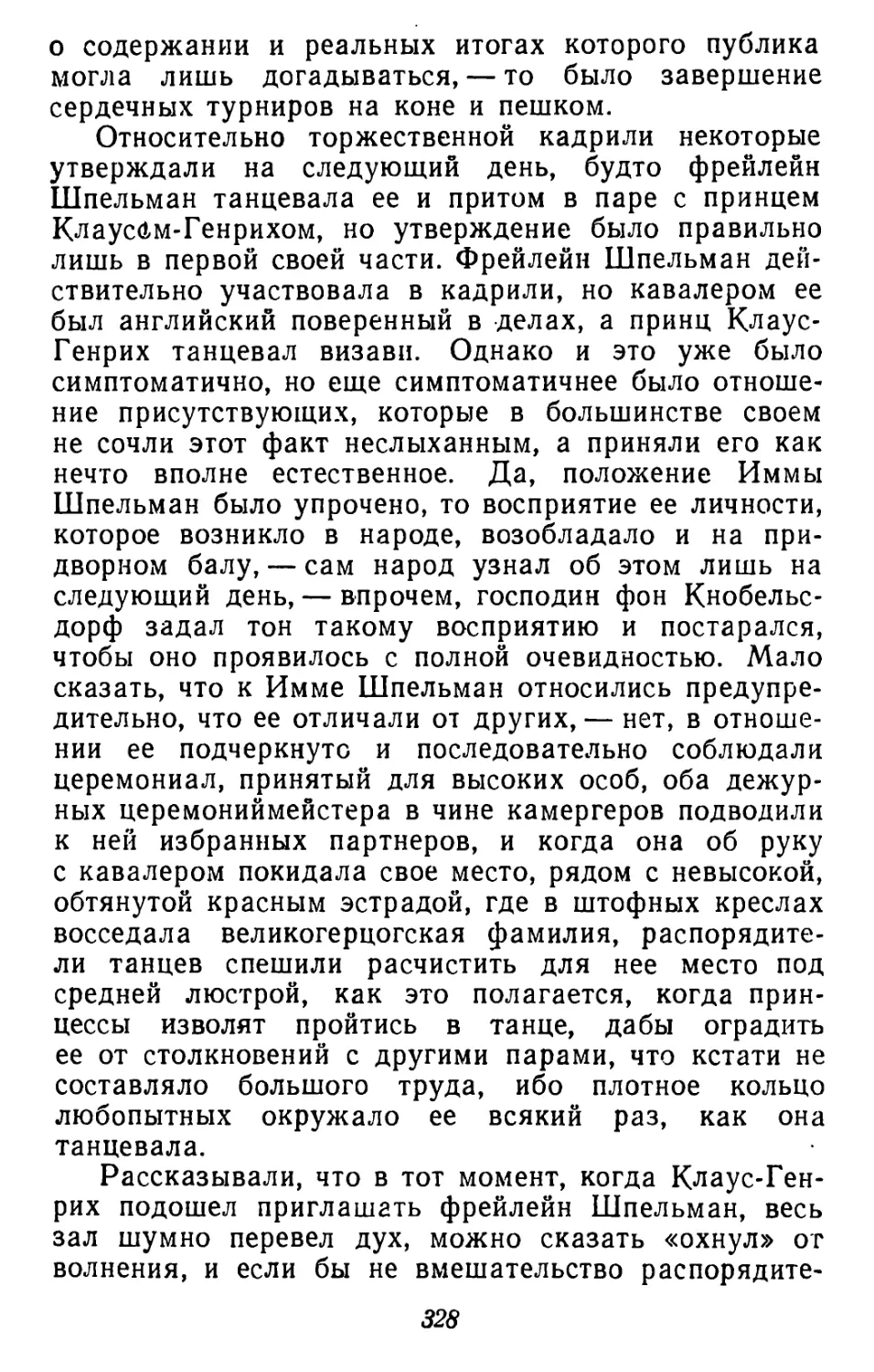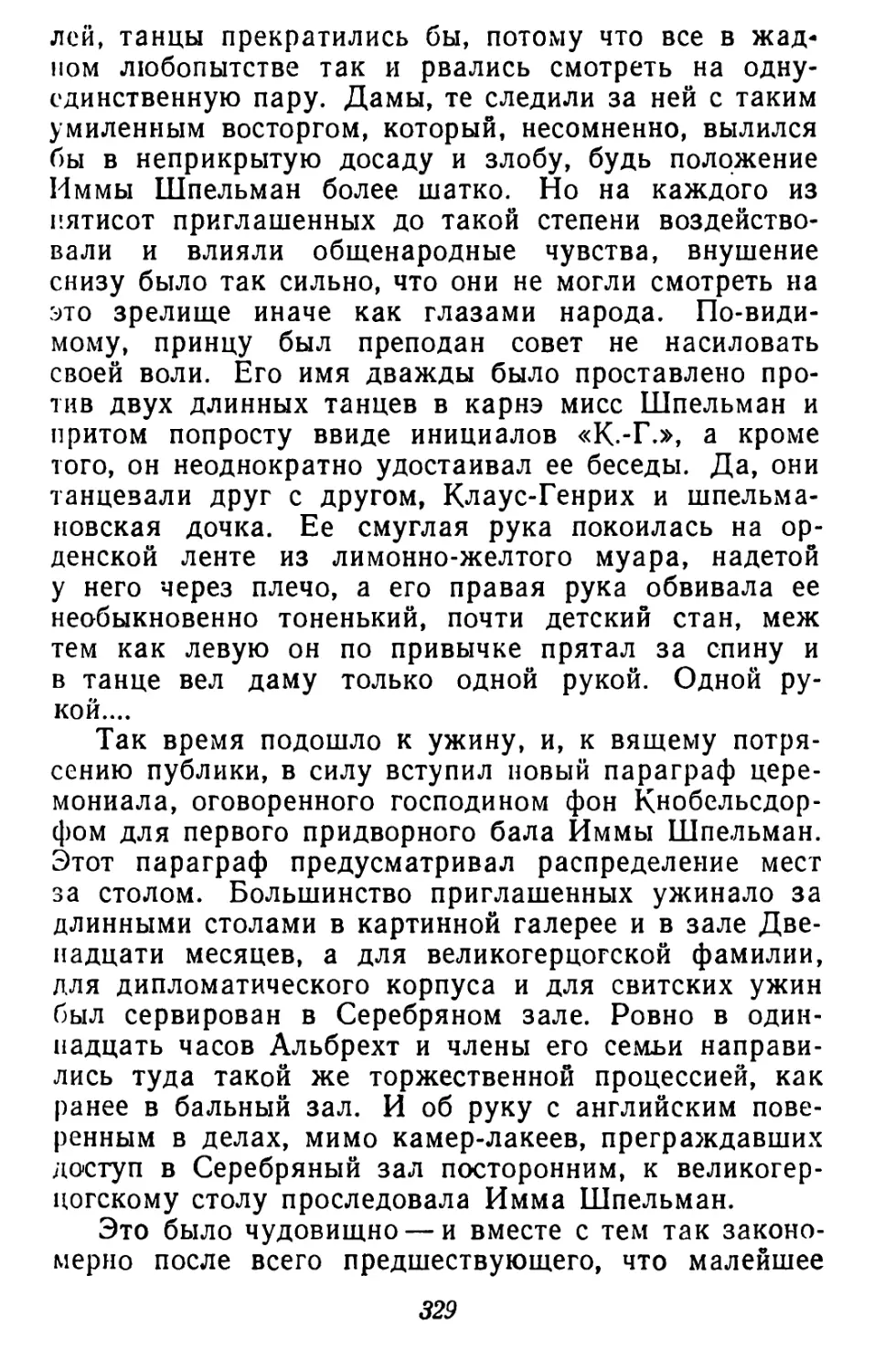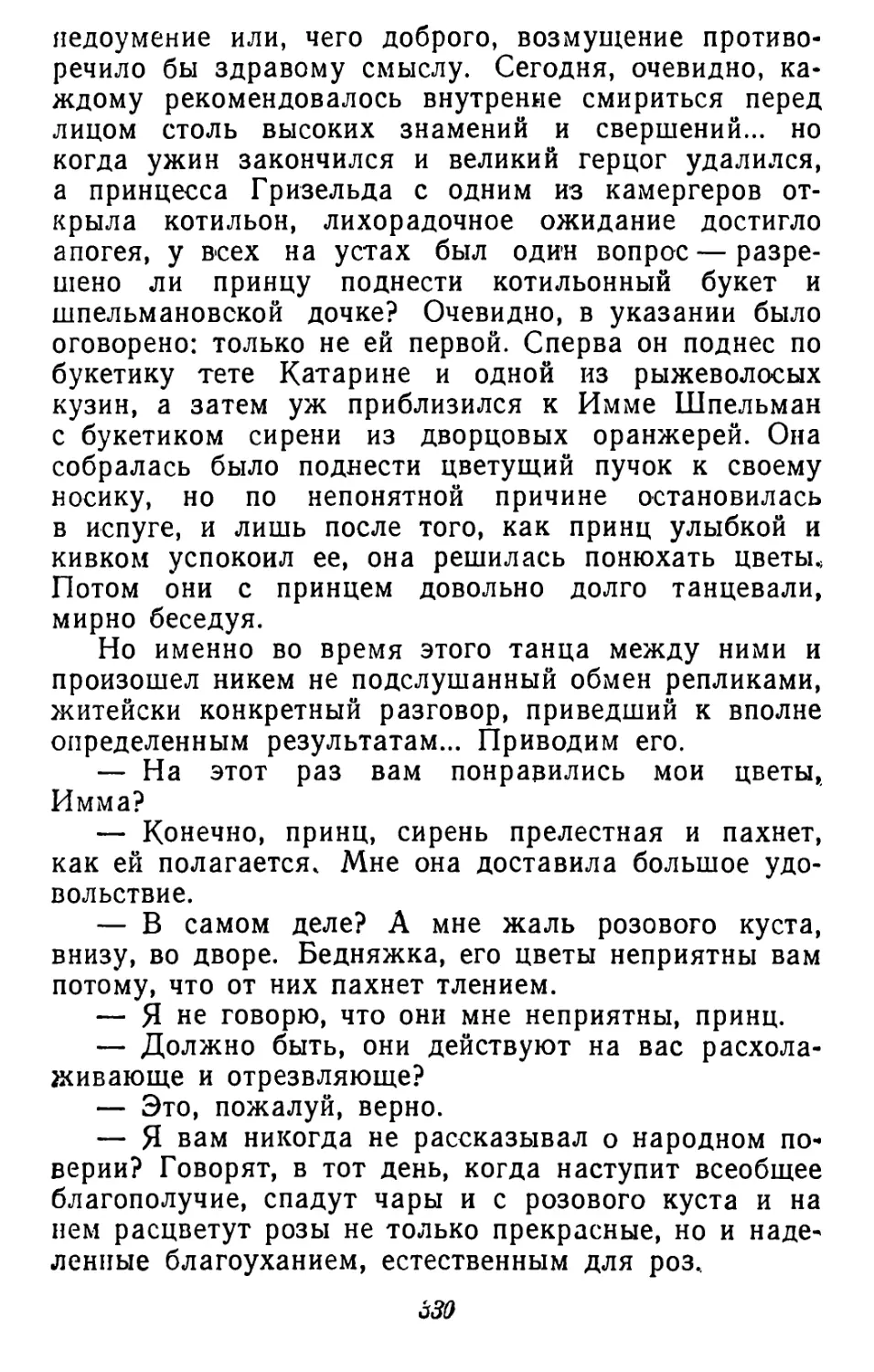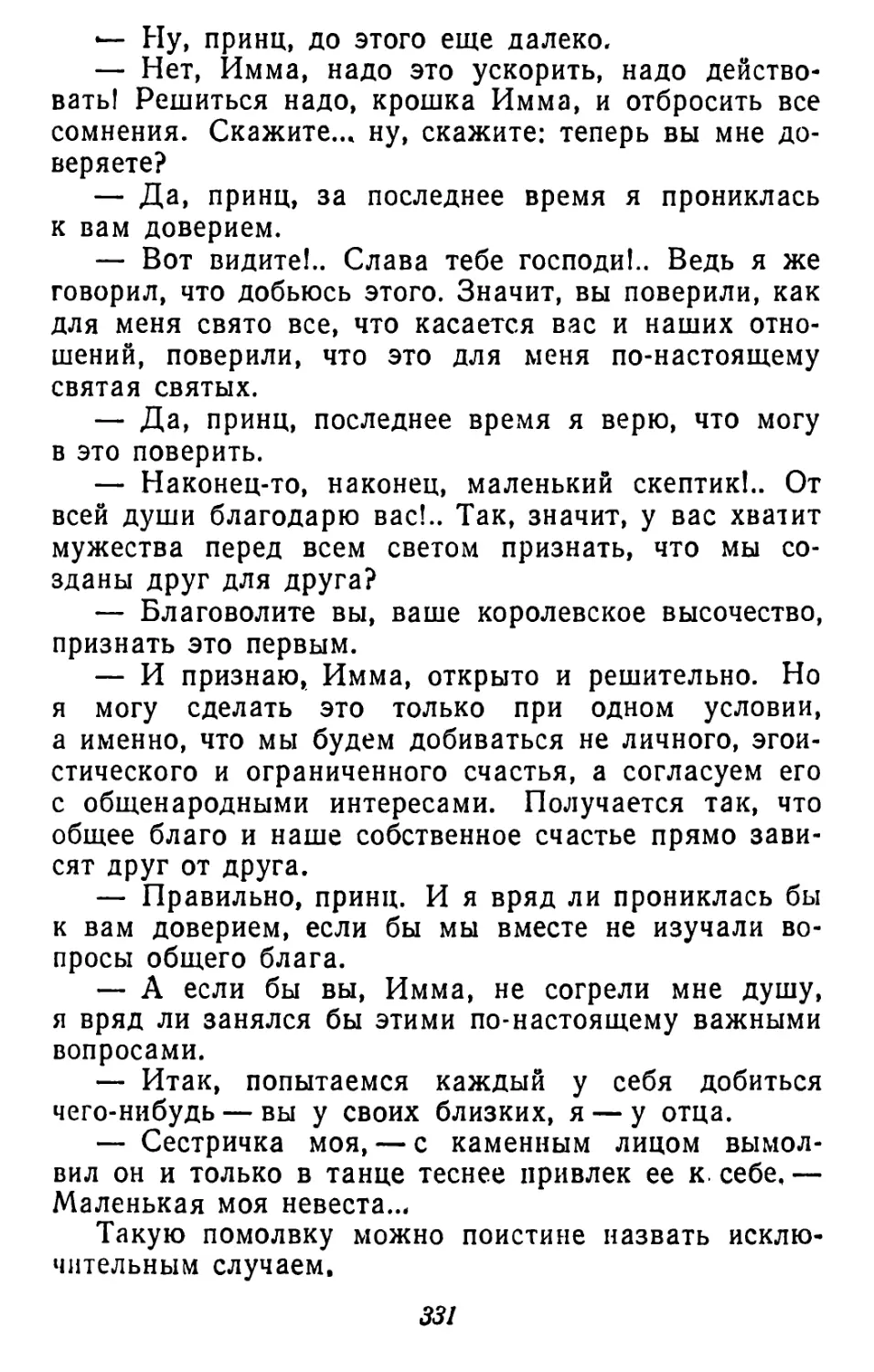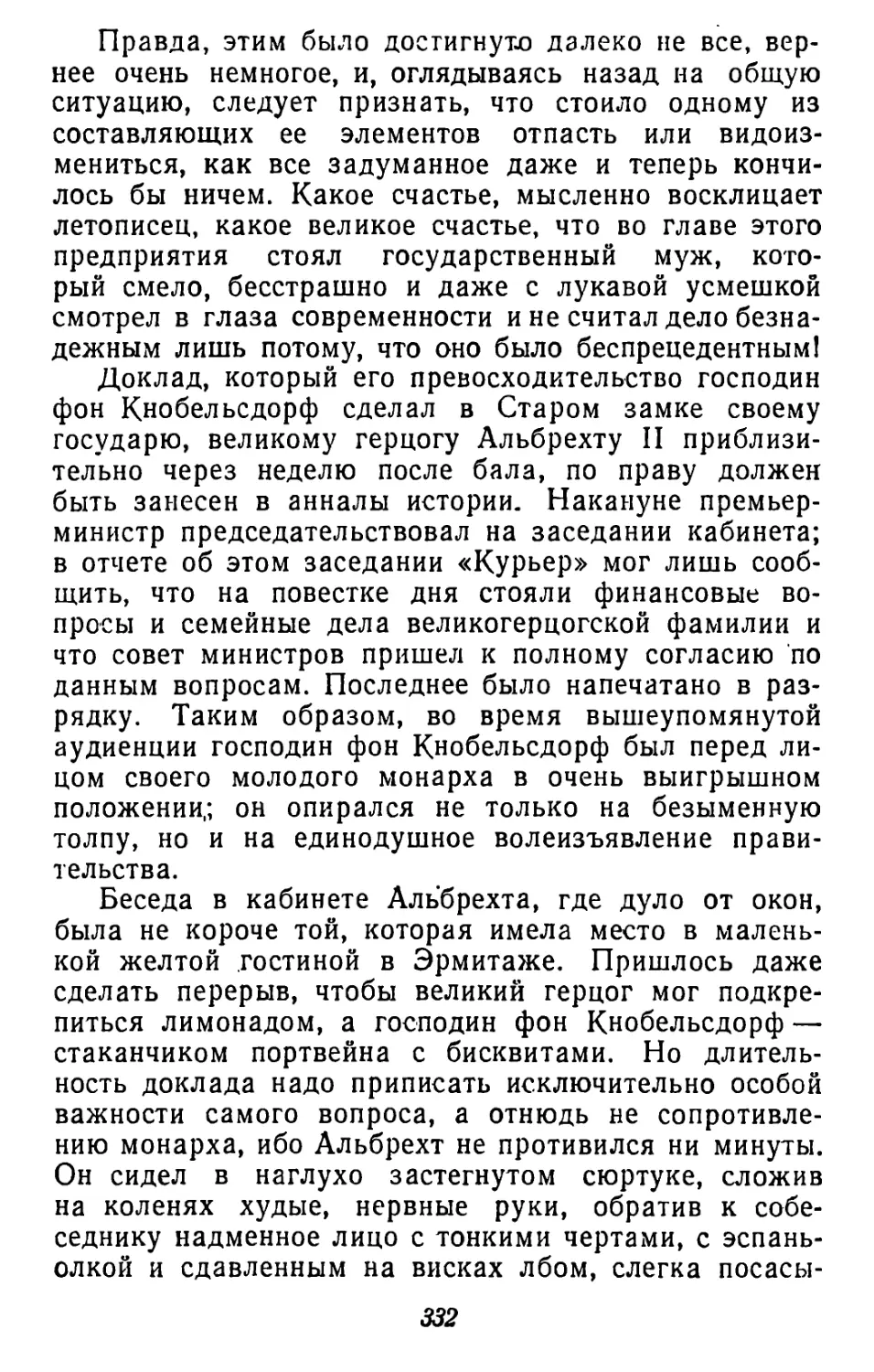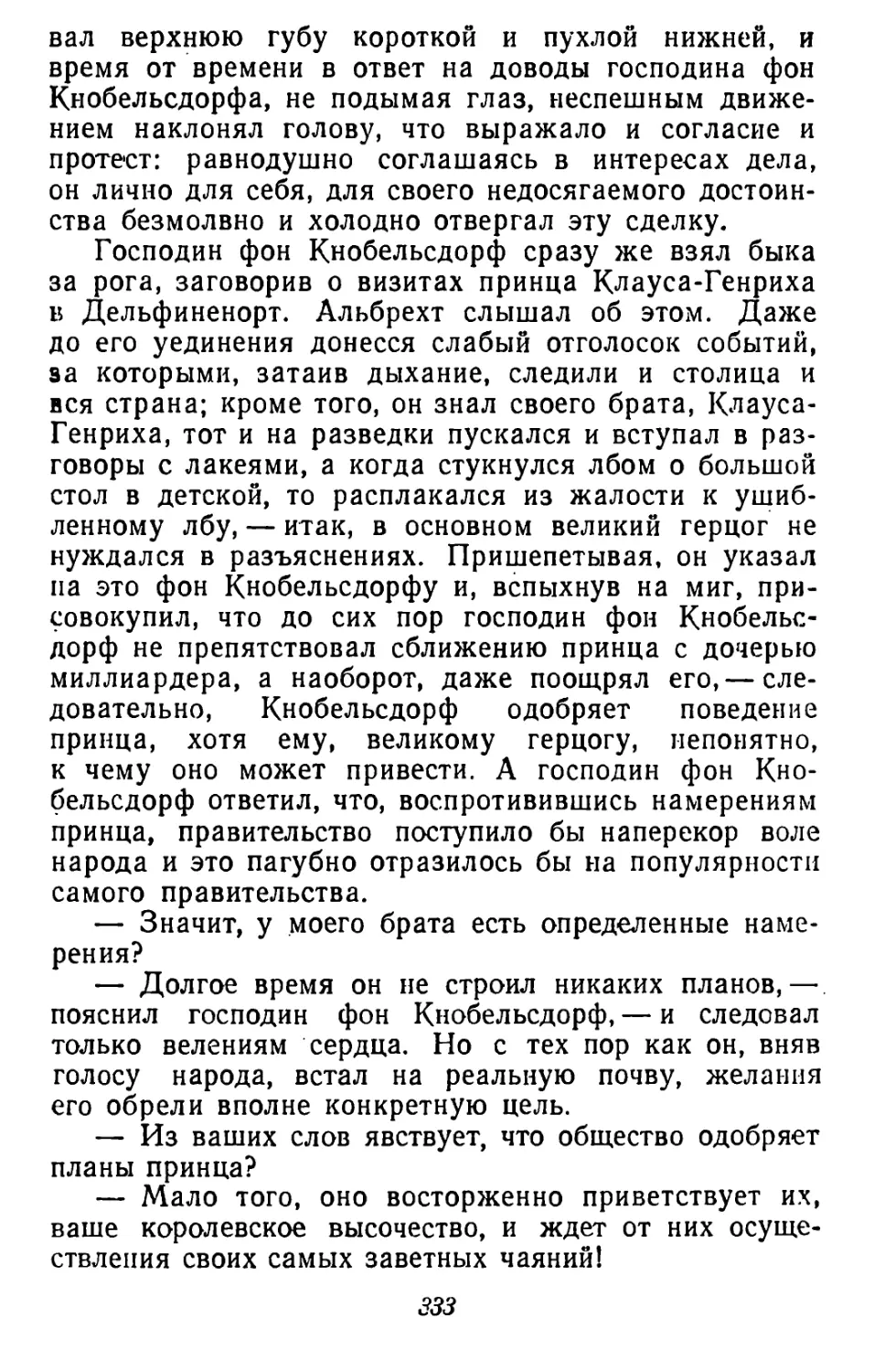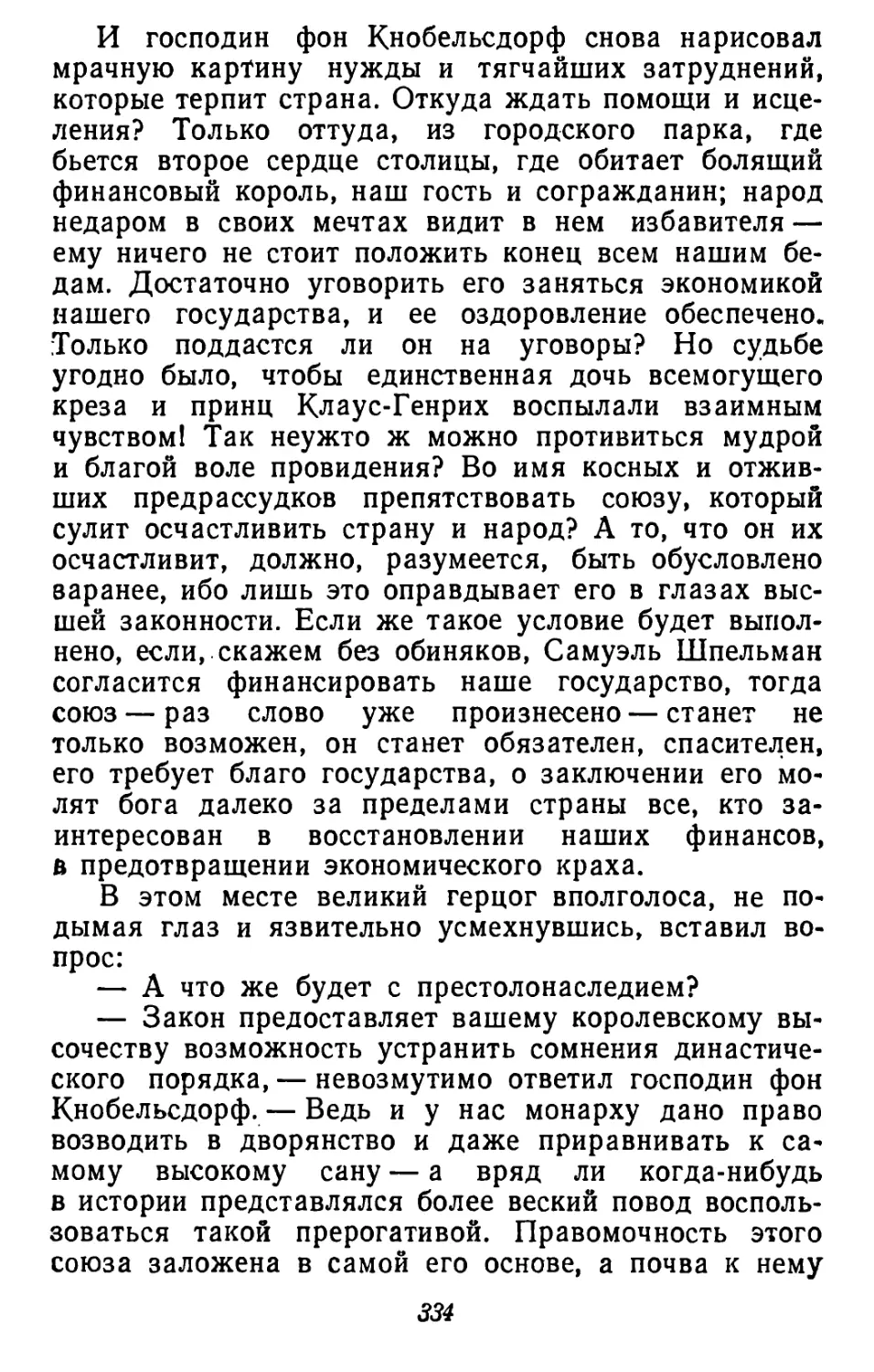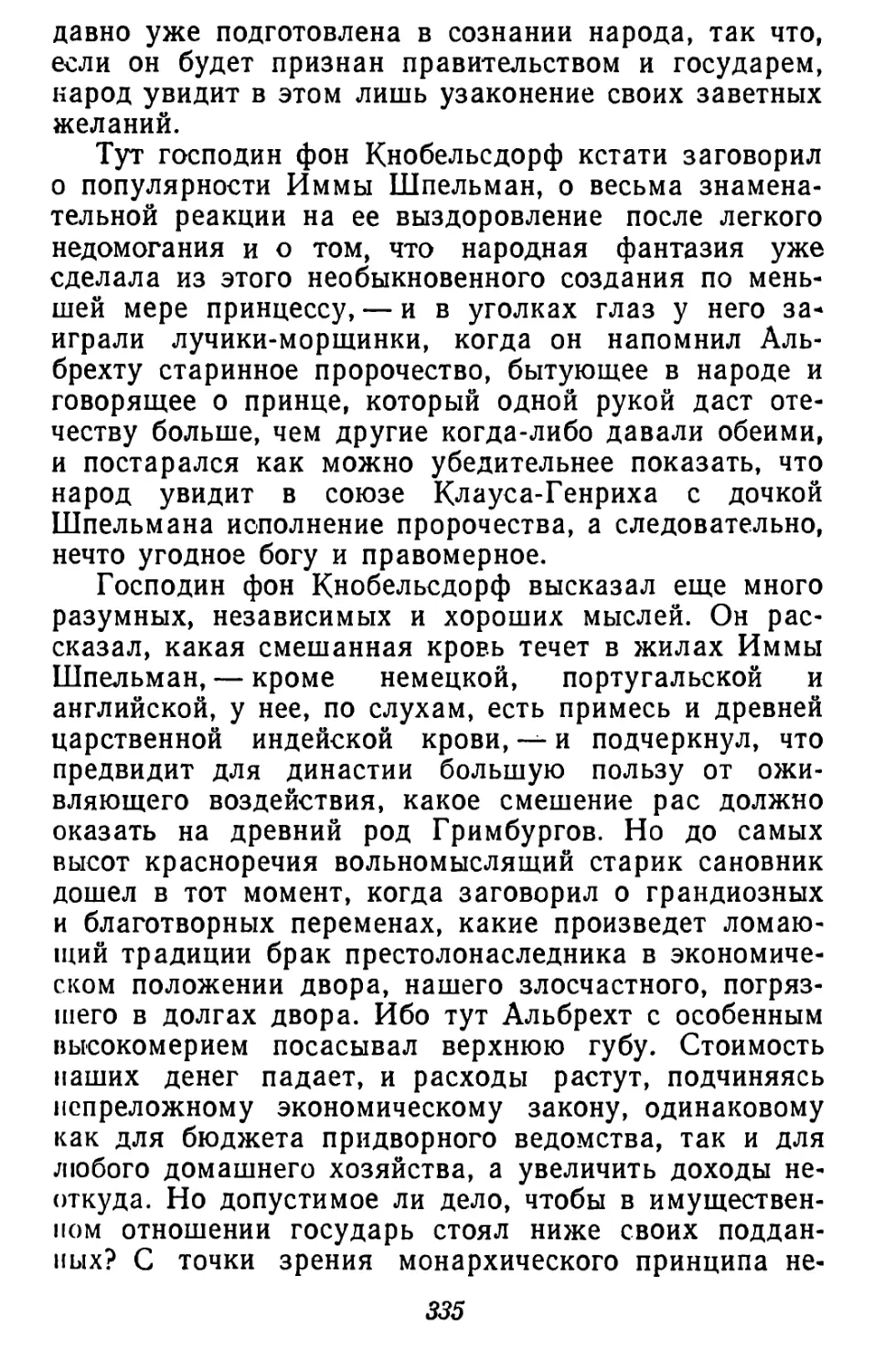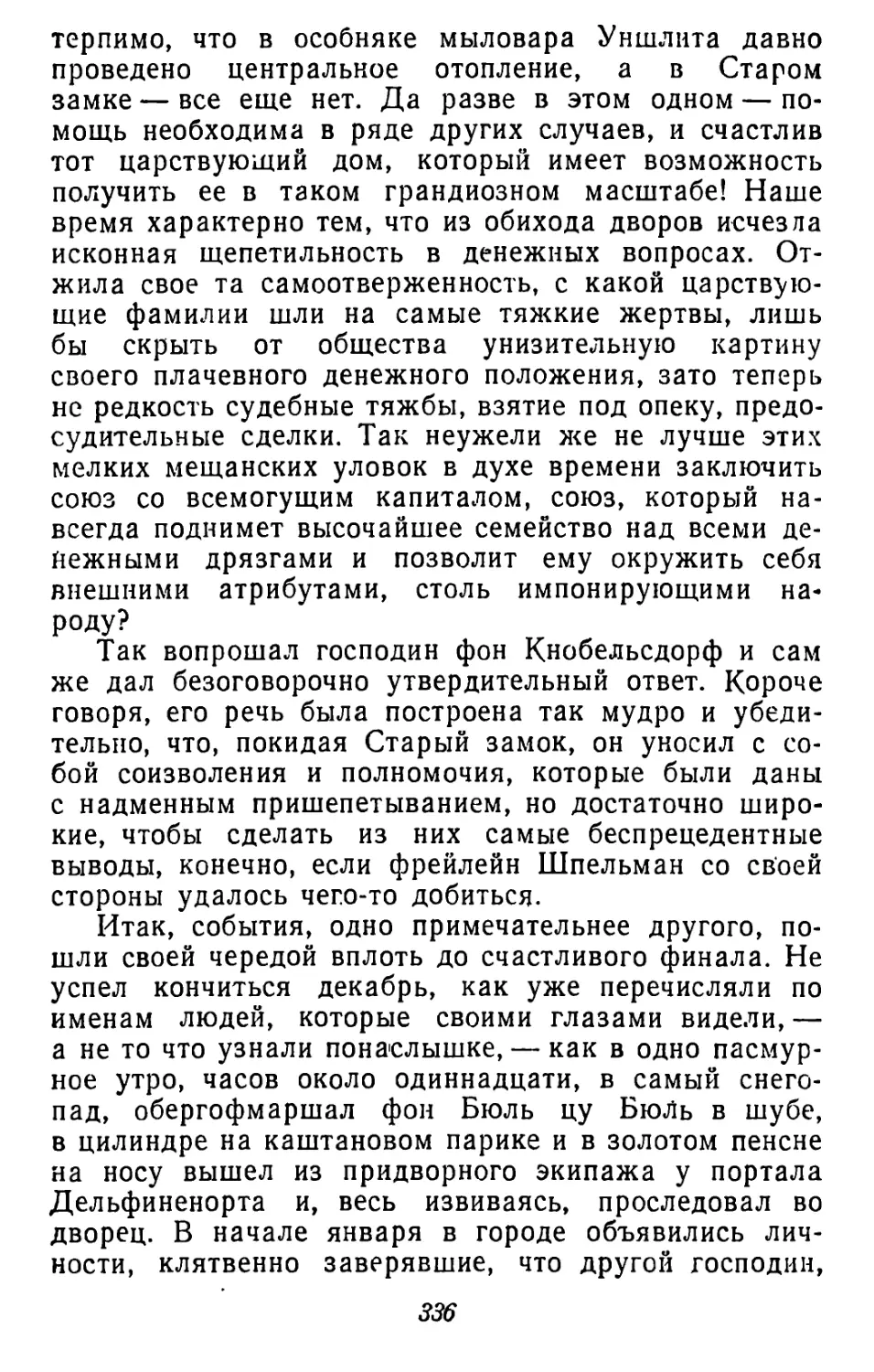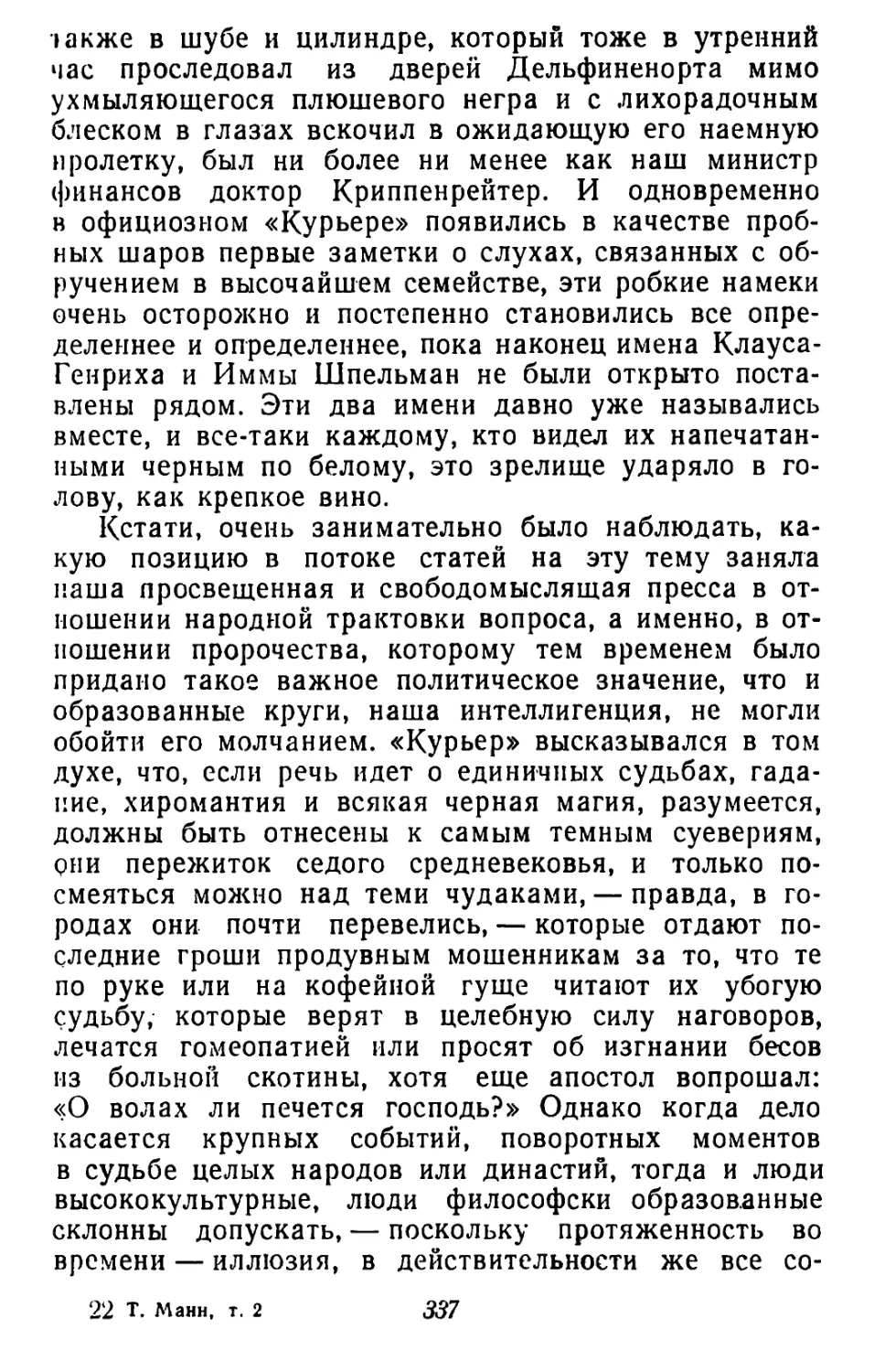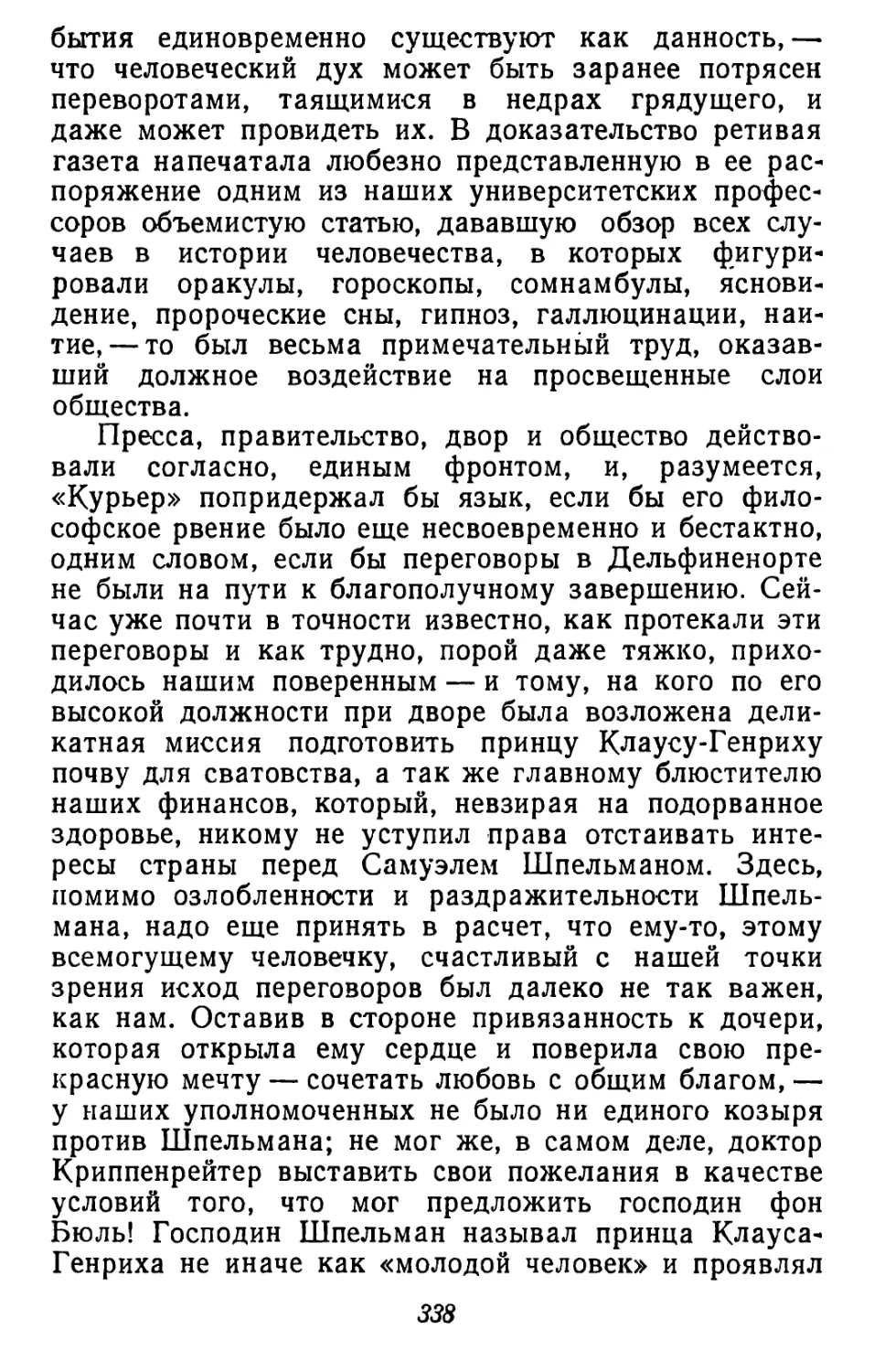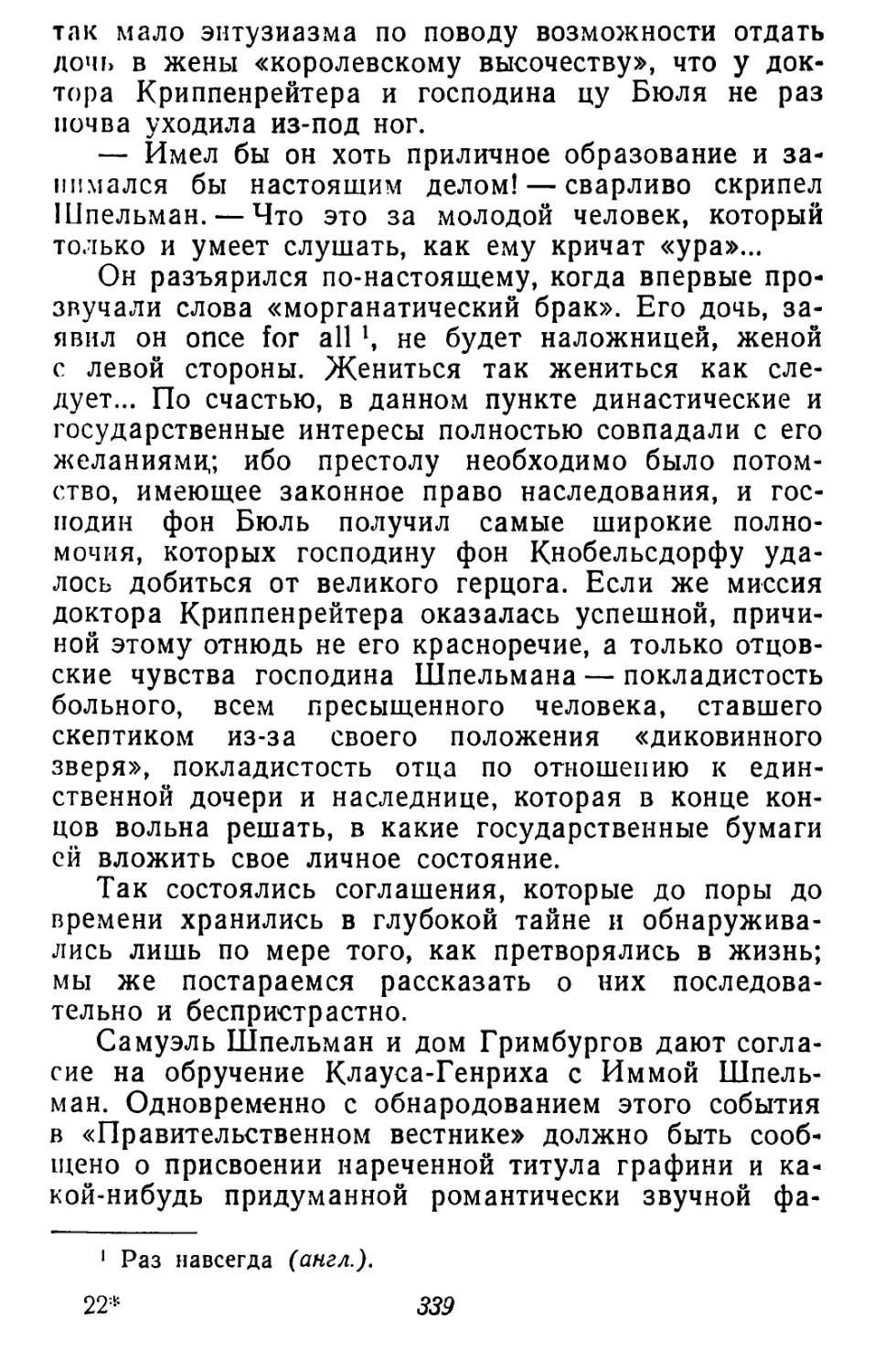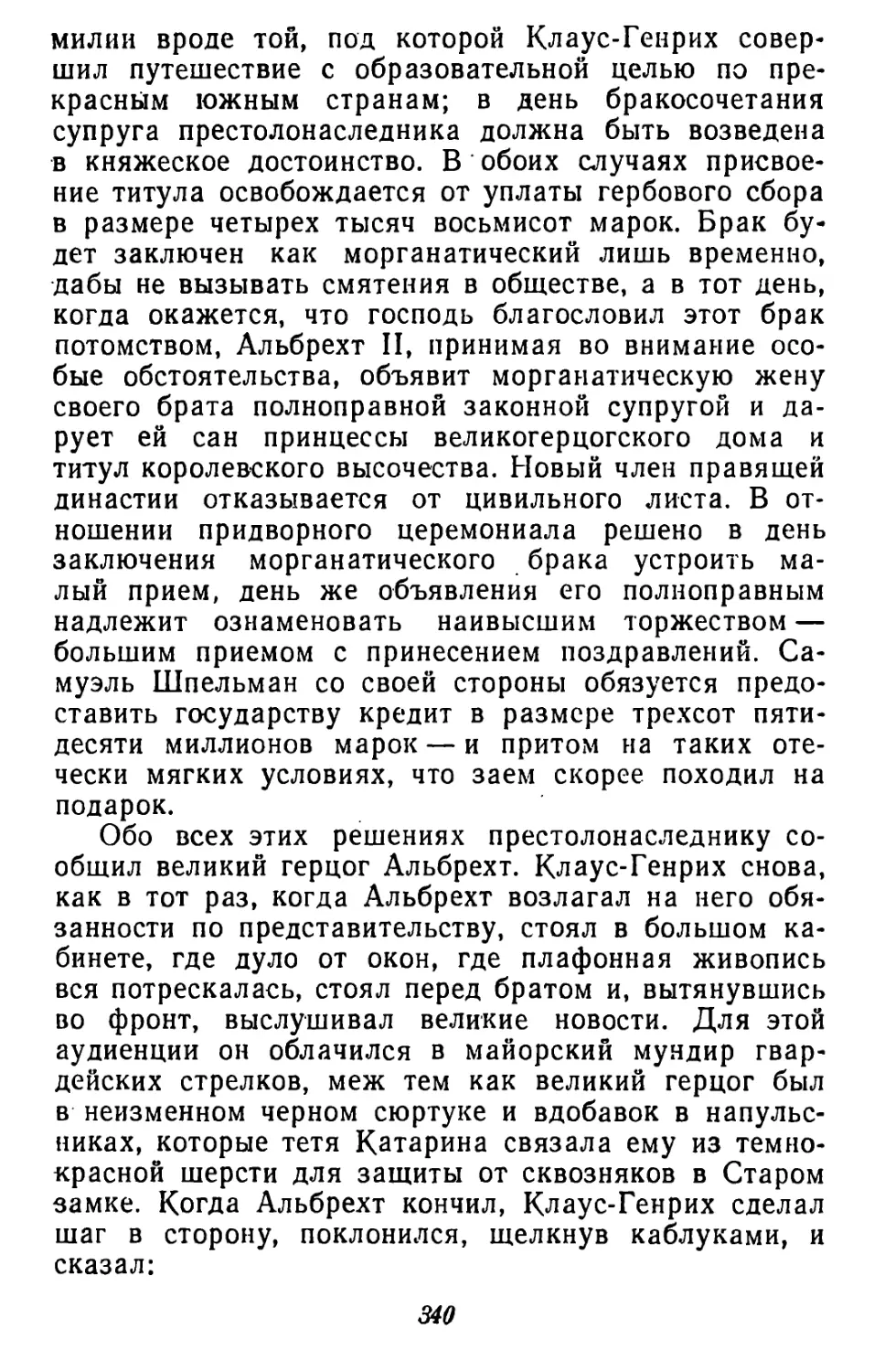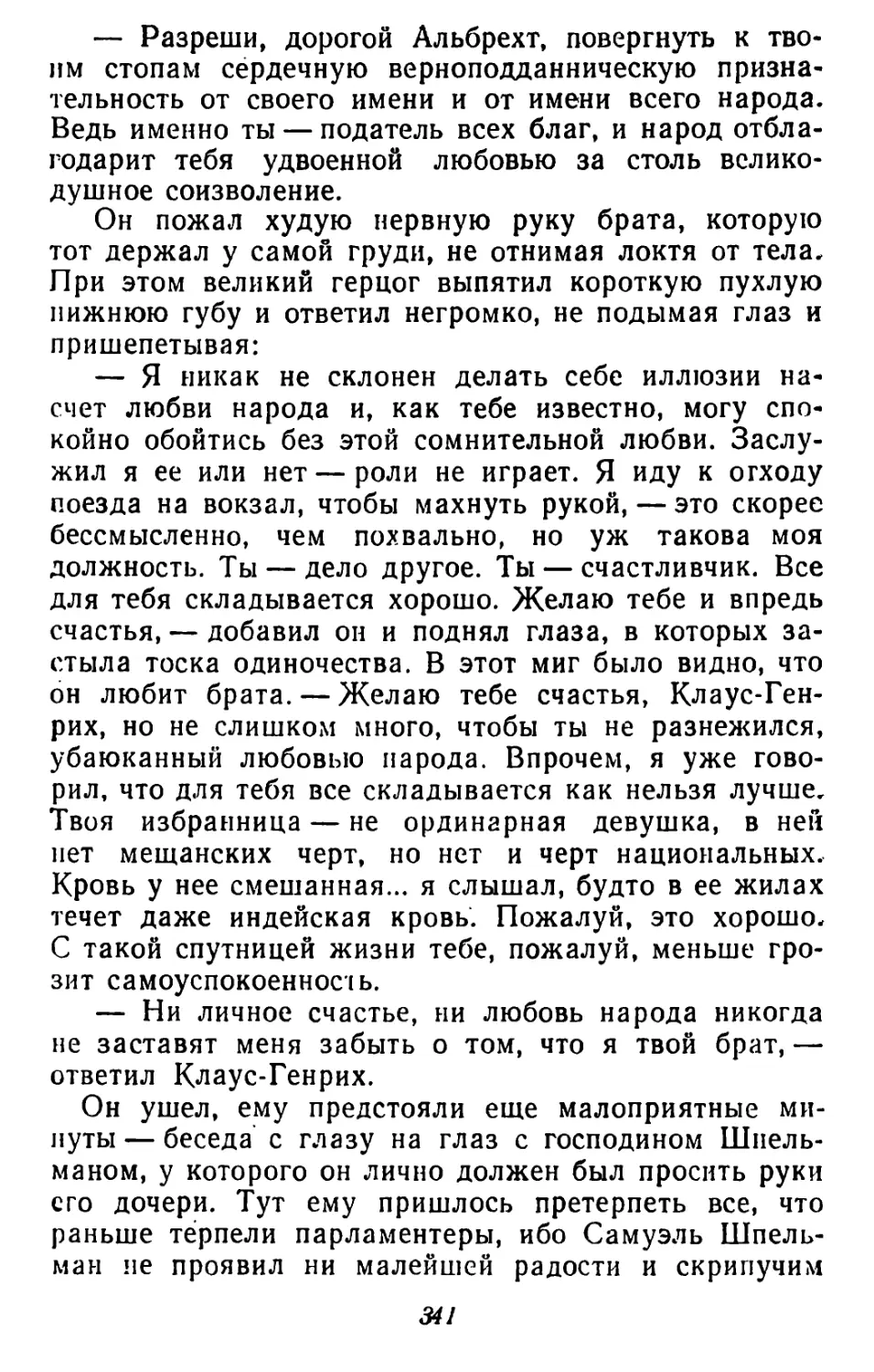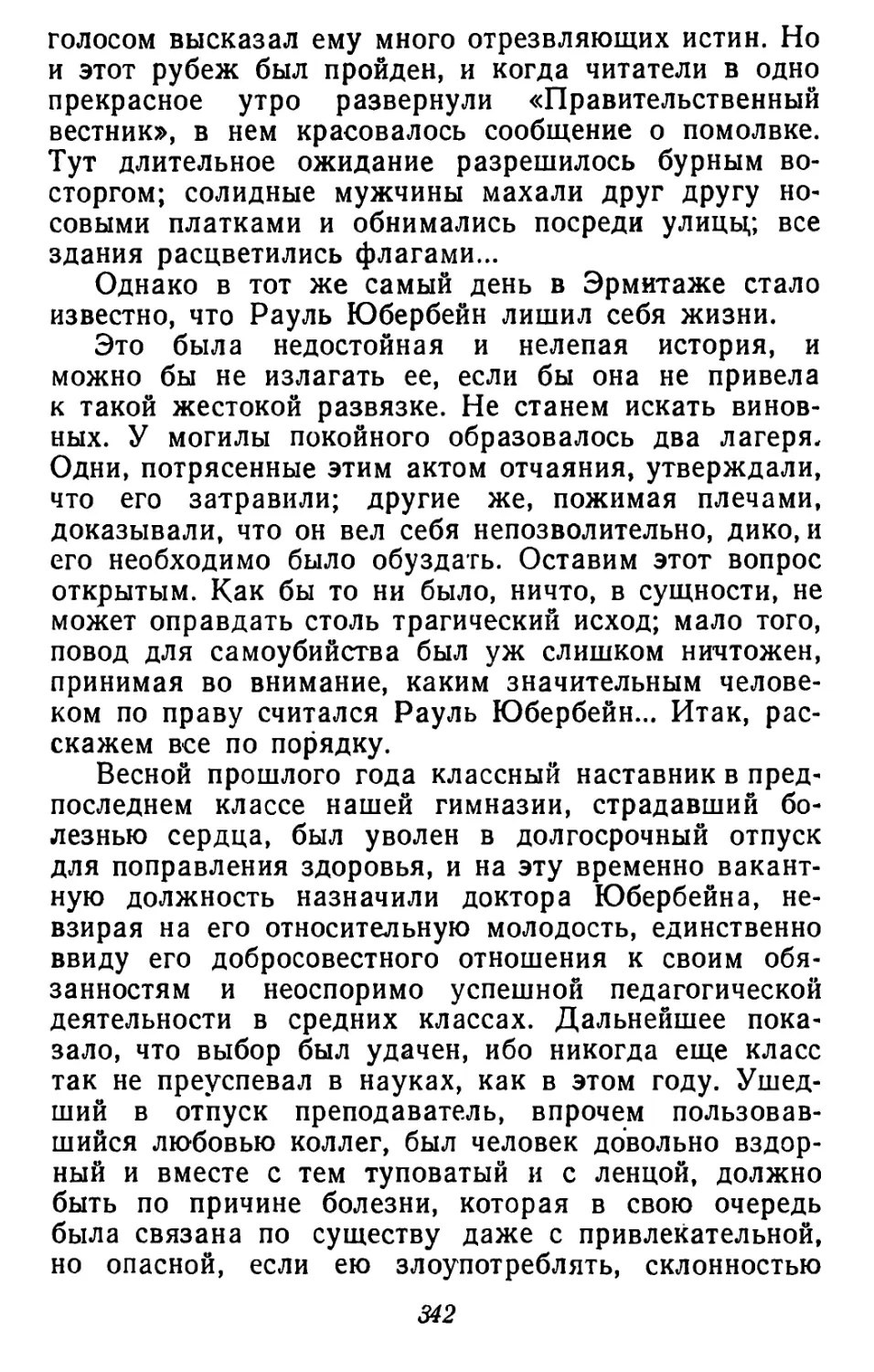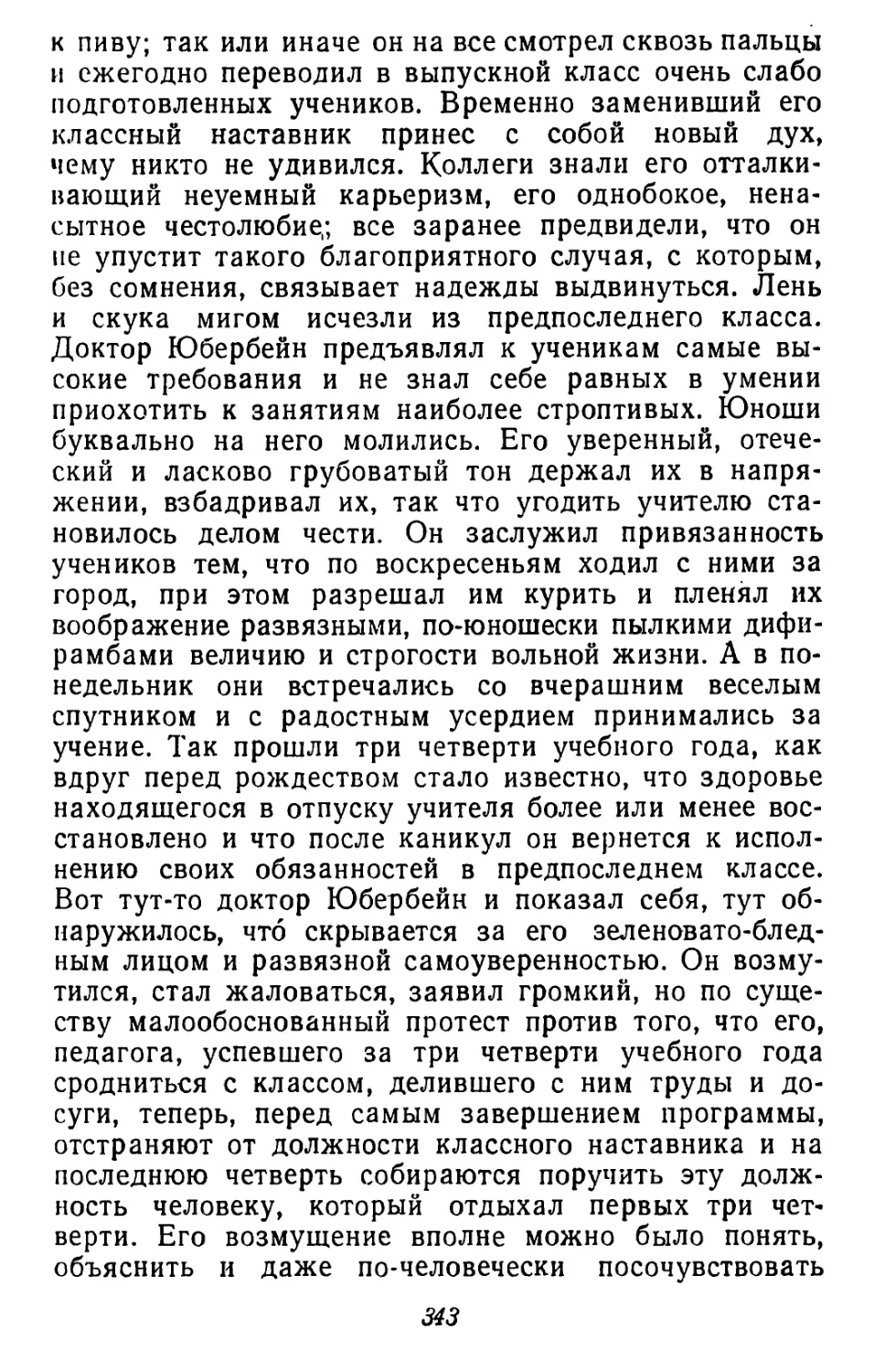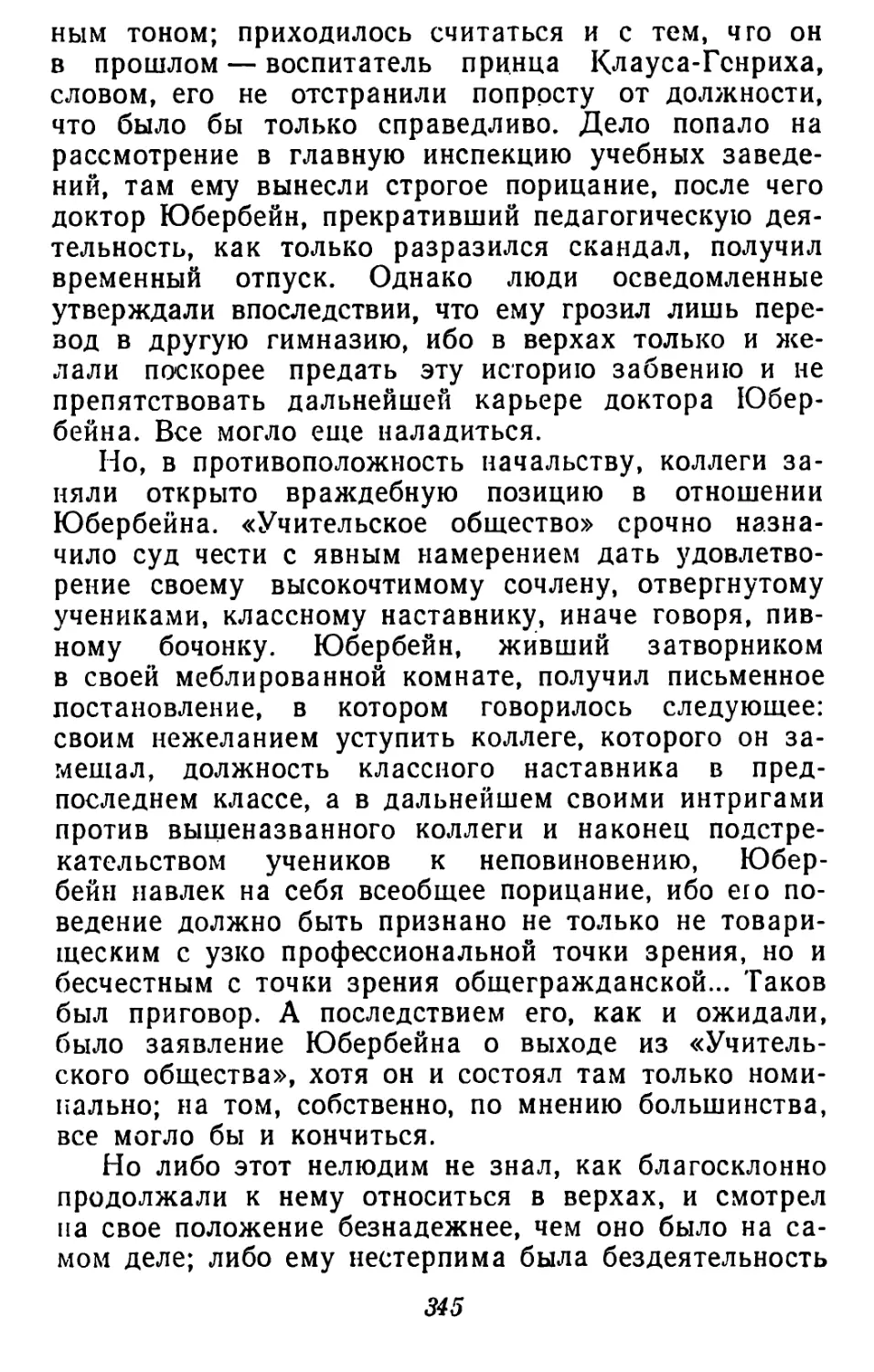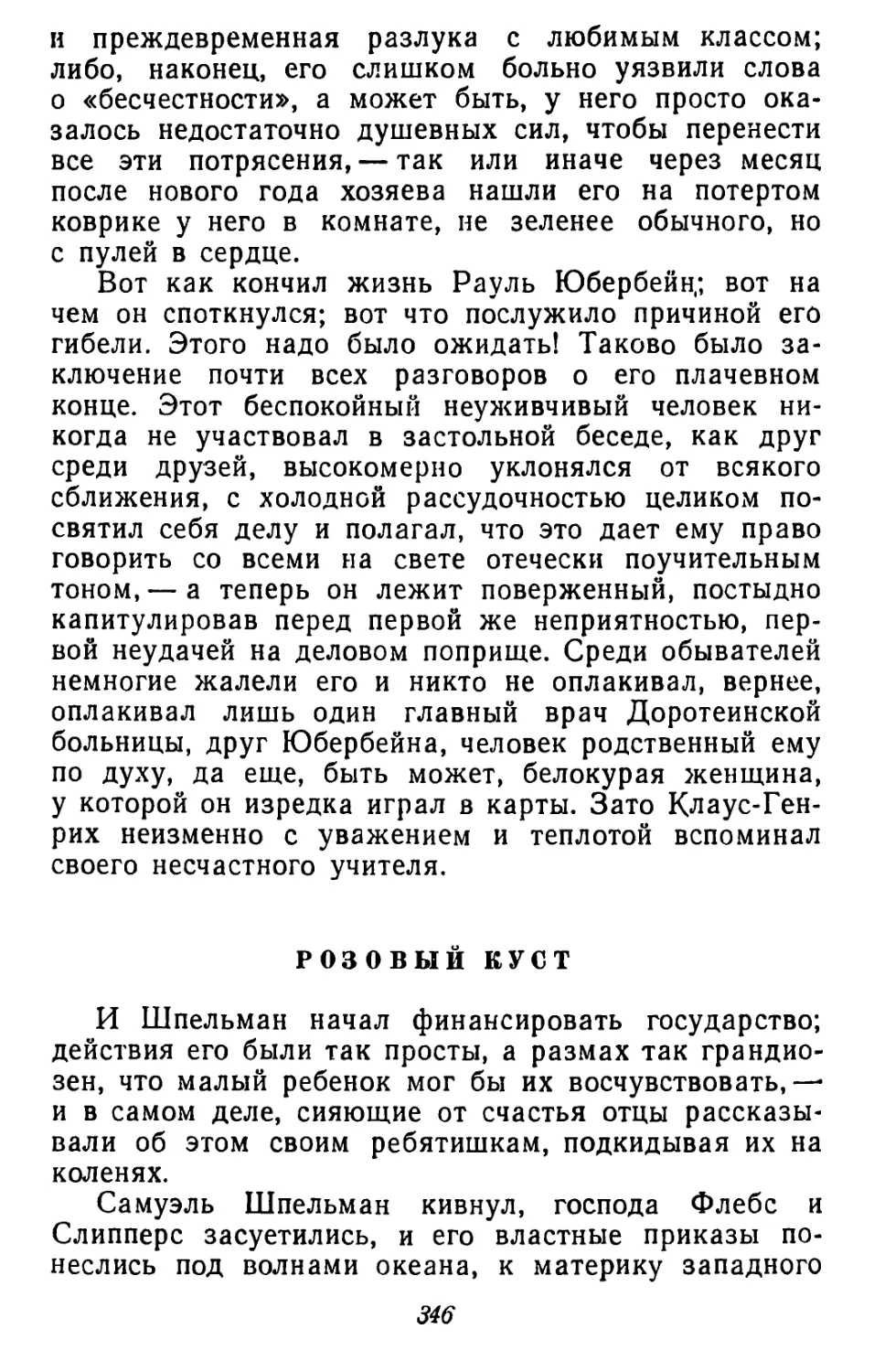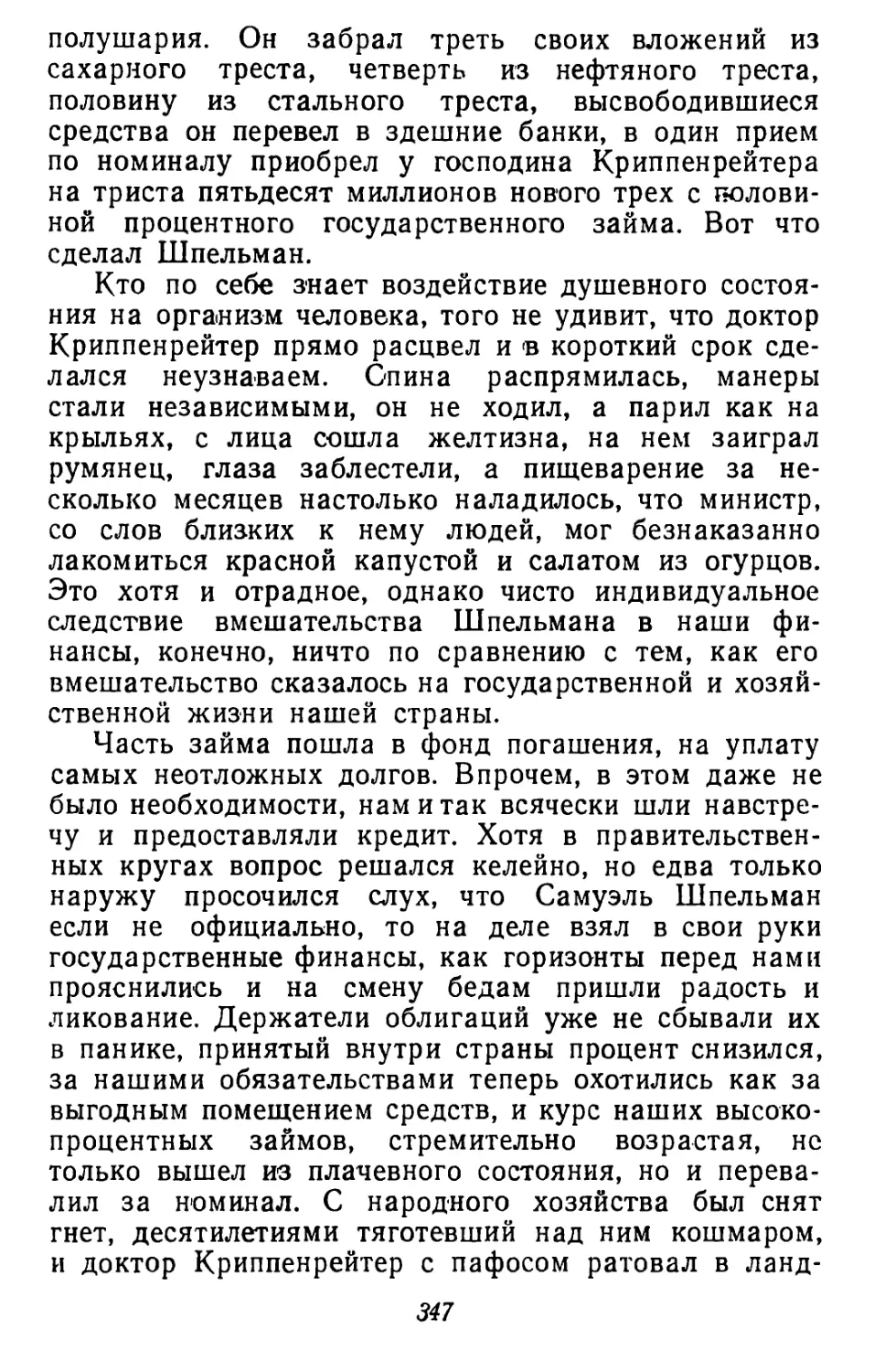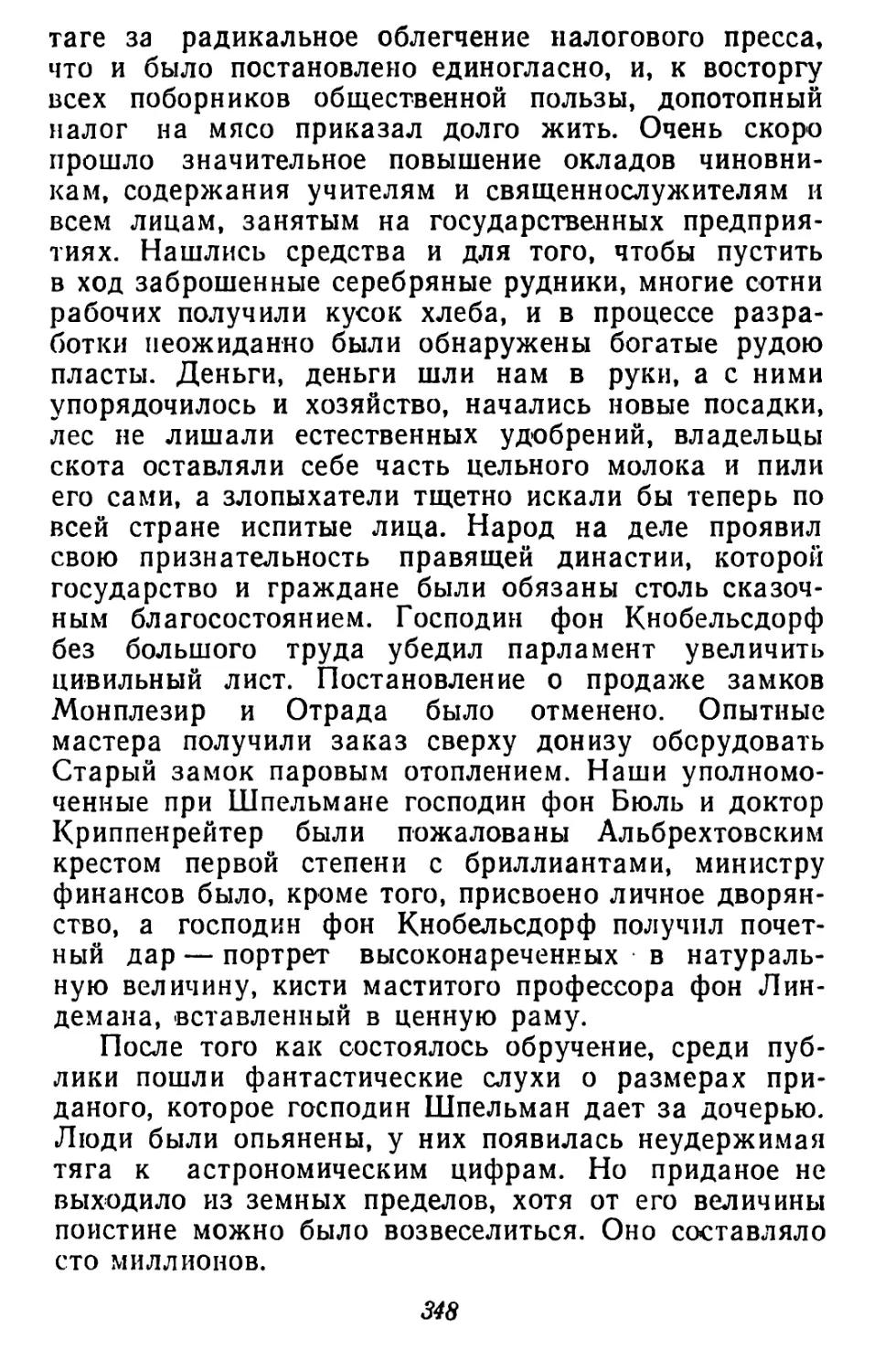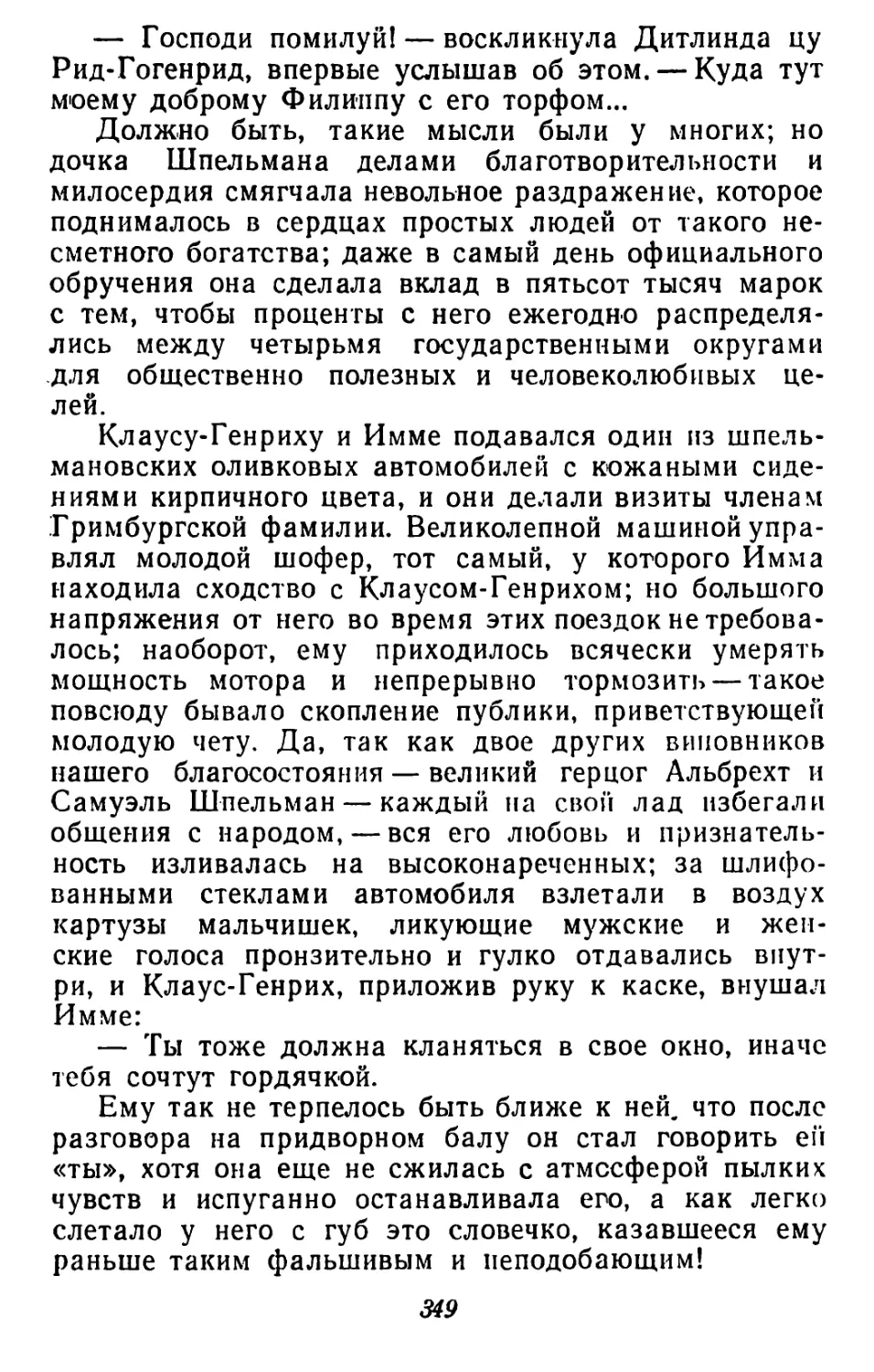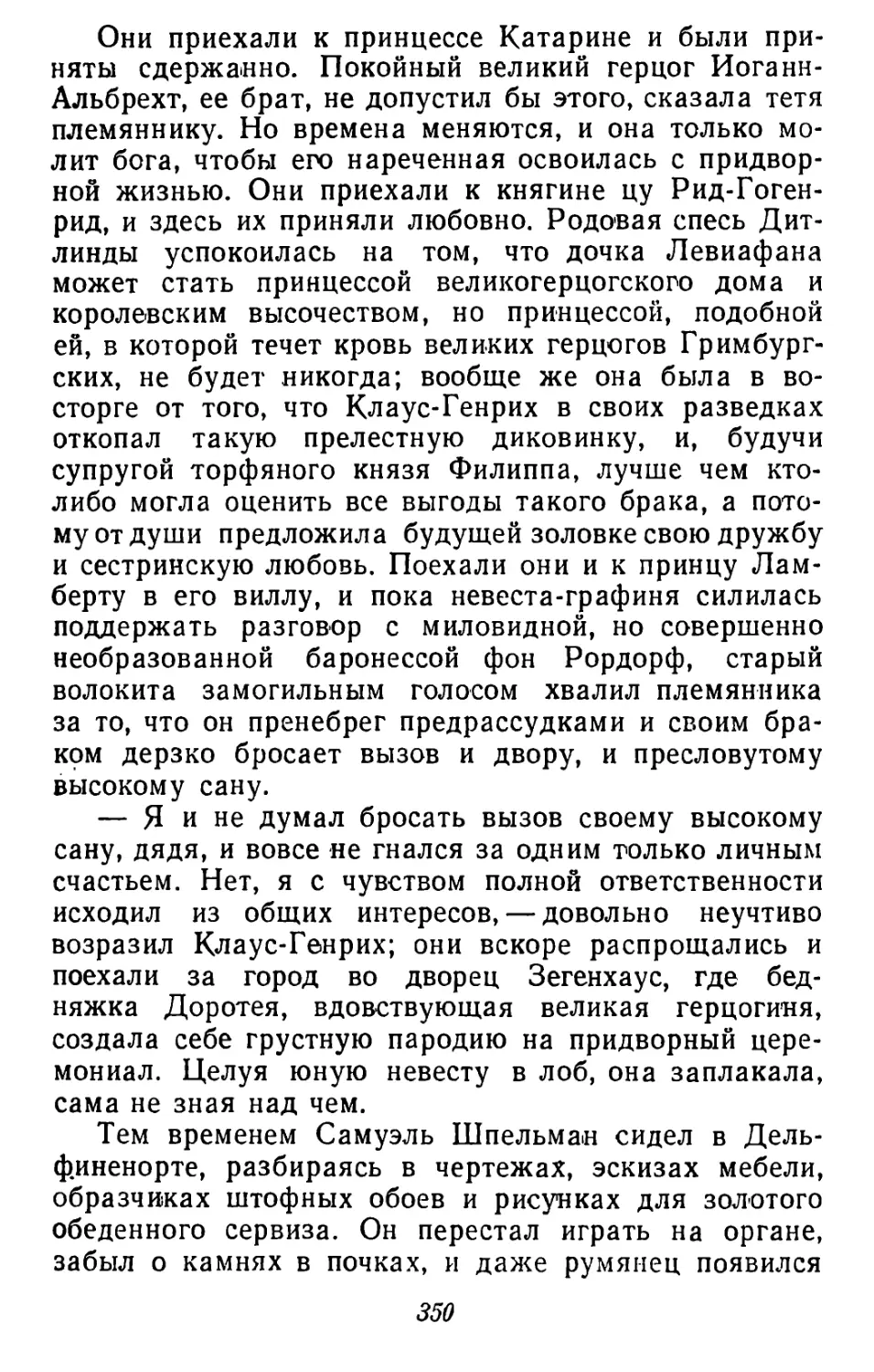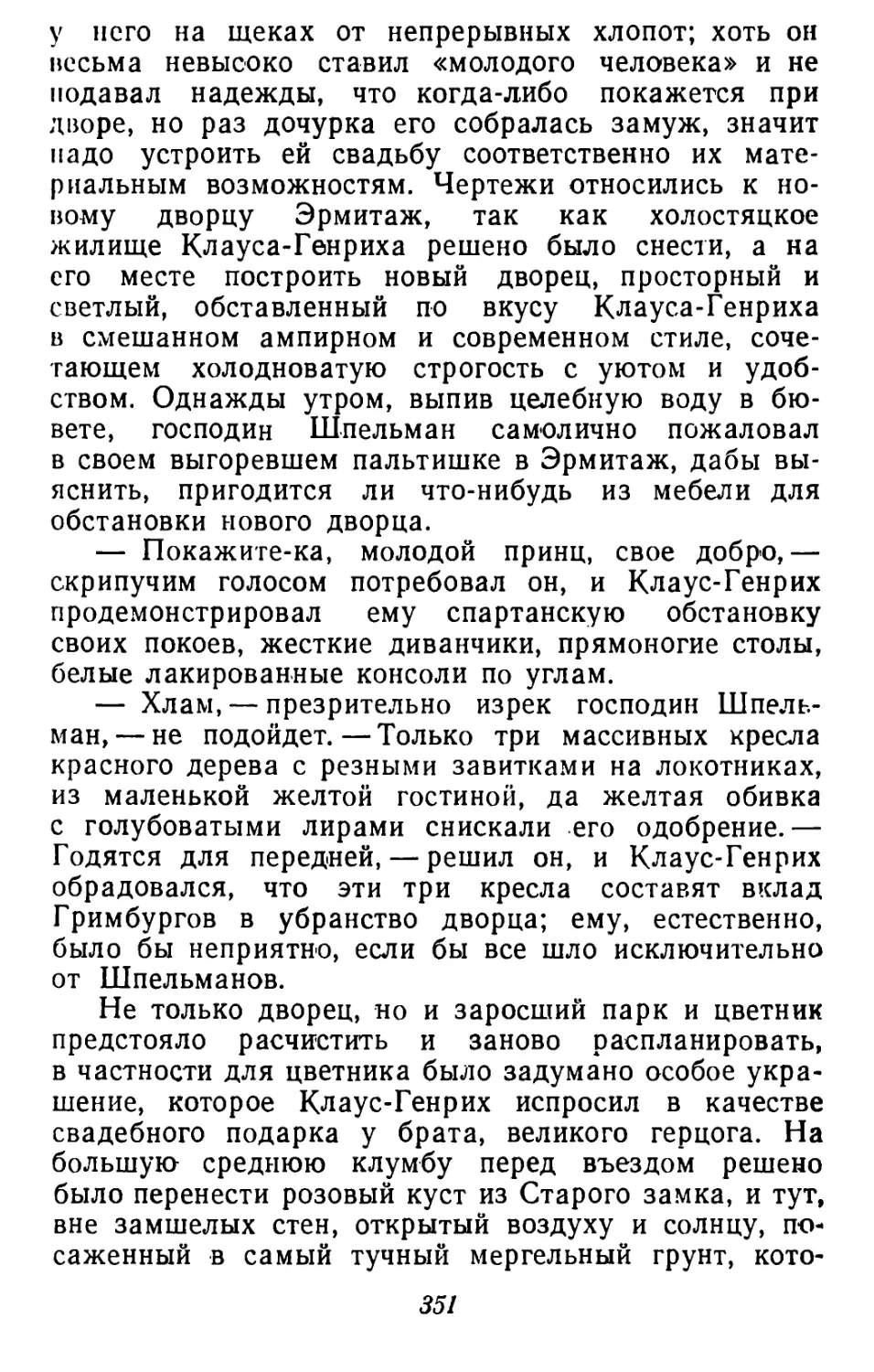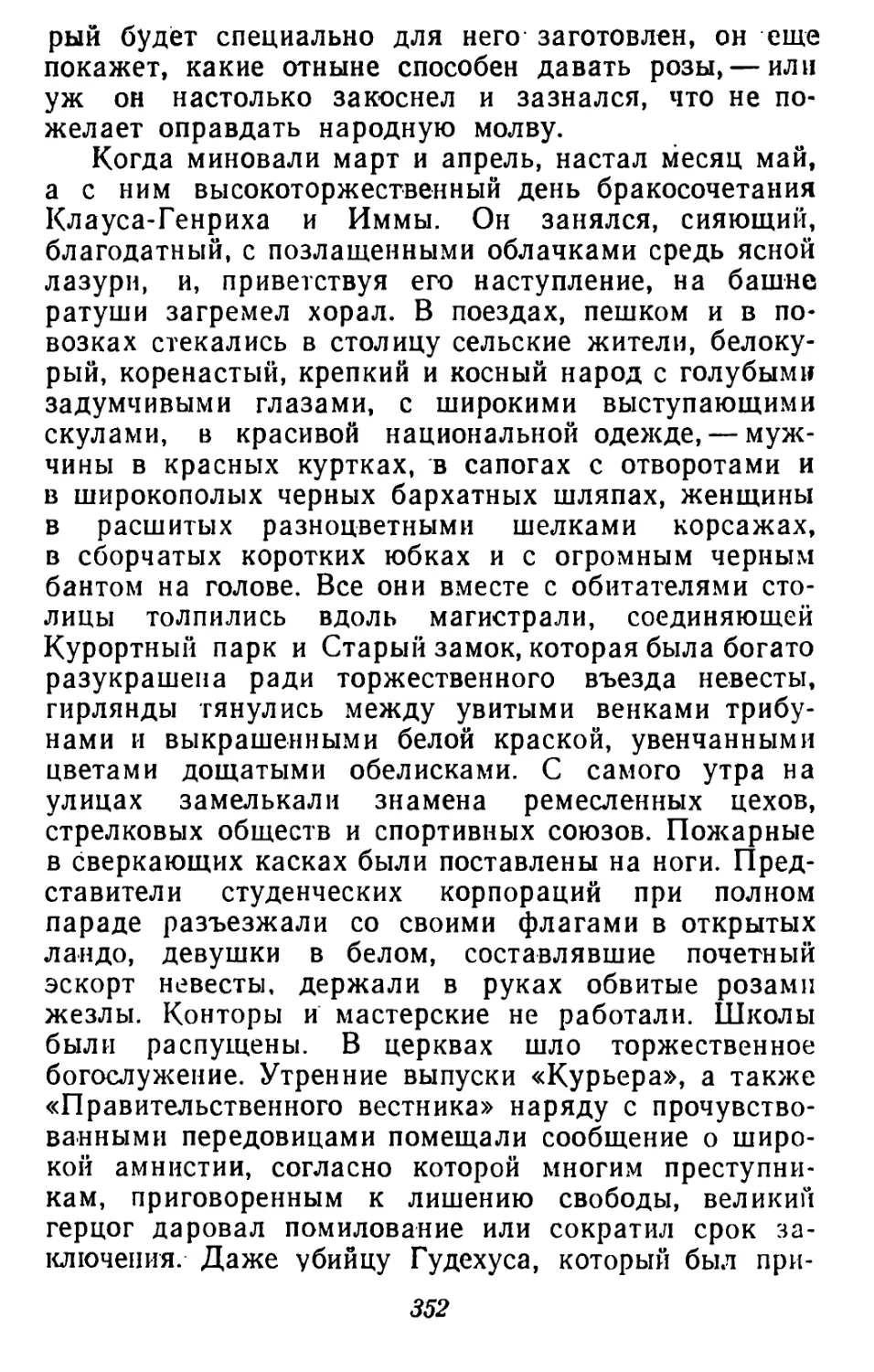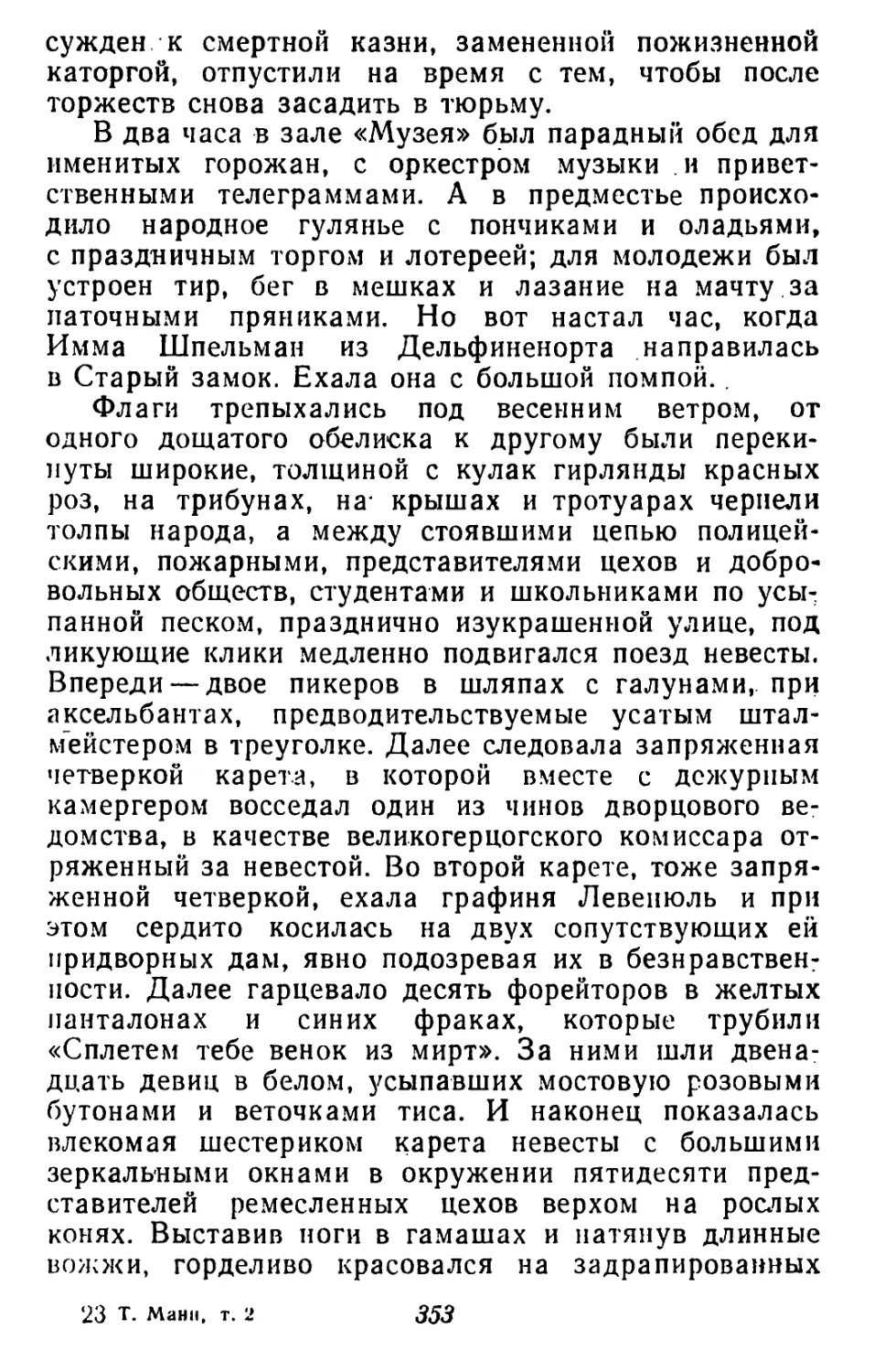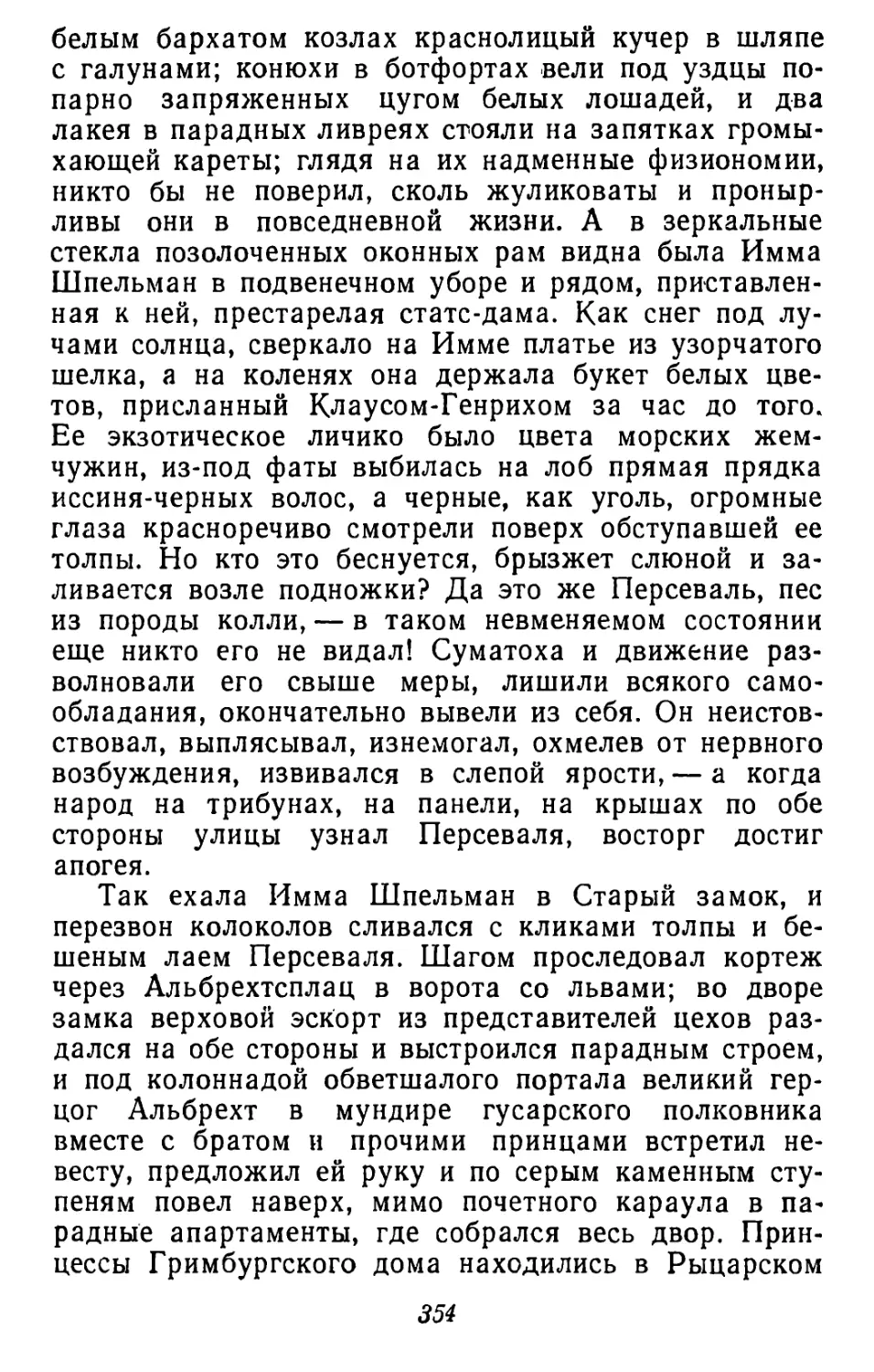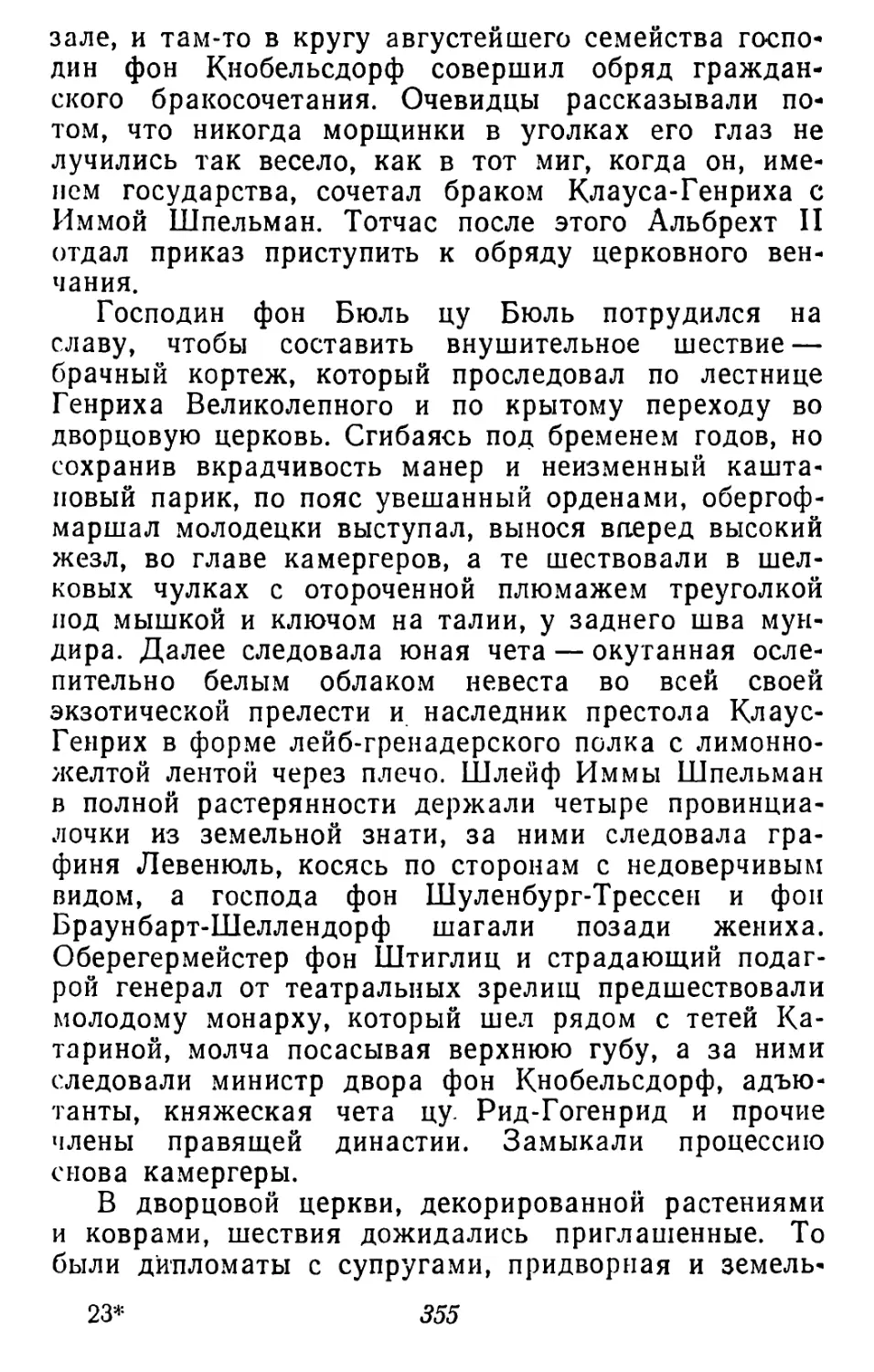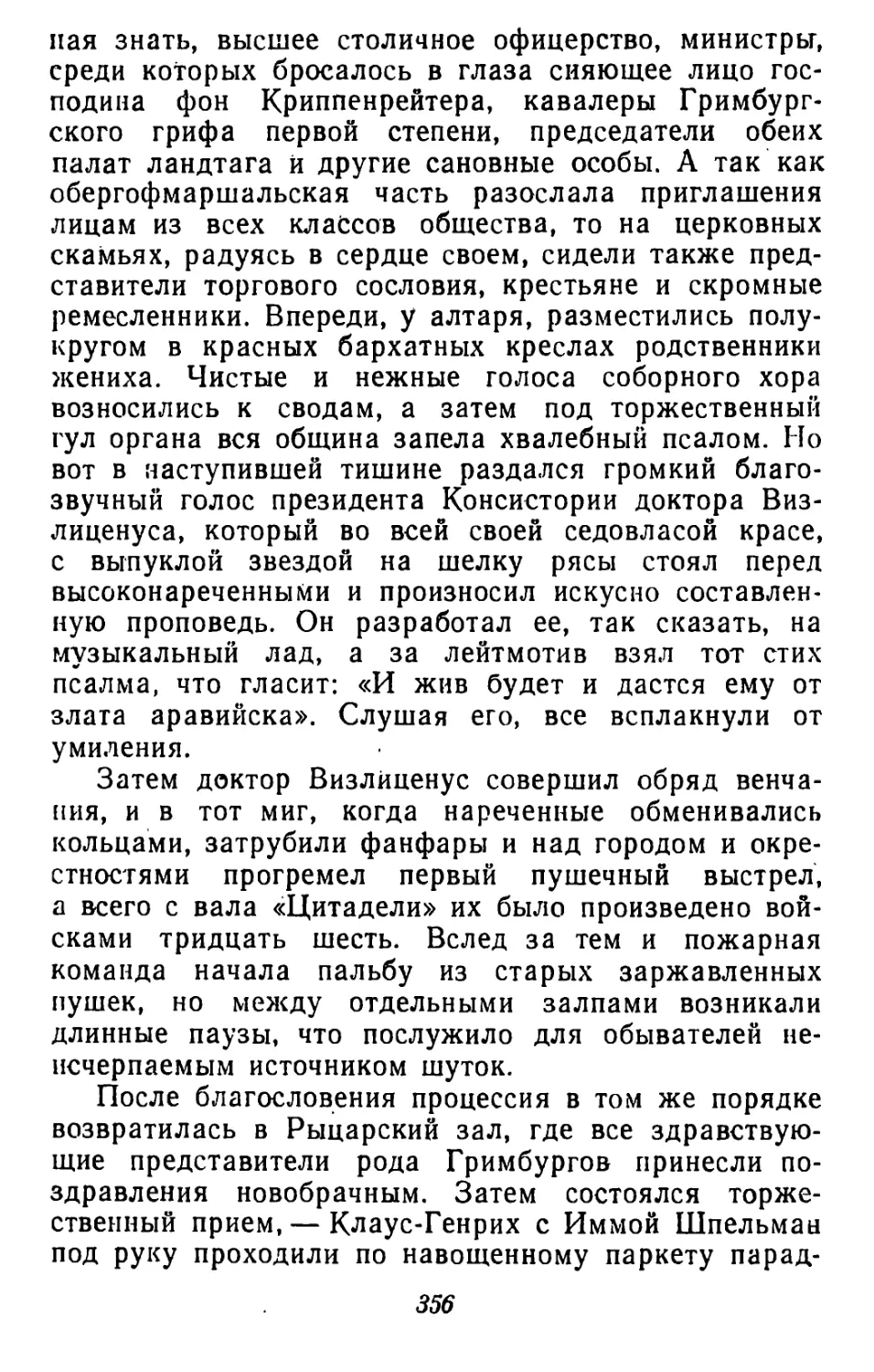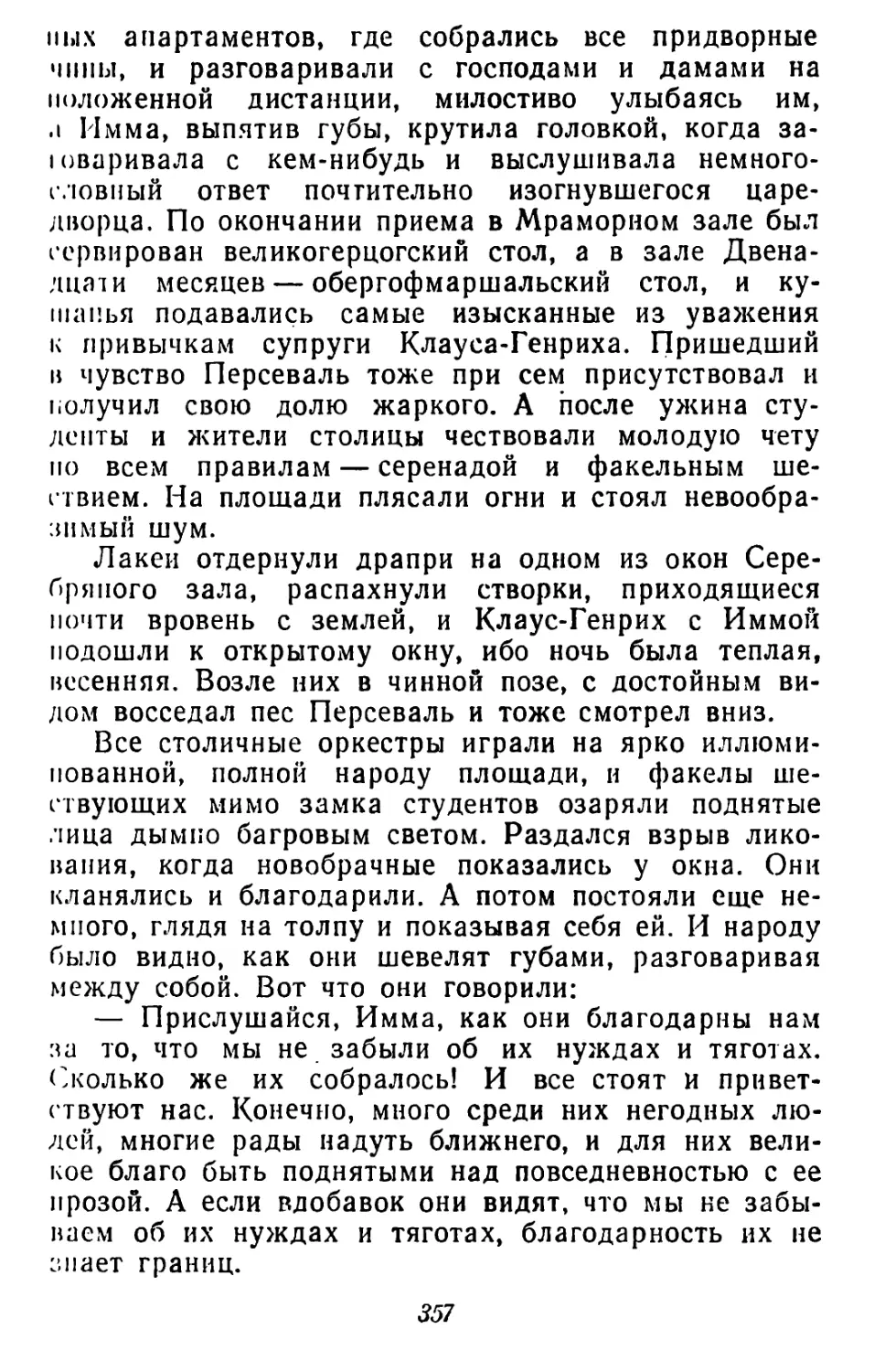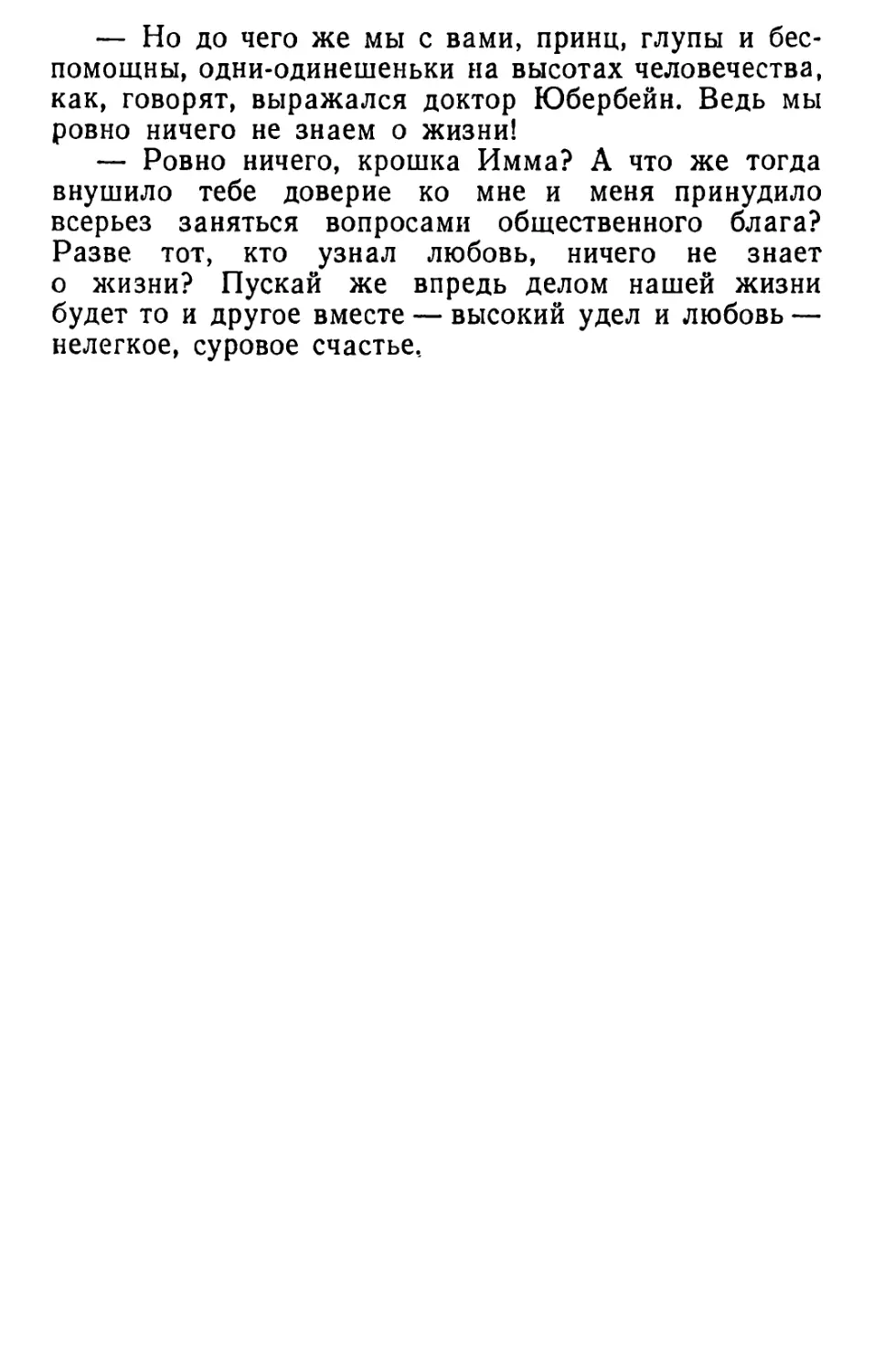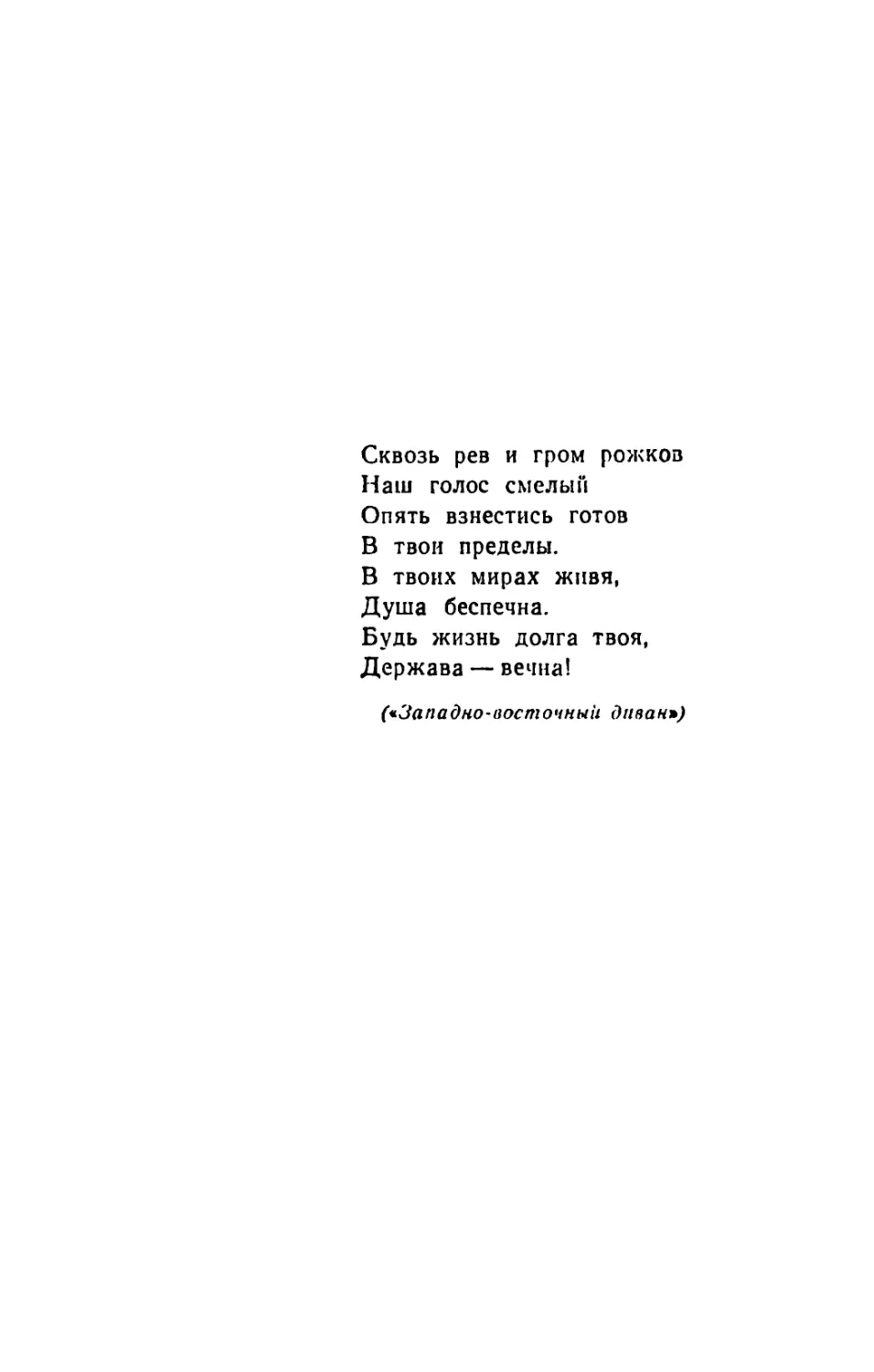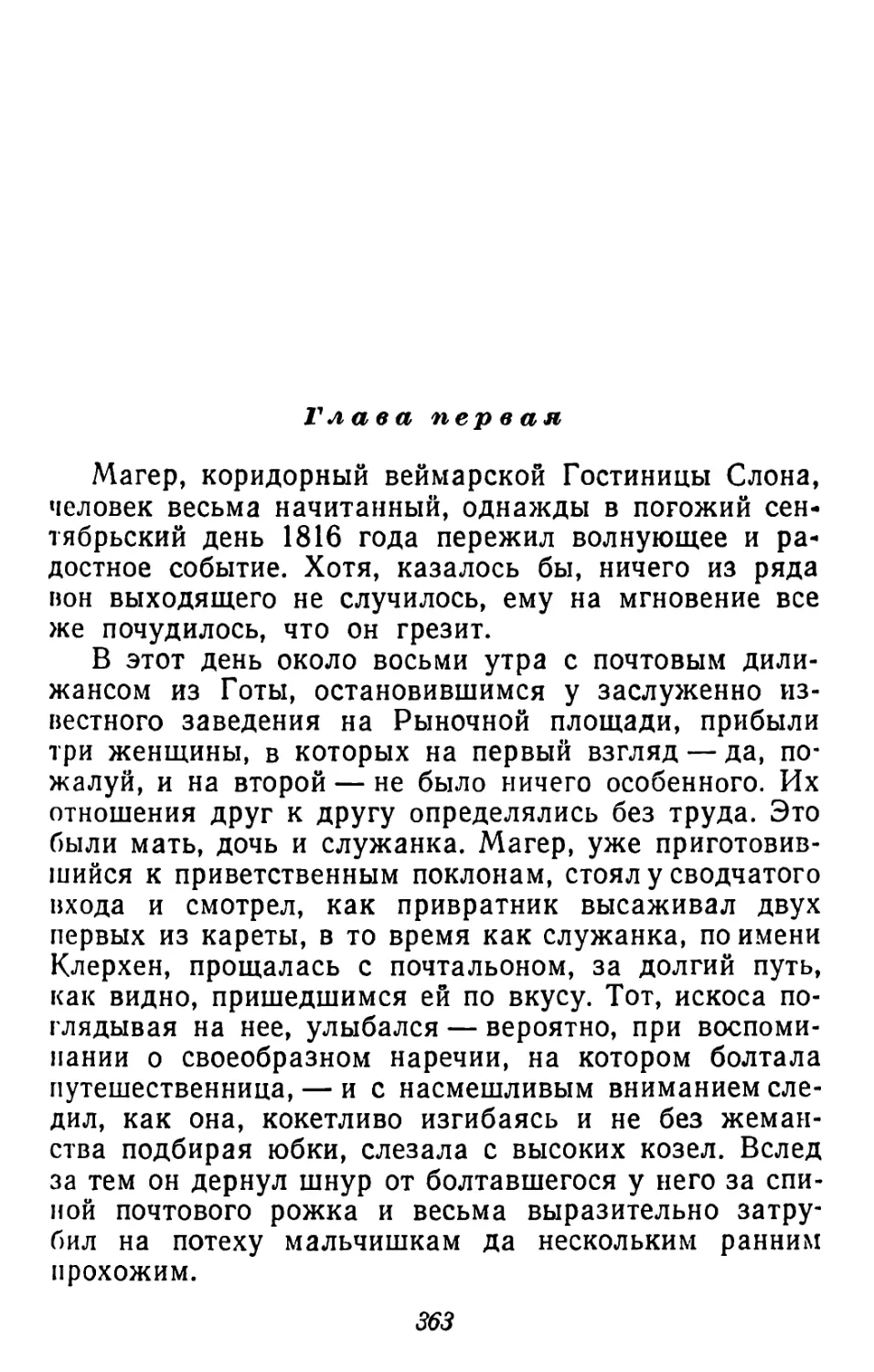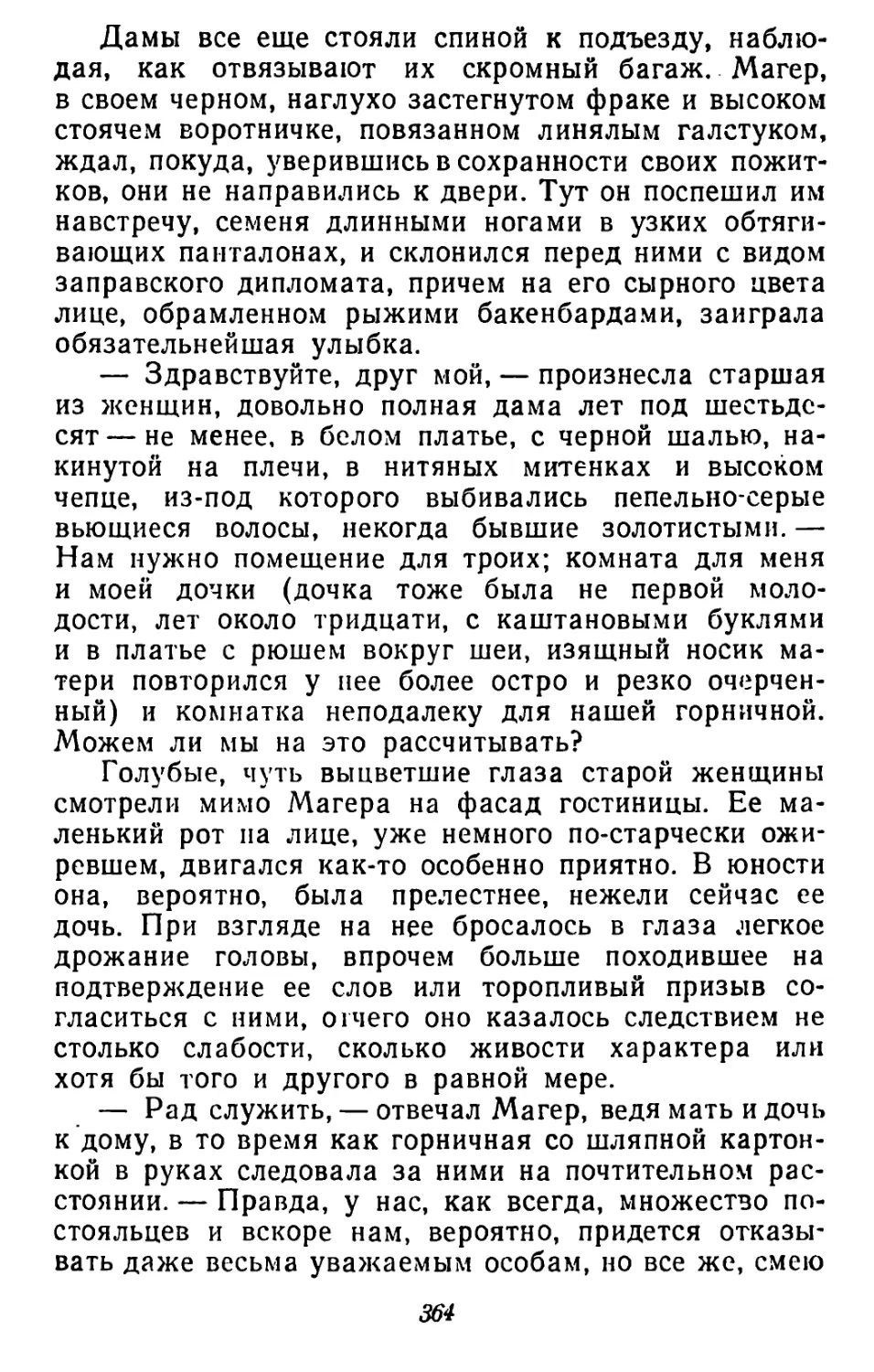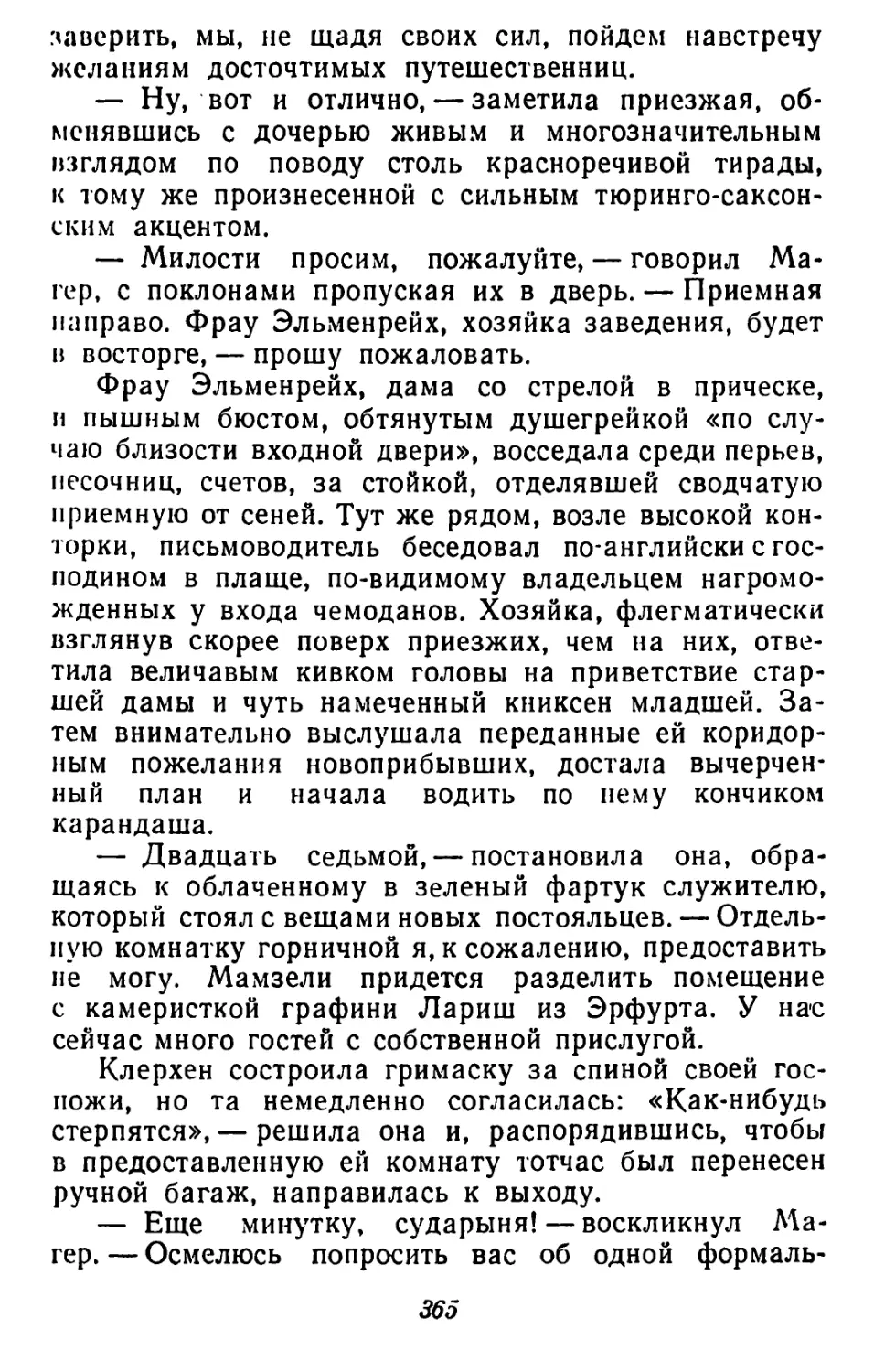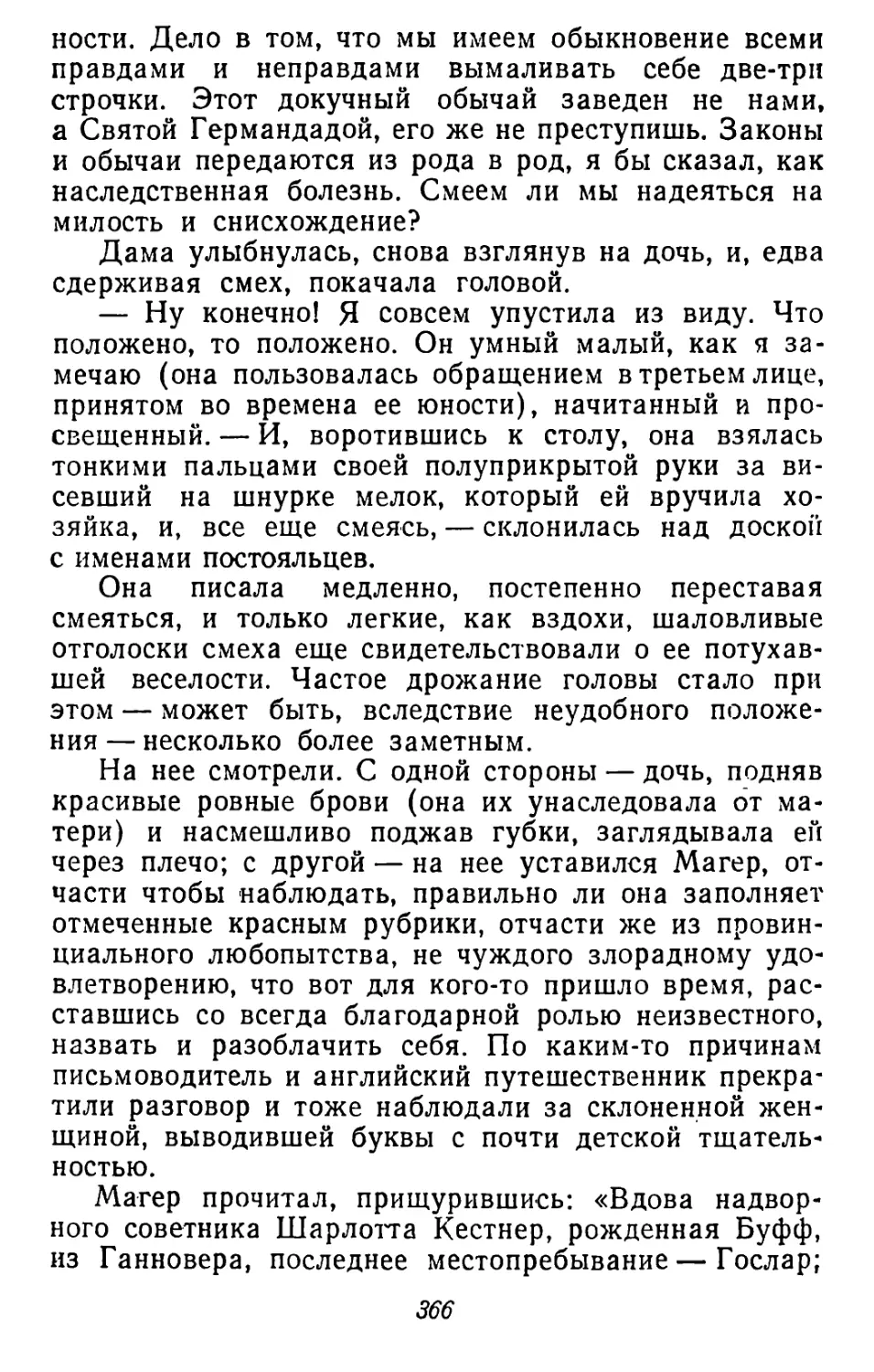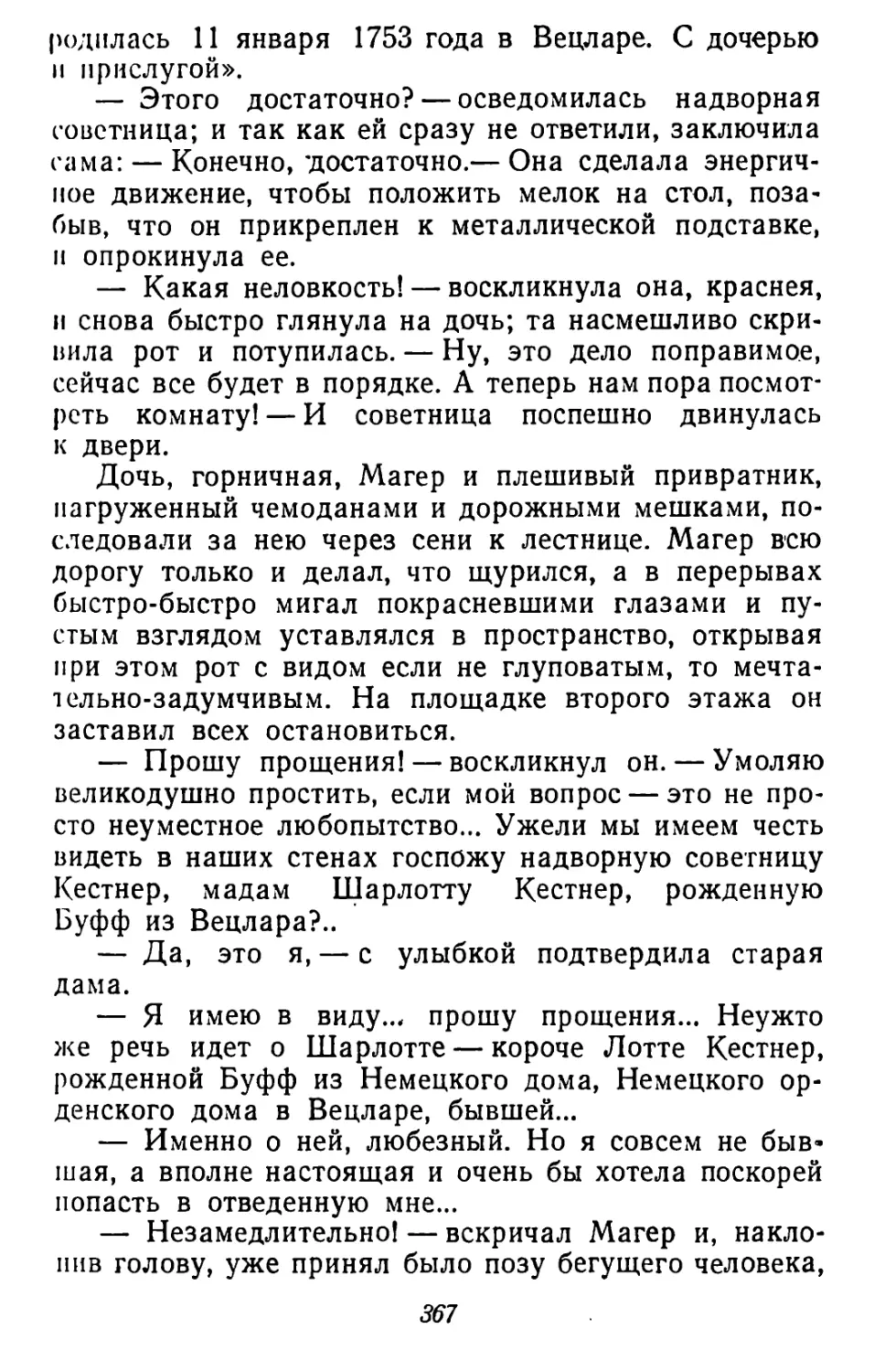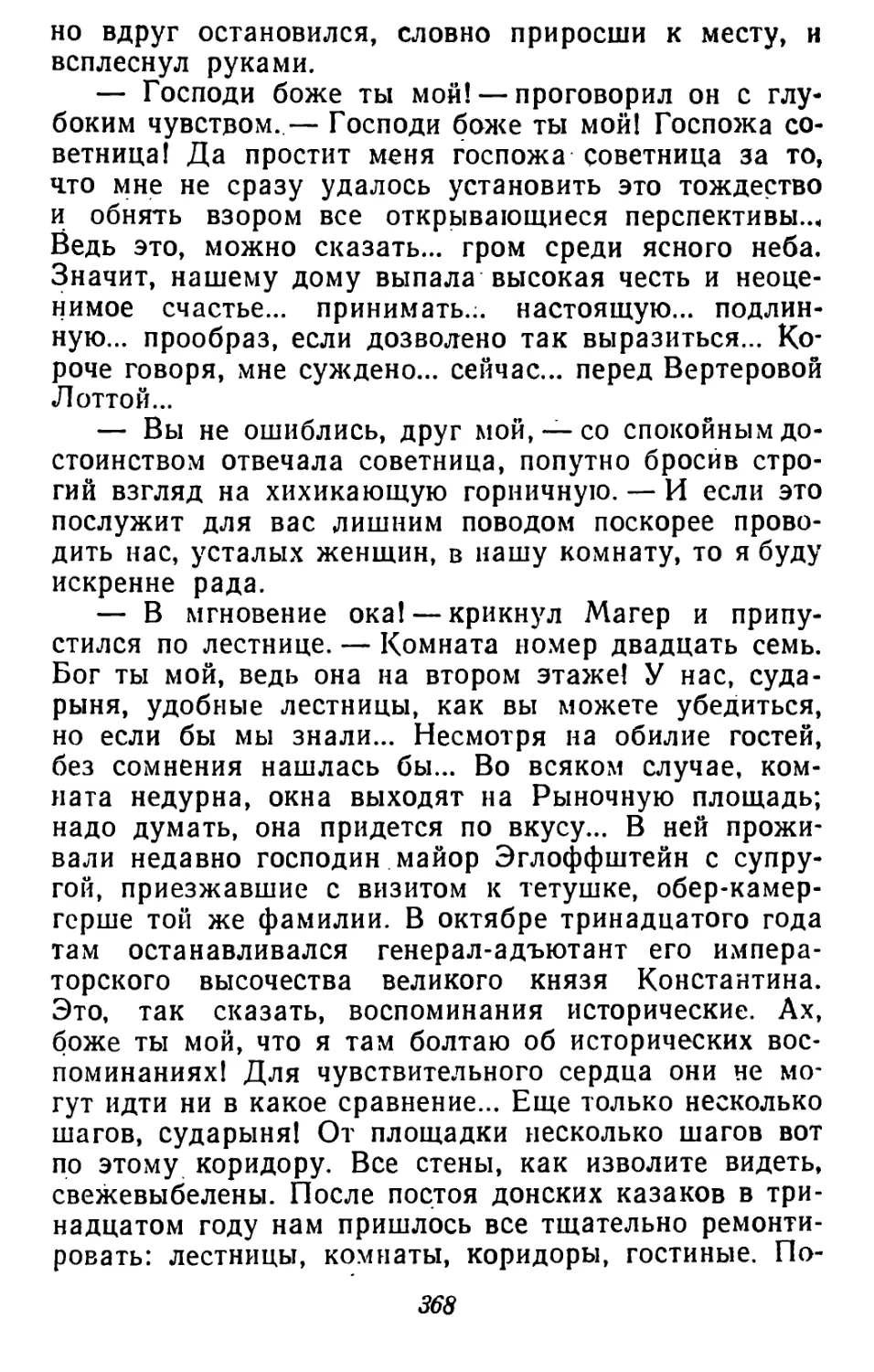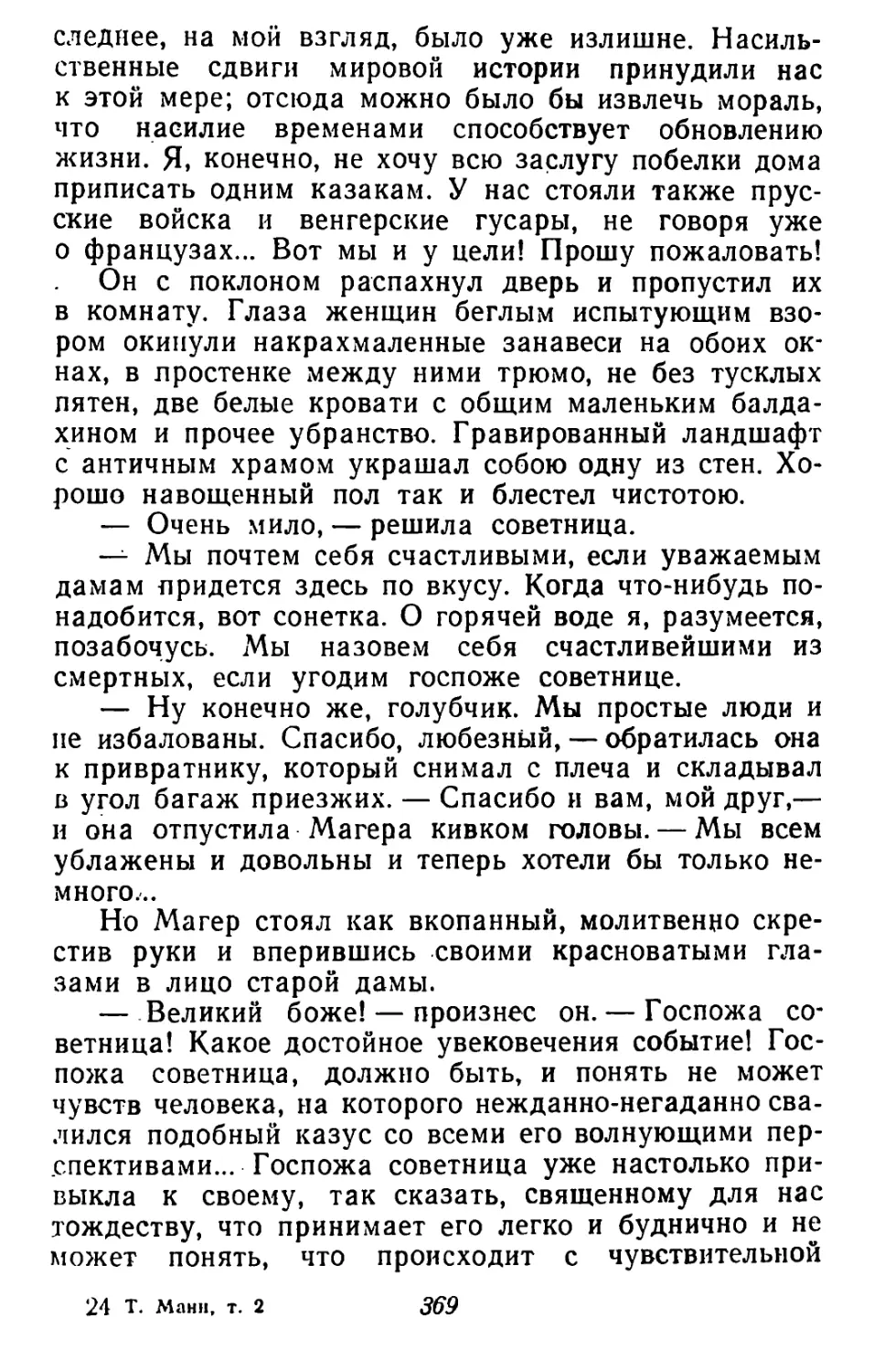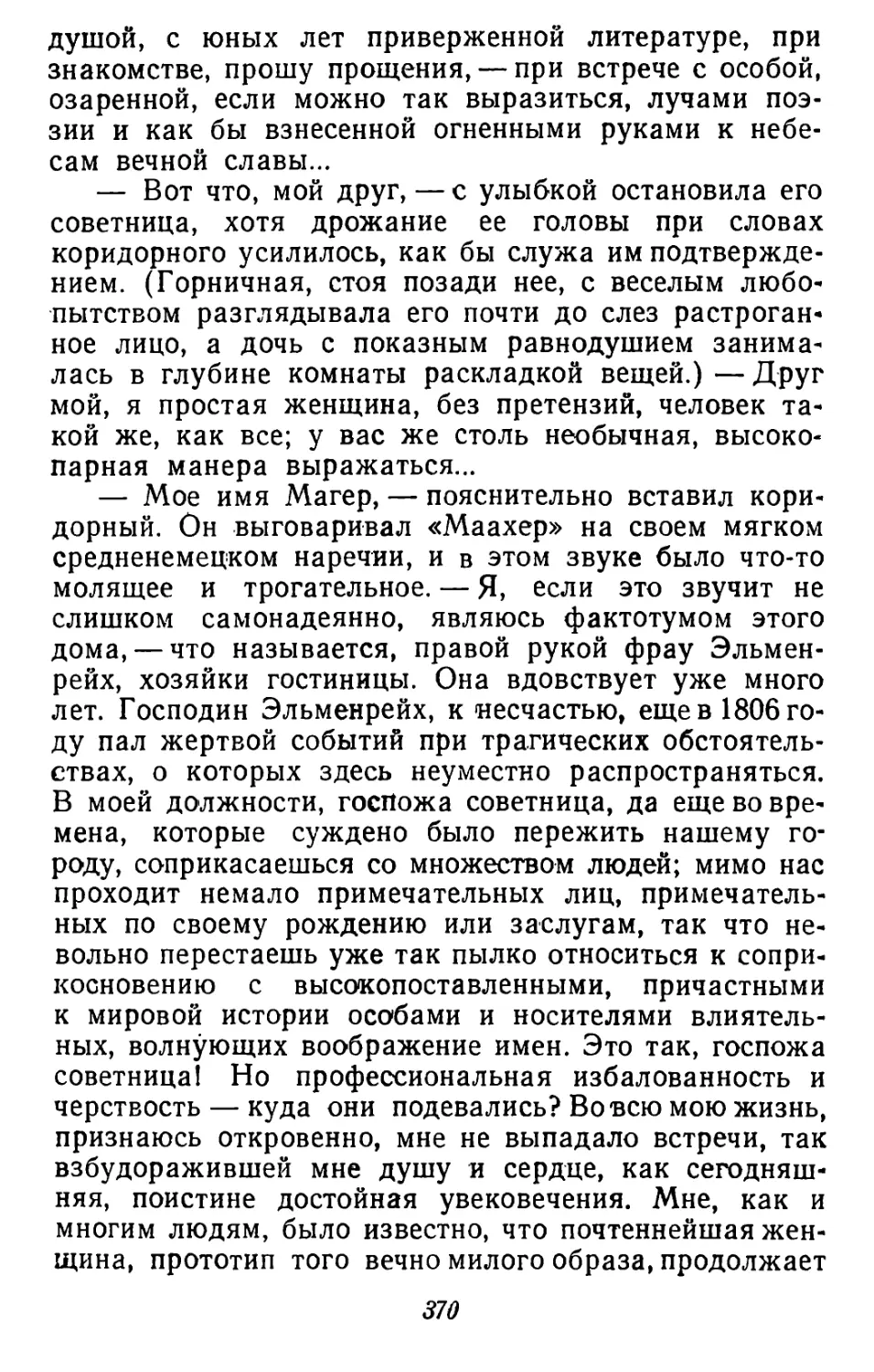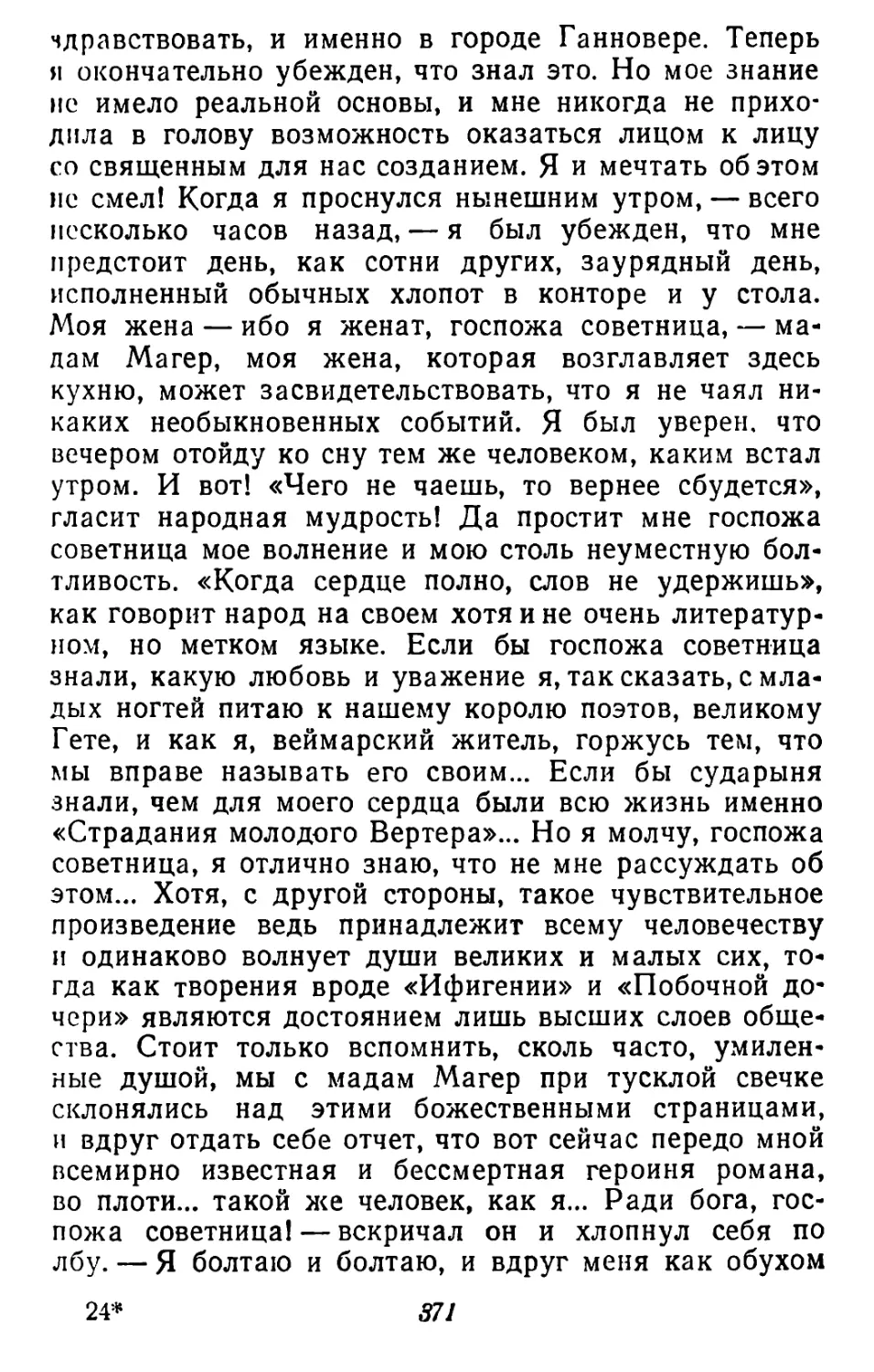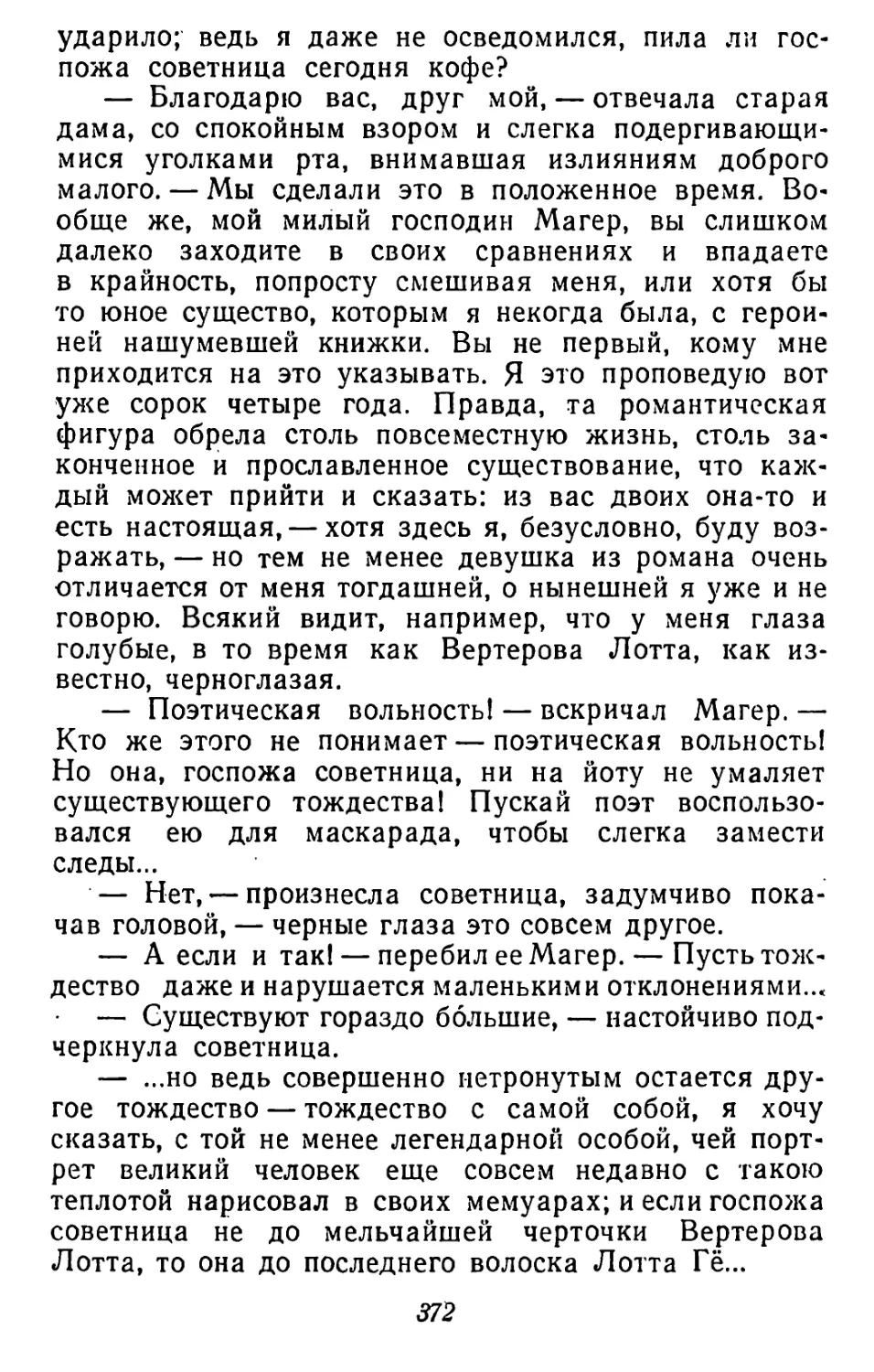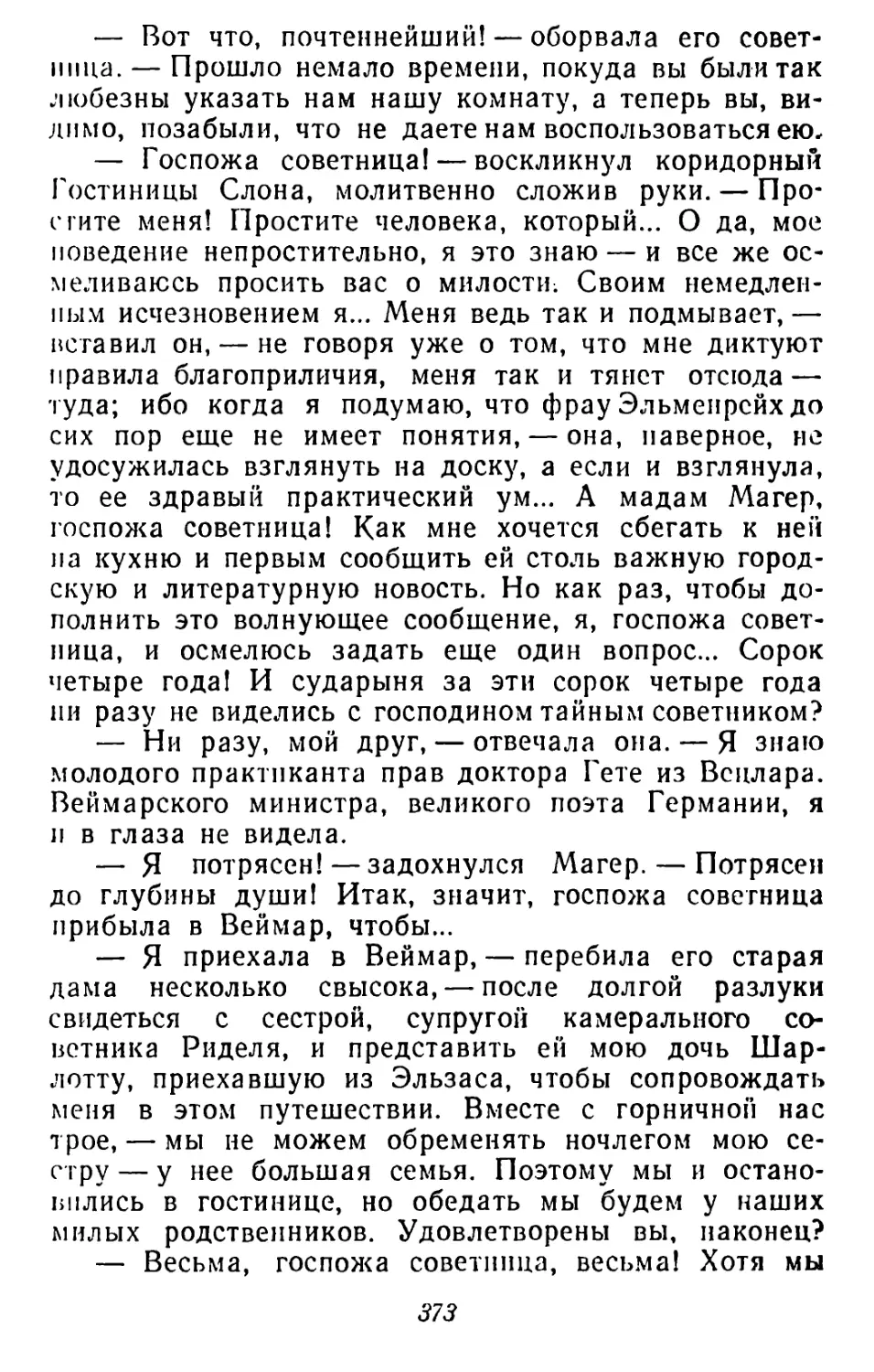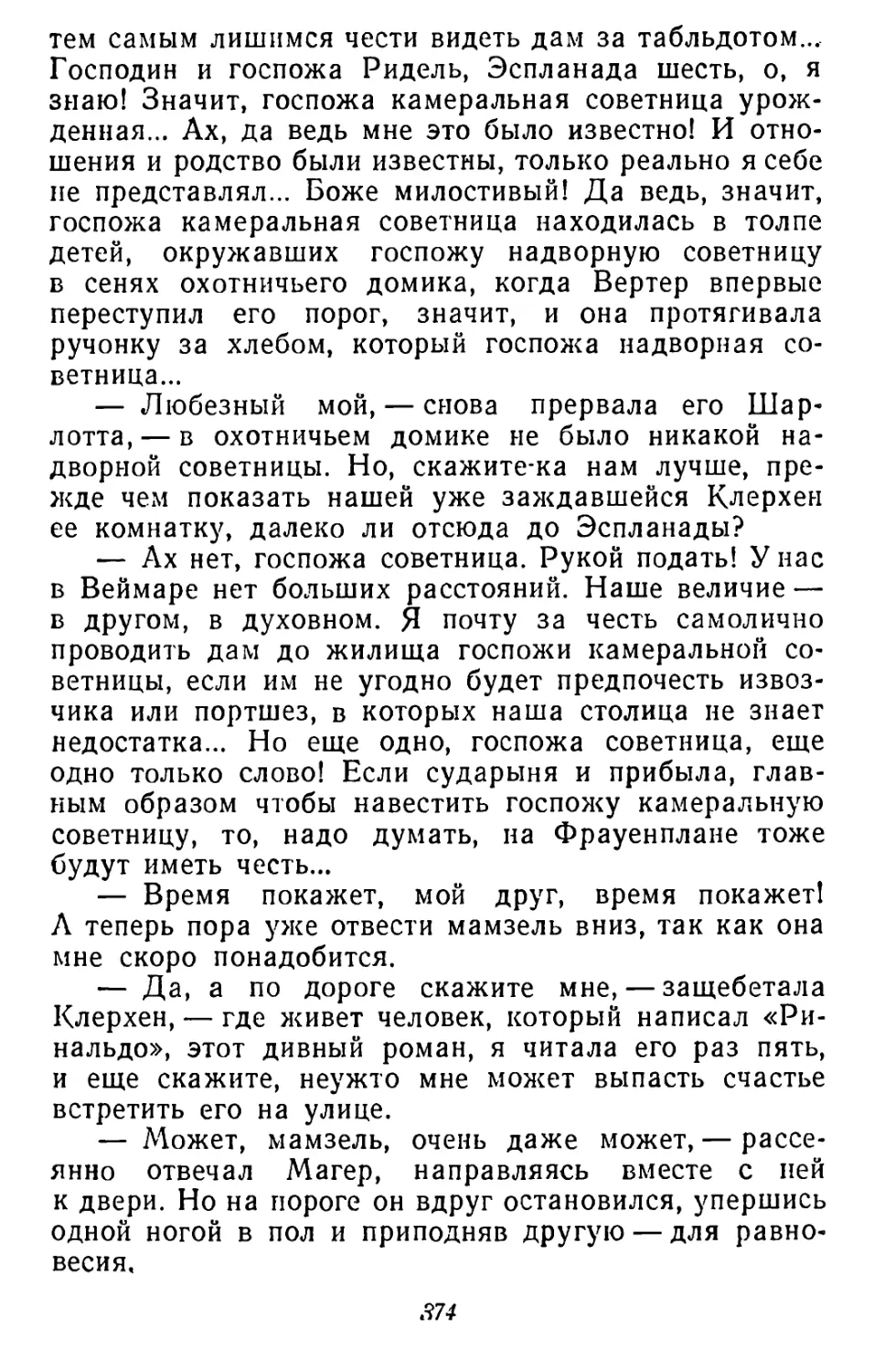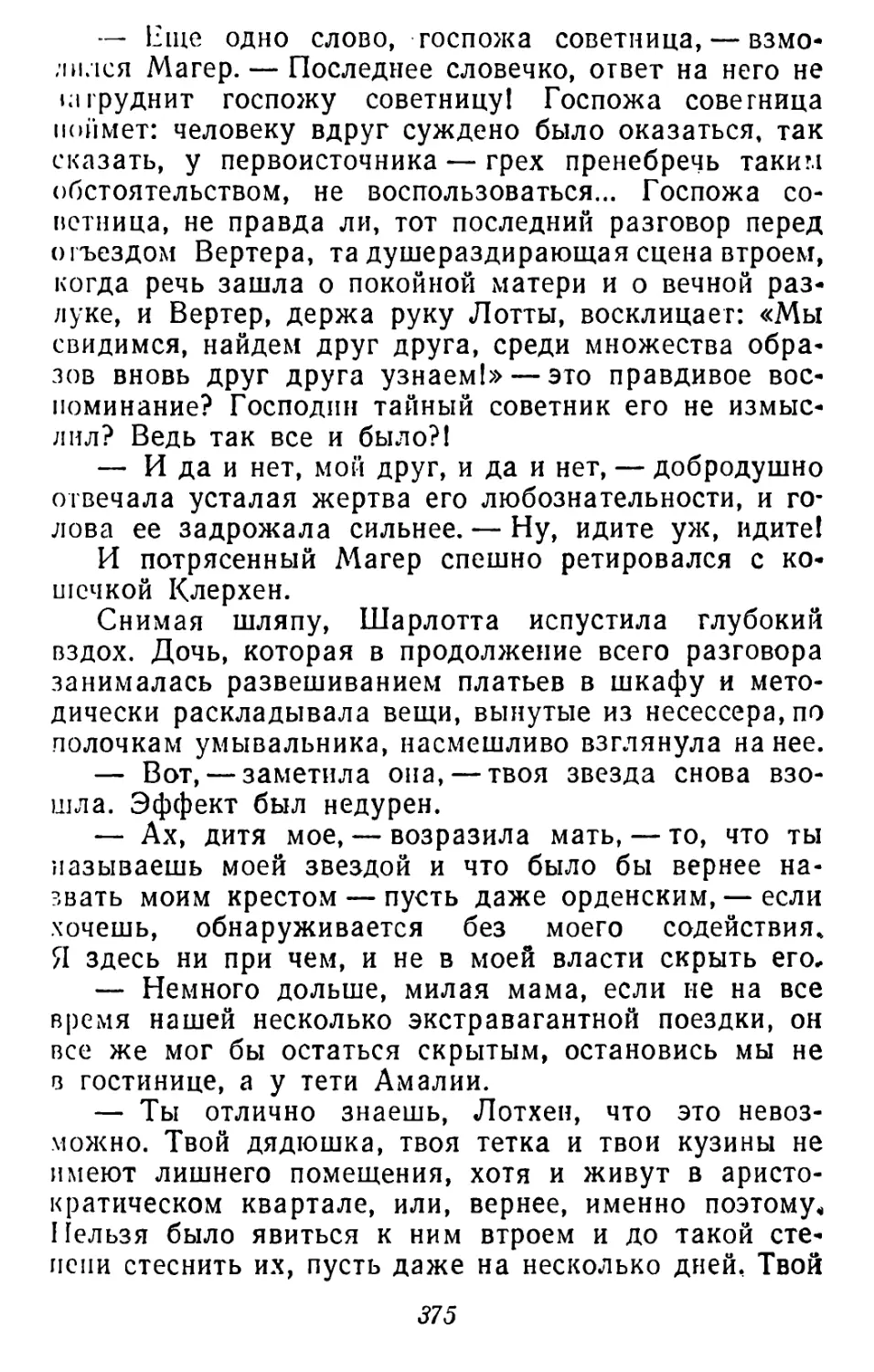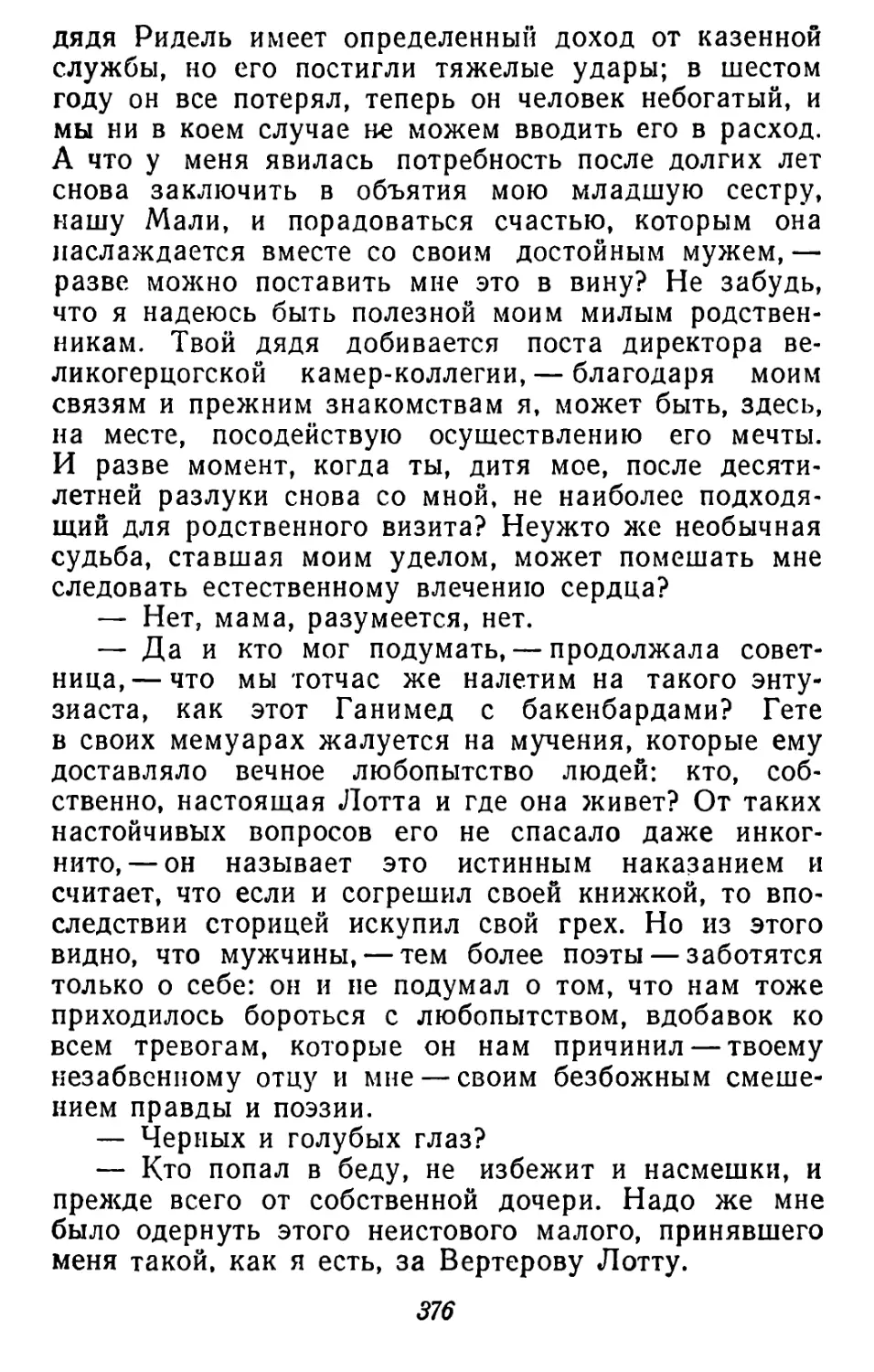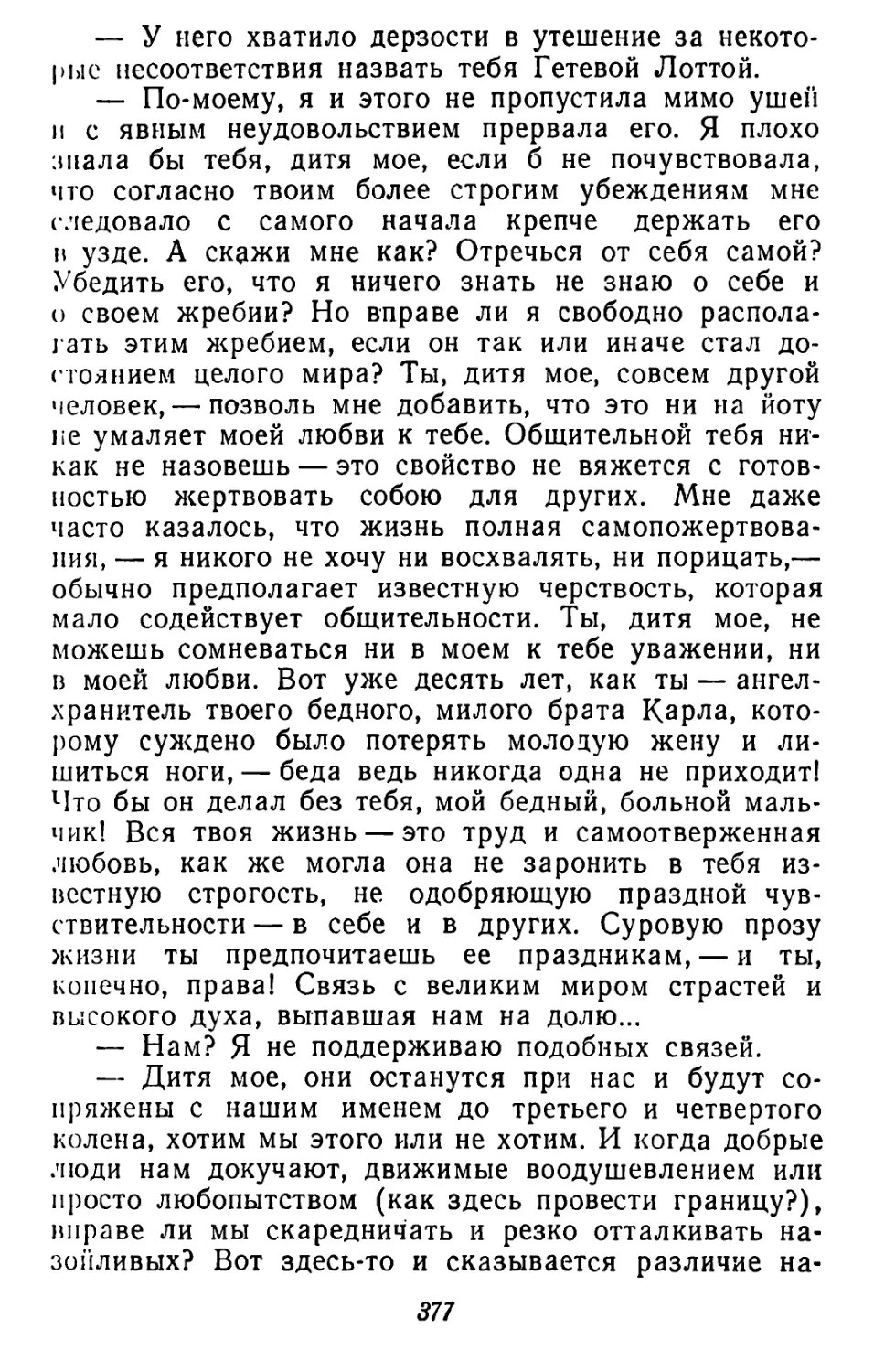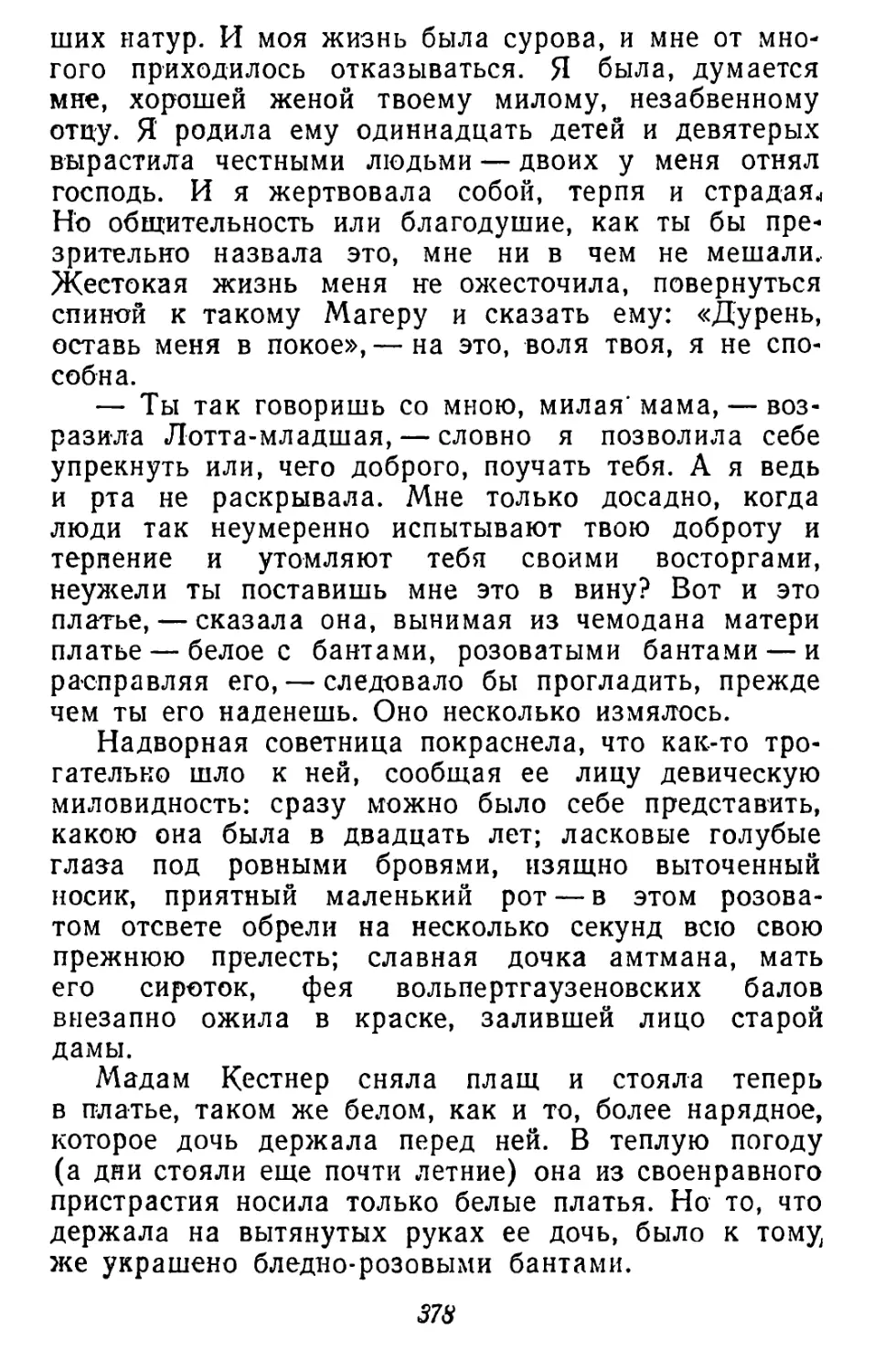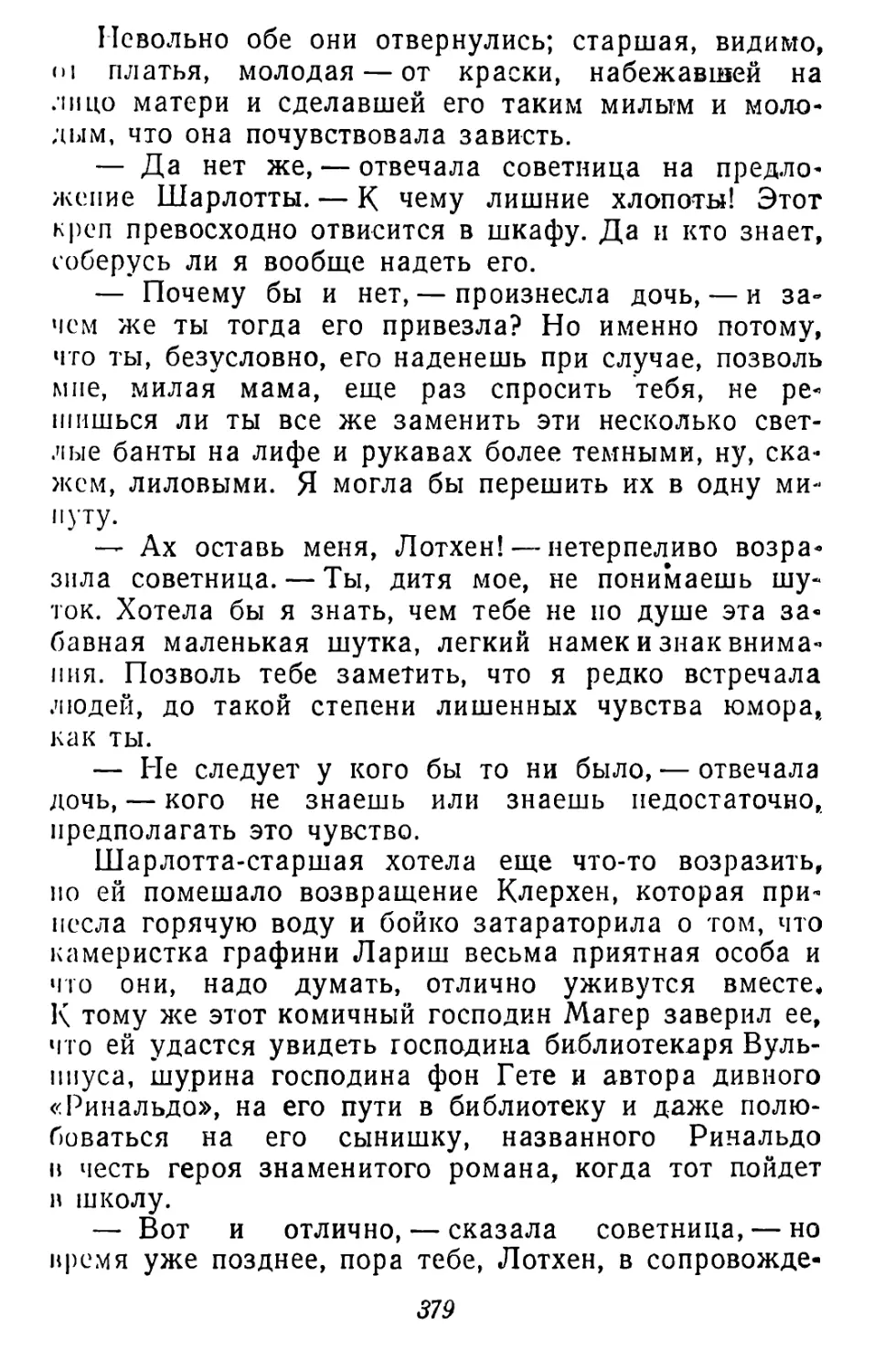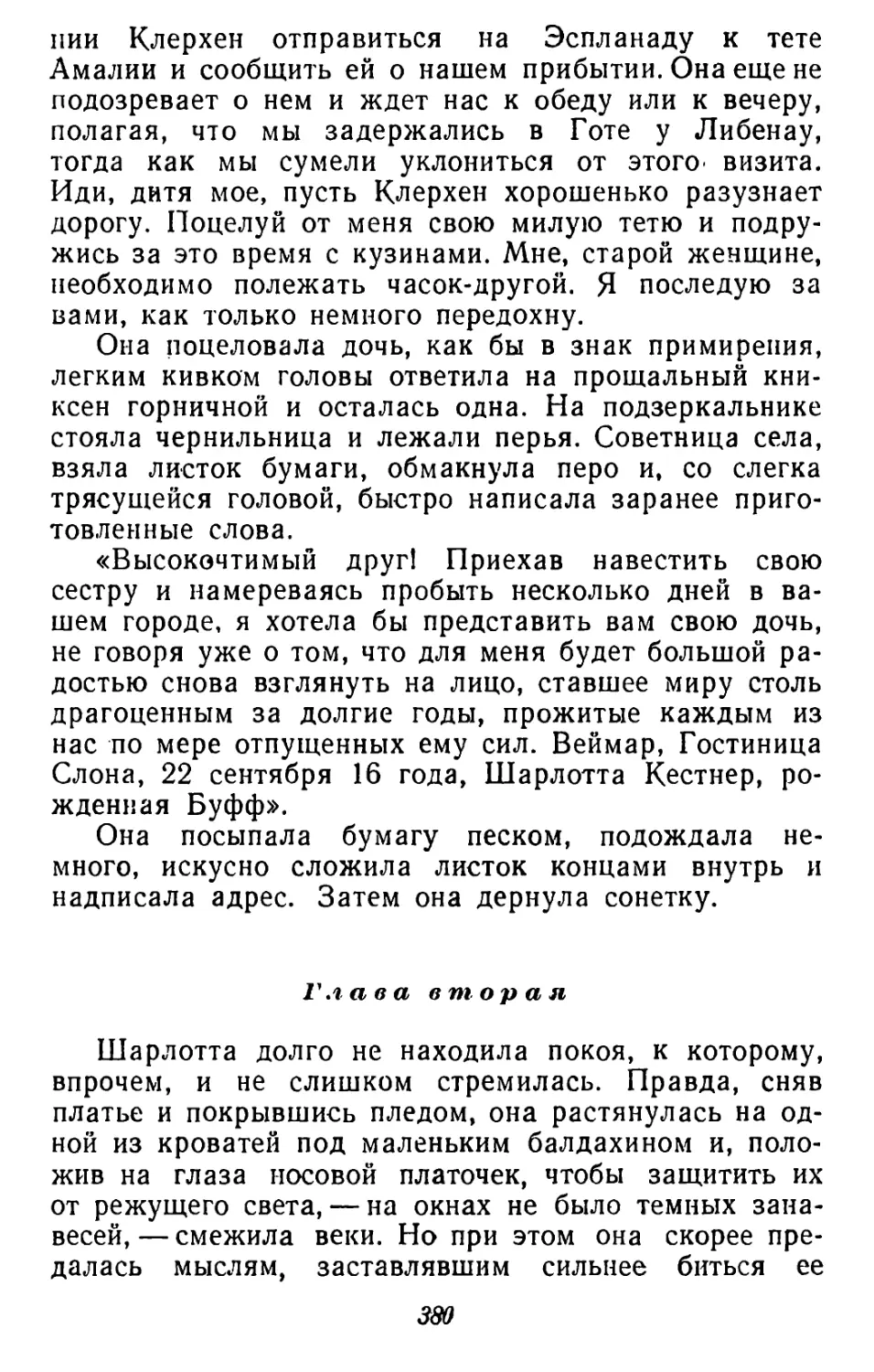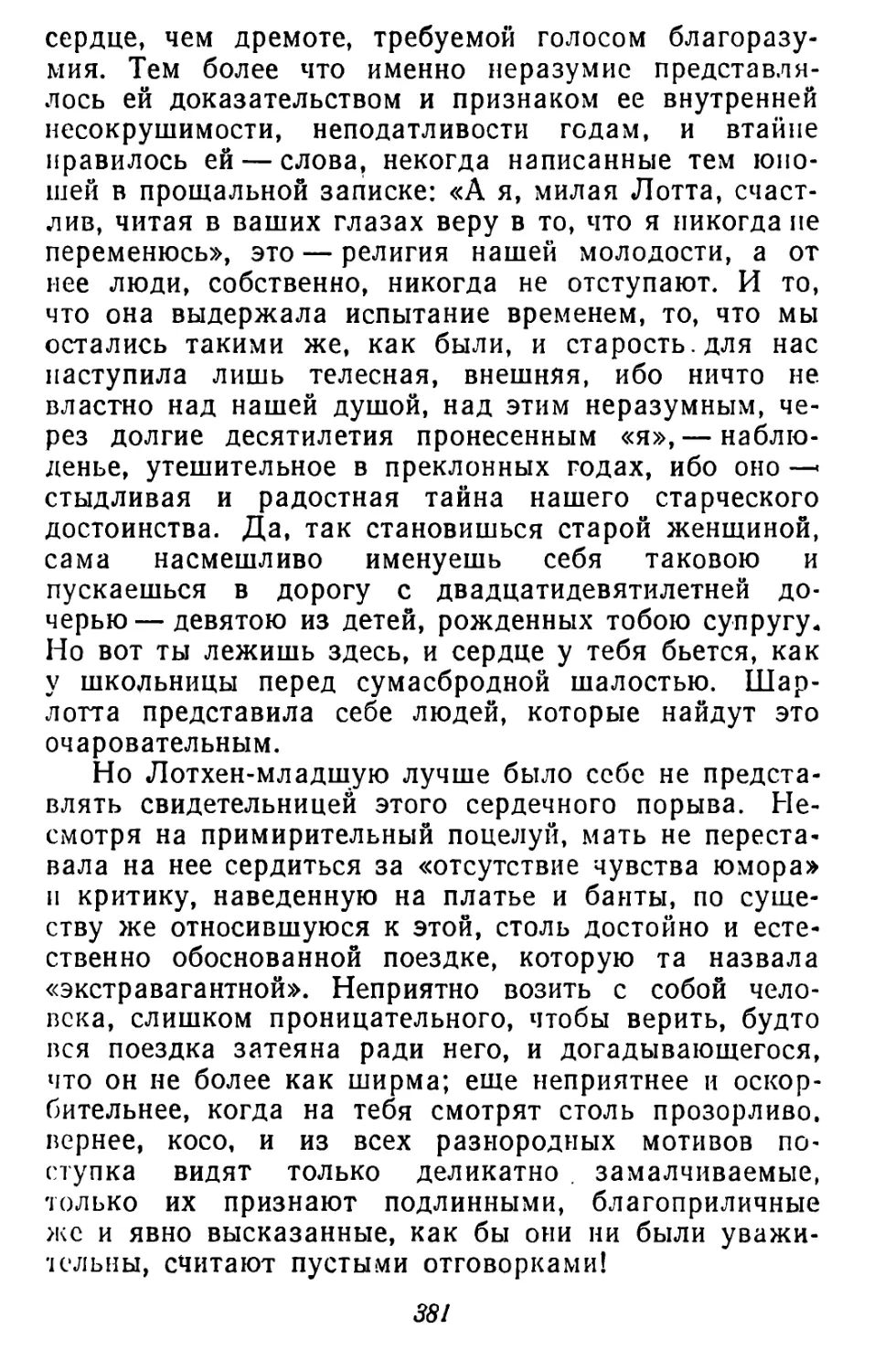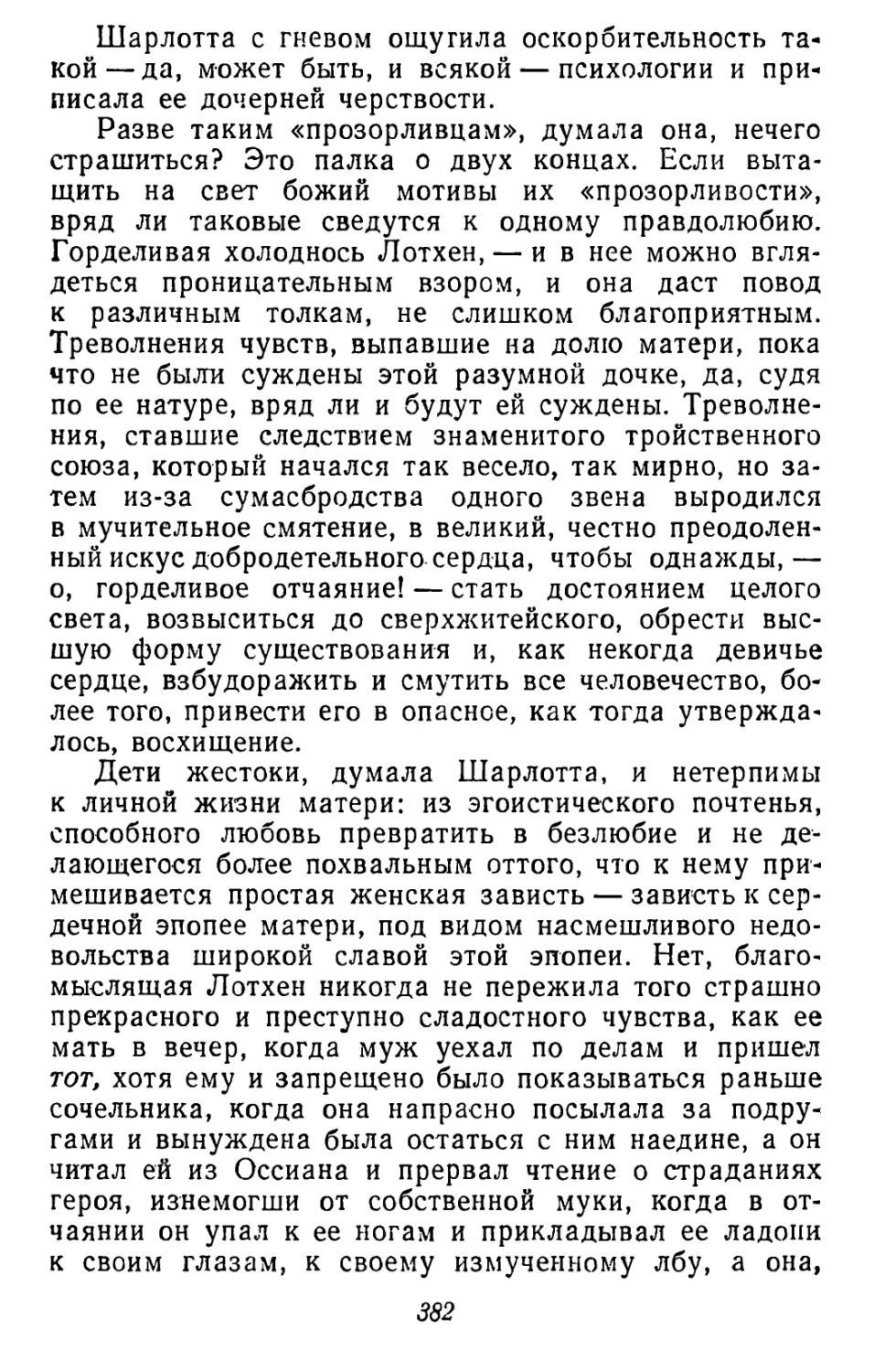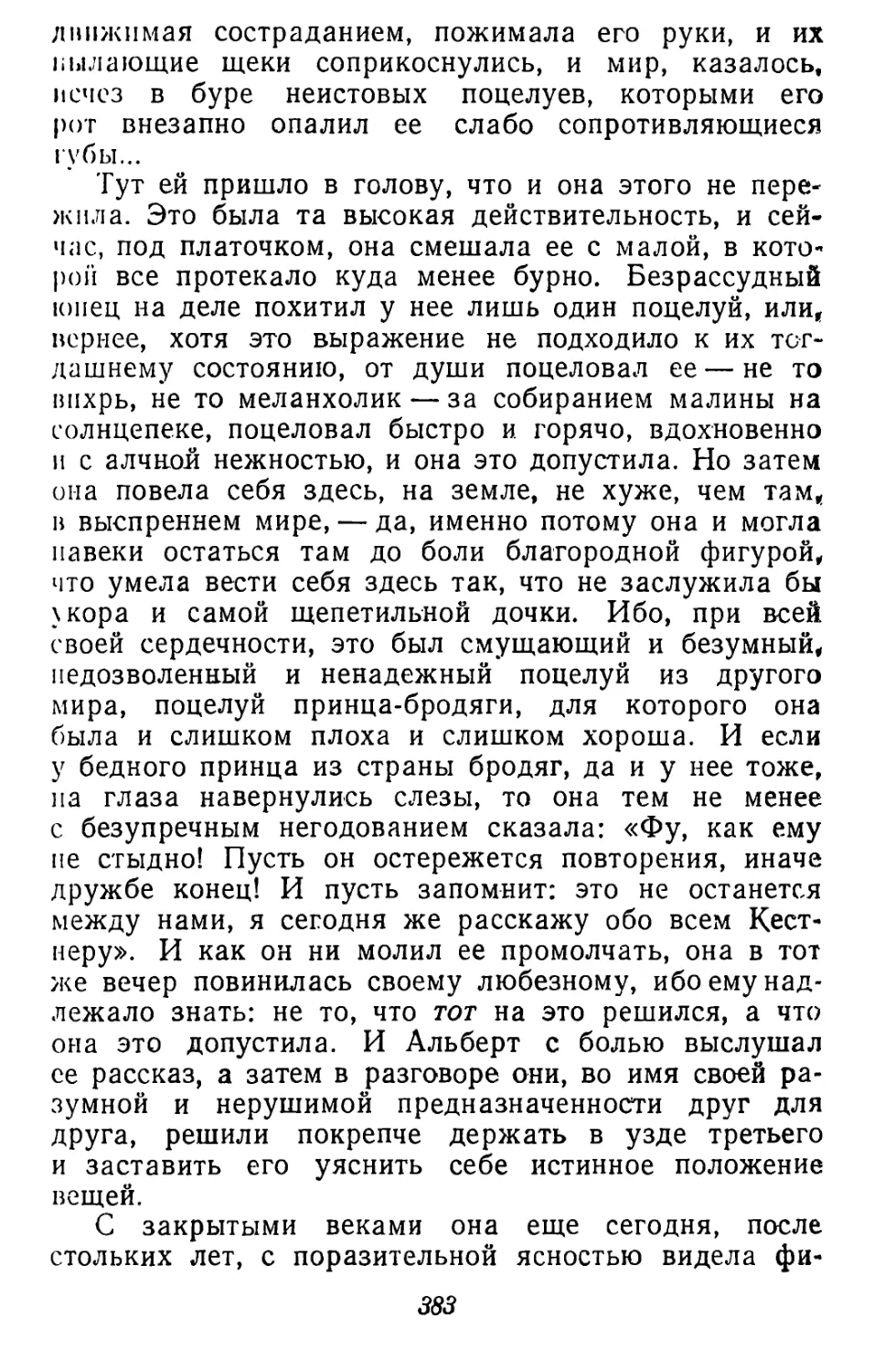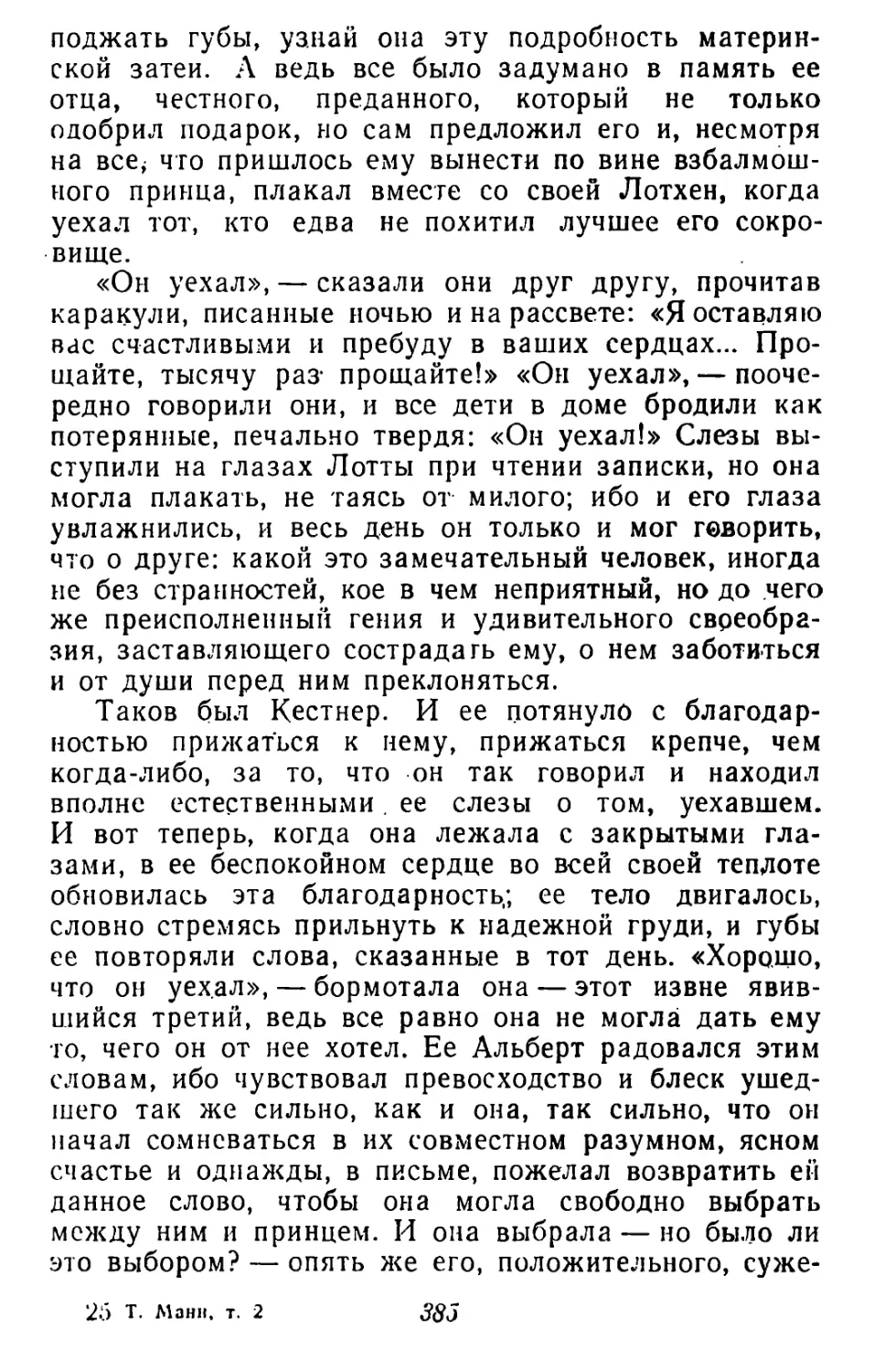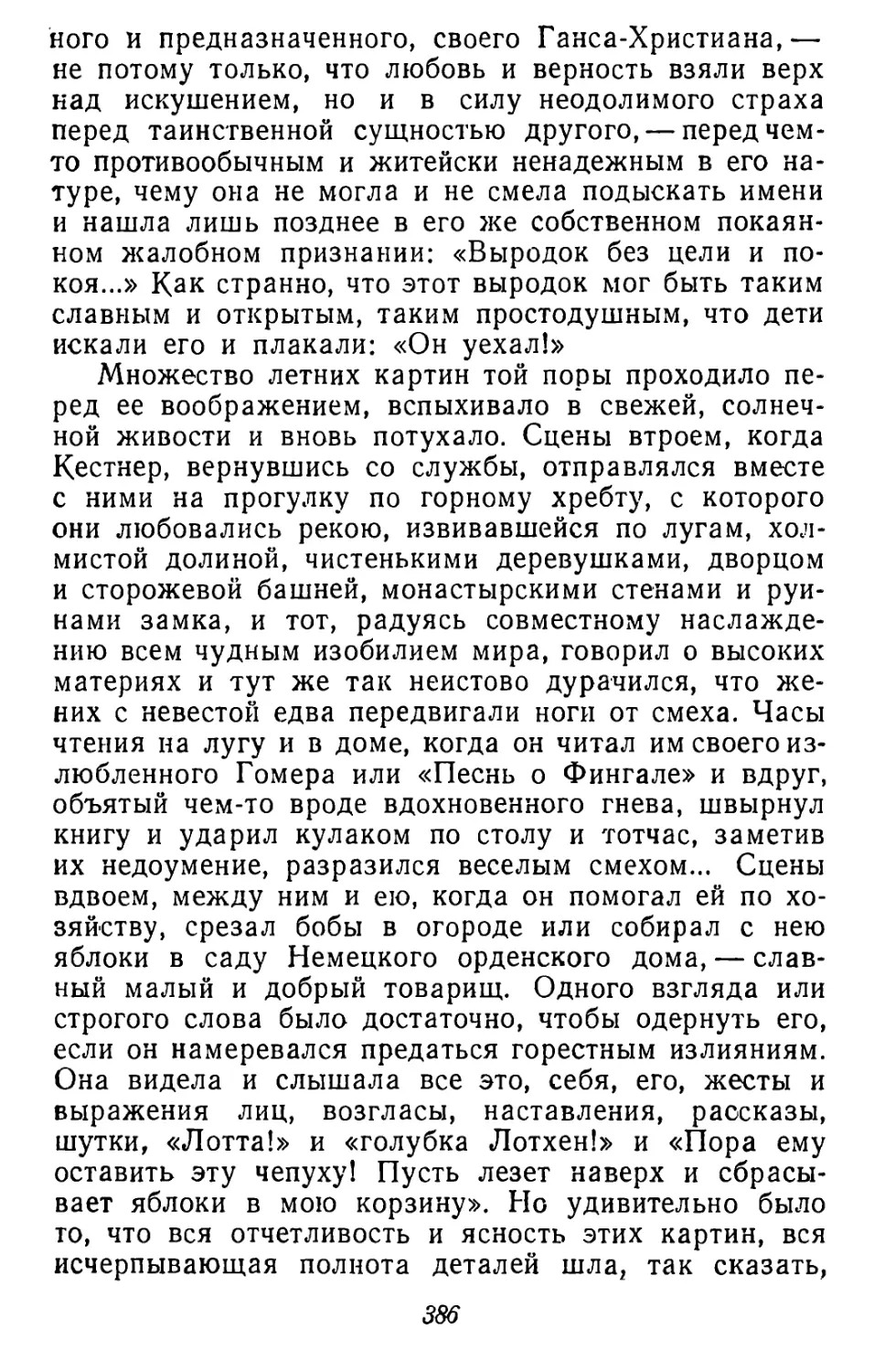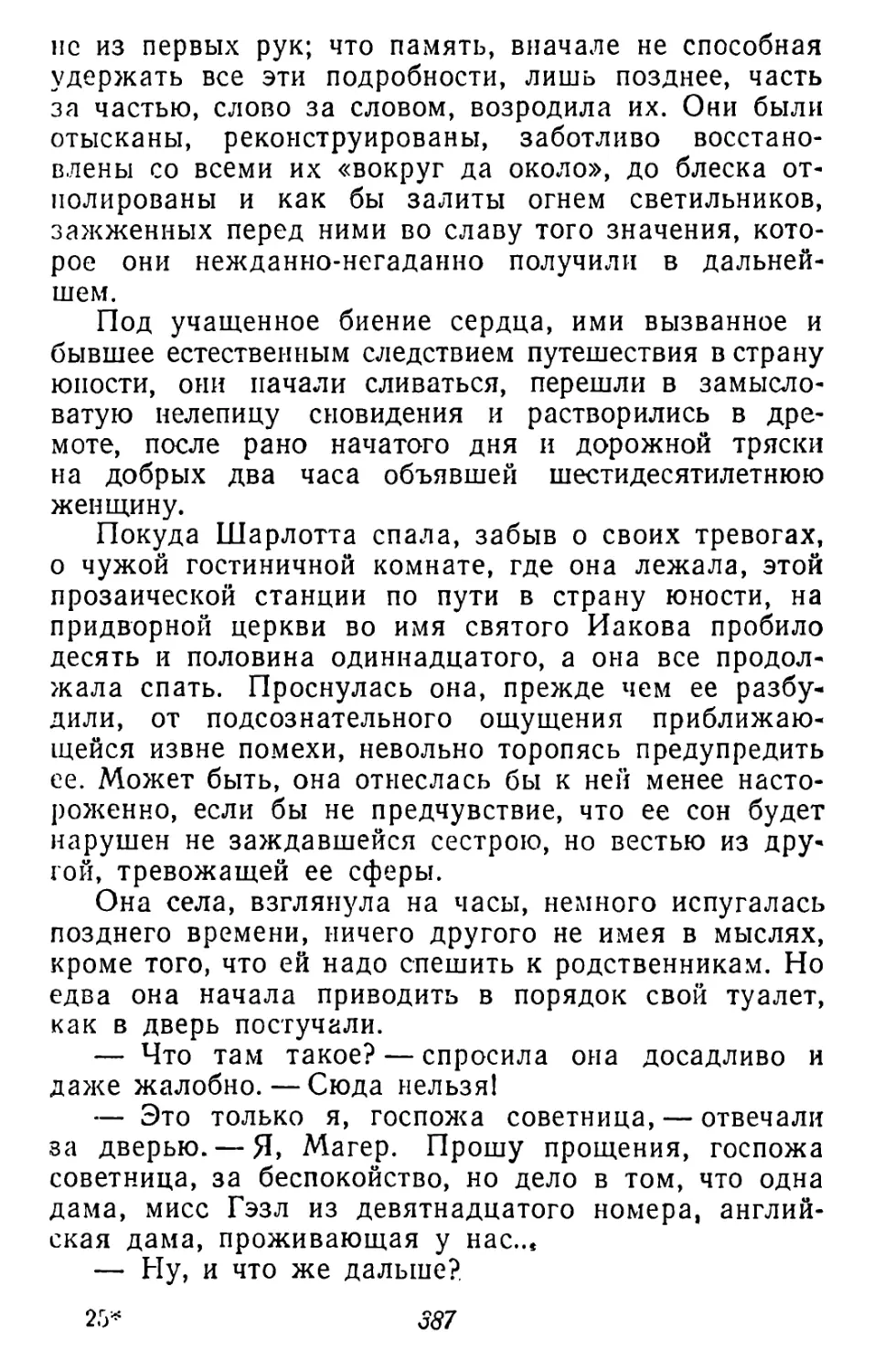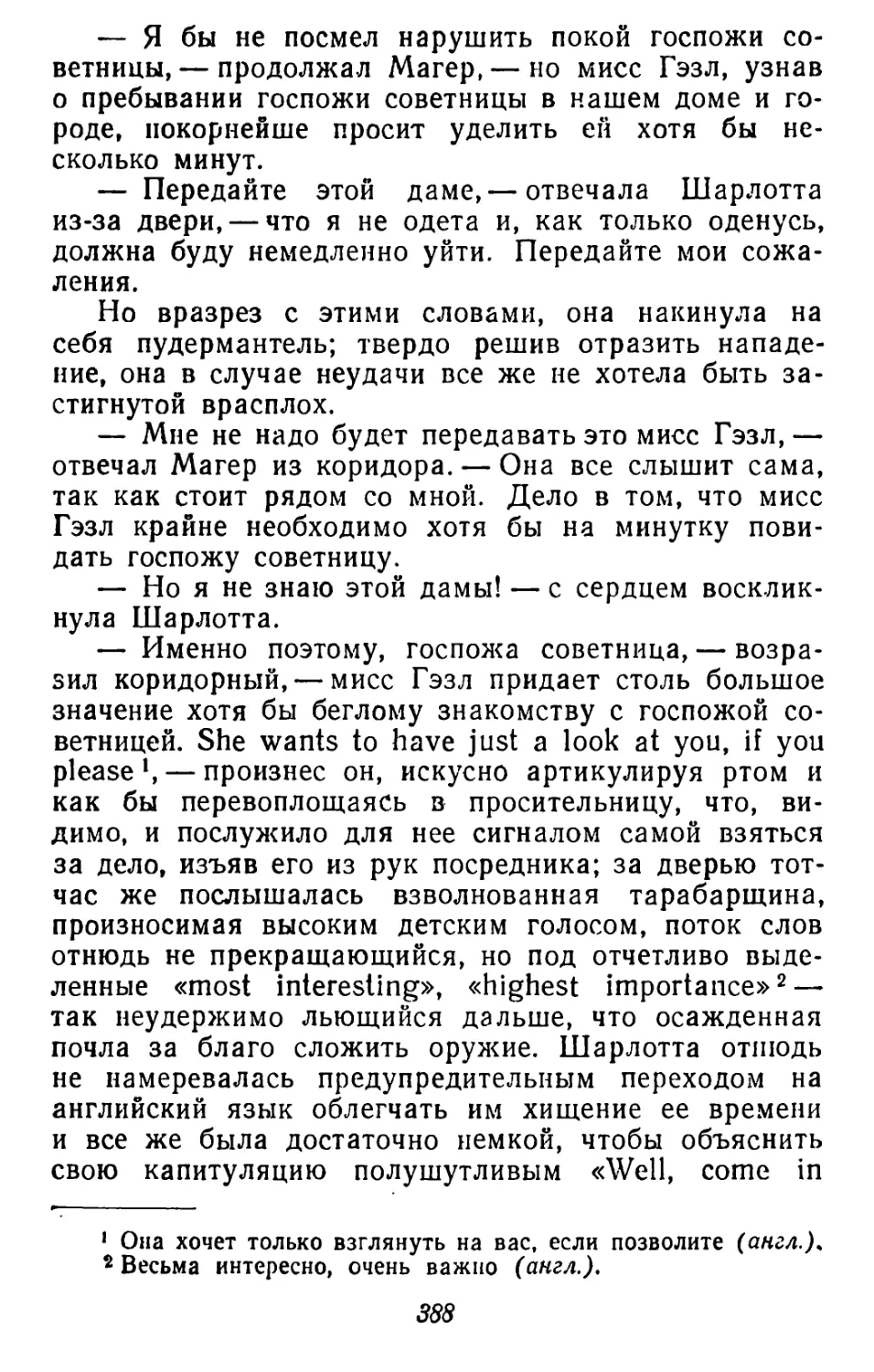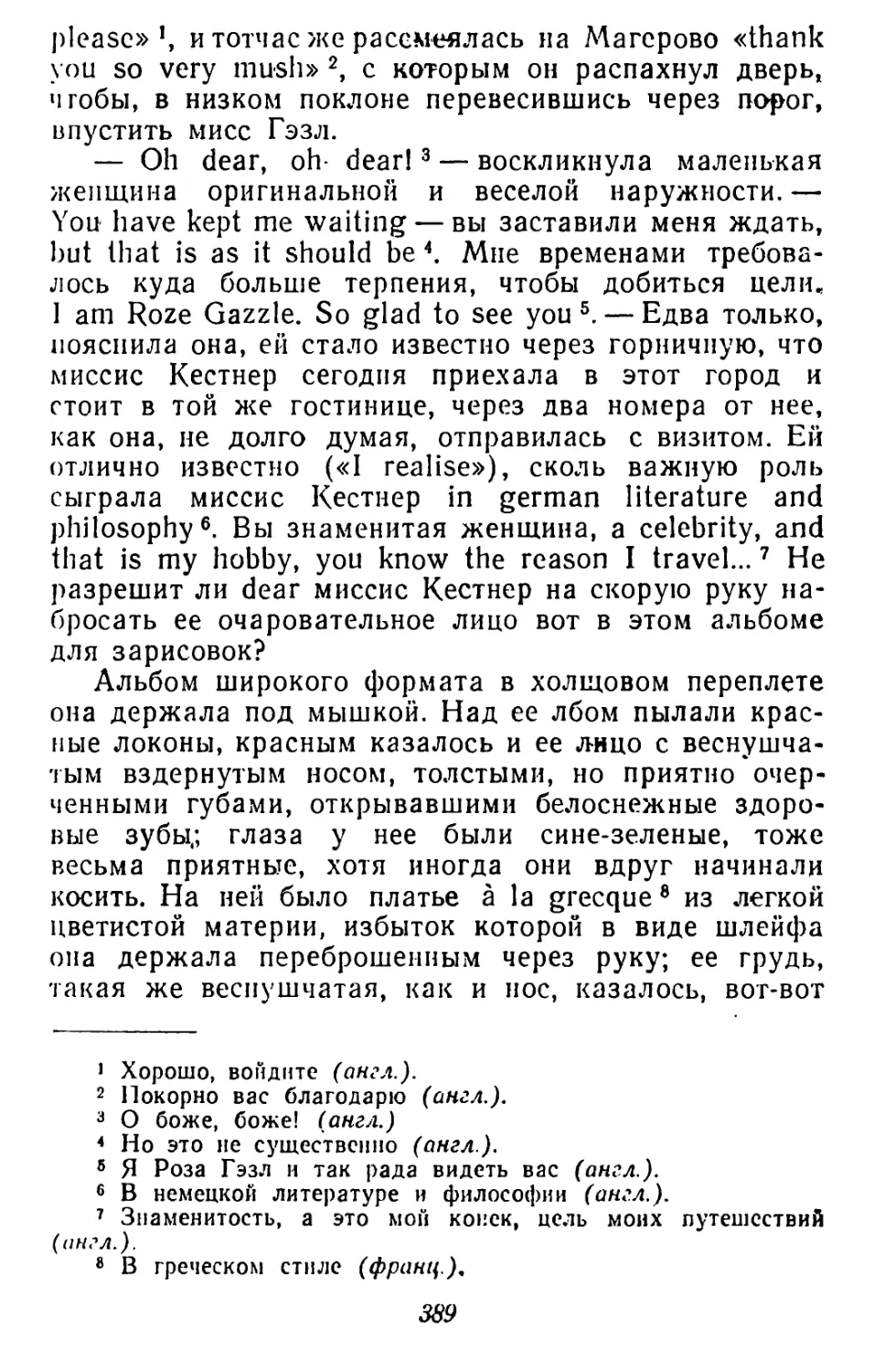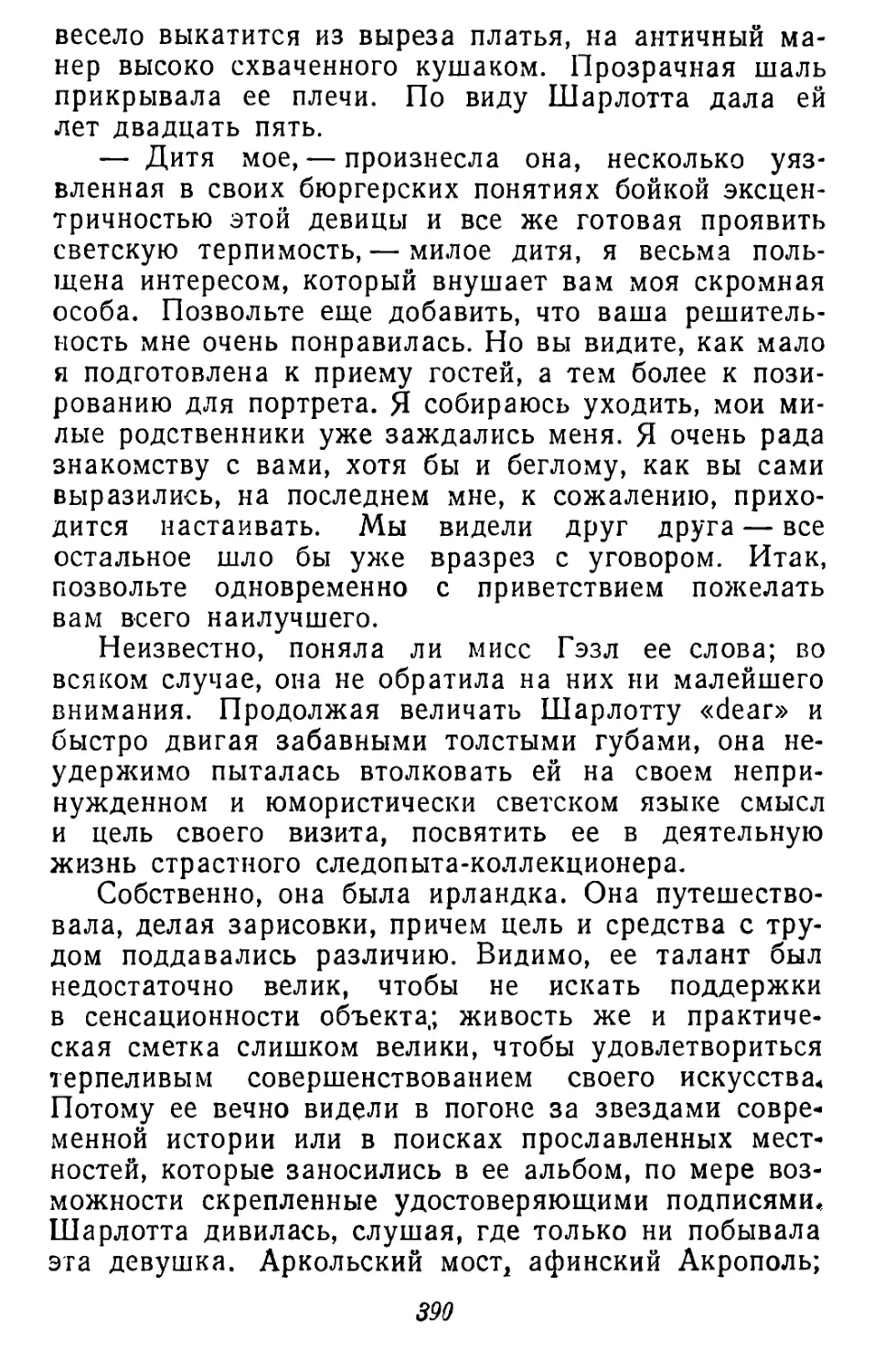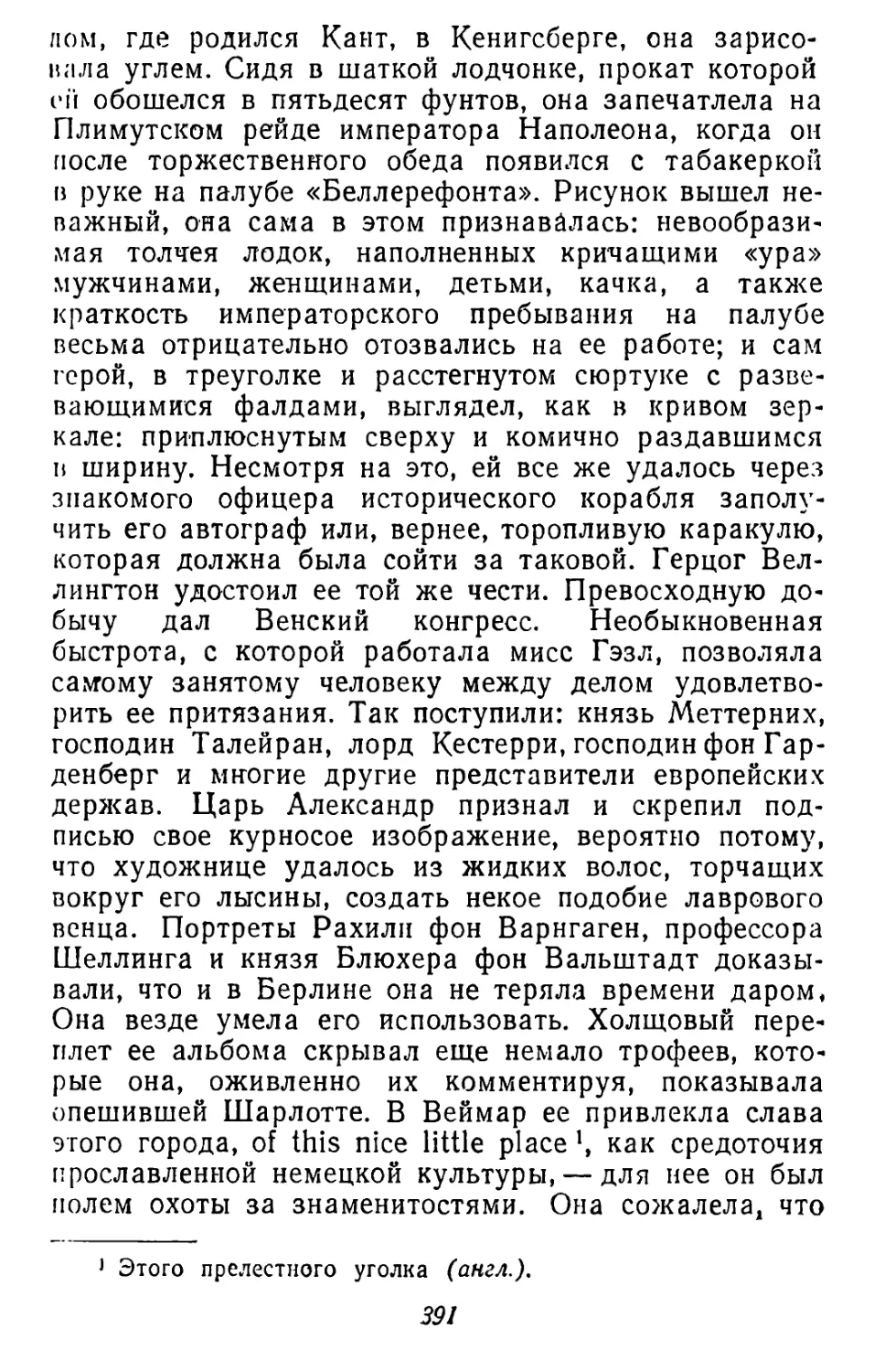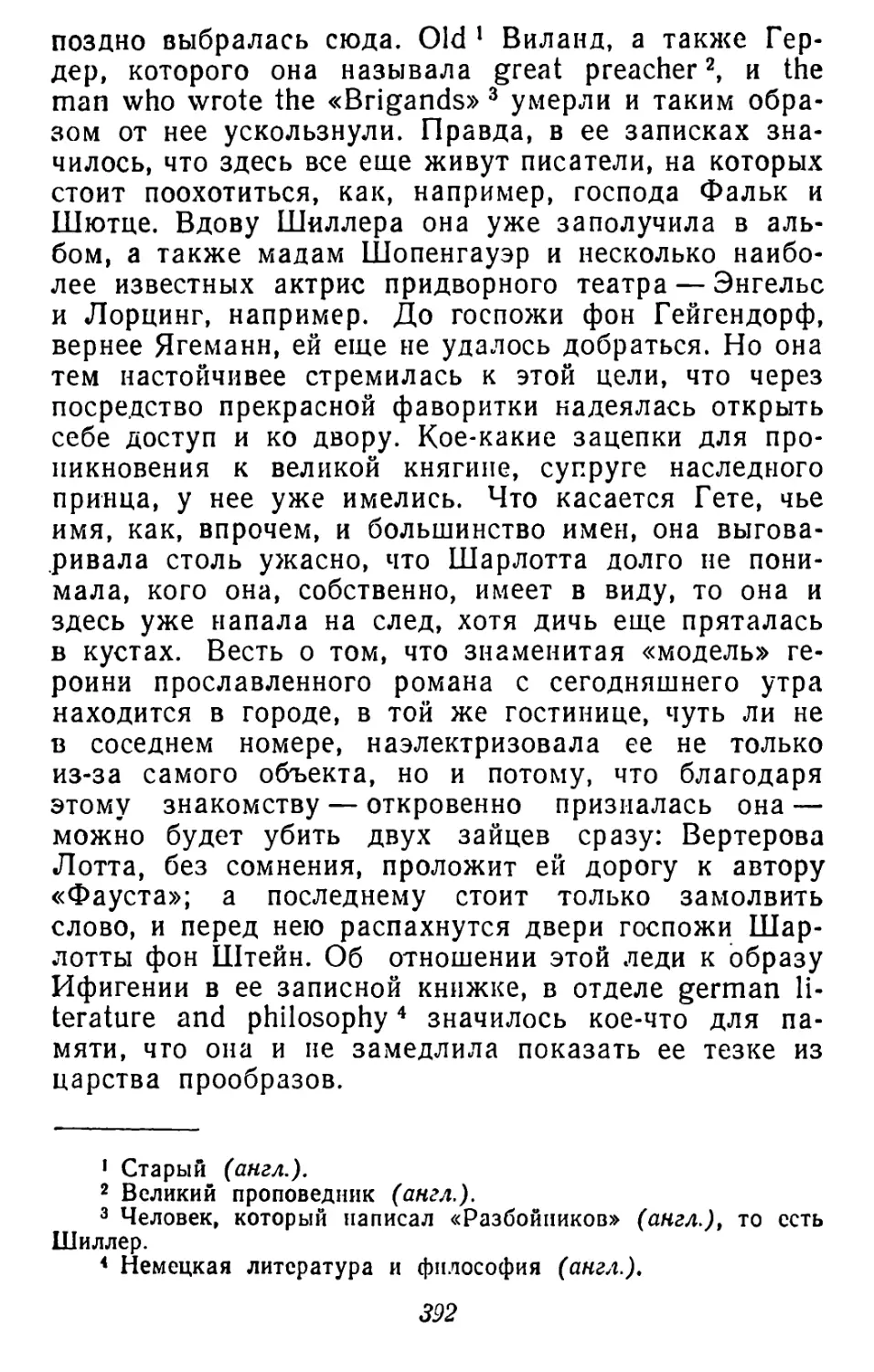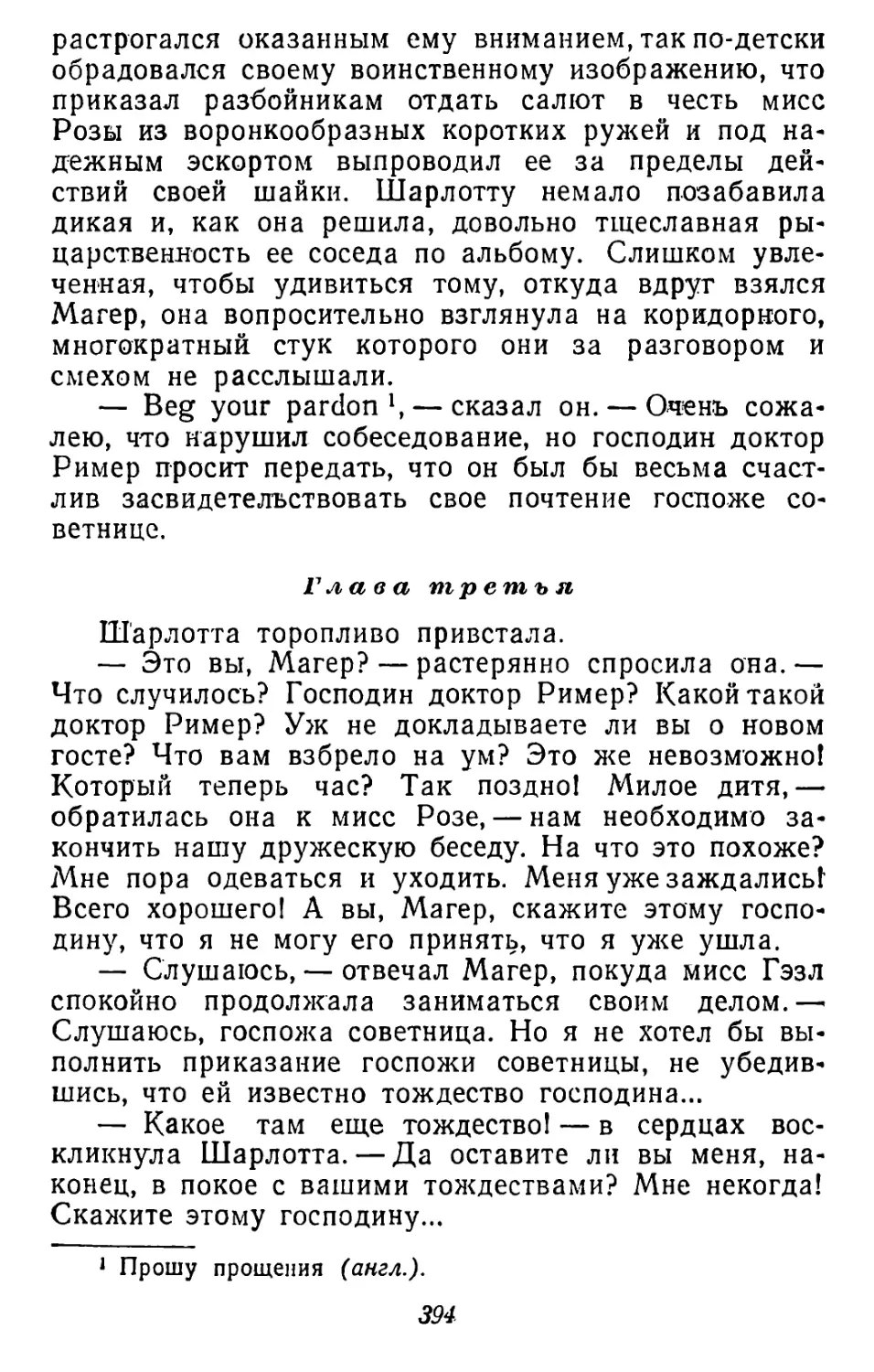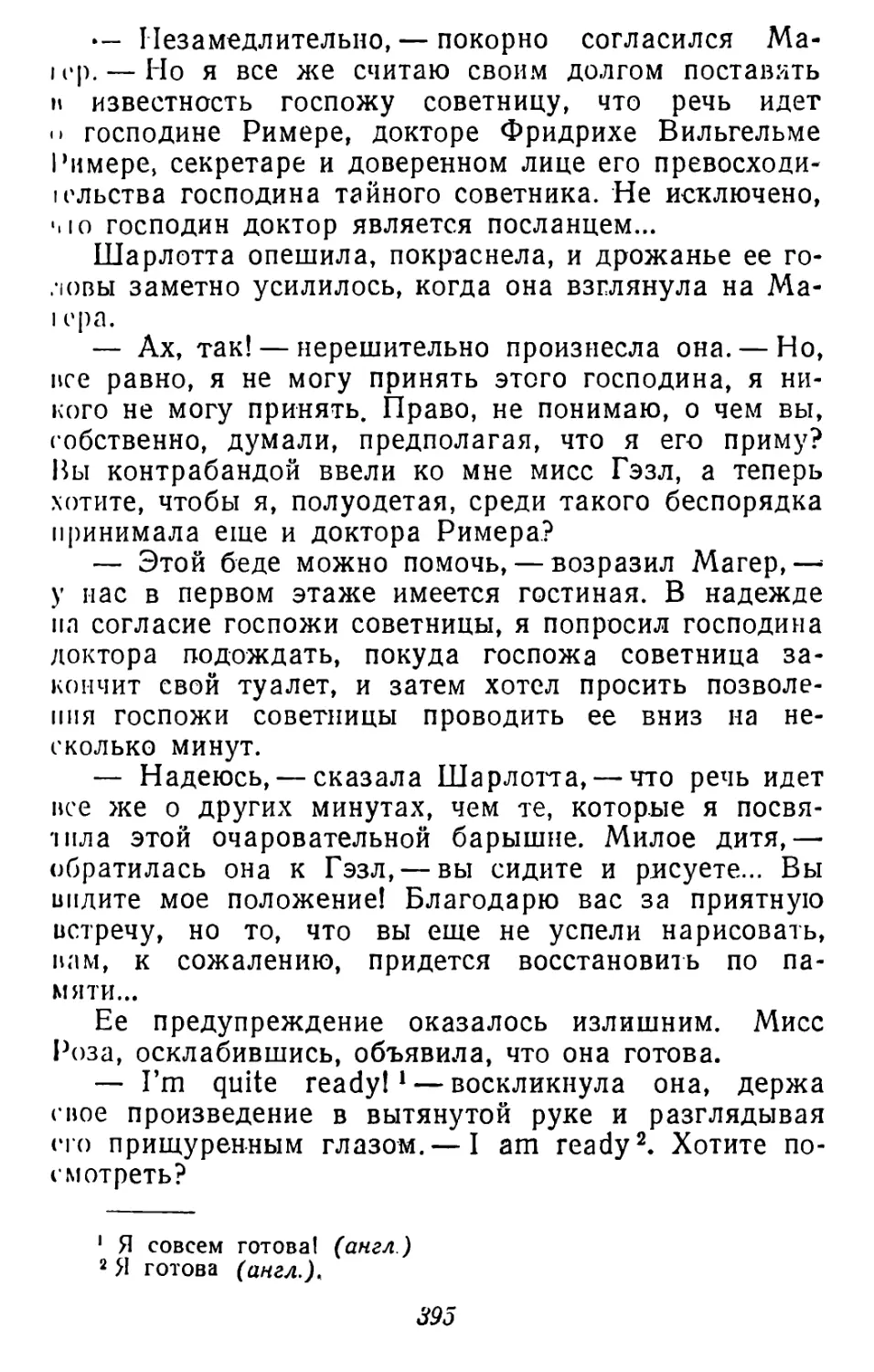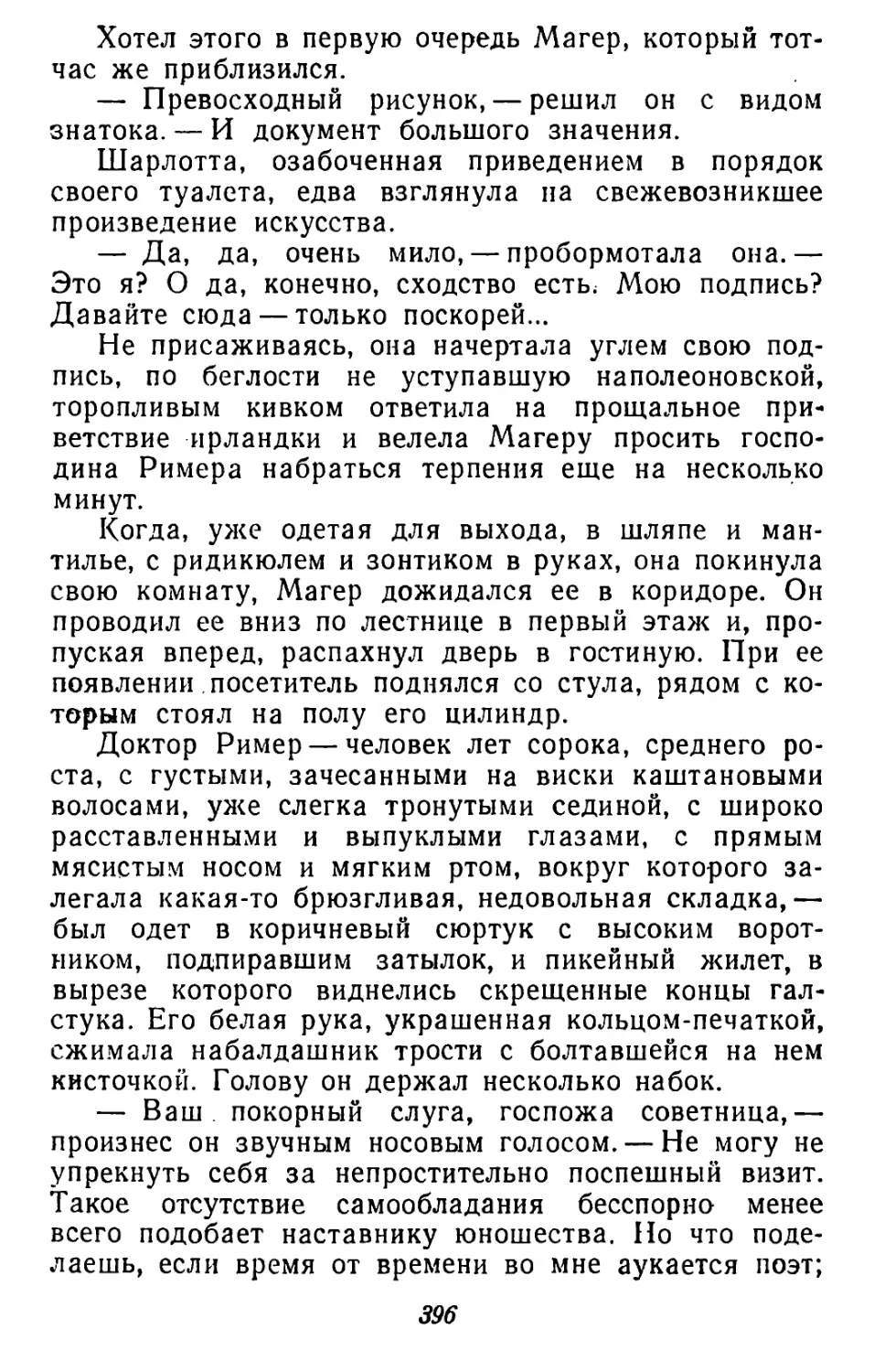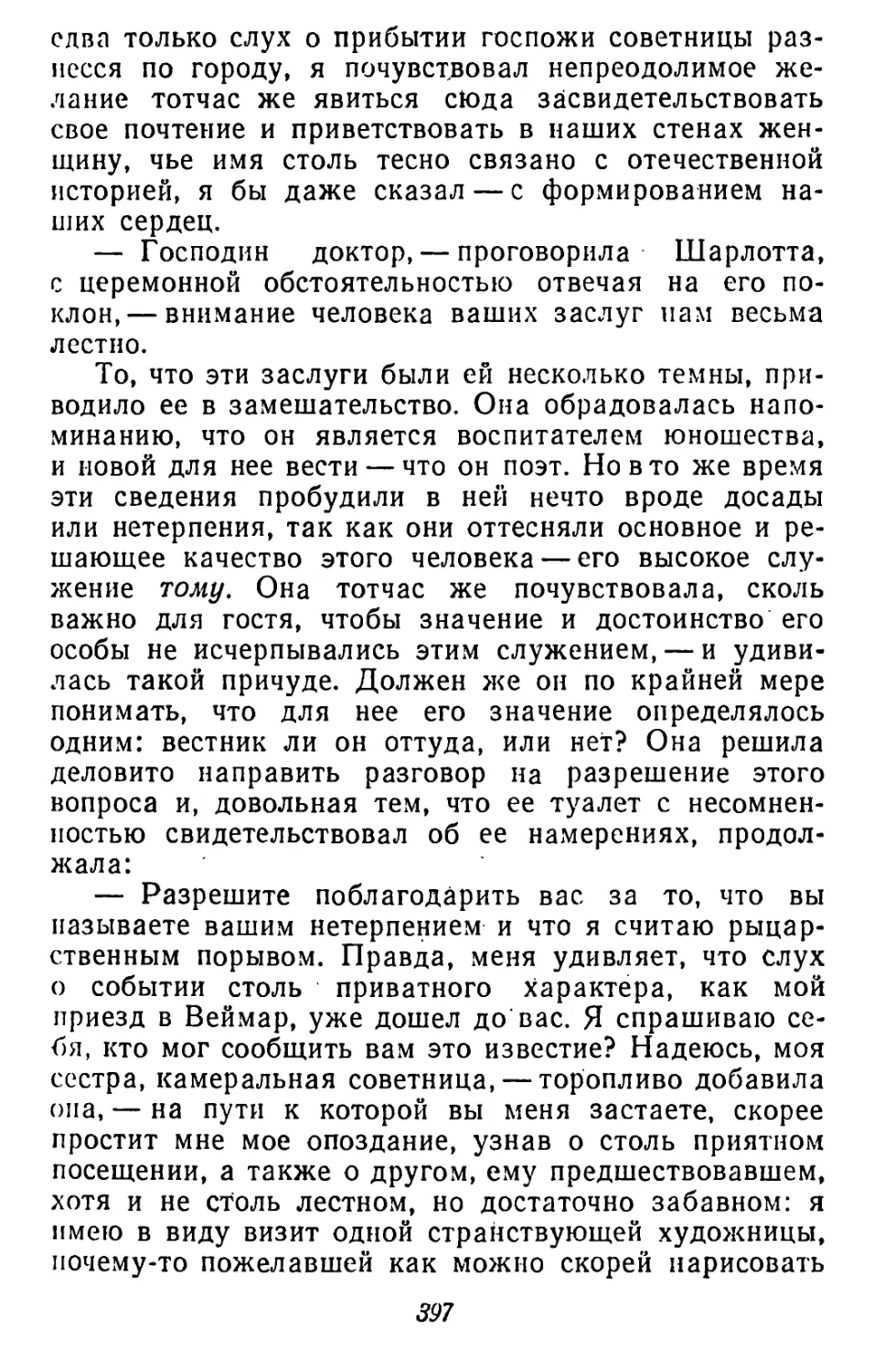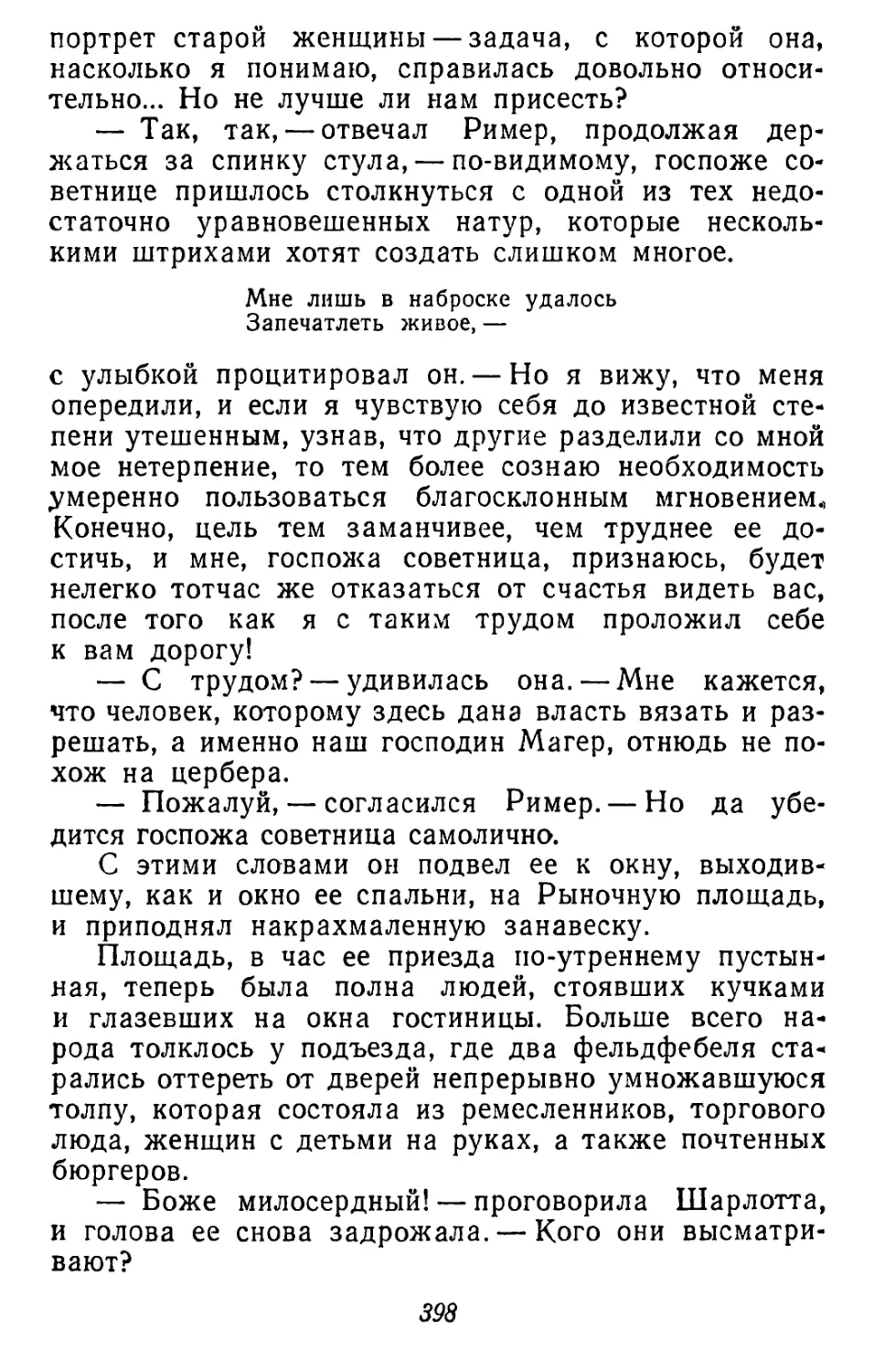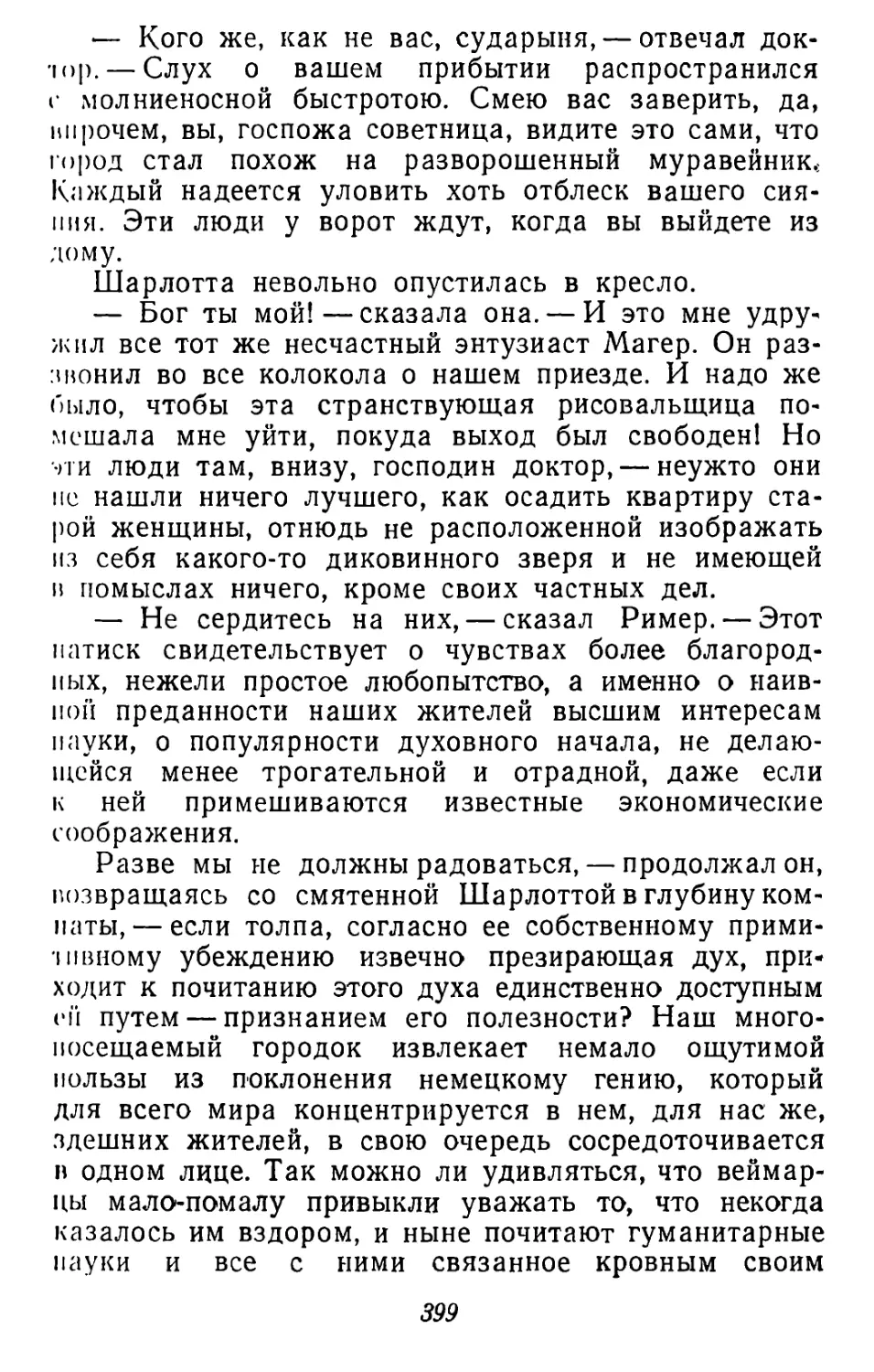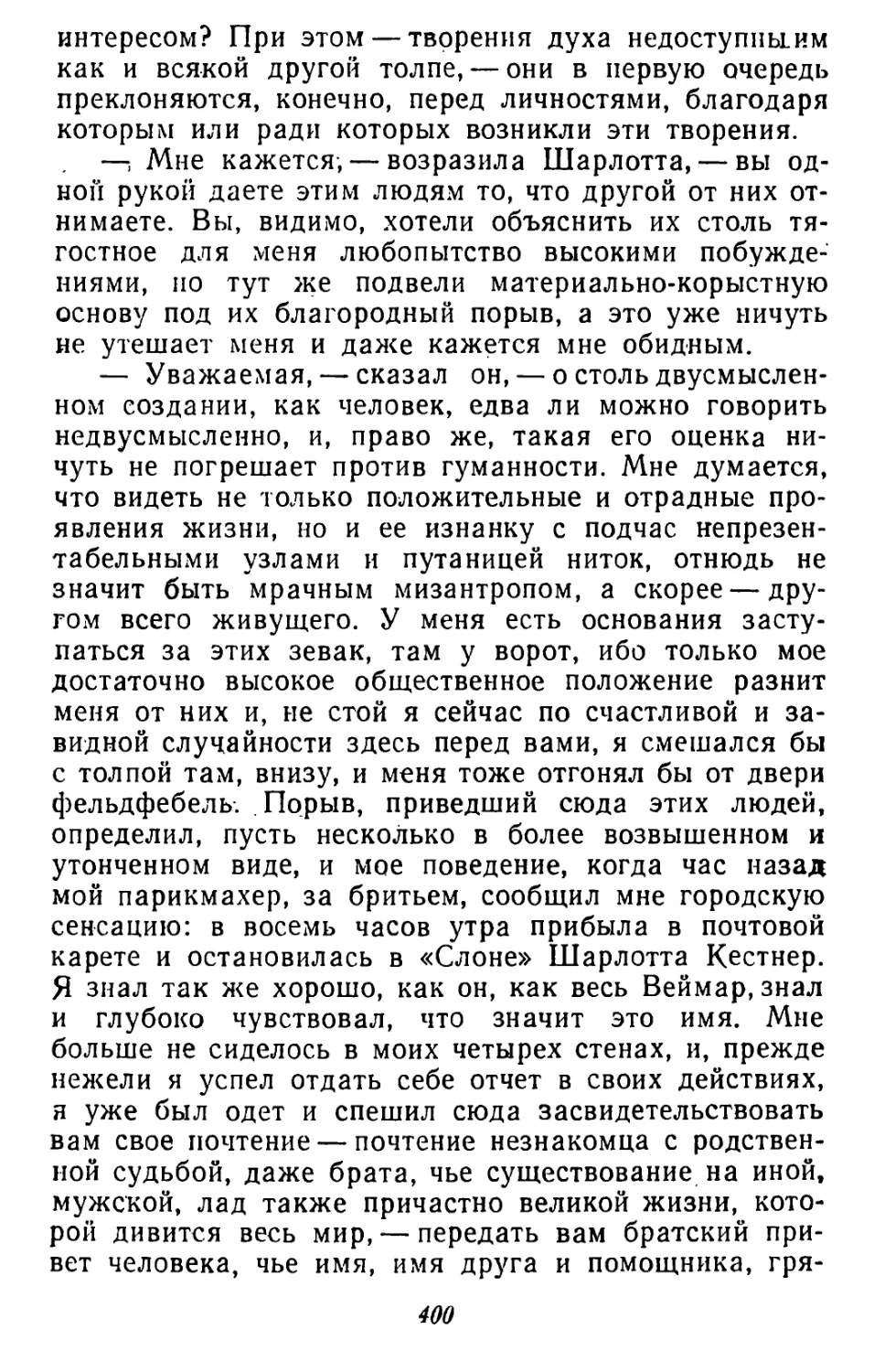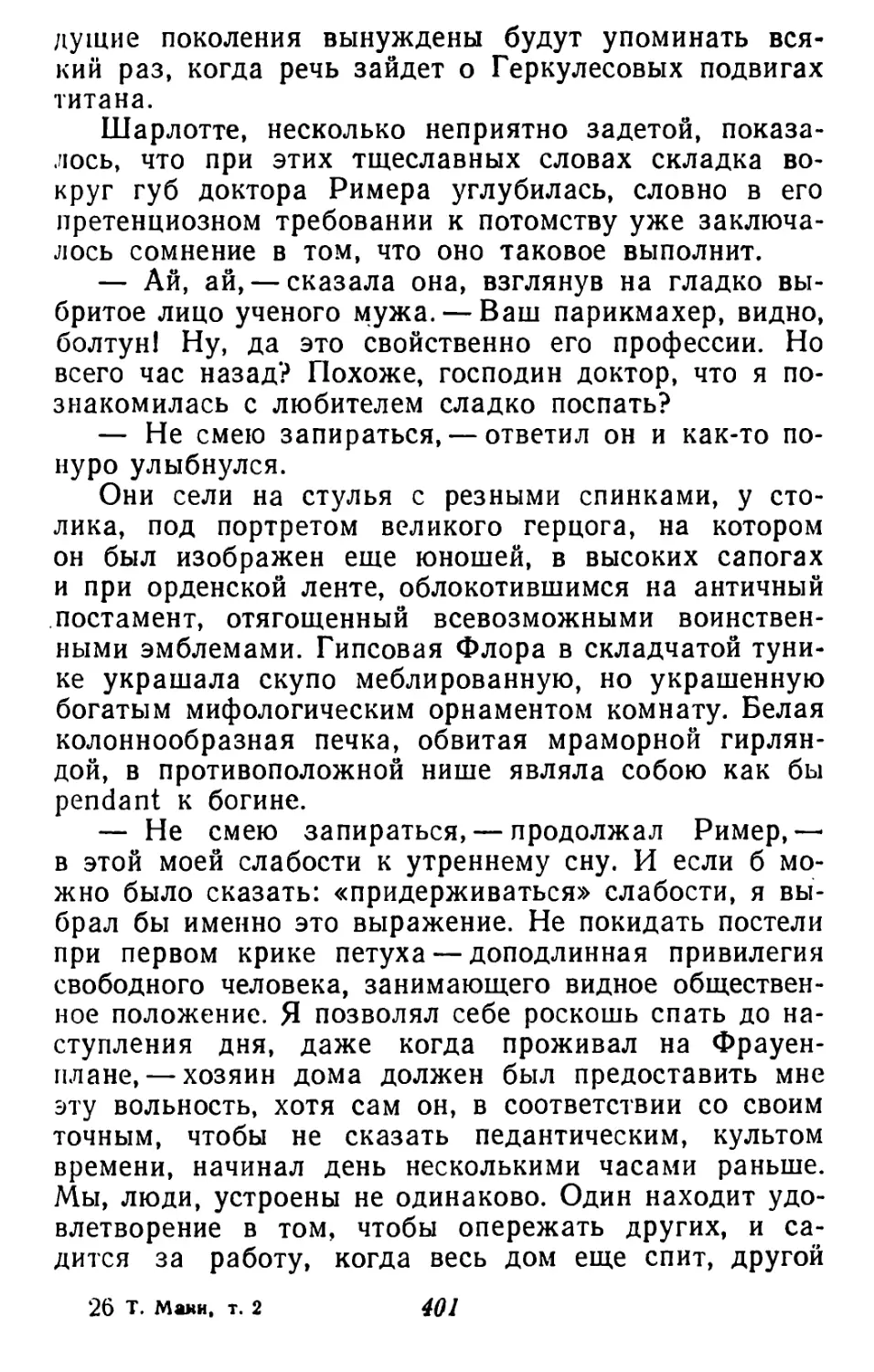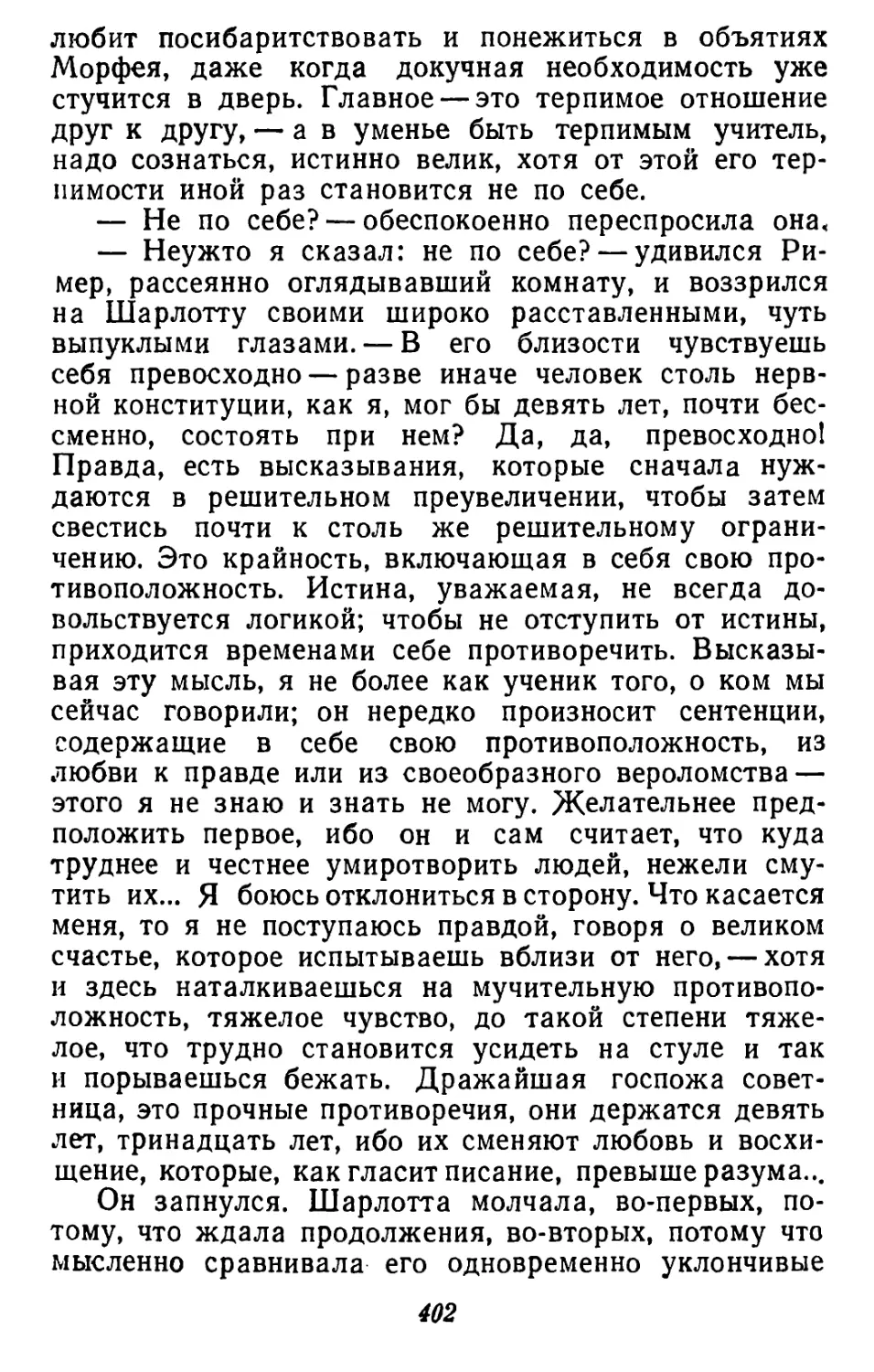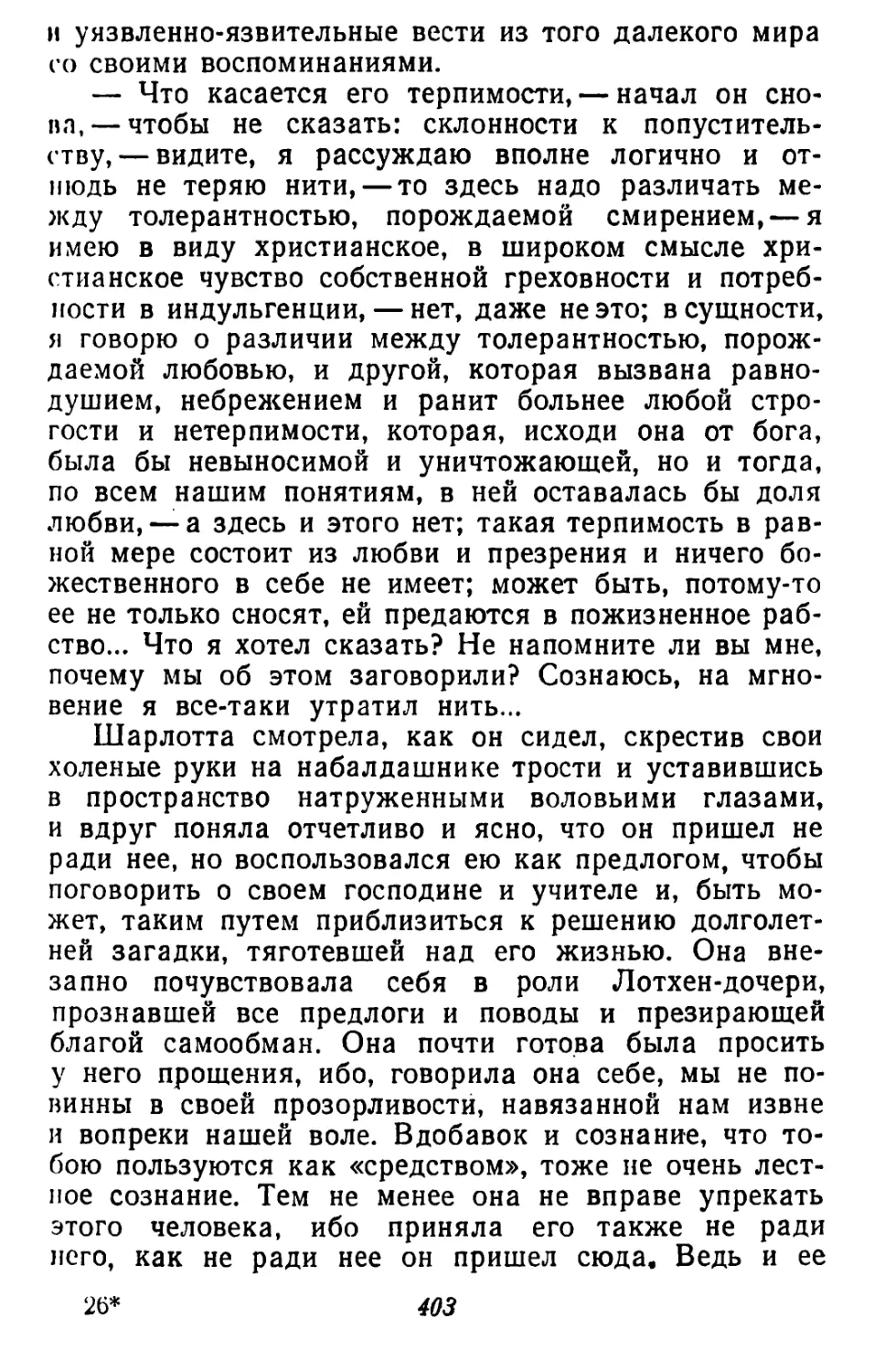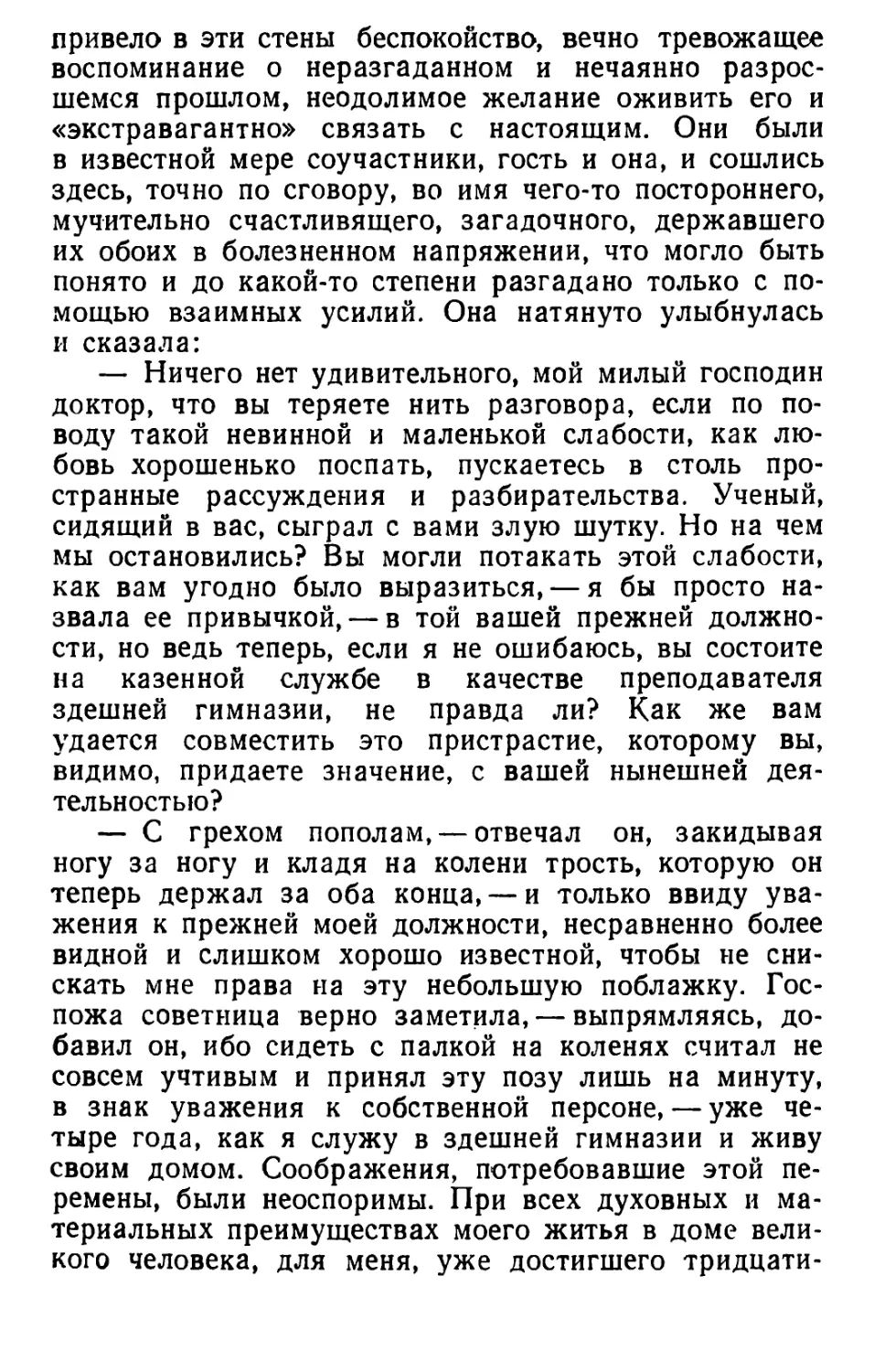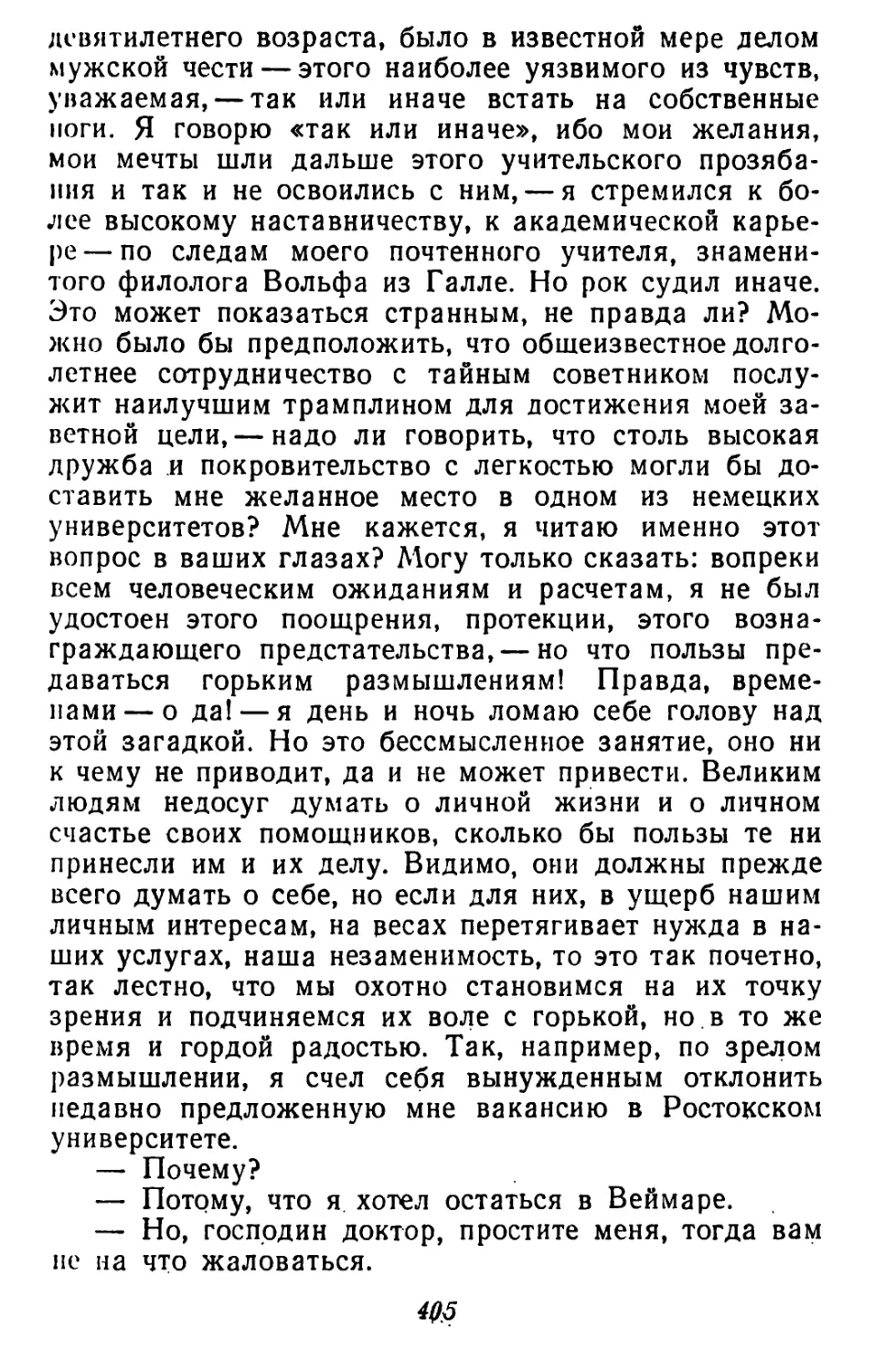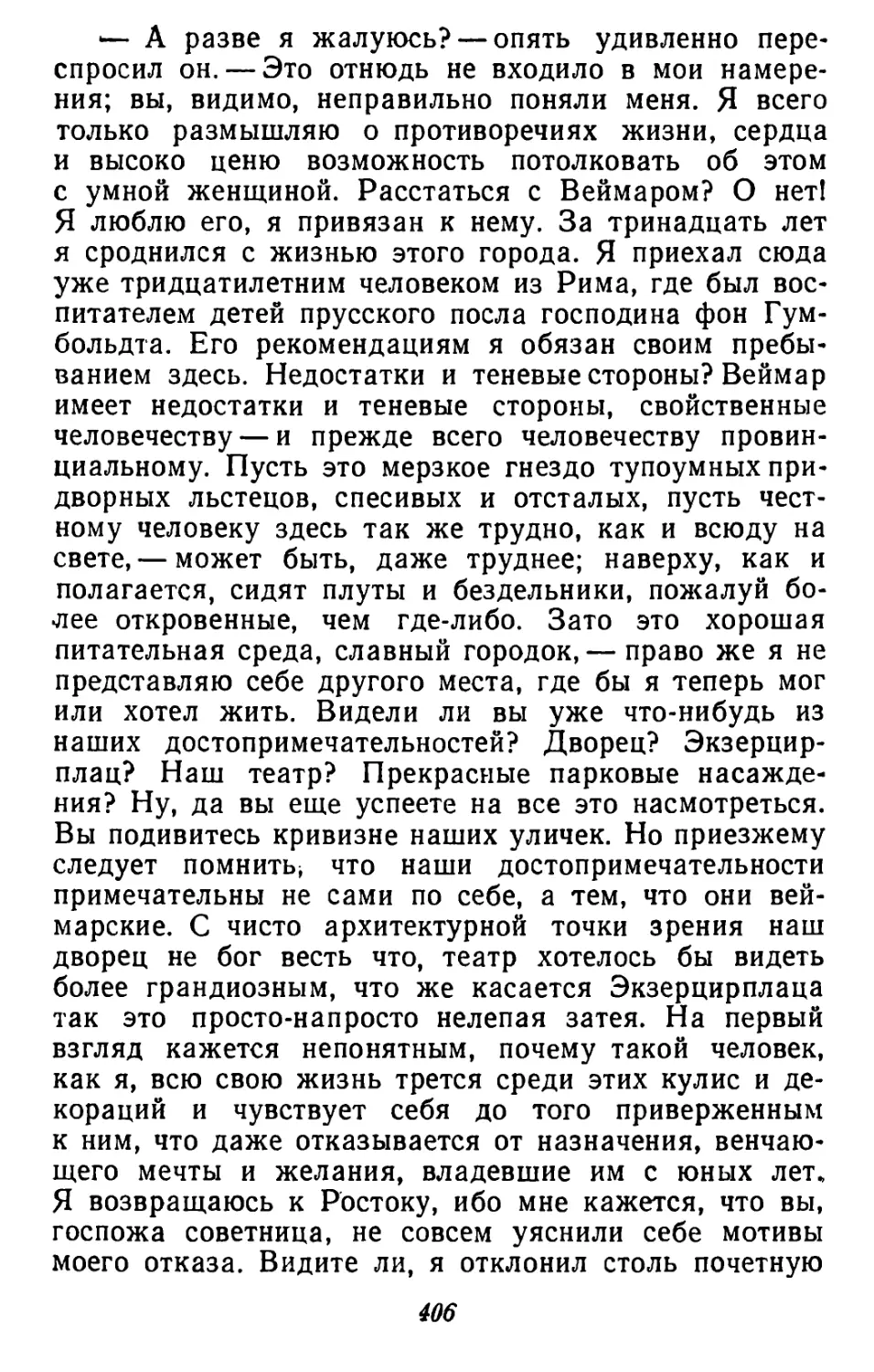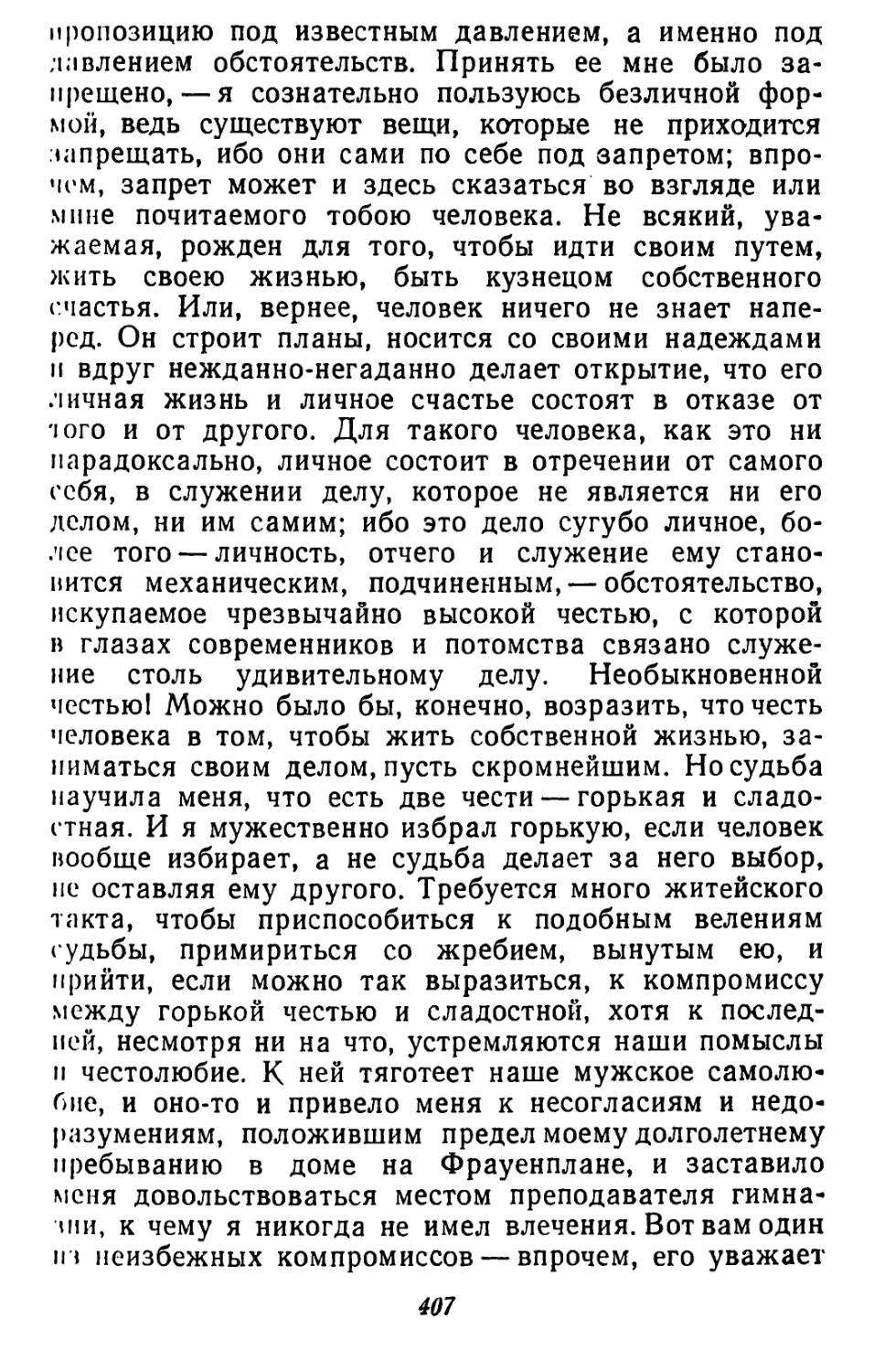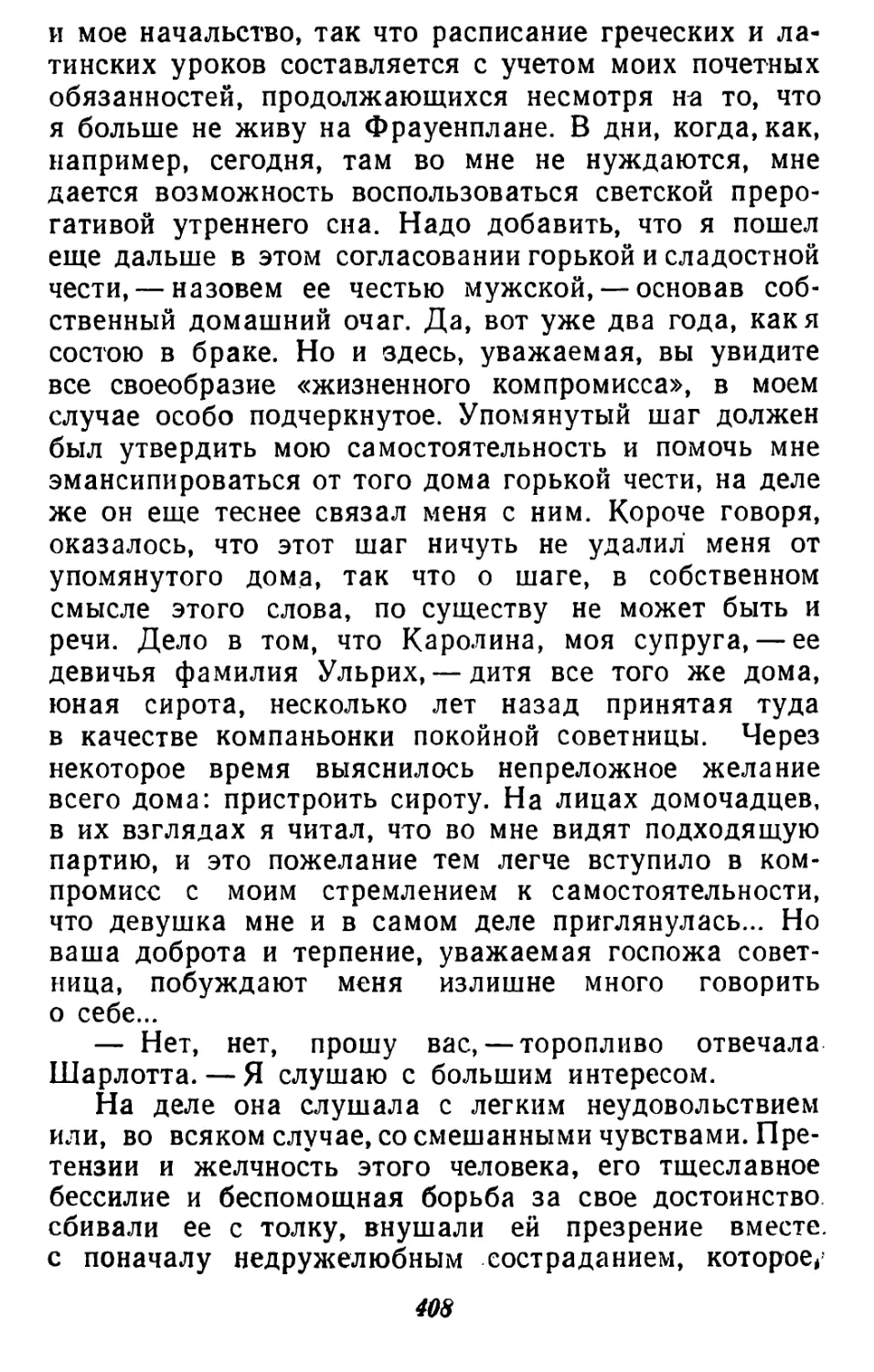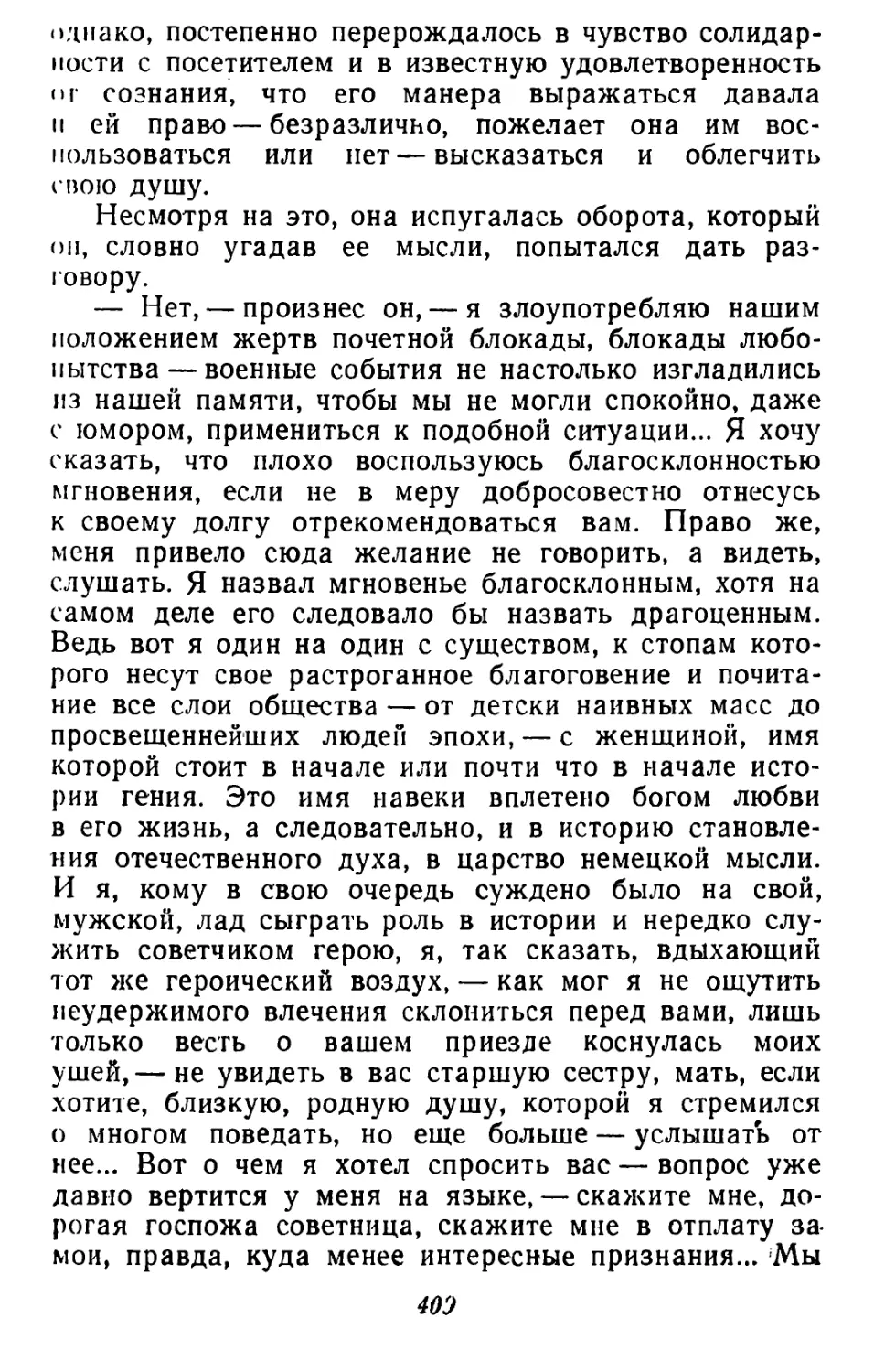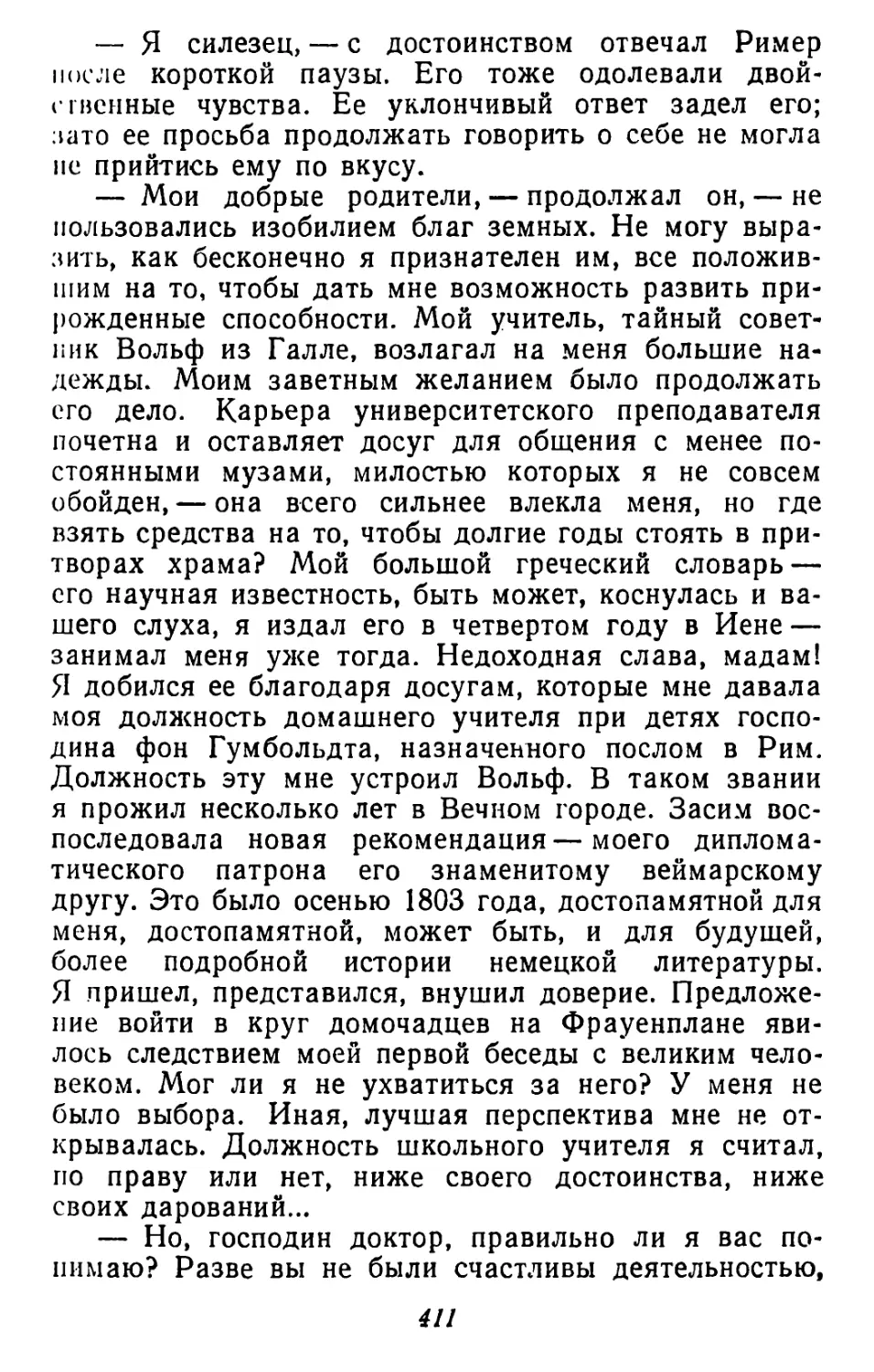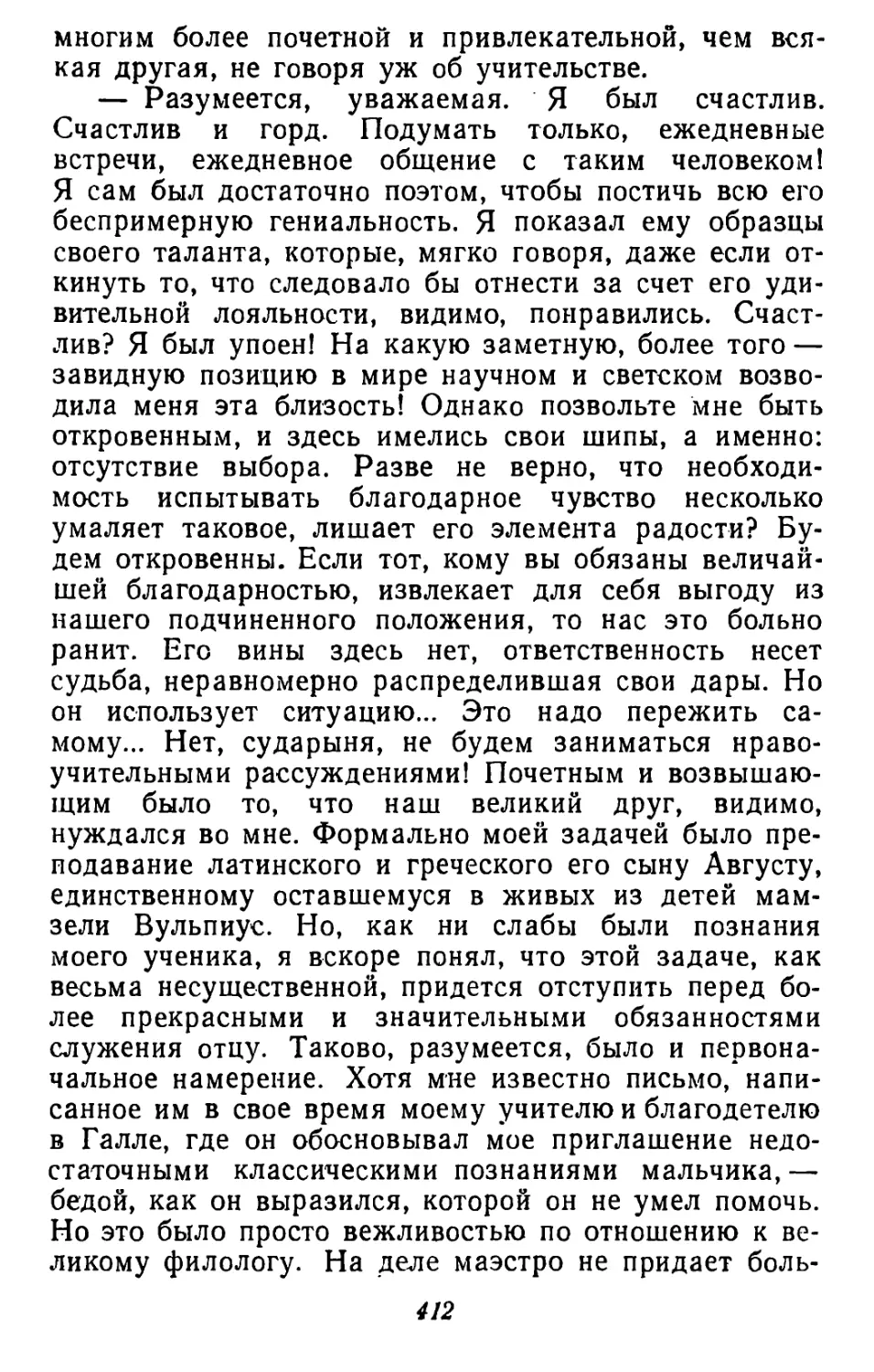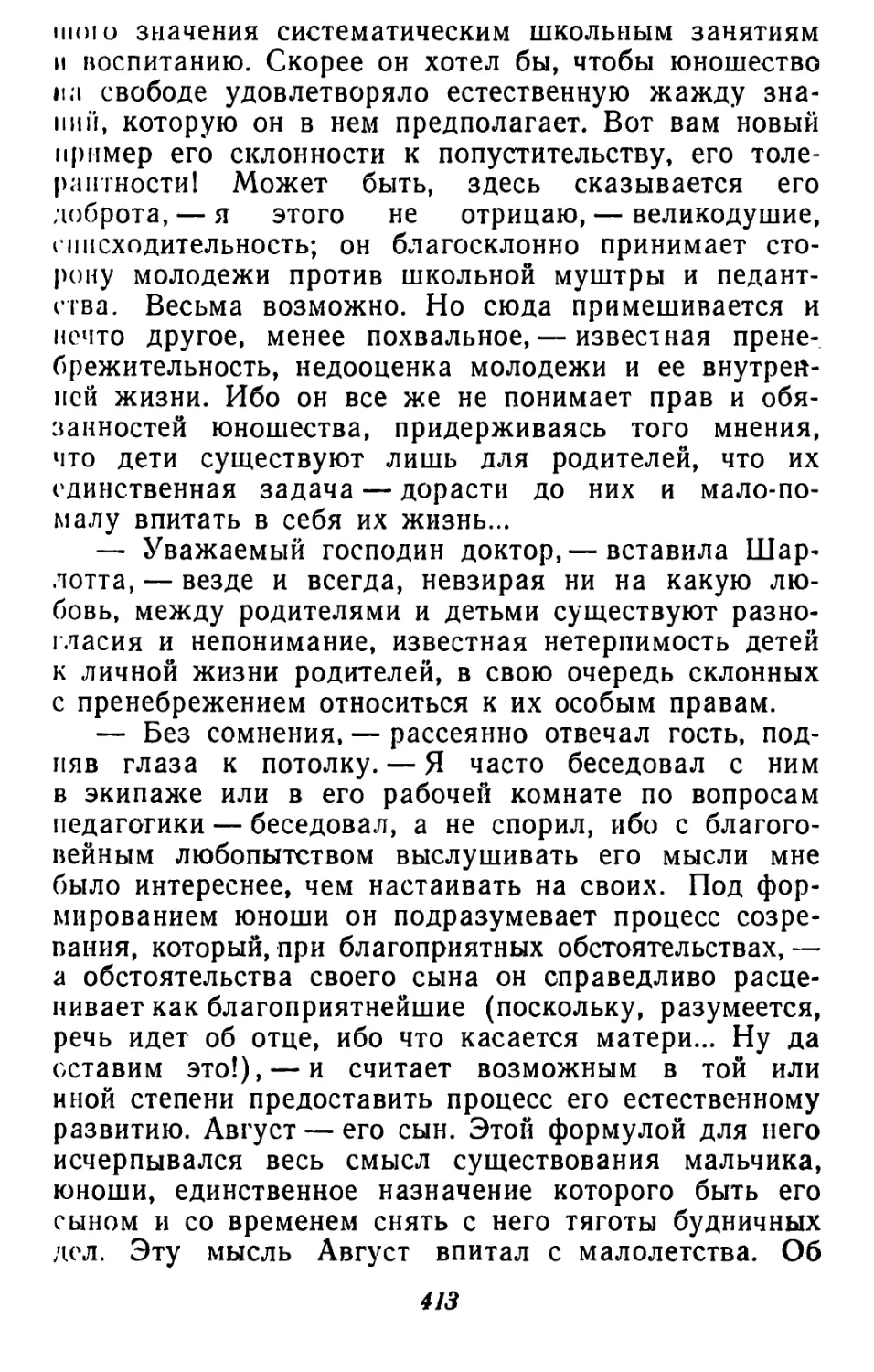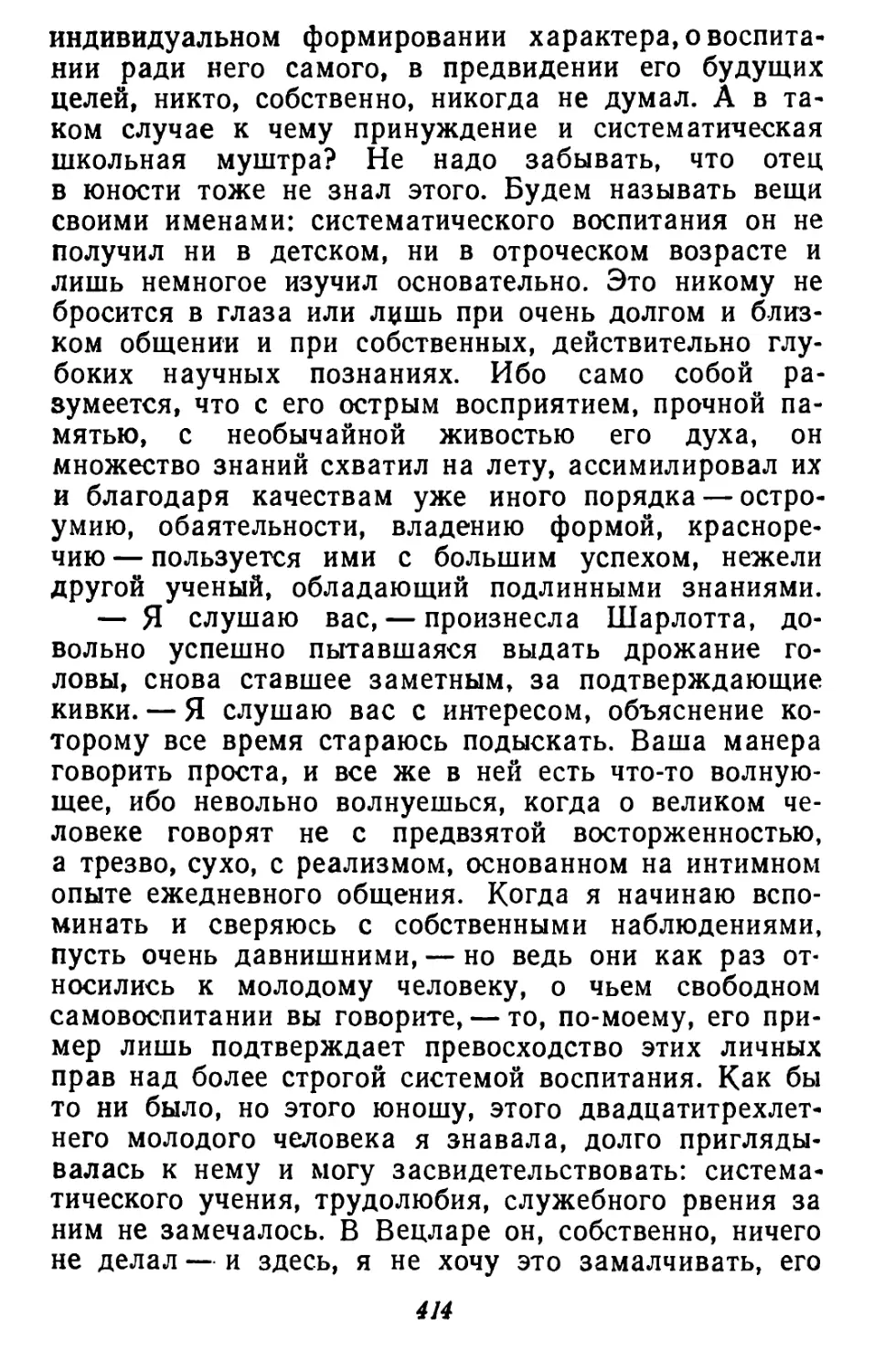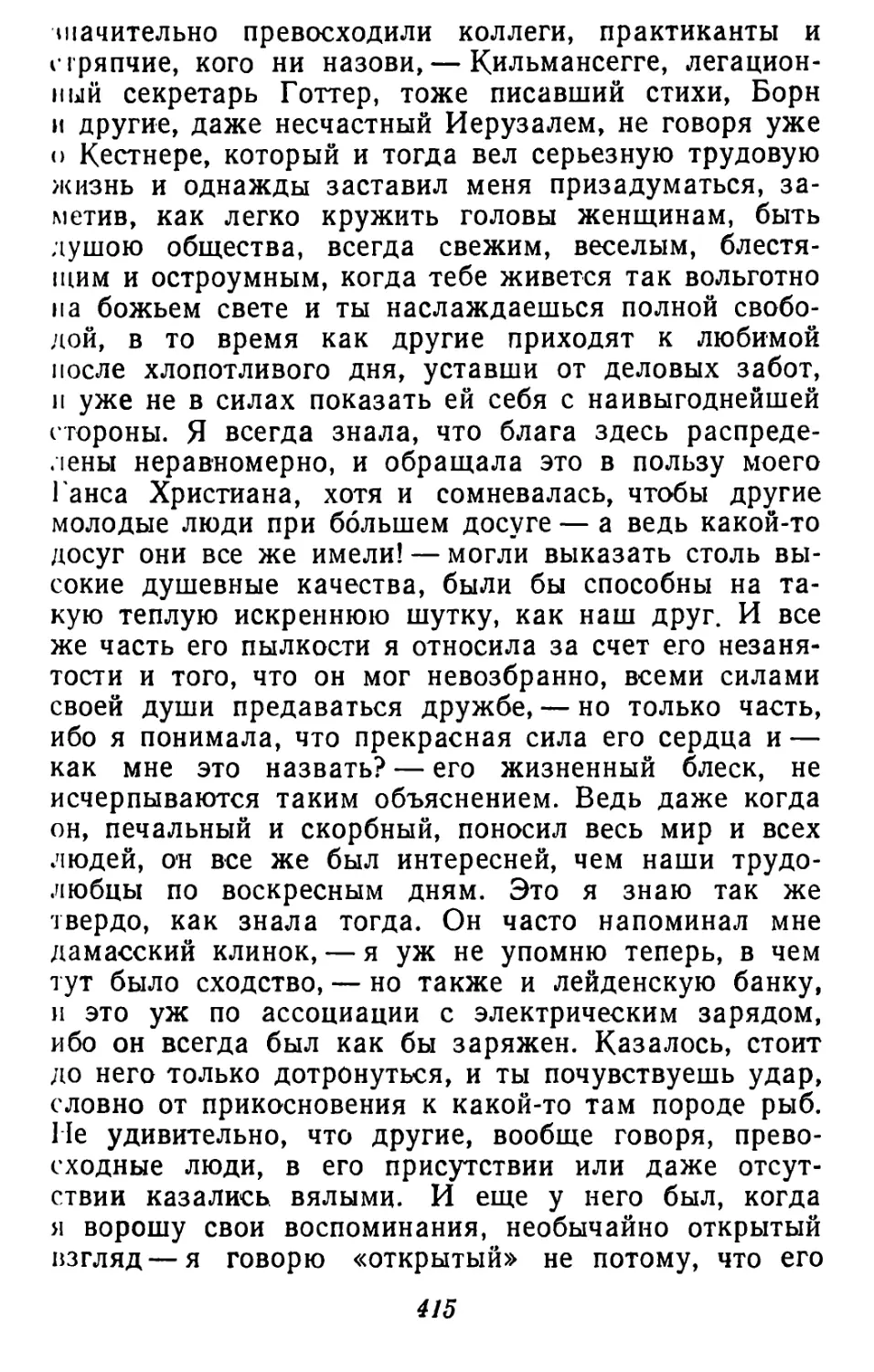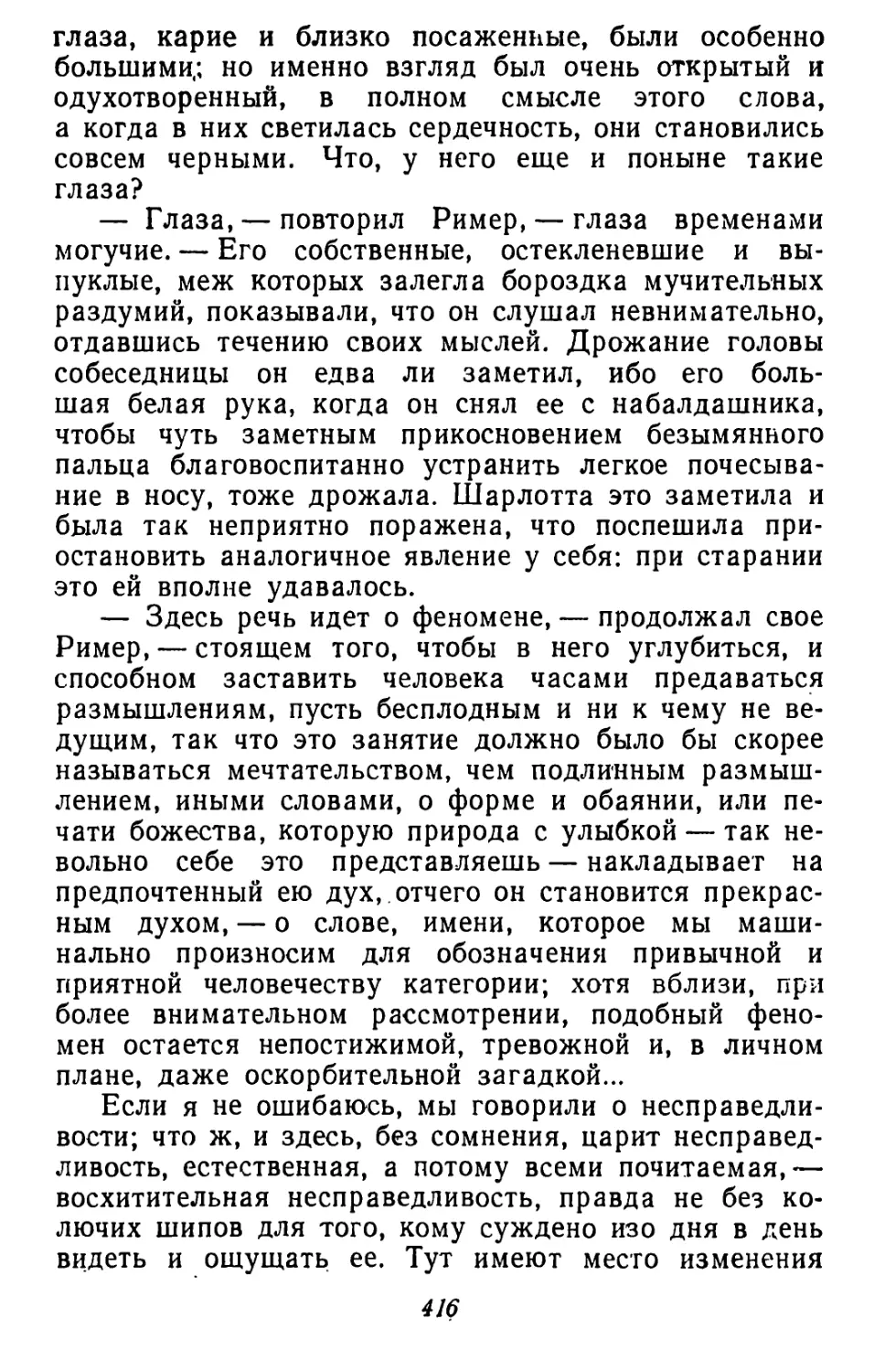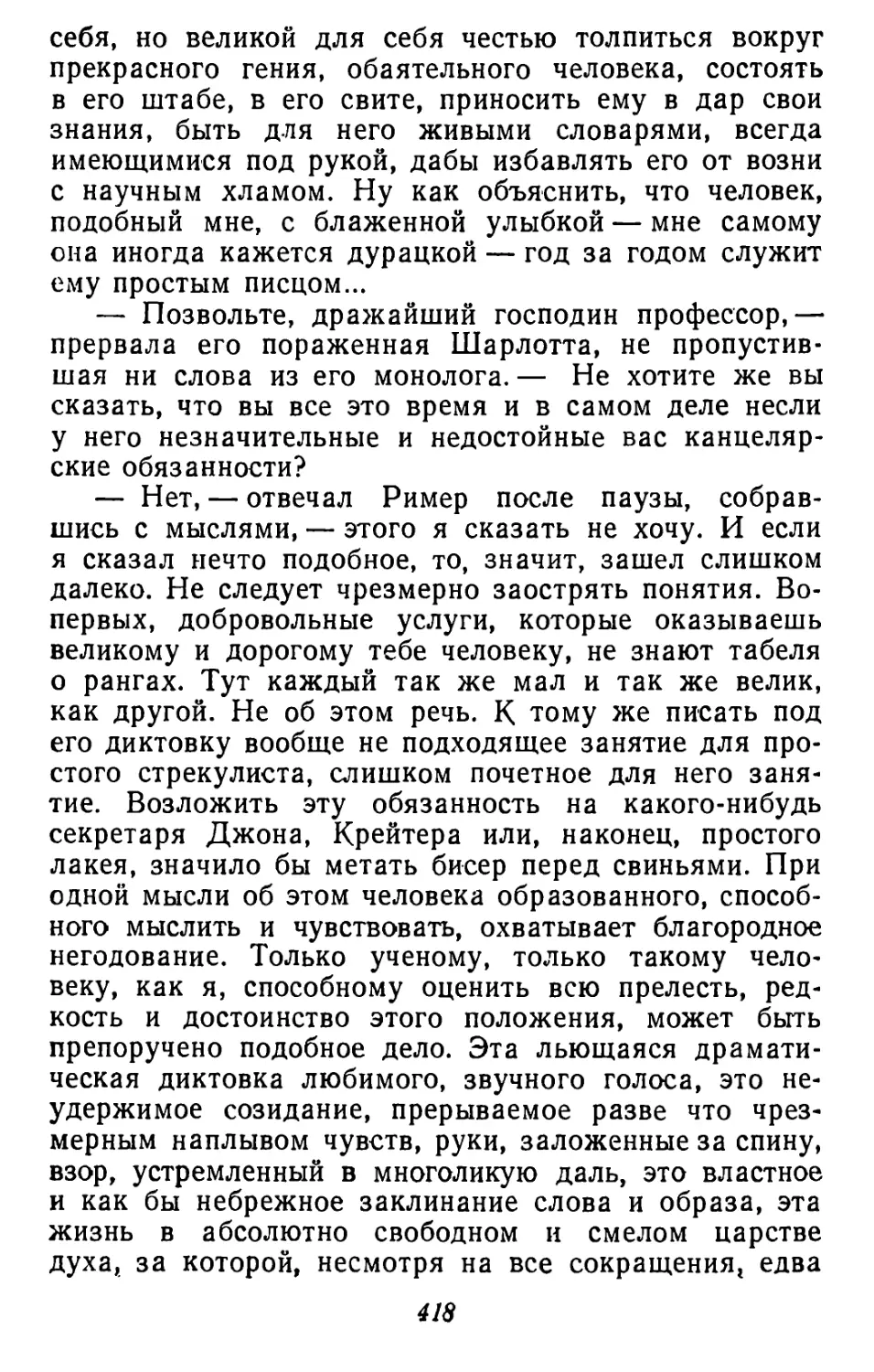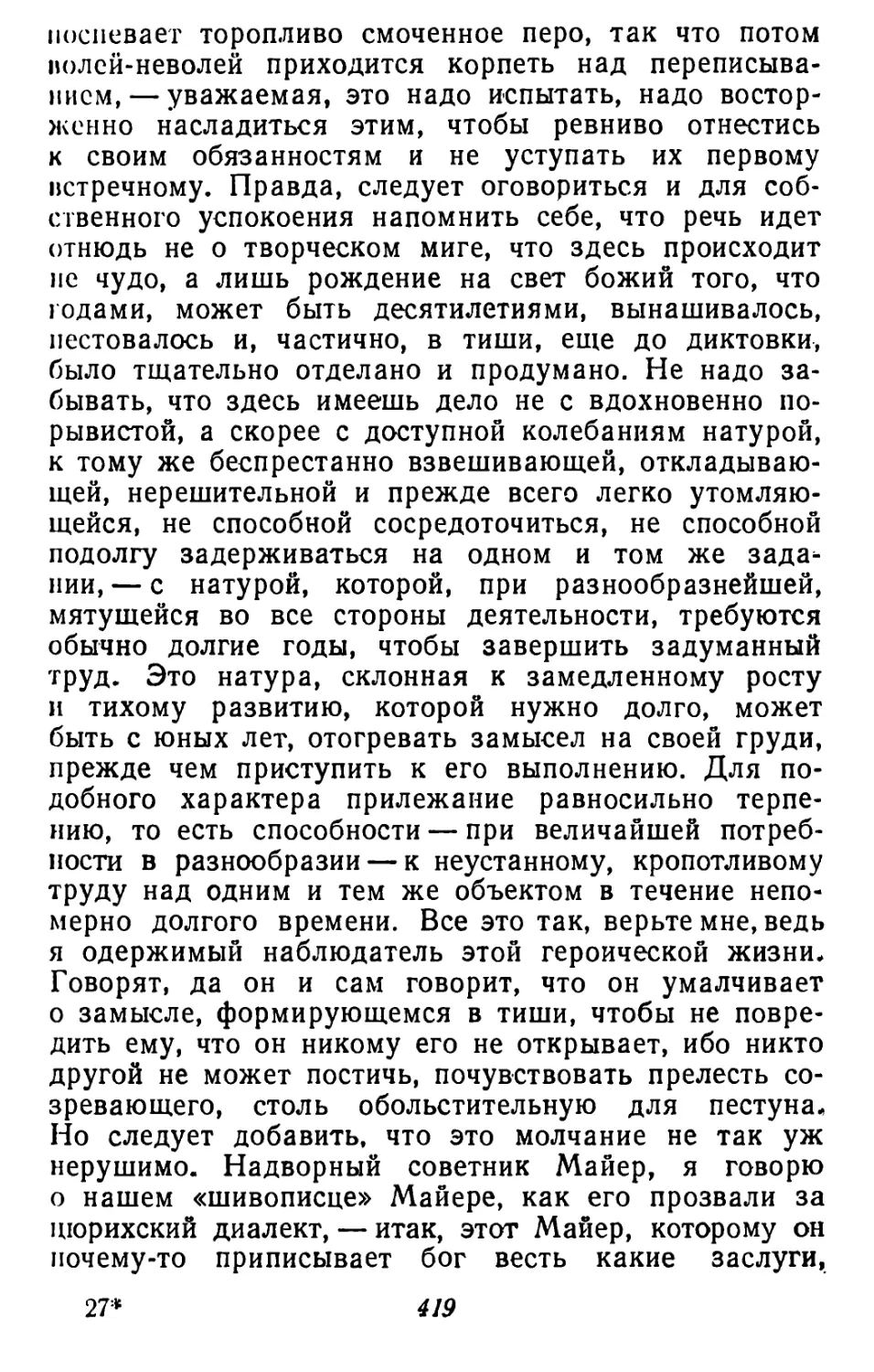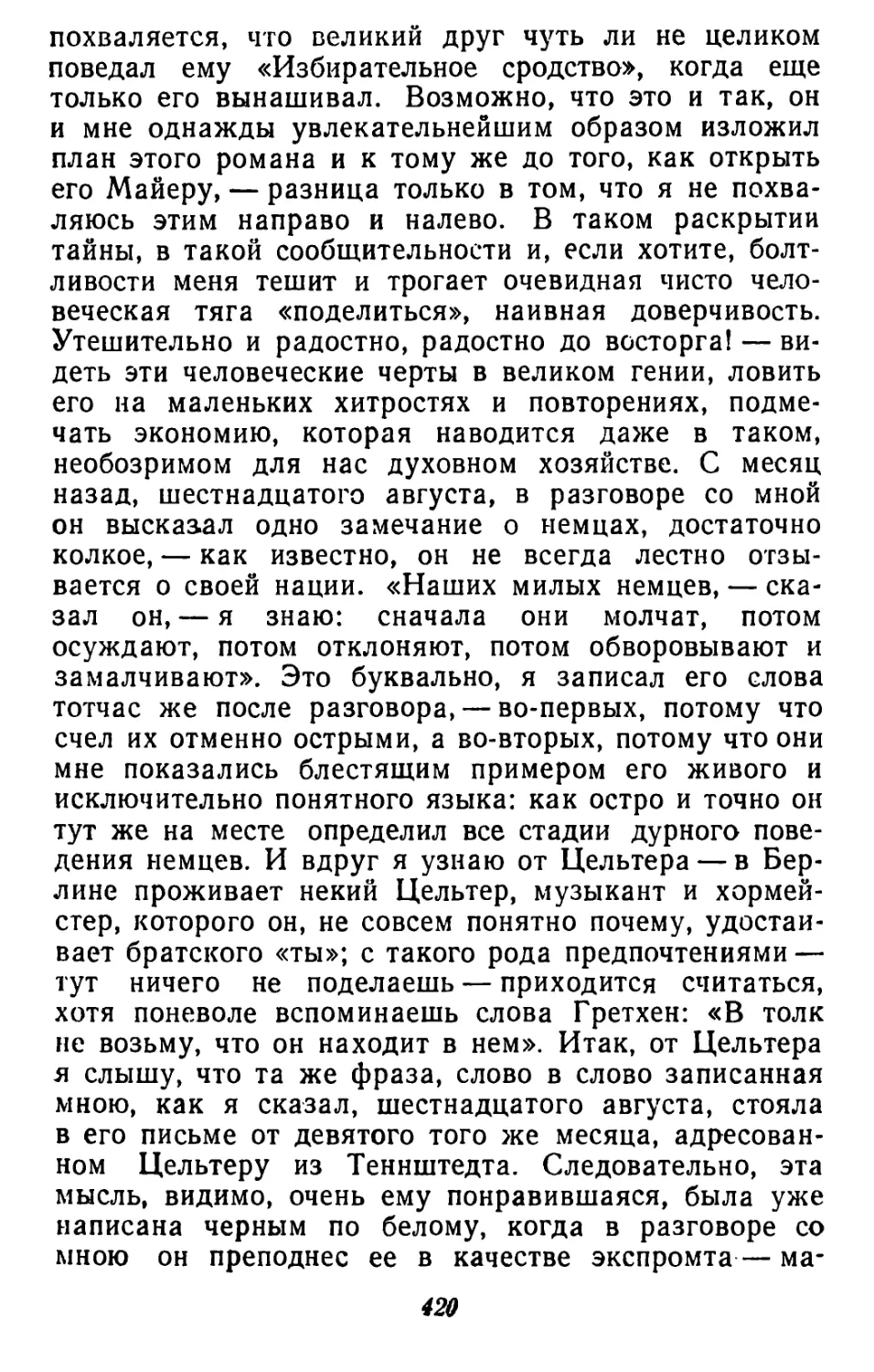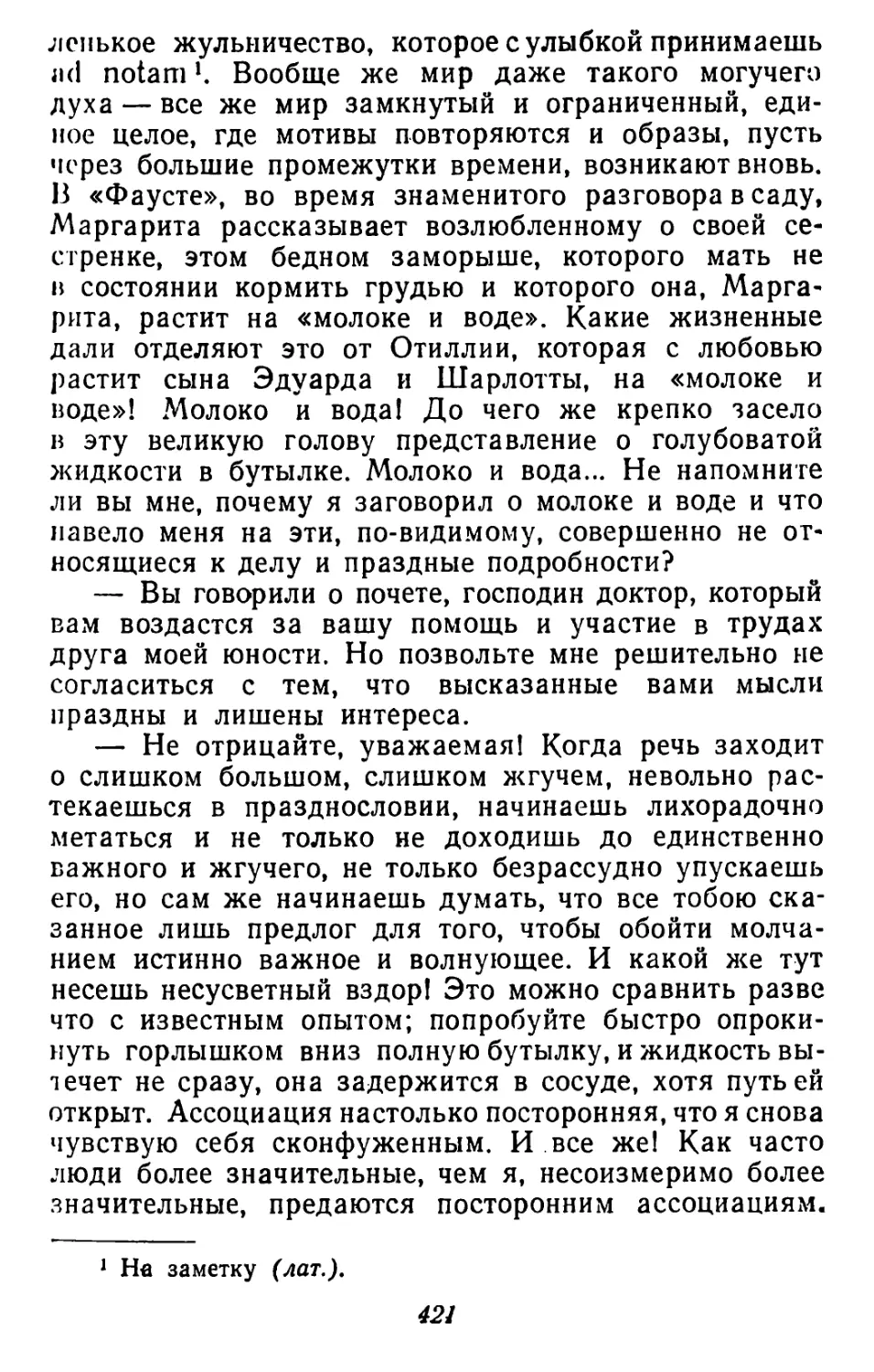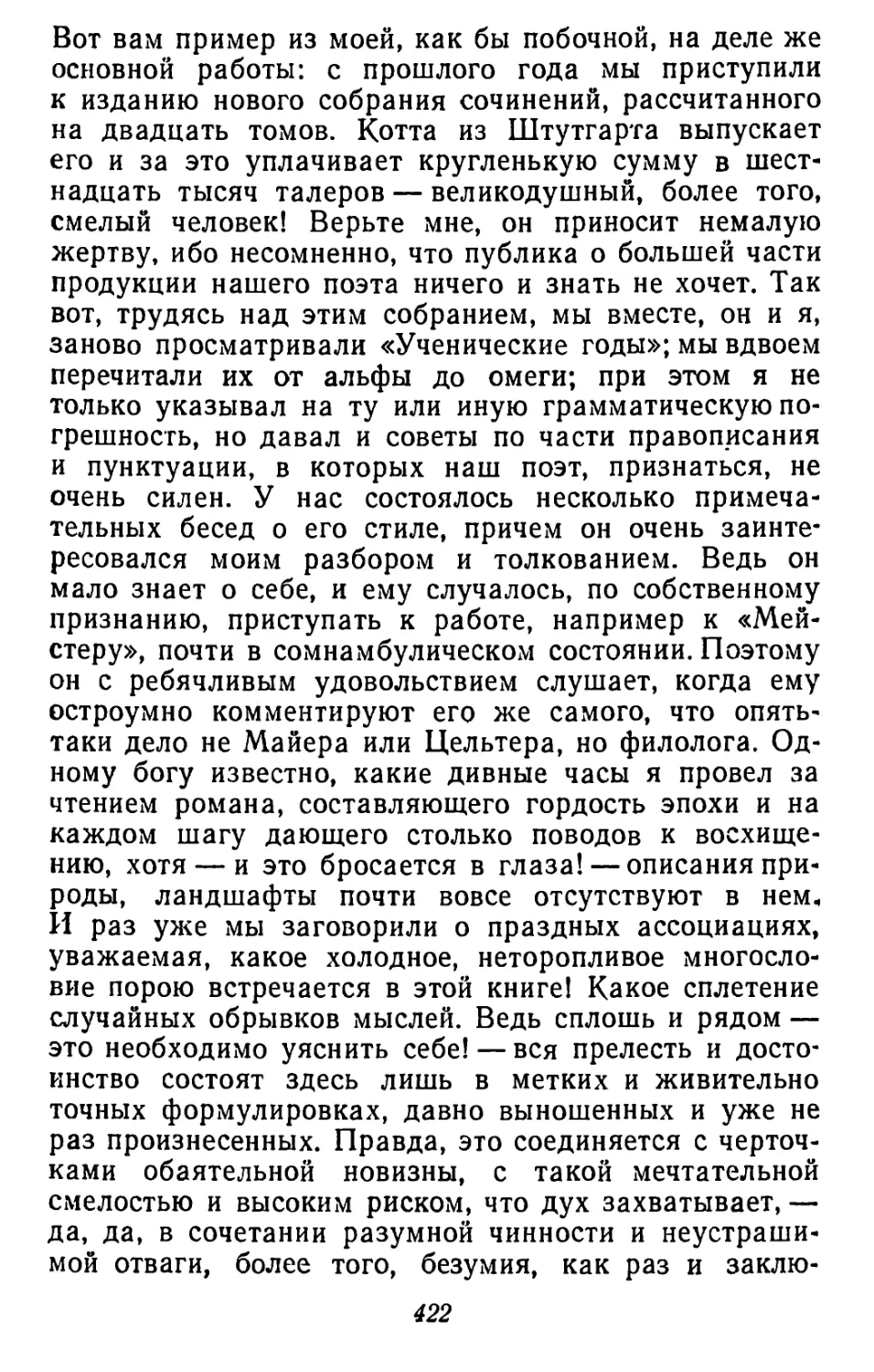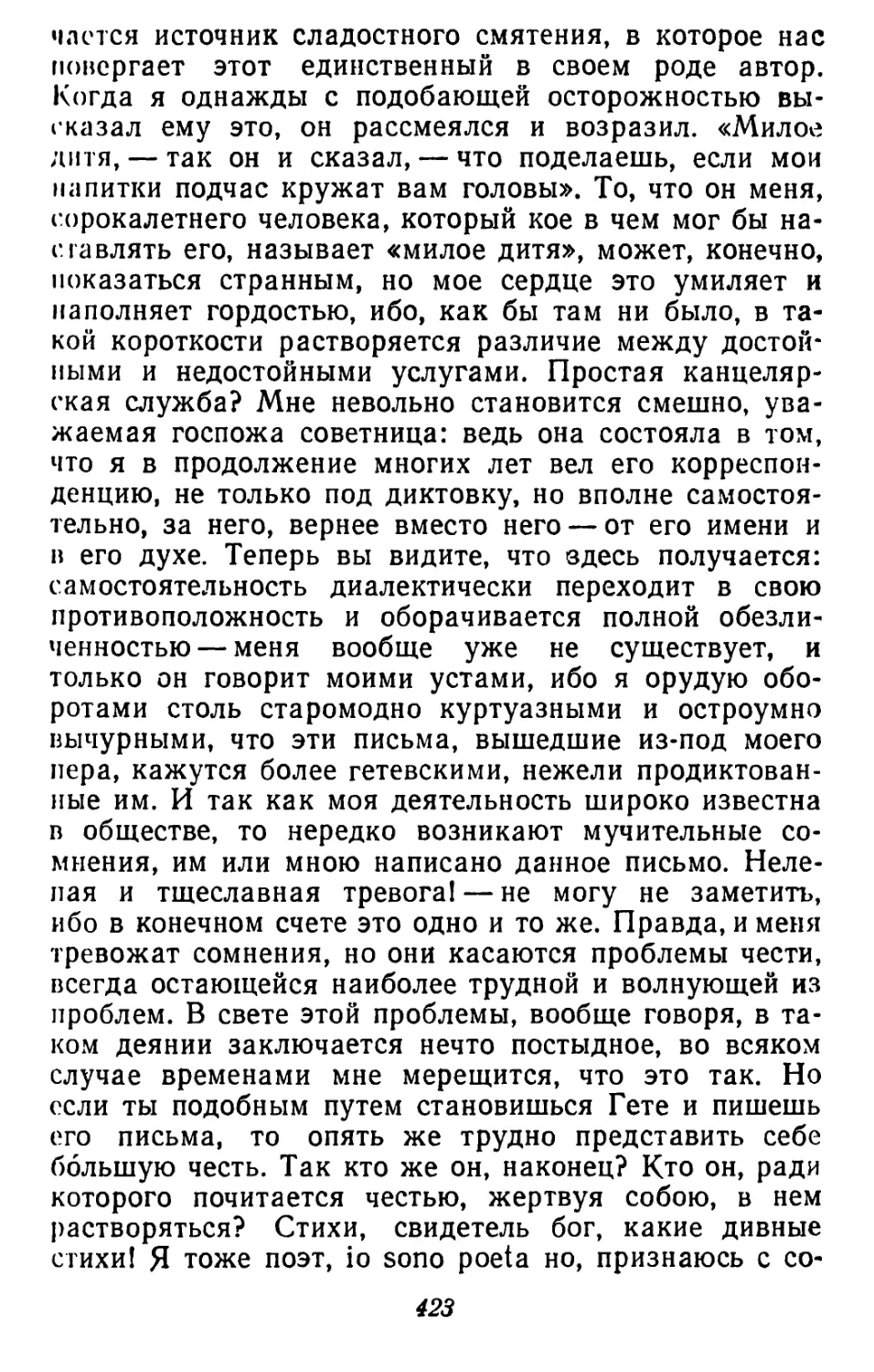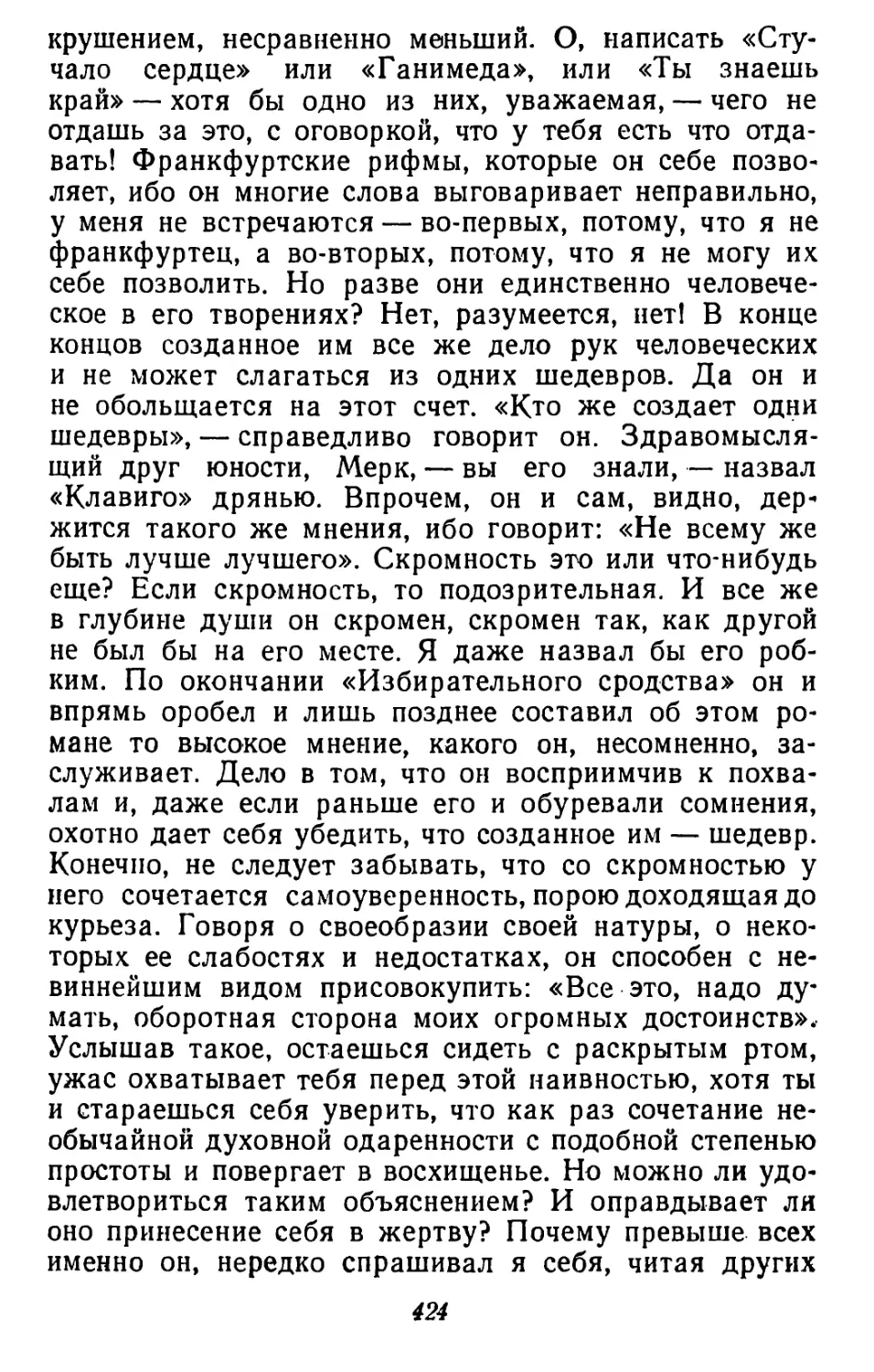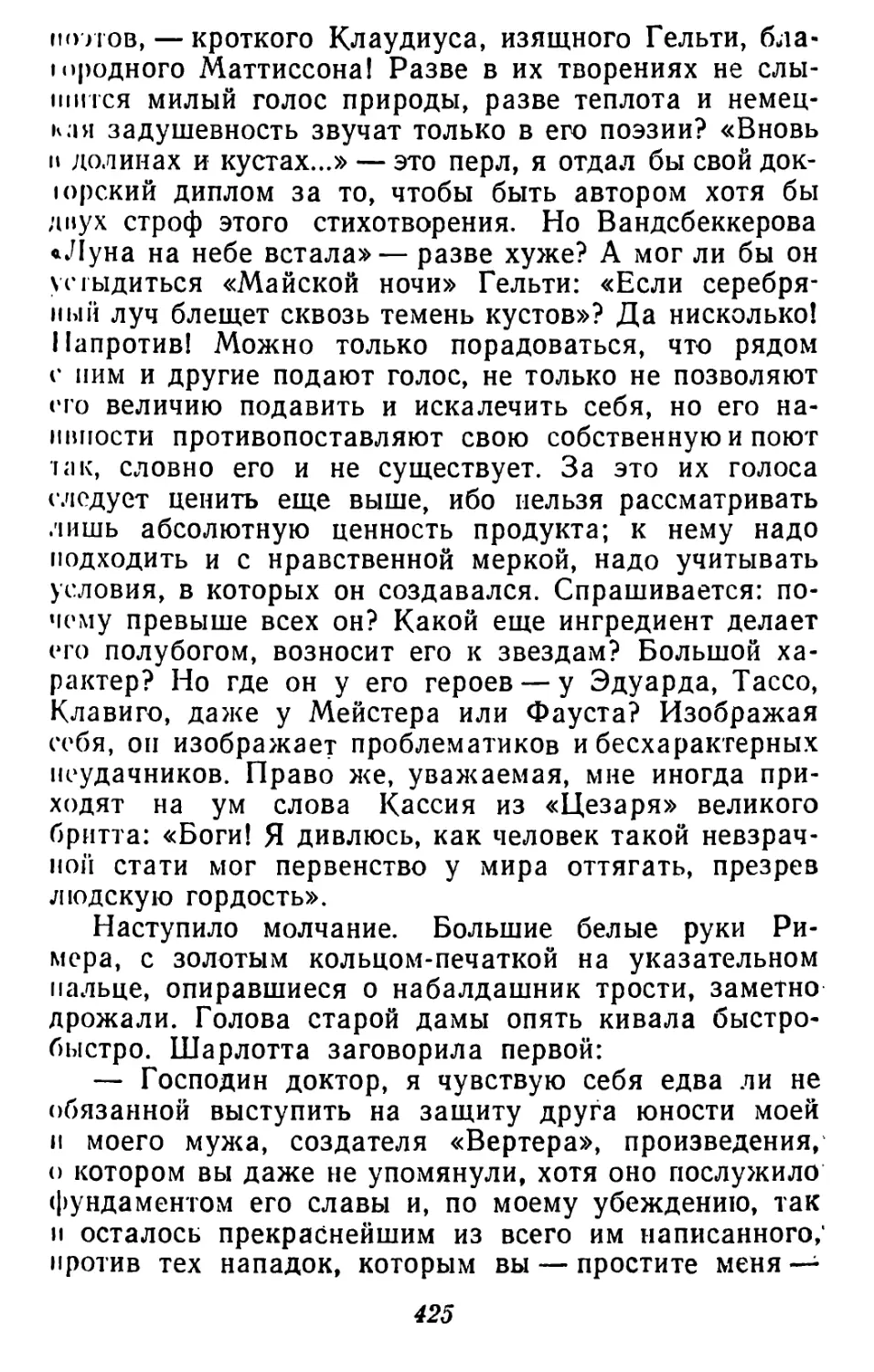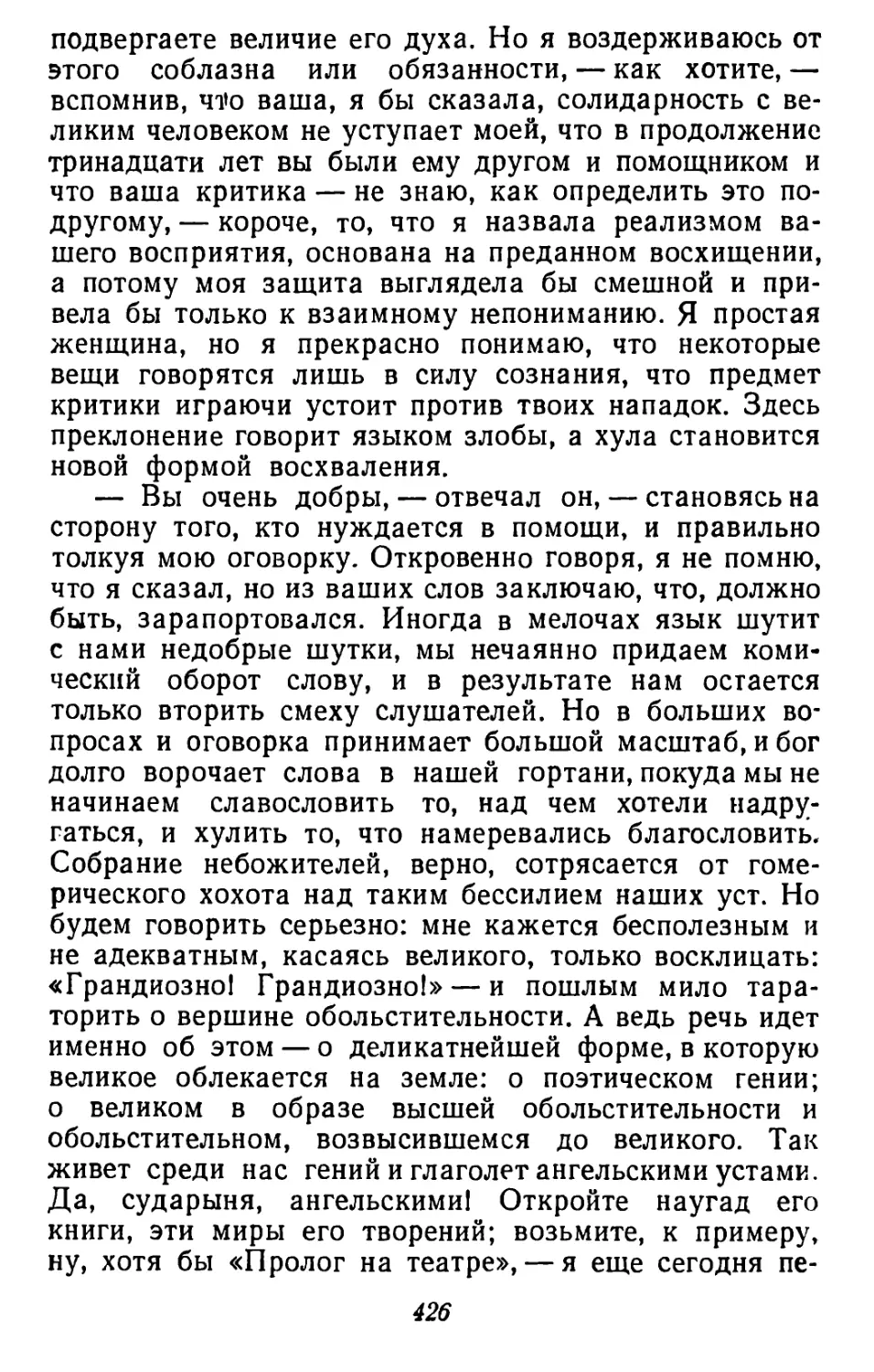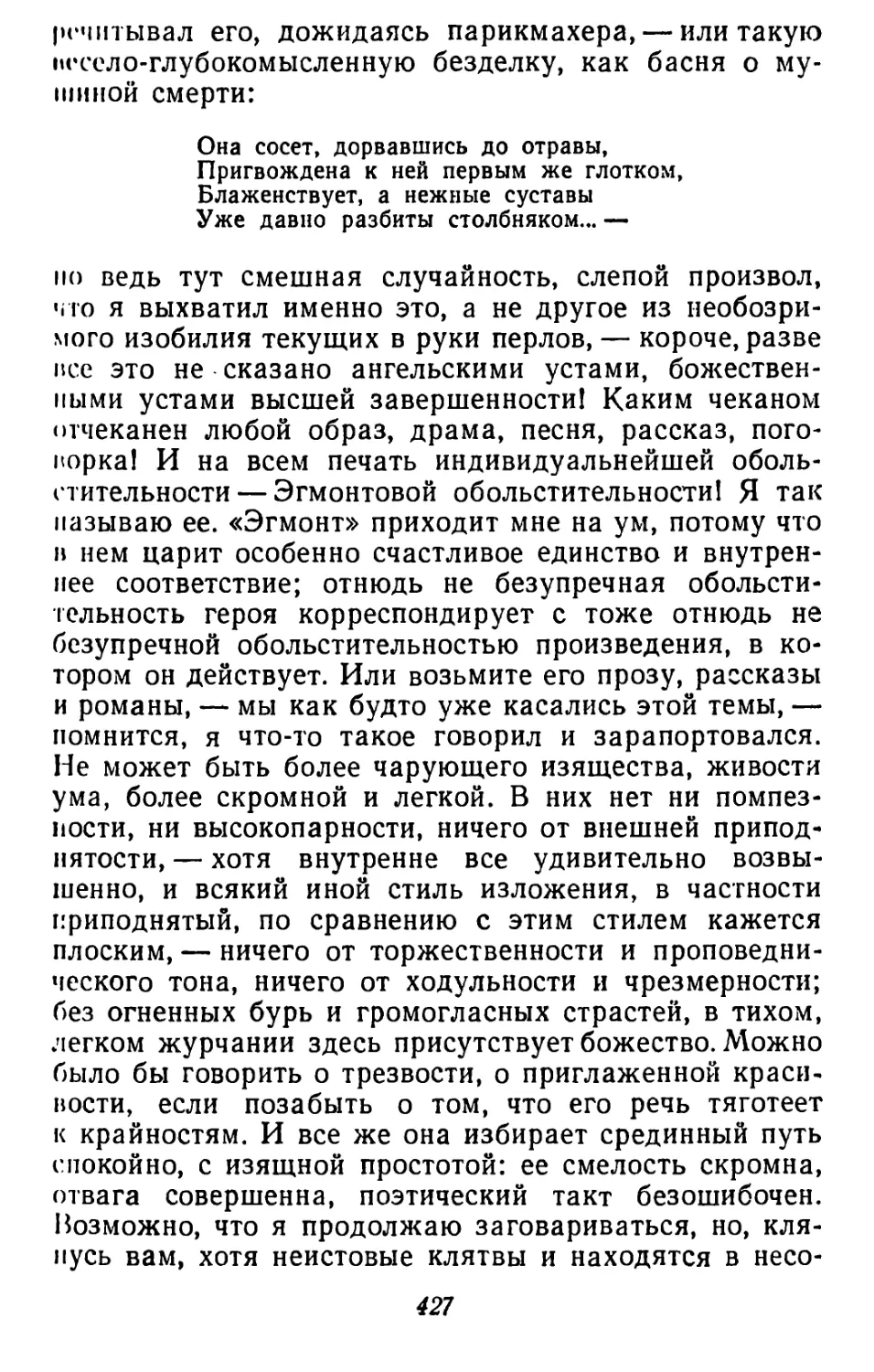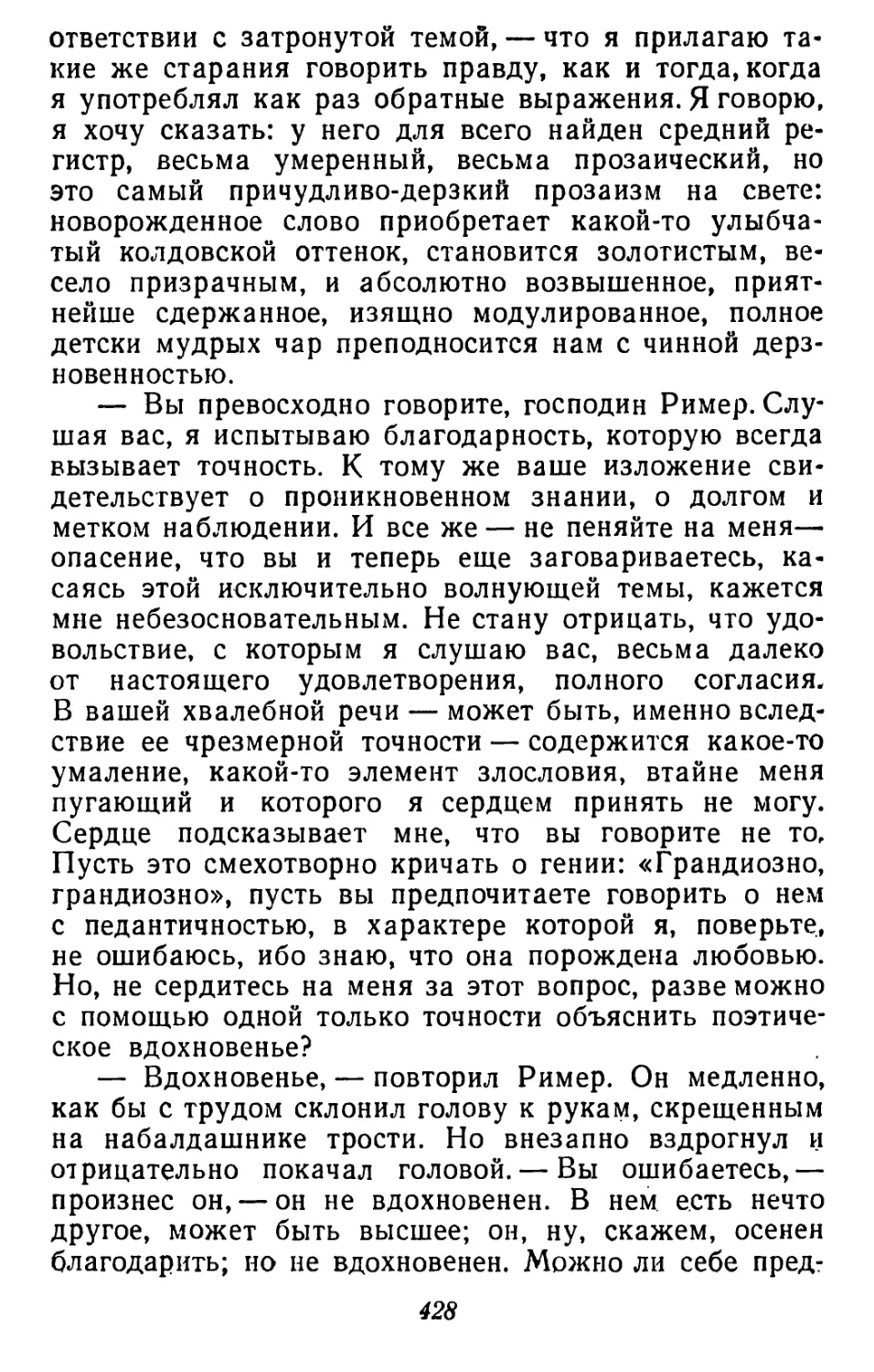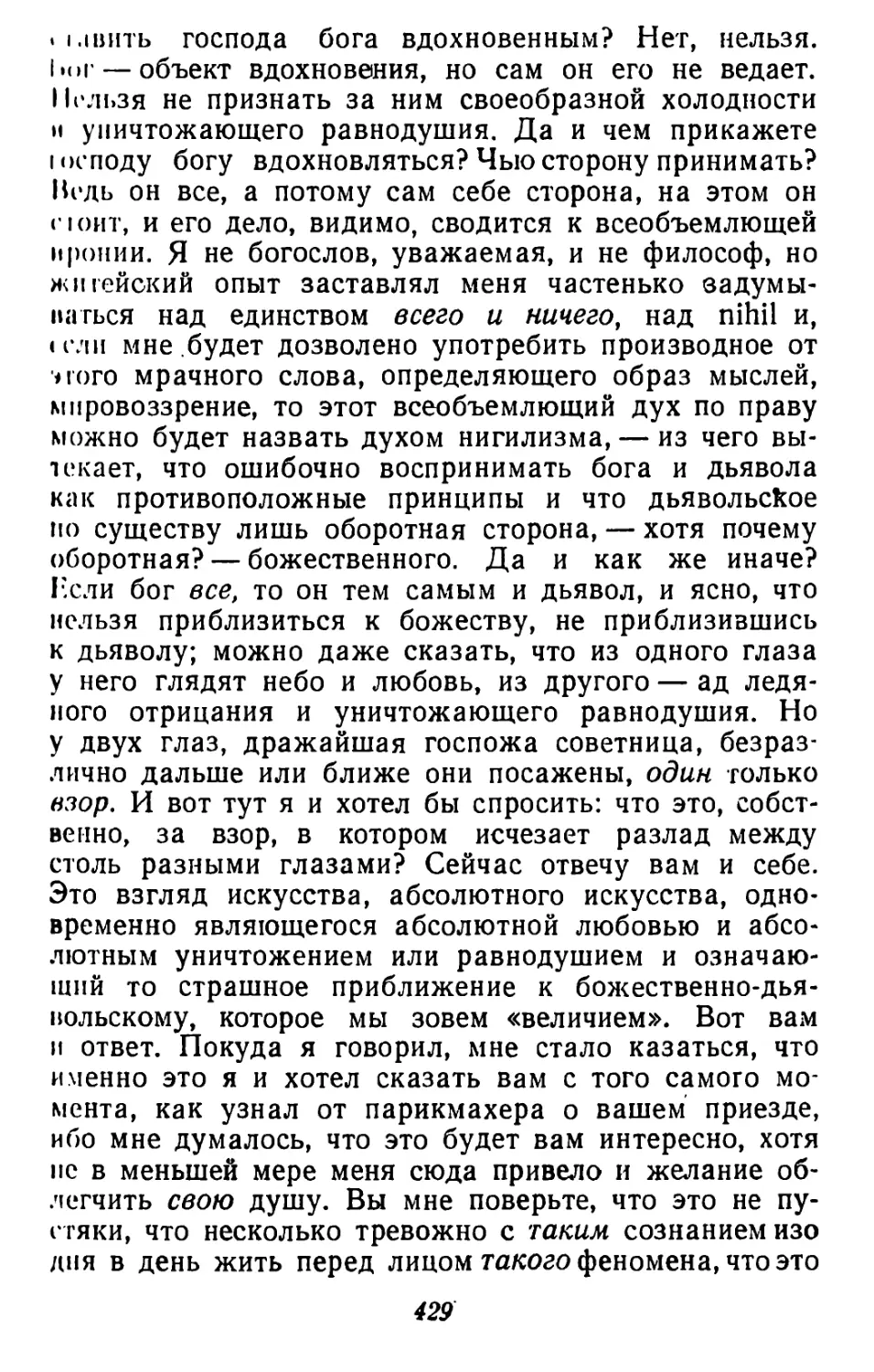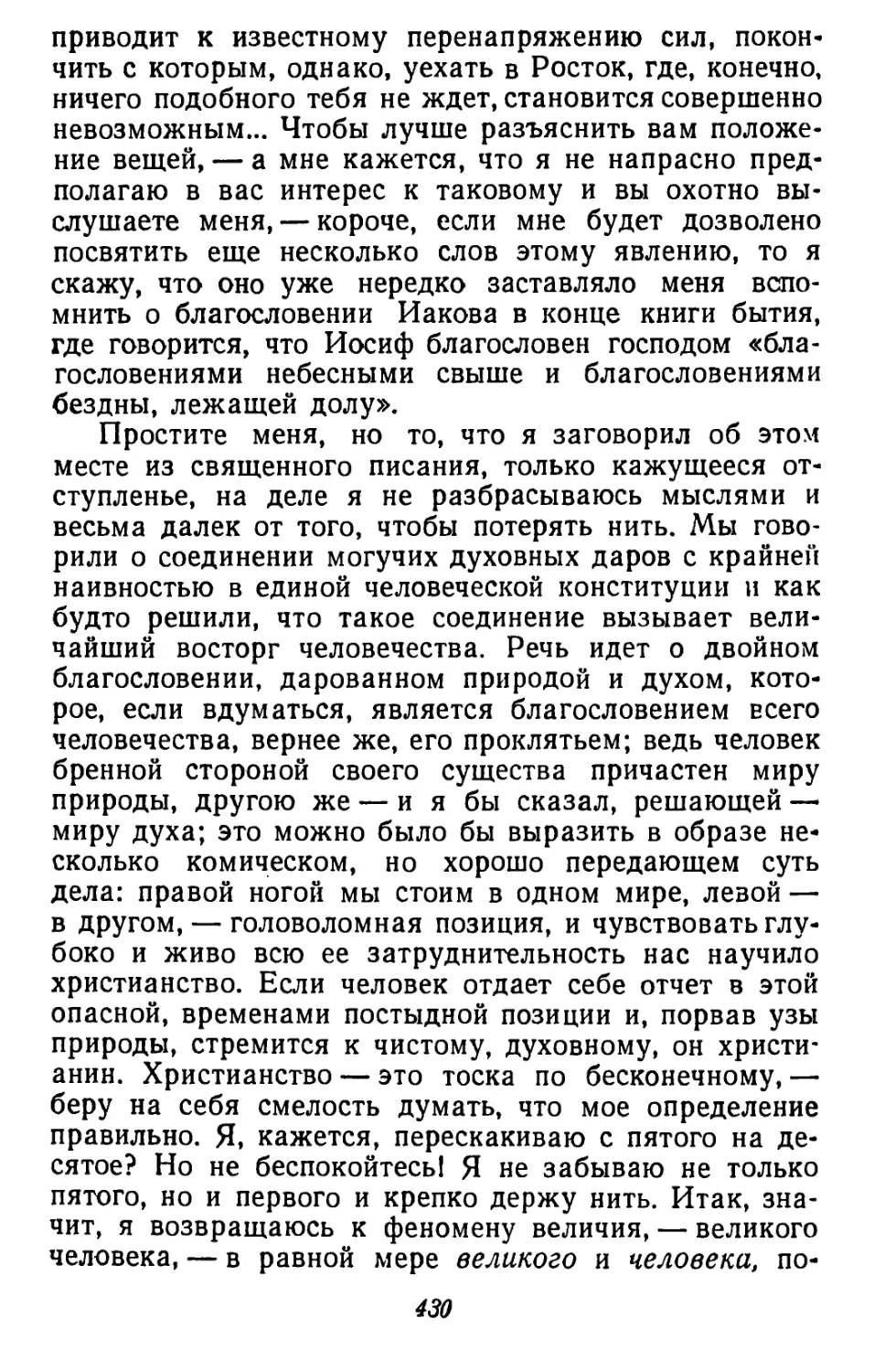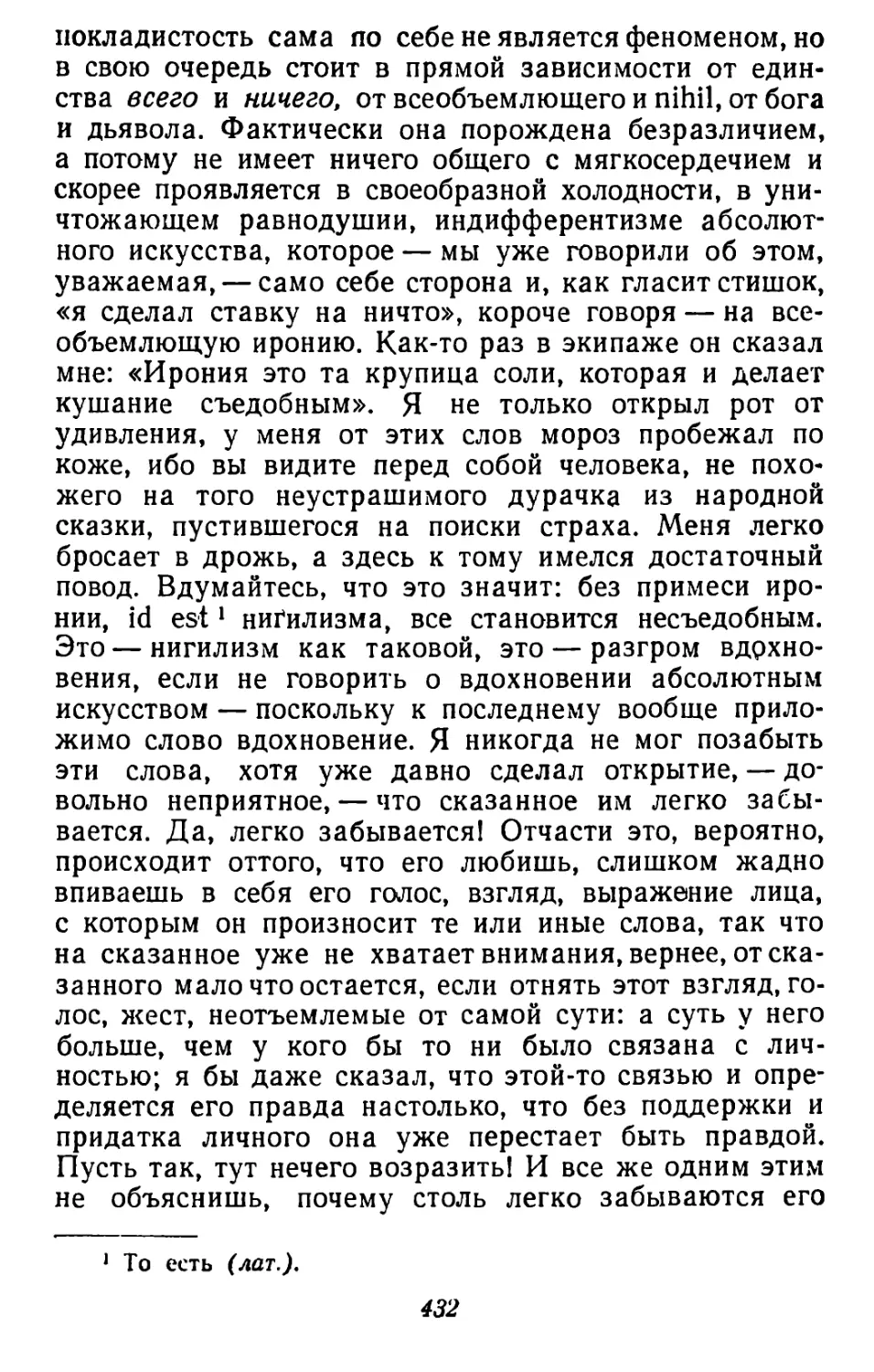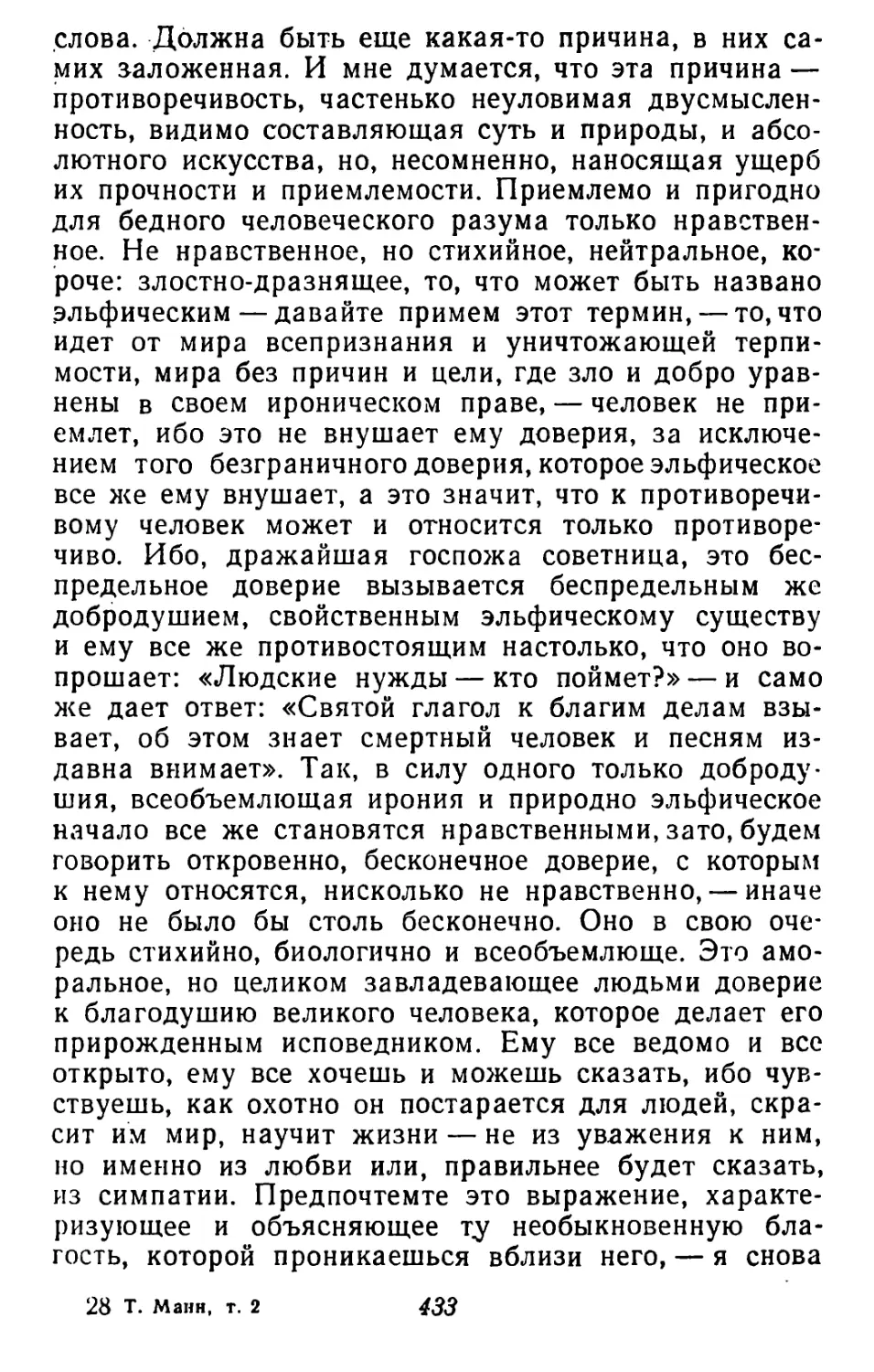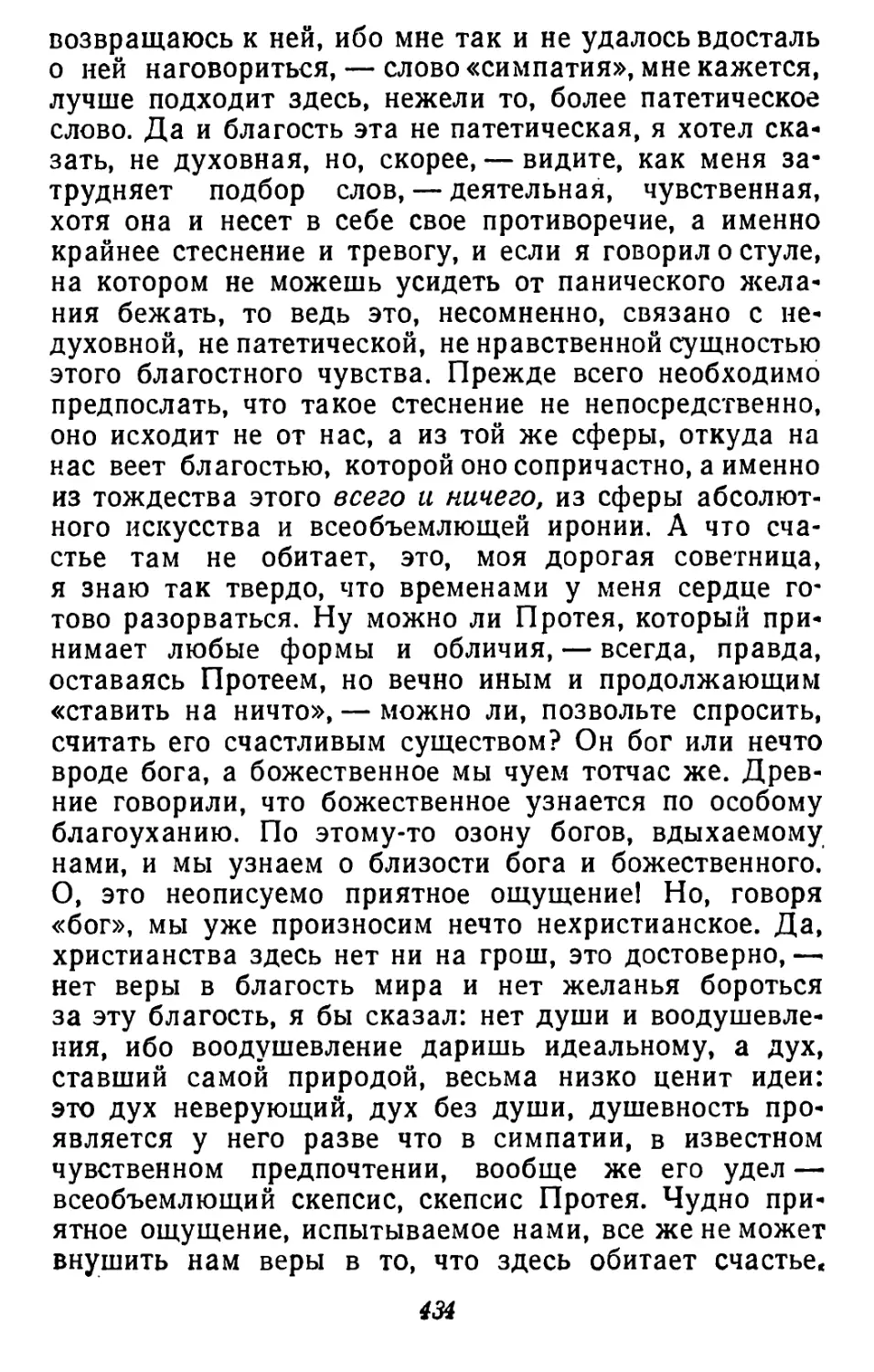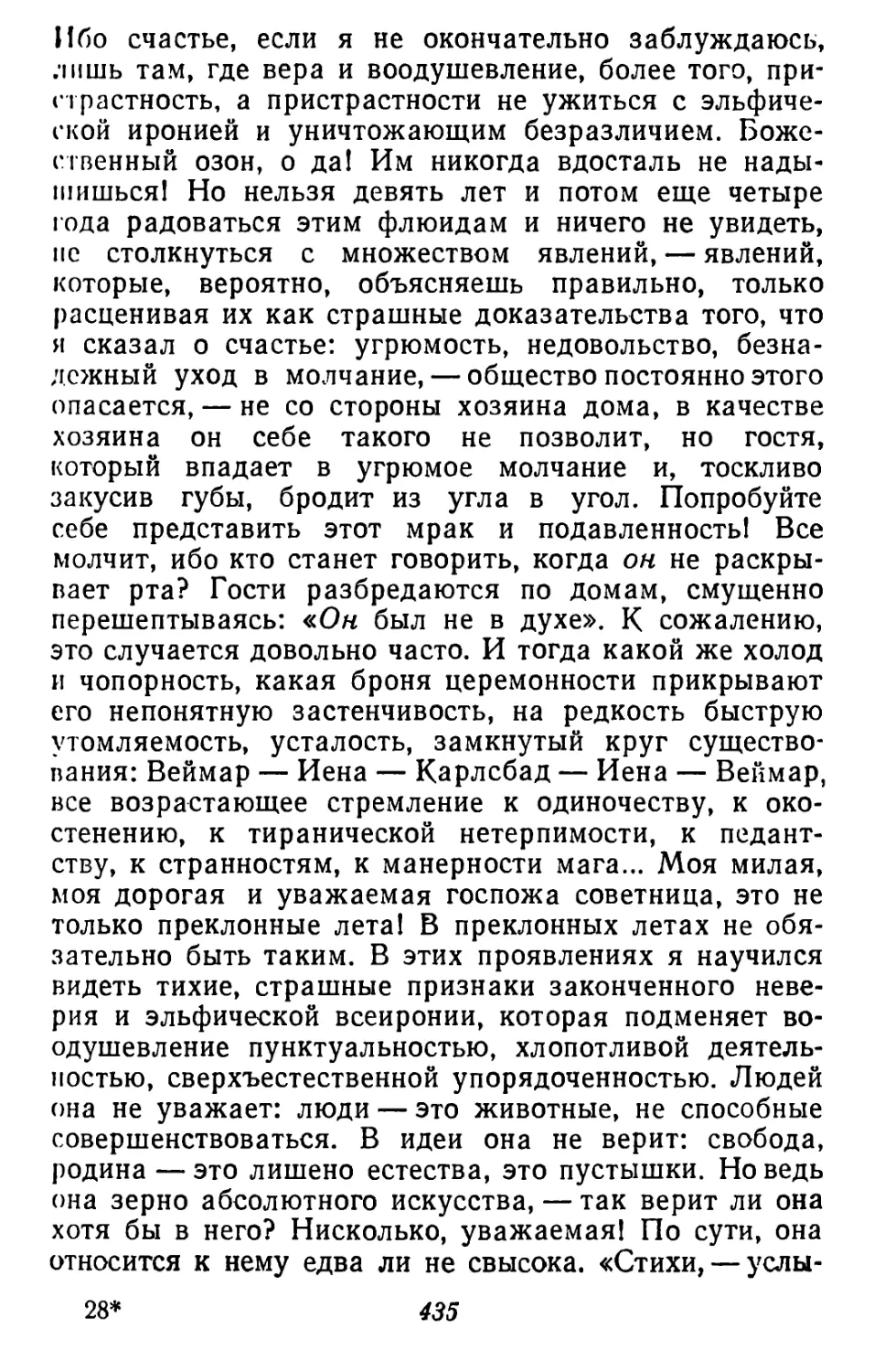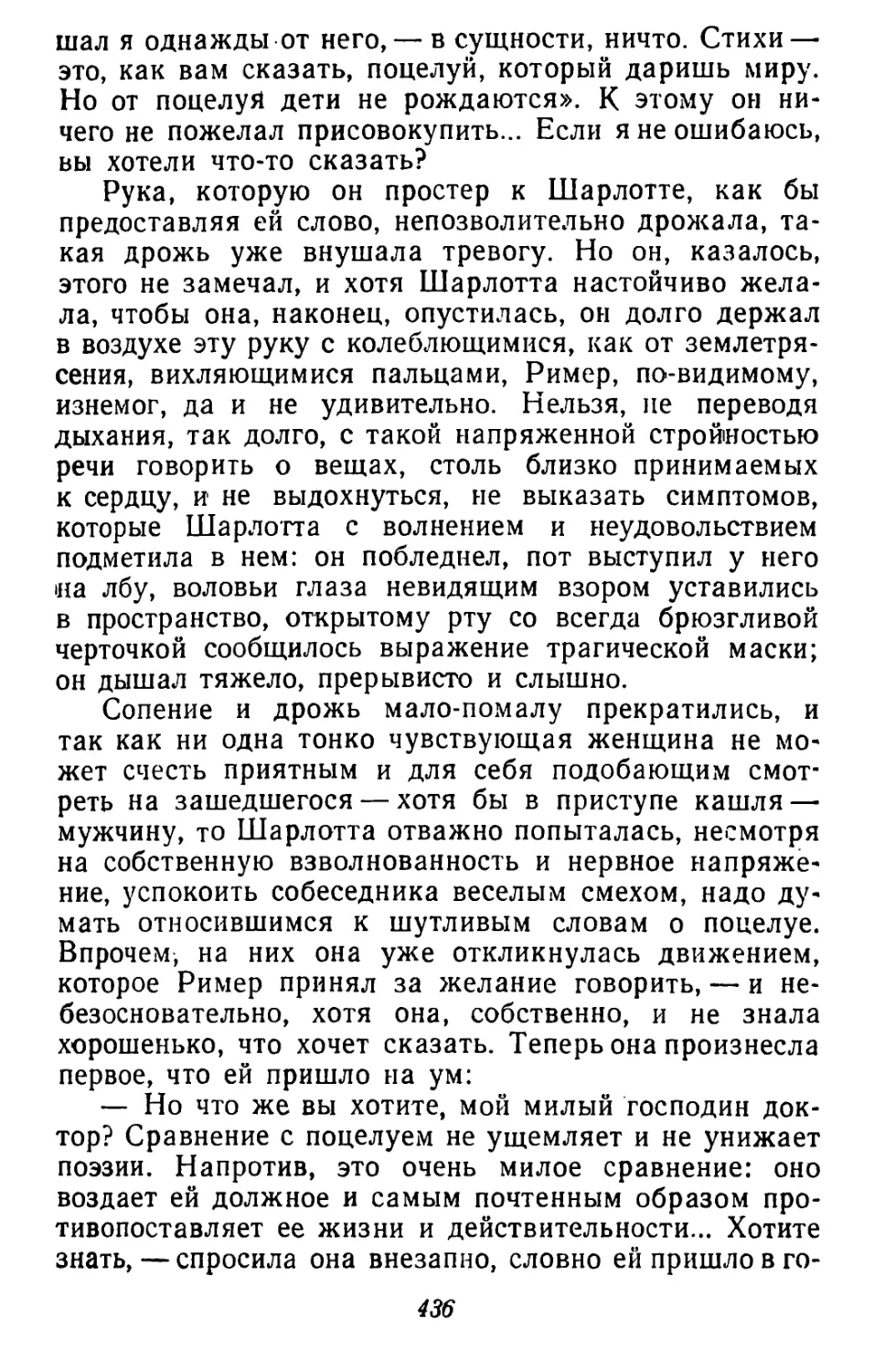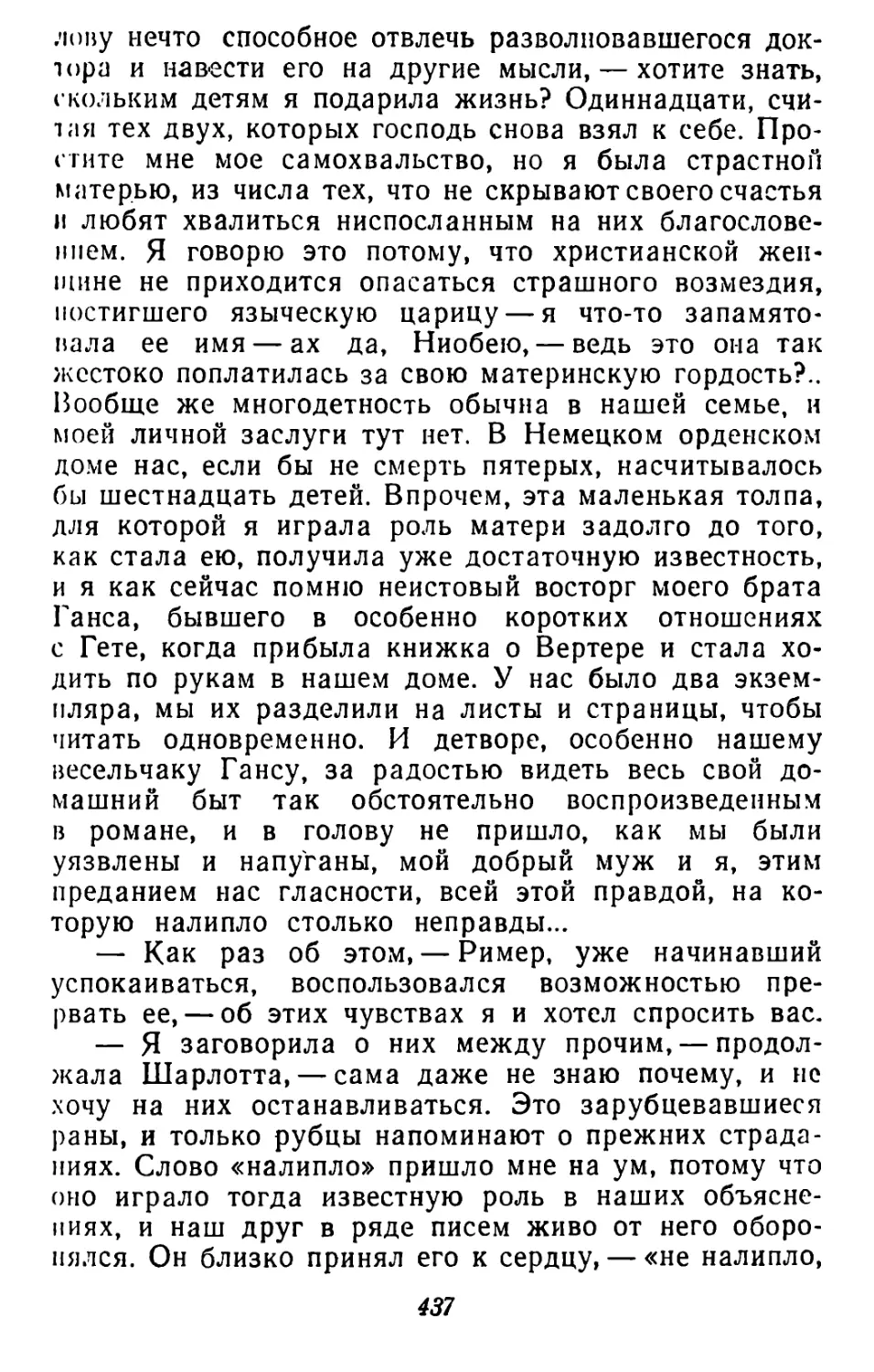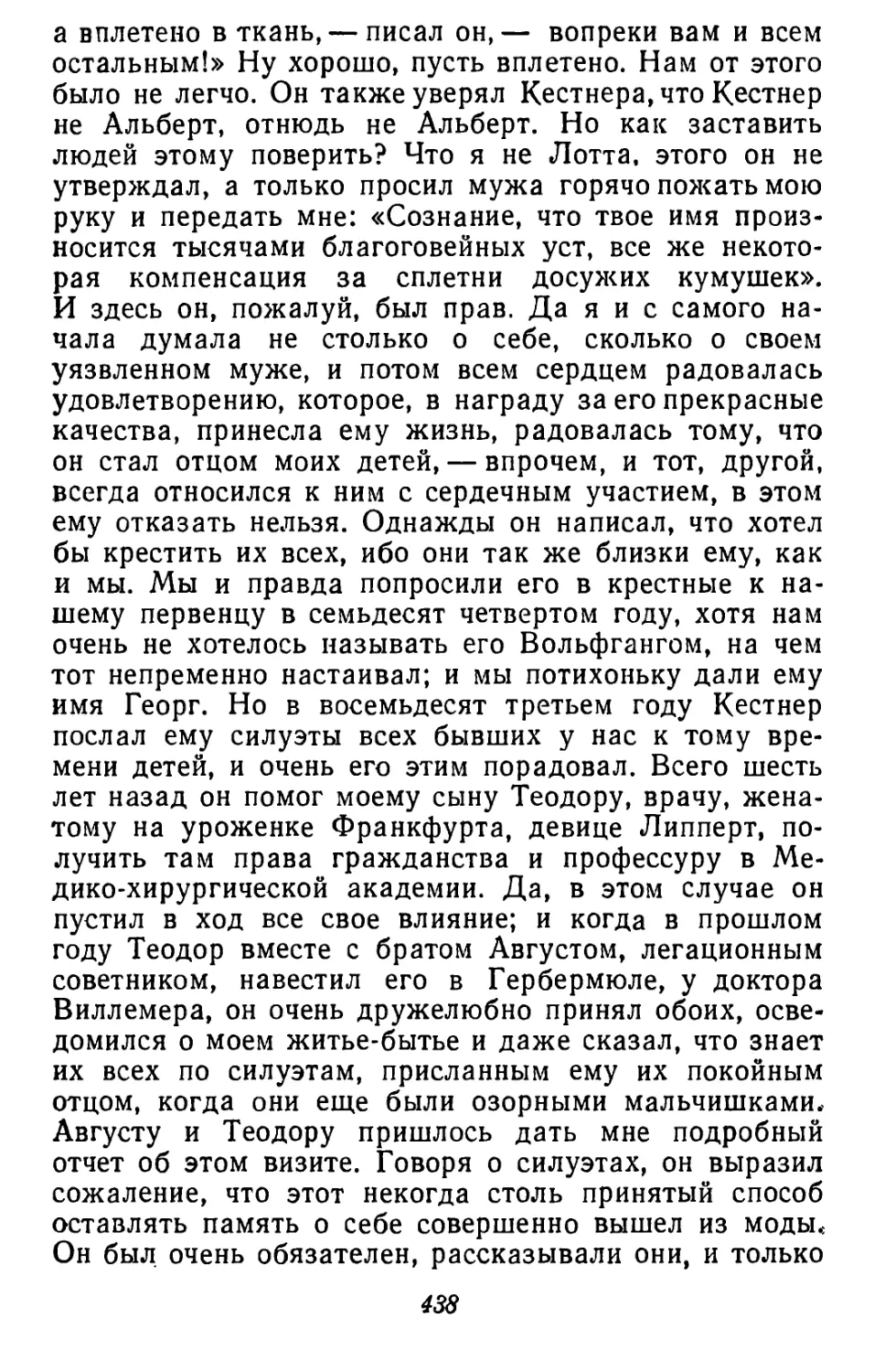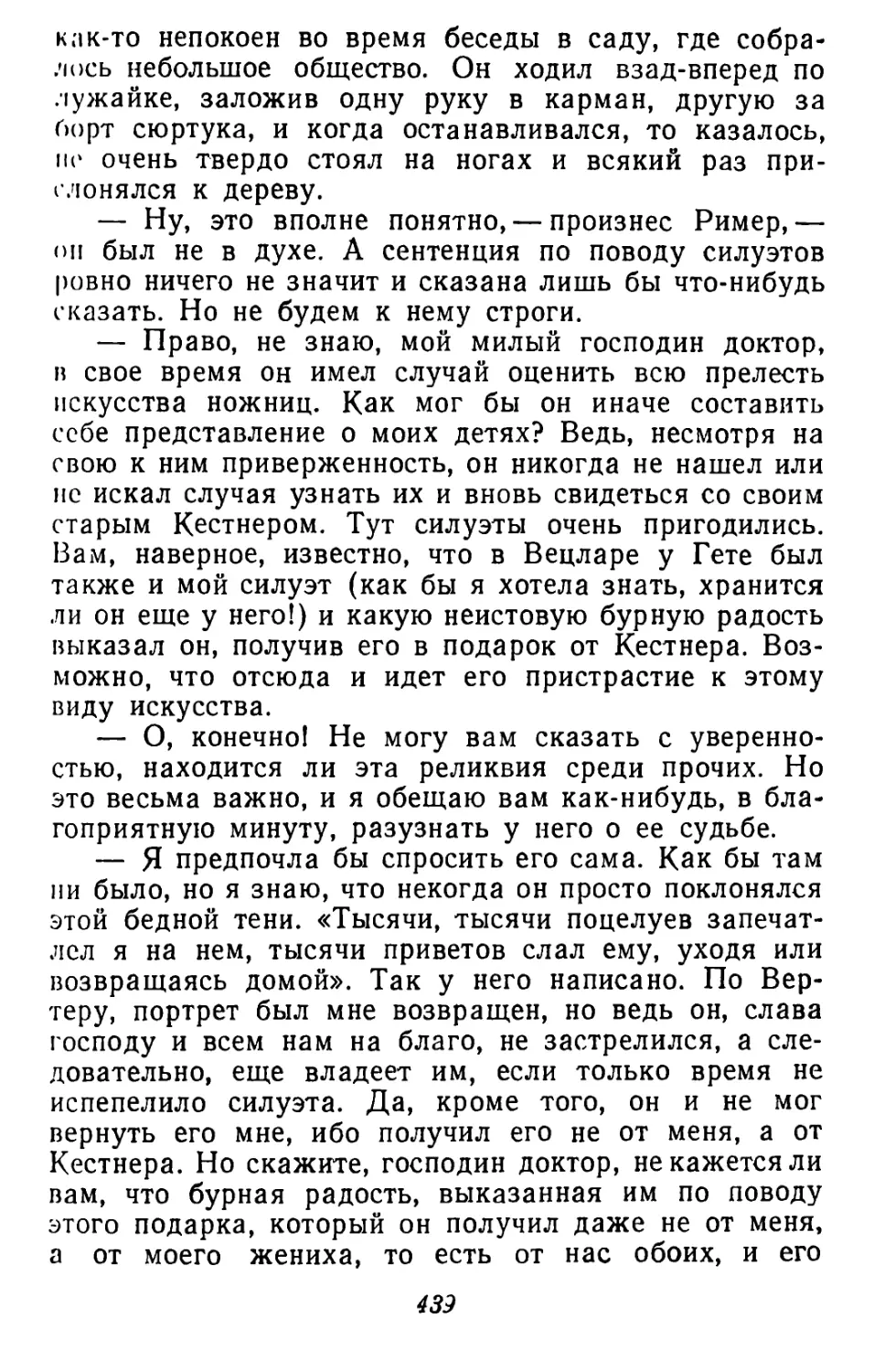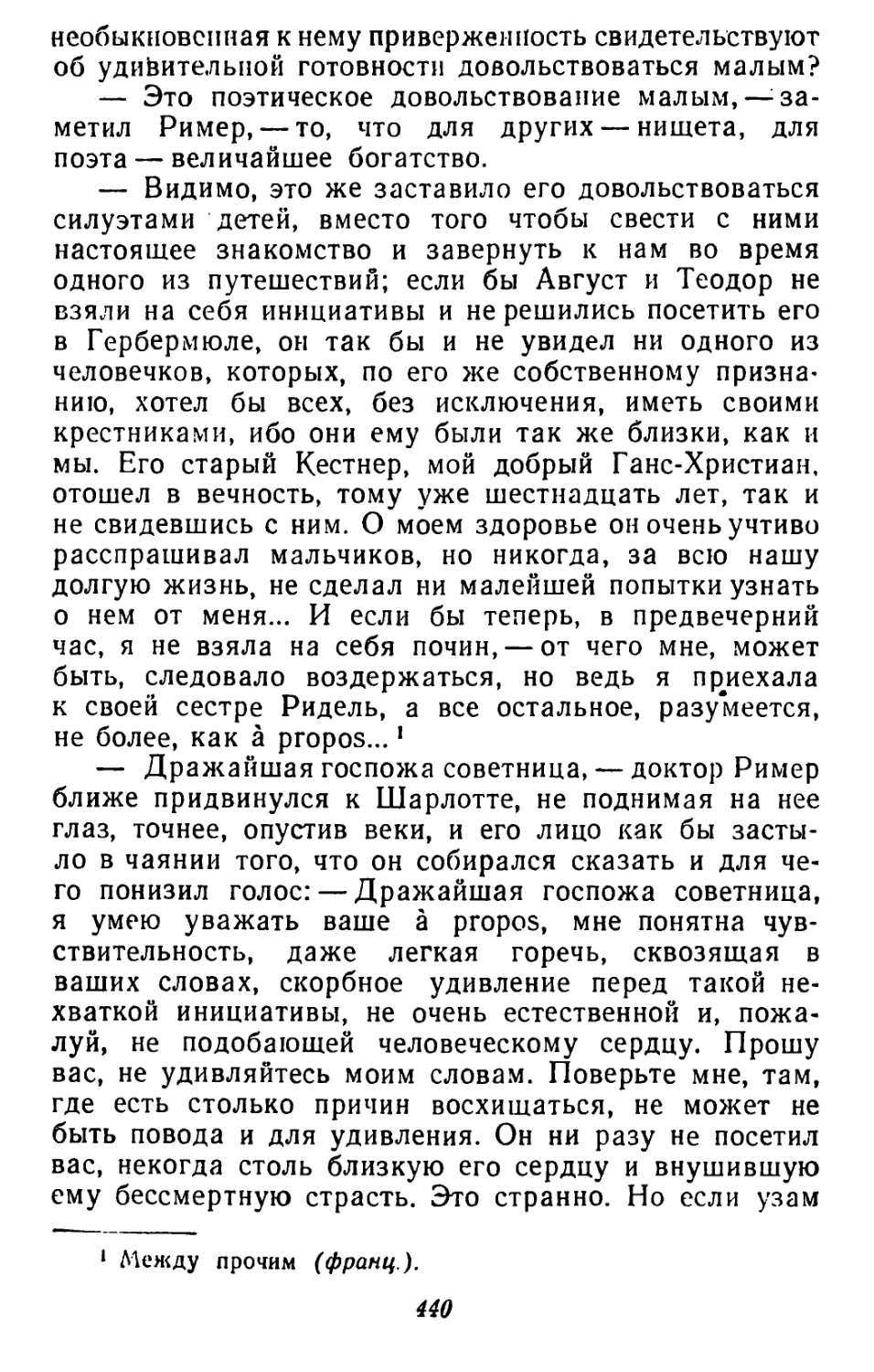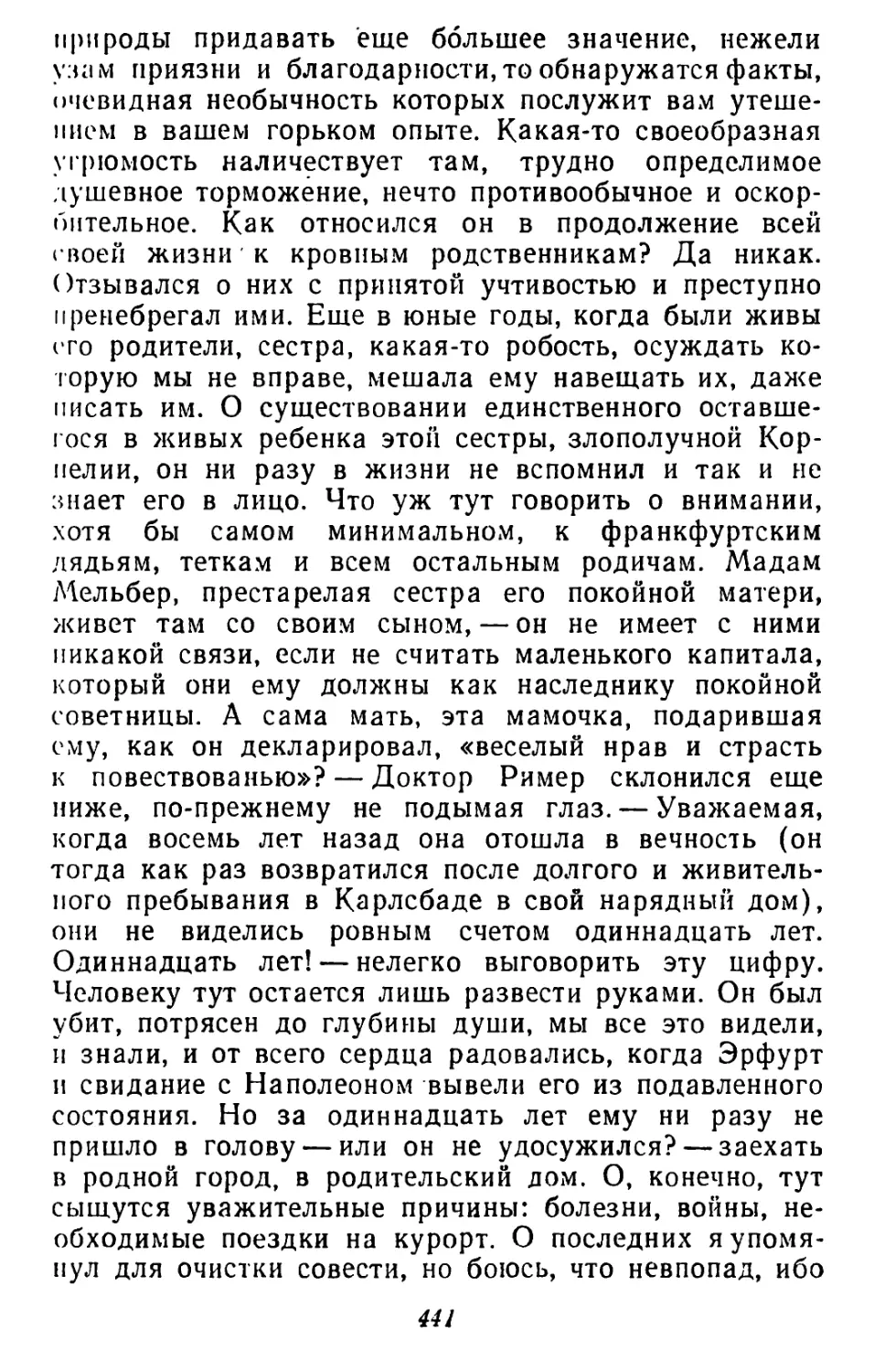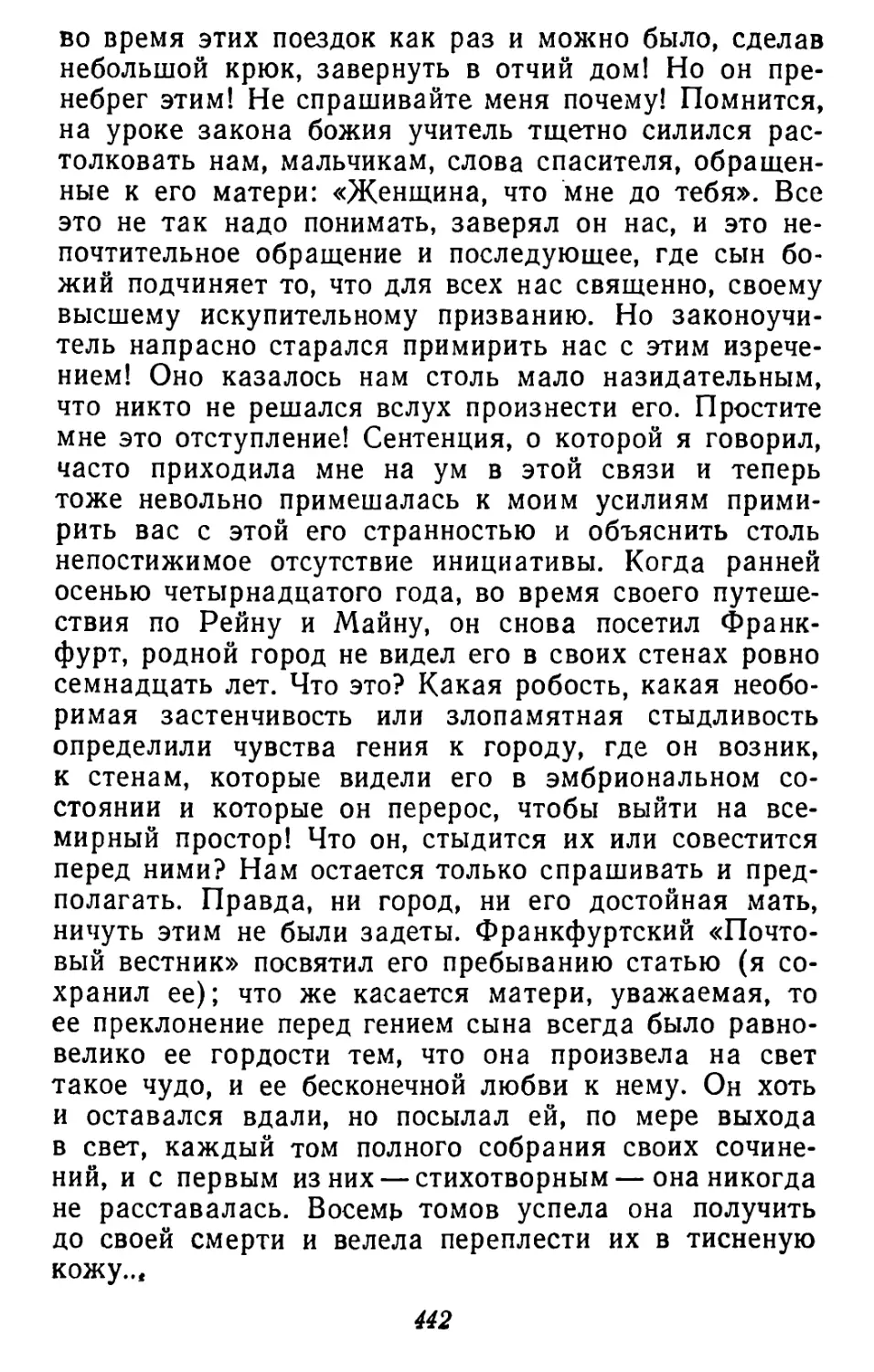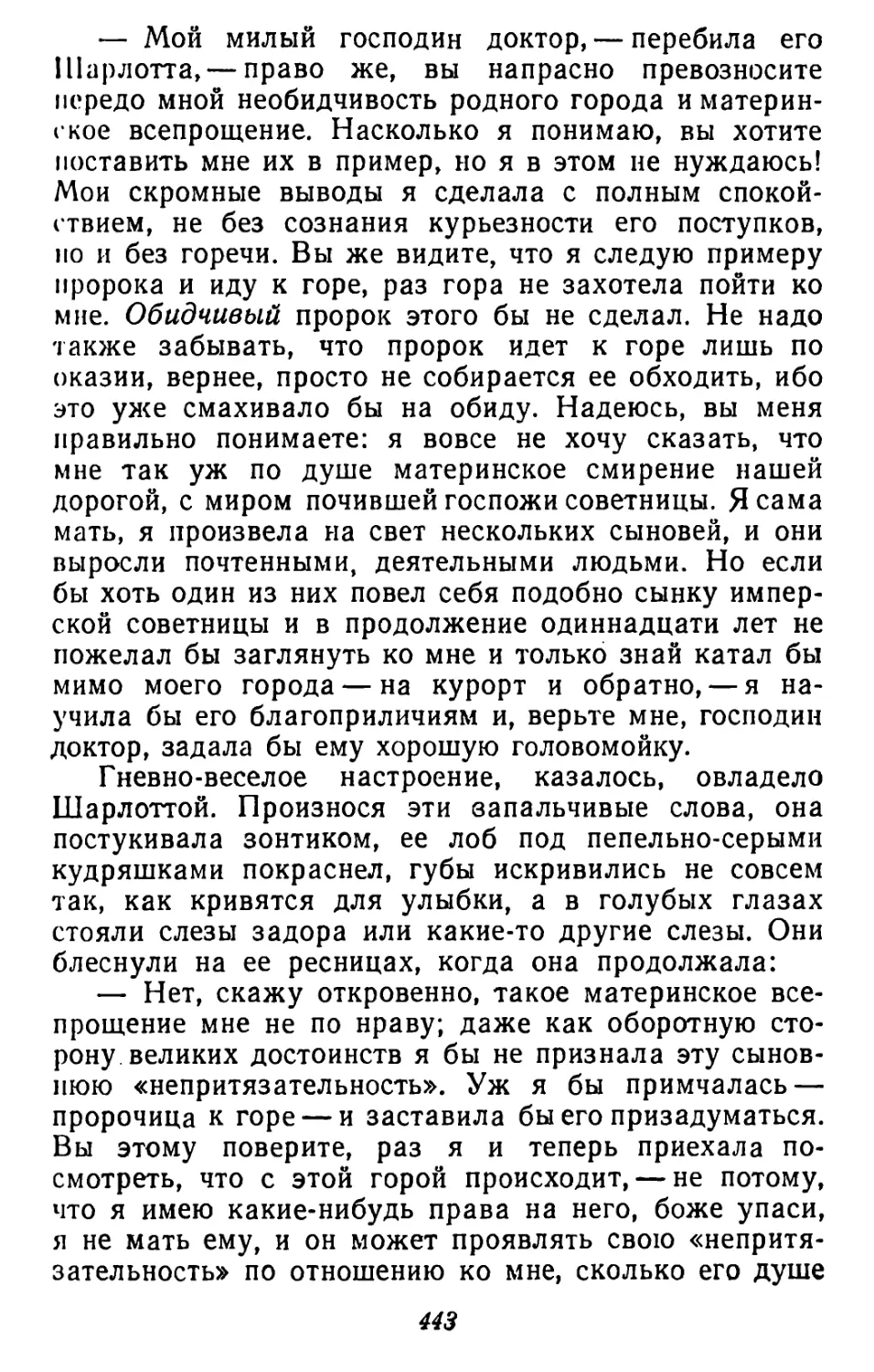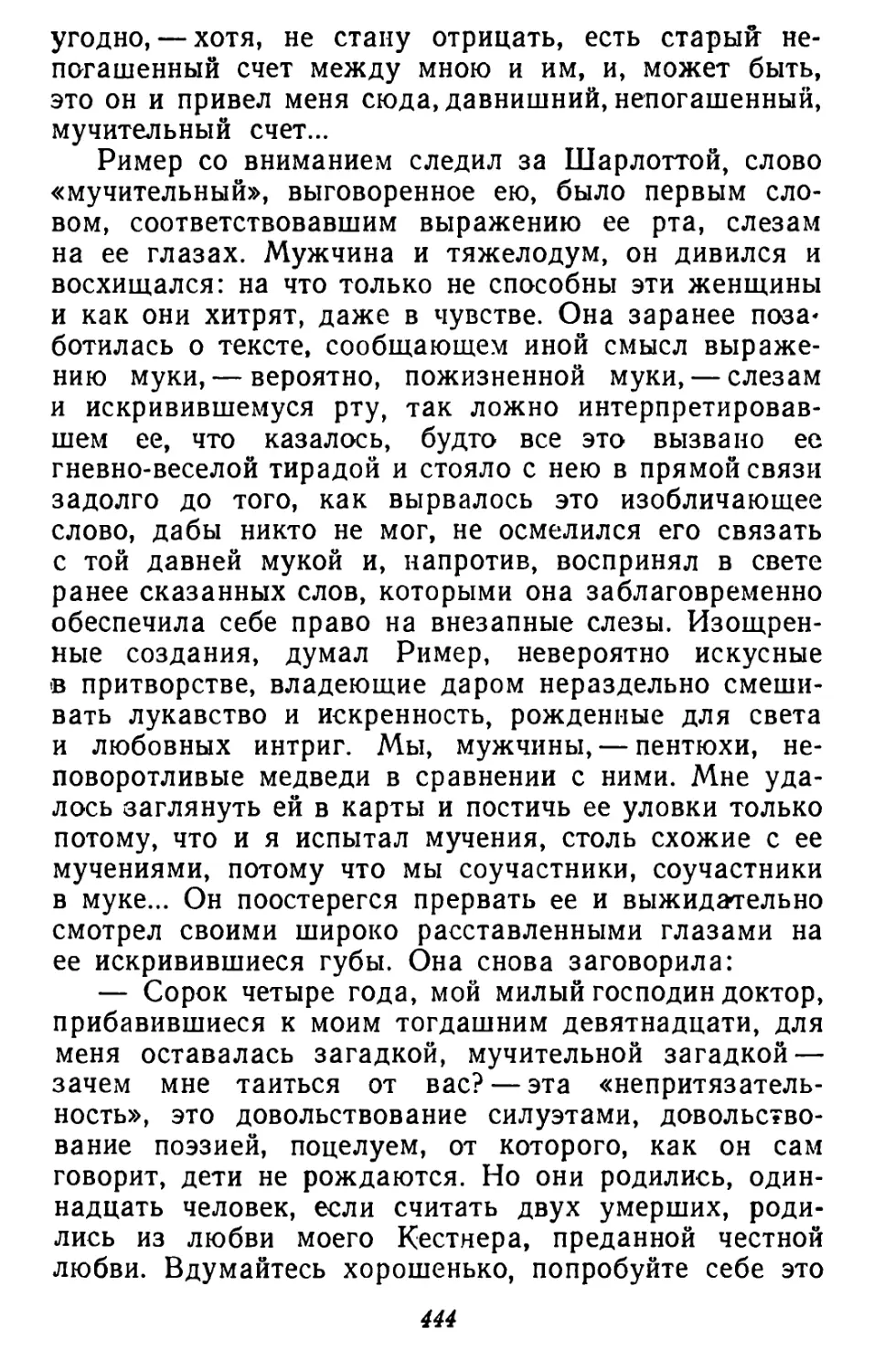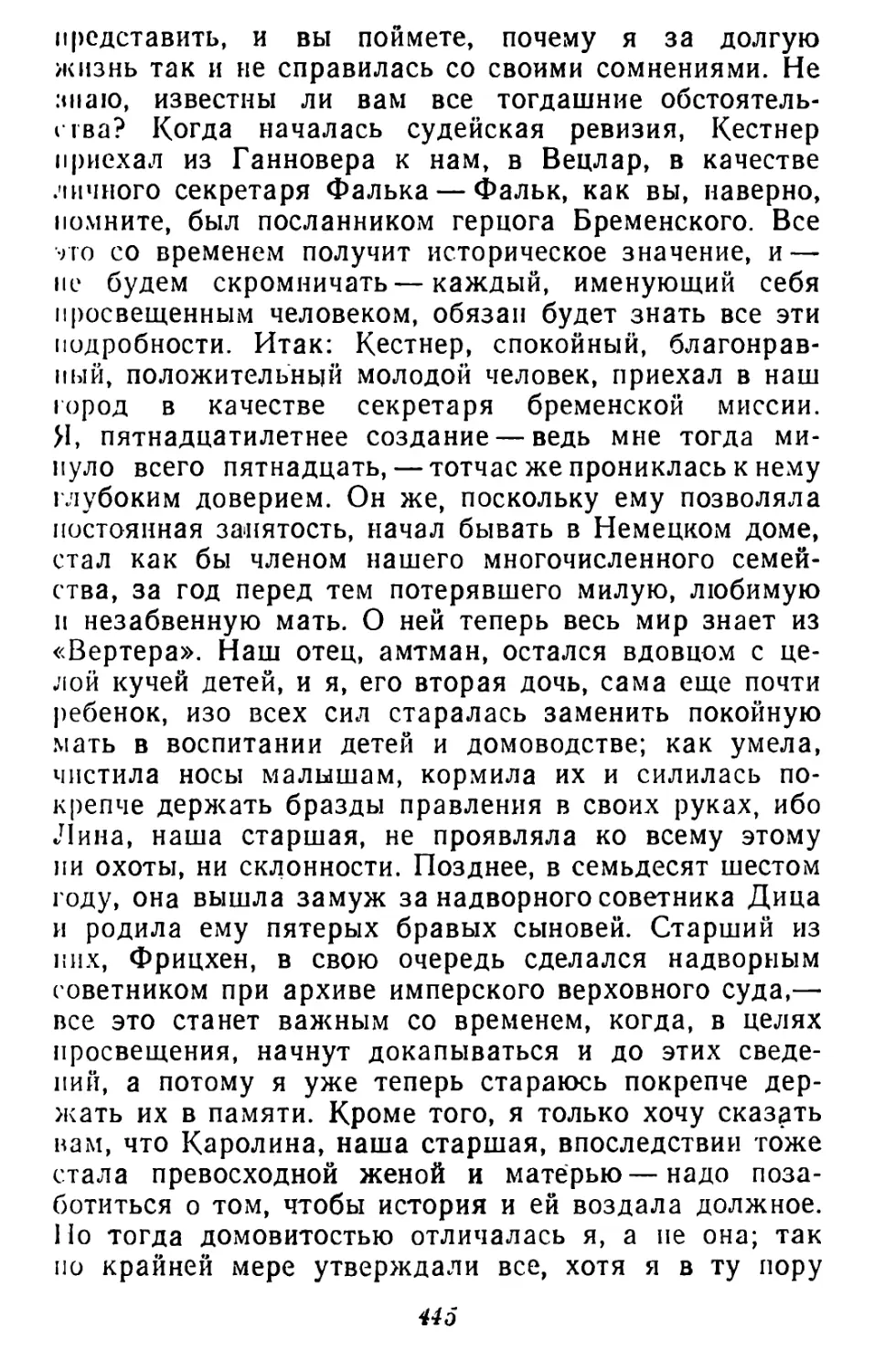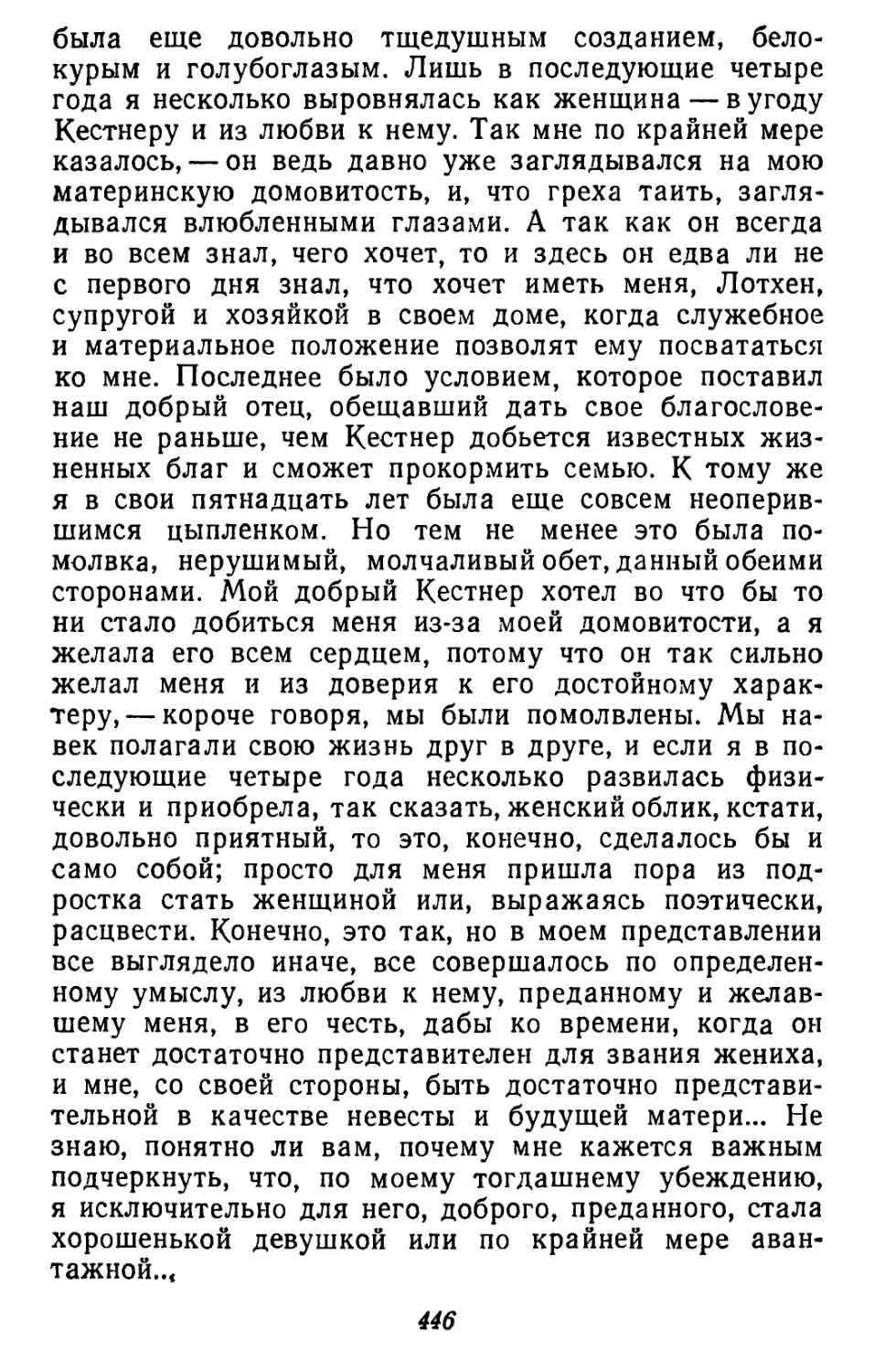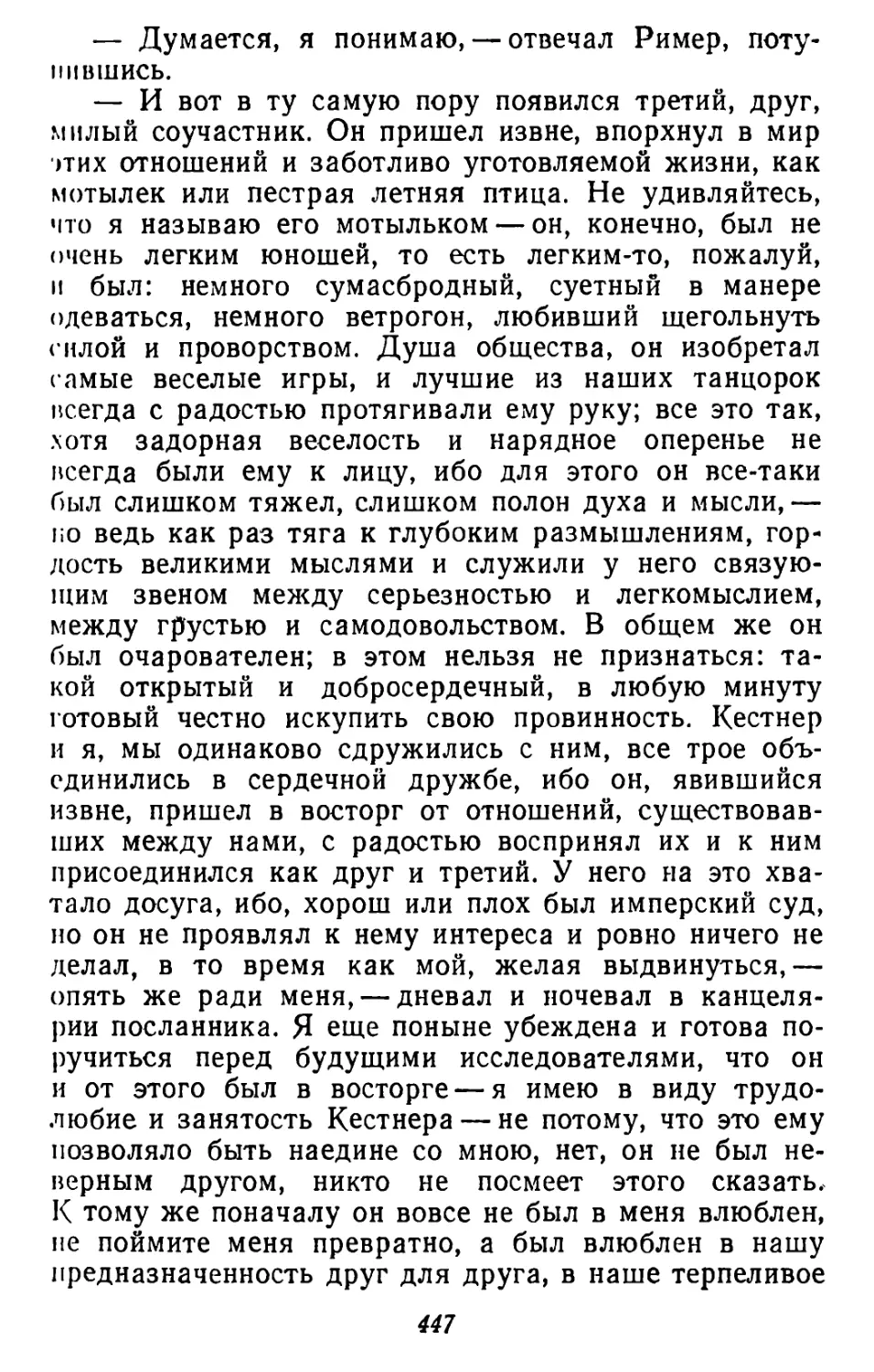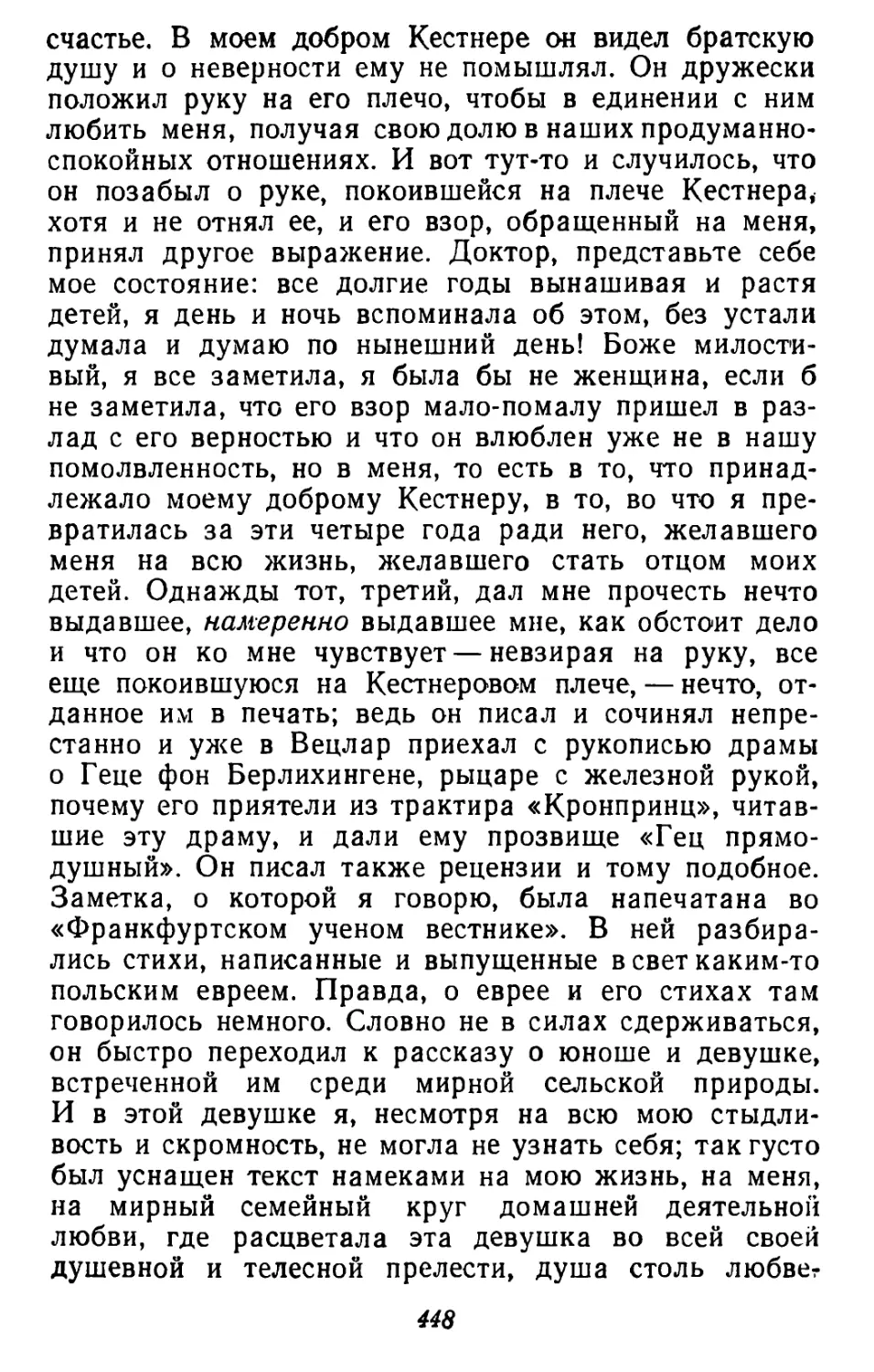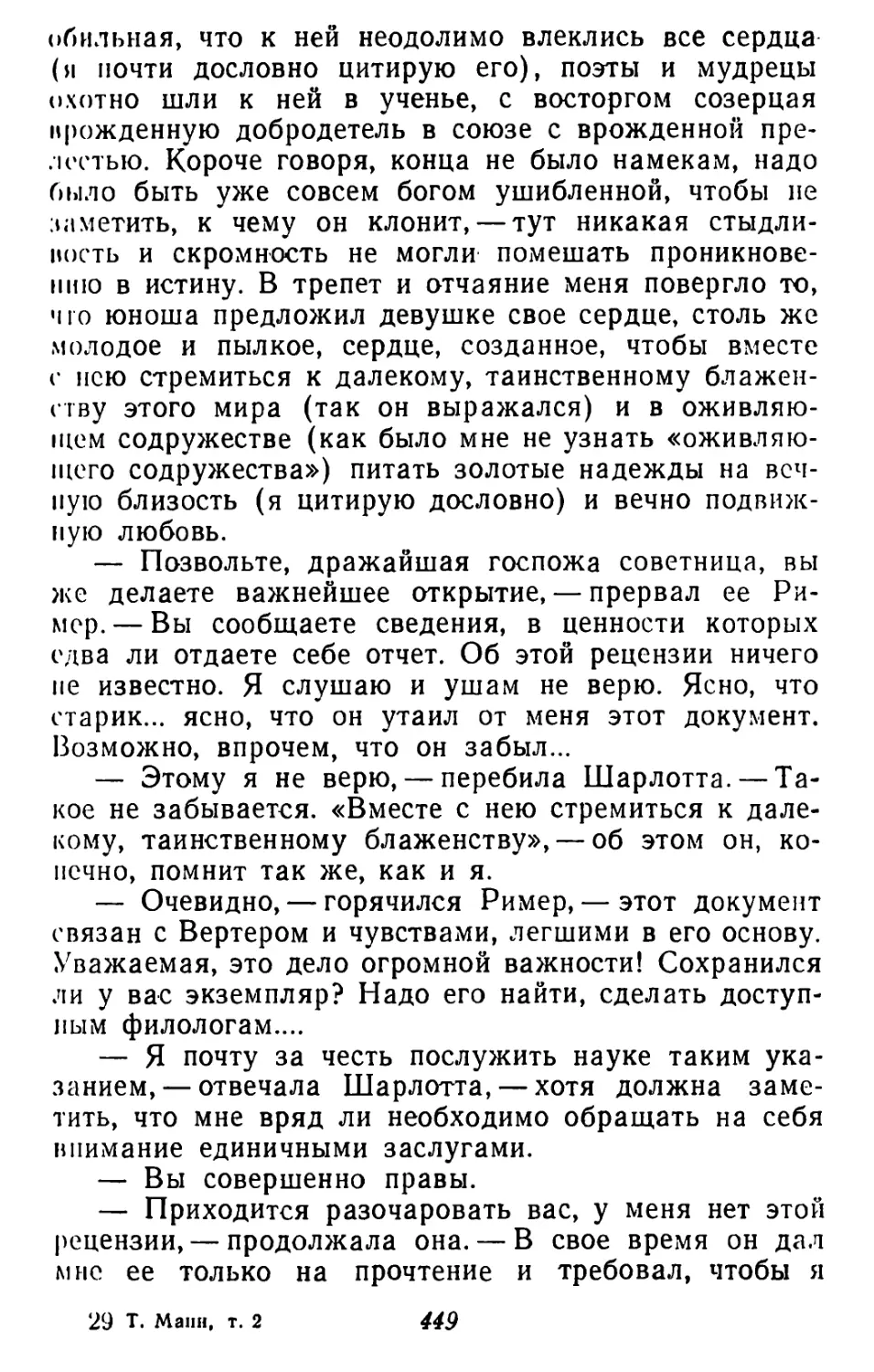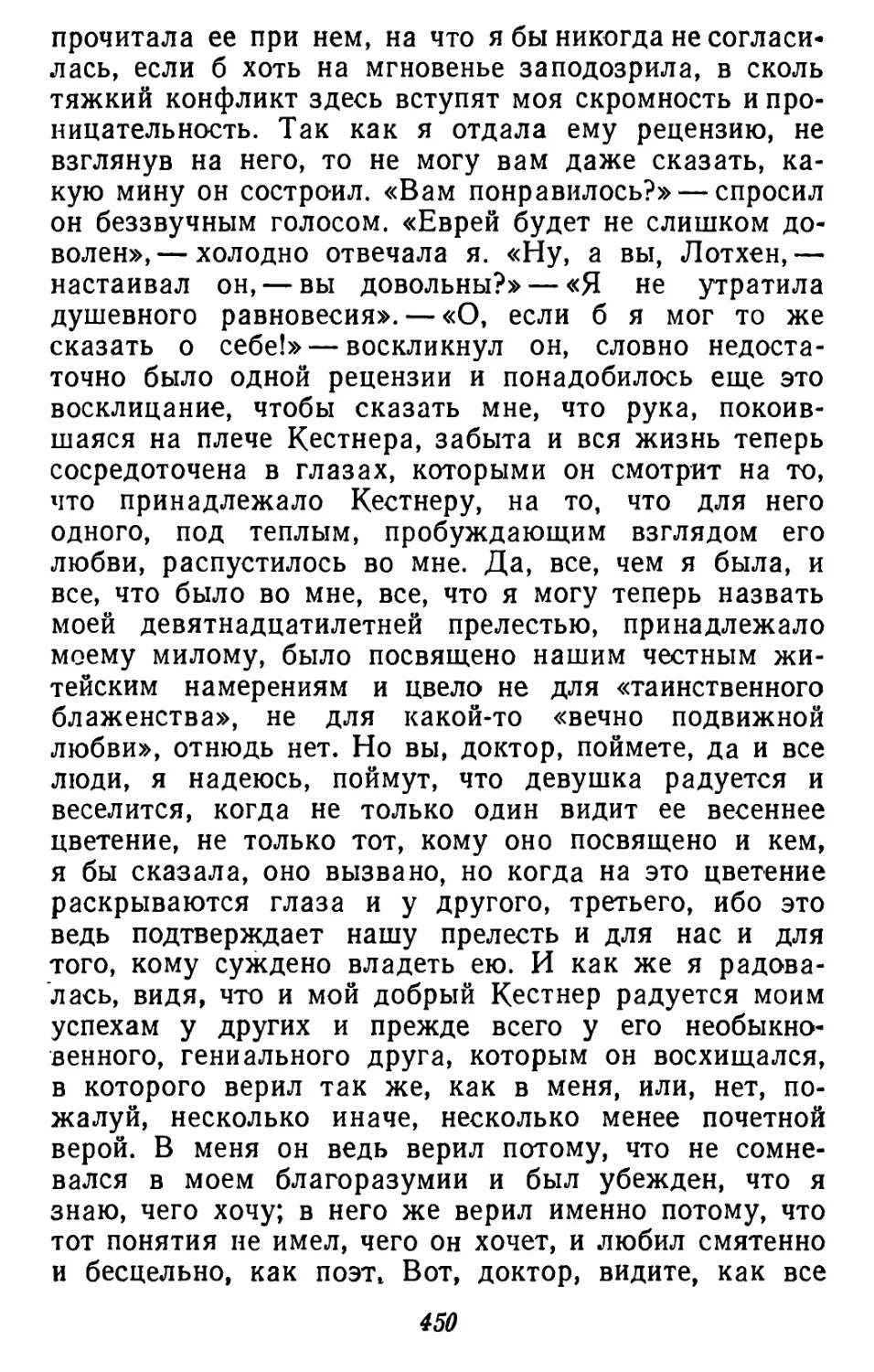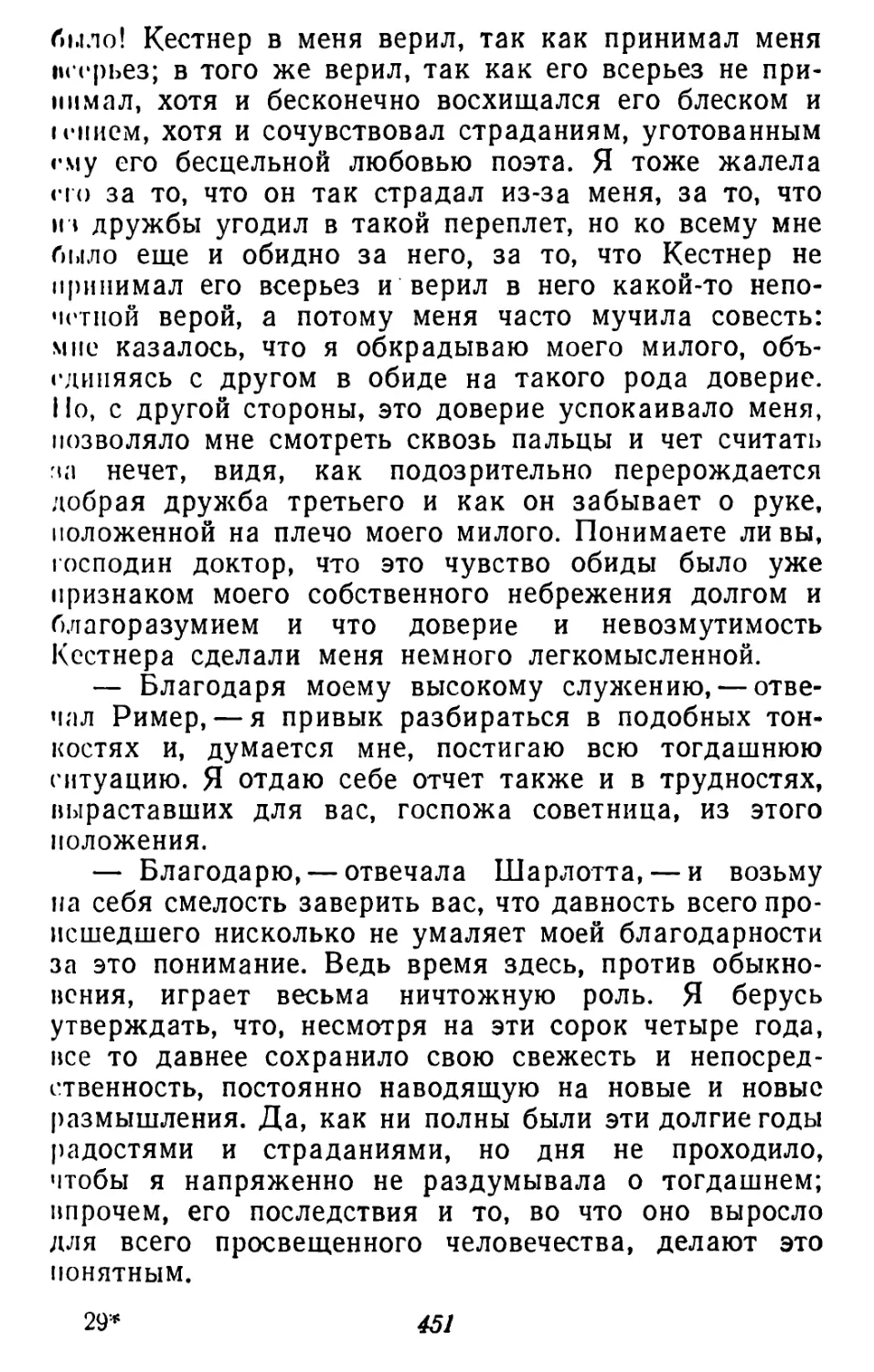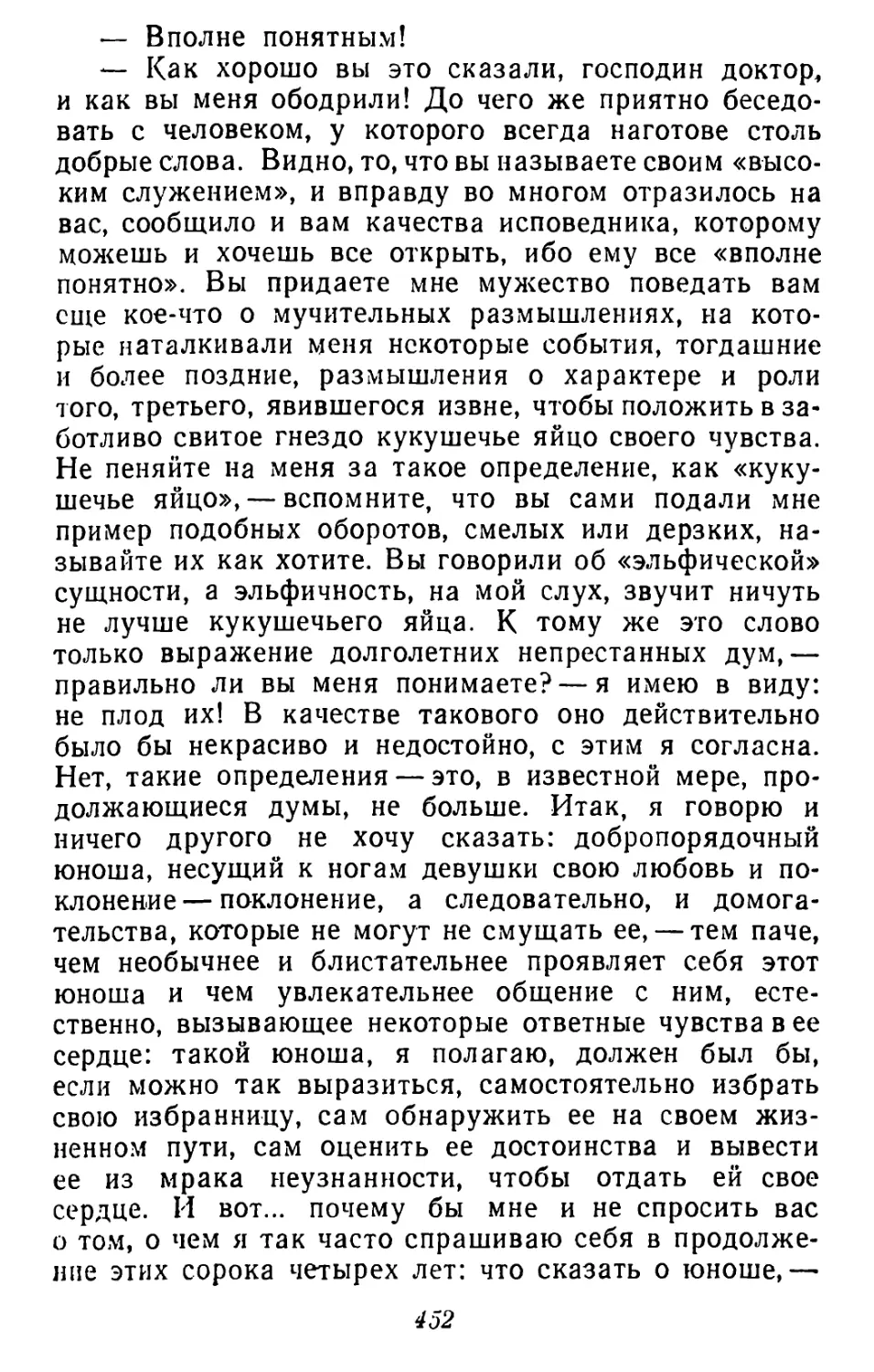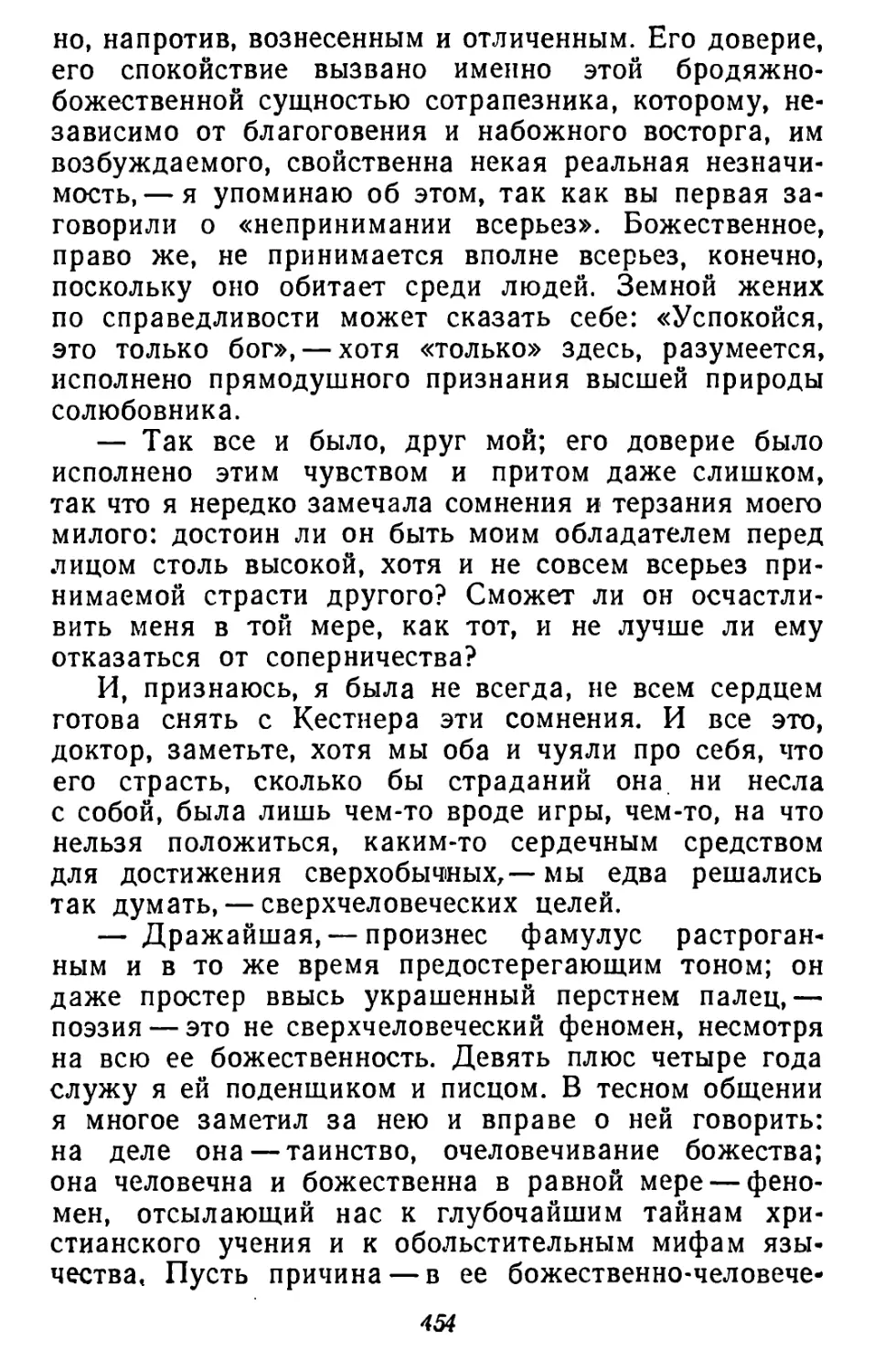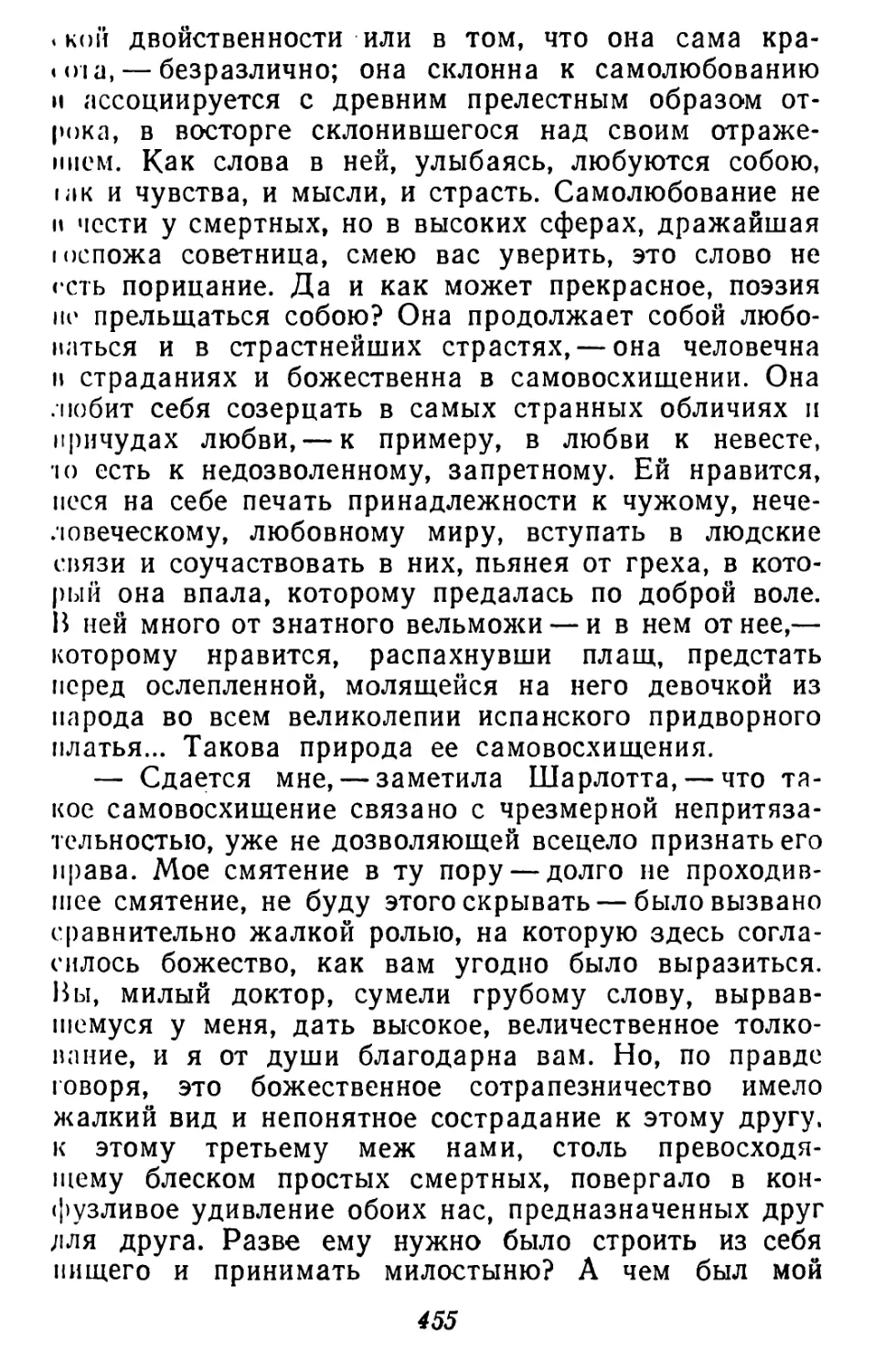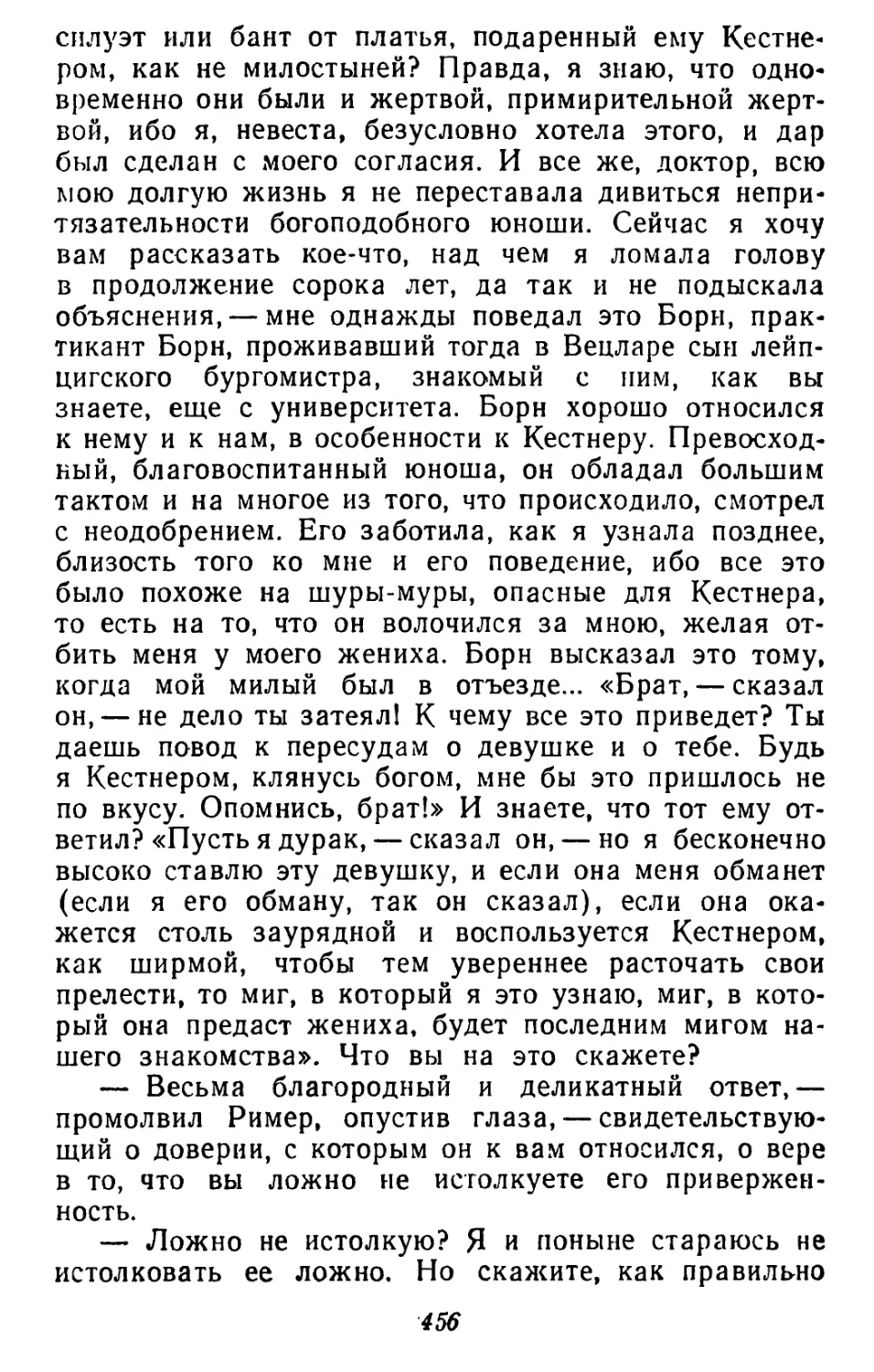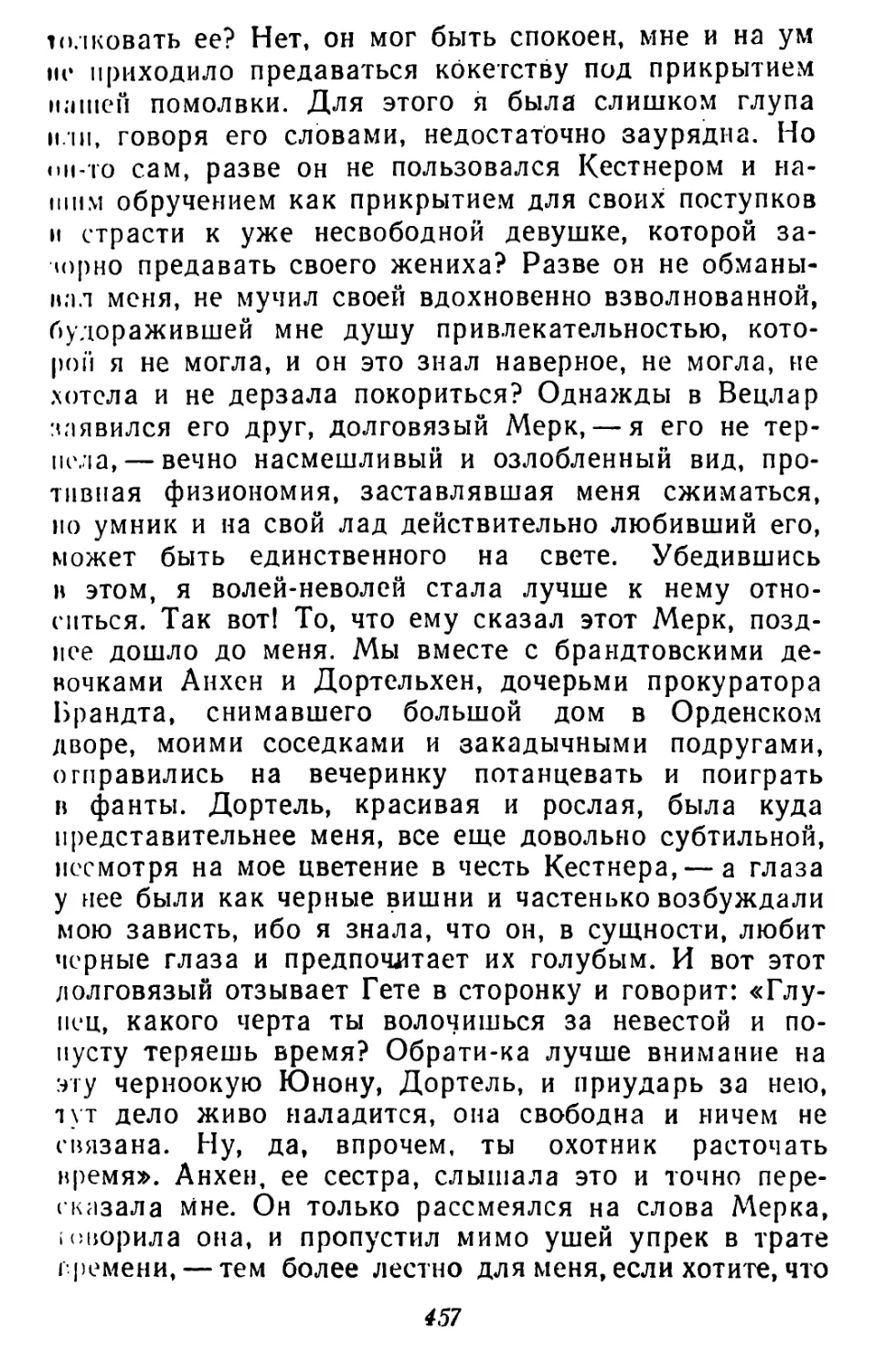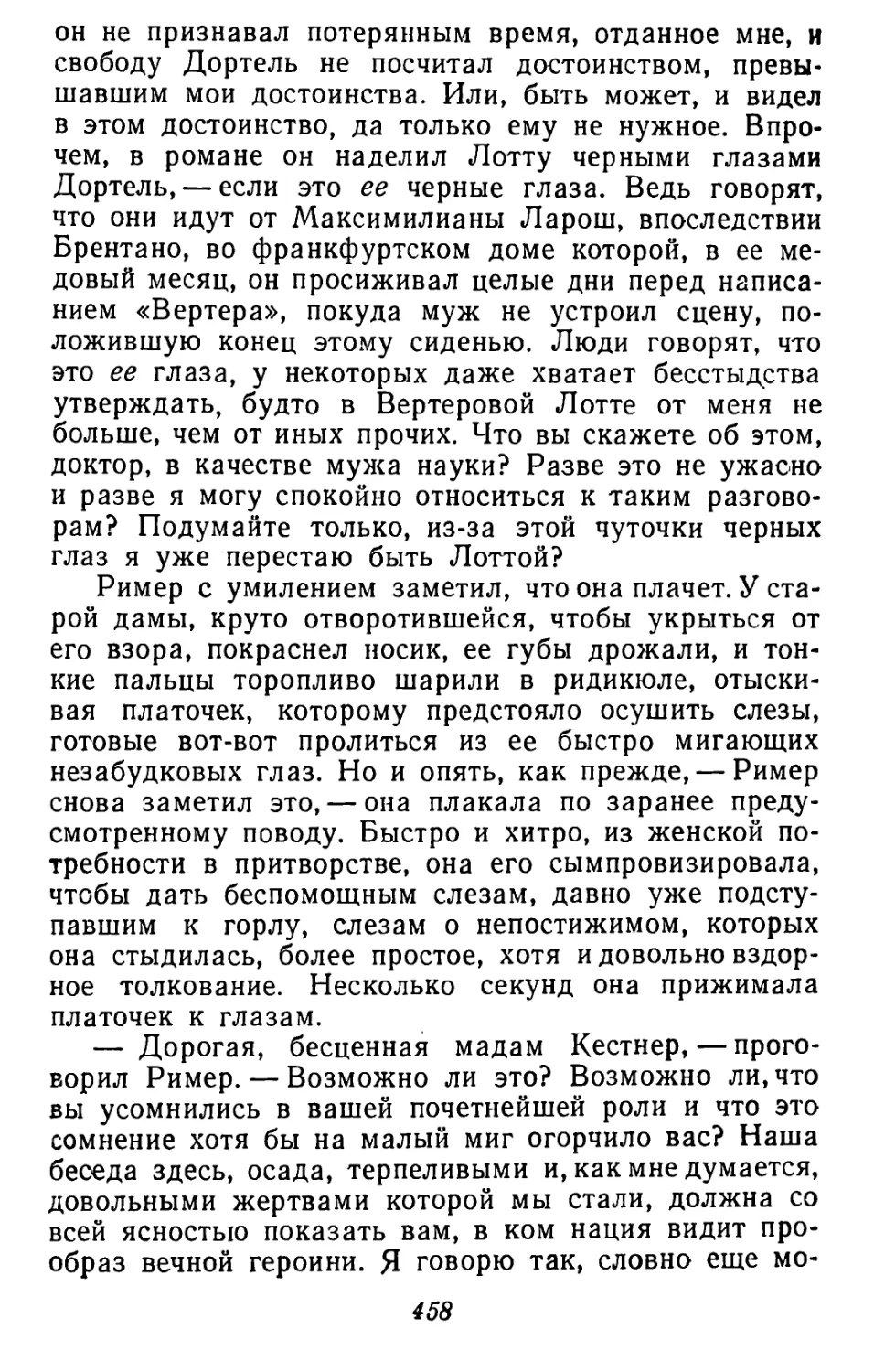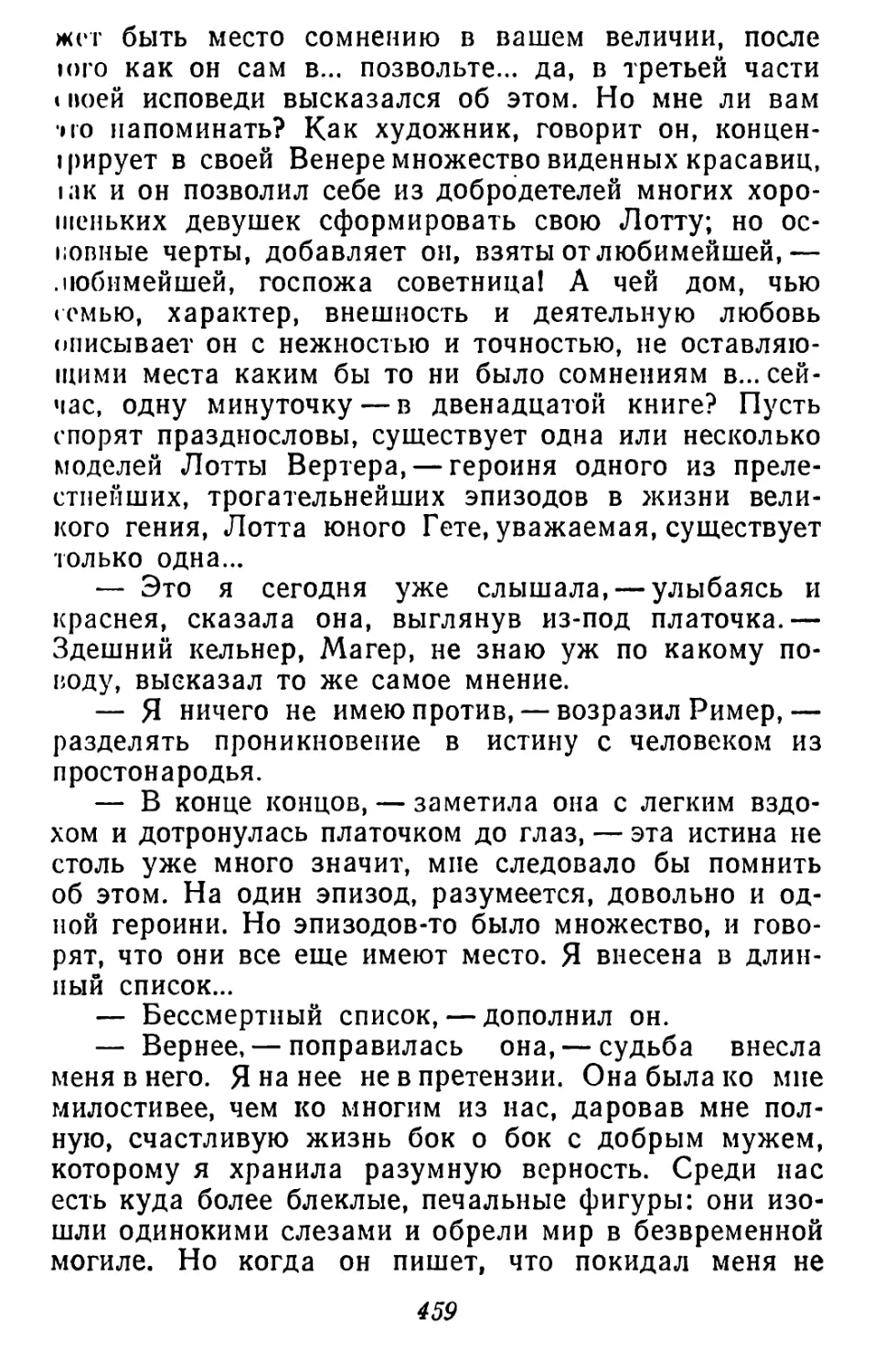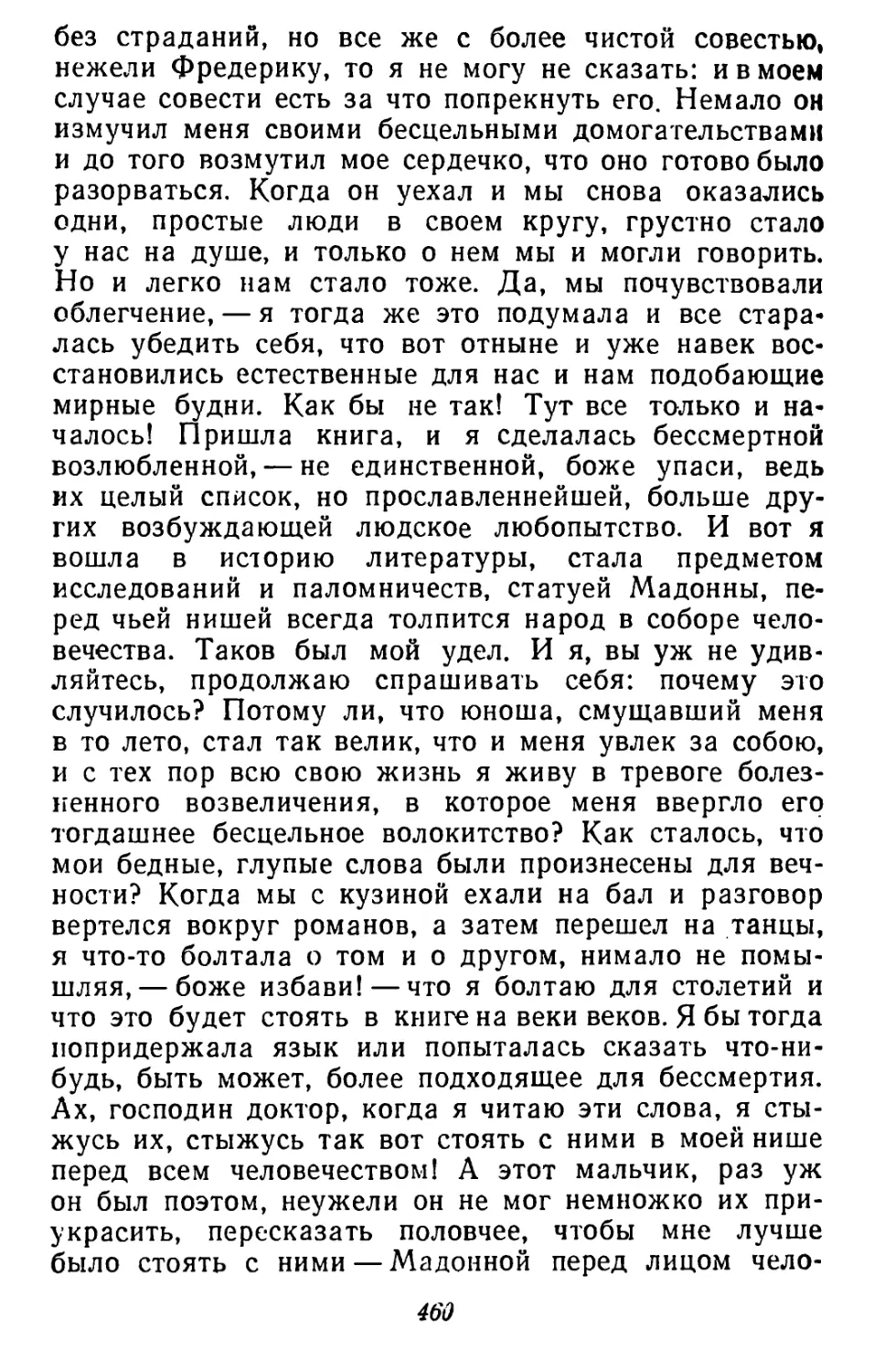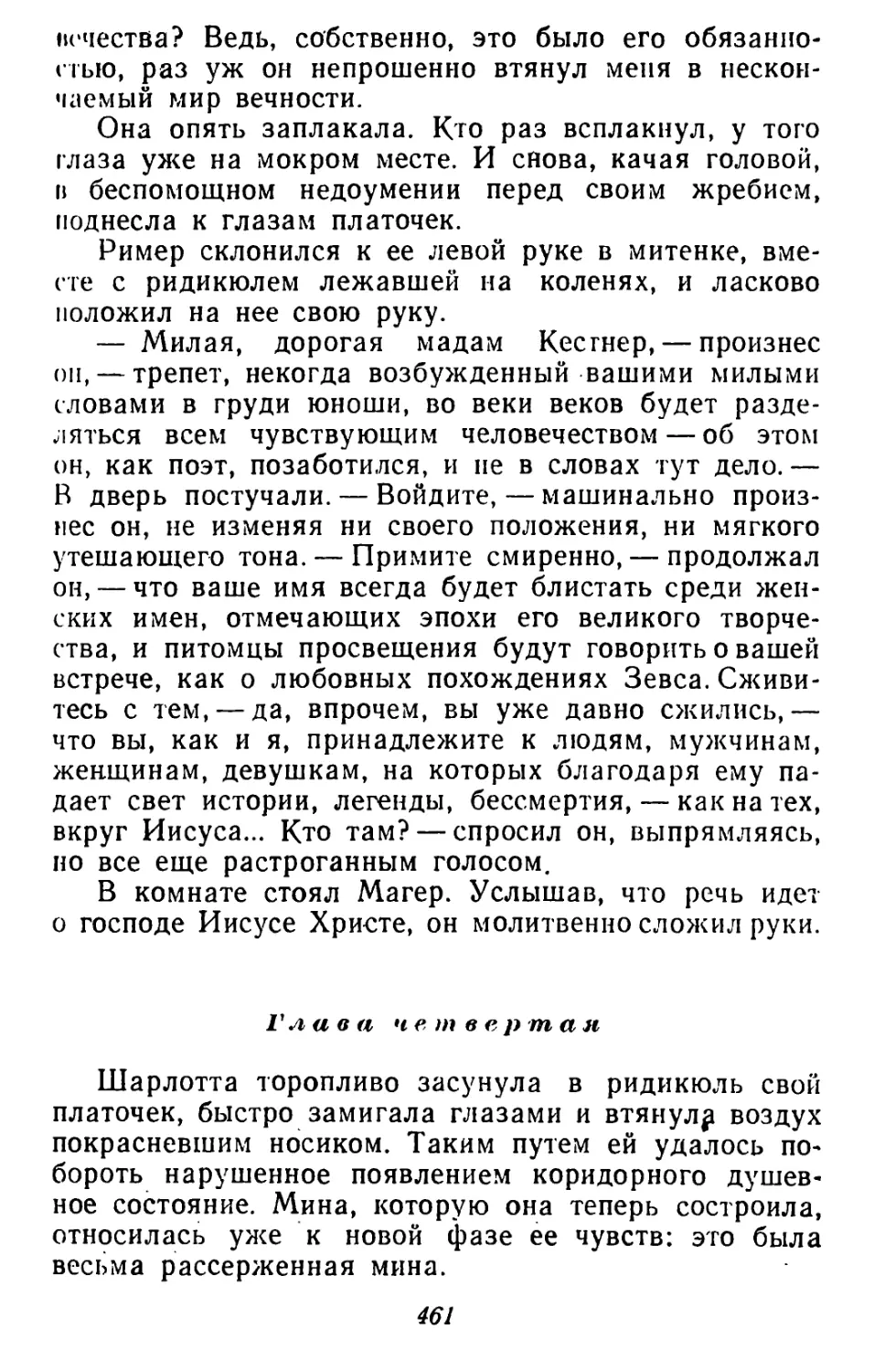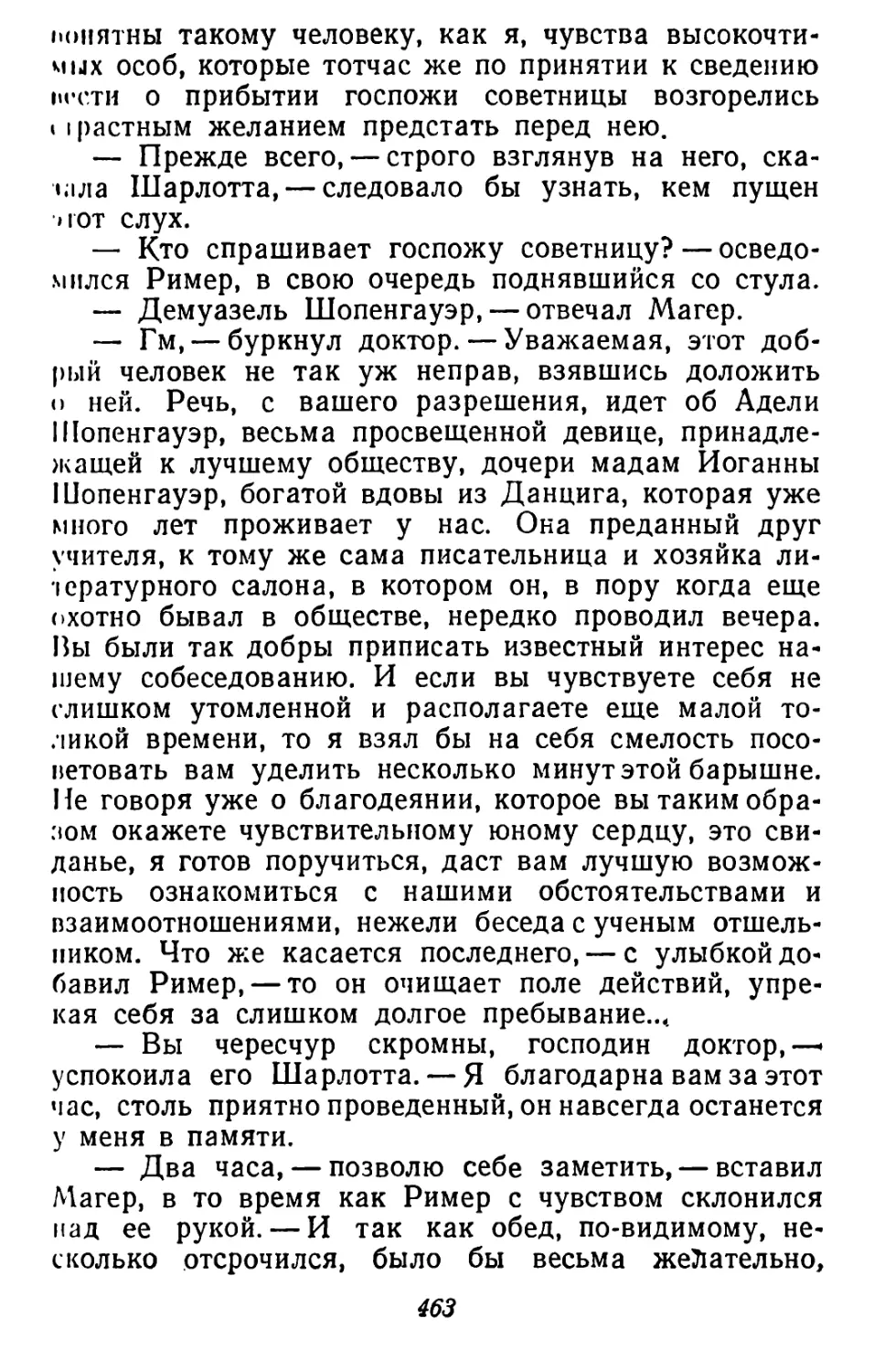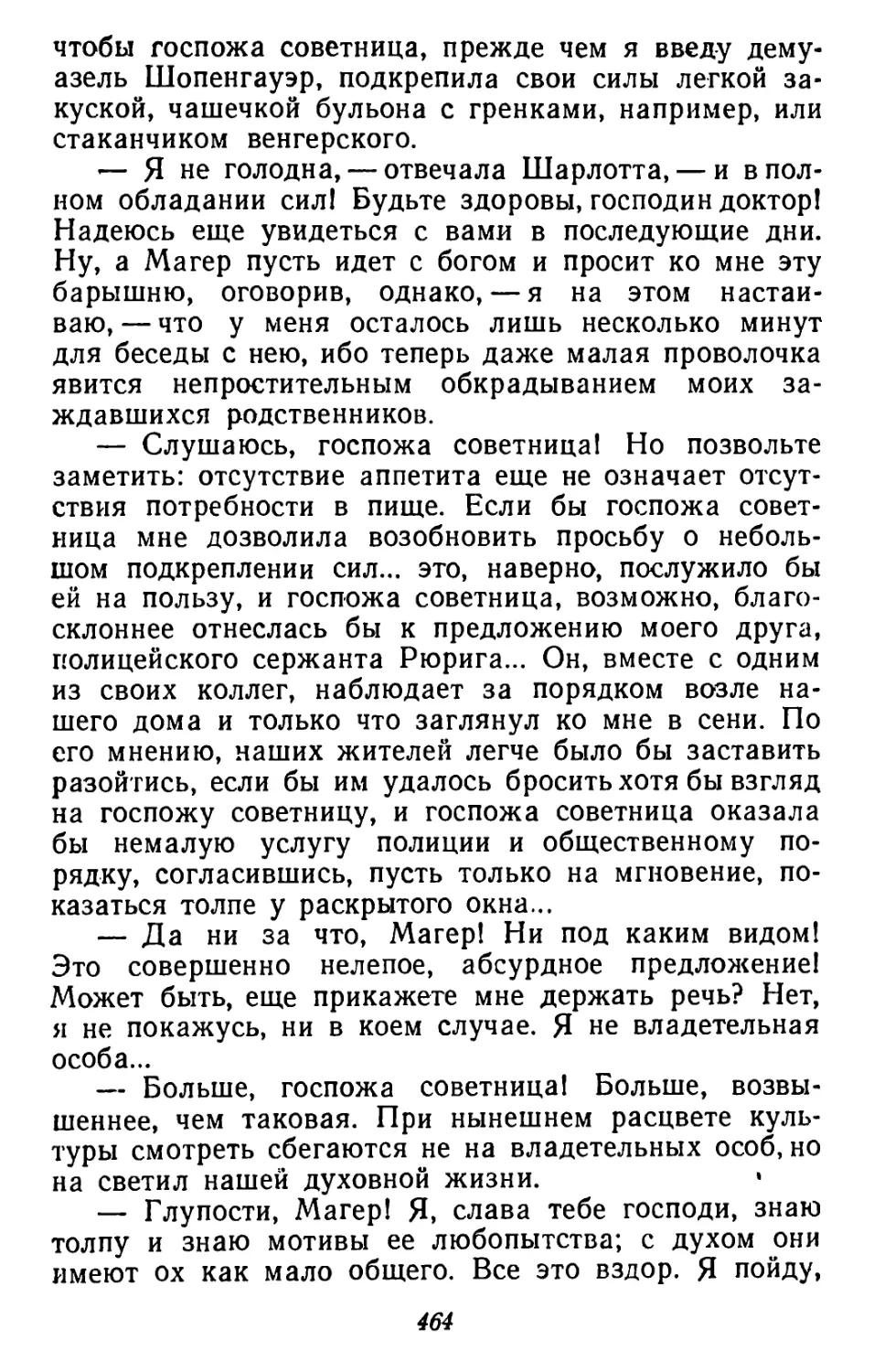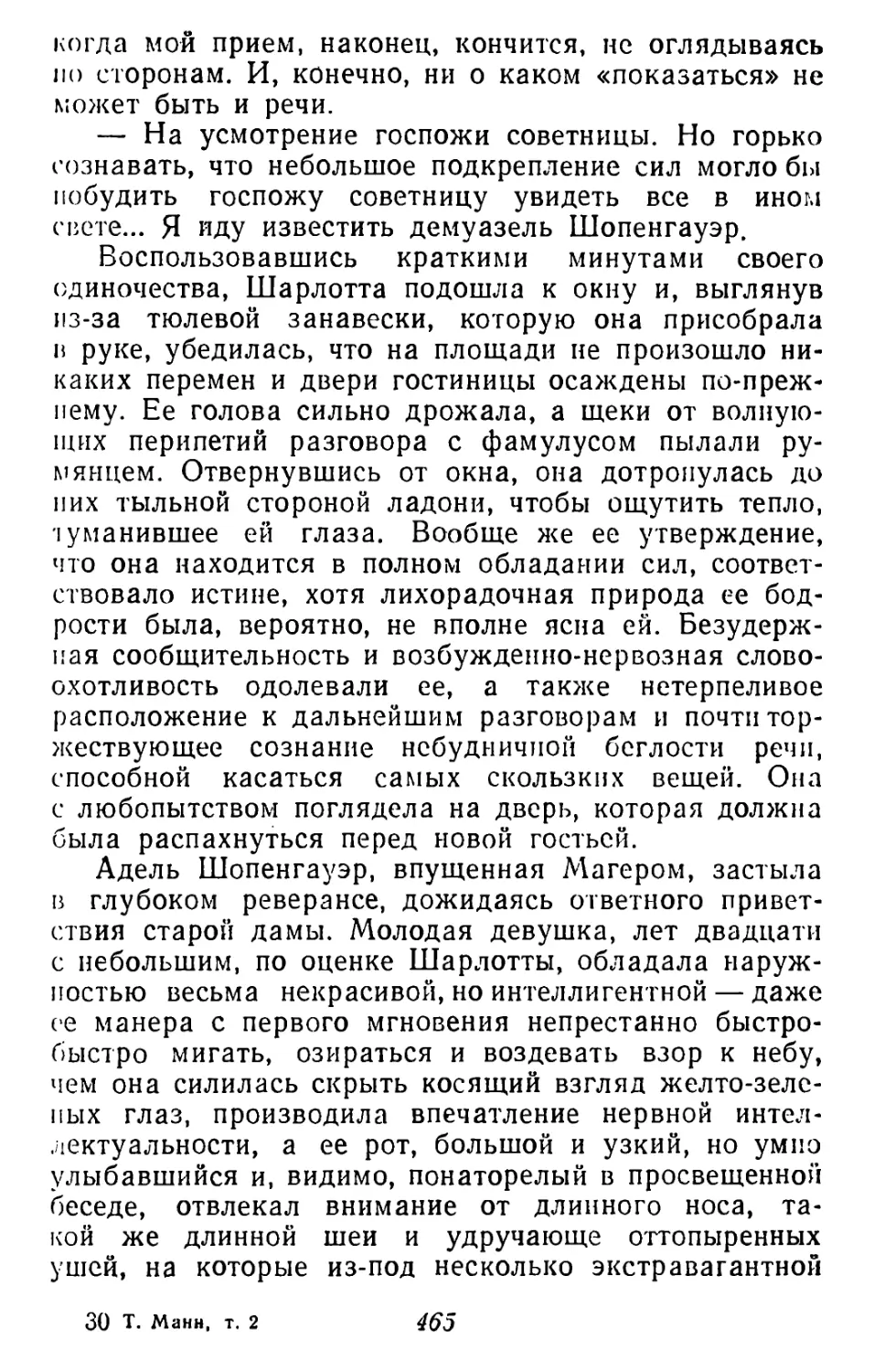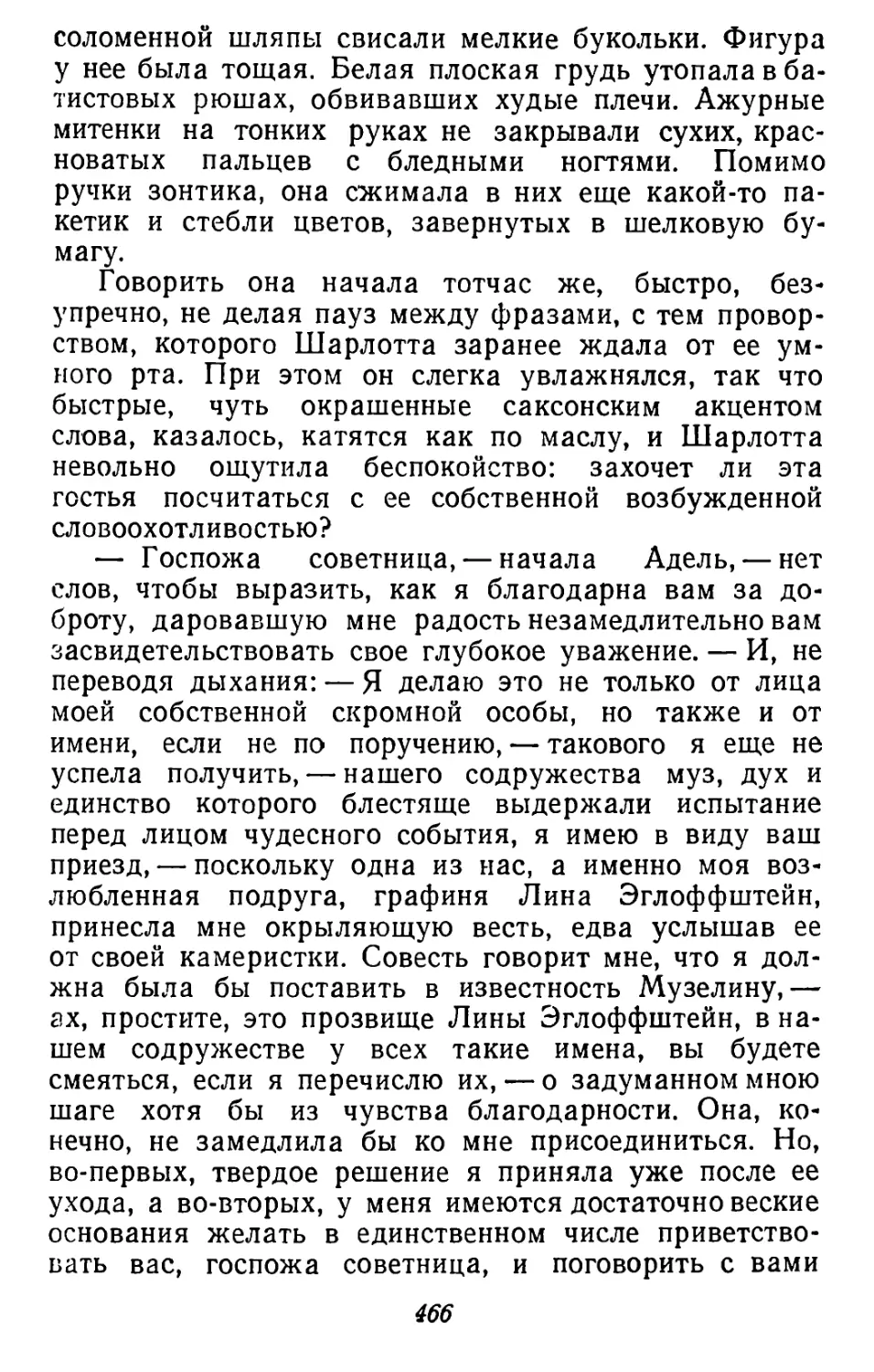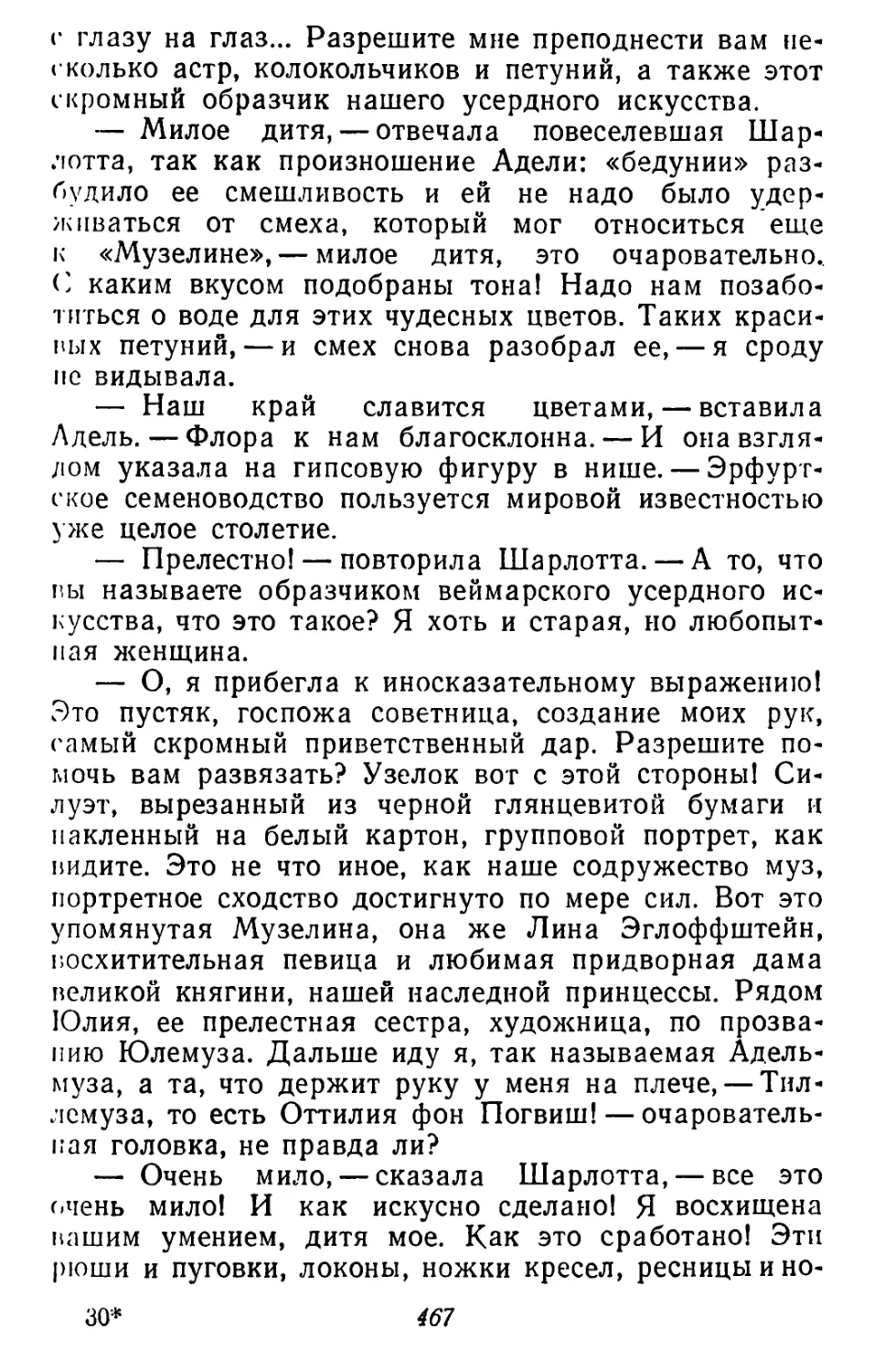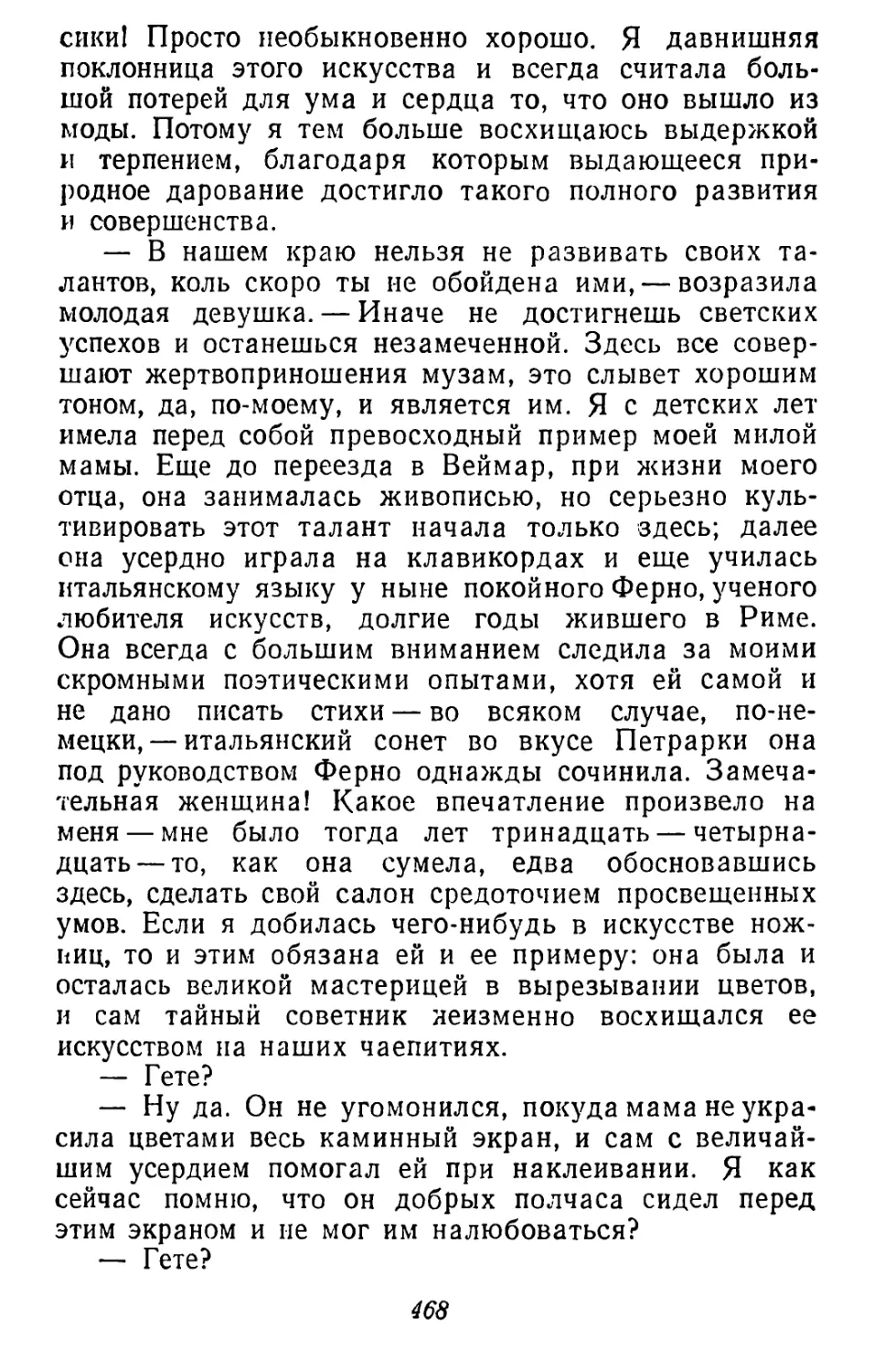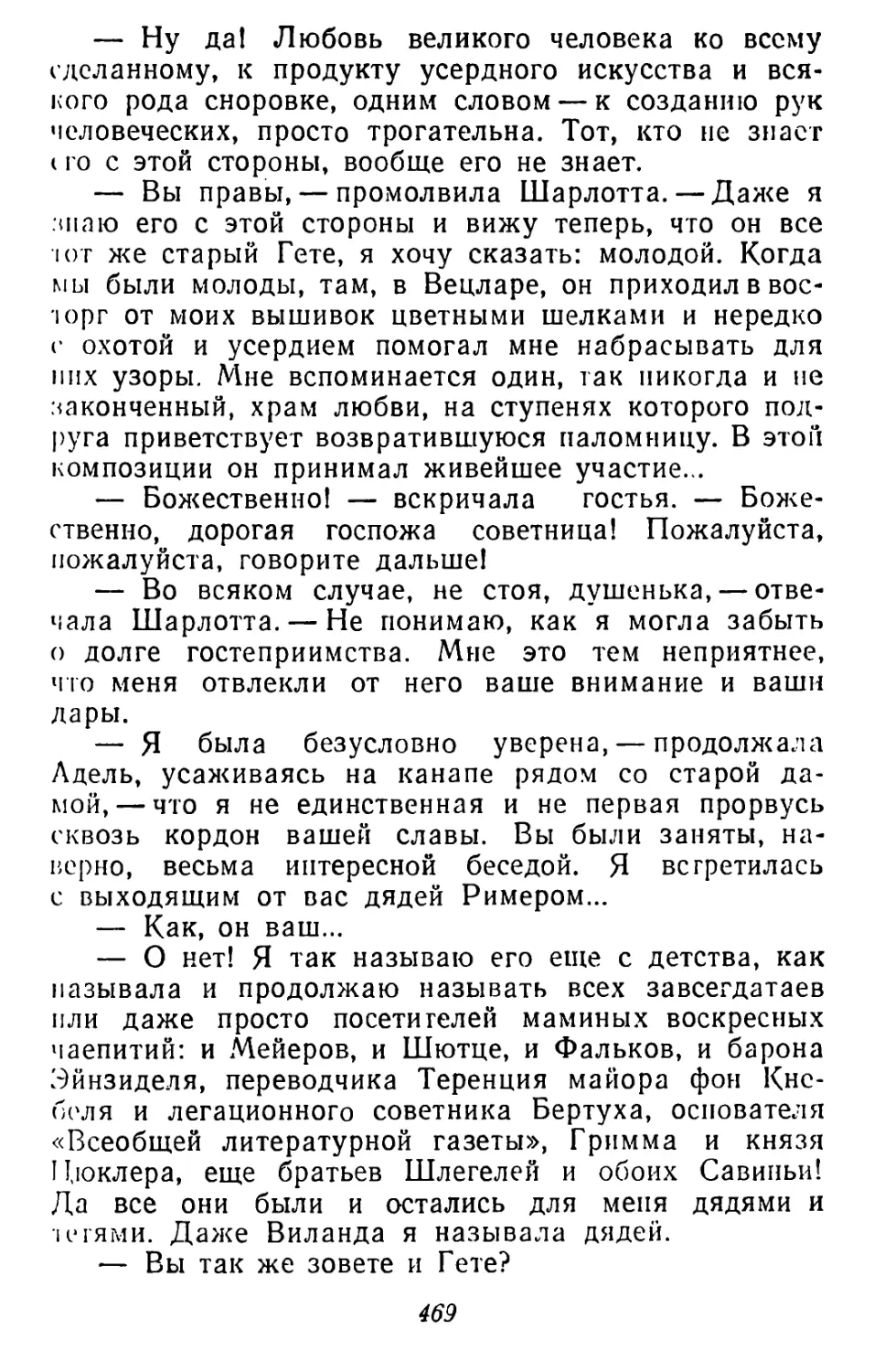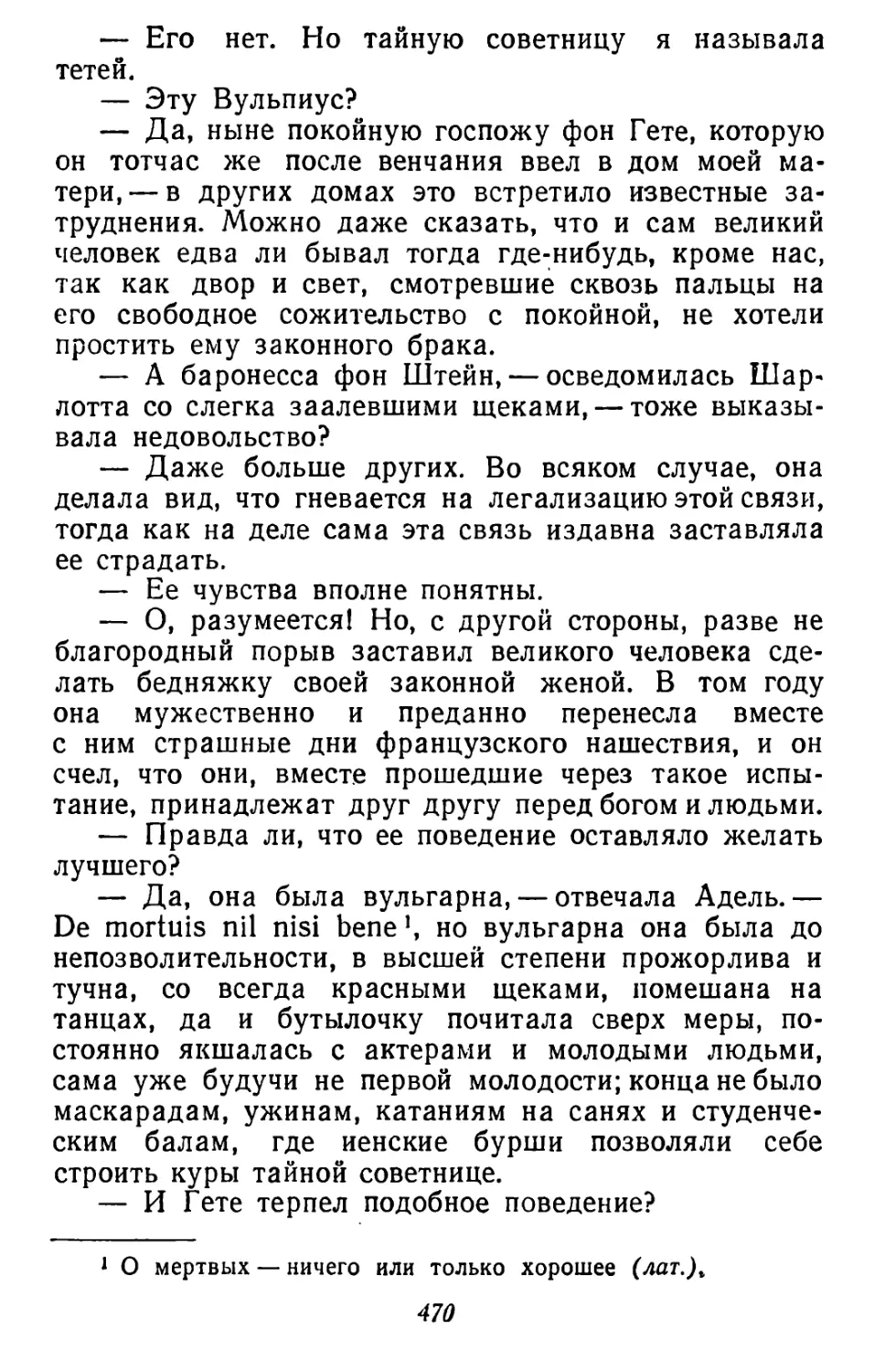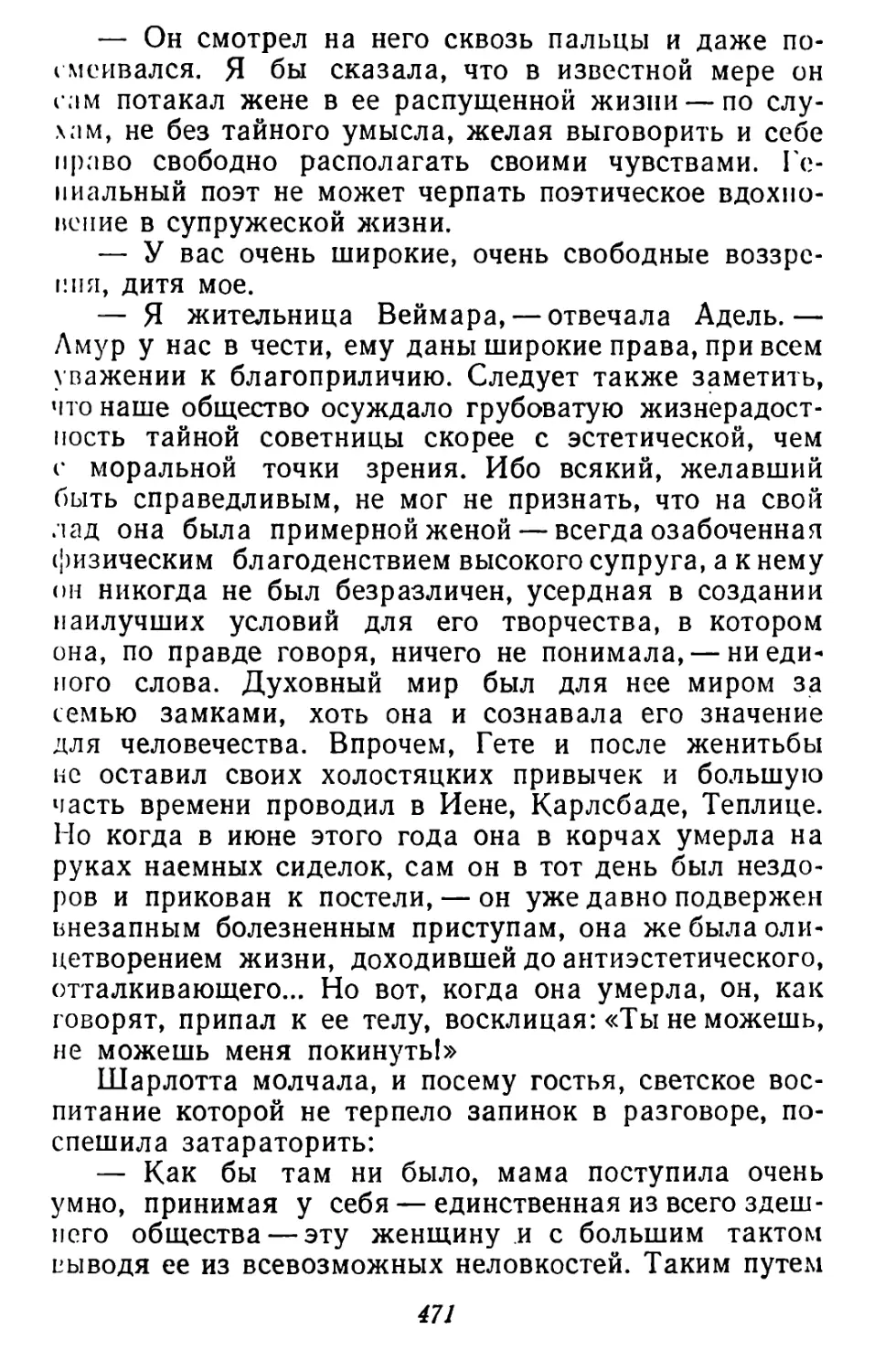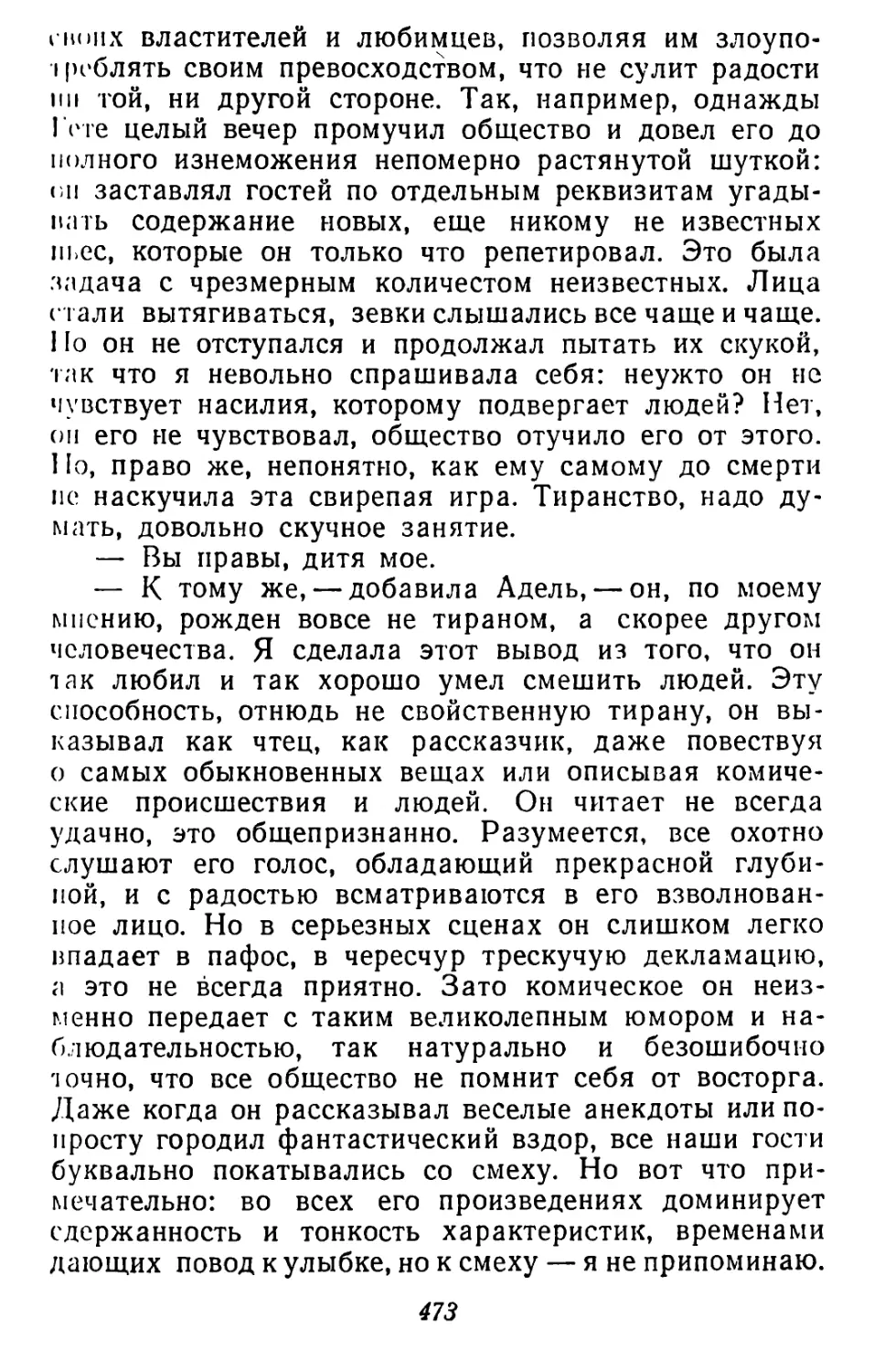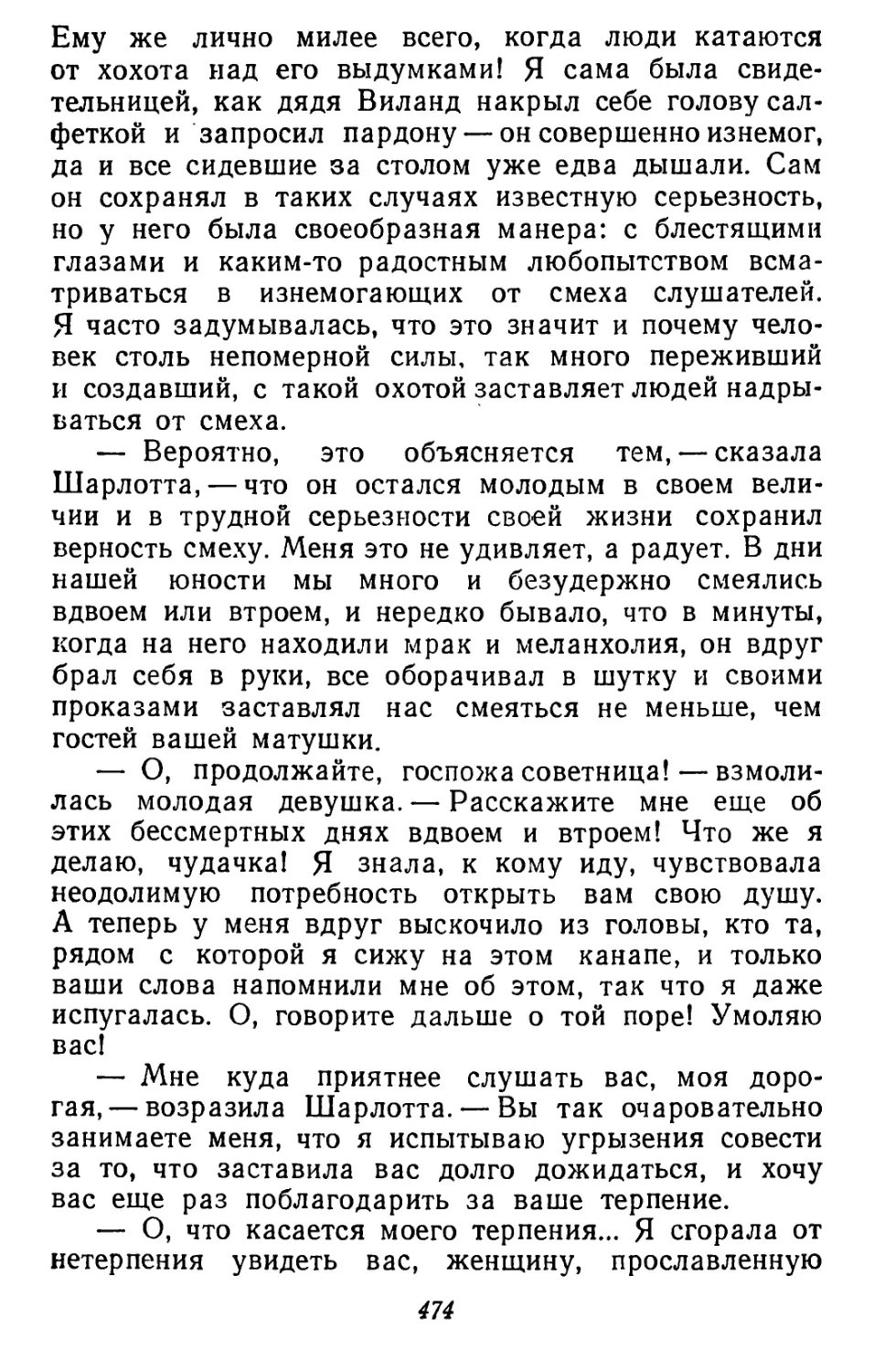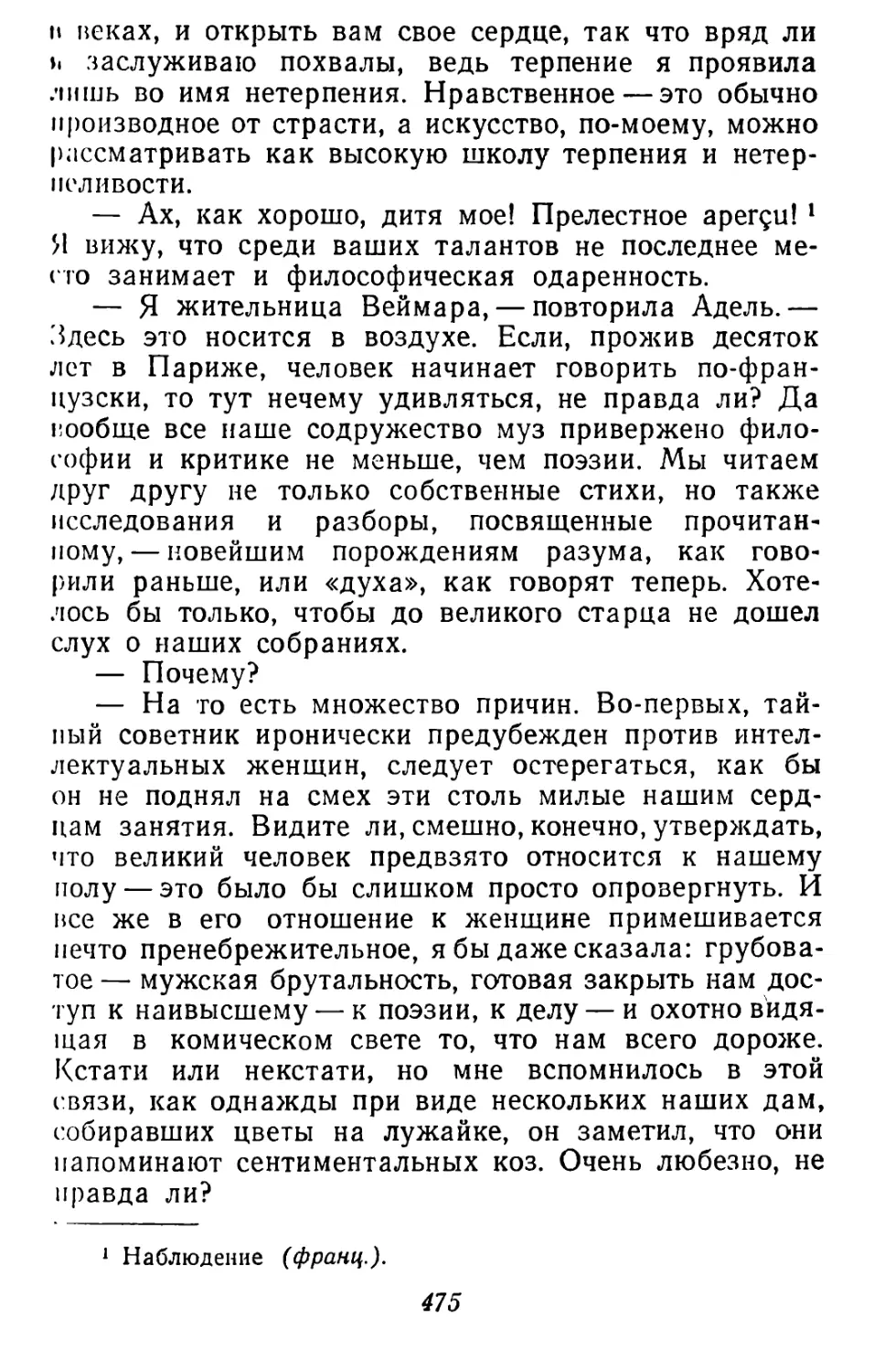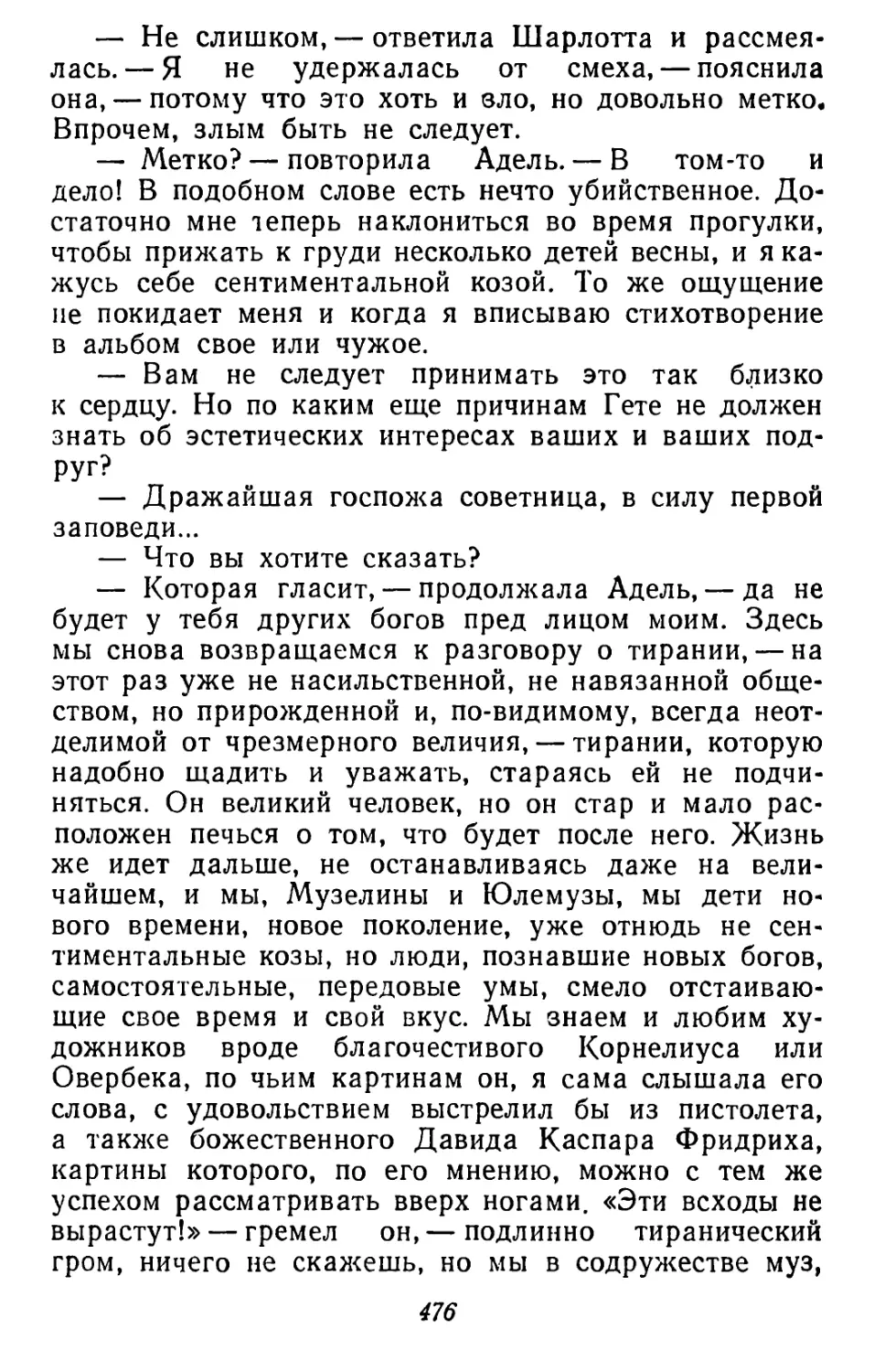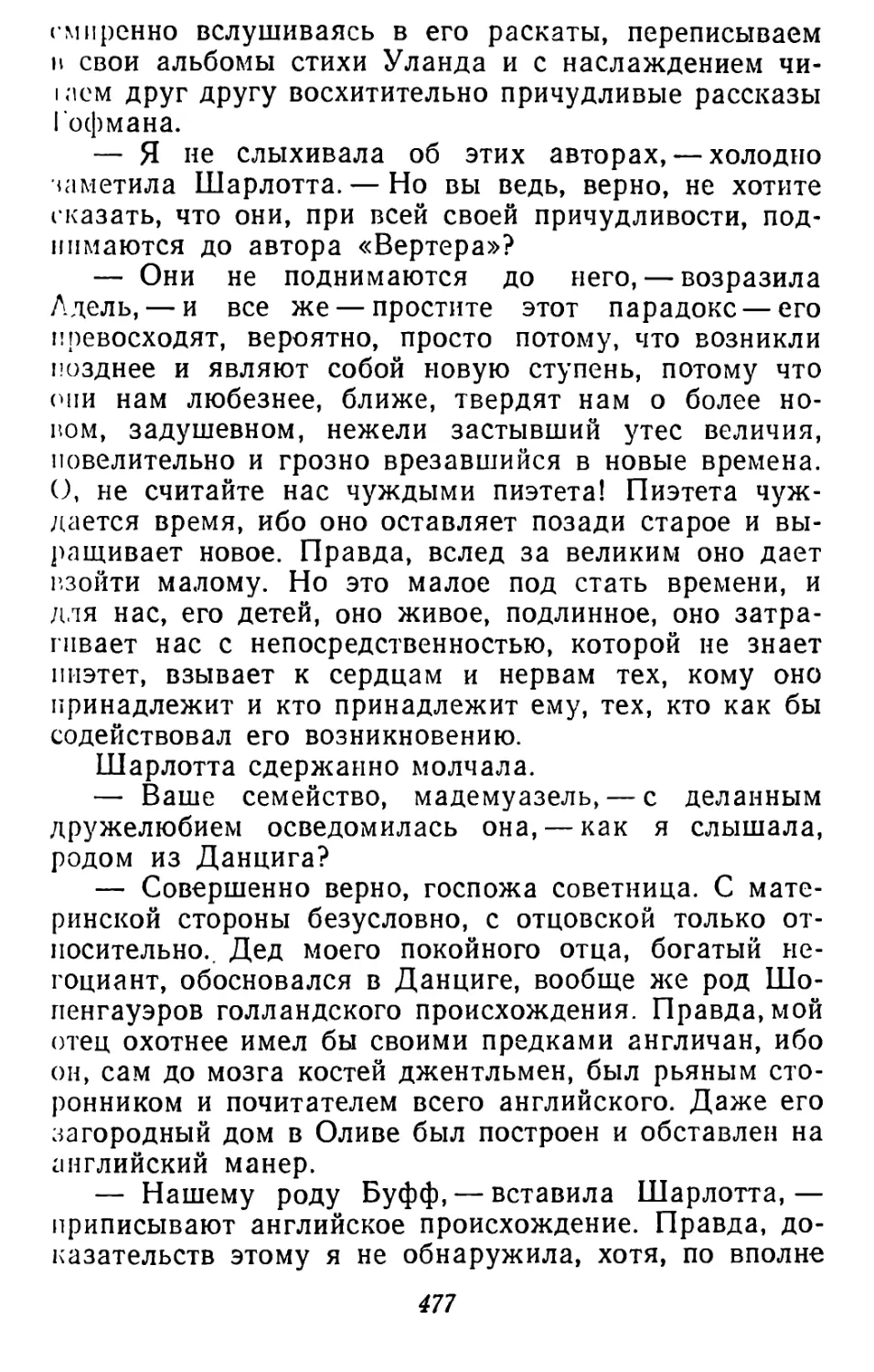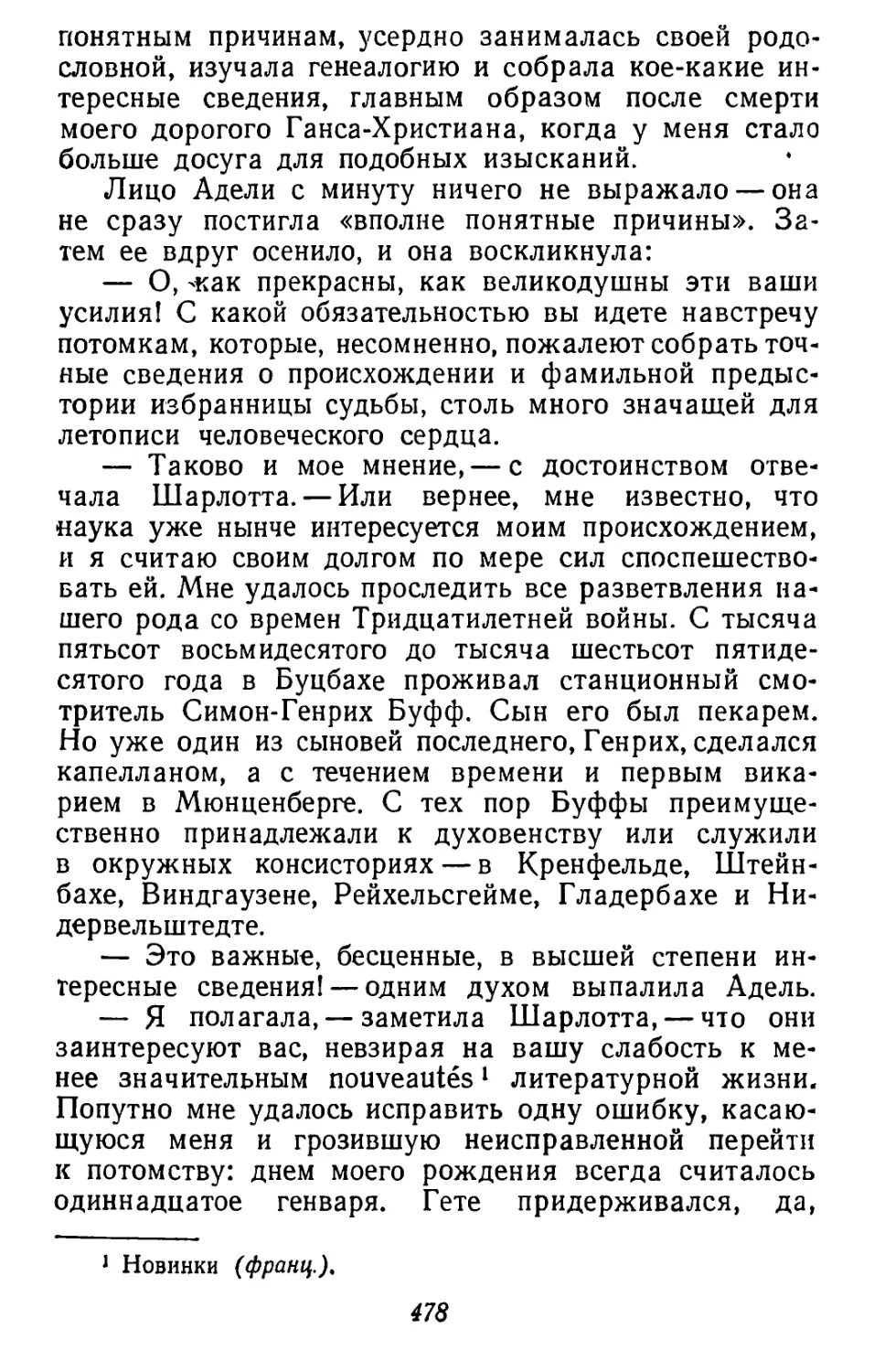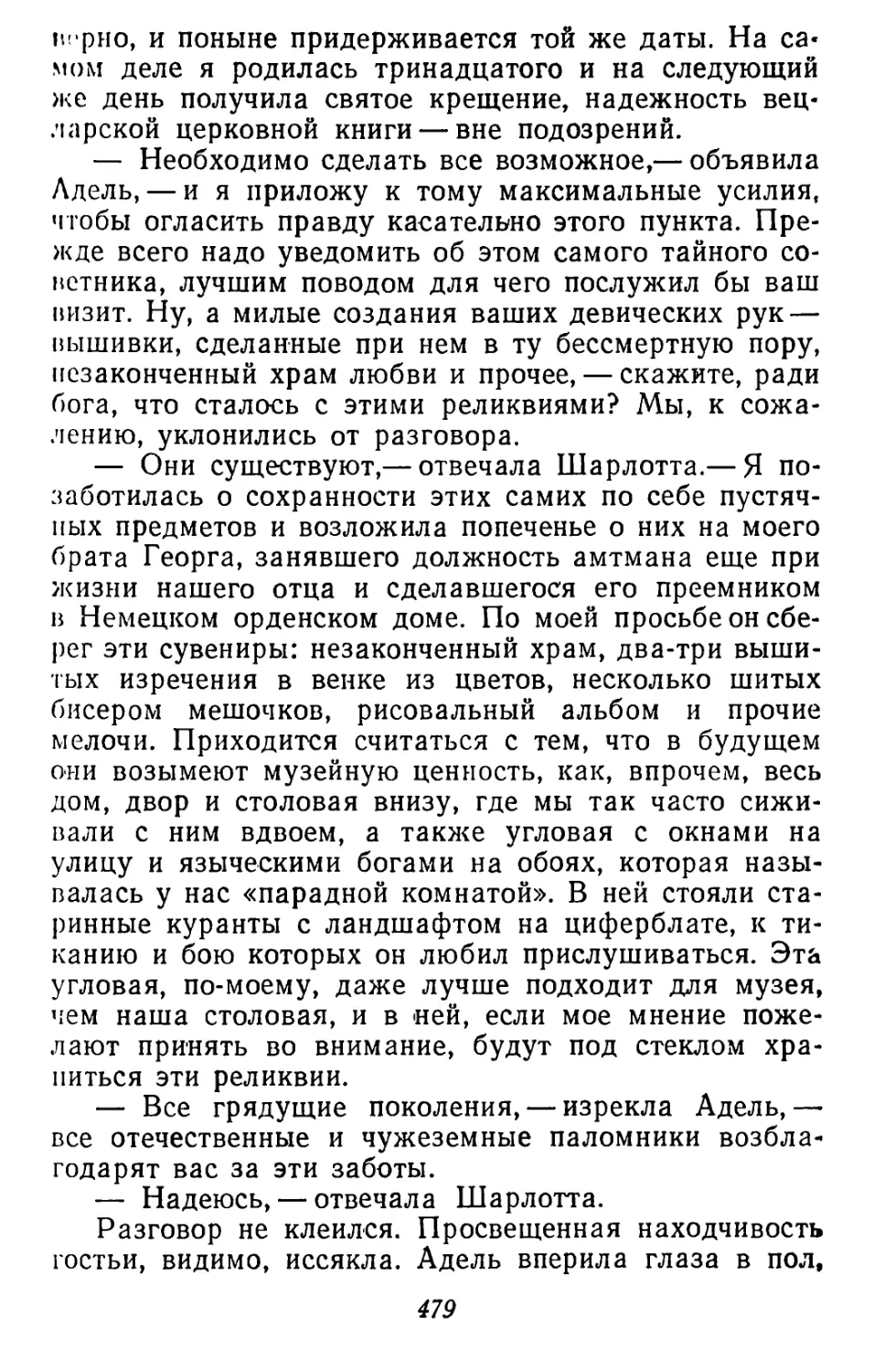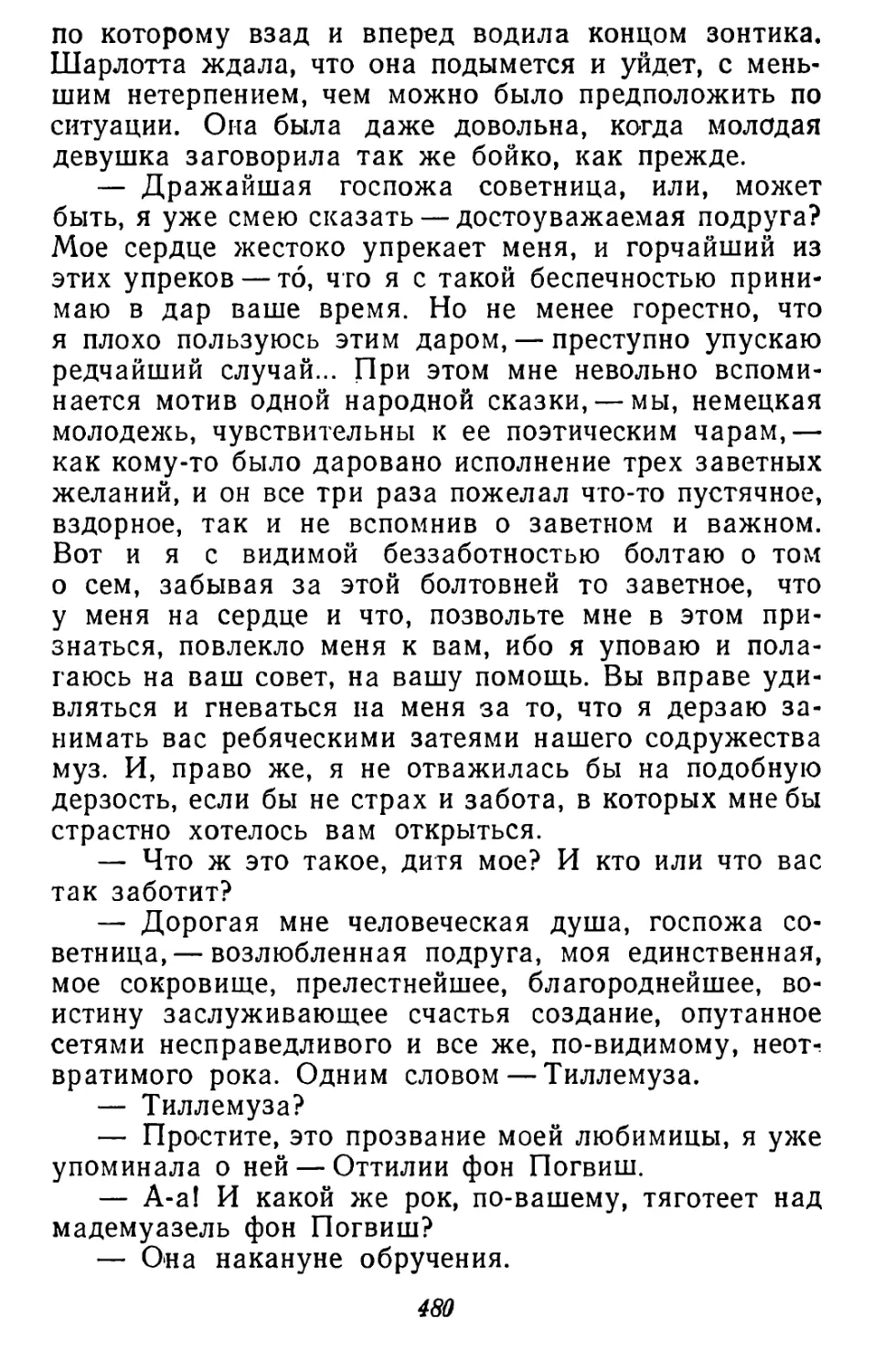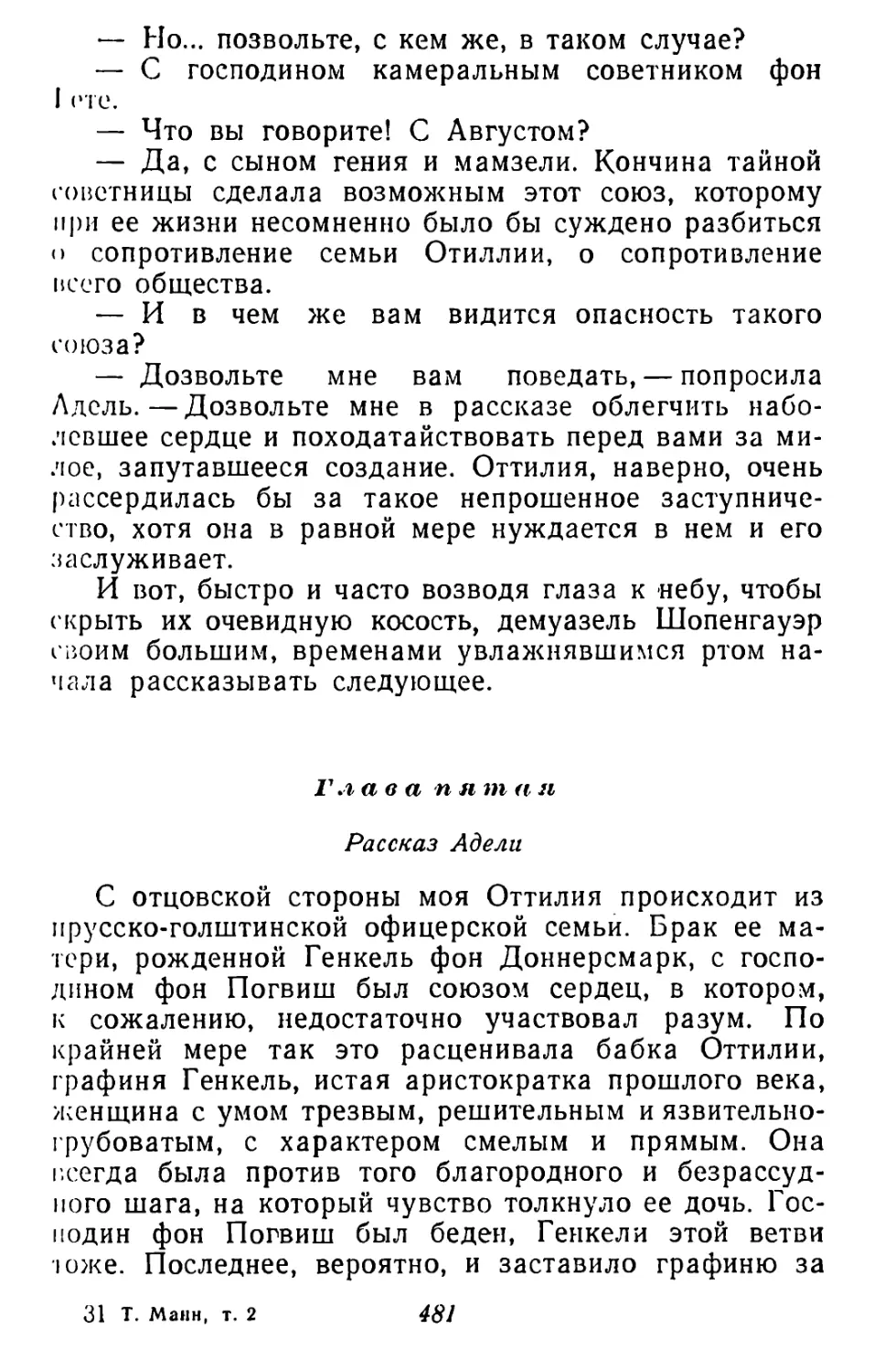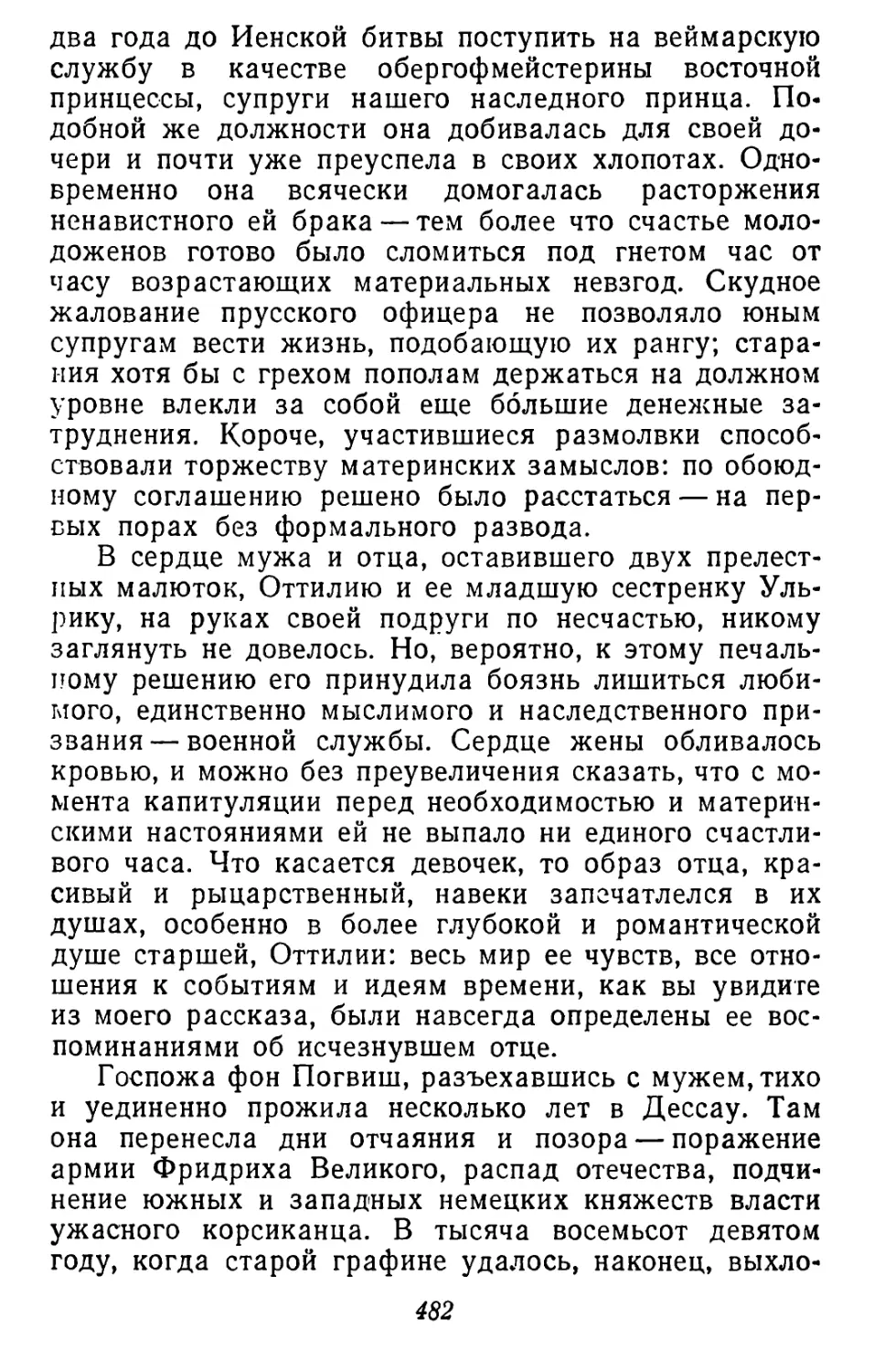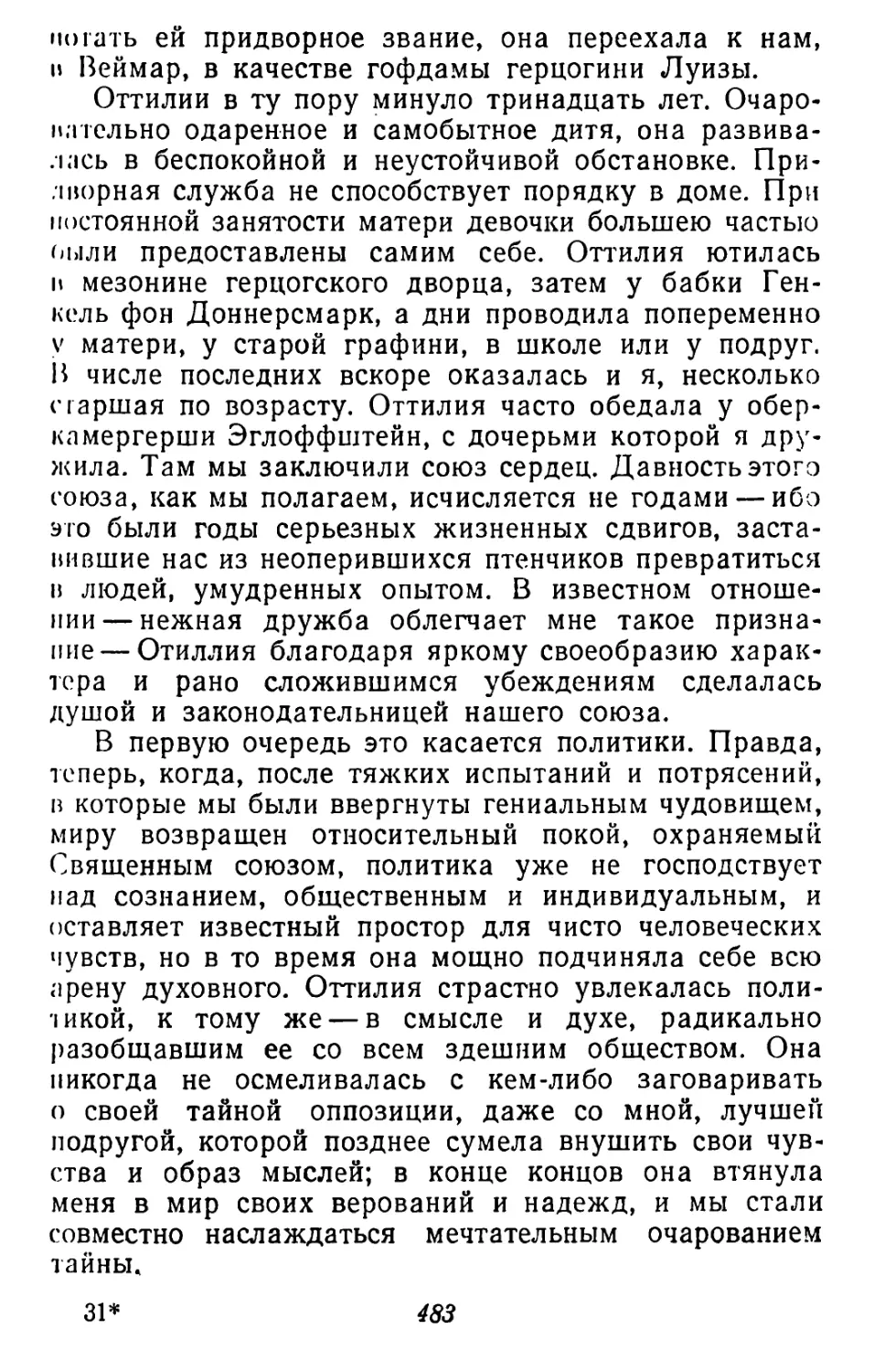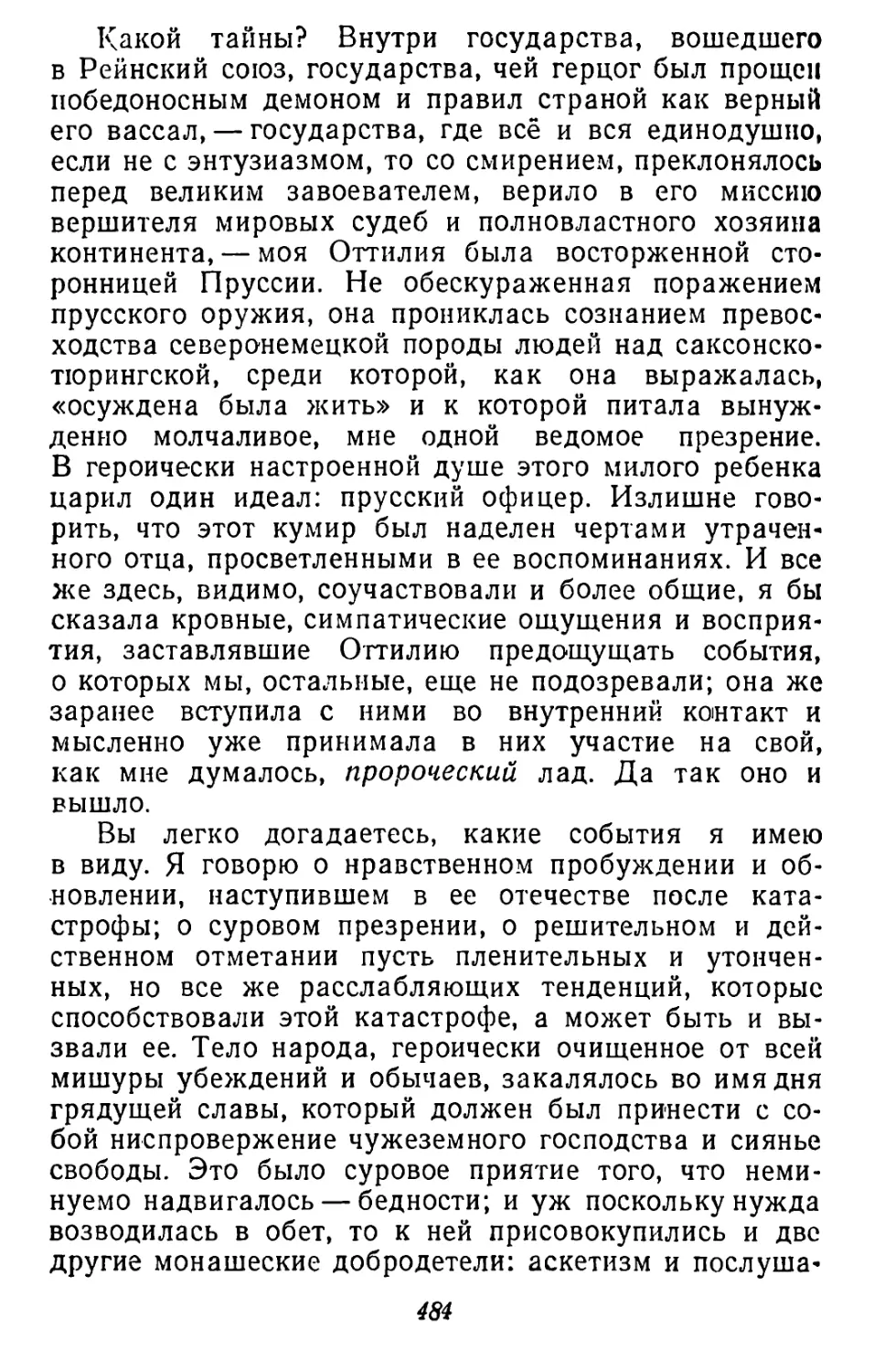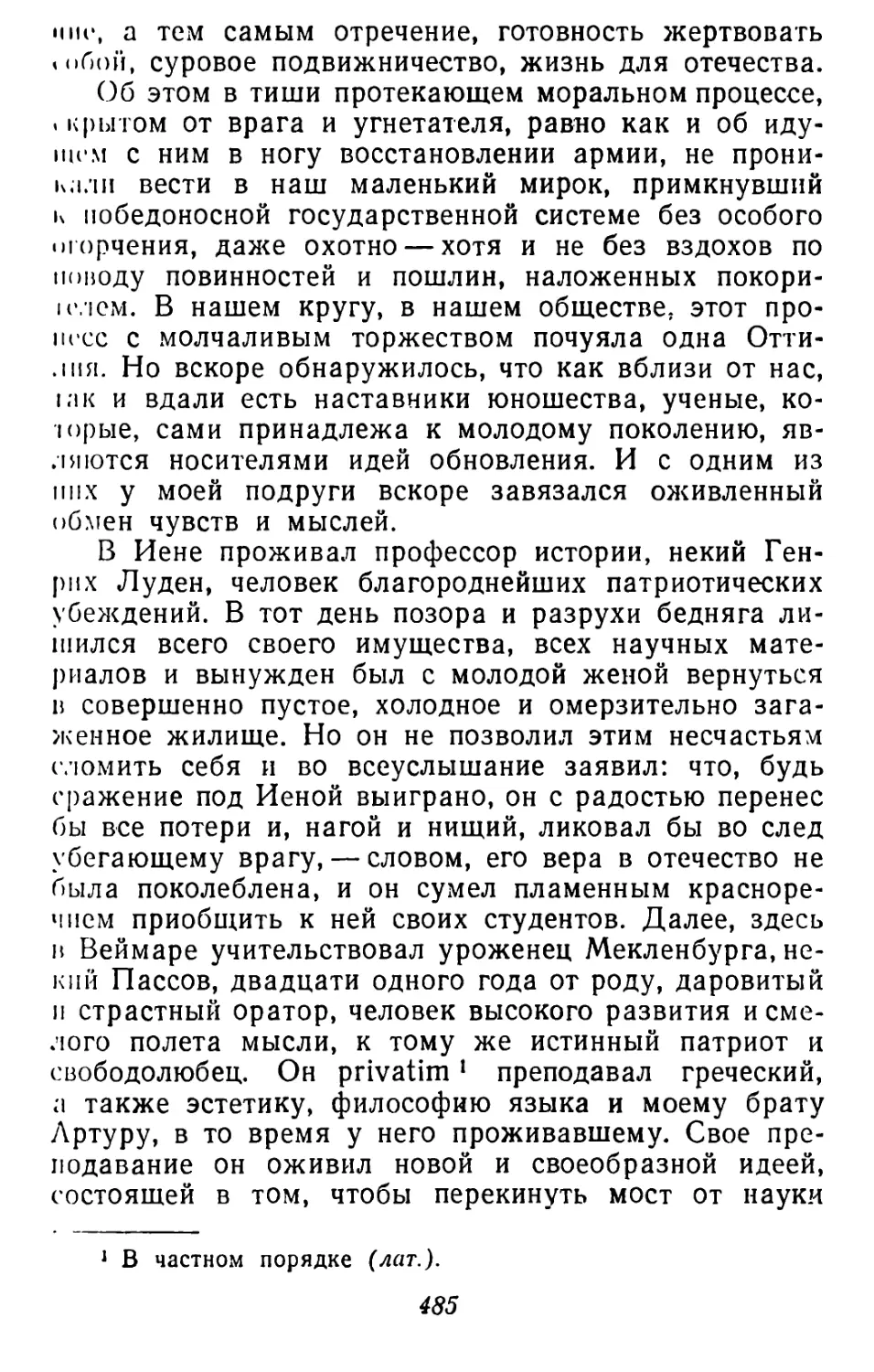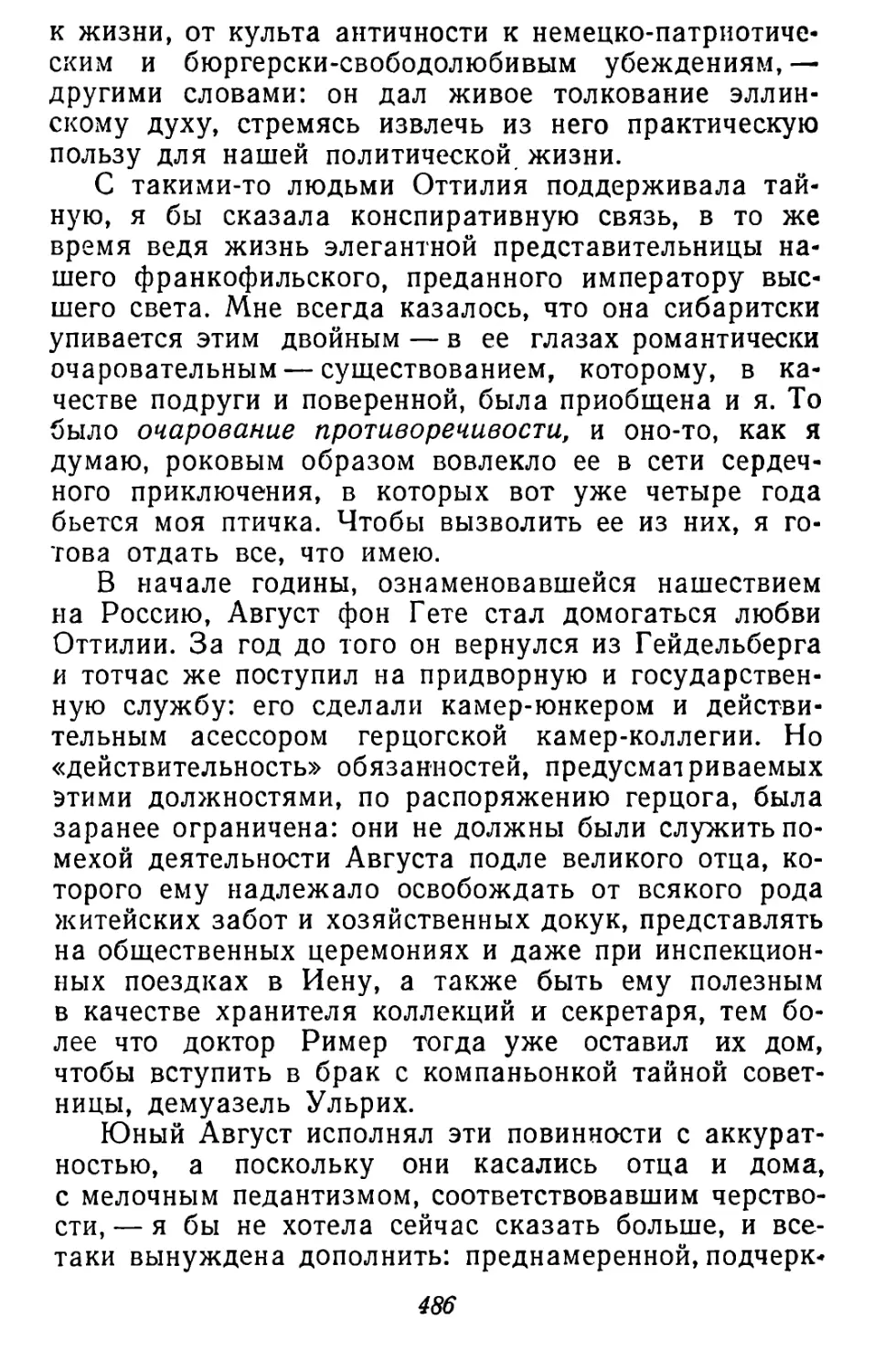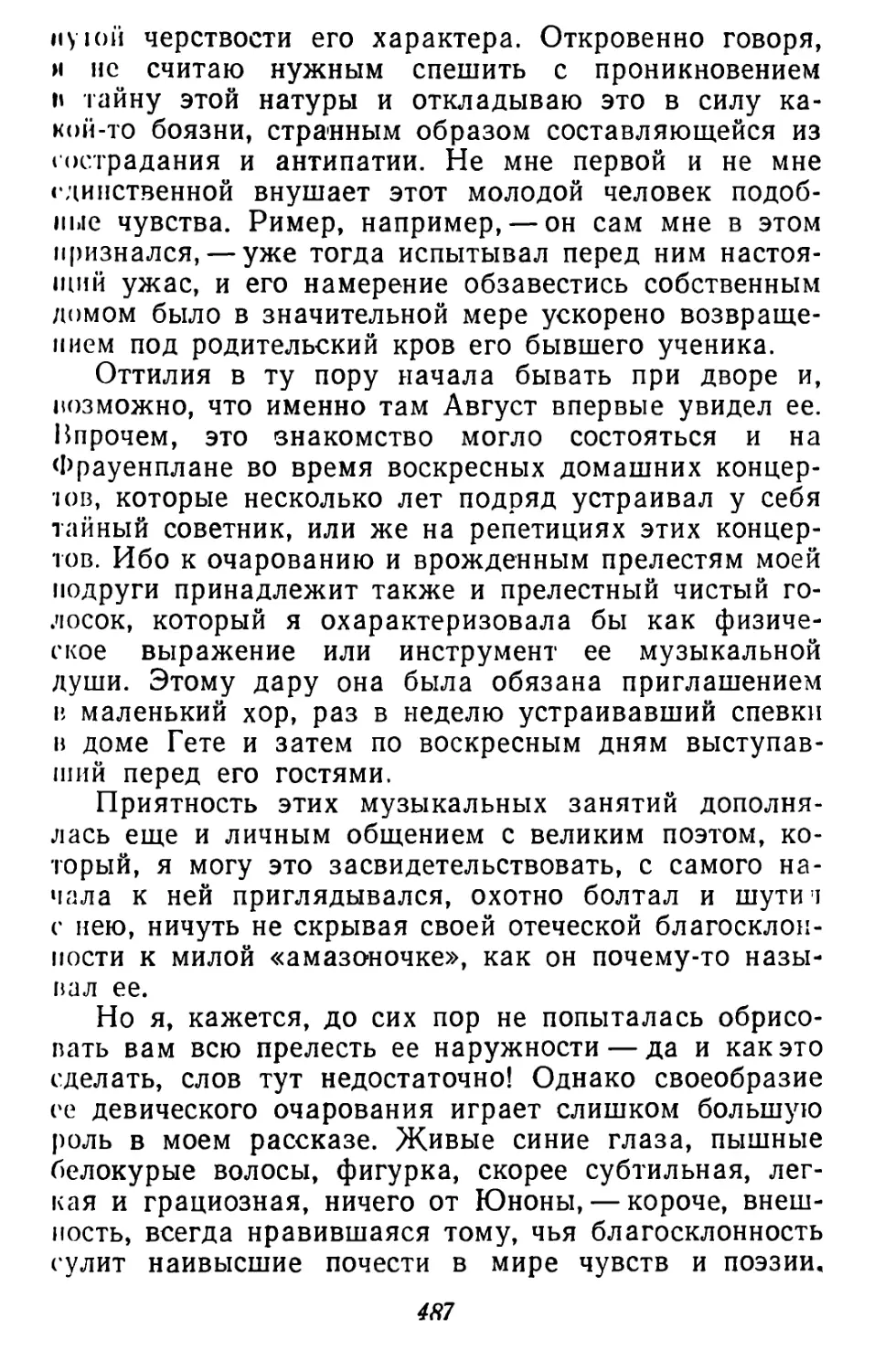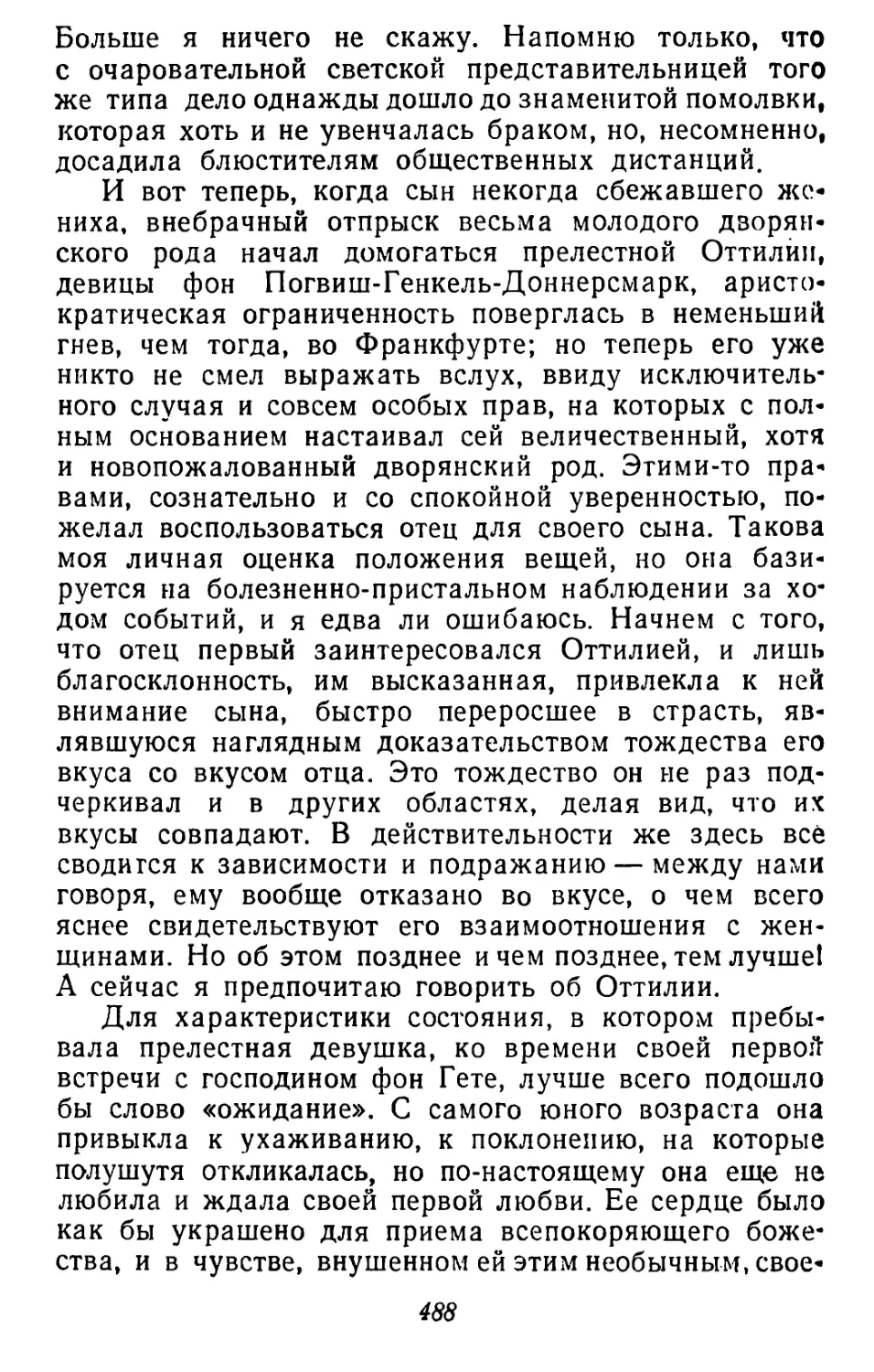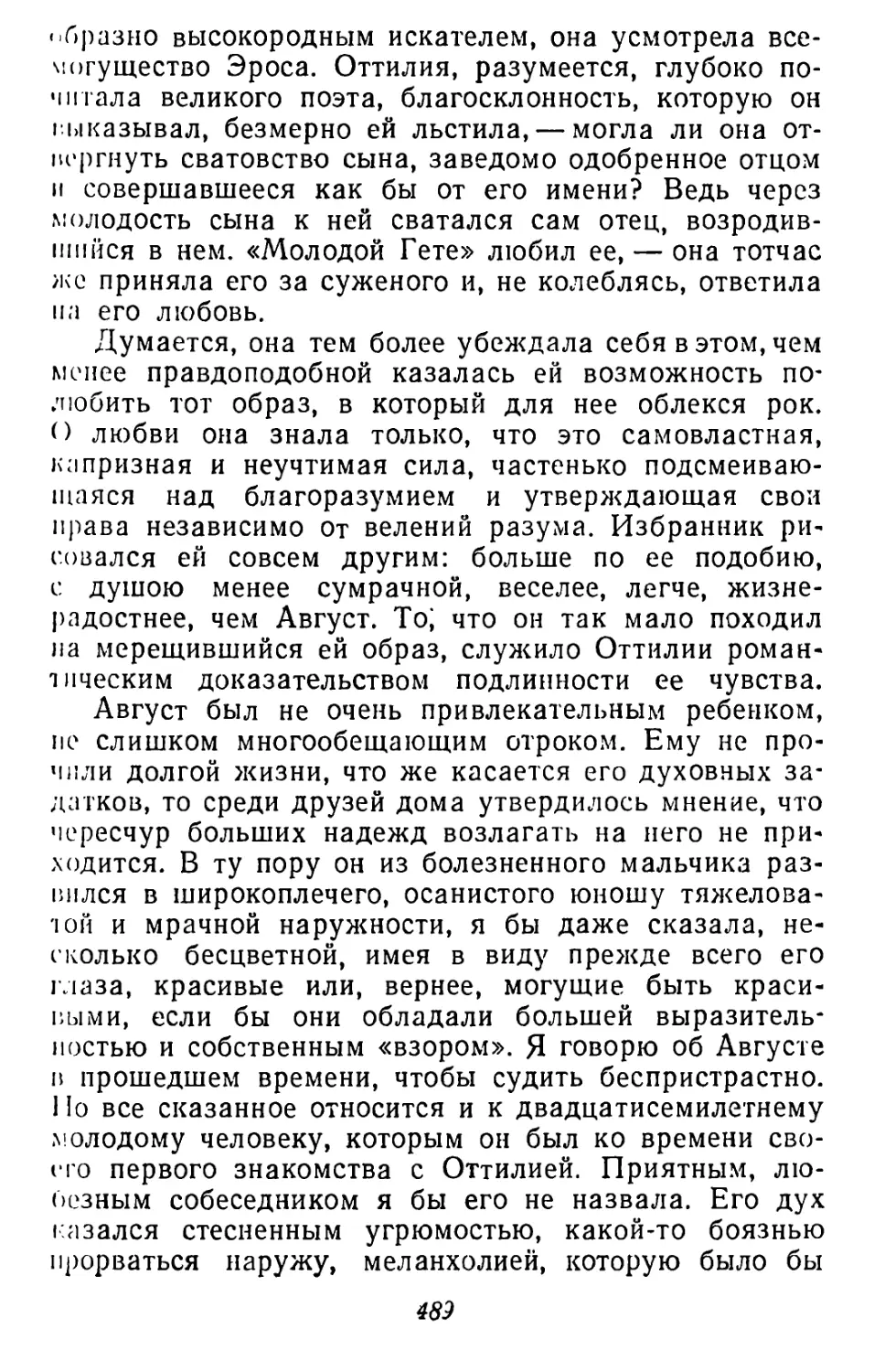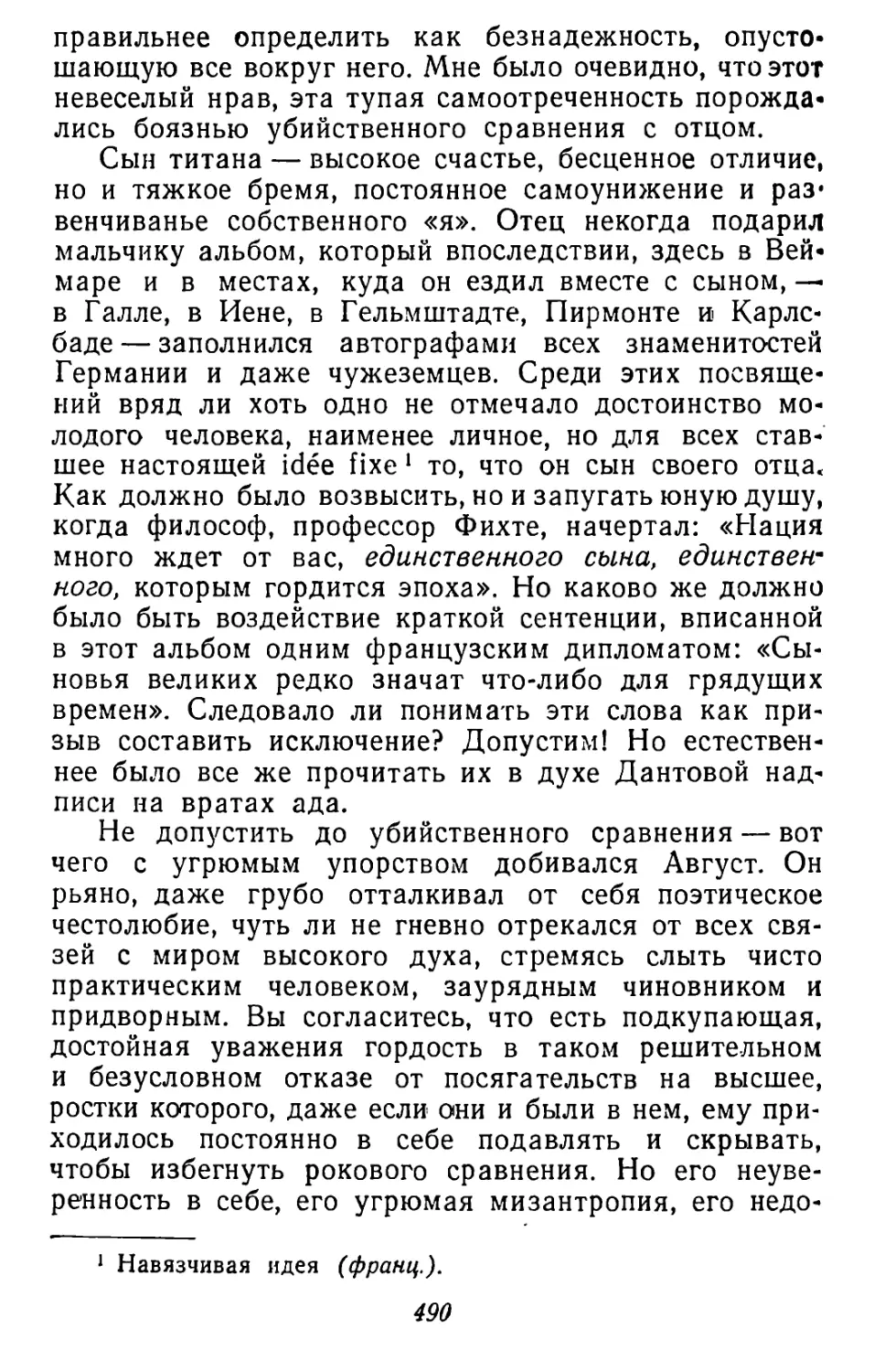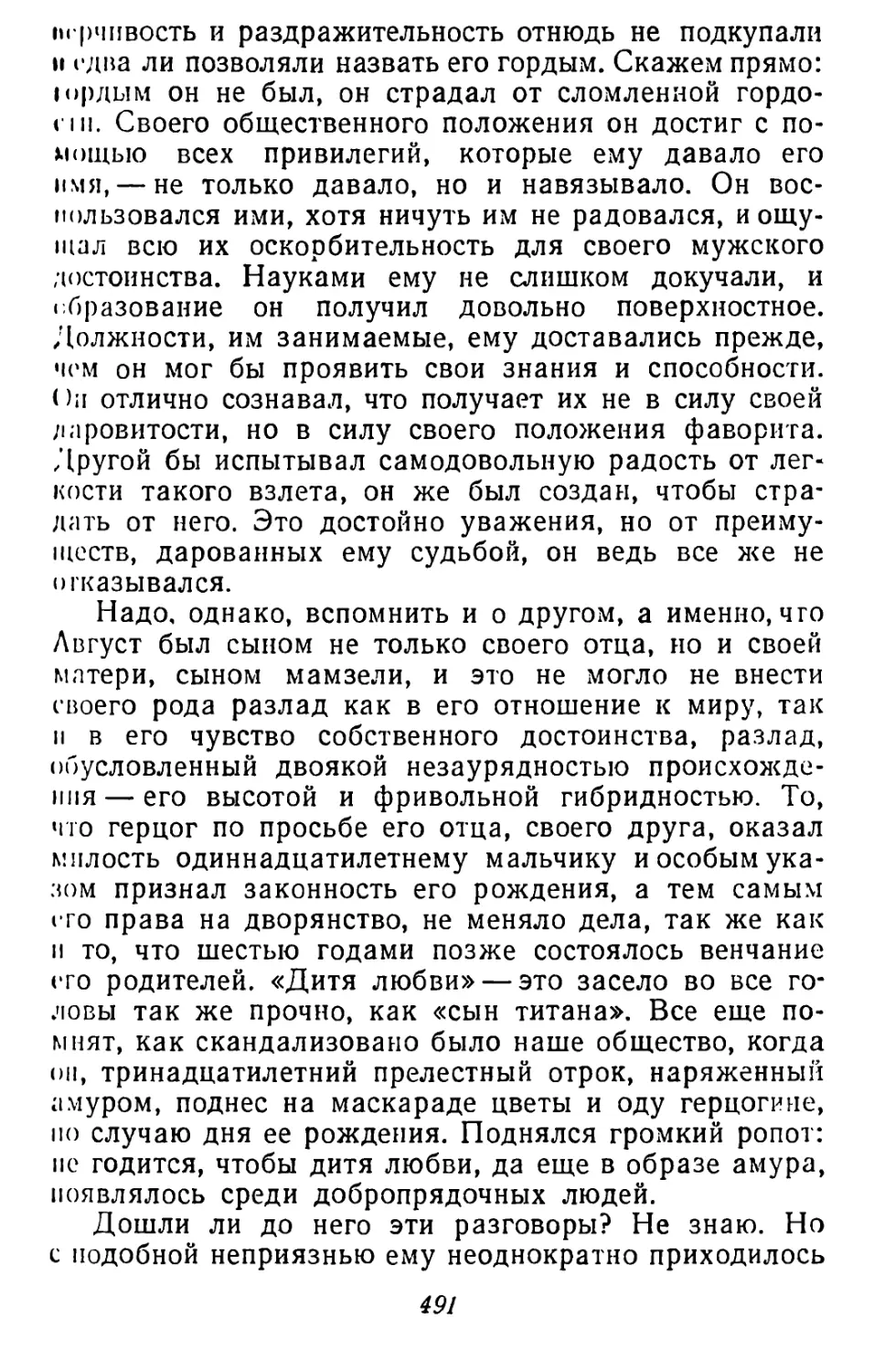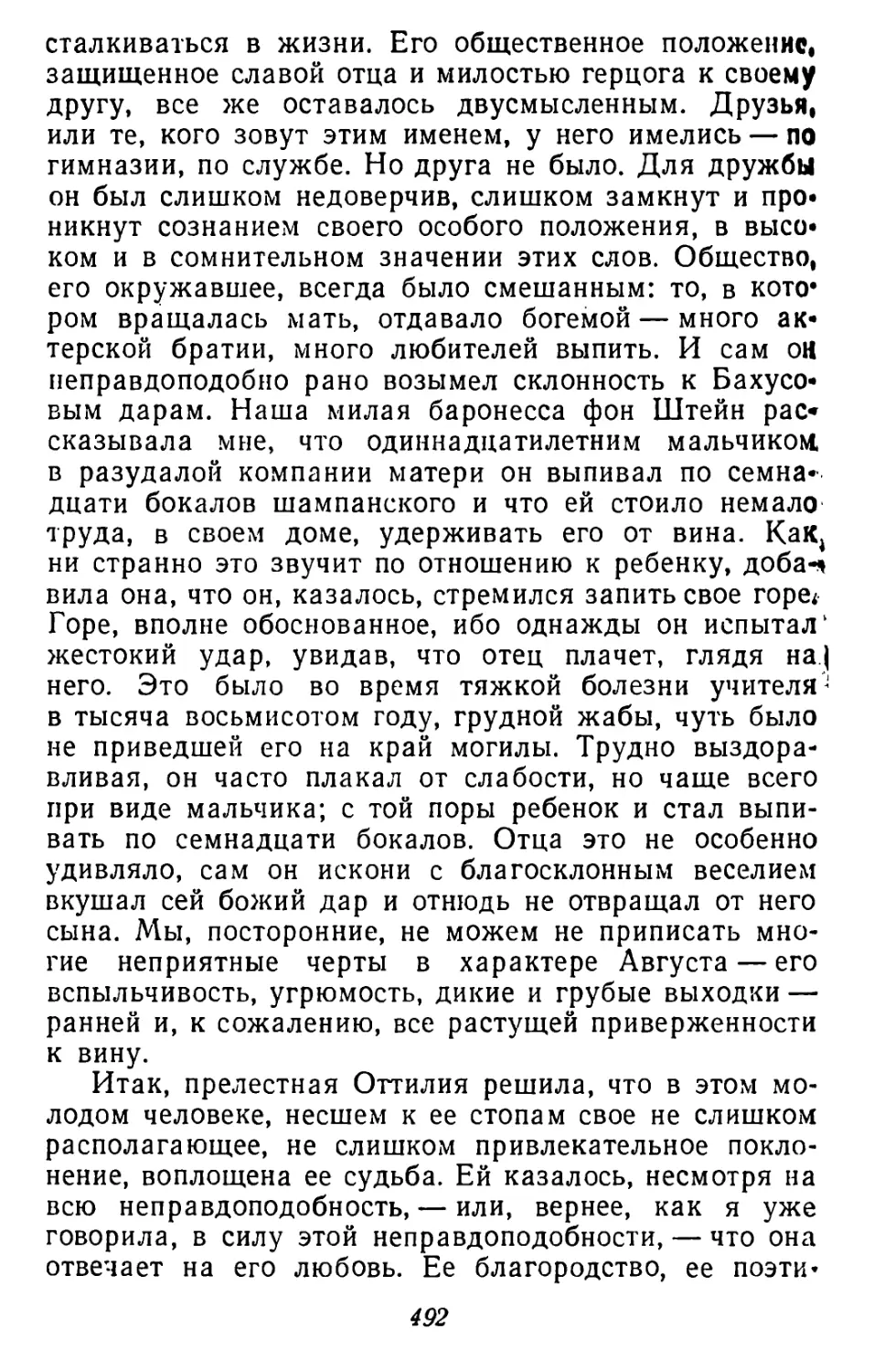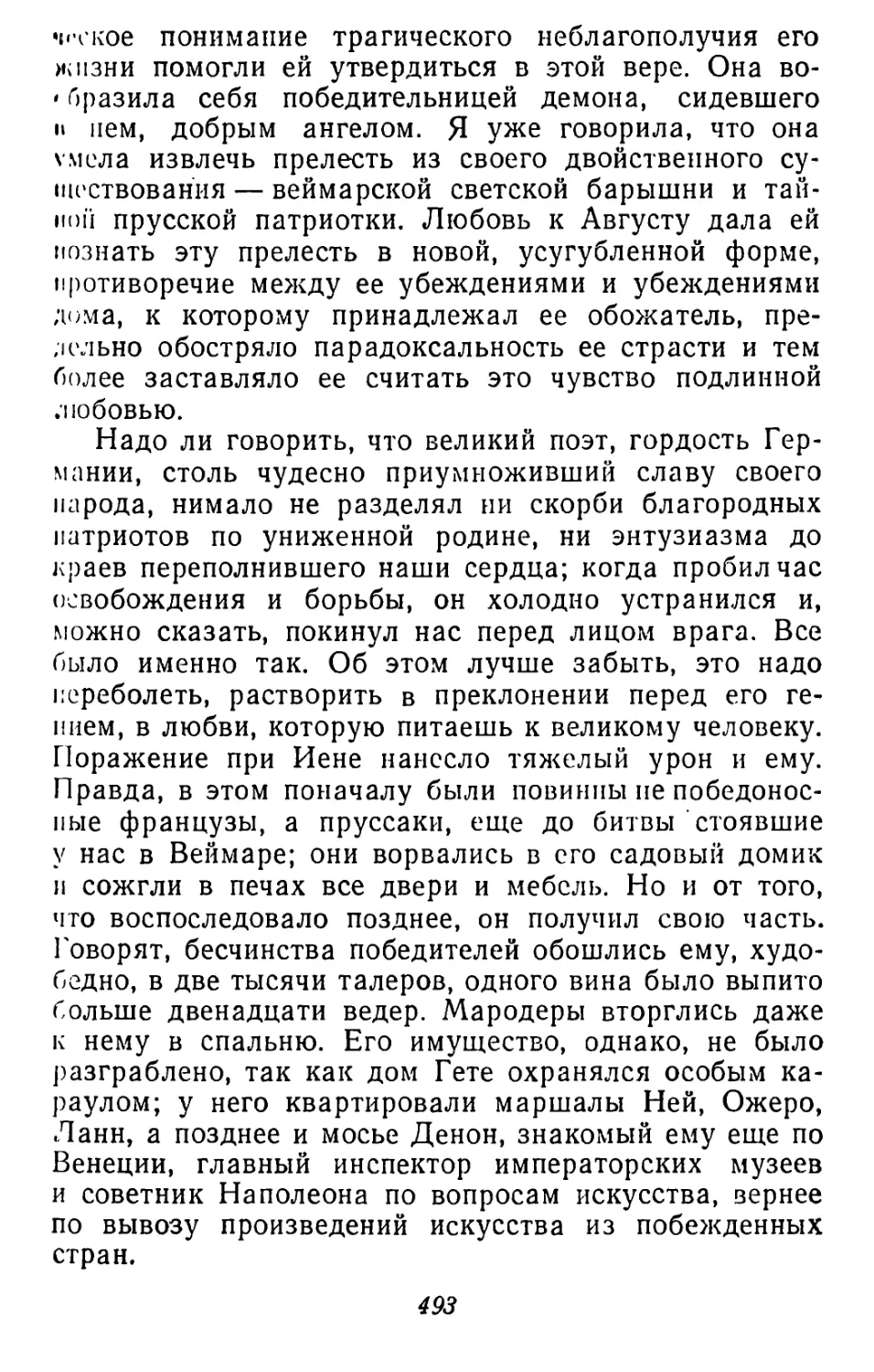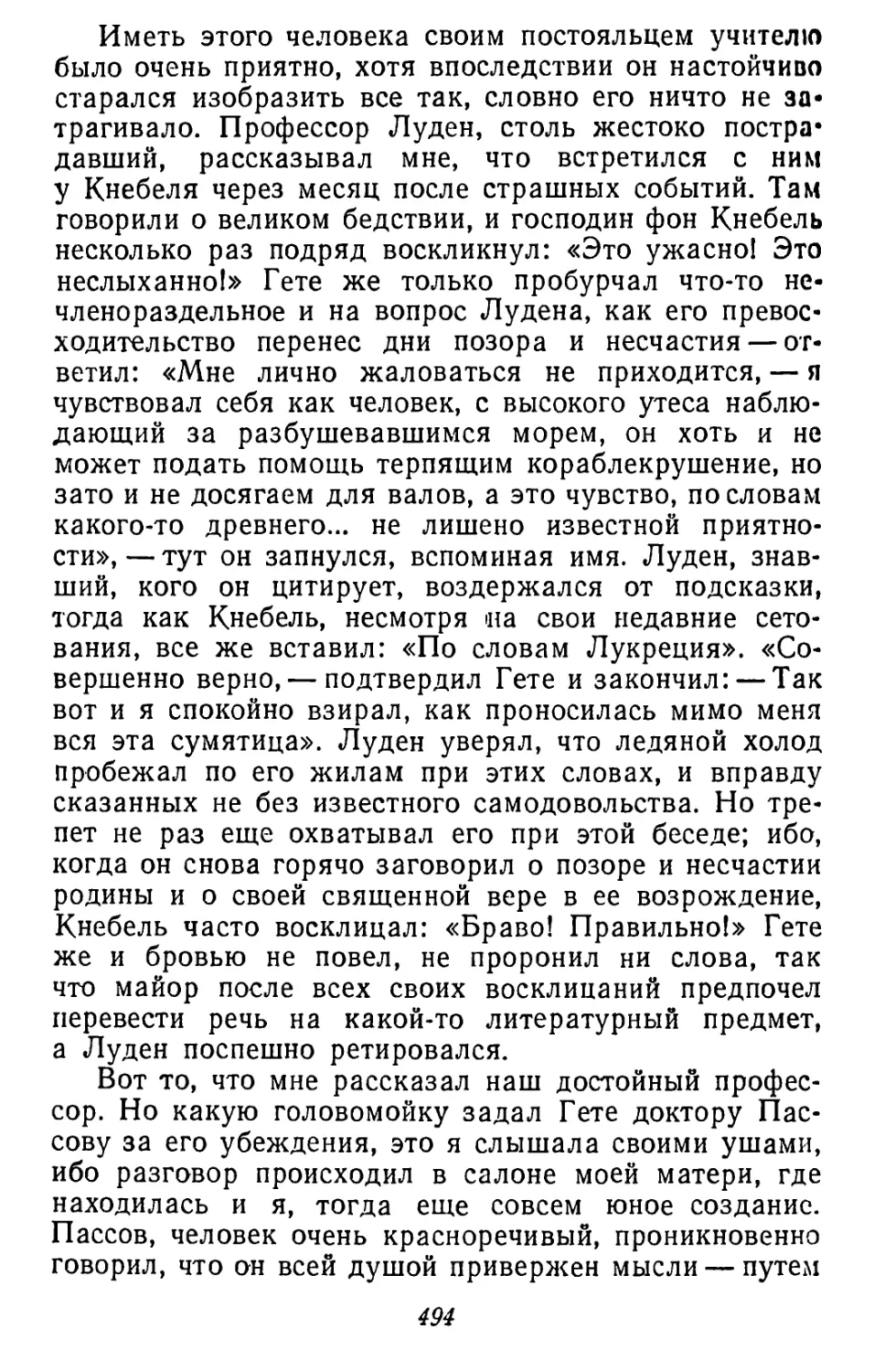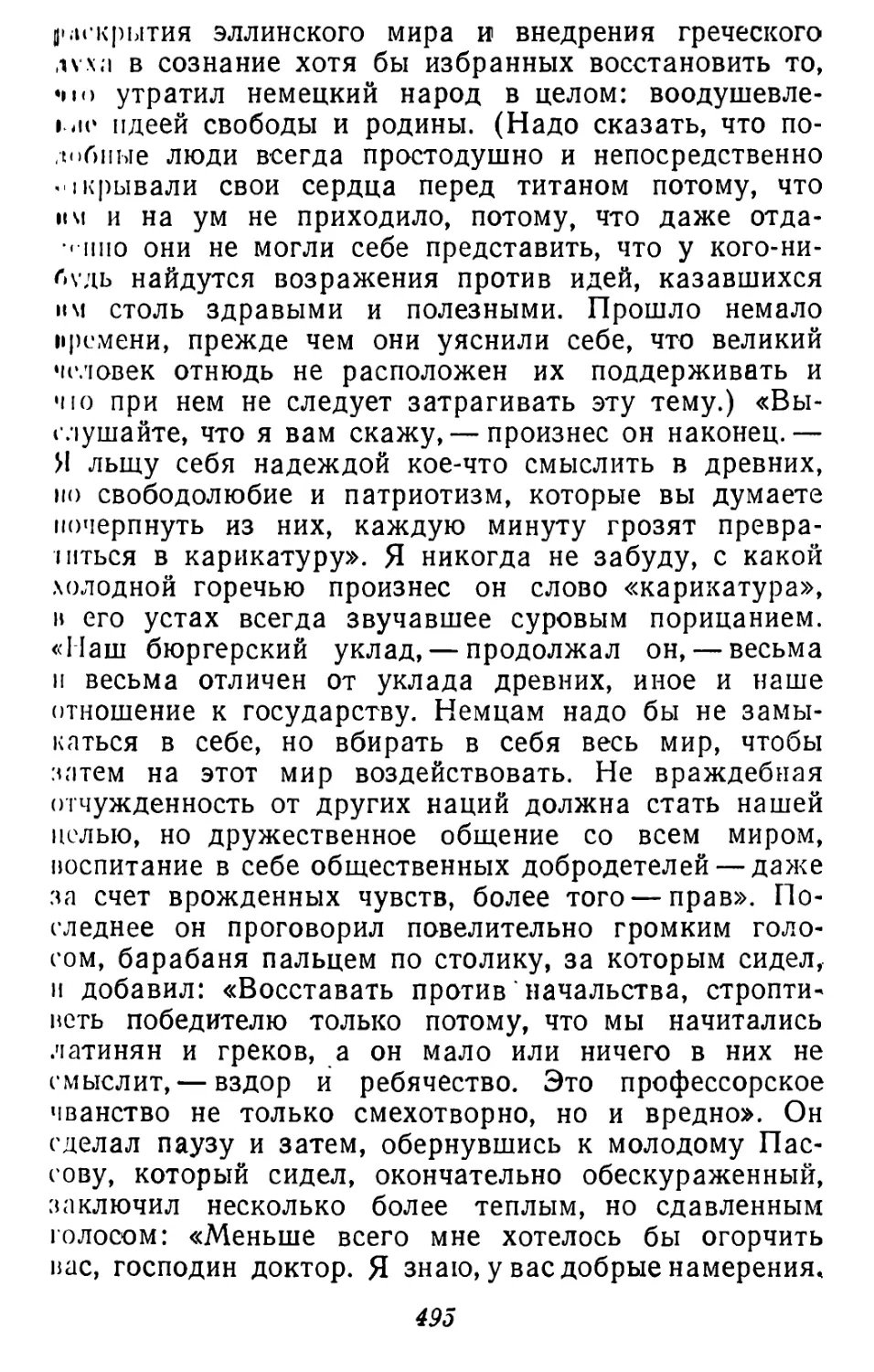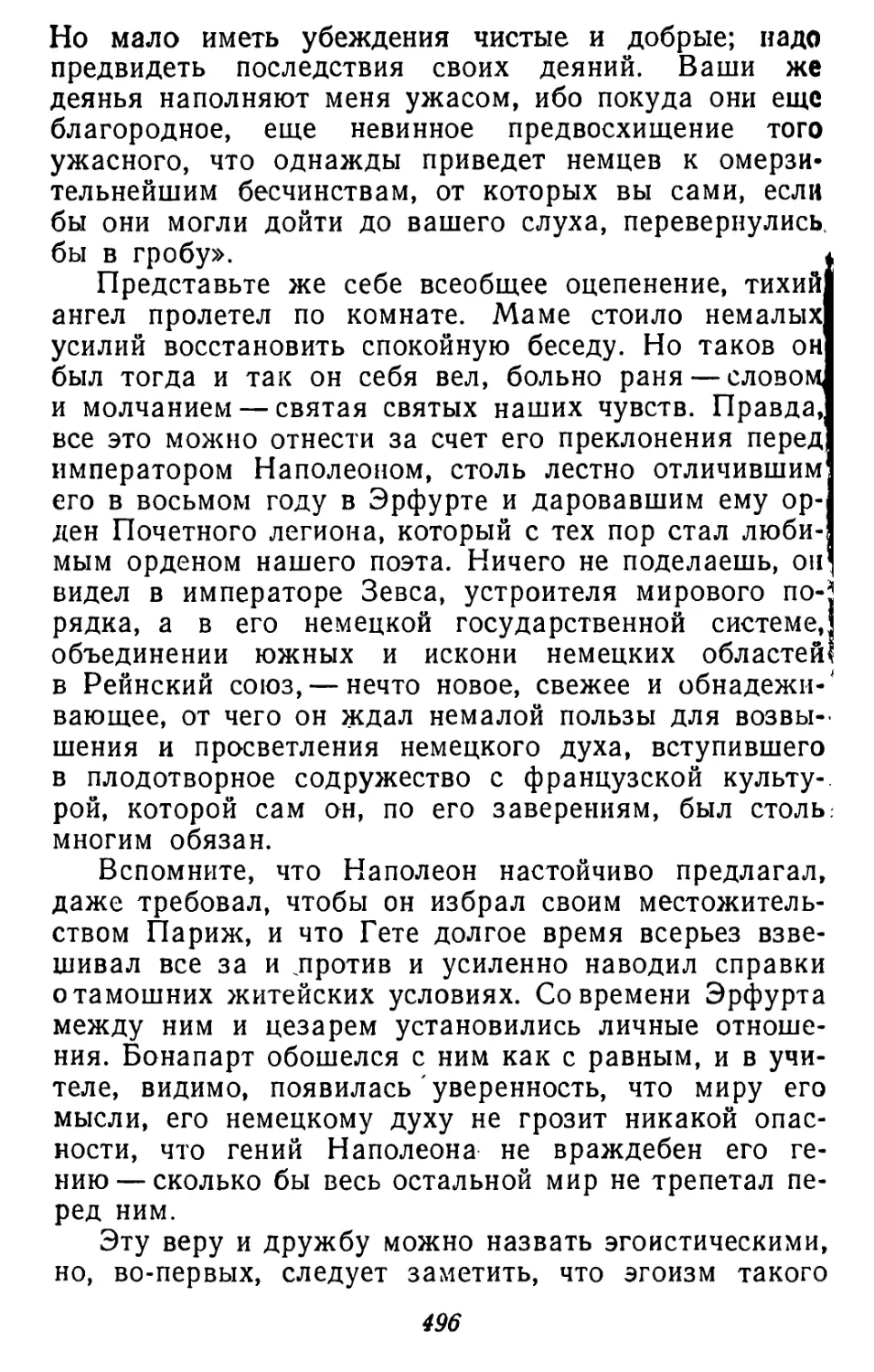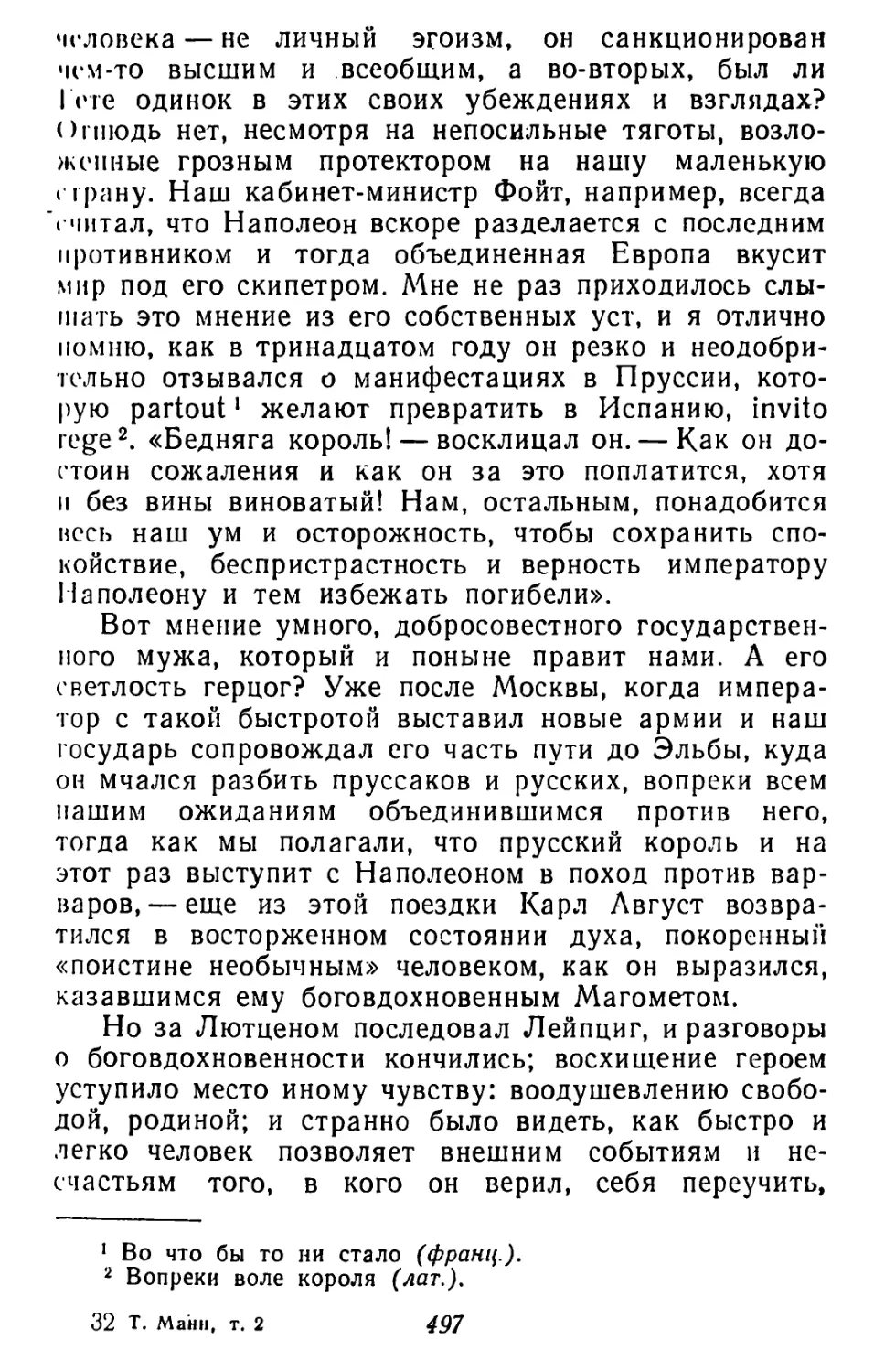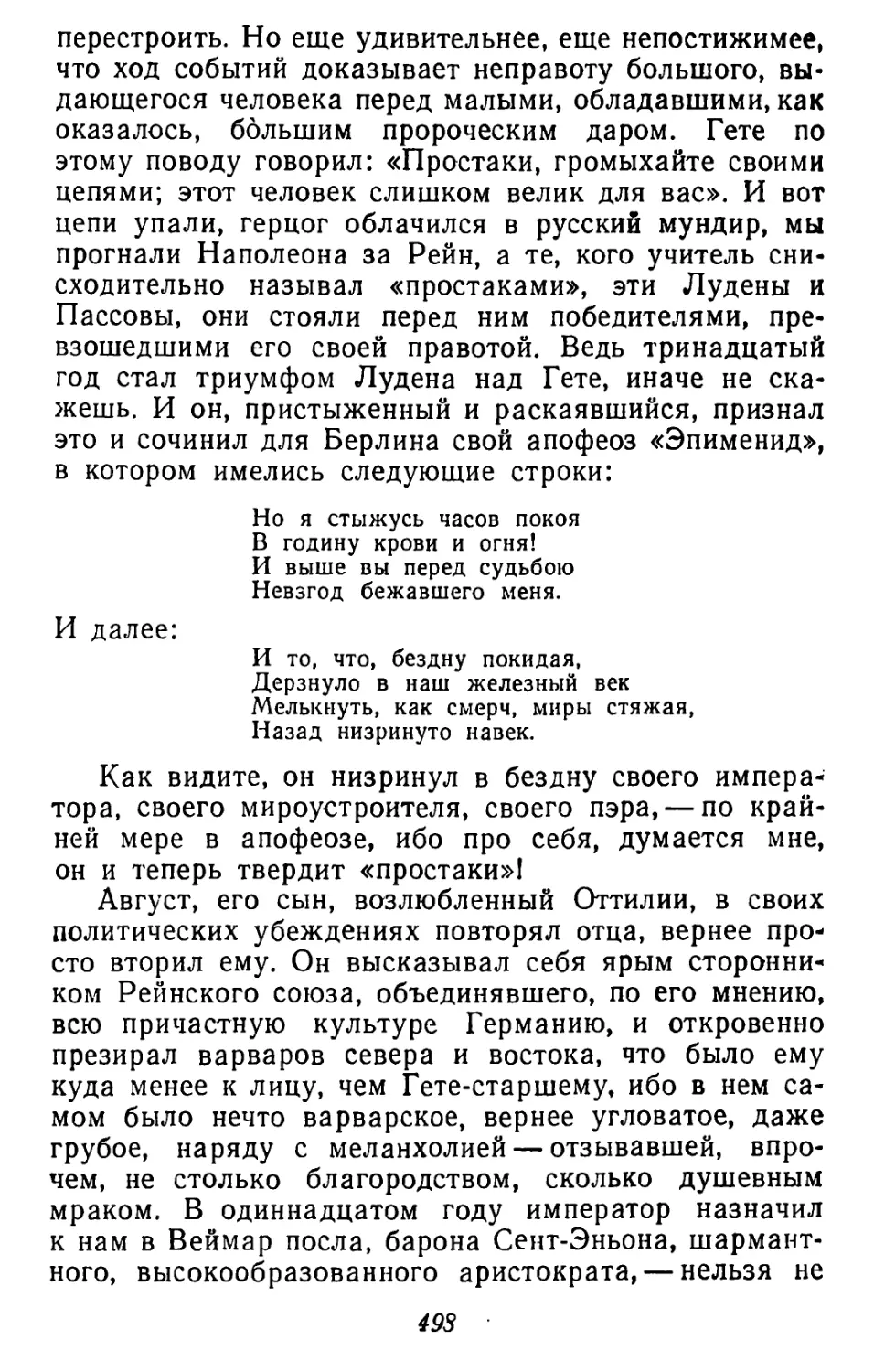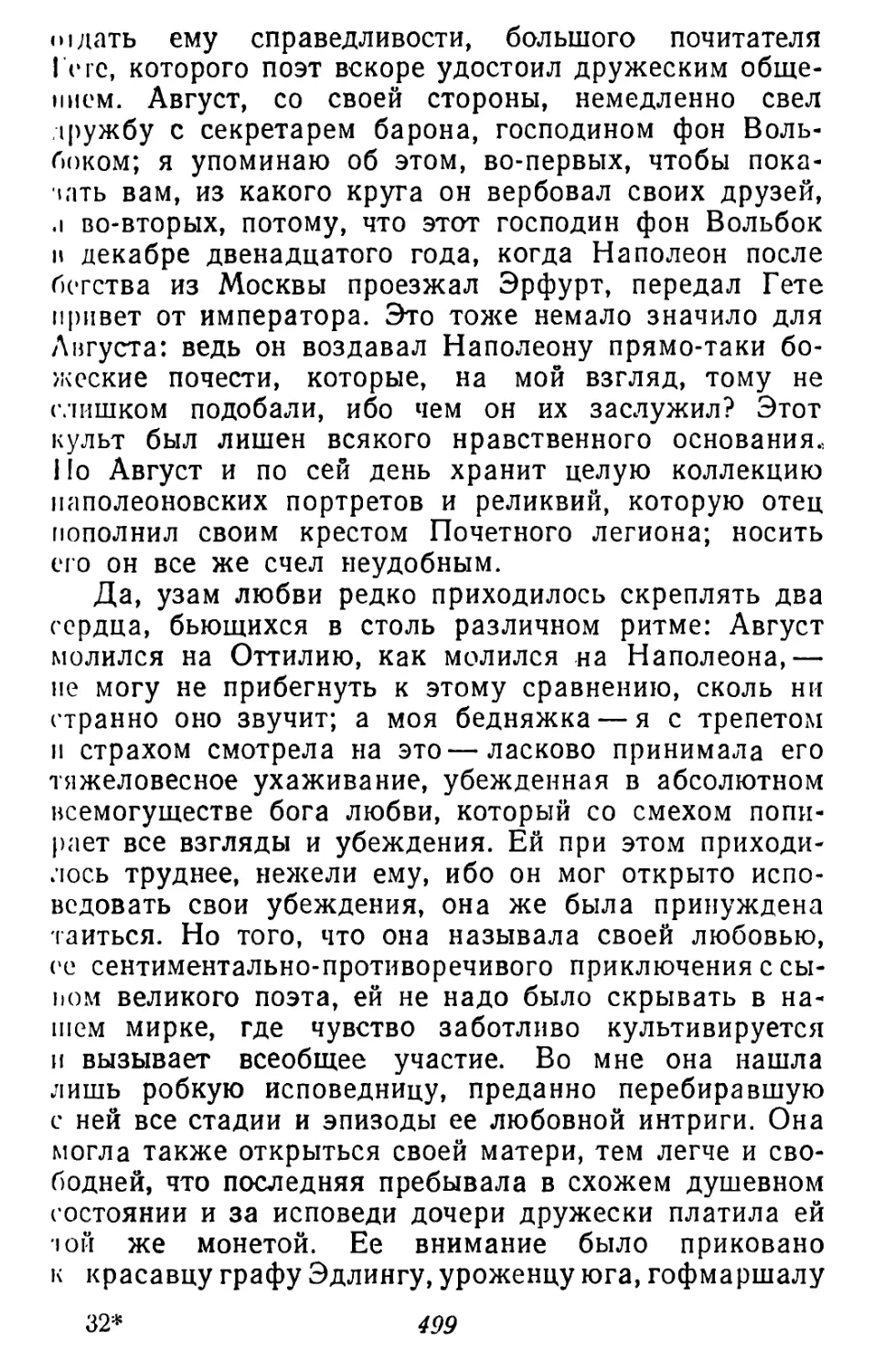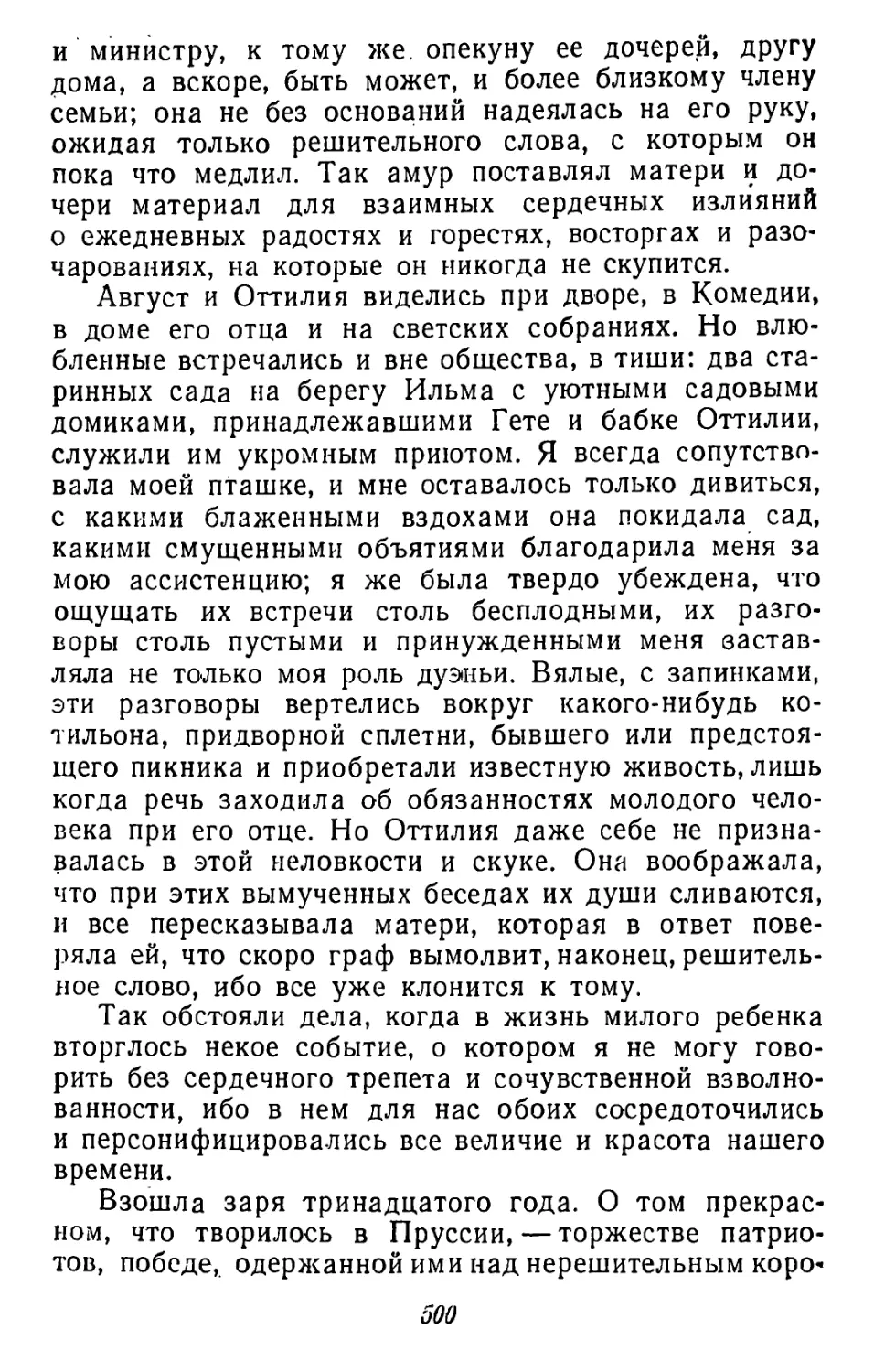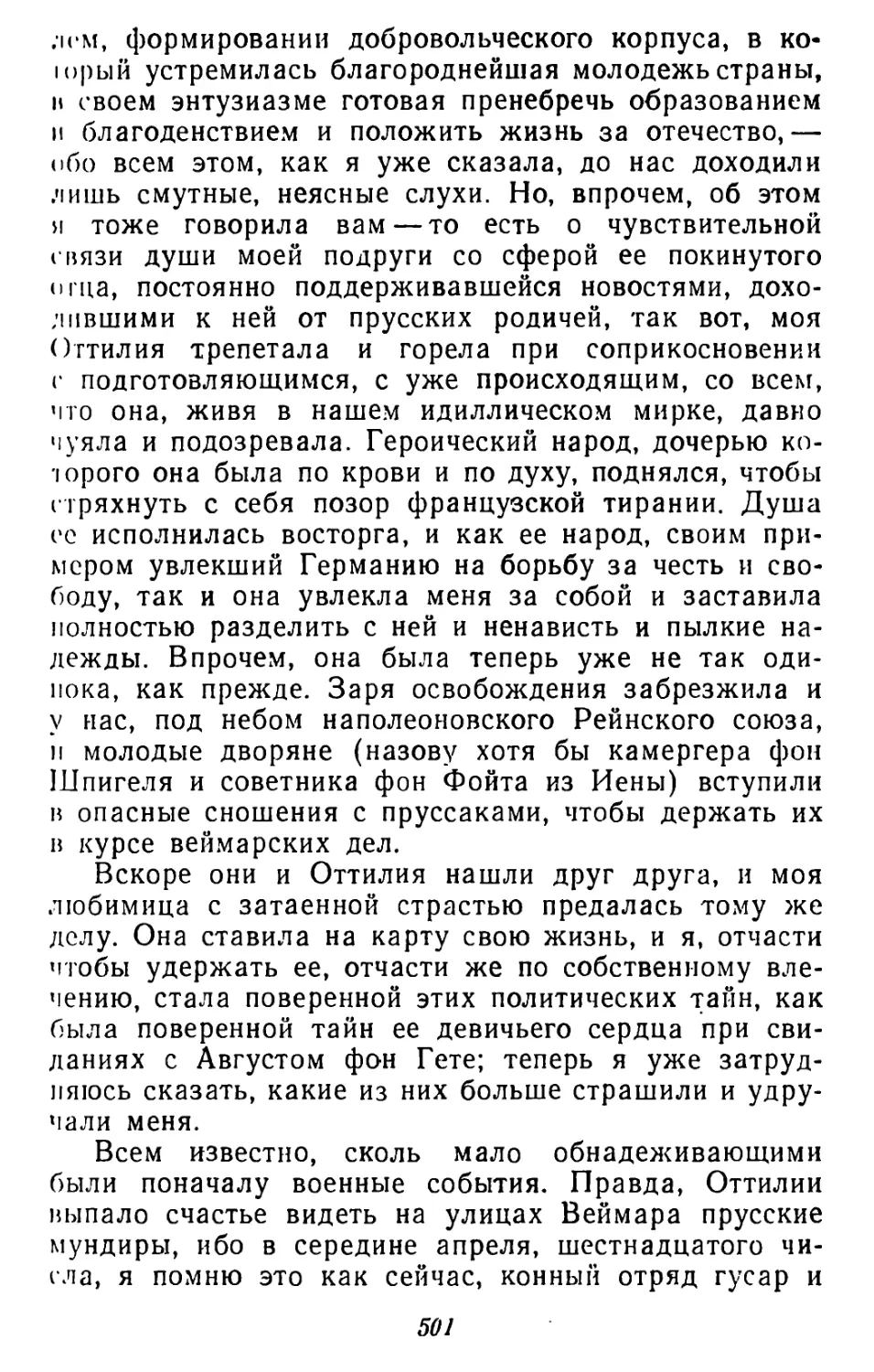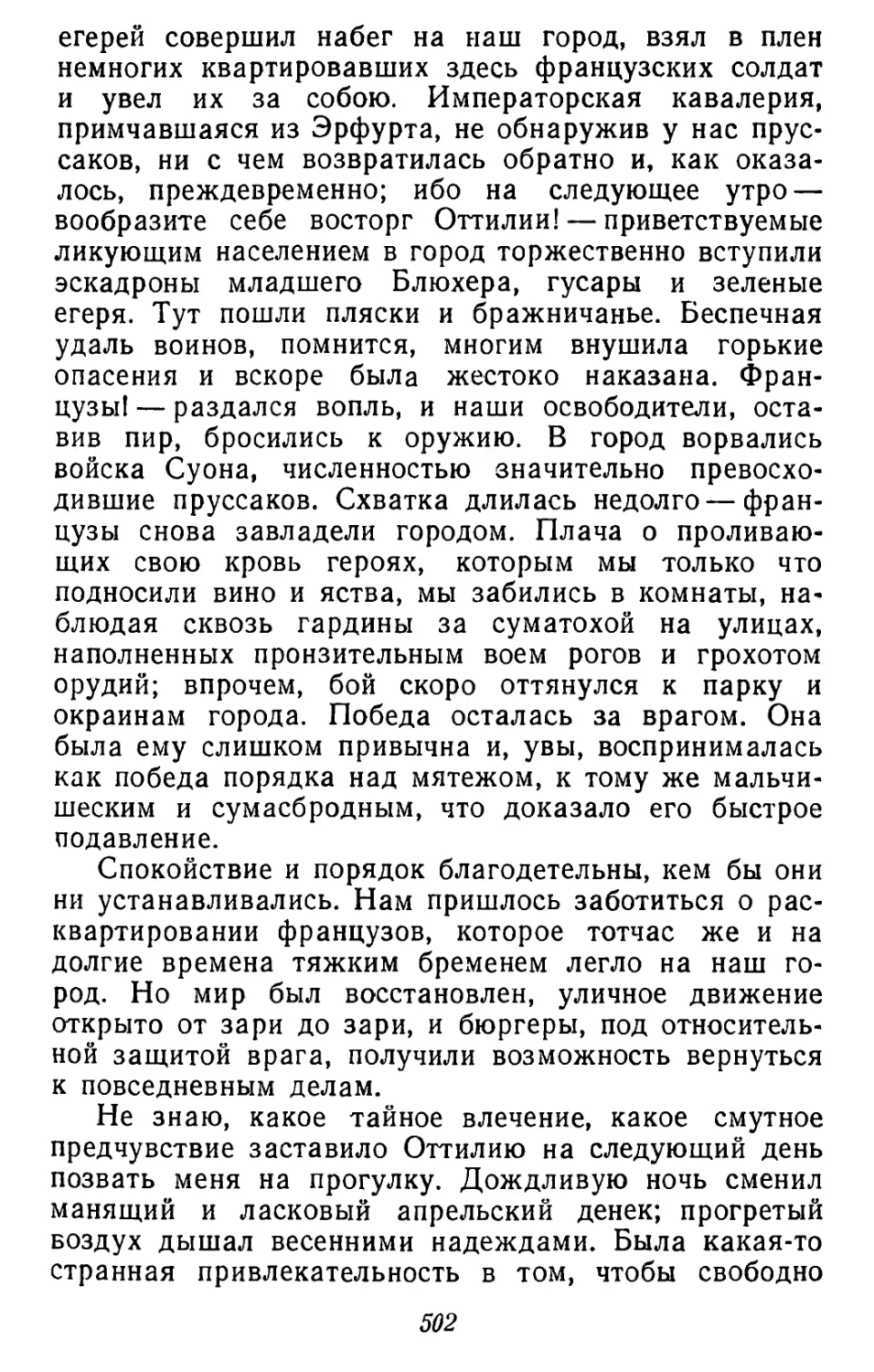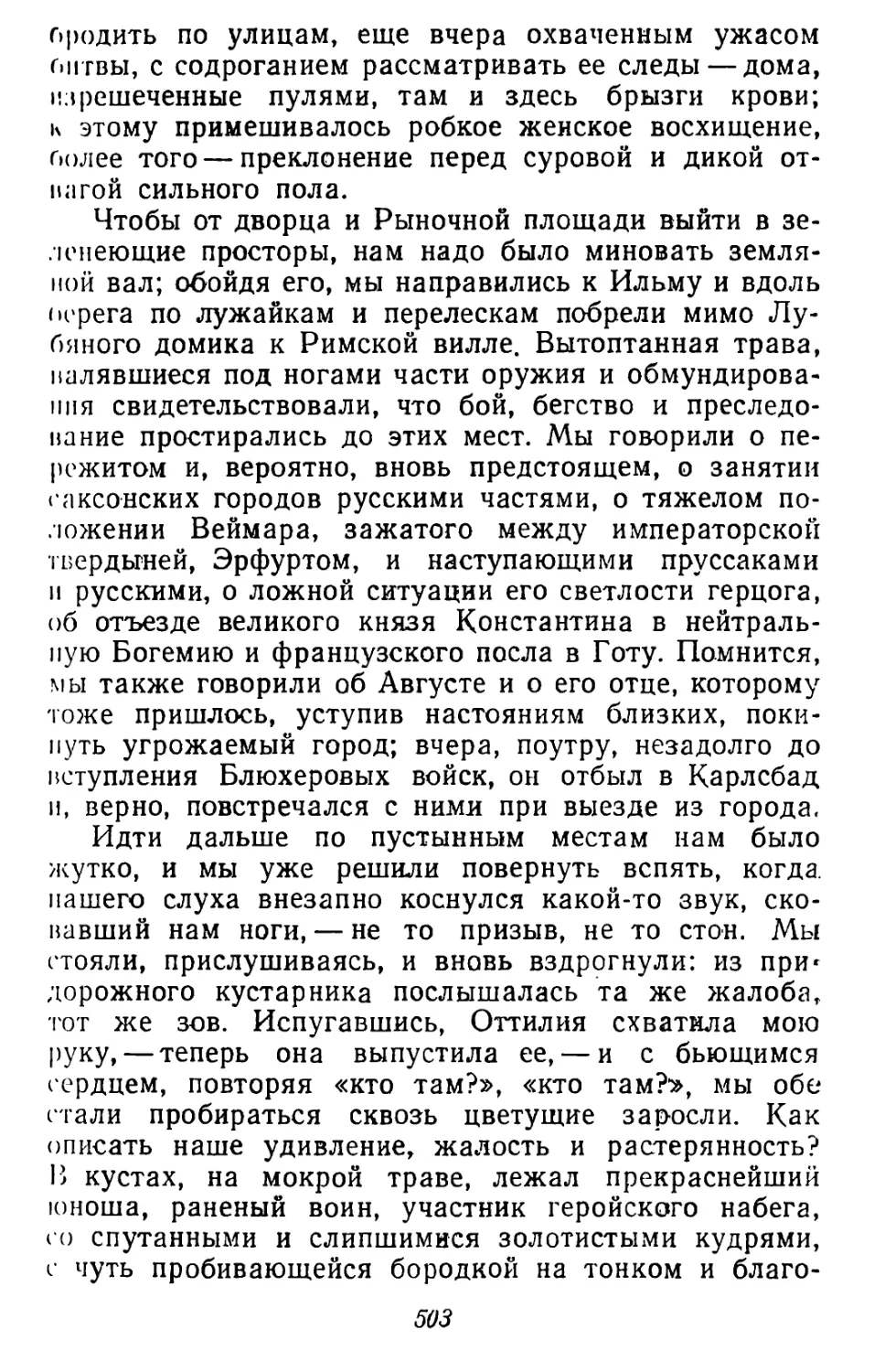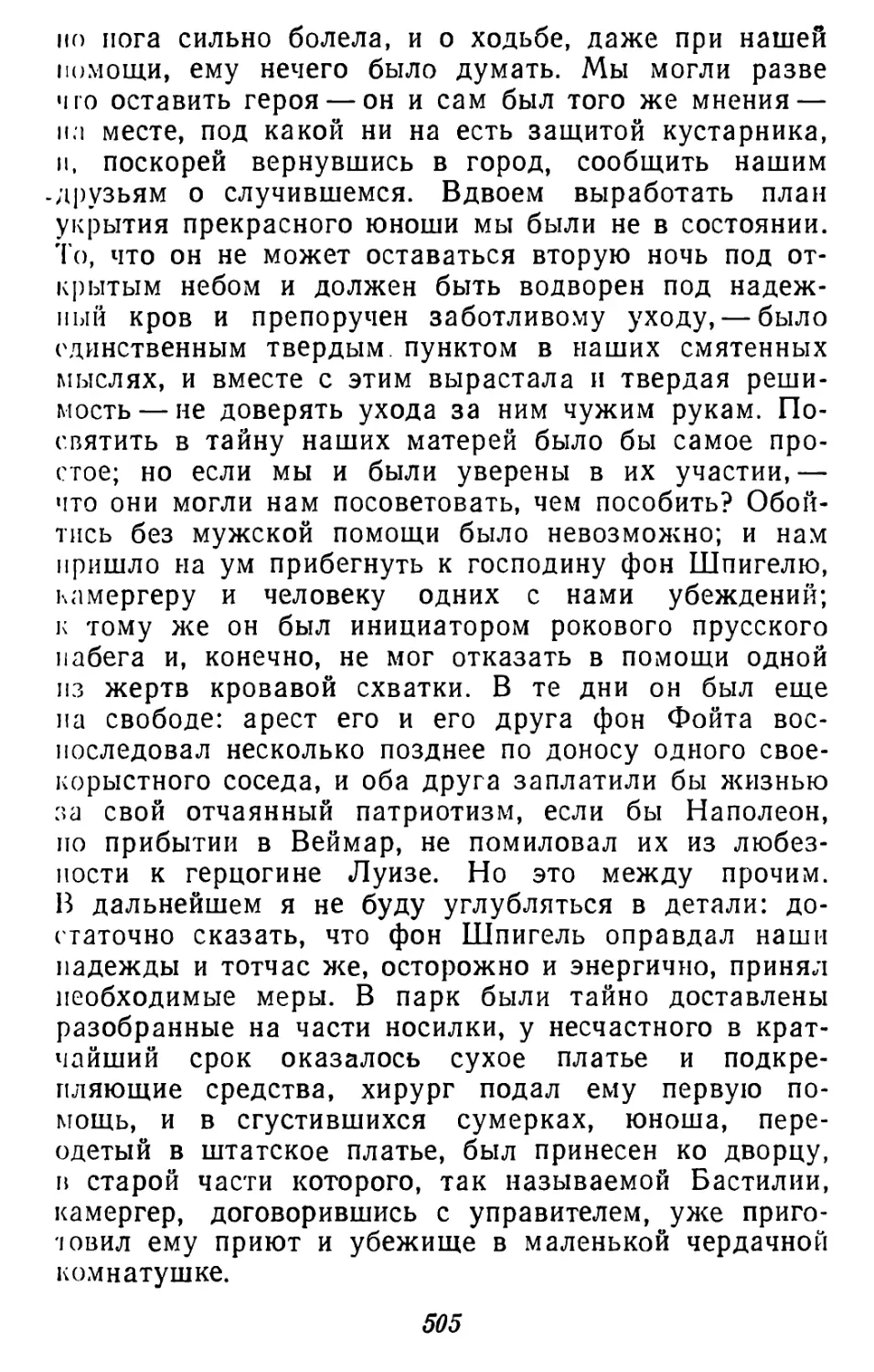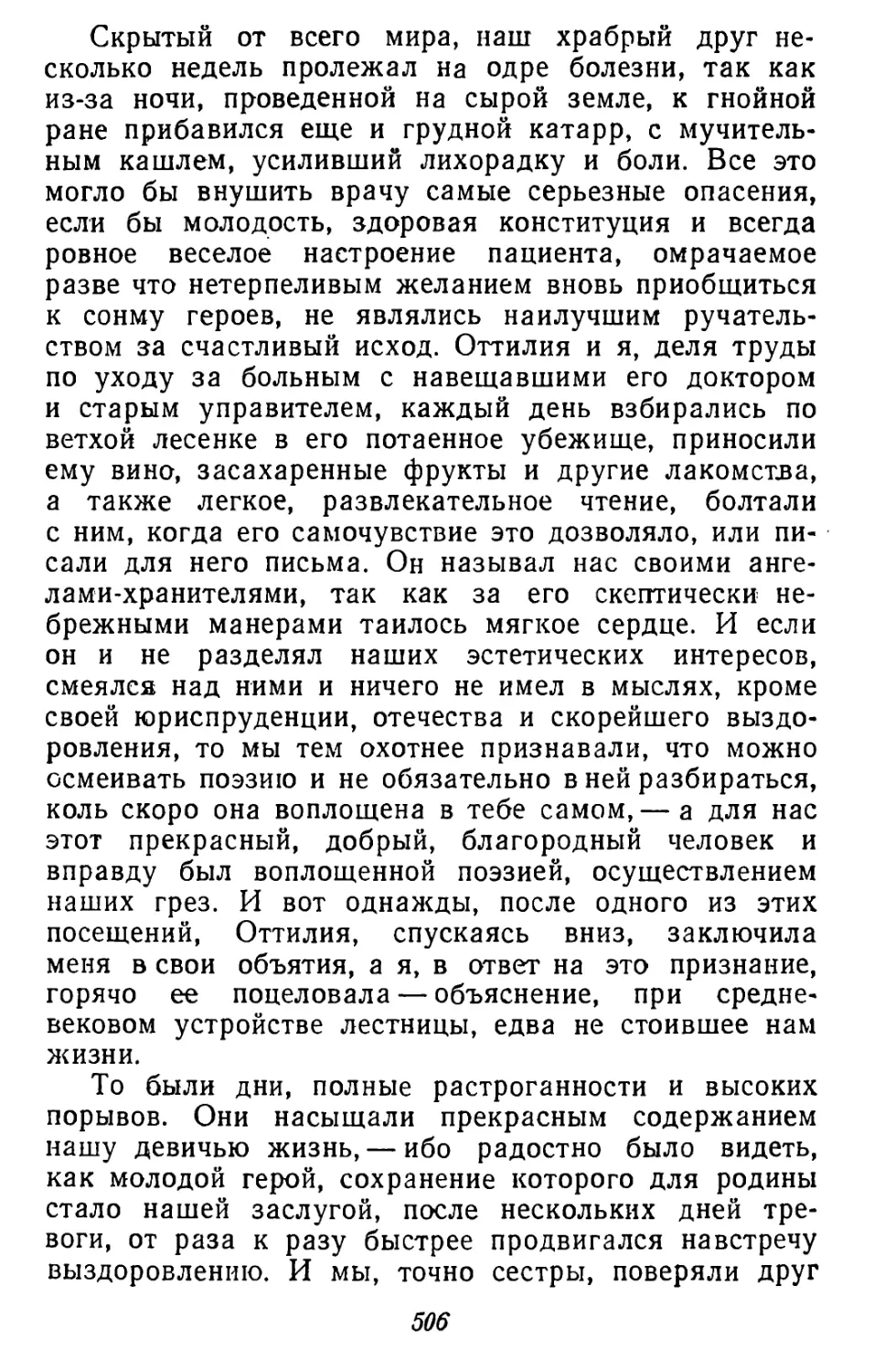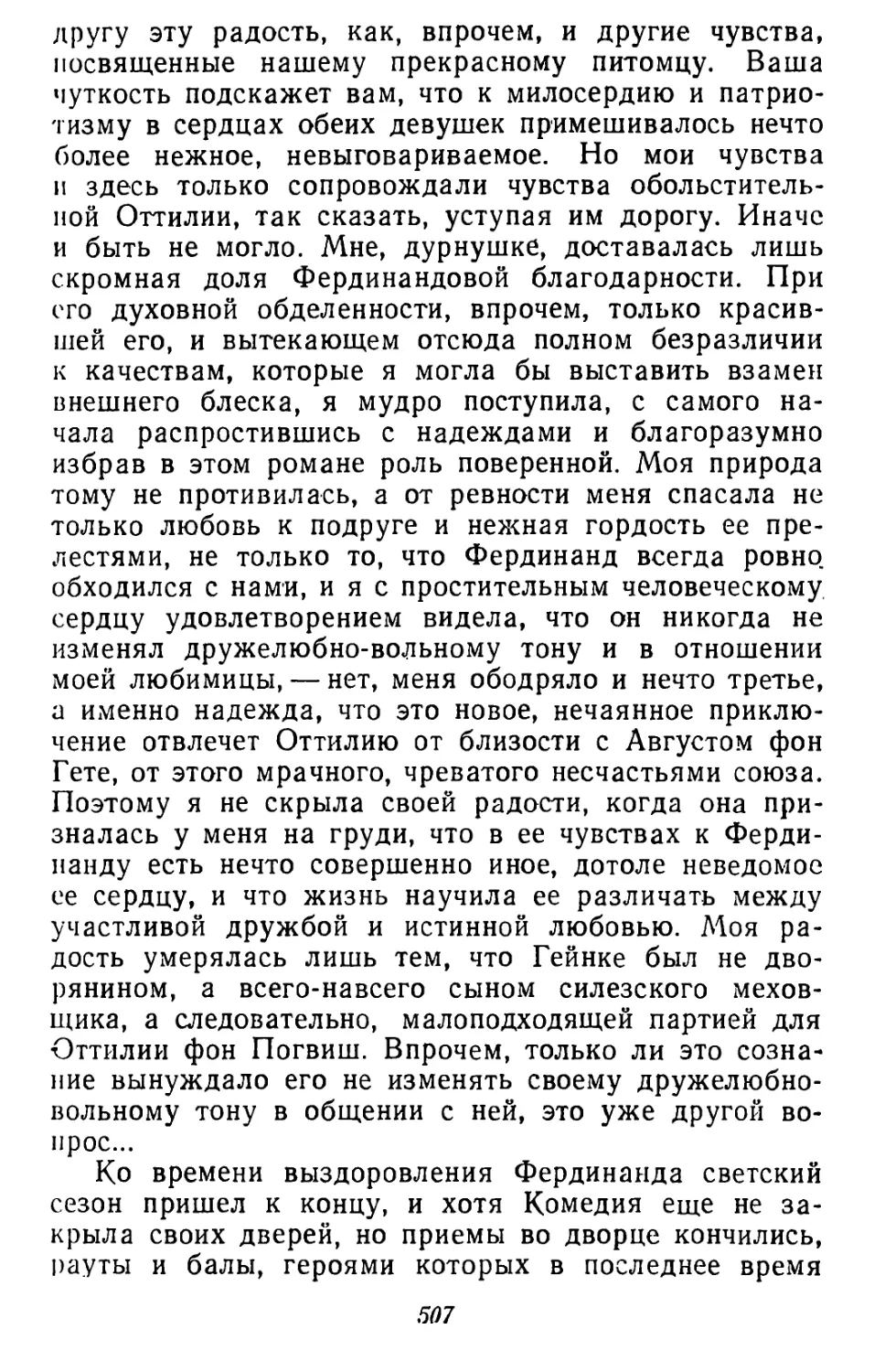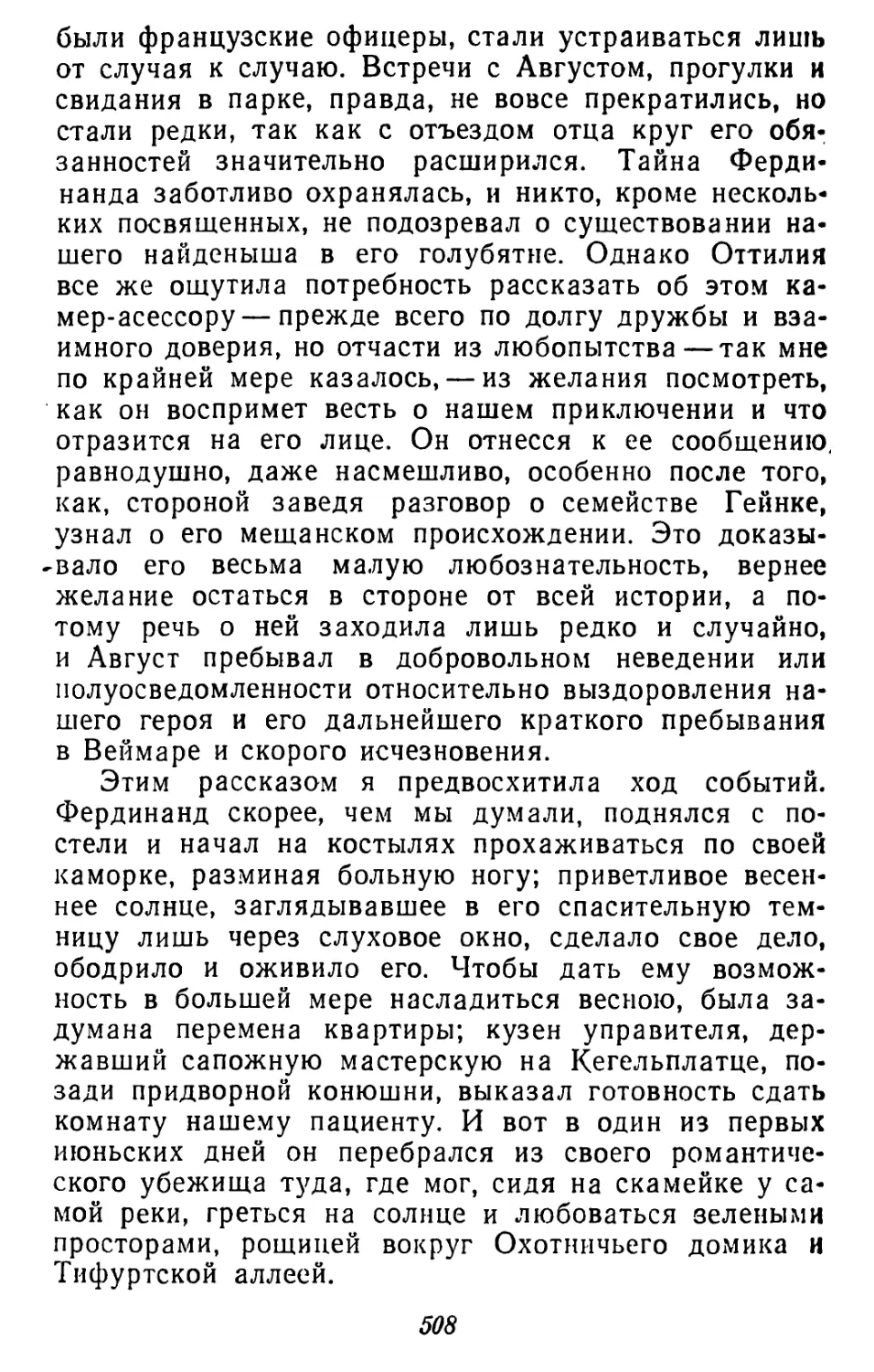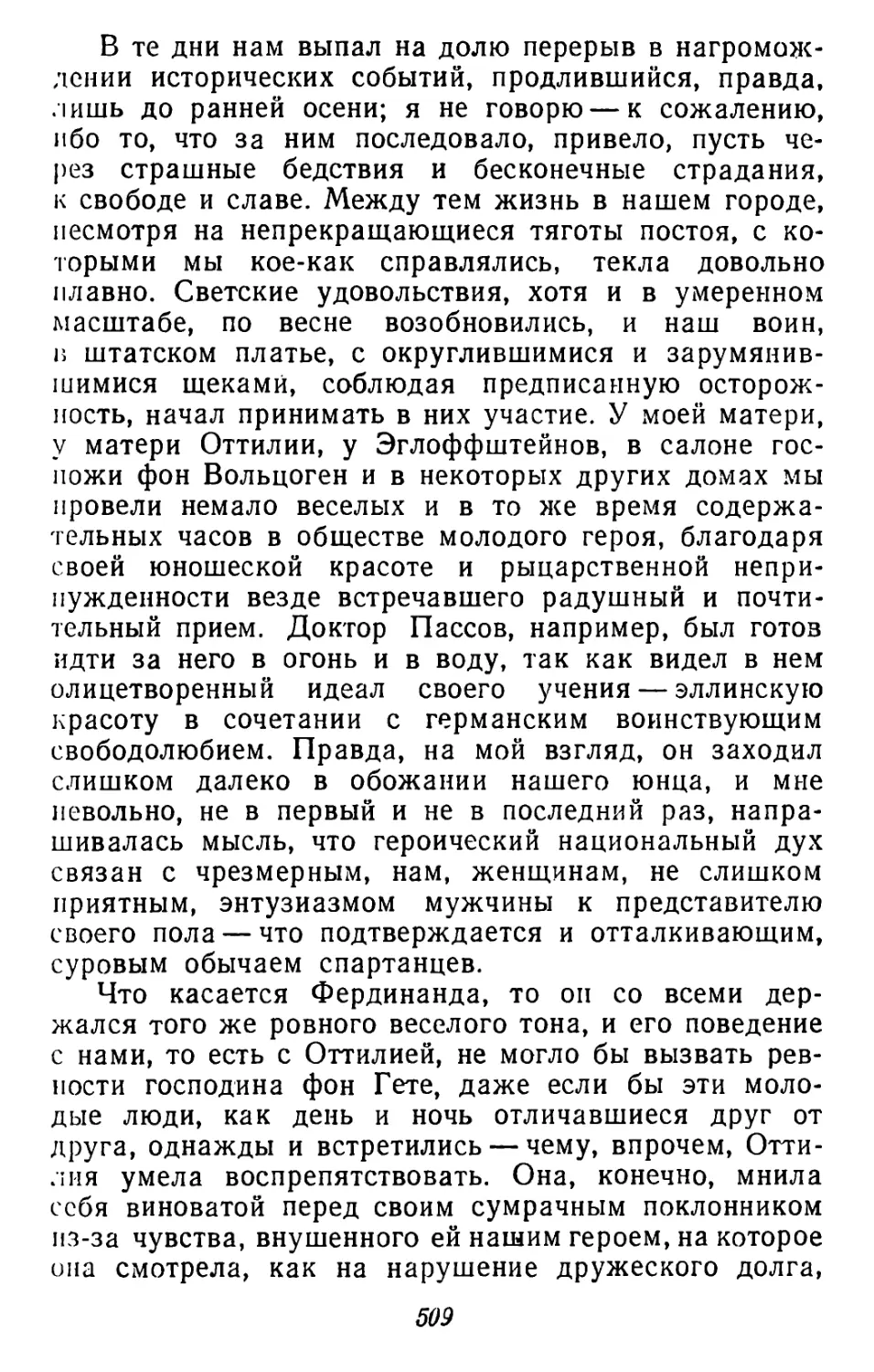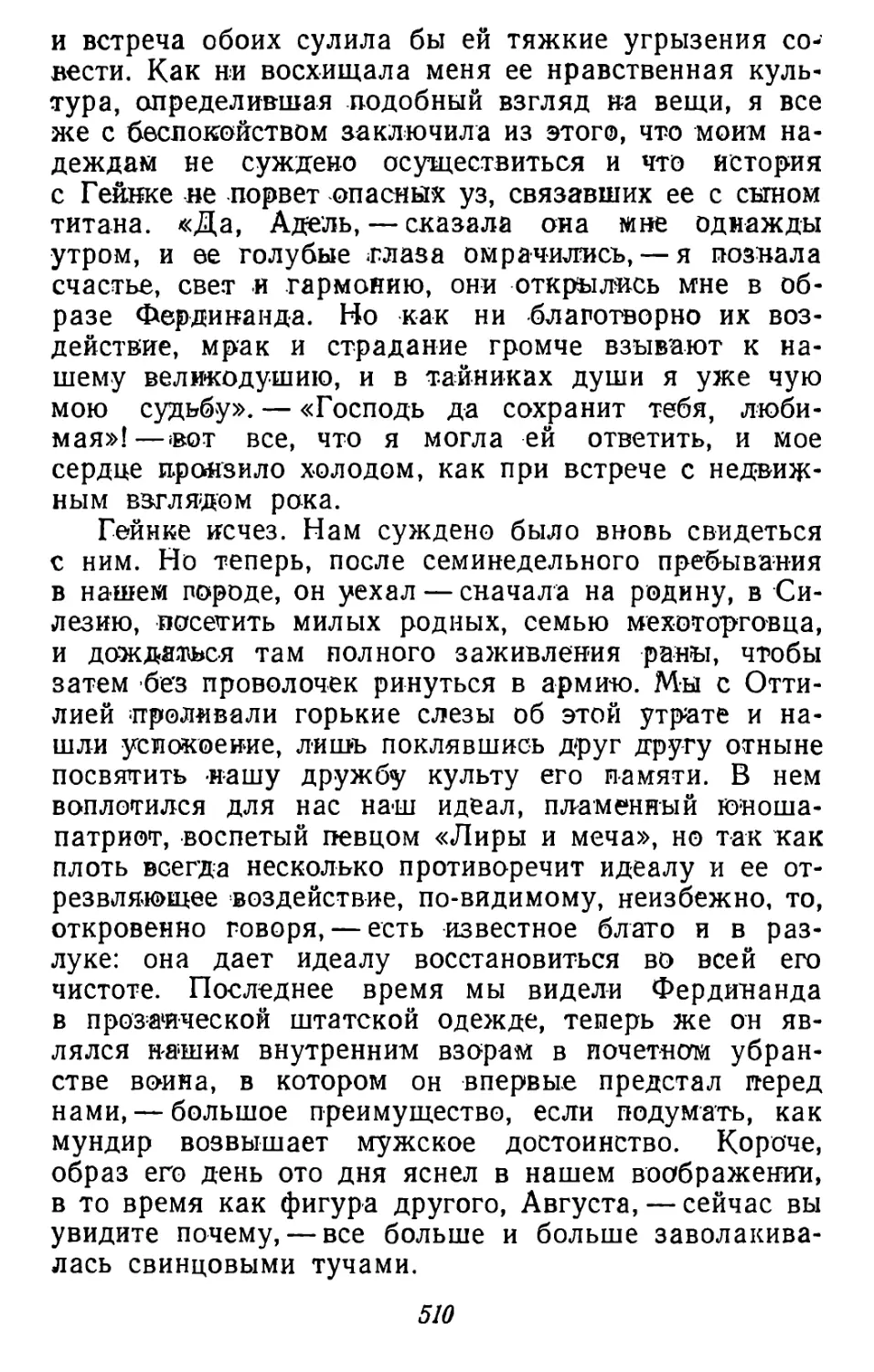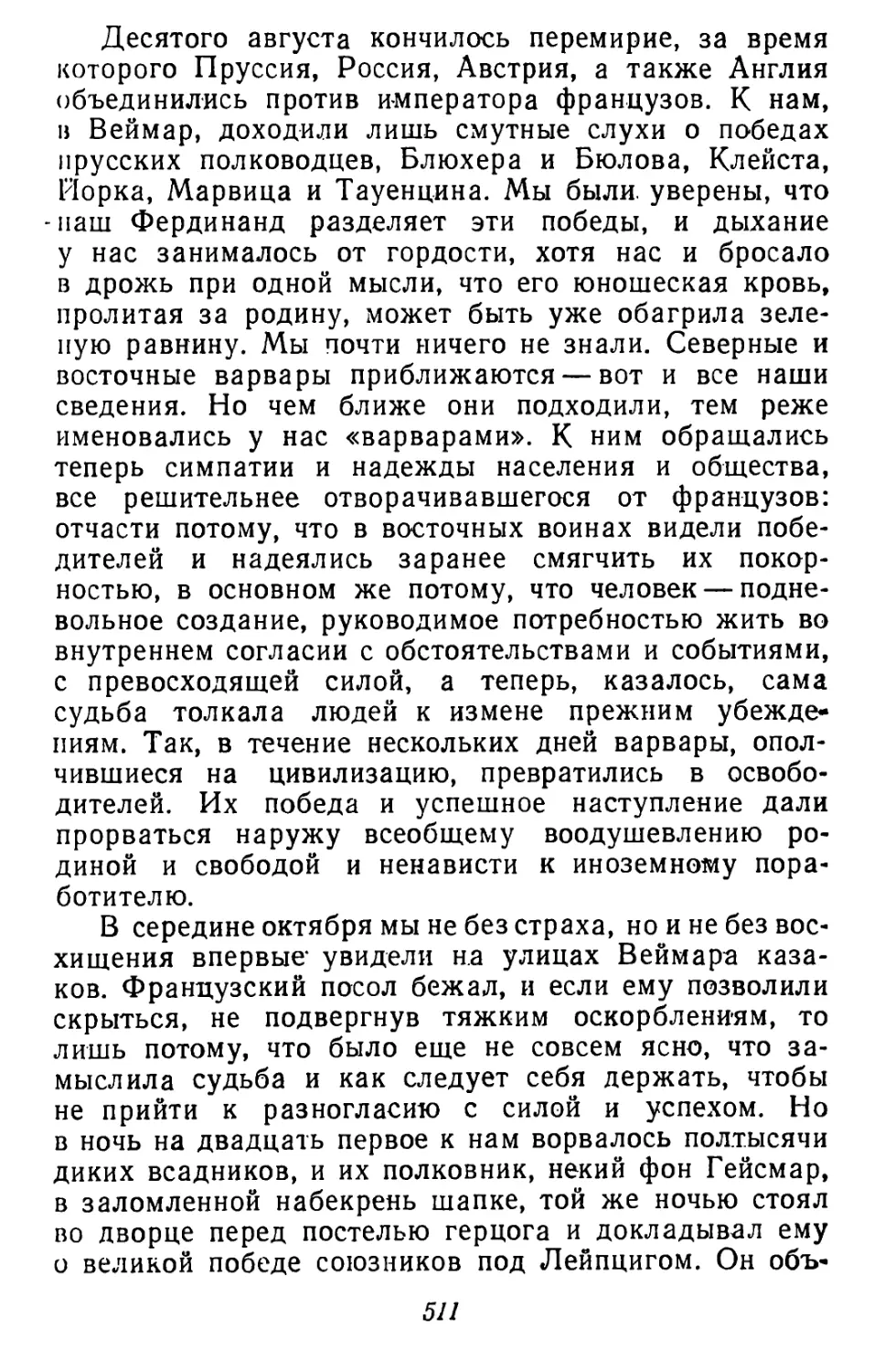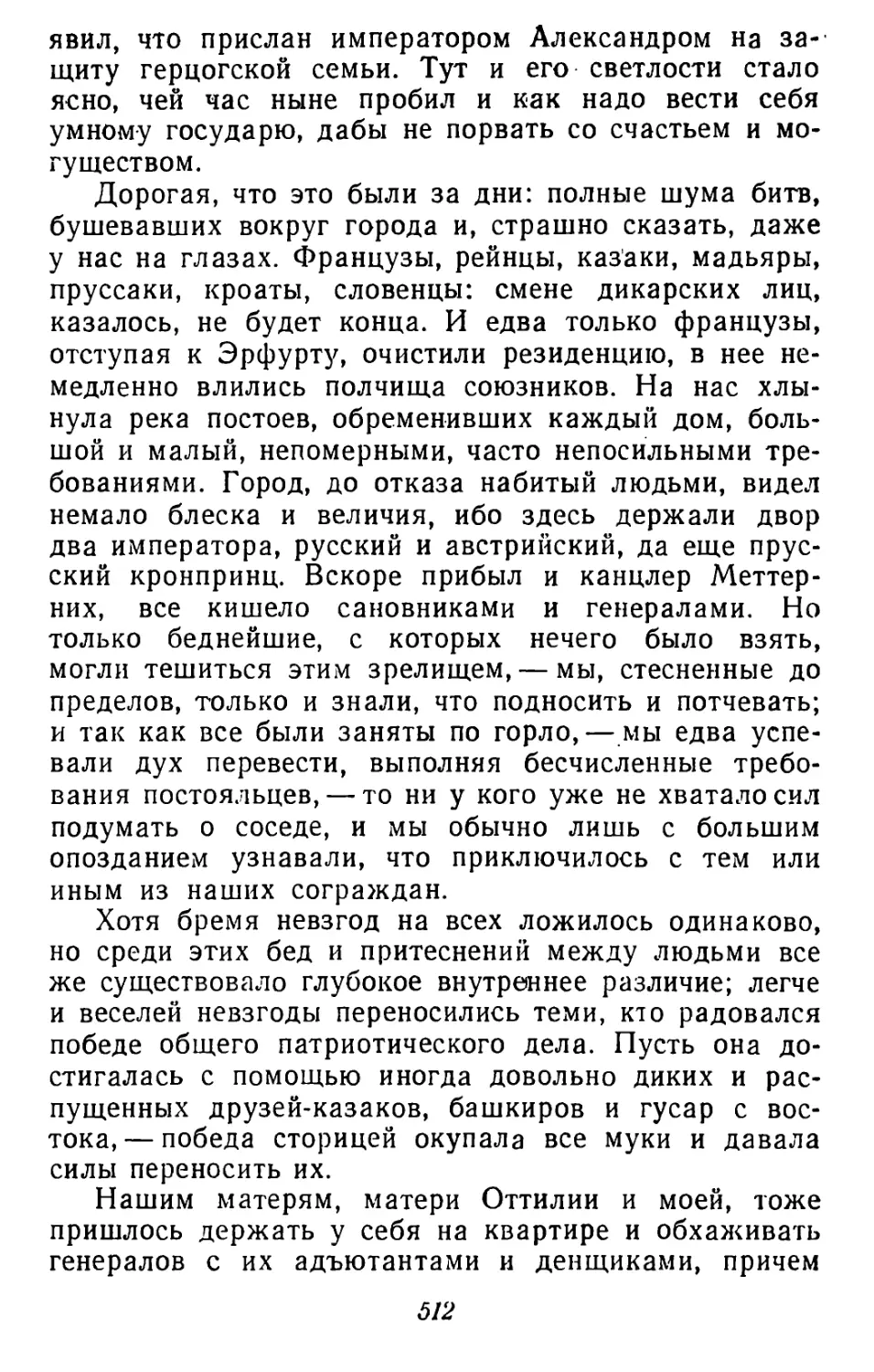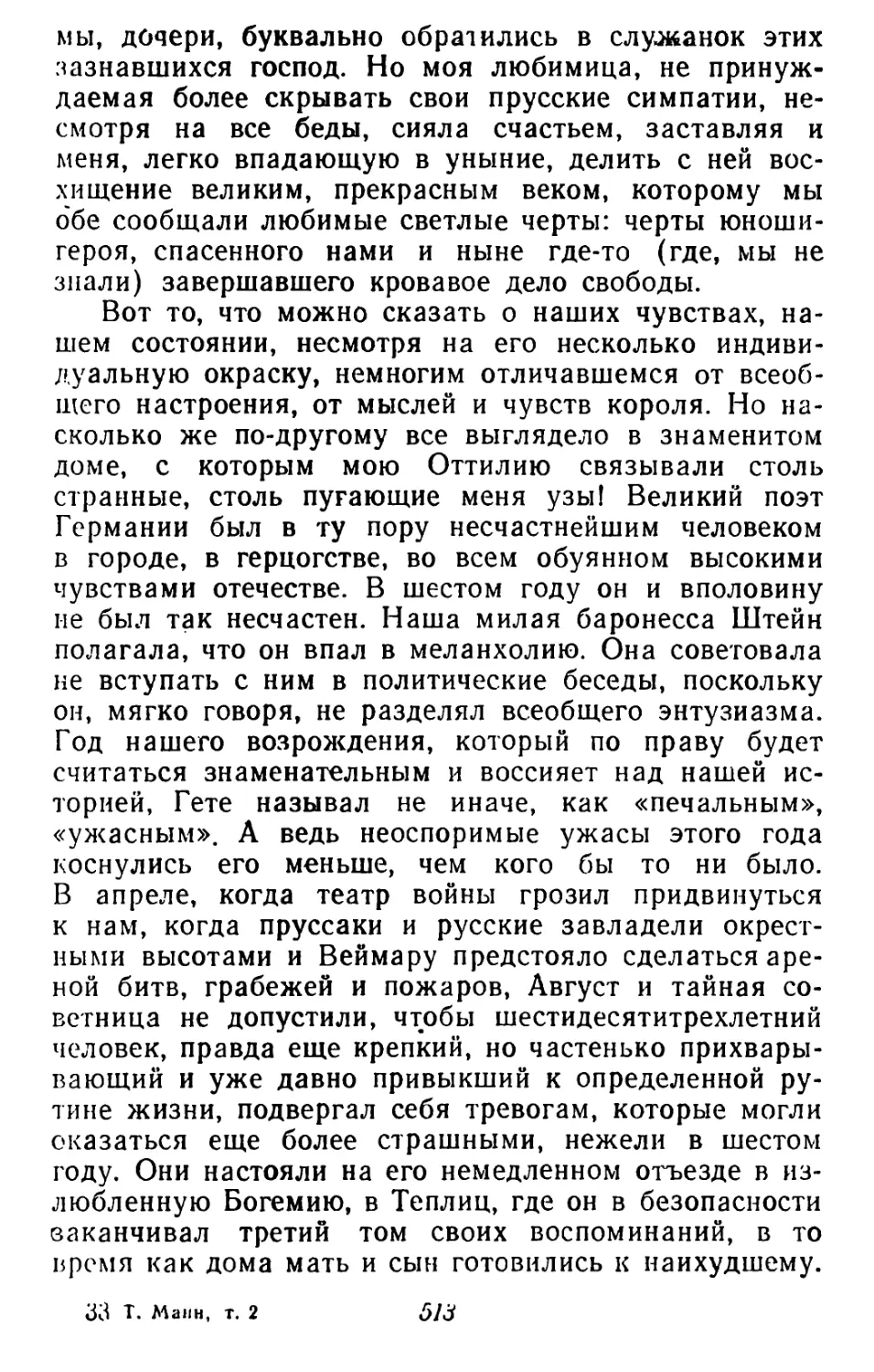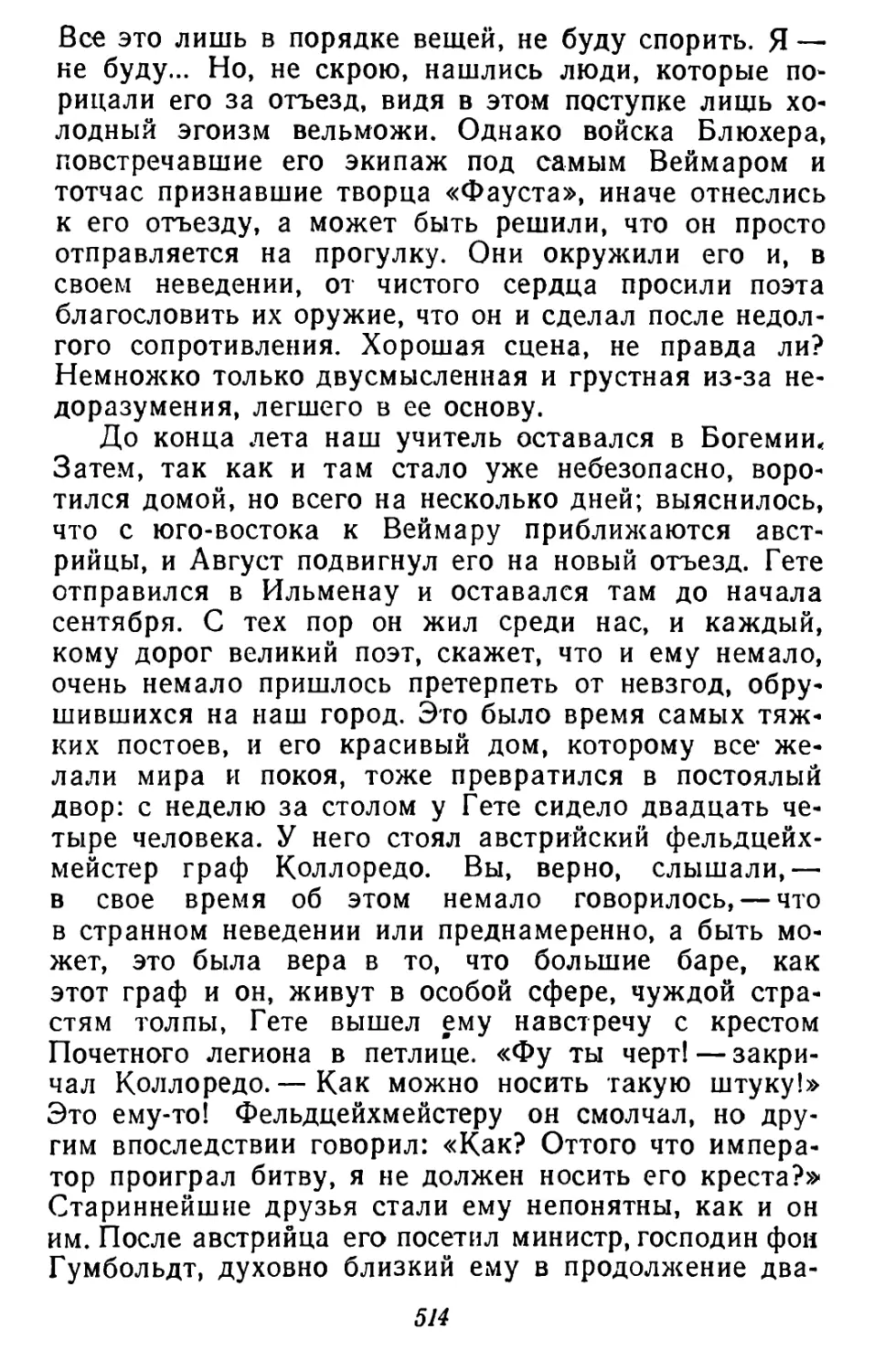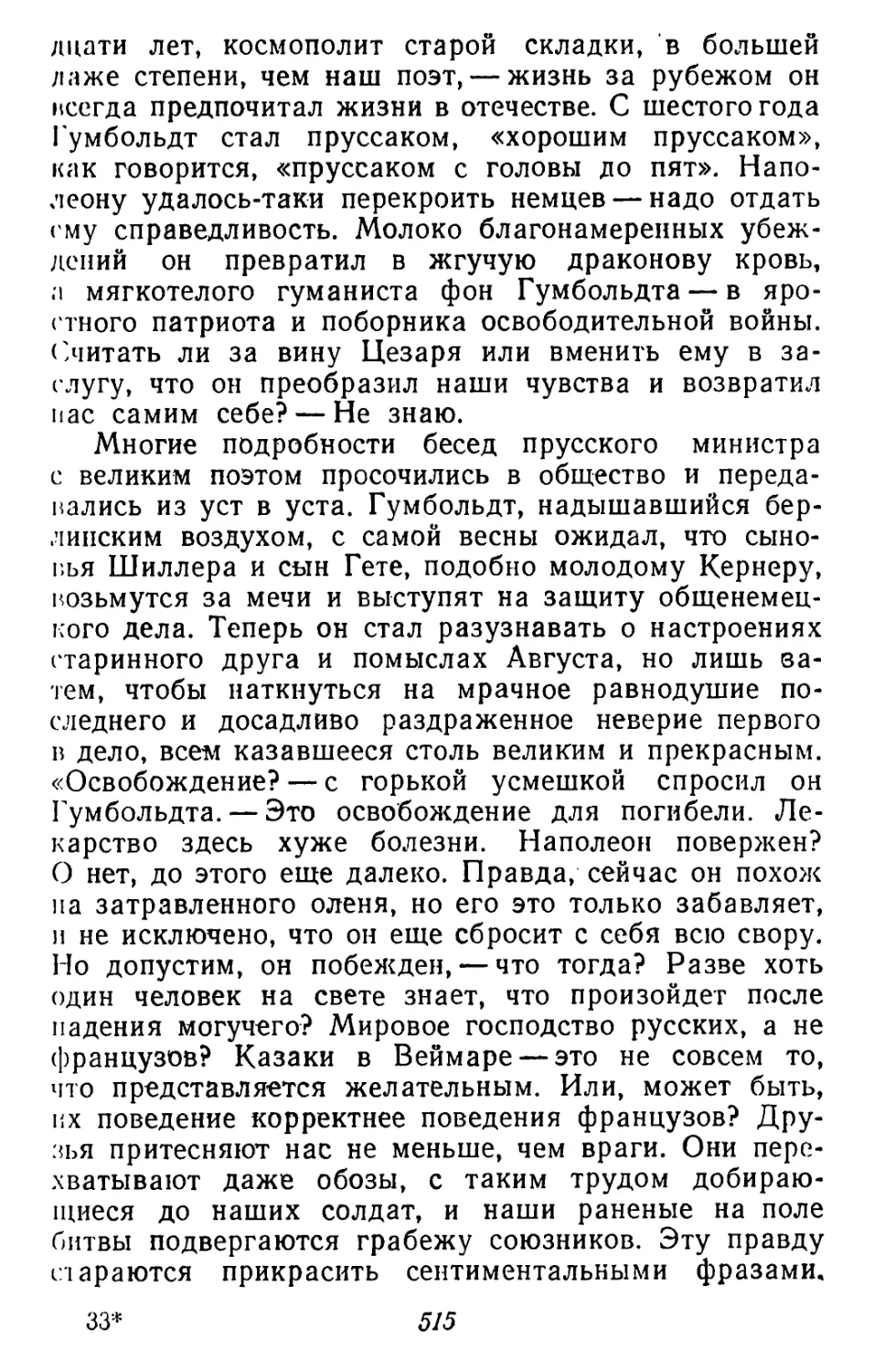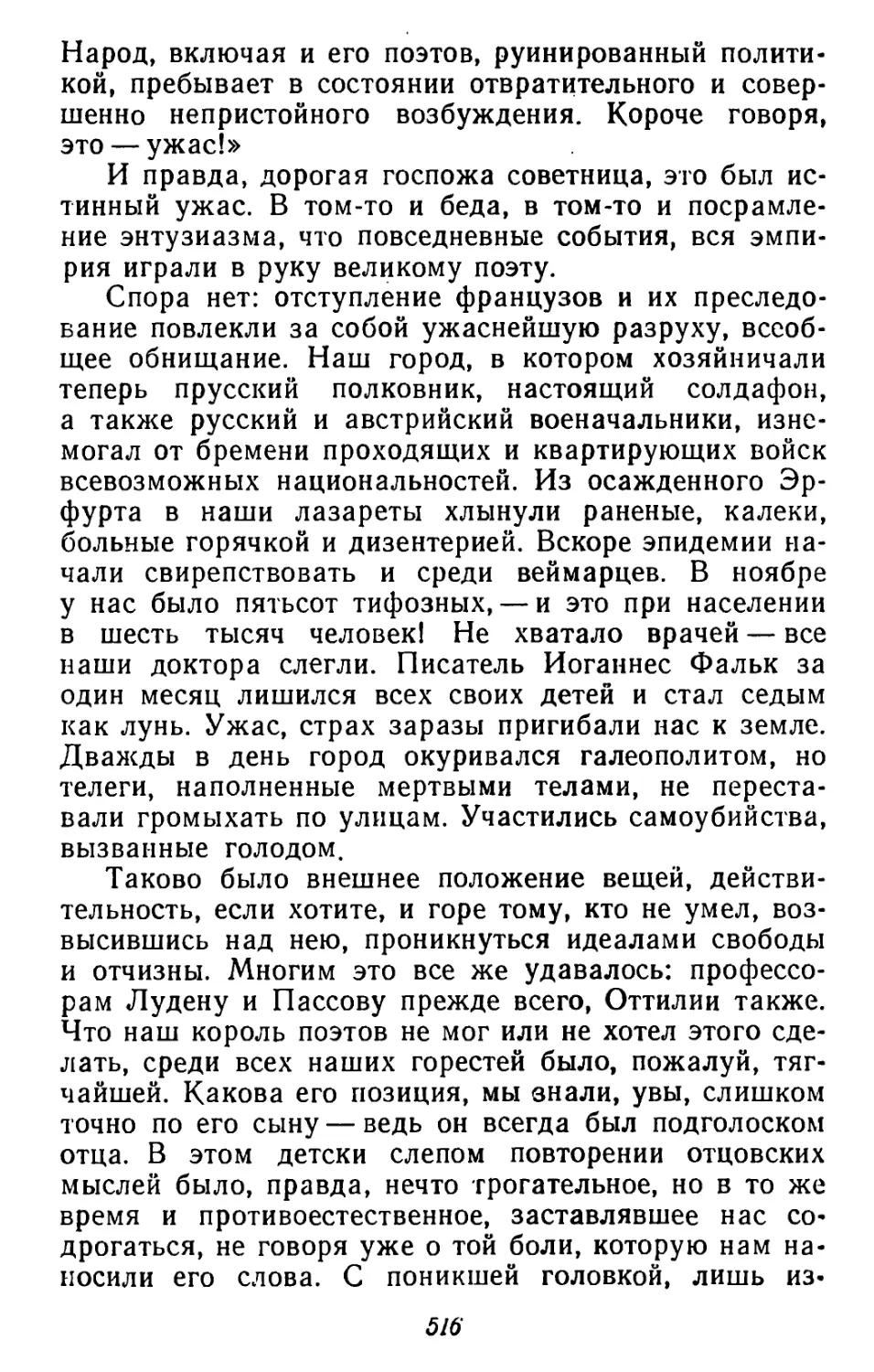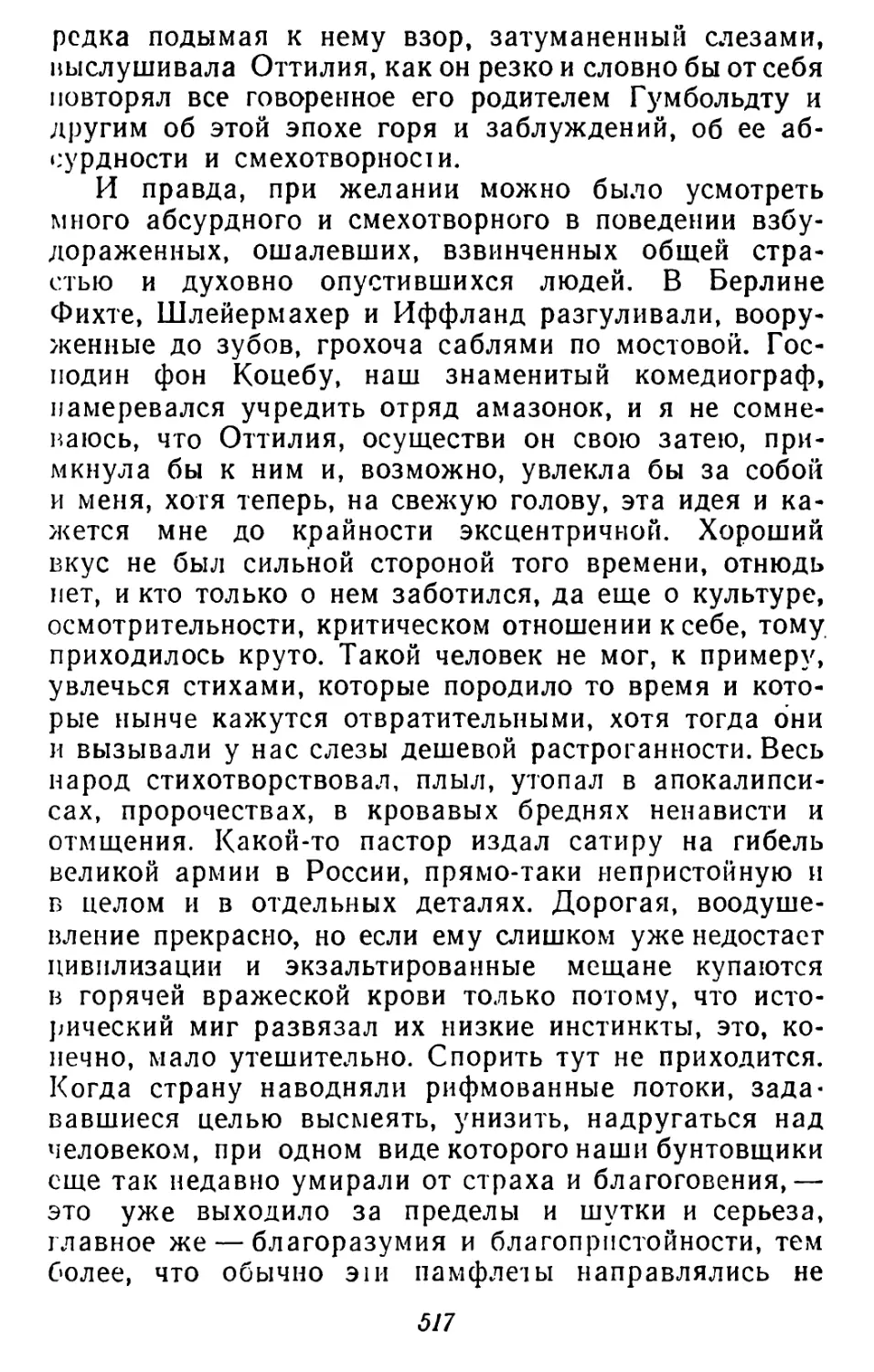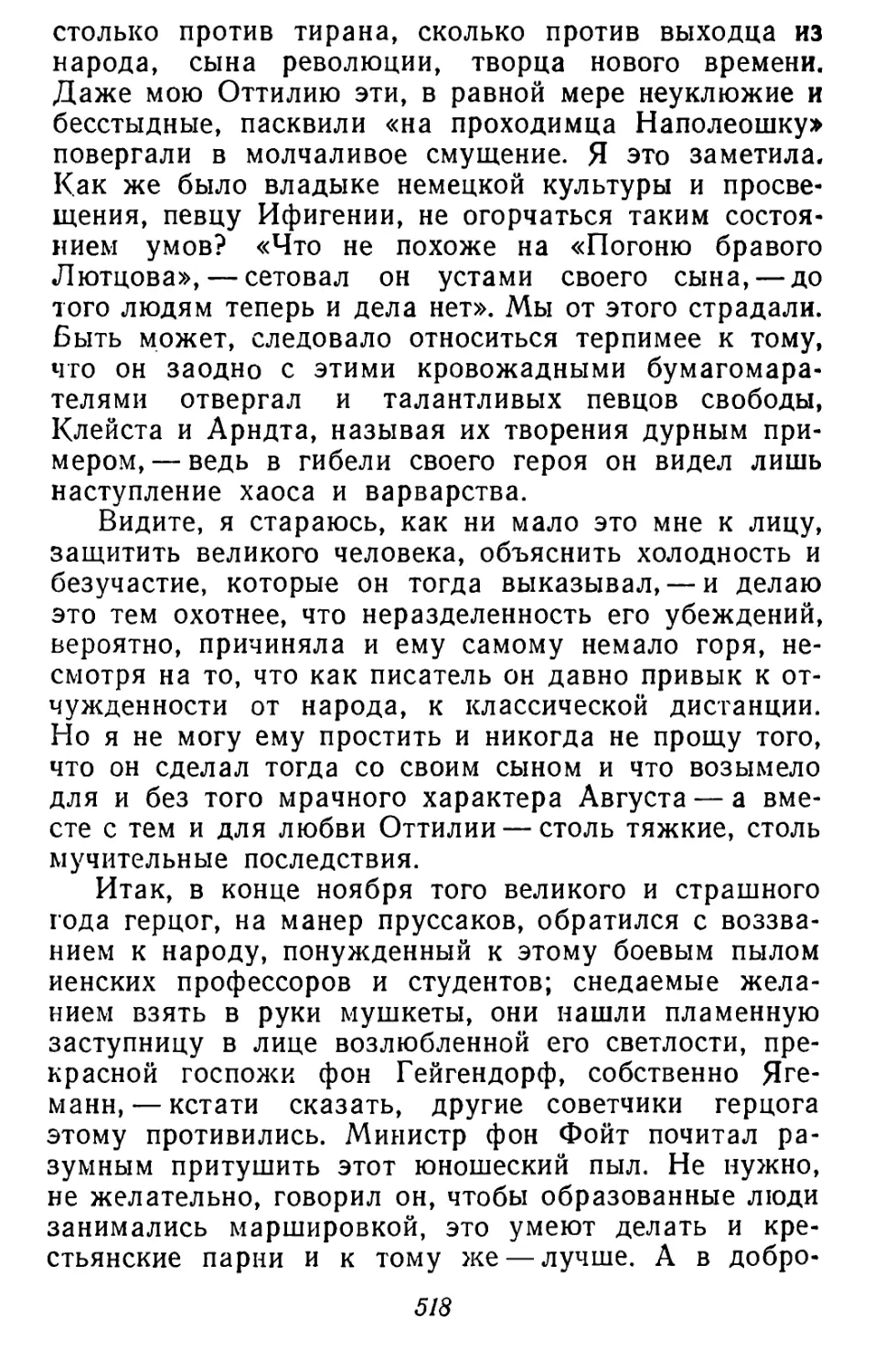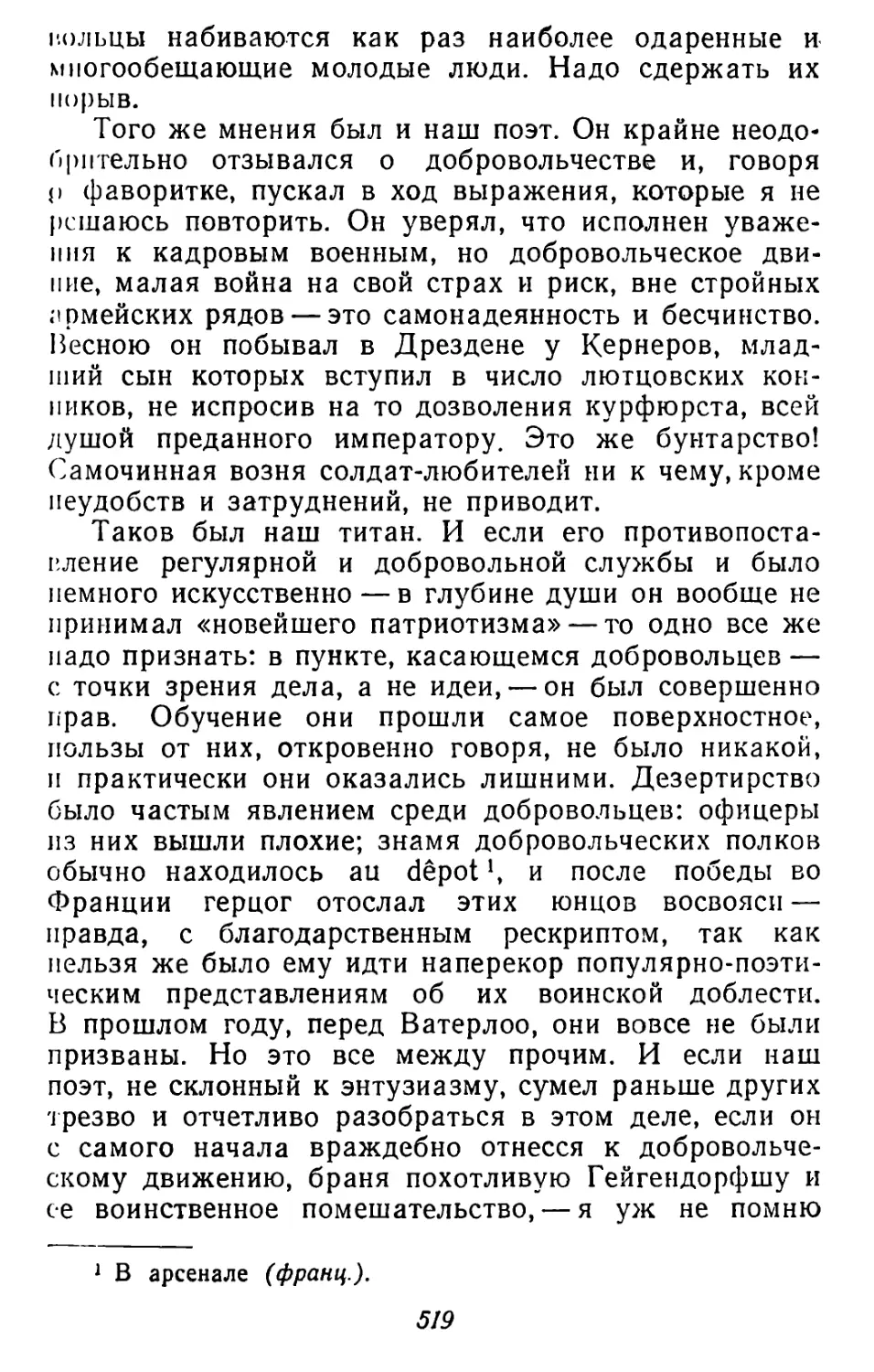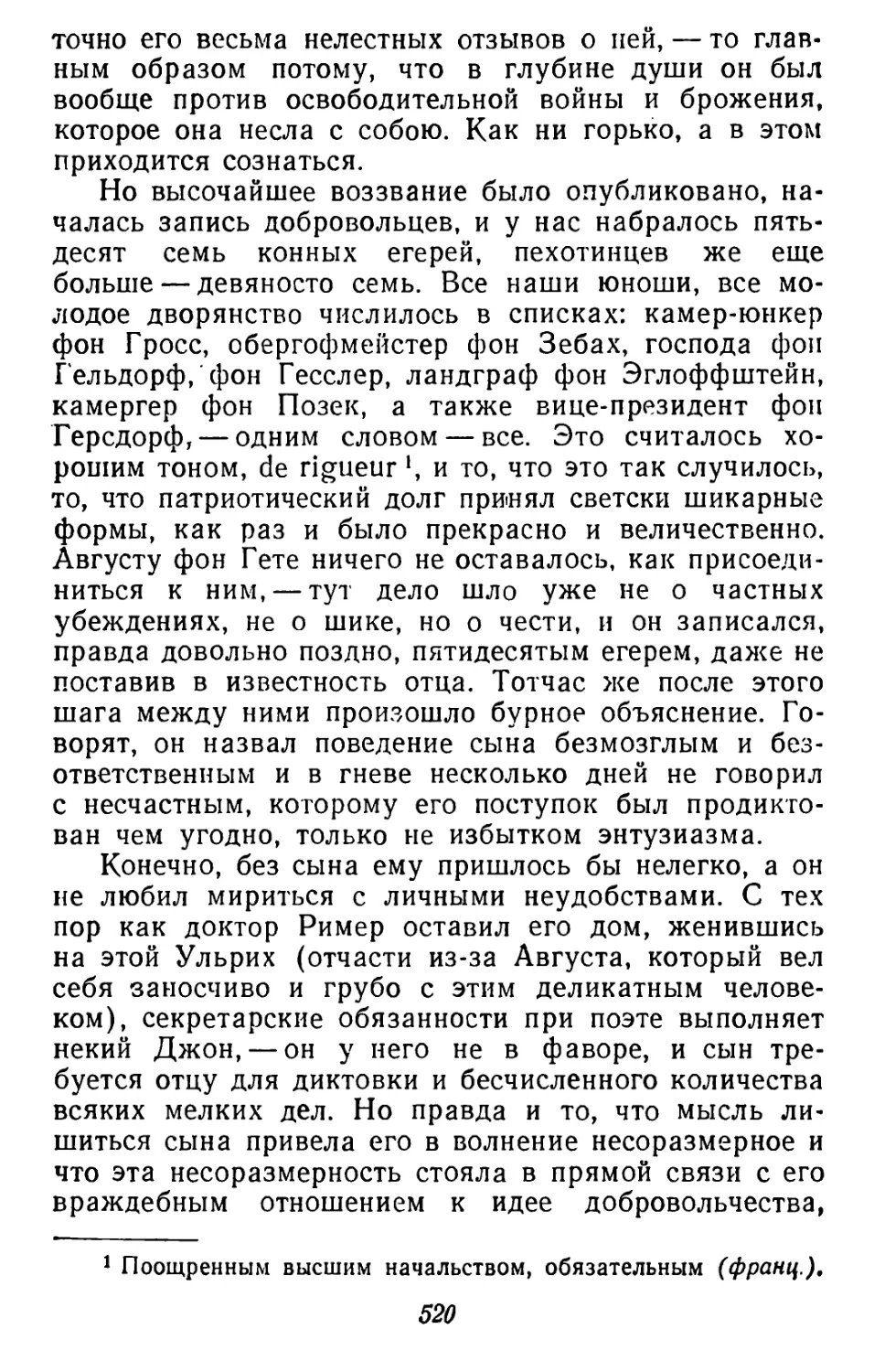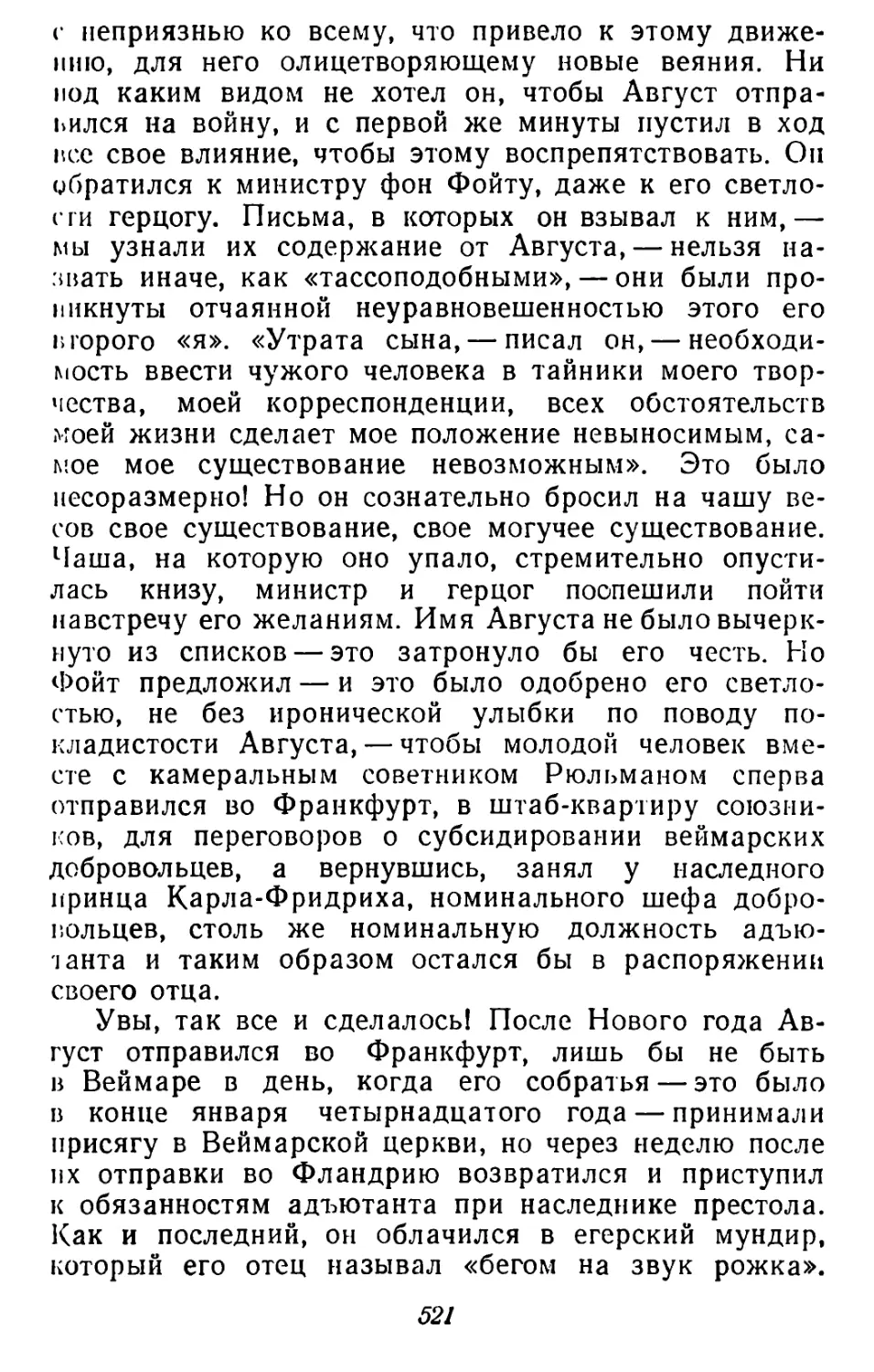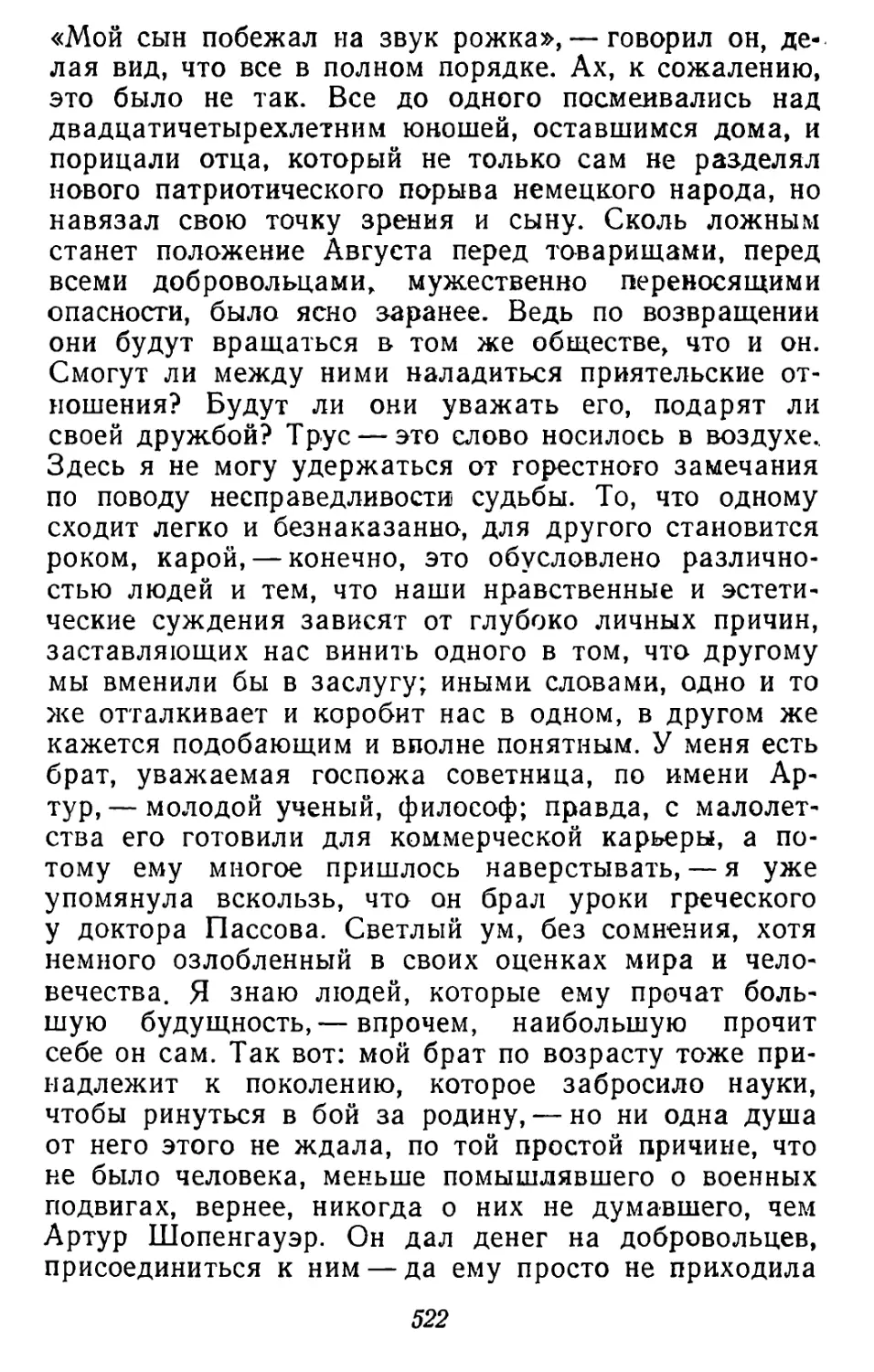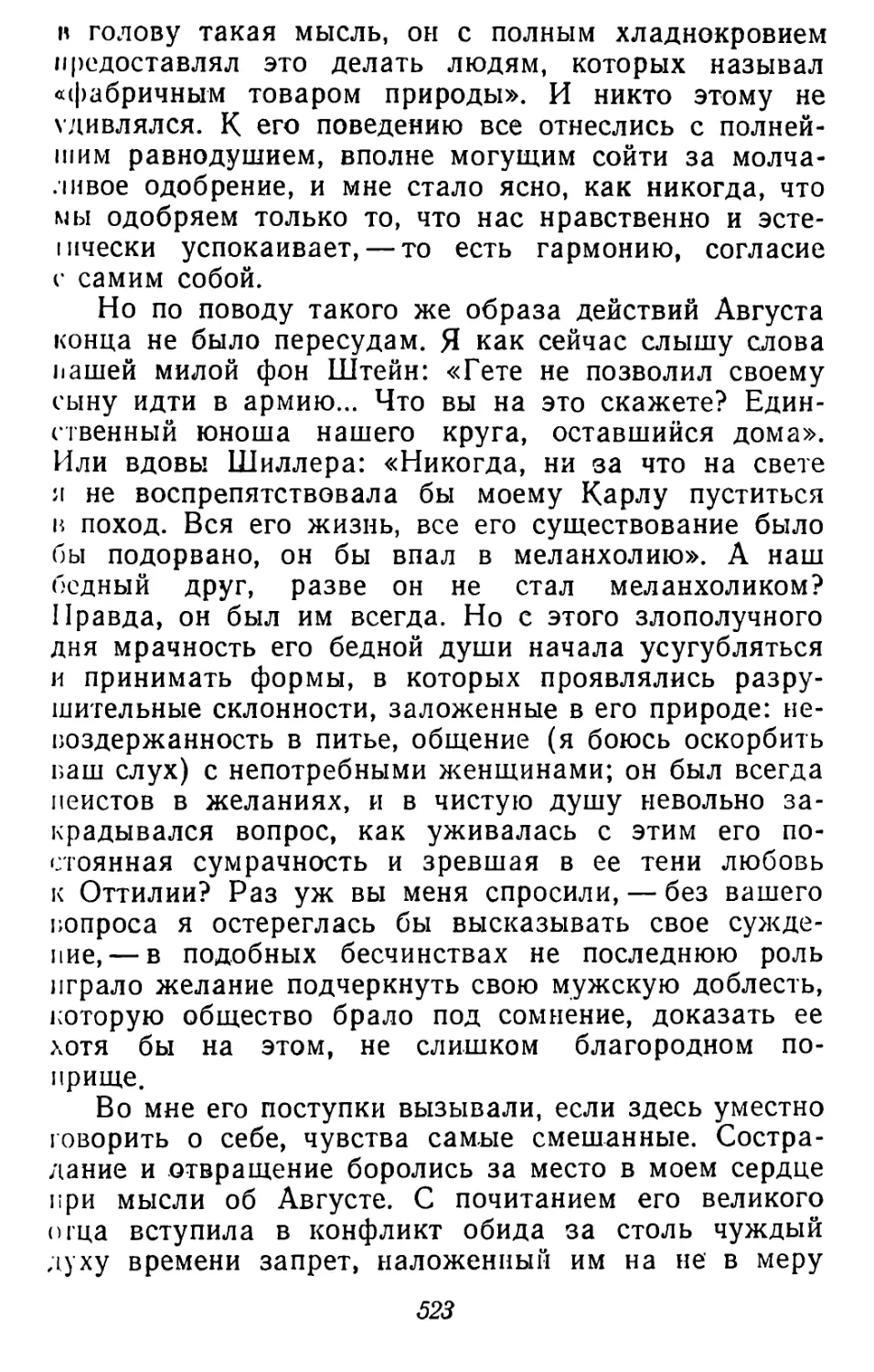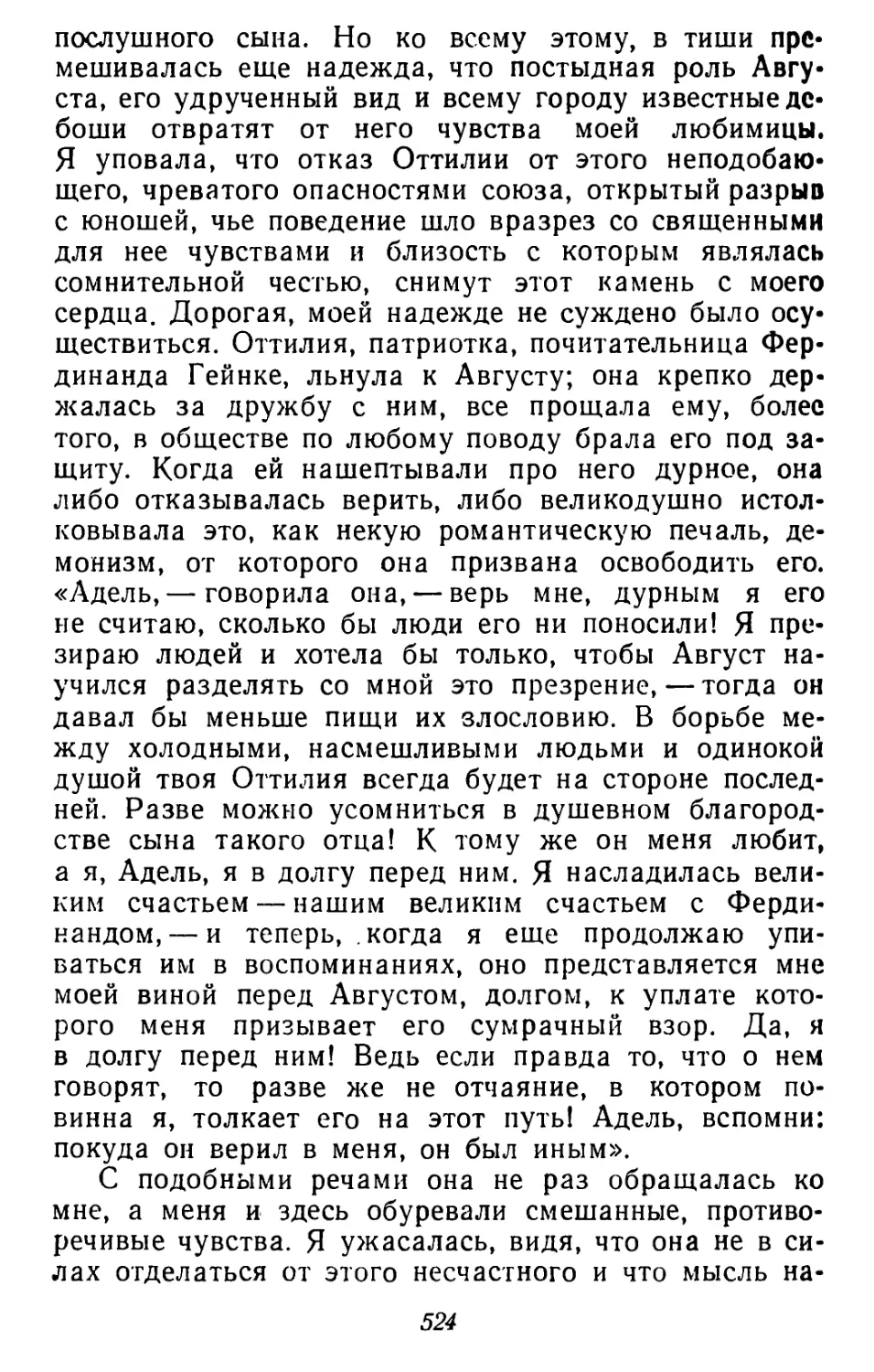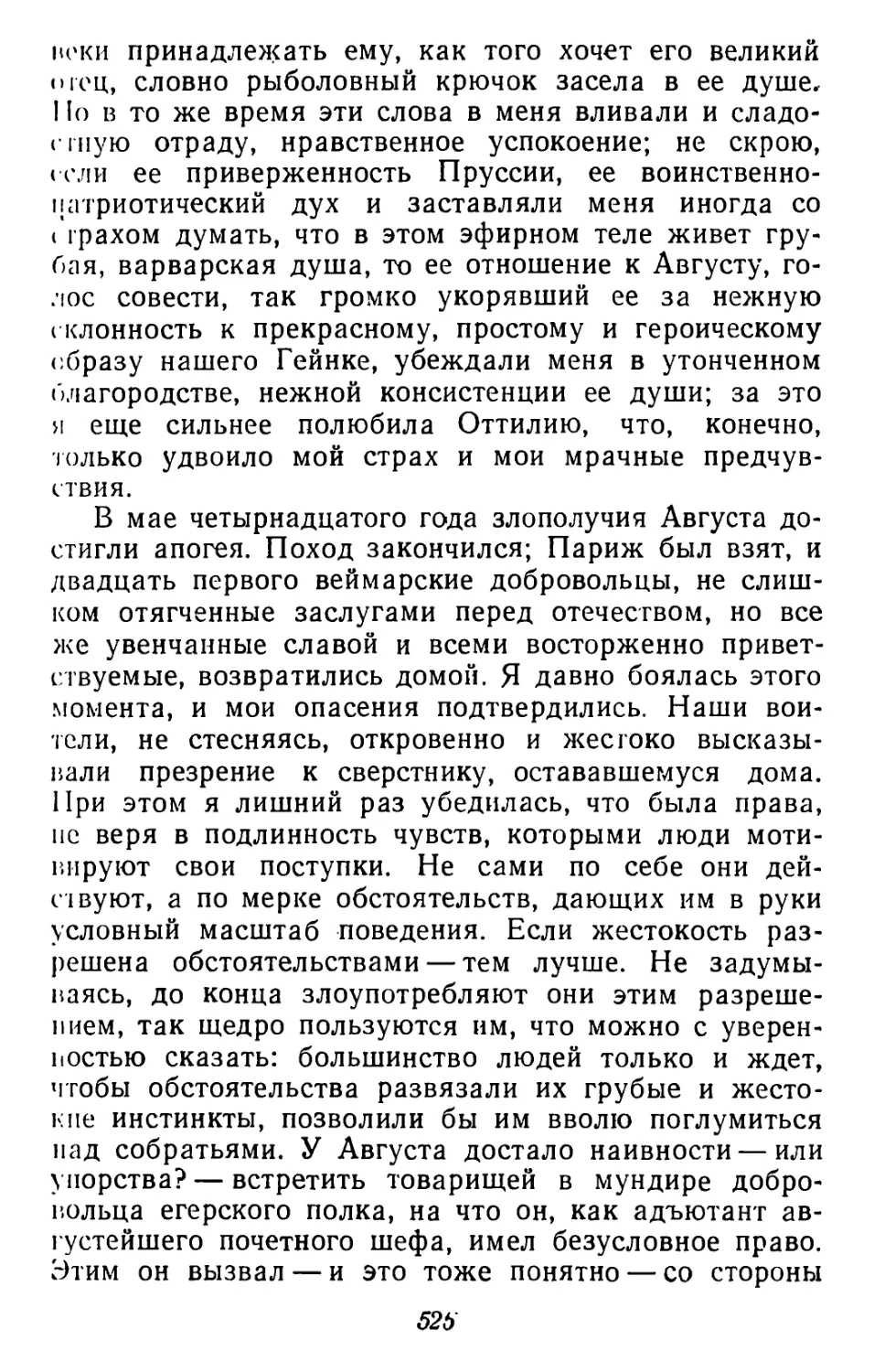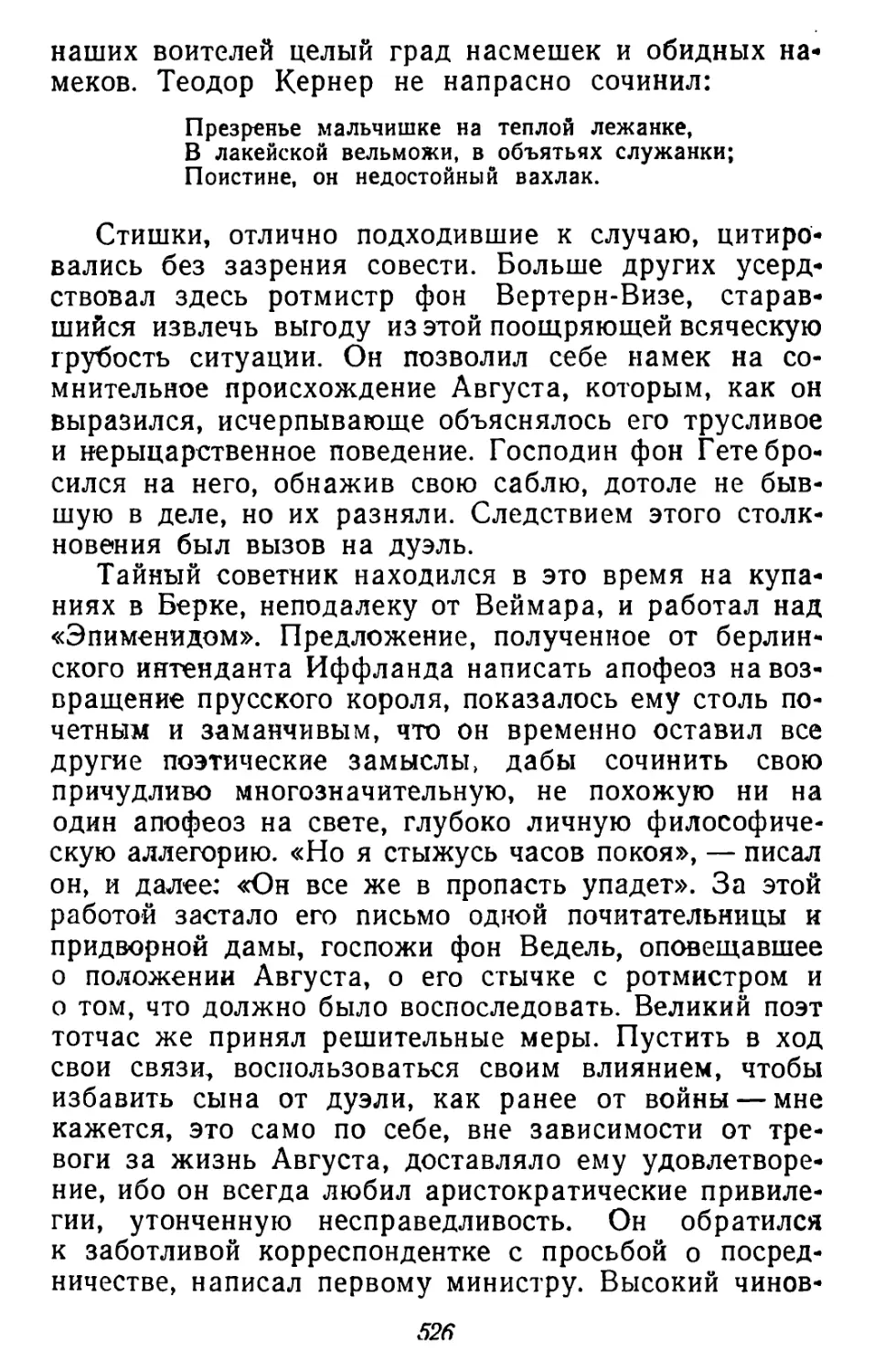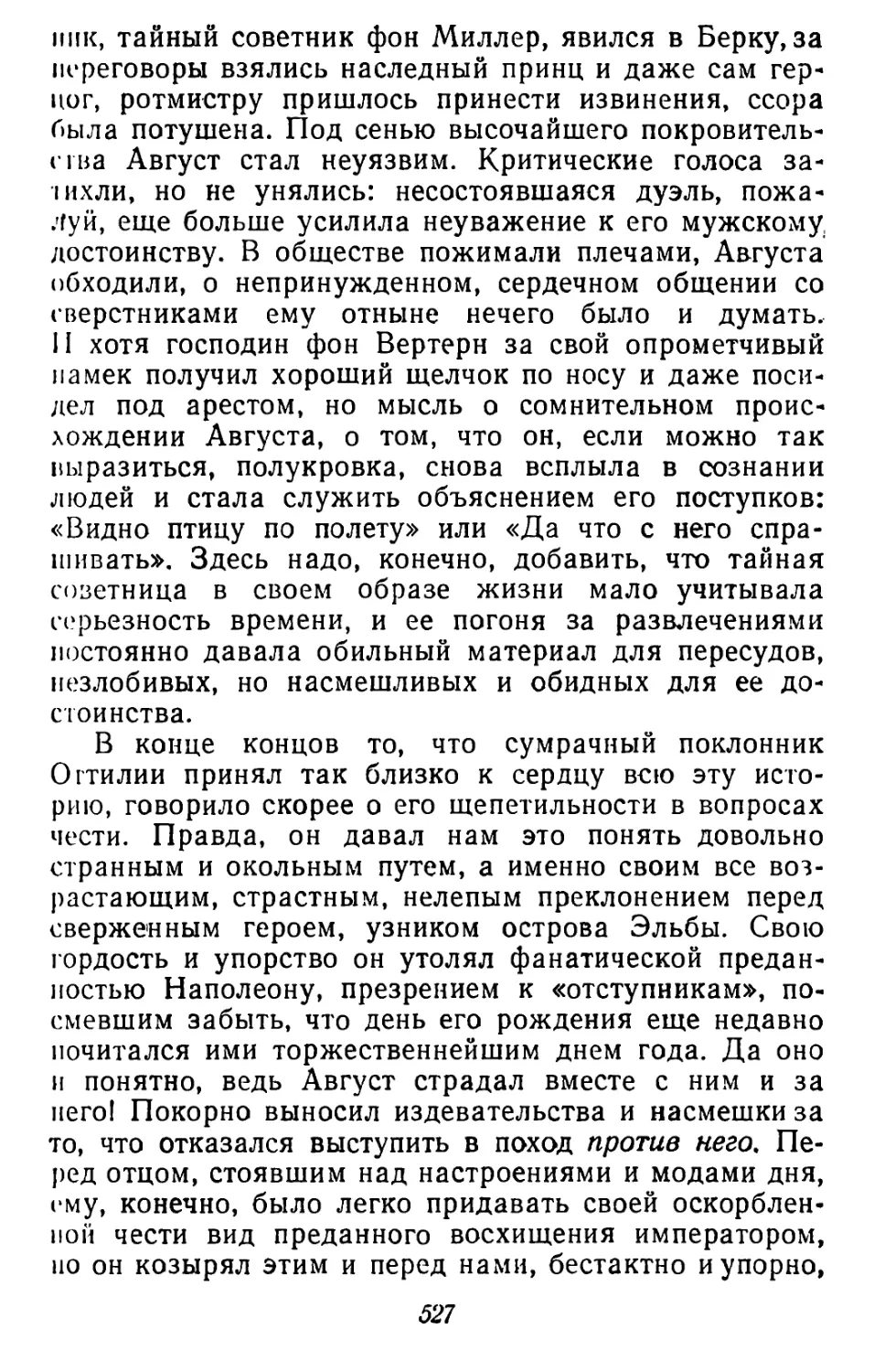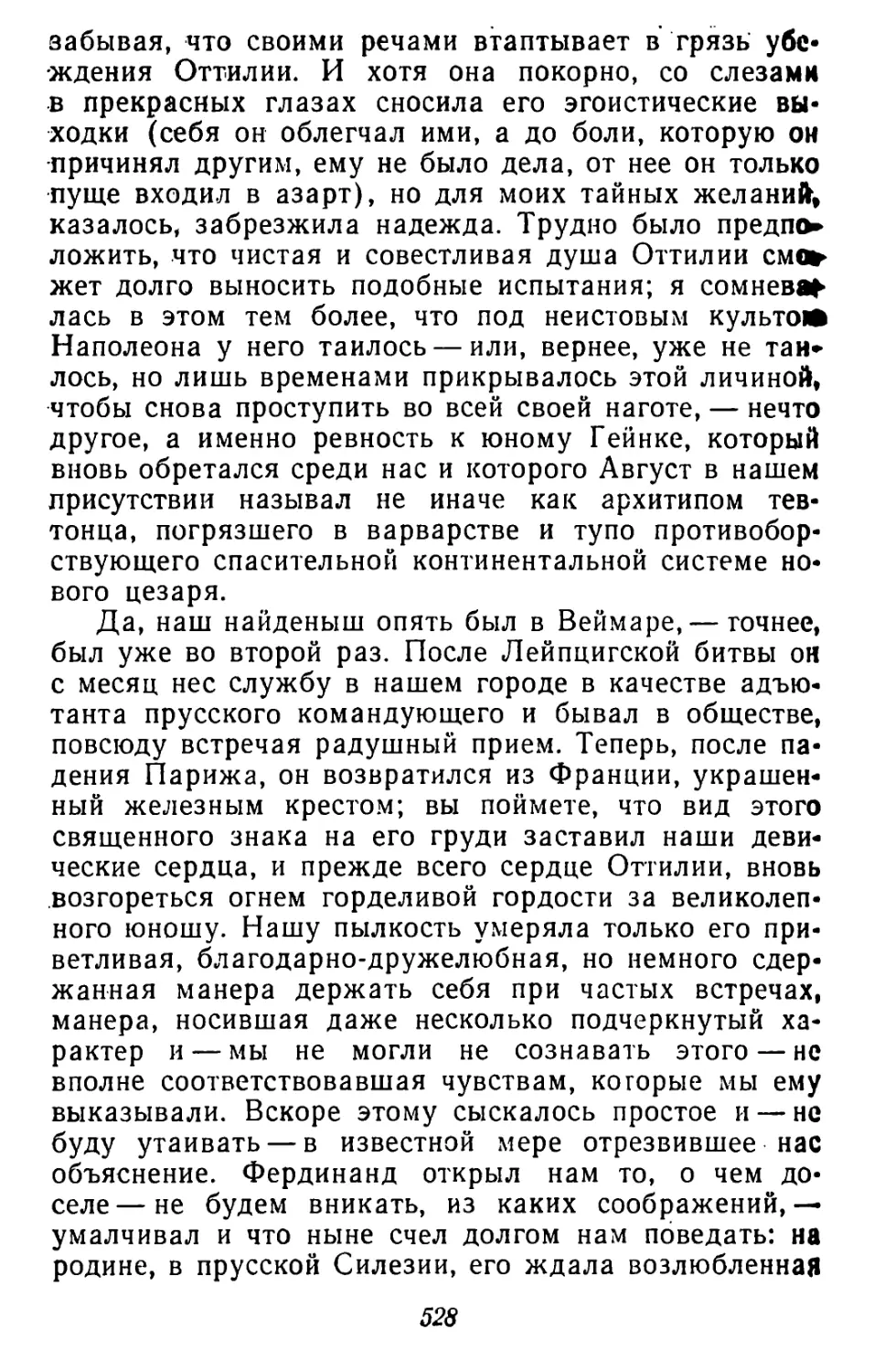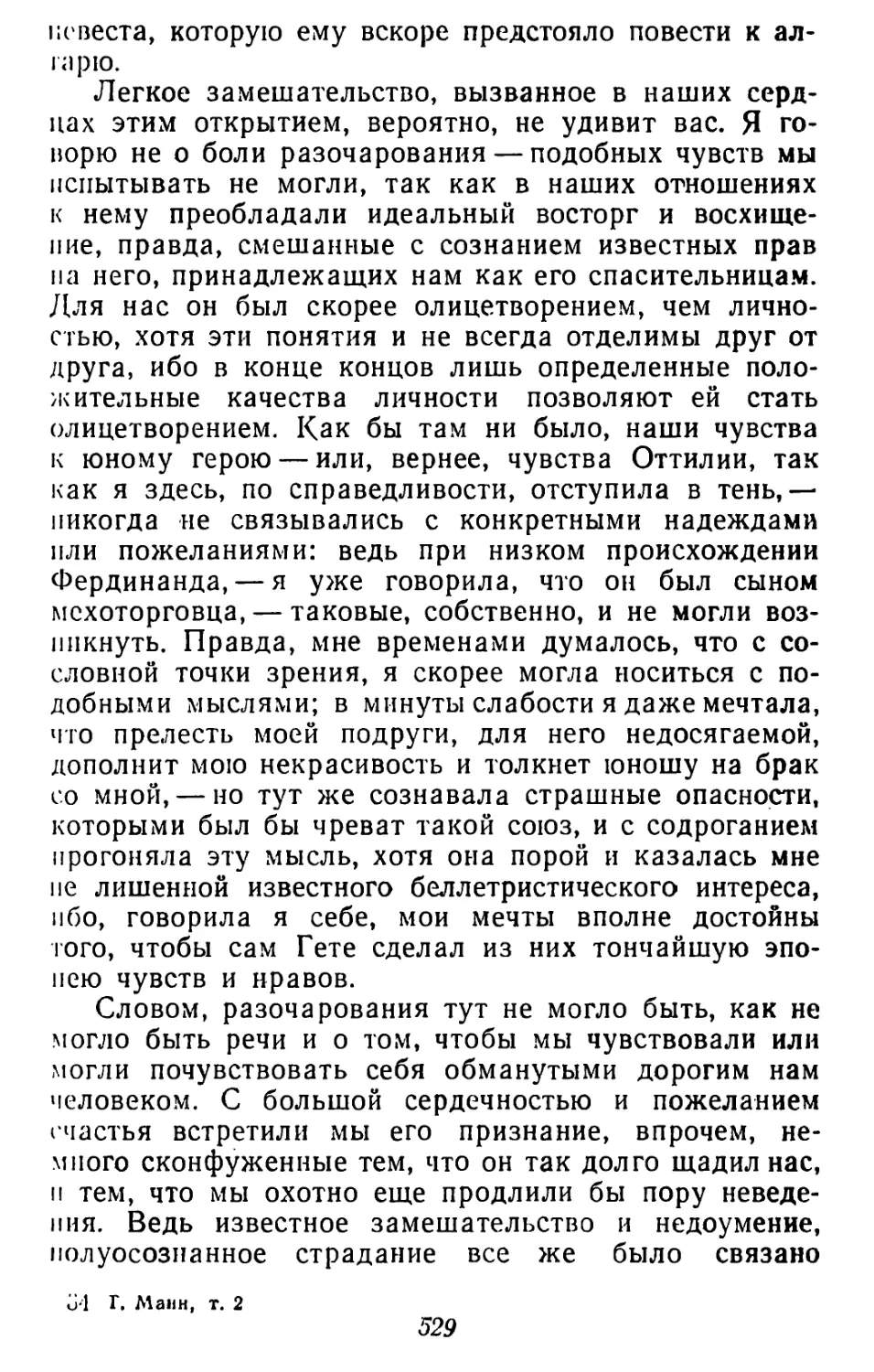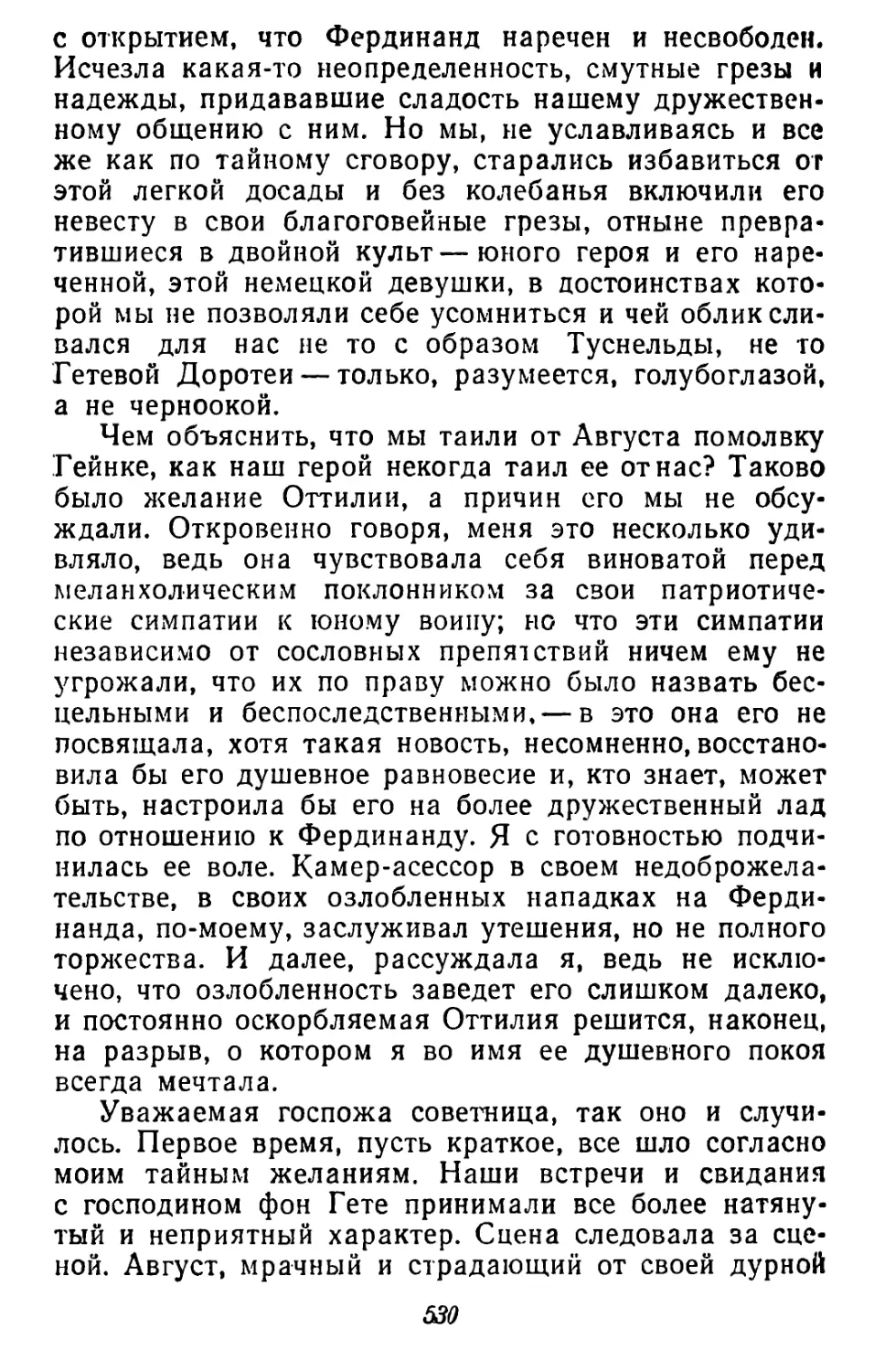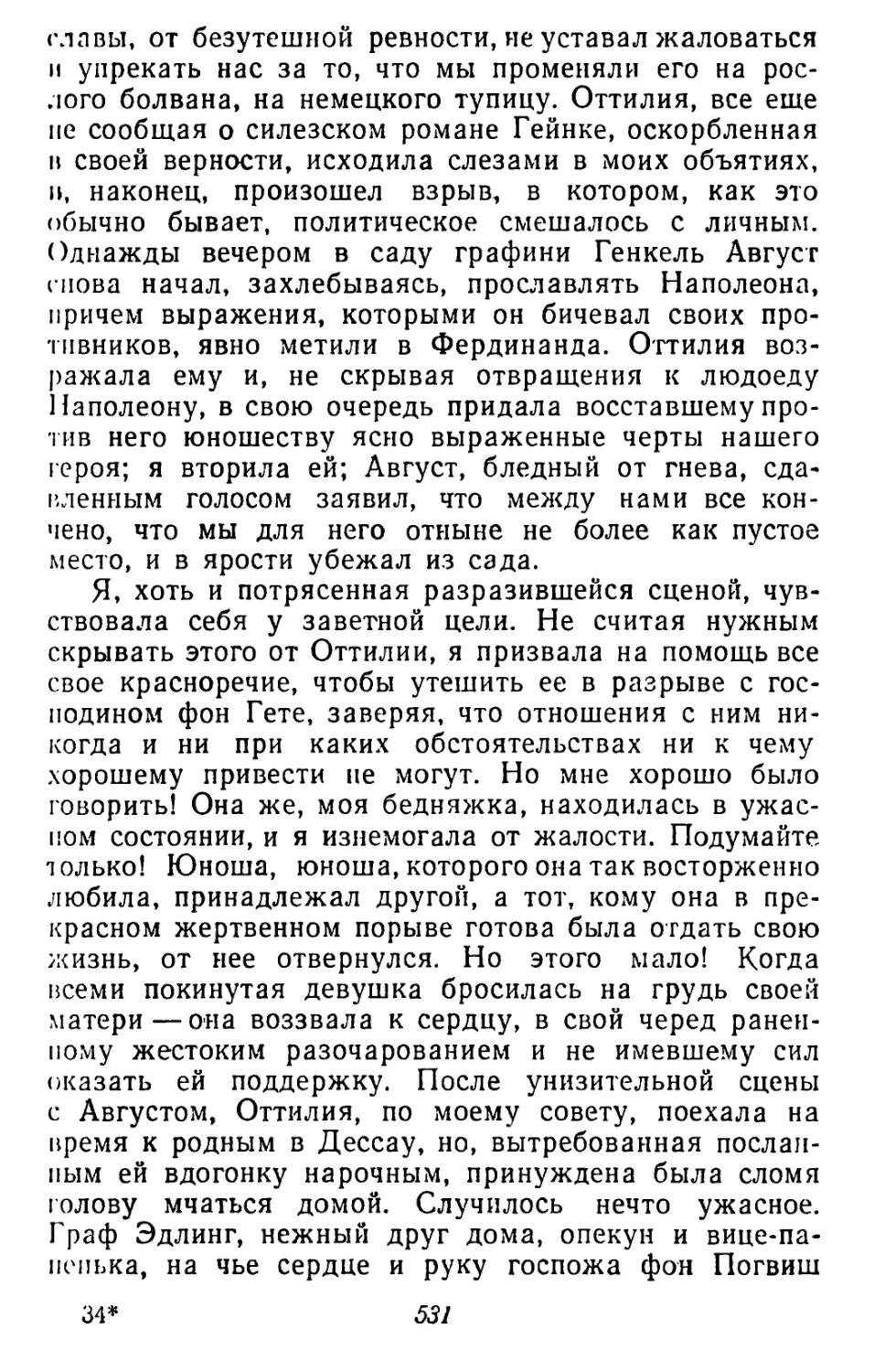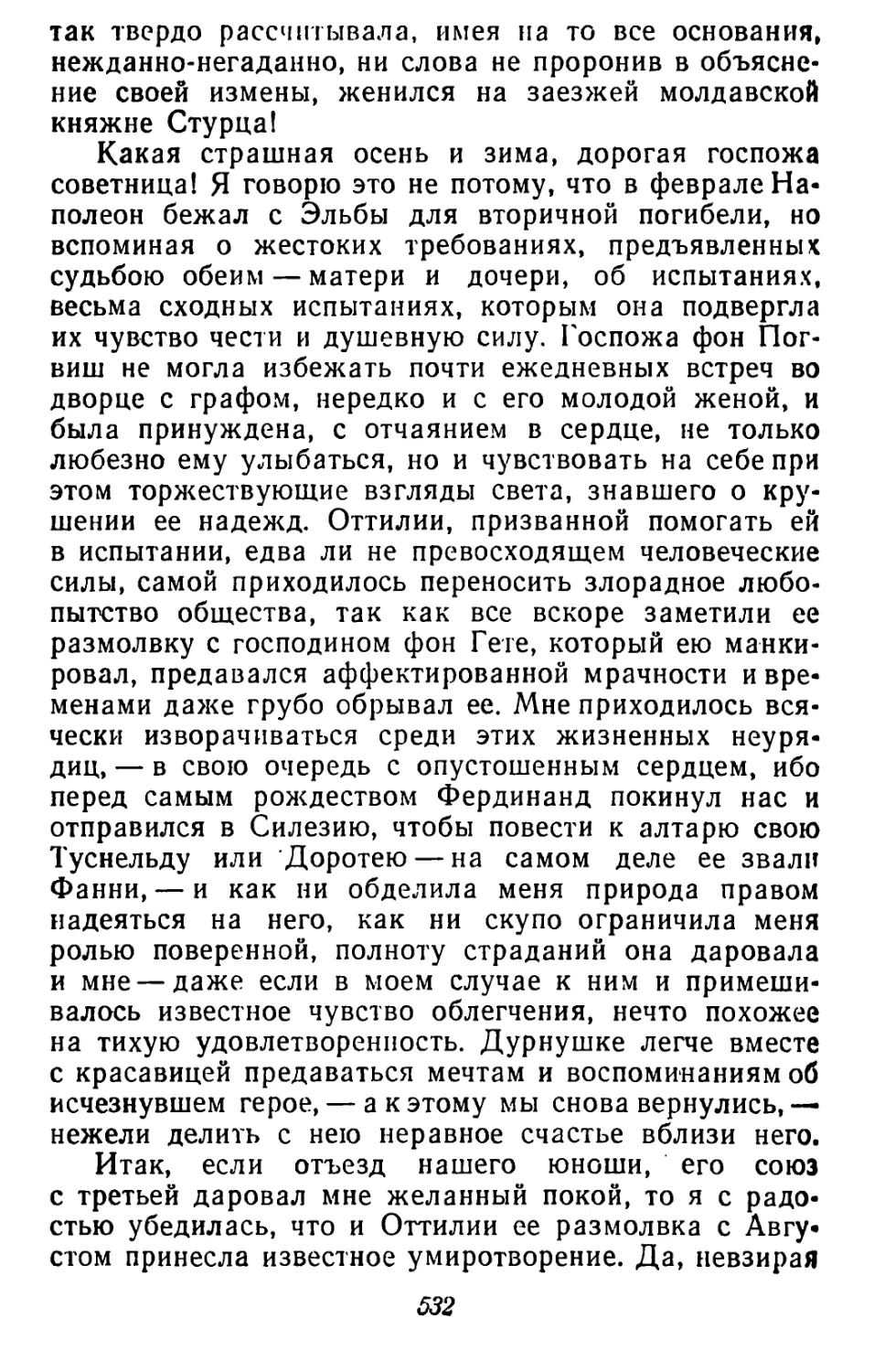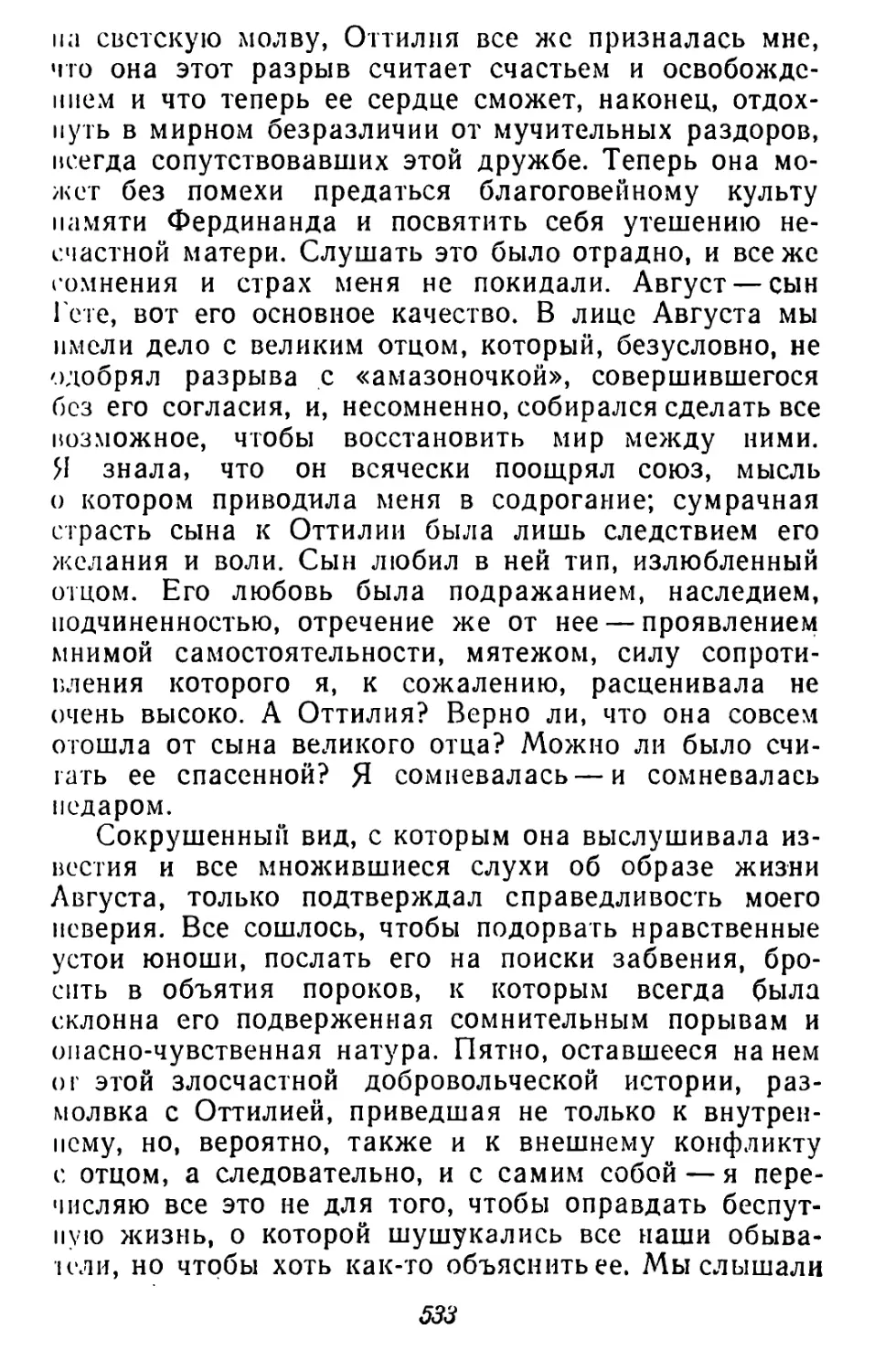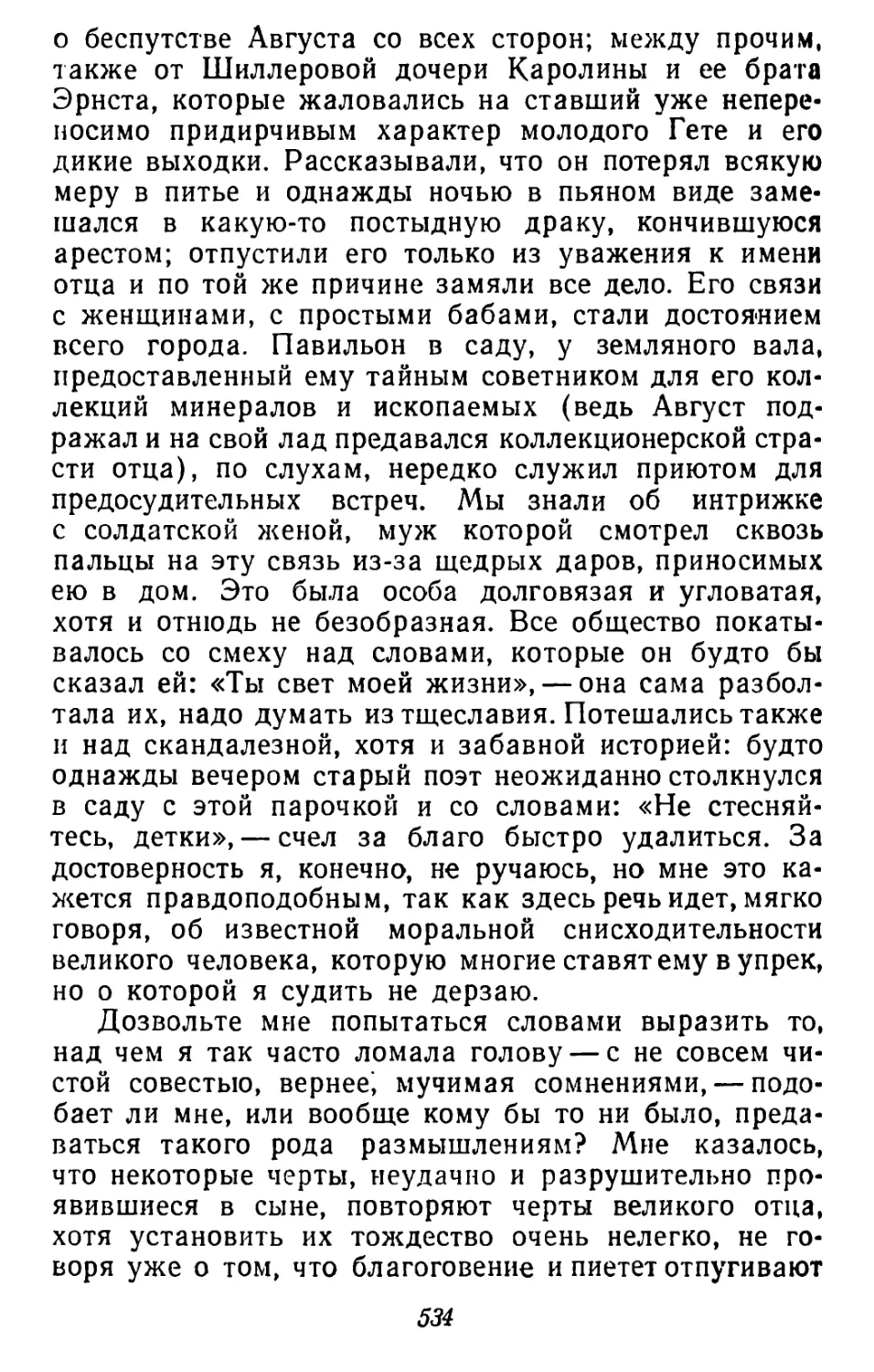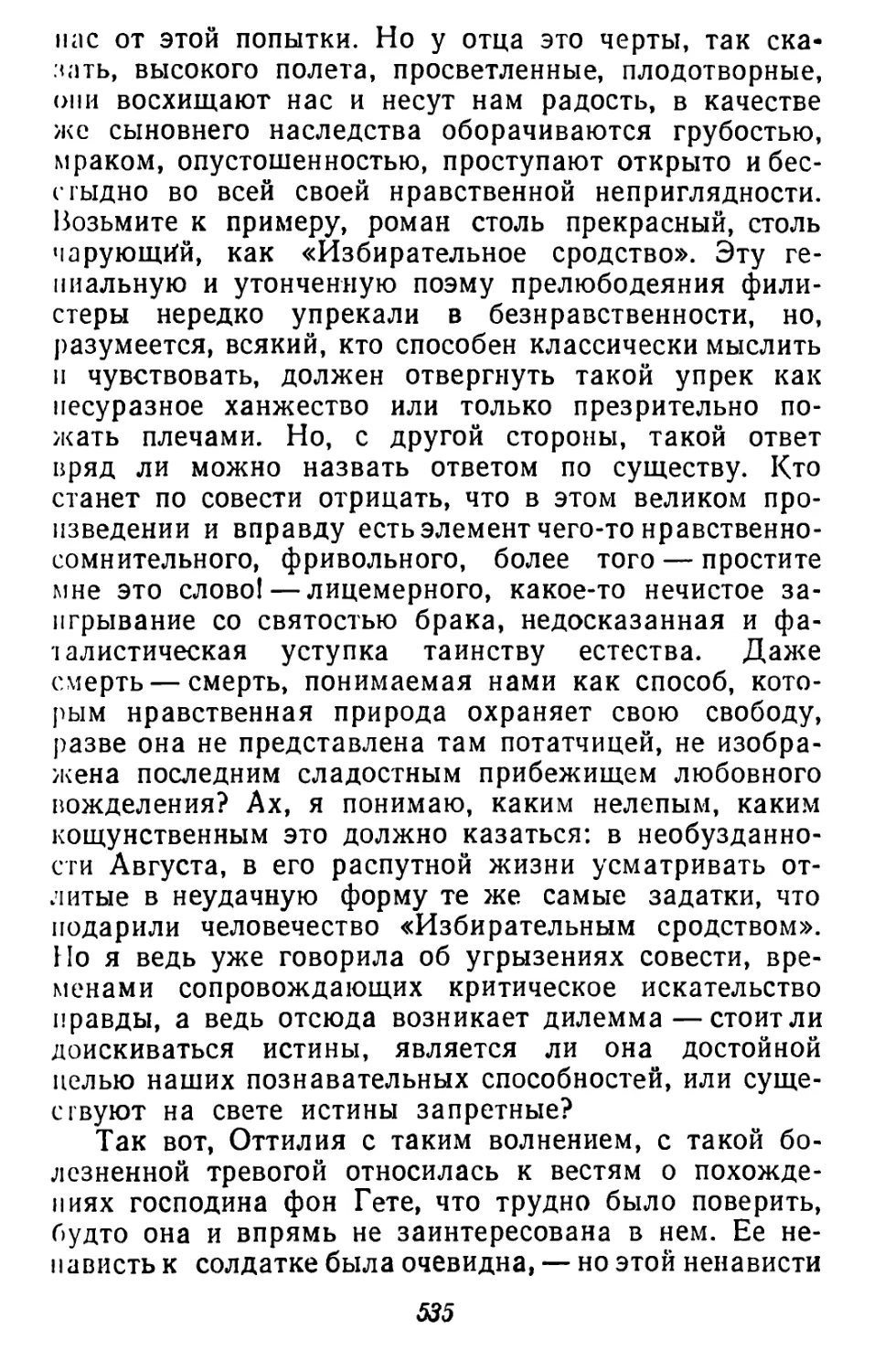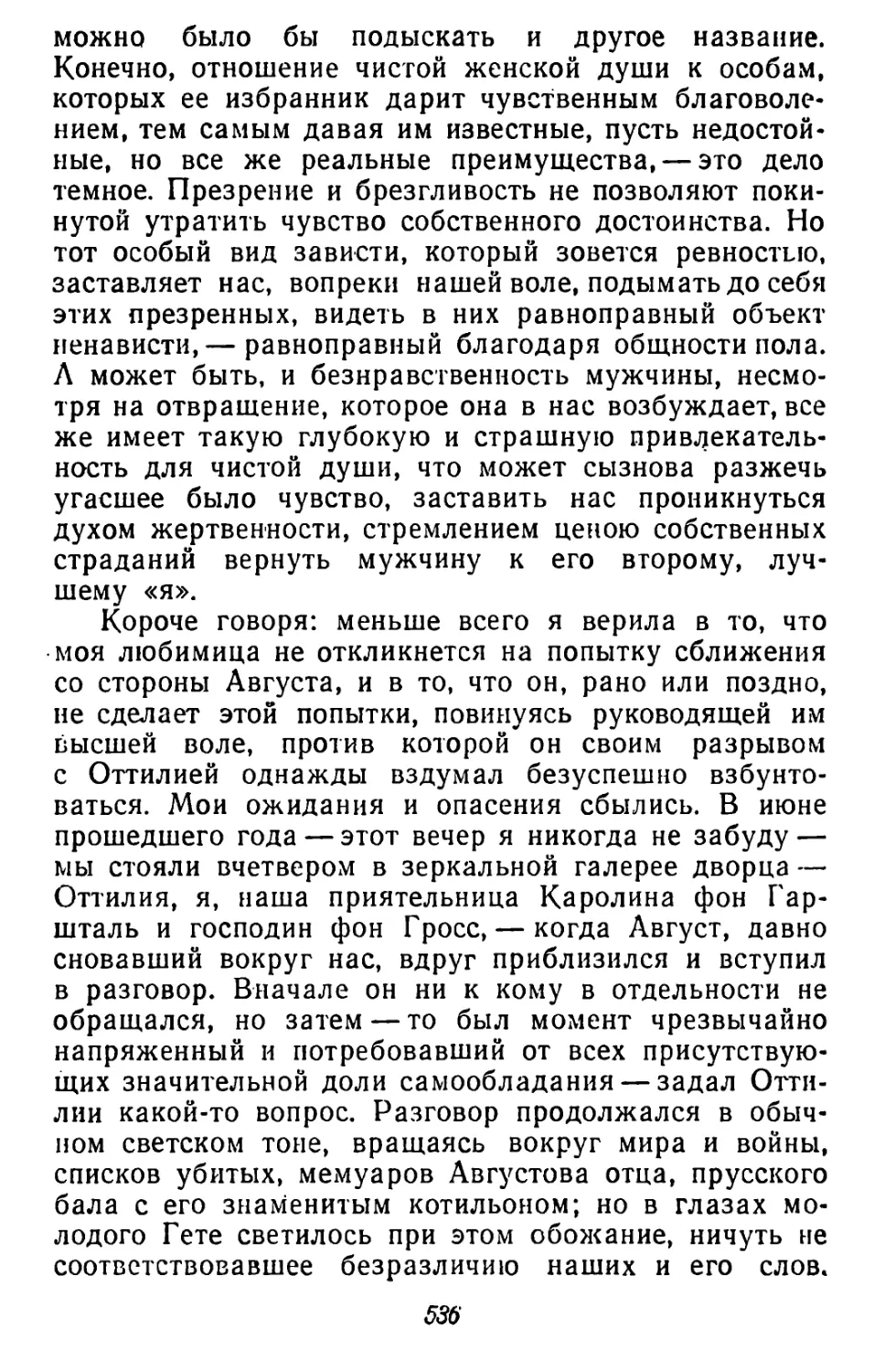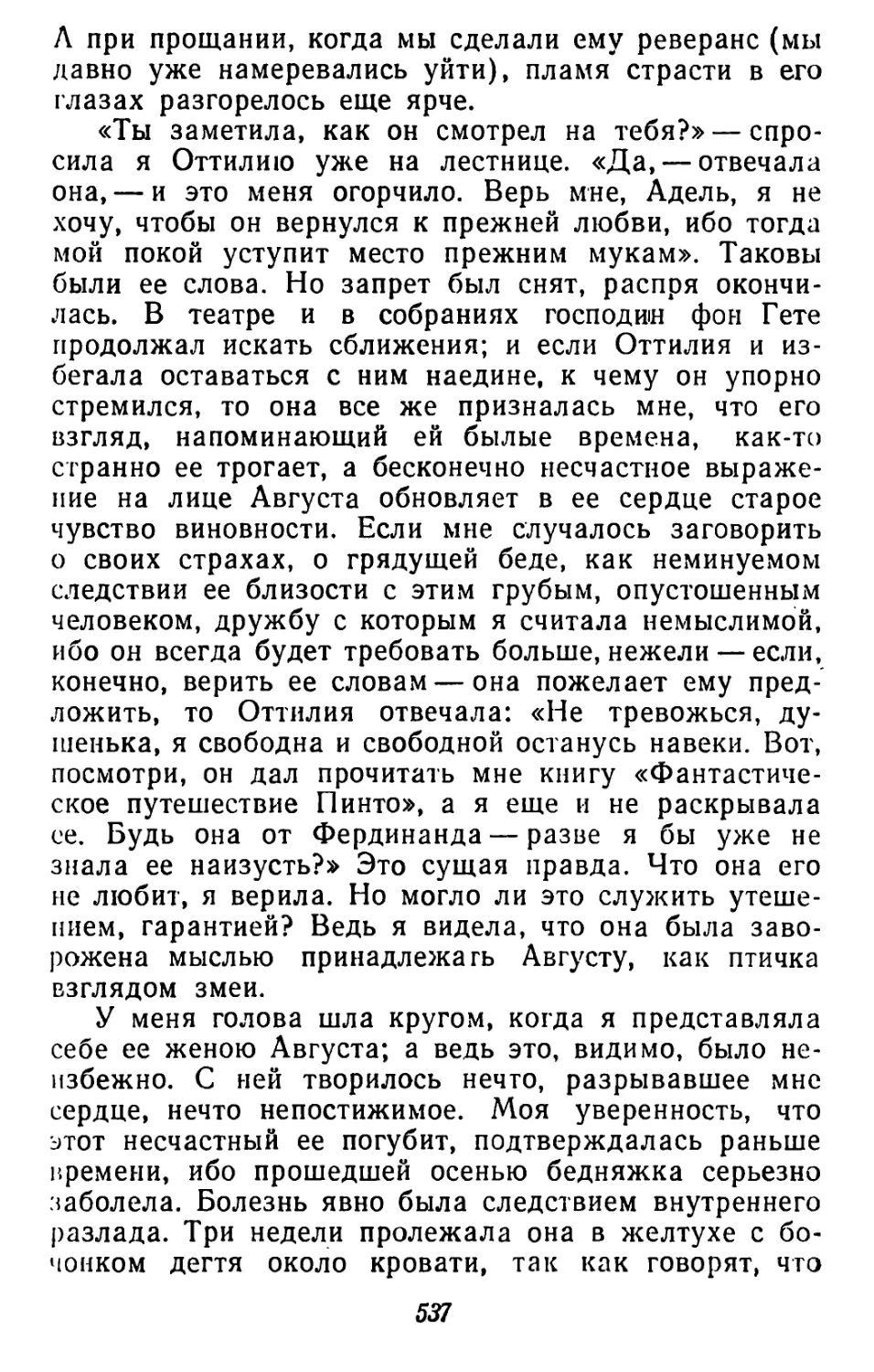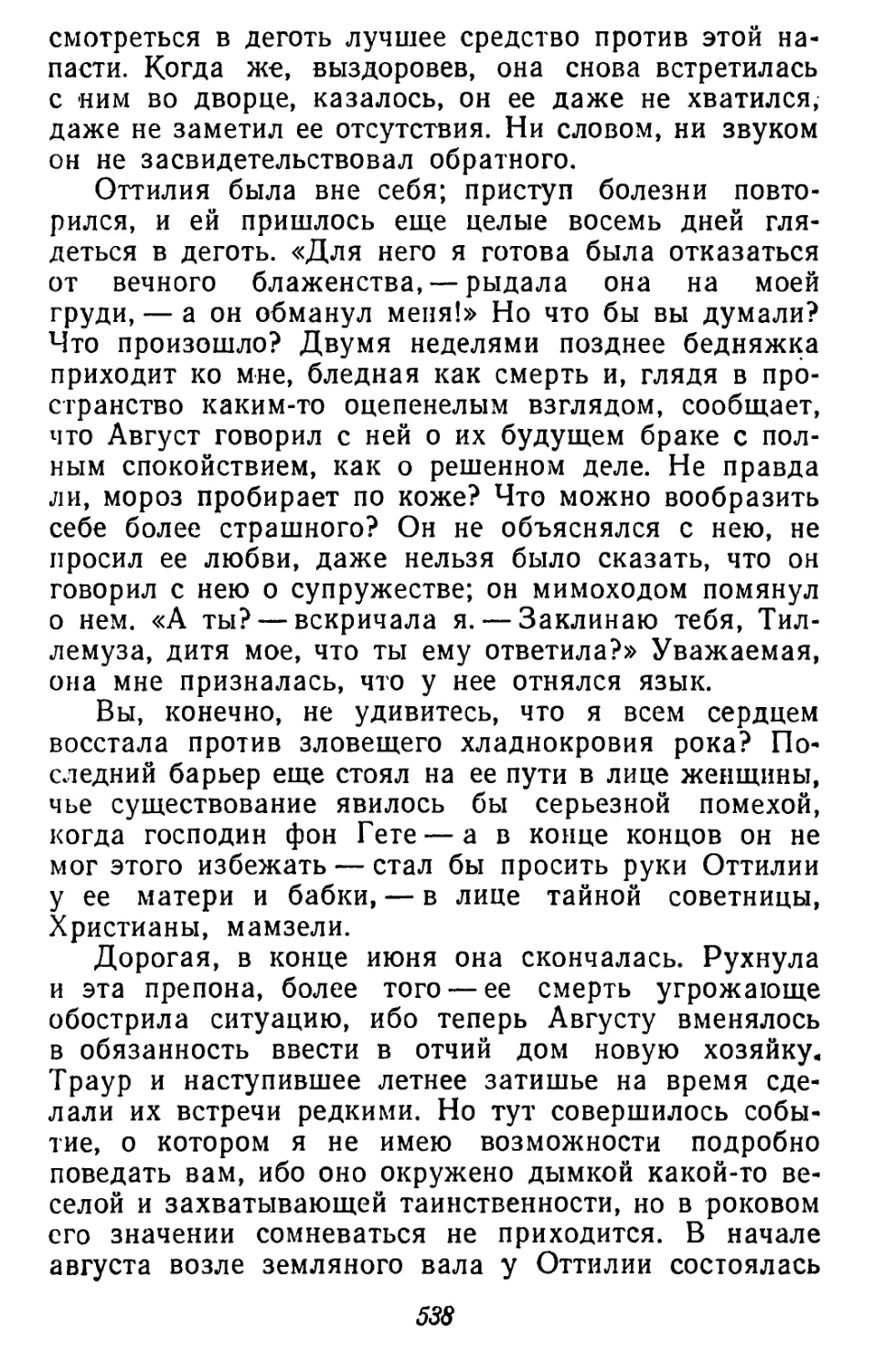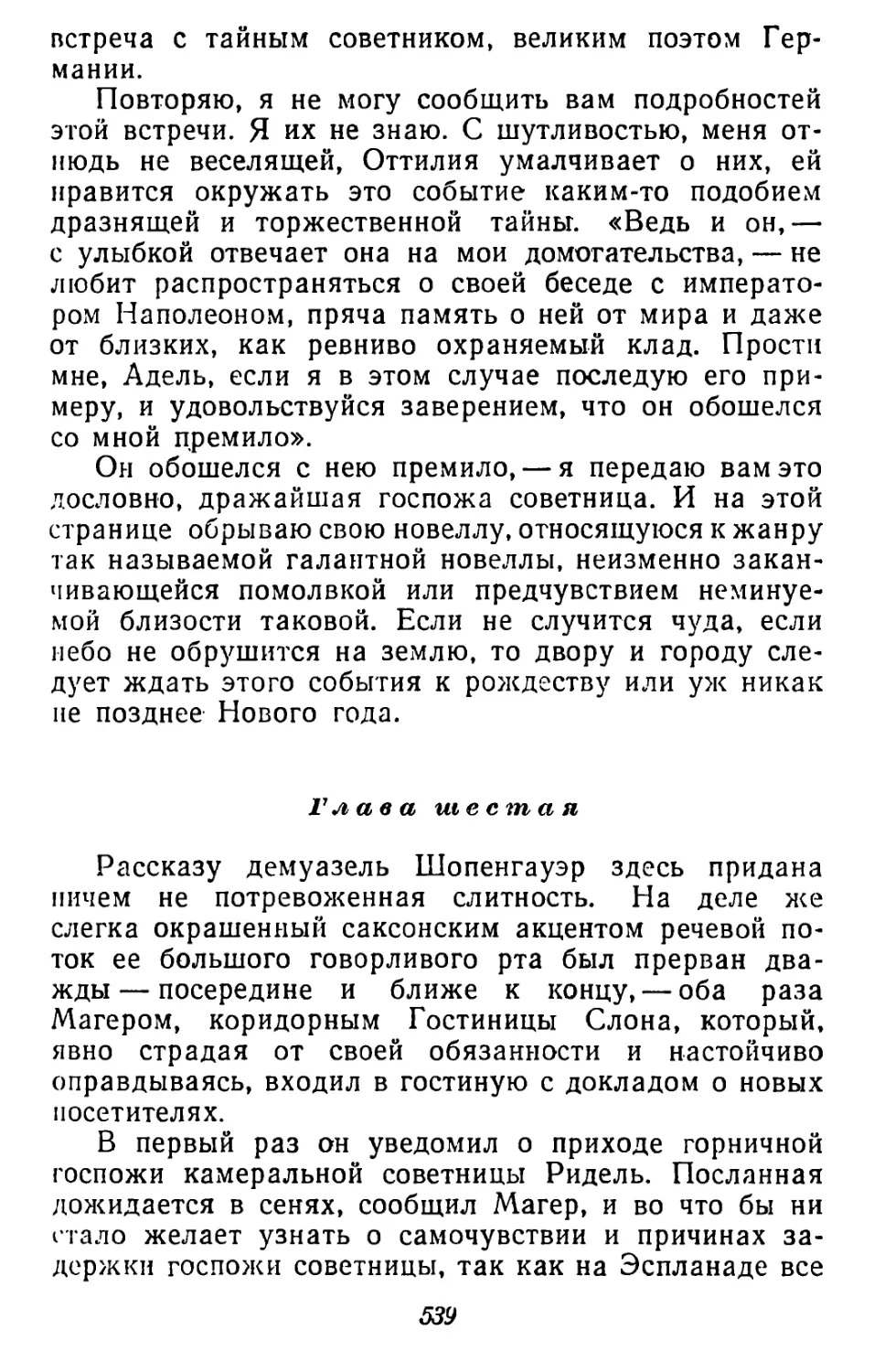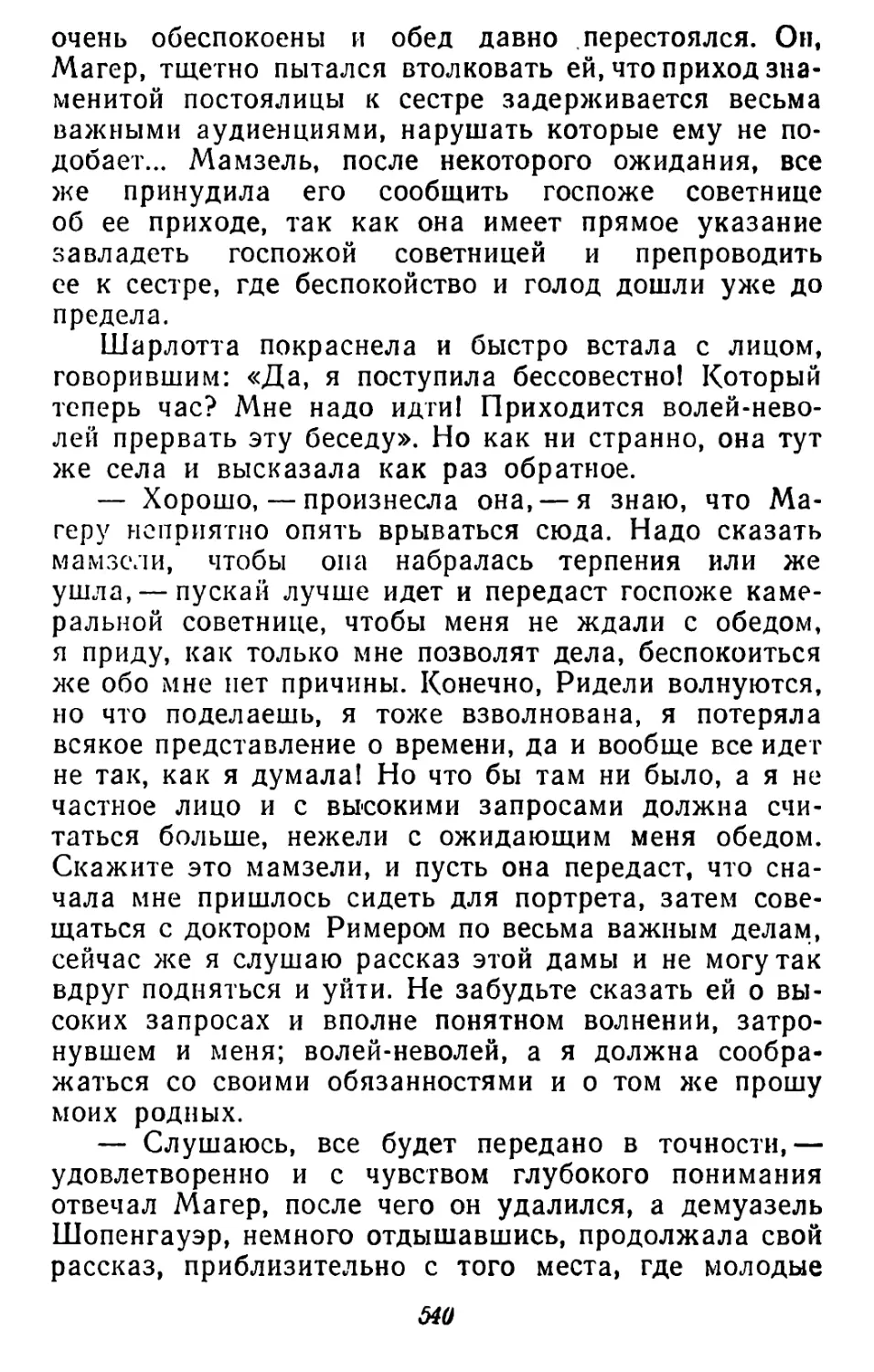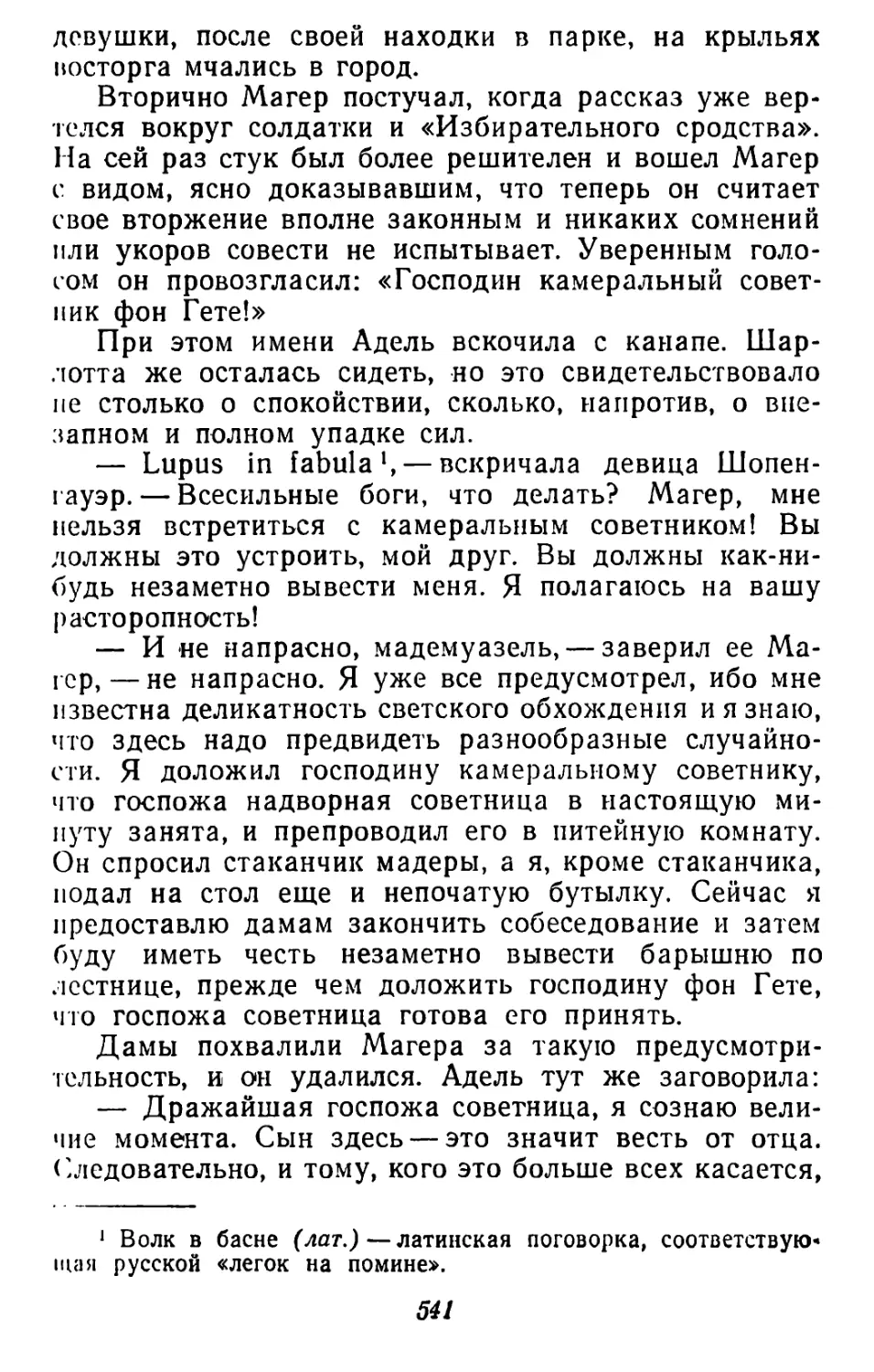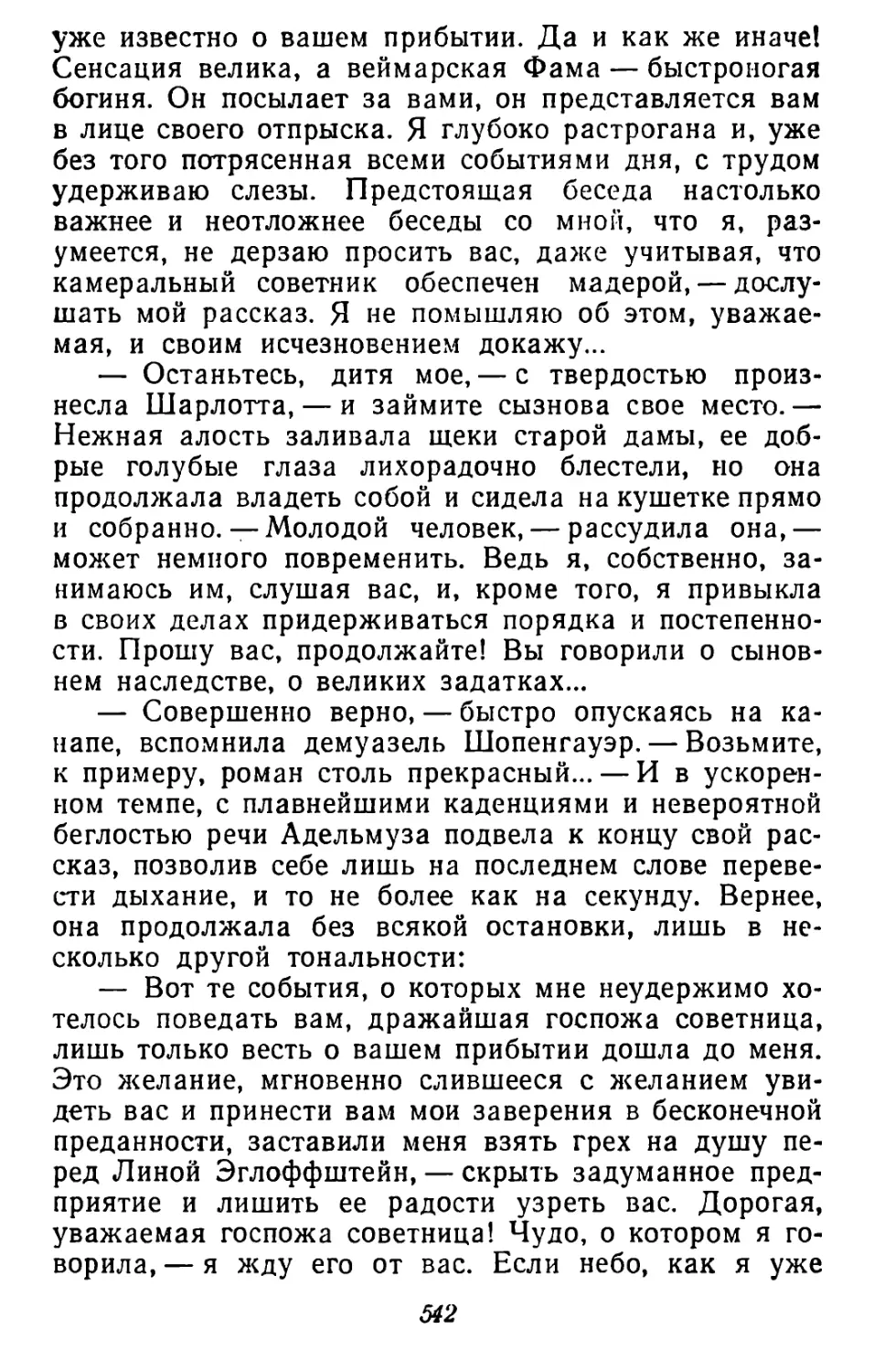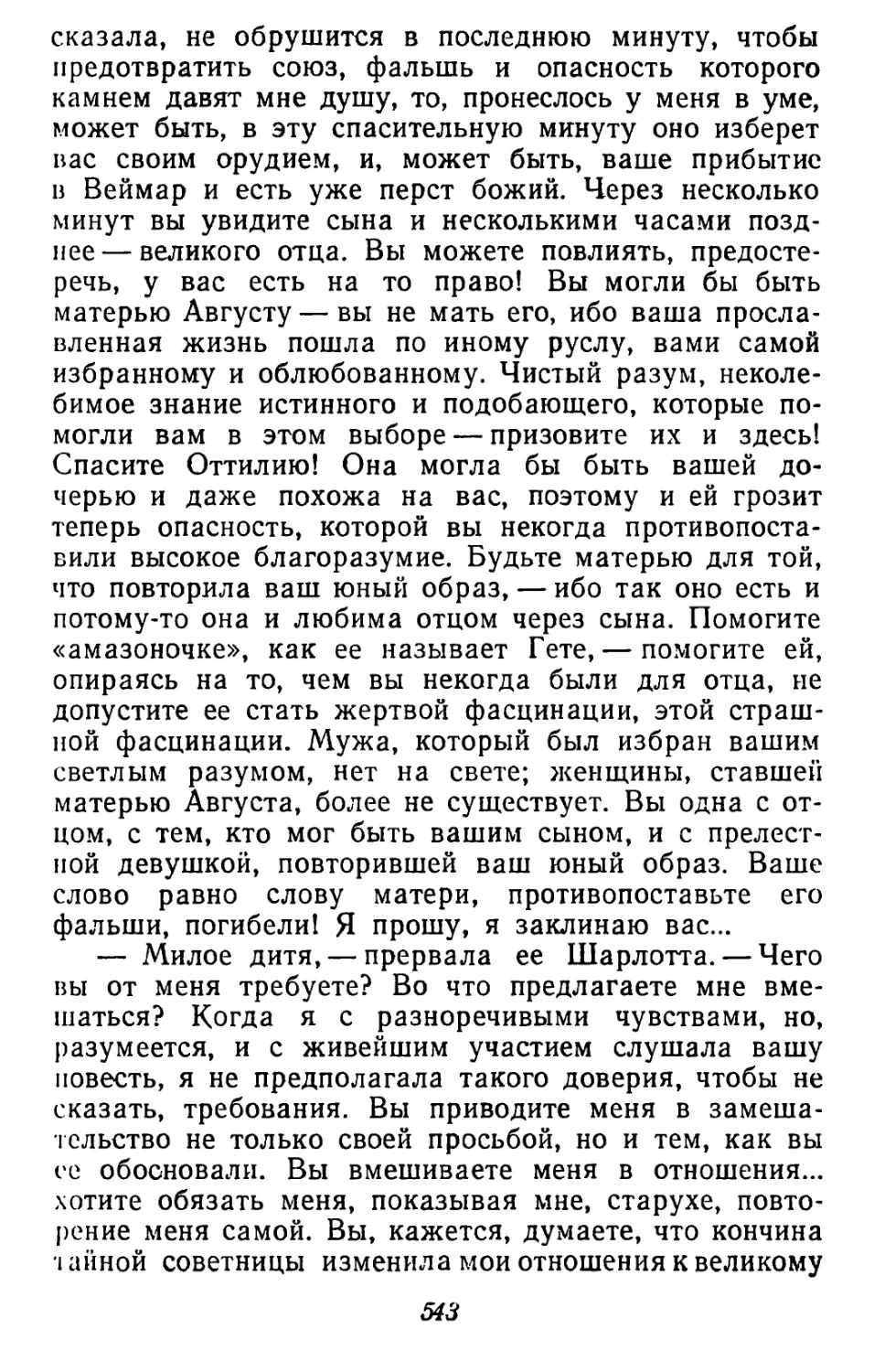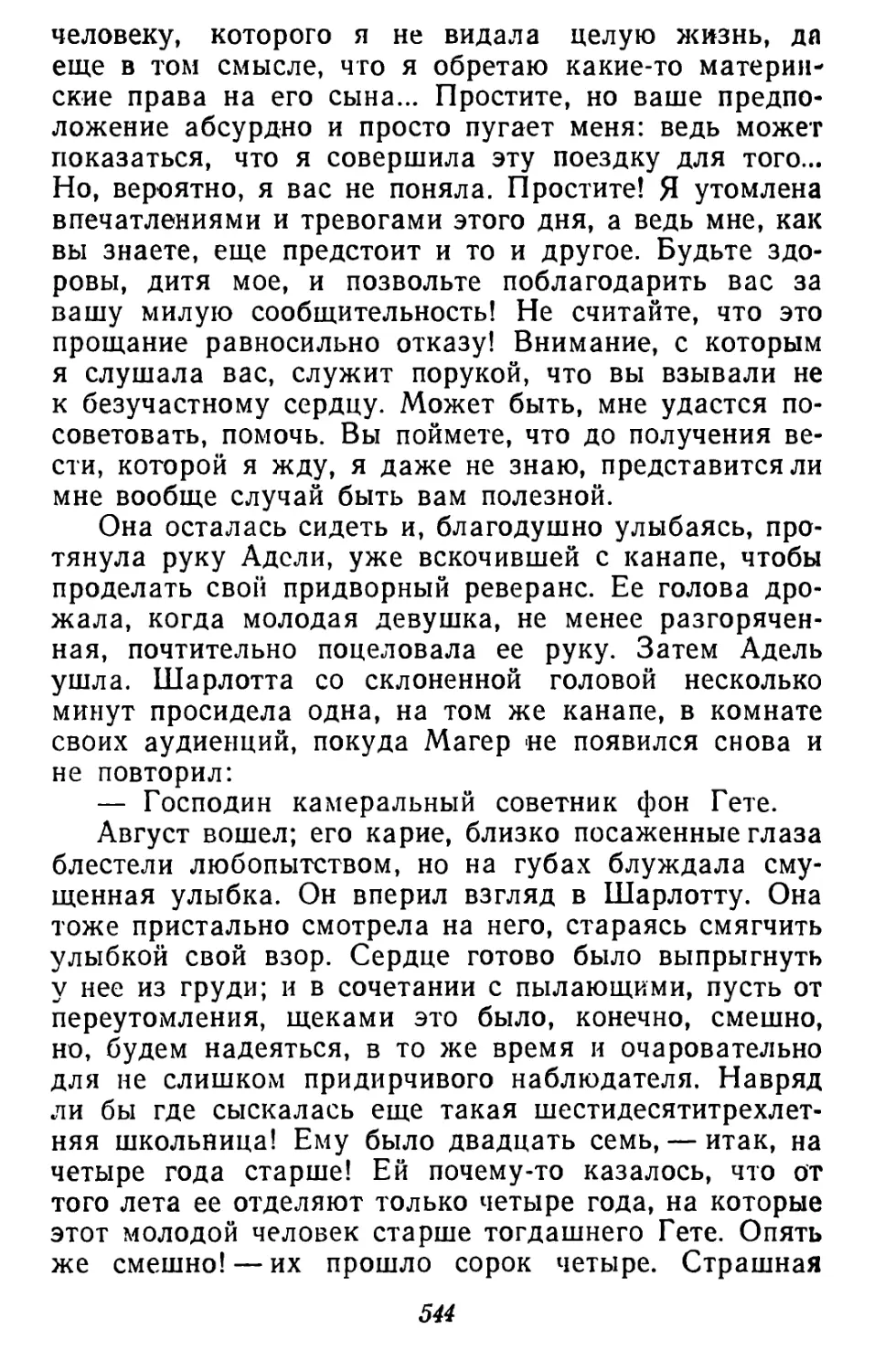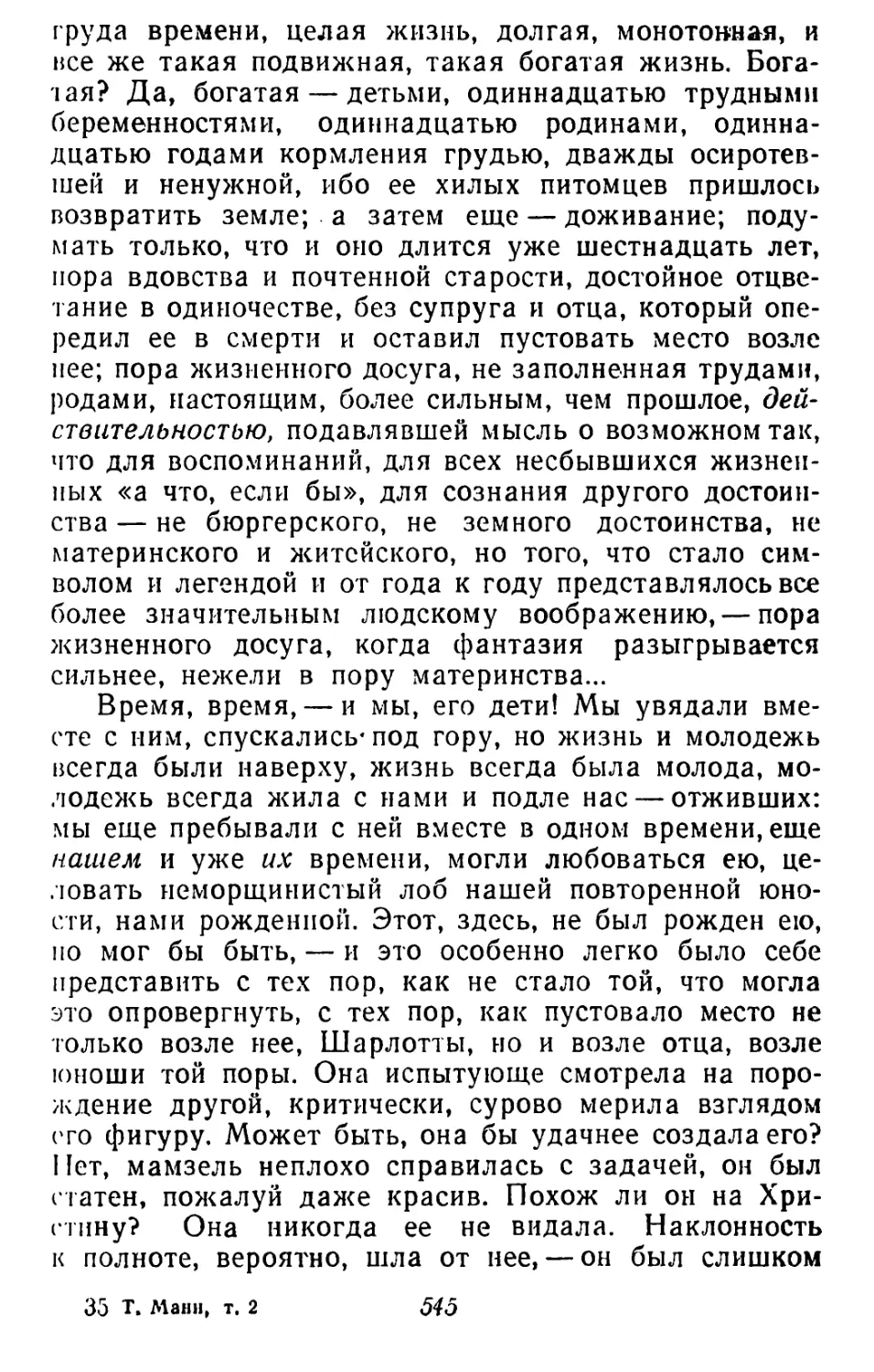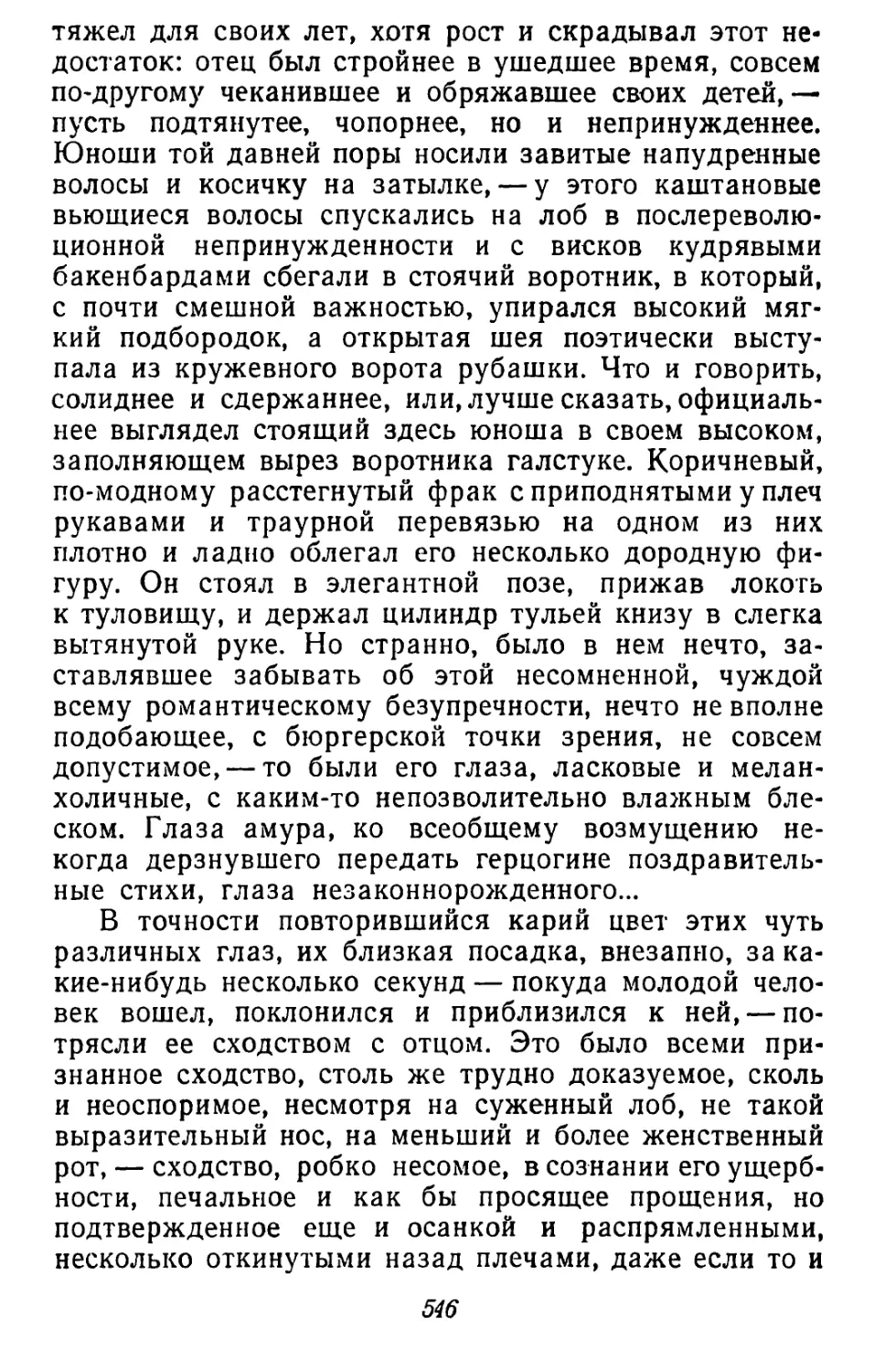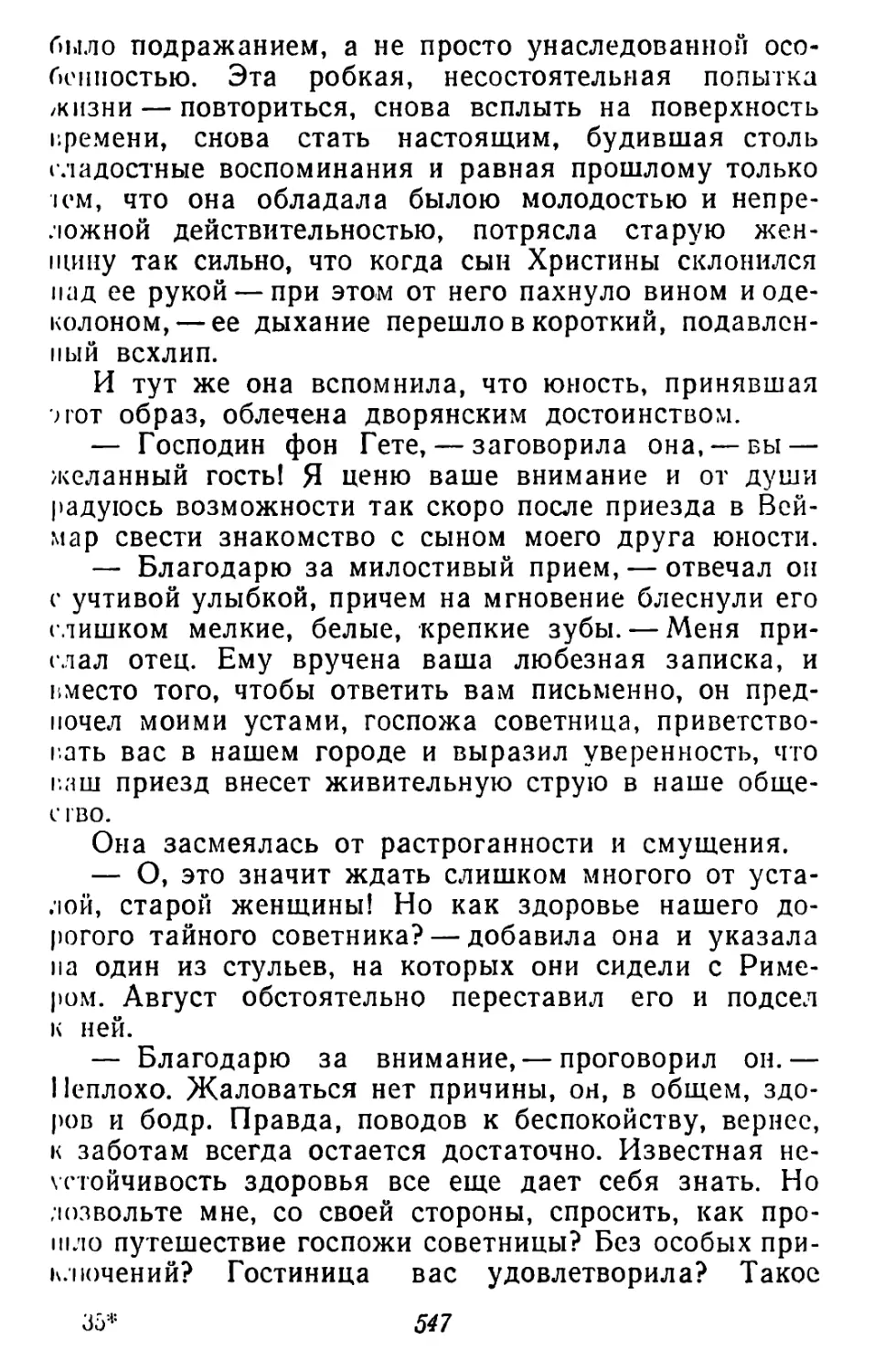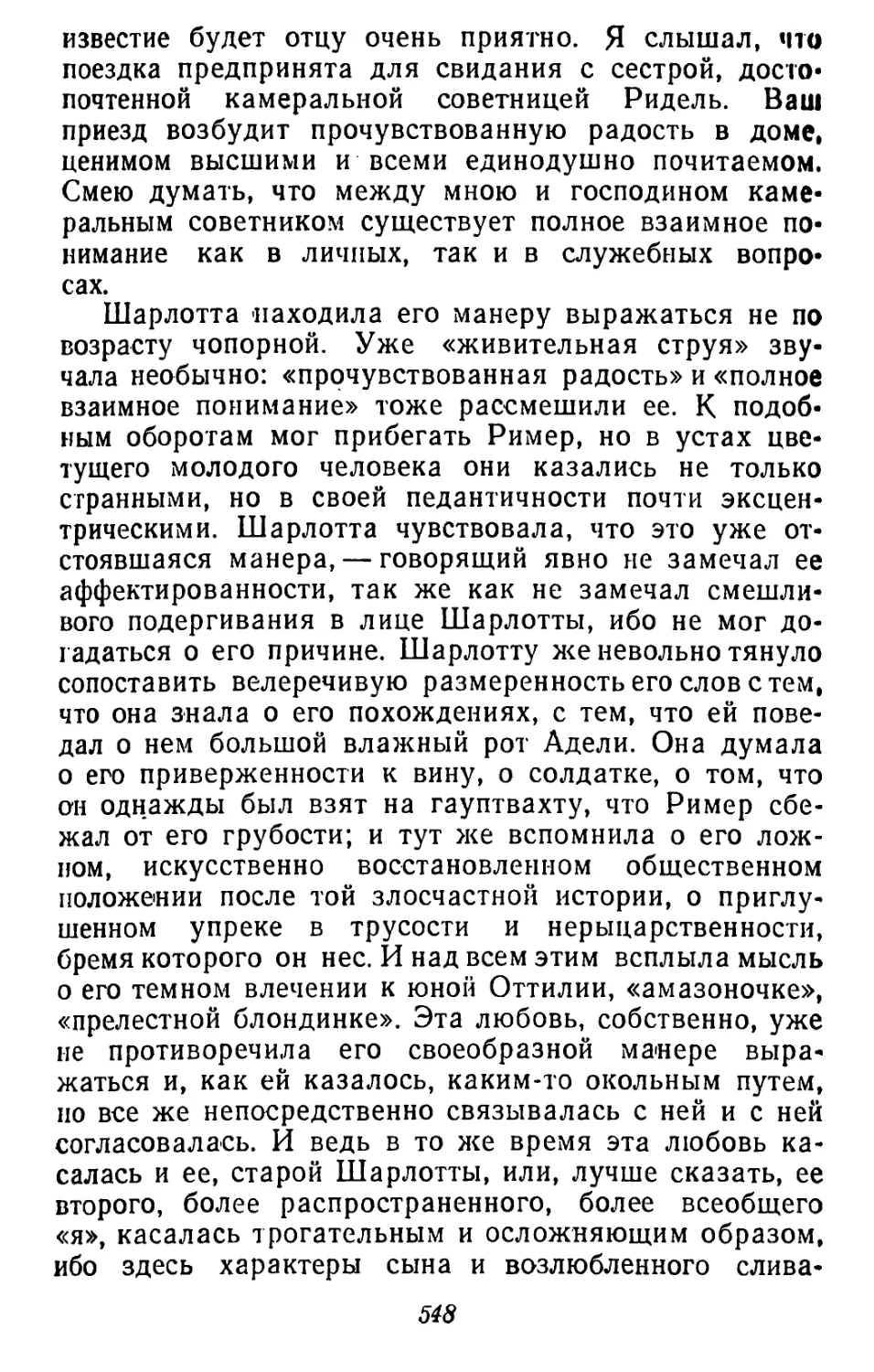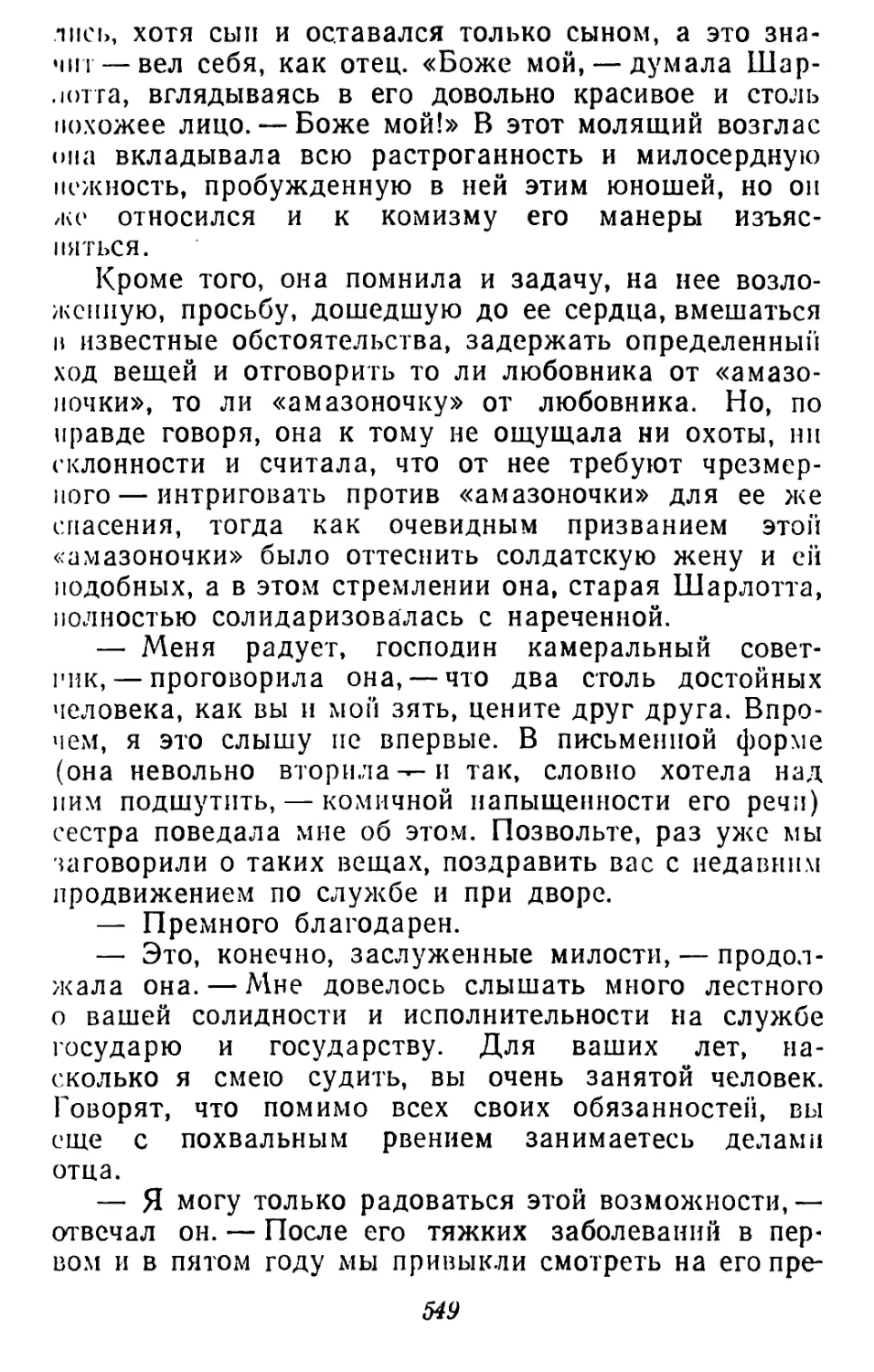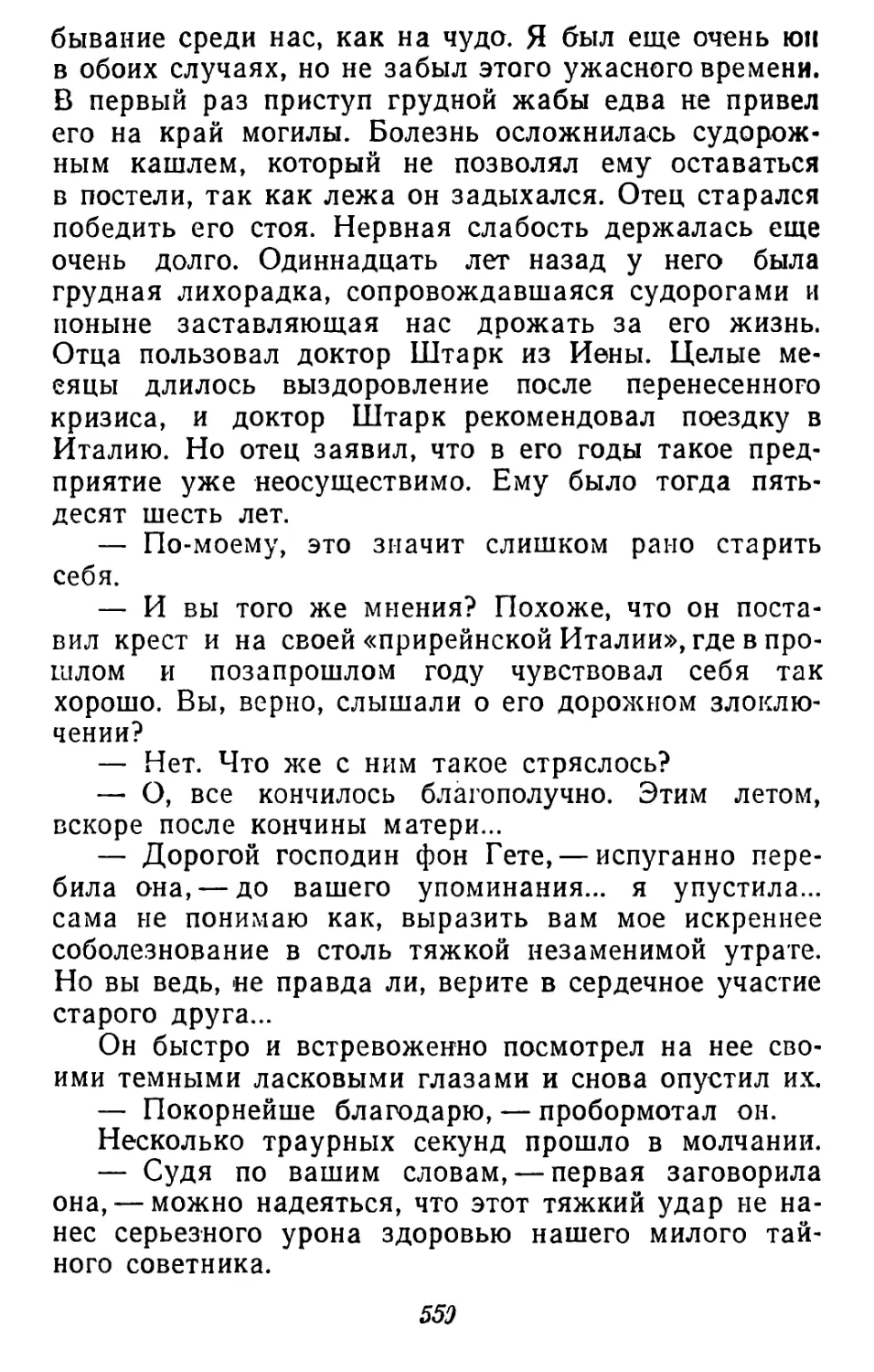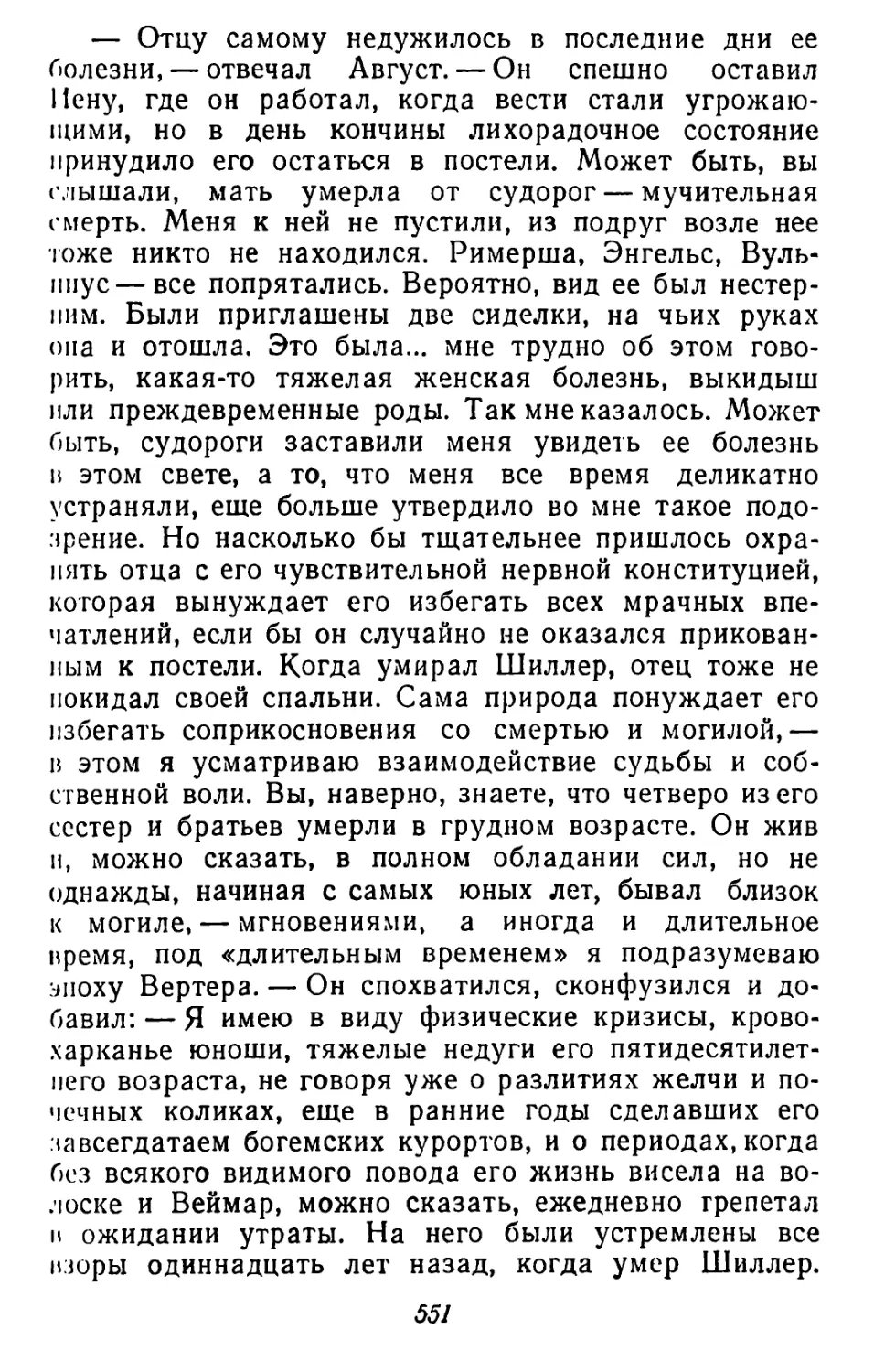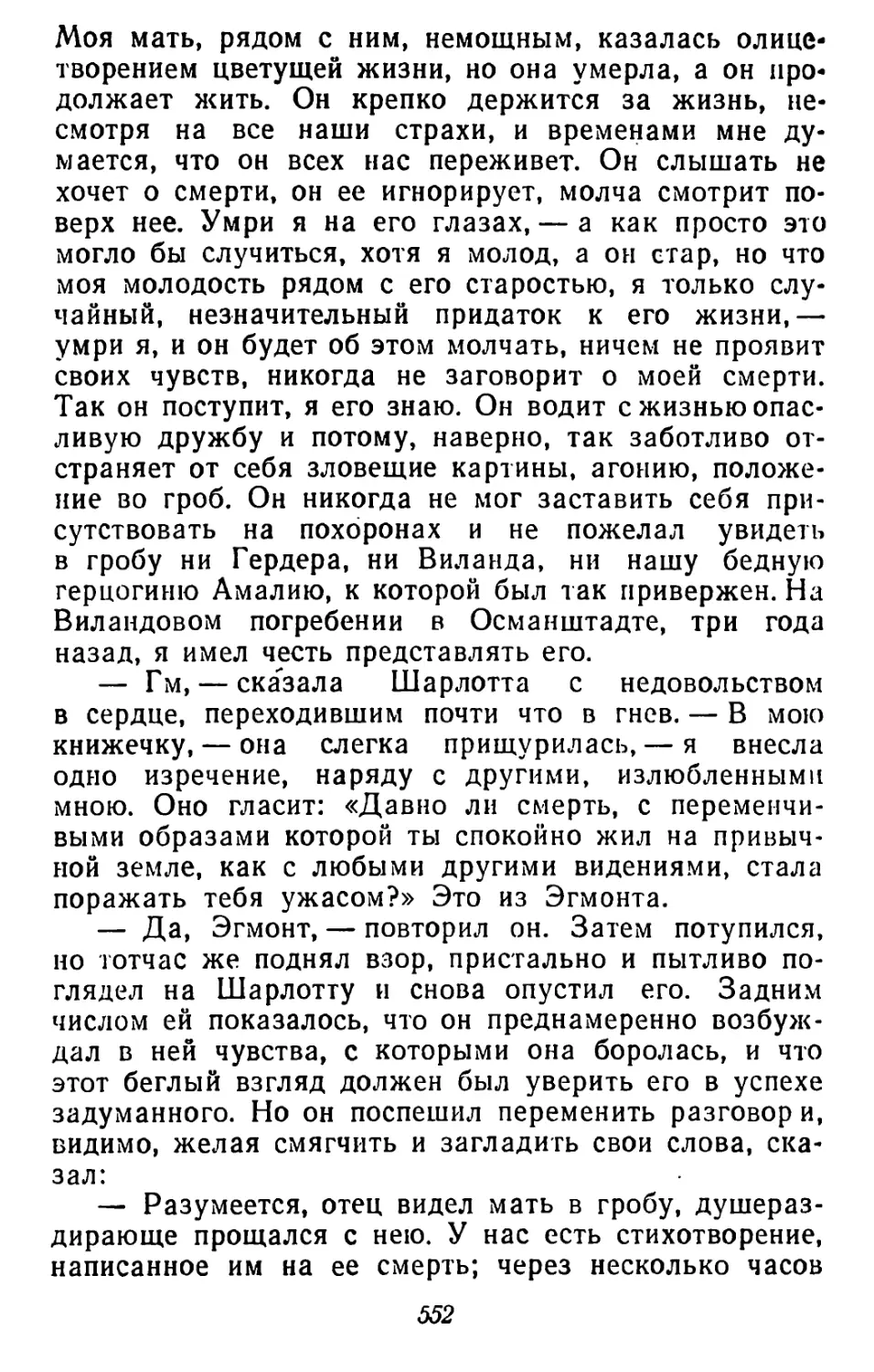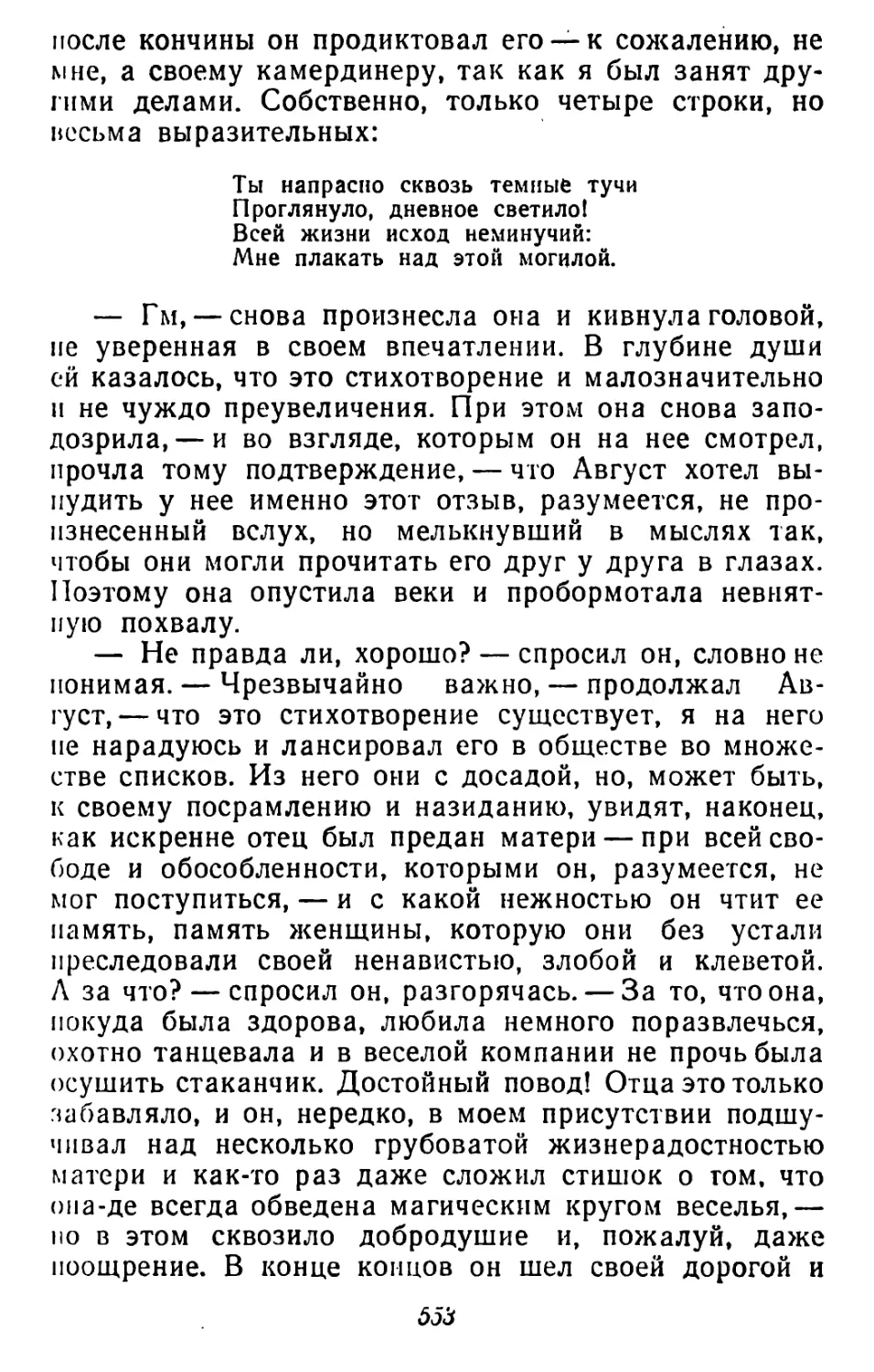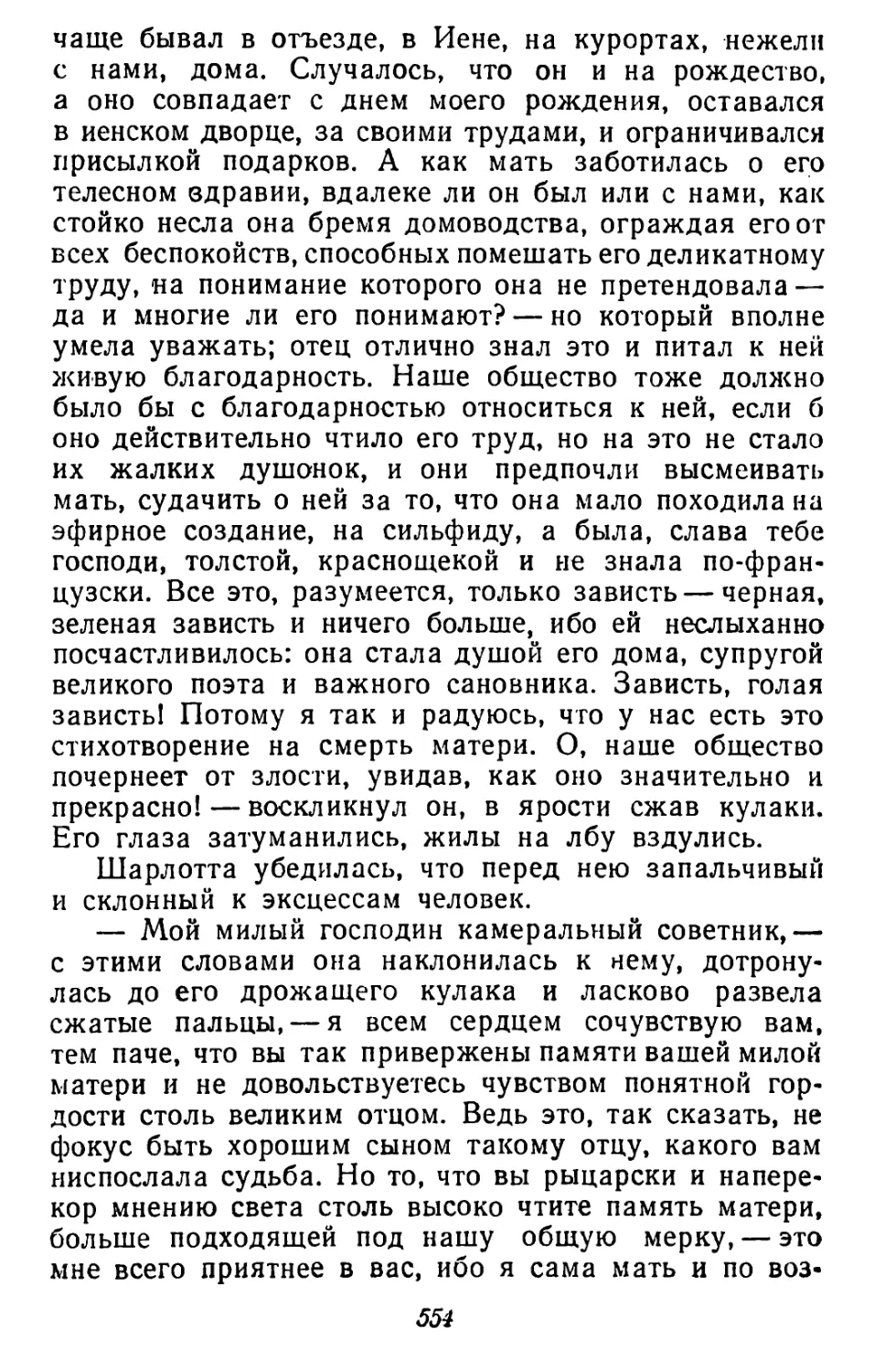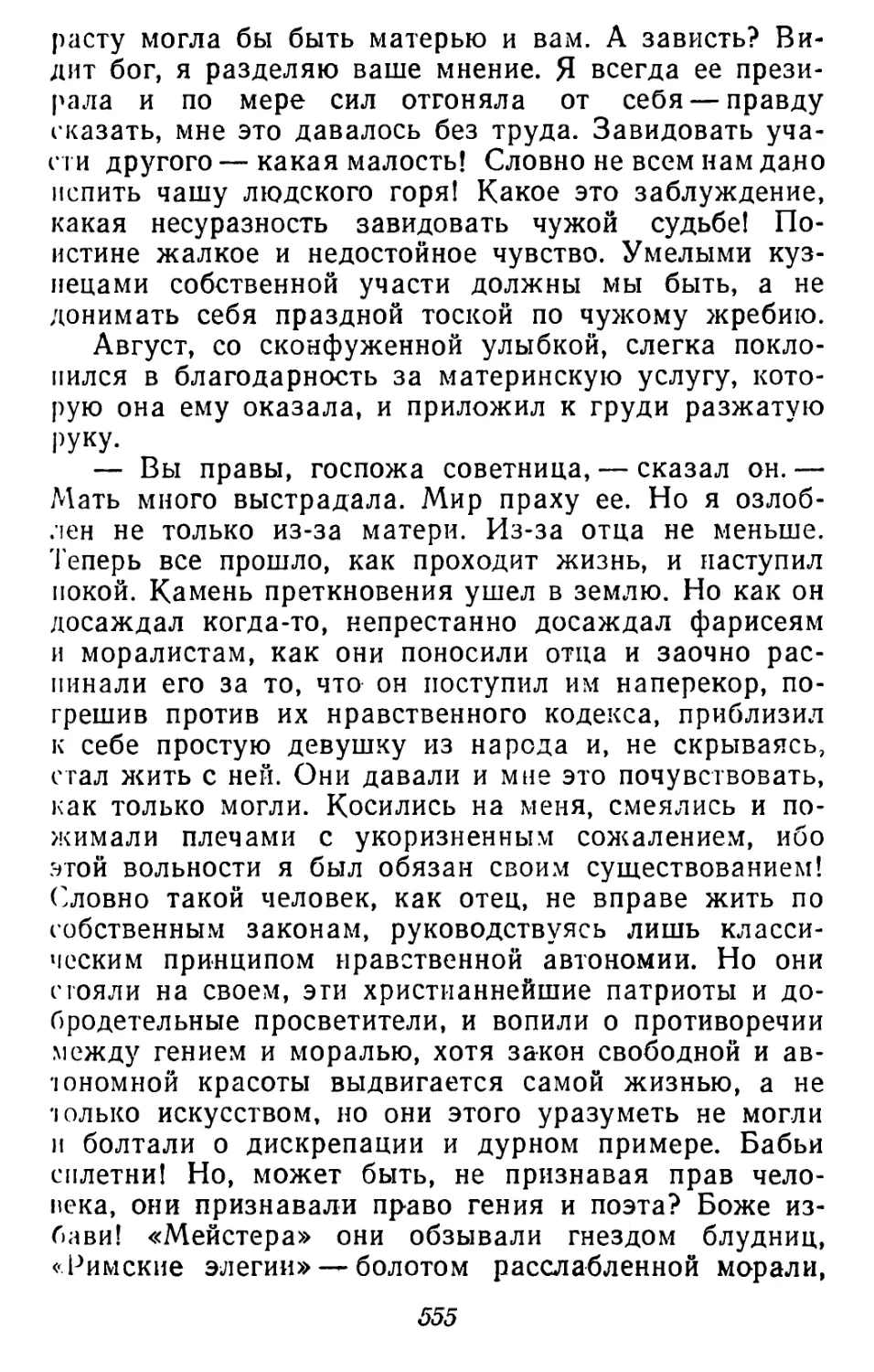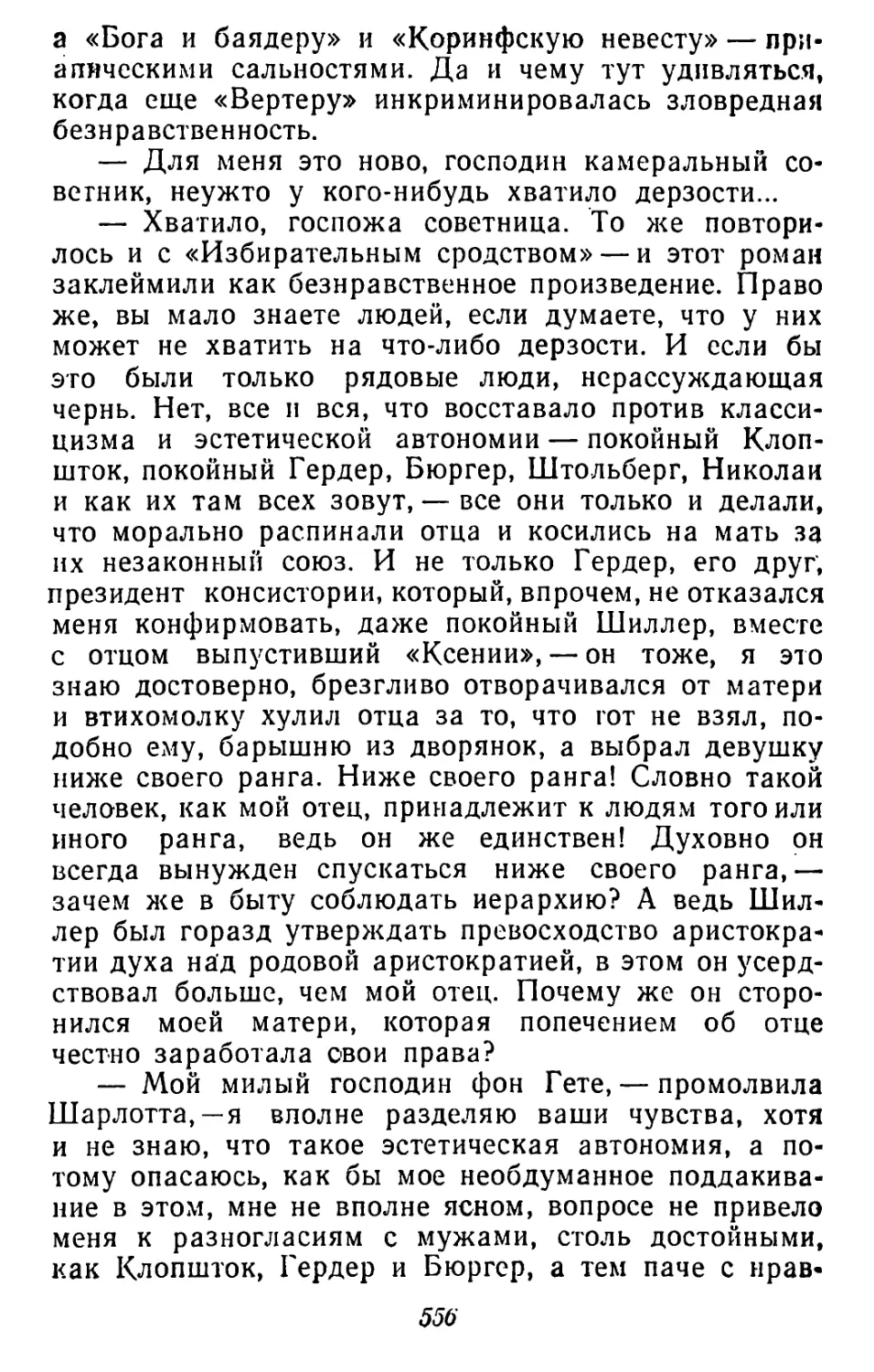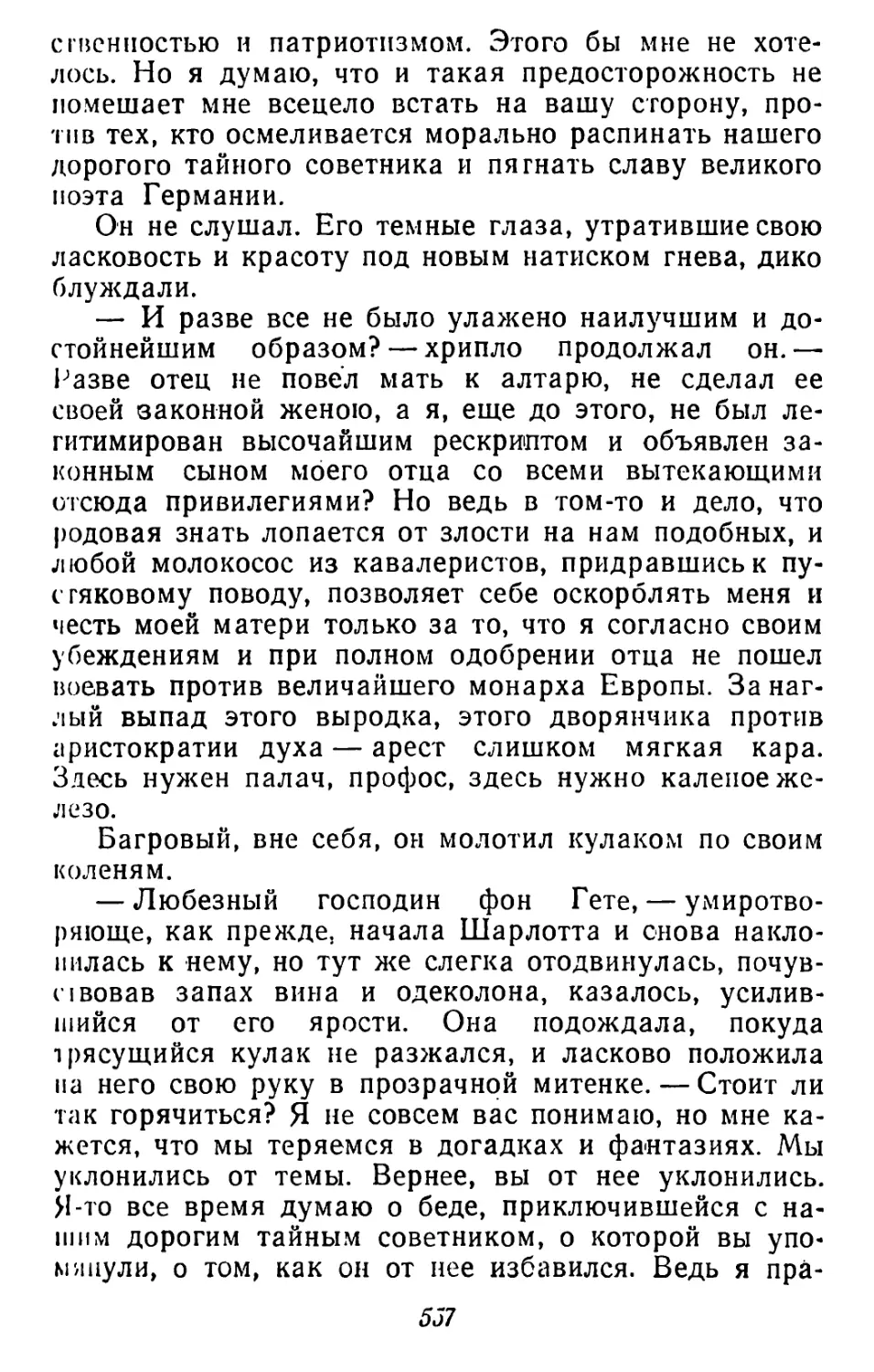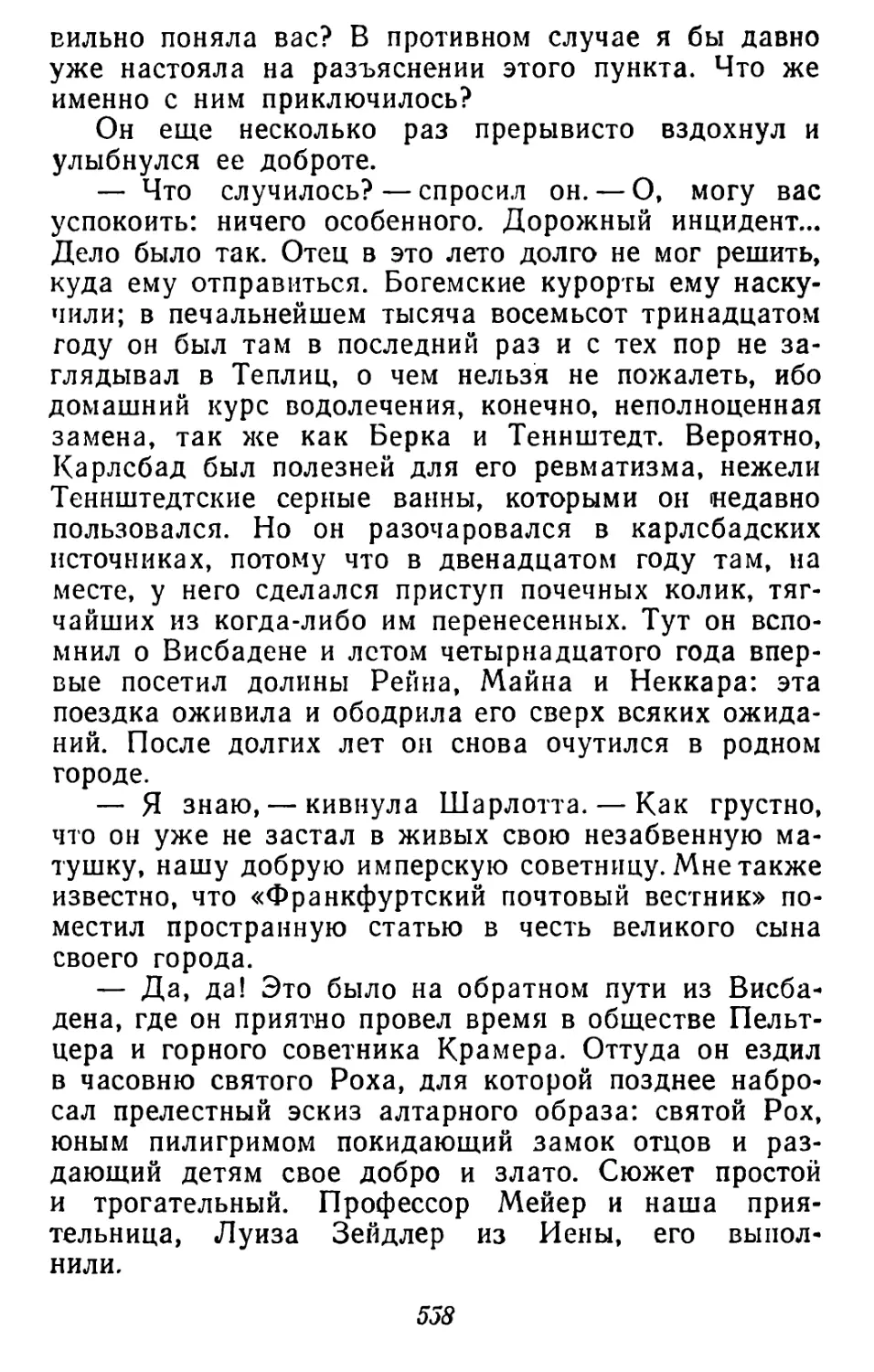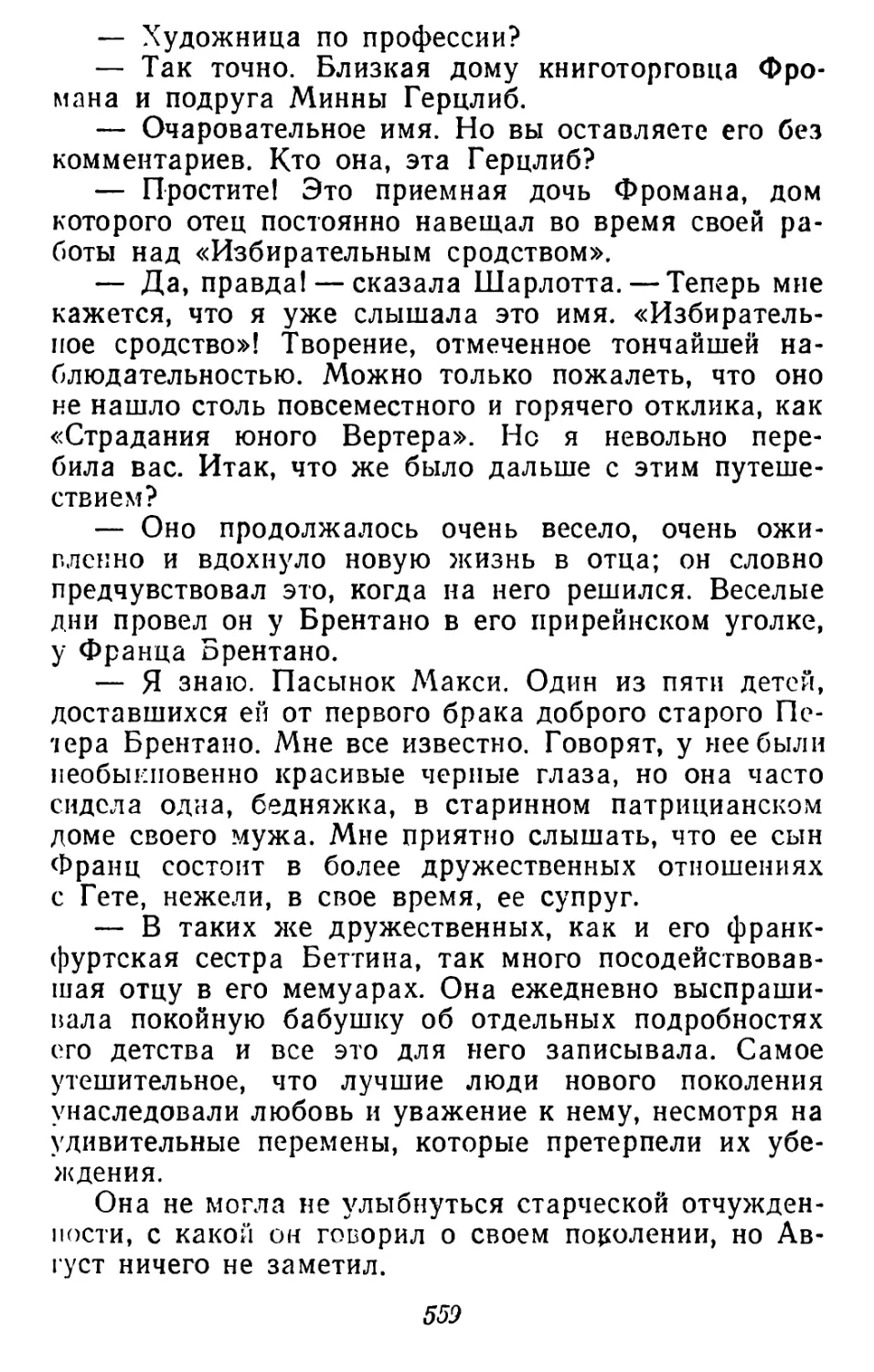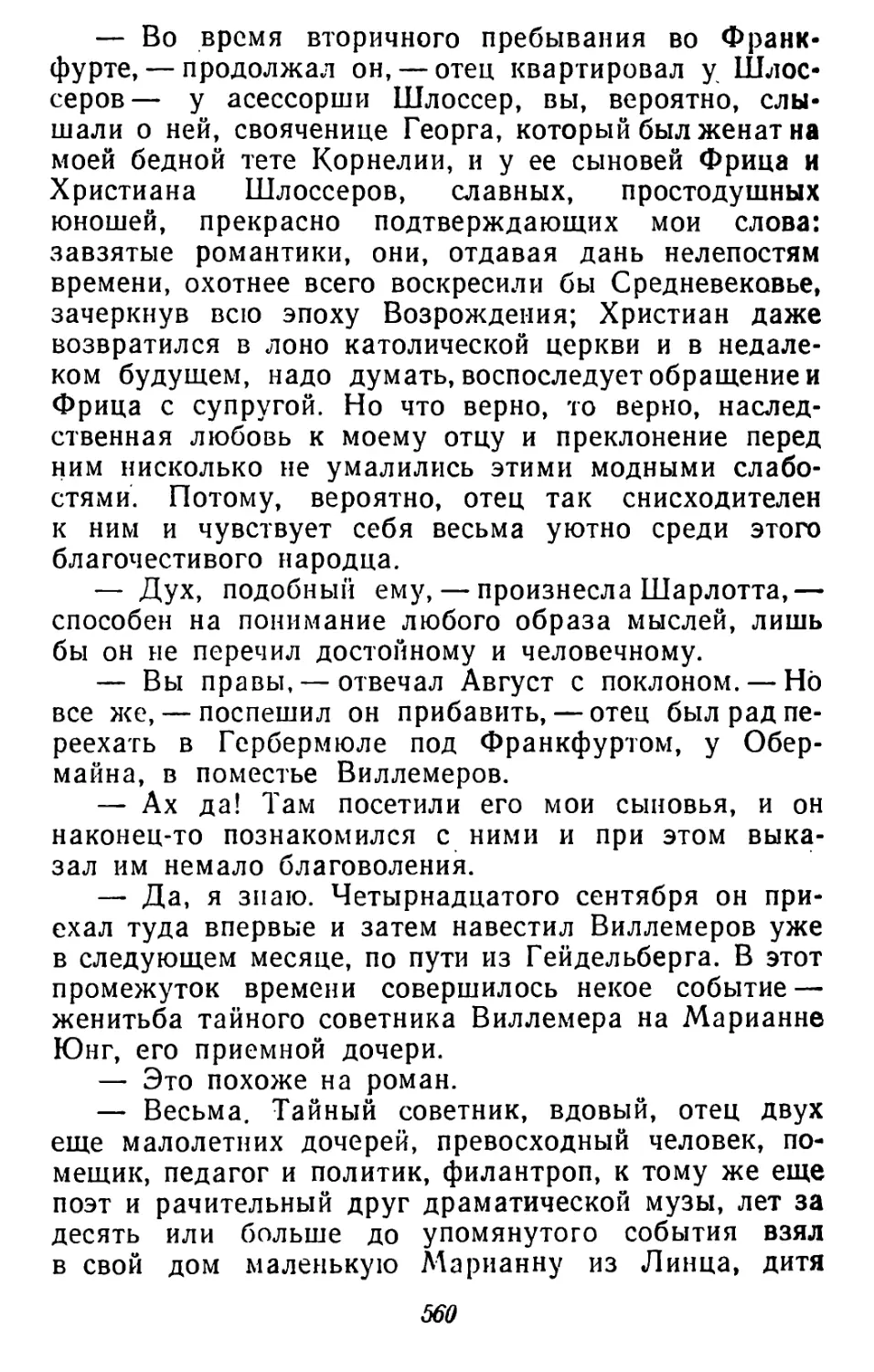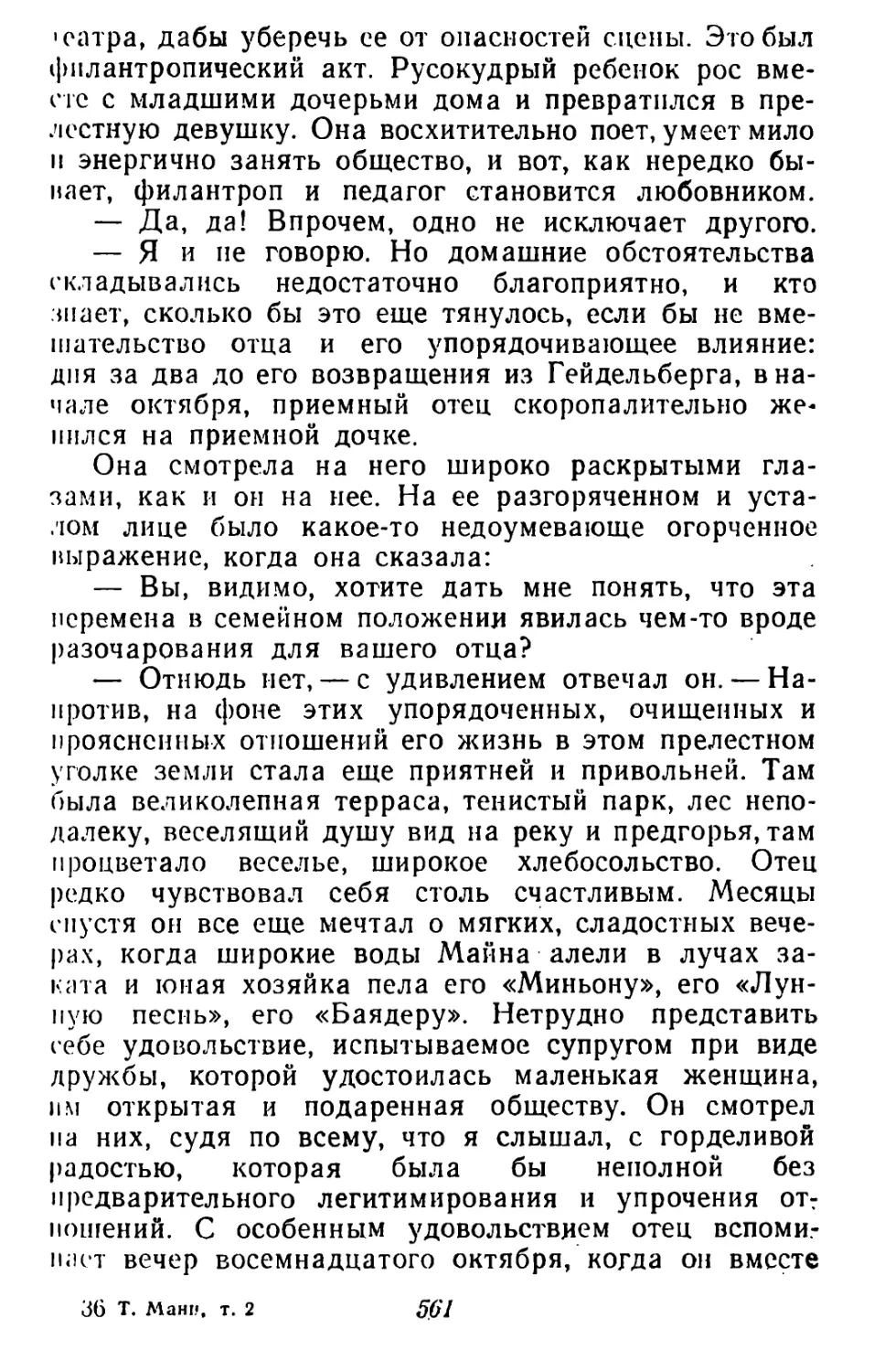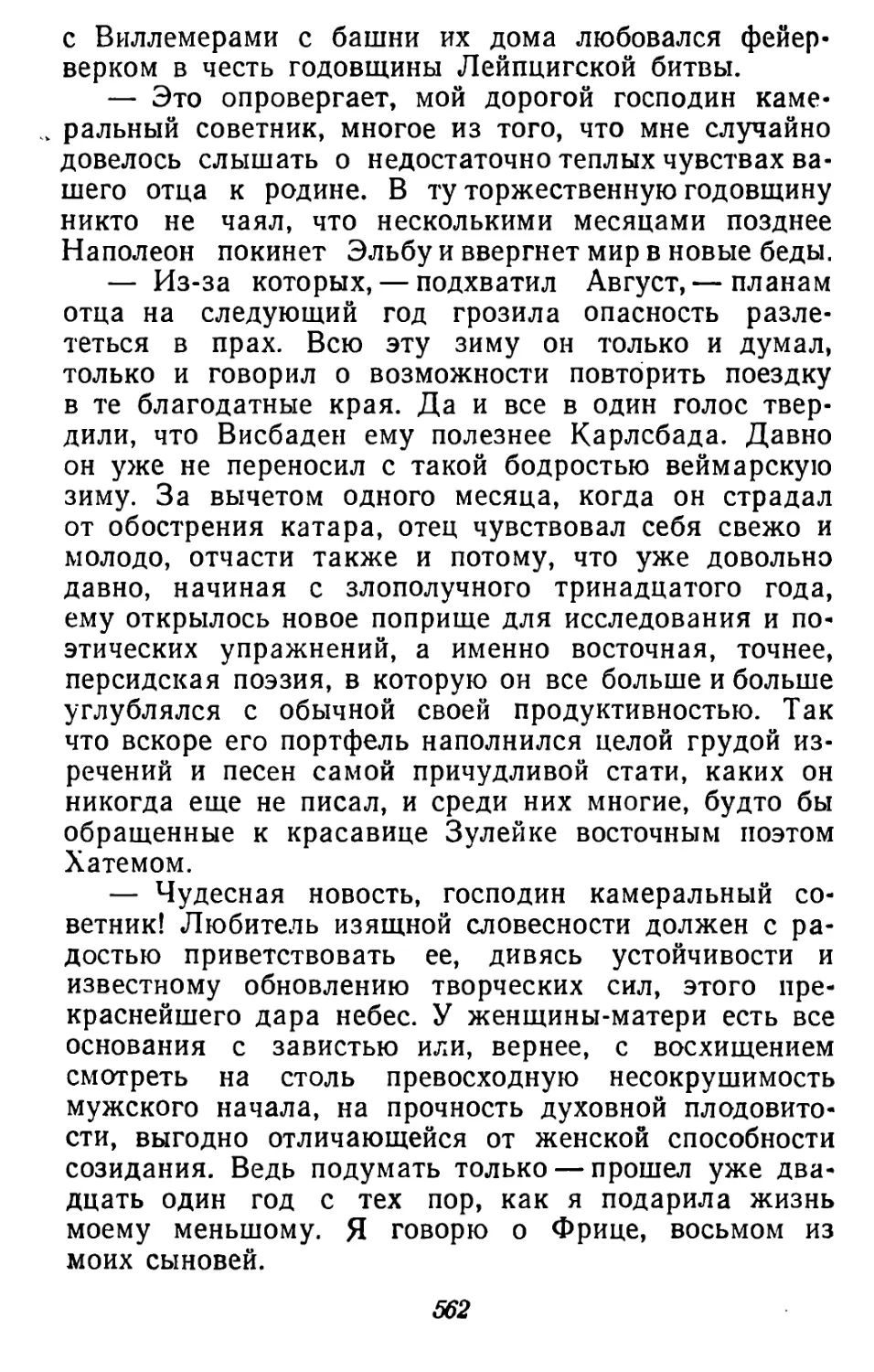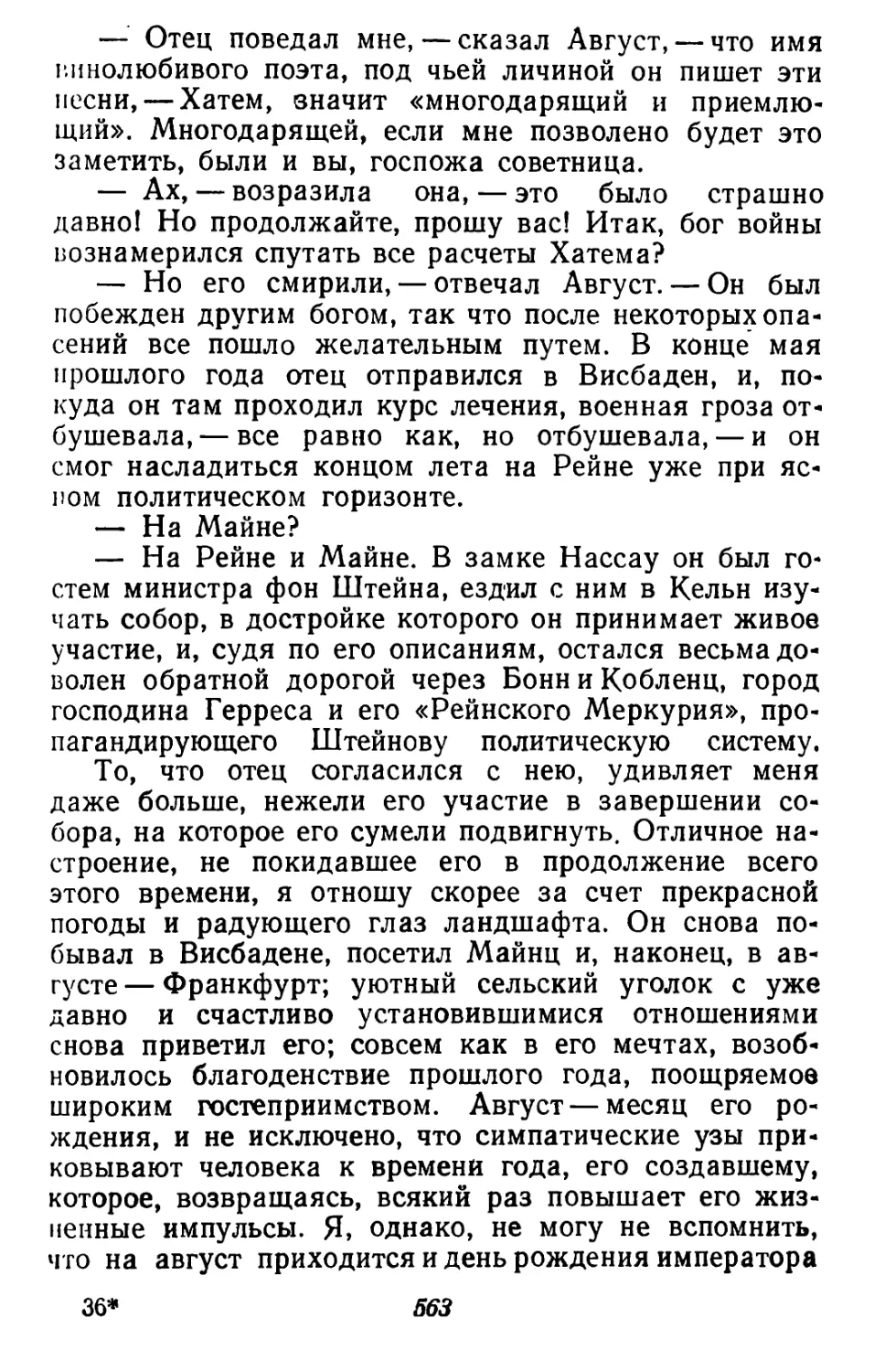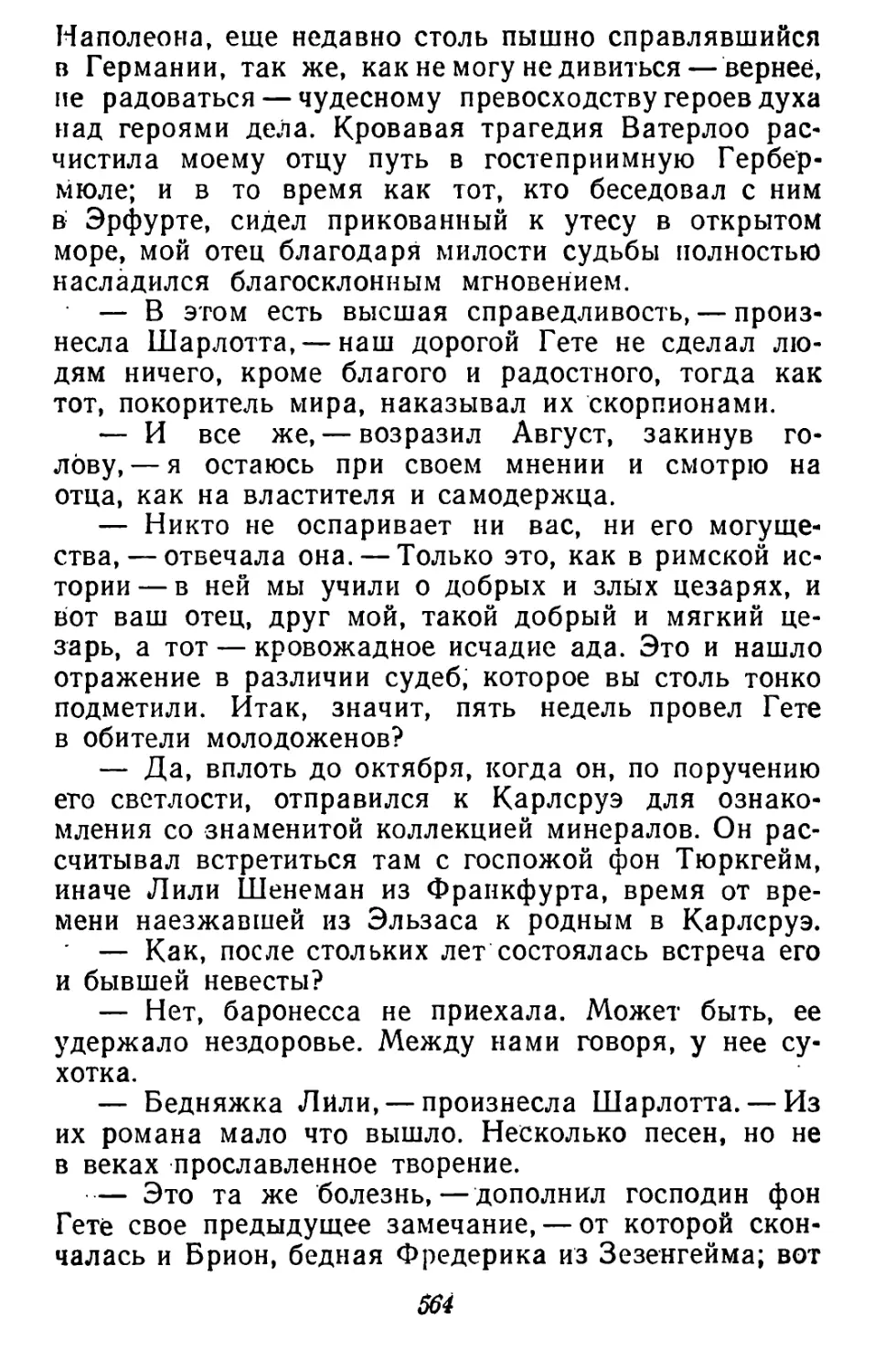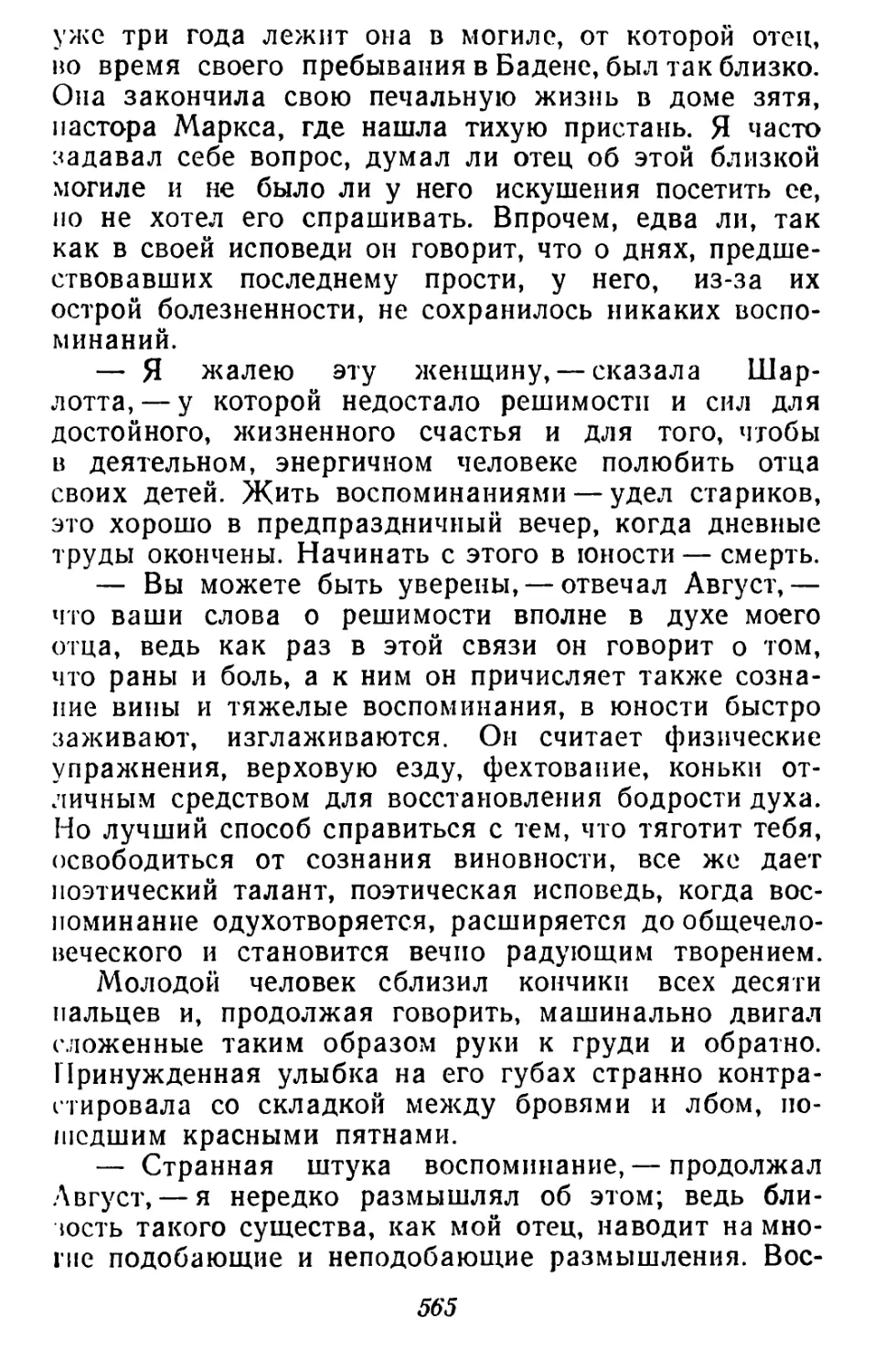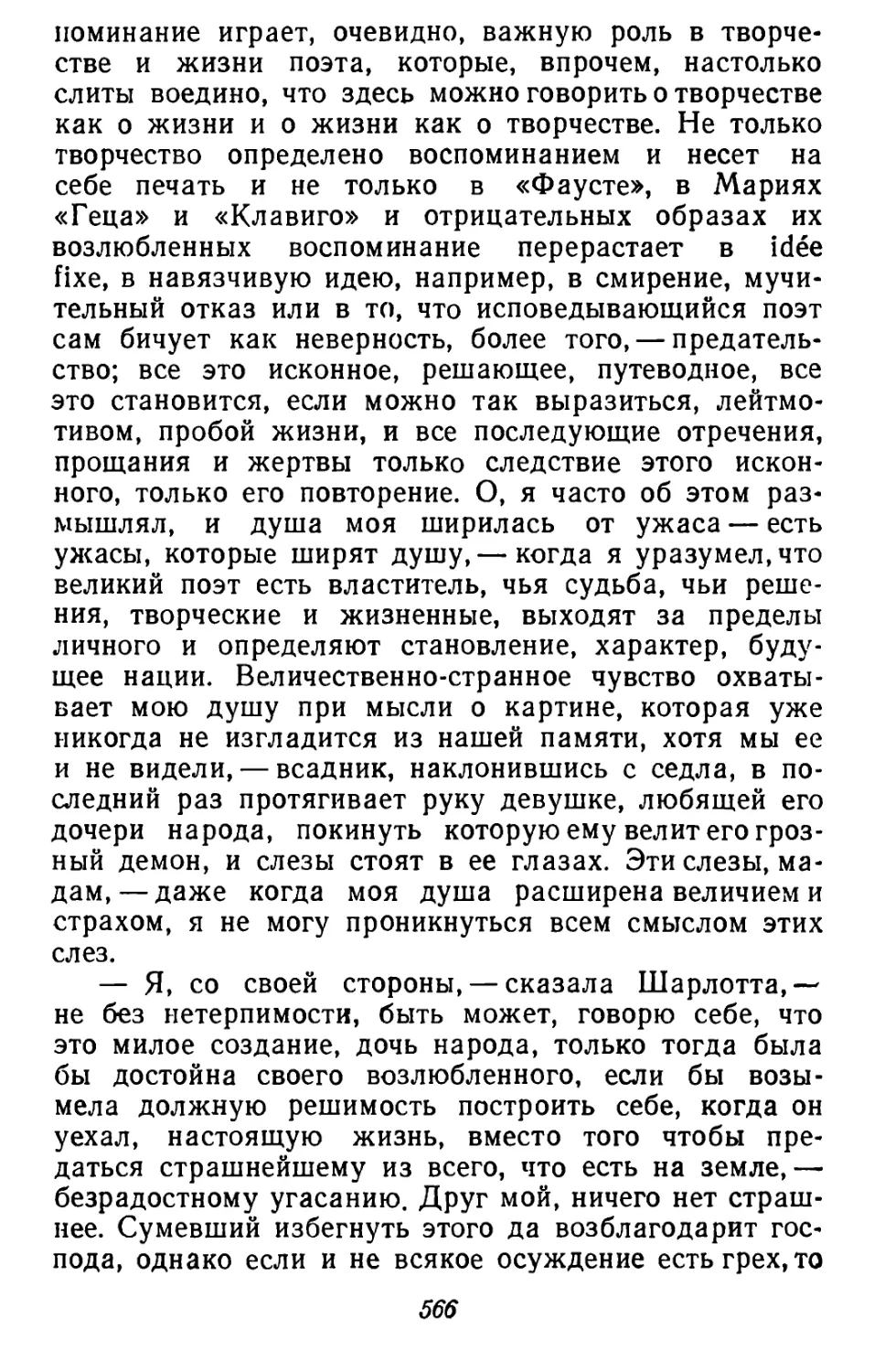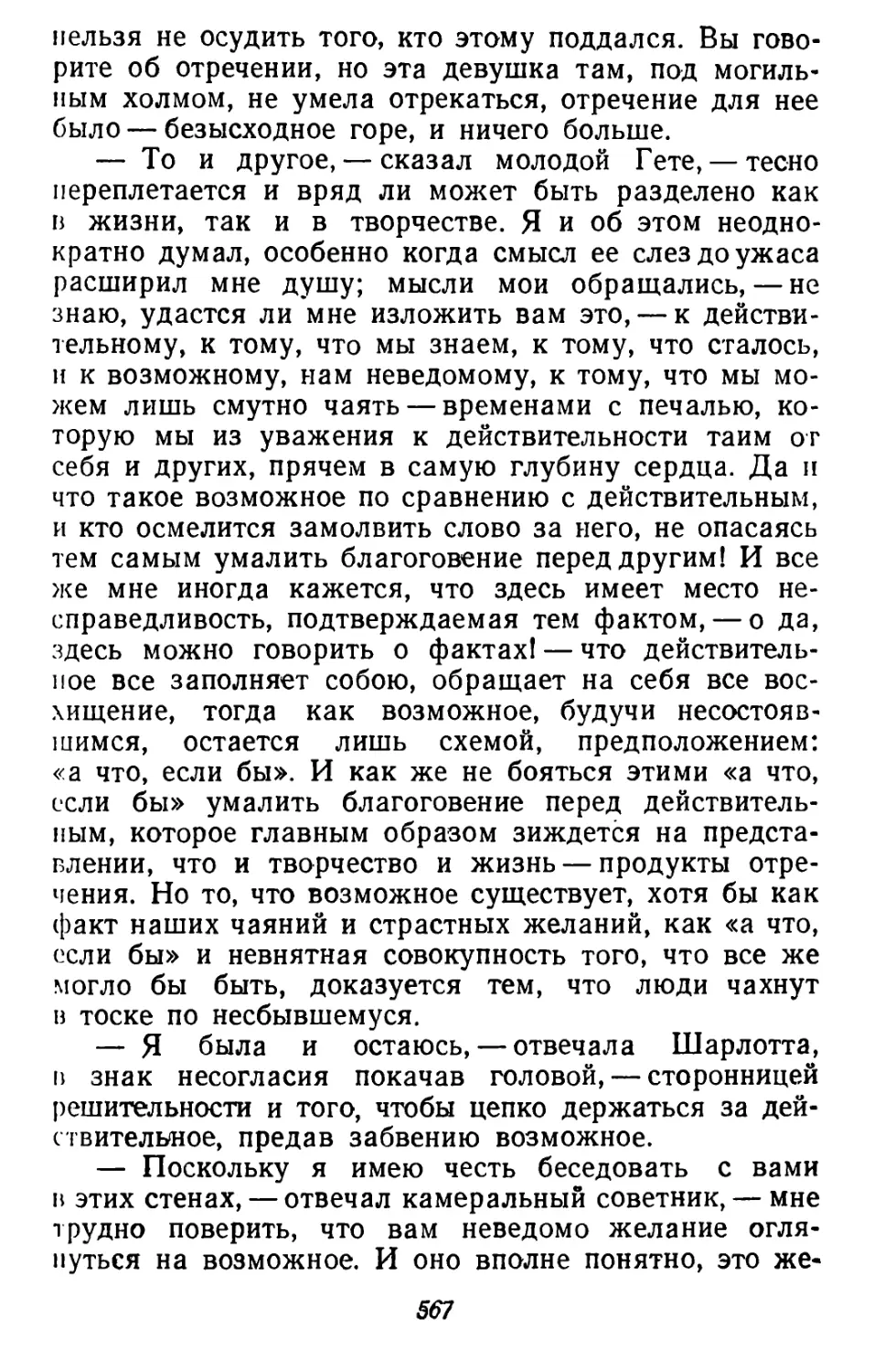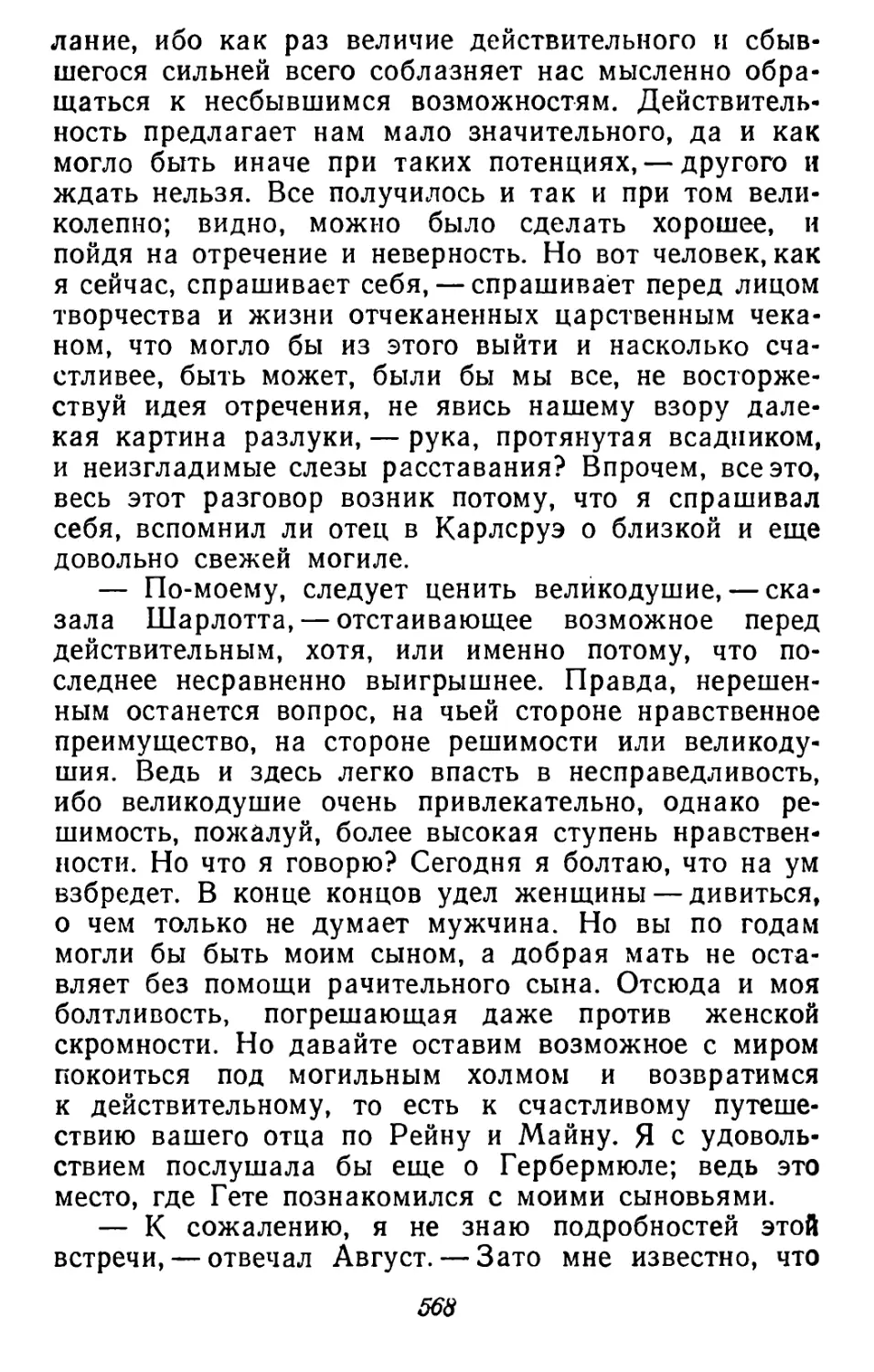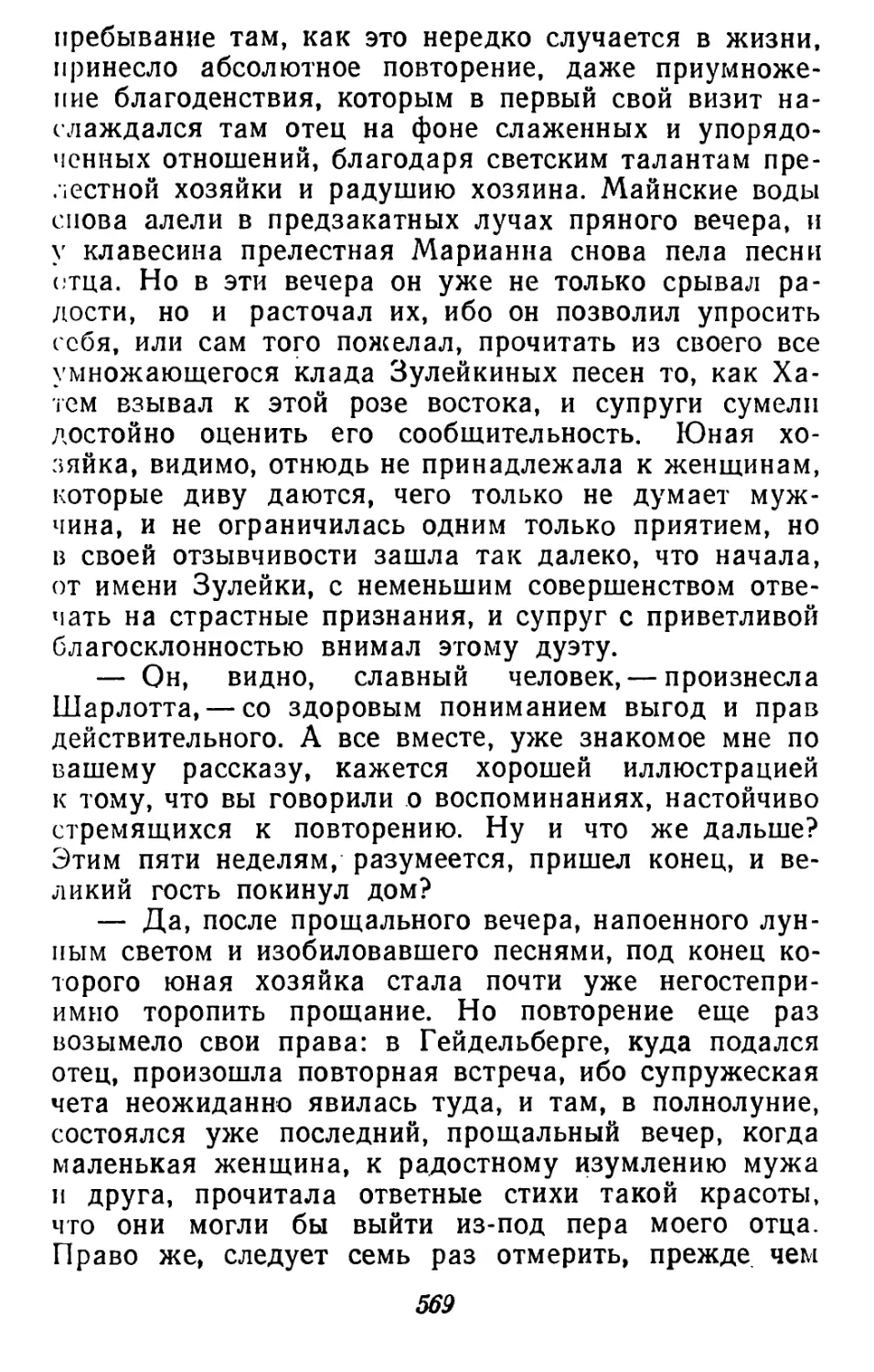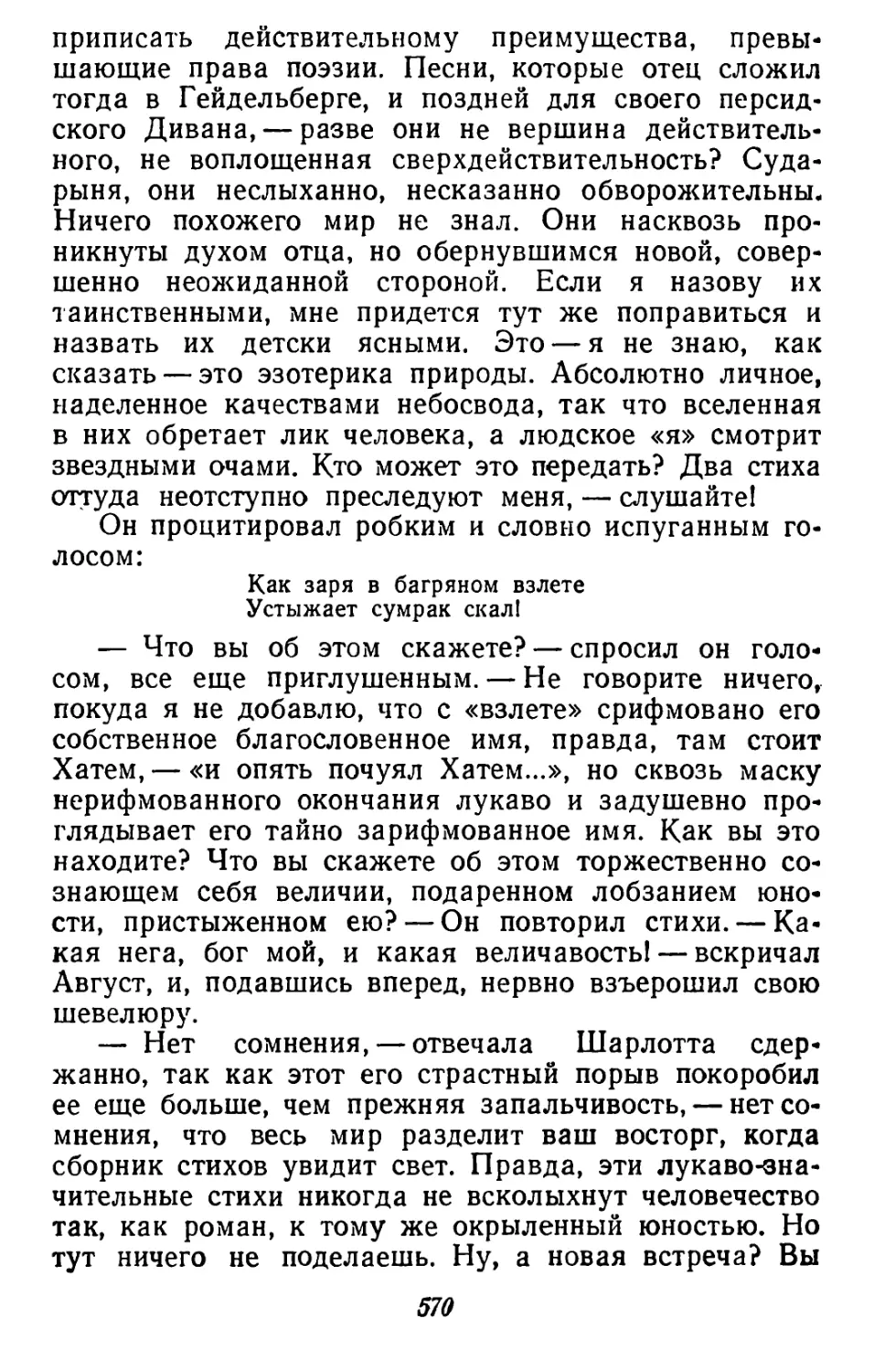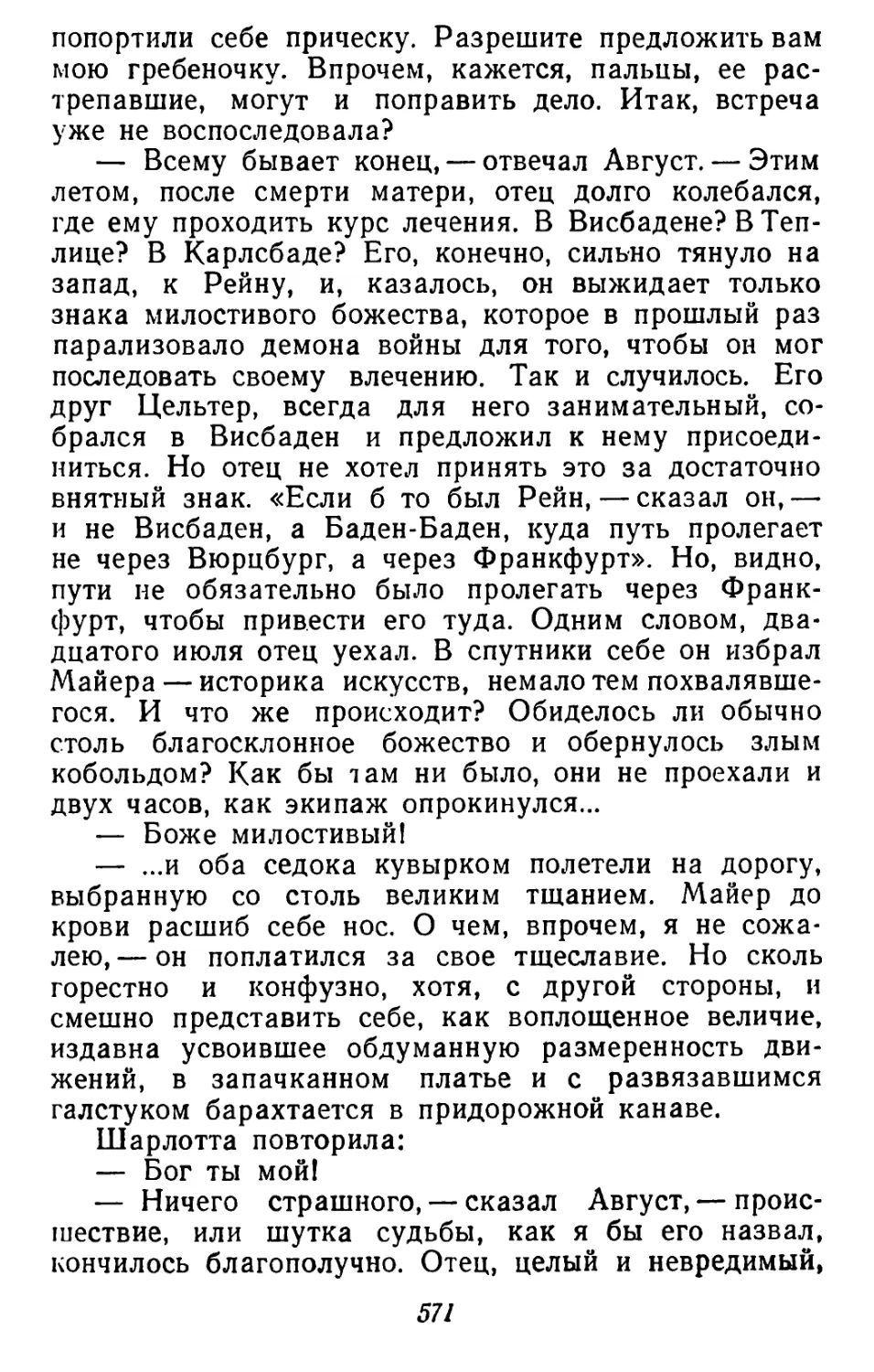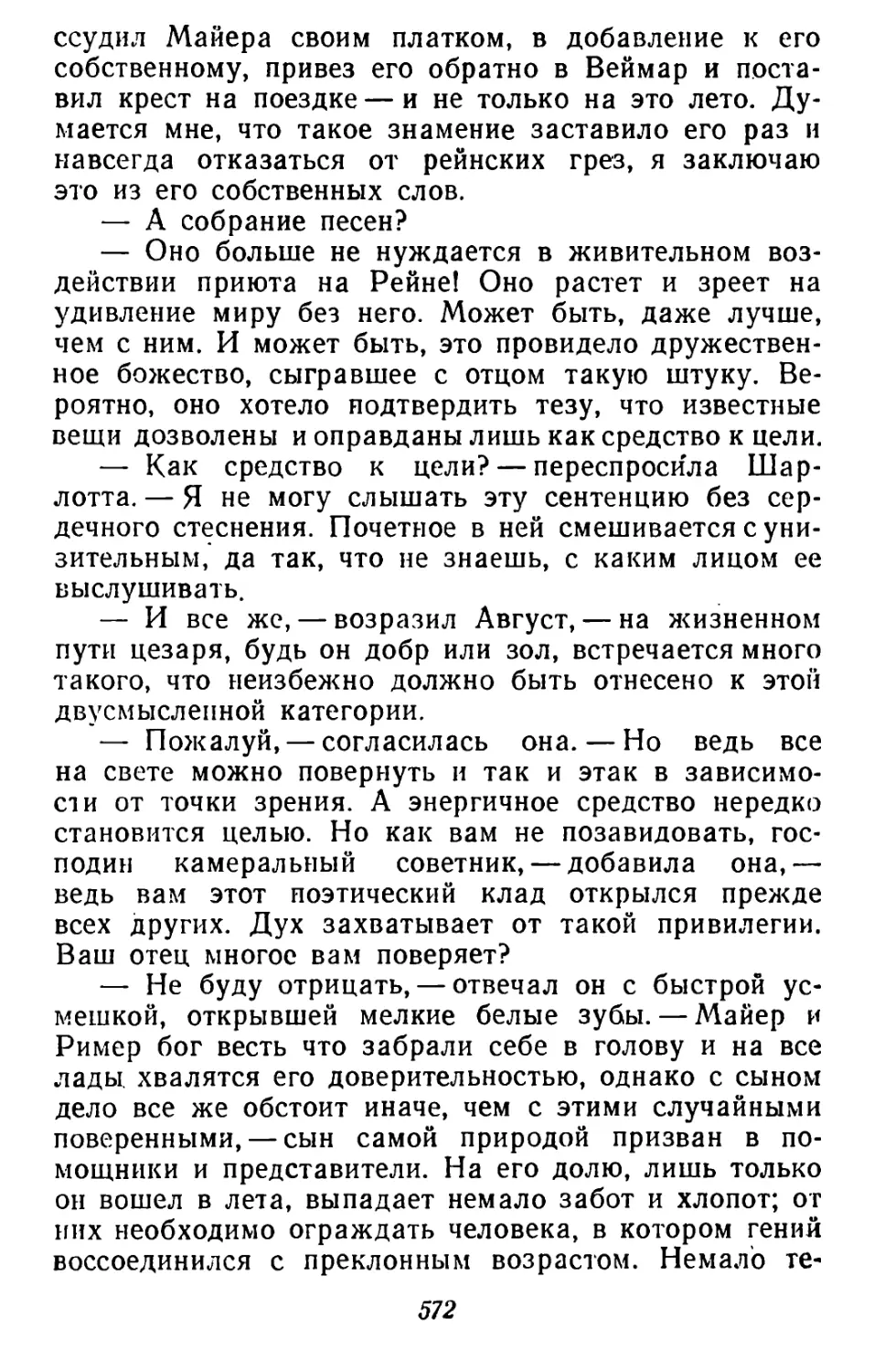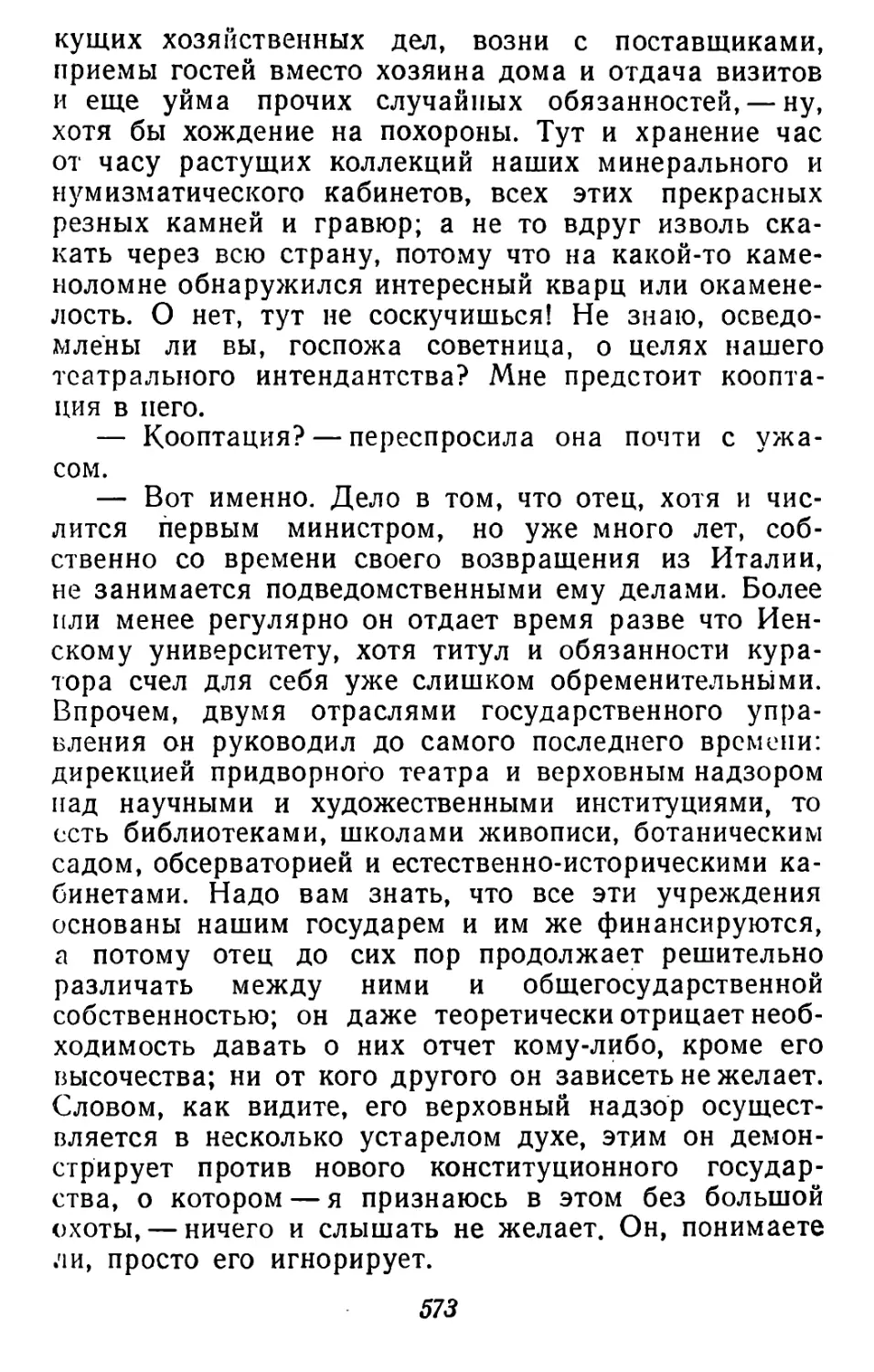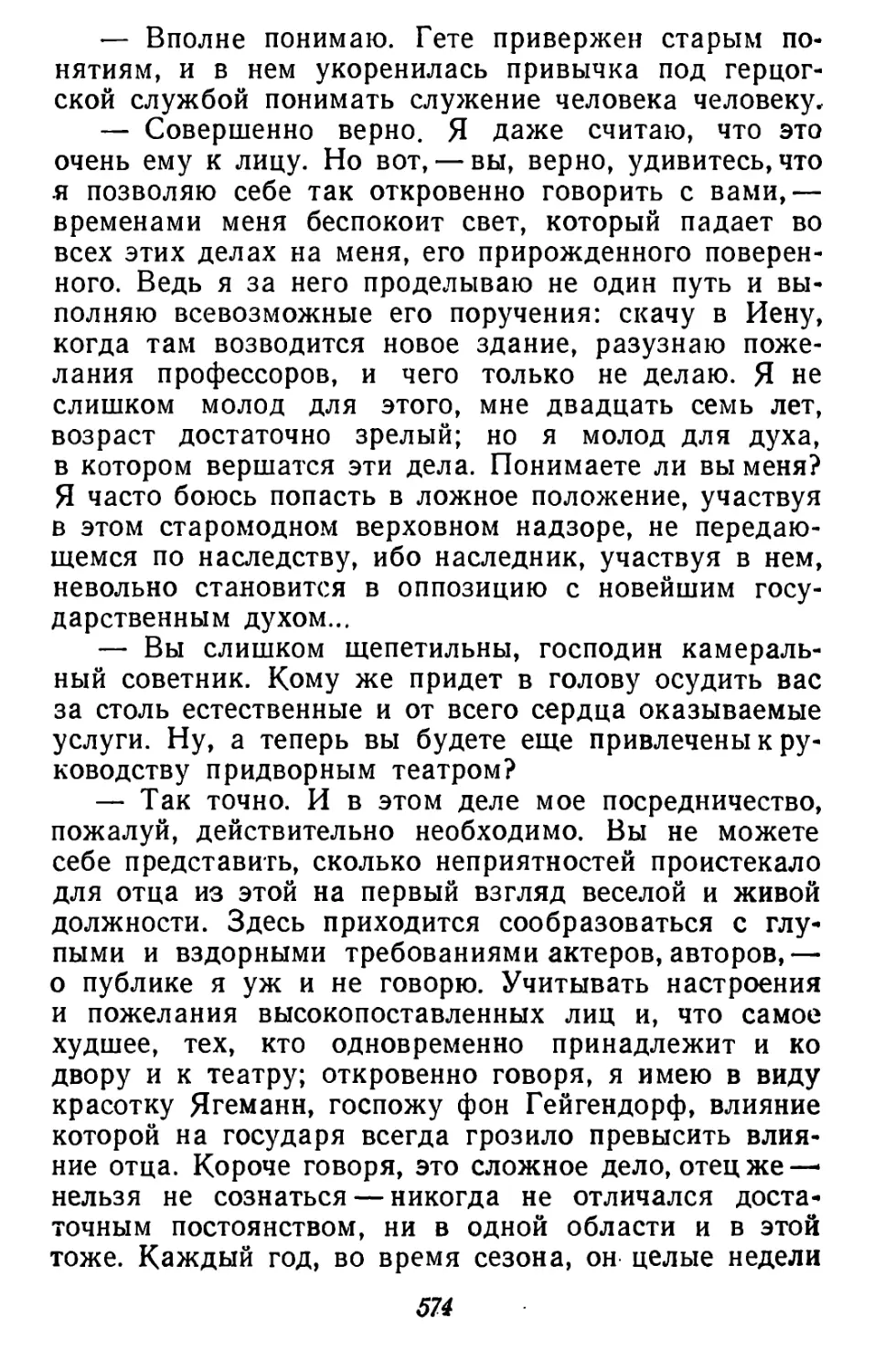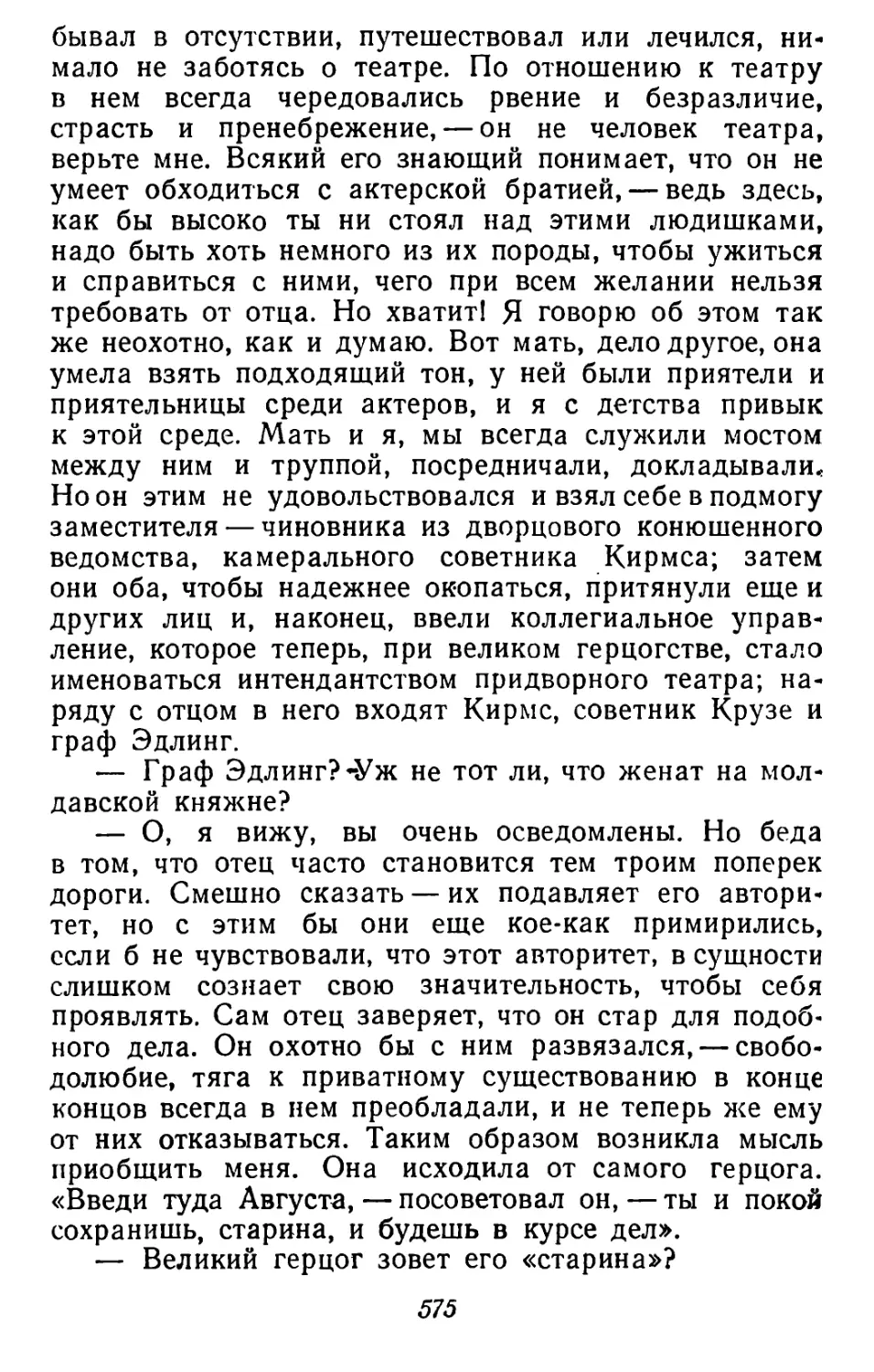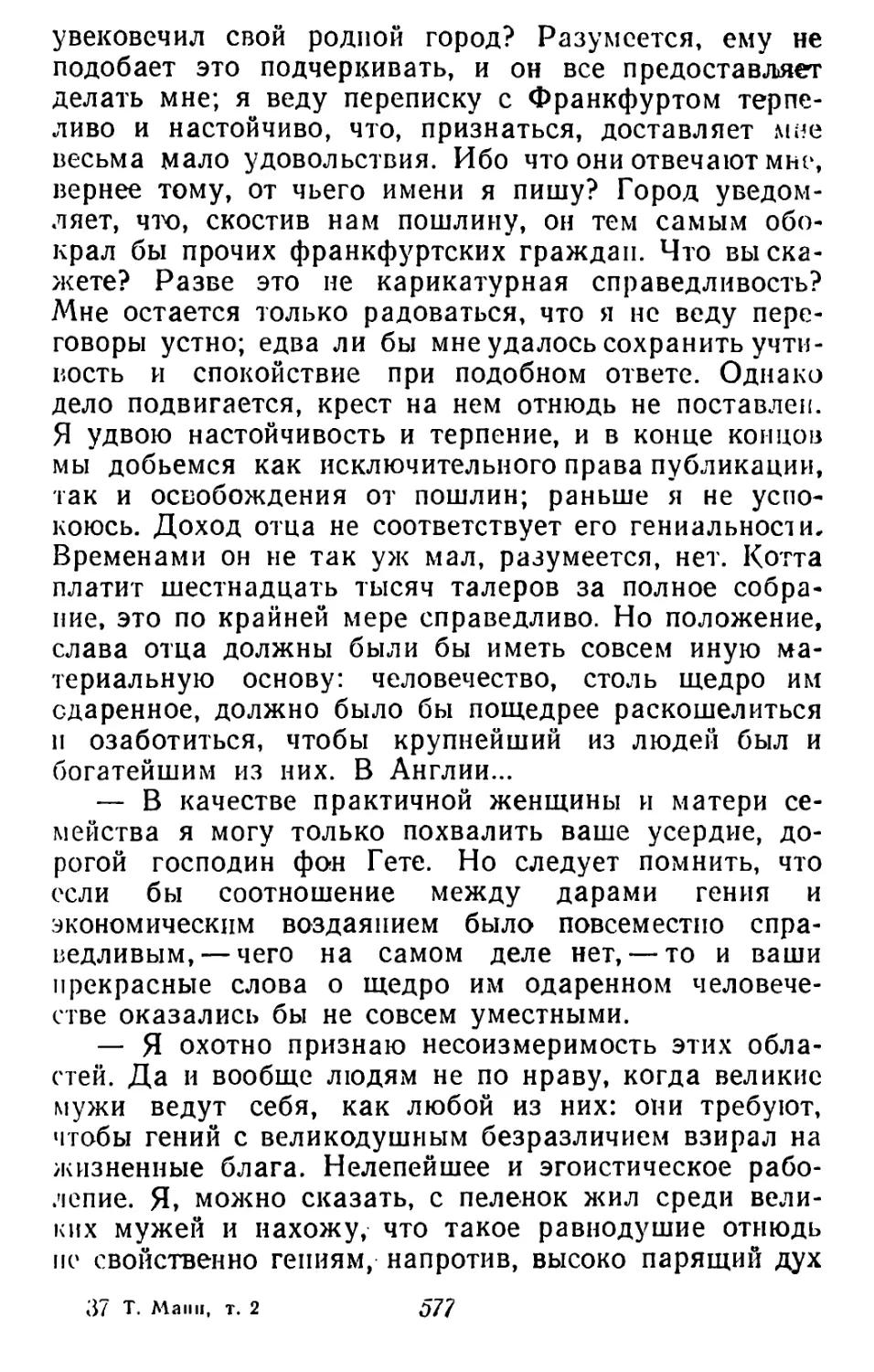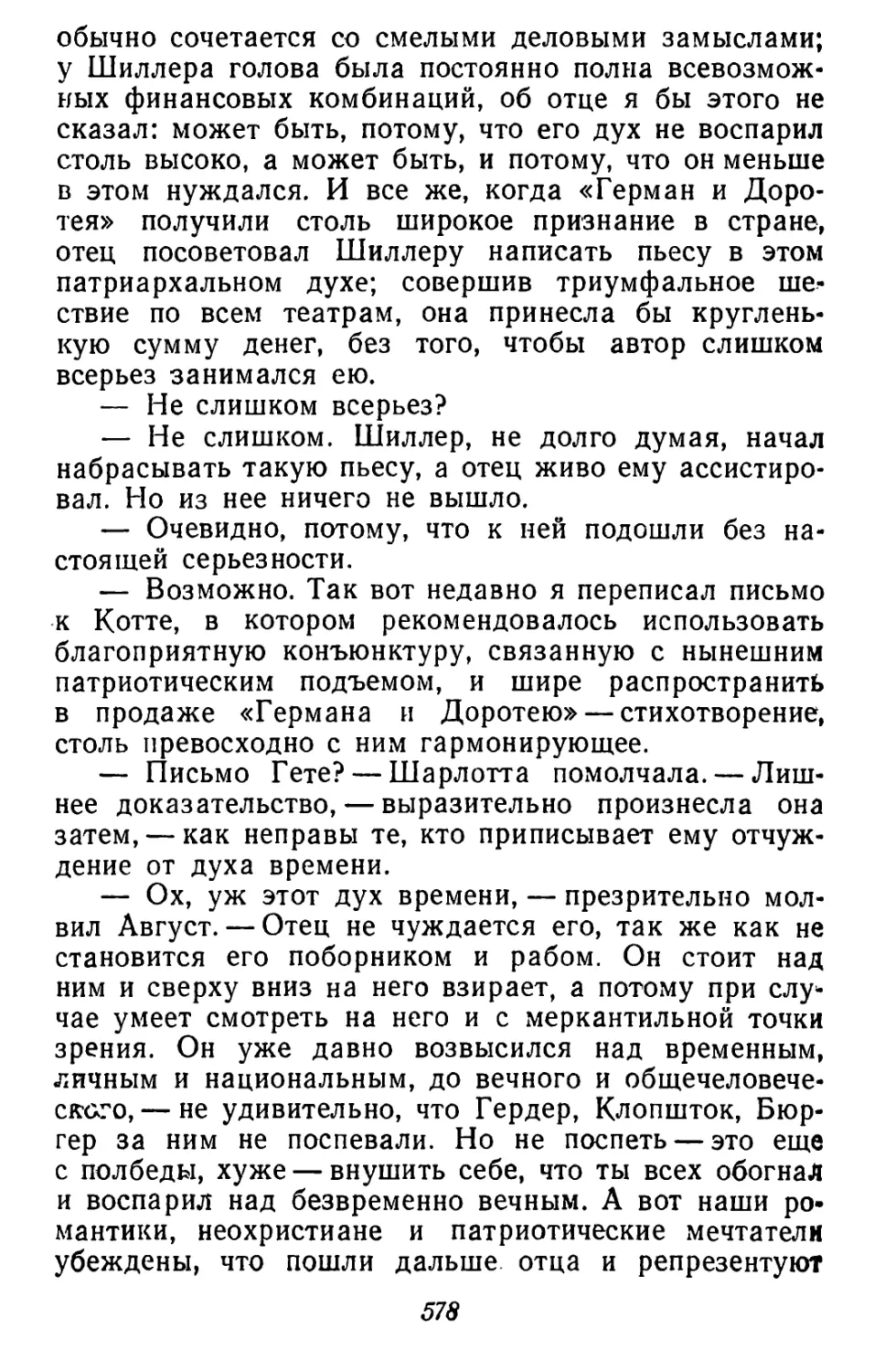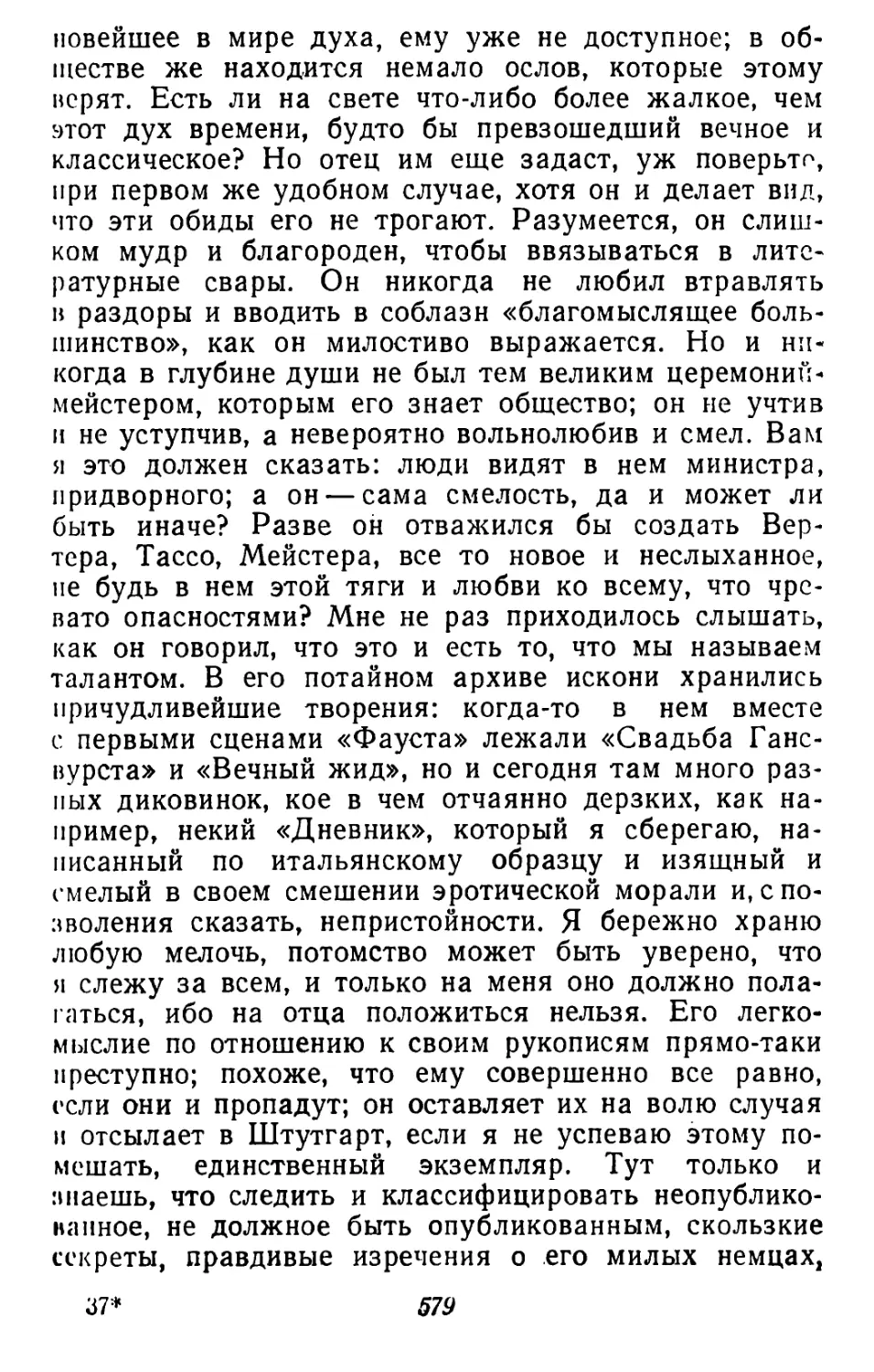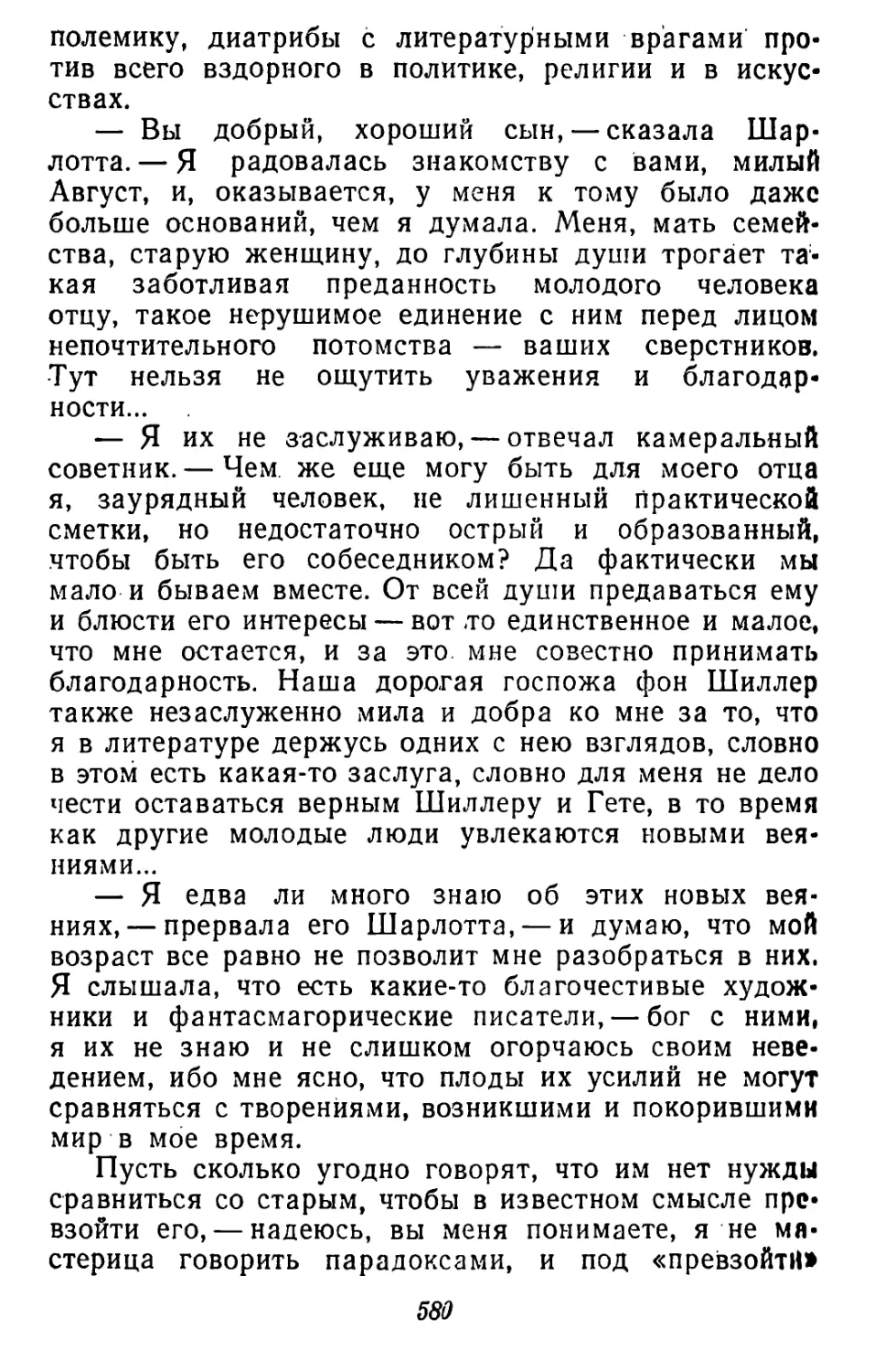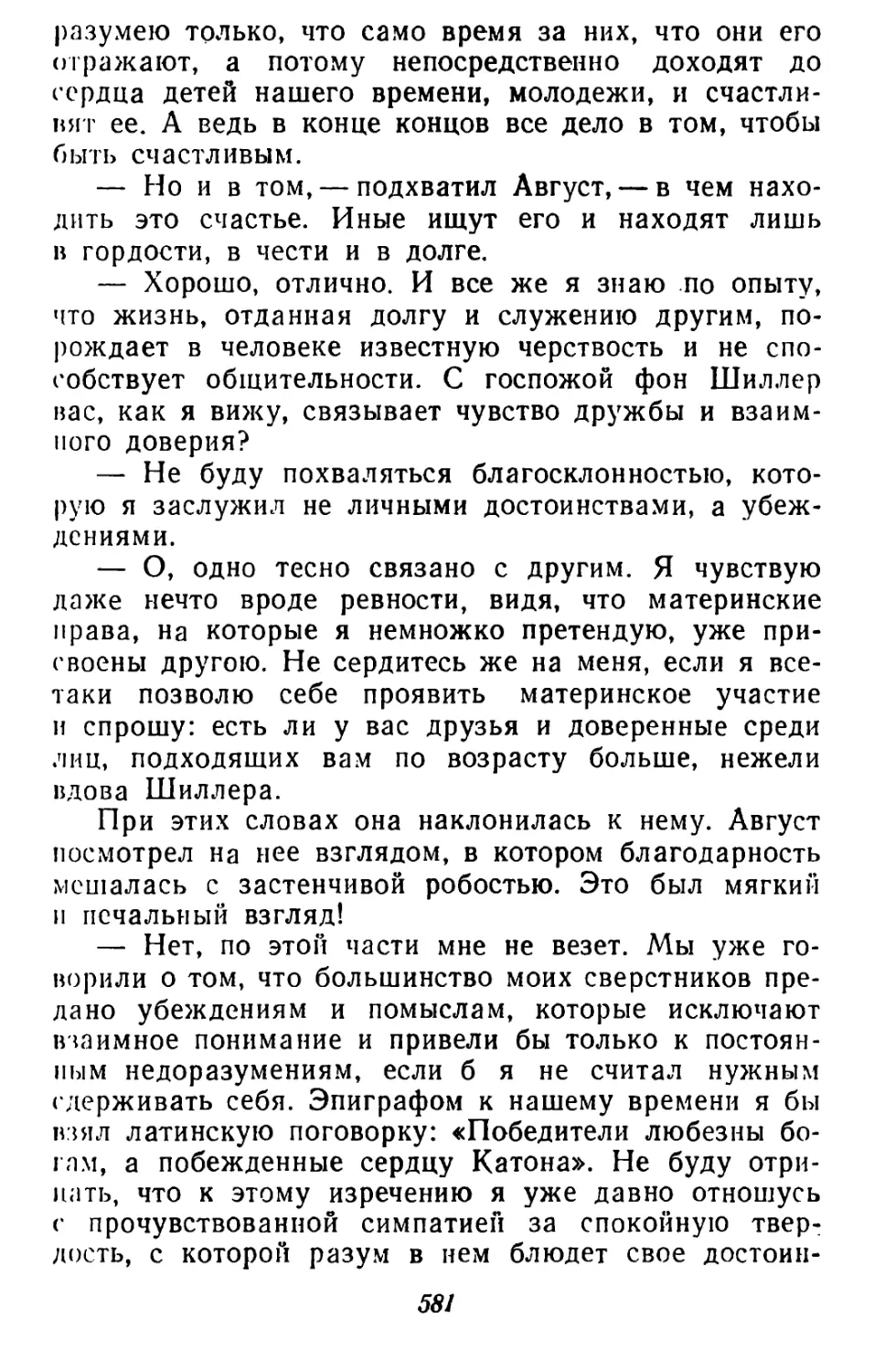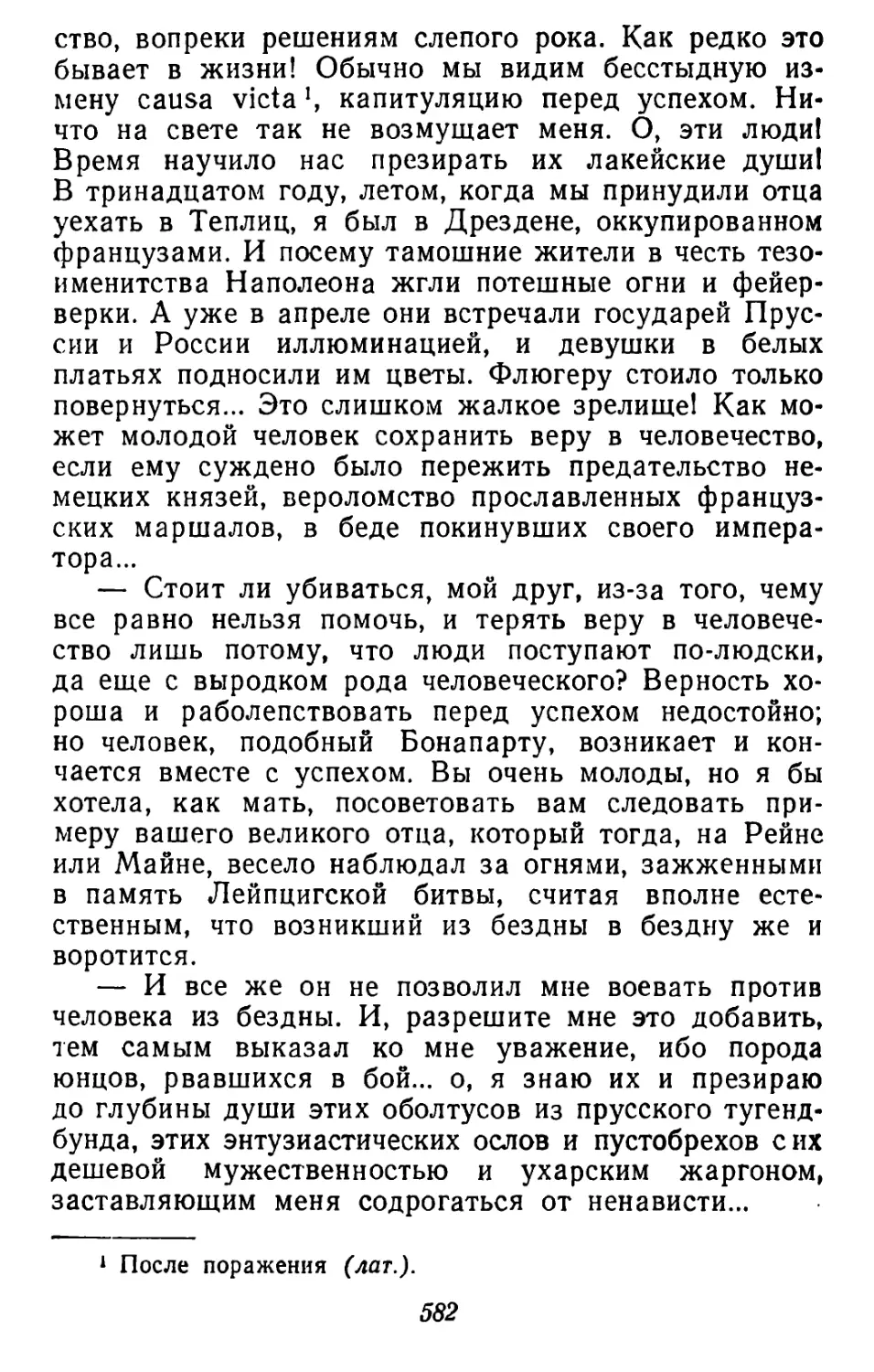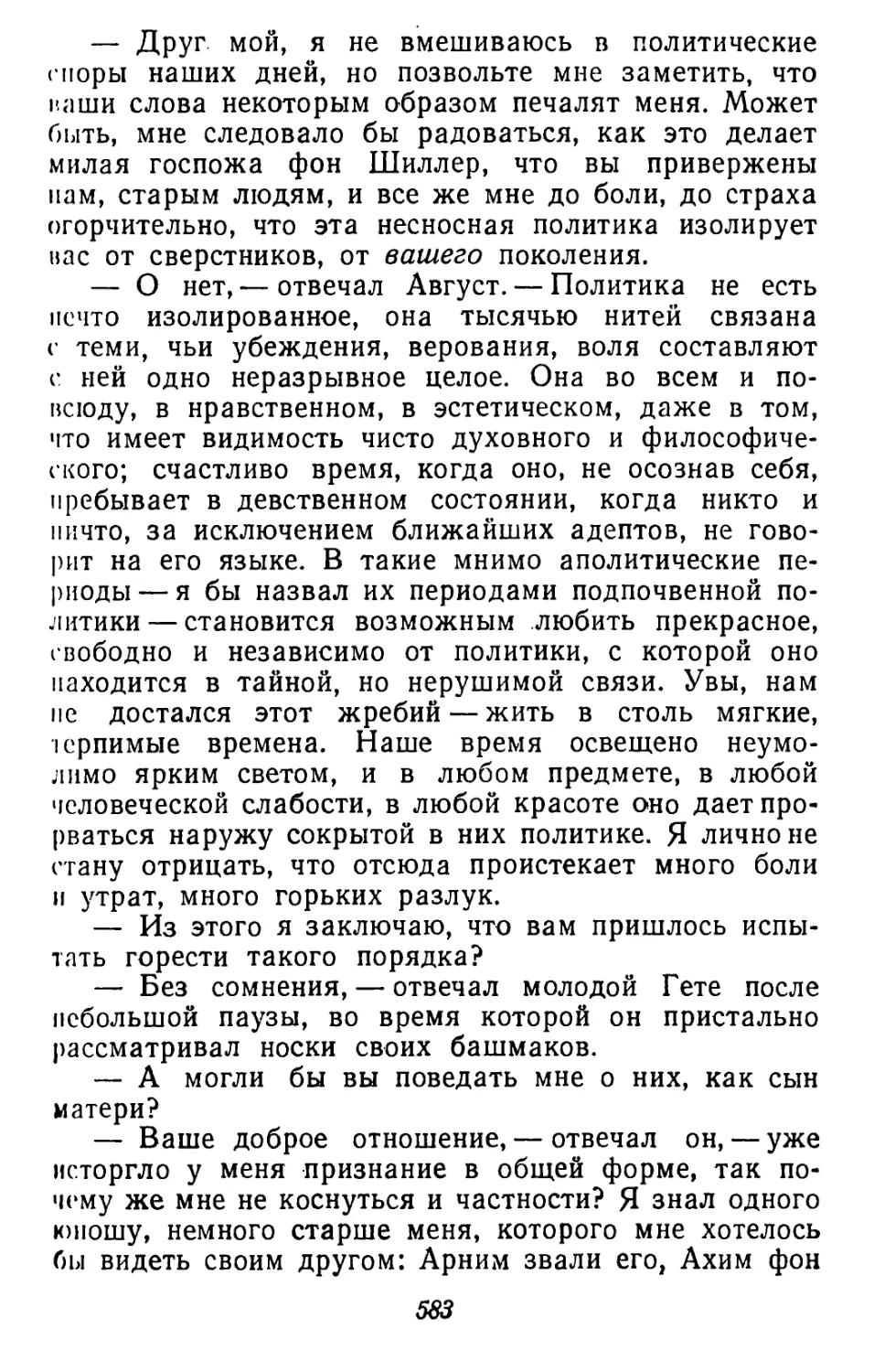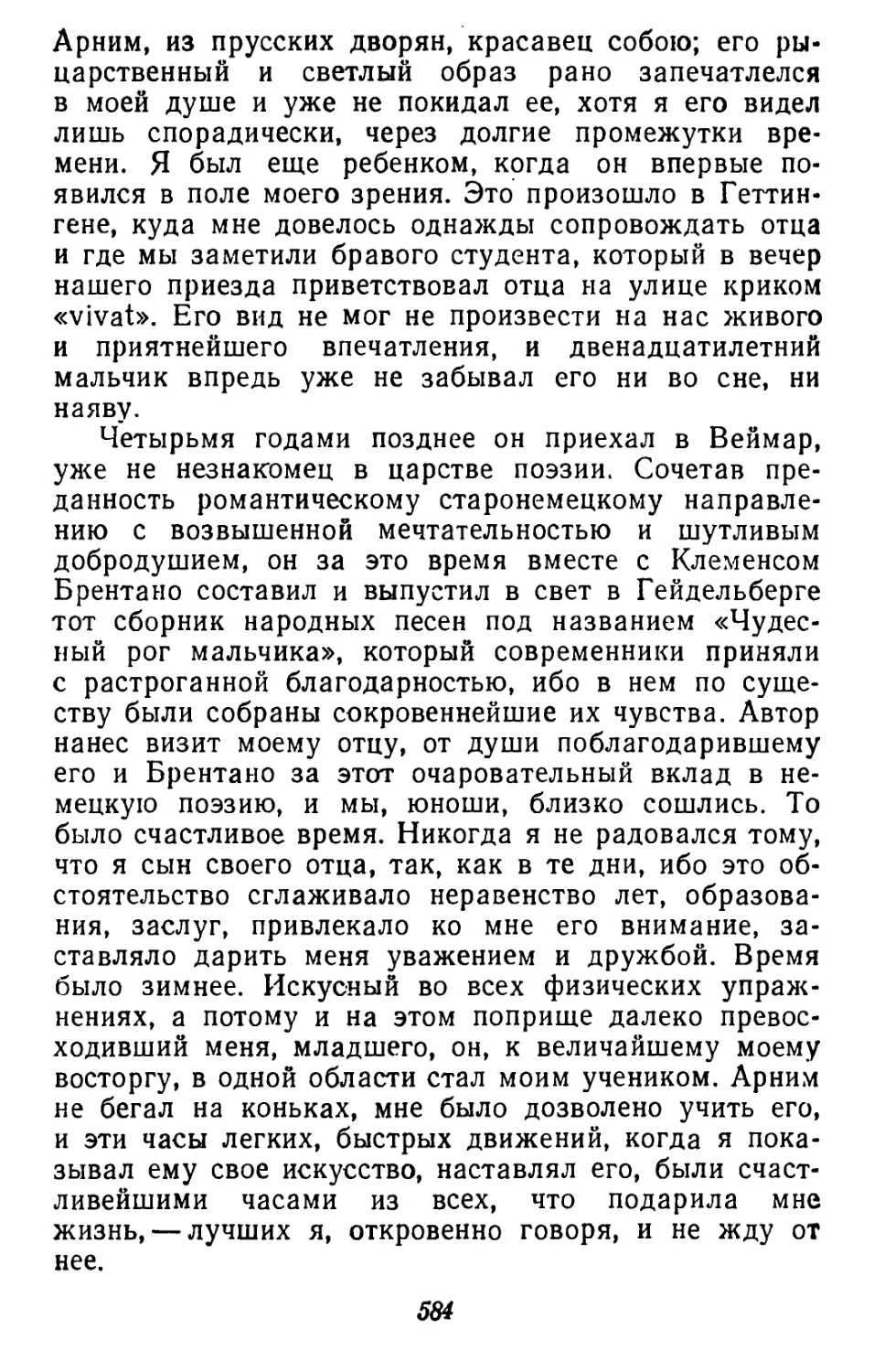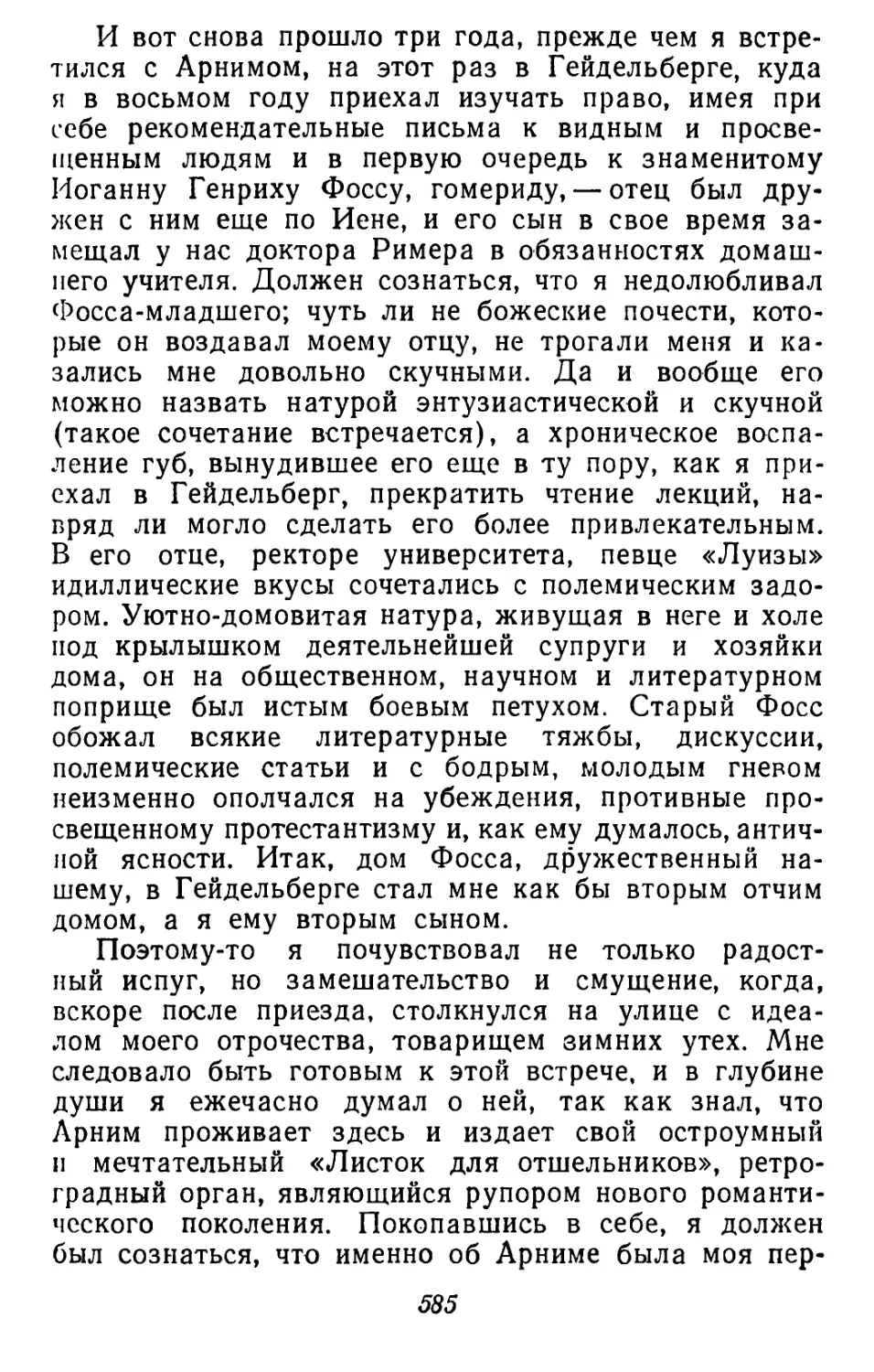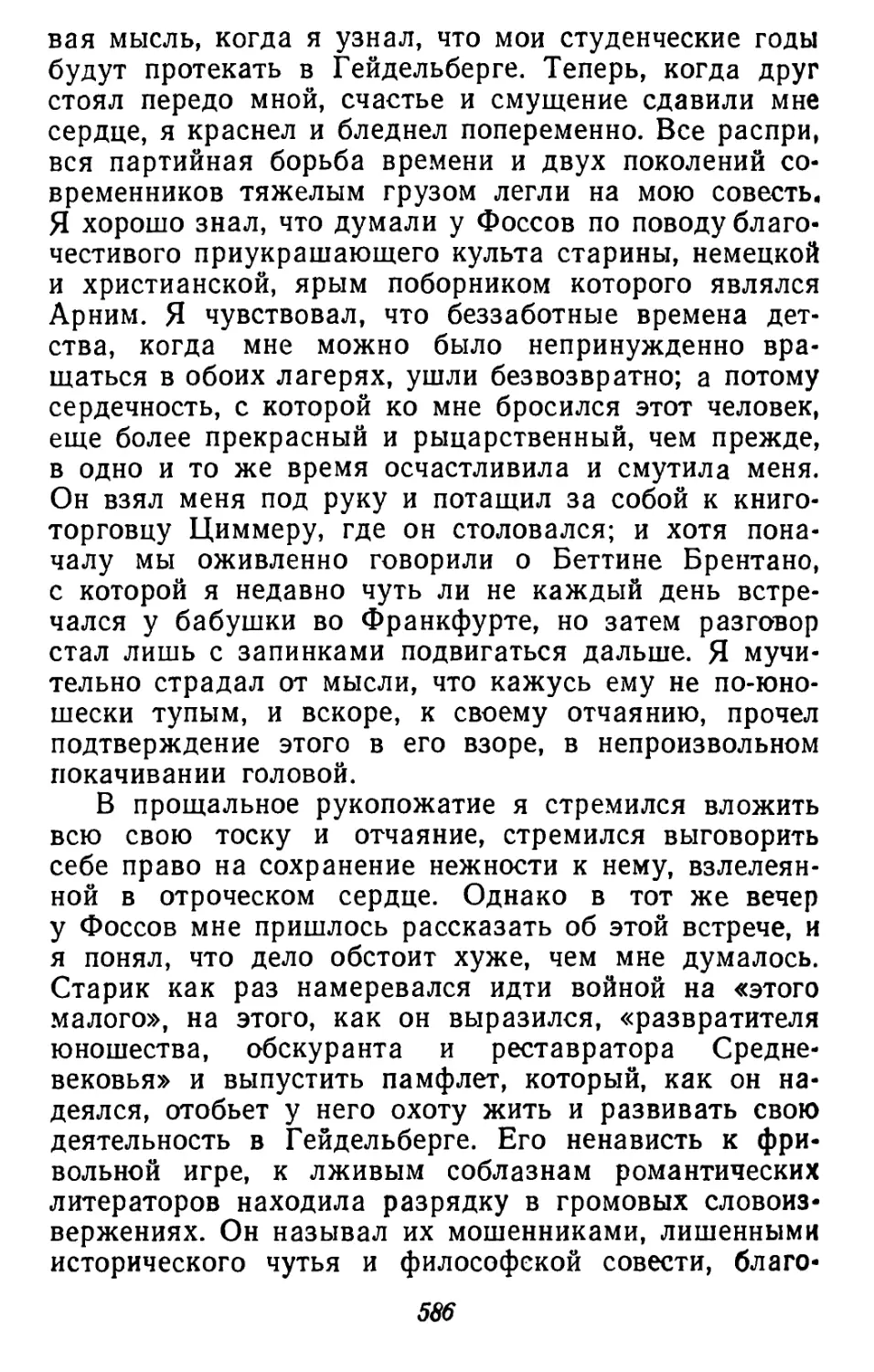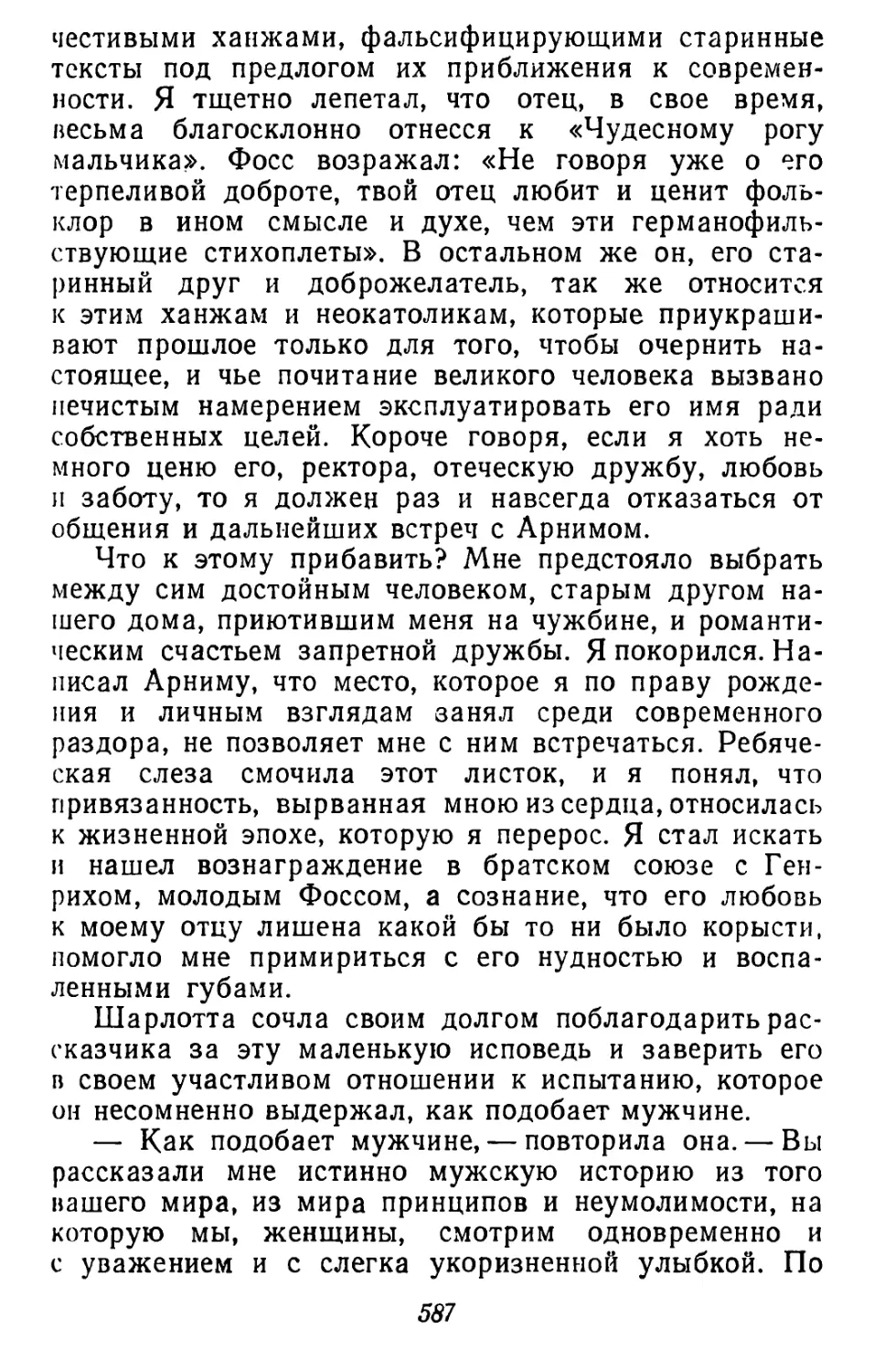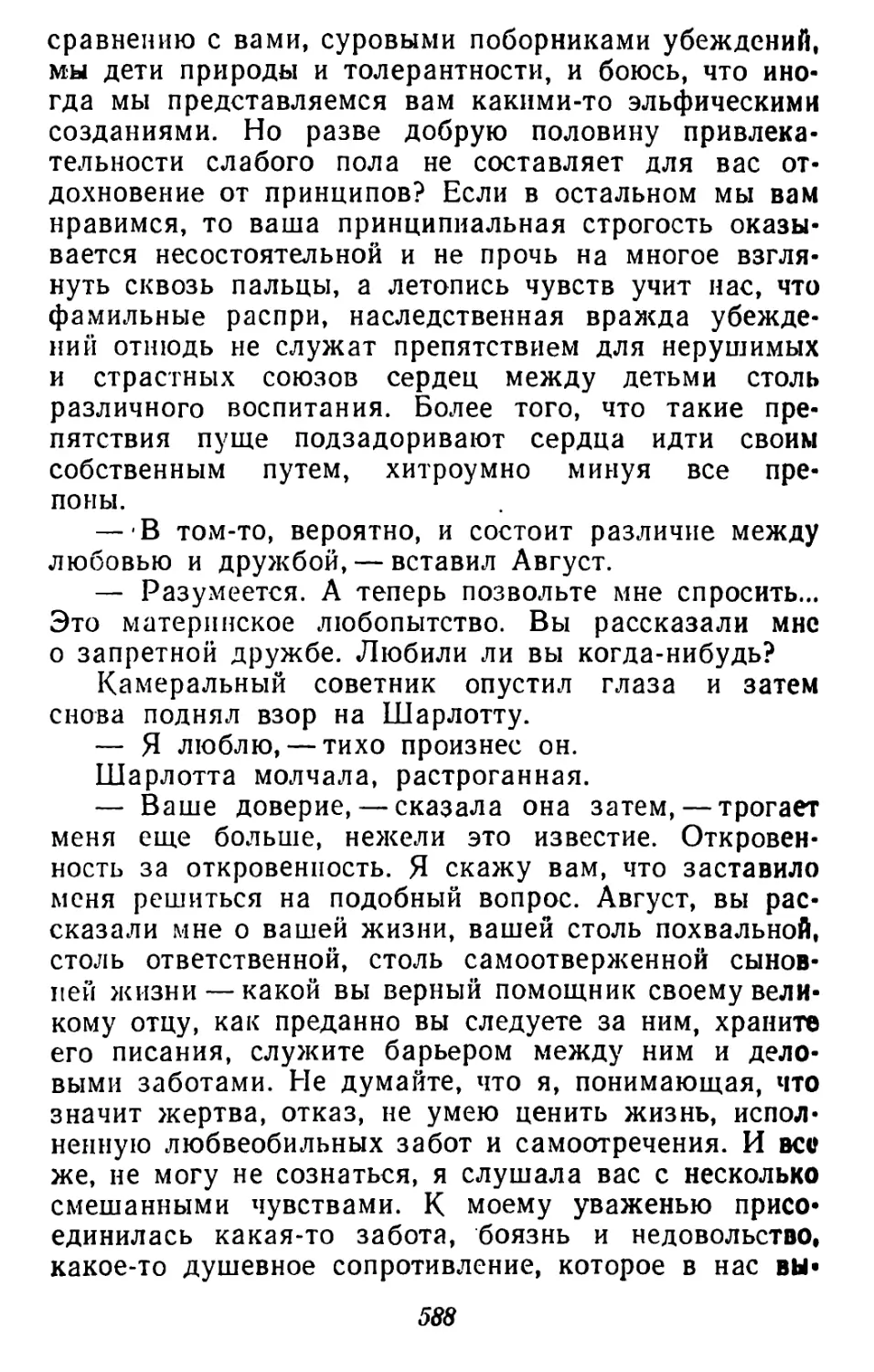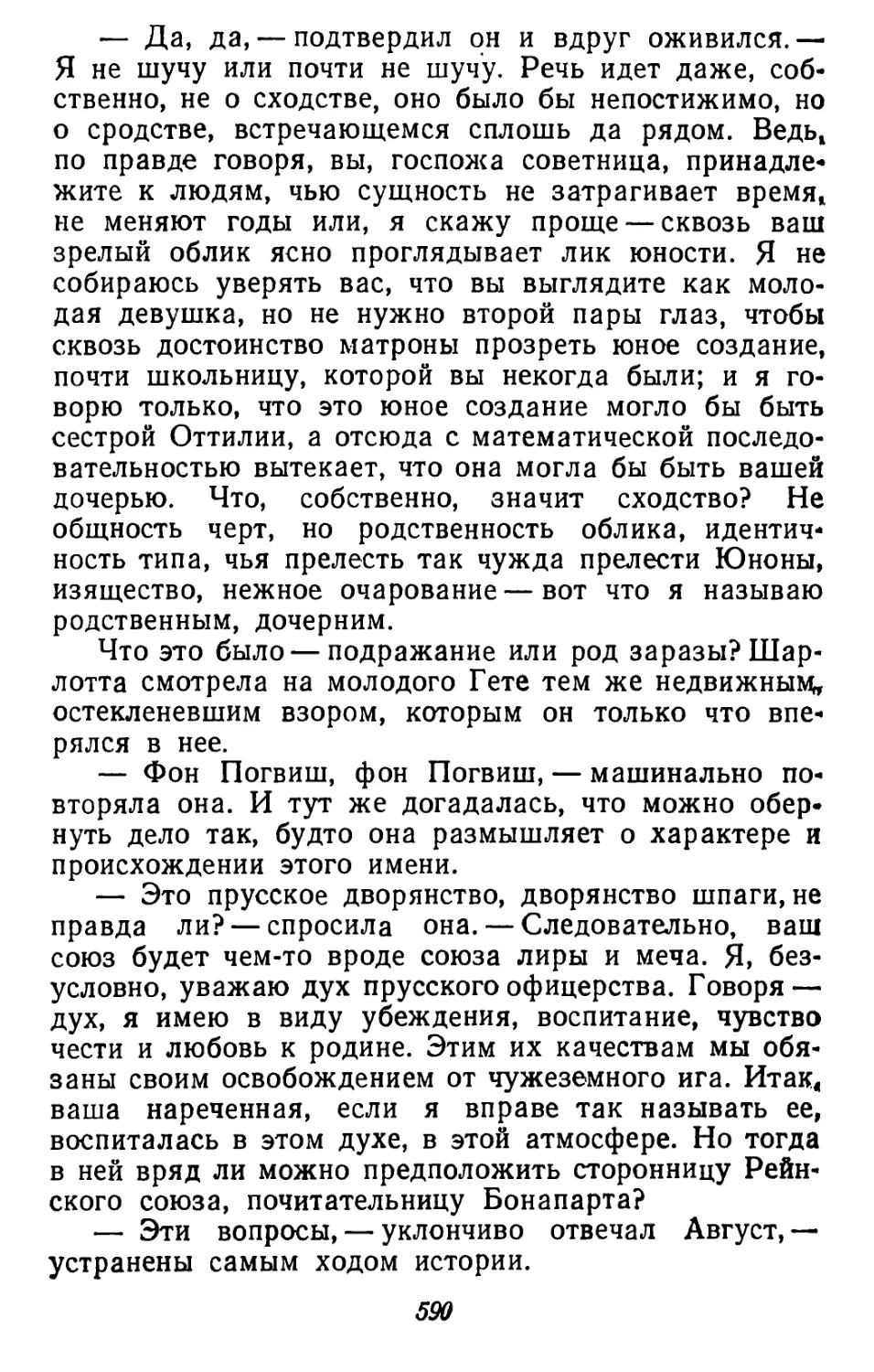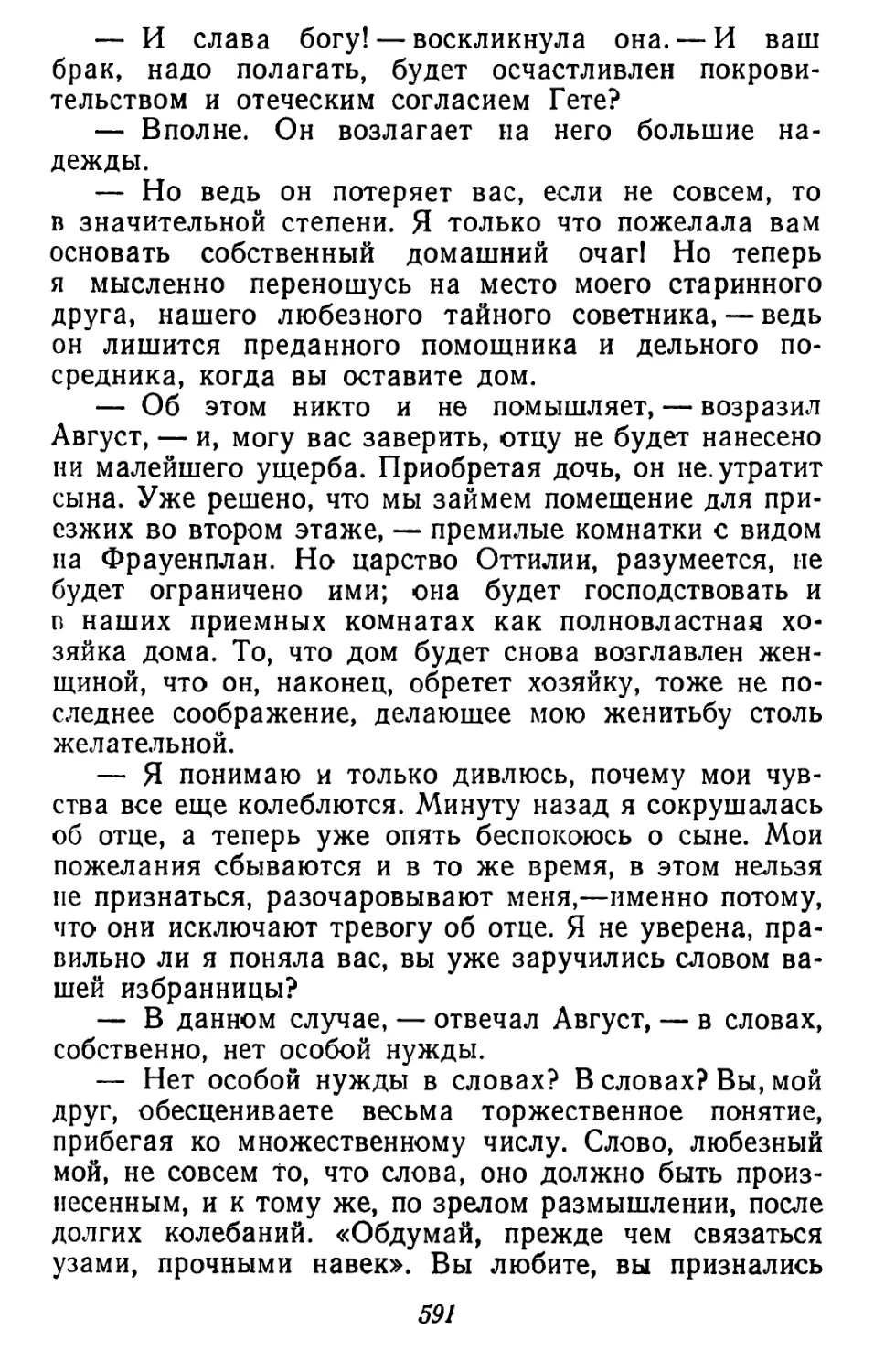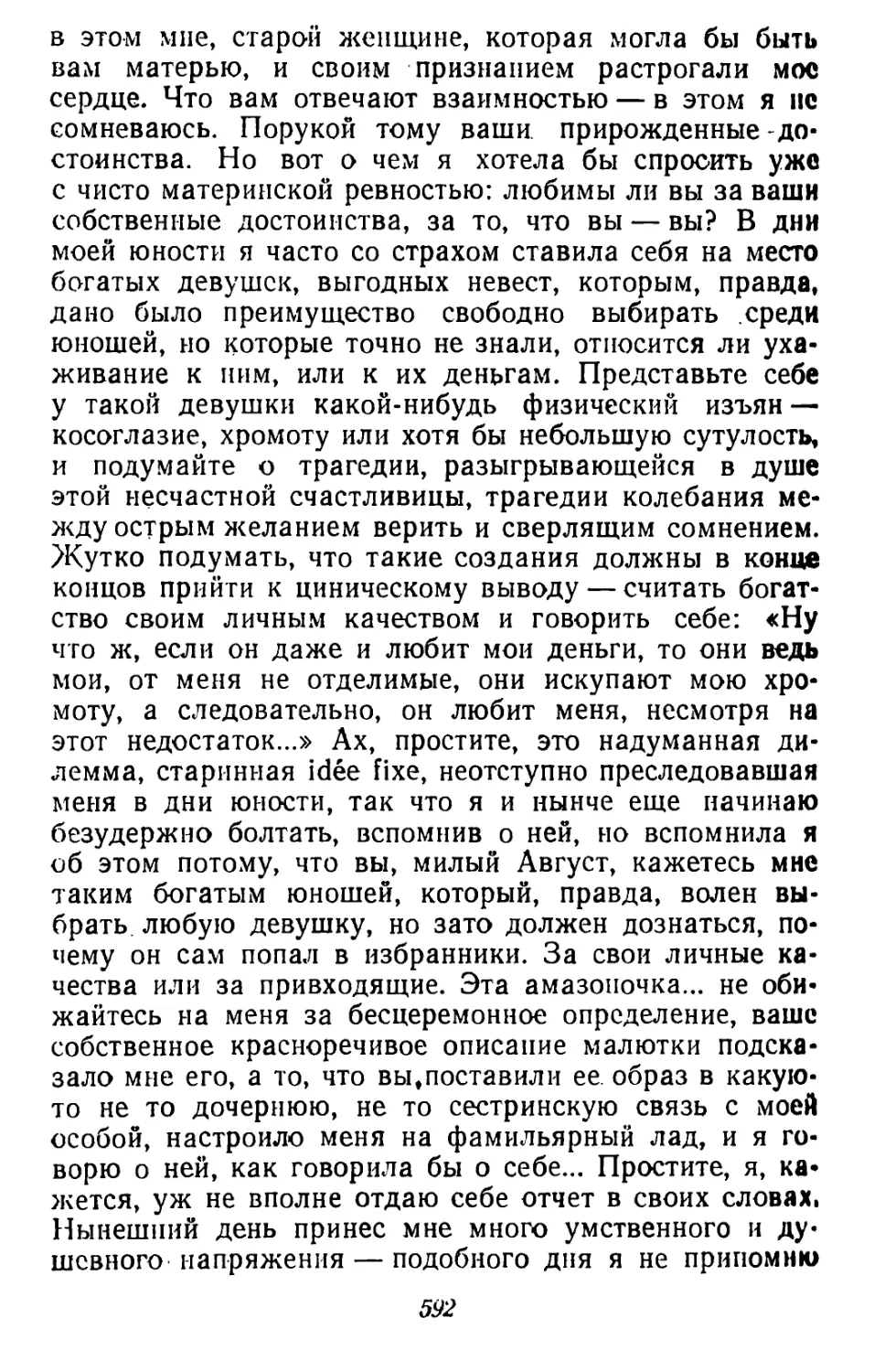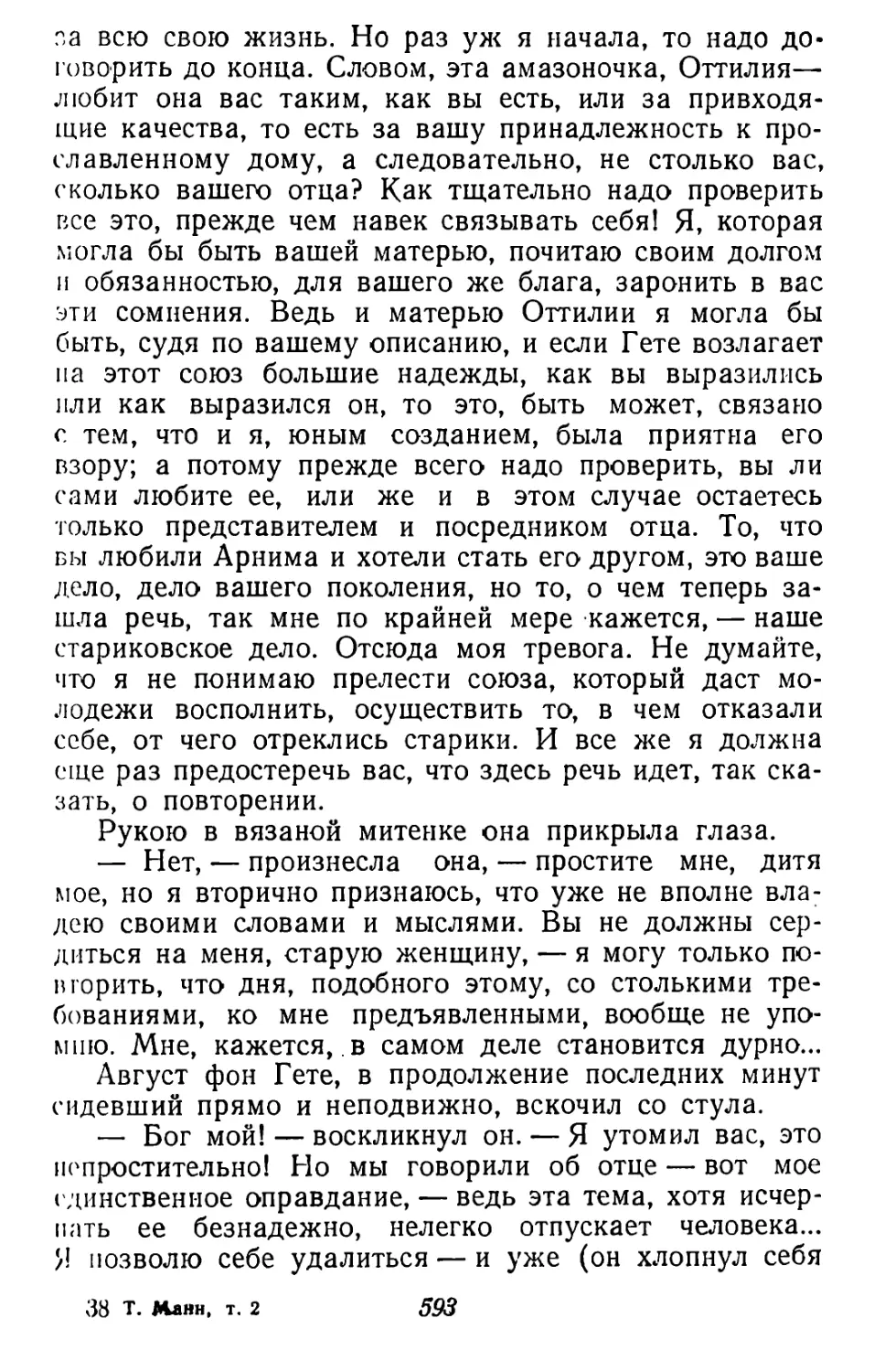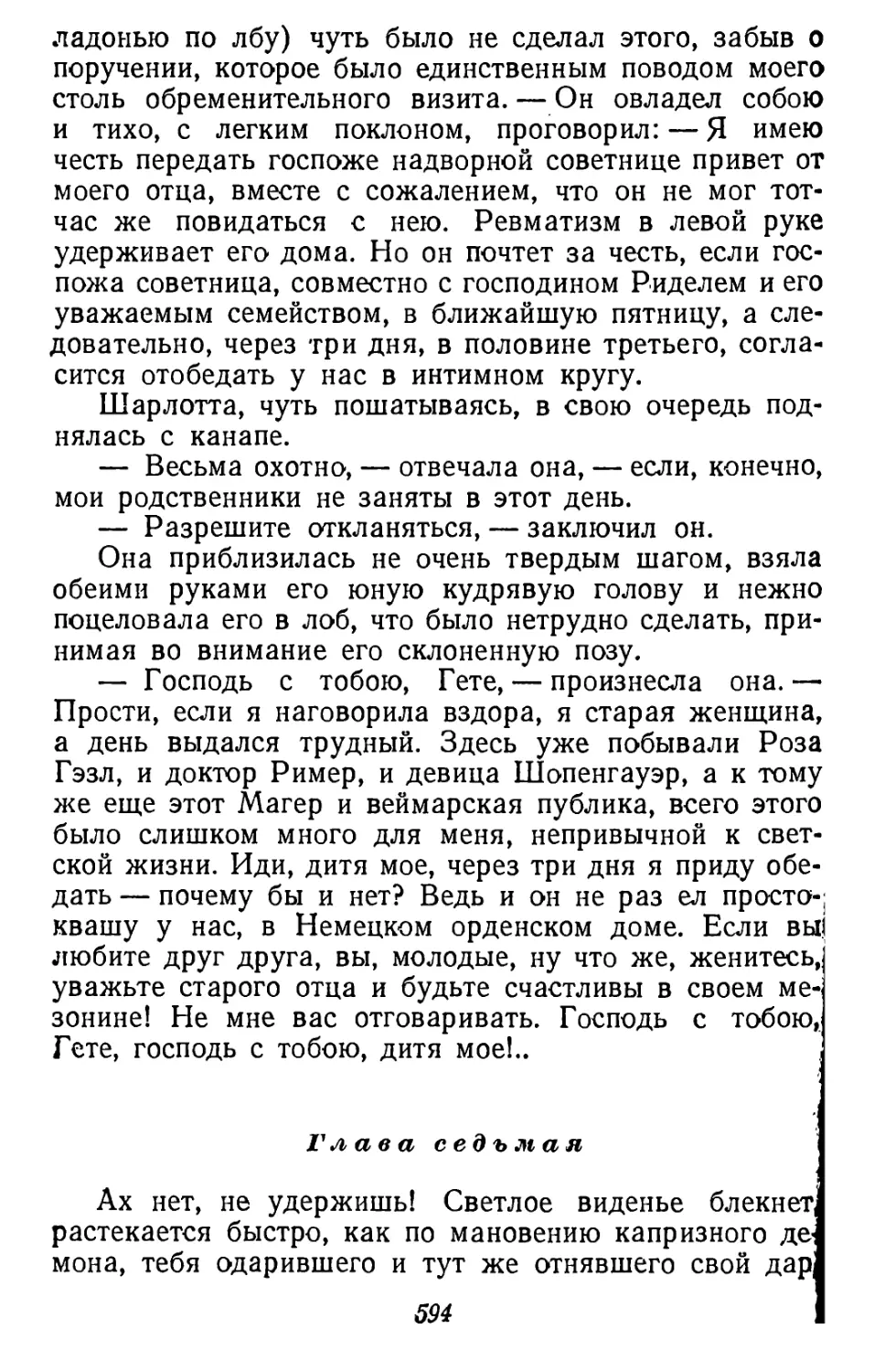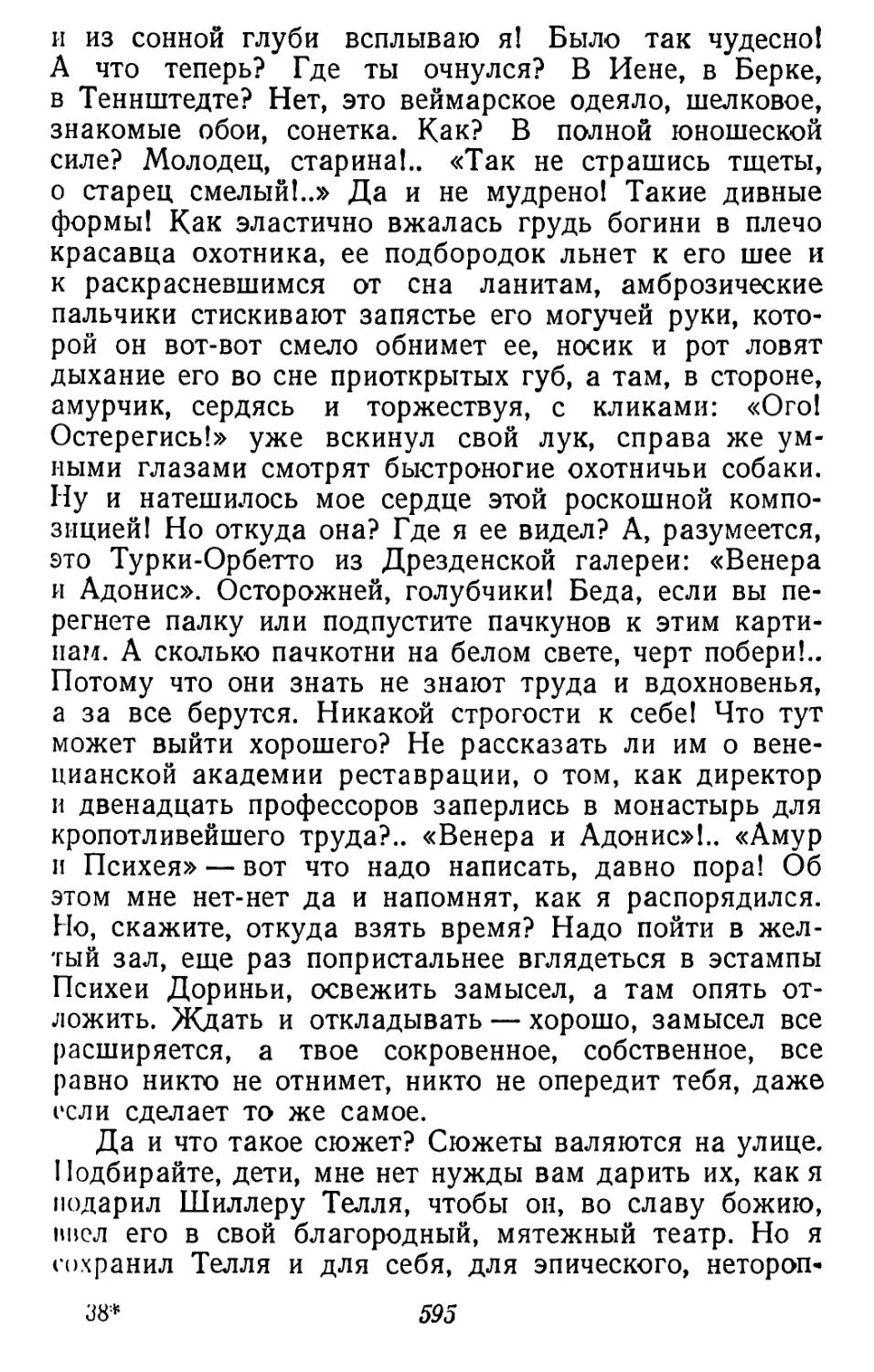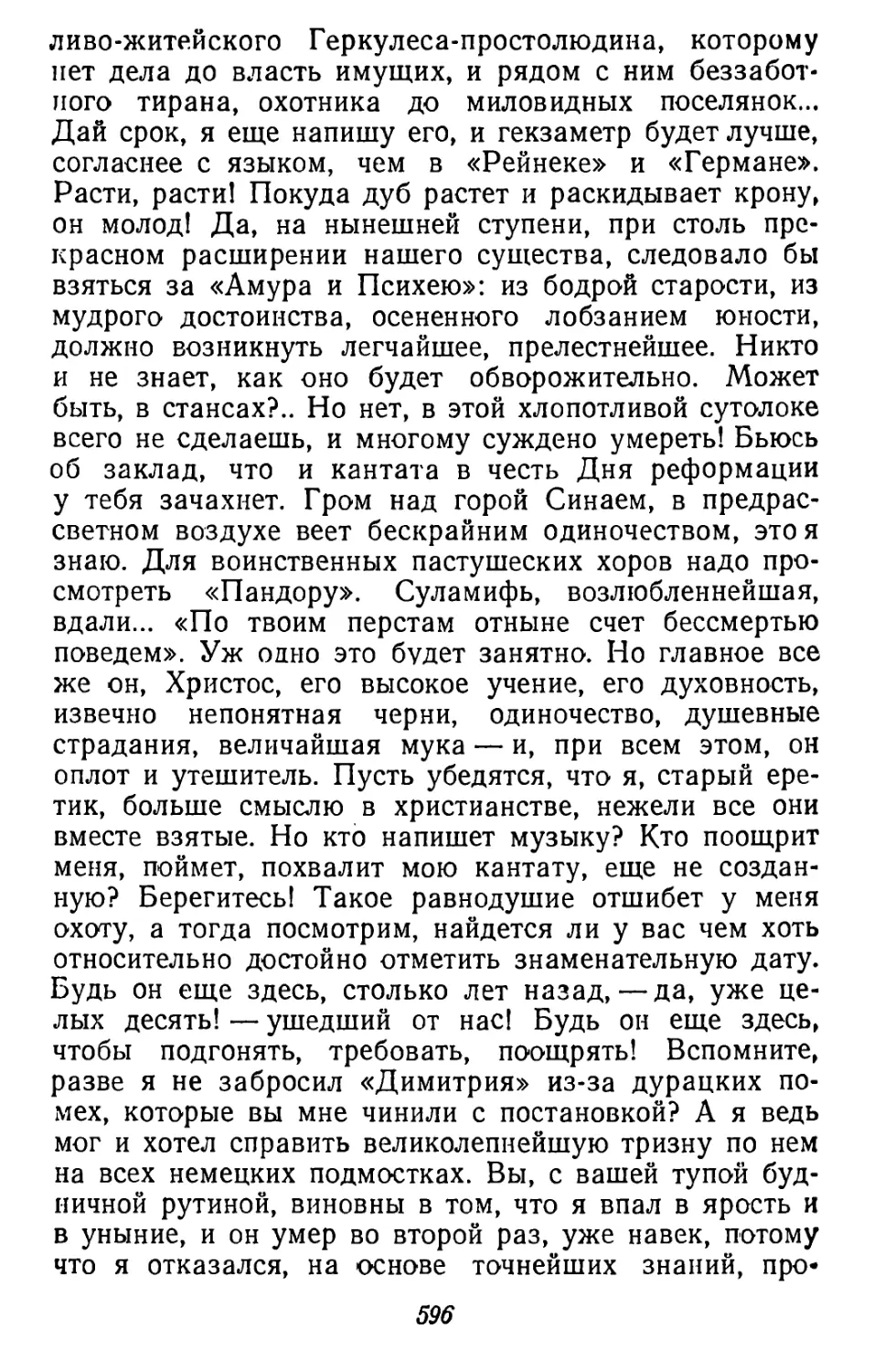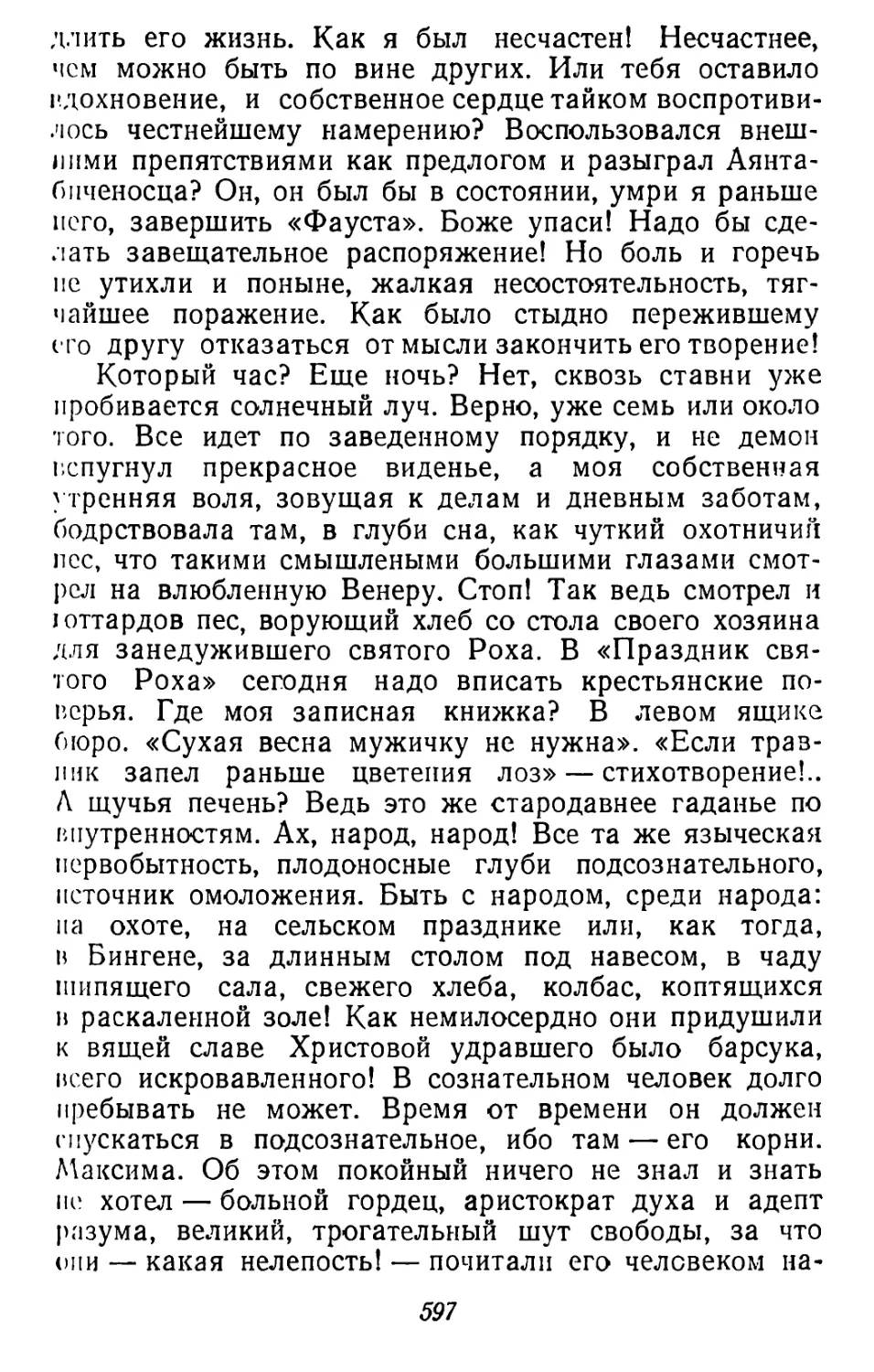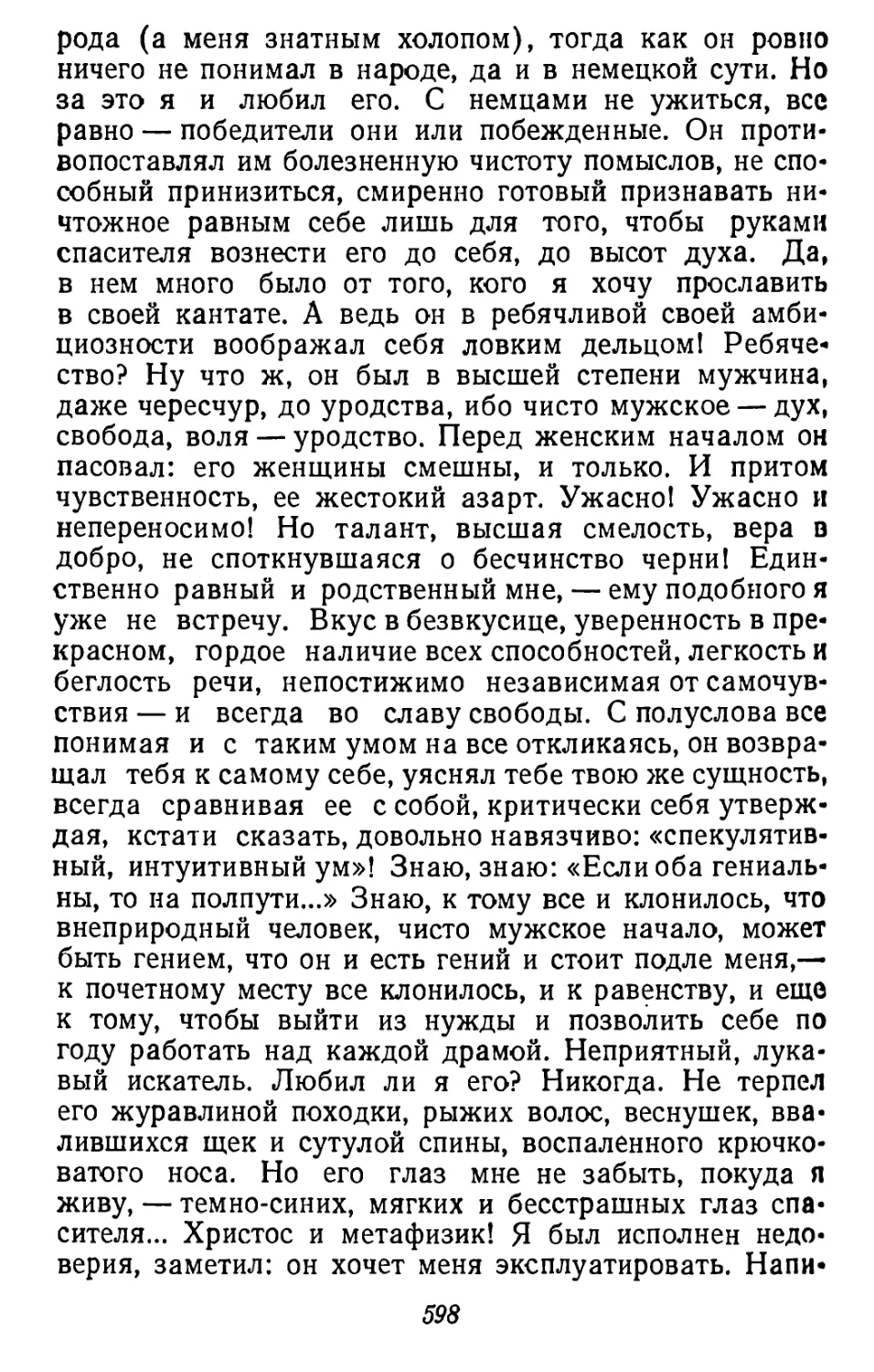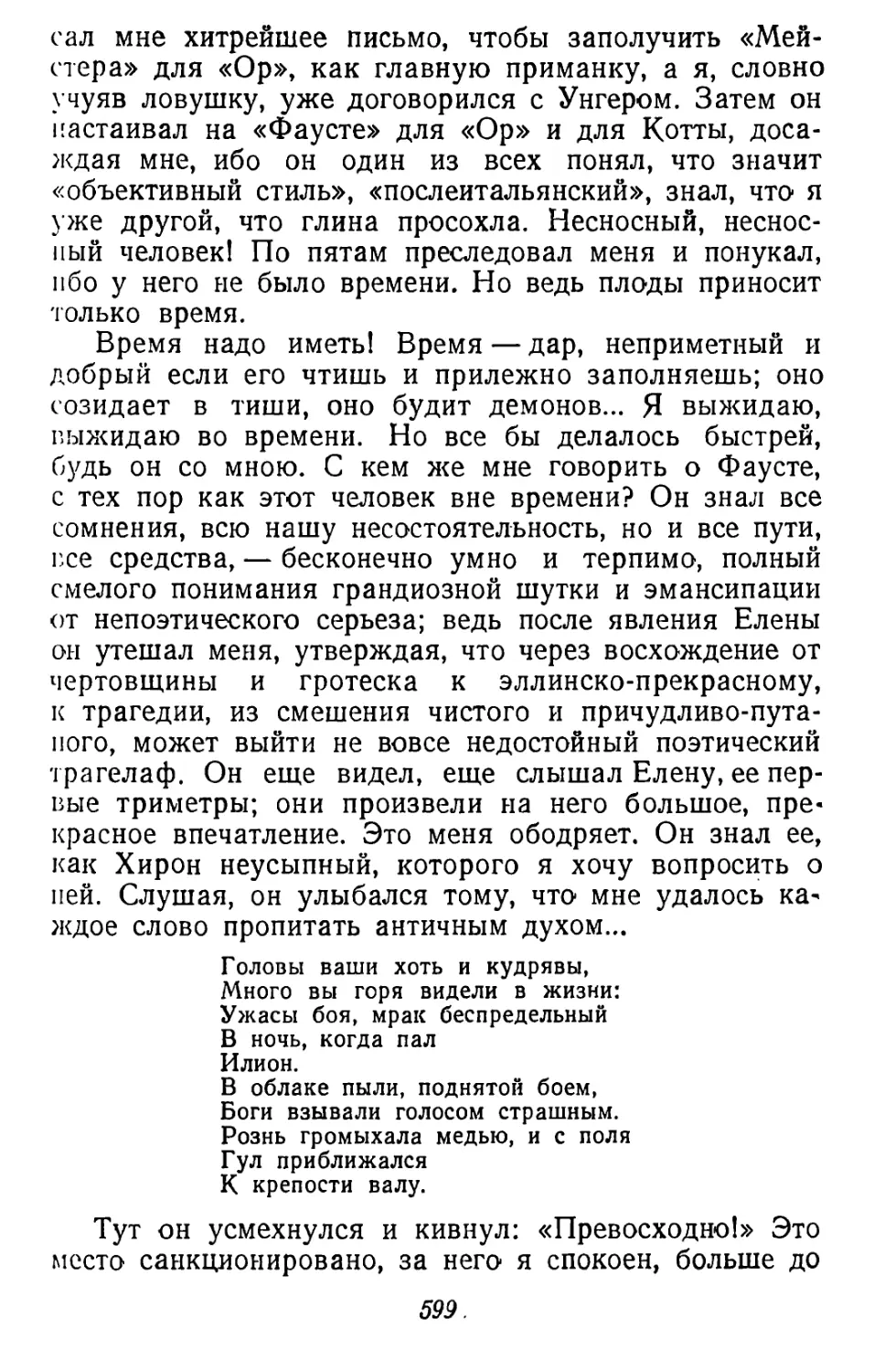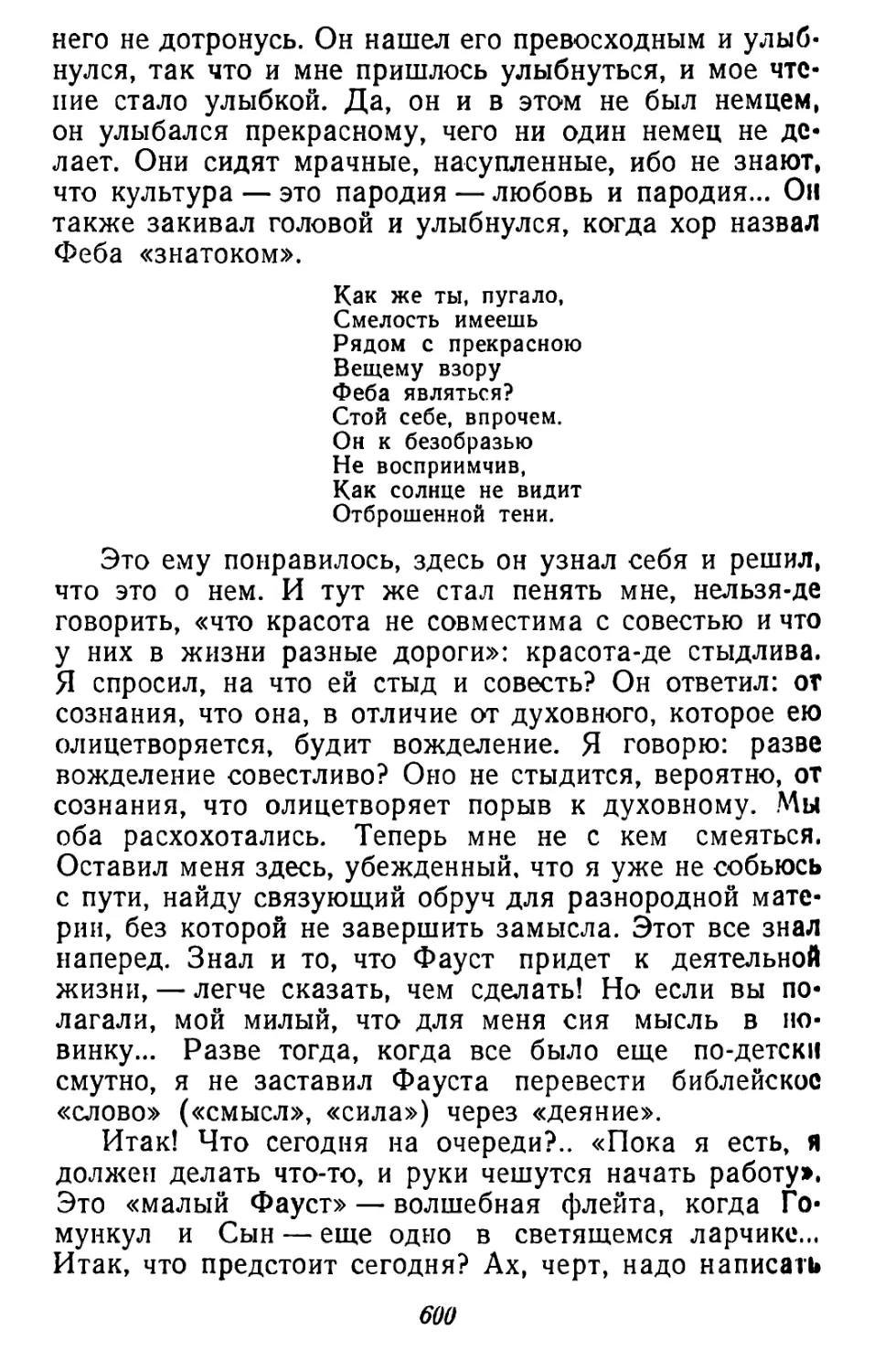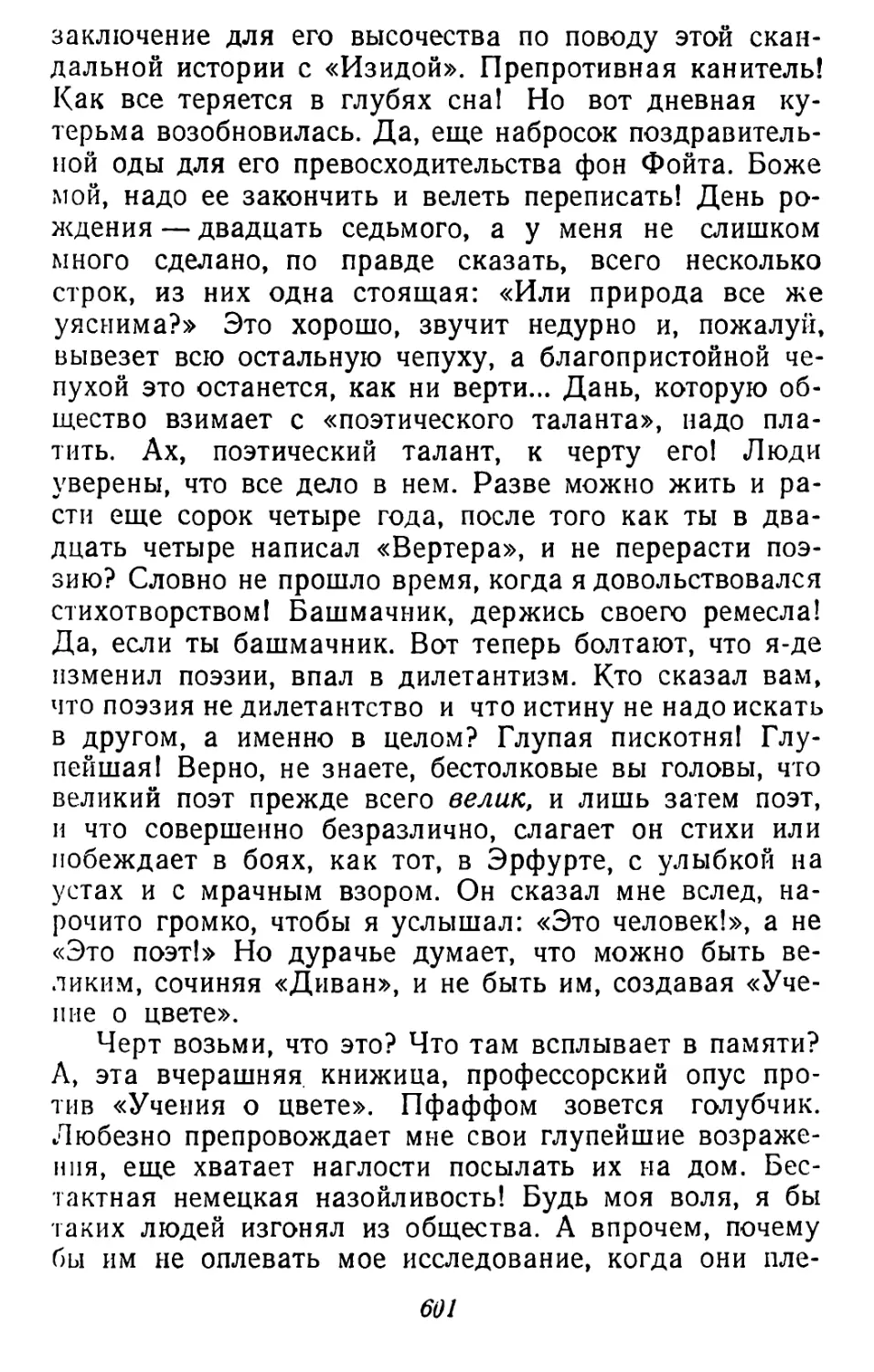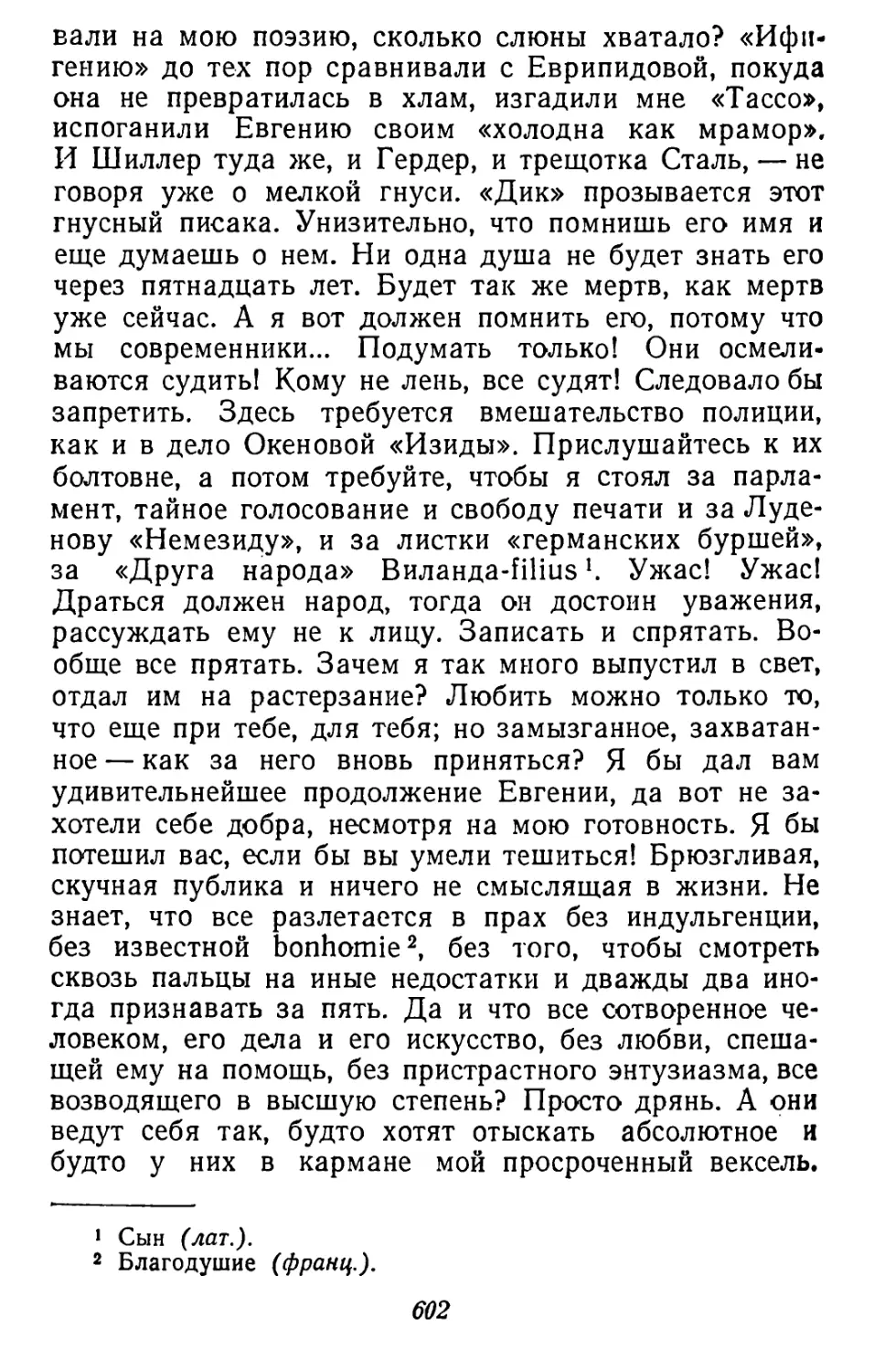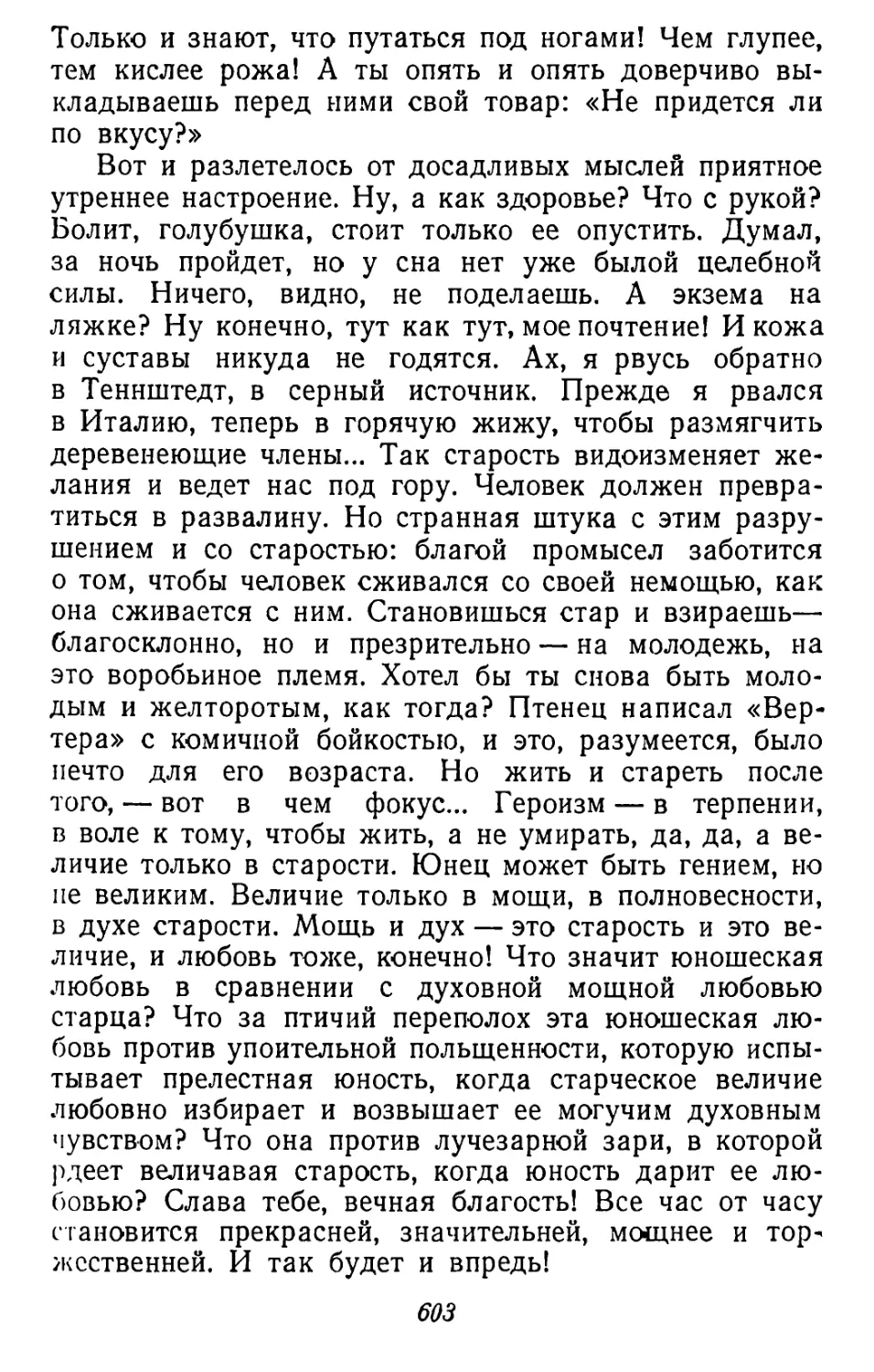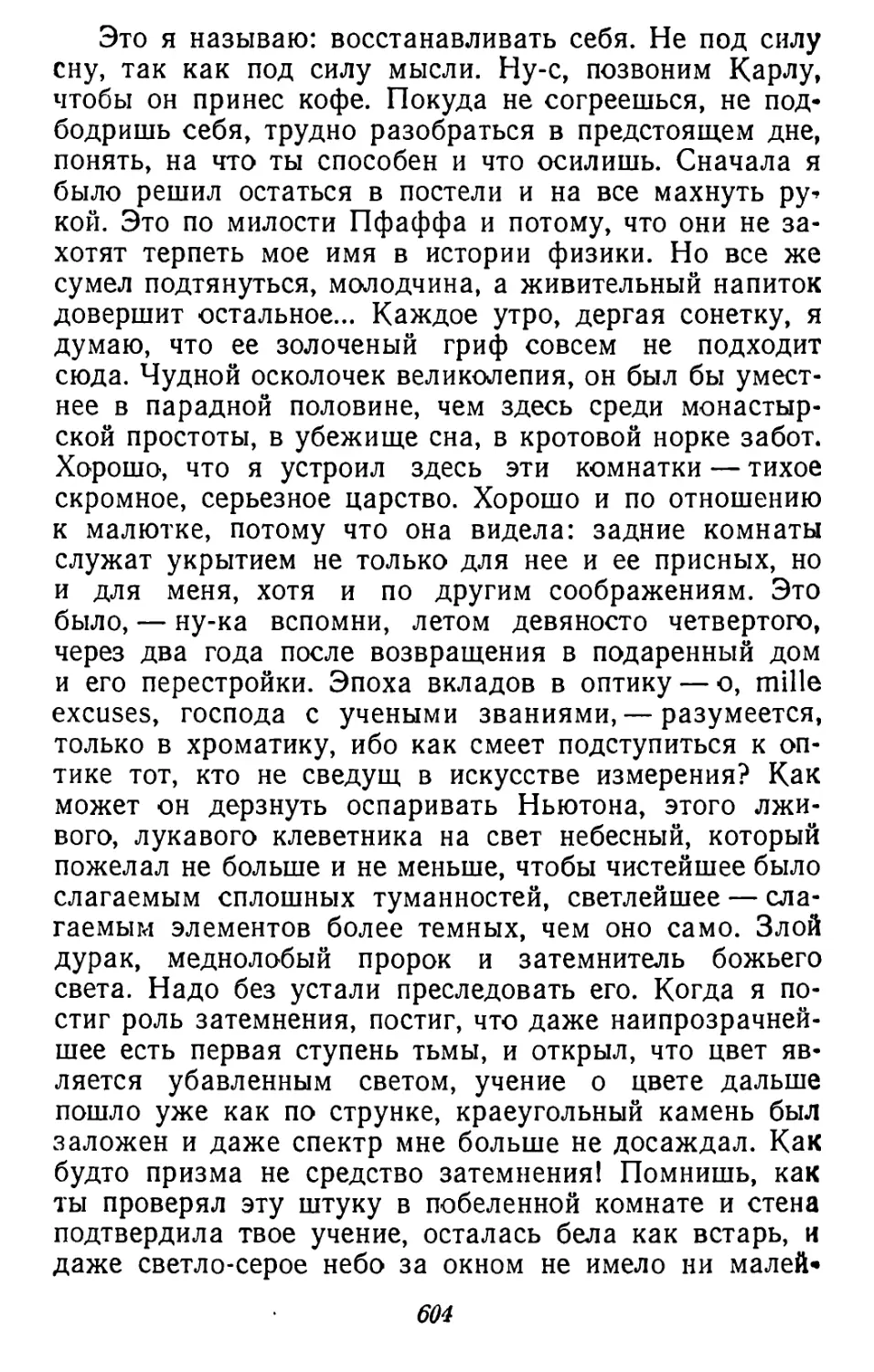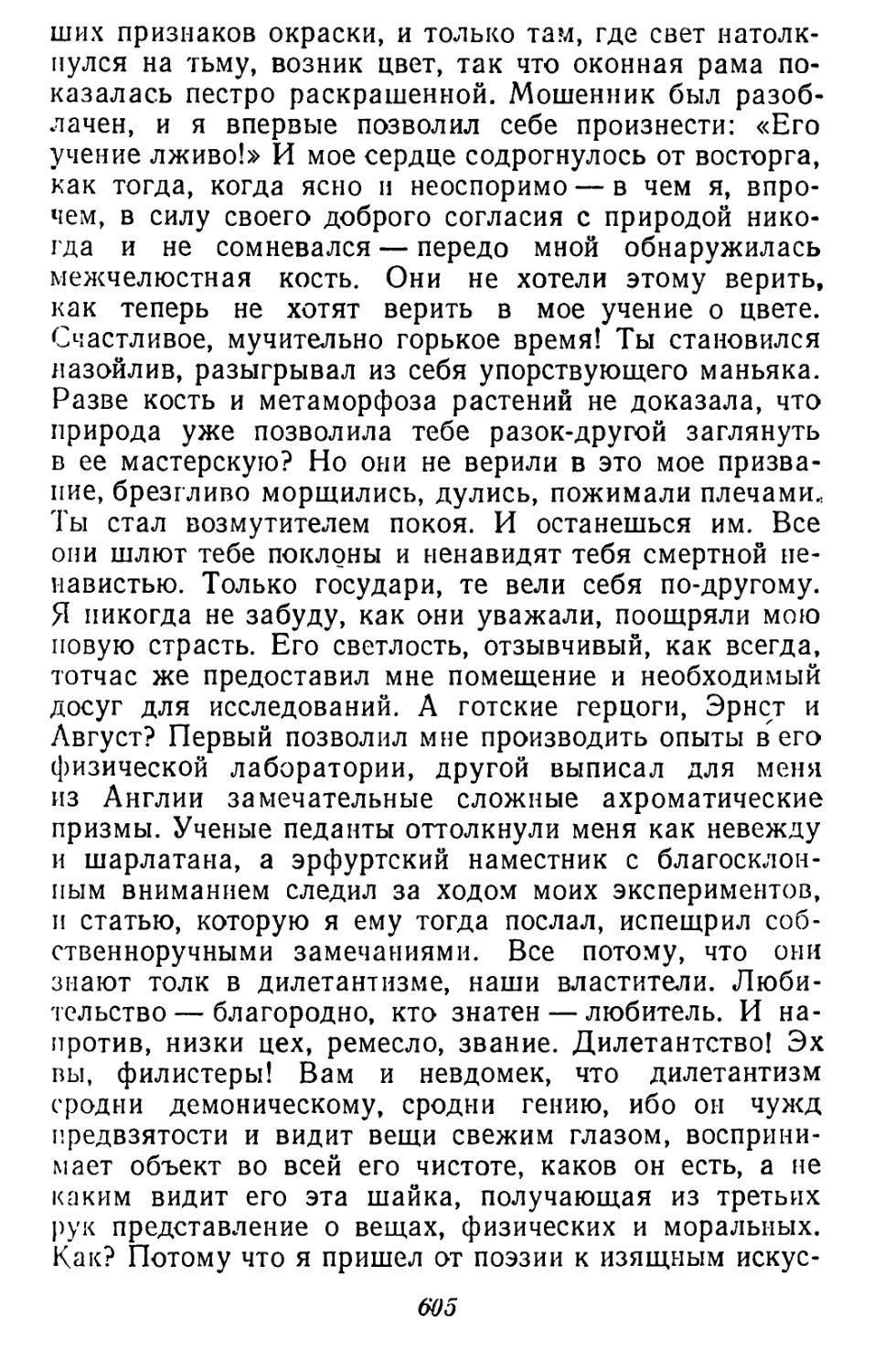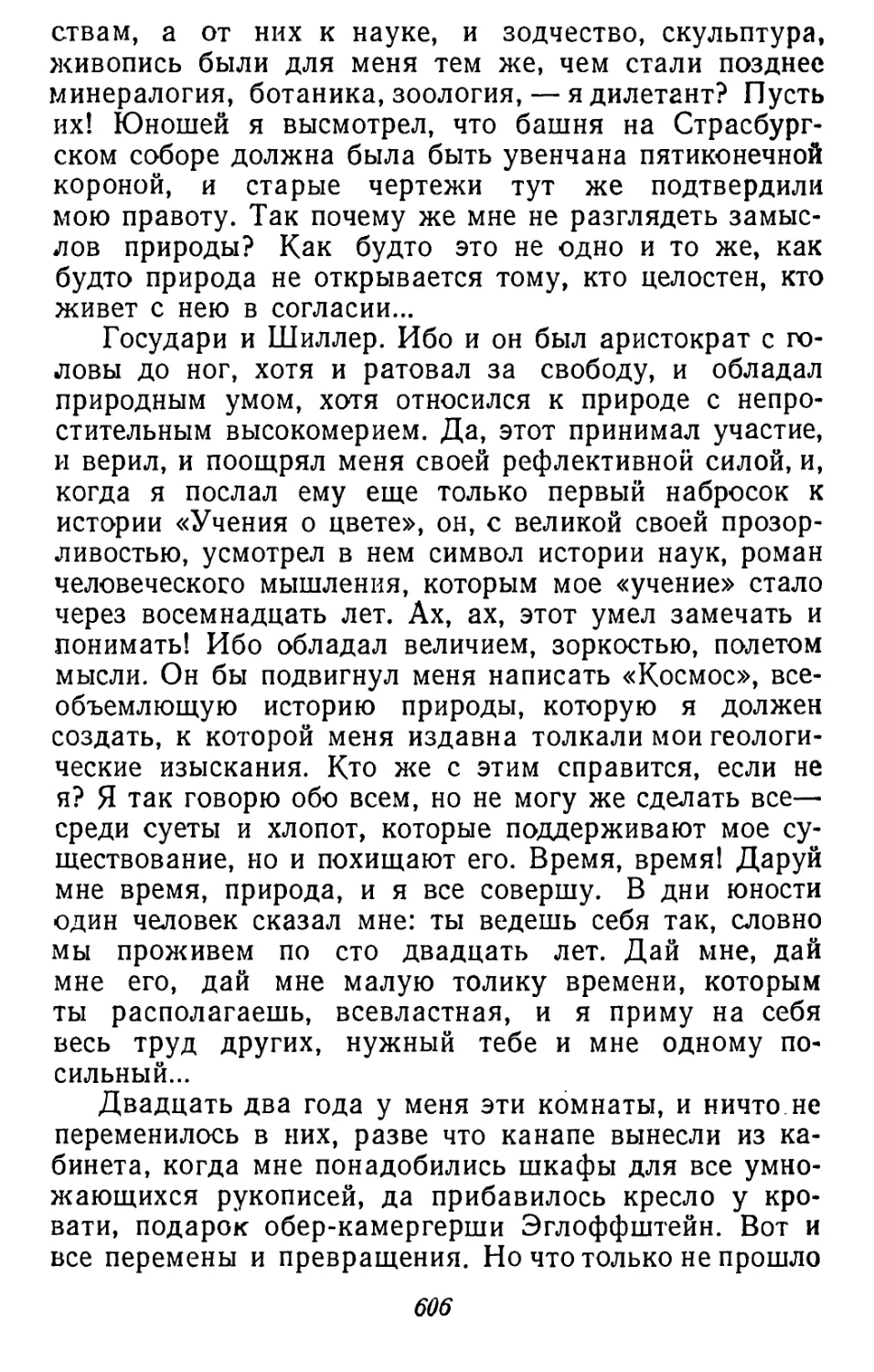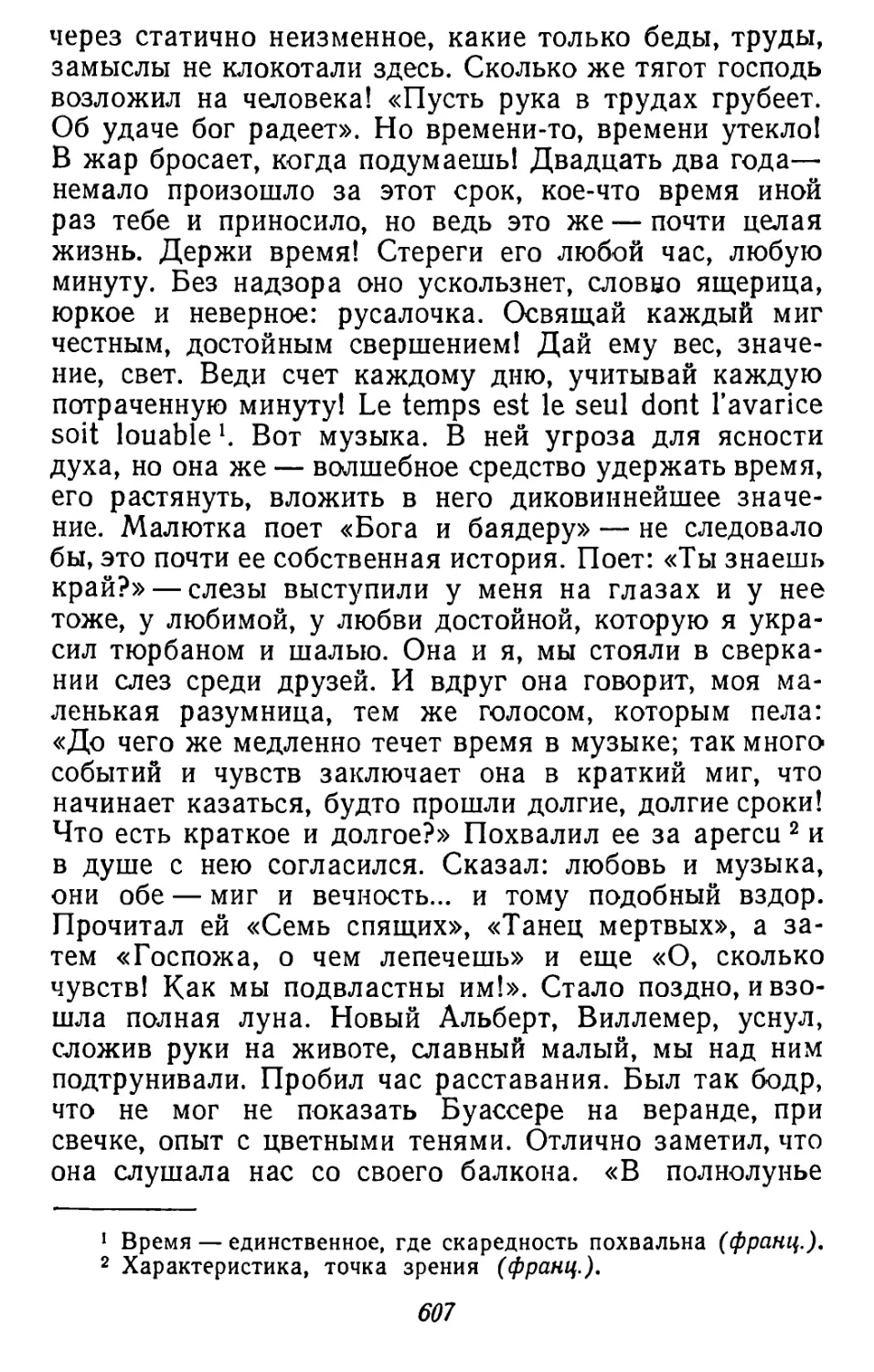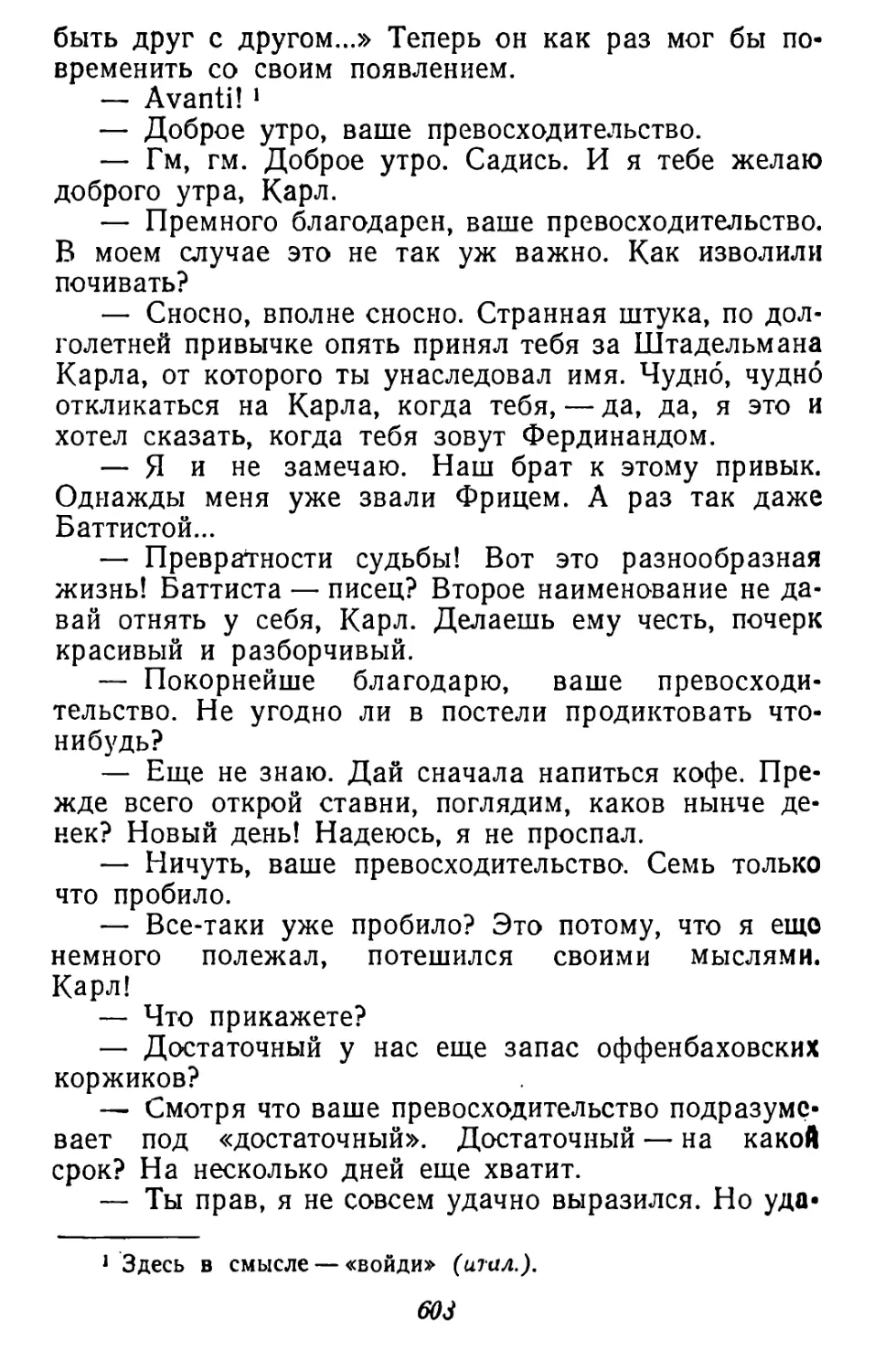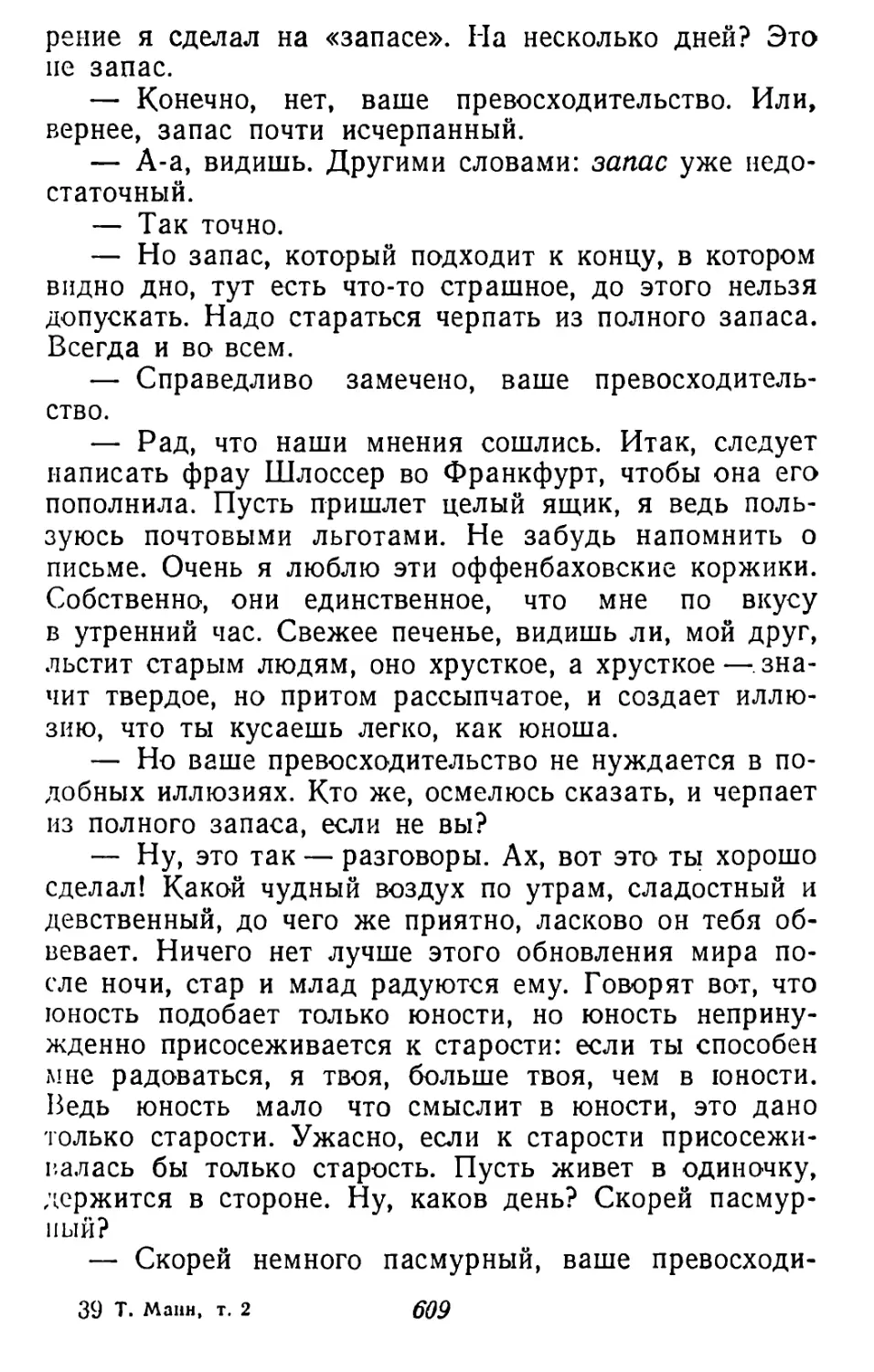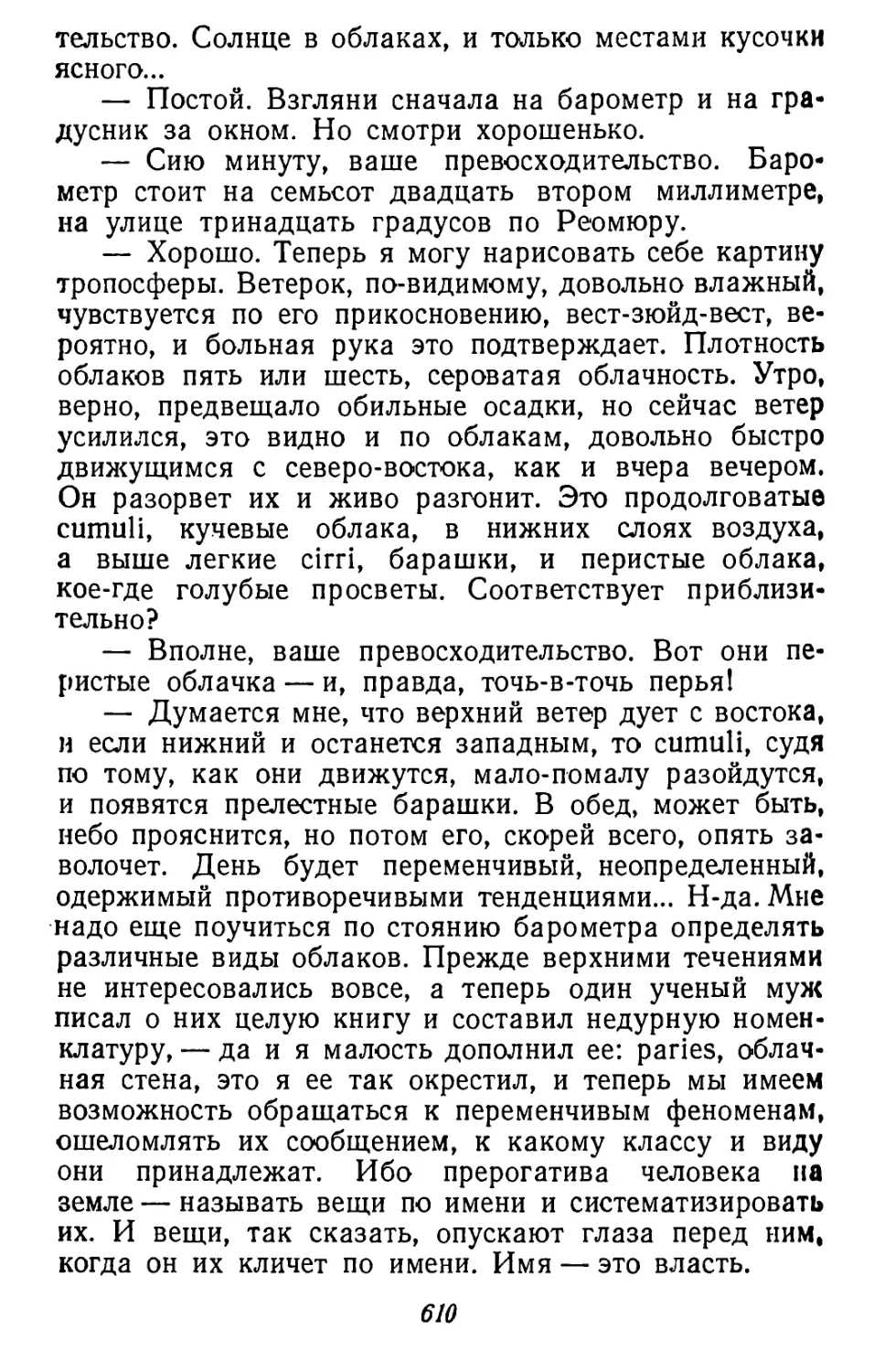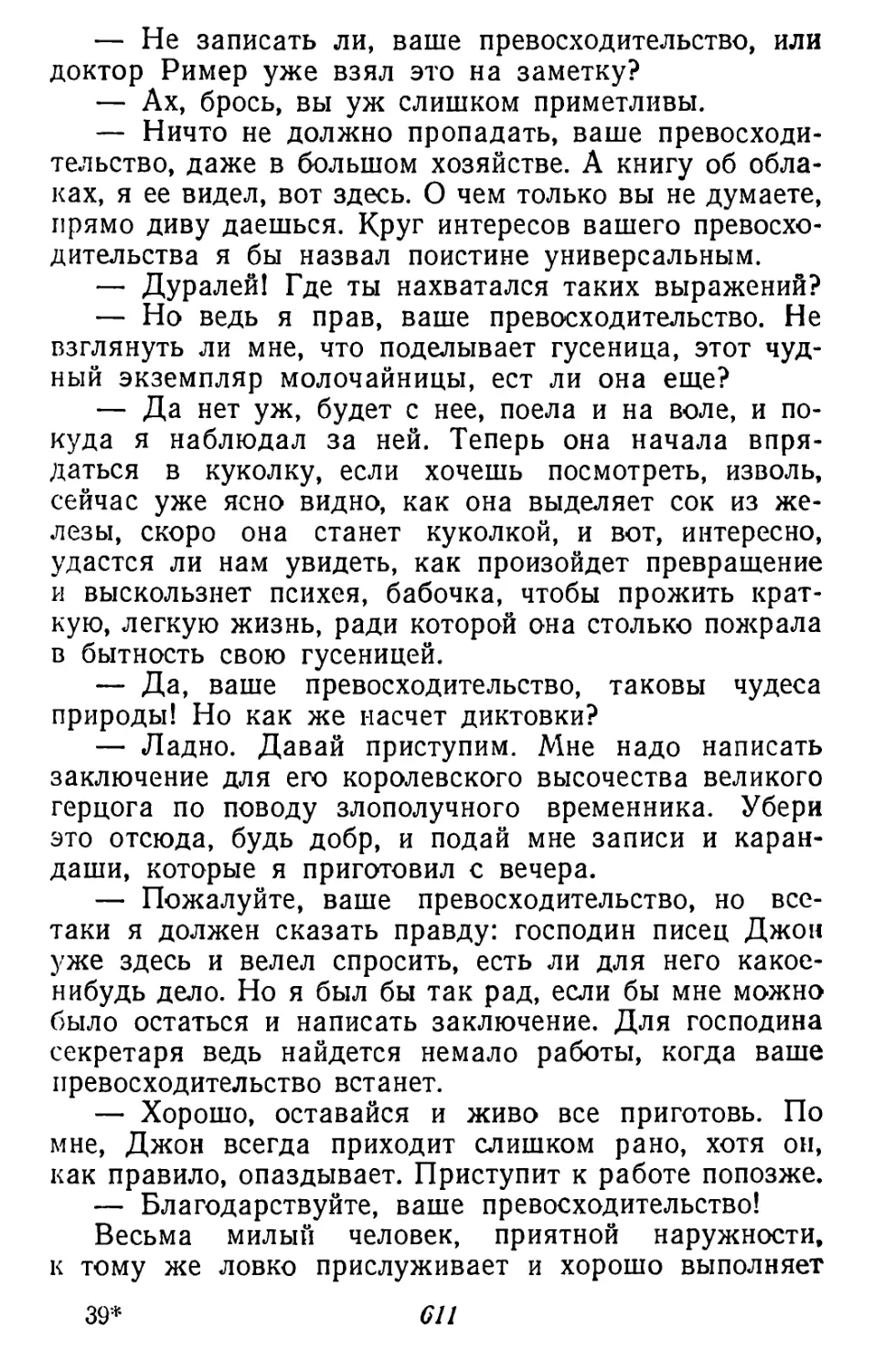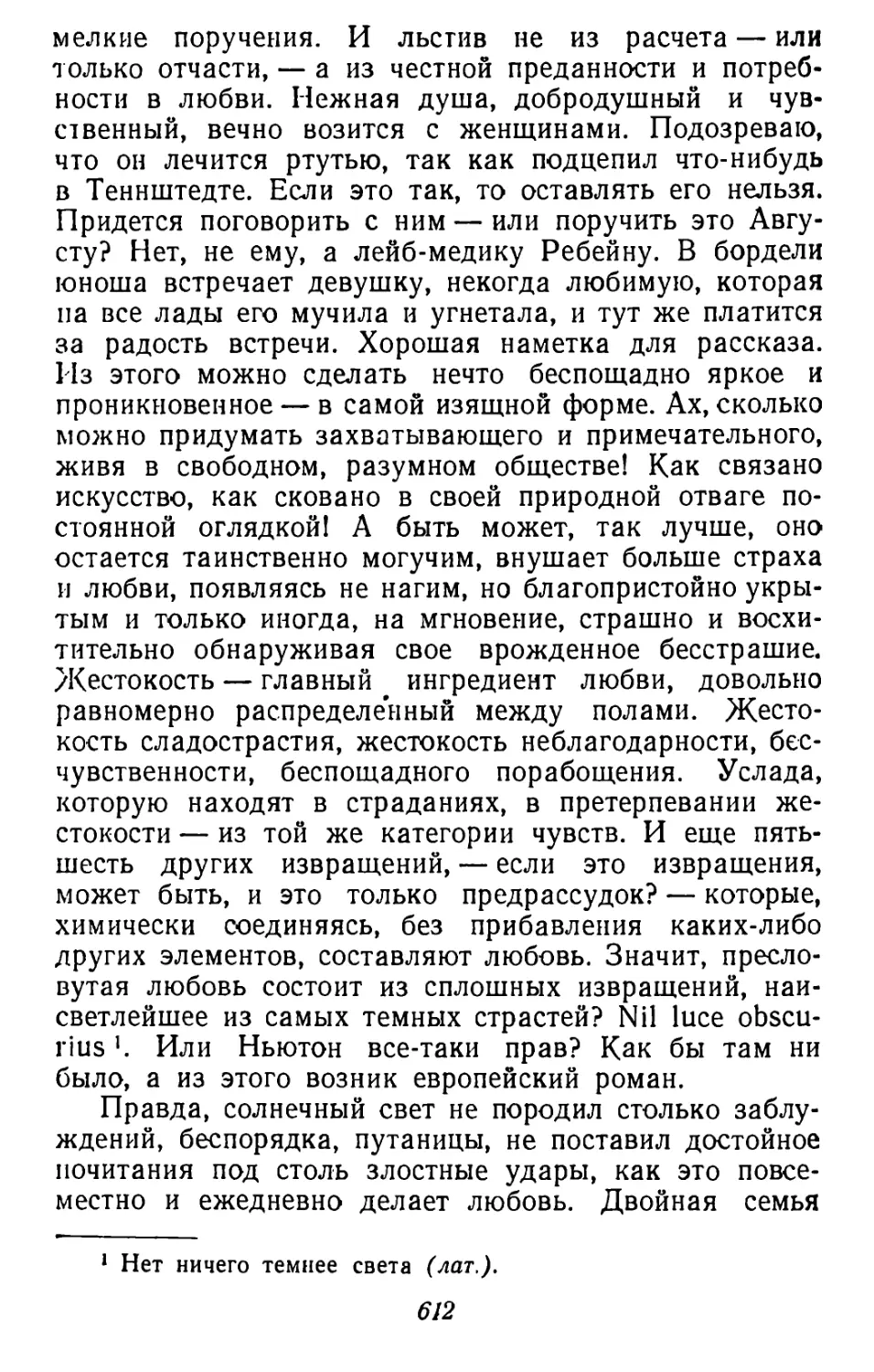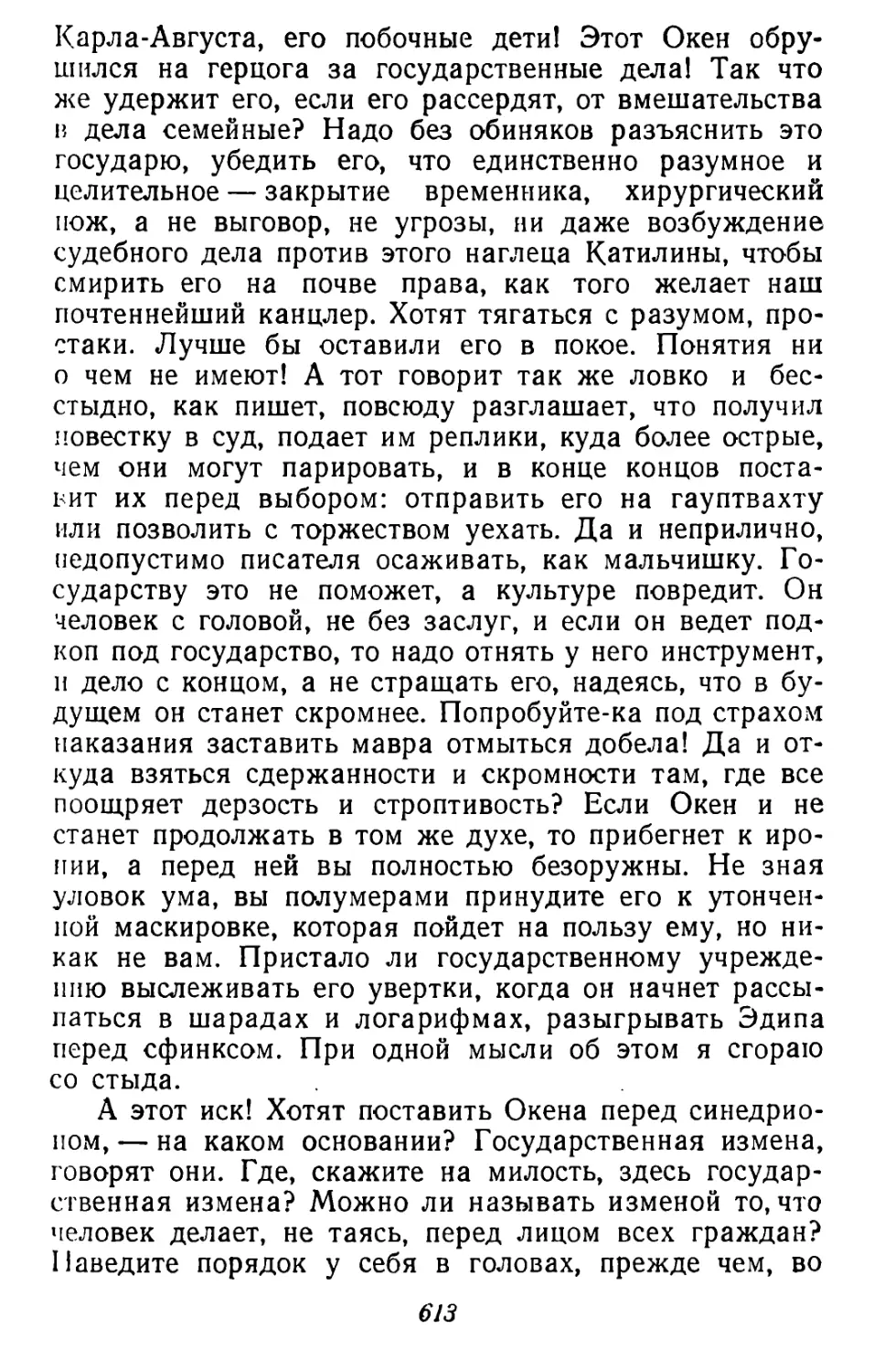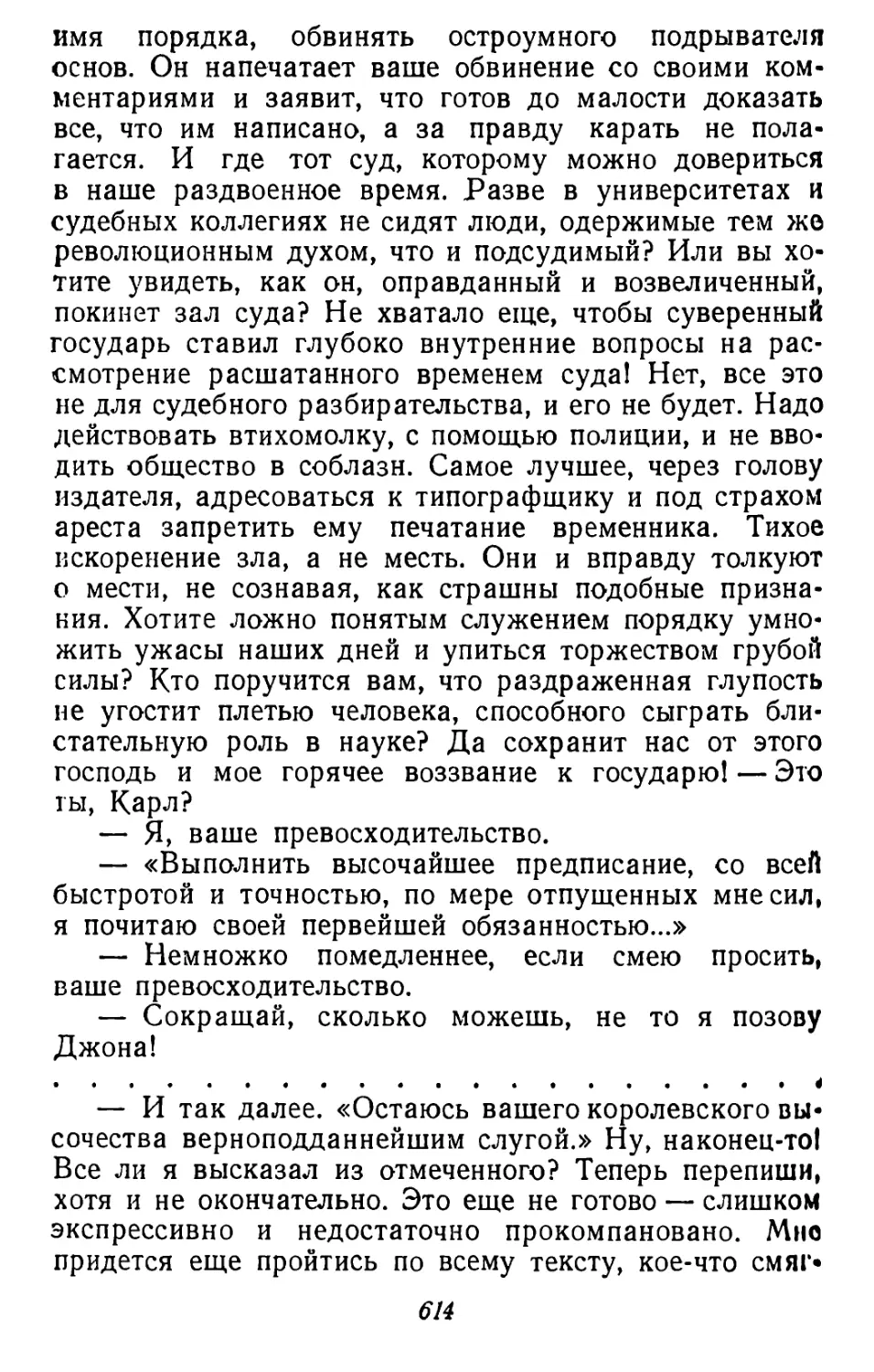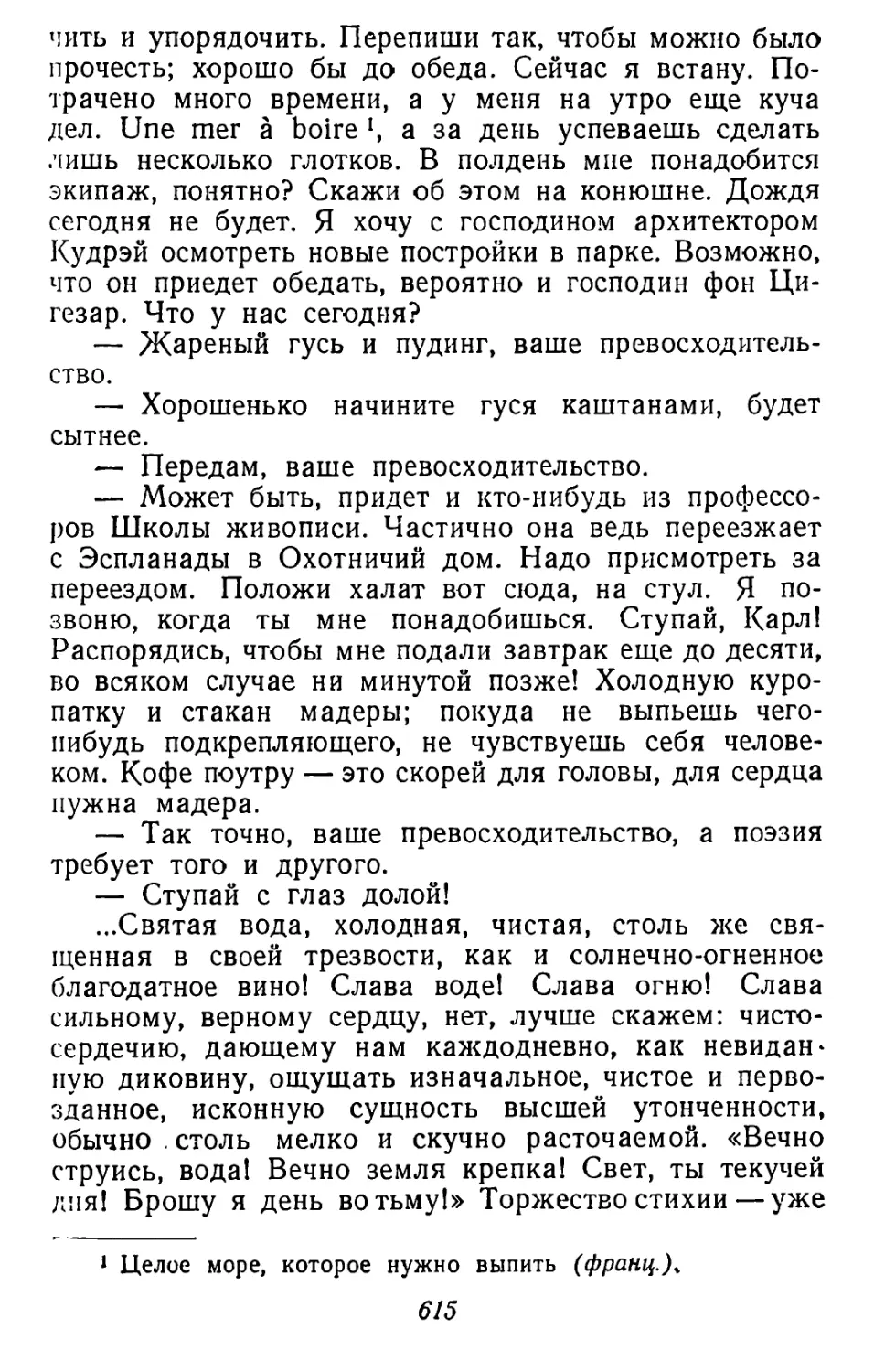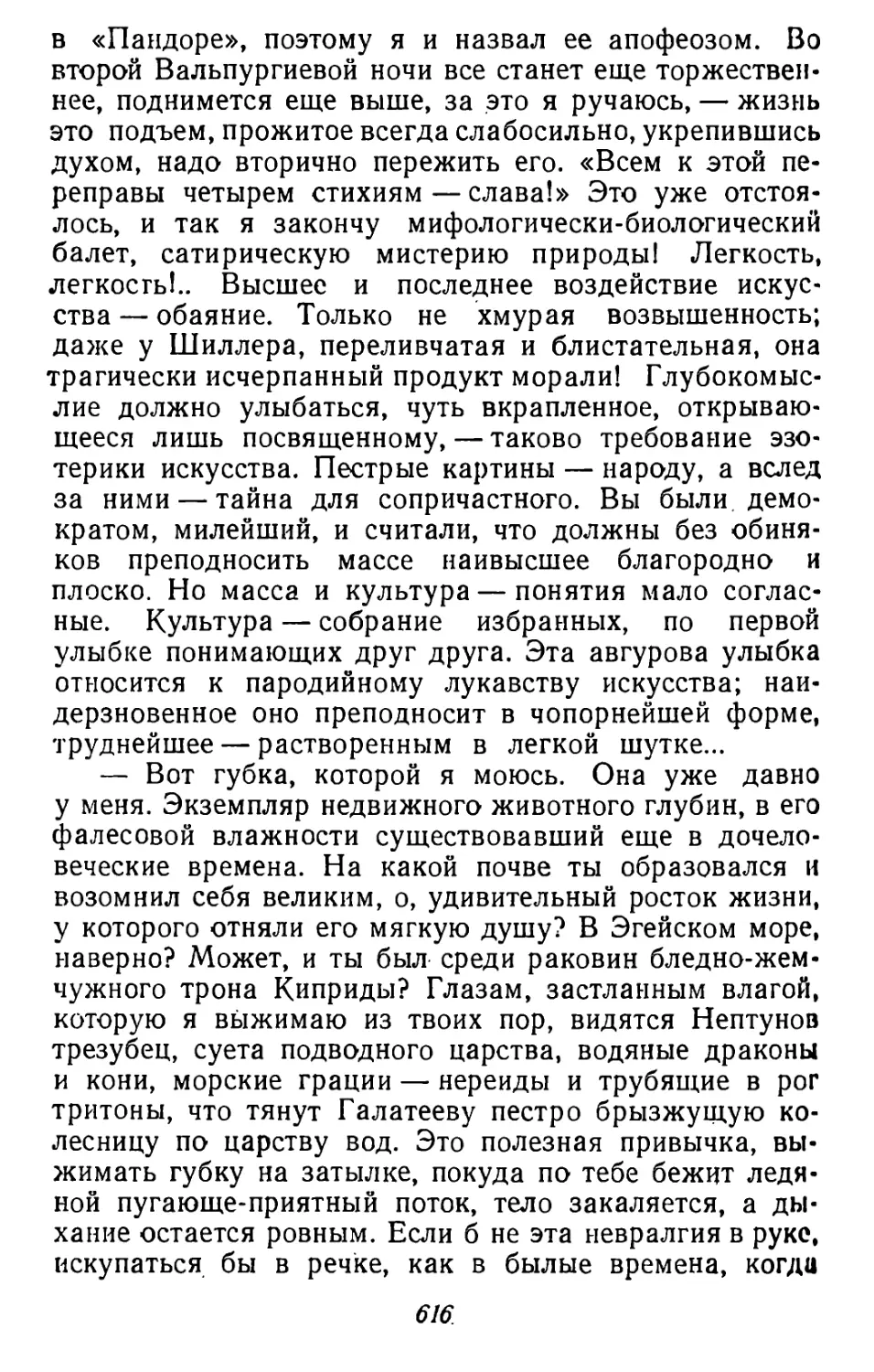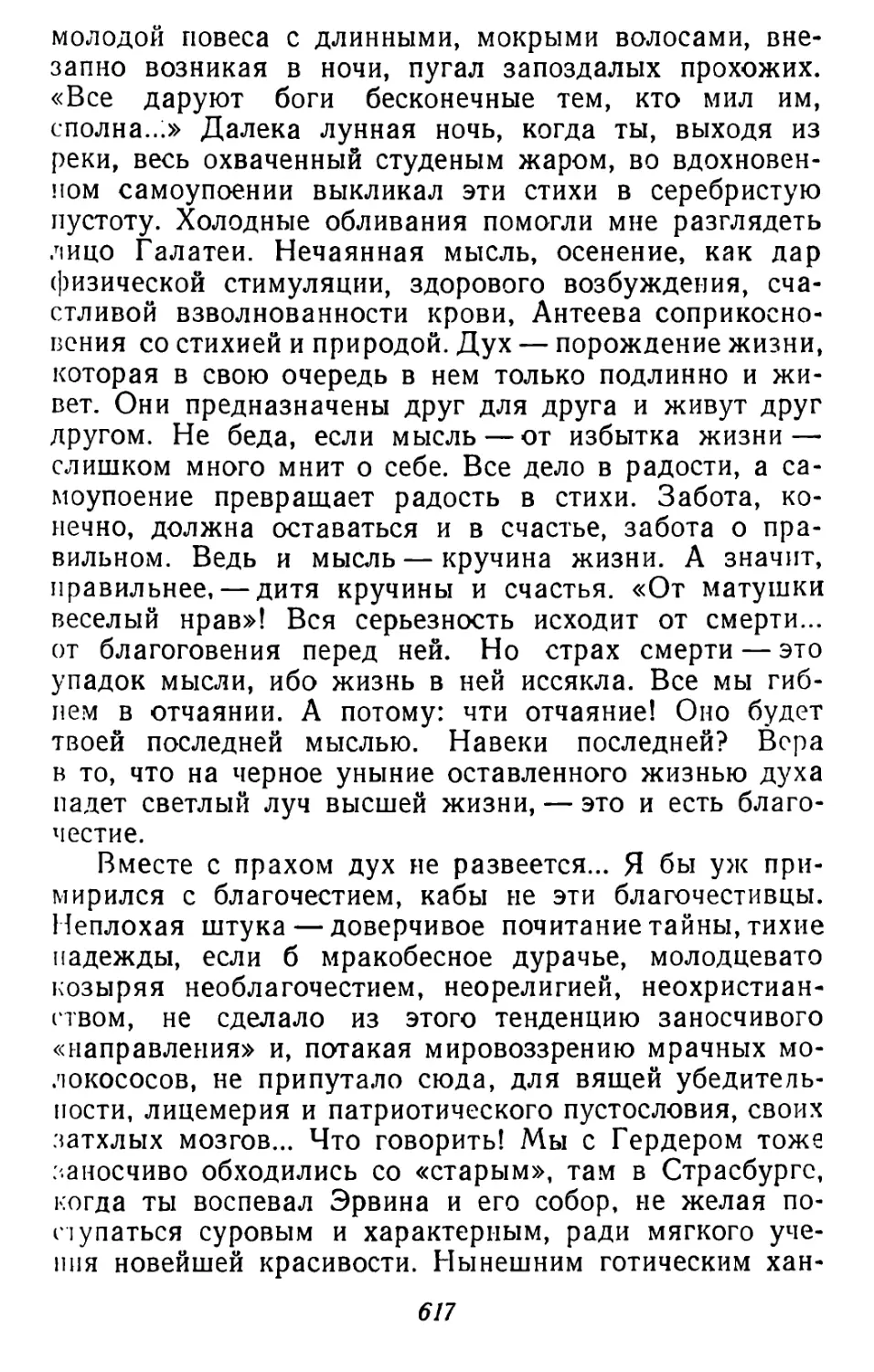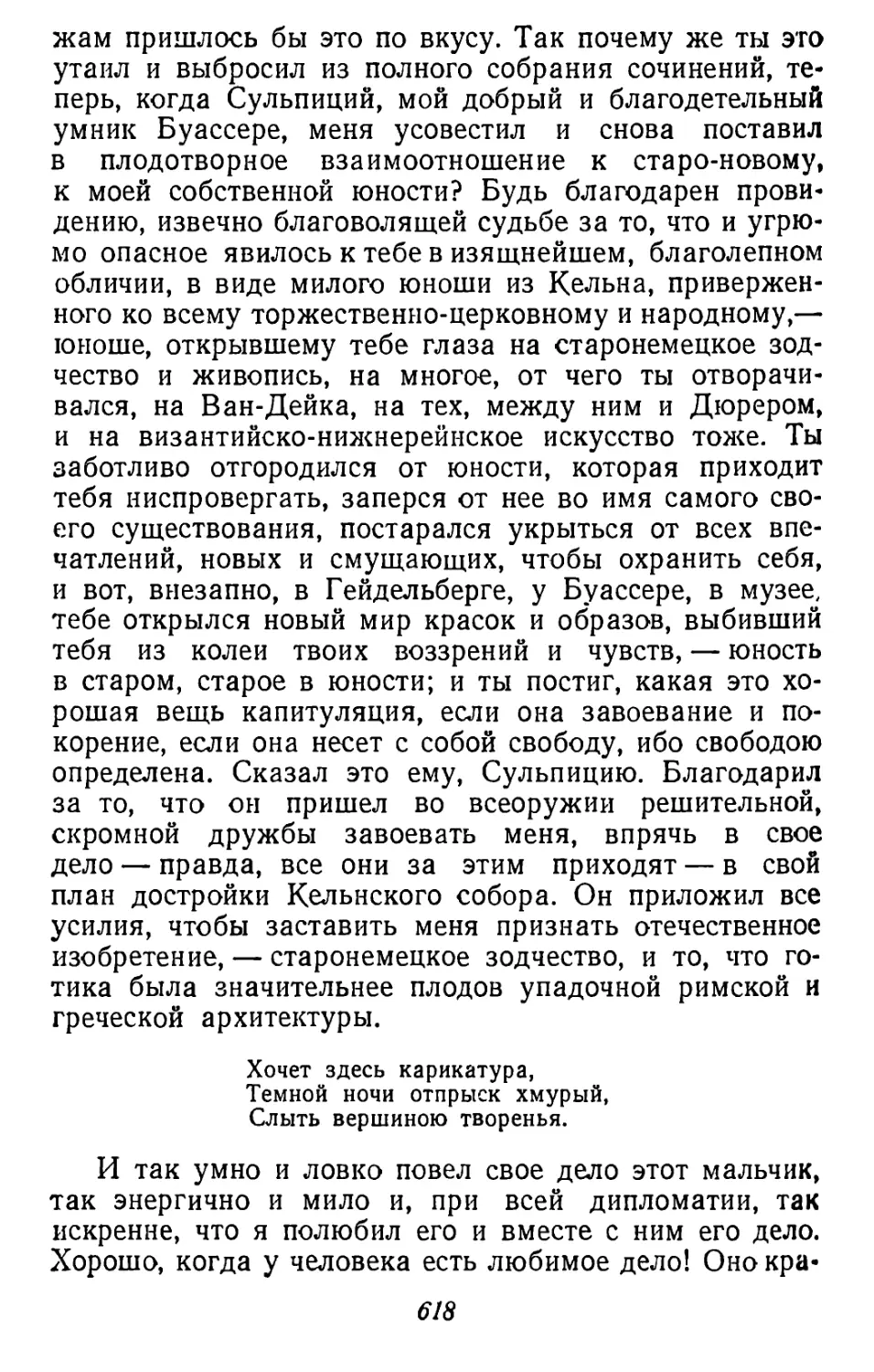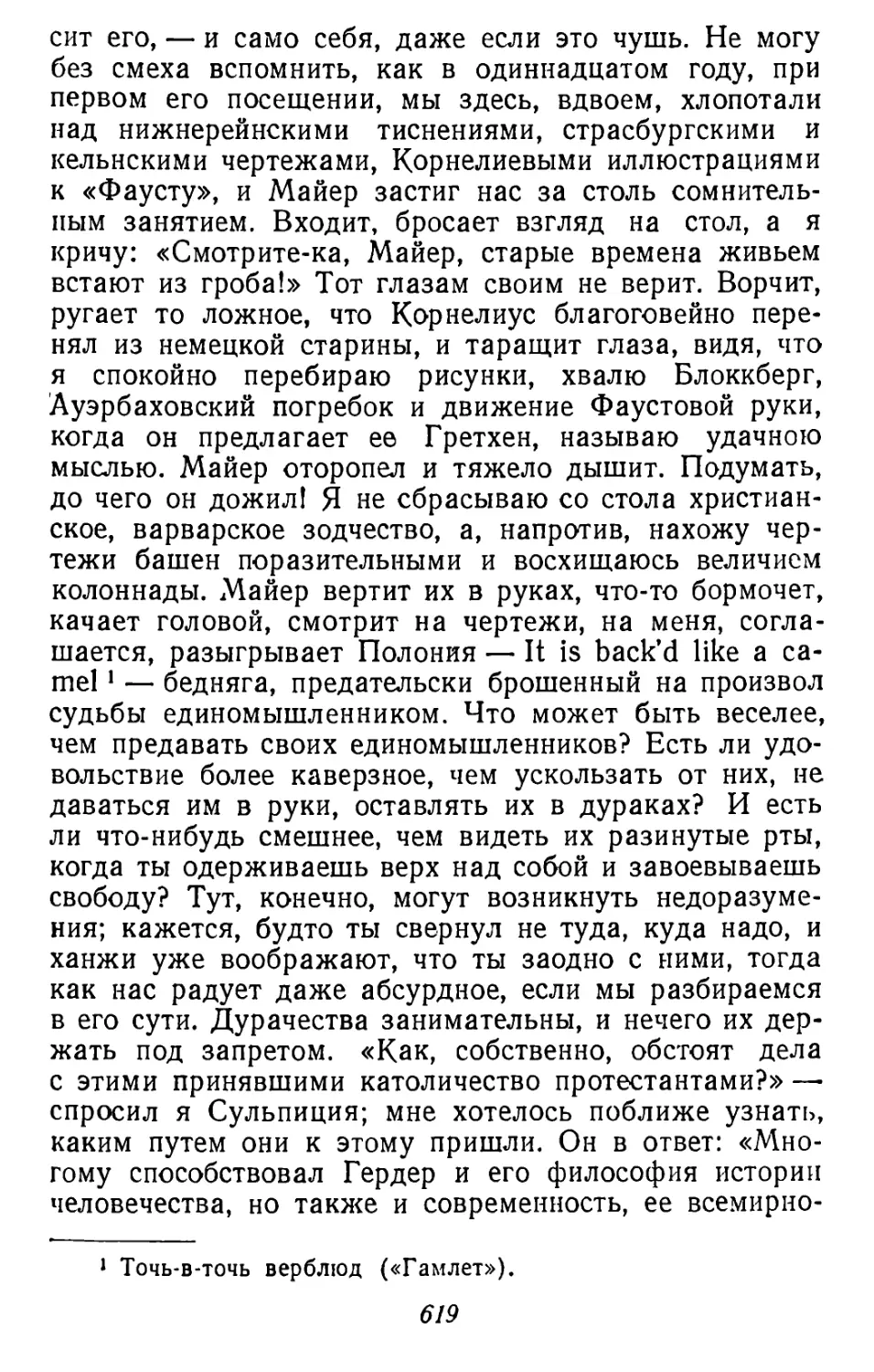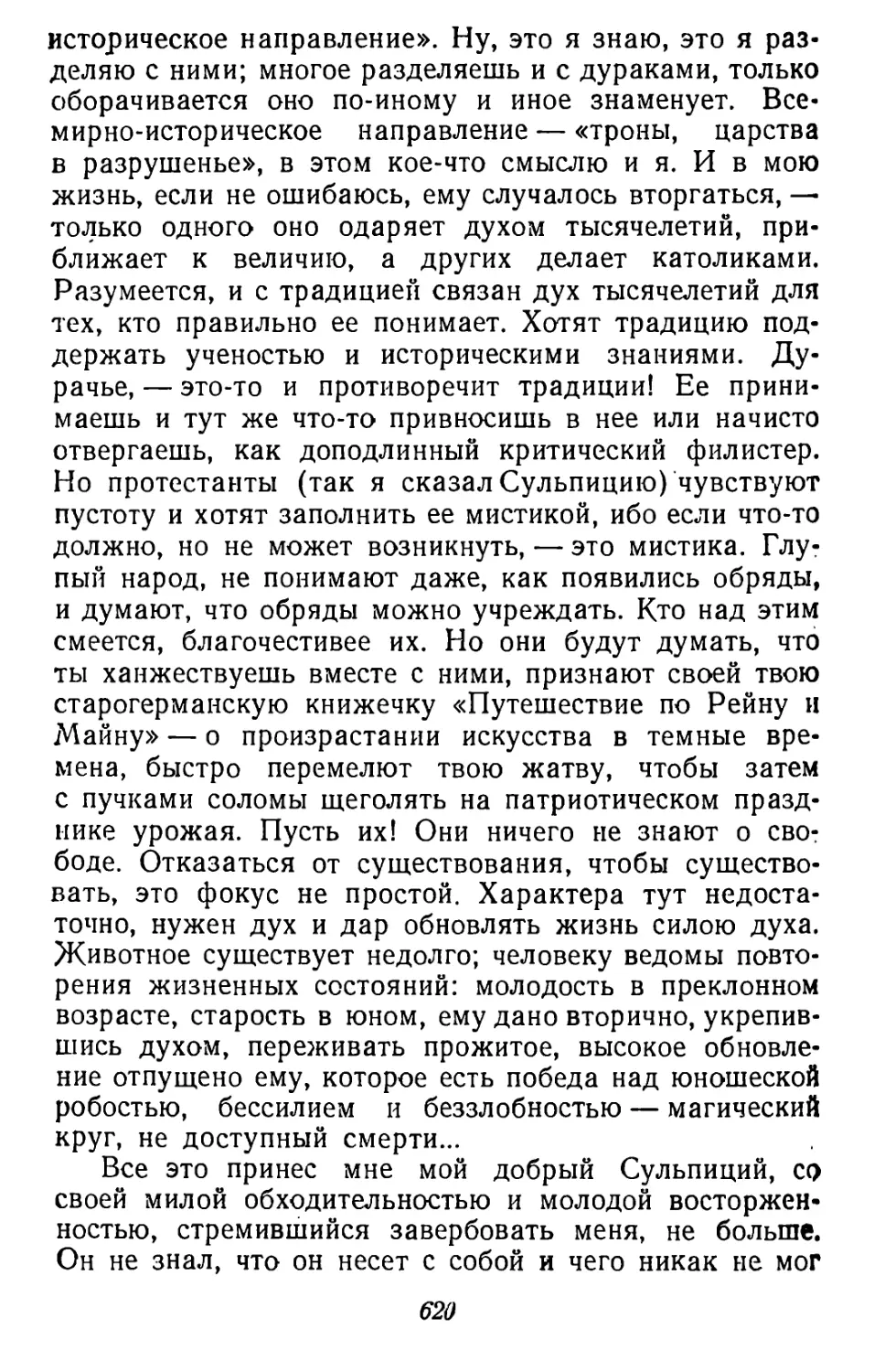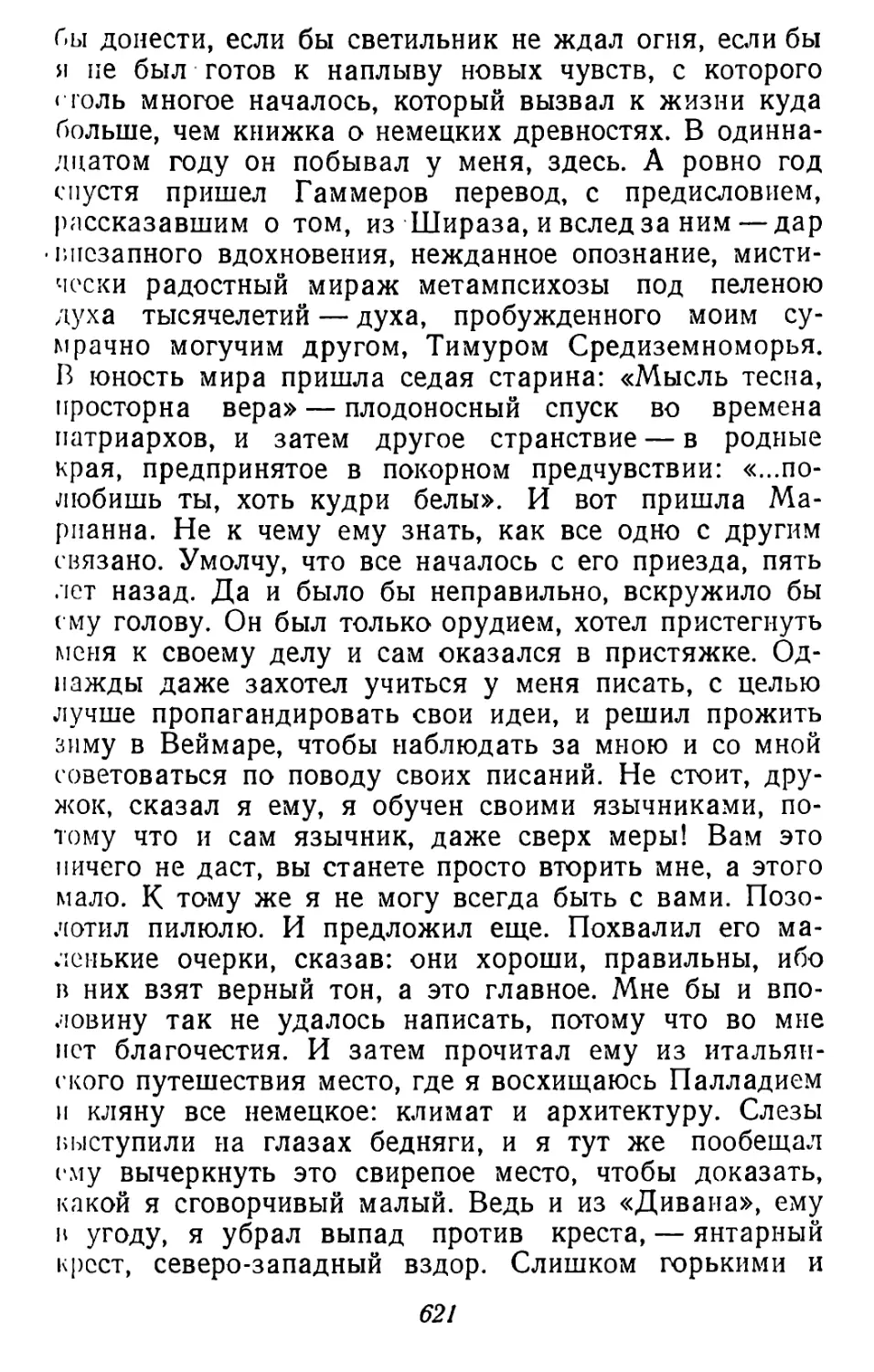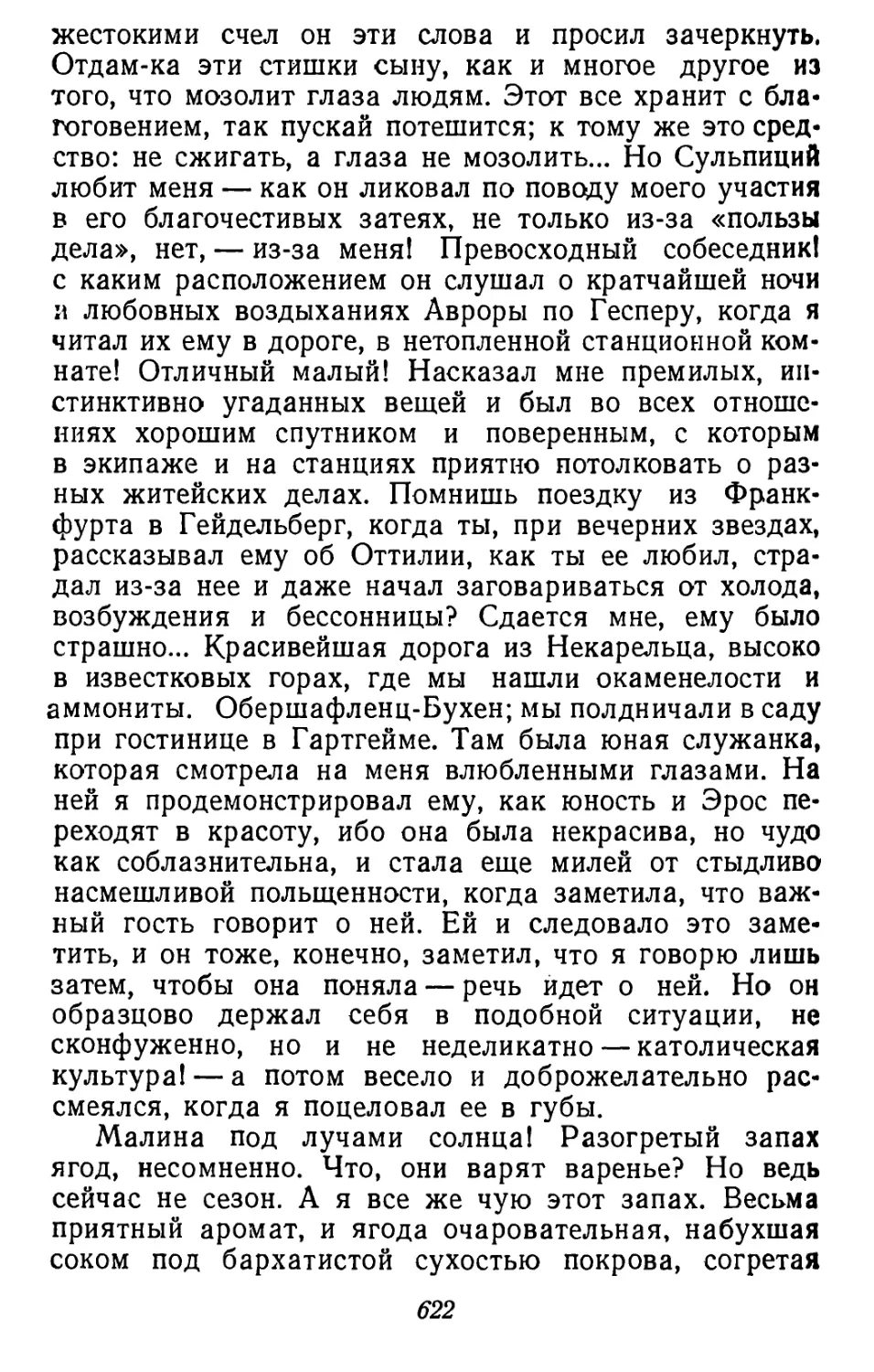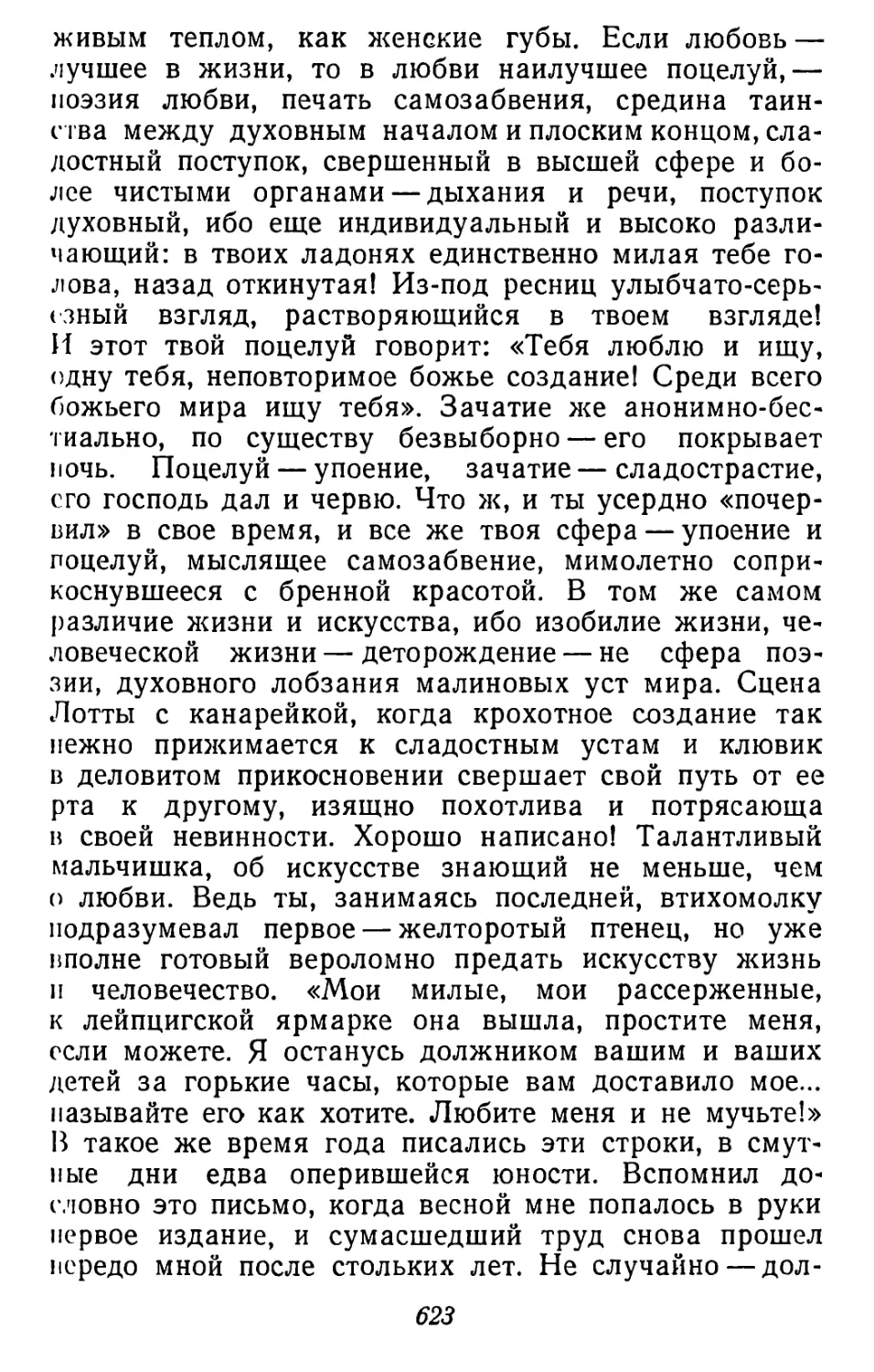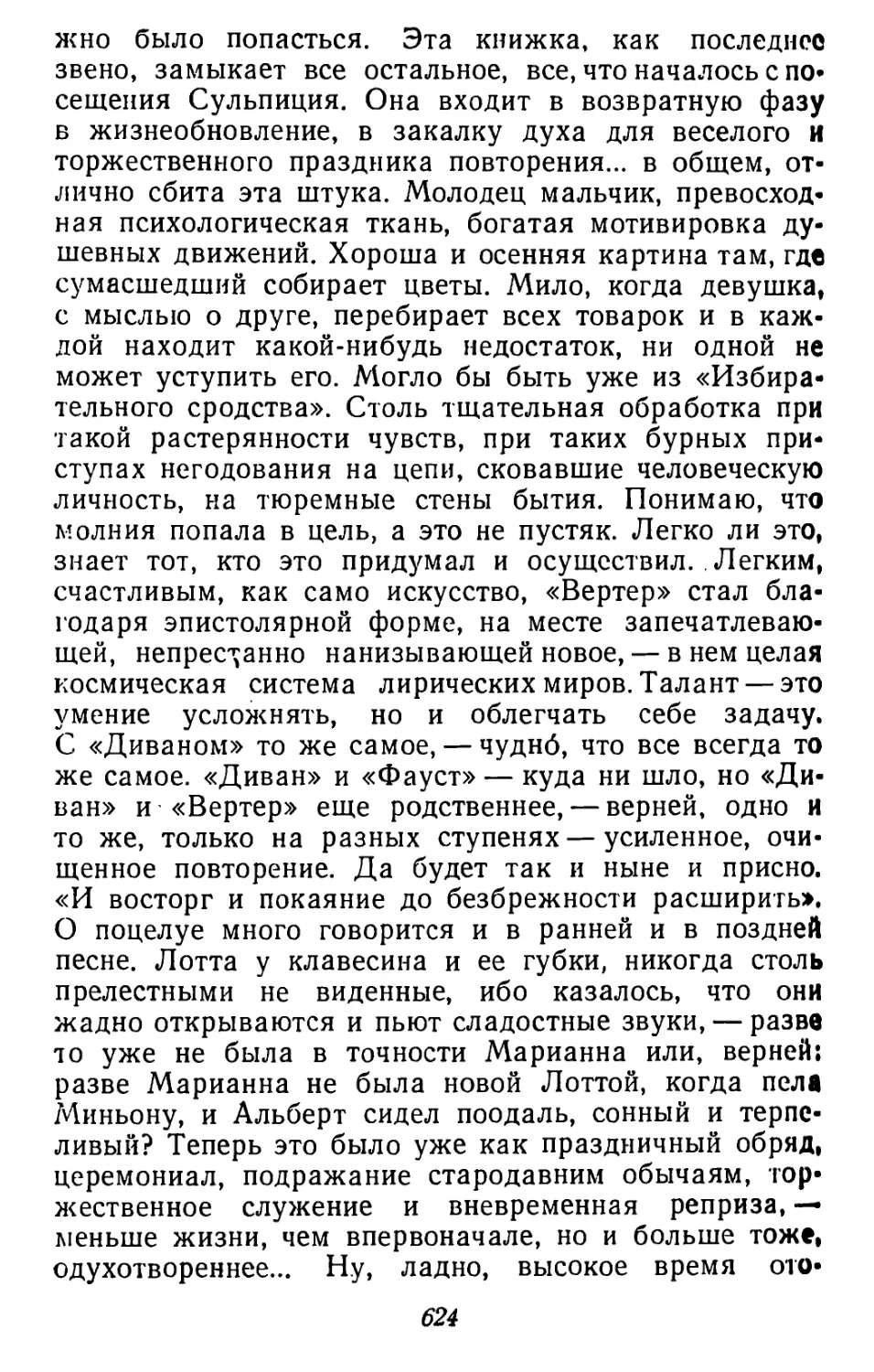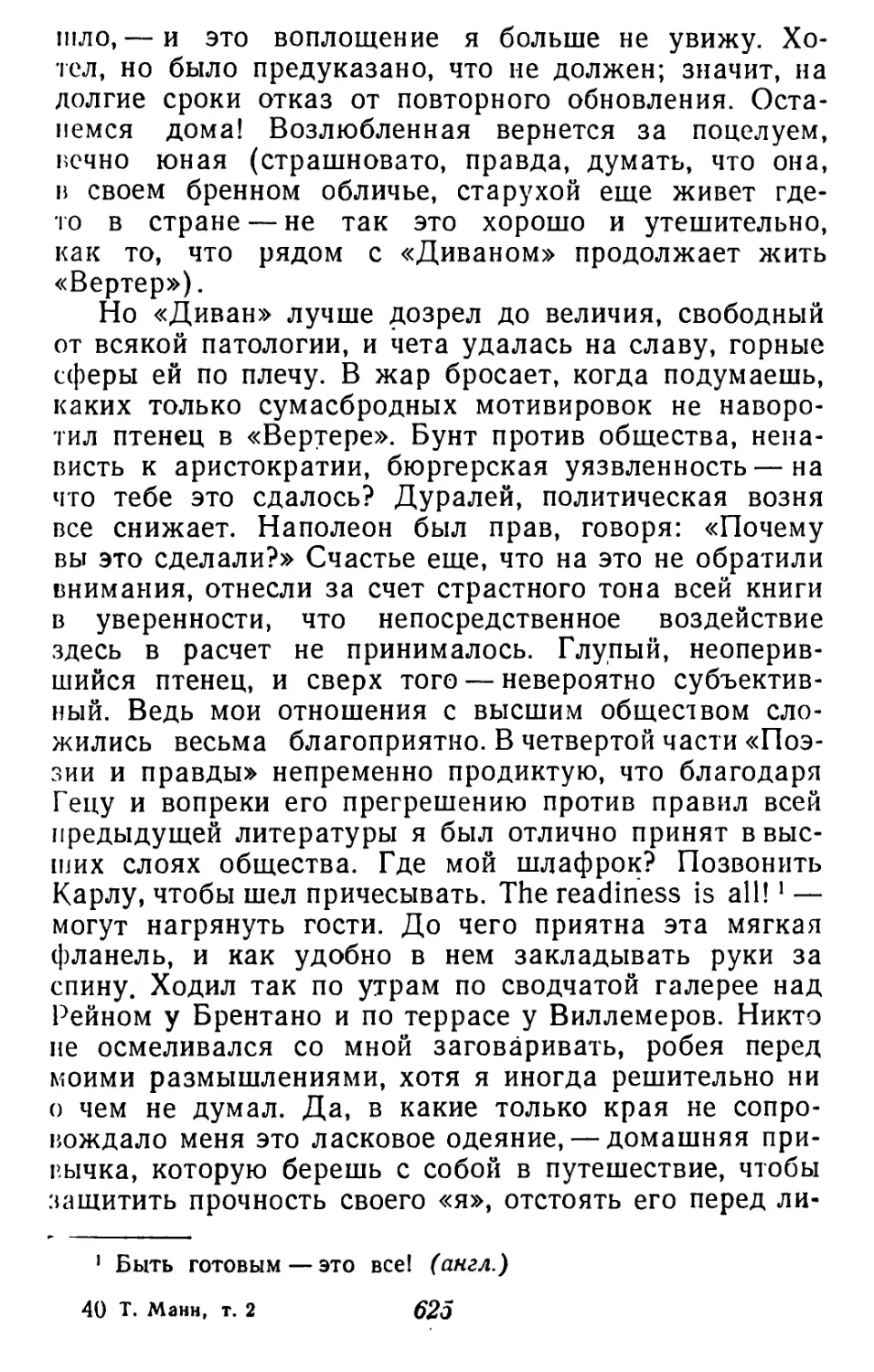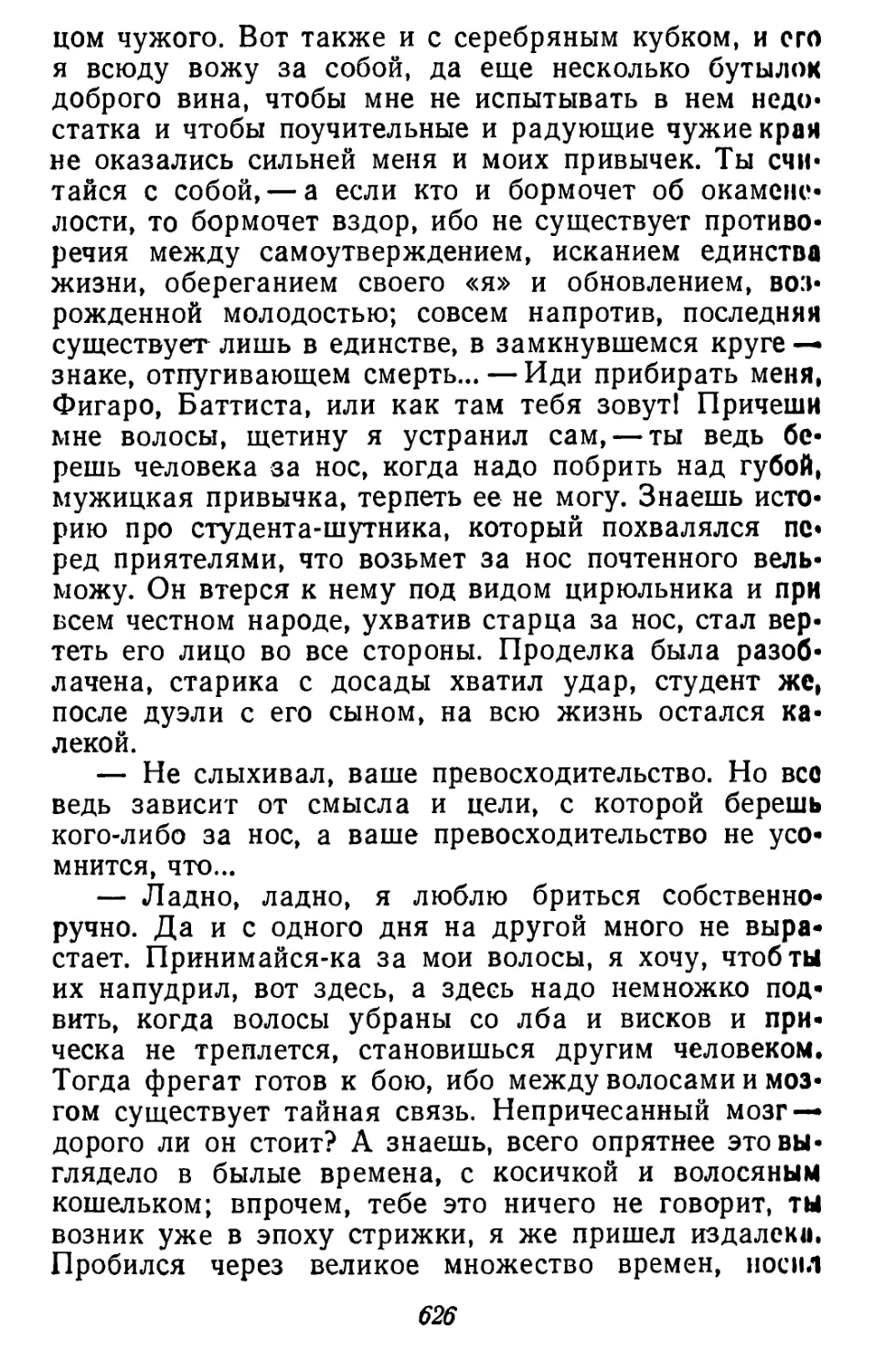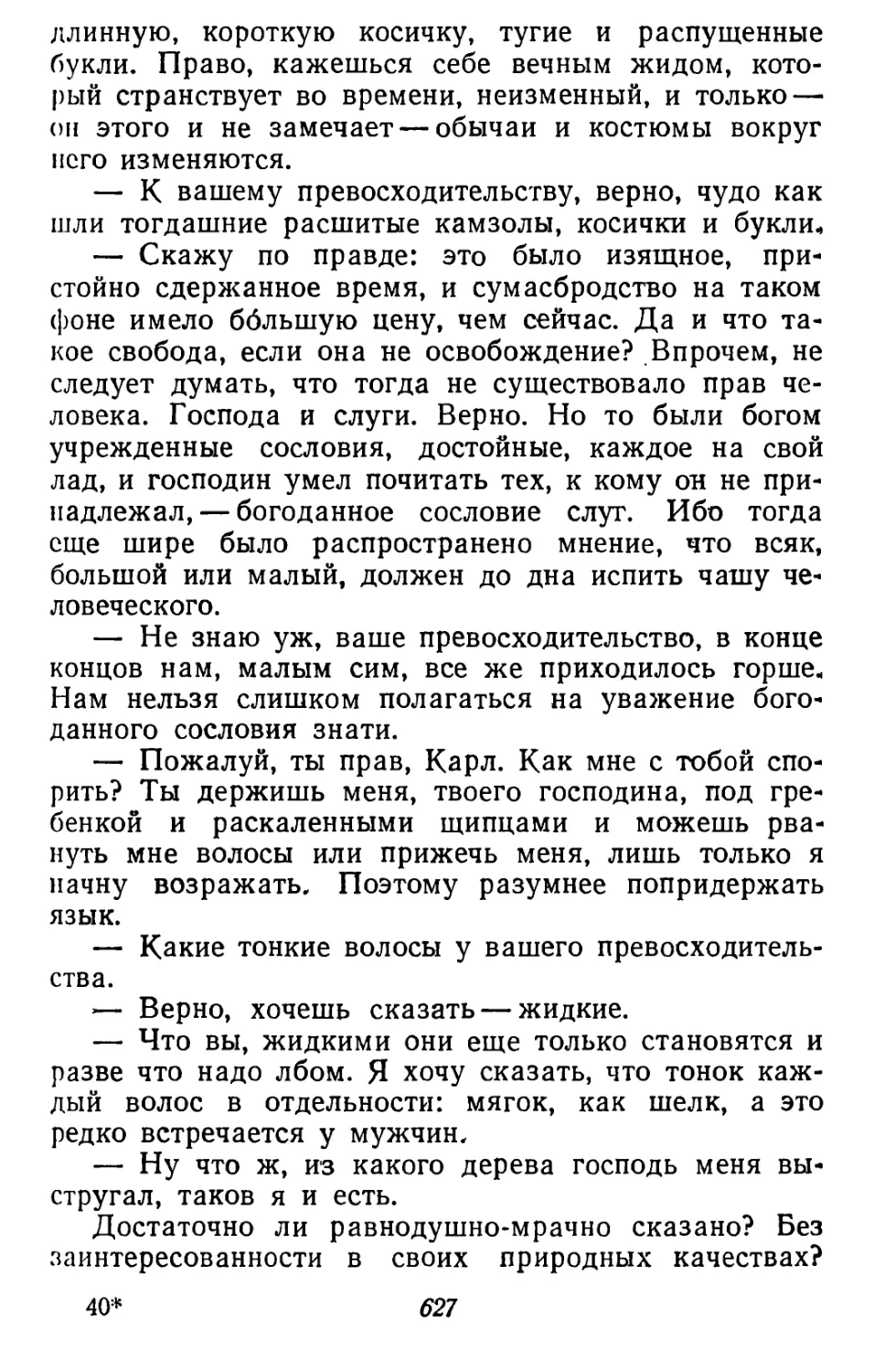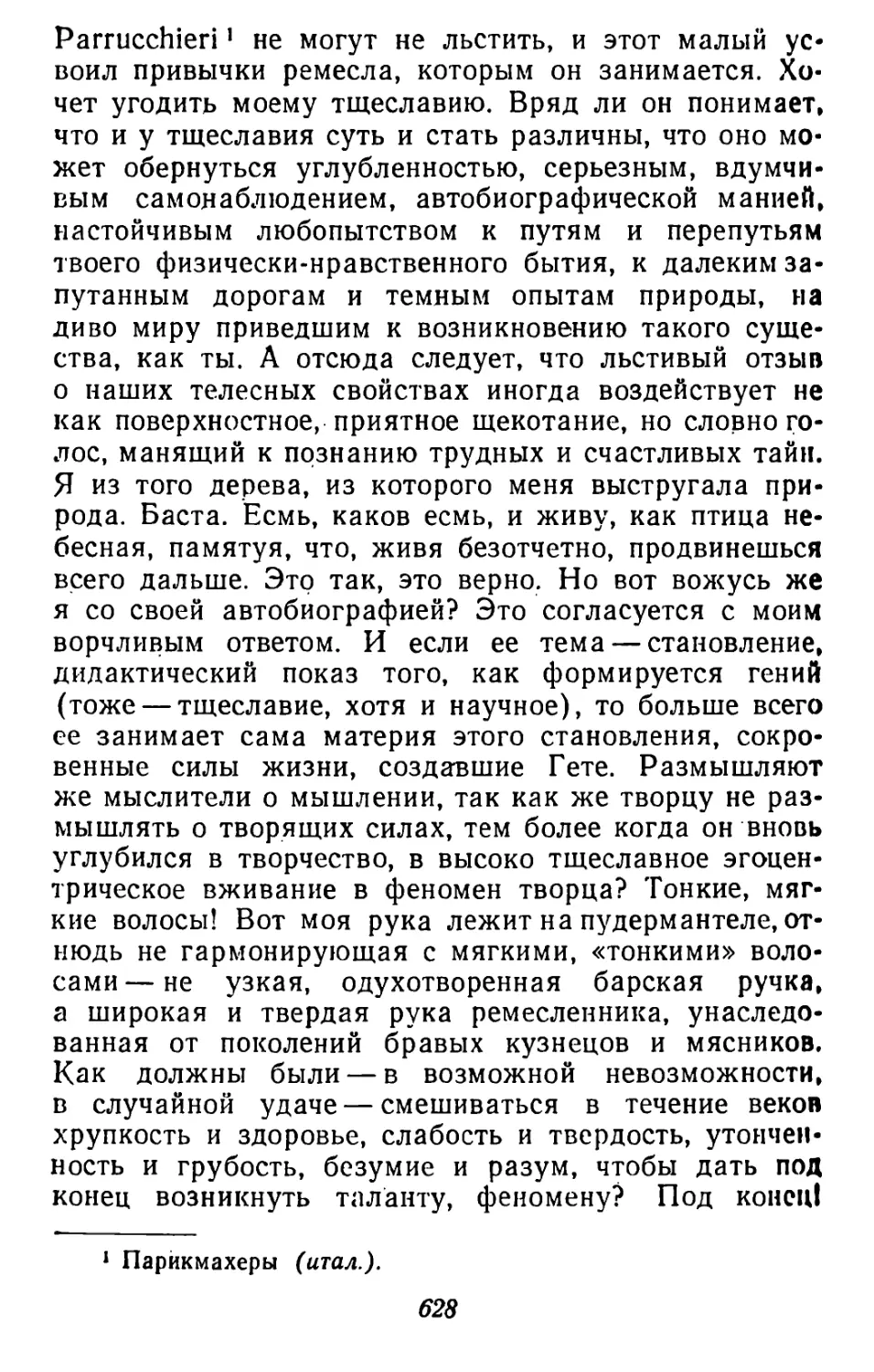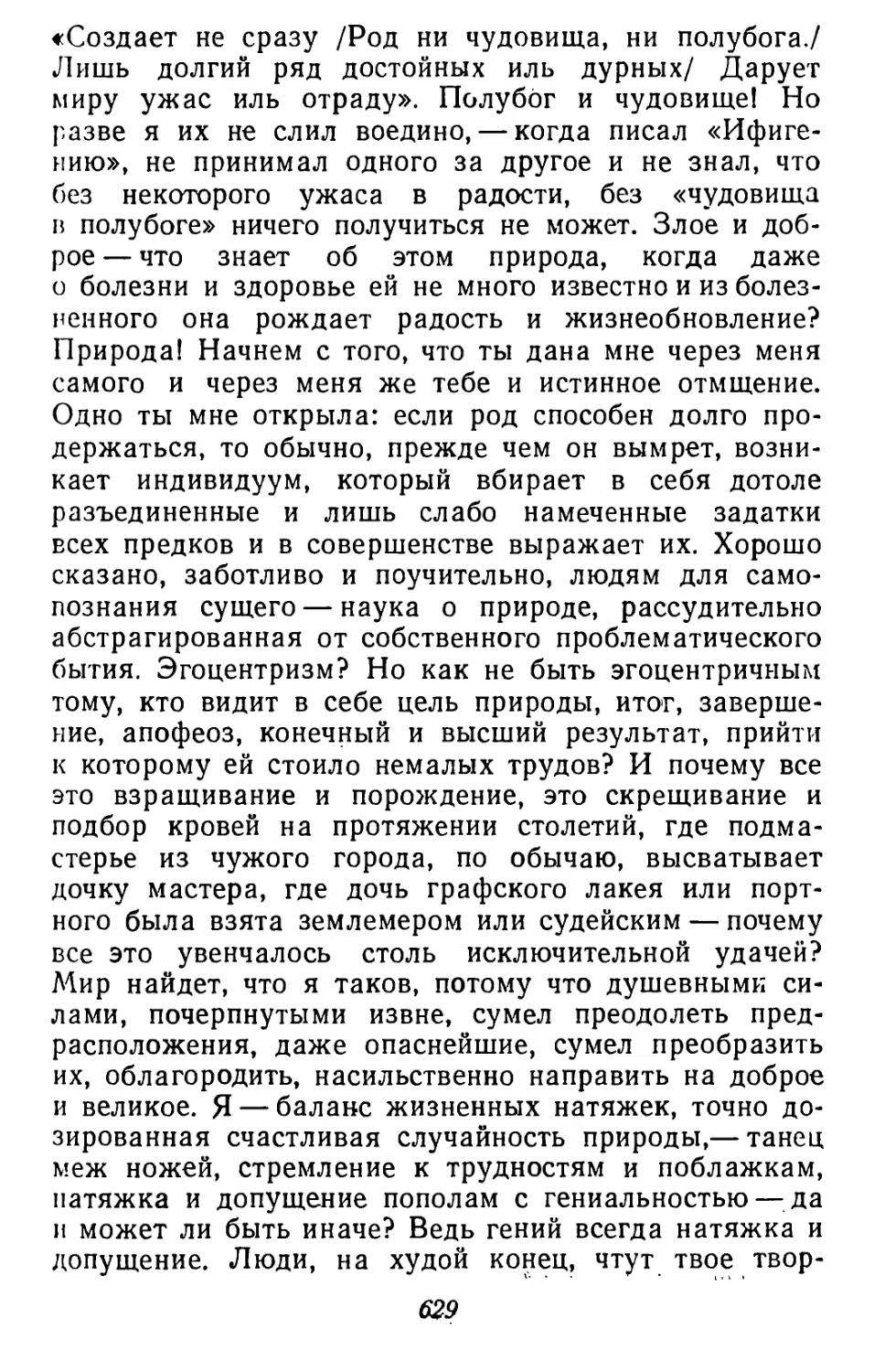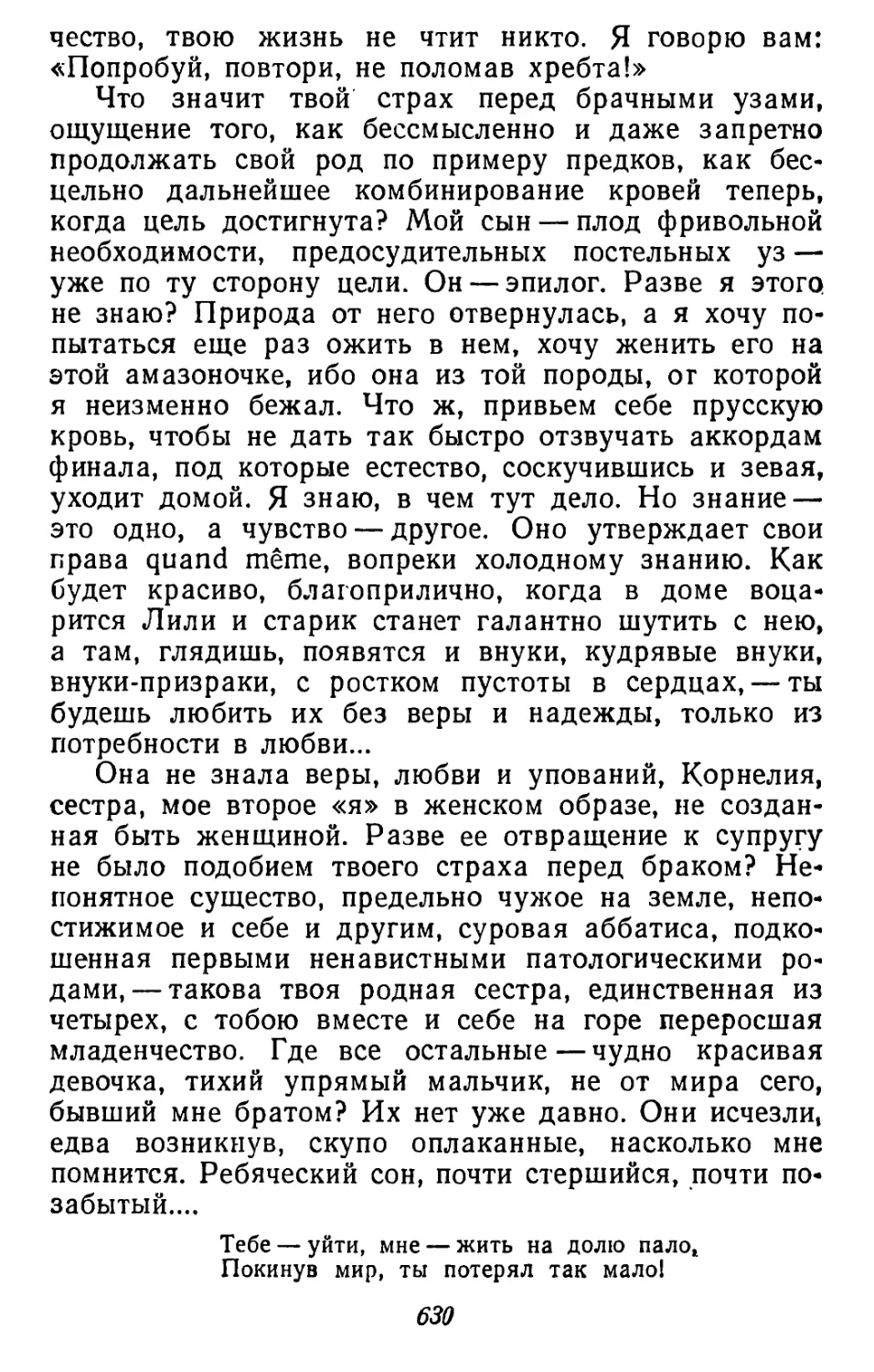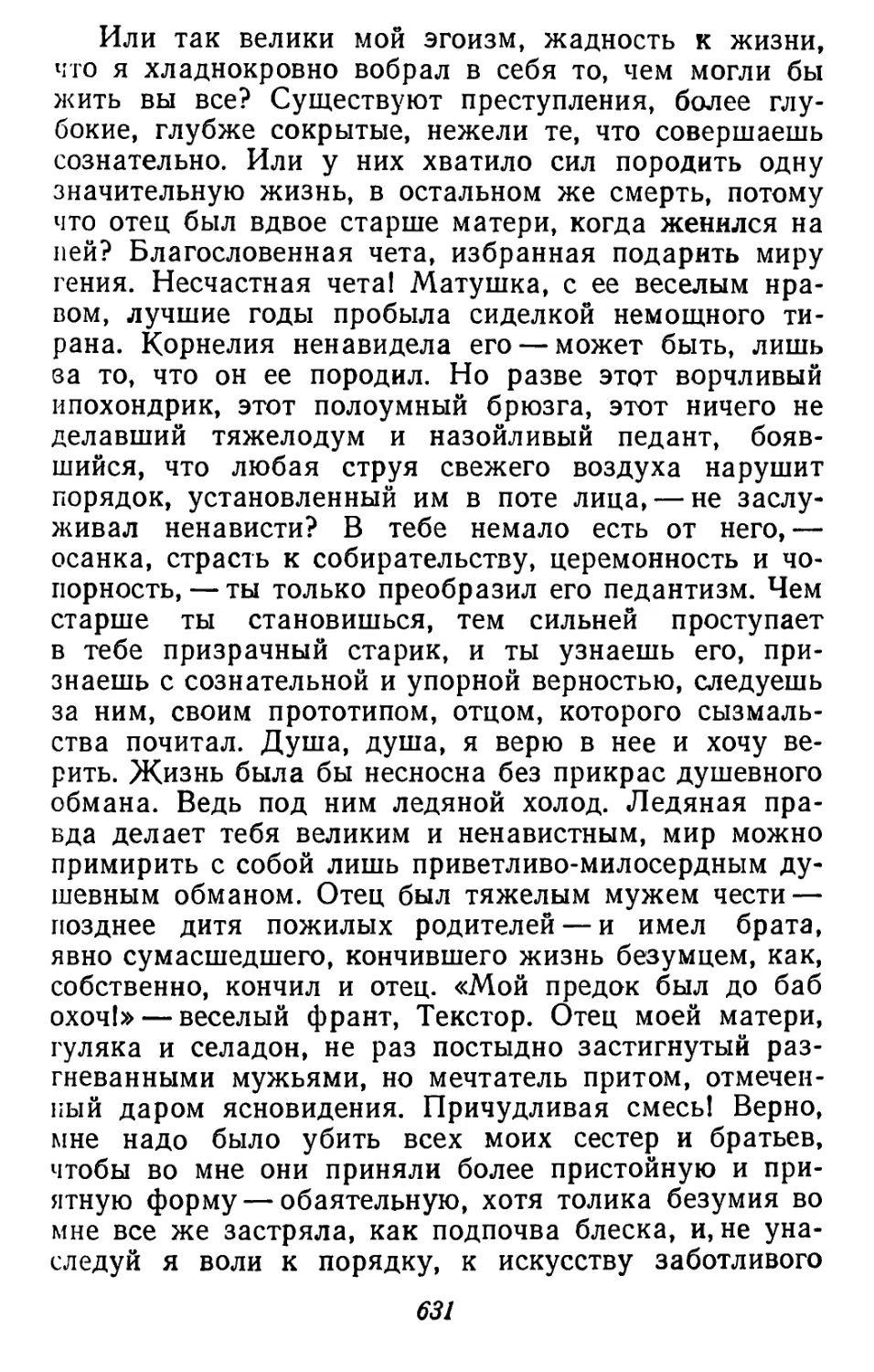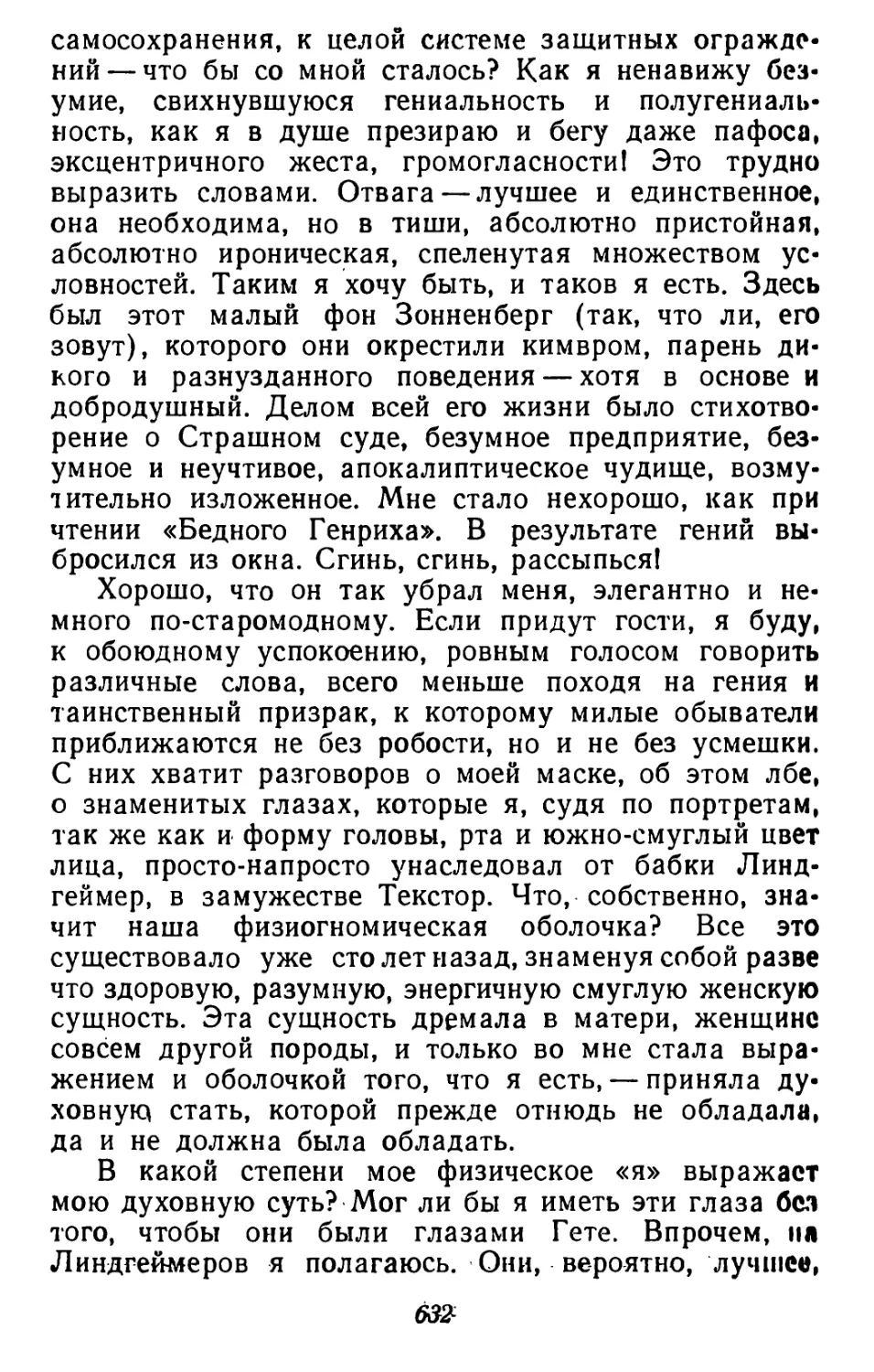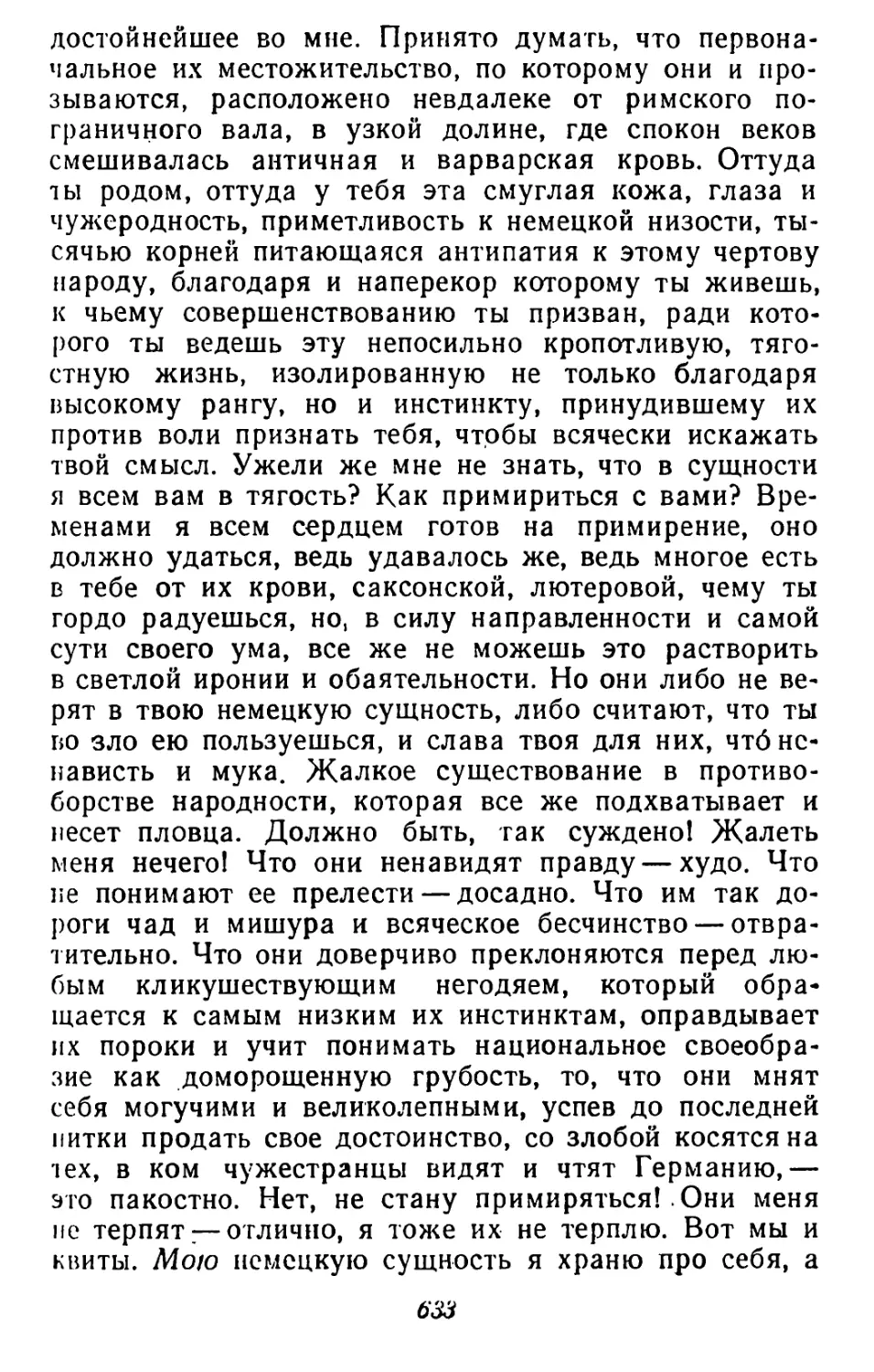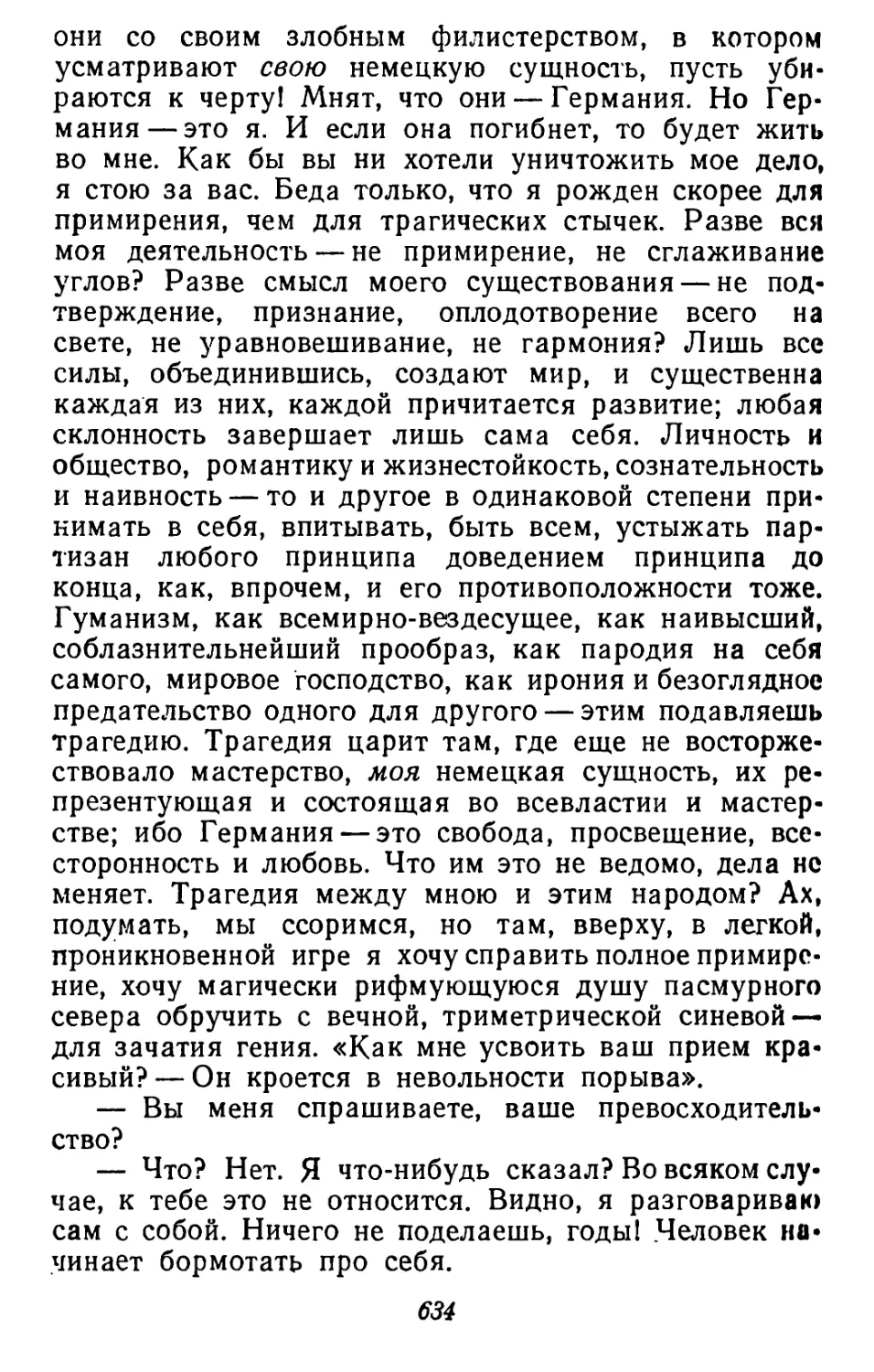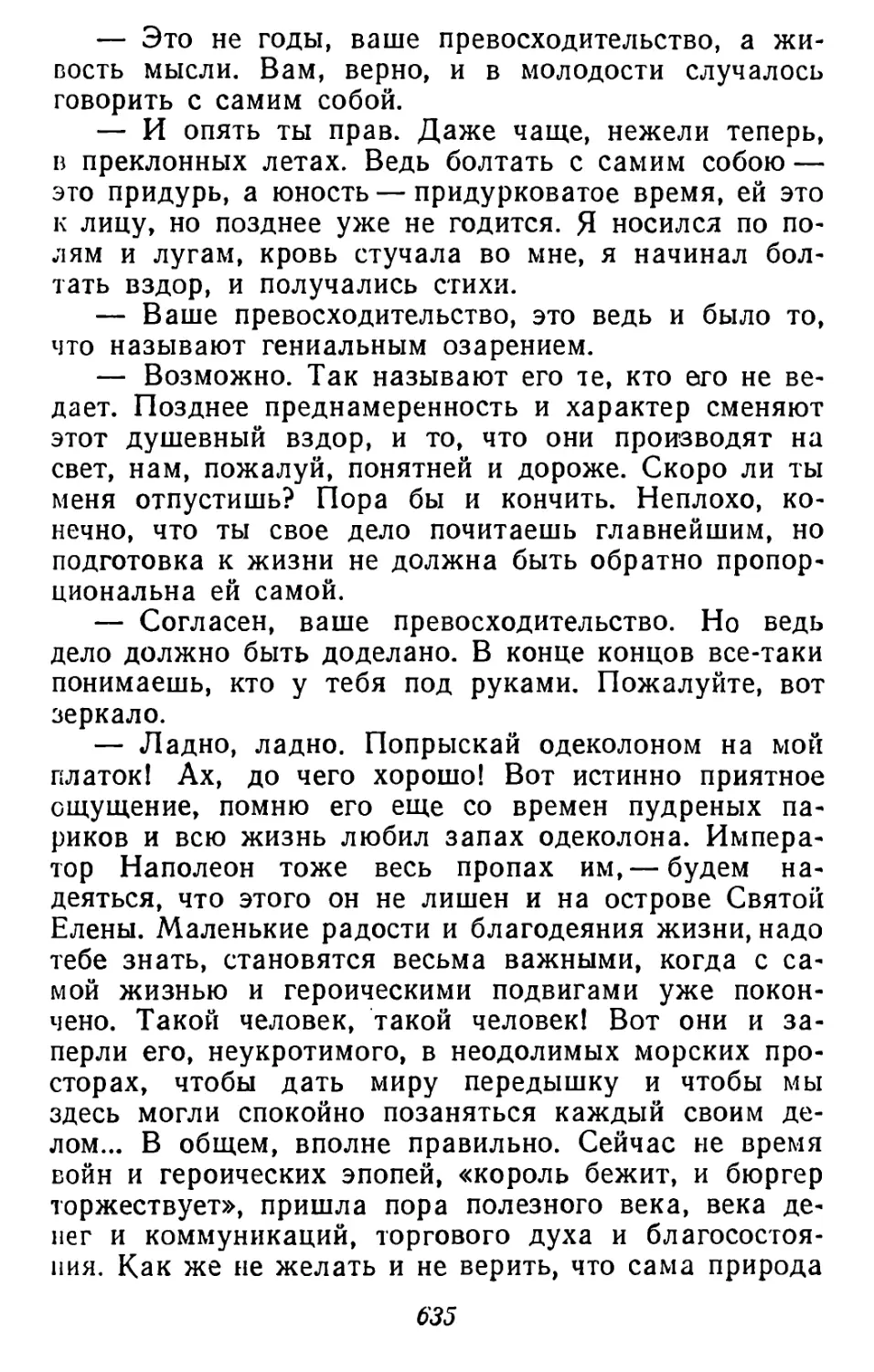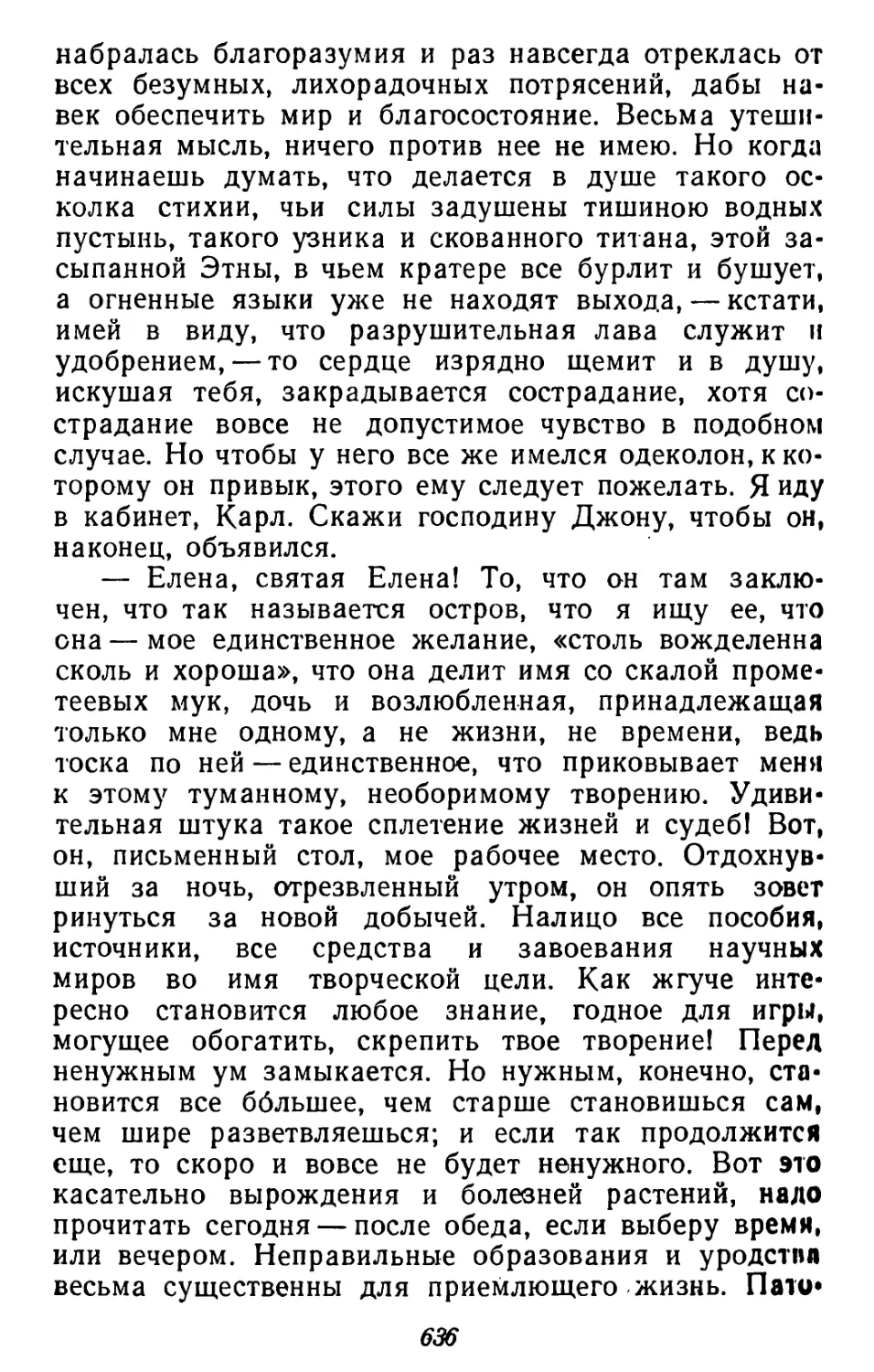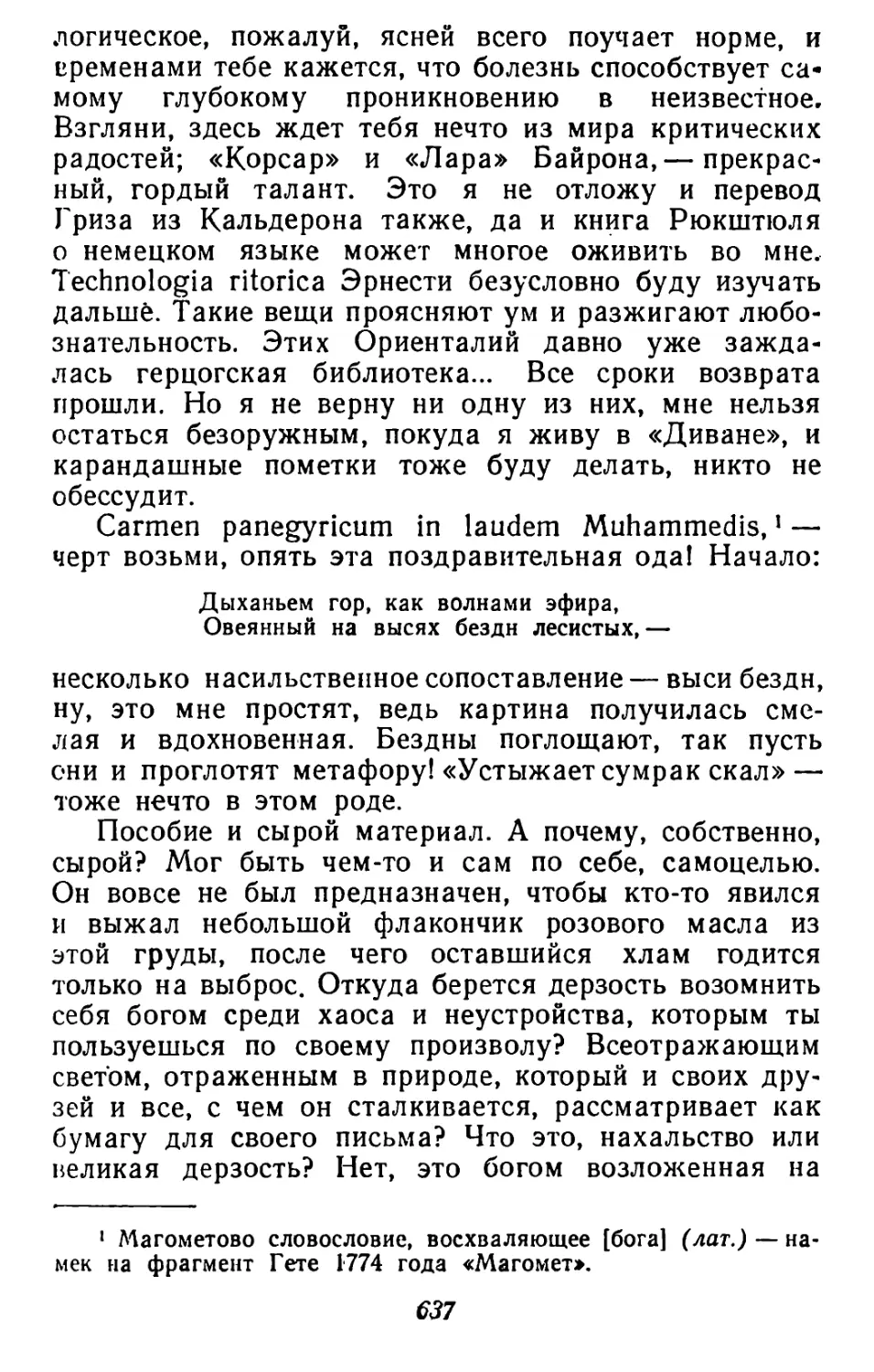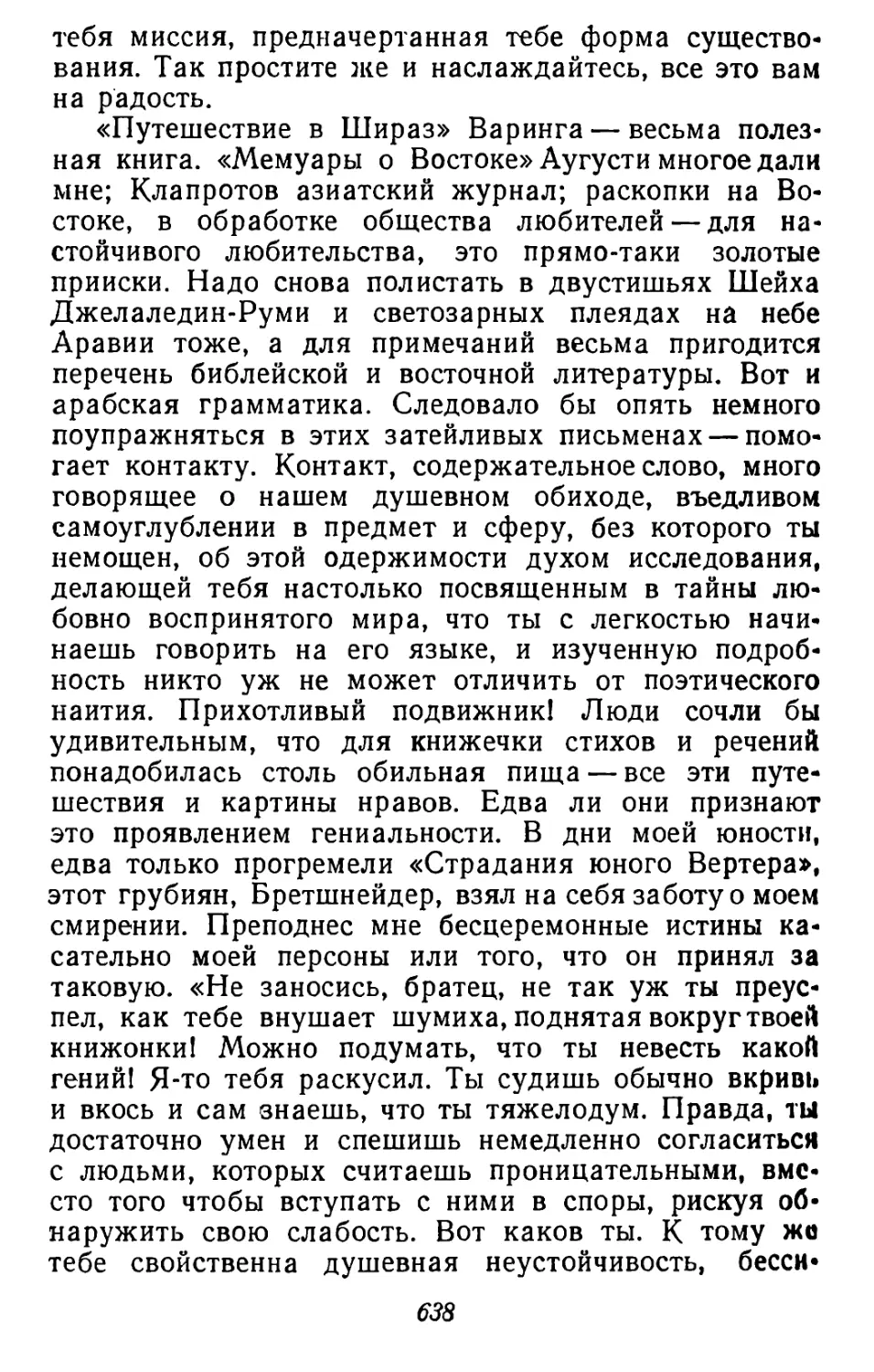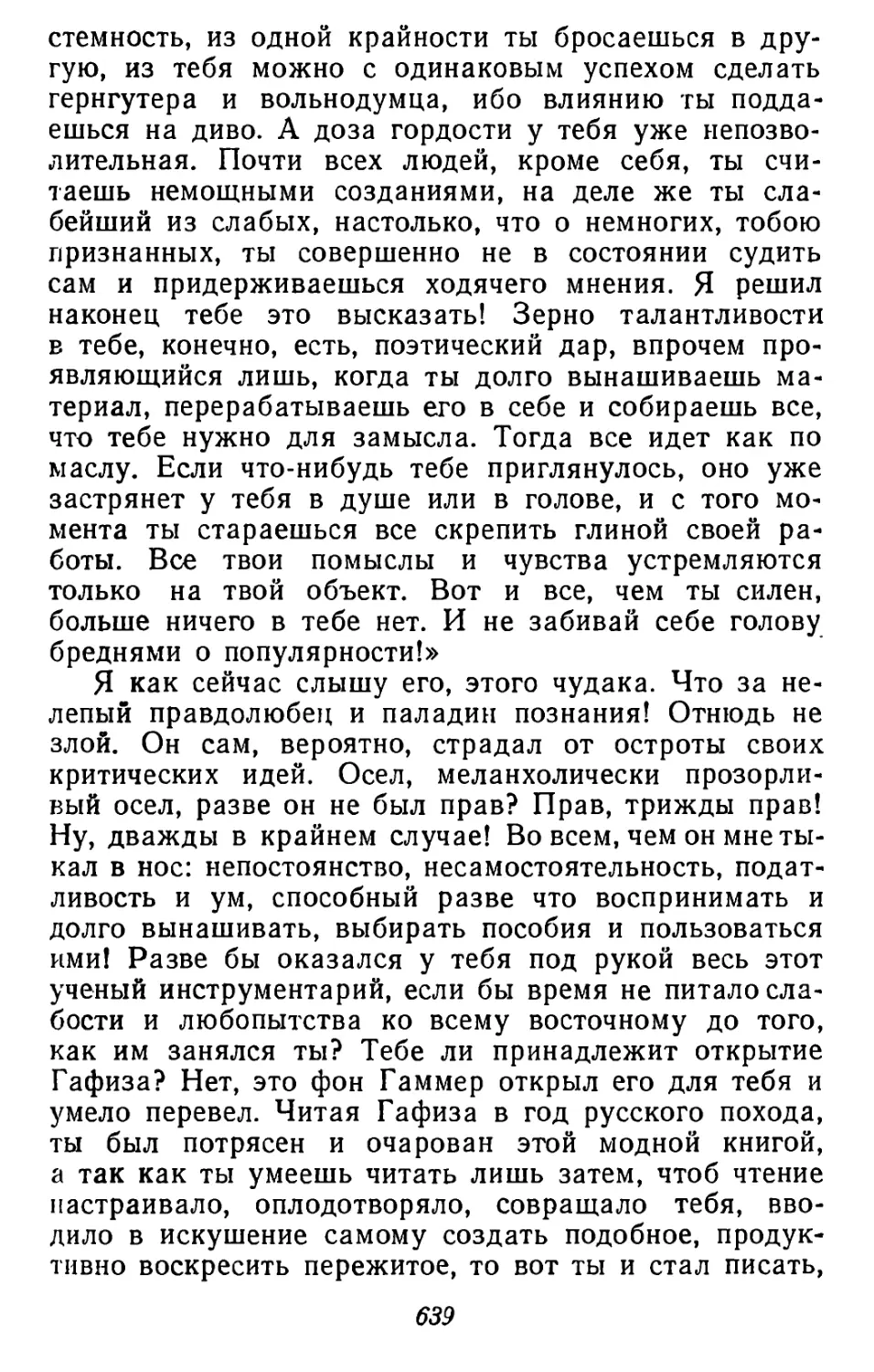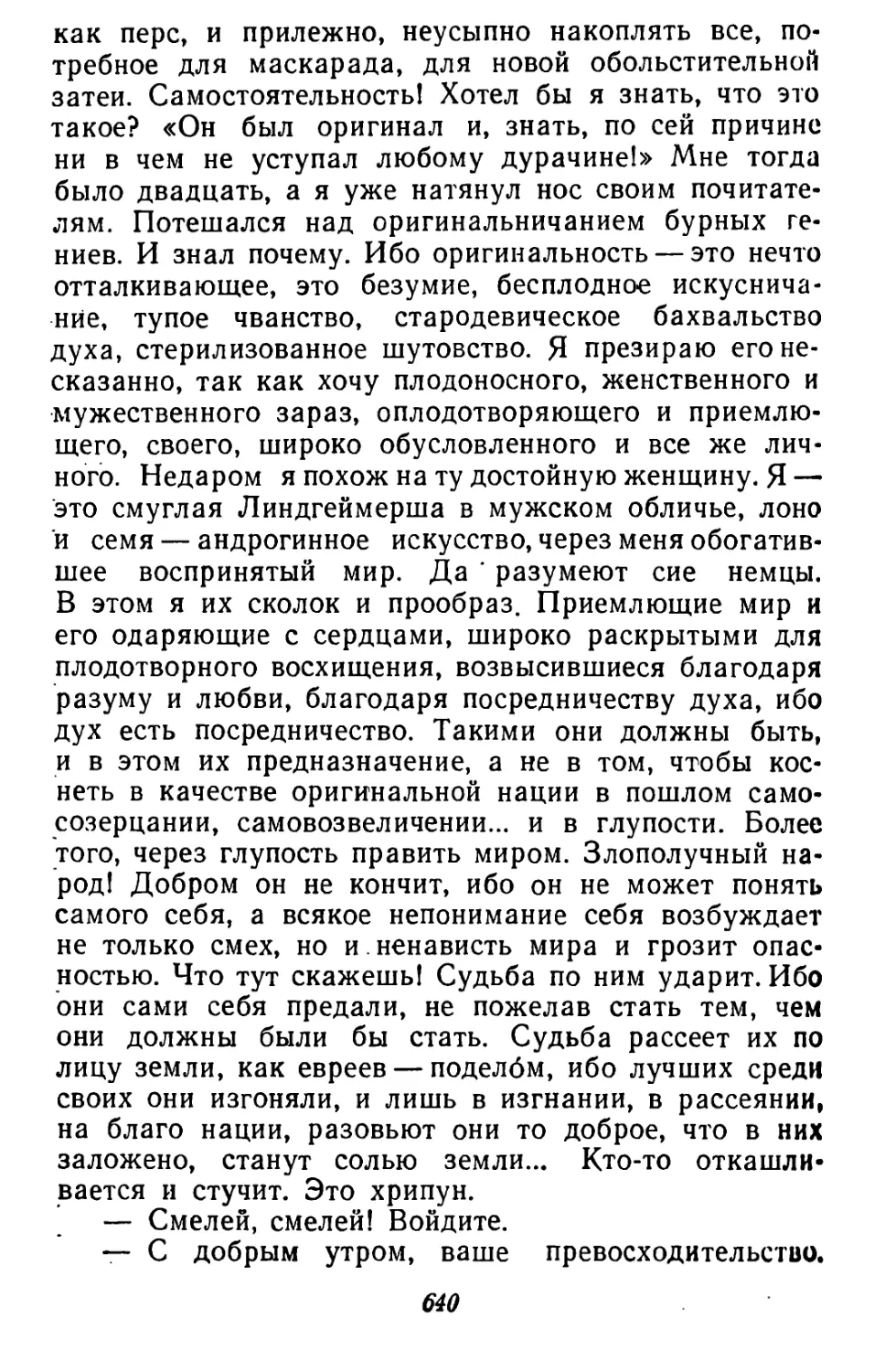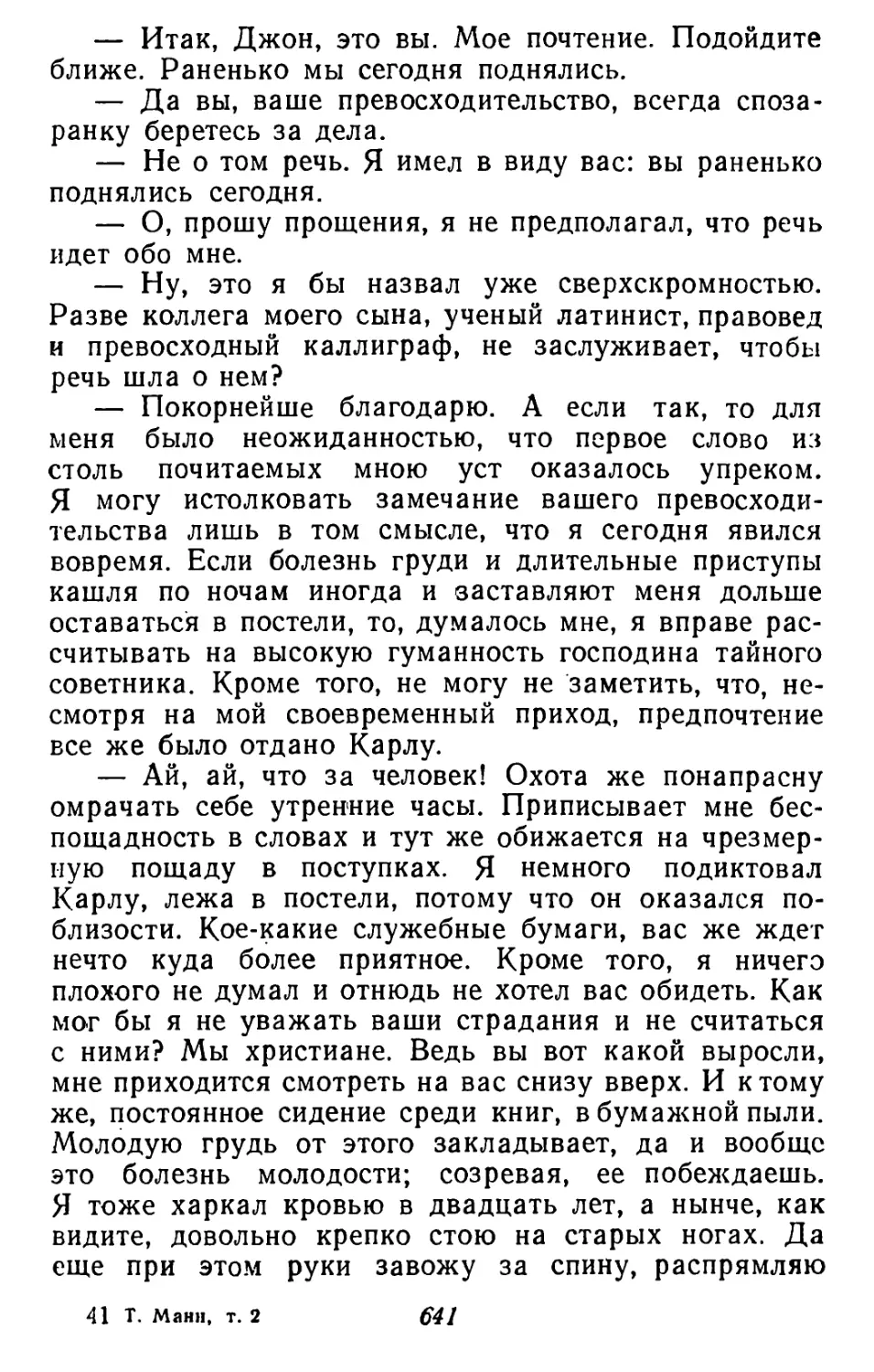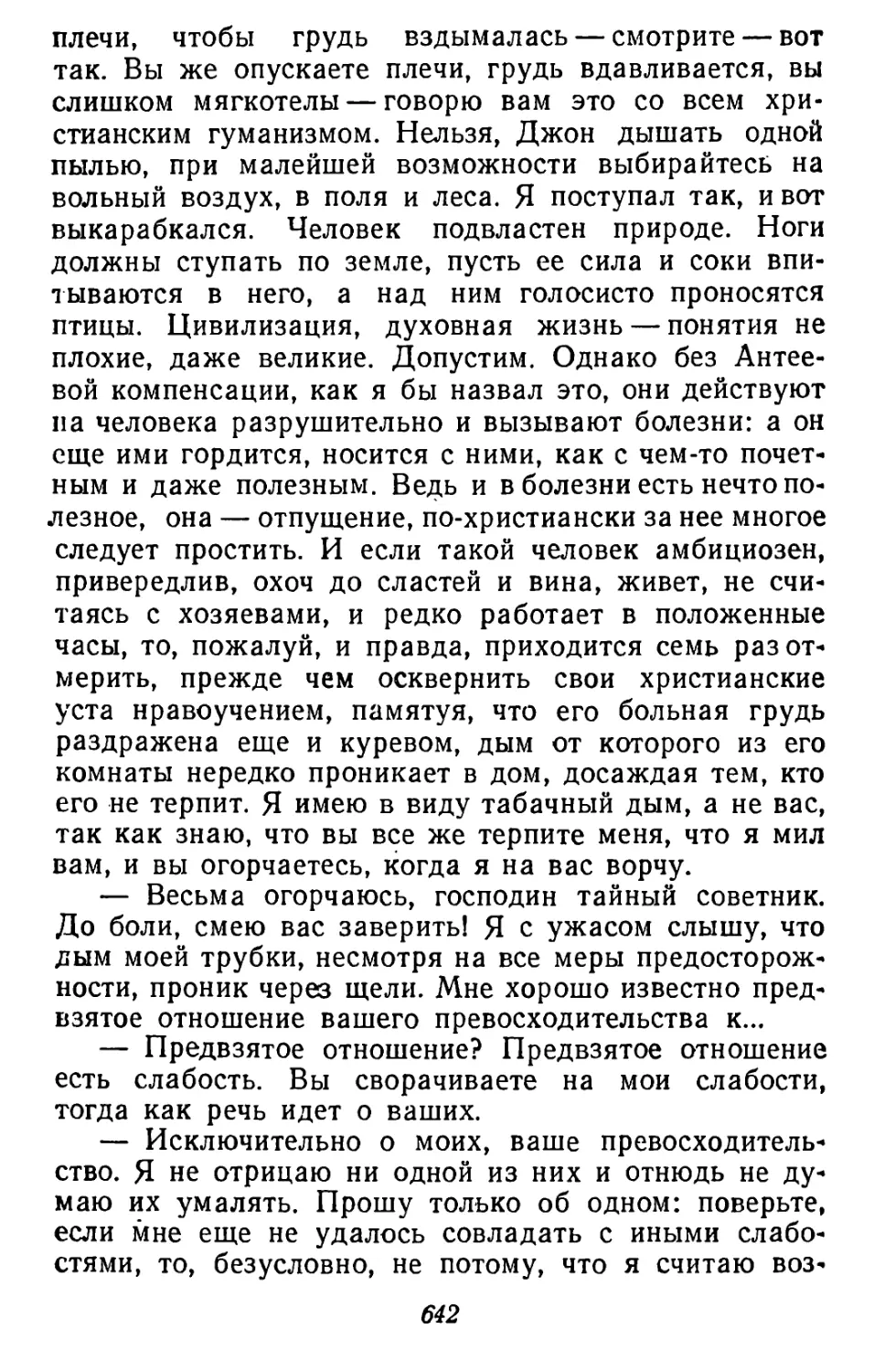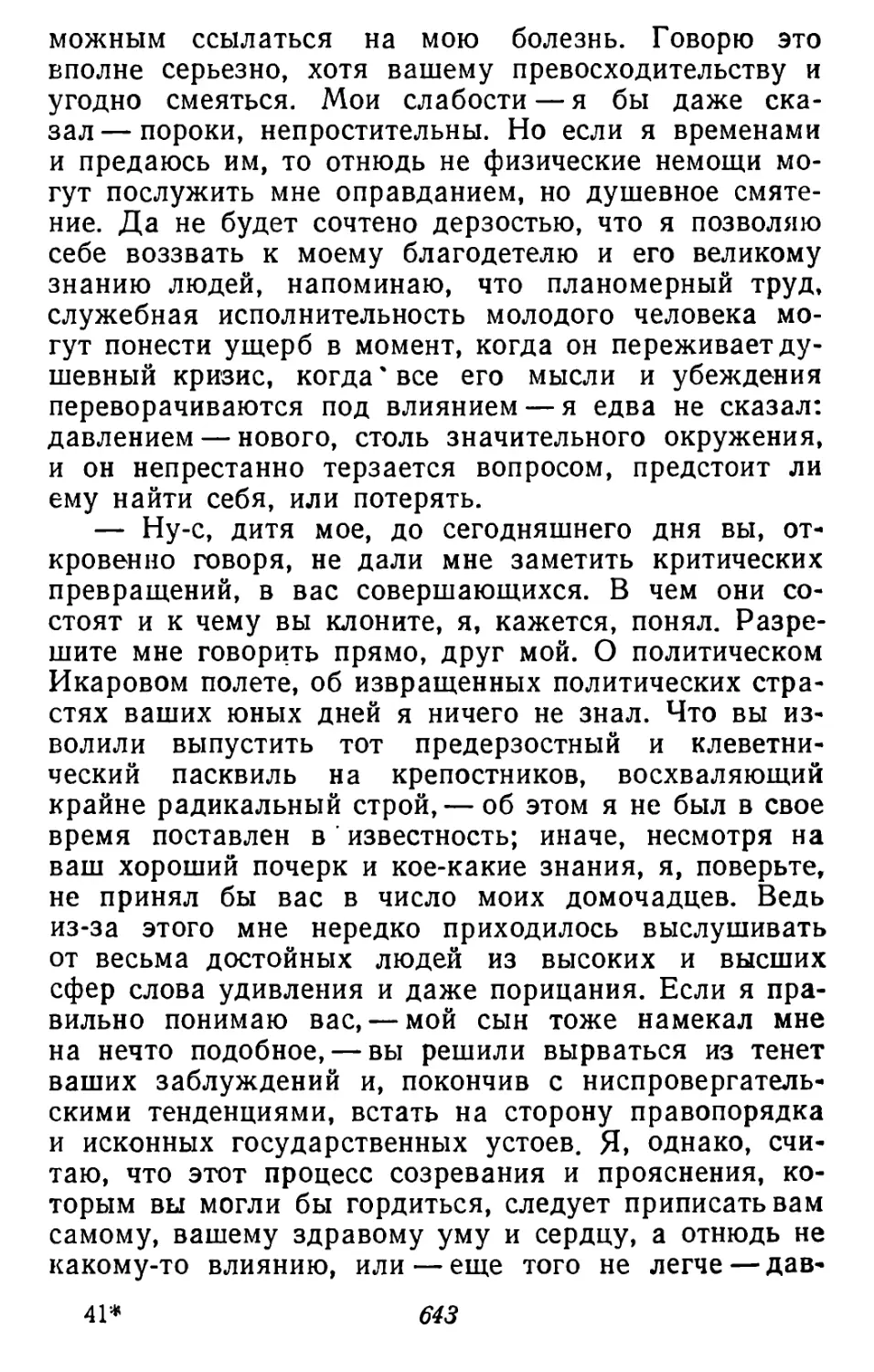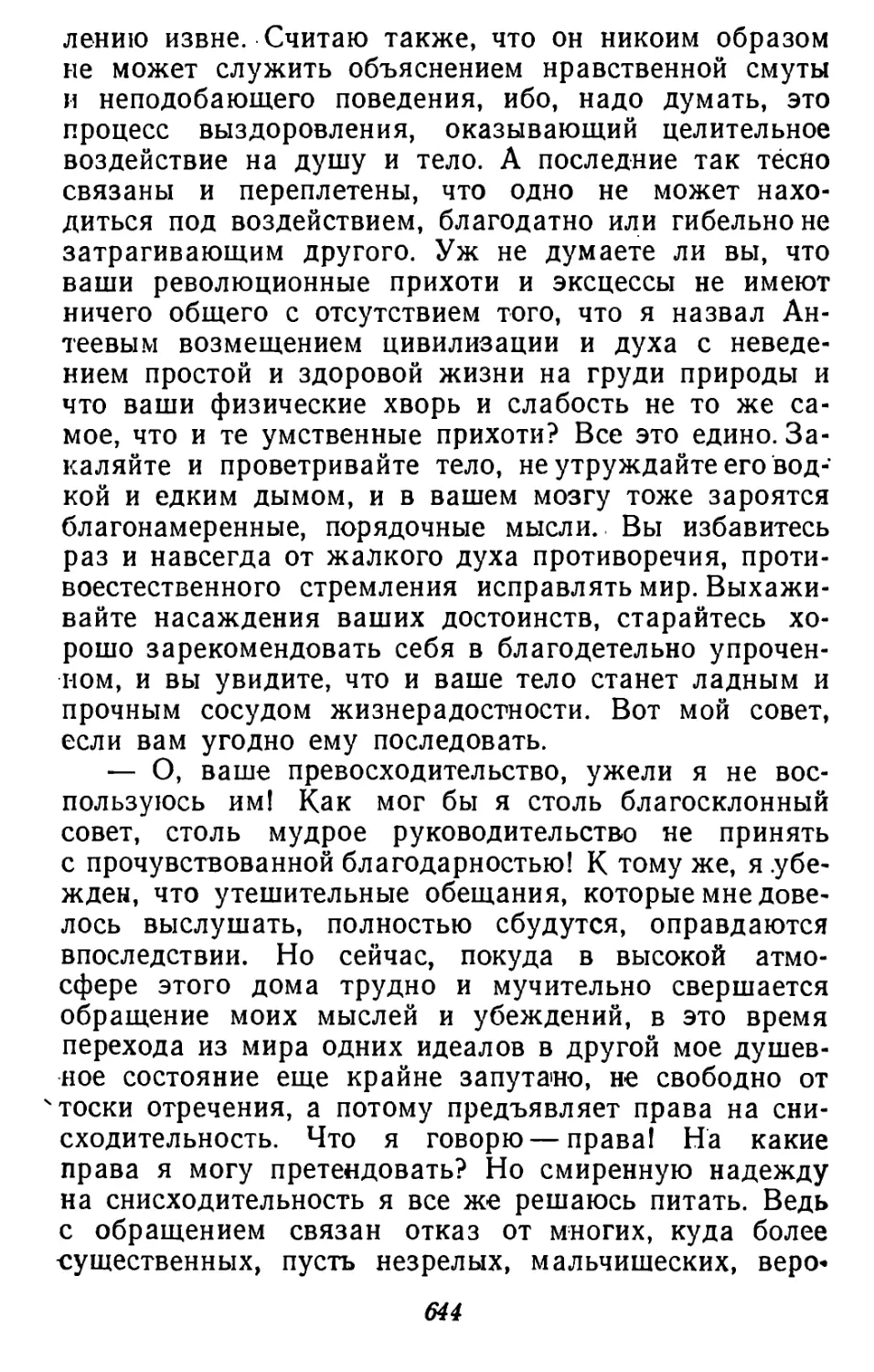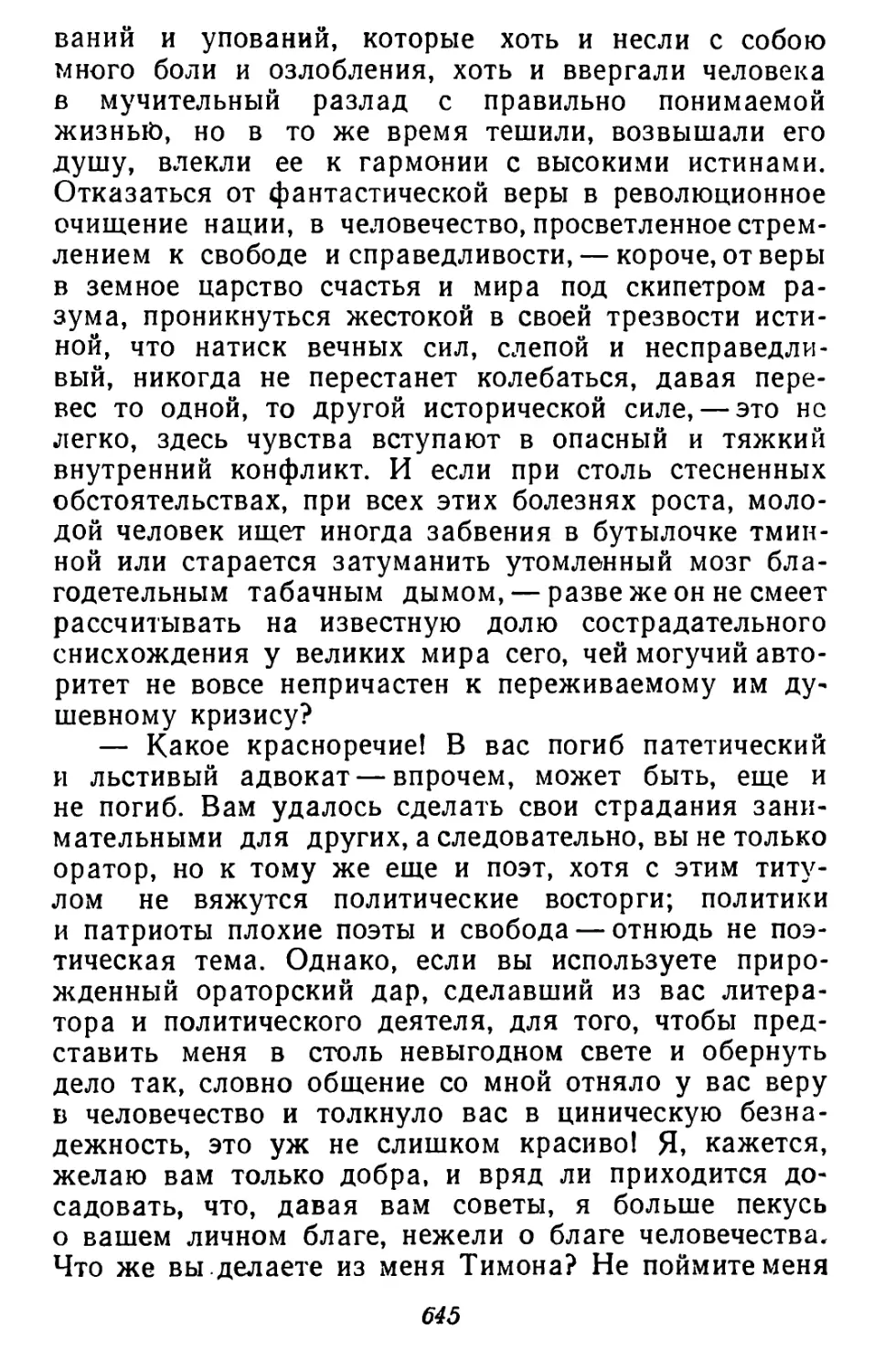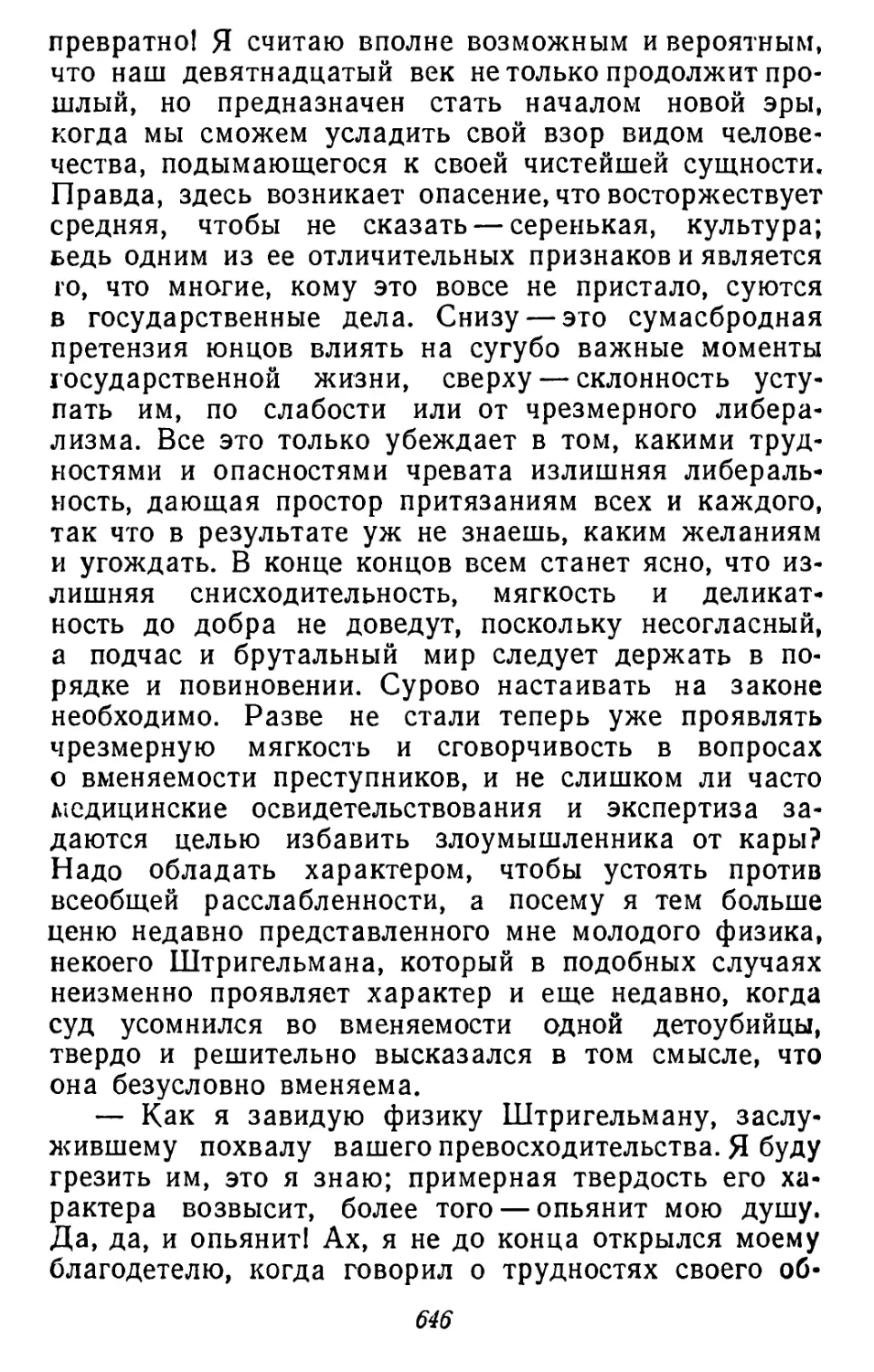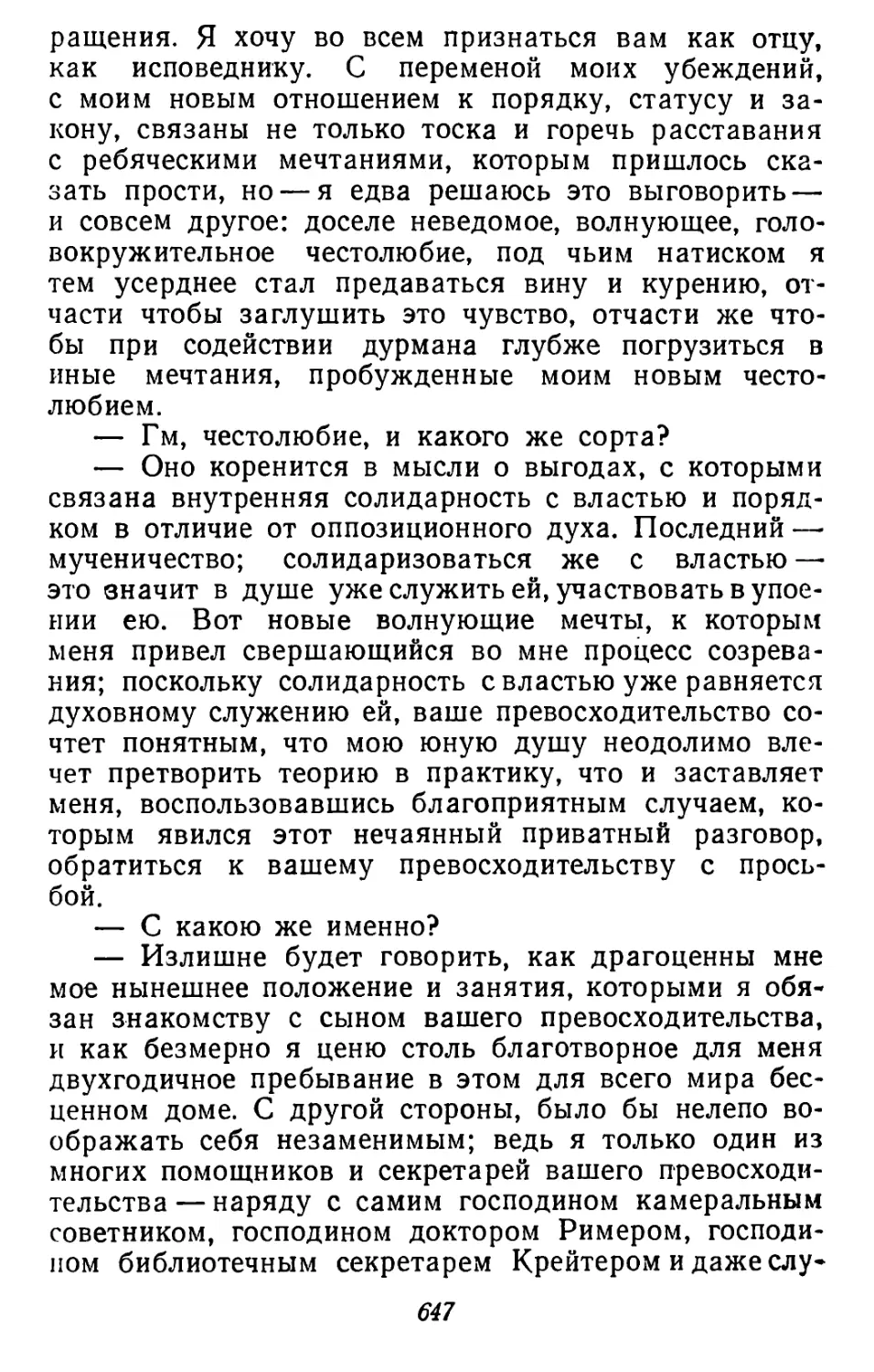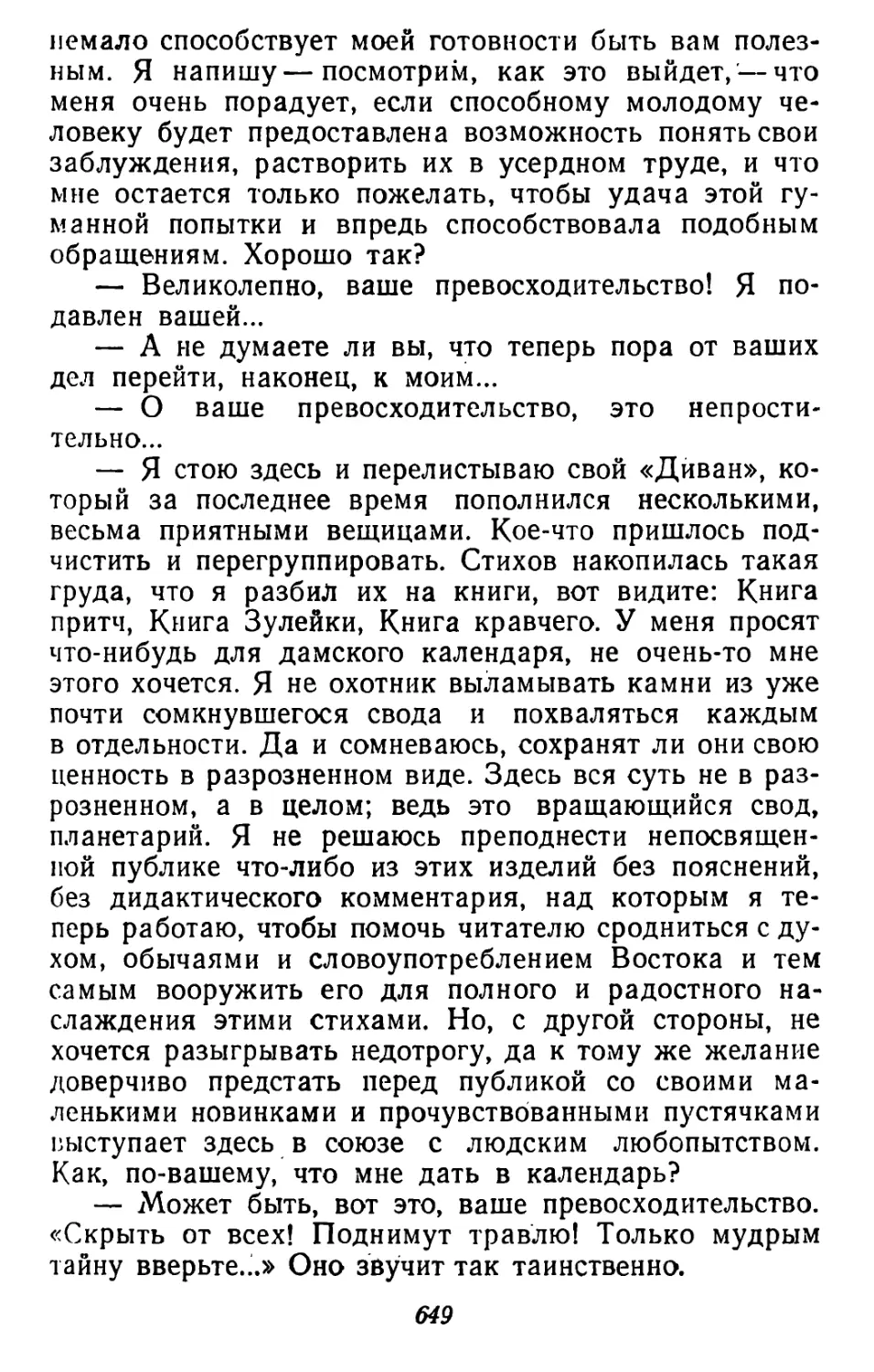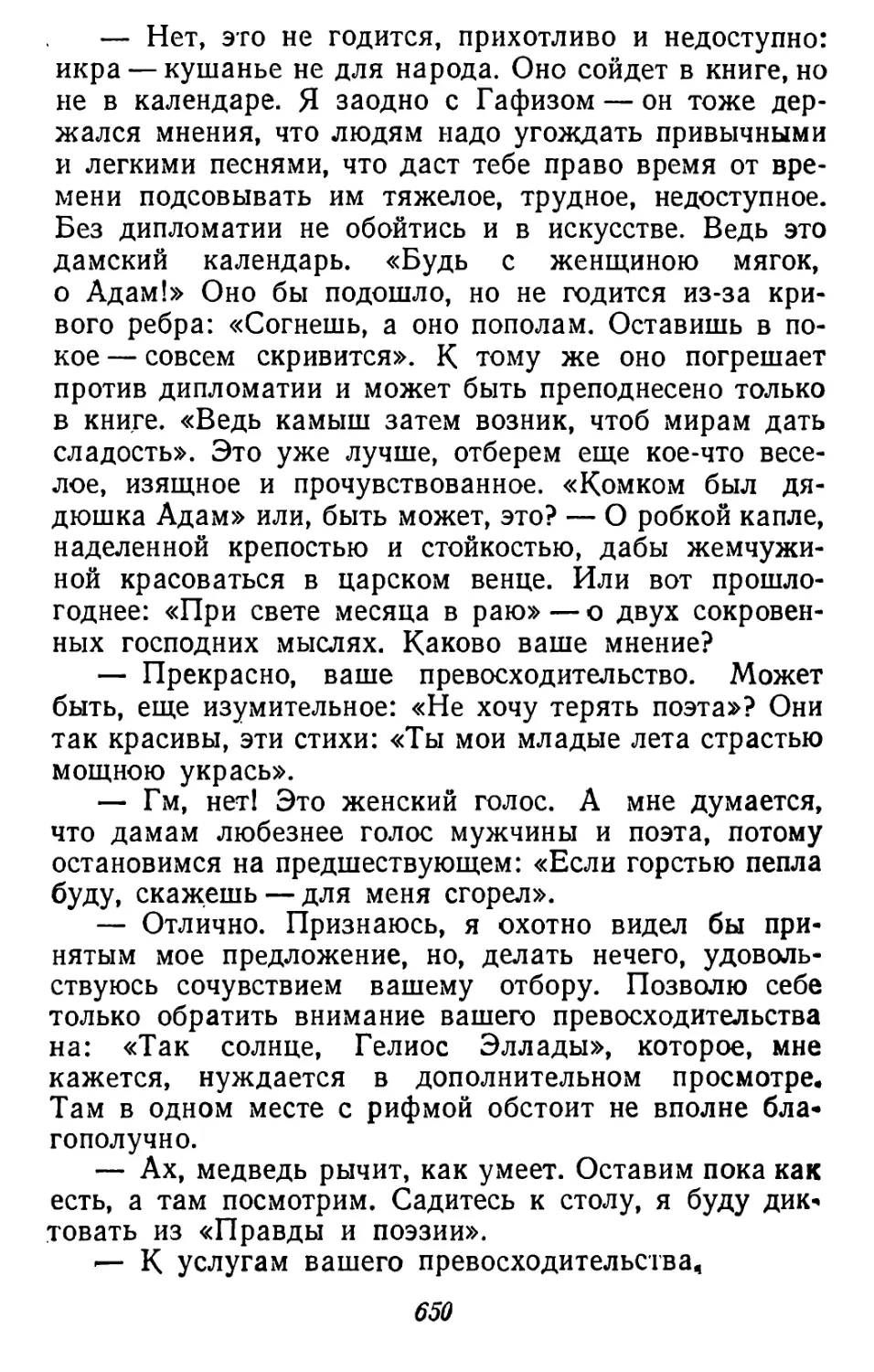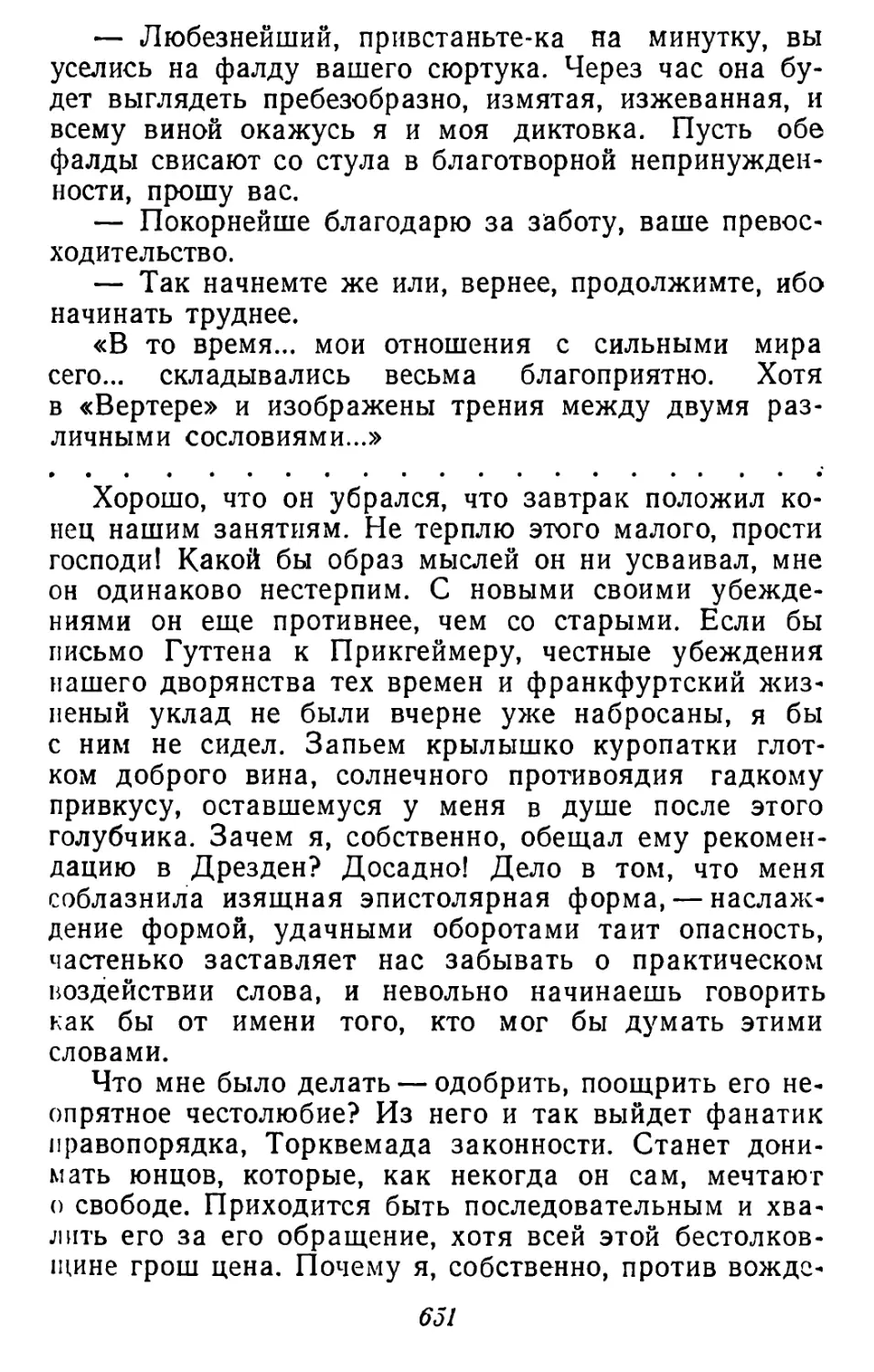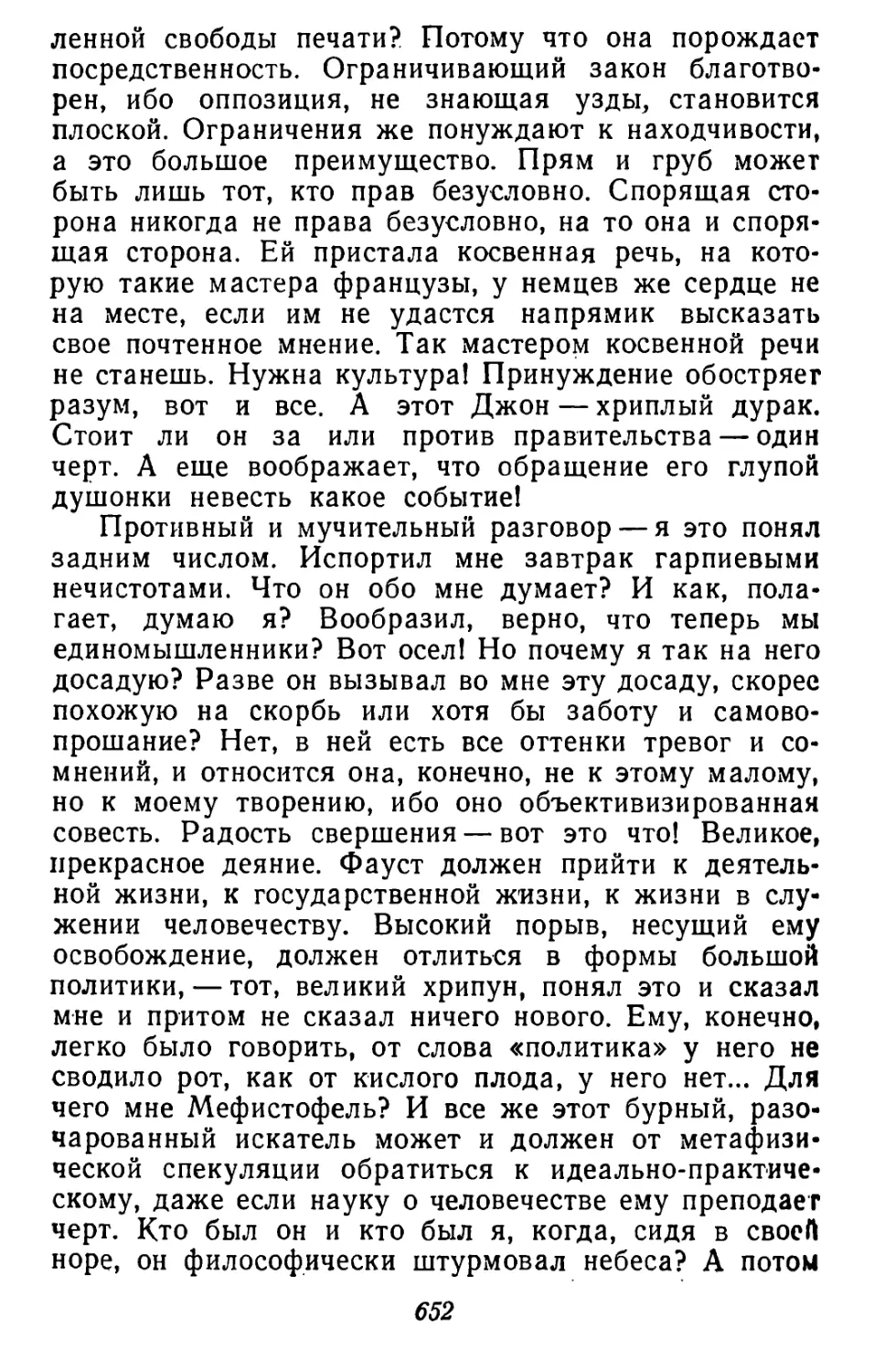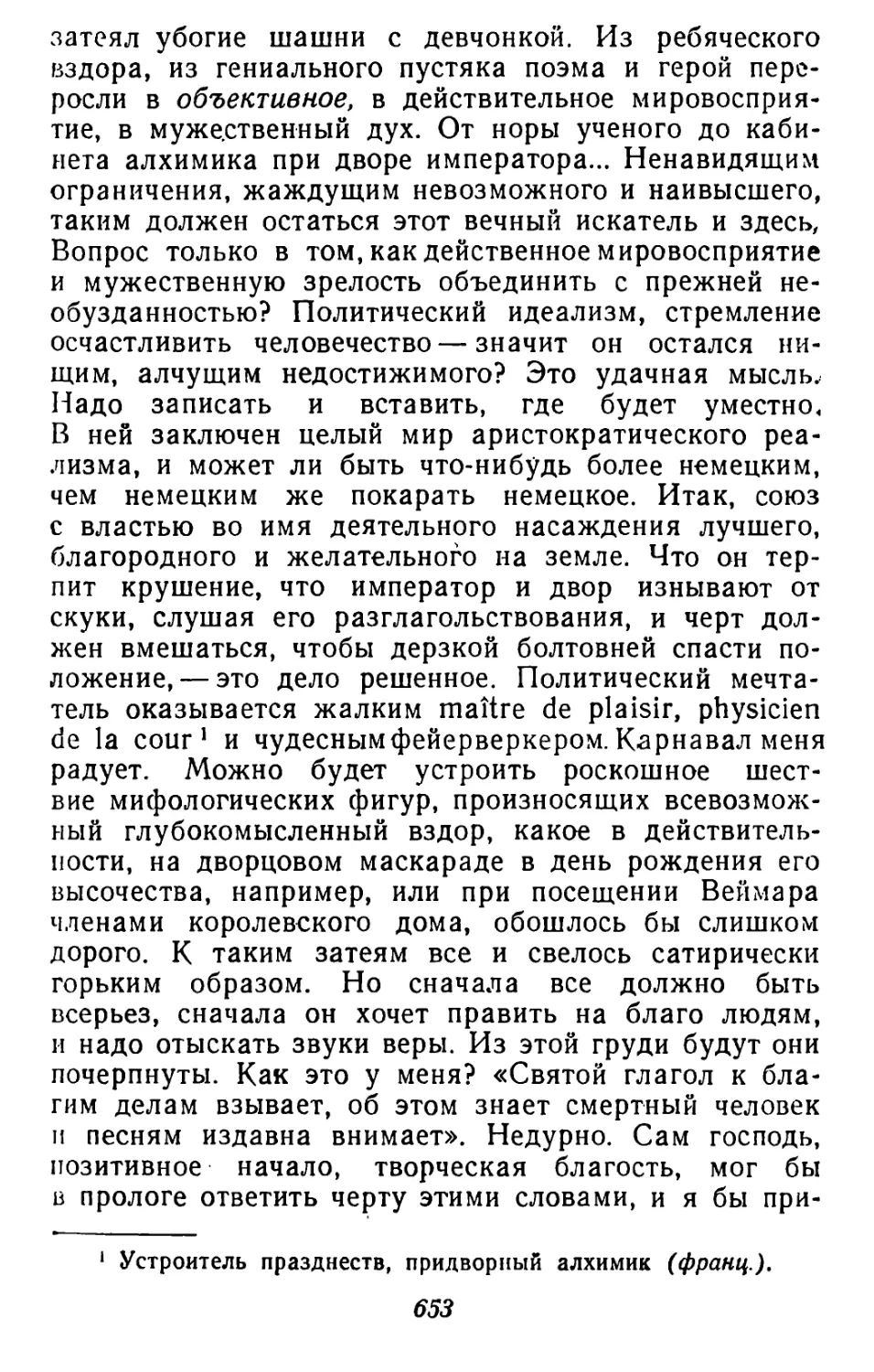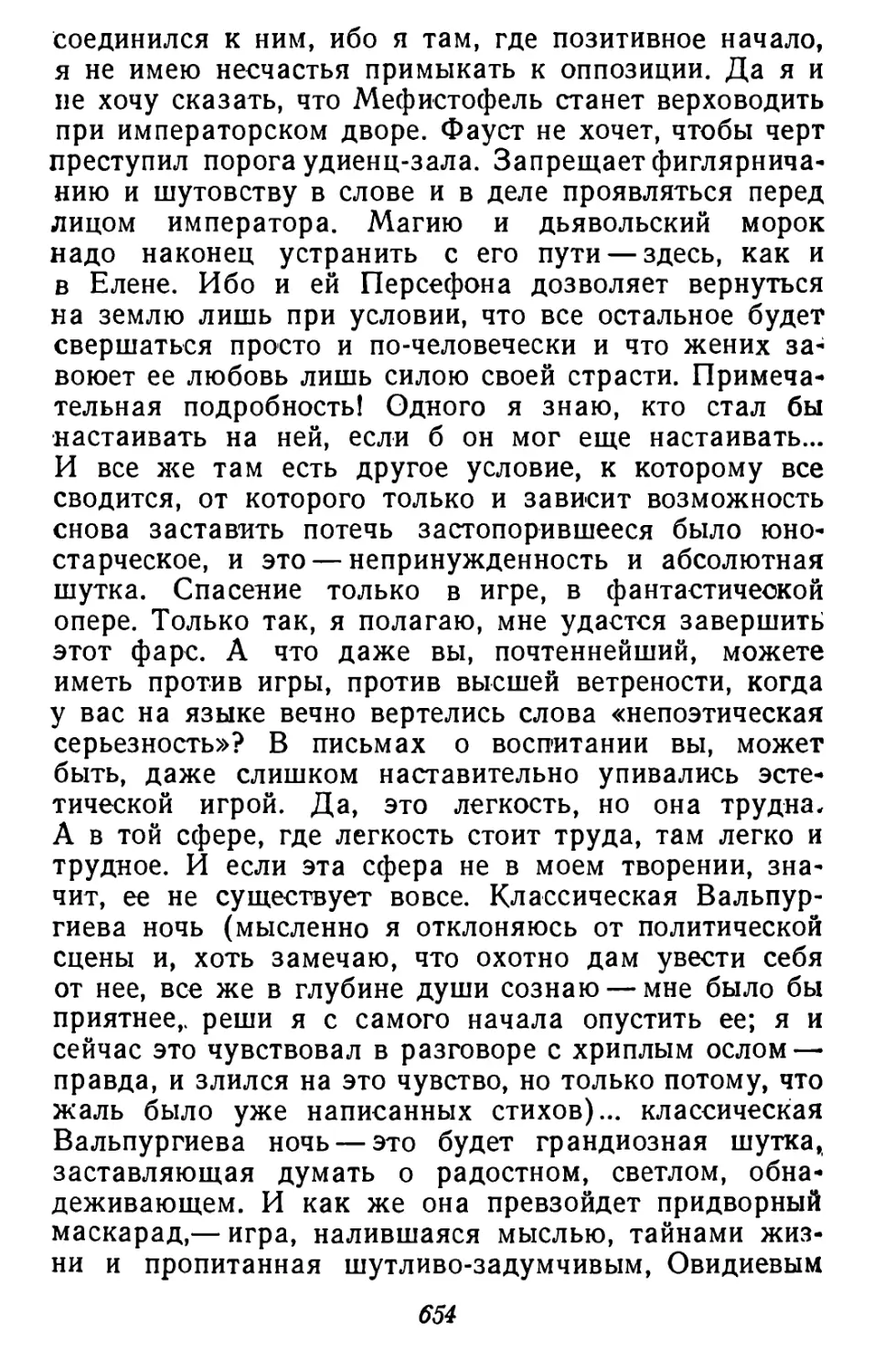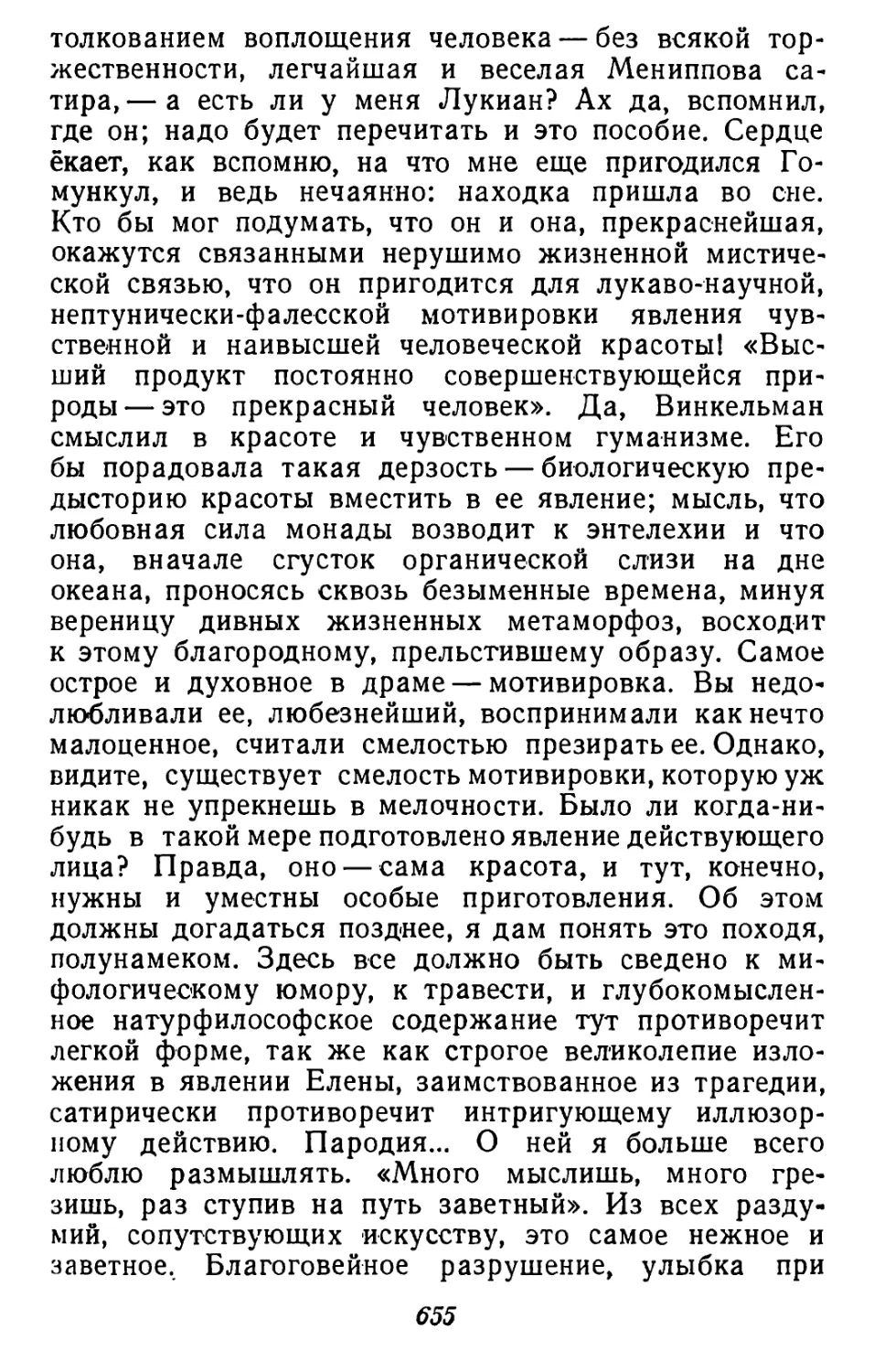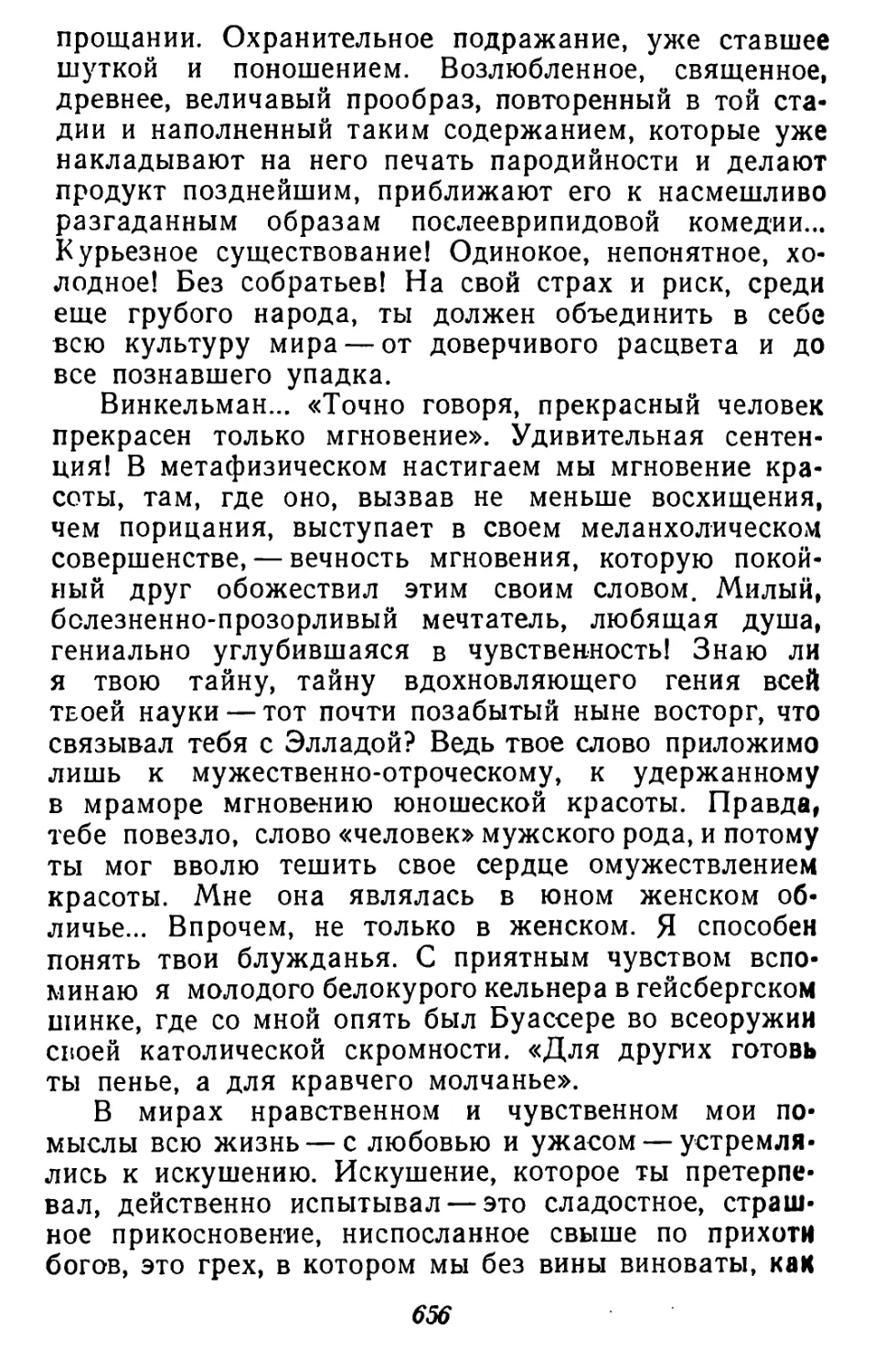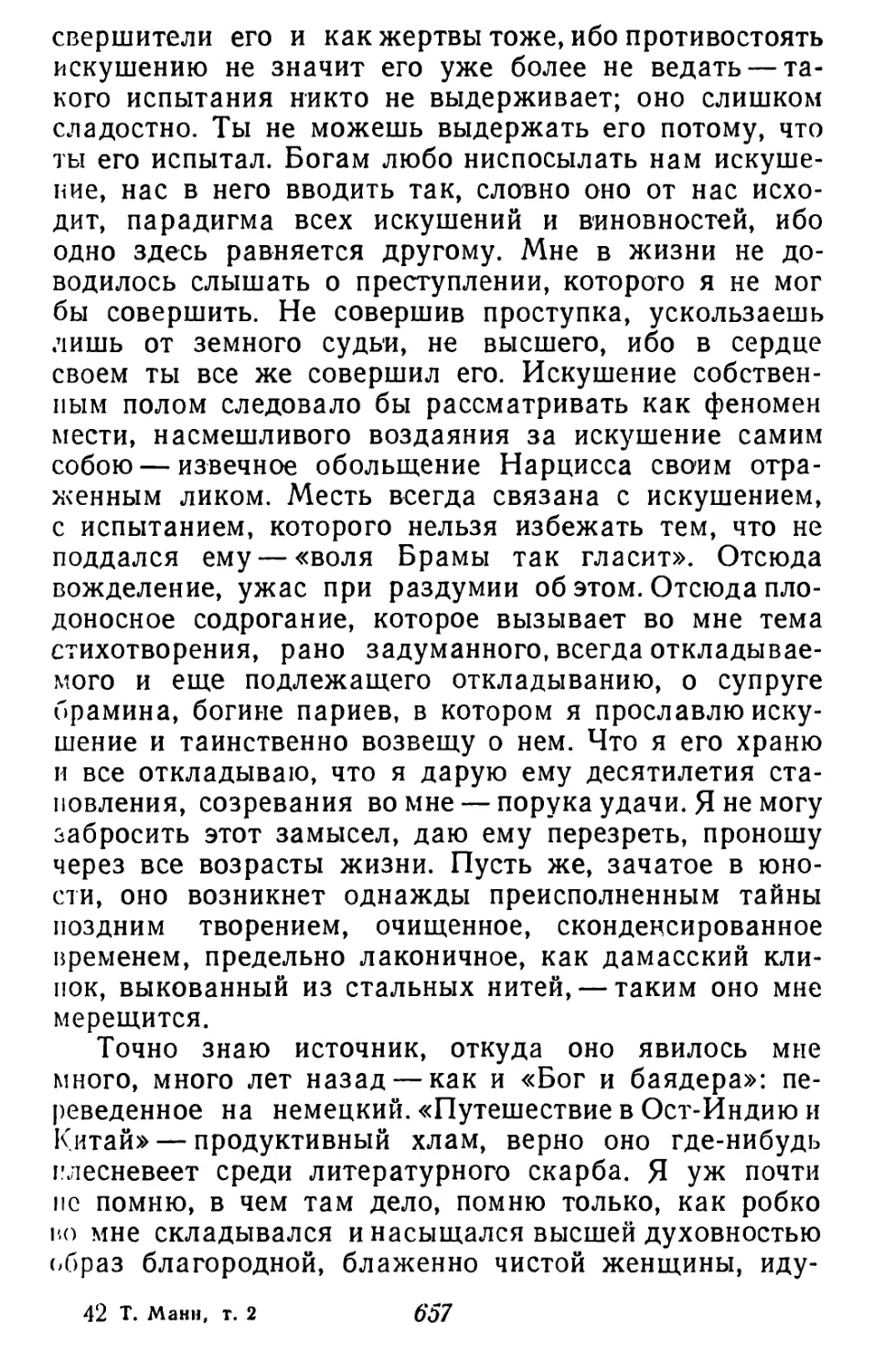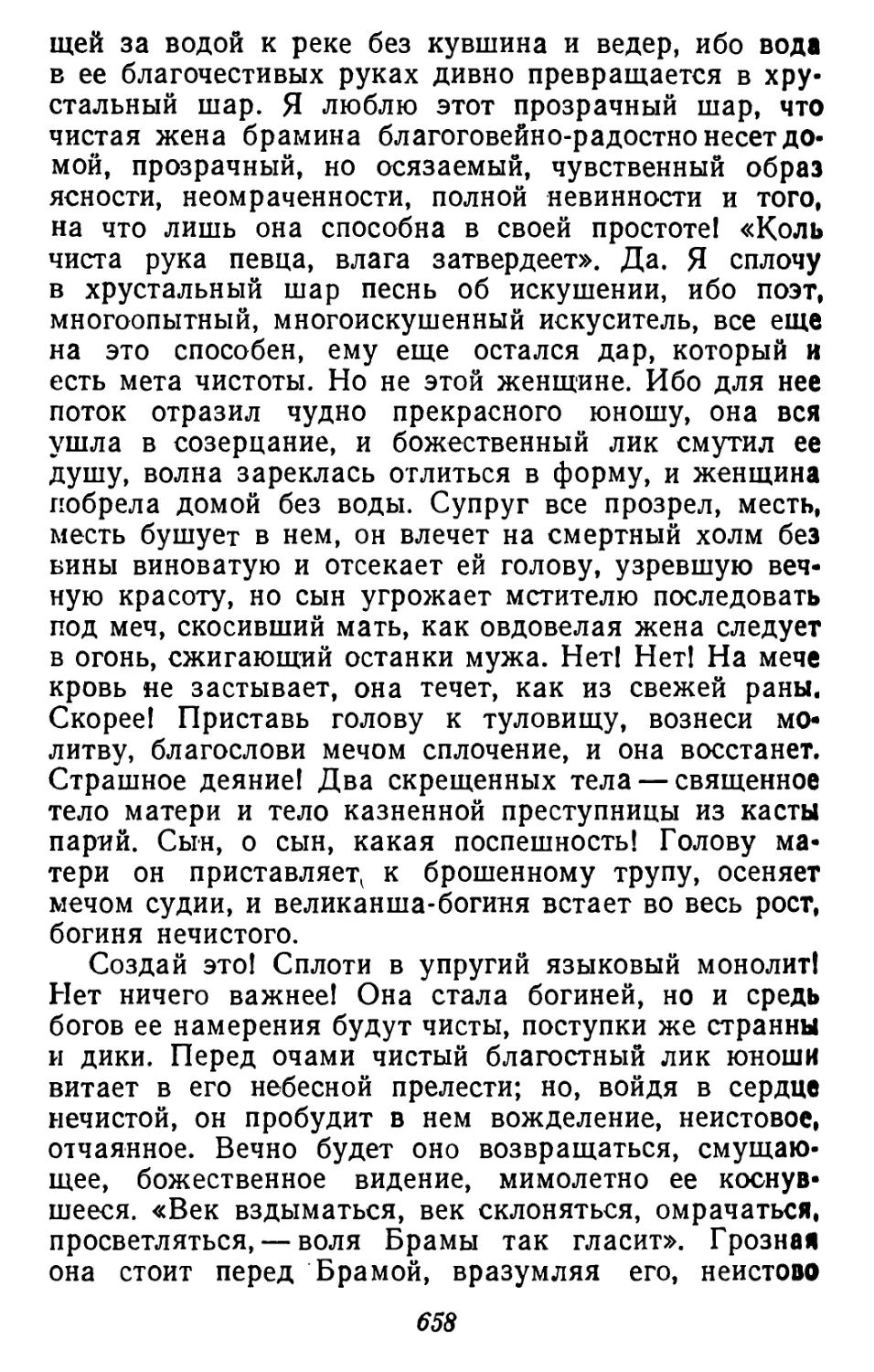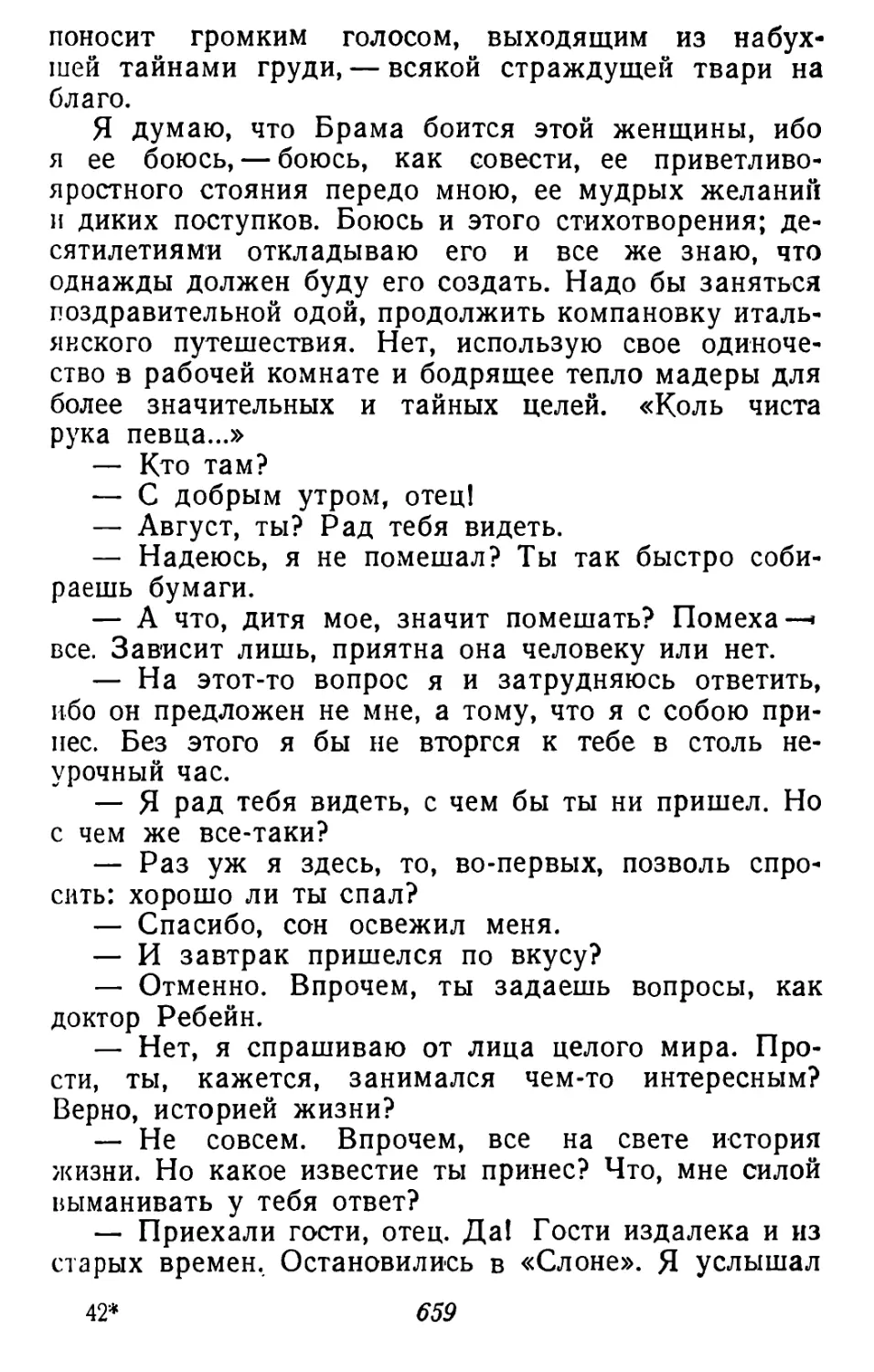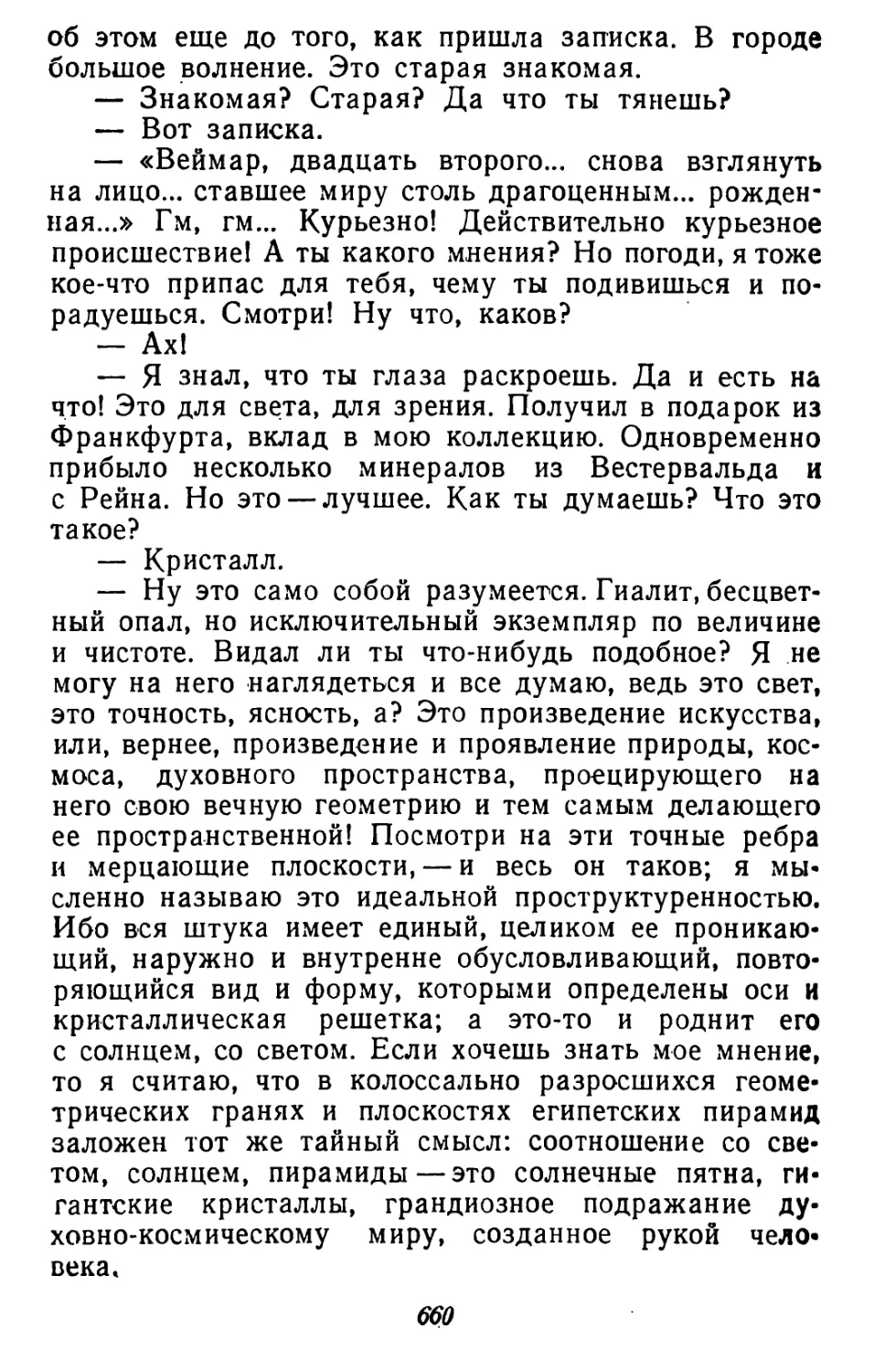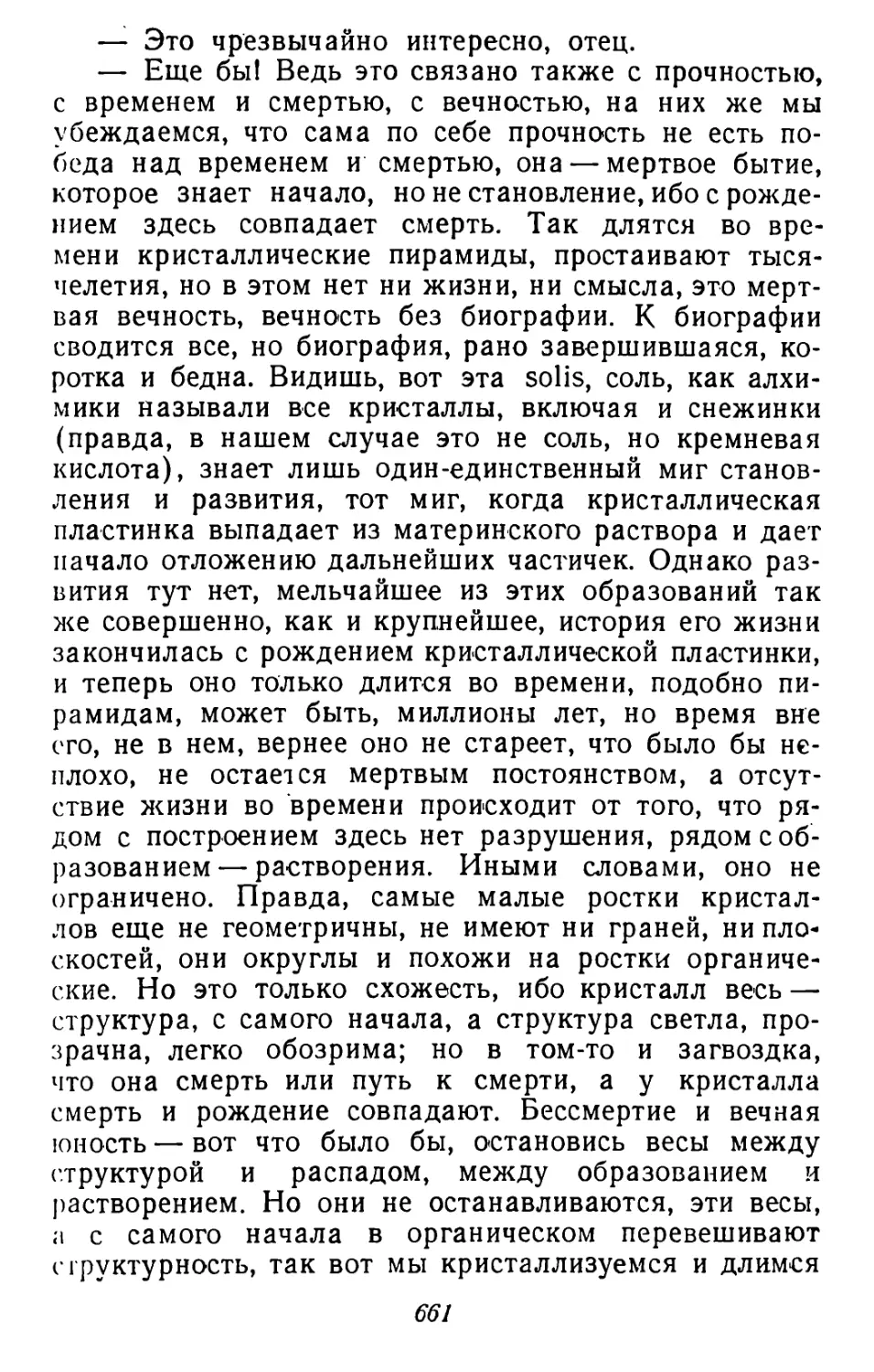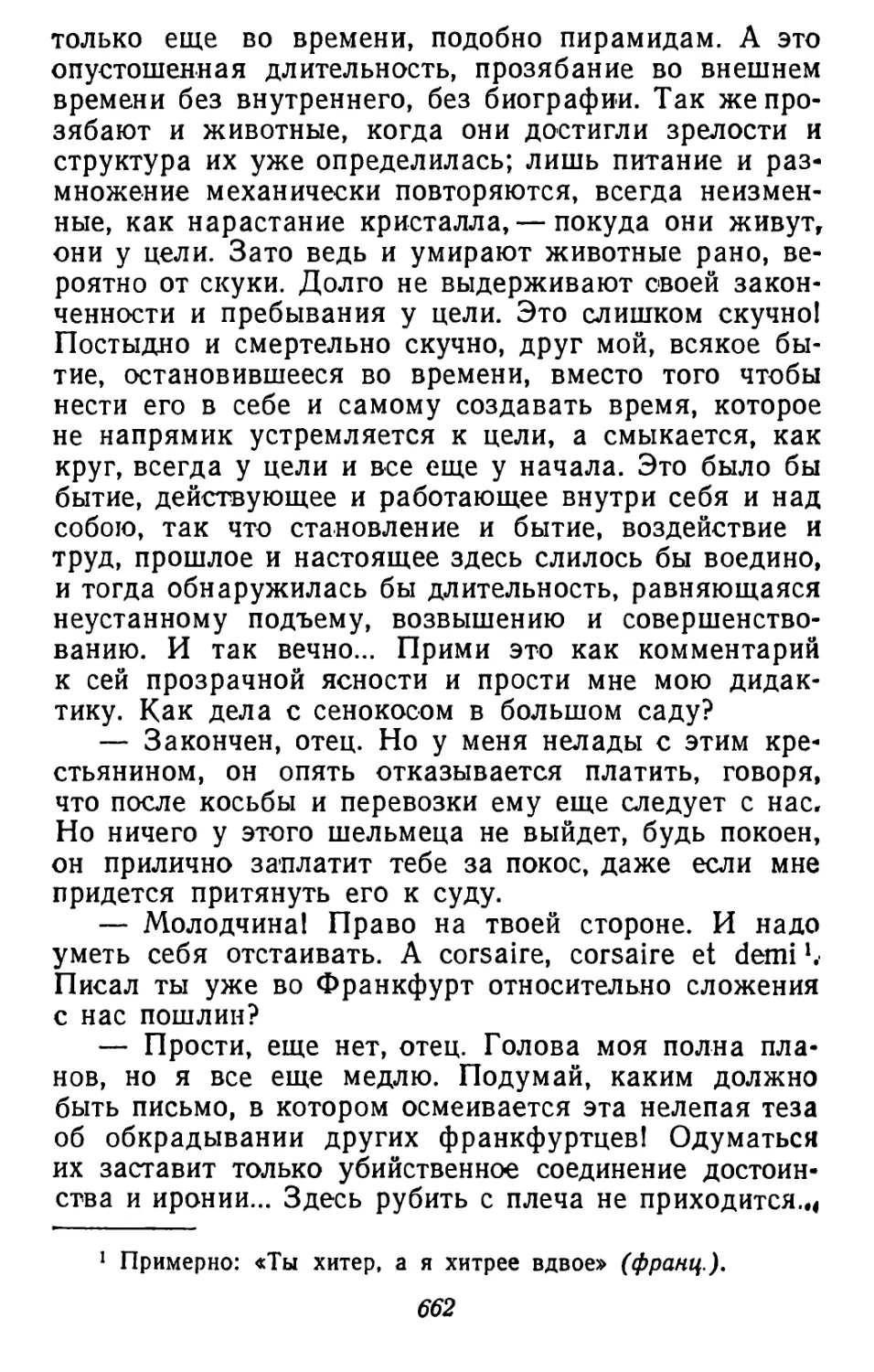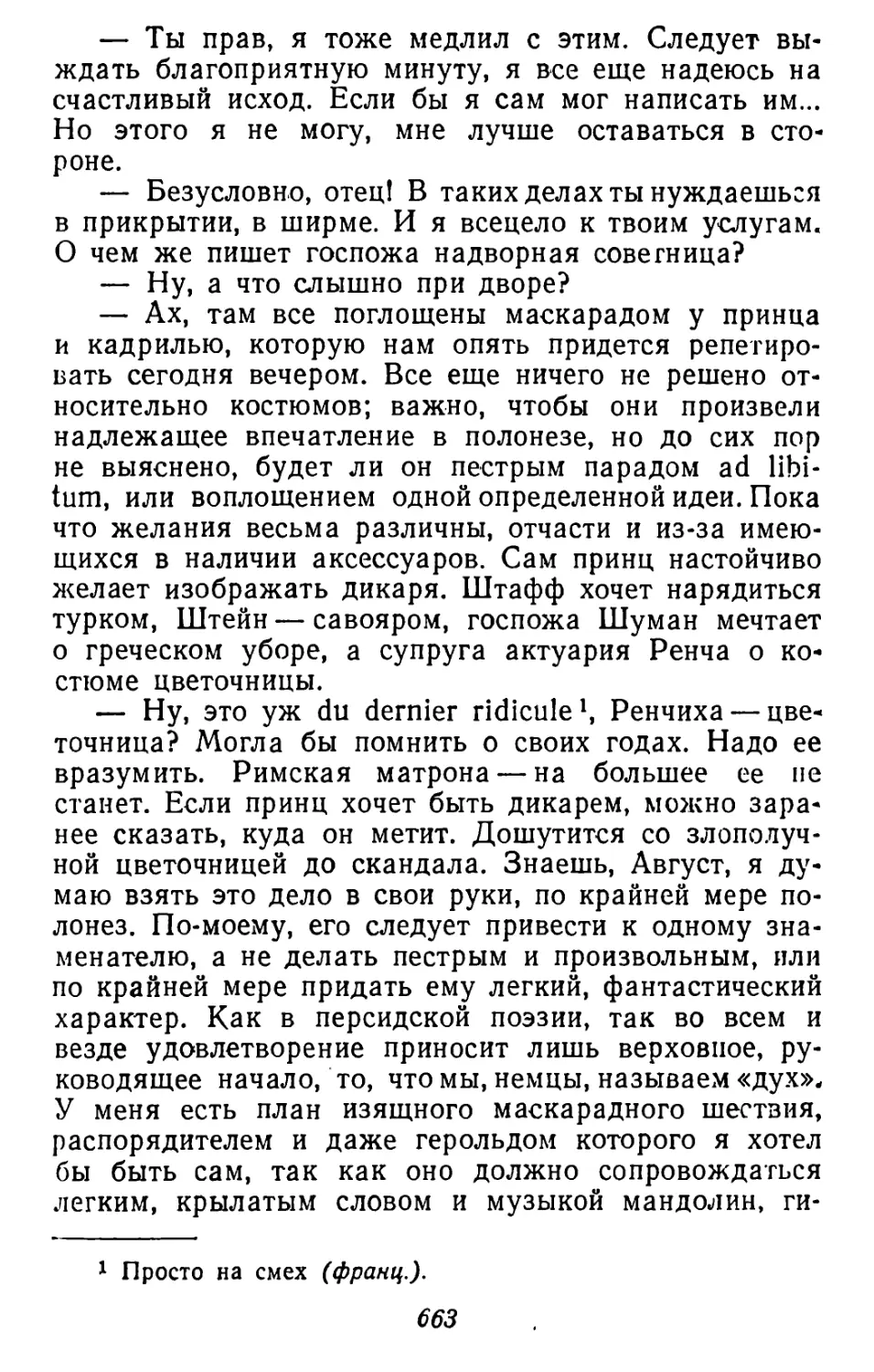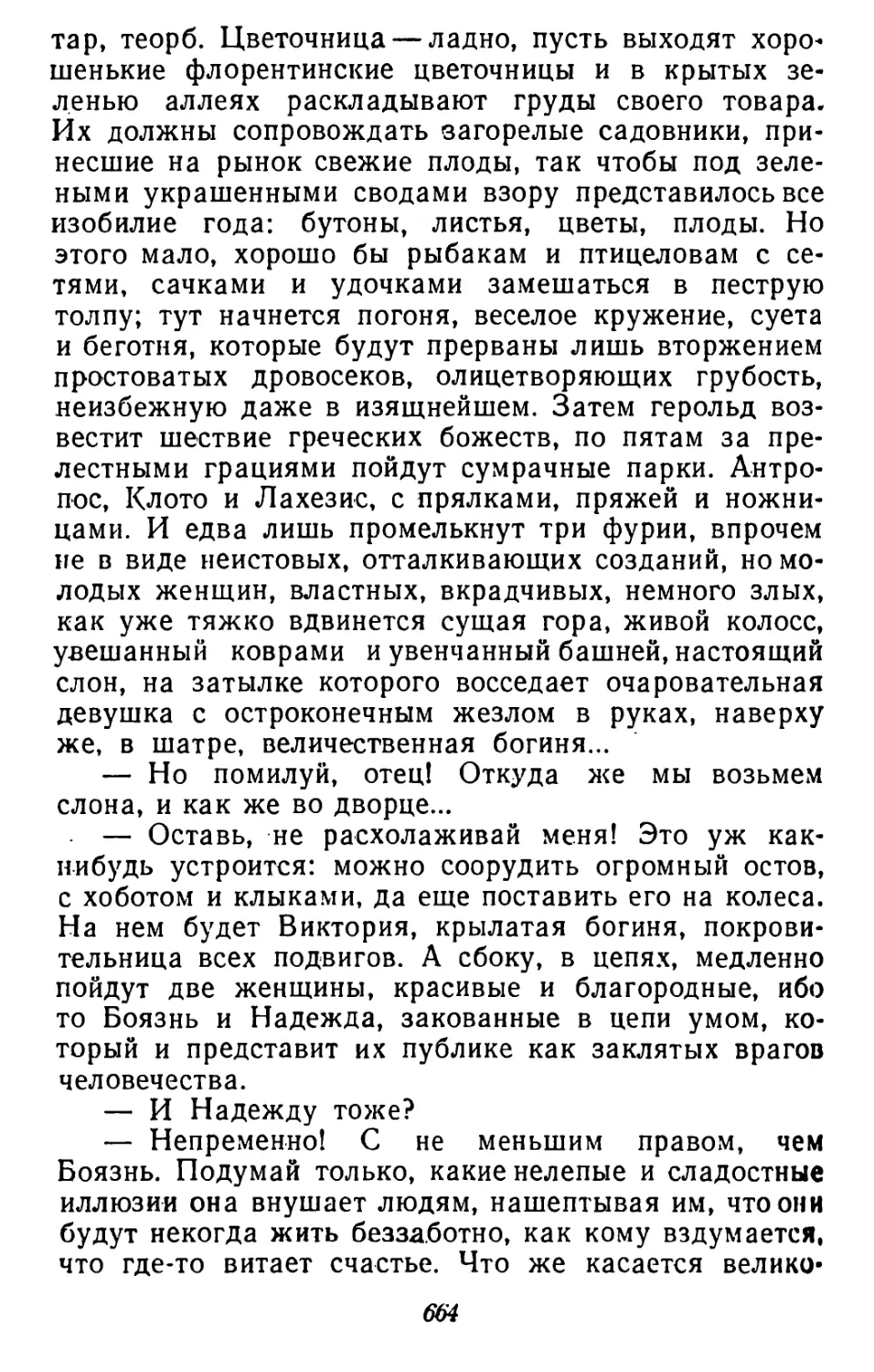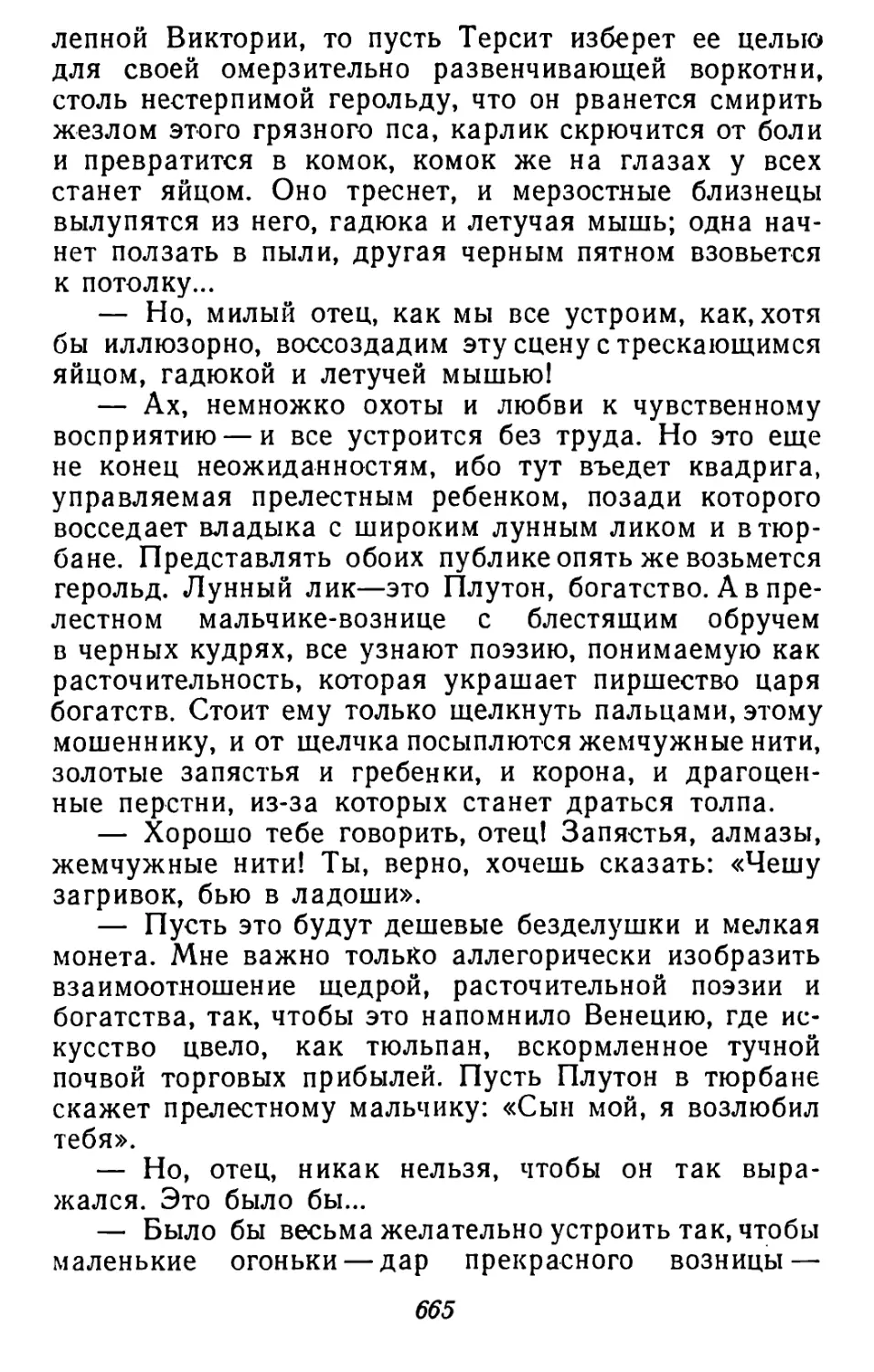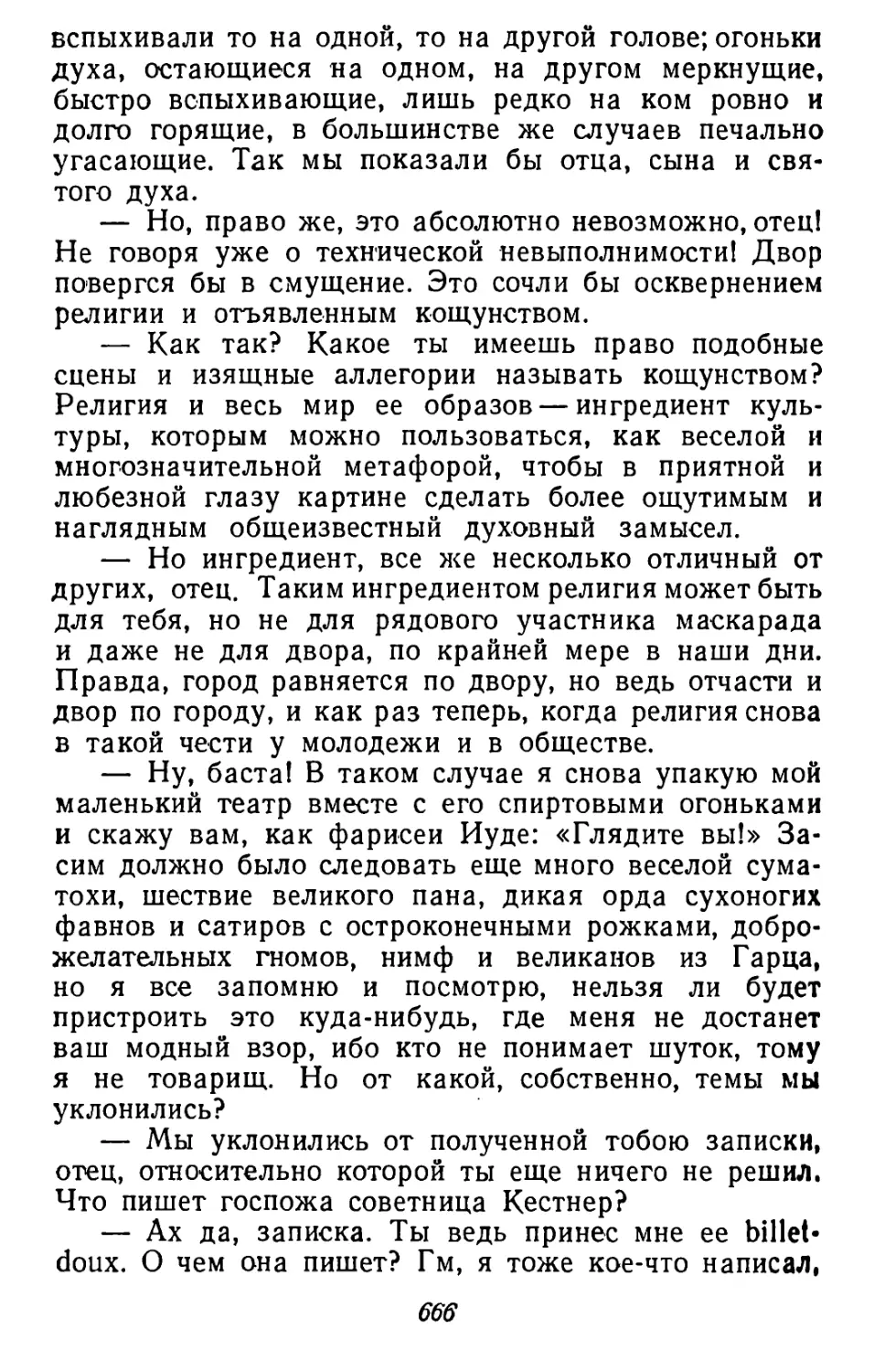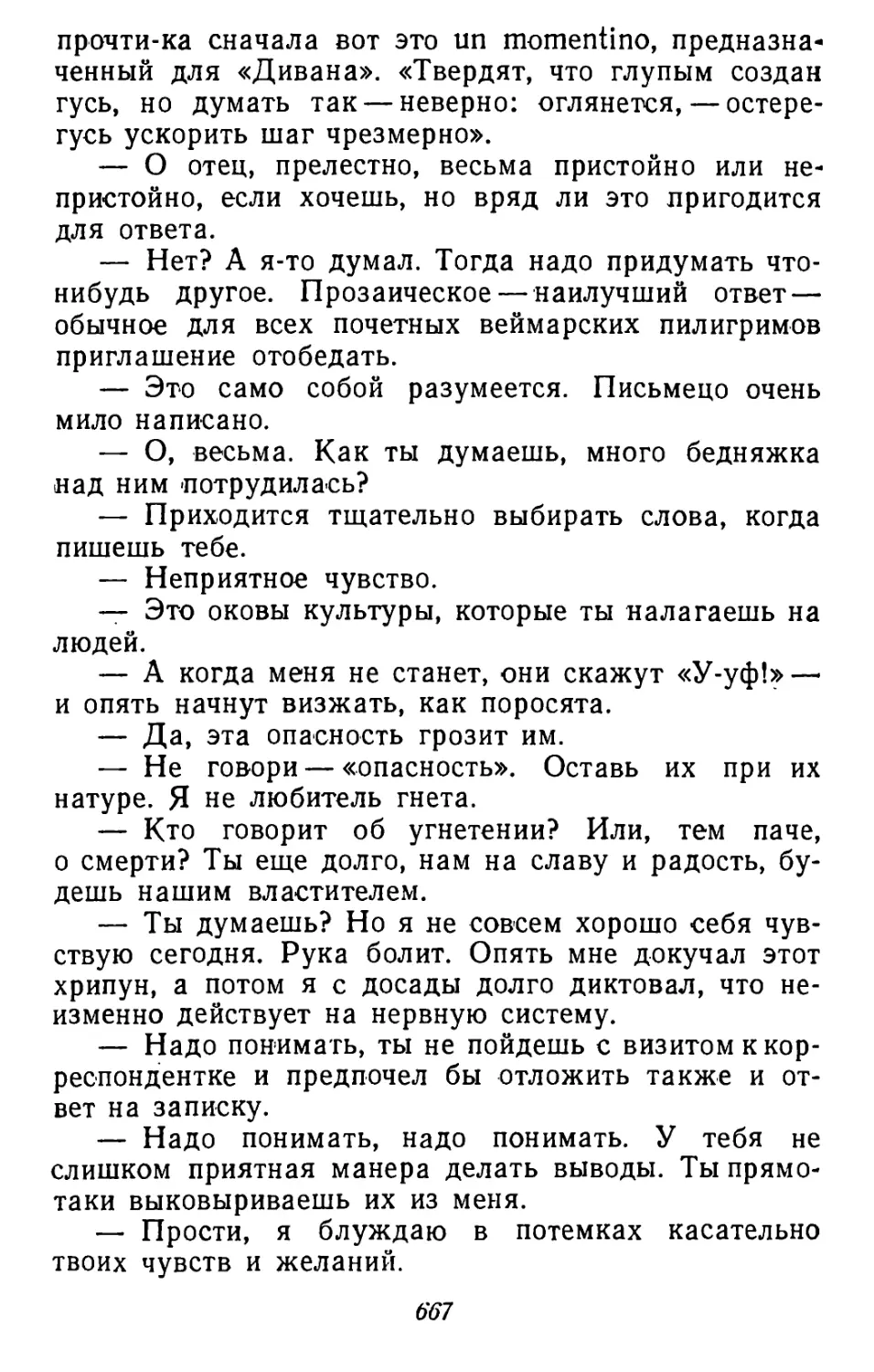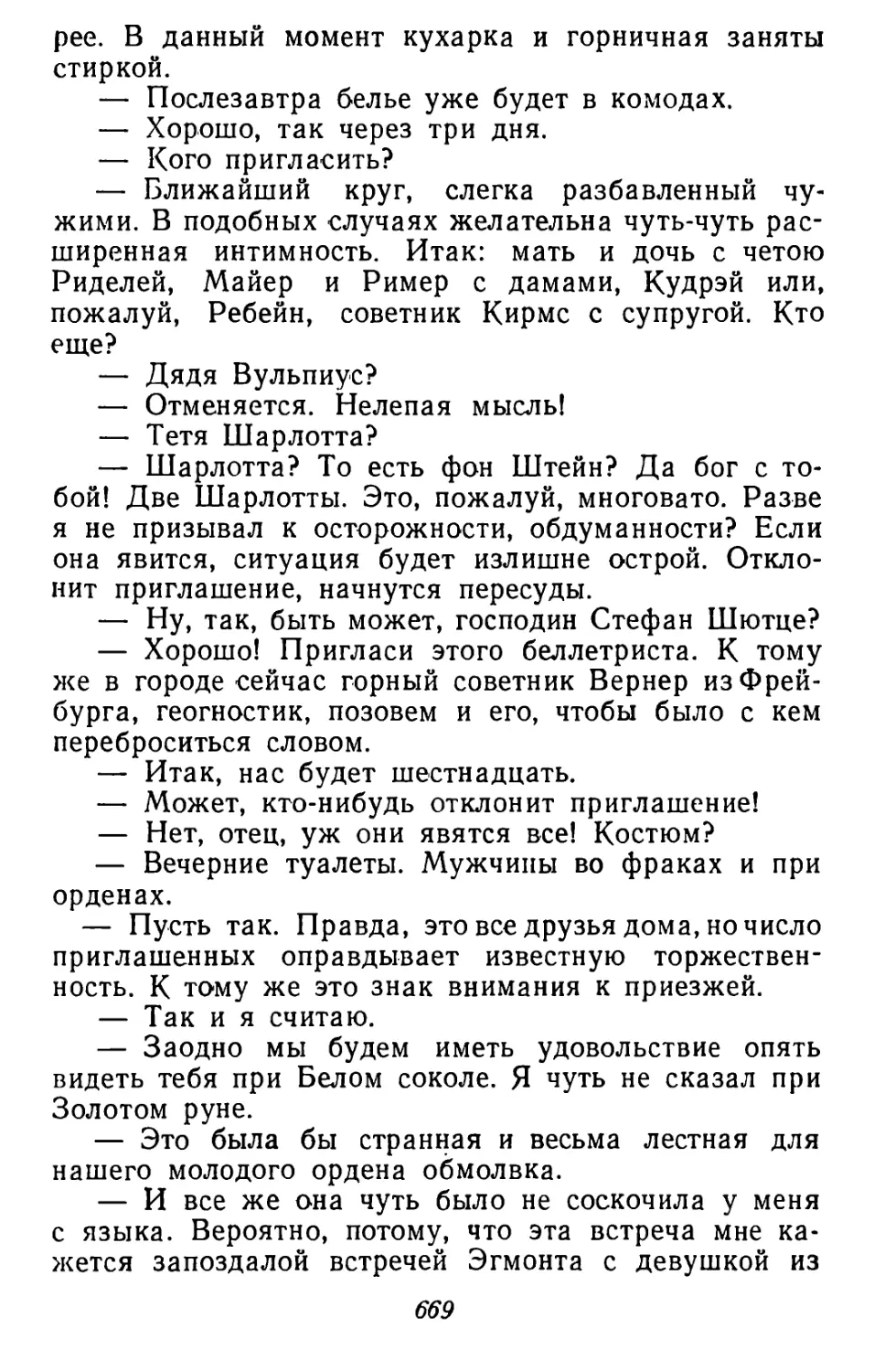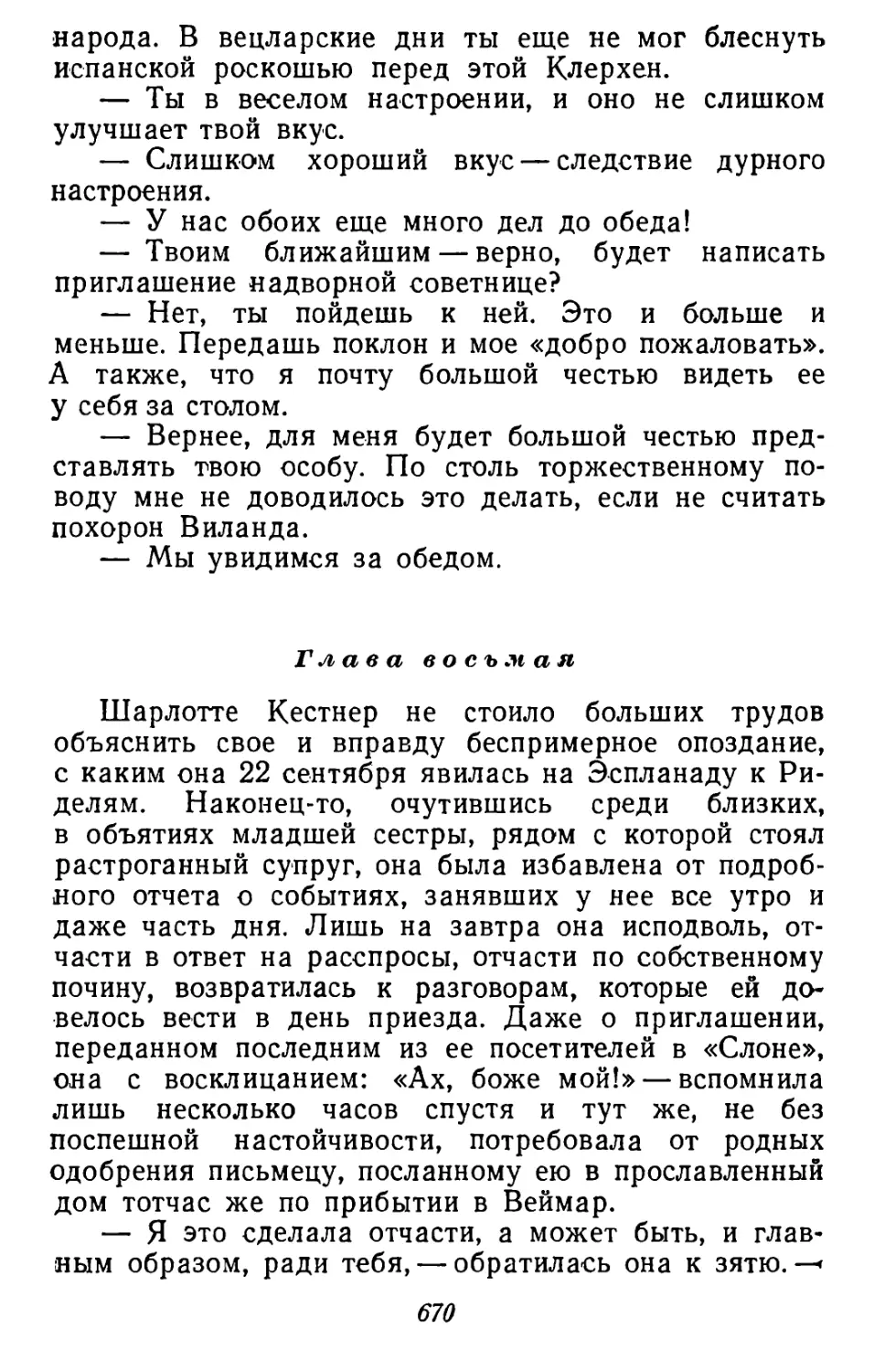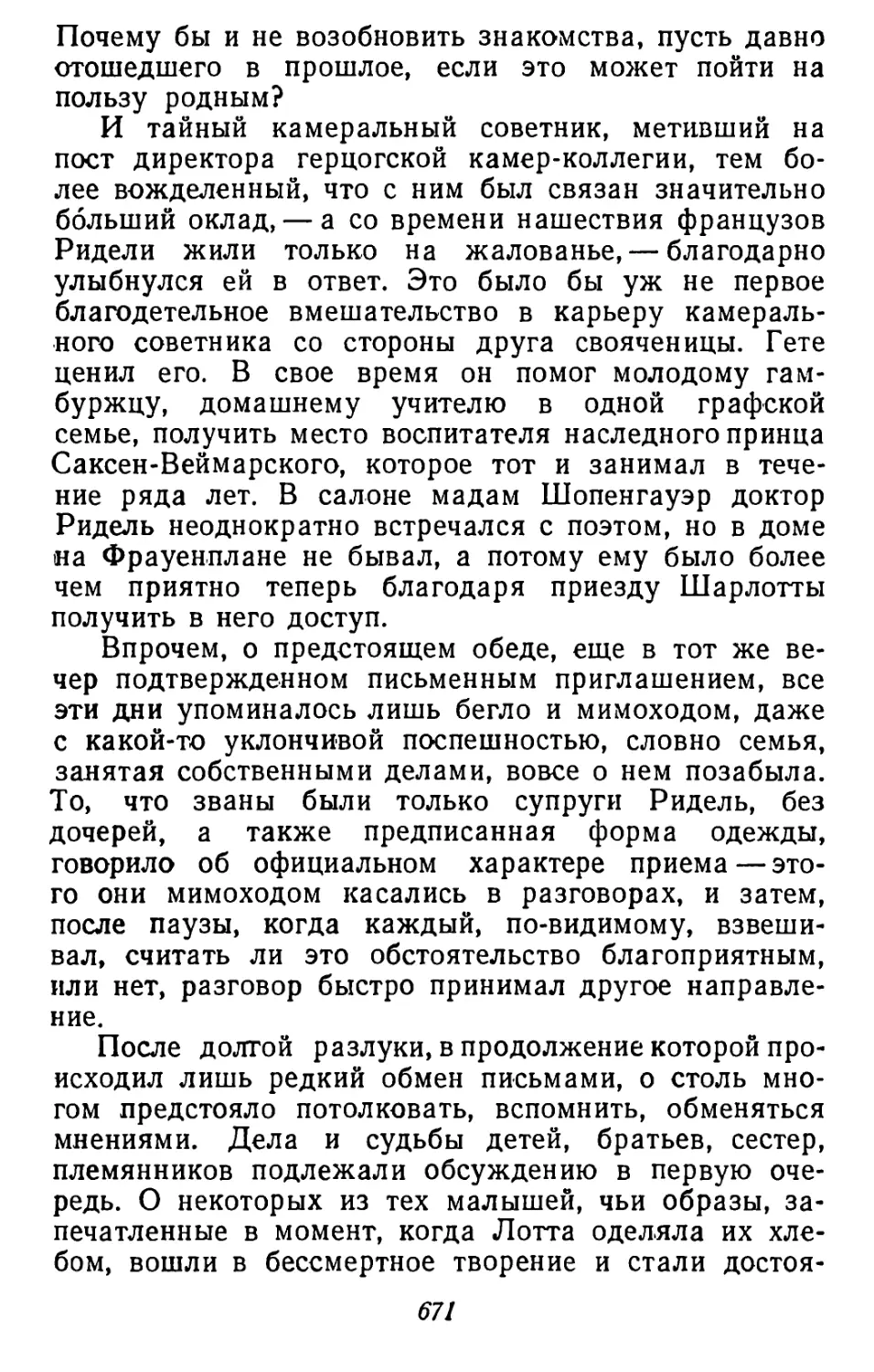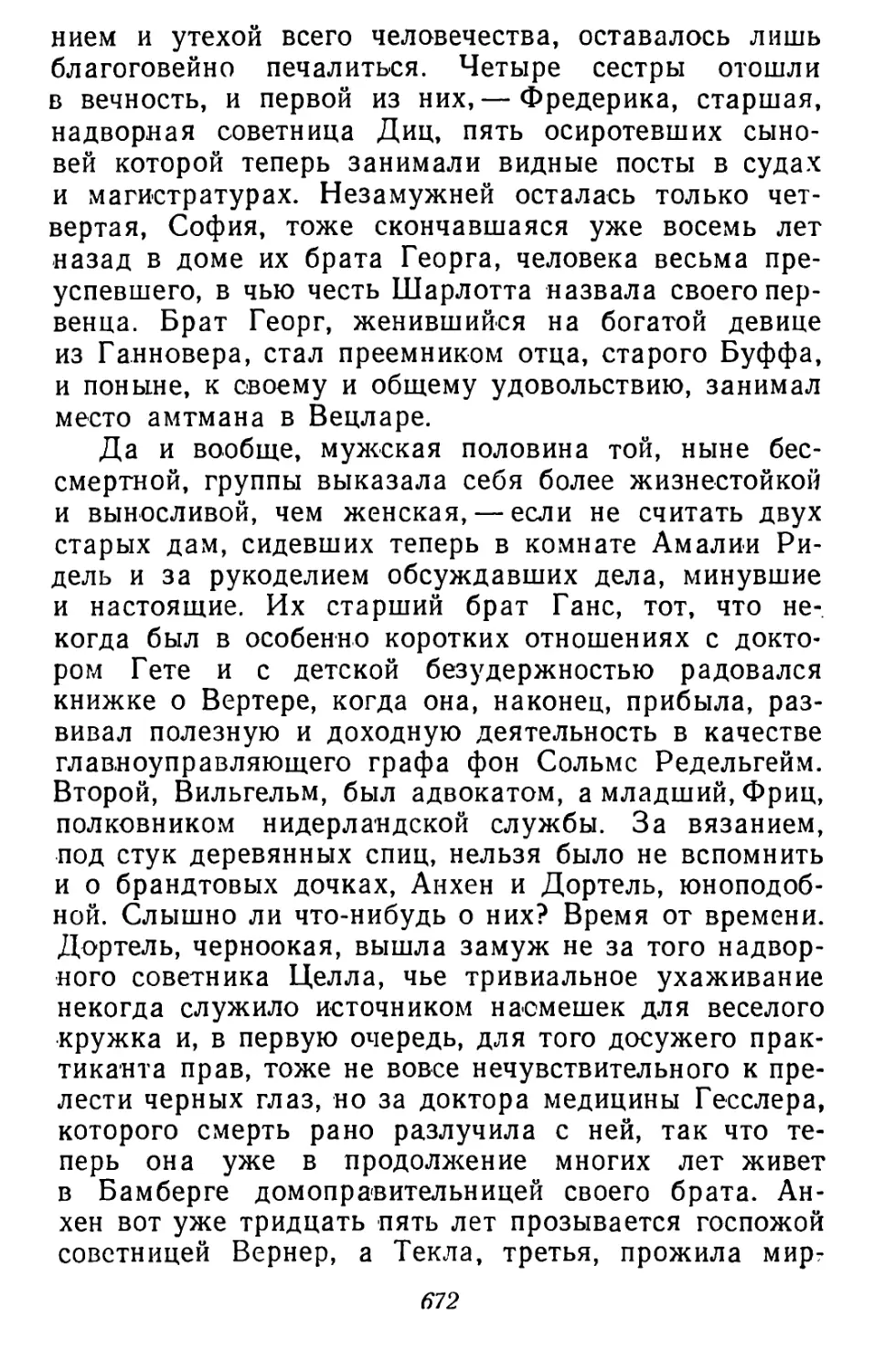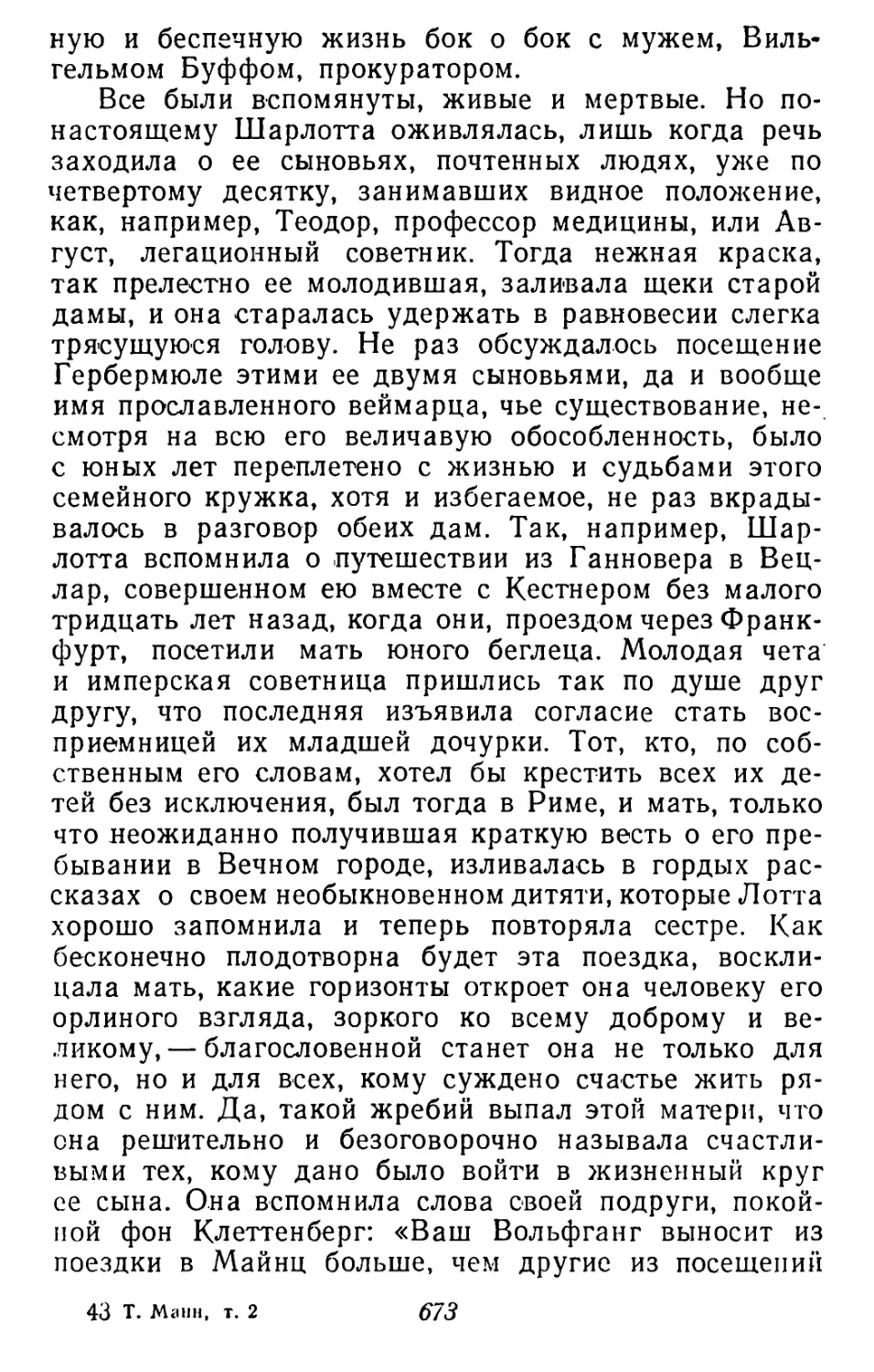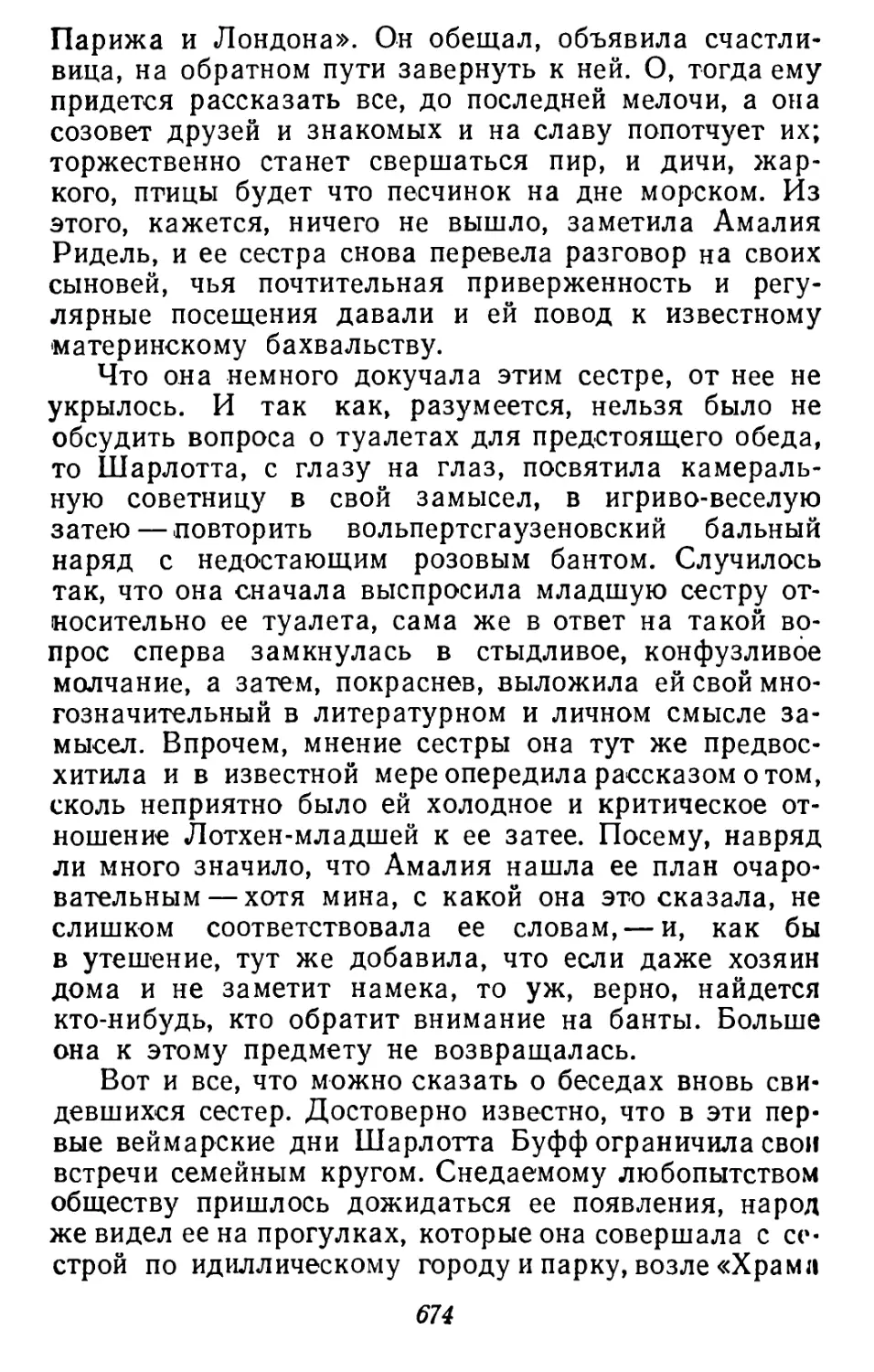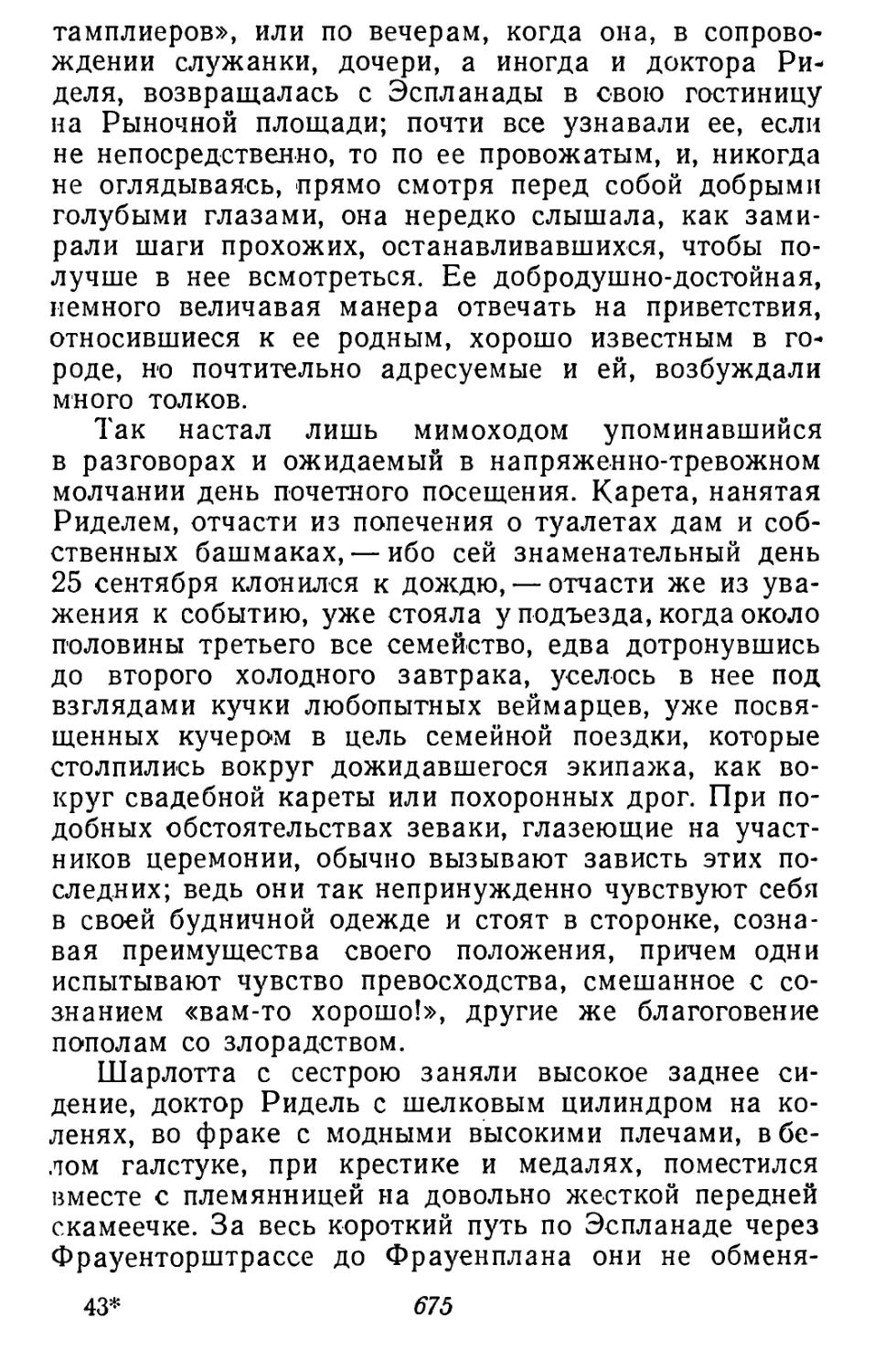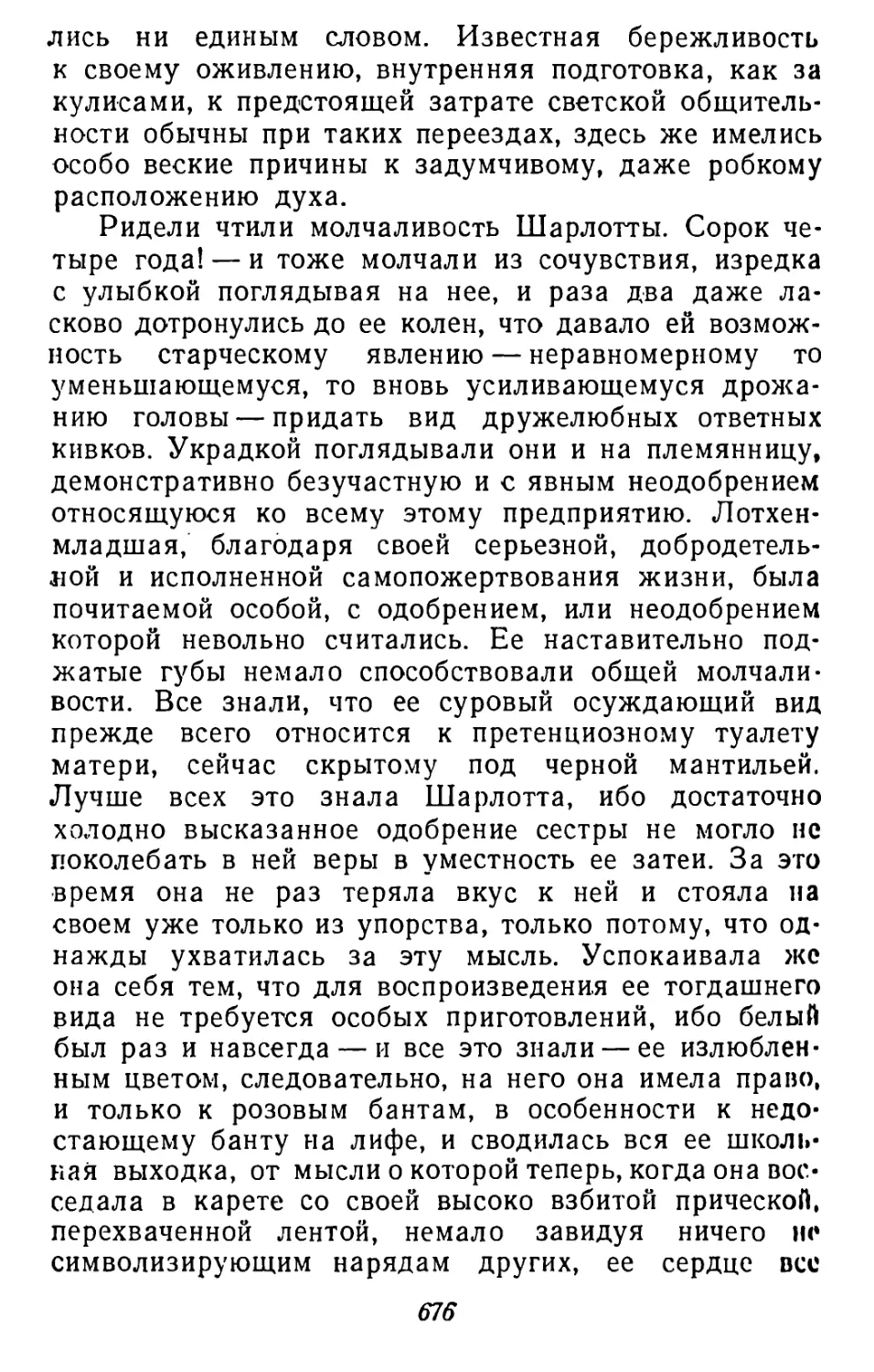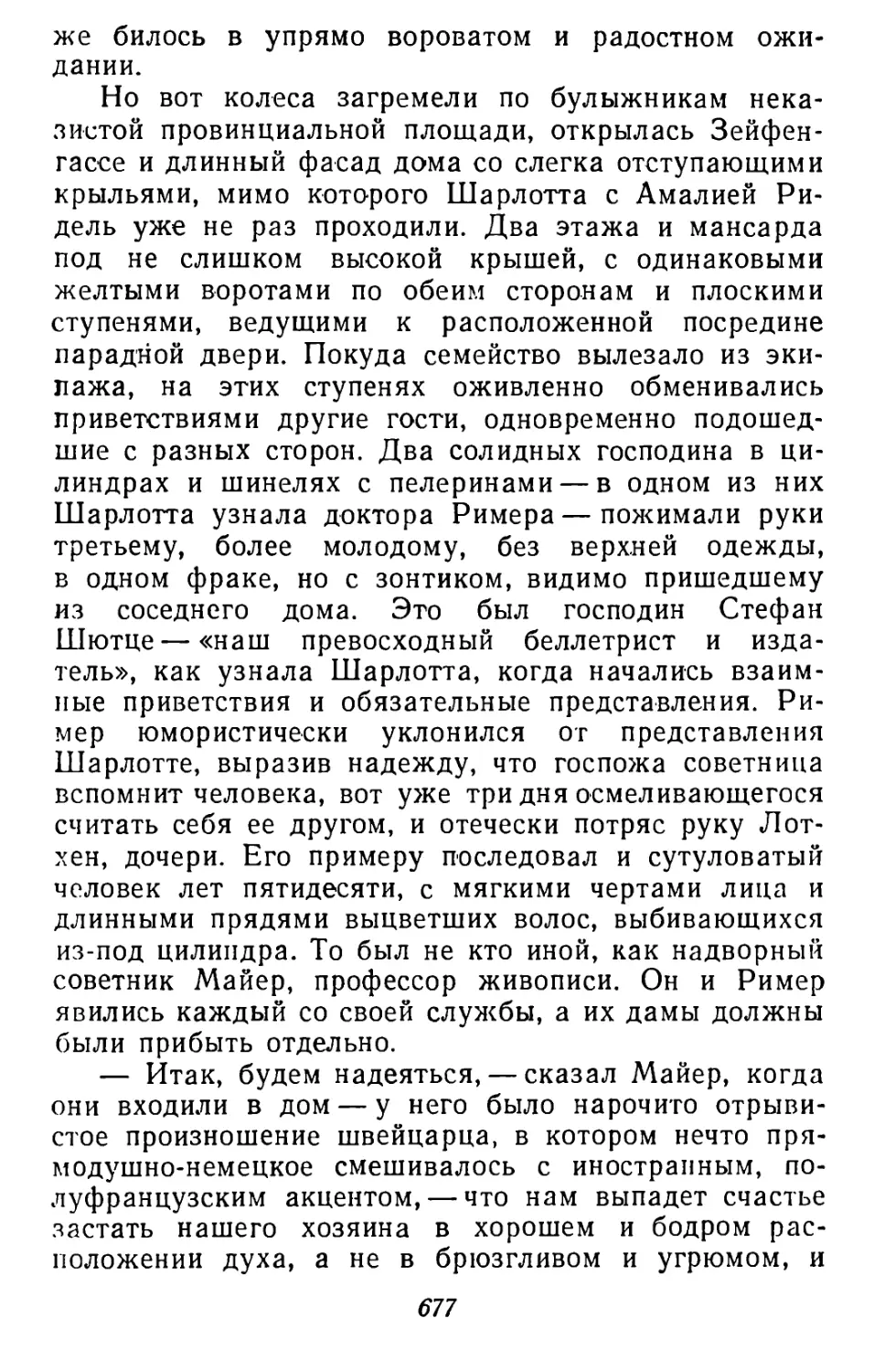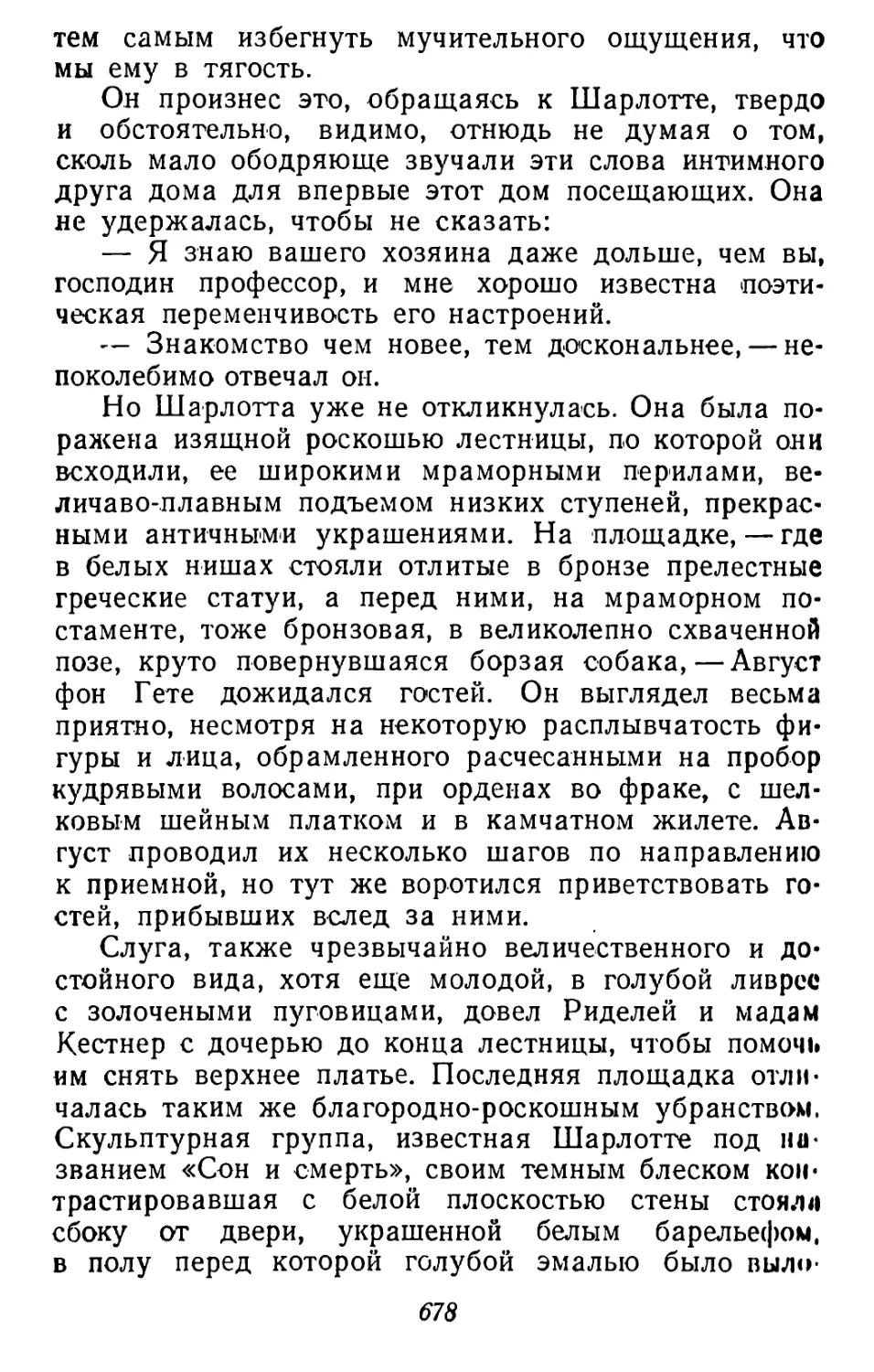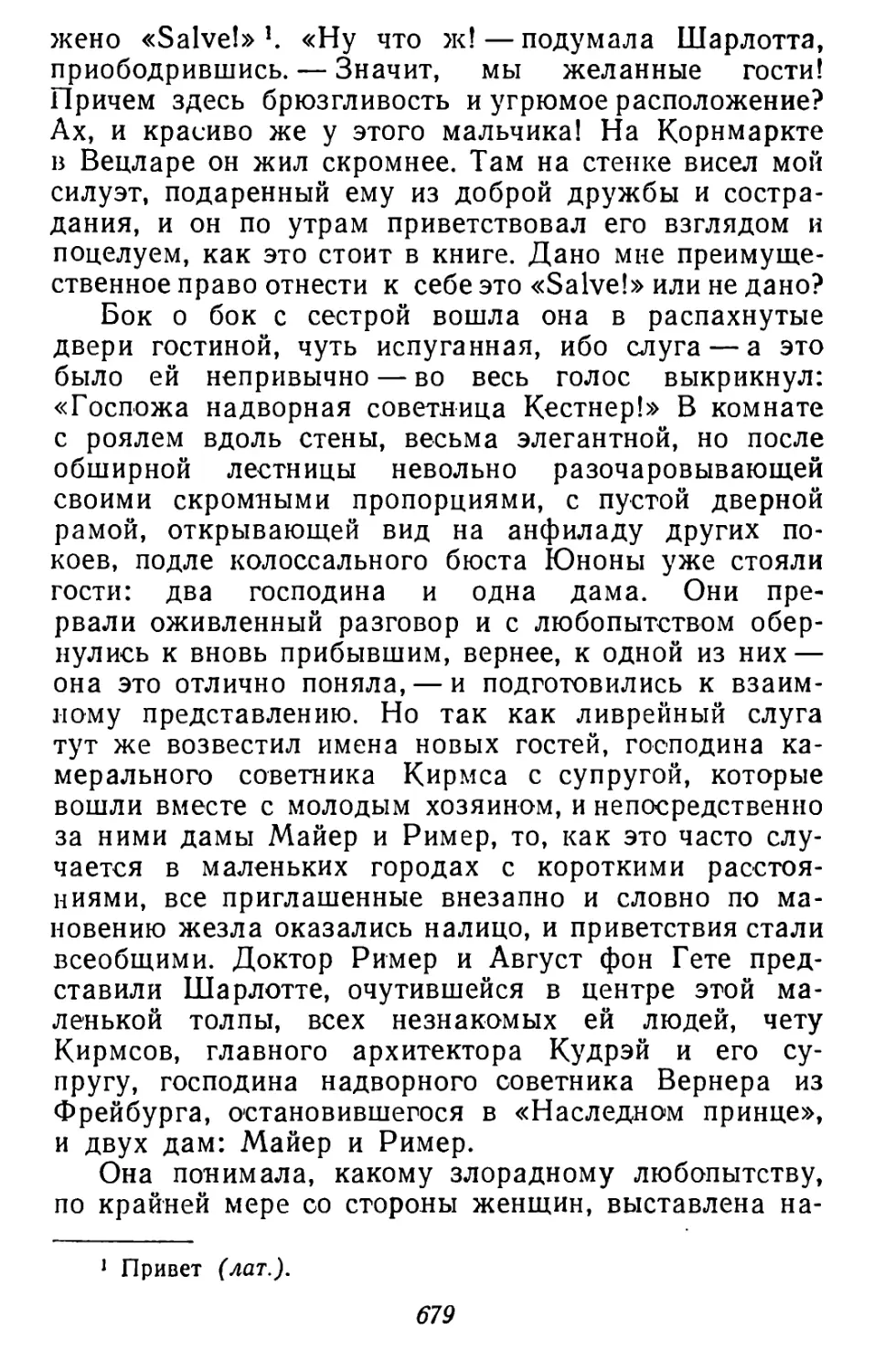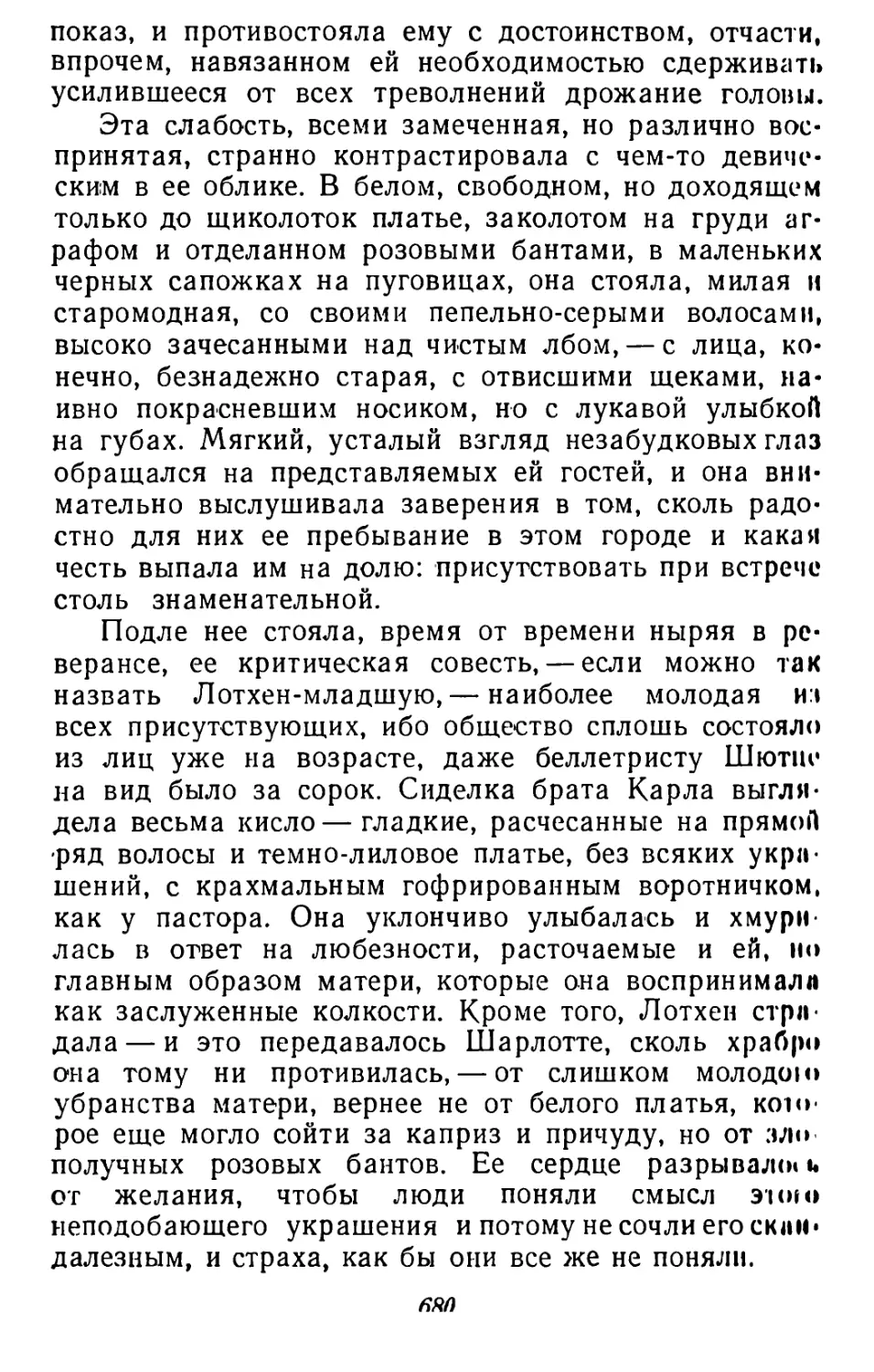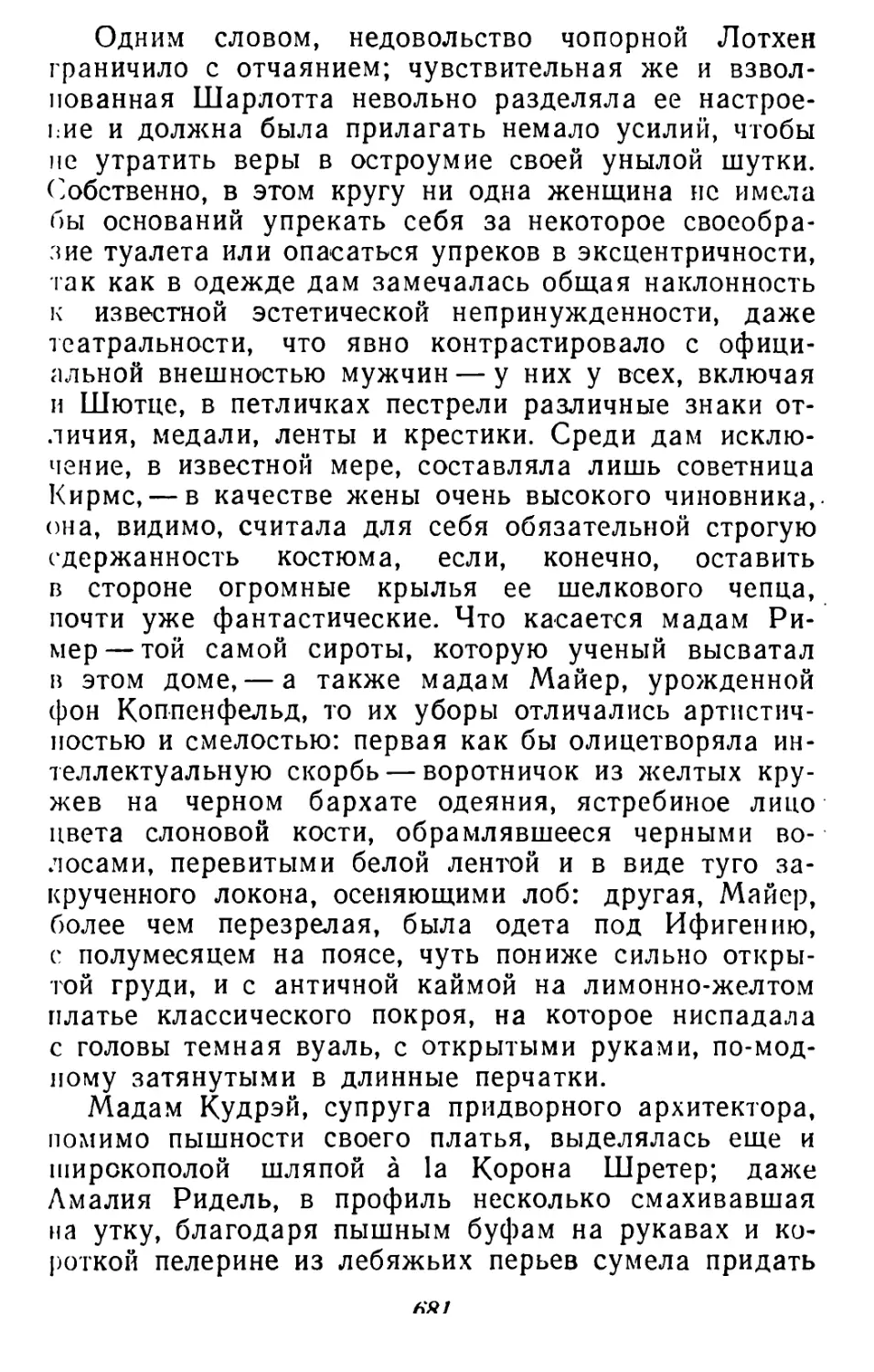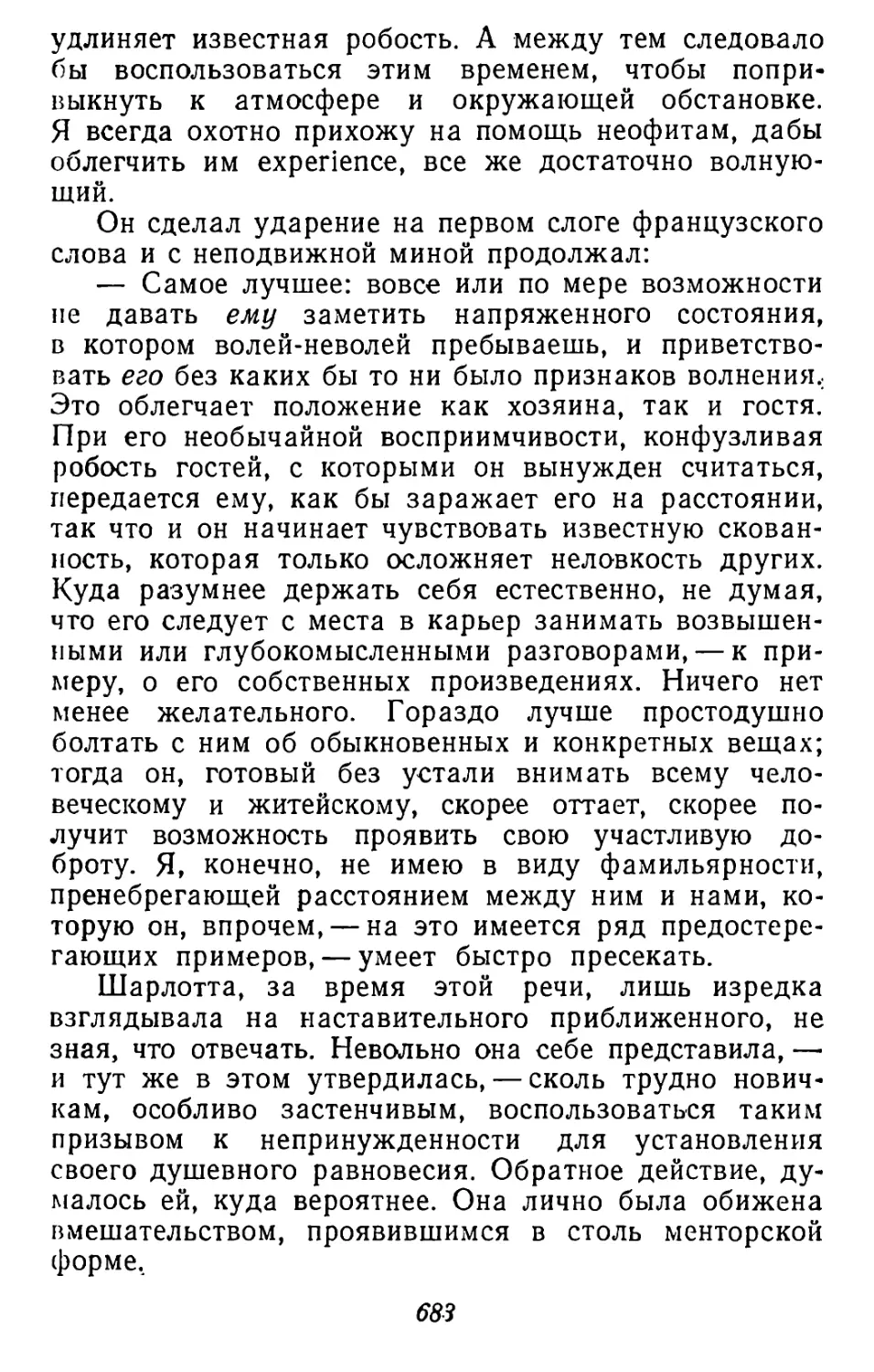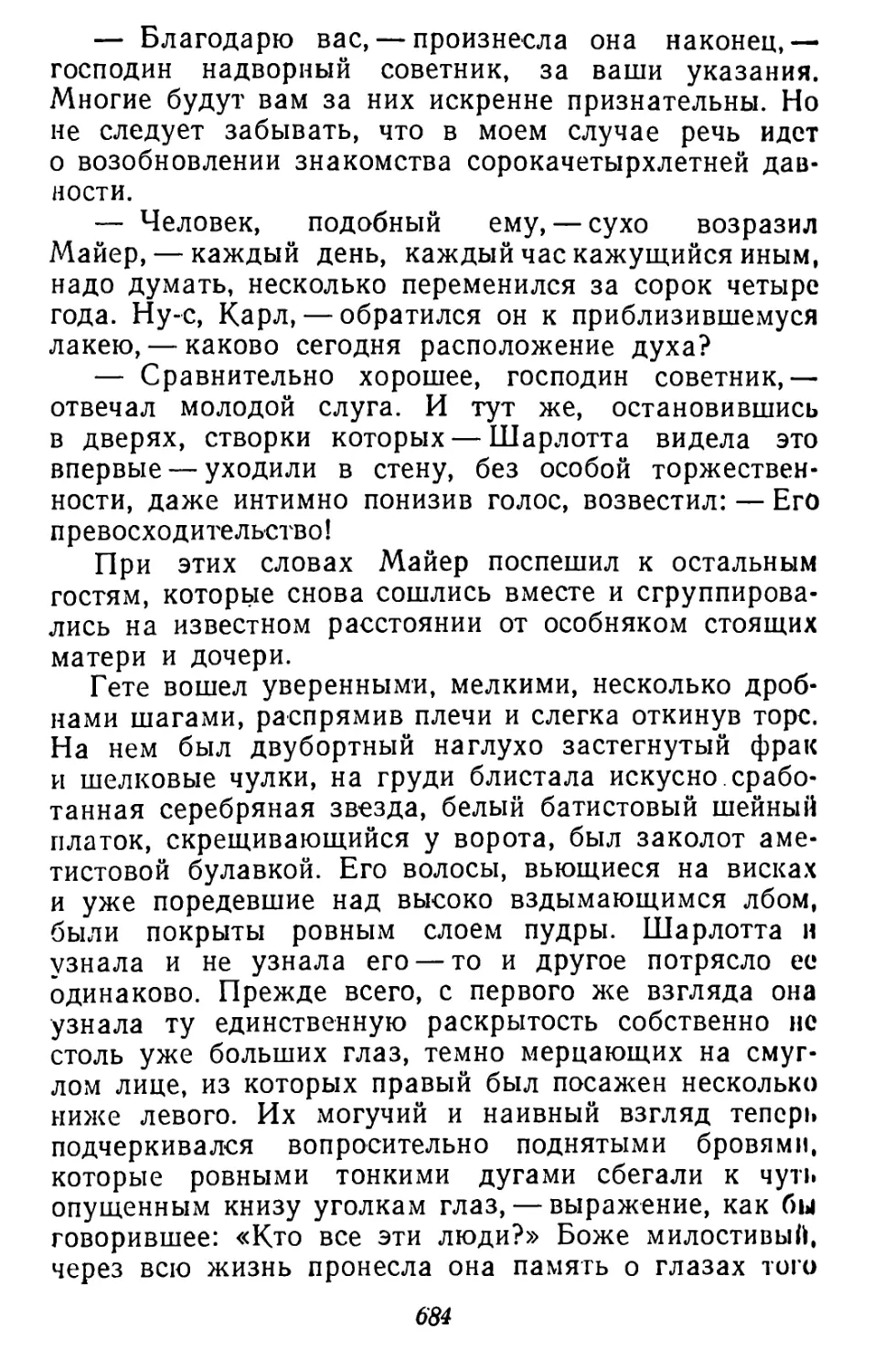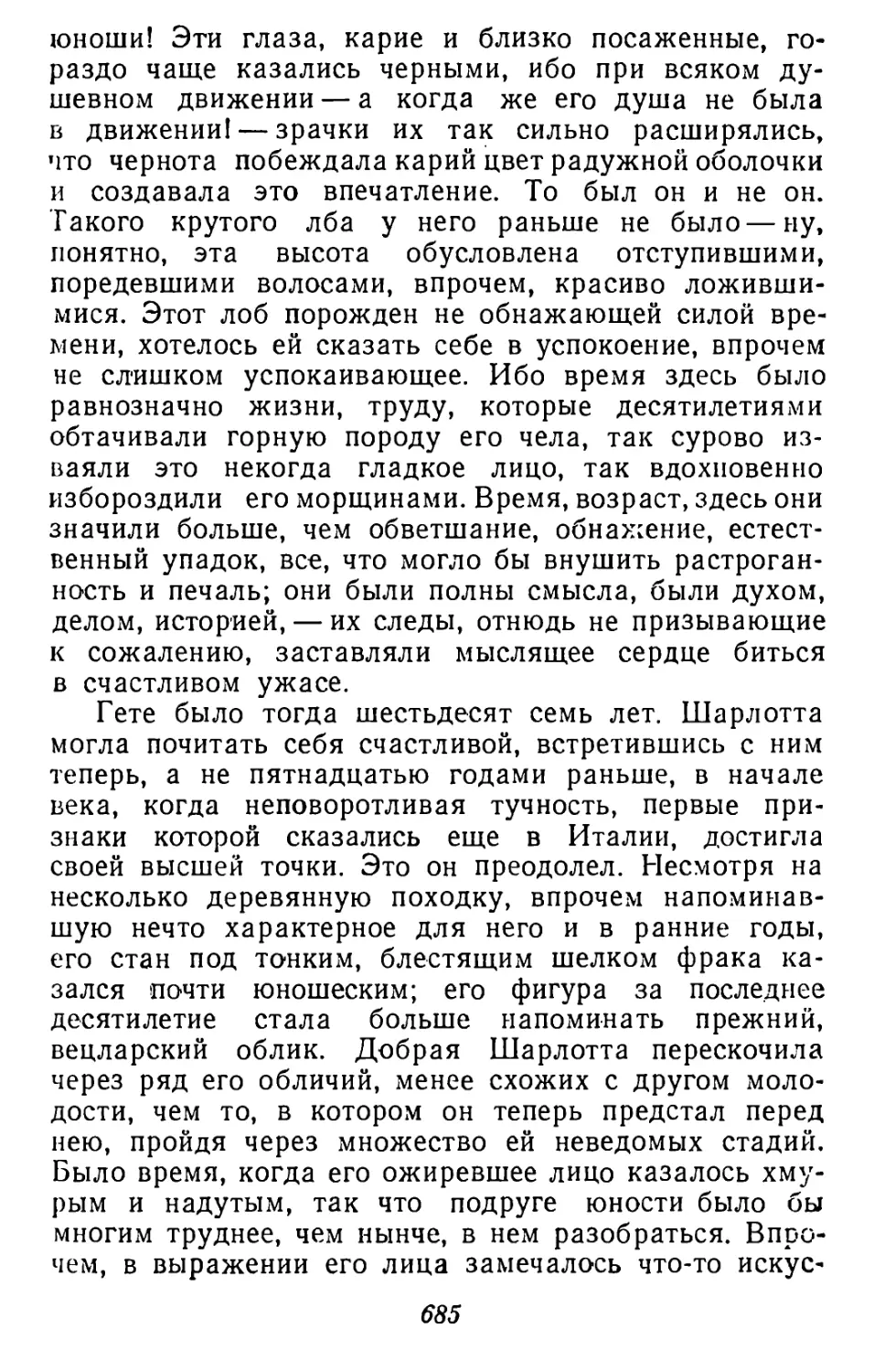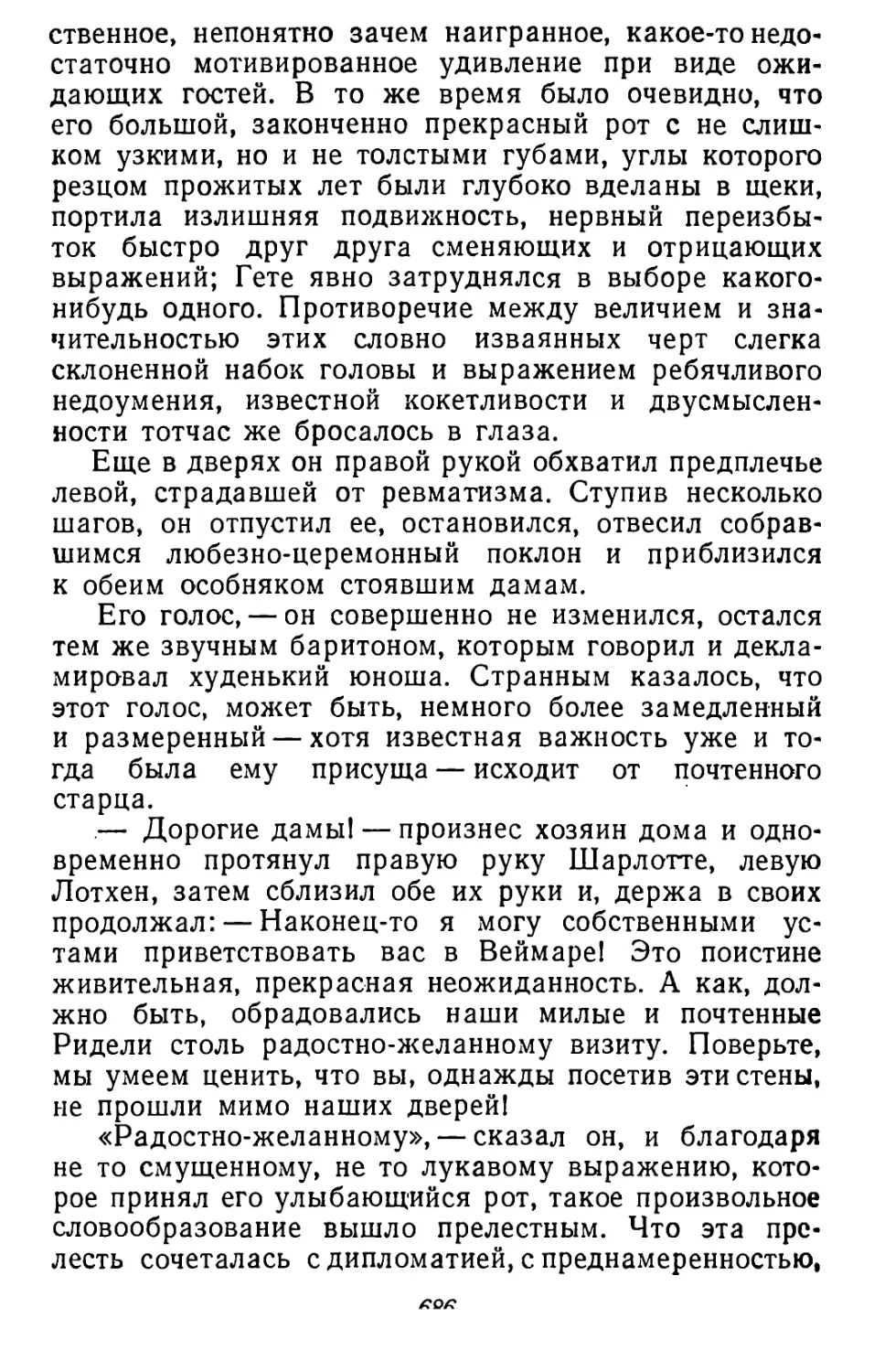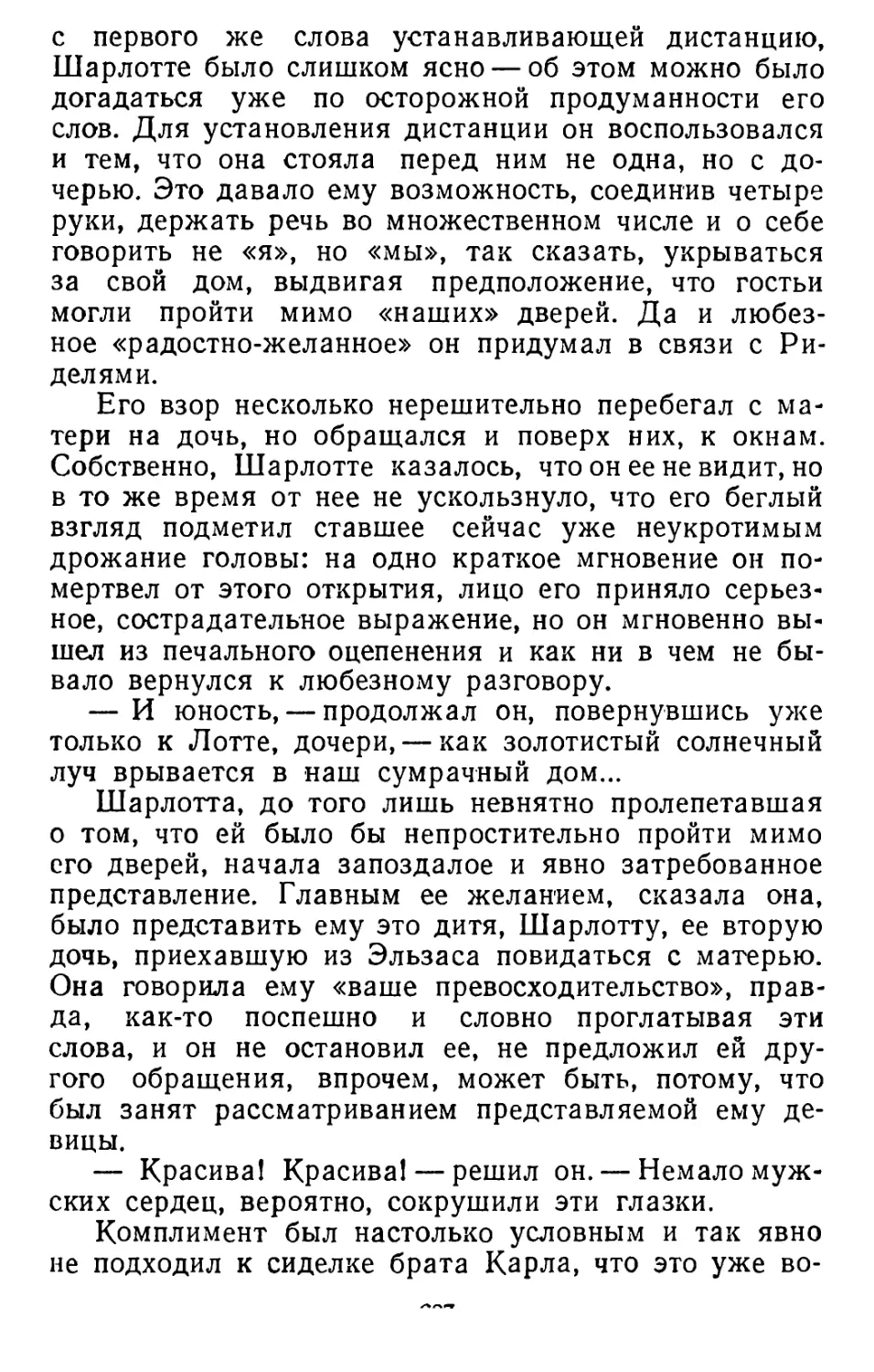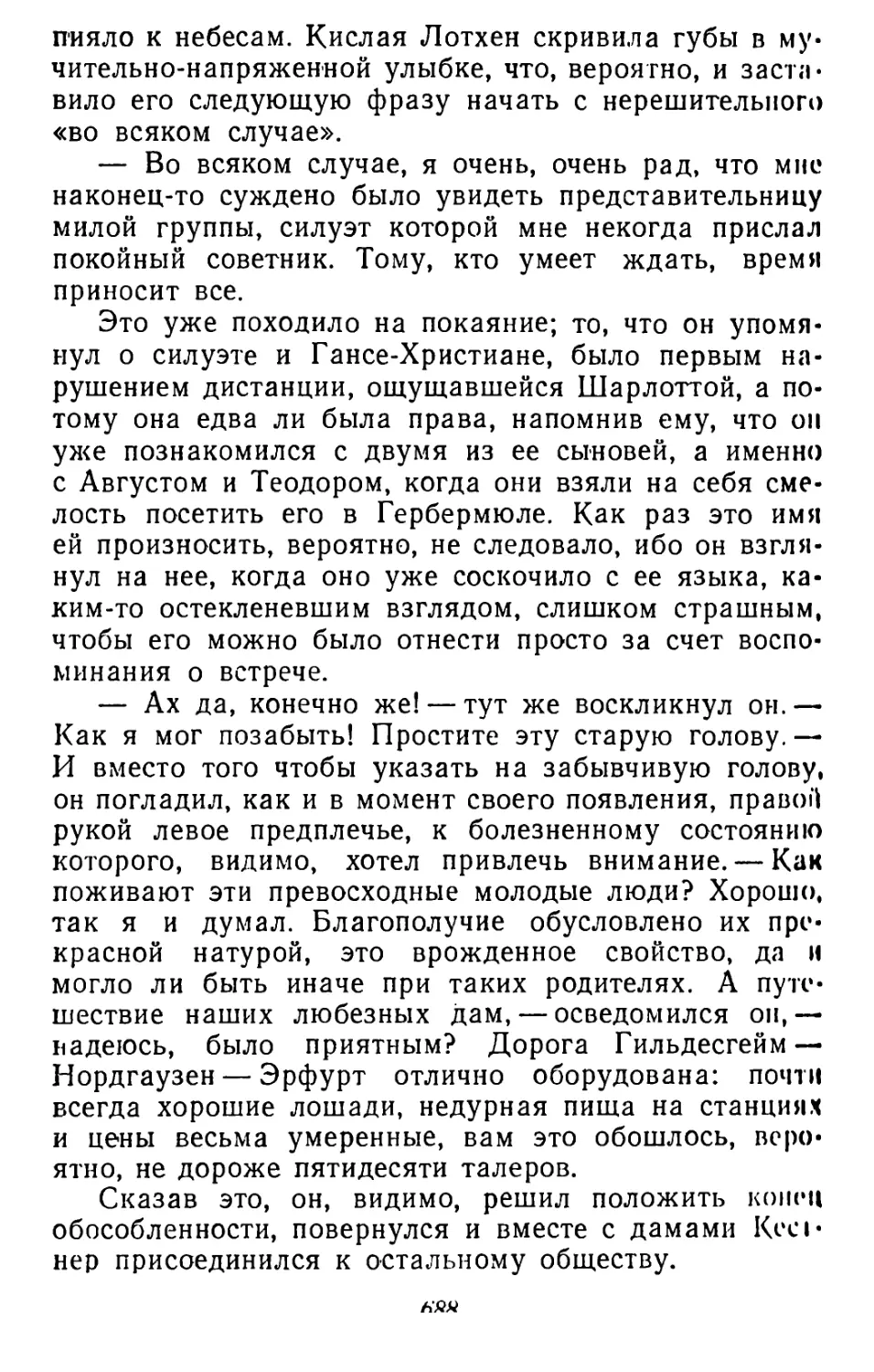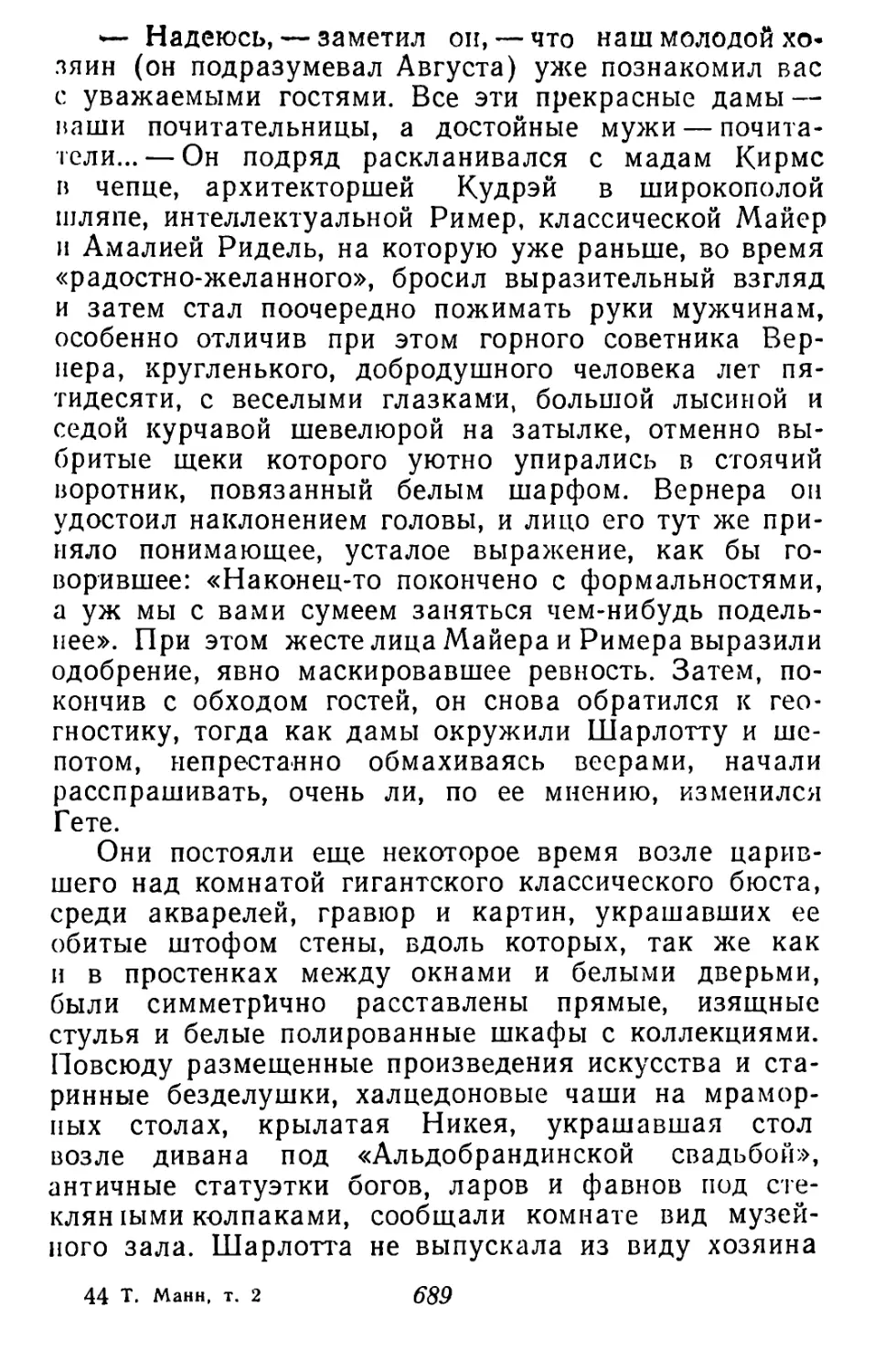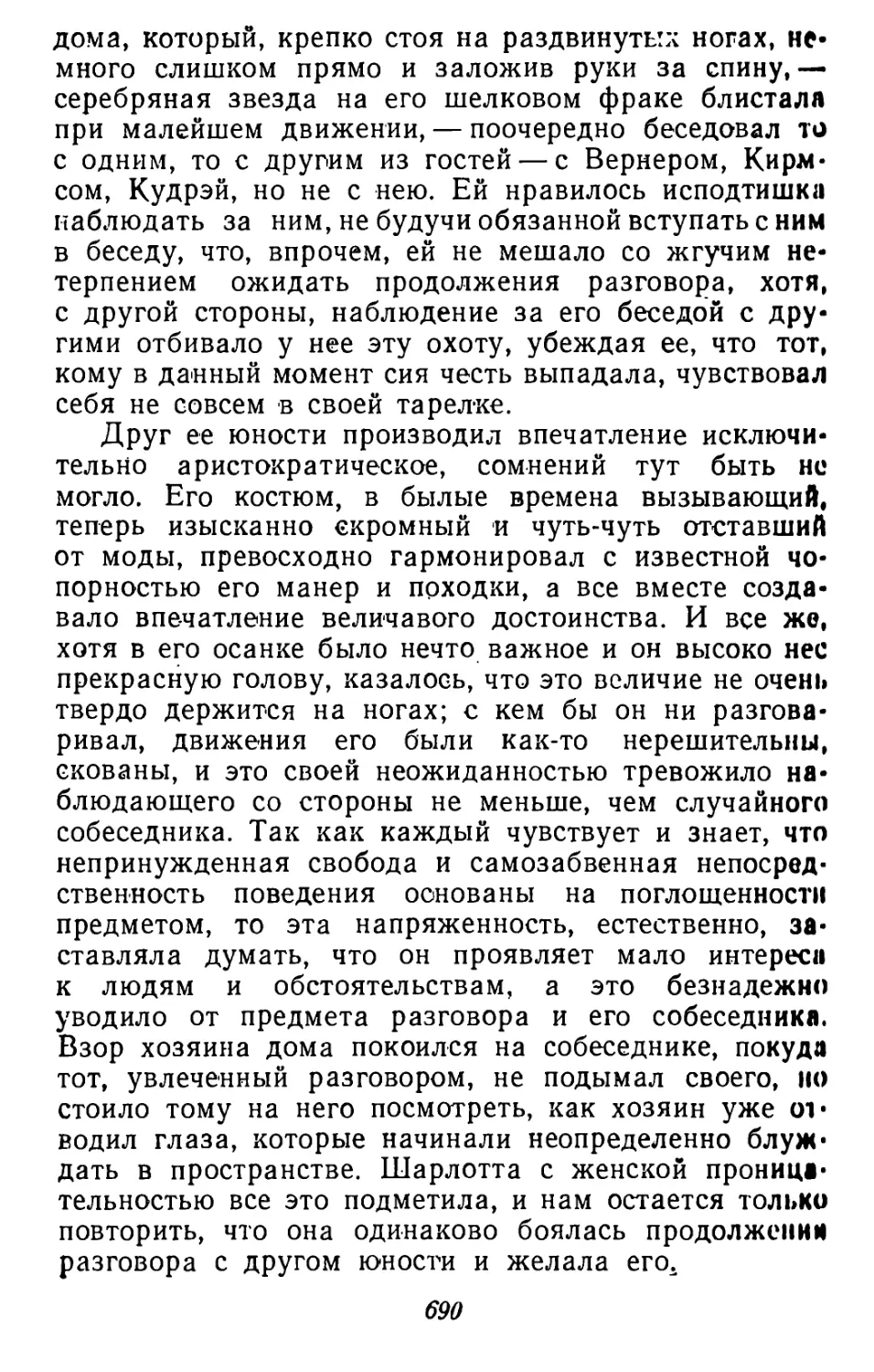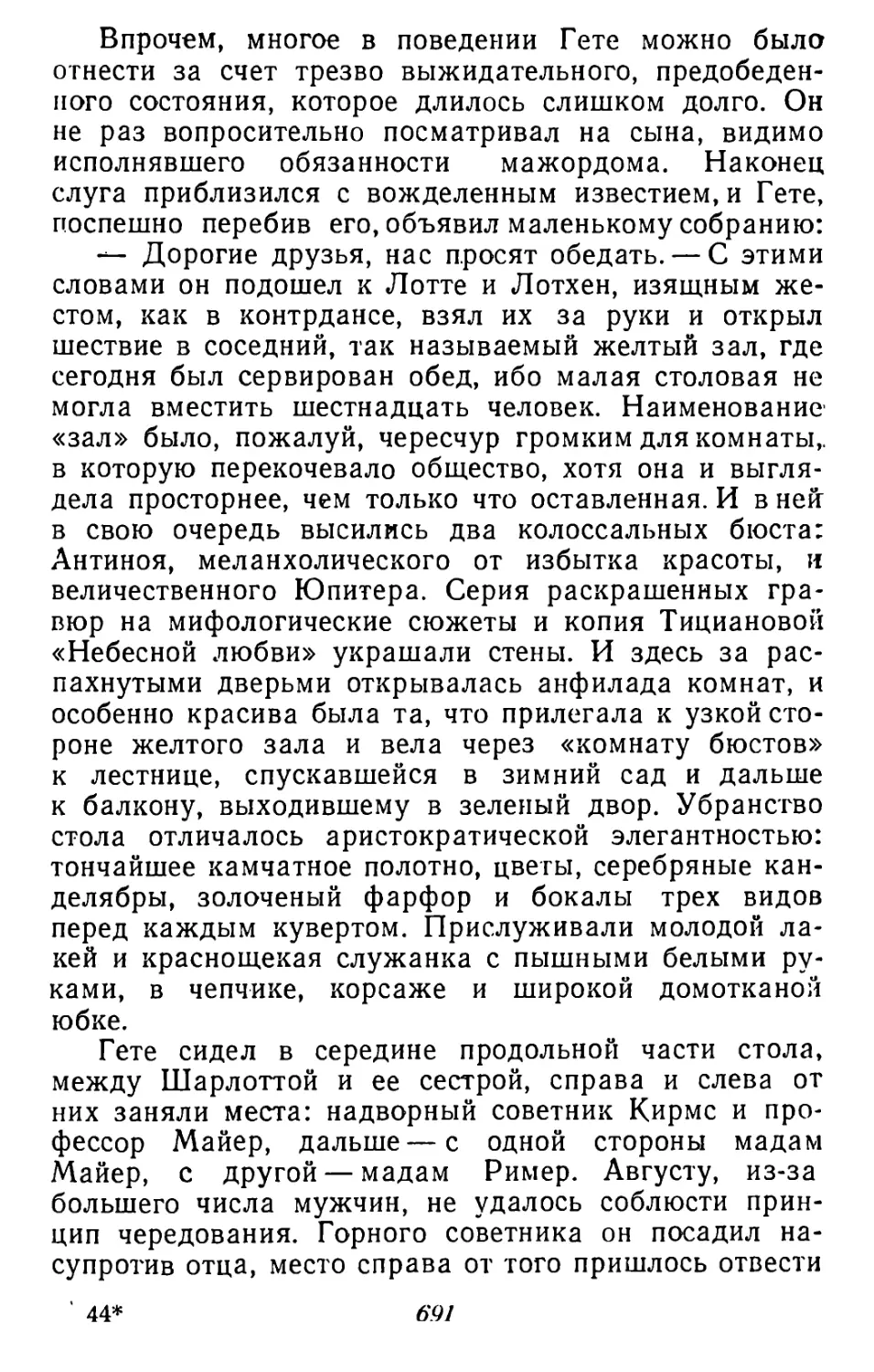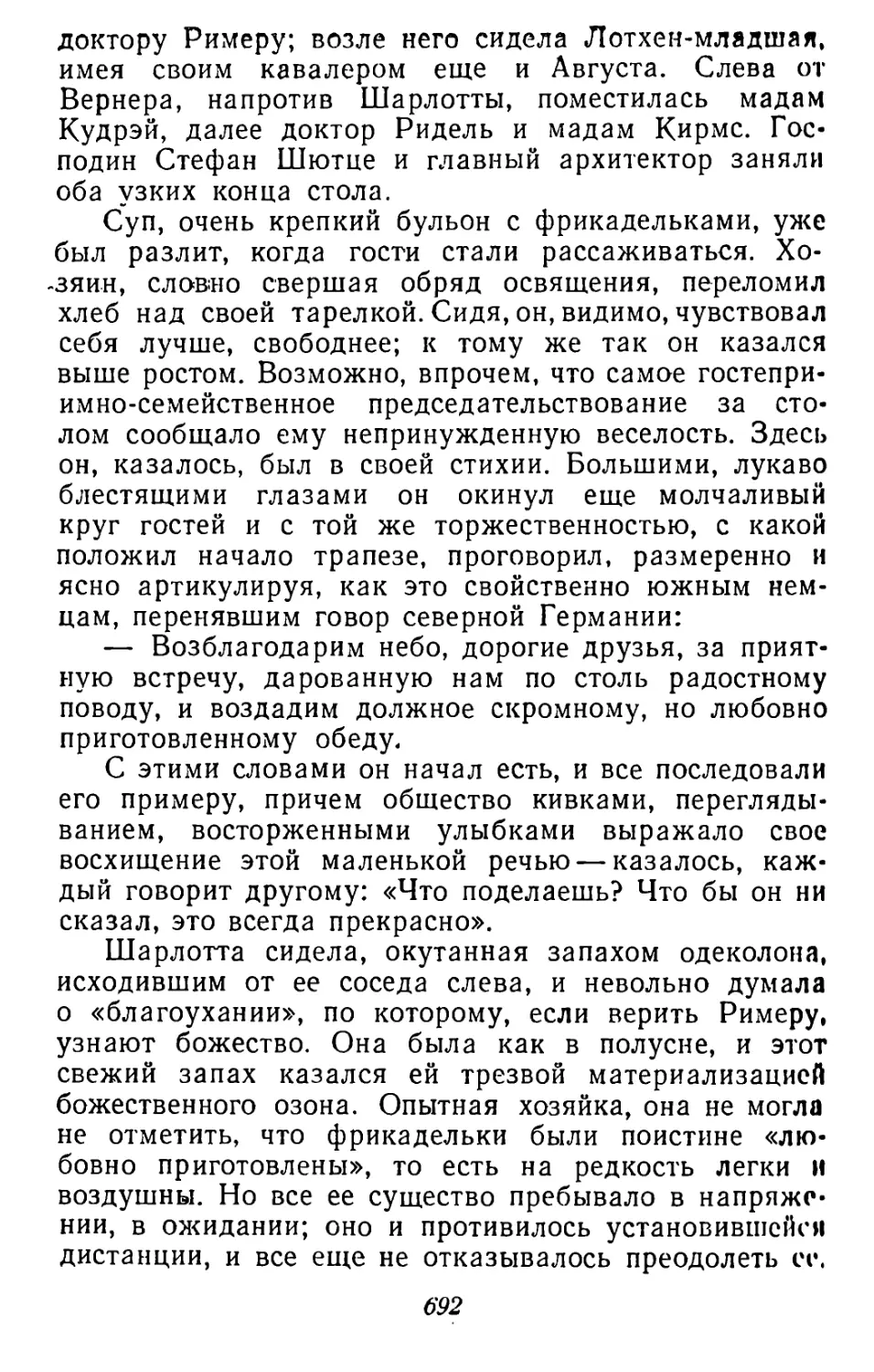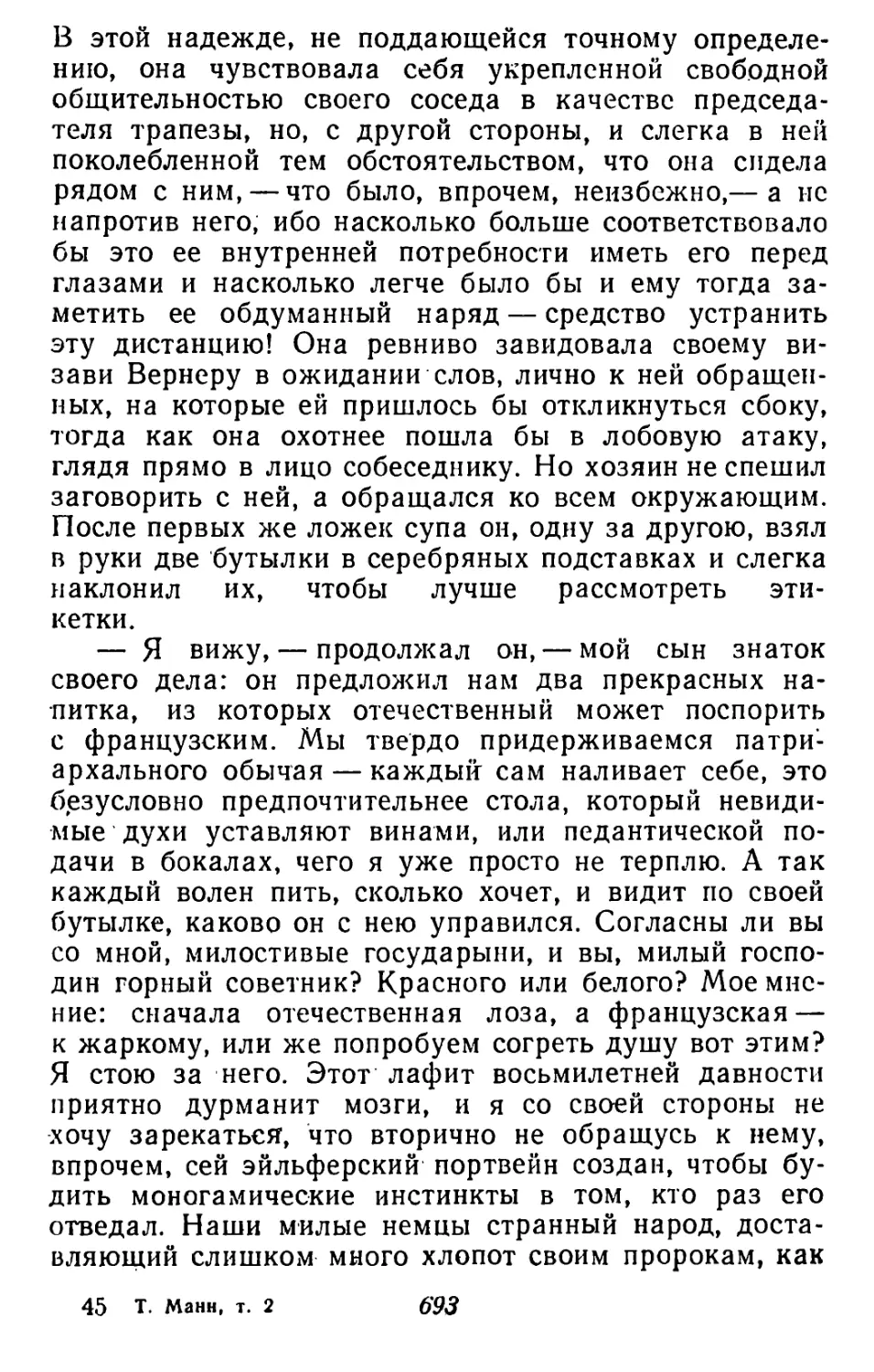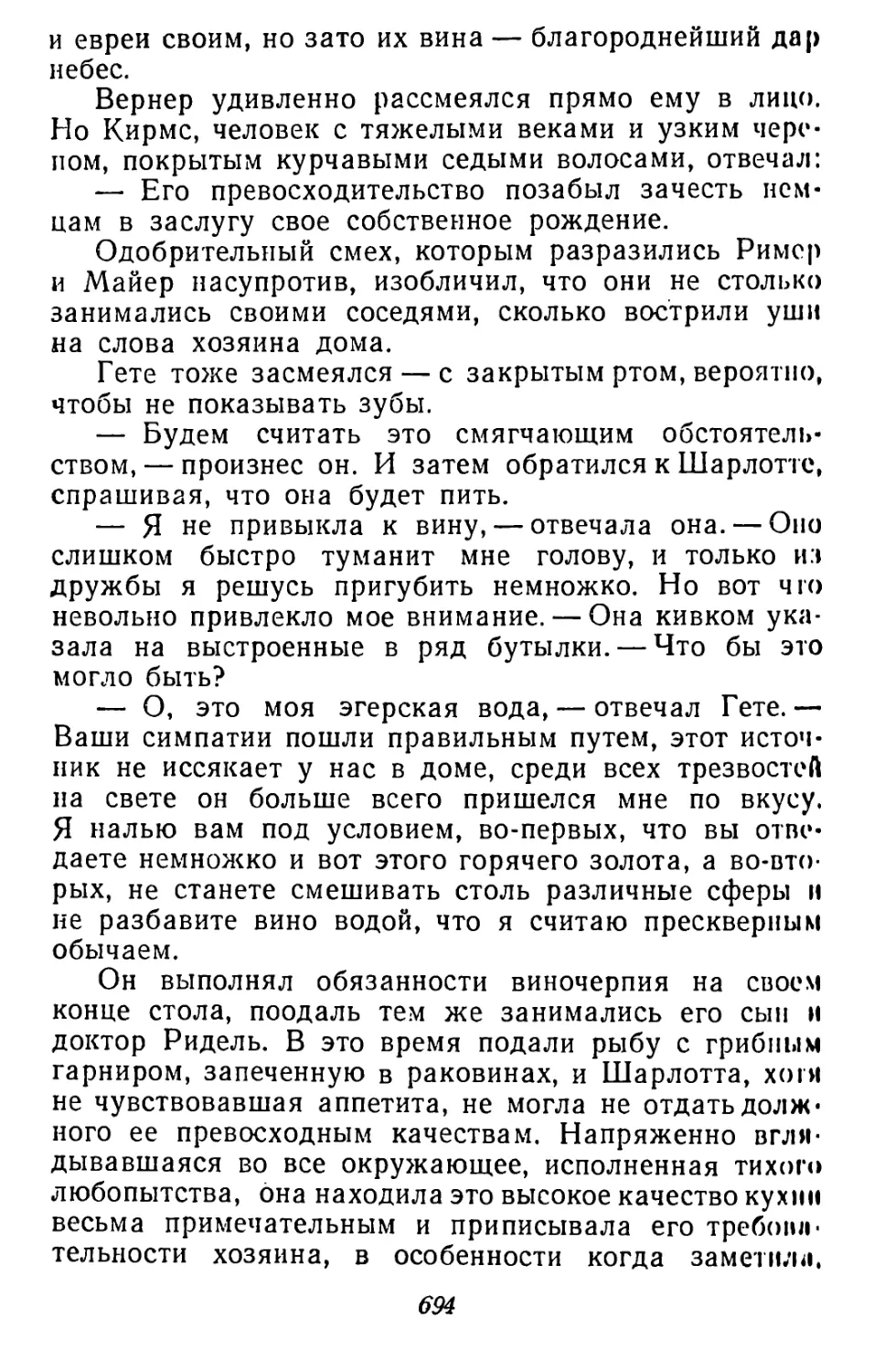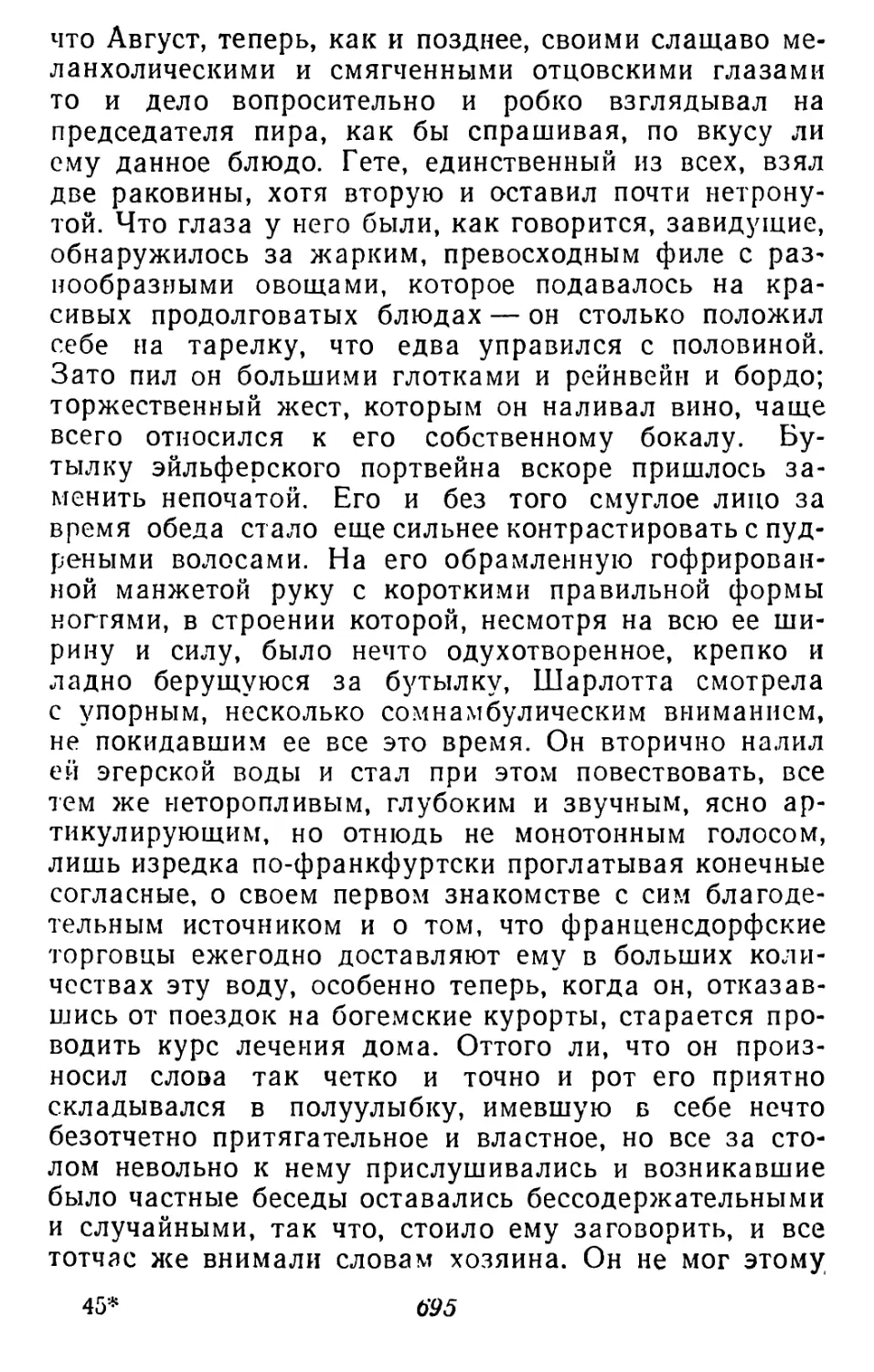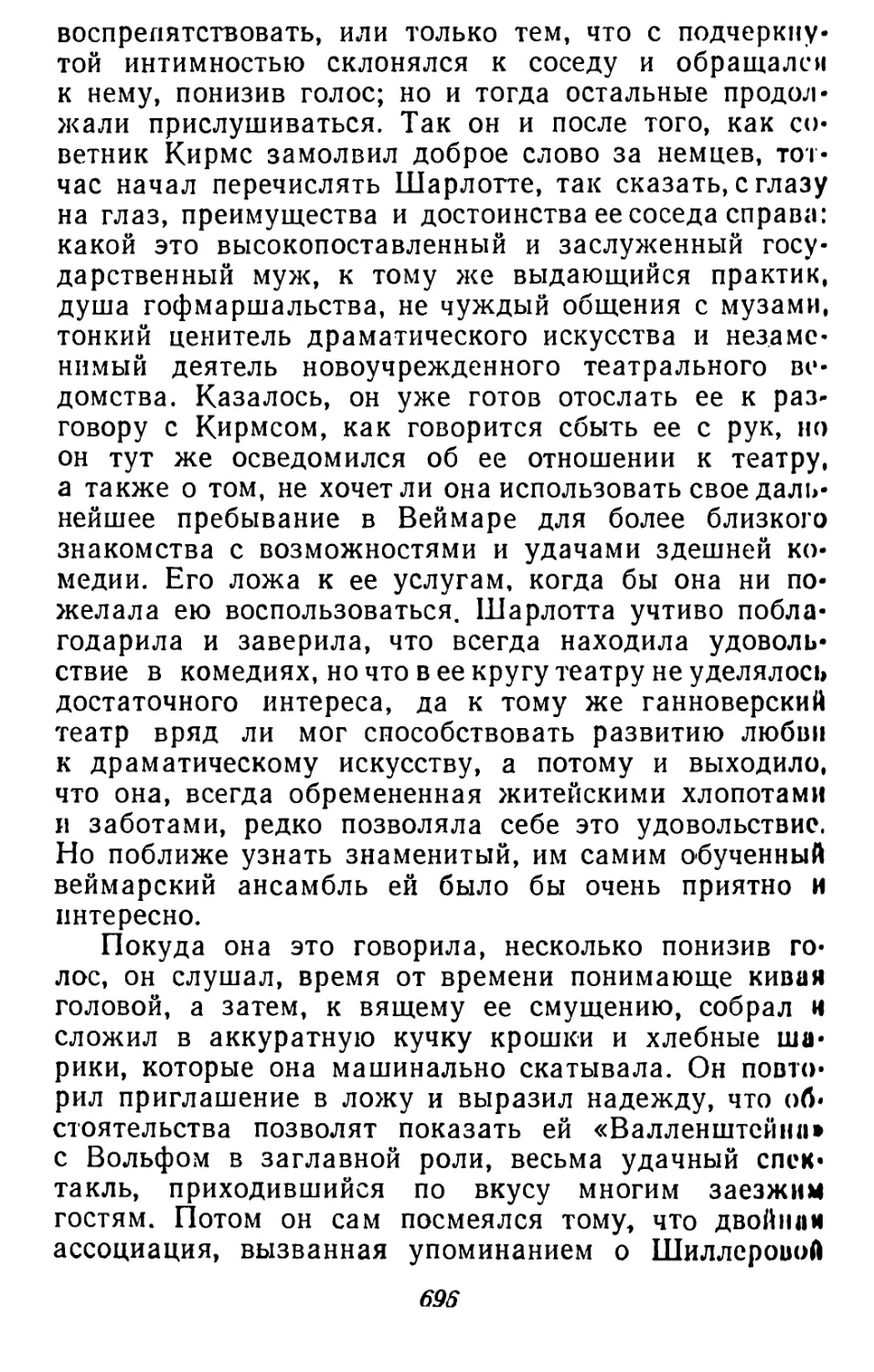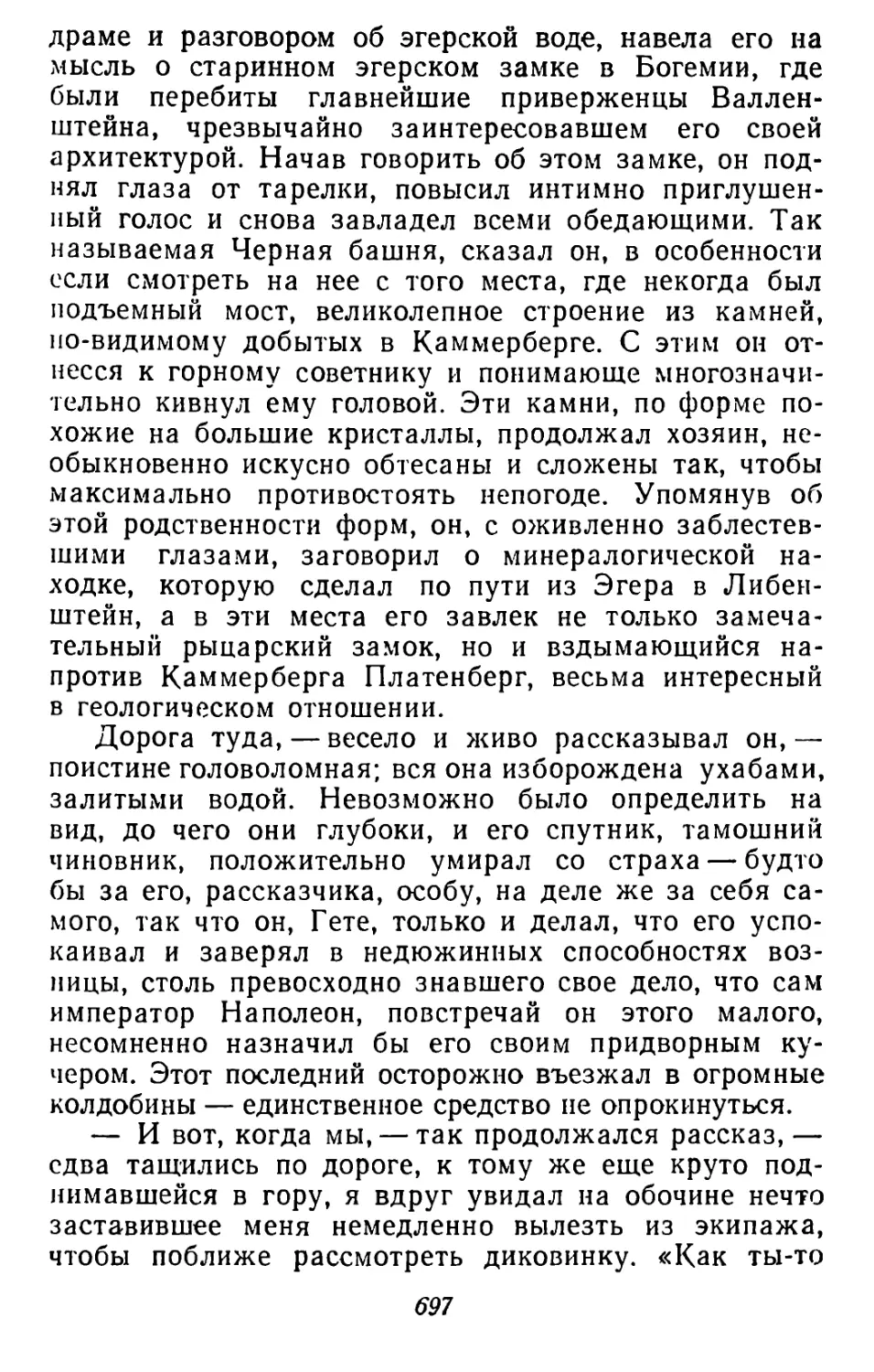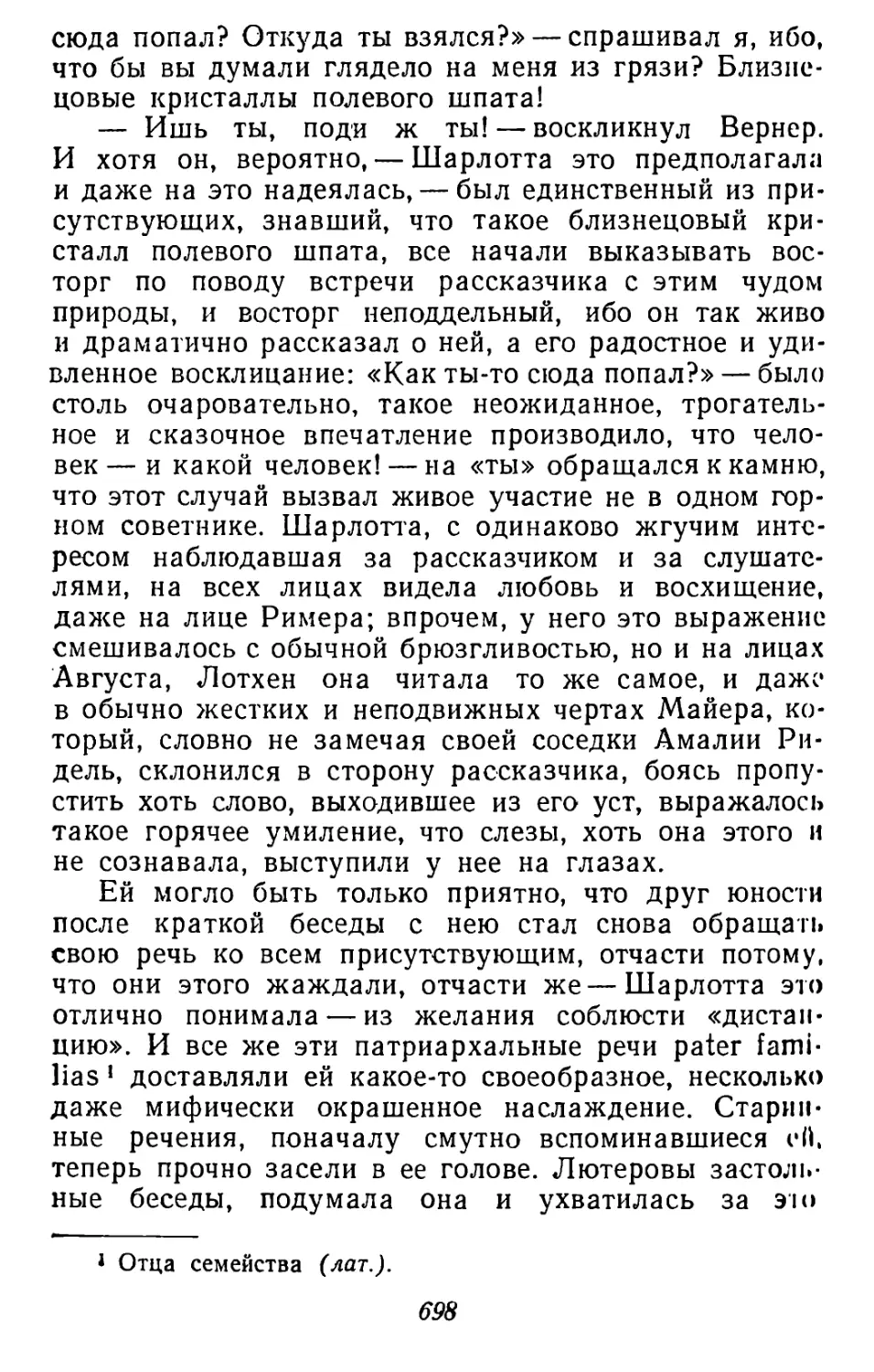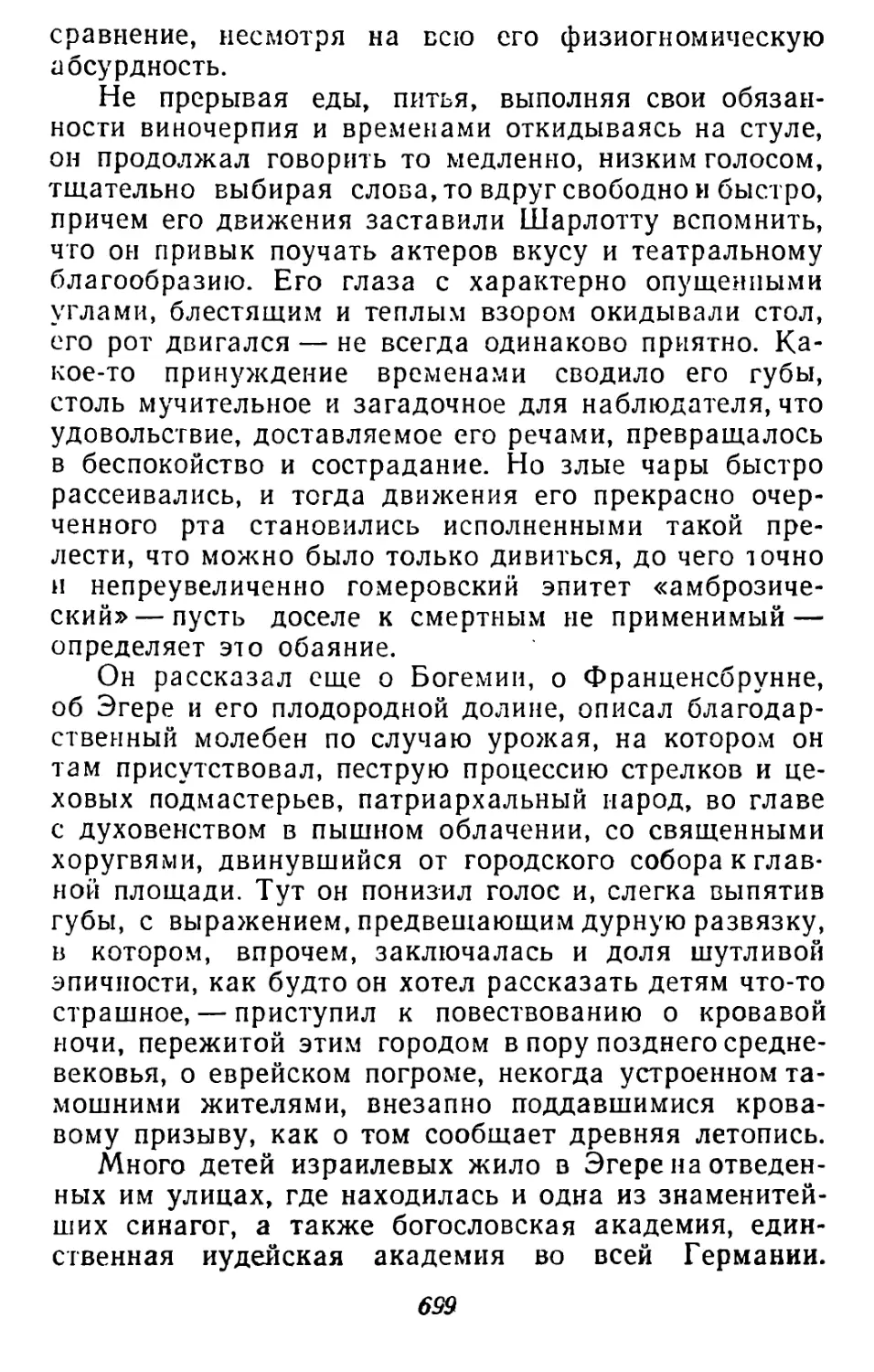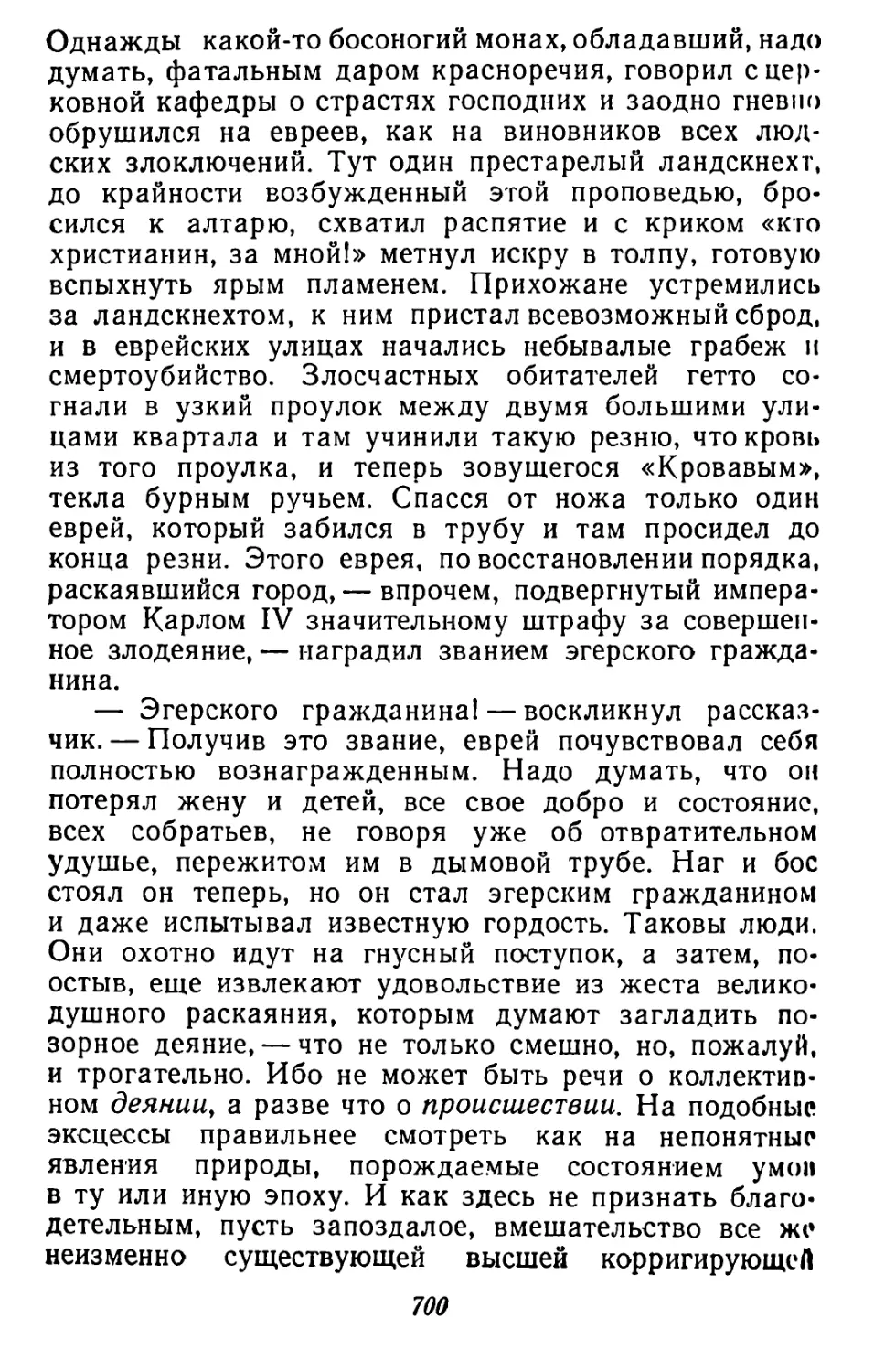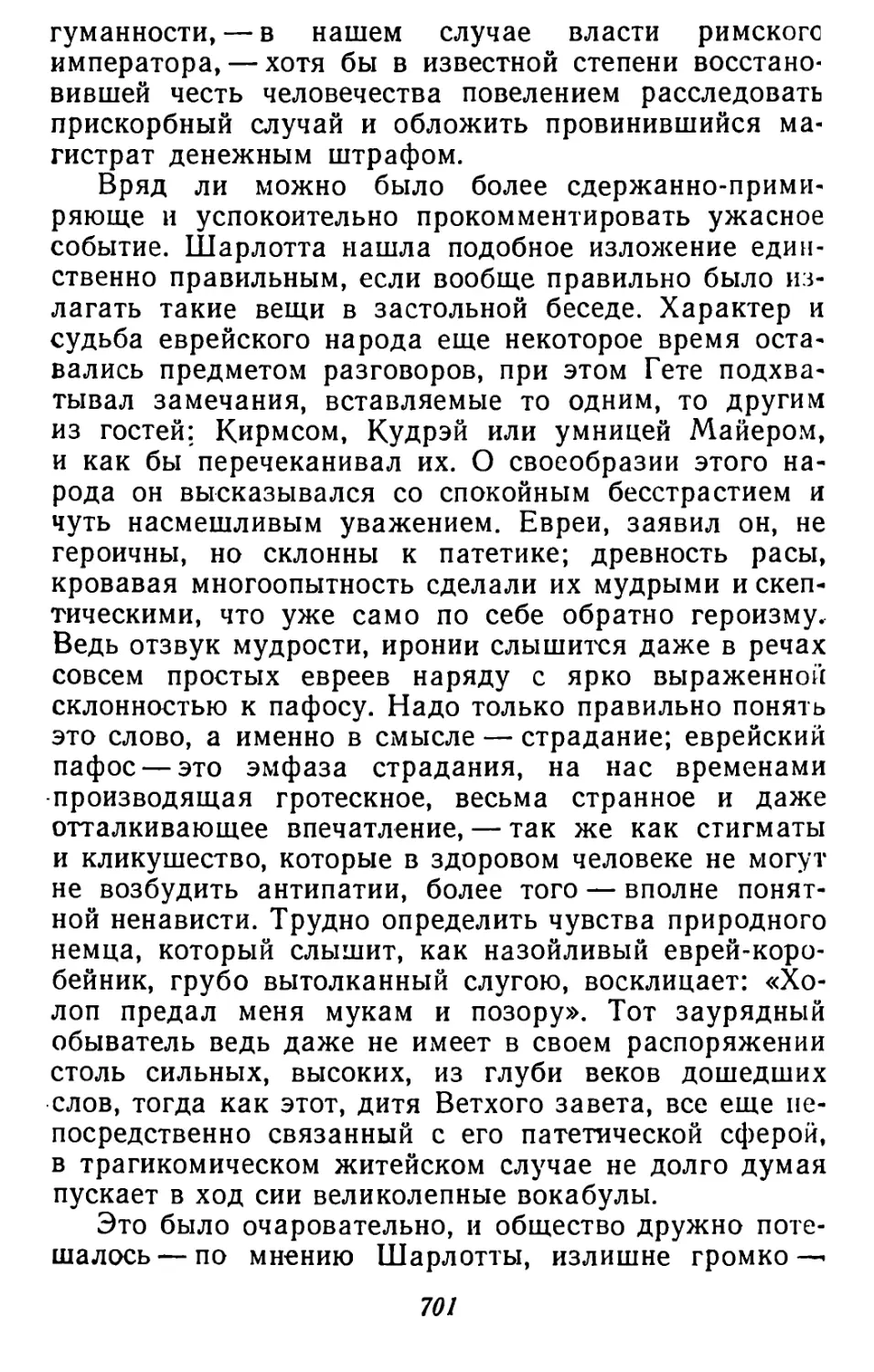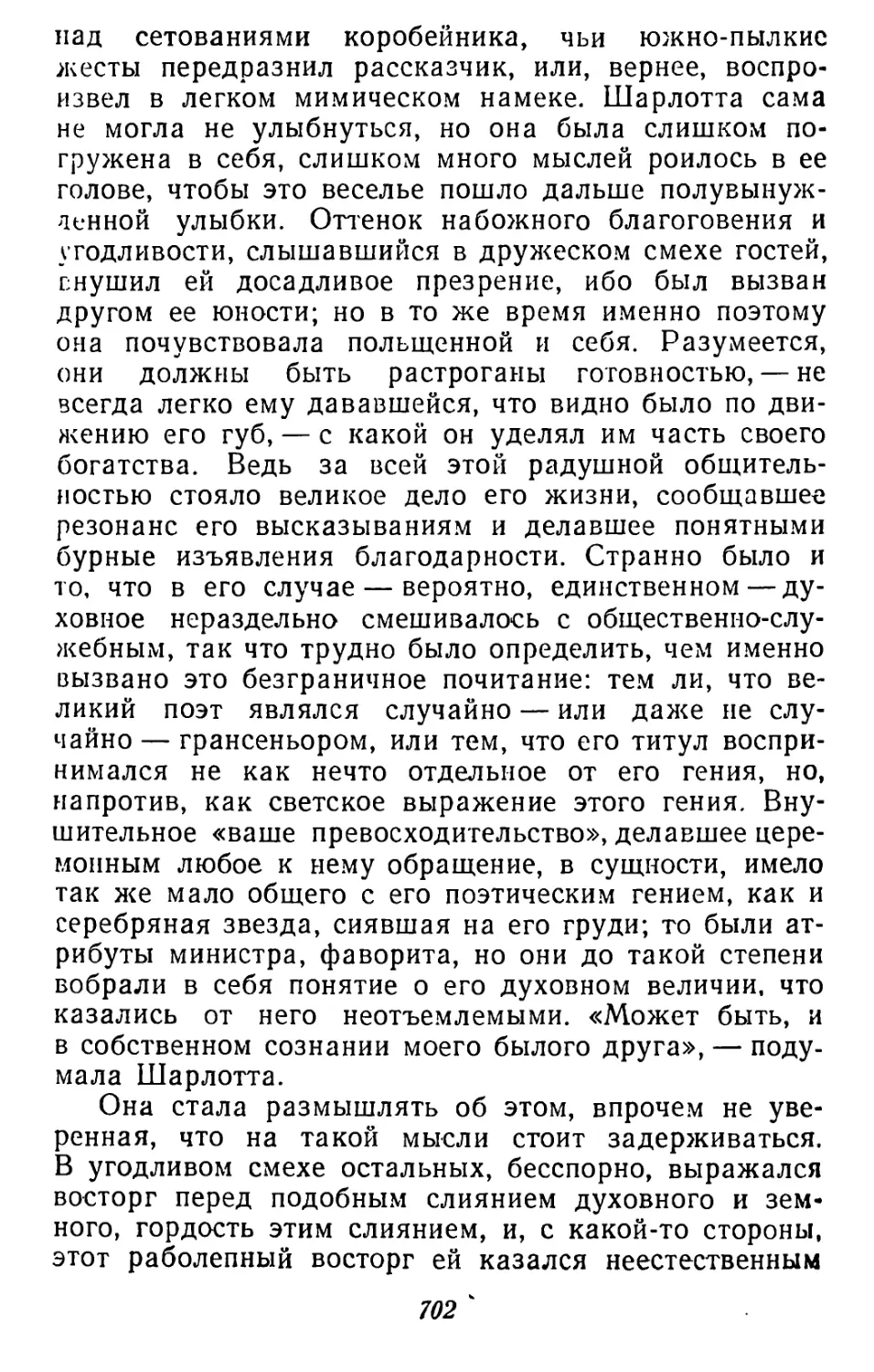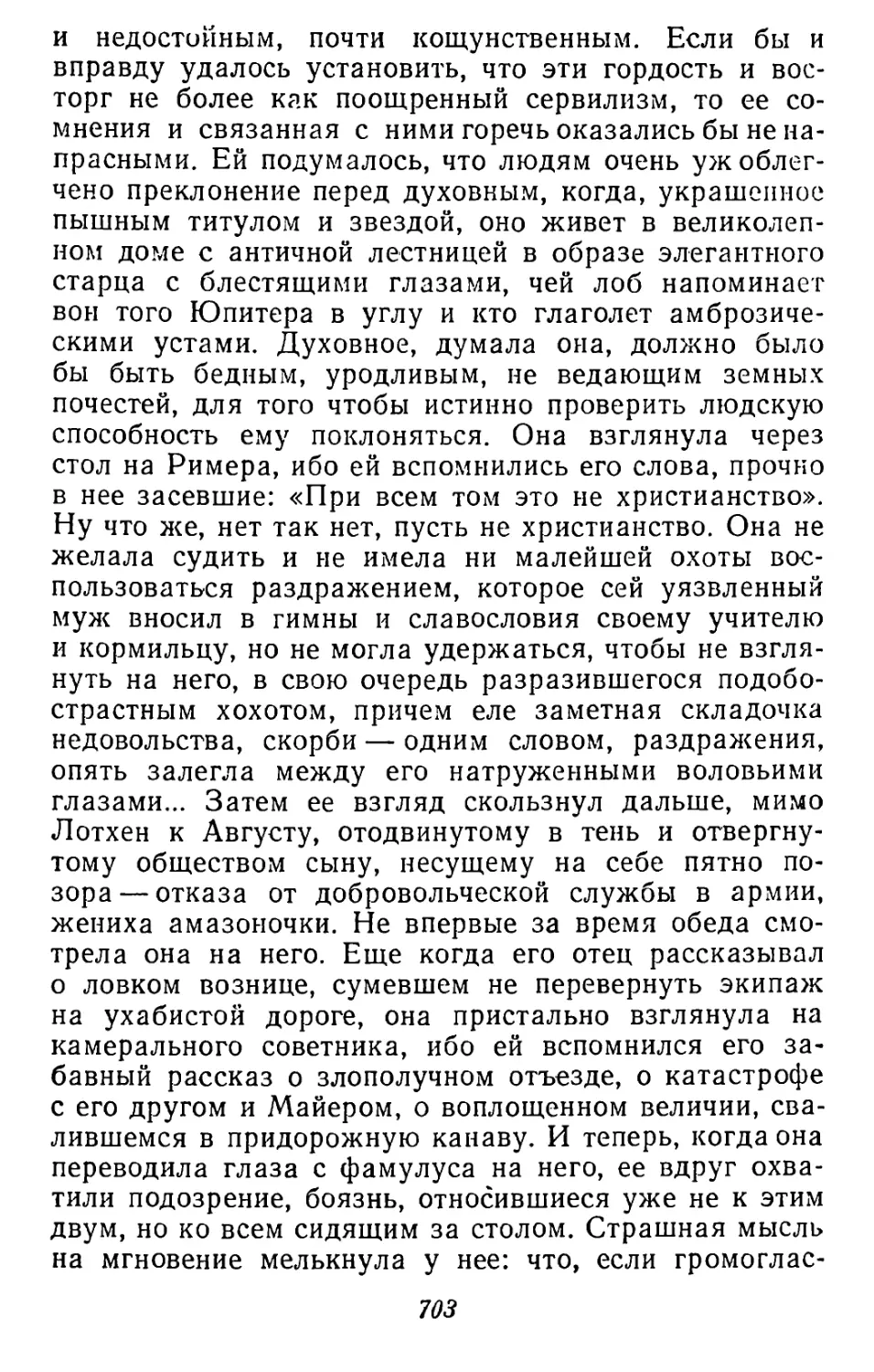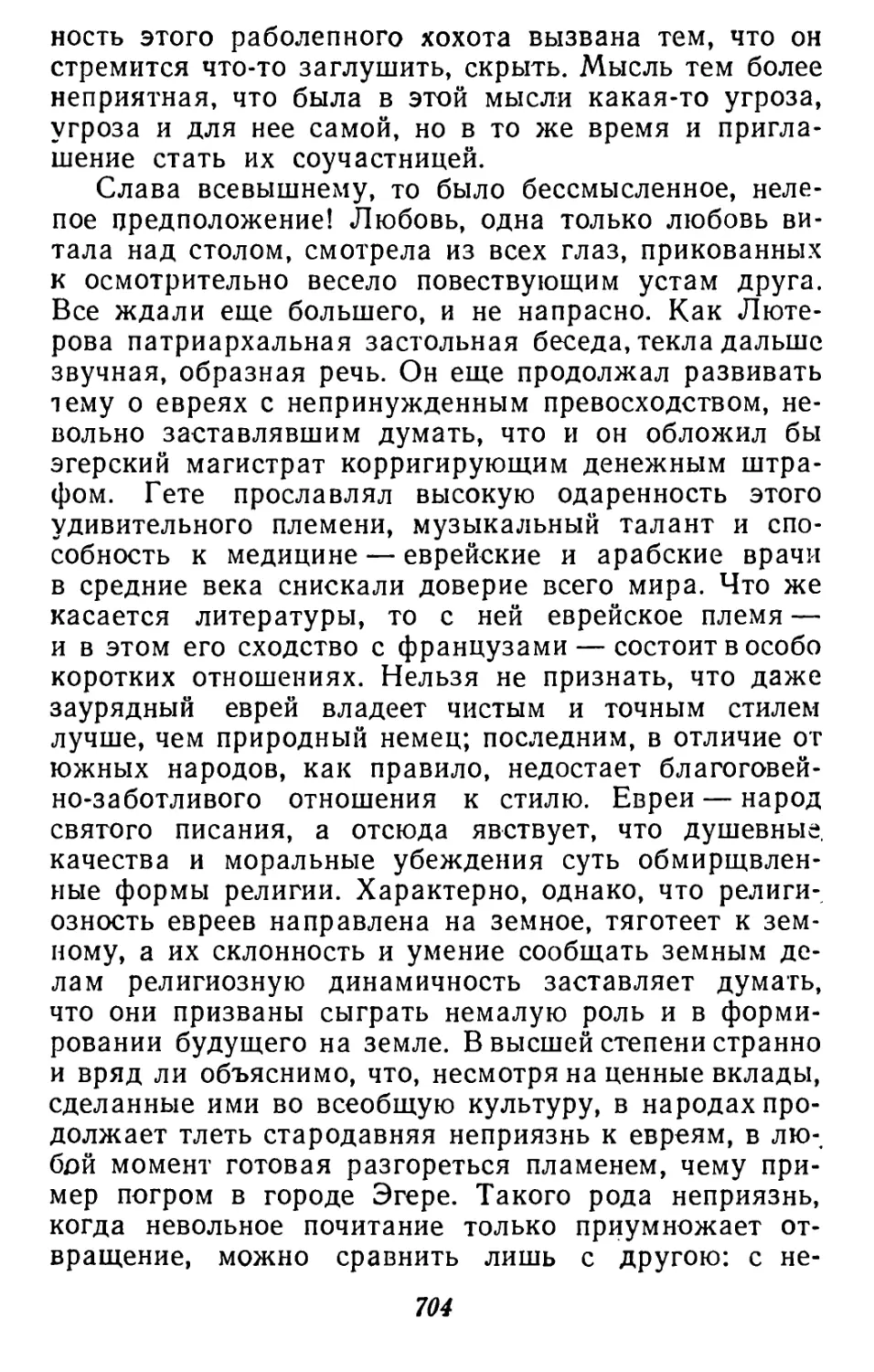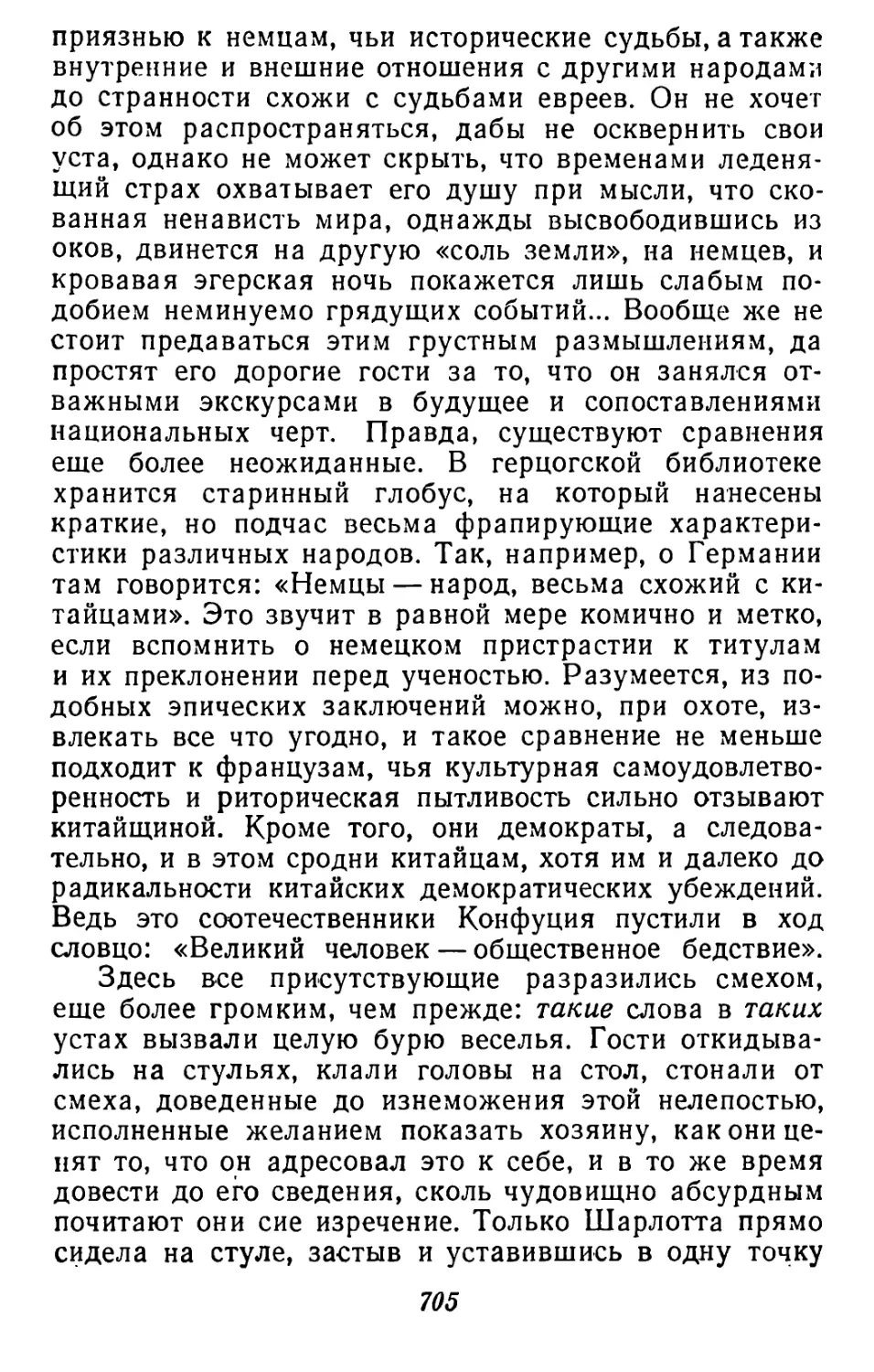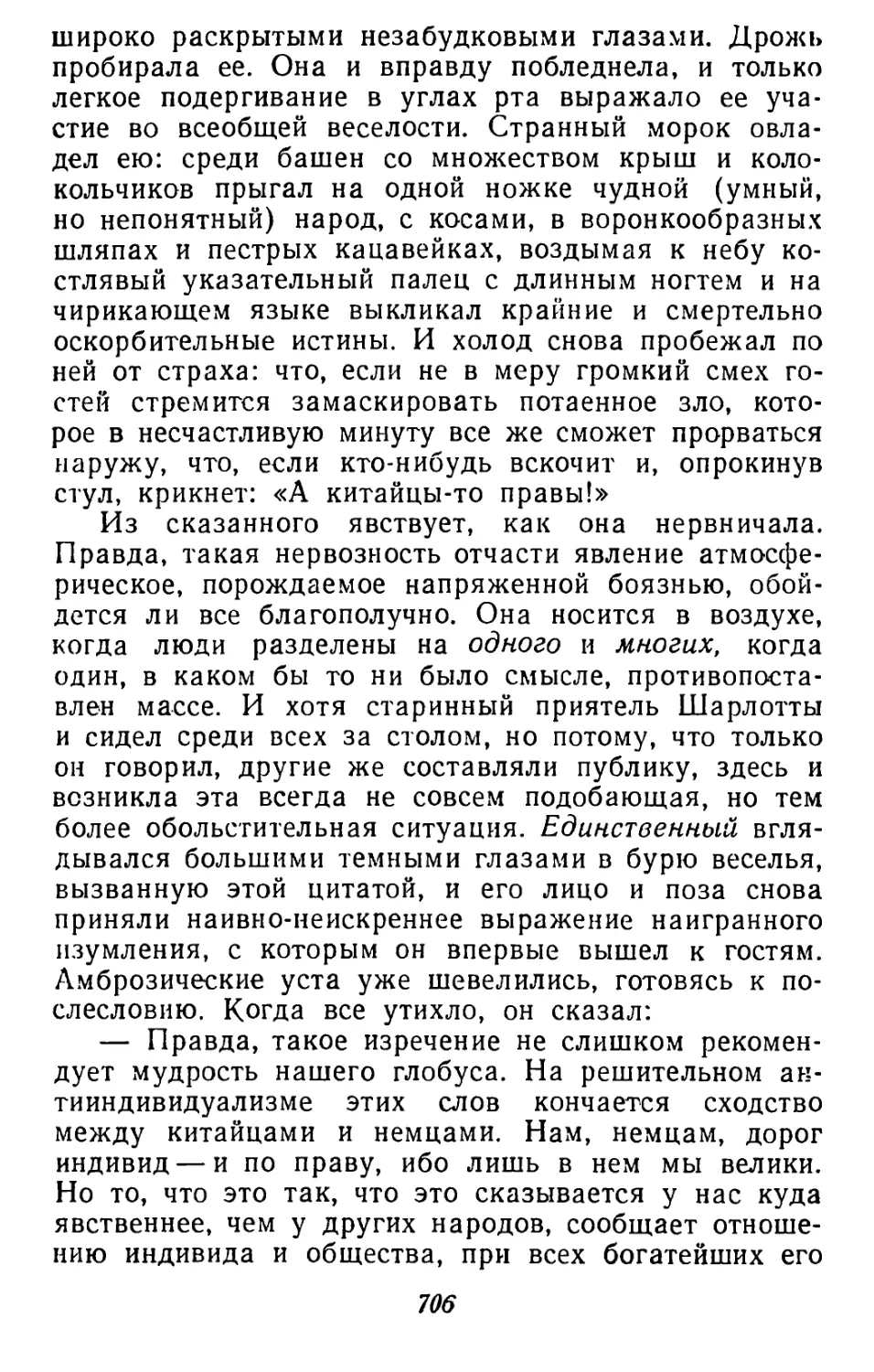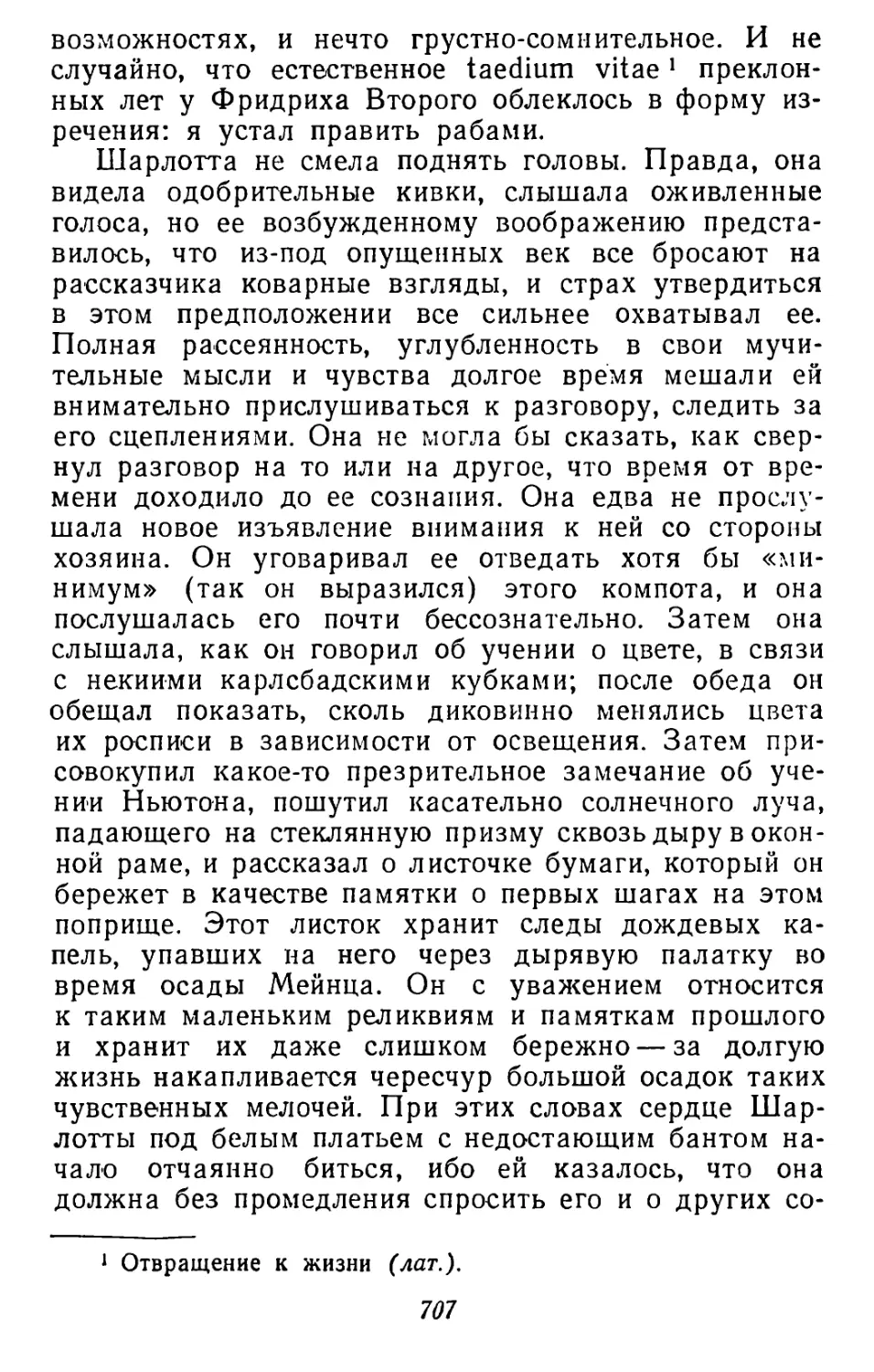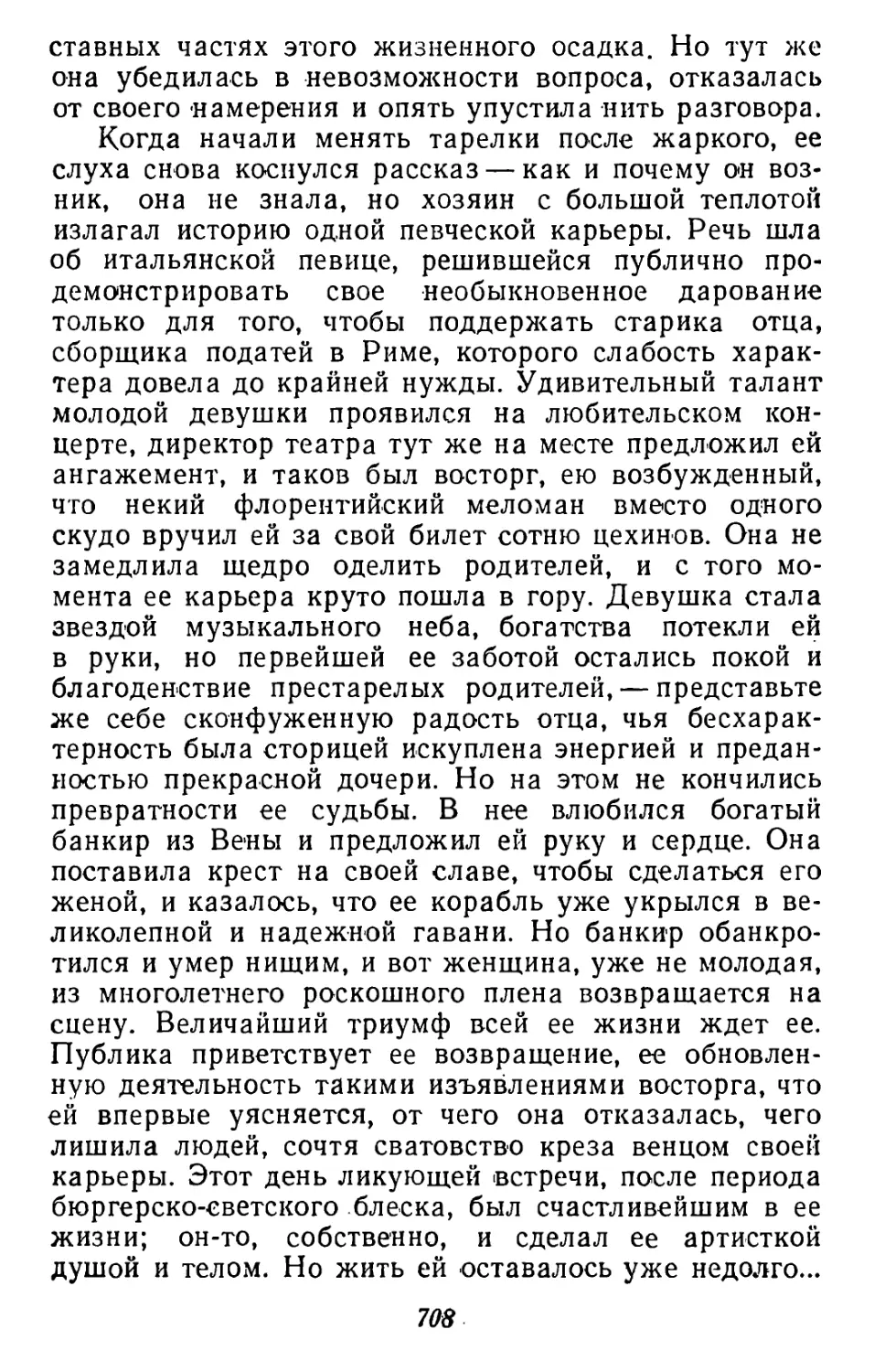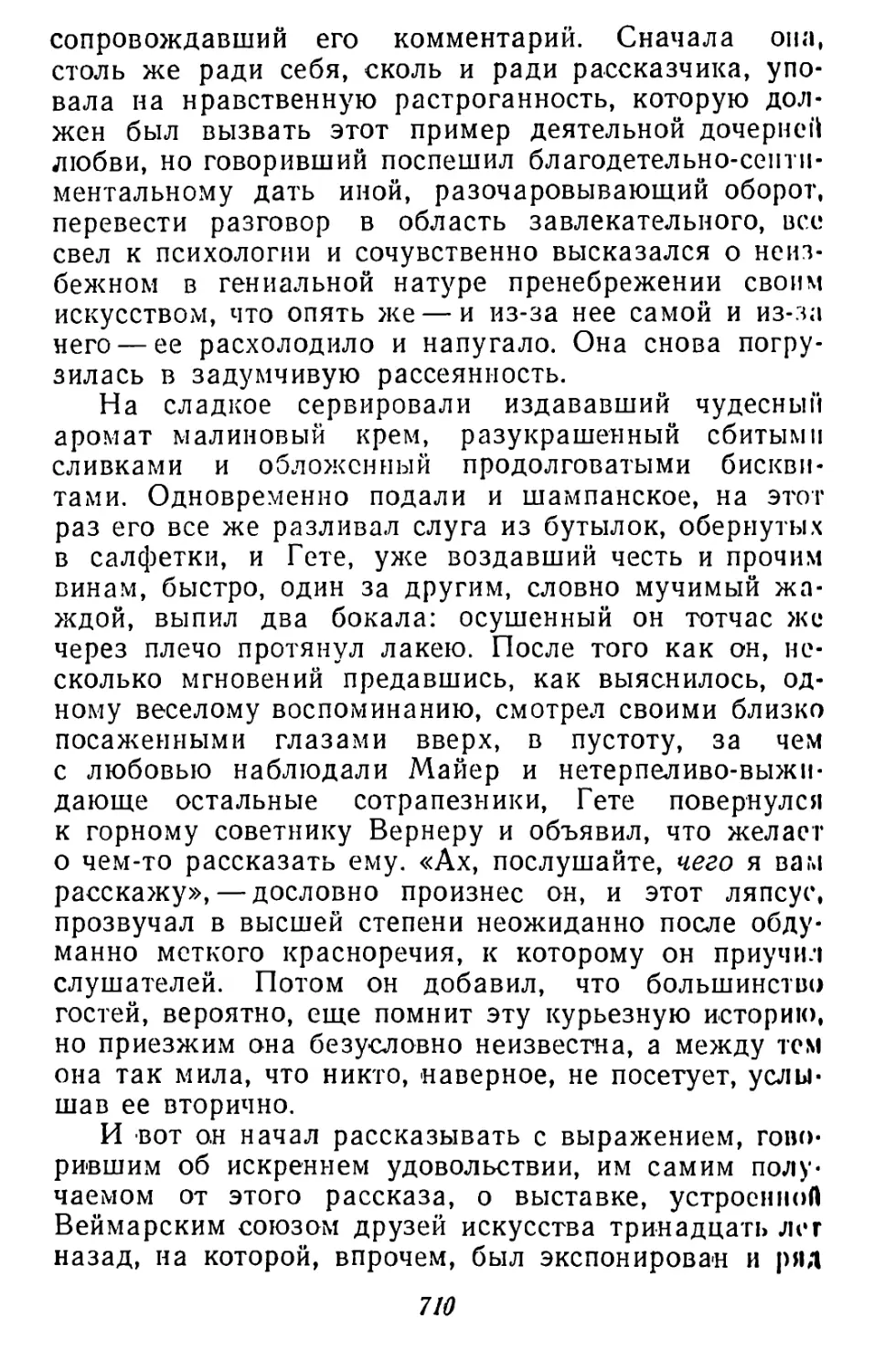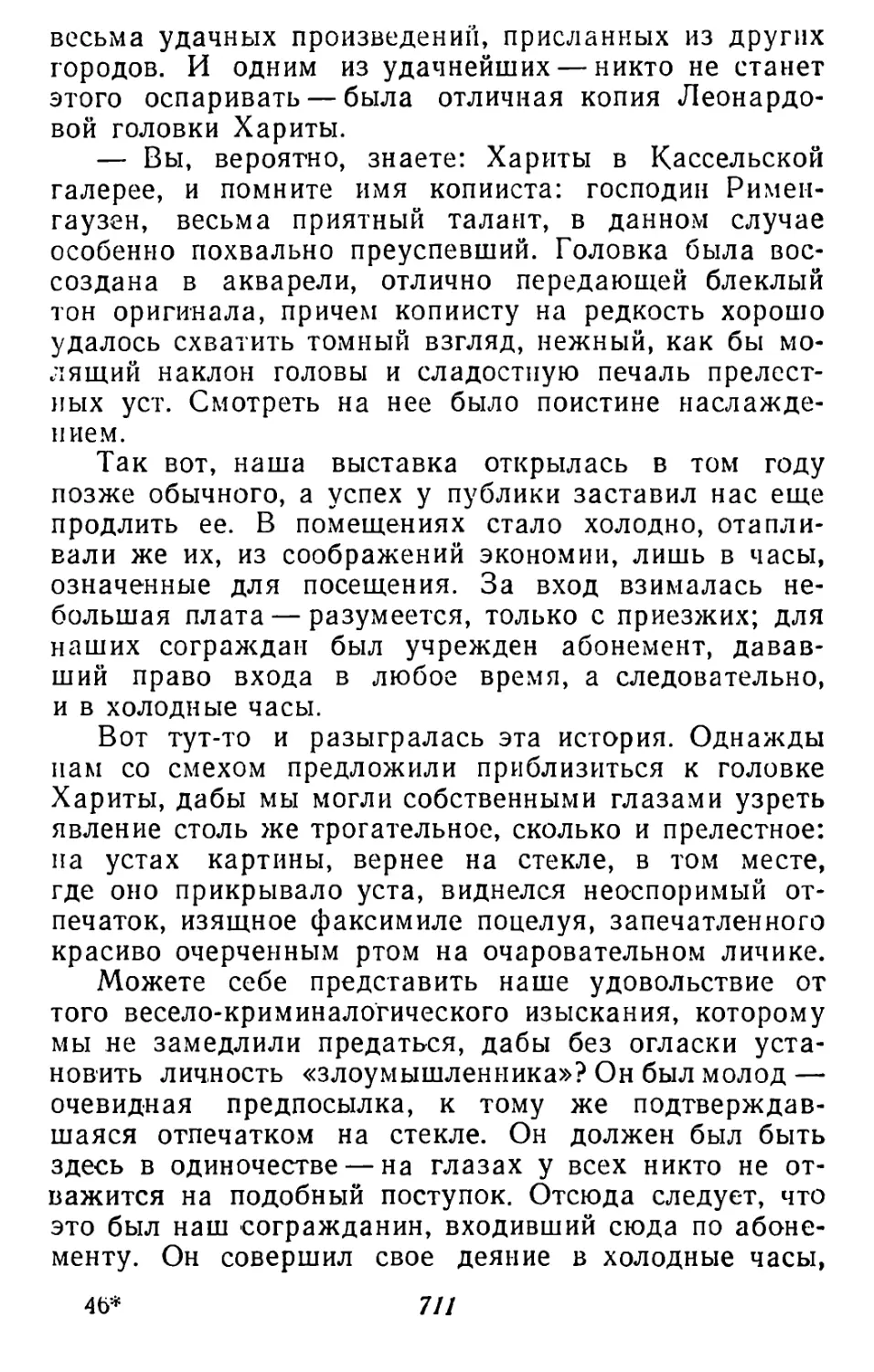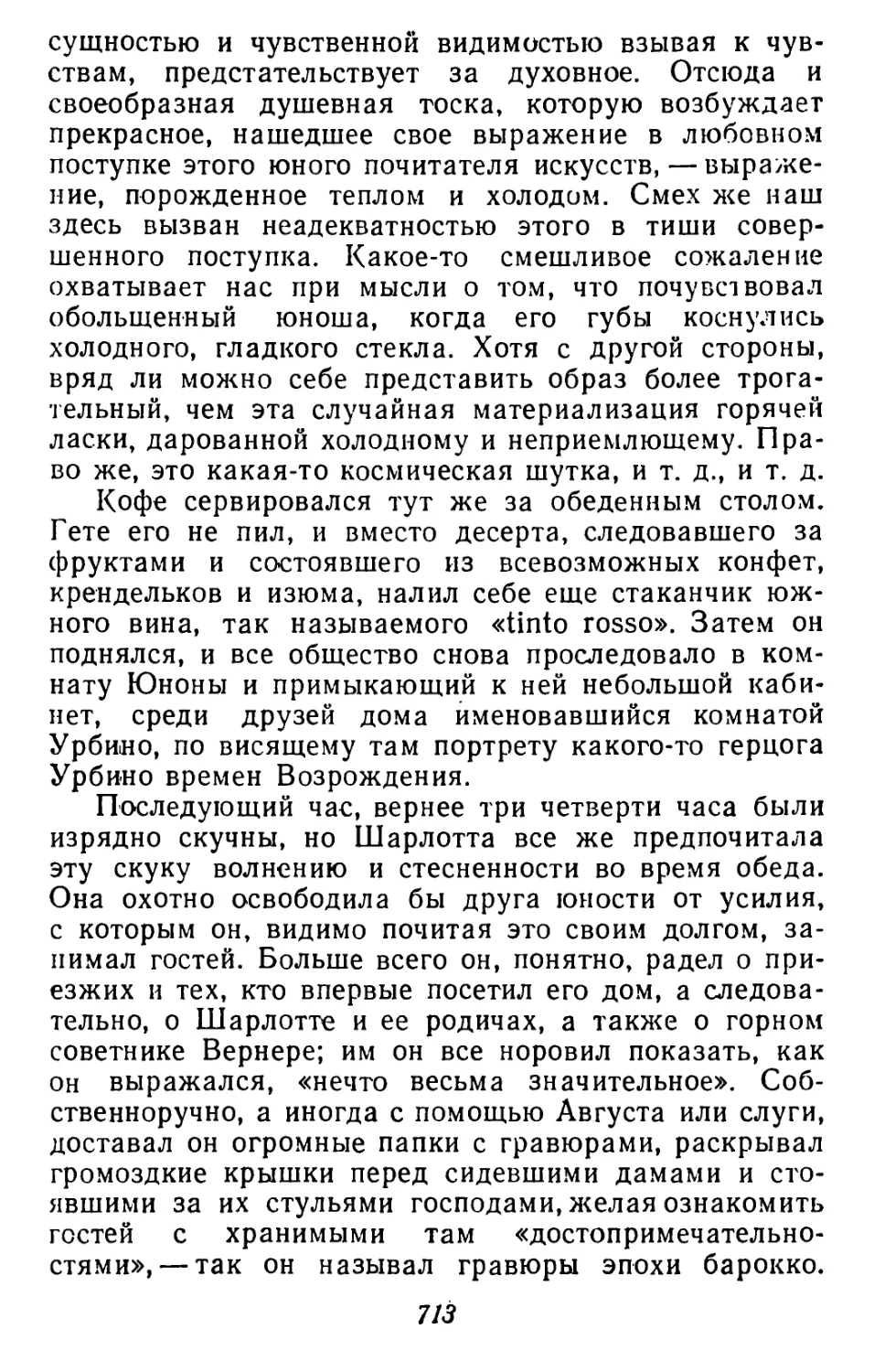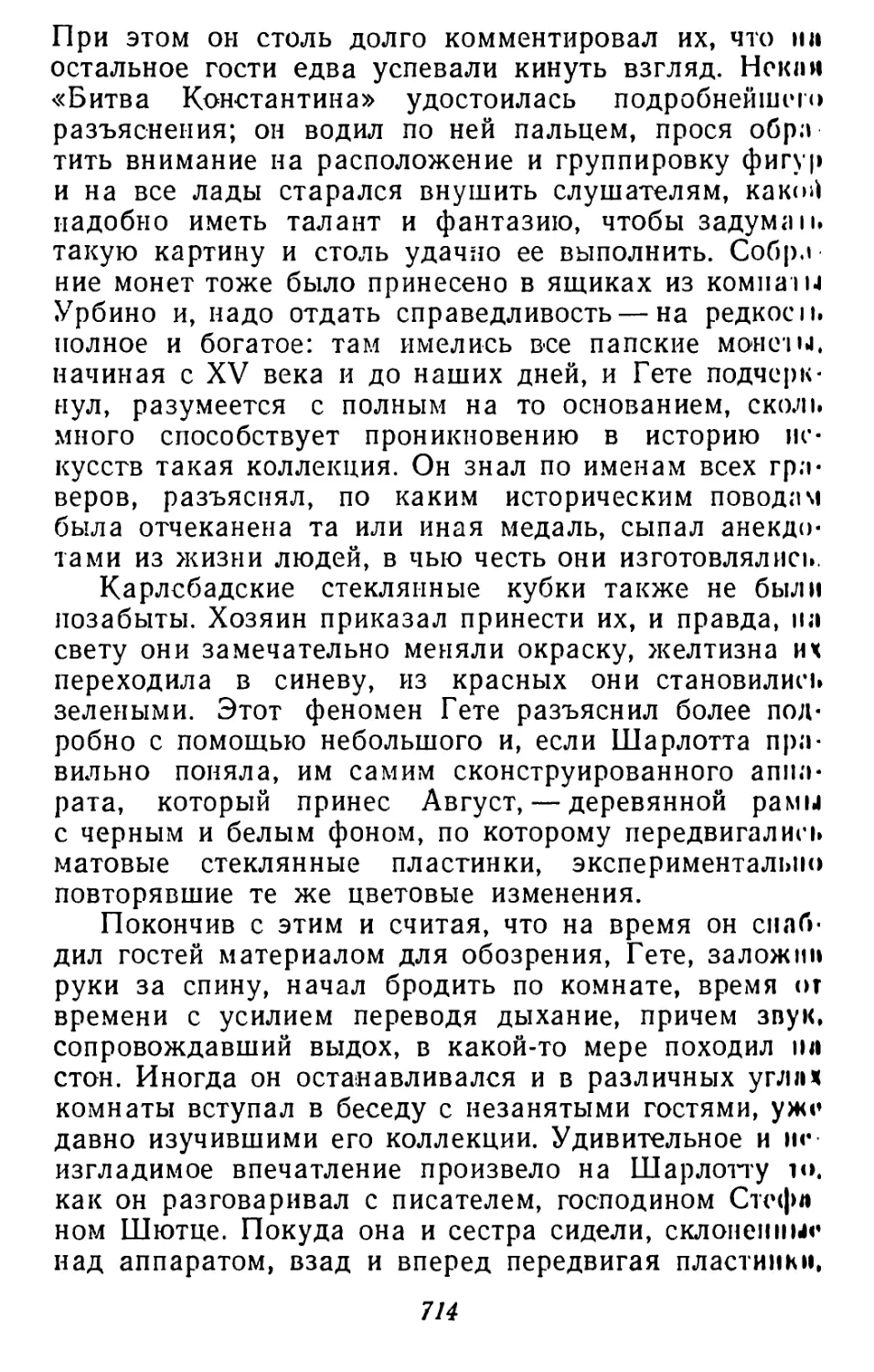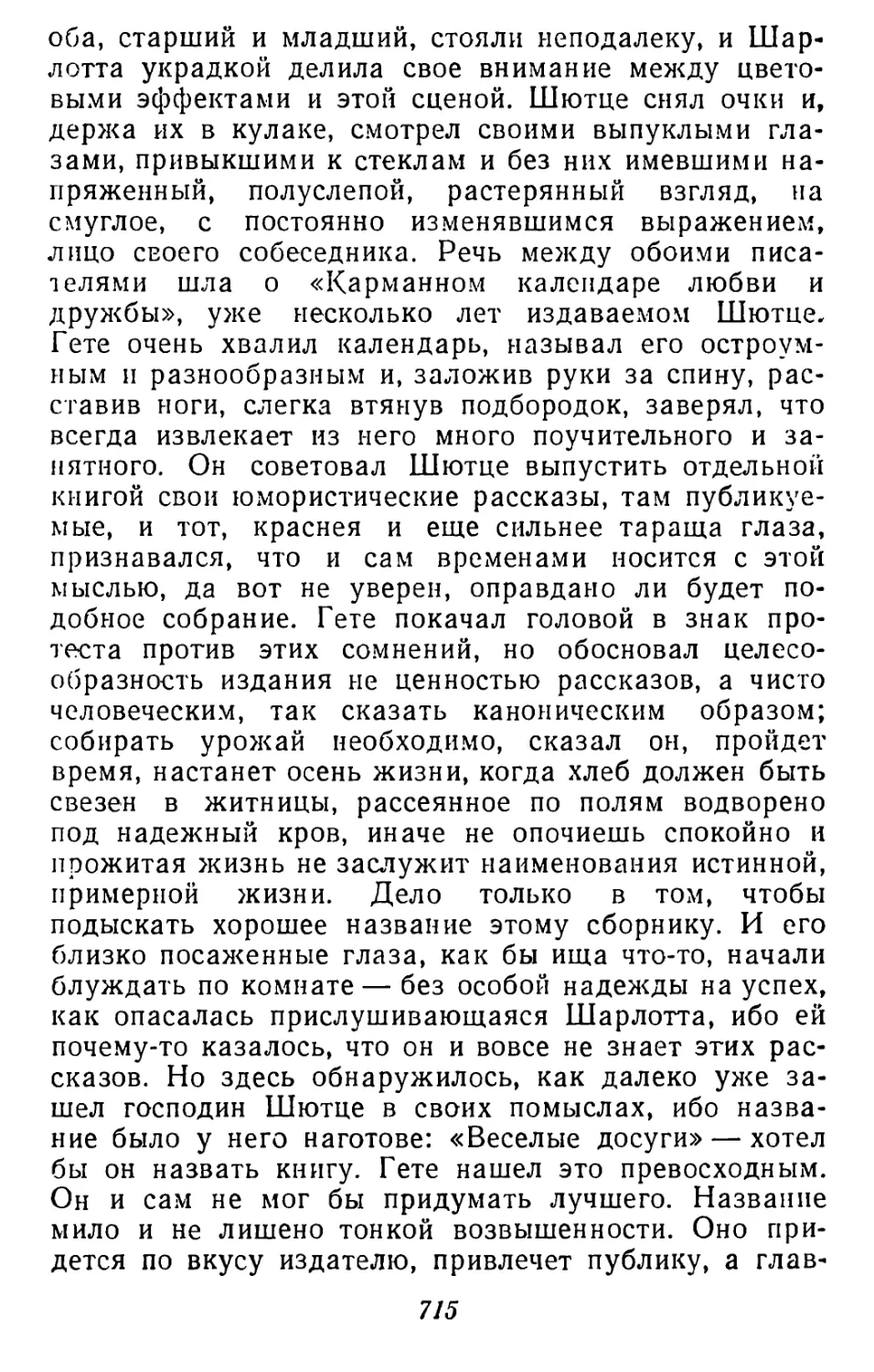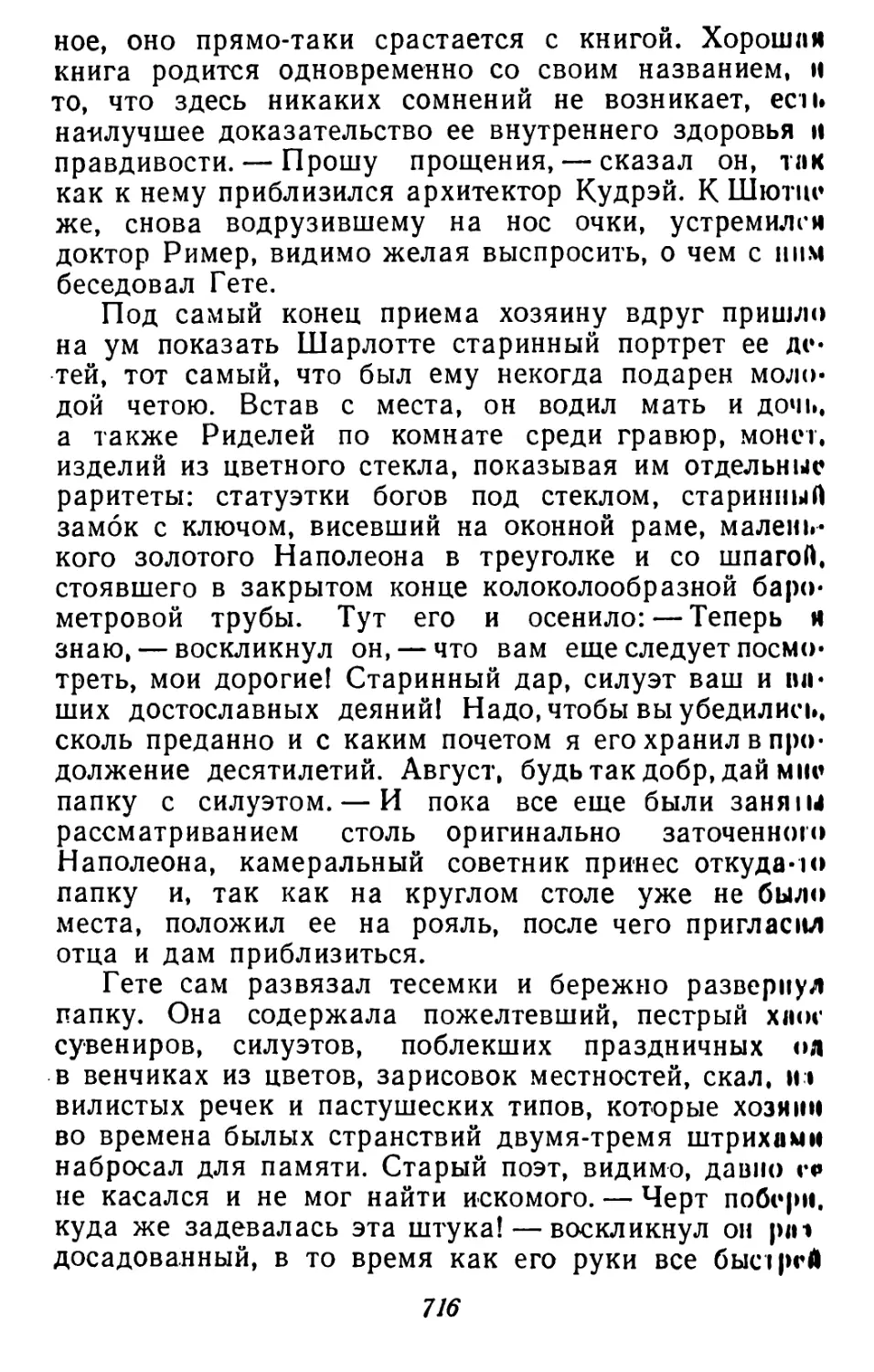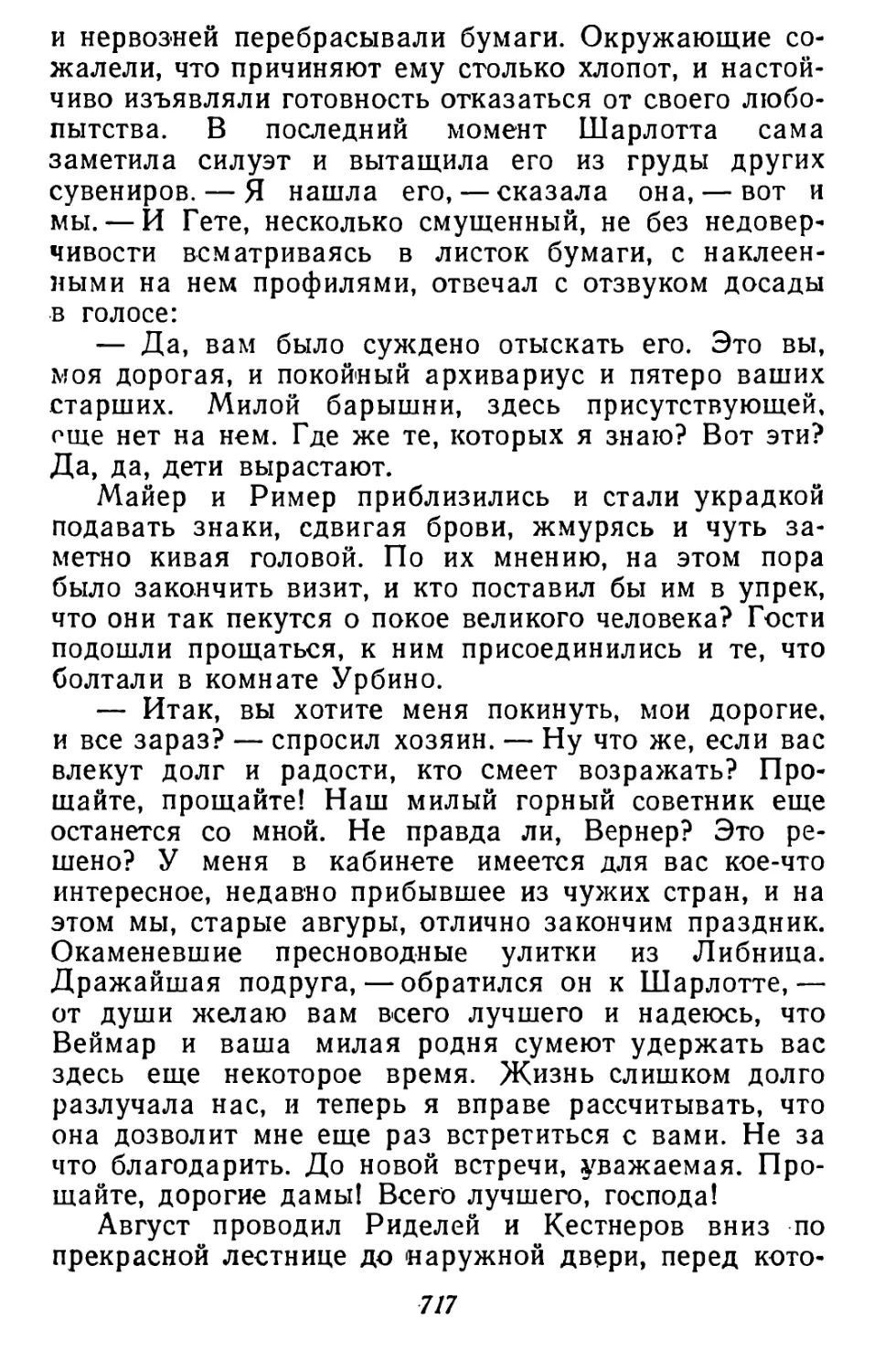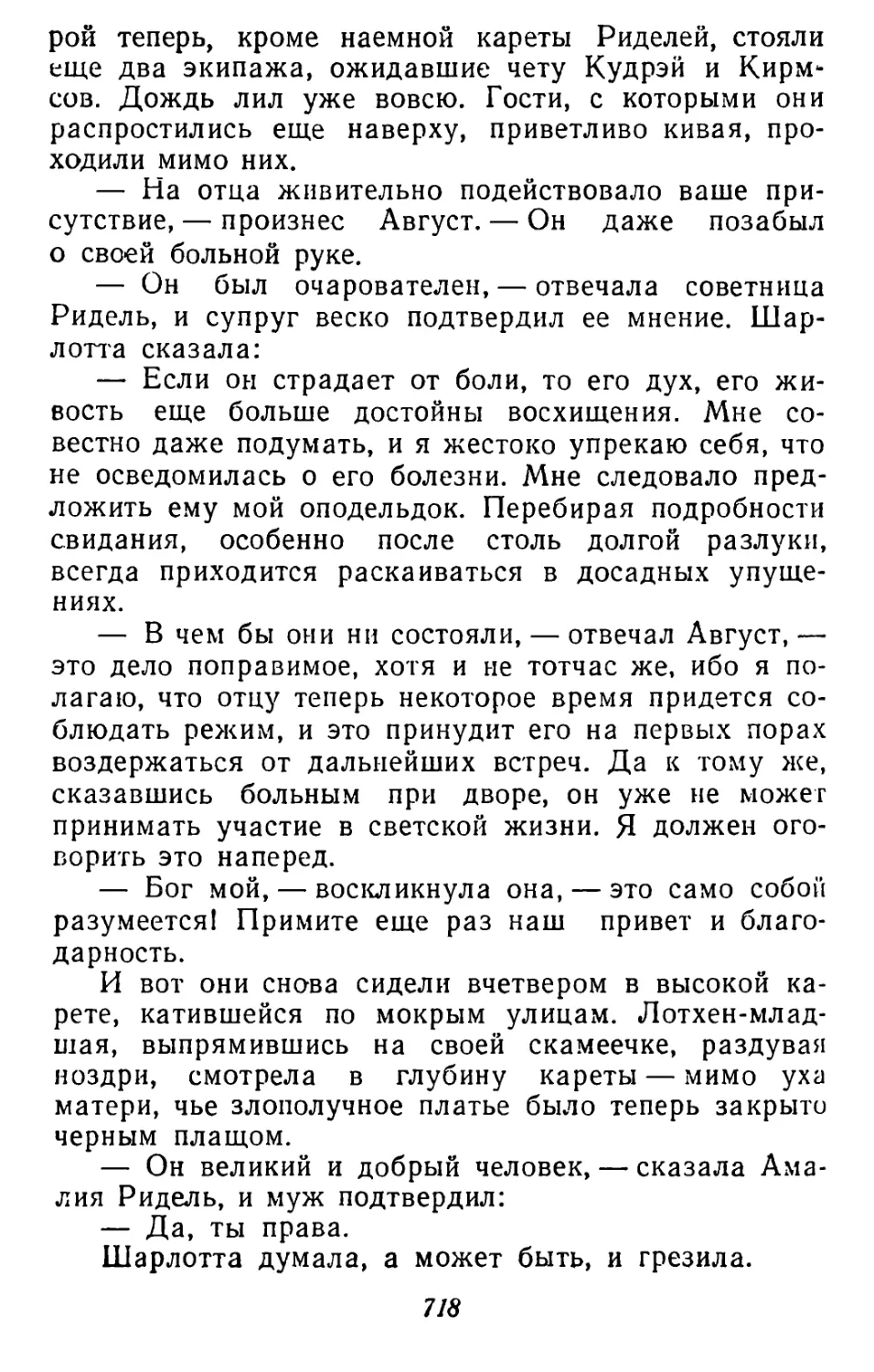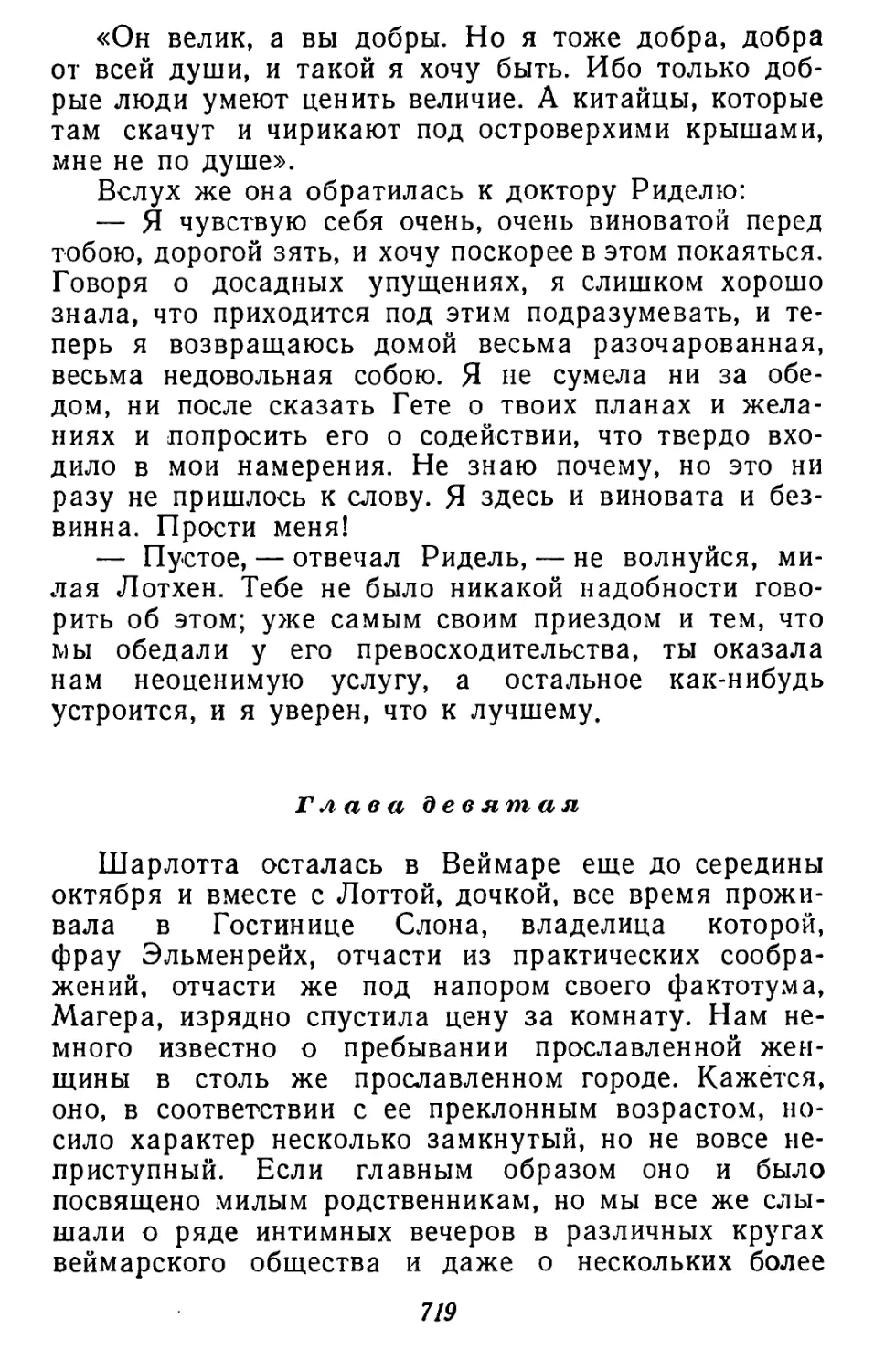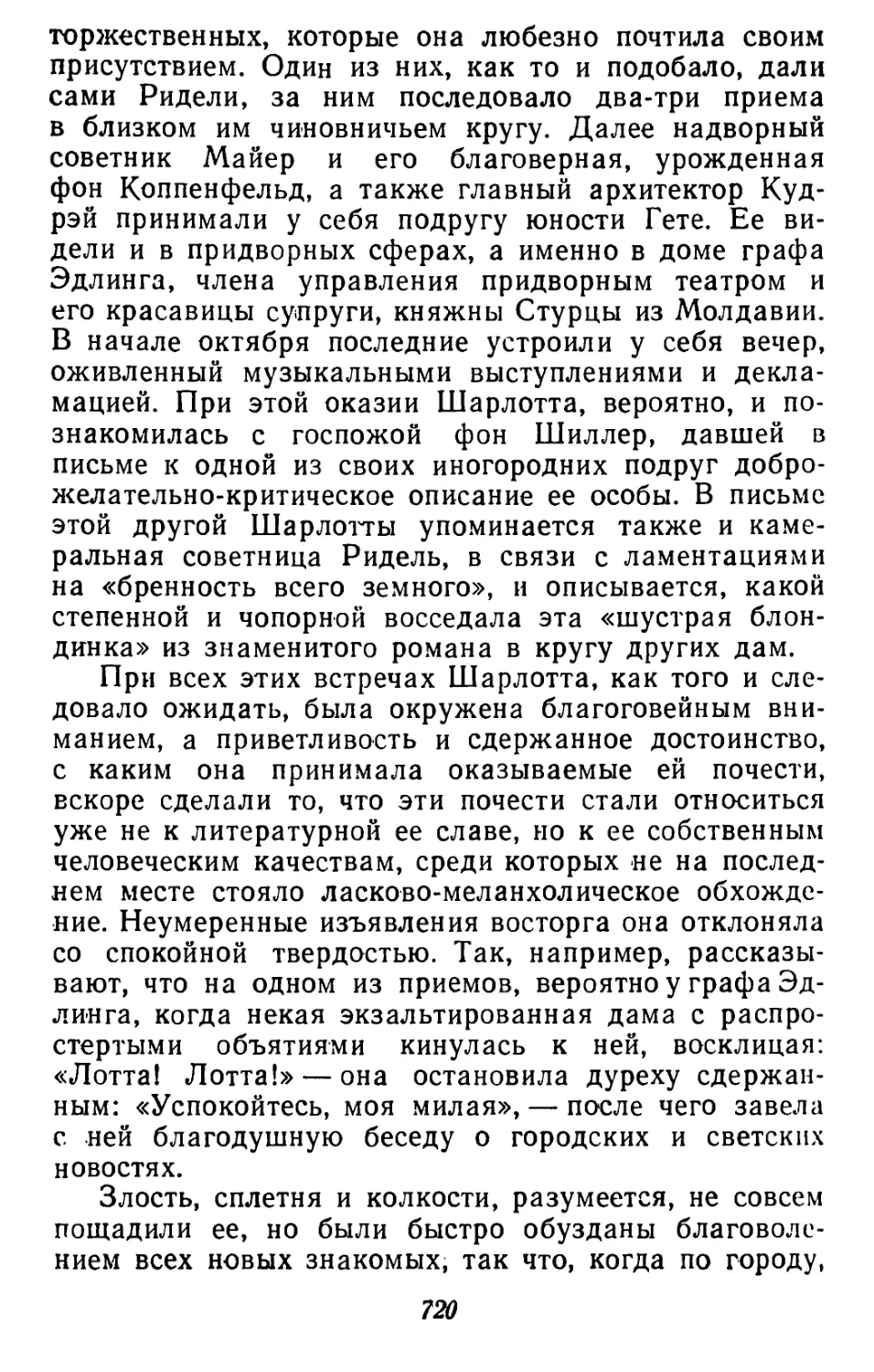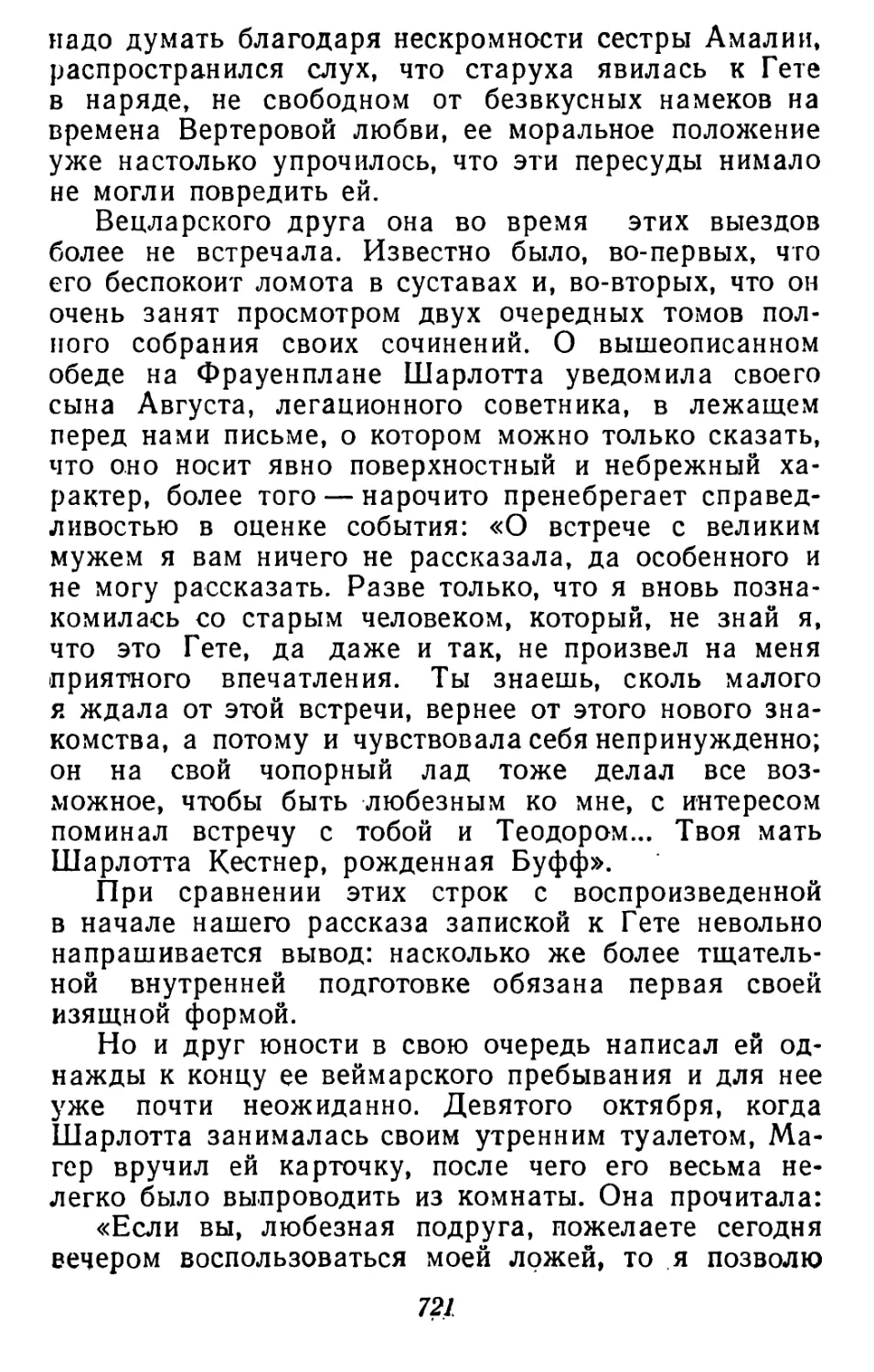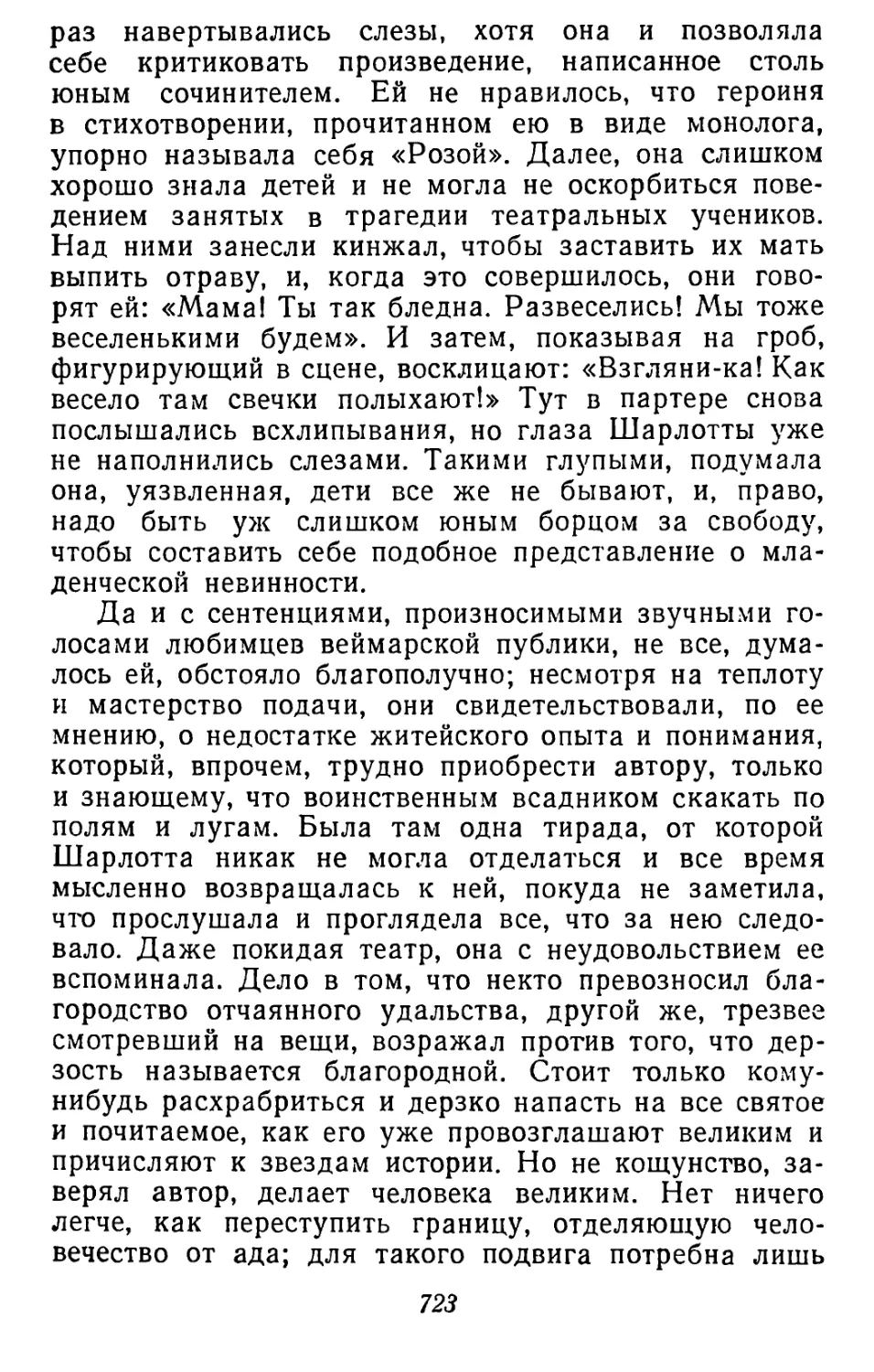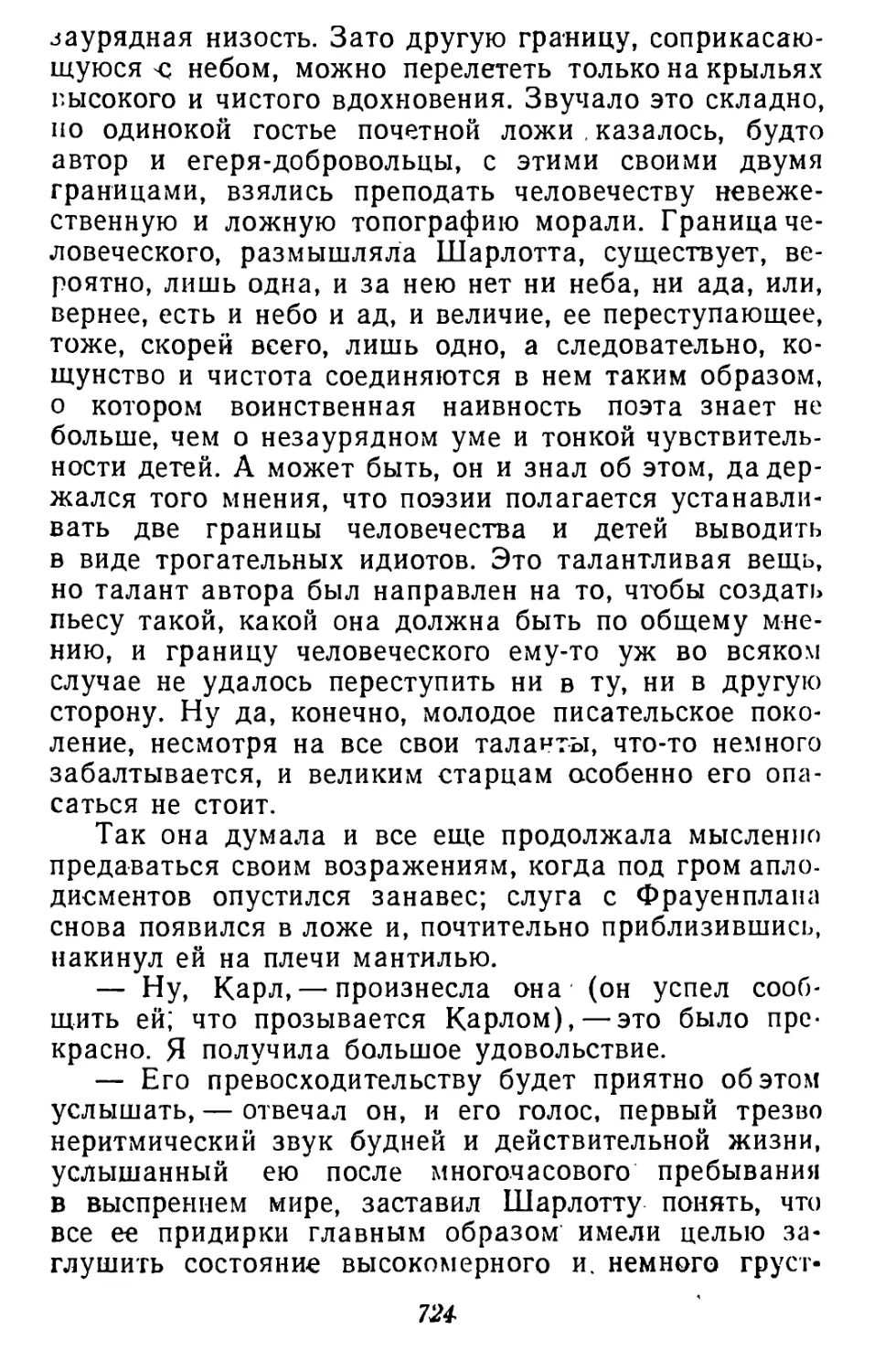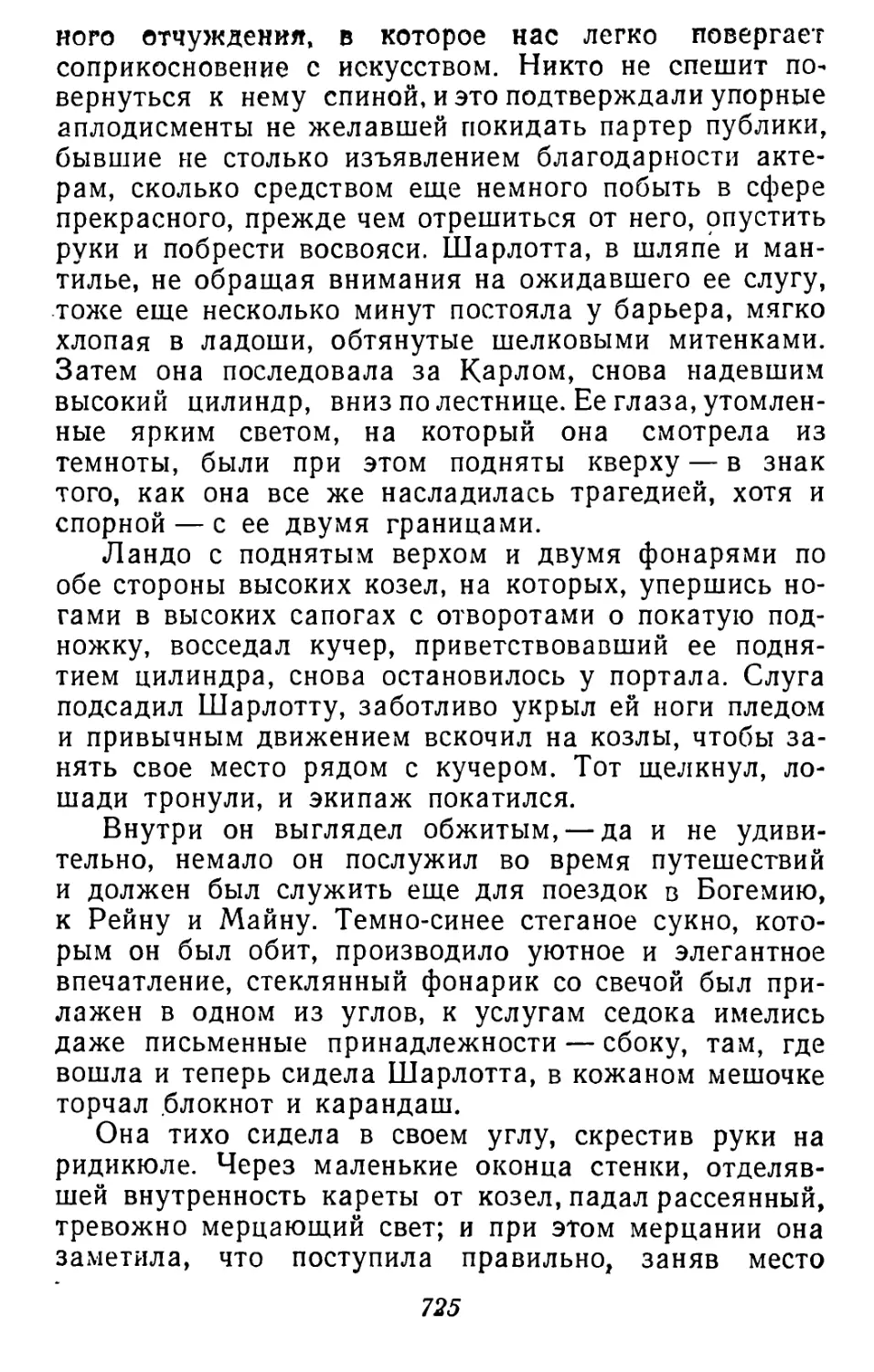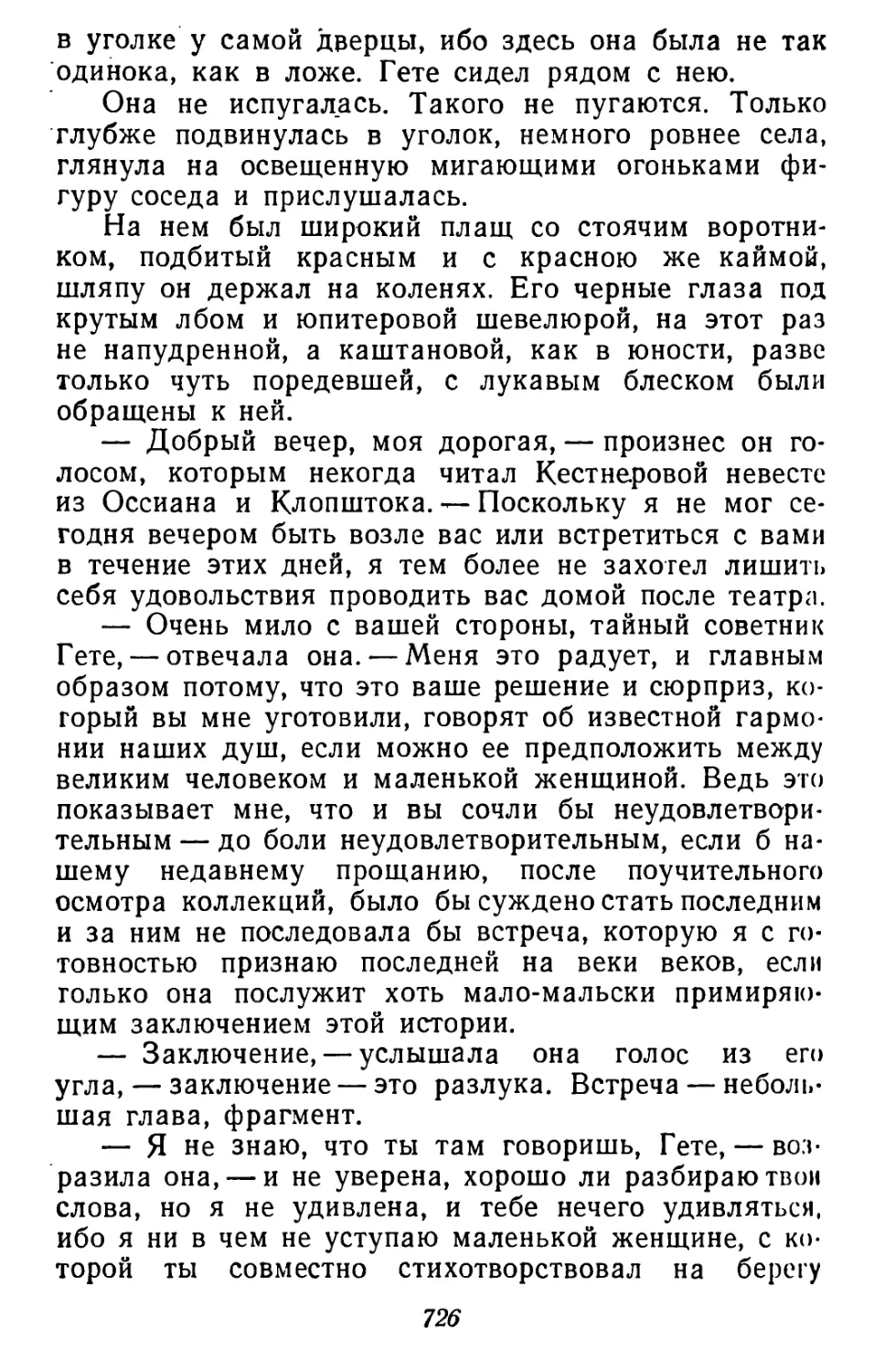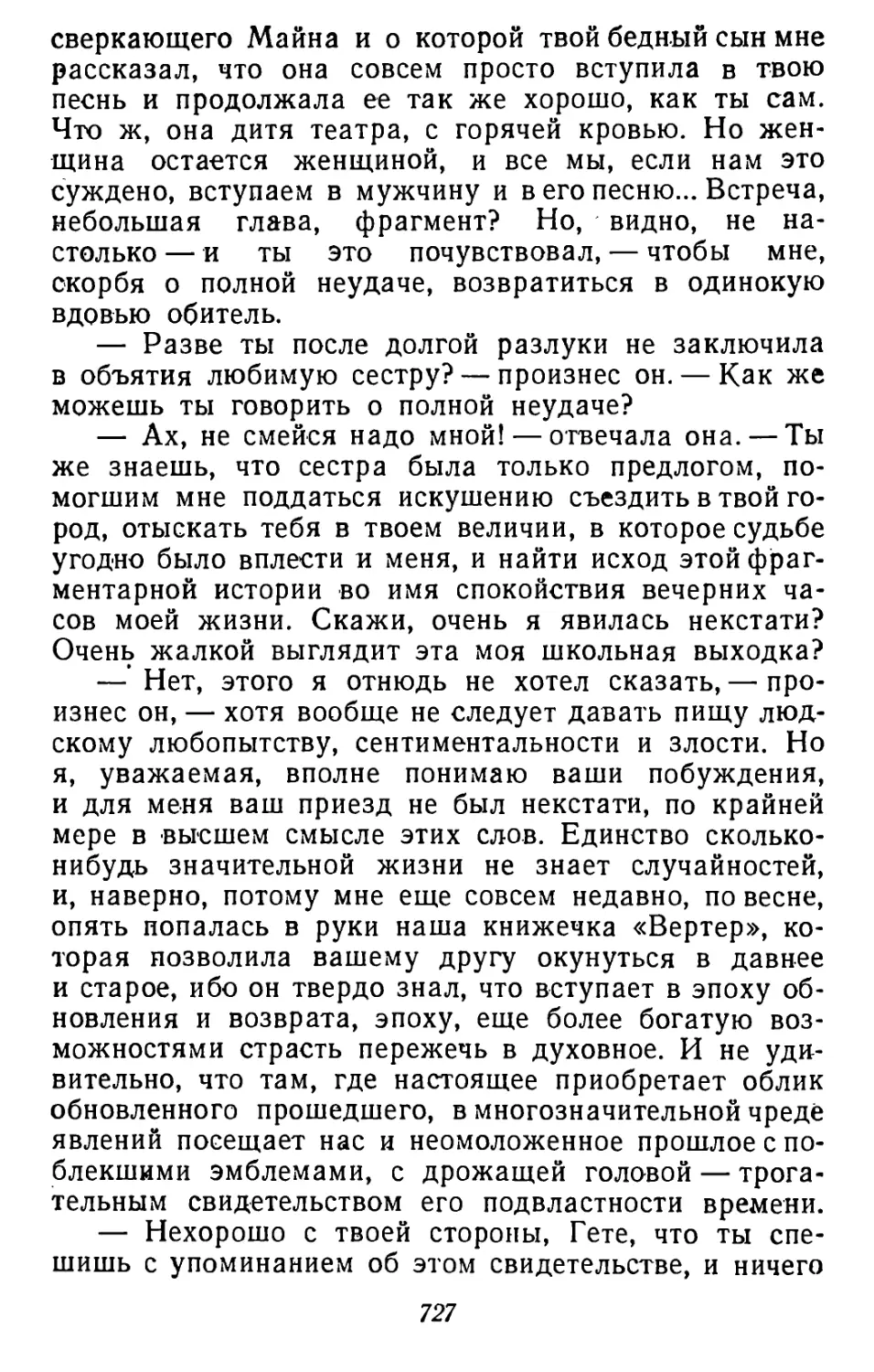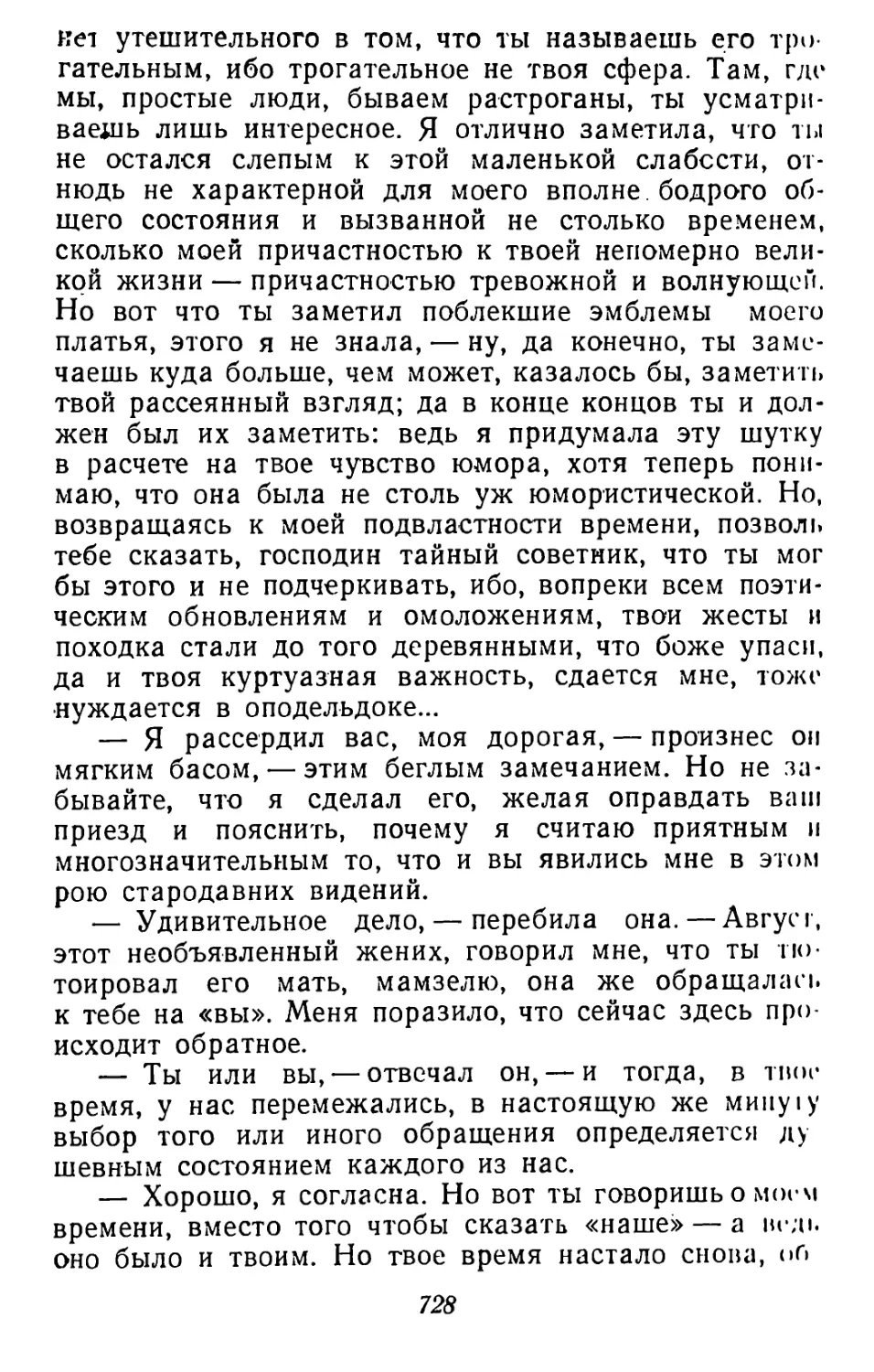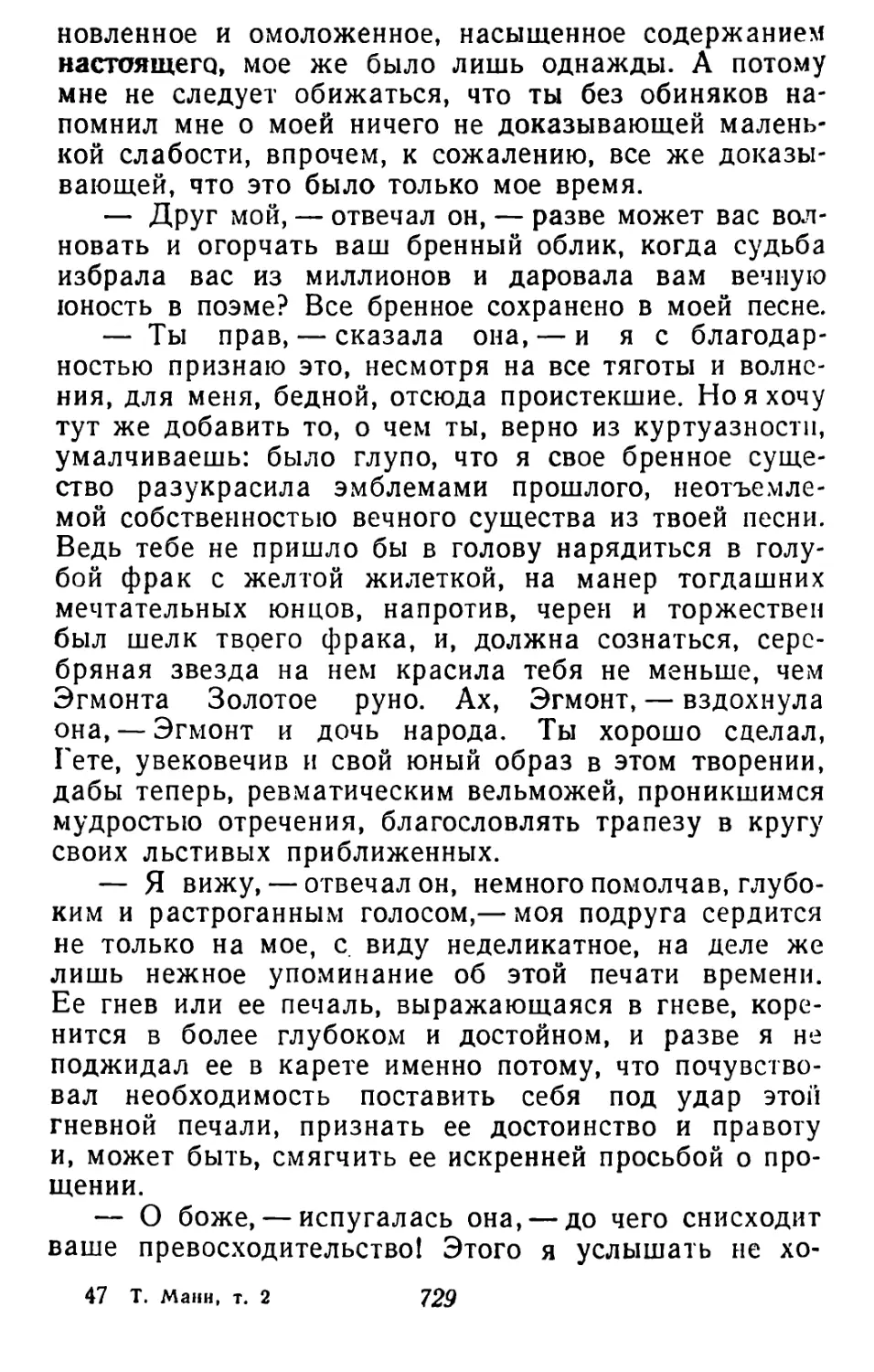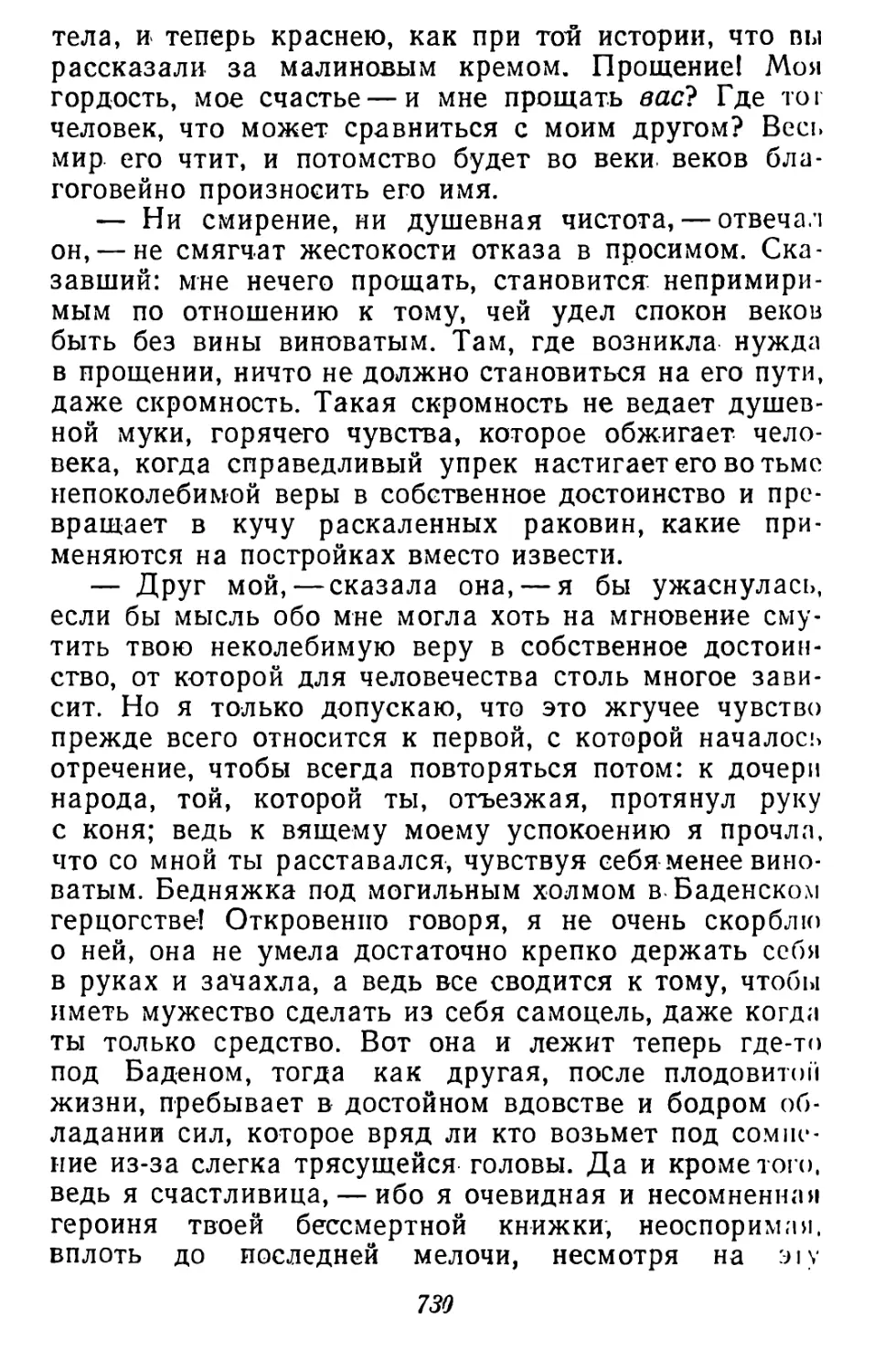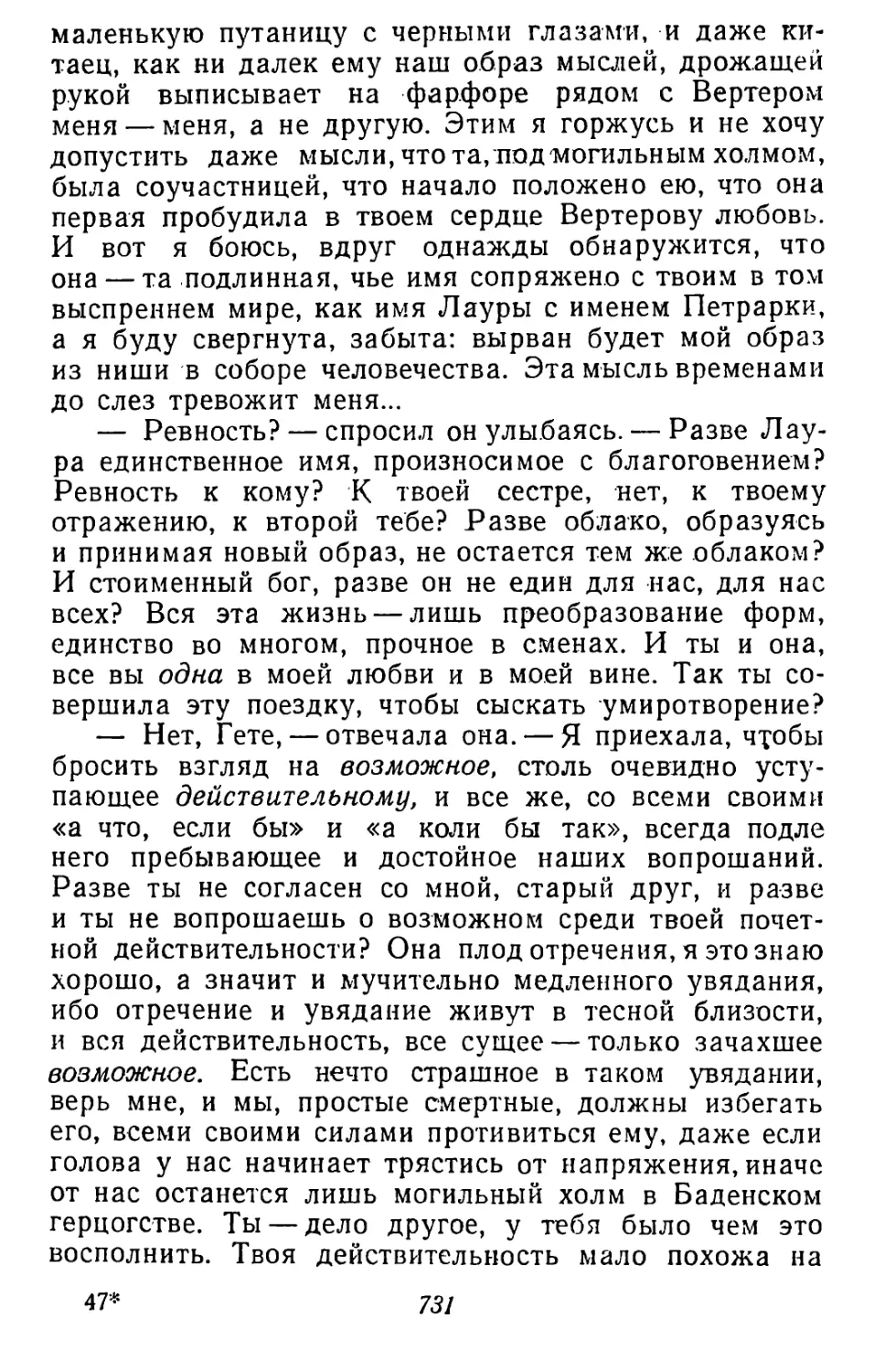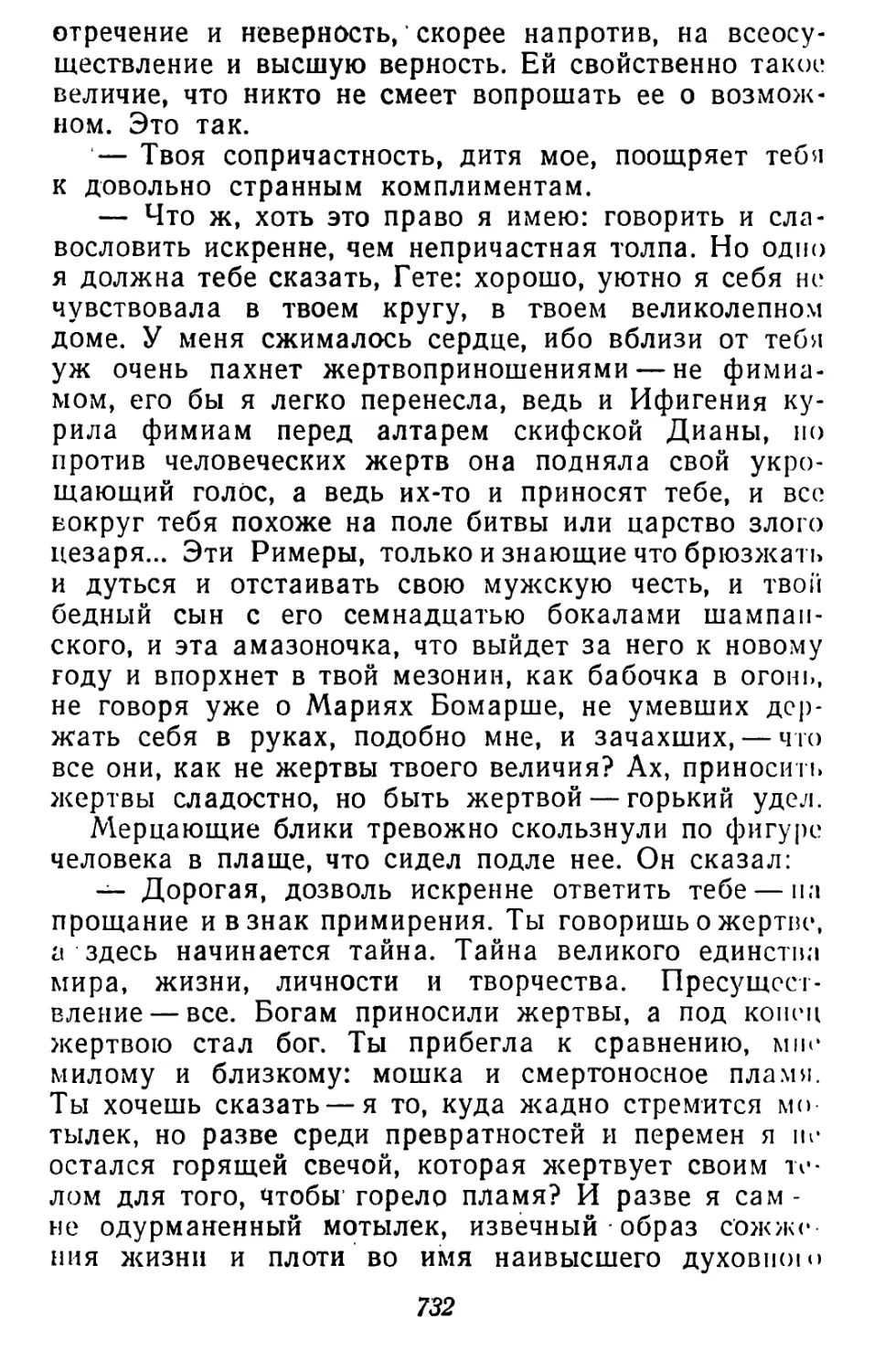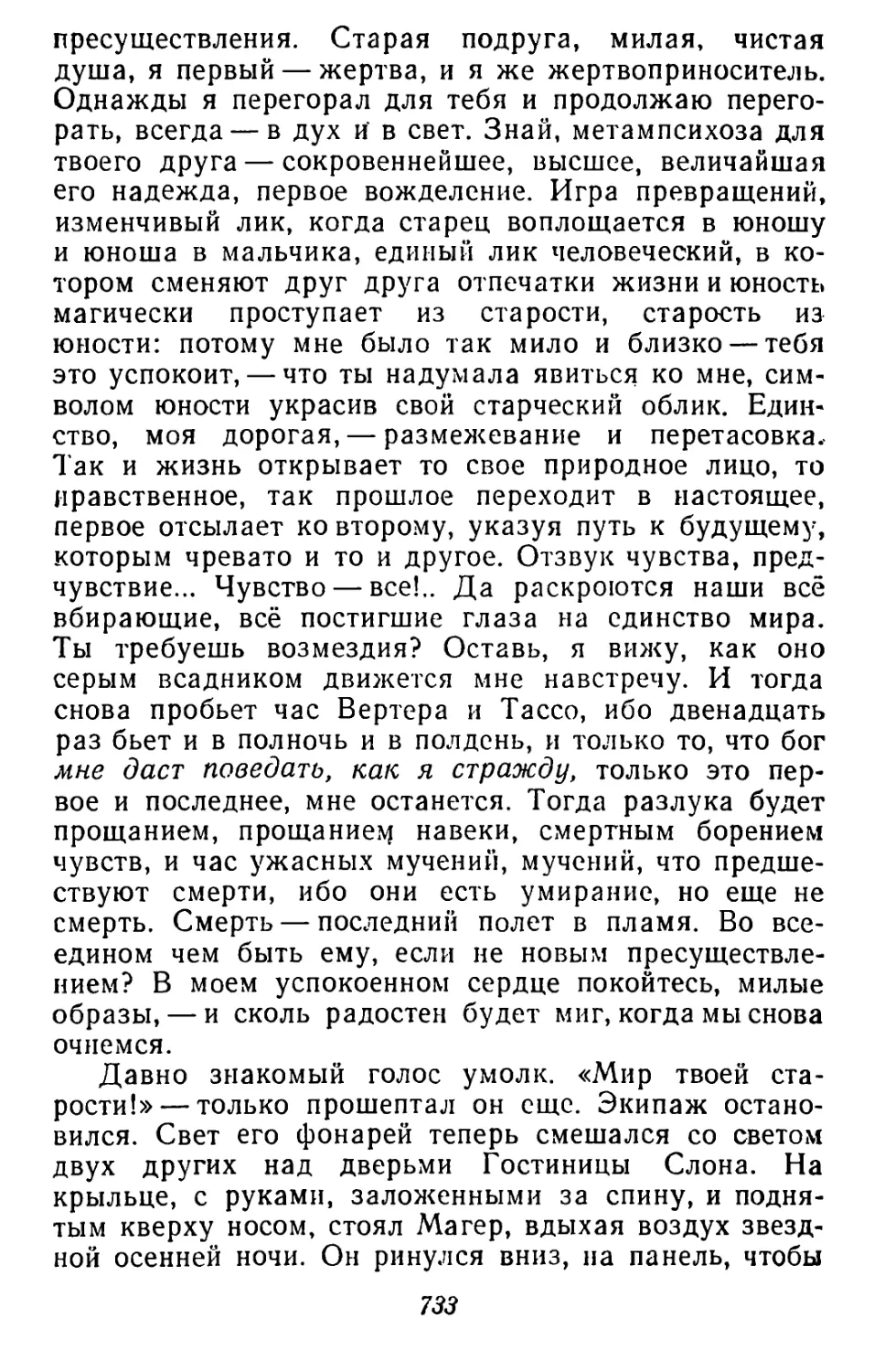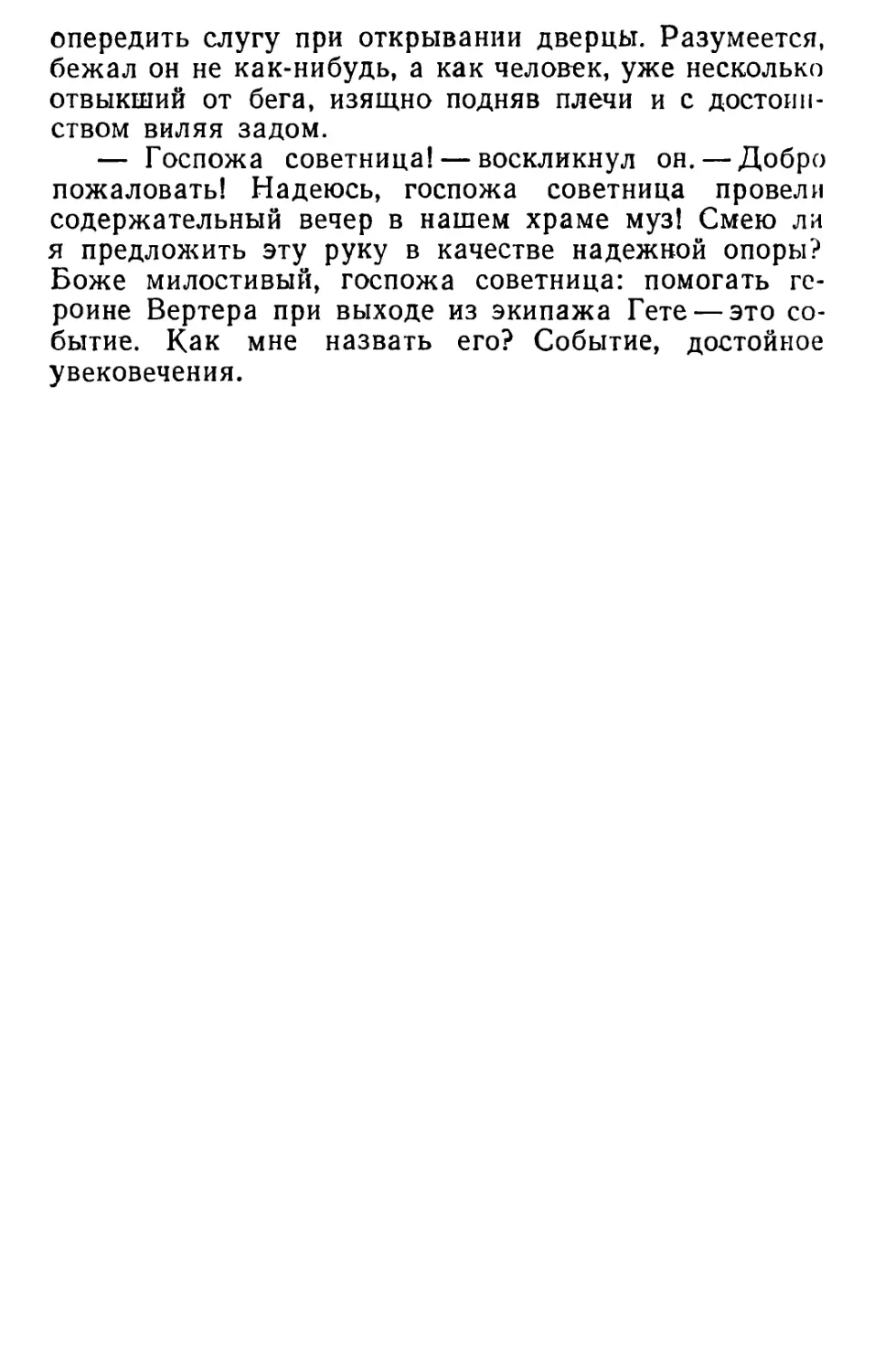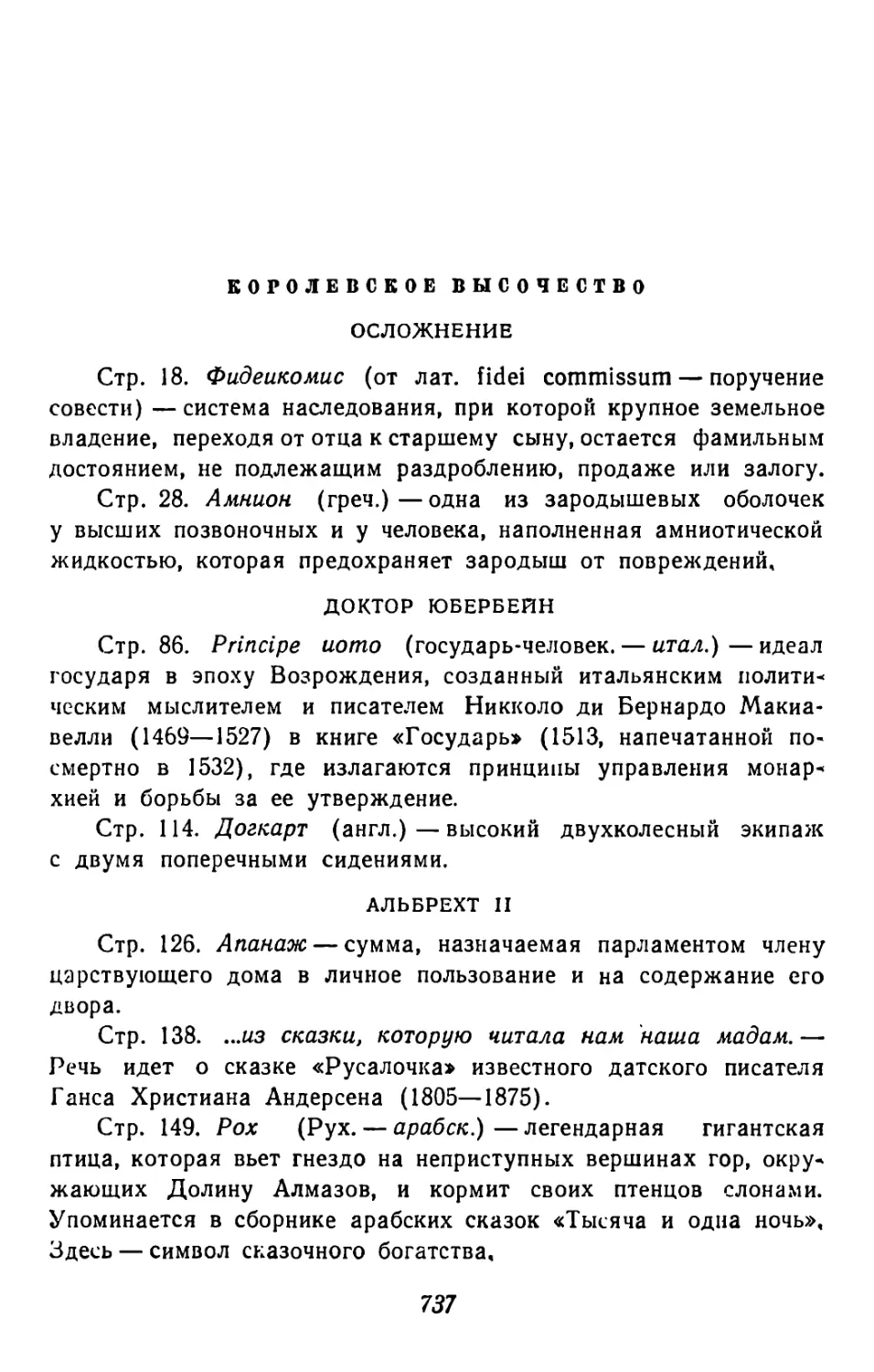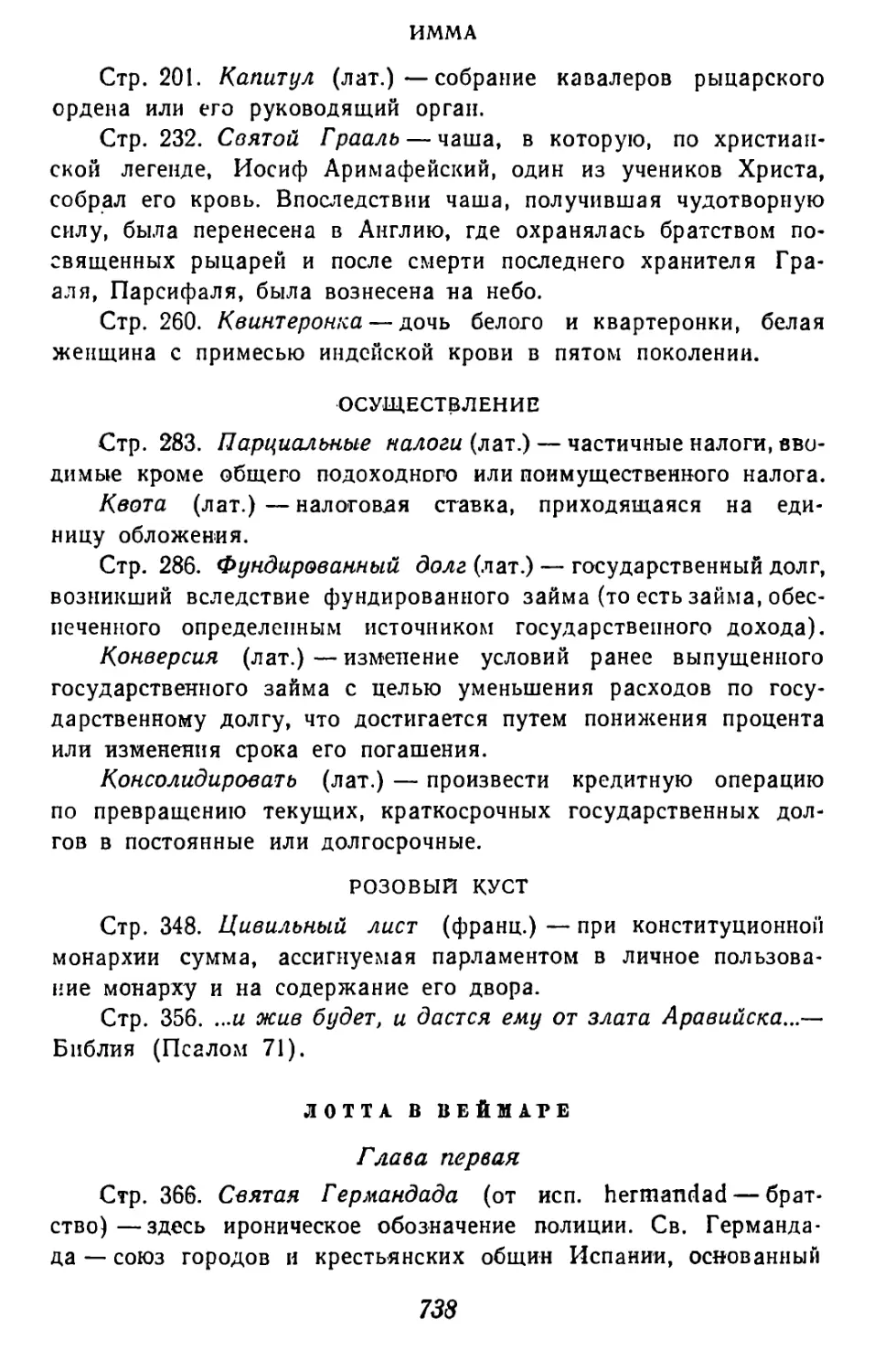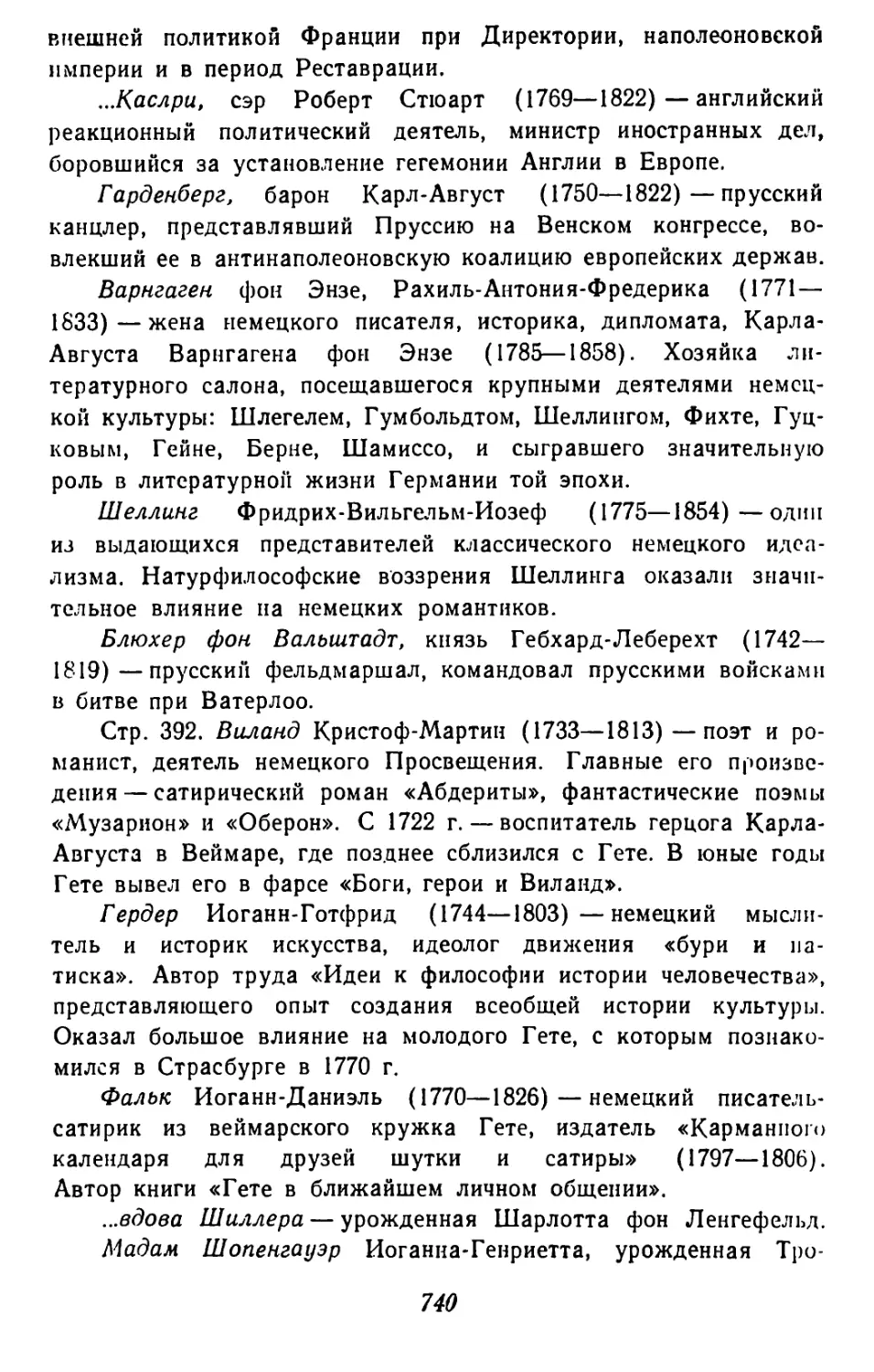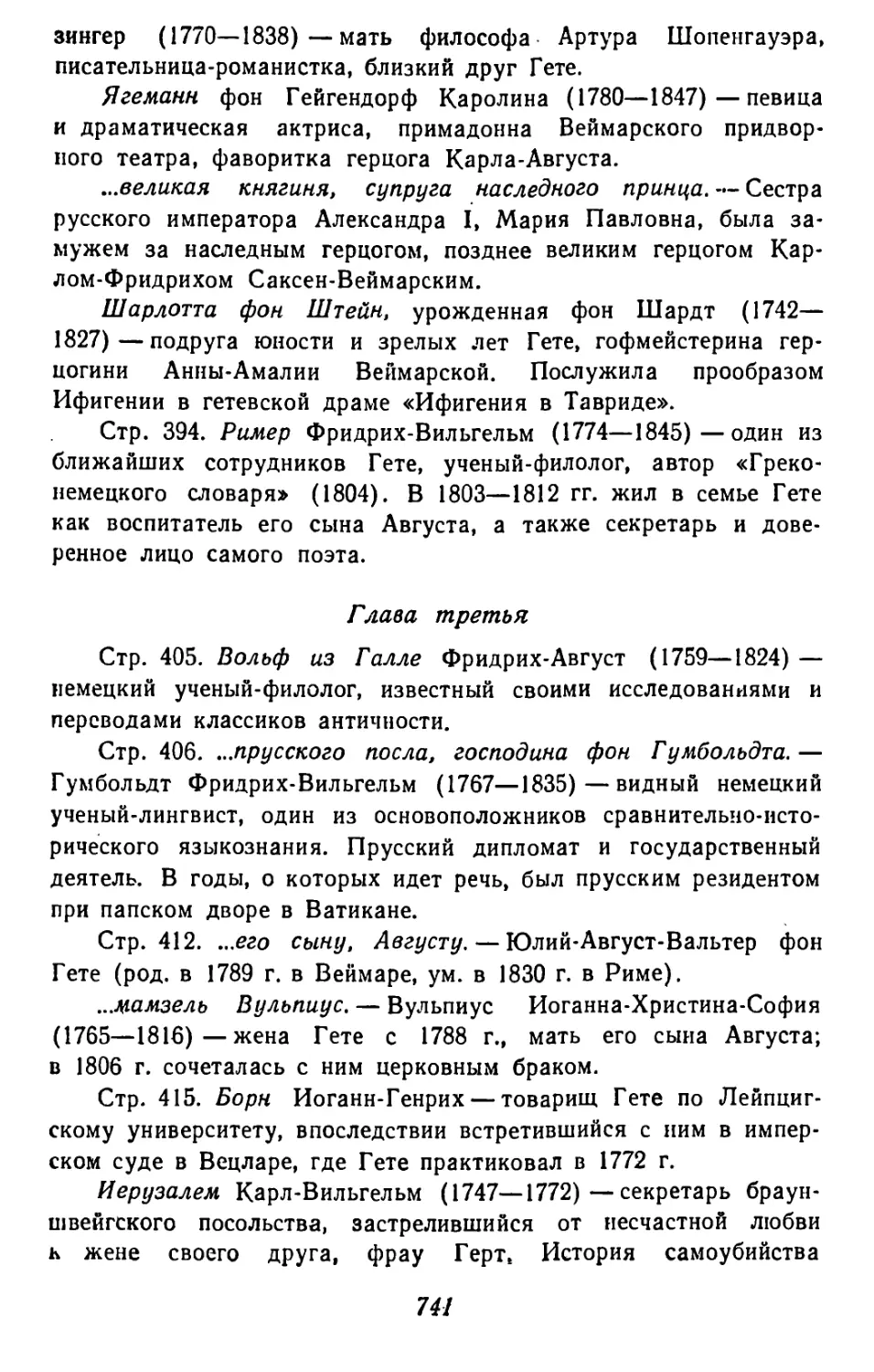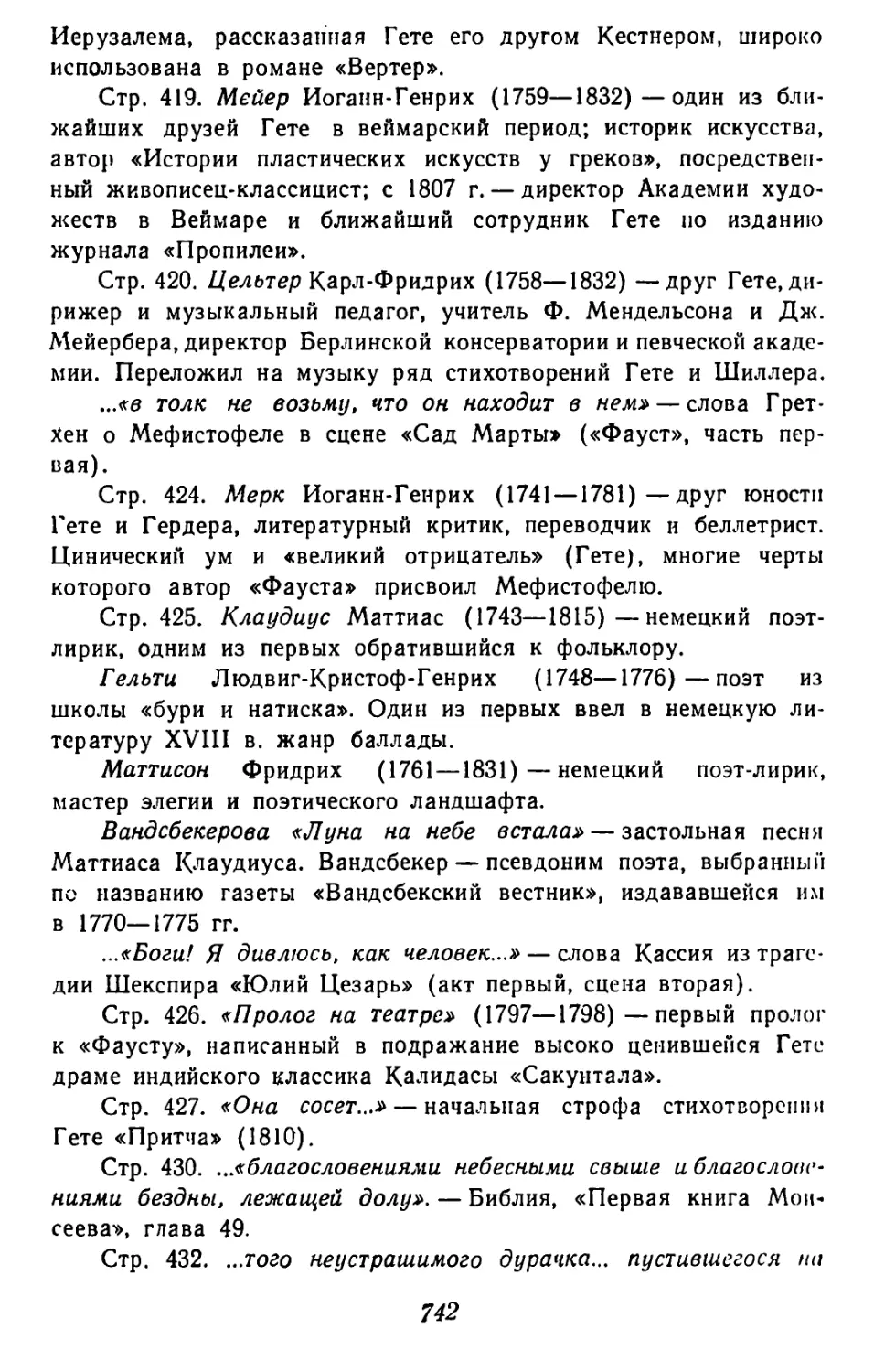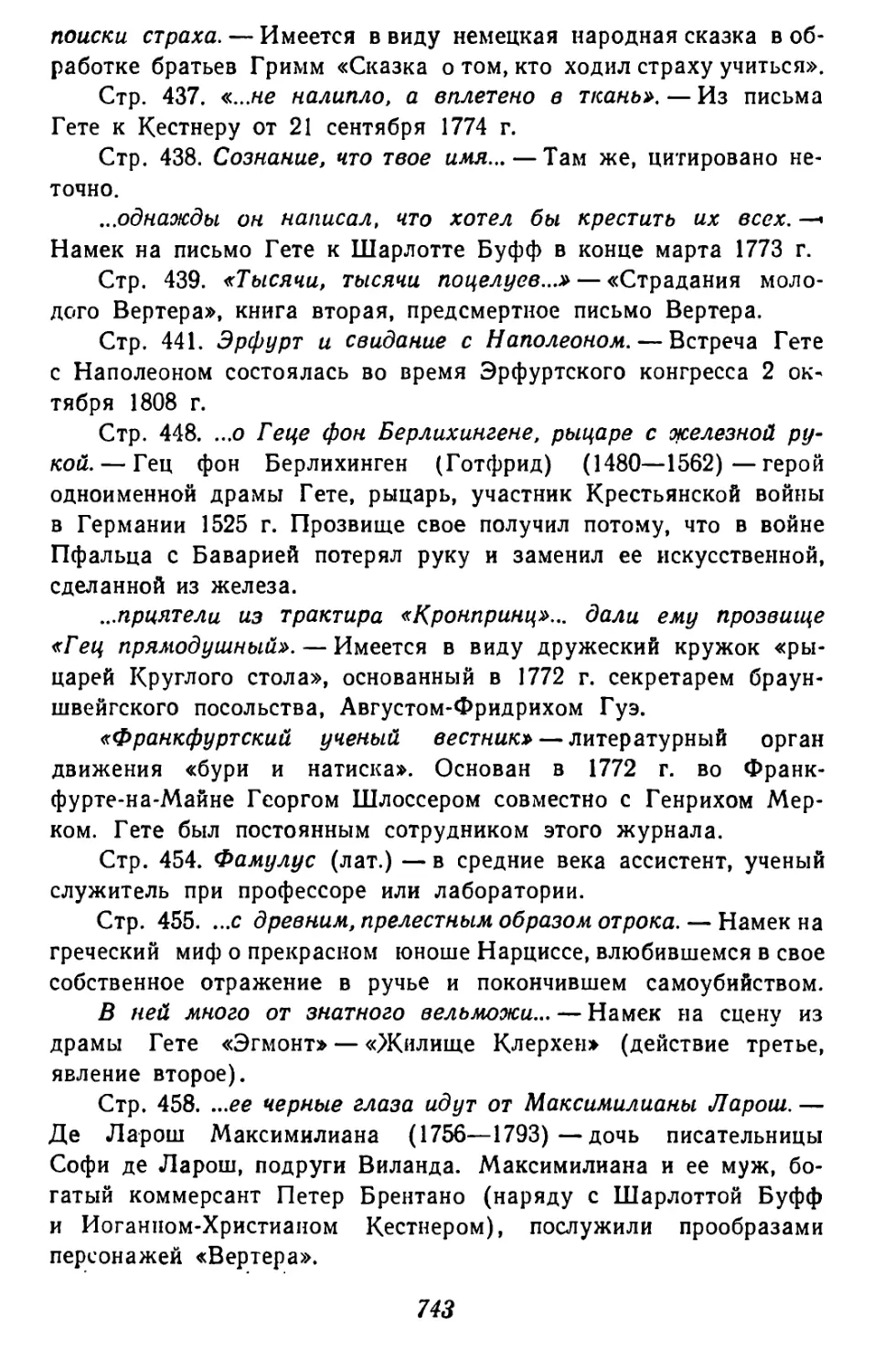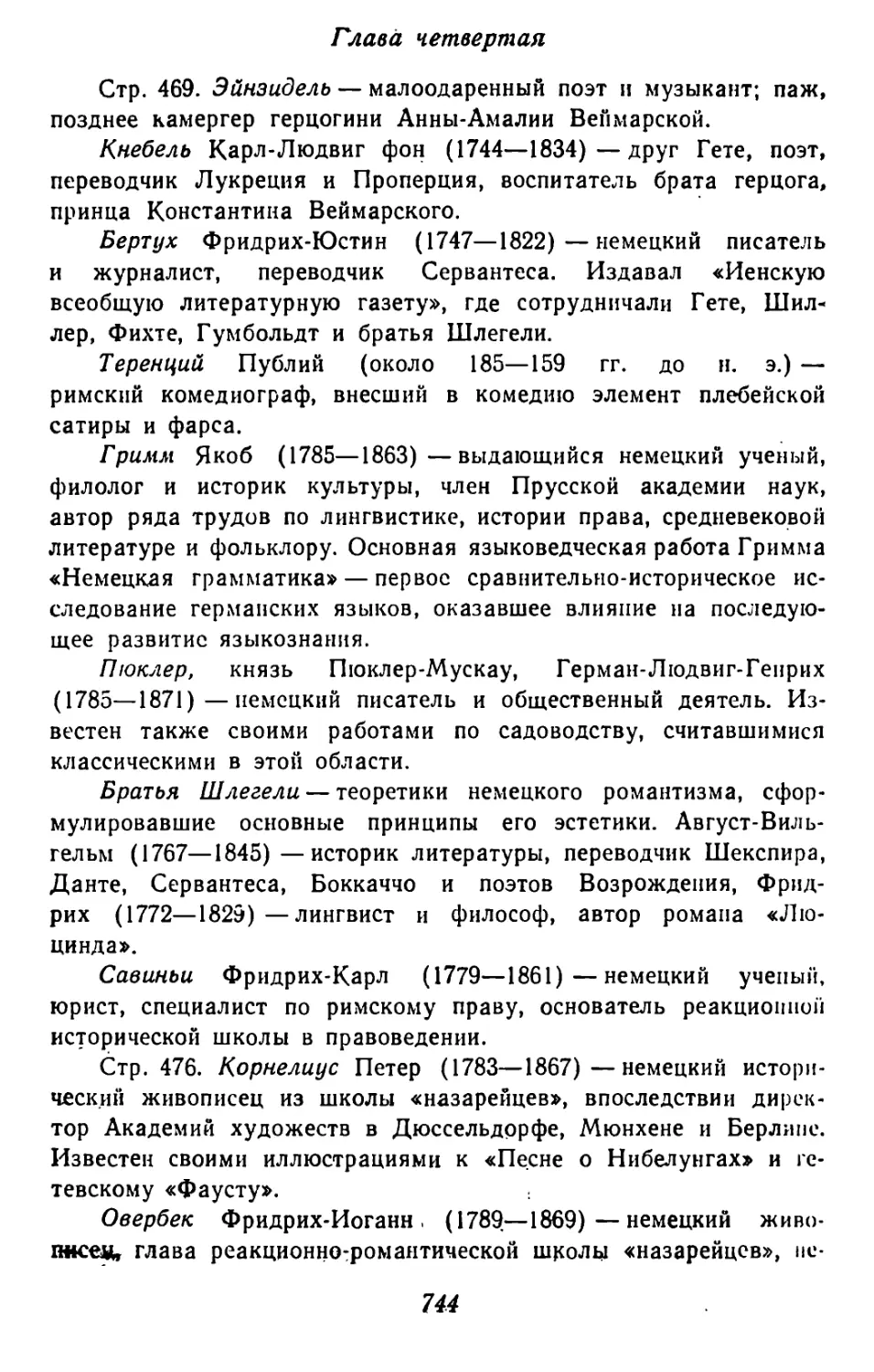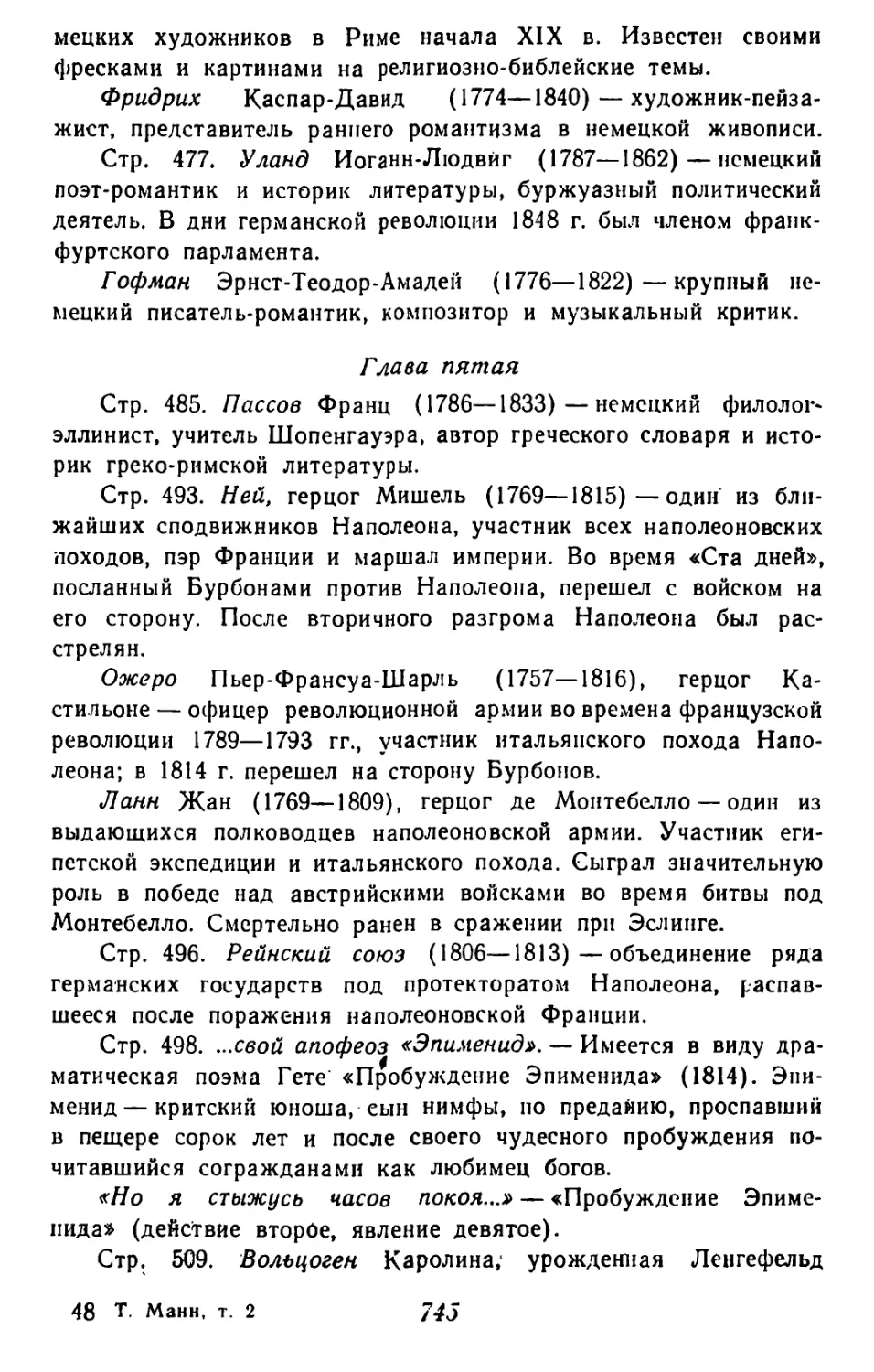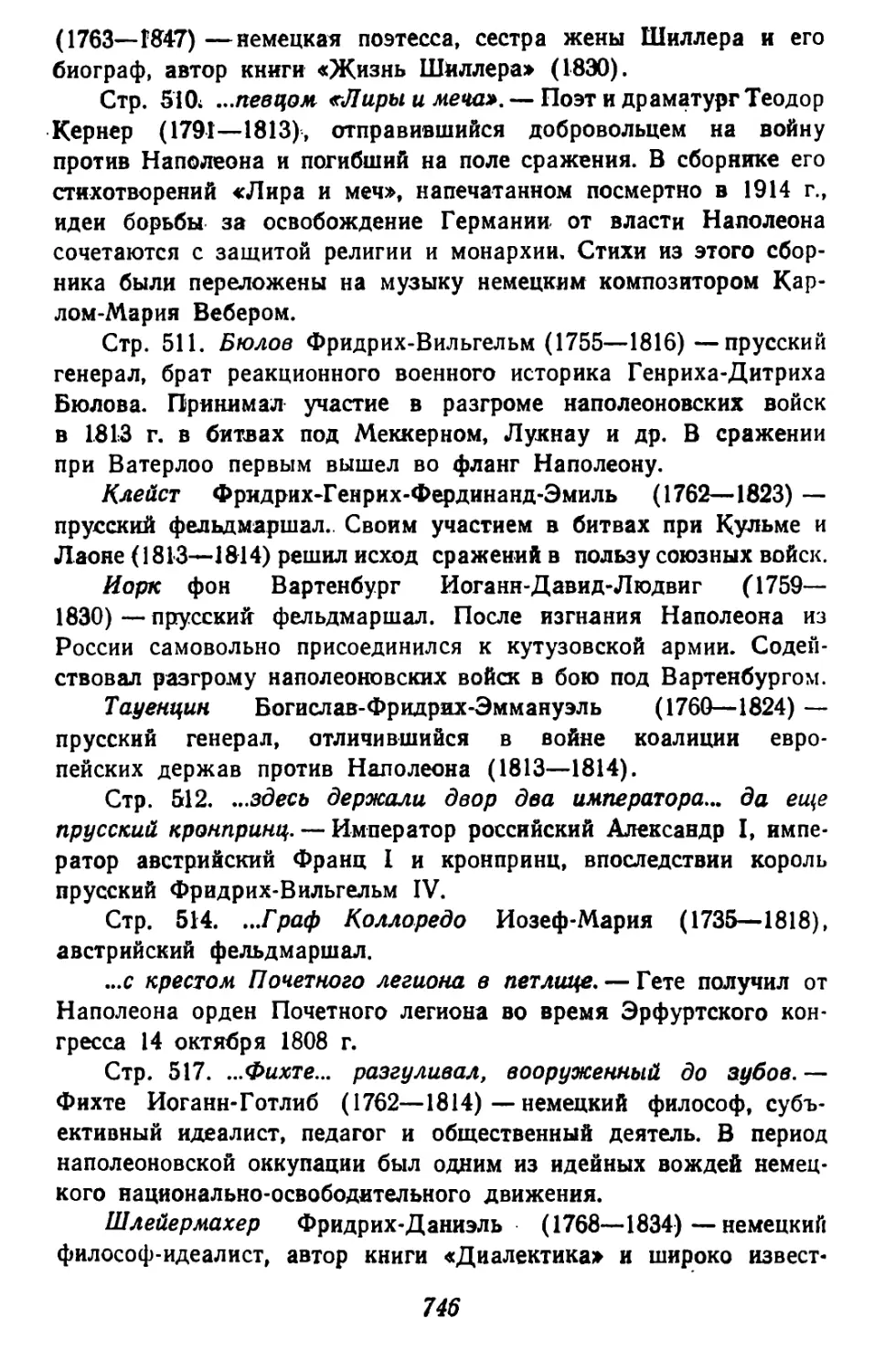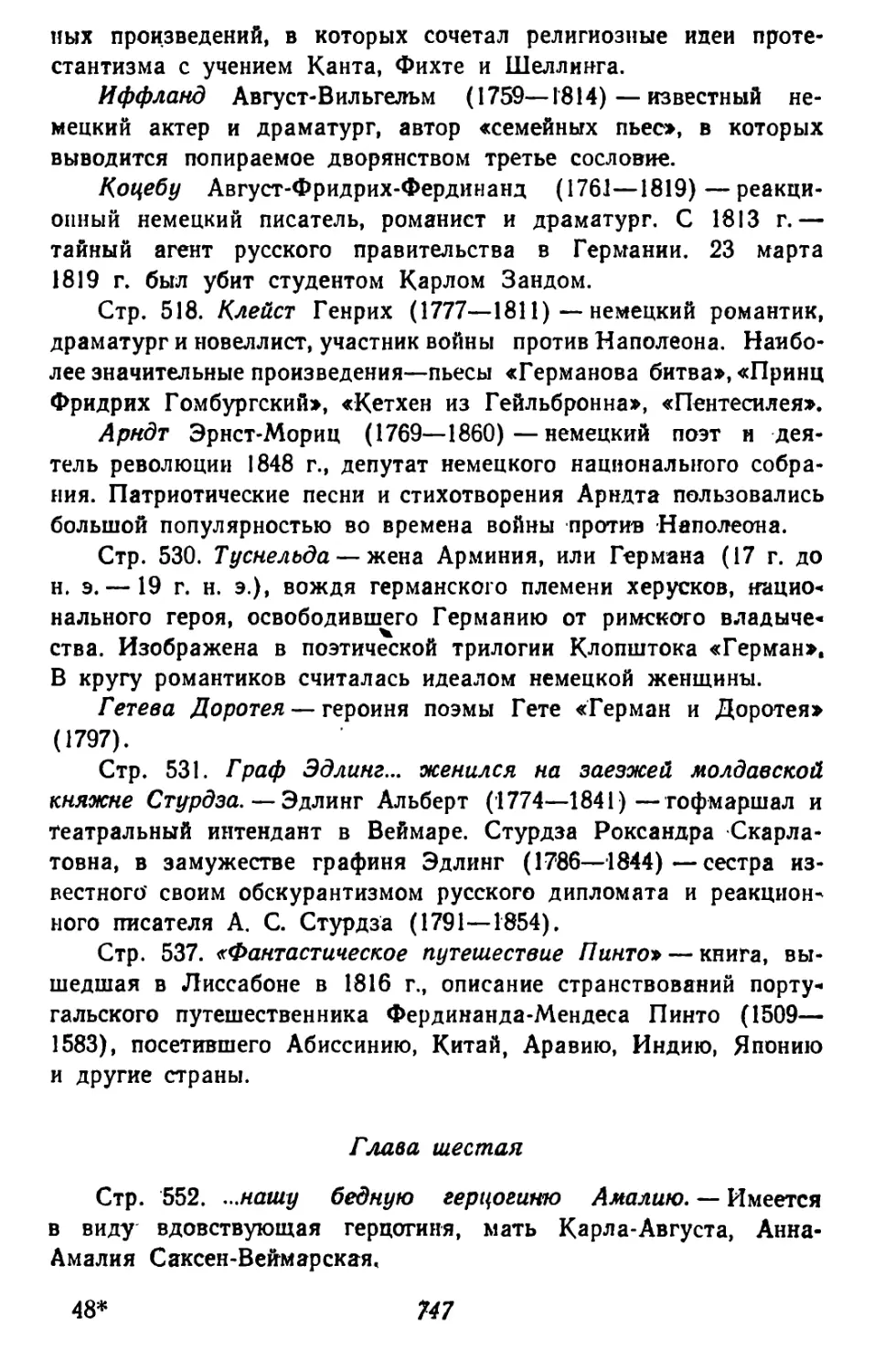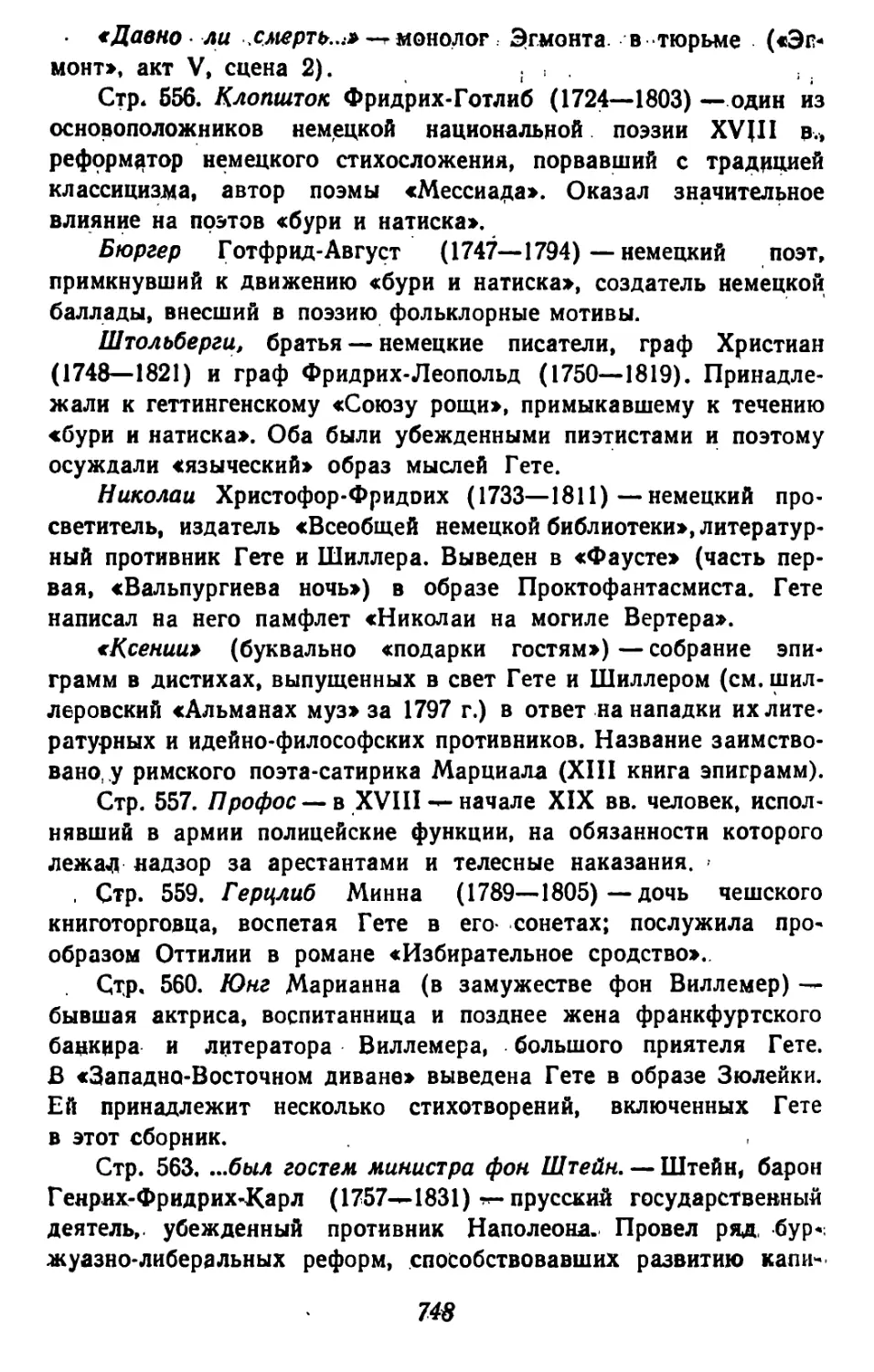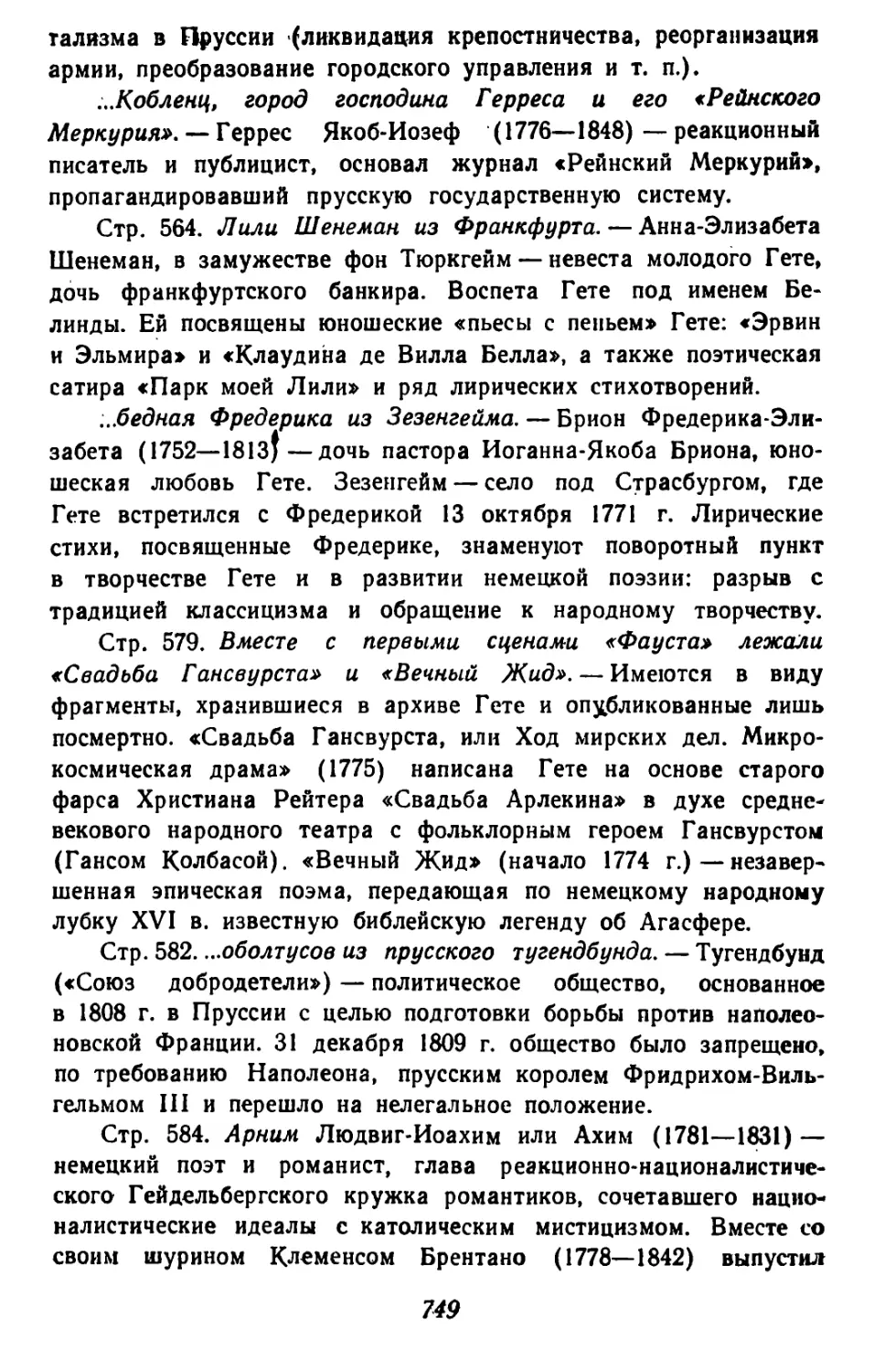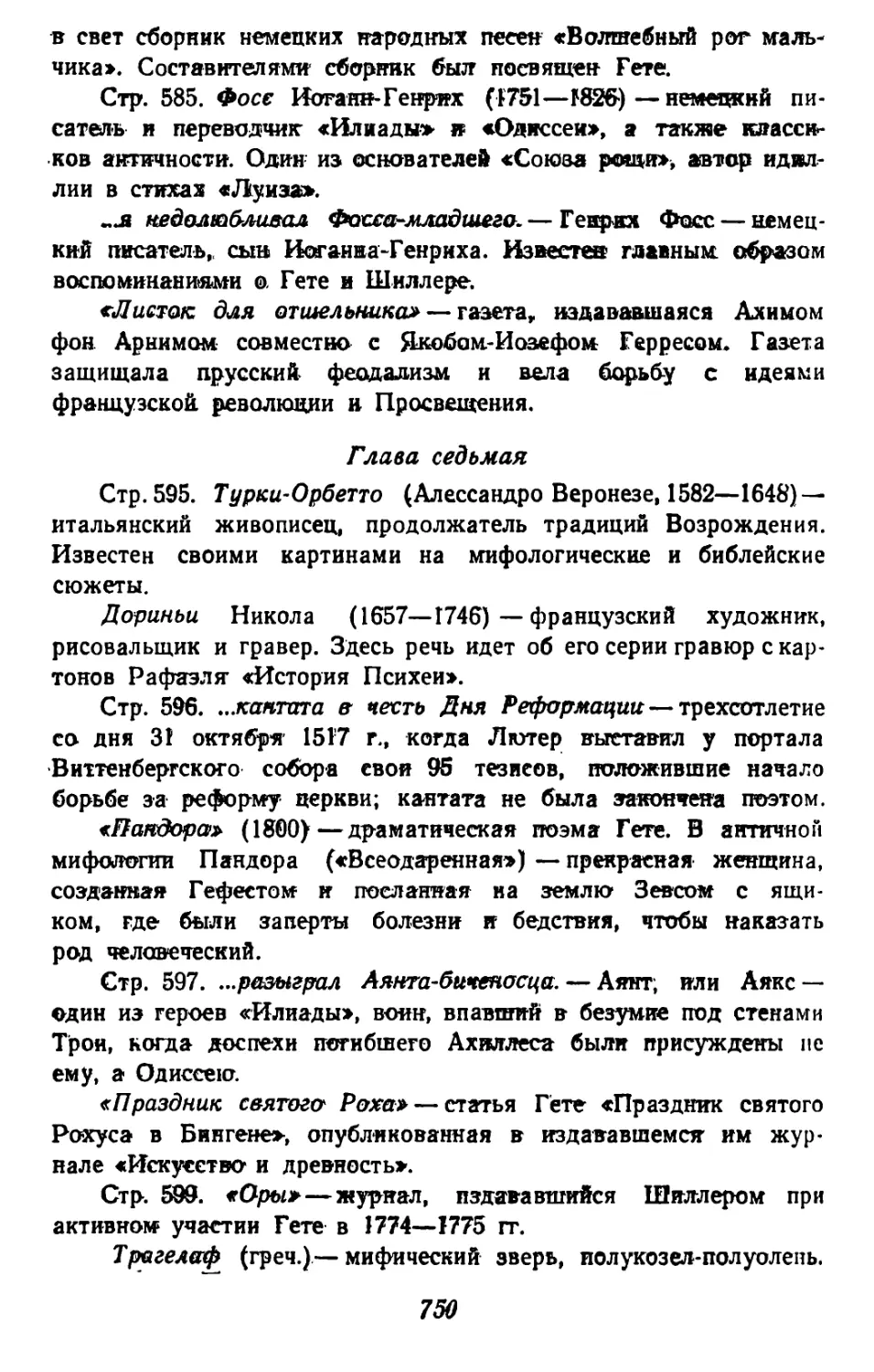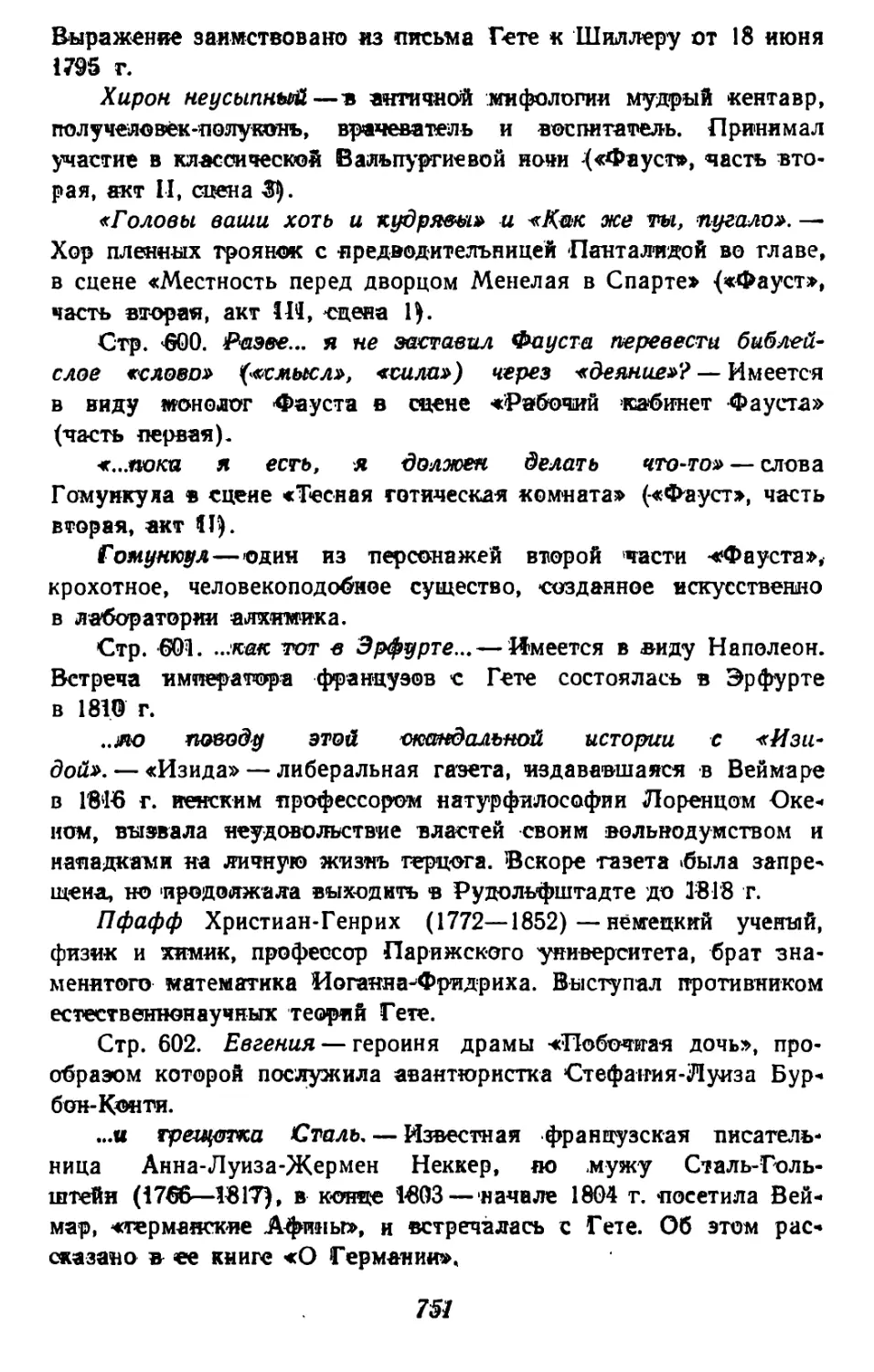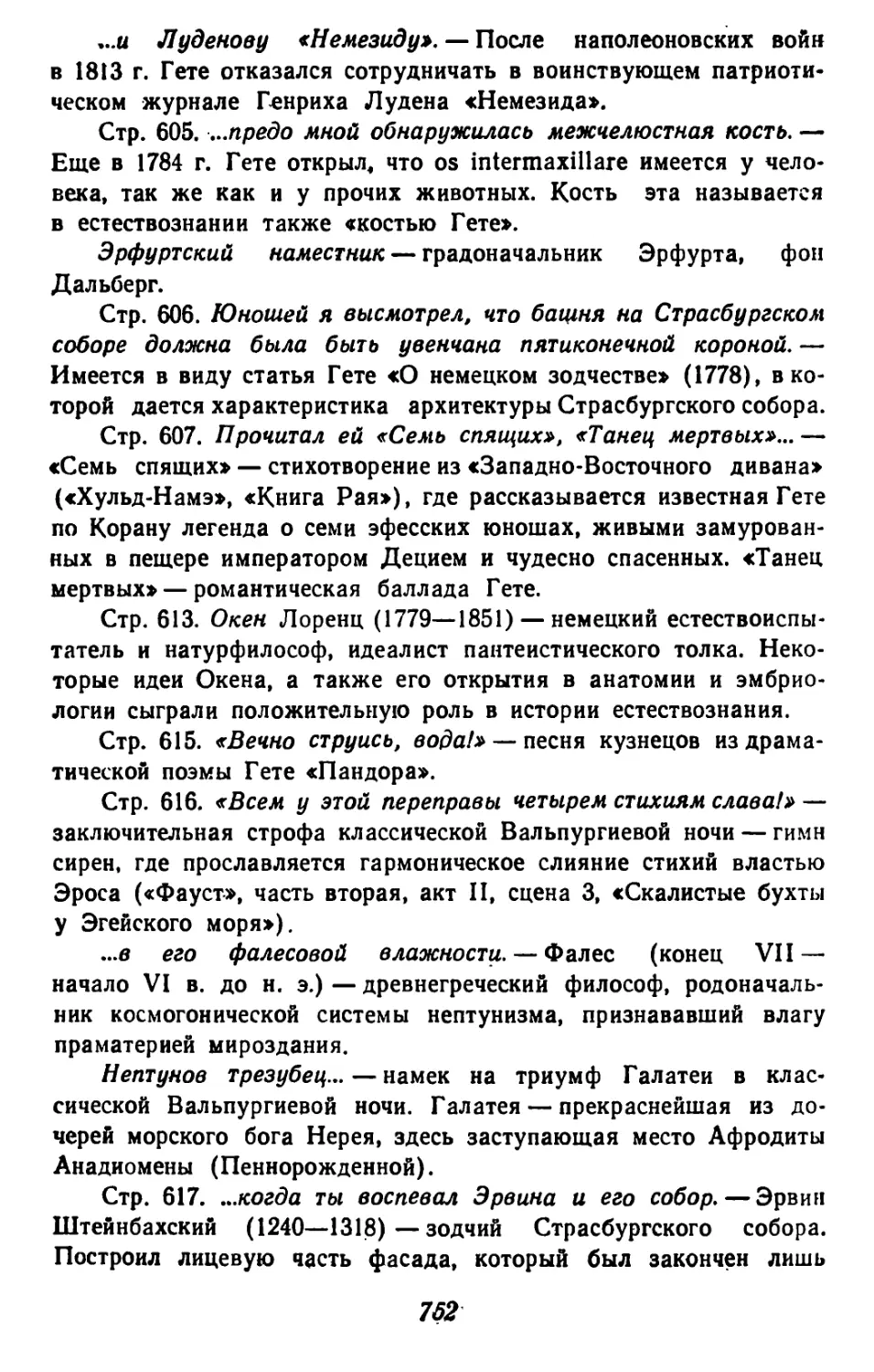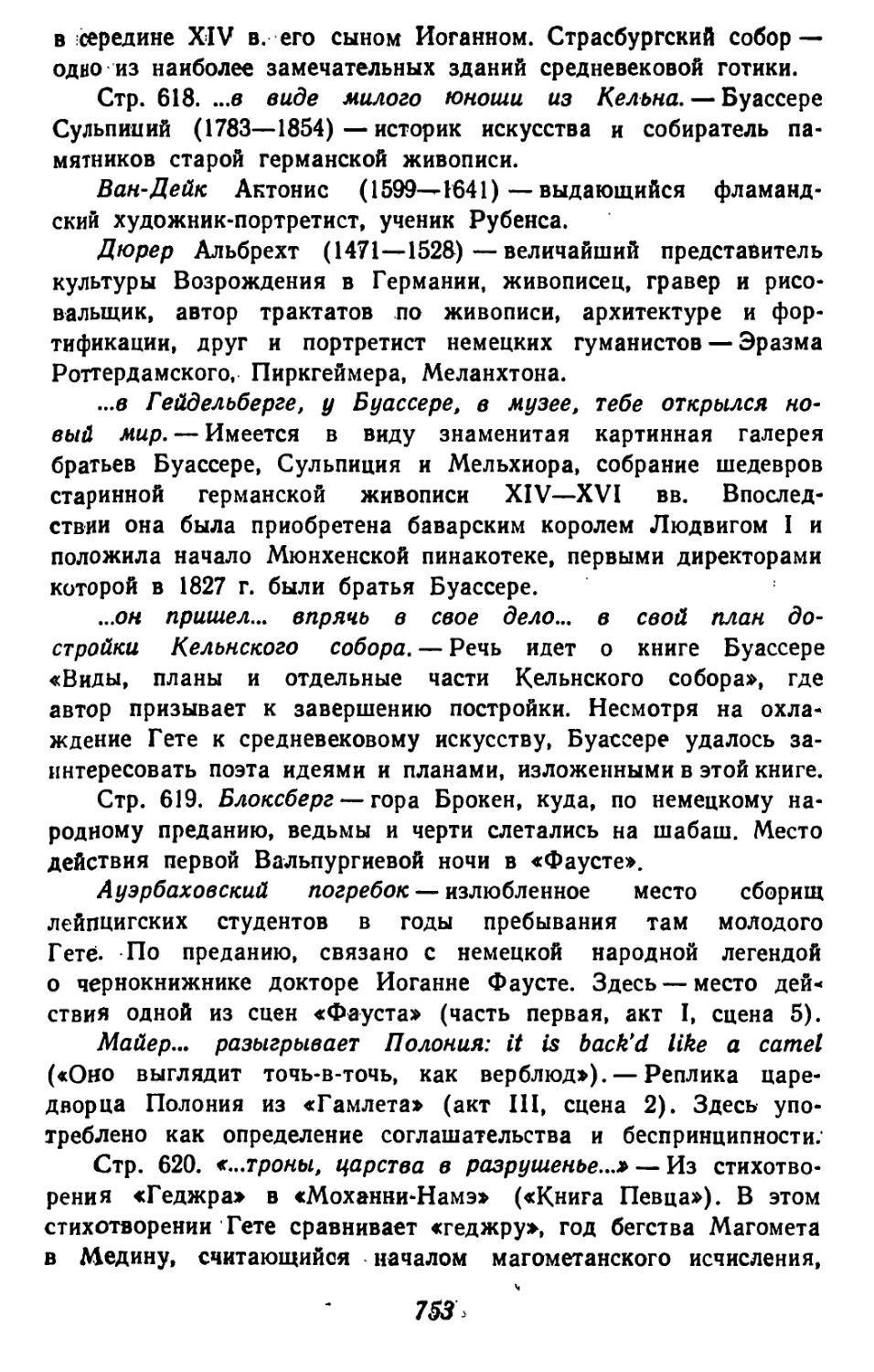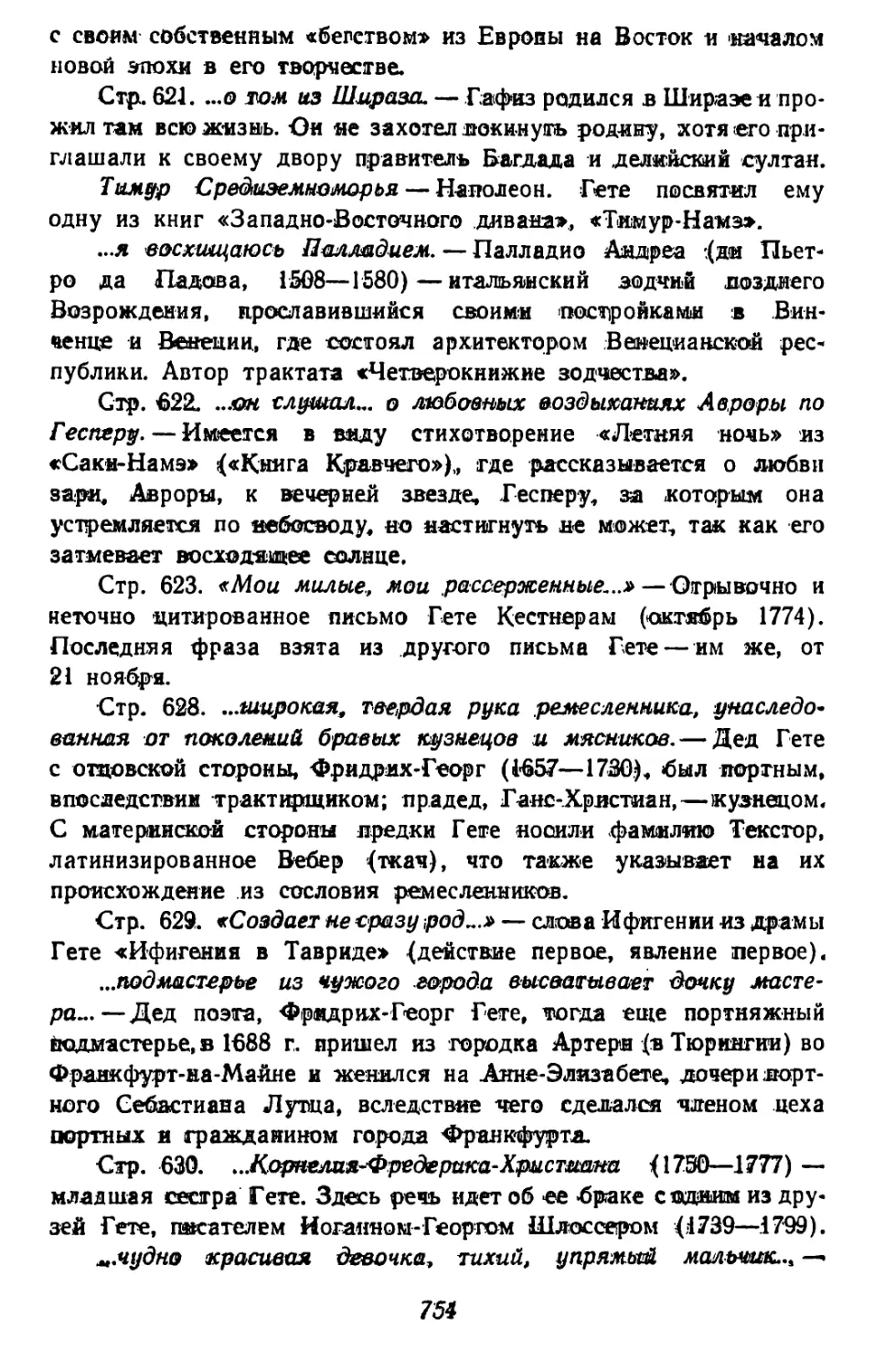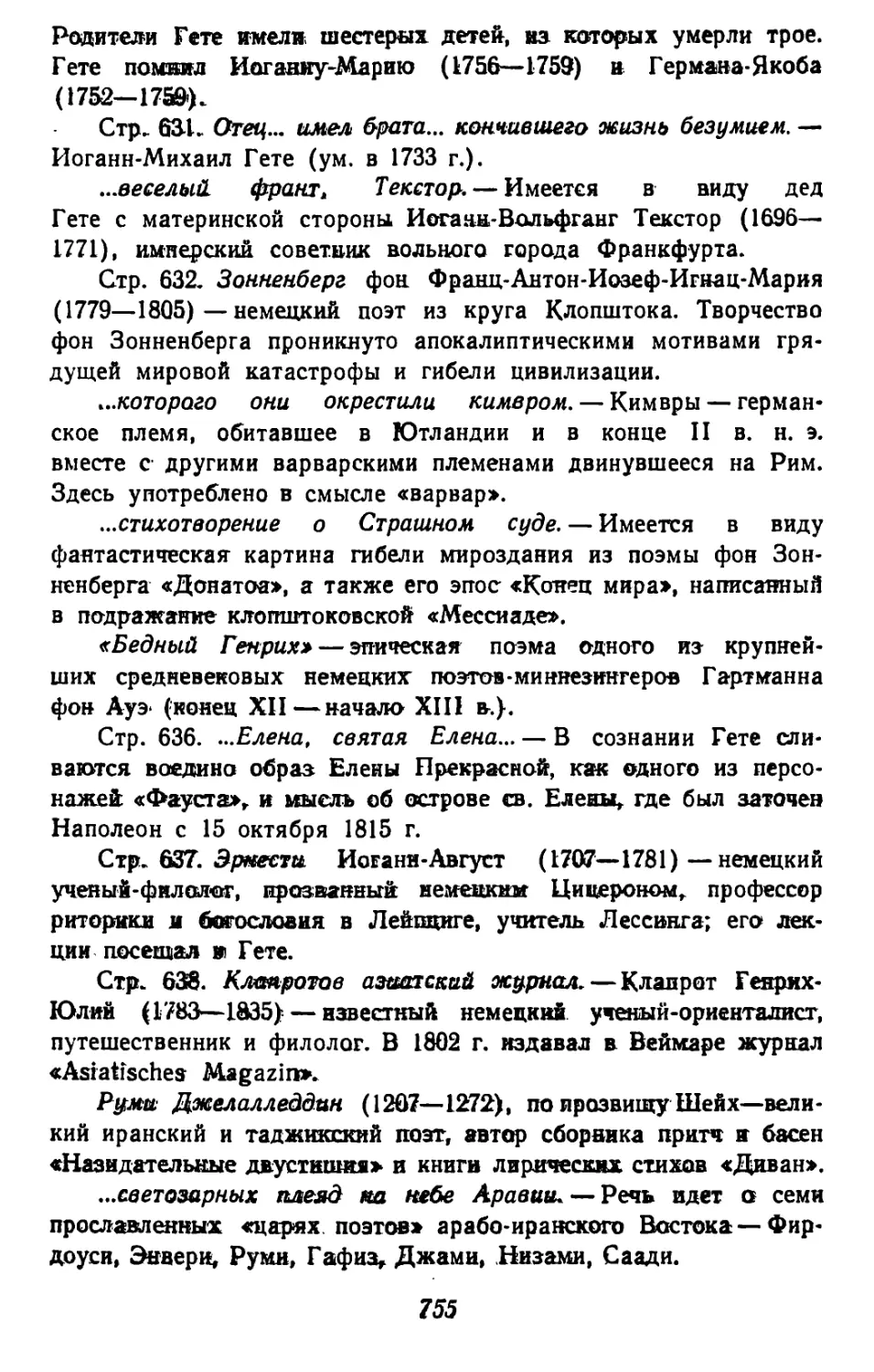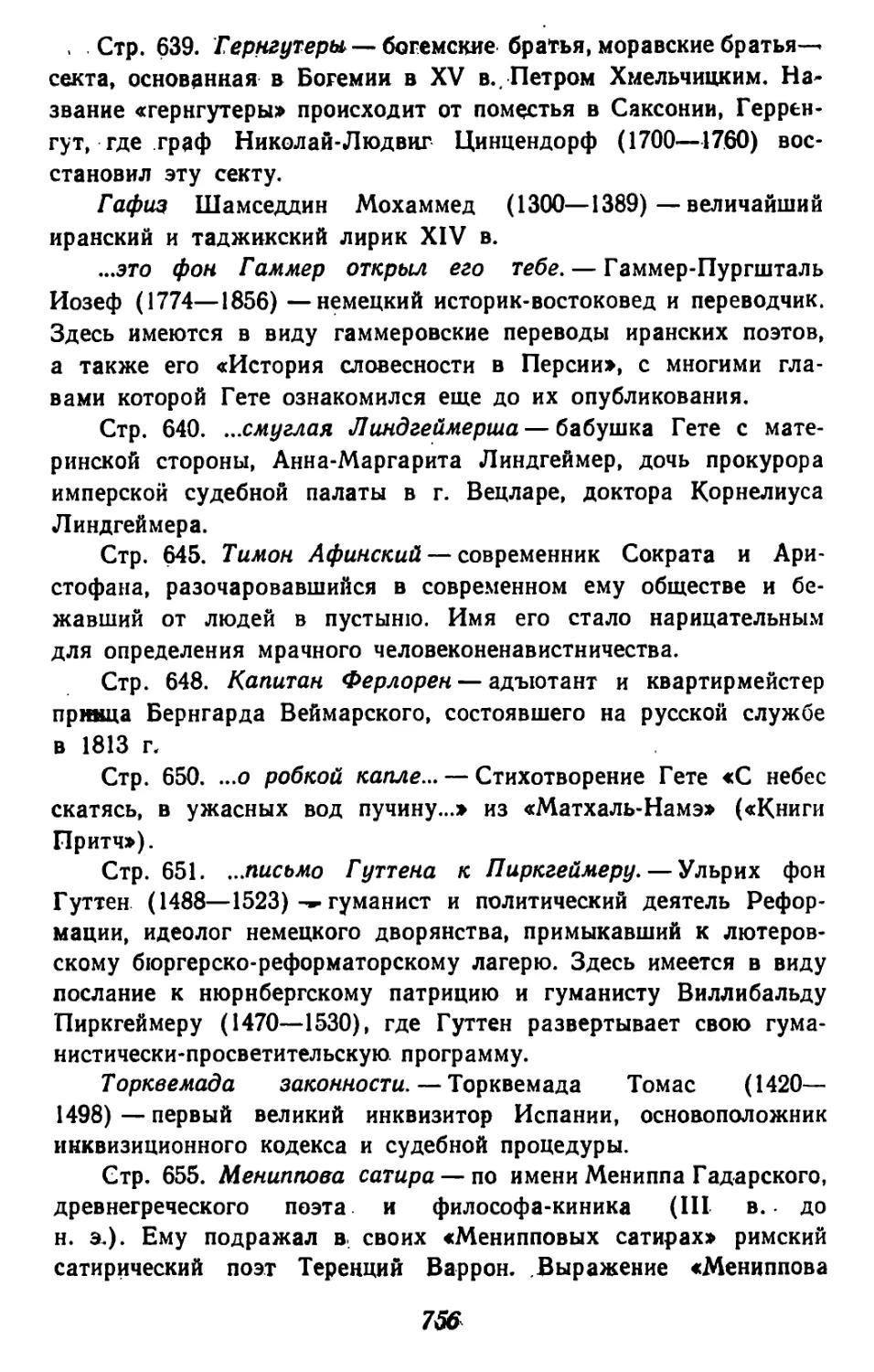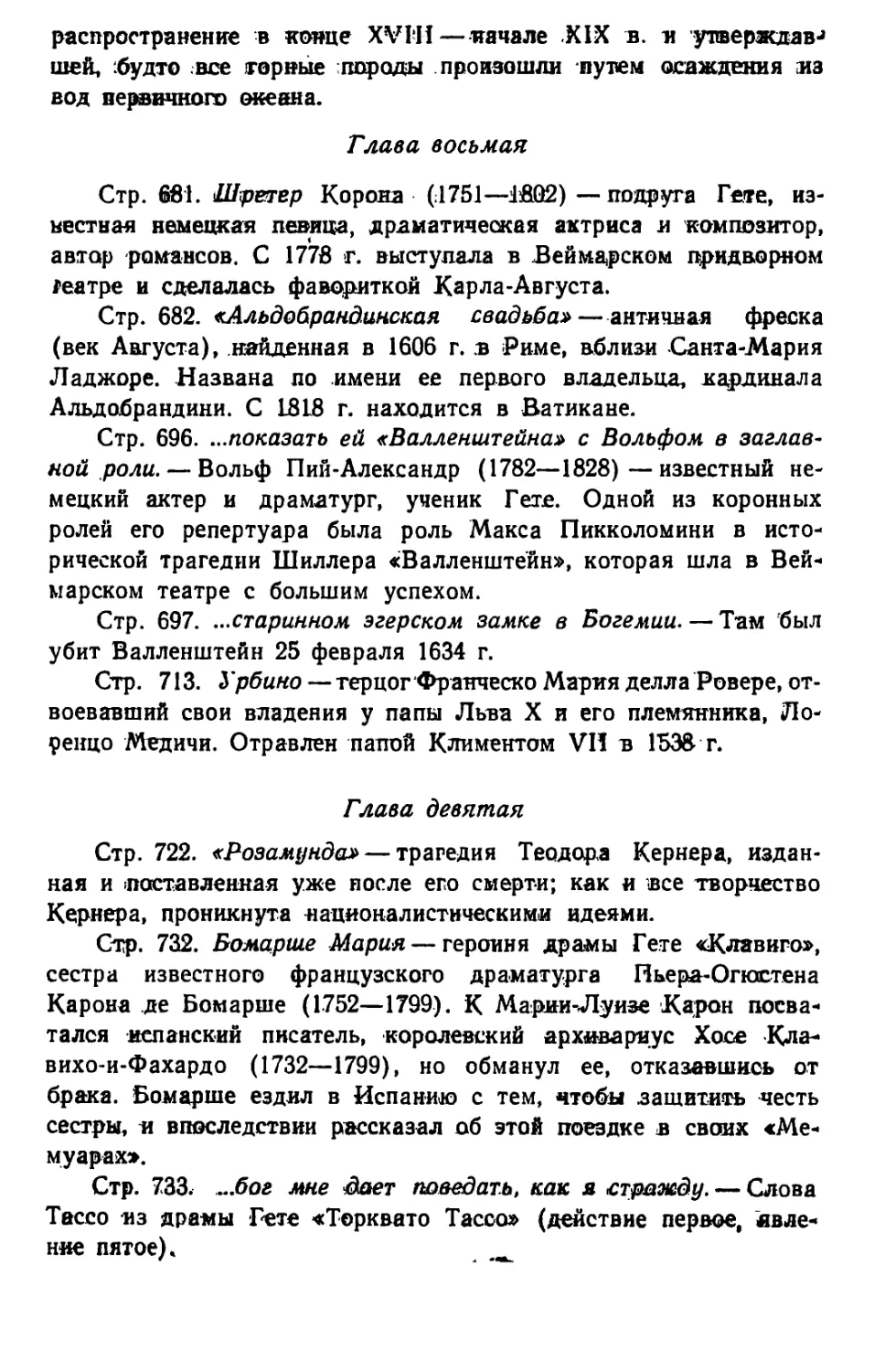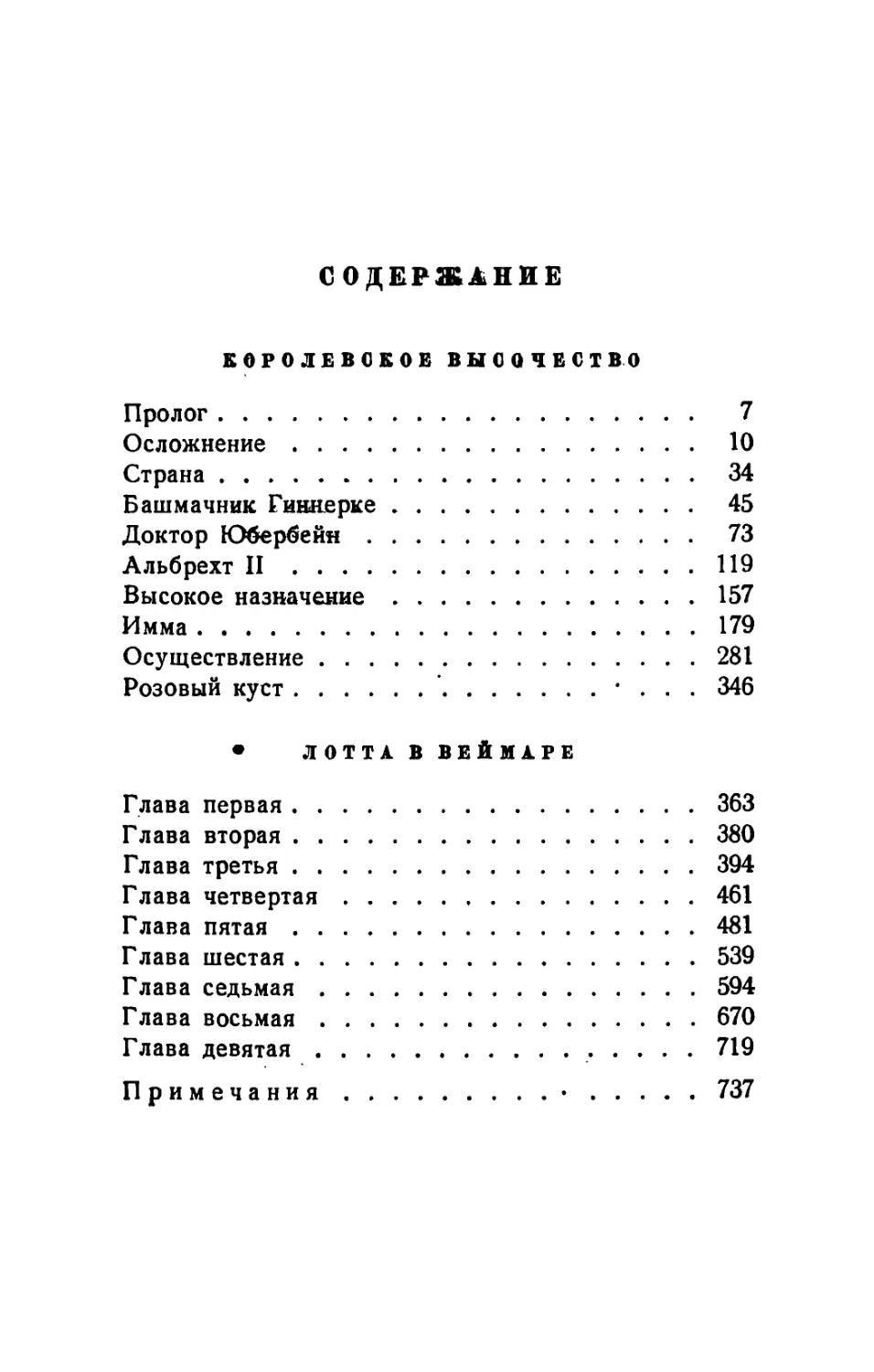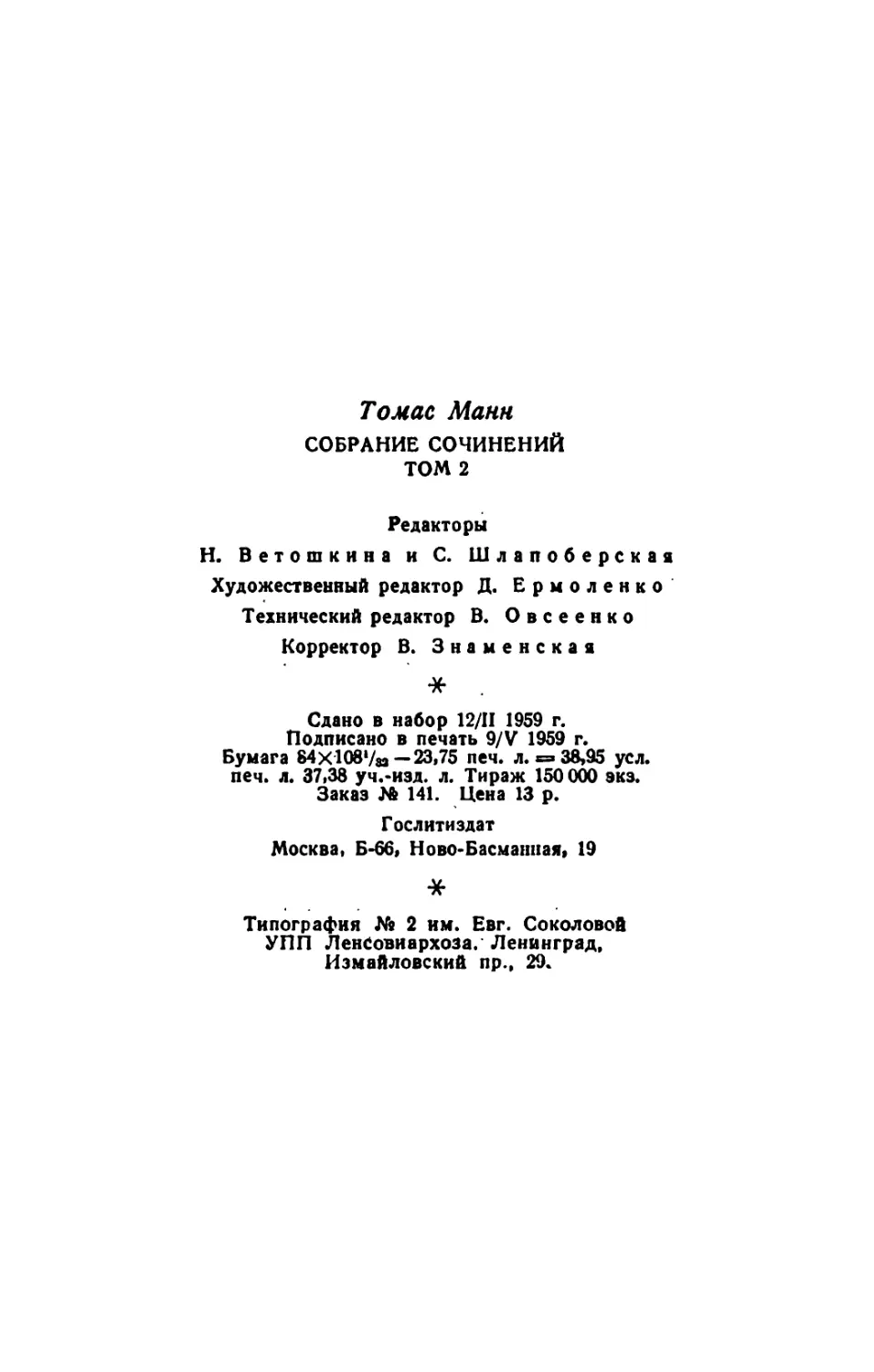Текст
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛ ЬСТВ О
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Л И'ТЕР АТУР Ы
Томас
МАНН
Под редакцией
И. Н. ВИЛЬМОНТА и Б. Л. СУЧКОВА
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959
Собрание сочинений в десяти томах
Томас
МАНН
ТОМ ВТОРОЙ
КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
Перевод с немецкого
Н. КАСАТКИНОЙ и И. ТАТАРИНОВОЙ
ЛОТТА В ВЕЙМАРЕ
Перевод с немецкого
НАТАЛИИ МАИ
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 19 59
THOMAS MANN
KÔNIGLICHE HOHEIT
LOTTE IN WEIMAR
Примечания
P. МИЛЛЕР-БУДНИЦКОЙ
КОРОЛЕВСКОЕ
ВЫСОЧЕСТВО
Роман
ПРОЛОГ
Действие происходит на Альбрехтсштрассе, сто-
личной магистрали, соединяющей Альбрехтсплац и
Старый замок с казармой гвардейских стрелков,—
в дневные часы, среди недели, безразлично в какое
время года. День не плохой и не хороший. Дождя
нет, но небо не безоблачно; оно серенькое, будничное,
скучное, на улице все так обыденно и тускло, даже по-
мыслить о чем-либо таинственном и сверхъестествен-
ном невозможно. Движение не слишком оживленное,
без особого шума и толчеи, что вполне отвечает не-
деловому характеру города. Пробегают трамваи, ка-
тятся извозчичьи пролетки, по тротуару снует народ,
бесцветная толпа, прохожие, обыватели, просто-
людины.. Заложив руки в прорезанные наискось кар-
маны серых шинелей навстречу друг другу идут двое
военных: генерал и лейтенант. Генерал приближается
со стороны замка, лейтенант — со стороны казармы.
Лейтенант—еще желторотый юнец, почти подросток,
узкоплечий, темноволосый, скуластый, как многие
уроженцы этого края, синие глаза глядят немного
устало, на мальчишеском лице приветливое, но замк-
нутое выражение. Генерал — фигура в высшей сте-
пени внушительная, белый как лунь, рослый и дород-
ный. Брови — словно клочья ваты, а пышные усы
прикрывают губы и даже подбородок. Поступь у него
неторопливая, сабля бряцает об асфальт, плюмаж
развевается на ветру, широкий красный лацкан
7
шинели отлетает при каждом шаге. Так они прибли-
жаются друг к другу. Может ли из этого получиться ка-
кая-нибудь неувязка? Ни в коем случае. Для каж-
дого наблюдателя естественный исход их встречи
предрешен. Здесь налицо взаимоотношение между
старцем и юношей, начальником и подчиненным, ма-
ститым служакой и зеленым новичком. Здесь налицо
огромная дистанция в чинах, все здесь предусмотрено
строгими предписаниями. Пусть же вступит в дей-
ствие естественный порядок вещей! А что происходит
на деле? На деле совершается нечто неожиданное,
тягостное, чудесное и несуразное. Узрев юного лейте-
нанта, генерал сразу же удивительным образом ме-
няется. Он вытягивается в струнку и вместе с тем
становится как будто меньше. Он спешит, так ска-
зать, умерить важность своей стати, он сдерживает
бряцание сабли, лицо у него принимает строгое и на-
пряженное выражение, он явно теряется, не знает,
куда смотреть, и, чтобы скрыть это, устремляет
взгляд из-под ватных бровей куда-то вкось на
асфальт. Да если присмотреться, видно, что юному
лейтенанту тоже не по себе, но, как ни странно, он
держится непринужденнее и лучше владеет собой,
нежели седовласый командир. Стиснутые губы
складываются в скромную и одновременно милости-
вую улыбку, а глаза, как будто без малейшего уси-
лия, спокойно и уверенно смотрят пока что мимо
генерала, в пространство. Вот они уже в трех шагах
друг от друга. И вместо того чтобы отдать по уставу
честь, юнец-лейтенант слегка откидывает голову, вы-
нимает из кармана правую руку — почему-то одну
только правую — и этой затянутой в белую перчатку
правой рукой делает легкий ободряюще-благосклон-
ный жест, иначе говоря, лишь приподымает ее ла-
донью вперед и чуть раздвигает пальцы; но генерал,
держа руки по швам, только и ждал этого знака, те-
перь он вздергивает руку к каске, с полупоклоном
отступает в сторону, как бы очищая дорогу, и снизу
вверх приветствует лейтенанта, а сам при этом багро-
веет и смотрит на него благоговейно увлажненным
взором. Тут и лейтенант, приложив руку к фуражке,
8
отвечает на отданную начальником честь, отвечает,
приветливо просияв всем своим ребяческим лицом,
отвечает и идет дальше.
Чудеса! Неслыханное дело! Он идет дальше. На
пего смотрят, а он не смотрит ни на кого, он смотрит
вперед, поверх толпы, взглядом дамы, которая знает,
что ею интересуются. Его приветствуют, а он кивает
в ответ, ласково и все же свысока. Ходит он как-то
неловко, кажется, будто он не привык ходить пешком
или смущен всеобщим вниманием, — слишком уж не-
тверды и робки его шаги, временами кажется даже,
что он прихрамывает.
Полицейский становится во фронт, вышедшая из
магазина нарядная дама с улыбкой низко приседает.
Прохожие оглядываются ему вслед, кивком указы-
вают на него, подымают брови и шепотом произносят
его имя.
Это Клаус-Генрих, младший брат Альбрехта II и
наследник престола. Еще виднеется его удаляющаяся
фигура. Всем знакомый и все же отчужденный, про-
ходит он среди людей, и даже в самой гуще кажется,
будто его окружает пустота; он проходит, одинокий,
неся на узких плечах бремя своего высокого сана.
ОСЛОЖНЕНИЕ
Столица пушечными выстрелами приветствовала
переданное всеми современными способами известие
о том, что в Гримбурге великая герцогиня Доротея
вторично разрешилась от бремени сыном. Над горо-
дом и окрестностями прогремело семьдесят два вы-
стрела, произведенных войсками с вала «Цитадели».
Вслед за тем и пожарная команда, чтобы не отстать,
начала пальбу из старинных пушек; длинные паузы
между залпами немало распотешили обывателей.
Замок Гримбург расположен на лесистом холме
над живописным городком, который носит то же на-
звание и отражает свои покатые шиферные кровли
в омывающем его рукаве реки; от столицы до него
полчаса езды по нерентабельной пригородной желез-
нодорожной ветке. Стоящий на холме замок был на
страх врагам отстроен в смутные годы маркграфом
Клаусом-Гримбартом, родоначальником правящей
династии, и не раз с тех пор обновлялся и снабжался
удобствами, соответствующими каждой новой эпохе,
всегда поддерживался в пригодном к приему своих
обитателей состоянии и был особо чтим как родовое
гнездо царствующей фамилии и колыбель ее отпрыс-
ков. Ибо согласно династическому закону и обычаю
все прямые потомки Гримбарта, все дети царствую-
щей в данное время четы должны рождаться на свет
в этом замке. Пренебрегать такой традицией не по-
лагалось. Страна видывала и просвещенных и вольни-
10
думствующих монархов, которые смеялись над этим
правилом и все же, пожимая плечами, подчинялись
ему. А теперь уж поздно было от него отступать. За-
чем без надобности нарушать почтенный обычай,
пускай даже неразумный и отживший, когда он в из-
вестной мере оправдал себя? В народе укрепилась
вера, что это все не зря. Дважды на протяжении пят-
надцати поколений дети правящих государей в силу
случайности появлялись на свет в других замках.;
И что же — оба умерли неестественной и недостойной
смертью. Но, начиная с Генриха Смиренного и
Иоганна Жестокого, а также их прекрасных и горде-
ливых сестер вплоть до Альбрехта, отца нынешнего
великого герцога, и до самого Иоганна-Альбрехта III,
все властители страны, их братья и сестры рожда-
лись только здесь, и здесь же шесть лет назад Доро-
тея произвела на свет первого своего сына, наслед-
ника великогерцогского престола...
К тому же родовой замок был не только величе-
ственным, но и мирным пристанищем. Летом его пред-
почитали даже чопорно-нарядному Голлербрунну за
прохладу покоев и пленительно-тенистые окрестности*
Живописен, хоть и не очень удобен был подъем
к замку от городка, по вымощенной грубым булыж-
ником улице между убогими домишками и облуплен-
ной крепостной стеной, через широкие ворота до ста-
ринного погребка и постоялого двора у входа на зам-
ковую площадь, посреди которой стояла каменная
статуя Клауса-Гримбарта, строителя замка. На про-
тивоположном склоне был разбит обширный парк,
откуда пологие дороги вели вниз в поросшую лесом,
слегка холмистую местность, располагающую к уеди-
ненной прогулке пешком и катанию в экипаже.
Внутри же замок в самом начале правления
Иоганна-Альбрехта III заново роскошно отделали, с за-
тратой больших средств, что вызвало немало толков.
Убранство апартаментов освежили, сохранив стиль ры-
царских времен, но придав им уют, гербы на каменных
плитах «Судебного зала» были в точности воссозданы
по образцу старых. Замысловато и многообразно
переплетенные крестовые своды заблестели свежей
//
позолотой, во всех комнатах появились паркетные
полы, а большой и малый банкетные залы были
украшены фресками во всю стену, выполненными
кистью академика живописи фон Линдемана. Эпи-
зоды из истории правящей династии были испол-
нены в декоративной и прилизанной манере, далекой
и чуждой беспокойным порывам позднейших напра-
влений. В замке было предусмотрено решительно
все. Вместо неудобных старинных каминов и круг-
лых печей из пестрого изразца, ярусами поднимав-
шихся к потолку, устроили даже отопление углем,
чтобы в случае чего там можно было пожить и зи-
мой.
Но в тот день, когда был дан салют семьюдесятью
двумя выстрелами, стояла самая лучшая пора позд-
ней весны или раннего лета, начало июня — духов
день. Получив рано утром телеграмму, что роды на-
чались на рассвете, Иоганн-Альбрехт прибыл в во-
семь часов по нерентабельной пригородной ветке на
станцию Гримбург, где был встречен тремя-четырьмя
местными должностными лицами — бургомистром,
судьей, пастором и врачом, — сел, напутствуемый их
пожеланиями, в коляску и незамедлительно напра-
вился в замок. Великого герцога сопровождали пер-
вый министр, доктор прав барон Кнобельсдорф и
генерал-адъютант генерал-от-инфантерии граф Шме-
терн. Немного погодя в герцогский родовой замок
прибыл еще кое-кто из министров, придворный про-
поведник, президент консистории доктор богословия
Визлиценус, несколько придворных и свитских чи-
нов и сравнительно еще не старый адъютант, капи-
тан фон Лихтерло. Хотя при роженице находился ве-
ликогерцогский лейб-медик в чине полковника,
доктор Эшрих, Иоганну Альбрехту вздумалось взять
с собой в замок доктора Плюша, молодого местного
врача, к тому же еврейского происхождения.
Скромный и серьезный труженик, заваленный рабо-
той, не ожидал такой чести и в растерянности зале-
петал в ответ на приглашение:
— С удовольствием... С удовольствием... — чем
вызвал улыбки окружающих.
12
Спальней великой герцогине служил «брачный по-
кой», пятиугольная, пестро расписанная комната, рас-
положенная во втором этаже, из ее парадного высо-
кого окна открывался великолепный вид на дальние
леса, холмы и излучины реки, а по карнизу шли ме-
дальоны с портретами августейших невест, которые
в стародавние времена ожидали здесь супруга и по-
велителя. В этой комнате и лежала Доротея; к изно-
жию кровати была привязана широкая и крепкая
тесьма, за которую великая герцогиня держалась,
как играющий в лошадки ребенок, и ее краси-
вое пышное тело напрягалось в потугах. Врач-
акушерка госпожа Гнадебуш, ученая и участливая
женщина с маленькими нежными ручками и ка-
рими глазами, которым толстые, круглые стекла
очков придавали загадочный блеск, увещевала мо-
нархиню.
— Крепитесь, крепитесь, ваше королевское высо-
чество... Скоро кончится... Все идет как по маслу..«
Второй раз куда легче... Благоволите раздвинуть
ноги... и подбородком упирайтесь в грудь.
Сиделка, как и акушерка, вся в белом, тоже ста-
ралась помочь роженице, а в промежутках между
схватками неслышно сновала взад-вперед с тазами и
полотенцами. За разрешением от бремени надзирал
лейб-медик, мрачный мужчина с седеющей черной
бородой и опущенным, словно парализованным ле-
вым веком. Поверх полковничьего мундира на нем
был операционный халат. Время от времени в опочи-
вальню посмотреть, как подвигаются роды, наведы-
валась приближенная Доротеи, обергофмейстерина,
баронесса фон Шуленбург-Трессен, тучная, страдаю-
щая одышкой дама с наружностью добродетельной
мещанки, что не мешало ей на придворных балах об-
нажать свою необъятную грудь. Поцеловав руку по-
велительницы, она возвращалась в дальнюю комнату,
где несколько сухопарых фрейлин болтали с дежур*
ным камергером великой герцогини, графом Виндииь
Доктор Плюш, накинувший на фрак белый халат, как
маскарадное домино, стоял возле умывальника со
скромным и внимательным видом.
13
Иоганн-Альбрехт пребывал в сводчатой комнате,
располагавшей к трудам и раздумью и отделенной от
брачного покоя только так называемой куаферной
и приемной. Эта комната именовалась библиотекой
из-за нескольких рукописных фолиантов, наклонна
стоявших на огромном шкафу и заключавших в себе
историю замка. Обстановка в комнате была кабинет-
ная, стенной фриз украшали глобусы.
В раскрытое сводчатое окно дул порывистый ве-
тер горных высот. Великий герцог приказал подать
чаю. Камердинер Праль сам сервировал его; но чай
стоял забытый на доске секретера, а Иоганн-Аль-
брехт в тягостном возбуждении непрерывно ходил из
угла в угол. Каждый его шаг сопровождался моно-
тонным поскрипыванием лакированных сапог. Фли-
гель-адъютант фон Лихтерло, томясь в полупустой
приемной, прислушивался к этому скрипу.
Министры, генерал-адъютант, придворный пропо-
ведник и свитские господа, всего человек десять, ожи-
дали в парадных апартаментах, расположенных
в бельэтаже. Они бродили по большому и малому
банкетным залам, где простенки между Линдеманов-
скими картинами были декорированы знаменами и
оружием,; они стояли, прислонясь к тонким пилонам,
которые развертывались над их головами в пестро
расписанные своды; они подходили к узким, высоким,
под потолок, окнам со свинцовыми переплетами и
смотрели на реку и на городок; они присаживались
на каменные скамьи, идущие вдоль стен, или на
кресла перед каминами, готические колпаки которых,
согнувшись, поддерживали несоразмерно маленькие,,
уродливые каменные карлики. В солнечных лучах ве-
село блестело шитье саыовничьего мундира, орден-
ские звезды на подбитой ватой груди колесом и ши-
рокие золотые лампасы на брюках.
Разговор не клеился. То и дело кто-нибудь при-
крывал треуголкой или затянутой в белую перчатку
рукой судорожно разевающийся рот. Почти у всех на
глазах стояли слезы. Многие не успели позавтракать.
Кое-кто от нечего делать опасливо разглядывал опе-
рационный инструментарий и круглый сосуд с хлоро-
14
формом в кожаном футляре, которые лейб-медик
Эшрих на всякий случай держал здесь наготове.
Обергофмаршал фон Бюль цу Бюль, дородный муж-
чина с вкрадчивыми жестами, каштановым париком,
с пенсне в золотой оправе и длинными желтыми ног-
тями, успел обычной отрывистой скороговоркой рас-
сказать целую серию анекдотов и теперь располо-
жился в креслах, чтобы воспользоваться своей спо-
собностью дремать не закрывая глаз, — с застывшим
взором и достойным видом утратить представление
о времени и пространстве, ни на йоту не оскорбляя
то высокое место, в котором он обретался.
У доктора фон Шредера, министра финансов и
земледелия, в этот день состоялась беседа с первым
министром доктором прав бароном Кнобельсдорфом,
министром внутренних и иностранных дел, а также
министром великогерцогского двора. Это была бес-
связная болтовня. Сперва они обмолвились несколь-
кими словами об искусстве, перешли на финансовые
и экономические вопросы, довольно нелестно отозва-
лись об одном придворном сановнике и коснулись
самих августейших особ. Разговор завязался в тот
миг, когда господа министры, заложив за спину руку
с треуголкой, остановились перед одной из картин
в большом банкетном зале; в беседе подразумевалось
гораздо больше, чем высказывалось.
— А тут? Что тут изображено? — спросил ми-
нистр финансов. — Вы ведь сведущи во всем этом,,
ваше превосходительство...
— Весьма поверхностно. Здесь римский импера-
тор жалует ленными владениями своих племянников,
юных принцев, отпрысков правящей династии. Ви-
дите, ваше превосходительство, оба августейших
юноши преклонили колена и приносят торжественную
присягу на мече императора.
— Великолепно, поистине великолепно! Какие
краски! Блистательно! У принцев чудесные золотые
кудри! А император... просто загляденье! Да, Линде-
ман заслужил те почести, которые ему расточают.
— Те, что ему расточают, бесспорно заслужил.
15
Высокий господин с белой бородой, в изящных
золотых очках на белом носу, с небольшим брюшком,
выпирающим прямо из-под груди, и с дряблой шеей,
складками нависшей на расшитый стоячий воротник
вицмундира, доктор фон Шредер, все еше смотрел
на картину, но уже неуверенным взглядом,; в душу
к нему закралось сомнение, нередко овладевавшее
им во время разговора с бароном. Кто его разберет,
этого Кнобельсдорфа, этого фаворита, облеченного
высшей властью... Подчас в его замечаниях, в его от-
ветах чувствуется неуловимая насмешка... Он много
путешествовал, изъездил весь земной шар, образова-
ние у него самое разностороннее, а взгляды чересчур
уж своеобразны и независимы. Однако держится он
вполне корректно. Господин фон Шредер не мог до
конца понять его. При всей общности воззрений, пол-
ного единодушия с ним не получалось. В высказыва-
ниях его всегда чувствовались скрытые недомолвки,,
в своих суждениях он обнаруживал такую терпи-
мость, что невольно думалось: руководит ли им чув-
ство справедливости или пренебрежение? Но подо-
зрительнее всего была его улыбка, губы в ней не уча-
ствовали, одни глаза, в углах которых. появлялись
лучики, а может быть, наоборот — морщины посте-
пенно сложились в лучики именно благодаря этой
улыбке... Барон Кнобельсдорф был моложе министра
финансов, мужчина в цвете лет, хотя в его закручен-
ных усах и расчесанных на прямой пробор волосах
уже пробивалась седина, — вообще же сложения он
был коренастого, с короткой шеей, и воротник сплошь
расшитого придворного мундира явно стеснял его.
Выждав, когда господин фон Шредер окончательно
впал в растерянность, он продолжал:
— Но, пожалуй, для рачительного придворного
финансового ведомства было бы выгоднее, чтобы ве-
ликий муж довольствовался преимущественно орде-
нами и титулами, а не... скажем без обиняков, во что,
по-вашему, стало это милое произведение искус-
ства?
Господин фон Шредер встрепенулся. Стремление
и надежда найти с бароном общий язык, несмотря
16
ни на что добиться взаимного доверия и дружеского
единомыслия воодушевили его.
— Вполне с вами согласен!—подхватил он, пово-
рачиваясь, чтобы возобновить прогулку по залам.—
Вы, ваше превосходительство, предупредили мой во-
прос. Сколько уплачено за это «Пожалование»? А за
остальные живописные красоты здесь на стенах? Не-
даром же реставрация замка обошлась шесть лет
назад in summa ' в миллион марок.
— Подсчет весьма приблизительный!
— Точнехонький! И эта сумма проверена и утвер-
ждена обергофмаршалом фон Бюль цу Бюлем, кото-
рый у нас за спиной предается своей блаженной
летаргии. Она проверена, утверждена и погашена при-
дворным финанц-директором графом Трюммергау-
фом...
— Либо погашена, либо записана в долг.
— Не все ли равно!.. Так вот, эта сумма передана
к уплате в кассу... в ту кассу...
— Короче говоря, в кассу управления великогер-
цогским имуществом.
— Ваше превосходительство, вы не хуже меня по-
нимаете, что это означает. Ох, у меня кровь стынет...
право же, я не скряга и не ипохондрик, но у меня
кровь стынет в жилах, как подумаю, что при суще-
ствующих обстоятельствах можно вышвырнуть мил-
лион — и на что? На ерунду, на милую причуду, на
блистательную реставрацию фамильного замка, где
должны происходить высочайшие роды...
Господин фон Кнобельсдорф засмеялся:
— Что поделаешь, романтика — дорогостоящая
роскошь! Разумеется, я солидарен с вашим превосхо-
дительством, но ведь, в сущности, эта дорогостоящая
романтика и является причиной плачевного состоя-
ния великогерцогского хозяйства. Зло коренится
в том, что наши государи те же крестьяне: имуще-
ство их заключается в землях, доходы — в продуктах
сельского хозяйства. А в наши дни... августейшие
особы по сей день никак не решатся стать промыш-
1 В сумме (лат.).
17
ленниками и финансистами. С прискорбным упор-
ством следуют они отжившим отвлеченным принци-
пам, как-то: понятиям верности и достоинства. В силу
принципа верности великогерцогское имущество про-
должает быть фидеикомисом, заповедным, родовым
достоянием. Выгодная продажа какой-либо его части
исключена. Им не пристали заклады и займы с целью
хозяйственных усовершенствований. Управление, свя-
занное по рукам и по йогам боязнью уронить свое вы-
сокое достоинство, не может пользоваться благо-
приятными конъюнктурами. Простите, бога ради!
Я пичкаю вас прописными истинами. Но этой породе
людей всего важнее соблюдение декорума. Есте-
ственно, что для них недоступны и неприемлемы не-
зависимость и свободная инициатива не столь косных
и не столь уж принципиальных дельцов. Так вот, на-
ряду с этой отвлеченной дорогостоящей роскошью
что может значить вполне осязаемый миллион, вы-
брошенный ради милой причуды, говоря словами ва-
шего превосходительства? Будь она только одна!
А ведь при этом надо нести постоянное бремя расхо-
дов на мало-мальски приличное содержание двора.
Надо поддерживать замки с прилегающими к ним
парками, Голлербруни, Монбрийан, Егерпрейс, каких
там... Эрмитаж, Дельфиненорт, Фазанник и про-
чие... Да, я забыл замок Зегенхаус и развалины Ха-
дерштейна... не говоря уж о Старом замке... Содер-
жатся они неважно, и все-таки это статья расхода...
А кроме того, надо субсидировать придворный театр,
картинную галерею, библиотеку. Надо выплачивать
сотню пенсий без какого-либо юридического обосно-
вания только во имя верности и достоинства. А ка-
кую царственную щедрость проявил великий герцог
к пострадавшим от последнего наводнения... Но я,
кажется, произнес настоящую речь.
— Речь, которой вы, ваше превосходительство,
думали возразить мне, — сказал министр финансов,—
а на самом деле подтвердили мою правоту. Дорогой
барон, — и господин фон Шредер прижал руку
к сердцу, — позволю себе не сомневаться, что между
нами исключено малейшее недоразумение касательно
18
моих взглядов, моих верноподданнических взглядов....
Государь не может быть неправ... его августейшая
особа выше всяких нареканий, но с долгом — в обоих
смыслах слова — дело обстоит неблагополучно, и я,
не задумываясь, возлагаю вину на графа Трюммер-
гауфа. Его предшественники на посту финанц-дирек-
тора тоже обманывали своих государей относительно
состояния великогерцогской казны, но это было
в духе времени и потому простительно. Поведение же
графа Трюммергауфа простить нельзя. Кто, как не
он, по своей должности, обязан был обуздать царя-
щую при дворе... беспечность! На нем и сейчас еще
лежит обязанность открыть глаза его королевскому
высочеству.
Господин фон Кнобельсдорф усмехнулся, вздер-
нув брови.
— В самом деле? — спросил он. — Вы полагаете,
ваше превосходительство, что назначение графа пре-
следовало эту цель? Могу себе представить его за-
конное изумление, если бы вы изложили ему свою
точку зрения. Нет, нет... Будьте уверены, ваше пре-
восходительство, граф был назначен в силу вполне
определенного высочайшего волеизъявления, коему
прежде всего должен был подчиниться сам новый
финанц-директор. Этим назначением не только гово-
рилось: «Я ничего не знаю», но и «ничего не желаю
знать». Можно быть чисто декоративной фигурой и
все-таки постичь это... Впрочем... правду сказать...
все мы это постигли. И для всех нас, в сущности, есть
только одно смягчающее обстоятельство: в целом
свете не сыщешь монарха, с которым так тягостно
было бы заговорить о его долгах, как с нашим госу-
дарем. Во всем облике его королевского высочества
есть нечто такое, что язык не поворачивается выго-
ворить столь вульгарные слова.
' — Верно, верно, — поддакнул господин фон Шре-
дер. Он вздохнул и задумчиво погладил выпушку из
лебяжьего пуха на своей треуголке. Оба министра
сидели вполоборота друг к другу, на возвышении
в глубокой оконной нише; снаружи вровень с' ней
тянулся узкий каменный переход, вернее галерея,
2*
19
сквозь стрельчатые проемы которой открывался вид
на городок.
— Вы возражаете и как будто противоречите мне,
барон, — снова заговорил господин фон Шредер,—
л в словах у вас еще больше неверия и горечи, чем
у меня.
Господин фон Кнобельсдорф ничего не ответил и
только развел руками, как бы соглашаясь.
— Допустим, вы правы, ваше превосходитель-
ство, — продолжал министр финансов, скорбно кив-
нув вниз, на свою треуголку. — Пожалуй, виновны
все — и мы и наши предшественники. Многое, многое
можно было предотвратить! Надо вам сказать, барон,
что однажды, десять лет назад, возникла возмож-
ность если не оздоровить, то хоть подправить финан-
совое положение двора. Эта возможность была упу-
щена. Надеюсь, вы меня поняли. Такой обаятельный
мужчина, как великий герцог, смело мог поправить
дела женитьбой, которую всякий здравомыслящий
человек признал бы блестящей. А вместо этого... не
касаясь моих личных чувств... забыть не могу, с ка-
кой кислой миной по всей стране называли цифру
приданого августейшей невесты.
— Великая герцогиня — одна из красивейших
женщин, каких мне доводилось встречать, — заявил
господин фон Кнобельсдорф, и морщинки у него
возле глаз почти совсем исчезли.
— Вот возражение вполне в духе вашего превос-
ходительства — чисто эстетического порядка. Это воз-
ражение было бы также уместно, если бы его коро-
левское высочество по примеру своего брата Лам-
берта выбрал себе в жены корифейку придворного
балета...
— Эта опасность была исключена. У государя
вкус изысканный, что он и доказал. Его запросы
всегда были очень высоки в противоположность той
неразборчивости, какую всю жизнь проявлял принц
Ламберт. Ведь великий герцог крайне поздно ре-
шился вступить в брак. Надежды на прямое потом-
ство почти что были утрачены. Приходилось с горя
примириться на принце Ламберте, хотя насчет его..*
20
малой пригодности в качестве наследника престола
мы с вами, надо полагать, солидарны. И вдруг, через
несколько недель после вступления на престол,
Иоганн-Альбрехт встречается с принцессой Доротеей.
Он восклицает: «Она — или никто!» — и великое гер-
цогство обретает государыню. Вы, ваше превосходи-
тельство, припомнили, как вытягивались лица, когда
называлась цифра приданого, но вы забыли, какое
в то же время царило ликование. Да, конечно, прин-
цесса была небогата. Но красота, и такая красота,
тоже своего рода благотворная сила. Разве можно
забыть торжественный въезд невесты? Народ по-
любил ее, как только она впервые озарила улыбкой
собравшуюся толпу. Позвольте мне, ваше превосхо-
дительство, лишний раз заявить о своей вере в идеа-
лизм народа. Народ хочет, чтобы в государе было
воплощено все, с его точки зрения, лучшее, высшее,
его мечта, душа его, если хотите, но отнюдь не
мошна. Для мошны есть другие люди.
— Вот их-то и нет. У нас нет.
— Это факт сам по себе весьма прискорбный.
Зато гораздо важнее, что Доротея подарила нам пре-
столонаследника...
— Ах, если бы господь умудрил его в бухгалте-
рии...
— Не возражаю...
На том и закончилась беседа двух министров. Она
оборвалась, вернее ее прервал флигель-адъютант фон
Лихтерло известием о благополучном разрешении от
бремени. В малом банкетном зале возникло оживле-
ние, все присутствующие поспешили туда. Одна из
высоких резных дверей распахнулась, и на пороге
появился адъютант. У него были голубые солдатские
глаза, на раскрасневшемся лице торчали льняные
усы, воротник гвардейского мундира расшит сереб-
ром. Не вполне владея собой, возбужденный тем, что
удалось избавиться от смертельной скуки, и перепол-
ненный радостной вестью, он ввиду чрезвычайности
момента дерзко пренебрег этикетом и уставом. Отто-
пырив локоть и отсалютовав таким широким жестом,
21
что рукоять сабли очутилась чуть ли не на уровне
груди, он выкрикнул, раскатисто картавя:
— Осмелюсь доложить — пр-р-ринц!
— A la bonne heure1, — пробасил генерал-адъю-
тант граф Шметтерн.
— Радостно слышать, вот уж поистине радостно
слышать, — по своему обыкновению, залопотал обер-
гофмаршал фон Бюль цу Бюль, мигом очнувшись от
забытья.
Президент консистории доктор Визлиценус, благо-
образный, осанистый господин с орденской звездой
на шелковистом сукне сюртука, как генеральский
сын, а также в силу личных достоинств сравнительно
молодым достигший столь высокого положения, сло-
жил холеные белые руки на животе и звучно воз-
гласил:
— Да благословит господь его великогерцогское
высочество!
— Господин капитан, — с усмешкой заметил гос-
подин фон Кнобельсдорф, — вы, кажется, забыли, что
своим утверждением узурпируете мои права и обя-
занности. Прежде чем я не произведу тщательней-
шего расследования, вопрос о том, кто родился —
принц или принцесса, — остается открытым...
Над его словами посмеялись, а господин фон Лих-
терло ответил:
— Слушаюсь, ваше превосходительство! Кстати,
имею честь по высочайшему повелению просить ваше
превосходительство...
Этот диалог объяснялся тем, что премьер-министр
ведал метриками великогерцогской фамилии, а по-
сему именно его компетенции подлежало само-
лично установить пол царственного младенца и офи-
циально объявить о нем. Господин фон Кнобельсдорф
выполнил эту формальность в так называемой куа-
ферной, где купали новорожденного, но пробыл там
дольше, чем предполагал, ибо его задержало и сму-
тило одно неприятное открытие, которое он до поры
до времени утаил от всех, кроме акушерки.
1 В добрый час (франц.).
22
Госпожа Гнадебуш развернула младенца и,
переводя таинственно поблескивающие из-за толстых
стекол глаза с министра на медно-красное крошечное
создание, безотчетно что-то ловившее одной, только
одной ручонкой, как бы спрашивала: «В порядке?»
Все было в порядке, господин фон Кнобельсдорф вы*
разил удовлетворение, и акушерка принялась снова
пеленать новорожденного. Но и тут она не перестала
поглядывать то вниз на принца, то вверх на мини-
стра, пока не направила внимания фон Кнобельс-
дорфа куда следовало.
Лучики в уголках его глаз мигом исчезли, он на-
супился, проверил, сравнил, ощупал, задержался на
этом факте минуты две-три и под конец спросил:
— Великий герцог уже видел?
— Нет, ваше превосходительство.
— Когда великий герцог увидит, скажите ему, что
это выровняется. — А господам, собравшимся в бель-
этаже, он объявил:
— Крепенький принц!
Но минут через десять — пятнадцать после него
то же досадное открытие сделал и великий герцог,
это было неизбежно, и за этим воспоследовала крат-
кая, пренеприятная для лейб-медика Эшриха сцена,
а для гримбургского доктора Плюша — беседа с ве-
ликим герцогом, поднявшая его в глазах монарха и
благоприятно повлиявшая на его дальнейшую
карьеру.
Расскажем вкратце, как все это произошло.
Сейчас же после родов Иоганн-Альбрехт опять
удалился в «библиотеку», а затем некоторое время
провел у постели роженицы, держа ее руку в своей.;
Вслед за тем он направился в куаферную, где но-
ворожденный лежал уже в высокой, изящно позоло-
ченной колыбельке, наполовину затянутой голубым
пологом; великий герцог опустился в услужливо под-
ставленное кресло возле своего сыночка. Но, сидя
в кресле и разглядывая дремлющего младенца, он
заметил то, что до поры до времени от него хотели
скрыть. Он совсем откинул одеяльце, помрачнел и
проделал все то, что до него делал г-н фон Кнобельс-
23
дорф, оглядел докторшу Гнадебуш и сиделку, у кото-
рых язык прилип к гортани, бросил торопливый
взгляд на притворенную дверь в брачный покой и
взволнованно проследовал назад в «библиотеку».
Здесь он немедленно нажал кнопку украшенного
орлом настольного серебряного звонка и, когда, звеня
шпорами, вошел г-н фон Лихтерло, приказал ему
кратко и сухо:
— Попросите ко мне господина Эшриха.
Когда великий герцог гневался на кого-нибудь из
приближенных, он имел обыкновение на данный мо-
мент отрешать провинившегося от всех званий и чи-
нов и называть только по фамилии.
Флигель-адъютант снова звякнул шпорами и
скрылся. Иоганн-Альбрехт разок-другой прошелся
по комнате, сильно скрипя сапогами, а услышав, что
господин фон Лихтерло вводит Эшриха в приемную,
остановился у письменного стола в официальной позе.
Стоя так, вполоборота, надменно подняв голову,
крепко упершись в бок левой рукой, отчего борт под-
битого атласом сюртука отставал от белого жилета,
великий герцог как две капли воды был похож на
свой собственный портрет кисти профессора Линде-
мана, висевший в городском замке в pendant к пор-
трету Доротеи, возле большого зеркала над камином
в зале Двенадцати месяцев и широко известный
в народе благодаря многочисленным копиям, фото-
графиям и открыткам. Разница заключалась лишь
в том, что на портрете у Иоганна-Альбрехта была
весьма внушительная осанка, меж тем как на самом
деле он был ниже среднего роста. Лоб облысел и
потому казался высоким, а голубые глаза, окружен-
ные бледной синевой, с усталостью и высокомерием
глядели вдаль из-под поседевших бровей. У него были
характерные для его народа широкие, немного высту-
пающие скулы. Бачки и бородку под нижней губой
тронула седина, а закрученные усы почти совсем уже
побелели. От раздутых ноздрей широкого, но с ари-
стократической горбинкой носа шли наискось к под-
бородку две на редкость глубоко врезанные морщины.
Над вырезом пикейного жилета сияла лимонно-жел-
24
тая лента фамильного ордена «За постоянство».
В петлице торчал букетик гвоздик.
Лейб-медик Эшрих вошел с глубоким поклоном.
Операционный халат он скинул. Парализованное веко
ниже обычного нависло над глазом. Вид у него был
угрюмый и жалкий.
Левой рукой по-прежнему упираясь в бок, вели-
кий герцог откинул голову, вытянул правую руку ла-
донью вверх и несколько раз сердито тряхнул ею.
— Я жду от вас объяснений и оправданий, гос-
подин лейб-медик, — начал он срывающимся от гнева
голосом. — Потрудитесь отчитаться. Что произошло
при рождении ребенка с его ручкой?
Лейб-медик воздел руки вверх — беспомощный
жест, показывающий, что он был бессилен и ни в чем
не виноват.
— Ваше королевское высочество, благоволите вы-
слушать... Несчастный случай... Неблагоприятные об-
стоятельства сопутствовали беременности ее королев-
ского высочества...
— Пустые отговорки! — Великий герцог был так
раздражен, что даже и не желал оправданий, отма-
хивался от них. — Имейте в виду, сударь, что я воз-
мущен. Несчастный случай! Ваше дело предотвра-
щать несчастные случаи...
Лейб-медик стоял, почтительно склонившись, и,
глядя в пол, говорил смиренным полушепотом:
— Позволю себе почтительнейше напомнить, что
ответственность несу не я один. Ее королевское высо-
чество исследовал тайный советник Гразангер — авто-
ритет в области гинекологии... Но за случившееся
никто не может нести ответственность...
— Ах, так! Никто... А я позволю себе возложить
ответственность на вас. И спрашивать с вас... Вы на-
блюдали за ходом беременности и принимали роды...
Я понадеялся, что ваши знания соответствуют зани-
маемому вами положению, господин лейб-медик.
Я доверился вашему опыту. Но теперь я разуверен и
глубоко разочарован. Хороша ваша добросовестность,
когда в итоге ее в жизнь вступает ребенок... ка-
лека!
25
— Ваше королевское высочество, благоволите вес-
милостивейше принять в рассуждение...
— Я все обсудил, рассудил и осудил! Благодарю
вас!
Лейб-медик Эшрих удалился, пятясь, все в той же
согнутой позе. В приемной он выпрямился, весь крас-
ный, и пожал плечами. А великий герцог снова при-
нялся шагать по «библиотеке», громко скрипя сапо-
гами от августейшего гнева, несправедливый, ожесто-
ченный и растерянный в своем одиночестве. Но то ли
он хотел еще больнее уязвить лейб-медика, то ли жа-
лел, что сам отрезал себе путь к правде, так или иначе
спустя десять минут произошло нечто неожиданное —-
великий герцог через господина фон Лихтерло
призвал к себе в «библиотеку» молодого доктора
Плюша.
Получив приглашение, доктор опять залепетал:
«С удовольствием... с удовольствием...» — и даже из-
менился в лице, но в дальнейшем вел себя без-
упречно. Правда, этикетом он владел не вполне и по-
клонился слишком рано, с порога, вследствие чего
адъютант не мог прикрыть за ним дверь и шепотом
попросил его пройти вперед; но затем Плюш остано-
вился в непринужденной и приятной позе и ответы
давал вполне вразумительные, хотя при этом у него
обнаружилась привычка начинать фразу с запинки,
предпосылая ей какие-то неопределенные звуки,
а между словами, для вящей убедительности, он то и
дело вставлял «да». Свои темно-русые волосы он
стриг ежиком, а усов не подкручивал. Подбородок и
щеки были у него старательно выскоблены. Голову
он слегка склонял набок, а взгляд его серых глаз
выражал ум и деятельную доброту. Приплюснутый нос,
нависавший над усами, выдавал его происхождение.
К фраку он надел черный галстук, начищенные баш-
маки были деревенского фасона. Одной рукой он те-
ребил серебряную цепочку часов, крепко прижав
локоть к телу. Весь его облик свидетельствовал
о честности и положительности и внушал доверие.
Великий герцог обратился к нему необычайно
милостиво, как бывает с учителем, который только
26
что выбранил нерадивого ученика и спешит поощрить
другого.
— Я пригласил вас, господин доктор... Я желал
бы получить от вас разъяснения по поводу этого...
изъяна в телосложении новорожденного принца...
надо полагать, он не ускользнул от вашего внима-
ния... Я стою перед загадкой... до крайности тягост-
ной загадкой... Словом, прошу вас высказать свое
мнение.
Великий герцог, повернувшись, закончил речь и
жестом предоставил слово врачу.
Доктор Плюш молчал и пристально следил за
ним, как бы выжидая, чтобы великий герцог проделал
весь цикл царственных телодвижений. А затем ска-
зал:
— Да... здесь мы столкнулись с явлением не очень
распространенным, однако хорошо известным и изу-
ченным. Да. По существу это явление атрофии...
— Что вы сказали? Атрофии?
— Прошу прощения, ваше королевское высоче-
ство. Я хотел сказать — здесь налицо недоразвитие.
— Вы правы. Недоразвитие. Так оно и есть.
Левая рука недоразвита. Но это же неслыханно, не-
постижимо! Ничего подобного в моем роду не бы-
вало. А ведь последнее время все толкуют о наслед-
ственности...
Доктор снова молча и пристально поглядел на
этого неприступного и могущественного государя,
который лишь недавно узнал, что последнее время
все толкуют о наследственности...
— Прошу прощения, ваше королевское высоче-
ство,— ответил он только,— о наследственности в дан-
ном случае даже речи быть не может...
— Ах, вот как! — с легкой насмешкой ответил ве-
ликий герцог. — И на этом спасибо. Но не потруди-
тесь ли вы разъяснить мне, о чем же здесь может
быть речь.
— С удовольствием, ваше королевское высоче-
ство. Причина этого увечья чисто механическая. Да.
Оно вызвано механическим торможением во время
27
развития зародыша. Такие случаи мы называем за-
торможенным развитием.
Великий герцог слушал с боязливым омерзением,;
он явно боялся, что каждое новое слово может еще
сильнее задеть его чувствительность. Лоб у него был
нахмурен, рот приоткрыт. От эгого еще глубже каза-
лись обе морщины, спускавшиеся к подбородку.
— Заторможенное развитие, — промолвил он, —
но откуда, боже ты мой!.. Надо полагать, все меры
предосторожности были приняты...
— Заторможенное развитие может быть вызвано
разными обстоятельствами. Но в нашем случае...
в данном случае можно почти с уверенностью ска-
зать, что всему виной амнион.
— Что вы сказали... Амнион?
— Это одна из яйцевых оболочек, ваше королев-
ское высочество. Да. При известных условиях отделе-
ние этой оболочки от зародыша происходит так мед-
ленно и сложно, что между ними протягиваются нити
и перемычки... так называемые амниотические нити.
Да. Эти нити могут причинить большой вред, могут
обмотать и перетянуть отдельные части детского
тела, могут, например, полностью закрыть доступ
к руке жизненных соков и прямо-таки ампутировать
ее. Да.
— Господи... ампутировать. Значит, надо еще ра-
доваться, что дело не дошло до ампутации руки?
— И это могло случиться. Да. Но тут произошла
перетяжка и как следствие — атрофия.
— А нельзя было это распознать, предусмотреть
и воспрепятствовать этому?
— Нет, ваше королевское высочество. Никоим
образом. Можно с твердостью сказать, что никто
в этом не виноват. Такого рода торможение совер-
шается втайне. Мы против него бессильны. Да.
— И это увечье неизлечимо? Рука останется не-
доразвитой?
Доктор замялся, сочувственно поглядел на вели-
кого герцога.
— Полное восстановление неосуществимо, это
нет, — бережно ответил он. — Но и недоразвитая рука
28
тоже будет относительно понемножку развиваться,
ну да, это конечно...
— А действовать она будет? Можно будет ею
пользоваться? Например... держать поводья, ну, сло-
вом, делать положенные движения?
— Пользоваться?.. В известной мере. Пожалуй,
пе вполне. Да, кроме того, есть же и правая совер-
шенно здоровая рука.
— Это будет очень заметно? — спросил великий
герцог, с тревогой глядя в лицо доктору Плюшу. —
Очень будет бросаться в глаза? Очень повредит всей
наружности?
— Многие люди живут деятельной жизнью с бо-
лее тяжкими повреждениями.
Великий герцог отвернулся и зашагал по комнате.
Чтобы дать ему дорогу, доктор Плюш почтительно
отступил до самой двери. Наконец великий герцог
опять остановился у письменного стола и сказал:
— Теперь я полностью осведомлен. Благодарю
вас за разъяснение. Вы человек сведущий, это бес-
спорно. Почему вы обосновались в Гримбурге? По-
чему бы вам не практиковать в столице?
— Я еще молод, ваше королевское высочество, и,
прежде чем заняться в столице врачебной практикой
по определенной специальности, мне хочется в тече-
ние нескольких лет накопить побольше разносторон-
него опыта. А для этого в таком провинциальном
городке, как Гримбург, представляются все возмож-
ности. Да.
— Весьма разумное и почтенное намерение. Ка-
кой же специальности вы думаете посвятить себя
в дальнейшем?
— Детским болезням, ваше королевское высоче-
ство. Я собираюсь стать детским врачом. Да.
— Вы еврей? — спросил великий герцог, закинув
голову и прищурившись.
— Да, ваше королевское высочество.
— А!.. Ответьте мне еще на один вопрос... Ощу-
щали ли вы когда-нибудь свое происхождение как
преграду на вашем пути, мешало ли оно вам успешно
конкурировать с другими на врачебном поприще?
29
Я спрашиваю об этом, как монарх, который ставит
во главу угла безусловное соблюдение принципа
равноправия не только на государственной службе,
но и в частной жизни.
— В пределах великого герцогства каждому дано
право работать, — ответил доктор Плюш. Но этим он
не ограничился и, запинаясь, начав с каких-то не-
определенных звуков, взволнованно и неловко взма-
хивая локтем, точно обрубленным крылом, заговорил
приглушенным, но дрожащим от затаенной страсти
голосом:
— Позволю себе одно замечание. Невзирая ни на
какой принцип равенства, в человеческом обществе
никогда не перестанут существовать исключения и
особые разновидности, либо возвышающиеся над
средним уровнем, либо поставленные ниже его. Таким
единицам незачем допытываться, к какой категории
относится их обособленность, а лучше осознать, сколь
важен самый факт этого отличия, и уж во всяком
случае сделать вывод, что оно налагает сугубые обя-
зательства. Если от человека требуются незауряд-
ные усилия, он никак не в накладе по сравнению
с находящимся в пределах нормы, а потому благо-
получным большинством. Да, да,— повторил доктор
Плюш.
Таков был его ответ, подкрепленный двукратным
кда».
— Так... не плохо, очень интересно, — задумчиво
протянул великий герцог. Что-то глубоко понятное и
вместе с тем чуждое послышалось ему в словах док-
тора Плюша. Он отпустил молодого человека со сло-
вами:— Любезный доктор, мое время рассчитано по
минутам. Благодарю вас. Невзирая на тягостный
повод, наша беседа весьма удовлетворила меня.
Вменяю себе в приятную обязанность пожаловать
вас Альбрехтовским крестом третьей степени с ко-
роной. Я вас не забуду. Благодарю.
Вот какой разговор произошел между гримбург-
ским врачом и великим герцогом.
Иоганн-Альбрехт почти сразу же покинул замок
и экстренным поездом возвратился в столицу, прежде
30
всего, чтобы показаться празднично возбужденному
населению, а затем, чтобы принять ряд лиц в город-
ской резиденции. Решено было, что к вечеру он вер-
нется в родовой замок и ближайшие недели пробу-
дет там.
Все должностные лица, прибывшие к разрешению
от бремени в Гримбург и не принадлежавшие к свите
великой герцогини, были допущены в тот же экстрен-
ный поезд нерентабельной пригородной ветки, и мно-
гие из них ехали в непосредственной близости к мо-
нарху. Но путь от замка до станции великий герцог
совершил только с премьер-министром фон Кнобельс-
дорфом в ландо, как и все придворные экипажи, кры-
том коричневым лаком, с миниатюрной золотой коро-
ной на дверце. Летний ветерок развевал белые перья
на шляпе лейб-егеря, сидевшего впереди. Иоганн-
Альбрехт сосредоточенно молчал всю дорогу, видно
было, как он удручен и недоволен; и хотя господин
фон Кнобельсдорф знал, что великий герцог даже
в семейном кругу не терпит, чтобы к нему обраща-
лись по собственному почину, без особого поощрения,
он все же решился нарушить молчание.
— Ваше королевское высочество, — проситель-
ным тоном начал он, — вы, как видно, слишком
близко принимаете к сердцу небольшой дефект
в телосложении, обнаруженный у принца... А ведь,
казалось бы, сегодня гораздо больше поводов радо-
ваться, гордиться и быть благодарными.
— Уж как-нибудь потерпите мое дурное настрое-
ние, дорогой Кнобельсдорф, — сердито и чуть ли не
плаксиво ответил Иоганн-Альбрехт.— Не петь же
мне в самом деле. Я лично не вижу для этого ни ма-
лейших оснований. Да, конечно, великая герцогиня
чувствует себя хорошо. Неплохо и то, что родился
мальчик. Но почему он должен был появиться на
свет с атрофией, с заторможенным развитием, обу-
словленным амниотическими нитями? Никто в этом
не повинен, это просто несчастный случай. Но по-на-
стоящему страшны именно те несчастные случаи,
в которых никто не повинен. Государь же должен
своим видом возбуждать в народе не жалость, а
31
совсем иные чувства. Наследный великий герцог слаб
здоровьем, за него постоянно приходится дрожать.,
Он чудом уцелел два года назад во время плеврита,
и будет почти чудом, если он достигнет зрелого воз-
раста. Но вот господь подарил мне второго сына,
с виду крепкого, и что же — он рождается с одной
рукой. Вторая не действует, она недоразвита, увечна,
ему придется прятать ее. Какая неприятность! Какое
осложнение! В свете он будет вынужден вечно по-
мнить об этом! Надо со временем предать это глас-
ности, чтобы в первый раз, когда ему придется
выступать как официальному лицу, не получилось
слишком гнетущего впечатления. Нет, я еще не могу
примириться. Принц с одной рукой...
— С одной рукой, — подхватил господин фон Кно-
бельсдорф. — Вы намеренно повторяете это выраже-
ние, ваше королевское высочество?
— Намеренно?
— Ах, нет? Ну да, у принца ведь две руки, но
одна недоразвита, и при желании можно сказать, что
это принц с одной рукой...
— Ну и что же?..
— А то, что, пожалуй, было бы даже лучше, если
бы не у второго сына вашего королевского высоче-
ства, а у престолонаследника оказался этот неболь-
шой физический недостаток.
— Что вы говорите?
— Вы можете смеяться надо мной, ваше королев-
ское высочество, но я вспомнил про цыганку.
— Про цыганку? Вы злоупотребляете моим тер-
пением, дорогой барон!
— Простите великодушно, ваше королевское вы-
сочество, — про ту цыганку, которая сто лет назад
предсказала, что в вашем августейшем семействе
родится государь «с одной рукой», — такова форму-
лировка, сохраненная преданием; причем с рожде-
нием этого государя она связала некое загадочно вы-
раженное обещание.
Великий герцог повернулся на заднем сидении и
молча поглядел господину фон Кнобельсдорфу в гла-
за, внешние уголки которых собрались в лучики.
32
— Очень занятно! — вымолвил он и принял преж-
нее положение.
А господин фон Кнобельсдорф продолжал:
— Так обычно и исполняются пророчества: из-
вестное стечение обстоятельств толкуется в желатель-
ном смысле, разумеется, при наличии доброй воли.
Каждое порядочное пророчество тем и хорошо, что
оно выражено в крайне общей форме. «С одной ру-
кой» — типичный для настоящего оракула стиль.
Действительность преподносит нам случай небольшой
атрофии. Но это уже очень много, ибо кто помешает
мне, кто помешает народу принять намек за сверше-
ние и объявить, что основная часть пророчества
исполнилась? Народ так и сделает, особенно если
в какой-то мере начнет оправдываться и дальнейшее,
то самое главное, что обещано в пророчестве. Народ
будет сопоставлять и толковать, как он поступал
всегда, ибо ему важно, чтобы сбылось по писанию.
Мне кое-что неясно, принц рожден вторым, он не
будет править, предначертания судьбы темны. Но
однорукий принц родился, — так пусть же даст нам
то, что в его силах.
Великий герцог молчал, внутренне содрогаясь во
власти династических мечтаний.
— Не стану сердиться на вас, Кнобельсдорф. Вы
хотели меня утешить и неплохо взялись за дело. Од-
нако нас ждут...
Воздух дрожал от многоголосых приветственных
кликов. Гримбуржцы черной массой сгрудились на
станции позади кордона. На переднем плане выделя-
лись одиночные фигуры должностных лиц, ожидав-
ших, чтобы подъехали экипажи. Видно было, как
бургомистр приподымает цилиндр, отирает лоб
пестрым платком и подносит к глазам листок бумаги,
стараясь затвердить текст. Иоганн-Альбрехт придал
лицу соответствующее выражение, чтобы выслушать
бесхитростную речь и кратко, но милостиво ответить:
«Дорогой господин бургомистр...»
Городок был украшен флагами; звонили колокола
местных церквей.
3 Т. Манн, т. 2
33
Звонили все колокола столицы. И вечером там
была иллюминация без особого распоряжения маги-
страта, по собственному почину жителей, — все го-
родские кварталы были ярко освещены празднич-
ными огнями.
СТРАНА
Страна занимала площадь в восемь тысяч квад-
ратных километров и насчитывала миллион жителей.
Живописная, мирная, несуетливая страна. Сонно
шелестящие деревья в лесах; широко- раскинувшиеся
тщательно возделанные пашни и нивы; слабо разви-
тая, скудная промышленность,
Кирпичные заводы, небогатые соляные копи и се-
ребряные рудники — и это, можно сказать, все.
Правда, кое-какой доход, давала промышленность,
рассчитанная на приезжих, но назвать эту отрасль
хозяйства преуспевающей было бы чересчур смело.
В непосредственной близости от столицы из земли били
щелочные источники, вокруг которых выросли баль-
неологические заведения, превратившие столицу в ку-
рорт. В конце средних веков на здешние воды съез-
жались отовсюду, но затем их затмили другие, слава
их померкла и мало-помалу позабылась. Самый бо-
гатый минеральными солями источник, названный
Дитлиндинским и содержащий чрезвычайно большой
процент солей лития, был открыт недавно, в царствова-
ние Иоганна-Альбрехта III. Но за отсутствием убеди-
тельной и достаточно широковещательной рекламы
вода не получила желаемой известности. За год экспор-
тировали сто тысяч бутылок, может быть, даже
меньше, но уж во всяком случае не больше. И приез-
жих, пьющих ее на месте, бывало не так уж много.
Ежегодно в ландтаге шел разговор о том, что фи-
нансовое положение железнодорожного ведомства
«мало» благоприятно, — разумея под этими словами
положение абсолютно и безусловно неблагоприят-
ное,—что местный транспортнеоправдываетсебя, да и
вообще железные дороги нерентабельны; факт, несом-
ненно, прискорбный, но раз навсегда установленный
34
и не поддающийся изменению, о чем вразумительно,
однако всегда с одними и теми же выводами говорил
министр путей сообщения, объясняя его неоживлен-
ной торговлей и слабо развитой промышленностью,
а также недостатком отечественного угля. Злопыха-
тели, правда, что-то мямлили о плохо поставленном
управлении в железнодорожном ведомстве. Но дух
противоречия и отрицания был не в чести у ландтага;
в среде народных представителей преобладало на-
строение ленивой и благодушной лояльности.
Итак, доходы с железных дорог занимали далеко
не первое место среди прочих государственных дохо-
дов с предприятий частновладельческого типа. Первое
место в этой лесной и сельскохозяйственной стране
исстари принадлежало доходам с лесных промыс-
лов. Но и они тоже резко понизились, начали ужа-
сающе падать, и найти оправдание этому факту было
куда труднее, хотя серьезных оснований для такого
падения было достаточно.
Народ любил свой лес. А народ—все больше ко-
ренастые голубоглазые блондины с мечтательным
взором, широколицые и скуластые — по самой природе
своей был честный, здоровый и косный. Всеми силами
души был он привязан к родному лесу, лес жил в его
песнях, он был отчизной и источником вдохновения
для художников — местных уроженцев; и не только за
духовные дары, которые лес так щедро расточал, за-
служил он признательность народа. Бедняки собирали
в нем топливо, лес дарил его, отдавал им безвоз-
мездно. Они бродили по лесу, нагнувшись, находили
грибы, собирали ягоды и кое-что за это выручали. Но
это еще не все. Народ понимал, какое огромное значе-
ние имеет лес для климата и здоровья; он знал: не
будь великолепных лесов в окрестностях столицы,
курорт не привлекал бы хорошо платящих иностран-
цев; короче говоря, этот отсталый и не очень деятель-
ный народ должен был бы понять, что лес — главное
богатство, во всех смыслах самое прибыльное искон-
ное достояние страны.
И все же народ провинился перед лесом, из года
в год, из поколения в поколение греша преступным
3*
35
отношением к нему. Ведомству, управляющему казен-
ными лесами, можно было с полным правом предъ-
явить самые тяжкие обвинения. Этому ведомству не
хватало политической дальновидности, оно не пони-
мало, что лес надо охранять и беречь, как неотъемле-
мое общенародное достояние, дабы его благами могло
пользоваться не только это поколение, но и все после-
дующие, и что рано или поздно лес отомстит за себя,
если его будут беспардонно расхищать в угоду настоя-
щему, проявляя близорукость и не думая о будущем.
Так оно повелось и вот к чему привело. Прежде
всего на больших лесных участках совершенно исто-
щилась почва, потому что ее беспрерывно, неплано-
мерно и хищнически лишали естественного удобрения.
Дело зашло так далеко, что часто сгребали не только
верхний покров — недавно осыпавшиеся иглы и
листья, — но и большую часть многолетней лесной
опали, и пускали на сельскохозяйственные нужды:
как подстилку для скотины или как удобрение. Во
многих лесах совсем не осталось перегноя, в других
почва так оскудела, что деревья выродились и стали
какими-то жалкими калеками. И это явление наблю-
далось как в казенных лесах, так и в крестьянских.
Если бы к таким мерам прибегали, чтобы* выручить
из временной беды сельское хозяйство, это бы еще
куда ни шло, это можно было бы оправдать. Но хотя
и раздавались голоса, предостерегающие от такого не-
разумного и даже опасного использования лесной
опали, тем не менее перегноем продолжали торговать
без особой нужды, как говорили, из чисто коммер-
ческих соображений, то есть из соображений, ко-
торые, если смотреть здраво, преследовали только
одну цель: наличные деньги, потому что денег-то как
раз и не хватало. Но, . чтобы получить деньги, все
время растрачивали капитал, пока к общему ужасу
не заметили, что капитал вдруг почти иссяк.
Страна была земледельческая, однако ее обуяло
бессмысленное, искусственно раздутое и неуместное
рвение не отставать от века и во что бы то ни стало
проявить деловой дух. Показательно в этом отношении
молочное хозяйство, о котором здесь следует сказать
36
несколько слов. Все чаще и чаще стали раздаваться
жалобы, особенно в годовых врачебных отчетах, на
ухудшение питания сельского населения, что сказы-
вается и на его физическом развитии. Что же, соб-
ственно, произошло? У скотовладельцев было только
одно на уме — превращать в деньги весь удой. Их
соблазнили возможность промышленного использова-
ния молока, развитие прибыльного молочного хо-
зяйства, и они пренебрегли нуждами собственной
семьи. Здоровая молочная пища стала редкостью
в деревне, вместо нее начали все больше и больше
потреблять малопитательное снятое молоко, неполно-
ценные суррогаты, растительное масло, а также, к со-
жалению, и спиртные напитки. Злопыхатели стали по-
говаривать о том, что население недоедает, что оно
физически истощено, морально опустилось. Палате
были представлены факты, и правительство обещало
обратить на это дело серьезное внимание.
Но было совершенно ясно, что правительство, в сущ-
ности, одержимо тем же духом наживы, что и сбитые
с толку скотоводы. Казенные леса безжалостно выру-
бались, засадить их снова не было возможности, а это
означало, что общенародному достоянию будет на-
носиться все больший и больший ущерб. Иногда по-
рубки, возможно, и бывали нужны — в тех случаях,
когда на лес нападали вредители, но чаще они были
вызваны все теми же финансовыми соображениями;
и вместо того, чтобы употребить деньги, вырученные
за вырубленный лес, на приобретение новых лесных
дач, вместо того, чтобы как можно скорее засадить
вырубленные участки; словом, вместо того чтобы вос-
становить ущерб, нанесенный казенному лесу, и таким
образом восстановить свой основной капитал, — выру-
ченные деньги пускали на покрытие текущих расходов
и на выплату по долговым обязательствам. Что и го-
ворить, уменьшение государственного долга было
чрезвычайно желательно, но те же злопыхатели твер-
дили, что сейчас не время погашать долги.
Люди, не заинтересованные в том, чтобы золотить
пилюлю, не могли не признать, что финансы страны
находятся в полном расстройстве. Бремя государ-
37
ственного долга равнялось шестистам миллионам; на-
род терпеливо, самоотверженно нес это бремя, но в
душе стонал. Ибо бремя, уже само по себе непосиль-
ное, еще усугубляли высокие проценты и тяжелые
условия выплаты, обычно диктуемые государству с по-
шатнувшимся кредитом, чьи обязательства котируются
очень низко, государству, которое в мире заимодавцев
уже причисляется к «доходным», то есть платящим
высокий процент.
Один тяжелый финансовый период сменялся дру-
гим, полосе дефицитов не было видно конца. Безала-
берное ведение хозяйства не улучшалось от смены
лиц, и единственное лекарство против подтачивающего
государство недуга видели в новых займах. Еще ми-
нистру финансов фон Шредеру, кристально чистая
душа и благородные намерения которого не подлежат
сомнению, великий герцог даровал личное дворянство
за то, что тот сумел при чрезвычайно трудных обстоя-
тельствах разместить под очень высокие проценты
новый заем. Министр был искренне озабочен подня-
тием государственного кредита, но он не мог при-
думать другого выхода из положения, как прибегнуть
к новым займам, чтобы покрыть старые, и, таким об-
разом, его действия, хоть и предпринятые с самыми
благими намерениями, оказались дорого обошедшимся
самообманом. Ибо при одновременной выдаче и пога-
шении векселей платят больше, чем получают, и на
такой операции были потеряны миллионы.
Казалось, этот народ не способен дать мало-
мальски одаренного финансового деятеля. Иногда при-
бегали к предосудительной практике и наивным под-
тасовкам. При утверждении бюджета уже нельзя
было точно сказать, где обычные, а где чрезвычай-
ные расходы. Обычные статьи расхода относили за
счет чрезвычайных и тем самым обманывали и себя
и весь свет, скрывая истинное положение вещей, ибо
займы, сделанные якобы для покрытия чрезвычай-
ных нужд, пускали на погашение дефицита в обычной
смете. В течение какого-то времени финансовым
ведомством фактически распоряжался бывший гоф-
маршал.
38
Доктор Криппенрейтер, к концу царствования
Иоганна-Альбрехта III принявший в свои руки финан-
совое кормило, был тем самым министром, который
провел в парламенте последнее и исключительно тяже-
лое повышение налогов, ибо, подобно господину фон
Шредеру, был убежден в насущной необходимости
погашения долгов. Но страна, из которой вообще
трудно было выжать налоги, была доведена до пол-
ного истощения, стала, можно сказать, неплатежеспо-
собной, и Криппенрейтер пожал только общую нена-
висть. Предпринятая им операция свелась к пере-
кладыванию капитала из одной руки в другую,
причем с неминуемой потерей, ибо, повышая налог,
взваливали на народное хозяйство более тяжкое и
ощутимое бремя, чем то, которое с него снимали,
погашая долги...
Где же в таком случае искать помощи и спасения?
Ясно, что оставалось ждать только чуда, а пока оно
не свершилось, нужна была строжайшая экономия.
Народ был безропотный и преданный. Он любил своих
государей, как самого себя, благоговел перед вели-
чием монархического принципа, считая, что власть
монарха от бога. Но экономический гнет был слишком
мучителен, слишком тягостен для всех. Даже самому
невежественному человеку был понятен жалобный
язык вырубленных и изувеченных лесов. Поэтому-то
в ландтаге и настаивали на том, чтобы был урезан
цивильный лист, сокращены уделы и ограничены
суммы, отпускаемые министерству двора.
По цивильному листу выдавалось полмиллиона
марок, оставшиеся у царствующего дома владения
приносили семьсот пятьдесят тысяч марок. И это все.
А двор был в долгу — сумму долга, возможно, знал
граф Трюммергауф, великогерцогский финанц-дирек-
тор, господин весьма представительный, но в деловом
отношении абсолютно бездарный. Иоганн-Альбрехт не
знал этой суммы, во всяком случае делал вид, что не
знает, точно следуя в этом примеру отцов и дедов,
которые уделяли своим долгам весьма мимолетное
внимание.
39t
- Если народ благоговел перед своими государями,
то и у тех было соответственно развито чувство соб-
ственного величия, временами принимавшее фанта-
стические размеры и всего заметнее — и опаснее —,
проявлявшееся в стремлении к пышности и безудерж-
ной роскоши как внешним выражениям этого величия.
Одного из Гримбургов даже прозвали «Великолеп-
ный», но заслужили это прозвище почти все. Итак,*
задолженность дома Гримбургов была исторической и
наследственной, уходящей в глубь веков, в те далекие
времена, когда все займы были еще частным делом
государя и когда Иоганн Жестокий брал ссуду под
залог свободы своих именитых подданных.
Эти времена миновали, и Иоганн-Альбрехт III,
истый Гримбург по своим замашкам, был решительно
не в состоянии им следовать. Его отцы и деды основа-
тельно растрясли фамильное достояние, теперь оно
было равно нулю или вроде того, оно ушло на по-
стройку загородных замков с французскими назва-
ниями и мраморными колоннадами, на парки с фонта-
нами, на роскошные оперные постановки и прочие
дорогостоящие затеи. Теперь приходилось экономить,
и, вопреки вкусам великого герцога, без всякого же-
лания с его стороны, расходы на двор были посте-
пенно урезаны.
О жизни, которую вела принцесса Катарина, се-
стра великого герцога, в столице говорили со слезами
умиления. Ее муж принадлежал по женской линии
к одному, из соседних царствующих домов; она овдо-
вела, возвратилась в резиденцию брата и жила вместе
со своими рыжеволосыми детьми в бывшем дворце
наследного великого герцога на Альбрехтсштрассе,
перед парадным входом которого целый день стоял
рослый швейцар при булаве и с перевязью, но в са-
мом дворце жизненный уклад был чрезвычайно скро-
мен...
С принцем Ламбертом, братом великого герцога,
не очень считались. Он был не в ладах с семьей, ко-
торая не прощала ему мезальянса, и почти не по-
являлся при дворе. Он жил на своей вилле близ
городского сада вместе с супругой, раньше исполняв-
40
шей всякие антраша на сцене придворного театра,
а теперь именовавшейся баронессой фон Рордорф по
одному из поместий принца.- Ему—поджарому спортс-
мену и театралу— долги были как бы даже к лицу,
Он отказался от всех внешних атрибутов своего сана,
держал себя как частное лицо, и слухи о том, что он
живет безалаберно и скудно, никого особенно не
трогали.
Но в Старом замке тоже произошли перемены и
ограничения, о которых толковали и в столице и во-
обще в стране, и почти всегда с сокрушением и собо-
лезнованием, ибо в душе народ хотел, чтобы тот, кто
его представляет, был горд и великолепен. Из сообра-
жений экономии соединили в одну несколько высших
придворных должностей, и уже много лет господин
фон Бюль цу Бюль был обергофмаршалом, оберцере-
мониймейстером и гофмейстером в одном лице. Рас-
считали многих из числа кухонной и дворцовой челяди,
фурьеров, егерей и берейторов, придворных поваров
и кондитеров, камердинеров и лакеев. На конюшне
оставили только тех лошадей, без которых никак
нельзя было обойтись... Чего этим достигли? Прези-
равший деньги герцог давал волю своему возмущению
против такого стеснительного режима в неожиданных
вспышках расточительности. Так он выбросил, во-
преки здравому смыслу, доходы целого года на ре-
монт замка Гримбург, и это в то время, как на при-
дворных раутах ограничивались предельно скромным
угощением; в то время как на ужин, который по чет-
вергам после концертов в Мраморном зале сервиро-
вали на красных бархатных столиках с золочеными
ножками, неизменно подавали ростбиф под острым
соусом и мороженое; в то время как сам великий гер^
цог с семейством ежедневно кушал за ярко освещен-
ным восковыми свечами столом, но нисколько не
лучше, чем семья чиновника средней руки.
Гримбург отремонтировали, но зато остальные
дворцы впали в запустение. В распоряжении госпо-
дина фон Бюля просто не было средств, чтобы под*
держивать их в должном виде. А жалко, — многие
стоило бы привести в порядок. Те, что находились
41
в окрестностях столицы, и те, что были расположены
вдали от нее, приютились в живописных уголках и
привлекали как местных жителей, так и иностранцев,
а вырученные за вход деньги шли иногда, — только
иногдаГ — на содержание этих кокетливых и нарядных
прибежищ, чьи изящные названия говорили о покое,
уединении, утехах, развлечениях и беззаботной жизни;
а иные носили название цветка или драгоценного
камня. Тем же дворцам, что находились в пределах
столицы, редко что перепадало. Так, на северной
окраине города, среди разросшегося парка, который
переходил в городской вал, молча взирал на малень*
кий подернутый ряской прудик очаровательный Эрми-
таж, выстроенный в стиле ампир, задумчивый и
изящно-строгий, но уже давно необитаемый и запу-
щенный. Так, в четверти часа ходьбы от Эрмитажа,
уже в самом городском саду, который в свое время
целиком принадлежал великогерцогской фамилии,
в северной его части, смотрелся в огромный четырех-
угольный бассейн с фонтаном обветшалый дворец
Дельфиненорт. Оба дворца были в самом плачевном
состоянии. Все ценители архитектурных красот скор-
бели о том, что Дельфиненорт, царственное здание во
вкусе раннего барокко, обречен на упадок, что погиб-
нет все это великолепие — благородная: колоннада
портала, высокие окна с частыми белыми переплетами,
вырезанные из камня гирлянды, ниши с римскими
бюстами, пышная парадная лестница; и когда в один
прекрасный день, при совершенно непредвиденных,
можно сказать, чудесных обстоятельствах дворец
снова помолодел и расцвел, в среде любителей искус-
ства это было встречено с большим удовлетворением..4
Между прочим, от Дельфиненорта было рукой подать
до курортного парка, который находился несколько на
северо-запад от города и трамвайной линией был свя-
зан непосредственно с центром.
Летней резиденцией служили только два дворца:
Голлербрунн — ансамбль белых зданий под китайскими
крышами, — который был расположен по другую сто-
рону холмов, опоясывающих столицу, на берегу реки,
дающей приятную прохладу, и славился живой изго-
42
родью из сирен-и вокруг парка; да еще Егерлрейс—
охотничий домик, до самой кровли увитый плющом
и затерянный среди лесов в.западной части герцогства.
И, наконец, имелся еще главный городской замок,
который назывался «старым», хотя никаких новых
не существовало.
Он назывался так не для сравнения, а только всоот-
ветствии со своим возрастом, и злопыхатели находили,
что ему ремонт куда нужнее, чем замку Гримбург.
Даже апартаменты, отведенные для официальных
приемов и для пребывания высочайшего семейства,
обветшали и поблекли, не говоря уже о нежилых и
неиспользованных помещениях в наиболее старых
частях сложного и запутанного здания. Там было
темно и валялись дохлые мухи. С некоторых пор за-
мок был закрыт для публики — мера, принятая не-
сомненно потому, что внутри здание имело уж совсем
неприглядный вид. Однако люди, которые пользова-
лись доступом в него — поставщики и прислуга —
рассказывали, что кое-где из чопорных парадных кре-
сел вылезает морская трава.
Замок — полукрепость, полудворец — вместе с
дворцовой церковью представлял собой серый, разно-
стильный комплекс, который трудно было охватить
одним взглядом, — с башнями, галереями, сводча-
тыми переходами. Над созданием его потрудилось
немало поколений, и во многих местах он обветшал,
дал трещины, был поврежден, грозил обвалом. Замок
круто обрывался к западной, более низко располо-
женной части города, откуда к нему можно было
подняться по сломанным каменным ступеням, скре-
пленным ржавыми железными скобами. Но к Аль-
брехтсплацу замок был обращен величественным
порталом, охраняемым двумя сидящими львами, над
головами которых были вырезаны полустершиеся
от времени благочестивые, но гордые слова «Turris
fortissima nomen Domini» l. Здесь было все — часо-
вые и кордегардия, смена караула, барабанный бой,
парады и глазеющие уличные мальчишки.
1 Крепчайшая башня —имя господне (лат.).
43
В Старом замке было три двора с красивыми
башнями по углам, выстланные базальтовыми пли-
тами, между которыми, впрочем, пробивалась сорная
трава. А в центре одного двора рос розовый куст —
рос с незапамятных времен посреди клумбы, хотя ни-
чего другого, напоминающего сад, там не было. Это
был обычный розовый куст, за ним ухаживал сторож;
куст засыпало снегом, поливало дождем, припекало
солнцем, а когда приходило время, на нем расцве-
тали розы. Дивные розы, великолепные по форме,
с темно-красными бархатными лепестками, радую-
щими глаз, подлинное чудо природы. Но эти розы от-
личались редкой и страшной особенностью: они не
пахли! Нет, они все-таки пахли, но по неизвестным
причинам не розами, а тлением, они испускали сла-
бый, но совершенно явственный запах тления. Все это
знали, об этом упоминалось в путеводителях, и ино-
странцы приходили во двор замка, чтобы убедиться
в этом собственным носом. А в народе шла молва,
будто где-то записано, что придет время, когда в радо-
стный день общего благоденствия розы на кусте вдруг
заблагоухают так, как им -положено от природы.
Впрочем, вполне понятно и закономерно, что не-
обыкновенный розовый куст должен был пробудить
народную фантазию. То же можно сказать и о «Со-
виной комнате», где, по слухам, было нечисто. Она
помещалась в самом безобидном месте Старого
замка, в сравнительно новой части здания —неда-
леко от парадных апартаментов и Рыцарского зала,
куда придворные обычно собирались в дни больших
выходов. Но об этой комнате ходили страшные слухи,
говорили, будто там иногда подымается стук и возня,
однако за стенами «Совиной комнаты» ничего не
слышно, и доискаться, отчего возникают стуки, было
невозможно. Божились, что этот шум сверхъесте-
ственного происхождения, и многие утверждали,
будто он появляется преимущественно перед важ-
ными и решающими для царствующей династии со-
бытиями. Понятно, что это была неразумная бол-
товня, столь же малообоснованная, как и другие
плоды народных поверий, навеянных историческими
44
или династическими настроениями, вроде того неяс-
ного пророчества, которое уже больше ста лет пере-
давалось (Из уст в уста и которое стоит упомянуть и
здесь. Изрекла его. старая цыганка; оно гласило, что
государь «с одной рукой» принесет стране величайшее
счастье. «Он даст стране одной рукой больше, чем дру-
гие двумя»,— сказала косматая старуха. В таких сло-
вах было записано ее прорицание, и в таких же сло-
вах приводили его при всяком удобном случае.
Старый замок со всех сторон обступили обще-
ственные здания, памятники, фонтаны, скверы, пло-
щади и улицы столицы, названные в честь государей,
художников, заслуженных сановников и знаменитых
горожан, —Старый и Новый город, две неравные
части, разделенные рекой с перекинутыми через нее
мостами; река, образуя широкую излучину, огибала
южную оконечность городского сада и терялась среди
холмов, опоясывающих город... Город был универси-
тетский; в его высшей школе, привлекавшей не осо-
бенно много студентов, царил старомодный идеали-
стический дух, только профессор математики, тайный
советник Клингхаммер, пользовался значительной из-
вестностью в научном мире... Придворный театр, хотя
средства на него отпускались весьма скупо, стоял на
должной высоте... Город не был чужд музыкальных,
литературных и художественных интересов... Туда на-
езжали иностранцы, которых привлекал размеренный
образ жизни и духовные блага столицы.; приезжали
и состоятельные больные, надолго снимавшие виллы
поблизости от курортного парка и в качестве хоро-
ших плательщиков пользовавшиеся почетом и уваже-
нием государства и населения.
Такова была столица. Такова была страна. Та-
ково было положение дел.
БАШМАЧНИК ГИННЕРКЕ
Второй сын великого герцога впервые выступил
как официальное лицо в день своих крестин. Это
торжество встретило во всей стране живой отклик,
45
как, впрочем, и все события, касающиеся августей^
шей семьи. Обряд крещения, распорядок которого
в течение нескольких недель обсуждался на все лады
и устно и в печати, был совершен в дворцовой церкви
президентом консистории доктором богословия Виз-
лиценуеом с должной торжественностью и, можно
сказать, публично, ибо по высочайшему повелению
обергофмаршалъская часть разослала приглашения
лицам из всех классов общества.
Господин фон Бюль цу Бюль, чрезвычайно при-
дирчивый и щепетильный блюститель придворного
этикета, в полной парадной форме дирижировал
вкупе с двумя церемониймейстерами сложным ритуа-
лом: он следил за прибытием высоких гостей в па-
радные апартаменты; за торжественным шествием,
предваряемым пажами и камергерами, по лестнице
Генриха Великолепного и по крытому переходу в цер-
ковь; за порядком впуска публики, вплоть до высо-
чайших особ; за распределением мест, даже за благо-
лепием во время обряда крещения,; за соблюдением
ранга при церемонии поздравления, которая последо-
вала сейчас же по окончании церковной службы... Он
прерывисто дышал, подобострастно извивался и
отступал, пятясь, восторженно улыбаясь и кла-
няясь.
Дворцовая церковь была декорирована расте-
ниями и коврами. На скамьях рядом с придворной и
земельной знатью, высшими и средними чиновниками
сидели, радуясь в сердце своем, представители торго-
вого сословия, крестьяне и скромные ремесленники*
А впереди у алтаря разместились полукругом в крас-
ных бархатных креслах родственники младенца, ино-
странные высочества, приглашенные в восприемники*
и лица, представляющие тех из них, кто не прибыл
лично. Шесть лет назад, на крестинах наследного
великого герцога собрание было ничуть не более бли-
стательное. Ведь второй сын своим появлением на
свет в известной мере гарантировал продолжение ди-
настии, ибо Альбрехт был слабого здоровья, великий
герцог уже в преклонном возрасте, а род Гримбургов
беден прямыми потомками по мужской линии. Ma-
46
ленький Альбрехт не принимал участия в торжестве,
он лежал в постели по причине нездоровья, которое
согласно диагнозу лейб-медика Эшриха было нерв-
ного порядка.
Доктор Визлиценус произнес проповедь на текст
из священного писания, выбранный великим герцогом
лично. «Курьер», болтливая столичная газета, по-
дробно рассказывал, как в один прекрасный день
герцог собственноручно принес из редко посещаемой
дворцовой библиотеки огромную фамильную библию
с металлическими застежками, заперся у себя в ка-
бинете, не меньше часа листал ее, затем выписал
своим карманным карандашом выбранный им стих
на листок бумаги, поставил внизу свою подпись —
«Иоганн-Альбрехт» и послал придворному проповед-
нику. Доктор Визлиценус разработал этот стих как
лейтмотив, так сказать на музыкальный манер; он
варьировал его на все лады, освещал со всех сторон;
произносил то нежно журчащим голосом, то выкри-
кивал во всю мощь своих легких; и если вначале,
когда он только создавал свой щедевр ораторского
искусства, лейтмотив, исполненный тихо и задумчиво,
звучал как схематичная, почти бестелесная тема,
к концу проповеди, когда доктор Визлиценус в по-
следний раз преподнес его собравшимся, он уже был
богато инструментован, до конца истолкован и насы-
щен жизнью. Затем приступили к самому таинству
крещения, и доктор Визлиценус совершал обряд мед-
ленно и обстоятельно, дабы ни одна деталь не про-
пала для собравшихся.
Итак, в этот день принц выступал публично в пер-
вый раз и играл первую роль — это явствовало уже
из того, что он появился на сцене последним и на
должном расстоянии от всех прочих. Он появился на
руках у обергофмейстерины баронессы фон Шулен-
бург-Трессен вслед за медленно выступавшим госпо-
дином фон Б юл ем, и глаза всех были обращены на
него. Младенец почивал среди кружев, лент и белого
шелка. Одна его ручка случайно была прикрыта
одеяльцем. Его появление умилило и обрадовало
присутствующих, а сам младенец всем очень понра-
47
вился. Несмотря на то, что он был главным дсй^
ствующим лицом и центром внимания, он вел себя
скромно, ни на что не претендовал и, в полном согла-
сии с законами природы, никакой активности не про-
являл. Заслуга его заключалась в том, что он ничему
не препятствовал, ни во что не вмешивался, не проти-
вился и — несомненно, в силу прирожденного такта —
спокойно подчинился этикету, который опекал его,
направлял и пока еще не требовал от него никаких
усилий.
Несколько раз в точно установленные моменты
церемонии он переходил из одних рук в другие. Баро-
несса фон Шуленбург с низким поклоном передала
младенца его тете Катарине, даме со строгим выра-
жением лица, с фамильными бриллиантами в куа-
фюре, но в перешитом и перекрашенном лиловом
шелковом платье. От Катарины младенца приняла
Доротея, его мать, и с горделивой и пленительной
улыбкой на прекрасных устах высоко подняла на-
встречу умиленным взорам зрителей и торжественно
держала положенный срок, а затем передала дальше*
Минуты две он лежал на руках у одной из своих ку-
зин, девочки лет одиннадцати-двенадцати, с белоку-
рыми буклями, тоненькими как палочки ножками и
голыми озябшими ручками, наряженной в белое
платье с широким красным шелковым кушаком, за-
вязанным сзади огромным торчащим бантом. Она
глядела на- церемониймейстера, и с ее остренького ли-
чика не сходило испуганное выражение.
Время от времени принц просыпался. Но мерца-
ние свечей в алтаре и радужный солнечный столб,
в котором плясали пылинки, ослепляли его, и он
снова закрывал глаза. И тут же засыпал, потому что.
в данную минуту у него ничто не болело и в голове,
не было никаких мыслей, а только приятные беспред-
метные сновидения.
Пока он спал, ему дали много имен,; но основные,
имена были: Клаус и Генрих.
И он продолжал спать в своей золоченой колы-
бельке под голубым шелковым пологом, пока семья
и родственники кушали на торжественном обеде по
48
случаю крестин в Мраморном зале, а прочие пригла-
шенные — в Рыцарском.
Газеты горячо обсуждали его первое публичное
появление; описывали его наружность и туалет и,
облекая в слова то умилительное и возвышающее
душу действие, которое произвел выход принца,
единодушно утверждали, что он поистине вел себя
достойно своего высокого назначения. Затем публика
долгое время мало слышала о нем, а он ничего не
слышал о ней.
Он еще ничего не знал, ничего не понимал, не до-
гадывался о трудности и опасности предначертанной
ему суровой жизни. Его жизненные проявления не
допускали мысли, что он чувствует себя хоть в чем.-
либо отличным от прочих смертных. Его младенче-
ское существование было безмятежным сновидением,
которое развертывалось под заботливым руковод-
ством извне в необозримо огромном мире, населен-
ном бесчисленными разноцветными призраками, и
бездействующими, и деятельными, и мимолетными, и
постоянными.
К постоянным, но далеким, очень далеким и не-
сколько смутным принадлежали родители. Что они
его родители — это было ясно, и что они важные и
ласковые — тоже. При их приближении все прочие
расступались, почтительно давая им дорогу, по кото-
рой они шествовали к нему, чтобы приласкать его и
снова исчезнуть... Ближе и явственнее других были
две женщины в белых чепцах и передниках, не-
сомненно очень добрые, простодушные и любящие;
они ухаживали за его маленьким тельцем и очень
беспокоились, когда он плакал... Близким участни-
ком его жизни был также брат Альбрехт; но Аль-
брехт был серьезен, необщителен и ушел далеко
вперед.
Когда Клаусу-Генриху исполнилось два года, ве-
ликая герцогиня снова разрешилась от бремени, и на
свет появилась принцесса. Ввиду того что она была
женского пола, в честь нее дали всего тридцать шесть
выстрелов;, при крещении ее нарекли Дитлиндой. Это
была сестра КлаусатГенриха, и ее рождение оказалось
4 Т. Манн. т. 2
49:
для него большим счастьем. Вначале она была
удивительно маленькая и ей очень легко можно было
сделать больно, но вскоре она сравнялась с ним, до-
гнала его и целый день они проводили вместе. С ней
вместе он рос, осматривался, постигал, осмысливал,
одинаково с ней воспринимал окружающий их обоих
мир.
А мир и его познавание будили мысль. Зимой они
жили в Старом замке, летом они жили в Голлер-
брунне — на берегу реки, в прохладе, в благоухании
лиловых кустов, среди которых стояли белые ста-
туи, — в летней резиденции. Когда они ехали туда
или когда папа и мама брали их с собой на прогулку
в крытом коричневым лаком экипаже с миниатюрной
золотой короной на дверцах, прочие люди останавли-
вались, кричали «ура» и кланялись, ведь папа был
герцогом и государем, а значит, они тоже были прин-
цем и принцессой — совершенно такими же, как
принцы и принцессы во французских сказках, кото-
рые им читала мадам, выписанная из Швейцарии,
Да, над этим стоило призадуматься, ведь это уж, не-
сомненно, исключительный случай. Когда другие дети
слушают сказки, они поневоле смотрят на принцев,
о которых идет речь, из некоего отдаления, как на
существа, по самому своему рангу принадлежащие не
к реальному, а к другому, празднично разукрашен-
ному миру, общение с которым облагораживает
мысли, возносит над повседневностью. А Клаус-Ген-
рих и Дитлинда смотрели на эти образы спокойно,
как на себе подобных, равных им по рождению; они
дышали одним с ними воздухом, жили, как и те,
в замке, были с ними на товарищеской ноге и, слу-
шая сказки, воображая себя их героями, не возноси-
лись над действительностью. Значит, они постоянно
и непрерывно жили на той высоте, на которую про-
чие возносились, только слушая сказки? Если бы они
могли выразить свой вопрос в словах, мадам, судя по
всему ее поведению, ни в коем случае не ответила бы
на него отрицательно.
Их мадам была вдовой пастора-кальвиниста, ко-
торую приставили к ним обоим, хотя у каждого было
50
еще по две своих личных бонны. Мадам была вся
черная и белая: чепец у нее был белый, а платье чер-
ное, лицо белое и бородавка на щеке тоже белая,
а волосы, прилизанные волосы, отливавшие металли-
ческим блеском, были и черные и белые, вперемежку.
Она была очень педантична и легко приходила
в ужас. При всяком, хоть и не опасном, но все же
недопустимом проступке она поднимала глаза к небу
и в ужасе всплескивала своими белыми руками.:
Л в особо серьезных случаях прибегала к самой крот-
кой и самой тяжелой воспитательной мере: она
«с укоризной смотрела» на детей — они позабы-
лись! Согласно полученному указанию мадам в один
прекрасный день стала звать Клауса-Генриха и Дит-
линду «ваше великогерцогское высочество» и с тех
пор еще легче приходила в ужас...
Альбрехта, того называли «ваше королевское вы-
сочество». А дети тети Катарины не принадлежали
по мужской линии к роду Гримбургов и, как выясни-
лось, пользовались поэтому меньшим почетом. Аль-
брехт был наследником престола и отцовского ти-
тула, и ему как будто даже пристало быть бледным
и замкнутым и часто лежать в постели. Он носил
австрийскую куртку с клапанами на карманах и
вздержкой сзади. У него был вытянутый назад череп,
сдавленные виски и продолговатое умное лицо. Еще
совсем маленьким он перенес тяжелую болезнь,
вследствие чего, по утверждению лейб-медика Эш-
риха, сердце у него временно «переместилось на пра-
вую сторону». Во всяком случае, он взглянул в лицо
смерти, и это, вероятно, усугубило присущую ему
гордую застенчивость. Он был чрезвычайно сдержан-
ный, холодный от застенчивости и высокомерный от
того, что он некрасив. Альбрехт слегка пришепеты-
вал, и это вгоняло его в краску, ибо он очень следил
за собой. Одна лопатка была у него немного выше
другой. Одним глазом он видел хуже другого и,
когда готовил уроки, надевал очки, от чего казался
старше и умнее... От Альбрехта ни на шаг не отходил
его воспитатель, неизменно державшийся по левую
руку от него, — доктор Фейт, господин с обвислыми,
4*
51
желтыми, как глина, усами, впалыми щеками и водя-
нистыми, неестественно выпученными глазами. Док-
тор Фейт в любое время дня был одет во все черное
и не расставался с книгой, которую, заложив указа-
тельным пальцем, держал в опущенной руке.
Клаус-Генрих чувствовал, что старший брат пре-
зирает его, и не только потому, что он моложе. Он,
Клаус-Генрих, жалостлив и легко плачет. Таков уж
он от природы. Он плачет, когда на него «смотрят
с укоризной», а когда он до крови расшиб себе лоб
об угол большого стола с игрушками, он громко раз-
ревелся от жалости к своему лбу. Альбрехт же не
плачет ни при каких обстоятельствах, — ведь он
взглянул в лицо смерти. Он чуть выпячивает корот-
кую пухлую нижнюю губу и втягивает верхнюю — и
это все. Он истый аристократ. Их мадам всегда ста-
вила его в пример, когда заходила речь о том, что
comme il faut ^ а что нет. Он ни за что не унизился
бы до беседы с принадлежащими к замку кавале-
рами в парадной экипировке, которые, собственно
говоря, были не мужчинами и не людьми, а просто-
напросто лакеями; а вот Клаус-Генрих, улучив ми-
нутку, вступал с ними в разговор. Альбрехт не был
любопытен. Во взгляде его была отчужденность, не
видно было потребности допустить до себя окружаю-
щий мир. Зато Клаус-Генрих вступал в беседу с ла-
кеями как раз потому, что у него была эта потреб-
ность, и еще потому, что у него было, возможно опас-
ное и неподобающее, однако настоятельное, желание
найти в своем сердце отклик на то, что лежит за
гранью его мира. Но лакеи, и старые и молодые, и те,
что у дверей, и те, что в коридорах, и те, что в аванза-
лах, лакеи в песочно-желтых гетрах, бархатных шта-
нах и коричневых ливреях с красновато-золотистыми
галунами, украшенными теми же миниатюрными ко-
ронами, что и дверцы экипажей, — лакеи, когда
Клаус-Генрих подходил, чтобы поговорить с ними,
вытягивались в струнку, держали по швам свои боль-
шие руки, чуть-чуть наклонялись к нему, от чего на-
1 Здесь: благопристойно (франц.)%
52
чинали болтаться их аксельбанты, и отвечали с подо-
бающей почтительностью, но маловразумительно,
особенно важным полагая титуловать его «ваше ве-
ликогерцогское высочество», и при этом они улыба-
лись с каким-то бережным сожалением, словно
хотели сказать: «Ах ты, святая простота!» Время от
времени, если представлялся случай, Клаус-Генрих
предпринимал рекогносцировки в необитаемые об-
ласти замка; когда же подросла его сестра Дитлинда,
он стал брать ее с собой.
В ту пору ему давал уроки господин Дреге, попе-
читель средних учебных заведений, назначенный его
первым учителем. Попечитель Дреге по натуре своей
был человеком положительным, трезвого ума. Его
сморщенный указательный палец, украшенный золо-
тым перстнем с печаткой, полз вдоль строки, когда
Клаус-Генрих читал, и не трогался с места, пока
слово не было прочитано. На уроки он приходил
в сюртуке и белом жилете, с ленточкой второстепен-
ного ордена в петлице, в просторных сапогах, начи-
щенных до глянца, но с голенищами того цвета, ка-
кого им положено быть от природы. У него была
седая подстриженная конусом борода, а из больших
прижатых ушей торчал седой пух. Свои каштановые
волосы он начесывал на виски загибающимися
кверху зубчиками и делал аккуратный пробор, так
что видно было желтую кожу, дырчатую, как канва.
Но сзади и с боков из-под густых каштановых волос
вылезали жидкие седые косицы. Он кивал головой
лакею, который распахивал перед ним дверь в боль-
шую классную комнату с деревянной панелью, где
его ждал Клаус-Генрих. Зато Клаусу-Генриху он кла-
нялся не на ходу и не вскользь, а весьма заметно и
проникновенно, — он приближался к нему и ждал,
когда его августейший ученик подаст ему руку, что
Клаус-Генрих и делал. И оба раза — и здороваясь и
прощаясь —Клаус-Генрих старался подражать пле-
нительно-изящному округлому жесту, каким его отец
протягивал руку стоявшим в ожидании этого мгно-
вения господам. И обе эти церемонии представлялись
Клаусу-Генриху куда важнее и существеннее того,
53
чем был заполнен промежуток между ними, то есть
самих занятий.
Попечитель Дреге приходил и уходил много-много
раз, и за это время Клаус-Генрих незаметно усвоил
всякие полезные знания,; сам того не ожидая и не
думая, он преуспел в чтении, письме и счете и мог по
первому требованию перечислить почти без ошибок
все города и местечки великого герцогства. Но, как
уже было сказано, не это представлялось ему нуж-
ным и существенным. Иногда, когда он бывал рас-
сеян во время уроков, господин Дреге увещевал его,
ссылаясь на его высокое назначение: «Ваше вы-
сокое назначение обязывает вас...» — говорил он, или:
«Это ваш долг по отношению к вашему высокому на*
значению...» Что это за назначение и почему оно вы-
сокое? Почему улыбаются лакеи: «Ах ты, святая про-
стота!» — и почему мадам приходит в такой ужас,
когда он хоть чуть-чуть даст себе волю и рас-
шалится? Он смотрел на окружающий мир и вре-
менами, когда он пристально и долго вглядывался и
старался проникнуть в сущность явлений, в нем воз-
никало смутное ощущение того «особого», для чего
он предназначен.
Как-то он зашел в одну из зал парадных апартач
ментов — в Серебряную залу, где, как он знал, вели-
кий герцог, его отец, дает торжественные аудиенции
большому кругу лиц. Он случайно очутился один
в пустом покое и теперь разглядывал его.
Стояла зима, и было холодно; его башмачки отра-
жались в блестящем, как стекло, выложенном боль-
шими светло-желтыми квадратами паркетном полу,
который расстилался перед ним словно ледяная
гладь. Потолок с посеребренными лепными украше-
ниями был очень высокий, и серебряная, густо уса-
женная длинными белыми свечами люстра, парившая
там наверху, в центре этого необъятного простран-
ства, висела на длинном-предлинном металлическом
стержне. Под самым потолком шел окаймленный
серебром бордюр с поблекшей живописью. Стены
были обтянуты белым шелком, местами порванным и
в желтоватых пятнах2 обрамленным серебряным ба-
54
гетом. Ту часть зала, где помещался камин, отделяло
от всей комнаты сооружение вроде монументального
балдахина, покоящегося на массивных серебряных
колоннах и украшенного спереди подобранной в двух
местах серебряной гирляндой, а с верхушки балда-
хина глядел в зал задрапированный искусственным
горностаем портрет давно умершей прабабки в на-
пудренном парике. Широкие посеребренные кресла,
обитые белым посекшимся шелком, стояли вокруг ис-
топленного камина. Вдоль боковых стен уходили
ввысь друг против друга вставленные в серебряные
рамы огромные зеркала со стершейся кое-где амаль-
гамой, а по бокам на широких белых мраморных кон-
солях стояли подсвечники — два справа и два слева,
те, что пониже, спереди, а те, что повыше, сзади;
в них были воткнуты свечи, так же как и в бра на
стенах, так же как и в четыре серебряных канде-
лябра по углам зала. С высоких окон на правой
стене, которые выходили на Альбрехтсплац, пыш-
ными и тяжелыми складками падали на паркет шел-
ковые белые драпри в желтых пятнах, подобранные
серебряными шнурами и подбитые кружевом; а за
окном на карнизах мягкими подушками лежал снег.
В центре зала, под люстрой, стоял стол средних раз-
меров, серебряная ножка которого изображала сучко-
ватый ствол, а восьмиугольная доска была из молоч-
но-белого перламутра, — стоял без всякой надобности,
не окруженный стульями, предназначенный самое
большее для того, чтобы во время непродолжитель-
ных торжественных аудиенций можно было на него
опереться в ту минуту, когда лакеи распахнут обе
створки двери и впустят явившихся в парадной
одежде господ.
Клаус-Генрих смотрел в зал и ясно видел, что нет
здесь ничего от той трезвой деловитости, которую,
несмотря на все свои поклоны, требовал от ученика
попечитель Дреге. Здесь царила праздничная торже-
ственность воскресного дня, совсем как в церкви, где
требования учителя были бы также неуместны. Стро-
гая отвлеченная пышность, бесцельная и неудобная,
господствовала здесь в обстановке, вся мебель была
55
расставлена в угоду формальной, самодовлеющей
симметрии... Да, конечно, это высокое и напряженное
служение, совсем не легкое и не приятное, обязываю-
щее к известной выправке, к умению владеть собой и
к самоотречению, но во имя чего? Выразить это сло-
вами было невозможно. И в Серебряном зале со мно-
жеством свечей было холодно, как в зале снежной
королевы, где замерзали сердца детей.
Клаус-Генрих прошел по зеркальной глади к столу
в центре комнаты. Он слегка оперся правой рукой
о перламутровую крышку, а левой подбоченился, не
выставляя руки вперед, так, чтобы она была почти
за спиной и чтобы спереди ее не было видно,; потому
что левая рука у него некрасивая: коричневая и
сморщенная и короче правой. Он перенес всю тя-
жесть тела на одну ногу, а другую выставил немного
вперед и устремил взор на украшенную серебром
дверь. И место и поза не располагали к сновиде-
ниям, и все же он видел сны.
Он видел отца и всматривался в него, как перед
тем в зал, чтобы понять. Он видел усталый высоко-
мерный взгляд его выцветших глаз, надменные угрю-
мые морщины, которые шли от ноздрей к подбородку
и в минуты раздражения или скуки становились
глубже и длиннее... Заговорить с ним, так просто
взять и заговорить, не дожидаясь, пока он задаст
вопрос, — нельзя, даже им, его детям, это запрещено,,
это опасно. Он, правда, ответит, но холодно и от-
чужденно, и на лице у него появится беспомощное
выражение, мгновенное замешательство, глубоко по-
нятное Клаусу-Генриху.
Папа сам начинает и кончает разговор. Так это
заведено. Он милостиво беседует с приглашенными
перед началом придворного бала и по окончании па-
радного обеда, которым открывается зимний сезон*
Вот он идет вместе с мамой по анфиладе комнат в
зал, где собрались придворные чины, идет через Мра-
морный зал и парадные апартаменты, через картин-
ную галерею, Рыцарский зал, зал Двенадцати меся-
цев, аудиенцзал и бальный зал, идет не только
в установленном направлении, но и по установлен-
56
ному маршруту, и путь для него заранее очищает
услужливый господин фон Бюль, идет и обращается
с милостивыми словами к дамам и господам. Тот,
с кем он заговорит, отступает с низким поклоном,—
так, чтобы между ним и папой остался порядочный
кусок блестящего паркета, — и, осчастливленный,
почтительно отвечает. Затем папа кланяется, соблю-
дая все ту же дистанцию, предписанную соображе-
ниями безопасности, — она ограничивает движения
прочих и выгодно оттеняет папину осанку, — кла-
няется слегка и с улыбкой следует дальше, кланяется
слегка, с улыбкой... Ну конечно же, он, Клаус-Генрих,
понимает замешательство, на мгновение изменявшее
выражение папиного лица, если кто-нибудь, забыв об
этикете, заговаривал с ним первый, понимает, и ему
тоже в таких случаях становится страшно! Всякое
грубое прикосновение больно задевает, ставит под
угрозу то неуловимое, чем продиктовано наше пове-
дение, и мы теряемся. И все-таки как раз это нечто
неуловимое придает усталое выражение нашим гла-
зам и прокладывает такие глубокие морщины скуки
на нашем лице...
Клаус-Генрих стоял и смотрел. Он видел свою
мать, видел ее прославленную, всеми признанную
красоту. Он видел, как она стоит в robe. de céré-
monie * перед большим освещенным свечами зерка-
лом, одеваясь к придворному балу, — ему иногда
разрешается присутствовать при том, как придвор-
ный куафер и камеристки заканчивают ее туалет.
Господин фон Кнобельсдорф тоже присутствует,
когда маму украшают коронными бриллиантами, он
следит и записывает, какие драгоценности взяты.
Вокруг его глаз играют морщинки^ и он смешит маму
забавными словечками, от чего у нее на нежных ще-
ках обозначаются очаровательные ямочки. Но смех
ее деланный, снисходительный смех, и, смеясь, мама
смотрится в зеркало, словно практикуясь.
Говорят, будто у нее в жилах течет и славянская
кровь, вот потому-то ее синие глаза и мерцают таким
1 Парадном придворном платье (франц.)*.
57
ласковым блеском, а ее ароматные волосы черны,
как ночь. Клаус-Генрих слышал, как говорили, что
он на нее похож; во всяком случае у него тоже си-
ние, как сталь, глаза и темные волосы, а Альбрехт
и Дитлинда блондины, такие же, каким прежде был
папа, до того как поседел. Но Клаус-Генрих совсем
не красив, потому что у него широкие скулы, а глав-
ное— это левая рука; мама требует, чтобы он ее
ловко прятал: держал в боковом кармане курточки,
за спиной или спереди за пазухой; требует, чтобы он
ее прятал как раз тогда, когда он в порыве нежности
хочет обнять маму обеими руками. Взгляд ее холо-
ден, когда она требует, чтобы он не забывал о руке.
Он видел мать такой, как на портрете в Мрамор-
ном зале: в переливчатой шелковой робе с кружевом
и в длинных перчатках — между перчаткой и пыш-
ным рукавом светится только узенькая полосочка ее
жемчужно-белой руки — в темных, как ночь, волосах
диадема,; вот она — гордая и великолепная, на уди-
вительно строгих устах играет холодная улыбка уве-
ренной в своем совершенстве красавицы, а за ней
павлин с голубой, отливающей металлическим блес-
ком шеей распустил свой спесивый хвост. Лицо у нее
такое нежное, но красота делает его холодным, и
видно, что и сердце у нее холодное, и заботится она
только о своей красоте. Если вечером предстоит бал
или раут, она спит днем и, чтобы не отяжелять же-
лудка, кушает только гоголь-моголь. А вечером, осле-
пительно прекрасная, проходит под руку с папой
анфиладой зал по предписанному этикетом пути, — и
седые сановники краснеют, когда она удостаивает их
словом; а потом «Курьер» пишет, что ее королевское
высочество была царицей бала не только по своему
высокому рангу. Да, где бы она ни появлялась, при
дворе, на улице, на каждодневной прогулке в город-
ском саду, пешком или в экипаже, — все осчастли-
влены ее появлением, у всех на щеках вспыхивает
румянец. Ее встречают цветами, приветственными
кликами, к ней устремляются все сердца. И ясно, что8
славя ее высочество, они и сами возносятся на вы-
соту и верят в это мгновение во все высокое, Но
58
Клаус-Генрих отлично знает, что мама проводит дол-
гие часы, старательно изучая свою красоту, что ее
улыбки и поклоны продуманы и затвержены и что ее
собственное сердце никогда и ни для кого не забьется
сильнее.
Любит ли она кого-нибудь? Хотя бы его, Клауса-
Генриха? Ведь он же похож на нее! Ну да, конечно,
любит, когда не занята ничем другим, любит и тогда,
когда холодно напоминает ему о руке. Но она как
будто приберегает нежные слова и ласки для тех
случаев, когда есть кому умиляться на такое назида-
тельное зрелище. Клаус-Генрих и Дитлинда не часто
бывают с матерью, ведь они не обедают за одним
столом с родителями, как с некоторых пор обедает
Альбрехт, престолонаследник; они кушают отдельно
со своей мадам; а когда их зовут в мамины апарта-
менты— это бывает не чаще чем раз в неделю,—
дело обходится без всяких нежностей. Мама спо-
койно задает вопросы, они отвечают, как полагается
воспитанным детям, и важно только одно: чинно си-
деть в кресле и не расплескать чашку с молоком.
Зато во время концертов, которые бывают через чет-
верг в Мраморном зале и называются «четвергами
великой герцогини», Клаусу-Генриху и Дитлинде,
разодетым по этому случаю, разрешается прослу-
шать один номер программы и провести антракт
в зале вместе с гостями, сидящими за красными бар-
хатными на золоченых ножках столиками, в то время
как солист его высочества, господин Шрам из при-
дворной оперы, поет под аккомпанемент рояля так
громко, что надуваются жилы на его лысом темени-
Вот тут мама демонстрирует свою нежную любовь
к детям, демонстрирует им и всем прочим так
искренне и выразительно, что усомниться в ее любви
невозможно. Она подзывает их к своему столику,
сияя от счастья, ставит по обе стороны от себя, при-
жимает их головки к груди или плечу, ласковым,
умиленным взглядом смотрит им в глаза и целует
в лоб и в губы. Дамы меж тем склоняют на плечо
голову, растроганно улыбаются и быстро-быстро мор-
гаю^ а господа медленно кивают головой и кусают
59
усы, дабы, как то полагается мужчинам, побороть
обуревающие их чувства. Да, картина получалась
поистине умилительная, и дети чувствовали, что и
они играют здесь не малую роль и что самые сла-
достные романсы господина Шрама не могут произ-
вести такого сильного впечатления, и с гордостью
прижимались к маме. Для Клауса-Генриха, во вся-
ком случае, было ясно: нам, по нашему положению,
не пристало просто чувствовать и довольствоваться
своим чувством. Нет, нам подобает демонстрировать
нашу нежную любовь гостям, присутствующим
в зале, — пусть смотрят на нас и умиляются сердцем.
Иногда и народу на улицах и гуляющим в парке
доводится видеть, как мама нас любит. Альбрехт
сопровождает на утреннюю прогулку, — в экипаже
или верхом, несмотря на то, что он очень плохо си-
дит в седле, — великого герцога, зато Клауса-Ген-
риха и Дитлинду, по очереди, иногда берет с собой
мама, когда весною и осенью выезжает под вечер на
прогулку в сопровождении баронессы фон Шулен-
бург-Трессен. Клаус-Генрих всегда бывал возбужден
и взволнован перед этими прогулками, которые не
только не доставляли ему удовольствия, а, наоборот,
утомляли и требовали напряжения сил. Потому что,
когда коляска выезжала из ворот со львами ка
Альбрехтсплац, мимо салютующих гренадеров, ее
встречала толпа: мужчины, женщины и дети, они
кричали «ура!» и жадно смотрели, и надо было все
время следить за собой, делать приятное лицо, улы-
баться, прятать левую руку и приподымать шляпу,
вызывая восторг в народе. И так все время — и пока
едут по городу и уже за городом. Другие экипажи
должны держаться на известном расстоянии от нас,
за этим смотрит полиция. Но пешеходы стоят по обе
стороны дороги, дамы низко приседают, господа дер-
жат в руке шляпу и смотрят снизу вверх с благогове-
нием и острым любопытством — и Клаус-Генрих был
убежден: народ для того и существует, чтобы стоять
там и смотреть на него, а он существует для того,
чтобы показываться народу и чтобы на него смо-
трели, а это куда труднее. Он держит левую руку
60
в кармане пальто и улыбается, как велела мама,
а щеки у него горят. На следующий день «Курьер»
сообщает, что у нашего маленького герцога на щеч-
ках играет румянец, а сам он пышет здоровьем.
Клаусу-Генриху было тринадцать лет, когда он
стоял у одинокого перламутрового столика в центре
холодного Серебряного зала и старался понять, что
же это такое то «особое», что является его уделом.
И когда ему приоткрылся внутренний смысл явлений,
когда он смутно понял, зачем это пустое, обветшалое
великолепие покоев, бесполезных и безрадостных
в своей гордыне, это самоотверженное умение вла-
деть собой, высокое и напряженное служение, кото-
рое, казалось, олицетворяла строгая симметрия бе-
лых свечей,; откуда выражение мимолетной растерян-
ности на лице отца, если кто-нибудь сам, первый
обращался к нему, чем объясняются улыбка матери,
предоставлявшей любоваться своей холодной, забот-
ливо выхоленной красотой, благоговейные и назой-
ливо любопытные взгляды людей на улице, — когда
он это понял, им овладело предчувствие, неоформлен-
ное в слова, сознание того, для чего он существует.
И ему стало страшно своего назначения, его охва-
тил трепет, он ужаснулся своего «высокого при-
звания» и, закрыв лицо обеими руками, обеими, — и
короткой, сморщенной левой тоже, — склонился на
одинокий столик и горько заплакал. Он плакал от
жалости к себе и к своему сердцу до тех пор, пока не
пришла мадам, и не подняла глаза к небу, и не
всплеснула руками, и, допрашивая, не увела его
прочь... Он сказал, что испугался, и это была правда,
Клаус-Генрих не знал, не понимал, не подозревал,
какая ему предстоит многотрудная и суровая жизнь;
он был веселым, шаловливым мальчиком и часто да-
вал мадам повод ужасаться. Но уже очень рано на-
чали накапливаться у него впечатления, которые не
позволяли ему закрывать глаза на подлинное положе-
ние вещей. В северном предместье неподалеку от
курортного парка возникла новая улица; ему сооб-
щили, что магистрат постановил назвать ее улицей
Клауса-Генриха, Во время одной из прогулок мать
61
заехала вместе с ним в художественный магазин; ей
надо было что-то купить. Лакей дожидался их
у дверцы коляски. Собралась публика, осчастливлен-
ный хозяин магазина не знал, чем услужить, — но-
вого в этом ничего не было. Но Клаус-Генрих впер-
вые заметил, что в витрине выставлена его фотогра-
фия. Она висела рядом с портретами художников и
великих людей, людей со светлым челом, глядящих
на мир из своего славного одиночества.
В общем, Клаусом-Генрихом были довольны. Он
все лучше и лучше усваивал умение держать себя и
спокойную осанку, ибо понимал, к чему обязывает
его высокое призвание. Но необычно было то, что
наряду с этим росла в нем потребность уклониться
в сторону, жажда «познать», для удовлетворения ко-
торой попечитель Дреге был неподходящим челове-
ком, — именно эта потребность и побудила его тогда
поговорить с лакеями. Больше он этого не делал,;
разговоры не привели ни к чему. Лакеи улыбались;
«Ах ты, святая простота!» — их улыбки только укре-
пляли его в смутном сознании, что его мир — мир
торжественной симметрии свечей — неведомо почему
противопоставлен прочему миру; укрепляли, но не
помогали. Во время прогулок в экипаже и пешком
в городском саду с Дитлиндой и с их мадам, в со-
провождении лакея, он вглядывался во все вокруг,
Он чувствовал: если все объединились против него,;
чтобы смотреть, а он один обособлен, выделен, чтобы
смотрели на него, значит он не причастен к их жизни
и делам. Он догадывался, что они вряд ли всегда
такие, какими видит их он, когда они стоят и с бла-
гоговением смотрят на него; что, должно быть, его
«святая простота» — причина их благогов€Йных взо-
ров, что мысли их облагораживаются, а сами они
поднимаются над повседневностью, совсем как те
дети, которые слушают про сказочных принцев. Но
он не знал, какие они обычно, когда ничто не подни-
мает их над повседневностью, не облагораживает, —■
его «высокое назначение» скрывало от него обыден-
ную сторону жизни, а раз это так, его желание ближе
соприкоснуться с тем, что именно из-за его высокого
62
назначения от него скрыто, — опасное и неподобаю-
щее желание. И все-таки он этого желал, желал рев-
ностно, все из той же потребности уклониться в сто-
рону, потребности, которая временами, когда пред-
ставлялся случай, побуждала его отваживаться
вместе с сестрой Дитлиндой на рекогносцировки
в необитаемые области Старого замка.
Они называли это «отправляться на разведки», и
соблазн «отправиться на разведки» был велик —
ведь освоиться с планом и структурой Старого замка
было совсем нелегко, и всякий раз, как им удавалось
проникнуть в неведомые дали, они открывали ком-
наты, кладовые и пустые залы, которых никогда
раньше не видели, а иногда и необычные кружные
пути в уже знакомые комнаты. И вот однажды во
время такой разведки произошла неожиданная
встреча, они наткнулись на приключение, само по
себе как будто и не особо важное, но для Клауса-
Генриха оказавшееся и волнующим и поучитель-
ным.
Их мадам отлучилась в церковь к вечерней
службе, и случай представился. Детей позвали к ве-
ликой герцогине, где в присутствии двух статс-дам
они выпили свою порцию молока, налитого в чайные
чашки; а затем их отправили обратно, наказав
взяться за руки и идти играть к себе в детскую, на-
ходившуюся неподалеку. Ему, Клаусу-Генриху, про-
вожатые не нужны, он уже большой и сам доведет
Дитлинду. Да, это правда, он уже большой; и, выйдя
в коридор, он сказал:
— Послушай, Дитлинда, мы, конечно, пойдем
в детскую, но, знаешь, идти по короткой, уже надоев-
шей дороге не стоит. Давай сперва отправимся на
разведки. Если подняться лестницей выше и пройти
по коридору до сводчатых переходов, то попадешь
в зал с колоннами. А в зале с колоннами за одной
из дверей есть винтовая лестница. Если взобраться
по ней, то очутишься в комнате с деревянным потол-
ком, а там куча всяких замечательных вещей. А что
дальше за этой комнатой, я еще не знаю, вот это мы
и исследуем, Ну4 как, идем?
63
— Да, идем, — сказала Дйтлинда, -*- только не
очень далеко, Клаус-Генрих, и не туда, где очень
много пыли, потому что на моем платье все заметно.
Она была в темно-красном бархатном платьице;
с атласной отделкой того же цвета. В то время у нее
еще были ямочки на локтях и золотистые волосы,
закрученные над ушами в локоны, как рога у ба-
рана. Впоследствии она превратилась в худощавую
пепельную блондинку. И у нее тоже было отцовское
широкое и скуластое Лицо, типичное для их народа,
но такое нежное по очертанию, что это ничуть не
портило изящество его овала. А у Клауса-Генриха
скулы были резко очерчены и сильно выражены, и
даже казалось, что из-за скул не хватило места для
его стальных синих глаз и разрез их сузился и удли-
нился. Его темные волосы были причесаны на косой
пробор; на висках аккуратно подстрижены под пря-
мым углом, откинуты со лба и приглажены щеткой-
На нем была открытая курточка с белым отложным
воротником и доверху застегнутый жилет. Правой
рукой он вел за ручку Дитлинду, а левая, сухая и
короткая с коричневатой, сморщенной и плохо разви-
той кистью, болталась вдоль тела. Он был рад, что
может не думать о ней, не заботиться, как ее лучше
спрятать, ведь сейчас никто не смотрит на него,
никто не жаждет облагородиться и подняться над
повседневностью, он сам может смотреть и постигать
сколько душе угодно.
Итак, они последовали своему желанию и отпра-
вились на разведки. В коридорах было пусто, иногда
только где-то в отдалении виднелся лакей. Они
поднялись по лестнице и дошли по коридору до свод-
чатых переходов, — значит, теперь они очутились
в той части замка, которая была построена во вре-
мена Иоганна !Жестокого и Генриха Смиренного, что
знал и объяснил Дитлинде Клаус-Генрих. Они дошли
до зала с колоннами, и тут Клаус-Генрих быстро на-
свистал мелодию, и к аркам крестового свода воз-1
несся звонкий аккорд, ибо, когда звучала последняя
нота, еще не замолкли отголоски первых. Они вска-
раокались ощупью, а кое-где и на четвереньках по
6*
каменной винтовой лестнице, находившейся за одной
из тяжелых дверей, и попали в комнату с деревян-
ным потолком, где нашли много редкостных предме-
тов. Там были большие и нескладные поломанные
ружья с ржавыми замками, вероятно уж очень пло-
хие и потому не взятые в музей, и вышедшее в от-
ставку, покрытое порванной красной бархатной обив-
кой тронное кресло на коротких, сильно выгнутых
ножках в виде львиных лап и с двумя купидонами,
которые парили над спинкой, держа в руках корону..
А потом там был какой-то сильно погнутый и зарос-
ший пылью предмет, похожий на клетку и препро-
тивный с виду, который надолго привлек их внима-
ние. Если они правильно догадались — так это
крысоловка, вон там железный крючок, на который
нацепляют сало, и страшно даже подумать, как эта
дверка захлопывалась за большой злющей крысой...
Да, на крысоловку ушло много времени, и когда дети
наконец оторвались от нее, лица у них были разгоря-
ченные, а сами они-—в пыли и ржавчине. Клаус-
Генрих отряхнул платье и себе и Дитлинде, но толку
от этого было мало, потому что руки у. него тоже
были серые от пыли. И вдруг они заметили, что уже
темнеет. Надо было спешить обратно, Дитлинде
стало страшно. Она настойчиво просилась домой:
слишком поздно, дальше идти нельзя.
— Ужасно жалко, — сказал Клаус-Генрих. — Кто
знает, что бы еще мы открыли, Дитлинда; и когда
теперь будет случай отправиться на разведки!
Но все же он пошел за сестрой, они второпях спу-
стились по винтовой лестнице, прошли зал с колон-
нами и вышли в сводчатый коридор, а оттуда, дер-
жась за руки, поспешили домой.
Так они прошли часть пути; но Клаус-Генрих ка-
чал головой: ему казалось, что сюда они шли не этой
дорогой. Они продолжали свой путь, хотя по многим
признакам было ясно, что идут они не туда, куда надо.
Вот эта каменная скамья с головами грифонов здесь
тогда не стояла. Это стрельчатое окно выходит те-
перь на западную, низкую часть города, а не на вну-
тренний двор с розовым кустом. Они ааблудились,
5 Т. Майн, т. 2
65
незачем обманывать себя дольше; верно, они вышли
из зала с колоннами не через ту дверь, во всяком
случае теперь они окончательно сбились с пути.
Они пошли обратно, но возвращаться далеко на-
зад побоялись, и потому предпочли опять повернуть
и, раз уж вступили на эту дорогу, идти по ней
дальше. Они шли по давно не проветривавшимся ком-
натам, с большими, никем не потревоженными паути-
нами по углам,; они шли и волновались; Дитлинда
раскаивалась, что пошла, и, казалось, вот-вот разре-
вется. А что, если их хватятся, если будут «с укориз-
ной смотреть на них», а то еще обо всем расскажут
великому герцогу; им нипочем не найти дороги, о них
забудут, и они умрут с голоду... А где крысоловки,
там и крысы, да, Клаус-Генрих, там и крысы...
Клаус-Генрих утешал сестру. Надо только дойти до
того места, где висят на стене латы и скрещенные
знамена; оттуда он уж наверное найдет дорогу*
И вдруг, — они как раз завернули за угол кори-
дора,— вдруг случилось что-то страшное. Они оце-
пенели.
Нет, они услышали не отзвук собственных шагов;
это другие, чужие шаги, тяжелее, чем у них, шаги
приближались им навстречу, то быстрые, то неуве-
ренные, и одновременно слышалось какое-то сопение
и бормотание, от которого стыла кровь в жилах. Дит-
линда чуть не убежала со страха, но Клаус-Генрих
крепко держал ее за руку, и они остановились, ши-
роко открыв испуганные глаза, и ждали, когда надви-
нется то, что надвигалось.
Оказалось, что это человек, его уже было видно,
хоть и стемнело, и, собственно говоря, в нем не было
ничего страшного: коренастый человек, одетый как
отставной служака в праздничный день, в сюртуке
старомодного покроя, с шерстяным шарфом на шее и
медалью на груди. В одной руке он держал цилиндр
с загнутыми полями, в другой кое-как свернутый
зонт с костяной ручкой, равномерный стук которого
о каменные плиты вторил его шагам. Редкие седые
волосы были зачесаны от уха вверх и наискось и
слипшимися косицами шли через всю лысину, У него
66
были черные брови дугой, желтовато-белая борода,
которая росла так же, как у великого герцога, тяже-
лые веки и голубые выцветшие глаза с дряблыми
мешками под ними,; у него были типичные для жите-
лей здешних мест скулы, а его раскрасневшееся мор-
щинистое лицо, казалось, было все в трещинах. Он,
должно быть, узнал детей, потому что, подойдя
ближе, прижался к стене, стал во фронт и принялся
отвешивать один за одним низкие поклоны, каждый
раз быстро выбрасывая вперед весь корпус, и при
этом он почтительно улыбался, а цилиндр держал
перед собой, тулией вниз. Клаус-Генрих хотел пройти
мимо, кивнув головой, но в удивлении остановился,
ибо отставной служака вдруг заговорил.
— Прошу прощения! — громко выпалил он, а за-
тем продолжал уже спокойнее: — Покорнейше прошу
прощения, молодые господа! Не прогневайтесь, что
я взял на себя смелость обратиться к вам с нижай-
шей просьбой: ежели будет на то ваша милость,
укажите мне ближайшую дорогу к ближайшему
выходу. Не обязательно к выходу на Альбрехтс-
плац, — все равно куда, пусть не на Альбрехтсплац.
Любой выход из замка, ежели только вы не сочтете
для себя за обиду, что я осмеливаюсь докучать
вам.
Клаус-Генрих подбоченился левой рукой, так что
ее почти не было видно, и стоял, опустив глаза,
С ним заговорили так просто, взяли и заговорили,
в неподобающей форме задали напрямик вопрос; он
вспомнил отца и сдвинул брови. Он напряженно ду-
мал, как выйти из такого неловкого и непредусмо-
тренного положения. Альбрехт, тот сделал бы обыч-
ную гримаску, выпятил нижнюю, короткую и пухлую
губу, втянул верхнюю и молча пошел бы своей доро-
гой, — это уж наверняка. Но ежели ты хочешъ
с надменным и обиженным видом пройти мимо пер-
вого же серьезного приключения, то незачем тогда
было отправляться на разведки! А человек это чест-
ный и ничего дурного не замышляет, это Клаус-Ген-
рих увидел, когда заставил себя посмотреть на негое
И тогда он просто сказал:
5*
67
— Пойдемте с нами, так будет лучше всего.
Я охотно покажу вам, где надо свернуть к выходу.
И они пошли вместе.
— Благодарствуйте!— сказал человек. — От всей
души благодарю за любезность! Мне и не снилось*
это уж как бог свят, что доведется гулять по Ста-
рому замку с великогерцогскими детками. А ведь
вот же — довелось, и когда — когда я чуть не лопнул
со злости, а обозлился я здорово, что греха таить...
да, чуть не лопнул со злости... и вдруг такая мне
честь, такая радость.,
Клаусу-Генриху очень хотелось спросить, что так
разозлило старика. Но тот уже сам продолжал и при
этом стучал зонтом по плитам в такт своим словам,
— Хоть здесь в коридорах и темновато, я сейчас
же признал в вас деток нашего герцога, небось не
раз видел, как вы катались в коляске, и всегда на
вас радовался, у меня ведь у самого тоже двое таких
клопов растет, я хотел сказать, что это у меня
клопы-то, что мои... и мальчишку тоже Клаусом-Ген-
рихом зовут,
— Совсем как меня, —обрадовался Клаус-Ген-
рих. — Вот приятное совпадение!
— Совпадение?! — Нет! В вашу честь назвали! -т-
сказал старик. — Какое тут совпадение, раз он в вашу
честь назван, ведь мой-то всего на несколько месяцев
вас моложе, в нашем городе и во всем государстве
многих так зовут, и все в вашу честь названы. Какое
уж там совпадение. Совпадение тут ни при чем...
Клаус-Генрих спрятал руку и промолчал.
— Да, сразу признал, — сказал старик. — И по-
думал: слава богу, думаю, вот это называется — не
везло, не везло, да вдруг повезло, залез старый ду-
рак в мышеловку, а они тебя выручат, теперь мо-
жешь радоваться, думаю, не ты первый так вло-
пался. Многих эти стервецы облапошили, да только
не всем такое счастье, как мне...
«Стервецы»? — повторил про себя Клаус-Ген-
рих,—«Облапошили»?» Он уставился в одну точку
и не решался задать вопрос. Страх и надежда охва-
тили его.., Он тихонько спросил:
68
— Кто вас облапошил?
— Прямо сказать, одурачили! — подхватил ста-
рик. — Одурачили, да еще как ловко! Одно скажу —
хоть вы и молоды, а мои слова вам на пользу пой-
дут, — одно скажу: очень здесь народ испоганился.
Приходишь и сдаешь заказ, со всем, можно сказать,
нашим уважением... Господи помилуй! — вдруг крик-
нул старик и хлопнул себя цилиндром по лбу. — Да
ведь я вам не представился, не объяснил кто я? Гин-
нерке! — сказал он. — Хозяин башмачной мастерской
Гиннерке, поставщик двора, служил в армии, имею
награды. — Он ткнул указательным пальцем своей
большой, заскорузлой, в желтоватых пятнах руки
себе в грудь, где висела медаль. — Дело в том, что
его королевское высочество, ваш папаша, соизволили
заказать мне сапоги, ботфорты с крепким задником
для шпор, лакированные ботфорты, и чтоб кожа —
первый сорт. Вот я их и сшил, собственными руками,
никому не доверил, чтоб все в аккурате было; се-
годня я их закончил, страсть как блестят. Ну, думаю,
надо самому снести... у меня по заказчикам мальчик
ходит, но тут, думаю, надо самому снести, сапоги-то
не для кого-нибудь, а для великого герцога. Ну, оде-
ваюсь, сапоги под мышку и — в замок. «Хорошо», —
говорят лакеи и хотят взять сапоги. «Ну, нет», —
говорю, потому у меня к ним доверия нет. Я, изво-
лите видеть, звание придворного поставщика и за-
казы потому получил, что обо мне в городе хорошая
слава идет, а не потому, что я дворцовым лакеям
деньги давал. Да уж очень их поставщики чаевыми
набаловали, ну и с меня захотели комиссионные по-
лучить. «Ну, нет, — говорю, потому я плутней и вся-
кого шахер-махерства не люблю, — я хочу передать
сапоги лично, и уж если не в собственные руки вели-
кому герцогу, так его камердинеру, господину
Пралю». Они обозлились, но говорят: «Тогда вам
надо наверх подняться!» Поднялся. А там наверху
опять лакеи. «Хорошо!»—говорят и хотят взять са-
поги, но я стою на своем, требую господина Праля.
Они говорят: «Господин Праль пьет кофе», но я не
сдаюсь, — в таком случае, говорю, обождем, пока он
69
напьется. И только я это сказал — глядь, кто это там
в башмаках с пряжками идет? Так и есть — сам ка-
мердинер Праль. Увидел меня, я отдал ему сапоги,
ну, сказал там все, что полагается; он говорит: «Хо-
рошо»,— да еще прибавил: «Отличные сапожки!» Кив-
нул головой и понес сапоги. Теперь я был спокоен,—
на Праля положиться можно, — и уже хотел идти.
«Эй, господин Гиннерке, — крикнул мне вдогонку один
из лакеев, — вы не туда пошли!» — «Ах ты черт»,—
говорю, повернулся и пошел в другую сторону. Вот
тут-то я и свалял дурака,; они надо мной подшутили,
а я попер куда не надо. Прошел немного, опять,
вижу, лакей стоит, спрашиваю, где выход на Аль-
брехтсплац. Да только он сразу смекнул, в чем тут
дело, и говорит: «Сперва подымитесь наверх, а потом
идите все влево, а потом спуститесь вниз, так вам
будет много ближе!» Я поверил, что это он из любез-
ности, и все, как он сказал, так и сделал, да только
пуще запутался, а потом и совсем сбился с панта-
лыку. Тут-то я и понял, что не моя в том вина,
а всему эти стервецы причиной, и вспомнил, что
люди рассказывали, будто они всегда так делают:
если какой поставщик им на чай не даст, они его до
седьмого пота загоняют. От злости мне последний ум
отшибло, в такие я места забрел, где ни одной живой
души нет, и туда и сюда тыкаюсь, никак не найду
выхода, просто жуть берет. И вдруг повстречал де-
ток нашего герцога. Да, вот как оно с сапогамн-то
вышло!—закончил башмачник Гиннерке и обтер лоб
рукою.
Клаус-Генрих сжимал ручку Дитлинды. Сердце
его так сильно колотилось в груди, что он совсем по-
забыл о левой руке. Вот оно! Вот наконец «то»,
пускай еще не все «то», пускай только немного,
только одна черточка! Да, конечно, это и есть кусочек
того, что скрыто от него, Клауса-Генриха, его «высо-
ким назначением», кусочек жизни, жизни повседнев-
ной, без прикрас! Лакеи... Он молчал, не мог выго-
ворить ни слова.
— Вот вы и приумолкли, господа, — сказал баш-
мачник Гиннерке, Несмотря на его простодушную
70
речь, в голосе его звучало беспокойство. — Напрасно
я вам рассказал, не для ваших это ушей, незачем
вам такие пакости знать. А может быть, и не на-
прасно, — прибавил он, склонив голову набок и при-
щелкнув пальцами, — может быть, это вам и приго-
дится, может быть, очень даже пригодится позднее,
в дальнейшем...
— Лакеи... — начал Клаус-Генрих и вдруг реши-
тельно выпалил: — Лакеи очень плохие люди? Могу
себе представить...
— Плохие?— подхватил башмачник. — Мерзавцы,
вот они кто. Самое для них подходящее слово.
Знаете, что они делают? Если им мало на чай дать,
они задержат товары, в срок, точно в срок доста-
вленные во дворец, и отдадут их с большим опозда-
нием, а виноватым останется поставщик. Их королев-
ские высочества сочтут его неисполнительным и пере-
дадут заказы другому. Вот как лакеи делают, они и
не так еще своевольничают, и всему городу это из-
вестно...
— Да, это очень плохо! — сказал Клаус-Генрих,
Он слушал и слушал, сам еще не осознав, как он по-
трясен. — Должно быть, они много такого делают?
Я уверен, они и не то еще делают...
— Будьте покойны! — усмехнулся старик. — Нет,
они своего не упустят, совести у них нет. Взять
хотя бы фокус с дверьми... вот что они проделывают:
скажем, допустят кого к вашему папаше, а нашему
всемилостивейшему герцогу, на аудиенцию, а проси-
тель-то новичок и никогда раньше при дворе не бывал.:
Ну, конечно, явится он во фраке, самого то в жар,
то в холод бросает, — это ведь не шутка в первый
раз предстать пред его королевским высочеством.
Лакеи, конечно, ухмыляются, они-то здесь люди при-
вычные, провожают его в приемную, а он от страха
себя не помнит, ну и позабудет им на чай дать. Вот
наконец пришла долгожданная минута, адъютант на-
зывает его фамилию, и лакеи впускают его в ком-
нату, где изволит ожидать великий герцог. Новичок
стоит перед герцогом и кланяется и отвечает на во-
просы, а великий герцог милостиво подает ему руку;
71
аудиенция закончена, и он отступает, лицом к гер-
цогу, и думает — дверь у него за спиной уже от-
крыта, как ему твердо было обещано. А дверь не от-
крыта^ лакеи, изволите ли видеть, на него прогнева-
лись за то, что он им на чай не дал, стоят за дверью
и в ус не дуют. А ему повернуться нельзя, никак
нельзя, потому что нельзя ему к герцогу спиной стать,
ведь это грубое нарушение этикета и оскорбление
высочайшей особы. Вон он и шарит рукой за спиной,
старается поймать ручку двери и никак ее не найдет,
и так и этак пробует, и мнется у двери, а когда нако-
нец с божьей помощью нащупает ручку, так оказы-
вается ручка-то старомодного образца, он не умеет
с ней обращаться, и вертит, и нажимает, и дергает,
мука с ней мученическая, а сам от смущения все кла-
няется, иной раз всемилостивейшему государю соб-
ственноручно приходится его выпускать. Да, вот оно
какой фокус с дверью бывает! Это еще что, вот я сей-
час расскажу...
За разговором они не замечали дороги. Не-
сколько раз спускались по лестницам и в конце кон-
цов очутились в нижнем этаже, недалеко от выхода
на Альбрехтсплац. Тут они увидели шедшего им на-
встречу Эйермана, камер-лакея великой герцогини,
того, что с бачками и в фиолетовом фраке. Эйермана
послали на поиски их великогерцогских высочеств.
Уже издали он с сокрушением качал головой и вытя-
гивал губы трубочкой. Но, увидя башмачника Гин-
нерке, который шел вместе с детьми, постукивая зон-
тиком, он потерял контроль над своим лицом, оно
сразу как-то обмякло и стало глупым.
Эйерман так быстро отстранил башмачника от их
великогерцогских высочеств, что для благодарности
и прощания не осталось времени. Он отвел детей,
предвидевших грозу, наверх, в детскую, к их мадам..
Она подняла глаза к небу и всплеснула руками,
что относилось и к их отлучке и к состоянию их
платья. Затем последовало наихудшее: она «с уко-
ризной смотрела на них». Но Клаус-Генрих не про-
явил особого сокрушения. Он думал: «Лакеи... они
улыбаются: «Ах ты, святая простота!» — а сами берут
72
взятки; и по их милости те поставщики, что не дали
им денег, блуждают по коридорам или отвечают за
то, что лакеи задерживают их товары, по их милости
человек мучается, не зная, как ему выйти после
аудиенции, потому что они не распахнули дверей.
И это в замке, а что же делается кругом? Вне его
стен, среди.тех людей, что с благоговением, из отда-
ления смотрят на него, когда он, кланяясь, проез-
жает мимо... Но как же осмелился башмачник рас-
сказать ему о подобных делах? Ни разу не назвал он
его, Клауса-Генриха, «великогерцогским высоче-
ством», он нанес грубый удар, оскорбил в нем «свя-
тую простоту». И почему так сладостно замирало
сердце, когда он рассказывал о лакеях? Почему
сердце забилось с такой безумной радостью, когда
его коснулось то дикое и дерзновенное, что так да-
леко от его высокого сана?
ДОКТОР ЮБЕРБЕЙН
Клаус-Генрих провел три года отрочества вместе
со своими сверстниками — сыновьями придворной и
земельной аристократии — в интернате, так сказать,
в «высокопоставленном приюте», основанном спе-
циально для Клауса-Генриха министром двора фон
Кнобельсдорфом, который приспособил под него
охотничий замок Фазанник.
По замку Фазанник, уже сто лет принадлежа-
щему короне, именовалась первая станция казенной
железнодорожной линии, идущей в северо-западном
направлении от столицы, а сам замок получил назва-
ние по питомнику ручных фазанов — страсти одного
из прежних властителей, — расположенному непода-
леку на луговине, поросшей кустарником. Замок —
одноэтажный, похожий на ящик загородный дом
с громоотводами на гонтовой крыше, — стоял вместе
с каретным сараем и конюшней на самой опушке
огромного бора. Вдоль фасада росли вековые липы,
а за ними расстилался изрезанный тропинками луг
с обступившим его полукругом далеким синеющим
73
лесом; на лугу выделялись утрамбованные площадки
для игр и плетни для верховой езды с препятствиями.
Наискосок от дворца среди высоких деревьев распо-
ложился трактир — пивная и кофейня с садом, — арен-
дуемый степенным человеком по фамилии Штафен-
ютер и по воскресеньям в летнюю пору привлекав-
ший столичных жителей, особенно велосипедистов.
Питомцам Фазанника посещать трактир разреша-
лось только в сопровождении учителя.
Их было пятеро, не считая Клауса-Генриха: Трюм-
мергауф, Гумплах, Платов, Пренцлау и Верцан,
Окрестные жители прозвали их «фазанами». Из двор-
цовых конюшен в их распоряжение были предоста-
влены уже в значительной мере отслужившее ландо,
шарабан, сани и несколько верховых лошадей, а когда
зимой часть луга бывала залита и покрыта льдом —
они имели возможность кататься на коньках. Обслу-
живали Фазанник повар, две горничные, кучер и два
лакея, из которых один в случае надобности мог
ездить за кучера.
Во главе интерната стоял преподаватель гимназии
профессор Кюртхен, маленький, подозрительный и
вспыльчивый холостяк, отличавшийся чисто театраль-
ной старомодной галантностью. У него были подстри-
женные седые усы и бегающие карие глазки, прикры-
тые очками, на улице он всегда носил сдвинутый на
затылок цилиндр. Ходил он животом вперед и, на-
подобие бегунов, прижимал к брюшку сложенные
в кулачки руки. В отношении Клауса-Генриха он с са-
мого начала проявил особый такт, которым остался
чрезвычайно доволен. Но дворянский гонор прочих
его питомцев внушал ему подозрение, и он фыркал
и выпускал когти всякий раз, как ему чудилось уще-
мление его бюргерского достоинства. На прогулках,
когда поблизости бывал народ, он любил остано-
виться, собрать вокруг себя своих учеников и, рисуя
тростью на песке, объяснять им что-нибудь. Фрау
Амелунг, насквозь пропахшую гофманскими каплями
вдову капитана, ведавшую хозяйством интерната, он
именовал «милостивая государыня» и гордился та-
ким знанием светского тона.
74
В помощь преподавателю Кюртхену был дан
сверхштатный учитель со степенью доктора — весе-
лый, деятельный, с хорошо привешенным языком и
при всем том фантазер, оказавший, пожалуй, боль-
шее, чем это было желательно, влияние на образ
мыслей и самоощущение Клауса-Генриха, Был при-
глашен также учитель гимнастики, по фамилии Цотте.
Заметим кстати, что молодого учителя звали Юбер-
бейн, Рауль Юбербейн. Остальные преподаватели
приезжали ежедневно поездом из столицы.
Клаус-Генрих с удовлетворением отметил, что
в отношении положительных знаний предъявляемые
к нему требования значительно снизились. Сморщен-
ный указательный палец инспектора Дреге больше не
задерживался на строчках, он свое дело сделал. Во
время уроков, а также при исправлении письменных
работ учитель Кюртхен широко пользовался возмож-
ностью проявить свой такт. Вскоре после открытия
интерната он попросил Клауса-Генриха наверх к себе
в кабинет — это произошло тотчас же по окончании
горячего завтрака в столовой первого этажа с вы-
сокими окнами — и сказал дословно следующее:
— Исходя из общих интересов, было бы нецеле-
сообразно предлагать вам, ваше великогерцогское вы-
сочество, во время наших совместных занятий нау-
ками вопросы, в данную минуту для вас не угодные.
С другой стороны, желательно, чтобы вы, ваше ве-
ликогерцогское высочество, почаще подымали руку,
выражая тем самым готовность к ответу. Поэтому
я прошу вас, ваше великогерцогское высочество, дабы
я мог ориентироваться, при нежелательных вопросах
вытягивать руку во всю длину, а при таких, на кото-
рые вам будет угодно ответить, подымать руку только
наполовину и согнутой в локте.
А вот доктор Юбербейн* тот оглашал класс своими
громкими речами, главным в которых был их жизне-
радостный дух, однако и сам предмет не упускался
из виду. Учитель Юбербейн не заключал с Клаусом-
Генрихом никаких договоров и с искренней приветли-
востью спрашивал его, когда считал это нужным, и
никакого конфуза не получалось. Казалось, его
75
приводят в веселое настроение, в восторг маловразу-
мительные ответы Клауса-Генриха.
— Охо-хо! — смеялся он, запрокидывая голову.—
Ай да Клаус-Генрих! Ай да августейшая кровь! Ай да
святое неведение! Вы не подготовлены к суровым жиз-
ненным проблемам! Ну что ж, я видал виды, мое
дело помочь вам разобраться.
И он сам отвечал на вопрос, не вызывал другого
ученика, если Клаус-Генрих ответит невпопад. Осталь-
ные учителя довольствовались изложением своего
предмета. Учителю гимнастики Цотте было дано
свыше указание заниматься физическими упражне-
ниями, принимая в расчет левую руку Клауса-Ген-
риха, но так, чтобы не привлекать внимания принца
и его соучеников к этому недостатку. Таким образом,
физические упражнения свелись к подвижным играм,
а на уроках верховой езды, которую тоже преподавал
господин Цотте, не допускалось никакого молодече-
ства.
Отношения Клауса-Генриха с его пятью товари-
щами нельзя было назвать сердечными, настоящей
дружбы не получалось. Он был сам по себе, никогда
не был одним из них, никак не растворялся в их
числе. Их было пять, а он был один,; принц, пятеро
воспитанников и учителя — вот кто составлял учеб-
ное заведение. Многое мешало искренней дружбе. Все
пятеро учились в интернате ради Клауса-Генриха, их
пригласили ему в товарищи; на уроках, когда он да-
вал неправильный ответ, их не вызывали, во время
верховой езды и подвижных игр они должны были
считаться с его физическим недостатком. Им осто-
чертели непрестанные напоминания о преимуществах
совместной жизни с ним. Трое воспитанников — фон
Гумплах, фон Платов и фон Верцан, сыновья менее
состоятельных помещиков, — все время пребывали
под впечатлением гордости, которую проявили их ро-
дители, осчастливленные приглашением министерства
двора, а также тех поздравлений, которые сыпались
на них со всех сторон. Зато граф Пренцлау, толстый,
рыжеволосый, веснушчатый малый по имени Богумил,
который, отдуваясь, цедил слова, был отпрыском са-
76
мого богатого и знатного землевладельца в герцог-
стве, он был избалован и с большим гонором. Он от-
лично знал, что его родители не могли отказаться от
предложения барона фон Кнобельсдорфа, но что для
них это не бог весть какая милость и что в поместьях
своего отца он, граф Богу мил, мог бы жить куда
лучше и сообразнее своему положению, чем в замке
Фазаняик. Верховых лошадей он находил не поро*
дистыми, ландо — отслужившим свой век, шара-
бан — старомодного фасона; втайне он ворчал на еду.
Дагоберт, граф Трюммергауф, не говорящий, а лепе-
чущий изящный подросток, похожий на борзую со-
баку, во всем был с ним заодно.
У них было излюбленное словечко, которое они
охотно и часто произносили резким гортанным голо-
сом, вкладывая в него все свое аристократическое
презрение: «свинство». Свинством были пристежные
воротнички. Свинством было играть в лаун-теннис
в обычном костюме. Но Клаус-Генрих не чувствовал
желания вводить в свой обиход это слово. До сих пор
он вообще не знал, что существуют сорочки с приши-
тыми воротничками и что можно иметь зараз столько
костюмов, сколько их было у Богумила Пренцлау.
Он, может быть, тоже охотно сказал бы «свинство»,
но всякий раз вспоминал, что на нем штопанные
чулки. Он чувствовал, что неэлегантен по сравнению
с Пренцлау и топорен по сравнению с Трюммергау-
фом. Трюммергауф был похож на породистое живот-
ное, у него был длинный, острый, тонкий, словно лез-
вие ножа, нос с трепетно раздувающимися ноздрями,
голубоватые жилки на висках с нежной кожей и ма-
ленькие уши без мочек. Из его широких цветных ман-
жет, застегнутых на золотые запонки цепочками,
выглядывали холеные, как у женщины, руки с выпук-
лыми ногтями, и одну из них украшал золотой брас-
лет. Он не говорил, а лепетал, полузакрыв глаза... Да,
совершенно ясно: с Трюммергауфом Клаус-Генрих
состязаться в аристократизме не может. У него,
у Клауса-Генриха, правая кисть довольно широкая,
скулы выдаются, как у людей из народа; рядом с Да-
гобертом он казался себе просто увальнем. Возможно,
77
Альбрехту было бы легче, чем ему, сказать
в тон этим «фазанам» — «свинство». Но он, Клаус-
Генрих, не аристократ, совсем не аристократ, об этом
ясно говорят факты. Взять хотя бы его имя — Клаус-
Генрих, — так у них в герцогстве зовутся сыновья
башмачников, и дети господина Штафенютера из
трактира наискосок, те, что сморкаются в руку, они
зовутся так же, как он, как его родители, как его
брат. А аристократов зовут Богумил и Дагоберт....
Клаус-Генрих был один и одинок среди пятерых своих
сверстников.
И все же в Фазаннике у него завязалась дружба,
дружба с доктором Юбербейном, сверхштатным
учителем. Рауль Юбербейн не отличался красо-
той. У него была рыжая борода и зеленовато-бледное
лицо и при этом водянистые голубые глаза, редкие
рыжие волосы и удивительно уродливые оттопырен-
ные и заостренные кверху уши. Но руки у него были
небольшие и изящные. Он носил только белые гал-
стуки, что придавало ему праздничный вид, хотя гар-
дероб его был более чем скромен. На улицу надевал
грубошерстное пальто, а для верховой езды — доктор
Юбербейн ездил верхом и, надо сказать, превосход-
но — видавший виды сюртук, полы которого зашпи*
ливал английскими булавками, узкие на пуговицах
брюки и новую шляпу.
В чем заключалось его очарование для Клауса-
Генриха? Это очарование складывалось из многих
элементов. Еще в самом начале жизни в интернате
между «фазанами» распространился слух, что сверх-
штатный учитель около года тому назад с опасностью
для жизни вытащил то ли из болота, то ли из омута
ребенка и получил медаль за спасение утопающих*
Это произвело впечатление. Потом стало известно —
и Клаусу-Генриху тоже — еще многое из биографии
доктора Юбербейна. Рассказывали, что он сомни-
тельного происхождения, что у него не было отца,
Мать — актриса — уговорила бедную супружескую
чету усыновить его, заплатив за это известную сумму,;
в детстве о-н голодал, чем и объясняется зеленоватый
цвет его лица, Помыслить об этом^ представить себе
78
это невозможно, — что-то дикое, недоступное пони-
манию... Впрочем, доктор Юбербейн сам иногда
делал кое-какие намеки; например, когда дворянские
сынки, у которых из головы не выходило его темное
происхождение, несколько заносчиво и неподобающе
держали себя с ним. «Эх вы балованные маменькины
сьгнки! — сердился он. — Я прошел огонь и воду и
медные трубы и требую, чтобы такие господчики,
как вы, держали себя поскромнее!» И то, что доктор
Юбербейн прошел огонь и воду, тоже оказало свое
действие на Клауса-Генриха. Но больше всего его
привлекала в докторе Юбербейне непосредственность
обращения с ним, с Клаусом-Генрихом. Такого тона,
который доктор Юбербейн усвоил с первого же дня
в отношении Клауса-Генриха, не позволял себе никто
другой. В Юбербейне не было окаменелой замкну-
тости лакеев, молчаливого ужаса выписанной из
Швейцарии мадам, деловитой почтительности госпо-
дина Дреге или тактичности довольного собой про-
фессора Кюртхена. В нем не было того отчужденного,
подобострастного и все же назойливого, что появля-
лось в глазах у людей при встрече с Клаусом-Генри-
хом. В первые дни в интернате он больше молчал, при-
сматривался, но затем он подошел к принцу по-отече-
ски, как старший товарищ, с веселой и искренней сер-
дечностью, доселе не знакомой Клаусу-Генриху. Вна-
чале Клаус-Генрих был смущен, он со страхом смо-
трел в зеленоватое лицо Юбербейна. Но на того его
замешательство не произвело никакого впечатления,
ни капли не отпугнуло; он стал только еще сердеч-
нее, непринужденнее и разговорчивее, и вскоре Клаус-
Генрих был согрет и завоеван. Дело в том, что в ма-
нере доктора Юбербейна не было ничего грубого,
развенчивающего, даже ничего нарочитого и воспи-
тательного. В ней чувствовалось превосходство чело-
века, который прошел огонь и воду и медные трубы,
и вместе с тем ласковая и добровольная дань уваже-
ния и любовь, признание иного бытия и иной сущ-
ности Клауса-Генриха; в то же время он как бы
предлагал объединить в жизнерадостном союзе их
столь разные существования. Раза два-три он назвал
79
его «ваше высочество», затем просто «принц», затем
совсем попросту «Клаус-Генрих». И так оно и оста-
лось.
Когда «фазаны» выезжали на верховую про-
гулку— зимой по снегу, осенью во время листопада,
ранней весной, когда оттепель, или летом, когда
птицы выводят птенцов, -^- они ехали впереди каваль-
кады: Клаус-Генрих на спокойной рыжей лошадке,
доктор Юбербейн по левую руку от него, на пегой
лошади с широким крупом,; они ехали вдоль лесных
опушек, по полям, мимо деревень, и доктор Юбер-
бейн рассказывал о своей жизни. Рауль Юбербейн,
звучно, не правда ли? Но зато какая безвкусица! Да,
Юбербейн это фамилия его приемных родителей, бед-
ных, пожилых, скромных людей из среды мелких бан-
ковских служащих, и он носит ее на законном осно-
вании. А вот Раулем его зовут потому, что таково
было единственное желание и требование, высказан-
ное его матерью при вручении его крохотной жалкой
особы в придачу к обещанной сумме. Желание, несом-
ненно, сентиментальное, так сказать обет. Во всяком
случае,^ возможно, что его настоящего отца звали
Раулем, и надо думать, и фамилия у него была
вполне соответствующая. В общем, со стороны его
приемных родителей было довольно легкомысленно
взять на воспитание ребенка, потому что им самим
часто приходилось класть зубы на полку, и, вероятно,
только большая нужда побудила их соблазниться
предложенной суммой. Учился он на медные деньги.
Но он взял на себя смелость показать, на что он спо-
собен, выдвинуться немножко из общей среды, а так
как он хотел стать учителем, то ему дали возмож-
ность окончить учительскую семинарию на обще-
ственные средства. Ну, семинарию он окончил, между
прочим, с отличием, потому что для него это было
важно, и тогда ему предоставили место учителя в на-
родной школе и назначили колоссальное жалование,
из которого он время от времени уделял малую то-
лику своим приемным родителям в благодарность за
воспитание; пока эти честные люди не умерли, почти
одновременно. Да будет земля им пухом! Вот он и
80
очутился один на свете, обездоленный от самого ро-
ждения, бедный, как церковная крыса, да к тому же
еще по божьей милости лопоухий и с зеленой рожей,
чтоб легче было внушать людям симпатию. Веселые
обстоятельства, не правда ли? Но такие обстоятель-
ства как раз и есть благоприятные обстоятельства.
Словом, вот как оно было. Нищенская юность, одино-
чество, ни намека на счастье — ибо оно удел бездель-
ников; все помыслы направлены исключительно на
одно — стать на ноги; от этого не раздобреешь, зато
закалишься душой, отдыха себе не даешь, ну и обго-
нишь того-другого. Как благоприятно сказывается на
способностях, когда ты ясно и твердо знаешь, что мо-
жешь рассчитывать только на собственную смекалку!
Какое преимущество перед теми, кому «это не
нужно», «не до зарезу нужно», перед теми людьми,
которые утром закуривают сигару... В ту пору Рауль
Юбербейн познакомился у постели своего заболев-
шего ученика, такого же чумазого, как и все осталь-
ные, в комнате, благоухавшей далеко не весенними
ароматами, с одним молодым человеком несколькими
годами старше него, находившимся в подобном же
положении и тоже обездоленным от рождения, по-
скольку он был евреем. Клаус-Генрих его знает — да,
да, можно сказать, что познакомился с ним Клаус-
Генрих при весьма интимных обстоятельствах. Зову г
его Плюш, он доктор медицины; случайно он ока-
зался в Гримбурге при рождении Клауса-Генриха,
а затем несколько лет спустя стал работать в сто-
лице в качестве детского врача. Ну так они с Плюшем
друзья и сейчас еще, а в ту пору они вели нескон-
чаемые разговоры о судьбе и выдержке. Да, они оба
прошли огонь и воду и медные трубы. Юбербейн
с серьезным удовлетворением вспоминал то время,
когда был учителем в народной школе. Его деятель-
ность не ограничивалась классной комнатой, он не
отказывал себе в удовольствии проявлять человече-
скую заботу о своих озорниках, навещать их на дому,
входить в их подчас не очень-то идиллическую семей-
ную жизнь, а при этом неминуемо приобретаешь жи-
тейский опыт. Верно, если до того он еще не знал
6 Т. Мани, т. 2
81
лика жизни, то теперь ему представился случай за-
глянуть в этот суровый лик с плотно сжатыми губами.
Впрочем, он не переставал совершенствовать соб-
ственное образование, давал частные уроки упитан*
ным бюргерским деткам и потуже стягивал пояс на
животе, чтоб иметь возможность покупать Книги,
пользовался досугом долгих тихих ночей, чтобы
учиться. И в один прекрасный день с высочайшего
разрешения сдал государственный экзамен, получил
ученую степень и перешел преподавателем в гимна-
зию. По правде говоря, расставаться со своими озор-
никами ему было грустно, но такова была его дорога*
А потом случилось так, что его назначили сверх-
штатным учителем в замок Фазанник, хотя он и
обездолен от рождения.
Вот что рассказал доктор Юбербейн, и, слушая
его, Клаус-Генрих преисполнился к нему симпатией.
Он разделял нелестное мнение Юбербейна о тех, кому
«это не нужно» и которые утром закуривают сигару,
он чувствовал страх и радость, когда Юбербейн, ве-
село бравируя, говорил об «огне, воде и медных тру-
бах», о «житейском опыте» и о суровом лике с плотно
сжатыми губами. С особым участием следил он за
его бессчастной и мужественной жизнью от той ми-
нуты, когда за него была уплачена известная сумма,
до его назначения учителем гимназии. Клаусу-Ген-
риху казалось, что и он тоже может говорить в об-
щих чертах о судьбе и выдержке. Внутри у него что-то
оттаяло, все, что он пережил за свои пятнадцать лет,
ожило, его охватило желание поделиться тем, что на-
копилось на сердце, и он попробовал тоже рассказать
о себе. Но, как ни странно, доктор Юбербейн остано-
вил его, самым решительным образом воспротивился
такому намерению.
— Нет, нет, Клаус-Генрих, — сказал он, — до-
вольно— и точка._Пожалуйста, без откровенностей! Я,
конечно, знал, что у вас есть что порассказать мне...
Я это знал уже, когда в течение чуть не целого дня
наблюдал за вами... Но вы ошибаетесь, если думаете,
что я хоть в малейшей мере вызывал вас на то, чтобы
плакаться мне в жилетку. Прежде всего рано или
82
поздно вы пожалели бы об этом. А затем радости
сердечных излияний вообще не для вас... Видите ли,
я могу болтать. Кто я? Сверхштатный учитель. Пу-
скай не совсем заурядный, но все же только учитель.
Особь весьма легко классифицируемая. А вы? Кто
вы? Это уже труднее... Скажем, вы — отвлеченное
понятие, некий идеал. Сосуд. Символ, а значит, некая
условная схема. А условность и непосредственность —
разве вы еще не знаете, что они взаимно исключают
друг друга? Исключают. Вы не имеете права откры-
вать свою душу, а если вы все-таки сделаете такую
попытку, вы сами убедитесь, что вам это не к лицу,
сами почувствуете всю безвкусицу и никчемность
этого. Я должен призвать вас к сдержанности, Клаус-
Генрих.
Клаус-Генрих, улыбаясь, отсалютовал хлыстом.
И, улыбаясь, поехали они дальше.
В другой раз доктор Юбербейн, между прочим, за-
метил:
— Популярность не вполне исчерпывающий, но
весьма возвышенный и обобщенный вид душевной
близости. — Больше он ничего не сказал.
Иногда летом во время большой перемены они
сиживали вдвоем в пустом саду при трактире, проха-
живались, беседуя, по лугу, на котором гонялись
друг за другом «фазаны», или заказывали лимонад
господину Штафенютеру. Довольный трактирщик вы-
тирал простой деревянный сгол и собственноручно
приносил лимонад. Когда носик бутылки приоткры-
вался, в горлышко опускался стеклянный шарик*
«Доброкачественный товар!— говорил Штафенютер.—»
Самый пользительный напиток. Смею заверить, ваше
великогерцогское высочество и господин доктор, не
смесь какая-нибудь, а натуральный подсахаренный
сок, с чистой совестью могу предложить!» Затем он
приказывал детям петь в честь гостей. Детей было
трое, две девочки и мальчик,; они пели в три голоса.
Они стояли в некотором отдалении под зеленой сенью
каштанов и пели народные песни и при этом смор-
кались в руку. Раз они спели песню, начинавшуюся
так: «Все мы люди, только люди», Доктор Юбербейн
6*
83
не одобрил этот номер программы, что явствовало из
его замечаний.
— Дрянная песня, — сказал он и наклонился
к Клаусу-Генриху. — Самая что ни на есть пошлая
песня. Песня для самоуспокоения, вам, Клаус-Генрих»
она не должна нравиться.
Потом, когда дети уже больше не пели, он опять
вернулся к этой песне и назвал ее прямо-таки «га-
денькой».
— Все мы люди, только люди, — повторил он. —
Господи боже мой, кто же в этом сомневается! Но,
может быть, мне позволено будет напомнить, что все
же достойны внимания те из нас, которые дают повод
особенно подчеркнуть эту истину... Видите ли, — ска-
зал он, откинувшись на спинку стула, положив ногу
на ногу и поглаживая свою рыжую бороду снизу
вверх, — видите ли, Клаус-Генрих, человек с мало-
мальскими духовными запросами невольно ищет
в этом сереньком мире необычное, и оно ему мило,
где бы и в чем бы оно ни проявилось, — такого чело-
века должна раздражать эта пошлая песня. Этакое
тупое и эгоистичное отмахивание от исключительных
случаев, и от высоких и от принижающих, и от таких,
которые сразу и то и другое... Что я, в своих интере-
сах говорю? Вздор! Я всего-навсего сверхштатный
учитель. Но одному господу богу известно, что во мне
бродит, — я не нахожу никакого удовлетворения под-
черкивать то, что, в сущности, все мы только сверх-
штатные учителя. Мне нравится незаурядное в любом
его проявлении и в любом смысле, мне нравятся те,
что отмечены внутренней исключительностью, те, что
выделяются среди остальных, те, в ком есть что-то
экзотическое, все те, на кого народ таращит глаза, —
я хочу, чтобы они любили свой удел, и я не хочу,
чтобы они облегчали себе жизнь мягкотелой истиной,
которую нам только что преподнесли в три голоса...
Почему я стал вашим учителем, Клаус-Генрих? Я цы-
ган, пускай трудолюбивый, но все-таки прирожден-
ный цыган. Далеко еще не выяснено, мой ли удел
быть княжьим холопом. Почему же я с искренним
удовольствием согласился па предложение, сделанное
84
мне ввиду моего трудолюбия и несмотря на то, что
я обездолен от рождения? Потому что в той форме,
в которой нашло свое выражение ваше бытие, Клаус-
Генрих, я вижу наиболее явную, наиболее яркую,
наиболее оберегаемую форму исключительного на
земле. Я стал вашим учителем, ибо мне хочется со-
хранить в вас живым чувство вашего удела. Замкну-
тость, этикет, долг, самообладание, выдержка, услов-
ность— разве тот, для кого в этом жизнь, не имеет
права презирать? Разве можно допустить, чтобы ему
тыкали в нос человечностью и добродушием? Нет,
Клаус-Генрих, если вы не возражаете, уйдемте от
этого бестактного штафенютерского отродья.
Клаус-Генрих рассмеялся; он дал детям немножко
из своих карманных денег и ушел вместе с Юбер-
бейном.
— Да, да, в наши дни надо сдерживать потреб-
ность души в преклонении, — сказал как-то доктор
Юбербейн Клаусу-Генриху во время общей прогулки
по лесу (они ушли несколько вперед от пяти «фаза-
нов»).—Где оно — великое? Разве его найдешь! Но,
кроме величия и предназначения, есть то, что я назы-
ваю высоким, — избранные и грустно обособленные
формы существования, к которым надо относиться
с бережной нежностью. Великое, в общем, отличается
силой, оно ходит в ботфортах и не нуждается в бла-
гоговейном культе. Но высокое трогает душу, это,
черт меня побери, самое трогательное, что есть на
земле.
Несколько раз в году «Фазанник» выезжал в сто-
лицу, в великогерцогский придворный театр — на
классические оперные и драматические спектакли;
а уж день рождения Клауса-Генриха обязательно от-
мечался посещением театра. Клаус-Генрих сидел
в спокойной позе на изогнутом кресле у плюшевого
барьера обитой красным герцогской ложи бенуара,
верх которой покоился на головах двух кариатид со
скрещенными руками и невыразительными строгими
лицами, и смотрел на своих коллег — на принцев, чья
судьба свершалась на сцене, в то же время выдер-
живая атаку биноклей, которые то и дело, даже во
85
время действия, направлялись на него из зритель-
ного зала. Профессор Кюртхен сидел по левую руку
от него, а доктор Юбербейн с «фазанами» в другой
ложе, рядом. Однажды они слушали «Волшебную
флейту», и по дороге домой, на станцию Фазанник,
в купе первого класса, доктор Юбербейн смешил всю
компанию, подражая разговору певцов, когда со-
гласно роли они переходят на прозаический диалог.
«Он — государь!» — сказал он елейным голосом и
сам себе возразил тягучим, поющим пасторским то-
ном: «Он более нежели государь, он — человек!»
Даже профессор Кюртхен заверещал от восторга. Но
на следующий день, во время приватных занятий
с Клаусом-Генрихом в его классной комнате с круг-
лым столом красного дерева, белым потолком и ан-
тичным торсом на кафельной печке, доктор Юбер-
бейн повторил свою пародию, а потом сказал:
— Господи боже мой, в его время это было чем-то
новым, откровением, потрясающей истиной!.. Есть
парадоксы, которые так долго стояли вниз головой,
что их необходимо поставить на ноги, только тогда
в них опять будет что-то хоть мало-мальски дерзкое.
«Он человек... Он более нежели человек» — это куда
смелее, прекраснее, да и правды в этом больше...
А вот если сказать наоборот — так получается просто
гуманная идея; но я не очень-то жалую гуманные
идеи, я предпочитаю пренебрежительно говорить
о них. В том или ином смысле надо принадлежать
к тем смертным, про которых говорят: <сВ конце кон-
цов они тоже люди»; иначе станешь такой же уны-
лой фигурой, как сверхштатный учитель. Я не могу
искренне желать всеобщей приятной нивелировки,
уничтожения конфликтов и дистанций. Ничего не по-
делаешь, таким уж я родился, и образ principe uomo 1
внушает мне, если говорить прямо, ужас. Надеюсь,
Клаус-Генрих, что вам он тоже не очень симпатичен?
Видите ли, во все времена были монархи и незауряд-
ные люди, для которых исключительность их суще-
ствования не создавала затруднений, в простоте ду-
1 Государя-человека (итал.).
86
шевной они не сознавали своего величия или грубо
пренебрегали им и были способны, не ощущая душев-
ных мук, снять пиджак и играть в кегли с обывате-
лями. Но большого значения они не имеют, как в ко-
нечном счете не имеет значения все, что бедно духом.
Ибо дух, Клаус-Генрих, дух — это церемониймейстер,
который неумолимо настаивает на соблюдении до-
стоинства, больше того — он, собственно, создает до-
стоинство, он исконный враг и благородный против-
ник всяческого гуманного мещанства. «Более нежели
государь?..» Нет! Представительствовать, предста-
влять многих, представляя себя, быть возвышенным,
совершенным образом множества — вот что важно;
представительство несомненно куда значительнее и
выше, чем простота, Клаус-Генрих, — потому вас и
называют ваше высочество...
Так рассуждал доктор Юбербейн, громко, искренне
и красноречиво, и то, что он говорил, возымело свое
действие на ход мыслей и самоощущение Клауса-
Генриха и, может быть, даже больше, чем это было
бы желательно. Принцу было тогда пятнадцать —
шестнадцать лет, и, значит, он был способен если и
не вполне усвоить такие идеи, то во всяком случае
воспринять их сущность. Решающим было то, что
личность доктора Юбербейна поразительно подкре-
пляла его мысли и поучения. Когда попечитель Дреге,
который кивал лакеям, напоминал Клаусу-Генриху
о его «высоком назначении», это была просто усвоен-
ная им манера выражаться, преследовавшая одну
цель — придать вес его положительным требованиям
и лишенная внутреннего смысла. Но когда доктор
Юбербейн, как он сам говорил, обездоленный от ро-
ждения и с зеленоватым лицом, потому что он в свое
время наголодался, когда этот человек, который вы-
тащил ребенка не то из болота, не то из омута,
который прошел огонь и воду и медные трубы и при-
обрел житейский опыт, когда этот человек, который
не только не кланялся лакеям, но даже при случае
орал на них громовым голосом, и уже на третий день,
не испросив на то разрешения, откинув церемонии,
начал звать Клауса-Генриха по имени, когда он,
87
отечески улыбаясь, заявлял, что Клаус-Генрих «воз-
несен на высоты человечества» (такое выражение он
охотно употреблял), — это воспринималось как что-то
свободное, новое, на что, так сказать, отзывалось все
внутри. Когда Клаус-Генрих слушал задорные и весе-
лые автобиографические рассказы доктора Юбер-
бейна о «суровом с плотно сжатыми губами лике
жизни», то у него на душе было так, словно он опять
пустился на разведки, как в свое время с Дитлиндой.
Клауса-Генриха согревало, наполняло его сердце бес-
конечной благодарностью то обстоятельство, что
человек, умеющий так рассказывать, как он сам про
себя говорил, «видавший всякие виды», держится
с ним не отчужденно и подобострастно, как другие,
но как товарищ, которого роднит с ним судьба и вы-
держка, и при всем том он не отказывает ему в сво-
бодном и радостном почитании, — вот в этом-то и
заключалось очарование, вот этим-то и покорил его
навеки сверхштатный учитель.
Вскоре после того, как ему исполнилось шестна-
дцать лет (Альбрехт, престолонаследник, уже тогда
из-за плохого здоровья жил на юге), Клаус-Генрих
вместе с пятью «фазанами» конфирмировался в двор-
цовой церкви — «Курьер» поместил об этом сообще-
ние, не делая, однако, из данного события большой
сенсации. Президент консистории доктор Визлиценус
взял за лейтмотив своей проповеди библейскую тему,
и на сей раз выбранную великим герцогом, а Клаус-
Генрих был произведен по этому случаю в лейте-
нанты, хотя он ровно ничего не смыслил в военном
деле... Реальное содержание все больше и больше
исчезало из его жизни. Поэтому и торжественная
церемония конфирмации не внесла в нее ничего суще-
ственно нового, и по ее окончании принц спокойно воз-
вратился в Фазанник и зажил прежней жизнью
в кругу учителей и соучеников.
Только год спустя покинул он скромную старо-
модную классную комнату с античным торсом на
кафельной печке, интернат кончил свое существо-
вание, пять дворян-однокашников Клауса-Генриха по-
ступили в кадетский корпус, а он опять поселился
88
в Старом замке и согласно решению, принятому госпо-
дином фон Кнобельсдорфом совместно с великим гер-
цогом, в течение года посещал старший, класс столич-
ной гимназии. Это было мудрое, встретившее всеоб-
щее одобрение мероприятие, но по существу дела ничто
не изменилось. Профессор Кюртхен занял прежний
пост в гимназии, продолжал, как и до того, обучать
Клауса-Генриха различным предметам и в классе,
еще ретивее, чем в интернате, старался проявить свой
необыкновенный такт. Выяснилось, что он осведомил
и других учителей о договоренности с принцем по-
разному поднимать руку для ответа. Доктор же
Юбербейн, который тоже вернулся в гимназию, не-
смотря на свою головокружительную карьеру, еще
недостаточно продвинулся на служебном поприще,
чтобы преподавать в последнем классе. Но по пла-
менному и настоятельному желанию Клауса-Генриха,
которое он не высказал непосредственно великому
герцогу, а довел до его сведения через любезного гос-
подина фон Кнобельсдорфа, так сказать, служебным
путем, сверхштатного преподавателя Юбербейна при-
гласили репетировать принца и руководить его до-
машними занятиями; он ежедневно приходил в за-
мок, орал на лакеев и все еще имел возможность
влиять на своего ученика задорными и сумасброд-
ными речами.
Надо думать, его продолжающемуся влиянию сле-
дует приписать то обстоятельство, что связь Клауса-
Генриха с юношами, сидевшими на одной с ним из-
резанной перочинными ножичками школьной скамье,
была еще слабей и отдаленнее, чем его связь с пятью
питомцами «Фазанника», а значит, цель этого года —-
приобретение популярности — не была достигнута.
Легче всего было завязать дружбу на переменах, ко-
торые и летом и зимой ученики проводили на боль-
шом, выложенном плитами дворе. Но перемены — от-
дых для остальных — от Клауса-Генриха требовали
сугубой затраты сил, связанной с его особым положе-
нием. Само собой разумеется, что во дворе вся школа
пялила ла него глаза, во всяком случае в первую чет-
верть, а выдержать это было совсем не легко,
89
особенно, если принять во внимание, что он был предо-
ставлен себе самому и никак не обособлен от осталь-
ных — мощеный двор был один для всех, и для
Клауса-Генриха и для них, объединившихся против
него, чтоб глазеть. Младшие с детским простодушием
застывали в самозабвенных позах под самым его
носом, выпучив на него глаза, а те, что постарше,
шныряли вокруг и украдкой, не моргая, глядели на
него... С течением времени любопытство поулеглось,
но и тогда, — бог знает, кто уж тут виноват, Клаус-
Генрих или остальные, — но и тогда дружба никак не
завязывалась. Принц гулял взад и вперед по двору,
справа от него шел директор или дежурный настав-
ник, а вокруг шныряли любопытные. Видали его и
в кругу одноклассников болтающим с ними. Прият-
ное зрелище! Он полусидел, прислонившись к контр-
форсу облицованной плитками кирпичной стены,скре-
стив ноги и заложив за спину левую руку, а пят-
надцать учеников выпускного класса широким
полукругом стояли перед ним. В этом году их было
только пятнадцать: последние годы в старшие классы
переводили с оглядкой, дабы в число избранных не
проникли нежелательные по своему происхождению
или личным качествам элементы и Клаусу-Генриху
не пришлось бы в течение целого года быть с ними на
«ты». Потому что «ты» было обязательным требова-
нием. Клаус-Генрих заговаривал с одним из учеников,
тот выступал немножко вперед из полукруга, подхо-
дил ближе и отвечал, каждый раз слегка кланяясь-
Оба улыбались; все улыбались, говоря с Клаусом-
Генрихом. Например, он спрашивал:
— Ты уже написал немецкое сочинение к следую-
щему вторнику?
— Нет, принц Клаус-Генрих, не совсем, конец еще
не готов.
— Трудная тема. Я просто не знаю, что писать.
— Как можно, чтобы вы... чтобы ты не знал, чго
писать!
— Нет, правда, очень трудно. У тебя ведь хоро-
шая отметка за классную работу по математике?
— Да, принц Клаус-Генрих, мне повезло,
90
— Почему повезло, ты заслужил. Мне никогда
всего этого не уразуметь!
Веселое одобрение среди остальных. Клаус-Генрих
обращался к другому однокласснику, и первый по-
спешно отступал. Всем было ясно, что дело здесь
совсем не в сочинений или классной работе по мате-
матике, а в самом разговоре, в самом факте и дей-
ствии, важен был тон, манера держаться, важно
было, как выступить вперед, как отступить, важно
было благополучно довести до конца щекотливое,
стоящее выше всего житейского дело. Возможно, что
сознание этого и вызывало улыбку на лицах.
Иногда, глядя на стоящих перед ним широким
полукругом товарищей, Клаус-Генрих говорил что-ни-
будь вроде: «Профессор Николовиус очень похож на
филина».
Это вызывало единодушный взрыв веселья. Как
по сигналу, все приходили в неистовый восторг, не
зная удержу, хором гоготали во всю мощь своих
ломающихся голосов, и кто-нибудь по этому случаю
заявлял, что Клаус-Генрих «молодчага». Но такие
истины Клаус-Генрих провозглашал не часто, только
когда улыбки тускнели и сменялись скучающей, даже
нетерпеливой гримасой; он провозглашал их, чтоб
внести оживление и с любопытством и испугом смо-
трел на вызванную его словами короткую вспышку
веселья.
Назвал его «молодчагой» не Ансельм Шикеданц,
а Клаус-Генрих именно для него сравнил профессора
Николовиуса с филином. Правда, Ансельм Шикеданц
тоже посмеялся над его вольной шуткой, но не одо-
брительно, а словно говоря: «Тоже мне, придумал!»
Ансельм Шикеданц был стройный брюнет, за кото-
рым в школе установилась слава отчаянного. В этом
году старший класс вел себя образцово. Юношам не-
однократно внушали, к чему их обязывает совместное
обучение с Клаусом-Генрихом, а Клаус-Генрих был
не из тех, кто дал бы им повод позабыть об этом. Но
все же до его слуха не раз доходило, что Ансельм
Шикеданц «отчаянный», и, когда Клаус-Генрих смо-
трел на него, он охотно верил этому на слово, хотя
91
ему было неясно и непонятно, как тот добился подоб-
ной славы. Он несколько раз как бы невзначай про-
бовал это выяснить, обращаясь то к одному, то к дру-
гому, чтобы выведать, в чем «отчаянность» Шике-
данца. Ничего определенного он не выяснил. Но по
ответам, и неприязненным и хвалебным, догады-
вался, что Шикеданц бывает безумно обаятелен, не-
позволительно великолепен и что это ясно всем, кроме
него, Клауса-Генриха, — и эта догадка отзывалась
в нем болью. Кто-то из учеников прямо сказал о Ши-
кеданце и при этом обмолвился и назвал Клауса-
Генриха «ваше высочество», что было запрещено:
«Ах, ваше высочество, вы бы его видели, когда вас
тут нет!»
Никогда он, Клаус-Генрих, не увидит Шикеданца,
когда его, Клауса-Генриха, тут нет, никогда он не
сблизится с ним, никогда его не узнает!
Клаус-Генрих украдкой наблюдал за Шикедан-
цем, когда тот вместе с одноклассниками стоял перед
ним такой же улыбающийся и сдержанный. В при-
сутствии Клауса-Генриха все сдержанны из-за его
высокого сана, он отлично это знает, и никогда ему
не увидать, каким бывает Шикеданц, какой он, когда
дает себе волю. Клауса-Генриха это мучило как рев-
ность, как тайное жгучее сожаление...
К этому времени относится печальное, больше
того — неприличное происшествие, о котором великий
герцог с супругой так ничего и не узнали, потому что
доктор Юбербейн не проронил ни слова; до столицы
тоже дошли только смутные слухи: все те, при уча-
стии и по вине которых это случилось, держали язык
за зубами несомненно из чувства неловкости. Дело
касается неприличного инцидента, который произо-
шел в связи с пребыванием на городском бале принца
Клауса-Генриха и в котором главную роль играла
некая фрейлейн Уншлит, дочь богатого мыловара.
Городской бал — официальное, но, несмотря на
это, непринужденное празднество, которое город каж-
дую зиму устраивал в Парковой гостинице — боль-
шом, в последнее время еще расширенном и обно-
вленном здании в южном предместье — прочно вошел
92
в жизнь столичного общества. Буржуазные круги ви-
дели в нем возможность соприкоснуться с двором.
Все знали, что Иоганн-Альбрехт III, являвшийся на
бал в черном фраке, дабы пройтись в полонезе с су-
пругой бургомистра, никогда не питал особого при-
страстия к этому бюргерскому увеселению, на кото-
ром не очень придерживались этикета, и старался
как можно раньше покинуть зал. Тем более приятное
впечатление произвел тот факт, что его второй сын,
хотя это и не было для него обязательным, уже
в этом году присутствовал на бале, да к тому же
еще, как это стало известно, -по собственному почину.
Свое страстное и весьма настоятельное желание
принц, как говорили, довел через посредство его пре-
восходительства господина фон Кнобельсдорфа до
сведения великой герцогини, а она в свою очередь
добилась разрешения супруга...
Праздник внешне протекал как обычно. К крыльцу
подъехали высокие гости: принцесса Катарина в пере-
крашенном шелковом платье и шляпке «капот»,
окруженная своим рыжеволосым потомством, принц
Ламберт со своей миловидной супругой и вслед за
ними Иоганн-Альбрехт и Доротея с принцем Клау-
сом-Генрихом; в вестибюле их встретили члены маги-
страта, на фраках у которых красовались розетки
с длинными лентами. На бале присутствовали не-
сколько министров, адъютанты в штатском, придвор-
ные, как господа, так и дамы, сливки городского об-
щества, а также окрестные помещики. В большом
белом зале августейшим супругам сначала был пред-
ставлен ряд лиц, затем под звуки музыки, грянувшей
с хоров, великогерцогская чета открыла бал —
Иоганн-Альбрехт с супругой бургомистра, Доротея
с бургомистром. По окончании полонеза начались
танцы, настроение повысилось, щеки порозовели, раз-
юряченная атмосфера бала уже возбуждала, томила,
навевала сладостные грезы или грусть, — а высокие
гости стояли меж тем, как и полагается стоять высо-
ким гостям: у узкой стены под хорами, холодно и милог
стиво улыбаясь. Время от времени Иоганн-Альбрехт
удостаивал разговором того или иного почтенного
93
господина, а Доротея ту или иную даму. Те, к кому
они обращались, немедленно с сосредоточенным
видом выступали вперед, а затем отступали и стояли,,
соблюдая должную дистанцию в полусогнутой позе,
склонив набок голову, кивали, отрицательно мотали
головой, улыбались, не меняя позы, в ответ на обра-
щенные к ним вопросы и замечания или поспешно
отвечали, целиком поглощенные важностью минуты,
предупредительно быстро переходя от сердечной
веселости к глубокой серьезности, явно пребывая
в повышенном настроении и проявляя страстность,
по всей вероятности чуждую им в повседневной
жизни. Еще не успевшие отдышаться после танца
любопытные обступали их полукругом и следили за
этими лишенными всякого реального содержания раз-
говорами со странно-напряженным выражением лица,
объяснявшимся тем, что они улыбались, высоко под-
няв брови.
Много внимания уделялось Клаусу-Генриху. Он
держался несколько позади родителей в компании
своих двух рыжеволосых кузенов, которые уже всту-
пили в полк, но сегодня тоже были в штатском,; он
стоял вполуоборот к публике, выставив вперед одну
ногу, заложив левую руку за спину, являя залу свой
правый профиль. Репортер «Курьера», отряженный
на бал, записывал, поглядывая на него, что-то в свою
памятную книжку. Все видели, как принц помахал
правой рукой, затянутой в перчатку, своему учителю
доктору Юбербейну, рыжая борода "и зеленоватое
лицо которого промелькнули среди публики, и даже
сделал несколько шагов ему навстречу. Доктор, со-
рочка которого была застегнута на крупные пуговицы
с эмалью, сперва поклонился, когда Клаус-Генрих
подал ему руку, но сейчас же вслед за тем стал его
в чем-то убеждать, как обычно непринужденным, оте-
ческим тоном. Принц, казалось, протестовал, впро-
чем, несколько возбужденно смеясь. Но затем кое-кто
из присутствующих слышал, как доктор Юбербейн
воскликнул:
— Глупости, Клаус-Генрих! Тогда чего ради вам
давали уроки? Чего ради ваша мадам с самого ран-
94
него детства вас обучала? Не понимаю, зачем вы
приехали на бал, если не хотите танцевать?! Раз, два,
три, сейчас я вас познакомлю!
И, продолжая шутить и балагурить, он предста-
вил принцу нескольких барышень, которых, не долго
думая, взял за руку и подвел к Клаусу-Генриху. Они,
как по команде, приседали и снова подымались
в плавном придворном реверансе, прикусив от стара-
ния нижнюю губу. Клаус-Генрих стоял, сдвинув каб-
луки. Он повторял:
— Рад... очень рад...
Одной он даже сказал:
— Веселый бал, не правда ли, мадемуазель?
— Да, ваше великогерцогское высочество, нам
очень весело, — ответила она пискливым, щебечущим
голоском.
Это была, правда, несколько костлявая, но рослая
и красивая барышня в белом кисейном платье, за-
витая, с высоко взбитыми белокурыми волосами,
с золотой цепочкой на обнаженной шее, на которой
резко выступали ключицы, в митенках на больших
белых руках. Она прибавила:
— Сейчас начнется кадриль. Не желаете ли, ваше
великогерцогское высочество, принять участие
в танце?
— Не знаю... — сказал он, — право же, не знаю...
Он огляделся. Действительно, сутолока в зале
сменилась геометрическим порядком. Выстраивались
ряды, составлялись каре, танцоры подыскивали себе
визави. Музыка еще молчала.
Клаус-Генрих посмотрел на своих кузенов. Да,
они танцуют лансье, они уже подали руку осчастли-
вленным ими дамам.
Гости видели, как Клаус-Генрих подошел сзади
к красному атласному креслу своей матери и что-то
быстро шепнул ей, гости видели, как великая герцо-
гиня, красивым движением склонив свою ослепитель-
ную шею, передала вопрос сына супругу и как вели-
кий герцог кивнул головой. А то, с какой юношеской
поспешностью Клаус-Генрих устремился в зал, чтобы
95
не опоздать к началу кадрили, вызвало у некоторых
улыбку.
Репортер «Курьера», держа наготове записную
книжку и карандаш, весь изогнувшись, следил из
своего уголка, кого пригласит принц. Он пригласил
фрейлейн Уншлит, дочь мыловара, ту самую рослую
блондинку с выступающими ключицами и большими
белыми руками. Она все еще стояла там, где ее оста-
вил Клаус-Генрих.
— Вы еще тут? — спросил он, запыхавшись. —
Можно вас пригласить? Идемте!
Каре уже составились. Они пошли по залу, ища,
куда бы пристроиться. На помощь к ним поспешил
господин с розеткой, он схватил за плечи одну пару
и заставил ее уступить свое место под люстрой его
великогерцогскому высочеству с фрейлейн Уншлит,
Музыка, пока еще медлившая, теперь загремела, на-
чались фигуры, поклоны, реверансы, и Клаус-Генрих
вертелся вместе с другими.
Двери в соседние комнаты были открыты. В одной
из них видна была стойка, а на ней — вазы с цве-
тами, крюшонница и блюда с разными бутербродами.
Кадриль доходила до самой двери, два каре танце-
вали уже в буфете; в других комнатах стояли еше
пустые столы, накрытые белыми скатертями.
Клаус-Генрих делал несколько па вперед, не-
сколько па назад, улыбался, протягивал руку,
брал чужие руки, все снова и снова брал большую
белую руку своей дамы, обнимал правой рукой ее
мягкую кисейную талию и вертелся с ней на месте,
а левую руку, тоже затянутую в маленькую перчатку,
упирал в бок. Все смеялись, болтали, выделывали
па и вертелись. Он ошибался, забывал, путал фи-
гуры и останавливался в смущении, не зная куда
теперь.
— Вы должны мне помогать! — крикнул он в су-
толоку танца. — Я же всех путаю! Ткните меня,
когда надо, в бок!
И постепенно партнеры его осмелели, стали его
поправлять, смеясь, командовать, куда ему идти, и
даже, когда это было нужно, подталкивали слегка то
96
туда, то сюда. Красивая девушка с выступающими
ключицами особенно охотно подталкивала его.
Настроение повышалось с каждым туром. Движе-
ния становились развязнее, возгласы задорнее. Тан-
цоры уже притопывали и, взявшись за руки, раскачи-
вали их взад и вперед, как качели. И Клаус-Генрих
тоже притопывал, сначала только чуть-чуть, но потом
все сильнее. А раскачивать руками не забывала его
красивая дама, когда они вместе делали несколько
па вперед. И каждый раз, когда она бывала его ви-
зави, она залихватски шаркала ножкой, что еще уве-
личивало общее веселье.
Все с завистью глядели в буфет — такое там
стояло оживление и смех. Вот один из танцующих
там выбежал из каре, подскочил к стойке, стащил
бутерброд и под смех остальных сжевал его, прито-
пывая и приплясывая, гордый своей выходкой.
— Ну и нахалы! — сказала фрейлейн Уншлит. —
Они там своего не упустят!
Ей это не давало. покоя. И не успели вокруг опо-
мниться, как она, оставив своего кавалера и ловко
лавируя, проскользнула между рядами танцующих,
схватила бутерброд и вернулась на место.
Клаус-Генрих хлопал громче других. При его ле-
вой руке это было довольно затруднительно, но он
выходил из положения, хлопая правой рукой себя по
ляжке и трясясь от смеха. Потом он затих и даже
побледнел. Он переживал внутреннюю борьбу... Кад-
риль приближалась к концу. То, что он задумал,
надо было делать скорей. Уже начиналась chaîne
anglaise К
И вот в последнюю минуту он преодолел себя и
сделал то, что задумал. Он сорвался с места, быстро
пробрался между парами, вполголоса извиняясь каж-
дый раз, как задевал кого-нибудь из танцующих, до-
бежал до стойки, схватил бутерброд, помчался на-
зад, скользнул в свое каре. И это еще не все. Он
поднес бутерброд — бутерброд с яйцом и анчоусом —
1 Одна из фигур кадрили, так же как и chaine chinoise
(Прим. ред.)
7 Т. Манн, т. 2
97
ко рту своей дамы, барышни с большими белыми
руками — она слегка пригнулась, откусила кусок без
помощи рук, откусила добрую половину бутерброда...
и, гордо откинув голову, Клаус-Генрих положил то,
что осталось, себе в рот!
Веселье в каре Клауса-Генриха дошло до апогея
во время chaîne chinoise, которая как раз началась.
Пары завертелись, крест-накрест подавая друг другу
руки, переплетаясь в двух встречных потоках, обхо-
дящих по кругу зал. Минутная остановка, потоки
переменили направление, и опять все завертелось по
кругу... Смех, обрывки разговоров, запинка, замин-
ка— и замешательство поспешно улажено.
Клаус-Генрих пожимал руки, которые ему пода-
вали, не ведая, чьи они. Он улыбался, задыхаясь от
радости. Его прилизанные волосы растрепались, от-
дельные пряди упали на лоб, пластрон выпятился
над жилетом, а на лице, в разгоревшихся глазах по-
явилось то мягкое, можно сказать, трогательное
воодушевление, которое порой является выражением
счастья. Несколько раз протягивая руку и выделывая
па, он говорил:
— Ну и повеселились же мы! Ух, как повесели-
лись!
Он встретился с кузенами и им тоже сказал:
— Ну и повеселились же мы — там, в буфете! '
Затем все захлопали в ладоши, встретившись со
своей парой: цель была достигнута. Клаус-Генрих
опять стоял лицом к лицу со своей красивой дамой,
у которой выступали ключицы; и так как музыка
опять переменила темп, он снова обнял ее мягкую
талию, и они завертелись в общем круговороте.
Клаус-Генрих вел даму неумело и довольно часто
натыкался на другие пары, потому что левую руку
он упер в бок, но так или иначе он довел свою даму
до входа в буфет, там они остановились и выпили
для освежения ананасный крюшон, который им по-
дали лакеи. Они сидели у самого входа на бархатных
табуретах, пили и болтали о кадрили, о городском
бале, о разных общественных увеселениях, в которых
этой зимой уже принимала участие его красивая дама.
98
Тут к Клаусу-Генриху подошел свитский майор,
господин фон Платов, флигель-адъютант великого
герцога, он поклонился и попросил разрешения доло-
жить, что их королевские высочества отбывают. Ему
поручено... Но Клаус-Генрих так явно выразил жела-
ние остаться еще немного, что адъютант не решился
настаивать. Принц что-то негодующе лепетал и,
несомненно, очень болезненно воспринял требование
ехать домой.
— Нам так весело! — сказал он, встал и даже
притронулся к локтю майора фон Платова. — Доро-
гой господин фон Платов, пожалуйста, похлопочите
за меня! Поговорите с его превосходительством гос-
подином фон Кнобельсдорфом, сделайте что хотите —
но как можно уехать сейчас, когда нам так весело!..
Я уверен, что и кузены еще остаются...
Майор посмотрел на красивую девушку с боль-
шими белыми руками, которая улыбнулась ему, он
тоже улыбнулся и обещал сделать все, что от него
зависит. Эта короткая сценка происходила в то
время, когда великогерцогскую чету провожали в ве-
стибюле гостиницы члены магистрата. Сейчас же
вслед за этим в первом этаже снова начались
танцы.
Бал был в самом разгаре. Официальности не было
больше и в помине, полная непринужденность вошла
в свои права. В боковых комнатах за столами, на-
крытыми белыми скатертями, сидели всей семьей,
пили и ужинали. Разгоряченные танцами, возбужден-
ные кавалеры и барышни прибегали и убегали, при-
саживались на краешек стула, откусывали кусочек,
выпивали стакан крюшона и снова шли веселиться.
В нижнем этаже был устроен пивной погребок
в старонемецком вкусе, который усердно посещали
солидные господа. Танцевальным залом и буфетом
окончательно завладела молодежь. Буфет заняли че-
ловек пятнадцать — двадцать — дочери и сыновья
бюргеров и среди них Клаус-Генрих. Там у них был
как бы свой отдельный бал. Они танцевали под звуки
музыки, долетавшей из главного зала»
7*
99
На короткий срок заходил туда и доктор Юбер-
бейн, репетитор принца, и недолго беседовал со своим
учеником. Слышали, как он, держа в руке часы, упо-
минал о господине фон Кнобельсдорфе, слышали, как
он сказал, что пойдет вниз в погребок и вернется
сюда за принцем. Потом он ушел. Было половина
одиннадцатого.
И пока он сидел внизу и беседовал со знакомыми,
потягивая пиво, — за этот час, самое большее за пол-
тора,— в буфете произошел безобразный инцидент,
та, собственно говоря, непостижимая выходка, кото-
рую он пресек, к сожалению, слишком поздно.
То, что молодежь потеряла чувство меры, следует
отнести скорее за счет опьянения танцами, чем за
счет вина, ибо крюшон пили очень слабый, в нем
было больше газированной воды, чем шампанского.
Но, принимая во внимание характер принца и при-
надлежность к добропорядочным буржуазным семьям
остального общества, для объяснения тягостного про-
исшествия этого недостаточно. Здесь с обеих сторон
действовало другое, совершенно особое опьянение...
Странно то, что Клаус-Генрих отдавал себе полный
отчет в отдельных стадиях этого опьянения и все же
не мог или не хотел его стряхнуть.
Он был счастлив. Он чувствовал, что его щеки
пышат тем же жаром, что и у остальных,; потемнев-
шими от теплого волнения глазами обводил он при-
сутствующих, восторженно оглядывая каждого, и
взор его говорил: «Мы!» И уста его говорили то же,
говорили задушевным блаженным голосом одну за
другой такие фразы, где встречалось словечко «мы».
«Мы сейчас сядем, мы опять пойдем танцевать, мы
выпьем крюшона, мы как раз составим два каре...»
Особенно часто говорил Клаус-Генрих «мы» девушке
с выступающими ключицами. Он совсем позабыл
о своей левой руке, она висела вдоль тела, не стес-
няла его, не мешала ему веселиться, он не думал
о том, что ее надо прятать. Многие только сейчас
увидели, какая она, и с любопытством или бессозна-
тельной гримаской глядели на *;ухую короткую руку
в рукаве фрака, на маленькую, уже припачканную
103
белую лайковую перчатку, прикрывающую левую
кисть. Но так как Клаус-Генрих совсем не обращал
на нее внимания, то молодежь осмелела и в этом от-
ношении, и случалось, что во время chaîne chinoise
кто-нибудь без стеснения хватал его за недоразвитую
руку...
Он не вырывал ее. Ему казалось, что его подхва-
тила и несет волна благожелательства, огромного,
необузданно задорного благожелательства, которое
растет, само себя подогревая, что она все неудержи-
мее подступает к нему, все крепче, все ближе напи-
рает, торжествующе подымает на своем гребне. Что
же это такое? Что-то неопределенное, неуловимое..,
В воздухе стояли слова, отрывистые возгласы, не-
договоренные, но ярко отражающиеся во всем —
в лицах, повадках, в том, что делалось и говорилось:
«Ну-ка, пускай он тоже...» «Долой, долой, долой
его!..» «Хватай, хватай!..» Молоденькая девушка со
вздернутым носиком, пригласившая Клауса-Генриха
на галоп, когда дамы выбирали себе кавалеров, уно-
сясь с ним в танце, сказала как будто без всякой
связи, но очень явственно: «Подумаешь!»
Он видел у всех в глазах веселый огонек и видел,
что им доставляет удовольствие принизить его до
своего уровня. Минутами в его блаженные грезы,
в чувство счастья от того, что он с ними, среди них,
один из них, врывалось холодное, острое ощущение,
что он обманулся, что задушевное, прекрасное «мы»
ввело его в заблуждение, что он все же не раство-
рился в них, что он по-прежнему центр и предмет
внимания, но не так, как всегда, а по-иному, по-нехо-
рошему. В известной мере они были врагами, он ви-
дел это по радости разрушения, которой сверкали их
глаза. Он слышал, словно издалека, и при этом его
бросило в жар от испуга, как красивая девушка
с большими белыми руками назвала его просто по
имени, — и он ясно почувствовал, что тут это звучит
совсем не так, как у доктора Юбербейна. В извест-
ном смысле ей было дано на то право, было дозво-
лено, но неужели здесь никто не оградит его достоин-
ства и чести, если он сам не сделает этого? Ему
101
казалось, что они срывают с него одежду и временами
в их веселье проскальзывало что-то дикое и издева-
тельское. Долговязый белокурый юноша в пенсне
крикнул, когда Клаус-Генрих столкнулся с ним во вре-
мя танца, крикнул громко, так, что все слышали: «Это
что такое?» Красивая девушка, оскалив зубы, с остер-
венением вальсировала в его объятиях, долго, до го-
ловокружения. А он, вальсируя с ней, затуманенным
взором смотрел на ее ключицы, которые резко выде-
лялись на белой шее с немного пористой кожей.
И вдруг они упали. Они кружились слишком
быстро, и когда захотели остановить уносивший их
неистовый вихрь, грохнулись на пол; на них споткну-
лась другая пара, впрочем, не совсем случайно, вер-
нее, ее подтолкнул долговязый юноша в пенсне. Куча
на полу увеличилась, и над своей головой Клаус-Ген-
рих услышал гогот, хорошо знакомый ему по школь-
ному двору, когда он пробовал для оживления окру-
жающих отпустить вольную шутку, только здесь он
звучал злей и развязнее...
Когда около двенадцати ночи доктор Юбербейн
появился, к сожалению, несколько поздно, в дверях
буфета, его глазам представилась следующая кар-
тина: его юный питомец сидел один на зеленом плю-
шевом диване у левой боковой стены в расстегнутом
фраке, разукрашенный на небывалый лад: за вырез
жилета, в петли манишки, даже за крахмальный во-
ротничок были засунуты цветы из двух огромных ки-
тайских ваз, красовавшихся на стойке, шею обвивала
золотая цепочка, которая принадлежала девушке
с выступающими ключицами; а на голове в виде
шляпы покачивалась плоская металлическая крышка
от крюшонницы. Он бормотал: «Что вы делаете?.. Что
вы делаете?..» А вся компания, взявшись за руки,
с явным ликованием, хихикая, прыская со смеху и
паясничая, приплясывала перед ним, двигаясь . по
полукругу то вправо, то влево.
На скулах у доктора Юбербейна проступили крас-
ные пятна, казавшиеся удивительно странными и
даже какими-то неправдоподобными при его зелено-
ватом лице.
102
— Прекратить, сейчас же прекратить! — крикнул
он громовым голосом; и сразу наступили тишина и
отрезвление.
Доктор Юбербейн среди всеобщей растерянности
шагнул к принцу, выхватил цветы, сорвал цепочку,
сбросил крышку, затем склонился перед Клаусом-
Генрихом и сказал с серьезным лицом:
— Ваше великогерцогское высочество, осмелюсь
попросить вас...
«Я осел, осел!> — твердил он, выходя из зала-
Клаус-Генрих покинул бал в сопровождении доктора
Юбербейна.
Вот какое тягостное происшествие случилось
с Клаусом-Генрихом в тот год, когда он посещал
гимназию. Как уже было сказано, никто из причаст-
ных к этому делу не проговорился, доктор Юбербейн
в течение нескольких лет тоже не напоминал о нем
Клаусу-Генриху — и, никем не облеченное в слова,
оно было лишено плоти и тут же позабылось, во вся-
ком случае так можно было предположить.
Городской бал состоялся еще в январе. Сезон
увеселений закончился на масленице придворным
балом, который давался во вторник, и большим рау-
том в Старом замке — ежегодными празднествами,
на коих еще не присутствовал Клаус-Генрих. Затем
наступила пасха, а с ней конец учебного года: экза-
мен на аттестат зрелости, приятная формальность, во
время которой преподаватели весьма часто обраща-
лись к Клаусу-Генриху с вопросом: «Не правда ли,
ваше великогерцогское высочество?» — меж тем как
принц с изящной непринужденностью старался не по-
срамить свое исключительное положение. Особых из-
менений в его жизнь экзамен не внес. Еще некоторое
время Клаус-Генрих прожил в столице. Но после
троицы ему исполнилось восемнадцать лет, что вы-
звало целый комплекс торжественных действий, кото-
рые положили начало серьезному изменению его
жизни и на много дней обрекли его на столь напря-
женное и высокое служение.
Он официально был признан совершеннолетним.
Впервые после крестин был он опять центром внимания
W3
и главным действующим лицом во время торже-
ственной церемонии. Но если тогда Клаус-Генрих
мог молча, безответственно и пассивно подчиниться
этикету, который опекал и направлял его, то теперь
ему вменялось в обязанность, точно соблюдая неумо-
димые предписания, не выходя из строго определен-
ных рамок, твердо помнить о том, что ему надлежит
предстать перед публикой, драпируясь в пышную
мантию торжественного ритуала, обрадовать зрите-
лей и возвысить их над повседневностью своей пре-
красной выправкой и подобающей осанкой, с виду не
стоящими ему никакого труда.
Впрочем, пышная мантия в данном случае не
аллегория, ибо принц предстал по сему случаю
в красной мантии — выцветшей и театральной, своего
рода бутафории, служившей еще его отцу и деду при
их совершеннолетии и пропахшей нафталином, хотя
перед тем ее несколько дней проветривали. Красная
мантия в свое время входила в орденское одеяние
кавалеров Гримбургского грифа, а теперь употребля-
лась только при торжественной церемонии для облаче-
ния вступающих в совершеннолетие принцев. Аль-
брехту, наследнику престола, не пришлось надеть
этот фамильный предмет гардероба. Альбрехт по-
явился, на свет зимой и потому всегда проводил день
своего рождения на юге, в теплом и сухом климате,
куда собирался уехать и этой осенью; в год его во-
семнадцатилетия состояние здоровья не позволило
ему вернуться на родину, поэтому было решено
заочно признать его совершеннолетним, отказавшись
от торжественной церемонии.
Присутствующие единодушно решили, что Клаусу-
Генриху мантия очень к лицу, а сам он, хоть мантия
и стесняла его движения, воспринял ее как благо-
деяние, ибо так ему было легче скрыть левую руку.
У себя в спальне, помещавшейся во втором этаже и
выходившей окнами в тот двор, где рос розовый куст,
Клаус-Генрих добросовестно и тщательно готовился
к предстоящему публичному выступлению, одеваясь
между кроватью под балдахином и пузатыми шка-
фами с помощью лакея Неймана, молчаливого и
104
аккуратного человека, который незадолго перед тем
был приставлен к нему в качестве камердинера, ве-
дающего и его гардеробом. Нейман вышел из парик-
махеров и во всем, что касалось его первоначальной
профессии, отличался болезненной щепетильностью,
тем сознанием недосягаемости идеала, которое
является гарантией мастерства. Он брил не так, как
иные прочие, он не удовлетворялся тем, что не оста-
лось ни одного волоска; он брил так, чтобы исчезли
даже тень, даже воспоминание о бороде и, ни разу
не царапнув кожи, придавал ей идеальную барха-
тистость и гладкость. Он подстриг Клаусу-Генриху
волосы на висках точно под прямым углом и приче-
сал их с тем старанием, которое, по его мнению, при-
личествовало для такого торжественного выступле-
ния. Он умело провел косой пробор от левого глаза
через всю голову до самой макушки и при этом не
потревожил ни единого волоска. Он умело откинул
со лба волосы, зачесал их назад и так крепко пригла-
дил щеткой над правым глазом, что ни шляпа, ни
каска не могли уже их растрепать. Затем Клаус-Ген-
рих с его помощью облачился в узкий, сидевший на
нем как влитой мундир лейтенанта лейб-гренадер-
ского полка с высоким шитым воротником, который
способствовал строгой вытравке, надел шелковую
лимонного цвета ленту и плоскую золотую цепь фа-
мильного ордена Гримбургов и спустился вниз в кар-
тинную галерею, где собрались ближайшие члены
семьи и иностранные родственники великогерцогской
четы. Придворные чины дожидались в смежном Ры-
царском зале. Иоганн-Альбрехт собственноручно об-
лачил сына в красную мантию.
Господину фон Бюль цу Бюлю пришлось немало
подумать, прежде чем ему удалось установить поря-
док торжественного шествия из Рыцарского зала
в Тронный. Организовать импозантное зрелище при
маличном составе свиты было весьма затруднительно,
и господин фон Бюль жаловался на нехватку высших
придворных чинов, ощущавшуюся особенно тяжело
в подобных случаях. С недавних пор в ведение госпо-
дина фон Бюля были отданы и придворные конюшни,
105
и он чувствовал себя в силах справиться со столь-
кими должностями. А сейчас он обращался ко всем
с вопросом: где прикажете найти людей, достойных
предварять шествие, раз высшие должности предста-
влены только оберегермейстером фон Штиглицем и
управляющим великогерцогскими театрами генера-
лом, страдающим подагрой?
В качестве обергофмаршала, обергофцеремоний-
мейстера и обергофмейстера он выступал, извиваясь
и выставляя вперед свой высокий жезл, непосред-
ственно за наряженными пажами и причесанными на
косой пробор кадетами, которые открывали шествие,
и, красуясь шитым мундиром, каштановым париком,
грудью, увешанной орденами не хуже котильонной
подушки, и золотым пенсне на носу, озабоченно со-
ображал, кто идет позади: с десяток камергеров
в шелковых чулках, с треуголкой, отороченной плю-
мажем, под мышкой и ключом на талии, у заднего
шва мундира (да, с десяток, не больше, ведь необхо-
димо оставить несколько штук для арьергарда), за
ними, впереди принца Клауса-Генриха в красной
мантии, который вместе со своими августейшими ро-
дителями и сопровождающими их Альбрехтом и Дит-
линдой и является центром всего шествия — госпо-
дин фон Штиглиц и с трудом ковыляющий генерал
от театральных зрелищ. Непосредственно за высочай-
шими особами шагает, улыбаясь морщинками вокруг
глаз, министр двора и председатель совета мини-
стров фон Кнобельсдорф. Следом за ним — неболь-
шая группа адъютантов и придворных дам: генерал
граф Шметтерн и майор фон Платов, один из графов
Трюммергауфов, кузен придворного финанц-дирек-
тора, офицер, приставленный к наследному принцу, и
фрейлины великой герцогини во главе с страдающей
одышкой баронессой фон Шуленбург-Трессен. Затем
предваряемые и сопровождаемые адъютантами, ка-
мергерами и придворными дамами принцесса Ката-
рина со своим рыжеголовым потомством, принц Лам-
берт со своей миловидной супругой и иностранные
родственники или их представители. Замыкают,
шествие пажи.
106
Так размеренным шагом подвигалась процессия
из Рыцарского зала через парадные апартаменты,
зал Двенадцати месяцев и Мраморный зал в Трон-
ный. По два лакея в парадных коричневых ливреях
с золотисто-красными аксельбантами стояли, заме-
рев, словно театральные статисты, с каждой стороны
распахнутых настежь дверей. Через большие окна
беспощадно ярко и радостно светило утреннее июнь-
ское солнце.
Клаус-Генрих, шествуя между родителями через
холодную пустыню парадных покоев, оглядывал их
пышную мишуру и облезлое великолепие, не скрашен-
ное всепреображающим нарядным блеском искусствен-
ного освещения. Яркий день весело и трезво освещал
их обветшалую роскошь. С больших люстр на длинных
обвитых материей стержнях ради такого торжествен-
ного дня были сняты чехлы, и целый лес незажжен-
ных свечей глядел в потолок; но на одних люстрах не
хватало хрустальных подвесок, на других были по-
рваны гирлянды бус, и впечатление получалось такое,
словно от одной откушен кусок, а у другой выбит
зуб; на чопорных дворцовых креслах с широко рас-
ставленными подлокотниками, чинно и скучно вы-
строившихся вдоль стен, посеклась тканая шелковая
обивка, позолота облезла; на светлой поверхности
высоких зеркал, по обеим сторонам которых висели
бра, темнели тусклые пятна, а сквозь проеденные кое-
где молью дырки в поблеклых и выгоревших на
подборах драпри просачивался свет. Позолоченный и
посеребренный багет, окаймлявший обои, во многих
местах отклеился и отстал от стены, а в Серебряном
зале, в парадном покое, том самом, где великий гер-
цог давал торжественные аудиенции и где в центре
стоял перламутровый столик на серебряной ножке,
изображающий ствол дерева, кусок посеребрен-
ного украшения на плафоне просто-напросто обва-
лился, и наверху появилось большое белое гипсовое
пятно...
Но почему же все-таки казалось, что эти покои мо-
гут устоять перед трезвым, смеющимся дневным све-
том, могут поспорить с ним? Клаус-Генрих посмотрел
107
украдкой на отца... Состояние апартаментов, каза-
лось, не смущало его. Великий герцог и смолоду был
только-только среднего роста, а теперь стал, можно
сказать, и совсем маленьким. Но он шествовал, над-
менно закинув голову, при лимонно-желтой орден-
ской ленте на генеральском мундире, в который он
облачился для такого дня, хотя вообще склонности
к военщине не питал. Из-под высокого лысого лба
и седеющих бровей устало и высокомерно глядели
вдаль голубые обведенные тенью глаза, а от закруг
ченных кверху белых усов к бороде бежали две мор-
щины, глубоко врезавшиеся в старческую желтую
кожу и придававшие лицу презрительное выражение...
Нет, ясный день не может повредить этим залам;
обветшалость не только не наносит ущерба их вели-
чественности, в известной мере она даже благоприят-
ствует ей. Эти покои холодно отстраняют себя, отре-
каются от свежего, пронизанного солнцем мира, про-
тивопоставляя ему величественную неуютность,
театральную симметрию, странно безжизненную ат-
мосферу сцены или храма, здесь царит суровый культ
формы, и Клаус-Генрих сегодня впервые приобщается
к торжественному служению...
Продефилировав между двумя лакеями, которые
с неумолимым видом сжали губы и закрыли глаза,
шествие вступило на простор белого с золотом Трон-
ного зала. И тут начались благоговейные телодвиже-
ния — отдача чести, шарканье, поклоны, реверансы —
и продолжались все время, пока процессия шла вдоль
выстроившихся в ряд гостей. Тут были дипломаты
с супругами, придворная и земельная знать, офицер-
ский корпус столицы, министры, среди них и новый
министр финансов доктор Криппенрейтер с наигранно
оптимистическим выраженем лица, кавалеры Грим-
бургского грифа первой степени, председатели обеих
палат ландтага, всякие должностные лица. А наверху
в тесной ложе, помещавшейся на той же стене,,
где вход, над большим зеркалом расположились пред-
ставители прессы, они усердно записывали, задние,
глядя через плечи передних... Дойдя до трона с увен-
чанным пучком страусовых перьев балдахином — сим-.
108
метрично с двух сторон подобранной бархатной с зо-
лотой каймой драпировкой, которую не мешало бы
подновить, — кортеж разделился, как в полонезе, и
выполнил ряд точно установленных движений. Пажи
и камергеры разошлись направо и налево, господин
фон Бюль отступил назад, обернувшись лицом к трону
и подняв свой жезл, и, дойдя до середины зала, оста-
новился. Великий герцог с супругой и детьми под-
нялся по закругленным и устланным красной материей
ступеням к стоящим наверху широким позолоченным
театральным креслам. Остальные члены великогер-
цогской фамилии вместе с иностранными высочест-
вами выстроились по обе стороны трона, за ними по-
местилась свита: статс-дамы и дежурные кавалеры;
пажи расположились на ступенях. Иоганн-Альбрехт
махнул рукой, и господин фон Кнобельсдорф, уже
стоявший наготове напротив трона, поспешил, улы-
баясь глазами, по точно определенной кривой к по-
крытому бархатом столику, который стоял сбоку
у подножия трона, и приступил к оглашению офи-
циальных документов и прочим формальностям.
Клауса-Генриха объявили совершеннолетним и,
следовательно, имеющим, буде это потребуется, за-
конное право на престол. В эту минуту глаза всех
были обращены на него—и на его королевское вы-
сочество Альбрехта, его старшего брата, который
стоял рядом. Наследный принц был в мундире ротми-
стра гусарского полка, при котором состоял номи-
нально. Из обшитого серебряным галуном воротника
его мундира торчал не по форме высокий белый штат-
ский стоячий воротничок. У Альбрехта был вытяну-
тый назад череп, сдавленные виски, тонкое, умное
и болезненное лицо со светлыми, как солома, еще
только пробивающимися усами и голубые глаза
с отсутствующим взглядом — ведь он видел лицо
смерти... Да, наружность не типичная для кавалери-
ста, но зато такая породистая и неприступно аристо-
кратичная, что Клаус-Генрих со своими простонарод-
ными скулами рядом с братом казался просто уваль-
нем. Наследный принц, когда глаза всех устремились
на него, сделал свою обычную гримаску: слегка
109
выпятил короткую пухлую нижнюю губу и втянул
верхнюю.
Совершеннолетний принц был пожалован всеми ор-
денами герцогства, включая и Альбрехтский крест и
орден Гримбургского грифа первой степени, не говоря
уже о фамильном ордене «За постоянство», которым
он был награжден, когда ему исполнилось десять лет.
Затем последовала церемония поздравления: перед
троном продефилировали все гости, возглавляемые
извивающимся господином фон Бюлем, и торжество
закончилось парадным завтраком в Мраморном зале
и зале Двенадцати месяцев...
Следующие дни ознаменовались увеселениями
в честь иностранных владетельных особ. В Голлер-
брунне был дан праздник с фейерверком и танцами
в парке для придворной молодежи. Были устроены
увеселительные поездки в сопровождении пажей на
лоно летней природы — в дворцы Монбрийан и Егер-
прейс, на руины Хадерштейна, и народ — скроенный
на один лад народ: коренастый, скуластый, с задум-
чивыми глазами — стоял вдоль дорог, поздравлял и
кричал «ура!» и себе и своим представителям. В сто-
лице владельцы художественных лавок выставили
в витринах фотографии Клауса-Генриха, а «Курьер»
даже напечатал его портрет, идеализированный ри-
сунок в народном вкусе, на котором принц был изо-
бражен в красной мантии. Вскоре затем последовало
еще одно торжество: официальное зачисление Клауса-
Генриха в армию, в лейб-гренадерский полк.
Это происходило так: полк, на долю которого вы-
пала честь зачислить в ряды своих офицеров Клауса-
Генриха, построился в открытое каре на Альбрехте-
плаце. В центре развевались многочисленные султаны;
присутствовали принцы, принадлежащие к правящей
фамилии, и генералы. Военные пестрым пятном
выделялись на черноватом фоне оттиснутой за кордон
публики. На поле действия со всех сторон были на-
ставлены фотографические аппараты. Из окон Ста-
рого замка смотрели в ожидании предстоящего зре-
лища великая герцогиня, принцессы и фрейлины.
110
Прежде всего Клаус-Генрих, одетый в лейтенант-
ский мундир, предстал перед великим герцогом в Ста-
ром замке. С серьезным лицом, не улыбаясь, прибли-
зился он к отцу и, щелкнув каблуками, по всей форме
рапортовал о том, что прибыл в его распоряжение.
Великий герцог коротко, тоже не улыбаясь, поблаго-
дарил его, затем в парадном мундире, с развеваю-
щимся султаном на каске спустился на площадь.
Клаус-Генрих приблизился, сопровождаемый адъютан-
тами, к опущенному знамени — пожелтевшему и во
многих местах порванному тканому шелковому полот-
нищу и принес присягу. Великий герцог резким началь-
ническим голосом, к которому прибег специально для
этого случая, произнес краткую речь, причем, обра-
щаясь к сыну, назвал его «ваше великогерцогское вы-
сочество» и публично пожал ему руку. Полковник
лейб-гренадеров, покраснев от натуги, провозгласил
в честь великого герцога «ура!», подхваченное го-
стями, полком и публикой. Затем последовал парад,
и все закончилось завтраком в замке для господ
офицеров.
Это красивое представление на Альбрехтсплаце не
преследовало практических целей, оно было ценно
безотносительно, само по себе. Клаус-Генрих по-преж-
нему не нес военной службы, еще в тот же день он от-
правился с родителями, братом и сестрой в Голлер-
брунн, где ему предстояло провести лето в старомодно
обставленных покоях и у реки, в парке, обнесенном
высокой, как стена, живой изгородью, а осенью он
должен был поступить в университет. Ибо его жизнь
была предусмотрена следующим образом: осенью он
па год поступает в университет, не в столичный, а
в другой университет герцогства, и сопровождает его
доктор Юбербейн, его репетитор.
Назначение этого молодого ученого в менторы
опять-таки надо отнести за счет особого, настойчиво
выраженного желания принца; и в решающей инстан-
ции сочли возможным уважить его просьбу касательно
выбора ему гувернера и старшего товарища на этот
год свободной студенческой жизни, хотя многое го-
ворило против этого выбора. Во всяком случае,
///
в широких кругах его осуждали, где вслух, где шепо-
том: доктор Юбербейн был не популярен.
В столице его не любили. Полученной им медали
за спасение утопающих и его устрашающему трудо-
любию отдавали должное, но этот человек не был
приятным согражданином, любезным сослуживцем и
безупречным чиновником; наиболее доброжелатель-
ные считали его раздражительным, неприятным и не-
угомонным чудаком, не дающим себе передышки
даже-в праздничны-е дни и не умеющим по окончании
служебных обязанностей спокойно наслаждаться
жизнью, как все прочие люди. Он, незаконный сын
какой-то авантюристки, безвестный юноша без средств
и видов на будущее, трудом, настойчивостью и силой
воли выбился со дна общества в сельские учителя,
получил высшее образование, стал преподавателем
гимназии, он дожил до того, — многие говорили
«добился того», — что его пригласили в Фазанник
преподавателем к принцу; и все же он не знает от-
дыха, не знает покоя, не умеет мирно наслаждаться
жизнью... А ведь жизнь, как весьма метко заметил,
имея в виду доктора Юбербейна, один умный чело-
век, — жизнь — это не только служба и работа, суще-
ствуют и чисто человеческие обязанности и требова-
ния, и пренебрегать ими куда более тяжкий грех, чем,
скажем, относиться с некоторой снисходительностью
к себе и сослуживцам, и гармонической личностью, во
всяком случае, можно назвать только того, кто воз-
дает должное и службе и людям, и жизни и труду.
Юбербейн нелегко сходился с людьми, и это восста-
навливало против него. Он избегал общества сослу-
живцев и дружил только с одним человеком, работав-
шим в другой области науки, — с детским врачом,
носившим неблагозвучную фамилию Плюш, впрочем,
имеющим большую практику и некоторыми чертами
характера, вероятно, похожим на Юбербейна. Только
очень редко — да и то будто из милости — присоеди-
нялся он к своим коллегам по гимназии, которые по
окончании трудов праведных собирались в ресторане
выпить кружку пива, перекинуться в картишки или
просто обсудить общественные и домашние дела;
112
вместо этого он проводил вечера и, как узнали от
его хозяйки, часть ночи за научной работой у себя в
кабинете, от чего цвет лица его делался все зеленее,
а глаза явно говорили об усталости. Вскоре после его
возвращения из Фазанника начальство сочло себя
обязанным повысить его в старшие учителя. Что ему
еще нужно? Стать директором? Профессором высшей
школы? Министром просвещения? Твердо установлено
было одно: за его не знающим меры и удержу усер-
дием скрывается или, вернее, не скрывается зазнай-
ство и заносчивость. Его поведение, его громкая, рез-
кая, задорная речь — сердили, раздражали, восста-
навливали против него. Он не сдерживал языка, когда
говорил со старшими по возрасту и чипу учителями.
Он усвоил отческий тон по отношению ко всем, на-
чиная от директора и до самого незначительного
сверхштатного учителя, а в его манере говорить
о себе, как о человеке, прошедшем огонь и воду, рас-
суждать о «судьбе и выдержке» и при этом высказы-
вать доброжелательное презрение к тем, «кому это не
нужно», «кто закуривает по утрам сигару», — да,
в этом так и сквозило самомнение. Ученики обожали
его, он добивался превосходных результатов, это
верно. Однако в городе у доктора Юбербейна было
много врагов, больше, чем он думал, и даже в пе-
чати высказывались сомнения относительно желатель-
ности его влияния на принца...
Так или иначе Юбербейн получил отпуск, посетил
пока что один, в качестве квартирьера, городок, сла-
вившийся своим университетом, в стенах которого
Клаусу-Генриху предстояло прожить год вольной сту-
денческой жизнью, и по возвращении был принят ми-
нистром великогерцогского двора, его превосходитель-
ством фон Кнобельсдорфом, дабы получить необходи-
мые инструкции. Сводились они приблизительно
к следующему: важнее всего, чтобы за этот год между
герцогским сыном и студенческой молодежью на
почве общих занятий и свободной академической
жизни завязались товарищеские отношения, ибо этого
требуют интересы династии. Господин фон Кнобельс-
дорф ограничился лишь казенными фразами, и
8 Т. Манн, т. 2
113
доктор Юбербейн, выслушав его, молча поклонился и
слегка скосил рот, а заодно и свою рыжую бороду.
И вскоре Клаус-Генрих отбыл в университет вместе
с ментором, догкартом и несколькими слугами.
В глазах публики и в зеркале официальных сооб-
щений — прекрасный, овеянный музами и очарованием
свободы год, однако нисколько не отягченный при-
обретением фактических знаний. Возникшие было
опасения, что доктор Юбербейн по оплошности или
недоразумению станет докучать принцу непосильными
требованиями в отношении наук, рассеялись. Напро-
тив, выяснилось, что Юбербейн вполне понимает,
сколь несходны его собственный серьезный строй
жизни и высокий удел его ученика. С другой стороны
(то ли по вине ментора, то ли по вине самого Клауса-
Генриха), инструкция о свободных и непринужден-
ных товарищеских отношениях осталась благим, но
чисто теоретическим пожеланием, так что существен-
ным и специфически присущим этому году не могло
считаться ни то, ни другое — ни наука, ни непри-
нужденные отношения. Существенным и специфиче-
ским был как будто год сам по себе — его уклад и
приятные обычаи, которым Клаус-Генрих подчинился
с приличествующей выдержкой, так же как подчи-
нился представительским обязанностям в свой 'послед-
ний день рождения — только на этот раз на нем была
не красная мантия, а цветная студенческая шапочка,
называемая «штюрмер», в коей его и представил
своим читателям «Курьер».
Внесение Клауса-Генриха в список студентов про-
шло без каких-либо торжественных церемоний, однако
все же было указано на честь, которая выпала на долю
высшему учебному заведению, принявшему в свои
стены принца; а лекции, на которых он присутствовал,
начинались обращением — «Ваше великогерцогское
высочество!». Гофмаршальская часть сняла для него
красивую, утопающую в зелени виллу на аристократи-
ческой и не слишком дорогой улице, и прохожие узна-
вали и приветствовали его, когда он в своем догкарте
с лакеем позади ездил оттуда на лекции, на которых
сидел с выражением вежливого внимания на лице,
Ш
в то же время вполне сознавая, что все эти положи-
тельные знания для его высокого назначения несуще-
ственны и ненужны. Между студентами ходили почти-
тельные и весьма отрадные рассказы, из которых
явствовало, что принц принимает живое участие в за-
нятиях. Так, в конце одной лекции по естественным
паукам (Клаус-Генрих «для общего развития» посе-
щал и эти лекции) профессор в присутствии слушате-
лей наполнил водой металлический шар и сказал, что
вода, расширяясь при замерзании, разорвет металли-
ческую оболочку; в следующий раз он продемонстри-
рует осколки шара. В этом последнем пункте он
своего слова не сдержал, вероятно, по забывчивости:
на следующей лекции он не продемонстрировал разо-
рванный шар. И что же, Клаус-Генрих поинтересовался,
удался ли опыт. По окончании лекции он, как простой
смертный, присоединился к толпе студентов, обступив-
ших профессора, и скромно обратился к нему с вопро-
сом: «Ну как, бомба разорвалась?» — в ответ на что
профессор сначала опешил и только потом с радост-
ным удивлением, больше того—с волнением, выразил
принцу свою благодарность за любезно проявленный
им интерес...
Клаус-Генрих был гостем одной из студенческих
корпораций — только гостем, потому что ему нельзя
было фехтовать, — и несколько раз в цветной шапочке
на голове бывал на товарищеских попойках. Но те,
кому был поручен надзор за ним, отлично знали,
в какое совершенно неподобающее при его высоком
назначении расслабленное и тупое состояние приво-
дит употребление спиртных напитков, и посему ему
нельзя было пить по-настоящему; и в этом тоже сту-
денты были склонны считаться с его высочеством.
Грубые нравы смягчились, свелись к случайным вы-
ходкам, тон и обхождение не оставляли желать луч-
шего, как в свое время в старшем классе гимназии;
песни распевались старинные и поэтические, и, в об-
щем, пирушки превратились в парадные торжественные
собрания, в идеализированные копии обычных сту-
денческих попоек. Между Клаусом-Генрихом и кор-
порантами было условлено говорить друг другу «тыс»,
8*
115
что должно было служить выражением и основой не-
принужденных товарищеских отношений. Но', несмотря
на доброе желание, в этом, по общему мнению, было
что-то в корне фальшивое и принудительное, и не-
вольно, обращаясь к Клаусу-Генриху, его то и дело
величали «ваше высочество».
Таково было влияние его личности, его любезно-
сдержанного и по самой сути своей безучастного об-
хождения, которое, впрочем, вызывало иногда со сто-
роны людей, соприкасавшихся с принцем, очень стран-
ные, даже смешные выходки. Так, раз на вечере
у одного из профессоров он заговорил с солидным, уже
пожилым господином в чине советника юстиции, кото-
рый пользовался славой гуляки и беспутного старого
греховодника, что, впрочем, не вредило его положению
в обществе. Разговор, содержание которого абсолютно
несущественно, да к тому же навряд ли может быть
воспроизведено, продолжался сравнительно долго, по-
тому что никто не приходил на смену. И вдруг во
время разговора советник юстиции свистнул — издал
своими толстыми губами бессмысленную трель, как
это бывает, когда хотят скрыть смущение и показать,
будто чувствуют себя независимо и беспечно. Он сей-
час же спохватился и начал кашлять, спеша замять
неприличную выходку... Клаус-Генрих привык к по-
добным явлениям и из деликатности не замечал их.
Иногда он входил в лавку, чтобы самолично что-то
купить, и его появление вызывало панику. Он гово-
рил, что ему требуется, просил, скажем, пуговицу, но
барышня за прилавком не понимала, терялась; сосре-
доточить ее мысли на пуговице было нелегко, она
явно была поглощена чем-то другим, что стояло вне
и над предметами реального мира, — все вывалива-
лось у нее из рук, она беспомощно переставляла ко-
робки с места на место, и Клаусу-Генриху с трудом
удавалось ее успокоить.
Таково, как уже говорилось, было воздействие его
личности, и в городе многие считали его гордецом и
порицали за пренебрежительное отношение к людям.
Другие же не соглашались с этим, и доктор Юбер-
бенн, с которым при случае обсуждали эту тему, за*
116
давал вопрос — возможно ли, «даже если согласиться,
что есть все основания презирать людей», — возможно
ли презрение к ним при такой полной оторванности
от действительной жизни, как в данном случае?
И пока думали над этим вопросом, он уже утверждал,
по своему обыкновению не давая никому вставить
слово, что принц не только не презирает людей, а на-
оборот, до того уважает всех, даже самы-х ничтожных,
до того высоко их ставит, до того серьезно, хорошо
к ним относится, что бедному переоцененному и совер-
шенно подавленному вниманием серенькому человечку
остается только потеть.
Общество университетского городка не успело
прийти к какому-нибудь определенному выводу. Учеб-
ный год быстро пролетел, и Клаус-Генрих уехал, вер-
нулся, согласно выработанной программе, в отцовскую
столицу, чтобы, невзирая на свою левую руку, в те-
чение года серьезно отдаться военной службе. Полгода
он служил в лейб-драгунах и давал команду держать
дистанцию в восемь шагов при учении на пиках или
строиться в колонны, словно это было его прямой
обязанностью. Затем он переменил род оружия и всту-
пил в лейб-гренадерский полк, чтобы ознакомиться
с пехотной службой. Он даже появлялся в замковой
кордегардии и командовал сменой караула, что при-
влекало многочисленную публику. Со звездой на груди
выходил он быстрым шагом из караульного помещения,
обнажив саблю, становился с фланга роты и не совсем
точно отдавал команду, но вреда от этого не было:
исправные солдаты все равно выполняли все положен-
ные движения. Бывал он также и в офицерском со-
брании на товарищеских пирушках, где сидел за сто-
лом рядом с командиром полка, и в его присутствии
офицеры^ не решались расстегнуть воротник мундира,
а после ужина играть в азартные игры. Затем
в двадцатилетнем возрасте он предпринял «путешест-
вие с образовательной целью» — на этот раз уже не
в обществе доктора Юбербейна, а в сопровождении
военного чина — гвардии капитана фон Браунбарт-
Шеллендорфа, рослого белокурого молодого человека,
который предназначался в адъютанты Клаусу-Ген-
117
риху, и таким образом получал возможность завоевать
за время поездки симпатию принца и приобрести на
него влияние.
Из этого «путешествия с образовательной целью»,
о котором неукоснительно сообщалось в «Курьере»,
Клаус-Генрих вынес не очень-то много, хоть и объез-
дил разные государства. Он бывал при иностранных
дворах, представлялся монархам, присутствовал
вместе с господином фон Браунбартом на банкетах и,
когда уезжал, награждался высоким орденом дан-
ного государства. Он осматривал достопримечатель-
ности, которые выбирал для него господин фон Браун-
барт (тоже получивший несколько орденов), и
«Курьер» время от времени сообщал, что принц в выс-
шей степени благоприятно отозвался о такой-то кар-
тине, музее или здании в разговоре с таким-то дирек-
тором или таким-то хранителем. Клаус-Генрих путе-
шествовал, опекаемый, охраняемый и оберегаемый
рыцарской заботливостью ведавшего его кассой гос-
подина фон Браунбарта, ревностному усердию кото-
рого следует приписать тот факт, что по окончании
путешествия Клаус-Генрих не знал даже, как сдают
в багаж чемодан.
Два слова, не больше, надо сказать об интермедии,
со всей тщательностью разыгранной господином фон
Браунбартом в одном из крупных городов империи.
В этом городе у господина Браунбарта был прия-
тель— дворянин, ротмистр и холостяк — близкий
друг одной молодой дамы из театрального мира,
услужливой и надежной особы. Предварительно спи-
савшись со своим приятелем, господин фон Браун-
барт свел Клауса-Генриха с этой особой, причем зна-
комство состоялось у нее в домашнем гнездышке,
в подходящей для такого случая обстановке и продол-
жалось с глазу на глаз достаточно долго, в результате
чего весьма деликатным способом была достигнута
одна из заранее предусмотренных образовательных
целей поездки и, надо сказать, что и в данном случае
от Клауса-Генриха требовалось только одно: приоб-
рести некоторые новые знания. Достойная актриса
118
получила подарок на память, а другу господина
фон Браунбарта при случае дали орден. И хватит об
этом.
Клаус-Генрих объездил также прекрасные южные
края инкогнито, под вымышленной фамилией, звуча-
щей благородно, как в романах. С четверть часика
сиживал он один в штатском платье строгого и благо-
родного фасона среди других иностранцев в ресторане
па белой террасе, любуясь синим морем, и случалось,
что за ним наблюдали с соседнего столика и стара-
лись, как это принято у путешественников, угадать его
общественное положение. Кем может быть этот спо-
койный и сдержанный молодой человек? Перебирали
все круги общества; прикидывали: а что, если его от-
нести к купечеству, или к военному сословию, или
к студентам? Но нет, не подходит. В нем чувствовали
нечто высокое, но в чем тут дело, не догадывались.
АЛЬБРЕХТ II
Великий герцог Иоганн-Альбрехт умирал от страш-
ной болезни, в ней было что-то обнаженное, что-то
абстрактное, определить ее можно только одиим сло-
вом — словом смерть. Казалось, на этот раз смерть,
уверенная в своем неотъемлемом праве, пренебрегла
маскарадом и выступила в своем подлинном обличье:
смерти как таковой. Коротко говоря, у герцога на-
чался распад крови, вызванный внутренним гнойным
процессом, быстрый ход которого не удалось приоста-
новить, несмотря на радикальную операцию, сделан-
ную директором университетской клиники, известным
хирургом. Дело быстро шло к печальной развязке —
тем быстрее, что Иоганн-Альбрехт не боролся за
жизнь. Он проявлял признаки бесконечной усталости,
не раз повторял своим близким и даже пользовавшим
его врачам, что ему до смерти опостылело все, — а
значит, и его августейшее бытие, и его высокое поло-
жение на виду у всех. За последние дни лицо его стя-
нулось в гротескную гримасу высокомерия и предель-
ной скуки, уже раньше проложивших на его щеках две
119
глубокие борозды, которые теперь обозначились еще
резче и только после смерти несколько разгладились...
Болезнь великого герцога пришлась на зиму.
Наследного принца Альбрехта вызвали в столицу, и
после теплого сухого климата он сразу попал в сьи-
рость и снег, что могло пагубно сказаться на его здо-
ровье. Его брат Клаус-Генрих прервал путешествие,
предпринятое с образовательной целью, впрочем и без
того приближавшееся к концу, и вместе с господином
Браунбарт-Шеллендорфом поспешил из прекрасных
южных краев домой. У постели умирающего, кроме
его двух августейших сыновей, дежурили великая гер-
цогиня Доротея, принцессы Катарина и Дитлинда,
принц Ламберт — один, без своей миловидной суп-
руги, — пользующие больного врачи и камердинер
Праль, а в соседней комнате собрались по долгу
службы придворные чины и министры. Если верить
рассказам прислуги, таинственные стуки в «Совиной
комнате» за последние недели чрезвычайно усилились.
Говорили, будто там периодически возобновляется
громыхание и шум, хотя за стенами комнаты никакой
возни не слышно.
Перед смертью великий герцог пожаловал званием
тайного советника профессора, с таким великим искус-
ством сделавшего бесцельную операцию, — это было
последним высочайшим актом Иоганна-Альбрехта. Он
ужасно устал, ему все опостылело, даже в минуты
просветления сознание его было несколько затума-
нено, однако он отнесся к данной церемонии чрез-
вычайно внимательно и провел ее по всем правилам.
Он приказал приподнять себя на подушках, приложив
козырьком к глазам свою восковую руку, внес кор-
ректив в случайную расстановку присутствующих,
велел сыновьям занять места по обе стороны его кро-
вати, осененной балдахином, — и, хотя дух его блу-
ждал на неведомых тропах, сбиваясь с прямого пути,
он с затверженным искусством автоматически изобра-
зил на лице милостивую улыбку и вручил профессору,
который перед тем на несколько минут выходил из
спальни, соответствующий диплом.
120
В последние минуты, когда болезнь захватила уже
мозг, великий герцог выразил желание, которое с тру-
дом разобрала, но немедленно выполнили, хотя его
выполнение уже ничего не могло изменить. В бормо-
тании умирающего все время повторялись одни и те
же слова, как будто совершенно бессвязные. Он про-
износил названия материй: шелк, атлас и парча, упо-
минал принца Клауса-Генриха, употреблял специаль-
ные медицинские термины и что-то лепетал об ордене
Альбрехта третьей степени с короной. Среди прочего
удавалось уловить самые отвлеченные выражения,
вроде «сугубые обязательства» и «благополучное
большинство», по всей вероятности относившиеся
к монаршим обязанностям умирающего; затем опять
пошло перечисление материй, к которым под конец
прибавилось слово «плюш», произнесенное более уве-
ренным голосом. И тогда присутствующие поняли: ве-
ликий герцог хочет, чтоб был приглашен для консуль-
тации доктор Плюш» тот самый врач, что двадцать лет
тому назад в Гримбурге случайно присутствовал при
рождении Клауса-Генриха, а теперь уже много лет
практиковал в столице. Доктор Плюш был, правда,
детским врачом, однако его все же позвали, и он при-
шел: теперь на висках у него уже пробивалась седина,
усы по-прежнему были не подкручены, приплюснутый
нос нависал над ними, щеки, как всегда, были тща-
тельно выскоблены. Склонив голову набок, одной
рукой теребя цепочку часов и крепко прижав локоть
к телу, взвесил он положение и, не теряя времени, с
участливой деловитостью занялся высокопоставлен-
ным больным, чем тот совершенно явно остался очень
доволен. Так случилось, что доктору Плюшу выпала
честь сделать великому герцогу последние уколы,
умелой рукой облегчить ему трудный переход и помочь
умереть. Такое предпочтение, правда, вызвало молча-
ливое недовольство прочих врачей, однако оно имело
и другое последствие: вскоре после смерти великого
герцога, когда в Доротеинской детской больнице от-
крылась вакансия на должность директора и главного
врача, туда был назначен доктор Плюш, в этой роли
121
оказавшийся позднее причастным к развитию совсем
других событий.
Итак, Иоганн-Альбрехт III умер, испустил зимней
ночью последний вздох, и в то время как он отходил,
Старый замок был торжественно иллюминован. Стро-
гие складки, проложенные на его лице скукой, рас-
правились; он подчинился этикету, который уже не
требовал от него никаких усилий и в последний раз
опекал, направлял его и в угоду законам представи-
тельства делал центром и предметом внимания его
восковую оболочку. Господин фон Бюль цу Бюль со
свойственной ему энергией распоряжался чином по-
гребения, на которое прибыло много августейших
гостей. На обстоятельное выполнение многочисленных
печальных церемоний, как-то: положение тела во гроб,
перенесение гроба и установка его на катафалке,
траурные процессии, поминовение усопшего и заупокой-
ные панихиды, ушел не один день; в течение восьми
часов тело покойного, почетный караул вокруг кото-
рого несли два полковника, два обер-лейтенанта, два
фельдфебеля, два вахмистра, два унтер-офицера и два
камергера, было выставлено для обозрения публики.
И только по окончании всех этих церемоний восемь
лакеев вынесли цинковый гроб из алтаря дворцовой
церкви, где .он стоял, окруженный обвитыми черным
крепом паникадилами со свечами в рост человека, во-
семь лесничих поставили его в гроб красного дерева,
восемь лейб-гренадеров подняли на плечи и понесли
к похоронной колеснице, которая под звон колоколов
и пушечные выстрелы медленно двинулась в путь
к великогерцогской усыпальнице. Намокшие знамена
тяжело свисали с середины древка. Хотя был еще
день, на улицах, по которым следовал погребальный
кортеж, горели газовые фонари. Магазины выставили
в декорированных крепом витринах бюст Иоганна-
Альбрехта, а открытки с портретом усопшего монарха
были нарасхват. По пути следования похоронной про-
цессии непрерывной цепью выстроились войска, гимна-
стические общества и союзы бывших воинов, а поза-
ди в снежном месиве толпились жители столицы и,,
стоя на цыпочках, обнажив голову, смотрели на мед-
122
лснно плывущий гроб, впереди которого шли лакеи с
венками, придворные чины, лица, несшие регалии по-
койного, и придворный проповедник доктор Визлице-
иус, меж тем как обергофмаршал фон Бюль, оберегер-
мейстер фон Штиглиц, генерал-адъютант граф Шмет-
терн и министр двора фон Кнобельсдорф держали
кисти шитого серебром покрова. За катафалком вели
верхового коня покойного герцога, а сейчас же вслед
за ним, впереди всех провожающих, рядом со своим
братом Клаусом-Генрихом шел великий герцог Аль-
брехт II. Ему была совсем не к лицу военная форма —
высокий не гнущийся султан на меховом кивере,
лакированные ботфорты, светлая широкая шинель
с траурной повязкой. Его смущала глазеющая толпа,
и на ходу он нервно вздергивал одно плечо, и так
уже приподнятое. По его бледному лицу ясно было
видно, как тяготит его участие в этом погребальном
представлении, да еще в качестве главного персо-
нажа. Он не подымал глаз от земли и, выпятив корот-
кую и пухлую нижнюю губу, посасывал верхнюю...
Та же гримаса не сходила с его лица и в течение
всех связанных с коронованием церемоний, ввиду его
слабого здоровья по возможности сокращенных.
В Серебряном зале парадных апартаментов великий
герцог подписал в присутствии министров, собрав-
шихся в полном составе, формулу присяги, а в Трон-
ном, стоя под балдахином перед высоким театральным
креслом, прочитал тронную речь, изготовленную гос-
подином фон Кнобельсдорфом. В ней серьезно, но
деликатно упоминалось хозяйственное положение
страны и прославлялось трогательное единение, не-
смотря на все трудности, царящее между государем
и народом; говорят, будто в этом месте тронной речи
некий крупный чиновник, вероятно недовольный про-
движением по службе, шепнул своему соседу, что и
государь и народ одинаково запутались в долгах,
в этом-де и выражается их единение, — это острое
словцо передавалось затем из уст в уста и даже по-
пало на страницы оппозиционно настроенной прессы...
В заключение председатель ландтага провозгласил
«ура!» в честь великого герцога, в дворцовой церкви
123
состоялось молебствие, и на этом все кончилось.
Альбрехт подписал еще указ об отмене штрафов и
тюремных наказаний ряду лиц, осужденных за мел-
кие преступления, главным образом за порубку. Тор-
жественный выезд через весь город в ратушу для
встречи с именитыми гражданами вовсе не состоялся
ввиду крайнего утомления Альбрехта II. По случаю
своего восшествия на престол великий герцог из рот-
мистров был незамедлительно произведен в полков-
ники и причислен к своему гусарскому полку, но он
только в самых редких случаях носил форму и ста-
рался держаться как можно дальше от военной
среды. Никакой смены лиц как при дворе, так и
в кабинете министров он не предпринял, возможно из
уважения к памяти отца.
Народ видел его редко. С первого же дня стало
ясно, что гордость и застенчивость внушают ему не-
преодолимое отвращение к показной стороне жизни,
что ему неприятно быть на виду, представительство-
вать, принимать приветствия, и это немало огорчило
его подданных. Он никогда не появлялся в большой
ложе придворного театра. Никогда не катался в часы
прогулки по городскому саду. В период пребывания
в Старом замке он отправлялся в карете в отдален-
ную и безлюдную часть парка и там выходил из эки-
пажа, чтобы немного поразмяться; а летом в Голлер-
брунне только в исключительных случаях покидал
аллеи сада.
Иногда народу случалось его лицезреть, скажем,
когда он садился в карету у Альбрехтовских ворот,
кутаясь в доставшуюся ему по наследству от отца,
слишком тяжелую для его хрупкого тела шубу с ши-
роким воротником. Но в робких взглядах и нереши-
тельных приветственных кликах подданных не ощу-
щалось подлинного воодушевления. Простые люди
чувствовали, что не могут чистосердечно славить его,
а вместе с ним и себя. Они смотрели на своего гер-
цога и не узнавали в нем себя, ибо в его утонченном
аристократизме не было характерных для местного
населения черт. А к этому они не привыкли. Разве по
сей день не стоит на Альбрехтсплаце рассыльный,
124
наружность которого представляет собой огруб-
ленную простонародную копию покойного герцога —
такие же выдающиеся скулы и седые бачки? И не те
же ли черты лица, что у принца Клауса-Генриха,
так часто встречаешь у многих простолюдинов? А вот
с его братом дело обстояло иначе. Народ не узнавал
в нем себя в идеализированном виде, не мог в нем
славить себя и на себя радоваться. Его величие —
его несомненное величие — было аристократизмом
отвлеченным, а не узко отечественным, непривычным,
чуждым для них аристократизмом. Он это знал, и
сознание своего величия и в то же время чувство, что
он не по-настоящему народен, и было, вероятно, при-
чиной его застенчивости и высокомерия. Уже с са-
мого начала старался он по возможности переложить
представительство на принца Клауса-Генриха. Он
послал его в Имменштадт на открытие источника и
в Буттербург на историческое торжество. Мало того,
его нелюбовь ко всяким церемониям дошла до того,
что господину фон Кнобельсдорфу только с большим
трудом удалось уговорить его не ссылаться на свое
плохое здоровье и самому провести в Тронном зале
торжественный прием председателей обеих палат, не
перепоручая и этого акта младшему брату.
Альбрехт II вел очень уединенную жизнь в Ста-
ром замке; это вышло как-то само собой. Во-первых,
после смерти Иоганна-Альбрехта принцу Клаусу-Ген-
риху был назначен собственный придворный штат.
Так полагалось по этикету, и посему его местожи-
тельством был избран Эрмитаж, тот самый изящно-
строгий, но необитаемый и заброшенный небольшой
дворец в стиле ампир на северной окраине города,
который стоял среди запущенного парка, переходя-
щего в городской сад и молча взирал на подерну-
тый ряской прудик. Еще в ту пору, когда Альбрехт
достиг совершеннолетия, в Эрмитаже произвели са-
мый необходимый ремонт и проформы ради назна-
чили его резиденцией наследного принца; но Аль-
брехт не жил в этом дворце: покидая летом теплый
и сухой климат, он возвращался непосредственно
в Голлербрунн...
125
Клаус-Генрих жил в Эрмитаже не очень пышно,
двором его ведал барон фон Шуленбург-Трессен, пле-
мянник обергофмейстериньи. Кроме камердинера Ней-
мана, к нему были приставлены два постоянных ла-
кея; егеря на случай торжественных выездов ему
давали из штата великого герцога. Конюшня с че-
тырьмя лошадьми — двумя верховыми и двумя вы-
ездными — и каретный сарай, где стояли коляска,
карета и догкарт, были на попечении кучера и двух
конюхов в красных куртках. Парк и сад обслуживал
садовник с двумя подручными; а женский персонал
«Эрмитажа» состоял из кухарки, судомойки и двух
горничных. Гофмаршалу фон Шуленбургу было вме-
нено в обязанность вести хозяйство своего молодого
повелителя, не выходя из той суммы, которая по тща-
тельном обсуждении была ассигнована ландтагом
брату великого герцога сейчас же после восшествия
Альбрехта II на престол. Сумма апанажа составляла
пятьдесят тысяч марок. Так как не было никакой
надежды получить согласие ландтага на испраши-
вавшуюся ранее сумму в восемьдесят тысяч марок,
решили заранее сделать мудрый и великодушный
жест и от имени Клауса-Генриха отказаться от этого
требования, что произвело самое лучшее впечатление.
Господин фон Шуленбург каждую зиму торговал
льдом с пруда. Два раза в лето косил траву на пар-
ковых лужайках и продавал сено. После покоса лу-
жайки были почти такие же, как английский газон.
Доротея, вдовствующая великая герцогиня, также
не жила больше в Старом замке, и на то, что она
удалилась от двора, были свои причины — доста-
точно печальные и тяжелые. Дело в том, что и эту
государыню, которую много на своем веку видевший
господин фон Кнобельсдорф как-то назвал одной из
красивейших женщин, каких он когда-либо встречал,
и эту государыню, чья сияющая красота, каждый раз
как она представала перед жадными взорами людей,
погрязших в будничной жизни, облагораживала, воз-
вышала душу, давала счастье, и эту государыню
тоже не пощадило время. Доротея постарела, ее тща-
тельно выхоленная, прославленная, до небес превоз-
126
несенная совершенная красота в последние годы на-
чала быстро и неудержимо увядать, и Доротея не
смогла примириться с этим. Чарующий блеск ее
темно-синих глаз померк, под глазами образовались
дряблые желтоватые мешки, прелестные ямочки на
щеках превратились в глубокие морщины, а гордый
и строгий рот впал и стал совсем узким, — и никакое
искусство, никакие применяемые ею средства, даже
самые тягостные и неприятные, — ничто не могло
предотвратить одряхления. Но она всегда была хо-
лодна, как и ее красота, и ничто не волновало ее,
кроме собственной красоты, ибо красота была ее ду-
шой; она ничего не любила, ничего не желала, кроме
облагораживающего действия этой красоты на лю-
дей,; ее сердце никогда и ни для кого не билось силь-
ней, и теперь она почувствовала себя беспомощной и
обедневшей. Не смогла внутренне принять, оправдать
переход к новому состоянию и повредилась рассуд-
ком. Лейб-медик Эшрих говорил также о душевном
потрясении вследствие необычайно быстрого одряхле-
ния, и по-своему он, конечно, был прав. Во всяком
случае, надо констатировать тот печальный факт, что
Доротея в последние годы жизни своего супруга уже
часто проявляла признаки глубокой меланхолии и
помрачения рассудка. У нее появилась светобоязнь:
так, она отдала распоряжение, чтобы во время четвер-
говых концертов в Мраморном зале все свечи были
затемнены красными колпачками, и с ней случались
нервные припадки всякий раз, как она не могла до-
биться, чтобы такое же освещение, неоднократно да-
вавшее повод для насмешек своим «закатным» на-
строением, применялось и при прочих празднествах —
во время придворного бала, малого бала, парадного
обеда, раутов. Она целыми днями просиживала пе-
ред своими зеркалами и, как наблюдали окружаю-
щие, гладила те, в которых по каким-либо причинам
ее отражение получалось в более благоприятном
свете. А потом опять приказывала вынести из своих
комнат все зеркала, а те, что были вделаны в стены,
занавесить, ложилась в постель и призывала смерть.
Однажды госпожа фон Шуленбург нашла ее в зале
127
Двенадцати месяцев в полном расстройстве, запла-
канную перед тем портретом во весь рост, на кото-
ром она была изображена в расцвете своей красоты...
Вместе с тем ею постепенно овладевала болезненная
боязнь людей; и двор и народ с грустью отмечали,
как в осанке этой былой богини начала проявляться
какая-то неуверенность, движения сделались на рез-
кость неловкими, а во взгляде появилось жалкое вы-
ражение. В конце концов она стала совсем затворни-
цей, и на последнем придворном бале, на котором
еще присутствовал Иоганн-Альбрехт, он шел в пер-
вой паре не со своей «недомогающей» супругой,
а с сестрой Катариной. Его смерть была избавлением
для Доротеи, так как освобождала ее от обязанности
представительствовать где бы то ни было. Для своей
резиденции вдовствующая герцогиня выбрала Зеген-
хауз, старый, похожий на монастырь охотничий за-
мок, расположенный в полутора часах езды от сто-
лицы, среди угрюмого парка и украшенный по воле
некоего благочестивого охотника религиозными и
охотничьими эмблемами в причудливом сочетании.
Там и поселилась меланхоличная и чудаковатая ве-
ликая герцогиня, и выезжавшим туда на пикник го-
рожанам иногда удавалось издали наблюдать, как
она прогуливается в сопровождении баронессы фон
Шуленбург-Трессен по аллеям парка и милостиво
кланяется стоящим по обе стороны деревьям.
Что же касается принцессы Дитлинды, то она
в двадцатилетнем возрасте, через год после смерти
отца, вышла замуж. Она отдала свою руку принцу
крови из дома, переставшего быть владетельным, —
Филиппу цу Рид-Гогенрид, уже немолодому, но хо-
рошо сохранившемуся господину небольшого роста,
любителю искусства и человеку передовых взглядов,
который в течение долгого времени почтительно до-
бивался ее благосклонности, ратуя сам за себя, и
в один прекрасный день на благотворительном ба-
заре он самым обывательским образом предложил ей
руку и сердце. Нельзя сказать, чтобы этот союз вы-
звал в стране взрыв восторга. Известие о нем было
встречено сдержанно, он обманул более гордые на-
128
дежды, которые втайне возлагались на дочь Иоганна-
Альбрехта, а злопыхатели говорили, что этот брак
можно назвать по меньшей мере неравным. Одно
было верно: отдав свою руку князю цу Рид-Гоген-
рид, — впрочем, по личной склонности, без всякого
постороннего давления, — Дитлинда спустилась из
привычной ей высокой сферы в гораздо менее связан-
ную этикетом область частной жизни. Ее супруг —
родовитый дворянин — был не только любителем и
коллекционером картин, но и деловым человеком и
фабрикантом крупного калибра. Фамилия, к которой
он принадлежал, уже сто лет как перестала быть
владетельной, но Филипп — первый в роде — решил,
отбросив предрассудки, по-деловому воспользоваться
положением ничем не стесненного частного лица.
В молодости он много путешествовал, а затем начал
подумывать о деятельности, которая могла бы дать
ему внутреннее удовлетворение, а главное, позволила
бы умножить доходы, что стало уже настоятельной
необходимостью. Итак, он занялся делами, завел
у себя в поместьях молочные фермы, пивоваренные
заводы, построил сахарный завод, несколько лесопи-
лен и начал в своих владениях планомерную разра-
ботку торфяных болот. Все свои предприятия он вел
умело, с осторожностью и практической сметкой, и
вскоре они процвели и стали приносить ему доходы,
правда, не совсем княжеского происхождения, но, во
всяком случае, дававшие ему возможность вести дей-
ствительно княжеский образ жизни. Пожалуй, тех же
злопыхателей следовало бы спросить, какую же луч-
шую партию могли они, если рассуждать здраво,
предложить принцессе. Оставляя в стороне ее сер-
дечные чувства, скажем, что Дитлинда благодаря
своему замужеству попала в удобную, зажиточную и
благополучную обстановку, к которой дома не при-
выкла, а ведь она не принесла мужу почти никакого
приданого, разве только неисчерпаемое богатство
в виде носильного белья, среди прочего и несколько
дюжин вышедших из употребления к никому не нуж-
ных предметов, вроде ночных чепцов и косынок, но
они по традиции полагались в приданом невесты.
9 Т. Манн, т. 2
129
Она с удовольствием, решительно шагнула в частную
жизнь и из внешних признаков своей принадлеж-
ности к царствующей фамилии сохранила только ти-
тул. Она осталась в добрых отношениях со своими
дамами, но изгнала всякий этикет и позаботилась,
чтобы ее домашний быт не был похож на придвор-
ный. Для представительницы рода Гримбургов,
а Дитлинды особенно, это, возможно, было очень не-
ожиданно, но, надо полагать, отвечало ее вкусам.
Супруги проводили лето в своих поместьях, зиму —
в столице, в прекрасном дворце на Альбрехтс-
штрассе, приобретенном Филиппом цу Рид; именно
там, а не в Старом замке их высочества — Клаус-
Генрих и Дитлинда, а иногда и Альбрехт — собира-
лись для задушевной беседы.
Итак, однажды в начале осени, меньше чем через
два года после смерти Иоганна-Альбрехта, «Курьер»,
как всегда хорошо осведомленный, уже в вечернем
выпуске поместил сообщение, что сегодня днем его
королевское высочество великий герцог и его велико-
герцогское высочество принц Клаус-Генрих изволили
кушать чай у ее великогерцогского высочества кня-
гини цу Рид-Гогенрид. Только краткое сообщение.
А между тем в этот день сестра и братья затронули
в разговоре ряд вопросов, которые оказались весьма
чреваты последствиями.
Клаус-Генрих покинул Эрмитаж около пяти часов.
Погода стояла солнечная, и потому он велел зало-
жить коляску, и без четверти пять коричневый лаки-
рованный экипаж, хоть и не совсем новый и не очень
модный, но зато до блеска вымытый, выехал с мо-
щенного конного двора, помещавшегося у правого
крыла служб, и по широкой усыпанной гравием аллее
шагом подъехал к дворцу. Окрашенные в ярко-жел-
тый цвет службы — одноэтажные строения, располо-
женные несколько поодаль от белого и простого
господского дома, все же составляли с ним один архи-
тектурный ансамбль, обращенный вытянутым фаса-
дом, через ровные промежутки украшенным лавро-
выми деревьями, к подернутому ряской прудику и
к доступному для гуляющих парку. Дело в том, что
130
передняя часть владения, переходящая в городской
сад, была открыта для публики — как для пешехо-
дов, так и для экипажей, обнесены решеткой были
только расположенный несколько выше цветник, в ко-
тором находился дворец, и запущенный парк позади
дворца, отделенный живой изгородью и забором от
предместья с его замусоренными пустырями. Итак,
коляска покатила по дороге между прудом и служ-
бами, завернула в ворота сада, украшенные двумя
фонарями со стершейся позолотой, въехала по пан-
дусу и остановилась перед небольшой строгой терра-
сой с лавровыми деревьями по углам и дверью в бо-
скетную.
Клаус-Генрих вышел за несколько минут до пяти.
Он был, как обычно, в тесно облегающем мундире
обер-лейтенанта лейб-гренадерского полка, петля от
сабли была накинута на руку. Нейман в фиолетовой
ливрее с чересчур короткими рукавами, из которых
торчали его красные, как и полагается брадобрею,
руки, поспешно сбежал со ступеней и положил в ко-
ляску серую шинель своего господина. Кучер, прило-
жив руку к цилиндру с розеткой, нагнулся немного
вбок с козел, а камердинер застегнул фартук, покры-
вавший колени Клауса-Генриха, молча поклонился и
отступил на шаг назад. Лошади тронули.
За воротами остановилось несколько гуляющих.
Они сняли шляпы и отвесили низкий поклон, улы-
баясь и подняв брови, а Клаус-Генрих ответил на их
приветствие, приложив затянутую в белую перчатку
правую руку к козырьку фуражки и несколько раз
быстро кивнув головой.
Коляска ехала вдоль пустырей по березовой аллее
с уже желтеющей листвой, затем по предместью с его
убогими домиками и немощеными улицами, где ребя-
тишки переставали катать ободья с бочек и за-
пускать волчки и задумчиво глядели вслед экипажу.
Некоторые с криком «ура!» бежали несколько шагов
за коляской, не отрывая глаз от Клауса-Генриха,
Собственно, можно было проехать и курортным пар-
ком, но дорога через предместье была короче, а вре-
мени оставалось в обрез. Дитлинда же была до
9*
131
педантичности аккуратна и сердилась, когда кто-ни-
будь опаздывал и нарушал заведенный ею распо-
рядок.
Клаус-Генрих проехал мимо Доротеинской дет-
ской больницы, где старшим врачом был доктор
Плюш, друг Юбербейна. Затем его коляска, оставив
позади рабочие кварталы, въехала в Гартенштрассе,
красивую улицу, обсаженную деревьями и соединен-
ную с курортным парком трамвайной линией; здесь
в собственных особняках и виллах жили состоятель-
ные горожане. Сейчас тут было довольно людно, и
Клаусу-Генриху приходилось все время быть начеку и
отвечать на поклоны. Штатские снимали шляпы и
смотрели снизу вверх, офицеры, пешие и конные,
отдавали честь, полицейские становились во фронт,
а сидевший в коляске Клаус-Генрих прикладывал
руку к козырьку и раскланивался на обе стороны,
кивая и улыбаясь затверженной с детства улыбкой,
назначение которой было укреплять в людях созна-
ние своей причастности к его августейшей особе...
У него была совершенно своеобразная манера дер-
жаться в экипаже — он не откидывался лениво на
подушки, не устраивался поудобнее, но, сидя в ко-
ляске, принимал участие в езде, как если бы катался
верхом — скрестив руки на эфесе сабли, выставив
вперед одну ногу, он «брал» неровности дороги,
активно приспособляясь к плохим рессорам коляски...
Коляска пересекла Альбрехтсплац, оставила по
правую руку Старый замок с взявшими на караул
двумя часовыми, покатила по Альбрехтсштрассе
в сторону казармы лейб-гренадеров и свернула на-
лево во двор Гогенридовской резиденции. Дворец —
не очень импозантное здание — был построен в стиле
немецкого рококо: с вычурным фронтоном над глав-
ным порталом, с обрамленными лепными завитуш-
ками круглыми слуховыми окнами в верхнем этаже,
с высокими балконными окнами в бельэтаже и изящ-
ным cour d'honneur lt образованным двумя одноэтаж-
ными боковыми флигелями и отгороженным от улицы
* Парадный двор (франц.).
132
витой решеткой, на колонках которой резвились ка-
менные купидоны. Но внутреннее убранство было
выдержано в абсолютно современном уютно-бур-
жуазном вкусе и нисколько не соответствовало ста-
ринному стилю здания.
Дитлинда встретила брата в большой гостиной
первого этажа, в которой тут и там стояли выгнутые
козетки, обитые бледно-зеленым шелком.; стройные
колонны разделяли гостиную на две части — даль-
няя, равная четверти всей комнаты, была заставлена
пальмами, цветущими деревцами в металлических
кадках и сверкающими всеми красками жардиньер-
ками.
— Здравствуй, Клаус-Генрих,— сказала Дит-
линда. Она была хрупкой и стройной, пышными
были только ее пепельные волосы, когда-то закручен-
ные над ушами в локоны, словно золотые бараньи
рога, а сейчас они были заплетены в толстые косы и
уложены вокруг головы над нежным личиком
с остреньким подбородком и широкими гримбург-
скими скулами. На ней было домашнее платье из
мягкой серо-голубой ткани, с узким вырезом и белой
кружевной косынкой, заколотой у талии старомодной
овальной брошью. Сквозь тонкую кожу кое-где — на
висках, на лбу, вокруг ее кротких и холодных голу-
бых глаз — просвечивали голубоватые жилки. Уже
становилось заметно, что она в ожидании.
— Желаю здравствовать, Дитлинда, тебе и твоим
цветочкам, — сказал Клаус-Генрих, щелкнув каблу-
ками и склоняясь над ее маленькой, белой, чуть ши-
рокой рукой. — Какой у тебя здесь аромат! Я вижу —
и там вся комната в цветах.
— Да, Клаус-Генрих, цветы я люблю, — сказала
она. — Я всегда мечтала жить среди цветов, среди
живых, благоухающих цветов, и нянчиться с ними —
это было моим заветным желанием; я и замуж-то
вышла для этого; ты же сам знаешь, в Старом замке
цветов не было... Старый замок и цветы! Мне ка-
жется, тут нам не помогли бы никакие «разведки».
Крысоловки и другое старье, это да. Собственно
говоря, сам Старый замок был вроде выброшенной
133
за негодностью мышеловки, помилуй бог, какой он
был страшный и пыльный...
— Ты забыла розовый куст, Дитлинда.
— Господи боже мой, — один-единственный розо-
вый куст. Да и тот упомянут в путеводителе, потому
что розы на нем пахнут тлением! А еще там напи-
сано, что в один прекрасный день они будут пахнуть
так, как им полагается, — благоухать не хуже других
роз. Но я этому не верю.
— Скоро тебе придется нянчиться уже не с цве-
тами, маленькая моя Дитлинда, а с чем-то по-
лучше, — сказал он и с улыбкой посмотрел на нее.
— Да, — согласилась она и тут же слегка покрас-
нела, — да, Клаус-Генрих, и знаешь, этому я тоже не
верю. И все же, если господу будет угодно, это осу-
ществится. Ну, иди же, давай, как прежде, посидим
вдвоем...
Комната, на пороге которой они разговаривали,
маленькая по сравнению с ее высотой, была устлана
серо-голубым ковром и обставлена приятной по
форме лакированной серебристо-серой мебелью с си-
дениями, обитыми бледным шелком. С лепного бе-
лого плафона в центре потолка спускалась молочно-
белая фарфоровая люстра, а стены были увешаны
написанными маслом картинами различной вели-
чины —■ приобретениями князя Филиппа, — полными
света и воздуха этюдами в современном вкусе, на ко-
торых были изображены белые козы на солнце, куры
и гуси на солнце, залитые солнцем луга и жмурив-
шиеся от света крестьяне с солнечными бликами на
лицах. На тонконогом дамском секретере у окна
с белыми гардинами умещалось множество акку-
ратно расставленных безделушек, письменных при-
надлежностей и изящных записных книжек — кня-
гиня привыкла тщательно и точно записывать, что
она намерена и должна сделать, — перед чернильни-
цей лежала открытая тетрадь для хозяйственных за-
писей, которую Дитлинда, очевидно, только сию ми-
нуту отложила, а над письменным столом на стене
висел украшенный шелковыми бантиками отрывной
календарик, где под напечатанным числом можно
134
было прочесть запись карандашом: «5 часов: мои
братья». Против двустворчатой двери в большую
гостиную между диваном и расставленными полукру-
гом стульями помещался овальный стол с голубой
шелковой дорожкой поверх тонкой камчатной ска-
терти; на нем были симметрично расставлены чайный
сервиз в цветочках, ваза с конфетами, сухарница
с печеньем и продолговатое блюдо с сандвичами, а на
придвинутом сбоку стеклянном столике над спиртов-
кой с серебряным чайником подымался пар. И всюду
были вазы с цветами — на письменном, на чайном
столе, на подзеркальнике, на горке, заставленной фар-
форовыми фигурками, на столике у белой кушетки, и
в довершение картины и здесь перед окном стояла
жардиньерка с растениями в горшках.
Эта комната, расположенная в стороне, под углом
к анфиладе парадных зал, была кабинетом Дит-
линды, ее будуаром, где она принимала днем
близких друзей, сама заваривая и разливая чай.
Клаус-Генрих смотрел, как она ополаскивает чай-
ник кипятком и насыпает в него серебряной ложеч-
кой чай.
— А где же Альбрехт... он придет? — спросил он,
невольно понижая голос.
— Надеюсь, что да, — ответила она, сосредото-
ченно наклонившись над хрустальной чайницей, как
будто боясь просыпать чай (и Клаус-Генрих также
избегал смотреть на нее). — Я его, конечно, тоже
звала, но ты же знаешь, он не может обещать. Он
придет, если будет себя хорошо чувствовать... Я сей-
час налью нам чай, ведь Альбрехт все равно пьет
молоко... Кроме того, возможно, что и Иеттхен се-
годня заглянет на минутку. Тебе будет приятно ее
повидать. Она такая веселая и всегда расскажет ка-
кие-нибудь новости...
Иеттхен была некая фрейлейн фон Изеншниббе,
княгинина приближенная дама и подруга. Они были
с детства на «ты».
— А ты, как всегда, по-военному, Клаус-Генрих,
всегда в мундире! — сказала Дитлинда, ставя нали-
тый чайник на поднос и смотря на брата,
135
Он стоял, сдвинув каблуки, и, подняв левую, по-
стоянно зябнувшую руку на высоту груди, потирал
ее правой.
— Да, Дитлинда, так мне удобнее, в форме я себя
лучше чувствую. Мундир сидит, как влитой, и ты
одет. А потом это дешевле, на приличный штатский
гардероб, кажется, ужасно много денег надо, Шулеи-,
бург и без того постоянно плачется, что все с каждым
днем дорожает. Так я могу обойтись двумя-тремя
мундирами и, не стыдясь, появляться даже у моих
богатых родственников...
— Богатые родственники! — улыбнулась Дит-
линда.— Ах, до этого еще далеко, Клаус-Генрих!
Они сели к столу, Дитлинда — на диван, Клаус-
Генрих— на стул против окна.
— Богатые родственники! — повторила она, и
было видно, как эта тема близка ее сердцу. — Нет,
Клаус-Генрих, где уж богатые, раз наличный капитал
очень невелик и все вложено в предприятия. А они
еще все до единого молодые, только развиваются,
они в периоде роста, как говорит мой добрый Фи-
липп, и будут приносить настоящие плоды разве
только нашим детям. Но мы подвигаемся вперед, это
верно, а я во все сама вхожу...
— Да, Дитлинда, ты во все сама входишь!
— ...сама вхожу и все записываю, и слежу за
людьми, и, несмотря на те расходы, к которым нас
обязывает положение, все же каждый год удается
отложить порядочную сумму, подумать о детях*
И мой добрый Филипп... он просил тебе кланяться,
Клаус-Генрих, я забыла сказать, он искренне сожа-
леет, что сегодня должен был отлучиться... Мы только
что вернулись из Гогенрида, и он уж опять уехал по
делам, в имения,; он такой хрупкий и слабенький от
природы, а как дело коснется его торфа или лесо-
пилок, сразу у него румянец во всю щеку. Он и сам
говорит, что поздоровел с тех пор, как у него столько
работы...
— Он сам это говорит? — спросил Клаус-Генрих.
Он посмотрел поверх жардиньерки на светлое окно и
во взгляде его мелькнуло что-то грустное. — Да,
136
я вполне представляю себе, что такая кипучая дея-
тельность может действовать в известной мере воз-
буждающе. У меня в парке опять скосили траву на
лужайках, в этом году уже во второй раз, и я с удо-
вольствием наблюдал, как навивают сено в ровные
стога, с палкой посередине, и, кажется, будто на лу-
жайке выросло стойбище индейских вигвамов, или
что-то в этом же роде, а потом Шуленбург продаст
сено. Но это, конечно, нельзя сравнивать...
— Ну, ты... ты, Клаус-Генрих, совсем другое
дело, — сказала Дитлинда и прижала подбородок
к груди. — Ты ведь престолонаследник! Понятно, что
ты призван к другому. Господи помилуй! Радуйся,
что народ тебя так любит...
Они минутку помолчали.
— А как ты, Дитлинда? Ведь, правда, тебе жи-
вется по-прежнему хорошо, и даже лучше, я не оши-
баюсь?.. — спросил он затем. — Я не скажу, что
у тебя румянец во всю щеку, как у Филиппа от возни
с торфом; ты всегда была прозрачной и сейчас тоже
бледненькая. Но у тебя свежий вид, правда? С тех
пор, как ты замужем, я тебя ни о чем не спрашивал,
но, думаю, за тебя можно не волноваться.
Она сидела в спокойной позе, скрестив руки под
грудью.
— Да, мне хорошо, Клаус-Генрих, — сказала
она, — и с моей стороны было бы черной неблагодар-
ностью отрицать, что я счастлива. Видишь ли, я от-
лично знаю, что многие у нас в герцогстве разочаро-
ваны моим замужеством и говорят, что я сделала
ложный шаг и что это мезальянс, и мало ли что еще.
За такими людьми недалеко ходить, взять хотя бы
брата Альбрехта, ты это не хуже меня знаешь,
в душе он презирает моего доброго Филиппа, а за-
одно и меня, он терпеть его не может и считает тор-
гашом и мещанином. Но меня это не трогает, потому
что я сама этого захотела и взяла, — я бы сказала
схватила, если бы это не звучало так нелепо, — пред-
ложенную мне Филиппом руку, потому что рука эта
была теплая и добрая и могла вывести меня из Ста-
рого замка. Как вспомню Старый замок и жизнь там,
137
а ведь, не будь моего доброго Филиппа, я бы и по
сей день вела такую жизнь, мне, Клаус-Генрих, ста-
новится страшно, и я чувствую, что не выдержала бы
ее дольше и сошла бы с ума и стала чудаковатой,
как бедная мамочка. Я ведь от природы слабенькая,
ты это знаешь, я бы там просто-напросто зачахла, уж
очень там пусто и мрачно, и когда пришел мой Фи-
липп, я подумала: вот твое спасение! И если люди
говорят, что я плохая принцесса, потому что, можно
сказать, отреклась и убежала сюда, где теплей и
уютней, если они говорят, что мне не хватает чувства
достоинства и уважения к своему высокому сану, или
как там они это называют, так, значит, они просто
глупы и ничего не понимают, Клаус-Генрих, потому
что у меня слишком много этого чувства, наоборот,
слишком много, в этом все дело, иначе Старый замок
не казался бы мне таким страшным, и Альбрехт дол-
жен был бы это понять, потому что у него тоже слиш-
ком много этого чувства, только по-иному — у нас,
у Гримбургов, у всех его слишком много, и потому
иногда кажется, будто его у нас слишком мало.
И порой, когда Филипп в отъезде, вот как сейчас,
а я сижу здесь среди моих цветов и Филипповых кар-
тин, в которых так много солнца, — спасибо еще, что
это не настоящее солнце, а то, помилуй бог, пришлось
бы от него загораживаться, — и вокруг так уютно и
аккуратно, и я думаю о том «лучшем», как ты ска-
зал, с чем мне скоро предстоит нянчиться, и тогда мне
кажется, что я вроде той русалочки из сказки, кото-
рую нам читала наша мадам, помнишь — она стала
женой человека и вместо рыбьего хвоста у нее вы-
росли ноги... не знаю, понимаешь ли ты меня...
— Да, Дитлинда, да, я отлично тебя понимаю.
И я от всего сердца рад, что все* сложилось для тебя
так удачно и счастливо. Потому что, должен тебе
сказать, я по опыту знаю, как опасно, как трудно для
нас быть счастливым, не роняя своего достоинства.
Так легко вступить на неправильный путь, быть не-
правильно понятым, ведь если мы сами не будем обе-
регать свое достоинство, никто за нас этого делать не
станет, вот это-то и страшно, а что тогда полу-
138
чится? — Стыд и срам... Но где правильный путь? Ты
нашла его. Про меня тоже недавно писали в газетах,
что я помолвлен с кузиной Гризельдой. Это был, как
они называют, пробный шар, им кажется, что уже
давно пора. Но Гризельда глупенькая девочка и
страдает бледной немочью. Я не слыхал от нее ни-
чего, кроме «да». Я совсем о Гризельде не думаю, и
Кнобельсдорф, слава богу, тоже. Недаром это сооб-
щение сейчас же опровергли как необоснованное..,
А, вот и Альбрехт, — сказал он и встал.
За дверьми послышалось покашливание. Слуга
в темно-зеленой ливрее быстрым и уверенным дви-
жением бесшумно распахнул обеими руками дву-
створчатую дверь и не громко доложил:
— Его королевское высочество великий герцог.
Затем с поклоном отступил в сторону. Из боль-
шой гостиной вошел Альбрехт.
Ту сотню шагов, что отделяла Старый замок от
резиденции Дитлинды, он проехал в карете, с егерем
на козлах. По своему обыкновению, он был в штат-
ском, — в наглухо застегнутом сюртуке с неболь-
шими атласными лацканами и в лакированных штиб-
летах на узких ногах. Вступив на престол, он отра-
стил себе эспаньолку. У него был высокий лоб
с залысинами, сдавленный на висках; свои светлые
волосы он коротко стриг. Несмотря на несколько
неловкую походку, несмотря на то, что он от смуще-
ния вздергивал одно плечо, во всей его осанке, в ма-
нере откидывать назад голову, выпячивать короткую
пухлую нижнюю губу и втягивать верхнюю был ка-
кой-то поразительный аристократизм.
Дитлинда встретила его на пороге. Поцелуй руки
смущал Альбрехта, поэтому он просто подал ей руку,
худую, холодную, необыкновенно нервную, и тихо,
чуть слышно поздоровался. Он протягивал руку на
высоте груди, крепко прижимая локоть к телу. По-
том он так же поздоровался со своим братом Клау-
сом-Генрихом, который ожидал его, встав со стула и
сдвинув каблуки, — при этом Альбрехт ничего не
сказал.
Тогда заговорила Дитлинда:
139
— Как это мило, что ты пришел, Альбрехт! Зна-
чит, ты не плохо себя чувствуешь? Вид у тебя пре-
красный. Филипп просил передать, что очень сожа-
леет, но ему никак нельзя было остаться. Садись,
пожалуйста, где тебе больше нравится, вот хотя бы
сюда, напротив меня. Кресло как будто удобное,
прошлый раз ты тоже на нем сидел. Я пока пригото-
вила нам чай. Сейчас тебе подадут молоко...
— Благодарю,— сказал он тихо. — Я должен из-
виниться... за опоздание. Знаешь, чем короче дорога...
А потом я всегда лежу после обеда... Мы будем в се-
мейном кругу?
— В самом тесном семейном кругу, Альбрехт.
Может быть, только Иеттхен Изеншниббе на минутку
зайдет, если ты ничего не имеешь против...
— А-а...
— Но ей могут сказать, что меня нет дома.
— Нет, зачем же...
Подали горячее молоко. Альбрехт взял высокий,
толстый граненый стакан обеими руками.
— Ах, капелька тепла, — сказал он. — Как здесь
у нас уже холодно. И все лето я мерз в Голлербрун-
не. Вы еще не начали топить? Я уже приказал. Но,
с другой стороны, я страдаю от запаха дыма. Все
печи дымят. Фон Бюль каждую осень обещает мне
провести центральное отопление в Старом замке. Но,
кажется, это неосуществимо.
— Бедный Альбрехт, когда папа был жив, ты
в это время года всегда бывал уже на юге. Верно,
тебя тянет туда, — сказала Дитлинда.
— Твое доброе сердце делает тебе честь, милая
Дитлинда, — ответил Альбрехт, все также тихо и
чуть пришепетывая. — Но приходится мириться с тем,
что мое отсутствие недопустимо. Я, как известно,
должен править страной. Для этого я существую.
Сегодня я соизволил милостиво разрешить одному из
моих подданных — к сожалению, я забыл его имя —
принять и носить иноземный орден. Затем я повелел
отправить телеграмму ежегодному собранию членои
Общества садоводства, в которой изъявляю согласие
быть почетным председателем этого общества и обе-
149
щаю всячески поощрять их начинания, — хотя, по
правде говоря, я не знаю, чем еще, кроме телеграммы,
я могу их поощрить, потому что господа члены об-
щества отлично обходятся без моих поощрений.
Кроме того, я соблаговолил утвердить в должности
некоего почтенного бюргера, выбранного в бурго-.
мистры моего славного города Зибенберге, хотя еще
далеко не доказано, что при наличии моего утвер-
ждения сей подданный станет лучше отправлять свои
обязанности бургомистра...
— Ну, Альбрехт, это все пустяки! — сказала Дит-
линда. — Я уверена, что у тебя были дела поважней...
— Ну, конечно. Я принял министра финансов и
земледелия. Это необходимо было сделать. Доктор
Криппенрейтер был бы в большой обиде, если бы я
не пригласил его еще в течение некоторого времени.
Он сделал общий обзор и представил мне на рас-
смотрение доклад, в котором затронул многие смеж-
ные вопросы, как-то: положения, легшие в основу но-
вого составленнего им бюджета, урожай, налого-
вая реформа, которой он сейчас занят. Урожай, он
говорит, неважный. Крестьяне пострадали от недо-
рода и плохой погоды, а это нанесло ущерб не только
крестьянам, но и ему, Криппенрейтеру, потому что
платежеспособность страны, он говорит, опять пони-
зилась. Кроме того, в серебряных рудниках, к сожа-
лению, произошла катастрофа. Производство стало,;
он говорит, рудники не приносят дохода, а восстано-
вление их поглотит большие суммы. Я выслушал все
это с подобающим данному случаю лицом и сделал
что мог, выразив свое огорчение по поводу постигших
нас несчастий. После чего я выслушал рассуждение
о том, к каким расходам — ординарным или экстра-
ординарным,— следует отнести расходы на строи-
тельство новых зданий, необходимых для казначей-
ства, лесного ведомства и акцизного и податного
управлений, я узнал кое-что о прогрессивной шкале
и налогах на доходы с капитала и с мелких ремесел,
о снижении налогов с сельского хозяйства, находя-
щегося в бедственном состоянии, и о повышении на-
логов с городских жителей, в общем у меня создалось
141
впечатление, что Крилпенрейтер свое дело пони-
мает. Я сам, конечно, ничего в этом не понимаю*
впрочем, Криппенрейтер это знает и прощает мне мое
незнание, ну вот я и поддакивал: «Да, да», и «Ну
конечно», и «Благодарю вас», и предоставил всему
идти своим порядком.
— Какие горькие слова ты говоришь, Альбрехт.
— Вот послушайте, я вам скажу, что пришло мне
сегодня в голову во время криппенрейтеровского до-
клада. У нас в городе живет один человек, так,
скромный рантье с бородавкой на носу. Его каждый
ребенок знает, и стоит ему появиться на улице, ребя^
тишки бегут за ним следом и кричат от восторга*
Зовут его Готлиб-дурачок, у него не все дома. Фами-
лии его уже давно никто не помнит. Где что слу-
чится, он первый там, хотя из-за его дурашливости
никто его всерьез не принимает; в петлице у него
всегда роза, а шляпу он носит на тросточке. Не-
сколько раз на день в те часы, когда отходит поезд,
он идет на вокзал, постукивает по колесам, осматри-
вает багаж, точно без него ничего не сделается.
А когда потом человек в красной фуражке подает
знак, Готлиб-дурачок машет рукой машинисту, и
поезд уходит. А Готлиб-дурачок воображает, будто
поезд ушел потому, что он махнул рукой. Вот так же
и я. Я махнул рукой, и поезд уходит. Но он ушел бы
и без меня, и то, что я махнул рукой, это просто глу-
пая комедия и ничего больше. Мне это надоело.
Брат и сестра молчали. Дитлинда озабоченно смо-
трела себе на колени, а Клаус-Генрих глядел между
нею и великим герцогом на светлое окно и пощипы-
вал свои закрученные усики.
— Я отлично понимаю, что ты хочешь сказать,
Альбрехт, хоть это и очень жестоко с твоей стороны
сравнивать себя и нас с Готлибом-дурачком, — ска-
зал он после недолгого молчания. — Видишь ли,
я тоже ничего не смыслю в прогрессивной шкале, и
в налоге с мелких ремесел, и в разработке торфа, и
еще в целой куче вещей, — я ничего не смыслю во
всем, что себе представляешь, когда говорят: жизнен-
ные невзгоды, ну, скажем, голод, нужда и борьба за
142
существование, как это обычно называют, и война, и
больницы с их ужасами, и все такое. Я ничего этого
не видел, не пережил, за исключением смерти, как
таковой, когда умер папа, и эта смерть тоже была не
такой, какой может быть смерть, в его смерти было
что-то величественное, и весь замок был иллюмино-
ван. Иногда мне кажется, что я и не нюхал жизни.
Но потом я убеждаю себя, что мне тоже не легко,
совсем не легко, хотя я и вознесен на вершины чело-
вечества, как обычно выражаются, а может быть,
именно поэтому мне и не легко, и что я по-своему
знаю суровость жизни, ее строгий лик с плотно сжа-
тыми губами, если ты не возражаешь против такого
образного выражения, может быть, знаю лучше тех,
кто разбирается в прогрессивной шкале и еще в ка-
ких-нибудь частных вопросах. В том-то и дело, Аль-
брехт, разумеется, если ты разрешишь мне не согла-
ситься с тобой, в том-то и дело, что нам тоже не
легко, и в этом наше оправдание. И если люди, когда
видят меня, громко ликуют, так должны же они
знать, почему ликуют, и должен же быть какой-то
смысл в том, что я живу, хотя никто меня всерьез и
не принимает, как ты только что превосходно выра-
зился. А в том, что живешь ты, тем более. Ты,
правда, только машешь рукой, все делается помимо
тебя, но ведь люди-то хотят, чтобы ты махнул рукой,
и если ты в действительности не управляешь их во-
лей и желаниями, то, во всяком случае, ты эту волю
выражаешь, ты ее олицетворяешь, а это, может быть,
не так уж мало...
Альбрехт сидел за столом прямо, не откинувшись
на спинку стула. Он сложил свои худые необычайно
нервные руки на краю стола перед наполовину вы-
питым стаканом молока, полузакрыл глаза и поса-
сывал верхнюю губу. Он тихо ответил:
— Меня не удивляет, что такой любимый наро-
дом принц, как ты, доволен своей судьбой. Что ка-
сается меня, я не желаю выражать и олицетворять
никого, кроме самого себя. Не желаю, и все тут, и
если тебе угодно, можешь считать, что для меня
виноград хорош, да зелен. Дело в том, что меня
143
совсем не трогает ликование толпы. Не трогает мою
душу. О плоти я не говорю. Человек слаб — при
рукоплесканиях что-то в нем растет и ширится, а при
холодном молчании ' сжимается. Но разумом я не
признаю ни любви, ни нелюбви народной. Я знаю,
чем была бы моя популярность, если бы она утверди-
лась, — заблуждением относительно моей личности.
Вот поэтому я и пожимаю плечами, когда думаю
о рукоплесканиях чужих людей. Другого, — тебя, на-
пример, — чувство, что за тобой стоит народ, может
возвысить в собственных глазах. А я, прости, слиш-
ком рассудочен для таких мистически блаженных
чувств и, верно, также слишком чистоплотен, если ты
не возражаешь против этого выражения. Счастье та-
кого рода, как мне кажется, дурно пахнет. Во вся-
ком случае, народу я чужой. Я ему ничего не даю, —
что может он дать мне? Вот ты... ты совсем другое
дело. Сотни тысяч людей, похожих на тебя, благо-
дарны тебе за то, что в тебе они узнают себя самих.
Можешь смеяться сколько душе угодно. Для тебя
опасность разве лишь в том, что ты будешь так
блаженствовать от сознания своей близости к народу,
что совсем разнежишься, хоть сегодня ты это и отри-
цаешь.
— Нет, Альбрехт, думаю, что это не так. Я не
думаю, что мне грозит такая опасность.
— Тем легче нам будет понять друг друга.
Вообще я против сильных выражений, но популяр-
ность — это большое свинство.
— Удивительно, Альбрехт. Удивительно, что ты
употребил это слово. Его всегда употребляли «фа-
заны», знаешь, дворянские сынки, что обучались со
мной в Фазаниике. Я знаю, кто ты. Ты аристократ,
в этом все дело.
— Ты думаешь? Ошибаешься. Я не аристократ,
а как раз наоборот: для аристократа я слишком ра-
зумен, и, кроме того, у меня есть вкус. Тебе придется
согласиться, что я презираю ликование толпы не из
высокомерия, а из добрых чувств, из симпатии к че-
ловечеству. Человеческое величие жалкая штука, и,
мне кажется, все люди должны бы это понять и отно-
144
ситься друг к другу по-человечески, доброжелательно
и никого не принижать и не конфузить. Надо быть
слишком толстокожим, чтобы не стыдиться разыгры-
вать всю эту высокопарную комедию. Я от природы
несколько слабой конституции, я чувствую, что смехо-
творность моего положения мне не по силам. Меня
приводит в смущение каждый лакей, который распа-
хивает передо мной дверь и считает, что я должен
пройти мимо, не обращая на него внимания, не заме-
чая его, словно он дверной косяк. Вот как я понимаю
хорошее отношение к народу...
— Да, Альбрехт, это правда. Иногда совсем не
легко пройти с ласковой улыбкой мимо такого
субъекта. Ох уж эти лакеи! Еще если бы ты не знал,
что они мерзавцы! А когда знаешь их гнусные про-
делки...
— Какие проделки?
— Ну, время от времени что-то до нас доходит...
— Помилуй бог, я не хочу знать ничего такого, —
вмешалась Дитлинда. — Вы говорите об отвлеченных
пещах, а я думала, мы сегодня обсудим несколько
заранее намеченных мною вопросов. Будь так добр,
Клаус-Генрих, дай мне, пожалуйста, синий кожаный
блокнот с письменного стола... Большое спасибо.
Сюда я все для памяти заношу и то, что касается
хозяйства, и все остальное. Так хорошо, когда все
тут черным по белому написано! Нет, у меня голова
никуда не годится,— ничего не могу удержать в па-
мяти, если бы я не была аккуратна, не записывала
бы каждую мелочь, мне бы просто хоть не живи*
Во-первых, Альбрехт, пока я не забыла, я хотела тебе
напомнить, что на рауте первого ноября ты должен
вести тетю Катарину — иначе никак нельзя. Я усту-
паю ей, на последнем бале ты вел меня... а то тетя
Катарина будет очень недовольна... Могу я считать,
что ты согласен? Отлично, тогда я этот пункт вы-
черкну... Во-вторых, я хотела тебя попросить, Клаус-
Генрих, фигурировать пятнадцатого в ратуше на
благотворительном базаре в пользу сирот, он устраи-
вается под моим покровительством, видишь ли, я от-
ношусь к этому делу очень серьезно. Покупать
10 Т. Мани, т. 2
145
ничего не надо... ну, там какой-нибудь карманный гре-
бешочек... Словом, появись минут на десять. Это ведь
в пользу сирот... Придешь? Видишь, теперь я могу и
еще один пункт вычеркнуть. В-третьих...
Но княгиня цу Рид не успела докончить: лакей до-
ложил о приходе фрейлейн фон Изеншниббе, которая
тут же впорхнула в будуар, мгновенно промелькнув
через большую гостиную; ее боа из перьев развева-
лось на бегу, поля огромной шляпы с плерезами то
опадали, то вздымались. Она принесла с собой запах
свежего воздуха. Фрейлейн фон Изеншниббе была пе-
пельная блондинка, небольшого роста, востроносень-
кая и такая близорукая, что не видела звезд. В ясные
ночи она выходила помечтать на балкон и смотрела
на звездное небо в бинокль, на носу у нее было два
пенсне, одно на другом, и, делая реверанс, она вытя-
гивала шею и щурилась.
— Господи, ваше великогерцогское высочество, —
обратилась она к Дитлинде, — я не знала! Я ворва-
лась, помешала, почтительнейше прошу извинить
меня!
Братья встали, а сконфуженная фрейлейн фон
Изеншниббе низко присела перед ними. Альбрехт про-
тянул ей руку, плотно прижав локоть к телу, и по-
этому, в тот момент, когда она присела особенно
низко, рука ее приняла почти отвесное положение.
— Милая Иеттхен, ну что ты, право! Мы тебя
ждали и рады твоему приходу, — сказала Дит-
линда. — Мои братья знают, что мы с тобой на «ты».
Пожалуйста, не надо никаких высочеств. Мы не
в Старом замке. Садись и чувствуй себя как дома.
Хочешь чаю? Он еще не остыл. Вот засахаренные
фрукты. Я знаю, что ты их любишь.
— Да, спасибо, Дитлинда, засахаренные фрук-
ты — моя слабость! — И фрейлейн фон Изеншниббе
села с узкой стороны стола, спиной к окну, лицом
к Клаусу-Генриху, сняла одну перчатку и, накло-
нясь к самой вазе и присматриваясь, стала брать се-
ребряными щипчиками и класть себе на тарелочку
сладости. Она задыхалась от радостного возбужде-
ния, ее маленькая грудь быстро вздымалась.
146
— У меня есть новости, — начала она, не в силах
дольше сдерживаться. — Столько новостей... что они
не умещаются в моем ридикюле! То есть... в сущности,
всего только одна новость, только одна, — но какая!
С ней не осрамишься. И не сплетня, а из достовер-
ного источника! Ты знаешь, Дитлинда, что на меня
можно положиться, вот увидишь, еще сегодня она
будет напечатана в вечернем выпуске «Курьера»,
а завтра об этом заговорит весь город.
— Да, Иеттхен, должна признать, ты никогда не
приходишь с пустыми руками, — сказала княгиня.—
Но мы сгораем от нетерпения, рассказывай, что
у тебя за новость.
— Хорошо, сейчас. Дай только передохнуть.,
Знаешь, Дитлинда, знаете, ваше королевское высо-
чество, знаете, ваше великогерцогское высочество, кто
к нам приезжает, кто приезжает на курорт, кто на
полтора-два месяца поселится в «Целебных водах»,
чтобы пройти курс лечения, чтобы пить воду?
— Нет, не знаем, — ответила Дитлинда. — А ты,
милая Иеттхен, знаешь?
— Шпельман, — сказала фрейлейн фон Изен-
шниббе.—Шпельман, — повторила она, откинулась
на спинку стула и сделала вид, что собирается по-
барабанить пальцами по краю стола, но, почти кос-
нувшись голубой шелковой дорожки, отвела руку.
Братья и сестра переглянулись с недоверчивым
видом.
— Шпельман? — переспросила Дитлинда. — Не
может быть, Иеттхен, настоящий Шпельман?
— Самый настоящий! — Голос фрейлейн фон
Изеншниббе прерывался от радости. — Самый на-
стоящий, Дитлинда! Ведь существует только один
Шпельман, во всяком случае только один известный,
н как раз его-то и ждут в «Целебные воды» — вели-
кий Шпельман, Шпельман-иополин, умопомрачитель-
ный американский Самуэль Н. Шпельман!
— Но, дорогая моя, как он сюда приедет?
— Прости меня, милая Дитлинда, но ты за-
даешь такой смешной вопрос... Само собой разу-
меется, он переедет через океан на своей яхте,
10*
147
а может быть, на большом пароходе, этого я еще не
знаю — как ему заблагорассудится. Он решил
устроить себе каникулы, предпринять путешествие
в Европу, и с совершенно определенной целью — по-
пить воду в курортном парке.
— Разве он болен?
— Ну конечно же, Дитлинда. Все такие люди
больны. Для них это, верно, обязательно.
— Странно, — заметил Клаус-Генрих.
— Да, ваше великогерцогское высочество, это по-
разительно. Вероятно, в этом виноват его образ
жизни. Уж конечно, у него очень напряженная жизнь
и совсем не легкая, от такой жизни организм, не-
сомненно, истощается скорее, чем от обычной. Боль-
шинство из них страдает желудком. Но у Шпельмана,
как известно, камни.
— Значит, камни...
— Ну да, Дитлинда, ты об этом, конечно, уже
слышала и просто забыла. У него камни в почках,
прости меня за такие непоэтичные подробности, — тя-
желое мучительное заболевание, и можно с уверен-
ностью сказать, что он не получает ни малейшего
удовольствия от своего сумасшедшего богатства.
— Но как, скажи ради бога, пришло ему в го-
лову поехать на наши воды?
— Что ты, Дитлинда. Очень просто. Вода у нас
очень хорошая, можно сказать отличная, Дитлиндин-
ский источник, в котором столько лития или как его
там еще, особенно незаменим при подагре и камнях,
совершенно непонятно, почему он не пользуется ми-
ровой известностью, вполне им заслуженной. Но та-
кому человеку, как Шпельман, надо думать, что та-
кому человеку не импонируют мировая известность и
реклама, он живет своим умом. Ну вот он и открыл
нашу воду, а может быть, ему его лейб-медик пропи-
сал, и он покупал ее в бутылках, и вода ему помогла,
вот он, может быть, и подумал, что, если пить ее на
месте, пользы будет еще больше.
Все молчали.
— Господи боже мой, Альбрехт, — сказала нако-
нец Дитлинда, — какого бы мы ни придерживались
148
мнения о Шпельмане и ему подобных, — я очень
осторожна в своем мнении о нем, в этом ты можешь
быть уверен,— а все-таки приезд такого человека
должен принести известную пользу нашему курорту,
как ты думаешь?
Великий герцог повернулся к Дитлинде, на лице
его была обычная тонкая и застывшая улыбка.
— Спроси фрейлейн фон Изеншниббе. Вы несо-
мненно успели выяснить и эту сторону вопроса?
— Если вы, ваше королевское высочество, же-
лаете знать... Огромную пользу1 Невероятную, совер-
шенно не поддающуюся учету пользу — это же ясно,
как божий день! Дирекция на верху блаженства,
себя не помнит от радости, бювет украшен гирлян-
дами, «Целебные воды» иллюминованы! Какая рек-
лама! Какая приманка для иностранцев! Соблагово-
лите только подумать, ваше королевское высочество...
Ведь на этого человека всем любопытно посмотреть!
Вы, ваше великогерцогское высочество, изволили сей-
час говорить о «ему подобных», но ему подобных
пет, — может быть, найдется человека два-три, никак
не больше. Это Левиафан, это птица Рох! Да к нам
отовсюду съедутся, чтобы посмотреть на человека,
который, если захочет, сможет ежедневно тратить так
что-нибудь вроде полмиллиона!
— Господи помилуй! — воскликнула потрясенная
Дитлинда. — А мой добрый Филипп мучается со сво-
ими торфяными разработками...
— Расскажу все по порядку: вот уже несколько
дней как по галерее курортного парка прогуливаются
два американца. Кто они? Выяснилось, что это жур-
налисты, репортеры двух крупных нью-йоркских га-
зет. Они поспешили сюда и сейчас, пока Левиафан
еще не прибыл, сообщают по телеграфу своим газе-
там сведения о здешних местах. Когда он приедет,
они будут телеграфно сообщать о каждом его
шаге, — совершенно так же, как «Курьер» или «Пра-
вительственный вестник» сообщают обо всем, что ка-
сается вас, ваше королевское высочество...
Альбрехт поклонился в знак благодарности, не
подымая глаз и выпятив нижнюю губу.
149
— Он оставил за собой княжеские покои в «Це-
лебных водах» для своего временного пребывания, —
сказала Иеттхен.
— Для себя одного? — спросила Дитлинда.
— Что ты, Дитлинда, не приедет же он один. Я не
знаю пока подробностей о его домашних и прислуге,
но достоверно известно, что его сопровождают дочь
и лейб-медик.
— Ты все время говоришь «лейб-медик», Иеттхен,
меня это раздражает. А потом эти журналисты...
И, кроме того, еще и княжеские покои. Ведь он же не
король.
— Насколько мне известно, он железнодорожный
король, — заметил вполголоса и не поднимая глаз
Альбрехт.
— Не только железнодорожный король, ваше ко-
ролевское высочество, и, судя по всему, что я слы-
щала, даже не это самое главное. Там в Америке
существуют огромные торговые компании, которые,
как вам, ваше королевское высочество, известно, на-
зываются трестами, например стальной трест, сахар-
ный трест, нефтяной трест, а потом еще угольный,
мясной, табачный и всякие другие. И почти во всех
этих трестах участвует Самуэль Н. Шпельман — он
главный держатель акций и главный контролер, —
это у них так называется, я читала... Значит, его дело
должно быть чем-то вроде того, что у нас называется
универсальной оптовой торговлей.
— Нечего сказать, чистое дельце, — заметила
Дитлинда. — Очень, должно быть, чистое дельце!
Тебе, милая Иеттхен, ни за что меня не убедить, что
честным трудом можно так разбогатеть, стать Левиа-
фаном и птицей Рох. Я уверена, что от его богатств
пахнет кровью вдов и сирот.' А ты, Альбрехт, как
думаешь?
— Для вашего с супругом успокоения от всей
души желаю, чтобы это было так.
— Если это и так, то Шпельман — наш Самуэль
Н. Шпельман — тут, можно сказать, ни при чем,—
продолжала свой рассказ фрейлейн фон Изен-
шниббе. — Он только унаследовал богатство отца и,
150
i иворят, к делам никогда особой любви не питал. Все
нажил его отец — в общих чертах я обо всем могу рас-
сказать, я сама читала. Его отец—он был немцем —
ничего из себя не представлял, так, авантюрист; он
отправился за океан и сделался старателем. Ему по-
1 сзло, он нашел золото и приобрел небольшое состоя-
ние—можно даже сказать, довольно большое — и
Iгустил его в оборот, занялся нефтью, сталью, же-
лезнодорожным строительством, а потом всем, чем
годно, и все богател и богател. А когда он умер, дело
уже было на полном ходу, и его сыну Самуэлю, уна-
следовавшему фирму птицы Рох, оставалось только
класть в карман огромные дивиденды и все богатеть
и богатеть, и теперь у него столько денег, что и вы-
говорить страшно. Вот как все было.
— И ты говоришь, Иеттхен, что у него есть дочь?
Что она собой представляет?
— Да, Дитлинда, жена умерла, но у него оста-
лась дочь, мисс Шпельман, и ее он тоже берет с со-
бой. Судя по всему, что я читала, странная девушка.
Ом сам sujet mixte ', потому что его отец женился на
южанке — на полукровке. Отец у нее был немец,
а мать туземка. И Самуэль тоже женился на амери-
канской немке, наполовину англичанке, вот ее-то
дочь и есть мисс Шпельман.
— Господи помилуй, Иеттхен, да что же это за
помесь!
— Совершенно верно, Дитлинда. Как я слышала,
она очень образованная, занимается не хуже муж-
чины, изучает алгебру и такие трудные предметы...
— Ну, мне она от этого симпатичней не станет.
— А сейчас будет самое сногсшибательное, Дит-
линда: у мисс Шпельман есть компаньонка, и эта
компаньонка—графиня, самая настоящая графиня
состоит при ней в компаньонках.
— Господи помилуй! — воскликнула Дитлинда. —
И ей не стыдно? Как хочешь, Иеттхен, но я твердо
решила: мне до Шпельмана дела нет. Пусть пьет
себе на здоровье здесь воду, а затем отправляется
1 Человек смешанной крови (франц.).
151
восвояси вместе с графиней и своей алгебраической
дочерью, меня это нисколько не трогает. На меня его
нажитое нечестным трудом богатство никакого впе-
чатления не производит. А ты, Клаус-Генрих, как ду-
маешь?
Клаус-Генрих смотрел поверх головы фрейлейн
Изеншниббе на светлое окно.
— Насчет впечатления? — переспросил он. —
Я думаю, богатство на меня впечатления не произво-
дит, я имею в виду то, что принято называть богат-
ством. Но мне сдается, все зависит от... все зависит,
как мне кажется, от масштаба. У нас здесь тоже
есть несколько своих богачей... У мыловара Уншлита,
говорят, миллион... Я его иногда вижу, когда он
катается по парку в собственном экипаже... Он
очень толстый и вульгарный... Но если человек из-за
своего огромного богатства болен и одинок... Не
знаю...
— Во всяком случае, жуткий человек, — сказала
Дитлинда. И постепенно разговор о Шпельмане за-
глох. Заговорили о семейных делах, об имении
Гогенрид, о предстоящем сезоне. Около семи часов
великий герцог послал за своим экипажем. Все
встали, попрощались, потому что и Клаус-Генрих
собрался домой. Но в вестибюле, когда лакеи пода-
вали братьям пальто, Альбрехт сказал:
— Я был бы тебе очень признателен, Клаус-Ген-
рих, если бы ты отослал домой кучера и еще четверть
часа не лишал меня своего приятного общества. Мне
надо обсудить с тобой один довольно серьезный во-
прос. Я охотно проводил бы тебя в Эрмитаж, но ве-
черняя сырость мне вредна.
Клаус-Генрих ответил, щелкнув каблуками:
— Конечно, Альбрехт, и речи быть не может!
Я поеду с тобой в замок, если тебе это приятно.
Разумеется, я всегда к твоим услугам.
Таково было введение к достопримечательному
разговору между августейшими братьями, результат
которого несколько дней спустя был опубликован
в «Правительственном вестнике» и встречен все-
общим одобрением.
152
Принц въехал с великим герцогом в замок через
Лльбрехтовские ворота, последовал за ним по камен-
ным лестницам с широкими перилами, по коридорам,
освещенным открытыми газовыми рожками, через
безмолвные аванзалы, мимо лакеев в «кабинет» Аль-
брехта, где старик Праль зажег обе бронзовые керо-
синовые лампы на каминной доске. После смерти
отца Альбрехт унаследовал его рабочий кабинет —
эта комната служила рабочим кабинетом всем пра-
вящим герцогам, она была расположена в первом
этаже между адъютантской и столовой, где обычно
кушал великий герцог, и выходила на Альбрехтс-
плац, так что, сидя за письменным столом, мо-
нарх всегда держал эту площадь в поле своего зре-
ния. Комната была исключительно некомфортабельна
и безвкусна — небольшой зал с облупившейся живо-
писью на плафоне, с красными штофными, обрамлен-
ными позолоченным багетом обоями и с тремя боль-
шими окнами до самого пола, от которых сильно
дуло; в данную минуту темно-красные с бахромой
драпри были задернуты. В кабинете имелся декора-
тивный камин в стиле ампир с расставленными перед
ним полукругом модными стегаными плюшевыми
стульчиками без подлокотников и белая кафельная
жарко натопленная печка с удивительно безвкусным
орнаментом. У боковых стен стояли один против дру-
гого два больших стеганых дивана, к одному из них
был придвинут четырехугольный покрытый красной
плюшевой скатертью стол для журналов. В простен-
ках между окнами подымались до потолка два высо-
ких узких зеркала в золоченых рамах, с белыми мра-
морными подзеркальниками — на правом стояла до-
вольно фривольная мраморная группа, а на левом —
графин с водой и пузырьки с лекарствами. На крас-
ном ковре одиноко красовалось старинное палиссан-
дровое, отделанное медью бюро с выдвижной крыш-
кой. Из угла с консоли глядел в комнату незрячими
глазами античный бюст.
— То, что я хочу тебе предложить, — сказал Аль-
брехт,— он стоял у письменного стола и машинально
153
вертел в руке нож для разрезания бумаги, неле-
пую, похожую на детскую игрушку вещицу, изобра-
жающую кавалерийскую саблю. — То, что я хочу тебе
предложить, стоит в известной связи с нашим сегод-
няшним разговором... Заранее должен сказать, что
этим летом в Голлербрунне я уже обсудил данный
вопрос с Кнобельсдорфом. Он согласен, и если ты тоже
согласишься, а в этом я не сомневаюсь, то можно бу-
дет немедленно осуществить мое предложение.
— Пожалуйста, Альбрехт, я слушаю, — сказал
Клаус-Генрих, который стоял у стола перед диваном,
по военному вытянувшись и всей позой выражая
почтительное внимание.
— За последнее время мое здоровье оставляет
желать лучшего, — продолжал великий герцог.
— Меня это очень огорчает, Альбрехт! Значит,
пребывание в Голлербрунне не пошло тебе на пользу?
— Благодарю за внимание. Нет, нисколько.
Я себя плохо чувствую, и здоровье мое все меньше
и меньше позволяет мне выполнять те требования,
которые мне предъявляют. Говоря «требования»,
я прежде всего имею в виду обязанность представи-
тельствовать— присутствие на всяких торжествах,
что неизбежно при моем положении, вот тут-то и на-
чинается связь с тем разговором, который мы вели
у Дитлинды. Выполнение этих обязанностей, воз-
можно, радует тогда, когда есть контакт, близость
с народом, когда сердца бьются в унисон. Для меня
это мука, и фальшь моей роли утомляет меня до та-
кой степени, что уже приходится думать о необходи-
мости принять какие-то меры. Тут я солидарен —
поскольку речь идет о физическом здоровье — с вра-
чами, которые полностью поддерживают мое намере-
ние... Итак, выслушай меня. Я не женат и вообще не
питаю намерения вступать в брак, в этом можешь
быть уверен, детей у меня не будет. Ты престолонаслед-
ник по праву рождения, как ближайший к трону по
мужской линии, но еще важнее то, что ты престоло-
наследник в сознании народа, ибо народ тебя любит.
— Ах, Альбрехт, ты всегда говоришь о том, что
меня любят... Я не верю в это... Возможно, и любят,
154
но издали... С нами это всегда так, нас любят только
издали.
— Ты слишком скромен. Слушай дальше. Ты уже
был так любезен и время от времени частично осво-
бождал меня от обязанности представительствовать.
Я хотел бы, чтобы ты освободил меня от них совсем,
навсегда.
— Ты думаешь отречься от престола, Альбрехт?!—
с испугом спросил Клаус-Генрих.
— Я не имею права об этом думать. Верь мне,
я бы очень охотно это сделал. Но мне не позволят.
То, о чем я думаю, даже не регентство, а только за-
местительство, — может быть, ты помнишь из лекций
по государственному праву разницу между этими
двумя понятиями, — длительное и официально утвер-
жденное заместительство при исполнении всех свя-
занных с представительством обязанностей, обосно-
ванное необходимостью щадить мое здоровье. Что ты
на это скажешь?
— Як твоим услугам, Альбрехт. Но мне не совсем
ясно, на что должно распространяться это замести-
тельство?
— О, на все, на что только можно. Я хотел бы,
чтобы на все те случаи, когда от меня требуется пуб-
личное выступление. Кнобельсдорф настаивает, чтобы
я только иногда, только когда мне предписан постель-
ный режим, предлагал тебе присутствовать вместо
меня при открытии и закрытии ландтага. Хорошо,
пусть будет, как он того требует. Но ты должен заме-
щать меня во всех других торжественные случаях,
как-то: путешествия, поездки в различные города,
открытия публичных праздников, открытие город-
ского бала...
— И открытие бала?
— А почему бы нет. Кроме того, еще еженедель-
ные общедоступные аудиенции, разумеется, обычаи
это хороший, но меня он сведет в могилу. И аудиен-
ции тоже проводил бы вместо меня ты. Перечислять
все не буду. Принимаешь мое предложение?
— Як твоим услугам, Альбрехт.
•■— В таком случае выслушай до конца. На все
155
те случаи, когда ты будешь заменять меня, к тебе
будут приставлены мои адъютанты. Затем необхо-
димо будет ускорить твое повышение в чине. Ты
обер-лейтенант? Будешь произведен в капитаны или
же непосредственно в майоры и причислен к твоему
полку... Об этом я позабочусь. Кроме того, я хочу
придать нашему соглашению должный авторитет,
хочу подобающим образом обозначить твое место ря-
дом со мной, пожаловав тебе титул «королевское вы-
сочество». Надо было уладить кое-какие формально-
сти... Кнобельсдорф с ними уже покончил. Я изложу
свое решение в двух рескриптах: к тебе и к моему
первому министру. Оба рескрипта Кнобельсдорф уже
набросал. Согласен?
— Что мне сказать, Альбрехт? Ты старший папин
сын, я всегда смотрел на тебя снизу вверх, потому
что всегда чувствовал и знал, что ты выше меня, ты
аристократ, а я по сравнению с тобой — плебей.
Я совсем не чувствую себя представительным и все-
гда ощущал мою левую руку, как помеху, потому что
должен ее прятать, но если ты считаешь меня до-
стойным стоять рядом с тобой, носить принадлежащий
тебе титул и представлять тебя перед народом, — мне
не остается ничего иного, как поблагодарить тебя и
сказать, что я к твоим услугам.
— Тогда разреши мне остаться одному. Я нуж-
даюсь в отдыхе.
Они отошли — один от письменного стола, другой
от стола для журналов — и, дойдя до середины
комнаты, остановились на ковре друг против друга.
Великий герцог подал брату руку — худую, холод-
ную, которую он всегда протягивал на высоте груди,
прижимая локоть к телу. Клаус-Генрих щелкнул каблу-
ками и, взяв протянутую ему руку, поклонился, а Аль-
брехт на прощание кивнул своей узкой головой и, выпя-
тив нижнюю короткую и пухлую губу, слегка втянул
верхнюю. Клаус-Генрих возвратился к себе в Эрмитаж.
Неделю спустя «Правительственный вестник» и
«Курьер» опубликовали оба рескрипта, в которых
было изложено высочайшее решение: тот, что начи-
нался словами «Любезнейший наш первый министр,
156
доктор прав и барон фон Кнобельсдорф», и тот, что
начинался словами «Ваше великогерцогское высоче-
ство и нежно любимый брат!» и был подписан: «Ва-
шего королевского высочества искренне расположен-
ный брат Альбрехт».
ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Здесь рассказывается, какую своеобразную жизнь
вел Клаус-Генрих и как он выполнял свои высокие
обязанности.
Он выходил где-нибудь из экипажа, перекинув
через руку шинель, делал несколько шагов по за-
стланному красным ковром тротуару между двумя
стенами громко приветствующего его народа, прохо-
дил под балдахином, сооруженным над дверью с лав-
ровыми деревьями по обеим сторонам, подымался по
лестнице, вдоль которой стояли лакеи с подсвечни-
ками... Он следовал по окончании торжественного
обеда в сопровождении свиты, красуясь пышными
майорскими эполетами и увешанной орденами
грудью по готическому коридору ратуши. Два лакея
бежали вперед и поспешно открывали старое расша-
тавшееся окно с свинцовыми переплетами, ибо внизу
на небольшой базарной площади плечом к плечу
стояли жители, — в дымном пламени факелов Клаус-
Генрих видел наклонную плоскость обращенных
кверху лиц. Люди кричали и пели, а он стоял у от-
крытого окна и кланялся, на несколько минут являя
свою особу восторженным взорам подданных, кла-
нялся и благодарил...
Он не знал ни настоящих будней, ни настоящей
действительности; жизнь его сплошь состояла из
приподнятых, напряженных мгновений. Где бы он ни
появился, всюду его ждали праздники и торжества,
народ преображался, серенькая повседневность свет-
лела и озарялась поэзией. Нищий превращался
в скромного труженика, лачуга в мирную хижину,
чумазые уличные ребятишки в читающих стихи бла-
гонравных мальчиков и девочек, разряженных, с при-
157
глаженными водой волосами, а затхлый мещанин
надевал сюртук и цилиндр и проникался чувством
собственного достоинства. Но не только он, Клаус-
Генрих, видел мир в таком свете, — в его присутствии
сам окружающий мир видел себя таким. Всюду, где
он выполнял свои высокие обязанности, царили стран-
ная бутафория и пустая видимость. На определенное
время, как по волшебству, создавалась переряжен-
ная, показная, радующая сердце действительность
из картона и позолоченного дерева, гирлянд, лампио-
нов, драпировок и флагов, действительность всегда
в одинаковом, условном убранстве, и он стоял в цен-
тре этой мишурной пышности, на ковре, прикрываю-
щем голую землю, среди двухцветных, раскрашен-
ных, увитых гирляндами мачт; стоял, сдвинув каб-
луки, вдыхая запах краски и еловых веток, и улы-
бался, уперев левую руку в бок.
Он заложил фундамент нового здания ратуши.
Магистрату удалось, прибегнув к некоторым финан-
совым операциям, собрать нужную сумму, проект
здания был поручен столичному архитектору. Но
камень в фундамент заложил Клаус-Генрих. Он
подъехал под ликующие крики жителей к воз-
двигнутому на главной площади великолепному па-
вильону, легко, сохраняя привычную выправку,
вышел из коляски и ступил на укатанную и посыпан-
ную тонким желтым песком землю, один, без сопро-
вождения, прошел несколько шагов, которые отделяли
его от ожидавших у входа членов магистрата во фра-
ках и белых повязках. Ему был представлен архи-
тектор, и Клаус-Генрих на виду у публики и обсту-
пивших его отцов города, на лице у которых застыла
улыбка, в течение пяти минут беседовал с ним на
весьма высокую и отвлеченную тему о преимущест-
вах различных архитектурных стилей; затем он от-
пустил архитектора, произнеся несколько обдуман-
ных во время беседы слов, и поднялся по дощатым
ступенькам, застланным ковром, на среднюю трибуну
к своему креслу, выдвинутому вперед. Он сидел там,
при звезде и орденской цепи, выставив одну ногу,
скрестив руки в белых перчатках на эфесе сабли, по-
158
ставив на пол рядом с собой свою каску, со всех сто-
рон видный собравшимся, и, не меняя официальной
позы, слушал речь бургомистра. Затем, выполняя
просьбу магистрата, встал, сошел, не проявляя замет-
ной осторожности, не смотря себе под ноги, вниз по
ступеням, ведущим к котловану, три раза не спеша
ударил молотком по фундаменту из песчаника, со-
проводив это действие небольшой, составленной госпо-
дином фон Кнобельсдорфом речью, которую Клаус-
Генрих произнес своим резковатым голосом. Потом
школьники пели хором. И Клаус-Генрих отбыл.
Он прошел вдоль рядов ветеранов в день нацио-
нального военного праздника. Старый инвалид крик-
нул голосом, казалось, охрипшим от порохового дыма:
«Смирно! Шляпы долой! Равнение направо!» И они
стояли, выпятив грудь с медалями и крестами,
держа в опущенной руке твердый цилиндр, и гля-
дели на него налитыми кровью собачьими глазами,
а он с благосклонной улыбкой проходил вдоль рядов,
задерживался то около одного, то около другого,
расспрашивал, в каком полку он служил, в каком
бою участвовал... Он посетил гимнастический празд-
ник, осчастливил своим присутствием гимнастические
состязания областных обществ и пожелал, чтобы ему
были представлены победители для «беседы» с ними.
Смелые, статные юноши, только что выполнявшие
труднейшие упражнения, робели перед ним, а Клаус-
Генрих, спрятав левую руку, быстро вставлял в раз-
говор профессиональные выражения, которые помнил
еще со времен господина Цотте и теперь произносил
без запинки.
Он ездил в Фюнфгаузен на съезд рыболовов, он
присутствовал на скачках в Гримбурге,, где сидел на
почетной трибуне, декорированной красными полот-
нищами, и вручал призы. Он был также почетным
председателем на празднике стрелкового общества,
покровителем которого состоял; он посетил призо-
вую стрельбу великогерцогского привилегированного
стрелкового общества. Он «осушил до дна» — как
было сказано в отчете «Курьера»—«заздравную
чашу», а именно — пригубил серебряный бокал, а за-
159
тем, щелкнув каблуками, поднял его в честь стрел-
ков. Потом он сделал несколько выстрелов в почет-
ную мишень, причем о попаданиях в газетах ничего
сказано не было. Затем согласно сообщению
«Курьера» «имел весьма теплую беседу» с тремя
господами подряд на одну и ту же тему — о преиму-
ществах стрелкового дела и наконец уехал, крикнув
на прощание «здорово!», что вызвало неописуемый
восторг. Это приветствие в последнюю минуту под-
сказал ему на ухо предварительно сам осведомив-
шийся генерал-адъютант фон Хюнеман; ведь если бы
Клаус-Генрих пожелал стрелкам «в добрый час!», а шах-
терам «здорово!», это, несомненно, произвело бы неже-
лательное впечатление и разрушило бы приятную ил-
люзию, что его королевское высочество знает предмет
и обоснованно предпочитает данное занятие другому.
Для выполнения своих высоких обязанностей Клау-
су-Генриху вообще требовалось кое-какое знание
предмета, которое он время от времени и приобре-
тал, а затем при случае удачно применял, Главным
образом знание различных профессиональных оборо-
тов, а также исторических дат, и Клаус-Генрих гото-
вился у себя в Эрмитаже к каждому официальному
выступлению, просматривая соответствующие мате-
риалы и слушая специальные доклады. Открывая
в Кнюппельсдорфе от имени великого герцога, «моего
всемилостивейшего государя и брата», памятник
Иоганну-Альбрехту, он произнес сейчас же вслед за
выступлением «Певческого кружка благонамерен-
ных» на площади, где происходило торжество, речь,
в которую было втиснуто все, что он записал себе
о Кнюппельсдорфе, и речь эта произвела прекрасное
впечатление, ибо можно было подумать, что он с дет-
ских лет только и делал, что изучал исторические
судьбы этого центра вселенной. Прежде всего Клаус-
Генрих трижды назвал Кнюппельсдорф городом, чем
очень польстил жителям, затем он сказал, что город
Кнюппельсдорф уже много столетий связан узами
взаимной верности с родом Гримбургов. Ведь уже
в четырнадцатом столетии ландграф Генрих XV,
Рутенштейнер, выступил как особый покровитель
160
Кпюппельсдорфа. Он, Рутенштейнер, построил на
ближайшей скале, на Рутенштейне, замок, чьи «гроз-
ные башни и крепкие стены были видны далеко
окрест». Потом Клаус-Генрих напомнил, как путем
браков Кнюппельсдорф стал наследственным владе-
нием той ветви рода, к которой принадлежат его браг
и он сам. На протяжении веков над Кнюппельсдор-
фом разразилась не одна гроза, он пережил войны,
пожары и моровую язву, но город преодолел все
испытания, и в годины бедствий сохраняя верность
своим исконным властителям. И сегодня Кнюппельс-
дорф отличается тем же настроением умов, ибо
воздвигает памятник его, Клауса-Генриха, в бозе
почившему родителю, и он, Клаус-Генрих, с особым
удовольствием доведет до сведения своего всемило-
стивейшего государя и брата о торжественном и сер-
дечном приеме, оказанном в его лице великому гер-
цогу Альбрехту II. Холст упал, «Певческий кружок
благонамеренных» еще раз проявил свое усердие.
Л Клаус-Генрих, чувствуя себя совершенно опусто-
шенным, стоял под воздвигнутым в его честь теат-
ральным шатром и улыбался, радуясь, что теперь
никто уже не осмелится предложить ему вопрос. Ибо
теперь он, хоть убей, не мог бы прибавить ни одного
словечка к сказанному им о Кнюппельсдорфе.
Какая у него была утомительная, какая напря-
женная жизнь! Иногда ему казалось, что он должен
со страшной затратой сил поддерживать что-то, что,
собственно, уже нельзя поддержать, а если можно,
то лишь при особо благоприятных обстоятельствах.
Иногда его жизненное назначение казалось ему пе-
чальным и жалким, хотя он любил и охотно выпол-
нял свои связанные с представительством обязанности.
Он отбыл из столицы на сельскохозяйственную
выставку, прибыл из Эрмитажа в своей коляске
с плохими рессорами на вокзал, где для прощания
с ним выстроились у салон-вагона губернатор, полиц-
мейстер и железнодорожное начальство. Он пребы-
вал в вагоне полтора часа, во время которых не без
труда поддерживал разговор с приставленными
к нему великогерцогскими адъютантами и с сопро-
11 Т. Манн, т. 2
161
вождавшим его референтом по сельскохозяйственным
вопросам, советником министерства Гекепфенгом,
серьезным и почтительным господином. Затем он
прибыл на вокзал того городка, где устраивалась
сельскохозяйственная выставка. Бургомистр, с цепью
на груди, ожидал его во главе шести или семи долж-
ностных лиц. Станция была декорирована елочками
и гирляндами из листьев. В глубине, окруженные зе-
ленью, стояли гипсовые бюсты Альбрехта и Клауса-
Генриха. Публика за барьером три раза прокричала
«ура!». Звонили во все колокола.
Бургомистр произнес приветственную речь. Он
почтительнейше благодарит, — сказал бургомистр и
потряс при этом цилиндром, который держал в ру-
ке,— от лица города за все милости, оказанные бра-
том Клауса-Генриха и им самим, и выражает искрен-
ние пожелания дальнейшего благополучного цар-
ствования. Он повторил также просьбу к принцу
завершить начинание, давшее такие хорошие резуль-
таты, под его высоким покровительством, и открыть
выставку.
Бургомистр был в чине коммерции советника,
о чем Клаус-Генрих был осведомлен заранее, и в от-
ветной речи он трижды именовал его согласно этому
чину. Его радует, сказал Клаус-Генрих, что под его
покровительством это начинание дало такие хорошие
результаты (по правде говоря, он забыл, что вы-
ставка пользовалась его высоким покровительством).
Он приехал, чтобы завершить это полезное начина-
ние и открыть выставку. Затем он поинтересовался
четырьмя вопросами: хозяйственным положением го-
рода, приростом населения за последние годы, рын-
ком труда (хотя сам хорошенько не знал, что такое
рынок труда) и ценами на продукты. Если цены на
продукты были высоки, он выслушивал это сообще-
ние с «серьезным» видом, и, само собой разумеется,
тем все и ограничивалось. Большего от него никто не
ждал, все утешались уже тем, что он очень серьезно
выслушал сообщение о высоких ценах.
Затем бургомистр представил ему местную интел-
лигенцию: судью, ближнего помещика из дворян,
162
пастора, двух врачей, экспедитора; и Клаус-Генрих
предложил каждому какой-нибудь вопрос, причем,
пока один отвечал, Клаус-Генрих обдумывал, о чем
спросить другого. Кроме них, были еще ветеринар и
инспектор по животноводству. Наконец все сели
il экипажи и под приветственные клики жителей про-
ехали между выстроенными шпалерами школьниками,
пожарными и членами различных обществ через раз-
украшенный город на выставочное поле. Но у заставы
их остановили девушки в венках и белых платьях,
одна из которых, дочь бургомистра, преподнесла
принцу цветы в белом атласном портбукете, а сама
получила на память об этой незабываемой минуте
хорошенькую недорогую вещицу из тех, что Клаус-
Генрих брал с собой во время поездок, — булавку,
лежащую в не по чину богатом бархатном футляре,
а потом эта булавка фигурировала в «Курьере» как
золотая, усыпанная драгоценными камнями брошь.
На лугу были сооружены палатки, киоски и па-
вильоны. На стоящих длинными рядами мачтах, со-
единенных гирляндами, развевались пестрые флажки.
Клаус-Генрих взошел на деревянную трибуну, деко-
рированную знаменами, и, стоя среди полотнищ,
фестонов и двухцветных мачт с флагами, сказал ко-
роткую речь. Вслед за тем начался обход.
Тут рядами стоял привязанный к низким коновя-
зям племенной породистый рогатый скот — пестрый,
гладкий, откормленный, с нумерованными таблич-
ками на широких лбах. Тут били копытом землю и
фыркали лошади, тяжеловозы с выгнутыми шеями и
лохматыми бабками, а также породистые, нервные
верховые кони. Тут были голые коротконогие свиньи,
и местные, и породистые, на все вкусы; переваливаясь
толстым брюхом и хрюкая, они рыли розовыми пя-
тачками землю, а курчавые овцы громко блеяли, на-
полняя воздух нестройным хором низких и тонень-
ких детских голосов. Тут шумела птичья выставка,
на которой были представлены всевозможные породы
кур — от больших брамапутр до золотых карликовых
курочек, — утки и голуби; различные корма и яйца
в натуральном виде и в изделиях. Тут в отделе сель-
11*
163
скохозяиственных продуктов были представлены все
злаки, свекла и клевер, картофель, горох и лен. Тут
были отборные овощи и фрукты, свежие и консерви-
рованные, ягоды, варенье и соки. И, наконец, тут
была выставка сельскохозяйственных орудий и ма-
шин, экспонированных различными техническими
фирмами, здесь было показано все, что нужно для
обработки земли: от ручного плуга до огромных чер-
ных машин с трубами, павильон которых был похож
на стойло слонов; от самых простых и вполне понят-
ных предметов до таких, которые представляли со-
бой путаницу колес, цепей, поршней, цилиндров, ры-
чагов, зубцов — целый мир, целый мир таких умных
и целесообразных предметов, что, глядя на них, ста-
новилось стыдно своего невежества.
Клаус-Генрих осмотрел все; продев руку в петлю
сабли, ходил он вдоль рядов скота, клеток, мешков,
чанов, банок и сельскохозяйственных орудий. Госпо-
дин, шедший справа от него, указывал ему рукой
в белой лайковой перчатке на отдельные экспонаты
и позволял себе давать кое-какие объяснения,
а Клаус-Генрих делал то, что предписывалось его по-
ложением. Он выражал свое удовольствие по поводу
всего, что видел, он останавливался то тут, то там и
беседовал с экспонентами, благосклонно осведомлялся,
как они живут и задавал вопросы, на которые земле-
дельцы отвечали, почесывая затылок. И на ходу
раскланивался на обе стороны в ответ на привет-
ствия жителей, выстроившихся вдоль его пути.
У выхода с выставочного поля, где ожидали эки-
пажи, собралась толпа, чтобы посмотреть на его
отъезд. Ему был оставлен проход, ведший прямо
к подножке его ландо, и он бодро следовал по нему,
приложив руку к каске, и непрестанно кланялся,—
следовал в полном одиночестве, обособленный, отде-
ленный от всех этих людей, которые приветствовали
в нем свой идеал, свой подлинный образ, от людей,
парадной эмблемой жизни, работы и усердия кото-
рых он являлся, хотя сам не принимал во всем этом
никакого участия,
164
Легко и свободно ступил он на подножку ландо*
с изяществом опустился на сидение и сразу принял
приятную позу, столь безупречную, что в ней при
ьсем желании ничего нельзя было бы исправить, и,
раскланиваясь на обе стороны, поехал в клуб, где
был сервирован завтрак. Начальник округа под-
нял— после второй смены — бокал за здоровье вели-
кого герцога и принца, вслед за тем Клаус-Генрих
незамедлительно встал и выпил за благополучие
округа и города. Однако по окончании банкета он
удалился в покои, которые бургомистр отвел ему
у себя в казенной квартире, и на часок прилег отдох-
нуть, ибо исполнение высоких обязанностей чрезвы-
чайно его утомило, а ему предстояло еще в этот же
день осмотреть в городе церковь, школу, различные
заводы, главным образом сыроварню братьев Бенке,
и высказать свое одобрение, а кроме того, продол-
жить поездку и побывать в пострадавшей от пожара
деревне, чтобы выразить общине соболезнование от
имени брата и от себя лично и поддержать дух пого-
рельцев своим присутствием.
А по возвращении домой в Эрмитаж, в строгие
ампирные апартаменты, он читал газетные отчеты
о своих путешествиях. В Эрмитаж являлся тайный со-
ветник Шустерман из бюро печати при министерстве
внутренних дел и приносил газетные вырезки, акку-
ратно наклеенные на листы белой бумаги, снабженные
датой и названием газеты. И Клаус-Генрих читал
о благотворном воздействии своей личности, о вели-
чии и приятности своего облика, читал, что он хорошо
выполнил свое дело и завоевал сердца старых и ма-
лых, что он возвысил помыслы людей над повседнев-
ностью и увлек их к любви и радости.
А затем он давал общедоступные аудиенции в Ста-
ром замке, как это было договорено с братом.
Обычай общедоступных аудиенций был введен од-
ним из предшественников Альбрехта II, радевшим
о благе подданных, и укоренился в стране. Раз в не*
делю Альбрехт, а теперь замещавший его Клаус-Ген-
рих был доступен любому подданному. Кто бы ни
был проситель — знатный или простолюдин, какое бы
W5
ни было у него дело — общего или чисто личного по-
рядка, ходатайство или жалоба, — достаточно было
обратиться к господину фон Бюлю, а то и просто
к дежурному адъютанту, и проситель получал воз-
можность изложить свое дело в высшей инстанции.
Прекрасный, человеколюбивый обычай. Проситель
избегал бумажной волокиты, мог не бояться, что его
дело будет положено под сукно, у него была прият-
ная уверенность, что он будет выслушан непосред-
ственно в высшей инстанции. Само собой разумеется,
высшая инстанция — в данный момент Клаус-Ген-
рих — не имела возможности рассмотреть вопрос по
существу, детально во всем разобраться и вынести
решение, она все равно передавала дело в канцеля-
рии, где его неизбежно клали под сукно. Но все же
польза от аудиенций была большая, хотя, конечно, не
грубо практическая. Проситель любого звания обра-
щался к господину фон Бюлю с ходатайством об
аудиенции, и ему назначались день и час. Он ожидал
их в радостном волнении, подготавливал в уме слова,
в которых изложит свою просьбу, отдавал в утюжку
фрак и цилиндр, выбирал лучшую сорочку — словом,
готовился во всех смыслах. Эти торжественные пред-
варительные действия отвлекали мысли просителя от
того, чего он добивался, от чисто практических ре-
зультатов, и теперь уже ему представлялось, что
главное — сам прием, что это подлинная цель, что
именно его он ждет с таким вожделением. Желанный
час наступал, и обыватель, вопреки своему обыкно-
вению, нанимал пролетку, чтобы не запылить свои до
глянца начищенные сапоги. Он проезжал через
Альбрехтовские ворота, мимо львов, и часовые, так
же как и рослый привратник, беспрепятственно про-
пускали его. Он сходил с пролетки во дворе замка
у колоннады, перед обветшалым порталом, и лакей
в коричневой ливрее и гамашах песочного цвета сей-
час же впускал его в расположенную слева в нижнем
этаже приемную, где в углу стояли знамена и где
в благоговейном трепете, чуть дыша, уже ожидало
приема несколько человек. Адъютант со списком до-
пущенных к аудиенции входил и выходил, приглашая
166
того, чья очередь подошла, к сторонке и там шепо-
том наставлял его, как полагается себя держать,
Л в смежной комнате, называемой «комнатой обще-
доступных аудиенций», у круглого столика на трех
ножках стоял Клаус-Генрих при звездах, в мундире
с шитым серебром воротником и принимал просите-
лей. Майор фон Платов сообщал ему краткие све-
дения о каждом из них, приглашал очередного и
возвращался в перерывы, чтобы в нескольких словах
рассказать принцу, кто следующий. И проситель вхо-
дил; красный и потный стоял он перед Клаусом-Ген-
рихом. Ему настойчиво внушали, чтобы он не подхо-
дил слишком близко к его королевскому высочеству,
а остановился в некотором отдалении, чтобы не на-
чинал говорить сам, пока не будет спрошен, а будучи
спрошен, отвечал коротко и не выкладывал все зараз,
дабы принцу осталось о чем его спрашивать; чтобы
по окончании аудиенции он удалился, пятясь и не по-
ворачиваясь к принцу спиной. И внимание просителя
было сосредоточено только на одном: не погрешить
против правил, а наоборот, всеми силами способство-
вать, чтобы разговор прошел хорошо, гладко, ладно.
Клаус-Генрих задавал вопросы, как привык задавать
их ветеранам, членам стрелковых и гимнастических
обществ, крестьянам и погорельцам; он стоял, уперев
левую руку в бок, так, чтобы ее не было видно, и
улыбался; и проситель невольно тоже улыбался, и
на душе у него было так, словно эта улыбка возно-
сит его над его обычными житейскими огорчениями.
Этот простой человек с самыми обыденными помыс-
лами, пренебрегавший всем, кроме практической
пользы, в повседневной жизни пренебрегающий даже
элементарной вежливостью и сюда-то пришедший
ради практического дела, — вдруг чувствовал, что
есть что-то более высокое, чем его дело и чем дела
вообще, он чувствовал, что очистился, вознесся ду-
хом и уходил с затуманенным взором, сохраняя
улыбку на раскрасневшемся лице.
Так Клаус-Генр-их давал общедоступные аудиенции
и так осуществлял свое высокое назначение. Он жил
в Эрмитаже, в своих ампирных апартаментах, об-
ует
•ставленных строго и скудно, с холодным пренебре-
жением к комфорту и уюту. Выцветший шелк покры-
вал белые, обшитые деревянной панелью стены; на
простых, ничем не украшенных потолках висели хру-
стальные люстры, вдоль стен стояли диваны строгих
линий, большей частью без столов перед ними, и тон-
коногие этажерки с часами, по обе стороны двуствор-
чатых белых дверей были поставлены попарно белые
лакированные стулья с овальными спинками и тонкой
шелковой обивкой, а по углам белые лакированные
консоли с подсвечниками в форме ваз. В такой об-
становке жил Клаус-Генрих, и такая обстановка удо-
влетворяла его.
Он жил внутренне спокойно, не проявляя ни воо-
душевления, ни нетерпимости в вопросах, вызываю-
щих общественные дебаты. Он открывал от лица сво-
его брата ландтаг, но был равнодушен к тому, что
там делалось, и в межпартийных спорах избегал го-
ворить «да» или «нет» — он был равнодушен, не со-
грет убеждениями, стоял выше всех партий. Каждый
понимал, что положение требует от него сдержанно-
сти, но многих такая безучастность сковывала и от-
даляла от него. Многие из тех, кто соприкасался
с ним, считали его «холодным»; доктор Юбербейн,
правда, не жалея красноречия, отрицал эту «холод-
ность», но кто его знает, так ли уж безошибочно мог
судить об этом такой пристрастный и малоприятный
человек, как Юбербейн. Случалось, конечно, что
Клаус-Генрих встречал взгляды людей, вообще не
признававших его, дерзкие, насмешливые, удивленно-
ненавидящие взгляды, в которых было написано пре-
зрение и пренебрежение к его самоотверженному
труду, но порой он замечал, что и доброжелательные,
верноподданнически настроенные люди, всей душой
готовые уважать и чтить его образ жизни, после не-
долгого общения с ним проявляют какую-то уста-
лость, мало того — раздражение, словно они зады-
хаются, не могут долго оставаться в окружающей
его атмосфере; Клаус-Генрих огорчался, но как пред-
отвратить это, не знал.
168
Ему нечего было делать в повседневной жизни;
удался ли ему поклон, милостивое слово, обаятель-
ный и в то же время полный достоинства жест — вот
что было важно, вот что имело решающее значение.
Однажды он возвращался в шинели и фуражке с про-
гулки верхом, он медленно ехал на своем гнедом
коне Флориане по березовой аллее, которая вела
вдоль пустырей в парк и дворец Эрмитаж, а перед
ним шагал бедно одетый молодой человек, на нем
была мохнатая шапка, из-под которой нелепо тор-
чали вихры, рукава и штаны были ему слишком ко-
ротки, косолапые ноги казались очень большими.
Вероятно, это был ученик реального училища или
кто-нибудь в этом роде, потому что под мышкой он
нес чертежную доску с приколотым к ней чертежом,
нанесенным красной и черной тушью, но Клаус-Ген-
рих видел только путаницу рассчитанных линий. Он
долго ехал сзади и рассматривал красный с черным
чертеж на доске. Потом он иногда думал, как хо-
рошо, если у тебя самая обыкновенная фамилия,
скажем, если тебя зовут доктор Фишер и если ты за-
нимаешься каким-нибудь серьезным делом.
Он представительствовал на придворных праздне-
ствах, на большом и малом бале, на парадном обеде,
на концертах и большом приеме. Кроме того, осенью,
следуя обычаю, он ездил на охоту вместе со своими
рыжеголовыми кузенами и свитскими, хотя из-за ле-
вой руки ему было трудно стрелять. По вечерам его
часто видели в придворном театре, в обитой красным
плюшем великогерцогской ложе бенуара, где он
сидел между двумя кариатидами со скрещенными
руками и строгими, невыразительными лицами.
Клаусу-Генриху нравился театр, его занимало смо-
треть на актеров, наблюдать, как они играют, выхо-
дят на сцену, уходят, как проводят свою роль.
Обычно он находил, что играют они плохо, чтобы
понравиться, прибегают к грубым, недостаточно уме-
лым приемам, что они неестественны и ходульны.
В общем, он отдавал предпочтение низкому жанру,
простонародным сценам, а не высоким и торжествен-
ным. В столичном театре оперетты подвизалась на
169
ролях субретки некая Мицци Мейер, которую газеты
и публика называли не иначе, как «наша» Мейер,
потому что ее боготворили все—и стар и млад. Она
не была красива, ее даже нельзя было назвать
хорошенькой, пела она визгливым голосом и, строго
говоря, никакими особыми талантами не отличалась.
Однако стоило ей выйти на сцену, и ее встречали не-
смолкаемой бурей аплодисментов и оваций; дело
в том, что эта коренастая, голубоглазая блондинка
с широкими чуть выдающимися скулами, здоровая,
веселая, а иногда и немножко сентиментальная, была
плотью от плоти, костью от кости народа. Когда она
стояла перед публикой на подмостках, в костюме,
в гриме, освещенная со всех сторон, она действи-
тельно являла собой идеализированный образ на-
рода,— да, аплодируя ей, народ рукоплескал себе
самому, только на этом и зиждилась власть Мицци
Мейер над сердцами.
Клаус-Генрих в сопровождении господина фон
Браунбарт-Шеллендорфа охотно посещал оперетту,
когда пела Мицци Мейер, и тоже от всей души ей
аплодировал.
Как-то у него была встреча, с одной стороны,
давшая ему повод для размышления, а с другой —
несколько его разочаровавшая. Встреча с господином
Мартини, Акселем Мартини, тем самым, что выпустил
два тома стихов: «Эвоэ!» и «Святая жизнь», весьма
тепло принятых специалистами. Встреча произошла
при следующих обстоятельствах.
В столице жил некий богатый старик, стар-
ший советник губернского правления по чину, кото-
рый, оставив государственную службу и уйдя на по-
кой, посвятил свою жизнь искусству, главным образом
поэзии. Он был инициатором мероприятия, известного
иод названием «Майского турнира» — ежегодного ве-
сеннего поэтического конкурса, к участию в котором со-
ветник приглашал отечественных поэтов и поэтесс
в циркулярных посланиях и публичных объявлениях.
За самую сладостную любовную лирику, самое про-
чувствованное религиозное стихотворение, самую
пламенную патриотическую песнь, за лучшие стихо-
170
творные произведения, воспевающие музыку, лес,
весну, радость жизни, выдавались премии, в которые,
кроме денежных сумм, входил еще и какой-нибудь
символический дорогой подарок: золотое перо, золо-
той значок в форме лиры или цветка и другие вещицы
в том же роде. Городской магистрат тоже учредил
премию, а великий герцог пожертвовал серебряный
кубок в награду за неоспоримо лучшее из всех пред-
ставленных на конкурс стихотворений. В состав жюри
наряду с самим учредителем «Майского турнира»,
первым просматривавшим огромное количество по-
ступающего материала, входили два профессора уни-
верситета и заведующие литературным отделом
в «Курьере» и в «Народной газете». Произведения,
удостоенные премии или похвального листа, регу-
лярно печатались и издавались в виде ежегодника
иждивением старшего советника.
В этом году в «Майском турнире» принял участие
Аксель Мартини и вышел из состязания победителем.
Представленное им стихотворение — вдохновенная
песнь, восхваляющая радость жизни, вернее сама
радость жизни, бурно рвущаяся наружу, пламенный
гимн красоте и беспощадности жизни, — было выдер-
жано в стиле его обеих книг и вызвало споры в жюри.
Старший советник и профессор филологии хотели
отделаться похвальным отзывом. Они находили сти-
хотворение необузданным по экспрессии, страстность
его грубой, а местами откровенно неприличной. Но
профессор истории литературы вкупе с редакторами
обеих газет переубедил их, оба противника признали
произведение Мартини не только безусловно лучшим
из стихотворений, воспевающих радость жизни, но и
вообще лучшим из всех представленных на конкурс,
В конце концов они сами не смогли устоять против воз-
действия этого кипучего, ошеломляющего потока слов.
Итак, Аксель Мартини получил триста марок, зо-
лотой значок в форме лиры, да сверх того еще сере-
бряный кубок великого герцога, а его стихотворение
было напечатано в «Ежегоднике» на первой странице
и снабжено виньеткой, принадлежащей искусному
карандашу профессора фон Линдемана. Кроме того,
171
согласно установившемуся обычаю великий герцог
назначал аудиенцию победителю или победительнице
на «Майском турнире», а так как Альбрехт как раз
чувствовал себя нехорошо, то и этот прием пришлось
провести его брату.
Клаус-Генрих слегка робел перед господином
Мартини.
— Господи боже мой, доктор Юбербейн, что я
буду с ним делать, — сказал он, встретившись со
своим учителем. — Уж конечно, это необузданный,
дерзкий человек.
Но доктор Юбербейн возразил:
— Да что вы, Клаус-Генрих, не беспокойтесь, это
вполне благонравный человечек, я его знаю, я из-
редка бываю в тех же кругах. Вы отлично с ним
справитесь.
Итак, Клаус-Генрих принял певца радости жизни,
он принял его в Эрмитаже для того, чтобы аудиен-
ция носила менее официальный характер. «В желтой
гостиной, дорогой Браунбарт. Для таких случаев она
самая презентабельная», — сказал он. В этой ком-
нате стояло три прекрасных кресла, вероятно, един-
ственно ценные вещи из всей дворцовой мебели,—
массивные ампирные кресла красного дерева с рез-
ными завитками на подлокотниках и тканой обивкой,
желтой с голубовато-зелеными лирами. На этот раз
Клаус-Генрих не стоял в традиционной позе, готовый
к приему, он ждал, немного волнуясь, в соседней
комнате, чтобы Аксель Мартини в свою очередь про-
ждал его в желтой гостиной семь-восемь минут. За-
тем он быстро вошел, почти вбежал и направился
к поэту, который отвесил ему низкий поклон.
— Я очень рад познакомиться с вами, — сказал
он, — дорогой господин... господин доктор, не так ли?
— Нет, ваше королевское высочество, я не док-
тор. У меня нет диплома, — ответил Аксель Мартини
хриплым голосом.
— Прошу прощения... я предполагал... Пожалуй-
ста, садитесь, дорогой господин Мартини. Я, как уже
говорил, очень рад возможности поздравить вас
с большим успехом...
172
Углы рта господина Мартини судорожно опусти-
лись. Он сел на краешек кресла красного дерева
■у непокрытого скатертью стола, доска которого быля
обрамлена золотым ободком, и скрестил ноги в по-
трескавшихся лакированных ботинках. Он был во
фраке и пожелтевших лайковых перчатках. Воротни-
чок сорочки обтрепался на уголках. У него были
слегка выпученные глаза, впалые щеки и темно-русые
усы, торчащие как щетина. Волосы на висках уже
сильно поседели, хотя, судя по «Ежегоднику Май-
ского турнира», он насчитывал не больше тридцати
лет, а красные пятна на скулах свидетельствовали
о неважном состоянии здоровья. На поздравление
Клауса-Генриха он ответил:
— Вы, ваше королевское высочество, слишком
добры. Победа эта не трудная. Пожалуй, с моей сто-
роны было бестактным участвовать в конкурсе.
Клаус-Генрих не понял, но сказал:
— Я с большим удовольствием несколько раз
перечел ваше стихотворение. Мне кажется, оно очень
удачно, и в отношении размера, и в отношении рифмы.
А кроме того, в нем прекрасно выражена радость жизни.
Господин Мартини, не вставая, поклонился.
— Вероятно, ваше искусство доставляет вам боль-
шое наслаждение, оно для вас лучший отдых...—
продолжал Клаус-Генрих. — Чем вы вообше зани-
маетесь?
Господин Мартини изобразил из себя вопроситель-
ный знак, всем своим видом показывая, что не понял
вопроса.
— Я подразумевал ваше основное занятие. Вы на
государственной службе?
— Нет, ваше королевское высочество. У меня нет
основного занятия. Я занимаюсь исключительно поэ-
зией...
— Нет основного занятия... Да, да, понимаю.
Такому незаурядному дарованию надо отдавать все
силы.
— В этом я не уверен. Должен откровенно при-
знаться, что у меня другого выбора не было. Я смо-
лоду чувствовал себя абсолютно непригодным ко вся-
173
кой иной деятельности. Мне кажется, именно такая
несомненная и безусловная непригодность ко всему
другому и есть признак и верный показатель поэти-
ческого призвания. Больше того: мне кажется, что
занятие поэзией следует рассматривать не как при-
звание, а как доказательство вышеупомянутой непри-
годности, как единственно возможное прибежище.
Господин Мартини отличался одной особенно-
стью — когда он говорил, на глаза ему набегали
слезы, словно он попал с холода в теплую комнатуг
оттаял и с него закапало.
— Оригинальный взгляд, — сказал Клаус-Генрих.
— Да нет же, ваше королевское высочество.
Прошу прощения. Нет, совсем не оригинальный. Этот
взгляд разделяют многие. Я не сказал ничего нового.
— Ас каких пор вы живете исключительно для
поэзии, господин Мартини? Вероятно, вы получили
образование?
— Незаконченное, ваше королевское высочество.
Непригодность, о которой я уже говорил, проявилась
у меня очень рано. Я не доучился. Я ушел из школы
до выпускных экзаменов. В университет я поступил,
обещав сдать экзамены задним числом. Но обещание
так и осталось обещанием. А потом, когда мой пер-
вый сборник стихов снискал одобрение публики,
осмелюсь сказать, что мне как будто уже и не при-
стало держать экзамен.
— Конечно, конечно... Но ваши родители одо-
брили выбранную вами карьеру?
— Что вы, ваше королевское высочество. К чести
моих родителей должен сказать, что они совсем ее не
одобрили. Я из хорошей семьи; отец был прокуро-
ром. Он до самой смерти не мог примириться с вы-
бранной мною карьерой и отказал мне во всякой
поддержке. Мы были в ссоре, хотя я и очень уважаю
его за такую строгость.
— Да, значит вам жилось очень трудно, господин
Мартини, вам пришлось самому пробиваться. Думаю,
что вы прошли огонь и воду и медные трубы..
— Нет, ваше королевское высочество. Нет, если
бы мне пришлось так круто, я бы не вынес. Я ела*
J74
бого здоровья — сказать «к сожалению» я не ре-
шаюсь, я ведь убежден, что у меня талант тесно
связан с физической слабостью. Голод и холод окон-
чательно сломили бы и мой организм, и мой талант.
Но по слабости характера мать давала мне за спи-
пой отца средства к существованию, правда, скром-
ные, но мне хватало. Только благодаря ей мой талант
мог развернуться в сравнительно неплохих условиях,
— Результаты показали, дорогой господин Мар-
тини, что условия были как раз подходящие... Хотя
и трудно сказать, какие условия можно считать дей-
ствительно благоприятными. Допустим, что ваша
матушка была бы столь же строга, как и ваш отец,
и вы остались бы на свете совсем один, без всякой
поддержки, только со своим талантом... Вы не ду-
маете, что в некотором отношении это пошло бы вам
на пользу? Что вы могли бы, так сказать, приобрести
житейский опыт, а вы упустили эту возможность?
— Ах, ваше королевское высочество, такие, как я,
и без того приобретают житейский опыт, даже если
и не голодают по-настоящему. Ведь это почти общий
взгляд, что талант обусловлен... хе... хе... хе... не
столько настоящим голодом, сколько голодом по на-
стоящей жизни.
Господин Мартини усмехнулся своей игре слов.
Затем он быстро поднес руку в желтоватой перчатке
ко рту с щетинистыми усами и исправил свой смех,
подменив его покашливанием. Клаус-Генрих смотрел
на поэта приветливо и выжидающе.
— Разрешите сказать, ваше королевское высоче-
ство... широко распространен взгляд, что для нашего
брата уход от жизни — питательная среда, на которой
произрастает талант, источник вдохновения, мало
того: это наша муза. Жить полной жизнью нам
строго-настрого заказано, мы на этот счет не заблу-
ждаемся, и под этим разумеют не только счастье, но
и заботы и страдания, — словом, всякое серьезное
соприкосновение с жизнью. Изображение жизни тре-
бует всех наших сил, особенно если этих сил отпу-
щено не слишком много. — И господин Мартини за-
кашлялся, сутулясь и втягивая грудь. — Наш союз
175
с музой зиждется на отречении, в этом наша сила,
наше достоинство, а жизнь для нас — запретный сад,
великий соблазн, которому мы иногда поддаемся, но
всегда не во благо себе.
Пока господин Мартини говорил, глаза его опять
наполнились слезами. Он постарался сморгнуть их.
— Каждому из нас свойственны заблуждения,
уклонения от прямого пути, соблазнительные экс-
курсы в пиршественные чертоги жизни. Но мы воз-
вращаемся оттуда в свое уединение пристыженные,
с тяжестью на сердце.
Господин Мартини замолчал. Подняв брови, он
на мгновение тупо уставился в пространство, углы
рта скорбно опустились, и теперь его впалые щеки,
на которых пылал нездоровый румянец, казались
еще худее. Это продолжалось всего один миг; он
переменил позу и перевел взгляд.
— Но как же ваше стихотворение, воспевающее
радость жизни, господин Мартини!.. — не без настой-
чивости допытывался Клаус-Генрих. — Я искренне
вам благодарен за ваше произведение. Но скажите...
ваше стихотворение—я внимательно прочитал его.
Насколько я помню, в нем говорится о страданиях и
ужасах, о вероломстве и жестокости жизни, и в то же
время о наслаждении, которое дают красивые жен-
щины и вино, не правда ли?
Господин Мартини улыбнулся и сейчас же потер
большим и средним пальцами уголки рта, чтоб про-
гнать улыбку.
— Все это напечатано в виде монолога, от первого
лица, не правда ли? — сказал Клаус-Генрих. — И тем
не менее это написано не на основе собственного опыта?
Вы ничего такого сами в действительности не пережили?
— Если и пережил, то очень немного, ваше коро-
левское высочество. Разве только слабые намеки.
Как раз наоборот, если бы я мог все это пережить,
я бы не только не писал таких стихов, я бы до глу-
бины души презирал себя за мое теперешнее суще-
ствование. У меня есть друг, фамилия его Вебер,
состоятельный молодой человек, пользующийся
жизнью. Его любимое развлечение гонять на своем
176
автомобиле с безумной скоростью по деревням и вы-
бирать на улицах и полях девок, с которыми он до-
рогой... Но это к делу не относится. Словом, этого
молодого человека, как только он завидит меня, раз-
бирает смех, такими комичными кажемся ему я и моя
поэзия. А вот я отлично понимаю его веселость и за-
видую ему. Я должен сказать, что в то же время не-
много презираю его, но не так искренне, как завидую
ему и восхищаюсь...
— Вы восхищаетесь им?
— Разумеется, ваше королевское высочество.
Я просто не могу не восхищаться. Он дает, расточает,
он все время самым беззаботным и великодушным
образом расходует себя, прожигает жизнь. А мой
удел — экономить, робко и скупо копить, и главным
образом из соображений здоровья. Ведь мне, да и
вообще нашему брату, прежде всего не хватает здо-
ровья— отсюда вся наша нравственность. А жизнь —
это самая что ни на есть нездоровая штука...
— Так, значит, вы никогда не осушите до дна
кубок великого герцога?
— Чтобы я пил из него вино? Нет, ваше королев-
ское высочество. Хотя это и было бы очень красивым
жестом. Но я не пью вина. Да, кроме того, я уже
в десять часов ложусь спать и веду во всех смыслах
очень умеренный образ жизни. Иначе я ни в коем слу-
чае не получил бы кубка.
— Вероятно, это так, господин Мартини. Издали,
вероятно, неправильно представляешь себе жизнь
поэта.
— Вполне понятно, ваше королевское высочество.
Но, в общем, могу вас уверить, жизнь эта не очень-то
роскошная. Тем более что не каждую минуту бы-
ваешь поэтом. Поверить трудно, сколько надо без-
делья и скуки и изводящей праздности, чтобы время
от времени вышло такое вот стихотворение. Иногда
за весь день только и напишешь, что открытку табач-
ному торговцу. Много спишь, много шатаешься без
всякого дела, в голове туман. Да, часто это совсем
собачья жизнь...
Кто-то тихонько постучал в белую лакированную
12 Т. Манн, т. 2
m
дверь. Это Нейман сигнализировал, что Клаусу-Ген-
риху пора переодеваться и отдохнуть, вечером в Ста-
ром замке был раут-концерт.
Клаус-Генрих встал.
— Однако я заболтался, — сказал он.
В подобных случаях он всегда прибегал к этой
фразе. Затем он отпустил господина Мартини, поже-
лал ему успеха на поэтическом поприще и проводил
почтительно пятящегося поэта улыбкой и тем несколь-
ко театральным, милостивым жестом руки сверху
вниз, который не всегда выходил одинаково удачно, но
в котором он все же достиг высокого совершенства.
Вот какой разговор произошел у Клауса-Генриха
с Акселем Мартини, автором «Эвоэ!» и «Святой
жизни». Этот разговор навел его на размышления,
которые не прекратились и по окончании аудиенции,
Клаус-Генрих раздумывал над этим разговором и
пока Нейман причесывал и облачал его в блестящий
парадный мундир со звездами, и пока длился при-
дворный раут-концерт, и даже несколько дней спустя,
и старался связать слова поэта с прочим опытом, по-
даренным ему жизнью.
Этот самый господин Мартини, который, невзирая
на нездоровый румянец на впалых щеках, непрестан-
но восклицал: «Как прекрасна жизнь, как могуча
она!» — и все же благоразумно ложился спать в де-
сять часов, из соображений здоровья отгораживался
от жизни, избегая всякого серьезного соприкоснове-
ния с ней, этот самый поэт с обтрепанным воротнич-
ком и слезящимися глазами, завидующий ветрогону
Веберу, который раскатывал на своей машине в об-
ществе деревенских девок, — этот поэт возбуждал
в нем двойственное ощущение, трудно было соста-
вить себе о нем. твердое мнение. При встрече с се-
строй Клаус-Генрих выразил свое чувство в следую-
щих словах: «Живется ему неуютно и нелегко, это
сразу видно, и это должно располагать в его пользу.
Но я все же не знаю, доволен ли я, что познакомился
с ним; в нем есть что-то отпугивающее; знаешь, Дит-
линда, несмотря ни на что, он мне определенно вну-
шает отвращение»..
178
IIMMÀ
Сведения фрейлейн фон Изеншниббе вполне под-
твердились. Вечером того самого дня, когда она при-
несла княгине цу Рид свою сногсшибательную новость,
и «Курьере» появилось сообщение о предстоящем в
ближайшем будущем прибытии Самуэля Шпельмана,
знаменитого на весь мир Шпельмана, а недели через
полторы, в начале октября (это был октябрь того
года, когда великому герцогу Альбрехту пошел три-
дцать второй, а принцу Клаусу-Генриху двадцать ше-
стой год) —то есть в самый разгар всеобщего лю-
бопытства, — знаменательное событие стало реальным
фактом; свершилось оно в пасмурный, осенний день,
в самый прозаический, ничем не примечательный
день, которому, однако, предстояло в дальнейшем
стать достопамятной датой.
Шпельманы прибыли экстренным поездом — пока
что помпа их появления ограничилась только этим,
ибо всем было известно, что «княжеские покои» го-
стиницы «Целебные воды» совсем не поражают осле-
пительной роскошью. У выхода на перрон собралась
толпа зевак, порядок поддерживался небольшим на-
рядом жандармов; представители прессы были на-
лицо. Но тем, кто ждал чего-либо необычного, при-
шлось разочароваться. Шпельмана даже не сразу
признали, ничего потрясающего в нем не было*
Сперва за Шпельмана приняли его домашнего врача,
доктора Ватерклуза, — такая, говорили, у него фами-
лия,— долговязого американца в сдвинутой на заты-
лок шляпе, с седыми бачками, который непрестанно
растягивал рот в кроткой улыбке, закрывая при этом
глаза. Только в последнюю минуту стало известно,
что подлинный Шпельман — не он, а другой, тот
низенький, бритый, в выгоревшем пальто, который,
наоборот, надвинул шляпу по самые брови, и все
присутствующие сошлись на одном: в нем нет ничего
особенного. О Шпельмане ходили самые невероятные
рассказы. Какой-то шутник пустил слух, и кое-кто
ему поверил, будто у Шпельмана передние зубы все
сплошь золотые и в каждый из этих золотых зубов
12*
179
вставлен бриллиант. И хотя, правильно или непра-
вильно это утверждение, выяснить не удалось, ибо
Шпельман своих зубов не демонстрировал, — он не
смеялся, а, наоборот, казался сердитым, раздражен-
ным и больным, — все же никто уже не сомневался,
что это ложь. Что же касается его дочери, мисс
Шпельман, то она засунула руки в карманы и под-
няла воротник своего мехового жакета, так что ее
лица вообще почти не было видно, если не считать
необыкновенно больших темно-карих глаз, которые
серьезно глядели на толпу и говорили красноречи-
вым, но не общепонятным языком. Рядом с ней шла
особа, в которой сразу признали ее компаньонку, гра-
финю Левенюль, — это была тридцатипятилетняя
скромно одетая женщина, значительно более высо-
кого роста, чем отец и дочь Шпельманы, она задум-
чиво склонила набок свою маленькую голову с гладко
причесанными жидкими волосами и с какой-то тупой
кротостью смотрела себе под ноги. Наибольшую сен-
сацию, несомненно, произвела шотландская овчарка,
которую держал на поводке слуга с рабски покорным
выражением лица, — необыкновенно красивая, но, по-
видимому, ужасно нервная собака, она дрожала всем
телом, приплясывала и оглашала вокзал возбужден-
ным лаем.
В толпе говорили, что прислуга Шпельманов, муж-
ская и женская, приехала в «Целебные воды» уже
раньше. Во всяком случае, забота о багаже была все-
цело возложена на слугу с собакой; и пока он хлопо-
тал, господа сели в две самые обыкновенные извоз-
чичьи пролетки — господин Шпельман с доктором
Ватерклузом, мисс Шпельман со своей графиней —
и поехали в курортный парк. Там они вышли и там
прожили полтора месяца, как можно было бы про-
жить и не располагая их средствами.
Им повезло: погода была хорошая, осень выда-
лась ясная, солнечные дни, стоявшие в октябре,
стояли и в ноябре, и мисс Шпельман со своей статс-
дамой ежедневно каталась верхом — это была един-
ственная роскошь ее здешнего пребывания — на ло-
шадях, кстати сказать, взятых понедельно напрокат
180
и манеже. Господин Шпельман верхом не катался,
хотя «Курьер» поместил, явно имея в виду господина
Шпельмана, заметку своего сотрудника, освещаю-
щего вопросы медицины; согласно этой заметке вер-
ховая езда оказывает хорошее действие на больных
почками, ибо тряска способствует выходу камней. Но
через служащих гостиницы стало известно, что зна-
менитый гость занимается у себя в четырех стенах
искусственной верховой ездой на механической ло-
шади— укрепленном велосипеде, седло которого при
нажатии педалей трясется.
Господин Шпельман усердно пил лечебную мине-
ральную воду из Дитлиндинского источника, на кото-
рую он, по-видимому,, возлагал большие надежды.
Ежедневно он приходил рано утром в бювет в со-
провождении дочери, которая, впрочем, была совер-
шенно здорова и пила воду только за компанию, а
затем, надвинув шляпу на лоб, медленно прогули-
вался в своем выгоревшем пальтишке по парку и га-
лерее, потягивая воду через стеклянную трубочку из
голубоватой стеклянной кружки, — а стоя в некото-
ром отдалении, за ним наблюдали два американских
репортера, которых их газеты обязали ежедневно те-
леграфировать тысячу слов о пребывании Шпельмана
на отдыхе, посему-то они и охотились за материалом*
Вообще же Шпельман мало бывал на людях, ве-
роятно из-за болезни, — как говорили, чрезвычайно
мучительных приступов почечных колик, — он почти
не выходил из номера, а то и не вставал с постели,
и в то время как мисс Шпельман с графиней Леве-
нюль два-три раза посетила придворный театр (где
мисс Шпельман была в черном бархатном платье и
в чудесной золотисто-желтой индийской шелковой
шали, накинутой на детские плечики, что при ее жем-
чужно-матовом нежном личике и больших черных
красноречиво говорящих глазах произвело пленитель-
ное впечатление), отца ее ни разу не видели с ней
в ложе. Правда, он несколько раз прошелся в ее об-
ществе по улицам столицы, купил разные мелочи,
осмотрел город, посетил местные достопримечатель-
ности; он гулял с ней также и по городскому саду и
Ш
два раза осматривал дворец Дельфиненорт — во вто-
рой раз один, причем он настолько им заинтересо-
вался, что вытащил из кармана своего выгоревшего
пальто самый обыкновенный желтый метр и стал из-
мерять стены... Он не появлялся даже за табльдотом,
то ли потому, что был посажен на строгую диету,
почти без мяса, то ли по каким другим причинам, но
он и его домашние кушали у себя в номере, и любо-
пытство публики удовлетворялось весьма скудно.
Поэтому-то и вышло так, что приезд Шпельманов
вначале не принес курорту той выгоды, какую ожи-
дала фрейлейн фон Изеншниббе, а с ней и многие
другие. Спрос на бутылки с минеральной водой,
правда, повысился, это несомненно; он очень быстро
вырос почти в полтора раза против прежнего и долго
держался на этом уровне. А вот число приезжих
нельзя сказать, чтобы заметно увеличилось; те, что
приехали, дабы насладиться созерцанием этой из
ряда вон выходящей личности, вскоре уехали обратно,
удовлетворенные или разочарованные, да к тому же
его присутствие привлекло далеко не самые жела-
тельные элементы. На улицах замелькали странные
личности — лохматые головы, блуждающие взгляды —
изобретатели, прожектеры, маньяки, мечтающие
осчастливить человечество, люди, надеявшиеся заин-
тересовать своими бреднями Шпельмана. Но мил-
лиардер ни в коей мере не поощрял их, и, когда в го-
родском саду один из этих чудаков попытался с ним
заговорить, Шпельман побагровел от гнева и так на
него рявкнул, что тот не знал, как унести ноги; уве-
ряли также, что поток писем с просьбами о помощи,
ежедневно стекавшихся к нему, — писем, на.которых
часто были налеплены такие марки, каких почтовые
чиновники великого герцогства и в глаза не видыва-
ли,— попадал прямым трактом в чрезвычайно объ-
емистую корзину для бумаг.
Надо полагать, что Шпельман запретил докучать
себе какими бы то ни было делами, решил основа-
тельно использовать отдых и посвятить поездку по
Европе исключительно своему здоровью — или своей
болезни. «Курьер», репортеры которого поспешили
182
свести знакомство со своими американскими колле-
гами, сообщил, что за морем господина Шпельмана
замещает так называемый chief manager, главный
управляющий. Далее сообщалось, что яхта Шпельма-
нов, роскошно оборудованное судно, ожидает могу-
щественного мужа в Венеции и что, окончив курс ле-
чения, он намерен отправиться со своими домочад-
цами на юг. Идя навстречу-настоятельному желанию
читателей, «Курьер» сообщал также о поистине чу-
десном происхождении шпельмановского богатства,
начало которому было положено в штате Виктория,
куда отец Шпельмана, до того корпевший в какой-то
немецкой конторе, приехал еще совсем молодым и
бедным, не имея ничего за душой, кроме кирки, ло-
паты и оловянной тарелки. Там он начал работать
поденщиком, подручным у золотоискателя, трудясь
п поте лица своего. Потом привалило счастье. Неко-
ему человеку, владельцу крошечного прииска, так не
повезло, что он не мог даже купить кусок хлеба и по-
мидоров себе на обед, и, теснимый нуждой, он решил
продать свой прииск. Шпельман-старший приобрел
ого. Он рискнул всем скопленным капиталом, со-
ставлявшим пять фунтов стерлингов, и приобрел
«Райское поле», участок с наносной почвой, клочок
земли, величиной в сорок квадратных футов. А на
следующий день он извлек на поверхность из-под
слоя в полторы ладони толщиной слиток чистого зо-
лота, десятый по своим размерам слиток в мире,
«Paradise Nugget» 1, в девятьсот восемьдесят унций
весом и в пять тысяч фунтов стоимостью.
Вот с чего, сообщал «Курьер», началось. Реализо-
вав свою находку, отец Шпельмана перебрался
в Южную Америку, в страну Боливию и в качестве
золотоискателя, владельца амальгамовои мельницы
и горнозаводчика продолжал там извлекать желтый
металл непосредственно из рек и недр земли. Именно
тогда и именно там Шпельман-старший и женился —
и «Курьер» не преминул упомянуть, что сделал он это
наперекор всему и не считаясь с местными предрас-
Райский слиток (англ.).
183
судками. Но таким образом он удвоил нажитой капи-
тал и пустил его в оборот. Он переселился на Север
в город Филадельфию штата Пенсильвания. Случи-
лось это в пятидесятые годы, в пору небывалого ожи-
вления железнодорожного строительства, и Шпель-
ма'н вложил капитал в акции Балтиморской и Огай-
ской железных дорог. Кроме того, ему принадлежали
на западе штата каменноугольные копи, приносившие
значительный доход. А самое главное, он оказался
в числе тех благословенных богом счастливчиков, ко-
торые за несколько тысяч фунтов приобрели знаме-
нитую Blockheadfarm — небольшое именьице, цена
которого благодаря открывшимся там нефтяным ис-
точникам вскоре возросла во много сотен раз... Те-
перь Шпельман-старший был богачом, но он и не
помышлял уйти на покой, наоборот — он продолжал
совершенствоваться в искусстве с помощью денег
добывать все больше и больше денег, пока наконец
не стал добывать непомерно много. Он строил стале-
литейные заводы, учреждал акционерные общества,
которые занимались массовым превращением железа
в сталь и строительством железнодорожных мостов.
Он был держателем большей части акций четырех
или пяти солидных железнодорожных компаний и
в пожилом возрасте сделался президентом, вице-пре-
зидентом, уполномоченным или директором этих об-
ществ. Когда был основан стальной трест, сообщал
далее «Курьер», он вступил в члены этого объедине-
ния с таким пакетом акций, который сам по себе уже
обеспечивал ему ежегодный доход в двенадцать мил-
лионов долларов. Но Шпельман был также главным
пайщиком и членом наблюдательного совета нефтя-
ного концерна и благодаря своей доле акций запра-
влял делами трех или четырех других объединений.
Он оставил после себя капитал, который при переводе
на нашу валюту составляет миллиард.
Самуэль, его единственный сын, рожденный от
того своевременно и наперекор местным предрассудкам
заключенного брака, был его единственным наследни-
ком, — и «Курьер» со свойственной ему чуткостью,
пустился в рассуждения о том, как грустно стано-
184
вится при мысли, что человек не по своей воле и не
по своей вине оказывается в таком положении. Са-
муэль унаследовал от отца дворец в Нью-Йорке на
Пятом авеню, загородные виллы и все акции, ценные
бумаги и дивиденды; он унаследовал также обособ-
ленное положение и мировую известность своего
отца, а заодно и ненависть обездоленных против
власти денег, всю ту ненависть, для умиротворения
которой Шпельман ежегодно жертвовал крупные
суммы учебным заведениям, консерваториям, биб-
лиотекам, благотворительным учреждениям и тому
университету, который был основан его отцом и
назван в его честь.
Самуэль Шпельман безвинно терпел ненависть
обездоленных, за это «Курьер» ручался. Он рано был
приобщен к делам, уже в последние годы жизни отца
один распоряжался головокружительно огромным ка-
питалом фирмы. Но хорошо известно, что торговые
сделки никогда не захватывали его целиком. Его
подлинной страстью всегда была музыка, главным
образом орган, — и это сообщение «Курьера» не-
трудно проверить, ибо и тут в номере мистера Шпель-
мана есть фисгармония, мехи которой приводит в дви-
жение дворник гостиницы, и каждый день в курорт-
ном парке слышно, как мистер Шпельман музицирует
в течение часа.
Он женился, сообщал «Курьер», по любви, не по
расчету, на бедной и красивой девушке наполовину
немецкого, наполовину англосаксонского происхожде-
ния. Она умерла, но после нее осталась дочка, и сей-
час эта девятнадцатилетняя девушка, чудесный плод
смешанного брака, также гостит на нашем курорте.
Зовут ее Имма — это, как сообщил «Курьер», искон-
но германское имя, просто более старая форма для
«Эммы», и обиходным языком в доме Шпельманов
по-прежнему остается немецкий, хотя время от вре-
мени Шпельманы и вставляют в свою речь англий-
ские словечки. А как привязаны друг к другу отец и
дочь! Если прийти рано утром в парк, то можно быть
свидетелем того, что фрейлейн Шпельман, обыкно-
венно несколько позже отца появляющаяся в бювете,
/65
здороваясь с ним, нежно сжимает ладонями его
голову и целует его в губы и в обе щеки, а он тем
временем ласково похлопывает ее по спине. А затем
они под руку прохаживаются по галерее и потяги-
вают воду через стеклянные трубочки.
Вот что рассказывала хорошо осведомленная га-
зета, давая пищу общественному любопытству. Она
также весьма обстоятельно описывала любезные по-
сещения мисс Иммой, сопровождаемой компаньонкой,
различных городских благотворительных учреждений.
Вчера она внимательно осмотрела общественную сто-
ловую. Сегодня не спеша обошла женскую бога-
дельню «Во имя святого духа». Кроме того, она два
раза присутствовала в университете на лекциях по
теоретической математике тайного советника Клинг-
хаммера, сидела вместе с прочими студентами на де-
ревянной скамье и прилежно писала своим вечным
пером, ибо известно, что она девушка образованная
и занимается алгеброй. Да, такие сведения читались
с захватывающим интересом и давали богатую пищу
для разговоров. А вот о ком говорили без всякого
поощрения со стороны «Курьера», так это, во-первых,
о собаке, о породистом черном с белыми подпали-
нами колли, привезенном Шпельманом, и, во-вторых,
правда, на иной лад, о компаньонке — графине Леве-
нюль.
Собака, которую звали Персеваль, — так на англий-
ский манер произносилась эта кличка, — или попросту
Перси, была такая возбудимая, такая нервная, что
и сказать нельзя. В гостинице Перси лежал в бла-
городной позе на коврике перед шпельмановскими
покоями и вел себя безупречно. Но на прогулках на
него нападали приступы неистовства, возбуждавшие
страх, а иной раз и нарушавшие уличное движение.
С взмыленной мордой, яростно лая, носился он, как
шальной, по улицам, скакал словно угорелый перед
самым трамваем, налетал на извозчичьих лошадей,
два раза опрокинул лоток с пирогами стоявшей
у ратуши вдовы Класен, да так, что сладкие пирожки
докатились до середины рыночной площади, — а на
почтительном расстоянии за ним следовала, злобно
186
тявкая, свора местных собак, простых дворняжек,
взбудораженных его поведением, но Перси не обра-
щал на них ни малейшего внимания. Каждый раз,
как случалась какая-либо катастрофа, господин
Шпельман или его дочь тут же платили за ущерб, и
значительно больше, чем полагалось; кроме того, ско-
ро выяснилось, что неистовство Персеваля, в сущно-
сти, не опасно, что он не кусается, не бросается на лю-
дей, а, наоборот, презирает их и просто дурит, поэтому
он очень скоро завоевал симпатии населения, осо-
бенно радовались его выходкам дети.
Графиня Левенюль своим поведением, правда, не
столь шумным, но не менее странным, тоже давала
повод для толков. Вначале, пока и она сама и зани-
маемое ею положение не были еще известны в го-
роде, мальчишки преследовали ее насмешками,
когда она, идя одна по улице, с кротким и глубоко-
мысленным видом разговаривала сама с собой, со-
провождая свои монологи оживленными жестами и
мимикой, впрочем не лишенными приятности и изя-
щества. Но она с такой лаской и добротой погля-
дела на озорников, которые бежали за ней и дергали
ее за платье, с такой любовью и достоинством пого-
ворила с ними, что преследователи в смущении от-
стали, а позднее, когда стало известно, кто она, к ней
не приставали из уважения к знаменитым приезжим,
с которыми она была связана. Но потихоньку о ней
рассказывали непонятные истории. Один человек
утверждал, что графиня собственноручно дала ему зо-
лотой, велев отхлестать по щекам какую-то старуху,
которая будто бы сделала ей гнусные предложения*
Он взял золотой, но данного ему поручения не вы-
полнил. Другие божились, что Левенюльша загово-
рила с солдатом, стоявшим на часах перед казармой
гвардейских стрелков, и приказала сию же минуту,
арестовать за безнравственное поведение, жену фельд-
фебеля такой-то роты. А командиру того же полка
отправила письмо, в котором сообщала, что в казарме
творится всякое непотребство. Бог знает в чем тут
было дело. Некоторые пришли к тому выводу, что
у графини не все дома. Но докопаться до сути
187
не успели, так как полтора месяца незаметно
промелькнули, и миллионер Самуэль Н. Шпельман
отбыл из великого герцогства.
Он отбыл, предварительно заказав свой портрет
профессору фон Линдеману, и, подарив этот дорого-
стоящий шедевр на память хозяину гостиницы «Це-
лебные воды», отбыл вместе с дочерью, графиней
Левенюль и доктором Ватерклузом, с Персевалем,
комнатным велосипедом и прислугой, отбыл экстрен-
ным поездом на юг, чтобы провести зиму на Ривьере,
куда заранее поспешили оба нью-йоркских коррес-
пондента, а затем вернуться домой за океан. Все кон-
чилось. «Курьер» послал вдогонку господину Шпель-
ману сердечное прости и выразил пожелание, чтобы
лечение пошло ему на пользу. Итак, можно было
считать, что это чрезвычайное событие закончено и
исчерпано. Новый день вступил в ово'и права. Госпо-
дина Шпельмана начали забывать.
Зима подходила к концу. В эту зиму ее велико-
герцогское высочество, княгиня цу Рид-Гогенрид, раз-
решилась от бремени дочкой. Наступила весна, и его
королевское высочество великий герцог Альбрехт от-
был, по своему обыкновению, в Голлербрунн. И вдруг
и в печати и среди публики промелькнул слух, кото-
рый людьми благоразумными был встречен сперва
с недоверчивой усмешкой, но затем слух этот офор-
мился, окреп, оброс всевозможными подробностями
и занял доминирующее место в повседневных раз-
говорах.
— В чем дело? — Один из великогерцогских зам-
ков будет продан. — Что за ерунда! Какой же за-
мок?— Дельфиненорт. Замок Дельфиненорт в се-
верной части городского сада. — Глупая болтовня.
Будет продан? Кому? — Шпельману. — Смешно. За-
чем он Шпельману? Не собирается же он отремонти-
ровать замок и поселиться там? — Очень просто. Но,
возможно, наш ландтаг будет возражать. — А какое
до этого дело ландтагу? Разве государство обязалось
содержать в порядке Дельфиненорт? Будь это так,
надо думать, прекрасное здание не было бы так за-
пущено. Значит, ландтаг возражать не может. Перв-
ую
говоры, вероятно, уже сильно продвинулись? — Ко-
нечно. Они уже закончены. — Да ну? В таком случае,
наверно, можно уже назвать точную цифру? — Еще
бы! Два миллиона и ни пфеннига меньше. — Не мо-
жет быть! Имение принадлежит правящей династии!—
Ну что ж что династии? Ведь это не Гримбург1 И не
Старый замок! Это загородный дворец, спокон веков
никому не нужный, загородный дворец, из-за недо-
статка средств пришедший в полный упадок.—Шпель-
ман, значит, собирается каждый год приезжать к нам
и проводить месяц-другой в Дельфиненорте? — Нет.
Он собирается совсем переселиться сюда. Он устал
от Америки, хочет с ней распрощаться, и его первый
приезд к нам был не что иное, как рекогносцировка.
Он болен, хочет уйти от дел. В душе он всегда оста-
вался немцем. Отец эмигрировал, а сын хочет вер-
нуться на родину. Он хочет жить размеренной жизнью,
пользоваться духовными благами нашей столицы и
провести остаток своих дней в непосредственной бли-
зости от Дитлиндинского источника!
Удивление, шум, бесконечные споры. Однако после
кратковременного колебания общественное мнение,
если не считать голосов нескольких вечно недовольных
ворчунов, приветствовало проект продажи замка, и
если бы не общее одобрение, проект этот, разумеется,
не осуществился бы. Министр двора фон Кнобельсдорф
первый пустил в газеты осторожную заметку о шпельма-
новском предложении. Он выжидал, тянул, пока опре-
делится воля народа. И после первого замешательства
выяснилось, что есть много веских доводов в пользу
этого проекта. Деловой мир восхищала мысль на дли-
тельный срок завладеть таким крупным покупателем.
Людей с эстетическим вкусом окрыляла надежда, что
восстановят и будут поддерживать Дельфиненорт, что
этому великолепному зданию таким непредвиденным,
таким, можно сказать, чудесным образом будут воз-
вращены почет и молодость. А люди с государствен-
ным умом приводили цифры, которые при нынешнем
хозяйственном положении страны не могли не произ-
вести потрясающего впечатления. Поселившись у нас,
Самуэль Н. Шпельман станет нашим налогоплатель-
189
щиком, будет обязан платить налоги со своих доходов
нам. Не стоит ли немножко внимательнее разо-
браться в значении этого факта? Конечно, господину
Шпельману будет предоставлено право самому опре-
делить свои доходы; но, судя по тому, что известно—■
известно только приблизительно, — господин Шпель-
ман в качестве местного жителя будет представлять
источник налогов, равный двум с половиной миллио-
нам ежегодно, и это принимая во внимание только
государственные налоги и не считая общинных. Стоит
над этим подумать или нет? И вопрос этот задавался
непосредственно господину министру финансов, док-
тору Криппенрейтеру. Ежели этот чиновник не сде-
лает все от него зависящее, чтобы добиться согласия
высочайшей особы на продажу дворца, он не выпол-
нит своего долга. Ибо любовь к родине повелевает
согласиться на предложение Шпельмана, чтобы тот
мог устроиться у нас как можно удобнее. Перед та-
ким серьезным доводом отступают все сомнения.
Его превосходительство господин фон Кнобельс-
дорф явился к великому герцогу. Он доложил своему
повелителю, каково общественное мнение; прибавил,
что два миллиона — цена, значительно превышающая
реальную стоимость замка при том состоянии, в ко-
тором он сейчас находится; заметил, что эти деньги
были бы настоящим даром небес для дворцового фи-
нансового управления, и сумел ввернуть словцо о цен-
тральном отоплении для Старого замка, которое,
буде продажа осуществится, станет вполне возмож-
ным. Короче, беспристрастный старик министр употре-
бил все свое влияние, чтобы склонить великого гер-
цога к продаже дворца, и рекомендовал поставить
этот вопрос на обсуждение семейного совета. Аль-
брехт втянул верхнюю губу и созвал семейный совет.
Совет состоялся в Рыцарском зале, где был сервиро-
ван чай с печеньем. Только две участницы совета —
принцессы Катарина и Дитлинда — высказались про-
тив продажи, высказались из соображений достоин-
ства.
— Тебя осудят, Альбрехт! — сказала Дитлинда. —
Упрекнут в том, что ты пренебрег родовой честью, а
190
это неверно, у тебя чувство чести, наоборот, слишком
развито, ты так горд, Альбрехт, что тебе все безраз-
лично. Я высказываюсь против. Я не хочу, чтобы
в одном из твоих дворцов поселилась эта птица Рох,
это неприлично, достаточно и того, что при нем со-
стоит лейб-медик и что он занимал «княжеские по-
кои» в «Целебных водах». «Курьер» все время гово-
рит о нем, как об объекте для налогов, а для меня он
никакой не объект, а просто некий субъект. А твое
мнение, Клаус-Генрих?
Но Клаус-Генрих высказался за продажу. Во-пер-
вых, у Альбрехта будет центральное отопление, а за-
тем Шпельман не бог знает кто, он не какой-нибудь
мыловар Уншлит, он исключительный случай, и нет
ничего зазорного в том, чтобы уступить ему Дельфи-
ненорт. В конце концов Альбрехт, ни на кого не
глядя, заявил, что, в сущности, семейный совет
просто комедия. Народ уже давно высказался, ми-
нистры настаивают на продаже, и ему опять остается
только одно: пойти на вокзал и...
Заседание семейного совета состоялось весной.
И' теперь переговоры о продаже, которые с одной
стороны вел Шпельман, а с другой — обергофмаршал
господин фон Бюль цу Бюль, быстро подвинулись
вперед, и уже в начале лета дворец Дельфиненорт
с парком и службами перешел в законную собствен-
ность господина Шпельмана.
И тут внутри замка и вокруг него закипела ра-
бота, ежедневно привлекавшая в северную часть го-
родского сада много любопытных. Дельфиненорт от-
делали заново, внутри частично перестроили и, надо
сказать, для ремонта потребовалось очень много ра-
бочей силы, чтобы не было никакой задержки, — та-
кова была воля Шпельмана, он дал только пять ме-
сяцев сроку, по истечении которых все должно было
быть готово к его приезду. И вокруг великолепного
обветшалого здания, как по мановению волшебной
палочки, выросли леса, на них засуетились иностран-
ные рабочие, из-за океана прибыл для общего руко-
водства архитектор, снабженный всеми полномочия-
ми. Но особенно усердно и плодотворно потрудились
191
этим летом и осенью наши столичные мастеровые:
каменщики, кровельщики, столяры, позолотчики, обой-
щики, стекольщики, паркетчики, садовники, печники
и монтеры. Когда в Эрмитаже бывали открыты окна,
шум и суетня долетали до ампирных апартаментов его
королевского высочества Клауса-Генриха, и не раз,
выезжая на прогулку в своей коляске, он приказывал
прокатиться мимо дворца Дельфиненорт, чтобы лично
видеть, как идут работы. Домик садовника отделали
заново, конюшни и каретные сараи, в которых надле-
жало разместить шпельманожжие экипажи и авто-
мобили, были расширены; а в октябре у ворот дворца
Дельфиненорт выгрузили видим о-невидимо мебели и
ковров, сундуков и ящиков с драпировками и домаш-
ней утварью, а среди публики, глазевшей на это зре-
лище, распространился слух, что в самом доме искус-
ные мастера прилаживают электрический механизм
к шпельмамов'скому органу, переправленному через
океан. Всех разбирало любопытство — будет ли отде-
лена от городского сада стеной или забором та часть
парка, которая принадлежит к дворцу и теперь рас-
чищена и приведена в образцовый порядок. Но этого
не случилось. Шпельмановское владение было по-
прежнему доступно для публики, населению столицы
не возбранялось гулять по парку — таково было же-
лание Шпельмана. По воскресеньям гуляющие могли
невозбраено доходить вплоть до сам ото дворца, до
подстриженной живой изгороди вокруг большого бас-
сейна,— и это не преминуло произвести самое лучшее
впечатление на столичных жителей, мало того:
«Курьер» даже напечатал специальную статью, в ко-
торой воздавал должное господину Шпельману за та-
кой либерализм.
И что же: когда снова начали опадать листья,
ровно через год после своего первого приезда Са-
муэль Шпельман вторично прибыл на наш вокзал.
На сей раз публика проявила к этому событию куда
больше интереса, чем в прошлом году, и достоверно
известно, что в момент появления на подножке салон-
вагона господина Шпельмана в знакомом уже нам
выцветшем пальтишке и в надвинутой на лоб шляпе
192
толпа приветствовала его громким «ypal» — такая
встреча, по-видимому, вызвала скорее недовольство
господина Шпельмана, ибо благодарил за нее не он,
а доктор Ватерклуз, растягивая рот в широкой ласко-
вой улыбке и закрывая глаза. Когда из вагона вышла
мисс Шпельман, воздух снова огласился приветствен-
ными кликами, а несколько шутников прокричали
«ура!» и Перси, шотландскому колли, когда он,
дрожа всем телом и приплясывая, появился на плат-
форме и принялся неистовствовать. Кроме врача и
графини Левенюль, к свите господ Шпельманов при-
бавились две неизвестных публике личности, два
гладко выбритых господина с решительным взглядом
и в неимоверно широких пальто. Выяснилось, что это
секретари господина Шпельмана — господа Флебс и
Слипперс, как оповестил в своем отчете «Курьер».
Дельфиненорт был еще далеко не готов, и пока
что Шпельманы заняли первый этаж Столичной го-
стиницы, где для них было приготовлено помещение
заранее прибывшим шпельмановским дворецким,
иначе говоря butler'oM, дородным, пузатым и спеси-
вым мужчиной в черном, он же собственноручно во-
дворил на место и комнатный велосипед. Ежедневно,
пока Имма с графиней и Перси каталась верхом или
осматривала благотворительные учреждения, госпо-
дин Шпельман проводил время в своем доме, где сле-
дил за работой и делал указания; и еот, когда год под-
ходил к концу, вскоре же после того, как выпал первый
снег, — событие совершилось: Шпельманы переехали
во дворец Дельфиненорт. Два автомобиля (всего не-
сколько дней как они прибыли — роскошные машины
колоссальной мощности, нежно шуршавшие на ходу,
вели их шоферы в кожаных пальто, а рядом, скре-
стив на груди руки, сидели лакеи в белоснежных ме-
ховых шубах), два автомобиля за несколько минут
доставили всех шестерых—во второй машине ехали
Флебс и Слипперс — из Столичной гостиницы через
Городской сад к замку, а высокие фонари, стоявшие
по четырем углам большого бассейна, были обле-
плены мальчишками, они махали шапками и гром-
кими криками встречали машины, мчавшиеся по
13 Т. Манн, т. 2
193
величественной каштановой аллее к въезду в Дельфи-
ненорт.
Так Самуэль Шпельман и его домочадцы при-
общились к местному населению, и жители быстро
привыкли к их присутствию. Шпельмановские белые
с золотом ливреи стали столь же популярны в городе,
как великогерцогские коричневые с золотом; негр-
привратник в красном плюшевом фраке, охранявший
въезд в Дельфиненорт, вскоре стал восприниматься
как национальная фигура; а когда из замка доноси-
лись приглушенные звуки шпельмановского органа,
прохожие останавливались, подымали палец и гово-
рили: «Слышите, играет. Значит, колики его отпу-
стили». Ежедневно мисс Имма с графиней Левенюль
в сопровождении грума и яростно лающего Перси вы-
езжала на прогулку верхом или в роскошном, запря-
женном четверкой легком экипаже, которым правила
собственноручно, причем слуга, сидевший на задней
скамейке, время от времени приподымался, доставал
из кожаного футляра длинную серебряную трубу и
громко дудел, возвещая о приближении выезда, а кто
рано вставал, мог каждое утро видеть, как отец с до-
черью в темно-красной лакированной карете, а когда
стояла хорошая погода, то и пешком отправлялись
через парк, примыкавший сзади к Эрмитажу, в ку-
рортный парк к источнику. Что касается Иммы, то
она, как уже упоминалось, снова стала посещать
городские благотворительные заведения, не запуская,
однако, из-за этого научных занятий, ибо с начала
второго учебного полугодия регулярно присутство-
вала в университете на лекциях тайного советника
Клингхаммера — ежедневно сидела в аудитории
вместе со студенческой молодежью, одетая в простое
черное платье с белыми манжетами и отложным во-
ротником и, согнув крючком указательный палец,—
это была ее манера держать ручку, — записывала
лекцию вечным пером.
Шпельманы вели замкнутый образ жизни, не были
знакомы домами ни с кем из городских жителей;
это объяснялось болезнью господина Шпельмана,
а также исключительностью его общественного поло-
194
жения. Ну, к какой общественной группе мог он при-
мкнуть? Никому и в голову не пришло бы, что он
станет водить компанию с мыловаром Уншлитом или
директором банка Вольфсмильхом. Зато вскоре
к нему прибегли как к благотворителю и отказа не
встретили. Дело в том, что господин Шпельман,
который, как было известно, раньше чем покинуть
Америку, передал министерству просвещения в Сое-
диненных Штатах внушительную сумму и подтвер-
дил свое обещание и впредь не прекращать ежегод-
ных пожертвований университету имени Шпельмана
и прочим учебным заведениям, — ив данном случае,
вскоре после того как он водворился в Дельфине-
порте, тоже пожертвовал десять тысяч марок на
Доротеинскую детскую больницу, на которую как
раз собирали деньги, — поступок, великодушие коего
по достоинству оценил «Курьер», а также и прочая
пресса. Да, хотя Шпельманы жили очень замкнуто,
можно сказать, что их пребыванию у нас с первого
же часа сопутствовала известная гласность, во вся-
ком случае местные газеты следили за каждым их
шагом не менее внимательно, чем за жизнью членов
великогерцогской фамилии. До сведения читателей
доводилось, что мисс Имма с графиней и господами
Флебсом и Слипперсом сыграла партию в теннис
в Дельфиненортском парке, читатели были в курсе
того, что она посетила придворный оперный театр,
что ее отец тоже прослушал полтора действия, и хотя
господин Шпельман избегал любопытных взглядов,
во время антрактов не выходил из своей ложи и
почти никогда не показывался пешком на улице, все
же он, несомненно, сознавал, что его исключительное
положение налагает на него обязанность представи-
тельствовать, а посему удовлетворял присущую лю-
дям потребность в зрелищах. Как известно, Дельфи-
ненортский парк не был отгорожен от городского
сада, дворец не отделялся от прочего мира стеной.
С задней стороны можно было через лужайки по-
дойти чуть не к самой террасе, которую пристроил
Шпельман, а если набраться храбрости, то и загля-
нуть через большую стеклянную дверь вовнутрь —
13*
195
в белую с позолотой боскетную, где господин Шпель-
ман с домашними кушал в пять часов чай. Мало
того, когда наступило лето, чаепитие перенесли на
воздух на террасу, и господин Шпельман, фрейлейн
Шпельман, госпожа Левенюль и доктор Ватерклуз,
расположившись в плетеных креслах новомодной
формы, чувствовали себя вроде как на сцене и, так
сказать, пили чай при публике, на почтительном рас-
стоянии наслаждавшейся этим зрелищем. Публики
бывало больше, чем достаточно, во всяком случае по
воскресеньям. Люди глазели на большой серебряный
самовар, который — что здесь было новостью — на-
гревался электричеством, на подававших чашки и
варенье двух лакеев в невиданных ливреях: белые,
доверху застегнутые фраки, обшитые золотым галу-
ном и шнурами и отороченные по вороту, обшлагам
и краю фрака лебяжьим пухом. Прислушивались
к английско-немецкому говору и, разинув рот, сле-
дили за каждым движением знаменитой семьи, вос-
седавшей на террасе. Затем шли на другую сторону
к въезду во дворец и на местном наречии отпускали
шуточки по адресу темно-красного плюшевого негра,
а он отвечал на них, скаля свои белые зубы.
Клаус-Генрих впервые увидел Имму Шпельман
в погожий зимний день, около двенадцати часов.
Правда, ему и раньше случалось встречать ее в те-
атре, на улице, в городском саду. Но то не в счет.
Впервые он увидел ее в этот полдень, и вдобавок при
несколько скандальных обстоятельствах.
До половины двенадцатого у него была общедо-
ступная аудиенция в старом замке, и по окончании
он не сразу возвратился к себе в Эрмитаж, а прика-
зал, чтобы кучер дожидался с каретой в одном из
дворов, сам же пошел в кордегардию выкурить сига-
рету с дежурными офицерами лейб-гренадерского
полка. Ввиду того, что он носил мундир этого полка
и его личным адъютантом тоже был лейб-гренадер,
он старался создать видимость товарищеских отно-
шений с офицерами, нередко обедал у них в собра-
нии, время от времени проводил с ними полчасика
в кордегардии, хотя и подозревал втихомолку, что
196
мешает им, не дает перекинуться в карты и расска-
зать непристойный анекдот. Заложив за спину левую
руку, с выпуклой серебряной звездой Гримбургского
грифа первой степени на груди, стоял он теперь
с господином фон Браунбарт-Шеллендорфом, успев-
шим предупредить о его приходе, в офицерской
караульне, которая помещалась в нижнем этаже
.чамка у самых Альбрехтовских ворот, и беседовал на
безразличные темы с двумя-тремя офицерами по-
среди комнаты, остальные же болтали между собой
и глубокой оконной нише. Солнце пригревало, а по-
тому окно было открыто, и со стороны казармы по
Лльбрехтсштрассе под звуки марша и барабанную
дробь приближалась смена караула. На колокольне
дворцовой церкви пробило двенадцать. Послышался
хриплый окрик унтер-офицера: «Стройсь!» — и топот
гренадеров в караулке, бросившихся разбирать оружие.
На площади стояли зрители. Лейтенант, командир
караула, торопливо надел саблю, щелкнул каблуками
перед Клаусом-Генрихом и вышел во двор. Но вдруг
лейтенант фон Штурмхан, смотревший в окно, крик-
пул тоном чуть наигранной развязности, который был
принят между Клаусом-Генрихом и офицерами:
— Эх, черт! Хотите получить удовольствие, ваше
королевское высочество? Взгляните, вон идет дочка
Шпельмана с алгеброй под мышкой...
Клаус-Генрих подошел к окну. Мисс Имма при-
ближалась справа, пешком, одна. Спрятав обе руки
в большую, похожую на папку муфту с висячим вер-
хом, усаженным меховыми хвостиками, она зажала
под мышкой курс лекций. На ней был длинный жа-
кет из блестящей черно-бурой лисы, а на темной,
своеобразной головке — шапочка из того же пуши-
стого меха. Очевидно, она шла из Дельфиненорта и
спешила в университет. Перед кордегардией она очу-
тилась в тот момент, когда новый караул развора-
чивался на мостовой напротив сменяющегося, кото-
рый выстроился двумя шеренгами с ружьями к ноге
во всю ширину панели. Ей ничего не оставалось как
повернуть обратно и обойти оркестр и толпу зрите-
лей, а чтобы избежать площади с трамвайным
197
движением, она могла сделать крюк по огибающему
всю площадь тротуару или же обождать, пока закон-
чится смена караула. Но ее явно не устраивало ни то,
ни другое. Она вознамерилась пройти мимо замка че-
рез двойную шеренгу солдат. Хриплый унтер-офицер
выскочил навстречу.
— Прохода нет! — рявкнул он, загородив ей путь
ружейным прикладом. — Нет прохода! Назад! Обо-
ждите!
Но тут вспылила мисс Шпельман.
— Это что такое! — крикнула она. — Я спешу! —
Слова были ничто по сравнению с тем искренним,
страстным и сокрушительным негодованием, кото-
рое прозвучало в ее выкрике. А сама какая малень-
кая и необыкновенная! Белокурые солдаты перед ней
были на две головы выше ее. В эту минуту личико ее
стало белым, как воск, а черные брови тяжелой и
внушительной складкой гнева сошлись над переноси-
цей, ноздри неопределенной формы носика раздулись
во всю ширь, а глаза, ставшие огромными и совсем
черными от волнения, смотрели так красноречиво,
так неотразимо убедительно, что никто не посмел бы
перечить ей.
— Это что такое! Я спешу!—крикнула она. Ле-
вой рукой она отстранила приклад вместе с огоро-
шенным унтер-офицером и, пройдя через самую сере-
дину шеренги, пошла своей дорогой, свернула влево
на Университетскую улицу и скрылась из виду.
— Вот это да! — воскликнул лейтенант фон
Штурмхан. — Здорово нас отделали!
Офицеры у окна смеялись. И на площади зрители
пересмеивались с явным одобрением. Клаус-Генрих
присоединился ко всеобщему веселью. Смена караула
завершилась под слова команды и отрывочные звуки
марша. Клаус-Генрих возвратился в Эрмитаж.
Он позавтракал совсем один, днем проехался вер-
хом на своем коне Флориане, а вечер провел в боль-
шом обществе у министра финансов доктора Крип-
пенрейтера. Многим из присутствующих он с веселым
возбуждением рассказал о сценке перед замковой
караульной, и каждый проявлял живейший интерес,
198
хотя эта история успела уже всех облететь. На сле-
дующий день ему пришлось уехать, так как брат про-
сил заменить его на торжестве освящения новой ра-
туши в близлежащем городе. По непонятным причи-
нам он неохотно, через силу расстался со столицей.:
Казалось, будто что-то очень важное, радостное и вол-
нующее требует здесь его присутствия. Однако важ-
ное всего должны быть его высокие обязанности. Но
когда он в блестящем мундире восседал на почет-
ном месте в ратуше, а бургомистр держал торже-
ственную речь, Клаус-Генрих думал не только о том,
что на него обращены все взоры, в глубине души он
был поглощен тем новым, что смутило его покой.
Вскользь вспомнил он о мимолетном знакомстве много
лет назад с фрейлейн Уншлит, дочерью мыловара, и
это воспоминание тоже было связано с тем, что не
давало ему покоя.
Имма Шпельман гневно отстранила хриплого
унтер-офицера и прошла совсем одна, с алгеброй под
мышкой, сквозь двойную шеренгу рослых русых гре-
надеров. Какой контраст между жемчужно-матовым
личиком и черными кудрями под меховой шапочкой,
м как выразительны были ее глаза! Такой, как она,
больше нет. Ее отец был болен от избытка богатства
и запросто купил один из великогерцогских дворцов.
Как это «Курьер» писал об унаследованной им ми-
ровой известности и «обособленном положении»?
«Он безвинно терпел ненависть обездоленных», — ка-
жется, так говорилось в статье? А ноздри у нее раз-
дулись во всю ширь от негодования. Такой, как она,
больше нет, сколько ни ищи. Она — исключительный
случай. Что, если бы она оказалась тогда на балу
в гостинице? У него была бы спутница, и он не совер-
шил бы оплошности, и вечер не кончился бы стыдом
и срамом. «Долой, долой, долой его!» Брр! Еще бы
раз увидеть, как она, бледная, черноволосая и такая
своеобразная, прошла между двумя рядами белоку-
рых солдат.
Все ближайшие дни Клаус-Генрих был поглощен
только этими мыслями, этими немногими впечатлен
ниями. И удивительно — он вполне довольствовался
199
ими и не ощущал потребности в других. И все сво-
дилось к тому, что ему очень хочется и даже необхо-
димо поскорее, если можно, так сегодня же, увидеть
опять жемчужно-матовое личико.
Вечером он поехал в Придворный театр, где да-
вали оперу «Волшебная флейта». И когда он из
своей ложи увидел фрейлейн Шпельман и графиню
Левенюль, сидевших в бенуаре возле самой сцены,
у него от испуга оборвалось сердце. Во время дей-
ствия он из темноты видел ее в бинокль, потому что
на нее падал свет рампы. Она подперла головку уз-
кой рукой без колец, обнаженный локоть непри-
нужденно поставила на бархатный барьер, и вид
у нее был уже совсем не негодующий. На ней было
платье из блестящего шелка цвета морской волны,
покрытое прозрачной тканью в пестрых букетах, во-
круг шеи и на груди — длинная цепочка из сверкающих
бриллиантов. «И вовсе она не такая маленькая, как
представляется на первый взгляд», — подумал Клаус-
Генрих, когда она встала после окончания действия.
Она только кажется девочкой, потому что у нее дет-
ская головка, а смуглые плечи такие узенькие. Руки
вполне развитые, — видно, что она занимается спор-
том и правит лошадьми. Но кисти рук совсем ребя-
ческие.
Когда на сцене раздались слова диалога: «Он — го-
сударь, он более, нежели государь», — Клауса-Генриха
потянуло поговорить с доктором Юбербейном. Слу-
чайно, на другой же день доктор Юбербейн явился
в Эрмитаж — в черном сюртуке и белом галстуке,
как всегда, когда посещал Клауса-Генриха. Клаус-
Генрих спросил, слышал ли он уже о происшествии
во время смены караула? Да, ответил доктор Юбер-
бейн, слышал и не раз. Но если Клаус-Генрих хочет
рассказать...
— Нет, зачем же, если вы знаете, — разочарованно
протянул Клаус-Генрих.
Тут доктор Юбербейн перешел совсем на другую
тему: он заговорил о биноклях и подчеркнул, что би-
нокль— замечательное изобретение. Ведь правда же,
он приближает то, что, к несчастью, далеко от нас? Он
200
перекидывает мосты к заманчивым целям. Что ду-
мает на этот счет Клаус-Генрих? Клаус-Генрих был
склонен с этим в известной мере согласиться. По
слухам, он не далее как вчера широко воспользо-
вался этим прекрасным изобретением, заметил док-
тор Юбербейн. Клаус-Генрих выразил недоумение.
— Ну вот что, Клаус-Генрих. Это никуда не го-
дится. С вас не спускают глаз, и с крошки Иммы не
спускают глаз. Казалось бы, довольно. Но если и вы
станете, не спуская глаз, смотреть на крошку
Имму — это, согласитесь, уже слишком.
— Ах, доктор Юбербейн, об этом я не подумал.
— Обычно вы очень даже думаете о таких вещах.
— Последние дни я что-то сам не свой, — при-
знался Клаус-Генрих.
Доктор Юбербейн откинулся на спинку кресла,
ухватил свою рыжую бороду под самым подбород-
ком и несколько раз качнул головой и всем кор-
пусом.
— Вот как? Сам не свой? — переспросил он.
И продолжал раскачиваться.
— Вы не поверите, как мне не хотелось ехать
на освящение ратуши, — сказал Клаус-Генрих.—
А завтра я должен принимать присягу рекрутов
в лейб-гренадерском полку. А потом собирается ка-
питул нашего фамильного ордена. Все это мне опо-
стылело. У меня пропал всякий вкус к представитель-
ству. И к моему пресловутому высокому призванию.
— Мне все это очень не нравится! — отрезал док-
тор Юбербейн.
— Я так и думал, что вы рассердитесь, скажете,
что это мягкотелость, заговорите, по своему обыкно-
вению, про «удел и выдержку». Но вчера в опере,
в одном определенном месте, я подумал о вас и ре-
шил, что не во всем вы безоговорочно правы.
— Послушайте, Клаус-Генрих, если память мне
не изменяет, я однажды уже был вынужден встрях-
нуть и привести в чувство ваше королевское высо-
чество...
— Тогда было совсем не то! Поймите же, доктор
Юбербейн, совсем, совсем не то! То, что случилось
201
в Парковой гостинице, отошло в далекое прошлое, и
к тому меня больше не тянет, нет. А она ведь и
сама... Вспомните, вы не раз объясняли мне, что вы
понимаете под высоким. Оно трогает душу, к нему
надо относиться нежно и бережно. Это ваши соб-
ственные слова. Так неужели же вы не находите, что
та, о ком мы говорим, должна трогать душу и вызы-
вать бережную нежность?
— Возможно, — промолвил доктор Юбербейи. —
Возможно.
— Вы часто говорили, что исключительные слу-
чаи существуют, и отрицать их — значит проявить
мягкотелость и подлое разгильдяйство. Неужели же
вы не находите, что та, о ком мы говорим, тоже
исключительный случай?
Доктор Юбербейн молчал.
— Так что ж, прикажете мне, — взревел он
вдруг, — способствовать тому, чтобы из двух исклю-
чительных случаев получился, против всякого вероя-
тия, один обыденнейший? — С этими словами доктор
Юбербейн встал. Он сослался на то, что его ждет
работа, особо упирая на слово «работа», и попросил
разрешения удалиться. Откланялся он в высшей сте-
пени церемонно и неласково.
После этого Клаус-Генрих не видел его дней де-
сять— двенадцать. Однажды он пригласил его
к завтраку, но доктор Юбербейн просил всемилости-
вейше извинить его, так как в данное время он все-
цело занят работой.
В конце концов он явился без приглашения. Вид
у него был веселый, а лицо зеленее, чем всегда. По-
болтав о том, о сем, он перешел на Шпельманов,
глядя в потолок и схватив себя за бороду.
Что ни говори, начал он, но Самуэль Шпельман
пользуется необычайной симпатией и популярностью
в городе. Прежде всего, разумеется, как налогопла-
тельщик, но и не только. Всем слоям населения нра-
вится и его игра на органе и выгоревшее пальтишко
и почечные колики. Каждый сапожный подмастерье
гордится им, и не будь он таким неприступным и
хмурым, ему не преминули бы выразить все эти теп-
202
лые чувства. Пожертвование десяти тысяч марок на
Доротеинскую больницу, понятно, произвело благо-
приятнейшее впечатление. Его приятель, Плюш, рас-
сказывал ему, Юбербейну, что на эти деньги в боль-
нице осуществлены важные усовершенствования. Да,
кстати, он вспомнил! Плюш говорил, что крошка
Имма собирается завтра в первую половину дня при-
ехать взглянуть на эти усовершенствования. Она при-
слала одного из отороченных лебяжьим пухом лаг
кеев спросить, не помешает ли своим посещением.
Непонятно, какого черта ей нужны детские недуги,
вставил. Юбербейн, разве только она хочет чему-ни-
будь поучиться. Если память ему не изменяет, это
будет завтра в одиннадцать утра. Затем он переме-
нил разговор. А перед уходом заметил:
— Великому герцогу не мешало бы хоть чуточку
позаботиться о Доротеинской больнице. Как же —
такое богоугодное заведение. Словом, кому-нибудь
следует заехать. Проявить высочайшее внимание.
Впрочем, я не хочу вмешиваться... Всего наилучшего.
Однако он вернулся с порога, и на щеках у него
проступили красные пятна, неправдоподобные при
его зеленовато-бледном лице.
— Если мне еще раз доведется увидеть у вас на
голове крышку от крюшонницы, так и знайте, я даже
не подумаю выручать вас, Клаус-Генрих.
И, поджав губы, он поспешно удалился.
На следующее утро, около одиннадцати часов,
Клаус-Генрих вместе со своим адъютантом господи-
ном фон Браунбарт-Шеллендорфом выехал из Эрми-
тажа по заснеженной березовой аллее, проследовал
по ухабистым уличкам предместья между убогими
домишками и остановился у простого белого здания,
над дверьми которого крупными черными буквами
было написано «Доротеинская детская больница». Об
его приезде было сообщено заранее. Главный врач
больницы, во фраке, при Альбрехтовском кресте
третьей степени, встретил его в вестибюле с двумя
младшими врачами и со всем штатом сестер мило-
сердия. Принц и его спутник были в касках и шине-
лях на меху.
203
— Дорогой господин доктор, — сказал Клаус-Ген-
рих, — я вторично возобновляю старое знакомство*
Вы присутствовали при моем появлении на свет. А за-
тем находились у смертного одра моего отца. Кроме
того, вы друг моего учителя Юбербейна. Искренне
рад!
Доктор Плюш, поседевший в деятельной доброте,
поклонился, как всегда, вбок, одной рукой теребя це-
почку часов и крепко прижав локоть к телу. Он пред-
ставил принцу двух других врачей и старшую сестру,
а затем сказал:
— Считаю своим долгом уведомить ваше коро-
левское высочество, что всемилостивейшее посещение
вашего королевского высочества совпадает с другим
визитом. Да. Мы ожидаем фрейлейн Шпельман. Ее
отец проявил такую великодушную заботу о нашем
учреждении... Мы никак не могли отменить ее визит.
Дочери мистера Шпельмана покажет больницу стар-
шая сестра.
Клаус-Генрих благосклонно выслушал известие об
этом совпадении. Затем обратил внимание на одежду
сестер милосердия, назвав ее изящной, после чего
сказал, что горит желанием посмотреть богоугодное
заведение. Обход начался. Старшая сестра с тремя
помощницами осталась в вестибюле.
Все стены в больнице покрыты белой масляной
краской, так что их можно мыть. Да. Водопроводные
краны очень большие, чтобы их, из соображений ги-
гиены, можно было отвернуть локтем. Кроме того,
имеются приспособления для выполаскивания буты-
лок из-под молока сильно бьющей струей. Сперва
прошли через приемную, там стояли только запасные
кровати и велосипеды медицинского персонала. Ря-
дом, во врачебном кабинете, кроме письменного стола
и вешалки с белыми докторскими халатами, посети-
тели увидели еще особый пеленальный стол с клеен-
чатыми подушками, операционный стол, шкаф с пи-
тательными средствами и детские весы в форме ко-
рытца. Клаус-Генрих остановился перед шкафом
с питательными средствами и полюбопытствовал, из
чего состоит каждый препарат. Если и дальше
204
осмотр будет столь же обстоятельным, пропадет
иря много времени, посетовал про себя доктор
Плюш.
Вдруг на улице послышался шум. Перед домом
дал гудок и затормозил автомобиль. Раздались
крики «ура!», явственно долетевшие до врачебного
кабинета, хотя кричали только детские голоса. Клаус-
Генрих, по-видимому, не интересовался этой суетой.
Он разглядывал банку с молочным сахаром; впро-
чем, примечательного в ней было мало.
— Кажется, приехали посетители, — сказал он. —
Да, в самом деле! Вы говорили, что кто-то должен
приехать. Пойдем дальше?
Дальше отправились в кухню, в молочную кухню,
большое, выложенное кафелем помещение, где пре-
парировали молоко и где хранилось цельное молоко,
отвары и сыворотка. Дневные порции стояли в ма-
леньких бутылочках на опрятных белых столах. Здесь
пахло чем-то сладковато-кислым.
Клаус-Генрих уделил много внимания и этому по-
мещению. Он дошел до того, что попробовал сыво-
ротку, и очень одобрил ее вкус. Мудрено, чтобы дети
не поправлялись при такой сыворотке, подчеркнул он.
Во время этого обследования дверь распахнулась, и
появились мисс Шпельман посередине, старшая сестра
и графиня Левенюль по бокам, три сестры милосердия
позади.
Сегодня жакет, шапочка и муфта у нее были из
великолепнейшего соболя, муфта висела на золотой
цепочке с разноцветными каменьями. Ее черные во-
лосы норовили выбиться на лоб прямыми прядками.
Она одним взглядом окинула всю комнату; глаза
в самом деле были до неприличия велики для такого
личика; они заполонили его, как глаза котенка, но
только эти были черные и блестящие, словно уголь, и
говорили таким красноречивым языком... Графиня
Левенюль в шляпке из перьев на маленькой голове,
вообще же одетая скромно, строго и не без элегант-
ности, рассеянно улыбалась, как всегда.
— Это молочная кухня, здесь готовят молоко для
детей, — пояснила старшая сестра.
205
— Так и следовало предположить, — ответила
фрейлейн Шпельман. Она бросила эту реплику отры-
висто и вскользь, впрочем без малейшего английского
акцента, выпятив губы и надменно покрутив голов-
кой. У нее был какой-то двойственный голос, очень
низкий и очень высокий, ломавшийся в среднем реги-
стре.
Старшая сестра растерялась.
— Конечно, это сразу видно, — сказала она, и
лицо ее страдальчески передернулось.
Положение было довольно щекотливое. Доктор
Плюш старался прочесть по лицу Клауса-Генриха,
как поступить дальше; но Клаус-Генрих привык ис-
полнять свои обязанности в пределах строго устано-
вленных норм, а не разбираться в непривычных и
сложных ситуациях, и потому возникла заминка.
Господин фон Браунбарт вознамерился вмешаться,
а фрейлейн Шпельман со своей стороны собралась
уйти из молочной кухни, но тут принц сделал правой
рукой легкий связующий жест между собой и девуш-
кой. Доктор Плюш понял это как знак подойти
к Имме Шпельман.
— Доктор Плюш. Да. — Он почтет за честь, если
ему будет дозволено представить фрейлейн Шпельман
его королевскому высочеству. — Фрейлейн Шпельман,
ваше королевское высочество, дочь мистера Шпель-
мана, который так много сделал для нашей больницы.
Клаус-Генрих щелкнул каблуками и протянул ей
руку в белой офицерской перчатке, она же тряхнула
ее своей узкой, затянутой в коричневую замшу руч-
кой, превратив рукопожатие в английский shakehands,
и одновременно с небрежной грацией пажа изобра-
зила нечто вроде придворного реверанса, но при этом
не отвела своего лучистого взгляда от лица Клауса-
Генриха.
Стараясь проявить находчивость, он спросил:
— Значит, вы тоже решили осмотреть больницу,
мадемуазель?
Так же, как в первый раз, она выпятила губьи, над-
менно покрутила головкой и отрывисто ответила своим
ломающимся голосом:
206
— Отрицать нельзя, все свидетельствует об этом.
Господин фон Браунбарт инстинктивно, как бы
предостерегая, поднял руку.
Доктор Плюш молча уставился на свою цепочку,
п один из молодых врачей фыркнул самым неподобаю-
щим образом. Теперь страдальчески передернулось
лицо Клауса-Генриха.
— Понятно... — заговорил он, — раз вы приехали...
я могу продолжать осмотр больницы вместе с вами,
мадемуазель... Капитан фон Браунбарт, мой адъю-
тант, — торопливо добавил он, понимая, что и это
замечание заслуживает такого же ответа.
— Графиня Левенюль, — представила она в свою
очередь.
Графиня церемонно присела с загадочной улыбкой
и устремленным куда-то вкось странно-манящим
взглядом. Когда она выпрямилась и обратила свой не-
понятный ускользающий взгляд на Клауса-Генрих а,
который стоял перед ней, весь подобравшись и вытя-
нувшись в струнку, улыбка сразу сошла с ее лица, оно
выразило разочарование и скорбь, и в тот же миг что-
то похожее на ненависть вспыхнуло в ее серых глазах,
из-за чуть припухших век... Но это было лишь мимо-
летное впечатление. Клаус-Генрих не успел задер-
жаться на нем и тут же об этом забыл. Когда оба
молодых врача тоже удостоились чести быть предста-
вленными Имме Шпельман, Клаус-Генрих высказался
за то, чтобы продолжать обход.
Шествие направилось по лестнице во второй этаж:
впереди Клаус-Генрих с Иммой Шпельман, за ними
доктор Плюш, дальше графиня Левенюль с господи-
ном фон Браунбартом и наконец оба молодых врача.
Здесь помещались дети постарше, — да, до четырна-
дцати лет. Прихожая с бельевыми шкафами по стенам
разделяла палаты для девочек и для мальчиков. На
белых решетчатых кроватках с дощечкой, где было
проставлено имя больного, в головах и застекленной
рамкой в ногах, в которую вкладывались таблицы
с кривыми веса и температуры, окруженные заботой
сестер в белых чепцах, в атмосфере порядка и чистоты
лежали больные дети, и кашель наполнял палату,
207
в то время как Клаус Генрих и Имма Шпельман про-
ходили между рядами кроваток.
Соблюдая правила вежливости, он шел по левую
ее руку и улыбался так же, как в тех случаях, когда
его водили по выставкам или когда он делал смотр
ветеранам, членам гимнастических обществ или про-
ходил по фронту почетного караула. Но всякий раз,
поворачиваясь вправо, он видел, что Имма Шпельман
его рассматривает, и встречал испытующий взгляд ее
больших черных глаз, блестевших вопросительно, вдум-
чиво и строго. Это было так поразительно, что Клаусу-
Генриху казалось — ничто в жизни не поражало его
сильнее, чем ее манера, не обращая внимания ни на
него, ни на окружающих, не беспокоясь о том, замечает
ли это кто-нибудь, открыто и смело рассматривать его
своими огромными глазами. Когда доктор Плюш за-
держивался у какой-нибудь кроватки и давал поясне-
ния, как, например, в случае с маленькой девочкой,
чья сломанная и забинтованная ножка была подве-
шена перпендикулярно, видно было, что фрейлейн
Шпельман внимательно слушает; однако и тут она не
смотрела на говорившего, а переводила взгляд
с Клауса-Генриха на худенькую и тихонькую девочку,
которая поглядывала на них, лежа неподвижно со
скрещенными на груди ручками, — переводила взгляд
с принца на больного ребенка, чье состояние объяс-
няли им обоим, переводила с одного на другого,
трудно сказать, с какой целью, то ли стараясь под-
смотреть у Клауса-Генриха жалость, то ли уловить,
какое впечатление производят на него слова доктора
Плюша. Особенно заметно это было у постели маль-
чика с простреленным плечом и другого, которого вы-
тащили из воды, — двух прискорбных случаев, как
выразился доктор Плюш.
— Сестра, хирургические ножницы, — потребовал
он и показал им двойную рану в предплечье мальчика,
вход и выход револьверной пули.
— Ранение нанес ему родной отец, да, — впол-
голоса объяснил доктор Плюш высоким посетителям,
повернувшись спиной к кроватке. — Этот хоть сравни*
208
rivibno легко отделался. А жену, остальных трех детей
и себя самого он застрелил насмерть. Только тут про-
махнулся...
Клаус-Генрих посмотрел на двойную рану и бояз-
ливо спросил:
— Почему он это сделал?
— С отчаяния, ваше королевское высочество;
чтобы уйти от нищеты и позора. Да.
Больше он ничего не добавил, ограничившись этой
краткой констатацией; так же поступил он и в случае
о десятилетним мальчуганом, которого вытащили из
поды.
— Еще хрипит, не вся вода вышла из легких, —
чаметил доктор Плюш. — Его сегодня утром выудили
из реки, да. Кстати, мало вероятно, чтобы он случайно
упал в воду. Очень многое говорит против этого. Он
убежал из дому, да.
Доктор умолк. А Клаус-Генрих снова заметил, что
фрейлейн Шпельман смотрит на него большими чер-
ными строго блестящими глазами и ловит его взгляд,
настойчиво приглашая продумать вместе с ней эти
«прискорбные случаи», мысленно восполнить намеки
доктора Плюша и добраться до страшной правды,
сгусток который являют эти страждущие детские тела...
Какая-то маленькая девочка горько заплакала, когда
к ее кроватке поднесли дымящий и шипящий инга-
лятор и с ним картонную книжку-картинку. Фрейлейн
Шпельман нагнулась к девочке.
— Это совсем не больно, — сказала она, подражая
детскому говору. — Ну, ни чуточки. Плакать нельзя.—
А когда выпрямилась, отрывисто бросила, надув
губки: — Следует полагать, она плакала не только
лишь от ингалятора, но и от картинок.
Все рассмеялись. Один из ассистентов поднял
книжку и, перелистав картинки, захохотал еще громче.
Шествие направилось в лабораторию. По дороге
Клаус-Генрих думал о том, как своеобразно острит
фрейлейн Шпельман. Она употребляет такие выраже-
ния, как «следует полагать», «не только лишь». Ка-
жется, будто она высмеивает не одни картинки, но
и те язвительно изысканные обороты речи, которые
14 Г. Манн, т. 2 209
подбирает так быстро и ловко. А это, пожалуй, самая
безжалостная насмешка, какую можно вообразить...
Под лабораторию было занято самое большое по-
мещение в больнице. На полках были расставлены
склянки, колбы, воронки и химикалии, тут же стояли
и препараты в спирту, о которых доктор Плюш рас-
сказал посетителям в четких и бесстрастных выра-
жениях.
Какой-то ребенок задохся по непонятным причи-
нам, здесь в спирту его гортань с грибовидными раз-
ращениями вместо голосовых связок. Да. Вот ненор-
мально увеличенная детская почка. А вот изуродован-
ные вырождением кости. Клаус-Генрих и фрейлейн
Шпельман рассматривали все, вместе заглядывали
в склянки, которые доктор Плюш подносил к окну,
и у обоих в глазах был почтительный интерес, а губы
чуть заметно протестующе кривились.
Друг за другом смотрели они в микроскоп; прило-
жив глаз к линзе, разглядывали злокачественное вы-
деление, окрашенный в голубой цвет мазок на стек-
лышке, где рядом с большими пятнами виднелись ма-
ленькие точечки — бациллы. Клаус-Генрих хотел,
чтобы фрейлейн Шпельман раньше него посмотрела
в микроскоп, но она уклонилась, вздернув брови и
сделав такую гримаску, будто хотела нарочито под-
черкнуть: «Ни в коем случае!» Тогда он подошел пер-
вым, решив, что, право же, безразлично, кто скорее
увидит такую нешуточную и страшную вещь, как
бациллы. После этого гостей повели на третий этаж,
к грудным младенцам.
Оба засмеялись, когда их уже на лестнице встре-
тил многоголосый крик. А потом они со своей свитой
ходили по палате между кроватками, вместе нагиба-
лись над лысенькими малышами, которые спали,
стиснув кулачки, или орали во всю мочь, показывая
беззубые десны, оба зажимали уши и опять смеялись.
В некоем подобии печи, где поддерживалось равно-
мерное тепло, лежал недоношенный ребенок. Доктор
Плюш показал высоким гостям жуткое, похожее на
трупик существо, — дитя бедняков с большими урод-
ливыми руками, признаком низкого происхождения и
210
трудной жизни ряда поколений. Он вынул из постели
какого-то кричащего ребенка, и тот мигом умолк,
умелым движением положил себе на ладонь мотаю-
щуюся головку и показал красное, сморщенное личико
il судорожно дергающееся тельце им обоим — Клаусу-
Генриху и Имме Шпельман, которые вместе останови-
лись посмотреть на младенца. Клаус-Генрих, сдвинув
каблуки, наблюдал, как доктор Плюш снова кладет
ребенка в постельку, а обернувшись, как и ожидал,
встретился взглядом с испытующе блестевшими гла-
зами Иммы Шпельман.
Под конец они подошли к одному из трех окон
палаты и увидели бедные домишки предместья, а
внизу на мостовой, — стоящие друг за другом и окру-
женные кольцом ребятишек, коричневую придворную
карету и великолепный, крытый темно-красным лаком
автомобиль Иммы. Шпельмановский шофер сидел, раз-
валясь в своей бесформенной мохнатой дохе, и, поло-
жив руку на руль мощной машины, наблюдал, как его
сотоварищ, белоснежный лакей, вертится возле ка-
реты и пытается вступить в разговор с кучером
Клауса-Генриха.
— Наши соседи — они же и родители наших пи-
томцев, — пояснил доктор Плюш, отведя белую тюле-
вую гардину. — В субботу вечером пьяные отцы про-
ходят мимо больницы и горланят под окнами. Да*
Они стояли и слушали; но доктор Плюш ничего
больше не сказал об отцах, и они собрались уезжать,
так как все уже было осмотрено.
Клаус-Генрих с Иммой Шпельман впереди, осталь-
ные следом двинулись вниз по лестницам, а в вести-
бюле снова собрался весь штат сестер милосердия.
Здесь началось прощание — щелкали каблуками, от-
давали честь, кланялись, приседали. Стоя в официаль-
ной позе перед доктором Плюшем, который слушал,
склонив голову набок и теребя цепочку часов, Клаус-
Генрих в штампованных выражениях весьма одобри-
тельно отозвался обо всем виденном и при этом чув-
ствовал, что Имма Шпельман не спускает с него своих
больших глаз. После прощания с врачами и сестрами
он и господин фон Браунбарт проводили дам до
14*
211
автомобиля. Проходя по тротуару между рядами де-
тей и женщин с детьми на руках, и даже у широкой
подножки автомобиля, Клаус-Генрих и фрейлейн
Шпельман не переставали беседовать.
— Мне было очень приятно встретиться с вами,
мадемуазель, — сказал он.
Она ничего не ответила на это, только выпятила
губы и чуть-чуть покрутила головкой.
— Крайне интересный осмотр,— начал он снова. —
Столько узнаешь нового.
Она взглянула на него большими черными гла-
зами. Потом отрывисто и вскользь бросила своим ло-
мающимся голосом.
— Да, конечно, до известной степени...
Он надумал спросить:
— Надеюсь, мадемуазель, вам нравится дворец
Дельфиненорт?
— Ничего себе. Вполне сносное жилье.
— Вам больше нравится здесь, чем в Нью-
Йорке? — спросил он.
И она ответила:
— Не больше и не меньше. Почти одно и то же.
Собственно, всюду одно и то же.
Вот и все. Клаус-Генрих и на шаг позади него
господин фон Браунбарт стояли, приложив руку
к каске, пока шофер запустил мотор и автомобиль,
сотрясаясь, тронулся с места.
Само собой разумеется, такая встреча не могла
остаться событием внутренней жизни Доротеинской
больницы — нет, в тот же день весь город только о ней
и толковал.
«Курьер» напечатал под лирическим заголовком
подробный отчет об этом свидании, хотя и не во всем
совпадающий с истиной, однако настолько взволно-
вавший умы и возбудивший такую живую любозна-
тельность читателей, что предприимчивая газета почла
своей обязанностью бдительно следить за дальнейшим
сближением между домами Гримбург и Шпельман.
Правда, материал для сообщений у «Курьера» был
довольно скудный. Раза два он отметил, что его коро-
левское высочество принц Клаус-Генрих по окончании
212
представления в Придворном театре, проходя по кори-
дору бенуара, изволил остановиться у шпельмановской
ложи и поздороваться с дамами. А в сообщении о ко-
стюмированном благотворительном базаре, который
состоялся в середине января в большом зале ра-
туши, — мисс Шпельман, по настоянию комитета, со-
гласилась участвовать в этом великосветском начи-
нании,— немалое внимание было уделено тому мо-
менту, когда принц Клаус-Генрих, совершая вместе
с двором обход зала, остановился у киоска, где прода-
иала фрейлейн Шпельман, купил у нее одну вещь —
стеклянную вазу художественной работы, ибо фрей-
лейн Шпельман продавала художественные изделия
из фарфора и стекла, и минут восемь, а то и все де-
сять провел в беседе у прилавка. Содержание беседы
не сообщалось, однако же она имела существенные
последствия.
Весь двор, за исключением Альбрехта, появился
в большом зале ратуши около полудня. А когда Клаус-
Генрих возвращался в карете к себе в Эрмитаж, держа
на коленях завернутую в папиросную бумагу стеклян-
ную вазу, он успел сговориться о посещении Дель-
финенорта, успел выразить желание взглянуть, как
обновлен дворец, и заодно осмотреть коллекцию худо-
жественных изделий из стекла, собранную господином
Шпельманом. Дело в том, что среди вещей, которые
продавала мисс Шпельман, было три или четыре ста-
ринных бокала, пожертвованных ее отцом из его соб-
ственной коллекции, и как раз одну из этих ве-
щей приобрел на благотворительном базаре Клаус-
Генрих.
Он снова представлял себе, как стоит один на один
с Иммой Шпельман, их разделяет прилавок, уставлен-
ный бокалами, графинами и статуэтками из бисквита
и фарфора, а люди обступили их полукругом и смот-
рят на них. Он снова видел ее в фантастическом крас-
HOxM наряде из цельного куска ткани, который окуты-
вал ее гармонично развитую и все же детскую
фигурку, оставляя обнаженными смуглые плечи и
руки, округлые и упругие, но по-детски тоненькие
у запястья. Он видел золотое украшение, не то венок,
213
не то диадему, в ее черных волосах, норовивших
выбиться ей на лоб прямыми прядями, ее огромные
черные, вопросительно блестевшие глаза на жемчужно-
матовом личике и полные, мягкие губы, которые она
точно балованное дитя презрительно выпячивала,
когда говорила, — а кругом в большом сводчатом зале
стоял запах хвои, несвязный гул: звуки музыки, удары
гонга, смех и возгласы великосветских продавцов.
Он залюбовался предложенным ею благородным
бокалом из старинного стекла с орнаментом в виде
серебряных листьев, и она сказала, что этот бокал из
коллекции ее отца.
— Значит, у вашего отца много таких великолепных
вещей? — Разумеется. И, по всей вероятности, отец
пожертвовал для базара не самые первоклассные
экземпляры. Она позволяет себе утверждать, что
у него есть бокалы значительно красивее этих. — Как
бы он, Клаус-Генрих, хотел посмотреть их! — Ну что ж,
это не трудно осуществить при подходящем случае, —
ответила фрейлейн Шпельман своим ломающимся голо-
сом, выпятив губы и покрутив головкой. Отец, несом-
ненно, не будет возражать против того, чтобы настоя-
щий знаток по достоинству оценил плоды его коллекци-
онерских трудов. Они всегда пьют чай ровно в пять.
Она восприняла высочайшее намерение попросту,
самым непринужденным образом обратив его в при-
глашение. А на вопрос Клауса-Генриха, какой день
можно иметь в виду, ответила:
— Какой вам угодно, принц. Мы в любое время
будем несказанно счастливы...
«Будем несказанно счастливы» — в этих ее сло-
вах было такое язвительно-насмешливое преувеличе-
ние, что от них становилось даже больно и трудно со-
хранить невозмутимый вид. Ведь как она тогда,
в больнице, озадачила и обидела бедняжку старшую
сестру! Но при этом в ее говоре было что-то детское,
некоторые буквы звучали совсем как у детей, — и не
только в тот раз, когда она утешала маленькую де-
вочку, испугавшуюся ингалятора. И какие у нее были
изумительные глаза, когда речь шла об отцах и всяких
прискорбных случаях...
214
На следующий день Клаус-Генрих пил чай во
дворце Дельфиненорт — на другой же день, назавтра.
При подходящем случае, сказала Инна Шпельман.
Л как раз следующий день был для него самым под-
ходящим, да и дело представлялось ему настолько важ-
ным, что он решил не откладывать его в долгий ящик.
Около пяти часов — уже смеркалось —- проехал он
в своей карете по оттаявшим дорогам городского
сада, оголенного и безлюдного, и вот уже карета катит
через Шпельмановские владения, дуговые фонари
освещают парк, большой, четырехугольный бассейн
с фонтаном тускло мерцает между деревьями, а по-
зади виднеется белеющая громада дворца, колонны
портала, широкий пандус, оба крыла которого плавно
поднимаются между флигелями вплоть до бельэтажа,
высокие окна с частыми переплетами оконных рам,
римские бюсты в нишах, — и когда Клаус-Генрих
подъехал по главной аллее из гигантских каштанов,
он увидел у самой нижней ступени темно-красного
плюшевого негра, который стоял на страже, опираясь
на булаву.
Клаус-Генрих вступил в облицованный камнем,
ярко освещенный, тепло натопленный вестибюль с от-
ливающим золотом мозаичным полом и белыми ста-
туями богов вдоль стен и направился прямо к мрамор-
ной парадной лестнице с широкими перилами, устлан-
ной красным ковром, по которой навстречу гостю,
откинув плечи и держа руки по швам, спускался пуза-
тый и спесивый шпельмановскии дворецкий во всей
красе своего бритого двойного подбородка.
Он провел гостя в верхнюю аванзалу, увешанную
гобеленами и украшенную мраморным камином, там
два бело-золотых, отороченных лебяжьим пухом ла-
кея взяли у принца фуражку и шинель, а дворецкий
тем временем отправился самолично докладывать
о нем господам... Между обоими лакеями, которые
придерживали портьеры, Клаус-Генрих прошел в
дверь и спустился на две-три ступени.
Навстречу ему повеял аромат растений и послышал-
ся мелодичный плеск воды; но в тот миг, когда за ним
упали портьеры, внезапно раздался такой неистовый
215
лай, что Клаус-Генрих, почти оглушенный, задер-
жался на мгновение у нижней ступеньки. Персеваль,
пес из породы колли, ринулся наперерез гостю. Каза-
лось, ярость ею не имеет пределов, он брызгал слю-
ной, он задыхался, не знал, как дать выход разрывав-
шему его на части возбуждению, весь извивался, бил
себя хвостом по бокам, упершись передними ногами
в пол, в слепом бешенстве вертелся вокруг самого
себя и словно стремился весь изойти в неистовстве и
диком лае. Чей-то голос — не похожий на голос
Иммы — отозвал его, и Клаус-Генрих, оглядевшись,
увидел, что находится в зимнем саду, помещении, где
стеклянный сводчатый потолок опирался на стройные
мраморные колонны, а пол был выложен квадратными
плитами из полированного мрамора. Сад был запол-
нен пальмами разных видов, у многих стволы и вееро-
образные листья подходили под самый стеклянный ку-
пол. Цветник, расположенный в форме клумбы и со-
ставленный наподобие мозаики из бесчисленных
цветочных горшков, расстилался под лунным светом
дуговые ламп и насыщал воздух благоуханием. Фон-
тан струил серебряные ключи в мраморный водоем, и
особой породы утки с редкостным оперением плавали
по пронизанной светом водной глади. Задний план
был занят каменной галереей с колонками и нишами.
Встретила гостя графиня Левенюль и с улыбкой
склонилась перед ним.
— Благоволите простить нас, ваше королевское
высочество, — сказала она. — Наш Перси такой раз-
дражительный. А тут еще он отвык от общества. Но
он никогда не причиняет зла. Осмелюсь просить ваше
королевское высочество... Фрейлейн Шпельман сейчас
возвратится. Она только что была здесь. Ее позвали.
Отец прислал за ней. Мистер Шпельман будет очень
счастлив...
И она направилась с Клаусом-Генрихом к гарни-
туру плетеной мебели с вышитыми полотняными по-
душками, расставленному перед группой пальм. Гра-
финя говорила громко и оживленно, склонив набок не-
большую голову с жиденькими пепельными волосами,
расчесанными на пробор, и показывая в улыбке белые
216
:*убы. У графини был положительно элегантный вид
п этом облегающем фигуру коричневом платье, а когда
она, весело потирая руки, подвела Клауса-Генриха
к плетеным креслам, у нее явно проявились энергич-
ные и изящные повадки полковой дамы. Только
» глазах, из-за прищуренных век, мерцало что-то за-
гадочное, не то коварство, не то недоверие.
Они уселись друг против друга перед круглым са-
довым столиком, на котором лежали книги. Истомлен-
ный только что перенесенным приступом ярости, Пер-
ссваль свернулся как улитка на узком, переливчатом
ковре блеклых тонов, на котором была расставлена
мебель. Шерсть у Перси была черная, шелковистая,
только лапы, грудь и морда — белые. И вокруг шеи
белое жабо, глаза золотистые и пробор вдоль всей
спины. Клаус-Генрих начал разговаривать разговора
ради, поддерживать светскую, бессодержательную бе-
седу, ибо иначе он не умел.
— Надеюсь, графиня, я не помешал. Во всяком
случае, я счастлив, что имею оправдание для своего
г.торжения. Не знаю, говорила ли вам фрейлейн
Шпельман... Ее любезное приглашение придало мне
смелости. Между нами зашла речь о прекрасных бо-
калах, которые господин Шпельман с присущей ему
щедростью пожертвовал для вчерашнего базара.
Фрейлейн Шпельман высказалась в том смысле, что
се отец согласится показать мне свою коллекцию. Вот
я и пришел...
Графиня оставила открытым вопрос о том, гово-
рила ли ей что-нибудь Имма, и сказала:
— В это время мы всегда пьем чай. И вы, ваше
королевское высочество, никак не могли помешать нам.
Даже в том случае, если бы, паче чаяния, самочув-
ствие не позволило мистеру Шпельману спуститься...
— Ах, вот как! Он нездоров? — В сущности, Клаус-
Генрих даже предпочел бы, чтобы мистер Шпельман
не мог спуститься. Он ждал этой встречи с неопреде-
ленным беспокойством.
— Сегодня он, к сожалению, с самого утра не-
здоров, ваше королевское высочество. Его знобило,
у него был жар и даже легкий приступ дурноты.
217
Доктор Ватерклуз долго пробыл у него и сделал ему
впрыскивание морфия. Говорят, что, пожалуй, при-
дется прибегнуть к операции.
— Я очень сочувствую ему, — искренне сказал
Клаус-Генрих. — Как это страшно — операция.
А графиня, рассеянно глядя куда-то вдаль, ответила:
— О да. Но в жизни есть и кое-что пострашнее —
многое в жизни страшнее этого.
— Бесспорно, — сказал Клаус-Генрих. — Не со-
мневаюсь. — Слова графини породили в его уме ка-
кие-то обобщенные, неоформленные представления.
Графиня посмотрела на него, склонив голову на-
бок, и лицо ее выразило презрение. А затем устремила
свои серые глаза с чуть прилухшими веками куда-то
в сторону, неизвестно куда, и на губах ее появилась
уже знакомая Клаусу-Генриху загадочная улыбка,
в которой было что-то странно манящее.
Он почувствовал, что необходимо возобновить раз-
говор.
— Давно вы уже живете в семействе Шпельман,
графиня? — спросил он.
— Порядочно, — ответила она, и видно было, что
она пытается подсчитать. — Порядочно. Я столько
пережила, столько выстрадала, что не могу, раз-
умеется, сказать совершенно точно. Но это было вскоре
после благодати, после того как меня осенила благо-
дать.
— Благодать? — переспросил Клаус-Генрих.
— Ну, да, — уверенно и даже с раздражением под-
твердила она. — Благодать снизошла на меня, когда
мера испытания достигла предела и, говоря иноска-
зательно, тетива вот-вот могла порваться. Вы так еще
молоды, — продолжала она, по рассеянности забыв
даже титуловать его,— так неискушены в горестях и
пороках нашего мира, что даже и вообразить себе не
можете, сколько я перестрадала. В Америке у меня
был судебный процесс, на который вызвали многих
генералов. Тут обнаружились такие дела, что моей
философии на это не хватило. Мне пришлось наводить
порядок во всех казармах и все-таки не удалось до
конца очистить их от распутных баб. Те и по шкафам
218
попрятались, некоторые даже под пол забрались, и
потому-то они каждую ночь нещадно терзают меня.
Я бы без промедления удалилась в мои бургундские
замки, если бы там не протекали крыши. Шпельманы
об этом знали и были так любезны, что временно
приютили меня, причем единственная моя обязан-
ность — предупреждать против козней света совер-
шенно неискушенную Имму. Разумеется, здоровье мое
терпит большой ущерб оттого, что эти распутницы
садятся по ночам мне на грудь и я вынуждена наблю-
дать их непристойные гримасы. Вот причина, по ко-
торой я и прошу называть меня просто фрау Мейер,—
шепотом добавила она, нагнувшись к Клаусу-Генриху
и дотронувшись рукой до его рукава. — У стен есть
уши, и я поневоле вынуждена была принять инкогнито
и хранить его, чтобы избавиться от преследования
этих развратных тварей. Скажите, вы ведь исполните
мою просьбу? Ну, смотрите на это как на шутку... на
безобидную игру... Право же...
Она замолчала.
Клаус-Генрих сидел прямо, в чопорной позе, на
плетеном стуле и не спускал глаз с графини. Прежде
чем покинуть свои строгие ампирные апартаменты,
он при помощи камердинера Неймана совершил туа-
лет с той тщательностью, какой требовало его проте-
кавшее у всех на виду существование. Пробор начи-
нался над левым глазом и шел наискось до самой
макушки, так что там наверху не только что прядка,
даже волосок не топорщился, а справа волосы были
зачесаны над лбом компактной волной. В плотно при-
легающем форменном сюртуке с высоким стоячим во-
ротником, что способствовало строгой вьтравке,
с майорскими эполетами из серебряной канители на
узких плечах, сидел он, слегка прислонясь к спинке
стула, но не позволяя себе ни малейшей поблажки,
весь собранный, подтянутый, одна нога чуть выдви-
нута вперед, а левая рука прикрыта правой на эфесе
сабли. На его юном лице бессодержательная, одино-
кая, строгая и трудная жизнь оставила следы устало-
сти; однако он смотрел в лицо графине с приветливым,
ясным и неуклонно сдержанным выражением.
219
Она замолчала. Разочарование и скорбь отрази-
лись на ее лице, в утомленных бессонницей серых
глазах промелькнуло что-то похожее на ненависть,
и в окраске лица произошла удивительная перемена,
одна половина его вспыхнула, другая побледнела.
Опустив ресницы, графиня ответила:
— Я живу в семействе Шпельман три года, ваше
королевское высочество.
Персеваль вдруг так и взвился. Приплясывая,
виляя, пружинящей рысью устремился он навстречу
своей хозяйке, величаво встал на задние лапы, когда
Имма Шпельман вошла в зимний сад, и в знак при-
ветствия положил передние лапы ей на грудь. Пасть
его была открыта, между крепкими белыми зубами
высовывался кроваво-красный язык. В такой позе он
напоминал геральдического зверя.
Она была чудесно одета: в домашнем платье из
кирпичного шелка-сырца, рукава свободно свисающие,
разрезные, и во всю грудь вставка из тяжелой золотой
вышивки. Большой яйцевидный драгоценный камень
на жемчужной цепочке украшал ее обнаженную шею,
по цвету схожую с обкуренной морской пенкой. Ис-
синя-черные волосы, зачесанные на косой пробор и за-
крученные простым узлом, норовили упасть прямыми
прядями на лоб и на виски. Обхватив седовласую го-
лову Персеваля своими красивыми по-детски тонень-
кими пальчиками без колец, она сказала, наклонив-
шись к самой его морде:
— Ну... ну.. здравствуй, дружок. Что за встреча!
Мы истосковались оба, изныли в разлуке. Здравствуй,
здравствуй! А теперь ступай на свое место. — Она
сняла его лапы с золотой вышивки на своей груди
и отступила в сторону, чтобы он стал на все четыре
ноги.
— Ах, принц! Добро пожаловать в Дельфине-
норт, — сказала она. — Я вижу, вам претит нарушать
слово. Посидим тут. Нас позовут к чайному столу...
Должно быть, я поступила против всяких правил, за-
ставив себя ждать. Но меня позвал отец, а вас пока
что занимали беседой. — Ее блестящие глаза с неко-
220
торым сомнением поглядывали попеременно на Клауса-
Генриха и на графиню.
— Да, мы побеседовали, — ответил он, затем за-
дал вопрос о самочувствии мистера Шпельмана и по-
лучил удовлетворительный ответ. Мистер Шпельман
будет иметь удовольствие познакомиться с Клаусом -
Генрихом за чаем, а пока просит извинить его... Что
это за прелестная пара лошадей запряжена в карету
Клауса-Генриха?
И они заговорили о своих любимых лошадях, о доб-
родушном гнедом Флориане Клауса-Генриха, выра-
щенном на Голлербруниском конном заводе удельного
ведомства, об Имминой арабской кобыле Фатьме,
белой, как кипень, которую мистер Шпельман получил
и подарок от одного восточного властителя, о резвых
венгерских рыжих, которых для фрейлейн Шпельман
запрягали четверкой...
— Ас окрестностями вы познакомились? — спро-
сил Клаус-Генрих. — Побывали уже в великогерцог-
ском охотничьем заповеднике? В саду Фазанника?
Тут много приятных прогулок.
Нет, фрейлейн Шпельман на редкость не способна
находить новые места, а о графине и говорить не-
чего, — ей по натуре чужда всякая предприимчивость.
Потому-то они и облюбовали для верховых прогулок
все те же дорожки городского сада. Пожалуй, это
скучновато, но фрейлейн Шпельман вообще не изба-
лована новизной и занимательными приключениями.
Тогда он сказал,- что им следует как-нибудь в хоро-
шую погоду проехаться в охотничий заповедник или
в замок Фазанник, на что она, выпятив губки, отве-
тила, что это, пожалуй, можно на всякий случай
иметь в виду. Но тут появился дворецкий и торжест-
венно возвестил, чяч) чай подан.
Они прошли через увешанную гобеленами аванзалу
с мраморным камином, впереди важно выступал
butler, рядом, приплясывая, бежал Перси, а замыкала
шествие графиня Левенюль.
— Графиня, должно быть, наболтала вам невесть
чего? — на ходу спросила Имма, даже не понижая
голоса.
221
Клаус-Генрих испуганно опустил глаза.
— Ведь она может услышать! — шепотом прогово-
рил он.
— Нет, она не слушает, — ответила Имма, — я на-
училась читать по ее лицу. Когда она так вот накло-
няет голову и щурит глаза — значит, она вне жизни
и поглощена своими мыслями. Но все-таки она успела
вам наболтать?
— Слегка, — признался Клаус-Генрих. — У меня
создалось впечатление, что графиня по временам дает
волю свой фантазии.
— Она очень много выстрадала. — При этом
Имма посмотрела на него испытующим взглядом
больших черных глаз, как смотрела на каждом шагу
в Доротеинской больнице. — Я расскажу вам в другой
раз. Это целая история.
— Да, — подхватил он. — В другой раз. В следую-
щий раз. Скажем, по дороге.
— По дороге?
— Ну да, по дороге в охотничий заповедник или
в Фазанник.
— Ах, я и забыла, как добросовестно выполняете
вы то, о чем уговариваетесь. Хорошо, пусть будет по
дороге. Здесь ступеньки вниз.
Они очутились в задней части дворца. Из галереи,
сплошь завешанной большими картинами, несколько
устланных ковром ступенек вели вниз, в белую с по-
золотой боскетную, высокая стеклянная дверь которой
выходила на террасу. Все здесь — и большая хрусталь-
ная люстра, висевшая посреди белого лепного потолка,
и симметрично расставленные золоченые кресла с за-
тканной цветами обивкой, и белые шелковые драпи-
ровки, падающие тяжелыми складками; и помпезные
стоячие часы, и вазы, и золоченые ^шандалы на белой
мраморной доске камина перед высоким стенным
зеркалом; и огромные позолоченные канделябры на
львиных лапах, возвышавшиеся по обе стороны вход-
ной двери, — словом, все напоминало Клаусу-Генриху
парадные покои Старого замка, где он с детских лет
привык нести службу, только здесь свечи были под-
дельные с излучающими золотистый свет электриче-
222
скими лампочками вместо фитилей, и все у Шпельма-
иов во дворце Дельфиненорт было в прекрасном со-
стоянии и блистало новизной. Отороченный лебяжьим
пухом лакей заканчивал в одном из углов комнаты
сервировку чайного стола; Клаус-Генрих остановил
взгляд на самоваре, нагревавшемся электричеством,
о котором прочел в «Курьере».
— Господину Шпельману доложили? — опросила
молодая хозяйка дома.
Дворецкий утвердительно склонил голову.
— Значит, ничто не мешает нам сесть за стол и
приступить к чаепитию без отца, — с нарочитой вы-
сокопарностью заявила она. — Идемте, графиня!
А вам, принц, я бы посоветовала снять оружие, если
только этому не препятствуют причины, не доступные
моему пониманию...
— Благодарю, — ответил Клаус-Генрих. — Этому
ничто не препятствует. — У него сжалось сердце от
досады на неумение найти более меткий ответ.
Лакей взял у него саблю и унес куда-то через га-
лерею. Они уселись за чайный стол при содействии
дворецкого, который придерживал кресла за спинки
и пододвигал их. А затем отошел и в декоративной
позе замер на самой верхней ступеньке.
— Надо вам сказать, принц, — начала фрейлейн
Шпельман, наливая кипяток из самовара, — что отец
пьет чай только, когда я сама приготовляю его. Он
относится недоверчиво к чаю, который подают разли-
тым по чашкам. У нас это возбраняется. И вам при-
дется примириться с этим.
— О, так еще приятнее, — возразил Клаус-Ген-
рих,— так вот за семейным столом чувствуешь себя
гораздо уютнее и непринужденнее... — Он оборвал
фразу, недоумевая, почему графиня Левенюль искоса
метнула на него враждебный взгляд. — Смею осведо-
миться, как идут ваши занятия, мадемуазель? —
спросил он. — Я слышал, вы изучаете математику?
Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для
головы?
— Ничуть, — ответила она. — Самое очарователь-
ное занятие на свете. Можно сказать, паришь в воздухе
223
или даже в безвоздушном пространстве. Никакой
пыли там нет. И веет свежестью, как в Адирондаксе...
— Где?
— В Адирондаксе. Это из области географии,
принц. Лесистые холмы и очаровательные озера там,
за океаном. У нас в Адирондаксе вилла, где мы прово-
дили май месяц. На лето мы всегда уезжали к морю.
— Как бы то ни было, я могу засвидетельствовать,
сколь ревностно вы* относитесь к науке, — сказал он.—
Вы не терпите помех на своем пути, когда спешите на
лекцию. Кстати, я не спросил, поспели вы тогда во-
время?
— Когда?
— Ну, несколько недель назад. После задержки
у кордегардии.
— Ах, господи, и вы о том же, принц! Об этой
истории, по-видимому, толкуют и во дворце и в хи-
жине. Знай я, какой из-за этого поднимут шум, я бы
лучше три раза обошла вокруг Замковой площади.
Говорят, об этом даже в газете писали. Немудрено,
если весь город считает меня теперь каким-то исча-
дием ада, не знающим удержу. А в действительности
я самое миролюбивое существо на свете и только не
люблю, когда мною командуют. Графиня, скажите
прямо — я, по-вашему, исчадие ада?
— Нет, вы добрая, — ответила графиня Левенюль.
— Ну — добрая, слишком сильно сказано, это уже
перегиб в другую сторону...
— Нет, ^- поспешил вставить "Клаус-Генрих, — нет,
не перегиб. Я твердо верю графине...
— Весьма лестно. А как же вы, ваше высочество,
узнали об этом приключении? Из газеты?
— Я сам был очевидцем, — ответил Клаус-
Генрих.
— Очевидцем?
— Да, мадемуазель. Я случайно очутился у окна
офицерской караульни и собственными глазами видел
все от начала до конца.
Фрейлейн Шпельман покраснела. Да, ошибки быть
не могло-^-жемчужная белизна ее своеобразного ли-
чика приняла более яркую окраску.
224
— Что ж, готова допустить, что у вас в ту минуту
не было лучшего занятия, принц, — сказала она.
— Лучшего? — воскликнул он. — Да ведь это было
чудесное зрелище! Клянусь, мадемуазель, никогда
в жизни я не...
Персеваль все время лежал подле фрейлейн
Шпельман, грациозно скрестив передние лапы, а тут
вдруг он поднял голову с напряженно сосредоточен-
ным видом и принялся бить хвостом по ковру. В тот
же миг зашевелился и дворецкий. Стремительно,
насколько позволяла ему дородность, сбежал он по
ступенькам, направился к высокой боковой двери, на-
против чайного стола, и быстро подхватил шелковую
драпировку, величественно вздернув при этом свой
двойной подбородок. В гостиную вошел Самуэль
Шпельман, миллиардер.
У него была пропорциональная фигура и необыч-
ный склад лица. Между гладко выбритыми щеками,
на которых горели лихорадочные пятна, выдавался
крупный и очень прямой нос, а близко посаженные
круглые глазки неопределенного цвета, но очень бле-
стящие, как у маленьких детей или животных, гля-
дели рассеянно и сердито. Со лба шла большая лы-
сина, но на затылке и на висках росло еще много се-
дых волос, которые господин Шпельман носил не
по-нашему, не короткими и не длинными, а пышно за-
чесанными вверх; только сзади они были подстрижены!
и выбриты вокруг ушей. Рот у него был небольшой,
изящно очерченный. Одет он был в черный долгопо-
лый сюртук с бархатным жилетом, на котором змеи-
лась длинная тонкая старомодная цепочка, на малень-
ких ножках — мягкие кожаные башмаки; озабоченно
насупившись, быстро направился он к чайному столу,
но лицо у него радостно просветлело и смягчилось,
как только он увидел дочь. Имма пошла ему на-
встречу.
—- Здравствуй, достопочтенный папочка,—сказала
она и, обвив его шею смуглыми полудетскими рука-
ми, выступавшими из разрезных кирпичных шелковых
рукавов, она поцеловала его в лысину, которую он
подставил ей, пригнув голову.
15 Т. Майн, т. 2
225
— Надо надеяться, ты осведомлен, что сегодня
с нами пьет чай принц Клаус-Генрих? — продолжала
она.
— Нет, рад, очень рад, — скороговоркой скрипу-
чим голосом произнес господин Шпельман. — Прошу
вас, не беспокойтесь! — так же скороговоркой доба-
вил он.
Пожимая своей худощавой, наполовину прикрытой
некрахмальной манжетой рукой руку принцу, который
стоял в строго официальной позе у стола, господин
Шпельман несколько раз мотнул головой куда-то вбок.
Вот каким образом приветствовал он Клауса-Генриха.
Но он был иностранец, человек больной и поставлен-
ный в особое положение своим богатством. Все чуда-
чества надо прощать ему заранее — Клаус-Генрих это
понимал и добросовестно старался совладать с соб-
ственной растерянностью.
— ...должны по праву чувствовать себя почти
дома, — добавил господин Шпельман, проглотив ти-
тул, и на его бритых губах мелькнула злобная
усмешка. Затем он сел за стол, чем подал пример
остальным. Дворецкий подвинул ему стул между
Иммой и Клаусом-Генрихом напротив графини и две-
рей на террасу.
Так как господин Шпельман явно не собирался
извиняться за свое опоздание, Клаус-Генрих сказал:
— Я с сожалением услышал, что вам сегодня было
нехорошо, господин Шпельман. Надеюсь, сейчас вам
лучше?
— Спасибо, лучше, но не вполне хорошо, — скри-
пучим голосом ответил господин Шпельман. —
Сколько ложек ты насыпала? — спросил он у дочери;
он имел в виду, сколько ложек чаю она заварила.
Она успела налить ему чай.
— Четыре, — ответила она. — По одной на ка-
ждого. Никто не посмеет сказать, что я держу своего
старенького папочку в черном теле.
— Что такое? Вовсе я не старый, — возразил гос-
подин Шпельман. — Не худо бы тебе подрезать язы-
чок. — И он взял из серебряной вазочки какое-то
печенье, по-видимому приготовленное специально для
226
■тм'о, отломил кусочек и сердито окунул его в золоти-
стый чай, а чай он пил, как и дочь, без сливок и
сахара.
Клаус-Генрих возобновил разговор:
— Я предвкушаю удовольствие от осмотра вашей
коллекции, господин Шпельман.
— Да, верно, — ответил Шпельман. — Интересуе-
тесь бокалами. Тоже любитель? А может, и коллек-
ционер?
— Нет, до коллекционерства при всем своем инте-
ресе я еще не дошел, — сказал Клаус-Генрих.
— Времени нет? — спросил господин Шпельман.—
Разве офицерская служба отнимает много времени?
— Я больше не несу службы, господин Шпель-
ман. Я оставлен при моем полку и сохранил его мун-
дир, вот и все.
— Ну да, для виду, — скрипуче протянул Шпель-
ман. — А что ж вы делаете целый день?
Клаус-Генрих перестал пить чай и отодвинул
чашку, потому что этот разговор требовал от него
сугубого внимания. Он сидел выпрямившись и держал
ответ, чувствуя на себе испытующий взгляд больших
черных глаз Иммы Шпельман.
— Я исполняю определенные обязанности при
дворе во время торжеств и церемоний. Я представи-
тельствую также в военном ведомстве при приведении
к присяге рекрутов и освещении знамени. Затем я за-
меняю моего брата, великого герцога, на приемах.
Добавьте к этому обязательные поездки в ближние
города нашей страны на открытия, освящения и про-
чие общественные празднества.
— Так, так, — подхватил господин Шпельман. —
Церемонии, празднества. Все для зевак. Я в этом
смысла не вижу. И скажу вам once for all 1, ваши за-
нятия я ни во что не ставлю. That's my standpoint, sir *,
— Я вас вполне понимаю,—сказал Клаус-Генрих.
Он сидел выпрямившись в узком майорском сюртуке
и страдальчески улыбался.
1 Раз навсегда (англ.).
2 Такова моя точка зрения, сэр (англ.).
15*
227
— Впрочем, даже и это, верно, требует сно-
ровки, — несколько смягчившись, продолжал господин
Шпельман. — Да, должно быть, и сноровки и обуче-
ния. Я вот, кажется, до конца дней не перестану
злиться, когда из меня делают редкостного зверя.
— Надеюсь, наш народ выказывает вам должное
уважение, — заметил Клаус-Генрих.
— Благодарю, жаловаться не на что, — ответил
господин Шпельман. — Люди тут хоть добродушные;
по крайней мере не видно, что они жаждут вашей
крови, когда глазеют на вас.
— Вообще мне будет приятно услышать, господин
Шпельман, — Клаус-Генрих почувствовал себя снова
в своей тарелке с тех пор, как по ходу разговора во-
просы стал задавать он, — что, несмотря на непривыч-
ную обстановку, вы освоились у нас.
— Благодарю, я здесь at ease ', — ответил госпо-
дин Шпельман. — Главное, здешняя вода — единствен-
ная, которая мне помогает.
— Вам не тяжело было расставаться с Америкой?
Клаус-Генрих поймал взгляд, не понятный ему,
быстрый, недоверчивый взгляд исподлобья.
— Нет, — отрезал господин Шпельман скрипучим
голосом. Вот и все, что он ответил на вопрос, тяжело
ли ему далась разлука с Америкой.
Наступило молчание. Графиня Левенюль скло-
нила набок свою гладко причесанную на пробор голову
и улыбалась мечтательной ангельской улыбкой. Фрей-
лейн Шпельман не спускала с Клауса-Генриха своих
блестящих черных глаз, словно допытывалась, какоэ
впечатление производит на гостя подчеркнутая рез-
кость отца, — Клаусу-Генриху казалось даже, что она
спокойно, как чего-то естественного, ждет, чтобы ом
встал и распрощался навсегда. Он встретился с ней
взглядом и остался. А господин Шпельман вьшул из
золотого портсигара плоскую сигарету, и, когда заку-
рил, от нее пошел тонкий аромат.
— Угодно курить? — только после этого спро-
сил он
1 Чувствую себя хорошо (англ.).
228
И Клаус-Генрих, решив, что теперь уже все равно,
|пил после Шпельмана сигарету из протянутого ему
портсигара.
Затем, до того как приступить к осмотру стекла,
поговорили еще на разные темы, главным образом
Клаус-Генрих и фрейлейн Шпельман, — графиня куда-
то унеслась мыслями, а господин Шпельман лишь
иремя от времени бросал скрипучую реплику; речь за-
шла о местном Придворном театре и об океанском
пароходе, на котором Шпельманы совершили, путе-
шествие в Европу. Нет, не на собственной яхте. Она
служила главным образом для того, чтобы в летний
зной, когда Имма с графиней жили в Ныопорте,
а дела удерживали господина Шпельмана в городе,
ом мог вечером выходить в море и даже ночевать на
палубе. Теперь яхта опять стоит на якоре в Венеции.
Океан же они пересекли на пароходе-гиганте, плаву-
чем отеле с концертными залами и спортивными пло-
щадками. У него было пять этажей, сказала фрейлейн
Шпельман. . ,
— Считая снизу? — спросил Клаус-Генрих.
— Разумеется. Сверху их было шесть, —ответила
она, не задумываясь.
Он был сбит с толку, ничего уже не соображал и
долго не мог понять, что над ним смеются. Потом
попытался объяснить и оправдать свой нелепый во-
прос, уверял, что хотел узнать, считает ли она и по-
мещения под водой, если можно так выразиться, под-
вальные помещения,—словом, силился доказать, что
он не так уж глуп, а под конец и сам засмеялся над
своими несостоятельными попытками. По поводу при-
дворных спектаклей фрейлейн Шпельман, .выпятив
губы и покрутив головкой, заметила, что актрисе на
роли инженю следует настоятельно рекомендовать
курс лечения в Мариенбаде, а также уроки танцев и
хороших манер, актеру же на главные роли не мешает
внушить, что таким благозвучным голосом, как у него,
надо пользоваться с величайшей осмотрительностью
даже в частной жизни... не в ущерб ее, фрейлейн
Шпельман, уважению к этому храму искусства будь
сказано.
229
Клаус-Генрих смеялся и дивился такой находчи-
вости, а сердце у него чуточку щемило. Как она хо-
рошо говорит, какие меткие и яркие подбирает выра-
жения!
В разговоре коснулись также оперных и драмати-
ческих спектаклей, идущих в этот сезон, и фрейлейн
Шпельман противоречила каждому суждению Клауса-
Генриха, наобум, лишь бы противоречить, словно ей
казалось унизительным не противоречить ему, и своим
острым и резвым язычком в один миг расправлялась
с ним; ее большие черные глаза сияли на жемчужно-
матовом личике от удачно подобранного словечка,
а господин Шпельман, откинувшись на спинку кресла
и повернувшись боком, с зажатой между бритыми гу-
бами плоской сигаретой, щурился от дыма и погляды-
вал на дочку нежно и одобрительно.
Клаус-Генрих не раз чувствовал, что лицо у него
так же страдальчески передергивается, как у бед-
няжки старшей сестры в Доротеинской больнице, и
все-таки он почти не сомневался, что у Иммы Шпель-
ман нет намерения обидеть, что она не считает собе-
седника униженным оттого, что он. не способен дать
ей отпор, и даже наоборот старается выставить в луч-
шем свете его убогие возражения и делает вид, будто
он может обойтись без помощи колкого словца,
а она — нет.
Но как это получалось, почему? Некоторые ее
остроты приводили ему на ум Юбербейна, краснобая
и задиру Юбербейна, обездоленного от рождения и
выросшего в условиях, которые сам он считал благо-
приятными. Нищенская юность, одиночество, ни наме-
ка на счастье — ибо оно удел бездельников. От этого не
раздобреешь, не разнежишься, а твердо и ясно знаешь,
что рассчитывать можешь только на собственную
смекалку, такое положение дает бесспорное пре-
имущество перед теми, кому «это не нужно». Но Имма
Шпельман в красном с золотом платье удобно сидела
у стола, небрежно откинувшись, с капризной грима-
ской балованного ребенка, окруженная прочным
довольством, а в речах ее была такая же язвитель-
ность, что и там, где это необходимое оружие, где без
230
проницательности, настороженности и беспощадной
«ктроты ума не проживешь. Почему же? Клаус-Генрих
и in всех сил старался до этого додуматься, в то время
mi к речь шла об океанских пароходах и театральных
представлениях. Выпрямившись, храня безупречную
«поправку и не позволяя себе ни малейшей поблажки,
< мдел он за столом, прятал левую руку и временами
ловил искоса брошенный на него ненавидящий взгляд
графини Левенюль.
Появился лакей и на серебряном подносе подал
юсподину Шпельману телеграмму. Шпельман сердито
искрыл ее, проглядел, щурясь и зажав в уголке
рта окурок сигареты, бросил ее обратно на поднос
и кратко распорядился: «Мистеру Флебсу». После
чтого он с недовольной миной закурил новую сига-
рету.
— Наперекор строгому предписанию врача, это
уже будет пятая сигарета за сегодняшний день, — за-
метила фрейлейн Шпельман, — не скрою от тебя, что
твоим сединам не пристало с такой необузданной
страстью предаваться этому пороку.
Видно было, что господин Шпельман сделал по-
пытку засмеяться, но эга попытка ему не удалась, он
не мог стерпеть резкий и язвительный тон дочери, и
кровь прилила у него к голове.
— Замолчи! — злобно проскрипел он. — Ты счи-
таешь, что в шутку можно все сказать. Но я запре-
щаю тебе дерзить, болтунья!
Клаус-Генрих в смятении посмотрел на Имму,
а она большими испуганными глазами уставилась на
злое лицо отца, а потом печально опустила черно-
волосую головку. Должно быть, ей самой нравилось
шутливо оперировать такими грозными, громкими и
непривычными словами, она рассчитывала вызвать
смех, но попала неудачно.
— Ну, папочка, маленький мой папочка! — проси-
тельно сказала она и, обойдя вокруг стола, погладила
разгоряченную щеку Шпельмана.
— Подумаешь, сама ты очень большая, — все еще
не сдаваясь, проворчал он. Но потом позволил, чтобы
она приласкала его, подставил лысину для поцелуя и
231
совсем растаял. Когда мир был восстановлен, Клаус-
Генрих напомнил о стекле, и все, за исключением гра-
фини Левенюль, которая удалилась с глубоким реве-
рансом, встали из-за стола и направились в сосед-
ний зал, где была размещена коллекция. Господин
Шпельман мимоходом зажег электрические свечи
в люстрах.
Прекрасные витрины в стиле всего дворца, пуза-
тые, с выпуклыми застекленными дверцами, были
расставлены вдоль всех четырех стен, а в промежут-
ках стояли нарядные стульчики. В витринах помеща-
лась коллекция господина Шпельмана. Да, это было
явно самое полное собрание в старом и новом свете,
и бокал, купленный Клаусом-Генрихом, представ-
лял собой только скромный его образчик. Начина-
лось оно в одном из углов зала с древнейших пред-
метов роскоши такого рода, с варварски расписанных
находок эпохи первобытных культур, далее шли
художественные изделия востока и запада последова-
тельно всех времен; тут были разнообразные по
форме, отделанные гирляндами, вычурные вазы и
кубки работы венецианских стеклодувов и драго-
ценные экземпляры богемских заводов, немецкие
кружки, щедро украшенные эмблемами цехов и кур-
фюрстов, вперемежку с карикатурными звериными
рожами и юмористическими картинками; большие
хрустальные кубки, напоминающие «Счастье Иден-
холла» из народной баллады, в чьих гранях искрился,
преломляясь, свет; чаши рубинового стекла, пылаю-
щие подобно святому Граалю и, наконец, благород-
ные образы современного искусства, свидетельствую-
щие о его расцвете в наши дни,; венчики цветов из
тончайшего стекла на хрупких стеблях и художе-
ственные вещицы модной причудливой формы, кото-
рые были покрыты парами благородных металлов,
что придало им переливчатый цвет. Втроем, сопут-
ствуемые Персевалем, который тоже принимал уча-
стие в осмотре, медленно проходили они по коврам;
вокруг зала, и господин Шпельман скрипучим голо-]
сом рассказывал историю отдельных предметов, и]
при этом бережно брал их с обитых бархатом полок]
232
viinefi худощавой рукой, наполовину прикрытой не-
крахмальной манжетой, и поднимал к электрическому
еноту.
Клаус-Генрих так был приучен обозревать, рас-
спрашивать и высказывать лестные похвалы, что мог,
il силу своего богатого опыта, в то же время думать
о способе выражаться Иммы Шпельман, странном
способе, который болезненно задевал его. Чего
юлько она не говорила, выпятив губки! Какие слова
походя срывались у нее с языка! «Страсть», «по-
рок» — где она узнала их, чтобы так смело опериро-
нать ими? Ведь графиня Левенюль, хоть и сама сбив-
чиво лепетала о чем-то подобном и, очевидно, немало
испытала страшного, однако же говорила, что Имма
ровно ничего не знает о жизни. И это, безусловно,
порно, потому что она, подобно ему, Клаусу-Генриху,
была исключительным случаем от рождения, тоже
росла в «святой простоте», отгороженная от мирской
суеты, непричастная всем мерзостям, которые в обыч-
ной жизни определяются этими громкими и грозными
словами. Она усвоила только слова и забавы ради
иставляла их в свои искусно отшлифованные фразы.
Да, конечно, это колючее и нежное создание в красно-
молотом платье жонглирует фразами, о жизни оно не
ииает ничего, кроме слов, оно играет самым серьез-
ным и страшным, как разноцветными камешками, и
по понимает, что может кого-нибудь огорчить! Когда
Клаус-Генрих до этого додумался, сердце его пре-
исполнилось жалости.
Только около семи часов он попросил послать за
ого каретой, несколько обеспокоившись, как посмот-
рят двор и общество на столь продолжительный ви-
:»ит. Когда он собрался уйти, Персеваль снова впал
il дикую ярость. Благородный пес породы колли терял
душевное равновесие от малейшей помехи или пере-
мены в существующем положении вещей. Дрожа всем
толом, заливаясь бешеным лаем, носился он по ком-
натам, по аванзале, вверх и вниз по лестнице, так
•мо слова прощания тонули в неистовом гаме, и ни-
•м о не могло его усмирить. Дворецкий проводил
принца через весь вестибюль со статуями богов.
233
Господин Шпельман не тронулся с места. Фрейлейн
Шпельман удалось вставить фразу:
— Не сомневаюсь, что вы, принц, восхищены пре-
быванием в лоне нашей семьи. — И неясно было, то
ли она смеется над выражением «в лоне семьи», то
ли над сутью сказанного. Так или иначе, Клаус-Ген-
рих не нашел, что ответить.
Он забился в угол кареты и, травмированный, раз-
битый, но и освеженный столь непривычным обраще-
нием, ехал через темный городской сад домой, в Эр-
митаж, в свои неуютные ампирные апартаменты, где
и отужинал с господами фон Шуленбург-Трессеном и
Браунбарт-Шеллендорфом. На следующий день он
прочел заметку в «Курьере». В ней кратко сообща-
лось, что его королевское высочество принц Клаус-
Генрих изволил вчера откушать чай во дворце
Дельфиненорт и осмотреть знаменитую коллекцию
художественного стекла, собранную господином
Шпельманом.
И Клаус-Генрих продолжал вести свою бессодер-
жательную жизнь и осуществлять свое высокое на-
значение. Он произносил милостивые слова, делал
положенные жесты, представительствовал при дворе
и на балу у председателя государственного совета,;
давал общедоступные аудиенции, завтракал в офи-
церском собрании лейб-гренадеров, показывался
в Придворном театре и удостаивал тот или иной го-
род своим высоким присутствием. Улыбаясь и сдви-
нув каблуки, соблюдал он все правила этикета и
с безупречной выдержкой выполнял свой тяжелый
долг, хотя ему в ту пору было о чем поразмыслить:
о вспыльчивом господине Шпельмане, о повредив-
шейся в уме графине Левенюль, о неистовом Перси
и особенно о хозяйской дочери Имме. На многие во-
просы, вставшие перед ним после первого визита
в Дельфиненорт, он пока еще не находил ответа и
уяснил себе многое лишь из дальнейшего общения
с домом Шпельманов, которое усиленно поддержи-
вал, возбуждая напряженный, впоследствии даже
лихорадочный интерес публики, а начал он с того,
что однажды ранним утром, неожиданно для господ,
234
л л я прислуги и для самого себя, в известной мере по-
мимо собственной воли, так сказать покорствуя
судьбе, прибыл один, верхом, в Дельфиненорт,
чтобы пригласить на прогулку фрейлейн Имму,
•и'м вдобавок помешал ее занятиям математи-
кой.
В этот достопамятный год власть зимы была слом-
лена очень рано. После январской оттепели уже в се-
редине февраля яркое солнце, птичий щебет и мягкий
нстерок возвестили начало весны, и когда в первый
такой благодатный денек Клаус-Генрих проснулся
утром у себя в Эрмитаже на своей старинной широ-
кой кровати красного дерева, где с верхушки одной
из колонок давно исчез точеный шар, его словно кос-
нулась властная рука и подвигла на решительные по-
ступки. Он дернул шнурок (в Эрмитаже водились
только старинные сонетки) и, когда на звонок явился
Нейман, приказал, чтобы через час оседлали Фло-
риана. А для лакея тоже приготовить лошадь? Нет,
ни к чему. Клаус-Генрих заявил, что поедет один.
Затем отдался для утреннего туалета в добросовест-
ные неймановские руки, торопливо позавтракал
внизу, в боскетной, и у ступенек небольшой террасы
вскочил в седло, вставил ботфорты со шпорами
в стремена, взял в правую руку, обтянутую коричне-
вой перчаткой, желтый ременный повод, подбоче-
нился левой под распахнутой шинелью и шагом вы-
ехал навстречу ясному утру, отыскивая в голых еще
ветвях звонко щебетавших птиц. Он проехал откры-
тую для публики часть своего парка, проехал го-
родской сад и территорию Дельфиненорта. В поло-
вине десятого он прибыл, возбудив всеобщее изумле-
ние.
У главного портала он передал Флориана на попе-
чение английского грума. Дворецкий как раз шел по
хозяйственным делам через вестибюль с мозаичным
полом, но, увидев Клауса-Генриха, застыл на месте
от потрясения. Когда принц звонким и даже задор-
ным голосом осведомился о дамах, дворецкий ничего
не ответил, а растерянно повернулся к мраморной
лестнице и молча переводил взгляд с Клауса-Генриха
235
на верхнюю площадку, ибо там стоял господин
Шпельман.
Он, по-видимому, недавно позавтракал и был
в благодушном настроении. Руки он засунул в кар-
маны брюк, скомкав полы теплой домашней куртки,
надетой поверх бархатного жилета, и щурился от го-
лубоватого дыма собственной сигареты.
— А, молодой принц! — промолвил он и посмо-;
трел вниз. \
Клаус-Генрих, приложив руку к козырьку, взбе-1
жал на лестницу по красной ковровой дорожке,1
У него было такое чувство, будто всю несообразности
положения можно одолеть только стремительным на-|
тиском. .|
— Вы, должно быть, удивлены, господин Шпель-j
ман, — заговорил он, — в такой ранний час... — Он|
запыхался и сам испугался — это было ему совсем
непривычно. л
Господин Шпельман мимикой и пожатием плеч
показал, что приучен ничему не удивляться, однако]
настоятельно желает получить объяснение. 1
— Дело в том, что мы условились... — сказал]
Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже мил-!
лиардера и смотрел на него снизу, вверх. — Мы cro-j
ворились с фрейлейн Иммой покататься верхом..J
Я обещал показать дамам Фазанник или охотничий
заповедник. Фрейлейн Имма говорила мне, что почти
совсем не знает окрестностей. Мы условились, в пер-
вый же хороший день... А сегодня так хорошо... Ко-
нечно, без вашего согласия...
Господин Шпельман пожал плечами и сделал та-
кую гримасу, будто хотел сказать: «Моего согласия —
вот как?»
— Дочь уже взрослая, и я обычно в ее дела не
вмешиваюсь. Хочет ехать, пусть едет. Но, по-моему,
у нее времени нет. Узнайте сами. Вон она там.—
И господин Шпельман, отойдя в сторону, мотнул под-
бородком на дверь, завешанную портьерами, в кото-
рую Клаус-Генрих уже входил однажды.
— Благодарю! — ответил Клаус-Генрих. — Да,
лучше я пойду сам, — и он поднялся наверх, реши-
236
тольным жестом раздвинул гобеленные портьеры и
спустился по ступенькам в залитый солнцем, напоен-
ный запахом растений зимний сад.
Перед журчащим фонтаном и водоемом, где пла-
кали утки в художественном оперении, спиной к вхо-
дящим за маленьким столиком сидела Имма Шпель-
ман. Волосы у нее были распущены. Иссиня-черными
блестящими прядями ниспадали они к а обе стороны,
разделенные посередине пробором, закрывали плечи,
так что из-за них только смутно виднелась четвер-
тушка по-детски округлого личика, бледного, как сло-
новая кость, на фоне темных, как ночь, волос. Оку-
танная этой мантией, прижавшись губами к тыльной
масти узенькой левой руки и согнув крючком указа-
тельный палец правой она вечным пером исправляла
записи лекций в лежащей перед ней тетради.
Здесь же находилась и графиня и тоже что-то
писала. Только сидела она поодаль под группой
пальм, где Клаус-Генрих впервые беседовал с ней,
и строчила, не сгибаясь, склонив голову набок, а це-
лая пачка густо исписанной почтовой бумаги лежала
рядом.
Услышав звон шпор, она подняла взгляд. Держа
длинную ручку на весу, она несколько секунд сощу-
ренными глазами смотрела на Клауса-Генриха, по-
том встала и сделала реверанс.
— Имма, здесь его королевское высочество принц
Клаус-Генрих, — объявила она.
Фрейлейн Имма круто повернулась в плетеном
кресле, откинула волосы на спину и молча изумлен-
ным, испуганным взглядом смотрела на незваного
гостя, пока Клаус-Генрих не отдал честь и не поже-
лал дамам доброго утра. Тогда она сказала своим
ломающимся голоском:
— Доброго утра и вам, принц. Только вы опо-
здали к первому завтраку. Мы давно кончили.
Клаус-Генрих засмеялся.
— Вот и хорошо, что оба мы позавтракали. Зна-
чит, можно сразу же ехать кататься.
— Кататься?
— Ну да, как мы уговаривались.
237
— Уговаривались?
— Неужели вы могли об этом забыть? — с трепе»
том сказал он. — Помните, я обещал показать вам
окрестности? И мы собирались проехаться вместе
верхом в погожий день? Ну вот, погода чудесная!
Взгляните сами...
— Погода недурная, — признала она, — но вы-то,
принц, по-моему, ведете себя черезчур бурно. По-
мнится, правда, в перспективе предполагалась вер-
ховая прогулка, но так скоро? Не мешало бы хоть
уведомить или, не в обиду вашему высочеству будь
сказано, спросить предварительно. Согласитесь, что
в таком виде я не могу скакать верхом по окрест-
ностям?
И она встала, чтобы продемонстрировать свой
утренний наряд — волны переливчатого шелка, не
прилегающие в талии, и накинутое сверху зеленое
бархатное фигаро.
— Увы, нет, — согласился он, — так ехать вы не
можете. Но я подожду здесь, пока дамы переоде-
нутся. Сейчас еще ведь рано...
— Даже весьма рано. Но, кроме того, я, как вы
видели, собралась было мирно позаниматься. В один-
надцать у меня лекция.
— Нет, нет, фрейлейн Имма, — запротестовал
он. — На сегодня оставьте вашу алгебру или парение
в безвоздушном пространстве, как вы это называете.
Посмотрите, как светит солнце... Разрешите? — Он
подошел к столику и взял в руки тетрадь. От того,
что он увидел, голова могла пойти кругом. По-дет-
ски неровно, жирно, от своеобразной манеры Иммы
держать перо, все страницы сплошь были испещрены
головокружительной абракадаброй, колдовским хоро-
водом переплетенных между собой рунических пись-
мен. Греческие буквы перемежались латинскими и
цифрами на различной высоте, среди них были вкрап-
лены крестики и черточки, и все это было вписано
над или под горизонтальной линией, наподобие дро-
бей, перекрыто стрелками и домиками из других
линий, приравнено друг к другу двойными штриш-
ками, круглыми скобками соединено в целые громады
238
формул. Отдельные буквы, выдвинутые, точно часо-
иые, были проставлены справа выше замкнутых
и скобки групп. Каббалистические знаки, непостижи-
мые для профана, обхватывали своими щупальцами
буквы и цифры, им предшествовали числовые дроби,
п цифры и буквы витали у них в головах и в ногах.
Повсюду были рассеяны непонятные слоги, сокраще-
ния загадочных слов, а между столбцами магических
чаклинаний шли целые фразы и заметки на обыкно-
иенном языке, однако их смысл тоже был настолько
пыше нормальных человеческих понятий, что уразу-
меть их было не легче, чем волшебные наговоры.
Клаус-Генрих поднял взгляд на стоявшую возле
него миниатюрную фигурку, окутанную переливча-
тым шелком и завесой черных волос. Подумать
только, что в ее своеобразной головке все это при-
обретает смысл и жизнь и дает пищу для высокой
игры ума!
— И ради этой черной магии вы готовы упустить
такое прекрасное утро?
Несколько мгновений она недоуменно смотрела на
него своими большими красноречивыми глазами.
И наконец ответила, выпятив губки:
— По-видимому, вашему высочеству угодно взять
реванш за недостаточное уважение к вашим собст-
венным занятиям, высказанное здесь в прошлый раз.
— Нет, нет, ни в коем случае! — запротестовал
он. — Даю вам слово, я благоговею перед вашей на-
укой. Только она пугает меня, потому что, каюсь,
мне она всегда была недоступна. А сегодня, должен
покаяться, она даже злит меня как помеха нашей
прогулке.
— Да ведь вы не меня одну отрываете от дела,
принц. Тут есть еще третье лицо — графиня. Она
работала. Она записывает свои воспоминания, не для
света, а для самого тесного круга. И ручаюсь вам,
что в итоге получится произведение, из которого мы
с вами, принц, почерпнем много для нас нового.
— Не сомневаюсь. Но я не сомневаюсь также,
что графиня ни в чем не может отказать вам, фрей-
лейн Имма.
239
— А мой отец? Вот вам четвертый довод. Вы
успели узнать зверский нрав моего отца. Даст ли он
согласие?
— Дал уже. Хотите ехать — поезжайте. Это его
подлинные слова...
— Вы успели заручиться его согласием? Дивлюсь
вашей предусмотрительности, принц. Вы действовали
прямо как полководец, хотя, по вашим же словам,
пы не настоящий солдат, а только для видимости.!
Кстати, есть еще и пятое возражение, и самое убеди-
тельное. Дождь будет.
— Ну, нет, это очень слабый довод. Небо луче-1
зарное...
— Дождь будет. Слишком уж тепло. Я это noJ
няла, когда мы до завтрака ходили к источнику. Не
верите — пойдемте посмотрим на барометр. Он висит
в аванзале.
Они и в самом деле направились в завешанную
гобеленами аванзалу, где рядом с мраморным ками-
ном висел большой барометр. Графиня тоже пошла
с ними.
— Поднимается, — сказал Клаус-Генрих.
— Ваше высочество, вы изволите заблуждаться, —
возразила фрейлейн Шпельман. — Вас обманывает
параллакс.
— Что вы сказали?
— Вас вводит в заблуждение параллакс.
— Фрейлейн Имма, я не знаю, что это такое. Так
же как и Адирондаке. Из-за моего образа жизни мне
ие пришлось много учиться. Вы должны быть сни-
сходительны ко мне.
— О, прошу всемилостивейше простить меня. Как
я могла забыть, что для вашего высочества надо вы-
ражаться популярнее. Вы стоите сбоку от стрелки,
потому вам и кажется, что она идет вверх. Если бы
вы соблаговолили стать прямо перед ней, то увидели
бы, что черная стрелка ничуть не выдвинулась над
золотой, а даже чуть-чуть опустилась.
— В самом деле, вы, кажется, правы, — с грустью
признал Клаус-Генрих. — Значит, давление воздуха
выше, чем я предполагал?
240
— Нет, ниже, чем вы предполагали.
— Но ведь ртуть опустилась?
— Ртуть опускается при низком давлении, а не
при высоком.
— Теперь я совсем запутался.
— Мне кажется, принц, вы в шутку преувеличи-
ваете свое невежество, чтобы затушевать его пре-
делы. Но раз давление воздуха так повысилось, что
ртуть падает, хоть это и указывает на серьезные не-
поладки в природе, все-таки поедем кататься. Ваше
мнение, графиня? Я не беру на себя смелости ото-
слать принца домой, раз уж он приехал. Попросим
его высочество посидеть в зимнем саду и подождать,
пока мы оденемся...
Имма Шпельман и графиня вернулись в костю-
мах для верховой езды: Имма в наглухо закрытой
черной шерстяной амазонке с прорезными карманами
на груди и в черной фетровой треуголке, а графиня
в амазонке из черного сукна с крахмальной мужской
манишкой и в цилиндре. Все трое спустились с лест-
ницы и через мозаичный вестибюль вышли на воздух,
где между колоннадой портала и большим бассей-
ном два грума ждали с лошадьми. Но не успели все
усесться в седло, как из дверей, заливаясь оглуши-
тельным визгливым лаем, признаком высшей степени
возбуждения, с яростной стремительностью урагана
выскочил, брызгая слюной, пес Персеваль и закру-
жился в буйной пляске вокруг лошадей, которые бес-
покойно вскидывали головы.
— Этого еще недоставало, — сквозь неистовый
гам выговорила Имма и похлопала испуганную
Фатьму по шее. — От него не скроешься. В послед-
нюю минуту все пронюхал. А теперь он отправится
с нами и поднимет вокруг всего этого дела ненужный
шум. Не отложить ли нашу затею, принц?
Хотя Клаус-Генрих понимал, что с таким же успе-
хом можно было прихватить с собой форейтора, кото-
рый дул бы в серебряную трубу и привлекал внима-
ние публики к их эскападе, однако он упрямо и весело
заявил, что не возражает против Персеваля,; пусть как
член семьи тоже познакомится с окрестностями.
16 Т. Манн, т. 2
241
— Так куда же? — спросила Имма, когда они
шагом тронулись по широкой каштановой аллее.
Она ехала между Клаусом-Генрихом и графиней.
Персеваль бесновался впереди. Грум англичанин,
с кокардой на шляпе и желтыми отворотами на са-
погах, следовал, как положено, поодаль.
— Охотничий заповедник очень живописен, — от-
ветил Клаус-Генрих, — но до Фазанника немного
дальше, а у нас достаточно времени, успеем к завтра-
ку. Мне хочется показать вам замок. Я прожил в нем
мальчиком три года. Там, понимаете, был устроен
интернат с учителями и другими воспитанниками.
Я там познакомился с моим другом Юбербейном,
с доктором Юбербейном, моим любимым учителем.
— У вас есть друг? — чуть не с изумлением спро-
сила фрейлейн Шпельман и посмотрела на Клауса-
Генриха. — Расскажите мне как-нибудь о нем. Зна-
чит, вы воспитывались в замке Фазанник? Тогда
нужно его посмотреть, я вижу, таково и ваше мнение.
Рысью! — скомандовала она, когда они свернули на
немощеную дорожку. — А вот и ваша обитель,
принц... У вас в пруду сколько угодно корма для
уток... Если можно, хорошо бы оставить в стороне
курортный парк.
Клаус-Генрих ничего не имел против этого, а по-
тому они выехали из района парков и напрямик, по-
лями, направились в сторону проезжей дороги, кото-
рая вела на северо-запад к намеченной ими цели.
В городском саду немногие гуляющие провожали их
изумленными взглядами и приветствиями, в ответ
Клаус-Генрих прикладывал руку к козырьку, а Имма
Шпельман серьезно и чуть смущенно наклоняла свою
темную головку в треуголке. Теперь они были за го-
родом, и новых встреч не предвиделось. Кое-где по
шоссе тащилась крестьянская телега или, пригнув-
шись, работал педалями велосипедист. Но наши всад-
ники держались луговых тропок по обочине, где ло-
шадям мягче и вольнее было ступать. Персеваль
выплясывал перед лошадьми в непрерывном лихора-
дочном ожидании, в непрерывном движении, прыгал,
вилял, вертелся волчком — задыхаясь, высунув язык
242
по всю длину, брызгая слюной и время от времени
и отрывистых повизгиваниях, похожих на стоны, да-
пал выход бессмысленному терзанию своих нервов,
Л дальше он стал носиться по полям, насторожив
\ши, короткими и резкими скачками бросался вдо-
гонку какой-нибудь живности или ожесточенно пре-
следовал промелькнувшего зайца и оглашал окрест-
ный воздух заливчатым лаем.
Разговор шел о Фатьме, Клаус-Генрих впервые
видел ее вблизи и непритворно восхищался ею. Ско-
сив огненные глаза, она высокомерно кивала своей
изящной головой, сидящей на длинной мускулистой
шее. Как полагается коням арабской породы, у Фать-
мы были стройные ноги и серебристый развевающийся
хвост. Сама белая, как лунный луч, она ходила под
белым седлом с белыми подпругами и уздечкой из бе-
лой кожи. Флориан, довольно вялый гнедой с корот-
кой спиной, подстриженной гривой и желтыми ногав-
ками, казался рядом со знатной чужестранкой каким-
то простецким ослом, хотя и был достаточно выхолен.
Под графиней Левенюль была рослая буланая ко-
была Изабо. Графиня превосходно сидела в седле,
чему способствовала ее высокая статная фигура,
хотя непропорционально маленькая голова в муж-
ском цилиндре была наклонена вбок, а глаза сощу-
рены так, что веки почти сходились. Клаус-Генрих об-
ратился к ней, перегнувшись в седле за спиной фрей-
лейн Шпельман; но она не ответила, уставившись
полуприкрытыми глазами в одну точку, с ангельским
выражением лица.
— Оставим графиню в покое, принц, она погло-
щена своими думами, — сказала Имма.
— Мне было бы от души жаль, если бы графиня
поехала с нами неохотно, — сказал он и был искренне
изумлен, когда Имма Шпельман равнодушно отве-
тила:
— Правду говоря, так оно и есть.
— Из-за своих записок? — спросил он.
— Что там записки! Это дело неспешное, вернее
просто времяпрепровождение, хотя, между нами, я
надеюсь извлечь из них много назидательного. Но
16*
243
должна сознаться, принц, что графиня отзывается
о вас не слишком благожелательно. По крайней мере
мне она говорила о вас именно в таком духе. По ее
мнению, вы сухи и суровы и прямо-таки обдали ее
холодом.
Клаус-Генрих покраснел.
— Я и сам знаю, фрейлейн Имма, — вполголоса
начал он, опустив глаза на поводья, — что во мне нет
ничего такого, что бы согревало, разве только изда-
лека. Это тоже связано с особенностями моей жизни,
как я уже говорил. Но не помню, чтобы я был сух и
суров с графиней.
— Вероятно, не на словах, — возразила Имма,—
но вы не дали ей пофантазировать, не оказали ей
милости поболтать с ней, потому она и в обиде на
вас. Ясно вижу, как это у вас вышло, как больно вы
сделали бедняжке, как обдали ее холодом, — мне все
это ясно, — повторила она и отвернулась.
Клаус-Генрих молчал. Левой рукой он упирался
в бедро, и глаза его выражали усталость.
— Вам это ясно, фрейлейн Имма? — спросил он
наконец. — Значит, и на вас я действую расхолажи-
вающе?
— Рекомендую вам, принц, ни в малейшей сте-
пени не переоценивать действие, которое вы на меня
производите, — не задумавшись ни на миг, прогово-
рила она своим ломающимся голосом и при этом вы-
пятила губы и покрутила головкой. Затем сразу пе-
ревела Фатьму на галоп и с такой быстротой помча-
лась полем к темневшей вдали полосе соснового бора,
что ни графиня, ни Клаус-Генрих не могли догнать
ее. Только на опушке леса, через который пролегало
шоссе, она остановилась, повернула лошадь и с на-
смешливой гримаской стала поджидать поспешав-
ших за ней спутников.
Графиня Левенюль на своей рослой Изабо пер-
вая очутилась возле беглянки. Затем подоспел хра-
пящий и озадаченный таким непривычным аллюром
Флориан. Смеясь и с трудом переводя дух, все трое
въехали под гулкие своды леса. Графиня совсем оч-
нулась и оживленно болтала, энергично и изящно
244
жестикулируя и показывая свои белые зубы. Она
шутливо принялась увещевать Персеваля, который
снова зашелся после стремительного бега и в неи-
стовстве вертелся перед лошадьми среди высоких
стволов.
— Вы бы посмотрели, ваше королевское высоче-
ство, как он прыгает... как вольтижирует... Он с та-
кой грацией и легкостью берет овраги и ручьи
в шесть метров шириною, что любо-дорого смотреть.
Но исключительно по собственной охоте, добро-
вольно. Мне кажется, он скорее дал бы себя растер-
зать, чем подчинился дрессировке и стал делать фо-
кусы по заказу. У него есть, так сказать, внутренняя,
врожденная дрессировка и дисциплина, он может
сколько угодно буйствовать, но грубым не бывает
никогда. Это аристократ, дворянин благородных кро-
вей и строгого нрава. О да, он —гордец, он предста-
вляется бешеным, но отлично умеет себя обуздывать.
Никто ни разу не слышал, чтобы он визжал от боли,
когда ему случалось пораниться или когда его нака-
зывали. И пищу он принимает только если голоден,
а иначе отвергает самые лакомые куски. По утрам
ему дают сливки... его надо хорошо питать. Его по-
жирает внутренний огонь, он ужасно худ, под шелко-
вистой шерстью у пего можно пересчитать все ребра,
и, к несчастью, надо опасаться, что он не доживет
до старости, а преждевременно погибнет от чахотки...
Чернь его преследует, окружает, дразнит по всем
переулкам; он же брезгливо отстраняется, но никогда
не позволит себе грубости; только если дойдет до от-
крытого насилия, он так укусит своими великолеп-
ными зубами, что эти плебеи долго будут его по-
мнить. Такая рыцарственность в сочетании с таким
целомудрием поистине достойна любви.
Имма горячо поддержала графиню — более ис-
кренних и непритворно серьезных слов Клаус-Ген-
рих еще не слышал из ее уст.
— Да, Перси, ты мне верный друг, я никогда не
оставлю тебя. Один специалист иашел его душевно
больным, это будто бы не редкость среди породистых
собак, и посоветовал умертвить его, потому что он
245
невыносим и не даст нам ни дня покоя. Но я ни за
что не расстанусь с моим Перси. Да, правда, он бы-
вает несносен, и с ним иногда нелегко; но тем не ме-
нее он трогательный, добрый, и я всей душой распо-
ложена к нему.
После этого графиня опять заговорила о свой-
ствах Персеваля, но вскоре речь ее стала сбивчива и
непонятна, перешла на монолог с оживленной и изящ-
ной жестикуляцией; под конец, взглянув на Клауса-
Генриха прищуренными глазами, она впала в свою
обычную задумчивость.
Клаус-Генрих повеселел и утешился, то ли от
бодрого галопа, — впрочем, ему пришлось порядком
напрячь силы, потому что в седле он имел красивый,
импозантный вид, но из-за левой руки ездил верхом
не очень уверенно, — то ли по другой причине. Когда
они выбрались из хвойного леса и шагом ехали по
безлюдной дороге, между лугами и распаханными
полями, среди которых редко-редко попадался кре-
стьянский хутор или деревенский трактир, а впереди
маячила новая роща, Клаус-Генрих, понизив голос,
сказал:
— Может быть, вы исполните свое обещание,
фрейлейн Имма, и расскажете про графиню? Каким
образом она стала вашей компаньонкой?
— Она моя подруга и в известном смысле моя
наставница, хотя она появилась у нас, когда я была
уже взрослой. Это произошло три года назад в Нью-
Йорке, графиня была тогда в отчаянном положении.
Она умирала с голоду, — сказала Имма Шпельман и,
говоря это, посмотрела на Клауса-Генриха своими
большими черными испытующими глазами, в которых
теперь выражался ужас.
— Неужели умирала с голоду? — переспросил он,
отвечая ей таким же взглядом. — Пожалуйста, рас-
сказывайте дальше!
— Я тоже не могла этому поверить, когда она
впервые пришла к нам, и хотя я, конечно, видела,
что голова у нее не в порядке, она произвела на
меня такое сильное впечатление, что я упросила отца
взять ее ко мне в компаньонки.
246
— Как она попала в Америку? Она по рождению
графиня?—спросил Клаус-Генрих.
— Не графиня, но дворянского рода, выросла
в благополучной и мирной обстановке, по ее словам,
на нее ветерку не давали подуть, потому что она
с детских лет была болезненно чувствительна и нуж-
далась в особо бережном отношении. Но потом она
вышла замуж за графа Левенюля, он был кавале-
рийский офицер, ротмистр, — но, по ее рассказам,
аристократ довольно сомнительный, мягко выражаясь,
отнюдь не образцовый.
— Что ж он был за человек? — спросил Клаус-
Генрих.
— Этого я не могу вам точно сказать, принц.
Примите во внимание, что графиня выражается не-
сколько туманно. Но, судя по намекам, это был та-
кой необузданный и бессовестный человек, что даже
и вообразить себе нельзя... Ну, знаете, бывают такие
распущенные люди...
— Знаю, знаю, — подхватил Клаус-Генрих, — что
называется гуляка, жуир, кутила.
— Хорошо, назовем его кутилой, но самым что ни
на есть разнузданным. Из намеков графини можно
заключить, что для этого вообще нет предела...
— Мне кажется тоже, что нет,— подтвердил Кла-
ус-Генрих.— Мне встречались люди такого типа,—
как говорится, отчаянные головы. Об одном я слы-
шал, что он, в своем автомобиле и притом на полном
ходу, заводит романы.
— Вы это слышали от своего друга Юбербейна?
— Нет, из другого источника. Юбербейн нашел
бы, что мне не подобает знать о таких похождениях.
— Значит, он никому не нужный друг.
— Когда я побольше расскажу вам о нем, фрей-
лейн Имма, вы оцените его. Но, пожалуйста, про-
должайте.
— Ну, словом, я не знаю, поступал ли Левенюль
так, как ваш жуир... Но вел он себя ужасно...
— Представляю себе — играл, пил.
— По всей вероятности, и это. Но, кроме того,
он еще, как вы выражаетесь, заводил романы
247
с безнравственными особами, — они ведь встречаются
повсюду, — обманывал графиню, сначала тайком, но
потом даже и не тайком, а нагло, открыто, ничуть не
щадя и не жалея ее.
— Но объясните мне, зачем она вышла за него
замуж?
— Потому что влюбилась в него; вышла против
воли родителей, так она мне сказала. Во-первых, ко-
гда они познакомились, он был красавец, потом-то
он опустился и внешне. А во-вторых, за ним устано-
вилась репутация жуира, и это, по ее словам, ока-
зало на нее особо притягательное действие. Недаром
же она после того, как ее так опекали и оберегали,
во что бы то ни стало решила соединить с ним свою
судьбу, и разубедить ее не было возможности. Если
подумать, это можно понять.
— Да, — подтвердил он. — Мне это понятно. Ей
как бы хотелось отправиться на разведки, хотелось
все испытать. Вот она и прошла огонь и воду и мед-
ные трубы.
— Конечно, можно сказать и так. Только выраже-
ние это чересчур фривольно для того, что ей дове-
лось испытать. Муж бесчеловечно обращался с ней.
— Неужели бил?
-..— Да, поднимал на нее руку. Но то, что я рас-
скажу вам сейчас, об этом даже вы, принц, никогда
не слыхали. Она намеками дала мне понять, что он
бил ее не только в гневе, не только в пылу раздра-
жения, в разгар ссоры, но и без таких поводов, про-
сто ради собственного удовольствия. Как это ни
омерзительно, но побои были у него чем-то вроде
любовных ласк.
Клаус-Генрих молчал. У обоих был очень серьез-
ный вид. Наконец он спросил:
— Были у графини дети?
— Да, двое. Они умерли совсем маленькими,
оба прожили несколько недель, и это, пожалуй,
самое тяжелое из всего, что выпало на ее долю.
Она намекала, что дети не могли жить по вине тех
безнравственных особ, с которыми муж ее обма-
нывал.
Ш
Они снова замолчали. Глаза их выражали глубо-
кое раздумье.
— Вдобавок он растратил на карты и женщин
ее приданое, — продолжала Имма. — Приданое было
довольно значительное, а после смерти ее родителей
туда же пошло и все, что они ей оставили. Родствен-
ники графини еще раз выручили его, когда ему из-за
долгов чуть не пришлось выйти в отставку. Но тут
случилась какая-то совсем уж вопиющая позорная
история и окончательно его погубила.
— Что же это за история? — спросил Клаус-Ген-
рих.
— Точно не могу вам сказать, принц, но из от-
дельных слов графини можно заключить, что это
было нечто в высшей степени постыдное, — мы ведь
с вами уже установили, что для этого вообще нет
предела.
— Тут-то он и уехал в Америку?
— Угадали, принц. Не могу не отдать должного
вашей проницательности.
— Ах, фрейлейн Имма, лучше рассказывайте
дальше. Я никогда не слышал ничего похожего на
то, что случилось с графиней...
— И я тоже. А потому можете судить, какое она
на меня произвела впечатление, когда явилась к нам.
Итак, граф Левенюль, спасаясь от преследования по-
лиции, бежал в Америку, но, разумеется, оставил
большие долги. Графиня поехала с ним.
— Поехала с ним? Зачем?
— Затем, что она все еще любила его и любит
до сих пор, несмотря ни на что, и непременно же-
лала разделить его участь. Он же, надо полагать,
взял ее с собой только потому, что, пока она была
с ним, он скорее мог рассчитывать на помощь ее род-
ственников. Родные действительно один раз послали
им за океан какую-то сумму, но потом окончательно
отступились от них, и когда граф Левенюль увидел,
что жена ничем ему не может быть полезна, он, не
долго думая, бросил ее совершенно одну в нищете,
а сам скрылся.
249
— Так я и знал,— сказал Клаус-Генрих. — Я так
и предполагал. Так это и бывает.
Но Имма Шпельман продолжала рассказывать:
— И вот она очутилась без всяких средств, без
помощи, а так как ее не научили зарабатывать себе
на пропитание, она была безжалостно отдана во
власть нужды и голода. А жизнь за океаном, как
видно, еще суровее и беспощадней, чем здесь у вас,
главное же надо принять во внимание, что графиня
всегда была болезненно чувствительна, и вдобавок
над ней столько лет подряд жестоко издевалась
судьба. Словом, ей не под силу было выдержать те
испытания, которым ее непрерывно подвергала
жизнь. Вот тут-то ее и осенила благодать.
— Да, что это за благодать? Она и мне говорила
о ней. Что она понимает под благодатью, фрейлейн
Имма?
— Благодать заключалась в том, что у нее пому-
тился ум, когда горе ее дошло до предела, в ней
что-то надорвалось, — так она сама рассказывала
мне, — и ей больше не надо было трезвым рассудком
держать себя в узде и противостоять жизни. Она, так
сказать, получила право давать себе иногда волю,
сделать передышку и немножко поболтать. Словом,
благодать заключалась в том, что она стала чудако-
ватой.
— У меня было такое впечатление, что графиня
дает себе волю, когда начинает болтать.
— Так оно и есть, принц. Она это отлично пони-
мает и, болтая, тут же улыбается или старается ввер-
нуть, что никому ведь этим не вредит. Ее чудаче-
ство— это своего рода благодетельное помрачение
рассудка, и она в известной мере по собственному
произволу может допускать себя до него или нет.
Если хотите это недостаток...
— Выдержки... — подсказал Клаус-Генрих и опу-
стил глаза на поводья.
— Пусть будет выдержки, — согласилась она и
посмотрела на него. — По-видимому, вы, принц, не
одобряете вышеупомянутого недостатка.
— Да, я считаю, что давать себе волю и распу-
250
гкаться никак нельзя, — тихо ответил он, — наоборот,
при всех обстоятельствах обязательно сохранять вы-
держку.
— Ваше высочество изволит прокламировать по-
хвальную строгость нравов, — заметила она. И, вы-
пятив губы, покрутив темной головкой в треуголке,
добавила своим ломающимся голосом:—А теперь
пот что я вам скажу, ваше высочество, и прошу при-
нять мои слова во внимание. Если вашей высокой
особе не благоугодно будет проявлять впредь хоть
каплю сострадания, снисхождения и жалости, то мне
с прискорбием придется раз навсегда лишить себя
нашего августейшего присутствия.
Он опустил голову, и они некоторое время ехали
молча.
— А вы не хотите досказать, как графиня попала
к вам? — спросил он наконец.
— Нет, не хочу, — ответила она, не глядя на него.
Но он так просил и молил, что она согласилась
докончить свой рассказ.
— Это вышло очень просто. Графиня явилась
к нам на Пятую авеню, так как услышала, что для
меня ищут компаньонку немку. И хотя, кроме нее,
явилось еще пятьдесят дам, я сразу же выбрала
ее, — ведь выбор был предоставлен мне, — настолько
сна покорила меня после первого же разговора. Я
сразу заметила, что она какая-то чудаковатая, но она
стала такой оттого, что слишком хорошо узнала, как
много на свете горя и какие бывают гадкие люди. Это
чувствовалось в каждом ее слове, а дело в том, что
я-то с детства была почти одинока, изолирована от
жизни и ни о чем представления не имела. Универ-
ситетские занятия не в счет!
— Ну да, вы с детства были почти одиноки и
изолированы от жизни! — повторил Клаус-Генрих, и
в голосе его прозвучала радость.
— Так я и сказала. Я вела довольно скучную и
нелепую жизнь, да и сейчас продолжаю вести, ведь,
в сущности, почти ничего не изменилось. Везде одно
и то же. Там бывали балы и вечера со знамени-
тыми артистами, а иногда меня отвозили в закрытом
251
автомобиле в оперу, где мне была оставлена открытая
ложа над самым партером, чтобы я была видна вся
целиком, и я сидела for show, как говорят за океа-
ном. Этого требовало мое положение.
— For show?
— Да, for show. Это обязательство выставлять
себя напоказ, не воздвигать стен между собой и
людьми, а, наоборот, допускать их в сады, чтобы они
смотрели через лужайку на террасу, где мы сидим
и пьем чай. Моему отцу, мистеру Шпельману, это
было в высшей степени противно. Но этого требовало
наше положение.
— А как вы жили остальное время, фрейлейн
Имма?
— Что ж, весной уезжали в Адирондаке на свою
виллу, а летом в Ньюпорт у моря на свою виллу.
Там, разумеется, устраивались пикники, и цветочные
корсо, и теннисные состязания, там катались верхом и
в шарабане, запряженном четверкой, или в автомо-
биле, а люди останавливались и глазели на дочку
Самуэля Шпельмана. А некоторые ругались мне
вслед.
— Ругались?
— Да, надо полагать, у них были на это причины.
Словом, мы жили какой-то ненастоящей, рассчитан-
ной на гласность жизнью.
— А в промежутках, — подхватил он, — не правда
ли, парили в безвоздушном пространстве, где нет
пыли.
— Верно. Ваше высочество отличается порази-
тельной сметкой. После всего этого вы поймете, как
я обрадовалась появлению графини у нас на Пятой
авеню. Она и вообще выражается довольно туманно,
скорее даже загадочно, так что не всегда можно уло-
вить момент, когда она начинает заговариваться. Но
для меня именно это важно и поучительно, потому
что дает мне верное представление о том, сколько на
свете горя и как много в нем гадкого. Сознайтесь,
вы мне завидуете, что у меня есть графиня?
— Ну уж и завидую... По-видимому, вы считаете,
фрейлейн Имма, что я совсем ничего не знаю о жизни.
252
— А вы что-нибудь знаете?
— Пожалуй, кое-что. Например, я слышал о на-
ших лакеях такое, что вам даже и не грезилось.
— Неужели лакеи такие дурные люди?
— Дурные? Они негодяи, иначе их не назовешь.
Во-первых, они плутуют, пускаются на всякие хит-
рости, берут деньги от поставщиков...
— Ну, принц, это еще пустяки.
— Конечно, с тем, что довелось узнать графине,
это не сравнится...
Они перешли на рысь, около путевого столба по-
кинули пересекавшее лес шоссе с пологими подъе-
мами и спусками и свернули на песчаный, похожий
на ложбину проселок, поросший по высоким обочи-
нам ежевикой и упирающийся в угодья замка Фа-
занник, — окруженные кустарником луговины и по-
лянки.
Здесь Клаус-Генрих был как дома; он поминутно
на что-нибудь указывал своим спутницам правой ру-
кой, стараясь ничего не упустить, хотя ничего досто-
примечательного, собственно, не было. Вон там на
опушке леса виднеются гонтовая крыша и громоот-
воды замка, сейчас запертого и безмолвствующего.
А вон там сбоку фазаний питомник, по которому на-
звано все поместье, а тут садик при Штафенютеров-
ском трактире, где они нередко сиживали с Раулем
Юбербейном. Над непросохшими лугами мягко све-
тило солнце, как оно светит только ранней весной,
и бросало нежный перламутровый отблеск на обсту-
пившие горизонт дальние леса.
Не слезая с лошадей, они остановились рядом
у трактирного садика, и Имма Шпельман внима-
тельно оглядывала замок, иначе говоря скромный за-
городный дом, именовавшийся замком Фазанник.
— Судя по всему, ваши юные годы протекали от-
нюдь не в умопомрачительной роскоши, — проронила
она, выпятив губки.
— Да, этот замок ничем не замечателен, — рас-
смеялся он. — И внутри не лучше, чем снаружи. Ни-
какого сравнения с Дельфиненортом, даже до того,
как вы его реставрировали.
253
— А теперь сделаем привал, — сказала она. — Не
правда ли, графиня, во время прогулок всегда де-
лают привал? Спешимся, принц! Мне пить хочется,
посмотрим, чем нас может угостить ваш Штафенютер,
Господин Штафенютер в зеленом фартуке с на-
грудником, в штанах, заправленных в смазные са-
поги, был уже тут как тут, обеими руками прижимал
к груди вышитую ермолку и смеялся от умиления,
обнажая беззубые десны.
— Ваше королевское высочество! — захлебываясь
от восторга, говорил он. — Неужто в самом деле ваше
королевское высочество изволили еще раз осчастли-
вить меня? И барышня тоже! — благоговейно доба-
вил он; Штафенютер отлично знал дочь Самуэля
Шпельмана, и не менее усердно, чем прочие обита-
тели великого герцогства, читал газетную хронику,
в которой имена принца Клауса-Генриха и фрейлейн
Иммы стояли рядом. Он помог графине, так как
Клаус-Генрих, соскочив с седла, всецело посвятил
себя заботам о барышне Шпельман, затем Штафе-
нютер кликнул работника и тот вместе с шпельманов-
ским грумом занялся лошадьми. Но после этого
Клаус-Генрих не преминул выполнить весь привыч-
ный ему ритуал приветствий и аудиенций. Приняв
официальную позу, он задал несколько трафаретных
вопросов раболепно склоненному Штафенютеру, мило-
стиво осведомился о его здоровье и положении дел,
а выслушивая ответы, энергично кивал головой, дабы
показать видимость внимания и участия. Имма
Шпельман обеими руками держала хлыст, сгибая и
разгибая его, и серьезным, испытующе блестевшим
взглядом созерцала эту мастерски и бесстрастно ра-
зыгранную сцену.
— Позволю себе напомнить, что я погибаю от
жажды, — сказала она наконец язвительно и раздра-
женно, и только после этого все проследовали в сад
и стали совещаться, входить ли в трактирную залу,
или нет. По мнению Клауса-Генриха, под деревьями
было еще слишком сыро, но Имма настояла на том,
чтобы расположиться на свежем воздухе, и сама вы-
брала один из узких, длинных трактирных столов со
254
скамьями по обе стороны, а господин Штафенютер
поспешил накрыть его белой скатертью.
— Лимонад! — предложил он. — Лучше нет от
жажды, и товар доброкачественный! Смею заверить
ваше королевское высочество и вас, милостивые госу-
дарыни, это не смесь какая-нибудь, а натуральный
подсахаренный сок, самый пользительный налиток.
Когда носик бутылки приоткрывался, в горлышко
опускался стеклянный шарик, и пока высокие гости
пробовали лимонад, господин Штафенютер не отхо-
дил от стола, считая своим долгом поддержать бе-
седу.
Он давно овдовел, а его дети, те самые, которые
когда-то здесь под навесом из листвы пели: «Все мы
люди, только люди», — и при этом сморкались в руку,
все трое разлетелись из дому — сын в городе служил
в солдатах, из дочерей одна вышла замуж за фер-
мера тут же по соседству, а другой такая низкая
доля была не по нутру, и она пошла в услужение
к господам. И господин Штафенютер один хозяйни-
чал в своем уединенном уголке, исполняя при этом
тройные обязанности, — он был арендатором принад-
лежащего к замку трактира, управителем замка и
надзирателем при фазаньем питомнике, но на судьбу
отнюдь не роптал. Если такая погода продержится,
скоро начнется сезон велосипедистов и гуляющих, по
воскресеньям их в садике бывает полным-полно.
И торговля пойдет на славу. Не угодно ли высоким
посетителям осмотреть фазаний питомник?
Да, конечно, только попозже; после этого госпо-
дин Штафенютер, как человек, сведущий в прили-
чиях, временно удалился, не забыв поставить около
стола миску с молоком для Персеваля.
Перси успел по дороге угодить в болото и был по-
хож на черта. Ноги от мокроты казались совсем тон-
кими, а белые пятна на взлохмаченной шерсти были
перепачканы глиной. Открытая пасть была черна до
самой глотки, потому что он рыл* ею землю в поисках
полевок, а из пасти свисал черно-красный, треуголь-
ный на конце, как у грифа, увлажненный слюной
язык. Он торопливо вылакал молоко и растянулся
255
на боку у ног своей хозяйки, прерывисто дыша и
в изнеможении запрокинув голову.
Клаус-Генрих находил недопустимым, чтобы
Имма после верховой езды ничего на себя не наки-
нула, когда весенний воздух так обманчив.
— Возьмите хоть мою шинель! — уговаривал
он. — Мне она, ей-богу, не нужна, мне и так тепло,
у меня грудь мундира выложена ватой!
Она и слышать об этом не желала, но, так как
он настаивал и упрашивал, она согласилась, чтобы
он накинул ей на плечи серую военную шинель
с майорскими эполетами. Закутавшись в нее, она
подперла ладонью свою темную головку в треуголке
и смотрела на него, когда он, протянув руку в напра-
влении замка, рассказывал про свою прежнюю
жизнь здесь.
Вон там в нижнем этаже, где высокие окна, была
столовая, тут классная, а там наверху комната
Клауса-Генриха с гипсовым торсом на кафельной
печи. Он рассказал о профессоре Кюртхене, с его
тактичным методом опрашивания уроков, о капи-
танше Амелунг, об аристократических «фазанах», ко-
торые все обзывали «свинством», главное же, о Рауле
Юбербейне, своем друге, тем более что Имма все
время возвращалась к нему. Клаус-Генрих поведал
о сомнительном происхождении доктора, о том, что
он был отдан чужим людям, которым за это запла-
тили, о ребенке в болоте или омуте, о медали за
спасение утопающих, о том, сколько мужества и
честолюбия потребовалось ему, чтобы пробиться
в жизни при тех суровых условиях, где все зависит
только от самого себя и которые он называл благо-
приятными условиями; о его тесной дружбе с докто-
ром Плюшем, с которым Имма познакомилась. Он
обрисовал малопривлекательную наружность Юбер-
бейна и нашел особенно радостные слова, чтобы
объяснить, почему его все-таки сразу же потянуло
к этому учителю, описал отношение Юбербейна
к нему, Клаусу-Генриху, — такого отеческого и добро-
душно непринужденного товарищеского тона не по-
зволял себе никто другой, — постарался по мере сил
256
дать представление об юбербейновских взглядах
на жизнь и в итоге посетовал на то, что доктор
не снискал себе настоящей симпатии своих со-
граждан.
— Я в этом и не сомневалась, — заметила Имма.
Он удивился и спросил, почему, собственно, она
не сомневалась.
— Потому что я уверена, что этот Юбербейн, при
всей своей задорной болтовне, нехороший человек,—
ответила она, покрутив головкой. — Он много разгла-
гольствует, но устоев у него никаких нет, и потому
он дурно кончит, принц.
Клаус-Генрих некоторое время не мог опомниться,
озадаченный ее словами. Затем обратился к графине,
которая улыбалась, очнувшись от задумчивости, и
сделал ей комплимент по поводу ее умения ездить
верхом, за что она выразила благодарность учтиво и
оживленно. Сразу видно, заметил он, что она с юных
лет сидела в седле, и графиня подтвердила, что
уроки в манеже составляли существенную часть ее
воспитания. Она говорила разумно и весело, но по-
степенно, почти неприметно, уклонилась с проторен-
ного пути и начала плести что-то несусветное о своей
удали в качестве корнета-кавалериста в последнем
походе и совершенно неожиданно свернула на не-
вообразимо развратную жену фельдфебеля лейб-гре-
надерского полка, которая сегодня ночью явилась
к ней в спальню, жестоко исцарапала ей грудь и при
этом говорила нечто такое, что она даже повторить
не может. Клаус-Генрих осторожно спросил, были ли
заперты окна и двери.
— Конечно, были, но на что же форточка! — то-
ропливо ответила она. Так как у нее при этом одна
половина лица побледнела, а другая покраснела,
Клаус-Генрих поспешно закивал, постарался успо-
коить ее ласковыми словами и даже предложил, опу-
стив глаза, называть ее некоторое время «фрау
Мейер», на что она тотчас же с жаром согласилась,
но при этом продолжала улыбатйся загадочной улыб-
кой и смотреть куда-то в сторону странно манящим
взглядом.
17 Г. Манн, т. 2
257
Когда они направились осматривать питомник,
Клаус-Генрих получил обратно свою шинель, а, вы-
ходя из сада, Имма Шпельман сказала:
•■— Одобряю. Так и надо было, принц. Вы делаете
успехи.
Он вспыхнул от этой похвалы, доставившей ему
куда больше удовольствия, чем один из тех помпез-
ных газетных отчетов об окрыляющем воздействии
его августейшей особы, которые приносил ему для
прочтения тайный советник Шустерман.
Господин Штафенютер проводил своих гостей
в обнесенные оградой лужайки и заросли кустарника,
где шесть или семь фазаньих семейств жили в до-
вольстве, как обеспеченные рантье; они понаблюдали
за повадками пестрых красноглазых птиц с торча-
щими хвостами, осмотрели помещение для выводки
птенцов и присутствовали при кормлении, которое
господин Штафенютер специально для их удоволь-
ствия устроил под пушистой елью, стоявшей поодаль
от других; в итоге Клаус-Генрих весьма одобрительно
отозвался обо всем виденном. Пока он исполнял эту
формальность, Имма Шпельман не сводила с него
испытующего взгляда своих больших темных глаз.
Подле трактира они снова сели в седло и тронулись
в обратный путь, а Персеваль с яростным воем изви-
вался под ногами у лошадей.
И тут-то на обратном пути Клаусу-Генриху по
ходу беседы открылись еще кое-какие немаловажные
черты характера и натуры Иммы Шпельман, дающие
ключ к пониманию ее личности и послужившие ему
поводом для длительных размышлений.
А именно: вскоре после того, как ложбина, порос-
шая по краям ежевикой, осталась позади и они вы-
ехали на шоссе с плавными подъемами и спусками,
Клаус-Генрих навел разговор на тему, которая была
затронута за чайным столом в первое его посещение
Дельфиненорта и тут же резко оборвана, но не пере-
ставала смутно беспокоить его.
— Кстати, разрешите задать вам один вопрос,
фрейлейн Имма, — сказал он. — Вы можете не отве-
тить на него, если не захотите.
258
— Там видно будет, — ответила она.
— Месяц назад, — начал он, — когда я имел удо-
вольствие впервые беседовать с вашим отцом, госпо-
дином Шпельманом, я задал ему вопрос, на который
он ответил так скупо и уклончиво, что я боюсь, не
совершил ли я промаха или неделикатности.
— О чем же вы спросили?
— Я спросил, тяжело ли ему было расставаться
с Америкой?
— Ну конечно, принц, это был один из характер-
ных для вас вопросов, чисто княжеский вопрос. Будь
у вас больше привычки мыслить логически, вы бы
про себя сделали вывод, что если бы моему отцу не
было легко и приятно расставаться с Америкой, он
ни в коем случае не расстался бы с ней.
— Пожалуй, вы правы, фрейлейн Имма, простите
меня, я не умею так уж четко мыслить. Но если
я своим вопросом погрешил только против логики,
это еще полбеды. Можете вы меня хоть в этом успо-
коить?
— Увы, принц, даже и в этом не могу, — ответила
она и вскинула на него свои блестящие черные
глаза.
— Так я и знал! Так и знал! Но в чем же дело?
Откройте мне эту тайну, если тут есть тайна. Вы это
должны сделать во имя нашей дружбы.
— Разве мы друзья?
— Я думал, что — да, — с мольбой произнес он*
— Ну, хорошо, не унывайте! Я этого не знала*
Однако всегда приятно услышать что-то новое. Но
вернемся к моему отцу, его в самом деле раздражил
ваш вопрос, он вообще очень раздражителен, и, надо
сказать, у него в жизни было исключительно много
поводов для развития этого качества. Дело в том,
что американское общественное мнение было распо-
ложено отнюдь не в нашу пользу. Там большую роль
играют всякие интриги и происки... предупреждаю,
я не в курсе всех подробностей, знаю только, что
там ведется деятельная политическая агитация
с целью восстановить против нас большинство, ну,
знаете, всех тех, кому не повезло. Из-за этого
17*
259
постоянно возникали какие-то тяжбы и неприятности,
и все это отравляло моему отцу жизнь за океаном.
Вы ведь знаете, принц, что не он создал наше благо-
состояние, а мой гадкий дед своим Paradise Nugget и
своей Blockhead Farm. Отец тут ни при чем, он уна-
следовал свою участь и уживается с ней нелегко, от
природы он человек застенчивый, с нежной душой и
предпочел бы всю жизнь только играть на органе и
коллекционировать стекло. Я даже думаю, что нена-
висть, среди которой мы в последнее время жили из-
за всех этих происков, — доходило до того, что люди
выкрикивали мне вслед ругательства, когда я ехала
в автомобиле, — так вот я говорю, именно их нена-
висть довела его до почечных камней. Это очень мо-
жет быть.
— Я всей душой почитаю вашего батюшку,—
с горячностью заявил Клаус-Генрих.
— Без этого я и не мыслю себе нашей дружбы,
принц, но было и нечто другое, что осложняло нам
жизнь в Америке. Это связано с нашим происхожде-
нием.
— С вашим происхождением?
— Да, принц, мы отнюдь не аристократические
фазаны и, к сожалению, ведем свой род не от Ва-
шингтона и не от первых поселенцев...
— Конечно, вы ведь немцы.
— Это верно, и все-таки не все тут благополучно.
Снизойдите разок до того, чтобы внимательно при-
глядеться ко мне. По-вашему, такие черные космы,
которые вечно падают куда не следует, — признак
благородного рода?
— Боже ты мой, да у вас удивительно красивые
волосы, фрейлейн Имма! — воскликнул Клаус-Ген-
рих. — И я знаю, что в вас есть южноамериканская
кровь, ваш почтенный дедушка вывез себе жену не
то из Боливии, не то откуда-то еще, словом, из тех
мест, я сам читал в газетах.
— Это-то верно. Но в этом и вся суть. Я, принц,
квинтеронка.
— Как вы сказали?
— Квинтеронка.
260
— Это из области Адирондаксов и параллаксов.
Я не знаю, что это такое, фрейлейн Имма. Ведь я же
говорил вам, что меня мало чему учили.
— Сейчас объясню. Дедушка, по своему обычаю,
поступил необдуманно и женился на особе, в которой
текла индейская кровь!
— Индейская?
— Да, да. Дело в том, что вышеупомянутая особа
п третьем поколении происходила от индейцев, ее
отец был белый, а мать наполовину индианка, — зна-
чит, сама она была терцеронка, — так их зовут,—
говорят, красавица поразительная! Это и была моя
бабушка. Внуки таких бабушек называются квинте-
ронами. Вот как обстоит дело.
— Да, это очень интересно. Но вы как будто го-
ворили, что это влияло на отношение к вам?
— Ах, ничего-то вы не знаете, принц! Так знайте
же, что в Америке индейская кровь считается позо-
ром. Таким страшным позором, что дружеские и лю-
бовные союзы разрываются без всякой пощады, если
только на одной из сторон обнаружится это позор-
ное клеймо. Ну, правда, с нами дело обстоит не так
уж плохо, даже и квартероны, слава тебе господи,
считаются не совсем отверженными, а квинтероноп
можно почти причислить к незапятнанным. Но мы
были слишком на виду, и к нам, естественно, относи-
лись по-иному. Когда мне вслед выкрикивали руга-
тельства, меня не раз обзывали цветной. Как-никак,
а эта неполноценность, это осложнение разобщало
нас даже с теми немногими, кто во всем прочем зани-
мал примерно равное с нами положение. Нам всегда
приходилось что-то либо утаивать, либо отстаивать.
Дед, тот умел за себя постоять, он знал, что делал;
да и сам-то он был человек чистой крови — клеймо
лежало только на его красавице жене. А мой отец
был ее сын, и, при его раздражительном и вспыльчи-
вом нраве, ему с молодых лет трудно было терпеть
раболепство, ненависть и презрение, в одно и то же
время быть, как он сам выражался, не то восьмым
чудом света, не то отбросом, — словом, Америка ему
во всех смыслах опостылел^. Вот и вся история,
261
принц, и теперь, надеюсь, вам понятно, почему на
моего отца так раздражающе подействовал ваш тон-
кий вопрос, — закончила Имма.
Клаус-Генрих поблагодарил ее за разъяснение,—
мало того, когда он, приложив руку к козырьку фу-
ражки прощался с дамами перед порталом Дель-
финенорта — время подошло ко второму завтраку,—
поблагодарил ее еще раз и шагом поехал домой,
чтобы продумать события этого утра.
Имма Шпельман в красном с золотом платье си-
дела у стола, небрежно откинувшись, с капризной
гримаской балованного ребенка, окруженная проч-
ным довольством, а в речах ее была такая же язви-
тельность, что и там, где это необходимое оружие,
где без проницательности, настороженности и беспо-
щадной остроты ума не проживешь. Почему же? Те-
перь Клаус-Генрих понимал это, по целым дням
старался лучше постичь это сердцем. Она жила среди
раболепства, ненависти и презрения, не то восьмым
чудом света, не то отбросом — вот отчего речь ее
стала колючей: язвительностью и насмешливой про-
ницательностью она оборонялась, хотя и казалось,
что она нападает, вызывая страдальческое подергива-
ние на лицах у тех, кто не нуждался в остроте ума,
как в оружии. Она просила его жалостливо и бе-
режно относиться к бедняжке графине, когда та «да-
вала себе волю»,; но сама-то она тоже нуждалась
в жалостливом и бережном отношении, потому что она
была одинока и жилось ей нелегко... как и ему. Па-
раллельно с этими мыслями ему не давало покоя
одно воспоминание, давнее, тягостное воспоминание,
местом действия которого был буфет в Парковой
гостинице, а финалом — крышка от крюшонницы...
«Сестричка!» — сказал он про себя, торопливо отма-
хиваясь от этого воспоминания. «Сестричка!» Но
главной его заботой было, как бы в ближайшее
время снова увидеться с Иммой Шпельман.
Они увиделись скоро и виделись часто при раз-
личных обстоятельствах. Подошел к концу февраль,
наступил многообещающий март, за ним переменчи-
вый апрель и ласковый май. И все это время Клаус-
262
Генрих бывал во дворце Дельфиненорт не меньше
раза в неделю, утром или днем, но неизменно в та-
ком же невменяемом состоянии, в каком явился
к Шпельманам в то февральское утро, так сказать
помимо собственной воли, словно покорствуя судьбе.
Свиданиям способствовало и соседство обоих двор-
цов, короткий путь от Эрмитажа до Дельфиненорта
можно было проехать аллеями парка верхом или
в догкарте, не слишком привлекая к себе внимание;
но чем становилось теплее, тем в парке бывало
многолюднее и тем труднее было держать в секрете
от публики совместное катание верхом, однако
к этому времени у принца сложилось такое душевное
состояние, которое нельзя назвать иначе как полней-
шим безразличием и слепым пренебрежением к мне-
нию света, двора, города и страны. Лишь позднее
отношение общества стало играть роль в его помыс-
лах и намерениях, но тогда уж это была весьма зна-
чительная и благотворная роль.
Прощаясь с дамами после первой прогулки вер-
хом, он не преминул заговорить о новой, на что Имма
хоть и выпятила губы и покрутила головкой, но не
нашла убедительных возражений. Поэтому он при-
ехал снова, и они вместе отправились в охотничий
заповедник, принадлежащий к удельному ведомству
лесной участок на северной окраине городского сада;
он приехал еще раз, и они придумали такую цель
для прогулки, до которой можно было добраться ми-
нуя город. А когда с весной жителей столицы потя-
нуло за город и деревенские трактиры всегда бы-
вали полны, для верховых прогулок была облюбо-
вана уединенная и живописная дорога, собственно
даже не дорога, а довольно длинная дамба или луго-
вая тропинка вдоль поросшего цветами откоса над
быстрым рукавом реки. Она была расположена в се-
верном направлении, и спокойней всего туда можно
было попасть, если проехать по парку позади Эрми-
тажа, затем заливными лугами вдоль северной гра-
ницы городского сада вплоть до охотничьего запо-
ведника и там возле шлюза не перебираться на тот
берег по деревянному мосту, а ехать этим берегом по
263
течению реки. Справа оставались строения заповед-
ника, и всю дорогу тянулся молодой лес, слева луга
белели и пестрели болиголовом, одуванчиками, коло-
кольчиками, клевером, ромашкой и даже незабуд-
ками; из-за пашен виднелась церковная колокольня,
а вдалеке проходило шоссе с оживленным движе-
нием, от которого они чувствовали себя в безопас-
ности. А с левой руки к откосу тоже, вплотную под-
ступал ивняк и орешник, заслоняя перспективу и
полностью отгораживая их от мира, а так как тропа
тут сужалась, они большей частью ехали вдвоем, впе-
реди графини, ехали, беседуя и умолкая, меж тем
как Персеваль, поджав передние лапы, прыгал туда
и назад через реку или бежал к воде, купался и,
громко лакая, наспех утолял жажду. Возвращались
они той же дорогой.
Если же по причине низкого давления баро-
метр падал и, следовательно, шел дождь, а Клаусу-
Генриху тем не менее необходимо было пови-
даться с Иммой, он в своем догкарте приезжал
к чаю в Дельфиненорт, и они проводили время
дома.
Господин Шпельман всего два-три раза являлся
пить чай в боскетную. Болезнь его как раз в эту
пору обострилась, и он бывал даже принужден целый
день лежать в постели с горячими припарками.
Когда же приходил к чаю, он неизменно говорил:
«А, молодой принц?» — и своей худощавой, выгляды-
вающей из-под мягкой манжеты рукой окунал в чай
диетический сухарик, время от времени вставлял
в разговор скрипучую реплику, под конец протягивал
гостю золотой портсигар, а затем вместе с доктором
Ватерклузом, который все время сидел за столом, не
произнося ни слова и улыбаясь, удалялся из боскет-
ной. Впрочем, и в солнечную погоду они иногда пред-
почитали остаться в парке и поиграть в теннис на
плотно утрамбованной и разделенной сеткой пополам
площадке перед террасой. А как-то раз они даже
прокатились в одном из шпельмановских автомоби-
лей далеко за пределы замка Фазанник.
Однажды Клаус-Генрих спросил:
264.
— Я читал, будто ваш батюшка каждый день по-
лучает ужасно много писем с просьбой о помощи.
!-)то правда, фрейлейн Имма?
Тогда она рассказала, что в Дельфиненорт непре-
рывным потоком идут прошения и подписные листы
ю сбором пожертвований и по возможности встре-
чают отклик, что с каждой почтой поступает кипа
писем от разных попрошаек Европы и Америки, гос-
пода Флебс и Слипперс сортируют их и, произведя
отбор, представляют господину Шпельману. Иногда
и она, для развлечения, просматривает эту грандиоз-
ную почту и прочитывает адреса, которые зачастую
носят фантастический характер. Неимущие или пред-
приимчивые отправители даже на конвертах ста-
раются перещеголять друг друга витиеватостью и
низкопоклонством, присваивая адресату всевозмож-
ные титулы и чины в самых невероятных сочетаниях.
Но недавно один проситель побил рекорд: он адресо-
вал письмо «Его королевскому высочеству господину
Самуэлю Шпельману». Кстати, получил он не больше
остальных...
В другой раз Клаус-Генрих приглушенным голо-
сом заговорил о «Совиной комнате» в старом замке
и по секрету поведал Имме, что недавно там опять
слышали шум, предвещающий важные события в его,
Клауса-Генриха, семье. Имма высмеяла его и, выпя-
тив губы, покрутив головкой, научно объяснила ему
эти явления, как в свое время объяснила тайны баро-
метра. Все это вздор, сказала она, по всей вероят-
ности часть чулана имеет форму элипсоида, а вторая
элипсоидовидная поверхность аналогичной кривизны,
с источником звуков в ее фокусе, находится где-то
вовне, отчего шумы раздаются в «Совиной комнате»,
а по соседству ничего не слышно. Клаус-Генрих был
немало удручен этим разъяснением, ему очень не хо-
телось отказаться от всеобщей веры, что между гро-
хотом и судьбами его рода существует исконная
связь.
Так они беседовали между собой, и графиня тоже
вставляла замечания, то разумные, то путаные, ибо
Клаус-Генрих усердно старался не впасть в свой
265
обычный тон, чтобы не отрезвить и не расхолодить
ее, и даже называл ее «фрау Мейер», когда ей каза-
лось нужным обезопасить себя от преследования
распутных баб. Он рассказывал обеим дамам о своей
бессодержательной жизни, о пирушках корпорантов,
о товарищеских обедах в офицерском собрании,
о путешествии, которое он совершил с образователь-
ной целью, о своих близких, о матери, в прошлом
горделивой красавице, которую он изредка навещал
в Зегенхаузе, где она создала себе грустную пародию
на придворный церемониал. Рассказывал об Аль-
брехте и Дитлинде; Имма Шпельман в ответ воспол-
няла картину своей блистательной и обособленной
юности, а графиня время от времени роняла туман-
ные намеки на жестокие тайны жизни, и оба слушали
ее с серьезностью чуть ли не благоговейной.
У них была излюбленная игра: в меру своих по-
знаний они старались угадать, что собой предста-
вляет жизнь случайно встреченных жителей столицы,
к какому сословию те принадлежат, — с любопытством
сторонних наблюдателей, издалека, с лошади или
с шпельмановской террасы смотрели они на прохо-
жих. Кто такие эти молодые люди? Чем занимаются?
Из какой они среды? Непохоже, чтобы они учились
в коммерческом училище, скорее это будущие тех-
ники или лесничие, а может быть, и студенты сель-
скохозяйственного института, немного грубоватые, но
дельные юноши и конечно уж сумеют честным тру-
дом проложить себе путь в жизни. А вот та малень-
кая вертлявая, которая часто болтается здесь, — на-
верно, фабричная работница или швейка. У таких
девушек обычно бывают кавалеры из их же круга,
которые по воскресеньям водят их в кофейню. Они
делились своими сведениями о жизни простых людей,
одобряли друг в друге такую осведомленность, и это
занятие больше согревало их, чем беготня за теннис-
ным мячом.
Что же касается прогулки в автомобиле, то Имма,
по ее словам, пригласила Клауса-Генриха лишь за-
тем, чтобы показать ему шофера, который вез их, мо-
лодого американца в коричневом кожаном пальто,
266
она находила большое сходство между ним и прин-
цем. Клаус-Генрих, смеясь, отвечал, что со спины ему
трудно судить, права ли она, и попросил графиню
иысказать свое мнение. Сперва она с негодованием
отвергла такую святотатственную идею, но затем,
иод давлением Иммы, искоса прищурясь, посмотрела
на Клауса-Генриха и признала, что сходство все-таки
есть. Имма рассказала, что первоначально этот поло-
жительный, непьющий и умелый молодой человек
г>ыл личным шофером ее отца и ежедневно возил его
с Пятой авеню на Бродвей и вообще куда угодно.
Однако господин Шпельман любил ездить с необы-
чайной скоростью, почти равной курьерскому поезду,
л при нью-йоркской сутолоке для этого требуется
огромная затрата нервной энергии, и шоферу она
оказалась не под силу. Правда, несчастных случаев
у него не бывало, молодой человек не сплоховал ни
разу и, предельно напрягая внимание, выполнял свои
опасные для жизни обязанности. Но в результате он,
доехав до места, раз-другой лишился чувств, и тут-то
обнаружилось, какого непомерного напряжения стоил
ему день такой езды. Господину Шпельману не хоте-
лось его увольнять, и тогда он назначил его лейб-
шофером к своей дочери, и эту службу, куда более
легкую, он продолжает нести и здесь. Имма заметила
сходство между ним и принцем в первый же раз, как
увидела Клауса-Генриха. Похожи они, понятно, не
чертами лица, а выражением. Графиня тоже это при-
знала... Клаус-Генрих уверил, что его ничуть не шо-
кирует такое сходство, наоборот — добросовестный и
мужественный молодой человек внушает ему искрен-
нюю симпатию. Они поговорили еще, какая трудная,
изматывающая нервы жизнь у шоферов, но графиня
Левенюль больше не принимала участия в беседе.
Вообще она не заговаривалась во время этой поездки
и только под конец высказала несколько справедли-
вых и здравых суждений, сопровождая их энергич-
ными жестами.
Кстати, дочь господина Шпельмана отчасти уна-
следовала отцовскую страсть к быстрому передвиже-
нию— при каждом удобном случае Имма переходила
267
на буйный галоп, как в первую их совместную
прогулку; а Клаус-Генрих, раззадоренный ее насмеш-
кой, чтобы не отстать, требовал от озадаченного и
негодующего Флориана почти невозможного, и по-
тому этот форсированный аллюр приобретал всякий
раз характер состязания, причем Имма начинала
скачку внезапно, по собственной прихоти. Чаще всего
состязания происходили на уединенном луговом от-
косе, что тянется вдоль реки, и одно из них было
особенно длительным и ожесточенным. Оно началось
непосредственно после разговора о популярности
Клауса-Генриха, который Имма неожиданно начала
и так же неожиданно оборвала.
— Я слышала, будто вы пользуетесь в народе
огромной любовью, — ни с того ни с сего сказала
она. — Будто вы покоряете все сердца. Это верно,
принц?
— Так говорят, — ответил он. — Возможно, это
объясняется кой-какими свойствами моей натуры,
я не скажу — достоинствами. Я и сам не знаю, надо
ли этому верить, а тем более радоваться. Боюсь, что
это не свидетельствует в мою пользу. Великий герцог,
мой брат, презирает популярность, считает ее чем-то
низменным.
— Да, должно быть, великий герцог гордый чело-
век. Я глубоко уважаю его. А вас, значит, все пре-
возносят, вы общий любимец. Go on! l — неожиданно
крикнула она, больно хлестнула Фатьму, та вздрог-
нула, и началась скачка.
Скакали они долго. Еще ни разу они не забира-
лись так далеко по течению реки. Слева деревья
давно уже заслонили перспективу. Из-под копыт ле-
тели комья глины и пучки травы. Графиня скоро от-
стала. Когда они наконец сдержали коней, Флориан
дрожал, выбившись из сил, да и сами они были
бледны и с трудом переводили дух. На обратном
пути оба молчали.
Накануне дня рождения Клауса-Генриха к нему
в Эрмитаж под вечер пожаловал Рауль Юбербейн.
1 Вперед! (англ.)
268
Доктор пришел поздравить принца, так как завтра
он весь день будет занят. Они прогуливались по усы-
панным гравием дорожкам позади Эрмитажа, стар-
ший преподаватель в сюртуке и белом галстуке,
Клаус-Генрих в форменной тужурке. Косые лучи
предвечернего солнца золотили высокую траву, по-
спевшую для косьбы, липы стояли в полном цвету.
И левом углу парка, у самой изгороди, отделявшей
сто от неказистых пригородных пустырей, стояла об-
ветшалая берестяная беседка. Клаус-Генрих говорил
ча самую важную для него тему — о своих посеще-
ниях Дельфиненорта; рассказывал он очень образно,
мо ничего нового сообщить доктору не мог: тот явно
был в курсе дела. Каким образом? Из самых различ-
ных источников. И он, Юбербейн, осведомлен не
больше других.
— Значит, в столице интересуются этим во-
просом?
— Избави боже. Что вы, Клаус-Генрих! Никому
до этого нет ни малейшего дела. Ни до верховых
прогулок, ни до чаепитий, ни до поездок в автомо-
биле. О таких пустяках никто слова не говорит.
— Но мы ведь так осторожны.
— Чего стоит это «мы»! Да и слова об осторож-
ности тоже! Имейте в виду, что его превосходитель-
ство господин фон Кнобельсдорф получает точные
донесения о каждом вашем подвиге, Клаус-Генрих.
— Кнобельсдорф?
— Кнобельсдорф.
Клаус-Генрих помолчал.
— А как относится барон Кнобельсдорф к этим
донесениям? — спросил он немного погодя.
— Ну, у старика пока не было повода вмешаться
в ход событий.
— А общество, публика?
— Ну, публика, та, понятно, затаила дыхание.
— А вы, вы сами, дорогой доктор Юбербейн?!
— Я жду новой крышки от крюшонницы, — отве-
тил Юбербейн.
— Нет! — радостно воскликнул Клаус-Генрих. —
Нет, нет, доктор Юбербейн, крышки от крюшонницы
269
не будет — я счастлив, понимаете, счастлив и ни
о чем думать не хочу. Вы внушали мне, что счастье
не для меня, а когда я все-таки сделал неудачную
попытку, вы встряхнули меня и привели в чувство, и
я был вам несказанно благодарен, потому что это
было ужасно, забыть нельзя, как ужасно. Но теперь
это уже не вылазка в общественный танцевальный
зал, о которой тошно вспомнить, это не самообман,
не срыв, не унижение. Неужели же вам не понятно,
что она, та, кого мы подразумеваем, что она далека
и от общественного бала, и от аристократических фа-
занов, и от всего на свете. Она близка мне, только
мне,— она настоящая принцесса, да, да, доктор
Юбербейн, она мне ровня, и, значит, ни о каких крю-
шонницах даже говорить нечего! Вы внушали мне,
что непозволительно говорить «все мы люди», и руко-
водствоваться этой максимой для меня — значит
искать запретного счастья, которое ни к чему не ве-
дет и может кончиться позором. Но то, что происхо-
дит теперь, — это не запретное счастье. Нет, это на-
конец-то внутренне оправданное, многообещающее
блаженное счастье, и я смело отдаюсь ему, а там..*
будь что будет.
— Прощайте, принц Клаус-Генрих, — сказал док-
тор Юбербейн, но сам и не думал уходить. Заложив
руки за спину и упершись рыжей бородой в грудь, он
по-прежнему шагал по левую руку от Клауса-Ген-
риха.
— Нет, — ответил Клаус-Генрих — нет, что вы!
Я не прощаюсь с вами, доктор Юбербейн. Теперь,
как никогда, хочу я быть вашим другом, потому что
вам всегда тяжело жилось и вы так гордо, с такой
выдержкой переносили свою участь. И я был горд
тем, что вы обращаетесь со мной как с товарищем.
Нет, теперь, когда я обрел свое счастье, я вовсе не
хочу распускаться, я хочу остаться верен вам и
моему высокому назначению...
— Этого не дано, — по-латыни сказал доктор
Юбербейн и покачал своей некрасивой головой с от-
топыренными, кверху заостренными ушами.
— Неправда, доктор Юбербейн, теперь я твердо
270
убежден, что может быть дано то и другое вместе.
Л вы-то? Ну, зачем вы так равнодушно говорите со
мной и порицаете меня, когда я так счастлив,
а завтра к тому же день моего рождения! Вы столько
всего насмотрелись в жизни, вы сами говорите, что
прошли огонь, воду и медные трубы,— неужели же
с вами никогда не случалось ничего такого... Ну, вы
понимаете... Неужели вы ни разу не были захвачены
одним чувством, как я сейчас?..
— Гм, — промычал доктор Юбербейн и так сжал
губы, что рыжая борода его встала торчком, а на
щеках проступили желваки. — Между нами говоря,
один раз такое происшествие в самом деле имело
место.
— Видите! Видите! Расскажите, доктор Юбер-
бейн! Именно сегодня вы должны мне 'это расска-
зать!
И тут в этот благолепно тихий час, озаренный
предзакатным солнцем, напитанный запахом липы,
Рауль Юбербейн поведал о некоем событии в своей
жизни, которого ни разу не касался в прежних рас-
сказах, хотя оно, пожалуй, оказало решающее влия-
ние на всю его судьбу. Случилось это в те давние
времена, когда Юбербейн обучал своих озорников и
одновременно совершенствовал собственное образо-
вание, туже стягивал пояс и давал частные уроки
упитанным бюргерским сынкам, чтобы иметь возмож-
ность покупать книги. Все так же заложив руки за
спину и упершись в грудь рыжей бородой, доктор
отрывистым, резким тоном рассказывал об этом,
а между фразами плотно сжимал губы.
В ту пору судьба невыразимо крепкими узами
связала его с одной женщиной, белокурой красави-
цей, женой благородного, глубоко порядочного чело-
века и матерью троих детей. Попал он к ним в дом
в качестве репетитора, но потом стал у них частым
гостем и другом семьи, и с мужем у него был глубо-
кий душевный контакт. Чувство, возникшее между
молодым учителем и белокурой женщиной, долго
было неосознанным, еще дольше они его не высказы-
вали, ибо не находили для него слов,; но оно окрепло
271
в молчании, всецело заполонило обоих, и однажды
в вечерний час, когда супруга задержали дела,
в знойный, сладостный, коварный час оно вспыхнуло
жгучим пламенем и чуть не спалило их. Голос
страсти властно звал их познать счастье, великое
счастье слияния; однако и в нашем мире, заметил
доктор Юбербейн, люди, хоть и не часто, но все-таки
поступают порядочно. Слишком уж недостойным по-
казалось им вступить на пошлый, гаденький путь об-
мана, а пойти к доверчивому супругу, «открыться»
ему, как принято говорить, и загубить его жизнь, во
имя страсти потребовав у него свободы, такой выход
тоже не вполне улыбался им. Словом, ради детей,
ради доброго и благородного человека — ее мужа,—
которого оба глубоко уважали, они пожертвовали
счастьем и отказались друг от друга. Да, бывает и
такое, но только тут приходится порядком стиснуть
зубы. Юбербейн и теперь изредка навещает эту
семью; когда позволяет время, ужинает с ними,
играет в карты, целует руку хозяйке дома и желает
друзьям покойной ночи!.. Но, кончив свое повествова-
ние, он напоследок высказал самое заветное, и тон
у него был еще отрывистее и резче, а по углам губ
еще явственнее обозначились желваки. В тот день,
когда сни с белокурой женщиной отказались друг от
друга, тогда он, Юбербейн, навсегда сказал «прости»
счастью, «уделу бездельников», как он стал обзывать
это с тех пор. Раз он не мог или не хотел обладать
белокурой женщиной, он дал себе слово быть достой-
ным ее и того, что их связывало, достичь многого,
сделаться крупной величиной на ученом поприще,—
всю свою жизнь он посвятил работе, ей одной, и стал
тем, что он есть. Вот в чем была тайна или, во вся-
ком случае, частичная разгадка юбербейновской не-
уживчивости, заносчивости и честолюбия! Клаус-Ген-
рих со страхом увидел, что лицо у него стало блед-
нее, зеленее обыкновенного, когда он на прощание
низко поклонился и произнес:
— Передайте привет крошке Имме, Клаус-Генрих!
На следующее утро Клаус-Генрих принял в жел-
той комнате поздравления дворцового персонала,
272
а позднее господ Брауибарт-Шеллендорфа и Шулеи-
бург-Трессена.
В первую половину дня Эрмитаж посетили члены
великогерцогской фамилии, а ровно в час Клаус-Ген-
рих в своей карете отправился на семейный завтрак
к князю и княгине цу Рид-Гогенрид, и встречные про-
хожие особенно горячо приветствовали его по пути.
Все здравствующие представители Гримбургской ди-.
настии в полном составе собрались в изящном дворце
на Альбрехтсштрассе. Прибыл и великий герцог, как
всегда, в штатском сюртуке и, посасывая нижней гу-
бой верхнюю, слегка наклонив свою сдавленную на
висках голову, поздоровался с присутствующими; все
кушанья он запивал молоком пополам с минераль-
ной водой. Почти сразу после завтрака он удалился.
Принц Ламберт приехал без своей супруги. У старого
балетомана были крашеные волосы,; он весь трясся
и говорил замогильным голосом. Родственники про-
являли к нему явную холодность.
За столом сперва беседовали о придворных делах,
затем порадовались, какой здоровенькой растет прин-
цесса Филиппина, и наконец отдали должное круп-
ному размаху промышленных начинаний князя Фи-
липпа. Щуплый невысокий князь рассказывал о своих
пивоваренных заводах, фабриках, мельницах, а глав-
ное, о торфоразработках, перечислял, какие ввел усо-
вершенствования, называл цифры капиталовложений
и прибылей, при этом щеки у него раскраснелись,
а родственники жены слушали его с любопытством,
благожелательством или иронией.
Когда кушали кофе в большой гостиной, напол-
ненной цветами, княгиня, держа в руках золоченую
чашку, подошла к брату и сказала:
— Ты совсем перестал бывать у нас последнее
время.
Лицо Дитлинды с остреньким подбородком и ти-
пичными для Гримбургов выдающимися скулами
с рождением дочки утратило прежнюю прозрачность,
порозовело, и голова, казалось, уже не клонится под
тяжестью пепельных кос.
18 Т. Манн, т. 2
273
— Неужели я давно у вас не был? — удивился
он. — Да, прости, Дитлинда, пожалуй, ты права. Но
я был ужасно занят и знал, что ты тоже занята. Те-
перь ведь ты нянчишься не только с цветами.
— Да, цветы теперь уже не на первом месте, глав-
ная моя забота не о них. Я занята более прекрасным
одушевленным цветком, от этого у меня, верно, и
щеки разрумянились, как у моего доброго Филиппа
от торфа. Ведь он весь завтрак проговорил о торфе,
я этого не одобряю, но это его страсть. Только по-
тому, что я была так занята и озабочена, я и не оби-
жалась на тебя за то, что ты не показываешься и
идешь своим путем, хотя, на мой взгляд, это до-
вольно сомнительный путь...
— Откуда ты знаешь, Дитлинда, по какому пути
я иду?
— К сожалению, не от тебя. Спасибо Иеттхен
Изеншниббе, она держала меня в курсе дел, ведь ей
все известно. Вначале, не скрою от тебя, я ужасно
испугалась. Но в конце концов живут они в Дель-
финенорте, при нем состоит лейб-медик, и Филипп
тоже считает, что они по-своему нам ровня. Если па-
мять мне не изменяет, я раньше отрицательно выска-
зывалась на их счет, что-то такое говорила о «птице
Рох» и даже скаламбурила по поводу «объекта для
налогов». Но раз ты считаешь этих людей достой-
ными твоей дружбы, значит я ошибалась и охотно
возьму назад свои слова и попытаюсь впредь по-
иному относиться к ним. Это я тебе твердо обещаю...
Ты всегда любил отправляться на разведки, — про-
должала она, после того как Клаус-Генрих с улыбкой
поцеловал ей руку, — меня тоже таскал за собой, и
больше всего страдало мое платье (помнишь? —
красное бархатное). Теперь ты один ходишь на раз-
ведки, и дай бог, чтобы ничего скверного не встрети-
лось на твоем пути, Клаус-Генрих.
— Мне кажется, Дитлинда, в сущности, интересно
все, что узнаешь, будь то хорошее или дурное. Но то,
что я на этот раз узнал, — по-настоящему хорошо..*
В половине пятого принц опять выехал из Эрми-
тажа, на этот раз в догкарте, и сам правил, сидя
274
спиной к спине с лакеем. Погода стояла теплая, и на
Клаусе-Генрихе были белые брюки и двубортный
форменный сюртук. Раскланиваясь на обе стороны,
он вторично направился к городу, вернее к Старому
замку, но въехал за ограду замка не через Альбрех-
товские, а через боковые ворота, миновал два двора
и остановился в третьем, где рос розовый куст.
Куда ни посмотришь—всюду камень и тишина;
по углам высятся башни со стрельчатыми окнами,
с балюстрадами кованого железа и прекрасными
скульптурами, разностильные части здания прячутся
в тени или купаются в лучах солнца, одни серые, об-
ветшалые, другие поновее, с фронтонами и топор-
ными выступами, с глубокими лоджиями; сквозь вы-
сокие окна виднеются сводчатые залы и приземи-
стые колоннады. А посреди двора, на обнесенной
решеткой клумбе стоит розовый куст уже в цвету —
так благоприятствовала ему теплая весна этого
года.
Клаус-Генрих отдал вожжи слуге и подошел
к клумбе посмотреть на темно-пунцовые розы. Они
были на редкость прекрасны — пышноцветные, точно
бархатные, с изящно изогнутыми лепестками,—
подлинное чудо природы. Многие уже совсем рас-
пустились.
— Пожалуйста, позовите Иезекииля, — обратился
Клаус-Генрих к усатому привратнику, который подо-
шел, приложив руку к треуголке.
Явился Иезекииль, сторож при розовом кусте. Это
был семидесятилетний старик, сгорбленный, со слезя-
щимися глазами, в фартуке садовника.
— Ножницы при вас, Иезекииль? — спросил
Клаус-Генрих, стараясь говорить погромче. — Мне
нужно срезать одну розу.
Иезекииль вытащил садовые ножницы из огром-
ного, как кошель, кармана.
— Вот эту, самую красивую. — И старик дрожа-
щими руками перерезал колючий стебель.
— Пойду сбрызну ее, ваше королевское высоче-
ство,— сказал он и, волоча ноги, направился к водо-
проводному крану в углу двора. Когда он вернулсяа
18*
275
капли сверкали на листьях розы, как на оперении
морских птиц.
— Спасибо, Иезекииль, — сказал Клаус-Генрих.—
Все еще молодцом? Вот возьмите! — Он протянул
старику монету, вспрыгнул в догкарт, * положил розу
рядом с собой на сидение, миновал все три двора и,
как полагали те, кто его видел, прямо из Старого
замка, где, должно быть, имел беседу с великим гер-
цогом, отправился к себе домой в Эрмитаж.
На самом деле он проехал через городской сад
в Дельфиненорт. Небо заволокло, крупные капли уже
падали на листву, и вдали рокотал гром.
Дамы сидели за чайным столом, когда Клаус-Ген-
рих, предшествуемый дородным дворецким, появился
в галерее и по ступенькам спустился в боскетную.
Господин Шпельман, как и все последнее время, от-
сутствовал. Он лежал в постели, обложенный при-
парками. Персеваль, который свернулся клубком на
ковре у ног Иммы, приветственно помахал хвостом".
Позолота на мебели померкла, потому что парк, за
стеклянной дверью, был объят предгрозовым
сумраком.
Клаус-Генрих обменялся рукопожатием с молодой
хозяйкой, поцеловал руку графине и ласково помог
ей подняться после придворного реверанса, очень глу-
бокого, по ее обыкновению.
— Вот и лето настало, — обратился он к Имме и
протянул ей розу. Он ни разу еще не подносил ей
цветов.
— Поистине рыцарская учтивость! — сказала
фрейлейн Шпельман. — Спасибо, принц! А она и
в самом деле прекрасна! — добавила Имма с искрен-
ним восхищением, хотя не в ее обычае было что-ни-
будь хвалить, и обхватила своими тонкими без колец
пальцами пышную головку цветка, чьи бездушные
лепестки грациозно закручивались на концах. — Ни-
как не ожидала, что здесь бывают такие чудесные
розы! Где вы ее добыли? — И она жадно прильнула
к цветку своим бледным личиком.
Глаза ее выражали испуг, когда она подняла го-
лову.
276
— Она не пахнет! — воскликнула Имма, и ее губы
гадливо передернулись. — Постойте... нет, она пахнет
тлением! Что вы мне принесли, принц! — И ее огром-
ные черные глаза на жемчужно-матовом личике, ка-
залось, горят недоуменным ужасом.
— Да, — вымолвил он. — Простите меня, таковы
наши розы. Она с того куста, который растет во
дворе Старого замка. Вы ничего об этом не слыхали?
Это особенные розы. В народе говорят, что настанет
такой день, когда они начнут благоухать.
Она как будто не слушала его.
— Кажется, у нее нет души,— сказала она, глядя
на розу. — Но красива она безупречно, этого у нее
не отнимешь... В общем, это любопытная игра при-
роды, иринц. Как бы то ни было, благодарю вас за
внимание. И раз она происходит из замка ваших
предков, надо отнестись к ней с должным почте-
нием.
Имма поставила розу в бокал рядом со своим
прибором. Отороченный лебяжьим пухом лакей при-
нес принцу чашку и тарелку. За чаем они сперва
поговорили о заколдованном розовом кусте, потом
перешли на обыкновенные темы, о придворном театре,
об их любимых лошадях, поспорили о каких-то пустя-
ках, Имма отстаивала свою точку зрения безупречно
отшлифованными фразами, но при этом как бы ста-
вила их в кавычки, словно сама смеялась над ними,
побивала Клауса-Генриха изысканными книжными
оборотами, выпаливая их своим ломающимся голо-
сом и капризно крутя головкой. К концу чая при-
несли увесистый пакет в белой бумаге, присланный
фрейлейн Шпельман от переплетчика, которому она
заказала сделать красивые и прочные переплеты на
целый ряд книг. Она развернула пакет, и все трое
принялись рассматривать, хорошо ли мастер выпол-
нил заказ.
Книги были почти сплошь научные, либо запол-
ненные такими же таинственными письменами, как
тетради Иммы, либо ученые труды по психологии,
проникающие в самую суть душевных процессов; все
они были роскошно переплетены в пергамент и
27Т
тисненную золотом кожу, с обложками из лучших
сортов бумаги . и шелковыми закладками. Имма
Шпельман не вполне одобрила работу, а Клаус-Ген-
рих, впервые видевший так богато переплетенные
книги, не находил достаточно хвалебных слов.
— А теперь вы их поставите рядом с другими?
У вас наверху, должно быть, много книг? И все та-
кие же красивые? — спрашивал он. — Позвольте мне
посмотреть, как вы будете их расставлять. Уехать
я не могу, дождь льет и грозит загубить мои белые
брюки. А я ведь совсем не знаю, как вы устроились
в Дельфиненорте. Я ни разу не был у вас в рабочем
кабинете. Ну, покажите мне свои книги.
— Все зависит от графини, — ответила она, не
отрываясь от своего занятия — она складывала но-
вые книги в стопки. — Графиня, принц хочет посмо-
треть мои книги. Благоволите высказать ваше мне-
ние по этому поводу.
Графиня Левенюль сидела с отсутствующим ви-
дом. Склонив маленькую голову набок и прищурив-
шись, она метнула колкий, почти злобный взгляд на
Клауса-Генриха, потом перевела глаза на Имму, и
лицо ее приняло совсем другое, мягкое, сострадатель-
ное и озабоченное выражение. Она совсем очнулась и
с улыбкой достала часики из-за пояса коричневого,
тесно прилегающего платья.
— В семь часов вы должны быть у мистера
Шпельмана, чтобы почитать ему, — с живостью про-
изнесла она. — У вас полчаса времени, чтобы испол-
нить желание его королевского высочества.
— Ну, так пойдемте, принц, осматривать мой ка-
бинет! — сказала Имма. — Заодно вы поможете пере-
нести книги, если только это допускает ваш высокий
сан. Я возьму половину.
Но Клаус-Генрих взял все книги. Он обхватил их
обеими руками, хотя от левой пользы было мало, и
кипа книг подпирала ему подбородок. Откинувшись
назад и осторожно ступая, чтобы ничего не уронить,
шел он следом за Иммой в расположенное напротив
главной аллеи крыло здания, где весь бельэтаж был
отведен фрейлейн Шпельман и графине.
278
В большой уютной комнате, куда вела тяжелая
дверь, он опустил свою ношу на шестиугольный сто-
лик черного дерева перед широким диваном, обитым
золотой парчой. Кабинет Иммы Шпельман не был
выдержан в традиционном старинном стиле всего
дворца. Он был обставлен на современный лад, но
без всякого жеманства, а по-мужски, с целесообраз-
ной роскошью широкого размаха. Панели из ценной
породы дерева доходили почти доверху, и на карни-
зах под самым потолком блестели старинные изделия
из разноцветной майолики, вся комната была устлана
восточными коврами, на черном мраморном камине
стояли изящной формы вазы и позолоченные часы*
Просторные бархатные кресла были окаймлены шну-
ром, а драпировки на окнах и дверях — из той же
парчи, что и обивка на диване. Большой письменный
стол стоял у сводчатого окна, откуда открывался вид
на бассейн перед фасадом дворца. Целую стену зани-
мали книги, но основная библиотека помещалась
в соседней, меньшей комнате, тоже устланной ков-
рами; в открытую раздвижную дверь было видно, что
все стены там, вплоть до самого потолка, заставлены
книжными полками.
— Ну вот, принц, это моя обитель, — заметила
Имма Шпельман. — Надеюсь, она вам нравится?
— Еще бы, она великолепна, — ответил он. Впро-
чем, он ни разу не взглянул по сторонам, а неот-
ступно смотрел на нее,; она стояла около шестиуголь-
ного стола, опершись на валик дивана. На ней, как
всегда, было очаровательное домашнее платье, на
этот раз летнее, белое с цветами, заложенное
в складку, а рукава разрезные и на груди желтая
вышивка. По сравнению с белизной платья, обнажен-
ные руки и шея казались смуглыми, цвета обкурен-
ной морской пенки, огромные глаза, строго блестев-
шие на своеобразном детском личике, красноречиво
и неудержимо говорили свое, а прямая прядка
иссиня-черных волос выбилась сбоку на лоб. В руке
Имма держала розу — подарок Клауса-Генриха.
— Она великолепна, — сказал он, стоя перед ней,
и сам не знал, что имел в виду. Его голубые глаза,
279
узкие из-за выступающих по-простонародному скул,
затуманились как от боли.
— У вас столько же книг, сколько у моей сестры
Дитлинды цветов.
— У княгини много цветов?
— Да, но последнее время она охладела к ним.
— Ну, давайте убирать, — сказала Имма и взя-
лась за книги.
— Нет, погодите, — еле вымолвил он, так у него
стеснило грудь. — Мне столько надо вам сказать,
а у нас очень мало времени. Прежде всего, сегодня
день моего рождения, потому я и приехал и привез
вам розу.
— О, — протянула она, — это примечательный
факт! Так сегодня ваш день рождения? Не сомне-
ваюсь, что вы принимали все поздравления с прису-
щей вам учтивостью. Примите заодно и мои! Очень
мило, что вы именно сегодня привезли мне розу, хотя
с ней и не все благополучно... — И она еще раз
с боязливой гримаской понюхала отдающий тлением
цветок. — Сколько же лет вам исполнилось сегодня,
принц?
— Двадцать семь, — ответил он. — Двадцать семь
лет назад я появился на свет в замке Гримбург. С тех
пор я жил очень суровой и одинокой жизнью.
Она молчала. И вдруг он увидел, что брови ее
чуть насупились, а взгляд что-то ищет у него слева» —
да, хотя он, по давней привычке, стоял немного бо-
ком, повернувшись к ней правым плечом, но все его
старания оказались тщетными, ее взгляд с молчали-
вым вопросом остановился на его левой руке, кото-
рую он прятал за спиной, упираясь ею в бедро.
— Это у вас от рождения? — шепотом спросила
она.
Он побледнел. Но тут же с возгласом, похожим
на крик избавления, упал на колени и обеими руками
обхватил хрупкую фигурку этого удивительного со-
здания.
Он лежал, простертый перед ней, в белых брюках
ив синем с красным форменном сюртуке с майор-
скими эполетами на узких плечах.
280
— Сестричка... — лепетал он. — Сестричка...
Она ответила, выпятив губки:
— А где же ваша выдержка, принц? Я считаю,
что распускаться непозволительно. При всех обстоя-
тельствах нужно сохранять самообладание.
Но, не помня себя, ничего перед собой не видя, он
твердил, подняв к ней лицо:
— Имма... крошка Имма...
Тогда она взяла его руку, левую, увечную, досад-
ный для его высокого назначения изъян, который он
всегда, с отроческих лет, искусно и тщательно скры-
вал, — взяла эту сухонькую руку и поцеловала.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
О состоянии здоровья министра финансов доктора
Криппенрейтера ходили внушавшие опасение слухи.
Говорили о нервном расстройстве, о прогрессирую-
щем желудочном заболевании, и осунувшееся пожел-
тевшее лицо господина Криппенрейтера давало пол-
ное основание для таких толков... Чего стоит величие!
Даже поденщик, даже бездомный бродяга не позави-
довал бы теперь титулу, орденам, положению при
дворе этого замученного сановника, его высокому
посту, добиваясь которого он потратил столько сил,
а теперь, трудясь на нем, потерял последнее здоровье.
Неоднократно сообщалось о его предстоящей в ско-
ром времени отставке, и только неприязнью великого
герцога к новым людям, а также тем соображением,
что сменой лиц ничего уже не исправить, и объяс-
няли тот факт, что эта отставка еще не осуществи-
лась. Доктор Криппенрейтер провел свой летний от-
пуск в горном курорте; но если он и набрался там
кое-каких сил, то по возвращении поправка его по-
шла насмарку, потому что с самого начала парла-
ментской сессии между министром и бюджетной ко-
миссией возникли серьезные разногласия, которые
объяснялись отнюдь не отсутствием гибкости с его
стороны, а сложившимися обстоятельствами, безвы-
ходным положением дел.
281
В середине сентября Альбрехт II по издавна уста-
новившемуся обычаю открыл в Старом замке сессию
ландтага. Этой церемонии предшествовал молебен
в дворцовой церкви, который служил придворный
проповедник доктор Визлиценус, затем великий гер-
цог в сопровождении принца Клауса-Генриха торже-
ственно проследовал в Тронный зал, где августейших
братьев по знаку председателя верхней палаты графа
Пренцлау приветствовали троекратным «ура!» члены
обеих палат, министры, придворные чины и прочие
господа как военные, так и штатские.
Альбрехт высказал настоятельное желание пере-
дать брату свою роль и в этом официальном действе
и, только вняв упорным протестам господина фон
Кнобельсдорфа, согласился занять свое место в тор-
жественной процессии непосредственно за кадетами,
переряженными в пажей. Его стеснял гусарский мун-
дир с брандебурами, рейтузы в обтяжку и вообще вся
эта комедия; лицо его явно выражало досаду и сму-
щение. Нервно подергивая плечами, поднялся он на
ступени трона и стоял там перед театральным крес-
лом под потрепанным балдахином, посасывая верх-
нюю губу. Белый стоячий воротничок, торчавший из
шитого серебром гусарского воротника, подпирал его
худое, совсем не воинственное лицо с эспаньолкой,
а голубые отчужденно глядящие глаза были устрем-
лены в пространство. Среди водворившейся в зале
тишины звякнули шпоры флигель-адъютанта, пере-
давшего ему текст тронной речи. И невнятно, чуть
пришепетывая, прерывая чтение из-за приступов вне-
запной хрипоты, произнес великий герцог написанную
для него тронную речь.
Вряд ли какая-либо другая тронная речь была со-
ставлена столь политично, каждому печальному
объективному факту противопоставлялась та или
иная присущая народу добродетель. Великий герцог
начал с восхваления трудолюбия, которым отли-
чается население, однако затем признал, что подлин-
ного подъема во всех областях промышленности все
же нет, а по сему источники дохода не всегда оправ-
дывают возлагаемые на них надежды. Он с удовле-
282
творением отметил, что народ все больше и больше
проявляет стремление к общему благу и готовность
нести материальные жертвы; затем, не приукрашая
действительности, заявил, что, «несмотря на чрезвы-
чайно отрадный факт возросшего поступления нало-
гов, вследствие притока крупных налогоплательщи-
ков-иностранцев» (намек на господина Шпельмана),
все же нельзя думать о снижении тягот и по-преж-
нему приходится уповать на вышеупомянутую по-
хвальную готовность к жертвам. И так уже, говори-
лось далее, государственной сметой не предусмотрен
ряд финансово-политических мероприятий, и хотя
пока не удалось еще погасить государственный долг
в той мере, в какой это желательно, все же прави-
тельство рассматривает продолжение разумной поли-
тики займов как наилучший выход из финансовых
затруднений. Во всяком случае, несмотря на самые
неблагоприятные обстоятельства, оно — то есть пра-
вительство — находит поддержку в доверии населе-
ния, в его уповании на будущее, исконной доброде-
тели нашего народа... И при первой же возможности
тронная речь перешла с деликатной финансово-эконо-
мической темы к менее щекотливой: к вопросам
церкви, школы и правосудия. Премьер-министр фон
Кнобельсдорф от имени государя провозгласил ланд-
таг открытым. В криках «ура!», которыми проводили
Альбрехта, покидавшего зал, упорно звучала какая-то
безнадежная нотка.
Погода стояла еще летняя, и великий герцог тут
же отбыл в Голлербрунн, откуда выехал в город
только ввиду крайней необходимости. Он сделал то,
что от него требовалось, а остальное касалось госпо-
дина Крилпенрейтера и ландтага. Как уже было ска-
зано, сейчас же начались пререкания и сразу по мно-
гим пунктам: по вопросам о поимущественном на-
логе, о налоге на мясо и об окладах чиновникам.
Народные представители ни за что на свете не
одобрили бы новых налогов, поэтому изворотливому
доктору Криппенрейтеру пришло на ум заменить суще-
ствовавшие до сих пор парциальные налоги общим
налогом на имущество, что при квоте в тринадцать
283
с половиной процентов обложения увеличило бы до-
ход казны круглым счетом на миллион.
Как необходима и в то же время как недоста-
точна была такая прибавка к обычным поступлениям,
явствовало из сметы на новый бюджетный год, кото-
рая была составлена с дефицитом, хотя казна и при-
бегла к новым займам, и это должно было по-
вергнуть в ужас людей разумных, разбирающихся
в вопросах экономики. Было совершенно ясно, что
поимущественный налог ложится всей тяжестью на
плечи городского населения, и поэтому депутаты от
городов единодушно ополчились на ^/г-процентную
налоговую квоту. В виде компенсации они требовали
хотя бы отмены налога на мясо, который называли
антинародным и допотопным. К тому же комиссия
решительно настаивала на давно обещанном и все
время откладываемом повышении жалования госу-
дарственным служащим, и нельзя было отрицать, что
оклады чиновникам, духовенству и учителям были
мизерны. Но делать золото доктор Криппенрейтер не
умел: «Меня не обучили, как делать золото», именно
так он и выразился, — он не видел возможности ни
отказаться от налога на мясо, ни улучшить положение
государственных служащих. Ему не оставалось ничего
иного, как настаивать на своих тринадцати с полови-
ной процентах, хотя он лучше других знал, что, даже
если ландтаг и даст согласие, существенной пользы
это не принесет: положение было серьезное, а песси-
мистически настроенные люди характеризовали его
еще гораздо более мрачными словами.
В «Ведомостях государственного статистического
управления» были опубликованы угрожающие дан-
ные об урожае за последние годы. Говорилось о ряде
неблагоприятных для сельского хозяйства лет. По-
севы пострадали от непогоды, града, засухи и ливней,;
озимые померзли, так как зима выдалась на редкость
бесснежная и суровая; злопыхатели утверждали,—
возможно, без достаточных оснований,— что климат
испортился потому, что свели леса. Так или иначе, по
статистическим данным, недобор зерна внушал
серьезные опасения. Качество соломы, тоже собран-
ия*
пой в недостаточном количестве, по словам официаль-
ного органа, оставляло желать лучшего. Урожай кар-
тофеля согласно статистическим данным был значи-
тельно ниже среднего урожая за все последние
десятилетия, не говоря уже о том, что не меньше де-
сяти процентов этого сельскохозяйственного продукта
было поражено болезнью. Сбор кормовых — клевера
и люцерны — как по количеству, так и по качеству за
последние два года был самым неблагоприятным за
весь обозреваемый налоговый период, и с озимым
рапсом, сеном и отавой дело обстояло не лучше. Упа-
док сельского хозяйства сказался на резко возросшей
в этом отчетном году цифре продаж за недоимки,
объяснявшиеся недородом. Для других государств
это было бы весьма огорчительно, а для нас оказа-
лось настоящей катастрофой.
Леса? Леса не давали никаких доходов. На смену
одной беде приходила другая. На леса не раз напа-
дали вредители шелкопряды, не говоря уже о том,
что нерасчетливое сведение лесов значительно сни-
зило их стоимость.
Серебряные рудники? Рудники уже долгое время
не приносили никакой прибыли. Стихийные бедствия
нарушали работу, на восстановление потребовались
бы крупные суммы, добыча не могла оправдать необ-
ходимых затрат, поэтому государство было выну-
ждено временно забросить рудники, хотя таким обра-
зом оно лишало куска хлеба многих рабочих и
причиняло ущерб целым районам.
Довольно! Из сказанного ясно, как в эти годины
бедствий обстояло дело с обычными поступлениями
в казну. Давно назревавший кризис, — дефицит, пере-
ходящий из одного бюджетного года в другой, вслед-
ствие общего обнищания, стихийных бедствий и не-
доимок,— наконец разразился, и тщетные поиски
средств, которые помогли бы исправить или хотя бы
облегчить положение, открыли самым близоруким
глаза на бедственное состояние наших финансов. Об
утверждении новых налогов нечего было и думать.
В силу своих естественных условий страна и вообще-
то была не очень платежеспособна, а в данный
285
момент совершенно истощена, ее платежные возмож-
ности иссякли; злопыхатели утверждали, что в де-
ревне все чаще встречаются испитые лица и причина
этого прежде всего возмутительные налоги на про-
дукты питания, а затем тяжелые прямые налоги, ко-
торые, как известно, вынуждают скотоводов обращать
весь удой в деньги. Что же касается второго, хорошо
известного финансовому ведомству, средства против
недостатка денег, — средства не столь обычного, зато
соблазнительно легкого, — а именно займа, то насту-
пил час расплаты за легкомысленное злоупотребле-
ние этим средством.
В течение некоторого времени долги погашались,
правда неумело и с большим убытком, но затем при
Альбрехте II погашение, можно сказать, свелось на
нет, едва успевали кое-как заткнуть зияющие дыры
в бюджете новыми займами и выпуском новых серий
билетов государственного казначейства, и в резуль-
тате, к общему ужасу, выяснилось, что государство
стоит перед необходимостью выплачивать текущий и
краткосрочный фундированный долг, величина кото-
рого находится в вопиющем несоответствии с числом
жителей великого герцогства. Доктор Криппенрейтер
не отступил перед методом, к которому обычно при-
бегает государство в подобных случаях. Он освобо-
дился от тяжелых денежных обязательств, прибегнув
к принудительной конверсии, и консолидировал без
согласия держателей бумаг краткосрочные обяза-
тельства в бессрочные рентные долги, понизив одно-
временно процент. Но ренту надо было выплачивать,
и рентные обязательства тяжелым бременем ложи-
лись на экономику страны, в то же время суммы,
реализуемые государственным казначейством, с ка-
ждым новым выпуском облигаций все уменьшались,
ибо курс стоял очень низко. Мало того: в виду эко-
номического кризиса, переживаемого страной, ино-
странные кредиторы спешили сбыть с рук имеющиеся
у них долговые обязательства герцогства, а это опять-
таки вызывало падение курса и все увеличиваю-
щийся отлив денег из государства; в торговом мире
многие стояли на пороге банкротства,
286
Словом, наш кредит был подорван, бумаги коти-
ровались значительно ниже номинала, и хотя ланд-
таг, возможно, охотнее пошел бы на новый заем, чем
на новые налоги, условия, предложенные нам, сде-
лали бы размещение займа чрезвычайно трудным,
вернее, просто невозможным. Ибо в довершение не-
счастья как раз сейчас повсеместно испытывали до
сих пор еще памятную экономическую депрессию и
нехватку денег.
Что сделать, чтобы почувствовать твердую почву
под ногами? Куда обратиться, чтоб утолить снедаю-
щий нас денежный голод? Уже давно подымался во-
прос о том, чтобы продать в данное время не разра-
батываемые серебряные рудники и употребить выру-
ченную сумму на погашение высокопроцентных зай-
мов. Но при существующем положении вещей сделка
была бы заключена на невыгодных условиях, госу-
дарство даже не вернуло бы вложенного в рудники
капитала и в то же время раз навсегда отказалось
бы от дохода, все же рано или поздно возможного;
да и покупателя не так-то легко было найти. Была
такая минута — минута душевной слабости, — когда
возникла даже мысль о продаже казенных лесов.
Но надо тут же сказать, что нашлось достаточно
здравомыслящих людей, воспрепятствовавших пере-
даче наших лесов в частную собственность.
Дабы ничего не утаить, скажем, что ходили слухи
и о других продажах, слухи, судя по которым
можно было думать, что при создавшихся затрудни-
тельных обстоятельствах посягнут даже на то достоя-
ние, которое народ в своем благоговении почитал не-
подвластным превратностям судьбы. «Курьер», в при-
вычки которого не входило из чувства деликатности
умалчивать о какой-либо новости, первый сообщил
о будто бы предполагаемой продаже двух загород-
ных великогерцогских дворцов Монплезира и От-
рады. Принимая во внимание, что августейшая семья
теперь не пользуется обоими дворцами для своего
местопребывания, а на содержание их с каждым
годом требуются все большие суммы, удельное ведом-
ство будто бы дало распоряжение соответствующим
287
учреждениям предпринять шаги к их продаже. Что
это означало? Разумеется, в данном случае дело
обстояло совсем не так, как при продаже Дельфине-
норта, которая состоялась на исключительно благо-
приятных и выгодных условиях и, несомненно, была
актом государственной мудрости. Люди, не стесняю-
щиеся называть вещи их именами, чего избегают
люди с тонкой душевной организацией, утверждали,
что управление придворными финансами в безвыход-
ном положении, что его осаждают своими требова-
ниями потерявшие терпение кредиторы, иначе оно не
решилось бы на такую продажу.
Как далеко зашло дело? В чьи руки попадут
дворцы? Как раз благожелательные люди, которые и
задавали эти вопросы, были склонны верить еще од-
ной, по их мнению, утешительной версии, распускае-
мой не в меру осведомленными умниками: и на сей
раз покупатель не кто иной, как Самуэль Шпель-
ман, — это было голословное, с потолка взятое утвер-
ждение, но по нему можно судить, какую роль в во-
ображении народа играет этот нелюдимый и больной
человечек, поселившийся у нас со своим лейб-меди-
ком, электрическим органом и собранием стекла.
По мановению его руки восстал из запустения
дворец с колоннами, сводчатыми окнами и резными
гирляндами, в котором он теперь жил с княжеской
роскошью. Видели его редко: он лежал, обложенный
припарками. Зато видели его дочь, усердно изучав-
шую алгебру, экзотическую девушку с капризным
подвижным лицом, недосягаемую, как королева,
в компаньонках у нее была графиня, а сама она од-
нажды гневно и смело отстранила караул, преградив-
ший ей дорогу, — видели ее, а рядом с ней видели
иногда и принца Клауса-Генриха.
Рауль Юбербейн, любивший громкие фразы,
как-то заявил, что люди смотрят на них «затаив ды-
хание»; это, конечно, было сильно сказано, но по су-
ществу он был прав: никогда еще жители нашей сто-
лицы — и притом все от мала до велика — не следили
за тем или иным происшествием в высшем свете или
в столичном обществе с таким жгучим интересом,
288
оттесняющим все остальное на задний план, как за
посещениями Клаусом-Генрихом Дельфиненорта.
Сам принц до известного момента — именно до из-
вестного разговора с его превосходительством
премьер-министром фон Кнобельсдорфом — действо-
вал безотчетно, не думая об окружающих, повинуясь
только внутреннему побуждению... Но его учитель
мог с полным правом, как обычно по-отечески, по-
смеяться над наивностью Клауса-Генриха, полагав-
шего, что его шаги останутся скрытыми от света; воз-
можно, что болтала прислуга, как дворцовая, так и
шпельмановская, возможно, что публика сама не
плошала, — как бы там ни было, но каждый раз,
как Клаус-Генрих встречался с фрейлейн Шпельман,
каждый раз с той первой встречи в Доротеинской
больнице, это замечали, об этом говорили. Замечали?
Нет, какое там замечали — наблюдали, следили во
все глаза, запоминали! Говорили? Нет, вернее, не го-
ворили, а обсуждали и толковали на все лады, не
жалея слов. Эти встречи служили темой для разгово-
ров при дворе, в салонах, гостиных и спальнях,
в парикмахерских, мастерских, людских, трактирах;
о них судачили извозчики на биржах, служанки у во-
рот, они занимали в равной мере как мужчин, так и
женщин, разумеется, несколько по-разному, что
объясняется различием точек зрения тех и других.
Неслыханный интерес, единодушно проявляемый
к этим встречам, уравнивал, объединял людей, пере-
кидывал мост через пропасть, разделяющую сословия.
Случалось, трамвайный кондуктор на площадке ва-
гона спрашивал элегантно одетого пассажира, слы-
шал ли тот уже, что вчера днем принц опять провел
часок в Дельфиненорте?
Но вот что было во всем этом и само по себе при-
мечательно и немаловажно для последующего: в тол-
ках и пересудах не чувствовалось ни капли недобро-
желательства, злорадства, которое обычно вызывают
всякие предосудительные события в высших сферах.
Наоборот, уже с самого начала еще до того, как
могла возникнуть какая-либо задняя мысль, все
широкие и горячие обсуждения всегда велись в духе
19 Т. Манн, т. 2
289
сочувствия и благожелательства, так что, если бы
принцу раньше пришло на ум поинтересоваться об-
щественным мнением, он сейчас же приобрел бы ра-
достную уверенность, что его действия получили все-
народное одобрение. Когда он в разговоре со своим
учителем назвал фрейлейн Шпельман «принцессой»,
то он, как это, впрочем, ему и приличествовало, гово-
рил совершенно в духе народа — того народа, кото-
рый своим поэтическим чутьем всегда умеет уловить
все необычное и сказочное. Да, для народа эта блед-
ная, черноволосая, полная экзотической прелести де-
вушка, в жилах которой бурлила такая смешанная
кровь, девушка, приехавшая к нам из заморских
стран и зажившая здесь своей обособленной, необыч-
ной жизнью, — для народа она была королевной или
феей из сказочной страны, принцессой в подлинном
смысле слова. Но в то же время все: и ее поведение,
и манера держать себя, и отношение к ней окружаю-
щих— способствовало тому, чтобы ее признали прин-
цессой в обычном смысле слова. Разве не жила она,
как подобает принцессе, во дворце, со своей придвор-
ной дамой, настоящей графиней? Разве не выезжала
она в роскошном автомобиле или в коляске четвер-
кой, дабы, совсем как августейшая особа, посетить
богоугодные заведения — богадельню для слепых, си-
ротский приют, общину сестер милосердия, столовую
для бедных, молочную кухню — и самой приобрести
новые знания и своим присутствием оказать на по-
мыслы людей возвышающее действие? Разве не по-
жертвовала она деньги из «собственной казны», как
знаменательно выразился «Курьер», на погорельцев
и пострадавших от наводнения, причем ровно столько
же, сколько и великий герцог (не больше, что с удо-
влетворением было отмечено всеми)? Разве не поме-
щали чуть ли не каждый день газеты непосред-
ственно за придворной хроникой отчеты о состоянии
здоровья господина Шпельмана — лежит ли он в по-
стели, или колики отпустили его и он возобновил
свои утренние посещения курортного парка? Разве не
стали для облика столичных улиц столь же харак-
терны, как и коричневые ливреи великогерцогских
290
слуг, белые ливреи шпельмаповских лакеев? Разве
туристы, руководствуясь путеводителем, не отправля-
лись, иногда даже не успев посмотреть Старый за-
мок, в Дельфиненорт, дабы насладиться созерцанием
шпельмановского владения? Разве не были оба
дворца — Старый замок и Дельфиненорт—можно
сказать в равной мере высочайшими резиденциями,
привлекавшими общее внимание? К какому обществу
принадлежало то обособленное и исключительное
дитя человеческое, которое волей судеб было дочерью
Самуэля Шпельмана? К кому могла она примкнуть,
с кем водить знакомство? Самым естественным, са-
мым понятным, самым простым представлялось ви-
деть ее вместе с Клаусом-Генрихом. И даже все те,
кому не посчастливилось видеть их собственными гла-
зами, представляли их мысленно и углублялись в со-
зерцание этой воображаемой картины: хорошо
знакомая статная, праздничная фигура принца, и ря^
дом с ним дочь и наследница всемогущего чуже-
странца, больного и раздражительного при всем
своем богатстве, чуть не вдвое превышающем общую
сумму нашего государственного долга...
И тут как-то так получилось, что всплыло одно
воспоминание, один странный рассказ, овладевший
мыслями людей... Никто не мог бы сказать, кто пер-
вый вспомнил и упомянул о нем. Выяснить это не
удалось. Возможно — женщина или ребенок с довер-
чивым взглядом, которого укачивали под эту
сказку, — как знать! Так или иначе в воображении
народа ожил призрачный образ старой скрюченной
цыганки, седой и косматой, с горящим внутренним ог-
нем взором, которая что-то бормотала, чертя клюкой
по песку, и ее несвязные слова были записаны и пере-
давались от поколения к поколению... «Величайшее
счастье?» Его принесет стране «однорукий» государь-
Он даст своей стране, гласило предсказание, одной
рукой больше, чем другие двумя... Одной? Постойте,
так ли уж все совершенно, нет ли какого изъяна
в статном праздничном облике принца? Ведь если по-
думать, изъян, физический недостаток в нем есть,
только подданные, приветствуя принца, старались не
19*
291
замечать этого недостатка: во-первых, из деликат-
ности, а во-вторых, он сам предупредительно облег-
чал им эту задачу. Он сидел в коляске, скрестив руки
на эфесе сабли и прикрывая правой рукой левую. Он
стоял под балдахином на украшенной флагами три-
буне в полуоборот к публике, держа левую руку чуть-
чуть за спиной. Левая рука у него была короче пра-
вой, кисть недоразвита, это было известно, существо-
вали даже различные объяснения, почему она такая,
но из почтительного благоговения этого недостатка
не замечали, даже не допускали мысли о нем... А вот
теперь его вдруг заметили. Навряд ли возможно
выяснить, кто первый шепотом напомнил о нем и свя-
зал с предсказанием цыганки, — может быть, ребе-
нок, а может быть, служанка или старец, стоящий на
пороге вечности. Ясно одно: заговорили об этом
в гуще народа. Некоторые думы и чаяния народа, —
между прочим, и его представление об Имме Шпель-
ман, — просочились в образованные классы, дошли
до самых влиятельных сфер снизу, были внушены им
народом,; непосредственная, свободная от всех пред-
рассудков вера народа создала широкую и прочную
основу для дальнейших событий. «Однорукий?» «Ве-
личайшее счастье?» — спрашивал народ. Мыслен-
ными очами народ видел Клауса-Генриха, заложив-
шего левую руку за спину, рядом с Иммой Шпельман
и, не решаясь додумать до конца то, что думал, тре-
петал от этой недодуманной мысли..
Все было еще так зыбко, никто ничего не додумы-
вал до конца — даже наиболее заинтересованные
действующие лица. Ибо отношения Клауса-Генриха
и Иммы Шпельман складывались так необычно, и ее
мысли — да и его также — пока еще не могли быть
направлены на какую-нибудь осязательную цель.
Действительно, после той почти немой сцены, которая
разыгралась в день рождения принца (когда фрей-
лейн Шпельман показывала ему свои книги), в их
отношениях мало что изменилось, вернее сказать, ни-
чего не изменилось. Правда, Клаус-Генрих возвра-
тился тогда к себе в Эрмитаж окрыленный, в при-
поднятом и восторженном настроении, обычном для
292
молодого человека при подобных обстоятельствах:
ему даже казалось, что случилось что-то очень важ-
ное, но вскоре ему было дано понять, что это еще
только начало, что ему еще предстоит добиваться
того, что он почитал своим счастьем. Добиваться, но,
как уже говорилось, пока еще не думая о реальной
цели, ну, скажем, об обычном сватовстве или чем-ни-
будь в том же роде, — пока это было вне пределов
мыслимого, да и могло ли быть иначе при его полной
оторванности от реальной жизни. Клаус-Генрих мо-
лил теперь взглядами и словами, но не о том, чтобы
фрейлейн Шпельман ответила на его чувства, — нет,
он молил, чтобы она захотела поверить в реальность
и силу его чувства. Потому что она не хотела верить.
Две недели он не появлялся в Дельфиненорте, и
все это время жил тем, что произошло. Он не спешил
вытеснить это событие новым; кроме того, он был за-
нят обязанностями по представительству, между про-
чим присутствовал на празднике стрелкового обще-
ства, официальным шефом которого состоял и в ка-
честве такового ежегодно бывал на праздновании дня
его основания. Одетый, как полагается, в зеленый
охотничий костюм, появился он на стрельбище, его
восторженно встретили традиционным приветствием
стрелков, затем он без всякого аппетита закусил
с осчастливленными членами правления и наконец,
став в позу опытного стрелка, сделал несколько вы-
стрелов по разным мишеням. По истечении двух не-
дель — была середина июня — он снова нанес визит
Шпельманам, за чаем Имма была чрезвычайно на-
смешлива и говорила вычурными книжными фра-
зами. На этот раз к чаю вышел господин Шпельман,
его присутствие помешало Клаусу-Генриху остаться
наедине с молодой хозяйкой, чего он так страстно
желал. Зато оно неожиданно помогло ему справиться
с огорчением, которое причиняли ему колкости Иммы,
ибо Самуэль Шпельман на этот раз обращался с ним
мягко, даже ласково.
Чай пили на веранде, сидя в новомодных плете-
ных креслах, а из цветника веяло нежными арома-
тами. На камышовой кушетке, пододвинутой к столу,
293
под зеленым шелковым одеялом, затканным попу-
гаями и подбитым мехом, лежал, обложенный шелко-
выми подушками, хозяин дома. Ему позволили встать
с постели, чтобы подышать теплым весенним возду-
хом, но щеки у него сегодня не горели лихорадоч-
ным румянцем, они были желтовато-бледными,
а глазки мутными; подбородок заострился, прямой
нос казался длиннее, чем всегда, и настроение было
мягкое и лирическое без обычной раздражительно-
сти— тревожный симптом! У изголовья кушетки си-
дел, вытянувшись и кротко улыбаясь, доктор Ватер-
клуз.
— А, молодой принц... — устало протянул мистер
Шпельман и на вопрос о его самочувствии ответил
лишь невнятным междометием. Имма, в переливча-
том домашнем платье с высокой талией и в зеленом
бархатном фигаро, заварила чай из электрического
самовара. Выпятив губки, она поздравила принца с
успехами, проявленными им лично на стрельбище, и,
покрутив головкой, добавила, что «с величайшим
удовлетворением узнала об этом из газет», и даже
прочитала графине о его достижениях на стрельбище.
Графиня в неизменном облегающем коричневом
платье сидела за столом очень прямо и с достоин-
ством помешивала ложечкой в чашке, ничуть не да-
вая себе воли. Разговорчивее всех был сегодня ми-
стер Шпельман. Как уже сказано, тон у него был
мягкий, лирический — следствие стихнувших колик.
Он рассказал об одном событии многолетней дав-
ности, но, по-видимому, не изжитом до сих пор и
наново волновавшем его всякий раз, как ему нездо-
ровилось,— рассказал эту короткую и несложную ис-
торию дважды подряд и во второй раз разогорчился
еще больше, чем в первый. Как-то раз он, по своему
обычаю, собрался сделать пожертвование — не бог
весть какого масштаба, но все же достаточно внуши-
тельное,— короче говоря, он в письменной форме из-
вестил одно из крупнейших в Соединенных Штатах
человеколюбивых учреждений о своем намерении
внести на его благие начинания миллион долларов
в железнодорожных акциях, в солиднейших акциях
294
Тихоокеанской железнодорожной компании, пояснил
мистер Шпельман и хлопнул ладонью об ладонь, как
бы предъявляя вышеназванные акции. А как посту-
пило человеколюбивое учреждение? Отклонило, от-
вергло этот дар, не пожелало принять его, да еще
пояснило, что не нуждается в помощи деньгами, до-
бытыми сомнительным и насильственным путем. Вот
как оно поступило1 У мистера Шпельмана губы дро-
жали оба раза, что он об этом рассказывал, и теперь
в поисках утешения и сочувствия он оглядел своими
близко посаженными круглыми глазками сидящих
за чайным столом.
— Не очень-то человеколюбивый поступок со сто-
роны человеколюбивого учреждения, — заметил Кла-
ус-Генрих. — Отнюдь нет.
И он так выразительно покачал головой, так яв-
ственно показал свое возмущение и сочувствие, что
господин Шпельман даже повеселел и заявил, что
сегодня приятно быть на воздухе и снизу хорошо
пахнет цветами. Мало того, он воспользовался пер-
вым же случаем, чтобы выразить признательность и
подчеркнуть свое благоволение к молодому гостю.
Надо сказать, что в это лето погода стояла перемен-
чивая, жара сменялась грозами с градом и похоло-
данием, и Клаус-Генрих схватил простуду, у него
распухло горло, ему было больно глотать, и так как
чересчур бережное отношение к его высокой особе,
предназначенной выполнять представительные функ-
ции, естественно, сделало из него немножко неженку,
он не мог удержаться, чтобы не заговорить об этом
и не пожаловаться на боль в горле.
— Вам необходимы согревающие компрессы,—
решил господин Шпельман. — Есть у вас компрессная
клеенка?
Нет, у Клауса-Генриха таковой не было. Тогда
господин Шпельман сбросил одеяло с попугаями,
встал и пошел в комнаты. Не отвечая на вопросы,
не желая никого слушать, он встал и пошел. Остав-
шиеся спрашивали друг друга, что он такое наду-
мал, и доктор Ватерклуз, опасаясь, что у его па-
циента начался приступ колик, пошел следом за ним.
295
Но, как оказалось, господин Шпельман вспомнил, что
в каком-то ящике у него есть кусочек компрессной
клеенки, теперь он возвратился с этим кусочком,
сильно потрескавшимся, и вручил его принцу, подроб-
но разъяснив, как употреблять ее, чтобы извлечь на-
стоящую пользу. Клаус-Генрих восторженно поблаго-
дарил, и господин Шпельман с удовлетворением снова
улегся на кушетку. На этот раз он остался и после
чая и даже предложил совместную прогулку по парку,
причем сам господин Шпельман в домашних мягких
башмаках шел между Иммой и Клаусом-Генрихом,
а графиня Левенюль и доктор Ватерклуз следовали
на некотором расстоянии. Когда принц собрался на
сегодня распрощаться, Имма ввернула язвительное
замечание насчет его горла и компрессов и со скры-
той иронией стала его умолять, чтобы он лечился и
тщательно оберегал свою священную особу. Хотя
Клаус-Генрих не нашелся, что ответить, — да она и
не рассчитывала на достойный ответ, — он все же
вскочил в свой догкарт в довольно приподнятом на-
строении, ибо кусочек потрескавшейся клеенки в зад-
нем кармане форменного сюртука казался ему зало-
гом счастливого будущего, — откуда у него явилось
такое чувство, он и сам не мог понять толком.
Одно ему было ясно — борьба для него только на-
чинается. Борьба за доверие Иммы Шпельман, за то,
чтобы она до конца поверила ему и решилась бы
с тех чистых и холодных высот, где она привыкла па-
рить, из царства алгебры и язвительной насмешки
спуститься вместе с ним в неведомые ей, более теп-
лые, душные и плодотворные области, куда он ее
звал. Ей же такое решение пока что внушало нема-
лый страх.
В следующий раз он оказался с ней наедине, или
все равно что наедине, так как третьей была графиня
Левенюль. Ночью прошел сильный дождь, и утро
было прохладное и пасмурное. Они ехали верхом по
зеленому откосу. Клаус-Генрих был в высоких сапо-
гах, рукоятку хлыста он продел в петлю своей серой
шинели. Шлюз у бревенчатого моста был закрыт, и
русло речного рукава тянулось сухое и каменистое.
296
У Персеваля прошел первый приступ шумного не-
истовства, и теперь он как на пружинах прыгал с бе-
рега на берег либо, по собачьей манере, бочком тру-
сил впереди лошадей. Графиня ехала на Изабо,
с улыбкой склонив набок свою маленькую голову.
— Я день и ночь думаю все о том же, что было
не иначе как сон, — сказал Клаус-Генрих. — Я лежу
ночью, и кругом такая тишина, что слышно, как
фыркает в деннике Флориан, и тогда я не сомне-
ваюсь, что это не был сон. Но стоит мне увидеть вас,
вот как сейчас или как в тот день за чаем, и мне не
верится, что это возможно наяву.
— Ваши слова требуют разъяснения, принц, — от-
ветила она.
— Скажите, фрейлейн Имма, вы мне показывали
девятнадцать дней тому назад свои книги — или нет?
— Девятнадцать дней тому назад? Нужно высчи-
тать. Нет, постойте, по-моему выходит, что это было
восемнадцать с половиной дней тому назад.
— Но книги-то вы мне показывали?
— По этому пункту никаких разногласий нет, И
я лелею надежду, что они вам понравились.
— Ах, Имма, зачем вы так говорите сейчас со
мной! Мне не до шуток, мне столько нужно сказать
вам... Я не успел тогда, девятнадцать дней тому на-
зад, когда вы мне показывали свои книги... свою биб-
лиотеку. Я хочу начать с того, на чем мы останови-
лись, а все, что было в промежутке, надо вычерк-
нуть...
— Бог с вами, принц, гораздо лучше вычеркнуть
именно это! О чем вы говорите! О чем хотите напо-
мнить себе и мне! Мне казалось, у вас все основа-
ния предать это забвению! Подумать только —распу-
ститься до такой степени. Утратить всякую выдержку!
— Если бы вы знали, Имма, какое для меня было
блаженство — утратить выдержку!
— Покорно благодарю! Вы понимаете, что это
оскорбительно? Я требую, чтобы вы держали себя
со мной так же, как со всеми на свете. Я не для того
существую, чтобы служить вам передышкой от ваших
высоких обязанностей.
297
— Как вы заблуждаетесь, Имма! Но я знаю, вы
нарочно, в шутку неверно толкуете мои слова. Из
этого я вижу, что вы мне не верите и не желаете
принять всерьез то, что я говорю...
— В самом деле, принц, вы слишком многого от
меня требуете! Ведь вы же сами рассказывали мне
свою жизнь. Вы для виду учились в школе, для виду
сидели в университете, для виду были на военной
службе и продолжаете для виду носить мундир; для
виду вы даете аудиенции, для виду изображаете
стрелка и еще бог весть кого; вы и на свет-то появи-
лись для виду, а теперь требуете, чтобы я поверила,
будто для вас хоть что-нибудь может быть серьезно.
Во время ее речи у него на глазах выступили
слезы, так ему стало больно от ее слов.
— Вы правы, Имма, — тихо ответил он, — в моей
жизни много ненастоящего. Но, подумайте, я не сам
создал или выбрал себе такую жизнь, я только вы-
полнял строго и точно предписанный мне долг, чтоб
являть пример людям. И мало того, что он нелегко
мне дался, ценой запретов и отказов, так теперь еще
я наказан тем, что вы не верите мне.
— Я знаю, принц, вы гордитесь своим высоким
назначением и своей жизнью, — сказала она, — как
же я могу желать, чтобы вы изменили себе?
— Нет, — крикнул он, — предоставьте мне самому
решать, изменяю я себе или нет, а вы об этом не ду-
майте! У меня был случай, когда я изменил себе и
пытался обойти запрет, и все это кончилось позо*
ром. Но с тех пор, как я встретил вас, я знаю, впер-
вые знаю, что я без угрызений совести и без ущерба
для того, что зовут моим высоким призванием, впер-
вые могу, как всякий человек, дать волю чувству,
хотя доктор Юбербейн говорит и даже по-латыни,
что это не дано...
— Вот видите, что говорит ваш друг!
— Да ведь вы сами называли его нехорошим че-
ловеком и сказали, что он плохо кончит! Это благо-
родная натура, я высоко ценю его, он мне раскрыл
глаза и на меня самого, и на многое другое. Но все
это время я часто думал о нем и после того, как вы
298
так строго осудили его, я часами размышлял о вашем
суждении и в конце концов согласился с вами. Ви-
дите ли, Имма, в чем беда доктора Юбербейна — он
враждует со счастьем, в этом все дело.
— Что ж, вражда достойная, — заметила Имма
Шпельман.
— Достойная, но нехорошая, как вы сами ска-
зали, и притом, греховная, — возразил Клаус-Ген-
рих,— ибо он грешит против того, что важнее, чем
его неколебимое достоинство, теперь я это знаю, и
в этом грехе он по-отечески наставлял меня. Но те-
перь я перерос его наставления хотя бы в этом.
Я стал самостоятельным, и пусть я не убедил Юбер-
бейна, вас мне удастся убедить, Имма, не сегодня так
позднее.
— Да, принц, надо отдать вам должное! Вы уме-
ете убеждать и жаром своего красноречия увлечете
хоть кого! Вы как будто сказали — девятнадцать
дней? Я настаиваю на восемнадцати с половиной, но
разница не так уж существенна. За это время вы со-
изволили появиться в Дельфиненорте всего раз, че-
тыре дня тому назад...
Он испуганно вскинул на нее взгляд.
— Ну, не сердитесь на меня, Имма! Будьте ко
мне хоть чуточку снисходительны... Подумайте, как
я еще неопытен... в этой чуждой сфере! Сам не знаю,
почему это так получилось... Должно быть, мне хо-
телось дать нам обоим успокоиться. А тут еще меня
одолели разные обязательства...
— Понятно, вам нужно было для виду стрелять
в мишень. Я читала в газетах. И, как всегда, вы про-
явили недюжинные таланты. На стрельбище было
полным-полно людей, а вы выставляли себя им на-
показ в маскардном наряде, чтобы они еще сильнее
вас любили.
— Имма, пожалуйста, не переходите на галоп!
Слова нельзя сказать... Любили, говорите вы. Да
разве это любовь? Это показная, условная поверхно-
стная любовь, любовь на расстоянии, которая ничего
не стоит — парадная любовь без капельки души! Нет,
иы не должны сердиться на то, что я терплю такую
299
любовь, ведь она нужна не мне, а тем людям, кото-
рых она возвышает в собственных глазах, они этого
сами хотят. Я же хочу другого и обращаюсь к вам,
Имма...
— Чем могу вам служить, принц?
— Вы сами знаете, Имма! Я прошу у вас доверия,
можете вы хоть немножко довериться мне?
Она посмотрела на него, и такого настойчивого
вопроса еще ни разу не было в ее огромных темных
глазах. Но как ни горячо он молил ее без слов, од-
ним только взглядом, она отвернулась, замкнутая и
неприступная.
— Нет, принц Клаус-Генрих, не могу.
У него вырвался страдальческий стон, и он спро-
сил дрожащим голосом:
— Не можете—почему?
— Вы сами мне мешаете, — ответила она.
— Чем я мешаю? Ну, прошу вас, объясните же!
Все с тем же неприступным видом, опустив глаза
на белые поводья и слегка покачиваясь в седле, она
начала:
— Всем! Своим поведением, манерами, самой
своей августейшей особой. Помните, как вы поме-
шали бедняжке графине дать волю своей фантазии
и вынудили ее мыслить здраво и трезво, хотя ей за
непосильные испытания и были ниспосланы благоде-
тельное помрачение ума и чудаковатость? И помните
еще,^ я вам сказала, что ясно представляю себе, как
вы отрезвили ее? Да, я это вижу очень ясно, потому
что и мне вы мешаете дать себе волю, меня вы тоже
ежеминутно отрезвляете и словами, и взглядами, и
даже тем, как вы стоите и сидите. Потому-то и не-
мыслимо довериться вам. Мне случалось наблюдать,
как вы ведете себя с другими, будь то с доктором
Плюшем в Доротеинской больнице или с господином
Штафенютером в кофейне при «Фазаннике» — все
равно, каждый раз мне становилось холодно и
страшно. Вы стоите в картинной позе и задаете во-
просы, но не из участия, вас не интересуют ответы,
вас вообще ничто не интересует и не трогает по-на-
стоящему. Я часто замечала — вот вы говорите, вы*
300
сказываете какое-нибудь мнение, но с таким же успе*
хом вы могли бы высказать и любое другое, по-
тому что на самом деле у вас нет собственного мне-
ния, вы ни во что не верите, вас ничто не трогает,
нам важно одно — держать себя как приличествует
принцу. Вы говорите, что ваши обязанности нелегки,
но раз уж вы меня вызвали на это, я позволю себе
заметить, что вам было бы куда легче, если бы у вас
было свое мнение, свои убеждения, — таково мое мне-
ние и мое глубокое убеждение, принц. Как же при-
кажете верить вам? Нет, не доверие внушаете вы,
а неловкость, от вас веет холодом, и как бы я ни
старалась приблизиться к вам, мне бы помешала эта
самая неловкость и скованность. Ну вот — я вам от-
ветила.
Он слушал ее с болью, затаив дыхание, и не-
сколько раз поднимал глаза на ее бледное личико,
а потом, по ее примеру, опускал их на поводья.
— Благодарю вас, Имма, — сказал он, — благо-
дарю за то, что вы говорили вполне серьезно,—
обычно вы только иронизируете, и сознайтесь сами,
как я по-своему, так и вы по-своему тоже ничего не
принимаете всерьез.
— Иначе как иронически с вами и нельзя гово-
рить, принц!
— Порой вы бываете даже злой и жестокой, как,
например, со старшей сестрой в Доротеинской боль-
нице. Вы совсем смутили бедняжку.
— Я отлично знаю, что и у меня есть недостатки,
и хорошо бы, если бы кто-нибудь помог мне изба-
виться от них.
— Я буду вам помогать, мы будем помогать друг
другу...
— Не думаю, принц, что мы можем друг другу
помочь.
— Нет, можем. Вот и сейчас уже вы говорили
серьезно, безо всякой иронии. Да и я уже не преж-
ний, и когда вы утверждаете, будто мне ничто не ин-
тересно, ничто меня не трогает, — вы неправы, по-
тому что теперь вы, вы, Имма, до глубины души
трогаете меня. И потому что это для меня серьезнее
301
и важнее всего на свете, я в конце концов завоюю
ваше доверие. Если бы вы знали, какая для меня
радость услышать, что вы старались приблизиться
ко мне! Да, да, постарайтесь еще, и пусть вас не сму-
щает какая-то там неловкость, которую я будто бы
вам внушаю! Ведь я же отлично знаю, что сам ви-
новат во всем! Когда вы опять почувствуете такую
неловкость, посмейтесь надо мной и над собой, но
только не отстраняйтесь от меня. Ну, обещайте, что
постараетесь!
Но Имма Шпельман ничего не обещала, а улучив
минуту, все-таки перешла на галоп, и много еще по-
добных разговоров кончалось ничем.
Иногда Клаус-Генрих пил чай в Дельфиненорте,
а затем обычная компания — принц, фрейлейн Шпель-
ман, графиня и Персеваль — совершала прогулку по
парку. Породистый колли степенно семенил рядом
с Иммой, а графиня Левенюль шла, отступя на два-
три шага. Задержавшись в самом начале прогулки,
чтобы, жеманно оттопырив мизинчики, подвязать ка-
кой-то кустик, она не спешила наверстать расстояние.
Таким образом Клаус-Генрих и Имма шли впереди
и продолжали объяснение; описав определенный круг,
они поворачивали назад, так что теперь графиня
была на два-три шага впереди них, и Клаус-Генрих,
в подкрепление своих ораторских усилий, осторожно,
не поворачиваясь к Имме, брал ее узкую руку без ко-
лец в обе свои руки, и в левую тоже, — он уже не
думал, что ее надо прятать, и тут она не была поме-
хой, как при исполнении официальных обязанно-
стей,— и при этом настойчиво спрашивал, старается
ли Имма почувствовать к нему доверие и удается ли
ей это хоть немножко. С огорчением услышав, что все
это время она главным образом училась, занималась
алгеброй и витала в горних высях, он с жаром убе-
ждал ее отложить книги, которые только отвлекают
от того главного, на что сейчас должны быть на-
правлены все силы ее ума. Говорил он также о себе,
о том сковывающем, отрезвляющем действии, какое,
по ее словам, он всегда оказывает, пытался объяс-
нить причину такого воздействия и тем самым све-
302
сти его на нет. Он говорил о том, какую холодную,
суровую и убогую жизнь вел до сих пор и что при
сем всегда присутствовали люди, лишь бы присут-
ствовать и созерцать, а его высокое назначение тре-
бовало, чтобы он показывался им, дабы они могли
созерцать его, и это, пожалуй, самое тяжелое. Он из
сил выбивался, внушая ей, что избавиться от тех не-
достатков, которые вспугнули бедняжку графиню и,
к его великому огорчению, отталкивают ее самое,—
избавиться от них он может только с ее помощью,
его исцеление всецело зависит от нее.
Она смотрела на него, ее огромные глаза темнели
от трепетного вопроса, видно было, что и она борется.
Но потом она встряхивала головой или, выпятив
губки, в насмешку произносила высокопарную фразу
и тем обрывала разговор, не в силах сломить себя и
произнести то «да», пойти на ту жертву, о которой
он молил и которая, при существующем положении
вещей, собственно, ни в чем не заключалась и ни
к чему ее не обязывала.
Она не запрещала ему приезжать два раза в не-
делю, не запрещала говорить, умолять и убеждать
ее и время от времени подержать обеими руками ее
руку. Но все это она только терпела, не сдаваясь,—
казалось, ее страх перед решением, боязнь спу-
ститься к нему из своего царства бесстрастной иро-
нии непреодолимы, и случалось, что, измучившись и
отчаявшись, она разражалась такими горькими ре-
чами:
— Лучше бы нам никогда не встречаться, принц!
Вы бы продолжали преспокойно осуществлять свое
высокое назначение, а я жила бы тихо и мирно и ни-
кто бы никого не мучил!
И нелегко бывало заставить ее отречься от своих
слов и вынудить у нее признание, что не так уж она
жалеет об их знакомстве.
В этих прениях проходило время. Лето клонилось
к концу, от ранних ночных заморозков с деревьев, не
успев пожелтеть, опадали листья, копыта Фатьмы,
Флориана и Изабо шуршали по красной и золотой
листве, надвигалась осень с туманами и терпкими
303
запахами — и никто не предвидел положительной
перемены или решающего поворота в столь слож^
ном и неопределенном положении дел.
Велика заслуга того, кто поставил их на реаль-
ную почву и направил по пути благополучного завер-
шения, и заслуга эта бесспорно принадлежит тому
облеченному высокой властью человеку, который до
поры до времени держался в стороне, а в нужную
минуту тактично, но решительно вмешался в ход со-
бытий. Человек этот был его превосходительство гос-
подин фон Кнобельсдорф, министр внутренних и ино-
странных дел, а также министр великогерцогского
двора.
Старший преподаватель доктор Юбербейн не оши-
бался, говоря, что председатель совета министров
осведомлен обо всех личных и сердечных делах Кла-
уса-Генриха. Этого мало: у старого сановника были
умные, обладающие хорошим нюхом агенты, которые
постоянно держаЛи его в курсе общественного мне-
ния и той роли, которую Самуэль Шпельман и его
дочь играют в народной фантазии, возведшей их
чуть ли не в королевский сан, в курсе того, с каким
страстным и суеверным интересом следят столичные
жители за общением между дворцами Эрмитаж и
Дельфиненорт, как одобрительно относятся к этому
общению, — словом, во что оно претворяется по раз-
говорам и слухам для всякого, кто не прикидывается
глухим и слепым, не только в столице, но и во всей
стране. Симптоматичный случай окончательно утвер-
дил господина фон Кнобельсдорфа в его намере-
ниях.
В начале октября — сессия ландтага открылась две
недели назад и распри с бюджетной комиссией были
в полном разгаре — захворала Имма Шпельман и,
как думали вначале, захворала очень серьезно. Выяс-
нилось, что неосторожная девица — бог весть под
влиянием какого настроения или каприза — во время
верховой прогулки с графиней Левенюль чуть не пол-
часа скакала на своей Фатьме навстречу сильному
северо-восточному ветру, после чего возвратилась
с острой эмфиземой легких, от которой едва не за-
да
дохнулась. В течение нескольких часов это известие
облетело весь город. Говорили, что жизнь девушки
висит на волоске, — впрочем, вскоре, к счастью, вы-
яснилось, что слухи непомерно преувеличены. Однако
всеобщее смятение и сочувствие не могло быть силь-
нее, если бы подобное несчастье стряслось с кем-ни-
будь из членов Гримбургской династии или даже с са-
мим великим герцогом. Ни о чем другом не говорили.
В бедных кварталах столицы, например в районе До-
ротеинской детской больницы, женщины стояли под
вечер на пороге своих домишек и кашляли, прижав
руки к груди, чтобы наглядно показать друг другу,
как это бывает, когда человек задыхается. В вечер-
них выпусках газет были напечатаны подробные,
медицински обоснованные информации о здоровье
фрейлейн Шпельман, их передавали из уст в уста,
читали за семейным столом и за столиком в трак-
тире, обсуждали в трамвае. Люди видели, как репор-
тер из «Курьера» промчался в извозчичьей пролетке
в Дельфиненорт, там в вестибюле с мозаичным по-
лом весьма нелюбезно был принят шпельмановским
butler'oM и даже, не щадя усилий, изъяснялся с ним
по-английски. Вообще газеты не мало повинны в том,
что это событие было раздуто и возбудило излишнее
беспокойство. На деле никакой серьезной опасности
не было. После шестидневного постельного режима
под наблюдением шпельмановского лейб-медика рас-
ширение сосудов ликвидировалось и легкие болящей
пришли в норму. Но этих шести дней было с избыт-
ком довольно, чтобы показать, какое место в нашем
общественном мнении заняли Шпельманы и, в част-
ности, фрейлейн Имма. Каждое утро в мозаичном вес-
тибюле Дельфиненорта собирались корреспонденты
газет, выразители всенародного любопытства, и вы-
слушивали краткий отчет дворецкого за истекший
день, а затем, уснастив его подробностями, до кото-
рых так жадна публика, помещали в своих органах.
Люди читали о душистых приветах и пожеланиях
скорейшего выздоровления, поступавших в Дельфи-
ненорт от различных благотворительных учреждений,
которые Имма Шпельман посещала и щедро субси-
20 Т. Манн, т. 2
305
дировала (остряки замечали при этом, что велико-
герцогскому податному ведомству не мешало бы тоже
воспользоваться случаем и выразить свою призна-
тельность). Люди читали и, опустив газету, перегля-
дывались — о «великолепной корзине цветов», которую
принц Клаус-Генрих со своей визитной карточкой по-
слал в Дельфиненорт (в действительности принц
каждый день, пока фрейлейн Шпельман лежала боль-
ная, посылал ей цветы, но хроникеры упомянули
только об одном случае, щадя нервы публики). За-
тем люди прочли, что пользующаяся всеобщей лю-
бовью больная в первый раз встала с постели, и на-
конец узнали, что ей разрешено выехать на прогулку,
но этот выезд, состоявшийся в солнечный осенний
день ровно через неделю после того как фрейлейн
Шпельман слегла, послужил поводом для такого бур-
ного и дружного выражения восторга, что люди с вы-
сокоразвитым чувством собственного достоинства
сочли его чрезмерным и неуместным. И в самом деле,
пока громадный оливковый шпельмановский автомо-
биль с кирпично-красными кожаными сидениями,
где за рулем сидел молодой шофер, бледный и зам-
кнутый на вид — типичный англосакс, — дожидался
у главного портала Дельфиненорта, вокруг собралась
порядочная толпа, и, когда фрейлейн Шпельман и
графиня Левенюль в сопровождении лакея с пледами
сошли со ступеней, в толпе замахали шапками и
платками, а клики «ура» не смолкали все время,
пока машина, давая гудки, выбиралась из сутолоки
и наконец укатила, обдав манифестантов перегаром
бензина. Весьма возможно, что главными крикунами
и вправду были те малопочтенные личности, которые
падки до таких зрелищ: мальчишки-подростки, жен-
щины с корзинками для провизии, школьники, зе-
ваки, бродяги и прочие праздношатающиеся. Но спра-
шивается, из кого должна состоять толпа, чтобы ее
признали добропорядочной? Не будем обходить мол-
чанием и слушок, пущенный позднее присяжными
скептиками, согласно которому в толпу, окружавшую
автомобиль, затесался подручный господина фон
Кнобельсдорфа, агент тайной полиции, и он-то будто
306
бы подал сигнал к приветственным кликам и усердно
поощрял их. Можно допустить и это в угоду людям,
любящим умалять значительность событий. В худ-
шем случае, иначе говоря, если версия скептиков
перна, все-таки окажется, что агент лишь чисто меха-
нически дал толчок к взрыву восторженных чувств,
ибо не будь чувств, не было бы и взрыва. Так или
иначе, эта сценка, подробно описанная в газетах, на
всех оказала соответствующее действие, и те, кто
подальновиднее, не могли не поставить ее и другие
аналогичные факты в прямую связь с новым изве-
стием, несколько дней спустя взволновавшим умы.
Сообщение гласило, что его королевское высоче-
ство принц Клаус-Генрих дал аудиенцию во дворце
Эрмитаж его превосходительству господину премьер-
министру фон Кнобельсдорфу, продолжавшуюся
с трех часов пополудни до семи часов вечера без пе-
рерыва. Битых четыре часа! О чем же они беседо-
вали? Надо думать, не о предстоящем придворном
бале? Между прочим, речь зашла и о придворном
бале.
Господин фон Кнобельсдорф попросил принца
уделить ему время для конфиденциальной беседы,
воспользовавшись встречей на придворной охоте, ко-
торая состоялась десятого октября в прилегающих
к замку Егерпрейс, раскинувшихся в западном на-
правлении лесных угодьях, и на которой Клаус-Ген-
рих фигурировал, как и его рыжеволосые кузены,
в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе
и ботфортах, обвешанный разными предметами,
как-то: полевым биноклем, охотничьим ножом, кин-
жалом, патронташем и пистолетом в кобуре. Посо-
вещавшись с господином фон Браунбарт-Шеллен-
дорфом, разговор решили назначить на три часа дня
двенадцатого числа октября месяца. Впрочем, Клаус-
Генрих вызвался сам посетить старика министра на
его казенной квартире, но господин фон Кнобельс-
дорф предпочел приехать в Эрмитаж,; приехал он
минута в минуту и был принят со всей предупреди-
тельностью и теплотой, какую Клаус-Генрих считал
обязательным выказывать престарелому советчику
20*
307
своего отца и брата. Беседа состоялась в неуютной
маленькой гостиной, где стояли три прекрасных
ампирных кресла красного дерева с голубоватыми
лирами по желтому полю.
Хотя его превосходительству господину фон Кно-
бельсдорфу было уже под семьдесят, он сохранил
бодрость тела и ясность ума. Сюртук на нем не бол-
тался по-стариковски, а сидел как влитой, плотно
облегая крепко сбитое и в меру упитанное тело веч-
ного оптимиста. Все еще густые волосы, разделенные
на прямой пробор, а также подстриженные щеткой
усы успели побелеть, подбородок был раздвоен сим-
патичной ямочкой, гусиные лапки у наружных углов
глаз, как и прежде, складывались в веселые лучики;
с годами к ним даже прибавились бороздки и ответ-
вления, и теперь эта многообразная и подвижная
сеть морщин неизменно придавала его голубым гла-
зам выражение мудрого лукавства. Клаус-Генрих
глубоко уважал господина фон Кнобельсдорфа, хотя
особой близости между ними не было. Правда,
премьер-министр опекал и направлял принца с малых
лет, сперва назначил ему в учители господина Дреге,
затем организовал для него фазаний интернат, позд-
нее послал его с доктором Юбербейном в универси-
тет, определил отбывать для вида военную службу и
даже выбрал ему в качестве резиденции дворец Эрми-
таж— однако все это делалось через третьих лиц,
непосредственно они почти не соприкасались, а при
редких встречах в годы отрочества Клауса-Генриха
господин фон Кнобельсдорф считал своим долгом
осведомляться о намерениях и планах на буду-
щее его высочества, как будто сам не имел о них
представления, и, возможно, именно эта фикция,
которую усердно поддерживали обе стороны, поме-
шала им выйти за рамки чисто официальных отно-
шений.
Господин фон Кнобельсдорф уселся в удобной и
вместе с тем почтительной позе и приступил к разго-
вору, меж тем как Клаус-Генрих старался угадать
цель его визита; министр сперва упомянул о поза-
вчерашней охоте, любезно подчеркнул ее результаты,
308
млтем как бы вскользь коснулся своего достойного
коллеги доктора Криппенрейтера, который тоже при-
нимал участие в охоте, и с сожалением отметил, что
министр финансов очень плохо выглядит. Вот и
у Егерпрейса господин Криппенрейтер нельзя сказать,
чтобы преуспел, — что ни выстрел, то промах. «Да,
от забот рука нетверда», — подвел итог господин фон
Кнобельсдорф, вызвав у принца такую реплику, ко-
торая позволила ему вкратце охарактеризовать ?ти
заботы. Он рассказал, что предварительная общая
смета дала «весьма чувствительный» дефицит, что
у министра финансов крупные разногласия с бюд-
жетной комиссией, рассказал о новом поимуще-
ственном налоге, о квоте в тринадцать с половиной
процентов, вызывающей яростный протест предста-
вителей городского населения, рассказал о допотоп-
ном налоге на мясо и о бедственном положении чи-
новников; Клаус-Генрих, хоть и озадаченный специ-
альной терминологией, слушал очень сосредоточенно
и сочувственно кивал головой.
Оба — старик и молодой человек — сидели перед
круглым столом на тонконогом и жестковатом ди-
ване с бронзовыми веночками и желтой суконной
обивкой, напротив узкой застекленной двери на тер-
расу, за которой осенний туман обволакивал почти
уже оголенные деревья парка и пруд с утками. В ни-
зенькой печке из гладких белых изразцов потрески-
вали дрова, распространяя благодатное тепло в строго
и скудно обставленной комнате, и Клаус-Генрих, хоть
и не мог вникнуть в политические рассуждения фон
Кнобельсдорфа, однако был горд и счастлив, что
такой многоопытный государственный муж зедет
с ним серьезный разговор, и все более проникался
умиленной и доверчивой симпатией. Господин фон
Кнобельсдорф облекал в приятную форму самые не-
приятные истины, голос его ласкал слух, а фразы
были построены умело и убедительно, как вдруг
Клаус-Генрих обнаружил, что речь идет уже не об
экономике и о заботах доктора Криппенрейтера,
а о его, Клауса-Генриха, самочувствии. Может быть,
он, Кнобельсдорф, ошибается? За последнее время
309
зрение стало изменять ему. Но как будто внешний
вид у его королевского высочества прежде был лучше,
свежее и бодрее. А теперь в нем явственно проступает
утомление и озабоченность... Он, Кнобельсдорф,
боится быть назойливым; однако ему хочется верить,:
что это отнюдь не является признаком серьезных
физических или душевных страданий.
Клаус-Генрих вглядывался в туман за балконной
дверью. Лицо его все еще было замкнуто; но хотя он
сидел на жестком диване с неуклонно собранным и
сосредоточенным видом, скрестив ноги, прикрыв ле-
вую руку правой и повернувшись к собеседнику, вну-
тренне он невольно отпустил узду и в приливе уста-
лости от своеобразной и бесплодной сердечной
борьбы у него чуть не выступили на глаза слезы.
Ведь он был так одинок, так нуждался в совете! Док-
тор Юбербейн перестал бывать в Эрмитаже. И все-
таки Клаус-Генрих попытался уклониться:
— Ах, ваше превосходительство, это слишком да-
леко завело бы нас.
— Слишком далеко? — возразил господин фон
Кнобельсдорф. — Нет, ваше королевское высочество,
не бойтесь, вам не надобно вдаваться в подробности.
Каюсь, я только делал вид, что недостаточно осве-
домлен о событиях в жизни вашего королевского вы-
сочества. И если не считать кое-каких оттенков и де-
талей, ускользающих от молвы, вы, ваше королевское
высочество, вряд ли сообщите мне что-нибудь новое.
Но, может быть, вашему королевскому высочеству
полезно облегчить душу перед старым слугой, кото-
рый вас на руках носил и кто знает... может быть,
мне удастся делом и советом помочь вам, ваше коро-
левское высочество.
И тут что-то растопилось в груди у Клауса-Ген-
риха, признания неудержимо прорвались наружу, и
он рассказал господину фон Кнобельсдорфу все, без
утайки. Он говорил, как говорят от полноты сердца,
когда все слова разом просятся на уста, — говорил
не очень связно, не очень последовательно, задержи-
ваясь на несущественном, но зато так убедительно и
образно, как подводят итог животрепещущему пере-
310
живанию. Начал он с середины, неожиданно вер-
нулся к началу и лихорадочно стал досказывать конец
(которого еще и не было), сам себя прерывал, сби-
вался и в растерянности останавливался. Но сведе-
ния, полученные ранее, помогали фон Кнобельсдорфу
ориентироваться и наводящими вопросами направить
по фарватеру севшее на мель суденышко, пока нако-
нец перед взором мудрого советчика не предстала
полная, без единого пробела картина пережитого
Клаусом-Генрихом, во всей ее сложности, со всеми
событиями и действующими лицами, с фигурами Са-
муэля Шпельмана, полоумной графини Левенюль и
даже породистого пса Персеваля, а главное Иммы
Шпельман. О кусочке компрессной клеенки было рас-
сказано во всех подробностях, так как господин фон
Кнобельсдорф, по-видимому, придал большое значе-
ние этому эпизоду, и вообще не было упущено ничего
пз происшедшего в промежутке между бурной сцен-
кой при смене караула и последними мучительными
сердечными турнирами на коне и пешком. Когда
Клаус-Генрих кончил, щеки его пылали, а синие глаза,
узкие из-за выступающих по-простонародному скул,
были полны слез. Он вскочил с дивана, чем вынудил
подняться и господина фон Кнобельсдорфа, и, так
как ему было жарко, во что бы то ни стало хотел
открыть дверь на веранду, но господин фон Кнобель-
сдорф воспротивился, сославшись на неизбежность
простуды. Он всеподданнейше попросил принца сесть
снова, ибо его королевскому высочеству, разумеется,
ясна необходимость спокойно разобраться в положе-
нии дел. И оба снова опустились на жесткое сидение
дивана.
Господин фон Кнобельсдорф на минуту задумался,
и лицо его стало очень серьезным, насколько это было
возможно при ямочке на подбородке и веселых лучи-
ках в углах глаз. Прервав молчание, он прежде всего
прочувствованно поблагодарил за доверие» которое
почитал для себя высокой честью. И тут же без пере-
хода, подчеркивая каждое слово, господин фон Кно-
бельсдорф заявил следующее: какого бы отношения
ЗЛ
принц ни ожидал от него, фон Кнобельсдорфа, к дан-
ному вопросу, он, фон Кнобельсдорф, никак не спо-
собен идти наперекор желаниям и чаяниям принца,
а напротив, всячески стремится в меру своих сил рас-
чистить его королевскому высочеству путь к вожде-
ленной цели.
Долгая пауза. Ошеломленный Клаус-Генрих смо-
трел в окруженные лучиками глаза фон Кнобельс-
дорфа. Значит, у него могут быть желания и чаяния?
Значит, существует цель? Он не верил своим ушам.
И наконец пролепетал:
— Вы так добры, ваше превосходительство...
Тогда господин фон Кнобельсдорф добавил к сво-
ему заявлению нечто вроде условия, сказав, что при
одном лишь условии он, как высшее должностное
лицо в государстве, может своим скромным влиянием
споспешествовать намерениям его королевского вы-
сочества...
— При одном условии?
— При условии, что вы, ваше королевское высо-
чество, будете добиваться не личного, эгоистического
и ограниченного счастья, а, как того требует ваше
высокое назначение, согласуете собственную свою
судьбу с общенародными интересами.
Клаус-Генрих не проронил ни слова, и глаза его
выражали глубокое раздумье.
— Соблаговолите, ваше королевское высоче-
ство,— помолчав, продолжал господин фон Кно-
бельсдорф, — на время отрешиться от этого щекот-
ливого и пока еще сугубо неясного вопроса и обра-
тить ваше внимание на дела более общего порядка!
Разрешите мне воспользоваться этими драгоценными
минутами взаимного понимания и доверия. По своему
высокому сану вы, ваше королевское высочество, да-
леки от суровой и грубой действительности, вас пред-
усмотрительно ограждают от нее. Я ни на миг не за-
бываю, что эта грубая действительность не входит
или лишь частично входит в круг ваших августейших
интересов. И тем не менее мне кажется, что настал
момент, когда вам, ваше королевское высочество,
следует ознакомиться хотя бы с одним из аспектов
312
нашего сурового мира, безо всяких обязательств,
только чтобы иметь о нем непосредственное предста-
вление. Заранее прошу всемилостивейше извинить
меня, если я своими разъяснениями огорчу вас, ваше
королевское высочество.
— Прошу вас, говорите, ваше превосходитель-
ство, — несколько растерявшись, сказал Клаус-Ген-
рих и невольно поплотнее уселся на диване, как уса-
живаются в кресле у зубного врача, чтобы, собрав
все мужество, вытерпеть болезненную процедуру.
— Просьба слушать как можно внимательнее,—
почти приказал господин фон Кнобельсдорф, после
чего начал свой рассказ, непосредственно связав его
с разногласиями в бюджетной комиссии; вернее, это
был точный, исчерпывающий, снабженный цифрами
и попутными разъяснениями фактических данных и
специальных терминов, неприкрашенный доклад,
дающий такую назидательную картину экономиче-
ского положения страны и государства, которая с не-
умолимой ясностью показала принцу, до какого бед-
ственного состояния мы дошли. Разумеется, эти об-
стоятельства не были для него полной новостью и
неожиданностью; даже наоборот, с тех пор как он
представительствовал, они давали ему повод и пищу
для чисто формальных вопросов, которые он имел
обыкновение задавать бургомистрам, фермерам, круп-
ным чиновникам и на которые ему отвечали не по
существу, а тоже для проформы и при этом улыба-
лись знакомой ему с детства улыбкой, говорившей:
«Ах ты, святая простота!» Но никогда еще все это не
надвигалось на него в таких масштабах и в такой
беспощадной наготе, вынуждая его задуматься
всерьез. Господин фон Кнобельсдорф отнюдь не удо-
влетворился обычными поощрительными кивками
Клауса-Генриха; он отнесся к делу педантично —
переспрашивал молодого человека, заставлял повто-
рять целые параграфы своих разъяснений, безо вся-
кой снисходительности держал его во власти фактов,
так учитель тычет сморщенным указательным паль-
цем в учебник, пока не докажешь ему ответом, что
данное место понято до конца.
313
Начал господин фон Кнобельсдорф с азов, с самой
страны, с того, что торговля и промышленность слабо
развиты в ней, далее заговорил о народе — народе
Клауса-Генриха, о рассудительной, простодушной,
крепкой и косной породе людей. Говорил он и о не-
достаточных государственных доходах, о нерентабель-
ности железных дорог, о скудных залежах каменного
угля. Затем перешел на лесное хозяйство, охоту, паст-
бища, говорил о лесе, о хищнических порубках, о не-
разумном вывозе перегноя, о вырождении древесных
пород и снижении прибыли с лесов. Затем подробнее
остановился на нашем денежном хозяйстве, упомянул
о неспособности народа в силу сложившихся условий
нести тяжелое бремя налогов, охарактеризовал нера-
дивое управление финансами в прежние годы. Далее
он назвал цифру государственного долга и заставил
принца повторить ее несколько раз подряд. Долг до-
стигал шестисот миллионов. Затем наставник пере-
шел на выпуск облигаций, на условия выплаты про-
центов и займов и в связи с этим возвратился
к нынешним затруднениям доктора Криппенрейтера
и обрисовал всю неблагоприятность сложившейся
ситуации. Руководствуясь данными «Ведомостей го-
сударственного статистического управления», кото-
рые он тут же извлек из кармана, господин фон Кно-
бельсдорф ознакомил своего ученика с цифрами
урожая последних годов, перечислил все бедствия,
приведшие к недороду, который в свою очередь по-
влек за собой недоимки, и даже упомянул об испитых
лицах сельских жителей. Затем он перешел к поло-
жению на мировом денежном рынке, подробно оста-
новился на вздорожании денег и общем экономиче-
ском застое. Клаус-Генрих узнал о падении курса
нашей валюты, тревоге кредиторов, отливе денег и
эпидемии банкротств; узнал, что кредит наш подо-
рван, бумаги обесценены, и ему стало ясно, что на
размещение нового займа рассчитывать не прихо-
дится.
Когда господин фон Кнобельсдорф закончил свой
доклад, был шестой час и совсем уже стемнело. В это
314
время Клаус-Генрих обычно кушал чай, но он лишь
мельком вспомнил о чае, а извне никто не осмелился
помешать разговору, судя по его продолжительности,
весьма важному. Клаус-Генрих все слушал и слушал.
Он и сам не отдавал себе отчета, до какой степени
его это потрясло. Какая дерзость рассказывать ему
такие вещи! В течение всего урока его даже ни разу
не назвали «королевским высочеством», над ним по-
просту совершили насилие и грубо оскорбили его
святую простоту. И вместе с тем это было хорошо,
теплее становилось на душе от сознания, что вы-
слушать и уяснить себе все это нужно для пользы
дела... Он даже забыл приказать, чтобы зажгли
свет, настолько его внимание было поглощено раз*
говором.
— Вот какие обстоятельства я имел в виду, когда
советовал вам, ваше королевское высочество, соче-
тать ваши личные желания и поступки с общими ин-
тересами. Не сомневаюсь, что вы, ваше королевское
высочество, извлечете пользу из нашей беседы и из
того содержания, которое я осмелился вложить в нее.
Повторяю, я в этом твердо уверен, а теперь раз-
решите возвратиться к личным делам вашего коро-
левского высочества.
Господин фон Кнобельсдорф выждал, пока Клаус-
Генрих жестом дал согласие, и продолжал:
— Если этому делу суждено иметь будущее,
нужно, чтобы оно как-то развивалось, а не стояло
на месте, чтобы оно не было аморфным и безнадеж-
ным, как осенний туман. Этого допустить нельзя.
Нужно, чтобы оно облеклось в плоть и кровь, выкри-
сталлизовалось, оформилось в глазах общества...
— Вот! Вот! Конечно, необходимо облечь его
в плоть и кровь... оформить! — в экстазе подхватил
Клаус-Генрих и при этом опять вскочил с дивана и
зашагал по комнате. — Но как за это взяться? Ваше
превосходительство, ради бога, скажите — как?
— Для начала нужно, чтобы Шпельманы были
представлены ко двору, — заявил фон Кнобельсдорф,
продолжая сидеть, настолько все в эту минуту было
ни с чем не сообразно.
315
Клаус-Генрих остановился.
— Это невозможно, — сказал он, — насколько
я знаю господина Шпельмана, он никогда не согла-
сится бывать при дворе!
— Из этого не следует, что его дочь откажется
доставить нам такое удовольствие, — возразил
господин фон Кнобельсдорф. — Придворный бал не за
горами, и от вас, ваше королевское высочество, за-
висит добиться того, чтобы фрейлейн Шпельман по-
чтила его своим присутствием. Ее компаньонка но-
сит графский титул, и хотя она, как говорят, не без
странностей, но графский титул спасает положение.
Позволяю себе заверить вас, ваше королевское вы-
сочество, что двор всячески пойдет навстречу, и го-
ворю я так с полного согласия оберцеремониймей-
стера господина фон Бюль цу Бюля...
После этого еще добрых три четверти часа обсу-
ждались вопросы этикета, вырабатывался церемо-
ниал приема и представления ко двору. Прежде
всего необходимо завезти карточки вдовствующей
графине Трюммергауф, обергофмейстерине прин-
цессы Катарины, которая возглавляет штат придвор-
ных дам при торжествах в Старом замке. Что ка-
сается самой церемонии представления, то здесь
господин фон Кнобельсдорф добился таких отклоне-
ний от установленного ритуала, которые носили ха-
рактер чуть ли не преднамеренного вызова. Амери-
канского поверенного в делах в великом герцогстве
не существовало, из чего не следует, заявил господин
фон Кнобельсдорф, что дам будет представлять ка-
кой-нибудь захудалый камергер, нет, сам оберцере-
мониймейстер домогается чести представить их вели-
кому герцогу. Когда? В какой момент, принимая во
внимание табель о рангах? Что ж, особые обстоятель-
ства требуют исключений. Следовательно — в первую
очередь, ранее всех вновь приглашенных ко двору,
независимо от чинов и рангов; Клаус-Генрих может
заверить фрейлейн Шпельман, что эти чрезвычайные
мероприятия будут неукоснительно выполнены. Это,
конечно, возбудит толки и привлечет внимание двора
и города. Пускай, тем лучше! Внимание не так уж
316
нежелательно, наоборот — оно полезно, даже необхо-
димо...
Господин фон Кнобельсдорф собрался уходить.
Когда он откланивался, было так темно, что они
почти не видели друг друга. Клаус-Генрих только
сейчас заметил это и в смущении стал извиняться,
по господин фон Кнобельсдорф возразил, что совер-
шенно неважно при каком освещении происходит
такая беседа. Он обеими руками взял протянутую
Клаусом-Генрихом руку.
— Никогда еще, никогда счастье страны в такой
мере не зависело от счастья ее государя, — растро-
ганно промолвил он на прошание. — Что бы вы, ваше
королевское высочество, ни решали и ни предприни-
мали в дальнейшем, убедительно прошу вас помнить,
что, по воле провидения, личное счастье вашего ко-
ролевского высочества стало неотъемлемым условием
общего благосостояния. Но и обратно — благосо-
стояние страны является неотъемлемым условием и
оправданием вашего личного счастья.
Не помня себя от потрясения и еще не в силах со-
владать с обуревающими его разнородными мыслями,
остался Клаус-Генрих один в своих неуютных ампир-
ных комнатах.
Ночь он провел без сна, а наутро совершил в оди-
ночестве длинную верховую прогулку, несмотря на
туман и слякоть. Господин фон Кнобельсдорф выска-
зался ясно и исчерпывающе, он сообщил и сопоста-
вил ряд фактов, но вместо того, чтобы научить, как
их слить воедино, привести в порядок и внутренне
переработать этот разнородный сырой материал, он
ограничился назидательными афоризмами, и Клаусу-
Генриху пришлось немало поломать голову и в тече-
ние бессонной ночи и во время прогулки верхом на
Флориане.
По возвращении в Эрмитаж он сделал нечто со-
вершенно небывалое — написал карандашом на ли-
сточке бумаги какое-то распоряжение, вернее заказ,
и послал с ним камер-лакея Неймана в академиче-
ский книжный магазин на Университетской улице.
Оттуда Нейман с трудом приволок кипу книг, кото-
317
рые Клаус-Генрих велел разложить в своем кабинете
и немедленно углубился в их чтение.
Это были скромные, похожие на учебники книжки
в переплетах из глянцевой бумаги с аляповатыми ко-
решками, напечатанные на дешевой бумаге и по-
научному разбитые на части, разделы, подразделы
и параграфы. Заглавия не обещали ничего увле-
кательного. Это были руководства и пособия по
финансовой науке, очерки и основы науки о государ-
стве и систематический курс политической экономии.
И с этими-то сочинениями принц заперся у себя
в кабинете, распорядившись ни в коем случае его не
беспокоить.
Осень была дождливая, и Клауса-Генриха не
слишком тянуло на прогулки. В субботу он поехал
в Старый замок для общедоступной аудиенции;
больше у него всю неделю никаких обязательств не
было, и он с толком употребил свободное время.
Облачившись в тужурку, он сидел у натопленной
низкой изразцовой печи за маленьким старинным
секретером, которым пользовался не часто, и, обхва-
тив голову руками, читал свои финансовые книжки*
Он читал о государственных расходах и о том, из
чего они слагаются, о доходах и о том, откуда они,
при благоприятных условиях, поступают; он по всем
статьям проштудировал налоговую систему; он с го-
ловой ушел в вопросы финансового плана, бюдже-
та, баланса, прибыли, и особенно дефицита, дольше
всего он корпел над всеми видами государствен-
ного долга, над займами, над соотношением между
процентами и капиталом и над погашением, време-
нами он поднимал голову от книг и мечтательно^ как
самым вдохновенным стихам, улыбался тому, что
прочел.
Впрочем, он находил, что при известном старании
все это не так уж трудно понять. Нет, эту трезвую
действительность, к которой он наконец-то приоб-
щился, эту грубо примитивную систему денежных ин-
тересов, эту схему прямо вытекающих друг из друга
потребностей и необходимостей, — словом, все, чем
молодые люди, родившиеся от простых смертных,
318
должны набивать свои жизнерадостные головы, чтобы
сдать экзамены, — постичь все это не так трудно, как
рисовалось ему с высот его положения. Представи-
тельствовать, на его взгляд, куда труднее. И несрав-
ненно сложнее и тяжелее были его турниры с Иммой
Шпельман на коне и пешком. А занятия согревали и
радовали его, и он даже чувствовал, что разрумя*
нился от усердия, как его зять цу Рид-Гогенрид от
пресловутого торфа.
Подведя таким образом общую и научную базу
под факты, изложенные господином фон Кнобельс-
дорфом, и не без успеха поломав себе голову над
установлением внутреннего взаимодействия между
разными обстоятельствами и взвесив всяческие воз-
можности, он снова явился к чаю в Дельфиненорт,
Электрические лампочки горели в канделябрах на
львиных лапах и в большой хрустальной люстре.
Дамы сидели одни за столом в боскетной.
Когда было покончено с вопросами и ответами
относительно самочувствия господина Шпельмана и
перенесенной Иммой болезни, — причем Клаус-Ген-
рих возмущался ее непозволительным легкомыслием,
а Имма, выпятив губки, отвечала, что, насколько ей
известно, она сама себе госпожа и может распоря-
жаться своим здоровьем, как ей заблагорассудится, —
заговорили о том, что осень выдалась дождливая, ка-
таться верхом невозможно, что не за горами зима, и
тут Клаус-Генрих кстати упомянул о придворном
бале и как бы невзначай спросил, не пожелают ли
дамы на сей раз посетить бал — господину Шпель-
ману, к сожалению, помешает состояние здоровья.
Однако после того как Имма ответила, что пусть он
не обижается, но у нее нет ни малейшего к тому же-
лания, он не стал ее уговаривать и пока что оставил
вопрос открытым.
Что он делал последние дни? О, он был ужасно
занят, у него, можно сказать, работы было по горло.
Работы? Он, конечно, имеет в виду придворную охоту
в Егерпрейсе? Что там охота!.. Разве это занятие?
Нет, он занимался наукой и еще далеко не кончил*
Наоборот, он всецело погружен в интересующий его
319
предмет... И Клаус-Генрих пустился рассказывать
о своих неказистых книжках, о своих успехах в фи-
нансовой науке, и говорил он об этой дисциплине
с таким подъемом и благоговением, что Имма
изумленно смотрела на него. Но когда она почти
робко спросила, что послужило поводом и стимулом
к такого рода занятиям, он ответил, что натолкнули
его на это самые что ни на есть насущные и живо-
трепещущие вопросы, к сожалению, такого рода дела
и обстоятельства — малоподходящая тема для весе-
лой беседы за чайным столом. Эти слова явно уяз-
вили Имму. Что дает ему основания сделать вывод,
гневно спросила она, крутя головкой, будто ей до-
ступна или интересна только веселая болтовня?
И она скорее приказала, чем попросила, потрудиться
дать разъяснение по этим животрепещущим вопро-
сам.
Тут Клаус-Генрих не посрамил своего наставника
господина фон Кнобельсдорфа и точно обрисовал по-
ложение в стране. Он усвоил каждый параграф, на
котором задерживался сморщенный указательный
палец; он подробно остановился на бедствиях как об-
щего, так и частного порядка, пояснил, какими они
бывают — затяжными или стихийными, и от чего
проистекают — от естественных причин или по чьей-
либо вине, особенно же подчеркнул размеры государ-
ственного долга и бремя, которым эти шестьсот мил-
лионов долга ложатся на экономику страны, он даже
не забыл про испитые лица сельских жителей.
Говорил он несвязно. Имма прерывала его вопро-
сами и новыми вопросами помогала ему подхватить
ускользнувшую мысль, она отнеслась к делу серьезно
и требовала объяснений, если чего-нибудь не пони-
мала сразу. В домашнем платье из кирпичного
шелка-сырца с разрезными рукавами и вышивкой во
всю грудь, со старинной испанской орденской цепью
вокруг тонкой шейки, она сидела, нагнувшись над сто-
лом, где все сверкало от хрусталя, серебра и драго-
ценного фарфора, и, опершись на локоть, положив
подбородок на узенькую руку без колец, затаив ды-
хание, слушала, а глаза ее, огромные, сияющие тем-
320
ным блеском, пытливо вглядывались в его лицо. Но
пока он отвечал на вопросы Иммы, высказанные сло-
вами и выраженные взглядами, с воодушевлением и
жаром говоря на волнующую его тему, графиня Ле-
венюль, очевидно, сочла, что теперь уже может в его
присутствии позволить себе благодетельную пере-
дышку, дать волю своей фантазии, и принялась бол-
тать вздор. Во всех бедствиях, заявила она, изящно
жестикулируя и хитро пришурясь, в том числе и
в недороде, долгах и вздорожании денег виноваты
Есе те же распутные бабы; их повсюду полным-полно,
они, к несчастью, умудряются вылезать из-под пола,
и не далее как прошлой ночью жена фельдфебеля из
казармы гвардейских стрелков царапала ей грудь и
донимала ее омерзительными гримасами. Затем она
помянула свои бургундские замки, где протекают
крыши, и договорилась до того, что рассказала, как
в качестве лейтенанта участвовала в походах против
турок и «одна из всех не потеряла головы». Имма
Шпельман и Клаус-Генрих время от времени вста-
вляли сочувственное словечко и охотно обещали пока
что называть ее фрау Мейер, сами же, не смущаясь
ее болтовней, продолжали свою беседу. Оба они раз-
горячились, и после того, как Клаус-Генрих расска-
зал все, что знал, даже жемчужно-матовое личико
Иммы порозовело. Теперь они молчали, графиня тоже
умолкла, склонив свою маленькую голову к плечу, и,
прищурившись, смотрела куда-то в пространство.
Клаус-Генрих играл на ослепительно белой, туго на-
крахмаленной скатерти стебельком орхидеи, выну-
той из бокала, который стоял у его прибора,; но
едва он поднимал голову, как встречал говоря?
щий и красноречивый взгляд огромных темных глаз
Иммы Шпельман, неотступно смотревших на него че-
рез стол.
— Сегодня было очень приятно, — сказала она
своим ломающимся голосом, когда Клаус-Генрих
собрался на сей раз уехать, и он почувствовал креп-
кое пожатие ее тоненьких пальцев.
— Если вашему высочеству заблагорассудится
еще раз посетить наше недостойное жилище, соблаго-
21 Т. Манн, т. 2
321
полите привезти мне одну-две из приобретенных вами
книжек. — Она не могла полностью отделаться от
насмешливой манеры выражаться, но она просила
у него книги по вопросам финансового хозяйства, и
он привез их.
Он привез две из них, которые считал самыми
поучительными и доступными, привез их спустя не-
сколько дней, проехав в своей карете через насквозь
промокший городской сад, и она оценила его внима-
ние. Выпив чай, они уселись в уголке боскетной
в величественные троноподобные кресла, меж тем
как графиня в задумчивости пребывала за чайным
столом, и, склонившись над первой страницей учеб-
ника, озаглавленного «Наука о финансах», который
лежал перед ними на золоченом столике, начали
свои совместные занятия. Они читали вполголоса,
попеременно, каждый по одной фразе, не пропустив
даже предисловия к первому и шестому изда-
ниям, так как Имма говорила, что во всем должен
быть порядок и приступать к работе надо с самого
начала.
Клаус-Генрих уже приобрел какие-то начатки зна-
ний, а потому чтением руководил он, но вряд ли кто-
нибудь мог бы схватывать все быстрее и лучше
Иммы.
— Это очень легко! — сказала она и, смеясь,
взглянула на него. — Никак не ожидала, что это,
в сущности, так просто. Алгебра куда сложнее,
принц...
Но так как они очень углубились в предмет, в те-
чение нескольких часов им все-таки не удалось про-
двинуться далеко, и они отметили то место в книге,
откуда надо продолжать в следующий раз.
Продолжение состоялось, и впредь визиты принца
в Дельфиненорт были наполнены самым конкретным
содержанием. Каждый раз, как господин Шпельман
вовсе не появлялся за чайным столом или же, размо-
чив в чае и съев диетический сухарик, удалялся
вместе с доктором Ватерклузом, Имма и Клаус-Ген-
рих устраивались рядом за золоченым столиком и
склонялись над учебником финансового хозяйства.
322
Но по мере того как занятия их продвигались впе-
ред, они стали сравнивать отвлеченную науку с дей-
ствительностью, относили то, что читали, к условиям
в стране, как их обрисовал Клаус-Генрих, — словом,
учились добросовестно, хотя им и случалось отвле-
каться соображениями личного характера.
— Следовательно, эмиссия может осуществляться
прямо и через посредников, — сказала Имма,—
да, это понятно. Либо государство обращается
непосредственно к капиталистам и открывает под-
писку... Посмотрите, принц, у вас рука вдвое шире
моей!
И они с улыбкой смотрели на лежащие рядом на
золоченом столике его правую и ее левую руку,
счастливые и смущенные одним этим созерцанием.
— ...либо заем производится через посредников, —
продолжала Имма, — например, через крупный бан-
кирский дом или консорциум банков, и государство
свои долговые обязательства...
— Постойте, Имма, — шепотом перебивал он,—
сперва ответьте мне на один вопрос! Вы не упустили
из виду главной цели? Постарались сделать хоть
какие-то шаги на пути к ней? Неужели неловкость и
отрезвляющее действие не прошли? Дорогая крошка
Имма, неужели у вас не прибавилось доверия ко
мне? — Его губы при этом почти касались ее волос,
от которых исходил чудесный аромат, и она не отво-
дила своей черноволосой детской головки, склонен-
ной над книгой, хотя и не давала прямого ответа на
его вопрос.
— Но почему тут нельзя обойтись без банкир-
ского дома или консорциума банков? — вслух раз-
мышляла она. — В книжке ничего об этом не сказано,
но, по-моему, на практике это совсем не обязательно-
Теперь она говорила серьезно, без привычных ка-
вычек, ибо и ей надо было проделать ту же голово-
ломную работу, что и Клаусу-Генриху после раз-
говора с фон Кнобельсдорфом. Когда через не-
сколько недель Клаус-Генрих повторил свой вопрос,
не желает ли она присутствовать на придворном
балу, и сообщил, какие для этого случая оговорены
21*
323
отступления от церемониала, она вдруг ответила,
что желает и согласна завтра вместе с графиней
Левенюль завезти карточки вдовствующей графине
Трюммергауф.
В этом году придворный бал был назначен ранее
обычного, на конец ноября; по слухам, таково было
желание одного из членов великогерцогской фами-
лии. Господин фон Бюль цу Бюль горько сетовал на та-
кую спешку, вынуждавшую его и низших придвор-
ных чинов на скорую руку покончить с приготов-
лениями к столь важному празднеству, в частности
с неотложным ремонтом парадных покоев Старого
замка, но вышеназванный член августейшего семей-
ства заручился поддержкой господина фон Кнобельс-
дорфа, и гофмаршалу пришлось покориться. Так
получилось, что общественное мнение еще не освоилось
с тем событием, которое, собственно, было гвоздем
вечера и по сравнению с которым перемена даты
была ничто: едва только «Курьер» жирным шрифтом
оповестил о визите к графине Трюммергауф и о при-
глашении, не преминув обычным шрифтом, но в са-
мых теплых выражениях высказать свое удоволь-
ствие и поздравить дочь Шпельмана с представле-
нием ко двору, — как знаменательный вечер наступил
и не успели люди почесать языки — все уже сверши-
лось.
Никогда еще пятьсот счастливцев, чьи имена
стояли в списке приглашенных на придворный бал,
не вызывали столь сильной зависти, никогда еще
обыватель с таким жадным любопытством не прогла-
тывал отчет «Курьера», эти блистательные газетные
столбцы, плоды ежегодного творчества некоего спив-
шегося аристократа, написанные в таком помпезном
стиле, что читатель словно заглядывал в сказочное
царство, меж тем как на самом деле бал в Старом
замке не отличался особой пышностью и даже, на-
оборот, был весьма скромен. Но отчет не простирался
далее ужина с французским меню, а все, что воспо-
следовало за тем, и вообще все неуловимые нюансы
великого события поневоле дошли до публики в изуст-
ной передаче.
324
Громадный оливковый автомобиль, в котором обе
дамы приехали в Старый замок, затормозил у Аль-
брехтовских ворот почти вовремя, но все же господин
фон Бюль цу Бюль успел порядком поволноваться.
В парадном мундире, по пояс увешанный орденами,
в напомаженном каштановом парике и в золотом
пенсне, он с четверти восьмого переступал с ноги на
ногу, стоя посреди Рыцарского зала с доспехами по
стенам, в котором собирались члены великогерцог-
ской фамилии и высшие придворные чины, и много
раз посылал камер-юнкера в бальный зал справиться,
не прибыла ли фрейлейн Шпельман. Он рисовал себе
самые немыслимые стечения обстоятельств. Сели
новоявленная царица Савская опоздает, — а от нее
чего угодно можно ждать после того, как она прошла
через цепь караула! — тогда задержится и торже-
ственный выход великого герцога со свитой, и раз
она во что бы то ни стало должна быть представлена
первой, значит двору придется ее дожидаться, ведь
немыслимое же дело, чтобы она вошла в бальный зал
после великого герцога... Наконец-то, слава тебе
господи! Буквально за минуту до половины восьмого
она появилась со своей графиней, и в зале возникло
заметное движение, когда встречавшие приглашен-
ных камергеры указали ей место в собравшемся ве-
ликосветском обществе, рядом с дипломатическим
корпусом, а значит впереди дворянства, придворных
дам, министров, генералитета, председателей обеих
палат, — словом, впереди всех на свете. Флигель-
адъютант фон Платов тотчас отправился доложить
великому герцогу в его покои, и Альбрехт, одетый
в гусарский мундир, проследовал сперва в Рыцар-
ский зал, не поднимая глаз, поздоровался с членами
своей фамилии, предложил руку тете Катарине, и,
после того как господин фон Бюль на пороге настежь
раскрытых дверей трижды стукнул своим жезлом по
паркету, двор вступил в танцевальный зал. Оче-
видцы уверяли потом, что присутствующие были до
неприличия невнимательны во время обхода зала вы-
сочайшими особами. Куда бы не приблизились Аль-
брехт и его торжественно выступающая тетя, всюду,
325
вместо надлежащей благоговейной сосредоточен-
ности, начинались торопливые поклоны и приседания,
ибо все головы были неуклонно повернуты в одну
сторону, все глаза с жгучим любопытством устрем-
лены в одну точку... У той, на ком сходились все
взоры, раньше было много врагов среди присут-
ствующих в зале, главным образом среди дам, среди
Трюммергауфов, Пренцлау, Верцанов и Платовых
женского пола, которые обмахивались здесь веерами,
и, бывало, колючие и холодные взгляды по-дамски
критически рассматривали ее. Но то ли ее положе-
ние уже настолько утвердилось, что она стала не-
досягаема для критики, то ли ее личное обаяние само
по себе парализовало затаенную вражду, так или
иначе на балу все в один голос повторяли, что Имма
Шпельман прелестна, как дочка горного короля. На
следующее утро вся столица — от министерского пи-
саря до рассыльного на перекрестке — могла бы без
запинки описать ее туалет.
На ней было платье из бледно-зеленого китай-
ского шелка, затканного серебром, с вставкой из
драгоценнейшего старинного серебряного кружева.
Царственная бриллиантовая диадема сверкала всеми
цветами радуги в ее иссиня-черных волосах, которые
так и норовили выбиться на лоб гладкими прядями,
и длинная, тоже бриллиантовая, цепочка была
дважды или трижды обвита вокруг ее смуглой шеи.
По-детски миниатюрная, но какая-то удивительно
серьезная и умная в своей детскости, с огромными,
выразительными, говорящими глазами на бледном ли-
чике, стояла она рядом с графиней Левенюль, одетой,
по своему обыкновению, в коричневое, но на этот раз
атласное платье. Когда кортеж приблизился к отве-
денному ей почетному месту, она не присела в при-
дворном реверансе, а лишь слегка склонилась с цело-
мудренной грацией пажа; когда же принц Клаус-Ген-
рих с лимонно-желтой лентой и плоской цепью
фамильного ордена «За постоянство», с серебряной
звездой Гримбургского грифа на груди, об руку
с худосочной кузиной, умевшей говорить только «да»,
вслед за великим герцогом прошел мимо Иммы, она
326
улыбнулась, не размыкая губ, и по-приятельски кив-
нула ему, а собравшихся точно пронизал электриче-
ский ток.
После того как высочайшие особы поздоровались
с дипломатическим корпусом, началось представле-
ние, и началось оно с Иммы Шпельман, хотя среди
впервые приглашенных высокопоставленных девиц
были две графини Гундскель и баронесса фон Шу-
ленбург-Трессен. Подобострастно изгибаясь и скаля
в улыбке вставные зубы, господин фон Бюль пред-
ставил своему монарху дочь Шпельмана. Пососав
перхнюю губу короткой и пухлой нижней, Альбрехт
посмотрел сверху вниз на целомудренно сдержанный
поклон юного пажа, а Имма, выпрямившись, устре-
мила испытующий взгляд темных выразительных
глаз на болезненного гусарского полковника, стояв-
шего перед ней во всем своем спокойном высоко-
мерии.
Великий герцог задал ей ряд вопросов, хотя во
всех других случаях ограничивался одним, спросил,
как чувствует себя ее отец, помогает ли ему Дитлин-
динский источник и освоилась ли она сама у нас, на
что она отвечала своим ломающимся голосом, выпя-
тив губы и покрутив черноволосой головкой. После
минутной паузы, возможно это была минута внутрен-
ней борьбы, Альбрехт выразил свое удовлетворение
тем, что видит ее при дворе, а потом пришла очередь
графини Левечюль, и она, глядя куда-то вбок, скло-
нилась в глубоком реверансе.
Эта сценка между Иммой и Альбрехтом дала не-
истощимую пищу для разговоров, и хотя все прошло
нормально, как полагается, нельзя преуменьшать ее
значимость и неповторимое очарование. Однако
кульминационным пунктом вечера было все-таки не
:ло. Кое-кто считал кульминацией Quadrille d'hon-
neur *, другие придавали больше значения ужину, на
самом же деле важнейшим моментом был диалог
между двумя основными персонажами спектакля,
краткий, никем не подслушанный обмен репликам^
1 Торжественная кадриль (франц.)..
327
о содержании и реальных итогах которого публика
могла лишь догадываться, — то было завершение
сердечных турниров на коне и пешком.
Относительно торжественной кадрили некоторые
утверждали на следующий день, будто фрейлейн
Шпельман танцевала ее и притом в паре с принцем
Клаусйм-Генрихом, но утверждение было правильно
лишь в первой своей части. Фрейлейн Шпельман дей-
ствительно участвовала в кадрили, но кавалером ее
был английский поверенный в делах, а принц Клаус-
Генрих танцевал визави. Однако и это уже было
симптоматично, но еще симптоматичнее было отноше-
ние присутствующих, которые в большинстве своем
не сочли этот факт неслыханным, а приняли его как
нечто вполне естественное. Да, положение Иммы
Шпельман было упрочено, то восприятие ее личности,
которое возникло в народе, возобладало и на при-
дворном балу, — сам народ узнал об этом лишь на
следующий день, — впрочем, господин фон Кнобельс-
дорф задал тон такому восприятию и постарался,
чтобы оно проявилось с полной очевидностью. Мало
сказать, что к Имме Шпельман относились предупре-
дительно, что ее отличали от других, — нет, в отноше-
нии ее подчеркнуто и последовательно соблюдали
церемониал, принятый для высоких особ, оба дежур-
ных церемониймейстера в чине камергеров подводили
к ней избранных партнеров, и когда она об руку
с кавалером покидала свое место, рядом с невысокой,
обтянутой красным эстрадой, где в штофных креслах
восседала великогерцогская фамилия, распорядите-
ли танцев спешили расчистить для нее место под
средней люстрой, как это полагается, когда прин-
цессы изволят пройтись в танце, дабы оградить
ее от столкновений с другими парами, что кстати не
составляло большого труда, ибо плотное кольцо
любопытных окружало ее всякий раз, как она
танцевала.
Рассказывали, что в тот момент, когда Клаус-Ген-
рих подошел приглашать фрейлейн Шпельман, весь
зал шумно перевел дух, можно сказать «охнул» от
волнения, и если бы не вмешательство распорядите-
ля
лей, танцы прекратились бы, потому что все в жад-
ном любопытстве так и рвались смотреть на одну-
сдинственную пару. Дамы, те следили за ней с таким
умиленным восторгом, который, несомненно, вылился
бы в неприкрытую досаду и злобу, будь положение
Иммы Шпельман более шатко. Но на каждого из
пятисот приглашенных до такой степени воздейство-
вали и влияли общенародные чувства, внушение
снизу было так сильно, что они не могли смотреть на
это зрелище иначе как глазами народа. По-види-
мому, принцу был преподан совет не насиловать
своей воли. Его имя дважды было проставлено про-
тив двух длинных танцев в карнэ мисс Шпельман и
притом попросту ввиде инициалов «К.-Г.», а кроме
того, он неоднократно удостаивал ее беседы. Да, они
танцевали друг с другом, Клаус-Генрих и шпельма-
новская дочка. Ее смуглая рука покоилась на ор-
денской ленте из лимонно-желтого муара, надетой
у него через плечо, а его правая рука обвивала ее
необыкновенно тоненький, почти детский стан, меж
тем как левую он по привычке прятал за спину и
в танце вел даму только одной рукой. Одной ру-
кой....
Так время подошло к ужину, и, к вящему потря-
сению публики, в силу вступил новый параграф цере-
мониала, оговоренного господином фон Кнобельсдор-
фом для первого придворного бала Иммы Шпельман.
Этот параграф предусматривал распределение мест
за столом. Большинство приглашенных ужинало за
длинными столами в картинной галерее и в зале Две-
надцати месяцев, а для великогерцогской фамилии,
для дипломатического корпуса и для свитских ужин
был сервирован в Серебряном зале. Ровно в один-
надцать часов Альбрехт и члены его семьи направи-
лись туда такой же торжественной процессией, как
ранее в бальный зал. И об руку с английским пове-
ренным в делах, мимо камер-лакеев, преграждавших
доступ в Серебряный зал посторонним, к великогер-
цогскому столу проследовала Имма Шпельман.
Это было чудовищно — и вместе с тем так законо-
мерно после всего предшествующего, что малейшее
329
недоумение или, чего доброго, возмущение противо-
речило бы здравому смыслу. Сегодня, очевидно, ка-
ждому рекомендовалось внутренне смириться перед
лицом столь высоких знамений и свершений... но
когда ужин закончился и великий герцог удалился,
а принцесса Гризельда с одним из камергеров от-
крыла котильон, лихорадочное ожидание достигло
апогея, у всех на устах был один вопрос — разре-
шено ли принцу поднести котильонный букет и
шпельмановской дочке? Очевидно, в указании было
оговорено: только не ей первой. Сперва он поднес по
букетику тете Катарине и одной из рыжеволосых
кузин, а затем уж приблизился к Имме Шпельман
с букетиком сирени из дворцовых оранжерей. Она
собралась было поднести цветущий пучок к своему
носику, но по непонятной причине остановилась
в испуге, и лишь после того, как принц улыбкой и
кивком успокоил ее, она решилась понюхать цветы.
Потом они с принцем довольно долго танцевали,
мирно беседуя.
Но именно во время этого танца между ними и
произошел никем не подслушанный обмен репликами,
житейски конкретный разговор, приведший к вполне
определенным результатам... Приводим его.
— На этот раз вам понравились мои цветы,
Имма?
— Конечно, принц, сирень прелестная и пахнет,
как ей полагается, Мне она доставила большое удо-
вольствие.
— В самом деле? А мне жаль розового куста,
внизу, во дворе. Бедняжка, его цветы неприятны вам
потому, что от них пахнет тлением.
— Я не говорю, что они мне неприятны, принц.
— Должно быть, они действуют на вас расхола-
живающе и отрезвляюще?
— Это, пожалуй, верно.
— Я вам никогда не рассказывал о народном по-
верий? Говорят, в тот день, когда наступит всеобщее
благополучие, спадут чары и с розового куста и на
нем расцветут розы не только прекрасные, но и наде-
ленные благоуханием, естественным для роз.
ЬЗО
— Ну, принц, до этого еще далеко.
— Нет, Имма, надо это ускорить, надо действо-
вать! Решиться надо, крошка Имма, и отбросить все
сомнения. Скажите..» ну, скажите: теперь вы мне до-
веряете?
— Да, принц, за последнее время я прониклась
к вам доверием.
— Вот видите!.. Слава тебе господи!.. Ведь я же
говорил, что добьюсь этого. Значит, вы поверили, как
для меня свято все, что касается вас и наших отно-
шений, поверили, что это для меня по-настоящему
святая святых.
— Да, принц, последнее время я верю, что могу
в это поверить.
— Наконец-то, наконец, маленький скептик!.. От
всей души благодарю вас!.. Так, значит, у вас хватит
мужества перед всем светом признать, что мы со-
зданы друг для друга?
— Благоволите вы, ваше королевское высочество,
признать это первым.
— И признаю, Имма, открыто и решительно. Но
я могу сделать это только при одном условии,
а именно, что мы будем добиваться не личного, эгои-
стического и ограниченного счастья, а согласуем его
с общенародными интересами. Получается так, что
общее благо и наше собственное счастье прямо зави-
сят друг от друга.
— Правильно, принц. И я вряд ли прониклась бы
к вам доверием, если бы мы вместе не изучали во-
просы общего блага.
— А если бы вы, Имма, не согрели мне душу,
я вряд ли занялся бы этими по-настоящему важными
вопросами.
— Итак, попытаемся каждый у себя добиться
чего-нибудь — вы у своих близких, я — у отца.
— Сестричка моя, — с каменным лицом вымол-
вил он и только в танце теснее привлек ее к. себе, —
Маленькая моя невеста..*
Такую помолвку можно поистине назвать исклю-
чительным случаем.
331
Правда, этим было достигнуто далеко не все, вер-
нее очень немногое, и, оглядываясь назад на общую
ситуацию, следует признать, что стоило одному из
составляющих ее элементов отпасть или видоиз-
мениться, как все задуманное даже и теперь кончи-
лось бы ничем. Какое счастье, мысленно восклицает
летописец, какое великое счастье, что во главе этого
предприятия стоял государственный муж, кото-
рый смело, бесстрашно и даже с лукавой усмешкой
смотрел в глаза современности и не считал дело безна-
дежным лишь потому, что оно было беспрецедентным!
Доклад, который его превосходительство господин
фон Кнобельсдорф сделал в Старом замке своему
государю, великому герцогу Альбрехту II приблизи-
тельно через неделю после бала, по праву должен
быть занесен в анналы истории. Накануне премьер-
министр председательствовал на заседании кабинета;
в отчете об этом заседании «Курьер» мог лишь сооб-
щить, что на повестке дня стояли финансовые во-
просы и семейные дела великогерцогской фамилии и
что совет министров пришел к полному согласию по
данным вопросам. Последнее было напечатано в раз-
рядку. Таким образом, во время вышеупомянутой
аудиенции господин фон Кнобельсдорф был перед ли-
цом своего молодого монарха в очень выигрышном
положении,; он опирался не только на безыменную
толпу, но и на единодушное волеизъявление прави-
тельства.
Беседа в кабинете Альбрехта, где дуло от окон,
была не короче той, которая имела место в малень-
кой желтой гостиной в Эрмитаже. Пришлось даже
сделать перерыв, чтобы великий герцог мог подкре-
питься лимонадом, а господин фон Кнобельсдорф —
стаканчиком портвейна с бисквитами. Но длитель-
ность доклада надо приписать исключительно особой
важности самого вопроса, а отнюдь не сопротивле-
нию монарха, ибо Альбрехт не противился ни минуты.
Он сидел в наглухо застегнутом сюртуке, сложив
на коленях худые, нервные руки, обратив к собе-
седнику надменное лицо с тонкими чертами, с эспань-
олкой и сдавленным на висках лбом, слегка посасы-
332
вал верхнюю губу короткой и пухлой нижней, и
время от времени в ответ на доводы господина фон
Кнобельсдорфа, не подымая глаз, неспешным движе-
нием наклонял голову, что выражало и согласие и
протест: равнодушно соглашаясь в интересах дела,
он лично для себя, для своего недосягаемого достоин-
ства безмолвно и холодно отвергал эту сделку.
Господин фон Кнобельсдорф сразу же взял быка
за рога, заговорив о визитах принца Клауса-Генриха
в Дельфиненорт. Альбрехт слышал об этом. Даже
до его уединения донесся слабый отголосок событий,
sa которыми, затаив дыхание, следили и столица и
вся страна; кроме того, он знал своего брата, Клауса-
Генриха, тот и на разведки пускался и вступал в раз-
говоры с лакеями, а когда стукнулся лбом о большой
стол в детской, то расплакался из жалости к ушиб-
ленному лбу, — итак, в основном великий герцог не
нуждался в разъяснениях. Пришепетывая, он указал
на это фон Кнобельсдорфу и, вспыхнув на миг, при-
совокупил, что до сих пор господин фон Кнобельс-
дорф не препятствовал сближению принца с дочерью
миллиардера, а наоборот, даже поощрял его, — сле-
довательно, Кнобельсдорф одобряет поведение
принца, хотя ему, великому герцогу, непонятно,
к чему оно может привести. А господин фон Кно-
бельсдорф ответил, что, воспротивившись намерениям
принца, правительство поступило бы наперекор воле
народа и это пагубно отразилось бы на популярности
самого правительства.
— Значит, у моего брата есть определенные наме-
рения?
— Долгое время он не строил никаких планов,—
пояснил господин фон Кнобельсдорф, — и следовал
только велениям сердца. Но с тех пор как он, вняв
голосу народа, встал на реальную почву, желания
его обрели вполне конкретную цель.
— Из ваших слов явствует, что общество одобряет
планы принца?
— Мало того, оно восторженно приветствует их,
ваше королевское высочество, и ждет от них осуще-
ствления своих самых заветных чаяний!
333
И господин фон Кнобельсдорф снова нарисовал
мрачную картину нужды и тягчайших затруднений,
которые терпит страна. Откуда ждать помощи и исце-
ления? Только оттуда, из городского парка, где
бьется второе сердце столицы, где обитает болящий
финансовый король, наш гость и согражданин; народ
недаром в своих мечтах видит в нем избавителя —
ему ничего не стоит положить конец всем нашим бе-
дам. Достаточно уговорить его заняться экономикой
нашего государства, и ее оздоровление обеспечено.
Только поддастся ли он на уговоры? Но судьбе
угодно было, чтобы единственная дочь всемогущего
креза и принц Клаус-Генрих воспылали взаимным
чувством! Так неужто ж можно противиться мудрой
и благой воле провидения? Во имя косных и отжив-
ших предрассудков препятствовать союзу, который
сулит осчастливить страну и народ? А то, что он их
осчастливит, должно, разумеется, быть обусловлено
варанее, ибо лишь это оправдывает его в глазах выс-
шей законности. Если же такое условие будет выпол-
нено, если, скажем без обиняков, Самуэль Шпельман
согласится финансировать наше государство, тогда
союз — раз слово уже произнесено — станет не
только возможен, он станет обязателен, спасителен,
его требует благо государства, о заключении его мо-
лят бога далеко за пределами страны все, кто за-
интересован в восстановлении наших финансов,
fi предотвращении экономического краха.
В этом месте великий герцог вполголоса, не по-
дымая глаз и язвительно усмехнувшись, вставил во-
прос:
— А что же будет с престолонаследием?
— Закон предоставляет вашему королевскому вы-
сочеству возможность устранить сомнения династиче-
ского порядка, — невозмутимо ответил господин фон
Кнобельсдорф. — Ведь и у нас монарху дано право
возводить в дворянство и даже приравнивать к са-
мому высокому сану — а вряд ли когда-нибудь
в истории представлялся более веский повод восполь-
зоваться такой прерогативой. Правомочность этого
союза заложена в самой его основе, а почва к нему
334
давно уже подготовлена в сознании народа, так что,
если он будет признан правительством и государем,
народ увидит в этом лишь узаконение своих заветных
желаний.
Тут господин фон Кнобельсдорф кстати заговорил
о популярности Иммы Шпельман, о весьма знамена-
тельной реакции на ее выздоровление после легкого
недомогания и о том, что народная фантазия уже
сделала из этого необыкновенного создания по мень-
шей мере принцессу, — ив уголках глаз у него за-
играли лучики-морщинки, когда он напомнил Аль-
брехту старинное пророчество, бытующее в народе и
говорящее о принце, который одной рукой даст оте-
честву больше, чем другие когда-либо давали обеими,
и постарался как можно убедительнее показать, что
народ увидит в союзе Клауса-Генриха с дочкой
Шпельмана исполнение пророчества, а следовательно,
нечто угодное богу и правомерное.
Господин фон Кнобельсдорф высказал еще много
разумных, независимых и хороших мыслей. Он рас-
сказал, какая смешанная кровь течет в жилах Иммы
Шпельман, — кроме немецкой, португальской и
английской, у нее, по слухам, есть примесь и древней
царственной индейской крови, — и подчеркнул, что
предвидит для династии большую пользу от ожи-
вляющего воздействия, какое смешение рас должно
оказать на древний род Гримбургов. Но до самых
высот красноречия вольномыслящий старик сановник
дошел в тот момент, когда заговорил о грандиозных
и благотворных переменах, какие произведет ломаю-
щий традиции брак престолонаследника в экономиче-
ском положении двора, нашего злосчастного, погряз-
шего в долгах двора. Ибо тут Альбрехт с особенным
высокомерием посасывал верхнюю губу. Стоимость
наших денег падает, и расходы растут, подчиняясь
непреложному экономическому закону, одинаковому
как для бюджета придворного ведомства, так и для
любого домашнего хозяйства, а увеличить доходы не-
откуда. Но допустимое ли дело, чтобы в имуществен-
ном отношении государь стоял ниже своих поддан-
ных? С точки зрения монархического принципа не-
335
терпимо, что в особняке мыловара Уншлита давно
проведено центральное отопление, а в Старом
замке—все еще нет. Да разве в этом одном — по-
мощь необходима в ряде других случаев, и счастлив
тот царствующий дом, который имеет возможность
получить ее в таком грандиозном масштабе! Наше
время характерно тем, что из обихода дворов исчезла
исконная щепетильность в денежных вопросах. От-
жила свое та самоотверженность, с какой царствую-
щие фамилии шли на самые тяжкие жертвы, лишь
бы скрыть от общества унизительную картину
своего плачевного денежного положения, зато теперь
не редкость судебные тяжбы, взятие под опеку, предо-
судительные сделки. Так неужели же не лучше этих
мелких мещанских уловок в духе времени заключить
союз со всемогущим капиталом, союз, который на-
всегда поднимет высочайшее семейство над всеми де-
нежными дрязгами и позволит ему окружить себя
внешними атрибутами, столь импонирующими на-
роду?
Так вопрошал господин фон Кнобельсдорф и сам
же дал безоговорочно утвердительный ответ. Короче
говоря, его речь была построена так мудро и убеди-
тельно, что, покидая Старый замок, он уносил с со-
бой соизволения и полномочия, которые были даны
с надменным пришепетыванием, но достаточно широ-
кие, чтобы сделать из них самые беспрецедентные
выводы, конечно, если фрейлейн Шпельман со своей
стороны удалось чего-то добиться.
Итак, события, одно примечательнее другого, по-
шли своей чередой вплоть до счастливого финала. Не
успел кончиться декабрь, как уже перечисляли по
именам людей, которые своими глазами видели, —
а не то что узнали понаслышке, — как в одно пасмур-
ное утро, часов около одиннадцати, в самый снего-
пад, обергофмаршал фон Бюль цу Бюль в шубе,
в цилиндре на каштановом парике и в золотом пенсне
на носу вышел из придворного экипажа у портала
Дельфиненорта и, весь извиваясь, проследовал во
дворец. В начале января в городе объявились лич-
ности, клятвенно заверявшие, что другой господин,
336
также в шубе и цилиндре, который тоже в утренний
час проследовал из дверей Дельфиненорта мимо
ухмыляющегося плюшевого негра и с лихорадочным
блеском в глазах вскочил в ожидающую его наемную
пролетку, был ни более ни менее как наш министр
финансов доктор Криппенреитер. И одновременно
в официозном «Курьере» появились в качестве проб-
ных шаров первые заметки о слухах, связанных с об-
ручением в высочайшем семействе, эти робкие намеки
очень осторожно и постепенно становились все опре-
деленнее и определеннее, пока наконец имена Клауса-
Генриха и Иммы Шпельман не были открыто поста-
влены рядом. Эти два имени давно уже назывались
вместе, и все-таки каждому, кто видел их напечатан-
ными черным по белому, это зрелище ударяло в го-
лову, как крепкое вино.
Кстати, очень занимательно было наблюдать, ка-
кую позицию в потоке статей на эту тему заняла
наша просвещенная и свободомыслящая пресса в от-
ношении народной трактовки вопроса, а именно, в от-
ношении пророчества, которому тем временем было
придано такое важное политическое значение, что и
образованные круги, наша интеллигенция, не могли
обойти его молчанием. «Курьер» высказывался в том
духе, что, если речь идет о единичных судьбах, гада-
ние, хиромантия и всякая черная магия, разумеется,
должны быть отнесены к самым темным суевериям,
они пережиток седого средневековья, и только по-
смеяться можно над теми чудаками, — правда, в го-
родах они почти перевелись, — которые отдают по-
следние гроши продувным мошенникам за то, что те
по руке или на кофейной гуще читают их убогую
судьбу, которые верят в целебную силу наговоров,
лечатся гомеопатией или просят об изгнании бесов
из больной скотины, хотя еще апостол вопрошал:
«О волах ли печется господь?» Однако когда дело
касается крупных событий, поворотных моментов
в судьбе целых народов или династий, тогда и люди
высококультурные, люди философски образованные
склонны допускать, — поскольку протяженность во
времени — иллюзия, в действительности же все со-
22 Т. Манн, т. 2
337
бытия единовременно существуют как данность,—■•
что человеческий дух может быть заранее потрясен
переворотами, таящимися в недрах грядущего, и
даже может провидеть их. В доказательство ретивая
газета напечатала любезно представленную в ее рас-
поряжение одним из наших университетских профес-
соров объемистую статью, дававшую обзор всех слу-
чаев в истории человечества, в которых фигури-
ровали оракулы, гороскопы, сомнамбулы, яснови-
дение, пророческие сны, гипноз, галлюцинации, наи-
тие,— то был весьма примечательный труд, оказав-
ший должное воздействие на просвещенные слои
общества.
Пресса, правительство, двор и общество действо-
вали согласно, единым фронтом, и, разумеется,
«Курьер» попридержал бы язык, если бы его фило-
софское рвение было еще несвоевременно и бестактно,
одним словом, если бы переговоры в Дельфиненорте
не были на пути к благополучному завершению. Сей-
час уже почти в точности известно, как протекали эти
переговоры и как трудно, порой даже тяжко, прихо-
дилось нашим поверенным — и тому, на кого по его
высокой должности при дворе была возложена дели-
катная миссия подготовить принцу Клаусу-Генриху
почву для сватовства, а так же главному блюстителю
наших финансов, который, невзирая на подорванное
здоровье, никому не уступил права отстаивать инте-
ресы страны перед Самуэлем Шпельманом. Здесь,
помимо озлобленности и раздражительности Шпель-
мана, надо еще принять в расчет, что ему-то, этому
всемогущему человечку, счастливый с нашей точки
зрения исход переговоров был далеко не так важен,
как нам. Оставив в стороне привязанность к дочери,
которая открыла ему сердце и поверила свою пре-
красную мечту — сочетать любовь с общим благом,—
у наших уполномоченных не было ни единого козыря
против Шпельмана; не мог же, в самом деле, доктор
Криппенрейтер выставить свои пожелания в качестве
условий того, что мог предложить господин фон
Бюль! Господин Шпельман называл принца Клауса-
Генриха не иначе как «молодой человек» и проявлял
338
так мало энтузиазма по поводу возможности отдать
дот» в жены «королевскому высочеству», что у док-
тора Криппенрейтера и господина цу Бюля не раз
почва уходила из-под ног.
— Имел бы он хоть приличное образование и за-
нимался бы настоящим делом! — сварливо скрипел
Шпельман. — Что это за молодой человек, который
только и умеет слушать, как ему кричат «ура»...
Он разъярился по-настоящему, когда впервые про-
звучали слова «морганатический брак». Его дочь, за-
явил он once for all1, не будет наложницей, женой
с левой стороны. Жениться так жениться как сле-
дует... По счастью, в данном пункте династические и
государственные интересы полностью совпадали с его
желаниями,; ибо престолу необходимо было потом-
ство, имеющее законное право наследования, и гос-
подин фон Бюль получил самые широкие полно-
мочия, которых господину фон Кнобельсдорфу уда-
лось добиться от великого герцога. Если же миссия
доктора Криппенрейтера оказалась успешной, причи-
ной этому отнюдь не его красноречие, а только отцов-
ские чувства господина Шпельмана — покладистость
больного, всем пресыщенного человека, ставшего
скептиком из-за своего положения «диковинного
зверя», покладистость отца по отношению к един-
ственной дочери и наследнице, которая в конце кон-
цов вольна решать, в какие государственные бумаги
ей вложить свое личное состояние.
Так состоялись соглашения, которые до поры до
времени хранились в глубокой тайне и обнаружива-
лись лишь по мере того, как претворялись в жизнь;
мы же постараемся рассказать о них последова-
тельно и беспристрастно.
Самуэль Шпельман и дом Гримбургов дают согла-
сие на обручение Клауса-Генриха с Иммой Шпель-
ман. Одновременно с обнародованием этого события
в «Правительственном вестнике» должно быть сооб-
щено о присвоении нареченной титула графини и ка-
кой-нибудь придуманной романтически звучной фа-
1 Раз навсегда (англ.).
22*
339
милии вроде той, под которой Клаус-Генрих совер-
шил путешествие с образовательной целью по пре-
красным южным странам; в день бракосочетания
супруга престолонаследника должна быть возведена
в княжеское достоинство. В обоих случаях присвое-
ние титула освобождается от уплаты гербового сбора
в размере четырех тысяч восьмисот марок. Брак бу-
дет заключен как морганатический лишь временно,
дабы не вызывать смятения в обществе, а в тот день,
когда окажется, что господь благословил этот брак
потомством, Альбрехт II, принимая во внимание осо-
бые обстоятельства, объявит морганатическую жену
своего брата полноправной законной супругой и да-
рует ей сан принцессы великогерцогского дома и
титул королевского высочества. Новый член правящей
династии отказывается от цивильного листа. В от-
ношении придворного церемониала решено в день
заключения морганатического брака устроить ма-
лый прием, день же объявления его полноправным
надлежит ознаменовать наивысшим торжеством —
большим приемом с принесением поздравлений. Са-
муэль Шпельман со своей стороны обязуется предо-
ставить государству кредит в размере трехсот пяти-
десяти миллионов марок — и притом на таких оте-
чески мягких условиях, что заем скорее походил на
подарок.
Обо всех этих решениях престолонаследнику со-
общил великий герцог Альбрехт. Клаус-Генрих снова,
как в тот раз, когда Альбрехт возлагал на него обя-
занности по представительству, стоял в большом ка-
бинете, где дуло от окон, где плафонная живопись
вся потрескалась, стоял перед братом и, вытянувшись
во фронт, выслушивал великие новости. Для этой
аудиенции он облачился в майорский мундир гвар-
дейских стрелков, меж тем как великий герцог был
в неизменном черном сюртуке и вдобавок в напульс-
никах, которые тетя Катарина связала ему из темно-
красной шерсти для защиты от сквозняков в Старом
замке. Когда Альбрехт кончил, Клаус-Генрих сделал
шаг в сторону, поклонился, щелкнув каблуками, и
сказал:
340
— Разреши, дорогой Альбрехт, повергнуть к тво-
им стопам сердечную верноподданническую призна-
тельность от своего имени и от имени всего народа.
Ведь именно ты — податель всех благ, и народ отбла-
годарит тебя удвоенной любовью за столь велико-
душное соизволение.
Он пожал худую нервную руку брата, которую
тот держал у самой груди, не отнимая локтя от тела.
При этом великий герцог выпятил короткую пухлую
нижнюю губу и ответил негромко, не подымая глаз и
пришепетывая:
— Я никак не склонен делать себе иллюзии на-
счет любви народа и, как тебе известно, могу спо-
койно обойтись без этой сомнительной любви. Заслу-
жил я ее или нет—роли не играет. Я иду к отходу
поезда на вокзал, чтобы махнуть рукой, — это скорее
бессмысленно, чем похвально, но уж такова моя
должность. Ты — дело другое. Ты — счастливчик. Все
для тебя складывается хорошо. Желаю тебе и впредь
счастья, — добавил он и поднял глаза, в которых за-
стыла тоска одиночества. В этот миг было видно, что
он любит брата. — Желаю тебе счастья, Клаус-Ген-
рих, но не слишком много, чтобы ты не разнежился,
убаюканный любовью народа. Впрочем, я уже гово-
рил, что для тебя все складывается как нельзя лучше.
Твоя избранница — не ординарная девушка, в ней
нет мещанских черт, но нет и черт национальных.
Кровь у нее смешанная... я слышал, будто в ее жилах
течет даже индейская кровь. Пожалуй, это хорошо,
С такой спутницей жизни тебе, пожалуй, меньше гро-
зит самоуспокоенность.
— Ни личное счастье, ни любовь народа никогда
не заставят меня забыть о том, что я твой брат, —
ответил Клаус-Генрих.
Он ушел, ему предстояли еще малоприятные ми-
нуты — беседа с глазу на глаз с господином Шиель-
маном, у которого он лично должен был просить руки
его дочери. Тут ему пришлось претерпеть все, что
раньше терпели парламентеры, ибо Самуэль Шпель-
ман не проявил ни малейшей радости и скрипучим
341
голосом высказал ему много отрезвляющих истин. Но
и этот рубеж был пройден, и когда читатели в одно
прекрасное утро развернули «Правительственный
вестник», в нем красовалось сообщение о помолвке.
Тут длительное ожидание разрешилось бурным во-
сторгом; солидные мужчины махали друг другу но-
совыми платками и обнимались посреди улицы,; все
здания расцветились флагами...
Однако в тот же самый день в Эрмитаже стало
известно, что Рауль Юбербейн лишил себя жизни.
Это была недостойная и нелепая история, и
можно бы не излагать ее, если бы она не привела
к такой жестокой развязке. Не станем искать винов-
ных. У могилы покойного образовалось два лагеря.
Одни, потрясенные этим актом отчаяния, утверждали,
что его затравили; другие же, пожимая плечами,
доказывали, что он вел себя непозволительно, дико, и
его необходимо было обуздать. Оставим этот вопрос
открытым. Как бы то ни было, ничто, в сущности, не
может оправдать столь трагический исход; мало того,
повод для самоубийства был уж слишком ничтожен,
принимая во внимание, каким значительным челове-
ком по праву считался Рауль Юбербейн.., Итак, рас-
скажем все по порядку.
Весной прошлого года классный наставник в пред-
последнем классе нашей гимназии, страдавший бо-
лезнью сердца, был уволен в долгосрочный отпуск
для поправления здоровья, и на эту временно вакант-
ную должность назначили доктора Юбербейна, не-
взирая на его относительную молодость, единственно
ввиду его добросовестного отношения к своим обя-
занностям и неоспоримо успешной педагогической
деятельности в средних классах. Дальнейшее пока-
зало, что выбор был удачен, ибо никогда еще класс
так не преуспевал в науках, как в этом году. Ушед-
ший в отпуск преподаватель, впрочем пользовав-
шийся любовью коллег, был человек довольно вздор-
ный и вместе с тем туповатый и с ленцой, должно
быть по причине болезни, которая в свою очередь
была связана по существу даже с привлекательной,
но опасной, если ею злоупотреблять, склонностью
342
к пиву; так или иначе он на все смотрел сквозь пальцы
и ежегодно переводил в выпускной класс очень слабо
подготовленных учеников. Временно заменивший его
классный наставник принес с собой новый дух,
чему никто не удивился. Коллеги знали его отталки-
вающий неуемный карьеризм, его однобокое, нена-
сытное честолюбие,; все заранее предвидели, что он
не упустит такого благоприятного случая, с которым,
без сомнения, связывает надежды выдвинуться. Лень
и скука мигом исчезли из предпоследнего класса.
Доктор Юбербейн предъявлял к ученикам самые вы-
сокие требования и не знал себе равных в умении
приохотить к занятиям наиболее строптивых. Юноши
буквально на него молились. Его уверенный, отече-
ский и ласково грубоватый тон держал их в напря-
жении, взбадривал их, так что угодить учителю ста-
новилось делом чести. Он заслужил привязанность
учеников тем, что по воскресеньям ходил с ними за
город, при этом разрешал им курить и пленял их
воображение развязными, по-юношески пылкими дифи-
рамбами величию и строгости вольной жизни. А в по-
недельник они встречались со вчерашним веселым
спутником и с радостным усердием принимались за
учение. Так прошли три четверти учебного года, как
вдруг перед рождеством стало известно, что здоровье
находящегося в отпуску учителя более или менее вос-
становлено и что после каникул он вернется к испол-
нению своих обязанностей в предпоследнем классе.
Вот тут-то доктор Юбербейн и показал себя, тут об-
наружилось, что скрывается за его зеленовато-блед-
ным лицом и развязной самоуверенностью. Он возму-
тился, стал жаловаться, заявил громкий, но по суще-
ству малообоснованный протест против того, что его,
педагога, успевшего за три четверти учебного года
сродниться с классом, делившего с ним труды и до-
суги, теперь, перед самым завершением программы,
отстраняют от должности классного наставника и на
последнюю четверть собираются поручить эту долж-
ность человеку, который отдыхал первых три чет-
верти. Его возмущение вполне можно было понять,
объяснить и даже по-человечески посочувствовать
343
ему. Он, конечно, рассчитывал, что директор, ко-
торый сам вел выпускной класс, получит из его
рук образцовых учеников, и их успехи в науках и
общее развитие выставят его как педагога в наи-
лучшем свете и ускорят его продвижение по служеб-
ной лестнице: отсюда ясно, как обидно ему было,
что другой пожнет плоды его самоотверженного
усердия.
Допустим, досада его извинительна, но его безум-
ству оправдания нет, — а, к сожалению, после того,
как директор остался глух к жалобам Юбербейна, он
совершенно обезумел. Он потерял голову, утратил
всякое чувство меры, он поднял на ноги всех, лишь
бы не уступить класса этому пьянчужке, пивному
бочонку, этому сапожнику, как он без стеснения об-
зывал вернувшегося из отпуска учителя, и, не найдя
поддержки у коллег, — удивляться нечему, он сам
всех оттолкнул от себя, — безумец дошел до того, что
стал подстрекать к бунту вверенных ему учеников.
Кого они желают иметь классным наставником на
последнюю четверть, напрямик спросил он с ка-
федры, его или того? Захваченные его лихорадочным
возбуждением, юноши закричали, что хотят его.
Тогда пускай действуют, пускай все как один от-
крыто заявят свою волю, сказал Юбербейн, бог
ведает, что он в своем умоисступлении под этим под-
разумевал. Но когда после рождественских каникул
прежний педагог вошел в класс — ученики стали без-
остановочно выкрикивать имя Юбербейна, и разра-
зился скандал.
Впрочем, его постарались замять. Бунтовщики от-
делались очень легким наказанием, ибо, как только
началось расследование, доктор Юбербейн сам при-
знал факт подстрекательства. Но и на его поведение
власти явно были склонны смотреть сквозь пальцы-
Его ценили за усердие и незаурядные способности;
напечатанные им научные работы, плоды ночных тру-
дов, снискали ему известность, к нему благоволили
в высших сферах, — кстати сказать, он не соприка-
сался непосредственно с этими сферами, а потому не
успел озлобить их своим отечески покровительствен-
344
ным тоном; приходилось считаться и с тем, что он
в прошлом — воспитатель принца Клауса-Генриха,
словом, его не отстранили попросту от должности,
что было бы только справедливо. Дело попало на
рассмотрение в главную инспекцию учебных заведе-
ний, там ему вынесли строгое порицание, после чего
доктор Юбербейн, прекративший педагогическую дея-
тельность, как только разразился скандал, получил
временный отпуск. Однако люди осведомленные
утверждали впоследствии, что ему грозил лишь пере-
вод в другую гимназию, ибо в верхах только и же-
лали поскорее предать эту историю забвению и не
препятствовать дальнейшей карьере доктора Юбер-
бейна. Все могло еще наладиться.
Но, в противоположность начальству, коллеги за-
няли открыто враждебную позицию в отношении
Юбербейна. «Учительское общество» срочно назна-
чило суд чести с явным намерением дать удовлетво-
рение своему высокочтимому сочлену, отвергнутому
учениками, классному наставнику, иначе говоря, пив-
ному бочонку. Юбербейн, живший затворником
в своей меблированной комнате, получил письменное
постановление, в котором говорилось следующее:
своим нежеланием уступить коллеге, которого он за-
мешал, должность классного наставника в пред-
последнем классе, а в дальнейшем своими интригами
против вышеназванного коллеги и наконец подстре-
кательством учеников к неповиновению, Юбер-
бейн навлек на себя всеобщее порицание, ибо его по-
ведение должно быть признано не только не товари-
щеским с узко профессиональной точки зрения, но и
бесчестным с точки зрения общегражданской... Таков
был приговор. А последствием его, как и ожидали,
было заявление Юбербейна о выходе из «Учитель-
ского общества», хотя он и состоял там только номи-
нально; на том, собственно, по мнению большинства,
все могло бы и кончиться.
Но либо этот нелюдим не знал, как благосклонно
продолжали к нему относиться в верхах, и смотрел
на свое положение безнадежнее, чем оно было на са-
мом деле; либо ему нестерпима была бездеятельность
345
и преждевременная разлука с любимым классом;
либо, наконец, его слишком больно уязвили слова
о «бесчестности», а может быть, у него просто ока-
залось недостаточно душевных сил, чтобы перенести
все эти потрясения, — так или иначе через месяц
после нового года хозяева нашли его на потертом
коврике у него в комнате, не зеленее обычного, но
с пулей в сердце.
Вот как кончил жизнь Рауль Юбербейн/, вот на
чем он споткнулся; вот что послужило причиной его
гибели. Этого надо было ожидать! Таково было за-
ключение почти всех разговоров о его плачевном
конце. Этот беспокойный неуживчивый человек ни-
когда не участвовал в застольной беседе, как друг
среди друзей, высокомерно уклонялся от всякого
сближения, с холодной рассудочностью целиком по-
святил себя делу и полагал, что это дает ему право
говорить со всеми на свете отечески поучительным
тоном, — а теперь он лежит поверженный, постыдно
капитулировав перед первой же неприятностью, пер-
вой неудачей на деловом поприще. Среди обывателей
немногие жалели его и никто не оплакивал, вернее,
оплакивал лишь один главный врач Доротеинской
больницы, друг Юбербейна, человек родственный ему
по духу, да еще, быть может, белокурая женщина,
у которой он изредка играл в карты. Зато Клаус-Ген-
рих неизменно с уважением и теплотой вспоминал
своего несчастного учителя.
РОЗОВЫЕ КУСТ
И Шпельман начал финансировать государство;
действия его были так просты, а размах так грандио-
зен, что малый ребенок мог бы их восчувствовать,—■
и в самом деле, сияющие от счастья отцы рассказы-
вали об этом своим ребятишкам, подкидывая их на
коленях.
Самуэль Шпельман кивнул, господа Флебс и
Слипперс засуетились, и его властные приказы по-
неслись под волнами океана, к материку западного
346
полушария. Он забрал треть своих вложений из
сахарного треста, четверть из нефтяного треста,
половину из стального треста, высвободившиеся
средства он перевел в здешние банки, в один прием
по номиналу приобрел у господина Криппенрейтера
на триста пятьдесят миллионов нового трех с полови-
ной процентного государственного займа. Вот что
сделал Шпельман.
Кто по себе знает воздействие душевного состоя-
ния на организм человека, того не удивит, что доктор
Криппенрейтер прямо расцвел и -в короткий срок сде-
лался неузнаваем, опина распрямилась, манеры
стали независимыми, он не ходил, а парил как на
крыльях, с лица сошла желтизна, на нем заиграл
румянец, глаза заблестели, а пищеварение за не-
сколько месяцев настолько наладилось, что министр,
со слов близких к нему людей, мог безнаказанно
лакомиться красной капустой и салатом из огурцов.
Это хотя и отрадное, однако чисто индивидуальное
следствие вмешательства Шпельмана в наши фи-
нансы, конечно, ничто по сравнению с тем, как его
вмешательство сказалось на государственной и хозяй-
ственной жизни нашей страны.
Часть займа пошла в фонд погашения, на уплату
самых неотложных долгов. Впрочем, в этом даже не
было необходимости, нам и так всячески шли навстре-
чу и предоставляли кредит. Хотя в правительствен-
ных кругах вопрос решался келейно, но едва только
наружу просочился слух, что Самуэль Шпельман
если не официально, то на деле взял в свои руки
государственные финансы, как горизонты перед нами
прояснились и на смену бедам пришли радость и
ликование. Держатели облигаций уже не сбывали их
в панике, принятый внутри страны процент снизился,
за нашими обязательствами теперь охотились как за
выгодным помещением средств, и курс наших высоко-
процентных займов, стремительно возрастая, не
только вышел из плачевного состояния, но и перева-
лил за номинал. С народного хозяйства был снят
гнет, десятилетиями тяготевший над ним кошмаром,
и доктор Криппенрейтер с пафосом ратовал в ланд-
347
таге за радикальное облегчение налогового пресса,
что и было постановлено единогласно, и, к восторгу
всех поборников общественной пользы, допотопный
налог на мясо приказал долго жить. Очень скоро
прошло значительное повышение окладов чиновни-
кам, содержания учителям и священнослужителям и
всем лицам, занятым на государственных предприя-
тиях. Нашлись средства и для того, чтобы пустить
в ход заброшенные серебряные рудники, многие сотни
рабочих получили кусок хлеба, и в процессе разра-
ботки неожиданно были обнаружены богатые рудою
пласты. Деньги, деньги шли нам в руки, а с ними
упорядочилось и хозяйство, начались новые посадки,
лес не лишали естественных удобрений, владельцы
скота оставляли себе часть цельного молока и пили
его сами, а злопыхатели тщетно искали бы теперь по
всей стране испитые лица. Народ на деле проявил
свою признательность правящей династии, которой
государство и граждане были обязаны столь сказоч-
ным благосостоянием. Господин фон Кнобельсдорф
без большого труда убедил парламент увеличить
цивильный лист. Постановление о продаже замков
Монплезир и Отрада было отменено. Опытные
мастера получили заказ сверху донизу оборудовать
Старый замок паровым отоплением. Наши уполномо-
ченные при Шпельмане господин фон Бюль и доктор
Криппенрейтер были пожалованы Альбрехтовским
крестом первой степени с бриллиантами, министру
финансов было, кроме того, присвоено личное дворян-
ство, а господин фон Кнобельсдорф получил почет-
ный дар — портрет высоконареченных в натураль-
ную величину, кисти маститого профессора фон Лин-
демана, -вставленный в ценную раму.
После того как состоялось обручение, среди пуб-
лики пошли фантастические слухи о размерах при-
даного, которое господин Шпельман дает за дочерью.
Люди были опьянены, у них появилась неудержимая
тяга к астрономическим цифрам. Но приданое не
выходило из земных пределов, хотя от его величины
поистине можно было возвеселиться. Оно составляло
сто миллионов.
348
— Господи помилуй! — воскликнула Дитлинда цу
Рид-Гогенрид, впервые услышав об этом. — Куда тут
моему доброму Филиппу с его торфом...
Должно быть, такие мысли были у многих; но
дочка Шпельмана делами благотворительности и
милосердия смягчала невольное раздражение, которое
поднималось в сердцах простых людей от такого не-
сметного богатства; даже в самый день официального
обручения она сделала вклад в пятьсот тысяч марок
с тем, чтобы проценты с него ежегодно распределя-
лись между четырьмя государственными округами
для общественно полезных и человеколюбивых це-
лей.
Клаусу-Генриху и Имме подавался один из шпель-
мановских оливковых автомобилей с кожаными сиде-
ниями кирпичного цвета, и они делали визиты членам
Гримбургской фамилии. Великолепной машиной упра-
влял молодой шофер, тот самый, у которого Имма
находила сходство с Клаусом-Генрихом; но большого
напряжения от него во время этих поездок не требова-
лось; наоборот, ему приходилось всячески умерять
мощность мотора и непрерывно тормозить — такое
повсюду бывало скопление публики, приветствующей
молодую чету. Да, так как двое других виновников
нашего благосостояния — великий герцог Альбрехт и
Самуэль Шпельман — каждый на свой лад избегали
общения с народом, — вся его любовь и признатель-
ность изливалась на высоконареченных; за шлифо-
ванными стеклами автомобиля взлетали в воздух
картузы мальчишек, ликующие мужские и жен-
ские голоса пронзительно и гулко отдавались внут-
ри, и Клаус-Генрих, приложив руку к каске, внушал
Имме:
— Ты тоже должна кланяться в свое окно, иначе
тебя сочтут гордячкой.
Ему так не терпелось быть ближе к ней. что после
разговора на придворном балу он стал говорить ей
«ты», хотя она еще не сжилась с атмосферой пылких
чувств и испуганно останавливала его, а как легко
слетало у него с губ это словечко, казавшееся ему
раньше таким фальшивым и неподобающим!
349
Они приехали к принцессе Катарине и были при-
няты сдержанно. Покойный великий герцог Иоганн-
Альбрехт, ее брат, не допустил бы этого, сказала тетя
племяннику. Но времена меняются, и она только мо-
лит бога, чтобы его нареченная освоилась с придвор-
ной жизнью. Они приехали к княгине цу Рид-Гоген-
рид, и здесь их приняли любовно. Родовая спесь Дит-
линды успокоилась на том, что дочка Левиафана
может стать принцессой великогерцогского дома и
королевским высочеством, но принцессой, подобной
ей, в которой течет кровь великих герцогов Гримбург-
ских, не будет никогда; вообще же она была в во-
сторге от того, что Клаус-Генрих в своих разведках
откопал такую прелестную диковинку, и, будучи
супругой торфяного князя Филиппа, лучше чем кто-
либо могла оценить все выгоды такого брака, а пото-
му от души предложила будущей золовке свою дружбу
и сестринскую любовь. Поехали они и к принцу Лам-
берту в его виллу, и пока невеста-графиня силилась
поддержать разговор с миловидной, но совершенно
необразованной баронессой фон Рордорф, старый
волокита замогильным голосом хвалил племянника
за то, что он пренебрег предрассудками и своим бра-
ком дерзко бросает вызов и двору, и пресловутому
высокому сану.
— Я и не думал бросать вызов своему высокому
сану, дядя, и вовсе не гнался за одним только личным
счастьем. Нет, я с чувством полной ответственности
исходил из общих интересов, — довольно неучтиво
возразил Клаус-Генрих; они вскоре распрощались и
поехали за город во дворец Зегенхаус, где бед-
няжка Доротея, вдовствующая великая герцогиня,
создала себе грустную пародию на придворный цере-
мониал. Целуя юную невесту в лоб, она заплакала,
сама не зная над чем.
Тем временем Самуэль Шпельмаи сидел в Дель-
финенорте, разбираясь в чертежах, эскизах мебели,
образчиках штофных обоев и рисунках для золотого
обеденного сервиза. Он перестал играть на органе,
забыл о камнях в почках, и даже румянец появился
350
у него на щеках от непрерывных хлопот; хоть он
весьма невысоко ставил «молодого человека» и не
подавал надежды, что когда-либо покажется при
дворе, но раз дочурка его собралась замуж, значит
надо устроить ей свадьбу соответственно их мате-
риальным возможностям. Чертежи относились к но-
вому дворцу Эрмитаж, так как холостяцкое
жилище Клауса-Генриха решено было снести, а на
его месте построить новый дворец, просторный и
светлый, обставленный по вкусу Клауса-Генриха
в смешанном ампирном и современном стиле, соче-
тающем холодноватую строгость с уютом и удоб-
ством. Однажды утром, выпив целебную воду в бю-
вете, господин Шпельман самолично пожаловал
в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы вы-
яснить, пригодится ли что-нибудь из мебели для
обстановки нового дворца.
— Покажите-ка, молодой принц, свое добро,—
скрипучим голосом потребовал он, и Клаус-Генрих
продемонстрировал ему спартанскую обстановку
своих покоев, жесткие диванчики, прямоногие столы,
белые лакированные консоли по углам.
— Хлам, — презрительно изрек господин Шпель-
ман,— не подойдет.—Только три массивных кресла
красного дерева с резными завитками на локотниках,
из маленькой желтой гостиной, да желтая обивка
с голубоватыми лирами снискали его одобрение.—
Годятся для передней, — решил он, и Клаус-Генрих
обрадовался, что эти три кресла составят вклад
Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно,
было бы неприятно, если бы все шло исключительно
от Шпельманов.
Не только дворец, но и заросший парк и цветник
предстояло расчистить и заново распланировать,
в частности для цветника было задумано особое укра-
шение, которое Клаус-Генрих испросил в качестве
свадебного подарка у брата, великого герцога. На
большую среднюю клумбу перед въездом решено
было перенести розовый куст из Старого замка, и тут,
вне замшелых стен, открытый воздуху и солнцу, по-
саженный в самый тучный мергельный грунт, кото-
351
рый будет специально для него заготовлен, он еще
покажет, какие отныне способен давать розы, — или
уж он настолько закоснел и зазнался, что не по-
желает оправдать народную молву.
Когда миновали март и апрель, настал месяц май,
а с ним высокоторжественный день бракосочетания
Клауса-Генриха и Иммы. Он занялся, сияющий,
благодатный, с позлащенными облачками средь ясной
лазурн, и, приветствуя его наступление, на башне
ратуши загремел хорал. В поездах, пешком и в по-
возках стекались в столицу сельские жители, белоку-
рый, коренастый, крепкий и косный народ с голубыми
задумчивыми глазами, с широкими выступающими
скулами, в красивой национальной одежде, — муж-
чины в красных куртках, в сапогах с отворотами и
в широкополых черных бархатных шляпах, женщины
в расшитых разноцветными шелками корсажах,
в сборчатых коротких юбках и с огромным черным
бантом на голове. Все они вместе с обитателями сто-
лицы толпились вдоль магистрали, соединяющей
Курортный парк и Старый замок, которая была богато
разукрашена ради торжественного въезда невесты,
гирлянды тянулись между увитыми венками трибу-
нами и выкрашенными белой краской, увенчанными
цветами дощатыми обелисками. С самого утра на
улицах замелькали знамена ремесленных цехов,
стрелковых обществ и спортивных союзов. Пожарные
в сверкающих касках были поставлены на ноги. Пред-
ставители студенческих корпораций при полном
параде разъезжали со своими флагами в открытых
ландо, девушки в белом, составлявшие почетный
эскорт невесты, держали в руках обвитые розами
жезлы. Конторы и мастерские не работали. Школы
были распущены. В церквах шло торжественное
богослужение. Утренние выпуски «Курьера», а также
«Правительственного вестника» наряду с прочувство-
ванными передовицами помещали сообщение о широ-
кой амнистии, согласно которой многим преступни-
кам, приговоренным к лишению свободы, великим
герцог даровал помилование или сократил срок за-
ключения. Даже убийцу Гудехуса, который был при-
352
сужден к смертной казни, замененной пожизненной
каторгой, отпустили на время с тем, чтобы после
торжеств снова засадить в тюрьму.
В два часа в зале «Музея» был парадный обед для
именитых горожан, с оркестром музыки и привет-
ственными телеграммами. А в предместье происхо-
дило народное гулянье с пончиками и оладьями,
с праздничным торгом и лотереей; для молодежи был
устроен тир, бег в мешках и лазание на мачту за
паточными пряниками. Но вот настал час, когда
Имма Шпельман из Дельфиненорта направилась
в Старый замок. Ехала она с большой помпой..
Флаги трепыхались под весенним ветром, от
одного дощатого обелиска к другому были переки-
нуты широкие, толщиной с кулак гирлянды красных
роз, на трибунах, на- крышах и тротуарах чернели
толпы народа, а между стоявшими цепью полицей-
скими, пожарными, представителями цехов и добро-
вольных обществ, студентами и школьниками по усы-
панной песком, празднично изукрашенной улице, под
ликующие клики медленно подвигался поезд невесты.
Впереди — двое ликеров в шляпах с галунами, при
аксельбантах, предводительствуемые усатым штал-
мейстером в треуголке. Далее следовала запряженная
четверкой карета, в которой вместе с дежурным
камергером восседал один из чинов дворцового ве-
домства, в качестве великогерцогского комиссара от-
ряженный за невестой. Во второй карете, тоже запря-
женной четверкой, ехала графиня Левеиюль и при
этом сердито косилась на двух сопутствующих ей
придворных дам, явно подозревая их в безнравствен-
ности. Далее гарцевало десять форейторов в желтых
панталонах и синих фраках, которые трубили
«Сплетем тебе венок из мирт». За ними шли двена-
дцать девиц в белом, усыпавших мостовую розовыми
бутонами и веточками тиса. И наконец показалась
влекомая шестериком карета невесты с большими
зеркальными окнами в окружении пятидесяти пред-
ставителей ремесленных цехов верхом на рослых
конях. Выставив ноги в гамашах и натянув длинные
вожжи, горделиво красовался на задрапированных
23 Т. Манн, т. 2
353
белым бархатом козлах краснолицый кучер в шляпе
с галунами; конюхи в ботфортах вели под уздцы по-
парно запряженных цугом белых лошадей, и два
лакея в парадных ливреях стояли на запятках громы-
хающей кареты; глядя на их надменные физиономии,
никто бы не поверил, сколь жуликоваты и проныр-
ливы они в повседневной жизни. А в зеркальные
стекла позолоченных оконных рам видна была Имма
Шпельман в подвенечном уборе и рядом, приставлен-
ная к ней, престарелая статс-дама. Как снег под лу-
чами солнца, сверкало на Имме платье из узорчатого
шелка, а на коленях она держала букет белых цве-
тов, присланный Клаусом-Генрихом за час до того.
Ее экзотическое личико было цвета морских жем-
чужин, из-под фаты выбилась на лоб прямая прядка
иссиня-черных волос, а черные, как уголь, огромные
глаза красноречиво смотрели поверх обступавшей ее
толпы. Но кто это беснуется, брызжет слюной и за-
ливается возле подножки? Да это же Персеваль, пес
из породы колли, — в таком невменяемом состоянии
еще никто его не видал! Суматоха и движение раз-
волновали его свыше меры, лишили всякого само-
обладания, окончательно вывели из себя. Он неистов-
ствовал, выплясывал, изнемогал, охмелев от нервного
возбуждения, извивался в слепой ярости, — а когда
народ на трибунах, на панели, на крышах по обе
стороны улицы узнал Персеваля, восторг достиг
апогея.
Так ехала Имма Шпельман в Старый замок, и
перезвон колоколов сливался с кликами толпы и бе-
шеным лаем Персеваля. Шагом проследовал кортеж
через Альбрехтсплац в ворота со львами; во дворе
замка верховой эскорт из представителей цехов раз-
дался на обе стороны и выстроился парадным строем,
и под колоннадой обветшалого портала великий гер-
цог Альбрехт в мундире гусарского полковника
вместе с братом и прочими принцами встретил не-
весту, предложил ей руку и по серым каменным сту-
пеням повел наверх, мимо почетного караула в па-
радные апартаменты, где собрался весь двор. Прин-
цессы Гримбургского дома находились в Рыцарском
354
зале, и там-то в кругу августейшего семейства госпо-
дин фон Киобельсдорф совершил обряд граждан-
ского бракосочетания. Очевидцы рассказывали по-
том, что никогда морщинки в уголках его глаз не
лучились так весело, как в тот миг, когда он, име-
нем государства, сочетал браком Клауса-Генриха с
Иммой Шпельман. Тотчас после этого Альбрехт II
отдал приказ приступить к обряду церковного вен-
чания.
Господин фон Бюль цу Бюль потрудился на
славу, чтобы составить внушительное шествие —
брачный кортеж, который проследовал по лестнице
Генриха Великолепного и по крытому переходу во
дворцовую церковь. Сгибаясь под бременем годов, но
сохранив вкрадчивость манер и неизменный кашта-
новый парик, по пояс увешанный орденами, обергоф-
маршал молодецки выступал, вынося вперед высокий
жезл, во главе камергеров, а те шествовали в шел-
ковых чулках с отороченной плюмажем треуголкой
под мышкой и ключом на талии, у заднего шва мун-
дира. Далее следовала юная чета — окутанная осле-
пительно белым облаком невеста во всей своей
экзотической прелести и наследник престола Клаус-
Генрих в форме лейб-гренадерского полка с лимонно-
желтой лентой через плечо. Шлейф Иммы Шпельман
в полной растерянности держали четыре провинциа-
лочки из земельной знати, за ними следовала гра-
финя Левенюль, косясь по сторонам с недоверчивым
видом, а господа фон Шуленбург-Трессен и фон
Браунбарт-Шеллендорф шагали позади жениха.
Оберегермейстер фон Штиглиц и страдающий подаг-
рой генерал от театральных зрелищ предшествовали
молодому монарху, который шел рядом с тетей Ка-
тариной, молча посасывая верхнюю губу, а за ними
следовали министр двора фон Киобельсдорф, адъю-
танты, княжеская чета цу. Рид-Гогенрид и прочие
члены правящей династии. Замыкали процессию
снова камергеры.
В дворцовой церкви, декорированной растениями
и коврами, шествия дожидались приглашенные. То
были дипломаты с супругами, придворная и земель-
23*
355
мая знать, высшее столичное офицерство, министры,
среди которых бросалось в глаза сияющее лицо гос-
подина фон Криппенрейтера, кавалеры Гримбург-
ского грифа первой степени, председатели обеих
палат ландтага и другие сановные особы. А так как
обергофмаршальская часть разослала приглашения
лицам из всех классов общества, то на церковных
скамьях, радуясь в сердце своем, сидели также пред-
ставители торгового сословия, крестьяне и скромные
ремесленники. Впереди, у алтаря, разместились полу-
кругом в красных бархатных креслах родственники
жениха. Чистые и нежные голоса соборного хора
возносились к сводам, а затем под торжественный
гул органа вся община запела хвалебный псалом. Но
вот в наступившей тишине раздался громкий благо-
звучный голос президента Консистории доктора Виз-
лиценуса, который во всей своей седовласой красе,
с выпуклой звездой на шелку рясы стоял перед
высоконареченными и произносил искусно составлен-
ную проповедь. Он разработал ее, так сказать, на
музыкальный лад, а за лейтмотив взял тот стих
псалма, что гласит: «И жив будет и дастся ему от
злата аравийска». Слушая его, все всплакнули от
умиления.
Затем доктор Визлйценус совершил обряд венча-
ния, и в тот миг, когда нареченные обменивались
кольцами, затрубили фанфары и над городом и окре-
стностями прогремел первый пушечный выстрел,
а всего с вала «Цитадели» их было произведено вой-
сками тридцать шесть. Вслед за тем и пожарная
команда начала пальбу из старых заржавленных
пушек, но между отдельными залпами возникали
длинные паузы, что послужило для обывателей не-
исчерпаемым источником шуток.
После благословения процессия в том же порядке
возвратилась в Рыцарский зал, где все здравствую-
щие представители рода Гримбургов принесли по-
здравления новобрачным. Затем состоялся торже-
ственный прием, — Клаус-Генрих с Иммой Шпельмаа
под руку проходили по навощенному паркету парад-
356
пых апартаментов, где собрались все придворные
чины, и разговаривали с господами и дамами на
положенной дистанции, милостиво улыбаясь им,
л Имма, выпятив губы, крутила головкой, когда за-
юваривала с кем-нибудь и выслушивала немного-
словный ответ почтительно изогнувшегося царе-
дворца. По окончании приема в Мраморном зале был
сервирован великогерцогский стол, а в зале Двена-
дцати месяцев — обергофмаршальский стол, и ку-
шанья подавались самые изысканные из уважения
к привычкам супруги Клауса-Генриха. Пришедший
и чувство Персеваль тоже при сем присутствовал и
получил свою долю жаркого. А после ужина сту-
денты и жители столицы чествовали молодую чету
по всем правилам — серенадой и факельным ше-
ствием. На площади плясали огни и стоял невообра-
зимый шум.
Лакеи отдернули драпри на одном из окон Сере-
бряного зала, распахнули створки, приходящиеся
почти вровень с землей, и Клаус-Генрих с Иммой
подошли к открытому окну, ибо ночь была теплая,
весенняя. Возле них в чинной позе, с достойным ви-
дом восседал пес Персеваль и тоже смотрел вниз.
Все столичные оркестры играли на ярко иллюми-
нованной, полной народу площади, и факелы ше-
ствующих мимо замка студентов озаряли поднятые
лица дымно багровым светом. Раздался взрыв лико-
вания, когда новобрачные показались у окна. Они
кланялись и благодарили. А потом постояли еще не-
много, глядя на толпу и показывая себя ей. И народу
было видно, как они шевелят губами, разговаривая
между собой. Вот что они говорили:
— Прислушайся, Имма, как они благодарны нам
:*а то, что мы не забыли об их нуждах и тяготах.
Сколько же их собралось! И все стоят и привет-
ствуют нас. Конечно, много среди них негодных лю-
дей, многие рады надуть ближнего, и для них вели-
кое благо быть поднятыми над повседневностью с ее
прозой. А если вдобавок они видят, что мы не забы-
ваем об их нуждах и тяготах, благодарность их не
:'.пает границ.
357
— Но до чего же мы с вами, принц, глупы и бес-
помощны, одни-одинешеньки на высотах человечества,
как, говорят, выражался доктор Юбербейн. Ведь мы
ровно ничего не знаем о жизни!
— Ровно ничего, крошка Имма? А что же тогда
внушило тебе доверие ко мне и меня принудило
всерьез заняться вопросами общественного блага?
Разве тот, кто узнал любовь, ничего не знает
о жизни? Пускай же впредь делом нашей жизни
будет то и другое вместе — высокий удел и любовь —
нелегкое, суровое счастье.
ЛОТТА В ВЕЙМАРЕ
Роман
Сквозь рев и гром рожков
Наш голос смелым
Опять взнестись готов
В твои пределы.
В твоих мирах живя,
Душа беспечна.
Будь жизнь долга твоя,
Держава — вечна!
(«Западно-восточный диван»)
Глава первая
Магер, коридорный веймарской Гостиницы Слона,
человек весьма начитанный, однажды в погожий сен-
тябрьский день 1816 года пережил волнующее и ра-
достное событие. Хотя, казалось бы, ничего из ряда
вон выходящего не случилось, ему на мгновение все
же почудилось, что он грезит.
В этот день около восьми утра с почтовым дили-
жансом из Готы, остановившимся у заслуженно из-
вестного заведения на Рыночной площади, прибыли
три женщины, в которых на первый взгляд — да, по-
жалуй, и на второй — не было ничего особенного. Их
отношения друг к другу определялись без труда. Это
были мать, дочь и служанка. Магер, уже приготовив-
шийся к приветственным поклонам, стоял у сводчатого
входа и смотрел, как привратник высаживал двух
первых из кареты, в то время как служанка, по имени
Клерхен, прощалась с почтальоном, за долгий путь,
как видно, пришедшимся ей по вкусу. Тот, искоса по-
глядывая на нее, улыбался — вероятно, при воспоми-
нании о своеобразном наречии, на котором болтала
путешественница, — и с насмешливым вниманием сле-
дил, как она, кокетливо изгибаясь и не без жеман-
ства подбирая юбки, слезала с высоких козел. Вслед
за тем он дернул шнур от болтавшегося у него за спи-
ной почтового рожка и весьма выразительно затру-
бил на потеху мальчишкам да нескольким ранним
прохожим.
363
Дамы все еще стояли спиной к подъезду, наблю-
дая, как отвязывают их скромный багаж. Магер,
в своем черном, наглухо застегнутом фраке и высоком
стоячем воротничке, повязанном линялым галстуком,
ждал, покуда, уверившись в сохранности своих пожит-
ков, они не направились к двери. Тут он поспешил им
навстречу, семеня длинными ногами в узких обтяги-
вающих панталонах, и склонился перед ними с видом
заправского дипломата, причем на его сырного цвета
лице, обрамленном рыжими бакенбардами, заиграла
обязательнейшая улыбка.
— Здравствуйте, друг мой, — произнесла старшая
из женщин, довольно полная дама лет под шестьде-
сят— не менее, в белом платье, с черной шалью, на-
кинутой на плечи, в нитяных митенках и высоком
чепце, из-под которого выбивались пепельно-серые
вьющиеся волосы, некогда бывшие золотистыми. —
Нам нужно помещение для троих; комната для меня
и моей дочки (дочка тоже была не первой моло-
дости, лет около тридцати, с каштановыми буклями
и в платье с рюшем вокруг шеи, изящный носик ма-
тери повторился у нее более остро и резко очерчен-
ный) и комнатка неподалеку для нашей горничной.
Можем ли мы на это рассчитывать?
Голубые, чуть выцветшие глаза старой женщины
смотрели мимо Магера на фасад гостиницы. Ее ма-
ленький рот на лице, уже немного по-старчески ожи-
ревшем, двигался как-то особенно приятно. В юности
она, вероятно, была прелестнее, нежели сейчас ее
дочь. При взгляде на нее бросалось в глаза легкое
дрожание головы, впрочем больше походившее на
подтверждение ее слов или торопливый призыв со-
гласиться с ними, отчего оно казалось следствием не
столько слабости, сколько живости характера или
хотя бы того и другого в равной мере.
— Рад служить, — отвечал Магер, ведя мать и дочь
к дому, в то время как горничная со шляпной картон-
кой в руках следовала за ними на почтительном рас-
стоянии. — Правда, у нас, как всегда, множество по-
стояльцев и вскоре нам, вероятно, придется отказы-
вать даже весьма уважаемым особам, но все же, смею
364
заверить, мы, не щадя своих сил, пойдем навстречу
желаниям досточтимых путешественниц.
— Ну, вот и отлично, — заметила приезжая, об-
менявшись с дочерью живым и многозначительным
мзглядом по поводу столь красноречивой тирады,
к тому же произнесенной с сильным тюринго-саксон-
ским акцентом.
— Милости просим, пожалуйте, — говорил Ма-
тер, с поклонами пропуская их в дверь. — Приемная
направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет
и восторге, — прошу пожаловать.
Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в прическе,
и пышным бюстом, обтянутым душегрейкой «по слу-
чаю близости входной двери», восседала среди перьев,
песочниц, счетов, за стойкой, отделявшей сводчатую
приемную от сеней. Тут же рядом, возле высокой кон-
торки, письмоводитель беседовал по-английски с гос-
подином в плаще, по-видимому владельцем нагромо-
жденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически
взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, отве-
тила величавым кивком головы на приветствие стар-
шей дамы и чуть намеченный книксен младшей. За-
тем внимательно выслушала переданные ей коридор-
ным пожелания новоприбывших, достала вычерчен-
ный план и начала водить по нему кончиком
карандаша.
— Двадцать седьмой, — постановила она, обра-
щаясь к облаченному в зеленый фартук служителю,
который стоял с вещами новых постояльцев. — Отдель-
ную комнатку горничной я, к сожалению, предоставить
не могу. Мамзели придется разделить помещение
с камеристкой графини Лариш из Эрфурта. У нас
сейчас много гостей с собственной прислугой.
Клерхен состроила гримаску за спиной своей гос-
пожи, но та немедленно согласилась: «Как-нибудь
стерпятся», — решила она и, распорядившись, чтобы
в предоставленную ей комнату тотчас был перенесен
ручной багаж, направилась к выходу.
— Еще минутку, сударыня! — воскликнул Ма-
гер. —Осмелюсь попросить вас об одной формаль-
на
ности. Дело в том, что мы имеем обыкновение всеми
правдами и неправдами вымаливать себе две-три
строчки. Этот докучный обычай заведен не нами,
а Святой Германдадой, его же не преступишь. Законы
и обычаи передаются из рода в род, я бы сказал, как
наследственная болезнь. Смеем ли мы надеяться на
милость и снисхождение?
Дама улыбнулась, снова взглянув на дочь, и, едва
сдерживая смех, покачала головой.
— Ну конечно! Я совсем упустила из виду. Что
положено, то положено. Он умный малый, как я за-
мечаю (она пользовалась обращением в третьем лице,
принятом во времена ее юности), начитанный и про-
свещенный. — И, воротившись к столу, она взялась
тонкими пальцами своей полуприкрытой руки за ви-
севший на шнурке мелок, который ей вручила хо-
зяйка, и, все еще смеясь, — склонилась над доской
с именами постояльцев.
Она писала медленно, постепенно переставая
смеяться, и только легкие, как вздохи, шаловливые
отголоски смеха еще свидетельствовали о ее потухав-
шей веселости. Частое дрожание головы стало при
этом — может быть, вследствие неудобного положе-
ния — несколько более заметным.
На нее смотрели. С одной стороны — дочь, подняв
красивые ровные брови (она их унаследовала от ма-
тери) и насмешливо поджав губки, заглядывала ей
через плечо; с другой — на нее уставился Магер, от-
части чтобы наблюдать, правильно ли она заполняет
отмеченные красным рубрики, отчасти же из провин-
циального любопытства, не чуждого злорадному удо-
влетворению, что вот для кого-то пришло время, рас-
ставшись со всегда благодарной ролью неизвестного,
назвать и разоблачить себя. По каким-то причинам
письмоводитель и английский путешественник прекра-
тили разговор и тоже наблюдали за склоненной жен-
щиной, выводившей буквы с почти детской тщатель-
ностью.
Магер прочитал, прищурившись: «Вдова надвор-
ного советника Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф,
из Ганновера, последнее местопребывание — Гослар;
366
родилась И января 1753 года в Вецларе. С дочерью
и прислугой».
— Этого достаточно? — осведомилась надворная
i-оистница; и так как ей сразу не ответили, заключила
гама: — Конечно,'достаточно.— Она сделала энергич-
ное движение, чтобы положить мелок на стол, поза-
быв, что он прикреплен к металлической подставке,
н опрокинула ее.
— Какая неловкость! — воскликнула она, краснея,
м снова быстро глянула на дочь; та насмешливо скри-
вила рот и потупилась. — Ну, это дело поправимое,
сейчас все будет в порядке. А теперь нам пора посмот-
реть комнату! — И советница поспешно двинулась
к двери.
Дочь, горничная, Магер и плешивый привратник,
нагруженный чемоданами и дорожными мешками, по-
следовали за нею через сени к лестнице. Магер всю
дорогу только и делал, что щурился, а в перерывах
быстро-быстро мигал покрасневшими глазами и пу-
стым взглядом уставлялся в пространство, открывая
при этом рот с видом если не глуповатым, то мечта-
тельно-задумчивым. На площадке второго этажа он
заставил всех остановиться.
— Прошу прощения! — воскликнул он. — Умоляю
великодушно простить, если мой вопрос — это не про-
сто неуместное любопытство... Ужели мы имеем честь
видеть в наших стенах госпожу надворную советницу
Кестнер, мадам Шарлотту Кестнер, рожденную
Буфф из Вецлара?..
— Да, это я, — с улыбкой подтвердила старая
дама.
— Я имею в виду..* прошу прощения... Неужто
же речь идет о Шарлотте — короче Лотте Кестнер,
рожденной Буфф из Немецкого дома, Немецкого ор-
денского дома в Вецларе, бывшей...
— Именно о ней, любезный. Но я совсем не быв-
шая, а вполне настоящая и очень бы хотела поскорей
попасть в отведенную мне...
— Незамедлительно! — вскричал Магер и, накло-
нив голову, уже принял было позу бегущего человека,
367
но вдруг остановился, словно приросши к месту, и
всплеснул руками.
— Господи боже ты мой! — проговорил он с глу-
боким чувством. — Господи боже ты мой! Госпожа со-
ветница! Да простит меня госпожа советница за то,
что мне не сразу удалось установить это тождество
и обнять взором все открывающиеся перспективы...
Ведь это, можно сказать... гром среди ясного неба.
Значит, нашему дому выпала высокая честь и неоце-
нимое счастье... принимать.;, настоящую... подлин-
ную... прообраз, если дозволено так выразиться... Ко-
роче говоря, мне суждено... сейчас... перед Вертеровой
Лоттой...
— Вы не ошиблись, друг мой, — со спокойным до-
стоинством отвечала советница, попутно бросив стро-
гий взгляд на хихикающую горничную. — И если это
послужит для вас лишним поводом поскорее прово-
дить нас, усталых женщин, в нашу комнату, то я буду
искренне рада.
— В мгновение ока! — крикнул Магер и припу-
стился по лестнице. — Комната номер двадцать семь.
Бог ты мой, ведь она на втором этаже! У нас, суда-
рыня, удобные лестницы, как вы можете убедиться,
но если бы мы знали... Несмотря на обилие гостей,
без сомнения нашлась бы... Во всяком случае, ком-
ната недурна, окна выходят на Рыночную площадь;
надо думать, она придется по вкусу... В ней прожи-
вали недавно господин майор Эглоффштейн с супру-
гой, приезжавшие с визитом к тетушке, обер-камер-
герше той же фамилии. В октябре тринадцатого года
там останавливался генерал-адъютант его импера-
торского высочества великого князя Константина.
Это, так сказать, воспоминания исторические. Ах,
боже ты мой, что я там болтаю об исторических вос-
поминаниях! Для чувствительного сердца они не мо-
гут идти ни в какое сравнение... Еще только несколько
шагов, сударыня! От площадки несколько шагов вот
по этому коридору. Все стены, как изволите видеть,
свежевыбелены. После постоя донских казаков в три-
надцатом году нам пришлось все тщательно ремонти-
ровать: лестницы, комнаты, коридоры, гостиные. По-
368
следнее, на мой взгляд, было уже излишне. Насиль-
ственные сдвиги мировой истории принудили нас
к этой мере; отсюда можно было бы извлечь мораль,
что насилие временами способствует обновлению
жизни. Я, конечно, не хочу всю заслугу побелки дома
приписать одним казакам. У нас стояли также прус-
ские войска и венгерские гусары, не говоря уже
о французах... Вот мы и у цели! Прошу пожаловать!
Он с поклоном распахнул дверь и пропустил их
в комнату. Глаза женщин беглым испытующим взо-
ром окинули накрахмаленные занавеси на обоих ок-
нах, в лростенке между ними трюмо, не без тусклых
пятен, две белые кровати с общим маленьким балда-
хином и прочее убранство. Гравированный ландшафт
с античным храмом украшал собою одну из стен. Хо-
рошо навощенный пол так и блестел чистотою.
— Очень мило, — решила советница.
—- Мы почтем себя счастливыми, если уважаемым
дамам придется здесь по вкусу. Когда что-нибудь по-
надобится, вот сонетка. О горячей воде я, разумеется,
позабочусь. Мы назовем себя счастливейшими из
смертных, если угодим госпоже советнице.
— Ну конечно же, голубчик. Мы простые люди и
не избалованы. Спасибо, любезный, — обратилась она
к привратнику, который снимал с плеча и складывал
в угол багаж приезжих. — Спасибо и вам, мой друг,—
и она отпустила Магера кивком головы. — Мы всем
ублажены и довольны и теперь хотели бы только не-
много...
Но Магер стоял как вкопанный, молитвенно скре-
стив руки и вперившись своими красноватыми гла-
зами в лицо старой дамы.
— Великий боже! —произнес он. — Госпожа со-
ветница! Какое достойное увековечения событие! Гос-
пожа советница, должно быть, и понять не может
чувств человека, на которого нежданно-негаданно сва-
лился подобный казус со всеми его волнующими пер-
спективами... Госпожа советница уже настолько при-
выкла к своему, так сказать, священному для нас
тождеству, что принимает его легко и буднично и не
может понять, что происходит с чувствительной
24 Т. Мани, т. 2
369
душой, с юных лет приверженной литературе, при
знакомстве, прошу прощения, — при встрече с особой,
озаренной, если можно так выразиться, лучами поэ-
зии и как бы взнесенной огненными руками к небе-
сам вечной славы...
— Вот что, мой друг, — с улыбкой остановила его
советница, хотя дрожание ее головы при словах
коридорного усилилось, как бы служа им подтвержде-
нием. (Горничная, стоя позади нее, с веселым любо-
пытством разглядывала его почти до слез растроган-
ное лицо, а дочь с показным равнодушием занима-
лась в глубине комнаты раскладкой вещей.) — Друг
мой, я простая женщина, без претензий, человек та-
кой же, как все; у вас же столь необычная, высоко-
парная манера выражаться...
— Мое имя Магер, — пояснительно вставил кори-
дорный. Он выговаривал «Маахер» на своем мягком
средненемецком наречии, и в этом звуке было что-то
молящее и трогательное. — Я, если это звучит не
слишком самонадеянно, являюсь фактотумом этого
дома, — что называется, правой рукой фрау Эльмен-
рейх, хозяйки гостиницы. Она вдовствует уже много
лет. Господин Эльменрейх, к "несчастью, еще в 1806 го-
ду пал жертвой событий при трагических обстоятель-
ствах, о которых здесь неуместно распространяться.
В моей должности, госпожа советница, да еще во вре-
мена, которые суждено было пережить нашему го-
роду, соприкасаешься со множеством людей; мимо нас
проходит немало примечательных лиц, примечатель-
ных по своему рождению или заслугам, так что не-
вольно перестаешь уже так пылко относиться к сопри-
косновению с высокопоставленными, причастными
к мировой истории особами и носителями влиятель-
ных, волнующих воображение имен. Это так, госпожа
советница! Но профессиональная избалованность и
черствость — куда они подевались? Вовсю мою жизнь,
признаюсь откровенно, мне не выпадало встречи, так
взбудоражившей мне душу и сердце, как сегодняш-
няя, поистине достойная увековечения. Мне, как и
многим людям, было известно, что почтеннейшая жен-
щина, прототип того вечно милого образа, продолжает
370
чдравствовать, и именно в городе Ганновере. Теперь
и окончательно убежден, что знал это. Но мое знание
ме имело реальной основы, и мне никогда не прихо-
дила в голову возможность оказаться лицом к лицу
со священным для нас созданием. Я и мечтать об этом
ис смел! Когда я проснулся нынешним утром, — всего
несколько часов назад, — я был убежден, что мне
предстоит день, как сотни других, заурядный день,
исполненный обычных хлопот в конторе и у стола.
Моя жена — ибо я женат, госпожа советница, — ма-
дам Магер, моя жена, которая возглавляет здесь
кухню, может засвидетельствовать, что я не чаял ни-
каких необыкновенных событий. Я был уверен, что
вечером отойду ко сну тем же человеком, каким встал
утром. И вот! «Чего не чаешь, то вернее сбудется»,
гласит народная мудрость! Да простит мне госпожа
советница мое волнение и мою столь неуместную бол-
тливость. «Когда сердце полно, слов не удержишь»,
как говорит народ на своем хотя и не очень литератур-
ном, но метком языке. Если бы госпожа советница
знали, какую любовь и уважение я, так сказать, с мла-
дых ногтей питаю к нашему королю поэтов, великому
Гете, и как я, веймарский житель, горжусь тем, что
мы вправе называть его своим... Если бы сударыня
знали, чем для моего сердца были всю жизнь именно
«Страдания молодого Вертера»... Но я молчу, госпожа
советница, я отлично знаю, что не мне рассуждать об
этом... Хотя, с другой стороны, такое чувствительное
произведение ведь принадлежит всему человечеству
и одинаково волнует души великих и малых сих, то-
гда как творения вроде «Ифигении» и «Побочной до-
чери» являются достоянием лишь высших слоев обще-
ства. Стоит только вспомнить, сколь часто, умилен-
ные душой, мы с мадам Магер при тусклой свечке
склонялись над этими божественными страницами,
и вдруг отдать себе отчет, что вот сейчас передо мной
всемирно известная и бессмертная героиня романа,
во плоти... такой же человек, как я... Ради бога, гос-
пожа советница! — вскричал он и хлопнул себя по
лбу.— Я болтаю и болтаю, и вдруг меня как обухом
24*
371
ударило; ведь я даже не осведомился, пила ли гос-
пожа советница сегодня кофе?
— Благодарю вас, друг мой, — отвечала старая
дама, со спокойным взором и слегка подергивающи-
мися уголками рта, внимавшая излияниям доброго
малого. — Мы сделали это в положенное время. Во-
обще же, мой милый господин Магер, вы слишком
далеко заходите в своих сравнениях и впадаете
в крайность, попросту смешивая меня, или хотя бы
то юное существо, которым я некогда была, с герои-
ней нашумевшей книжки. Вы не первый, кому мне
приходится на это указывать. Я это проповедую вот
уже сорок четыре года. Правда, та романтическая
фигура обрела столь повсеместную жизнь, столь за-
конченное и прославленное существование, что каж-
дый может прийти и сказать: из вас двоих она-то и
есть настоящая, — хотя здесь я, безусловно, буду воз-
ражать, — но тем не менее девушка из романа очень
отличается от меня тогдашней, о нынешней я уже и не
говорю. Всякий видит, например, что у меня глаза
голубые, в то время как Вертерова Лотта, как из-
вестно, черноглазая.
— Поэтическая вольность! — вскричал Магер. —
Кто же этого не понимает — поэтическая вольность!
Но она, госпожа советница, ни на йоту не умаляет
существующего тождества! Пускай поэт воспользо-
вался ею для маскарада, чтобы слегка замести
следы...
— Нет, — произнесла советница, задумчиво пока-
чав головой, — черные глаза это совсем другое.
— А если и так! — перебил ее Магер. — Пусть тож-
дество даже и нарушается маленькими отклонениями..«
• — Существуют гораздо большие, — настойчиво под-
черкнула советница.
— ...но ведь совершенно нетронутым остается дру-
гое тождество — тождество с самой собой, я хочу
сказать, с той не менее легендарной особой, чей порт-
рет великий человек еще совсем недавно с такою
теплотой нарисовал в своих мемуарах; и если госпожа
советница не до мельчайшей черточки Вертерова
Лотта, то она до последнего волоска Лотта Гё...
372
— Вот что, почтеннейший! — оборвала его совет-
ница.— Прошло немало времени, покуда вы были так
любезны указать нам нашу комнату, а теперь вы, ви-
димо, позабыли, что не даете нам воспользоваться ею.
— Госпожа советница! — воскликнул коридорный
Гостиницы Слона, молитвенно сложив руки. — Про-
стите меня! Простите человека, который... О да, мое
поведение непростительно, я это знаю — и все же ос-
меливаюсь просить вас о милости; Своим немедлен-
ным исчезновением я... Меня ведь так и подмывает, —
вставил он, — не говоря уже о том, что мне диктуют
правила благоприличия, меня так и тянет отсюда —
туда; ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до
сих пор еще не имеет понятия, — она, наверное, не
удосужилась взглянуть на доску, а если и взглянула,
то ее здравый практический ум... А мадам Магер,
госпожа советница! Как мне хочется сбегать к ней
на кухню и первым сообщить ей столь важную город-
скую и литературную новость. Но как раз, чтобы до-
полнить это волнующее сообщение, я, госпожа совет-
ница, и осмелюсь задать еще один вопрос... Сорок
четыре года! И сударыня за эти сорок четыре года
ни разу не виделись с господином тайным советником?
— Ни разу, мой друг, — отвечала она. — Я знаю
молодого практиканта прав доктора Гете из Вснлара.
Веймарского министра, великого поэта Германии, я
и в глаза не видела.
— Я потрясен! — задохнулся Магер. — Потрясен
до глубины души! Итак, значит, госпожа советница
прибыла в Веймар, чтобы...
— Я приехала в Веймар, — перебила его старая
дама несколько свысока, — после долгой разлуки
свидеться с сестрой, супругой камерального со-
ветника Риделя, и представить ей мою дочь Шар-
лотту, приехавшую из Эльзаса, чтобы сопровождать
меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас
трое, — мы не можем обременять ночлегом мою се-
стру — у нее большая семья. Поэтому мы и остано-
вились в гостинице, но обедать мы будем у наших
милых родственников. Удовлетворены вы, наконец?
— Весьма, госпожа советница, весьма! Хотя мы
373
тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом...
Господин и госпожа Ридель, Эспланада шесть, о, я
знаю! Значит, госпожа камеральная советница урож-
денная... Ах, да ведь мне это было известно! И отно-
шения и родство были известны, только реально я себе
не представлял... Боже милостивый! Да ведь, значит,
госпожа камеральная советница находилась в толпе
детей, окружавших госпожу надворную советницу
в сенях охотничьего домика, когда Вертер впервые
переступил его порог, значит, и она протягивала
ручонку за хлебом, который госпожа надворная со-
ветница...
— Любезный мой, — снова прервала его Шар-
лотта, — в охотничьем домике не было никакой на-
дворной советницы. Но, скажите-ка нам лучше, пре-
жде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхен
ее комнатку, далеко ли отсюда до Эспланады?
— Ах нет, госпожа советница. Рукой подать! У нас
в Веймаре нет больших расстояний. Наше величие —
в другом, в духовном. Я почту за честь самолично
проводить дам до жилища госпожи камеральной со-
ветницы, если им не угодно будет предпочесть извоз-
чика или портшез, в которых наша столица не знает
недостатка... Но еще одно, госпожа советница, еще
одно только слово! Если сударыня и прибыла, глав-
ным образом чтобы навестить госпожу камеральную
советницу, то, надо думать, на Фрауенплане тоже
будут иметь честь...
— Время покажет, мой друг, время покажет!
А теперь пора уже отвести мамзель вниз, так как она
мне скоро понадобится.
— Да, а по дороге скажите мне, — защебетала
Клерхен, — где живет человек, который написал «Ри-
нальдо», этот дивный роман, я читала его раз пять,
и еще скажите, неужто мне может выпасть счастье
встретить его на улице.
— Может, мамзель, очень даже может, — рассе-
янно отвечал Магер, направляясь вместе с ней
к двери. Но на пороге он вдруг остановился, упершись
одной ногой в пол и приподняв другую — для равно-
весия.
374
— lime одно слово, госпожа советница, — взмо-
лился Магер. — Последнее словечко, ответ на него не
итруднит госпожу советницу! Госпожа советница
поймет: человеку вдруг суждено было оказаться, так
сказать, у первоисточника — грех пренебречь таким
обстоятельством, не воспользоваться... Госпожа со-
пстница, не правда ли, тот последний разговор перед
отъездом Вертера, та душераздирающая сцена втроем,
когда речь зашла о покойной матери и о вечной раз-
луке, и Вертер, держа руку Лотты, восклицает: «Мы
свидимся, найдем друг друга, среди множества обра-
зов вновь друг друга узнаем!» — это правдивое вос-
поминание? Господин тайный советник его не измыс-
лил? Ведь так все и было?!
— И да и нет, мой друг, и да и нет, — добродушно
отвечала усталая жертва его любознательности, и го-
лова ее задрожала сильнее. — Ну, идите уж, идите!
И потрясенный Магер спешно ретировался с ко-
шечкой Клерхен.
Снимая шляпу, Шарлотта испустила глубокий
вздох. Дочь, которая в продолжение всего разговора
занималась развешиванием платьев в шкафу и мето-
дически раскладывала вещи, вынутые из несессера, по
полочкам умывальника, насмешливо взглянула на нее.
— Вот, — заметила она, — твоя звезда снова взо-
шла. Эффект был недурен.
— Ах, дитя мое, — возразила мать, — то, что ты
называешь моей звездой и что было бы вернее на-
звать моим крестом — пусть даже орденским, — если
хочешь, обнаруживается без моего содействия,
Я здесь ни при чем, и не в моей власти скрыть его*
— Немного дольше, милая мама, если не на все
время нашей несколько экстравагантной поездки, он
все же мог бы остаться скрытым, остановись мы не
в гостинице, а у тети Амалии.
— Ты отлично знаешь, Лотхен, что это невоз-
можно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кузины не
имеют лишнего помещения, хотя и живут в аристо-
кратическом квартале, или, вернее, именно поэтому.
Нельзя было явиться к ним втроем и до такой сте-
пени стеснить их, пусть даже на несколько дней, Твой
375
дядя Ридель имеет определенный доход от казенной
службы, но его постигли тяжелые удары; в шестом
году он все потерял, теперь он человек небогатый, и
мы ни в коем случае не можем вводить его в расход.
А что у меня явилась потребность после долгих лет
снова заключить в объятия мою младшую сестру,
нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она
наслаждается вместе со своим достойным мужем, —
разве можно поставить мне это в вину? Не забудь,
что я надеюсь быть полезной моим милым родствен-
никам. Твой дядя добивается поста директора ве-
ликогерцогской камер-коллегии, — благодаря моим
связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь,
на месте, посодействую осуществлению его мечты.
И разве момент, когда ты, дитя мое, после десяти-
летней разлуки снова со мной, не наиболее подходя-
щий для родственного визита? Неужто же необычная
судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне
следовать естественному влечению сердца?
— Нет, мама, разумеется, нет.
— Да и кто мог подумать, — продолжала совет-
ница,— что мы тотчас же налетим на такого энту-
зиаста, как этот Ганимед с бакенбардами? Гете
в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему
доставляло вечное любопытство людей: кто, соб-
ственно, настоящая Лотта и где она живет? От таких
настойчивых вопросов его не спасало даже инког-
нито,— он называет это истинным наказанием и
считает, что если и согрешил своей книжкой, то впо-
следствии сторицей искупил свой грех. Но из этого
видно, что мужчины, — тем более поэты — заботятся
только о себе: он и не подумал о том, что нам тоже
приходилось бороться с любопытством, вдобавок ко
всем тревогам, которые он нам причинил — твоему
незабвенному отцу и мне — своим безбожным смеше-
нием правды и поэзии.
— Черных и голубых глаз?
— Кто попал в беду, не избежит и насмешки, и
прежде всего от собственной дочери. Надо же мне
было одернуть этого неистового малого, принявшего
меня такой, как я есть, за Вертерову Лотту.
376
— У него хватило дерзости в утешение за некото-
рые несоответствия назвать тебя Гетевой Лоттой.
— По-моему, я и этого не пропустила мимо ушей
и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо
:шала бы тебя, дитя мое, если б не почувствовала,
что согласно твоим более строгим убеждениям мне
следовало с самого начала крепче держать его
и узде. А скажи мне как? Отречься от себя самой?
Убедить его, что я ничего знать не знаю о себе и
о своем жребии? Но вправе ли я свободно распола-
гать этим жребием, если он так или иначе стал до-
стоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой
человек, — позволь мне добавить, что это ни на йоту
lie умаляет моей любви к тебе. Общительной тебя ни-
как не назовешь — это свойство не вяжется с готов-
ностью жертвовать собою для других. Мне даже
часто казалось, что жизнь полная самопожертвова-
ния, — я никого не хочу ни восхвалять, ни порицать,—
обычно предполагает известную черствость, которая
мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не
можешь сомневаться ни в моем к тебе уважении, ни
в моей любви. Вот уже десять лет, как ты — ангел-
хранитель твоего бедного, милого брата Карла, кото-
рому суждено было потерять молодую жену и ли-
шиться ноги, — беда ведь никогда одна не приходит!
Что бы он делал без тебя, мой бедный, больной маль-
чик! Вся твоя жизнь — это труд и самоотверженная
любовь, как же могла она не заронить в тебя из-
вестную строгость, не одобряющую праздной чув-
ствительности — в себе и в других. Суровую прозу
жизни ты предпочитаешь ее праздникам, — и ты,
конечно, права! Связь с великим миром страстей и
высокого духа, выпавшая нам на долю...
— Нам? Я не поддерживаю подобных связей.
— Дитя мое, они останутся при нас и будут со-
пряжены с нашим именем до третьего и четвертого
колена, хотим мы этого или не хотим. И когда добрые
люди нам докучают, движимые воодушевлением или
просто любопытством (как здесь провести границу?),
вправе ли мы скаредничать и резко отталкивать на-
зойливых? Вот здесь-то и сказывается различие на-
377
ших натур. И моя жизнь была сурова, и мне от мно-
гого приходилось отказываться. Я была, думается
мне, хорошей женой твоему милому, незабвенному
отцу. Я родила ему одиннадцать детей и девятерых
вырастила честными людьми — двоих у меня отнял
господь. И я жертвовала собой, терпя и страдая.,
Но общительность или благодушие, как ты бы пре-
зрительно назвала это, мне ни в чем не мешали.
Жестокая жизнь меня не ожесточила, повернуться
спиной к такому Магеру и сказать ему: «Дурень,
оставь меня в покое», — на это, воля твоя, я не спо-
собна.
— Ты так говоришь со мною, милая' мама, — воз-
разила Лотта-младшая, — словно я позволила себе
упрекнуть или, чего доброго, поучать тебя. А я ведь
и рта не раскрывала. Мне только досадно, когда
люди так неумеренно испытывают твою доброту и
терпение и утомляют тебя своими восторгами,
неужели ты поставишь мне это в вину? Вот и это
платье, — сказала она, вынимая из чемодана матери
платье — белое с бантами, розоватыми бантами — и
расправляя его, — следовало бы прогладить, прежде
чем ты его наденешь. Оно несколько измялось.
Надворная советница покраснела, что как-то тро-
гательно шло к ней, сообщая ее лицу девическую
миловидность: сразу можно было себе представить,
какою она была в двадцать лет; ласковые голубые
глаза под ровными бровями, изящно выточенный
носик, приятный маленький рот — в этом розова-
том отсвете обрели на несколько секунд всю свою
прежнюю прелесть; славная дочка амтмана, мать
его сироток, фея вольпертгаузеновских балов
внезапно ожила в краске, залившей лицо старой
дамы.
Мадам Кестнер сняла плащ и стояла теперь
в платье, таком же белом, как и то, более нарядное,
которое дочь держала перед ней. В теплую погоду
(а дни стояли еще почти летние) она из своенравного
пристрастия носила только белые платья. Но то, что
держала на вытянутых руках ее дочь, было к тому;
же украшено бледно-розовыми бантами.
378
Невольно обе они отвернулись; старшая, видимо,
<>г платья, молодая — от краски, набежавшей на
лицо матери и сделавшей его таким милым и моло-
дым, что она почувствовала зависть.
— Да нет же, — отвечала советница на предло-
жение Шарлотты. — К чему лишние хлопоты! Этот
креп превосходно отвисится в шкафу. Да и кто знает,
соберусь ли я вообще надеть его.
— Почему бы и нет, — произнесла дочь, — и за-
чем же ты тогда его привезла? Но именно потому,
что ты, безусловно, его наденешь при случае, позволь
мне, милая мама, еще раз спросить тебя, не ре-
шишься ли ты все же заменить эти несколько свет-
лые банты на лифе и рукавах более темными, ну, ска-
жем, лиловыми. Я могла бы перешить их в одну ми-
нуту.
— Ах оставь меня, Лотхен! — нетерпеливо возра-
зила советница. — Ты, дитя мое, не понимаешь шу-
ток. Хотела бы я знать, чем тебе не но душе эта за-
бавная маленькая шутка, легкий намек и знак внима-
ния. Позволь тебе заметить, что я редко встречала
людей, до такой степени лишенных чувства юмора,
как ты.
— Не следует у кого бы то ни было, — отвечала
дочь, — кого не знаешь или знаешь недостаточно,
предполагать это чувство.
Шарлотта-старшая хотела еще что-то возразить,
но ей помешало возвращение Клерхен, которая при-
несла горячую воду и бойко затараторила о том, что
камеристка графини Лариш весьма приятная особа и
что они, надо думать, отлично уживутся вместе*
К тому же этот комичный господин Магер заверил ее,
что ей удастся увидеть господина библиотекаря Вуль-
нпуса, шурина господина фон Гете и автора дивного
«Ринальдо», на его пути в библиотеку и даже полю-
боваться на его сынишку, названного Ринальдо
и честь героя знаменитого романа, когда тот пойдет
и школу.
— Вот и отлично, — сказала советница, — но
нремя уже позднее, пора тебе, Лотхен, в сопровожден
379
пии Клерхен отправиться на Эспланаду к тете
Амалии и сообщить ей о нашем прибытии. Она еще не
подозревает о нем и ждет нас к обеду или к вечеру,
полагая, что мы задержались в Готе у Либенау,
тогда как мы сумели уклониться от этого, визита.
Иди, дитя мое, пусть Клерхен хорошенько разузнает
дорогу. Поцелуй от меня свою милую тетю и подру-
жись за это время с кузинами. Мне, старой женщине,
необходимо полежать часок-другой. Я последую за
вами, как только немного передохну.
Она поцеловала дочь, как бы в знак примирения,
легким кивком головы ответила на прощальный кни-
ксен горничной и осталась одна. На подзеркальнике
стояла чернильница и лежали перья. Советница села,
взяла листок бумаги, обмакнула перо и, со слегка
трясущейся головой, быстро написала заранее приго-
товленные слова.
«Высокочтимый друг! Приехав навестить свою
сестру и намереваясь пробыть несколько дней в ва-
шем городе, я хотела бы представить вам свою дочь,
не говоря уже о том, что для меня будет большой ра-
достью снова взглянуть на лицо, ставшее миру столь
драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из
нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, Гостиница
Слона, 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, ро-
жденная Буфф».
Она посыпала бумагу песком, подождала не-
много, искусно сложила листок концами внутрь и
надписала адрес. Затем она дернула сонетку.
Глава вторая
Шарлотта долго не находила покоя, к которому,
впрочем, и не слишком стремилась. Правда, сняв
платье и покрывшись пледом, она растянулась на од-
ной из кроватей под маленьким балдахином и, поло-
жив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их
от режущего света, — на окнах не было темных зана-
весей, — смежила веки. Но при этом она скорее пре-
далась мыслям, заставлявшим сильнее биться ее
380
сердце, чем дремоте, требуемой голосом благоразу-
мия. Тем более что именно неразумие представля-
лось ей доказательством и признаком ее внутренней
несокрушимости, неподатливости годам, и втайне
нравилось ей — слова, некогда написанные тем юно-
шей в прощальной записке: «А я, милая Лотта, счаст-
лив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не
переменюсь», это — религия нашей молодости, а от
нее люди, собственно, никогда не отступают. И то,
что она выдержала испытание временем, то, что мы
остались такими же, как были, и старость, для нас
наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не
властно над нашей душой, над этим неразумным, че-
рез долгие десятилетия пронесенным «я», — наблю-
денье, утешительное в преклонных годах, ибо оно —-
стыдливая и радостная тайна нашего старческого
достоинства. Да, так становишься старой женщиной,
сама насмешливо именуешь себя таковою и
пускаешься в дорогу с двадцатидевятилетней до-
черью— девятою из детей, рожденных тобою супругу.
Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется, как
у школьницы перед сумасбродной шалостью. Шар-
лотта представила себе людей, которые найдут это
очаровательным.
Но Лотхен-младшую лучше было себе не предста-
влять свидетельницей этого сердечного порыва. Не-
смотря на примирительный поцелуй, мать не переста-
вала на нее сердиться за «отсутствие чувства юмора»
и критику, наведенную на платье и банты, по суще-
ству же относившуюся к этой, столь достойно и есте-
ственно обоснованной поездке, которую та назвала
«экстравагантной». Неприятно возить с собой чело-
пека, слишком проницательного, чтобы верить, будто
пся поездка затеяна ради него, и догадывающегося,
что он не более как ширма; еще неприятнее и оскор-
бительнее, когда на тебя смотрят столь прозорливо,
пернее, косо, и из всех разнородных мотивов по-
ступка видят только деликатно . замалчиваемые,
только их признают подлинными, благоприличные
же и явно высказанные, как бы они ни были уважи-
тельны, считают пустыми отговорками!
381
Шарлотта с гневом ощугила оскорбительность та-
кой— да, может быть, и всякой — психологии и при-
писала ее дочерней черствости.
Разве таким «прозорливцам», думала она, нечего
страшиться? Это палка о двух концах. Если выта-
щить на свет божий мотивы их «прозорливости»,
вряд ли таковые сведутся к одному правдолюбию.
Горделивая холоднось Лотхен, — ив нее можно вгля-
деться проницательным взором, и она даст повод
к различным толкам, не слишком благоприятным.
Треволнения чувств, выпавшие на долю матери, пока
что не были суждены этой разумной дочке, да, судя
по ее натуре, вряд ли и будут ей суждены. Треволне-
ния, ставшие следствием знаменитого тройственного
союза, который начался так весело, так мирно, но за-
тем из-за сумасбродства одного звена выродился
в мучительное смятение, в великий, честно преодолен-
ный искус добродетельного сердца, чтобы однажды,—
о, горделивое отчаяние! — стать достоянием целого
света, возвыситься до сверхжитейского, обрести выс-
шую форму существования и, как некогда девичье
сердце, взбудоражить и смутить все человечество, бо-
лее того, привести его в опасное, как тогда утвержда-
лось, восхищение.
Дети жестоки, думала Шарлотта, и нетерпимы
к личной жизни матери: из эгоистического почтенья,
способного любовь превратить в безлюбие и не де-
лающегося более похвальным оттого, что к нему при-
мешивается простая женская зависть — зависть к сер-
дечной эпопее матери, под видом насмешливого недо-
вольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благо-
мыслящая Лотхен никогда не пережила того страшно
прекрасного и преступно сладостного чувства, как ее
мать в вечер, когда муж уехал по делам и пришел
тот, хотя ему и запрещено было показываться раньше
сочельника, когда она напрасно посылала за подру-
гами и вынуждена была остаться с ним наедине, а он
читал ей из Оссиана и прервал чтение о страданиях
героя, изнемогши от собственной муки, когда в от-
чаянии он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони
к своим глазам, к своему измученному лбу, а она,
382
днижимая состраданием, пожимала его руки, и их
пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось,
исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его
рот внезапно опалил ее слабо сопротивляющиеся
губы...
Тут ей пришло в голову, что и она этого не пере-
жила. Это была та высокая действительность, и сей-
час, под платочком, она смешала ее с малой, в кото-
рой все протекало куда менее бурно. Безрассудный
юнец на деле похитил у нее лишь один поцелуй, или,
вернее, хотя это выражение не подходило к их тог-
дашнему состоянию, от души поцеловал ее — не то
вихрь, не то меланхолик — за собиранием малины на
солнцепеке, поцеловал быстро и. горячо, вдохновенно
и с алчной нежностью, и она это допустила. Но затем
она повела себя здесь, на земле, не хуже, чем там,
и выспреннем мире, — да, именно потому она и могла
навеки остаться там до боли благородной фигурой,
что умела вести себя здесь так, что не заслужила бы
укора и самой щепетильной дочки. Ибо, при всей
своей сердечности, это был смущающий и безумный,
недозволенный и ненадежный поцелуй из другого
мира, поцелуй принца-бродяги, для которого она
была и слишком плоха и слишком хороша. И если
у бедного принца из страны бродяг, да и у нее тоже,
на глаза навернулись слезы, то она тем не менее
с безупречным негодованием сказала: «Фу, как ему
не стыдно! Пусть он остережется повторения, иначе
дружбе конец! И пусть запомнит: это не останется
между нами, я сегодня же расскажу обо всем Кест-
неру». И как он ни молил ее промолчать, она в тот
же вечер повинилась своему любезному, ибо ему над-
лежало знать: не то, что тот на это решился, а что
она это допустила. И Альберт с болью выслушал
се рассказ, а затем в разговоре они, во имя своей ра-
зумной и нерушимой предназначенности друг для
друга, решили покрепче держать в узде третьего
и заставить его уяснить себе истинное положение
вещей.
С закрытыми веками она еще сегодня, после
стольких лет, с поразительной ясностью видела фи-
383
экономию, которую он состроил при более чем сухом
приеме, оказанном ему помолвленной парочкой на
следующий, вернее, на третий день после поцелуя. Он
пришел вечером, в десять, когда они сидели вдвоем
перед домом, — с букетом цветов, принятым до того
небрежно, что он бросил его наземь, а затем понес
несусветный вздор и даже заговорил тропами. Как
вытянулось у него лицо под напудренными и скатан-
ными возле ушей волосами, лицо с большим, печаль-
ным носом, легкой тенью усиков над женственным
ртом и мягким подбородком, — и с какой мольбою
смотрели на нее карие глаза под на редкость краси-
выми шелковисто-черными бровями, казавшиеся ма-
ленькими по сравнению с носом.
Таким она его увидела на третий день после поце-
луя и, памятуя свой уговор с женихом, в сухих сло-
вах попросила его раз и навсегда запомнить: ему не
на что рассчитывать здесь, кроме доброй дружбы.
Разве же он этого не знал? Почему при ее словах
у него ввалились щеки, и он так побледнел, что глаза
и шелковистые брови еще темнее и резче выступили
на побелевшем лице? Приезжая подавила растроган-
ную улыбку под своим платочком при воспоминании
об этой наивно разочарованной мине, которую она
в тот же вечер описала Кестнеру, после чего они оба
решили послать милому чудаку в день двойного ро-
ждения, его и Кестнера, в прославленный в веках день
двадцать восьмого августа, вместе с карманной кни-
жечкой Гомера еще и бант, бант от платья, — пусть
у него будет хоть что-нибудь...
Шарлотта покраснела под платочком, и ее шести-
десятитрехлетнее сердце школьницы забилось быстрее,
отчетливее. Лотхен-младшая еще не знала, что
мать зашла в своей шутке так далеко, и на при-
готовленном платье, повторении «платья Лотты»,
оставила пустым место подаренного банта: его не
было, его место пустовало, ибо им владел тот отре-
шенный, которому она с согласия жениха послала
в утешение этот бант; тот, который покрывал бесцен-
ную памятку тысячами исступленных поцелуев... Си-
делке брата Карла осталось бы только презрительно
384
поджать губы, узнай она эту подробность материн-
ской затеи. Л ведь все было задумано в память ее
отца, честного, преданного, который не только
одобрил подарок, но сам предложил его и, несмотря
на все; что пришлось ему вынести по вине взбалмош-
ного принца, плакал вместе со своей Лотхен, когда
уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокро-
вище.
«Он уехал», — сказали они друг другу, прочитав
каракули, писанные ночью и на рассвете: «Я оставляю
вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах... Про-
щайте, тысячу раз- прощайте!» «Он уехал», — пооче-
редно говорили они, и все дети в доме бродили как
потерянные, печально твердя: «Он уехал!» Слезы вы-
ступили на глазах Лотты при чтении записки, но она
могла плакать, не таясь от милого; ибо и его глаза
увлажнились, и весь день он только и мог говорить,
что о друге: какой это замечательный человек, иногда
не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего
же преисполненный гения и удивительного свреобра-
зия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться
и от души перед ним преклоняться.
Таков был Кестнер. И ее потянуло с благодар-
ностью прижаться ; к нему, прижаться крепче, чем
когда-либо, за то, что он так говорил и находил
вполне естественными : ее слезы о том, уехавшем.
И вот теперь, когда она лежала с закрытыми гла-
зами, в ее беспокойном сердце во всей своей теплоте
обновилась эта благодарность,; ее тело двигалось,
словно стремясь прильнуть к надежной груди, и губы
ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо,
что он уехал», — бормотала она — этот извне явив-
шийся третий, ведь все равно она не могла дать ему
то, чего он от нее хотел. Ее Альберт радовался этим
словам, ибо чувствовал превосходство и блеск ушед-
шего так же сильно, как и она, так сильно, что он
начал сомневаться в их совместном разумном, ясном
счастье и однажды, в письме, пожелал возвратить ей
данное слово, чтобы она могла свободно выбрать
между ним и принцем. И она выбрала — но было ли
это выбором? — опять же его, положительного, суже-
25 Т. Мани, т. 2
383
ного и предназначенного, своего Ганса-Христиана,—
не потому только, что любовь и верность взяли верх
над искушением, но и в силу неодолимого страха
перед таинственной сущностью другого, — перед чем-
то противообычным и житейски ненадежным в его на-
туре, чему она не могла и не смела подыскать имени
и нашла лишь позднее в его же собственном покаян-
ном жалобном признании: «Выродок без цели и по-
коя...» Как странно, что этот выродок мог быть таким
славным и открытым, таким простодушным, что дети
искали его и плакали: «Он уехал!»
Множество летних картин той поры проходило пе-
ред ее воображением, вспыхивало в свежей, солнеч-
ной живости и вновь потухало. Сцены втроем, когда
Кестнер, вернувшись со службы, отправлялся вместе
с ними на прогулку по горному хребту, с которого
они любовались рекою, извивавшейся по лугам, хол-
мистой долиной, чистенькими деревушками, дворцом
и сторожевой башней, монастырскими стенами и руи-
нами замка, и тот, радуясь совместному наслажде-
нию всем чудным изобилием мира, говорил о высоких
материях и тут же так неистово дурачился, что же-
них с невестой едва передвигали ноги от смеха. Часы
чтения на лугу и в доме, когда он читал им своего из-
любленного Гомера или «Песнь о Фингале» и вдруг,
объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул
книгу и ударил кулаком по столу и тотчас, заметив
их недоумение, разразился веселым смехом... Сцены
вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хо-
зяйству, срезал бобы в огороде или собирал с нею
яблоки в саду Немецкого орденского дома, — слав-
ный малый и добрый товарищ. Одного взгляда или
строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его,
если он намеревался предаться горестным излияниям.
Она видела и слышала все это, себя, его, жесты и
выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы,
шутки, «Лотта!» и «голубка Лотхен!» и «Пора ему
оставить эту чепуху! Пусть лезет наверх и сбрасы-
вает яблоки в мою корзину». Но удивительно было
то, что вся отчетливость и ясность этих картин, вся
исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать,
386
не из первых рук; что память, вначале не способная
удержать все эти подробности, лишь позднее, часть
за частью, слово за словом, возродила их. Они были
отысканы, реконструированы, заботливо восстано-
влены со всеми их «вокруг да около», до блеска от-
полированы и как бы залиты огнем светильников,
зажженных перед ними во славу того значения, кото-
рое они нежданно-негаданно получили в дальней-
шем.
Под учащенное биение сердца, ими вызванное и
бывшее естественным следствием путешествия в страну
юности, они начали сливаться, перешли в замысло-
ватую нелепицу сновидения и растворились в дре-
моте, после рано начатого дня и дорожной тряски
на добрых два часа объявшей шестидесятилетнюю
женщину.
Покуда Шарлотта спала, забыв о своих тревогах,
о чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой
прозаической станции по пути в страну юности, на
придворной церкви во имя святого Иакова пробило
десять и половина одиннадцатого, а она все продол-
жала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбу-
дили, от подсознательного ощущения приближаю-
щейся извне помехи, невольно торопясь предупредить
ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее насто-
роженно, если бы не предчувствие, что ее сон будет
нарушен не заждавшейся сестрою, но вестью из дру-
гой, тревожащей ее сферы.
Она села, взглянула на часы, немного испугалась
позднего времени, ничего другого не имея в мыслях,
кроме того, что ей надо спешить к родственникам. Но
едва она начала приводить в порядок свой туалет,
как в дверь постучали.
— Что там такое? — спросила она досадливо и
даже жалобно. — Сюда нельзя!
— Это только я, госпожа советница, — отвечали
за дверью. — Я, Магер. Прошу прощения, госпожа
советница, за беспокойство, но дело в том, что одна
дама, мисс Гэзл из девятнадцатого номера, англий-
ская дама, проживающая у нас.»
— Ну, и что же дальше?
2.7*
387
— Я бы не посмел нарушить покой госпожи со-
ветницы,— продолжал Магер, — но мисс Гэзл, узнав
о пребывании госпожи советницы в нашем доме и го-
роде, покорнейше просит уделить ей хотя бы не-
сколько минут.
— Передайте этой даме,— отвечала Шарлотта
из-за двери, — что я не одета и, как только оденусь,
должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожа-
ления.
Но вразрез с этими словами, она накинула на
себя пудермантель; твердо решив отразить нападе-
ние, она в случае неудачи все же не хотела быть за-
стигнутой врасплох.
— Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл, —
отвечал Магер из коридора. — Она все слышит сама,
так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс
Гэзл крайне необходимо хотя бы на минутку пови-
дать госпожу советницу.
— Но я не знаю этой дамы! — с сердцем восклик-
нула Шарлотта.
— Именно поэтому, госпожа советница, — возра-
зил коридорный, — мисс Гэзл придает столь большое
значение хотя бы беглому знакомству с госпожой со-
ветницей. She wants to have just a look at you, if you
please1, — произнес он, искусно артикулируя ртом и
как бы перевоплощаясь в просительницу, что, ви-
димо, и послужило для нее сигналом самой взяться
за дело, изъяв его из рук посредника; за дверью тот-
час же послышалась взволнованная тарабарщина,
произносимая высоким детским голосом, поток слов
отнюдь не прекращающийся, но под отчетливо выде-
ленные «most interesting», «highest importance»2 —
так неудержимо льющийся дальше, что осажденная
почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь
не намеревалась предупредительным переходом на
английский язык облегчать им хищение ее времени
и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить
свою капитуляцию полушутливым «Well, come in
1 Она хочет только взглянуть на вас, если позволите (англ.).
2 Весьма интересно, очень важно (англ.).
388
please»', и тотчас же рассмеялась на Магсрово «thank
you so very mush» 2, с которым он распахнул дверь,
чтобы, в низком поклоне перевесившись через порог,
впустить мисс Гэзл.
— Oh dear, oh- dear!3 — воскликнула маленькая
женщина оригинальной и веселой наружности. —
You have kept me waiting — вы заставили меня ждать,
but that is as it should be 4. Мне временами требова-
лось куда больше терпения, чтобы добиться цели*
I am Roze Gazzle. So glad to see you 5. — Едва только,
пояснила она, ей стало известно через горничную, что
миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и
стоит в той же гостинице, через два номера от нее,
как она, не долго думая, отправилась с визитом. Ей
отлично известно («I realise»), сколь важную роль
сыграла миссис Кестнер in german literature and
philosophy6. Вы знаменитая женщина, a celebrity, and
that is my hobby, you know the reason I travel...7 He
разрешит ли dear миссис Кестнер на скорую руку на-
бросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме
для зарисовок?
Альбом широкого формата в холщовом переплете
она держала под мышкой. Над ее лбом пылали крас-
ные локоны, красным казалось и ее лицо с веснушча-
тым вздернутым носом, толстыми, но приятно очер-
ченными губами, открывавшими белоснежные здоро-
вые зубы,; глаза у нее были сине-зеленые, тоже
весьма приятные, хотя иногда они вдруг начинали
косить. На ней было платье à la grecque8 из легкой
цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа
она держала переброшенным через руку; ее грудь,
такая же веснушчатая, как и нос, казалось, вот-вот
• Хорошо, войдите (англ.).
2 Покорно вас благодарю (англ.).
3 О боже, боже! (англ.)
4 Но это не существенно (англ.).
6 Я Роза Гэзл и так рада видеть вас (англ.).
6 В немецкой литературе и философии (англ.).
1 Знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий
(англ.).
8 В греческом стиле (франц.).
389
весело выкатится из выреза платья, на античный ма-
нер высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль
прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей
лет двадцать пять.
— Дитя мое, — произнесла она, несколько уяз-
вленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцен-
тричностью этой девицы и все же готовая проявить
светскую терпимость, — милое дитя, я весьма поль-
щена интересом, который внушает вам моя скромная
особа. Позвольте еще добавить, что ваша решитель-
ность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало
я подготовлена к приему гостей, а тем более к пози-
рованию для портрета. Я собираюсь уходить, мои ми-
лые родственники уже заждались меня. Я очень рада
знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами
выразились, на последнем мне, к сожалению, прихо-
дится настаивать. Мы видели друг друга — все
остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак,
позвольте одновременно с приветствием пожелать
вам всего наилучшего.
Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова; во
всяком случае, она не обратила на них ни малейшего
внимания. Продолжая величать Шарлотту «dear» и
быстро двигая забавными толстыми губами, она не-
удержимо пыталась втолковать ей на своем непри-
нужденном и юмористически светском языке смысл
и цель своего визита, посвятить ее в деятельную
жизнь страстного следопыта-коллекционера.
Собственно, она была ирландка. Она путешество-
вала, делая зарисовки, причем цель и средства с тру-
дом поддавались различию. Видимо, ее талант был
недостаточно велик, чтобы не искать поддержки
в сенсационности объекта,; живость же и практиче-
ская сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться
терпеливым совершенствованием своего искусства*
Потому ее вечно видели в погоне за звездами совре-
менной истории или в поисках прославленных мест-
ностей, которые заносились в ее альбом, по мере воз-
можности скрепленные удостоверяющими подписями,
Шарлотта дивилась, слушая, где только ни побывала
эта девушка. Аркольский мостл афинский Акрополь;
390
лом, где родился Кант, в Кенигсберге, она зарисо-
» л л а углем. Сидя в шаткой лодчонке, прокат которой
im'i обошелся в пятьдесят фунтов, она запечатлела на
Плимутском рейде императора Наполеона, когда ом
после торжественного обеда появился с табакеркой
и руке на палубе «Беллерефонта». Рисунок вышел не-
важный, она сама в этом признавалась: невообразим
мая толчея лодок, наполненных кричащими «ура»
мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также
краткость императорского пребывания на палубе
весьма отрицательно отозвались на ее работе; и сам
герой, в треуголке и расстегнутом сюртуке с разве-
вающимися фалдами, выглядел, как в кривом зер-
кале: приплюснутым сверху и комично раздавшимся
и ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через
знакомого офицера исторического корабля заполу-
чить его автограф или, вернее, торопливую каракулю,
которая должна была сойти за таковой. Герцог Вел-
лингтон удостоил ее той же чести. Превосходную до-
бычу дал Венский конгресс. Необыкновенная
быстрота, с которой работала мисс Гэзл, позволяла
самому занятому человеку между делом удовлетво-
рить ее притязания. Так поступили: князь Меттерних,
господин Талейран, лорд Кестерри, господин фон Гар-
денберг и многие другие представители европейских
держав. Царь Александр признал и скрепил под-
писью свое курносое изображение, вероятно потому,
что художнице удалось из жидких волос, торчащих
вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового
венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора
Шеллинга и князя Блюхера фон Валыптадт доказы-
вали, что и в Берлине она не теряла времени даром.
Она везде умела его использовать. Холщовый пере-
плет ее альбома скрывал еще немало трофеев, кото-
рые она, оживленно их комментируя, показывала
опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава
этого города, of this nice little place \ как средоточия
прославленной немецкой культуры, — для нее он был
полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что
1 Этого прелестного уголка (англ.).
391
поздно выбралась сюда. Old 1 Виланд, а также Гер-
дер, которого она называла great preacher2, и the
man who wrote the «Brigands» 3 умерли и таким обра-
зом от нее ускользнули. Правда, в ее записках зна-
чилось, что здесь все еще живут писатели, на которых
стоит поохотиться, как, например, господа Фальк и
Шютце. Вдову Шиллера она уже заполучила в аль-
бом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наибо-
лее известных актрис придворного театра — Энгельс
и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф,
вернее Ягеманн, ей еще не удалось добраться. Но она
тем настойчивее стремилась к этой цели, что через
посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть
себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для про-
никновения к великой княгине, супруге наследного
принца, у нее уже имелись. Что касается Гете, чье
имя, как, впрочем, и большинство имен, она выгова-
ривала столь ужасно, что Шарлотта долго не пони-
мала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и
здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась
в кустах. Весть о том, что знаменитая «модель» ге-
роини прославленного романа с сегодняшнего утра
находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не
в соседнем номере, наэлектризовала ее не только
из-за самого объекта, но и потому, что благодаря
этому знакомству — откровенно призналась она —
можно будет убить двух зайцев сразу: Вертерова
Лотта, без сомнения, проложит ей дорогу к автору
«Фауста»; а последнему стоит только замолвить
слово, и перед нею распахнутся двери госпожи Шар-
лотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу
Ифигении в ее записной книжке, в отделе german li-
terature and philosophy4 значилось кое-что для па-
мяти, что она и не замедлила показать ее тезке из
царства прообразов.
1 Старый (англ.).
2 Великий проповедник (англ.).
3 Человек, который написал «Разбойников» (англ.), то есть
Шиллер.
4 Немецкая литература и философия (англ.).
392
Случилось так, что Шарлотта, в своем белом пу-
дермантеле, вместо нескольких минут, просидела
с Розой Гэзл три четверти часа. Увлеченная наивной
прелестью и веселой энергией маленькой женщины,
подавленная величием ее охотничьих трофеев, она не-
доумевала, стоит ли считать пошлостью такой худо-
жественный спорт, или лучше на все это взглянуть
сквозь пальцы: как-никак лестно быть причисленной
к большому свету, дыханием которого веяло от «охот-
ничьих записок» мисс Гэзл, быть принятой в сонм
главных, запечатленных на этих страницах. Короче —
жертва своей общительности — Шарлотта сидела
п одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой при-
слушиваясь к болтовне странствующей художницы,
которая рисовала ее, примостившись напротив.
Она делала это виртуозно, слышными штрихами,
видимо не всегда столь же удачными, сколь уверен-
ными, так как ей часто приходилось стирать их боль-
шой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей
нервозности. Шарлотте было приятно встречать
взгляд этих слегка косящих глаз, не причастных бол-
товне художницы. Веселую бодрость вселял вид ее
округлых грудей, белоснежных зубов и оттопыренных
губок, рассказывающих о далеких странах, о встре-
чах со знаменитыми людьми. Все это было в одина-
ковой мере безобидно и интересно, почему Шарлотта
на малый срок и позабыла о том, что ей пора ухо-
дить. Если бы Лотхен-младшая и подосадовала на
это вторженье, то тревогу о душевном состоянии ма-
тери она бы здесь не могла выставить истинной при-
чиной своего недовольства. Нескромности со стороны
этой маленькой представительницы англо-саксонской
расы опасаться не приходилось,; она была ей несвой-
ственна. Это действовало успокоительно и придавало
ссобую прелесть общению с ней. Говорила только она,
Шарлотта с улыбкой ее слушала и от души посмея-
.мась над одной из историй, которую Роза протарато-
рила, не прерывая работы. Однажды, в горах Абруц-
ции, ей удалось включить в свою коллекцию разбой-
ничьего атамана по имени Бокаросса, и прославлен-
ный своею храбростью и жестокостью бандит так
393
растрогался оказанным ему вниманием, так по-детски
обрадовался своему воинственному изображению, что
приказал разбойникам отдать салют в честь мисс
Розы из воронкообразных коротких ружей и под на-
дежным эскортом выпроводил ее за пределы дей-
ствий своей шайки. Шарлотту немало позабавила
дикая и, как она решила, довольно тщеславная ры-
царственность ее соседа по альбому. Слишком увле-
ченная, чтобы удивиться тому, откуда вдруг взялся
Магер, она вопросительно взглянула на коридорного,
многократный стук которого они за разговором и
смехом не расслышали.
— Beg your pardon \ — сказал он. — Очень сожа-
лею, что нарушил собеседование, но господин доктор
Ример просит передать, что он был бы весьма счаст-
лив засвидетельствовать свое почтение госпоже со-
ветнице.
Глава треть л
Шарлотта торопливо привстала.
— Это вы, Магер? — растерянно спросила она. —
Что случилось? Господин доктор Ример? Какой такой
доктор Ример? Уж не докладываете ли вы о новом
госте? Что вам взбрело на ум? Это же невозможно!
Который теперь час? Так поздно! Милое дитя,—
обратилась она к мисс Розе, — нам необходимо за-
кончить нашу дружескую беседу. На что это похоже?
Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались!1
Всего хорошего! А вы, Магер, скажите этому госпо-
дину, что я не могу его принять, что я уже ушла.
— Слушаюсь, — отвечал Магер, покуда мисс Гэзл
спокойно продолжала заниматься своим делом. —-
Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы вы-
полнить приказание госпожи советницы, не убедив-
шись, что ей известно тождество господина...
— Какое там еще тождество! — в сердцах вос-
кликнула Шарлотта. — Да оставите ли вы меня, на-
конец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда!
Скажите этому господину...
1 Прошу прощения (англ.).
394.
— Незамедлительно, — покорно согласился Ма-
и*р. — Но я все же считаю своим долгом поставить
м известность госпожу советницу, что речь идет
■ » господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме
Римере, секретаре и доверенном лице его превосходи-
тельства господина тайного советника. Не исключено,
мо господин доктор является посланцем...
Шарлотта опешила, покраснела, и дрожанье ее го-
ловы заметно усилилось, когда она взглянула на Ма-
I ера.
— Ах, так! — нерешительно произнесла она. — Но,
псе равно, я не могу принять этого господина, я ни-
кого не могу принять. Право, не понимаю, о чем вы,
собственно, думали, предполагая, что я его приму?
Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь
хотите, чтобы я, полуодетая, среди такого беспорядка
принимала еще и доктора Римера?
— Этой беде можно помочь, — возразил Магер,—
у нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде
на согласие госпожи советницы, я попросил господина
доктора подождать, покуда госпожа советница за-
кончит свой туалет, и затем хотел просить позволе-
ния госпожи советницы проводить ее вниз на не-
сколько минут.
— Надеюсь, — сказала Шарлотта, — что речь идет
нее же о других минутах, чем те, которые я посвя-
тила этой очаровательной барышне. Милое дитя,—
обратилась она к Гэзл, — вы сидите и рисуете... Вы
нидите мое положение! Благодарю вас за приятную
истречу, но то, что вы еще не успели нарисовать,
нам, к сожалению, придется восстановить по па-
мяти...
Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс
Роза, осклабившись, объявила, что она готова.
— Г m quite ready! * — воскликнула она, держа
гное произведение в вытянутой руке и разглядывая
его прищуренным глазом.— I am ready2. Хотите по-
смотреть?
1 Я совсем готова! (англ.)
2 Я готова (англ.).
395
Хотел этого в первую очередь Магер, который тот-
час же приблизился.
— Превосходный рисунок, — решил он с видом
знатока. — И документ большого значения.
Шарлотта, озабоченная приведением в порядок
своего туалета, едва взглянула на свежевозникшее
произведение искусства.
— Да, да, очень мило, — пробормотала она.—
Это я? О да, конечно, сходство есть; Мою подпись?
Давайте сюда — только поскорей...
Не присаживаясь, она начертала углем свою под-
пись, по беглости не уступавшую наполеоновской,
торопливым кивком ответила на прощальное при-
ветствие ирландки и велела Магеру просить госпо-
дина Римера набраться терпения еще на несколько
минут.
Когда, уже одетая для выхода, в шляпе и ман-
тилье, с ридикюлем и зонтиком в руках, она покинула
свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он
проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, про-
пуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее
появлении посетитель поднялся со стула, рядом с ко-
торым стоял на полу его цилиндр.
Доктор Ример — человек лет сорока, среднего ро-
ста, с густыми, зачесанными на виски каштановыми
волосами, уже слегка тронутыми сединой, с широко
расставленными и выпуклыми глазами, с прямым
мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого за-
легала какая-то брюзгливая, недовольная складка,—
был одет в коричневый сюртук с высоким ворот-
ником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в
вырезе которого виднелись скрещенные концы гал-
стука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой,
сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем
кисточкой. Голову он держал несколько набок.
— Ваш покорный слуга, госпожа советница,—
произнес он звучным носовым голосом. — Не могу не
упрекнуть себя за непростительно поспешный визит.
Такое отсутствие самообладания бесспорно менее
всего подобает наставнику юношества. Но что поде-
лаешь, если время от времени во мне аукается поэт;
396
едва только слух о прибытии госпожи советницы раз-
несся по городу, я почувствовал непреодолимое же-
лание тотчас же явиться сюда засвидетельствовать
свое почтение и приветствовать в наших стенах жен-
щину, чье имя столь тесно связано с отечественной
историей, я бы даже сказал — с формированием на-
ших сердец.
— Господин доктор, —проговорила Шарлотта,
с церемонной обстоятельностью отвечая на его по-
клон,— внимание человека ваших заслуг нам весьма
лестно.
То, что эти заслуги были ей несколько темны, при-
водило ее в замешательство. Она обрадовалась напо-
минанию, что он является воспитателем юношества,
и новой для нее вести —что он поэт. Но в то же время
эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады
или нетерпения, так как они оттесняли основное и ре-
шающее качество этого человека —его высокое слу-
жение тому. Она тотчас же почувствовала, сколь
важно для гостя, чтобы значение и достоинство его
особы не исчерпывались этим служением, — и удиви-
лась такой причуде. Должен же он по крайней мере
понимать, что для нее его значение определялось
одним: вестник ли он оттуда, или нет? Она решила
деловито направить разговор на разрешение этого
вопроса и, довольная тем, что ее туалет с несомнен-
ностью свидетельствовал об ее намерениях, продол-
жала:
— Разрешите поблагодарить вас за то, что вы
называете вашим нетерпением и что я считаю рыцар-
ственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух
о событии столь приватного характера, как мой
приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю се-
Г)я, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя
сестра, камеральная советница, — торопливо добавила
ома, — на пути к которой вы меня застаете, скорее
простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном
посещении, а также о другом, ему предшествовавшем,
хотя и не столь лестном, но достаточно забавном: я
имею в виду визит одной странствующей художницы,
почему-то пожелавшей как можно скорей нарисовать
397
портрет старой женщины — задача, с которой она,
насколько я понимаю, справилась довольно относи-
тельно... Но не лучше ли нам присесть?
— Так, так, — отвечал Ример, продолжая дер-
жаться за спинку стула, — по-видимому, госпоже со-
ветнице пришлось столкнуться с одной из тех недо-
статочно уравновешенных натур, которые несколь-
кими штрихами хотят создать слишком многое.
Мне лишь в наброске удалось
Запечатлеть живое, —
с улыбкой процитировал он. — Но я вижу, что меня
опередили, и если я чувствую себя до известной сте-
пени утешенным, узнав, что другие разделили со мной
мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость
умеренно пользоваться благосклонным мгновением.,
Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее до-
стичь, и мне, госпожа советница, признаюсь, будет
нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас,
после того как я с таким трудом проложил себе
к вам дорогу!
— С трудом? — удивилась она. — Мне кажется,
что человек, которому здесь дана власть вязать и раз-
решать, а именно наш господин Магер, отнюдь не по-
хож на цербера.
— Пожалуй, — согласился Ример. — Но да убе-
дится госпожа советница самолично.
С этими словами он подвел ее к окну, выходив-
шему, как и окно ее спальни, на Рыночную площадь,
и приподнял накрахмаленную занавеску.
Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустын-
ная, теперь была полна людей, стоявших кучками
и глазевших на окна гостиницы. Больше всего на-
рода толклось у подъезда, где два фельдфебеля ста-
рались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся
толпу, которая состояла из ремесленников, торгового
люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных
бюргеров.
— Боже милосердный! — проговорила Шарлотта,
и голова ее снова задрожала. — Кого они высматри-
вают?
398
— Кого же, как не вас, сударыня, — отвечал док-
•и>|). — Слух о вашем прибытии распространился
с молниеносной быстротою. Смею вас заверить, да,
впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что
город стал похож на разворошенный муравейник,
Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сия-
ния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из
лому.
Шарлотта невольно опустилась в кресло.
— Бог ты мой!—сказала она. — И это мне удру-
жил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раз-
знонил во все колокола о нашем приезде. И надо же
оыло, чтобы эта странствующая рисовальщица по-
мешала мне уйти, покуда выход был свободен1 Но
•ли люди там, внизу, господин доктор, — неужто они
не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру ста-
рой женщины, отнюдь не расположенной изображать
из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей
и помыслах ничего, кроме своих частных дел.
— Не сердитесь на них, — сказал Ример. — Этот
натиск свидетельствует о чувствах более благород-
ных, нежели простое любопытство, а именно о наив-
ной преданности наших жителей высшим интересам
пауки, о популярности духовного начала, не делаю-
щейся менее трогательной и отрадной, даже если
к ней примешиваются известные экономические
соображения.
Разве мы не должны радоваться, — продолжал он,
позвращаясь со смятенной Шарлоттой в глубину ком-
паты,— если толпа, согласно ее собственному прими-
тивному убеждению извечно презирающая дух, при-
ходит к почитанию этого духа единственно доступным
(•fi путем — признанием его полезности? Наш много-
посещаемый городок извлекает немало ощутимой
пользы из поклонения немецкому гению, который
для всего мира концентрируется в нем, для нас же,
здешних жителей, в свою очередь сосредоточивается
и одном лцце. Так можно ли удивляться, что веймар-
цы мало-помалу привыкли уважать то, что некогда
казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные
науки и все с ними связанное кровным своим
399
интересом? При этом — творения духа недоступныим
как и всякой другой толпе, — они в первую очередь
преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря
которым или ради которых возникли эти творения.
—, Мне кажется, — возразила Шарлотта, — вы од-
ной рукой даете этим людям то, что другой от них от-
нимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тя-
гостное для меня любопытство высокими побужде-
ниями, но тут же подвели материально-корыстную
основу под их благородный порыв, а это уже ничуть
не утешает меня и даже кажется мне обидным.
— Уважаемая, — сказал он, — о столь двусмыслен-
ном создании, как человек, едва ли можно говорить
недвусмысленно, и, право же, такая его оценка ни-
чуть не погрешает против гуманности. Мне думается,
что видеть не только положительные и отрадные про-
явления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезен-
табельными узлами и путаницей ниток, отнюдь не
значит быть мрачным мизантропом, а скорее — дру-
гом всего живущего. У меня есть основания засту-
паться за этих зевак, там у ворот, ибо только мое
достаточно высокое общественное положение разнит
меня от них и, не стой я сейчас по счастливой и за-
видной случайности здесь перед вами, я смешался бы
с толпой там, внизу, и меня тоже отгонял бы от двери
фельдфебель. Порыв, приведший сюда этих людей,
определил, пусть несколько в более возвышенном и
утонченном виде, и мое поведение, когда час назад
мой парикмахер, за бритьем, сообщил мне городскую
сенсацию: в восемь часов утра прибыла в почтовой
карете и остановилась в «Слоне» Шарлотта Кестнер.
Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал
и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне
больше не сиделось в моих четырех стенах, и, прежде
нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях,
я уже был одет и спешил сюда засвидетельствовать
вам свое почтение — почтение незнакомца с родствен-
ной судьбой, даже брата, чье существование на иной,
мужской, лад также причастно великой жизни, кото-
рой дивится весь мир, — передать вам братский при-
вет человека, чье имя, имя друга и помощника, гря-
400
дущие поколения вынуждены будут упоминать вся-
кий раз, когда речь зайдет о Геркулесовых подвигах
титана.
Шарлотте, несколько неприятно задетой, показа-
лось, что при этих тщеславных словах складка во-
круг губ доктора Римера углубилась, словно в его
претенциозном требовании к потомству уже заключа-
лось сомнение в том, что оно таковое выполнит.
— Ай, ай, — сказала она, взглянув на гладко вы-
бритое лицо ученого мужа. — Ваш парикмахер, видно,
болтун! Ну, да это свойственно его профессии. Но
всего час назад? Похоже, господин доктор, что я по-
знакомилась с любителем сладко поспать?
— Не смею запираться, — ответил он и как-то по-
нуро улыбнулся.
Они сели на стулья с резными спинками, у сто-
лика, под портретом великого герцога, на котором
он был изображен еще юношей, в высоких сапогах
и при орденской ленте, облокотившимся на античный
постамент, отягощенный всевозможными воинствен-
ными эмблемами. Гипсовая Флора в складчатой туни-
ке украшала скупо меблированную, но украшенную
богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая
колоннообразная печка, обвитая мраморной гирлян-
дой, в противоположной нише являла собою как бы
pendant к богине.
— Не смею запираться, — продолжал Ример,—
в этой моей слабости к утреннему сну. И если б мо-
жно было сказать: «придерживаться» слабости, я вы-
брал бы именно это выражение. Не покидать постели
при первом крике петуха — доподлинная привилегия
свободного человека, занимающего видное обществен-
ное положение. Я позволял себе роскошь спать до на-
ступления дня, даже когда проживал на Фрауен-
плане, — хозяин дома должен был предоставить мне
эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим
точным, чтобы не сказать педантическим, культом
времени, начинал день несколькими часами раньше.
Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удо-
влетворение в том, чтобы опережать других, и са-
дится за работу, когда весь дом еще спит, другой
26 Т. Маки, т. 2
401
любит посибаритствовать и понежиться в объятиях
Морфея, даже когда докучная необходимость уже
стучится в дверь. Главное — это терпимое отношение
друг к другу, — а в уменье быть терпимым учитель,
надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его тер-
пимости иной раз становится не по себе.
— Не по себе? — обеспокоенно переспросила она,
— Неужто я сказал: не по себе? — удивился Ри-
мер, рассеянно оглядывавший комнату, и воззрился
на Шарлотту своими широко расставленными, чуть
выпуклыми глазами. — В его близости чувствуешь
себя превосходно — разве иначе человек столь нерв-
ной конституции, как я, мог бы девять лет, почти бес-
сменно, состоять при нем? Да, да, превосходно!
Правда, есть высказывания, которые сначала нуж-
даются в решительном преувеличении, чтобы затем
свестись почти к столь же решительному ограни-
чению, Это крайность, включающая в себя свою про-
тивоположность. Истина, уважаемая, не всегда до-
вольствуется логикой; чтобы не отступить от истины,
приходится временами себе противоречить. Высказы-
вая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы
сейчас говорили; он нередко произносит сентенции,
содержащие в себе свою противоположность, из
любви к правде или из своеобразного вероломства —
этого я не знаю и знать не могу. Желательнее пред-
положить первое, ибо он и сам считает, что куда
труднее и честнее умиротворить людей, нежели сму-
тить их... Я боюсь отклониться в сторону. Что касается
меня, то я не поступаюсь правдой, говоря о великом
счастье, которое испытываешь вблизи от него, — хотя
и здесь наталкиваешься на мучительную противопо-
ложность, тяжелое чувство, до такой степени тяже-
лое, что трудно становится усидеть на стуле и так
и порываешься бежать. Дражайшая госпожа совет-
ница, это прочные противоречия, они держатся девять
лет, тринадцать лет, ибо их сменяют любовь и восхи-
щение, которые, как гласит писание, превыше разума...
Он запнулся. Шарлотта молчала, во-первых, по-
тому, что ждала продолжения, во-вторых, потому что
мысленно сравнивала его одновременно уклончивые
402
и уязвленно-язвительные вести из того далекого мира
со своими воспоминаниями.
— Что касается его терпимости, — начал он сно-
па, — чтобы не сказать: склонности к попуститель-
ству,— видите, я рассуждаю вполне логично и от-
нюдь не теряю нити, — то здесь надо различать ме-
жду толерантностью, порождаемой смирением, — я
имею в виду христианское, в широком смысле хри-
стианское чувство собственной греховности и потреб-
ности в индульгенции, — нет, даже не это; в сущности,
я говорю о различии между толерантностью, порож-
даемой любовью, и другой, которая вызвана равно-
душием, небрежением и ранит больнее любой стро-
гости и нетерпимости, которая, исходи она от бога,
была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда,
по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля
любви, —а здесь и этого нет; такая терпимость в рав-
ной мере состоит из любви и презрения и ничего бо-
жественного в себе не имеет; может быть, потому-то
ее не только сносят, ей предаются в пожизненное раб-
ство... Что я хотел сказать? Не напомните ли вы мне,
почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгно-
вение я все-таки утратил нить...
Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои
холеные руки на набалдашнике трости и уставившись
в пространство натруженными воловьими глазами,
и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не
ради нее, но воспользовался ею как предлогом, чтобы
поговорить о своем господине и учителе и, быть мо-
жет, таким путем приблизиться к решению долголет-
ней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она вне-
запно почувствовала себя в роли Лотхен-дочери,
прознавшей все предлоги и поводы и презирающей
благой самообман. Она почти готова была просить
у него прощения, ибо, говорила она себе, мы не по-
винны в своей прозорливости, навязанной нам извне
и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что то-
бою пользуются как «средством», тоже не очень лест-
ное сознание. Тем не менее она не вправе упрекать
этого человека, ибо приняла его также не ради
него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее
26*
403
привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащее
воспоминание о неразгаданном и нечаянно разрос-
шемся прошлом, неодолимое желание оживить его и
«экстравагантно» связать с настоящим. Они были
в известной мере соучастники, гость и она, и сошлись
здесь, точно по сговору, во имя чего-то постороннего,
мучительно счастливящего, загадочного, державшего
их обоих в болезненном напряжении, что могло быть
понято и до какой-то степени разгадано только с по-
мощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась
и сказала:
— Ничего нет удивительного, мой милый господин
доктор, что вы теряете нить разговора, если по по-
воду такой невинной и маленькой слабости, как лю-
бовь хорошенько поспать, пускаетесь в столь про-
странные рассуждения и разбирательства. Ученый,
сидящий в вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем
мы остановились? Вы могли потакать этой слабости,
как вам угодно было выразиться, — я бы просто на-
звала ее привычкой, — в той вашей прежней должно-
сти, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите
на казенной службе в качестве преподавателя
здешней гимназии, не правда ли? Как же вам
удается совместить это пристрастие, которому вы,
видимо, придаете значение, с вашей нынешней дея-
тельностью?
— С грехом пополам, — отвечал он, закидывая
ногу за ногу и кладя на колени трость, которую он
теперь держал за оба конца, — и только ввиду ува-
жения к прежней моей должности, несравненно более
видной и слишком хорошо известной, чтобы не сни-
скать мне права на эту небольшую поблажку. Гос-
пожа советница верно заметила, — выпрямляясь, до-
бавил он, ибо сидеть с палкой на коленях считал не
совсем учтивым и принял эту позу лишь на минуту,
в знак уважения к собственной персоне, — уже че-
тыре года, как я служу в здешней гимназии и живу
своим домом. Соображения, потребовавшие этой пе-
ремены, были неоспоримы. При всех духовных и ма-
териальных преимуществах моего житья в доме вели-
кого человека, для меня, уже достигшего тридцати-
девятилетнего возраста, было в известной мере делом
мужской чести — этого наиболее уязвимого из чувств,
уважаемая, — так или иначе встать на собственные
ноги. Я говорю «так или иначе», ибо мои желания,
мои мечты шли дальше этого учительского прозяба-
ния и так и не освоились с ним, — я стремился к бо-
лее высокому наставничеству, к академической карье-
ре— по следам моего почтенного учителя, знамени-
того филолога Вольфа из Галле. Но рок судил иначе.
Это может показаться странным, не правда ли? Мо-
жно было бы предположить, что общеизвестное долго-
летнее сотрудничество с тайным советником послу-
жит наилучшим трамплином для достижения моей за-
ветной цели, — надо ли говорить, что столь высокая
дружба и покровительство с легкостью могли бы до-
ставить мне желанное место в одном из немецких
университетов? Мне кажется, я читаю именно этот
вопрос в ваших глазах? Могу только сказать: вопреки
всем человеческим ожиданиям и расчетам, я не был
удостоен этого поощрения, протекции, этого возна-
граждающего предстательства, — но что пользы пре-
даваться горьким размышлениям! Правда, време-
нами— о да! — я день и ночь ломаю себе голову над
этой загадкой. Но это бессмысленное занятие, оно ни
к чему не приводит, да и не может привести. Великим
людям недосуг думать о личной жизни и о личном
счастье своих помощников, сколько бы пользы те ни
принесли им и их делу. Видимо, они должны прежде
всего думать о себе, но если для них, в ущерб нашим
личным интересам, на весах перетягивает нужда в на-
ших услугах, наша незаменимость, то это так почетно,
так лестно, что мы охотно становимся на их точку
зрения и подчиняемся их воле с горькой, нов то же
время и гордой радостью. Так, например, по зрелом
размышлении, я счел себя вынужденным отклонить
недавно предложенную мне вакансию в Ростокском
университете.
— Почему?
— Потому, что я хотел остаться в Веймаре.
— Но, господин доктор, простите меня, тогда вам
не на что жаловаться.
Щ
■— А разве я жалуюсь? — опять удивленно пере-
спросил он. — Это отнюдь не входило в мои намере-
ния; вы, видимо, неправильно поняли меня. Я всего
только размышляю о противоречиях жизни, сердца
и высоко ценю возможность потолковать об этом
с умной женщиной. Расстаться с Веймаром? О нет!
Я люблю его, я привязан к нему. За тринадцать лет
я сроднился с жизнью этого города. Я приехал сюда
уже тридцатилетним человеком из Рима, где был вос-
питателем детей прусского посла господина фон Гум-
больдта. Его рекомендациям я обязан своим пребы-
ванием здесь. Недостатки и теневые стороны? Веймар
имеет недостатки и теневые стороны, свойственные
человечеству — и прежде всего человечеству провин-
циальному. Пусть это мерзкое гнездо тупоумных при-
дворных льстецов, спесивых и отсталых, пусть чест-
ному человеку здесь так же трудно, как и всюду на
свете, — может быть, даже труднее; наверху, как и
полагается, сидят плуты и бездельники, пожалуй бо-
лее откровенные, чем где-либо. Зато это хорошая
питательная среда, славный городок, — право же я не
представляю себе другого места, где бы я теперь мог
или хотел жить. Видели ли вы уже что-нибудь из
наших достопримечательностей? Дворец? Экзерцир-
плац? Наш театр? Прекрасные парковые насажде-
ния? Ну, да вы еще успеете на все это насмотреться.
Вы подивитесь кривизне наших уличек. Но приезжему
следует помнить^ что наши достопримечательности
примечательны не сами по себе, а тем, что они вей-
марские. С чисто архитектурной точки зрения наш
дворец не бог весть что, театр хотелось бы видеть
более грандиозным, что же касается Экзерцирплаца
так это просто-напросто нелепая затея. На первый
взгляд кажется непонятным, почему такой человек,
как я, всю свою жизнь трется среди этих кулис и де-
кораций и чувствует себя до того приверженным
к ним, что даже отказывается от назначения, венчаю-
щего мечты и желания, владевшие им с юных лет,
Я возвращаюсь к Ростоку, ибо мне кажется, что вы,
госпожа советница, не совсем уяснили себе мотивы
моего отказа. Видите ли, я отклонил столь почетную
406
пропозицию под известным давлением, а именно под
лавлением обстоятельств. Принять ее мне было за-
прещено,— я сознательно пользуюсь безличной фор-
мой, ведь существуют вещи, которые не приходится
запрещать, ибо они сами по себе под запретом; впро-
чем, запрет может и здесь сказаться во взгляде или
мине почитаемого тобою человека. Не всякий, ува-
жаемая, рожден для того, чтобы идти своим путем,
жить своею жизнью, быть кузнецом собственного
счастья. Или, вернее, человек ничего не знает напе-
ред. Он строит планы, носится со своими надеждами
м вдруг нежданно-негаданно делает открытие, что его
личная жизнь и личное счастье состоят в отказе от
того и от другого. Для такого человека, как это ни
парадоксально, личное состоит в отречении от самого
себя, в служении делу, которое не является ни его
делом, ни им самим; ибо это дело сугубо личное, бо-
лее того — личность, отчего и служение ему стано-
вится механическим, подчиненным, — обстоятельство,
искупаемое чрезвычайно высокой честью, с которой
в глазах современников и потомства связано служе-
ние столь удивительному делу. Необыкновенной
честью! Можно было бы, конечно, возразить, что честь
человека в том, чтобы жить собственной жизнью, за-
ниматься своим делом, пусть скромнейшим. Но судьба
научила меня, что есть две чести — горькая и сладо-
стная. И я мужественно избрал горькую, если человек
вообще избирает, а не судьба делает за него выбор,
не оставляя ему другого. Требуется много житейского
такта, чтобы приспособиться к подобным велениям
судьбы, примириться со жребием, вынутым ею, и
прийти, если можно так выразиться, к компромиссу
между горькой честью и сладостной, хотя к послед-
ней, несмотря ни на что, устремляются наши помыслы
и честолюбие. К ней тяготеет наше мужское самолю-
бие, и оно-то и привело меня к несогласиям и недо-
разумениям, положившим предел моему долголетнему
пребыванию в доме на Фрауенплане, и заставило
меня довольствоваться местом преподавателя гимна-
зии, к чему я никогда не имел влечения. Вот вам один
m неизбежных компромиссов — впрочем, его уважает
407
и мое начальство, так что расписание греческих и ла-
тинских уроков составляется с учетом моих почетных
обязанностей, продолжающихся несмотря на то, что
я больше не живу на Фрауенплане. В дни, когда, как,
например, сегодня, там во мне не нуждаются, мне
дается возможность воспользоваться светской преро-
гативой утреннего сна. Надо добавить, что я пошел
еще дальше в этом согласовании горькой и сладостной
чести, — назовем ее честью мужской, — основав соб-
ственный домашний очаг. Да, вот уже два года, как я
состою в браке. Но и здесь, уважаемая, вы увидите
все своеобразие «жизненного компромисса», в моем
случае особо подчеркнутое. Упомянутый шаг должен
был утвердить мою самостоятельность и помочь мне
эмансипироваться от того дома горькой чести, на деле
же он еще теснее связал меня с ним. Короче говоря,
оказалось, что этот шаг ничуть не удалил меня от
упомянутого дома, так что о шаге, в собственном
смысле этого слова, по существу не может быть и
речи. Дело в том, что Каролина, моя супруга, — ее
девичья фамилия Ульрих, — дитя все того же дома,
юная сирота, несколько лет назад принятая туда
в качестве компаньонки покойной советницы. Через
некоторое время выяснилось непреложное желание
всего дома: пристроить сироту. На лицах домочадцев,
в их взглядах я читал, что во мне видят подходящую
партию, и это пожелание тем легче вступило в ком-
промисс с моим стремлением к самостоятельности,
что девушка мне и в самом деле приглянулась... Но
ваша доброта и терпение, уважаемая госпожа совет-
ница, побуждают меня излишне много говорить
о себе...
— Нет, нет, прошу вас, — торопливо отвечала
Шарлотта. — Я слушаю с большим интересом.
На деле она слушала с легким неудовольствием
или, во всяком случае, со смешанными чувствами. Пре-
тензии и желчность этого человека, его тщеславное
бессилие и беспомощная борьба за свое достоинство
сбивали ее с толку, внушали ей презрение вместе
с поначалу недружелюбным состраданием, которое/
408
однако, постепенно перерождалось в чувство солидар-
ности с посетителем и в известную удовлетворенность
иг сознания, что его манера выражаться давала
и ей право — безразлично, пожелает она им вос-
пользоваться или нет — высказаться и облегчить
тою душу.
Несмотря на это, она испугалась оборота, который
он, словно угадав ее мысли, попытался дать раз-
говору.
— Нет, — произнес он, — я злоупотребляю нашим
положением жертв почетной блокады, блокады любо-
пытства— военные события не настолько изгладились
из нашей памяти, чтобы мы не могли спокойно, даже
с юмором, примениться к подобной ситуации... Я хочу
сказать, что плохо воспользуюсь благосклонностью
мгновения, если не в меру добросовестно отнесусь
к своему долгу отрекомендоваться вам. Право же,
меня привело сюда желание не говорить, а видеть,
слушать. Я назвал мгновенье благосклонным, хотя на
самом деле его следовало бы назвать драгоценным.
Ведь вот я один на один с существом, к стопам кото-
рого несут свое растроганное благоговение и почита-
ние все слои общества — от детски наивных масс до
просвещеннейших людей эпохи, — с женщиной, имя
которой стоит в начале или почти что в начале исто-
рии гения. Это имя навеки вплетено богом любви
в его жизнь, а следовательно, и в историю становле-
ния отечественного духа, в царство немецкой мысли.
И я, кому в свою очередь суждено было на свой,
мужской, лад сыграть роль в истории и нередко слу-
жить советчиком герою, я, так сказать, вдыхающий
тот же героический воздух, — как мог я не ощутить
неудержимого влечения склониться перед вами, лишь
только весть о вашем приезде коснулась моих
ушей, — не увидеть в вас старшую сестру, мать, если
хотите, близкую, родную душу, которой я стремился
о многом поведать, но еще больше — услышать от
нее... Вот о чем я хотел спросить вас—вопрос уже
давно вертится у меня на языке, — скажите мне, до-
рогая госпожа советница, скажите мне в отплату за
мои, правда, куда менее интересные признания... Мы
Ш
знаем, все знаем, всему человечеству известно, сколь
много вы и ваш покойный супруг выстрадали из-за
нескромности гения, из-за его, с обычной точки зре-
ния трудно оправдываемого, поэтического своенра-
вия, позволившего ему, не задумываясь, выставить
ваши души, ваши взаимоотношения напоказ всему
свету, буквально всему земному шару, и вдобавок
смешать правду и вымысел с тем опасным искус-
ством, которое умеет сообщать поэтический образ
правдивому, а вымышленному придавать вид дей-
ствительного, так что различие между тем и другим
оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче
говоря, сколь много вы выстрадали из-за его беспо-
щадности, пренебрежения верностью и верой, в кото-
рых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей
втихомолку начал одновременно и возвеличивать и
разоблачать то деликатнейшее, что может объеди-
нить троих людей... Все знают это, уважаемая, и все
вам сочувствуют. Скажите мне, умоляю вас: как
справились вы и покойный советник с этим гнетущим
открытием, с этой участью насильственных жертв?
Я хочу сказать: как и насколько удалось вам при-
вести в согласие боль от жестоко нанесенной раны,
обиду видеть свою жизнь обращенной в средство для
достижения цели с иными, позднейшими чувствами,
которые должно было возбудить в вас такое возвы-
шение, такое могучее прославление вашей жизни?
Если мне суждено будет от вас услышать...
— Нет, нет, господин доктор,— поспешно возра-
зила Шарлотта, — во всяком случае не теперь. Когда-
нибудь в другой раз. Поверьте, это отнюдь не façon
de parler1, когда я говорю, что слушаю вас с живей-
шим вниманием, ведь ваши взаимоотношения с ге-
нием, несомненно, более интересны и примечательны.
— Это весьма спорно, уважаемая.
— Не будем обмениваться комплиментами. Не
правда ли, вы родом из Северной Германии, господин
профессор? Я заключила это по вашему произно-
шению.
1 Манера выражаться (франц.).
410
— Я силезец, — с достоинством отвечал Ример
мосле короткой паузы. Его тоже одолевали двой-
сгненные чувства. Ее уклончивый ответ задел его;
иато ее просьба продолжать говорить о себе не могла
не прийтись ему по вкусу.
— Мои добрые родители, — продолжал он, — не
пользовались изобилием благ земных. Не могу выра-
зить, как бесконечно я признателен им, все положив-
шим на то, чтобы дать мне возможность развить при-
рожденные способности. Мой учитель, тайный совет-
пик Вольф из Галле, возлагал на меня большие на-
дежды. Моим заветным желанием было продолжать
его дело. Карьера университетского преподавателя
почетна и оставляет досуг для общения с менее по-
стоянными музами, милостью которых я не совсем
обойден, — она всего сильнее влекла меня, но где
взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в при-
творах храма? Мой большой греческий словарь —
его научная известность, быть может, коснулась и ва-
шего слуха, я издал его в четвертом году в Иене —
занимал меня уже тогда. Недоходная слава, мадам!
Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала
моя должность домашнего учителя при детях госпо-
дина фон Гумбольдта, назначенного послом в Рим.
Должность эту мне устроил Вольф. В таком звании
я прожил несколько лет в Вечном городе. Засим вос-
последовала новая рекомендация—моего диплома-
тического патрона его знаменитому веймарскому
другу. Это было осенью 1803 года, достопамятной для
меня, достопамятной, может быть, и для будущей,
более подробной истории немецкой литературы.
Я пришел, представился, внушил доверие. Предложе-
ние войти в круг домочадцев на Фрауенплане яви-
лось следствием моей первой беседы с великим чело-
веком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не
было выбора. Иная, лучшая перспектива мне не от-
крывалась. Должность школьного учителя я считал,
по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже
своих дарований...
— Но, господин доктор, правильно ли я вас по-
нимаю? Разве вы не были счастливы деятельностью,
4JI
многим более почетной и привлекательной, чем вся-
кая другая, не говоря уж об учительстве.
— Разумеется, уважаемая. Я был счастлив.
Счастлив и горд. Подумать только, ежедневные
встречи, ежедневное общение с таким человеком!
Я сам был достаточно поэтом, чтобы постичь всю его
беспримерную гениальность. Я показал ему образцы
своего таланта, которые, мягко говоря, даже если от-
кинуть то, что следовало бы отнести за счет его уди-
вительной лояльности, видимо, понравились. Счаст-
лив? Я был упоен! На какую заметную, более того —
завидную позицию в мире научном и светском возво-
дила меня эта близость! Однако позвольте мне быть
откровенным, и здесь имелись свои шипы, а именно:
отсутствие выбора. Разве не верно, что необходи-
мость испытывать благодарное чувство несколько
умаляет таковое, лишает его элемента радости? Бу-
дем откровенны. Если тот, кому вы обязаны величай-
шей благодарностью, извлекает для себя выгоду из
нашего подчиненного положения, то нас это больно
ранит. Его вины здесь нет, ответственность несет
судьба, неравномерно распределившая свои дары. Но
он использует ситуацию... Это надо пережить са-
мому... Нет, сударыня, не будем заниматься нраво-
учительными рассуждениями! Почетным и возвышаю-
щим было то, что наш великий друг, видимо,
нуждался во мне. Формально моей задачей было пре-
подавание латинского и греческого его сыну Августу,
единственному оставшемуся в живых из детей мам-
зели Вульпиус. Но, как ни слабы были познания
моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как
весьма несущественной, придется отступить перед бо-
лее прекрасными и значительными обязанностями
служения отцу. Таково, разумеется, было и первона-
чальное намерение. Хотя мне известно письмо, напи-
санное им в свое время моему учителю и благодетелю
в Галле, где он обосновывал мое приглашение недо-
статочными классическими познаниями мальчика, —
бедой, как он выразился, которой он не умел помочь.
Но это было просто вежливостью по отношению к ве-
ликому филологу. На деле маэстро не придает боль-
412
того значения систематическим школьным занятиям
и носпитанию. Скорее он хотел бы, чтобы юношество
il.-I свободе удовлетворяло естественную жажду зна-
ний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый
пример его склонности к попустительству, его толе-
рантности! Может быть, здесь сказывается его
доброта, — я этого не отрицаю, — великодушие,
снисходительность; он благосклонно принимает сто-
рону молодежи против школьной муштры и педант-
ства. Весьма возможно. Но сюда примешивается и
нечто другое, менее похвальное, — известная прене-
брежительность, недооценка молодежи и ее внутрен-
ней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обя-
занностей юношества, придерживаясь того мнения,
что дети существуют лишь для родителей, что их
единственная задача — дорасти до них и мало-по-
малу впитать в себя их жизнь...
— Уважаемый господин доктор, — вставила Шар-
лотта, — везде и всегда, невзирая ни на какую лю-
бовь, между родителями и детьми существуют разно-
гласия и непонимание, известная нетерпимость детей
к личной жизни родителей, в свою очередь склонных
с пренебрежением относиться к их особым правам.
— Без сомнения, — рассеянно отвечал гость, под-
няв глаза к потолку. — Я часто беседовал с ним
в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам
педагогики — беседовал, а не спорил, ибо с благого-
вейным любопытством выслушивать его мысли мне
было интереснее, чем настаивать на своих. Под фор-
мированием юноши он подразумевает процесс созре-
вания, который, при благоприятных обстоятельствах, —
а обстоятельства своего сына он справедливо расце-
нивает как благоприятнейшие (поскольку, разумеется,
речь идет об отце, ибо что касается матери... Ну да
оставим это!), — и считает возможным в той или
иной степени предоставить процесс его естественному
развитию. Август — его сын. Этой формулой для него
исчерпывался весь смысл существования мальчика,
юноши, единственное назначение которого быть его
сыном и со временем снять с него тяготы будничных
дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об
413
индивидуальном формировании характера, о воспита-
нии ради него самого, в предвидении его будущих
целей, никто, собственно, никогда не думал. А в та-
ком случае к чему принуждение и систематическая
школьная муштра? Не надо забывать, что отец
в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи
своими именами: систематического воспитания он не
получил ни в детском, ни в отроческом возрасте и
лишь немногое изучил основательно. Это никому не
бросится в глаза или лишь при очень долгом и близ-
ком общении и при собственных, действительно глу-
боких научных познаниях. Ибо само собой ра-
зумеется, что с его острым восприятием, прочной па-
мятью, с необычайной живостью его духа, он
множество знаний схватил на лету, ассимилировал их
и благодаря качествам уже иного порядка — остро-
умию, обаятельности, владению формой, красноре-
чию — пользуется ими с большим успехом, нежели
другой ученый, обладающий подлинными знаниями.
— Я слушаю вас, — произнесла Шарлотта, до-
вольно успешно пытавшаяся выдать дрожание го-
ловы, снова ставшее заметным, за подтверждающие
кивки. — Я слушаю вас с интересом, объяснение ко-
торому все время стараюсь подыскать. Ваша манера
говорить проста, и все же в ней есть что-то волную-
щее, ибо невольно волнуешься, когда о великом че-
ловеке говорят не с предвзятой восторженностью,
а трезво, сухо, с реализмом, основанном на интимном
опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспо-
минать и сверяюсь с собственными наблюдениями,
пусть очень давнишними, — но ведь они как раз от-
носились к молодому человеку, о чьем свободном
самовоспитании вы говорите, — то, по-моему, его при-
мер лишь подтверждает превосходство этих личных
прав над более строгой системой воспитания. Как бы
то ни было, но этого юношу, этого двадцатитрехлет-
него молодого человека я знавала, долго пригляды-
валась к нему и могу засвидетельствовать: система-
тического учения, трудолюбия, служебного рвения за
ним не замечалось. В Вецларе он, собственно, ничего
не делал — и здесь, я не хочу это замалчивать, его
414
значительно превосходили коллеги, практиканты и
стряпчие, кого ни назови, — Кильмансегге, легацион-
пый секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн
и другие, даже несчастный Иерузалем, не говоря уже
о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую
жизнь и однажды заставил меня призадуматься, за-
метив, как легко кружить головы женщинам, быть
душою общества, всегда свежим, веселым, блестя-
щим и остроумным, когда тебе живется так вольготно
на божьем свете и ты наслаждаешься полной свобо-
дой, в то время как другие приходят к любимой
после хлопотливого дня, уставши от деловых забот,
и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей
стороны. Я всегда знала, что блага здесь распреде-
лены неравномерно, и обращала это в пользу моего
Ганса Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие
молодые люди при большем досуге — а ведь какой-то
досуг они все же имели! — могли выказать столь вы-
сокие душевные качества, были бы способны на та-
кую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все
же часть его пылкости я относила за счет его незаня-
тости и того, что он мог невозбранно, всеми силами
своей души предаваться дружбе, — но только часть,
ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и —
как мне это назвать? — его жизненный блеск, не
исчерпываются таким объяснением. Ведь даже когда
он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех
людей, он все же был интересней, чем наши трудо-
любцы по воскресным дням. Это я знаю так же
твердо, как знала тогда. Он часто напоминал мне
дамасский клинок, — я уж не упомню теперь, в чем
тут было сходство, — но также и лейденскую банку,
и это уж по ассоциации с электрическим зарядом,
ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит
до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар,
словно от прикосновения к какой-то там породе рыб.
Не удивительно, что другие, вообще говоря, прево-
сходные люди, в его присутствии или даже отсут-
ствии казались вялыми. И еще у него был, когда
я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый
изгляд — я говорю «открытый» не потому, что его
415
глаза, карие и близко посаженные, были особенно
большими,; но именно взгляд был очень открытый и
одухотворенный, в полном смысле этого слова,
а когда в них светилась сердечность, они становились
совсем черными. Что, у него еще и поныне такие
глаза?
— Глаза, — повторил Ример, — глаза временами
могучие. — Его собственные, остекленевшие и вы-
пуклые, меж которых залегла бороздка мучительных
раздумий, показывали, что он слушал невнимательно,
отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы
собеседницы он едва ли заметил, ибо его боль-
шая белая рука, когда он снял ее с набалдашника,
чтобы чуть заметным прикосновением безымянного
пальца благовоспитанно устранить легкое почесыва-
ние в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и
была так неприятно поражена, что поспешила при-
остановить аналогичное явление у себя: при старании
это ей вполне удавалось.
— Здесь речь идет о феномене, — продолжал свое
Ример, — стоящем того, чтобы в него углубиться, и
способном заставить человека часами предаваться
размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ве-
дущим, так что это занятие должно было бы скорее
называться мечтательством, чем подлинным размыш-
лением, иными словами, о форме и обаянии, или пе-
чати божества, которую природа с улыбкой — так не-
вольно себе это представляешь — накладывает на
предпочтенный ею дух, отчего он становится прекрас-
ным духом, — о слове, имени, которое мы маши-
нально произносим для обозначения привычной и
приятной человечеству категории; хотя вблизи, при
более внимательном рассмотрении, подобный фено-
мен остается непостижимой, тревожной и, в личном
плане, даже оскорбительной загадкой...
Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедли-
вости; что ж, и здесь, без сомнения, царит несправед-
ливость, естественная, а потому всеми почитаемая,—
восхитительная несправедливость, правда не без ко-
лючих шипов для того, кому суждено изо дня в день
видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения
416
ценностей, обесценения и переоценки, которые ты
принимаешь охотно, более того — с невольным
иосторгом, ибо отказать им в известном радостном
признании значило бы идти наперекор господу и при-
роде, и все же, из чувства справедливости, тайком,
и тиши не можешь не порицать их. Ты сознаешь себя
обладателем знания, достигнутого упорным трудом,
из чистой любви к науке, солидного научного багажа,
неоднократно и честно проверенного. И вот прихо-
дишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и
горько смехотворному выводу, что тот изощренный
и благословенный дух, тот предпочтенный ум может со-
общить скудному осколку этих знаний, случайно под-
хваченных или тобою же ему поставленных, — ибо
для него ты не более как поставщик научных сведе-
ний, — вдвое, втрое большую ценность, чем целый
мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему
же? Да благодаря все тем же форме и обаянию, —
впрочем, это только слова! — нет, попросту благодаря
тому, что он, а никто другой возвратил миру слу-
чайно подхваченное и, придав ему частицу самого
себя, как бы отчеканил на нем свое изображение.
И правда, другие взрывают горы, роют землю, очи-
щают руду, а властитель в результате всех их трудов
знай себе чеканит дукаты!.. Королевская привилегия!
По в чем ее суть? У нас много говорят о личности, он
сам любит говорить о ней и, как известно, назвал ее
высшим счастьем смертных. Таков его приговор,
а следовательно, приговор, обязательный для челове-
чества. Но это не определение. В лучшем случае это
описание. Да и как определить таинство? Без таинств
человеку, видно, не обойтись, и если христианские
ему наскучили, он тешит себя языческими или при-
родным таинством личности. О христианских наш
властитель умов и слышать не хочет. Поэт или ху-
дожник, преданный христианской мистике, обречен
на его немилость. Но таинство природы он ставит
очень высоко, ибо это его таинство... Величайшее
счастье — за меньшее мы, смертные, не смеем почи-
тать это таинство! Иначе как объяснить, что просве-
щенные умы и люди науки считают не ограблением
27 Т. Мани, т. 2
417
себя, но великой для себя честью толпиться вокруг
прекрасного гения, обаятельного человека, состоять
в его штабе, в его свите, приносить ему в дар свои
знания, быть для него живыми словарями, всегда
имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни
с научным хламом. Ну как объяснить, что человек,
подобный мне, с блаженной улыбкой — мне самому
она иногда кажется дурацкой — год за годом служит
ему простым писцом...
— Позвольте, дражайший господин профессор,—
прервала его пораженная Шарлотта, не пропустив-
шая ни слова из его монолога. — Не хотите же вы
сказать, что вы все это время и в самом деле несли
у него незначительные и недостойные вас канцеляр-
ские обязанности?
— Нет, — отвечал Ример после паузы, собрав-
шись с мыслями, — этого я сказать не хочу. И если
я сказал нечто подобное, то, значит, зашел слишком
далеко. Не следует чрезмерно заострять понятия. Во-
первых, добровольные услуги, которые оказываешь
великому и дорогому тебе человеку, не знают табеля
о рангах. Тут каждый так же мал и так же велик,
как другой. Не об этом речь. К тому же писать под
его диктовку вообще не подходящее занятие для про-
стого стрекулиста, слишком почетное для него заня-
тие. Возложить эту обязанность на какого-нибудь
секретаря Джона, Крейтера или, наконец, простого
лакея, значило бы метать бисер перед свиньями. При
одной мысли об этом человека образованного, способ-
ного мыслить и чувствовать, охватывает благородное
негодование. Только ученому, только такому чело-
веку, как я, способному оценить всю прелесть, ред-
кость и достоинство этого положения, может быть
препоручено подобное дело. Эта льющаяся драмати-
ческая диктовка любимого, звучного голоса, это не-
удержимое созидание, прерываемое разве что чрез-
мерным наплывом чувств, руки, заложенные за спину,
взор, устремленный в многоликую даль, это властное
и как бы небрежное заклинание слова и образа, эта
жизнь в абсолютно свободном и смелом царстве
духа, за которой, несмотря на все сокращения, едва
418
поспевает торопливо смоченное перо, так что потом
полсй-неволей приходится корпеть над переписыва-
нием,— уважаемая, это надо испытать, надо востор-
женно насладиться этим, чтобы ревниво отнестись
к своим обязанностям и не уступать их первому
встречному. Правда, следует оговориться и для соб-
ственного успокоения напомнить себе, что речь идет
отнюдь не о творческом миге, что здесь происходит
не чудо, а лишь рождение на свет божий того, что
годами, может быть десятилетиями, вынашивалось,
пестовалось и, частично, в тиши, еще до диктовки,
было тщательно отделано и продумано. Не надо за-
бывать, что здесь имеешь дело не с вдохновенно по-
рывистой, а скорее с доступной колебаниям натурой,
к тому же беспрестанно взвешивающей, откладываю-
щей, нерешительной и прежде всего легко утомляю-
щейся, не способной сосредоточиться, не способной
подолгу задерживаться на одном и том же зада-
нии, — с натурой, которой, при разнообразнейшей,
мятущейся во все стороны деятельности, требуются
обычно долгие годы, чтобы завершить задуманный
труд. Это натура, склонная к замедленному росту
и тихому развитию, которой нужно долго, может
быть с юных лет, отогревать замысел на своей груди,
прежде чем приступить к его выполнению. Для по-
добного характера прилежание равносильно терпе-
нию, то есть способности — при величайшей потреб-
ности в разнообразии — к неустанному, кропотливому
труду над одним и тем же объектом в течение непо-
мерно долгого времени. Все это так, верьте мне, ведь
я одержимый наблюдатель этой героической жизни.
Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает
о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повре-
дить ему, что он никому его не открывает, ибо никто
другой не может постичь, почувствовать прелесть со-
зревающего, столь обольстительную для пестуна-,
Но следует добавить, что это молчание не так уж
нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю
о нашем «шивописце» Майере, как его прозвали за
цюрихский диалект, — итак, этот Майер, которому он
почему-то приписывает бог весть какие заслуги,
27*
419
похваляется, что великий друг чуть ли не целиком
поведал ему «Избирательное сродство», когда еще
только его вынашивал. Возможно, что это и так, он
и мне однажды увлекательнейшим образом изложил
план этого романа и к тому же до того, как открыть
его Майеру, — разница только в том, что я не похва-
ляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии
тайны, в такой сообщительности и, если хотите, болт-
ливости меня тешит и трогает очевидная чисто чело-
веческая тяга «поделиться», наивная доверчивость.
Утешительно и радостно, радостно до восторга! — ви-
деть эти человеческие черты в великом гении, ловить
его на маленьких хитростях и повторениях, подме-
чать экономию, которая наводится даже в таком,
необозримом для нас духовном хозяйстве. С месяц
назад, шестнадцатого августа, в разговоре со мной
он выскааал одно замечание о немцах, достаточно
колкое, — как известно, он не всегда лестно отзы-
вается о своей нации. «Наших милых немцев, — ска-
зал он, — я знаю: сначала они молчат, потом
осуждают, потом отклоняют, потом обворовывают и
замалчивают». Это буквально, я записал его слова
тотчас же после разговора, — во-первых, потому что
счел их отменно острыми, а во-вторых, потому что они
мне показались блестящим примером его живого и
исключительно понятного языка: как остро и точно он
тут же на месте определил все стадии дурного пове-
дения немцев. И вдруг я узнаю от Цельтера— в Бер-
лине проживает некий Цельтер, музыкант и хормей-
стер, которого он, не совсем понятно почему, удостаи-
вает братского «ты»; с такого рода предпочтениями —
тут ничего не поделаешь — приходится считаться,
хотя поневоле вспоминаешь слова Гретхен: «В толк
не возьму, что он находит в нем». Итак, от Цельтера
я слышу, что та же фраза, слово в слово записанная
мною, как я сказал, шестнадцатого августа, стояла
в его письме от девятого того же месяца, адресован-
ном Цельтеру из Теннштедта. Следовательно, эта
мысль, видимо, очень ему понравившаяся, была уже
написана черным по белому, когда в разговоре со
мною он преподнес ее в качестве экспромта — ма-
420
лспькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь
л(1 notam К Вообще же мир даже такого могучего
духа — все же мир замкнутый и ограниченный, еди-
ное целое, где мотивы повторяются и образы, пусть
через большие промежутки времени, возникают вновь.
В «Фаусте», во время знаменитого разговора в саду,
Маргарита рассказывает возлюбленному о своей се-
стренке, этом бедном заморыше, которого мать не
н состоянии кормить грудью и которого она, Марга-
рита, растит на «молоке и воде». Какие жизненные
дали отделяют это от Отиллии, которая с любовью
растит сына Эдуарда и Шарлотты, на «молоке и
воде»! Молоко и вода! До чего же крепко засело
в эту великую голову представление о голубоватой
жидкости в бутылке. Молоко и вода... Не напомните
ли вы мне, почему я заговорил о молоке и воде и что
навело меня на эти, по-видимому, совершенно не от-
носящиеся к делу и праздные подробности?
— Вы говорили о почете, господин доктор, который
вам воздастся за вашу помощь и участие в трудах
друга моей юности. Но позвольте мне решительно не
согласиться с тем, что высказанные вами мысли
праздны и лишены интереса.
— Не отрицайте, уважаемая! Когда речь заходит
о слишком большом, слишком жгучем, невольно рас-
текаешься в празднословии, начинаешь лихорадочно
метаться и не только не доходишь до единственно
важного и жгучего, не только безрассудно упускаешь
его, но сам же начинаешь думать, что все тобою ска-
занное лишь предлог для того, чтобы обойти молча-
нием истинно важное и волнующее. И какой же тут
несешь несусветный вздор! Это можно сравнить разве
что с известным опытом; попробуйте быстро опроки-
нуть горлышком вниз полную бутылку, и жидкость вы-
течет не сразу, она задержится в сосуде, хотя путь ей
открыт. Ассоциация настолько посторонняя, что я снова
чувствую себя сконфуженным. И все же! Как часто
люди более значительные, чем я, несоизмеримо более
значительные, предаются посторонним ассоциациям.
На заметку (лат.).
421
Вот вам пример из моей, как бы побочной, на деле же
основной работы: с прошлого года мы приступили
к изданию нового собрания сочинений, рассчитанного
на двадцать томов. Котта из Штутгарта выпускает
его и за это уплачивает кругленькую сумму в шест-
надцать тысяч талеров — великодушный, более того,
смелый человек! Верьте мне, он приносит немалую
жертву, ибо несомненно, что публика о большей части
продукции нашего поэта ничего и знать не хочет. Так
вот, трудясь над этим собранием, мы вместе, он и я,
заново просматривали «Ученические годы»; мы вдвоем
перечитали их от альфы до омеги; при этом я не
только указывал на ту или иную грамматическую по-
грешность, но давал и советы по части правописания
и пунктуации, в которых наш поэт, признаться, не
очень силен. У нас состоялось несколько примеча-
тельных бесед о его стиле, причем он очень заинте-
ресовался моим разбором и толкованием. Ведь он
мало знает о себе, и ему случалось, по собственному
признанию, приступать к работе, например к «Мей-
стеру», почти в сомнамбулическом состоянии. Поэтому
он с ребячливым удовольствием слушает, когда ему
остроумно комментируют его же самого, что опять-
таки дело не Майера или Цельтера, но филолога. Од-
ному богу известно, какие дивные часы я провел за
чтением романа, составляющего гордость эпохи и на
каждом шагу дающего столько поводов к восхище-
нию, хотя — и это бросается в глаза! — описания при-
роды, ландшафты почти вовсе отсутствуют в нем,
И раз уже мы заговорили о праздных ассоциациях,
уважаемая, какое холодное, неторопливое многосло-
вие порою встречается в этой книге! Какое сплетение
случайных обрывков мыслей. Ведь сплошь и рядом —
это необходимо уяснить себе! — вся прелесть и досто-
инство состоят здесь лишь в метких и живительно
точных формулировках, давно выношенных и уже не
раз произнесенных. Правда, это соединяется с черточ-
ками обаятельной новизны, с такой мечтательной
смелостью и высоким риском, что дух захватывает, —
да, да, в сочетании разумной чинности и неустраши-
мой отваги, более того, безумия, как раз и заклю-
422
члстся источник сладостного смятения, в которое нас
повергает этот единственный в своем роде автор.
Когда я однажды с подобающей осторожностью вы-
сказал ему это, он рассмеялся и возразил. «Милое
дитя, — так он и сказал, — что поделаешь, если мои
напитки подчас кружат вам головы». То, что он меня,
сорокалетнего человека, который кое в чем мог бы на-
ставлять его, называет «милое дитя», может, конечно,
показаться странным, но мое сердце это умиляет и
наполняет гордостью, ибо, как бы там ни было, в та-
кой короткости растворяется различие между достой-
ными и недостойными услугами. Простая канцеляр-
ская служба? Мне невольно становится смешно, ува-
жаемая госпожа советница: ведь она состояла в том,
что я в продолжение многих лет вел его корреспон-
денцию, не только под диктовку, но вполне самостоя-
тельно, за него, вернее вместо него — от его имени и
в его духе. Теперь вы видите, что здесь получается:
самостоятельность диалектически переходит в свою
противоположность и оборачивается полной обезли-
ченностью — меня вообще уже не существует, и
только он говорит моими устами, ибо я орудую обо-
ротами столь старомодно куртуазными и остроумно
вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего
пера, кажутся более гетевскими, нежели продиктован-
ные им. И так как моя деятельность широко известна
п обществе, то нередко возникают мучительные со-
мнения, им или мною написано данное письмо. Неле-
пая и тщеславная тревога! — не могу не заметить,
ибо в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня
тревожат сомнения, но они касаются проблемы чести,
всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из
проблем. В свете этой проблемы, вообще говоря, в та-
ком деянии заключается нечто постыдное, во всяком
случае временами мне мерещится, что это так. Но
если ты подобным путем становишься Гете и пишешь
ого письма, то опять же трудно представить себе
большую честь. Так кто же он, наконец? Кто он, ради
которого почитается честью, жертвуя собою, в нем
растворяться? Стихи, свидетель бог, какие дивные
стихи! Я тоже поэт, io sono poeta но, признаюсь с со-
423
крушением, несравненно меньший. О, написать «Сту-
чало сердце» или «Ганимеда», или «Ты знаешь
край» — хотя бы одно из них, уважаемая, — чего не
отдашь за это, с оговоркой, что у тебя есть что отда-
вать! Франкфуртские рифмы, которые он себе позво-
ляет, ибо он многие слова выговаривает неправильно,
у меня не встречаются — во-первых, потому, что я не
франкфуртец, а во-вторых, потому, что я не могу их
себе позволить. Но разве они единственно человече-
ское в его творениях? Нет, разумеется, нет! В конце
концов созданное им все же дело рук человеческих
и не может слагаться из одних шедевров. Да он и
не обольщается на этот счет. «Кто же создает одни
шедевры», — справедливо говорит он. Здравомысля-
щий друг юности, Мерк, — вы его знали, — назвал
«Клавиго» дрянью. Впрочем, он и сам, видно, дер-
жится такого же мнения, ибо говорит: «Не всему же
быть лучше лучшего». Скромность это или что-нибудь
еще? Если скромность, то подозрительная. И все же
в глубине души он скромен, скромен так, как другой
не был бы на его месте. Я даже назвал бы его роб-
ким. По окончании «Избирательного сродства» он и
впрямь оробел и лишь позднее составил об этом ро-
мане то высокое мнение, какого он, несомненно, за-
служивает. Дело в том, что он восприимчив к похва-
лам и, даже если раньше его и обуревали сомнения,
охотно дает себя убедить, что созданное им — шедевр.
Конечно, не следует забывать, что со скромностью у
него сочетается самоуверенность, порою доходящая до
курьеза. Говоря о своеобразии своей натуры, о неко-
торых ее слабостях и недостатках, он способен с не-
виннейшим видом присовокупить: «Все это, надо ду-
мать, оборотная сторона моих огромных достоинств».
Услышав такое, остаешься сидеть с раскрытым ртом,
ужас охватывает тебя перед этой наивностью, хотя ты
и стараешься себя уверить, что как раз сочетание не-
обычайной духовной одаренности с подобной степенью
простоты и повергает в восхищенье. Но можно ли удо-
влетвориться таким объяснением? И оправдывает ля
оно принесение себя в жертву? Почему превыше всех
именно он, нередко спрашивал я себя, читая других
424
по л ов, — кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, бла-
ю|)одного Маттиссона! Разве в их творениях не слы-
шится милый голос природы, разве теплота и немец-
кая задушевность звучат только в его поэзии? «Вновь
|» долинах и кустах...» — это перл, я отдал бы свой док-
юрский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы
л пух строф этого стихотворения. Но Вандсбеккерова
«Луна на небе встала»— разве хуже? А мог ли бы он
устыдиться «Майской ночи» Гельти: «Если серебря-
ный луч блещет сквозь темень кустов»? Да нисколько!
Напротив! Можно только порадоваться, что рядом
с ним и другие подают голос, не только не позволяют
его величию подавить и искалечить себя, но его на-
шшости противопоставляют свою собственную и поют
тл к, словно его и не существует. За это их голоса
следует ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать
лишь абсолютную ценность продукта; к нему надо
подходить и с нравственной меркой, надо учитывать
условия, в которых он создавался. Спрашивается: по-
чему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает
его полубогом, возносит его к звездам? Большой ха-
рактер? Но где он у его героев — у Эдуарда, Тассо,
Клавиго, даже у Мейстера или Фауста? Изображая
себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных
неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда при-
ходят на ум слова Кассия из «Цезаря» великого
бритта: «Боги! Я дивлюсь, как человек такой невзрач-
ной стати мог первенство у мира оттягать, презрев
людскую гордость».
Наступило молчание. Большие белые руки Ри-
мера, с золотым кольцом-печаткой на указательном
пальце, опиравшиеся о набалдашник трости, заметно
дрожали. Голова старой дамы опять кивала быстро-
быстро. Шарлотта заговорила первой:
— Господин доктор, я чувствую себя едва ли не
обязанной выступить на защиту друга юности моей
н моего мужа, создателя «Вертера», произведения,
о котором вы даже не упомянули, хотя оно послужило
фундаментом его славы и, по моему убеждению, так
и осталось прекраснейшим из всего им написанного;
против тех нападок, которым вы — простите меня—-
425
подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от
этого соблазна или обязанности, — как хотите, —
вспомнив, что ваша, я бы сказала, солидарность с ве-
ликим человеком не уступает моей, что в продолжение
тринадцати лет вы были ему другом и помощником и
что ваша критика — не знаю, как определить это по-
другому, — короче, то, что я назвала реализмом ва-
шего восприятия, основана на преданном восхищении,
а потому моя защита выглядела бы смешной и при-
вела бы только к взаимному непониманию. Я простая
женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые
вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет
критики играючи устоит против твоих нападок. Здесь
преклонение говорит языком злобы, а хула становится
новой формой восхваления.
— Вы очень добры, — отвечал он, — становясь на
сторону того, кто нуждается в помощи, и правильно
толкуя мою оговорку. Откровенно говоря, я не помню,
что я сказал, но из ваших слов заключаю, что, должно
быть, зарапортовался. Иногда в мелочах язык шутит
с нами недобрые шутки, мы нечаянно придаем коми-
ческий оборот слову, и в результате нам остается
только вторить смеху слушателей. Но в больших во-
просах и оговорка принимает большой масштаб, и бог
долго ворочает слова в нашей гортани, покуда мы не
начинаем славословить то, над чем хотели надру-
гаться, и хулить то, что намеревались благословить.
Собрание небожителей, верно, сотрясается от гоме-
рического хохота над таким бессилием наших уст. Но
будем говорить серьезно: мне кажется бесполезным и
не адекватным, касаясь великого, только восклицать:
«Грандиозно! Грандиозно!» — и пошлым мило тара-
торить о вершине обольстительности. А ведь речь идет
именно об этом — о деликатнейшей форме, в которую
великое облекается на земле: о поэтическом гении;
о великом в образе высшей обольстительности и
обольстительном, возвысившемся до великого. Так
живет среди нас гений и глаголет ангельскими устами.
Да, сударыня, ангельскими! Откройте наугад его
книги, эти миры его творений; возьмите, к примеру,
ну, хотя бы «Пролог на театре», — я еще сегодня пе-
426
цсчитывал его, дожидаясь парикмахера, — или такую
иссело-глубокомысленную безделку, как басня о му-
шиной смерти:
Она сосет, дорвавшись до отравы,
Пригвождена к ней первым же глотком,
Блаженствует, а нежные суставы
Уже давно разбиты столбняком...—
но ведь тут смешная случайность, слепой произвол,
мо я выхватил именно это, а не другое из необозри-
мого изобилия текущих в руки перлов, — короче, разве
псе это не сказано ангельскими устами, божествен-
ными устами высшей завершенности! Каким чеканом
отчеканен любой образ, драма, песня, рассказ, лого-
норка! И на всем печать индивидуальнейшей оболь-
стительности— Эгмонтовой обольстительности! Я так
называю ее. «Эгмонт» приходит мне на ум, потому что
н нем царит особенно счастливое единство и внутрен-
нее соответствие; отнюдь не безупречная обольсти-
тельность героя корреспондирует с тоже отнюдь не
безупречной обольстительностью произведения, в ко-
тором он действует. Или возьмите его прозу, рассказы
и романы, — мы как будто уже касались этой темы, —
помнится, я что-то такое говорил и зарапортовался.
Не может быть более чарующего изящества, живости
ума, более скромной и легкой. В них нет ни помпез-
ности, ни высокопарности, ничего от внешней припод-
нятости, — хотя внутренне все удивительно возвы-
шенно, и всякий иной стиль изложения, в частности
приподнятый, по сравнению с этим стилем кажется
плоским, — ничего от торжественности и проповедни-
ческого тона, ничего от ходульности и чрезмерности;
вез огненных бурь и громогласных страстей, в тихом,
легком журчании здесь присутствует божество. Можно
было бы говорить о трезвости, о приглаженной краси-
вости, если позабыть о том, что его речь тяготеет
к крайностям. И все же она избирает срединный путь
спокойно, с изящной простотой: ее смелость скромна,
отвага совершенна, поэтический такт безошибочен.
Возможно, что я продолжаю заговариваться, но, кля-
нусь вам, хотя неистовые клятвы и находятся в несо-
427
ответствии с затронутой темой, — что я прилагаю та-
кие же старания говорить правду, как и тогда, когда
я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю,
я хочу сказать: у него для всего найден средний ре-
гистр, весьма умеренный, весьма прозаический, но
это самый причудливо-дерзкий прозаизм на свете:
новорожденное слово приобретает какой-то улыбча-
тый колдовской оттенок, становится золотистым, ве-
село призрачным, и абсолютно возвышенное, прият-
нейше сдержанное, изящно модулированное, полное
детски мудрых чар преподносится нам с чинной дерз-
новенностью.
— Вы превосходно говорите, господин Ример. Слу-
шая вас, я испытываю благодарность, которую всегда
вызывает точность. К тому же ваше изложение сви-
детельствует о проникновенном знании, о долгом и
метком наблюдении. И все же — не пеняйте на меня—
опасение, что вы и теперь еще заговариваетесь, ка-
саясь этой исключительно волнующей темы, кажется
мне небезосновательным. Не стану отрицать, что удо-
вольствие, с которым я слушаю вас, весьма далеко
от настоящего удовлетворения, полного согласия.
В вашей хвалебной речи — может быть, именно вслед-
ствие ее чрезмерной точности — содержится какое-то
умаление, какой-то элемент злословия, втайне меня
пугающий и которого я сердцем принять не могу.
Сердце подсказывает мне, что вы говорите не то,
Пусть это смехотворно кричать о гении: «Грандиозно,
грандиозно», пусть вы предпочитаете говорить о нем
с педантичностью, в характере которой я, поверьте,
не ошибаюсь, ибо знаю, что она порождена любовью.
Но, не сердитесь на меня за этот вопрос, разве можно
с помощью одной только точности объяснить поэтиче-
ское вдохновенье?
— Вдохновенье, — повторил Ример. Он медленно,
как бы с трудом склонил голову к рукам, скрещенным
на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и
отрицательно покачал головой. — Вы ошибаетесь,—
произнес он, — он не вдохновенен. В нем есть нечто
другое, может быть высшее; он, ну, скажем, осенен
благодарить; но не вдохновенен. Можно ли себе пред-
ка
« i.iвить господа бога вдохновенным? Нет, нельзя.
I te»г —объект вдохновения, но сам он его не ведает.
Нельзя не признать за ним своеобразной холодности
и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете
I «к-поду богу вдохновляться? Чью сторону принимать?
Иедь он все, а потому сам себе сторона, на этом он
сюит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей
иронии. Я не богослов, уважаемая, и не философ, но
житейский опыт заставлял меня частенько задумы-
иаться над единством всего и ничего, над nihil и,
гели мне будет дозволено употребить производное от
лого мрачного слова, определяющего образ мыслей,
мировоззрение, то этот всеобъемлющий дух по праву
можно будет назвать духом нигилизма, — из чего вы-
текает, что ошибочно воспринимать бога и дьявола
как противоположные принципы и что дьявольское
по существу лишь оборотная сторона, — хотя почему
оборотная? — божественного. Да и как же иначе?
1'сли бог все, то он тем самым и дьявол, и ясно, что
нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись
к дьяволу; можно даже сказать, что из одного глаза
у него глядят небо и любовь, из другого — ад ледя-
ного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но
у двух глаз, дражайшая госпожа советница, безраз-
лично дальше или ближе они посажены, один только
взор. И вот тут я и хотел бы спросить: что это, собст-
венно, за взор, в котором исчезает разлад между
столь разными глазами? Сейчас отвечу вам и себе.
Это взгляд искусства, абсолютного искусства, одно-
временно являющегося абсолютной любовью и абсо-
лютным уничтожением или равнодушием и означаю-
щий то страшное приближение к божественно-дья-
нольскому, которое мы зовем «величием». Вот вам
и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что
именно это я и хотел сказать вам с того самого мо-
мента, как узнал от парикмахера о вашем приезде,
ибо мне думалось, что это будет вам интересно, хотя
не в меньшей мере меня сюда привело и желание об-
легчить свою душу. Вы мне поверьте, что это не пу-
стяки, что несколько тревожно с таким сознанием изо
дня в день жить перед лицом такого феномена, что это
429
приводит к известному перенапряжению сил, покон-
чить с которым, однако, уехать в Росток, где, конечно,
ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно
невозможным... Чтобы лучше разъяснить вам положе-
ние вещей, — а мне кажется, что я не напрасно пред-
полагаю в вас интерес к таковому и вы охотно вы-
слушаете меня, — короче, если мне будет дозволено
посвятить еще несколько слов этому явлению, то я
скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспо-
мнить о благословении Иакова в конце книги бытия,
где говорится, что Иосиф благословен господом «бла-
гословениями небесными свыше и благословениями
бездны, лежащей долу».
Простите меня, но то, что я заговорил об этом
месте из священного писания, только кажущееся от-
ступленье, на деле я не разбрасываюсь мыслями и
весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы гово-
рили о соединении могучих духовных даров с крайней
наивностью в единой человеческой конституции и как
будто решили, что такое соединение вызывает вели-
чайший восторг человечества. Речь идет о двойном
благословении, дарованном природой и духом, кото-
рое, если вдуматься, является благословением всего
человечества, вернее же, его проклятьем; ведь человек
бренной стороной своего существа причастен миру
природы, другою же — и я бы сказал, решающей —
миру духа; это можно было бы выразить в образе не-
сколько комическом, но хорошо передающем суть
дела: правой ногой мы стоим в одном мире, левой —
в другом, — головоломная позиция, и чувствовать глу-
боко и живо всю ее затруднительность нас научило
христианство. Если человек отдает себе отчет в этой
опасной, временами постыдной позиции и, порвав узы
природы, стремится к чистому, духовному, он христи-
анин. Христианство — это тоска по бесконечному, —
беру на себя смелость думать, что мое определение
правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятого на де-
сятое? Но не беспокойтесь! Я не забываю не только
пятого, но и первого и крепко держу нить. Итак, зна-
чит, я возвращаюсь к феномену величия, — великого
человека, — в равной мере великого и человека, по-
430
скольку то проклятье благословением, та осознанная
человеческая двойственность в нем одновременно и
наострена до предела и снята. Я говорю, снята в том
смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чув-
пвишках здесь не может быть и речи, — двойное же
благословение «небесным свыше и бездной, лежащей
долу», знать не знает о печати проклятья и превра-
щается в формулу если не покорной, то непокоряю-
щейся абсолютно благородной гармонии и земного
блаженства. В великом человеке доминирует духовное
начало, отнюдь не враждебное природному; ибо его
духу природа доверяет не меньше, чем самому духу
оозиданья, да и что удивительного, он сродни послед-
нему и является как бы доверенным, братом природы,
которому она охотно поверяет свои тайны; ведь со-
зданье— дружественно-братский элемент, связую-
щий воедино дух и природу. Вы же понимаете, что
этот феномен великого духа, любимец и доверенный
природы, этот феномен нехристианской гармонии и
людского величия приковывает к себе не на девять,
не на тринадцать лет, но на целую вечность, и что
никакое самолюбие, если потворство таковому равно-
сильно отказу от общения с ним, не может самоутвер-
ждаться, вопреки ему. Я говорил о горькой и сладост-
ной чести и, помнится, обосновал это различие. Но
мыслима ли честь более сладостная, нежели любов-
ное служение феномену, счастье жить возле него,
ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глот-
ком. Вы спросили, хорошо ли себя чувствуешь подле
него? Я смутно вспоминаю, что уже говорил о не-
обычной благодати, распространяемой его присут-
ствием, и еще о том, что она не чужда известной
насильственности и стеснения, так что иногда трудно
становится усидеть на стуле и невольно порываешься
бежать... Теперь я точно вспоминаю, мы заговорили
<>б этом в связи с его терпимостью, его склонностью
к попустительству, его покладистостью, — кажется, у
меня вырвалось именно это выражение, по существу
совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать
<> мягкосердечии, христианстве и тому подобном,
а это было бы нелепо прежде всего потому, что
431
покладистость сама по себе не является феноменом, но
в свою очередь стоит в прямой зависимости от един-
ства всего и ничего, от всеобъемлющего и nihil, от бога
и дьявола. Фактически она порождена безразличием,
а потому не имеет ничего общего с мягкосердечием и
скорее проявляется в своеобразной холодности, в уни-
чтожающем равнодушии, индифферентизме абсолют-
ного искусства, которое — мы уже говорили об этом,
уважаемая, — само себе сторона и, как гласит стишок,
«я сделал ставку на ничто», короче говоря — на все-
объемлющую иронию. Как-то раз в экипаже он сказал
мне: «Ирония это та крупица соли, которая и делает
кушание съедобным». Я не только открыл рот от
удивления, у меня от этих слов мороз пробежал по
коже, ибо вы видите перед собой человека, не похо-
жего на того неустрашимого дурачка из народной
сказки, пустившегося на поиски страха. Меня легко
бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный
повод. Вдумайтесь, что это значит: без примеси иро-
нии, id est1 нигилизма, все становится несъедобным.
Это — нигилизм как таковой, это — разгром вдрхно-
вения, если не говорить о вдохновении абсолютным
искусством — поскольку к последнему вообще прило-
жимо слово вдохновение. Я никогда не мог позабыть
эти слова, хотя уже давно сделал открытие, — до-
вольно неприятное, — что сказанное им легко забы-
вается. Да, легко забывается! Отчасти это, вероятно,
происходит оттого, что его любишь, слишком жадно
впиваешь в себя его голос, взгляд, выражение лица,
с которым он произносит те или иные слова, так что
на сказанное уже не хватает внимания, вернее, от ска-
занного мало что остается, если отнять этот взгляд, го-
лос, жест, неотъемлемые от самой сути: а суть у него
больше, чем у кого бы то ни было связана с лич-
ностью; я бы даже сказал, что этой-то связью и опре-
деляется его правда настолько, что без поддержки и
придатка личного она уже перестает быть правдой.
Пусть так, тут нечего возразить! И все же одним этим
не объяснишь, почему столь легко забываются его
1 То есть (лат.).
432
слова. Должна быть еще какая-то причина, в них са-
мих заложенная. И мне думается, что эта причина —
противоречивость, частенько неуловимая двусмыслен-
ность, видимо составляющая суть и природы, и абсо-
лютного искусства, но, несомненно, наносящая ущерб
их прочности и приемлемости. Приемлемо и пригодно
для бедного человеческого разума только нравствен-
ное. Не нравственное, но стихийное, нейтральное, ко-
роче: злостно-дразнящее, то, что может быть названо
эльфическим — давайте примем этот термин, — то, что
идет от мира всепризнания и уничтожающей терпи-
мости, мира без причин и цели, где зло и добро урав-
нены в своем ироническом праве, — человек не при-
емлет, ибо это не внушает ему доверия, за исключе-
нием того безграничного доверия, которое эльфическое
все же ему внушает, а это значит, что к противоречи-
вому человек может и относится только противоре-
чиво. Ибо, дражайшая госпожа советница, это бес-
предельное доверие вызывается беспредельным же
добродушием, свойственным эльфическому существу
и ему все же противостоящим настолько, что оно во-
прошает: «Людские нужды — кто поймет?» — и само
же дает ответ: «Святой глагол к благим делам взы-
вает, об этом знает смертный человек и песням из-
давна внимает». Так, в силу одного только доброду-
шия, всеобъемлющая ирония и природно эльфическое
начало все же становятся нравственными, зато, будем
говорить откровенно, бесконечное доверие, с которым
к нему относятся, нисколько не нравственно, — иначе
оно не было бы столь бесконечно. Оно в свою оче-
редь стихийно, биологично и всеобъемлюще. Это амо-
ральное, но целиком завладевающее людьми доверие
к благодушию великого человека, которое делает его
прирожденным исповедником. Ему все ведомо и все
открыто, ему все хочешь и можешь сказать, ибо чув-
ствуешь, как охотно он постарается для людей, скра-
сит им мир, научит жизни — не из уважения к ним,
но именно из любви или, правильнее будет сказать,
из симпатии. Предпочтемте это выражение, характе-
ризующее и объясняющее ту необыкновенную бла-
гость, которой проникаешься вблизи него, — я снова
28 Т. Манн, т. 2
433
возвращаюсь к ней, ибо мне так и не удалось вдосталь
о ней наговориться, — слово «симпатия», мне кажется,
лучше подходит здесь, нежели то, более патетическое
слово. Да и благость эта не патетическая, я хотел ска-
зать, не духовная, но, скорее, — видите, как меня за-
трудняет подбор слов, — деятельная, чувственная,
хотя она и несет в себе свое противоречие, а именно
крайнее стеснение и тревогу, и если я говорил о стуле,
на котором не можешь усидеть от панического жела-
ния бежать, то ведь это, несомненно, связано с не-
духовной, не патетической, не нравственной сущностью
этого благостного чувства. Прежде всего необходимо
предпослать, что такое стеснение не непосредственно,
оно исходит не от нас, а из той же сферы, откуда на
нас веет благостью, которой оно сопричастно, а именно
из тождества этого всего а ничего, из сферы абсолют-
ного искусства и всеобъемлющей иронии. А что сча-
стье там не обитает, это, моя дорогая советница,
я знаю так твердо, что временами у меня сердце го-
тово разорваться. Ну можно ли Протея, который при-
нимает любые формы и обличил, — всегда, правда,
оставаясь Протеем, но вечно иным и продолжающим
«ставить на ничто», — можно ли, позвольте спросить,
считать его счастливым существом? Он бог или нечто
вроде бога, а божественное мы чуем тотчас же. Древ-
ние говорили, что божественное узнается по особому
благоуханию. По этому-то озону богов, вдыхаемому
нами, и мы узнаем о близости бога и божественного.
О, это неописуемо приятное ощущение! Но, говоря
«бог», мы уже произносим нечто нехристианское. Да,
христианства здесь нет ни на грош, это достоверно, —
нет веры в благость мира и нет желанья бороться
за эту благость, я бы сказал: нет души и воодушевле-
ния, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух,
ставший самой природой, весьма низко ценит идеи:
это дух неверующий, дух без души, душевность про-
является у него разве что в симпатии, в известном
чувственном предпочтении, вообще же его удел —
всеобъемлющий скепсис, скепсис Протея. Чудно при-
ятное ощущение, испытываемое нами, все же не может
внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье.
434
Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь,
лишь там, где вера и воодушевление, более того, при-
страстность, а пристрастности не ужиться с эльфиче-
ской иронией и уничтожающим безразличием. Боже-
ственный озон, о да! Им никогда вдосталь не нады-
шишься! Но нельзя девять лет и потом еще четыре
года радоваться этим флюидам и ничего не увидеть,
не столкнуться с множеством явлений, — явлений,
которые, вероятно, объясняешь правильно, только
расценивая их как страшные доказательства того, что
я сказал о счастье: угрюмость, недовольство, безна-
дежный уход в молчание, — общество постоянно этого
опасается, — не со стороны хозяина дома, в качестве
хозяина он себе такого не позволит, но гостя,
который впадает в угрюмое молчание и, тоскливо
закусив губы, бродит из угла в угол. Попробуйте
себе представить этот мрак и подавленность! Все
молчит, ибо кто станет говорить, когда он не раскры-
вает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно
перешептываясь: «Оя был не в духе». К сожалению,
это случается довольно часто. И тогда какой же холод
и чопорность, какая броня церемонности прикрывают
его непонятную застенчивость, на редкость быструю
утомляемость, усталость, замкнутый круг существо-
пания: Веймар — Иена — Карлсбад — Иена — Веймар,
все возрастающее стремление к одиночеству, к око-
стенению, к тиранической нетерпимости, к педант-
ству, к странностям, к манерности мага... Моя милая,
моя дорогая и уважаемая госпожа советница, это не
только преклонные лета! В преклонных летах не обя-
зательно быть таким. В этих проявлениях я научился
видеть тихие, страшные признаки законченного неве-
рия и эльфической всеиронии, которая подменяет во-
одушевление пунктуальностью, хлопотливой деятель-
ностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей
она не уважает: люди — это животные, не способные
совершенствоваться. В идеи она не верит: свобода,
родина — это лишено естества, это пустышки. Но ведь
она зерно абсолютного искусства, — так верит ли она
хотя бы в него? Нисколько, уважаемая! По сути, она
относится к нему едва ли не свысока. «Стихи, — услы-
28*
435
шал я однажды от него, — в сущности, ничто. Стихи —
это, как вам сказать, поцелуй, который даришь миру.
Но от поцелуя дети не рождаются». К этому он ни-
чего не пожелал присовокупить... Если я не ошибаюсь,
вы хотели что-то сказать?
Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы
предоставляя ей слово, непозволительно дрожала, та-
кая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось,
этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво жела-
ла, чтобы она, наконец, опустилась, он долго держал
в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетря-
сения, вихляющимися пальцами, Ример, по-видимому,
изнемог, да и не удивительно. Нельзя, не переводя
дыхания, так долго, с такой напряженной стройностью
речи говорить о вещах, столь близко принимаемых
к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов,
которые Шарлотта с волнением и неудовольствием
подметила в нем: он побледнел, пот выступил у него
та лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились
в пространство, открытому рту со всегда брюзгливой
черточкой сообщилось выражение трагической маски;
он дышал тяжело, прерывисто и слышно.
Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и
так как ни одна тонко чувствующая женщина не мо-
жет счесть приятным и для себя подобающим смот-
реть на зашедшегося — хотя бы в приступе кашля —
мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря
на собственную взволнованность и нервное напряже-
ние, успокоить собеседника веселым смехом, надо ду-
мать относившимся к шутливым словам о поцелуе.
Впрочем, на них она уже откликнулась движением,
которое Ример принял за желание говорить, — и не-
безосновательно, хотя она, собственно, и не знала
хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла
первое, что ей пришло на ум:
— Но что же вы хотите, мой милый господин док-
тор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает
поэзии. Напротив, это очень милое сравнение: оно
воздает ей должное и самым почтенным образом про-
тивопоставляет ее жизни и действительности... Хотите
знать, — спросила она внезапно, словно ей пришло в го-
436
лону нечто способное отвлечь разволновавшегося док-
тора и навести его на другие мысли, — хотите знать,
скольким детям я подарила жизнь? Одиннадцати, счи-
тая тех двух, которых господь снова взял к себе. Про-
стите мне мое самохвальство, но я была страстной
матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья
и любят хвалиться ниспосланным на них благослове-
нием. Я говорю это потому, что христианской жен-
щине не приходится опасаться страшного возмездия,
постигшего языческую царицу — я что-то запамято-
вала ее имя — ах да, Ниобею, — ведь это ома так
жестоко поплатилась за свою материнскую гордость?..
Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и
моей личной заслуги тут нет. В Немецком орденском
доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось
бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа,
для которой я играла роль матери задолго до того,
как стала ею, получила уже достаточную известность,
и я как сейчас помню неистовый восторг моего брата
Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях
с Гете, когда прибыла книжка о Вертере и стала хо-
дить по рукам в нашем доме. У нас было два экзем-
пляра, мы их разделили на листы и страницы, чтобы
читать одновременно. И детворе, особенно нашему
весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой до-
машний быт так обстоятельно воспроизведенным
в романе, и в голову не пришло, как мы были
уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим
преданием нас гласности, всей этой правдой, на ко-
торую налипло столько неправды...
— Как раз об этом, — Ример, уже начинавший
успокаиваться, воспользовался возможностью пре-
рвать ее, — об этих чувствах я и хотел спросить вас.
— Я заговорила о них между прочим, — продол-
жала Шарлотта, — сама даже не знаю почему, и не
хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся
раны, и только рубцы напоминают о прежних страда-
ниях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что
оно играло тогда известную роль в наших объясне-
ниях, и наш друг в ряде писем живо от него оборо-
нялся. Он близко принял его к сердцу, — «не налипло,
437
а вплетено в ткань, — писал он,— вопреки вам и всем
остальным!» Ну хорошо, пусть вплетено. Нам от этого
было не легчо. Он также уверял Кестнера, что Кестнер
не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить
людей этому поверить? Что я не Лотта, этого он не
утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою
руку и передать мне: «Сознание, что твое имя произ-
носится тысячами благоговейных уст, все же некото-
рая компенсация за сплетни досужих кумушек».
И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого на-
чала думала не столько о себе, сколько о своем
уязвленном муже, и потом всем сердцем радовалась
удовлетворению, которое, в награду за его прекрасные
качества, принесла ему жизнь, радовалась тому, что
он стал отцом моих детей, — впрочем, и тот, другой,
всегда относился к ним с сердечным участием, в этом
ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел
бы крестить их всех, ибо они так же близки ему, как
и мы. Мы и правда попросили его в крестные к на-
шему первенцу в семьдесят четвертом году, хотя нам
очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем
тот непременно настаивал; и мы потихоньку дали ему
имя Георг. Но в восемьдесят третьем году Кестнер
послал ему силуэты всех бывших у нас к тому вре-
мени детей, и очень его этим порадовал. Всего шесть
лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, жена-
тому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, по-
лучить там права гражданства и профессуру в Ме-
дико-хирургической академии. Да, в этом случае он
пустил в ход все свое влияние; и когда в прошлом
году Теодор вместе с братом Августом, легационным
советником, навестил его в Гербермюле, у доктора
Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих, осве-
домился о моем житье-бытье и даже сказал, что знает
их всех по силуэтам, присланным ему их покойным
отцом, когда они еще были озорными мальчишками.
Августу и Теодору пришлось дать мне подробный
отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил
сожаление, что этот некогда столь принятый способ
оставлять память о себе совершенно вышел из моды,-
Он был очень обязателен, рассказывали они, и только
438
как-то непокоен во время беседы в саду, где собра-
лось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по
лужайке, заложив одну руку в карман, другую за
с>орт сюртука, и когда останавливался, то казалось,
по очень твердо стоял на ногах и всякий раз при-
клонялся к дереву.
— Ну, это вполне понятно, — произнес Ример,—
<>н был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов
ровно ничего не значит и сказана лишь бы что-нибудь
сказать. Но не будем к нему строги.
— Право, не знаю, мой милый господин доктор,
в свое время он имел случай оценить всю прелесть
искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить
себе представление о моих детях? Ведь, несмотря на
свою к ним приверженность, он никогда не нашел или
не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим
старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились.
Вам, наверное, известно, что в Вецларе у Гете был
также и мой силуэт (как бы я хотела знать, хранится
ли он еще у него!) и какую неистовую бурную радость
выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Воз-
можно, что отсюда и идет его пристрастие к этому
виду искусства.
— О, конечно! Не могу вам сказать с уверенно-
стью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но
это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь, в бла-
гоприятную минуту, разузнать у него о ее судьбе.
— Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там
ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся
этой бедной тени. «Тысячи, тысячи поцелуев запечат-
лел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или
возвращаясь домой». Так у него написано. По Вер-
теру, портрет был мне возвращен, но ведь он, слава
господу и всем нам на благо, не застрелился, а сле-
довательно, еще владеет им, если только время не
испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог
вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от
Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли
вам, что бурная радость, выказанная им по поводу
этого подарка, который он получил даже не от меня,
а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его
439
необыкновенная к нему приверженность свидетельствуют
об удивительной готовности довольствоваться малым?
— Это поэтическое довольствование малым,—: за-
метил Ример, — то, что для других — нищета, для
поэта — величайшее богатство.
— Видимо, это же заставило его довольствоваться
силуэтами детей, вместо того чтобы свести с ними
настоящее знакомство и завернуть к нам во время
одного из путешествий; если бы Август и Теодор не
взяли на себя инициативы и не решились посетить его
в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из
человечков, которых, по его же собственному призна-
нию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими
крестниками, ибо они ему были так же близки, как и
мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс-Христиан,
отошел в вечность, тому уже шестнадцать лет, так и
не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво
расспрашивал мальчиков, но никогда, за всю нашу
долгую жизнь, не сделал ни малейшей попытки узнать
о нем от меня... И если бы теперь, в предвечерний
час, я не взяла на себя почин, — от чего мне, может
быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала
к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется,
не более, как à propos... '
— Дражайшая госпожа советница, — доктор Ример
ближе придвинулся к Шарлотте, не поднимая на нее
глаз, точнее, опустив веки, и его лицо как бы засты-
ло в чаянии того, что он собирался сказать и для че-
го понизил голос: — Дражайшая госпожа советница,
я умею уважать ваше à propos, мне понятна чув-
ствительность, даже легкая горечь, сквозящая в
ваших словах, скорбное удивление перед такой не-
хваткой инициативы, не очень естественной и, пожа-
луй, не подобающей человеческому сердцу. Прошу
вас, не удивляйтесь моим словам. Поверьте мне, там,
где есть столько причин восхищаться, не может не
быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил
вас, некогда столь близкую его сердцу и внушившую
ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам
Между прочим (франц.).
440
природы придавать еще большее значение, нежели
y:uiM приязни и благодарности, то обнаружатся факты,
очевидная необычность которых послужит вам утеше-
нием в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная
угрюмость наличествует там, трудно определимое
душевное торможение, нечто противообычное и оскор-
бительное. Как относился он в продолжение всей
своей жизни к кровным родственникам? Да никак.
Отзывался о них с принятой учтивостью и преступно
пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы
сто родители, сестра, какая-то робость, осуждать ко-
торую мы не вправе, мешала ему навещать их, даже
писать им. О существовании единственного оставше-
гося в живых ребенка этой сестры, злополучной Кор-
нелии, он ни разу в жизни не вспомнил и так и не
:шает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании,
хотя бы самом минимальном, к франкфуртским
дядьям, теткам и всем остальным родичам. Мадам
Мельбер, престарелая сестра его покойной матери,
живет там со своим сыном, — он не имеет с ними
никакой связи, если не считать маленького капитала,
который они ему должны как наследнику покойной
советницы. А сама мать, эта мамочка, подарившая
ему, как он декларировал, «веселый нрав и страсть
к повествованью»? — Доктор Ример склонился еще
ниже, по-прежнему не подымая глаз. — Уважаемая,
когда восемь лет назад она отошла в вечность (он
тогда как раз возвратился после долгого и живитель-
ного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом),
они не виделись ровным счетом одиннадцать лет.
Одиннадцать лет! — нелегко выговорить эту цифру.
Человеку тут остается лишь развести руками. Он был
убит, потрясен до глубины души, мы все это видели,
и знали, и от всего сердца радовались, когда Эрфурт
и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного
состояния. Но за одиннадцать лет ему ни разу не
пришло в голову — или он не удосужился? — заехать
в родной город, в родительский дом. О, конечно, тут
сыщутся уважительные причины: болезни, войны, не-
обходимые поездки на курорт. О последних я упомя-
нул для очистки совести, но боюсь, что невпопад, ибо
44 J
во время этих поездок как раз и можно было, сделав
небольшой крюк, завернуть в отчий дом! Но он пре-
небрег этим! Не спрашивайте меня почему! Помнится,
на уроке закона божия учитель тщетно силился рас-
толковать нам, мальчикам, слова спасителя, обращен-
ные к его матери: «Женщина, что мне до тебя». Все
это не так надо понимать, заверял он нас, и это не-
почтительное обращение и последующее, где сын бо-
жий подчиняет то, что для всех нас священно, своему
высшему искупительному призванию. Но законоучи-
тель напрасно старался примирить нас с этим изрече-
нием! Оно казалось нам столь мало назидательным,
что никто не решался вслух произнести его. Простите
мне это отступление! Сентенция, о которой я говорил,
часто приходила мне на ум в этой связи и теперь
тоже невольно примешалась к моим усилиям прими-
рить вас с этой его странностью и объяснить столь
непостижимое отсутствие инициативы. Когда ранней
осенью четырнадцатого года, во время своего путеше-
ствия по Рейну и Майну, он снова посетил Франк-
фурт, родной город не видел его в своих стенах ровно
семнадцать лет. Что это? Какая робость, какая необо-
римая застенчивость или злопамятная стыдливость
определили чувства гения к городу, где он возник,
к стенам, которые видели его в эмбриональном со-
стоянии и которые он перерос, чтобы выйти на все-
мирный простор! Что он, стыдится их или совестится
перед ними? Нам остается только спрашивать и пред-
полагать. Правда, ни город, ни его достойная мать,
ничуть этим не были задеты. Франкфуртский «Почто-
вый вестник» посвятил его пребыванию статью (я со-
хранил ее); что же касается матери, уважаемая, то
ее преклонение перед гением сына всегда было равно-
велико ее гордости тем, что она произвела на свет
такое чудо, и ее бесконечной любви к нему. Он хоть
и оставался вдали, но посылал ей, по мере выхода
в свет, каждый том полного собрания своих сочине-
ний, и с первым из них — стихотворным — она никогда
не расставалась. Восемь томов успела она получить
до своей смерти и велела переплести их в тисненую
кожу..*
442
— Мой милый господин доктор, — перебила его
Шарлотта, — право же, вы напрасно превозносите
передо мной необидчивость родного города и материн-
ское всепрощение. Насколько я понимаю, вы хотите
поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь!
Мои скромные выводы я сделала с полным спокой-
ствием, не без сознания курьезности его поступков,
по и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру
пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко
мне. Обидчивый пророк этого бы не сделал. Не надо
также забывать, что пророк идет к горе лишь по
оказии, вернее, просто не собирается ее обходить, ибо
это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня
правильно понимаете: я вовсе не хочу сказать, что
мне так уж по душе материнское смирение нашей
дорогой, с миром почившей госпожи советницы. Я сама
мать, я произвела на свет нескольких сыновей, и они
выросли почтенными, деятельными людьми. Но если
бы хоть один из них повел себя подобно сынку импер-
ской советницы и в продолжение одиннадцати лет не
пожелал бы заглянуть ко мне и только знай катал бы
мимо моего города — на курорт и обратно, — я на-
учила бы его благоприличиям и, верьте мне, господин
доктор, задала бы ему хорошую головомойку.
Гневно-веселое настроение, казалось, овладело
Шарлоттой. Произнося эти запальчивые слова, она
постукивала зонтиком, ее лоб под пепельно-серыми
кудряшками покраснел, губы искривились не совсем
так, как кривятся для улыбки, а в голубых глазах
стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они
блеснули на ее ресницах, когда она продолжала:
— Нет, скажу откровенно, такое материнское все-
прощение мне не по нраву; даже как оборотную сто-
рону великих достоинств я бы не признала эту сынов-
нюю «непритязательность». Уж я бы примчалась —
пророчица к горе — и заставила бы его призадуматься.
Вы этому поверите, раз я и теперь приехала по-
смотреть, что с этой горой происходит, — не потому,
что я имею какие-нибудь права на него, боже упаси,
я не мать ему, и он может проявлять свою «непритя-
зательность» по отношению ко мне, сколько его душе
443
угодно, — хотя, не стану отрицать, есть старый не-
погашенный счет между мною и им, и, может быть,
это он и привел меня сюда, давнишний, непогашенный,
мучительный счет...
Ример со вниманием следил за Шарлоттой, слово
«мучительный», выговоренное ею, было первым сло-
вом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам
на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и
восхищался: на что только не способны эти женщины
и как они хитрят, даже в чувстве. Она заранее поза*
ботилась о тексте, сообщающем иной смысл выраже-
нию муки, — вероятно, пожизненной муки, — слезам
и искривившемуся рту, так ложно интерпретировав-
шем ее, что казалось, будто все это вызвано ее
гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи
задолго до того, как вырвалось это изобличающее
слово, дабы никто не мог, не осмелился его связать
с той давней мукой и, напротив, воспринял в свете
ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно
обеспечила себе право на внезапные слезы. Изощрен-
ные создания, думал Ример, невероятно искусные
■в притворстве, владеющие даром нераздельно смеши-
вать лукавство и искренность, рожденные для света
и любовных интриг. Мы, мужчины, — пентюхи, не-
поворотливые медведи в сравнении с ними. Мне уда-
лось заглянуть ей в карты и постичь ее уловки только
потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее
мучениями, потому что мы соучастники, соучастники
в муке... Он поостерегся прервать ее и выжидательно
смотрел своими широко расставленными глазами на
ее искривившиеся губы. Она снова заговорила:
— Сорок четыре года, мой милый господин доктор,
прибавившиеся к моим тогдашним девятнадцати, для
меня оставалась загадкой, мучительной загадкой —
зачем мне таиться от вас? — эта «непритязатель-
ность», это довольствование силуэтами, довольство-
вание поэзией, поцелуем, от которого, как он сам
говорит, дети не рождаются. Но они родились, один-
надцать человек, если считать двух умерших, роди-
лись из любви моего Кестнера, преданной честной
любви. Вдумайтесь хорошенько, попробуйте себе это
444
представить, и вы поймете, почему я за долгую
жизнь так и не справилась со своими сомнениями. Не
:шаю, известны ли вам все тогдашние обстоятель-
ства? Когда началась судейская ревизия, Кестнер
приехал из Ганновера к нам, в Вецлар, в качестве
личного секретаря Фалька — Фальк, как вы, наверно,
помните, был посланником герцога Бременского. Все
■•/го со временем получит историческое значение, и —
не будем скромничать — каждый, именующий себя
просвещенным человеком, обязан будет знать все эти
подробности. Итак: Кестнер, спокойный, благонрав-
ный, положительный молодой человек, приехал в наш
юрод в качестве секретаря бременской миссии.
Я, пятнадцатилетнее создание — ведь мне тогда ми-
пуло всего пятнадцать, — тотчас же прониклась к нему
глубоким доверием. Он же, поскольку ему позволяла
постоянная занятость, начал бывать в Немецком доме,
стал как бы членом нашего многочисленного семей-
ства, за год перед тем потерявшего милую, любимую
п незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из
«Вертера». Наш отец, амтман, остался вдовцом с це-
лой кучей детей, и я, его вторая дочь, сама еще почти
ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную
мать в воспитании детей и домоводстве; как умела,
чистила носы малышам, кормила их и силилась по-
крепче держать бразды правления в своих руках, ибо
Лина, наша старшая, не проявляла ко всему этому
пи охоты, ни склонности. Позднее, в семьдесят шестом
году, она вышла замуж за надворного советника Дица
и родила ему пятерых бравых сыновей. Старший из
них, Фрицхен, в свою очередь сделался надворным
советником при архиве имперского верховного суда,—
все это станет важным со временем, когда, в целях
просвещения, начнут докапываться и до этих сведе-
ний, а потому я уже теперь стараюсь покрепче дер-
жать их в памяти. Кроме того, я только хочу сказать
нам, что Каролина, наша старшая, впоследствии тоже
стала превосходной женой и матерью — надо поза-
ботиться о том, чтобы история и ей воздала должное.
Но тогда домовитостью отличалась я, а не она; так
но крайней мере утверждали все, хотя я в ту пору
446
была еще довольно тщедушным созданием, бело-
курым и голубоглазым. Лишь в последующие четыре
года я несколько выровнялась как женщина — в угоду
Кестнеру и из любви к нему. Так мне по крайней мере
казалось, — он ведь давно уже заглядывался на мою
материнскую домовитость, и, что греха таить, загля-
дывался влюбленными глазами. А так как он всегда
и во всем знал, чего хочет, то и здесь он едва ли не
с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лотхен,
супругой и хозяйкой в своем доме, когда служебное
и материальное положение позволят ему посвататься
ко мне. Последнее было условием, которое поставил
наш добрый отец, обещавший дать свое благослове-
ние не раньше, чем Кестнер добьется известных жиз-
ненных благ и сможет прокормить семью. К тому же
я в свои пятнадцать лет была еще совсем неоперив-
шимся цыпленком. Но тем не менее это была по-
молвка, нерушимый, молчаливый обет, данный обеими
сторонами. Мой добрый Кестнер хотел во что бы то
ни стало добиться меня из-за моей домовитости, а я
желала его всем сердцем, потому что он так сильно
желал меня и из доверия к его достойному харак-
теру,— короче говоря, мы были помолвлены. Мы на-
век полагали свою жизнь друг в друге, и если я в по-
следующие четыре года несколько развилась физи-
чески и приобрела, так сказать, женский облик, кстати,
довольно приятный, то это, конечно, сделалось бы и
само собой; просто для меня пришла пора из под-
ростка стать женщиной или, выражаясь поэтически,
расцвести. Конечно, это так, но в моем представлении
все выглядело иначе, все совершалось по определен-
ному умыслу, из любви к нему, преданному и желав-
шему меня, в его честь, дабы ко времени, когда он
станет достаточно представителен для звания жениха,
и мне, со своей стороны, быть достаточно представи-
тельной в качестве невесты и будущей матери... Не
знаю, понятно ли вам, почему мне кажется важным
подчеркнуть, что, по моему тогдашнему убеждению,
я исключительно для него, доброго, преданного, стала
хорошенькой девушкой или по крайней мере аван-
тажной..,
446
— Думается, я понимаю, — отвечал Ример, поту-
пившись.
— И вот в ту самую пору появился третий, друг,
милый соучастник. Он пришел извне, впорхнул в мир
>тих отношений и заботливо уготовляемой жизни, как
мотылек или пестрая летняя птица. Не удивляйтесь,
что я называю его мотыльком — он, конечно, был не
очень легким юношей, то есть легким-то, пожалуй,
и был: немного сумасбродный, суетный в манере
одеваться, немного ветрогон, любивший щегольнуть
силой и проворством. Душа общества, он изобретал
самые веселые игры, и лучшие из наших танцорок
исегда с радостью протягивали ему руку; все это так,
хотя задорная веселость и нарядное оперенье не
мсегда были ему к лицу, ибо для этого он все-таки
Пыл слишком тяжел, слишком полон духа и мысли, —
по ведь как раз тяга к глубоким размышлениям, гор-
дость великими мыслями и служили у него связую-
щим звеном между серьезностью и легкомыслием,
между грустью и самодовольством. В общем же он
был очарователен; в этом нельзя не признаться: та-
кой открытый и добросердечный, в любую минуту
готовый честно искупить свою провинность. Кестнер
и я, мы одинаково сдружились с ним, все трое объ-
единились в сердечной дружбе, ибо он, явившийся
извне, пришел в восторг от отношений, существовав-
ших между нами, с радостью воспринял их и к ним
присоединился как друг и третий. У него на это хва-
тало досуга, ибо, хорош или плох был имперский суд,
но он не проявлял к нему интереса и ровно ничего не
делал, в то время как мой, желая выдвинуться,—
опять же ради меня, — дневал и ночевал в канцеля-
рии посланника. Я еще поныне убеждена и готова по-
ручиться перед будущими исследователями, что он
и от этого был в восторге — я имею в виду трудо-
любие и занятость Кестнера — не потому, что это ему
позволяло быть наедине со мною, нет, он не был не-
верным другом, никто не посмеет этого сказать,
К тому же поначалу он вовсе не был в меня влюблен,
не поймите меня превратно, а был влюблен в нашу
предназначенность друг для друга, в наше терпеливое
447
счастье. В моем добром Кестнере он видел братскую
душу и о неверности ему не помышлял. Он дружески
положил руку на его плечо, чтобы в единении с ним
любить меня, получая свою долю в наших продуманно-
спокойных отношениях. И вот тут-то и случилось, что
он позабыл о руке, покоившейся на плече Кестнера,
хотя и не отнял ее, и его взор, обращенный на меня,
принял другое выражение. Доктор, представьте себе
мое состояние: все долгие годы вынашивая и растя
детей, я день и ночь вспоминала об этом, без устали
думала и думаю по нынешний день! Боже милости-
вый, я все заметила, я была бы не женщина, если б
не заметила, что его взор мало-помалу пришел в раз-
лад с его верностью и что он влюблен уже не в нашу
помолвленность, но в меня, то есть в то, что принад-
лежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я пре-
вратилась за эти четыре года ради него, желавшего
меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих
детей. Однажды тот, третий, дал мне прочесть нечто
выдавшее, намеренно выдавшее мне, как обстоит дело
и что он ко мне чувствует — невзирая на руку, все
еще покоившуюся на Кестнеровом плече, — нечто, от-
данное им в печать; ведь он писал и сочинял непре-
станно и уже в Вецлар приехал с рукописью драмы
о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой,
почему его приятели из трактира «Кронпринц», читав-
шие эту драму, и дали ему прозвище «Гец прямо-
душный». Он писал также рецензии и тому подобное.
Заметка, о которой я говорю, была напечатана во
«Франкфуртском ученом вестнике». В ней разбира-
лись стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то
польским евреем. Правда, о еврее и его стихах там
говорилось немного. Словно не в силах сдерживаться,
он быстро переходил к рассказу о юноше и девушке,
встреченной им среди мирной сельской природы.
И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдли-
вость и скромность, не могла не узнать себя; так густо
был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня,
на мирный семейный круг домашней деятельной
любви, где расцветала эта девушка во всей своей
душевной и телесной прелести, душа столь любвег
448
обильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца
(и почти дословно цитирую его), поэты и мудрецы
охотно шли к ней в ученье, с восторгом созерцая
ирожденную добродетель в союзе с врожденной пре-
лостью. Короче говоря, конца не было намекам, надо
было быть уже совсем богом ушибленной, чтобы не
наметить, к чему он клонит, — тут никакая стыдли-
вость и скромность не могли помешать проникнове-
нию в истину. В трепет и отчаяние меня повергло то,
м ю юноша предложил девушке свое сердце, столь же
молодое и пылкое, сердце, созданное, чтобы вместе
с нею стремиться к далекому, таинственному блажен-
ству этого мира (так он выражался) и в оживляю-
щем содружестве (как было мне не узнать «оживляю-
щего содружества») питать золотые надежды на веч-
ную близость (я цитирую дословно) и вечно подвиж-
ную любовь.
— Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы
же делаете важнейшее открытие, — прервал ее Ри-
мер. — Вы сообщаете сведения, в ценности которых
едва ли отдаете себе отчет. Об этой рецензии ничего
не известно. Я слушаю и ушам не верю. Ясно, что
старик... ясно, что он утаил от меня этот документ.
Возможно, впрочем, что он забыл...
— Этому я не верю, — перебила Шарлотта. — Та-
кое не забывается. «Вместе с нею стремиться к дале-
кому, таинственному блаженству», — об этом он, ко-
нечно, помнит так же, как и я.
— Очевидно, — горячился Ример, — этот документ
связан с Вертером и чувствами, легшими в его основу.
Уважаемая, это дело огромной важности! Сохранился
ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступ-
ным филологам....
— Я почту за честь послужить науке таким ука-
занием,— отвечала Шарлотта, — хотя должна заме-
тить, что мне вряд ли необходимо обращать на себя
внимание единичными заслугами.
— Вы совершенно правы.
— Приходится разочаровать вас, у меня нет этой
рецензии, — продолжала она. — В свое время он дал
мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я
29 Т. Манн, т. 2
449
прочитала ее при нем, на что я бы никогда не согласи-
лась, если б хоть на мгновенье заподозрила, в сколь
тяжкий конфликт здесь вступят моя скромность и про-
ницательность. Так как я отдала ему рецензию, не
взглянув на него, то не могу вам даже сказать, ка-
кую мину он состроил. «Вам понравилось?» — спросил
он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком до-
волен»,— холодно отвечала я. «Ну, а вы, Лотхен,—
настаивал он, — вы довольны?» — «Я не утратила
душевного равновесия». — «О, если б я мог то же
сказать о себе!» — воскликнул он, словно недоста-
точно было одной рецензии и понадобилось еще это
восклицание, чтобы сказать мне, что рука, покоив-
шаяся на плече Кестнера, забыта и вся жизнь теперь
сосредоточена в глазах, которыми он смотрит на то,
что принадлежало Кестнеру, на то, что для него
одного, под теплым, пробуждающим взглядом его
любви, распустилось во мне. Да, все, чем я была, и
все, что было во мне, все, что я могу теперь назвать
моей девятнадцатилетней прелестью, принадлежало
моему милому, было посвящено нашим честным жи-
тейским намерениям и цвело не для «таинственного
блаженства», не для какой-то «вечно подвижной
любви», отнюдь нет. Но вы, доктор, поймете, да и все
люди, я надеюсь, поймут, что девушка радуется и
веселится, когда не только один видит ее весеннее
цветение, не только тот, кому оно посвящено и кем,
я бы сказала, оно вызвано, но когда на это цветение
раскрываются глаза и у другого, третьего, ибо это
ведь подтверждает нашу прелесть и для нас и для
того, кому суждено владеть ею. И как же я радова-
лась, видя, что и мой добрый Кестнер радуется моим
успехам у других и прежде всего у его необыкно-
венного, гениального друга, которым он восхищался,
в которого верил так же, как в меня, или, нет, по-
жалуй, несколько иначе, несколько менее почетной
верой. В меня он ведь верил потому, что не сомне-
вался в моем благоразумии и был убежден, что я
знаю, чего хочу; в него же верил именно потому, что
тот понятия не имел, чего он хочет, и любил смятенно
и бесцельно, как поэт, Вот, доктор, видите, как все
450
Лило! Кестнер в меня верил, так как принимал меня
игсрьез; в того же верил, так как его всерьез не при-
нимал, хотя и бесконечно восхищался его блеском и
I шием, хотя и сочувствовал страданиям, уготованным
гму его бесцельной любовью поэта. Я тоже жалела
«то за то, что он так страдал из-за меня, за то, что
и i дружбы угодил в такой переплет, но ко всему мне
было еще и обидно за него, за то, что Кестнер не
принимал его всерьез и верил в него какой-то непо-
чстной верой, а потому меня часто мучила совесть:
мне казалось, что я обкрадываю моего милого, объ-
единяясь с другом в обиде на такого рода доверие.
Но, с другой стороны, это доверие успокаивало меня,
позволяло мне смотреть сквозь пальцы и чет считать
:»а нечет, видя, как подозрительно перерождается
добрая дружба третьего и как он забывает о руке,
положенной на плечо моего милого. Понимаете ли вы,
господин доктор, что это чувство обиды было уже
признаком моего собственного небрежения долгом и
благоразумием и что доверие и невозмутимость
Кестнера сделали меня немного легкомысленной.
— Благодаря моему высокому служению, — отве-
чал Ример, — я привык разбираться в подобных тон-
костях и, думается мне, постигаю всю тогдашнюю
ситуацию. Я отдаю себе отчет также и в трудностях,
выраставших для вас, госпожа советница, из этого
положения.
— Благодарю, — отвечала Шарлотта, — и возьму
на себя смелость заверить вас, что давность всего про-
исшедшего нисколько не умаляет моей благодарности
за это понимание. Ведь время здесь, против обыкно-
вения, играет весьма ничтожную роль. Я берусь
утверждать, что, несмотря на эти сорок четыре года,
все то давнее сохранило свою свежесть и непосред-
ственность, постоянно наводящую на новые и новые
размышления. Да, как ни полны были эти долгие годы
радостями и страданиями, но дня не проходило,
чтобы я напряженно не раздумывала о тогдашнем;
впрочем, его последствия и то, во что оно выросло
для всего просвещенного человечества, делают это
понятным.
29*
451
— Вполне понятным!
— Как хорошо вы это сказали, господин доктор,
и как вы меня ободрили! До чего же приятно беседо-
вать с человеком, у которого всегда наготове столь
добрые слова. Видно, то, что вы называете своим «высо-
ким служением», и вправду во многом отразилось на
вас, сообщило и вам качества исповедника, которому
можешь и хочешь все открыть, ибо ему все «вполне
понятно». Вы придаете мне мужество поведать вам
еще кое-что о мучительных размышлениях, на кото-
рые наталкивали меня некоторые события, тогдашние
и более поздние, размышления о характере и роли
того, третьего, явившегося извне, чтобы положить в за-
ботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства.
Не пеняйте на меня за такое определение, как «куку-
шечье яйцо», —вспомните, что вы сами подали мне
пример подобных оборотов, смелых или дерзких, на-
зывайте их как хотите. Вы говорили об «эльфической»
сущности, а эльфичность, на мой слух, звучит ничуть
не лучше кукушечьего яйца. К тому же это слово
только выражение долголетних непрестанных дум,—
правильно ли вы меня понимаете? — я имею в виду:
не плод их! В качестве такового оно действительно
было бы некрасиво и недостойно, с этим я согласна.
Нет, такие определения — это, в известной мере, про-
должающиеся думы, не больше. Итак, я говорю и
ничего другого не хочу сказать: добропорядочный
юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и по-
клонение — поклонение, а следовательно, и домога-
тельства, которые не могут не смущать ее, — тем паче,
чем необычнее и блистательнее проявляет себя этот
юноша и чем увлекательнее общение с ним, есте-
ственно, вызывающее некоторые ответные чувства в ее
сердце: такой юноша, я полагаю, должен был бы,
если можно так выразиться, самостоятельно избрать
свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жиз-
ненном пути, сам оценить ее достоинства и вывести
ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое
сердце. И вот... почему бы мне и не спросить вас
о том, о чем я так часто спрашиваю себя в продолже-
ние этих сорока четырех лет: что сказать о юноше,—
452
пусть общение с ним стократ увлекательно, — кото-
рому недостает самостоятельности в любви и избра-
нии и кто предпочитает быть третьим и любить то, что
расцвело для другого и благодаря другому? — кто,
м.чюбившись в чужую влюбленность, вторгается
и жизнь, созданную другими, и лакомится яствами
с чужого стола? Любовь к нареченной другого — вот
что заставляло меня ломать голову все эти годы моего
wiмужества и вдовства, любовь, сочетаемая с верной
дружбой к жениху, которая — при всех домогатель-
ствах, неразлучных с нею, — отнюдь не намеревалась
ущемить его права или разве что поцелуем, — любовь,
предоставляющая другу все права и обязанности и
наперед ограничивающая себя намерением крестить
детишек, которые произойдут от брака тех двоих,
а если и это не удастся, то довольствоваться пред-
ставлением о них по силуэтам... Скажите, что же это
такое — любовь к чужой невесте, и почему эта любовь
может стать предметом долголетних, трудных дум?
Они привели к тому, что у меня на языке стало не-
отвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внут-
реннее сопротивление, так и не смогла от него от-
делаться. Это слово — прихлебательство...
Наступило молчание. Голова старой дамы дро-
жала. Ример на мгновение закрыл глаза и закусил
губы. Затем он заговорил с нарочитым спокойствием:
— Имея мужество выговорить это слово, вы,
должно быть, учли, что у меня достанет мужества его
выслушать. И, верно, вы согласитесь, что испуг, на
мгновение заставивший нас умолкнуть, был только
испугом перед божественным значением и смыслом
этого слова, не ускользнувшим от вас, когда вы его
обронили. Могу вас заверить, что принимаю эту
мысль во всей ее чистоте. Существует божественное
прихлебательство, нисхождение божества в обитель
человека, не новое для нашего воображения, боже-
ственно случайное соучастие в земном блаженстве,
высшее избрание избранницы смертного, любовная
страсть бога к жене человека, достаточно благочести-
вого и богобоязненного, чтобы чувствовать себя не
оскорбленным и не униженным такого рода дележом^
453
но, напротив, вознесенным и отличенным. Его доверие,
его спокойствие вызвано именно этой бродяжно-
божественной сущностью сотрапезника, которому, не-
зависимо от благоговения и набожного восторга, им
возбуждаемого, свойственна некая реальная незначи-
мость,— я упоминаю об этом, так как вы первая за-
говорили о «непринимании всерьез». Божественное,
право же, не принимается вполне всерьез, конечно,
поскольку оно обитает среди людей. Земной жених
по справедливости может сказать себе: «Успокойся,
это только бог», — хотя «только» здесь, разумеется,
исполнено прямодушного признания высшей природы
солюбовника.
— Так все и было, друг мой; его доверие было
исполнено этим чувством и притом даже слишком,
так что я нередко замечала сомнения и терзания моего
милого: достоин ли он быть моим обладателем перед
лицом столь высокой, хотя и не совсем всерьез при-
нимаемой страсти другого? Сможет ли он осчастли-
вить меня в той мере, как тот, и не лучше ли ему
отказаться от соперничества?
И, признаюсь, я была не всегда, не всем сердцем
готова снять с Кестнера эти сомнения. И все это,
доктор, заметьте, хотя мы оба и чуяли про себя, что
его страсть, сколько бы страданий она ни несла
с собой, была лишь чем-то вроде игры, чем-то, на что
нельзя положиться, каким-то сердечным средством
для достижения сверхобычных,—мы едва решались
так думать, — сверхчеловеческих целей.
— Дражайшая, — произнес фамулус растроган-
ным и в то же время предостерегающим тоном; он
даже простер ввысь украшенный перстнем палец,—
поэзия — это не сверхчеловеческий феномен, несмотря
на всю ее божественность. Девять плюс четыре года
служу я ей поденщиком и писцом. В тесном общении
я многое заметил за нею и вправе о ней говорить:
на деле она — таинство, очеловечивание божества;
она человечна и божественна в равной мере — фено-
мен, отсылающий нас к глубочайшим тайнам хри-
стианского учения и к обольстительным мифам язы-
чества, Пусть причина — в ее божественно-человече-
454
«■кой двойственности или в том, что она сама кра-
ппа,— безразлично; она склонна к самолюбованию
и ассоциируется с древним прелестным образом от-
рока, в восторге склонившегося над своим отраже-
нием. Как слова в ней, улыбаясь, любуются собою,
1ик и чувства, и мысли, и страсть. Самолюбование не
и чести у смертных, но в высоких сферах, дражайшая
юспожа советница, смею вас уверить, это слово не
гсть порицание. Да и как может прекрасное, поэзия
m* прельщаться собою? Она продолжает собой любо-
илться и в страстнейших страстях, — она человечна
м страданиях и божественна в самовосхищении. Она
.побит себя созерцать в самых странных обличиях и
причудах любви, — к примеру, в любви к невесте,
к) есть к недозволенному, запретному. Ей нравится,
неся на себе печать принадлежности к чужому, нече-
ловеческому, любовному миру, вступать в людские
связи и соучаствовать в них, пьянея от греха, в кото-
рый она впала, которому предалась по доброй воле.
В ней много от знатного вельможи — и в нем от нее,—
которому нравится, распахнувши плащ, предстать
перед ослепленной, молящейся на него девочкой из
народа во всем великолепии испанского придворного
платья... Такова природа ее самовосхищения.
— Сдается мне, — заметила Шарлотта, — что та-
кое самовосхищение связано с чрезмерной непритяза-
тельностью, уже не дозволяющей всецело признать его
права. Мое смятение в ту пору — долго не проходив-
шее смятение, не буду этого скрывать — было вызвано
сравнительно жалкой ролью, на которую здесь согла-
силось божество, как вам угодно было выразиться.
Вы, милый доктор, сумели грубому слову, вырвав-
шемуся у меня, дать высокое, величественное толко-
пание, и я от души благодарна вам. Но, по правде
говоря, это божественное сотрапезничество имело
жалкий вид и непонятное сострадание к этому другу,
к этому третьему меж нами, столь превосходя-
щему блеском простых смертных, повергало в кон-
фузливое удивление обоих нас, предназначенных друг
для друга. Разве ему нужно было строить из себя
нищего и принимать милостыню? А чем был мой
455
силуэт или бант от платья, подаренный ему Кестне-
ром, как не милостыней? Правда, я зиаю, что одно-
временно они были и жертвой, примирительной жерт-
вой, ибо я, невеста, безусловно хотела этого, и дар
был сделан с моего согласия. И все же, доктор, всю
мою долгую жизнь я не переставала дивиться непри-
тязательности богоподобного юноши. Сейчас я хочу
вам рассказать кое-что, над чем я ломала голову
в продолжение сорока лет, да так и не подыскала
объяснения, — мне однажды поведал это Борн, прак-
тикант Борн, проживавший тогда в Вецларе сын лейп-
цигского бургомистра, знакомый с ним, как вы
знаете, еще с университета. Борн хорошо относился
к нему и к нам, в особенности к Кестнеру. Превосход-
ный, благовоспитанный юноша, он обладал большим
тактом и на многое из того, что происходило, смотрел
с неодобрением. Его заботила, как я узнала позднее,
близость того ко мне и его поведение, ибо все это
было похоже на шуры-муры, опасные для Кестнера,
то есть на то, что он волочился за мною, желая от-
бить меня у моего жениха. Борн высказал это тому,
когда мой милый был в отъезде... «Брат, — сказал
он, — не дело ты затеял! К чему все это приведет? Ты
даешь повод к пересудам о девушке и о тебе. Будь
я Кестнером, клянусь богом, мне бы это пришлось не
по вкусу. Опомнись, брат!» И знаете, что тот ему от-
ветил? «Пусть я дурак,— сказал он, — но я бесконечно
высоко ставлю эту девушку, и если она меня обманет
(если я его обману, так он сказал), если она ока-
жется столь заурядной и воспользуется Кестнером,
как ширмой, чтобы тем увереннее расточать свои
прелести, то миг, в который я это узнаю, миг, в кото-
рый она предаст жениха, будет последним мигом на-
шего знакомства». Что вы на это скажете?
— Весьма благородный и деликатный ответ,—
промолвил Ример, опустив глаза, — свидетельствую-
щий о доверии, с которым он к вам относился, о вере
в то, что вы ложно не истолкуете его привержен-
ность.
— Ложно не истолкую? Я и поныне стараюсь не
истолковать ее ложно. Но скажите, как правильно
456
1 о. iковать ее? Нет, он мог быть спокоен, мне и на ум
иг приходило предаваться кокетству под прикрытием
нашей помолвки. Для этого я была слишком глупа
и.'ш, говоря его словами, недостаточно заурядна. Но
пн-то сам, разве он не пользовался Кестнером и на-
шим обручением как прикрытием для своих поступков
и страсти к уже несвободной девушке, которой за-
юрно предавать своего жениха? Разве он не обманы-
мал меня, не мучил своей вдохновенно взволнованной,
будоражившей мне душу привлекательностью, кото-
ром я не могла, и он это знал наверное, не могла, не
хотела и не дерзала покориться? Однажды в Вецлар
маявился его друг, долговязый Мерк, — я его не тер-
пела,— вечно насмешливый и озлобленный вид, про-
тивная физиономия, заставлявшая меня сжиматься,
но умник и на свой лад действительно любивший его,
может быть единственного на свете. Убедившись
и этом, я волей-неволей стала лучше к нему отно-
ситься. Так вот! То, что ему сказал этот Мерк, позд-
нее дошло до меня. Мы вместе с брандтовскими де-
вочками Анхен и Дортельхен, дочерьми прокуратора
Ьрандта, снимавшего большой дом в Орденском
дворе, моими соседками и закадычными подругами,
отправились на вечеринку потанцевать и поиграть
п фанты. Дортель, красивая и рослая, была куда
представительнее меня, все еще довольно субтильной,
несмотря на мое цветение в честь Кестнера, — а глаза
у нее были как черные вишни и частенько возбуждали
мою зависть, ибо я знала, что он, в сущности, любит
черные глаза и предпочитает их голубым. И вот этот
долговязый отзывает Гете в сторонку и говорит: «Глу-
пец, какого черта ты волочишься за невестой и по-
пусту теряешь время? Обрати-ка лучше внимание на
эту черноокую Юнону, Дортель, и приударь за нею,
тут дело живо наладится, она свободна и ничем не
связана. Ну, да, впрочем, ты охотник расточать
иремя». Анхен, ее сестра, слышала это и точно пере-
сказала мне. Он только рассмеялся на слова Мерка,
пмюрила она, и пропустил мимо ушей упрек в трате
г■ремени, — тем более лестно для меня, если хотите, что
457
он не признавал потерянным время, отданное мне, и
свободу Дортель не посчитал достоинством, превы-
шавшим мои достоинства. Или, быть может, и видел
в этом достоинство, да только ему не нужное. Впро-
чем, в романе он наделил Лотту черными глазами
Дортель, — если это ее черные глаза. Ведь говорят,
что они идут от Максимилианы Ларош, впоследствии
Брентано, во франкфуртском доме которой, в ее ме-
довый месяц, он просиживал целые дни перед написа-
нием «Вертера», покуда муж не устроил сцену, по-
ложившую конец этому сиденью. Люди говорят, что
это ее глаза, у некоторых даже хватает бесстыдства
утверждать, будто в Вертеровой Лотте от меня не
больше, чем от иных прочих. Что вы скажете об этом,
доктор, в качестве мужа науки? Разве это не ужасно
и разве я могу спокойно относиться к таким разгово-
рам? Подумайте только, из-за этой чуточки черных
глаз я уже перестаю быть Лоттой?
Ример с умилением заметил, что она плачет. У ста-
рой дамы, круто отворотившейся, чтобы укрыться от
его взора, покраснел носик, ее губы дрожали, и тон-
кие пальцы торопливо шарили в ридикюле, отыски-
вая платочек, которому предстояло осушить слезы,
готовые вот-вот пролиться из ее быстро мигающих
незабудковых глаз. Но и опять, как прежде, — Ример
снова заметил это, — она плакала по заранее преду-
смотренному поводу. Быстро и хитро, из женской по-
требности в притворстве, она его сымпровизировала,
чтобы дать беспомощным слезам, давно уже подсту-
павшим к горлу, слезам о непостижимом, которых
она стыдилась, более простое, хотя и довольно вздор-
ное толкование. Несколько секунд она прижимала
платочек к глазам.
— Дорогая, бесценная мадам Кестнер, — прого-
ворил Ример. — Возможно ли это? Возможно ли, что
вы усомнились в вашей почетнейшей роли и что это
сомнение хотя бы на малый миг огорчило вас? Наша
беседа здесь, осада, терпеливыми и, как мне думается,
довольными жертвами которой мы стали, должна со
всей ясностью показать вам, в ком нация видит про-
образ вечной героини. Я говорю так, словно еще мо-
458
ж it быть место сомнению в вашем величии, после
ют как он сам в... позвольте... да, в третьей части
< ноей исповеди высказался об этом. Но мне ли вам
•но напоминать? Как художник, говорит он, конден-
сирует в своей Венере множество виденных красавиц,
i;iK и он позволил себе из добродетелей многих хоро-
шеньких девушек сформировать свою Лотту; но ос-
новные черты, добавляет он, взяты от любимейшей,—
любимейшей, госпожа советница! А чей дом, чью
семью, характер, внешность и деятельную любовь
описывает он с нежностью и точностью, не оставляю-
щими места каким бы то ни было сомнениям в... сей-
час, одну минуточку — в двенадцатой книге? Пусть
спорят празднословы, существует одна или несколько
моделей Лотты Вертера, — героиня одного из преле-
стнейших, трогательнейших эпизодов в жизни вели-
кого гения, Лотта юного Гете, уважаемая, существует
только одна...
— Это я сегодня уже слышала, — улыбаясь и
краснея, сказала она, выглянув из-под платочка.—
Здешний кельнер, Магер, не знаю уж по какому по-
воду, высказал то же самое мнение.
— Я ничего не имею против, — возразил Ример,—
разделять проникновение в истину с человеком из
простонародья.
— В конце концов, — заметила она с легким вздо-
хом и дотронулась платочком до глаз, — эта истина не
столь уже много значит, мне следовало бы помнить
об этом. На один эпизод, разумеется, довольно и од-
ной героини. Но эпизодов-то было множество, и гово-
рят, что они все еще имеют место. Я внесена в длин-
ный список...
— Бессмертный список, — дополнил он.
— Вернее, — поправилась она, — судьба внесла
меня в него. Я на нее не в претензии. Она была ко мне
милостивее, чем ко многим из нас, даровав мне пол-
ную, счастливую жизнь бок о бок с добрым мужем,
которому я хранила разумную верность. Среди нас
есть куда более блеклые, печальные фигуры: они изо-
шли одинокими слезами и обрели мир в безвременной
могиле. Но когда он пишет, что покидал меня не
459
без страданий, но все же с более чистой совестью,
нежели Фредерику, то я не могу не сказать: и в моем
случае совести есть за что попрекнуть его. Немало он
измучил меня своими бесцельными домогательствами
и до того возмутил мое сердечко, что оно готово было
разорваться. Когда он уехал и мы снова оказались
одни, простые люди в своем кругу, грустно стало
у нас на душе, и только о нем мы и могли говорить.
Но и легко нам стало тоже. Да, мы почувствовали
облегчение, — я тогда же это подумала и все стара-
лась убедить себя, что вот отныне и уже навек вос-
становились естественные для нас и нам подобающие
мирные будни. Как бы не так! Тут все только и на-
чалось! Пришла книга, и я сделалась бессмертной
возлюбленной, — не единственной, боже упаси, ведь
их целый список, но прославленнейшей, больше дру-
гих возбуждающей людское любопытство. И вот я
вошла в историю литературы, стала предметом
исследований и паломничеств, статуей Мадонны, пе-
ред чьей нишей всегда толпится народ в соборе чело-
вечества. Таков был мой удел. И я, вы уж не удив-
ляйтесь, продолжаю спрашивать себя: почему это
случилось? Потому ли, что юноша, смущавший меня
в то лето, стал так велик, что и меня увлек за собою,
и с тех пор всю свою жизнь я живу в тревоге болез-
ненного возвеличения, в которое меня ввергло его
тогдашнее бесцельное волокитство? Как сталось, что
мои бедные, глупые слова были произнесены для веч-
ности? Когда мы с кузиной ехали на бал и разговор
вертелся вокруг романов, а затем перешел на танцы,
я что-то болтала о том и о другом, нимало не помы-
шляя,— боже избави! — что я болтаю для столетий и
что это будет стоять в книге на веки веков. Я бы тогда
попридержала язык или попыталась сказать что-ни-
будь, быть может, более подходящее для бессмертия.
Ах, господин доктор, когда я читаю эти слова, я сты-
жусь их, стыжусь так вот стоять с ними в моей нише
перед всем человечеством! А этот мальчик, раз уж
он был поэтом, неужели он не мог немножко их при-
украсить, пересказать половчее, чтобы мне лучше
было стоять с ними — Мадонной перед лицом чело-
460
тчества? Ведь, собственно, это было его обязанно-
стью, раз уж он непрошенно втянул меня в нескон-
чаемый мир вечности.
Она опять заплакала. Кто раз всплакнул, у того
глаза уже на мокром месте. И снова, качая головой,
и беспомощном недоумении перед своим жребием,
поднесла к глазам платочек.
Ример склонился к ее левой руке в митенке, вме-
сте с ридикюлем лежавшей на коленях, и ласково
положил на нее свою руку.
— Милая, дорогая мадам Кесгнер, — произнес
ом, — трепет, некогда возбужденный вашими милыми
словами в груди юноши, во веки веков будет разде-
ляться всем чувствующим человечеством — об этом
он, как поэт, позаботился, и не в словах тут дело. —
В дверь постучали. — Войдите, — машинально произ-
нес он, не изменяя ни своего положения, ни мягкого
утешающего тона. — Примите смиренно, — продолжал
он, — что ваше имя всегда будет блистать среди жен-
ских имен, отмечающих эпохи его великого творче-
ства, и питомцы просвещения будут говорить о вашей
встрече, как о любовных похождениях Зевса. Сживи-
тесь с тем, — да, впрочем, вы уже давно сжились,—
что вы, как и я, принадлежите к людям, мужчинам,
женщинам, девушкам, на которых благодаря ему па-
дает свет истории, легенды, бессмертия, — как на тех,
вкруг Иисуса... Кто там? — спросил он, выпрямляясь,
но все еще растроганным голосом.
В комнате стоял Магер. Услышав, что речь идет
о господе Иисусе Христе, он молитвенно сложил руки.
Глава не m в ер тая
Шарлотта торопливо засунула в ридикюль свой
платочек, быстро замигала глазами и втянула воздух
покрасневшим носиком. Таким путем ей удалось по-
бороть нарушенное появлением коридорного душев-
ное состояние. Мина, которую она теперь состроила,
относилась уже к новой фазе ее чувств: это была
весьма рассерженная мина.
461
— Магер! Вы опять здесь? — с досадой восклик-
нула она. — Я ведь, кажется, предупреждала, что дол-
жна обсудить с доктором Римером весьма серьезные
вопросы и не хочу, чтобы мне мешали.
Тут у Магера нашлось бы что возразить, но он из
почтения отказался оспаривать этот самообман и
ограничился тем, что, простерев к старой даме и без
того уже молитвенно сложенные руки, проговорил:
— Госпожа советница, смею заверить, что я до
последней минуты старался не нарушить происходя-
щего здесь собеседования. Я безутешен, но что мне
было делать? Вот уже более сорока минут новая
гостья, дама из веймарского общества, дожидается
возможности предстать перед госпожой советницей.
Я не мог более медлить с докладом и решился войти,
уповая на чувство справедливости госпожи советницы
и господина доктора, без сомнения привыкших, по-
добно другим высоким и почитаемым особам, делить
между людьми свое время и благосклонность, дабы
не оставить многих обойденными...
Шарлотта поднялась.
— Это уже слишком, Магер, — заявила она. — Би-
тых три часа или больше, а я ведь и без того
проспала, я собираюсь уходить, чтобы добраться нако-
нец до моих, наверно уже обеспокоенных родственни-
ков,— а он хочет задержать меня новыми визите-
рами! Право, это уже чересчур. Я сердилась из-за
мисс Гэзл, из-за господина доктора я сердилась тоже,
хотя, как оказалось, это был визит более чем интерес-
ный. А теперь он навязывает мне еще новое промедле-
ние! Приходится всерьез сомневаться в преданности,
которую он на все лады изъявлял мне, видимо только
для того, чтобы удобнее выставлять меня напоказ.
— Недовольство госпожи советницы, — с покрас-
невшими глазами воскликнул Магер, — разрывает мне
сердце, уже ранее растерзанное борьбой двух священ-
ных обязанностей. Ибо как мне не почитать священ-
ной обязанность защищать нашу знаменитую гостью
от нежелательных вторжений? Но пусть госпожа со-
ветница, прежде чем навеки обречь меня своей неми-
лости, соизволит взвесить, что. не менее священны и
462
понятны такому человеку, как я, чувства высокочти-
мых особ, которые тотчас же по принятии к сведению
игсти о прибытии госпожи советницы возгорелись
» фастным желанием предстать перед нею.
— Прежде всего, — строго взглянув на него, ска-
чала Шарлотта, — следовало бы узнать, кем пущен
нот слух.
— Кто спрашивает госпожу советницу? — осведо-
мился Ример, в свою очередь поднявшийся со стула.
— Демуазель Шопенгауэр, — отвечал Магер.
— Гм, — буркнул доктор. — Уважаемая, этот доб-
рый человек не так уж неправ, взявшись доложить
о ней. Речь, с вашего разрешения, идет об Адели
Шопенгауэр, весьма просвещенной девице, принадле-
жащей к лучшему обществу, дочери мадам Иоганны
Шопенгауэр, богатой вдовы из Данцига, которая уже
много лет проживает у нас. Она преданный друг
учителя, к тому же сама писательница и хозяйка ли-
юратурного салона, в котором он, в пору когда еще
охотно бывал в обществе, нередко проводил вечера.
Пы были так добры приписать известный интерес на-
шему собеседованию. И если вы чувствуете себя не
слишком утомленной и располагаете еще малой то-
ликой времени, то я взял бы на себя смелость посо-
петовать вам уделить несколько минут этой барышне.
Не говоря уже о благодеянии, которое вы таким обра-
зом окажете чувствительному юному сердцу, это сви-
данье, я готов поручиться, даст вам лучшую возмож-
ность ознакомиться с нашими обстоятельствами и
взаимоотношениями, нежели беседа с ученым отшель-
ником. Что же касается последнего, — с улыбкой до-
бавил Ример, — то он очищает поле действий, упре-
кая себя за слишком долгое пребывание..,
— Вы чересчур скромны, господин доктор,—^
успокоила его Шарлотта. — Я благодарна вам за этот
час, столь приятно проведенный, он навсегда останется
у меня в памяти.
— Два часа, — позволю себе заметить, — вставил
Магер, в то время как Ример с чувством склонился
над ее рукой. — И так как обед, по-видимому, не-
сколько отсрочился, было бы весьма желательно,
463
чтобы госпожа советница, прежде чем я введу дему-
азель Шопенгауэр, подкрепила свои силы легкой за-
куской, чашечкой бульона с гренками, например, или
стаканчиком венгерского.
— Я не голодна, — отвечала Шарлотта, — и в пол-
ном обладании сил! Будьте здоровы, господин доктор!
Надеюсь еще увидеться с вами в последующие дни.
Ну, а Магер пусть идет с богом и просит ко мне эту
барышню, оговорив, однако, — я на этом настаи-
ваю, — что у меня осталось лишь несколько минут
для беседы с нею, ибо теперь даже малая проволочка
явится непростительным обкрадыванием моих за-
ждавшихся родственников.
— Слушаюсь, госпожа советница! Но позвольте
заметить: отсутствие аппетита еще не означает отсут-
ствия потребности в пище. Если бы госпожа совет-
ница мне дозволила возобновить просьбу о неболь-
шом подкреплении сил... это, наверно, послужило бы
ей на пользу, и госпожа советница, возможно, благо-
склоннее отнеслась бы к предложению моего друга,
полицейского сержанта Рюрига... Он, вместе с одним
из своих коллег, наблюдает за порядком возле на-
шего дома и только что заглянул ко мне в сени. По
его мнению, наших жителей легче было бы заставить
разойтись, если бы им удалось бросить хотя бы взгляд
на госпожу советницу, и госпожа советница оказала
бы немалую услугу полиции и общественному по-
рядку, согласившись, пусть только на мгновение, по-
казаться толпе у раскрытого окна...
— Да ни за что, Магер! Ни под каким видом!
Это совершенно нелепое, абсурдное предложение!
Может быть, еще прикажете мне держать речь? Нет,
я не покажусь, ни в коем случае. Я не владетельная
особа...
— Больше, госпожа советница! Больше, возвы-
шеннее, чем таковая. При нынешнем расцвете куль-
туры смотреть сбегаются не на владетельных особ, но
на светил нашей духовной жизни.
— Глупости, Магер! Я, слава тебе господи, знаю
толпу и знаю мотивы ее любопытства; с духом они
имеют ох как мало общего. Все это вздор. Я пойду,
464
когда мой прием, наконец, кончится, не оглядываясь
но сторонам. И, конечно, ни о каком «показаться» не
может быть и речи.
— На усмотрение госпожи советницы. Но горько
сознавать, что небольшое подкрепление сил могло бы
побудить госпожу советницу увидеть все в ином
свете... Я иду известить демуазель Шопенгауэр.
Воспользовавшись краткими минутами своего
одиночества, Шарлотта подошла к окну и, выглянув
из-за тюлевой занавески, которую она присобрала
и руке, убедилась, что на площади не произошло ни-
каких перемен и двери гостиницы осаждены по-преж-
нему. Ее голова сильно дрожала, а щеки от волную-
щих перипетий разговора с фамулусом пылали ру-
мянцем. Отвернувшись от окна, она дотронулась до
них тыльной стороной ладони, чтобы ощутить тепло,
туманившее ей глаза. Вообще же ее утверждение,
что она находится в полном обладании сил, соответ-
ствовало истине, хотя лихорадочная природа ее бод-
рости была, вероятно, не вполне ясна ей. Безудерж-
ная сообщительность и возбужденно-нервозная слово-
охотливость одолевали ее, а также нетерпеливое
расположение к дальнейшим разговорам и почти тор-
жествующее сознание небудничной беглости речи,
способной касаться самых скользких вещей. Она
с любопытством поглядела на дверь, которая должна
была распахнуться перед новой гостьей.
Адель Шопенгауэр, впущенная Магером, застыла
в глубоком реверансе, дожидаясь ответного привет-
ствия старой дамы. Молодая девушка, лет двадцати
с небольшим, по оценке Шарлотты, обладала наруж-
ностью весьма некрасивой, но интеллигентной — даже
се манера с первого мгновения непрестанно быстро-
быстро мигать, озираться и воздевать взор к небу,
чем она силилась скрыть косящий взгляд желто-зеле-
ных глаз, производила впечатление нервной интел-
лектуальности, а ее рот, большой и узкий, но умно
улыбавшийся и, видимо, понаторелыи в просвещенной
беседе, отвлекал внимание от длинного носа, та-
кой же длинной шеи и удручающе оттопыренных
ушей, на которые из-под несколько экстравагантной
30 Т. Манн, т. 2
465
соломенной шляпы свисали мелкие букольки. Фигура
у нее была тощая. Белая плоская грудь утопала в ба-
тистовых рюшах, обвивавших худые плечи. Ажурные
митенки на тонких руках не закрывали сухих, крас-
новатых пальцев с бледными ногтями. Помимо
ручки зонтика, она сжимала в них еще какой-то па-
кетик и стебли цветов, завернутых в шелковую бу-
магу.
Говорить она начала тотчас же, быстро, без-
упречно, не делая пауз между фразами, с тем провор-
ством, которого Шарлотта заранее ждала от ее ум-
ного рта. При этом он слегка увлажнялся, так что
быстрые, чуть окрашенные саксонским акцентом
слова, казалось, катятся как по маслу, и Шарлотта
невольно ощутила беспокойство: захочет ли эта
гостья посчитаться с ее собственной возбужденной
словоохотливостью?
— Госпожа советница, — начала Адель, — нет
слов, чтобы выразить, как я благодарна вам за до-
броту, даровавшую мне радость незамедлительно вам
засвидетельствовать свое глубокое уважение. — И, не
переводя дыхания: — Я делаю это не только от лица
моей собственной скромной особы, но также и от
имени, если не по поручению, — такового я еще не
успела получить, — нашего содружества муз, дух и
единство которого блестяще выдержали испытание
перед лицом чудесного события, я имею в виду ваш
приезд, — поскольку одна из нас, а именно моя воз-
любленная подруга, графиня Лина Эглоффштейн,
принесла мне окрыляющую весть, едва услышав ее
от своей камеристки. Совесть говорит мне, что я дол-
жна была бы поставить в известность Музелину,—
ах, простите, это прозвище Лины Эглоффштейн, в на-
шем содружестве у всех такие имена, вы будете
смеяться, если я перечислю их, — о задуманном мною
шаге хотя бы из чувства благодарности. Она, ко-
нечно, не замедлила бы ко мне присоединиться. Но,
во-первых, твердое решение я приняла уже после ее
ухода, а во-вторых, у меня имеются достаточно веские
основания желать в единственном числе приветство-
вать вас, госпожа советница, и поговорить с вами
466
с глазу на глаз... Разрешите мне преподнести вам не-
сколько астр, колокольчиков и петуний, а также этот
скромный образчик нашего усердного искусства.
— Милое дитя, — отвечала повеселевшая Шар-
лотта, так как произношение Адели: «бедунии» раз-
будило ее смешливость и ей не надо было удер-
живаться от смеха, который мог относиться еще
к «Музелине», — милое дитя, это очаровательно.:
С каким вкусом подобраны тона! Надо нам позабо-
титься о воде для этих чудесных цветов. Таких Краси-
ных петуний, — и смех снова разобрал ее, — я сроду
не видывала.
— Наш край славится цветами, — вставила
Лдель. — Флора к нам благосклонна. — И она взгля-
дом указала на гипсовую фигуру в нише. — Эрфурт-
ское семеноводство пользуется мировой известностью
уже целое столетие.
— Прелестно! — повторила Шарлотта. — А то, что
пы называете образчиком веймарского усердного ис-
кусства, что это такое? Я хоть и старая, но любопыт-
ная женщина.
— О, я прибегла к иносказательному выражению!
Это пустяк, госпожа советница, создание моих рук,
самый скромный приветственный дар. Разрешите по-
мочь вам развязать? Узелок вот с этой стороны! Си-
луэт, вырезанный из черной глянцевитой бумаги и
пакленный на белый картон, групповой портрет, как
видите. Это не что иное, как наше содружество муз,
портретное сходство достигнуто по мере сил. Вот это
упомянутая Музелина, она же Лина Эглоффштейн,
восхитительная певица и любимая придворная дама
великой княгини, нашей наследной принцессы. Рядом
Юлия, ее прелестная сестра, художница, по прозва-
нию Юлемуза. Дальше иду я, так называемая Адель-
муза, а та, что держит руку у меня на плече, — Тил-
лемуза, то есть Оттилия фон Погвиш! — очарователь-
пая головка, не правда ли?
— Очень мило, — сказала Шарлотта, — все это
г»чень мило! И как искусно сделано! Я восхищена
нашим умением, дитя мое. Как это сработано! Эти
рюши и пуговки, локоны, ножки кресел, ресницы и но-
30*
467
сики! Просто необыкновенно хорошо. Я давнишняя
поклонница этого искусства и всегда считала боль-
шой потерей для ума и сердца то, что оно вышло из
моды. Потому я тем больше восхищаюсь выдержкой
и терпением, благодаря которым выдающееся при-
родное дарование достигло такого полного развития
и совершенства.
— В нашем краю нельзя не развивать своих та-
лантов, коль скоро ты не обойдена ими, — возразила
молодая девушка. — Иначе не достигнешь светских
успехов и останешься незамеченной. Здесь все совер-
шают жертвоприношения музам, это слывет хорошим
тоном, да, по-моему, и является им. Я с детских лет
имела перед собой превосходный пример моей милой
мамы. Еще до переезда в Веймар, при жизни моего
отца, она занималась живописью, но серьезно куль-
тивировать этот талант начала только здесь; далее
она усердно играла на клавикордах и еще училась
итальянскому языку у ныне покойного Ферно, ученого
любителя искусств, долгие годы жившего в Риме.
Она всегда с большим вниманием следила за моими
скромными поэтическими опытами, хотя ей самой и
не дано писать стихи — во всяком случае, по-не-
мецки,— итальянский сонет во вкусе Петрарки она
под руководством Ферно однажды сочинила. Замеча-
тельная женщина! Какое впечатление произвело на
меня — мне было тогда лет тринадцать — четырна-
дцать— то, как она сумела, едва обосновавшись
здесь, сделать свой салон средоточием просвещенных
умов. Если я добилась чего-нибудь в искусстве нож-
ниц, то и этим обязана ей и ее примеру: она была и
осталась великой мастерицей в вырезывании цветов,
и сам тайный советник неизменно восхищался ее
искусством на наших чаепитиях.
— Гете?
— Ну да. Он не угомонился, покуда мама не укра-
сила цветами весь каминный экран, и сам с величай-
шим усердием помогал ей при наклеивании. Я как
сейчас помню, что он добрых полчаса сидел перед
этим экраном и не мог им налюбоваться?
— Гете?
468
— Ну да! Любовь великого человека ко всему
сделанному, к продукту усердного искусства и вся-
кого рода сноровке, одним словом — к созданию рук
человеческих, просто трогательна. Тот, кто не знает
< го с этой стороны, вообще его не знает.
— Вы правы, — промолвила Шарлотта. — Даже я
:uiaio его с этой стороны и вижу теперь, что он все
тот же старый Гете, я хочу сказать: молодой. Когда
мы были молоды, там, в Вецларе, он приходил в вос-
•юрг от моих вышивок цветными шелками и нередко
с охотой и усердием помогал мне набрасывать для
них узоры. Мне вспоминается один, так никогда и не
законченный, храм любви, на ступенях которого под-
руга приветствует возвратившуюся паломницу. В этой
композиции он принимал живейшее участие...
— Божественно! — вскричала гостья. — Боже-
ственно, дорогая госпожа советница! Пожалуйста,
пожалуйста, говорите дальше!
— Во всяком случае, не стоя, душенька, — отве-
чала Шарлотта. — Не понимаю, как я могла забыть
о долге гостеприимства. Мне это тем неприятнее,
что меня отвлекли от него ваше внимание и ваши
дары.
— Я была безусловно уверена, — продолжала
Адель, усаживаясь на канапе рядом со старой да-
мой,— что я не единственная и не первая прорвусь
сквозь кордон вашей славы. Вы были заняты, на-
верно, весьма интересной беседой. Я встретилась
с выходящим от вас дядей Римером...
— Как, он ваш...
— О нет! Я так называю его еще с детства, как
называла и продолжаю называть всех завсегдатаев
или даже просто посетителей маминых воскресных
чаепитий: и Мейеров, и Шютце, и Фальков, и барона
Эйнзиделя, переводчика Теренция майора фон Кне-
беля и легационного советника Бертуха, основателя
«Всеобщей литературной газеты», Гримма и князя
Цюклера, еще братьев Шлегелей и обоих Савиньи!
Да все они были и остались для меня дядями и
тетями. Даже Виланда я называла дядей.
— Вы так же зовете и Гете?
469
— Его нет. Но тайную советницу я называла
тетей.
— Эту Вульпиус?
— Да, ныне покойную госпожу фон Гете, которую
он тотчас же после венчания ввел в дом моей ма-
тери,— в других домах это встретило известные за-
труднения. Можно даже сказать, что и сам великий
человек едва ли бывал тогда где-нибудь, кроме нас,
так как двор и свет, смотревшие сквозь пальцы на
его свободное сожительство с покойной, не хотели
простить ему законного брака.
— А баронесса фон Штейн, — осведомилась Шар-
лотта со слегка заалевшими щеками, — тоже выказы-
вала недовольство?
— Даже больше других. Во всяком случае, она
делала вид, что гневается на легализацию этой связи,
тогда как на деле сама эта связь издавна заставляла
ее страдать.
— Ее чувства вполне понятны.
— О, разумеется! Но, с другой стороны, разве не
благородный порыв заставил великого человека сде-
лать бедняжку своей законной женой. В том году
она мужественно и преданно перенесла вместе
с ним страшные дни французского нашествия, и он
счел, что они, вместе прошедшие через такое испы-
тание, принадлежат друг другу перед богом и людьми.
— Правда ли, что ее поведение оставляло желать
лучшего?
— Да, она была вульгарна, — отвечала Адель.—
De mortuis nil nisi bene ,, но вульгарна она была до
непозволительности, в высшей степени прожорлива и
тучна, со всегда красными щеками, помешана на
танцах, да и бутылочку почитала сверх меры, по-
стоянно якшалась с актерами и молодыми людьми,
сама уже будучи не первой молодости; конца не было
маскарадам, ужинам, катаниям на санях и студенче-
ским балам, где иенские бурши позволяли себе
строить куры тайной советнице.
— И Гете терпел подобное поведение?
1 О мертвых — ничего или только хорошее (лат.)„
470
— Он смотрел на него сквозь пальцы и даже по-
смеивался. Я бы сказала, что в известной мере он
сам потакал жене в ее распущенной жизни — по слу-
хам, не без тайного умысла, желая выговорить и себе
право свободно располагать своими чувствами. Ге-
ниальный поэт не может черпать поэтическое вдохно-
вение в супружеской жизни.
— У вас очень широкие, очень свободные воззре-
ния, дитя мое.
— Я жительница Веймара, — отвечала Адель.—
Амур у нас в чести, ему даны широкие права, при всем
уважении к благоприличию. Следует также заметить,
что наше общество осуждало грубоватую жизнерадост-
ность тайной советницы скорее с эстетической, чем
с моральной точки зрения. Ибо всякий, желавший
быть справедливым, не мог не признать, что на свой
лад она была примерной женой — всегда озабоченная
физическим благоденствием высокого супруга, а к нему
он никогда не был безразличен, усердная в создании
наилучших условий для его творчества, в котором
она, по правде говоря, ничего не понимала, — ни еди-
ного слова. Духовный мир был для нее миром за
семью замками, хоть она и сознавала его значение
для человечества. Впрочем, Гете и после женитьбы
не оставил своих холостяцких привычек и большую
часть времени проводил в Иене, Карлсбаде, Теплице.
Но когда в июне этого года она в корчах умерла на
руках наемных сиделок, сам он в тот день был нездо-
ров и прикован к постели, — он уже давно подвержен
внезапным болезненным приступам, она же была оли-
цетворением жизни, доходившей до антиэстетического,
отталкивающего... Но вот, когда она умерла, он, как
говорят, припал к ее телу, восклицая: «Ты не можешь,
не можешь меня покинуть!»
Шарлотта молчала, и посему гостья, светское вос-
питание которой не терпело запинок в разговоре, по-
спешила затараторить:
— Как бы там ни было, мама поступила очень
умно, принимая у себя — единственная из всего здеш-
него общества — эту женщину и с большим тактом
выводя ее из всевозможных неловкостей. Таким путем
471
она лишь крепче привязала великого человека к сво-
ему молодому салону, для которого он, разумеется,
служил главной приманкой. Она же приучила меня
называть Вульпиус «тетей». Но Гете я никогда
не называла дядей. Это не подобало. Правда, он
любил меня и нередко мною забавлялся. Мне разре-
шалось задувать фонарь, которым он освещал себе
дорогу, он рассматривал мои игрушки и однажды
протанцевал экосез с моей любимой куклой. И все же
я не могла называть его «дядей» — для этого он был
слишком почитаемой особой, не только для меня, но
и для взрослых, что я отлично понимала. Ведь даже
когда он бывал не в духе и молча сидел у стола, что-
то рисуя, он доминировал в салоне, хотя бы потому,
что все и вся применялось к нему, и он тиранил об-
щество, — не потому, что был тираном, но потому, что
из него делали тирана. И он входил в эту роль, рас-
поряжался, стучал по столу, отдавал то одно, то
другое приказание, читал шотландские баллады, тре-
буя, чтобы дамы хором подхватывали рефрен, и горе
той, которой овладевал смех, — в таких случаях он,
сверкая глазами, объявлял: «Я прекращаю чтение» —
и маме, чтобы восстановить равновесие, приходилось
впредь гарантировать абсолютное послушание. Или
вдруг ему казалось забавным до полусмерти пугать
какую-нибудь боязливую даму страшными расска-
зами о привидениях. Да и вообще он любил дразнить.
Я вспоминаю, как однажды вечером он вывел из себя
старого дядю Виланда, непрестанно ему противо-
реча,— не по убеждению, но шутки ради, — Виланд
же принимал все за чистую монету и очень сердил-
ся, а Гетевы подпевалы, Мейер и Ример, снисходи-
тельно его поучали: «Милый Виланд, вы напрасно
расстраиваетесь...» Это было недостойно, я, малень-
кая девочка, и то это чувствовала, как, вероятно, чув-
ствовали и все другие, кроме, как ни странно, самого
Гете.
— Да, это странно.
— У меня давно сложилось впечатление, — про-
должала Адель, — что общество, по крайней мере
наше, немецкое, из тяги к сервилизму, само портит
472
nu nix властителей и любимцев, позволяя им злоупо-
I реблять своим превосходством, что не сулит радости
ни той, ни другой стороне. Так, например, однажды
Готе целый вечер промучил общество и довел его до
полного изнеможения непомерно растянутой шуткой:
он заставлял гостей по отдельным реквизитам угады-
пать содержание новых, еще никому не известных
пьес, которые он только что репетировал. Это была
.ч.чдача с чрезмерным количестом неизвестных. Лица
стали вытягиваться, зевки слышались все чаще и чаще.
11о он не отступался и продолжал пытать их скукой,
так что я невольно спрашивала себя: неужто он не
чувствует насилия, которому подвергает людей? Нет,
он его не чувствовал, общество отучило его от этого.
11о, право же, непонятно, как ему самому до смерти
по наскучила эта свирепая игра. Тиранство, надо ду-
мать, довольно скучное занятие.
— Вы правы, дитя мое.
— К тому же, — добавила Адель, — он, по моему
мнению, рожден вовсе не тираном, а скорее другом
человечества. Я сделала этот вывод из того, что он
так любил и так хорошо умел смешить людей. Эту
способность, отнюдь не свойственную тирану, он вы-
казывал как чтец, как рассказчик, даже повествуя
о самых обыкновенных вещах или описывая комиче-
ские происшествия и людей. Он читает не всегда
удачно, это общепризнанно. Разумеется, все охотно
слушают его голос, обладающий прекрасной глуби-
ной, и с радостью всматриваются в его взволнован-
ное лицо. Но в серьезных сценах он слишком легко
впадает в пафос, в чересчур трескучую декламацию,
а это не всегда приятно. Зато комическое он неиз-
менно передает с таким великолепным юмором и на-
блюдательностью, так натурально и безошибочно
точно, что все общество не помнит себя от восторга.
Даже когда он рассказывал веселые анекдоты или по-
просту городил фантастический вздор, все наши гости
буквально покатывались со смеху. Но вот что при-
мечательно: во всех его произведениях доминирует
сдержанность и тонкость характеристик, временами
дающих повод к улыбке, но к смеху — я не припоминаю.
473
Ему же лично милее всего, когда люди катаются
от хохота над его выдумками! Я сама была свиде-
тельницей, как дядя Виланд накрыл себе голову сал-
феткой и запросил пардону — он совершенно изнемог,
да и все сидевшие за столом уже едва дышали. Сам
он сохранял в таких случаях известную серьезность,
но у него была своеобразная манера: с блестящими
глазами и каким-то радостным любопытством всма-
триваться в изнемогающих от смеха слушателей.
Я часто задумывалась, что это значит и почему чело-
век столь непомерной силы, так много переживший
и создавший, с такой охотой заставляет людей надры-
ваться от смеха.
— Вероятно, это объясняется тем, — сказала
Шарлотта, — что он остался молодым в своем вели-
чии и в трудной серьезности своей жизни сохранил
верность смеху. Меня это не удивляет, а радует. В дни
нашей юности мы много и безудержно смеялись
вдвоем или втроем, и нередко бывало, что в минуты,
когда на него находили мрак и меланхолия, он вдруг
брал себя в руки, все оборачивал в шутку и своими
проказами заставлял нас смеяться не меньше, чем
гостей вашей матушки.
— О, продолжайте, госпожа советница!—взмоли-
лась молодая девушка. — Расскажите мне еще об
этих бессмертных днях вдвоем и втроем! Что же я
делаю, чудачка! Я знала, к кому иду, чувствовала
неодолимую потребность открыть вам свою душу.
А теперь у меня вдруг выскочило из головы, кто та,
рядом с которой я сижу на этом канапе, и только
ваши слова напомнили мне об этом, так что я даже
испугалась. О, говорите дальше о той поре! Умоляю
вас!
— Мне куда приятнее слушать вас, моя доро-
гая,— возразила Шарлотта. — Вы так очаровательно
занимаете меня, что я испытываю угрызения совести
за то, что заставила вас долго дожидаться, и хочу
вас еще раз поблагодарить за ваше терпение.
— О, что касается моего терпения... Я сгорала от
нетерпения увидеть вас, женщину, прославленную
474
it исках, и открыть вам свое сердце, так что вряд ли
». заслуживаю похвалы, ведь терпение я проявила
лишь во имя нетерпения. Нравственное — это обычно
производное от страсти, а искусство, по-моему, можно
рассматривать как высокую школу терпения и нетер-
пеливости.
— Ах, как хорошо, дитя мое! Прелестное aperçu! 1
Я вижу, что среди ваших талантов не последнее ме-
сто занимает и философическая одаренность.
— Я жительница Веймара, — повторила Адель.—
.Чдесь это носится в воздухе. Если, прожив десяток
лет в Париже, человек начинает говорить по-фран-
цузски, то тут нечему удивляться, не правда ли? Да
нообще все наше содружество муз привержено фило-
софии и критике не меньше, чем поэзии. Мы читаем
друг другу не только собственные стихи, но также
исследования и разборы, посвященные прочитан-
ному,— новейшим порождениям разума, как гово-
рили раньше, или «духа», как говорят теперь. Хоте-
лось бы только, чтобы до великого старца не дошел
слух о наших собраниях.
— Почему?
— На то есть множество причин. Во-первых, тай-
ный советник иронически предубежден против интел-
лектуальных женщин, следует остерегаться, как бы
он не поднял на смех эти столь милые нашим серд-
цам занятия. Видите ли, смешно, конечно, утверждать,
что великий человек предвзято относится к нашему
полу — это было бы слишком просто опровергнуть. И
нее же в его отношение к женщине примешивается
нечто пренебрежительное, я бы даже сказала: грубова-
тое — мужская брутальность, готовая закрыть нам дос-
туп к наивысшему — к поэзии, к делу — и охотно видя-
щая в комическом свете то, что нам всего дороже.
Кстати или некстати, но мне вспомнилось в этой
связи, как однажды при виде нескольких наших дам,
собиравших цветы на лужайке, он заметил, что они
напоминают сентиментальных коз. Очень любезно, не
правда ли?
1 Наблюдение (франц.).
475
— Не слишком, — ответила Шарлотта и рассмея-
лась.— Я не удержалась от смеха, — пояснила
она, — потому что это хоть и зло, но довольно метко*
Впрочем, злым быть не следует.
— Метко? — повторила Адель. — В том-то и
дело! В подобном слове есть нечто убийственное. До-
статочно мне теперь наклониться во время прогулки,
чтобы прижать к груди несколько детей весны, и я ка-
жусь себе сентиментальной козой. То же ощущение
не покидает меня и когда я вписываю стихотворение
в альбом свое или чужое.
— Вам не следует принимать это так близко
к сердцу. Но по каким еще причинам Гете не должен
знать об эстетических интересах ваших и ваших под-
руг?
— Дражайшая госпожа советница, в силу первой
заповеди...
— Что вы хотите сказать?
— Которая гласит, — продолжала Адель, — да не
будет у тебя других богов пред лицом моим. Здесь
мы снова возвращаемся к разговору о тирании, — на
этот раз уже не насильственной, не навязанной обще-
ством, но прирожденной и, по-видимому, всегда неот-
делимой от чрезмерного величия, — тирании, которую
надобно щадить и уважать, стараясь ей не подчи-
няться. Он великий человек, но он стар и мало рас-
положен печься о том, что будет после него. Жизнь
же идет дальше, не останавливаясь даже на вели-
чайшем, и мы, Музелины и Юлемузы, мы дети но-
вого времени, новое поколение, уже отнюдь не сен-
тиментальные козы, но люди, познавшие новых богов,
самостоятельные, передовые умы, смело отстаиваю-
щие свое время и свой вкус. Мы знаем и любим ху-
дожников вроде благочестивого Корнелиуса или
Овербека, по чьим картинам он, я сама слышала его
слова, с удовольствием выстрелил бы из пистолета,
а также божественного Давида Каспара Фридриха,
картины которого, по его мнению, можно с тем же
успехом рассматривать вверх ногами. «Эти всходы не
вырастут!» — гремел он,— подлинно тиранический
гром, ничего не скажешь, но мы в содружестве муз,
476
смиренно вслушиваясь в его раскаты, переписываем
и свои альбомы стихи Уланда и с наслаждением чи-
I аем друг другу восхитительно причудливые рассказы
Гофмана.
— Я не слыхивала об этих авторах, — холодно
заметила Шарлотта. — Но вы ведь, верно, не хотите
сказать, что они, при всей своей причудливости, под-
нимаются до автора «Вертера»?
— Они не поднимаются до него, — возразила
Адель, — и все же — простите этот парадокс — его
превосходят, вероятно, просто потому, что возникли
позднее и являют собой новую ступень, потому что
они нам любезнее, ближе, твердят нам о более ио-
ном, задушевном, нежели застывший утес величия,
повелительно и грозно врезавшийся в новые времена.
О, не считайте нас чуждыми пиэтета! Пиэтета чуж-
дается время, ибо оно оставляет позади старое и вы-
ращивает новое. Правда, вслед за великим оно дает
изойти малому. Но это малое под стать времени, и
для нас, его детей, оно живое, подлинное, оно затра-
гивает нас с непосредственностью, которой не знает
пнэтет, взывает к сердцам и нервам тех, кому оно
принадлежит и кто принадлежит ему, тех, кто как бы
содействовал его возникновению.
Шарлотта сдержанно молчала.
— Ваше семейство, мадемуазель, — с деланным
дружелюбием осведомилась она, — как я слышала,
родом из Данцига?
— Совершенно верно, госпожа советница. С мате-
ринской стороны безусловно, с отцовской только от-
носительно.. Дед моего покойного отца, богатый не-
гоциант, обосновался в Данциге, вообще же род Шо-
пенгауэров голландского происхождения. Правда, мой
отец охотнее имел бы своими предками англичан, ибо
он, сам до мозга костей джентльмен, был рьяным сто-
ронником и почитателем всего английского. Даже его
загородный дом в Оливе был построен и обставлен на
английский манер.
— Нашему роду Буфф, — вставила Шарлотта,—
приписывают английское происхождение. Правда, до-
казательств этому я не обнаружила, хотя, по вполне
477
понятным причинам, усердно занималась своей родо-
словной, изучала генеалогию и собрала кое-какие ин-
тересные сведения, главным образом после смерти
моего дорогого Ганса-Христиана, когда у меня стало
больше досуга для подобных изысканий.
Лицо Адели с минуту ничего не выражало — она
не сразу постигла «вполне понятные причины». За-
тем ее вдруг осенило, и она воскликнула:
— О, -как прекрасны, как великодушны эти ваши
усилия! С какой обязательностью вы идете навстречу
потомкам, которые, несомненно, пожалеют собрать точ-
ные сведения о происхождении и фамильной предыс-
тории избранницы судьбы, столь много значащей для
летописи человеческого сердца.
— Таково и мое мнение, — с достоинством отве-
чала Шарлотта. — Или вернее, мне известно, что
наука уже нынче интересуется моим происхождением,
и я считаю своим долгом по мере сил споспешество-
вать ей. Мне удалось проследить все разветвления на-
шего рода со времен Тридцатилетней войны. С тысяча
пятьсот восьмидесятого до тысяча шестьсот пятиде-
сятого года в Буцбахе проживал станционный смо-
тритель Симон-Генрих Буфф. Сын его был пекарем.
Но уже один из сыновей последнего, Генрих, сделался
капелланом, а с течением времени и первым вика-
рием в Мюнценберге. С тех пор Буффы преимуще-
ственно принадлежали к духовенству или служили
в окружных консисториях — в Кренфельде, Штейн-
бахе, Виндгаузене, Рейхельсгейме, Гладербахе и Ни-
дервельштедте.
— Это важные, бесценные, в высшей степени ин-
тересные сведения! — одним духом выпалила Адель.
— Я полагала, —заметила Шарлотта, — что они
заинтересуют вас, невзирая на вашу слабость к ме-
нее значительным nouveautés1 литературной жизни.
Попутно мне удалось исправить одну ошибку, касаю-
щуюся меня и грозившую неисправленной перейти
к потомству: днем моего рождения всегда считалось
одиннадцатое генваря. Гете придерживался, да,
1 Новинки (франц.).
478
исрно, и поныне придерживается той же даты. На са-
мом деле я родилась тринадцатого и на следующий
же день получила святое крещение, надежность вец-
ларской церковной книги — вне подозрений.
— Необходимо сделать все возможное,— объявила
Лдель, — и я приложу к тому максимальные усилия,
чтобы огласить правду касательно этого пункта. Пре-
жде всего надо уведомить об этом самого тайного со-
мстника, лучшим поводом для чего послужил бы ваш
низит. Ну, а милые создания ваших девических рук —
иышивки, сделанные при нем в ту бессмертную пору,
незаконченный храм любви и прочее, — скажите, ради
бога, что сталось с этими реликвиями? Мы, к сожа-
лению, уклонились от разговора.
— Они существуют,— отвечала Шарлотта.— Я по-
заботилась о сохранности этих самих по себе пустяч-
ных предметов и возложила попеченье о них на моего
брата Георга, занявшего должность амтмана еще при
жизни нашего отца и сделавшегося его преемником
в Немецком орденском доме. По моей просьбе он сбе-
рег эти сувениры: незаконченный храм, два-три выши-
тых изречения в венке из цветов, несколько шитых
бисером мешочков, рисовальный альбом и прочие
мелочи. Приходится считаться с тем, что в будущем
они возымеют музейную ценность, как, впрочем, весь
дом, двор и столовая внизу, где мы так часто сижи-
вали с ним вдвоем, а также угловая с окнами на
улицу и языческими богами на обоях, которая назы-
валась у нас «парадной комнатой». В ней стояли ста-
ринные куранты с ландшафтом на циферблате, к ти-
канию и бою которых он любил прислушиваться. Эта
угловая, по-моему, даже лучше подходит для музея,
чем наша столовая, и в «ей, если мое мнение поже-
лают принять во внимание, будут под стеклом хра-
ниться эти реликвии.
— Все грядущие поколения, — изрекла Адель,—
все отечественные и чужеземные паломники возбла-
годарят вас за эти заботы.
— Надеюсь, — отвечала Шарлотта.
Разговор не клеился. Просвещенная находчивость
гостьи, видимо, иссякла. Адель вперила глаза в пол,
479
по которому взад и вперед водила концом зонтика.
Шарлотта ждала, что она подымется и уйдет, с мень-
шим нетерпением, чем можно было предположить по
ситуации. Она была даже довольна, когда молодая
девушка заговорила так же бойко, как прежде.
— Дражайшая госпожа советница, или, может
быть, я уже смею сказать — достоуважаемая подруга?
Мое сердце жестоко упрекает меня, и горчайший из
этих упреков — то, что я с такой беспечностью прини-
маю в дар ваше время. Но не менее горестно, что
я плохо пользуюсь этим даром, — преступно упускаю
редчайший случай... При этом мне невольно вспоми-
нается мотив одной народной сказки, — мы, немецкая
молодежь, чувствительны к ее поэтическим чарам,—
как кому-то было даровано исполнение трех заветных
желаний, и он все три раза пожелал что-то пустячное,
вздорное, так и не вспомнив о заветном и важном.
Вот и я с видимой беззаботностью болтаю о том
о сем, забывая за этой болтовней то заветное, что
у меня на сердце и что, позвольте мне в этом при-
знаться, повлекло меня к вам, ибо я уповаю и пола-
гаюсь на ваш совет, на вашу помощь. Вы вправе уди-
вляться и гневаться на меня за то, что я дерзаю за-
нимать вас ребяческими затеями нашего содружества
муз. И, право же, я не отважилась бы на подобную
дерзость, если бы не страх и забота, в которых мне бы
страстно хотелось вам открыться.
— Что ж это такое, дитя мое? И кто или что вас
так заботит?
— Дорогая мне человеческая душа, госпожа со-
ветница,— возлюбленная подруга, моя единственная,
мое сокровище, прелестнейшее, благороднейшее, во-
истину заслуживающее счастья создание, опутанное
сетями несправедливого и все же, по-видимому, неот-
вратимого рока. Одним словом — Тиллемуза.
— Тиллемуза?
— Простите, это прозвание моей любимицы, я уже
упоминала о ней — Оттилии фон Погвиш.
— А-а! И какой же рок, по-вашему, тяготеет над
мадемуазель фон Погвиш?
— Она накануне обручения.
480
— Но... позвольте, с кем же, в таком случае?
— С господином камеральным советником фон
! сто.
— Что вы говорите! С Августом?
— Да, с сыном гения и мамзели. Кончина тайной
советницы сделала возможным этот союз, которому
при ее жизни несомненно было бы суждено разбиться
о сопротивление семьи Отиллии, о сопротивление
иссто общества.
— Ив чем же вам видится опасность такого
союза?
— Дозвольте мне вам поведать, — попросила
Лдсль.—Дозвольте мне в рассказе облегчить набо-
левшее сердце и походатайствовать перед вами за ми-
лое, запутавшееся создание. Оттилия, наверно, очень
рассердилась бы за такое непрошенное заступниче-
ство, хотя она в равной мере нуждается в нем и его
заслуживает.
И вот, быстро и часто возводя глаза к небу, чтобы
скрыть их очевидную косость, демуазель Шопенгауэр
своим большим, временами увлажнявшимся ртом на-
чала рассказывать следующее.
Глава п я m а л
Рассказ Ад ели
С отцовской стороны моя Оттилия происходит из
прусско-голштинской офицерской семьи. Брак ее ма-
тери, рожденной Генкель фон Доннерсмарк, с госпо-
дином фон Погвиш был союзом сердец, в котором,
к сожалению, недостаточно участвовал разум. По
крайней мере так это расценивала бабка Оттилии,
графиня Генкель, истая аристократка прошлого века,
женщина с умом трезвым, решительным и язвительно-
грубоватым, с характером смелым и прямым. Она
г.сегда была против того благородного и безрассуд-
ного шага, на который чувство толкнуло ее дочь. Гос-
подин фон Погвиш был беден, Генкели этой ветви
юже. Последнее, вероятно, и заставило графиню за
31 Т. Манн, т. 2
481
два года до Иенской битвы поступить на веймарскую
службу в качестве обергофмейстерины восточной
принцессы, супруги нашего наследного принца. По-
добной же должности она добивалась для своей до-
чери и почти уже преуспела в своих хлопотах. Одно-
временно она всячески домогалась расторжения
ненавистного ей брака — тем более что счастье моло-
доженов готово было сломиться под гнетом час от
часу возрастающих материальных невзгод. Скудное
жалование прусского офицера не позволяло юным
супругам вести жизнь, подобающую их рангу; стара-
ния хотя бы с грехом пополам держаться на должном
уровне влекли за собой еще большие денежные за-
труднения. Короче, участившиеся размолвки способ-
ствовали торжеству материнских замыслов: по обоюд-
ному соглашению решено было расстаться — на пер-
вых порах без формального развода.
В сердце мужа и отца, оставившего двух прелест-
ных малюток, Оттилию и ее младшую сестренку Уль-
рику, на руках своей подруги по несчастью, никому
заглянуть не довелось. Но, вероятно, к этому печаль-
ному решению его принудила боязнь лишиться люби-
мого, единственно мыслимого и наследственного при-
звания— военной службы. Сердце жены обливалось
кровью, и можно без преувеличения сказать, что с мо-
мента капитуляции перед необходимостью и материн-
скими настояниями ей не выпало ни единого счастли-
вого часа. Что касается девочек, то образ отца, кра-
сивый и рыцарственный, навеки запечатлелся в их
душах, особенно в более глубокой и романтической
душе старшей, Оттилии: весь мир ее чувств, все отно-
шения к событиям и идеям времени, как вы увидите
из моего рассказа, были навсегда определены ее вос-
поминаниями об исчезнувшем отце.
Госпожа фон Погвиш, разъехавшись с мужем, тихо
и уединенно прожила несколько лет в Дессау. Там
она перенесла дни отчаяния и позора — поражение
армии Фридриха Великого, распад отечества, подчи-
нение южных и западных немецких княжеств власти
ужасного корсиканца. В тысяча восемьсот девятом
году, когда старой графине удалось, наконец, выхло-
482
мотать ей придворное звание, она переехала к нам,
и Веймар, в качестве гофдамы герцогини Луизы.
Оттилии в ту пору минуло тринадцать лет. Очаро-
и.тгельно одаренное и самобытное дитя, она развива-
лась в беспокойной и неустойчивой обстановке. При-
лворная служба не способствует порядку в доме. При
постоянной занятости матери девочки большею частью
оыли предоставлены самим себе. Оттилия ютилась
и мезонине герцогского дворца, затем у бабки Ген-
кель фон Доннерсмарк, а дни проводила попеременно
v матери, у старой графини, в школе или у подруг.
В числе последних вскоре оказалась и я, несколько
старшая по возрасту. Оттилия часто обедала у обер-
кпмергерши Эглоффштейн, с дочерьми которой я дру-
жила. Там мы заключили союз сердец. Давность этого
союза, как мы полагаем, исчисляется не годами — ибо
это были годы серьезных жизненных сдвигов, заста-
вившие нас из неоперившихся птенчиков превратиться
15 людей, умудренных опытом. В известном отноше-
нии— нежная дружба облегчает мне такое призна-
ние— Отиллия благодаря яркому своеобразию харак-
тера и рано сложившимся убеждениям сделалась
душой и законодательницей нашего союза.
В первую очередь это касается политики. Правда,
теперь, когда, после тяжких испытаний и потрясений,
в которые мы были ввергнуты гениальным чудовищем,
миру возвращен относительный покой, охраняемый
Священным союзом, политика уже не господствует
над сознанием, общественным и индивидуальным, и
оставляет известный простор для чисто человеческих
чувств, но в то время она мощно подчиняла себе всю
арену духовного. Оттилия страстно увлекалась поли-
тикой, к тому же — в смысле и духе, радикально
разобщавшим ее со всем здешним обществом. Она
никогда не осмеливалась с кем-либо заговаривать
о своей тайной оппозиции, даже со мной, лучшей
подругой, которой позднее сумела внушить свои чув-
ства и образ мыслей; в конце концов она втянула
меня в мир своих верований и надежд, и мы стали
совместно наслаждаться мечтательным очарованием
тайны.
31*
483
Какой тайны? Внутри государства, вошедшего
в Рейнский союз, государства, чей герцог был прощен
победоносным демоном и правил страной как верный
его вассал, — государства, где всё и вся единодушно,
если не с энтузиазмом, то со смирением, преклонялось
перед великим завоевателем, верило в его миссию
вершителя мировых судеб и полновластного хозяина
континента, — моя Оттилия была восторженной сто-
ронницей Пруссии. Не обескураженная поражением
прусского оружия, она прониклась сознанием превос-
ходства северонемецкой породы людей над саксонско-
тюрингской, среди которой, как она выражалась,
«осуждена была жить» и к которой питала вынуж-
денно молчаливое, мне одной ведомое презрение.
В героически настроенной душе этого милого ребенка
царил один идеал: прусский офицер. Излишне гово-
рить, что этот кумир был наделен чертами утрачен-
ного отца, просветленными в ее воспоминаниях. И все
же здесь, видимо, соучаствовали и более общие, я бы
сказала кровные, симпатические ощущения и восприя-
тия, заставлявшие Оттилию предощущать события,
о которых мы, остальные, еще не подозревали; она же
заранее вступила с ними во внутренний контакт и
мысленно уже принимала в них участие на свой,
как мне думалось, пророческий лад. Да так оно и
вышло.
Вы легко догадаетесь, какие события я имею
в виду. Я говорю о нравственном пробуждении и об-
новлении, наступившем в ее отечестве после ката-
строфы; о суровом презрении, о решительном и дей-
ственном отметании пусть пленительных и утончен-
ных, но все же расслабляющих тенденций, которые
способствовали этой катастрофе, а может быть и вы-
звали ее. Тело народа, героически очищенное от всей
мишуры убеждений и обычаев, закалялось во имя дня
грядущей славы, который должен был принести с со-
бой ниспровержение чужеземного господства и сиянье
свободы. Это было суровое приятие того, что неми-
нуемо надвигалось — бедности; и уж поскольку нужда
возводилась в обет, то к ней присовокупились и две
другие монашеские добродетели: аскетизм и послуша-
484
и m', a тем самым отречение, готовность жертвовать
<<>(м)и, суровое подвижничество, жизнь для отечества.
Об этом в тиши протекающем моральном процессе,
|-к рытом от врага и угнетателя, равно как и об иду-
щем с ним в ногу восстановлении армии, не прони-
кали вести в наш маленький мирок, примкнувший
к победоносной государственной системе без особого
огорчения, даже охотно — хотя и не без вздохов по
поводу повинностей и пошлин, наложенных покори-
uvicM. В нашем кругу, в нашем обществе, этот про-
тес с молчаливым торжеством почуяла одна Отти-
.шя. Но вскоре обнаружилось, что как вблизи от нас,
hi к и вдали есть наставники юношества, ученые, ко-
торые, сами принадлежа к молодому поколению, яв-
ляются носителями идей обновления. И с одним из
них у моей подруги вскоре завязался оживленный
обмен чувств и мыслей.
В Иене проживал профессор истории, некий Ген-
рих Луден, человек благороднейших патриотических
убеждений. В тот день позора и разрухи бедняга ли-
шился всего своего имущества, всех научных мате-
риалов и вынужден был с молодой женой вернуться
и совершенно пустое, холодное и омерзительно зага-
женное жилище. Но он не позволил этим несчастьям
сломить себя и во всеуслышание заявил: что, будь
сражение под Иеной выиграно, он с радостью перенес
бы все потери и, нагой и нищий, ликовал бы во след
убегающему врагу, — словом, его вера в отечество не
была поколеблена, и он сумел пламенным красноре-
чием приобщить к ней своих студентов. Далее, здесь
и Веймаре учительствовал уроженец Мекленбурга, не-
кий Пассов, двадцати одного года от роду, даровитый
и страстный оратор, человек высокого развития и сме-
лого полета мысли, к тому же истинный патриот и
свободолюбец. Он privatim1 преподавал греческий,
а также эстетику, философию языка и моему брату
Артуру, в то время у него проживавшему. Свое пре-
подавание он оживил новой и своеобразной идеей,
состоящей в том, чтобы перекинуть мост от науки
1 В частном порядке (лат.).
485
к жизни, от культа античности к немецко-патриотиче-
ским и бюргерски-свободолюбивым убеждениям, —
другими словами: он дал живое толкование эллин-
скому духу, стремясь извлечь из него практическую
пользу для нашей политической жизни.
С такими-то людьми Оттилия поддерживала тай-
ную, я бы сказала конспиративную связь, в то же
время ведя жизнь элегантной представительницы на-
шего франкофильского, преданного императору выс-
шего света. Мне всегда казалось, что она сибаритски
упивается этим двойным — в ее глазах романтически
очаровательным — существованием, которому, в ка-
честве подруги и поверенной, была приобщена и я. То
было очарование противоречивости, и оно-то, как я
думаю, роковым образом вовлекло ее в сети сердеч-
ного приключения, в которых вот уже четыре года
бьется моя птичка. Чтобы вызволить ее из них, я го-
това отдать все, что имею.
В начале годины, ознаменовавшейся нашествием
на Россию, Август фон Гете стал домогаться любви
Оттилии. За год до того он вернулся из Гейдельберга
и тотчас же поступил на придворную и государствен-
ную службу: его сделали камер-юнкером и действи-
тельным асессором герцогской камер-коллегии. Но
«действительность» обязанностей, предусматриваемых
этими должностями, по распоряжению герцога, была
заранее ограничена: они не должны были служить по-
мехой деятельности Августа подле великого отца, ко-
торого ему надлежало освобождать от всякого рода
житейских забот и хозяйственных докук, представлять
на общественных церемониях и даже при инспекцион-
ных поездках в Иену, а также быть ему полезным
в качестве хранителя коллекций и секретаря, тем бо-
лее что доктор Ример тогда уже оставил их дом,
чтобы вступить в брак с компаньонкой тайной совет-
ницы, демуазель Ульрих.
Юный Август исполнял эти повинности с аккурат-
ностью, а поскольку они касались отца и дома,
с мелочным педантизмом, соответствовавшим черство-
сти, — я бы не хотела сейчас сказать больше, и все-
таки вынуждена дополнить: преднамеренной, подчерк*
486
и y-i oii черствости его характера. Откровенно говоря,
и не считаю нужным спешить с проникновением
it тайну этой натуры и откладываю это в силу ка-
кой-то боязни, странным образом составляющейся из
сострадания и антипатии. Не мне первой и не мне
«•динственной внушает этот молодой человек подоб-
ные чувства. Ример, например, — он сам мне в этом
признался, — уже тогда испытывал перед ним настоя-
щий ужас, и его намерение обзавестись собственным
домом было в значительной мере ускорено возвраще-
нием под родительский кров его бывшего ученика.
Оттилия в ту пору начала бывать при дворе и,
возможно, что именно там Август впервые увидел ее.
Впрочем, это знакомство могло состояться и на
Фрауенплане во время воскресных домашних концер-
тов, которые несколько лет подряд устраивал у себя
тайный советник, или же на репетициях этих концер-
тов. Ибо к очарованию и врожденным прелестям моей
подруги принадлежит также и прелестный чистый го-
лосок, который я охарактеризовала бы как физиче-
ское выражение или инструмент ее музыкальной
души. Этому дару она была обязана приглашением
ii маленький хор, раз в неделю устраивавший спевки
и доме Гете и затем по воскресным дням выступав-
ший перед его гостями.
Приятность этих музыкальных занятий дополня-
лась еще и личным общением с великим поэтом, ко-
торый, я могу это засвидетельствовать, с самого на-
чала к ней приглядывался, охотно болтал и шутил
с нею, ничуть не скрывая своей отеческой благосклон-
ности к милой «амазоночке», как он почему-то назы-
вал ее.
Но я, кажется, до сих пор не попыталась обрисо-
вать вам всю прелесть ее наружности — да и как это
сделать, слов тут недостаточно! Однако своеобразие
се девического очарования играет слишком большую
роль в моем рассказе. Живые синие глаза, пышные
белокурые волосы, фигурка, скорее субтильная, лег-
кая и грациозная, ничего от Юноны, — короче, внеш-
ность, всегда нравившаяся тому, чья благосклонность
сулит наивысшие почести в мире чувств и поэзии.
487
Больше я ничего не скажу. Напомню только, что
с очаровательной светской представительницей того
же типа дело однажды дошло до знаменитой помолвки,
которая хоть и не увенчалась браком, но, несомненно,
досадила блюстителям общественных дистанций.
И вот теперь, когда сын некогда сбежавшего же-
ниха, внебрачный отпрыск весьма молодого дворян-
ского рода начал домогаться прелестной Оттилии,
девицы фон Погвиш-Генкель-Доннерсмарк, аристо-
кратическая ограниченность поверглась в неменьший
гнев, чем тогда, во Франкфурте; но теперь его уже
никто не смел выражать вслух, ввиду исключитель-
ного случая и совсем особых прав, на которых с пол-
ным основанием настаивал сей величественный, хотя
и новопожалованный дворянский род. Этими-то пра-
вами, сознательно и со спокойной уверенностью, по-
желал воспользоваться отец для своего сына. Такова
моя личная оценка положения вещей, но она бази-
руется на болезненно-пристальном наблюдении за хо-
дом событий, и я едва ли ошибаюсь. Начнем с того,
что отец первый заинтересовался Оттилией, и лишь
благосклонность, им высказанная, привлекла к ней
внимание сына, быстро переросшее в страсть, яв-
лявшуюся наглядным доказательством тождества его
вкуса со вкусом отца. Это тождество он не раз под-
черкивал и в других областях, делая вид, что их
вкусы совпадают. В действительности же здесь все
сводится к зависимости и подражанию — между нами
говоря, ему вообще отказано во вкусе, о чем всего
яснее свидетельствуют его взаимоотношения с жен-
щинами. Но об этом позднее и чем позднее, тем лучше!
А сейчас я предпочитаю говорить об Оттилии.
Для характеристики состояния, в котором пребы-
вала прелестная девушка, ко времени своей первое
встречи с господином фон Гете, лучше всего подошло
бы слово «ожидание». С самого юного возраста она
привыкла к ухаживанию, к поклонению, на которые
полушутя откликалась, но по-настоящему она еще не
любила и ждала своей первой любви. Ее сердце было
как бы украшено для приема всепокоряющего боже-
ства, и в чувстве, внушенном ей этим необычным, свое-
488
"Гфазно высокородным искателем, она усмотрела все-
могущество Эроса. Оттилия, разумеется, глубоко по-
мигала великого поэта, благосклонность, которую он
I.ыказывал, безмерно ей льстила, — могла ли она от-
нергнуть сватовство сына, заведомо одобренное отцом
и совершавшееся как бы от его имени? Ведь через
молодость сына к ней сватался сам отец, возродив-
шийся в нем. «Молодой Гете» любил ее, — она тотчас
же приняла его за суженого и, не колеблясь, ответила
им его любовь.
Думается, она тем более убеждала себя в этом, чем
менее правдоподобной казалась ей возможность по-
любить тот образ, в который для нее облекся рок.
О любви она знала только, что это самовластная,
капризная и неучтимая сила, частенько подсмеиваю-
щаяся над благоразумием и утверждающая свои
права независимо от велений разума. Избранник ри-
совался ей совсем другим: больше по ее подобию,
с душою менее сумрачной, веселее, легче, жизне-
радостнее, чем Август. То; что он так мало походил
на мерещившийся ей образ, служило Оттилии роман-
тическим доказательством подлинности ее чувства.:
Август был не очень привлекательным ребенком,
не слишком многообещающим отроком. Ему не про-
чили долгой жизни, что же касается его духовных за-
датков, то среди друзей дома утвердилось мнение, что
чересчур больших надежд возлагать на него не при-
ходится. В ту пору он из болезненного мальчика раз-
нился в широкоплечего, осанистого юношу тяжелова-
той и мрачной наружности, я бы даже сказала, не-
сколько бесцветной, имея в виду прежде всего его
глаза, красивые или, вернее, могущие быть Краси-
ными, если бы они обладали большей выразитель-
ностью и собственным «взором». Я говорю об Августе
и прошедшем времени, чтобы судить беспристрастно.
По все сказанное относится и к двадцатисемилетнему
молодому человеку, которым он был ко времени сво-
его первого знакомства с Оттилией. Приятным, лю-
безным собеседником я бы его не назвала. Его дух
казался стесненным угрюмостью, какой-то боязнью
прорваться наружу, меланхолией, которую было бы
489
правильнее определить как безнадежность, опусто-
шающую все вокруг него. Мне было очевидно, что этот
невеселый нрав, эта тупая самоотреченность порожда-
лись боязнью убийственного сравнения с отцом.
Сын титана — высокое счастье, бесценное отличие,
но и тяжкое бремя, постоянное самоунижение и раз*
венчиванье собственного «я». Отец некогда подарил
мальчику альбом, который впоследствии, здесь в Вей-
маре и в местах, куда он ездил вместе с сыном, —
в Галле, в Иене, в Гельмштадте, Пирмонте и Карлс-
баде — заполнился автографами всех знаменитостей
Германии и даже чужеземцев. Среди этих посвяще-
ний вряд ли хоть одно не отмечало достоинство мо-
лодого человека, наименее личное, но для всех став-
шее настоящей idée fixe 1 то, что он сын своего отца.
Как должно было возвысить, но и запугать юную душу,
когда философ, профессор Фихте, начертал: «Нация
много ждет от вас, единственного сына, единствен-
кого, которым гордится эпоха». Но каково же должно
было быть воздействие краткой сентенции, вписанной
в этот альбом одним французским дипломатом: «Сы-
новья великих редко значат что-либо для грядущих
времен». Следовало ли понимать эти слова как при-
зыв составить исключение? Допустим! Но естествен-
нее было все же прочитать их в духе Дантовой над-
писи на вратах ада.
Не допустить до убийственного сравнения — вот
чего с угрюмым упорством добивался Август. Он
рьяно, даже грубо отталкивал от себя поэтическое
честолюбие, чуть ли не гневно отрекался от всех свя-
зей с миром высокого духа, стремясь слыть чисто
практическим человеком, заурядным чиновником и
придворным. Вы согласитесь, что есть подкупающая,
достойная уважения гордость в такохМ решительном
и безусловном отказе от посягательств на высшее,
ростки которого, даже если они и были в нем, ему при-
ходилось постоянно в себе подавлять и скрывать,
чтобы избегнуть рокового сравнения. Но его неуве-
ренность в себе, его угрюмая мизантропия, его недо-
Навязчивая идея (франц.).
490
пгрчнвость и раздражительность отнюдь не подкупали
и сдиа ли позволяли назвать его гордым. Скажем прямо:
трдым он не был, он страдал от сломленной гордо-
i'iii. Своего общественного положения он достиг с по-
мощью всех привилегий, которые ему давало его
имя, — не только давало, но и навязывало. Он вос-
пользовался ими, хотя ничуть им не радовался, и ощу-
щал всю их оскорбительность для своего мужского
достоинства. Науками ему не слишком докучали, и
• -.бразование он получил довольно поверхностное.
Должности, им занимаемые, ему доставались прежде,
чем он мог бы проявить свои знания и способности.
Он отлично сознавал, что получает их не в силу своей
даровитости, но в силу своего положения фаворита.
Другой бы испытывал самодовольную радость от лег-
кости такого взлета, он же был создан, чтобы стра-
дать от него. Это достойно уважения, но от преиму-
ществ, дарованных ему судьбой, он ведь все же не
отказывался.
Надо, однако, вспомнить и о другом, а именно, что
Август был сыном не только своего отца, но и своей
матери, сыном мамзели, и это не могло не внести
своего рода разлад как в его отношение к миру, так
и в его чувство собственного достоинства, разлад,
обусловленный двоякой незаурядностью происхожде-
ния — его высотой и фривольной гибридностью. То,
что герцог по просьбе его отца, своего друга, оказал
милость одиннадцатилетнему мальчику и особым ука-
зом признал законность его рождения, а тем самым
его права на дворянство, не меняло дела, так же как
и то, что шестью годами позже состоялось венчание
его родителей. «Дитя любви» — это засело во все го-
ловы так же прочно, как «сын титана». Все еще по-
мнят, как скандализовано было наше общество, когда
он, тринадцатилетний прелестный отрок, наряженный
амуром, поднес на маскараде цветы и оду герцогине,
по случаю дня ее рождения. Поднялся громкий ропот:
не годится, чтобы дитя любви, да еще в образе амура,
появлялось среди добропрядочных людей.
Дошли ли до него эти разговоры? Не знаю. Но
с подобной неприязнью ему неоднократно приходилось
491
сталкиваться в жизни. Его общественное положение,
защищенное славой отца и милостью герцога к своему
другу, все же оставалось двусмысленным. Друзья,
или те, кого зовут этим именем, у него имелись — по
гимназии, по службе. Но друга не было. Для дружбы
он был слишком недоверчив, слишком замкнут и про»
никнут сознанием своего особого положения, в высо-
ком и в сомнительном значении этих слов. Общество,
его окружавшее, всегда было смешанным: то, в кото*
ром вращалась мать, отдавало богемой — много ак-
терской братии, много любителей выпить. И сам ои
неправдоподобно рано возымел склонность к Бахусо-
вым дарам. Наша милая баронесса фон Штейн рас*
сказывала мне, что одиннадцатилетним мальчиком
в разудалой компании матери он выпивал по семна-
дцати бокалов шампанского и что ей стоило немало
труда, в своем доме, удерживать его от вина. KaKt
ни странно это звучит по отношению к ребенку, доба-*
вила она, что он, казалось, стремился запить свое горе;
Горе, вполне обоснованное, ибо однажды он испытал1
жестокий удар, увидав, что отец плачет, глядя на.|
него. Это было во время тяжкой болезни учителя*
в тысяча восьмисотом году, грудной жабы, чуть было
не приведшей его на край могилы. Трудно выздора-
вливая, он часто плакал от слабости, но чаще всего
при виде мальчика; с той поры ребенок и стал выпи-
вать по семнадцати бокалов. Отца это не особенно
удивляло, сам он искони с благосклонным веселием
вкушал сей божий дар и отнюдь не отвращал от него
сына. Мы, посторонние, не можем не приписать мно-
гие неприятные черты в характере Августа — его
вспыльчивость, угрюмость, дикие и грубые выходки —
ранней и, к сожалению, все растущей приверженности
к вину.
Итак, прелестная Оттилия решила, что в этом мо-
лодом человеке, несшем к ее стопам свое не слишком
располагающее, не слишком привлекательное покло-
нение, воплощена ее судьба. Ей казалось, несмотря на
всю неправдоподобность, — или, вернее, как я уже
говорила, в силу этой неправдоподобности, — что она
отвечает на его любовь. Ее благородство, ее поэти»
492
•мгкое понимание трагического неблагополучия его
жизни помогли ей утвердиться в этой вере. Она во-
зразила себя победительницей демона, сидевшего
ц нем, добрым ангелом. Я уже говорила, что она
\мела извлечь прелесть из своего двойственного су-
ществования — веймарской светской барышни и тай-
ной прусской патриотки. Любовь к Августу дала ей
познать эту прелесть в новой, усугубленной форме,
противоречие между ее убеждениями и убеждениями
лома, к которому принадлежал ее обожатель, пре-
дельно обостряло парадоксальность ее страсти и тем
более заставляло ее считать это чувство подлинной
любовью.
Надо ли говорить, что великий поэт, гордость Гер-
мании, столь чудесно приумноживший славу своего
парода, нимало не разделял ни скорби благородных
патриотов по униженной родине, ни энтузиазма до
краев переполнившего наши сердца; когда пробил час
освобождения и борьбы, он холодно устранился и,
можно сказать, покинул нас перед лицом врага. Все
было именно так. Об этом лучше забыть, это надо
переболеть, растворить в преклонении перед его ге-
нием, в любви, которую питаешь к великому человеку.
Поражение при Иене нанесло тяжелый урон и ему.
Правда, в этом поначалу были повинны не победонос-
ные французы, а пруссаки, еще до битвы стоявшие
у нас в Веймаре; они ворвались в его садовый домик
и сожгли в печах все двери и мебель. Но и от того,
что воспоследовало позднее, он получил свою часть.
Говорят, бесчинства победителей обошлись ему, худо-
бедно, в две тысячи талеров, одного вина было выпито
больше двенадцати ведер. Мародеры вторглись даже
к нему в спальню. Его имущество, однако, не было
разграблено, так как дом Гете охранялся особым ка-
раулом; у него квартировали маршалы Ней, Ожеро,
Ланн, а позднее и мосье Денон, знакомый ему еще по
Венеции, главный инспектор императорских музеев
и советник Наполеона по вопросам искусства, вернее
по вывозу произведений искусства из побежденных
стран.
493
Иметь этого человека своим постояльцем учителю
было очень приятно, хотя впоследствии он настойчиво
старался изобразить все так, словно его ничто не за-
трагивало. Профессор Луден, столь жестоко постра-
давший, рассказывал мне, что встретился с ним
у Кнебеля через месяц после страшных событий. Там
говорили о великом бедствии, и господин фон Кнебель
несколько раз подряд воскликнул: «Это ужасно! Это
неслыханно!» Гете же только пробурчал что-то не-
членораздельное и на вопрос Лудена, как его превос-
ходительство перенес дни позора и несчастия — от-
ветил: «Мне лично жаловаться не приходится, — я
чувствовал себя как человек, с высокого утеса наблю-
дающий за разбушевавшимся морем, он хоть и не
может подать помощь терпящим кораблекрушение, но
зато и не досягаем для валов, а это чувство, по словам
какого-то древнего... не лишено известной приятно-
сти», — тут он запнулся, вспоминая имя. Луден, знав-
ший, кого он цитирует, воздержался от подсказки,
тогда как Кнебель, несмотря ма свои недавние сето-
вания, все же вставил: «По словам Лукреция». «Со-
вершенно верно, — подтвердил Гете и закончил: — Так
вот и я спокойно взирал, как проносилась мимо меня
вся эта сумятица». Луден уверял, что ледяной холод
пробежал по его жилам при этих словах, и вправду
сказанных не без известного самодовольства. Но тре-
пет не раз еще охватывал его при этой беседе; ибо,
когда он снова горячо заговорил о позоре и несчастии
родины и о своей священной вере в ее возрождение,
Кнебель часто восклицал: «Браво! Правильно!» Гете
же и бровью не повел, не проронил ни слова, так
что майор после всех своих восклицаний предпочел
перевести речь на какой-то литературный предмет,
а Луден поспешно ретировался.
Вот то, что мне рассказал наш достойный профес-
сор. Но какую головомойку задал Гете доктору Пас-
сову за его убеждения, это я слышала своими ушами,
ибо разговор происходил в салоне моей матери, где
находилась и я, тогда еще совсем юное создание.
Пассов, человек очень красноречивый, проникновенно
говорил, что он всей душой привержен мысли — путем
494
[раскрытия эллинского мира и внедрения греческого
,ivх;i в сознание хотя бы избранных восстановить то,
•мо утратил немецкий народ в целом: воодушевле-
• m* идеей свободы и родины. (Надо сказать, что по-
добные люди всегда простодушно и непосредственно
- скрывали свои сердца перед титаном потому, что
им и на ум не приходило, потому, что даже отда-
« iiiio они не могли себе представить, что у кого-ни-
fiv/ib найдутся возражения против идей, казавшихся
им столь здравыми и полезными. Прошло немало
примени, прежде чем они уяснили себе, что великий
человек отнюдь не расположен их поддерживать и
•по при нем не следует затрагивать эту тему.) «Вы-
слушайте, что я вам скажу, — произнес он наконец.—
M льщу себя надеждой кое-что смыслить в древних,
по свободолюбие и патриотизм, которые вы думаете
почерпнуть из них, каждую минуту грозят превра-
титься в карикатуру». Я никогда не забуду, с какой
холодной горечью произнес он слово «карикатура»,
и его устах всегда звучавшее суровым порицанием.
«Наш бюргерский уклад, — продолжал он, — весьма
и весьма отличен от уклада древних, иное и наше
отношение к государству. Немцам надо бы не замы-
каться в себе, но вбирать в себя весь мир, чтобы
затем на этот мир воздействовать. Не враждебная
отчужденность от других наций должна стать нашей
целью, но дружественное общение со всем миром,
воспитание в себе общественных добродетелей — даже
за счет врожденных чувств, более того — прав». По-
следнее он проговорил повелительно громким голо-
сом, барабаня пальцем по столику, за которым сидел,
м добавил: «Восставать против начальства, стропти-
петь победителю только потому, что мы начитались
латинян и греков, а он мало или ничего в них не
смыслит, — вздор и ребячество. Это профессорское
чванство не только смехотворно, но и вредно». Он
сделал паузу и затем, обернувшись к молодому Пас-
сову, который сидел, окончательно обескураженный,
заключил несколько более теплым, но сдавленным
голосом: «Меньше всего мне хотелось бы огорчить
пас, господин доктор. Я знаю, у вас добрые намерения.
495
Но мало иметь убеждения чистые и добрые; надо
предвидеть последствия своих деяний. Ваши же
деянья наполняют меня ужасом, ибо покуда они еще
благородное, еще невинное предвосхищение того
ужасного, что однажды приведет немцев к омерзи-
тельнейшим бесчинствам от которых вы сами, если
бы они могли дойти до вашего слуха, перевернулись,
бы в гробу». |
Представьте же себе всеобщее оцепенение, тихий!
ангел пролетел по комнате. Маме стоило немалых!
усилий восстановить спокойную беседу. Но таков он!
был тогда и так он себя вел, больно раня — словом!
и молчанием — святая святых наших чувств. Правда!
все это можно отнести за счет его преклонения перед]
императором Наполеоном, столь лестно отличившим]
его в восьмом году в Эрфурте и даровавшим ему ор-1
ден Почетного легиона, который с тех пор стал люби-]
мым орденом нашего поэта. Ничего не поделаешь, ои^
видел в императоре Зевса, устроителя мирового no-j
рядка, а в его немецкой государственной системе,!
объединении южных и искони немецких областей!
в Рейнский союз, — нечто новое, свежее и обнадежив
вающее, от чего он ждал немалой пользы для возвы-
шения и просветления немецкого духа, вступившего
в плодотворное содружество с французской культу-
рой, которой сам он, по его заверениям, был столь,
многим обязан.
Вспомните, что Наполеон настойчиво предлагал,
даже требовал, чтобы он избрал своим местожитель-
ством Париж, и что Гете долгое время всерьез взве-
шивал все за и .против и усиленно наводил справки
о тамошних житейских условиях. Со времени Эрфурта
между ним и цезарем установились личные отноше-
ния. Бонапарт обошелся с ним как с равным, и в учи-
теле, видимо, появилась'уверенность, что миру его
мысли, его немецкому духу не грозит никакой опас-
ности, что гений Наполеона не враждебен его ге-
нию— сколько бы весь остальной мир не трепетал пе-
ред ним.
Эту веру и дружбу можно назвать эгоистическими,
но, во-первых, следует заметить, что эгоизм такого
496
человека — не личный эгоизм, он санкционирован
чем-то высшим и всеобщим, а во-вторых, был ли
Гете одинок в этих своих убеждениях и взглядах?
Отнюдь нет, несмотря на непосильные тяготы, возло-
женные грозным протектором на нашу маленькую
е грану. Наш кабинет-министр Фойт, например, всегда
Считал, что Наполеон вскоре разделается с последним
противником и тогда объединенная Европа вкусит
мир под его скипетром. Мне не раз приходилось слы-
шать это мнение из его собственных уст, и я отлично
помню, как в тринадцатом году он резко и неодобри-
тельно отзывался о манифестациях в Пруссии, кото-
рую partout ' желают превратить в Испанию, invito
rege2. «Бедняга король! — восклицал он. — Как он до-
стоин сожаления и как он за это поплатится, хотя
и без вины виноватый! Нам, остальным, понадобится
несь наш ум и осторожность, чтобы сохранить спо-
койствие, беспристрастность и верность императору
Наполеону и тем избежать погибели».
Вот мнение умного, добросовестного государствен-
ного мужа, который и поныне правит нами. А его
светлость герцог? Уже после Москвы, когда импера-
тор с такой быстротой выставил новые армии и наш
государь сопровождал его часть пути до Эльбы, куда
он мчался разбить пруссаков и русских, вопреки всем
нашим ожиданиям объединившимся против него,
тогда как мы полагали, что прусский король и на
этот раз выступит с Наполеоном в поход против вар-
варов,— еще из этой поездки Карл Август возвра-
тился в восторженном состоянии духа, покоренный
«поистине необычным» человеком, как он выразился,
казавшимся ему боговдохновенным Магометом.
Но за Лютценом последовал Лейпциг, и разговоры
о боговдохновенности кончились; восхищение героем
уступило место иному чувству: воодушевлению свобо-
дой, родиной; и странно было видеть, как быстро и
легко человек позволяет внешним событиям и не-
счастьям того, в кого он верил, себя переучить,
Во что бы то ни стало (франц.).
Вопреки воле короля (лат.).
32 Т. Манн, т. 2
497
перестроить. Но еще удивительнее, еще непостижимее,
что ход событий доказывает неправоту большого, вы-
дающегося человека перед малыми, обладавшими, как
оказалось, большим пророческим даром. Гете по
этому поводу говорил: «Простаки, громыхайте своими
цепями; этот человек слишком велик для вас». И вот
цепи упали, герцог облачился в русский мундир, мы
прогнали Наполеона за Рейн, а те, кого учитель сни-
сходительно называл «простаками», эти Лудены и
Пассовы, они стояли перед ним победителями, пре-
взошедшими его своей правотой. Ведь тринадцатый
год стал триумфом Лудена над Гете, иначе не ска-
жешь. И он, пристыженный и раскаявшийся, признал
это и сочинил для Берлина свой апофеоз «Эпименид»,
в котором имелись следующие строки:
Но я стыжусь часов покоя
В годину крови и огня!
И выше вы перед судьбою
Невзгод бежавшего меня.
И далее:
И то, что, бездну покидая,
Дерзнуло в наш железный век
Мелькнуть, как смерч, миры стяжая,
Назад низринуто навек.
Как видите, он низринул в бездну своего импера-
тора, своего мироустроителя, своего пэра, — по край-
ней мере в апофеозе, ибо про себя, думается мне,
он и теперь твердит «простаки»!
Август, его сын, возлюбленный Оттилии, в своих
политических убеждениях повторял отца, вернее про-
сто вторил ему. Он высказывал себя ярым сторонни-
ком Рейнского союза, объединявшего, по его мнению,
всю причастную культуре Германию, и откровенно
презирал варваров севера и востока, что было ему
куда менее к лицу, чем Гете-старшему, ибо в нем са-
мом было нечто варварское, вернее угловатое, даже
грубое, наряду с меланхолией — отзывавшей, впро-
чем, не столько благородством, сколько душевным
мраком. В одиннадцатом году император назначил
к нам в Веймар посла, барона Сент-Эньона, шармант-
ного, высокообразованного аристократа, — нельзя не
493
щ дать ему справедливости, большого почитателя
I етс, которого поэт вскоре удостоил дружеским обще-
нием. Август, со своей стороны, немедленно свел
лружбу с секретарем барона, господином фон Воль-
ском; я упоминаю об этом, во-первых, чтобы пока-
зать вам, из какого крута он вербовал своих друзей,
.1 во-вторых, потому, что этот господин фон Вольбок
н декабре двенадцатого года, когда Наполеон после
Гхтства из Москвы проезжал Эрфурт, передал Гете
привет от императора. Это тоже немало значило для
Августа: ведь он воздавал Наполеону прямо-таки бо-
жеские почести, которые, на мой взгляд, тому не
слишком подобали, ибо чем он их заслужил? Этот
культ был лишен всякого нравственного основания.
По Август и по сей день хранит целую коллекцию
наполеоновских портретов и реликвий, которую отец
пополнил своим крестом Почетного легиона; носить
его он все же счел неудобным.
Да, узам любви редко приходилось скреплять два
сердца, бьющихся в столь различном ритме: Август
молился на Оттилию, как молился на Наполеона,—
не могу не прибегнуть к этому сравнению, сколь ни
странно оно звучит; а моя бедняжка — я с трепетом
и страхом смотрела на это — ласково принимала его
тяжеловесное ухаживание, убежденная в абсолютном
всемогуществе бога любви, который со смехом попи-
рает все взгляды и убеждения. Ей при этом приходи-
лось труднее, нежели ему, ибо он мог открыто испо-
ведовать свои убеждения, она же была принуждена
таиться. Но того, что она называла своей любовью,
се сентиментально-противоречивого приключения с сы-
ном великого поэта, ей не надо было скрывать в на-
шем мирке, где чувство заботливо культивируется
и вызывает всеобщее участие. Во мне она нашла
лишь робкую исповедницу, преданно перебиравшую
с ней все стадии и эпизоды ее любовной интриги. Она
могла также открыться своей матери, тем легче и сво-
бодней, что последняя пребывала в схожем душевном
состоянии и за исповеди дочери дружески платила ей
мой же монетой. Ее внимание было приковано
к красавцу графу Эдлингу, уроженцу юга, гофмаршалу
32*
499
и министру, к тому же. опекуну ее дочерей, другу
дома, а вскоре, быть может, и более близкому члену
семьи; она не без оснований надеялась на его руку,
ожидая только решительного слова, с которым он
пока что медлил. Так амур поставлял матери и до-
чери материал для взаимных сердечных излияний
о ежедневных радостях и горестях, восторгах и разо-
чарованиях, на которые он никогда не скупится.
Август и Оттилия виделись при дворе, в Комедии,
в доме его отца и на светских собраниях. Но влю-
бленные встречались и вне общества, в тиши: два ста-
ринных сада на берегу Ильма с уютными садовыми
домиками, принадлежавшими Гете и бабке Оттилии,
служили им укромным приютом. Я всегда сопутство-
вала моей пташке, и мне оставалось только дивиться,
с какими блаженными вздохами она покидала сад,
какими смущенными объятиями благодарила меня за
мою ассистенцию; я же была твердо убеждена, что
ощущать их встречи столь бесплодными, их разго-
воры столь пустыми и принужденными меня застав-
ляла не только моя роль дуэньи. Вялые, с запинками,
эти разговоры вертелись вокруг какого-нибудь ко-
тильона, придворной сплетни, бывшего или предстоя-
щего пикника и приобретали известную живость, лишь
когда речь заходила об обязанностях молодого чело-
века при его отце. Но Оттилия даже себе не призна-
валась в этой неловкости и скуке. Она воображала,
что при этих вымученных беседах их души сливаются,
и все пересказывала матери, которая в ответ пове-
ряла ей, что скоро граф вымолвит, наконец, решитель-
ное слово, ибо все уже клонится к тому.
Так обстояли дела, когда в жизнь милого ребенка
вторглось некое событие, о котором я не могу гово-
рить без сердечного трепета и сочувственной взволно-
ванности, ибо в нем для нас обоих сосредоточились
и персонифицировались все величие и красота нашего
времени.
Взошла заря тринадцатого года. О том прекрас-
ном, что творилось в Пруссии,—торжестве патрио-
тов, победе, одержанной ими над нерешительным коро-
500
.км, формировании добровольческого корпуса, в ко-
трый устремилась благороднейшая молодежь страны,
м своем энтузиазме готовая пренебречь образованием
и благоденствием и положить жизнь за отечество,—
обо всем этом, как я уже сказала, до нас доходили
лишь смутные, неясные слухи. Но, впрочем, об этом
я тоже говорила вам — то есть о чувствительной
i кязи души моей подруги со сферой ее покинутого
огца, постоянно поддерживавшейся новостями, дохо-
лившими к ней от прусских родичей, так вот, моя
Оттилия трепетала и горела при соприкосновении
с подготовляющимся, с уже происходящим, со всем,
что она, живя в нашем идиллическом мирке, давно
чуяла и подозревала. Героический народ, дочерью ко-
торого она была по крови и по духу, поднялся, чтобы
стряхнуть с себя позор французской тирании. Душа
ее исполнилась восторга, и как ее народ, своим при-
мером увлекший Германию на борьбу за честь и сво-
боду, так и она увлекла меня за собой и заставила
полностью разделить с ней и ненависть и пылкие на-
дежды. Впрочем, она была теперь уже не так оди-
нока, как прежде. Заря освобождения забрезжила и
у нас, под небом наполеоновского Рейнского союза,
и молодые дворяне (назову хотя бы камергера фон
Шпигеля и советника фон Фойта из Иены) вступили
и опасные сношения с пруссаками, чтобы держать их
и курсе веймарских дел.
Вскоре они и Оттилия нашли друг друга, и моя
любимица с затаенной страстью предалась тому же
делу. Она ставила на карту свою жизнь, и я, отчасти
чтобы удержать ее, отчасти же по собственному вле-
чению, стала поверенной этих политических тайн, как
была поверенной тайн ее девичьего сердца при сви-
даниях с Августом фон Гете; теперь я уже затруд-
няюсь сказать, какие из них больше страшили и удру-
чали меня.
Всем известно, сколь мало обнадеживающими
были поначалу военные события. Правда, Оттилии
иыпало счастье видеть на улицах Веймара прусские
мундиры, ибо в середине апреля, шестнадцатого чи-
гла, я помню это как сейчас, конный отряд гусар и
501
егерей совершил набег на наш город, взял в плен
немногих квартировавших здесь французских солдат
и увел их за собою. Императорская кавалерия,
примчавшаяся из Эрфурта, не обнаружив у нас прус-
саков, ни с чем возвратилась обратно и, как оказа-
лось, преждевременно; ибо на следующее утро —
вообразите себе восторг Оттилии! — приветствуемые
ликующим населением в город торжественно вступили
эскадроны младшего Блюхера, гусары и зеленые
егеря. Тут пошли пляски и бражничанье. Беспечная
удаль воинов, помнится, многим внушила горькие
опасения и вскоре была жестоко наказана. Фран-
цузы! — раздался вопль, и наши освободители, оста-
вив пир, бросились к оружию. В город ворвались
войска Суона, численностью значительно превосхо-
дившие пруссаков. Схватка длилась недолго — фран-
цузы снова завладели городом. Плача о проливаю-
щих свою кровь героях, которым мы только что
подносили вино и яства, мы забились в комнаты, на-
блюдая сквозь гардины за суматохой на улицах,
наполненных пронзительным воем рогов и грохотом
орудий; впрочем, бой скоро оттянулся к парку и
окраинам города. Победа осталась за врагом. Она
была ему слишком привычна и, увы, воспринималась
как победа порядка над мятежом, к тому же мальчи-
шеским и сумасбродным, что доказало его быстрое
подавление.
Спокойствие и порядок благодетельны, кем бы они
ни устанавливались. Нам пришлось заботиться о рас-
квартировании французов, которое тотчас же и на
долгие времена тяжким бременем легло на наш го-
род. Но мир был восстановлен, уличное движение
открыто от зари до зари, и бюргеры, под относитель-
ной защитой врага, получили возможность вернуться
к повседневным делам.
Не знаю, какое тайное влечение, какое смутное
предчувствие заставило Оттилию на следующий день
позвать меня на прогулку. Дождливую ночь сменил
манящий и ласковый апрельский денек; прогретый
воздух дышал весенними надеждами. Была какая-то
странная привлекательность в том, чтобы свободно
502
продить по улицам, еще вчера охваченным ужасом
г.пгвы, с содроганием рассматривать ее следы — дома,
и:»решеченные пулями, там и здесь брызги крови;
к этому примешивалось робкое женское восхищение,
полее того — преклонение перед суровой и дикой от-
питой сильного пола.
Чтобы от дворца и Рыночной площади выйти в зе-
ленеющие просторы, нам надо было миновать земля-
ной вал; обойдя его, мы направились к Ильму и вдоль
(к'рега по лужайкам и перелескам побрели мимо Лу-
бяного домика к Римской вилле. Вытоптанная трава,
валявшиеся под ногами части оружия и обмундирова-
ния свидетельствовали, что бой, бегство и преследо-
нание простирались до этих мест. Мы говорили о пе-
режитом и, вероятно, вновь предстоящем, о занятии
саксонских городов русскими частями, о тяжелом по-
ложении Веймара, зажатого между императорской
твердыней, Эрфуртом, и наступающими пруссаками
и русскими, о ложной ситуации его светлости герцога,
об отъезде великого князя Константина в нейтраль-
ную Богемию и французского посла в Готу. Помнится,
мы также говорили об Августе и о его отце, которому
тоже пришлось, уступив настояниям близких, поки-
нуть угрожаемый город; вчера, поутру, незадолго до
вступления Блюхеровых войск, он отбыл в Карлсбад
и, верно, повстречался с ними при выезде из города.
Идти дальше по пустынным местам нам было
жутко, и мы уже решили повернуть вспять, когда
нашего слуха внезапно коснулся какой-то звук, ско-
вавший нам ноги, — не то призыв, не то стон. Мы
стояли, прислушиваясь, и вновь вздрогнули: из при*
дорожного кустарника послышалась та же жалоба,
тот же зов. Испугавшись, Оттилия схватила мою
руку, — теперь она выпустила ее, — и с бьющимся
сердцем, повторяя «кто там?», «кто там?», мы обе
стали пробираться сквозь цветущие заросли. Как
описать наше удивление, жалость и растерянность?
В кустах, на мокрой траве, лежал прекраснейший
юноша, раненый воин, участник геройского набега,
со спутанными и слипшимися золотистыми кудрями,
с чуть пробивающейся бородкой на тонком и благо-
503
родном лице; лихорадочный румянец его щек страшно
контрастировал с восковой бледностью лба; намок-
ший и выпачканный землею мундир, топорщившийся
на полупросохших местах, внизу был запятнан за-
пекшейся кровью. Ужасное, но возвышенное и беско-
нечно трогательное зрелище! Вы легко себе предста-
вите всполошенные, полные страха и участия вопросы
о самочувствии, о ране, которыми мы его засыпали.
«Само небо привело вас сюда,— произнес он с жест-
ким северонемецким выговором, но дрожащими гу-
бами, которые после каждого движения, искажавшего
болью его прекрасное лицо, жадно втягивали воз-
дух.— Во время вчерашней переделки, пуля угодила
мне в бедро, я охнуть не успел, как у меня отнялась
нога, и на время мне пришлось распроститься с при-
вычным вертикальным положением. Я ползком до-
брался сюда. Здесь довольно уютно, но все же сы-
ровато, когда накрапывает дождик, как сегодня
ночью, я лежу тут со вчерашнего утра, хотя, надо
думать, мне было бы полезнее лежать в постели,—
меня как будто немного лихорадит».
Так со студенческой бравадой говорил наш герой
о своем несчастье. Да он и был студентом. «Гейнке,
Фердинанд, — произнес он картаво, — юрист из Бре-
славля и доброволец егерского полка. Как же дамы
думают распорядиться относительно меня?» В самом
деле, надо было что-то предпринять, и притом немед-
ленно. Но оторопь, напавшая на нас при этом при-
ключении — встрече с нашим идолом, прусским ге-
роем, внезапно представшим перед нами в столь близ-
кой и телесной реальности, под мещанским именем
Гейнке, — лишила нас присутствия духа и должной
находчивости. Что делать? Вы поймете робость двух
молодых девушек, которым предстояло прикоснуться
к реальному, раненному в бедро юноше, к тому же
столь прекрасному! С чего следовало начинать? Под-
нять и нести его? Но куда? Не в город же, кишащий
французами. Добраться до любого другого приста-
нища, пусть более близкого, как, например, Лубяной
домик, нам было так же не под силу, как и ему.
Правда, рана, по его словам, перестала кровоточить,
504
un йога сильно болела, и о ходьбе, даже при нашей
помощи, ему нечего было думать. Мы могли разве
что оставить героя — он и сам был того же мнения —
и.•! месте, под какой ни на есть защитой кустарника,
и, поскорей вернувшись в город, сообщить нашим
-друзьям о случившемся. Вдвоем выработать план
укрытия прекрасного юноши мы были не в состоянии.
То, что он не может оставаться вторую ночь под от-
крытым небом и должен быть водворен под надеж-
ный кров и препоручен заботливому уходу, — было
единственным твердым, пунктом в наших смятенных
мыслях, и вместе с этим вырастала и твердая реши-
мость— не доверять ухода за ним чужим рукам. По-
святить в тайну наших матерей было бы самое про-
стое; но если мы и были уверены в их участии, —
что они могли нам посоветовать, чем пособить? Обой-
тись без мужской помощи было невозможно; и нам
пришло на ум прибегнуть к господину фон Шпигелю,
камергеру и человеку одних с нами убеждений;
к тому же он был инициатором рокового прусского
набега и, конечно, не мог отказать в помощи одной
из жертв кровавой схватки. В те дни он был еще
на свободе: арест его и его друга фон Фойта вос-
последовал несколько позднее по доносу одного свое-
корыстного соседа, и оба друга заплатили бы жизнью
за свой отчаянный патриотизм, если бы Наполеон,
по прибытии в Веймар, не помиловал их из любез-
ности к герцогине Луизе. Но это между прочим.
В дальнейшем я не буду углубляться в детали: до-
статочно сказать, что фон Шпигель оправдал наши
надежды и тотчас же, осторожно и энергично, принял
необходимые меры. В парк были тайно доставлены
разобранные на части носилки, у несчастного в крат-
чайший срок оказалось сухое платье и подкре-
пляющие средства, хирург подал ему первую по-
мощь, и в сгустившихся сумерках, юноша, пере-
одетый в штатское платье, был принесен ко дворцу,
м старой части которого, так называемой Бастилии,
камергер, договорившись с управителем, уже приго-
товил ему приют и убежище в маленькой чердачной
комнатушке.
505
Скрытый от всего мира, наш храбрый друг не-
сколько недель пролежал на одре болезни, так как
из-за ночи, проведенной на сырой земле, к гнойной
ране прибавился еще и грудной катарр, с мучитель-
ным кашлем, усиливший лихорадку и боли. Все это
могло бы внушить врачу самые серьезные опасения,
если бы молодость, здоровая конституция и всегда
ровное веселое настроение пациента, омрачаемое
разве что нетерпеливым желанием вновь приобщиться
к сонму героев, не являлись наилучшим ручатель-
ством за счастливый исход. Оттилия и я, деля труды
по уходу за больным с навещавшими его доктором
и старым управителем, каждый день взбирались по
ветхой лесенке в его потаенное убежище, приносили
ему вино, засахаренные фрукты и другие лакомства,
а также легкое, развлекательное чтение, болтали
с ним, когда его самочувствие это дозволяло, или пи-
сали для него письма. Он называл нас своими анге-
лами-хранителями, так как за его скептически не-
брежными манерами таилось мягкое сердце. И если
он и не разделял наших эстетических интересов,
смеялся над ними и ничего не имел в мыслях, кроме
своей юриспруденции, отечества и скорейшего выздо-
ровления, то мы тем охотнее признавали, что можно
осмеивать поэзию и не обязательно в ней разбираться,
коль скоро она воплощена в тебе самом,— а для нас
этот прекрасный, добрый, благородный человек и
вправду был воплощенной поэзией, осуществлением
наших грез. И вот однажды, после одного из этих
посещений, Оттилия, спускаясь вниз, заключила
меня в свои объятия, а я, в ответ на это признание,
горячо ее поцеловала — объяснение, при средне-
вековом устройстве лестницы, едва не стоившее нам
жизни.
То были дни, полные растроганности и высоких
порывов. Они насыщали прекрасным содержанием
нашу девичью жизнь, — ибо радостно было видеть,
как молодой герой, сохранение которого для родины
стало нашей заслугой, после нескольких дней тре-
воги, от раза к разу быстрее продвигался навстречу
выздоровлению. И мы, точно сестры, поверяли друг
506
другу эту радость, как, впрочем, и другие чувства,
посвященные нашему прекрасному питомцу. Ваша
чуткость подскажет вам, что к милосердию и патрио-
тизму в сердцах обеих девушек примешивалось нечто
более нежное, невыговариваемое. Но мои чувства
п здесь только сопровождали чувства обольститель-
ной Оттилии, так сказать, уступая им дорогу. Иначе
и быть не могло. Мне, дурнушке, доставалась лишь
скромная доля Фердинандовой благодарности. При
сто духовной обделенности, впрочем, только красив-
шей его, и вытекающем отсюда полном безразличии
к качествам, которые я могла бы выставить взамен
внешнего блеска, я мудро поступила, с самого на-
чала распростившись с надеждами и благоразумно
избрав в этом романе роль поверенной. Моя природа
тому не противилась, а от ревности меня спасала не
только любовь к подруге и нежная гордость ее пре-
лестями, не только то, что Фердинанд всегда ровно
обходился с нами, и я с простительным человеческому,
сердцу удовлетворением видела, что он никогда не
изменял дружелюбно-вольному тону и в отношении
моей любимицы, — нет, меня ободряло и нечто третье,
а именно надежда, что это новое, нечаянное приклю-
чение отвлечет Оттилию от близости с Августом фон
Гете, от этого мрачного, чреватого несчастьями союза.
Поэтому я не скрыла своей радости, когда она при-
зналась у меня на груди, что в ее чувствах к Ферди-
нанду есть нечто совершенно иное, дотоле неведомое
ее сердцу, и что жизнь научила ее различать между
участливой дружбой и истинной любовью. Моя ра-
дость умерялась лишь тем, что Гейнке был не дво-
рянином, а всего-навсего сыном силезского мехов-
щика, а следовательно, малоподходящей партией для
Оттилии фон Погвиш. Впрочем, только ли это созна-
ние вынуждало его не изменять своему дружелюбно-
вольному тону в общении с ней, это уже другой во-
прос...
Ко времени выздоровления Фердинанда светский
сезон пришел к концу, и хотя Комедия еще не за-
крыла своих дверей, но приемы во дворце кончились,
рауты и балы, героями которых в последнее время
507
были французские офицеры, стали устраиваться лить
от случая к случаю. Встречи с Августом, прогулки и
свидания в парке, правда, не вовсе прекратились, но
стали редки, так как с отъездом отца круг его обя-
занностей значительно расширился. Тайна Ферди-
нанда заботливо охранялась, и никто, кроме несколь-
ких посвященных, не подозревал о существовании на-
шего найденыша в его голубятне. Однако Оттилия
все же ощутила потребность рассказать об этом ка-
мер-асессору — прежде всего по долгу дружбы и вза-
имного доверия, но отчасти из любопытства—так мне
по крайней мере казалось, — из желания посмотреть,
как он воспримет весть о нашем приключении и что
отразится на его лице. Он отнесся к ее сообщению,
равнодушно, даже насмешливо, особенно после того,
как, стороной заведя разговор о семействе Гейнке,
узнал о его мещанском происхождении. Это доказы-
вало его весьма малую любознательность, вернее
желание остаться в стороне от всей истории, а по-
тому речь о ней заходила лишь редко и случайно,
и Август пребывал в добровольном неведении или
полуосведомленности относительно выздоровления на-
шего героя и его дальнейшего краткого пребывания
в Веймаре и скорого исчезновения.
Этим рассказом я предвосхитила ход событий.
Фердинанд скорее, чем мы думали, поднялся с по-
стели и начал на костылях прохаживаться по своей
каморке, разминая больную ногу; приветливое весен-
нее солнце, заглядывавшее в его спасительную тем-
ницу лишь через слуховое окно, сделало свое дело,
ободрило и оживило его. Чтобы дать ему возмож-
ность в большей мере насладиться весною, была за-
думана перемена квартиры; кузен управителя, дер-
жавший сапожную мастерскую на Кегельплатце, по-
зади придворной конюшни, выказал готовность сдать
комнату нашему пациенту. И вот в один из первых
июньских дней он перебрался из своего романтиче-
ского убежища туда, где мог, сидя на скамейке у са-
мой реки, греться на солнце и любоваться зелеными
просторами, рощицей вокруг Охотничьего домика и
Тифуртской аллеей.
508
В те дни нам выпал на долю перерыв в нагромож-
дении исторических событий, продлившийся, правда,
лишь до ранней осени; я не говорю — к сожалению,
ибо то, что за ним последовало, привело, пусть че-
рез страшные бедствия и бесконечные страдания,
к свободе и славе. Между тем жизнь в нашем городе,
несмотря на непрекращающиеся тяготы постоя, с ко-
торыми мы кое-как справлялись, текла довольно
плавно. Светские удовольствия, хотя и в умеренном
масштабе, по весне возобновились, и наш воин,
is штатском платье, с округлившимися и зарумянив-
шимися щеками, соблюдая предписанную осторож-
ность, начал принимать в них участие. У моей матери,
у матери Оттилии, у Эглоффштейнов, в салоне гос-
ножи фон Вольцоген и в некоторых других домах мы
провели немало веселых и в то же время содержа-
тельных часов в обществе молодого героя, благодаря
своей юношеской красоте и рыцарственной непри-
нужденности везде встречавшего радушный и почти-
тельный прием. Доктор Пассов, например, был готов
идти за него в огонь и в воду, так как видел в нем
олицетворенный идеал своего учения — эллинскую
красоту в сочетании с германским воинствующим
свободолюбием. Правда, на мой взгляд, он заходил
слишком далеко в обожании нашего юнца, и мне
невольно, не в первый и не в последний раз, напра-
шивалась мысль, что героический национальный дух
связан с чрезмерным, нам, женщинам, не слишком
приятным, энтузиазмом мужчины к представителю
своего пола — что подтверждается и отталкивающим,
суровым обычаем спартанцев.
Что касается Фердинанда, то он со всеми дер-
жался того же ровного веселого тона, и его поведение
с нами, то есть с Оттилией, не могло бы вызвать рев-
ности господина фон Гете, даже если бы эти моло-
дые люди, как день и ночь отличавшиеся друг от
друга, однажды и встретились — чему, впрочем, Отти-
лия умела воспрепятствовать. Она, конечно, мнила
себя виноватой перед своим сумрачным поклонником
из-за чувства, внушенного ей нашим героем, на которое
una смотрела, как на нарушение дружеского долга,
509
и встреча обоих сулила бы ей тяжкие угрызения со-
вести. Как ни восхищала меня ее нравственная куль-
тура, определившая подобный взгляд на вещи, я все
же с беспокойством ааключила из этого, что моим на-
деждам не суждено осуществиться и что история
с Гейнке не порвет опасных уз, связавших ее с сыном
титана. «Да, Адель,— сказала она мне однажды
утром, и ее голубые глаза омрачились, — я познала
счастье, свет и гармонию, они открылись мне в об-
разе Фердинанда. Но как ни благотворно их воз-
действие, мрак и страдание громче взывают к на-
шему великодушию, и в тайниках души я уже чую
мою судьбу». — «Господь да сохранит тебя, люби-
мая»!— îbot все, что я могла ей ответить, и мое
сердце пронзило холодом, как при встрече с недвиж-
ным взглядом рока.
Гейнке исчез. Нам суждено было вновь свидеться
с ним. Но теперь, после семинедельного пребывания
в нашем породе, он уехал — сначала на родину, в Си-
лезию, посетить милых родных, семью мехоторговца,
и дажлдаься там полного заживления раны, чтобы
затем без проволочек ринуться в армию. Мы с Отти-
лией ттроливали горькие слезы об этой утрате и на-
шли усиокоение, лишь поклявшись друг другу отныне
посвятить -нашу дружбу культу его памяти. В нем
воплотился для нас наш идеал, пламенный юноша-
патриот, воспетый певцом «Лиры и меча», но так как
плоть всегда несколько противоречит идеалу и ее от-
резвляющее воздействие, по-видимому, неизбежно, то,
откровенно говоря, — есть известное блато и в раз-
луке: она дает идеалу восстановиться во всей его
чистоте. Последнее время мы видели Фердинанда
в прозаической штатской одежде, теперь же он яв-
лялся нашим внутренним взорам в почетном убран-
стве воина, в котором он впервые предстал п-еред
нами, — большое преимущество, если подумать, как
мундир возвышает мужское достоинство. Короче,
образ его день ото дня яснел в нашем воображении,
в то время как фигура другого, Августа, — сейчас вы
увидите почему, — все больше и больше заволакива-
лась свинцовыми тучами.
510
Десятого августа кончилось перемирие, за время
которого Пруссия, Россия, Австрия, а также Англия
объединились против императора французов. К нам,
и Веймар, доходили лишь смутные слухи о победах
прусских полководцев, Блюхера и Бюлова, Клейста,
Иорка, Марвица и Тауенцина. Мы были, уверены, что
-наш Фердинанд разделяет эти победы, и дыхание
у нас занималось от гордости, хотя нас и бросало
в дрожь при одной мысли, что его юношеская кровь,
пролитая за родину, может быть уже обагрила зеле-
ную равнину. Мы почти ничего не знали. Северные и
восточные варвары приближаются — вот и все наши
сведения. Но чем ближе они подходили, тем реже
именовались у нас «варварами». К ним обращались
теперь симпатии и надежды населения и общества,
все решительнее отворачивавшегося от французов:
отчасти потому, что в восточных воинах видели побе-
дителей и надеялись заранее смягчить их покор-
ностью, в основном же потому, что человек — подне-
вольное создание, руководимое потребностью жить во
внутреннем согласии с обстоятельствами и событиями,
с превосходящей силой, а теперь, казалось, сама
судьба толкала людей к измене прежним убежде-
ниям. Так, в течение нескольких дней варвары, опол-
чившиеся на цивилизацию, превратились в освобо-
дителей. Их победа и успешное наступление дали
прорваться наружу всеобщему воодушевлению ро-
диной и свободой и ненависти к иноземному пора-
ботителю.
В середине октября мы не без страха, но и не без вос-
хищения впервые* увидели на улицах Веймара каза-
ков. Французский посол бежал, и если ему позволили
скрыться, не подвергнув тяжким оскорблениям, то
лишь потому, что было еще не совсем ясно, что за-
мыслила судьба и как следует себя держать, чтобы
не прийти к разногласию с силой и успехом. Но
в ночь на двадцать первое к нам ворвалось полтысячи
диких всадников, и их полковник, некий фон Гейсмар,
в заломленной набекрень шапке, той же ночью стоял
во дворце перед постелью герцога и докладывал ему
о великой победе союзников под Лейпцигом. Он объ-
511
явил, что прислан императором Александром на за-
щиту герцогской семьи. Тут и его светлости стало
ясно, чей час ныне пробил и как надо вести себя
умному государю, дабы не порвать со счастьем и мо-
гуществом.
Дорогая, что это были за дни: полные шума битв,
бушевавших вокруг города и, страшно сказать, даже
у нас на глазах. Французы, рейнцы, казаки, мадьяры,
пруссаки, кроаты, словенцы: смене дикарских лиц,
казалось, не будет конца. И едва только французы,
отступая к Эрфурту, очистили резиденцию, в нее не-
медленно влились полчища союзников. На нас хлы-
нула река постоев, обременивших каждый дом, боль-
шой и малый, непомерными, часто непосильными тре-
бованиями. Город, до отказа набитый людьми, видел
немало блеска и величия, ибо здесь держали двор
два императора, русский и австрийский, да еще прус-
ский кронпринц. Вскоре прибыл и канцлер Меттер-
них, все кишело сановниками и генералами. Но
только беднейшие, с которых нечего было взять,
могли тешиться этим зрелищем, — мы, стесненные до
пределов, только и знали, что подносить и потчевать;
и так как все были заняты по горло,— мы едва успе-
вали дух перевести, выполняя бесчисленные требо-
вания постояльцев, — то ни у кого уже не хватало сил
подумать о соседе, и мы обычно лишь с большим
опозданием узнавали, что приключилось с тем или
иным из наших сограждан.
Хотя бремя невзгод на всех ложилось одинаково,
но среди этих бед и притеснений между людьми все
же существовало глубокое внутреннее различие; легче
и веселей невзгоды переносились теми, кто радовался
победе общего патриотического дела. Пусть она до-
стигалась с помощью иногда довольно диких и рас-
пущенных друзей-казаков, башкиров и гусар с вос-
тока,— победа сторицей окупала все муки и давала
силы переносить их.
Нашим матерям, матери Оттилии и моей, тоже
пришлось держать у себя на квартире и обхаживать
генералов с их адъютантами и денщиками, причем
512
мы, дочери, буквально обратились в служанок этих
зазнавшихся господ. Но моя любимица, не принуж-
даемая более скрывать свои прусские симпатии, не-
смотря на все беды, сияла счастьем, заставляя и
меня, легко впадающую в уныние, делить с ней вос-
хищение великим, прекрасным веком, которому мы
о"бе сообщали любимые светлые черты: черты юноши-
героя, спасенного нами и ныне где-то (где, мы не
знали) завершавшего кровавое дело свободы.
Вот то, что можно сказать о наших чувствах, на-
шем состоянии, несмотря на его несколько индиви-
дуальную окраску, немногим отличавшемся от всеоб-
щего настроения, от мыслей и чувств короля. Но на-
сколько же по-другому все выглядело в знаменитом
доме, с которым мою Оттилию связывали столь
странные, столь пугающие меня узы! Великий поэт
Германии был в ту пору несчастнейшим человеком
в городе, в герцогстве, во всем обуянном высокими
чувствами отечестве. В шестом году он и вполовину
не был так несчастен. Наша милая баронесса Штейн
полагала, что он впал в меланхолию. Она советовала
не вступать с ним в политические беседы, поскольку
он, мягко говоря, не разделял всеобщего энтузиазма.
Год нашего возрождения, который по праву будет
считаться знаменательным и воссияет над нашей ис-
торией, Гете называл не иначе, как «печальным»,
«ужасным». А ведь неоспоримые ужасы этого года
коснулись его меньше, чем кого бы то ни было.
В апреле, когда театр войны грозил придвинуться
к нам, когда пруссаки и русские завладели окрест-
ными высотами и Веймару предстояло сделаться аре-
ной битв, грабежей и пожаров, Август и тайная со-
ветница не допустили, чтобы шестидесятитрехлетний
человек, правда еще крепкий, но частенько прихвары-
вающий и уже давно привыкший к определенной ру-
тине жизни, подвергал себя тревогам, которые могли
оказаться еще более страшными, нежели в шестом
году. Они настояли на его немедленном отъезде в из-
любленную Богемию, в Теплиц, где он в безопасности
заканчивал третий том своих воспоминаний, в то
время как дома мать и сын готовились к наихудшему.
ÔJ3 Т. Манн, т. 2
513
Все это лишь в порядке вещей, не буду спорить. Я —
не буду... Но, не скрою, нашлись люди, которые по-
рицали его за отъезд, видя в этом поступке лишь хо-
лодный эгоизм вельможи. Однако войска Блюхера,
повстречавшие его экипаж под самым Веймаром и
тотчас признавшие творца «Фауста», иначе отнеслись
к его отъезду, а может быть решили, что он просто
отправляется на прогулку. Они окружили его и, в
своем неведении, от чистого сердца просили поэта
благословить их оружие, что он и сделал после недол-
гого сопротивления. Хорошая сцена, не правда ли?
Немножко только двусмысленная и грустная из-за не-
доразумения, легшего в ее основу.
До конца лета наш учитель оставался в Богемии,
Затем, так как и там стало уже небезопасно, воро-
тился домой, но всего на несколько дней; выяснилось,
что с юго-востока к Веймару приближаются авст-
рийцы, и Август подвигнул его на новый отъезд. Гете
отправился в Ильменау и оставался там до начала
сентября. С тех пор он жил среди нас, и каждый,
кому дорог великий поэт, скажет, что и ему немало,
очень немало пришлось претерпеть от невзгод, обру-
шившихся на наш город. Это было время самых тяж-
ких постоев, и его красивый дом, которому все же-
лали мира и покоя, тоже превратился в постоялый
двор: с неделю за столом у Гете сидело двадцать че-
тыре человека. У него стоял австрийский фельдцейх-
мейстер граф Коллоредо. Вы, верно, слышали,—
в свое время об этом немало говорилось, — что
в странном неведении или преднамеренно, а быть мо-
жет, это была вера в то, что большие баре, как
этот граф и он, живут в особой сфере, чуждой стра-
стям толпы, Гете вышел ему навстречу с крестом
Почетного легиона в петлице. «Фу ты черт! — закри-
чал Коллоредо.— Как можно носить такую штуку!»
Это ему-то! Фельдцейхмейстеру он смолчал, но дру-
гим впоследствии говорил: «Как? Оттого что импера-
тор проиграл битву, я не должен носить его креста?»
Стариннейшие друзья стали ему непонятны, как и он
им. После австрийца его посетил министр, господин фон
Гумбольдт, духовно близкий ему в продолжение два-
514
дцати лет, космополит старой складки, в большей
лаже степени, чем наш поэт, — жизнь за рубежом он
всегда предпочитал жизни в отечестве. С шестого года
Гумбольдт стал пруссаком, «хорошим пруссаком»,
как говорится, «пруссаком с головы до пят». Напо-
леону удалось-таки перекроить немцев — надо отдать
гму справедливость. Молоко благонамеренных убеж-
дений он превратил в жгучую драконову кровь,
а мягкотелого гуманиста фон Гумбольдта — в яро-
стного патриота и поборника освободительной войны.
Считать ли за вину Цезаря или вменить ему в за-
слугу, что он преобразил наши чувства и возвратил
пас самим себе? — Не знаю.
Многие подробности бесед прусского министра
с великим поэтом просочились в общество и переда-
вались из уст в уста. Гумбольдт, надышавшийся бер-
линским воздухом, с самой весны ожидал, что сыно-
вья Шиллера и сын Гете, подобно молодому Кернеру,
нозьмутея за мечи и выступят на защиту общенемец-
кого дела. Теперь он стал разузнавать о настроениях
старинного друга и помыслах Августа, но лишь за-
тем, чтобы наткнуться на мрачное равнодушие по-
следнего и досадливо раздраженное неверие первого
в дело, всем казавшееся столь великим и прекрасным.
«Освобождение? — с горькой усмешкой спросил он
Гумбольдта. — Это освобождение для погибели. Ле-
карство здесь хуже болезни. Наполеон повержен?
О нет, до этого еще далеко. Правда, сейчас он похож
па затравленного оленя, но его это только забавляет,
и не исключено, что он еще сбросит с себя всю свору.
Но допустим, он побежден, — что тогда? Разве хоть
один человек на свете знает, что произойдет после
падения могучего? Мировое господство русских, а не
французов? Казаки в Веймаре — это не совсем то,
что представляется желательным. Или, может быть,
пх поведение корректнее поведения французов? Дру-
зья притесняют нас не меньше, чем враги. Они пере-
хватывают даже обозы, с таким трудом добираю-
щиеся до наших солдат, и наши раненые на поле
битвы подвергаются грабежу союзников. Эту правду
стараются прикрасить сентиментальными фразами.
33*
515
Народ, включая и его поэтов, руинированный полити-
кой, пребывает в состоянии отвратительного и совер-
шенно непристойного возбуждения. Короче говоря,
это — ужас!»
И правда, дорогая госпожа советница, это был ис-
тинный ужас. В том-то и беда, в том-то и посрамле-
ние энтузиазма, что повседневные события, вся эмпи-
рия играли в руку великому поэту.
Спора нет: отступление французов и их преследо-
вание повлекли за собой ужаснейшую разруху, всеоб-
щее обнищание. Наш город, в котором хозяйничали
теперь прусский полковник, настоящий солдафон,
а также русский и австрийский военачальники, изне-
могал от бремени проходящих и квартирующих войск
всевозможных национальностей. Из осажденного Эр-
фурта в наши лазареты хлынули раненые, калеки,
больные горячкой и дизентерией. Вскоре эпидемии на-
чали свирепствовать и среди веймарцев. В ноябре
у нас было пятьсот тифозных, — и это при населении
в шесть тысяч человек! Не хватало врачей — все
наши доктора слегли. Писатель Иоганнес Фальк за
один месяц лишился всех своих детей и стал седым
как лунь. Ужас, страх заразы пригибали нас к земле.
Дважды в день город окуривался галеополитом, но
телеги, наполненные мертвыми телами^ не переста-
вали громыхать по улицам. Участились самоубийства,
вызванные голодом.
Таково было внешнее положение вещей, действи-
тельность, если хотите, и горе тому, кто не умел, воз-
высившись над нею, проникнуться идеалами свободы
и отчизны. Многим это все же удавалось: профессо-
рам Лудену и Пассову прежде всего, Оттилии также.
Что наш король поэтов не мог или не хотел этого сде-
лать, среди всех наших горестей было, пожалуй, тяг-
чайшей. Какова его позиция, мы знали, увы, слишком
точно по его сыну — ведь он всегда был подголоском
отца. В этом детски слепом повторении отцовских
мыслей было, правда, нечто трогательное, но в то же
время и противоестественное, заставлявшее нас со-
дрогаться, не говоря уже о той боли, которую нам на-
носили его слова. С поникшей головкой, лишь из-
516
редка подымая к нему взор, затуманенный слезами,
ныелушивала Оттилия, как он резко и словно бы от себя
повторял все говоренное его родителем Гумбольдту и
другим об этой эпохе горя и заблуждений, об ее аб-
сурдности и смехотворности.
И правда, при желании можно было усмотреть
много абсурдного и смехотворного в поведении взбу-
дораженных, ошалевших, взвинченных общей стра-
стью и духовно опустившихся людей. В Берлине
Фихте, Шлейермахер и Иффланд разгуливали, воору-
женные до зубов, грохоча саблями по мостовой. Гос-
подин фон Коцебу, наш знаменитый комедиограф,
намеревался учредить отряд амазонок, и я не сомне-
ваюсь, что Оттилия, осуществи он свою затею, при-
мкнула бы к ним и, возможно, увлекла бы за собой
и меня, хотя теперь, на свежую голову, эта идея и ка-
жется мне до крайности эксцентричной. Хороший
вкус не был сильной стороной того времени, отнюдь
нет, и кто только о нем заботился, да еще о культуре,
осмотрительности, критическом отношении к себе, тому
приходилось круто. Такой человек не мог, к примеру,
увлечься стихами, которые породило то время и кото-
рые нынче кажутся отвратительными, хотя тогда они
и вызывали у нас слезы дешевой растроганности. Весь
народ стихотворствовал, плыл, утопал в апокалипси-
сах, пророчествах, в кровавых бреднях ненависти и
отмщения. Какой-то пастор издал сатиру на гибель
великой армии в России, прямо-таки непристойную и
в целом и в отдельных деталях. Дорогая, воодуше-
вление прекрасно, но если ему слишком уже недостает
цивилизации и экзальтированные мещане купаются
в горячей вражеской крови только потому, что исто-
рический миг развязал их низкие инстинкты, это, ко-
нечно, мало утешительно. Спорить тут не приходится.
Когда страну наводняли рифмованные потоки, зада-
вавшиеся целью высмеять, унизить, надругаться над
человеком, при одном виде которого наши бунтовщики
еще так недавно умирали от страха и благоговения,—
это уже выходило за пределы и шутки и серьеза,
главное же — благоразумия и благопристойности, тем
более, что обычно эти памфлеты направлялись не
517
столько против тирана, сколько против выходца из
народа, сына революции, творца нового времени.
Даже мою Оттилию эти, в равной мере неуклюжие и
бесстыдные, пасквили «на проходимца Наполеошку»
повергали в молчаливое смущение. Я это заметила.
Как же было владыке немецкой культуры и просве-
щения, певцу Ифигении, не огорчаться таким состоя-
нием умов? «Что не похоже на «Погоню бравого
Лютцова», — сетовал он устами своего сына, — до
того людям теперь и дела нет». Мы от этого страдали,
быть может, следовало относиться терпимее к тому,
что он заодно с этими кровожадными бумагомара-
телями отвергал и талантливых певцов свободы,
Клейста и Арндта, называя их творения дурным при-
мером,— ведь в гибели своего героя он видел лишь
наступление хаоса и варварства.
Видите, я стараюсь, как ни мало это мне к лицу,
защитить великого человека, объяснить холодность и
безучастие, которые он тогда выказывал, — и делаю
это тем охотнее, что неразделенность его убеждений,
вероятно, причиняла и ему самому немало горя, не-
смотря на то, что как писатель он давно привык к от-
чужденности от народа, к классической дистанции.
Но я не могу ему простить и никогда не прощу того,
что он сделал тогда со своим сыном и что возымело
для и без того мрачного характера Августа — а вме-
сте с тем и для любви Оттилии — столь тяжкие, столь
мучительные последствия.
Итак, в конце ноября того великого и страшного
года герцог, на манер пруссаков, обратился с воззва-
нием к народу, понужденный к этому боевым пылом
иенских профессоров и студентов; снедаемые жела-
нием взять в руки мушкеты, они нашли пламенную
заступницу в лице возлюбленной его светлости, пре-
красной госпожи фон Гейгендорф, собственно Яге-
манн, — кстати сказать, другие советчики герцога
этому противились. Министр фон Фойт почитал ра-
зумным притушить этот юношеский пыл. Не нужно,
не желательно, говорил он, чтобы образованные люди
занимались маршировкой, это умеют делать и кре-
стьянские парни и к тому же — лучше. А в добро-
518
иольцы набиваются как раз наиболее одаренные и
многообещающие молодые люди. Надо сдержать их
порыв.
Того же мнения был и наш поэт. Он крайне неодо-
брительно отзывался о добровольчестве и, говоря
р фаворитке, пускал в ход выражения, которые я не
решаюсь повторить. Он уверял, что исполнен уваже-
ния к кадровым военным, но добровольческое дви-
пие, малая война на свой страх и риск, вне стройных
«мрмейских рядов — это самонадеянность и бесчинство.
Весною он побывал в Дрездене у Кернеров, млад-
ший сын которых вступил в число лютцовских кон-
ников, не испросив на то дозволения курфюрста, всей
душой преданного императору. Это же бунтарство!
Самочинная возня солдат-любителей ни к чему, кроме
неудобств и затруднений, не приводит.
Таков был наш титан. И если его противопоста-
вление регулярной и добровольной службы и было
немного искусственно — в глубине души он вообще не
принимал «новейшего патриотизма» — то одно все же
надо признать: в пункте, касающемся добровольцев —
с точки зрения дела, а не идеи, — он был совершенно
прав. Обучение они прошли самое поверхностное,
пользы от них, откровенно говоря, не было никакой,
и практически они оказались лишними. Дезертирство
было частым явлением среди добровольцев: офицеры
из них вышли плохие; знамя добровольческих полков
обычно находилось au depot!, и после победы во
Франции герцог отослал этих юнцов восвояси —
правда, с благодарственным рескриптом, так как
нельзя же было ему идти наперекор популярно-поэти-
ческим представлениям об их воинской доблести.
В прошлом году, перед Ватерлоо, они вовсе не были
призваны. Но это все между прочим. И если наш
поэт, не склонный к энтузиазму, сумел раньше других
трезво и отчетливо разобраться в этом деле, если он
с самого начала враждебно отнесся к добровольче-
скому движению, браня похотливую Гейгендорфшу и
се воинственное помешательство, — я уж не помню
1 В арсенале (франц.).
519
точно его весьма нелестных отзывов о ней, — то глав-
ным образом потому, что в глубине души он был
вообще против освободительной войны и брожения,
которое она несла с собою. Как ни горько, а в этом
приходится сознаться.
Но высочайшее воззвание было опубликовано, на-
чалась запись добровольцев, и у нас набралось пять-
десят семь конных егерей, пехотинцев же еще
больше — девяносто семь. Все наши юноши, все мо-
лодое дворянство числилось в списках: камер-юнкер
фон Гросс, обергофмейстер фон Зебах, господа фон
Гельдорф, фон Гесслер, ландграф фон Эглоффштейн,
камергер фон Позек, а также вице-президент фон
Герсдорф, — одним словом — все. Это считалось хо-
рошим тоном, de rigueur 1, и то, что это так случилось,
то, что патриотический долг принял светски шикарные
формы, как раз и было прекрасно и величественно.
Августу фон Гете ничего не оставалось, как присоеди-
ниться к ним, — тут дело шло уже не о частных
убеждениях, не о шике, но о чести, и он записался,
правда довольно поздно, пятидесятым егерем, даже не
поставив в известность отца. Тотчас же после этого
шага между ними произошло бурное объяснение. Го-
ворят, он назвал поведение сына безмозглым и без-
ответственным и в гневе несколько дней не говорил
с несчастным, которому его поступок был продикто-
ван чем угодно, только не избытком энтузиазма.
Конечно, без сына ему пришлось бы нелегко, а он
не любил мириться с личными неудобствами. С тех
пор как доктор Ример оставил его дом, женившись
на этой Ульрих (отчасти из-за Августа, который вел
себя заносчиво и грубо с этим деликатным челове-
ком), секретарские обязанности при поэте выполняет
некий Джон, — он у него не в фаворе, и сын тре-
буется отцу для диктовки и бесчисленного количества
всяких мелких дел. Но правда и то, что мысль ли-
шиться сына привела его в волнение несоразмерное и
что эта несоразмерность стояла в прямой связи с его
враждебным отношением к идее добровольчества,
Поощренным высшим начальством, обязательным (франц.).
520
с неприязнью ко всему, что привело к этому движе-
нию, для него олицетворяющему новые веяния. Ни
под каким видом не хотел он, чтобы Август отпра-
вился на войну, и с первой же минуты пустил в ход
псе свое влияние, чтобы этому воспрепятствовать. Он
обратился к министру фон Фойту, даже к его светло-
сти герцогу. Письма, в которых он взывал к ним, —
мы узнали их содержание от Августа, — нельзя на-
звать иначе, как «тассоподобными», — они были про-
никнуты отчаянной неуравновешенностью этого его
второго «я». «Утрата сына, — писал он, — необходи-
мость ввести чужого человека в тайники моего твор-
чества, моей корреспонденции, всех обстоятельств
моей жизни сделает мое положение невыносимым, са-
мое мое существование невозможным». Это было
несоразмерно! Но он сознательно бросил на чашу ве-
сов свое существование, свое могучее существование.
Чаша, на которую оно упало, стремительно опусти-
лась книзу, министр и герцог поспешили пойти
навстречу его желаниям. Имя Августа не было вычерк-
нуто из списков — это затронуло бы его честь. Но
Фойт предложил — и это было одобрено его светло-
стью, не без иронической улыбки по поводу по-
кладистости Августа, — чтобы молодой человек вме-
сте с камеральным советником Рюльманом сперва
отправился во Франкфурт, в штаб-квартиру союзни-
ков, для переговоров о субсидировании веймарских
добровольцев, а вернувшись, занял у наследного
принца Карла-Фридриха, номинального шефа добро-
вольцев, столь же номинальную должность адъю-
танта и таким образом остался бы в распоряжении
своего отца.
Увы, так все и сделалось! После Нового года Ав-
густ отправился во Франкфурт, лишь бы не быть
в Веймаре в день, когда его собратья — это было
в конце января четырнадцатого года — принимали
присягу в Веймарской церкви, но через неделю после
их отправки во Фландрию возвратился и приступил
к обязанностям адъютанта при наследнике престола.
Как и последний, он облачился в егерский мундир,
который его отец называл «бегом на звук рожка».
521
«Мой сын побежал на звук рожка», — говорил он, де-
лая вид, что все в полном порядке. Ах, к сожалению,
это было не так. Все до одного посмеивались над
двадцатичетырехлетним юношей, оставшимся дома, и
порицали отца, который не только сам не разделял
нового патриотического порыва немецкого народа, но
навязал свою точку зрения и сыну. Сколь ложным
станет положение Августа перед товарищами, перед
всеми добровольцами, мужественно переносящими
опасности, было ясно заранее. Ведь по возвращении
они будут вращаться в том же обществе, что и он.
Смогут ли между ними наладиться приятельские от-
ношения? Будут ли они уважать его, подарят ли
своей дружбой? Трус — это слово носилось в воздухе..
Здесь я не могу удержаться от горестного замечания
по поводу несправедливости судьбы. То, что одному
сходит легко и безнаказанно, для другого становится
роком, карой, — конечно, это обусловлено различно-
стью людей и тем, что наши нравственные и эстети-
ческие суждения зависят от глубоко личных причин,
заставляющих нас винить одного в том, что другому
мы вменили бы в заслугу; иными словами, одно и то
же отталкивает и коробит нас в одном, в другом же
кажется подобающим и вполне понятным. У меня есть
брат, уважаемая госпожа советница, по имени Ар-
тур,— молодой ученый, философ; правда, с малолет-
ства его готовили для коммерческой карьеры, а по-
тому ему многое пришлось наверстывать, — я уже
упомянула вскользь, что он брал уроки греческого
у доктора Пассова. Светлый ум, без сомнения, хотя
немного озлобленный в своих оценках мира и чело-
вечества. Я знаю людей, которые ему прочат боль-
шую будущность, — впрочем, наибольшую прочит
себе он сам. Так вот: мой брат по возрасту тоже при-
надлежит к поколению, которое забросило науки,
чтобы ринуться в бой за родину, — но ни одна душа
от него этого не ждала, по той простой причине, что
ке было человека, меньше помышлявшего о военных
подвигах, вернее, никогда о них не думавшего, чем
Артур Шопенгауэр. Он дал денег на добровольцев,
присоединиться к ним — да ему просто не приходила
522
к голову такая мысль, он с полным хладнокровием
предоставлял это делать людям, которых называл
«фабричным товаром природы». И никто этому не
удивлялся. К его поведению все отнеслись с полней-
шим равнодушием, вполне могущим сойти за молча-
ливое одобрение, и мне стало ясно, как никогда, что
мы одобряем только то, что нас нравственно и эсте-
шчески успокаивает, — то есть гармонию, согласие
г самим собой.
Но по поводу такого же образа действий Августа
конца не было пересудам. Я как сейчас слышу слова
пашей милой фон Штейн: «Гете не позволил своему
сыну идти в армию... Что вы на это скажете? Един-
ственный юноша нашего круга, оставшийся дома».
Или вдовы Шиллера: «Никогда, ни за что на свете
я не воспрепятствовала бы моему Карлу пуститься
в поход. Вся его жизнь, все его существование было
бы подорвано, он бы впал в меланхолию». А наш
бедный друг, разве он не стал меланхоликом?
Правда, он был им всегда. Но с этого злополучного
дня мрачность его бедной души начала усугубляться
и принимать формы, в которых проявлялись разру-
шительные склонности, заложенные в его природе: не-
воздержанность в питье, общение (я боюсь оскорбить
ваш слух) с непотребными женщинами; он был всегда
неистов в желаниях, и в чистую душу невольно за-
крадывался вопрос, как уживалась с этим его по-
стоянная сумрачность и зревшая в ее тени любовь
к Оттилии? Раз уж вы меня спросили, — без вашего
вопроса я остереглась бы высказывать свое сужде-
ние,— в подобных бесчинствах не последнюю роль
играло желание подчеркнуть свою мужскую доблесть,
которую общество брало под сомнение, доказать ее
хотя бы на этом, не слишком благородном по-
прище.
Во мне его поступки вызывали, если здесь уместно
говорить о себе, чувства самые смешанные. Состра-
дание и отвращение боролись за место в моем сердце
при мысли об Августе. С почитанием его великого
пгца вступила в конфликт обида за столь чуждый
духу времени запрет, наложенный им на не в меру
523
послушного сына. Но ко всему этому, в тиши прс-
мешивалась еще надежда, что постыдная роль Авгу-
ста, его удрученный вид и всему городу известные де-
боши отвратят от него чувства моей любимицы.
Я уповала, что отказ Оттилии от этого неподобаю-
щего, чреватого опасностями союза, открытый разрыв
с юношей, чье поведение шло вразрез со священными
для нее чувствами и близость с которым являлась
сомнительной честью, снимут этот камень с моего
сердца. Дорогая, моей надежде не суждено было осу-
ществиться. Оттилия, патриотка, почитательница Фер-
динанда Гейнке, льнула к Августу; она крепко дер-
жалась за дружбу с ним, все прощала ему, более
того, в обществе по любому поводу брала его под за-
щиту. Когда ей нашептывали про него дурное, она
либо отказывалась верить, либо великодушно истол-
ковывала это, как некую романтическую печаль, де-
монизм, от которого она призвана освободить его.
«Адель, — говорила она, — верь мне, дурным я его
не считаю, сколько бы люди его ни поносили! Я пре-
зираю людей и хотела бы только, чтобы Август на-
учился разделять со мной это презрение, — тогда он
давал бы меньше пищи их злословию. В борьбе ме-
жду холодными, насмешливыми людьми и одинокой
душой твоя Оттилия всегда будет на стороне послед-
ней. Разве можно усомниться в душевном благород-
стве сына такого отца! К тому же он меня любит,
а я, Адель, я в долгу перед ним. Я насладилась вели-
ким счастьем — нашим великим счастьем с Ферди-
нандом,— и теперь, когда я еще продолжаю упи-
ваться им в воспоминаниях, оно представляется мне
моей виной перед Августом, долгом, к уплате кото-
рого меня призывает его сумрачный взор. Да, я
в долгу перед ним! Ведь если правда то, что о нем
говорят, то разве же не отчаяние, в котором по-
винна я, толкает его на этот путь! Адель, вспомни:
покуда он верил в меня, он был иным».
С подобными речами она не раз обращалась ко
мне, а меня и здесь обуревали смешанные, противо-
речивые чувства. Я ужасалась, видя, что она не в си-
лах отделаться от этого несчастного и что мысль на-
524
иски принадлежать ему, как того хочет его великий
пюц, словно рыболовный крючок засела в ее душе,
! 1о в то же время эти слова в меня вливали и сладо-
сгную отраду, нравственное успокоение; не скрою,
если ее приверженность Пруссии, ее воинственно-
патриотический дух и заставляли меня иногда со
< трахом думать, что в этом эфирном теле живет гру-
бая, варварская душа, то ее отношение к Августу, го-
лос совести, так громко укорявший ее за нежную
с клонность к прекрасному, простому и героическому
сбразу нашего Гейнке, убеждали меня в утонченном
благородстве, нежной консистенции ее души; за это
я еще сильнее полюбила Оттилию, что, конечно,
только удвоило мой страх и мои мрачные предчув-
ствия.
В мае четырнадцатого года злополучия Августа до-
стигли апогея. Поход закончился; Париж был взят, и
двадцать первого веймарские добровольцы, не слиш-
ком отягченные заслугами перед отечеством, но все
же увенчанные славой и всеми восторженно привет-
ствуемые, возвратились домой. Я давно боялась этого
момента, и мои опасения подтвердились. Наши вои-
тели, не стесняясь, откровенно и жестоко высказы-
вали презрение к сверстнику, остававшемуся дома.
При этом я лишний раз убедилась, что была права,
не веря в подлинность чувств, которыми люди моти-
вируют свои поступки. Не сами по себе они дей-
ствуют, а по мерке обстоятельств, дающих им в руки
условный масштаб поведения. Если жестокость раз-
решена обстоятельствами — тем лучше. Не задумы-
ваясь, до конца злоупотребляют они этим разреше-
нием, так щедро пользуются им, что можно с уверен-
ностью сказать: большинство людей только и ждет,
чтобы обстоятельства развязали их грубые и жесто-
кие инстинкты, позволили бы им вволю поглумиться
над собратьями. У Августа достало наивности — или
упорства? — встретить товарищей в мундире добро-
вольца егерского полка, на что он, как адъютант ав-
густейшего почетного шефа, имел безусловное право.
Этим он вызвал — и это тоже понятно — со стороны
52Ь
наших воителей целый град насмешек и обидных на-
меков. Теодор Кернер не напрасно сочинил:
Презренье мальчишке на теплой лежанке,
В лакейской вельможи, в объятьях служанки;
Поистине, он недостойный вахлак.
Стишки, отлично подходившие к случаю, цитиро-
вались без зазрения совести. Больше других усерд-
ствовал здесь ротмистр фон Вертерн-Визе, старав-
шийся извлечь выгоду из этой поощряющей всяческую
грубость ситуации. Он позволил себе намек на со-
мнительное происхождение Августа, которым, как он
выразился, исчерпывающе объяснялось его трусливое
и нерыцарственное поведение. Господин фон Гете бро-
сился на него, обнажив свою саблю, дотоле не быв-
шую в деле, но их разняли. Следствием этого столк-
новения был вызов на дуэль.
Тайный советник находился в это время на купа-
ниях в Берке, неподалеку от Веймара, и работал над
«Эпименидом». Предложение, полученное от берлин-
ского интенданта Иффланда написать апофеоз на воз-
вращение прусского короля, показалось ему столь по-
четным и заманчивым, что он временно оставил все
другие поэтические замыслы, дабы сочинить свою
причудливо многозначительную, не похожую ни на
один апофеоз на свете, глубоко личную философиче-
скую аллегорию. «Но я стыжусь часов покоя», — писал
он, и далее: «Он все же в пропасть упадет». За этой
работой застало его письмо одной почитательницы и
придворной дамы, госпожи фон Ведель, оповещавшее
о положении Августа, о его стычке с ротмистром и
о том, что должно было воспоследовать. Великий поэт
тотчас же принял решительные меры. Пустить в ход
свои связи, воспользоваться своим влиянием, чтобы
избавить сына от дуэли, как ранее от войны — мне
кажется, это само по себе, вне зависимости от тре-
воги за жизнь Августа, доставляло ему удовлетворе-
ние, ибо он всегда любил аристократические привиле-
гии, утонченную несправедливость. Он обратился
к заботливой корреспондентке с просьбой о посред-
ничестве, написал первому министру. Высокий чинов-
526
ник, тайный советник фон Миллер, явился в Берку, за
переговоры взялись наследный принц и даже сам гер-
цог, ротмистру пришлось принести извинения, ссора
была потушена. Под сенью высочайшего покровитель-
ства Август стал неуязвим. Критические голоса за-
1ихли, но не унялись: несостоявшаяся дуэль, пожа-
луй, еще больше усилила неуважение к его мужскому,
достоинству. В обществе пожимали плечами, Августа
обходили, о непринужденном, сердечном общении со
сверстниками ему отныне нечего было и думать.
II хотя господин фон Вертерн за свой опрометчивый
намек получил хороший щелчок по носу и даже поси-
дел под арестом, но мысль о сомнительном проис-
хождении Августа, о том, что он, если можно так
ныразиться, полукровка, снова всплыла в сознании
людей и стала служить объяснением его поступков:
«Видно птицу по полету» или «Да что с него спра-
шивать». Здесь надо, конечно, добавить, что тайная
советница в своем образе жизни мало учитывала
серьезность времени, и ее погоня за развлечениями
постоянно давала обильный материал для пересудов,
незлобивых, но насмешливых и обидных для ее до-
стоинства.
В конце концов то, что сумрачный поклонник
Оттилии принял так близко к сердцу всю эту исто-
рию, говорило скорее о его щепетильности в вопросах
чести. Правда, он давал нам это понять довольно
странным и окольным путем, а именно своим все воз-
растающим, страстным, нелепым преклонением перед
сверженным героем, узником острова Эльбы. Свою
гордость и упорство он утолял фанатической предан-
ностью Наполеону, презрением к «отступникам», по-
смевшим забыть, что день его рождения еще недавно
почитался ими торжественнейшим днем года. Да оно
и понятно, ведь Август страдал вместе с ним и за
него! Покорно выносил издевательства и насмешки за
то, что отказался выступить в поход против него. Пе-
ред отцом, стоявшим над настроениями и модами дня,
ему, конечно, было легко придавать своей оскорблен-
ной чести вид преданного восхищения императором,
но он козырял этим и перед нами, бестактно и упорно,
527
забывая; что своими речами втаптывает в грязь убе-
ждения Оттилии. И хотя она покорно, со слезами
в прекрасных глазах сносила его эгоистические вы-
ходки (себя он облегчал ими, а до боли, которую ои
причинял другим, ему не было дела, от нее он только
пуще входил в азарт), но для моих тайных желаний,
казалось, забрезжила надежда. Трудно было предпо»
ложить, что чистая и совестливая душа Оттилии сма*
жет долго выносить подобные испытания; я сомнева^
лась в этом тем более, что под неистовым культош
Наполеона у него таилось — или, вернее, уже не таи*
лось, но лишь временами прикрывалось этой личиной,
чтобы снова проступить во всей своей наготе, — нечто
другое, а именно ревность к юному Гейнке, который
вновь обретался среди нас и которого Август в нашем
присутствии называл не иначе как архитипом тев-
тонца, погрязшего в варварстве и тупо противобор-
ствующего спасительной континентальной системе но-
вого цезаря.
Да, наш найденыш опять был в Веймаре, — точнее,
был уже во второй раз. После Лейпцигской битвы он
с месяц нес службу в нашем городе в качестве адъю-
танта прусского командующего и бывал в обществе,
повсюду встречая радушный прием. Теперь, после па-
дения Парижа, он возвратился из Франции, украшен-
ный железным крестом; вы поймете, что вид этого
священного знака на его груди заставил наши деви-
ческие сердца, и прежде всего сердце Оттилии, вновь
возгореться огнем горделивой гордости за великолеп-
ного юношу. Нашу пылкость умеряла только его при-
ветливая, благодарно-дружелюбная, но немного сдер-
жанная манера держать себя при частых встречах,
манера, носившая даже несколько подчеркнутый ха-
рактер и — мы не могли не сознавать этого — не
вполне соответствовавшая чувствам, которые мы ему
выказывали. Вскоре этому сыскалось простое и — не
буду утаивать — в известной мере отрезвившее нас
объяснение. Фердинанд открыл нам то, о чем до-
селе— не будем вникать, из каких соображений,—
умалчивал и что ныне счел долгом нам поведать: на
родине, в прусской Силезии, его ждала возлюбленная
528
невеста, которую ему вскоре предстояло повести к ал-
тарю.
Легкое замешательство, вызванное в наших серд-
цах этим открытием, вероятно, не удивит вас. Я го-
ворю не о боли разочарования — подобных чувств мы
испытывать не могли, так как в наших отношениях
к нему преобладали идеальный восторг и восхище-
ние, правда, смешанные с сознанием известных прав
па него, принадлежащих нам как его спасительницам.
Для нас он был скорее олицетворением, чем лично-
стью, хотя эти понятия и не всегда отделимы друг от
друга, ибо в конце концов лишь определенные поло-
жительные качества личности позволяют ей стать
олицетворением. Как бы там ни было, наши чувства
к юному герою — или, вернее, чувства Оттилии, так
как я здесь, по справедливости, отступила в тень,—
никогда не связывались с конкретными надеждами
или пожеланиями: ведь при низком происхождении
Фердинанда, — я уже говорила, что он был сыном
мехоторговца, — таковые, собственно, и не могли воз-
никнуть. Правда, мне временами думалось, что с со-
словной точки зрения, я скорее могла носиться с по-
добными мыслями; в минуты слабости я даже мечтала,
что прелесть моей подруги, для него недосягаемой,
дополнит мою некрасивость и толкнет юношу на брак
со мной, — но тут же сознавала страшные опасности,
которыми был бы чреват такой союз, и с содроганием
прогоняла эту мысль, хотя она порой и казалась мне
не лишенной известного беллетристического интереса,
ибо, говорила я себе, мои мечты вполне достойны
того, чтобы сам Гете сделал из них тончайшую эпо-
пею чувств и нравов.
Словом, разочарования тут не могло быть, как не
могло быть речи и о том, чтобы мы чувствовали или
могли почувствовать себя обманутыми дорогим нам
человеком. С большой сердечностью и пожеланием
счастья встретили мы его признание, впрочем, не-
много сконфуженные тем, что он так долго щадил нас,
и тем, что мы охотно еще продлили бы пору неведе-
ния. Ведь известное замешательство и недоумение,
полуосознанное страдание все же было связано
о1 Г, Манн, т. 2
529
с открытием, что Фердинанд наречен и несвободен.
Исчезла какая-то неопределенность, смутные грезы и
надежды, придававшие сладость нашему дружествен-
ному общению с ним. Но мы, не уславливаясь и все
же как по тайному сговору, старались избавиться от
этой легкой досады и без колебанья включили его
невесту в свои благоговейные грезы, отныне превра-
тившиеся в двойной культ—юного героя и его наре-
ченной, этой немецкой девушки, в достоинствах кото-
рой мы не позволяли себе усомниться и чей облик сли-
вался для нас не то с образом Туснельды, не то
Гетевой Доротеи — только, разумеется, голубоглазой,
а не черноокой.
Чем объяснить, что мы таили от Августа помолвку
Гейнке, как наш герой некогда таил ее от нас? Таково
было желание Оттилии, а причин его мы не обсу-
ждали. Откровенно говоря, меня это несколько уди-
вляло, ведь она чувствовала себя виноватой перед
меланхолическим поклонником за свои патриотиче-
ские симпатии к юному воину; но что эти симпатии
независимо от сословных препятствий ничем ему не
угрожали, что их по праву можно было назвать бес-
цельными и беспоследственными, — в это она его не
посвящала, хотя такая новость, несомненно, восстано-
вила бы его душевное равновесие и, кто знает, может
быть, настроила бы его на более дружественный лад
по отношению к Фердинанду. Я с готовностью подчи-
нилась ее воле. Камер-асессор в своем недоброжела-
тельстве, в своих озлобленных нападках на Ферди-
нанда, по-моему, заслуживал утешения, но не полного
торжества. И далее, рассуждала я, ведь не исклю-
чено, что озлобленность заведет его слишком далеко,
и постоянно оскорбляемая Оттилия решится, наконец,
на разрыв, о котором я во имя ее душевного покоя
всегда мечтала.
Уважаемая госпожа советница, так оно и случи-
лось. Первое время, пусть краткое, все шло согласно
моим тайным желаниям. Наши встречи и свидания
с господином фон Гете принимали все более натяну-
тый и неприятный характер. Сцена следовала за сце-
ной. Август, мрачный и страдающий от своей дурной
630
главы, от безутешной ревности, не уставал жаловаться
н упрекать нас за то, что мы променяли его на рос-
лого болвана, на немецкого тупицу. Оттилия, все еще
не сообщая о силезском романе Гейнке, оскорбленная
I» своей верности, исходила слезами в моих объятиях,
и, наконец, произошел взрыв, в котором, как это
обычно бывает, политическое смешалось с личным.
Однажды вечером в саду графини Генкель Август
снова начал, захлебываясь, прославлять Наполеона,
причем выражения, которыми он бичевал своих про-
тивников, явно метили в Фердинанда. Оттилия воз-
ражала ему и, не скрывая отвращения к людоеду
Наполеону, в свою очередь придала восставшему про-
тив него юношеству ясно выраженные черты нашего
героя; я вторила ей; Август, бледный от гнева, сда-
вленным голосом заявил, что между нами все кон-
чено, что мы для него отныне не более как пустое
место, и в ярости убежал из сада.
Я, хоть и потрясенная разразившейся сценой, чув-
ствовала себя у заветной цели. Не считая нужным
скрывать этого от Оттилии, я призвала на помощь все
свое красноречие, чтобы утешить ее в разрыве с гос-
подином фон Гете, заверяя, что отношения с ним ни-
когда и ни при каких обстоятельствах ни к чему
хорошему привести не могут. Но мне хорошо было
говорить! Она же, моя бедняжка, находилась в ужас-
ном состоянии, и я изнемогала от жалости. Подумайте
только! Юноша, юноша, которого она так восторженно
любила, принадлежал другой, а тот, кому она в пре-
красном жертвенном порыве готова была отдать свою
жизнь, от нее отвернулся. Но этого мало! Когда
всеми покинутая девушка бросилась на грудь своей
матери—она воззвала к сердцу, в свой черед ранен-
ному жестоким разочарованием и не имевшему сил
оказать ей поддержку. После унизительной сцены
с Августом, Оттилия, по моему совету, поехала на
время к родным в Дессау, но, вытребованная послан-
ным ей вдогонку нарочным, принуждена была сломя
голову мчаться домой. Случилось нечто ужасное.
Граф Эдлинг, нежный друг дома, опекун и вице-па-
номька, на чье сердце и руку госпожа фон Погвиш
34*
531
так твердо рассчитывала, имея на то все основания,
нежданно-негаданно, ни слова не проронив в объясне-
ние своей измены, женился на заезжей молдавской
княжне Стурца!
Какая страшная осень и зима, дорогая госпожа
советница! Я говорю это не потому, что в феврале На-
полеон бежал с Эльбы для вторичной погибели, но
вспоминая о жестоких требованиях, предъявленных
судьбою обеим — матери и дочери, об испытаниях,
весьма сходных испытаниях, которым она подвергла
их чувство чести и душевную силу. Госпожа фон Пог-
виш не могла избежать почти ежедневных встреч во
дворце с графом, нередко и с его молодой женой, и
была принуждена, с отчаянием в сердце, не только
любезно ему улыбаться, но и чувствовать на себе при
этом торжествующие взгляды света, знавшего о кру-
шении ее надежд. Оттилии, призванной помогать ей
в испытании, едва ли не превосходящем человеческие
силы, самой приходилось переносить злорадное любо-
пытство общества, так как все вскоре заметили ее
размолвку с господином фон Гете, который ею манки-
ровал, предавался аффектированной мрачности и вре-
менами даже грубо обрывал ее. Мне приходилось вся-
чески изворачиваться среди этих жизненных неуря-
диц, — в свою очередь с опустошенным сердцем, ибо
перед самым рождеством Фердинанд покинул нас и
отправился в Силезию, чтобы повести к алтарю свою
Туснельду или Доротею — на самом деле ее звали
Фанни, — и как ни обделила меня природа правом
надеяться на него, как ни скупо ограничила меня
ролью поверенной, полноту страданий она даровала
и мне — даже если в моем случае к ним и примеши-
валось известное чувство облегчения, нечто похожее
на тихую удовлетворенность. Дурнушке легче вместе
с красавицей предаваться мечтам и воспоминаниям об
исчезнувшем герое, — а к этому мы снова вернулись, —
нежели делить с нею неравное счастье вблизи него.
Итак, если отъезд нашего юноши, его союз
с третьей даровал мне желанный покой, то я с радо-
стью убедилась, что и Оттилии ее размолвка с Авгу»
стом принесла известное умиротворение. Да, невзирая
532
па светскую молву, Оттилия все же призналась мне,
что она этот разрыв считает счастьем и освобожде-
нием и что теперь ее сердце сможет, наконец, отдох-
нуть в мирном безразличии от мучительных раздоров,
исегда сопутствовавших этой дружбе. Теперь она мо-
жет без помехи предаться благоговейному культу
памяти Фердинанда и посвятить себя утешению не-
счастной матери. Слушать это было отрадно, и все же
сомнения и страх меня не покидали. Август — сын
Гете, вот его основное качество. В лице Августа мы
имели дело с великим отцом, который, безусловно, не
одобрял разрыва с «амазоночкой», совершившегося
без его согласия, и, несомненно, собирался сделать все
козможное, чтобы восстановить мир между ними.
Я знала, что он всячески поощрял союз, мысль
о котором приводила меня в содрогание; сумрачная
страсть сына к Оттилии была лишь следствием его
желания и воли. Сын любил в ней тип, излюбленный
отцом. Его любовь была подражанием, наследием,
подчиненностью, отречение же от нее — проявлением
мнимой самостоятельности, мятежом, силу сопроти-
пления которого я, к сожалению, расценивала не
очень высоко. А Оттилия? Верно ли, что она совсем
отошла от сына великого отца? Можно ли было счи-
тать ее спасенной? Я сомневалась — и сомневалась
недаром.
Сокрушенный вид, с которым она выслушивала из-
вестия и все множившиеся слухи об образе жизни
Августа, только подтверждал справедливость моего
неверия. Все сошлось, чтобы подорвать нравственные
устои юноши, послать его на поиски забвения, бро-
сить в объятия пороков, к которым всегда была
склонна его подверженная сомнительным порывам и
опасно-чувственная натура. Пятно, оставшееся на нем
о г этой злосчастной добровольческой истории, раз-
молвка с Оттилией, приведшая не только к внутрен-
нему, но, вероятно, также и к внешнему конфликту
с отцом, а следовательно, и с самим собой — я пере-
числяю все это не для того, чтобы оправдать беспут-
ную жизнь, о которой шушукались все наши обыва-
тели, но чтобы хоть как-то объяснить ее. Мы слышали
633
о беспутстве Августа со всех сторон; между прочим,
также от Шиллеровой дочери Каролины и ее брата
Эрнста, которые жаловались на ставший уже непере-
носимо придирчивым характер молодого Гете и его
дикие выходки. Рассказывали, что он потерял всякую
меру в питье и однажды ночью в пьяном виде заме-
шался в какую-то постыдную драку, кончившуюся
арестом; отпустили его только из уважения к имени
отца и по той же причине замяли все дело. Его связи
с женщинами, с простыми бабами, стали достоянием
всего города. Павильон в саду, у земляного вала,
предоставленный ему тайным советником для его кол-
лекций минералов и ископаемых (ведь Август под-
ражал и на свой лад предавался коллекционерской стра-
сти отца), по слухам, нередко служил приютом для
предосудительных встреч. Мы знали об интрижке
с солдатской женой, муж которой смотрел сквозь
пальцы на эту связь из-за щедрых даров, приносимых
ею в дом. Это была особа долговязая и угловатая,
хотя и отнюдь не безобразная. Все общество покаты-
валось со смеху над словами, которые он будто бы
сказал ей: «Ты свет моей жизни», — она сама разбол-
тала их, надо думать из тщеславия. Потешались также
и над скандалезной, хотя и забавной историей: будто
однажды вечером старый поэт неожиданно столкнулся
в саду с этой парочкой и со словами: «Не стесняй-
тесь, детки», — счел за благо быстро удалиться. За
достоверность я, конечно, не ручаюсь, но мне это ка-
жется правдоподобным, так как здесь речь идет, мягко
говоря, об известной моральной снисходительности
великого человека, которую многие ставят ему в упрек,
но о которой я судить не дерзаю.
Дозвольте мне попытаться словами выразить то,
над чем я так часто ломала голову — с не совсем чи-
стой совестью, вернее", мучимая сомнениями, — подо-
бает ли мне, или вообще кому бы то ни было, преда-
ваться такого рода размышлениям? Мне казалось,
что некоторые черты, неудачно и разрушительно про-
явившиеся в сыне, повторяют черты великого отца,
хотя установить их тождество очень нелегко, не го-
воря уже о том, что благоговение и пиетет отпугивают
534
une от этой попытки. Но у отца это черты, так ска-
зать, высокого полета, просветленные, плодотворные,
они восхищают нас и несут нам радость, в качестве
же сыновнего наследства оборачиваются грубостью,
мраком, опустошенностью, проступают открыто и бес-
стыдно во всей своей нравственной неприглядности.
Возьмите к примеру, роман столь прекрасный, столь
чарующий, как «Избирательное сродство». Эту ге-
ниальную и утонченную поэму прелюбодеяния фили-
стеры нередко упрекали в безнравственности, но,
разумеется, всякий, кто способен классически мыслить
м чувствовать, должен отвергнуть такой упрек как
несуразное ханжество или только презрительно по-
жать плечами. Но, с другой стороны, такой ответ
вряд ли можно назвать ответом по существу. Кто
станет по совести отрицать, что в этом великом про-
изведении и вправду есть элемент чего-то нравственно-
сомнительного, фривольного, более того — простите
мне это слово! — лицемерного, какое-то нечистое за-
игрывание со святостью брака, недосказанная и фа-
талистическая уступка таинству естества. Даже
смерть — смерть, понимаемая нами как способ, кото-
рым нравственная природа охраняет свою свободу,
разве она не представлена там потатчицей, не изобра-
жена последним сладостным прибежищем любовного
вожделения? Ах, я понимаю, каким нелепым, каким
кощунственным это должно казаться: в необузданно-
сти Августа, в его распутной жизни усматривать от-
литые в неудачную форму те же самые задатки, что
подарили человечество «Избирательным сродством».
Mo я ведь уже говорила об угрызениях совести, вре-
менами сопровождающих критическое искательство
правды, а ведь отсюда возникает дилемма — стоит ли
доискиваться истины, является ли она достойной
целью наших познавательных способностей, или суще-
ствуют на свете истины запретные?
Так вот, Оттилия с таким волнением, с такой бо-
лезненной тревогой относилась к вестям о похожде-
ниях господина фон Гете, что трудно было поверить,
С>удто она и впрямь не заинтересована в нем. Ее не-
нависть к солдатке была очевидна, — но этой ненависти
535
можно было бы подыскать и другое название.
Конечно, отношение чистой женской души к особам,
которых ее избранник дарит чувственным благоволе-
нием, тем самым давая им известные, пусть недостой-
ные, но все же реальные преимущества, — это дело
темное. Презрение и брезгливость не позволяют поки-
нутой утратить чувство собственного достоинства. Но
тот особый вид зависти, который зовется ревностью,
заставляет нас, вопреки нашей воле, подымать до себя
этих презренных, видеть в них равноправный объект
ненависти, — равноправный благодаря общности пола.
А может быть, и безнравственность мужчины, несмо-
тря на отвращение, которое она в нас возбуждает, все
же имеет такую глубокую и страшную привлекатель-
ность для чистой души, что может сызнова разжечь
угасшее было чувство, заставить нас проникнуться
духом жертвенности, стремлением ценою собственных
страданий вернуть мужчину к его второму, луч-
шему «я».
Короче говоря: меньше всего я верила в то, что
моя любимица не откликнется на попытку сближения
со стороны Августа, и в то, что он, рано или поздно,
не сделает этой попытки, повинуясь руководящей им
высшей воле, против которой он своим разрывом
с Оттилией однажды вздумал безуспешно взбунто-
ваться. Мои ожидания и опасения сбылись. В июне
прошедшего года — этот вечер я никогда не забуду —
мы стояли вчетвером в зеркальной галерее дворца —
Оттилия, я, наша приятельница Каролина фон Гар-
шталь и господин фон Гросс, — когда Август, давно
сновавший вокруг нас, вдруг приблизился и вступил
в разговор. Вначале он ни к кому в отдельности не
обращался, но затем — то был момент чрезвычайно
напряженный и потребовавший от всех присутствую-
щих значительной доли самообладания — задал Отти-
лии какой-то вопрос. Разговор продолжался в обыч-
ном светском тоне, вращаясь вокруг мира и войны,
списков убитых, мемуаров Августова отца, прусского
бала с его знаменитым котильоном; но в глазах мо-
лодого Гете светилось при этом обожание, ничуть не
соответствовавшее безразличию наших и его слов.
536"
Л при прощании, когда мы сделали ему реверанс (мы
давно уже намеревались уйти), пламя страсти в его
глазах разгорелось еще ярче.
«Ты заметила, как он смотрел на тебя?» — спро-
сила я Оттилию уже на лестнице. «Да, — отвечала
она, — и это меня огорчило. Верь мне, Адель, я не
хочу, чтобы он вернулся к прежней любви, ибо тогда
мой покой уступит место прежним мукам». Таковы
были ее слова. Но запрет был снят, распря окончи-
лась. В театре и в собраниях господин фон Гете
продолжал искать сближения; и если Оттилия и из-
бегала оставаться с ним наедине, к чему он упорно
стремился, то она все же призналась мне, что его
взгляд, напоминающий ей былые времена, как-то
странно ее трогает, а бесконечно несчастное выраже-
ние на лице Августа обновляет в ее сердце старое
чувство виновности. Если мне случалось заговорить
о своих страхах, о грядущей беде, как неминуемом
следствии ее близости с этим грубым, опустошенным
человеком, дружбу с которым я считала немыслимой,
ибо он всегда будет требовать больше, нежели — если,
конечно, верить ее словам — она пожелает ему пред-
ложить, то Оттилия отвечала: «Не тревожься, ду-
шенька, я свободна и свободной останусь навеки. Вот,
посмотри, он дал прочитать мне книгу «Фантастиче-
ское путешествие Пинто», а я еще и не раскрывала
се. Будь она от Фердинанда — разве я бы уже не
знала ее наизусть?» Это сущая правда. Что она его
не любит, я верила. Но могло ли это служить утеше-
нием, гарантией? Ведь я видела, что она была заво-
рожена мыслью принадлежать Августу, как птичка
взглядом змеи.
У меня голова шла кругом, когда я представляла
себе ее женою Августа; а ведь это, видимо, было не-
избежно. С ней творилось нечто, разрывавшее мне
сердце, нечто непостижимое. Моя уверенность, что
ь>тот несчастный ее погубит, подтверждалась раньше
времени, ибо прошедшей осенью бедняжка серьезно
маболела. Болезнь явно была следствием внутреннего
разлада. Три недели пролежала она в желтухе с бо-
чонком дегтя около кровати, так как говорят, что
537
смотреться в деготь лучшее средство против этой на-
пасти. Когда же, выздоровев, она снова встретилась
с ним во дворце, казалось, он ее даже не хватился,
даже не заметил ее отсутствия. Ни словом, ни звуком
он не засвидетельствовал обратного.
Оттилия была вне себя; приступ болезни повто-
рился, и ей пришлось еще целые восемь дней гля-
деться в деготь. «Для него я готова была отказаться
от вечного блаженства, — рыдала она на моей
груди, — а он обманул меня!» Но что бы вы думали?
Что произошло? Двумя неделями позднее бедняжка
приходит ко мне, бледная как смерть и, глядя в про-
странство каким-то оцепенелым взглядом, сообщает,
что Август говорил с ней о их будущем браке с пол-
ным спокойствием, как о решенном деле. Не правда
ли, мороз пробирает по коже? Что можно вообразить
себе более страшного? Он не объяснялся с нею, не
просил ее любви, даже нельзя было сказать, что он
говорил с нею о супружестве; он мимоходом помянул
о нем. «А ты? — вскричала я. — Заклинаю тебя, Тил-
лемуза, дитя мое, что ты ему ответила?» Уважаемая,
она мне призналась, что у нее отнялся язык.
Вы, конечно, не удивитесь, что я всем сердцем
восстала против зловещего хладнокровия рока? По-
следний барьер еще стоял на ее пути в лице женщины,
чье существование явилось бы серьезной помехой,
когда господин фон Гете — а в конце концов он не
мог этого избежать — стал бы просить руки Оттилии
у ее матери и бабки, — в лице тайной советницы,
Христианы, мамзели.
Дорогая, в конце июня она скончалась. Рухнула
и эта препона, более того — ее смерть угрожающе
обострила ситуацию, ибо теперь Августу вменялось
в обязанность ввести в отчий дом новую хозяйку.
Траур и наступившее летнее затишье на время сде-
лали их встречи редкими. Но тут совершилось собы-
тие, о котором я не имею возможности подробно
поведать вам, ибо оно окружено дымкой какой-то ве-
селой и захватывающей таинственности, но в роковом
его значении сомневаться не приходится. В начале
августа возле земляного вала у Оттилии состоялась
538
встреча с тайным советником, великим поэтом Гер-
мании.
Повторяю, я не могу сообщить вам подробностей
этой встречи. Я их не знаю. С шутливостью, меня от-
нюдь не веселящей, Оттилия умалчивает о них, ей
нравится окружать это событие каким-то подобием
дразнящей и торжественной тайны. «Ведь и он,—
с улыбкой отвечает она на мои домогательства, — не
любит распространяться о своей беседе с императо-
ром Наполеоном, пряча память о ней от мира и даже
от близких, как ревниво охраняемый клад. Прости
мне, Адель, если я в этом случае последую его при-
меру, и удовольствуйся заверением, что он обошелся
со мной премило».
Он обошелся с нею премило, — я передаю вам это
дословно, дражайшая госпожа советница. И на этой
странице обрываю свою новеллу, относящуюся к жанру
так называемой галантной новеллы, неизменно закан-
чивающейся помолвкой или предчувствием неминуе-
мой близости таковой. Если не случится чуда, если
небо не обрушится на землю, то двору и городу сле-
дует ждать этого события к рождеству или уж никак
не позднее Нового года.
Глава шестая
Рассказу демуазель Шопенгауэр здесь придана
ничем не потревоженная слитность. На деле же
слегка окрашенный саксонским акцентом речевой по-
ток ее большого говорливого рта был прерван два-
жды— посередине и ближе к концу, — оба раза
Магером, коридорным Гостиницы Слона, который,
явно страдая от своей обязанности и настойчиво
оправдываясь, входил в гостиную с докладом о новых
посетителях.
В первый раз он уведомил о приходе горничной
госпожи камеральной советницы Ридель. Посланная
дожидается в сенях, сообщил Магер, и во что бы ни
стало желает узнать о самочувствии и причинах за-
держки госпожи советницы, так как на Эспланаде все
539
очень обеспокоены и обед давно перестоялся. Он,
Магер, тщетно пытался втолковать ей, что приход зна-
менитой постоялицы к сестре задерживается весьма
важными аудиенциями, нарушать которые ему не по-
добает... Мамзель, после некоторого ожидания, все
же принудила его сообщить госпоже советнице
об ее приходе, так как она имеет прямое указание
завладеть госпожой советницей и препроводить
ее к сестре, где беспокойство и голод дошли уже до
предела.
Шарлотта покраснела и быстро встала с лицом,
говорившим: «Да, я поступила бессовестно! Который
теперь час? Мне надо идти! Приходится волей-нево-
лей прервать эту беседу». Но как ни странно, она тут
же села и высказала как раз обратное.
— Хорошо, — произнесла она, — я знаю, что Ма-
геру неприятно опять врываться сюда. Надо сказать
мамзели, чтобы она набралась терпения или же
ушла, — пускай лучше идет и передаст госпоже каме-
ральной советнице, чтобы меня не ждали с обедом,
я приду, как только мне позволят дела, беспокоиться
же обо мне нет причины. Конечно, Ридели волнуются,
но что поделаешь, я тоже взволнована, я потеряла
всякое представление о времени, да и вообще все идет
не так, как я думала! Но что бы там ни было, а я не
частное лицо и с высокими запросами должна счи-
таться больше, нежели с ожидающим меня обедом.
Скажите это мамзели, и пусть она передаст, что сна-
чала мне пришлось сидеть для портрета, затем сове-
щаться с доктором Римером по весьма важным делам,
сейчас же я слушаю рассказ этой дамы и не могу так
вдруг подняться и уйти. Не забудьте сказать ей о вы-
соких запросах и вполне понятном волнении, затро-
нувшем и меня; волей-неволей, а я должна сообра-
жаться со своими обязанностями и о том же прошу
моих родных.
— Слушаюсь, все будет передано в точности,—
удовлетворенно и с чувством глубокого понимания
отвечал Магер, после чего он удалился, а демуазель
Шопенгауэр, немного отдышавшись, продолжала свой
рассказ, приблизительно с того места, где молодые
540
девушки, после своей находки в парке, на крыльях
посторга мчались в город.
Вторично Магер постучал, когда рассказ уже вер-
телся вокруг солдатки и «Избирательного сродства».
На сей раз стук был более решителен и вошел Магер
с видом, ясно доказывавшим, что теперь он считает
свое вторжение вполне законным и никаких сомнений
пли укоров совести не испытывает. Уверенным голо-
сом он провозгласил: «Господин камеральный совет-
пик фон Гете!»
При этом имени Адель вскочила с канапе. Шар-
лотта же осталась сидеть, но это свидетельствовало
не столько о спокойствии, сколько, напротив, о вне-
запном и полном упадке сил.
— Lupus in fabula1, — вскричала девица Шопен-
гауэр. — Всесильные боги, что делать? Магер, мне
нельзя встретиться с камеральным советником! Вы
должны это устроить, мой друг. Вы должны как-ни-
будь незаметно вывести меня. Я полагаюсь на вашу
расторопность!
— И не напрасно, мадемуазель, — заверил ее Ма-
гер,— не напрасно. Я уже все предусмотрел, ибо мне
известна деликатность светского обхождения и я знаю,
что здесь надо предвидеть разнообразные случайно-
сти. Я доложил господину камеральному советнику,
что госпожа надворная советница в настоящую ми-
нуту занята, и препроводил его в питейную комнату.
Он спросил стаканчик мадеры, а я, кроме стаканчика,
подал на стол еще и непочатую бутылку. Сейчас я
предоставлю дамам закончить собеседование и затем
буду иметь честь незаметно вывести барышню по
лестнице, прежде чем доложить господину фон Гете,
что госпожа советница готова его принять.
Дамы похвалили Магера за такую предусмотри-
тельность, и он удалился. Адель тут же заговорила:
— Дражайшая госпожа советница, я сознаю вели-
чие момента. Сын здесь — это значит весть от отца.
Следовательно, и тому, кого это больше всех касается,
1 Волк в басне (лат.)—латинская поговорка, соответствую-
щая русской «легок на помине».
541
уже известно о вашем прибытии. Да и как же иначе!
Сенсация велика, а веймарская Фама — быстроногая
богиня. Он посылает за вами, он представляется вам
в лице своего отпрыска. Я глубоко растрогана и, уже
без того потрясенная всеми событиями дня, с трудом
удерживаю слезы. Предстоящая беседа настолько
важнее и неотложнее беседы со мной, что я, раз-
умеется, не дерзаю просить вас, даже учитывая, что
камеральный советник обеспечен мадерой, — дослу-
шать мой рассказ. Я не помышляю об этом, уважае-
мая, и своим исчезновением докажу...
— Останьтесь, дитя мое, — с твердостью произ-
несла Шарлотта, — и займите сызнова свое место. —
Нежная алость заливала щеки старой дамы, ее доб-
рые голубые глаза лихорадочно блестели, но она
продолжала владеть собой и сидела на кушетке прямо
и собранно.—Молодой человек, — рассудила она,—
может немного повременить. Ведь я, собственно, за-
нимаюсь им, слушая вас, и, кроме того, я привыкла
в своих делах придерживаться порядка и постепенно-
сти. Прошу вас, продолжайте! Вы говорили о сынов-
нем наследстве, о великих задатках...
— Совершенно верно, — быстро опускаясь на ка-
напе, вспомнила демуазель Шопенгауэр. — Возьмите,
к примеру, роман столь прекрасный... — И в ускорен-
ном темпе, с плавнейшими каденциями и невероятной
беглостью речи Адельмуза подвела к концу свой рас-
сказ, позволив себе лишь на последнем слове переве-
сти дыхание, и то не более как на секунду. Вернее,
она продолжала без всякой остановки, лишь в не-
сколько другой тональности:
— Вот те события, о которых мне неудержимо хо-
телось поведать вам, дражайшая госпожа советница,
лишь только весть о вашем прибытии дошла до меня.
Это желание, мгновенно слившееся с желанием уви-
деть вас и принести вам мои заверения в бесконечной
преданности, заставили меня взять грех на душу пе-
ред Линой Эглоффштейн, — скрыть задуманное пред-
приятие и лишить ее радости узреть вас. Дорогая,
уважаемая госпожа советница! Чудо, о котором я го-
ворила, — я жду его от вас. Если небо, как я уже
542
сказала, не обрушится в последнюю минуту, чтобы
предотвратить союз, фальшь и опасность которого
камнем давят мне душу, то, пронеслось у меня в уме,
может быть, в эту спасительную минуту оно изберет
вас своим орудием, и, может быть, ваше прибытие
и Веймар и есть уже перст божий. Через несколько
минут вы увидите сына и несколькими часами позд-
нее— великого отца. Вы можете повлиять, предосте-
речь, у вас есть на то право! Вы могли бы быть
матерью Августу — вы не мать его, ибо ваша просла-
вленная жизнь пошла по иному руслу, вами самой
избранному и облюбованному. Чистый разум, неколе-
бимое знание истинного и подобающего, которые по-
могли вам в этом выборе — призовите их и здесь!
Спасите Оттилию! Она могла бы быть вашей до-
черью и даже похожа на вас, поэтому и ей грозит
теперь опасность, которой вы некогда противопоста-
вили высокое благоразумие. Будьте матерью для той,
что повторила ваш юный образ, — ибо так оно есть и
потому-то она и любима отцом через сына. Помогите
«амазоночке», как ее называет Гете, — помогите ей,
опираясь на то, чем вы некогда были для отца, не
допустите ее стать жертвой фасцинации, этой страш-
ной фасцинации. Мужа, который был избран вашим
светлым разумом, нет на свете; женщины, ставшей
матерью Августа, более не существует. Вы одна с от-
цом, с тем, кто мог быть вашим сыном, и с прелест-
ной девушкой, повторившей ваш юный образ. Ваше
слово равно слову матери, противопоставьте его
фальши, погибели1 Я прошу, я заклинаю вас...
— Милое дитя, — прервала ее Шарлотта. — Чего
вы от меня требуете? Во что предлагаете мне вме-
шаться? Когда я с разноречивыми чувствами, но,
разумеется, и с живейшим участием слушала вашу
повесть, я не предполагала такого доверия, чтобы не
сказать, требования. Вы приводите меня в замеша-
тельство не только своей просьбой, но и тем, как вы
се обосновали. Вы вмешиваете меня в отношения...
хотите обязать меня, показывая мне, старухе, повто-
рение меня самой. Вы, кажется, думаете, что кончина
•1 айной советницы изменила мои отношения к великому
543
человеку, которого я не видала целую жизнь, да
еще в том смысле, что я обретаю какие-то материн-
ские права на его сына... Простите, но ваше предпо-
ложение абсурдно и просто пугает меня: ведь может
показаться, что я совершила эту поездку для того...
Но, вероятно, я вас не поняла. Простите! Я утомлена
впечатлениями и тревогами этого дня, а ведь мне, как
вы знаете, еще предстоит и то и другое. Будьте здо-
ровы, дитя мое, и позвольте поблагодарить вас за
вашу милую сообщительность! Не считайте, что это
прощание равносильно отказу! Внимание, с которым
я слушала вас, служит порукой, что вы взывали не
к безучастному сердцу. Может быть, мне удастся по-
советовать, помочь. Вы поймете, что до получения ве-
сти, которой я жду, я даже не знаю, представится ли
мне вообще случай быть вам полезной.
Она осталась сидеть и, благодушно улыбаясь, про-
тянула руку Адсли, уже вскочившей с канапе, чтобы
проделать свой придворный реверанс. Ее голова дро-
жала, когда молодая девушка, не менее разгорячен-
ная, почтительно поцеловала ее руку. Затем Адель
ушла. Шарлотта со склоненной головой несколько
минут просидела одна, на том же канапе, в комнате
своих аудиенций, покуда Магер не появился снова и
не повторил:
— Господин камеральный советник фон Гете.
Август вошел; его карие, близко посаженные глаза
блестели любопытством, но на губах блуждала сму-
щенная улыбка. Он вперил взгляд в Шарлотту. Она
тоже пристально смотрела на него, стараясь смягчить
улыбкой свой взор. Сердце готово было выпрыгнуть
у нее из груди; и в сочетании с пылающими, пусть от
переутомления, щеками это было, конечно, смешно,
но, будем надеяться, в то же время и очаровательно
для не слишком придирчивого наблюдателя. Навряд
ли бы где сыскалась еще такая шестидесятитрехлет-
няя школьница! Ему было двадцать семь, — итак, на
четыре года старше! Ей почему-то казалось, что от
того лета ее отделяют только четыре года, на которые
этот молодой человек старше тогдашнего Гете. Опять
же смешно! — их прошло сорок четыре. Страшная
544
груда времени, целая жизнь, долгая, монотонная, и
нее же такая подвижная, такая богатая жизнь. Бога-
гая? Да, богатая — детьми, одиннадцатью трудными
беременностями, одиннадцатью родинами, одинна-
дцатью годами кормления грудью, дважды осиротев-
шей и ненужной, ибо ее хилых питомцев пришлось
возвратить земле; а затем еще — доживание; поду-
мать только, что и оно длится уже шестнадцать лет,
пора вдовства и почтенной старости, достойное отцве-
тание в одиночестве, без супруга и отца, который опе-
редил ее в смерти и оставил пустовать место возле
нее; пора жизненного досуга, не заполненная трудами,
родами, настоящим, более сильным, чем прошлое, дей-
ствительностью, подавлявшей мысль о возможном так,
что для воспоминаний, для всех несбывшихся жизнен-
ных «а что, если бы», для сознания другого достоин-
ства — не бюргерского, не земного достоинства, не
материнского и житейского, но того, что стало сим-
волом и легендой и от года к году представлялось все
более значительным людскому воображению, — пора
жизненного досуга, когда фантазия разыгрывается
сильнее, нежели в пору материнства...
Время, время, — и мы, его дети! Мы увядали вме-
сте с ним, спускались- под гору, но жизнь и молодежь
всегда были наверху, жизнь всегда была молода, мо-
лодежь всегда жила с нами и подле нас — отживших:
мы еще пребывали с ней вместе в одном времени, еще
нашем и уже их времени, могли любоваться ею, це-
ловать неморщинистый лоб нашей повторенной юно-
сти, нами рожденной. Этот, здесь, не был рожден ею,
по мог бы быть, — и это особенно легко было себе
представить с тех пор, как не стало той, что могла
это опровергнуть, с тех пор, как пустовало место не
только возле нее, Шарлотты, но и возле отца, возле
юноши той поры. Она испытующе смотрела на поро-
ждение другой, критически, сурово мерила взглядом
сто фигуру. Может быть, она бы удачнее создала его?
Нет, мамзель неплохо справилась с задачей, он был
статен, пожалуй даже красив. Похож ли он на Хри-
стину? Она никогда ее не видала. Наклонность
к полноте, вероятно, шла от нее, — он был слишком
35 Т. Манн, т. 2
Ô4Ô
тяжел для своих лет, хотя рост и скрадывал этот не-
достаток: отец был стройнее в ушедшее время, совсем
по-другому чеканившее и обряжавшее своих детей,—
пусть подтянутее, чопорнее, но и непринужденнее.
Юноши той давней поры носили завитые напудренные
волосы и косичку на затылке, — у этого каштановые
вьющиеся волосы спускались на лоб в послереволю-
ционной непринужденности и с висков кудрявыми
бакенбардами сбегали в стоячий воротник, в который,
с почти смешной важностью, упирался высокий мяг-
кий подбородок, а открытая шея поэтически высту-
пала из кружевного ворота рубашки. Что и говорить,
солиднее и сдержаннее, или, лучше сказать, официаль-
нее выглядел стоящий здесь юноша в своем высоком,
заполняющем вырез воротника галстуке. Коричневый,
по-модному расстегнутый фрак с приподнятыми у плеч
рукавами и траурной перевязью на одном из них
плотно и ладно облегал его несколько дородную фи-
гуру. Он стоял в элегантной позе, прижав локоть
к туловищу, и держал цилиндр тульей книзу в слегка
вытянутой руке. Но странно, было в нем нечто, за-
ставлявшее забывать об этой несомненной, чуждой
всему романтическому безупречности, нечто не вполне
подобающее, с бюргерской точки зрения, не совсем
допустимое, — то были его глаза, ласковые и мелан-
холичные, с каким-то непозволительно влажным бле-
ском. Глаза амура, ко всеобщему возмущению не-
когда дерзнувшего передать герцогине поздравитель-
ные стихи, глаза незаконнорожденного...
В точности повторившийся карий цвет этих чуть
различных глаз, их близкая посадка, внезапно, за ка-
кие-нибудь несколько секунд — покуда молодой чело-
век вошел, поклонился и приблизился к ней, — по-
трясли ее сходством с отцом. Это было всеми при-
знанное сходство, столь же трудно доказуемое, сколь
и неоспоримое, несмотря на суженный лоб, не такой
выразительный нос, на меньший и более женственный
рот, — сходство, робко несомое, в сознании его ущерб-
ности, печальное и как бы просящее прощения, но
подтвержденное еще и осанкой и распрямленными,
несколько откинутыми назад плечами, даже если то и
546
было подражанием, а не просто унаследованной осо-
бенностью. Эта робкая, несостоятельная попытка
жизни—повториться, снова всплыть на поверхность
г.ремени, снова стать настоящим, будившая столь
сладостные воспоминания и равная прошлому только
Юм, что она обладала былою молодостью и непре-
ложной действительностью, потрясла старую жен-
щину так сильно, что когда сын Христины склонился
над ее рукой — при этом от него пахнуло вином и оде-
колоном,— ее дыхание перешло в короткий, подавлен-
ный всхлип.
И тут же она вспомнила, что юность, принявшая
/гот образ, облечена дворянским достоинством.
— Господин фон Гете, — заговорила она, — вы —
желанный гость! Я ценю ваше внимание и от души
радуюсь возможности так скоро после приезда в Вей-
мар свести знакомство с сыном моего друга юности.
— Благодарю за милостивый прием, — отвечал он
с учтивой улыбкой, причем на мгновение блеснули его
слишком мелкие, белые, крепкие зубы. — Меня при-
слал отец. Ему вручена ваша любезная записка, и
I.место того, чтобы ответить вам письменно, он пред-
почел моими устами, госпожа советница, приветство-
г.ать вас в нашем городе и выразил уверенность, что
г..чш приезд внесет живительную струю в наше обще-
ство.
Она засмеялась от растроганности и смущения.
— О, это значит ждать слишком многого от уста-
лой, старой женщины! Но как здоровье нашего до-
рогого тайного советника? — добавила она и указала
на один из стульев, на которых они сидели с Риме-
ром. Август обстоятельно переставил его и подсел
к ней.
— Благодарю за внимание, — проговорил он.—
Неплохо. Жаловаться нет причины, он, в общем, здо-
ров и бодр. Правда, поводов к беспокойству, вернее,
к заботам всегда остается достаточно. Известная не-
устойчивость здоровья все еще дает себя знать. Но
позвольте мне, со своей стороны, спросить, как про-
шло путешествие госпожи советницы? Без особых при-
ключений? Гостиница вас удовлетворила? Такое
35*
547
известие будет отцу очень приятно. Я слышал, что
поездка предпринята для свидания с сестрой, досто-
почтенной камеральной советницей Ридель. Ваш
приезд возбудит прочувствованную радость в доме,
ценимом высшими и всеми единодушно почитаемом.
Смею думать, что между мною и господином каме-
ральным советником существует полное взаимное по-
нимание как в личных, так и в служебных вопро-
сах.
Шарлотта находила его манеру выражаться не по
возрасту чопорной. Уже «живительная струя» зву-
чала необычно: «прочувствованная радость» и «полное
взаимное понимание» тоже рассмешили ее. К подоб-
ным оборотам мог прибегать Ример, но в устах цве-
тущего молодого человека они казались не только
странными, но в своей педантичности почти эксцен-
трическими. Шарлотта чувствовала, что это уже от-
стоявшаяся манера,— говорящий явно не замечал ее
аффектированности, так же как не замечал смешли-
вого подергивания в лице Шарлотты, ибо не мог до-
гадаться о его причине. Шарлотту же невольно тянуло
сопоставить велеречивую размеренность его слов с тем,
что она знала о его похождениях, с тем, что ей пове-
дал о нем большой влажный рот Адели. Она думала
о его приверженности к вину, о солдатке, о том, что
он однажды был взят на гауптвахту, что Ример сбе-
жал от его грубости; и тут же вспомнила о его лож-
ном, искусственно восстановленном общественном
положении после той злосчастной истории, о приглу-
шенном упреке в трусости и нерыцарственности,
бремя которого он нес. И над всем этим всплыла мысль
о его темном влечении к юной Оттилии, «амазоночке»,
«прелестной блондинке». Эта любовь, собственно, уже
не противоречила его своеобразной ма«нере выра-
жаться и, как ей казалось, каким-то окольным путем,
но все же непосредственно связывалась с ней и с ней
согласовалась. И ведь в то же время эта любовь ка-
салась и ее, старой Шарлотты, или, лучше сказать, ее
второго, более распространенного, более всеобщего
«я», касалась трогательным и осложняющим образом,
ибо здесь характеры сына и возлюбленного слива-
548
лиеь, хотя сын и оставался только сыном, а это зна-
чит— вел себя, как отец. «Боже мой, — думала Шар-
лотта, вглядываясь в его довольно красивое и столь
похожее лицо. — Боже мой!» В этот молящий возглас
она вкладывала всю растроганность и милосердную
нежность, пробужденную в ней этим юношей, но ом
же относился и к комизму его манеры изъяс-
няться.
Кроме того, она помнила и задачу, на нее возло-
женную, просьбу, дошедшую до ее сердца, вмешаться
н известные обстоятельства, задержать определенный
ход вещей и отговорить то ли любовника от «амазо-
лочки», то ли «амазоночку» от любовника. Но, по
правде говоря, она к тому не ощущала ни охоты, ни
склонности и считала, что от нее требуют чрезмер-
ного—интриговать против «амазоночки» для ее же
спасения, тогда как очевидным призванием этой
«амазоночки» было оттеснить солдатскую жену и ей
подобных, а в этом стремлении она, старая Шарлотта,
полностью солидаризовалась с нареченной.
— Меня радует, господин камеральный совет-
ник,— проговорила она, — что два столь достойных
человека, как вы и мой зять, цените друг друга. Впро-
чем, я это слышу не впервые. В письменной форме
(она невольно вторила —и так, словно хотела над
ним подшутить, — комичной напыщенности его речи)
сестра поведала мне об этом. Позвольте, раз уже мы
заговорили о таких вещах, поздравить вас с недавним
продвижением по службе и при дворе.
— Премного благодарен.
— Это, конечно, заслуженные милости, — продол-
жала она. — Мне довелось слышать много лестного
о вашей солидности и исполнительности на службе
государю и государству. Для ваших лет, на-
сколько я смею судить, вы очень занятой человек.
Говорят, что помимо всех своих обязанностей, вы
еще с похвальным рвением занимаетесь делами
отца.
— Я могу только радоваться этой возможности,—
отвечал он. — После его тяжких заболеваний в пер-
вом и в пятом году мы привыкли смотреть на егопре-
549
бывание среди нас, как на чудо. Я был еще очень юи
в обоих случаях, но не забыл этого ужасного времени.
В первый раз приступ грудной жабы едва не привел
его на край могилы. Болезнь осложнилась судорож-
ным кашлем, который не позволял ему оставаться
в постели, так как лежа он задыхался. Отец старался
победить его стоя. Нервная слабость держалась еще
очень долго. Одиннадцать лет назад у него была
грудная лихорадка, сопровождавшаяся судорогами и
поныне заставляющая нас дрожать за его жизнь.
Отца пользовал доктор Штарк из Иены. Целые ме-
сяцы длилось выздоровление после перенесенного
кризиса, и доктор Штарк рекомендовал поездку в
Италию. Но отец заявил, что в его годы такое пред-
приятие уже неосуществимо. Ему было тогда пять-
десят шесть лет.
— По-моему, это значит слишком рано старить
себя.
— И вы того же мнения? Похоже, что он поста-
вил крест и на своей «прирейнской Италии», где в про-
шлом и позапрошлом году чувствовал себя так
хорошо. Вы, верно, слышали о его дорожном злоклю-
чении?
— Нет. Что же с ним такое стряслось?
— О, все кончилось благополучно. Этим летом,
вскоре после кончины матери...
— Дорогой господин фон Гете, — испуганно пере-
била она, — до вашего упоминания... я упустила...
сама не понимаю как, выразить вам мое искреннее
соболезнование в столь тяжкой незаменимой утрате.
Но вы ведь, не правда ли, верите в сердечное участие
старого друга...
Он быстро и встревоженно посмотрел на нее сво-
ими темными ласковыми глазами и снова опустил их.
— Покорнейше благодарю, — пробормотал он.
Несколько траурных секунд прошло в молчании.
— Судя по вашим словам, — первая заговорила
она, — можно надеяться, что этот тяжкий удар не на-
нес серьезного урона здоровью нашего милого тай-
ного советника.
550
— Отцу самому недужилось в последние дни ее
Гюлезни,— отвечал Август. — Он спешно оставил
Иену, где он работал, когда вести стали угрожаю-
щими, но в день кончины лихорадочное состояние
принудило его остаться в постели. Может быть, вы
слышали, мать умерла от судорог — мучительная
смерть. Меня к ней не пустили, из подруг возле нее
тоже никто не находился. Римерша, Энгельс, Вуль-
пмус — все попрятались. Вероятно, вид ее был нестер-
пим. Были приглашены две сиделки, на чьих руках
она и отошла. Это была... мне трудно об этом гово-
рить, какая-то тяжелая женская болезнь, выкидыш
пли преждевременные роды. Так мне казалось. Может
быть, судороги заставили меня увидеть ее болезнь
и этом свете, а то, что меня все время деликатно
устраняли, еще больше утвердило во мне такое подо-
зрение. Но насколько бы тщательнее пришлось охра-
нять отца с его чувствительной нервной конституцией,
которая вынуждает его избегать всех мрачных впе-
чатлений, если бы он случайно не оказался прикован-
ным к постели. Когда умирал Шиллер, отец тоже не
покидал своей спальни. Сама природа понуждает его
избегать соприкосновения со смертью и могилой,—
и этом я усматриваю взаимодействие судьбы и соб-
ственной воли. Вы, наверно, знаете, что четверо из его
сестер и братьев умерли в грудном возрасте. Он жив
и, можно сказать, в полном обладании сил, но не
однажды, начиная с самых юных лет, бывал близок
к могиле, — мгновениями, а иногда и длительное
иремя, под «длительным временем» я подразумеваю
эпоху Вертера. — Он спохватился, сконфузился и до-
бавил: — Я имею в виду физические кризисы, крово-
харканье юноши, тяжелые недуги его пятидесятилет-
него возраста, не говоря уже о разлитиях желчи и по-
чечных коликах, еще в ранние годы сделавших его
завсегдатаем богемских курортов, и о периодах, когда
без всякого видимого повода его жизнь висела на во-
лоске и Веймар, можно сказать, ежедневно трепетал
и ожидании утраты. На него были устремлены все
илоры одиннадцать лет назад, когда умер Шиллер.
551
Моя мать, рядом с ним, немощным, казалась олице-
творением цветущей жизни, но она умерла, а он про-
должает жить. Он крепко держится за жизнь, не-
смотря на все наши страхи, и временами мне ду-
мается, что он всех нас переживет. Он слышать не
хочет о смерти, он ее игнорирует, молча смотрит по-
верх нее. Умри я на его глазах, — а как просто это
могло бы случиться, хотя я молод, а он стар, но что
моя молодость рядом с его старостью, я только слу-
чайный, незначительный придаток к его жизни,—
умри я, и он будет об этом молчать, ничем не проявит
своих чувств, никогда не заговорит о моей смерти.
Так он поступит, я его знаю. Он водит с жизнью опас-
ливую дружбу и потому, наверно, так заботливо от-
страняет от себя зловещие картины, агонию, положе-
ние во гроб. Он никогда не мог заставить себя при-
сутствовать на похоронах и не пожелал увидеть
в гробу ни Гердера, ни Виланда, ни нашу бедную
герцогиню Амалию, к которой был так привержен. На
Виландовом погребении в Османштадте, три года
назад, я имел честь представлять его.
— Гм, — сказала Шарлотта с недовольством
в сердце, переходившим почти что в гнев. — В мою
книжечку, — она слегка прищурилась, — я внесла
одно изречение, наряду с другими, излюбленными
мною. Оно гласит: «Давно ли смерть, с переменчи-
выми образами которой ты спокойно жил на привыч-
ной земле, как с любыми другими видениями, стала
поражать тебя ужасом?» Это из Эгмонта.
— Да, Эгмонт, — повторил он. Затем потупился,
но тотчас же поднял взор, пристально и пытливо по-
глядел на Шарлотту и снова опустил его. Задним
числом ей показалось, что он преднамеренно возбуж-
дал в ней чувства, с которыми она боролась, и что
этот беглый взгляд должен был уверить его в успехе
задуманного. Но он поспешил переменить разговор и,
видимо, желая смягчить и загладить свои слова, ска-
зал:
— Разумеется, отец видел мать в гробу, душераз-
дирающе прощался с нею. У нас есть стихотворение,
написанное им на ее смерть; через несколько часов
552
после кончины он продиктовал его —к сожалению, не
мне, а своему камердинеру, так как я был занят дру-
гими делами. Собственно, только четыре строки, но
иесьма выразительных:
Ты напрасно сквозь темные тучи
Проглянуло, дневное светило!
Всей жизни исход неминучий:
Мне плакать над этой могилой.
— Гм, — снова произнесла она и кивнула головой,
не уверенная в своем впечатлении. В глубине души
ей казалось, что это стихотворение и малозначительно
и не чуждо преувеличения. При этом она снова запо-
дозрила,— и во взгляде, которым он на нее смотрел,
прочла тому подтверждение, — что Август хотел вы-
нудить у нее именно этот отзыв, разумеется, не про-
изнесенный вслух, но мелькнувший в мыслях так,
чтобы они могли прочитать его друг у друга в глазах.
Поэтому она опустила веки и пробормотала невнят-
ную похвалу.
— Не правда ли, хорошо? — спросил он, словно не
понимая. — Чрезвычайно важно, — продолжал Ав-
густ,— что это стихотворение существует, я на него
не нарадуюсь и лансировал его в обществе во множе-
стве списков. Из него они с досадой, но, может быть,
к своему посрамлению и назиданию, увидят, наконец,
как искренне отец был предан матери — при всей сво-
боде и обособленности, которыми он, разумеется, не
мог поступиться, — и с какой нежностью он чтит ее
память, память женщины, которую они без устали
преследовали своей ненавистью, злобой и клеветой.
А за что? — спросил он, разгорячась. — За то, что она,
покуда была здорова, любила немного поразвлечься,
охотно танцевала и в веселой компании не прочь была
осушить стаканчик. Достойный повод! Отца это только
забавляло, и он, нередко, в моем присутствии подшу-
чивал над несколько грубоватой жизнерадостностью
матери и как-то раз даже сложил стишок о том, что
опа-де всегда обведена магическим кругом веселья,—
но в этом сквозило добродушие и, пожалуй, даже
поощрение. В конце концов он шел своей дорогой и
653
чаще бывал в отъезде, в Иене, на курортах, нежели
с нами, дома. Случалось, что он и на рождество,
а оно совпадает с днем моего рождения, оставался
в иенском дворце, за своими трудами, и ограничивался
присылкой подарков. А как мать заботилась о его
телесном здравии, вдалеке ли он был или с нами, как
стойко несла она бремя домоводства, ограждая его от
всех беспокойств, способных помешать его деликатному
труду, на понимание которого она не претендовала —
да и многие ли его понимают? — но который вполне
умела уважать; отец отлично знал это и питал к ней
живую благодарность. Наше общество тоже должно
было бы с благодарностью относиться к ней, если б
оно действительно чтило его труд, но на это не стало
их жалких душонок, и они предпочли высмеивать
мать, судачить о ней за то, что она мало походила на
эфирное создание, на сильфиду, а была, слава тебе
господи, толстой, краснощекой и не знала по-фран-
цузски. Все это, разумеется, только зависть — черная,
зеленая зависть и ничего больше, ибо ей неслыханно
посчастливилось: она стала душой его дома, супругой
великого поэта и важного сановника. Зависть, голая
зависть! Потому я так и радуюсь, что у нас есть это
стихотворение на смерть матери. О, наше общество
почернеет от злости, увидав, как оно значительно и
прекрасно! — воскликнул он, в ярости сжав кулаки.
Его глаза затуманились, жилы на лбу вздулись.
Шарлотта убедилась, что перед нею запальчивый
и склонный к эксцессам человек.
— Мой милый господин камеральный советник,—
с этими словами она наклонилась к нему, дотрону-
лась до его дрожащего кулака и ласково развела
сжатые пальцы, — я всем сердцем сочувствую вам,
тем паче, что вы так привержены памяти вашей милой
матери и не довольствуетесь чувством понятной гор-
дости столь великим отцом. Ведь это, так сказать, не
фокус быть хорошим сыном такому отцу, какого вам
ниспослала судьба. Но то, что вы рыцарски и напере-
кор мнению света столь высоко чтите память матери,
больше подходящей под нашу общую мерку, — это
мне всего приятнее в вас, ибо я сама мать и по воз-
554
расту могла бы быть матерью и вам. А зависть? Ви-
дит бог, я разделяю ваше мнение. Я всегда ее прези-
рала и по мере сил отгоняла от себя — правду
сказать, мне это давалось без труда. Завидовать уча-
сти другого — какая малость! Словно не всем нам дало
испить чашу людского горя! Какое это заблуждение,
какая несуразность завидовать чужой судьбе! По-
истине жалкое и недостойное чувство. Умелыми куз-
нецами собственной участи должны мы быть, а не
донимать себя праздной тоской по чужому жребию.
Август, со сконфуженной улыбкой, слегка покло-
нился в благодарность за материнскую услугу, кото-
рую она ему оказала, и приложил к груди разжатую
руку.
— Вы правы, госпожа советница, — сказал он. —
Мать много выстрадала. Мир праху ее. Но я озлоб-
лен не только из-за матери. Из-за отца не меньше.
Теперь все прошло, как проходит жизнь, и наступил
покой. Камень преткновения ушел в землю. Но как он
досаждал когда-то, непрестанно досаждал фарисеям
и моралистам, как они поносили отца и заочно рас-
пинали его за то, что он поступил им наперекор, по-
грешив против их нравственного кодекса, приблизил
к себе простую девушку из народа и, не скрываясь,
стал жить с ней. Они давали и мне это почувствовать,
как только могли. Косились на меня, смеялись и по-
жимали плечами с укоризненным сожалением, ибо
этой вольности я был обязан своим существованием!
Словно такой человек, как отец, не вправе жить по
собственным законам, руководствуясь лишь класси-
ческим принципом нравственной автономии. Но они
стояли на своем, эти христианнейшие патриоты и до-
бродетельные просветители, и вопили о противоречии
между гением и моралью, хотя закон свободной и ав-
тономной красоты выдвигается самой жизнью, а не
только искусством, но они этого уразуметь не могли
и болтали о дискрепации и дурном примере. Бабьи
сплетни! Но, может быть, не признавая прав чело-
пека, они признавали право гения и поэта? Боже из-
ъяви! «Мейстера» они обзывали гнездом блудниц,
«Римские элегии»—болотом расслабленной морали,
555
а «Бога и баядеру» и «Коринфскую невесту» — при-
апическими сальностями. Да и чему тут удивляться,
когда еще «Вертеру» инкриминировалась зловредная
безнравственность.
— Для меня это ново, господин камеральный со-
ветник, неужто у кого-нибудь хватило дерзости...
— Хватило, госпожа советница. То же повтори-
лось и с «Избирательным сродством» — и этот роман
заклеймили как безнравственное произведение. Право
же, вы мало знаете людей, если думаете, что у них
может не хватить на что-либо дерзости. И если бы
это были только рядовые люди, нерассуждающая
чернь. Нет, все и вся, что восставало против класси-
цизма и эстетической автономии — покойный Клоп-
шток, покойный Гердер, Бюргер, Штольберг, Николаи
и как их там всех зовут, — все они только и делали,
что морально распинали отца и косились на мать за
их незаконный союз. И не только Гердер, его друг,
президент консистории, который, впрочем, не отказался
меня конфирмовать, даже покойный Шиллер, вместе
с отцом выпустивший «Ксении», — он тоже, я это
знаю достоверно, брезгливо отворачивался от матери
и втихомолку хулил отца за то, что гот не взял, по-
добно ему, барышню из дворянок, а выбрал девушку
ниже своего ранга. Ниже своего ранга! Словно такой
человек, как мой отец, принадлежит к людям того или
иного ранга, ведь он же единствен! Духовно он
всегда вынужден спускаться ниже своего ранга,—
зачем же в быту соблюдать иерархию? А ведь Шил-
лер был горазд утверждать превосходство аристокра-
тии духа над родовой аристократией, в этом он усерд-
ствовал больше, чем мой отец. Почему же он сторо-
нился моей матери, которая попечением об отце
честно заработала свои права?
— Мой милый господин фон Гете, — промолвила
Шарлотта,—я вполне разделяю ваши чувства, хотя
и не знаю, что такое эстетическая автономия, а по-
тому опасаюсь, как бы мое необдуманное поддакива-
ние в этом, мне не вполне ясном, вопросе не привело
меня к разногласиям с мужами, столь достойными,
как Клопшток, Гердер и Бюргер, а тем паче с нрав-
556
сгвенностью и патриотизмом. Этого бы мне не хоте-
лось. Но я думаю, что и такая предосторожность не
помешает мне всецело встать на вашу сторону, про-
тив тех, кто осмеливается морально распинать нашего
дорогого тайного советника и пя гнать славу великого
поэта Германии.
Он не слушал. Его темные глаза, утратившие свою
ласковость и красоту под новым натиском гнева, дико
блуждали.
— И разве все не было улажено наилучшим и до-
стойнейшим образом? — хрипло продолжал он. —
Разве отец не повел мать к алтарю, не сделал ее
своей законной женою, а я, еще до этого, не был ле-
гитимирован высочайшим рескриптом и объявлен за-
конным сыном моего отца со всеми вытекающими
отсюда привилегиями? Но ведь в том-то и дело, что
родовая знать лопается от злости на нам подобных, и
любой молокосос из кавалеристов, придравшись к пу-
стяковому поводу, позволяет себе оскорблять меня и
честь моей матери только за то, что я согласно своим
убеждениям и при полном одобрении отца не пошел
воевать против величайшего монарха Европы. За наг-
лый выпад этого выродка, этого дворянчика против
аристократии духа — арест слишком мягкая кара.
Здесь нужен палач, профос, здесь нужно каленое же-
лезо.
Багровый, вне себя, он молотил кулаком по своим
коленям.
— Любезный господин фон Гете, — умиротво-
ряюще, как прежде, начала Шарлотта и снова накло-
нилась к нему, но тут же слегка отодвинулась, почув-
ствовав запах вина и одеколона, казалось, усилив-
шийся от его ярости. Она подождала, покуда
трясущийся кулак не разжался, и ласково положила
на него свою руку в прозрачной митенке. — Стоит ли
так горячиться? Я не совсем вас понимаю, но мне ка-
жется, что мы теряемся в догадках и фантазиях. Мы
уклонились от темы. Вернее, вы от нее уклонились.
Я-то все время думаю о беде, приключившейся с на-
шим дорогим тайным советником, о которой вы упо-
мянули, о том, как он от нее избавился. Ведь я пра-
557
вильно поняла вас? В противном случае я бы давно
уже настояла на разъяснении этого пункта. Что же
именно с ним приключилось?
Он еще несколько раз прерывисто вздохнул и
улыбнулся ее доброте.
— Что случилось? — спросил он. — О, могу вас
успокоить: ничего особенного. Дорожный инцидент...
Дело было так. Отец в это лето долго не мог решить,
куда ему отправиться. Богемские курорты ему наску-
чили; в печальнейшем тысяча восемьсот тринадцатом
году он был там в последний раз и с тех пор не за-
глядывал в Теплиц, о чем нельзя не пожалеть, ибо
домашний курс водолечения, конечно, неполноценная
замена, так же как Берка и Теннштедт. Вероятно,
Карлсбад был полезней для его ревматизма, нежели
Теннштедтские серные ванны, которыми он недавно
пользовался. Но он разочаровался в карлсбадских
источниках, потому что в двенадцатом году там, на
месте, у него сделался приступ почечных колик, тяг-
чайших из когда-либо им перенесенных. Тут он вспо-
мнил о Висбадене и летом четырнадцатого года впер-
вые посетил долины Рейна, Майна и Неккара: эта
поездка оживила и ободрила его сверх всяких ожида-
ний. После долгих лет он снова очутился в родном
городе.
— Я знаю, — кивнула Шарлотта. — Как грустно,
что он уже не застал в живых свою незабвенную ма-
тушку, нашу добрую имперскую советницу. Мне также
известно, что «Франкфуртский почтовый вестник» по-
местил пространную статью в честь великого сына
своего города.
— Да, да! Это было на обратном пути из Висба-
дена, где он приятно провел время в обществе Пельт-
цера и горного советника Крамера. Оттуда он ездил
в часовню святого Роха, для которой позднее набро-
сал прелестный эскиз алтарного образа: святой Рох,
юным пилигримом покидающий замок отцов и раз-
дающий детям свое добро и злато. Сюжет простой
и трогательный. Профессор Мейер и наша прия-
тельница, Луиза Зейдлер из Иены, его выпол-
нили.
558
— Художница по профессии?
— Так точно. Близкая дому книготорговца Фро-
мана и подруга Минны Герцлиб.
— Очаровательное имя. Но вы оставляете его без
комментариев. Кто она, эта Герцлиб?
— Простите! Это приемная дочь Фромана, дом
которого отец постоянно навещал во время своей ра-
боты над «Избирательным сродством».
— Да, правда! — сказала Шарлотта. — Теперь мне
кажется, что я уже слышала это имя. «Избиратель-
ное сродство»! Творение, отмеченное тончайшей на-
блюдательностью. Можно только пожалеть, что оно
не нашло столь повсеместного и горячего отклика, как
«Страдания юного Вертера». Но я невольно пере-
била вас. Итак, что же было дальше с этим путеше-
ствием?
— Оно продолжалось очень весело, очень ожи-
г.ленно и вдохнуло новую жизнь в отца; он словно
предчувствовал это, когда на него решился. Веселые
дни провел он у Брентано в его ирирейнском уголке,
у Франца Брентано.
— Я знаю. Пасынок Макси. Один из пяти детей,
доставшихся ей от первого брака доброго старого Пе-
тера Брентано. Мне все известно. Говорят, у нее были
необыкновенно красивые черные глаза, но она часто
сидела одна, бедняжка, в старинном патрицианском
доме своего мужа. Мне приятно слышать, что ее сын
Франц состоит в более дружественных отношениях
с Гете, нежели, в свое время, ее супруг.
— В таких же дружественных, как и его франк-
фуртская сестра Беттина, так много посодействовав-
шая отцу в его мемуарах. Она ежедневно выспраши-
вала покойную бабушку об отдельных подробностях
его детства и все это для него записывала. Самое
утешительное, что лучшие люди нового поколения
унаследовали любовь и уважение к нему, несмотря на
удивительные перемены, которые претерпели их убе-
ждения.
Она не могла не улыбнуться старческой отчужден-
ности, с какой он говорил о своем поколении, но Ав-
густ ничего не заметил.
559
— Во время вторичного пребывания во Франк-
фурте,— продолжал он, — отец квартировал у Шлос-
серов— у асессорши Шлоссер, вы, вероятно, слы-
шали о ней, свояченице Георга, который был женат на
моей бедной тете Корнелии, и у ее сыновей Фрица и
Христиана Шлоссеров, славных, простодушных
юношей, прекрасно подтверждающих мои слова:
завзятые романтики, они, отдавая дань нелепостям
времени, охотнее всего воскресили бы Средневековье,
зачеркнув всю эпоху Возрождения; Христиан даже
возвратился в лоно католической церкви и в недале-
ком будущем, надо думать, воспоследует обращение и
Фрица с супругой. Но что верно, то верно, наслед-
ственная любовь к моему отцу и преклонение перед
ним нисколько не умалились этими модными слабо-
стями. Потому, вероятно, отец так снисходителен
к ним и чувствует себя весьма уютно среди этого
благочестивого народца.
— Дух, подобный ему, — произнесла Шарлотта,—
способен на понимание любого образа мыслей, лишь
бы он не перечил достойному и человечному.
— Вы правы, — отвечал Август с поклоном. — Но
все же, — поспешил он прибавить, — отец был рад пе-
реехать в Гербермюле под Франкфуртом, у Обер-
майна, в поместье Виллемеров.
— Ах да! Там посетили его мои сыновья, и он
наконец-то познакомился с ними и при этом выка-
зал им немало благоволения.
— Да, я знаю. Четырнадцатого сентября он при-
ехал туда впервые и затем навестил Виллемеров уже
в следующем месяце, по пути из Гейдельберга. В этот
промежуток времени совершилось некое событие —
женитьба тайного советника Виллемера на Марианне
Юнг, его приемной дочери.
— Это похоже на роман.
— Весьма. Тайный советник, вдовый, отец двух
еще малолетних дочерей, превосходный человек, по-
мещик, педагог и политик, филантроп, к тому же еще
поэт и рачительный друг драматической музы, лет за
десять или больше до упомянутого события взял
в свой дом маленькую Марианну из Линца, дитя
560
1 еатра, дабы уберечь ее от опасностей сцены. Это был
филантропический акт. Русокудрый ребенок рос вме-
сте с младшими дочерьми дома и превратился в пре-
лестную девушку. Она восхитительно поет, умеет мило
и энергично занять общество, и вот, как нередко бы-
нает, филантроп и педагог становится любовником.
— Да, да! Впрочем, одно не исключает другого.
— Я и не говорю. Но домашние обстоятельства
складывались недостаточно благоприятно, и кто
:шает, сколько бы это еще тянулось, если бы не вме-
шательство отца и его упорядочивающее влияние:
дня за два до его возвращения из Гейдельберга, вна-
чале октября, приемный отец скоропалительно же-
нился на приемной дочке.
Она смотрела на него широко раскрытыми гла-
зами, как и он на нее. На ее разгоряченном и уста-
лом лице было какое-то недоумевающе огорченное
выражение, когда она сказала:
— Вы, видимо, хотите дать мне понять, что эта
перемена в семейном положении явилась чем-то вроде
разочарования для вашего отца?
— Отнюдь нет, — с удивлением отвечал он. — На-
против, на фоне этих упорядоченных, очищенных и
проясненных отношений его жизнь в этом прелестном
уголке земли стала еще приятней и привольней. Там
была великолепная терраса, тенистый парк, лес непо-
далеку, веселящий душу вид на реку и предгорья, там
процветало веселье, широкое хлебосольство. Отец
редко чувствовал себя столь счастливым. Месяцы
спустя он все еще мечтал о мягких, сладостных вече-
рах, когда широкие воды Майна алели в лучах за-
ката и юная хозяйка пела его «Миньону», его «Лун-
ную песнь», его «Баядеру». Нетрудно представить
себе удовольствие, испытываемое супругом при виде
дружбы, которой удостоилась маленькая женщина,
им открытая и подаренная обществу. Он смотрел
па них, судя по всему, что я слышал, с горделивой
радостью, которая была бы неполной без
предварительного легитимирования и упрочения отт
ношений. С особенным удовольствием отец вспоми.^
и «чет вечер восемнадцатого октября, когда он вместе
36 Т. Мани, т. 2
5QI
с Виллемерами с башни их дома любовался фейер-
верком в честь годовщины Лейпцигской битвы.
— Это опровергает, мой дорогой господин каме-
ральный советник, многое из того, что мне случайно
довелось слышать о недостаточно теплых чувствах ва-
шего отца к родине. В ту торжественную годовщину
никто не чаял, что несколькими месяцами позднее
Наполеон покинет Эльбу и ввергнет мир в новые беды.
— Из-за которых, — подхватил Август, — планам
отца на следующий год грозила опасность разле-
теться в прах. Всю эту зиму он только и думал,
только и говорил о возможности повторить поездку
в те благодатные края. Да и все в один голос твер-
дили, что Висбаден ему полезнее Карлсбада. Давно
он уже не переносил с такой бодростью веймарскую
зиму. За вычетом одного месяца, когда он страдал
от обострения катара, отец чувствовал себя свежо и
молодо, отчасти также и потому, что уже довольно
давно, начиная с злополучного тринадцатого года,
ему открылось новое поприще для исследования и по-
этических упражнений, а именно восточная, точнее,
персидская поэзия, в которую он все больше и больше
углублялся с обычной своей продуктивностью. Так
что вскоре его портфель наполнился целой грудой из-
речений и песен самой причудливой стати, каких он
никогда еще не писал, и среди них многие, будто бы
обращенные к красавице Зулейке восточным поэтом
Хатемом.
— Чудесная новость, господин камеральный со-
ветник! Любитель изящной словесности должен с ра-
достью приветствовать ее, дивясь устойчивости и
известному обновлению творческих сил, этого пре-
краснейшего дара небес. У женщины-матери есть все
основания с завистью или, вернее, с восхищением
смотреть на столь превосходную несокрушимость
мужского начала, на прочность духовной плодовито-
сти, выгодно отличающейся от женской способности
созидания. Ведь подумать только — прошел уже два-
дцать один год с тех пор, как я подарила жизнь
моему меньшому. Я говорю о Фрице, восьмом из
моих сыновей.
562
— Отец поведал мне, — сказал Август, — что имя
г.мнолюбивого поэта, под чьей личиной он пишет эти
песни, — Хатем, значит «многодарящий и приемлю-
щий». Многодарящей, если мне позволено будет это
заметить, были и вы, госпожа советница.
— Ах, — возразила она, — это было страшно
давно! Но продолжайте, прошу вас! Итак, бог войны
вознамерился спутать все расчеты Хатема?
— Но его смирили, — отвечал Август. — Он был
побежден другим богом, так что после некоторых опа-
сений все пошло желательным путем. В конце мая
прошлого года отец отправился в Висбаден, и, по-
куда он там проходил курс лечения, военная гроза от-
бушевала,— все равно как, но отбушевала, — и он
смог насладиться концом лета на Рейне уже при яс-
ном политическом горизонте.
— На Майне?
— На Рейне и Майне. В замке Нассау он был го-
стем министра фон Штейна, ездил с ним в Кельн изу-
чать собор, в достройке которого он принимает живое
участие, и, судя по его описаниям, остался весьма до-
волен обратной дорогой через Бонн и Кобленц, город
господина Герреса и его «Рейнского Меркурия», про-
пагандирующего Штейнову политическую систему.
То, что отец согласился с нею, удивляет меня
даже больше, нежели его участие в завершении со-
бора, на которое его сумели подвигнуть. Отличное на-
строение, не покидавшее его в продолжение всего
этого времени, я отношу скорее за счет прекрасной
погоды и радующего глаз ландшафта. Он снова по-
бывал в Висбадене, посетил Майнц и, наконец, в ав-
густе — Франкфурт; уютный сельский уголок с уже
давно и счастливо установившимися отношениями
снова приветил его; совсем как в его мечтах, возоб-
новилось благоденствие прошлого года, поощряемое
широким гостеприимством. Август — месяц его ро-
ждения, и не исключено, что симпатические узы при-
ковывают человека к времени года, его создавшему,
которое, возвращаясь, всякий раз повышает его жиз-
ненные импульсы. Я, однако, не могу не вспомнить,
что на август приходится и день рождения императора
36*
563
Наполеона, еще недавно столь пышно справлявшийся
в Германии, так же, как не могу не дивиться — вернее,
не радоваться — чудесному превосходству героев духа
над героями дела. Кровавая трагедия Ватерлоо рас-
чистила моему отцу путь в гостеприимную Гербер-
мюле; и в то время как тот, кто беседовал с ним
в Эрфурте, сидел прикованный к утесу в открытом
море, мой отец благодаря милости судьбы полностью
насладился благосклонным мгновением.
— В этом есть высшая справедливость, — произ-
несла Шарлотта, — наш дорогой Гете не сделал лю-
дям ничего, кроме благого и радостного, тогда как
тот, покоритель мира, наказывал их скорпионами.
— И все же, — возразил Август, закинув го-
лову,— я остаюсь при своем мнении и смотрю на
отца, как на властителя и самодержца.
— Никто не оспаривает ни вас, ни его могуще-
ства,— отвечала она. — Только это, как в римской ис-
тории— в ней мы учили о добрых и злых цезарях, и
вот ваш отец, друг мой, такой добрый и мягкий це-
зарь, а тот — кровожадное исчадие ада. Это и нашло
отражение в различии судеб, которое вы столь тонко
подметили. Итак, значит, пять недель провел Гете
в обители молодоженов?
— Да, вплоть до октября, когда он, по поручению
его светлости, отправился к Карлсруэ для ознако-
мления со знаменитой коллекцией минералов. Он рас-
считывал встретиться там с госпожой фон Тюркгейм,
иначе Лили Шенеман из Франкфурта, время от вре-
мени наезжавшей из Эльзаса к родным в Карлсруэ.
' — Как, после стольких лет состоялась встреча его
и бывшей невесты?
— Нет, баронесса не приехала. Может быть, ее
удержало нездоровье. Между нами говоря, у нее су-
хотка.
— Бедняжка Лили, — произнесла Шарлотта. — Из
их романа мало что вышло. Несколько песен, но не
в веках прославленное творение.
— Это та же болезнь, — дополнил господин фон
Гете свое предыдущее замечание, — от которой скон-
чалась и Брион, бедная Фредерика из Зезенгейма; вот
564
уже три года лежит она в могиле, от которой отец,
но время своего пребывания в Бадене, был так близко.
Она закончила свою печальную жизнь в доме зятя,
пастора Маркса, где нашла тихую пристань. Я часто
задавал себе вопрос, думал ли отец об этой близкой
могиле и не было ли у него искушения посетить се,
но не хотел его спрашивать. Впрочем, едва ли, так
как в своей исповеди он говорит, что о днях, предше-
ствовавших последнему прости, у него, из-за их
острой болезненности, не сохранилось никаких воспо-
минаний.
— Я жалею эту женщину, — сказала Шар-
лотта,— у которой недостало решимости и сил для
достойного, жизненного счастья и для того, чтобы
в деятельном, энергичном человеке полюбить отца
своих детей. Жить воспоминаниями — удел стариков,
это хорошо в предпраздничный вечер, когда дневные
труды окончены. Начинать с этого в юности — смерть.
— Вы можете быть уверены, — отвечал Август,—
что ваши слова о решимости вполне в духе моего
отца, ведь как раз в этой связи он говорит о том,
что раны и боль, а к ним он причисляет также созна-
ние вины и тяжелые воспоминания, в юности быстро
заживают, изглаживаются. Он считает физические
упражнения, верховую езду, фехтование, коньки от-
личным средством для восстановления бодрости духа.
Но лучший способ справиться с тем, что тяготит тебя,
освободиться от сознания виновности, все же дает
поэтический талант, поэтическая исповедь, когда вос-
поминание одухотворяется, расширяется до общечело-
веческого и становится вечно радующим творением.
Молодой человек сблизил кончики всех десяти
пальцев и, продолжая говорить, машинально двигал
сложенные таким образом руки к груди и обратно.
Принужденная улыбка на его губах странно контра-
стировала со складкой между бровями и лбом, по-
шедшим красными пятнами.
— Странная штука воспоминание, — продолжал
Август, — я нередко размышлял об этом; ведь бли-
зость такого существа, как мой отец, наводит на мно-
гие подобающие и неподобающие размышления. Вос-
565
поминание играет, очевидно, важную роль в творче-
стве и жизни поэта, которые, впрочем, настолько
слиты воедино, что здесь можно говорить о творчестве
как о жизни и о жизни как о творчестве. Не только
творчество определено воспоминанием и несет на
себе печать и не только в «Фаусте», в Мариях
«Геца» и «Клавиго» и отрицательных образах их
возлюбленных воспоминание перерастает в idée
fixe, в навязчивую идею, например, в смирение, мучи-
тельный отказ или в то, что исповедывающийся поэт
сам бичует как неверность, более того, — предатель-
ство; все это исконное, решающее, путеводное, все
это становится, если можно так выразиться, лейтмо-
тивом, пробой жизни, и все последующие отречения,
прощания и жертвы только следствие этого искон-
ного, только его повторение. О, я часто об этом раз-
мышлял, и душа моя ширилась от ужаса — есть
ужасы, которые ширят душу, — когда я уразумел, что
великий поэт есть властитель, чья судьба, чьи реше-
ния, творческие и жизненные, выходят за пределы
личного и определяют становление, характер, буду-
щее нации. Величественно-странное чувство охваты-
вает мою душу при мысли о картине, которая уже
никогда не изгладится из нашей памяти, хотя мы ее
и не видели, — всадник, наклонившись с седла, в по-
следний раз протягивает руку девушке, любящей его
дочери народа, покинуть которую ему велит его гроз-
ный демон, и слезы стоят в ее глазах. Эти слезы, ма-
дам,— даже когда моя душа расширена величием и
страхом, я не могу проникнуться всем смыслом этих
слез.
— Я, со своей стороны, — сказала Шарлотта,—
не без нетерпимости, быть может, говорю себе, что
это милое создание, дочь народа, только тогда была
бы достойна своего возлюбленного, если бы возы-
мела должную решимость построить себе, когда он
уехал, настоящую жизнь, вместо того чтобы пре-
даться страшнейшему из всего, что есть на земле,—
безрадостному угасанию. Друг мой, ничего нет страш-
нее. Сумевший избегнуть этого да возблагодарит гос-
пода, однако если и не всякое осуждение есть грех, то
566
нельзя не осудить того, кто этому поддался. Вы гово-
рите об отречении, но эта девушка там, под могиль-
ным холмом, не умела отрекаться, отречение для нее
было — безысходное горе, и ничего больше.
— То и другое, — сказал молодой Гете, — тесно
переплетается и вряд ли может быть разделено как
в жизни, так и в творчестве. Я и об этом неодно-
кратно думал, особенно когда смысл ее слез до ужаса
расширил мне душу; мысли мои обращались, — не
знаю, удастся ли мне изложить вам это, — к действи-
тельному, к тому, что мы знаем, к тому, что сталось,
и к возможному, нам неведомому, к тому, что мы мо-
жем лишь смутно чаять — временами с печалью, ко-
торую мы из уважения к действительности таим от
себя и других, прячем в самую глубину сердца. Да и
что такое возможное по сравнению с действительным,
и кто осмелится замолвить слово за него, не опасаясь
тем самым умалить благоговение перед другим! И все
же мне иногда кажется, что здесь имеет место не-
справедливость, подтверждаемая тем фактом, — о да,
здесь можно говорить о фактах! — что действитель-
ное все заполняет собою, обращает на себя все вос-
хищение, тогда как возможное, будучи несостояв-
шимся, остается лишь схемой, предположением:
«а что, если бы». И как же не бояться этими «а что,
если бы» умалить благоговение перед действитель-
ным, которое главным образом зиждется на предста-
влении, что и творчество и жизнь — продукты отре-
чения. Но то, что возможное существует, хотя бы как
факт наших чаяний и страстных желаний, как «а что,
если бы» и невнятная совокупность того, что все же
могло бы быть, доказуется тем, что люди чахнут
в тоске по несбывшемуся.
— Я была и остаюсь, — отвечала Шарлотта,
в знак несогласия покачав головой, — сторонницей
решительности и того, чтобы цепко держаться за дей-
ствительное, предав забвению возможное.
— Поскольку я имею честь беседовать с вами
в этих стенах, — отвечал камеральный советник, — мне
трудно поверить, что вам неведомо желание огля-
нуться на возможное. И оно вполне понятно, это же-
567
лание, ибо как раз величие действительного и сбыв-
шегося сильней всего соблазняет нас мысленно обра-
щаться к несбывшимся возможностям. Действитель-
ность предлагает нам мало значительного, да и как
могло быть иначе при таких потенциях, — другого и
ждать нельзя. Все получилось и так и при том вели-
колепно; видно, можно было сделать хорошее, и
пойдя на отречение и неверность. Но вот человек, как
я сейчас, спрашивает себя, — спрашивает перед лицом
творчества и жизни отчеканенных царственным чека-
ном, что могло бы из этого выйти и насколько сча-
стливее, быть может, были бы мы все, не восторже-
ствуй идея отречения, не явись нашему взору дале-
кая картина разлуки, — рука, протянутая всадником,
и неизгладимые слезы расставания? Впрочем, все это,
весь этот разговор возник потому, что я спрашивал
себя, вспомнил ли отец в Карлсруэ о близкой и еще
довольно свежей могиле.
— По-моему, следует ценить великодушие, — ска-
зала Шарлотта, — отстаивающее возможное перед
действительным, хотя, или именно потому, что по-
следнее несравненно выигрышнее. Правда, нерешен-
ным останется вопрос, на чьей стороне нравственное
преимущество, на стороне решимости или великоду-
шия. Ведь и здесь легко впасть в несправедливость,
ибо великодушие очень привлекательно, однако ре-
шимость, пожалуй, более высокая ступень нравствен-
ности. Но что я говорю? Сегодня я болтаю, что на ум
взбредет. В конце концов удел женщины — дивиться,
о чем только не думает мужчина. Но вы по годам
могли бы быть моим сыном, а добрая мать не оста-
вляет без помощи рачительного сына. Отсюда и моя
болтливость, погрешающая даже против женской
скромности. Но давайте оставим возможное с миром
покоиться под могильным холмом и возвратимся
к действительному, то есть к счастливому путеше-
ствию вашего отца по Рейну и Майну. Я с удоволь-
ствием послушала бы еще о Гербермюле; ведь это
место, где Гете познакомился с моими сыновьями.
— К сожалению, я не знаю подробностей этой
встречи, — отвечал Август. — Зато мне известно, что
568
пребывание там, как это нередко случается в жизни,
принесло абсолютное повторение, даже приумноже-
ние благоденствия, которым в первый свой визит на-
слаждался там отец на фоне слаженных и упорядо-
ченных отношений, благодаря светским талантам пре-
лестной хозяйки и радушию хозяина. Майнские воды
снова алели в предзакатных лучах пряного вечера, и
у клавесина прелестная Марианна снова пела песни
( тца. Но в эти вечера он уже не только срывал ра-
дости, но и расточал их, ибо он позволил упросить
себя, или сам того пожелал, прочитать из своего все
умножающегося клада Зулейкиных песен то, как Ха-
тем взывал к этой розе востока, и супруги сумели
достойно оценить его сообщительность. Юная хо-
зяйка, видимо, отнюдь не принадлежала к женщинам,
которые диву даются, чего только не думает муж-
чина, и не ограничилась одним только приятием, но
в своей отзывчивости зашла так далеко, что начала,
от имени Зулейки, с неменьшим совершенством отве-
чать на страстные признания, и супруг с приветливой
благосклонностью внимал этому дуэту.
— Он, видно, славный человек, — произнесла
Шарлотта, — со здоровым пониманием выгод и прав
действительного. А все вместе, уже знакомое мне по
вашему рассказу, кажется хорошей иллюстрацией
к тому, что вы говорили о воспоминаниях, настойчиво
стремящихся к повторению. Ну и что же дальше?
Этим пяти неделям, разумеется, пришел конец, и ве-
ликий гость покинул дом?
— Да, после прощального вечера, напоенного лун-
ным светом и изобиловавшего песнями, под конец ко-
торого юная хозяйка стала почти уже негостепри-
имно торопить прощание. Но повторение еще раз
возымело свои права: в Гейдельберге, куда подался
отец, произошла повторная встреча, ибо супружеская
чета неожиданно явилась туда, и там, в полнолуние,
состоялся уже последний, прощальный вечер, когда
маленькая женщина, к радостному изумлению мужа
и друга, прочитала ответные стихи такой красоты,
что они могли бы выйти из-под пера моего отца.
Право же, следует семь раз отмерить, прежде чем
569
приписать действительному преимущества, превы-
шающие права поэзии. Песни, которые отец сложил
тогда в Гейдельберге, и поздней для своего персид-
ского Дивана, — разве они не вершина действитель-
ного, не воплощенная сверхдействительность? Суда-
рыня, они неслыханно, несказанно обворожительны.
Ничего похожего мир не знал. Они насквозь про-
никнуты духом отца, но обернувшимся новой, совер-
шенно неожиданной стороной. Если я назову их
таинственными, мне придется тут же поправиться и
назвать их детски ясными. Это — я не знаю, как
сказать — это эзотерика природы. Абсолютно личное,
наделенное качествами небосвода, так что вселенная
в них обретает лик человека, а людское «я» смотрит
звездными очами. Кто может это передать? Два стиха
оттуда неотступно преследуют меня, — слушайте!
Он процитировал робким и словно испуганным го-
лосом:
Как заря в багряном взлете
Устыжает сумрак скал!
— Что вы об этом скажете? — спросил он голо-
сом, все еще приглушенным. — Не говорите ничего,
покуда я не добавлю, что с «взлете» срифмовано его
собственное благословенное имя, правда, там стоит
Хатем, — «и опять почуял Хатем...», но сквозь маску
нерифмованного окончания лукаво и задушевно про-
глядывает его тайно зарифмованное имя. Как вы это
находите? Что вы скажете об этом торжественно со-
знающем себя величии, подаренном лобзанием юно-
сти, пристыженном ею? — Он повторил стихи. — Ка-
кая нега, бог мой, и какая величавость! — вскричал
Август, и, подавшись вперед, нервно взъерошил свою
шевелюру.
— Нет сомнения, — отвечала Шарлотта сдер-
жанно, так как этот его страстный порыв покоробил
ее еще больше, чем прежняя запальчивость, — нет со-
мнения, что весь мир разделит ваш восторг, когда
сборник стихов увидит свет. Правда, эти лукаво-зна-
чительные стихи никогда не всколыхнут человечество
так, как роман, к тому же окрыленный юностью. Но
тут ничего не поделаешь. Ну, а новая встреча? Вы
570
попортили себе прическу. Разрешите предложить вам
мою гребеночку. Впрочем, кажется, пальцы, ее рас-
трепавшие, могут и поправить дело. Итак, встреча
уже не воспоследовала?
— Всему бывает конец, — отвечал Август. — Этим
летом, после смерти матери, отец долго колебался,
где ему проходить курс лечения. В Висбадене? В Теп-
лице? В Карлсбаде? Его, конечно, сильно тянуло на
запад, к Рейну, и, казалось, он выжидает только
знака милостивого божества, которое в прошлый раз
парализовало демона войны для того, чтобы он мог
последовать своему влечению. Так и случилось. Его
друг Цельтер, всегда для него занимательный, со-
брался в Висбаден и предложил к нему присоеди-
ниться. Но отец не хотел принять это за достаточно
внятный знак. «Если б то был Рейн, — сказал он,—
и не Висбаден, а Баден-Баден, куда путь пролегает
не через Вюрцбург, а через Франкфурт». Но, видно,
пути не обязательно было пролегать через Франк-
фурт, чтобы привести его туда. Одним словом, два-
дцатого июля отец уехал. В спутники себе он избрал
Майера — историка искусств, немало тем похвалявше-
гося. И что же происходит? Обиделось ли обычно
столь благосклонное божество и обернулось злым
кобольдом? Как бы там ни было, они не проехали и
двух часов, как экипаж опрокинулся...
— Боже милостивый!
— ...и оба седока кувырком полетели на дорогу,
выбранную со столь великим тщанием. Майер до
крови расшиб себе нос. О чем, впрочем, я не сожа-
лею, — он поплатился за свое тщеславие. Но сколь
горестно и конфузно, хотя, с другой стороны, и
смешно представить себе, как воплощенное величие,
издавна усвоившее обдуманную размеренность дви-
жений, в запачканном платье и с развязавшимся
галстуком барахтается в придорожной канаве.
Шарлотта повторила:
— Бог ты мой!
— Ничего страшного, —- сказал Август, —- проис-
шествие, или шутка судьбы, как я бы его назвал,
кончилось благополучно. Отец, целый и невредимый,
571
ссудил Майера своим платком, в добавление к его
собственному, привез его обратно в Веймар и поста-
вил крест на поездке—и не только на это лето. Ду-
мается мне, что такое знамение заставило его раз и
навсегда отказаться от рейнских грез, я заключаю
это из его собственных слов.
— А собрание песен?
— Оно больше не нуждается в живительном воз-
действии приюта на Рейне! Оно растет и зреет на
удивление миру без него. Может быть, даже лучше,
чем с ним. И может быть, это провидело дружествен-
ное божество, сыгравшее с отцом такую штуку. Ве-
роятно, оно хотело подтвердить тезу, что известные
вещи дозволены и оправданы лишь как средство к цели.
— Как средство к цели? — переспросила Шар-
лотта. — Я не могу слышать эту сентенцию без сер-
дечного стеснения. Почетное в ней смешивается с уни-
зительным, да так, что не знаешь, с каким лицом ее
выслушивать.
— И все же, — возразил Август, — на жизненном
пути цезаря, будь он добр или зол, встречается много
такого, что неизбежно должно быть отнесено к этой
двусмысленной категории.
— Пожалуй, — согласилась она. — Но ведь все
на свете можно повернуть и так и этак в зависимо-
сти от точки зрения. А энергичное средство нередко
становится целью. Но как вам не позавидовать, гос-
подин камеральный советник, — добавила она,—
ведь вам этот поэтический клад открылся прежде
всех других. Дух захватывает от такой привилегии.
Ваш отец многое вам поверяет?
— Не буду отрицать, — отвечал он с быстрой ус-
мешкой, открывшей мелкие белые зубы. — Майер и
Ример бог весть что забрали себе в голову и на все
лады хвалятся его доверительностью, однако с сыном
дело все же обстоит иначе, чем с этими случайными
поверенными, — сын самой природой призван в по-
мощники и представители. На его долю, лишь только
он вошел в лета, выпадает немало забот и хлопот; от
них необходимо ограждать человека, в котором гений
воссоединился с преклонным возрастом. Немало те-
572
кущих хозяйственных дел, возни с поставщиками,
приемы гостей вместо хозяина дома и отдача визитов
и еще уйма прочих случайных обязанностей, — ну,
хотя бы хождение на похороны. Тут и хранение час
от часу растущих коллекций наших минерального и
нумизматического кабинетов, всех этих прекрасных
резных камней и гравюр; а не то вдруг изволь ска-
кать через всю страну, потому что на какой-то каме-
ноломне обнаружился интересный кварц или окамене-
лость. О нет, тут не соскучишься! Не знаю, осведо-
млены ли вы, госпожа советница, о целях нашего
театрального интендантства? Мне предстоит коопта-
ция в него.
— Кооптация? — переспросила она почти с ужа-
сом.
— Вот именно. Дело в том, что отец, хотя и чис-
лится первым министром, но уже много лет, соб-
ственно со времени своего возвращения из Италии,
не занимается подведомственными ему делами. Более
или менее регулярно он отдает время разве что Иен-
скому университету, хотя титул и обязанности кура-
тора счел для себя уже слишком обременительными.
Впрочем, двумя отраслями государственного упра-
вления он руководил до самого последнего времени:
дирекцией придворного театра и верховным надзором
над научными и художественными институциями, то
ость библиотеками, школами живописи, ботаническим
садом, обсерваторией и естественно-историческими ка-
бинетами. Надо вам знать, что все эти учреждения
основаны нашим государем и им же финансируются,
а потому отец до сих пор продолжает решительно
различать между ними и общегосударственной
собственностью; он даже теоретически отрицает необ-
ходимость давать о них отчет кому-либо, кроме его
высочества; ни от кого другого он зависеть не желает.
Словом, как видите, его верховный надзор осущест-
вляется в несколько устарелом духе, этим он демон-
стрирует против нового конституционного государ-
ства, о котором — я признаюсь в этом без большой
охоты, — ничего и слышать не желает. Он, понимаете
ли, просто его игнорирует.
573
— Вполне понимаю. Гете привержен старым по-
нятиям, и в нем укоренилась привычка под герцог-
ской службой понимать служение человека человеку.
— Совершенно верно. Я даже считаю, что это
очень ему к лицу. Но вот, — вы, верно, удивитесь, что
я позволяю себе так откровенно говорить с вами,—
временами меня беспокоит свет, который падает во
всех этих делах на меня, его прирожденного поверен-
ного. Ведь я за него проделываю не один путь и вы-
полняю всевозможные его поручения: скачу в Иену,
когда там возводится новое здание, разузнаю поже-
лания профессоров, и чего только не делаю. Я не
слишком молод для этого, мне двадцать семь лет,
возраст достаточно зрелый; но я молод для духа,
в котором вершатся эти дела. Понимаете ли вы меня?
Я часто боюсь попасть в ложное положение, участвуя
в этом старомодном верховном надзоре, не передаю-
щемся по наследству, ибо наследник, участвуя в нем,
невольно становится в оппозицию с новейшим госу-
дарственным духом...
— Вы слишком щепетильны, господин камераль-
ный советник. Кому же придет в голову осудить вас
за столь естественные и от всего сердца оказываемые
услуги. Ну, а теперь вы будете еще привлечены к ру-
ководству придворным театром?
— Так точно. И в этом деле мое посредничество,
пожалуй, действительно необходимо. Вы не можете
себе представить, сколько неприятностей проистекало
для отца из этой на первый взгляд веселой и живой
должности. Здесь приходится сообразоваться с глу-
пыми и вздорными требованиями актеров, авторов, —
о публике я уж и не говорю. Учитывать настроения
и пожелания высокопоставленных лиц и, что самое
худшее, тех, кто одновременно принадлежит и ко
двору и к театру; откровенно говоря, я имею в виду
красотку Ягеманн, госпожу фон Гейгендорф, влияние
которой на государя всегда грозило превысить влия-
ние отца. Короче говоря, это сложное дело, отец же—•
нельзя не сознаться — никогда не отличался доста-
точным постоянством, ни в одной области и в этой
тоже. Каждый год, во время сезона, он целые недели
574
бывал в отсутствии, путешествовал или лечился, ни-
мало не заботясь о театре. По отношению к театру
в нем всегда чередовались рвение и безразличие,
страсть и пренебрежение, — он не человек театра,
верьте мне. Всякий его знающий понимает, что он не
умеет обходиться с актерской братией, — ведь здесь,
как бы высоко ты ни стоял над этими людишками,
надо быть хоть немного из их породы, чтобы ужиться
и справиться с ними, чего при всем желании нельзя
требовать от отца. Но хватит! Я говорю об этом так
же неохотно, как и думаю. Вот мать, дело другое, она
умела взять подходящий тон, у ней были приятели и
приятельницы среди актеров, и я с детства привык
к этой среде. Мать и я, мы всегда служили мостом
между ним и труппой, посредничали, докладывали.
Но он этим не удовольствовался и взял себе в подмогу
заместителя — чиновника из дворцового конюшенного
ведомства, камерального советника Кирмса; затем
они оба, чтобы надежнее окопаться, притянули еще и
других лиц и, наконец, ввели коллегиальное управ-
ление, которое теперь, при великом герцогстве, стало
именоваться интендантством придворного театра; на-
ряду с отцом в него входят Кирмс, советник Крузе и
граф Эдлинг.
— Граф Эдлинг?-Уж не тот ли, что женат на мол-
давской княжне?
— О, я вижу, вы очень осведомлены. Но беда
в том, что отец часто становится тем троим поперек
дороги. Смешно сказать — их подавляет его автори-
тет, но с этим бы они еще кое-как примирились,
если б не чувствовали, что этот авторитет, в сущности
слишком сознает свою значительность, чтобы себя
проявлять. Сам отец заверяет, что он стар для подоб-
ного дела. Он охотно бы с ним развязался, — свобо-
долюбие, тяга к приватному существованию в конце
концов всегда в нем преобладали, и не теперь же ему
от них отказываться. Таким образом возникла мысль
приобщить меня. Она исходила от самого герцога.
«Введи туда Августа, — посоветовал он, — ты и покой
сохранишь, старина, и будешь в курсе дел».
— Великий герцог зовет его «старина»?
575
— Да.
— А как Гете обращается к нему?
— Он говорит «всемилостивейший государь» и
«припадаю к стопам вашего высочества». Это лишнее,
герцог нередко над ним из-за этого подсмеивается.
У меня возникла ассоциация, несколько неподходя-
щая, я это знаю, но, может быть, вам будет интересно:
ведь мать всегда говорила отцу «вы», а он ей «ты».
Шарлотта помолчала.
— Позвольте мне, — сказала она затем, — оста*
вив в стороне эту курьезную деталь—ибо она курь>-
езна, хотя и трогательна, а главное, вполне по-
нятна,— поздравить вас с новым званием и с вашей
кооптацией.
— Благодарю. Мое положение, — задумчиво про-
говорил он, — будет несколько щекотливым. Разница
в возрасте между мной и другими господами из ин-
тендантства весьма значительна. А мне ведь придется
представлять среди них авторитет, слишком сознаю-
щий свое значение.
— Я уверена, что такт, и светская обходитель-
ность помогут вам преодолеть неловкость.
— Вы очень добры. Но я, вероятно, наскучил вам
перечислением своих обязанностей.
— Ничего не может быть мне приятней.
— Мне же приходится вести и корреспонденцию,
до которой он не снисходит, к примеру, всю переписку
по поводу этих подлых перепечаток, конкурирующих
с нашим двадцатитомным собранием сочинений.
Кроме того, отец считает теперь делом чести освобо-
диться от пошлины, которую ему пришлось бы запла-
тить при ликвидации франкфуртского недвижимого
имущества, оставшегося еще от бабки, на тот случай,
если он захочет, отказавшись от франкфуртского гра-
жданства, перевести капитал в Веймар. Ведь, черт
возьми, они наложили бы на него не менее трех ты-
сяч гульденов, и вот теперь отец хлопочет, чтобы го-
род подарил ему пошлину, тем более что он в своем
недавно увидевшем свет жизнеописании так лестно
отозвался о нем. Правда, он хочет отказаться от гра-
жданства, но разве же он на прощание не почтил, не
576'
увековечил свой родной город? Разумеется, ему не
подобает это подчеркивать, и он все предоставляет
делать мне; я веду переписку с Франкфуртом терпе-
ливо и настойчиво, что, признаться, доставляет мне
весьма мало удовольствия. Ибо что они отвечают мне,
вернее тому, от чьего имени я пишу? Город уведом-
ляет, что, скостив нам пошлину, он тем самым обо-
крал бы прочих франкфуртских граждан. Что выска-
жете? Разве это не карикатурная справедливость?
Мне остается только радоваться, что я не веду пере-
говоры устно; едва ли бы мне удалось сохранить учти-
вость и спокойствие при подобном ответе. Однако
дело подвигается, крест на нем отнюдь не поставлен.
Я удвою настойчивость и терпение, и в конце концов
мы добьемся как исключительного права публикации,
так и освобождения от пошлин; раньше я не успо-
коюсь. Доход отца не соответствует его гениальности.
Временами он не так уж мал, разумеется, нет. Котта
платит шестнадцать тысяч талеров за полное собра-
ние, это по крайней мере справедливо. Но положение,
слава отца должны были бы иметь совсем иную ма-
териальную основу: человечество, столь щедро им
одаренное, должно было бы пощедрее раскошелиться
и озаботиться, чтобы крупнейший из людей был и
богатейшим из них. В Англии...
— В качестве практичной женщины и матери се-
мейства я могу только похвалить ваше усердие, до-
рогой господин фон Гете. Но следует помнить, что
если бы соотношение между дарами гения и
экономическим воздаянием было повсеместно спра-
ведливым,— чего на самом деле нет, — то и ваши
прекрасные слова о щедро им одаренном человече-
стве оказались бы не совсем уместными.
— Я охотно признаю несоизмеримость этих обла-
стей. Да и вообще людям не по нраву, когда великие
мужи ведут себя, как любой из них: они требуют,
чтобы гений с великодушным безразличием взирал на
жизненные блага. Нелепейшее и эгоистическое рабо-
лепие. Я, можно сказать, с пеленок жил среди вели-
ких мужей и нахожу, что такое равнодушие отнюдь
не свойственно гениям, напротив, высоко парящий дух
37 Т. Манн, т. 2
577
обычно сочетается со смелыми деловыми замыслами;
у Шиллера голова была постоянно полна всевозмож-
ных финансовых комбинаций, об отце я бы этого не
сказал: может быть, потому, что его дух не воспарил
столь высоко, а может быть, и потому, что он меньше
в этом нуждался. И все же, когда «Герман и Доро-
тея» получили столь широкое признание в стране,
отец посоветовал Шиллеру написать пьесу в этом
патриархальном духе; совершив триумфальное ше-
ствие по всем театрам, она принесла бы круглень^
кую сумму денег, без того, чтобы автор слишком
всерьез занимался ею.
— Не слишком всерьез?
— Не слишком. Шиллер, не долго думая, начал
набрасывать такую пьесу, а отец живо ему ассистиро-
вал. Но из нее ничего не вышло.
— Очевидно, потому, что к ней подошли без на-
стоящей серьезности.
— Возможно. Так вот недавно я переписал письмо
к Котте, в котором рекомендовалось использовать
благоприятную конъюнктуру, связанную с нынешним
патриотическим подъемом, и шире распространить
в продаже «Германа и Доротею» — стихотворение,
столь превосходно с ним гармонирующее.
— Письмо Гете? — Шарлотта помолчала. — Лиш-
нее доказательство, — выразительно произнесла она
затем, — как неправы те, кто приписывает ему отчуж-
дение от духа времени.
— Ох, уж этот дух времени, — презрительно мол-
вил Август. — Отец не чуждается его, так же как не
становится его поборником и рабом. Он стоит над
ним и сверху вниз на него взирает, а потому при слу*
чае умеет смотреть на него и с меркантильной точки
зрения. Он уже давно возвысился над временным,
«личным и национальным, до вечного и общечеловече-
ского, — не удивительно, что Гердер, Клопшток, Бюр-
гер за ним не поспевали. Но не поспеть — это еще
с полбеды, хуже — внушить себе, что ты всех обогнал
и воспарил над безвременно вечным. А вот наши ро-
мантики, неохристиане и патриотические мечтатели
убеждены, что пошли дальше отца и репрезентуют
578
новейшее в мире духа, ему уже не доступное; в об-
ществе же находится немало ослов, которые этому
верят. Есть ли на свете что-либо более жалкое, чем
этот дух времени, будто бы превзошедший вечное и
классическое? Но отец им еще задаст, уж поверьто,
при первом же удобном случае, хотя он и делает вид,
что эти обиды его не трогают. Разумеется, он слиш-
ком мудр и благороден, чтобы ввязываться в лите-
ратурные свары. Он никогда не любил втравлять
в раздоры и вводить в соблазн «благомыслящее боль-
шинство», как он милостиво выражается. Но и ни-
когда в глубине души не был тем великим церемоний-
мейстером, которым его знает общество; он не учтив
и не уступчив, а невероятно вольнолюбив и смел. Вам
я это должен сказать: люди видят в нем министра,
придворного; а он — сама смелость, да и может ли
быть иначе? Разве он отважился бы создать Вер-
тера, Тассо, Мейстера, все то новое и неслыханное,
не будь в нем этой тяги и любви ко всему, что чре-
вато опасностями? Мне не раз приходилось слышать,
как он говорил, что это и есть то, что мы называем
талантом. В его потайном архиве искони хранились
причудливейшие творения: когда-то в нем вместе
с первыми сценами «Фауста» лежали «Свадьба Ганс-
вурста» и «Вечный жид», но и сегодня там много раз-
пых диковинок, кое в чем отчаянно дерзких, как на-
пример, некий «Дневник», который я сберегаю, на-
писанный по итальянскому образцу и изящный и
смелый в своем смешении эротической морали и, с по-
зволения сказать, непристойности. Я бережно храню
любую мелочь, потомство может быть уверено, что
я слежу за всем, и только на меня оно должно пола-
гаться, ибо на отца положиться нельзя. Его легко-
мыслие по отношению к своим рукописям прямо-таки
преступно; похоже, что ему совершенно все равно,
гели они и пропадут; он оставляет их на волю случая
и отсылает в Штутгарт, если я не успеваю этому по-
мешать, единственный экземпляр. Тут только и
миаешь, что следить и классифицировать неопублико-
иаиное, не должное быть опубликованным, скользкие
секреты, правдивые изречения о его милых немцах,
37*
579
полемику, диатрибы с литературными врагами про-
тив всего вздорного в политике, религии и в искус-
ствах.
— Вы добрый, хороший сын, — сказала Шар-
лотта.— Я радовалась знакомству с вами, милый
Август, и, оказывается, у меня к тому было даже
больше оснований, чем я думала. Меня, мать семей-
ства, старую женщину, до глубины души трогает та-
кая заботливая преданность молодого человека
отцу, такое нерушимое единение с ним перед лицом
непочтительного потомства — ваших сверстников.
Тут нельзя не ощутить уважения и благодар-
ности...
— Я их не заслуживаю, — отвечал камеральный
советник. — Чем же еще могу быть для моего отца
я, заурядный человек, не лишенный практической
сметки, но недостаточно острый и образованный,
чтобы быть его собеседником? Да фактически мы
мало и бываем вместе. От всей души предаваться ему
и блюсти его интересы — вот то единственное и малое,
что мне остается, и за это. мне совестно принимать
благодарность. Наша дорогая госпожа фон Шиллер
также незаслуженно мила и добра ко мне за то, что
я в литературе держусь одних с нею взглядов, словно
в этом есть какая-то заслуга, словно для меня не дело
чести оставаться верным Шиллеру и Гете, в то время
как другие молодые люди увлекаются новыми вея-
ниями...
— Я едва ли много знаю об этих новых вея-
ниях,— прервала его Шарлотта, — и думаю, что мой
возраст все равно не позволит мне разобраться в них.
Я слышала, что есть какие-то благочестивые худож-
ники и фантасмагорические писатели, — бог с ними,
я их не знаю и не слишком огорчаюсь своим неве-
дением, ибо мне ясно, что плоды их усилий не могут
сравняться с творениями, возникшими и покорившими
мир в мое время.
Пусть сколько угодно говорят, что им нет нужды
сравниться со старым, чтобы в известном смысле пре-
взойти его,— надеюсь, вы меня понимаете, я не ма-
стерица говорить парадоксами, и под «превзойти»
580
разумею только, что само время за них, что они его
отражают, а потому непосредственно доходят до
сердца детей нашего времени, молодежи, и счастли-
вит ее. А ведь в конце концов все дело в том, чтобы
быть счастливым.
— Но и в том, — подхватил Август, — в чем нахо-
дить это счастье. Иные ищут его и находят лишь
в гордости, в чести и в долге.
— Хорошо, отлично. И все же я знаю по опыту,
что жизнь, отданная долгу и служению другим, по-
рождает в человеке известную черствость и не спо-
собствует общительности. С госпожой фон Шиллер
вас, как я вижу, связывает чувство дружбы и взаим-
ного доверия?
— Не буду похваляться благосклонностью, кото-
рую я заслужил не личными достоинствами, а убеж-
дениями.
— О, одно тесно связано с другим. Я чувствую
лаже нечто вроде ревности, видя, что материнские
нрава, на которые я немножко претендую, уже при-
своены другою. Не сердитесь же на меня, если я все-
таки позволю себе проявить материнское участие
и спрошу: есть ли у вас друзья и доверенные среди
лиц, подходящих вам по возрасту больше, нежели
вдова Шиллера.
При этих словах она наклонилась к нему. Август
посмотрел на нее взглядом, в котором благодарность
мешалась с застенчивой робостью. Это был мягкий
и печальный взгляд!
— Нет, по этой части мне не везет. Мы уже го-
ворили о том, что большинство моих сверстников пре-
дано убеждениям и помыслам, которые исключают
взаимное понимание и привели бы только к постоян-
ным недоразумениям, если б я не считал нужным
сдерживать себя. Эпиграфом к нашему времени я бы
взял латинскую поговорку: «Победители любезны бо-
гам, а побежденные сердцу Катона». Не буду отри-
цать, что к этому изречению я уже давно отношусь
с прочувствованной симпатией за спокойную твер-
дость, с которой разум в нем блюдет свое достоин-
581
ство, вопреки решениям слепого рока. Как редко это
бывает в жизни! Обычно мы видим бесстыдную из-
мену causa victa1, капитуляцию перед успехом. Ни-
что на свете так не возмущает меня. О, эти люди!
Время научило нас презирать их лакейские души!
В тринадцатом году, летом, когда мы принудили отца
уехать в Теплиц, я был в Дрездене, оккупированном
французами. И посему тамошние жители в честь тезо-
именитства Наполеона жгли потешные огни и фейер-
верки. А уже в апреле они встречали государей Прус-
сии и России иллюминацией, и девушки в белых
платьях подносили им цветы. Флюгеру стоило только
повернуться... Это слишком жалкое зрелище1 Как мо-
жет молодой человек сохранить веру в человечество,
если ему суждено было пережить предательство не-
мецких князей, вероломство прославленных француз-
ских маршалов, в беде покинувших своего импера-
тора...
— Стоит ли убиваться, мой друг, из-за того, чему
все равно нельзя помочь, и терять веру в человече-
ство лишь потому, что люди поступают по-людски,
да еще с выродком рода человеческого? Верность хо-
роша и раболепствовать перед успехом недостойно;
но человек, подобный Бонапарту, возникает и кон-
чается вместе с успехом. Вы очень молоды, но я бы
хотела, как мать, посоветовать вам следовать при-
меру вашего великого отца, который тогда, на Рейне
или Майне, весело наблюдал за огнями, зажженными
в память Лейпцигской битвы, считая вполне есте-
ственным, что возникший из бездны в бездну же и
воротится.
— И все же он не позволил мне воевать против
человека из бездны. И, разрешите мне это добавить,
тем самым выказал ко мне уважение, ибо порода
юнцов, рвавшихся в бой... о, я знаю их и презираю
до глубины души этих оболтусов из прусского тугенд-
бунда, этих энтузиастических ослов и пустобрехов сих
дешевой мужественностью и ухарским жаргоном,
заставляющим меня содрогаться от ненависти...
1 После поражения (лат.).
582
— Друг, мой, я не вмешиваюсь в политические
споры наших дней, но позвольте мне заметить, что
наши слова некоторым образом печалят меня. Может
Оыть, мне следовало бы радоваться, как это делает
милая госпожа фон Шиллер, что вы привержены
нам, старым людям, и все же мне до боли, до страха
огорчительно, что эта несносная политика изолирует
нас от сверстников, от вашего поколения.
— О нет, — отвечал Август. — Политика не есть
нечто изолированное, она тысячью нитей связана
с теми, чьи убеждения, верования, воля составляют
с: ней одно неразрывное целое. Она во всем и по-
всюду, в нравственном, в эстетическом, даже в том,
что имеет видимость чисто духовного и философиче-
ского; счастливо время, когда оно, не осознав себя,
пребывает в девственном состоянии, когда никто и
ничто, за исключением ближайших адептов, не гово-
рит на его языке. В такие мнимо аполитические пе-
риоды — я бы назвал их периодами подпочвенной по-
литики— становится возможным любить прекрасное,
свободно и независимо от политики, с которой оно
находится в тайной, но нерушимой связи. Увы, нам
не достался этот жребий — жить в столь мягкие,
терпимые времена. Наше время освещено неумо-
лимо ярким светом, и в любом предмете, в любой
человеческой слабости, в любой красоте оно дает про-
рваться наружу сокрытой в них политике. Я лично не
стану отрицать, что отсюда проистекает много боли
и утрат, много горьких разлук.
— Из этого я заключаю, что вам пришлось испы-
тать горести такого порядка?
— Без сомнения, — отвечал молодой Гете после
небольшой паузы, во время которой он пристально
рассматривал носки своих башмаков.
— А могли бы вы поведать мне о них, как сын
матери?
— Ваше доброе отношение, — отвечал он, — уже
исторгло у меня признание в общей форме, так по-
чему же мне не коснуться и частности? Я знал одного
юношу, немного старше меня, которого мне хотелось
бы видеть своим другом: Арним звали его, Ахим фон
583
Арним, из прусских дворян, красавец собою; его ры-
царственный и светлый образ рано запечатлелся
в моей душе и уже не покидал ее, хотя я его видел
лишь спорадически, через долгие промежутки вре-
мени. Я был еще ребенком, когда он впервые по-
явился в поле моего зрения. Это произошло в Геттин-
гене, куда мне довелось однажды сопровождать отца
и где мы заметили бравого студента, который в вечер
нашего приезда приветствовал отца на улице криком
«vivat». Его вид не мог не произвести на нас живого
и приятнейшего впечатления, и двенадцатилетний
мальчик впредь уже не забывал его ни во сне, ни
наяву.
Четырьмя годами позднее он приехал в Веймар,
уже не незнакомец в царстве поэзии. Сочетав пре-
данность романтическому старонемецкому направле-
нию с возвышенной мечтательностью и шутливым
добродушием, он за это время вместе с Клеменсом
Брентано составил и выпустил в свет в Гейдельберге
тот сборник народных песен под названием «Чудес-
ный рог мальчика», который современники приняли
с растроганной благодарностью, ибо в нем по суще-
ству были собраны сокровеннейшие их чувства. Автор
нанес визит моему отцу, от души поблагодарившему
его и Брентано за этот очаровательный вклад в не-
мецкую поэзию, и мы, юноши, близко сошлись. То
было счастливое время. Никогда я не радовался тому,
что я сын своего отца, так, как в те дни, ибо это об-
стоятельство сглаживало неравенство лет, образова-
ния, заслуг, привлекало ко мне его внимание, за-
ставляло дарить меня уважением и дружбой. Время
было зимнее. Искусный во всех физических упраж-
нениях, а потому и на этом поприще далеко превос-
ходивший меня, младшего, он, к величайшему моему
восторгу, в одной области стал моим учеником. Арним
не бегал на коньках, мне было дозволено учить его,
и эти часы легких, быстрых движений, когда я пока-
зывал ему свое искусство, наставлял его, были счаст-
ливейшими часами из всех, что подарила мне
жизнь, — лучших я, откровенно говоря, и не жду от
нее.
584
И вот снова прошло три года, прежде чем я встре-
тился с Арнимом, на этот раз в Гейдельберге, куда
я в восьмом году приехал изучать право, имея при
себе рекомендательные письма к видным и просве-
щенным людям и в первую очередь к знаменитому
Иоганну Генриху Фоссу, гомериду, — отец был дру-
жен с ним еще по Иене, и его сын в свое время за-
мещал у нас доктора Римера в обязанностях домаш-
него учителя. Должен сознаться, что я недолюбливал
Фосса-младшего; чуть ли не божеские почести, кото-
рые он воздавал моему отцу, не трогали меня и ка-
зались мне довольно скучными. Да и вообще его
можно назвать натурой энтузиастической и скучной
(такое сочетание встречается), а хроническое воспа-
ление губ, вынудившее его еще в ту пору, как я при-
ехал в Гейдельберг, прекратить чтение лекций, на-
вряд ли могло сделать его более привлекательным.
В его отце, ректоре университета, певце «Луизы»
идиллические вкусы сочетались с полемическим задо-
ром. Уютно-домовитая натура, живущая в неге и холе
под крылышком деятельнейшей супруги и хозяйки
дома, он на общественном, научном и литературном
поприще был истым боевым петухом. Старый Фосс
обожал всякие литературные тяжбы, дискуссии,
полемические статьи и с бодрым, молодым гневом
неизменно ополчался на убеждения, противные про-
свещенному протестантизму и, как ему думалось, антич-
ной ясности. Итак, дом Фосса, дружественный на-
шему, в Гейдельберге стал мне как бы вторым отчим
домом, а я ему вторым сыном.
Поэтому-то я почувствовал не только радост-
ный испуг, но замешательство и смущение, когда,
вскоре после приезда, столкнулся на улице с идеа-
лом моего отрочества, товарищем зимних утех. Мне
следовало быть готовым к этой встрече, и в глубине
души я ежечасно думал о ней, так как знал, что
Арним проживает здесь и издает свой остроумный
и мечтательный «Листок для отшельников», ретро-
градный орган, являющийся рупором нового романти-
ческого поколения. Покопавшись в себе, я должен
был сознаться, что именно об Арниме была моя пер-
585
вая мысль, когда я узнал, что мои студенческие годы
будут протекать в Гейдельберге. Теперь, когда друг
стоял передо мной, счастье и смущение сдавили мне
сердце, я краснел и бледнел попеременно. Все распри,
вся партийная борьба времени и двух поколений со-
временников тяжелым грузом легли на мою совесть,
Я хорошо знал, что думали у Фоссов по поводу благо-
честивого приукрашающего культа старины, немецкой
и христианской, ярым поборником которого являлся
Арним. Я чувствовал, что беззаботные времена дет-
ства, когда мне можно было непринужденно вра-
щаться в обоих лагерях, ушли безвозвратно; а потому
сердечность, с которой ко мне бросился этот человек,
еще более прекрасный и рыцарственный, чем прежде,
в одно и то же время осчастливила и смутила меня.
Он взял меня под руку и потащил за собой к книго-
торговцу Циммеру, где он столовался; и хотя пона-
чалу мы оживленно говорили о Беттине Брентано,
с которой я недавно чуть ли не каждый день встре-
чался у бабушки во Франкфурте, но затем разговор
стал лишь с запинками подвигаться дальше. Я мучи-
тельно страдал от мысли, что кажусь ему не по-юно-
шески тупым, и вскоре, к своему отчаянию, прочел
подтверждение этого в его взоре, в непроизвольном
покачивании головой.
В прощальное рукопожатие я стремился вложить
всю свою тоску и отчаяние, стремился выговорить
себе право на сохранение нежности к нему, взлелеян-
ной в отроческом сердце. Однако в тот же вечер
у Фоссов мне пришлось рассказать об этой встрече, и
я понял, что дело обстоит хуже, чем мне думалось.
Старик как раз намеревался идти войной на «этого
малого», на этого, как он выразился, «развратителя
юношества, обскуранта и реставратора Средне-
вековья» и выпустить памфлет, который, как он на-
деялся, отобьет у него охоту жить и развивать свою
деятельность в Гейдельберге. Его ненависть к фри-
вольной игре, к лживым соблазнам романтических
литераторов находила разрядку в громовых словоиз-
вержениях. Он называл их мошенниками, лишенными
исторического чутья и философской совести, благо-
586
честивыми ханжами, фальсифицирующими старинные
тексты под предлогом их приближения к современ-
ности. Я тщетно лепетал, что отец, в свое время,
весьма благосклонно отнесся к «Чудесному рогу
мальчика». Фосс возражал: «Не говоря уже о его
терпеливой доброте, твой отец любит и ценит фоль-
клор в ином смысле и духе, чем эти германофиль-
ствующие стихоплеты». В остальном же он, его ста-
ринный друг и доброжелатель, так же относится
к этим ханжам и неокатоликам, которые приукраши-
вают прошлое только для того, чтобы очернить на-
стоящее, и чье почитание великого человека вызвано
нечистым намерением эксплуатировать его имя ради
собственных целей. Короче говоря, если я хоть не-
много ценю его, ректора, отеческую дружбу, любовь
и заботу, то я должен раз и навсегда отказаться от
общения и дальнейших встреч с Арнимом.
Что к этому прибавить? Мне предстояло выбрать
между сим достойным человеком, старым другом на-
шего дома, приютившим меня на чужбине, и романти-
ческим счастьем запретной дружбы. Я покорился. На-
писал Арниму, что место, которое я по праву рожде-
ния и личным взглядам занял среди современного
раздора, не позволяет мне с ним встречаться. Ребяче-
ская слеза смочила этот листок, и я понял, что
привязанность, вырванная мною из сердца, относилась
к жизненной эпохе, которую я перерос. Я стал искать
и нашел вознаграждение в братском союзе с Ген-
рихом, молодым Фоссом, а сознание, что его любовь
к моему отцу лишена какой бы то ни было корысти,
помогло мне примириться с его нудностью и воспа-
ленными губами.
Шарлотта сочла своим долгом поблагодарить рас-
сказчика за эту маленькую исповедь и заверить его
п своем участливом отношении к испытанию, которое
он несомненно выдержал, как подобает мужчине.
— Как подобает мужчине, — повторила она. — Вы
рассказали мне истинно мужскую историю из того
нашего мира, из мира принципов и неумолимости, на
которую мы, женщины, смотрим одновременно и
с уважением и с слегка укоризненной улыбкой. По
587
сравнению с вами, суровыми поборниками убеждений,
мы дети природы и толерантности, и боюсь, что ино-
гда мы представляемся вам какими-то эльфическими
созданиями. Но разве добрую половину привлека-
тельности слабого пола не составляет для вас от-
дохновение от принципов? Если в остальном мы вам
нравимся, то ваша принципиальная строгость оказы-
вается несостоятельной и не прочь на многое взгля-
нуть сквозь пальцы, а летопись чувств учит нас, что
фамильные распри, наследственная вражда убежде-
ний отнюдь не служат препятствием для нерушимых
и страстных союзов сердец между детьми столь
различного воспитания. Более того, что такие пре-
пятствия пуще подзадоривают сердца идти своим
собственным путем, хитроумно минуя все пре-
поны.
— В том-то, вероятно, и состоит различие между
любовью и дружбой, — вставил Август.
— Разумеется. А теперь позвольте мне спросить...
Это материнское любопытство. Вы рассказали мне
о запретной дружбе. Любили ли вы когда-нибудь?
Камеральный советник опустил глаза и затем
снова поднял взор на Шарлотту.
— Я люблю, — тихо произнес он.
Шарлотта молчала, растроганная.
— Ваше доверие, — сказала она затем, — трогает
меня еще больше, нежели это известие. Откровен-
ность за откровенность. Я скажу вам, что заставило
меня решиться на подобный вопрос. Август, вы рас-
сказали мне о вашей жизни, вашей столь похвальной,
столь ответственной, столь самоотверженной сынов-
ней жизни — какой вы верный помощник своему вели-
кому отцу, как преданно вы следуете за ним, храните
его писания, служите барьером между ним и дело-
выми заботами. Не думайте, что я, понимающая, что
значит жертва, отказ, не умею ценить жизнь, испол-
ненную любвеобильных забот и самоотречения. И все
же, не могу не сознаться, я слушала вас с несколько
смешанными чувствами. К моему уваженью присо-
единилась какая-то забота, боязнь и недовольство,
какое-то душевное сопротивление, которое в нас вы*
588
зывает все не вполне естественное, не вполне угодное
господу. Мне кажется, что господь создал нас, даро-
вал нам жизнь не для того, чтобы мы от нее отказы-
пались, полностью растворяли ее в другом, пусть бес-
конечно любимом и великом. Надо жить собственной
жизнью — не себялюбивой и всех других рассматри-
вающей как средство, но также и не самоотреченной,
«ч самостоятельной, разумно распределяющей обяза-
тельства между другими и самим собой. Разве я не
права? Жизнь только для других не на пользу нашей
душе, ни даже нашей доброте и кротости. Короче
говоря, мне было бы приятнее, если бы в ваших сло-
вах я прочла хоть намек на предстоящую эмансипа-
цию, которая пристала вашим летам, на выход из-под
сени отчего дома. Вам пора устроить собственный до-
машний очаг, пора жениться, Август.
— Я имею намерение вступить в брак, — с легким
поклоном отвечал камеральный советник.
— Отлично! — воскликнула она. — Итак, значит, я
беседую с женихом?
— Это, пожалуй, слишком решительно сказано.
Оглашение еще не состоялось.
— Я очень рада, хотя мне следовало бы попенять
вам за то, что вы так долго от меня таились. Могу ли
и узнать, кто ваша избранница?
— Некая мадемуазель фон Погвиш.
— По имени?
— Оттилия.
— Прелестное имя. Оно звучит как в романе.
Л я буду ей тетушкой Шарлоттой.
— Не говорите так, она могла бы быть вашей
лочерью,— отвечал Август и взгляд, которым он при
чтом посмотрел на нее, был уже не только пристален,
по неподвижен.
Она испугалась и покраснела.
— Моей дочерью... Что вы такое говорите, — не-
ипятно пробормотала она, охваченная каким-то ми-
стическим страхом оттого, что снова всплыли эти
слова и от взгляда, их сопровождавшего, который
ясно говорил о том, что они помимо воли и сознания
возникли из недр его-души.
589
— Да, да, — подтвердил он и вдруг оживился.—
Я не шучу или почти не шучу. Речь идет даже, соб-
ственно, не о сходстве, оно было бы непостижимо, но
о сродстве, встречающемся сплошь да рядом. Ведь,
по правде говоря, вы, госпожа советница, принадле-
жите к людям, чью сущность не затрагивает время,
не меняют годы или, я скажу проще — сквозь ваш
зрелый облик ясно проглядывает лик юности. Я не
собираюсь уверять вас, что вы выглядите как моло-
дая девушка, но не нужно второй пары глаз, чтобы
сквозь достоинство матроны прозреть юное создание,
почти школьницу, которой вы некогда были; и я го-
ворю только, что это юное создание могло бы быть
сестрой Оттилии, а отсюда с математической последо-
вательностью вытекает, что она могла бы быть вашей
дочерью. Что, собственно, значит сходство? Не
общность черт, но родственность облика, идентич-
ность типа, чья прелесть так чужда прелести Юноны,
изящество, нежное очарование—вот что я называю
родственным, дочерним.
Что это было — подражание или род заразы? Шар-
лотта смотрела на молодого Гете тем же недвижным*
остекленевшим взором, которым он только что впе-
рялся в нее.
— Фон Погвиш, фон Погвиш, — машинально по-
вторяла она. И тут же догадалась, что можно обер-
нуть дело так, будто она размышляет о характере и
происхождении этого имени.
— Это прусское дворянство, дворянство шпаги, не
правда ли? — спросила она. — Следовательно, ваш
союз будет чем-то вроде союза лиры и меча. Я, без-
условно, уважаю дух прусского офицерства. Говоря —
дух, я имею в виду убеждения, воспитание, чувство
чести и любовь к родине. Этим их качествам мы обя-
заны своим освобождением от чужеземного ига. Итак«
ваша нареченная, если я вправе так называть ее,
воспиталась в этом духе, в этой атмосфере. Но тогда
в ней вряд ли можно предположить сторонницу Рейн-
ского союза, почитательницу Бонапарта?
— Эти вопросы, — уклончиво отвечал Август,—
устранены самым ходом истории.
590
— И слава богу! — воскликнула она. — И ваш
брак, надо полагать, будет осчастливлен покрови-
тельством и отеческим согласием Гете?
— Вполне. Он возлагает на него большие на-
дежды.
— Но ведь он потеряет вас, если не совсем, то
в значительной степени. Я только что пожелала вам
основать собственный домашний очаг! Но теперь
я мысленно переношусь на место моего старинного
друга, нашего любезного тайного советника, — ведь
он лишится преданного помощника и дельного по-
средника, когда вы оставите дом.
— Об этом никто и не помышляет, — возразил
Август, — и, могу вас заверить, отцу не будет нанесено
ни малейшего ущерба. Приобретая дочь, он не. утратит
сына. Уже решено, что мы займем помещение для при-
езжих во втором этаже, — премилые комнатки с видом
на Фрауенплан. Но царство Оттилии, разумеется, не
будет ограничено ими; она будет господствовать и
п наших приемных комнатах как полновластная хо-
зяйка дома. То, что дом будет снова возглавлен жен-
щиной, что он, наконец, обретет хозяйку, тоже не по-
следнее соображение, делающее мою женитьбу столь
желательной.
— Я понимаю и только дивлюсь, почему мои чув-
ства все еще колеблются. Минуту назад я сокрушалась
об отце, а теперь уже опять беспокоюсь о сыне. Мои
пожелания сбываются и в то же время, в этом нельзя
не признаться, разочаровывают меня,—именно потому,
что они исключают тревогу об отце. Я не уверена, пра-
вильно ли я поняла вас, вы уже заручились словом ва-
шей избранницы?
— В данном случае, — отвечал Август, — в словах,
собственно, нет особой нужды.
— Нет особой нужды в словах? В словах? Вы, мой
друг, обесцениваете весьма торжественное понятие,
прибегая ко множественному числу. Слово, любезный
мой, не совсем то, что слова, оно должно быть произ-
несенным, и к тому же, по зрелом размышлении, после
долгих колебаний. «Обдумай, прежде чем связаться
узами, прочными навек». Вы любите, вы признались
591
в этом мне, старой женщине, которая могла бы быть
вам матерью, и своим признанием растрогали мое
сердце. Что вам отвечают взаимностью — в этом я не
сомневаюсь. Порукой тому ваши, прирожденные-до-
стоинства. Но вот о чем я хотела бы спросить ужо
с чисто материнской ревностью: любимы ли вы за ваши
собственные достоинства, за то, что вы — вы? В дни
моей юности я часто со страхом ставила себя на место
богатых девушек, выгодных невест, которым, правда,
дано было преимущество свободно выбирать среди
юношей, но которые точно не знали, относится ли уха-
живание к ним, или к их деньгам. Представьте себе
у такой девушки какой-нибудь физический изъян —
косоглазие, хромоту или хотя бы небольшую сутулость,
и подумайте о трагедии, разыгрывающейся в душе
этой несчастной счастливицы, трагедии колебания ме-
ждуострым желанием верить и сверлящим сомнением.
Жутко подумать, что такие создания должны в конце
концов прийти к циническому выводу — считать богат-
ство своим личным качеством и говорить себе: «Ну
что ж, если он даже и любит мои деньги, то они ведь
мои, от меня не отделимые, они искупают мою хро-
моту, а следовательно, он любит меня, несмотря на
этот недостаток...» Ах, простите, это надуманная ди-
лемма, старинная idée fixe, неотступно преследовавшая
меня в дни юности, так что я и нынче еще начинаю
безудержно болтать, вспомнив о ней, но вспомнила я
об этом потому, что вы, милый Август, кажетесь мне
таким богатым юношей, который, правда, волен вы-
брать любую девушку, но зато должен дознаться, по-
чему он сам попал в избранники. За свои личные ка-
чества или за привходящие. Эта амазопочка... не оби-
жайтесь на меня за бесцеремонное определение, ваше
собственное красноречивое описание малютки подска-
зало мне его, а то, что вы,поставили ее образ в какую-
то не то дочернюю, не то сестринскую связь с моей
особой, настроило меня на фамильярный лад, и я го-
ворю о ней, как говорила бы о себе... Простите, я, ка»
жется, уж не вполне отдаю себе отчет в своих словах,
Нынешний день принес мне много умственного и ду-
шевного напряжения—: подобного дня я не припомню
592
?,а всю свою жизнь. Но раз уж я начала, то надо до-
говорить до конца. Словом, эта амазоночка, Оттилия—
любит она вас таким, как вы есть, или за привходя-
щие качества, то есть за вашу принадлежность к про-
славленному дому, а следовательно, не столько вас,
сколько вашего отца? Как тщательно надо проверить
все это, прежде чем навек связывать себя! Я, которая
могла бы быть вашей матерью, почитаю своим долгом
и обязанностью, для вашего же блага, заронить в вас
эти сомнения. Ведь и матерью Оттилии я могла бы
быть, судя по вашему описанию, и если Гете возлагает
па этот союз большие надежды, как вы выразились
или как выразился он, то это, быть может, связано
с тем, что и я, юным созданием, была приятна его
взору; а потому прежде всего надо проверить, вы ли
сами любите ее, или же и в этом случае остаетесь
только представителем и посредником отца. То, что
вы любили Арнима и хотели стать его другом, это ваше
дело, дело вашего поколения, но то, о чем теперь за-
шла речь, так мне по крайней мере кажется, — наше
стариковское дело. Отсюда моя тревога. Не думайте,
что я не понимаю прелести союза, который даст мо-
лодежи восполнить, осуществить то, в чем отказали
себе, от чего отреклись старики. И все же я должна
еще раз предостеречь вас, что здесь речь идет, так ска-
зать, о повторении.
Рукою в вязаной митенке она прикрыла глаза.
— Нет, — произнесла она, — простите мне, дитя
мое, но я вторично признаюсь, что уже не вполне вла-
дею своими словами и мыслями. Вы не должны сер-
диться на меня, старую женщину, — я могу только по-
вторить, что дня, подобного этому, со столькими тре-
бованиями, ко мне предъявленными, вообще не упо-
мню. Мне, кажется, в самом деле становится дурно...
Август фон Гете, в продолжение последних минут
сидевший прямо и неподвижно, вскочил со стула.
— Бог мой! — воскликнул он. — Я утомил вас, это
непростительно! Но мы говорили об отце — вот мое
единственное оправдание, — ведь эта тема, хотя исчер-
пать ее безнадежно, нелегко отпускает человека...
Я позволю себе удалиться — и уже (он хлопнул себя
38 Т. Манн, т. 2
593
ладонью по лбу) чуть было не сделал этого, забыв о
поручении, которое было единственным поводом моего
столь обременительного визита. — Он овладел собою
и тихо, с легким поклоном, проговорил: — Я имею
честь передать госпоже надворной советнице привет от
моего отца, вместе с сожалением, что он не мог тот-
час же повидаться с нею. Ревматизм в левой руке
удерживает его дома. Но он почтет за честь, если гос-
пожа советница, совместно с господином Риделем и его
уважаемым семейством, в ближайшую пятницу, а сле-
довательно, через три дня, в половине третьего, согла-
сится отобедать у нас в интимном кругу.
Шарлотта, чуть пошатываясь, в свою очередь под-
нялась с канапе.
— Весьма охотно, — отвечала она, — если, конечно,
мои родственники не заняты в этот день.
— Разрешите откланяться, — заключил он.
Она приблизилась не очень твердым шагом, взяла
обеими руками его юную кудрявую голову и нежно
поцеловала его в лоб, что было нетрудно сделать, при-
нимая во внимание его склоненную позу.
— Господь с тобою, Гете, — произнесла она. —
Прости, если я наговорила вздора, я старая женщина,
а день выдался трудный. Здесь уже побывали Роза
Гэзл, и доктор Ример, и девица Шопенгауэр, а к тому
же еще этот Магер и веймарская публика, всего этого
было слишком много для меня, непривычной к свет-
ской жизни. Иди, дитя мое, через три дня я приду обе-
дать — почему бы и нет? Ведь и он не раз ел просто-;
квашу у нас, в Немецком орденском доме. Если вы]
любите друг друга, вы, молодые, ну что же, женитесь,
уважьте старого отца и будьте счастливы в своем ме-
зонине! Не мне вас отговаривать. Господь с тобою,
Гете, господь с тобою, дитя мое!..
Глава седьмая 1
Ах нет, не удержишь! Светлое виденье блекнет!
растекается быстро, как по мановению капризного де|
мона, тебя одарившего и тут же отнявшего свой дар!
594 I
и из сонной глуби всплываю я! Было так чудесно!
А что теперь? Где ты очнулся? В Иене, в Берке,
в Теннштедте? Нет, это веймарское одеяло, шелковое,
знакомые обои, сонетка. Как? В полной юношеской
силе? Молодец, старина!.. «Так не страшись тщеты,
о старец смелый!..» Да и не мудрено! Такие дивные
формы! Как эластично вжалась грудь богини в плечо
красавца охотника, ее подбородок льнет к его шее и
к раскрасневшимся от сна ланитам, амброзические
пальчики стискивают запястье его могучей руки, кото-
рой он вот-вот смело обнимет ее, носик и рот ловят
дыхание его во сне приоткрытых губ, а там, в стороне,
амурчик, сердясь и торжествуя, с кликами: «Ого!
Остерегись!» уже вскинул свой лук, справа же ум-
ными глазами смотрят быстроногие охотничьи собаки.
Ну и натешилось мое сердце этой роскошной компо-
зицией! Но откуда она? Где я ее видел? А, разумеется,
это Турки-Орбетто из Дрезденской галереи: «Венера
и Адонис». Осторожней, голубчики! Беда, если вы пе-
регнете палку или подпустите пачкунов к этим карти-
нам. А сколько пачкотни на белом свете, черт побери!..
Потому что они знать не знают труда и вдохновенья,
а за все берутся. Никакой строгости к себе! Что тут
может выйти хорошего? Не рассказать ли им о вене-
цианской академии реставрации, о том, как директор
и двенадцать профессоров заперлись в монастырь для
кропотливейшего труда?.. «Венера и Адонис»!.. «Амур
и Психея» — вот что надо написать, давно пора! Об
этом мне нет-нет да и напомнят, как я распорядился.
Но, скажите, откуда взять время? Надо пойти в жел-
тый зал, еще раз попристальнее вглядеться в эстампы
Психеи Дориньи, освежить замысел, а там опять от-
ложить. Ждать и откладывать — хорошо, замысел все
расширяется, а твое сокровенное, собственное, все
равно никто не отнимет, никто не опередит тебя, даже
гели сделает то же самое.
Да и что такое сюжет? Сюжеты валяются на улице.
Подбирайте, дети, мне нет нужды вам дарить их, как я
подарил Шиллеру Телля, чтобы он, во славу божию,
ниел его в свой благородный, мятежный театр. Но я
сохранил Телля и для себя, для эпического, нетороп-
38*
595
ливо-жите.йского Геркулеса-простолюдина, которому
нет дела до власть имущих, и рядом с ним беззабот-
ного тирана, охотника до миловидных поселянок...
Дай срок, я еще напишу его, и гекзаметр будет лучше,
согласнее с языком, чем в «Рейнеке» и «Германе».
Расти, расти! Покуда дуб растет и раскидывает крону,
он молод! Да, на нынешней ступени, при столь пре-
красном расширении нашего существа, следовало бы
взяться за «Амура и Психею»: из бодрой старости, из
мудрого достоинства, осененного лобзанием юности,
должно возникнуть легчайшее, прелестнейшее. Никто
и не знает, как оно будет обворожительно. Может
быть, в стансах?.. Но нет, в этой хлопотливой сутолоке
всего не сделаешь, и многому суждено умереть! Бьюсь
об заклад, что и кантата в честь Дня реформации
у тебя зачахнет. Гром над горой Синаем, в предрас-
светном воздухе веет бескрайним одиночеством, это я
знаю. Для воинственных пастушеских хоров надо про-
смотреть «Пандору». Суламифь, возлюбленнейшая,
вдали... «По твоим перстам отныне счет бессмертью
поведем». Уж одно это будет занятно. Но главное все
же он, Христос, его высокое учение, его духовность,
извечно непонятная черни, одиночество, душевные
страдания, величайшая мука — и, при всем этом, он
оплот и утешитель. Пусть убедятся, что я, старый ере-
тик, больше смыслю в христианстве, нежели все они
вместе взятые. Но кто напишет музыку? Кто поощрит
меня, поймет, похвалит мою кантату, еще не создан-
ную? Берегитесь! Такое равнодушие отшибет у меня
охоту, а тогда посмотрим, найдется ли у вас чем хоть
относительно достойно отметить знаменательную дату.
Будь он еще здесь, столько лет назад, — да, уже це-
лых десять! — ушедший от нас! Будь он еще здесь,
чтобы подгонять, требовать, поощрять! Вспомните,
разве я не забросил «Димитрия» из-за дурацких по-
мех, которые вы мне чинили с постановкой? А я ведь
мог и хотел справить великолепнейшую тризну по нем
на всех немецких подмостках. Вы, с вашей тупой буд-
ничной рутиной, виновны в том, что я впал в ярость и
в уныние, и он умер во второй раз, уже навек, потому
что я отказался, на основе точнейших знаний, про*
596
длить его жизнь. Как я был несчастен! Несчастнее,
чем можно быть по вине других. Или тебя оставило
вдохновение, и собственное сердце тайком воспротиви-
лось честнейшему намерению? Воспользовался внеш-
ними препятствиями как предлогом и разыграл Аянта-
Гшченосца? Он, он был бы в состоянии, умри я раньше
пего, завершить «Фауста». Боже упаси! Надо бы сде-
лать завещательное распоряжение! Но боль и горечь
не утихли и поныне, жалкая несостоятельность, тяг-
чайшее поражение. Как было стыдно пережившему
сто другу отказаться от мысли закончить его творение!
Который час? Еще ночь? Нет, сквозь ставни уже
пробивается солнечный луч. Верно, уже семь или около
того. Все идет по заведенному порядку, и не демон
пепугнул прекрасное виденье, а моя собственная
утренняя воля, зовущая к делам и дневным заботам,
бодрствовала там, в глуби сна, как чуткий охотничий
пес, что такими смышлеными большими глазами смот-
рел на влюбленную Венеру. Стоп! Так ведь смотрел и
готтардов пес, ворующий хлеб со стола своего хозяина
для занедужившего святого Роха. В «Праздник свя-
того Роха» сегодня надо вписать крестьянские по-
перья. Где моя записная книжка? В левом ящике
Споро. «Сухая весна мужичку не нужна». «Если трав-
ник запел раньше цветения лоз» — стихотворение!..
Л щучья печень? Ведь это же стародавнее гаданье по
внутренностям. Ах, народ, народ! Все та же языческая
первобытность, плодоносные глуби подсознательного,
источник омоложения. Быть с народом, среди народа:
на охоте, на сельском празднике или, как тогда,
в Бингене, за длинным столом под навесом, в чаду
шипящего сала, свежего хлеба, колбас, коптящихся
и раскаленной золе! Как немилосердно они придушили
к вящей славе Христовой удравшего было барсука,
мсего искровавленного! В сознательном человек долго
пребывать не может. Время от времени он должен
спускаться в подсознательное, ибо там — его корни.
Максима. Об этом покойный ничего не знал и знать
не хотел — больной гордец, аристократ духа и адепт
разума, великий, трогательный шут свободы, за что
они — какая нелепость! — почитали его человеком на-
597
рода (а меня знатным холопом), тогда как он ровно
ничего не понимал в народе, да и в немецкой сути. Но
за это я и любил его. С немцами не ужиться, все
равно — победители они или побежденные. Он проти-
вопоставлял им болезненную чистоту помыслов, не спо-
собный принизиться, смиренно готовый признавать ни-
чтожное равным себе лишь для того, чтобы руками
спасителя вознести его до себя, до высот духа. Да,
в нем много было от того, кого я хочу прославить
в своей кантате. А ведь он в ребячливой своей амби-
циозности воображал себя ловким дельцом! Ребяче-
ство? Ну что ж, он был в высшей степени мужчина,
даже чересчур, до уродства, ибо чисто мужское — дух,
свобода, воля — уродство. Перед женским началом он
пасовал: его женщины смешны, и только. И притом
чувственность, ее жестокий азарт. Ужасно1 Ужасно и
непереносимо! Но талант, высшая смелость, вера в
добро, не споткнувшаяся о бесчинство черни! Един-
ственно равный и родственный мне, — ему подобного я
уже не встречу. Вкус в безвкусице, уверенность в пре-
красном, гордое наличие всех способностей, легкость и
беглость речи, непостижимо независимая от самочув-
ствия — и всегда во славу свободы. С полуслова все
понимая и с таким умом на все откликаясь, он возвра-
щал тебя к самому себе, уяснял тебе твою же сущность,
всегда сравнивая ее с собой, критически себя утверж-
дая, кстати сказать, довольно навязчиво: «спекулятив-
ный, интуитивный ум»! Знаю, знаю: «Если оба гениаль-
ны, то на полпути...» Знаю, к тому все и клонилось, что
внеприродный человек, чисто мужское начало, может
быть гением, что он и есть гений и стоит подле меня,—
к почетному месту все клонилось, и к равенству, и еще
к тому, чтобы выйти из нужды и позволить себе по
году работать над каждой драмой. Неприятный, лука-
вый искатель. Любил ли я его? Никогда. Не терпел
его журавлиной походки, рыжих волос, веснушек, вва-
лившихся щек и сутулой спины, воспаленного крючко-
ватого носа. Но его глаз мне не забыть, покуда я
живу, — темно-синих, мягких и бесстрашных глаз спа-
сителя... Христос и метафизик! Я был исполнен недо-
верия, заметил: он хочет меня эксплуатировать. Напи-
598
сал мне хитрейшее письмо, чтобы заполучить «Мей-
стера» для «Ор», как главную приманку, а я, словно
учуяв ловушку, уже договорился с Унгером. Затем он
настаивал на «Фаусте» для «Ор» и для Котты, доса-
ждая мне, ибо он один из всех понял, что значит
«объективный стиль», «послеитальянский», знал, что я
уже другой, что глина просохла. Несносный, неснос-
ный человек! По пятам преследовал меня и понукал,
ибо у него не было времени. Но ведь плоды приносит
только время.
Время надо иметь! Время — дар, неприметный и
добрый если его чтишь и прилежно заполняешь; оно
созидает в тиши, оно будит демонов... Я выжидаю,
выжидаю во времени. Но все бы делалось быстрей,
будь он со мною. С кем же мне говорить о Фаусте,
с тех пор как этот человек вне времени? Он знал все
сомнения, всю нашу несостоятельность, но и все пути,
псе средства, — бесконечно умно и терпимо, полный
смелого понимания грандиозной шутки и эмансипации
от непоэтического серьеза; ведь после явления Елены
он утешал меня, утверждая, что через восхождение от
чертовщины и гротеска к эллинско-прекрасному,
к трагедии, из смешения чистого и причудливо-пута-
ного, может выйти не вовсе недостойный поэтический
трагелаф. Он еще видел, еще слышал Елену, ее пер-
вые триметры; они произвели на него большое, пре-
красное впечатление. Это меня ободряет. Он знал ее,
как Хирон неусыпный, которого я хочу вопросить о
ней. Слушая, он улыбался тому, что мне удалось ка-
ждое слово пропитать античным духом...
Головы ваши хоть и кудрявы,
Много вы горя видели в жизни:
Ужасы боя, мрак беспредельный
В ночь, когда пал
Илион.
В облаке пыли, поднятой боем,
Боги взывали голосом страшным.
Рознь громыхала медью, и с поля
Гул приближался
К крепости валу.
Тут он усмехнулся и кивнул: «Превосходно!» Это
место санкционировано, за него я спокоен, больше до
599.
него не дотронусь. Он нашел его превосходным и улыб-
нулся, так что и мне пришлось улыбнуться, и мое чте-
ние стало улыбкой. Да, он и в этом не был немцем,
он улыбался прекрасному, чего ни один немец не де-
лает. Они сидят мрачные, насупленные, ибо не знают,
что культура — это пародия — любовь и пародия... Он
также закивал головой и улыбнулся, когда хор назвал
Феба «знатоком».
Как же ты, пугало,
Смелость имеешь
Рядом с прекрасною
Вещему взору
Феба являться?
Стой себе, впрочем.
Он к безобразью
Не восприимчив,
Как солнце не видит
Отброшенной тени.
Это ему понравилось, здесь он узнал себя и решил,
что это о нем. И тут же стал пенять мне, нельзя-де
говорить, «что красота не совместима с совестью и что
у них в жизни разные дороги»: красота-де стыдлива.
Я спросил, на что ей стыд и совесть? Он ответил: от
сознания, что она, в отличие от духовного, которое ею
олицетворяется, будит вожделение. Я говорю: разве
вожделение совестливо? Оно не стыдится, вероятно, от
сознания, что олицетворяет порыв к духовному. Мы
оба расхохотались. Теперь мне не с кем смеяться.
Оставил меня здесь, убежденный, что я уже не собьюсь
с пути, найду связующий обруч для разнородной мате-
рии, без которой не завершить замысла. Этот все знал
наперед. Знал и то, что Фауст придет к деятельной
жизни, — легче сказать, чем сделать! Но если вы по-
лагали, мой милый, что для меня сия мысль в но-
винку... Разве тогда, когда все было еще по-детски
смутно, я не заставил Фауста перевести библейское
«слово» («смысл», «сила») через «деяние».
Итак! Что сегодня на очереди?.. «Пока я есть, я
должен делать что-то, и руки чешутся начать работу».
Это «малый Фауст» — волшебная флейта, когда Го-
мункул и Сын — еще одно в светящемся ларчике...
Итак, что предстоит сегодня? Ах, черт, надо написать
600
заключение для его высочества по поводу этой скан-
дальной истории с «Изидой». Препротивная канитель!
Как все теряется в глубях сна! Но вот дневная ку-
терьма возобновилась. Да, еще набросок поздравитель-
ной оды для его превосходительства фон Фойта. Боже
мой, надо ее закончить и велеть переписать! День ро-
ждения— двадцать седьмого, а у меня не слишком
много сделано, по правде сказать, всего несколько
строк, из них одна стоящая: «Или природа все же
уясним а?» Это хорошо, звучит недурно и, пожалуй,
вывезет всю остальную чепуху, а благопристойной че-
пухой это останется, как ни верти... Дань, которую об-
щество взимает с «поэтического таланта», надо пла-
тить. Ах, поэтический талант, к черту его! Люди
уверены, что все дело в нем. Разве можно жить и ра-
сти еще сорок четыре года, после того как ты в два-
дцать четыре написал «Вертера», и не перерасти поэ-
зию? Словно не прошло время, когда я довольствовался
стихотворством! Башмачник, держись своего ремесла!
Да, если ты башмачник. Вот теперь болтают, что я-де
изменил поэзии, впал в дилетантизм. Кто сказал вам,
что поэзия не дилетантство и что истину не надо искать
в другом, а именно в целом? Глупая пискотня! Глу-
пейшая! Верно, не знаете, бестолковые вы головы, что
великий поэт прежде всего велик, и лишь затем поэт,
и что совершенно безразлично, слагает он стихи или
побеждает в боях, как тот, в Эрфурте, с улыбкой на
устах и с мрачным взором. Он сказал мне вслед, на-
рочито громко, чтобы я услышал: «Это человек!», а не
«Это поэт!» Но дурачье думает, что можно быть ве-
ликим, сочиняя «Диван», и не быть им, создавая «Уче-
ние о цвете».
Черт возьми, что это? Что там всплывает в памяти?
А, эта вчерашняя, книжица, профессорский опус про-
тив «Учения о цвете». Пфаффом зовется голубчик.
Любезно препровождает мне свои глупейшие возраже-
ния, еще хватает наглости посылать их на дом. Бес-
тактная немецкая назойливость! Будь моя воля, я бы
таких людей изгонял из общества. А впрочем, почему
бы им не оплевать мое исследование, когда они пле-
да
вали на мою поэзию, сколько слюны хватало? «Ифи-
гению» до тех пор сравнивали с Еврипидовой, покуда
она не превратилась в хлам, изгадили мне «Тассо»,
испоганили Евгению своим «холодна как мрамор».
И Шиллер туда же, и Гердер, и трещотка Сталь, — не
говоря уже о мелкой гнуси. «Дик» прозывается этот
гнусный писака. Унизительно, что помнишь его имя и
еще думаешь о нем. Ни одна душа не будет знать его
через пятнадцать лет. Будет так же мертв, как мертв
уже сейчас. А я вот должен помнить ею, потому что
мы современники... Подумать только! Они осмели-
ваются судить! Кому не лень, все судят! Следовало бы
запретить. Здесь требуется вмешательство полиции,
как и в дело Океновой «Изиды». Прислушайтесь к их
болтовне, а потом требуйте, чтобы я стоял за парла-
мент, тайное голосование и свободу печати и за Луде-
нову «Немезиду», и за листки «германских буршей»,
за «Друга народа» Виланда-filius К Ужас! Ужас!
Драться должен народ, тогда он достоин уважения,
рассуждать ему не к лицу. Записать и спрятать. Во-
обще все прятать. Зачем я так много выпустил в свет,
отдал им на растерзание? Любить можно только то,
что еще при тебе, для тебя; но замызганное, захватан-
ное — как за него вновь приняться? Я бы дал вам
удивительнейшее продолжение Евгении, да вот не за-
хотели себе добра, несмотря на мою готовность. Я бы
потешил вас, если бы вы умели тешиться! Брюзгливая,
скучная публика и ничего не смыслящая в жизни. Не
знает, что все разлетается в прах без индульгенции,
без известной bonhomie2, без того, чтобы смотреть
сквозь пальцы на иные недостатки и дважды два ино-
гда признавать за пять. Да и что все сотворенное че-
ловеком, его дела и его искусство, без любви, спеша-
щей ему на помощь, без пристрастного энтузиазма, все
возводящего в высшую степень? Просто дрянь. А они
ведут себя так, будто хотят отыскать абсолютное и
будто у них в кармане мой просроченный вексель.
1 Сын (лат.).
2 Благодушие (франц.).
602
Только и знают, что путаться под ногами! Чем глупее,
тем кислее рожа! А ты опять и опять доверчиво вы-
кладываешь перед ними свой товар: «Не придется ли
по вкусу?»
Вот и разлетелось от досадливых мыслей приятное
утреннее настроение. Ну, а как здоровье? Что с рукой?
Болит, голубушка, стоит только ее опустить. Думал,
за ночь пройдет, но у сна нет уже былой целебной
силы. Ничего, видно, не поделаешь. А экзема на
ляжке? Ну конечно, тут как тут, мое почтение! И кожа
и суставы никуда не годятся. Ах, я рвусь обратно
в Теннштедт, в серный источник. Прежде я рвался
в Италию, теперь в горячую жижу, чтобы размягчить
деревенеющие члены... Так старость видоизменяет же-
лания и ведет нас под гору. Человек должен превра-
титься в развалину. Но странная штука с этим разру-
шением и со старостью: благой промысел заботится
о том, чтобы человек сживался со своей немощью, как
она сживается с ним. Становишься стар и взираешь—
благосклонно, но и презрительно — на молодежь, на
это воробьиное племя. Хотел бы ты снова быть моло-
дым и желторотым, как тогда? Птенец написал «Вер-
тера» с комичной бойкостью, и это, разумеется, было
нечто для его возраста. Но жить и стареть после
того, — вот в чем фокус... Героизм — в терпении,
в воле к тому, чтобы жить, а не умирать, да, да, а ве-
личие только в старости. Юнец может быть гением, но
не великим. Величие только в мощи, в полновесности,
в духе старости. Мощь и дух — это старость и это ве-
личие, и любовь тоже, конечно! Что значит юношеская
любовь в сравнении с духовной мощной любовью
старца? Что за птичий переполох эта юношеская лю-
бовь против упоительной полыценности, которую испы-
тывает прелестная юность, когда старческое величие
любовно избирает и возвышает ее могучим духовным
чувством? Что она против лучезарной зари, в которой
рдеет величавая старость, когда юность дарит ее лю-
бовью? Слава тебе, вечная благость! Все час от часу
становится прекрасней, значительней, мощнее и тор-
жественней. И так будет и впредь!
603
Это я называю: восстанавливать себя. Не под силу
сну, так как под силу мысли. Ну-с, позвоним Карлу,
чтобы он принес кофе. Покуда не согреешься, не под-
бодришь себя, трудно разобраться в предстоящем дне,
понять, на что ты способен и что осилишь. Сначала я
было решил остаться в постели и на все махнуть ру^
кой. Это по милости Пфаффа и потому, что они не за-
хотят терпеть мое имя в истории физики. Но все же
сумел подтянуться, молодчина, а живительный напиток
довершит остальное... Каждое утро, дергая сонетку, я
думаю, что ее золоченый гриф совсем не подходит
сюда. Чудной осколочек великолепия, он был бы умест-
нее в парадной половине, чем здесь среди монастыр-
ской простоты, в убежище сна, в кротовой норке забот.
Хорошо, что я устроил здесь эти комнатки — тихое
скромное, серьезное царство. Хорошо и по отношению
к малютке, потому что она видела: задние комнаты
служат укрытием не только для нее и ее присных, но
и для меня, хотя и по другим соображениям. Это
было, — ну-ка вспомни, летом девяносто четвертого,
через два года после возвращения в подаренный дом
и его перестройки. Эпоха вкладов в оптику — о, mille
excuses, господа с учеными званиями, — разумеется,
только в хроматику, ибо как смеет подступиться к оп-
тике тот, кто не сведущ в искусстве измерения? Как
может он дерзнуть оспаривать Ньютона, этого лжи-
вого, лукавого клеветника на свет небесный, который
пожелал не больше и не меньше, чтобы чистейшее было
слагаемым сплошных туманностей, светлейшее — сла-
гаемым элементов более темных, чем оно само. Злой
дурак, меднолобый пророк и затемнитель божьего
света. Надо без устали преследовать его. Когда я по-
стиг роль затемнения, постиг, что даже наипрозрачней-
шее есть первая ступень тьмы, и открыл, что цвет яв-
ляется убавленным светом, учение о цвете дальше
пошло уже как по струнке, краеугольный камень был
заложен и даже спектр мне больше не досаждал. Как
будто призма не средство затемнения! Помнишь, как
ты проверял эту штуку в побеленной комнате и стена
подтвердила твое учение, осталась бела как встарь, и
даже светло-серое небо за окном не имело ни малей*
604
ших признаков окраски, и только там, где свет натолк-
нулся на тьму, возник цвет, так что оконная рама по-
казалась пестро раскрашенной. Мошенник был разоб-
лачен, и я впервые позволил себе произнести: «Его
учение лживо!» И мое сердце содрогнулось от восторга,
как тогда, когда ясно и неоспоримо — в чем я, впро-
чем, в силу своего доброго согласия с природой нико-
гда и не сомневался — передо мной обнаружилась
межчелюстная кость. Они не хотели этому верить,
как теперь не хотят верить в мое учение о цвете.
Счастливое, мучительно горькое время! Ты становился
назойлив, разыгрывал из себя упорствующего маньяка.
Разве кость и метаморфоза растений не доказала, что
природа уже позволила тебе разок-другой заглянуть
в ее мастерскую? Но они не верили в это мое призва-
ние, брезгливо морщились, дулись, пожимали плечами.
Ты стал возмутителем покоя. И останешься им. Все
они шлют тебе поклоны и ненавидят тебя смертной не-
навистью. Только государи, те вели себя по-другому.
Я никогда не забуду, как они уважали, поощряли мою
новую страсть. Его светлость, отзывчивый, как всегда,
тотчас же предоставил мне помещение и необходимый
досуг для исследований. А готские герцоги, Эрнст и
Август? Первый позволил мне производить опыты в'его
физической лаборатории, другой выписал для меня
из Англии замечательные сложные ахроматические
призмы. Ученые педанты оттолкнули меня как невежду
и шарлатана, а эрфуртский наместник с благосклон-
ным вниманием следил за ходом моих экспериментов,
и статью, которую я ему тогда послал, испещрил соб-
ственноручными замечаниями. Все потому, что они
знают толк в дилетантизме, наши властители. Люби-
тельство — благородно, кто знатен — любитель. И на-
против, низки цех, ремесло, звание. Дилетантство! Эх
пы, филистеры! Вам и невдомек, что дилетантизм
сродни демоническому, сродни гению, ибо он чужд
предвзятости и видит вещи свежим глазом, восприни-
мает объект во всей его чистоте, каков он есть, а не
каким видит его эта шайка, получающая из третьих
рук представление о вещах, физических и моральных.
Как? Потому что я пришел от поэзии к изящным искус-
605
ствам, а от них к науке, и зодчество, скульптура,
живопись были для меня тем же, чем стали позднее
минералогия, ботаника, зоология, — я дилетант? Пусть
их! Юношей я высмотрел, что башня на Страсбург-
ском соборе должна была быть увенчана пятиконечной
короной, и старые чертежи тут же подтвердили
мою правоту. Так почему же мне не разглядеть замыс-
лов природы? Как будто это не одно и то же, как
будто природа не открывается тому, кто целостен, кто
живет с нею в согласии...
Государи и Шиллер. Ибо и он был аристократ с го-
ловы до ног, хотя и ратовал за свободу, и обладал
природным умом, хотя относился к природе с непро-
стительным высокомерием. Да, этот принимал участие,
и верил, и поощрял меня своей рефлективной силой, и,
когда я послал ему еще только первый набросок к
истории «Учения о цвете», он, с великой своей прозор-
ливостью, усмотрел в нем символ истории наук, роман
человеческого мышления, которым мое «учение» стало
через восемнадцать лет. Ах, ах, этот умел замечать и
понимать! Ибо обладал величием, зоркостью, полетом
мысли. Он бы подвигнул меня написать «Космос», все-
объемлющую историю природы, которую я должен
создать, к которой меня издавна толкали мои геологи-
ческие изыскания. Кто же с этим справится, если не
я? Я так говорю обо всем, но не могу же сделать все—
среди суеты и хлопот, которые поддерживают мое су-
ществование, но и похищают его. Время, время! Даруй
мне время, природа, и я все совершу. В дни юности
один человек сказал мне: ты ведешь себя так, словно
мы проживем по сто двадцать лет. Дай мне, дай
мне его, дай мне малую толику времени, которым
ты располагаешь, всевластная, и я приму на себя
весь труд других, нужный тебе и мне одному по-
сильный...
Двадцать два года у меня эти комнаты, и ничто не
переменилось в них, разве что канапе вынесли из ка-
бинета, когда мне понадобились шкафы для все умно-
жающихся рукописей, да прибавилось кресло у кро-
вати, подарок обер-камергерши Эглоффштейн. Вот и
все перемены и превращения. Но что только не прошло
606
через статично неизменное, какие только беды, труды,
замыслы не клокотали здесь. Сколько же тягот господь
возложил на человека! «Пусть рука в трудах грубеет.
Об удаче бог радеет». Но времени-то, времени утекло!
В жар бросает, когда подумаешь! Двадцать два года—
немало произошло за этот срок, кое-что время иной
раз тебе и приносило, но ведь это же — почти целая
жизнь. Держи время! Стереги его любой час, любую
минуту. Без надзора оно ускользнет, словно ящерица,
юркое и неверное: русалочка. Освящай каждый миг
честным, достойным свершением! Дай ему вес, значе-
ние, свет. Веди счет каждому дню, учитывай каждую
потраченную минуту! Le temps est le seul dont l'avarice
soit louablel. Вот музыка. В ней угроза для ясности
духа, но она же — волшебное средство удержать время,
его растянуть, вложить в него диковиннейшее значе-
ние. Малютка поет «Бога и баядеру» — не следовало
бы, это почти ее собственная история. Поет: «Ты знаешь
край?» — слезы выступили у меня на глазах и у нее
тоже, у любимой, у любви достойной, которую я укра-
сил тюрбаном и шалью. Она и я, мы стояли в сверка-
нии слез среди друзей. И вдруг она говорит, моя ма-
ленькая разумница, тем же голосом, которым пела:
«До чего же медленно течет время в музыке; так много
событий и чувств заключает она в краткий миг, что
начинает казаться, будто прошли долгие, долгие сроки!
Что есть краткое и долгое?» Похвалил ее за aperçu 2 и
в душе с нею согласился. Сказал: любовь и музыка,
они обе — миг и вечность... и тому подобный вздор.
Прочитал ей «Семь спящих», «Танец мертвых», а за-
тем «Госпожа, о чем лепечешь» и еще «О, сколько
чувств! Как мы подвластны им!». Стало поздно, и взо-
шла полная луна. Новый Альберт, Виллемер, уснул,
сложив руки на животе, славный малый, мы над ним
подтрунивали. Пробил час расставания. Был так бодр,
что не мог не показать Буассере на веранде, при
свечке, опыт с цветными тенями. Отлично заметил, что
она слушала нас со своего балкона. «В полнолунье
1 Время — единственное, где скаредность похвальна (франц.).
2 Характеристика, точка зрения (франц.).
607
быть друг с другом...» Теперь он как раз мог бы по-
временить со своим появлением.
— Avanti! ■
— Доброе утро, ваше превосходительство.
— Гм, гм. Доброе утро. Садись. И я тебе желаю
доброго утра, Карл.
— Премного благодарен, ваше превосходительство.
В моем случае это не так уж важно. Как изволили
почивать?
— Сносно, вполне сносно. Странная штука, по дол-
голетней привычке опять принял тебя за Штадельмана
Карла, от которого ты унаследовал имя. Чудно, чудно
откликаться на Карла, когда тебя, — да, да, я это и
хотел сказать, когда тебя зовут Фердинандом.
— Я и не замечаю. Наш брат к этому привык.
Однажды меня уже звали Фрицем. А раз так даже
Баттистой...
— Превратности судьбы! Вот это разнообразная
жизнь! Баггиста — писец? Второе наименование не да-
вай отнять у себя, Карл. Делаешь ему честь, почерк
красивый и разборчивый.
— Покорнейше благодарю, ваше превосходи-
тельство. Не угодно ли в постели продиктовать что-
нибудь?
— Еще не знаю. Дай сначала напиться кофе. Пре-
жде всего открой ставни, поглядим, каков нынче де-
нек? Новый день! Надеюсь, я не проспал.
— Ничуть, ваше превосходительство. Семь только
что пробило.
— Все-таки уже пробило? Это потому, что я еще
немного полежал, потешился своими мыслями.
Карл!
— Что прикажете?
— Достаточный у нас еще запас оффенбаховских
коржиков?
— Смотря что ваше превосходительство подразуме-
вает под «достаточный». Достаточный — на какой
срок? На несколько дней еще хватит.
— Ты прав, я не совсем удачно выразился. Но уда-
1 Здесь в смысле — «войди» (итил.).
603
рение я сделал на «запасе». На несколько дней? Это
не запас.
— Конечно, нет, ваше превосходительство. Или,
вернее, запас почти исчерпанный.
— А-а, видишь. Другими словами: запас уже недо-
статочный.
— Так точно.
— Но запас, который подходит к концу, в котором
видно дно, тут есть что-то страшное, до этого нельзя
допускать. Надо стараться черпать из полного запаса.
Всегда и во всем.
— Справедливо замечено, ваше превосходитель-
ство.
— Рад, что наши мнения сошлись. Итак, следует
написать фрау Шлоссер во Франкфурт, чтобы она его
пополнила. Пусть пришлет целый ящик, я ведь поль-
зуюсь почтовыми льготами. Не забудь напомнить о
письме. Очень я люблю эти оффенбаховские коржики.
Собственно, они единственное, что мне по вкусу
в утренний час. Свежее печенье, видишь ли, мой друг,
льстит старым людям, оно хрусткое, а хрусткое —. зна-
чит твердое, но притом рассыпчатое, и создает иллю-
зию, что ты кусаешь легко, как юноша.
— Но ваше превосходительство не нуждается в по-
добных иллюзиях. Кто же, осмелюсь сказать, и черпает
из полного запаса, если не вы?
— Ну, это так — разговоры. Ах, вот это ты хорошо
сделал! Какой чудный воздух по утрам, сладостный и
девственный, до чего же приятно, ласково он тебя об-
вевает. Ничего нет лучше этого обновления мира по-
сле ночи, стар и млад радуются ему. Говорят вот, что
юность подобает только юности, но юность неприну-
жденно присосеживается к старости: если ты способен
мне радоваться, я твоя, больше твоя, чем в юности.
Ведь юность мало что смыслит в юности, это дано
только старости. Ужасно, если к старости присосежи-
палась бы только старость. Пусть живет в одиночку,
держится в стороне. Ну, каков день? Скорей пасмур-
ный?
— Скорей немного пасмурный, ваше превосходи-
39 Т. Манн, т. 2
609
тельство. Солнце в облаках, и только местами кусочки
ясного...
— Постой. Взгляни сначала на барометр и на гра-
дусник за окном. Но смотри хорошенько.
— Сию минуту, ваше превосходительство. Баро-
метр стоит на семьсот двадцать втором миллиметре,
на улице тринадцать градусов по Реомюру.
— Хорошо. Теперь я могу нарисовать себе картину
тропосферы. Ветерок, по-видимому, довольно влажный,
чувствуется по его прикосновению, вест-зюйд-вест, ве-
роятно, и больная рука это подтверждает. Плотность
облаков пять или шесть, сероватая облачность. Утро,
верно, предвещало обильные осадки, но сейчас ветер
усилился, это видно и по облакам, довольно быстро
движущимся с северо-востока, как и вчера вечером.
Он разорвет их и живо разгонит. Это продолговатые
cumuli, кучевые облака, в нижних слоях воздуха,
а выше легкие cirri, барашки, и перистые облака,
кое-где голубые просветы. Соответствует приблизи-
тельно?
— Вполне, ваше превосходительство. Вот они пе-
ристые облачка — и, правда, точь-в-точь перья!
— Думается мне, что верхний ветер дует с востока,
и если нижний и останется западным, то cumuli, судя
по тому, как они движутся, мало-помалу разойдутся,
и появятся прелестные барашки. В обед, может быть,
небо прояснится, но потом его, скорей всего, опять за-
волочет. День будет переменчивый, неопределенный,
одержимый противоречивыми тенденциями... Н-да. Мне
надо еще поучиться по стоянию барометра определять
различные виды облаков. Прежде верхними течениями
не интересовались вовсе, а теперь один ученый муж
писал о них целую книгу и составил недурную номен-
клатуру, — да и я малость дополнил ее: paries, облач-
ная стена, это я ее так окрестил, и теперь мы имеем
возможность обращаться к переменчивым феноменам,
ошеломлять их сообщением, к какому классу и виду
они принадлежат. Ибо прерогатива человека на
земле — называть вещи по имени и систематизировать
их. И вещи, так сказать, опускают глаза перед ним,
когда он их кличет по имени. Имя — это власть.
610
— Не записать ли, ваше превосходительство, или
доктор Ример уже взял это на заметку?
— Ах, брось, вы уж слишком приметливы.
— Ничто не должно пропадать, ваше превосходи-
тельство, даже в большом хозяйстве. А книгу об обла-
ках, я ее видел, вот здесь. О чем только вы не думаете,
прямо диву даешься. Круг интересов вашего превосхо-
дительства я бы назвал поистине универсальным.
— Дуралей! Где ты нахватался таких выражений?
— Но ведь я прав, ваше превосходительство. Не
взглянуть ли мне, что поделывает гусеница, этот чуд-
ный экземпляр молочайницы, ест ли она еще?
— Да нет уж, будет с нее, поела и на воле, и по-
куда я наблюдал за ней. Теперь она начала впря-
даться в куколку, если хочешь посмотреть, изволь,
сейчас уже ясно видно, как она выделяет сок из же-
лезы, скоро она станет куколкой, и вот, интересно,
удастся ли нам увидеть, как произойдет превращение
и выскользнет психея, бабочка, чтобы прожить крат-
кую, легкую жизнь, ради которой она столько пожрала
в бытность свою гусеницей.
— Да, ваше превосходительство, таковы чудеса
природы! Но как же насчет диктовки?
— Ладно. Давай приступим. Мне надо написать
заключение для его королевского высочества великого
герцога по поводу злополучного временника. Убери
это отсюда, будь добр, и подай мне записи и каран-
даши, которые я приготовил с вечера.
— Пожалуйте, ваше превосходительство, но все-
таки я должен сказать правду: господин писец Джон
уже здесь и велел спросить, есть ли для него какое-
нибудь дело. Но я был бы так рад, если бы мне можно
было остаться и написать заключение. Для господина
секретаря ведь найдется немало работы, когда ваше
превосходительство встанет.
— Хорошо, оставайся и живо все приготовь. По
мне, Джон всегда приходит слишком рано, хотя он,
как правило, опаздывает. Приступит к работе попозже.
— Благодарствуйте, ваше превосходительство!
Весьма милый человек, приятной наружности,
к тому же ловко прислуживает и хорошо выполняет
39*
611
мелкие поручения. И льстив не из расчета — или
только отчасти, — а из честной преданности и потреб-
ности в любви. Нежная душа, добродушный и чув-
ственный, вечно возится с женщинами. Подозреваю,
что он лечится ртутью, так как подцепил что-нибудь
в Теннштедте. Если это так, то оставлять его нельзя.
Придется поговорить с ним — или поручить это Авгу-
сту? Нет, не ему, а лейб-медику Ребейну. В бордели
юноша встречает девушку, некогда любимую, которая
па все лады его мучила и угнетала, и тут же платится
за радость встречи. Хорошая наметка для рассказа.
Из этого можно сделать нечто беспощадно яркое и
проникновенное — в самой изящной форме. Ах, сколько
можно придумать захватывающего и примечательного,
живя в свободном, разумном обществе! Как связано
искусство, как сковано в своей природной отваге по-
стоянной оглядкой! А быть может, так лучше, оно
остается таинственно могучим, внушает больше страха
и любви, появляясь не нагим, но благопристойно укры-
тым и только иногда, на мгновение, страшно и восхи-
тительно обнаруживая свое врожденное бесстрашие.
Жестокость — главный ^ ингредиент любви, довольно
равномерно распределенный между полами. Жесто-
кость сладострастия, жестокость неблагодарности, бес-
чувственности, беспощадного порабощения. Услада,
которую находят в страданиях, в претерпевании же-
стокости — из той же категории чувств. И еще пять-
шесть других извращений, — если это извращения,
может быть, и это только предрассудок? — которые,
химически соединяясь, без прибавления каких-либо
других элементов, составляют любовь. Значит, пресло-
вутая любовь состоит из сплошных извращений, наи-
светлейшее из самых темных страстей? Nil luce obscu-
rius '. Или Ньютон все-таки прав? Как бы там ни
было, а из этого возник европейский роман.
Правда, солнечный свет не породил столько заблу-
ждений, беспорядка, путаницы, не поставил достойное
почитания под столь злостные удары, как это повсе-
местно и ежедневно делает любовь. Двойная семья
Нет ничего темнее света (лат.).
612
Карла-Августа, его побочные дети! Этот Окен обру-
шился на герцога за государственные дела! Так что
же удержит его, если его рассердят, от вмешательства
и дела семейные? Надо без обиняков разъяснить это
государю, убедить его, что единственно разумное и
целительное — закрытие временника, хирургический
нож, а не выговор, не угрозы, ни даже возбуждение
судебного дела против этого наглеца Катилины, чтобы
смирить его на почве права, как того желает наш
почтеннейший канцлер. Хотят тягаться с разумом, про-
стаки. Лучше бы оставили его в покое. Понятия ни
о чем не имеют! А тот говорит так же ловко и бес-
стыдно, как пишет, повсюду разглашает, что получил
повестку в суд, подает им реплики, куда более острые,
чем они могут парировать, и в конце концов поста-
вит их перед выбором: отправить его на гауптвахту
или позволить с торжеством уехать. Да и неприлично,
недопустимо писателя осаживать, как мальчишку. Го-
сударству это не поможет, а культуре повредит. Он
человек с головой, не без заслуг, и если он ведет под-
коп под государство, то надо отнять у него инструмент,
и дело с концом, а не стращать его, надеясь, что в бу-
дущем он станет скромнее. Попробуйте-ка под страхом
наказания заставить мавра отмыться добела! Да и от-
куда взяться сдержанности и скромности там, где все
поощряет дерзость и строптивость? Если Окен и не
станет продолжать в том же духе, то прибегнет к иро-
нии, а перед ней вы полностью безоружны. Не зная
уловок ума, вы полумерами принудите его к утончен-
ной маскировке, которая пойдет на пользу ему, но ни-
как не вам. Пристало ли государственному учрежде-
нию выслеживать его увертки, когда он начнет рассы-
паться в шарадах и логарифмах, разыгрывать Эдипа
перед сфинксом. При одной мысли об этом я сгораю
со стыда.
А этот иск! Хотят поставить Окена перед синедрио-
ном, — на каком основании? Государственная измена,
говорят они. Где, скажите на милость, здесь государ-
ственная измена? Можно ли называть изменой то, что
человек делает, не таясь, перед лицом всех граждан?
Наведите порядок у себя в головах, прежде чем, во
613
имя порядка, обвинять остроумного подрывателя
основ. Он напечатает ваше обвинение со своими ком-
ментариями и заявит, что готов до малости доказать
все, что им написано, а за правду карать не пола-
гается. И где тот суд, которому можно довериться
в наше раздвоенное время. Разве в университетах и
судебных коллегиях не сидят люди, одержимые тем жо
революционным духом, что и подсудимый? Или вы хо-
тите увидеть, как он, оправданный и возвеличенный,
покинет зал суда? Не хватало еще, чтобы суверенный
государь ставил глубоко внутренние вопросы на рас-
смотрение расшатанного временем суда! Нет, все это
не для судебного разбирательства, и его не будет. Надо
действовать втихомолку, с помощью полиции, и не вво-
дить общество в соблазн. Самое лучшее, через голову
издателя, адресоваться к типографщику и под страхом
ареста запретить ему печатание временника. Тихое
искоренение зла, а не месть. Они и вправду толкуют
о мести, не сознавая, как страшны подобные призна-
ния. Хотите ложно понятым служением порядку умно-
жить ужасы наших дней и упиться торжеством грубой
силы? Кто поручится вам, что раздраженная глупость
не угостит плетью человека, способного сыграть бли-
стательную роль в науке? Да сохранит нас от этого
господь и мое горячее воззвание к государю! — Это
гы, Карл?
— Я, ваше превосходительство.
— «Выполнить высочайшее предписание, со всей
быстротой и точностью, по мере отпущенных мне сил,
я почитаю своей первейшей обязанностью...»
— Немножко помедленнее, если смею просить,
ваше превосходительство.
— Сокращай, сколько можешь, не то я позову
Джона!
— И так далее. «Остаюсь вашего королевского вы-
сочества верноподданнейшим слугой.» Ну, наконец-то!
Все ли я высказал из отмеченного? Теперь перепиши,
хотя и не окончательно. Это еще не готово — слишком
экспрессивно и недостаточно прокомпановано. Мно
придется еще пройтись по всему тексту, кое-что смяг»
614
чить и упорядочить. Перепиши так, чтобы можно было
прочесть; хорошо бы до обеда. Сейчас я встану. По-
трачено много времени, а у меня на утро еще куча
дел. Une mer à boire !, a за день успеваешь сделать
лишь несколько глотков. В полдень мне понадобится
экипаж, понятно? Скажи об этом на конюшне. Дождя
сегодня не будет. Я хочу с господином архитектором
Кудрэй осмотреть новые постройки в парке. Возможно,
что он приедет обедать, вероятно и господин фон Ци-
гезар. Что у нас сегодня?
— Жареный гусь и пудинг, ваше превосходитель-
ство.
— Хорошенько начините гуся каштанами, будет
сытнее.
— Передам, ваше превосходительство.
— Может быть, придет и кто-нибудь из профессо-
ров Школы живописи. Частично она ведь переезжает
с Эспланады в Охотничий дом. Надо присмотреть за
переездом. Положи халат вот сюда, на стул. Я по-
звоню, когда ты мне понадобишься. Ступай, Карл!
Распорядись, чтобы мне подали завтрак еще до десяти,
во всяком случае ни минутой позже! Холодную куро-
патку и стакан мадеры; покуда не выпьешь чего-
нибудь подкрепляющего, не чувствуешь себя челове-
ком. Кофе поутру — это скорей для головы, для сердца
нужна мадера.
— Так точно, ваше превосходительство, а поэзия
требует того и другого.
— Ступай с глаз долой!
...Святая вода, холодная, чистая, столь же свя-
щенная в своей трезвости, как и солнечно-огненное
благодатное вино! Слава воде! Слава огню! Слава
сильному, верному сердцу, нет, лучше скажем: чисто-
сердечию, дающему нам каждодневно, как невидан*
ную диковину, ощущать изначальное, чистое и перво-
зданное, исконную сущность высшей утонченности,
обычно . столь мелко и скучно расточаемой. «Вечно
струись, вода! Вечно земля крепка! Свет, ты текучей
дня! Брошу я день во тьму!» Торжество стихии — уже
1 Целое море, которое нужно выпить (фраьщ.)%
615
в «Пандоре», поэтому я и назвал ее апофеозом. Во
второй Вальпургиевой ночи все станет еще торжествен-
нее, поднимется еще выше, за это я ручаюсь, — жизнь
это подъем, прожитое всегда слабосильно, укрепившись
духом, надо вторично пережить его. «Всем к этой пе-
реправы четырем стихиям — слава!» Это уже отстоя-
лось, и так я закончу мифологически-биологический
балет, сатирическую мистерию природы! Легкость,
легкость!.. Высшее и последнее воздействие искус-
ства — обаяние. Только не хмурая возвышенность;
даже у Шиллера, переливчатая и блистательная, она
трагически исчерпанный продукт морали! Глубокомыс-
лие должно улыбаться, чуть вкрапленное, открываю-
щееся лишь посвященному, — таково требование эзо-
терики искусства. Пестрые картины — народу, а вслед
за ними — тайна для сопричастного. Вы были, демо-
кратом, милейший, и считали, что должны без обиня-
ков преподносить массе наивысшее благородно и
плоско. Но масса и культура — понятия мало соглас-
ные. Культура — собрание избранных, по первой
улыбке понимающих друг друга. Эта авгурова улыбка
относится к пародийному лукавству искусства; наи-
дерзновенное оно преподносит в чопорнейшей форме,
труднейшее — растворенным в легкой шутке...
— Вот губка, которой я моюсь. Она уже давно
у меня. Экземпляр недвижного животного глубин, в его
фалесовой влажности существовавший еще в дочело-
веческие времена. На какой почве ты образовался и
возомнил себя великим, о, удивительный росток жизни,
у которого отняли его мягкую душу? В Эгейском море,
наверно? Может, и ты был среди раковин бледно-жем-
чужного трона Киприды? Глазам, застланным влагой,
которую я выжимаю из твоих пор, видятся Нептунов
трезубец, суета подводного царства, водяные драконы
и кони, морские грации — нереиды и трубящие в рог
тритоны, что тянут Галатееву пестро брызжущую ко-
лесницу по царству вод. Это полезная привычка, вы-
жимать губку на затылке, покуда по тебе бежит ледя-
ной пугающе-приятный поток, тело закаляется, а ды-
хание остается ровным. Если б не эта невралгия в руке,
искупаться бы в речке, как в былые времена, когда
616
молодой повеса с длинными, мокрыми волосами, вне-
запно возникая в ночи, пугал запоздалых прохожих.
«Все даруют боги бесконечные тем, кто мил им,
сполна..;» Далека лунная ночь, когда ты, выходя из
реки, весь охваченный студеным жаром, во вдохновен-
ном самоупоении выкликал эти стихи в серебристую
пустоту. Холодные обливания помогли мне разглядеть
лицо Галатеи. Нечаянная мысль, осенение, как дар
физической стимуляции, здорового возбуждения, сча-
стливой взволнованности крови, Антеева соприкосно-
вения со стихией и природой. Дух — порождение жизни,
которая в свою очередь в нем только подлинно и жи-
вет. Они предназначены друг для друга и живут друг
другом. Не беда, если мысль — от избытка жизни —
слишком много мнит о себе. Все дело в радости, а са-
моупоение превращает радость в стихи. Забота, ко-
нечно, должна оставаться и в счастье, забота о пра-
вильном. Ведь и мысль — кручина жизни. А значит,
правильнее, — дитя кручины и счастья. «От матушки
веселый нрав»! Вся серьезность исходит от смерти...
от благоговения перед ней. Но страх смерти — это
упадок мысли, ибо жизнь в ней иссякла. Все мы гиб-
нем в отчаянии. А потому: чти отчаяние! Оно будет
твоей последней мыслью. Навеки последней? Вера
в то, что на черное уныние оставленного жизнью духа
падет светлый луч высшей жизни, — это и есть благо-
честие.
Вместе с прахом дух не развеется... Я бы уж при-
мирился с благочестием, кабы не эти благочестивцы.
Неплохая штука — доверчивое почитание тайны, тихие
надежды, если б мракобесное дурачье, молодцевато
козыряя необлагочестием, неорелигией, неохристиан-
гтвом, не сделало из этого тенденцию заносчивого
«направления» и, потакая мировоззрению мрачных мо-
локососов, не припутало сюда, для вящей убедитель-
ности, лицемерия и патриотического пустословия, своих
затхлых мозгов... Что говорить! Мы с Гердером тоже
заносчиво обходились со «старым», там в Страсбурге,
когда ты воспевал Эрвина и его собор, не желая по-
ступаться суровым и характерным, ради мягкого уче-
ния новейшей красивости. Нынешним готическим хан-
617
жам пришлось бы это по вкусу. Так почему же ты это
утаил и выбросил из полного собрания сочинений, те-
перь, когда Сульпиций, мой добрый и благодетельный
умник Буассере, меня усовестил и снова поставил
в плодотворное взаимоотношение к старо-новому,
к моей собственной юности? Будь благодарен прови-
дению, извечно благоволящей судьбе за то, что и угрю-
мо опасное явилось к тебе в изящнейшем, благолепном
обличий, в виде милого юноши из Кельна, привержен-
ного ко всему торжественно-церковному и народному,—
юноше, открывшему тебе глаза на старонемецкое зод-
чество и живопись, на многое, от чего ты отворачи-
вался, на Ван-Дейка, на тех, между ним и Дюрером,
и на византийско-нижнерейнское искусство тоже. Ты
заботливо отгородился от юности, которая приходит
тебя ниспровергать, заперся от нее во имя самого сво-
его существования, постарался укрыться от всех впе-
чатлений, новых и смущающих, чтобы охранить себя,
и вот, внезапно, в Гейдельберге, у Буассере, в музее,
тебе открылся новый мир красок и образов, выбивший
тебя из колеи твоих воззрений и чувств, — юность
в старом, старое в юности; и ты постиг, какая это хо-
рошая вещь капитуляция, если она завоевание и по-
корение, если она несет с собой свободу, ибо свободою
определена. Сказал это ему, Сульпицию. Благодарил
за то, что он пришел во всеоружии решительной,
скромной дружбы завоевать меня, впрячь в свое
дело — правда, все они за этим приходят — в свой
план достройки Кельнского собора. Он приложил все
усилия, чтобы заставить меня признать отечественное
изобретение, — старонемецкое зодчество, и то, что го-
тика была значительнее плодов упадочной римской и
греческой архитектуры.
Хочет здесь карикатура,
Темной ночи отпрыск хмурый,
Слыть вершиною творенья.
И так умно и ловко повел свое дело этот мальчик,
так энергично и мило и, при всей дипломатии, так
искренне, что я полюбил его и вместе с ним его дело.
Хорошо, когда у человека есть любимое дело! Оно кра-
618
сит его, — и само себя, даже если это чушь. Не могу
без смеха вспомнить, как в одиннадцатом году, при
первом его посещении, мы здесь, вдвоем, хлопотали
над нижнерейнскими тиснениями, страсбургскими и
кельнскими чертежами, Корнелиевыми иллюстрациями
к «Фаусту», и Майер застиг нас за столь сомнитель-
ным занятием. Входит, бросает взгляд на стол, а я
кричу: «Смотрите-ка, Майер, старые времена живьем
встают из гроба!» Тот глазам своим не верит. Ворчит,
ругает то ложное, что Корнелиус благоговейно пере-
нял из немецкой старины, и таращит глаза, видя, что
я спокойно перебираю рисунки, хвалю Блоккберг,
Ауэрбаховский погребок и движение Фаустовой руки,
когда он предлагает ее Гретхен, называю удачною
мыслью. Майер оторопел и тяжело дышит. Подумать,
до чего он дожил! Я не сбрасываю со стола христиан-
ское, варварское зодчество, а, напротив, нахожу чер-
тежи башен поразительными и восхищаюсь величием
колоннады. Майер вертит их в руках, что-то бормочет,
качает головой, смотрит на чертежи, на меня, согла-
шается, разыгрывает Полония — It is back'd like a ca-
mel l — бедняга, предательски брошенный на произвол
судьбы единомышленником. Что может быть веселее,
чем предавать своих единомышленников? Есть ли удо-
вольствие более каверзное, чем ускользать от них, не
даваться им в руки, оставлять их в дураках? И есть
ли что-нибудь смешнее, чем видеть их разинутые рты,
когда ты одерживаешь верх над собой и завоевываешь
свободу? Тут, конечно, могут возникнуть недоразуме-
ния; кажется, будто ты свернул не туда, куда надо, и
ханжи уже воображают, что ты заодно с ними, тогда
как нас радует даже абсурдное, если мы разбираемся
в его сути. Дурачества занимательны, и нечего их дер-
жать под запретом. «Как, собственно, обстоят дела
с этими принявшими католичество протестантами?» —
спросил я Сульпиция; мне хотелось поближе узнать,
каким путем они к этому пришли. Он в ответ: «Мно-
гому способствовал Гердер и его философия истории
человечества, но также и современность, ее всемирно-
1 Точь-в-точь верблюд («Гамлет»).
619
историческое направление». Ну, это я знаю, это я раз-
деляю с ними; многое разделяешь и с дураками, только
оборачивается оно по-иному и иное знаменует. Все-
мирно-историческое направление — «троны, царства
в разрушенье», в этом кое-что смыслю и я. И в мою
жизнь, если не ошибаюсь, ему случалось вторгаться, —
только одного оно одаряет духом тысячелетий, при-
ближает к величию, а других делает католиками.
Разумеется, и с традицией связан дух тысячелетий для
тех, кто правильно ее понимает. Хотят традицию под-
держать ученостью и историческими знаниями. Ду-
рачье, — это-то и противоречит традиции! Ее прини-
маешь и тут же что-то привносишь в нее или начисто
отвергаешь, как доподлинный критический филистер.
Но протестанты (так я сказал Сульпицию) чувствуют
пустоту и хотят заполнить ее мистикой, ибо если что-то
должно, но не может возникнуть, — это мистика. Глу-
пый народ, не понимают даже, как появились обряды,
и думают, что обряды можно учреждать. Кто над этим
смеется, благочестивее их. Но они будут думать, что
ты ханжествуешь вместе с ними, признают своей твою
старогерманскую книжечку «Путешествие по Рейну н
Майну» — о произрастании искусства в темные вре-
мена, быстро перемелют твою жатву, чтобы затем
с пучками соломы щеголять на патриотическом празд-
нике урожая. Пусть их! Они ничего не знают о сво-
боде. Отказаться от существования, чтобы существо-
вать, это фокус не простой. Характера тут недоста-
точно, нужен дух и дар обновлять жизнь силою духа.
Животное существует недолго; человеку ведомы повто-
рения жизненных состояний: молодость в преклонном
возрасте, старость в юном, ему дано вторично, укрепив-
шись духом, переживать прожитое, высокое обновле-
ние отпущено ему, которое есть победа над юношеской
робостью, бессилием и беззлобностью — магический
круг, не доступный смерти...
Все это принес мне мой добрый Сульпиций, со
своей милой обходительностью и молодой восторжен-
ностью, стремившийся завербовать меня, не больше.
Он не знал, что он несет с собой и чего никак не мог
620
Оы донести, если бы светильник не ждал огня, если бы
н не был готов к наплыву новых чувств, с которого
«толь многое началось, который вызвал к жизни куда
Польше, чем книжка о немецких древностях. В одинна-
дцатом году он побывал у меня, здесь. А ровно год
спустя пришел Гаммеров перевод, с предисловием,
рассказавшим о том, из Шираза, и вслед за ним — дар
■внезапного вдохновения, нежданное опознание, мисти-
чески радостный мираж метампсихозы под пеленою
духа тысячелетий — духа, пробужденного моим су-
мрачно могучим другом, Тимуром Средиземноморья.
В юность мира пришла седая старина: «Мысль тесна,
просторна вера» — плодоносный спуск во времена
патриархов, и затем другое странствие — в родные
края, предпринятое в покорном предчувствии: «...по-
любишь ты, хоть кудри белы». И вот пришла Ма-
рианна. Не к чему ему знать, как все одно с другим
связано. Умолчу, что все началось с его приезда, пять
лет назад. Да и было бы неправильно, вскружило бы
ему голову. Он был только орудием, хотел пристегнуть
меня к своему делу и сам оказался в пристяжке. Од-
нажды даже захотел учиться у меня писать, с целью
лучше пропагандировать свои идеи, и решил прожить
зиму в Веймаре, чтобы наблюдать за мною и со мной
советоваться по поводу своих писаний. Не стоит, дру-
жок, сказал я ему, я обучен своими язычниками, по-
тому что и сам язычник, даже сверх меры! Вам это
ничего не даст, вы станете просто вторить мне, а этого
мало. К тому же я не могу всегда быть с вами. Позо-
лотил пилюлю. И предложил еще. Похвалил его ма-
ленькие очерки, сказав: они хороши, правильны, ибо
в них взят верный тон, а это главное. Мне бы и впо-
ловину так не удалось написать, потому что во мне
нет благочестия. И затем прочитал ему из итальян-
ского путешествия место, где я восхищаюсь Палладием
и кляну все немецкое: климат и архитектуру. Слезы
выступили на глазах бедняги, и я тут же пообещал
ему вычеркнуть это свирепое место, чтобы доказать,
какой я сговорчивый малый. Ведь и из «Дивана», ему
и угоду, я убрал выпад против креста, — янтарный
крест, северо-западный вздор. Слишком горькими и
621
жестокими счел он эти слова и просил зачеркнуть.
Отдам-ка эти стишки сыну, как и многое другое из
того, что мозолит глаза людям. Этот все хранит с бла-
гоговением, так пускай потешится; к тому же это сред-
ство: не сжигать, а глаза не мозолить... Но Сульпиций
любит меня — как он ликовал по поводу моего участия
в его благочестивых затеях, не только из-за «пользы
дела», нет, — из-за меня! Превосходный собеседник!
с каким расположением он слушал о кратчайшей ночи
и любовных воздыханиях Авроры по Гесперу, когда я
читал их ему в дороге, в нетопленной станционной ком-
нате! Отличный малый! Насказал мне премилых, ин-
стинктивно угаданных вещей и был во всех отноше-
ниях хорошим спутником и поверенным, с которым
в экипаже и на станциях приятно потолковать о раз-
ных житейских делах. Помнишь поездку из Франк-
фурта в Гейдельберг, когда ты, при вечерних звездах,
рассказывал ему об Оттилии, как ты ее любил, стра-
дал из-за нее и даже начал заговариваться от холода,
возбуждения и бессонницы? Сдается мне, ему было
страшно... Красивейшая дорога из Некарельца, высоко
в известковых горах, где мы нашли окаменелости и
аммониты. Обершафленц-Бухен; мы полдничали в саду
при гостинице в Гартгейме. Там была юная служанка,
которая смотрела на меня влюбленными глазами. На
ней я продемонстрировал ему, как юность и Эрос пе-
реходят в красоту, ибо она была некрасива, но чудо
как соблазнительна, и стала еще милей от стыдливо
насмешливой польщенности, когда заметила, что важ-
ный гость говорит о ней. Ей и следовало это заме-
тить, и он тоже, конечно, заметил, что я говорю лишь
затем, чтобы она поняла — речь идет о ней. Но он
образцово держал себя в подобной ситуации, не
сконфуженно, но и не неделикатно — католическая
культура! — а потом весело и доброжелательно рас-
смеялся, когда я поцеловал ее в губы.
Малина под лучами солнца! Разогретый запах
ягод, несомненно. Что, они варят варенье? Но ведь
сейчас не сезон. А я все же чую этот запах. Весьма
приятный аромат, и ягода очаровательная, набухшая
соком под бархатистой сухостью покрова, согретая
622
живым теплом, как женские губы. Если любовь —
лучшее в жизни, то в любви наилучшее поцелуй,—
поэзия любви, печать самозабвения, средина таин-
ства между духовным началом и плоским концом, сла-
достный поступок, свершенный в высшей сфере и бо-
лее чистыми органами — дыхания и речи, поступок
духовный, ибо еще индивидуальный и высоко разли-
чающий: в твоих ладонях единственно милая тебе го-
лова, назад откинутая! Из-под ресниц улыбчато-серь-
(зный взгляд, растворяющийся в твоем взгляде!
И этот твой поцелуй говорит: «Тебя люблю и ищу,
одну тебя, неповторимое божье создание! Среди всего
Оожьего мира ищу тебя». Зачатие же анонимно-бес-
тиально, по существу безвыборно — его покрывает
ночь. Поцелуй — упоение, зачатие—сладострастие,
его господь дал и червю. Что ж, и ты усердно «почер-
вил» в свое время, и все же твоя сфера — упоение и
поцелуй, мыслящее самозабвение, мимолетно сопри-
коснувшееся с бренной красотой. В том же самом
различие жизни и искусства, ибо изобилие жизни, че-
ловеческой жизни — деторождение — не сфера поэ-
зии, духовного лобзания малиновых уст мира. Сцена
Лотты с канарейкой, когда крохотное создание так
нежно прижимается к сладостным устам и клювик
в деловитом прикосновении свершает свой путь от ее
рта к другому, изящно похотлива и потрясающа
в своей невинности. Хорошо написано! Талантливый
мальчишка, об искусстве знающий не меньше, чем
о любви. Ведь ты, занимаясь последней, втихомолку
подразумевал первое — желторотый птенец, но уже
вполне готовый вероломно предать искусству жизнь
и человечество. «Мои милые, мои рассерженные,
к лейпцигской ярмарке она вышла, простите меня,
если можете. Я останусь должником вашим и ваших
детей за горькие часы, которые вам доставило мое...
называйте его как хотите. Любите меня и не мучьте!»
В такое же время года писались эти строки, в смут-
ные дни едва оперившейся юности. Вспомнил до-
словно это письмо, когда весной мне попалось в руки
первое издание, и сумасшедший труд снова прошел
передо мной после стольких лет. Не случайно — дол-
623
жно было попасться. Эта книжка, как последнее
звено, замыкает все остальное, все, что началось с по»
сещения Сульпиция. Она входит в возвратную фазу
в жизнеобновление, в закалку духа для веселого и
торжественного праздника повторения... в общем, от-
лично сбита эта штука. Молодец мальчик, превосход-
ная психологическая ткань, богатая мотивировка ду-
шевных движений. Хороша и осенняя картина там, где
сумасшедший собирает цветы. Мило, когда девушка,
с мыслью о друге, перебирает всех товарок и в каж-
дой находит какой-нибудь недостаток, ни одной не
может уступить его. Могло бы быть уже из «Избира-
тельного сродства». Столь тщательная обработка при
такой растерянности чувств, при таких бурных при-
ступах негодования на цепи, сковавшие человеческую
личность, на тюремные стены бытия. Понимаю, что
молния попала в цель, а это не пустяк. Легко ли это,
знает тот, кто это придумал и осуществил. . Легким,
счастливым, как само искусство, «Вертер» стал бла-
годаря эпистолярной форме, на месте запечатлеваю-
щей, непрестанно нанизывающей новое, — в нем целая
космическая система лирических миров. Талант — это
умение усложнять, но и облегчать себе задачу.
С «Диваном» то же самое, — чудно, что все всегда то
же самое. «Диван» и «Фауст» — куда ни шло, но «Ди-
ван» и «Вертер» еще родственнее, — верней, одно и
то же, только на разных ступенях — усиленное, очи-
щенное повторение. Да будет так и ныне и присно.
«И восторг и покаяние до безбрежности расширить».
О поцелуе много говорится и в ранней и в поздней
песне. Лотта у клавесина и ее губки, никогда столь
прелестными не виденные, ибо казалось, что они
жадно открываются и пьют сладостные звуки, — разве
то уже не была в точности Марианна или, верней:
разве Марианна не была новой Лоттой, когда пела
Миньону, и Альберт сидел поодаль, сонный и терпе-
ливый? Теперь это было уже как праздничный обряд,
церемониал, подражание стародавним обычаям, тор-
жественное служение и вневременная реприза, —
меньше жизни, чем впервоначале, но и больше тоже,
одухотвореннее... Ну, ладно, высокое время ото»
624
шло,— и это воплощение я больше не увижу. Хо-
тел, но было предуказано, что не должен; значит, на
долгие сроки отказ от повторного обновления. Оста-
немся дома! Возлюбленная вернется за поцелуем,
псчно юная (страшновато, правда, думать, что она,
» своем бренном обличье, старухой еще живет где-
то в стране — не так это хорошо и утешительно,
как то, что рядом с «Диваном» продолжает жить
«Вертер»).
Но «Диван» лучше дозрел до величия, свободный
от всякой патологии, и чета удалась на славу, горные
сферы ей по плечу. В жар бросает, когда подумаешь,
каких только сумасбродных мотивировок не наворо-
тил птенец в «Вертере». Бунт против общества, нена-
висть к аристократии, бюргерская уязвленность—на
что тебе это сдалось? Дуралей, политическая возня
все снижает. Наполеон был прав, говоря: «Почему
вы это сделали?» Счастье еще, что на это не обратили
внимания, отнесли за счет страстного тона всей книги
в уверенности, что непосредственное воздействие
здесь в расчет не принималось. Глупый, неоперив-
шийся птенец, и сверх того — невероятно субъектив-
ный. Ведь мои отношения с высшим обществом сло-
жились весьма благоприятно. В четвертой части «Поэ-
зии и правды» непременно продиктую, что благодаря
Гецу и вопреки его прегрешению против правил всей
предыдущей литературы я был отлично принят в выс-
ших слоях общества. Где мой шлафрок? Позвонить
Карлу, чтобы шел причесывать. The readiness is all!l —
могут нагрянуть гости. До чего приятна эта мягкая
фланель, и как удобно в нем закладывать руки за
спину. Ходил так по утрам по сводчатой галерее над
Рейном у Брентано и по террасе у Виллемеров. Никто
не осмеливался со мной заговаривать, робея перед
моими размышлениями, хотя я иногда решительно ни
о чем не думал. Да, в какие только края не сопро-
вождало меня это ласковое одеяние, — домашняя при-
тычка, которую берешь с собой в путешествие, чтобы
защитить прочность своего «я», отстоять его перед ли-
Быть готовым — это все! (англ.)
40 т. Манн, т. 2
625
цом чужого. Вот также и с серебряным кубком, и его
я всюду вожу за собой, да еще несколько бутылок
доброго вина, чтобы мне не испытывать в нем недо-
статка и чтобы поучительные и радующие чужие края
не оказались сильней меня и моих привычек. Ты счи-
тайся с собой, — а если кто и бормочет об окамене-
лости, то бормочет вздор, ибо не существует противо-
речия между самоутверждением, исканием единство
жизни, обереганием своего «я» и обновлением, воз-
рожденной молодостью; совсем напротив, последняя
существует лишь в единстве, в замкнувшемся круге —
знаке, отпугивающем смерть... — Иди прибирать меня,
Фигаро, Баггиста, или как там тебя зовут! Причеши
мне волосы, щетину я устранил сам, — ты ведь бе-
решь человека за нос, когда надо побрить над губой,
мужицкая привычка, терпеть ее не могу. Знаешь исто-
рию про студента-шутника, который похвалялся пс«
ред приятелями, что возьмет за нос почтенного вель-
можу. Он втерся к нему под видом цирюльника и при
всем честном народе, ухватив старца за нос, стал вер-
теть его лицо во все стороны. Проделка была разоб-
лачена, старика с досады хватил удар, студент же,
после дуэли с его сыном, на всю жизнь остался ка-
лекой.
— Не слыхивал, ваше превосходительство. Но всо
ведь зависит от смысла и цели, с которой берешь
кого-либо за нос, а ваше превосходительство не усо-
мнится, что...
— Ладно, ладно, я люблю бриться собственно-
ручно. Да и с одного дня на другой много не выра-
стает. Принимайся-ка за мои волосы, я хочу, чтоб ты
их напудрил, вот здесь, а здесь надо немножко под-
вить, когда волосы убраны со лба и висков и при-
ческа не треплется, становишься другим человеком.
Тогда фрегат готов к бою, ибо между волосами и моз-
гом существует тайная связь. Непричесанный мозг —
дорого ли он стоит? А знаешь, всего опрятнее это вы-
глядело в былые времена, с косичкой и волосяным
кошельком; впрочем, тебе это ничего не говорит, ты
возник уже в эпоху стрижки, я же пришел издалека.
Пробился через великое множество времен, носил
626
длинную, короткую косичку, тугие и распущенные
букли. Право, кажешься себе вечным жидом, кото-
рый странствует во времени, неизменный, и только —
он этого и не замечает — обычаи и костюмы вокруг
него изменяются.
— К вашему превосходительству, верно, чудо как
шли тогдашние расшитые камзолы, косички и букли*
— Скажу по правде: это было изящное, при-
стойно сдержанное время, и сумасбродство на таком
фоне имело большую цену, чем сейчас. Да и что та-
кое свобода, если она не освобождение? Впрочем, не
следует думать, что тогда не существовало прав че-
ловека. Господа и слуги. Верно. Но то были богом
учрежденные сословия, достойные, каждое на свой
лад, и господин умел почитать тех, к кому он не при-
надлежал,— богоданное сословие слуг. Ибо тогда
еще шире было распространено мнение, что всяк,
большой или малый, должен до дна испить чашу че-
ловеческого.
— Не знаю уж, ваше превосходительство, в конце
концов нам, малым сим, все же приходилось горше.
Нам нельзя слишком полагаться на уважение бого-
данного сословия знати.
— Пожалуй, ты прав, Карл. Как мне с тобой спо-
рить? Ты держишь меня, твоего господина, под гре-
бенкой и раскаленными щипцами и можешь рва-
нуть мне волосы или прижечь меня, лишь только я
начну возражать. Поэтому разумнее попридержать
язык.
— Какие тонкие волосы у вашего превосходитель-
ства.
— Верно, хочешь сказать — жидкие.
— Что вы, жидкими они еще только становятся и
разве что надо лбом. Я хочу сказать, что тонок каж-
дый волос в отдельности: мягок, как шелк, а это
редко встречается у мужчин,
— Ну что ж, из какого дерева господь меня вы-
стругал, таков я и есть.
Достаточно ли равнодушно-мрачно сказано? Без
заинтересованности в своих природных качествах?
40*
627
Parrucchieril не могут не льстить, и этот малый ус-
воил привычки ремесла, которым он занимается. Хо-
чет угодить моему тщеславию. Вряд ли он понимает,
что и у тщеславия суть и стать различны, что оно мо-
жет обернуться углубленностью, серьезным, вдумчи-
вым самонаблюдением, автобиографической манией,
настойчивым любопытством к путям и перепутьям
твоего физически-нравственного бытия, к далеким за-
путанным дорогам и темным опытам природы, на
диво миру приведшим к возникновению такого суще-
ства, как ты. А отсюда следует, что льстивый отзыв
о наших телесных свойствах иногда воздействует не
как поверхностное, приятное щекотание, но словно го-
лос, манящий к познанию трудных и счастливых тайн.
Я из того дерева, из которого меня выстругала при-
рода. Баста. Есмь, каков есмь, и живу, как птица не-
бесная, памятуя, что, живя безотчетно, продвинешься
всего дальше. Это так, это верно. Но вот вожусь же
я со своей автобиографией? Это согласуется с моим
ворчливым ответом. И если ее тема — становление,
дидактический показ того, как формируется гений
(тоже — тщеславие, хотя и научное), то больше всего
ее занимает сама материя этого становления, сокро-
венные силы жизни, создавшие Гете. Размышляют
же мыслители о мышлении, так как же творцу не раз-
мышлять о творящих силах, тем более когда он вновь
углубился в творчество, в высоко тщеславное эгоцен-
трическое вживание в феномен творца? Тонкие, мяг-
кие волосы! Вот моя рука лежит на пудермантеле, от-
нюдь не гармонирующая с мягкими, «тонкими» воло-
сами—не узкая, одухотворенная барская ручка,
а широкая и твердая рука ремесленника, унаследо-
ванная от поколений бравых кузнецов и мясников.
Как должны были — в возможной невозможности,
в случайной удаче — смешиваться в течение веков
хрупкость и здоровье, слабость и твердость, утончен-
ность и грубость, безумие и разум, чтобы дать под
конец возникнуть таланту, феномену? Под конец!
Парикмахеры (итал.).
628
«Создает не сразу /Род ни чудовища, ни полубога./
Лишь долгий ряд достойных иль дурных/ Дарует
миру ужас иль отраду». Полубог и чудовище! Но
разве я их не слил воедино, — когда писал «Ифиге-
нию», не принимал одного за другое и не знал, что
без некоторого ужаса в радости, без «чудовища
в полубоге» ничего получиться не может. Злое и доб-
рое — что знает об этом природа, когда даже
о болезни и здоровье ей не много известно и из болез-
ненного она рождает радость и жизнеобновление?
Природа! Начнем с того, что ты дана мне через меня
самого и через меня же тебе и истинное отмщение.
Одно ты мне открыла: если род способен долго про-
держаться, то обычно, прежде чем он вымрет, возни-
кает индивидуум, который вбирает в себя дотоле
разъединенные и лишь слабо намеченные задатки
всех предков и в совершенстве выражает их. Хорошо
сказано, заботливо и поучительно, людям для само-
познания сущего — наука о природе, рассудительно
абстрагированная от собственного проблематического
бытия. Эгоцентризм? Но как не быть эгоцентричным
тому, кто видит в себе цель природы, итог, заверше-
ние, апофеоз, конечный и высший результат, прийти
к которому ей стоило немалых трудов? И почему все
это взращивание и порождение, это скрещивание и
подбор кровей на протяжении столетий, где подма-
стерье из чужого города, по обычаю, высватывает
дочку мастера, где дочь графского лакея или порт-
ного была взята землемером или судейским — почему
все это увенчалось столь исключительной удачей?
Мир найдет, что я таков, потому что душевными си-
лами, почерпнутыми извне, сумел преодолеть пред-
расположения, даже опаснейшие, сумел преобразить
их, облагородить, насильственно направить на доброе
и великое. Я — баланс жизненных натяжек, точно до-
зированная счастливая случайность природы,— танец
меж ножей, стремление к трудностям и поблажкам,
натяжка и допущение пополам с гениальностью — да
и может ли быть иначе? Ведь гений всегда натяжка и
допущение. Люди, на худой конец, чтут твое твор-
629
чество, твою жизнь не чтит никто. Я говорю вам:
«Попробуй, повтори, не поломав хребта!»
Что значит твой страх перед брачными узами,
ощущение того, как бессмысленно и даже запретно
продолжать свой род по примеру предков, как бес-
цельно дальнейшее комбинирование кровей теперь,
когда цель достигнута? Мой сын — плод фривольной
необходимости, предосудительных постельных уз —
уже по ту сторону цели. Он — эпилог. Разве я этого
не знаю? Природа от него отвернулась, а я хочу по-
пытаться еще раз ожить в нем, хочу женить его на
этой амазоночке, ибо она из той породы, от которой
я неизменно бежал. Что ж, привьем себе прусскую
кровь, чтобы не дать так быстро отзвучать аккордам
финала, под которые естество, соскучившись и зевая,
уходит домой. Я знаю, в чем тут дело. Но знание —
это одно, а чувство — другое. Оно утверждает свои
права quand même, вопреки холодному знанию. Как
будет красиво, благоприлично, когда в доме воца-
рится Лили и старик станет галантно шутить с нею,
а там, глядишь, появятся и внуки, кудрявые внуки,
внуки-призраки, с ростком пустоты в сердцах, — ты
будешь любить их без веры и надежды, только из
потребности в любви...
Она не знала веры, любви и упований, Корнелия,
сестра, мое второе «я» в женском образе, не создан-
ная быть женщиной. Разве ее отвращение к супругу
не было подобием твоего страха перед браком? Не-
понятное существо, предельно чужое на земле, непо-
стижимое и себе и другим, суровая аббатиса, подко-
шенная первыми ненавистными патологическими ро-
дами,— такова твоя родная сестра, единственная из
четырех, с тобою вместе и себе на горе переросшая
младенчество. Где все остальные — чудно красивая
девочка, тихий упрямый мальчик, не от мира сего,
бывший мне братом? Их нет уже давно. Они исчезли,
едва возникнув, скупо оплаканные, насколько мне
помнится. Ребяческий сон, почти стершийся, почти по-
забытый....
Тебе — уйти, мне — жить на долю пало»
Покинув мир, ты потерял так мало!
630
Или так велики мой эгоизм, жадность к жизни,
что я хладнокровно вобрал в себя то, чем могли бы
жить вы все? Существуют преступления, более глу-
бокие, глубже сокрытые, нежели те, что совершаешь
сознательно. Или у них хватило сил породить одну
значительную жизнь, в остальном же смерть, потому
что отец был вдвое старше матери, когда женился на
пей? Благословенная чета, избранная подарить миру
гения. Несчастная чета! Матушка, с ее веселым нра-
вом, лучшие годы пробыла сиделкой немощного ти-
рана. Корнелия ненавидела его — может быть, лишь
за то, что он ее породил. Но разве этот ворчливый
ипохондрик, этот полоумный брюзга, этот ничего не
делавший тяжелодум и назойливый педант, бояв-
шийся, что любая струя свежего воздуха нарушит
порядок, установленный им в поте лица, — не заслу-
живал ненависти? В тебе немало есть от него,—
осанка, страсть к собирательству, церемонность и чо-
порность,— ты только преобразил его педантизм. Чем
старше ты становишься, тем сильней проступает
в тебе призрачный старик, и ты узнаешь его, при-
знаешь с сознательной и упорной верностью, следуешь
за ним, своим прототипом, отцом, которого сызмаль-
ства почитал. Душа, душа, я верю в нее и хочу ве-
рить. Жизнь была бы несносна без прикрас душевного
обмана. Ведь под ним ледяной холод. Ледяная пра-
вда делает тебя великим и ненавистным, мир можно
примирить с собой лишь приветливо-милосердным ду-
шевным обманом. Отец был тяжелым мужем чести —
позднее дитя пожилых родителей — и имел брата,
явно сумасшедшего, кончившего жизнь безумцем, как,
собственно, кончил и отец. «Мой предок был до баб
охоч!» — веселый франт, Текстор. Отец моей матери,
гуляка и селадон, не раз постыдно застигнутый раз-
гневанными мужьями, но мечтатель притом, отмечен-
ный даром ясновидения. Причудливая смесь! Верно,
мне надо было убить всех моих сестер и братьев,
чтобы во мне они приняли более пристойную и при-
ятную форму — обаятельную, хотя толика безумия во
мне все же застряла, как подпочва блеска, и, не уна-
следуй я воли к порядку, к искусству заботливого
631
самосохранения, к целой системе защитных огражде-
ний— что бы со мной сталось? Как я ненавижу без-
умие, свихнувшуюся гениальность и полугениаль-
ность, как я в душе презираю и бегу даже пафоса,
эксцентричного жеста, громогласности! Это трудно
выразить словами. Отвага — лучшее и единственное,
она необходима, но в тиши, абсолютно пристойная,
абсолютно ироническая, спеленутая множеством ус-
ловностей. Таким я хочу быть, и таков я есть. Здесь
был этот малый фон Зонненберг (так, что ли, его
зовут), которого они окрестили кимвром, парень ди-
кого и разнузданного поведения — хотя в основе и
добродушный. Делом всей его жизни было стихотво-
рение о Страшном суде, безумное предприятие, без-
умное и неучтивое, апокалиптическое чудище, возму-
тительно изложенное. Мне стало нехорошо, как при
чтении «Бедного Генриха». В результате гений вы-
бросился из окна. Сгинь, сгинь, рассыпься!
Хорошо, что он так убрал меня, элегантно и не-
много по-старомодному. Если придут гости, я буду,
к обоюдному успокоению, ровным голосом говорить
различные слова, всего меньше походя на гения и
таинственный призрак, к которому милые обыватели
приближаются не без робости, но и не без усмешки.
С них хватит разговоров о моей маске, об этом лбе,
о знаменитых глазах, которые я, судя по портретам,
так же как и форму головы, рта и южно-смуглый цвет
лица, просто-напросто унаследовал от бабки Линд-
геймер, в замужестве Текстор. Что, собственно, зна-
чит наша физиогномическая оболочка? Все это
существовало уже сто лет назад, знаменуя собой разве
что здоровую, разумную, энергичную смуглую женскую
сущность. Эта сущность дремала в матери, женщине
совсем другой породы, и только во мне стала выра-
жением и оболочкой того, что я есть, — приняла ду-
ховную стать, которой прежде отнюдь не обладала,
да и не должна была обладать.
В какой степени мое физическое «я» выражает
мою духовную суть? Мог ли бы я иметь эти глаза бел
того, чтобы они были глазами Гете. Впрочем, на
Линдгеймеров я полагаюсь. Они, вероятно, лучшее,
Ш
достойнейшее во мне. Принято думать, что первона-
чальное их местожительство, по которому они и про-
зываются, расположено невдалеке от римского по-
граничного вала, в узкой долине, где спокон веков
смешивалась античная и варварская кровь. Оттуда
ты родом, оттуда у тебя эта смуглая кожа, глаза и
чужеродность, приметливость к немецкой низости, ты-
сячью корней питающаяся антипатия к этому чертову
народу, благодаря и наперекор которому ты живешь,
к чьему совершенствованию ты призван, ради кото-
рого ты ведешь эту непосильно кропотливую, тяго-
стную жизнь, изолированную не только благодаря
высокому рангу, но и инстинкту, принудившему их
против воли признать тебя, чтобы всячески искажать
твой смысл. Ужели же мне не знать, что в сущности
я всем вам в тягость? Как примириться с вами? Вре-
менами я всем сердцем готов на примирение, оно
должно удаться, ведь удавалось же, ведь многое есть
в тебе от их крови, саксонской, лютеровой, чему ты
гордо радуешься, но, в силу направленности и самой
сути своего ума, все же не можешь это растворить
в светлой иронии и обаятельности. Но они либо не ве-
рят в твою немецкую сущность, либо считают, что ты
во зло ею пользуешься, и слава твоя для них, что не-
нависть и мука. Жалкое существование в противо-
борстве народности, которая все же подхватывает и
несет пловца. Должно быть, так суждено! Жалеть
меня нечего! Что они ненавидят правду — худо. Что
не понимают ее прелести — досадно. Что им так до-
роги чад и мишура и всяческое бесчинство — отвра-
тительно. Что они доверчиво преклоняются перед лю-
бым кликушествующим негодяем, который обра-
щается к самым низким их инстинктам, оправдывает
их пороки и учит понимать национальное своеобра-
зие как доморощенную грубость, то, что они мнят
себя могучими и великолепными, успев до последней
нитки продать свое достоинство, со злобой косятся на
тех, в ком чужестранцы видят и чтят Германию,—
это пакостно. Нет, не стану примиряться! Они меня
не терпят —отлично, я тоже их не терплю. Вот мы и
квиты. Мою немецкую сущность я храню про себя, а
633
они со своим злобным филистерством, в котором
усматривают свою немецкую сущность, пусть уби-
раются к черту! Мнят, что они — Германия. Но Гер-
мания— это я. И если она погибнет, то будет жить
во мне. Как бы вы ни хотели уничтожить мое дело,
я стою за вас. Беда только, что я рожден скорее для
примирения, чем для трагических стычек. Разве вся
моя деятельность — не примирение, не сглаживание
углов? Разве смысл моего существования — не под-
тверждение, признание, оплодотворение всего на
свете, не уравновешивание, не гармония? Лишь все
силы, объединившись, создают мир, и существенна
каждая из них, каждой причитается развитие; любая
склонность завершает лишь сама себя. Личность и
общество, романтику и жизнестойкость, сознательность
и наивность — то и другое в одинаковой степени при-
нимать в себя, впитывать, быть всем, устыжать пар-
тизан любого принципа доведением принципа до
конца, как, впрочем, и его противоположности тоже.
Гуманизм, как всемирно-вездесущее, как наивысший,
соблазнительнейший прообраз, как пародия на себя
самого, мировое господство, как ирония и безоглядное
предательство одного для другого — этим подавляешь
трагедию. Трагедия царит там, где еще не восторже-
ствовало мастерство, моя немецкая сущность, их ре-
презентующая и состоящая во всевластии и мастер-
стве; ибо Германия — это свобода, просвещение, все-
сторонность и любовь. Что им это не ведомо, дела не
меняет. Трагедия между мною и этим народом? Ах,
подумать, мы ссоримся, но там, вверху, в легкой,
проникновенной игре я хочу справить полное примире-
ние, хочу магически рифмующуюся душу пасмурного
севера обручить с вечной, триметрической синевой —
для зачатия гения. «Как мне усвоить ваш прием кра-
сивый?— Он кроется в невольности порыва».
— Вы меня спрашиваете, ваше превосходитель-
ство?
— Что? Нет. Я что-нибудь сказал? Во всяком слу-
чае, к тебе это не относится. Видно, я разговариваю
сам с собой. Ничего не поделаешь, годы! Человек на»
чинает бормотать про себя.
634
'— Это не годы, ваше превосходительство, а жи-
вость мысли. Вам, верно, и в молодости случалось
говорить с самим собой.
— И опять ты прав. Даже чаще, нежели теперь,
в преклонных летах. Ведь болтать с самим собою —
это придурь, а юность — придурковатое время, ей это
к лицу, но позднее уже не годится. Я носился по по-
лям и лугам, кровь стучала во мне, я начинал бол-
тать вздор, и получались стихи.
— Ваше превосходительство, это ведь и было то,
что называют гениальным озарением.
— Возможно. Так называют его те, кто его не ве-
дает. Позднее преднамеренность и характер сменяют
этот душевный вздор, и то, что они производят на
свет, нам, пожалуй, понятней и дороже. Скоро ли ты
меня отпустишь? Пора бы и кончить. Неплохо, ко-
нечно, что ты свое дело почитаешь главнейшим, но
подготовка к жизни не должна быть обратно пропор-
циональна ей самой.
— Согласен, ваше превосходительство. Но ведь
дело должно быть доделано. В конце концов все-таки
понимаешь, кто у тебя под руками. Пожалуйте, вот
зеркало.
— Ладно, ладно. Попрыскай одеколоном на мой
платок! Ах, до чего хорошо! Вот истинно приятное
ощущение, помню его еще со времен пудреных па-
риков и всю жизнь любил запах одеколона. Импера-
тор Наполеон тоже весь пропах им, — будем на-
деяться, что этого он не лишен и на острове Святой
Елены. Маленькие радости и благодеяния жизни, надо
тебе знать, становятся весьма важными, когда с са-
мой жизнью и героическими подвигами уже покон-
чено. Такой человек, такой человек! Вот они и за-
перли его, неукротимого, в неодолимых морских про-
сторах, чтобы дать миру передышку и чтобы мы
здесь могли спокойно позаняться каждый своим де-
лом... В общем, вполне правильно. Сейчас не время
войн и героических эпопей, «король бежит, и бюргер
торжествует», пришла пора полезного века, века де-
нег и коммуникаций, торгового духа и благосостоя-
ния. Как же не желать и не верить, что сама природа
635
набралась благоразумия и раз навсегда отреклась от
всех безумных, лихорадочных потрясений, дабы на-
век обеспечить мир и благосостояние. Весьма утеши-
тельная мысль, ничего против нее не имею. Но когда
начинаешь думать, что делается в душе такого ос-
колка стихии, чьи силы задушены тишиною водных
пустынь, такого узника и скованного титана, этой за-
сыпанной Этны, в чьем кратере все бурлит и бушует,
а огненные языки уже не находят выхода, — кстати,
имей в виду, что разрушительная лава служит и
удобрением, — то сердце изрядно щемит и в душу,
искушая тебя, закрадывается сострадание, хотя со-
страдание вовсе не допустимое чувство в подобном
случае. Но чтобы у него все же имелся одеколон, к ко-
торому он привык, этого ему следует пожелать. Я иду
в кабинет, Карл. Скажи господину Джону, чтобы он,
наконец, объявился.
— Елена, святая Елена! То, что он там заклю-
чен, что так называется остров, что я ищу ее, что
она — мое единственное желание, «столь вожделенна
сколь и хороша», что она делит имя со скалой проме-
теевых мук, дочь и возлюбленная, принадлежащая
только мне одному, а не жизни, не времени, ведь
тоска по ней — единственное, что приковывает меня
к этому туманному, необоримому творению. Удиви-
тельная штука такое сплетение жизней и судеб! Вот,
он, письменный стол, мое рабочее место. Отдохнув-
ший за ночь, отрезвленный утром, он опять зовет
ринуться за новой добычей. Налицо все пособия,
источники, все средства и завоевания научных
миров во имя творческой цели. Как жгуче инте-
ресно становится любое знание, годное для игры,
могущее обогатить, скрепить твое творение! Перед
ненужным ум замыкается. Но нужным, конечно, ста-
новится все большее, чем старше становишься сам,
чем шире разветвляешься; и если так продолжится
еще, то скоро и вовсе не будет ненужного. Вот это
касательно вырождения и болезней растений, надо
прочитать сегодня — после обеда, если выберу время,
или вечером. Неправильные образования и уродстпл
весьма существенны для приемлющего жизнь. Паю»
636
логическое, пожалуй, ясней всего поучает норме, и
временами тебе кажется, что болезнь способствует са-
мому глубокому проникновению в неизвестное.
Взгляни, здесь ждет тебя нечто из мира критических
радостей; «Корсар» и «Лара» Байрона,— прекрас-
ный, гордый талант. Это я не отложу и перевод
Гриза из Кальдерона также, да и книга Рюкштюля
о немецком языке может многое оживить во мне.
Technologia ritorica Эрнести безусловно буду изучать
дальше. Такие вещи проясняют ум и разжигают любо-
знательность. Этих Ориенталий давно уже зажда-
лась герцогская библиотека... Все сроки возврата
прошли. Но я не верну ни одну из них, мне нельзя
остаться безоружным, покуда я живу в «Диване», и
карандашные пометки тоже буду делать, никто не
обессудит.
Carmen panegyricum in laudem Muhammedis,l —
черт возьми, опять эта поздравительная ода! Начало:
Дыханьем гор, как волнами эфира,
Овеянный на высях бездн лесистых,—
несколько насильственное сопоставление — выси бездн,
ну, это мне простят, ведь картина получилась сме-
лая и вдохновенная. Бездны поглощают, так пусть
они и проглотят метафору! «Устыжает сумрак скал» —
тоже нечто в этом роде.
Пособие и сырой материал. А почему, собственно,
сырой? Мог быть чем-то и сам по себе, самоцелью.
Он вовсе не был предназначен, чтобы кто-то явился
и выжал небольшой флакончик розового масла из
этой груды, после чего оставшийся хлам годится
только на выброс. Откуда берется дерзость возомнить
себя богом среди хаоса и неустройства, которым ты
пользуешься по своему произволу? Всеотражающим
светом, отраженным в природе, который и своих дру-
зей и все, с чем он сталкивается, рассматривает как
бумагу для своего письма? Что это, нахальство или
великая дерзость? Нет, это богом возложенная на
1 Магометово словословие, восхваляющее [бога] (лат.) — на-
мек на фрагмент Гете 1774 года «Магомет».
€37
тебя миссия, предначертанная тебе форма существо-
вания. Так простите же и наслаждайтесь, все это вам
на радость.
«Путешествие в Шираз» Варинга — весьма полез-
ная книга. «Мемуары о Востоке» Аугусти многоедали
мне; Клапротов азиатский журнал; раскопки на Во-
стоке, в обработке общества любителей — для на-
стойчивого любительства, это прямо-таки золотые
прииски. Надо снова полистать в двустишьях Шейха
Джелаледин-Руми и светозарных плеядах на небе
Аравии тоже, а для примечаний весьма пригодится
перечень библейской и восточной литературы. Вот и
арабская грамматика. Следовало бы опять немного
поупражняться в этих затейливых письменах — помо-
гает контакту. Контакт, содержательное слово, много
говорящее о нашем душевном обиходе, въедливом
самоуглублении в предмет и сферу, без которого ты
немощен, об этой одержимости духом исследования,
делающей тебя настолько посвященным в тайны лю-
бовно воспринятого мира, что ты с легкостью начи-
наешь говорить на его языке, и изученную подроб-
ность никто уж не может отличить от поэтического
наития. Прихотливый подвижник! Люди сочли бы
удивительным, что для книжечки стихов и речений
понадобилась столь обильная пища — все эти путе-
шествия и картины нравов. Едва ли они признают
это проявлением гениальности. В дни моей юности,
едва только прогремели «Страдания юного Вертера»,
этот грубиян, Бретшнейдер, взял на себя заботу о моем
смирении. Преподнес мне бесцеремонные истины ка-
сательно моей персоны или того, что он принял за
таковую. «Не заносись, братец, не так уж ты преус-
пел, как тебе внушает шумиха, поднятая вокруг твоей
книжонки! Можно подумать, что ты невесть какой
гений! Я-то тебя раскусил. Ты судишь обычно вкривь
и вкось и сам знаешь, что ты тяжелодум. Правда, ты
достаточно умен и спешишь немедленно согласиться
с людьми, которых считаешь проницательными, вме-
сто того чтобы вступать с ними в споры, рискуя об-
наружить свою слабость. Вот каков ты. К тому же
тебе свойственна душевная неустойчивость, бесси»
638
стемность, из одной крайности ты бросаешься в дру-
гую, из тебя можно с одинаковым успехом сделать
гернгутера и вольнодумца, ибо влиянию ты подда-
ешься на диво. А доза гордости у тебя уже непозво-
лительная. Почти всех людей, кроме себя, ты счи-
таешь немощными созданиями, на деле же ты сла-
бейший из слабых, настолько, что о немногих, тобою
признанных, ты совершенно не в состоянии судить
сам и придерживаешься ходячего мнения. Я решил
наконец тебе это высказать! Зерно талантливости
в тебе, конечно, есть, поэтический дар, впрочем про-
являющийся лишь, когда ты долго вынашиваешь ма-
териал, перерабатываешь его в себе и собираешь все,
что тебе нужно для замысла. Тогда все идет как по
маслу. Если что-нибудь тебе приглянулось, оно уже
застрянет у тебя в душе или в голове, и с того мо-
мента ты стараешься все скрепить глиной своей ра-
боты. Все твои помыслы и чувства устремляются
только на твой объект. Вот и все, чем ты силен,
больше ничего в тебе нет. И не забивай себе голову
бреднями о популярности!»
Я как сейчас слышу его, этого чудака. Что за не-
лепый правдолюбец и паладин познания! Отнюдь не
злой. Он сам, вероятно, страдал от остроты своих
критических идей. Осел, меланхолически прозорли-
вый осел, разве он не был прав? Прав, трижды прав!
Ну, дважды в крайнем случае! Во всем, чем он мне ты-
кал в нос: непостоянство, несамостоятельность, подат-
ливость и ум, способный разве что воспринимать и
долго вынашивать, выбирать пособия и пользоваться
ими! Разве бы оказался у тебя под рукой весь этот
ученый инструментарий, если бы время не питало сла-
бости и любопытства ко всему восточному до того,
как им занялся ты? Тебе ли принадлежит открытие
Гафиза? Нет, это фон Гаммер открыл его для тебя и
умело перевел. Читая Гафиза в год русского похода,
ты был потрясен и очарован этой модной книгой,
а так как ты умеешь читать лишь затем, чтоб чтение
настраивало, оплодотворяло, совращало тебя, вво-
дило в искушение самому создать подобное, продук-
тивно воскресить пережитое, то вот ты и стал писать,
639
как перс, и прилежно, неусыпно накоплять все, по-
требное для маскарада, для новой обольстительной
затеи. Самостоятельность! Хотел бы я знать, что это
такое? «Он был оригинал и, знать, по сей причине
ни в чем не уступал любому дурачине!» Мне тогда
было двадцать, а я уже натянул нос своим почитате-
лям. Потешался над оригинальничанием бурных ге-
ниев. И знал почему. Ибо оригинальность — это нечто
отталкивающее, это безумие, бесплодное искуснича-
ние, тупое чванство, стародевическое бахвальство
духа, стерилизованное шутовство. Я презираю его не-
сказанно, так как хочу плодоносного, женственного и
мужественного зараз, оплодотворяющего и приемлю-
щего, своего, широко обусловленного и все же лич-
ного. Недаром я похож на ту достойную женщину. Я —
это смуглая Линдгеймерша в мужском обличье, лоно
и семя — андрогинное искусство, через меня обогатив-
шее воспринятый мир. Да ' разумеют сие немцы.
В этом я их сколок и прообраз. Приемлющие мир и
его одаряющие с сердцами, широко раскрытыми для
плодотворного восхищения, возвысившиеся благодаря
разуму и любви, благодаря посредничеству духа, ибо
дух есть посредничество. Такими они должны быть,
и в этом их предназначение, а не в том, чтобы кос-
неть в качестве оригинальной нации в пошлом само-
созерцании, самовозвеличении... и в глупости. Более
того, через глупость править миром. Злополучный на-
род! Добром он не кончит, ибо он не может понять
самого себя, а всякое непонимание себя возбуждает
не только смех, но и.ненависть мира и грозит опас-
ностью. Что тут скажешь! Судьба по ним ударит. Ибо
они сами себя предали, не пожелав стать тем, чем
они должны были бы стать. Судьба рассеет их по
лицу земли, как евреев — поделом, ибо лучших среди
своих они изгоняли, и лишь в изгнании, в рассеянии,
на благо нации, разовьют они то доброе, что в них
заложено, станут солью земли... Кто-то откашли-
вается и стучит. Это хрипун.
— Смелей, смелей! Войдите.
—- С добрым утром, ваше превосходительство.
640
— Итак, Джон, это вы. Мое почтение. Подойдите
ближе. Раненько мы сегодня поднялись.
— Да вы, ваше превосходительство, всегда споза-
ранку беретесь за дела.
— Не о том речь. Я имел в виду вас: вы раненько
поднялись сегодня.
— О, прошу прощения, я не предполагал, что речь
идет обо мне.
— Ну, это я бы назвал уже сверхскромностью.
Разве коллега моего сына, ученый латинист, правовед
и превосходный каллиграф, не заслуживает, чтобы
речь шла о нем?
— Покорнейше благодарю. А если так, то для
меня было неожиданностью, что первое слово из
столь почитаемых мною уст оказалось упреком.
Я могу истолковать замечание вашего превосходи-
тельства лишь в том смысле, что я сегодня явился
вовремя. Если болезнь груди и длительные приступы
кашля по ночам иногда и заставляют меня дольше
оставаться в постели, то, думалось мне, я вправе рас-
считывать на высокую гуманность господина тайного
советника. Кроме того, не могу не заметить, что, не-
смотря на мой своевременный приход, предпочтение
все же было отдано Карлу.
— Ай, ай, что за человек! Охота же понапрасну
омрачать себе утренние часы. Приписывает мне бес-
пощадность в словах и тут же обижается на чрезмер-
ную пощаду в поступках. Я немного подиктовал
Карлу, лежа в постели, потому что он оказался по-
близости. Кое-какие служебные бумаги, вас же ждет
нечто куда более приятное. Кроме того, я ничего
плохого не думал и отнюдь не хотел вас обидеть. Как
мот бы я не уважать ваши страдания и не считаться
с ними? Мы христиане. Ведь вы вот какой выросли,
мне приходится смотреть на вас снизу вверх. И к тому
же, постоянное сидение среди книг, в бумажной пыли.
Молодую грудь от этого закладывает, да и вообще
это болезнь молодости; созревая, ее побеждаешь.
Я тоже харкал кровью в двадцать лет, а нынче, как
видите, довольно крепко стою на старых ногах. Да
еще при этом руки завожу за спину, распрямляю
41Т. Манн, т. 2
641
плечи, чтобы грудь вздымалась — смотрите — вот
так. Вы же опускаете плечи, грудь вдавливается, вы
слишком мягкотелы — говорю вам это со всем хри-
стианским гуманизмом. Нельзя, Джон дышать одной
пылью, при малейшей возможности выбирайтесь на
вольный воздух, в поля и леса. Я поступал так, и вот
выкарабкался. Человек подвластен природе. Ноги
должны ступать по земле, пусть ее сила и соки впи-
тываются в него, а над ним голосисто проносятся
птицы. Цивилизация, духовная жизнь — понятия не
плохие, даже великие. Допустим. Однако без Антее-
вой компенсации, как я бы назвал это, они действуют
на человека разрушительно и вызывают болезни: а он
еще ими гордится, носится с ними, как с чем-то почет-
ным и даже полезным. Ведь и в болезни есть нечто по-
лезное, она — отпущение, по-христиански за нее многое
следует простить. И если такой человек амбициозен,
привередлив, охоч до сластей и вина, живет, не счи-
таясь с хозяевами, и редко работает в положенные
часы, то, пожалуй, и правда, приходится семь раз от-
мерить, прежде чем осквернить свои христианские
уста нравоучением, памятуя, что его больная грудь
раздражена еще и куревом, дым от которого из его
комнаты нередко проникает в дом, досаждая тем, кто
его не терпит. Я имею в виду табачный дым, а не вас,
так как знаю, что вы все же терпите меня, что я мил
вам, и вы огорчаетесь, когда я на вас ворчу.
— Весьма огорчаюсь, господин тайный советник.
До боли, смею вас заверить! Я с ужасом слышу, что
дым моей трубки, несмотря на все меры предосторож-
ности, проник через щели. Мне хорошо известно пред-
взятое отношение вашего превосходительства к...
— Предвзятое отношение? Предвзятое отношение
есть слабость. Вы сворачиваете на мои слабости,
тогда как речь идет о ваших.
— Исключительно о моих, ваше превосходитель-
ство. Я не отрицаю ни одной из них и отнюдь не ду-
маю их умалять. Прошу только об одном: поверьте,
если мне еще не удалось совладать с иными слабо-
стями, то, безусловно, не потому, что я считаю воз-
642
можным ссылаться на мою болезнь. Говорю это
вполне серьезно, хотя вашему превосходительству и
угодно смеяться. Мои слабости — я бы даже ска-
зал— пороки, непростительны. Но если я временами
и предаюсь им, то отнюдь не физические немощи мо-
гут послужить мне оправданием, но душевное смяте-
ние. Да не будет сочтено дерзостью, что я позволяю
себе воззвать к моему благодетелю и его великому
знанию людей, напоминаю, что планомерный труд,
служебная исполнительность молодого человека мо-
гут понести ущерб в момент, когда он переживает ду-
шевный кризис, когда* все его мысли и убеждения
переворачиваются под влиянием — я едва не сказал:
давлением — нового, столь значительного окружения,
и он непрестанно терзается вопросом, предстоит ли
ему найти себя, или потерять.
— Ну-с, дитя мое, до сегодняшнего дня вы, от-
кровенно говоря, не дали мне заметить критических
превращений, в вас совершающихся. В чем они со-
стоят и к чему вы клоните, я, кажется, понял. Разре-
шите мне говорить прямо, друг мой. О политическом
Икаровом полете, об извращенных политических стра-
стях ваших юных дней я ничего не знал. Что вы из-
волили выпустить тот предерзостный и клеветни-
ческий пасквиль на крепостников, восхваляющий
крайне радикальный строй, — об этом я не был в свое
время поставлен в известность; иначе, несмотря на
ваш хороший почерк и кое-какие знания, я, поверьте,
не принял бы вас в число моих домочадцев. Ведь
из-за этого мне нередко приходилось выслушивать
от весьма достойных людей из высоких и высших
сфер слова удивления и даже порицания. Если я пра-
вильно понимаю вас, — мой сын тоже намекал мне
на нечто подобное, — вы решили вырваться из тенет
ваших заблуждений и, покончив с ниспровергатель-
скими тенденциями, встать на сторону правопорядка
и исконных государственных устоев. Я, однако, счи-
таю, что этот процесс созревания и прояснения, ко-
торым вы могли бы гордиться, следует приписать вам
самому, вашему здравому уму и сердцу, а отнюдь не
какому-то влиянию, или — еще того не легче — дав-
41*
643
лению извне. Считаю также, что он никоим образом
не может служить объяснением нравственной смуты
и неподобающего поведения, ибо, надо думать, это
процесс выздоровления, оказывающий целительное
воздействие на душу и тело. А последние так тесно
связаны и переплетены, что одно не может нахо-
диться под воздействием, благодатно или гибельно не
затрагивающим другого. Уж не думаете ли вы, что
ваши революционные прихоти и эксцессы не имеют
ничего общего с отсутствием того, что я назвал Ан-
теевым возмещением цивилизации и духа с неведе-
нием простой и здоровой жизни на груди природы и
что ваши физические хворь и слабость не то же са-
мое, что и те умственные прихоти? Все это едино. За-
каляйте и проветривайте тело, не утруждайте его вод-
кой и едким дымом, и в вашем мозгу тоже зароятся
благонамеренные, порядочные мысли. Вы избавитесь
раз и навсегда от жалкого духа противоречия, проти-
воестественного стремления исправлять мир. Выхажи-
вайте насаждения ваших достоинств, старайтесь хо-
рошо зарекомендовать себя в благодетельно упрочен-
ном, и вы увидите, что и ваше тело станет ладным и
прочным сосудом жизнерадостности. Вот мой совет,
если вам угодно ему последовать.
— О, ваше превосходительство, ужели я не вос-
пользуюсь им! Как мог бы я столь благосклонный
совет, столь мудрое руководительство не принять
с прочувствованной благодарностью! К тому же, я .убе-
жден, что утешительные обещания, которые мне дове-
лось выслушать, полностью сбудутся, оправдаются
впоследствии. Но сейчас, покуда в высокой атмо-
сфере этого дома трудно и мучительно свершается
обращение моих мыслей и убеждений, в это время
перехода из мира одних идеалов в другой мое душев-
ное состояние еще крайне запутаио, не свободно от
"тоски отречения, а потому предъявляет права на сни-
сходительность. Что я говорю — права! На какие
права я могу претендовать? Но смиренную надежду
на снисходительность я все же решаюсь питать. Ведь
с обращением связан отказ от многих, куда более
-существенных, пусть незрелых, мальчишеских, веро*
644
ваний и упований, которые хоть и несли с собою
много боли и озлобления, хоть и ввергали человека
в мучительный разлад с правильно понимаемой
жизнью, но в то же время тешили, возвышали его
душу, влекли ее к гармонии с высокими истинами.
Отказаться от фантастической веры в революционное
очищение нации, в человечество, просветленное стрем-
лением к свободе и справедливости, — короче, от веры
в земное царство счастья и мира под скипетром ра-
зума, проникнуться жестокой в своей трезвости исти-
ной, что натиск вечных сил, слепой и несправедли-
вый, никогда не перестанет колебаться, давая пере-
вес то одной, то другой исторической силе, — это не
легко, здесь чувства вступают в опасный и тяжкий
внутренний конфликт. И если при столь стесненных
обстоятельствах, при всех этих болезнях роста, моло-
дой человек ищет иногда забвения в бутылочке тмин-
ной или старается затуманить утомленный мозг бла-
годетельным табачным дымом, — разве же он не смеет
рассчитывать на известную долю сострадательного
снисхождения у великих мира сего, чей могучий авто-
ритет не вовсе непричастен к переживаемому им ду-
шевному кризису?
— Какое красноречие! В вас погиб патетический
и льстивый адвокат — впрочем, может быть, еще и
не погиб. Вам удалось сделать свои страдания зани-
мательными для других, а следовательно, вы не только
оратор, но к тому же еще и поэт, хотя с этим титу-
лом не вяжутся политические восторги; политики
и патриоты плохие поэты и свобода — отнюдь не поэ-
тическая тема. Однако, если вы используете приро-
жденный ораторский дар, сделавший из вас литера-
тора и политического деятеля, для того, чтобы пред-
ставить меня в столь невыгодном свете и обернуть
дело так, словно общение со мной отняло у вас веру
в человечество и толкнуло вас в циническую безна-
дежность, это уж не слишком красиво! Я, кажется,
желаю вам только добра, и вряд ли приходится до-
садовать, что, давая вам советы, я больше пекусь
о вашем личном благе, нежели о благе человечества.
Что же вы делаете из меня Тимона? Не поймите меня
645
превратно! Я считаю вполне возможным и вероятным,
что наш девятнадцатый век не только продолжит про-
шлый, но предназначен стать началом новой эры,
когда мы сможем усладить свой взор видом челове-
чества, подымающегося к своей чистейшей сущности.
Правда, здесь возникает опасение, что восторжествует
средняя, чтобы не сказать — серенькая, культура;
ведь одним из ее отличительных признаков и является
го, что многие, кому это вовсе не пристало, суются
в государственные дела. Снизу — это сумасбродная
претензия юнцов влиять на сугубо важные моменты
государственной жизни, сверху — склонность усту-
пать им, по слабости или от чрезмерного либера-
лизма. Все это только убеждает в том, какими труд-
ностями и опасностями чревата излишняя либераль-
ность, дающая простор притязаниям всех и каждого,
так что в результате уж не знаешь, каким желаниям
и угождать. В конце концов всем станет ясно, что из-
лишняя снисходительность, мягкость и деликат-
ность до добра не доведут, поскольку несогласный,
а подчас и брутальный мир следует держать в по-
рядке и повиновении. Сурово настаивать на законе
необходимо. Разве не стали теперь уже проявлять
чрезмерную мягкость и сговорчивость в вопросах
о вменяемости преступников, и не слишком ли часто
медицинские освидетельствования и экспертиза за-
даются целью избавить злоумышленника от кары?
Надо обладать характером, чтобы устоять против
всеобщей расслабленности, а посему я тем больше
ценю недавно представленного мне молодого физика,
некоего Штригельмана, который в подобных случаях
неизменно проявляет характер и еще недавно, когда
суд усомнился во вменяемости одной детоубийцы,
твердо и решительно высказался в том смысле, что
она безусловно вменяема.
— Как я завидую физику Штригельману, заслу-
жившему похвалу вашего превосходительства. Я буду
грезить им, это я знаю; примерная твердость его ха-
рактера возвысит, более того — опьянит мою душу.
Да, да, и опьянит! Ах, я не до конца открылся моему
благодетелю, когда говорил о трудностях своего об-
646
ращения. Я хочу во всем признаться вам как отцу,
как исповеднику. С переменой моих убеждений,
с моим новым отношением к порядку, статусу и за-
кону, связаны не только тоска и горечь расставания
с ребяческими мечтаниями, которым пришлось ска-
зать прости, но — я едва решаюсь это выговорить —
и совсем другое: доселе неведомое, волнующее, голо-
вокружительное честолюбие, под чьим натиском я
тем усерднее стал предаваться вину и курению, от-
части чтобы заглушить это чувство, отчасти же что-
бы при содействии дурмана глубже погрузиться в
иные мечтания, пробужденные моим новым често-
любием.
— Гм, честолюбие, и какого же сорта?
— Оно коренится в мысли о выгодах, с которыми
связана внутренняя солидарность с властью и поряд-
ком в отличие от оппозиционного духа. Последний —
мученичество; солидаризоваться же с властью —
это значит в душе уже служить ей, участвовать в упое-
нии ею. Вот новые волнующие мечты, к которым
меня привел свершающийся во мне процесс созрева-
ния; поскольку солидарность с властью уже равняется
духовному служению ей, ваше превосходительство со-
чтет понятным, что мою юную душу неодолимо вле-
чет претворить теорию в практику, что и заставляет
меня, воспользовавшись благоприятным случаем, ко-
торым явился этот нечаянный приватный разговор,
обратиться к вашему превосходительству с прось-
бой.
— С какою же именно?
— Излишне будет говорить, как драгоценны мне
мое нынешнее положение и занятия, которыми я обя-
зан знакомству с сыном вашего превосходительства,
и как безмерно я ценю столь благотворное для меня
двухгодичное пребывание в этом для всего мира бес-
ценном доме. С другой стороны, было бы нелепо во-
ображать себя незаменимым; ведь я только один из
многих помощников и секретарей вашего превосходи-
тельства — наряду с самим господином камеральным
советником, господином доктором Римером, господи-
ном библиотечным секретарем Крейтером и дажеслу*
647
жителем Карлом. К тому же я отлично сознаю, что
в последнее время неоднократно давал повод для не-
довольства вашего превосходительства именно вслед-
ствие моего смятенного состояния, а потому отнюдь
не имею оснований полагать, что господин тайный со-
ветник будет особенно настаивать на моем дальней-
шем пребывании, причем не последнюю роль, видимо,
играют моя долговязая фигура, очки и неприятная
рябая физиономия.
— Ну, ну, что касается этого...
— Моя мысль и пламенное желание — перейти со
службы вашему превосходительству на службу госу-
дарству, и притом в сфере, которая даст возможность
моим перебродившим убеждениям проявить себя наи-
более плодотворно. В Дрездене проживает друг и бла-
годетель моих бедных, хотя и почтенных родителей,
господин капитан Ферлорен, имеющий личные связи
с некоторыми видными лицами из ведомства прусской
цензуры. Если бы мне было дозволено просить ваше
превосходительство написать рекомендательное пись-
мецо господину капитану Ферлорену с благосклон-
ным упоминанием о моей политической и нравствен-
ной метаморфозе, дабы он, если это возможно, на
некоторое время принял меня к себе на службу,
чтобы затем, со своей стороны, отрекомендовать
соответствующим лицам и таким образом способ-
ствовать осуществлению моей заветной и пламенной
мечты — преуспеть на поприще государственной цен-
зуры,— я, и без того облагодетельствованный госпо-
дином тайным советником, был бы обязан вашему
превосходительству поистине вечной благодар-
ностью.
— Хорошо, Джон, это устроится. Письмо в Дрез-
ден я напишу и буду рад, если мне удастся подвиг-
нуть тех, кто привык стоять на страже закона, при-
нять благоприятствующее вам решение, несмотря на
ваши грехи молодости. Что касается честолюбивых
надежд, связанных с вашим обращением, то они, от-
кровенно говоря, мне не очень по душе. Но я уже
привык, что многое в вас мне совсем не по душе, чем
вы, впрочем, можете быть только довольны, ибо это
648
немало способствует моей готовности быть вам полез-
ным. Я напишу—посмотрим, как это выйдет, — что
меня очень порадует, если способному молодому че-
ловеку будет предоставлена возможность понять свои
заблуждения, растворить их в усердном труде, и что
мне остается только пожелать, чтобы удача этой гу-
манной попытки и впредь способствовала подобным
обращениям. Хорошо так?
— Великолепно, ваше превосходительство! Я по-
давлен вашей...
— А не думаете ли вы, что теперь пора от ваших
дел перейти, наконец, к моим...
— О ваше превосходительство, это непрости-
тельно...
— Я стою здесь и перелистываю свой «Диван», ко-
торый за последнее время пополнился несколькими,
весьма приятными вещицами. Кое-что пришлось под-
чистить и перегруппировать. Стихов накопилась такая
груда, что я разбил их на книги, вот видите: Книга
притч, Книга Зулейки, Книга кравчего. У меня просят
что-нибудь для дамского календаря, не очень-то мне
этого хочется. Я не охотник выламывать камни из уже
почти сомкнувшегося свода и похваляться каждым
в отдельности. Да и сомневаюсь, сохранят ли они свою
ценность в разрозненном виде. Здесь вся суть не в раз-
розненном, а в целом; ведь это вращающийся свод,
планетарий. Я не решаюсь преподнести непосвящен-
ной публике что-либо из этих изделий без пояснений,
без дидактического комментария, над которым я те-
перь работаю, чтобы помочь читателю сродниться с ду-
хом, обычаями и словоупотреблением Востока и тем
самым вооружить его для полного и радостного на-
слаждения этими стихами. Но, с другой стороны, не
хочется разыгрывать недотрогу, да к тому же желание
доверчиво предстать перед публикой со своими ма-
ленькими новинками и прочувствованными пустячками
выступает здесь в союзе с людским любопытством.
Как, по-вашему, что мне дать в календарь?
— Может быть, вот это, ваше превосходительство.
«Скрыть от всех! Поднимут травлю! Только мудрым
тайну вверьте.^.» Оно звучит так таинственно.
649
— Нет, это не годится, прихотливо и недоступно:
икра — кушанье не для народа. Оно сойдет в книге, но
не в календаре. Я заодно с Гафизом — он тоже дер-
жался мнения, что людям надо угождать привычными
и легкими песнями, что даст тебе право время от вре-
мени подсовывать им тяжелое, трудное, недоступное.
Без дипломатии не обойтись и в искусстве. Ведь это
дамский календарь. «Будь с женщиною мягок,
о Адам!» Оно бы подошло, но не годится из-за кри-
вого ребра: «Согнешь, а оно пополам. Оставишь в по-
кое — совсем скривится». К тому же оно погрешает
против дипломатии и может быть преподнесено только
в книге. «Ведь камыш затем возник, чтоб мирам дать
сладость». Это уже лучше, отберем еще кое-что весе-
лое, изящное и прочувствованное. «Комком был дя-
дюшка Адам» или, быть может, это? — О робкой капле,
наделенной крепостью и стойкостью, дабы жемчужи-
ной красоваться в царском венце. Или вот прошло-
годнее: «При свете месяца в раю» — о двух сокровен-
ных господних мыслях. Каково ваше мнение?
— Прекрасно, ваше превосходительство. Может
быть, еще изумительное: «Не хочу терять поэта»? Они
так красивы, эти стихи: «Ты мои младые лета страстью
мощною укрась».
— Гм, нет! Это женский голос. А мне думается,
что дамам любезнее голос мужчины и поэта, потому
остановимся на предшествующем: «Если горстью пепла
буду, скажешь — для меня сгорел».
— Отлично. Признаюсь, я охотно видел бы при-
нятым мое предложение, но, делать нечего, удоволь-
ствуюсь сочувствием вашему отбору. Позволю себе
только обратить внимание вашего превосходительства
на: «Так солнце, Гелиос Эллады», которое, мне
кажется, нуждается в дополнительном просмотре.
Там в одном месте с рифмой обстоит не вполне бла-
гополучно.
— Ах, медведь рычит, как умеет. Оставим пока как
есть, а там посмотрим. Садитесь к столу, я буду дик-
товать из «Правды и поэзии».
■— К услугам вашего превосходительства,
650
— Любезнейший, привстаньте-ка на минутку, вы
уселись на фалду вашего сюртука. Через час она бу-
дет выглядеть пребезобразно, измятая, изжеванная, и
всему виной окажусь я и моя диктовка. Пусть обе
фалды свисают со стула в благотворной непринужден-
ности, прошу вас.
— Покорнейше благодарю за заботу, ваше превос-
ходительство.
— Так начнемте же или, вернее, продолжимте, ибо
начинать труднее.
«В то время... мои отношения с сильными мира
сего... складывались весьма благоприятно. Хотя
в «Вертере» и изображены трения между двумя раз-
личными сословиями...»
Хорошо, что он убрался, что завтрак положил ко-
нец нашим занятиям. Не терплю этого малого, прости
господи! Какой бы образ мыслей он ни усваивал, мне
он одинаково нестерпим. С новыми своими убежде-
ниями он еще противнее, чем со старыми. Если бы
письмо Гуттена к Прикгеймеру, честные убеждения
нашего дворянства тех времен и франкфуртский жиз-
неный уклад не были вчерне уже набросаны, я бы
с ним не сидел. Запьем крылышко куропатки глот-
ком доброго вина, солнечного противоядия гадкому
привкусу, оставшемуся у меня в душе после этого
голубчика. Зачем я, собственно, обещал ему рекомен-
дацию в Дрезден? Досадно! Дело в том, что меня
соблазнила изящная эпистолярная форма, — наслаж-
дение формой, удачными оборотами таит опасность,
частенько заставляет нас забывать о практическом
воздействии слова, и невольно начинаешь говорить
как бы от имени того, кто мог бы думать этими
словами.
Что мне было делать — одобрить, поощрить его не-
опрятное честолюбие? Из него и так выйдет фанатик
правопорядка, Торквемада законности. Станет дони-
мать юнцов, которые, как некогда он сам, мечтают
о свободе. Приходится быть последовательным и хва-
лить его за его обращение, хотя всей этой бестолков-
щине грош цена. Почему я, собственно, против вождс-
651
ленной свободы печати? Потому что она порождает
посредственность. Ограничивающий закон благотво-
рен, ибо оппозиция, не знающая узды, становится
плоской. Ограничения же понуждают к находчивости,
а это большое преимущество. Прям и груб может
быть лишь тот, кто прав безусловно. Спорящая сто-
рона никогда не права безусловно, на то она и споря-
щая сторона. Ей пристала косвенная речь, на кото-
рую такие мастера французы, у немцев же сердце не
на месте, если им не удастся напрямик высказать
свое почтенное мнение. Так мастером косвенной речи
не станешь. Нужна культура! Принуждение обостряет
разум, вот и все. А этот Джон — хриплый дурак.
Стоит ли он за или против правительства — один
черт. А еще воображает, что обращение его глупой
душонки невесть какое событие!
Противный и мучительный разговор — я это понял
задним числом. Испортил мне завтрак гарпиевыми
нечистотами. Что он обо мне думает? И как, пола-
гает, думаю я? Вообразил, верно, что теперь мы
единомышленники? Вот осел! Но почему я так на него
досадую? Разве он вызывал во мне эту досаду, скорее
похожую на скорбь или хотя бы заботу и самово-
прошание? Нет, в ней есть все оттенки тревог и со-
мнений, и относится она, конечно, не к этому малому,
но к моему творению, ибо оно объективизированная
совесть. Радость свершения — вот это что! Великое,
прекрасное деяние. Фауст должен прийти к деятель-
ной жизни, к государственной жизни, к жизни в слу-
жении человечеству. Высокий порыв, несущий ему
освобождение, должен отлиться в формы большой
политики, — тот, великий хрипун, понял это и сказал
мне и притом не сказал ничего нового. Ему, конечно,
легко было говорить, от слова «политика» у него не
сводило рот, как от кислого плода, у него нет... Для
чего мне Мефистофель? И все же этот бурный, разо-
чарованный искатель может и должен от метафизи-
ческой спекуляции обратиться к идеально-практиче-
скому, даже если науку о человечестве ему преподает
черт. Кто был он и кто был я, когда, сидя в своей
норе, он философически штурмовал небеса? А потом
652
затеял убогие шашни с девчонкой. Из ребяческого
вздора, из гениального пустяка поэма и герой пере-
росли в объективное, в действительное мировосприя-
тие, в мужественный дух. От норы ученого до каби-
нета алхимика при дворе императора... Ненавидящим
ограничения, жаждущим невозможного и наивысшего,
таким должен остаться этот вечный искатель и здесь,
Вопрос только в том, как действенное мировосприятие
и мужественную зрелость объединить с прежней не-
обузданностью? Политический идеализм, стремление
осчастливить человечество — значит он остался ни-
щим, алчущим недостижимого? Это удачная мысль.
Надо записать и вставить, где будет уместно,
В ней заключен целый мир аристократического реа-
лизма, и может ли быть что-нибудь более немецким,
чем немецким же покарать немецкое. Итак, союз
с властью во имя деятельного насаждения лучшего,
благородного и желательного на земле. Что он тер-
пит крушение, что император и двор изнывают от
скуки, слушая его разглагольствования, и черт дол-
жен вмешаться, чтобы дерзкой болтовней спасти по-
ложение,— это дело решенное. Политический мечта-
тель оказывается жалким maître de plaisir, physicien
de la cour1 и чудеснымфейерверкером. Карнавал меня
радует. Можно будет устроить роскошное шест-
вие мифологических фигур, произносящих всевозмож-
ный глубокомысленный вздор, какое в действитель-
ности, на дворцовом маскараде в день рождения его
высочества, например, или при посещении Веймара
членами королевского дома, обошлось бы слишком
дорого. К таким затеям все и свелось сатирически
горьким образом. Но сначала все должно быть
всерьез, сначала он хочет править на благо людям,
и надо отыскать звуки веры. Из этой груди будут они
почерпнуты. Как это у меня? «Святой глагол к бла-
гим делам взывает, об этом знает смертный человек
и песням издавна внимает». Недурно. Сам господь,
позитивное начало, творческая благость, мог бы
в прологе ответить черту этими словами, и я бы при-
Устроитель празднеств, придворный алхимик (франц.).
653
соединился к ним, ибо я там, где позитивное начало,
я не имею несчастья примыкать к оппозиции. Да я и
не хочу сказать, что Мефистофель станет верховодить
при императорском дворе. Фауст не хочет, чтобы черт
преступил порога удиенц-зала. Запрещает фиглярнича-
нию и шутовству в слове и в деле проявляться перед
лицом императора. Магию и дьявольский морок
надо наконец устранить с его пути — здесь, как и
в Елене. Ибо и ей Персефона дозволяет вернуться
на землю лишь при условии, что все остальное будет
свершаться просто и по-человечески и что жених за-
воюет ее любовь лишь силою своей страсти. Примеча-
тельная подробность! Одного я знаю, кто стал бы
настаивать на ней, если б он мог еще настаивать...
И все же там есть другое условие, к которому все
сводится, от которого только и зависит возможность
снова заставить потечь застопорившееся было юно-
старческое, и это — непринужденность и абсолютная
шутка. Спасение только в игре, в фантастической
опере. Только так, я полагаю, мне удастся завершить
этот фарс. А что даже вы, почтеннейший, можете
иметь против игры, против высшей ветрености, когда
у вас на языке вечно вертелись слова «непоэтическая
серьезность»? В письмах о воспитании вы, может
быть, даже слишком наставительно упивались эсте-
тической игрой. Да, это легкость, но она трудна*
А в той сфере, где легкость стоит труда, там легко и
трудное. И если эта сфера не в моем творении, зна-
чит, ее не существует вовсе. Классическая Вальпур-
гиева ночь (мысленно я отклоняюсь от политической
сцены и, хоть замечаю, что охотно дам увести себя
от нее, все же в глубине души сознаю — мне было бы
приятнее,, реши я с самого начала опустить ее; я и
сейчас это чувствовал в разговоре с хриплым ослом —
правда, и злился на это чувство, но только потому, что
жаль было уже написанных стихов)... классическая
Вальпургиева ночь — это будет грандиозная шутка,
заставляющая думать о радостном, светлом, обна-
деживающем. И как же она превзойдет придворный
маскарад,— игра, налившаяся мыслью, тайнами жиз-
ни и пропитанная шутливо-задумчивым, Овидиевым
654
толкованием воплощения человека — без всякой тор-
жественности, легчайшая и веселая Мениппова са-
тира,— а есть ли у меня Лукиан? Ах да, вспомнил,
где он; надо будет перечитать и это пособие. Сердце
ёкает, как вспомню, на что мне еще пригодился Го-
мункул, и ведь нечаянно: находка пришла во сне.
Кто бы мог подумать, что он и она, прекраснейшая,
окажутся связанными нерушимо жизненной мистиче-
ской связью, что он пригодится для лукаво-научной,
нептунически-фалесской мотивировки явления чув-
ственной и наивысшей человеческой красоты! «Выс-
ший продукт постоянно совершенствующейся при-
роды— это прекрасный человек». Да, Винкельман
смыслил в красоте и чувственном гуманизме. Его
бы порадовала такая дерзость — биологическую пре-
дысторию красоты вместить в ее явление; мысль, что
любовная сила монады возводит к энтелехии и что
она, вначале сгусток органической слизи на дне
океана, проносясь сквозь безыменные времена, минуя
вереницу дивных жизненных метаморфоз, восходит
к этому благородному, прельстившему образу. Самое
острое и духовное в драме — мотивировка. Вы недо-
любливали ее, любезнейший, воспринимали как нечто
малоценное, считали смелостью презирать ее. Однако,
видите, существует смелость мотивировки, которую уж
никак не упрекнешь в мелочности. Было ли когда-ни-
будь в такой мере подготовлено явление действующего
лица? Правда, оно — сама красота, и тут, конечно,
нужны и уместны особые приготовления. Об этом
должны догадаться позднее, я дам понять это походя,
полунамеком. Здесь все должно быть сведено к ми-
фологическому юмору, к травести, и глубокомыслен-
ное натурфилософское содержание тут противоречит
легкой форме, так же как строгое великолепие изло-
жения в явлении Елены, заимствованное из трагедии,
сатирически противоречит интригующему иллюзор-
ному действию. Пародия... О ней я больше всего
люблю размышлять. «Много мыслишь, много гре-
зишь, раз ступив на путь заветный». Из всех разду-
мий, сопутствующих искусству, это самое нежное и
заветное, Благоговейное разрушение, улыбка при
655
прощании. Охранительное подражание, уже ставшее
шуткой и поношением. Возлюбленное, священное,
древнее, величавый прообраз, повторенный в той ста-
дии и наполненный таким содержанием, которые уже
накладывают на него печать пародийности и делают
продукт позднейшим, приближают его к насмешливо
разгаданным образам поелееврипидовой комедии...
Курьезное существование! Одинокое, непонятное, хо-
лодное! Без собратьев! На свой страх и риск, среди
еще грубого народа, ты должен объединить в себе
всю культуру мира — от доверчивого расцвета и до
все познавшего упадка.
Винкельман... «Точно говоря, прекрасный человек
прекрасен только мгновение». Удивительная сентен-
ция! В метафизическом настигаем мы мгновение кра-
соты, там, где оно, вызвав не меньше восхищения,
чем порицания, выступает в своем меланхолическом
совершенстве, — вечность мгновения, которую покой-
ный друг обожествил этим своим словом. Милый*
болезненно-прозорливый мечтатель, любящая душа,
гениально углубившаяся в чувственность! Знаю ли
я твою тайну, тайну вдохновляющего гения всей
ТЕоей науки — тот почти позабытый ныне восторг, что
связывал тебя с Элладой? Ведь твое слово приложимо
лишь к мужественно-отроческому, к удержанному
в мраморе мгновению юношеской красоты. Правда,
тебе повезло, слово «человек» мужского рода, и потому
ты мог вволю тешить свое сердце омужествлением
красоты. Мне она являлась в юном женском об-
личье... Впрочем, не только в женском. Я способен
понять твои блужданья. С приятным чувством вспо-
минаю я молодого белокурого кельнера в гейсбергском
шинке, где со мной опять был Буассере во всеоружии
сиоей католической скромности. «Для других готовь
ты пенье, а для кравчего молчанье».
В мирах нравственном и чувственном мои по-
мыслы всю жизнь — с любовью и ужасом — устремля-
лись к искушению. Искушение, которое ты претерпе-
вал, действенно испытывал — это сладостное, страш-
ное прикосновение, ниспосланное свыше по прихоти
богов, это грех, в котором мы без вины виноваты, как
656
свершители его и как жертвы тоже, ибо противостоять
искушению не значит его уже более не ведать — та-
кого испытания никто не выдерживает; оно слишком
сладостно. Ты не можешь выдержать его потому, что
ты его испытал. Богам любо ниспосылать нам искуше-
ние, нас в него вводить так, словно оно от нас исхо-
дит, парадигма всех искушений и виновностей, ибо
одно здесь равняется другому. Мне в жизни не до-
водилось слышать о преступлении, которого я не мог
бы совершить. Не совершив проступка, ускользаешь
лишь от земного судьи, не высшего, ибо в сердце
своем ты все же совершил его. Искушение собствен-
ным полом следовало бы рассматривать как феномен
мести, насмешливого воздаяния за искушение самим
собою — извечное обольщение Нарцисса своим отра-
женным ликом. Месть всегда связана с искушением,
с испытанием, которого нельзя избежать тем, что не
поддался ему — «воля Брамы так гласит». Отсюда
вожделение, ужас при раздумий об этом. Отсюда пло-
доносное содрогание, которое вызывает во мне тема
стихотворения, рано задуманного, всегда откладывае-
мого и еще подлежащего откладыванию, о супруге
брамина, богине париев, в котором я прославлю иску-
шение и таинственно возвещу о нем. Что я его храню
и все откладываю, что я дарую ему десятилетия ста-
новления, созревания во мне — порука удачи. Я не могу
забросить этот замысел, даю ему перезреть, проношу
через все возрасты жизни. Пусть же, зачатое в юно-
сти, оно возникнет однажды преисполненным тайны
поздним творением, очищенное, сконденсированное
временем, предельно лаконичное, как дамасский кли-
нок, выкованный из стальных нитей, — таким оно мне
мерещится.
Точно знаю источник, откуда оно явилось мне
много, много лет назад — как и «Бог и баядера»: пе-
реведенное на немецкий. «Путешествие в Ост-Индию и
Китай» — продуктивный хлам, верно оно где-нибудь
плесневеет среди литературного скарба. Я уж почти
не помню, в чем там дело, помню только, как робко
ко мне складывался и насыщался высшей духовностью
образ благородной, блаженно чистой женщины, иду-
42 Т. Манн, т. 2
657
щей за водой к реке без кувшина и ведер, ибо вода
в ее благочестивых руках дивно превращается в хру-
стальный шар. Я люблю этот прозрачный шар, что
чистая жена брамина благоговейно-радостно несет до-
мой, прозрачный, но осязаемый, чувственный образ
ясности, неомраченности, полной невинности и того,
на что лишь она способна в своей простоте! «Коль
чиста рука певца, влага затвердеет». Да. Я сплочу
в хрустальный шар песнь об искушении, ибо поэт,
многоопытный, многоискушенный искуситель, все еще
на это способен, ему еще остался дар, который и
есть мета чистоты. Но не этой женщине. Ибо для нее
поток отразил чудно прекрасного юношу, она вся
ушла в созерцание, и божественный лик смутил ее
душу, волна зареклась отлиться в форму, и женщина
побрела домой без воды. Супруг все прозрел, месть,
месть бушует в нем, он влечет на смертный холм без
вины виноватую и отсекает ей голову, узревшую веч-
ную красоту, но сын угрожает мстителю последовать
под меч, скосивший мать, как овдовелая жена следует
в огонь, сжигающий останки мужа. Нет! Нет! На мече
кровь не застывает, она течет, как из свежей раны.
Скорее! Приставь голову к туловищу, вознеси мо*
литву, благослови мечом сплочение, и она восстанет.
Страшное деяние! Два скрещенных тела — священное
тело матери и тело казненной преступницы из касты
парий. Сын, о сын, какая поспешность! Голову ма-
тери он приставляет^ к брошенному трупу, осеняет
мечом судии, и великанша-богиня встает во весь рост,
богиня нечистого.
Создай это! Сплоти в упругий языковый монолит!
Нет ничего важнее! Она стала богиней, но и средь
богов ее намерения будут чисты, поступки же странны
■и дики. Перед очами чистый благостный лик юноши
витает в его небесной прелести; но, войдя в сердце
нечистой, он пробудит в нем вожделение, неистовое,
отчаянное. Вечно будет оно возвращаться, смущаю-
щее, божественное видение, мимолетно ее коснув-
шееся. «Век вздыматься, век склоняться, омрачаться,
просветляться, — воля Брамы так гласит». Грозная
она стоит перед Брамой, вразумляя его, неистово
658
поносит громким голосом, выходящим из набух-
шей тайнами груди, — всякой страждущей твари на
благо.
Я думаю, что Брама боится этой женщины, ибо
я ее боюсь, — боюсь, как совести, ее приветливо-
яростного стояния передо мною, ее мудрых желании
и диких поступков. Боюсь и этого стихотворения; де-
сятилетиями откладываю его и все же знаю, что
однажды должен буду его создать. Надо бы заняться
поздравительной одой, продолжить компановку италь-
янского путешествия. Нет, использую свое одиноче-
ство в рабочей комнате и бодрящее тепло мадеры для
более значительных и тайных целей. «Коль чиста
рука певца...»
— Кто там?
— С добрым утром, отец!
— Август, ты? Рад тебя видеть.
— Надеюсь, я не помешал? Ты так быстро соби-
раешь бумаги.
— А что, дитя мое, значит помешать? Помеха—'
все. Зависит лишь, приятна она человеку или нет.
— На этот-то вопрос я и затрудняюсь ответить,
ибо он предложен не мне, а тому, что я с собою при-
нес. Без этого я бы не вторгся к тебе в столь не-
урочный час.
— Я рад тебя видеть, с чем бы ты ни пришел. Но
с чем же все-таки?
— Раз уж я здесь, то, во-первых, позволь спро-
сить: хорошо ли ты спал?
— Спасибо, сон освежил меня.
— И завтрак пришелся по вкусу?
— Отменно. Впрочем, ты задаешь вопросы, как
доктор Ребейн.
— Нет, я спрашиваю от лица целого мира. Про-
сти, ты, кажется, занимался чем-то интересным?
Верно, историей жизни?
— Не совсем. Впрочем, все на свете история
жизни. Но какое известие ты принес? Что, мне силой
выманивать у тебя ответ?
— Приехали гости, отец. Да! Гости издалека и из
старых времен. Остановились в «Слоне». Я услышал
42*
659
об этом еще до того, как пришла записка. В городе
большое волнение. Это старая знакомая.
— Знакомая? Старая? Да что ты тянешь?
— Вот записка.
— «Веймар, двадцать второго... снова взглянуть
на лицо... ставшее миру столь драгоценным... рожден-
ная...» Гм, гм... Курьезно! Действительно курьезное
происшествие! А ты какого мнения? Но погоди, я тоже
кое-что припас для тебя, чему ты подивишься и по-
радуешься. Смотри! Ну что, каков?
— Ах!
— Я знал, что ты глаза раскроешь. Да и есть на
что! Это для света, для зрения. Получил в подарок из
Франкфурта, вклад в мою коллекцию. Одновременно
прибыло несколько минералов из Вестервальда и
с Рейна. Но это — лучшее. Как ты думаешь? Что это
такое?
— Кристалл.
— Ну это само собой разумеется. Гиалит, бесцвет-
ный опал, но исключительный экземпляр по величине
и чистоте. Видал ли ты что-нибудь подобное? Я не
могу на него наглядеться и все думаю, ведь это свет,
это точность, ясность, а? Это произведение искусства,
или, вернее, произведение и проявление природы, кос-
моса, духовного пространства, проецирующего на
него свою вечную геометрию и тем самым делающего
ее пространственной! Посмотри на эти точные ребра
и мерцающие плоскости, — и весь он таков; я мы-
сленно называю это идеальной проструктуренностью.
Ибо вся штука имеет единый, целиком ее проникаю-
щий, наружно и внутренне обусловливающий, повто-
ряющийся вид и форму, которыми определены оси и
кристаллическая решетка; а это-то и роднит его
с солнцем, со светом. Если хочешь знать мое мнение,
то я считаю, что в колоссально разросшихся геоме-
трических гранях и плоскостях египетских пирамид
заложен тот же тайный смысл: соотношение со све-
том, солнцем, пирамиды — это солнечные пятна, ги-
гантские кристаллы, грандиозное подражание ду-
ховно-космическому миру, созданное рукой чело-
века.
660
— Это чрезвычайно интересно, отец.
— Еще бы! Ведь это связано также с прочностью,
с временем и смертью, с вечностью, на них же мы
убеждаемся, что сама по себе прочность не есть по-
беда над временем и смертью, она — мертвое бытие,
которое знает начало, но не становление, ибо с рожде-
нием здесь совпадает смерть. Так длятся во вре-
мени кристаллические пирамиды, простаивают тыся-
челетия, но в этом нет ни жизни, ни смысла, это мерт-
вая вечность, вечность без биографии. К биографии
сводится все, но биография, рано завершившаяся, ко-
ротка и бедна. Видишь, вот эта solis, соль, как алхи-
мики называли все кристаллы, включая и снежинки
(правда, в нашем случае это не соль, но кремневая
кислота), знает лишь один-единственный миг станов-
ления и развития, тот миг, когда кристаллическая
пластинка выпадает из материнского раствора и дает
начало отложению дальнейших частичек. Однако раз-
вития тут нет, мельчайшее из этих образований так
же совершенно/как и крупнейшее, история его жизни
закончилась с рождением кристаллической пластинки,
и теперь оно только длится во времени, подобно пи-
рамидам, может быть, миллионы лет, но время вне
сто, не в нем, вернее оно не стареет, что было бы не-
плохо, не остается мертвым постоянством, а отсут-
ствие жизни во времени происходит от того, что ря-
дом с построением здесь нет разрушения, рядом с об-
разованием— растворения. Иными словами, оно не
ограничено. Правда, самые малые ростки кристал-
лов еще не геометричны, не имеют ни граней, ни пло-
скостей, они округлы и похожи на ростки органиче-
ские. Но это только схожесть, ибо кристалл весь —
структура, с самого начала, а структура светла, про-
зрачна, легко обозрима; но в том-то и загвоздка,
что она смерть или путь к смерти, а у кристалла
смерть и рождение совпадают. Бессмертие и вечная
юность — вот что было бы, остановись весы между
структурой и распадом, между образованием и
растворением. Но они не останавливаются, эти весы,
а с самого начала в органическом перевешивают
структурность, так вот мы кристаллизуемся и длимся
661
только еще во времени, подобно пирамидам. А это
опустошенная длительность, прозябание во внешнем
времени без внутреннего, без биографии. Так же про-
зябают и животные, когда они достигли зрелости и
структура их уже определилась; лишь питание и раз-
множение механически повторяются, всегда неизмен-
ные, как нарастание кристалла, — покуда они живут,
они у цели. Зато ведь и умирают животные рано, ве-
роятно от скуки. Долго не выдерживают своей закон-
ченности и пребывания у цели. Это слишком скучно!
Постыдно и смертельно скучно, друг мой, всякое бы-
тие, остановившееся во времени, вместо того чтобы
нести его в себе и самому создавать время, которое
не напрямик устремляется к цели, а смыкается, как
круг, всегда у цели и все еще у начала. Это было бы
бытие, действующее и работающее внутри себя и над
собою, так что становление и бытие, воздействие и
труд, прошлое и настоящее здесь слилось бы воедино,
и тогда обнаружилась бы длительность, равняющаяся
неустанному подъему, возвышению и совершенство-
ванию. И так вечно... Прими это как комментарий
к сей прозрачной ясности и прости мне мою дидак-
тику. Как дела с сенокосом в большом саду?
— Закончен, отец. Но у меня нелады с этим кре-
стьянином, он опять отказывается платить, говоря,
что после косьбы и перевозки ему еще следует с нас.
Но ничего у этого шельмеца не выйдет, будь покоен,
он прилично заплатит тебе за покос, даже если мне
придется притянуть его к суду.
— Молодчина! Право на твоей стороне. И надо
уметь себя отстаивать. A corsaire, corsaire et demi*.•
Писал ты уже во Франкфурт относительно сложения
с нас пошлин?
— Прости, еще нет, отец. Голова моя полна пла-
нов, но я все еще медлю. Подумай, каким должно
быть письмо, в котором осмеивается эта нелепая теза
об обкрадывании других франкфуртцев! Одуматься
их заставит только убийственное соединение достоин-
ства и иронии... Здесь рубить с плеча не приходится..,
Примерно: «Ты хитер, а я хитрее вдвое» (франц.).
662
— Ты прав, я тоже медлил с этим. Следует вы-
ждать благоприятную минуту, я все еще надеюсь на
счастливый исход. Если бы я сам мог написать им...
Но этого я не могу, мне лучше оставаться в сто-
роне.
— Безусловно, отец! В таких делах ты нуждаешься
в прикрытии, в ширме. И я всецело к твоим услугам.
О чем же пишет госпожа надворная совегница?
— Ну, а что слышно при дворе?
— Ах, там все поглощены маскарадом у принца
и кадрилью, которую нам опять придется репетиро-
вать сегодня вечером. Все еще ничего не решено от-
носительно костюмов; важно, чтобы они произвели
надлежащее впечатление в полонезе, но до сих пор
не выяснено, будет ли он пестрым парадом ad libi-
tum, или воплощением одной определенной идеи. Пока
что желания весьма различны, отчасти и из-за имею-
щихся в наличии аксессуаров. Сам принц настойчиво
желает изображать дикаря. Штафф хочет нарядиться
турком, Штейн — савояром, госпожа Шуман мечтает
о греческом уборе, а супруга актуария Ренча о ко-
стюме цветочницы.
— Ну, это уж du dernier ridicule1, Ренчиха — цве-
точница? Могла бы помнить о своих годах. Надо ее
вразумить. Римская матрона — на большее ее не
станет. Если принц хочет быть дикарем, можно зара-
нее сказать, куда он метит. Дошутится со злополуч-
ной цветочницей до скандала. Знаешь, Август, я ду-
маю взять это дело в свои руки, по крайней мере по-
лонез. По-моему, его следует привести к одному зна-
менателю, а не делать пестрым и произвольным, или
по крайней мере придать ему легкий, фантастический
характер. Как в персидской поэзии, так во всем и
везде удовлетворение приносит лишь верховное, ру-
ководящее начало, то, что мы, немцы, называем «дух».
У меня есть план изящного маскарадного шествия,
распорядителем и даже герольдом которого я хотел
бы быть сам, так как оно должно сопровождаться
легким, крылатым словом и музыкой мандолин, ги-
1 Просто на смех (франц.).
663
тар, теорб. Цветочница — ладно, пусть выходят хоро-
шенькие флорентийские цветочницы и в крытых зе-
ленью аллеях раскладывают груды своего товара.
Их должны сопровождать загорелые садовники, при-
несшие на рынок свежие плоды, так чтобы под зеле-
ными украшенными сводами взору представилось все
изобилие года: бутоны, листья, цветы, плоды. Но
этого мало, хорошо бы рыбакам и птицеловам с се-
тями, сачками и удочками замешаться в пеструю
толпу; тут начнется погоня, веселое кружение, суета
и беготня, которые будут прерваны лишь вторжением
простоватых дровосеков, олицетворяющих грубость,
неизбежную даже в изящнейшем. Затем герольд воз-
вестит шествие греческих божеств, по пятам за пре-
лестными грациями пойдут сумрачные парки. Антро-
пос, Клото и Лахезис, с прялками, пряжей и ножни-
цами. И едва лишь промелькнут три фурии, впрочем
не в виде неистовых, отталкивающих созданий, но мо-
лодых женщин, властных, вкрадчивых, немного злых,
как уже тяжко вдвинется сущая гора, живой колосс,
увешанный коврами и увенчанный башней, настоящий
слон, на затылке которого восседает очаровательная
девушка с остроконечным жезлом в руках, наверху
же, в шатре, величественная богиня...
— Но помилуй, отец! Откуда же мы возьмем
слона, и как же во дворце...
— Оставь, не расхолаживай меня! Это уж как-
нибудь устроится: можно соорудить огромный остов,
с хоботом и клыками, да еще поставить его на колеса.
На нем будет Виктория, крылатая богиня, покрови-
тельница всех подвигов. А сбоку, в цепях, медленно
пойдут две женщины, красивые и благородные, ибо
то Боязнь и Надежда, закованные в цепи умом, ко-
торый и представит их публике как заклятых врагов
человечества.
— И Надежду тоже?
— Непременно! С не меньшим правом, чем
Боязнь. Подумай только, какие нелепые и сладостные
иллюзии она внушает людям, нашептывая им, что они
будут некогда жить беззаботно, как кому вздумается,
что где-то витает счастье. Что же касается велико-
664
лепной Виктории, то пусть Терсит изберет ее целью
для своей омерзительно развенчивающей воркотни,
столь нестерпимой герольду, что он рванется смирить
жезлом этого грязного пса, карлик скрючится от боли
и превратится в комок, комок же на глазах у всех
станет яйцом. Оно треснет, и мерзостные близнецы
вылупятся из него, гадюка и летучая мышь; одна нач-
нет ползать в пыли, другая черным пятном взовьется
к потолку...
— Но, милый отец, как мы все устроим, как, хотя
бы иллюзорно, воссоздадим эту сцену с трескающимся
яйцом, гадюкой и летучей мышью!
— Ах, немножко охоты и любви к чувственному
восприятию — и все устроится без труда. Но это еще
не конец неожиданностям, ибо тут въедет квадрига,
управляемая прелестным ребенком, позади которого
восседает владыка с широким лунным ликом и в тюр-
бане. Представлять обоих публике опять же возьмется
герольд. Лунный лик—это Плутон, богатство. А в пре-
лестном мальчике-вознице с блестящим обручем
в черных кудрях, все узнают поэзию, понимаемую как
расточительность, которая украшает пиршество царя
богатств. Стоит ему только щелкнуть пальцами, этому
мошеннику, и от щелчка посыплются жемчужные нити,
золотые запястья и гребенки, и корона, и драгоцен-
ные перстни, из-за которых станет драться толпа.
— Хорошо тебе говорить, отец! Запястья, алмазы,
жемчужные нити! Ты, верно, хочешь сказать: «Чешу
загривок, бью в ладоши».
— Пусть это будут дешевые безделушки и мелкая
монета. Мне важно только аллегорически изобразить
взаимоотношение щедрой, расточительной поэзии и
богатства, так, чтобы это напомнило Венецию, где ис-
кусство цвело, как тюльпан, вскормленное тучной
почвой торговых прибылей. Пусть Плутон в тюрбане
скажет прелестному мальчику: «Сын мой, я возлюбил
тебя».
— Но, отец, никак нельзя, чтобы он так выра-
жался. Это было бы...
— Было бы весьма желательно устроить так, чтобы
маленькие огоньки—дар прекрасного возницы —
665
вспыхивали то на одной, то на другой голове; огоньки
духа, остающиеся на одном, на другом меркнущие,
быстро вспыхивающие, лишь редко на ком ровно и
долго горящие, в большинстве же случаев печально
угасающие. Так мы показали бы отца, сына и свя-
того духа.
— Но, право же, это абсолютно невозможно, отец!
Не говоря уже о технической невыполнимости! Двор
повергся бы в смущение. Это сочли бы осквернением
религии и отъявленным кощунством.
— Как так? Какое ты имеешь право подобные
сцены и изящные аллегории называть кощунством?
Религия и весь мир ее образов — ингредиент куль-
туры, которым можно пользоваться, как веселой и
многозначительной метафорой, чтобы в приятной и
любезной глазу картине сделать более ощутимым и
наглядным общеизвестный духовный замысел.
— Но ингредиент, все же несколько отличный от
других, отец. Таким ингредиентом религия может быть
для тебя, но не для рядового участника маскарада
и даже не для двора, по крайней мере в наши дни.
Правда, город равняется по двору, но ведь отчасти и
двор по городу, и как раз теперь, когда религия снова
в такой чести у молодежи и в обществе.
— Ну, баста! В таком случае я снова упакую мой
маленький театр вместе с его спиртовыми огоньками
и скажу вам, как фарисеи Иуде: «Глядите вы!» За-
сим должно было следовать еще много веселой сума-
тохи, шествие великого пана, дикая орда сухоногих
фавнов и сатиров с остроконечными рожками, добро-
желательных гномов, нимф и великанов из Гарца,
но я все запомню и посмотрю, нельзя ли будет
пристроить это куда-нибудь, где меня не достанет
ваш модный взор, ибо кто не понимает шуток, тому
я не товарищ. Но от какой, собственно, темы мы
уклонились?
— Мы уклонились от полученной тобою записки,
отец, относительно которой ты еще ничего не решил.
Что пишет госпожа советница Кестнер?
— Ах да, записка. Ты ведь принес мне ее billet-
doux. О чем она пишет? Гм, я тоже кое-что написал,
666
прочти-ка сначала вот это un momentino, предназна-
ченный для «Дивана». «Твердят, что глупым создан
гусь, но думать так — неверно: оглянется, — остере-
гусь ускорить шаг чрезмерно».
— О отец, прелестно, весьма пристойно или не-
пристойно, если хочешь, но вряд ли это пригодится
для ответа.
— Нет? А я-то думал. Тогда надо придумать что-
нибудь другое. Прозаическое — наилучший ответ —
обычное для всех почетных веймарских пилигримов
приглашение отобедать.
— Это само собой разумеется. Письмецо очень
мило написано.
— О, весьма. Как ты думаешь, много бедняжка
над ним -потрудилась?
— Приходится тщательно выбирать слова, когда
пишешь тебе.
— Неприятное чувство.
— Это оковы культуры, которые ты налагаешь на
людей.
— А когда меня не станет, они скажут «У-уф!» —
и опять начнут визжать, как поросята.
— Да, эта опасность грозит им.
— Не говори — «опасность». Оставь их при их
натуре. Я не любитель гнета.
— Кто говорит об угнетении? Или, тем паче,
о смерти? Ты еще долго, нам на славу и радость, бу-
дешь нашим властителем.
— Ты думаешь? Но я не совсем хорошо себя чув-
ствую сегодня. Рука болит. Опять мне докучал этот
хрипун, а потом я с досады долго диктовал, что не-
изменно действует на нервную систему.
— Надо понимать, ты не пойдешь с визитом к кор-
респондентке и предпочел бы отложить также и от-
вет на записку.
— Надо понимать, надо понимать. У тебя не
слишком приятная манера делать выводы. Ты прямо-
таки выковыриваешь их из меня.
— Прости, я блуждаю в потемках касательно
твоих чувств и желаний.
667
— Я тоже. А потемки полны таинственных шепо-
тов. Когда прошлое и настоящее сливаются воедино,
к чему издавна тяготела моя жизнь, настоящее обле-
кается в тайну. В стихах это приобретает большую
прелесть, в действительности же часто нас тревожит.
Ты сказал, что этот приезд вызвал в городе волне-
ние?
— Немалое, отец. Да и как же иначе? Народ тол-
пится у гостиницы, каждый хочет взглянуть на ге-
роиню «Вертера». Полиция с трудом поддерживает
порядок.
— Дурачье! Но, видно, культура изрядно-таки
распространилась в Германии, если это возбуждает
столь большое смятение и любопытство. Скверно,
сын мой! Прескверная, пренеприятная история! Про-
шлое вступило с глупостью в заговор против меня,
чтобы внести в мою жизнь вздор и беспорядок. Не-
ужели старушка не могла поступиться своей затеей и
избавить меня от лишних толков?
— Что мне ответить тебе, отец! Надворная со-
ветница, как видишь, не заслужила упреков: она на-
вещает своих родственников. Риделей.
— Ну, разумеется, она навещает их, старая ла-
комка! Хочет полакомиться славой, понятия не имея,
что слава и сплетня всегда досаднейшим образом пе-
реплетаются. И вот в результате — скопление народа.
А какую экзальтацию, сколько насмешек, перешепты-
ваний и переглядываний это вызовет в обществе! Сло-
вом, все это надо по мере сил предотвратить или хотя
бы сгладить. Придется прибегнуть к самому рассу-
дительному, трезвому и сдерживающему тону. Мы
дадим обед, в интимном кругу, пригласив и ее
родственников, в остальном же будем держаться
в стороне, чтобы не поощрять любителей сенса-
ций.
— Когда он состоится, отец?
— В ближайшие дни, но не тотчас же. Верные
масштабы, верная дистанция. С одной стороны, надо
иметь время присмотреться к обстоятельствам и
к ним попривыкнуть, с другой же, не след слишком
долго откладывать встречу. Лучше отделаться поско*
668
рее. В данный момент кухарка и горничная заняты
стиркой.
— Послезавтра белье уже будет в комодах.
— Хорошо, так через три дня.
— Кого пригласить?
— Ближайший круг, слегка разбавленный чу-
жими. В подобных случаях желательна чуть-чуть рас-
ширенная интимность. Итак: мать и дочь с четою
Риделей, Майер и Ример с дамами, Кудрэй или,
пожалуй, Ребейн, советник Кирмс с супругой. Кто
еще?
— Дядя Вульпиус?
— Отменяется. Нелепая мысль!
— Тетя Шарлотта?
— Шарлотта? То есть фон Штейн? Да бог с то-
бой! Две Шарлотты. Это, пожалуй, многовато. Разве
я не призывал к осторожности, обдуманности? Если
она явится, ситуация будет излишне острой. Откло-
нит приглашение, начнутся пересуды.
— Ну, так, быть может, господин Стефан Шютце?
— Хорошо! Пригласи этого беллетриста. К тому
же в городе сейчас горный советник Вернер изФрей-
бурга, геогностик, позовем и его, чтобы было с кем
переброситься словом.
— Итак, нас будет шестнадцать.
— Может, кто-нибудь отклонит приглашение!
— Нет, отец, уж они явятся все! Костюм?
— Вечерние туалеты. Мужчины во фраках и при
орденах.
— Пусть так. Правда, это все друзья дома, но число
приглашенных оправдывает известную торжествен-
ность. К тому же это знак внимания к приезжей.
— Так и я считаю.
— Заодно мы будем иметь удовольствие опять
видеть тебя при Белом соколе. Я чуть не сказал при
Золотом руне.
— Это была бы странная и весьма лестная для
нашего молодого ордена обмолвка.
— И все же она чуть было не соскочила у меня
с языка. Вероятно, потому, что эта встреча мне ка-
жется запоздалой встречей Эгмонта с девушкой из
669
народа. В вецларские дни ты еще не мог блеснуть
испанской роскошью перед этой Клерхен.
— Ты в веселом настроении, и оно не слишком
улучшает твой вкус.
— Слишком хороший вкус — следствие дурного
настроения.
— У нас обоих еще много дел до обеда!
— Твоим ближайшим — верно, будет написать
приглашение надворной советнице?
— Нет, ты пойдешь к ней. Это и больше и
меньше. Передашь поклон и мое «добро пожаловать».
А также, что я почту большой честью видеть ее
у себя за столом.
— Вернее, для меня будет большой честью пред-
ставлять твою особу. По столь торжественному по-
воду мне не доводилось это делать, если не считать
похорон Виланда.
— Мы увидимся за обедом.
Глава восьмая
Шарлотте Кестнер не стоило больших трудов
объяснить свое и вправду беспримерное опоздание,
с каким она 22 сентября явилась на Эспланаду к Ри-
делям. Наконец-то, очутившись среди близких,
в объятиях младшей сестры, рядом с которой стоял
растроганный супруг, она была избавлена от подроб-
ного отчета о событиях, занявших у нее все утро и
даже часть дня. Лишь на завтра она исподволь, от-
части в ответ на расспросы, отчасти по собственному
почину, возвратилась к разговорам, которые ей до-
велось вести в день приезда. Даже о приглашении,
переданном последним из ее посетителей в «Слоне»,
она с восклицанием: «Ах, боже мой!» — вспомнила
лишь несколько часов спустя и тут же, не без
поспешной настойчивости, потребовала от родных
одобрения письмецу, посланному ею в прославленный
дом тотчас же по прибытии в Веймар.
— Я это сделала отчасти, а может быть, и глав-
ным образом, ради тебя, — обратилась она к зятю. —»
670
Почему бы и не возобновить знакомства, пусть давно
отошедшего в прошлое, если это может пойти на
пользу родным?
И тайный камеральный советник, метивший на
пост директора герцогской камер-коллегии, тем бо-
лее вожделенный, что с ним был связан значительно
больший оклад, — а со времени нашествия французов
Ридели жили только на жалованье, — благодарно
улыбнулся ей в ответ. Это было бы уж не первое
благодетельное вмешательство в карьеру камераль-
ного советника со стороны друга свояченицы. Гете
ценил его. В свое время он помог молодому гам-
буржцу, домашнему учителю в одной графской
семье, получить место воспитателя наследного принца
Саксен-Веймарского, которое тот и занимал в тече-
ние ряда лет. В салоне мадам Шопенгауэр доктор
Ридель неоднократно встречался с поэтом, но в доме
на Фрауенплане не бывал, а потому ему было более
чем приятно теперь благодаря приезду Шарлотты
получить в него доступ.
Впрочем, о предстоящем обеде, еще в тот же ве-
чер подтвержденном письменным приглашением, все
эти дни упоминалось лишь бегло и мимоходом, даже
с какой-то уклончивой поспешностью, словно семья,
занятая собственными делами, вовсе о нем позабыла.
То, что званы были только супруги Ридель, без
дочерей, а также предписанная форма одежды,
говорило об официальном характере приема — это-
го они мимоходом касались в разговорах, и затем,
после паузы, когда каждый, по-видимому, взвеши-
вал, считать ли это обстоятельство благоприятным,
или нет, разговор быстро принимал другое направле-
ние.
После долгой разлуки, в продолжение которой про-
исходил лишь редкий обмен письмами, о столь мно-
гом предстояло потолковать, вспомнить, обменяться
мнениями. Дела и судьбы детей, братьев, сестер,
племянников подлежали обсуждению в первую оче-
редь. О некоторых из тех малышей, чьи образы, за-
печатленные в момент, когда Лотта оделяла их хле-
бом, вошли в бессмертное творение и стали достоя-
671
нием и утехой всего человечества, оставалось лишь
благоговейно печалиться. Четыре сестры отошли
в вечность, и первой из них,— Фредерика, старшая,
надворная советница Диц, пять осиротевших сыно-
вей которой теперь занимали видные посты в судах
и магистратурах. Незамужней осталась только чет-
вертая, София, тоже скончавшаяся уже восемь лет
назад в доме их брата Георга, человека весьма пре-
успевшего, в чью честь Шарлотта назвала своего пер-
венца. Брат Георг, женившийся на богатой девице
из Ганновера, стал преемником отца, старого Буффа,
и поныне, к своему и общему удовольствию, занимал
место амтмана в Вецларе.
Да и вообще, мужская половина той, ныне бес-
смертной, группы выказала себя более жизнестойкой
и выносливой, чем женская, — если не считать двух
старых дам, сидевших теперь в комнате Амалии Ри-
дель и за рукоделием обсуждавших дела, минувшие
и настоящие. Их старший брат Ганс, тот, что не-
когда был в особенно коротких отношениях с докто-
ром Гете и с детской безудержностью радовался
книжке о Вертере, когда она, наконец, прибыла, раз-
вивал полезную и доходную деятельность в качестве
главноуправляющего графа фон Сольмс Редельгейм.
Второй, Вильгельм, был адвокатом, а младший, Фриц,
полковником нидерландской службы. За вязанием,
под стук деревянных спиц, нельзя было не вспомнить
и о брандтовых дочках, Анхен и Дортель, юноподоб-
ной. Слышно ли что-нибудь о них? Время от времени.
Дортель, черноокая, вышла замуж не за того надвор-
ного советника Целла, чье тривиальное ухаживание
некогда служило источником наомешек для веселого
кружка и, в первую очередь, для того досужего прак-
тиканта прав, тоже не вовсе нечувствительного к пре-
лести черных глаз, но за доктора медицины Гесслера,
которого смерть рано разлучила с ней, так что те-
перь она уже в продолжение многих лет живет
в Бамберге домоправительницей своего брата. Ан-
хен вот уже тридцать пять лет прозывается госпожой
советницей Вернер, а Текла, третья, прожила мир-
672
ную и беспечную жизнь бок о бок с мужем, Виль-
гельмом Буффом, прокуратором.
Все были вспомянуты, живые и мертвые. Но по-
настоящему Шарлотта оживлялась, лишь когда речь
заходила о ее сыновьях, почтенных людях, уже по
четвертому десятку, занимавших видное положение,
как, например, Теодор, профессор медицины, или Ав-
густ, легационный советник. Тогда нежная краска,
так прелестно ее молодившая, заливала щеки старой
дамы, и она старалась удержать в равновесии слегка
трясущуюся голову. Не раз обсуждалось посещение
Гербермюле этими ее двумя сыновьями, да и вообще
имя прославленного веймарца, чье существование, не-
смотря на всю его величавую обособленность, было
с юных лет переплетено с жизнью и судьбами этого
семейного кружка, хотя и избегаемое, не раз вкрады-
валось в разговор обеих дам. Так, например, Шар-
лотта вспомнила о путешествии из Ганновера в Вец-
лар, совершенном ею вместе с Кестнером без малого
тридцать лет назад, когда они, проездом через Франк-
фурт, посетили мать юного беглеца. Молодая чета
и имперская советница пришлись так по душе друг
другу, что последняя изъявила согласие стать вос-
приемницей их младшей дочурки. Тот, кто, по соб-
ственным его словам, хотел бы крестить всех их де-
тей без исключения, был тогда в Риме, и мать, только
что неожиданно получившая краткую весть о его пре-
бывании в Вечном городе, изливалась в гордых рас-
сказах о своем необыкновенном дитяти, которые Лотта
хорошо запомнила и теперь повторяла сестре. Как
бесконечно плодотворна будет эта поездка, воскли-
цала мать, какие горизонты откроет она человеку его
орлиного взгляда, зоркого ко всему доброму и ве-
ликому,— благословенной станет она не только для
него, но и для всех, кому суждено счастье жить ря-
дом с ним. Да, такой жребий выпал этой матери, что
она решительно и безоговорочно называла счастли-
выми тех, кому дано было войти в жизненный круг
се сына. Она вспомнила слова своей подруги, покой-
мой фон Клеттенберг: «Ваш Вольфганг выносит из
поездки в Майнц больше, чем другие из посещений
43 Т. Манн, т. 2
673
Парижа и Лондона». Он обещал, объявила счастли-
вица, на обратном пути завернуть к ней. О, тогда ему
придется рассказать все, до последней мелочи, а она
созовет друзей и знакомых и на славу попотчует их;
торжественно станет свершаться пир, и дичи, жар-
кого, птицы будет что песчинок на дне морском. Из
этого, кажется, ничего не вышло, заметила Амалия
Ридель, и ее сестра снова перевела разговор на своих
сыновей, чья почтительная приверженность и регу-
лярные посещения давали и ей повод к известному
материнскому бахвальству.
Что она немного докучала этим сестре, от нее не
укрылось. И так как, разумеется, нельзя было не
обсудить вопроса о туалетах для предстоящего обеда,
то Шарлотта, с глазу на глаз, посвятила камераль-
ную советницу в свой замысел, в игриво-веселую
затею — повторить вольпертсгаузеновский бальный
наряд с недостающим розовым бантом. Случилось
так, что она сначала выспросила младшую сестру от-
носительно ее туалета, сама же в ответ на такой во-
прос сперва замкнулась в стыдливое, конфузливое
молчание, а затем, покраснев, выложила ей свой мно-
гозначительный в литературном и личном смысле за-
мысел. Впрочем, мнение сестры она тут же предвос-
хитила и в известной мере опередила рассказом о том,
сколь неприятно было ей холодное и критическое от-
ношение Лотхен-младшей к ее затее. Посему, навряд
ли много значило, что Амалия нашла ее план очаро-
вательным— хотя мина, с какой она это сказала, не
слишком соответствовала ее словам, — и, как бы
в утешение, тут же добавила, что если даже хозяин
дома и не заметит намека, то уж, верно, найдется
кто-нибудь, кто обратит внимание на банты. Больше
она к этому предмету не возвращалась.
Вот и все, что можно сказать о беседах вновь сви-
девшихся сестер. Достоверно известно, что в эти пер-
вые веймарские дни Шарлотта Буфф ограничила свои
встречи семейным кругом. Снедаемому любопытством
обществу пришлось дожидаться ее появления, народ
же видел ее на прогулках, которые она совершала с со-
строй по идиллическому городу и парку, возле «Храма
674
тамплиеров», или по вечерам, когда она, в сопрово-
ждении служанки, дочери, а иногда и доктора Ри-
деля, возвращалась с Эспланады в свою гостиницу
на Рыночной площади; почти все узнавали ее, если
не непосредственно, то по ее провожатым, и, никогда
не оглядываясь, прямо смотря перед собой добрыми
голубыми глазами, она нередко слышала, как зами-
рали шаги прохожих, останавливавшихся, чтобы по-
лучше в нее всмотреться. Ее добродушно-достойная,
немного величавая манера отвечать на приветствия,
относившиеся к ее родным, хорошо известным в го-
роде, но почтительно адресуемые и ей, возбуждали
много толков.
Так настал лишь мимоходом упоминавшийся
в разговорах и ожидаемый в напряженно-тревожном
молчании день почетного посещения. Карета, нанятая
Риделем, отчасти из попечения о туалетах дам и соб-
ственных башмаках, — ибо сей знаменательный день
25 сентября клонился к дождю, — отчасти же из ува-
жения к событию, уже стояла у подъезда, когда около
половины третьего все семейство, едва дотронувшись
до второго холодного завтрака, уселось в нее под
взглядами кучки любопытных веймарцев, уже посвя-
щенных кучером в цель семейной поездки, которые
столпились вокруг дожидавшегося экипажа, как во-
круг свадебной кареты или похоронных дрог. При по-
добных обстоятельствах зеваки, глазеющие на участ-
ников церемонии, обычно вызывают зависть этих по-
следних; ведь они так непринужденно чувствуют себя
в своей будничной одежде и стоят в сторонке, созна-
вая преимущества своего положения, причем одни
испытывают чувство превосходства, смешанное с со-
знанием «вам-то хорошо!», другие же благоговение
пополам со злорадством.
Шарлотта с сестрою заняли высокое заднее си-
дение, доктор Ридель с шелковым цилиндром на ко-
ленях, во фраке с модными высокими плечами, в бе-
лом галстуке, при крестике и медалях, поместился
вместе с племянницей на довольно жесткой передней
скамеечке. За весь короткий путь по Эспланаде через
Фрауенторштрассе до Фрауенплана они не обменя-
43*
675
лись ни единым словом. Известная бережливость
к своему оживлению, внутренняя подготовка, как за
кулисами, к предстоящей затрате светской общитель-
ности обычны при таких переездах, здесь же имелись
особо веские причины к задумчивому, даже робкому
расположению духа.
Ридели чтили молчаливость Шарлотты. Сорок че-
тыре года! — и тоже молчали из сочувствия, изредка
с улыбкой поглядывая на нее, и раза два даже ла-
сково дотронулись до ее колен, что давало ей возмож-
ность старческому явлению — неравномерному то
уменьшающемуся, то вновь усиливающемуся дрожа-
нию головы — придать вид дружелюбных ответных
кивков. Украдкой поглядывали они и на племянницу,
демонстративно безучастную и с явным неодобрением
относящуюся ко всему этому предприятию. Лотхен-
младшая, благодаря своей серьезной, добродетель-
ной и исполненной самопожертвования жизни, была
почитаемой особой, с одобрением, или неодобрением
которой невольно считались. Ее наставительно под-
жатые губы немало способствовали общей молчали-
вости. Все знали, что ее суровый осуждающий вид
прежде всего относится к претенциозному туалету
матери, сейчас скрытому под черной мантильей.
Лучше всех это знала Шарлотта, ибо достаточно
холодно высказанное одобрение сестры не могло не
поколебать в ней веры в уместность ее затеи. За это
время она не раз теряла вкус к ней и стояла на
своем уже только из упорства, только потому, что од-
нажды ухватилась за эту мысль. Успокаивала же
она себя тем, что для воспроизведения ее тогдашнего
вида не требуется особых приготовлений, ибо белый
был раз и навсегда — и все это знали — ее излюблен-
ным цветом, следовательно, на него она имела право,
и только к розовым бантам, в особенности к недо-
стающему банту на лифе, и сводилась вся ее школь-
ная выходка, от мысли о которой теперь, когда она вос-
седала в карете со своей высоко взбитой прической,
перехваченной лентой, немало завидуя ничего но
символизирующим нарядам других, ее сердце вес
676
же билось в упрямо вороватом и радостном ожи-
дании.
Но вот колеса загремели по булыжникам нека-
зистой провинциальной площади, открылась Зейфен-
гассе и длинный фасад дома со слегка отступающими
крыльями, мимо которого Шарлотта с Амалией Ри-
дель уже не раз проходили. Два этажа и мансарда
под не слишком высокой крышей, с одинаковыми
желтыми воротами по обеим сторонам и плоскими
ступенями, ведущими к расположенной посредине
парадной двери. Покуда семейство вылезало из эки-
пажа, на этих ступенях оживленно обменивались
приветствиями другие гости, одновременно подошед-
шие с разных сторон. Два солидных господина в ци-
линдрах и шинелях с пелеринами — в одном из них
Шарлотта узнала доктора Римера — пожимали руки
третьему, более молодому, без верхней одежды,
в одном фраке, но с зонтиком, видимо пришедшему
из соседнего дома. Это был господин Стефан
Шютце — «наш превосходный беллетрист и изда-
тель», как узнала Шарлотта, когда начались взаим-
ные приветствия и обязательные представления. Ри-
мер юмористически уклонился от представления
Шарлотте, выразив надежду, что госпожа советница
вспомнит человека, вот уже три дня осмеливающегося
считать себя ее другом, и отечески потряс руку Лот-
хен, дочери. Его примеру последовал и сутуловатый
человек лет пятидесяти, с мягкими чертами лица и
длинными прядями выцветших волос, выбивающихся
из-под цилиндра. То был не кто иной, как надворный
советник Майер, профессор живописи. Он и Ример
явились каждый со своей службы, а их дамы должны
были прибыть отдельно.
— Итак, будем надеяться, — сказал Майер, когда
они входили в дом — у него было нарочито отрыви-
стое произношение швейцарца, в котором нечто пря-
модушно-немецкое смешивалось с иностранным, по-
луфранцузским акцентом, — что нам выпадет счастье
застать нашего хозяина в хорошем и бодром рас-
положении духа, а не в брюзгливом и угрюмом, и
677
тем самым избегнуть мучительного ощущения, что
мы ему в тягость.
Он произнес это, обращаясь к Шарлотте, твердо
и обстоятельно, видимо, отнюдь не думая о том,
сколь мало ободряюще звучали эти слова интимного
друга дома для впервые этот дом посещающих. Она
не удержалась, чтобы не сказать:
— Я знаю вашего хозяина даже дольше, чем вы,
господин профессор, и мне хорошо известна поэти-
ческая переменчивость его настроений.
— Знакомство чем новее, тем доскональнее, — не-
поколебимо отвечал он.
Но Шарлотта уже не откликнулась. Она была по-
ражена изящной роскошью лестницы, по которой они
всходили, ее широкими мраморными перилами, ве-
личаво-плавным подъемом низких ступеней, прекрас-
ными античными украшениями. На площадке, — где
в белых нишах стояли отлитые в бронзе прелестные
греческие статуи, а перед ними, на мраморном по-
стаменте, тоже бронзовая, в великолепно схваченной
позе, круто повернувшаяся борзая собака,—Август
фон Гете дожидался гостей. Он выглядел весьма
приятно, несмотря на некоторую расплывчатость фи-
гуры и лица, обрамленного расчесанными на пробор
кудрявыми волосами, при орденах во фраке, с шел-
ковым шейным платком и в камчатном жилете. Ав-
густ проводил их несколько шагов по направлению
к приемной, но тут же воротился приветствовать го-
стей, прибывших вслед за ними.
Слуга, также чрезвычайно величественного и до-
стойного вида, хотя еще молодой, в голубой ливрее
с золочеными пуговицами, довел Риделей и мадам
Кестнер с дочерью до конца лестницы, чтобы помочь
им снять верхнее платье. Последняя площадка отли-
чалась таким же благородно-роскошным убранством.
Скульптурная группа, известная Шарлотте под на-
званием «Сон и смерть», своим темным блеском кон-
трастировавшая с белой плоскостью стены стояло
сбоку от двери, украшенной белым барельефом,
в полу перед которой голубой эмалью было выло-
678
жено «Salve!»1. «Ну что ж!—подумала Шарлотта,
приободрившись. — Значит, мы желанные гости!
Причем здесь брюзгливость и угрюмое расположение?
Ах, и красиво же у этого мальчика! На Корнмаркте
в Вецларе он жил скромнее. Там на стенке висел мой
силуэт, подаренный ему из доброй дружбы и состра-
дания, и он по утрам приветствовал его взглядом и
поцелуем, как это стоит в книге. Дано мне преимуще-
ственное право отнести к себе это «Salve!» или не дано?
Бок о бок с сестрой вошла она в распахнутые
двери гостиной, чуть испуганная, ибо слуга — а это
было ей непривычно — во весь голос выкрикнул:
«Госпожа надворная советница Кестнер!» В комнате
с роялем вдоль стены, весьма элегантной, но после
обширной лестницы невольно разочаровывающей
своими скромными пропорциями, с пустой дверной
рамой, открывающей вид на анфиладу других по-
коев, подле колоссального бюста Юноны уже стояли
гости: два господина и одна дама. Они пре-
рвали оживленный разговор и с любопытством обер-
нулись к вновь прибывшим, вернее, к одной из них —
она это отлично поняла, — и подготовились к взаим-
ному представлению. Но так как ливрейный слуга
тут же возвестил имена новых гостей, господина ка-
мерального советника Кирмса с супругой, которые
вошли вместе с молодым хозяином, и непосредственно
за ними дамы Майер и Ример, то, как это часто слу-
чается в маленьких городах с короткими расстоя-
ниями, все приглашенные внезапно и словно по ма-
новению жезла оказались налицо, и приветствия стали
всеобщими. Доктор Ример и Август фон Гете пред-
ставили Шарлотте, очутившейся в центре этой ма-
ленькой толпы, всех незнакомых ей людей, чету
Кирмсов, главного архитектора Кудрэй и его су-
пругу, господина надворного советника Вернера из
Фрейбурга, остановившегося в «Наследном принце»,
и двух дам: Майер и Ример.
Она понимала, какому злорадному любопытству,
по крайней мере со стороны женщин, выставлена на-
1 Привет (лат.).
679
показ, и противостояла ему с достоинством, отчасти,
впрочем, навязанном ей необходимостью сдерживать
усилившееся от всех треволнений дрожание головы.
Эта слабость, всеми замеченная, но различно вос-
принятая, странно контрастировала с чем-то девиче-
ским в ее облике. В белом, свободном, но доходящем
только до щиколоток платье, заколотом на груди аг-
рафом и отделанном розовыми бантами, в маленьких
черных сапожках на пуговицах, она стояла, милая и
старомодная, со своими пепельно-серыми волосами,
высоко зачесанными над чистым лбом, — с лица, ко-
нечно, безнадежно старая, с отвисшими щеками, на-
ивно покрасневшим носиком, но с лукавой улыбкой
на губах. Мягкий, усталый взгляд незабудковых глаз
обращался на представляемых ей гостей, и она вни-
мательно выслушивала заверения в том, сколь радо-
стно для них ее пребывание в этом городе и какай
честь выпала им на долю: присутствовать при встрече
столь знаменательной.
Подле нее стояла, время от времени ныряя в ре-
верансе, ее критическая совесть, — если можно так
назвать Лотхен-младшую, — наиболее молодая h:i
всех присутствующих, ибо общество сплошь состояло
из лиц уже на возрасте, даже беллетристу Шютие
на вид было за сорок. Сиделка брата Карла выгля-
дела весьма кисло—гладкие, расчесанные на прямой
•ряд волосы и темно-лиловое платье, без всяких укра-
шений, с крахмальным гофрированным воротничком,
как у пастора. Она уклончиво улыбалась и хмури-
лась в ответ на любезности, расточаемые и ей, но
главным образом матери, которые она воспринимали
как заслуженные колкости. Кроме того, Лотхен стра-
дала — и это передавалось Шарлотте, сколь храбро
она тому ни противилась, — от слишком молодою
убранства матери, вернее не от белого платья, кото-
рое еще могло сойти за каприз и причуду, но от ало
получных розовых бантов. Ее сердце разрывало» и
от желания, чтобы люди поняли смысл этою
неподобающего украшения и потому не сочли его скии*
далезным, и страха, как бы они все же не поняли.
вяп
Одним словом, недовольство чопорной Лотхен
граничило с отчаянием; чувствительная же и взвол-
нованная Шарлотта невольно разделяла ее настрое-
ние и должна была прилагать немало усилий, чтобы
не утратить веры в остроумие своей унылой шутки.
Собственно, в этом кругу ни одна женщина не имела
бы оснований упрекать себя за некоторое своеобра-
зие туалета или опасаться упреков в эксцентричности,
так как в одежде дам замечалась общая наклонность
к известной эстетической непринужденности, даже
театральности, что явно контрастировало с офици-
альной внешностью мужчин — у них у всех, включая
и Шютце, в петличках пестрели различные знаки от-
личия, медали, ленты и крестики. Среди дам исклю-
чение, в известной мере, составляла лишь советница
Кирмс, — в качестве жены очень высокого чиновника,-
она, видимо, считала для себя обязательной строгую
сдержанность костюма, если, конечно, оставить
в стороне огромные крылья ее шелкового чепца,
почти уже фантастические. Что касается мадам Ри-
мер — той самой сироты, которую ученый высватал
в этом доме, — а также мадам Майер, урожденной
фон Коппенфельд, то их уборы отличались артистич-
ностью и смелостью: первая как бы олицетворяла ин-
теллектуальную скорбь — воротничок из желтых кру-
жев на черном бархате одеяния, ястребиное лицо
цвета слоновой кости, обрамлявшееся черными во-
лосами, перевитыми белой лентой и в виде туго за-
крученного локона, осеняющими лоб: другая, Майер,
более чем перезрелая, была одета под Ифигению,
с полумесяцем на поясе, чуть пониже сильно откры-
той груди, и с античной каймой на лимонно-желтом
платье классического покроя, на которое ниспадала
с головы темная вуаль, с открытыми руками, по-мод-
ному затянутыми в длинные перчатки.
Мадам Кудрэй, супруга придворного архитектора,
помимо пышности своего платья, выделялась еще и
широкополой шляпой à la Корона Шретер; даже
Лмалия Ридель, в профиль несколько смахивавшая
на утку, благодаря пышным буфам на рукавах и ко-
роткой пелерине из лебяжьих перьев сумела придать
ля/
себе живописную оригинальность. Среди всех этих
особ Шарлотта, в сущности, выглядела наименее пре-
тенциозной и притом в своей старческой детскости,
с достойной осанкой, нарушаемой лишь непроизволь-
ным дрожанием головы, наиболее трогательной, при-
метной и примечательной, побуждающей к размы-
шлениям или насмешкам. Измученная Лотхен счи-
тала, что безусловно к насмешкам. Она была твердо
убеждена, что веймарские дамы пришли уже к не-
коему злорадному соглашению касательно ее матери,
когда маленькое общество после первых приветствий
разбилось на группы.
Кестнерам, матери и дочери, сын хозяина дома
показал картину, которая висела над диваном, пошире
раздвинув прикрывавшие ее занавески. Это была ко-
пия так называемой Альдобрандинской свадьбы;
профессор Майер, пояснил он, некогда по дружбе
скопировал ее для хозяина дома. И так как Майер
уже приближался к ним, то Август занялся другими
гостями. У Майера, вместо цилиндра, в котором он
пришел, на голове была бархатная ермолка, в соче-
тании с фраком имевшая особенно домашний вид,
так что Шарлотта невольно взглянула ему на ноги,
не мягкие ли на нем туфли. Это, конечно, было не
так, но ученый историк искусств в своих широких са-
погах ступал столь неслышно, как если бы ее пред-
положение оправдалось. Руки его были небрежно
заложены за спину и голова слегка откинута набок,
вся его повадка, казалось, говорила, что вот-де он,
истый друг дома, чувствует себя непринужденно и
даже готов уделить нервничающим новичкам частицу
своего душевного спокойствия.
— Итак, мы все в сборе, — произнес он с размерен-
ным и как бы запинающимся выговором, который вы-
вез из Штефы на Цюрихском озере и пронес через
все долгие годы римского и веймарского житья; лицо
его при этом сохраняло полную неподвижность.—
Итак, мы все в сборе и можем рассчитывать, что
к нам не замедлит присоединиться и сам хозяин.
Ничего нет удивительного, если гостям, впервые нахо-
дящимся в этом доме, последние минуты ожидания
682
удлиняет известная робость. А между тем следовало
бы воспользоваться этим временем, чтобы попри-
выкнуть к атмосфере и окружающей обстановке.
Я всегда охотно прихожу на помощь неофитам, дабы
облегчить им experience, все же достаточно волную-
щий.
Он сделал ударение на первом слоге французского
слова и с неподвижной миной продолжал:
— Самое лучшее: вовсе или по мере возможности
не давать ему заметить напряженного состояния,
в котором волей-неволей пребываешь, и приветство-
вать его без каких бы то ни было признаков волнения.;
Это облегчает положение как хозяина, так и гостя.
При его необычайной восприимчивости, конфузливая
робость гостей, с которыми он вынужден считаться,
передается ему, как бы заражает его на расстоянии,
так что и он начинает чувствовать известную скован-
ность, которая только осложняет неловкость других.
Куда разумнее держать себя естественно, не думая,
что его следует с места в карьер занимать возвышен-
ными или глубокомысленными разговорами, — к при-
меру, о его собственных произведениях. Ничего нет
менее желательного. Гораздо лучше простодушно
болтать с ним об обыкновенных и конкретных вещах;
тогда он, готовый без устали внимать всему чело-
веческому и житейскому, скорее оттает, скорее по-
лучит возможность проявить свою участливую до-
броту. Я, конечно, не имею в виду фамильярности,
пренебрегающей расстоянием между ним и нами, ко-
торую он, впрочем, — на это имеется ряд предостере-
гающих примеров, — умеет быстро пресекать.
Шарлотта, за время этой речи, лишь изредка
взглядывала на наставительного приближенного, не
зная, что отвечать. Невольно она себе представила, —
и тут же в этом утвердилась, — сколь трудно нович-
кам, особливо застенчивым, воспользоваться таким
призывом к непринужденности для установления
своего душевного равновесия. Обратное действие, ду-
малось ей, куда вероятнее. Она лично была обижена
вмешательством, проявившимся в столь менторской
форме,
№
— Благодарю вас, — произнесла она наконец,—
господин надворный советник, за ваши указания.
Многие будут вам за них искренне признательны. Но
не следует забывать, что в моем случае речь идет
о возобновлении знакомства сорокачетырхлетней дав-
ности.
— Человек, подобный ему, — сухо возразил
Майер, — каждый день, каждый час кажущийся иным,
надо думать, несколько переменился за сорок четыре
года. Ну-с, Карл, — обратился он к приблизившемуся
лакею, — каково сегодня расположение духа?
— Сравнительно хорошее, господин советник,—
отвечал молодой слуга. И тут же, остановившись
в дверях, створки которых — Шарлотта видела это
впервые — уходили в стену, без особой торжествен-
ности, даже интимно понизив голос, возвестил: — Его
превосходительство!
При этих словах Майер поспешил к остальным
гостям, которые снова сошлись вместе и сгруппирова-
лись на известном расстоянии от особняком стоящих
матери и дочери.
Гете вошел уверенными, мелкими, несколько дроб-
нами шагами, распрямив плечи и слегка откинув торс.
На нем был двубортный наглухо застегнутый фрак
и шелковые чулки, на груди блистала искусно.срабо-
танная серебряная звезда, белый батистовый шейный
платок, скрещивающийся у ворота, был заколот аме-
тистовой булавкой. Его волосы, вьющиеся на висках
и уже поредевшие над высоко вздымающимся лбом,
были покрыты ровным слоем пудры. Шарлотта и
узнала и не узнала его — то и другое потрясло ее
одинаково. Прежде всего, с первого же взгляда она
узнала ту единственную раскрытость собственно не
столь уже больших глаз, темно мерцающих на смуг-
лом лице, из которых правый был посажен несколько
ниже левого. Их могучий и наивный взгляд теперь
подчеркивался вопросительно поднятыми бровями,
которые ровными тонкими дугами сбегали к чуть
опущенным книзу уголкам глаз, — выражение, как бы
говорившее: «Кто все эти люди?» Боже милостивый,
через всю жизнь пронесла она память о глазах того
684
юноши! Эти глаза, карие и близко посаженные, го-
раздо чаще казались черными, ибо при всяком ду-
шевном движении — а когда же его душа не была
в движении! — зрачки их так сильно расширялись,
что чернота побеждала карий цвет радужной оболочки
и создавала это впечатление. То был он и не он.
Такого крутого лба у него раньше не было — ну,
понятно, эта высота обусловлена отступившими,
поредевшими волосами, впрочем, красиво ложивши-
мися. Этот лоб порожден не обнажающей силой вре-
мени, хотелось ей сказать себе в успокоение, впрочем
не слишком успокаивающее. Ибо время здесь было
равнозначно жизни, труду, которые десятилетиями
обтачивали горную породу его чела, так сурово из-
ваяли это некогда гладкое лицо, так вдохновенно
избороздили его морщинами. Время, возраст, здесь они
значили больше, чем обветшание, обнахсение, естест-
венный упадок, все, что могло бы внушить растроган-
ность и печаль; они были полны смысла, были духом,
делом, историей, — их следы, отнюдь не призывающие
к сожалению, заставляли мыслящее сердце биться
в счастливом ужасе.
Гете было тогда шестьдесят семь лет. Шарлотта
могла почитать себя счастливой, встретившись с ним
теперь, а не пятнадцатью годами раньше, в начале
века, когда неповоротливая тучность, первые при-
знаки которой сказались еще в Италии, достигла
своей высшей точки. Это он преодолел. Несмотря на
несколько деревянную походку, впрочем напоминав-
шую нечто характерное для него и в ранние годы,
его стан под тонким, блестящим шелком фрака ка-
зался почти юношеским; его фигура за последнее
десятилетие стала больше напоминать прежний,
вецларский облик. Добрая Шарлотта перескочила
через ряд его обличий, менее схожих с другом моло-
дости, чем то, в котором он теперь предстал перед
нею, пройдя через множество ей неведомых стадий.
Было время, когда его ожиревшее лицо казалось хму-
рым и надутым, так что подруге юности было бы
многим труднее, чем нынче, в нем разобраться. Впро-
чем, в выражении его лица замечалось что-то искус-
ив
ственное, непонятно зачем наигранное, какое-то недо-
статочно мотивированное удивление при виде ожи-
дающих гостей. В то же время было очевидно, что
его большой, законченно прекрасный рот с не слиш-
ком узкими, но и не толстыми губами, углы которого
резцом прожитых лет были глубоко вделаны в щеки,
портила излишняя подвижность, нервный переизбы-
ток быстро друг друга сменяющих и отрицающих
выражений; Гете явно затруднялся в выборе какого-
нибудь одного. Противоречие между величием и зна-
чительностью этих словно изваянных черт слегка
склоненной набок головы и выражением ребячливого
недоумения, известной кокетливости и двусмыслен-
ности тотчас же бросалось в глаза.
Еще в дверях он правой рукой обхватил предплечье
левой, страдавшей от ревматизма. Ступив несколько
шагов, он отпустил ее, остановился, отвесил собрав-
шимся любезно-церемонный поклон и приблизился
к обеим особняком стоявшим дамам.
Его голос, — он совершенно не изменился, остался
тем же звучным баритоном, которым говорил и декла-
мировал худенький юноша. Странным казалось, что
этот голос, может быть, немного более замедленный
и размеренный — хотя известная важность уже и то-
гда была ему присуща — исходит от почтенного
старца.
.— Дорогие дамы! — произнес хозяин дома и одно-
временно протянул правую руку Шарлотте, левую
Лотхен, затем сблизил обе их руки и, держа в своих
продолжал: — Наконец-то я могу собственными ус-
тами приветствовать вас в Веймаре! Это поистине
живительная, прекрасная неожиданность. А как, дол-
жно быть, обрадовались наши милые и почтенные
Ридели столь радостно-желанному визиту. Поверьте,
мы умеем ценить, что вы, однажды посетив эти стены,
не прошли мимо наших дверей!
«Радостно-желанному», — сказал он, и благодаря
не то смущенному, не то лукавому выражению, кото-
рое принял его улыбающийся рот, такое произвольное
словообразование вышло прелестным. Что эта пре-
лесть сочеталась с дипломатией, с преднамеренностью,
с первого же слова устанавливающей дистанцию,
Шарлотте было слишком ясно — об этом можно было
догадаться уже по осторожной продуманности его
слов. Для установления дистанции он воспользовался
и тем, что она стояла перед ним не одна, но с до-
черью. Это давало ему возможность, соединив четыре
руки, держать речь во множественном числе и о себе
говорить не «я», но «мы», так сказать, укрываться
за свой дом, выдвигая предположение, что гостьи
могли пройти мимо «наших» дверей. Да и любез-
ное «радостно-желанное» он придумал в связи с Ри-
делями.
Его взор несколько нерешительно перебегал с ма-
тери на дочь, но обращался и поверх них, к окнам.
Собственно, Шарлотте казалось, что он ее не видит, но
в то же время от нее не ускользнуло, что его беглый
взгляд подметил ставшее сейчас уже неукротимым
дрожание головы: на одно краткое мгновение он по-
мертвел от этого открытия, лицо его приняло серьез-
ное, сострадательное выражение, но он мгновенно вы-
шел из печального оцепенения и как ни в чем не бы-
вало вернулся к любезному разговору.
— И юность, — продолжал он, повернувшись уже
только к Лотте, дочери, — как золотистый солнечный
луч врывается в наш сумрачный дом...
Шарлотта, до того лишь невнятно пролепетавшая
о том, что ей было бы непростительно пройти мимо
его дверей, начала запоздалое и явно затребованное
представление. Главным ее желанием, сказала она,
было представить ему это дитя, Шарлотту, ее вторую
дочь, приехавшую из Эльзаса повидаться с матерью.
Она говорила ему «ваше превосходительство», прав-
да, как-то поспешно и словно проглатывая эти
слова, и он не остановил ее, не предложил ей дру-
гого обращения, впрочем, может быть, потому, что
был занят рассматриванием представляемой ему де-
вицы.
— Красива! Красива1 — решил он. — Немало муж-
ских сердец, вероятно, сокрушили эти глазки.
Комплимент был настолько условным и так явно
не подходил к сиделке брата Карла, что это уже во-
ггияло к небесам. Кислая Лотхен скривила губы в му-
чительно-напряженной улыбке, что, вероятно, и засти»
вило его следующую фразу начать с нерешительного
«во всяком случае».
— Во всяком случае, я очень, очень рад, что мне
наконец-то суждено было увидеть представительницу
милой группы, силуэт которой мне некогда прислал
покойный советник. Тому, кто умеет ждать, время
приносит все.
Это уже походило на покаяние; то, что он упомя-
нул о силуэте и Гансе-Христиане, было первым на-
рушением дистанции, ощущавшейся Шарлоттой, а по-
тому она едва ли была права, напомнив ему, что он
уже познакомился с двумя из ее сыновей, а именно
с Августом и Теодором, когда они взяли на себя сме-
лость посетить его в Гербермюле. Как раз это ими
ей произносить, вероятно, не следовало, ибо он взгля-
нул на нее, когда оно уже соскочило с ее языка, ка-
ким-то остекленевшим взглядом, слишком страшным,
чтобы его можно было отнести просто за счет воспо-
минания о встрече.
— Ах да, конечно же! — тут же воскликнул он.—
Как я мог позабыть! Простите эту старую голову. —
И вместо того чтобы указать на забывчивую голову,
он погладил, как и в момент своего появления, право-
рукой левое предплечье, к болезненному состоянию
которого, видимо, хотел привлечь внимание. — Как
поживают эти превосходные молодые люди? Хорошо,
так я и думал. Благополучие обусловлено их пре-
красной натурой, это врожденное свойство, да и
могло ли быть иначе при таких родителях. А путе-
шествие наших любезных дам, — осведомился он,—
надеюсь, было приятным? Дорога Гильдесгейм —
Нордгаузен — Эрфурт отлично оборудована: почти
всегда хорошие лошади, недурная пища на станциях
и цены весьма умеренные, вам это обошлось, веро-
ятно, не дороже пятидесяти талеров.
Сказав это, он, видимо, решил положить конец
обособленности, повернулся и вместе с дамами Kcci-
нер присоединился к остальному обществу.
ияя
*— Надеюсь,— заметил он, — что наш молодой хо-
зяин (он подразумевал Августа) уже познакомил вас
с уважаемыми гостями. Все эти прекрасные дамы —
паши почитательницы, а достойные мужи — почита-
тели...— Он подряд раскланивался с мадам Кирмс
в чепце, архитекторшей Кудрэй в широкополой
шляпе, интеллектуальной Ример, классической Майер
и Амалией Ридель, на которую уже раньше, во время
«радостно-желанного», бросил выразительный взгляд
и затем стал поочередно пожимать руки мужчинам,
особенно отличив при этом горного советника Вер-
нера, кругленького, добродушного человека лет пя-
тидесяти, с веселыми глазками, большой лысиной и
седой курчавой шевелюрой на затылке, отменно вы-
бритые щеки которого уютно упирались в стоячий
воротник, повязанный белым шарфом. Вернера он
удостоил наклонением головы, и лицо его тут же при-
няло понимающее, усталое выражение, как бы го-
ворившее: «Наконец-то покончено с формальностями,
а уж мы с вами сумеем заняться чем-нибудь подель-
нее». При этом жесте лица Майера и Римера выразили
одобрение, явно маскировавшее ревность. Затем, по-
кончив с обходом гостей, он снова обратился к гео-
гностику, тогда как дамы окружили Шарлотту и ше-
потом, непрестанно обмахиваясь веерами, начали
расспрашивать, очень ли, по ее мнению, изменился
Гете.
Они постояли еще некоторое время возле царив-
шего над комнатой гигантского классического бюста,
среди акварелей, гравюр и картин, украшавших ее
обитые штофом стены, вдоль которых, так же как
и в простенках между окнами и белыми дверьми,
были симметрично расставлены прямые, изящные
стулья и белые полированные шкафы с коллекциями.
Повсюду размещенные произведения искусства и ста-
ринные безделушки, халцедоновые чаши на мрамор-
ных столах, крылатая Никея, украшавшая стол
возле дивана под «Альдобрандинской свадьбой»,
античные статуэтки богов, ларов и фавнов под сте-
клян1ыми колпаками, сообщали комнате вид музей-
ного зала. Шарлотта не выпускала из виду хозяина
44 Т. Манн, т. 2
689
дома, который, крепко стоя на раздвинутых ногах, не-
много слишком прямо и заложив руки за спину,—
серебряная звезда на его шелковом фраке блистала
при малейшем движении, — поочередно беседовал то
с одним, то с другим из гостей — с Вернером, Кирм-
сом, Кудрэй, но не с нею. Ей нравилось исподтишка
наблюдать за ним, не будучи обязанной вступать с ним
в беседу, что, впрочем, ей не мешало со жгучим не-
терпением ожидать продолжения разговора, хотя,
с другой стороны, наблюдение за его беседой с дру-
гими отбивало у нее эту охоту, убеждая ее, что тот,
кому в данный момент сия честь выпадала, чувствовал
себя не совсем в своей тарелке.
Друг ее юности производил впечатление исключи-
тельно аристократическое, сомнений тут быть не
могло. Его костюм, в былые времена вызывающий,
теперь изысканно скромный и чуть-чуть отставший
от моды, превосходно гармонировал с известной чо-
порностью его манер и походки, а все вместе созда-
вало впечатление величавого достоинства. И все же,
хотя в его осанке было нечто важное и он высоко нес
прекрасную голову, казалось, что это величие не очень
твердо держится на ногах; с кем бы он ни разгова-
ривал, движения его были как-то нерешительны,
скованы, и это своей неожиданностью тревожило на-
блюдающего со стороны не меньше, чем случайного
собеседника. Так как каждый чувствует и знает, что
непринужденная свобода и самозабвенная непосред-
ственность поведения основаны на поглощенности
предметом, то эта напряженность, естественно, за-
ставляла думать, что он проявляет мало интереса
к людям и обстоятельствам, а это безнадежно
уводило от предмета разговора и его собеседника.
Взор хозяина дома покоился на собеседнике, покуда
тот, увлеченный разговором, не подымал своего, но
стоило тому на него посмотреть, как хозяин уже oi-
водил глаза, которые начинали неопределенно блуж-
дать в пространстве. Шарлотта с женской проница-
тельностью все это подметила, и нам остается только
повторить, что она одинаково боялась продолжении
разговора с другом юности и желала его.
690
Впрочем, многое в поведении Гете можно было
отнести за счет трезво выжидательного, предобеден-
ного состояния, которое длилось слишком долго. Он
не раз вопросительно посматривал на сына, видимо
исполнявшего обязанности мажордома. Наконец
слуга приблизился с вожделенным известием, и Гете,
поспешно перебив его, объявил маленькому собранию:
— Дорогие друзья, нас просят обедать. — С этими
словами он подошел к Лотте и Лотхен, изящным же-
стом, как в контрдансе, взял их за руки и открыл
шествие в соседний, так называемый желтый зал, где
сегодня был сервирован обед, ибо малая столовая не
могла вместить шестнадцать человек. Наименование
«зал» было, пожалуй, чересчур громким для комнаты,,
в которую перекочевало общество, хотя она и выгля-
дела просторнее, чем только что оставленная. И в ней
в свою очередь высились два колоссальных бюста:
Антиноя, меланхолического от избытка красоты, и
величественного Юпитера. Серия раскрашенных гра-
вюр на мифологические сюжеты и копия Тициановой
«Небесной любви» украшали стены. И здесь за рас-
пахнутыми дверьми открывалась анфилада комнат, и
особенно красива была та, что прилегала к узкой сто-
роне желтого зала и вела через «комнату бюстов»
к лестнице, спускавшейся в зимний сад и дальше
к балкону, выходившему в зеленый двор. Убранство
стола отличалось аристократической элегантностью:
тончайшее камчатное полотно, цветы, серебряные кан-
делябры, золоченый фарфор и бокалы трех видов
перед каждым кувертом. Прислуживали молодой ла-
кей и краснощекая служанка с пышными белыми ру-
ками, в чепчике, корсаже и широкой домотканой
юбке.
Гете сидел в середине продольной части стола,
между Шарлоттой и ее сестрой, справа и слева от
них заняли места: надворный советник Кирмс и про-
фессор Майер, дальше—с одной стороны мадам
Майер, с другой — мадам Ример. Августу, из-за
большего числа мужчин, не удалось соблюсти прин-
цип чередования. Горного советника он посадил на-
супротив отца, место справа от того пришлось отвести
44*
691
доктору Римеру; возле него сидела Лотхен-младшая,
имея своим кавалером еще и Августа. Слева от
Вернера, напротив Шарлотты, поместилась мадам
Кудрэй, далее доктор Ридель и мадам Кирмс. Гос-
подин Стефан Шютце и главный архитектор заняли
оба узких конца стола.
Суп, очень крепкий бульон с фрикадельками, уже
был разлит, когда гости стали рассаживаться. Хо-
зяин, словно свершая обряд освящения, переломил
хлеб над своей тарелкой. Сидя, он, видимо, чувствовал
себя лучше, свободнее; к тому же так он казался
выше ростом. Возможно, впрочем, что самое гостепри-
имно-семейственное председательствование за сто-
лом сообщало ему непринужденную веселость. Здесь
он, казалось, был в своей стихии. Большими, лукаво
блестящими глазами он окинул еще молчаливый
круг гостей и с той же торжественностью, с какой
положил начало трапезе, проговорил, размеренно и
ясно артикулируя, как это свойственно южным нем-
цам, перенявшим говор северной Германии:
— Возблагодарим небо, дорогие друзья, за прият-
ную встречу, дарованную нам по столь радостному
поводу, и воздадим должное скромному, но любовно
приготовленному обеду.
С этими словами он начал есть, и все последовали
его примеру, причем общество кивками, перегляды-
ванием, восторженными улыбками выражало свое
восхищение этой маленькой речью — казалось, каж-
дый говорит другому: «Что поделаешь? Что бы он ни
сказал, это всегда прекрасно».
Шарлотта сидела, окутанная запахом одеколона,
исходившим от ее соседа слева, и невольно думала
о «благоухании», по которому, если верить Римеру,
узнают божество. Она была как в полусне, и этот
свежий запах казался ей трезвой материализацией
божественного озона. Опытная хозяйка, она не могла
не отметить, что фрикадельки были поистине «лю-
бовно приготовлены», то есть на редкость легки и
воздушны. Но все ее существо пребывало в напряже-
нии, в ожидании; оно и противилось установившейся
дистанции, и все еще не отказывалось преодолеть ег.
692
В этой надежде, не поддающейся точному определе-
нию, она чувствовала себя укрепленной свободной
общительностью своего соседа в качестве председа-
теля трапезы, но, с другой стороны, и слегка в ней
поколебленной тем обстоятельством, что она сидела
рядом с ним, — что было, впрочем, неизбежно,— а не
напротив него, ибо насколько больше соответствовало
бы это ее внутренней потребности иметь его перед
глазами и насколько легче было бы и ему тогда за-
метить ее обдуманный наряд — средство устранить
эту дистанцию! Она ревниво завидовала своему ви-
зави Вернеру в ожидании слов, лично к ней обращен-
ных, на которые ей пришлось бы откликнуться сбоку,
тогда как она охотнее пошла бы в лобовую атаку,
глядя прямо в лицо собеседнику. Но хозяин не спешил
заговорить с ней, а обращался ко всем окружающим.
После первых же ложек супа он, одну за другою, взял
в руки две бутылки в серебряных подставках и слегка
наклонил их, чтобы лучше рассмотреть эти-
кетки.
— Я вижу, — продолжал он, — мой сын знаток
своего дела: он предложил нам два прекрасных на-
питка, из которых отечественный может поспорить
с французским. Мы твердо придерживаемся патри-
архального обычая — каждый сам наливает себе, это
безусловно предпочтительнее стола, который невиди-
мые духи уставляют винами, или педантической по-
дачи в бокалах, чего я уже просто не терплю. А так
каждый волен пить, сколько хочет, и видит по своей
бутылке, каково он с нею управился. Согласны ли вы
со мной, милостивые государыни, и вы, милый госпо-
дин горный советник? Красного или белого? Мое мне-
ние: сначала отечественная лоза, а французская —
к жаркому, или же попробуем согреть душу вот этим?
Я стою за него. Этот лафит восьмилетней давности
приятно дурманит мозги, и я со своей стороны не
хочу зарекаться, что вторично не обращусь к нему,
впрочем, сей эйльферский портвейн создан, чтобы бу-
дить моногамические инстинкты в том, кто раз его
отведал. Наши милые немцы странный народ, доста-
вляющий слишком много хлопот своим пророкам, как
45 Т. Манн, т. 2
693
и евреи своим, но зато их вина — благороднейший дар
небес.
Вернер удивленно рассмеялся прямо ему в лицо.
Но Кирмс, человек с тяжелыми веками и узким чере-
пом, покрытым курчавыми седыми волосами, отвечал:
— Его превосходительство позабыл зачесть нем-
цам в заслугу свое собственное рождение.
Одобрительный смех, которым разразились Римср
и Майер насупротив, изобличил, что они не столько
занимались своими соседями, сколько вострили уши
на слова хозяина дома.
Гете тоже засмеялся — с закрытым ртом, вероятно,
чтобы не показывать зубы.
— Будем считать это смягчающим обстоятель-
ством, — произнес он. И затем обратился к Шарлотте,
спрашивая, что она будет пить.
— Я не привыкла к вину, — отвечала она. — Оно
слишком быстро туманит мне голову, и только и.ч
дружбы я решусь пригубить немножко. Но вот чго
невольно привлекло мое внимание. — Она кивком ука-
зала на выстроенные в ряд бутылки. — Что бы это
могло быть?
— О, это моя эгерская вода, — отвечал Гете. —
Ваши симпатии пошли правильным путем, этот источ-
ник не иссякает у нас в доме, среди всех трезвостей
на свете он больше всего пришелся мне по вкусу.
Я налью вам под условием, во-первых, что вы отве-
даете немножко и вот этого горячего золота, а во-вто-
рых, не станете смешивать столь различные сферы и
не разбавите вино водой, что я считаю прескверным
обычаем.
Он выполнял обязанности виночерпия на своем
конце стола, поодаль тем же занимались его сын и
доктор Ридель. В это время подали рыбу с грибным
гарниром, запеченную в раковинах, и Шарлотта, хоги
не чувствовавшая аппетита, не могла не отдать долж-
ного ее превосходным качествам. Напряженно вгля-
дывавшаяся во все окружающее, исполненная тихого
любопытства, она находила это высокое качество кухни
весьма примечательным и приписывала его требоил-
тельности хозяина, в особенности когда заменим.
694
что Август, теперь, как и позднее, своими слащаво ме-
ланхолическими и смягченными отцовскими глазами
то и дело вопросительно и робко взглядывал на
председателя пира, как бы спрашивая, по вкусу ли
ему данное блюдо. Гете, единственный из всех, взял
две раковины, хотя вторую и оставил почти нетрону-
той. Что глаза у него были, как говорится, завидущие,
обнаружилось за жарким, превосходным филе с раз-
нообразными овощами, которое подавалось на кра-
сивых продолговатых блюдах — он столько положил
себе на тарелку, что едва управился с половиной.
Зато пил он большими глотками и рейнвейн и бордо;
торжественный жест, которым он наливал вино, чаще
всего относился к его собственному бокалу. Бу-
тылку эйльферского портвейна вскоре пришлось за-
менить непочатой. Его и без того смуглое лицо за
время обеда стало еще сильнее контрастировать с пуд-
реными волосами. На его обрамленную гофрирован-
ной манжетой руку с короткими правильной формы
ноггями, в строении которой, несмотря на всю ее ши-
рину и силу, было нечто одухотворенное, крепко и
ладно берущуюся за бутылку, Шарлотта смотрела
с упорным, несколько сомнамбулическим вниманием,
не покидавшим ее все это время. Он вторично налил
ей эгерской воды и стал при этом повествовать, все
тем же неторопливым, глубоким и звучным, ясно ар-
тикулирующим, но отнюдь не монотонным голосом,
лишь изредка по-франкфуртски проглатывая конечные
согласные, о своем первом знакомстве с сим благоде-
тельным источником и о том, что франценсдорфские
торговцы ежегодно доставляют ему в больших коли-
чествах эту воду, особенно теперь, когда он, отказав-
шись от поездок на богемские курорты, старается про-
водить курс лечения дома. Оттого ли, что он произ-
носил слова так четко и точно и рот его приятно
складывался в полуулыбку, имевшую в себе нечто
безотчетно притягательное и властное, но все за сто-
лом невольно к нему прислушивались и возникавшие
было частные беседы оставались бессодержательными
и случайными, так что, стоило ему заговорить, и все
тотчас же внимали словам хозяина. Он не мог этому
45*
695
воспрепятствовать, или только тем, что с подчеркну-
той интимностью склонялся к соседу и обращался
к нему, понизив голос; но и тогда остальные продол-
жали прислушиваться. Так он и после того, как со-
ветник Кирмс замолвил доброе слово за немцев, тот-
час начал перечислять Шарлотте, так сказать,сглазу
на глаз, преимущества и достоинства ее соседа справа:
какой это высокопоставленный и заслуженный госу-
дарственный муж, к тому же выдающийся практик,
душа гофмаршальства, не чуждый общения с музами,
тонкий ценитель драматического искусства и незаме-
нимый деятель новоучрежденного театрального ве-
домства. Казалось, он уже готов отослать ее к раз-
говору с Кирмсом, как говорится сбыть ее с рук, но
он тут же осведомился об ее отношении к театру,
а также о том, не хочет ли она использовать свое даль-
нейшее пребывание в Веймаре для более близкого
знакомства с возможностями и удачами здешней ко-
медии. Его ложа к ее услугам, когда бы она ни по-
желала ею воспользоваться. Шарлотта учтиво побла-
годарила и заверила, что всегда находила удоволь-
ствие в комедиях, но что в ее кругу театру не уделялось
достаточного интереса, да к тому же ганноверский
театр вряд ли мог способствовать развитию любви
к драматическому искусству, а потому и выходило,
что она, всегда обремененная житейскими хлопотами
и заботами, редко позволяла себе это удовольствие.
Но поближе узнать знаменитый, им самим обученный
веймарский ансамбль ей было бы очень приятно и
интересно.
Покуда она это говорила, несколько понизив го-
лос, он слушал, время от времени понимающе кивая
головой, а затем, к вящему ее смущению, собрал и
сложил в аккуратную кучку крошки и хлебные ша-
рики, которые она машинально скатывала. Он повто-
рил приглашение в ложу и выразил надежду, что об»
стоятельства позволят показать ей «Валленштейна»
с Вольфом в заглавной роли, весьма удачный спек*
такль, приходившийся по вкусу многим заезжим
гостям. Потом он сам посмеялся тому, что двоим л и
ассоциация, вызванная упоминанием о ШиллероиоЙ
69S
драме и разговором об эгерскои воде, навела его на
мысль о старинном эгерском замке в Богемии, где
были перебиты главнейшие приверженцы Валлен-
штейна, чрезвычайно заинтересовавшем его своей
архитектурой. Начав говорить об этом замке, он под-
нял глаза от тарелки, повысил интимно приглушен-
ный голос и снова завладел всеми обедающими. Так
называемая Черная башня, сказал он, в особенности
если смотреть на нее с того места, где некогда был
подъемный мост, великолепное строение из камней,
по-видимому добытых в Каммерберге. С этим он от-
несся к горному советнику и понимающе многозначи-
тельно кивнул ему головой. Эти камни, по форме по-
хожие на большие кристаллы, продолжал хозяин, не-
обыкновенно искусно обтесаны и сложены так, чтобы
максимально противостоять непогоде. Упомянув об
этой родственности форм, он, с оживленно заблестев-
шими глазами, заговорил о минералогической на-
ходке, которую сделал по пути из Эгера в Либен-
штейн, а в эти места его завлек не только замеча-
тельный рыцарский замок, но и вздымающийся на-
против Каммерберга Платенберг, весьма интересный
в геологическом отношении.
Дорога туда, — весело и живо рассказывал он, —
поистине головоломная; вся она изборождена ухабами,
залитыми водой. Невозможно было определить на
вид, до чего они глубоки, и его спутник, тамошний
чиновник, положительно умирал со страха — будто
бы за его, рассказчика, особу, на деле же за себя са-
мого, так что он, Гете, только и делал, что его успо-
каивал и заверял в недюжинных способностях воз-
ницы, столь превосходно знавшего свое дело, что сам
император Наполеон, повстречай он этого малого,
несомненно назначил бы его своим придворным ку-
чером. Этот последний осторожно въезжал в огромные
колдобины — единственное средство не опрокинуться.
— И вот, когда мы, — так продолжался рассказ, —
едва тащились по дороге, к тому же еще круто под-
нимавшейся в гору, я вдруг увидал на обочине нечто
заставившее меня немедленно вылезть из экипажа,
чтобы поближе рассмотреть диковинку. «Как ты-то
697
сюда попал? Откуда ты взялся?» — спрашивал я, ибо,
что бы вы думали глядело на меня из грязи? Близне-
цовые кристаллы полевого шпата!
— Ишь ты, поди ж ты! — воскликнул Вернер.
И хотя он, вероятно, — Шарлотта это предполагала
и даже на это надеялась, — был единственный из при-
сутствующих, знавший, что такое близнецовый кри-
сталл полевого шпата, все начали выказывать вос-
торг по поводу встречи рассказчика с этим чудом
природы, и восторг неподдельный, ибо он так живо
и драматично рассказал о ней, а его радостное и уди-
вленное восклицание: «Как ты-то сюда попал?» — было
столь очаровательно, такое неожиданное, трогатель-
ное и сказочное впечатление производило, что чело-
век— и какой человек! — на «ты» обращался к камню,
что этот случай вызвал живое участие не в одном гор-
ном советнике. Шарлотта, с одинаково жгучим инте-
ресом наблюдавшая за рассказчиком и за слушате-
лями, на всех лицах видела любовь и восхищение,
даже на лице Римера; впрочем, у него это выражение
смешивалось с обычной брюзгливостью, но и на лицах
Августа, Лотхен она читала то же самое, и даже
в обычно жестких и неподвижных чертах Майера, ко-
торый, словно не замечая своей соседки Амалии Ри-
дель, склонился в сторону рассказчика, боясь пропу-
стить хоть слово, выходившее из его уст, выражалось
такое горячее умиление, что слезы, хоть она этого и
не сознавала, выступили у нее на глазах.
Ей могло быть только приятно, что друг юности
после краткой беседы с нею стал снова обращать
свою речь ко всем присутствующим, отчасти потому,
что они этого жаждали, отчасти же — Шарлотта это
отлично понимала — из желания соблюсти «дистан-
цию». И все же эти патриархальные речи pater fami-
lias 1 доставляли ей какое-то своеобразное, несколько
даже мифически окрашенное наслаждение. Старин-
ные речения, поначалу смутно вспоминавшиеся c(i.
теперь прочно засели в ее голове. Лютеровы застоль-
ные беседы, подумала она и ухватилась за эк»
1 Отца семейства (лат.).
698
сравнение, несмотря на всю его физиогномическую
абсурдность.
Не прерывая еды, питья, выполняя свои обязан-
ности виночерпия и временами откидываясь на стуле,
он продолжал говорить то медленно, низким голосом,
тщательно выбирая слова, то вдруг свободно и быстро,
причем его движения заставили Шарлотту вспомнить,
что он привык поучать актеров вкусу и театральному
благообразию. Его глаза с характерно опущенными
углами, блестящим и теплым взором окидывали стол,
его рот двигался — не всегда одинаково приятно. Ка-
кое-то принуждение временами сводило его губы,
столь мучительное и загадочное для наблюдателя, что
удовольствие, доставляемое его речами, превращалось
в беспокойство и сострадание. Но злые чары быстро
рассеивались, и тогда движения его прекрасно очер-
ченного рта становились исполненными такой пре-
лести, что можно было только дивиться, до чего точно
и непреувеличенно гомеровский эпитет «амброзиче-
ский» — пусть доселе к смертным не применимый —
определяет это обаяние.
Он рассказал еще о Богемии, о Франценсбрунне,
об Эгере и его плодородной долине, описал благодар-
ственный молебен по случаю урожая, на котором он
там присутствовал, пеструю процессию стрелков и це-
ховых подмастерьев, патриархальный народ, во главе
с духовенством в пышном облачении, со священными
хоругвями, двинувшийся от городского собора к глав-
ной площади. Тут он понизил голос и, слегка выпятив
губы, с выражением, предвещающим дурную развязку,
в котором, впрочем, заключалась и доля шутливой
эпичности, как будто он хотел рассказать детям что-то
страшное, — приступил к повествованию о кровавой
ночи, пережитой этим городом в пору позднего средне-
вековья, о еврейском погроме, некогда устроенном та-
мошними жителями, внезапно поддавшимися крова-
вому призыву, как о том сообщает древняя летопись.
Много детей израилевых жило в Эгере на отведен-
ных им улицах, где находилась и одна из знаменитей-
ших синагог, а также богословская академия, един-
ственная иудейская академия во всей Германии.
699
Однажды какой-то босоногий монах, обладавший, надо
думать, фатальным даром красноречия, говорил с цер-
ковной кафедры о страстях господних и заодно гневно
обрушился на евреев, как на виновников всех люд-
ских злоключений. Тут один престарелый ландскнехт,
до крайности возбужденный этой проповедью, бро-
сился к алтарю, схватил распятие и с криком «кто
христианин, за мной!» метнул искру в толпу, готовую
вспыхнуть ярым пламенем. Прихожане устремились
за ландскнехтом, к ним пристал всевозможный сброд,
и в еврейских улицах начались небывалые грабеж к
смертоубийство. Злосчастных обитателей гетто со-
гнали в узкий проулок между двумя большими ули-
цами квартала и там учинили такую резню, что кровь
из того проулка, и теперь зовущегося «Кровавым»,
текла бурным ручьем. Спасся от ножа только один
еврей, который забился в трубу и там просидел до
конца резни. Этого еврея, по восстановлении порядка,
раскаявшийся город, — впрочем, подвергнутый импера-
тором Карлом IV значительному штрафу за совершен-
ное злодеяние, — наградил званием эгерского гражда-
нина.
— Эгерского гражданина! — воскликнул рассказ-
чик. — Получив это звание, еврей почувствовал себя
полностью вознагражденным. Надо думать, что он
потерял жену и детей, все свое добро и состояние,
всех собратьев, не говоря уже об отвратительном
удушье, пережитом им в дымовой трубе. Наг и бос
стоял он теперь, но он стал эгерским гражданином
и даже испытывал известную гордость. Таковы люди.
Они охотно идут на гнусный поступок, а затем, по-
остыв, еще извлекают удовольствие из жеста велико-
душного раскаяния, которым думают загладить по-
зорное деяние, — что не только смешно, но, пожалуй,
и трогательно. Ибо не может быть речи о коллектив-
ном деянии, а разве что о происшествии. На подобные
эксцессы правильнее смотреть как на непонятные
явления природы, порождаемые состоянием умой
в ту или иную эпоху. И как здесь не признать благо-
детельным, пусть запоздалое, вмешательство все жо
неизменно существующей высшей корригирующей
700
гуманности, — в нашем случае власти римского
императора, — хотя бы в известной степени восстано-
вившей честь человечества повелением расследовать
прискорбный случай и обложить провинившийся ма-
гистрат денежным штрафом.
Вряд ли можно было более сдержанно-прими-
ряюще и успокоительно прокомментировать ужасное
событие. Шарлотта нашла подобное изложение един-
ственно правильным, если вообще правильно было из-
лагать такие вещи в застольной беседе. Характер и
судьба еврейского народа еще некоторое время оста-
вались предметом разговоров, при этом Гете подхва-
тывал замечания, вставляемые то одним, то другим
из гостей; Кирмсом, Кудрэй или умницей Майером,
и как бы перечеканивал их. О своеобразии этого на-
рода он высказывался со спокойным бесстрастием и
чуть насмешливым уважением. Евреи, заявил он, не
героичны, но склонны к патетике; древность расы,
кровавая многоопытность сделали их мудрыми и скеп-
тическими, что уже само по себе обратно героизму.
Ведь отзвук мудрости, иронии слышится даже в речах
совсем простых евреев наряду с ярко выраженной
склонностью к пафосу. Надо только правильно понять
это слово, а именно в смысле — страдание; еврейский
пафос — это эмфаза страдания, на нас временами
производящая гротескное, весьма странное и даже
отталкивающее впечатление, — так же как стигматы
и кликушество, которые в здоровом человеке не могут
не возбудить антипатии, более того — вполне понят-
ной ненависти. Трудно определить чувства природного
немца, который слышит, как назойливый еврей-коро-
бейник, грубо вытолканный слугою, восклицает: «Хо-
лоп предал меня мукам и позору». Тот заурядный
обыватель ведь даже не имеет в своем распоряжении
столь сильных, высоких, из глуби веков дошедших
слов, тогда как этот, дитя Ветхого завета, все еще не-
посредственно связанный с его патетической сферой,
в трагикомическом житейском случае не долго думая
пускает в ход сии великолепные вокабулы.
Это было очаровательно, и общество дружно поте-
шалось—по мнению Шарлотты, излишне громко —
701
над сетованиями коробейника, чьи южно-пылкие
жесты передразнил рассказчик, или, вернее, воспро-
извел в легком мимическом намеке. Шарлотта сама
не могла не улыбнуться, но она была слишком по-
гружена в себя, слишком много мыслей роилось в ее
голове, чтобы это веселье пошло дальше полувынуж-
денной улыбки. Опенок набожного благоговения и
угодливости, слышавшийся в дружеском смехе гостей,
снушил ей досадливое презрение, ибо был вызван
другом ее юности; но в то же время именно поэтому
она почувствовала польщенной и себя. Разумеется,
они должны быть растроганы готовностью, — не
всегда легко ему дававшейся, что видно было по дви-
жению его губ, — с какой он уделял им часть своего
богатства. Ведь за всей этой радушной общитель-
ностью стояло великое дело его жизни, сообщавшее
резонанс его высказываниям и делавшее понятными
бурные изъявления благодарности. Странно было и
то, что в его случае — вероятно, единственном — ду-
ховное нераздельно смешивалось с общественно-слу-
жебным, так что трудно было определить, чем именно
вызвано это безграничное почитание: тем ли, что ве-
ликий поэт являлся случайно — или даже не слу-
чайно — грансеньором, или тем, что его титул воспри-
нимался не как нечто отдельное от его гения, но,
напротив, как светское выражение этого гения. Вну-
шительное «ваше превосходительство», делавшее цере-
монным любое к нему обращение, в сущности, имело
так же мало общего с его поэтическим гением, как и
серебряная звезда, сиявшая на его груди; то были ат-
рибуты министра, фаворита, но они до такой степени
вобрали в себя понятие о его духовном величии, что
казались от него неотъемлемыми. «Может быть, и
в собственном сознании моего былого друга», — поду-
мала Шарлотта.
Она стала размышлять об этом, впрочем не уве-
ренная, что на такой мысли стоит задерживаться.
В угодливом смехе остальных, бесспорно, выражался
восторг перед подобным слиянием духовного и зем-
ного, гордость этим слиянием, и, с какой-то стороны,
этот раболепный восторг ей казался неестественным
702 ч
и недостойным, почти кощунственным. Если бы и
вправду удалось установить, что эти гордость и вос-
торг не более как поощренный сервилизм, то ее со-
мнения и связанная с ними горечь оказались бы не на-
прасными. Ей подумалось, что людям очень уж облег-
чено преклонение перед духовным, когда, украшенное
пышным титулом и звездой, оно живет в великолеп-
ном доме с античной лестницей в образе элегантного
старца с блестящими глазами, чей лоб напоминает
вон того Юпитера в углу и кто глаголет амброзиче-
скими устами. Духовное, думала она, должно было
бы быть бедным, уродливым, не ведающим земных
почестей, для того чтобы истинно проверить людскую
способность ему поклоняться. Она взглянула через
стол на Римера, ибо ей вспомнились его слова, прочно
в нее засевшие: «При всем том это не христианство».
Ну что же, нет так нет, пусть не христианство. Она не
желала судить и не имела ни малейшей охоты вос-
пользоваться раздражением, которое сей уязвленный
муж вносил в гимны и славословия своему учителю
и кормильцу, но не могла удержаться, чтобы не взгля-
нуть на него, в свою очередь разразившегося подобо-
страстным хохотом, причем еле заметная складочка
недовольства, скорби — одним словом, раздражения,
опять залегла между его натруженными воловьими
глазами... Затем ее взгляд скользнул дальше, мимо
Лотхен к Августу, отодвинутому в тень и отвергну-
тому обществом сыну, несущему на себе пятно по-
зора— отказа от добровольческой службы в армии,
жениха амазоночки. Не впервые за время обеда смо-
трела она на него. Еще когда его отец рассказывал
о ловком вознице, сумевшем не перевернуть экипаж
на ухабистой дороге, она пристально взглянула на
камерального советника, ибо ей вспомнился его за-
бавный рассказ о злополучном отъезде, о катастрофе
с его другом и Майером, о воплощенном величии, сва-
лившемся в придорожную канаву. И теперь, когда она
переводила глаза с фамулуса на него, ее вдруг охва-
тили подозрение, боязнь, относившиеся уже не к этим
двум, но ко всем сидящим за столом. Страшная мысль
на мгновение мелькнула у нее: что, если громоглас-
703
ность этого раболепного хохота вызвана тем, что он
стремится что-то заглушить, скрыть. Мысль тем более
неприятная, что была в этой мысли какая-то угроза,
угроза и для нее самой, но в то же время и пригла-
шение стать их соучастницей.
Слава всевышнему, то было бессмысленное, неле-
пое предположение! Любовь, одна только любовь ви-
тала над столом, смотрела из всех глаз, прикованных
к осмотрительно весело повествующим устам друга.
Все ждали еще большего, и не напрасно. Как Люте-
рова патриархальная застольная беседа, текла дальше
звучная, образная речь. Он еще продолжал развивать
тему о евреях с непринужденным превосходством, не-
вольно заставлявшим думать, что и он обложил бы
эгерский магистрат корригирующим денежным штра-
фом. Гете прославлял высокую одаренность этого
удивительного племени, музыкальный талант и спо-
собность к медицине — еврейские и арабские врачи
в средние века снискали доверие всего мира. Что же
касается литературы, то с ней еврейское племя —
и в этом его сходство с французами — состоит в особо
коротких отношениях. Нельзя не признать, что даже
заурядный еврей владеет чистым и точным стилем
лучше, чем природный немец; последним, в отличие от
южных народов, как правило, недостает благоговей-
но-заботливого отношения к стилю. Евреи — народ
святого писания, а отсюда явствует, что душевные,
качества и моральные убеждения суть обмирщвлен-
ные формы религии. Характерно, однако, что религи-
озность евреев направлена на земное, тяготеет к зем-
ному, а их склонность и умение сообщать земным де-
лам религиозную динамичность заставляет думать,
что они призваны сыграть немалую роль и в форми-
ровании будущего на земле. В высшей степени странно
и вряд ли объяснимо, что, несмотря на ценные вклады,
сделанные ими во всеобщую культуру, в народах про-
должает тлеть стародавняя неприязнь к евреям, в лк>
бой момент готовая разгореться пламенем, чему при-
мер погром в городе Эгере. Такого рода неприязнь,
когда невольное почитание только приумножает от-
вращение, можно сравнить лишь с другою: с не-
704
приязнью к немцам, чьи исторические судьбы, а также
внутренние и внешние отношения с другими народами
до странности схожи с судьбами евреев. Он не хочет
об этом распространяться, дабы не осквернить свои
уста, однако не может скрыть, что временами леденя-
щий страх охватывает его душу при мысли, что ско-
ванная ненависть мира, однажды высвободившись из
оков, двинется на другую «соль земли», на немцев, и
кровавая эгерская ночь покажется лишь слабым по-
добием неминуемо грядущих событий... Вообще же не
стоит предаваться этим грустным размышлениям, да
простят его дорогие гости за то, что он занялся от-
важными экскурсами в будущее и сопоставлениями
национальных черт. Правда, существуют сравнения
еще более неожиданные. В герцогской библиотеке
хранится старинный глобус, на который нанесены
краткие, но подчас весьма фрапирующие характери-
стики различных народов. Так, например, о Германии
там говорится: «Немцы — народ, весьма схожий с ки-
тайцами». Это звучит в равной мере комично и метко,
если вспомнить о немецком пристрастии к титулам
и их преклонении перед ученостью. Разумеется, из по-
добных эпических заключений можно, при охоте, из-
влекать все что угодно, и такое сравнение не меньше
подходит к французам, чья культурная самоудовлетво-
ренность и риторическая пытливость сильно отзывают
китайщиной. Кроме того, они демократы, а следова-
тельно, и в этом сродни китайцам, хотя им и далеко до
радикальности китайских демократических убеждений.
Ведь это соотечественники Конфуция пустили в ход
словцо: «Великий человек — общественное бедствие».
Здесь все присутствующие разразились смехом,
еще более громким, чем прежде: такие слова в таких
устах вызвали целую бурю веселья. Гости откидыва-
лись на стульях, клали головы на стол, стонали от
смеха, доведенные до изнеможения этой нелепостью,
исполненные желанием показать хозяину, как они це-
нят то, что он адресовал это к себе, и в то же время
довести до его сведения, сколь чудовищно абсурдным
почитают они сие изречение. Только Шарлотта прямо
сидела на стуле, застыв и уставившись в одну точку
705
широко раскрытыми незабудковыми глазами. Дрожь
пробирала ее. Она и вправду побледнела, и только
легкое подергивание в углах рта выражало ее уча-
стие во всеобщей веселости. Странный морок овла-
дел ею: среди башен со множеством крыш и коло-
кольчиков прыгал на одной ножке чудной (умный,
но непонятный) народ, с косами, в воронкообразных
шляпах и пестрых кацавейках, воздымая к небу ко-
стлявый указательный палец с длинным ногтем и на
чирикающем языке выкликал крайние и смертельно
оскорбительные истины. И холод снова пробежал по
ней от страха: что, если не в меру громкий смех го-
стей стремится замаскировать потаенное зло, кото-
рое в несчастливую минуту все же сможет прорваться
наружу, что, если кто-нибудь вскочит и, опрокинув
стул, крикнет: «А китайцы-то правы!»
Из сказанного явствует, как она нервничала.
Правда, такая нервозность отчасти явление атмосфе-
рическое, порождаемое напряженной боязнью, обой-
дется ли все благополучно. Она носится в воздухе,
когда люди разделены на одного и многих, когда
один, в каком бы то ни было смысле, противопоста-
влен массе. И хотя старинный приятель Шарлотты
и сидел среди всех за столом, но потому, что только
он говорил, другие же составляли публику, здесь и
возникла эта всегда не совсем подобающая, но тем
более обольстительная ситуация. Единственный вгля-
дывался большими темными глазами в бурю веселья,
вызванную этой цитатой, и его лицо и поза снова
приняли наивно-неискреннее выражение наигранного
изумления, с которым он впервые вышел к гостям.
Амброзические уста уже шевелились, готовясь к по-
слесловию. Когда все утихло, он сказал:
— Правда, такое изречение не слишком рекомен-
дует мудрость нашего глобуса. На решительном ак-
тииндивидуализме этих слов кончается сходство
между китайцами и немцами. Нам, немцам, дорог
индивид — и по праву, ибо лишь в нем мы велики.
Но то, что это так, что это сказывается у нас куда
явственнее, чем у других народов, сообщает отноше-
нию индивида и общества, при всех богатейших его
706
возможностях, и нечто грустно-сомнительное. И не
случайно, что естественное taedium vitae1 преклон-
ных лет у Фридриха Второго облеклось в форму из-
речения: я устал править рабами.
Шарлотта не смела поднять головы. Правда, она
видела одобрительные кивки, слышала оживленные
голоса, но ее возбужденному воображению предста-
вилось, что из-под опущенных век все бросают на
рассказчика коварные взгляды, и страх утвердиться
в этом предположении все сильнее охватывал ее.
Полная рассеянность, углубленность в свои мучи-
тельные мысли и чувства долгое время мешали ей
внимательно прислушиваться к разговору, следить за
его сцеплениями. Она не могла бы сказать, как свер-
нул разговор на то или на другое, что время от вре-
мени доходило до ее сознания. Она едва не прослу-
шала новое изъявление внимания к ней со стороны
хозяина. Он уговаривал ее отведать хотя бы «ми-
нимум» (так он выразился) этого компота, и она
послушалась его почти бессознательно. Затем она
слышала, как он говорил об учении о цвете, в связи
с некиими карлсбадскими кубками; после обеда он
обещал показать, сколь диковинно менялись цвета
их росписи в зависимости от освещения. Затем при-
совокупил какое-то презрительное замечание об уче-
нии Ньютона, пошутил касательно солнечного луча,
падающего на стеклянную призму сквозь дыру в окон-
ной раме, и рассказал о листочке бумаги, который он
бережет в качестве памятки о первых шагах на этом
поприще. Этот листок хранит следы дождевых ка-
пель, упавших на него через дырявую палатку во
время осады Мейнца. Он с уважением относится
к таким маленьким реликвиям и памяткам прошлого
и хранит их даже слишком бережно — за долгую
жизнь накапливается чересчур большой осадок таких
чувственных мелочей. При этих словах сердце Шар-
лотты под белым платьем с недостающим бантом на-
чало отчаянно биться, ибо ей казалось, что она
должна без промедления спросить его и о других со-
1 Отвращение к жизни (лат.).
707
ставных частях этого жизненного осадка. Но тут же
она убедилась в невозможности вопроса, отказалась
от своего намерения и опять упустила нить разговора.
Когда начали менять тарелки после жаркого, ее
слуха снова коснулся рассказ — как и почему он воз-
ник, она не знала, но хозяин с большой теплотой
излагал историю одной певческой карьеры. Речь шла
об итальянской певице, решившейся публично про-
демонстрировать свое необыкновенное дарование
только для того, чтобы поддержать старика отца,
сборщика податей в Риме, которого слабость харак-
тера довела до крайней нужды. Удивительный талант
молодой девушки проявился на любительском кон-
церте, директор театра тут же на месте предложил ей
ангажемент, и таков был восторг, ею возбужденный,
что некий флорентийский меломан вместо одного
скудо вручил ей за свой билет сотню цехинов. Она не
замедлила щедро оделить родителей, и с того мо-
мента ее карьера круто пошла в гору. Девушка стала
звездой музыкального неба, богатства потекли ей
в руки, но первейшей ее заботой остались покой и
благоденствие престарелых родителей, — представьте
же себе сконфуженную радость отца, чья бесхарак-
терность была сторицей искуплена энергией и предан-
ностью прекрасной дочери. Но на этом не кончились
превратности ее судьбы. В нее влюбился богатый
банкир из Вены и предложил ей руку и сердце. Она
поставила крест на своей славе, чтобы сделаться его
женой, и казалось, что ее корабль уже укрылся в ве-
ликолепной и надежной гавани. Но банкир обанкро-
тился и умер нищим, и вот женщина, уже не молодая,
из многолетнего роскошного плена возвращается на
сцену. Величайший триумф всей ее жизни ждет ее.
Публика приветствует ее возвращение, ее обновлен-
ную деятельность такими изъявлениями восторга, что
ей впервые уясняется, от чего она отказалась, чего
лишила людей, сочтя сватовство креза венцом своей
карьеры. Этот день ликующей встречи, после периода
бюргерско-еветского блеска, был счастливейшим в ее
жизни; он-то, собственно, и сделал ее артисткой
душой и телом. Но жить ей оставалось уже недолго...
70S
Эту историю рассказчик дополнил несколькими,
замечаниями касательно своеобразной ветрености,
безразличия, неосознания этой замечательной жен-
шиной своего артистического призвания. Его легкие
и величественные жесты как бы призывали слушате-
лей благосклонно отнестись к такого рода ноншалант-
ности. Странная женщина! При всей своей великой
одаренности, торжественно, всерьез она, видимо, ни-
когда искусства — включая собственное искусство —
не принимала. Только чтобы помочь встать на ноги
опустившемуся отцу, решилась она применить свой
ни ею, ни другими дотоле не открытый талант, поста-
вила его на службу дочерней любви. Готовность, с ко-
торой она при первом же случае и, вероятно, на горе
всем импресарио, сойдя со стези славы, удалилась
в частную жизнь, весьма примечательна; да и все
говорит за то, что она не оплакивала искусство, сидя
в своем венском дворце, легко рассталась с пылью
кулис и цветочными жертвами, приносимыми ее рула-
дам и стаккато. Правда, когда того потребовала
жестокая жизнь, она, не долго думая, вернулась
к творчеству. И как же показательно, что этой жен-
щине, лишь благодаря навязчивому признанию пуб-
лики понявшей, что искусство, которому она прида-
вала столь мало значения и рассматривала лишь как
средство к цели, всегда было ее подлинным и высо-
ким призванием, суждено было прожить лишь недол-
гий срок после триумфального возвращения в его
царство. Видимо, эта предназначенность, это запозда-
лое открытие, что ее существование идентично крат
соте, было ей не по плечу, жизнь в качестве его созна-
тельной жрицы — недоступна и невозможна. Нетра-
гический трагизм отношения этого избранного су-
щества к искусству, отношения, в котором скром-
ность лишь с трудом можно отличить от гордыни,
всегда живо интересовал его, рассказчика, и он был
бы весьма не прочь познакомиться с этой дамой.
Не прочь были бы и слушатели, которые не замед-
лили заявить об этом. Только бедная Шарлотта не
стремилась к такому знакомству. Странную боль и
беспокойство причинил ей если не самый рассказ, то
46 Т. Манн, т. 2
709.
сопровождавший его комментарий. Сначала она,
столь же ради себя, сколь и ради рассказчика, упо-
вала на нравственную растроганность, которую дол-
жен был вызвать этот пример деятельной дочерней
любви, но говоривший поспешил благодетельно-сенти-
ментальному дать иной, разочаровывающий оборот,
перевести разговор в область завлекательного, все
свел к психологии и сочувственно высказался о неиз-
бежном в гениальной натуре пренебрежении своим
искусством, что опять же — и из-за нее самой и из-за
него — ее расхолодило и напугало. Она снова погру-
зилась в задумчивую рассеянность.
На сладкое сервировали издававший чудесным
аромат малиновый крем, разукрашенный сбитыми
сливками и обложенный продолговатыми бискви-
тами. Одновременно подали и шампанское, на этот
раз его все же разливал слуга из бутылок, обернутых
в салфетки, и Гете, уже воздавший честь и прочим
винам, быстро, один за другим, словно мучимый жа-
ждой, выпил два бокала: осушенный он тотчас же
через плечо протянул лакею. После того как он, не-
сколько мгновений предавшись, как выяснилось, од-
ному веселому воспоминанию, смотрел своими близко
посаженными глазами вверх, в пустоту, за чем
с любовью наблюдали Майер и нетерпеливо-выжи-
дающе остальные сотрапезники, Гете повернулся
к горному советнику Вернеру и объявил, что желает
о чем-то рассказать ему. «Ах, послушайте, чего я вам
расскажу», — дословно произнес он, и этот ляпсус,
прозвучал в высшей степени неожиданно после обду-
манно меткого красноречия, к которому он приучил
слушателей. Потом он добавил, что большинство
гостей, вероятно, еще помнит эту курьезную историю,
но приезжим она безусловно неизвестна, а между тем
она так мила, что никто, наверное, не посетует, услы-
шав ее вторично.
И вот о,н начал рассказывать с выражением, гово-
рившим об искреннем удовольствии, им самим полу-
чаемом от этого рассказа, о выставке, устроенной
Веймарским союзом друзей искусства тринадцать лог
назад, на которой, впрочем, был экспонирова-н и рил
710
весьма удачных произведений, присланных из других
городов. И одним из удачнейших — никто не станет
этого оспаривать — была отличная копия Леонардо-
вой головки Хариты.
— Вы, вероятно, знаете: Хариты в Кассельской
галерее, и помните имя копииста: господин Римен-
гаузен, весьма приятный талант, в данном случае
особенно похвально преуспевший. Головка была вос-
создана в акварели, отлично передающей блеклый
тон оригинала, причем копиисту на редкость хорошо
удалось схватить томный взгляд, нежный, как бы мо-
лящий наклон головы и сладостную печаль прелест-
ных уст. Смотреть на нее было поистине наслажде-
нием.
Так вот, наша выставка открылась в том году
позже обычного, а успех у публики заставил нас еще
продлить ее. В помещениях стало холодно, отапли-
вали же их, из соображений экономии, лишь в часы,
означенные для посещения. За вход взималась не-
большая плата — разумеется, только с приезжих; для
наших сограждан был учрежден абонемент, давав-
ший право входа в любое время, а следовательно,
и в холодные часы.
Вот тут-то и разыгралась эта история. Однажды
нам со смехом предложили приблизиться к головке
Хариты, дабы мы могли собственными глазами узреть
явление столь же трогательное, сколько и прелестное:
на устах картины, вернее на стекле, в том месте,
где оно прикрывало уста, виднелся неоспоримый от-
печаток, изящное факсимиле поцелуя, запечатленного
красиво очерченным ртом на очаровательном личике.
Можете себе представить наше удовольствие от
того весело-криминалогического изыскания, которому
мы не замедлили предаться, дабы без огласки уста-
новить личность «злоумышленника»? Он был молод —
очевидная предпосылка, к тому же подтверждав-
шаяся отпечатком на стекле. Он должен был быть
здесь в одиночестве — на глазах у всех никто не от-
важится на подобный поступок. Отсюда следует, что
это был наш согражданин, входивший сюда по абоне-
менту. Он совершил свое деяние в холодные часы,
45*
711
подышав на холодное стекло, запечатлел поцелуй ма
собственном дыхании, которое затем застыло и кри-
сталлизовалось. В эту историю были посвящены лишь
немногие, но нам не стоило особого труда узнать, кт
прогуливался в одиночестве по нетопленным комна-
там. Предположение, переросшее в уверенность, оста*
новилось на одном молодом человеке, которого я не
назову и даже не опишу подробнее. Конечно, он ни-
когда не узнал о том, что мы проведали его нежные
ухищрения, но нам впоследствии не раз предста-
влялся случай дружески приветствовать обладатели
уст, столь склонных к поцелуям.
Таков начавшийся с ляпсуса рассказ, которому
с веселым изумлением внимали не только горный со-
ветник Вернер, но и все остальные гости! Шарлотта
залилась краской. Она покраснела до самых корней
высоко зачесанных пепельных волос так густо, как
это допускала ее нежная кожа, и голубые глаза стали
казаться одновременно бледными и яркими под этим
наплывом краски. Она сидела, не глядя на рассказ-
чика, почти отвернувшись от него в сторону другого
своего соседа, надворного советника Кирмса: каза-
лось, будто она ищет спасения на его груди, чего он,
увлеченный рассказом, разумеется, не заметил. Бед-
ная женщина была полна страха, что хозяин дома
станет и дальше развивать тему об этом поцелуе,
дарованном пустоте, и его физической обусловлен-
ности. И правда, едва только улеглось всеобщее ожи-
вление, за комментарием дело не стало, только он
относился уже скорей к философии прекрасного, чем
к учению о тепле. Гете что-то болтал о воробьях,
клевавших вишни на картине Апеллеса, и о колдои-
ском воздействии искусства, этого своеобразнейшего,
а потому и чудеснейшего из всех феноменов, на чело»
веческий разум — не в смысле простого создании
иллюзии, оно ведь отнюдь не оптический обман, но
более глубокого воздействия, благодаря его, искус*
ства, одновременной принадлежности и к небесной и
к земной сфере, а также благодаря тому, что оно одно-
временно и духовно и чувственно, или, если держании
платоновской терминологии, оно, и божественной
712
сущностью и чувственной видимостью взывая к чув-
ствам, предстательствует за духовное. Отсюда и
своеобразная душевная тоска, которую возбуждает
прекрасное, нашедшее свое выражение в любовном
поступке этого юного почитателя искусств, — выраже-
ние, порожденное теплом и холодом. Смех же наш
здесь вызван неадекватностью этого в тиши совер-
шенного поступка. Какое-то смешливое сожаление
охватывает нас при мысли о том, что почувствовал
обольщенный юноша, когда его губы коснулись
холодного, гладкого стекла. Хотя с другой стороны,
вряд ли можно себе представить образ более трога-
тельный, чем эта случайная материализация горячей
ласки, дарованной холодному и неприемлюшему. Пра-
во же, это какая-то космическая шутка, и т. д., и т. д.
Кофе сервировался тут же за обеденным столом.
Гете его не пил, и вместо десерта, следовавшего за
фруктами и состоявшего из всевозможных конфет,
крендельков и изюма, налил себе еще стаканчик юж-
ного вина, так называемого «tinto rosso». Затем он
поднялся, и все общество снова проследовало в ком-
нату Юноны и примыкающий к ней небольшой каби-
нет, среди друзей дома именовавшийся комнатой
Урбино, по висящему там портрету какого-то герцога
Урбино времен Возрождения.
Последующий час, вернее три четверти часа были
изрядно скучны, но Шарлотта все же предпочитала
эту скуку волнению и стесненности во время обеда.
Она охотно освободила бы друга юности от усилия,
с которым он, видимо почитая это своим долгом, за-
нимал гостей. Больше всего он, понятно, радел о при-
езжих и тех, кто впервые посетил его дом, а следова-
тельно, о Шарлотте и ее родичах, а также о горном
советнике Вернере; им он все норовил показать, как
он выражался, «нечто весьма значительное». Соб-
ственноручно, а иногда с помощью Августа или слуги,
доставал он огромные папки с гравюрами, раскрывал
громоздкие крышки перед сидевшими дамами и сто-
явшими за их стульями господами, желая ознакомить
гостей с хранимыми там «достопримечательно-
стями»,— так он называл гравюры эпохи барокко.
713
При этом он столь долго комментировал их, что на
остальное гости едва успевали кинуть взгляд. Некий
«Битва Константина» удостоилась подробнейшего
разъяснения; он водил по ней пальцем, прося обр;»
тить внимание на расположение и группировку фигур
и на все лады старался внушить слушателям, какой
надобно иметь талант и фантазию, чтобы задуман,
такую картину и столь удачно ее выполнить. Собр.»
ние монет тоже было принесено в ящиках из комнаты
Урбино и, надо отдать справедливость — на редкое и.
полное и богатое: там имелись все папские монеты,
начиная с XV века и до наших дней, и Гете подчерк-
нул, разумеется с полным на то основанием, сколи
много способствует проникновению в историю ис-
кусств такая коллекция. Он знал по именам всех гра-
веров, разъяснял, по каким историческим поводам
была отчеканена та или иная медаль, сыпал анекдо-
тами из жизни людей, в чью честь они изготовлялись.
Карлсбадские стеклянные кубки также не были
позабыты. Хозяин приказал принести их, и правда, на
свету они замечательно меняли окраску, желтизна их
переходила в синеву, из красных они становились
зелеными. Этот феномен Гете разъяснил более под-
робно с помощью небольшого и, если Шарлотта пра-
вильно поняла, им самим сконструированного аппа-
рата, который принес Август, — деревянной рамы
с черным и белым фоном, по которому передвигались
матовые стеклянные пластинки, экспериментально
повторявшие те же цветовые изменения.
Покончив с этим и считая, что на время он снаб-
дил гостей материалом для обозрения, Гете, заложмн
руки за спину, начал бродить по комнате, время от
времени с усилием переводя дыхание, причем звук,
сопровождавший выдох, в какой-то мере походил ми
стон. Иногда он останавливался и в различных углах
комнаты вступал в беседу с незанятыми гостями, ужо
давно изучившими его коллекции. Удивительное и не-
изгладимое впечатление произвело на Шарлотту к>,
как он разговаривал с писателем, господином Стефа
ном Шютце. Покуда она и сестра сидели, склоненные
над аппаратом, взад и вперед передвигая пластинки,
714
оба, старший и младший, стояли неподалеку, и Шар-
лотта украдкой делила свое внимание между цвето-
выми эффектами и этой сценой. Шютце снял очки и,
держа их в кулаке, смотрел своими выпуклыми гла-
зами, привыкшими к стеклам и без них имевшими на-
пряженный, полуслепой, растерянный взгляд, на
смуглое, с постоянно изменявшимся выражением,
лицо своего собеседника. Речь между обоими писа-
телями шла о «Карманном календаре любви и
дружбы», уже несколько лет издаваемом Шютце,
Гете очень хвалил календарь, называл его остроум-
ным и разнообразным и, заложив руки за спину, рас-
ставив ноги, слегка втянув подбородок, заверял, что
всегда извлекает из него много поучительного и за-
нятного. Он советовал Шютце выпустить отдельной
книгой свои юмористические рассказы, там публикуе-
мые, и тот, краснея и еще сильнее тараща глаза,
признавался, что и сам временами носится с этой
мыслью, да вот не уверен, оправдано ли будет по-
добное собрание. Гете покачал головой в знак про-
теста против этих сомнений, но обосновал целесо-
образность издания не ценностью рассказов, а чисто
человеческим, так сказать каноническим образом;
собирать урожай необходимо, сказал он, пройдет
время, настанет осень жизни, когда хлеб должен быть
свезен в житницы, рассеянное по полям водворено
под надежный кров, иначе не опочиешь спокойно и
прожитая жизнь не заслужит наименования истинной,
примерной жизни. Дело только в том, чтобы
подыскать хорошее название этому сборнику. И его
близко посаженные глаза, как бы ища что-то, начали
блуждать по комнате — без особой надежды на успех,
как опасалась прислушивающаяся Шарлотта, ибо ей
почему-то казалось, что он и вовсе не знает этих рас-
сказов. Но здесь обнаружилось, как далеко уже за-
шел господин Шютце в своих помыслах, ибо назва-
ние было у него наготове: «Веселые досуги» — хотел
бы он назвать книгу. Гете нашел это превосходным.
Он и сам не мог бы придумать лучшего. Название
мило и не лишено тонкой возвышенности. Оно при-
дется по вкусу издателю, привлечет публику, а глав-
715
ное, оно прямо-таки срастается с книгой. Хорошим
книга родится одновременно со своим названием, и
то, что здесь никаких сомнений не возникает, ecu.
на-илучшее доказательство ее внутреннего здоровья и
правдивости. — Прошу прощения, — сказал он, так
как к нему приблизился архитектор Кудрэй. К Шютце
же, снова водрузившему на нос очки, устремился
доктор Ример, видимо желая выспросить, о чем с ним
беседовал Гете.
Под самый конец приема хозяину вдруг пришло
на ум показать Шарлотте старинный портрет ее де-
тей, тот самый, что был ему некогда подарен моло-
дой четою. Встав с места, он водил мать и дочь,
а также Риделей по комнате среди гравюр, монет,
изделий из цветного стекла, показывая им отдельные
раритеты: статуэтки богов под стеклом, старинный
замок с ключом, висевший на оконной раме, малень-
кого золотого Наполеона в треуголке и со шпагой,
стоявшего в закрытом конце колоколообразной баро-
метровой трубы. Тут его и осенило: — Теперь м
знаю, — воскликнул он, — что вам еще следует посмо-
треть, мои дорогие! Старинный дар, силуэт ваш и пи-
ших достославных деяний! Надо, чтобы вы убедились,
сколь преданно и с каким почетом я его хранил в про-
должение десятилетий. Август, будь так добр, дай мне
папку с силуэтом. — И пока все еще были занят
рассматриванием столь оригинально заточенного
Наполеона, камеральный советник принес откуда-1 о
папку и, так как на круглом столе уже не было
места, положил ее на рояль, после чего пригласил
отца и дам приблизиться.
Гете сам развязал тесемки и бережно развернул
папку. Она содержала пожелтевший, пестрый хиос
сувениров, силуэтов, поблекших праздничных од
в венчиках из цветов, зарисовок местностей, скал, из-
вилистых речек и пастушеских типов, которые хозяин
во времена былых странствий двумя-тремя штрихами
набросал для памяти. Старый поэт, видимо, давно ее
не касался и не мог найти искомого. — Черт побори,
куда же задевалась эта штука! — воскликнул он рт
досадованный, в то время как его руки все быстрей
716
и нервозней перебрасывали бумаги. Окружающие со-
жалели, что причиняют ему столько хлопот, и настой-
чиво изъявляли готовность отказаться от своего любо-
пытства. В последний момент Шарлотта сама
заметила силуэт и вытащила его из груды других
сувениров. — Я нашла его, — сказала она, — вот и
мы. — И Гете, несколько смущенный, не без недовер-
чивости всматриваясь в листок бумаги, с наклеен-
ными на нем профилями, отвечал с отзвуком досады
в голосе:
— Да, вам было суждено отыскать его. Это вы,
моя дорогая, и покойный архивариус и пятеро ваших
старших. Милой барышни, здесь присутствующей,
още нет на нем. Где же те, которых я знаю? Вот эти?
Да, да, дети вырастают.
Майер и Ример приблизились и стали украдкой
подавать знаки, сдвигая брови, жмурясь и чуть за-
метно кивая головой. По их мнению, на этом пора
было закончить визит, и кто поставил бы им в упрек,
что они так пекутся о покое великого человека? Гости
подошли прощаться, к ним присоединились и те, что
болтали в комнате Урбино.
— Итак, вы хотите меня покинуть, мои дорогие,
и все зараз? — спросил хозяин. — Ну что же, если вас
влекут долг и радости, кто смеет возражать? Про-
щайте, прощайте! Наш милый горный советник еще
останется со мной. Не правда ли, Вернер? Это ре-
шено? У меня в кабинете имеется для вас кое-что
интересное, недавно прибывшее из чужих стран, и на
этом мы, старые авгуры, отлично закончим праздник.
Окаменевшие пресноводные улитки из Либница.
Дражайшая подруга, — обратился он к Шарлотте,—
от души желаю вам всего лучшего и надеюсь, что
Веймар и ваша милая родня сумеют удержать вас
здесь еще некоторое время. Жизнь слишком долго
разлучала нас, и теперь я вправе рассчитывать, что
она дозволит мне еще раз встретиться с вами. Не за
что благодарить. До новой встречи, уважаемая. Про-
щайте, дорогие дамы! Всего лучшего, господа!
Август проводил Риделей и Кестнеров вниз по
прекрасной лестнице до наружной двери, перед кото-
717
рой теперь, кроме наемной кареты Риделей, стояли
еще два экипажа, ожидавшие чету Кудрэй и Кирм*
сов. Дождь лил уже вовсю. Гости, с которыми они
распростились еще наверху, приветливо кивая, про-
ходили мимо них.
— На отца живительно подействовало ваше при-
сутствие, — произнес Август. — Он даже позабыл
о своей больной руке.
— Он был очарователен, — отвечала советница
Ридель, и супруг веско подтвердил ее мнение. Шар-
лотта сказала:
— Если он страдает от боли, то его дух, его жи-
вость еще больше достойны восхищения. Мне со-
вестно даже подумать, и я жестоко упрекаю себя, что
не осведомилась о его болезни. Мне следовало пред-
ложить ему мой оподельдок. Перебирая подробности
свидания, особенно после столь долгой разлуки,
всегда приходится раскаиваться в досадных упуще-
ниях.
— В чем бы они ни состояли, — отвечал Август, —
это дело поправимое, хотя и не тотчас же, ибо я по-
лагаю, что отцу теперь некоторое время придется со-
блюдать режим, и это принудит его на первых порах
воздержаться от дальнейших встреч. Да к тому же,
сказавшись больным при дворе, он уже не может
принимать участие в светской жизни. Я должен ого-
ворить это наперед.
— Бог мой, — воскликнула она, — это само собой
разумеется! Примите еще раз наш привет и благо-
дарность.
И вот они снова сидели вчетвером в высокой ка-
рете, катившейся по мокрым улицам. Лотхен-млад-
шая, выпрямившись на своей скамеечке, раздувая
ноздри, смотрела в глубину кареты — мимо уха
матери, чье злополучное платье было теперь закрыто
черным плащом.
— Он великий и добрый человек, — сказала Ама-
лия Ридель, и муж подтвердил:
— Да, ты права.
Шарлотта думала, а может быть, и грезила.
718
«Он велик, а вы добры. Но я тоже добра, добра
от всей души, и такой я хочу быть. Ибо только доб-
рые люди умеют ценить величие. А китайцы, которые
там скачут и чирикают под островерхими крышами,
мне не по душе».
Вслух же она обратилась к доктору Риделю:
— Я чувствую себя очень, очень виноватой перед
тобою, дорогой зять, и хочу поскорее в этом покаяться.
Говоря о досадных упущениях, я слишком хорошо
знала, что приходится под этим подразумевать, и те-
перь я возвращаюсь домой весьма разочарованная,
весьма недовольная собою. Я не сумела ни за обе-
дом, ни после сказать Гете о твоих планах и жела-
ниях и попросить его о содействии, что твердо вхо-
дило в мои намерения. Не знаю почему, но это ни
разу не пришлось к слову. Я здесь и виновата и без-
винна. Прости меня!
— Пустое, — отвечал Ридель, — не волнуйся, ми-
лая Лотхен. Тебе не было никакой надобности гово-
рить об этом; уже самым своим приездом и тем, что
мы обедали у его превосходительства, ты оказала
нам неоценимую услугу, а остальное как-нибудь
устроится, и я уверен, что к лучшему.
Глава девятая
Шарлотта осталась в Веймаре еще до середины
октября и вместе с Лоттой, дочкой, все время прожи-
вала в Гостинице Слона, владелица которой,
фрау Эльменрейх, отчасти из практических сообра-
жений, отчасти же под напором своего фактотума,
Магера, изрядно спустила цену за комнату. Нам не-
много известно о пребывании прославленной жен-
щины в столь же прославленном городе. Кажется,
оно, в соответствии с ее преклонным возрастом, но-
сило характер несколько замкнутый, но не вовсе не-
приступный. Если главным образом оно и было
посвящено милым родственникам, но мы все же слы-
шали о ряде интимных вечеров в различных кругах
веймарского общества и даже о нескольких более
719
торжественных, которые она любезно почтила своим
присутствием. Один из них, как то и подобало, дали
сами Ридели, за ним последовало два-три приема
в близком им чиновничьем кругу. Далее надворный
советник Майер и его благоверная, урожденная
фон Коппенфельд, а также главный архитектор Куд-
рэй принимали у себя подругу юности Гете. Ее ви-
дели и в придворных сферах, а именно в доме графа
Эдлинга, члена управления придворным театром и
его красавицы супруги, княжны Стурцы из Молдавии.
В начале октября последние устроили у себя вечер,
оживленный музыкальными выступлениями и декла-
мацией. При этой оказии Шарлотта, вероятно, и по-
знакомилась с госпожой фон Шиллер, давшей в
письме к одной из своих иногородних подруг добро-
желательно-критическое описание ее особы. В письме
этой другой Шарлотты упоминается также и каме-
ральная советница Ридель, в связи с ламентациями
на «бренность всего земного», и описывается, какой
степенной и чопорной восседала эта «шустрая блон-
динка» из знаменитого романа в кругу других дам.
При всех этих встречах Шарлотта, как того и сле-
довало ожидать, была окружена благоговейным вни-
манием, а приветливость и сдержанное достоинство,
с каким она принимала оказываемые ей почести,
вскоре сделали то, что эти почести стали относиться
уже не к литературной ее славе, но к ее собственным
человеческим качествам, среди которых не на послед-
нем месте стояло ласково-меланхолическое обхожде-
ние. Неумеренные изъявления восторга она отклоняла
со спокойной твердостью. Так, например, рассказы-
вают, что на одном из приемов, вероятно у графа Эд-
линга, когда некая экзальтированная дама с распро-
стертыми объятиями кинулась к ней, восклицая:
«Лотта! Лотта!» — она остановила дуреху сдержан-
ным: «Успокойтесь, моя милая», — после чего завела
с ней благодушную беседу о городских и светских
новостях.
Злость, сплетня и колкости, разумеется, не совсем
пощадили ее, но были быстро обузданы благоволе-
нием всех новых знакомых, так что, когда по городу,
720
надо думать благодаря нескромности сестры Амалии,
распространился слух, что старуха явилась к Гете
в наряде, не свободном от безвкусных намеков на
времена Вертеровой любви, ее моральное положение
уже настолько упрочилось, что эти пересуды нимало
не могли повредить ей.
Вецларского друга она во время этих выездов
более не встречала. Известно было, во-первых, что
его беспокоит ломота в суставах и, во-вторых, что он
очень занят просмотром двух очередных томов пол-
ного собрания своих сочинений. О вышеописанном
обеде на Фрауенплане Шарлотта уведомила своего
сына Августа, легационного советника, в лежащем
перед нами письме, о котором можно только сказать,
что оно носит явно поверхностный и небрежный ха-
рактер, более того — нарочито пренебрегает справед-
ливостью в оценке события: «О встрече с великим
мужем я вам ничего не рассказала, да особенного и
не могу рассказать. Разве только, что я вновь позна-
комилась со старым человеком, который, не знай я,
что это Гете, да даже и так, не произвел на меня
приятного впечатления. Ты знаешь, сколь малого
я ждала от этой встречи, вернее от этого нового зна-
комства, а потому и чувствовала себя непринужденно;
он на свой чопорный лад тоже делал все воз-
можное, чтобы быть любезным ко мне, с интересом
поминал встречу с тобой и Теодором... Твоя мать
Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф».
При сравнении этих строк с воспроизведенной
в начале нашего рассказа запиской к Гете невольно
напрашивается вывод: насколько же более тщатель-
ной внутренней подготовке обязана первая своей
изящной формой.
Но и друг юности в свою очередь написал ей од-
нажды к концу ее веймарского пребывания и для нее
уже почти неожиданно. Девятого октября, когда
Шарлотта занималась своим утренним туалетом, Ма-
гер вручил ей карточку, после чего его весьма не-
легко было выпроводить из комнаты. Она прочитала:
«Если вы, любезная подруга, пожелаете сегодня
вечером воспользоваться моей ложей, то я позволю
721
себе прислать за вами карету. Никаких билетов не
нужно. Мой слуга проводит вас через партер. Про-
стите за то, что я не могу явиться сам, также как и
за то, что до сих пор не показывался. В мыслях
я часто пребывал с вами. С наилучшими пожела-
ниями — Гете».
Прощение, испрашиваемое в письме, — видимо за
то, что корреспондент не мог лично сопровождать ее,
а также и за то, что до сих пор не показывался,—
было ему молчаливо даровано, ибо Шарлотта вос-
пользовалась приглашением, и воспользовалась для
себя одной; Лотхен-младшая питала пуританское от-
вращение к дарам Талии, сестра же в этот вечер была
уже куда-то ангажирована вместе с мужем. Итак,
экипаж Гете, удобное ландо, обитое синим сукном
и запряженное двумя холеными гнедыми, доставило
ее в театр, где ганноверская надворная советница, на-
вязчиво лорнируемая публикой и возбуждающая все-
общую зависть, — что, впрочем, не мешало ей внима-
тельно смотреть спектакль, — и провела вечер, сидя на
почетном месте, которое еще так недавно занимала
женщина совсем другой стати — Христиана — мамзель.
Она не покинула ложи и во время большого антракта.
Давали историческую трагедию Теодора Кернера
«Розамунда». Это было тщательно разыгранное изящ-
ное представление, и Шарлотта, как всегда, в белом
платье, на этот раз, правда, отделанном темно-лило-
выми бантами, с начала и до конца смотрела его
с удовольствием. Облагороженная речь, горделивые
сентенции, страстные возгласы, воспроизводимые от-
лично поставленными голосами и сопровождаемые
благородно-размеренными жестами, ласкали ей слух
и взор. Кульминационные пункты действия, возвышен-
ные сцены смерти, когда умирающий, до последнего
мгновения в совершенстве владея речью, произносил
рифмованные строки; сцены за сердце хватающей
жестокости, излюбленные трагедией, благополучный
исход которой сам злодей возвещал словами: «И ад
во прах повержен», — нанизывались одна за другой по
всем правилам драматического искусства. В партере
много плакали, и у Шарлотты на глаза несколько
722
раз навертывались слезы, хотя она и позволяла
себе критиковать произведение, написанное столь
юным сочинителем. Ей не нравилось, что героиня
в стихотворении, прочитанном ею в виде монолога,
упорно называла себя «Розой». Далее, она слишком
хорошо знала детей и не могла не оскорбиться пове-
дением занятых в трагедии театральных учеников.
Над ними занесли кинжал, чтобы заставить их мать
выпить отраву, и, когда это совершилось, они гово-
рят ей: «Мама! Ты так бледна. Развеселись! Мы тоже
веселенькими будем». И затем, показывая на гроб,
фигурирующий в сцене, восклицают: «Взгляни-ка! Как
весело там свечки полыхают!» Тут в партере снова
послышались всхлипывания, но глаза Шарлотты уже
не наполнились слезами. Такими глупыми, подумала
она, уязвленная, дети все же не бывают, и, право,
надо быть уж слишком юным борцом за свободу,
чтобы составить себе подобное представление о мла-
денческой невинности.
Да и с сентенциями, произносимыми звучными го-
лосами любимцев веймарской публики, не все, дума-
лось ей, обстояло благополучно; несмотря на теплоту
и мастерство подачи, они свидетельствовали, по ее
мнению, о недостатке житейского опыта и понимания,
который, впрочем, трудно приобрести автору, только
и знающему, что воинственным всадником скакать по
полям и лугам. Была там одна тирада, от которой
Шарлотта никак не могла отделаться и все время
мысленно возвращалась к ней, покуда не заметила,
что прослушала и проглядела все, что за нею следо-
вало. Даже покидая театр, она с неудовольствием ее
вспоминала. Дело в том, что некто превозносил бла-
городство отчаянного удальства, другой же, трезвее
смотревший на вещи, возражал против того, что дер-
зость называется благородной. Стоит только кому-
нибудь расхрабриться и дерзко напасть на все святое
и почитаемое, как его уже провозглашают великим и
причисляют к звездам истории. Но не кощунство, за-
верял автор, делает человека великим. Нет ничего
легче, как переступить границу, отделяющую чело-
вечество от ада; для такого подвига потребна лишь
723
лаурядная низость. Зато другую границу, соприкасаю-
щуюся nç небом, можно перелететь только на крыльях
г.ысокого и чистого вдохновения. Звучало это складно,
но одинокой гостье почетной ложи , казалось, будто
автор и егеря-добровольцы, с этими своими двумя
границами, взялись преподать человечеству невеже-
ственную и ложную топографию морали. Граница че-
ловеческого, размышляла Шарлотта, существует, ве-
роятно, лишь одна, и за нею нет ни неба, ни ада, или,
вернее, есть и небо и ад, и величие, ее переступающее,
тоже, скорей всего, лишь одно, а следовательно, ко-
щунство и чистота соединяются в нем таким образом,
о котором воинственная наивность поэта знает не
больше, чем о незаурядном уме и тонкой чувствитель-
ности детей. А может быть, он и знал об этом, да дер-
жался того мнения, что поэзии полагается устанавли-
вать две границы человечества и детей выводить
в виде трогательных идиотов. Это талантливая вещь,
но талант автора был направлен на то, чтобы создать
пьесу такой, какой она должна быть по общему мне-
нию, и границу человеческого ему-то уж во всяком
случае не удалось переступить ни в ту, ни в другую
сторону. Ну да, конечно, молодое писательское поко-
ление, несмотря на все свои таланты, что-то немного
забалтывается, и великим старцам особенно его опа-
саться не стоит.
Так она думала и все еще продолжала мысленно
предаваться свои*м возражениям, когда под гром апло-
дисментов опустился занавес; слуга с Фрауенплана
снова появился в ложе и, почтительно приблизившись,
накинул ей на плечи мантилью.
— Ну, Карл,—произнесла она (он успел сооб-
щить ей; что прозывается Карлом), — это было пре-
красно. Я получила большое удовольствие.
— Его превосходительству будет приятно об этом
услышать, — отвечал он, и его голос, первый трезво
неритмический звук будней и действительной жизни,
услышанный ею после многочасового пребывания
в выспреннем мире, заставил Шарлотту понять, что
все ее придирки главным образом имели целью за-
глушить состояние высокомерного и; немного грусг-
Ш
ного отчуждения, в которое нас легко повергает
соприкосновение с искусством. Никто не спешит по-
вернуться к нему спиной, и это подтверждали упорные
аплодисменты не желавшей покидать партер публики,
бывшие не столько изъявлением благодарности акте-
рам, сколько средством еще немного побыть в сфере
прекрасного, прежде чем отрешиться от него, опустить
руки и побрести восвояси. Шарлотта, в шляпе и ман-
тилье, не обращая внимания на ожидавшего ее слугу,
тоже еще несколько минут постояла у барьера, мягко
хлопая в ладоши, обтянутые шелковыми митенками.
Затем она последовала за Карлом, снова надевшим
высокий цилиндр, вниз по лестнице. Ее глаза, утомлен-
ные ярким светом, на который она смотрела из
темноты, были при этом подняты кверху — в знак
того, как она все же насладилась трагедией, хотя и
спорной — с ее двумя границами.
Ландо с поднятым верхом и двумя фонарями по
обе стороны высоких козел, на которых, упершись но-
гами в высоких сапогах с отворотами о покатую под-
ножку, восседал кучер, приветствовавший ее подня-
тием цилиндра, снова остановилось у портала. Слуга
подсадил Шарлотту, заботливо укрыл ей ноги пледом
и привычным движением вскочил на козлы, чтобы за-
нять свое место рядом с кучером. Тот щелкнул, ло-
шади тронули, и экипаж покатился.
Внутри он выглядел обжитым, — да и не удиви-
тельно, немало он послужил во время путешествий
и должен был служить еще для поездок в Богемию,
к Рейну и Майну. Темно-синее стеганое сукно, кото-
рым он был обит, производило уютное и элегантное
впечатление, стеклянный фонарик со свечой был при-
лажен в одном из углов, к услугам седока имелись
даже письменные принадлежности — сбоку, там, где
вошла и теперь сидела Шарлотта, в кожаном мешочке
торчал блокнот и карандаш.
Она тихо сидела в своем углу, скрестив руки на
ридикюле. Через маленькие оконца стенки, отделяв-
шей внутренность кареты от козел, падал рассеянный,
тревожно мерцающий свет; и при этом мерцании она
заметила, что поступила правильно, заняв место
725
в уголке у самой дверцы, ибо здесь она была не так
одинока, как в ложе. Гете сидел рядом с нею.
Она не испугалась. Такого не пугаются. Только
глубже подвинулась в уголок, немного ровнее села,
глянула на освещенную мигающими огоньками фи-
гуру соседа и прислушалась.
На нем был широкий плащ со стоячим воротни-
ком, подбитый красным и с красною же каймой,
шляпу он держал на коленях. Его черные глаза под
крутым лбом и юпитеровой шевелюрой, на этот раз
не напудренной, а каштановой, как в юности, разве
только чуть поредевшей, с лукавым блеском были
обращены к ней.
— Добрый вечер, моя дорогая, — произнес он го-
лосом, которым некогда читал Кестнеровой невесте
из Оссиана и Клопштока. — Поскольку я не мог се-
годня вечером быть возле вас или встретиться с вами
в течение этих дней, я тем более не захотел лишить
себя удовольствия проводить вас домой после театра.
— Очень мило с вашей стороны, тайный советник
Гете, — отвечала она. — Меня это радует, и главным
образом потому, что это ваше решение и сюрприз, ко-
торый вы мне уготовили, говорят об известной гармо-
нии наших душ, если можно ее предположить между
великим человеком и маленькой женщиной. Ведь это
показывает мне, что и вы сочли бы неудовлетвори-
тельным — до боли неудовлетворительным, если б на-
шему недавнему прощанию, после поучительного
осмотра коллекций, было бы суждено стать последним
и за ним не последовала бы встреча, которую я с го-
товностью признаю последней на веки веков, если
только она послужит хоть мало-мальски примиряю-
щим заключением этой истории.
— Заключение, — услышала она голос из его
угла, — заключение — это разлука. Встреча — неболь-
шая глава, фрагмент.
— Я не знаю, что ты там говоришь, Гете, — воз-
разила она, — и не уверена, хорошо ли разбираю твои
слова, но я не удивлена, и тебе нечего удивляться,
ибо я ни в чем не уступаю маленькой женщине, с ко-
торой ты совместно стихотворствовал на берегу
726
сверкающего Майна и о которой твой бедный сын мне
рассказал, что она совсем просто вступила в твою
песнь и продолжала ее так же хорошо, как ты сам.
Что ж, она дитя театра, с горячей кровью. Но жен-
щина остается женщиной, и все мы, если нам это
суждено, вступаем в мужчину и в его песню... Встреча,
небольшая глава, фрагмент? Но, видно, не на-
столько — и ты это почувствовал, — чтобы мне,
скорбя о полной неудаче, возвратиться в одинокую
вдовью обитель.
— Разве ты после долгой разлуки не заключила
в объятия любимую сестру? — произнес он. — Как же
можешь ты говорить о полной неудаче?
— Ах, не смейся надо мной! — отвечала она. — Ты
же знаешь, что сестра была только предлогом, по-
могшим мне поддаться искушению съездить в твой го-
род, отыскать тебя в твоем величии, в которое судьбе
угодно было вплести и меня, и найти исход этой фраг-
ментарной истории во имя спокойствия вечерних ча-
сов моей жизни. Скажи, очень я явилась некстати?
Очень жалкой выглядит эта моя школьная выходка?
— Нет, этого я отнюдь не хотел сказать, — про-
изнес он, — хотя вообще не следует давать пищу люд-
скому любопытству, сентиментальности и злости. Но
я, уважаемая, вполне понимаю ваши побуждения,
и для меня ваш приезд не был некстати, по крайней
мере в высшем смысле этих слов. Единство сколько-
нибудь значительной жизни не знает случайностей,
и, наверно, потому мне еще совсем недавно, по весне,
опять попалась в руки наша книжечка «Вертер», ко-
торая позволила вашему другу окунуться в давнее
и старое, ибо он твердо знал, что вступает в эпоху об-
новления и возврата, эпоху, еще более богатую воз-
можностями страсть пережечь в духовное. И не уди-
вительно, что там, где настоящее приобретает облик
обновленного прошедшего, в многозначительной чреде
явлений посещает нас и неомоложенное прошлое с по-
блекшими эмблемами, с дрожащей головой — трога-
тельным свидетельством его подвластности времени.
— Нехорошо с твоей стороны, Гете, что ты спе-
шишь с упоминанием об этом свидетельстве, и ничего
727
кет утешительного в том, что ты называешь его тро-
гательным, ибо трогательное не твоя сфера. Там, где
мы, простые люди, бываем растроганы, ты усматри-
ваешь лишь интересное. Я отлично заметила, что ты
не остался слепым к этой маленькой слабости, от-
нюдь не характерной для моего вполне. бодрого об-
щего состояния и вызванной не столько временем,
сколько моей причастностью к твоей непомерно вели-
кой жизни — причастностью тревожной и волнующем"!.
Но вот что ты заметил поблекшие эмблемы моего
платья, этого я не знала, — ну, да конечно, ты заме-
чаешь куда больше, чем может, казалось бы, заметип»
твой рассеянный взгляд; да в конце концов ты и дол-
жен был их заметить: ведь я придумала эту шутку
в расчете на твое чувство юмора, хотя теперь пони-
маю, что она была не столь уж юмористической. Но,
возвращаясь к моей подвластности времени, позволь
тебе сказать, господин тайный советник, что ты мог
бы этого и не подчеркивать, ибо, вопреки всем поэти-
ческим обновлениям и омоложениям, твои жесты и
походка стали до того деревянными, что боже упаси,
да и твоя куртуазная важность, сдается мне, тоже
нуждается в оподельдоке...
— Я рассердил вас, моя дорогая, — произнес он
мягким басом, — этим беглым замечанием. Но не за-
бывайте, что я сделал его, желая оправдать ваш
приезд и пояснить, почему я считаю приятным и
многозначительным то, что и вы явились мне в этом
рою стародавних видений.
— Удивительное дело, — перебила она. — Август,
этот необъявленный жених, говорил мне, что ты по-
тоировал его мать, мамзелю, она же обращалась
к тебе на «вы». Меня поразило, что сейчас здесь про-
исходит обратное.
— Ты или вы, — отвечал он, — и тогда, в типе
время, у нас перемежались, в настоящую же минусу
выбор того или иного обращения определяется ду-
шевным состоянием каждого из нас.
— Хорошо, я согласна. Но вот ты говоришь о моем
времени, вместо того чтобы сказать «наше» — а медь
оно было и твоим. Но твое время настало снова, оГ>
728
новленное и омоложенное, насыщенное содержанием
настоящего, мое же было лишь однажды. А потому
мне не следует обижаться, что ты без обиняков на-
помнил мне о моей ничего не доказывающей малень-
кой слабости, впрочем, к сожалению, все же доказы-
вающей, что это было только мое время.
— Друг мой, — отвечал он, — разве может вас вол-
новать и огорчать ваш бренный облик, когда судьба
избрала вас из миллионов и даровала вам вечную
юность в поэме? Все бренное сохранено в моей песне.
— Ты прав, — сказала она, — и я с благодар-
ностью признаю это, несмотря на все тяготы и волне-
ния, для меня, бедной, отсюда проистекшие. Но я хочу
тут же добавить то, о чем ты, верно из куртуазностп,
умалчиваешь: было глупо, что я свое бренное суще-
ство разукрасила эмблемами прошлого, неотъемле-
мой собственностью вечного существа из твоей песни.
Ведь тебе не пришло бы в голову нарядиться в голу-
бой фрак с желтой жилеткой, на манер тогдашних
мечтательных юнцов, напротив, черен и торжествен
был шелк твоего фрака, и, должна сознаться, сере-
бряная звезда на нем красила тебя не меньше, чем
Эгмонта Золотое руно. Ах, Эгмонт, — вздохнула
она, — Эгмонт и дочь народа. Ты хорошо сделал,
Гете, увековечив и свой юный образ в этом творении,
дабы теперь, ревматическим вельможей, проникшимся
мудростью отречения, благословлять трапезу в кругу
своих льстивых приближенных.
— Я вижу, — отвечал он, немного помолчав, глубо-
ким и растроганным голосом,— моя подруга сердится
не только на мое, с виду неделикатное, на деле же
лишь нежное упоминание об этой печати времени.
Ее гнев или ее печаль, выражающаяся в гневе, коре-
нится в более глубоком и достойном, и разве я не
поджидал ее в карете именно потому, что почувство-
вал необходимость поставить себя под удар этой
гневной печали, признать ее достоинство и правоту
и, может быть, смягчить ее искренней просьбой о про-
щении.
— О боже, — испугалась она, — до чего снисходит
ваше превосходительство! Этого я услышать не хо-
47 Т. Мапн, т. 2
729
тела, и теперь краснею, как при ток истории, что пы
рассказали за малиновым кремом. Прощение! Моя
гордость, мое счастье — и мне прощать вас? Где тот
человек, что может сравниться с моим другом? Beci.
мир его чтит, и потомство будет во веки; веков бла-
гоговейно произносить его имя.
— Ни смирение, ни душевная чистота, — отвечал
он, — не смягчат жестокости отказа в просимом. Ска-
завший: мне нечего прощать, становится- непримири-
мым по отношению к тому, чей удел спокон веков
быть без вины виноватым. Там, где возникла нужда
в прощении, ничто не должно становиться на его пути,
даже скромность. Такая скромность не ведает душев-
ной муки, горячего чувства, которое обжигает чело-
века, когда справедливый упрек настигает его во тьме
непоколебимой веры в собственное достоинство и пре-
вращает в кучу раскаленных раковин, какие при-
меняются на постройках вместо извести.
— Друг мой, — сказала она, — я бы ужаснулась,
если бы мысль обо мне могла хоть на мгновение сму-
тить твою неколебимую веру в собственное достоин-
ство, от которой для человечества столь многое зави-
сит. Но я только допускаю, что это жгучее чувство
прежде всего относится к первой, с которой началось
отречение, чтобы всегда повторяться потом: к дочери
народа, той, которой ты, отъезжая, протянул руку
с коня; ведь к вящему моему успокоению я прочла,
что со мной ты расставался, чувствуя себя менее вино-
ватым. Бедняжка под могильным холмом в Баденском
герцогстве! Откровенно говоря, я не очень скорблю
о ней, она не умела достаточно крепко держать себя
в руках и зачахла, а ведь все сводится к тому, чтобы
иметь мужество сделать из себя самоцель, даже когда
ты только средство. Вот она и лежит теперь где-то
под Баденом, тогда как другая, после плодовитом
жизни, пребывает в достойном вдовстве и бодром об-
ладании сил, которое вряд ли кто возьмет под сомне-
ние из-за слегка трясущейся головы. Да и кроме того,
ведь я счастливица, — ибо я очевидная и несомненная
героиня твоей бессмертной книжки, неоспоримая,
вплоть до последней мелочи, несмотря на э\у
739
маленькую путаницу с черными глазами, и даже ки-
таец, как ни далек ему наш образ мыслей, дрожащей
рукой выписывает на фарфоре рядом с Вертером
меня — меня, а не другую. Этим я горжусь и не хочу
допустить даже мысли, что та, под-могильным холмом,
была соучастницей, что начало положено ею, что она
первая пробудила в твоем сердце Вертерову любовь.
И вот я боюсь, вдруг однажды обнаружится, что
она—та подлинная, чье имя сопряжено с твоим в том
выспреннем мире, как имя Лауры с именем Петрарки,
а я буду свергнута, забыта: вырван будет мой образ
из ниши в соборе человечества. Эта мысль временами
до слез тревожит меня...
— Ревность? — спросил он улыбаясь. — Разве Лау-
ра единственное имя, произносимое с благоговением?
Ревность к кому? К твоей сестре, нет, к твоему
отражению, к второй тебе? Разве облако, образуясь
и принимая новый образ, не остается тем же облаком?
И стоименный бог, разве он не един для нас, для нас
всех? Вся эта жизнь — лишь преобразование форм,
единство во многом, прочное в сменах. И ты и она,
все вы одна в моей любви и в моей вине. Так ты со-
вершила эту поездку, чтобы сыскать умиротворение?
— Нет, Гете, — отвечала она. — Я приехала, чтобы
бросить взгляд на возможное, столь очевидно усту-
пающее действительному, и все же, со всеми своими
«а что, если бы» и «а коли бы так», всегда подле
него пребывающее и достойное наших вопрошаний.
Разве ты не согласен со мной, старый друг, и разве
и ты не вопрошаешь о возможном среди твоей почет-
ной действительности? Она плод отречения, я это знаю
хорошо, а значит и мучительно медленного увядания,
ибо отречение и увядание живут в тесной близости,
и вся действительность, все сущее — только зачахшее
возможное. Есть нечто страшное в таком увядании,
верь мне, и мы, простые смертные, должны избегать
его, всеми своими силами противиться ему, даже если
голова у нас начинает трястись от напряжения, иначе
от нас останется лишь могильный холм в Баденском
герцогстве. Ты — дело другое, у тебя было чем это
восполнить. Твоя действительность мало похожа на
47*
731
отречение и неверность, скорее напротив, на всеосу-
ществление и высшую верность. Ей свойственно такое
величие, что никто не смеет вопрошать ее о возмож-
ном. Это так.
— Твоя сопричастность, дитя мое, поощряет тебя
к довольно странным комплиментам.
— Что ж, хоть это право я имею: говорить и сла-
вословить искренне, чем непричастная толпа. Но одно
я должна тебе сказать, Гете: хорошо, уютно я себя не
чувствовала в твоем кругу, в твоем великолепном
доме. У меня сжималось сердце, ибо вблизи от тебя
уж очень пахнет жертвоприношениями — не фимиа-
мом, его бы я легко перенесла, ведь и Ифигения ку-
рила фимиам перед алтарем скифской Дианы, по
против человеческих жертв она подняла свой укро-
щающий голос, а ведь их-то и приносят тебе, и все
вокруг тебя похоже на поле битвы или царство злого
цезаря... Эти Римеры, только и знающие что брюзжать
и дуться и отстаивать свою мужскую честь, и твой
бедный сын с его семнадцатью бокалами шампан-
ского, и эта амазоночка, что выйдет за него к новому
году и впорхнет в твой мезонин, как бабочка в огонь,
не говоря уже о Мариях Бомарше, не умевших дер-
жать себя в руках, подобно мне, и зачахших, — что
все они, как не жертвы твоего величия? Ах, приносит!»
жертвы сладостно, но быть жертвой — горький удел.
Мерцающие блики тревожно скользнули по фигуре
человека в плаще, что сидел подле нее. Он сказал:
— Дорогая, дозволь искренне ответить тебе — на
прощание и в знак примирения. Ты говоришь о жертве,
а здесь начинается тайна. Тайна великого единства
мира, жизни, личности и творчества. Пресущест-
вление— все. Богам приносили жертвы, а под конец
жертвою стал бог. Ты прибегла к сравнению, мне
милому и близкому: мошка и смертоносное пламя.
Ты хочешь сказать — я то, куда жадно стремится мо-
тылек, но разве среди превратностей и перемен я не
остался горящей свечой, которая жертвует своим те-
лом для того, чтобы горело пламя? И разве я сам-
ые одурманенный мотылек, извечный образ сожже-
ния жизни и плоти во имя наивысшего духовной»
732
пресуществления. Старая подруга, милая, чистая
душа, я первый — жертва, и я же жертвоприноситель.
Однажды я перегорал для тебя и продолжаю перего-
рать, всегда — в дух и в свет. Знай, метампсихоза для
твоего друга — сокровеннейшее, высшее, величайшая
его надежда, первое вожделение. Игра превращений,
изменчивый лик, когда старец воплощается в юношу
и юноша в мальчика, единый лик человеческий, в ко-
тором сменяют друг друга отпечатки жизни и юность
магически проступает из старости, старость из
юности: потому мне было так мило и близко — тебя
это успокоит, — что ты надумала явиться ко мне, сим-
волом юности украсив свой старческий облик. Един-
ство, моя дорогая, — размежевание и перетасовка.
Так и жизнь открывает то свое природное лицо, то
нравственное, так прошлое переходит в настоящее,
первое отсылает ко второму, указуя путь к будущему,
которым чревато и то и другое. Отзвук чувства, пред-
чувствие... Чувство — все!.. Да раскроются наши всё
вбирающие, всё постигшие глаза на единство мира.
Ты требуешь возмездия? Оставь, я вижу, как оно
серым всадником движется мне навстречу. И тогда
снова пробьет час Вертера и Тассо, ибо двенадцать
раз бьет и в полночь и в полдень, и только то, что бог
мне даст поведать, как я стражду, только это пер-
вое и последнее, мне останется. Тогда разлука будет
прощанием, прощанием навеки, смертным борением
чувств, и час ужасных мучений, мучений, что предше-
ствуют смерти, ибо они есть умирание, но еще не
смерть. Смерть — последний полет в пламя. Во все-
едином чем быть ему, если не новым пресуществле-
нием? В моем успокоенном сердце покойтесь, милые
образы, — и сколь радостен будет миг, когда мы снова
очнемся.
Давно знакомый голос умолк. «Мир твоей ста-
рости!»— только прошептал он еще. Экипаж остано-
вился. Свет его фонарей теперь смешался со светом
двух других над дверьми Гостиницы Слона. На
крыльце, с руками, заложенными за спину, и подня-
тым кверху носом, стоял Магер, вдыхая воздух звезд-
ной осенней ночи. Он ринулся вниз, на панель, чтобы
733
опередить слугу при открывании дверцы. Разумеется,
бежал он не как-нибудь, а как человек, уже несколько
отвыкший от бега, изящно подняв плечи и с достоин-
ством виляя задом.
— Госпожа советница! — воскликнул он. — Добро
пожаловать! Надеюсь, госпожа советница провели
содержательный вечер в нашем храме муз! Смею ли
я предложить эту руку в качестве надежной опоры?
Боже милостивый, госпожа советница: помогать ге-
роине Вертера при выходе из экипажа Гете — это со-
бытие. Как мне назвать его? Событие, достойное
увековечения.
ПРИМЕЧАНИЯ
КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
ОСЛОЖНЕНИЕ
Стр. 18. Фидеикомис (от лат. fidei commissum — поручение
совести) —система наследования, при которой крупное земельное
владение, переходя от отца к старшему сыну, остается фамильным
достоянием, не подлежащим раздроблению, продаже или залогу.
Стр. 28. Амнион (греч.)—одна из зародышевых оболочек
у высших позвоночных и у человека, наполненная амниотической
жидкостью, которая предохраняет зародыш от повреждений,
ДОКТОР ЮБЕРБЕЙН
Стр. 86. Principe иото (государь-человек. — итал.)—идеал
государя в эпоху Возрождения, созданный итальянским полити-
ческим мыслителем и писателем Никколо ди Бернардо Макиа-
велли (1469—1527) в книге «Государь» (1513, напечатанной по-
смертно в 1532), где излагаются принципы управления монар-
хией и борьбы за ее утверждение.
Стр. 114. Догкарт (англ.)—высокий двухколесный экипаж
с двумя поперечными сидениями.
АЛЬБРЕХТ II
Стр. 126. Апанаж — сумма, назначаемая парламентом члену
царствующего дома в личное пользование и на содержание его
двора.
Стр. 138. ...из сказки, которую читала нам наша мадам.—
Речь идет о сказке «Русалочка» известного датского писателя
Ганса Христиана Андерсена (1805—1875).
Стр. 149. Рох (Рух. — арабск.)—легендарная гигантская
птица, которая вьет гнездо на неприступных вершинах гор, окру-
жающих Долину Алмазов, и кормит своих птенцов слонами.
Упоминается в сборнике арабских сказок «Тысяча и одна ночь»,
Здесь — символ сказочного богатства.
737
ИММА
Стр.201. Капитул (лат.) — собрание кавалеров рыцарского
ордена или его руководящий орган.
Стр. 232. Святой Грааль — чаша, в которую, по христиан-
ской легенде, Иосиф Аримафейский, один из учеников Христа,
собрал его кровь. Впоследствии чаша, получившая чудотворную
силу, была перенесена в Англию, где охранялась братством по-
священных рыцарей и после смерти последнего хранителя Гра-
аля, Парсифаля, была вознесена на небо.
Стр. 260. Квинтеронка — дочь белого и квартеронки, белая
женщина с примесью индейской крови в пятом поколении.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Стр. 283. Парциальные налоги (лат.) — частичные налоги, вво-
димые кроме общего подоходного или поимущественного налога.
Квота (лат.) —налоговая ставка, приходящаяся на еди-
ницу обложения.
Стр. 286. Фундированный долг (лат.) — государственный долг,
возникший вследствие фундированного займа (то есть займа, обес-
печенного определенным источником государственного дохода).
Конверсия (лат.)—изменение условий ранее выпущенного
государственного займа с целью уменьшения расходов по госу-
дарственному долгу, что достигается путем понижения процента
или изменения срока его погашения.
Консолидировать (лат.) — произвести кредитную операцию
по превращению текущих, краткосрочных государственных дол-
гов в постоянные или долгосрочные.
розовый куст
Стр. 348. Цивильный лист (франц.) — при конституционной
монархии сумма, ассигнуемая парламентом в личное пользова-
ние монарху и на содержание его двора.
Стр. 356. ...и жив будет, и дастся ему от злата Аравийска...—
Библия (Псалом 71).
ЛОТТА В ВЕЙМАРЕ
Глава первая
Стр. 366. Святая Германдада (от исп. hermandad— брат-
ство)— здесь ироническое обозначение полиции. Св. Германда-
да — союз городов и крестьянских общин Испании, основанный
738
в 1476 г. испанским абсолютизмом для борьбы с феодальной
знатью; с 1498 г. Святая Германдада стала выполнять функции
сельской полиции, в 1835 г. заменена жандармерией.
Стр. 367. Немецкий орденский дом — один из. управительских
домов Тевтонского ордена. Амтманом, то есть управляющим
экономией Немецкого орденского дома в г. Вецларе, в 70-х гг.
XVIII в. был отец Шарлотты Буфф.
Стр. 374. ...человек, который написал «Ринальдо». — Христиан
Август Вульпиус (1762—1827), брат жены Гете, Христины; рома-
нист и драматург, автор популярного разбойничьего романа
«Ринальдо Ринальдини».
Стр. 375. *Мы свидимся, найдем друг друга...» — «Страдания
молодою Вертера», книга первая, запись в дневнике Вертера от
10 сентября.
Стр. 378. ...фея вольпертгаузенских балов.—Вольпертгаузен—
предместье в г. Вецларе, где Гете впервые встретился на балу
с Шарлоттой Буфф 9 июля 1772 г.
Глава вторая
Стр. 381. «А я, милая Лола, счастлив...» — Из письма Гете
к Шарлотте Буфф от II сентября 1772 г.
Стр. 385. «Я оставляю вас счастливыми...» — Из писем Гете
к Шарлотте Буфф от 10 и 11 сентября 1772 г.
Стр. 386. «Песнь о Фингале» — одна из эпических поэм, из-
данных в 1762—1765 гг. в Эдинбурге шотландским поэтом
Джемсом Макферсоном и приписанных им легендарному барду
Шотландии III в. Оссиану. Фингал — герой кельтского народ-
ного эпоса, по преданию, живший в Ирландии в конце III в.
Стр. 391. Веллингтон, герцог Артур Уэсли (1769—1852) —
английский полководец и реакционный государственный деятель.
В битве при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) командовал вооружен-
ными силами антинаполеоновской коалиции.
Меттерних, князь Кпеменс (1773—1859) — австрийский го-
сударственный деятель и дипломат, один из главных организато-
ров Венского конгресса и Священного Союза, вдохновитель
феодально-абсолютистской реакции в Европе. Прозван «князем
тьмы».
Талейран-Перигор, князь Шарль-Морис (1754—1838) —
французский дипломат, один из крупнейших представителей
буржуазной дипломатии в Европе начала XIX в. Руководил
739
внешней политикой Франции при Директории, наполеоновской
империи и в период Реставрации.
...Каслри, сэр Роберт Стюарт (1769—1822) — английский
реакционный политический деятель, министр иностранных дел,
боровшийся за установление гегемонии Англии в Европе.
Гарденберг, барон Карл-Август (1750—1822)—прусский
канцлер, представлявший Пруссию на Венском конгрессе, во-
влекший ее в антинаполеоновскую коалицию европейских держав.
Варнгаген фон Энзе, Рахиль-Антония-Фредерика (1771 —
1833)—жена немецкого писателя, историка, дипломата, Карла-
Августа Варнгагена фон Энзе (1785—1858). Хозяйка ли-
тературного салона, посещавшегося крупными деятелями немец-
кон культуры: Шлегелем, Гумбольдтом, Шеллингом, Фихте, Гуц-
ковым, Гейне, Берне, Шамиссо, и сыгравшего значительную
роль в литературной жизни Германии той эпохи.
Шеллинг Фридрих-Вильгельм-Иозеф (1775—1854)—одни
из выдающихся представителей классического немецкого идеа-
лизма. Натурфилософские воззрения Шеллинга оказали значи-
тельное влияние на немецких романтиков.
Блюхер фон Валыитадт, князь Гебхард-Леберехт (1742—
1819)—прусский фельдмаршал, командовал прусскими войсками
в битве при Ватерлоо.
Стр. 392. Виланд Кристоф-Мартин (1733—1813) — поэт и ро-
манист, деятель немецкого Просвещения. Главные его произве-
дения—сатирический роман «Абдериты», фантастические поэмы
«Музарион» и «Оберон». С 1722 г. — воспитатель герцога Карла-
Августа в Веймаре, где позднее сблизился с Гете. В юные годы
Гете вывел его в фарсе «Боги, герои и Виланд».
Гердер Иоганн-Готфрид (1744—1803)—немецкий мысли-
тель и историк искусства, идеолог движения «бури и на-
тиска». Автор труда «Идеи к философии истории человечества»,
представляющего опыт создания всеобщей истории культуры.
Оказал большое влияние на молодого Гете, с которым познако-
мился в Страсбурге в 1770 г.
Фальк Иоганн-Даниэль (1770—1826) — немецкий писатель-
сатирик из веймарского кружка Гете, издатель «Карманного
календаря для друзей шутки и сатиры» (1797—1806).
Автор книги «Гете в ближайшем личном общении».
...вдова Шиллера — урожденная Шарлотта фон Ленгефельд.
Мадам Шопенгауэр Иоганна-Генриетта, урожденная Тро-
740
зингер (1770—1838)—мать философа Артура Шопенгауэра,
писательница-романистка, близкий друг Гете.
Ягеманн фон Гейгендорф Каролина (1780—1847) — певица
и драматическая актриса, примадонна Веймарского придвор-
ного театра, фаворитка герцога Карла-Августа.
...великая княгиня, супруга наследного принца. — Сестра
русского императора Александра I, Мария Павловна, была за-
мужем за наследным герцогом, позднее великим герцогом Кар-
лом-Фридрихом Саксен-Веймарским.
Шарлотта фон Штейн, урожденная фон Шардт ( 1742—
1827)—подруга юности и зрелых лет Гете, гофмейстерина гер-
цогини Анны-Амалии Веймарской. Послужила прообразом
Ифигении в гетевской драме «Ифигения в Тавриде».
Стр. 394. Ример Фридрих-Вильгельм (1774—1845)—один из
ближайших сотрудников Гете, ученый-филолог, автор «Греко-
немецкого словаря» (1804). В 1803—1812 гг. жил в семье Гете
как воспитатель его сына Августа, а также секретарь и дове-
ренное лицо самого поэта.
Глава третья
Стр. 405. Вольф из Галле Фридрих-Август (1759—1824) —
немецкий ученый-филолог, известный своими исследованиями и
переводами классиков античности.
Стр. 406. ...прусского посла, господина фон Гумбольдта. —
Гумбольдт Фридрих-Вильгельм (1767—1835) — видный немецкий
ученый-лингвист, один из основоположников сравнительно-исто-
рического языкознания. Прусский дипломат и государственный
деятель. В годы, о которых идет речь, был прусским резидентом
при папском дворе в Ватикане.
Стр.412. ...его сыну, Августу. — Юлий-Август-Вальтер фон
Гете (род. в 1789 г. в Веймаре, ум. в 1830 г. в Риме).
...мамзель Вульпиус. — Вульпиус Иоганна-Христина-София
(1765—1816)—жена Гете с 1788 г., мать его сына Августа;
в 1806 г. сочеталась с ним церковным браком.
Стр. 415. Борн Иоганн-Генрих — товарищ Гете по Лейпциг-
скому университету, впоследствии встретившийся с ним в импер-
ском суде в Вецларе, где Гете практиковал в 1772 г.
Иерузалем Карл-Вильгельм (1747—1772) —секретарь браун-
швейгекого посольства, застрелившийся от несчастной любви
к жене своего друга, фрау Герт8 История самоубийства
741
Иерузалема, рассказанная Гете его другом Кестнером, широко
использована в романе «Вертер».
Стр. 419. Мейер Иоганн-Генрих (1759—1832) — один из бли-
жайших друзей Гете в веймарский период; историк искусства,
автор «Истории пластических искусств у греков», посредствен-
ный живописец-классицист; с 1807 г.— директор Академии худо-
жеств в Веймаре и ближайший сотрудник Гете по изданию
журнала «Пропилеи».
Стр. 420. Цельтер Карл-Фридрих (1758—1832) —друг Гете,ди-
рижер и музыкальный педагог, учитель Ф. Мендельсона и Дж.
Мейербера, директор Берлинской консерватории и певческой акаде-
мии. Переложил на музыку ряд стихотворений Гете и Шиллера.
...«в толк не возьму, что он находит в нем» — слова Грет-
хен о Мефистофеле в сцене «Сад Марты» («Фауст», часть пер-
вая).
Стр. 424. Мерк Иоганн-Генрих (1741—1781)—друг юности
Гете и Гердера, литературный критик, переводчик и беллетрист.
Цинический ум и «великий отрицатель» (Гете), многие черты
которого автор «Фауста» присвоил Мефистофелю.
Стр.425. Клаудиус Маттиас (1743—1815) — немецкий поэт-
лирик, одним из первых обратившийся к фольклору.
Гельти Людвиг-Кристоф-Генрих (1748—1776)—поэт из
школы «бури и натиска». Один из первых ввел в немецкую ли-
тературу XVIII в. жанр баллады.
Маттисон Фридрих (1761—1831)—немецкий поэт-лирик,
мастер элегии и поэтического ландшафта.
Вандсбекерова «Луна на небе встала» — застольная песня
Маттиаса Клаудиуса. Вандсбекер — псевдоним поэта, выбранным
по названию газеты «Вандсбекский вестник», издававшейся им
в 1770—1775 гг.
...«Боги! Я дивлюсь, как человек...» — слова Кассия из траге-
дии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт первый, сцена вторая).
Стр. 426. «Пролог на театре» (1797—1798) — первый пролог
к «Фаусту», написанный в подражание высоко ценившейся Гете
драме индийского классика Калидасы «Сакунтала».
Стр. 427. «Она сосет...» — начальная строфа стихотворения
Гете «Притча» (1810).
Стр. 430. ...«благословениями небесными свыше и благослове-
ниями бездны, лежащей долу». — Библия, «Первая книга Мои-
сеева», глава 49.
Стр. 432. ...того неустрашимого дурачка... пустившегося на
742
поиски страха. — Имеется ввиду немецкая народная сказка в об-
работке братьев Гримм «Сказка о том, кто ходил страху учиться».
Стр. 437. «...не налипло, а вплетено в ткань». — Из письма
Гете к Кестнеру от 21 сентября 1774 г.
Стр. 438. Сознание, что твое имя... — Там же, цитировано не-
точно.
...однажды он написал, что хотел бы крестить их всех. —«
Намек на письмо Гете к Шарлотте Буфф в конце марта 1773 г.
Стр. 439. «Тысячи, тысячи поцелуев...» — «Страдания моло-
дого Вертера», книга вторая, предсмертное письмо Вертера.
Стр. 441. Эрфурт и свидание с Наполеоном. — Встреча Гете
с Наполеоном состоялась во время Эрфуртского конгресса 2 ок~
тября 1808 г.
Стр. 448. ...о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной ру-
кой.— Гец фон Берлихинген (Готфрид) (1480—1562)—герой
одноименной драмы Гете, рыцарь, участник Крестьянской войны
в Германии 1525 г. Прозвище свое получил потому, что в войне
Пфальца с Баварией потерял руку и заменил ее искусственной,
сделанной из железа.
...приятели из трактира «Кронпринц»... дали ему прозвище
«Гец прямодушный». — Имеется в виду дружеский кружок «ры-
царей Круглого стола», основанный в 1772 г. секретарем браун-
швейгского посольства, Августом-Фридрихом Гуэ.
«Франкфуртский ученый вестник» — литературный орган
движения «бури и натиска». Основан в 1772 г. во Франк-
фурте-на-Майне Георгом Шлоссером совместно с Генрихом Мер-
ком. Гете был постоянным сотрудником этого журнала.
Стр. 454. Фамулус (лат.) — в средние века ассистент, ученый
служитель при профессоре или лаборатории.
Стр. 455. ...с древним, прелестным образом отрока. — Намек на
греческий миф о прекрасном юноше Нарциссе, влюбившемся в свое
собственное отражение в ручье и покончившем самоубийством.
В ней много от знатного вельможи... — Намек на сцену из
драмы Гете «Эгмонт» — «Жилище Клерхен» (действие третье,
явление второе).
Стр. 458. ...ее черные глаза идут от Максимилианы Ларош. —
Де Ларош Максимилиана (1756—1793)—дочь писательницы
Софи де Ларош, подруги Виланда. Максимилиана и ее муж, бо-
гатый коммерсант Петер Брентано (наряду с Шарлоттой Буфф
и Иоганном-Христианом Кестнером), послужили прообразами
персонажей «Вертера».
743
Глава четвертая
Стр. 469. Эйнзидель — малоодаренный поэт и музыкант; паж,
позднее камергер герцогини Анны-Амалии Веймарской.
Кнебель Карл-Людвиг фон (1744—1834)—друг Гете, поэт,
переводчик Лукреция и Проперция, воспитатель брата герцога,
принца Константина Веймарского.
Бертух Фридрих-Юстин (1747—1822)—немецкий писатель
и журналист, переводчик Сервантеса. Издавал «Иенскую
всеобщую литературную газету», где сотрудничали Гете, Шил-
лер, Фихте, Гумбольдт и братья Шлегели.
Теренций Публий (около 185—159 гг. до н. э.) —
римский комедиограф, внесший в комедию элемент плебейской
сатиры и фарса.
Гримм Якоб (1785—1863)—выдающийся немецкий ученый,
филолог и историк культуры, член Прусской академии наук,
автор ряда трудов по лингвистике, истории права, средневековой
литературе и фольклору. Основная языковедческая работа Гримма
«Немецкая грамматика» — первое сравнительно-историческое ис-
следование германских языков, оказавшее влияние на последую-
щее развитие языкознания.
Пюклер, князь Пюклер-Мускау, Герман-Людвиг-Генрих
(1785—1871)—немецкий писатель и общественный деятель. Из-
вестен также своими работами по садоводству, считавшимися
классическими в этой области.
Братья Шлегели — теоретики немецкого романтизма, сфор-
мулировавшие основные принципы его эстетики. Август-Виль-
гельм (1767—1845)—историк литературы, переводчик Шекспира,
Данте, Сервантеса, Боккаччо и поэтов Возрождения, Фрид-
рих (1772—1829) —лингвист и философ, автор романа «Лю-
цинда».
Савиньи Фридрих-Карл (1779—1861)—немецкий ученый,
юрист, специалист по римскому праву, основатель реакционной
исторической школы в правоведении.
Стр. 476. Корнелиус Петер (1783—1867)—немецкий истори-
ческий живописец из школы «назарейцев», впоследствии дирек-
тор Академий художеств в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине.
Известен своими иллюстрациями к «Песне о Нибелунгах» и ге-
тевскому «Фаусту».
Овербек Фридрих-Иоганн, (1789—1869) — немецкий живо-
писен, глава реакционнотромантической школы «назарейцев», не-
744
мецких художников в Риме начала XIX в. Известен своими
фресками и картинами на религиозно-библейские темы.
Фридрих Каспар-Давид (1774—1840) — художник-пейза-
жист, представитель раннего романтизма в немецкой живописи.
Стр. 477. У ланд Иоганн-Людвиг (1787—1862) — немецкий
поэт-романтик и историк литературы, буржуазный политический
деятель. В дни германской революции 1848 г. был членом франк-
фуртского парламента.
Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822)—крупный не-
мецкий писатель-романтик, композитор и музыкальный критик.
Глава пятая
Стр. 485. Пассов Франц (1786—1833) — немецкий филолог*
эллинист, учитель Шопенгауэра, автор греческого словаря и исто-
рик греко-римской литературы.
Стр. 493. Ней, герцог Мишель (1769—1815) — один из бли-
жайших сподвижников Наполеона, участник всех наполеоновских
походов, пэр Франции и маршал империи. Во время «Ста дней»,
посланный Бурбонами против Наполеона, перешел с войском на
его сторону. После вторичного разгрома Наполеона был рас-
стрелян.
Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757—1816), герцог Ка-
стильоне — офицер революционной армии во времена французской
революции 1789—1793 гг., участник итальянского похода Напо-
леона; в 1814 г. перешел на сторону Бурбонов.
Ланн Жан (1769—1809), герцог де Монтебелло — один из
выдающихся полководцев наполеоновской армии. Участник еги-
петской экспедиции и итальянского похода. Сыграл значительную
роль в победе над австрийскими войсками во время битвы под
Монтебелло. Смертельно ранен в сражении при Эслииге.
Стр. 496. Рейнский союз (1806—1813) — объединение ряда
германских государств под протекторатом Наполеона, распав-
шееся после поражения наполеоновской Франции.
Стр. 498. ...свой апофеоз «Эпименид». — Имеется в виду дра-
матическая поэма Гете «Пробуждение Эпименида» (1814). Эпи-
менид— критский юноша, еын нимфы, по преданию, проспавший
в пещере сорок лет и после своего чудесного пробуждения по-
читавшийся согражданами как любимец богов.
«Но я стыжусь часов покоя...» — «Пробуждение Эпиме-
нида» (действие второе, явление девятое).
Стр. 509. Вольцоген Каролина, урожденная Ленгефельд
48 Т. Манн, т. 2
745
(1763— Î847)—немецкая поэтесса, сестра жены Шиллера и его
биограф, автор книги «Жизнь Шиллера» (18Э0).
Стр. 510< ...певцом «Лиры и меча», — Поэт и драматург Теодор
Кернер (1791—1813), отправившийся добровольцем на войну
против Наполеона и погибший на поле сражения. В сборнике его
стихотворений «Лира и меч», напечатанном посмертно в 1914 г.,
идеи борьбы за освобождение Германии от власти Наполеона
сочетаются с защитой религии и монархии. Стихи из этого сбор-
ника были переложены на музыку немецким композитором Кар-
лом-Мария Вебером.
Стр. 511. Бюлов Фридрих-Вильгельм (1755—1816)—прусский
генерал, брат реакционного военного историка Генриха-Дитриха
Бюлова. Принимал участие в разгроме наполеоновских войск
в 1.8L3 г. в битвах под Меккерном, Лукнау и др. В сражении
при Ватерлоо первым вышел во фланг Наполеону.
Клейст Фридрих-Генрих-Фердинанд-Эмиль (1762—1823) —
прусский фельдмаршал. Своим участием в битвах при Кульме и
Лаоне (1813—1814) решил исход сражений в пользу союзных войск.
Иорк фон Вартенбург Иоганн-Давид-Людвиг С1759—
1830) — прусский фельдмаршал. После изгнания Наполеона из
России самовольно присоединился к кутузовской армии. Содей-
ствовал разгрому наполеоновских войск в бою под Вартенбургом.
Тауенцин Богислав-Фридрих-Эммануэль (1760—1824) —
прусский генерал, отличившийся в войне коалиции евро-
пейских держав против Наполеона (1813—1814).
Стр. 512. ...здесь держали двор два императора... да еще
прусский кронпринц. — Император российский Александр I, импе-
ратор австрийский Франц I и кронпринц, впоследствии король
прусский Фридрих-Вильгельм IV.
Стр. 514. ...Граф Коллоредо Иозеф-Мария (1735—1818),
австрийский фельдмаршал.
...с крестом Почетного легиона в петлице. — Гете получил от
Наполеона орден Почетного легиона во время Эрфуртского кон-
гресса 14 октября 1808 г.
Стр. 517. ...Фихте... разгуливал, вооруженный до зубов. —
Фихте Иоганн-Готлиб (1762—1814)—немецкий философ, субъ-
ективный идеалист, педагог и общественный деятель. В период
наполеоновской оккупации был одним из идейных вождей немец-
кого национально-освободительного движения.
Шлейермахер Фридрих-Даниэль (1768—1834)—немецкий
философ-идеалист, автор книги «Диалектика» и широко извест*
746
ных произведений, в которых сочетал религиозные идеи проте-
стантизма с учением Канта, Фихте и Шеллинга.
Иффланд Август-Вильгельм (1759—1814) — известный не-
мецкий актер и драматург, автор «семейных пьес», в которых
выводится попираемое дворянством третье сословие.
Коцебу Август-Фридрих-Фердинанд (1761—1819)—реакци-
онный немецкий писатель, романист и драматург. С 1813 г.—
тайный агент русского правительства в Германии. 23 марта
1819 г. был убит студентом Карлом Зандом.
Стр. 518. Клейст Генрих (1777—1811) — немецкий романтик,
драматург и новеллист, участник войны против Наполеона. Наибо-
лее значительные произведения—пьесы «Германова битва», «Принц
Фридрих Гомбургский», «Кетхен из Гейльбронна», «Пентесилея».
Арндт Эрнст-Мориц (1769—1860) — немецкий поэт и дея-
тель революции 1848 г., депутат немецкого национального собра-
ния. Патриотические песни и стихотворения Арндта пользовались
большой популярностью во времена войны против Наполеона.
Стр. 530. Туснельда — жена Арминия, или Гурмана (17 г. до
н. э. — 19 г. н. э.), вождя германскою племени херусков, нацио-
нального героя, освободившего Германию от римского владыче-
ства. Изображена в поэтической трилогии Клопштока «Герман».
В кругу романтиков считалась идеалом немецкой женщины.
Гетева Доротея — героиня поэмы Гете «Герман и Доротея»
(1797).
Стр. 531. Граф Эдлинг... женился на заезжей молдавской
княжне Стурдза. — Эдлинг Альберт (1774—1841) —гофмаршал и
театральный интендант в Веймаре. Стурдза Роксандра Скарла-
товна, в замужестве графиня Эдлинг (1786—1844)—сестра из-
вестного' своим обскурантизмом русского дипломата и реакцион-
ного писателя А. С. Стурдза (1791—1854).
Стр. 537. «Фантастическое путешествие Пинто*— книга, вы-
шедшая в Лиссабоне в 1816 г., описание странствований порту-
гальского путешественника Фердинанда-Мендеса Пинто (1509—
1583), посетившего Абиссинию, Китай, Аравию, Индию, Японию
и другие страны.
Глава шестая
Стр. 552. ...нашу бедную герцогиню Амалию. — Имеется
в виду вдовствующая герцогиня, мать Карла-Августа, Анна-
Амалия Саксен-Веймарская,
48*
747
• € Давно ли хмерть..:»-^ монолог Эгмонта в тюрьме («Эг>
монт», акт V, сцена 2). ,
Стр. 656. Клопщток ФридрихтГотлиб (1724—1803) — один из
основоположников немецкой национальной поэзии XVJII в.,
реформатор немецкого стихосложения, порвавший с традицией
классицизма, автор поэмы «Мессиада». Оказал значительное
влияние на поэтов «бури и натиска».
Бюргер Готфрид-Август (1747—1794)—немецкий поэт,
примкнувший к движению «бури и натиска», создатель немецкой
баллады, внесший в поэзию фольклорные мотивы.
Штольберги, братья — немецкие писатели, граф Христиан
(1748—1821) и граф Фридрих-Леопольд (1750—1819). Принадле-
жали к геттингенскому «Союзу рощи», примыкавшему к течению
«бури и натиска». Оба были убежденными пиэтистами и поэтому
осуждали «языческий» образ мыслей Гете.
Николаи Христофор-Фридоих (1733—1811)—немецкий про-
светитель, издатель «Всеобщей немецкой библиотеки», литератур-
ный противник Гете и Шиллера. Выведен в «Фаусте» (часть пер-
вая, «Вальпургиева ночь») в образе Проктофантасмиста. Гете
написал на него памфлет «Николаи на могиле Вертера».
€Ксении> (буквально «подарки гостям») — собрание эпи-
грамм в дистихах, выпущенных в свет Гете и Шиллером (см. шил-
леровский «Альманах муз» за 1797 г.) в ответ на нападки их лите-
ратурных и идейно-философских противников. Название заимство-
вано у римского поэта-сатирика Марциалл (XIII книга эпиграмм).
Стр. 557. Профос — в XVIII — начале XIX вв. человек, испол-
нявший в армии полицейские функции, на обязанности которого
лежал надзор за арестантами и телесные наказания.
, Стр. 559. Герцлиб Минна ( 1789— 1805) — дочь чешского
книготорговца, воспетая Гете в его- сонетах; послужила про-
образом Оттилии в романе «Избирательное сродство»..
Стр. 560. Юнг Марианна (в замужестве фон Виллемер) —
бывшая актриса, воспитанница и позднее жена франкфуртского
банкира и литератора Виллемера, большого приятеля Гете.
В «Западно-Восточном диване» выведена Гете в образе Зюлейки.
Ей принадлежит несколько стихотворений, включенных Гете
в этот сборник.
Стр. 563. ...был гостем министра фон Штейн. — Штейн, барон
Генрих-Фридрих-Карл (1757—1831) *- прусский государственный
деятель,, убежденный противник Наполеона. Провел ряд, бур-;
жуазно-либеральных реформ, способствовавших развитию капп-
74$
тализма в Пруссии (ликвидация крепостничества, реорганизация
армии, преобразование городского управления и т. п.).
„.Кобленц, город господина Герреса и его «Рейнского
Меркурия». — Геррес Якоб-Иозеф (1776—1848) — реакционный
писатель и публицист, основал журнал «Рейнский Меркурий»,
пропагандировавший прусскую государственную систему.
Стр. 564. Лили Шенеман из Франкфурта. — Анна-Элизабета
Шенеман, в замужестве фон Тюркгейм — невеста молодого Гете,
дочь франкфуртского банкира. Воспета Гете под именем Бе-
линды. Ей посвящены юношеские «пьесы с пеньем» Гете: «Эрвин
и Эльмира» и «Клаудина де Вилла Белла», а также поэтическая
сатира «Парк моей Лили» и ряд лирических стихотворений.
„.бедная Фредерика из Зезенгейма. — Брион Фредерика-Эли-
забета (1752—1813? — дочь пастора Иоганна-Якоба Бриона, юно-
шеская любовь Гете. Зезенгейм — село под Страсбургом, где
Гете встретился с Фредерикой 13 октября 1771 г. Лирические
стихи, посвященные Фредерике, знаменуют поворотный пункт
в творчестве Гете и в развитии немецкой поэзии: разрыв с
традицией классицизма и обращение к народному творчеству.
Стр. 579. Вместе с первыми сценами «Фауста» лежали
«Свадьба Гансвурста» и «Вечный Жид». — Имеются в виду
фрагменты, хранившиеся в архиве Гете и опубликованные лишь
посмертно. «Свадьба Гансвурста, или Ход мирских дел. Микро-
космическая драма» (1775) написана Гете на основе старого
фарса Христиана Рейтера «Свадьба Арлекина» в духе средне-
векового народного театра с фольклорным героем Гансвурстом
(Гансом Колбасой). «Вечный Жид» (начало 1774 г.)—незавер-
шенная эпическая поэма, передающая по немецкому народному
лубку XVI в. известную библейскую легенду об Агасфере.
Стр. 582. ...оболтусов из прусского тугендбунда. — Тугендбунд
(«Союз добродетели») — политическое общество, основанное
в 1808 г. в Пруссии с целью подготовки борьбы против наполео-
новской Франции. 31 декабря 1809 г. общество было запрещено,
по требованию Наполеона, прусским королем Фридрихом-Виль-
гельмом III и перешло на нелегальное положение.
Стр. 584. Арним Людвиг-Иоахим или Ахим (1781—1831) —
немецкий поэт и романист, глава реакционно-националистиче-
ского Гейдельбергского кружка романтиков, сочетавшего нацио-
налистические идеалы с католическим мистицизмом. Вместе со
своим шурином Кл«менсом Брентано (1778—1842) выпустил
749
в свет сборник немецких народных лесе» «Волшебный рог маль-
чика». Составителям» сборник был посвящен Fere.
Стр. 585. Фосе Иоганн-Генрих (1751—F826) —немецкий пи-
сатель и переводчик «Илиады» » «Одиссеи», а также класси-
ков античности. Один из основателей «Союза рощи», автор идил-
лии в стихах «Луиза».
„л недолюбливал Фохха-младшега. — Генрих Фосс — немец-
кий писатель,, сын Иоганна-Генриха. Известен главным образом
воспоминаниями о Гете и Шиллере.
*Листок, для отшельника» — газета, издававшаяся Ахимом
фон Арнимом совместно с Якобам-Иозефом Герресом. Газета
защищала прусский феодализм и вела борьбу с идеями
французской, революции и Просвещения.
Глава седьмая
Стр.595. Турки-Орбетто (Алессандро Веронезе, 1582—1648) —
итальянский живописец, продолжатель традиций Возрождения.
Известен своими картинами на мифологические и библейские
сюжеты.
Дориньи Никола (1657—1746) — французский художник,
рисовальщик и гравер. Здесь речь идет об его серии гравюр с кар-
тонов Рафаэля" «История Психеи».
Стр. 596. ...кантата в честь Дня Реформации — трехсотлетие
со дня 31 октября 15Î7 г., когда Лютер иьгетавил у портала
Виттенбергского собора свои 95 тезисов, положившие начало
борьбе за реформу церкви; кантата не была закончена поэтом.
«Пандора» (1800)—драматическая поэма Гете. В античной
мифологии Пандора («Всеодаренная») — прекрасная женщина,
созданная Гефестом и посланная на землю Зевсом с ящи-
ком, где были заперты болезни и бедствия, чтобы наказать
род человеческий.
Стр. 597. ...разыграл Аянта-бичепосца. — Аянт; или Аякс —
один из героев «Илиады», воин, впавший в безумие под стенами
Трои, когда доспехи погибшего Ахиллеса были присуждены ме
ему, а Одиссею.
«Праздник святого Роха»— статья Гете «Праздник святого
Рохусз в Бингене», опубликованная в издававшемся- им жур-
нале «Искусство и древность».
Стр. 599. *Оры» — журнал, издававшийся Шиллером при
активною участии Гете в 1774—1775 гт.
Трагелаф (греч.)—мифический зверь, полукозел-полуолень.
750
Выражение заимствовано из письма Гете к Шиллеру от 18 июня
1795 г.
Хирон неусыпный—ъ античной мифологии мудрый кентавр,
гголучеловек-полуконь, врачеватель и воспитатель. Принимал
участие в классической Вальпургиевой ночи («Фауст», часть вто-
рая, акт II, сцена Щ.
«Головы ваши хоть и кудрявы» и *Кфк же ты, пугало». —
Хор пленных троянок с -предводительницей Панталидой во главе,
в сцене «Местность перед дворцом Менелая в Спарте» {«Фауст»,
часть вторая, акт Ш, едена 1^.
Стр. <600. Р-аэве... я не заставил Фауста перевести библей-
слое «слово» {«смысл», <сила») через «деяние»?— Имеется
в виду монолог Фауста в сцене «Рабочий кабинет Фауста»
(часть первая).
чг...«оАса я есть, я долоюеп делать что-то»—слова
Гомункула в сцеие «Тесная готическая комната» (-«Фауст», часть
вторая, акт ÎÏ).
Гомункул—-один из персонажей второй части -«Фауста»,
крохотное, человекоподобное существо, созданное искусственно
в лаборатории алхимика.
Стр. 601. ...как тот в Эрфурте...— Имеется в виду Наполеон.
Встреча императора французов с Гете состоялась в Эрфурте
в 1810 г.
..то поводу этой окандалъпой истории с «Изи-
дой». — «Изида» — либеральная газета, издававшаяся в Веймаре
в Ш6 г. венским профессором натурфилософии Лоренцом Оке-
иом, вызвала неудовольствие властей своим вольнодумством и
на-падками на личную жизнь герцога. Вскоре газета >была запре-
щена, но 'продолжала вых-однтъ в Рудольфштадте до 1818 г.
Пфафф Христиан-Генрих (1772—1852)—немецкий ученый,
физик и химик, профессор Парижского университета, брат зна-
менитого математика Иоганна-Фридриха. Выступал противником
естественнонаучных теорий Гете.
Стр. 602. Евгения — героиня драмы -«Побочная дочь», про-
образом которой послужила авантюристка Стефания-Луиза Бур-
бон- Конти.
...и трещотка Сталь. — Известная французская писатель-
ница Анна-Луиза-Жермен Неккер, по мужу Сталь-Голь-
штеин (1766—18 17), в конце 1803—начале 1804 г. посетила Вей-
мар, «германские Афины», и встречалась с Гете. Об этом рас-
сказано в- ее книге «О Германии»,
7S1
...и Луденову «Немезиду». — После наполеоновских войн
в 1813 г. Гете отказался сотрудничать в воинствующем патриоти-
ческом журнале Генриха Лудена «Немезида».
Стр. 605. ...предо мной обнаружилась межчелюстная кость. —
Еще в 1784 г. Гете открыл, что os intermaxillare имеется у чело-
века, так же как и у прочих животных. Кость эта называется
в естествознании также «костью Гете».
Эрфуртский наместник — градоначальник Эрфурта, фон
Дальберг.
Стр. 606. Юношей я высмотрел, что башня на Страсбургском
соборе должна была быть увенчана пятиконечной короной.—
Имеется в виду статья Гете «О немецком зодчестве» (1778), в ко-
торой дается характеристика архитектуры Страсбургского собора.
Стр. 607. Прочитал ей «Семь спящих», «Танец мертвых»... —
«Семь спящих» — стихотворение из «Западно-Восточного дивана»
(«Хульд-Намэ», «Книга Рая»), где рассказывается известная Гете
по Корану легенда о семи эфесских юношах, живыми замурован-
ных в пещере императором Децием и чудесно спасенных. «Танец
мертвых» — романтическая баллада Гете.
Стр. 613. Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспы-
татель и натурфилософ, идеалист пантеистического толка. Неко-
торые идеи Окена, а также его открытия в анатомии и эмбрио-
логии сыграли положительную роль в истории естествознания.
Стр. 615. «Вечно струись, вода!» — песня кузнецов из драма-
тической поэмы Гете «Пандора».
Стр. 616. «Всем у этой переправы четырем стихиям слава!» —
заключительная строфа классической Вальпургиевой ночи — гимн
сирен, где прославляется гармоническое слияние стихий властью
Эроса («Фауст», часть вторая, акт II, сцена 3, «Скалистые бухты
у Эгейского моря»).
...в его фалесовой влажности. — Ф алее (конец VII —
начало VI в. до н. э.) — древнегреческий философ, родоначаль-
ник космогонической системы нептунизма, признававший влагу
праматерией мироздания.
Нептунов трезубец... —намек на триумф Галатеи в клас-
сической Вальпургиевой ночи. Галатея — прекраснейшая из до-
черей морского бога Нерея, здесь заступающая место Афродиты
Анадиомены (Пеннорожденной).
Стр. 617. ...когда ты воспевал Эрвина и его собор. — Эрвии
Штейнбахский (1240-^1318) —зодчий Страсбургского собора.
Построил лицевую часть фасада, который был закончен лишь
762
в середине XIV в. его сыном Иоганном. Страсбургский собор —
одно из наиболее замечательных зданий средневековой готики.
Стр. 618. ...в виде милого юноши из Кельна. — Буассере
Сульпиций (1783—1854)—историк искусства и собиратель па-
мятников старой германской живописи.
Ван-Дейк Актонис (1599—-1641)—выдающийся фламанд-
ский художник-портретист, ученик Рубенса.
Дюрер Альбрехт (1471—1528)—величайший представитель
культуры Возрождения в Германии, живописец, гравер и рисо-
вальщик, автор трактатов по живописи, архитектуре и фор-
тификации, друг и портретист немецких гуманистов — Эразма
Роттердамского, Пиркгеймера, Меланхтона.
...в Гейдельберге, у Буассере, в музее, тебе открылся но-
вый мир. — Имеется в виду знаменитая картинная галерея
братьев Буассере, Сульпиция и Мельхиора, собрание шедевров
старинной германской живописи XIV—XVI вв. Впослед-
ствии она была приобретена баварским королем Людвигом I и
положила начало Мюнхенской пинакотеке, первыми директорами
которой в 1827 г. были братья Буассере.
...он пришел... впрячь в свое дело... в свой план до-
стройки Кельнского собора. — Речь идет о книге Буассере
«Виды, планы и отдельные части Кельнского собора», где
автор призывает к завершению постройки. Несмотря на охла-
ждение Гете к средневековому искусству, Буассере удалось за-
интересовать поэта идеями и планами, изложенными в этой книге.
Стр. 619. Блоксберг — гора Брокен, куда, по немецкому на-
родному преданию, ведьмы и черти слетались на шабаш. Место
действия первой Вальпургиевой ночи в «Фаусте».
Ауэрбаховский погребок — излюбленное место сборищ
лейпцигских студентов в годы пребывания там молодого
Гете. По преданию, связано с немецкой народной легендой
о чернокнижнике докторе Иоганне Фаусте. Здесь — место дей-
ствия одной из сцен «Фауста» (часть первая, акт I, сцена 5).
Майер... разыгрывает Полония: it is back'd like a camel
(«Оно выглядит точь-в-точь, как верблюд»). — Реплика царе-
дворца Полония из «Гамлета» (акт III, сцена 2). Здесь упо-
треблено как определение соглашательства и беспринципности.
Стр. 620. «...троны, царства в разрушенье...» — Из стихотво-
рения «Геджра» в «Моханни-Намэ» («Книга Певца»). В этом
стихотворении Гете сравнивает «геджру», год бегства Магомета
в Медину, считающийся началом магометанского исчисления,
7$3>
с своим собственным «бегством* из Европы на Восток и началом
новой эпохи в его творчестве.
Стр. 621. ...о том из Шираза. — Пафиз родился в Ширазе «про-
жил там всю жизнь. Он не захотел локинушь родину, хотя ©го при-
глашали к своему двору правитель Багдада и делийский султан.
Тимур Средиземноморья— Наполеон. Гете посвятил ему
одну из книг «Западно-Восточного дивана», «Тммур-Намэ».
...я восхищаюсь Палладием. — Палладио Андреа .(дм Пьет-
ро да Падова, 1508—1580)—итальянский зодчий позднего
Возрождения, прославившийся своими постройками m Вин-
чение и Венеции, где состоял архитектором Венецианской рес-
публики. Автор трактата «Четверокнижие зодчества».
Стр. 622. ...он слушал... о любовных воздыханиях Авроры по
Гесперу. — Имеется в виду стихотворение «Летняя ночь» из
«Сакм-Намэ» {(«Книга Кравчего»),, где рассказывается о любви
заря, Авроры, к вечерней звезде, Гесперу, за которым она
устремляется по небосводу, но настигнуть не может, так как его
затмевает восходящее солнце.
Стр. 623. «Мои милые., мои .рассерженные...» — Отрывочно и
неточно цитированное письмо Гете Кестнерам (октябрь 1774).
Последняя фраза взята из другого письма Гете — им же, от
21 ноября.
Стр. 628. ...широкая, твераая рука ремесленника, унаследо-
ванная от поколений бравых кузнецов и мясников. — Дед Гете
с отцовской стороны, Фридрих-Георг (i<657—1730), <был портным,
впоследствии трактирщиком:; прадед, Ганс-Христиан,—кузнецом.
С материнской стороны предки Гете носили фамилию Текстор,
латинизированное Вебер «(ткач), что также указывает на их
происхождение из сословия ремесленников.
Стр. 629. «Создает не сразу род„.» — слова Ифигении из драмы
Гете «Ифигения в Тавриде» ^действие первое, явление первое).
...подмастерье из чужого города высватывает дочку масте-
ра-.— Дед поэта, Фридрих-Георг Гете, тогда еще портняжный
подмастерье, в 1688 г.. пришел из городка Артеря (в Тюрингии) во
Фраякфурт-на-Майне и женился на Анне-Элизвбете, дочери порт-
ного Себастиана Луща, вследствие чего сделался членом цеха
аортных и гражданином города Франкфурта.
Стр. 630. ..Лорнелия-Фредерика-Христжана <17Э0—1777) —
младшая сестра Гете. Здесь речь идет об ее «браке садним из дру-
зей Гете, писателем Иоганном-Георгом Шлоссером <Ш9—.1799).
„.чудно красивая девочка* тихий, упрямый мальчик..* —
754
Родители Гете имели шестерых детей, из которых умерли трое.
Гете помнил Иогавму-Марию (1756—1759) и Германа-Якоба
(1752—1750»).
Стр. 631. Отец... имел брата... кончившего жизнь безумием. —
Иоганн-Михаил Гете (ум. в 1733 г.).
...веселый франт, Текстор.— Имеется в виду дед
Гете с материнской стороны Йога ни-Вольфганг Текстор (1696—
1771), имперский советник вольного города Франкфурта.
Стр. 632. Зонненберг фон Франц-Антон-Иозеф-Игнац-Мария
(1779—18Q5)—немецкий, поэт из круга Клопштока. Творчество
фон Зонненберга проникнуто апокалиптическими мотивами гря-
дущей мировой катастрофы и гибели цивилизации.
„.которого они окрестили кимвром. — Кимвры — герман-
ское племя, обитавшее в Ютландии и в конце II в. н. э.
вместе с другими варварскими племенами двинувшееся на Рим.
Здесь употреблено в смысле «варвар».
...стихотворение о Страшном суде. — Имеется в виду
фантастическая картина гибели мироздания из поэмы фон Зон-
ненберга «Донатоя», а также его эпос «Конец мира», написанный
в подражание клотгаггоковской «Мессиаде».
«Бедный Генрих» — эпическая поэма одного из крупней-
ших средневековых немецких поэтов-миннезингеров Гартманна
фон Ауэ' (конец XII—начало XIII в.}.
Стр. 636. ...Елена, святая Елена... — В сознании Гете сли-
ваются воедино образ Елены Прекрасной, как одного из персо-
нажей «Фауста», и мысль об острове св. Елены, где был заточен
Наполеон с 15 октября 1815 г.
Стр. 637. Зрнесш ИоЕанн-Август ( 1:707—1781) — немецкий
ученый-филожот, прозванный ыемешаш Цицероном, профессор
риторики и богословия в Лейпциге, учитель Лессвнга; его лек-
ции посещал » Гете.
Стр. 638. Клшротов азиатский журнал. — Клалрот Генрих-
Юлий (1783—1835)— известный немецкий ученый-ориенталист,
путешественник и филолог. В 1802 г. издавал в Веймаре журнал
«Asiatîsches Magazino.
PtfMu Джелалледдин (1207—1272), по прозвищу Шейх—вели-
кий иранский и таджикский поэт, автор сборника притч и басен
«Назидательные двустишия» и книги лирических стихов «Диван».
...светозарных плеяд па небе Аравии* —Речь идет о семи
прославленных «царях поэтов» арабо-иранского Востока — Фир-
доуси, Энвери, Румя, Гафиз, Джами, Низами, Саади.
755
. Стр. 639. Гернгутеры—^ богемские братья, моравские братья-
секта, основанная в Богемии в XV в. Петром Хмельчицким. На-
звание «гернгутеры» происходит от поместья в Саксонии, Геррен-
гут, где граф Николай-Людвиг Цинцендорф (1700—1760) вос-
становил эту секту.
Гафиз Шамседдин Мохаммед (1300—1389)—величайший
иранский и таджикский лирик XIV в.
...это фон Гаммер открыл его тебе. — Гаммер-Пургшталь
Иозеф (1774—1856) —немецкий историк-востоковед и переводчик.
Здесь имеются в виду гаммеровские переводы иранских поэтов,
а также его «История словесности в Персии», с многими гла-
вами которой Гете ознакомился еще до их опубликования.
Стр. 640. ...смуглая Линдгеймерша — бабушка Гете с мате-
ринской стороны, Анна-Маргарита Линдгеймер, дочь прокурора
имперской судебной палаты в г. Вецларе, доктора Корнелиуса
Линдгеймера.
Стр. 645. Тимон Афинский — современник Сократа и Ари-
стофана, разочаровавшийся в современном ему обществе и бе-
жавший от людей в пустыню. Имя его стало нарицательным
для определения мрачного человеконенавистничества.
Стр. 648. Капитан Ферлорен — адъютант и квартирмейстер
прннца Бернгарда Веймарского, состоявшего на русской службе
в 1813 г.
Стр. 650. ...о робкой капле... — Стихотворение Гете «С небес
скатясь, в ужасных вод пучину...» из «Матхаль-Намэ» («Книги
Притч»).
Стр. 651. ...письмо Гуттена к Пиркгеймеру. — Ульрих фон
Гуттен (1488—1523)--гуманист и политический деятель Рефор-
мации, идеолог немецкого дворянства, примыкавший к лютеров-
скому бюргерско-реформаторскому лагерю. Здесь имеется в виду
послание к нюрнбергскому патрицию и гуманисту Виллибальду
Пиркгеймеру (1470—1530), где Гуттен развертывает свою гума-
нистически-просветительскую, программу.
Торквемада законности. — Торквемада Томас ( 1420—
1498)— первый великий инквизитор Испании, основоположник
инквизиционного кодекса и судебной процедуры.
Стр. 655. Мениппова сатира — по имени Мениппа Гадарского,
древнегреческого поэта и философа-киника (III в. до
н. э.). Ему подражал в своих «Менипповых сатирах» римский
сатирический поэт Теренций Варрон. Выражение «Мениппова
75&
сатира» применяется к произведениям, отличающимся полемиче-
ской остротой и написанным в духе сочного народного юмора.
Винкельман Иоганн-Иоахим (1717—1768)—немецкий исто-
рик античного искусства, автор «Истории искусства древ-
ности» (1764), одним из первых в Германии XVIII в. начал
изучение и пропаганду эстетики и искусства античности.
Стр. 657. ...тема стихотворения... о супруге брамина. — Речь
идет о гетевской поэме «Пария». Сюжет поэмы заимствован из
индийской народной легенды. Томас Манн использовал этот же
сюжет в философской новелле «Обмененные головы».
«Путешествие в Ост-Индию и Китай». — Имеется в виду
немецкий перевод книги французского путешественника Соннера,
вышедший в Цюрихе в 1738 г., источник, откуда Гете почерпнул
сюжеты «Парии» и «Бога и баядеры».
Стр. 658. «Коль, чиста рука певца...» — Из стихотворения
«Песнь и изваянье» в «Моханни-Намэ» («Книга Певца»).
«Век вздыматься — век склоняться» — строфа из поэмы
«Пария».
Стр. 663. У меня есть план изящного маскарадного ше-
ствия.— Дальше Гете развивает во всех подробностях творче-
ский замысел, который впоследствии нашел художественное во-
площение во второй части «Фауста» (акт I, сцена 3 — «Маскарад»).
Стр. 664. Атропос, Клото, Лахезис (греч.) — три Парки, бо-
гини судьбы, по верованиям древних сопровождавшие человека
с колыбели до могилы. Клото, богиня рождения, вила нить чело-
веческой жизни на прялке, Лахезис, богиня жизни, вращала ве-
ретено, Атропос, богиня смерти, перерезала ножницами нить.
Стр. 665. Терсит (греч.)—один из персонажей «Илиады»,
ахейский воин, поднявший мятеж в войске и призывавший снять
осаду Трои, за что и был убит Ахиллесом. У Гете выступает во
второй части «Фауста» под именем Зоило-Терсит.
Стр. 669. Кирмс Франц .(1750—1826) —веймарский советник,
член театральной комиссии, сотрудничавший с Гете по управле*
нию театром.
...горный советник Вернер из Фрейбурга. — Вернер
Абрагам-Готлиб (1750—1817) ->■ немецкий геолог, преподаватель
минералогии и горного дела во Фрейбургской горной академии,
основатель геогнозии (науки, занимающейся эмпирическим изу-
чением Памятников жизни земли); Вернер является также одним
из основоположников: теории леитунизма, получившей- широкое
m
распространение в конце XVII!—-начале XIX в. и утверждав-»
шей, будто все торные породы произошли путем осаждения из
вод первичного океана.
Глава восьмая
Стр. 681. Шретер Корона (Л751—ifiûfi) —подруга Гете, из-
вестная немецкая певица, драматическая актриса и композитор,
автор романсов. С 1778 г. выступала в Веймарском придворном
театре и сделалась фавориткой Карла-Августа.
Стр. 682. «Альдобрандшская свадьба»—античная фреска
(век Августа), .найденная в 1606 г. .в Риме, вблизи Санта-Мария
Ладжоре. Названа по имени ее первого владельца, кардинала
Альдоюрандини. С 1818 г. находится в Ватикане.
Стр. 696. ...показать ей «Валленштейна» с Вольфом в заглав-
ной роли.— Вольф Пий-Александр (1782—1828) — известный не-
мецкий актер и драматург, ученик Гехе. Одной из коронных
ролей его репертуара была роль Макса Пикколомини в исто-
рической трагедии Шиллера «Валленштейн», которая шла в Вей-
марском театре с большим успехом.
Стр. 697. ...старинном эгерском замке в Богемии. — Там был
убит Валленштейн 25 февраля 1634 г.
Стр. 713. Урбино—терцог Франческо Мария делла Ровере, от-
воевавший свои владения у папы Льва X и его племянника, Ло-
сеицо Медичи. Отравлен папой Климентом VU в 1538 г.
Глава девятая
Стр. 722. «Розамунда» — трагедия Теодора Кернера, издан-
ная и доставленная уже после его смерти; как и все творчество
Кернера, проникнута националистическими идеями.
Стр. 732. Бомарше Мария — героиня драмы Гете «Клавиго»,
сестра известного французского драматурга Иьера-Огюстена
Карона де Бомарше (1752—1799). К Марии-Луизе Карон посва-
тался испанский писатель, королевский архивариус Хосе Кла-
вихо-и-Фахардо (1732—1799), но обманул ее, отказавшись от
брака. Бомарше ездил в Испанию с тем, чтобы защитить честь
сестры, и впоследствии рассказал об этой поездке в своих «Ме-
муарах».
Стр. 733. ...бог мне еает поведать, как я стражду. — Слова
Тассо из драмы Гете «сТорквато Тассо» (действие первое, явле-
ние пятое), ^
СОДЕРЖАНИЕ
КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
Пролог 7
Осложнение 10
Страна 34
Башмачник Гиннерке . 45
Доктор Юбербейн 73
Альбрехт II 119
Высокое назначение . 157
Имма 179
Осуществление 281
Розовый куст 346
Л0TTA В ВЕЙМАРЕ
Глава первая 363
Глава вторая 380
Глава третья 394
Глава четвертая 461
Глава пятая 481
Глава шестая 539
Глава седьмая 594
Глава восьмая 670
Глава девятая 719
Примечания 737
Томас Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2
Редакторы
Н. Ветошкина и С. Шлапоберская
Художественный редактор Д. Ермоленко
Технический редактор В. Овсеенко
Корректор В. Знаменская
Сдано в набор 12/Н 1959 г.
Подписано в печать 9/V 1959 г.
Бумага 84xl08Vaa—23,75 печ. л. = 38,95 усл.
печ. л. 37.38 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз.
Заказ № 141. Цена 13 р.
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
■Эк-
типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград,
Измайловский пр., 29.