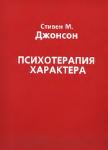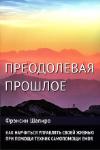/
Автор: О'Коннор К.
Теги: физиотерапия радиотерапия другие терапевтические средства психотерапия трудотерапия игровая психотерапия
ISBN: 5-318-00682-5
Год: 2002
Текст
ЗОЛОТОЙ ФОНД ПСИХОТЕРАПИИ
серия
т
ЗОЛОТОЙ ФОНД ПСИХОТЕРАПИИ
Kevin J. O’Connor
The Play
Therapy Primer
Second, Edition
John Wiley & Sons, Inc.
New York • Chichester • Weinheim • Brisbane • Singapore • Toronto
Кевин О’Коннор
Теория и практика
ИГРОВОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
2-е издание
С^пптвр'
Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж
Ростов-на-Дону • Екатеринбург - Самара
Киев - Харьков • Минск
2002
Кевин О'Коннор
Теория и практика игровой психотерапии
2-е издание
Серия «Золотой фонд психотерапии»
Перевел с английского А. Маслов
Главный редактор
Заведующий редакцией
Руководитель проекта
Выпускающий редактор
Литературные редакторы
Корректоры
Верстка
Е. Строганова
Л. Винокуров
И. Карпова
А. Борин
Г. Барбашинов, С. Ежеленко, М. Терентьева
Л. Комарова, М. Рошаль
Ж. Григорьева
ББК 53.57 УДК 615.851
О'Коннор К.
051 Теория и практика игровой психотерапии. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002. —
464 с.: ил. — (Серия «Золотой фонд психотерапии»).
ISBN 5-318-00682-5
Игра — наиболее популярный терапевтический подход, применяемый для того, чтобы помочь детям
проработать их эмоционально травмирующие переживания или преодолеть поведенческие проблемы и
сложности развития. Предлагаемая книга расширяет поле видения игровой терапии, предоставляя возмож¬
ность для ее лучшего понимания и применения. Данное, второе, издание знакомит с захватывающей и
полезной информацией по следующим темам: история игровой терапии; основные теории игровой тера¬
пии; теория и практика экосистемной игровой терапии; концептуальная база практической реализации
индивидуальной игровой терапии; курс индивидуальной игровой терапии; структурированная групповая
игровая терапия; планы лечения, расписанные по сессиям. «Теория и практика игровой психотерапии» —
незаменимое пособие для психологов, психиатров, педагогов, социальных работников и других специали¬
стов, работающих в области психического здоровья, независимо от их подготовки и опыта.
© 2000 by John Wiley & Sons, Inc
© Перевод на русский язык ЗАО Издательский дом «Питер», 2002
© Издание на русском языке, оформление ЗАО Издательский дом «Питер», 2002
Права на издание получены по соглашению с John Wiley & Sons Ltd.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то
ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ISBN 5-318-00682-5
ISBN 0-471-24873-8 (англ.)
ООО «Питер Принт». 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67.
Лицензия ИД № 05784 от 07.09.01.
Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 953005 - литература учебная.
Подписано в печать 26.07.02. Формат 70x100/16. Уст. п. л. 37,41. Тираж 4500 экз. Заказ № 987.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.
Оглавление
Предисловие 11
Слова благодарности 14
Часть I. Введение 15
Глава 1. Определение и история игровой терапии 17
Определение игры 17
Определение игровой терапии 20
Функции игры и их вклад в процесс проведения
игровой терапии 21
Биологические функции 21
Внутриличностные функции 22
Межличностные функции 23
Социокультурные функции 24
История детской психотерапии и игровой терапии 25
Глава 2. Теории игровой терапии 32
Психоаналитическое направление 33
Теория 33
Основные положения 37
Курс лечения 40
Гуманистическое направление 42
Теория 42
Основные положения 44
Курс лечения 46
Поведенческое направление 47
Теория 47
Основные положения 50
Курс лечения 51
Развивающая игровая терапия 53
Теория 53
Основные положения 58
Курс лечения 61
Дочерняя терапия 63
Теория 63
Основные положения 63
Курс лечения 64
Избранные ссылки 64
Адлерианская игровая терапия 65
Теория 65
Основные положения 66
6 Оглавление
Курс лечения 67
Избранные ссылки 67
Терапия реальности (Reality Therapy) 68
Теория 68
Основные положения 69
Курс лечения 70
Транзактная, семейная, системная, общественная
и экологическая терапии 71
Глава 3. Проблемы многообразия 73
Индивидуальная философия и принадлежность к теоретическому
направлению 75
Природа человека 75
Ценность индивида против ценности системы 77
Ценности и биография терапевта 82
Этническая и культурная биография 82
Язык 82
Социальный класс 83
Религия 83
Семейный опыт 83
Глобализация 85
Определение культуры 86
Англоамериканские и евроамериканские влияния
в сфере психического здоровья 87
Феноменология против прикладных наук 88
Воздействие на психологию 88
Важность развития глобального видения 90
Обретение культуральной компетентности 90
Осознание 90
Навыки 92
Приобретение специфических знаний о культурах 93
Общие культурально обусловленные ошибки 93
Руководство для проведения культурально-компетентной терапии 94
Осознание—сенситивность—эмпатия 94
Динамическая размерность 94
Знание 95
Заключение 96
Избранные ссылки 96
Часть II. Концептуальные рамки практики
индивидуальной игровой терапии 97
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 99
Характеристики развития для практики игровой терапии 108
Дети первого уровня 108
Дети второго уровня 115
Дети ретьего уровня 127
Дети четвертого уровня 133
Оглавление 7
Патология 136
Биологические факторы 139
Проблемы с обучением 140
Отклонения в развитии 140
Взаимоотношения травмы и уровня развития 142
Патология, не связанная с уровнем развития 146
Патология, связанная с диадными отношениями 147
Патология, связанная с системными факторами 147
Цели лечения/терапии 148
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 150
Клиенты, подходящие для игровой терапии 150
Уровень развития 150
Патология 150
Подготовка экосистемных игровых терапевтов 151
Академическая подготовка 151
Клинический опыт 152
Дальнейшее индивидуальное обучение и развитие 152
Роль экосистемного игрового терапевта в терапевтической сессии 154
Природа терапевтического процесса 155
Роль игры 155
Целительные элементы 156
Курс лечения 168
Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии 169
Глава 6. Процесс вхождения 171
Контакт на основе направления 171
Экстренное вмешательство 174
Шаг 1. Идентификация непосредственно действующего стрессора 175
Шаг 2. Присоединение к клиенту 175
Шаг 3. Утверждение вашего авторитета; вы — тот человек, который
способен справиться с данной проблемой 175
Шаг 4. Получение дополнительной информации 176
Шаг 5. Разработка плана долговременного лечения 176
Альтернативное вмешательство 176
Установление структуры вводной беседы 178
Беседа с родителями 182
Беседа с ребенком 189
Проблема обращения к терапевту 192
Психический статус 194
Настоящая социальная ситуация 198
Социальная биография 199
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 204
Оценка и диагноз 204
Диагностические игровые сессии 205
Формальное тестирование 207
8 Оглавление
Цели развивающей терапии 212
Поведенческие цели 212
Коммуникативные цели 214
Цели социализации 216
Формулировка диагноза и выработка целей 218
Сложившийся паттерн функционирования ребенка 219
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка 225
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка 230
Синтез целей 235
Планирование лечения 237
Определение контекста (или контекстов), в котором будет
осуществляться терапевтическое вмешательство
(или вмешательства) 237
Определение типа терапевтических вмешательств, используемых
в каждом контексте 240
Определение терапевтических стратегий в игровой терапии 241
Сессия обратной связи и заключение контракта 243
Сессия с родителями 243
Сессия с ребенком 244
Глава 8. Начало лечения 246
Оформление пространства игровой комнаты 246
Физическое пространство 246
Оборудование 247
Игровые материалы 247
Первая сессия (сессии) 260
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 266
Планирование эмпирического компонента детской игровой терапии 267
Структурирование 267
Помещение в развивающую (проблемную) ситуацию 282
Внедрение/вовлечение 283
Забота и уход 285
Планирование вербального компонента детской игровой терапии 290
Терапевтическое воздействие общих вербализаций терапевта 292
Критически важные терапевтические процессы: интерпретация
и разрешение проблем 299
Эффективное предоставление интерпретаций 300
Переоценка 308
Разрешение проблем 309
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии в зависимости
от уровня развития ребенка и фазы лечения 316
Корректирующие события и интерпретации на различных
уровнях развития 316
Первый уровень 316
Оглавление 9
Второй уровень 316
Третий уровень 317
Четвертый уровень 317
Корректирующие события и интерпретации на различных фазах
игровой терапии 317
Начало 318
Рост, доверие и проработка 326
Развивающая работа 327
Проработка имеющихся в личной истории
травматических переживаний 332
Глава И. Перенос и контрперенос 335
Перенос 337
Контрперенос 339
Глава 12. Параллельная работа 344
Параллельная работа с родителями 344
Родители в качестве детского терапевта 351
Совместные детско-родительские сессии 355
Параллельное индивидуальное лечение родителя
(или супружеской пары) 357
Параллельная работа со школьным персоналом 359
Параллельная работа с медицинскими работниками 360
Параллельная работа с правоохранительной системой 361
Глава 13. Завершение лечения 363
Окончание лечения 368
Переход детей-клиентов 371
Переход ребенка к другому терапевту 372
Переход ребенка на другой вид лечения 374
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 377
Дэнис: кратковременная экосистемная игровая терапия 377
Общая информация 377
Этап вхождения 377
Диагностика и оценка 378
Выработка целей 380
Сложившийся паттерн функционирования ребенка 380
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка 382
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка 383
Формулировка диагноза и синтез целей 385
Решения, принятые до начала лечения 386
План лечения 387
Проблемы переноса и контрпереноса 398
Диана: долговременная экосистемная игровая терапия 398
Общая информация 398
Этап вхождения 399
10 Оглавление
Диагностика и оценка 400
Выработка целей 401
Сложившийся паттерн функционирования ребенка 401
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка 404
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка 407
Формулировка диагноза и синтез целей 409
Решения, принятые перед началом лечения 411
План лечения 412
Параллельные интервенции 416
Проблемы переноса и контрпереноса 417
Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах 419
Глава 15. Групповая игровая терапия 421
Концептуальная модель 422
Основные положения 423
Клиенты экосистемной групповой игровой терапии 423
Групповые игротерапевты 426
Подготовка 426
Роль 426
Природа процесса 427
Роль игры 427
Целительные элементы 427
Фазы экосистемной групповой игровой терапии 427
Этап вхождения 427
Диагностика и оценка 427
Начало лечения 428
Рабочая фаза 429
Завершение лечения 441
Параллельная работа 442
Алфавитный указатель 444
Библиография 447
Предисловие
В первом издании эта книга вышла под заглавием: «Пособие по игровой терапии:
интеграция теорий и техник» (The Play Therapy Primer: An Integration and
Technices). Как следует из названия, большая часть этой работы содержит описа¬
ние игровой терапии, которая объединяет элементы нескольких теорий и техник,
используя в качестве основы теорию когнитивного развития. Более того, пред¬
ставленная интегративная модель придерживалась системного или экосистемно-
го подхода. Такая организация материала отражала широко распространенную в
современной психологии тенденцию к интеграции различных теорий и техник.
Интегративный подход привлек всеобщее внимание благодаря тому, что основ¬
ной акцент в нем делается на сходствах различных психологических моделей, а
не на их различиях. Таким образом, интегративные модели способствуют возник¬
новению диалога между профессионалами, которые при других обстоятельствах
могли бы и далее противостоять друг другу. Теперь, вместо того чтобы спорить о
различиях между интерпретацией (термин психоаналитического направления) и
реструктурированием (термин когнитивно-поведенческой психологии), теорети¬
ки и клиницисты могут интегрировать эти понятия и сделать акцент на общих
моментах этих двух теорий.
В то время как многие ученые все еще продолжают разрабатывать интегратив¬
ные модели, некоторые уже говорят о необходимости разделения двух видов, или
уровней, интеграции. Первый уровень интеграции предполагает выявление и чет¬
кое описание общих элементов существующих теорий. При этом авторы не вносят
значительных изменений ни в структуру, ни в элементы оригинальных моделей.
Второй уровень интеграции предполагает существенные изменения элементов
или структуры моделей, из которых эта интегративная модель была выведена.
Давайте на примере, описанном выше, рассмотрим различия между этими вари¬
антами интеграции. Первый способ интеграции понятий интерпретации и ре¬
структурирования, не меняющий ни их смысла, ни структуры их материнских те¬
орий, предполагает, что различия между этими двумя терминами по большей
части семантические. Действительно, оба понятия обозначают одно и то же. Дру¬
гими словами, оба понятия обозначают сообщение терапевтом клиенту нового
понимания его ситуации. Давайте назовем такой способ простой интеграцией.
Другим вариантом интеграции является введение нового понятия, — изменения —
связывающего первые два. Например, понятия интерпретации и реструктури¬
рования схожи потому, что оба ведут к изменению процесса мышления клиента.
Затем вновь образованное понятие может быть использовано для связывания еще
более разнящихся феноменов психотерапии, являющихся условиями осущест¬
вления изменений. Данная стратегия интеграции, которую мы назовем комплекс¬
ной интеграцией, по существу, представляет собой новую, третью модель.
Почему важно разделять эти стратегии, или уровни, интерпретации? Вопрос о
разделении связан с проблемой научной ясности при формулировке, объяснении
идей и их реализации. Простая интеграция важна и служит для устранения кон¬
цептуальных излишеств в науке. Она способствует «перекрестному опылению»
12 Предисловие
и взаимообмену идеями теории и практики. Комплексная интеграция необходи¬
ма, так как порождает новые идеи и методы работы в конкретном направлении,
основываясь на предшествующем опыте. Разумная интеграция любой формы долж¬
на стремиться к поддержанию диалога между теориями путем поиска расхожде¬
ний (Safran & Messer, 1997). Модель, представленная в первом издании данного
пособия, — вариант простой интеграции многих идей и техник, найденных в сфе¬
ре игровой терапии. Идеи, изложенные в первом издании пособия, приобретали
свою настоящую форму в течение более десяти лет (O’Connor & Braverman, 1997)
и, с помощью доктора Сью Эймен, превратились в «экосистемную игровую тера¬
пию» (O’Connor & Ammen, 1997). Экосистемная игровая терапия — это комплекс¬
ная интеграция и, несомненно, новая самостоятельная модель.
Эта модель придерживается в основном экосистемного направления. Поэто¬
му вид игровой терапии, рассмотренный в этой книге, нельзя назвать общеприня¬
тым, так как он предполагает отказ терапевта от традиционного индивидуального
подхода. Обычно игровые терапевты, невзирая на свою теоретическую ориента¬
цию, в ходе разбора случая клиента — от определения патологии до назначения
лечения — уделяли основное внимание конкретному ребенку. Экосистемная иг¬
ровая терапия акцентирует внимание на единстве или на взаимосвязи организма
и окружающей его среды. Эта особенность уникальна, так как игровой терапевт
вынужден целиком и полностью рассматривать многогранную систему, частью ко¬
торой является ребенок. Такой подход напоминает методы семейной терапии,
однако он более широкий. Если судить по уровню рассматриваемых вопросов, то
можно заметить, что данная модель имеет много общего с психологией сообществ
и должна быть знакома тем, кто обучался в рамках традиционной социальной ра¬
бочей модели.
С тех пор как было опубликовано первое издание, все службы, оказывающие
услуги в сфере психического здоровья, ощутили на себе воздействие системы ре¬
гулируемого лечения (managed саге) в отношении организации обслуживания
клиентов. Возникновение программ регулируемого лечения свидетельствует об
изменении в управлении медицинским страхованием граждан. Это изменение
осуществлялось путем продолжительного увеличения стоимости медицинских
услуг в течение нескольких последних десятилетий. Традиционно личная меди¬
цинская страховка оплачивалась в течение всего срока лечения так долго, как это
было необходимо, по мнению врача, с медицинской точки зрения. В результате в
сфере психического здоровья появилась тенденция к доминированию или, по край¬
ней мере, руководству психиатров и допускалось крайне длительное лечение. В то
время как компании по регулированию лечения принимали руководство над ин¬
дивидуальным страхованием и пытались контролировать цены, произошли неко¬
торые значительные изменения. Положительным аспектом является то, что такие
лечебные организации разыскивали терапевтов не медицинских специальностей,
таких как психологи, социальные работники и консультанты, стоимость услуг
которых ниже стоимости услуг врачей-психиатров. Кроме этого, контроль цен так¬
же означал уменьшение количества сессий, которое компании регулируемого ле¬
чения согласились бы оплатить. Возможно, это самый спорный вопрос. С одной
стороны, такое положение стимулирует терапевтов к поиску кратковременных и
Предисловие 13
эффективных способов лечения и к пересмотру методов, которые они использо¬
вали ранее. Это означает, что большее количество клиентов получат лечение бо¬
лее высокого уровня в кратчайшие сроки. С другой стороны, отказ от проведения
долговременной терапии во всех случаях, кроме самых экстремальных, означал,
что людям с пожизненными проблемами или с хроническими психическими за¬
болеваниями часто отказывали в необходимой им заботе. В результате многие па¬
циенты такого рода обращались за ответом в различные государственные учреж¬
дения, включая общественные центры психического здоровья. Эти центры скоро
оказались переполненными и неспособными обеспечивать удовлетворение по¬
требностей клиентов. Медленно реагируя на нужды своих избирателей, полити¬
ки только сейчас начали поддерживать сферу обслуживания психического здоро¬
вья, что в равной степени удовлетворяет потребности и молодежи, и стариков.
Компании регулирования лечения делали и продолжают делать упор на крат¬
ковременное лечение, что обсуждается на страницах этой книги. Здесь затрагива¬
ются проблемы населения и разновидности проблем, встречающиеся наиболее
часто. Рассматривается и обратная сторона медали: не все проблемы психическо¬
го здоровья детей могут быть решены в период от 4 до 12 сессий. Маятник, приве¬
денный в движение регулируемым лечением, начинает обратный ход, и очевидно,
что он примет такое положение, которое удовлетворит широкий ряд потребностей
клиентов столь же широким набором услуг.
Это издание, как и первое, адресовано начинающим терапевтам. Первая часть
книги содержит историю игровой терапии, а также обзор ведущих теорий этого
направления. Кроме того, эта книга доказывает важность осознания культураль¬
ных влияний и умение использовать их для эффективной работы в игровой тера¬
пии в XXI веке. Вся информация излагается в равной степени, независимо от то¬
го, какое теоретическое направление в конечном счете будет выбрано читателем.
Во II части книги представлена как экосистемная игровая терапия, так и основ¬
ные направления, лежащие в основе этой модели. В III части экосистемная игро¬
вая терапия описывается подетально. Четвертая часть описывает структуру груп¬
повой работы в рамках игровой терапии на основе экосистемной теории. На всем
протяжении книги со II по IV часть материал широко иллюстрирован клиниче¬
скими примерами. Вся личная информация в каждом клиническом случае была
видоизменена для сохранения конфиденциальности клиентов. Несмотря на то что
большая часть материала заимствована из реальных клинических случаев, опре¬
деленные детали, а иногда и целые случаи, были специально скомпонованы так,
чтобы обеспечивать оптимальную иллюстрацию излагаемой концепции.
Эта книга рассчитана на студентов и терапевтов-новичков, но психологи, пси¬
хиатры, социальные работники, медицинские сестры, консультанты — все специ¬
алисты любого уровня подготовки и опыта найдут эту книгу развивающей, прак¬
тичной и необходимой для клинической работы.
Кевин Дж. ОКоннор
Фресно, Калифорния
Слова благодарности
Мне бы хотелось выразить благодарность многим людям, которые внесли вклад в
развитие идей, представленных в этой книге, и участвовали в подготовке оконча¬
тельного варианта.
Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех клиентов, с которыми я имел честь
работать на протяжении многих лет. Мои старания, направленные на понимание
природы пережитых вами событий, меркнут на фоне всех жизненных перипетий,
с которыми вы столкнулись по воле судьбы. Во-вторых, я должен поблагодарить
студентов и специалистов, обучавшихся у меня. Ваши вопросы и интерес подтолк¬
нули меня к систематизации моих представлений и развитию идей, а также к со¬
зданию надлежащего места, подходящего для экосистемного мышления, как это
представлено в этой книге. Наконец, я бы хотел выразить искреннюю благодар¬
ность Сью Эймен, чья интуиция и постоянная готовность участвовать в обсужде¬
ниях помогли усовершенствовать экосистемную игровую терапию и довести ее до
настоящего уровня.
Я также хотел бы поблагодарить всех тех, кто внес личный вклад в эту книгу.
Еще раз я должен поблагодарить тех клиентов, которые поделились со мной опы¬
том своей жизни, в результате чего мы все получали шанс чему-то научиться. Мне
бы хотелось поблагодарить моих родителей — источник нескончаемой любви и
поддержки. Я бы хотел поблагодарить мою семью. Поддержка моего партнера
Роберта помогала мне оставаться в строю, он оберегал меня от потока повсе¬
дневных забот, не относящихся к написанию книги. И я должен поблагодарить
своих детей, Райана и Мэтью, так как они принесли в мою жизнь радость и пове¬
дали мне все о детях.
К. О.
Часть I
Введение
Согласно экосистемной направленности этой книги, первые три главы знакомят
читателя с общими положениями, необходимыми для понимания и применения
игровой терапии. В главе 1 вводятся общие для всех читателей понятия, опреде¬
ляя игру и игровую терапию. Далее описываются функции игрового поведения в
жизни человека. В конце представлена краткая история игровой терапии.
В главе 2 рассматриваются наиболее часто используемые модели игровой те¬
рапии, а также несколько других теоретических моделей психотерапии, которые
применялись при разработке экосистемной игровой терапии, представленной во
II части. Среди наиболее часто используемых моделей здесь описывается психо¬
аналитическая игровая терапия, гуманистическая игровая терапия и поведенче¬
ская игровая терапия. Каждая теория представлена без какой-либо критики, так
как она описывается с позиций ее представителей.
В главе 3 обсуждается важность понимания терапевтами необходимости взаи¬
модействия их собственной экосистемы — их индивидуальной философии, цен¬
ностей, биографии, языка, религии, семейного опыта и культуры — с экосистемой
их клиентов и организации этого взаимодействия.
Глава 1
Определение и история
игровой терапии1
Вначале необходимо ввести определение игровой терапии; то значение, в котором
это понятие будет использоваться. Однако логично будет в первую очередь опре¬
делить сам термин игра, чтобы в дальнейшем использовать его для определения
игровой терапии.
Определение игры
Однозначного определения понятия игра не существует до сих пор. Наиболее
часто используется определение, данное Эриксоном, который считал, что «игра —
это функция эго, попытка синхронизировать соматические и социальные процес¬
сы с самостью (the self)» (Erikson, 1950, р. 214). Игра обычно представляется как
противоположность работе; это развлечение. «Она свободна от угрызений совес¬
ти и от иррациональных порывов» (р. 214). Кроме того, считается, что игра: 1) мо¬
тивирующая по своей сути; 2) выбирается свободно; 3) неконкретная; 4) подра¬
зумевает активное включение в нее, и помимо этого 5) доставляет удовольствие
(Hughes, 1995). Многие согласны с тем, что игра доставляет удовольствие (Beach,
1945; Csikszentmihalyi, 1976; Dohlinow & Bishop, 1970; Hutt, 1979; Plant, 1979; Weis-
ler & McColl, 1976). Однако если характеристики игры рассматривать относитель¬
но игровой терапии, то такой вариант определения оказывается неподходящим.
Большая часть того, чем дети занимаются в ходе игровой терапии, далека от раз¬
влечения; зачастую их игра навязчива, импульсивна и иррациональна — другими
словами, противоположна всему, что говорил об этом Эриксон. Травмированного
ребенка, который в сороковой или пятидесятый раз в течение сессии заново про¬
игрывает травмирующую ситуацию, едва ли можно считать развлекающимся. Воз¬
никают два вопроса: этот ребенок играет? и — это и есть игровая терапия? Кажет¬
ся, что на первый вопрос можно рискнуть ответить «нет»; ответ на второй вопрос,
по-видимому, «да».
Дальнейший обзор литературы, посвященный этой теме, выявляет определен¬
ные элементы, которые обычно рассматриваются как типичный пример игрового
поведения. Эти элементы по большей части схожи с тем, чем занимаются дети на
сессиях игровой терапии.
1 Эта глава — сокращенный вариант первой части книги «Руководство по игровой терапии» {Schaefer
& O'Connor, 1983).
18 Часть /. Введение
Игра, по сути, самодостаточна; она не зависит от внешнего подкрепления или
других людей (Csikszentmihalyi, 1976; Plant, 1979). Этот элемент игры можно на¬
блюдать в игре ребенка, которой он увлечен во время игровой терапии. Игровое
поведение детей по большей части не требует внешних подкреплений; дети про¬
должают играть, независимо от присутствия взрослого. Никоим образом не ума¬
ляя роли терапевта, следует сказать о том, что для большинства детей его присут¬
ствие не является необходимым условием начала игры.
Возможно, из-за того что игра по сути мотивирует ребенка, она направлена
скорее на личность, а не на объект; то есть цель — не приобретение новой инфор¬
мации об объекте, а использование этого объекта (Hutt, 1970; Weisler & McColl,
1976). Более того, внутренняя мотивация, содержащаяся в игре, и присущая ей не¬
зависимость от объекта делают ее многовариантной, в зависимости от ситуации
и от желаний ребенка (Weisler & McColl, 1976). К тому же это, видимо, согласует¬
ся с большей частью поведения детей в течение игровой терапии. Как только ре¬
бенок провел первоначальное исследование объекта, он скорее переключит свое
внимание на использование объекта, чем продолжит изучать его. Однако на ум
приходит одно известное исключение: На терапевтической сессии ребенок аути¬
стического склада склонен к объект-ориентированному поведению. Тогда будет
ли это игрой? Здесь, возможно, придется ответить «нет». Можно ли тогда гово¬
рить, что с такими детьми проводится игровая терапия? Если игровое поведение
является условием проведения терапии, тогда, вероятно, ответом будет «нет».
Игра неинструментальна: у нее нет цели, ни внутриличностной, ни межличност¬
ной, она лишена определенной направленности и не ориентирована на задачу.
(Berlyne, 1970; Betterlheim, 1972; Goldberg & Lewis, 1969; Huizinga, 1950; Hutt,
1979; Plant, 1979; Weisler & McColl, 1976). Этот элемент также присутствует в тех
делах, которыми увлечен ребенок на терапевтических сессиях. Ребенок редко на¬
чинает играть, имея какую-то сознательную цель. Даже когда ребенок говорит:
«Давай строить новый замок из кубиков», он не всегда имеет сознательно сплани¬
рованной конечную цель или хотя бы представление о процессе ее достижения.
Ксикжентмихалы (Csikszentmihalyi, 1975,1976) по отношению к игре исполь¬
зовал понятие «потока» (flow): «Поток, помимо прочего, подразумевает концент¬
рацию внимания, в котором сливаются действие и осознание и происходит поте¬
ря самосознания в том смысле, что ребенок уделяет больше внимания задаче, чем
состоянию своего собственного тела. Эти два момента очевидны, когда взрослый
застает ребенка, увлеченного игрой. Поначалу ребенок не замечает присутствия
взрослого, но когда его внимание наконец переключается от игры, он может вне¬
запно засмущаться и затем столь же внезапно и совершенно искренне понять, что
ему действительно пора идти в ванную. Поток — это характеристика детского иг¬
рового поведения на игровых терапевтических сессиях».
Некоторые авторы отмечали, что игровое поведение не возникает в ситуациях
угрозы или неопределенности (Beach, 1945; Berlyne, 1970; Hutt, 1979; Mason, 1965;
Peaget, 1962; Switsky, Haywood & Isett, 1974; Weisler & McColl, 1976). Большин¬
ство игровых терапевтов считают, что поведение детей, когда они впервые прихо¬
дят в игровую комнату, очень мало напоминает игру. Фактически большая часть
Глава 1. Определение и история игровой терапии 19
подготовки игровых терапевтов ориентирована на развитие некоторой линии по¬
ведения и методов, которые помогут детям почувствовать себя в игровой комнате
в безопасности и достаточно расслабленными, чтобы приступить к игре.
Многие авторы выделяют различные варианты ведущей концепции игрового
поведения, включающие изобразительную игру (pretend play), фантазирование
и игры по правилам.
Первый из этих видов игры характеризуется различными формами взаимодей¬
ствия.
1. Отрицание. Способ, часто резкий, с помощью которого состояние наруша¬
ется или прекращается:
«Я стащил твой кекс».
«Ерунда. Это больше не кекс».
2. Исполнение. Мимика, тон, формулировка или поза, которые актер выража¬
ет вовне, чтобы укрепить или поддержать изображаемую ситуацию или
роль, например детский плач, строгий разговор, родителей, звук мотора.
3. Сигналы. С помощью сигналов участник подталкивает партнера к продол¬
жению игры. Они включают подмигивание, улыбку и хихиканье.
4. Предварительные действия устанавливают сцену, определяют сроки и усло¬
вия для начала представления.
«Этот зеленый телефон тот же, что и в машинах у полицейских».
«Ты хочешь поиграть со мной?»
5. Окончательный выбор роли — это поведение, которое подразумевает от¬
крытое упоминание внешних или внутренних изменений изображаемой
ситуации либо определяет способ выражения или роли. «Я домохозяйка».
«Изобрази ненавистную тебе дочурку рыбы». «Это поезд» (указывая на со¬
фу) (Krasner, 1976, р. 20).
Один вид изобразительной игры, иногда относимый к категории фантазийных
игр, характеризуется наличием секрета. Этот тип игры создает ситуации удовле¬
творения желаний, которые реализуют инстинктивную разрядку, невозможную в
рамках настоящей действительности и способную изменить и корректировать эту
реальность (Sandler & Nagera, 1963). Фантазийная игра также дает возможность
удовлетворения импульсов, которые не позволено удовлетворять в реальности,
например разыгрывание убийства ненавистного сиблинга.
Игры по правилам не совсем подходят под стандартное определение понятия
«игра», потому что выполнение задачи или достижение цели некоторым образом
обоснованы. Несмотря на это, игры по правилам рассматриваются как промежуточ¬
ное звено между беспорядочной игрой маленьких детей и часто чрезмерно конт¬
ролируемым игровым поведением взрослых. В поведении детей во время игровой
терапии можно найти примеры всех этих подвидов игры. Внимательно наблюдая
за поведением ребенка в игровой терапии, можно обнаружить все перечисленные
виды игры.
Несмотря на стройность этого описания, оно не полностью согласуется с типа¬
ми игры, встречающимися у детей в игровой терапии. Их игра включает:
20 Часть I. Введение
1. Игра с налаживанием контакта, где ребенок легко и незатейливо вступает
в контакт с игрушками, с предметами, окружающими его, и терапевтом.
2. Безопасная игра, которая заключается в том, что ребенок контролирует либо
игрушки, либо терапевта.
3. Опасная игра, подразумевает неконтролируемое выражение эмоций; пред¬
полагается, что ребенок изображает нечто неподвластное самому герою
игры, например торнадо или землетрясение,
4. Принятие решения — игра, в которой ребенок или герой, которого он изобра¬
жает, находит способ справиться с опасным поведением или сдержать его.
Еще раз необходимо напомнить о ключевом различии между игровым поведе¬
нием здоровых детей и детей, находящихся на лечении, которое состоит в том, что
игровое поведение последних не всегда бывает забавным. Несмотря на это, оно все
еще соответствует большинству необходимых условий этого понятия, и поэтому
в данной книге оно будет подпадать под общее определение игры.
Определение игровой терапии
Предположение о том, что игровая терапия — это всего лишь лечебный прием,
в котором ребенок главным образом играет, будет ошибочным. Некоторые из ви¬
дов деятельности, в которые ребенок вовлечен на терапевтических сессиях, не яв¬
ляются игрой, и по всей видимости, для определения такого вида лечения, как иг¬
ровая терапия, здесь не избежать подробного объяснения
Также невозможно дать определение игровой терапии, не упомянув о ее тера¬
певтических аспектах. Многие люди обладают талантом создавать атмосферу,
которая естественно максимизирует терапевтическое воздействие игры, как об
этом будет сказано далее; однако эту ситуацию, видимо, правильнее будет назвать
терапевтической игрой. Игровая терапия использует терапевтические аспекты
игры, но она отличается от терапевтической игры с ее опорой на установленную
теоретическую ориентацию в направлении мышления и поведения игрового те¬
рапевта. Игровой терапевт подготовлен к работе в рамках фиксированной теоре¬
тической модели, чтобы помогать ребенку постепенно продвигаться к психиче¬
скому равновесию. Именно это объединение позволяет назвать деятельность
игровых терапевтов «лечением», в отличие от любого другого клинического вме¬
шательства.
В 1997 году советом директоров Международной ассоциации игровой терапии
было разработано определение игровой терапии, которое, видимо, включает боль¬
шое количество вопросов в этой области. Данное определение учитывает как раз¬
нообразие определений самой игры, так и широкий набор теоретических положе¬
ний, которые были сформулированы теми, кто практикует игровую терапию.
Игровая терапия — это систематическое использование теоретической мо¬
дели для развития межличностных отношений, когда специально обученные
игровые терапевты используют терапевтическое воздействие игры, чтобы
помочь клиентам предотвратить или разрешить психосоциальные трудности
Глава 1. Определение и история игровой терапии 21
и добиться оптимального роста и развития (Association for Play Therapy,
1997, p. 7).
Данное определение было незначительно расширено:
Игровая терапия состоит из набора лечебных моделей, которые включают
систематическое использование теоретической модели для развития межлич¬
ностных отношений, когда специально обученные игровые терапевты исполь¬
зуют терапевтическое воздействие игры, чтобы помочь клиентам предотвра¬
тить или разрешить психосоциальные трудности и добиться оптимального
роста и развития, а также перестройки способности ребенка к участию в иг¬
ровом поведении в его классическом понимании.
Это означает, что игровой терапевт стремится к максимизации способности
детей принимать участие в деятельности легкой и веселой, по сути совершенной,
личностно ориентированной, гибкой, неинструментальной и характеризуется ес¬
тественным течением. В стремлении к достижению этой цели качественная игро¬
вая терапия, применяемая конкретным игровым терапевтом, представляет собой
интеграцию определенной теоретической ориентации терапевта, его личности и
биографии с потребностями ребенка. Недопустимо, чтобы ребенок и терапевт на
пути к этой конечной цели занимались чем-либо другим, кроме игры. Игровые
терапевты отдают себе отчет в том, что лечение считается эффективным, если ре¬
бенок демонстрирует способность играть импульсивно и с радостью; именно это
делает игровую терапию уникальной.
Функции игры и их вклад
в процесс проведения игровой терапии
После принятия этого собирательного определения игры, а вслед за ним и опре¬
деления игровой терапии можно рассмотреть различные функции игрового пове¬
дения в жизни детей и их потенциальную ценность в рамках игровой терапии.
Биологические функции
Игра имеет несколько функций, которые можно обозначить как биологические.
Во-первых, игра — это способ, посредством которого ребенок приобретает множе¬
ство основных навыков (Boll, 1957; Chateau, 1954; Dohlinow & Bishop, 1970; Dru-
ker, 1975; Frank, 1968; Slobin, 1964). Младенец в первую очередь развивает зри¬
тельно-моторную координацию, протягиваясь за желаемыми объектами, так он
с помощью игры изучает свое окружение. В игровой терапии большинство базаль¬
ных навыков, которые ребенок развивает, характерны для мероприятий, направлен¬
ных на разрешение основной проблемы пациента. Однако нельзя игнорировать
терапевтическое воздействие, которое может оказывать на самооценку ребенка
развитие навыка ловли мяча. Во-вторых, игра позволяет ребенку расходовать
энергию и расслабляться (Schiller, 1875; Slobin, 1964). Во время игры в пятнашки
детям больше всего нравится именно то, что, догнав друг друга в бешеной гонке,
они могут все вместе сбиться в единую смеющуюся кучу. В-третьих, игра — один
22 Часть I. Введение
из способов, с помощью которого ребенок осознает свой собственный аффект, так¬
же как и аффекты других. Игра сама по себе продуцирует различные внутренние
ощущения, которые ребенок постепенно учится связывать с различными позитив¬
ными или негативными чувствами. Пока они учатся различать свои собственные
состояния, они так же постепенно учатся различать чувства других людей и со¬
чувствовать им. И наконец, игра дает ребенку тактильную стимуляцию (Plant,
1979; Slobin, 1964), еще один информационный канал, который особенно важен в
период младенчества, когда ребенок полностью сосредоточен на сенсорном изу¬
чении мира. Младенец, лежащий в колыбели, изгибается и превращает свой «из¬
гиб» в движение. Это движение заставляет ребенка изгибаться еще больше и таким
образом создается цикл. Вскоре младенец превращается в хихикающую и извива¬
ющуюся шаровую молнию, каждая часть которой находится в движении. Игровой
терапевт редко использует в игре прикосновение, хотя это может оказаться очень
полезным, когда ребенку для развития саморегуляции требуется помощь в при¬
обретении знаний о собственном теле.
Внутриличностные функции
Игра обеспечивает три внутриличностные функции. Во-первых, она удовлетво¬
ряет «жажду деятельности» (Slobin, 1964; Walder, 1933). Считается, что каждый
человек испытывает потребность в каком-либо занятии. Для большинства из нас
ничегонеделание болезненно, если вообще возможно. Даже находясь в состоянии
полного покоя или сенсорной депривации, мы будем производить некие действия
в нашем сознании. Для детей игра — это возможность что-то делать. Если эту
функцию игры принимать во внимание, терапевт не станет считать сессию неудач¬
ной из-за того, что «ребенок ничего не делал». За исключением коматозного или
кататонического состояния, ребенок всегда что-то делает; и чем бы он ни зани¬
мался, его деятельность удовлетворяет, по меньшей мере, эту внутриличностную
функцию игры.
Во-вторых, игра позволяет ребенку овладевать навыками поведения в различ¬
ных ситуациях (Erikson, 1950; Slobin, 1964). Игра позволяет ребенку исследовать
среду, окружающую его (Druker, 1975; Frank, 1955). Играя в прятки, ребенок изу¬
чает окружающий мир с другой позиции: относительно места, где он может спря¬
таться. Также игра дает ребенку возможность узнать новые функции своего тела,
сознания и окружающего мира (Cramer, 1975; Frank, 1955). Маленький мальчик,
бегающий кругами по комнате, изображая самолет, узнает о способности своего
мозга порождать чувство полета, о способности своего тела имитировать звуки,
издаваемые самолетом, а также понимает, что самолет совершенно точно нельзя
заставить взлететь, если просто шуметь и бегать по кругу. В этом смысле игра
ускоряет общее когнитивное развитие ребенка (Frank, 1968; Piaget, 1962; Pulaski,
1974). Именно посредством игры дети учатся осознавать, определять, понимать и
выражать эмоции. Для того чтобы помочь ребенку развивать поведенческую ком¬
петентность в ситуациях, с которыми он никогда не столкнется в ходе обычной
сессии, в игровой терапии можно использовать такое свойство игры, как развитие
ситуационных навыков {situationalmastery). Чтобы ребенок перестал бояться бор-
Глава 1. Определение и история игровой терапии 23
машины, сессию игровой терапии не обязательно проводить в кабинете стомато¬
лога, эту ситуацию можно проработать в игровой комнате.
И наконец, посредством символических действий и удовлетворения желаний
(Pulaski, 1974) игра учит ребенка справляться с конфликтами (Cramer, 1975; Dru-
ker, 1975; Erikson, 1950; Frank, 1955; Walder, 1933). Видимо, эта функция изобра¬
зительной игры наиболее широко используется в контексте игровой терапии. Ре¬
бенок может в жизни так и не дождаться повторной женитьбы родителей после
долгого и неприятного развода, но он может снова и снова проигрывать эту ситу¬
ацию до тех пор, пока не позволит в своей игре жениху и невесте не жениться,
а просто остаться друзьями. Подобным образом другие травмирующие события
могут проигрываться до тех пор, пока для них не будут найдены наиболее удов¬
летворительные решения, с точки зрения переживаний ребенка.
Межличностные функции
Игра позволяет осуществить две первичные межличностные функции. В первую
очередь игра — один из главных механизмов, посредством которого ребенок до¬
стигает стадии сепарации/индивидуации — отделения от первичного объекта,
заботящегося о нем (primary caretaker). Дома человек, заботящийся о младенце,
играет с ним в «ку-ку» (в «прятки»), то есть — во временное отделение. Позже,
тоддлер1 наслаждается играми, в которых он убегает, а его ловят. Эти и многие дру¬
гие игры позволяют ребенку пережить сепарацию не как нечто ужасное и пугаю¬
щее, а как приятную, контролируемую им игру. В терапии проигрываются многие
темы отделения, относящиеся как к жизни вне сессий, так и к тому, что происхо¬
дит на них. В конце концов, каждая сессия имеет начало и конец, и в течение ее
ребенок должен научиться сначала включаться, а потом — отделяться. К сожале¬
нию, многие терапевты не полностью используют игровые ритуалы, ограничи¬
вающие эти стрессовые события, которые прорабатывают большинство детей.
Например, некоторые дети перед началом запланированного занятия пытаются
спрятаться в комнате ожидания. Терапевт может отреагировать на это или как на
избегающее поведение, или как на игровое поведение, посредством которого ре¬
бенок пытается инициировать игру в прятки с терапевтом. Он начинает играть,
не заходя в игровую комнату. Терапевт, который преувеличенно демонстрирует
усилия, направленные на поиск спрятавшегося ребенка, использует игру для пе¬
рехода к терапии, а также для того, чтобы сообщить ребенку, что он стоит того,
чтобы его искали.
На более поздних стадиях развития игра помогает детям освоить многие соци¬
альные навыки. В игре они учатся делиться как игрушками, так и мыслями. Они
учатся соблюдать очередность и сотрудничать. Играя со старшими детьми, они
узнают, чего от них ожидают в школе. По существу, просто находясь в обществе
других людей, дети знакомятся с человеческими отношениями. В индивидуаль¬
ной игровой терапии ребенок узнает об этом, развивая терапевтические отноше¬
ния со взрослым.
1 Тоддлер (toddler) — ребенок, который учится ходить. Общепринятый (в основном в психоанализе)
термин для обозначения соответствующей стадии развития ребенка. — Примеч. пер.
24 Часть I. Введение
Хорошо это или нет, но такие отношения не всегда реалистичны, к тому же
значительно варьирует степень использования ребенком полученного опыта во
внешние ситуации. С другой стороны, в ходе групповой или семейной игровой
терапии могут использоваться все преимущества этой функции игры.
Социокультурные функции
И наконец необходимо рассмотреть социокультурные функции игры. Благодаря
им ребенок узнает о своей культуре и о ролях, исполняемых людьми, которые
окружают его. Игры детей обусловлены культурально, а зачастую и исторически.
Они могут служить проводниками ценностей данного общества. Несмотря на то
что игра «колечко вокруг розы» (ring-around-a-rosy) с течением времени потеря¬
ла большую часть своего смысла, она все же способна передать детям суть дела.
Изначально эта игра называлась «круг, кольцо и роза», и в нее начали играть в
средние века во время страшной эпидемии черной чумы. Слова игры звучали так:
круг, кольцо и роза; полный карман цветов; кхе-кхе кхе-кхе; мы падаем и умираем
все. Этот стишок описывает сначала красные круглые нарывы, которые появля¬
лись на пораженных чумой людях, затем — обычай набивать карманы жертвы
цветами, чтобы скрыть запах болезни и смерти, так как быстрое погребение было
не всегда возможным, и наконец, поражение дыхательных путей, вызывавшее ка¬
шель, падение зачумленного и смерть. Можно представить детей, окруженных не¬
избежной смертью, играющих в игру, которая помогает таким причудливым спо¬
собом сделать смерть не столь страшной. Оглядываясь назад, можно наверняка
получить представление о социальной ситуации того времени.
Игровому терапевту важно помнить, что «детская игра больше всего нас ин¬
формирует о ценностях культуры, в которой они живут» (Hughes, 1995, р. 15).
Спонтанная игра ребенка отражает культуру, в которой он вырос. Например, чем
сложнее культура, тем более сложными соревновательными играми увлечены де¬
ти. В простых культурах распространены игры, основанные на физических каче¬
ствах. Игры, в основе которых заложена случайность, лотерея, чаще встречаются
в культурах, зависящих от благоприятного стечения обстоятельств — в земледель¬
ческих и охотничьих сообществах. И наконец игры, включающие в себя примене¬
ние стратегии, наиболее распространены в сложных, особенно высокотехнологич¬
ных культурах (Hughes, 1995). Терапевтам, интересующимся во что играют дети
в других культурах, будет интересна книга «Игра детей различных культур»
(Children's Play in Diverse Cultures. Roopnarine, Johnson and Hooper, 1994). В книге
представлено детальное описание игрового поведения индийских, тайваньских,
японских, полинезийских, пуэрториканских, итальянских, африканских и эски¬
мосских детей в неклиническом контексте. Детская игра в значительной степени
является как результатом, так и отражением этих слишком разнящихся между
собой культур, в связи с чем чтение обещает быть интересным и может помочь
учесть культуральные различия при оценках нормативного поведения у детей.
Дети используют социокультурные аспекты игры для репетиции желаемых
взрослых ролей. Они изображают маму и папу. Они изображают учителя и поли¬
цейского. И в процессе этого они узнают многие заботы, поведенческие навыки и
ценности, связанные с этими ролями. Можно подумать, что это один из первич-
Глава 1. Определение и история игровой терапии 25
ных способов, с помощью которых ребенок осваивает и тренирует гендерное ро¬
левое поведение в таком виде, как это принято в его культуре. То есть ребенок
приобретает и развивает те поведенческие модели, которые обычно связаны с по¬
ведением мальчика или девочки. В терапии этот процесс развивается по мере того,
как ребенок проигрывает роли тех людей, которые ему нравятся, и тех, которых
он боится.
История детской психотерапии и игровой терапии1
Первые попытки проведения психотерапии с детьми предпринял Фрейд (Freud,
1909), облегчая фобические реакции своего, теперь знаменитого пациента, ма¬
ленького Ганса. Сам Фрейд не принимал непосредственного участия в терапев¬
тическом процессе, а давал советы отцу Ганса относительно способов разрешения
внутренних конфликтов и страхов мальчика. Хотя это происходило задолго до
того, как терапевты снова попытались работать с детьми через их родителей, это
был первый терапевтический случай, заложивший необходимый фундамент для
такого направления, как дочерняя терапия.
Игра не применялась в детской психотерапии до 1919 года, когда ее начал ис¬
пользовать Хуг-Хельмут (Hug-Hellmuth, 1919), предчувствуя, что она является
существенной частью детского психоанализа. Тем не менее Анна Фрейд и Мела¬
ни Кляйн писали исключительно о том, как они адаптировали традиционную пси¬
хоаналитическую технику для работы с детьми, включая в свои сессии элементы
игры. Обе эти женщины-теоретики, а также многие их последователи, использо¬
вавшие психоанализ в работе с детьми, начали модифицировать не только свои
техники, но и лежащие в их основе теоретические модели. В общем, все эти моди¬
фикации психоаналитического лечения можно объединить под заголовком «пси¬
ходинамическая терапия». Первичная цель этого подхода — помочь ребенку про¬
работать проблемы или травмы посредством достижения осознания. Несмотря на
то что обе женщины считали игру частью лечения, они использовали ее во мно¬
гих различных вариантах.
В 1928 году Анна Фрейд начала применять игру на сессиях, чтобы заинтересо¬
вать детей. Основной причиной применения такой техники была концепция те¬
рапевтического альянса. В традиционном психоанализе сеществует мнение, что
большая часть аналитической работы заканчивается в тот момент, когда здоровая
часть личности пациента и терапевт объединяют свои силы для совместной борь¬
бы с болезненными проявлениями личности пациента. Это объединение называ¬
ется терапевтическим альянсом. Анна Фрейд отдавала себе отчет, что большин¬
ство детей приходят на лечение не по своей воле; их приводят родители, и именно
у родителей, а не у детей, есть жалобы. К тому же она понимала, что терапевти¬
ческие техники свободных ассоциаций и анализа сновидений чужды детям. По¬
этому, чтобы помочь ребенку вступить в альянс с терапевтом, Анна Фрейд для
1 Этот раздел представляет собой выдержку из первой части книги «Справочник по игровой терапии»
{Handbook of Play Therapy, Schaefer & O’Connor, 1983), публикуется с разрешения владельца автор¬
ских прав.
26 Часть I. Введение
выстраивания отношений со своими юными пациентами применяла игру — есте¬
ственного посредника ребенка. Она использовала игры и игрушки для создания у
ребенка интереса к терапевту и лечению. В частности, для включения ребенка при¬
менялись фокусы (A. Freud, 1928,1965). Многие терапевты до сих пор считают их
очень действенными, когда необходимо увлечь самого строптивого ребенка.
Доктор Диана Фрай в своей работе с клиентами любых возрастов интенсивно
использует фокусы (magic tricks). Она планирует опубликовать их собрание в сво¬
ей новой книге. Гилрой (Gilroy, 1997) пишет о ценности использования фокусов
для установления взаимопонимания в игровой терапии. Он указывает, что они
могут применяться для построения терапевтического альянса, в качестве позитив¬
ного подкрепления, как диагностический инструмент, как способ улучшения со¬
циальных навыков отвергнутых детей и как средство преодоления защит и сопро¬
тивления у подростков.
По мере развития отношений терапевта и ребенка основной акцент сессий мед¬
ленно смещался с игры на вербальное взаимодействие. Так как большинство де¬
тей были не готовы к технике свободных ассоциаций, Анна Фрейд основное вни¬
мание уделяла анализу сновидений и фантазий. Она обнаружила, что часто дети
не менее взрослых пациентов способны к анализу сновидений и заинтересованы
в нем; более того, дети часто могли создать фантазийные образы и вербализовать их.
Тогда как Анна Фрейд использовала игру главным образом для построения
прочных, позитивных отношений между ребенком и терапевтом, Мелани Кляйн
(Klein, 1932) предлагала использовать ее вместо вербального взаимодействия.
Кляйн рассматривала игру как естественное средство самовыражения детей. Она
чувствовала, что вербальные навыки ребенка еще недостаточно развиты для того,
чтобы удовлетворительно выражать уже переживаемые им сложные мысли и аф¬
фекты. Кляйнианская игровая терапия не имела вводной фазы; терапевт просто
начинал делать прямые интерпретации игрового поведения ребенка. И в то время
как Анна Фрейд полагала, что психоанализ наиболее подходит для невротических
детей, чьи нарушения являются следствиями базальной тревоги, Кляйн считала,
что любой ребенок, от совершенно нормального до самого больного, может полу¬
чить пользу от ее «игрового анализа».
Изменения теории и техник классического психоанализа, начатые Анной
Фрейд и Мелани Кляйн, привели к развитию множества теоретических моделей,
которые можно обобщить как «психодинамическая психотерапия». Одним из са¬
мых важных достижений в работе с детьми было признание влияния, которое ока¬
зывает окружение ребенка на развитие его личности и соответственно привязан¬
ности. Большинство психоаналитически ориентированных направлений игровой
терапии, практикуемых в США, основаны на психодинамической, а не на психо¬
аналитической теории и практике.
В период с 30-х по 50-е годы XX столетия появилось множество теорий и ме¬
тодов детской психотерапии. Были не только разработаны новые теоретические
модели, но также изменены уже существующие подходы для лечения тех детей,
которых раньше считали неспособными к традиционной психоаналитической
игровой терапии. К тому же большое количество моделей и техник было разрабо¬
тано как реакция против различных аспектов психоанализа.
Глава 1. Определение и история игровой терапии 2 7
В конце 1930-х годов появилась техника игровой терапии, известная сейчас как
«структурированная терапия» {structured therapy), которая использовала психо¬
аналитическую теорию в качестве основы для более целенаправленного подхода.
Общими для всех видов психотерапии в этой категории являются: 1) психоана¬
литическая парадигма; 2) по меньшей мере, частичная вера в катарсическую цен¬
ность игры и 3) активная роль терапевта в определении течения и основного фо¬
куса лечения. Леви (Levy, 1938) разработал технику «освобождающей терапии»
{release therapy) для лечения детей, переживших специфическое травмирующее
событие. Леви давал детям игрушки и материалы, подходящие для воссоздания
травматического события в игре. Ребенка не заставляли участвовать в установлен¬
ном игровом ритуале, но большинство из доступных ему игрушек могли, по мнению
терапевта, наилучшим образом использоваться для катектирования эмоциональ¬
но нагруженного события. Этот вид терапии берет свое начало в высказывании
Зигмунда Фрейда о повторяющихся навязчивых действиях {repetition compulsion).
Основная мысль этой концепции заключается в том, что, пользуясь предоставлен¬
ными безопасностью, поддержкой и верно подобранными материалами, ребенок
снова и снова разыгрывает травмирующее событие до тех пор, пока он не сможет
принять связанные с ним негативные мысли и чувства.
Соломон (Solomon, 1938) создал технику «активной игровой терапии», пред¬
назначенную для работы с импульсивными детьми или с детьми, склонными
к «отреагированию» {acting-out children). Соломон полагал, что помощь ребенку
в выражении его ярости и страха посредством игры может иметь абреактивный
эффект, так как ребенок может отреагировать свои эмоции, не опасаясь послед¬
ствий. Во время взаимодействия с терапевтом ребенок учится перенаправлять
свою энергию, прежде используемую для отреагирования, на более адекватные
игровые типы поведения. Кроме того, Соломон особо подчеркивал необходимость
оказания поддержки ребенку в построении им понятия времени, помогая ему раз¬
делять тревогу относительно прошлых травм и возможных последствий реальных
ситуаций их настоящей жизни.
Гембридж (Hambridge, 1955) проводил игровые сессии по большей части так
же, как это делал Леви, но был более директивным при установлении специфики
игровой ситуации. Тогда как Леви давал детям материалы, способствующие вос¬
становлению и проигрыванию травмирующего события! Гембридж непосред¬
ственно в игре воссоздавал это событие или вызывающую тревогу жизненную си¬
туацию, чтобы помочь абреакции детей. Эта техника не использовалась в отрыве
от других, а была промежуточной стадией в уже установившихся терапевтических
отношениях с ребенком; то есть ее черед наставал, когда Гембридж был уверен, что
ребенок обладает достаточной силой эго, чтобы справиться с такой прямой и на¬
вязчивой процедурой. После проигрывания ситуации Гембридж давал ребенку
некоторое время, чтобы восстановиться, перед тем как покинуть безопасное про¬
странство игровой комнаты.
«Адлер (Adler, 1927), один из ранних учеников и коллег Фрейда, был первым,
кто восстал против ортодоксальной психоаналитической концепции. Его примеру
последовали Карен Хорни (Horny, 1937), Эрих Фромм (Fromm, 1947) и Гарри
Стак Салливан (Sullivan, 1953). Этих четырех теоретиков часто объединяют из-за
28 Часть I. Введение
того, что все они уделяли внимание роли “Я” (the self) и важности межличност¬
ной и социальной динамики в развитии личности и психопатологии. Однако глав¬
ную роль каждый из них отводил различным аспектам, как-то: личности (Адлер,
Хорни), роли индивида в обществе и культуре (Фромм) и межличностной дина¬
мике (Салливан). Несмотря на то что этими теоретиками была разработана осно¬
ва для различных направлений в психоаналитической терапии, многое все же
осталось общим с исходной теорией. Но в основном их методы лечения характе¬
ризовались более активным взаимодействием с пациентом, меньшим интересом
к бессознательным процессам, большим вниманием к настоящей, а не к прошлой
ситуации пациента, и интерпретациями, основанными на их личных теоретиче¬
ских взглядах» (Johnson et al., 1986, р. 127). Как уже было сказано, теоретические
модели, берущие за основу традиционный психоанализ, но модифицирующие его
теоретические положения или практические методы, известны как психодинами¬
ческие.
Кроме того, в 1930-е годы был разработан ряд игровых техник, обобщенно на¬
зываемых терапией отношений (relationship therapies). Свои философские исто¬
ки терапия отношений берет в работе Отто Ранка (Rank, 1936), подчеркивавшего
важность родовой травмы для развития личности. Он считал, что стресс, получа¬
емый при рождении, вызывает у людей страх перед отделением (индивидуацией),
и поэтому они привязываются к своему прошлому. Ранк перестал придавать боль¬
шую значимость переносу и изучению событий прошлого в ходе терапии и скон¬
центрировал основное внимание на реалиях отношений пациента и терапевта и на
жизни пациента, проходящей здесъ-и-сейчас.
Тафт (Taft, 1933), Аллен (Allen, 1942) и Мустакас (Moustakas, 1959) адаптиро¬
вали идеи Ранка для работы с детьми в игровой терапии. Эти теоретики говорили
о негативном влиянии родовой травмы на способность ребенка формировать глу¬
бокие позитивные отношения. По их мнению, из-за этой травмы дети могут ис¬
пытывать трудности в отделении от первичного объекта, заботящемся о нем (pri¬
mary caretaker), или застревая и становясь зависимым, или попадая в изоляцию
и становясь неспособным существенно полагаться на других. При помощи тера¬
пии ребенок получает шанс установить глубокие доверительные отношения с те¬
рапевтом в условиях терапевтической сессии, которая, просто в силу основного
терапевтического соглашения, более безопасна, чем любая реальная ситуация,
с которой ребенок столкнется в будущем. Тафт применял экзистенциальный под¬
ход и концентрировался на взаимодействии ребенка и терапевта и способности
ребенка учиться эффективно использовать эти отношения. Мустакас старался
помогать детям отделяться от значимого объекта (на стадии индивидуации) и ис¬
следовать межличностные ситуации, как основу используя безопасные отноше¬
ния с терапевтом. Несмотря на склонность переоценивать важность отношений
«ребенок-терапевт» и недооценивать значимость событий прошлого, психотера¬
певты, работающие в парадигме «терапии отношений», все еще поддерживают
крепкую связь с психоаналитической теорией. Они, видимо, не полностью отка¬
зались от этой теоретической базы, а скорее ослабили действие «правил» анали¬
за, сохраняя его существенный элемент — терапевтические отношения.
Глава 1. Определение и история игровой терапии 29
В 40-е годы XX столетия Карл Роджерс (Rogers, 1942,1951,1957,1959,1961)
разработал клиент-центрированный подход к терапии взрослых; Экслайн (Axline,
1947) модифицировал его в технику игровой терапии. В основе этого подхода за¬
ложена следующая философия: дети, по своей природе, стремятся к росту, а у де¬
тей с эмоциональными нарушениями это естественное побуждение оказывается
нарушенным. Цель клиент-центрированной игровой терапии состоит в том, что¬
бы восстановить баланс между ребенком и окружающей его средой, способствуя
естественному самосовершенствованию и росту. Терапевт и ребенок развивают
теплые отношения принятия, в ходе которых терапевт отражает чувства ребенка
и возвращает их ему, благодаря чему ребенок достигает осознания, которое позво¬
ляет ему разрешить проблемы и произвести такие изменения, какие сам захочет.
В1949 году Бикслер (Bixler, 1949) написал статью, озаглавленную «Границы —
это терапия» {Limits Are Therapy), и в определенном смысле стал основателем не¬
кого движения, где развитие и укрепление границ считается первичными механиз¬
мами изменения в терапевтических сессиях. Бикслер предполагал, что терапевт
устанавливает границы, в которых ему удобно работать и которые удовлетворя¬
ют следующим условиям.
1. Ребенку не следует позволять разрушать какие-либо предметы или приспо¬
собления в комнате, за исключением тех, что предназначены для игр.
2. Ребенку не следует позволять физически нападать на терапевта.
3. Ребенку не следует позволять находиться в игровой комнате, кроме как во
время сессии.
4. Ребенку не следует позволять забирать игрушки из игровой комнаты.
5. Ребенку не следует позволять выбрасывать игрушки или другие предметы
из окна (Bixler, 1949, р. 2).
Джиннотт (Ginnott, 1959,1961) считал, что терапевт, правильно устанавлива¬
ющий границы, может сформировать представления клиента о себе как о ребен¬
ке, находящемся под защитой взрослых. Если мы говорим, что эта техника делает
акцент на границах, это не значит, что границы не используются в других техни¬
ках. Многие другие техники и терапевты явно используют границы, но они не
считают их ведущим элементом терапии. Основная цель «терапии установления
границ» состоит в том, что дети, проявляющие специфическое отреагирующее
{acting-out) поведение, не доверяют взрослым и не могут реагировать последова¬
тельно, и поэтому им необходимо постоянно проверять, в какой степени они мо¬
гут полагаться на взрослых.
Большое значение роли родителей или опекунов {caretakers) в игровой тера¬
пии подчеркивалась с самого начала. Как было сказано, лечение маленького Ган¬
са (Freud, 1909) было первым случаем того, что позже стало известно как «дочер¬
няя терапия» {Filial Therapy), в которой родители взаимодействуют со своими
детьми в качестве терапевтов. Еще в 1949 году Барух говорил о плановых игро¬
вых сессиях для укрепления отношений родителей и детей. Мустакас в 1959 году
говорил о сессиях игровой терапии, проводимых родителями ребенка в домашних
30 Часть I. Введение
условиях. Термин «дочерняя терапия» применительно к этому виду терапии ввел
Бернард Герни в 1964 году (Guerney, 1964). Несмотря на то что этот метод одно
время был популярен, рост его использования начался в последние десять лет
(Landreth, 1991). Другие стратегии вовлечения родителей в игровую терапию
можно собрать под общим названием «игровая терапия развития». Броди (Brody
1978) разработала технику, которую она назвала «Игровой терапией развития»
{Developmental Play Therapy); эта техника состояла из нескольких структуриро¬
ванных сессий и была ориентирована на физический контакт. Основываясь на
работах Броди и работах других авторов (Des Lauriers, 1962; Jernberg, 1979), раз¬
работала одну из самых лаконичных теоретических и практических моделей, ори¬
ентированных на развитие игровой терапии, «Играпию» (Theraplay®). Эта техни¬
ка основана на представлении о том, что нормальное взаимодействие ребенка и
родителя в первые несколько лет жизни закладывает основание для будущего пси¬
хического здоровья ребенка и что эти отношения могут устанавливаться позже в
жизни ребенка, с таким же «оздоровительным» эффектом. Каждый из этих эффек¬
тов важен настолько, насколько он способен привлечь родителей в жизнь ребен¬
ка. Терапия, ориентированная на развитие, важна в той степени, в какой она спо¬
собствует достижению высокого уровня взаимодействия терапевта и ребенка на
сессии.
Последние четыре десятилетия — это период расцвета новых теорий и техник
детской психотерапии в целом и игровой терапии в частности. Некоторые из них
описаны в следующих работах.
Johnson, J.f Rasbury, W., & Siegel, L. (1986). Approaches to child treatment. New York: Perga-
mon Press.
Kazdin, A. (1988). Child psychotherapy: Developing and identifying effective treatments. New
York: Pergamon Press.
Morris, R., & Kratochwill, T. (Eds.). (1983). The practice of child therapy. New York: Pergamon
Press.
O’Connor, K. & Braverman, L. (1997). Play therapy theory and practice: A comparative presen¬
tation. New York: Wiley.
O’Connor, K. & Schaefer, C. (1994). The handbook of play therapy (Vol. 2.) New York: Wiley.
Schaefer, C. (1979). Therapeutic use of child's play. New York: Aronson.
Schaefer, C. & O’Connor K. (Eds.). (1983). Handbook of play therapy. New York: Wiley.
Schaefer, C. & Kottman, T. (Eds.). (1993). Play therapy in action a casebook for practitioners.
North vale, NJ: Aronson.
Развитие в сфере игровой терапии в течение последнего десятилетия в значи¬
тельной степени происходит благодаря Международной ассоциации игровой те¬
рапии — МАИТ {International Association for Play Therapy, I APT). Эта ассоциация
была основана в 1982 году доктором Чарльзом Шефером и доктором Кевином
О’Коннором. Ассоциация начинала свою деятельность, когда в нее входило око¬
ло пятидесяти человек, а теперь, к моменту выхода этой книги, она насчитывает
более трех с половиной тысяч членов. Помимо головной компании, филиалы Ас¬
социации существуют сейчас в 33 из 50 Соединенных Штатов, а также в Канаде и
в Южной Африке. МАИТ освещает теоретическое развитие, исследования и кли-
Глава 1. Определение и история игровой терапии 31
ническую работу посредством ежегодных конференций и публикации «Между¬
народного журнала игровой терапии» (IntemationalJoumalofPlay Therapy). К тому
же МАИТ разработала стандарты для регистрации игровых терапевтов (Registered
Play Therapist; RPT) и игровых терапевтов-супервизоров (Registered Play Thera¬
pist — Supervisor; RPT-S). Работа ассоциации привела к росту как количества, так
и качества работы в сфере игровой терапии. Вы можете связаться с Международ¬
ной ассоциацией игровой терапии по адресу: 2050 N. Winery, Suite 101, Fresno, С А,
93703.
Как уже было сказано в предисловии, первое издание этой книги было пред¬
назначено для интеграции идей нескольких различных теоретических моделей
игровой терапии, чтобы обеспечить оптимальное лечение многим клиентам. В дан¬
ном издании эта интеграция поднимается на новый уровень и перерабатывается в
модель, названную нами экосистемной игровой терапией. Несмотря на это сме¬
щение акцента, эффективное применение игровой терапии требует от практика
понимания широкого круга теоретических моделей и техник игровой терапии.
В связи с этим в главе 2 представлены важнейшие из существующих теорий игро¬
вой терапии, а также некоторые дополнительные теории, внесшие значительный
вклад в развитие экосистемной игровой терапии. Во II части книги, в главах с 4-й
по 15-ю, содержится информация непосредственно о теории и практике экосис¬
темной игровой терапии.
Глава 2
Теории игровой терапии
Несмотря на то что в литературе и в клинической практике игровой терапии до¬
минируют в основном три теоретических направления (психоаналитическое, гу¬
манистическое и когнитивно-бихевиоральное), количество теоретических моде¬
лей в данной области в последние десятилетия значительно возросло. О’Коннор
и Браверман в своей книге Play Therapy Theory and Practice: A Comparative Presen¬
tation (O’Connor и Braverman, 1997) приводят информацию о 13 различных под¬
ходах в игровой терапии. Хотя не все эти теории разработаны так же хорошо, как
исходные стержневые модели, они дают возможность адекватно оценить личность
ребенка, его проблемы и подобрать соответствующие им стратегии лечения. Ряд
теорий обнаруживает четкую связь с феноменологической философией (Knell,
1997; Kottman, 1997; Landreth & Sweeney, 1997). Это свидетельствует о возраста¬
нии интереса к пониманию мира детей и вхождению в него с детской точки зре¬
ния. Теперь признан тот факт, что каждый ребенок видит мир по-своему и поэтому
требует лечения, которое на всем протяжении учитывает индивидуальные особен¬
ности.
Более того, в то время как каждое из трех основных направлений исходно яв¬
ляется независимой, довольно узко определенной теорией и набором техник, все
они расрослись и включили в себя множество разнообразных, связанных с ними
моделей и практических методов. Например, понятие «психоаналитическая игро¬
вая терапия» сейчас часто используется для обозначения всех разнообразных
направлений: от оригинальной работы Анны Фрейд (A. Freud, 1928) и Мелани
Кляйн (Klein, 1932), двух совершенно разных подходов, до эгоаналитического,
неоаналитического и психодинамического вариантов игровой терапии, применя¬
емых сегодня. Подобным образом, поведенческая детская психотерапия претер¬
пела изменения и сегодня наилучшим образом представлена Когнитивной бихе-
виоральной игровой терапией, описанной Кнеллом (Knell, 1993,1994,1997,1998).
Четвертая модель, называемая в литературе «игровой терапией развития» {Deve¬
lopmental play therapy)> в своем развитии проделала похожий путь. Это направле¬
ние выросло из оригинальной работы Де Лорье (Des Lauriers, 1962), а сейчас ис¬
пользуется для объединения ряда моделей и техник, уделяющих особое внимание
процессу развития в игровой терапии. Для простоты и удобства работы с этим
пособием здесь не представлен обзор многочисленных теоретических и практи¬
ческих вариантов всех направлений игровой терапии. Там, где это необходимо, для
Глава 2. Теории игровой терапии 33
читателя приводятся ссылки на другие работы, содержащие детальное рассмот¬
рение этих тем.
В этой главе приводится краткий обзор трех основных теоретических направ¬
лений и отчасти важнейших модификаций этих теорий. К тому же здесь представ¬
лены краткие обсуждения следующих четырех теорий, сыгравших значительную
роль в развитии Экосистемной игровой терапии: «Играпия » (Jernberg, 1979; Jern-
berg & Booth, 1999J, «Дочерняя терапия» (Guemey, В., 1964а; Guerney, L., 1983,
1991,1997; VanFleet, 1994), Адлерианская игровая терапия (Kottman, 1995) и «Те¬
рапия Реальности» (Reality Therapy) (Glasser, 1975). Описание каждой теории
представлено без критических замечаний, так как излагается с позиции ее пред¬
ставителей. Основная цель этих семи обзоров — отразить те элементы направ¬
лений, которые используются для описания Экосистемной игровой терапии во
II части книги.
Психоаналитическое направление
Теория
Качественное применение психоаналитической игровой терапии и всех ее вари¬
антов возможно лишь при верном понимании психоаналитической теории лич¬
ности. При достаточно кратком рассмотрении можно сказать, что психоаналити¬
ческая теория личности основана на развитии, и в ней принята трехуровневая
структура личности (Freud, 1933), состоящая из ид, эго и суперэго. Ид — часть
личности, стремящаяся к удовлетворению базальных потребностей. Ею движут
биологические силы, в том числе сексуальные, — которые называются «либидо»;
активность ид выражается импульсивно. Фрейд также постулировал другую внут-
рипсихическую силу, которую он называл Танатос, или инстинкт смерти. В отли¬
чие от либидо, которое мотивирует человека выживать и преуспевать, Танатос
толкает его к хаосу и деструкции. В большинстве своих работ, однако, Фрейд осо¬
бое внимание уделял либидо как первичной движущей силе. Суперэго состоит из
тех родительских и социальных правил, которые усваивает человек в течение
жизни. Это часть личности, которая пытается ограничить ид и добиться адекват¬
ного восприятия таких понятий, как «хорошее» и «плохое». Эго — это часть лич¬
ности, которая является посредником между ид и суперэго, она активна в реаль¬
ном времени и исходит из настоящего положения вещей. По мысли автора, эта
психическая система закрытая и подчиняется закону сохранения энергии: чем
больше энергии индивид направляет в одну из трех структурных единиц, тем
меньше ее остается доступной другим частям личности. Таким образом, чем силь¬
нее импульс ид, тем меньше энергии получает суперэго для того, чтобы помешать
воплотиться этому импульсу в действии, и тем меньше энергии доступно эго, что¬
бы найти способ удовлетворить побуждение, оставаясь в рамках, накладываемых
реальностью.
С рождения человек имеет только ид; эго и суперэго развиваются позже. Вся
жизнедеятельность новорожденного направлена исключительно на удовлетворе¬
ние своих потребностей любым доступным им способом. Они подчиняются лишь
своим импульсам, невзирая на ограничения. По мере отделения от значимого
34 Часть I. Введение
объекта ребенок начинает узнавать, что реальность накладывает некоторые ограни¬
чения, препятствующие удовлетворению его потребностей. Постепенно он пони¬
мает, что удовлетворение некоторых импульсов необходимо откладывать; универ¬
сальный пример этому — «туалетное поведение». Согласно классической теории
Фрейда, у ребенка не развивается суперэго до тех пор, пока он не разрешит эди-
пальный конфликт в возрасте 4-6 лет. Другие аналитические теории утвержда¬
ют, что примитивное суперэго развивается еще в то время, когда ребенок — тодд-
лер (Klein, 1932). Приверженцы этой точки зрения полагают, что для успешного
отделения от первичного значимого объекта (матери) ребенок интроецирует ее
образ, на который он опирается, когда матери физически нет рядом. Но как толь¬
ко этот образ интроецируется ребенком, то есть принимается без всяких фильт¬
ров и цензуры, ребенок также усваивает все идеалы и запреты, а вместе с тем и
представления о правильном поведении. Этот интроект — предшественник супер-
эго, так как может «наказывать» ребенка в то время, когда значимого объекта нет
рядом. Согласно модели, разработанной Фрейдом, именно идентификация ребен¬
ка с родителем своего пола в попытке разрешить эдипальный конфликт заставля¬
ет ребенка интернализовывать родительские запреты и социальные правила. Так
или иначе, существует согласие всех теорий по поводу того, что к пяти годам боль¬
шинство здоровых детей развивают все три структуры личности.
Однако психоаналитическая модель не только описывает последовательное
развитие структуры личности, но и выстраивает теорию психосексуального раз¬
вития ребенка от рождения до подросткового возраста. Давайте кратко рассмот¬
рим стадии развития, предложенные Фрейдом (Freud, 1905).
С момента рождения ребенок попадает на оральную стадию, когда вся энергия
его либидо сконцентрирована в области рта и направлена на слияние. Эта ориен¬
тация имеет биологический смысл, так как позволяет новорожденному получать
необходимое для его жизни питание. В течение этого времени младенец развива¬
ет сильную привязанность к первичному объекту, вырабатывая чувство своей лич¬
ности в процессе сепарации и индивидуации.
В более поздней литературе все большая важность придается оральной стадии
развития и привязанности, возникающей в этот период между ребенком и его пер¬
вичным объектом. В частности, была выдвинута гипотеза о том, что на этой ста¬
дии ребенок создает внутренние рабочие модели своей личности в процессе об¬
щения с первичным объектом (Bowlby, 1973, 1982, 1989). Рабочие модели — это
внутренние репрезентации, сформированные посредством повторяющихся взаи¬
модействий с объектом, включающие ожидания ребенка о том, как с ним будут
обращаться. Эти модели используются для оценки и предсказания поведения
окружающих. По этой причине они становятся самовыполняющимися пророче¬
ствами, которые укрепляются с течением времени (Bowlby, 1973).
Все позднейшие межличностные взаимодействия ребенка выводятся из этих
рабочих моделей. Поэтому:
1) непосредственное межличностное взаимодействие должно рассматривать¬
ся в контексте прошлых отношений;
2) связь между прошлым опытом и непосредственным межличностным обще¬
нием осуществляется с помощью когнитивных репрезентаций, возникших
Глава 2. Теории игровой терапии 35
в результате часто повторявшихся случаев или отдельных ярких эпизодов
межличностного взаимодействия;
3) схема межличностных отношений — это не статичные репрезентации, а ре¬
зультат взаимодействия поведения и функциональной роли в структуре
опыта (Shirk, 1998, р. 5-6).
Схема межличностных отношений, как это представлено здесь, заключается в
понимании человеком взаимосвязи между репрезентацией собственного поведе¬
ния и репрезентацией предполагаемой реакции окружающих на это поведение
(Teasdale, Taylor, Cooper, Hahurst, Paykel, 1995). Это становится важным факто¬
ром в процессе лечения, когда терапию применяют для коррекции первоначаль¬
ной схемы отношений ребенка после наблюдения его модели взаимодействия с те¬
рапевтом.
По мере того как ребенок учится говорить, он переходит на анальную стадию
развития, когда его либидная энергия направлена на процесс выделения. В ходе
анальной стадии ребенка занимают проблемы контроля как собственного тела, так
и окружающей его среды. В этот период он приобретает навыки контроля над сво¬
ими импульсами и узнает, как можно более активно достигать удовлетворения
своих потребностей.
Приблизительно к возрасту 3 лет ребенок переходит на фаллическую стадию
развития, в течение которой либидная энергия концентрируется на пенисе: у маль¬
чиков — на его наличии, у девочек — на его отсутствии. Существование и природа
фаллической стадии психосексуального развития — один из самых противоречи¬
вых аспектов психоаналитической теории. Авторы как аналитической, так и не¬
аналитической ориентации отвергают ее, считая теоретическим построением, ос¬
нованным на сексизме и представлениях о мужском господстве. Тем не менее для
понимания представлений Фрейда относительно развития психопатологии и мно¬
гих ее особенностей необходимо познакомиться с тем, как он описывал эту фазу.
Согласно Фрейду, во время фаллической стадии мальчики приобретают осо¬
знание социальной силы, связанной с обладанием пенисом, и становятся озабочен¬
ными наличием этой силой. Это состояние достигает своей кульминации в желании
мальчика обладать самой ценной женщиной в его окружении, а именно матерью.
К сожалению, главным препятствием для маленького мальчика на пути к осуще¬
ствлению этой фантазии является его отец. Первое время мальчик борется с отцом
и испытывает чувства соперничества, но вскоре осознает, что отец превосходит
его, и испытывает страх проиграть ему. Согласно теории, он начинает бояться, что
отец кастрирует его, если он не откажется от своих претензий на мать. Опасаясь
потерять этот ценный орган и символ мужественности, маленький мальчик уступа¬
ет и идентифицируется с отцом, чтобы избежать возмездия и иметь возможность
компенсаторного обладания матерью. Эта мощная угроза безопасности мальчика
приводит к полному разрушению его желания обладать матерью и к интенсивной
идентификации с отцом. Полное разрешение этого эдипального конфликта Фрейд
видел в формировании очень сильного и хорошо развитого суперэго, которое он
приписывал мужчинам. Он считал, что мужчины, успешно справившиеся с этой
стадией развития, редко действуют импульсивно и держат свои эмоции под до¬
вольно строгим контролем сознания.
36 Часть I. Введение
Маленькая девочка на фаллической стадии начинает завидовать тому, что у
мальчиков есть пенис, и хочет сама обладать им. Она видит своего отца самым
сильным мужчиной в своем окружении, который может дать ей пенис или, если
это невозможно, обеспечить его замену в виде ребенка. Заметим, что у девочки нет
той причины для отказа от фантазии обладания своим отцом, какая есть у маль¬
чиков для отказа от фантазии обладания своей матерью. В конце концов малень¬
кая девочка считает, что и она, и ее мать уже были кастрированы и поэтому им
нечего терять. Только потому, что фантазия девочки обладать своим отцом нико¬
гда не осуществится, она отказывается от своего желания и идентифицируется с
матерью. Так как процесс разрешения эдипального конфликта у женщин более
пассивный, Фрейд утверждал, что суперэго женщин не такое сильное, как у муж¬
чин. Следовательно, он считал женщин более склонными действовать, отдаваясь
своим импульсам, и позволять своим эмоциям изливаться свободно. Также жен¬
щины считались более подверженными невротическим состояниям.
Теория говорит, что мальчики и девочки, по-разному разрешив свои эдипаль-
ные проблемы, продолжают развиваться одинаково, когда переходят на латентную
стадию, фазу, которая теоретически длится с момента разрешения эдипального
конфликта в возрасте 5-6 лет и до начала пубертатного периода, то есть прибли¬
зительно до 12-13 лет. Фрейд считал, что в ходе этой стадии происходит очень
незначительное психосексуальное развитие; предполагалось, что в этот период
происходит когнитивное и социальное развитие.
С началом подросткового возраста дети переходят на генитальную стадию раз¬
вития, когда их либидная энергия концентрируется на области их гениталий, а пер¬
воочередной психосексуальной задачей становится поиск партнера противопо¬
ложного пола для создания семьи.
Таким образом, согласно психоаналитической теории, ребенок проходит ста¬
дии развития, основанные на эволюции своей либидной энергии. Пока основные
потребности ребенка удовлетворяются и он не сталкивается с какими-то значи¬
тельными травмами, продолжается последовательное развитие, достигающее своей
кульминации в формировании стабильных отношений с партнером противопо¬
ложного пола ко времени, когда ребенок достигает позднего подросткового воз¬
раста, или ранней зрелости.
Патология
В рамках психоаналитической теории патология рассматривается как результат
недоразвития одной или нескольких личностных структур либо конфликта меж¬
ду основными структурными элементами. Недоразвитие функций эго или супер-
эго считается причиной серьезных нарушений, таких как аутизм или шизофрения.
Развитие функций эго без адекватного развития суперэго считается причиной та¬
кого характерологического нарушения, как психопатия. Теория утверждает, что
развитие всех трех структур защищает индивида от более серьезных патологий,
но все же человек подвержен расстройствам, связанным с тревожностью, возни¬
кающим при наличии дисбаланса между психическими структурами, — который
не может быть разрешен сознательными процессами или защитными механизма¬
ми эго.
Глава 2. Теории игровой терапии 3 7
Конфликт между эго и суперэго порождает тревожность, которая стимулирует
эго на поиск способов удовлетворения ид, адекватных окружающей реальности,
не нарушающих ограничений суперэго. Ребенок ощущает импульс съесть что-
нибудь, но блокируется ограничением суперэго, напоминающего ему, что не раз¬
решается есть между установленными приемами пищи — в результате появляет¬
ся тревожность. Эго немедленно вступает в конфликт в роли посредника, пытаясь
удовлетворить обе потребности в соответствии с принципом реальности. Эго мо¬
жет мотивировать ребенка попросить разрешения что-либо съесть. Если это сра¬
батывает, конфликт разрешается и ребенок переходит к другой ситуации. Но
если это либо другие основанные на принципе реальности решения не достигают
успеха, для разрешения конфликта эго вводит в действие механизмы защиты. Эго
ребенка «убеждает» его, что в доме нет хорошей пищи, сигнализирует суперэго,
что конфеты — не настоящая еда и поэтому можно их съесть, не испытывая чув¬
ства вины, или реализует любое другое решение, снимающее тревожность. Когда
стратегии эго по разрешению конфликтов фиксируются и становятся автомати¬
ческими, препятствуя ребенку вступать в регулярные взаимодействия с реально¬
стью, развиваются симптомы, обычно относящиеся к невротическому кругу.
Цель лечения/терапии
Конечная цель аналитической работы, и интерпретации в частности, — развитие
или исправление психических структур и функций, ускоряющих оптимальное
развитие (O’Connor, Lee, Shaefter, 1983). Это исправление осуществляется благо¬
даря последовательной проработке различных внутрипсихических проблем. Про¬
работка, в свою очередь, заключается в оказании помощи ребенку в осознании
конфликтов через использование интерпретаций, которые он может воспринять,
осмыслить и перенести на другие контексты и которые позволят ему перемещать¬
ся на следующие уровни развития и закрепляться на них (Sandler, Kennedy, Ty¬
son, 1980). Проработка, обусловленная интерпретацией, также способствует дви¬
жению ребенка от осознания к изменениям поведения.
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов, подходящих
для психоаналитической игровой терапии
Традиционный психоанализ подходящими клиентами считает лишь тех, кто бе¬
зусловно обладает развитой трехуровневой структурой личности и чьи симптомы
возникают из тревожности, вызванной внутренним конфликтом. Таким образом,
традиционная психоаналитическая игровая терапия не считается пригодной для
детей, не разрешивших, хотя бы частично, эдипальный конфликт. Поэтому под¬
ходящими клиентами являются дети по меньшей мере 5 лет или старше. Кроме
того, клиенты игрового терапевта-аналитика должны обладать существенными
речевыми навыками, позволяющими им работать в рамках этого основанного на
вербальном взаимодействии, ориентированного на осознание подхода и получать
от него пользу. Лучшие кандидаты для психоанализа — дети, страдающие нару¬
шениями на базе тревожности, такими как фобии, компульсии (навязчивые состо¬
яния), социальное отвержение и т. п.
38 Часть I. Введение
Однако более поздние разработки теории и практики психоаналитической
психотерапии, которые обычно в литературе относят к видам «психодинамиче¬
ской терапии», позволили проводить лечение детей и младше пятилетнего воз¬
раста, и детей, не развивших трехуровневую структуру личности (O’Connor & Lee,
1991). Психодинамическая терапия также предоставила возможность лечить де¬
тей с проблемами в развитии, которые представляют собой результат продолжа¬
ющегося конфликта и соответственно являются более острыми, и тех детей, чьи
проблемы — следствия не внутреннего конфликта, а скорее влияния окружающей
среды, например такого, как депривация.
Подготовка игровых психотерапевтов
психоаналитической направленности
Из-за сложности теории, лежащей в основе практики психоанализа, и сложности
самой традиционной модели лечения, ее могут применять только терапевты, про¬
шедшие полный курс дополнительного образования в психоаналитическом инсти¬
туте, обычно уже после получения докторской степени1. Современные варианты
психодинамического лечения часто применяют игровые терапевты, не имеющи¬
ми такой продвинутой подготовки, хотя, конечно, им необходимо проходить спе¬
циальное обучение данной теории.
Роль психоаналитического игрового терапевта
в терапевтической сессии
В данной модели терапевт исполняет роль интерпретатора. Терапевт нужен для
того, чтобы выводить смысл из материала, производимого ребенком на сессии,
и возвращать этот найденный смысл ребенку для осознания. Терапевт здесь не для
того, чтобы играть с ребенком или становиться реальной частью его переживания.
То есть ребенок не узнает личности терапевта; скорее, он приходит к осознанию
того, что именно аналитик думает о его вербальных проявлениях, поведении и пе¬
реживаниях.
Роль игры в психоаналитической игровой терапии
Игра ребенка выступает в трех основных функциях в психоаналитической игро¬
вой терапии. В первую очередь она позволяет аналитику установить контакт с ре¬
бенком. То есть позволяет ребенку и терапевту установить отношения, в рамках
которых можно проводить процесс анализа. Этот момент считается особенно важ¬
ным в тех случаях, когда ребенок неспособен к формированию настоящего тера¬
певтического альянса и поэтому должен включиться в другие отношения, способ¬
ствующие его прохождению через болезненные периоды анализа.
Во-вторых, игра позволяет аналитику наблюдать ребенка и получать инфор¬
мацию, на основании которой могут выдвигаться гипотезы о его внутрипсихиче-
ском функционировании. Существуют значительные разногласия о том, какие
данные этих наблюдений считаются существенными для выдвижения интерпре-
1 Здесь идет речь об ученой степени PhD — доктор философии или MD — доктор медицины. — При-
меч. пер.
Глава 2. Теории игровой терапии 39
таций, потому что специфика анализа детского игрового поведения продолжает
оставаться предметом теоретических и методических споров. В работах Кляйн и
Борнштейн представлены две крайние точки зрения по этому вопросу. Кляйн
(Klein, 1932) подчеркивала важность прямого анализа содержания детской игры.
По Кляйн, игра ребенка — эквивалент вербальных проявлений и поэтому она на¬
столько же подходит для интерпретации. Кляйн была сторонницей исчерпываю¬
щей интерпретации бессознательного смысла игры. В противоположность этому
Борнштейн (Bornstein, 1945) полагал, что детскую игру не следует интерпретиро¬
вать непосредственно, потому что этот материал может проявляться другими,
более очевидными способами, а сила интерпретации может разрушить игру ребен¬
ка и есть риск чрезмерной «сексуализации» материала пациента. На дальнейшее
обострение этой дискуссии повлиял тот факт, что при лечении детей материал
может появляться из других источников, например от родителей или учителя ре¬
бенка. Некоторые традиционные психоаналитики считают такой материал источ¬
ником потенциальной «порчи» переноса, который ребенок может развить при
иных условиях, тогда как другие полагают, что информация различных источни¬
ков существенна для развития аналитиком интерпретаций, связывающих поведе¬
ние ребенка на сессиях с реальностью мира этого ребенка вне игровой комнаты.
Наконец, игра является посредником при взаимодействии ребенка и аналити¬
ка. Не только ребенок может предоставлять терапевту информацию, которую он
не смог бы сообщить другими способами, но и аналитик может использовать игру
и описания игры для передачи информации ребенку. Первый пример этой техники
известен как «интерпретация внутри» игры; то есть аналитик дает интерпретацию,
адресованную героям или объектам игры ребенка, а не самому ребенку, помогая
ребенку выдержать сложные интерпретации как с когнитивных, так и с эмоцио¬
нальных позиций.
Роль игры в психоаналитической игровой терапии можно понять методом «от
противного». Игра не используется как форма восстановления сил. Терапевт не
товарищ по игре, а скорее наблюдатель за играющим. Ценность игры как способа
снятия психического напряжения не считается первоочередной, за исключением
случаев острых травматических неврозов. «В случаях, с которыми... психоанализ
имеет дело сегодня, структура нарушения обычно настолько сложна, а детерми¬
нанты бессознательного конфликта так разнообразны и множественны, что отре¬
агирование, которое неспособно открыть бессознательные защиты и ограничения
эго, не имеет никакой ценности, разве что редкой и мимолетной» (Estman, 1983,
р. 13). Также игра не используется для обучения ребенка. Обучение ребенка в дан¬
ном контексте вторично по сравнению с самим процессом анализа и не относится
к функции игры.
Исцеляющие элементы психоаналитической
игровой терапии
Первичный целительный элемент психоаналитической игровой терапии — это
интерпретация, предлагаемая терапевтом. Кроме того, считается, что терапевтиче¬
ские отношения и игра ребенка имеют ограниченный терапевтический потенциал.
40 Часть /. Введение
Психоаналитическая теория признает ценность взаимоотношений «клиент—тера¬
певт» в качестве помощи пациенту при совершении изменений, но утверждает, что
они представляют собой перенос, а не «истинные» отношения. Другими словами,
на сессии терапевт представляет не самого себя, а олицетворяет значимых людей
в жизни клиента. В детской терапии уровень возможных отношений при перено¬
се — это спорный момент, потому что ребенок должен поддерживать первичную
зависимость от своих родителей или замещающих их людей; тем не менее потен¬
циальное влияние интенсивных взаимодействий личности ребенка с личностью
аналитика нельзя недооценивать. С психоаналитической точки зрения потенци¬
альная ценность отреагирования во время детской игры также оказывает лечеб¬
ное действие, но лишь при особых обстоятельствах, описанных ранее.
Курс лечения
Диагностика
При работе с детьми, для планирования психодинамического вмешательства ана¬
литику необходимо довольно полно представлять реальней уровень организации
и функционирования личности ребенка. Терапевт должен знать уровень развития
каждого элемента личностной структуры и степень взаимодействия этих струк¬
тур у каждого ребенка, приходящего на терапию. Также игровому терапевту тре¬
буется получить как можно больше информации о потенциальных источниках
внутренних конфликтов, которые становятся причиной проявляемых ребенком
симптомов. Эту информацию можно получить при помощи интервью и примене¬
ния проективных методик. Также заметим, что диагностика — неотъемлемая часть
всех аналитически ориентированных методов терапии, которую терапевт время от
времени применяет для лучшего понимания клиента по мере его развития.
Лечение
Лечение в психоаналитической игровой терапии состоит прежде всего в форму¬
лировании и предоставлении интерпретаций, благодаря которым конфликты ре¬
бенка выходят на сознательный уровень, что дает возможность для возникнове¬
ния поведенческих изменений. Чтобы игровой терапевт развивал собственное
представление о ребенке, тот на сессиях должен предоставлять материал, подда¬
ющийся интерпретации. Таким материалом служат формы игрового поведения
или вербальных проявлений.
Для побуждения ребенка к продукции такого материала игровому терапевту
необходимо предоставить ребенку определенные принадлежности для игры. Они
отбираются на основе своего символического содержания и на основе их соответ¬
ствия тому типу конфликта, который, по мнению аналитика, переживает ребенок.
Так как терапевту не нужно, чтобы материал его пациента «загрязнялся» внешним
содержанием, запасы игровой комнаты ограничены, и многие аспекты взаимодей¬
ствия ребенка с терапевтом требуют контроля и сдерживания. Сессии должны
быть очень предсказуемыми, так же как и поведение терапевта. Ребенок не обязан
встречаться с большим количеством предметов, используемых в игровой комнате
другими детьми, или вступать в контакт с терапевтом. А терапевту следует сооб-
Глава 2. Теории игровой терапии 41
щать ребенку минимальное количество личной информации о себе. Создав атмо¬
сферу, в которой ребенку предоставлена свобода проявлять свои внутренние кон¬
фликты, аналитик продолжает исполнять роль наблюдателя и интерпретатора.
Эриксон (Erikson, 1940) описывает три шага формулирования интерпретации.
Во-первых, терапевт наблюдает детскую игру и обдумывает ее, что приводит его к
различным «намекам на интерпретацию». Например, игра ребенка может метафо¬
рически отражать избегаемого человека, объект или мысль либо может представ¬
лять усилия ребенка по психологической переработке переживаемой или ожида¬
емой опасности. На втором этапе аналитик, продолжая наблюдать за действиями
ребенка, может выявить динамическую структуру его внутренней либо внешней
истории. И наконец, он предлагает терапевтическую интерпретацию, сообщаю¬
щую в должное время результаты своих разработок ребенку.
В традиционном психоанализе интерпретации являются основным инструмен¬
том терапевтического изменения, которые обычно осуществляются упорядочен¬
но и систематически (Harley & Sabot, 1980). Обычно защиты интерпретируются
прежде, чем драйвы, а поверхностный материал прежде, чем глубинный, бессо¬
знательный материал. Для увеличения вероятности того, что ребенок поймет и
примет интерпретацию, то есть для наиболее эффективного ее использования,
аналитику следует готовить своего клиента, высказывая комментарии, которые бы
показывали ребенку, что его действия неоднозначны. Аналитик также должен
связывать защиты с тем бессознательным материалом, против которого они по¬
ставлены. Делясь этим знанием с пациентом, терапевт помогает ему участвовать
в аналитическом процессе и делает патологическую конфигурацию психических
структур менее эго-синтонной1 (Kramer & Byerly, 1978).
Термины эго-синтонный и эго-дистонный обозначают степень, в которой эго
приемлет мысли, чувства или связанное с ними поведение. Когда эго принимает
импульс или мысль и не испытывает по этому поводу тревоги, то этот импульс или
эту мысль называют эго-синтонными. Когда эго негативно оценивает мысль или
импульс и испытывает при этом тревогу, от которой старается защититься, им¬
пульс или мысль становятся эго-дистонными (Sutherland, 1989).
Продолжаются споры относительно того, что именно должен интерпрети¬
ровать детский аналитик. Благодаря традиционным основам детского психоана¬
лиза, большее внимание принято уделять вербальному материалу. Анна Фрейд
(A. Freud, 1928) полагала, что аналитику необходимо использовать детскую игру
как способ развития терапевтического альянса с ребенком; однако как только аль¬
янс сформирован, он должен переместить свое внимание на вербальные проявле¬
ния. Несомненно, высказывания ребенка по поводу реальных или воображаемых
событий, мыслей и чувств интерпретировать проще. Подобным образом, поведе¬
ние ребенка может поддаваться интерпретации как на сессии, так и вне ее.
1 Терапевт, предоставляя интерпретацию, способствует тому, что эго ребенка перестает безоговороч¬
но принимать искаженный характер структуры своей психики и двигается к отказу от идентифика¬
ции с ним. Синтонный и дистонный — термины психоанализа. Эго-синтонный — приемлемый эго;
эго-дистонный — неприемлемый эго. — Примеч. пер.
42 Часть I. Введение
Окончание лечения
Психоаналитик работает с ребенком в игровой терапии в течение долгого време¬
ни, часто с ним встречаясь. Окончанием лечения считается момент, когда ребенок
достигает значительного понимания своих конфликтов, чтобы быть в состоянии
лучше справляться с ними в реальности. Это происходит, когда функционирова¬
ние эго приходит к уровню, соответствующему его развитию, и поддерживается в
этом состоянии достаточно долго, чтобы обеспечить возможность некоторых по¬
веденческих изменений. Окончание лечения предполагает обзор тех изменений,
которые ребенок совершил за время терапии, с акцентом на его способности со¬
хранять эти изменения без помощи терапевта.
Для получения дополнительной информации по психоаналитической детской
психотерапии читатель может обратиться к следующей литературе.
Lee, А. (1997). Psychoanalytic play therapy. In К. O’Connor & L. Braverman (Eds.) Play thera¬
py theory and practice: A comparative presentation. New York: Wiley, p. 46-78.
O’Connor, K., Ewart, K., &: Wollheim, I. (in press). Psychodynamic psychotherapy with chil¬
dren. In V. VanHasselt and M. Hersen (Eds.), Advanced abnormal psychology. New York:
Plenum.
O’Connor, K., Lee, A., & Schaefer, C. (1983). Psychoanalytic psychotherapy with children. In
M. Hersen, A. Kazdin, & A. Bellack (Eds.), The clinical psychology handbook. Elmsford, NY:
Pergamon Press, p. 543-564.
O’Connor, K. & Lee, A. (1991). Advances in psychoanalytic psychotherapy with children. In
M. Hersen, A. Kazdin, & A. Bellack (Eds.), The clinical psychology handbook. Elmsford, NY:
Pergamon Press, p. 580-595.
O’Connor, K., & Wolheim, I. (1994). Psychodynamic psychotherapy with children. In V. Van¬
Hasselt & M. Hersen (Eds.), Advanced abnormal psychology. New York: Plenum, p. 403-417.
Гуманистическое направление
Теория
Терапевтические воздействия, вольно собранные под заголовком «гуманистиче¬
ская игровая терапия», не имеют под собой такой объемной теории личности, как
психоаналитическая. Роджерс (Rogers, 1951, 1959, 1961) разработал гуманисти¬
ческий подход как ответ некоторым негативистским аспектам психоанализа. В част¬
ности, Фрейд ввел сложное понятие Танатос, или инстинкт смерти, подразумева¬
ющее, что люди таят в себе побуждение к опасности и хаосу, которое необходимо
постоянно удерживать под контролем, чтобы оно не привело к уничтожению ин¬
дивида или даже всего социума. Роджерс описал альтернативную модель, осно¬
ванную на его убеждении, что первичной мотивацией человека является самоак¬
туализация, или потребность поддерживать и усиливать рост и развитие.
Роджерс, подобно психоаналитикам, постулировал существование различных
аспектов внутреннего функционирования индивида, хотя и не эквивалентных
психическим структурам Фрейда. «Организм — фокус всего опыта (<experience) ин¬
дивида, как соматического, так и психологического. Опыт определяется как все,
на что реагирует организм в любой момент времени» (Johnson et al., 1986, р. 124).
Позднее организм стали понимать как персону (person), или комбинацию физи-
Глава 2. Теории игровой терапии 43
ческой сущности ребенка, а также его поведения, мыслей и чувств (Landreth,
1991). Акцент на опыте также был связан с «феноменологической сферой» ребен¬
ка, как сознательной, так и бессознательной, и либо внешней, либо внутренней.
Из опыта вырастает чувство личности, включающей в себя персону и феноменаль¬
ную сферу (Landreth, 1991; Rogers, 1951). «Оптимального развития личность до¬
стигает, когда свойственной организму тяге к самоактуализации не очень сильно
мешают события, принуждающие индивида отказываться от своих мыслей, чувств
и эмоций» (Johnson et al., 1986, р. 126).
Патология
В рамках гуманистической модели причиной детской психопатологии считается
«токсичность» (toxicity) окружающей среды. Если среда адекватно отвечает по¬
требностям ребенка, он может стремиться к самоактуализации и не выдает симп¬
томатического поведения. И наоборот, «токсичная» среда заставляет ребенка от¬
казываться от чего-то в себе, потому что его опыт сказал ему, что это неправильно,
и поэтому он принимает ценности других людей и закладывает начало внутрен¬
него конфликта. Патология — это результат социально обусловленной низкой само¬
оценки и невысокого принятия себя (Axline, 1947). Источник проблемы находит¬
ся внутри ребенка лишь настолько, насколько окружающая среда инициировала
его негативные реакции. К счастью, эта мысль не дошла до своего крайнего про¬
явления в предположении о том, что существует только одна хорошая среда. Ре¬
бенок может родиться с такими характеристиками, которые для оптимального
развития требуют некоей окружающей среды, отличной от среды его сверстников.
Например, ребенок с отставанием в развитии может постепенно адаптироваться,
если с самого начала поместить его в среду, структурированную таким образом,
что ребенок, обладающий средними способностями, чувствовал бы себя в ней стес¬
ненным. Эта модель возлагает всю ответственность за создание адекватной по¬
требностям ребенка среды на взрослых, находящихся в его жизни. Этот подход,
предложенный Роджерсом, для работы с детьми был адаптирован Экслайн (Ax¬
line, 1947) и детально разработан Мустакасом (Moustakas, 1959).
Цель лечения/терапии
Поскольку какая-либо патология считается результатом воздействия «токсич¬
ной» среды, цель лечения — позволить ребенку самоактуализироваться и, следо¬
вательно, более адаптивно вести себя посредством создания оптимальных усло¬
вий в рамках игровых терапевтических сессий. Терапевт должен обеспечивать
среду с позитивным подкреплением, снижающую конфликт между личностью ре¬
бенка и его окружением, что в свою очередь облегчает самоактуализацию. Этот
подвиг терапевт совершает, используя следующие приемы: 1) эмпатийное реаги¬
рование, проявляющееся в вербальном отражении (озвучивании) терапевтом по¬
ведения ребенка и его эмоций на всем протяжении их встреч; 2) структурирова¬
ние среды для ребенка, установление необходимых границ, особенно в ходе первой
сессии; 3) предоставление ребенку личной информации о себе в случаях, когда это
может позволить ребенку улучшить взаимоотношения; 4) поддержание взаимо¬
действия с ребенком вербально или посредством игры.
44 Часть I. Введение
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов, подходящих
для гуманистической игровой терапии
Поскольку в гуманистической игровой терапии основное значение придается при¬
сутствию ребенка в среде игровой комнаты, количество клиентов, подходящих для
данного вида терапии, гораздо больше, чем, например, клиенты, подходящие для
психоаналитической терапии. Этот подход можно применять к детям практиче¬
ски любого уровня развития, потому что терапевтическая среда должна устанав¬
ливаться так, чтобы соответствовать потребностям каждого ребенка. Также гума¬
нистический подход можно применять в работе с детьми, демонстрирующими
разнообразные психопатологические симптомы, так как опять же терапевтическая
среда может быть модифицирована специально под них. Более того, так как по¬
добная терапия считается очень мягкой, возникает меньше ятрогенных эффектов1,
и поэтому возникает меньше проблем при лечении большого количества детей.
Таким образом, даже нормальным здоровым детям не повредит посещение сессий
гуманистической игровой терапии, и более того, многое пойдет им на пользу. Од¬
нако гуманистическая терапия обычно не рекомендуется для работы с очень аг¬
рессивными детьми или с детьми, склонными к отреагированию. Жесткая систе¬
ма и ограничения, которые требуются таким детям, несовместимы с философией
данного подхода.
Подготовка игровых психотерапевтов гуманистической направленности
Так как гуманистическая игровая терапия технически менее сложна, чем психо¬
аналитическая, терапевтам, желающим работать в этом направлении, обычно не
требуется значительной подготовки, обязательной для детских аналитиков. Не¬
которые институты проводят обучение в определенных направлениях гуманисти¬
ческой игровой терапии: на самом деле эта модель терапевтического вмешатель¬
ства проходит через всю академическую или клиническую подготовку многих
игроьых терапевтов, практикующих сейчас в Соединенных Штатах. К сожалению,
результаты исследования, подтверждающего эффективность игровой терапии, до¬
статочно спорны, и в основном эти данные доказывают эффективность обучения
непрофессионалов, особенно родителей, проведению занятий с ребенком (Land-
reth & Sweeney, 1997).
Роль гуманистического игрового терапевта в терапевтической сессии
Основная роль гуманистического игрового терапевта заключается в поддержании
атмосферы доверия, способствующей росту и развитию ребенка. Это осуществля¬
ется при помощи основных правил игровой техники Экслайн, которые приведе¬
ны здесь, поскольку они широко известны как «жизненное кредо» данного под¬
хода.
1. Терапевт развивает теплые, дружеские отношения с ребенком. Контакт с ре¬
бенком следует устанавливать как можно быстрее.
1 Ятрогенные эффекты — неблагоприятные эффекты, вызванные методами и условиями лечения. —
Примеч. пер.
Глава 2. Теории игровой терапии 45
2. Терапевт полностью принимает ребенка таким, какой он есть.
3. Терапевт создает условия дозволенности в отношениях, так чтобы ребенок
ощущал себя свободным в полном выражении своих чувств.
4. Терапевт готов осознавать чувства, выражаемые ребенком, и отражать их
так, чтобы ребенок достигал инсайта, понимал свое поведение.
5. Терапевт сохраняет глубокое уважение к способности ребенка решать свои
собственные проблемы, если ему предоставляется такая возможность. От¬
ветственность за выбор и за проведение изменений лежит на ребенке.
6. Терапевт никоим образом не пытается направлять действия ребенка или его
речь. Ребенок — ведущий, терапевт следует за ним.
7. Терапевт не пытается ускорить ход лечения. Это постепенный процесс, и те¬
рапевт должен осознавать это.
8. Терапевт устанавливает только те ограничения, которые необходимы для
закрепления эффектов терапии в реальной жизни и для того, чтобы ребенок
осознал меру своей ответственности в их отношениях (Axline, 1947, р. 73-
74).
В своей книге Play Therapy: The Art of Relationship Ландрет подчеркивает важ¬
ность трех моделей поведения терапевта, каждая из которых ускоряет развитие
отношений «ребенок—терапевт». Первая из них — «реалистичность», являющая¬
ся результатом понимания и принятия себя терапевтом и способности включать¬
ся в искренние отношения с ребенком. Вторая модель поведения предполагает, что
терапевт должен уметь излучать тепло, заботу и принятие. И наконец, в третьей
модели терапевт должен уметь передавать ребенку чувство понимания, то есть
обладать способностью связываться с феноменальным миром ребенка. Ландрет
(Landreth, 1991) выделяет следующие цели отношений «ребенок—терапевт».
1. Установление атмосферы безопасности.
2. Понимание и принятие феноменального мира ребенка.
3. Поощрение эмоциональных проявлений ребенка.
4. Введение ощущения дозволенности.
5. Помощь ребенку в принятии решений.
6. Предоставление ребенку возможности принимать на себя ответственность
и чувствовать себя хозяином ситуации.
Роль игры в гуманистической игровой терапии
В гуманистической игровой терапии игра рассматривается как посредник для со¬
здания отношений терапевта с ребенком. Кроме того, игра служит источником ин¬
формации, так как сообщает терапевту о внутреннем состоянии ребенка, которое
можно отразить. Также игра может служить средством коммуникации, потому что
терапевт может включаться в игру вместе с ребенком. Для нормального развития
ребенка важны и другие различные функции игры, в общих чертах упомянутые в
главе 1.
46 Часть I. Введение
Исцеляющие элементы гуманистической игровой терапии
Предполагается, что исцеляющими элементами гуманистической игровой тера¬
пии служат отношения, развивающиеся между ребенком и терапевтом, инсайт, до¬
стигаемый ребенком через отражение его поведения терапевтом, и освобождение
стремления ребенка к самоактуализации, происходящее в условиях здоровой
среды терапевтических сессий. Изменения в результате гуманистической терапии
основаны на эмоциональных, а не на когнитивных процессах (Shirk & Russel,
1996). Так как патология — это результат блокированных эмоций, безусловное
принятие ребенка создает условия, в которых его эмоции могут переживаться и
выражаться и, таким образом, становятся приемлемой частью личности (Rogers,
1942). Терапевт создает среду, позволяющую ребенку играть и удовлетворять свои
биологические, личностные и межличностные потребности такими способами,
которые не требуют отказа от собственной личности.
Курс лечения
Диагностика
Поскольку гуманистическая игровая терапия не имеет под собой структурирован¬
ной теории личности, терапевту перед началом лечения требуется меньше инфор¬
мации о структуре и конфликтах личности ребенка, чем это необходимо детскому
аналитику. Однако игровому терапевту гуманистической ориентации, так же как
и психоаналитику, необходимы знания о настоящем уровне развития ребенка, по¬
тому что эта информация существенна для разработки оптимальной игровой те¬
рапевтической среды. Терапевт-«гуманист» больше, чем терапевт-психоаналитик,
нуждается в сведениях о жизни ребенка и об особенностях его межличностных
отношений в настоящий момент. Например, большую ценность имеют сведения о
том, с кем у ребенка сейчас установлены позитивные отношения и в каких усло¬
виях они развиваются, а также подобные сведения о прошлых контактах.
Лечение
Гуманистическая игровая терапия заключается в том, что ребенок регулярно и
последовательно помещается в здоровую среду игровой комнаты, в атмосферу
теплоты и принятия, создаваемую терапевтом. Очень важно, что терапевт исполь¬
зует отражение, а не интерпретацию. При отражении терапевт проявляет свое вни¬
мание к игре, словам, мыслям и чувствам ребенка. Отражения обычно не так слож¬
ны, как интерпретации, потому что их цель — не осознание ребенком источников
собственных проблем, а фокусировка его внимания на процессе взаимодействия
с терапевтом.
Окончание лечения
Как и психоаналитик, гуманистический игровой терапевт считает целесообраз¬
ным завершить лечение, как только ребенок может оптимально функционировать
в соответствии с уровнем своего развития. Критерием необходимости завершения
терапии является не инсайт, а способность сохранять позитивные поведенческие
изменения за пределами игровой комнаты.
Глава 2. Теории игровой терапии 4 7
Поведенческое направление
Перед публикацией первой редакции этой книги существовало немного примеров
прямого приложения бихевиоральной теории к практике игровой терапии (Le-
land, 1983). За прошедшие с тех пор годы Сьюзен Кнелл (Knell, 1993,1994,1997,
1998) выполнила превосходную работу по развитию когнитивно-поведенческой
игровой терапии (КПИТ). Ее модель не только заключает в себе самые последние
мысли о когнитивном посредничестве поведения, но и делает необходимый акцент
на развитии ребенка.
Теория
Понятие «личность» противоречит самой природе моделей, созданных ранними
и более радикальными бихевиористскими теориями. В рамках этих моделей счи¬
талось, что индивиды не обладают устойчивыми внутренними характеристиками;
они просто реагируют на стимулы, предъявляемые им в различных ситуациях.
Постепенно некоторые бихевиористы перешли к модели, до некоторой степени
допускающей существование личности, а именно признали, что существуют внут¬
ренние процессы, суть которых неизвестна, то есть некий «черный ящик». Основное
течение бихевиоризма объединилось с когнитивной психологией, что позволило
признать мышление интегральной частью поведения человека и, следовательно,
признать существование более сложных индивидуальных паттернов поведения.
Когнитивно-поведенческая модель рассматривает взаимодействия когнитивной,
эмоциональной, поведенческой и физиологической сфер индивида и среды, в ко¬
торой он находится (Beck, 1967,1972,1976; Beck & Emery, 1985). Далее, в когни¬
тивно-поведенческом направлении важным фактором, опосредующим поведение
ребенка, считается язык (Knell, 1997). Тем не менее традиционные теоретики би¬
хевиоризма все еще не включают в свои модели что-либо, эквивалентное теориям
личности, разработанным в других направлениях психологии.
Самые первые поведенческие теории, в которых рассматривался вопрос о при¬
обретении ребенком адаптивных и неадаптивных моделей поведения — это клас¬
сическая теория условного рефлекса, теория оперантного научения и теория со¬
циального научения.
При классическом обусловливании (выработке условного рефлекса) ранее нейтраль¬
ный стимул постепенно начинает вызывать независимые, или рефлекторные реакции...
Уотсон и Райнор (Watson & Raynor, 1920) представили одни из самых ранних иллюс¬
траций респондентного (классического) обусловливания у человека, выработав услов¬
ную эмоциональную реакцию (а именно — страх) у одиннадцатимесячного ребенка,
Альберта. Сначала они продемонстрировали, что Альберт не испытывает никакого
страха по отношению к мягким игрушкам, таким как белая крыса. Когда в присутствии
Альберта экспериментаторы производили резкий громкий шум (безусловный стимул),
ребенок демонстрировал реакцию испуга, начинал плакать и дрожать (безусловная ре¬
акция). Если громкий звук раздавался в то время, когда ребенок тянулся к белой кры¬
се, то он начинал реагировать на игрушку точно таким же страхом. После этих действий
стимул, бывший ранее нейтральным (белая крыса), стал условным стимулом, способ¬
ным вызывать у ребенка страх (условную реакцию) (Johnson et al., 1986, р. 147).
48 Часть /. Введение
Оперантное обусловливание (Patterson, 1971; Skinner, 1972,1974) обозначает
процесс приобретения новых моделей поведения, происходящий благодаря услов¬
ному позитивному либо негативному подкреплению. Если некий поведенческий
акт сопровождается позитивным подкреплением, человек начинает чаще повто¬
рять его, даже если подкрепление не связано с причиной исходного поведения.
Если родитель, отправляющий своего ребенка спать каждый день в одно и то же
время, несколько дней подряд приходит к нему сразу после того, как тот закаты¬
вает истерику или начинает беситься, и если этот родитель очень заботлив и все¬
гда успокаивает ребенка, вскоре он может обнаружить, что частота эмоциональ¬
ных вспышек ребенка увеличивается и в течение дня, и ко времени его прихода.
Подобным же образом негативные последствия снижают частоту проявлений
повлекшего их поведения, независимо от того, связаны ли они с его причиной.
Теория социального научения (Bandura, 1977; Rotter, 1954) признает значение
классического и оперантного обусловливания, но добавляет в список факторов,
влияющих на приобретение моделей поведения, еще и когнитивные процессы.
Основная заслуга теории социального научения — осознание того факта, что че¬
ловеку вовсе нет необходимости непосредственно включаться в поведение, чтобы
закрепить или удалить его из своего репертуара. На самом деле, большая часть по¬
вседневного поведения ребенка приобретается им через наблюдение за другими
людьми, а не через свой непосредственный опыт. Возрастание важности когнитив¬
ных процессов, провозглашенное теоретиками социального обучения, привело в
свою очередь к развитию когнитивно-поведенческих методов терапевтического
воздействия, в которых поведение, которому необходимо научить ребенка, даже
не моделируется, а скорее предъявляется ему в форме урока или инструктажа.
Патология
При условии, что бихевиоральная теория не включает в себя специфического по¬
нятия интернализованной личности, патология в ней не определяется как нару¬
шение внутренних процессов, как в психоанализе. Более того, патология даже не
считается нарушением среды индивида, как в гуманистической психологии. Па¬
тология появляется как следствие искаженных моделей подкрепления. Все виды
подкрепления и стиль их предъявления в течение тех лет человека, когда он пол¬
ностью зависит от других, контролируются этими другими людьми. Поэтому па¬
тологию создает именно взаимодействие между ребенком и тем, кто поощряет и
наказывает его, а также задает ему искаженную модель поведения. Как и во всех
теориях, представленных до сих пор в этой книге, ответственность за исправле¬
ние неадаптивного поведения не возлагается на самого ребенка; скорее, чтобы спо¬
собствовать улучшению поведения ребенка, окружающие его люди должны на¬
учиться модифицировать стимулы, которые они ему предъявляют, и реакции,
которые они выдают в ответ на его действия.
Некоторые представители когнитивно-поведенческого направления обратили
внимание на то, как феномены поведения отражаются в сознании и в языке, и на
проблемы, связанные с недостатками этого отражения (Knell, 1997). В этой тео¬
ретической модели иррациональные мысли (установки) продуцируют наруше-
Глава 2. Теории игровой терапии 49
ния эмоций и поведения человека (Beck, 1976; Knell, 1997). Далее эта модель при¬
няла феноменологический тон в той внешней реальности (система актуального
подкрепления), которая перестала считаться первоочередной (Knell, 1997). Ско¬
рее критически важным является именно субъективное восприятие этих событий
(Beck, 1967,1972,1976). Таким образом, к основным постулатам когнитивной по¬
веденческой игровой терапии относятся следующие положения: 1) мысли воздей¬
ствуют на эмоции и поведение человека в ответ на произошедшие события; 2) вос¬
приятие и интерпретации произошедших событий формируются убеждениями и
ожиданиями индивида; 3) логические ошибки и нарушения сознания преоблада¬
ют у людей, испытывающих психологические проблемы (Beck, 1976; Knell, 1997).
Специфические типы когнитивного отражения поведения выделялись многими
авторами. Вербальное отражение (Meichenbaum, 1977) — это способность прого¬
варивать свое состояние и поведение в течение всего времени, когда происходит
событие. Она обычно успокаивает импульсивное поведение и позволяет человеку
приложить вербальные знания к ситуации (например, я выучил в школе Правило
Икс и знаю, что сейчас я именно в той ситуации, когда мне следует его применить).
Такой вид отражения (опосредования) поведения, как разрешение социальных
проблем (Shure & Spivak, 1978; Spivak, Platt, & Shure, 1976; Spivak & Shure, 1982),
говорит сам за себя, и он важен в регулировании всех межличностных взаимодей¬
ствий. И наконец, навыки принятия точки зрения другого человека (Chandler,
1973; Chandler, Greenspan, & Barenboim, 1974) — это способность понимать мыс¬
ли, чувства и поведение окружающих и использовать эту информацию для улуч¬
шения взаимодействий.
Самые последние разработки в области когнитивной поведенческой психоло¬
гии провели связь между межличностной схемой человека и его социальными и
эмоциональными проблемами. Попросту говоря, межличностная схема — это не¬
кий создаваемый у человека когнитивный шаблон для понимания межличност¬
ных взаимодействий. Эта схема строится из прошлого опыта человека и из его
понимания этого опыта. Самая важная и мощная схема развивается как результат
взаимоотношений ребенка и его первичного объекта (матери или первого челове¬
ка, который о нем заботится). Таким образом, в когнитивной поведенческой тео¬
рии возникает ссылка на понятие привязанности, центральное для психодина¬
мического понимания детского развития и психопатологии. Шерк (Shirk, 1998)
представляет три модели, при помощи которых объясняется возникновение про¬
блем через когнитивную схему.
1. Преимущественная процессуальная модель (preemptive processing model), то
есть активирование схемы, подрывающей процесс эффективной обработки
информации.
2. Модель переключающейся схемы, где активированная схема возбуждает
ассоциативные эмоции, отдаленные от первоначального взаимодействия.
3. Модель поведенческого взрыва, когда межличностная схема увеличивает
вероятность проявления специфических стратегий межличностного или эмо¬
ционального урегулирования (Shirk, 1998).
50 Часть!. Введение
Цель лечения/терапии
Цель поведенческой игровой терапии — выявить те паттерны подкрепления, по¬
следствий и когнитивных установок, которые формируют и поддерживают несоот¬
ветствующее уровню развития ребенка поведение, и затем изменить их. В КПИТ
целью является нахождение и коррекция проблемной межличностной схемы ре¬
бенка, а также помощь ребенку в лучшем применении вербальных и когнитивных
стратегий отражения (опосредования поведения).
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов,
подходящих для поведенческой игровой терапии
Как и в случае с гуманистической игровой терапией, поведенческая игровая тера¬
пия может успешно применяться в работе с клиентами различного уровня разви¬
тия и с клиентами, проявляющими широкое разнообразие видов неадаптивного
поведения. Кнелл (Knell, 1998) отмечает, что КПИТ чувствительна к уровню раз¬
вития ребенка и наилучшим образом подходит, видимо, для детей в возрасте от
двух с половиной до шести лет. Далее Кнелл выдвигает предположение, что этот
подход наиболее эффективен для детей с проблемами контроля, детей, с которы¬
ми жестоко обращались, а также для тревожных и депрессивных детей.
Подготовка психотерапевтов для проведения КПИТ
В отличие от других упомянутых до сих пор терапевтических моделей, поведен¬
ческая игровая терапия может разделяться на две фазы: стадию разработки и ста¬
дию осуществления. Разработка эффективных методов воздействия на поведение
требует серьезных знаний, особенно в области оперантного обусловливания. Со¬
лидную подготовку для такой работы можно получить, пройдя узкоспециализи¬
рованный курс колледжа по данной теме, но все же рекомендуется достичь по
меньшей мере степени магистра. Осуществление поведенческой игровой тера¬
пии — это другой вопрос, потому что разработанные процедуры очень конкретно
направлены, и для обеспечения их эффективности терапевту необходимо наблю¬
дать за тем, проявляет или не проявляет ребенок специфическое поведение, и за¬
тем применять специфические вознаграждения или последствия. Сложные вер¬
бальные взаимодействия и интерпретации не являются существенной частью
этого процесса, и именно из-за этого многие неспециалисты, в том числе учащие¬
ся средних школ, прошли успешное обучение применению поведенческих мето¬
дов за сравнительно короткие тренинговые занятия. Чем более сложна техника,
тем лучшая подготовка требуется для овладения ею.
Роль поведенческого игрового терапевта в терапевтической сессии
Роль поведенческого игрового терапевта — наблюдать за наличием или отсутстви¬
ем специфического поведения ребенка и затем распределить вознаграждения или
последствия. Терапевту может понадобиться (а может и не понадобится) вербаль¬
но отражать процесс по мере его развития. Обычно выдвижение словесных утверж¬
дений, обозначающих целевое поведение, и связывание их с последующими воз-
Глава 2, Теории игровой терапии 51
награждениями или последствиями ускоряют процесс изменений и улучшают
обобщение поведения.
Роль игры в поведенческой игровой терапии
Игра является простым посредником, в ходе игры можно вводить подкрепление
и манипулировать с ним. Большинство современных бихевиоральных терапевтов
осознают, что существование позитивных отношений между ребенком и терапев¬
том усиливает потенциал осуществляемого ими подкрепления, и игра рассматри¬
вается как средство создания таких отношений. Сама игра не наделяется особыми
оздоровительными качествами; это лишь способ вовлечения ребенка в поведение,
которое затем подкрепляется. С другой стороны, в КПИТ подчеркивается, что
«игра — идеальная ситуация для разрыва связи (ассоциации) между стимулом и
неадаптивной реакцией на него» (Knell, 1998).
Исцеляющие элементы поведенческой игровой терапии
Именно предъявление ребенку позитивных и негативных последствий становит¬
ся первичным источником изменений его поведения. В более когнитивно-ориен¬
тированных видах поведенческой терапии акцент делается на той роли, которую
может сыграть в этих изменениях коррекция установок и убеждений ребенка.
К тому же, скорее всего, такая терапия требует большей работы вне игровой ком¬
наты, чем гуманистическое или психоаналитическое лечение. Родителей, опекунов
или учителей ребенка можно попросить начать собирать данные, осуществлять
подкрепления, избавляться от того или иного своего поведения. Можно также ска¬
зать, что эта терапия, по сути, создает для ребенка отношения, в которых обеспе¬
чивается позитивное подкрепление практически всех его конструктивных взаи¬
модействий с терапевтом и окружающей средой.
Курс лечения
Диагностика
Диагностика, предшествующая началу поведенческой игровой терапии, не направ¬
лена на выявление внутренней деятельности ребенка и особенностей его межлич¬
ностных взаимоотношений; в ее фокусе находится специфическое проблемное
поведение (обычно определяемое кем-то из окружающих ребенка людей) и/или
успешное поведение, а также те факторы, которые способствуют или препятству¬
ют осуществлению этих видов поведения. Составляется детальный список всего
того, что для данного ребенка может служить вознаграждением и наказанием. Би-
хевиоральному игровому терапевту также могут понадобиться некоторые отчеты
о поведении ребенка, показывающие, с какой частотой и интенсивностью прояв¬
ляется его проблемное поведение.
Лечение
Если ребенку назначено индивидуальное лечение, то оно заключается в том, что
его приводят в игровую комнату, где игровой терапевт, манипулируя схемами под¬
крепления, может вызывать изменения поведения своего пациента. Инсайт здесь
не цель, но осознанное понимание ребенком процесса своего поведения, подкреп-
52 Часть I. Введение
ляемого различными способами, значительно способствуют приобретению, под¬
держанию и генерализации желаемых поведенческих изменений.
Были разработаны различные методы, базирующиеся на основе каждой из об¬
суждавшихся выше теорий научения. Концепция классического обусловливания
привела к развитию систематических процедур по десенсибилизации, в которых
ребенку постепенно предъявляется вызывающий тревожность стимул, а его услов¬
ный рефлекс тревоги блокируется при помощи использования техник релаксации.
Теория оперантного научения дала толчок повсеместному использованию всех
типов стратегий условного подкрепления, а также систематическому применению
исключения, наказания и негативного подкрепления.
Программа исключения удаляет позитивное подкрепление, поддерживающее
некое поведение, таким образом способствуя постепенному отказу от него. Нака¬
зание — это применение неприятного для ребенка последствия каждый раз, когда
он проявляет нежелательное поведение, что вызывает снижение частоты его про¬
явления. Есть строгая рекомендация, чтобы ни процедуры исключения, ни при¬
менение наказания не осуществлялись изолированно; они должны сочетаться с
программами позитивного подкрепления поведения, противоположного тому
поведению, от которого мы хотим избавиться. Негативное подкрепление, вероят¬
но, один из наиболее неправильно используемых в обществе терминов бихевио-
ральной психологии. Часто под ним подразумевают наказание или неприятные
последствия, с которыми ребенок сталкивается в результате некоего поведения.
Бытует предположение, что эта негативная реакция каким-то образом становит¬
ся для него позитивным подкреплением. На самом же деле о негативном подкреп¬
лении можно говорить в ситуациях, когда неприятные стимулы устраняются вся¬
кий раз, как только ребенок начинает демонстрировать целевое (вырабатываемое)
поведение. Например, кто-то из родителей может начинать кричать на ребенка,
сидящего у телевизора, призывая его идти и принять ванну. Если родитель про¬
должает кричать до тех пор, пока ребенок не направляется в сторону ванной ком¬
наты, и прекращает крик, как только ребенок входит в нее, то это пример негатив¬
ного подкрепления.
Теория социального научения положила начало развитию разнообразных про¬
цедур моделирования, в которых или взрослые, или сверстники ребенка выступа¬
ют как модели поведения. На практике КП ИТ почти всегда содержит элемент
моделирования. По мере прогресса терапии, терапевт — модель — разрабатывает
все более адаптивные модели поведения и стили мышления и представляет их
ребенку так, чтобы он мог их понять, это побуждает ребенка приступать к вклю¬
чению их в свой собственный поведенческий репертуар (Knell, 1998). Последова¬
тельная постановка акцента на сознательные компоненты в бихевиоризме вызва¬
ла к жизни ряд когнитивно-поведенческих терапевтических подходов. Среди
них — программы самообучения (Meichenbaum & Goodman, 1971) и программы
обучения разрешению межличностных проблем (Spivak & Shure, 1982).
Окончание лечения
Прерывание терапии логично, когда у пациента произошло исчезновение или зна¬
чительное снижение проявлений целевого негативного поведения, а также увели-
Глава 2. Теории игровой терапии 53
чилось количество демонстраций желаемого поведения, происходящих и за пре¬
делами игровой комнаты.
Развивающая игровая терапия
Несколько различных видов игровой терапии сегодня можно объединить под об-
щим названием развивающей игровой терапии.
Теория
Броди (Brody, 1978) разработала технику, названную ею «развивающей игровой
терапией» {Developmental Play Therapy — Brody, 1992,1997), в которой основное
место занимало использование физического контакта и структурированных сес¬
сий. Основываясь на ее работе и на более ранней работе Де Лорье (Des Lauriers,
1962), Джернберг (Jernberg, 1979) создала одну из наиболее краткосрочных тео¬
ретических и методических моделей ориентированной на развитие игровой те¬
рапии — «играпию» (Theraplay®). Эта техника базируется на мнении, что нор¬
мальные отношения родителя и ребенка в первые несколько лет его жизни
существенны для закладывания основы будущего психического здоровья ребен¬
ка и что эти типы взаимоотношений могут вводиться позже в жизнь ребенка с те¬
ми же самыми оздоравливающими эффектами.
Джернберг заметила, что здоровые отношения родителя и ребенка имеют две
функции. Во-первых, эти взаимоотношения поддерживают ребенка на оптималь¬
ном уровне возбуждения, а во-вторых, как следствие этого, данные действия обес¬
печивают развитие ребенка. Степень ответственности родителя за уровень воз¬
буждения ребенка увеличивается по мере его роста и развития и критически
падает после того, как ребенок достигает индивидуации в возрасте около трех лет.
В течение всего этого периода жизни ребенка его потребность во внешнем конт¬
роле над его уровнем возбуждения будет значительно варьироваться, в зависимо¬
сти от ситуаций, в которые он попадает. Например, в случае серьезной травмы и
дети и взрослые склонны к перевозбуждению до такой степени, что теряют спо¬
собность заботиться о себе. Они могут бесцельно шататься туда-сюда или непо¬
движно сидеть на одном месте. Независимо от того, способны ли они выражать
свои специфические потребности в этом состоянии, они находятся в реальной
опасности, если кто-нибудь не вмешивается и не начинает заботиться о них. Ко¬
гда кризис остается позади, пострадавший, с большой вероятностью, возвращается
к уровню своего обычного функционирования, и окружающие после этого снижа¬
ют количество проявлений своей заботы. Это тонкая игра, в которой потребности
родителя и ребенка должны постоянно переоцениваться, а их взаимодействия по¬
стоянно пересматриваться.
Взаимодействия родителя/опекуна и ребенка
Джернберг (Jernberg, 1979) выделила четыре категории ранних отношений роди¬
теля/опекуна и ребенка: структурирование, вызов, вовлечение, воспитание и уход.
Структурирующая деятельность. Это такие модели поведения, реализуемые ро¬
дителем, которые неким образом расставляют для ребенка границы, снижающие
54 Часть I. Введение
уровень его возбуждения. Структурирование учит ребенка тому, что родители
надежны и предсказуемы в том, что они помогают ребенку определить и прояс¬
нить его опыт (Jernberg & Booth, 1999). В течение периода младенчества родитель
должен постоянно структурировать мир ребенка, зачастую просто для того, что¬
бы обезопасить его. Например, родитель кладет ребенка спать в колыбель; пере¬
возит его в автомобиле в специальном защищенном сиденье; купает в маленькой,
неглубокой ванночке и т. д. Все эти действия представляют собой необходимое
структурирование окружающей ребенка среды для предотвращения случайных
травм и повреждений.
По мере того как ребенок становится старше, количество и интенсивность
структурирующих действий родителей уменьшаются. Когда ребенок научается
ходить, родитель повышает безопасность своего дома, приделывая шпингалеты на
шкафы, содержащие опасные предметы, и ставя пластиковые заглушки на элект¬
рические розетки. Кроме того, родитель сохраняет постоянную бдительность, что¬
бы тоддлер (полуторагодовалый ребенок) или дошкольник не оказались на улице
без присмотра. Когда ребенок достигает дошкольного возраста, родитель следит
затем, чтобы он вовремя ложился спать, питался здоровой пищей и соблюдал по¬
вседневную личную гигиену — чистил зубы и умывался. Школьники не нужда¬
ются в столь многочисленных защитах, как младшие дети, но все же их необходи¬
мо научить до определенной степени структурировать свою жизнь. К моменту,
когда ребенок вступает в ранний подростковый возраст, родители ограничивают
свою структурирующую деятельность предъявлением правил по уходу за домом.
От подростка ожидается, что он теперь самостоятельно регулирует большую часть
своего поведения, и родителям необходимо обеспечивать структуру только для
того, чтобы поведение подростка оставалось в сравнительно широких рамках со¬
циальной приемлемости. Родители больше не решают, какую одежду следует но¬
сить ребенку, пока она остается адекватной ситуации. Родители больше не следят
за соблюдением ребенком правил личной гигиены, пока его опрятность остается
в разумных границах. Теперь уже сверстники предъявляют к ребенку большую
часть структурирующих требований. Теперь родителю необходимо научиться до¬
верять суждениям ребенка.
Во втором издании своей книги Джернберг (Jernberg & Booth, 1999) сменила
название «Внедрение» на «Вовлечение». Это изменение в первую очередь отра¬
жает ее недовольство негативными коннотациями, которые несет в себе слово
«внедрение» {intruding) помимо значения «реструктуризация поведения». Джерн¬
берг тем не менее все же беспокоится о том, что действия, перечисленные в пер¬
вом издании этой книги, не относились к «Внедрению», как она его понимает.
Скорее она рассматривает большинство из приведенных примеров примерами
структурирующей деятельности. Независимо от этого противоречия, мы считаем
важным рассмотреть, по меньшей мере, подкатегорию структурирующего пове¬
дения, включающего те случаи, когда взрослый вторгается в физическое или пси¬
хологическое пространство ребенка. Когда ребенок очень маленький, родитель
вмешивается постоянно, ориентируя ребенка на необходимые ему стимулы. Мла¬
денец кричит, когда голоден, сигнализируя матери, что пришло время кормить его.
Однако если он находится в состоянии сильного возбуждения, он не перестает
Глава 2. Теории игровой терапии 55
орать, когда получает грудь; он может не прекратить крик, даже когда первые кап¬
ли молока уже попали ему в рот. В этом случае мать может подуть на лицо ребен¬
ка или произвести внезапный шум, чтобы отвлечь ребенка и в это время вставить
грудь ему в рот. В этом примере проникновение матери в возбуждение ребенка
позволяет ей направить его внимание на пищу, в которой он нуждается. Здоро¬
вые вторжения происходят, когда ребенок нуждается в них, а не когда родителю
требуется показать свою власть. Родитель вмешивается в деятельность ребенка
для того, чтобы поддерживать степень его возбуждения на оптимальном уровне.
Родитель может внедряться в игру тоддлера, чтобы направить его в ванную
комнату, зная, что прошло некоторое время с того момента, как ребенок сходил в
туалет, и что он отвлекся на игру. Родитель может вмешиваться в действия до¬
школьника, чтобы успокоить его, когда он чересчур возбужден. Например, ребе¬
нок на утреннике или празднике, где много шума и движения, может постепенно
увеличивать свою моторную активность до тех пор, пока не начнет бешено бегать
вокруг, сбивая людей и предметы. Ему пока еще весело, но мама осознает, что ско¬
ро он может поранить себя или кого-либо еще. В этот момент она совершает вне¬
дрение и уводит ребенка в спокойную комнату, несмотря на его протесты. Здесь
мама спокойно беседует с ним, пока он не успокоится, и затем они возвращаются
на праздник. Родители могут вмешиваться для того, чтобы урегулировать спор
двух школьников или подростков. Каждое из этих действий содержит в себе не
только структурирование текущего взаимодействия с ребенком, но и иницииро¬
вание взаимодействия, в ходе которого выстраивается структура.
Вызов. Это виды деятельности, когда родители/опекуны поощряют ребенка вы¬
полнить что-то, требующее полного напряжения всех его способностей, для по¬
вышения уровня его возбуждения. Вызов побуждает ребенка двигаться вперед,
стремиться к чему-то и становиться более независимым (Jernberg & Booth, 1999).
Хорошие родители постоянно мягко и с одобрением ставят своего ребенка в ситу¬
ацию вызова. Представьте себе родителя, который кладет свои указательные паль¬
цы в ладонь ребенка, лежащего на спине в кроватке. На ранней стадии развития
младенца рефлекторная хватка мешает ему отпустить пальцы родителя, пока сти¬
мулируются подушечки его ладоней.
Родитель медленно приподнимает ребенка. Поначалу его голова не следует за
телом, потому что у младенца еще нет сил поднять ее, поэтому родитель лишь под¬
нимает на несколько дюймов его плечи. Постепенно ребенок пытается поднять
голову, и после некоторой тренировки его можно будет таким образом поднять до
сидячего положения. Родитель бросает ребенку вызов достаточно часто и доста¬
точно мягко, чтобы позволить ему развить силу и контроль, необходимые для того,
чтобы поднимать голову вместе с остальным телом. Подобным же образом роди¬
тель может держать игрушку на некотором расстоянии от «зоны досягаемости» ре¬
бенка, побуждая его тянуться за ней.
По мере того как ребенок будет становиться старше, он будет чаще сталкивать¬
ся с вызовом в самых разных ситуациях. Тоддлера будут побуждать самостоятель¬
но есть, самостоятельно ходить, говорить, пользоваться туалетом, одеваться, за¬
вязывать шнурки, запоминать буквы и названия цветов, развивать дошкольные
56 Часть I. Введение
навыки. Ребенка школьного возраста поощряют запоминать много фактической
информации и все более и более подчинять свои потребности потребностям груп¬
пы. Младший подросток принимает вызов, занимаясь сложными познавательны¬
ми операциями и часто не менее сложными социальными взаимодействиями.
Вовлечение. Эта категория поведения изначально называлась «Внедренческая
деятельность». Как только Джернберг показала, что некоторые из примеров вне¬
дрения, приведенных в первом издании этой книги, являются на самом деле струк¬
турированием, они были перемещены в соответствующий раздел. В данную кате¬
горию включено все то, что родитель делает для инициирования или поддержания
взаимодействия с ребенком. Например, родитель может начать играть с ребенком
в прятки, когда тот отказывается смотреть на него, потому что сердится. Вместо
того чтобы добиваться контакта глаз структурированным путем, родитель в игре
так занимает ребенка, чтобы ему можно было отвлечься от гнева и переключиться
на новую задачу. Посредством действий по вовлечению родитель «обеспечивает
возбуждение, удивление и стимуляцию, чтобы поддержать максимальный уро¬
вень внимания и включенности» (Jernberg & Booth, 1999, р. 17).
Воспитание и уход. Деятельность по воспитанию и уходу обеспечивает удовле¬
творение физических и эмоциональных потребностей ребенка, включающих пи¬
тание, купание и переодевание ребенка, а также его успокаивание, целование и
обнимание для поддержания адекватного уровня возбуждения. Это те действия,
которые заставляют ребенка чувствовать себя окруженным теплом, комфортом,
спокойствием и любовью (Jernberg & Booth, 1999). Первоначально родители удо¬
влетворяют все потребности ребенка, потому что он полностью зависит от них.
С ростом ребенка родители начинают уделять больше времени его эмоциональ¬
ным потребностям и поощряют его все больше и больше самостоятельно заботить¬
ся о своих физических потребностях. Родитель одевает ребенка исходя из своих
представлений о потребностях ребенка при данной температуре воздуха на ули¬
це. Родитель заставляет дошкольника надеть куртку, когда холодно, но оставляет
на усмотрение ребенка решение о том, нужно ли ему оставаться в куртке, когда он
бегает или играет в активную игру. Когда ребенок достигает школьного и подрост¬
кового возраста, родитель серьезно прислушивается к мнению ребенка, прежде
чем бросаться удовлетворять его потребности и настаивать на том, что ему следу¬
ет надеть.
Патология
Если эти фундаментальные взаимодействия родитель—ребенок нарушаются в ран¬
нем детстве, последствия, если говорить о способности ребенка включаться в адап¬
тивные межличностные отношения, часто бывают тяжелыми. Практически в каж¬
дой модели возникновения психопатологии этим ранним отношениям придается
значительная важность, и следствиями их дефектов считаются различные нару¬
шения, от аутизма, шизофрении и психопатии до пограничных личностных рас¬
стройств и нарциссизма. Играпия фокусирует свое внимание на проблемах при¬
вязанности и следующих связанных с ними паттернах поведения: 1) проблемы в
отношениях с людьми; 2) проблемы с принятием заботы; 3) проблемы с развитием
и прохождением переходных периодов; 4) недостаток совести; 5) эмоциональная
Глава 2. Теории игровой терапии 57
незрелость и 6) проблемы с доверием и самооценкой (Jernberg & Booth, 1999).
Далее, трансакционные модели психопатологии, подчеркивающие роль межлич¬
ностных отношений человека в развитии и закреплении патологичного поведения,
предполагают, что нарушения регуляторных и родительско-детских аспектов от¬
ношений индивида в любой период его жизни своим результатом имеют симпто¬
матическое поведение.
Родитель может структурировать мир ребенка или слишком сильно, или слиш¬
ком незначительно, в зависимости от ребенка и его жизненной ситуации, и таким
образом создать у ребенка или зависимость от других, или крайнее стремление
бунтовать против структуры. Возьмем, для примера, родителей, управляющих
своим домом так, будто это армейский учебный центр. Они имеют многочислен¬
ные строгие правила и жесткие последствия и практически не прислушиваются
к мнению ребенка о жизни в семье. Дети такой семьи могут вырасти с потребно¬
стью в высоком уровне структурированности их повседневной жизни или превра¬
титься в попустительствующих родителей, выбирающих для себя дело жизни,
дающее им возможность быть полными хозяевами в своей работе.
Вмешательство родителей может стать деструктивным, если оно осуществля¬
ется для удовлетворения их собственных потребностей. Так часто бывает, когда
родители очень бедны. Например, хорошее самочувствие некоторых матерей-под-
ростков зависит от их младенцев. Такие матери, входя в комнату, будут сообщать
о себе и будить своих детей, если те дремлют, потому что чувствуют себя одино¬
кими. В этом случае у ребенка может выработаться межличностная осмотритель¬
ность, влияющая на все его будущие взаимоотношения.
Заметим, что часто существует тонкая грань между ситуацией вызова и фрус-
трированием ребенка. Родитель, поощряющий своего трехлетнего ребенка налить
в стакан молока из полупустого пакета, бросает ему вызов. Но родитель, побуж¬
дающий трехлетнего ребенка налить в стакан молока из полного пакета, фрустри-
рует его, толкает на неудачу и связанные с ней переживания. Если родитель бро¬
сает своему ребенку неадекватные вызовы, тот с большой вероятностью может
начать отставать в развитии основных навыков и занимать зависимую позицию
во взаимоотношениях с людьми, с которыми он взаимодействует. Если вызов, бро¬
саемый ребенку, фрустрирует его, он может озлобиться и начать избегать вклю¬
чаться в те ситуации, которые хоть немного подвергают испытанию его способности.
Чем раньше в жизни ребенка взаимоотношения вызова становятся проблема¬
тичными, тем значительнее будет дезадаптация, которую он будет демонстриро¬
вать далее. Но и старшие дети и даже взрослые могут сталкиваться с ситуациями
вызова, к которым они оказываются неподготовленными; в этих случаях они поль¬
зуются другим человеком, который регулирует вызов и ожидаемую реакцию на
него. Классический пример этого типа ситуаций возникает, когда родители испы¬
тывают относительно своего ребенка чрезвычайно нереалистичные ожидания, же¬
лая, например, чтобы он в возрасте десяти месяцев от роду днем и ночью контро¬
лировал свое туалетное поведение. Эти нереалистичные ожидания часто приводят
к жестокому обращению с ребенком. В этом случае ребенку может сильно помочь
вмешательство другого взрослого человека, способного скорректировать ожидания
родителей и снизить возможность проявления жестокости по отношению к нему.
58 Часть I. Введение
И этот ребенок, и эти родители сталкиваются с фрустрирующими вызовами. Ре¬
бенок в этом случае не может научиться контролировать свой кишечник и моче¬
вой пузырь, а родители испытывают раздражение из-за того, что они не справи¬
лись с задачей научить ребенка вести себя так, как, на их взгляд, должны вести себя
дети этого возраста.
Широко распространено мнение о том, что отсутствие достаточного кормле¬
ния и заботы приводит к тому, что дети начинают думать исключительно об удов¬
летворении своих потребностей, а также избегать взаимодействия с другими
людьми из-за фрустрации и чувства безнадежности. Слишком обильное кормле¬
ние и забота не всеми признаются проблемой для детей и взрослых. Тем не менее
можно признать, что некоторым детям могут надоесть слишком настойчивые «за¬
ботливые» вмешательства взрослых, препятствующие этим детям удовлетворять
другие свои проблемы. Примером такой ситуации может быть следующее: упоми¬
навшаяся выше мать-подросток, будящая своего младенца из-за того, что ей хо¬
чется с ним поиграть, делает это так часто, что он постоянно недосыпает.
Цель лечения/терапии
Цель играпии — преодолеть те виды поведения, которые препятствуют ребенку
вступать в межличностные отношения, необходимые ему для эффективного функ¬
ционирования в мире. Для этого терапевт устанавливает с ребенком отношения,
подобные родительским, и реализует действия, способствующие возникновению
у пациента опыта позитивных межличностных взаимоотношений. Затем терапевт
работает с ребенком, помогая ему перенести его новый опыт, приобретенный на
сессиях, в те взаимодействия, в которые он включен во внешнем мире.
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов, подходящих для играпии
Как и в гуманистической игровой терапии, играпия задумана так, чтобы подхо¬
дить для работы с самыми разнообразными клиентами. Всех детей-пациентов
объединяет неспособность включаться в удовлетворяющие их межличностные
отношения, но их актуальное и хронологическое развитие может значительно ва¬
рьировать. На ранних этапах создания играпии предполагалось, что все ее клиен¬
ты обладают негативным ранним опытом отношений привязанности и автономии.
Позднее сфера ее внимания расширилась и включает теперь всех тех, кто в насто¬
ящее время испытывает недостаток отношений или вовлечен в дезадаптивные
отношения независимо от своей предыстории. Считается, что для играпии харак¬
терен наименьший риск возбуждения ятрогенных эффектов, и поэтому исключе¬
ние каких-либо клиентов не является стратегией играпевтов.
Первоначально Джернберг полагала, что играпия противопоказана в случаях,
когда кажется, что ребенок страдает социопатией, имеет органические нарушения,
отличается эмоциональной неустойчивостью или подвергался жестокому обраще¬
нию. Но еще тогда она рекомендовала для детей с такими проблемами, вовлечен¬
ных, кроме того, в неконструктивные межличностные отношения, прохождение
двухфазного лечения. Сначала эти дети обретали чувство безопасности и вклю¬
чались в лечение, направленное на пережитую ими травму. Как только оно закан-
Глава 2. Теории игровой терапии 59
чивалось, детей лечили с использованием метода играпии с акцентом на наруше¬
ниях их способности доверять людям и формировать отношения привязанности
(Jernberg & Booth, 1999).
Подготовка игровых психотерапевтов, применяющих играпию
Играпия — зарегистрированная товарная марка для терапии, преподаваемая в Ин¬
ституте играпии в Чикаго. Подготовка заключается в интенсивной групповой ра¬
боте, где будущие играпевты учатся включаться в отношения структурирования,
постановки адекватного вызова, вовлечения, воспитания и ухода со своими свер¬
стниками, выступая как в роли лидера, так и в роли последователя. Затем учащие¬
ся продолжают работу, занимаясь с нормальными детьми под наблюдением супер¬
визоров, и наконец переходят к клиническим пациентам. Обучение проводится не
только с теми, кто уже имеет профессиональную медицинскую подготовку (Jern'
berg 1973). Напротив, одной из сильных сторон этой техники Джернберг считала
то, что ее эффективному использованию могут научиться и непрофессионалы.
Роль играпевта в терапевтической сессии
Играпия проводит значимую параллель между функциями здорового родителя и
функциями терапевта. Имеется в виду, что терапевт регулирует уровень возбуж¬
дения ребенка и обеспечивает его развитие. Первичное различие между родите¬
лем и терапевтом заключается в степени обоюдности, включенной в их уважитель¬
ные отношения с ребенком. Здоровый родитель всегда находится в двусторонних
отношениях. То есть он должен не только регулировать уровень возбуждения ре¬
бенка, но и делать это в контексте своих собственных потребностей. Например,
если родитель болеет, ему нужно, чтобы ребенок сам занимался своими делами
и вел себя сравнительно тихо. Этот компромисс между потребностями ребенка и
родителя — существенный аспект их отношений. Отношения детей и терапевтов
не являются двусторонними. В ходе сессии терапевт отставляет в сторону боль¬
шинство своих потребностей (за исключением потребности в безопасности). Ре¬
бенок — единственное, на что обращено внимание специалиста во время занятий,
поэтому он получает столько заботы, сколько согласно данному подходу необхо¬
димо ребенку для возобновления нормального развития.
Терапевт, работающий в русле играпии, должен включать ребенка в конструк¬
тивные, целительные для него межличностные отношения. Следующее руковод¬
ство составлено как перечень основных качеств и умений играпевта. Терапевт,
применяющий технику играпии, должен:
1) быть уверенным в себе и обладать лидерскими качествами;
2) вызывать симпатию;
3) быть отзывчивым и эмпатичным;
4) быть ответственным за все, происходящее на сессии (Robertiello, 1975);
5) использовать любую возможность вступления с ребенком в физический
контакт;
6) настойчиво сохранять контакт глаз;
60 Часть I. Введение
7) уделять ребенку все свое внимание;
8) не реагировать на поведение ребенка, а инициировать его, предвидя возмож¬
ное сопротивление и принимая ответные меры;
9) быть восприимчивым к «ключам», которые дает ему ребенок;
10) использовать каждую возможность, чтобы дифференцировать себя от ре¬
бенка;
11) использовать каждую возможность, чтобы помочь ребенку увидеть себя
уникальным, особенным, отдельным и выдающимся;
12) использовать настроения и чувства ребенка, чтобы помочь ему разделять их
и себя и называть свои чувства;
13) проводить занятия непосредственно, гибко и наполнять их множеством
приятных сюрпризов;
14) быть для ребенка главным «предметом» в игровой комнате;
15) структурировать сессии так, чтобы время, место и персонажи всегда были
четко определены;
16) стараться, чтобы сессии были веселыми, оптимистичными, позитивными
и здоровыми;
17) ориентироваться на настоящее и будущее, на «здесь-и-сейчас»;
18) ориентироваться на ребенка такого, какой он есть;
19) помнить, что каждая сессия состоит из отдельных частей со своими нача¬
лом, серединой и концом;
20) сводить к минимуму фрустрацию, неудобство и дискомфорт, испытывае¬
мые ребенком;
21) при необходимости использовать парадоксальные методы;
22) в случае вспышек темперамента у ребенка настойчиво напоминать о своем
присутствии;
23) проводя сессии, учитывать, «любит» ребенок терапевта или нет;
24) сокращать и предотвращать чрезмерную тревожность или двигательную
гиперактивность ребенка;
25) заботиться о предотвращении физических травм;
26) в случае нехватки идей включать в свой репертуар движения ребенка (Jern-
berg, 1979).
Исцеляющие элементы играпии и роль игры в ее осуществлении
Игра — существенный элемент в проведении играпии, так как в этой технике очень
важно включать в лечение элементы развлечения и забавы. В рамках данного под¬
хода считается, что все взаимодействия между ребенком и терапевтом имеют не¬
значительную терапевтическую ценность, если оба их участника не испытывают
удовольствия от общения. Это не значит, что между клиентом и терапевтом ни¬
когда не будет конфликтов — без них не обойтись. Так, конфликт неизбежен то¬
гда, когда терапевт бросает вызов склонности ребенка держать людей на расстоя¬
нии. Но при возникновении конфликта терапевт не чувствует себя отвергнутым,
а видит в этом отказ ребенка от незнакомых аспектов взаимодействия. Поэтому
Глава 2. Теории игровой терапии 61
поведение ребенка не выбивает терапевта из колеи, а скорее подвигает его к даль¬
нейшему взаимодействию.
Курс лечения
Диагностика
Играпия предполагает проведение достаточно обширного предварительного об¬
следования клиента, включающего сбор анамнеза (полной истории развития и
общей информации о клиенте) и получение данных о модели взаимодействия
ребенка со значимыми для него другими людьми в его окружении. Метод, приме¬
няемый для сбора этих наблюдений, называется Методом интеракций Маршака —
МИМ (Marschak Interaction Method, MIM) (Jernberg, Booth, Roller, & Allert, 1980)
и заключается в вовлечении ребенка и значимого взрослого в заранее определен¬
ные действия, которые затем записываются на видеопленку или наблюдаются те¬
рапевтом. Взаимодействия кодируются на предмет присутствия или отсутствия
позитивных элементов структурирования, постановки в ситуацию вызова, вовле¬
чения, воспитания и заботы. На основании анализа этих наблюдений определяет¬
ся тип интерактивных элементов, которые необходимо включить в занятия с ре¬
бенком.
Лечение
Следующие инновации отличают играпию от большинства других терапевтиче¬
ских подходов.
• Терапевт берет всю работу на себя, тщательно планирует и структурирует
занятия так, чтобы удовлетворять потребности ребенка, а не ждать, пока
ребенок сам начнет искать способ их удовлетворения.
• Терапевт делает все, что в его силах, чтобы втянуть ребенка в отношения, в
том числе, если это необходимо, навязывает себя ребенку, чтобы начать вза¬
имодействие. Терапия направлена на отношения взаимодействия между
терапевтом и ребенком, а не на конфликт в душе ребенка.
• Обучающие испытания являются интегральной частью взаимодействия.
• Терапевт остается непреклонным, сталкиваясь с пассивным или активным
сопротивлением клиента. Если ребенок реагирует гневно, терапевт остает¬
ся с ребенком в течение всего периода вспышки его ярости.
• Лечение подразумевает активную, физическую игру, основанную на взаи¬
модействии. Не применяется символическая игра с игрушками и очень ред¬
ко ведется разговор о проблемах.
• Лечение рассчитано на эмоциональный уровень ребенка и поэтому часто
содержит «младенческие» упражнения, которые многие люди сочли бы
уместными лишь для совсем маленького ребенка.
• Родители активно включены в лечение, что позволяет им приобрести но¬
вые способы взаимодействия с детьми.
• На начальной стадии терапевт выступает в родительской роли, чтобы про¬
демонстрировать наблюдающим за ним родителям новый способ взаимо¬
действия с ребенком (Jernberg & Booth, 1999).
62 Часть I. Введение
Лечение состоит из шести этапов. На вводной стадии терапевт устанавливает
основные правила и создает у ребенка ожидания относительно того, что будет
происходить на дальнейших занятиях. На стадии раскрытия терапевт и ребенок
знакомятся друг с другом, концентрируя свое внимание на взаимном изучении,
проверяя друг у друга цвет глаз и волос, сравнивая количество зубов, выясняя,
какое у кого любимое блюдо и т. д. После этого терапия переходит в третью фазу,
когда ребенок в виде эксперимента принимает процесс взаимодействия и, види¬
мо, получает от него удовольствие. На данном этапе терапевт часто осознает силь¬
но завуалированные и очень тонкие способы, с помощью которых ребенок пыта¬
ется контролировать сессии и управлять ими. Далее следует фаза негативной
реакции, когда ребенок противостоит попыткам терапевта перейти к более близ¬
ким, интимным отношениям. Часто на этой стадии возникает очень интенсивное,
агрессивное отреагирование, посредством которого клиент пытается восстановить
контроль над терапевтом, воссоздать свой привычный демонстрируемый уровень
межличностной дистанции. Терапевт должен особо побеспокоиться о том, чтобы
не уходить от взаимодействий, сталкиваясь с яростью ребенка, а продолжать
структурировать его отреагирование, обеспечивая в то же время столько заботы,
сколько возможно. Когда эта стадия терапии успешно разрешена, начинается фаза
роста и доверия. Поначалу для нее характерны позитивные отношения между ре¬
бенком и терапевтом, но постепенно терапевт включает в занятия с ребенком других
людей, чтобы выработанные им новые стили взаимодействия могли максимально
генерализоваться и перенестись на новые ситуации, помимо терапевтической сес¬
сии. В этот момент в игровую деятельность могут вовлекаться родители, братья и
сестры и даже сверстники ребенка.
Не только весь курс играпии следует проторенной тропой, но и отдельные сес¬
сии состоят из трех структурных элементов. Все занятия начинаются со вводной
фазы, в течение которой терапевт приветствует клиента и отмечает изменения,
произошедшие в нем со времени их последней встречи. Например, играпевт мо¬
жет в начале каждого занятия измерять рост ребенка, чтобы следить, насколько
ребенок вырос со временем. В середине каждой сессии терапевт включает ребен¬
ка в запланированную деятельность, подразумевающую структурирование, вызов,
вовлечение и воспитание с заботой. Каждая сессия завершается заключительным
упражнением, предназначенным для вывода ребенка из игровой ситуации и воз¬
вращения его во внешний мир (Jernberg & Booth, 1999).
Окончание лечения
Последняя стадия применения играпии — это выход из лечения, и она делится на
три шага. Сперва ребенок подготавливается к близящемуся окончанию занятий.
Это делается через напоминание ему о степени его изменений и о его улучшив¬
шихся способностях к позитивному взаимодействию с окружающими его людь¬
ми. Во-вторых, объявляется дата окончания сессий, так чтобы ребенку оставалось
еще несколько занятий. И третий шаг — собственно расставание, которое ознаме¬
новывается признанием роста ребенка и пожеланиями ему счастья, причем в этот
процесс могут быть включены другие люди, участвовавшие в процессе лечения.
Глава 2. Теории игровой терапии 63
Дочерняя терапия
Дочерняя терапия {Filial therapy) — это разновидность игровой терапии, сосредо¬
точенной на ребенке (Child-Centered Play Therapy), в которой родители или опе¬
куны обучаются проведению с ребенком клиент-центрированных игровых сессий.
Главное преимущество этого метода — большее влияние, которое родители, ско¬
рее всего, будут оказывать на детей, благодаря тому что они — более значимые фи¬
гуры, чем терапевт, и встречаются и общаются с ними гораздо чаще. Еще в 1949 го¬
ду Барух высказывался за необходимость проведения запланированных игровых
сессий для улучшения детско-родительских отношений. В 1959 году Мустакас
говорил о домашних игровых терапевтических сессиях, проводимых родителями.
Название «дочерняя терапия» (Filial therapy) предложил для этого метода Бернард
Гернье в 1964 году. Некоторое время метод существовал, не привлекая к себе осо¬
бого внимания, но за последние десять лет интерес к нему резко возрос (Landreth,
1991). Поскольку основные элементы дочерней терапии очень похожи на гумани¬
стический или клиент-центрированный подходы, следующий обзор будет осве¬
щать только те области, в которых между данными моделями существуют значи¬
мые отличия.
Теория
В конце данного раздела читатель найдет ссылки на литературу для дальнейшего
изучения теоретических основ дочерней терапии, сравнимой с любой другой тео¬
рией гуманистического толка.
Патология и цель лечения/терапии
Если гуманистическое направление в целом подчеркивает важность самоактуали¬
зации в терапии, дочерняя терапия концентрируется на восстановлении лакун в
отношениях родителя и ребенка. Бернард Гернье (Guerney, 1964) указывает на
следующие цели таких игровых сессий:
Вначале необходимо сломать представления или домыслы ребенка о чувствах, установ¬
ках или поведении родителей по отношению к нему. Во-вторых, нужно позволить ре¬
бенку выразить потребности, мысли и чувства к своим родителям, которые он ранее
скрывал от них, а часто и от самого себя. (Это выражение происходит главным обра¬
зом в игре.) Таким образом, занятия родителей со своими детьми призваны поднять
вытесненные чувства и разрешить интернализованные конфликты, вызывающие тре¬
вогу. И в-третьих, требуется сообщить ребенку — через обобщение новых приобретен¬
ных установок по отношению к его родителям — огромное чувство самоуважения, соб¬
ственной значимости и уверенности в себе (р. 452).
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов, подходящих
для гуманистической игровой терапии
Применение дочерней терапии не зависит от диагностики конкретной патологии
у ребенка или у родителей. Скорее внимание направляется на усовершенствова¬
ние отношений между ними. Дочерняя терапия считается потенциально полезной
64 Часть I. Введение
практически для любых диад родитель—ребенок, независимо от уровня развития
или диагноза ребенка (Bratton & Landreth, 1995; Landreth, 1991).
Подготовка дочерних психотерапевтов
Дочерние терапевты должны обучиться основам гуманистического подхода или
подхода, сосредоточенного на ребенке. Также им необходимо пройти подготовку
в рамках одной или более программ обучения родителей навыкам проведения кли-
ент-центрированной терапии с детьми. На такие обучающие программы указыва¬
ли многие психологи (Guerney, 1991; Landreth, 1991; VanFleet, 1994). Наконец, по¬
лезно, если дочерний терапевт пройдет еще и программу основных родительских
навыков и развития ребенка, чтобы справиться с любыми проблемами, с которы¬
ми сталкиваются родители в своих взаимодействиях с детьми по ходу развития
терапевтических сессий.
Роль дочернего игрового терапевта в терапевтической сессии
В дочерней терапии терапевт обычно не работает непосредственно с детьми. Вме¬
сто этого он учит родителей проводить клиент-центрированные сессии со своим
ребенком. Помимо роли учителя, терапевт также осуществляет супервизию ро¬
дителей, делая обзор отчетов или видеозаписей о первых проведенных ими заня¬
тиях.
Курс лечения
Диагностика, лечение и окончание лечения
Полный курс дочерней терапии обычно представляет собой цикл из 6-12 сессий.
Ландрет (Landreth, 1991) представил формат проведения терапевтического цик¬
ла, состоящего из 8-8 встреч. В течение первой части лечения родитель учится
у терапевта и проходит у него подробную супервизию. В средней фазе родитель
тренируется в проведении сессий с ребенком у себя дома, а терапевт просматри¬
вает отчеты родителя о них и советует родителю, как вести себя на следующих
занятиях. Когда терапия приближается к своему концу, родитель продолжает вес¬
ти игровые сессии с ребенком и постепенно перестает приходить на супервизии к
терапевту.
Избранные ссылки
Guerney, В. (1964). Filial therapy: Description and rationale. Journal of Consulting Psychology,
28 (4), 303-310.
Guerney, L. (1983). Introduction to filial therapy. In P. Keller & L. Ritt (Eds.), Innovations in
clinical practice: A sourcebook (Vol. II). Sarasota, FL: Professional Resource Exchange, p. 26-
39.
Guerney, L. (1991). Parents as partners in treating behavior problem children in early child¬
hood settings. Topics in Early Childhood Special Education, 11 (2), 74-90.
Guerney, L. (1997). Filial therapy. In K. O’Connor & L. Braverman (Eds.), Play Therapy Theo¬
ry and Practice: A comparative presentation. New York: Wiley, p.131-159.
VanFleet, R. (1994). Filial therapy: Strengthening parent-child relationships through play. Sa¬
rasota, FL: Professional Resource Press.
Глава 2. Теории игровой терапии 65
Адлерианская игровая терапия
Теория
Для понимания теории личности Адлера важны несколько ключевых элементов.
Во-первых, корни адлерианской терапии, как и детской клиент-центрированной
терапии, лежат в феноменологической психологии. Для нее характерно мнение,
что ребенок воспринимает жизнь со своей субъективной точки зрения. Терапевт
понимает, что мир такой, каким его видит пациент. Следовательно, каждый ребе¬
нок считается уникальным и созидательным. Данная концепция близка бихевио¬
ризму тем, что в ней поведение людей считается целенаправленным. «Один из
основных догматов индивидуальной (адлерианской) психологии, состоящий в том,
что каждый поведенческий акт человека преследует некую цель и является наме¬
ренным, равно приложим как к нормальному, так и к патологическому поведению.
В стремлении понять, чего ребенок пытается добиться своим симптоматическим
поведением, терапевту приходится изучать последствия или результаты этого по¬
ведения» (Kelly, 1999, р. 119). Дети ведут себя так или иначе, чтобы достичь неко¬
ей цели. Первичный мотив/первичная потребность {drive) в теории Адлера — по¬
требность в принадлежности. В ее рамках дети рассматриваются как социальные
существа, обладающие врожденной потребностью в присоединении. В частности,
считается, что детей мотивирует на деятельность потребность в принадлежности
(Kottman, 1977).
Патология
Ребенок в меньшей степени рассматривается как страдающий патологией; чаще
говорят о неадаптивном поведении {misbehavior). Дети, склонные к такому поведе¬
нию, вырабатывают направленные на себя пораженческие установки, мешающие
им удовлетворять свои потребности социально приемлемыми способами. Целя¬
ми «плохого поведения», по Адлеру, являются получение внимания, осуществле¬
ние мести, обретение власти и преодоление чувства своей неполноценности {ina¬
dequacy) (Kottman, 1977).
Цель лечения/терапии
Цели терапевтического вмешательства в индивидуальной психологии — помочь
клиенту:
1) достичь инсайта, понимания своего жизненного стиля;
2) изменить ошибочные самоуничижительные установки и перейти от инди¬
видуальной логики к здравому смыслу;
3) начать движение к позитивным целям поведения;
4) заместить негативные стратегии достижения принадлежности и приобре¬
тения чувства собственной значимости позитивными стратегиями;
5) увеличить свой интерес к обществу;
6) научиться новым способам справляться с чувством неполноценности;
7) оптимизировать свою креативность и приступить к использованию своих
ресурсов для разработки решений по усовершенствованию установок,
чувств и моделей поведения (Kottman, 1977).
66 Часть I. Введение
Основные положения
Роль адлерианского игрового терапевта в терапевтической сессии
Как и в остальных гуманистически ориентированных терапевтических моделях,
одна из первоочередных обязанностей терапевта заключается в развитии и поддер¬
жании позитивных отношений с ребенком. Добившись этого, терапевт приступает
к реализации постепенной трехшаговой модели работы. Первый шаг — тщатель¬
ная оценка сегодняшней жизненной ситуации и особенностей жизнедеятельности
ребенка. Этот шаг не формальная диагностическая процедура, а скорее вводный
аспект терапевтического процесса. Цель терапевта — понять, зачем ребенок при¬
бегает к неадаптивному поведению. Чего, по мнению ребенка, он достигает, реа¬
лизуя проблематичные и даже саморазрушительные модели поведения? Когда
терапевт приходит к пониманию этого, он сообщает о том, что он узнал, ребенку
в виде интерпретации. Когда ребенок достигает инсайта, терапевт переходит к бо¬
лее активному обучению ребенка альтернативным способам поведения и помогает
ему отрепетировать их в ходе сессии. Кроме того, адлерианский терапевт посто¬
янно поощряет ребенка к применению новых моделей поведения вне терапевти¬
ческих встреч и может работать с разными окружающими ребенка взрослыми,
чтобы гарантировать успешность переноса усвоенных им на занятиях навыков в
реальную жизнь.
Роль игры в адлерианской игровой терапии
Игра служит для улучшения прохождения всех стадий процесса адлерианской
игровой терапии. Поначалу игровое поведение клиента — главный источник дан¬
ных, получаемых терапевтом, пока он пытается понять, как ребенок воспринима¬
ет мир и каковы цели его неадаптивного поведения. По мере прогресса лечения в
контексте игры могут предоставляться интерпретации, пока игра еще не направле¬
на непосредственно на собственное поведение ребенка. И наконец, такая игровая
деятельность, как ролевая игра, — это увлекательный и безопасный посредник,
при помощи которого ребенок может узнавать и практиковать альтернативные
модели поведения.
Исцеляющие элементы адлерианской игровой терапии
Основной терапевтический элемент — реструктуризация терапевтом саморазру¬
шительных убеждений ребенка. Это позволяет ему усваивать новые, позитивные
стили поведения (Kottman, 1995).
Помимо непосредственной работы, выполняемой на сессии, терапевт, родите¬
ли ребенка и любые другие значимые взрослые из его окружения, например учи¬
теля, могут применять один из самых мощных инструментов изменения — логи¬
ческие последствия (Dreikurs & Cassel, 1972). Логические последствия помогают
перенаправлять неадаптивное поведение детей и позволяют им протягивать бо¬
лее адекватные причинно-следственные цепочки между поведением, которое они
проявляют, и результатами, которые они затем получают. Проще говоря, логиче¬
ские последствия, как следует из самого этого словосочетания, — это постоянная
демонстрация последствий неадаптивного поведения ребенка, которые логиче¬
ским образом вытекают из того, что он сделал. Наказания вызывают боль и душев-
Глава 2. Теории игровой терапии 6 7
ные страдания, а логические последствия показывают ребенку результат его дей¬
ствий отдельно от гнева взрослых или их негативных высказываний.
Логические последствия реалистичны. Они выражают реалии устройства со¬
циума, а не применяющего их человека. В связи с этим они заключают в себе раз¬
деляемое всеми всеобщее суждение о хорошем и плохом, а не субъективное мо¬
ральное суждение. Ложь плоха потому, что она затрагивает чьи-то чувства или
ставит ребенка в опасную ситуацию, а не просто потому, что вся неправда и все
обманщики плохи по своей природе.
Логические последствия связаны с неадаптивным поведением и тогда, когда
применяются с сохранением уважительного отношения к ребенку. Логические
последствия относятся только к настоящему, а не к прошлому и не к тому, что
может случиться в будущем. Когда это возможно, логические последствия согла¬
совываются между ребенком и взрослым до совершения проступка и до их наступ¬
ления. У ребенка появляется выбор, и он заранее понимает последствия каждого
выбора. Существуют следующие категории логических последствий: 1) потеря
или откладывание привилегий (любимого занятия, взаимодействия с желаемым
человеком, использования желаемых объектов, доступа в желаемые места); 2) по¬
теря или откладывание сотрудничества (я сделаю то, что ты хочешь, после того,
как ты сделаешь то, чего хочу я); 3) восстановление утраченного (Kottman цит. по:
Gilbert, 1986).
Курс лечения
Диагностика, лечение и окончание лечения
Процесс адлерианской терапии состоит из четырех стадий, причем к интеграль¬
ной части ранних стадий относится диагностика. Во-первых, ребенок и терапевт
должны установить партнерские отношения. Этот шаг начинается с обращения к
потребности ребенка в принадлежности и выдвижения замечания о том, что ребе¬
нок и терапевт будут работать вместе; их поведение целенаправленно. Во-вторых,
терапевт изучает жизнь ребенка, формулирует гипотезы о его саморазрушитель¬
ных убеждениях и методах приобретения собственной значимости. В-третьих, те¬
рапевт делится своими гипотезами с ребенком в форме интерпретаций. И нако¬
нец, терапевт руководит ребенком в выработке альтернативных поведенческих
моделей, учит его социально адекватному поведению и затем тренирует эти но¬
вые навыки вместе с ребенком (Kottmann, 1995). Достигнув этого, ребенок готов
к оставлению игровой терапии.
Избранные ссылки
Adler, А. (1963). The problem child. New York: Putnam Capricorn. (Original work published 1930.)
Kottman, T., & Johnson, V. (1993). Adlerian play therapy: A tool for school counselors. Elemen¬
tary School Guidance and Counseling, 28,42-51.
Kottman, T. (1994). Adlerian play therapy. In K. O'Connor and C. Schaefer (Eds.), Handbook
of play therapy (Vol. 2). New York: Wiley, p. 3-26.
Kottman, T. (1995). Partners in play: An Adlerian approach to play therapy. Alexandria, VA:
American Counseling Association.
Kottman, T. (1997). Adlerian play therapy. In K. O'Connor and L. Braverman (Eds.), Play the¬
rapy theory and practice: A comparative presentation. New York: Wiley, p. 310-340
68 Часть I. Введение
Терапия реальности (Reality Therapy)
Теория
Представляя терапию реальности, Глассер (Glasser, 1969,1972,1975,1986) нико¬
гда не вводил понятия личности. На самом деле, в рамках его модели предполага¬
ется, что теории личности обычно используются для объяснения и, следователь¬
но, доказательства того, почему человек ведет себя неприемлемо для себя, или для
общества, или и для себя и для общества. Глейзер делал акцент на первичной мо¬
тивирующей силе, напоминающей либидо в психоаналитической теории и само¬
актуализацию в гуманистической психологии. Он утверждал, что все индивиды
обладают мотивацией к удовлетворению основных физиологических и психоло¬
гических потребностей. Последние представляют особый интерес для специали¬
стов в области психического здоровья и включают: 1) потребность любить и быть
любимым и 2) потребность чувствовать собственную ценность, а также в том, что¬
бы другие люди тоже чувствовали ее. В результате в своем подходе, и в частности
в терапии реальности, Глейзер основное внимание уделяет аспектам взаимодей¬
ствия в поведении человека.
Глейзер считает, что о «психическом здоровье» человека следует судить по его
способности поступать ответственно, то есть по его способности удовлетворять
свои потребности так, чтобы не ущемлять других в их действиях по удовлетворе¬
нию своих потребностей. Человеку не приписывается врожденная потребность в
ответственном поведении, как в гуманистической теории; именно родители, а поз¬
же общество, обязаны научит> ребенка ответственности, как можно раньше начи¬
ная демонстрировать ему свою любовь и дисциплинировать его. В рамках данно¬
го подхода существует понимание того, что такой тип научения возможен только
в таких взаимоотношениях, когда и «учитель» и «ученик» интенсивно и эмоцио¬
нально связаны друг с другом.
Патология
Глейзер предполагает, что психопатология возникает, когда индивиды отрицают
реальность и, стремясь удовлетворить свои основные потребности, поступают
безответственно. В этом контексте отрицание реальности и безответственные дей¬
ствия означают, что индивид своим поведением препятствует другим индивидам
удовлетворять их основные потребности. Центральная предпосылка терапии ре¬
альности состоит в том, что специалисты в области психического здоровья содей¬
ствуют психопатологии, концентрируясь на силах окружающей среды, заставля¬
ющих индивида поступать определенным образом, вместо того чтобы неизменно
побуждать человека к ответственным поступкам. Как только индивиды приобре¬
тают навыки ответственного поведения, необходимо ожидать от них действий в
соответствии с этими навыками, а сами индивиды должны испытывать на себе
соответствующие последствия, если они нарушают права других людей.
Цель лечения/терапии
Цель терапии реальности — научить индивида стратегиям ответственного удов¬
летворения своих потребностей. Терапия заканчивается, когда клиент демонстри-
Глава 2. Теории игровой терапии 69
рует способность к удовлетворению своих базальных потребностей социально
адекватными и ответственными способами.
Основные положения
Уровень развития и патологии клиентов,
подходящих для игровой терапии реальности
Поскольку терапия реальности основана на предположении, что все клиенты спо¬
собны поступать ответственно и что терапия должна разрабатываться под тот уро¬
вень функционирования, на котором сейчас находится клиент, считается, что дан¬
ный тип лечения подходит практически любому человеку. Этот подход особенно
доказывает свою пригодность для работы с клиентами, которые отреагируют свои
эмоции и могут остаться безучастными в менее директивных терапевтических
подходах.
Подготовка игровых психотерапевтов, применяющих терапию реальности
Глассер считает, что всесторонний опыт работы с клиентами, проявляющими раз¬
нообразные виды безответственного поведения, является существенным услови¬
ем для проведения терапии реальности. Он руководит институтом по подготовке
терапевтов реальности в Канога-парке, штат Калифорния.
В добавление к обладанию некоторым базовым опытом и определенным уров¬
нем подготовки терапевт реальности должен: 1) быть ответственным и готовым
передать свои собственные ценности клиенту, если это необходимо; 2) быть силь¬
ным и никогда не попустительствовать безответственному поведению клиента;
3) уметь понять, что его клиент не способен удовлетворять свои основные потреб¬
ности; 4) уметь устанавливать эмоциональные отношения со своими клиентами.
Роль психотерапевта, применяющего терапию реальности,
в игровой терапевтической сессии
Терапия реальности устанавливает следующие шесть отличий терапевта реально¬
сти от обычного терапевта.
1. Поскольку мы (терапевты реальности) не принимаем понятия психическо¬
го заболевания, пациент не может работать с нами, будучи психически не¬
здоровым человеком, не несущим ответственности за свое поведение.
2. Работая в настоящем с ориентацией на будущее, мы не занимаемся истори¬
ей пациента, потому что мы не можем ни изменить того, что уже произошло,
ни принять тот факт, что наш пациент ограничивается рамками своего про¬
шлого.
3. Мы относимся к нашим пациентам, как к самим себе, а не как к объектам
переноса.
4. Мы не ищем ни бессознательных конфликтов, ни их причин. Пациент не
может работать с нами, объясняя свое поведение своими бессознательны¬
ми мотивами.
5. Мы подчеркиваем моральность поведения. Мы сталкиваемся с проблемой
хорошего и плохого, которая, как мы считаем, укрепляет отношения с па¬
циентом, в отличие от традиционных психиатров, не делающих различий
70 Часть I. Введение
между плохим и хорошим, чтобы не повредить установлению отношения
переноса, к чему они стремятся.
6. Мы учим пациентов лучшим способам удовлетворения их потребностей.
Истинные отношения с клиентом не будут установлены до тех пор, пока мы
не поможем ему найти более приемлемые модели поведения. Традицион¬
ные терапевты не рассматривают обучение лучшему поведению как часть
терапии (Glasser, 1975, S. 54).
Помимо поведения в соответствии с вышеприведенным руководством, тера¬
певт реальности задает клиенту несколько задач на время лечения. Терапевт (Ful¬
ler & Fuller, 1999):
1) стремится к связи с ребенком, будучи доброжелательным, поддерживаю¬
щим и заинтересованным в нем;
2) настроен на поведение клиента в данный момент и на связанные с ним эмо¬
ции;
3) помогает ребенку определять, вредит ли его поведение ему или окружаю¬
щим;
4) помогает ребенку планировать ответственное поведение; план должен быть:
небольшим и поддающимся управлению, конкретным, разумным (иметь
смысл и ценность), позитивным (содержать то, что клиент будет делать,
а не то, чего он делать не будет), к реализации плана необходимо приступать
как можно быстрее, и он должен быть повторимым;
5) заключает с ребенком соглашение выполнять выработанный план;
6) не принимает от ребенка извинений за неудачу в осуществлении плана;
7) не наказывает ребенка за неудачу в том, чтобы вести себя в соответствии
с планом, но обеспечивает наступление естественных или логических по¬
следствий;
8) никогда не отступает.
Курс лечения
Диагностика
Глейзер очень мало говорит о том, какой тип оценочной процедуры наиболее эф¬
фективен. Предполагается, что терапевт стремится многое узнать о прошлых и
настоящих попытках клиента удовлетворить свои потребности и о его сравнитель¬
ных успехах и неудачах в этом. Но как только лечение начинается, фокус внима¬
ния направляется на настоящее и будущее, а не на прошлое; таким образом, сбор
обширных данных об истории развития клиента, возможно, окажется ненужным.
Лечение
Терапия реальности проходит в три этапа. Сначала терапевт должен быстро уста¬
новить глубокие отношения с клиентом. Составляющей частью этих отношений
является принятие клиента таким, какой он есть в данный момент своей жизни.
По существу, это выражение безусловного уважения к человеку, а не уважения к
определенному его поведению, как в гуманистической психологии. Вторым ша-
Глава 2. Теории игровой терапии 71
гом терапевт должен отвергнуть безответственное поведение, проводя работу по
созданию и поддержанию терапевтических отношений. То есть терапевт должен
заново стать родителем для своего клиента — таким, какими должны были быть
его собственные родители, — последовательно и постоянно сообщая клиенту, что
он заботится о нем, даже если не одобряет поведения клиента в данный момент.
В заключение терапевт должен научить клиента альтернативным, ответственным
способам удовлетворения своих потребностей.
В ходе применения терапии реальности терапевт может использовать некото¬
рые или все методы из перечисленных ниже.
1. Юмор.
2. Противостояние.
3. Заключение контрактов, письменных соглашений работать по плану, со¬
зданному на сессиях.
4. Инструктаж, особенно при передаче клиенту новых навыков.
5. Обучение.
6. Ролевая игра.
7. Поддержка.
8. Домашние задания.
9. Библиотерапия.
10. Рассказы о своем личном опыте (когда это способствует достижению целей
терапии).
11. Обобщения и обзоры пройденного пути (помощь ребенку в коррекции пла¬
на или целей плана).
12. Компенсации — требования к клиенту усовершенствоваться, если его пове¬
дение имело негативные последствия.
13. Задавание вопросов.
14. Парадокс (используется, чтобы помочь клиенту сломать его особенно силь¬
ное сопротивление [Wubbolding, 1988]).
Окончание лечения
Как утверждается, терапия завершатся, когда клиент продемонстрировал свою
способность постоянно ответственно удовлетворять свои потребности.
Транзактная, семейная, системная,
общественная и экологическая терапии
Единственный компонент, объединяющий эти виды психотерапии — это их под¬
ход к индивиду как к части некоей системы. Системная единица, изменение кото¬
рой считается целью лечения, — это и диада, и семья, и сеть социальных контак¬
тов, и общество, и некоторая более широкая сеть взаимосвязанных систем. И все
же, независимо от единицы лечения, величайшим сдвигом в психиатрии в по¬
следние несколько десятилетий является растущее признание того, что клиенты
72 Часть I. Введение
не существуют изолированно ни в своей повседневной жизни, ни в ходе психоте¬
рапии.
Психологическое лечение клиентов все больше и больше руководствуется тем
фактом, что и клиент и терапевт включены в множественные системы, причем
некоторые из них могут перекрываться, а другие располагаться ортогонально.
Каждый участник терапевтического взаимодействия привносит в него индивиду¬
альный, семейный, возрастной, общественный, культурный, национальный, рели¬
гиозный, расовый и любой другой опыт. Если потенциальное воздействие этого
опыта на терапевтический процесс не осознается, результаты терапии для всех
сторон, вероятно, не будут оптимальными. Это не значит, что терапевт обладает
или должен стремиться обладать контролем и влиянием над каждой системой;
имеется в виду, что он должен осознавать существование этих систем и тот факт,
что они являются частями реальности клиента. Как замечал Глейзер, ни клиент,
ни терапевт не могут функционировать оптимально, если они отрицают реаль¬
ность.
О том, какой вклад в создание описанной здесь экосистемной игровой терапии
внесли различные психотерапевтические теории, представленные выше, вкратце
будет сказано во II части. Но прежде чем перейти к этой теме, мы с вами коротко
исследуем влияние индивидуального опыта и взглядов некоторых терапевтов на
практику игровой психотерапии.
Глава 3
Проблемы многообразия
В главе о проблемных вопросах игровой терапии мы будем обсуждать две ключе¬
вые области. Первая из них — это личность терапевта, а вторая — роль культуры в
современном обществе и в сфере психического здоровья в частности. Личность
терапевта играет чрезвычайно важную роль в осуществлении успешной психоте¬
рапии, но эта роль часто забывается или отрицается. Философия, ценности, опыт,
культуральная принадлежность, семейный и любой другой опыт терапевта влия¬
ют на каждый нюанс терапии. Эти переменные в свою очередь воздействуют на
стиль терапевта, на его речь, на его манеру одеваться и двигаться в ходе сессии, на
способы его привычного реагирования на различные типы клиентов и на то, как
разные клиенты реагируют на него. Даже теоретическая ориентация терапевта и
методы, которые он выбирает для своей работы, детерминируются некими его лич¬
ностными особенностями. Крайне важно, чтобы психотерапевт осознавал себя в
своей работе и не прятался за рационализации о том, что в данном случае он при¬
менил наилучшее из всех возможных решений. Иначе терапевт рискует стать сле¬
пым к потребностям клиента, и терапия может не только потерять свою эффек¬
тивность, но и привести к болезненным (ятрогенным) последствиям.
При условии, что относительный клинический успех детской психотерапии
базируется на сильно расходящихся между собой теоретических моделях, необ¬
ходимо учитывать возможность того, что она не является теорией, гарантирую¬
щей, будет ли конкретное терапевтическое вмешательство успешным или нет.
Вейц (Weisz, 1986) обнаружил, что улучшения личности и поведения детей в ходе
терапевтических встреч не связаны с теоретической ориентацией терапевта. Ис¬
следования процесса психотерапии, проведенные на взрослых клиентах, показы¬
вают, что для клиентов способность терапевта помочь им прийти к новому пони¬
манию своих проблем является наиболее ценной и не зависит от принадлежности
терапевта к той или иной теоретической парадигме (Elliott, 1984). Шерк и Рассел
(Shirk & Russel, 1996) предложили следующие шесть первичных процессов, обес¬
печивающих изменения.
1. Инсайт, достигаемый через интерпретацию.
2. Обеспечение поддержки, то есть способность терапевта поддерживать кли¬
ента, когда он пытается совершить сложные для него жизненные изменения,
необходимость которых назрела в ходе психотерапии.
3. Развитие дополнительных навыков у клиента.
74 Часть L Введение
4. Коррекция нарушений когнитивной сферы ребенка через изменение его
межличностной схемы.
5. Повышение самооценки клиента, достигаемое тем, что терапевт постоянно
поддерживает клиента, а также ценит его поступки и его самого.
6. Снижение эмоционального сопротивления, мешающего ребенку вести себя
адекватно, которое происходит потому, что терапевтическая работа направ¬
лена на улучшение эмоциональной регуляции ребенка.
Хотя наше клиническое видение этих процессов может происходить с позиций
различных теоретических моделей (например, инсайт обычно считается психо¬
аналитическим методом, а коррекция ошибочных установок — когнитивно-бихе-
виоральным), Шерк и Рассел (Shirk & Russel, 1996) предложили применять их
в каждом эффективном виде терапии, безотносительно от концептуальной при¬
надлежности терапевта.
Независимо от теоретической ориентации терапевта, грамотно проводимая
психотерапия реорганизует опыт клиента новым, но все же систематическим об¬
разом. Теория обеспечивает именно систему, посредством которой совершается
эта реорганизация. Клиент, приходящий на терапию, демонстрирует цельную кар¬
тину патологичного поведения, он не способен действовать так, чтобы удовлетво¬
рять свои потребности. Терапевт помогает клиенту по-новому понять его пробле¬
му, реструктурируя таким образом его опыт. Это новое понимание создает для
клиента возможность мыслить и поступать гибко, а грамотно представленное —
создает мотивацию экспериментировать с изменениями поведения. Если система
или теория, на основании которой терапевт базирует информацию, предоставля¬
емую им клиенту, четкая и понятная, клиент постепенно усваивает эту систему и
развивает независимую способность гибко мыслить и изменять свое поведение.
Хотя этот процесс идет легче, если и клиент и терапевт могут взаимодействовать
на вербальном уровне, при работе с детьми можно осуществлять его посредством
комбинации терапевтических и вербальных переживаний.
Другими словами, создается впечатление, что многие люди приходят на тера¬
пию потому, что испытывают трудности, которых не могут разрешить. Они не спо¬
собны найти ответственные пути удовлетворения своих базальных потребностей
(Glasser, 1975). В терапии они считают полезным процесс совместного с терапев¬
том поиска решений их проблем. По сути, возникает идея, что вся психотерапия
может сводиться к некоей форме социального разрешения проблем. Терапевт по¬
могает клиенту идентифицировать проблему (часто это самая длительная часть
всего процесса), генерировать ее возможные решения, оценить и реализовать те
решения, которые с наибольшей вероятностью могут привести к желаемым резуль¬
татам, и затем оценить последствия затраченных усилий. Теоретический язык,
которым описывается прохождение этих шагов, не столь важен, как сами шаги.
Клиенты, проходящие процедуру психоанализа, приходят к пониманию своей
жизни в терминах воздействия прошлого опыта и внутренних конфликтов, воз¬
буждающих их тревогу и включающих их защиты. Клиенты, проходящие курс гу¬
манистически ориентированной психотерапии, по-новому осознают свой опыт,
говоря при этом о своей способности и своем праве удовлетворять свои потребно¬
сти и создавать для себя здоровую окружающую среду. Пациенты бихевиораль-
Глава 3. Проблемы многообразия 75
ных терапевтов обнаруживают, что они по-новому ведут себя, и получают новые
виды подкрепления или, по самой меньшей мере, не теряют старых подкреплений.
Если ориентация терапевта не является критической переменной, влияющей
на достижение клиентом позитивного результата, следует ли терапевту заботить¬
ся о принятии какой-либо одной конкретной направленности? Ответом будет гро¬
могласное: «Да!» Теоретическая подготовка терапевта, какой бы она ни была, —
это рамки, внутри которых он выстраивает все свое понимание трудностей кли¬
ента, все необходимые для помощи ему методы и техники, и все критерии оценки
достигнутых результатов. Без структурированной теоретической базы размышле¬
ния терапевта о каждом конкретном случае не будут ясными, и перемещение по
стадиям социального разрешения проблем будет хаотичным. Клиент не сможет
получить новое понимание своих затруднений, потому что терапевтический про¬
цесс будет основан на случайности, а не на логике. Например, объясняя клиенту
программу снижения его тревожности перед пребыванием в общественных мес¬
тах, терапевт может натолкнуться на проблему, мучившую клиента в его детских
(объектных) отношениях с матерью. Оба эти компонента могут быть важными,
даже связанными друг с другом, но пока терапевт не представит систематическо¬
го объяснения каждого из них, клиент будет уходить с сессий, не имея понимания
этого процесса. Если клиент остается в потемках слишком долго, он может бро¬
сить терапию или, наоборот, приобрести зависимость от нее, потому что из-за нее
он чувствует себя лучше и считает это прекрасным волшебством. Более того, если
клиент не может прийти к пониманию процесса, он не сможет научиться решать
свои собственные проблемы, и перенос достигнутых в ходе терапии изменений в
реальную жизнь будет минимальным.
Если используемая теоретическая модель не имеет первостепенной определя¬
ющей значимости для результатов лечения, возникает впечатление, что именно
принятие терапевтом некоей теории, которой он последовательно придерживает¬
ся, лучше позволяет ему упорядоченно выполнять свою работу и понятным язы¬
ком сообщать клиенту необходимые элементы понимания и эмпатии. Чтобы при¬
нять некую теоретическую модель, всецело согласующуюся с внутренним миром
терапевта, он должен основательно понять как философские предпосылки теории,
так и свою индивидуальную философию.
Индивидуальная философия и принадлежность
к теоретическому направлению
Природа человека
Один важный компонент самосознания требует проверки личных убеждений о
фундаментальной природе человека. Верите ли вы, как человек, что все люди хо¬
рошие по своей природе? Такая вера является базисом гуманистического подхода,
предложенного Экслайном (Axline, 1947) в описании ее метода игровой терапии.
Но Роджерс и Экслайн добавляют следующее утверждение: «Внутри каждого из
нас есть стремление стать настолько лучшим, насколько это возможно, стремле¬
ние к самоактуализации». Игровая терапия Экслайна основывается на положении
о том, что окружающая человека среда искажает этот мотив и вызывает неадаптив¬
ное поведение. Эта посылка логически приводит к разработке терапевтического
76 Часть I. Введение
подхода, в котором для ребенка обеспечивается оптимальная, конструктивная
среда, в которой потребность ребенка в самоактуализации может восстановиться.
Психоаналитическая концепция рассматривает людей исходя из совершенно
иной философской позиции. Фрейд до самой своей смерти защищал концепцию
Танатос, деструктивного драйва, или инстинкта смерти, которым обладает каждый
из нас. Представители гуманистического направления считают окружающую сре¬
ду причиной патологии человека; Фрейд же не мог найти объяснений своему на¬
блюдению о том, что значительная часть саморазрушительного поведения инди¬
вида продолжается даже в отсутствие очевидно загрязненной среды. Со временем
убеждение Фрейда в существовании инстинкта смерти приобретало все большую
необходимость для поддержания всей его теории здоровой личности. В конце кон¬
цов, Фрейду было бы сложно доказать концепцию деструктивных невротических
конфликтов в отсутствие значимых раздражителей, если бы он не считал, что
внутри личности существует некий потенциал для патологии или, по меньшей
мере, некое влечение к хаотическому. Гуманистическая и психоаналитическая тео¬
рии расходятся не просто в вопросе о человеческих мотивах, но и в некоторых
своих философских позициях.
Философские позиции обеих теорий ограничивают ответственность индиви¬
да за свое поведение. В гуманистической модели это характеризуется замечанием
о том, что у людей есть потребность быть хорошими, а неадаптивное поведение —
это результат воздействия общества или окружающей среды, что снимает ответ¬
ственность за свои проблемы с индивида и перемещает ее во внешний мир. Фрейд,
напротив, ставил индивидуальную ответственность выше социальной, но предпо¬
лагал, что индивиды, по существу, находятся во власти своих драйвов и жизнен¬
ных историй. В психоаналитической модели индивиды не обладают свободой ве¬
сти себя вразрез со своим прошлым опытом до тех пор, пока не достигнут инсайта.
Поведенческая терапия занимает сравнительно нейтральную позицию относи¬
тельно природы человека. Люди не являются ни хорошими, ни плохими; они —
просто живые организмы, реагирующие на предъявляемые им паттерны подкреп¬
ления. Менее радикально настроенные теоретики бихевиоризма допускают воз¬
можность того, что поведение человека — результат взаимодействия между ним и
окружающей его средой, но они практически не приписывают ни одной из сторон
взаимодействия никакой изначально присущей им ценности.
Для терапии реальности (Glasser, 1975), напротив, существует исключительно
ответственность индивида за свое поведение, с того момента, как он развил у себя
некоторые способности к рассуждению. Лежащее в основе теории Глассера убеж¬
дение заключается в том, что люди совершают любые действия для удовлетворе¬
ния некоторых своих базальных потребностей. Индивиды обладают способностью
поступать так, как они захотят, и должны испытывать давление общества в том,
чтобы удовлетворять свои потребности, не нарушая основного права других лю¬
дей: добиваться удовлетворения своих потребностей. В данном подходе поведе¬
ние ценится в соответствии со степенью удовлетворения потребностей индивида,
осуществляющегося без ущемления других людей. В случаях конфликта между
потребностями индивида и потребностями большинства большинство получает
преимущество.
Глава 3. Проблемы многообразия 77
Эти различия в теоретическом понимании природы человека отчасти совпада¬
ют с различиями между обществами, в которых акцент делается на индивидуаль¬
ной, а в других — на социальной ответственности. В западных индустриальных
обществах существует склонность делать акцент на правах человека, хотя для них
характерны колебания проблемы индивидуальной ответственности. Право инди¬
вида удовлетворять свои потребности считается первостепенно важным до тех
пор, пока оно не начинает значительно ущемлять права других. С другой стороны,
индивиды считаются жертвами крупных социальных сил. Американцы запальчи¬
во доказывают, что люди имеют право курить сигареты, если они делают этот вы¬
бор. Единственные предписания закона, которыми они готовы ограничить это
поведение, — это разрешение курить лишь в тех местах, где невозможно никого
сделать пассивным курильщиком и таким образом навредить ему. Присяжные
заседатели вознаграждают астрономическими суммами людей, пострадавших от -
последствий ущемления их права курить. Кто ответственен за смерть курильщика
от рака — табачная компания, продающая продукт, или сам курильщик, делающий
выбор в пользу курения? В азиатских обществах часто считают, что необходимо
ограничить права отдельных людей для блага общества в целом. В Японии мно¬
гие браки все еще заключаются родителями молодых людей вместо них самих.
В поддержку этой практики есть довод, что родителям, и даже их родителям, луч¬
ше видно, что хорошо для их детей и внуков, а также для двух соединяющихся
семей. По мере индустриализации Японии усиливается ее сходство с западным об¬
ществом, но различия остаются. Данное обсуждение этой проблемы не следует ин¬
терпретировать как намек на то, что один взгляд на мир лучше, чем другой. Ско¬
рее, цель такого обсуждения заключается в том, чтобы подчеркнуть важность
постоянного стремления к оптимальному балансу между потребностями индиви¬
да и потребностями многих систем, в которые он включен.
Хотя убеждения о природе человека, представленные в этих четырех теориях,
вовсе не исключают друг друга, они приводят к существенным различиям в том,
как терапевт понимает психопатологию и терапевтическое вмешательство. Поэто¬
му важно, чтобы терапевт сделал первый шаг в развитии теоретической позиции,
которая ему внутренне близка и понятна. Терапевт добивается этого, исследуя
свои личные установки и взгляды на сущность человека.
Ценность индивида против ценности системы
В теоретических моделях, представленных в главе 2, отражается тот факт, что срав¬
нение ценности индивида с ценностью систем, в состав которых входит данный
индивид, становится источником потенциального конфликта для терапевта. Те¬
рапевт должен постоянно ставить под вопрос свою роль в осуществлении психо¬
терапии.
Действительно ли задача терапевта заключается в том, чтобы помочь ребенку
достичь инсайта и таким образом изменить поведение, как утверждает психоана¬
лиз? Если да, то контакт с семьей, школой или любым представителем общества
кажется таким же бессмысленным, как если бы мы предположили, что ребенок
таит в себе способность к самоактуализации. Даже наивный или идеалистически
настроенный терапевт должен осознавать, что инсайт вряд ли сможет изменить
поведение ребенка при отсутствии изменения реагирования, которое он получает
78 Часть I. Введение
из внешней среды. Но психоаналитическая позиция состоит в том, что внутрен¬
ние аутореакции ребенка более важны для него, чем реакции окружающего мира
на него.
Действительно ли задача терапевта заключается в том, чтобы помогать ребен¬
ку самоактуализироваться, как утверждает гуманистическая психология? Если да,
то контакт с семьей, школой или любым представителем общества кажется совер¬
шенно неуместным. Терапевт должен помочь ребенку стать лучшим человеком,
каким он только может стать, создавая на сессиях оптимальную для этой цели сре¬
ду. Потребности ребенка ставятся выше, чем структуры окружающей среды. Но
даже самый наивный терапевт должен принимать тот факт, что его клиент — ре¬
бенок — должен оставить его кабинет и жить в реальном мире. Таким образом,
терапевту необходимо или помочь ребенку найти некую золотую середину между
его потребностями и требованиями реальности, или же помочь среде стать менее
«токсичной», если рост ребенка может выйти за пределы сессии.
Действительно ли задача терапевта заключается в том, чтобы анализировать
поведение ребенка, раскрывать проблематичные аспекты его системы подкрепле¬
ния и работать над реорганизацией этой системы? Если это так, то терапевту по¬
надобится множество контактов с людьми и системами, распределяющими для
ребенка вознаграждения и наказания, и потенциально мало контактов с самим
ребенком. Ребенок должен научиться вести себя в соответствии с ожиданиями тех
систем, к которым он принадлежит.
Наконец, является ли терапевт агентом общества, кем-то, кто учит ребенка соци¬
ально приемлемым стратегиям удовлетворения своих потребностей, как утверждает
Глейзер? Если это так, терапевту понадобится множество контактов с представи¬
телями мира ребенка, чтобы помочь ему развить самые реалистичные из возмож¬
ных стратегий поведения.
Безотносительно теоретической позиции терапевта, реальность такова, что ре¬
бенок — это индивид, включенный в многочисленные взаимосвязанные системы:
семейную, школьную, юридическую, медицинскую, культурную, общесоциаль¬
ную, в экосистему. Если терапевт хочет, чтобы изменения, достигаемые в ходе те¬
рапии, помогали клиентам в их повседневной жизни, то эти системы необходимо
принимать во внимание на каждом этапе этого процесса.
Семейная система
Первые конфликты типа «система против индивида», о которых можно говорить,
это конфликты, затрагивающие потребности ребенка и потребности его семьи.
С прагматической точки зрения терапевт должен признать, что именно члены семьи
приводят ребенка на терапию и платят за сессии. Несомненно, это не должно быть
основой для принятия терапевтических решений, но немногие терапевты в состо¬
янии вообще игнорировать этот факт. Во-вторых, терапевту нужно осознать, что
его клиент должен с сессий уходить домой и жить в условиях семьи, а это означа¬
ет, что ребенок должен разработать некий способ удовлетворения своих потреб¬
ностей именно в своей семье. В-третьих, семья должна поддерживать или, по мень¬
шей мере, терпеть, изменения в поведении ребенка, иначе они могут частично или
полностью подорвать весь достигнутый ребенком прогресс. Наконец, если поведе-
Глава 3. Проблемы многообразия 79
ние ребенка становится чрезмерно неадаптивным, терапевт должен рассмотреть во¬
прос о том, не следует ли удалить ребенка из семьи. Должен ли терапевт в этой си¬
туации в первую очередь руководствоваться интересами семьи или интересами ре¬
бенка? Как оформляется решение? Оптимальным вариантом является совместное
принятие такого решения терапевтом и семьей в интересах ребенка. В других случа¬
ях можно сослаться на то, что решение фактически принято самим ребенком, про¬
должающим свое деструктивное поведение, которое семья больше не может терпеть.
Культурная система
Во вторую очередь терапевту приходится думать о разрешении потенциальных
конфликтов между ребенком и его субкультурой.
Франклин был светлокожим афроамериканским ребенком, а его поведение ясно пока¬
зывало, что он не считает себя хотя бы частично афроамериканцем. Франклин играл
только с белыми детьми, говорил о себе, как о белом, и пренебрегал национальной пи¬
щей, которую готовили в его семье. Его белые сверстники поощряли такую самоиден¬
тификацию и с готовностью включали его в свою группу. Он хорошо учился в своей
начальной школе для белых. Но его поведение чрезвычайно угнетало его афроамери¬
канских (негроидных) родителей, несмотря на то что, по их словам, они эмоционально
близки со своим сыном, когда вместе находятся в семье. Поведение Франклина созда¬
вало проблемы, когда семья посещала своих афроамериканских родственников.
Следует ли считать Франклина подходящим кандидатом для игровой терапии?
Несомненно, его отрицание собственного расового происхождения было драма¬
тичным и, возможно, свидетельствовало о нездоровье, но, кроме этого, он не про¬
являл никакого симптоматического поведения. Пришлось бы вынести очень мно¬
го ценностных суждений, прежде чем принять решение о том, стоит ли лечить
этого ребенка и какие цели лечения необходимо выдвинуть. Многие из этих цен¬
ностных суждений непосредственно зависели бы от собственных чувств терапев¬
та относительно ценности и сохранения всех аспектов собственной этнической
принадлежности против потребности индивида в социальной адекватности. Мож¬
но легко вообразить, что эти решения значительно варьировались бы в зависимо¬
сти от расовой принадлежности самого психотерапевта.
Теперь давайте посмотрим на ситуацию, в которой конфликт между ребенком
и культурой не связан со значительными искажениями реальности, а просто от¬
ражает различные степени адаптации к данной культуре и ее принятия. Рассмот¬
рим потомков эмигрантов второго и третьего поколения. В течение последних
десяти лет в Калифорнии наблюдался небывалый наплыв беженцев (эмигрантов)
из Юго-Восточной Азии. Некоторые из этих групп испытывали огромные труд¬
ности, адаптируясь к жизни в Америке, в силу радикальных различий между их
родной культурой и современной англо-американской культурой Соединенных
Штатов. Многие эти люди были крестьянами, жившими практически в племен¬
ной общине, а теперь оказались в урбанистической обстановке. Тогда как пересе¬
ленцы первого поколения испытывали трудности, совершая этот переход, их дети,
обучавшиеся в системе общественных школ, часто очень быстро адаптировались.
Крайний конфликт между родителями и ребенком может возникать, когда новая
система ценностей детей сталкивается с традиционными ценностями родителей.
80 Часть /. Введение
Нуждается ли в лечении девочка из Юго-Восточной Азии, которая после школы
хочет играть со своими сверстниками, а не помогать родителям по дому, которая
хочет носить модную одежду и общаться с мальчиками? Конечно, такое поведе¬
ние может вызывать проблемы в семье, но будет ли оно проблемным, если взять
его отдельно? В чем задача терапевта: способствовать адаптации семьи, сохранять
ее исходную культуру или разрабатывать некое компромиссное решение? Каждая
тактика несет в себе скрытые ценностные установки.
Общество в целом
Помимо ситуаций, в которых детские проблемы могут проявляться в виде конф¬
ликтов между ребенком и семьей либо ребенком и его культурной или этнической
группой, терапевт также часто сталкивается со случаями, когда трудности ребен¬
ка лучше всего описать как конфликты между ребенком и любой из многочислен¬
ных систем, в которые он включен. Первичными среди этих трудностей оказыва¬
ются проблемы, проистекающие из конфликтов между потребностями ребенка и
требованиями школы. Учителя сообщают о существовании многочисленных про¬
блем с поведением — от чрезмерно болтливых детей до тех, кто отказывается вы¬
полнять задания, и тех, кто яростно набрасывается на своих сверстников. Многие
из этих детей нуждаются в терапии, но все же некоторые из них просто реагируют
на токсичную среду, что видно в следующем примере.
Джозефа привели на терапию с жалобами на многочисленные симптомы, свидетель¬
ствующие о серьезном невротическом расстройстве. Его мучили ночные кошмары, у не¬
го появились проблемы со сном и приступы вины, когда он мог часами говорить с ма¬
терью, рассказывая ей о проступках, которые он совершил дни, месяцы и даже годы
назад. Школьная успеваемость также начала падать. Его мать серьезно обеспокоилась
этим, но решила поговорить с другими матерями детей из класса ее сына, прежде чем
искать помощи на стороне. В этих беседах она вскоре заметила, что родители девочек
не говорили о каких бы то ни было проблемах, а родители мальчиков сообщали обо всех
видах регрессивных симптомов, от тревожности до энуреза.
Затем выяснилось, что учительница этого класса создавала для мальчиков клас¬
сические ситуации двойной связи {double-bind). Один день она могла критиковать
их за то, что они слишком много говорят на уроке, и, не отпуская их на перемену,
терроризировать их (однажды она так сильно ударила одного мальчика, что у него
разбились очки). На следующий день ни один мальчик за все утро не проронил
ни слова, и, когда пришло время перемены, учительница опять задержала мальчи¬
ков, говоря им, что они не участвовали в работе класса так, как она этого хотела.
После серьезного лоббирования школьный округ согласился перевести эту учи¬
тельницу в другую школу (не уволив ее с работы), и симптомы мальчиков затих¬
ли в течение нескольких недель.
Если бы Джозеф был направлен на лечение, к сожалению, существует боль¬
шая вероятность того, что игровая терапия началась бы без существенного изуче¬
ния степени токсичности среды, окружающей ребенка, так как мы бессознатель¬
но предполагаем, что большинство учителей на самом деле не причиняют детям
зла. Также вероятно, что симптомы Джозефа не исчезли бы в результате терапии
Глава 3. Проблемы многообразия 81
до тех пор, пока он продолжал бы каждый день сталкиваться с жестокой школь¬
ной средой.
Другой пример потенциального конфликта между потребностями детей и по¬
требностями системы взят из педиатрической клиники-стационара, где лежали
дети с переломами, многие из них были умственно неполноценными. Внизу распо¬
лагалось ортопедическое отделение, где с них снимали гипс. Однажды дети в те¬
чение всей процедуры кричали от ужаса, главным образом от вида используемой
для этого пилы и от звука, который она при этом издавала. Они не могли понять,
как это пила, которая запросто режет гипс, сможет не повредить их кожу. Хирур¬
ги-ортопеды сопротивлялись многочисленным предложениям психологов, кото¬
рые хотели создать программу десенсибилизации, чтобы дети могли проходить ее
за несколько дней до запланированного снятия гипса. Они аргументировали это
тем, что программа займет слишком много времени.
В постоянных попытках сбалансировать потребности ребенка и потребности
многочисленных систем, в которые он вовлечен, игровой терапевт должен осо¬
знавать, что в некоторой степени его ролью является посредничество в передаче
социальных норм и порядков. В лучшем случае терапевт помогает детям научить¬
ся удовлетворять наибольшее число своих потребностей, нарушая при этом наи¬
меньшее число социальных правил. Одна из опасностей этой позиции заключает¬
ся в том, что терапевт учит клиента конформности, а не тому функционированию
высокого уровня, которое ценится обществом (например, оптимальное моральное
развитие, о котором писал Колберг). Будет ли прошедший терапию ребенок спо¬
собен пойти против общества, когда наступит такая необходимость? Даже этот
вопрос отражает англо-западную точку зрения, которая ценит нонконформизм.
Многих азиатских, восточных родителей поразила бы мысль о том, что терапевт
может продуцировать что-либо иное, чем подчинение социальным порядкам. Мы
опять лицом к лицу сталкиваемся с проблемой, создаваемой многообразием куль¬
турных и философских ценностей.
В рамках экосистемной игровой терапии существует положение о том, что роль
игрового терапевта — вместе с ребенком разрабатывать стратегии удовлетворения
максимального количества его потребностей, позволяемое социокультурным кон¬
текстом, к которому он относится. Таким образом, терапевту достается гораздо
более защищающая роль, чем это характерно для некоторых теоретических моде¬
лей, но опять же это необходимо, если помнить о зависимом положении детей в
обществе. Игровой терапевт — это союзник ребенка, но он еще и союзник родите¬
ля, союзник семьи, в конечном счете — союзник общества. Эта смесь ролей несет
с собой скрытую сложность в определении профессиональных ограничений. Не¬
удивительно, что многие игровые терапевты делают выбор в пользу избегания
конфликтов, замыкаясь в своих кабинетах и редко осмеливаясь выходить на ули¬
цу, в реальный мир, где живут их клиенты. Чтобы принять приведенное здесь ос¬
новное положение относительно роли терапевта, игровым терапевтам придется
осознать, что они обладают влиянием не только на своих индивидуальных клиен¬
тов, но и (опосредованно) на довольно крупную совокупность систем, каждая из
которых может отреагировать такими способами, которые непосредственно воз¬
действуют на ход лечения.
82 Часть /. Введение
Ценности и биография терапевта
Этническая и культурная биография
Как мы могли увидеть в случае с Франклином (пример неудачи в развитии иден¬
тичности, соответствующей своей этнической принадлежности), реакция терапев¬
та обусловлена его этническим и культурным происхождением настолько же силь¬
но, если не сильнее, как и его философской позицией и методологической базой.
Этническая принадлежность — такая фундаментальная часть личности и жизнен¬
ного опыта человека, которая целиком отражается в его способе видения мира.
Кавказец, живущий в кавказской культуре, вряд ли может точно представлять, что
значит быть чернокожим в той же среде. Каково бы ему было однажды проснуть¬
ся чернокожим? Как бы реагировали на него окружающие? И как их реакции из¬
меняли бы его поведение?
Язык
В процессе разработки и осуществления большинства психологических воздей¬
ствий было сделано важное предположение о том, что вербальное общение край¬
не значимо и поэтому должно преобладать во взаимодействиях между терапевтом
и клиентом. Это отнюдь не универсальное, всеми разделяемое мнение; на самом
деле представители многих культурных групп, таких, например, как американские
индейцы, могут посчитать, что им сложно говорить столько, сколько хочет тера¬
певт и что для их общества неприемлемо такое количество разговоров.
Большинство терапевтов, кроме того, склонны полагать, что некоторые проявле¬
ния невербального поведения всеми людьми расцениваются одинаково. В англи¬
зированных культурах контакт глаз считается знаком общей социальной адапта¬
ции человека, знаком того, что ему можно доверять, знаком уважения. Но в таких
обществах, как культуры американских индейцев или азиатов, взгляд в глаза рас¬
ценивается как неуважение и навязчивое вторжение. Такие различия существу¬
ют практически для всех форм языка тела.
Существование языковых различий между терапевтом и ребенком может стать
причиной значительных сложностей в проведении игровой терапии. Главной про¬
блемой становится прямой перевод, когда терапевт и ребенок пытаются перевес¬
ти смысл используемого вербального и телесного языка. Однако гораздо более
тонкого подхода требует перевод идиоматического языка; даже опытный перевод¬
чик может не справиться с передачей действительного значения идиоматическо¬
го выражения или фразы, бытующей в данной культуре.
Игровая терапия не всегда проходит гладко, если ребенок и терапевт говорят
на разных языках. У обоих участников взаимодействия могут возникать пробле¬
мы с переводом значения вербального и невербального поведения. Потенциаль¬
ное преимущество игровой терапии заключается в том, что действие в ней совме¬
щается с языком, к которому могут прибегать и терапевт и ребенок для создания
взаимодействий типа «покажи и расскажи» и снижения, таким образом, вероят¬
ности неточного или ошибочного понимания.
Глава 3. Проблемы многообразия 83
Социальный класс
Большинство игровых терапевтов — выходцы из среднего и «верхнего среднего»
классов или переходят на эти социально-экономические уровни, став взрослыми.
Большинство клиентов, однако, поставляются низшими социально-экономиче¬
скими группами. Это различие создает вероятность потенциального столкновения
классовых ценностей. Проблемы могут возникать, например, в области целепола-
гания. Терапевты обычно склонны искать скрытую причину поведения и разра¬
батывать долгосрочные решения проблемы. В движении к этой цели они готовы
долго выдерживать состояние неопределенности. Но клиенты из низших социаль¬
но-экономических групп обычно более ориентированы на разрешение текущих
проблем. Им нужен совет и план конкретных действий по совладанию с конкрет¬
ными проблемами. И терапевт и клиент могут испытывать фрустрацию из-за не¬
совпадения долговременных целей.
Религия
Влияние религиозных убеждений терапевта на практику игровой психотерапии
может быть более или менее незаметным. Они могут отражаться в суждениях те¬
рапевта относительно моральности поведения семьи или ребенка. Терапевт может
посчитать экзистенциальную депрессию семьи результатом потери веры, или веры
в специфическую религию, или веры в специфическое божество. И наоборот, соб¬
ственный атеизм может заставить терапевта упустить роль религии в жизни сво¬
их клиентов. Он может чувствовать разочарование из-за отказа семьи активно уча¬
ствовать в лечении своего ребенка из-за их убеждения в том, что «на все Божья
воля» и эта ситуация от них не зависит.
Религиозные убеждения терапевта также взаимодействуют с другими аспек¬
тами процесса лечения и воздействуют на них. Например, общепринятым фактом
являются довольно сильные фантазии или надежды большинства терапевтов о
спасении своих клиентов. Некоторые религиозные представления усиливают или
ограничивают эти фантазии. Некая женщина, терапевт-супервизор, однажды ска¬
зала некоему студенту, что интенсивность его «душеспасительных» фантазий,
скорее всего, обеспечена ему его католическим воспитанием. «В конце концов, —
несколько иронично сказала она, — иудеи могут ограничить свое чувство вины и
ответственности теми ситуациями, когда они не оправдали ожиданий матери.
Протестанты могут ограничить свое чувство вины и ответственности теми ситуа¬
циями, когда они не справились с ожиданиями, связанными с их работой. Но чув¬
ство вины католиков универсально. Они считают, что им следует нести некую
ответственность и испытывать чувство вины в ответ практически на все плохое,
что происходит в мире». В этом конкретном случае религиозная биография этого
студента, видимо, расширила его личность и его терапевтический стиль, резуль¬
татом чего явились интенсивные фантазии о спасении.
Семейный опыт
Изучение детских переживаний психотерапевта показало, что разделяемый всеми
миф о них может не только быть правдой, но и работать на пользу детям, их клиентам
84 Часть I. Введение
(Poal & Weisz, 1989). Имеется в виду убеждение, что люди, ставшие детскими те¬
рапевтами, должно быть, сами в детстве имели проблемы. В ходе исследования
детским психотерапевтам выдавали Опросник поведения ребенка {ChildBehavior
Checklist) и просили их вспомнить, с проблемами какого типа они сталкивались
в детстве. Выяснилось, что терапевты действительно сообщали о большем коли¬
честве проблем в своем детстве, чем можно было ожидать при случайной выборке.
Затем был проведен корреляционный анализ между результатами отчетов тера¬
певтов и списками поведенческих изменений их клиентов-детей, о которых со¬
общали терапевты. Выяснилось, что чем более проблематичным терапевт описы¬
вал собственное детство, тем о больших улучшениях своих клиентов он сообщал.
По нескольким причинам, указанным в исследовании, этот факт не кажется про¬
стым результатом возросшей у терапевта эмпатии, а потенциально является ре¬
зультатом выросшего личного опыта терапевта в области разрешения проблем.
Помимо этого исследования, существует много теорий о том, почему люди вы¬
бирают профессию, связанную с помощью другим, в том числе профессию дет¬
ского психотерапевта. Практически все эти теории называют определяющим фак¬
тором в выборе карьеры проблемные переживания от жизни в родительской семье.
Модель Миллера (Miller, 1981) предполагает, что рост в семье родителей с нар-
циссическим типом личности приводит к тому, что ребенок становится чрезмер¬
но ориентированным на удовлетворение потребностей других, видя в этом способ
удовлетворения своих собственных потребностей. Представляется правдоподоб¬
ным, что чем младше был ребенок, когда он осознал потребность приспосабливать¬
ся к потребностям родителей, тем с большей вероятностью он примет решение ра¬
ботать с детьми, когда вырастет. Это умозаключение соотносится с мыслью о том,
что игровые терапевты должны вылечить «ребенка внутри себя», прежде чем они
станут эффективными в своей работе.
Кроме того, в соответствии с результатами этих исследований данные наблю¬
дений показывают, что многие аспиранты, проходящие подготовку по программе
детской психотерапии, имели менее чем оптимальное детство и что одна из сопря¬
женных с этим проблем — действительное отсутствие безоблачного детства. Боль¬
шинство этих индивидов в очень раннем возрасте, часто раньше пяти лет, стали
«родителями» в своих семьях, совершив, таким образом, ролевую инверсию со
своими собственными родителями, что стало препятствием к получению опыта
нормального детства. Это были взрослые люди, которые мало играли; зато они
были очень сенситивными в межличностных и внутренних отношениях, заботли¬
выми людьми, ставящими потребности окружающих выше своих собственных.
Многие из них сообщали о своем отсроченном детстве, говорили о периоде бур¬
ного отреагирования в течение подросткового возраста или во время ранней взрос¬
лости, и многие сказали, что в их жизни совсем не было периода детства. До тех
пор, пока эти люди не получили лечения, ускорившего их обучение заботе о сво¬
ем внутреннем ребенке, существование которого все это время отрицалось, они
подвергались серьезному риску начать заботиться о своем ребенке, осуществляя
терапию своих клиентов. Часто это можно наблюдать, когда игровой терапевт, за¬
нимаясь с ребенком, делает вещи, которые очевидно задуманы на благо ребенку,
но совершенно игнорируют его потребности в данный момент.
Глава 3. Проблемы многообразия 85
Начальная часть этой главы сконцентрирована на том, как ценности, убежде¬
ния и опыт терапевта влияют на применение им игровой терапии и на его отно¬
шения с конкретным ребенком. Теперь давайте обратим наше внимание на то, как
воздействуют на процесс терапии проблемы культуры и непохожести на нас дру¬
гих людей. Здесь появляется сразу несколько проблем: степень, в которой фено¬
мены культуры подвергаются изменениям, определение культуры, воздействие
культуры на сферу психического здоровья и важность учета в практике игровой
терапии многообразия людей и культур.
Глобализация
К сожалению, продолжается процесс постепенной трансформации мира по образ¬
цу западной культуры. Мы говорим «к сожалению» не из-за каких-либо специфи¬
ческих, присущих Западу пороков (хотя некоторые могут поспорить, что такие
пороки существуют), но из-за того, что человечество рискует потерять то свое
многообразие, которое делает такой существенный вклад в сложность и креатив¬
ность человеческого мышления. Один из примеров такой вестернизации — почти
всемирное распространение сети Интернет как средства коммуникации и англий¬
ского языка как языка этой сети. Если мы утрачиваем какой-либо язык, мы утра¬
чиваем мысли, которые не имеют эквивалента в других языках. Известный при¬
мер этого — тот факт, что в языке эскимосов существует более двадцати слов для
обозначения явления, в английском языке обозначающегося всего лишь одним
словом «снег». Язык отражает и передает то, что важно для данной культуры.
Язык — это лишь один из примеров богатого наследия, которому угрожает про¬
цесс глобализации.
Формирование Европейского союза обеспечивает нам прекрасную иллюстра¬
цию направления, в котором, по-видимому, движется весь мир. В прошлом раз¬
личия между странами Европы и присущими каждой из них чувствами своей эт-
ничности сделали бы подобный союз невозможным. Глобализация перешагнула
многие из этих трудностей и подтолкнула эти страны к объединению для дости¬
жения взаимной выгоды. Ясно, что некоторые из более бедных государств сильно
выигрывают от этого союза, но неизбежно будут и потери. Одна из проблем вновь
сформированного союза — неспособность составляющих его стран согласовать
единый набор стандартов для специалистов в области психического здоровья
(Lunt & Poortinga, 1996). Даже несмотря на то что все эти государства можно счи¬
тать разделяющими западный взгляд на психологию и психическое здоровье, их
собственные внутренние различия создают значительные трудности в их концеп¬
циях подготовки и квалификации специалистов этой сферы.
Глобализация осложняет процесс осмысления культуры. С одной стороны, она,
видимо, снижает различия между культуральными группами. С другой стороны,
по мере уменьшения культурной изоляции возрастает важность понимания регио¬
нальных, местных, семейных и индивидуальных различий. Становится более зна¬
чимым осознание континуума человеческих различий. В то время как каждый
человек является уникальным индивидом, множество раз индивидуальные разли¬
чия становились предметом дискуссии среди тех, кто стремится минимизировать
важность принадлежности к культуре и к любым другим группам. Критически
86 Часть I. Введение
важной стала способность понимать сравнительное воздействие групп и культур
на индивидов как в контексте психотерапии, так и вне его. По сути, культура как
объект изучения стала движущейся мишенью, когда люди стали свободно пере¬
мещаться между странами и континентами. В силу этого, рассматривая понятие
культуры, следует держать в уме следующие пункты: 1) межкультурные контак¬
ты и отношения приводят к созданию новых культур-гибридов; 2) появляется ге¬
терогенная глобальная система; культурная сложность повышается, а не понижа¬
ется (Hermans & Kenipen, 1998).
Определение культуры
В контексте данной книги термин «культура» используется очень широко для обо¬
значения опознаваемой группы людей, разделяющих общий язык, верования и
убеждения (beliefs), ценности или обычаи, передаваемые из поколения в поколе¬
ния. Как правило, среди культурных групп можно выделить группы, имеющие
расовую, этническую, религиозную и национальную общность. Менее распростра¬
нено понимание под культурными группами мужчин, женщин и пожилых людей,
несмотря на то что это-гфотиворечит широкому определению. Еще менее распро¬
странено выделение культурных групп на основании физических способностей и
сексуальной ориентации. Важно осознавать, что принадлежность к любой из этих
групп может играть центральную роль для жизни индивида и для его идентично¬
сти, и поэтому она может стать центральной проблемой психотерапии.
Триандис (Triandis, 1996) говорит о культурных синдромах, определяя их как
«набор разделяемых установок, убеждений, категоризаций, самоопределений,
норм, ролевых предписаний и ценностей, организованных вокруг некоей темы»
(р. 408). Следующий список переменных важен для того, чтобы охарактеризовать
и понять некоторую культурную группу:
1) закрытость: степень принуждения в группе;
2) культурная сложность: количество элементов, характеризующих культуру;
3) активность—пассивность: количество элементов каждого типа;
4) честь: личные элементы, которые могут включать понятие стыда или вины;
5) коллективизм: относительная ценность группы в целом;
6) индивидуализм: относительная ценность отдельного человека в группе;
7) вертикальные и иерархические отношения: степень иерархичности группы.
Понимать природу культуры и культуру в целом необходимо, но нельзя пере¬
оценить важность членства в группе для конкретного клиента.
Наконец мы считаем необходимым познакомить вас с проблемой самоназвания
группы. За последние несколько десятилетий многие группы решили сдвинуться
от тех имен, которые были навязаны им доминирующей культурой, к названиям,
которые точнее отражают природу и ценности данной культуры. Трансформация
использования слова от «негры» через «чернокожие» в «афроамериканцы» не
единственный пример этой тенденции. Часто члены доминирующей культуры
испытывают фрустрацию от такого изменения терминологии, скорее всего пото¬
му, что она отражает ту степень, в которой группа готова определять собственную
Глава 3. Проблемы многообразия 8 7
идентичность и брать в свои руки собственную судьбу. Ссылаясь на политкоррект¬
ность, доминирующая культура превращает в банальность опыт различных мень¬
шинств. Как и в случае с другими аспектами многообразия, терапевту следует по¬
нимать и использовать важность самоназвания, предпочитаемого его клиентом.
Англоамериканские и евроамериканские влияния
в сфере психического здоровья
Мировая мысль, особенно в сфере психологии, постепенно становится западной
в силу огромной экономической, политической и военной мощи западных стран
(Marsella, 1998):
Современное западное научное психологическое мышление в его прототипичной фор¬
ме, несмотря на свою локальность и туземность, допускает глобальную пригодность и
рассматривается как универсальная модель генерации знаний. Его доминирующий
голос предписывает непредвзятому взгляду необходимость экстраординарного внима¬
ния к индивидуализму, механизму (mechanism) и объективности. Этот истинно запад¬
ный путь мышления фабрикуется, проецируется и устанавливается через технологии
изложения информации и научные ритуалы и распространяется на незападные научные
традиции, находящиеся под политико-экономическим влиянием Запада. В результате
западная психология склоняется к сохранению независимой позиции ценой игнориро¬
вания других существенных возможностей, предоставляемых чужими культурными
традициями. Создание картины реальности через призму западных конструктов пред¬
ложило некое псевдопонимание людей из других культур и оказало определенные ослаб¬
ляющие эффекты, выразившиеся в виде неверного конструирования особых реалий
людей и в неуважении или превращении в забавную экзотику незападных психологи¬
ческих учений. Следовательно, когда люди из других культур сталкиваются с запад¬
ной психологией, они обнаруживают, что их идентичность поставлена под вопрос, а их
концептуальный багаж сделали старомодным и вывели из употребления (Gergen, Gu-
lerce, Lock, & Misra, 1996).
Существовала тенденция относиться к кросс-культурному применению запад-
ной/американской психологии как к проблеме поиска внутри существующих
теорий точек, которые необходимо модифицировать, чтобы учесть культурные
различия. В соответствии с западной научной традицией было выдвинуто пред¬
положение о том, что возможно разработать одну теоретическую модель, пригод¬
ную для универсального, повсеместного применения. Возможность того, что куль¬
тура создает фундаментальные различия, требующие совершенно непривычных
нам моделей, видимо, даже не принималась в расчет (Gergen et al., 1996). Кажет¬
ся, сейчас пришло время учитывать возможность того, что разработка отдельной,
универсальной психологии может оказаться невозможной и даже нежелательной.
Психология может играть значимую роль в появлении глобального общества, если
«она готова пересмотреть некоторые из своих фундаментальных посылок, мето¬
дов и практических аспектов, коренящихся в западной (и особенно американской)
культурной традиции и расширить процессы оценки и использования других пси¬
хологических наук» (Marsella, 1998, р. 1282). Как альтернатива более одномерной
модели, «психология глобального общества может называться метапсихологией
за свое внимание к следующим моментам: 1) осознание глобальных величин и
масштабов наших жизней; 2) ограничение этноцентрического уклона во многих
88 Часть I. Введение
существующих теориях, методах и средствах воздействия; 3) поощрение развития
местных психологических направлений; 4) подчеркивание культуральных детер¬
минант поведения человека; 5) использование систем концептуального и нелиней¬
ного осмысления поведения человека; 6) повышение использования качествен¬
ных, натуралистических и контекстуальных методов исследования» (Marsella,
1998, р. 1286).
Феноменология против прикладных наук
Один из плюсов глобализации для западной научной мысли — это возрастающая
роль феноменологии. Большинство западных наук основаны на модели приклад¬
ных наук. В этой модели поддерживается существование единой, универсальной
истины, и целью науки является раскрытие таких универсальных истин. Несмот¬
ря на это, и в западной философской мысли феноменология имеет долгую исто¬
рию, а в восточной философской мысли она вообще занимает центральное место.
С феноменологической точки зрения все знания и истины зависят от точки отсче¬
та наблюдателя. Например, нет никакого способа доказать, что два различных че¬
ловека, глядящих на некий зеленый предмет, в действительности видят один и тот
же цвет; мы можем доказать только то, что они оба называют увиденное ими с
использованием термина «зеленый». На самом деле один человек может быть
дальтоником, который просто запомнил, что, оценив любой предмет листовидной
формы как зеленый, можно с наибольшей вероятностью угадать его общеприня¬
тое видение. Феноменология поощряет нас осознавать идиосинкразию наших соб¬
ственных взглядов на мир и быть внимательными к относительной важности, ко¬
торую может иметь видение мира нашего клиента для хода терапии.
Воздействие на психологию
Доминирующая англоязычная культура повлияла на психологическую практику
в областях диагностики и лечения в большинстве стран Западной Европы, в США
и Канаде. Но в последнее время обнаружилось значительное влияние культуры
на точность диагностики. Например, афроамериканцы и латиноамериканцы с боль¬
шей вероятностью, чем англоамериканцы, могут получить диагноз шизофрении,
в то время как последним скорее припишут «психотическое аффективное рас¬
стройство»1 (Garb, 1997). Подобные расовые предубеждения не столь очевидны в
исследованиях, изучающих направления на лечение, поведенческие приметы и
диагностику детей (Garb, 1997). Кажется, что диагностика детей может осуще¬
ствляться менее субъективно, чем диагностика взрослых. Этот вывод — результат
того факта, что существует меньше диагностических категорий, применимых к
детям, и поэтому снижается вариабельность. Также есть иллюзия, что терапевты
более чувствительны к влиянию культурных и социоэкономических переменных
на детей. Видимо, терапевты иногда дают детям как с низким социально-эконо¬
мическим статусом, так и представителям меньшинств некий «шанс», когда дело
1 В современной Международной классификации болезней МКБ-10 не существует психического за¬
болевания «шизофрения* — есть расстройства психотического круга; слово «шизофрения* в США
сейчас может приравниваться к оскорблению; словосочетание «психотическое аффективное рас¬
стройство*, будучи одним из синонимов слова «шизофрения*, звучит гораздо мягче и не вызывает
ущемления чувств носителей данного диагноза, их родных и близких. — Примеч. пер.
Глава 3. Проблемы многообразия 89
доходит до постановки диагноза или до проверки точности тестовых данных
(Garb, 1997). В школах довольно популярна практика применения тестов на раз¬
витие интеллекта. Когда неанглийские школьники набирают низкие баллы по
тестам, это иногда относят на счет культурной или социальной депривации, а йе¬
на счет различий в когнитивных стилях (что было бы верным решением) или дей¬
ствительных проблем с интеллектом. Эта попытка побыть чувствительными к
культурным различиям может окончиться нанесением долгосрочного вреда ребен¬
ку, если она затрудняет постановку точного и своевременного диагноза «наличие
когнитивных или образовательных проблем».
Когда вопрос касается самой практики психотерапии, необходимо осознавать,
что «психологическое консультирование — это занятие евро-(англо)американско-
го среднего класса, основанная на ценностях западной культуры» (Coleman & Bar¬
ker, 1991; Coleman, Parmer, & Barker, 1993, p. 64; Sue & Sue, 1977,1990). Это при¬
водит к некоторым специфическим областям потенциального конфликта между
ценностями и целями психотерапии и ценностями данных культурных групп.
Во-первых, большинство игровых терапевтов считают улучшение способно¬
стей ребенка к самовыражению первоочередной задачей игровой терапии. Эта за¬
дача противоречит социально одобряемому в некоторых культурах поведению.
Большинство культур Дальнего Востока не ценят выражения эмоций, и могут
появиться значительные трудности, если проходящий терапию ребенок станет
более заметным у себя дома.
Во-вторых, игровые терапевты обычно благоволят сравнительно неструктури¬
рованным игровым сессиям. Даже многие англоязычные родители раздражаются
и сомневаются в ценности того, что их ребенок «просто играет» на занятиях, а чле¬
ны культурных групп, в которых ценится структурированность и формальность
межличностных отношений, могут посчитать отсутствие структуры практически
неприемлемым. Одну афроамериканскую маму совершенно смутил тот факт, что
терапевт позволял ее дочери обращаться к нему просто по имени. Она посчитала,
что ребенок уже имеет достаточные поведенческие трудности, а терапевт позво¬
ляет девочке подобное неуважение, поощряет ее к плохому поведению.
В-третьих, игровые терапевты полагаются на то, что и родители и ребенок бу¬
дут добровольно взаимодействовать с ними в течение сессий, что может создать
проблему, если семья относится к культуре, которая учит, что невежливо загова¬
ривать с авторитетными фигурами, пока они сами не обратятся к вам первыми.
Пусть игровой терапевт даже и не слишком удивится, увидев такое поведение
своего клиента-ребенка, он все же может проинтерпретировать его как застенчи¬
вость и даже как чрезмерный самоконтроль. Но когда родители говорят с види¬
мой неохотой и добровольно не сообщают критически важной информации тера¬
певту из уважения к его авторитетной фигуре, игровой терапевт с большой
вероятностью проинтерпретирует это поведение как враждебное сопротивление.
В-четвертых, и игровая терапия, и консультирование родителей обычно под¬
черкивают линейную логику в организации и обсуждении поведения и взаимодей¬
ствий. Некоторые другие культуры, такие как американские индейцы, ценят ин¬
туитивный и целостный подход, часто делая гораздо больший акцент на духовных
компонентах человеческого бытия. Игровой терапевт может впадать во фрустра¬
цию от очевидной неспособности родителей и ребенка сфокусировать внимание
90 Часть I. Введение
на частностях какого-либо события, тогда как родители и ребенок смущаются от,
по-видимому, бесконечной поглощенности терапевта незначительными деталями.
В конце концов, важно отметить, что на личность терапевта влияют все же не
только культуральные и философские проблемы и что способ реагирования тера¬
певта на конкретного клиента и некоторые фундаментальные аспекты процесса
терапии более или менее культурно обоснованы.
Важность развития глобального видения
Как утверждалось в начале этой главы, на нас надвигается глобализация. Она влия¬
ет на все аспекты нашей повседневной жизни, от образования и торговли до психо¬
терапии. Если практика психотерапии и игровой терапии будет применяться для
детей «всемирной деревни», необходимо разработать теории, осмысляющие куль¬
туру в верном контексте. «Важность идентификации теорий, соответствующих не¬
западным культурам, становится очевиднее, когда мы осознаем, что все люди эт¬
ноцентричны» (Triandis, 1996) и страдают от наивного реализма, который мешает
во всей полноте оценить «субъективный статус их собственных субъективных ин¬
терпретаций (construals), и как таковые они не оставляют существенного места для
несоответствий этих интерпретаций, когда требуется осуществить приписывание
поведения или предсказать поведение других людей» (Robinson, Kaltner, Ward, &
Ross, 1995, p. 404, цитируется no Triandis, 1996, p. 407).
Обретение культуральной компетентности
Чтобы быть оптимально эффективным при работе с самым широким кругом кли¬
ентов, терапевт должен развить культуральную компетентность, или компетент¬
ность по многообразию индивидов. Это не значит, что обычно терапевт обладает
культурной или расовой слепотой — терапевт, отрицающий различия между клиен¬
тами, представляющими различные культурные или религиозные группы, с боль¬
шой вероятностью будет лечить своих клиентов неподобающим образом, как и
человек, преувеличивающий различия. Культурная компетентность означает спо¬
собность осознать существование различий между группами и работать с этими
группами без предубеждений и дискриминации. Далее, культуральная компетен¬
тность предполагает способность ценить и сохранять групповые различия, а не
бороться за единообразие клиентов. Процесс, посредством которого индивидуаль¬
ные терапевты и остальные специалисты в области психического здоровья при¬
обретают культуральную компетентность, описывается как требования развить
осознание, выработать специфические навыки и приобрести специфические зна¬
ния о разных культурах.
Осознание
Во-первых, кросс-культурная работа требует осознания собственных культураль¬
ных установок, традиций, идеальных и действительных норм, а также представ¬
лений о правильной организации семьи и общества. Это непростая задача, так как
эти психосоциальные элементы культуры действуют главным образом за преде¬
лами зоны нашего осознания. Они редко проявляются (и еще реже ставятся под
сомнение), потому что этот процесс может угрожать самоидентичности, пошат-
Глава 3. Проблемы многообразия 91
нуть самооценку и индуцировать тревогу. Таким образом, к решению этой задачи
лучше всего приступать после окончания университета, будучи аспирантом, когда
обучаемые уже приобретают основные клинические навыки и некоторый клини¬
ческий опыт. Трех-шестимесячный семинар, проводимый с участниками, принад¬
лежащими к одной культурной группе и к одному социоэкономическому классу,
доказал свою успешность в качестве формата такого обучения. Вместе с самоана¬
лизом и групповым раскрытием личных этнических предпочтений, занятий и пре¬
дубеждений учащимся можно рекомендовать чтение, участие в семинарских дис¬
куссиях и представление своих первых кросс-культурных случаев.
Есть несколько вопросов, которые терапевты могут задать себе для расшире¬
ния осознания своей собственной культуры.
• Каково мое культурное наследие? Какова была культура моих родителей,
моих бабушек и дедушек? С членами какой культурной группы (групп)
я себя идентифицирую? (Locke, 1992.)
• Какие обычаи и традиции соблюдаются в моей семье? Где лежат их корни?
(Locke, 1992.)
• Являюсь ли я членом какого-либо меньшинства? Если да, то какой опыт у
меня с этим связан?
• Какие ценности, убеждения, мнения и установки, свойственные (англо-)
евроамериканской культуре, я разделяю? Какие несвойственные этой куль¬
туре мнения и установки я разделяю? Как я их приобрел? (Thomas & Cobb,
1999, р. 51.)
Во-вторых, клиницисты должны развить осознание своих установок по отно¬
шению к другим культурам. Получить эту информацию можно с помощью следу¬
ющих вопросов.
• Как я воспринимаю членов других этнических групп и какие убеждения
относительно их я имею?
• Каковы причины того или иного моего отношения к членам других этни¬
ческих групп? Что я когда-либо сделал для проверки этих своих убежде¬
ний?
• Как мои убеждения влияют на мое поведение по отношению к людям из
других культурных групп?
• Как мои установки помогают или мешают мне в моих взаимодействиях (вза¬
имоотношениях) с детьми и взрослыми, чья культурная принадлежность
отличается от моей? (Thomas & Cobb, 1999, р. 51.)
Помимо стремления к общему осознанию, для терапевтов ценно прохождение
супервизии по поводу своих первых (лечебных) или кросс-культурных случаев.
Супервизор, имеющий опыт кросс-культурной работы, может поднять специаль¬
ные вопросы переноса и контрпереноса по мере их проявления в рамках культуры.
Ссылки на литературу могут быть полезными и для супервизора, и для проходя¬
щего подготовку терапевта (Adebimpe, 1981; Kadushin, 1972; Portela, 1971; Shuval,
Antonovsky, & Davies, 1967; Spiegel, 1976; Westermeyer, 1979).
Опыт кросс-культурной работы в клинических условиях в дальнейшем будет
облегчать процесс обучения, а исследование кросс-культурной темы даст инфор-
92 Часть I. Введение
мацию о нюансах этой области. Людям, решившим посвятить себя этой сфере,
чрезвычайно полезно пожить и поработать в другой культуре по меньшей мере
один год (а еще лучше — два года). Приобретение опыта должно включать в себя
изучение местного языка, участие в деятельности общества и создание своей со¬
циальной сети друзей, коллег и семей (Westermeyer, 1987, р. 476). Такой опыт обес¬
печивает осознание и знания, которые нельзя получить на семинарах, сессиях су-
первизии или в клинике.
Навыки
Сью (Sue, 1998) показывает, что для проведения терапии с соблюдением культур¬
ной компетентности терапевт должен развить два основных навыка: научное мыш¬
ление и способность использовать динамичную размерность.
Научное мышление
Под научным мышлением подразумевается способность человека вырабатывать,
проверять и оценивать гипотезы. В случае с культурной компетентностью или
компетентностью в вопросах многообразия человека (diversity competence) это озна¬
чает, что терапевт в первую очередь способен генерировать гипотезы о факторах
и динамике, которые могут быть значимыми для клиента, основываясь на анали¬
зе культурных групп, к членам которых он относится. Терапевт не принимает эти
построения за конечный факт. Скорее он развивает креативные способы оценки
степени, в которой конкретный клиент разделяет общие черты культуры, предста¬
вителем которой является. Оценив степень приложения к данному клиенту куль¬
турных переменных, терапевт получает возможность оценить пригодность этих
переменных для процессов диагностики и лечения.
Динамическая размерность
Динамической размерностью называется способность терапевта выдерживать ба¬
ланс между необходимостью делать всеобъемлющие генерализации и необходи¬
мостью обращать внимание на индивидуальность и частные особенности, прикла¬
дывая свои знания о некоей культуре к данному клиенту. Например, терапевту
необходимо узнать, применимы ли культуральные факторы, оказывающие значи¬
тельное влияние на афроамериканца, родившегося в Нью-Йорке, к афроамери¬
канцу, родившемуся в маленьком городке одного из южных штатов, или к афро¬
американцу, родившемуся в Либерии и только что иммигрировавшему в США.
С выполнением этой задачи связано знание о необходимости выдерживать баланс
между индивидуальными и групповыми различиями. Индивидуальные различия
внутри некоей культурной группы превосходят различия между группами. Неко¬
торые терапевты используют этот научный факт как обоснование для минимиза¬
ции важности культуральной информации. На самом же деле важно помнить о
том, что нельзя подгонять индивидов под некие стереотипы в процессе приложе¬
ния к ним знаний о культуре и никогда не следует игнорировать реальность раз¬
личий опыта людей как результат их принадлежности к данной культуре.
Критическим элементом для точной динамической размерности является по¬
нимание воздействия притеснения и дискриминации на важность культурной
идентификации индивида. Дискриминация обычно приводит к острому осозна-
Глава 3. Проблемы многообразия 93
нию своей собственной групповой идентичности. Многие белые критикуют чер¬
ных за то, что они слишком много внимания уделяют влиянию расовой принад¬
лежности на повседневную жизнь. «Почему вы раздуваете такую проблему из
цвета кожи? В конце концов, человек ценится по своим способностям, а не по ра¬
совой принадлежности». Такие утверждения отражают опыт белых людей, кото¬
рых никогда не увольняли с работы и не выгоняли из клуба просто из-за их расы.
Когда такие события становятся частью повседневного жизненного опыта, член¬
ство в группе, которая является причиной такого отвержения, занимает централь¬
ное место в Я-концепции человека. На это можно реагировать, принимая свою
принадлежность к этой группе и стремясь сделать ее ценным аспектом своей лич¬
ности: «Я горжусь тем, что я чернокожий». Или же можно попытаться отрицать
различия, вплоть до полного избегания своей группы. Терапия должна стремить¬
ся помочь детям осознать и оценить все аспекты многообразия человека.
Приобретение специфических знаний о культурах
В добавление к выработке необходимых осознания и навыков, терапевтам важно
приобретать специфические знания о культурах (Sue, 1998). Тогда как приобре¬
тение осознания и навыков может оказаться тернистым путем саморазвития, при¬
обретение специфических культурных знаний может вызвать фрустрацию даже
у самого сенситивного терапевта. Это происходит потому, что информации, хоро¬
шо описывающей ту или иную культуру, недостаточно, и потому, что эта инфор¬
мация собрана из множества различных источников. Те, кто знаком с клинической
психологией, обнаружат в ней некоторую специфическую для культуры инфор¬
мацию, но гораздо больше ее можно найти в социально-психологической и антропо¬
логической литературе. После этого перед терапевтом встает задача — попытать¬
ся определить, какие переменные действительно имеют значение для процесса
лечения.
Общие культурально обусловленные ошибки
Неудача в приобретении культурной компетентности заставляет терапевта делать
некоторые общие ошибки, отмеченные Керлом (Kerl, 1998).
1. Использование детей в качестве переводчиков для родителей. Дети, гово¬
рящие на двух языках, не должны привлекаться для перевода слов терапев¬
та своим родителям, потому что это вызывает несоответствие в иерархии
взрослый—ребенок.
2. Недооценка важности этнической принадлежности.
3. Переоценка важности этнической принадлежности.
4. Группировка различных субкультур в одну популяцию.
5. Настолько слабое понимание реальной культурной ситуации за стенами ка¬
бинета, что терапевт не может оценить окружение ребенка и его жизненный
опыт.
Центральная тема здесь следующая: «Ребенок включен в интерперсональную
матрицу, которая не всегда может меняться вместе с ним, независимо от прогресса,
которого он достигает в ходе терапии. Прививание ребенку ценностей и стандартов,
94 Часть I. Введение
не являющихся частью его семейных ценностей и стандартов, неизбежно приво¬
дит к конфликту между ребенком и его родителями. Терапевту особенно важно
вести лечение с большой осторожностью и очень хорошо осознавать семейные
ценности и стандарты» (Brems, 1994, р. 31). То же самое можно сказать и о необ¬
ходимости осознания ценностей и стандартов различных культурных групп, в ко¬
торые входит семья и, следовательно, ребенок.
Руководство для проведения
культурально-компетентной терапии
Некоторые авторы разработали специфические руководства по проведению в
культурально-компетентном стиле терапии в общем, и игровой терапии в частно¬
сти. Эти руководства операционализировали ранее представленные понятия осо¬
знания, научного мышления, динамической размерности и культурально-специ¬
фических знаний. Руководство, представленное ниже, компилирует сведения из
следующих источников: Association for Advanced Training из Behavioral Sciences
(1988, p. 5-6); Coleman, Parmer and Barker (1993, p. 67-71); а также Paniagua (1994)
и Vraniak and Pickett (1993), как они приводятся в Thomas and Cobb (1999).
Осознание—сенситивность—эмпатия
Когда мы говорим о культуральной компетентности игровой терапии, мы имеем в
виду, что, признавая особенности своей и чужой культуры, терапевту легче чув¬
ствовать эмпатию к клиенту. Для достижения этой цели терапевту следует:
• уважать исторические, психологические, социологические и политические
измерения частной культуры и/или этнической группы и быть уверенным
в том, что и ребенок, и его семья рассчитывают, что терапевт принимает их
систему убеждений;
• в своих оценках отражать сильные стороны и преимущества различных
культур;
• при работе с клиентом из другой расовой или культурной группы призна¬
вать существующие различия и учитывать в своей работе те проблемы кли¬
ента, которые связаны с этими различиями.
Динамическая размерность
Как утверждалось ранее, для динамической размерности ключевыми считаются
два аспекта. Один из них — это способность понимать и оценивать значение куль¬
туры для конкретного клиента, а другой — способность оценивать, какое влияние
может оказывать на процесс терапии история дискриминации культуры, предста¬
витель которой сейчас ваш клиент.
Не нужно делать общие выводы обо всех клиентах, принадлежащих к некоей
расовой или культурной группе. Цустите ваше знание культуральных паттернов
на выработку гипотез относительно ценностей, моделей поведения и установок по
отношению к терапии; при этом всегда фокусируйте свое внимание на понимание
того индивида, с которым вы сейчас работаете. Осознавайте, что в ориентацию
человека и его ценности сделали свой вклад множество факторов (например, при-
Глава 3. Проблемы многообразия 95
надлежность к социоэкономическому классу, доминирующий язык и, в случае с
эмигрантами, степень вовлеченности в исходную культуру как противовес степе¬
ни ассимиляции доминирующей культурой).
Признавайте, что социальная, экономическая и политическая дискриминация
остаются реальной проблемой для национальных, расовых и культурных мень¬
шинств. Выясните, насколько эти реалии значимы для данного клиента, чтобы
помочь ему сфокусироваться на способах максимизации своей личной эффектив¬
ности. Признавайте, что подозрительность и недоверие со стороны представите¬
лей меньшинств могут быть естественной реакцией на прошлый опыт, а не пара¬
нойей. Помните, что в результате длительных сложных отношений меньшинств и
представителей доминирующей культуры до сих пор имеют место следующие
факты:
• Клиенты могут проявлять глубокое недоверие при формировании новых
отношений.
• Клиенты могут проявлять модели поведения с целью проверки знаний те¬
рапевта о культуре клиента. Это особенно проявляется при работе с подро¬
стками, которым, как известно, присущ скептицизм к авторитетам.
• Клиенты могут захотеть изучить терапевта как человека, включая его навы¬
ки исполнения авторитетной роли и способность взаимодействовать с кли¬
ентом.
• Клиенты могут опасаться, что терапевт недостаточно хорошо заботиться о
них по причине их принадлежности к меньшинствам или недостаточно по¬
лезен именно им.
Знание
Два типа знаний повышают вероятность того, что терапевт достигнет успеха в ра¬
боте с клиентами из различных культур. Одно из них — это знание о том, как мо¬
дифицировать терапевтический процесс, чтобы соответствовать клиенту из дан¬
ной культурной группы. Второе — это знание самой культуры и способа, каким она
проявляется в системе (системах), в которые включен клиент.
Специфические знания о процессе психотерапии
Евроцентричные техники консультирования могут быть уместными, но могут и
терпеть фиаско; однако терапевт должен определять эффективность некоего под¬
хода, основываясь на консультациях с другими специалистами в этой области и
на системах поддержки детей из мультикультурных групп.
Чтобы способствовать оптимальному течению процесса консультирования, луч¬
шим решением для детей из различных культур может стать применение сочета¬
ния разнонаправленных методов и техник (подходов, принимающих возможность
существования различных точек зрения в разных культурах и все же признающих
влияние общества основной культуры, в которой существует индивид).
Необходимо помнить, что интерпретация — это важный аспект игровой тера¬
пии и может быть выполнена точно только в том случае, если принимать во вни¬
мание условия жизни клиента (Atkinson, Jennings, & Liongson, 1990).
96 Часть I. Введение
Может понадобиться научить клиентов правилам проведения терапии: дать им
понимание цели, природы процесса, потенциального содержания сессий и ожи¬
даемых результатов. К тому же терапевтический альянс, создаваемый в ходе тера¬
пии, будет гораздо прочнее, если процесс лечения включит в себя непосредствен¬
ную, активную и структурированную терапию, обеспечивающую потенциальное
решение первичной проблемы в ходе первой сессии или за сравнительно корот¬
кое время.
Представители некоторых культур, например азиатской, ожидают обсуждения
потенциальной роли лечения; члены других культур, например афроамериканцы,
восприняли бы немедленное описание и оценку смысла лечения негативно. В част¬
ности, клиенты из Юго-Восточной Азии не настаивают на том, чтобы ребенок или
семья сразу же обсуждали травматические переживания; для них результатом та¬
кой беседы явится стресс или, по меньшей мере, переутомление.
Специфические знания о культуре
Роль игры для жителей многонациональных государств должна тщательно изу¬
чаться, чтобы представители профессий, связанных с заботой о психическом здо¬
ровье, имели понимание ее воздействия на детей из различных культурных и эт¬
нических групп.
Консультанты, работающие с многоструктурными популяциями, должны актив¬
но изыскивать возможности для взаимодействия с этими группами вне терапев¬
тической сессии (Coleman, Parmer & Barker, 1993, р. 71). Они должны понимать,
в какое социальное или общественное учреждение можно направить ребенка-кли-
ента (например, в какие агентства социальной помощи или религиозные органи¬
зации).
Заключение
Из предшествовавшего обсуждения становится очевидно, что культуральная ком¬
петентность игровых терапевтов означает гораздо больше, чем простое осознание
кросс-культурных различий. Истинная культуральная компетентность или ком¬
петентность в области многообразия людей (diversity competence) требует от те¬
рапевта хорошего понимания всей своей экосистемы, собственного места в ней,
а также экосистемы ребенка-клиента и его места.
Избранные ссылки
Следующие книги могут стать прекрасным началом для тех, кто хочет развить
у себя компетентность в вопросах многообразия культур и индивидов.
Atkinson, D., Morton, G., & Sue, D. (1983). Counseling American minorities: A cross-cultural
approach (2nd ed.). Dubuque, IA: Brown.
Comas-Diaz, L., & Griffith, E. (Eds.). (1988). Clinical guidelines in cross-cultural mental health.
New York: Wiley.
Marsella, A., & Pederson, P. (Eds.). (1981). Cross-cultural counseling and psychotherapy. New
York: Pergamon Press.
Sue, D., & Sue, D. (1990). Counselingthe culturally different: Theory and practice (2nd ed.). New
York: Wiley.
Часть II
Концептуальные рамки
практики индивидуальной
игровой терапии
ВI части была представлена история эволюции игровой терапии и обзор главных
теорий и техник игровой психотерапии, используемых сегодня.
Во II части содержится схема интегрального описания игровой терапии, выве¬
денного из элементов теорий, использующих когнитивно-развивающий подход
(icognitive developmental framework) и экосистемную точку отсчета. Как уже упоми¬
налось в главе 1, эта интегрированная модель со времени опубликования первого
издания данной книги стала известной под названием экосистемной игровой те¬
рапии (Ecosystemic Play Therapy). Хотя это особый подход к практике игровой тера¬
пии, данная модель все же достаточно содержательна, для того чтобы служить
основой обучения новых терапевтов или переподготовки тех, кто уже обладает
опытом. В идеале читателям не следует огульно принимать любую терапевтиче¬
скую модель, но скорее пытаться интегрировать то, что они узнали, в их собствен¬
ную личностно окрашенную и внутренне согласованную картину теории и прак¬
тики терапии.
Из-за того что развивающая (developmental) модель лежит в основе материала,
представленного в заключительной части данной книги, глава 4 содержит широ¬
кий обзор развития ребенка, основанный главным образом на работах Пиаже,
Фрейда, а также Вуд и ее коллег. Понимание концепций развития критически
важно для способности игрового терапевта осмыслять и обосновывать все, начи¬
ная с природы психопатологии клиента-ребенка до типа упражнений, которые об¬
ладали бы наибольшим терапевтическим эффектом для данного ребенка в усло¬
виях данной сессии игровой терапии.
Глава 5 содержит обсуждение типов детей-клиентов, наиболее подходящих для
игровой терапии, подготовки игровых терапевтов и их роли, а также природы про¬
цесса игровой терапии.
Глава 4
Теоретические обоснования
игровой терапии
Итак, мы сделали обзор всех существующих теорий игровой терапии и теперь
переходим к подробному рассмотрению основополагающей модели данной кни¬
ги — экосистемной игровой терапии, ее теории и практики. В главе 1 терапия опре¬
делялась как
набор терапевтических средств, включающих разнообразные высокоразвитые теорети¬
ческие ориентации и технические стратегии. Но независимо от этого разнообразия, вся
игровая терапия преследует некую общую цель: реорганизация способности ребенка
включаться в игровое поведение, понимаемое в рамках его классического определения.
В данном случае это означает, что игровой терапевт стремится к максимизации детских
способностей к участию в забавном, по сути совершенном, личностно-ориентирован¬
ном, гибком, неинструментальном поведении, характеризующемся естественным тече¬
нием. Игровая терапия высокого уровня, применяемая данным игровым терапевтом,
представляет собой интеграцию конкретной теоретической ориентации терапевта, его
личности и биографии с потребностями ребенка в работе по достижению этой цели. То,
что и ребенок, и игровой терапевт на пути к этой конечной цели могут участвовать в
поведении, которое можно называть как угодно, только не игрой, абсолютно исключе¬
но. Игровые терапевты полностью осознают, что лечение завершено успешно, когда
ребенок демонстрирует способность играть импульсивно и с радостью.
Экосистемная игровая терапия соответствует этому общему определению, по¬
тому что она интегрирует аспекты существующих теорий и техник и теории раз¬
вития, чтобы создать единую модель, направленную на универсального ребенка
в контексте экосистемы этого ребенка.
Интеграция теоретических моделей в психологии началась еще в 30-е годы
XX века, но превратилась в развивающуюся тенденцию только тогда, когда пси¬
хологи и другие специалисты сферы психического здоровья стали стремиться со¬
четать лучшее из многих теоретических подходов в целях создания оптимального
лечения для клиентов (Goldfried, 1998). Специальный раздел «Журнала детской
клинической психологии» (The Journal of Clinical Child Psychology) был посвящен
новым моделям детской психотерапии, «которые коренятся в психологии разви¬
тия, основаны на эмпирическом подходе и интегрируют в себе черты различных
теоретических направлений» (Russ, 1998, р. 2). Существующие модели могут ком¬
бинироваться по нескольким причинам. Первая из них состоит в том, что ин¬
теграция — это способ приняться за признанные ограничения подходов, состоя¬
щих только из одной модели. Вторая причина в том, что реалии клинической
работы требуют и эклектизма, и интеграции. Например, бихевиористский метод
100 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
хорошо работает с детьми, демонстрирующими проблемы в приучении к туалету
или задержки в развитии, но он не так эффективен применительно к сообразитель¬
ным детям, которым обычно лучше подходят когнитивные подходы. Если список
ваших клиентов содержит детей обоих этих типов, вы должны или переключать¬
ся с одного метода на другой, или найти способ концептуально интегрировать то,
что вы делаете из сессии в сессию. К тому же наплыв управляемого напряжения
требует от терапевтов, чтобы они были более понятными и создавали давление,
используя любую работающую технику, а не зацикливались на постоянном при¬
менении только одной модели (Kazdin, 1996).
Интеграция и развитие новых моделей также связана с возрастающим призна¬
нием роли культуры в эффективном постижении всех аспектов психического здо¬
ровья. Марселла (Marsella, 1998) предложил развивать психологию глобального
сообщества (Global Community Psychology), которая отличается следующими чер¬
тами:
1) признание глобальных величин и масштабов наших жизней;
2) ограничение этноцентрического уклона во многих существующих теориях,
методах и средствах терапевтического воздействия;
3) поощрение развития психологических направлений в разных культурах;
4) подчеркивание культуральных детерминант человеческого поведения;
5) увеличение использования качественных, натуралистических и контексту¬
альных исследовательских методов (р. 1286).
Характеристики и цели психологии глобального сообщества полностью согла¬
суются с целями и характеристиками экосистемной игровой терапии.
Интеграция теоретических подходов и использование разнообразных техник
имеют огромный потенциал. Но важно дифференцировать теоретический эклек¬
тизм и теоретическую интеграцию, а также теоретический эклектизм и техниче¬
ский эклектизм. Говоря прямо, теоретический эклектизм губителен для хорошей
психологической и психиатрической практики, а теоретическая интеграция улуч¬
шает практику.
Теоретический эклектизм означает, что терапевты изменяют способ осмысле¬
ния проблем клиентов и подходы к их лечению от одного клиента к другому или,
что еще хуже, от одной к другой проблеме одного и того же клиента. Это порожда¬
ет два типа проблем. Одна из них состоит в том, что терапевт оказывается неспо¬
собен сформировать последовательный план лечения, потому что отсутствует
базовое понимание причин проблемы, на котором можно его разрабатывать. Дру¬
гая проблема — клиенты сталкиваются с несоответствиями, которые не могут раз¬
решить, в результате чего не понимают хода своего лечения и, следовательно, оста¬
ются не в состоянии интегрировать его в повседневную жизнь.
Например, терапевт психоаналитической ориентации может выдвинуть перво¬
начальную гипотезу, что энкопрез ребенка — результат интернализованного невро¬
тического конфликта. Представим, что затем он продолжит лечение, направлен¬
ное на раскрытие этого конфликта, используя символическую игру. В сознании
ребенка сессии сами по себе имеют очень мало общего с энкопрезом. Но что если
через несколько месяцев лечения энкопрез не исчезнет и родители начнут выра-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 101
жать терапевту недовольство? В этом случае терапевт, не обнаружив скрытого
конфликта, «переключает передачу» и делает предположение, что проблема эта
имеет как биологические, так и поведенческие корни. Он советует родителям сде¬
лать некоторые изменения в питании ребенка и в его туалетном поведении и на¬
чинает работу с ребенком, ведя поведенческий журнал энкопретических эпизодов,
не выказывая интереса к символической игре ребенка. Очень вероятно, что ребе¬
нок не поймет, что переключило поведение терапевта. В результате ребенок мо¬
жет начать относиться к терапевту, как и к любым другим взрослым, которые по¬
началу делают вид, что интересуются мыслями и чувствами ребенка, и все это
только затем, чтобы помешаться на его туалетном поведении, если дела идут не
так, как того хотели бы взрослые.
В то время как теоретический эклектизм порождает проблемы, технический
эклектизм часто оказывается эффективным. Использование комбинации меди¬
цинского подхода, биологической обратной связи и инсайт-ориентированных стра¬
тегий для работы с детской астмой с большей вероятностью приведет к быстрым
изменениям, чем если бы какая-нибудь из этих техник использовалась изолиро¬
ванно. Чем более разнообразны методы, которые вы хотите применить в конкрет¬
ном случае, тем более солидной и основательной должна быть ваша теоретическая
база. Даже самые маленькие клиенты должны испытывать чувство, что все ваши
действия на сессии сочетаются друг с другом, предназначены для облегчения их
симптомов и позволяют им лучше удовлетворять свои потребности. В предыду¬
щем примере терапевт, сформировав гипотезу о том, что результатом энкопреза
ребенка было нарушение последовательности терапевтического процесса, пере¬
ключился на другую теоретическую модель. Если бы этот терапевт работал с пози¬
ций экосистемной ориентации, его гипотезой стало бы предположение, что причи¬
ной энкопреза послужили биологические и поведенческие факторы, усложненные
со временем бессознательными конфликтами, так как проблема переместилась в
область отношений ребенка и окружающих его людей. Затем терапевт мог бы по¬
рекомендовать родителям изменить диету ребенка и применить некоторые пове¬
денческие техники дома. Одновременно терапевт мог бы сфокусировать внима¬
ние на конфликтах, которые энкопретическое поведение создавало бы для ребенка
на сессиях, и использовать символические стратегии и стратегии-симуляторы.
Как отмечено в предисловии к этому изданию, решительный момент настает,
когда интегративная модель нарушает основные посылки исходных моделей и ее
приходится рассматривать как самостоятельное направление. Это особенно харак¬
терно, когда такая модель интегрирует теории, а не техники. Экосистемная игро¬
вая терапия результат точно такого же процесса. Он начался с интеграции «эле¬
ментов нескольких существующих теорий и техник, использующих когнитивную
психологию развития в качестве организующей основы... и широкий системный
подход, называемый экологическим или экосистемным, в качестве фильтра для
определения, какие изученные элементы теорий и техник игровой терапии следу¬
ет удержать, а от каких лучше избавиться» (O’Connor, 1991, р. vi). С 1991 года эта
модель была усовершенствована и расширена и получила признание в качестве
отдельной теории. Экосистемная игровая терапия и практика была очень подробно
102 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
представлена в следующих книгах: Play Therapy Theory and Practice: A Comparative
Presentation (O’Connor & Braverman, 1997); Play Therapy Treatment Planning and
Interventions: The Ecosystemic Model and Workbook (O’Connor & Ammen, 1997). Ho
тем, кто ищет полное и в то же время компактное описание данной терапии, осо¬
бенно рекомендуется изложение, приведенное в этой книге ниже. В следующих
обсуждениях и главах будет представлена теория и практика экосистемной игро¬
вой терапии в несколько упрощенной форме, которая понравится тем, кто ищет
солидных оснований теории и практики игровой терапии, подходящих для их ис¬
пользования с широким кругом клиентов.
Прежде всего, экосистемная игровая терапия системна. Эта модель основана
на том факте, что ребенок испытал влияние каждой системы, в контакт с которой
вступал на протяжении всей своей жизни. Также эта модель признает, что, прово¬
дя индивидуальную терапию с ребенком, игровой терапевт оказывает влияние на
каждую систему, с которой ребенок имеет сейчас контакт. Экологически мысля¬
щий игровой терапевт осознает, что каждое изменение, которому подвергается ре¬
бенок, соотнесется с соответствующим изменением в среде, окружающей ребен¬
ка. Он понимает, что экосистема ребенка не всегда будет торжествовать, празднуя
произошедшие с ним изменения. На самом деле эта экосистема может затратить
много сил, чтобы помешать ребенку меняться и изменять систему. Осознание этих
экологических переменных позволяет игровому терапевту планировать лечение,
которое будет поддерживать некоторую гармонию между ребенком и окружающей
его средой и обеспечивать перенесение тех изменений, которые происходят на сес¬
сиях, в мир, находящийся за их пределами.
Как было показано в обзоре теорий игровой терапии в главе 2, все психоте¬
рапевтические направления, видимо, содержат некоторые основные элементы,
а именно теорию личности, определения психопатологии и специфические спо¬
собы характеристики целей лечения или подход к пониманию лечения. Экосис¬
темная игровая терапия не исключение. Давайте приступим к обсуждению этих
основных элементов с теории личности — вопроса, который несколько сложно
определить. По существу, личность — это сумма внутриличностных и межличност¬
ных характеристик, установок, когниций, убеждений, ценностей и т. д., которые
делают человека уникальным. Внутри экосистемной игровой терапии рассматри¬
ваются три главных элемента: 1) основные мотивы, или драйвы; 2) внутренняя
психическая организация и 3) роль развития.
Экосистемная игровая терапия поддерживает концепцию мотивационной си¬
стемы, интегрирующей то, что предлагали психоаналитическая и гуманистиче¬
ская теории, а также терапия реальности (Reality Therapy). Эта мотивационная си¬
стема состоит из двух уровней. На биологическом уровне существует мотивация
организма к совершению действий, направленных на сохранение себя. Этот уро¬
вень мотивации считается инстинктивным, или присущим человеку от рождения,
и предназначен для выживания человека как вида. Из этого биологического драй¬
ва возникают две различные вторичные мотивации, каждая из которых межлич-
ностна по своей природе, а их развитие зависит от первоначальных отношений
ребенка с миром, а именно: с первым заботящимся о нем человеком (первичным
объектом). Первая мотивация заставляет ребенка действовать на поддержание
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 103
позитивных межличностных контактов, чтобы удовлетворялись его основные по¬
требности. Этот уровень мотивации не врожденный, ему ребенок должен научить¬
ся в лучшем случае за первые два года жизни. Вторая межличностная мотивация
развивается из опыта сепарации/индивидуации ребенка и заставляет его действо¬
вать так, чтобы приобретать контроль над источниками ресурсов. То есть вначале
ребенок учится тому, что он должен зависеть от других, потому что они обладают
ресурсами, и поэтому ведет себя так, чтобы держать родителя под рукой; позже,
по мере того как ребенок узнает, что на других не всегда можно положиться, он
пытается обрести некий контроль над источниками ресурсов, чтобы гарантиро¬
вать себе выживание вне зависимости от доступности окружающих людей. Если
все идет хорошо, мотив поддержания позитивных отношений зависимости остает¬
ся сильнее, чем мотив контроля, и ребенок пытается удовлетворять свои потребно¬
сти наиболее социально одобряемыми путями. Обобщая, скажем, что люди мотиви¬
рованы желанием максимизировать вознаграждения и минимизировать негативные
последствия и, при условии хорошей социализации, стремлением делать это, не
препятствуя другим людям удовлетворять свои потребности. Эта теоретическая
модель не постулирует существования мотива к самоактуализации; скорее потреб¬
ность вести себя способами, обеспечивающими рост, рассматривается как произ¬
водная от межличностной мотивации ребенка.
Выдвинув гипотезу существования первичной мотивационной системы, эта
модель допускает, что опыт и сознание человека могут своими действиями пре¬
одолевать даже базальные инстинкты, признавая, таким образом, важность про¬
верки среды, в которой осуществляется поведение человека, на предмет значимых
позитивных и негативных последствий, перенаправляющих его поведение. Дан¬
ный интегративный теоретический подход также включает в себя концепцию лич¬
ности, составленную из элементов, соответствующих трехуровневой структуре,
предложенной Фрейдом. Эти структуры особенно полезны для группировки раз¬
личных измерений функционирования индивидов. Ид просто представляет собой
констелляцию драйвов ребенка и первичной мотивационной системы. Эго — это
когнитивные возможности и навыки ребенка, его способность действовать внут¬
ри его экосистемы. Суперэго представляет собой понимание ребенком правил,
которые нужно соблюдать, чтобы удовлетворять свои потребности и не страдать
от неприятных последствий. То, что эти элементы приобретаются или очищаются
в ходе развития ребенка, но самоочевидно, потому что каждый из них — это шаг
на пути постепенной социализации. Личность ребенка не рассматривается как
повод для девиантного поведения или как конкретный «орган», который невоз¬
можно изменить. Вместо этого концепция личности помогает терапевту осознать
уникальность ребенка, в то же время позволяя проводить сравнения между детьми
или между поведением данного ребенка в различных ситуациях.
Не менее важно в экосистемной игровой терапии признание взаимодействия
между телом и разумом индивида. Относительная важность этих двух элементов
была источником серьезных дебатов в психологии, а также получила отражение
во многих спорах биологического и социального (природы против воспитания).
Не вступая в спор о доминировании того или другого, просто отметим, что они
104 Часть IL Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
постоянно взаимодействуют и что это взаимодействие влияет на все аспекты по¬
ведения человека. Существует множество данных, демонстрирующих драматиче¬
ские эффекты, которые сознание человека может оказывать на его собственное
физическое состояние в таких сферах, как психонейроиммунология, и, подобным
образом, воздействия различных телесных процессов и, скажем, психоактивных
веществ на мозг и поведение. По мере того как неврология и генетика становятся
все более научно изощренными, наша способность демонстрировать физиологи¬
ческие корреляты мышления, чувств и поведения человека стабильно возрастает.
Один из аспектов взаимоотношения тела и сознания, которому нечасто уделяет¬
ся внимание во многих моделях игровой терапии, — это важность развития. К сча¬
стью, это положение меняется, и большинство новых моделей вырастают из тео¬
рии развития (Russ, 1998).
Перед тем как продолжить обсуждение, давайте рассмотрим, что же такое раз¬
витие (или, по крайней мере, что принято обозначать этим термином). «Инди¬
видуальное развитие человека предполагает процессы увеличения и трансфор¬
мации, которые через поток взаимодействий с текущими характеристиками его
личности и условиями, в каких он сейчас находится, производят последователь¬
ность сравнительно устойчивых изменений, которые инициируют или увеличи¬
вают многообразие структурных и функциональных изменений этого человека и
паттерны их взаимодействия с окружающей средой, в то же время поддерживая
гармонию организации и структурно-функциональное единство этого человека
как целого» (Ford & Lerner, 1992, р. 49). Наибольшего внимания здесь заслужива¬
ет упоминание о процессах увеличения и трансформации. Дети подвергаются про¬
цессу увеличения практически ежедневно. Младенец, который вчера мог только
стоять на полу, на следующий день уже делает несколько шагов, а еще на следую¬
щий день может перейти всю комнату. Но именно трансформации наиболее зна¬
чительны, и их наиболее трудно отследить взрослым. То, как изменяется мышле¬
ние ребенка с приобретением языка, практически непостижимо, и это изменение
не остается в памяти взрослых. Развитие также происходит на многих уровнях.
Существует микрогенетическое развитие — изменения, происходящие здесь-и-
сейчас. Есть онтогенетическое развитие — изменение, происходящее с человеком
в течение всей его жизни. И что важно для экосистемной модели, существует куль¬
турное, или историческое, развитие, которое происходит за осознаваемый период.
Отмеченное за последние сто лет изменение точки зрения на детей и их ценно¬
сти — прекрасный пример, который совершенно драматически проявляется в ис¬
тории диагностики и исправления жестокого обращения с детьми в США. Сложно
уместить в сознании, что всего за три поколения мы прошли путь от ментально¬
сти «беречь розгу — портить ребенка» до такой ментальности, когда многие счи¬
тают, что все виды телесных наказаний совершенно неприемлемы. Это означает,
что в одной большой семье могут быть бабушки и дедушки, наказывавшие своего
ребенка ремнем, родители, которые, сами будучи биты, получали от родителей со¬
веты бить своих детей за плохое поведение, но боялись службы защиты детей и
лишения родительских прав, и дети, которые обучаются в школе по специальным
программам, в которых рассказывается, как выявить жестокое обращение и куда
следует об этом сообщать. И наконец, существует филогенетическое изменение,
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 105
или те различия в развитии, которые происходят в течение всего периода суще¬
ствования вида. Возьмем, для примера, тот факт, что средний возраст начала пубе¬
ртатного периода у девочек значительно снизился за несколько последних десяти¬
летий (Valsiner, 1997). Мы как вид склонны забывать, насколько короток период,
охваченный нашей записанной историей, поэтому реальность филогенетическо¬
го изменения обычно теряется. С экосистемной точки зрения, первые три уровня
изменений развития могут быть очень важными в осмыслении как имеющихся
проблем, так и способа их излечения.
Исключительная важность, придаваемая в этом тексте теориям развития, оче¬
видна хотя бы в том, что оба элемента мотивационной системы индивида и его
личности считаются производными от взаимодействий ребенка с окружающим
миром и изменчивыми со временем. Интеграция модели лечения с концепциями
развития представляет некоторую сложность, потому что существуют многочис¬
ленные модели развития, и каждая выдвигает на первый план некий отдельный
аспект внутреннего или внешнего жизненного опыта ребенка. В соответствии с
тенденцией современной психологии к интеграции теоретических моделей, а не
просто к созданию новых подходов, первая часть этой главы представляет инте¬
гративный взгляд на развитие ребенка от его рождения до вступления в подрост¬
ковый возраст. Эта концептуализация развития — краеугольный камень, на кото¬
ром покоится модель; это лекало, с которым будет сравниваться история ребенка.
Искажения или нарушения прохождения ребенком этого пути являются основой
для формулирования главных терапевтических целей и для разработки средств
воздействия, которые будут применяться в ходе игровых сессий. И наконец вот
мерило, которым измеряется прогресс ребенка.
1. Психологическое развитие человека продолжается на всем протяжении его
жизненного цикла. Это означает, что понимание характерных для данной
стадии аспектов нормального развития, конфликтов и тревог — ключевой
элемент для обеспечения или продолжения развития индивида или груп¬
пы индивидов за данный период.
2. Так как с точки зрения теории развития особую значимость имеет продол¬
жительность индивидуального человеческого развития, считается, что до¬
стижение каждой следующей фазы строится на результатах прохождения
предшествующих фаз и испытывает на себе их влияние. Подчеркивая общ¬
ность взрослой и детской психологии, этот лонгитюдный акцент включает
и тех и других в число участников одного и того же продолжающегося про¬
цесса развития. Таким образом, статус каждого из них может оцениваться в
идентичных терминах: степень достижения индивидуации, соответствую¬
щей физическому возрасту, и степень свободы от сдерживающих развитие
сил, локализованных как внутри индивида, так и в окружающей его среде.
3. Таким образом, позиция теории развития подчеркивает роль влияний сре¬
ды не только в прошлом, где они делали свой вклад в формирование пато¬
логии, но и в настоящем, в качестве продолжающего действовать фактора
адаптации.
106 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
4. Подобным же образом позиция теории развития делает акцент на прогрес¬
сивной, стимулирующей роли сил нормального роста в лечении эмоцио¬
нальных расстройств, а также в развитии личности.
5. Сохраняя этот акцент на продолжении развития в течение всего жизненно¬
го цикла, позиция теории развития также подчеркивает повторение ранних
проблем развития — неважно, разрешенных или неразрешенных — на по¬
здних стадиях развития. В частности, эта мысль хорошо иллюстрируется
теорией сепарации/индивидуации. Дополняя теорию психосексуальных
стадий развития, эта теория фокусируется на развитии способности к
вступлению в человеческие отношения и к адаптации по мере того, как они
возникают в ходе прогрессирующего развития эго и процесса индивидуа¬
лизации.
Процесс сепарации-индивидуации — самый важный процесс первых трех лет
жизни. Тем не менее он продолжается на всем протяжении развития и завершает¬
ся только с умиранием и смертью. Опять же индивид сталкивается с проблемой
усиления сепарации и потерей важных для себя фигур и с коррелирующей с ней
интернализации развития личности.
Понимание этого процесса повторения важно для психологической работы по
двум причинам: оно дает возможность для дальнейшего решения неразрешенных
проблем как части нормального развития, и оно предоставляет профессионалам
доступ к облегчению таких решений через раннее превентивное вмешательство
или лечение. Можно строить капитал на врожденной склонности человеческого
организма повторять и приобретать мастерство через неразрешенные конфликты
и невыполненные желания прошлого.
1. Позиция теории развития подчеркивает близость нормальных и патологи¬
ческих результатов развития, осознавая, что в каждой точке напряжения и
в каждом месте соединения фаз человек стремится к адаптации и мастер¬
ству. В этом смысле психопатология рассматривается как неудача в адап¬
тации.
2. И наконец, теория развития рассматривает психическое заболевание не с
медицинской позиции существования болезненных объектов, влияющих на
развитые системы органов, но с позиции функциональных нарушений, ко¬
торые вредят современной нормальной деятельности, а также замедляют
дальнейшее развитие по одному из его направлений или в одном из его
аспектов. Цель лечения или других терапевтических вмешательств, таким
образом, состоит в том, чтобы усиливать и облегчать протекание затормо¬
женных процессов развития. Тогда, с этой точки зрения, лечится не некий
синдром, а индивид, испытывающий проблемы в развитии, который психо¬
логически участвовал в формировании своей психопатологии и должен так¬
же участвовать в ее ликвидации. Пациент становится не пассивным реци¬
пиентом, но активным партнером (Cooper & Wanerman, 1977, р. 4-6).
К сожалению, когда большинство людей узнают о человеческом развитии, они
узнают об отдельных теоретиках и их взглядах на отдельные линии развития, как
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 107
если бы каждая линия не была связанной и переплетенной со всеми остальными.
То есть большинство студентов узнают о стадиях морального развития по Колбер-
гу (Kohlberg, 1976,1984), стадиях социального развития Эриксона (Erikson, 1950),
стадиях развития психики в теории Фрейда (Freud, 1917) и стадиях развития
интеллекта Пиаже (Singer & Revenson, 1996) последовательно, а не одновремен¬
но. В силу этого многие из тех, кто изучает развитие ребенка, так и не научаются
определять, насколько у ребенка данного возраста должны быть развиты те или
другие функции. В экосистемной игровой терапии когнитивное развитие счита¬
ется движущей силой, стоящей за развитием всех остальных сфер. Считается, что
дети неспособны функционировать на высшем уровне морального развития по
Колбергу до тех пор, пока они не находятся на высшем уровне развития интеллек¬
та по Пиаже. Кажется, что все логично: неразумно ожидать, что люди будут при¬
менять тонкие абстрактные понятия к моральным ситуациям, если у них еще не
развита способность к абстрактному мышлению.
Информация, представленная на следующих страницах, интегрирует данные
и гипотезы разных теоретических подходов к развитию детей от рождения до 12 лет,
с использованием когнитивной теории в качестве организующей основы. Этот ма¬
териал — скорее описание, чем детализированный обзор всех существующих ста¬
диальных моделей развития ребенка. Читателю предлагается получить понятие о
том, как выглядят дети различных возрастов, если рассматривать их когнитивное,
языковое, физическое, эмоциональное, социальное и игровое развитие, а также их
реакции на общие жизненные ситуации. Хотя возникает случайная ссылка на при¬
годность материала о развитии для осмысления или психопатологии ребенка, или
процесса игровой терапии, речь сейчас не об этом. Более важно, чтобы читатель
получил понимание нормальных детей и их жизненного опыта прежде, чем попы¬
тается понять проблемных детей и особенности их лечения. Для удобства мате¬
риал организован в четыре уровня, совпадающих с четырьмя стадиями развития
интеллекта по Пиаже.
Теория Пиаже имеет несколько ограничений, делающих ее менее чем идеаль¬
ной для использования в качестве организующей структуры для обсуждения раз¬
вития. Во-первых, она строилась как стадиальная модель, то есть она предполага¬
ет, что дети делают довольно неожиданные переходы с одной стадии на другую
безо всяких регрессов на предшествующие этапы развития. Современная концеп¬
ция постулирует постепенный переход между стадиями; отмечается, что регресс —
обычное явление, особенно когда ребенок испытывает стресс. Во-вторых, эта мо¬
дель не принимает в расчет смешанных результатов исследования когнитивных
различий между представителями разных полов. В-третьих, она не принимает в
расчет социальных или культуральных факторов. Современный социокультурный
взгляд состоит в том, что индивидуальные, социальные и культурные факторы не
взаимодействуют, а скорее оказывают комбинированный эффект на развитие и
функционирование человека, в котором трудно вычленить отдельные влияния
(Rogoff & Chavajay, 1995). То есть «интеллектуальное развитие детей исконно свя¬
зано с их участием в социокультурной деятельности» (р. 871). И в заключение,
хотя это не должно нас сильно заботить в контексте данного вопроса, модель Пи¬
аже уделяет очень мало внимания описанию когнитивного развития человека
108 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
после прохождения им подросткового возраста. Несмотря на эти свои ограниче¬
ния, данная теория все равно одна из лучших по своей организации и широко рас¬
пространенна. Поэтому и мы воспользуемся ею. Для дальнейшего изучения
когнитивного развития мы рекомендуем читателю обратиться к следующим бле¬
стящим книгам:
• Greenspan & Greenspan (1991): представлены отличные таблицы развития,
демонстрирующие, какого поведения нам следует ожидать от детей различ¬
ных возрастов. Эти таблицы охватывают шесть категорий наблюдения:
1) физическое функционирование; 2) паттерн отношений; 3) общее настро¬
ение; 4) аффекты; 5) тревоги и страхи и 6) тематическая экспрессия.
• Wood, Davis, Swindle, & Quirk (1996): также приведены прекрасные табли¬
цы и описания функционирования детей разных возрастов по четырем ка¬
тегориям: 1) поведение; 2) общение; 3) социальная деятельность; 4) акаде¬
мическая успеваемость.
• Johnson-Powell & Yamamoto (1997): предложен глубокий анализ природы
различных культуральных и институциональных влияний на детей ■— пред¬
ставителей 12 расовых, этнических и культурных групп, проживающих в
США.
В нашей книге важность уровня развития ребенка для психопатологии будет
рассмотрена ближе к концу этой главы, а библиография книг по психологии раз¬
вития сопровождает материал глав 6-15.
Характеристики развития для практики игровой терапии
Дети первого уровня
С рождения до возраста примерно 2 лет первичная задача детей — научиться реа¬
гировать на окружающую их среду удовольствием, но одновременно с этим они
боятся отвержения и депривации другими людьми (Wood, Davis, Swindle & Quirk,
1996).
Когнитивное развитие
Дети первого уровня находятся на стадии, которую Пиаже (Piaget, 1952, 1959,
1967) определял как сенсомоторную фазу, начинающуюся с рождения ребенка и
продолжающуюся до тех пор, пока он не достигнет возраста приблизительно 2 лет.
Завершением этой фазы очень грубо можно назвать приобретение ребенком язы¬
ка. Ни на какой другой стадии развитие не происходит так быстро, как в течение
сенсомоторной стадии. Это захватывающий для младенцев уровень, так как каж¬
дое их переживание — новое; нет ничего похожего на что-либо, уже случавшееся
раньше. Младенец воспринимает сенсорную информацию всех видов. На этой
стадии все его обучение выводится из переживаний. Переживания и память бы¬
вают визуальными, вкусовыми, обонятельными, тактильными, кинестетическими
и слуховыми. Младенец закладывает в память и сохраняет там качество и интен¬
сивность переживания.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 109
Экспериментальная психология продемонстрировала силу воспоминаний, по¬
лученных через эти модальности, и все же не на эти источники информации пола¬
гаются большинство взрослых. Вместо этого взрослые склонны доверять языку
для облегчения воспоминаний событий и переживаний. Младенец не имеет язы¬
ка, чтобы опосредовать им свои переживания. Память его переживаний — это
лишь память ощущений. Он может вспомнить что-то, что видел, обонял, пробо¬
вал на вкус, слышал или трогал раньше, но он не может отнести все это к какой-
либо категории или назвать. Поначалу переживания просто усваиваются — суще¬
ствует очень мало взаимодействий между ребенком и его миром. По мере развития
ребенок стремится к общению со своей средой, к повторению приятных пережи¬
ваний и избеганию неприятных. Движение, которое заставляет колыбель раска¬
чиваться, будет повторяться часто в течение долгих периодов времени. С другой
стороны, вид и запах кабинета педиатра могут заставлять ребенка кричать в пред¬
чувствии боли.
Хотя память ощущений достаточно сильна, она не так легко доступна, чтобы
вспомнить что-либо, и еще менее доступна для обработки хранящихся в ней дан¬
ных. Трудно удерживать переживание и глядеть на него, не называя его словами.
Фрейд утверждал, что детская амнезия, особенность человека забывать то, что
происходило приблизительно до его третьего дня рождения, происходит благода¬
ря подавлению интенсивных аффектов и конфликтов, предшествовавших началу
эдипального периода. Представляется гораздо более вероятным, что эти воспоми¬
нания недоступны впоследствии, потому что в это время ребенок еще не обладает
словами, которыми их можно передать. Но у многих взрослых есть опыт внезап¬
ного «вспоминания» события, случившегося в их довербальный период (часто это
происходит во время психотерапии). Интенсивность связанного с ним аффекта
может ошеломлять, и взрослый человек часто сообщает, что испытывал при этом
такие чувства, будто он вернулся назад во времени и заново пережил это событие.
В начале первого уровня объекты существуют для ребенка только до тех пор,
пока он может воспринимать их своими органами чувств. Когда ребенок выбра¬
сывает свою ложку, он не ищет ее; зачем ему это? Она перестала существовать,
потому что перестала восприниматься. Подобным же образом, когда его мать вы¬
ходит из комнаты, он плачет, потому что его внимание подчинено его восприятию
вещей, и когда он их воспринимает, он знает, что они существуют. По мере того
как эта фаза развития прогрессирует, он приобретает способность удерживать
ментальный образ объектов в своей памяти все дольше и дольше и демонстрирует
страх потери, когда предметы перестают им переживаться. Ребенок все еще боит¬
ся, что если объект исчезает надолго, то он перестает существовать, но теперь он
может переживаться, пока память может его удерживать. Когда тоддлер (полуто¬
рагодовалый ребенок), стоящий посреди своей комнаты, ищет свою потерянную
игрушку, он осматривает эту комнату. Если спросить его, где он последний раз
видел игрушку, он может сказать, что она была в ванной, но, вероятнее всего, про¬
должит искать ее в своей комнате. Действительное местонахождение объекта ир-
релевантно для него, так как он полагается на силу своей памяти. Чем сильнее
образ предмета в памяти ребенка, тем ближе к нему, по его мнению, находится
предмет.
110 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Стремясь к цели первого уровня, объект устанавливается все более четко, и аф¬
фект может прикрепляться к внешнему объекту (Piaget, 1962). Эта часть когни¬
тивного развития — ключевой элемент сепарации/индивидуации ребенка от ро¬
дителя (об этом говорится далее в этой главе).
Как уже отмечалось, на первом уровне развития ребенок не обладает речью, при
помощи которой он мог бы называть, обрабатывать, сохранять или воспроизво¬
дить переживания и воспоминания. В течение большей части данной стадии обще¬
ние осуществляется через моторные движения и простые вокализации. Младенец
ерзает и плачет, когда намочит пеленки. К сожалению неопытных родителей, он
ерзает и плачет еще и тогда, когда голоден, болен, когда ему холодно, жарко или
он переживает любое из дискомфортных ощущений. Позже ребенок приобретает
способность производить более осмысленные моторные движения: он дергает пе¬
ленку, когда намочит ее, касается своего рта или животика, когда голоден, или, еще
более очевидно, становится перед холодильником и кричит. Постепенно звуки,
имитирующие слова, ассоциируются с этими моторными подсказками, а еще поз¬
же слова заменяют ббльшую часть двигательного поведения.
При разработке плана игровой терапии терапевт постоянно должен помнить,
что детям, находящимся на первом уровне когнитивного функционирования, не¬
обходимы сессии, практически полностью основанные на ощущениях, а не на сло¬
вах. Это справедливо независимо от того, целиком ли когнитивное функциони¬
рование ребенка относится к первому уровню или он демонстрирует мышление
первого уровня лишь в некоторых, скажем, эмоционально окрашенных ситуациях.
Физическое развитие
Первый уровень — это время быстрого развития когнитивной сферы ребенка, но
это еще и период быстрых изменений в развитии моторики и навыков. Изначально
младенцы способны совершать очень мало движений, кроме размахивания конеч¬
ностями и извивания. Постепенно они научаются ориентироваться на объекты и
делают попытки двигаться к этим объектам. Они научаются переворачиваться,
ползать на животе по направлению к объектам, сидеть, ползать на четвереньках и
ходить. Каждое овладение новым движением позволяет ребенку становиться бо¬
лее независимым и удовлетворять некоторые из своих потребностей. Как и в слу¬
чае с достижением константности предметов, увеличение мобильности играет
некую роль в сепарации/индивидуации ребенка от его первичного объекта (мате¬
ри). Ребенок, моторное развитие которого значительно отстает или опережает
норму, может, например, испытывать трудности с привязанностью, даже если в
остальном его отношения с родителем (матерью) протекают хорошо.
Эмоциональное развитие
В течение первого уровня ребенок также развивает свое базальное понимание
аффекта. Представляется вероятным, что значительные сдвиги его психологиче¬
ского состояния являются индикаторами переживания им аффекта. Младенцы
способны по-разному реагировать по меньшей мере на три физиологических со¬
стояния. Они знают, что им комфортно, когда все системы их тела воспринимают
не более чем умеренный уровень возбуждения. Кажется, что это состояние уме-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 111
ренного возбуждения — биологический эквивалент того, что позже получит на¬
звание счастья.
Кроме того, младенец может осознавать боль, когда одна или несколько сис¬
тем его тела изрядно перевозбуждены. Физиологическую реакцию ребенка на
боль легко отличить от состояния удовлетворенности, даже если использовать
простые инструменты измерения физиологического состояния. Кажется, что этот
паттерн возбуждения становится биологическим предшественником гнева и тре¬
воги. Изначально ребенок осознает дискомфорт как установление некоторого со¬
стояния гипервозбуждения или тревоги. Затем младенец начинает протестовать
против дискомфорта. Реакция гнева или протеста охраняет его жизнь, потому что
это сигнализирует родителю о проблеме.
Помимо осознания оптимального уровня возбуждения как приятного, а гипер¬
возбуждения как неприятного, младенец способен на реакцию сохранения/оттор-
жения, когда дискомфорт продолжается несмотря на долгий период разумного
протеста. Например, голодный младенец сперва хнычет и извивается, но очень
скоро начинает кричать в знак протеста. Если еда не появляется, он будет продол¬
жать кричать очень долго. Но если еда так и не пришла, он постепенно переклю¬
чится на реакцию сохранения/отвержения и прекратит свои протесты. И снова это
состояние легко отличить и от удовлетворенности и от реакции протеста с исполь¬
зованием самых простых измерений физиологического состояния младенца. Оно
характеризуется’паттерном значительного недостатка возбуждения. Если бы ре¬
бенок просто упорствовал в ярости, сталкиваясь с депривацией, он постепенно
истощил бы свои силы и в потенциале умер бы. Начало реакции сохранения/от¬
вержения замедляет внутренние процессы ребенка до того уровня, на котором он
может продолжать существовать значительный период без получения необходи¬
мых ресурсов. Кажется, что эта реакция сохранения/отвержения является биоло¬
гическим предшественником депрессии.
Независимо от бдительности родителя, младенец переживает все три эти фи¬
зиологических состояния в некоторой точке своего раннего развития. Каждый
младенец когда-нибудь испытывает боль и поэтому переживает физиологическое
возбуждение, тревогу и ярость. И каждый ребенок когда-нибудь обнаруживает,
что независимо от того, как он протестует, могут существовать такие боли, от ко¬
торых родитель не может его спасти. Ушные инфекции — хороший пример есте¬
ственно происходящего события, которое запускает весь набор физиологических
реакций. Дети склонны игнорировать первые сигналы ушной инфекции и продол¬
жают выглядеть удовлетворенными до тех пор, пока проблема не принимает со¬
всем серьезный оборот. Из-за того что детям требуется много времени для того,
чтобы идентифицировать очаг боли, родитель часто неспособен сказать, что про¬
исходит с ребенком до тех пор, пока тот не начнет протестовать. Следовательно,
ушная инфекция продолжается, пока ребенок кричит, и родитель сходит с ума от
своей неспособности обеспечить ему комфорт. Визит к педиатру обычно лока¬
лизует источник проблемы, но не обеспечивает немедленного облегчения боли.
Многие дети плачут до тех пор, пока не засыпают — это классическая реакция
сохранения/отвержения.
112 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Очевидно, что все эти переживания постепенно обретают речевые обозначе¬
ния, и к тому времени, когда ребенок переходит на второй уровень, он начинает
называть эти переживания счастьем, бешенством и печалью. Но для того чтобы
ребенок смог дифференцированно называть эти состояния в соответствии с ситу¬
ациями, в которых они возникают, необходимо значительное количество опыта и
значительное улучшение речевых навыков. Ко времени достижения зрелого воз¬
раста большинство индивидов способны описать и использовать более 400 терми¬
нов для обозначения своего состояния.
Фрейд (Freud, 1905), помимо биологической модели эмоциональных пережи¬
ваний младенцев, описал персональные внутренние переживания младенцев.
К сожалению, современные читатели часто испытывают значительные трудности
с пониманием подхода Фрейда вследствие его сексуализации главных аспектов
каждой стадии развития. Например, он постулировал, что именно либидинозная
энергия, фокусируясь в некоторой области тела, например в области рта, ануса или
гениталий, движет развитием ребенка. Затем он определил, что энергия либидо
сексуальна по своей природе, хотя признавал, что эта биологическая движущая
сила имеет эффекты самосохранения. Несогласие с большинством работ Фрейда
и последовательный отказ от них очень печальны, потому что вопросы развития,
приведенные в его модели, практически не изменяются, даже если сформулиро¬
ваны в когнитивных, поведенческих или социальных терминах.
Хотя Фрейд и жил более чем за пятьдесят лет до Пиаже, он признавал общую
направленность ребенка на объединение стимулов, поступающих к нему из окру¬
жающей среды. Младенец подобен губке, вбирающей в себя все переживания,
не пытаясь отфильтровать что-либо. Фрейд называл этот возраст оральной стади¬
ей и считал центром концентрации энергии либидо ребенка в это время область
рта. Все энергии используются для того, чтобы «вбирать», и все свои удовольствия
он получает от такой деятельности. С когнитивной точки зрения это полностью
соответствует описанию ребенка в этот период, сделанному Пиаже. Первичное
различие состоит в том, что Пиаже говорил о сенсомоторных стимулах и об их
инкорпорации как о сравнительно нейтральном в эмоциональном отношении про¬
цессе, а Фрейд фокусировал внимание на удовольствии, которое младенец полу¬
чает от инкорпорации (поглощения). С биологической точки зрения, это инстинкт
самосохранения, так как ребенок ориентирован на прием пищи. Если принять во
внимание беспомощность младенцев, эта зависимая ориентация существенна.
Постепенно ребенок использует свой аккумулированный опыт, чтобы сфокуси¬
ровать поиск пищи и заботы на своем первичном объекте (матери), и между ним
и матерью начинают формироваться зачатки межличностных отношений. Все это
означает, что эмоциональные переживания детей первого уровня являются интен¬
сивными и первоочередными. Проявления таких эмоций на игровых терапевти¬
ческих сессиях обязательно происходят после периода гармонии. Терапевт дол¬
жен быть эмоционально и физически готов к мощным эмоциональным вспышкам
при работе с ребенком, который или все еще функционирует на первом уровне,
или именно на первом уровне столкнулся со своими главными трудностями.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 113
Социальное развитие
Наиболее критический психологический аспект первого уровня для всего когни¬
тивного и моторного развития, которому на этом уровне подвергается ребенок, это
установление первоначального чувства своей личности через процессы сепарации
и индивидуации (Sroufe, 1979). Малер (Mahler, 1967) описывала начальную часть
первого уровня как фазу естественного (нормального) аутизма, в течение которой
«кажется, что младенец находится в состоянии примитивной галлюцинаторной
ориентации, где удовлетворение потребности вращается по своей собственной
всемогущественной, аутистической орбите» (с. 740). В течение первых несколь¬
ких месяцев кажется, что ребенок не делает ничего, кроме поглощения стимулов
окружающей его среды; его действия рефлексивны, а поведение непреднамерен¬
но. Младенец очарован своим сенсорным опытом и не осознает границ собствен¬
ного тела. То, что он есть, и то, что он воспринимает через любой из своих органов
чувств, — это одно и то же. После этого ребенок проходит через то, что Малер
(Mahler, 1972) называла дифференциацией, а Анна Фрейд (A. Freud, 1965) опре¬
деляла как нормальный симбиоз. Дифференциация запускается, когда ребенок
постепенно начинает осознавать границы своего тела. Младенец начинает строить
ассоциации между некоторыми ощущениями и некоторыми объектами и замеча¬
ет, что эти объекты не всегда присутствуют. Младенец очень рано может диффе¬
ренцировать свой первичный объект (мать) от других людей. По мере продолже¬
ния процесса дифференциации ребенок проходит через стадию практики (Mahler,
1972), в течение которой он устанавливает контакт с внешним миром, используя
объект (родителя, мать) в качестве безопасной и стабильной базы. Это обычно
можно пронаблюдать в исследовательском поведении ребенка. Представьте себе
тоддлера, которого мать привела в незнакомое для него место. Сначала он прячет¬
ся за ней и отказывается смотреть на новых людей и новую обстановку. Если его
не принуждать к этому, постепенно он начинает визуально изучать среду, стоя в
безопасности позади матери. Еще позже он начинает исследовать среду физиче¬
ски, продолжая находиться очень близко к своей матери. По мере снижения тре¬
воги и сопутствующего ей уровня возбуждения он будет двигаться все дальше и
дальше от нее, чтобы изучать среду, всегда возвращаясь к матери, чтобы периоди¬
чески проверять, что все в порядке и что мать продолжает существовать. Эриксон
(Ericson, 1950) фокусировал внимание на социальном компоненте такого поведе¬
ния и говорил о доверии и недоверии ребенка к обучению, основанном на посто¬
янстве и стабильности родителя и среды.
В течение этой фазы отношения ребенка и родителя очень сильно зависят от
состояния драйвов (потребностей) ребенка (A. Freud, 1965); то есть ребенок бу¬
дет искать своих родителей, когда ему больно, и оставаться от них в удалении,
когда потребности устойчивы и удовлетворены. Это указывает на биологические
предпосылки развития, относящегося к первому уровню. Хотя поведение родите¬
ля и отсутствие токсичности окружающей среды являются критическими усло¬
виями для здорового пути прохождения ребенком первого уровня, ни один из этих
факторов не окажется сильнее биологических задатков ребенка. Например, ребе¬
нок, невротическая структура которого такова, что он неспособен вычислять, что
114 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
окружающая его среда безопасна и стабильна, неудачно пройдет этот уровень вне
зависимости от того, насколько психоэкологически чиста данная среда.
Игровое развитие
В любом возрасте игровое развитие идет параллельно с развитием ребенка в ос¬
тальных областях. Именно по этой причине довольно сложно выделить его в це¬
лях изучения. Несмотря на это, давайте попытаемся коротко взглянуть на эволю¬
цию игрового поведения на протяжении первых 2 лет жизни. В течение первых
4 месяцев основной игрой будет повторение приятных физических действий, ко¬
торые предназначены для тела ребенка, то есть первичных циркулярных реакций
(Hughes, 1995). Довольный малыш кажется удивленным, когда обнаруживает
свою ступню, тянет ее в рот и внезапно застывает в изумлении от одновременной
стимуляции рта и ступни. С ликованием он повторяет эти действия снова и сно¬
ва, видимо удивляясь каждый раз заново. Между 4 и 8 месяцами ребенок с наи¬
большей вероятностью повторяет действия, которые оказывают влияние на окру¬
жающую его среду, а не просто действия, влияющие на его тело, и не вторичные
циркулярные реакции. Младенец будет греметь ложкой по тарелке только для
того, чтобы поразить свое воображение внезапным громким звуком. Пока он по¬
нимает, что опасности нет, он повторяет это действие и вскоре начинает извергать
регулярный поток шума. От 8 до 12 месяцев ребенок очарован процессами третич¬
ных циркулярных реакций. Он с тревогой ищет свою мать, играющую с ним в
прятки, которая внезапно появляется и говорит «ку-ку». Видимо, он постоянно
забывает о своей тревоге и концентрируется на том, чтобы заново обрести мать и
повторить процесс исчезновения и поиска. С 12 до 18 месяцев ребенок все еще де¬
монстрирует повторяющееся поведение, но от одного повторения к следующему
он будет стремиться к изменению переживаний. Если раньше ребенок мог беско¬
нечно барабанить ложкой по одной и той же тарелке, теперь он, скорее всего, будет
бегать по комнате и стучать по самым разным предметам, выискивая все новые
звуки. К возрасту 18 месяцев сенсомоторная игра постепенно исчезает и замеща¬
ется символической и изобразительной (pretend) игрой (Hughes, 1995).
По мере появления изобразительной игры она изменяется в отношении трех
переменных. Первая из них — постепенная децентрация. То есть если раньше
объектом изображения был сам ребенок, то теперь фокус смещается с него самого
на предметы или окружающих людей (Fenson, 1986; Fenson & Ramsey, 1980; Hug¬
hes, 1995). Ребенок делает вид, что кормит игрушку или другого ребенка, и уже не
изображает, что кормит себя. Вторая переменная — игра постепенно становится
неконтекстуальной (decontextualized). Поначалу ребенку нужны объекты, кото¬
рые очень похожи на то, что он изображает, — например, игрушечная машинка,
играющая роль реальной машины. Но постепенно допускаются замены и ребенок
может быть совершенно удовлетворен использованием кубика в качестве машин¬
ки. И последняя переменная — игра ребенка становится более интегративной.
Длительность одной деятельности и количество связей между одним действием
и следующим постепенно увеличиваются. Хотя линии развития в целях удобства
их рассмотрения представлены последовательно, эволюция игры ребенка осуще¬
ствляется одновременно по всем трем направлениям.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 115
Переработка жизненного опыта
Фокусируясь на внутренних переживаниях и росте ребенка в течение первого
уровня, не менее важно отметить, как связаны с процессом развития жизненный
опыт, получаемый ребенком, и взаимодействия, в которые он может вступать. Это
позволяет терапевту принимать в расчет индивидуальные, этнические и культу¬
ральные вариации опыта.
Некоторые факторы, которые необходимо учитывать при оценке взаимоотно¬
шений ребенка с его первичным объектом (родителем), включают количество
времени, которые они проводят вместе ежедневно и в течение всего прохождения
первого уровня развития. Для работающих матерей длительность декретного от¬
пуска и деятельность, которой они занимаются, вернувшись на рабочее место, зна¬
чительно различаются. Находилась ли мама дома шесть месяцев, один год или
более? Когда она возвращается на работу, заботится о ребенке другой родитель
или родственник или его отдают в некое детское воспитательное учреждение?
В какой степени в первичной заботе о ребенке участвует отец? Сейчас многим
мужчинам предлагают «отцовский» отпуск, и они проводят его, ухаживая за ре¬
бенком. Представления ребенка об изменениях ухода за ним, в течение первого
уровня будут очень ограниченными и могут восприниматься как крайне дискрет¬
ные, если изменения происходят внезапно. Младенец или тоддлер испытывает
трудности в удержании образа того, кто о нем заботится, если этого человека нет
рядом, и у него будут трудности, пока он не запомнит, что смена родителей в тече¬
ние дня или недели — обычное дело. Вероятно, на каждый уход родителя ребенок
будет реагировать как на окончательный и некоторое время очень беспокоиться.
Отделения и воссоединения не обязательно будут причинять вред, но родитель
должен помочь ребенку понять их, а сам впредь исходить из понимания времени
ребенком.
Помимо учета графика ухода за ребенком, терапевту необходимо учитывать
вероятность того, что иногда ребенок в течение первых двух лет своей жизни мо¬
жет переживать рождение сиблинга (брата или сестры). Несмотря на рекоменда¬
ции многих психологов, чтобы новый ребенок не появлялся в семье, пока старший
ребенок находится в возрасте от 18 до 30 месяцев, именно этот популярный ин¬
тервал продолжают выбирать родители. Рождение брата или сестры в тот период,
когда ребенок находится на пике стадии сепарации/индивидуации от родителя/
родителей, может вызвать у него серьезные опасения по поводу собственных от¬
ношений с первичным объектом.
Терапевт должен тщательно учитывать каждое из этих жизненных событий
при диагностике ребенка и разработке плана лечения. Стратегии получения этой
информации через изучение истории развития обсуждаются в главе 6.
Дети второго уровня
Начиная с двухлетнего возраста и до достижения приблизительно шести лет пер¬
вичная задача ребенка — научиться успешно реагировать на стимулы окружаю¬
щей его среды, но в то же время дети этого возраста боятся личной неадекватно¬
сти и наказания со стороны мощных внешних сил (Wood, Davis, Swindle, & Quirk,
1996).
116 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Когнитивное развитие
Как уже отмечалось ранее, переход ребенка с первого на второй уровень отмеча¬
ется приобретением ребенком речи. Первичная когнитивная задача 2-6-летнего
ребенка второго уровня — развитие способности использовать язык для катего¬
ризации переживаний, базирующихся на схожих лингвистических названиях,
а также на постигаемых по мере приобретения жизненного опыта сходствах и раз¬
личиях. Пиаже (Piaget, 1952) называл этот уровень дооперациональной фазой,
отмечая способность ребенка давать имена информации и переживаниям при не¬
способности сознательно организовывать тот опыт, который он приобретает, и ма¬
нипулировать им. В течение этой фазы обучение все больше основывается на речи
и все меньше зависит от ощущений и восприятия.
Переживания и ощущения обычно все еще определяют процесс обработки ин¬
формации ребенком второго уровня, который зачастую находит некоторые инте¬
ресные способы смотреть на мир. Например, ребенок может выучить слово «соба¬
ка», но применять его только к небольшому количеству собак, находящихся в его
непосредственном окружении, или, наоборот, может назвать собакой и кошку. Ес¬
ли находящийся рядом взрослый объяснит различие между собакой и кошкой тем,
что кошка меньше, то позже ребенок, увидев пекинеса, назовет его кошкой. Нако¬
нец, нередко ребенок называет собакой и первую увиденную им корову. Это отра¬
жает способ приобретения и сохранения информации, которым пользуются дети,
находящиеся на дооперациональной стадии развития. На ящиках с «файлами»,
заполняющих их головы, наклеены лишь самые общие ярлыки, и информация в
них группируется свободно, часто нереалистично.
Из-за этого беспорядка в хранении информации ребенок неспособен выпол¬
нить большинство умственных операций. Дети второго уровня сталкиваются с
гораздо меньшими трудностями при сравнении и противопоставлении, чем при
управлении своими знаниями. Ребенок не может ни разрешить простые пробле¬
мы сохранения, ни мысленно прокрутить событие назад, чтобы определить его
причину (Piaget, 1963).
Хотя ребенок и не может сохранять информацию, он совершенствует ключе¬
вой навык, как предтечу сохранения, а именно константность образа объекта.
По мере того как язык становится более стабильным компонентом процесса мыш¬
ления ребенка, постоянство объектов занимает центральное место в его познава¬
тельной сфере. Таким образом, с когнитивной точки зрения эту фазу можно раз¬
делить на два сегмента: возраст между 18 и 36 месяцами, в течение которого
важнейшей задачей становится приобретение речи, и возраст между 3 и 6 годами,
в течение которого доминирующей задачей будет инкорпорация постоянства
объектов в мышление ребенка. Именно этот аспект объектного постоянства кажет¬
ся существенным для успешного преодоления ребенком последних этапов процес¬
са сепарации/индивидуации, а также процесса, который Фрейд называл эдипаль-
ным конфликтом. Оба эти вопроса будут подробнее рассмотрены в разделе о
социальном развитии детей второго уровня.
Сложностью, связанной с когнитивным развитием ребенка, является его вступ¬
ление в формальный процесс образования, происходящее в течение второго уров-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 117
ня. Сейчас многие дети уже с трехлетнего возраста посещают дошкольные учреж¬
дения. При этом многие из них больше не просто место, где за детьми только при¬
сматривают в течение дня, а действительно включают в свои программы очевид¬
ные академические компоненты. Помимо этого, интенсивные программы развития
младенцев нередко используют и родители. Несомненно, что ребенок пойдет в
детский сад и, возможно, даже в первый класс, все еще находясь на втором уров¬
не, независимо от того, посещал ли он раньше какие-либо дошкольные учрежде¬
ния.
Требования различных обучающих программ для детей второго уровня силь¬
но различаются. Авторы некоторых программ считают, что к моменту, когда дети
пришли в детский сад, они уже обладают значительным запасом информации,
включая знание алфавита, чисел и цветов. Другие больше придерживаются соци¬
альной направленности. Большинство программ ориентированы на то, чтобы к
окончанию первого класса ребенок приобрел практически все навыки, необходи¬
мые для обучения чтению и счету. Таким образом, в современных условиях при
осмыслении симптоматики ребенка и разработке плана его лечения необходимо
учитывать детали раннего академического опыта. Более подробно об этом будет
сказано в главах 6 и 7.
Физическое развитие
Моторное развитие ребенка второго уровня гораздо менее стремительно, чем про¬
гресс ребенка первого уровня. В течение первого уровня ребенок развивается от
практически полной неподвижности до способности хорошо ходить. В течение
второго уровня, то есть в возрасте от 2 до 6 лет, ребенок работает главным образом
над усовершенствованием моторных навыков, приобретенных им ранее. Ребенок
учится быстрее бегать, выше прыгать, дальше и точнее бросать. Эти навыки могут
быть очень важными для приобретения ребенком принятия сверстников, но они
не столь важны для его эмоционального развития, как другие аспекты деятельности.
Эмоциональное развитие
Что касается эмоционального развития ребенка на втором уровне, заметим, что и
тут проходит процесс усовершенствования. Эмоции начинают лучше осознавать¬
ся, а главное, ребенок уже может испытывать их и в отсутствие сильных физи¬
ческих раздражителей. Аффективный словарь ребенка, однако, обычно остается
довольно ограниченным и часто состоит лишь из счастья, бешенства и печали,
а также нескольких вариантов этих основных категорий. Во время прохождения
второго уровня развиваются не столько внутренние переживания ребенком аф¬
фективных состояний, сколько межличностные аспекты его эмоционального опы¬
та. В случае с ребенком второго уровня очень сложно говорить о его эмоциональ¬
ных переживаниях вне контекста его социального развития.
В развитии ребенка второго уровня центральными становятся две социально¬
эмоциональные задачи: 1) развитие чувства полного контроля (mastery) за его
внутренним и внешним опытом и 2) развитие устойчивой полоролевой иденти¬
фикации. Центральное значение полного контроля для развития ребенка второго
118 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
уровня осознавалось авторами, принадлежавшими к довольно непохожим теоре¬
тическим направлениям (Erikson, 1963; Freud, 1917; A. Freud, 1965; М. Mahler,
1972; Sroufe, 1979). Так, Малер (Mahler, 1972) утверждала, что потребность ре¬
бенка в контроле в течение этого уровня обеспечивает ему многочисленные по¬
зитивно подкрепляющие переживания, результатом которых является развитие
чувства, напоминающего общее чувство эйфории, особенно у тоддлеров. Но по¬
мните о том, что контроль — не монолитное понятие: один его аспект — это разви¬
тие внутреннего контроля; другой аспект относится к контролю внешних пережи¬
ваний.
И Фрейд (Freud, 1917), и Эриксон (Ericson, 1963) обращали внимание на по¬
требность ребенка в достижении внутреннего контроля, что демонстрируется на
примере попыток контроля кишечника и мочевого пузыря в приучении к туалету.
Основываясь на этом, Фрейд назвал возраст приблизительно с 18 до 36 месяцев
анальной стадией, тогда как Эриксон подчеркивал стремление ребенка к автоно¬
мии и его борьбу против стыда и сомнения. Но даже в терминологии Эриксона
очевидно, что процесс приобретения чувства контроля над своим внутренним ми¬
ром связан с приобретением чувства совершенного владения внешней ситуацией
(ienvironmental mastery). В конце концов, приучение к туалету редко проходит без
помощи окружающих ребенка людей, даже если они просто обеспечивают ему
условную вербальную обратную связь. В этом смысле контроль подразумевает
развитие саморегуляции ребенка в условиях его защищенности внешними орга¬
нами контроля (Erikson, 1950). Но существуют различия между двумя компонен¬
тами контроля, и именно их равновесие особенно важно для развития ребенка.
Перед тем как приступить к изучению понятия сбалансированного чувства
контроля, давайте сначала взглянем на развитие ребенком межличностных уме¬
ний. В конце концов, тоддлеры, скорее всего, известны своими вспышками тем¬
перамента, чем своей способностью приучаться к туалету. Действительно, если
любого взрослого человека, имеющего или не имеющего собственных детей, по¬
просить рассказать что-нибудь, что он знает о детях между 18 месяцами и 6 года¬
ми, он, скорее всего, скажет, что знает про «ужасное двухлетие». Практически все
родители могут вспомнить время, когда у их двухлетних детей случались вспыш¬
ки ярости, по силе эквивалентные маленькому ядерному взрыву. Даже дети, во
многих отношениях считающиеся нормальными, могут проявлять долгие (от 20
до 30 минут) и драматические (с криком, битьем головой о стену, прерывающим¬
ся дыханием, агрессией и т. д.) вспышки гнева. Эти вспышки — признаки того, что
ребенок делает последний шаг, становясь человеком, независимым от своих роди¬
телей и демонстрирующим силу своей «личности» для того, чтобы удовлетворить
свои потребности.
То, чего ребенок добивается этими вспышками, зависит главным образом от
того, как на них реагируют родители. Хороший родитель способен выступать в ро¬
ли «контейнера» для ярости ребенка, осознавая и принимая ее и защищая себя и
ребенка от ее потенциально разрушительных эффектов. Хороший родитель так¬
же способен помочь ребенку найти способы, которыми он может удовлетворять
свои потребности несмотря на вспышки гнева, а не благодаря им. Следующие
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 119
примеры иллюстрируют ту тонкую грань, которая является желательным резуль¬
татом этого периода развития.
Представьте себе ребенка двух с половиной лет, у которого был тяжелый день,
скажем праздник в доме его родственников. Из-за празднования ребенок про¬
пустил свой обычный дневной сон и весь день провел на ногах. С наступлением
вечера ребенок неистовствует, бегает вокруг и смеется как безумный. Хороший ро¬
дитель понимает, что у ребенка наступило истощение и механизмы торможения
не срабатывают. Родитель сообщает ребенку, что пришло время идти спать, и сле¬
дует драматическая вспышка гнева, в ходе которой ребенок настаивает, что он
вовсе не устал. Хороший родитель понимает: ребенок не чувствует себя усталым
и рассержен тем, что его веселье пытаются прервать. Несмотря на это, хороший
родитель продолжает готовить ребенка ко сну. Тогда вспышка гнева у ребенка
может перерасти в истерику, но хороший родитель продолжает помнить, что это
связано с усталостью ребенка, и все равно не разрешает ему не ложиться подольше.
В то же время такой родитель не начинает сердиться. Хороший родитель удержи¬
вает ребенка, успокаивает его и укладывает в постель, несмотря на то что ребенок
продолжает кричать, так как родитель знает, что, оказавшись в постели, ребенок
сразу заснет. В этом взаимодействии ребенок узнает, что бывают ситуации, в ко¬
торых родителю можно довериться, когда он идет наперекор желаниям ребенка,
поступая таким образом на благо ему. Другими словами, он узнает, что количе¬
ство тех вещей, в которых ему позволено быть хозяином, ограничено.
Давайте теперь посмотрим на развитие контроля ребенка второго уровня в
другом взаимодействии с хорошим родителем. Представьте, что ребенок двух с
половиной лет играет во дворе со своим отцом. Им весело вдвоем, и вдруг отец
говорит, что пора идти домой. Тоддлер протестует, сопротивляется и наконец сры¬
вается с места и убегает от дома по направлению к улице. Отец бросается вслед за
ребенком, подхватывает его на руки и несет в дом, понимая, что ребенок сердится,
и указывая на свою потребность защищать ребенка от машин на улице.
Представьте те же самые события приблизительно год спустя. Отец снова го¬
ворит, что пришло время идти в дом; ребенок злится достаточно серьезно, чтобы
попытаться убежать, направляясь к улице. В этот раз хороший отец, вероятно,
останется на месте, словами предупреждая ребенка об опасности и о необходимо¬
сти вернуться и пойти домой. Если развитие ребенка происходит должным обра¬
зом, ребенок трех или четырех лет остановится на месте и обернется посмотреть,
следует ли отец за ним. Когда ребенок замечает, что отец за ним не бежит, он сто¬
ит и ждет. Если отец в этот момент повернется к дому, повторяя, что ребенку пора
возвращаться, очень вероятно, что ребенок последует за ним, оставаясь на неко¬
тором расстоянии. И родитель и ребенок внимательно следят друг за другом, что¬
бы видеть, что делает каждый из них, но оба делают вид, что игнорируют друг
друга. Это тонкий танец, в котором роли ведущего и ведомого постоянно пересмат¬
риваются. Наконец, войдя в дом, отец убеждается, что ребенок следует за ним.
Отец остается доволен тем, что в трудной ситуации ребенок сделал правильный
выбор.
Теперь представим эту сцену еще раз, когда ребенок уже подошел к концу второ¬
го периода, то есть достиг возраста примерно пяти с половиной лет. Отец говорит,
120 Часть //. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
что пришло время идти домой, и если ребенок собирается протестовать, он делает
это немедленно. Он может сказать «нет», и снова направиться от дома в сторону
улицы. Отец повторяет свое желание, чтобы ребенок шел домой, поворачивается
и идет в дом сам, уверенный в том, что ребенок вскоре последует за ним. В этот
раз ни ребенок, ни родитель практически не ведут взаимной проверки. Сейчас оба
знают, как вести себя в этой ситуации. Ребенку оставлено место, чтобы он был
хозяином своего поведения, потому что он продемонстрировал способность само¬
стоятельно охранять себя.
Еще один пример иллюстрирует, как контроль полностью предоставляется ре¬
бенку в ходе его развития. Когда ребенок еще очень маленький и родитель торо¬
пится одеть его и побыстрее выйти из дома, родитель выполняет эту работу сам,
не предлагая ребенку принять в ней участия и даже не желая этого. Если ребенок
не хочет надевать то, что выбрали для него родители, или хочет помочь в этом
процессе, родитель часто не принимает во внимание его желания, чтобы выпол¬
нить задачу. Когда ребенок становится немного старше и уже может лучше помочь
с одеванием, навык предпочтительнее вырабатывать, когда никто никуда не спе¬
шит, и тогда родитель разделяет деятельность с ребенком, скажем, надевая на него
один носок и ботинок, а тот — другой носок и другой ботинок. К тому времени,
когда ребенок достигает конца второго уровня, родитель вправе ожидать, что ре¬
бенок сам будет выбирать себе одежду и сам надевать ее.
Заметим, что в каждой приведенной ситуации ребенок постепенно достигает
чувства контроля, или полного владения своим миром через успешные договор¬
ные взаимодействия с хорошим родителем. В первом примере родитель преодо¬
лел желание ребенка в его же интересах; во втором случае родитель со временем
устанавливает условия, в которых ребенок может тренировать некоторую личную
свободу и контроль в ситуации, которая полностью находится во власти родите¬
ля. В последнем примере ребенок постепенно получает почти полную автономию
и контроль.
Строя концепцию о развитии у данного ребенка чувства контроля, терапевт
должен понимать, что ребенок должен научиться контролировать и внешние си¬
туации, и внутренние процессы. Развитие этих двух типов контроля может про¬
исходить по-разному. Некоторые дети будут компенсировать неадекватный кон¬
троль в одной сфере развитием чрезмерного контроля в другой сфере. Ребенок
родителя-алкоголика может стать сверхконтролирующим и псевдовзрослым пе¬
ред лицом непредсказуемости поведения родителя и недостатка контроля с его
стороны. Эриксон (Erikson, 1950) называет этот уровень по определяющему его
конфликту уровнем борьбы инициативы против чувства вины. Разовьет ли ребе¬
нок ощущение своей способности действовать в своей среде или окажется обез¬
движенным внутренним чувством вины и неудачи?
Для обозначения связи чувства контроля с индивидуальным подходом к реше¬
нию проблем используются два термина из психоанализа (Sutherland, 1989). В сво¬
их попытках изменить себя или свое поведение в ответ на проблемы в окружаю¬
щей среде индивиды могут быть аутопластичными (autoplastic): это означает, что
они не ожидают, что изменятся другие, но скорее склонны считать себя ответ¬
ственными за проблемы. Противоположностью этому является аллопластичность
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 121
(<alloplastic), при которой дети пытаются изменить поведение окружающей среды
или окружающих людей. Сталкиваясь с братом или сестрой, которые не хотят де¬
литься игрушкой, ребенок может начать искать другую (аутопластичная адапта¬
ция) или кричать и звать родителя, чтобы тот пришел и разрешил ситуацию (ал-
лопластичная стратегия). Большинство людей в различные периоды и в разных
типах ситуаций используют обе стратегии, но в то же время у большинства людей
есть доминирующая стратегия. Понятия аутопластичности и аллопластичности не
следует путать с локусом контроля. Первые относятся исключительно к восприя¬
тию ребенком того, кто и что должны измениться для разрешения данной пробле¬
мы. Второй же термин указывает на то, где ребенок видит источники ресурсов для
разрешения данной проблемы. В идеале аутопластичный ребенок будет обладать
интернальным локусом контроля. Сталкиваясь с проблемой, он будет считать, что
он один должен измениться, и что только он обладает силой, чтобы это сделать.
Аутопластичный ребенок, склонный к экстернализации локуса контроля, сильно
подвержен депрессии. Попадая в проблемную ситуацию, он считает, что только
он может и должен измениться но что у него нет сил, чтобы добиться нужного
результата. Подобным же образом ребенок, склонный к аллопластичности, но к ин¬
тернализации локуса контроля, может испытывать сильную фрустрацию, потому
что считает, что другие люди могут и должны измениться, но не обладают властью
для осуществления этих изменений, даже если сами этого захотят. Такие дети
склонны прибегать к силе, чтобы заставить меняться других. Аллопластичные
дети, поддерживающие внешний локус контроля, считают, что другие люди — от¬
ветственные и сильные и все зависит от них, а себя полагают вечными жертвами.
Понимание степени, в которой ребенок способен развить чувство своей ответ¬
ственности и контроля, очень важно для эффективного лечения, потому что со¬
здается впечатление, что многие дети, приходящие на терапию, или развили у себя
слишком всеобъемлющий контроль над ситуациями своей жизни, или не достиг¬
ли достаточного уровня контроля. Проблемы с контролем импульсивных дей¬
ствий, вспышек темперамента, гиперконтролем, псевдовзрослостью, агрессией
ит. п.- основные причины направления детей на лечение.
По мере того как ребенок вступает во вторую половину дооперациональной
стадии, когда обретение константности объектов становится доминирующим про¬
цессом, он начинает все больше заботиться о своей полоролевой идентификации.
Начало этому внутрипсихическому процессу дает развитие константности объек¬
тов до такой степени, что ребенок приобретает способность реалистически срав¬
нивать себя с другими людьми. Теперь он может полностью оценить различия
между мужчинами и женщинами и признать, что его собственный гендер поме¬
щает его в одну из этих категорий. При условии, что во многих культурах соци¬
альным превосходством обладают мужчины, неудивительно, что многие девочки
начинают завидовать мужскому гендеру и роли мужчины.
К сожалению, в результате ограниченного понимания развития ребенка мно¬
гие родители и даже детские терапевты демонстрируют неверные представления
о гендерном развитии у детей. Прежде всего необходимо осознавать, что с ним
связаны по меньшей мере три задачи. Первая задача — это развитие гендерной
идентичности детей, то есть их представления о себе как о биологических мужчинах
122 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
или женщинах. Эта задача обычно выполняется в течение первого уровня, и ее
решение практически необратимо ко времени, когда ребенок достигает двух лет.
Вторая задача — развитие гендерной роли, то есть склонности детей вести себя в
соответствии с социальными стереотипами о маскулинности и фемининности.
Эта задача выполняется при прохождении второго уровня, становясь компонен¬
том разрешения ребенком эдипального конфликта. Поведение ребенка, в котором
смешиваются проявления «мужских» и «женских» паттернов поведения, часто
серьезно заботит родителей, особенно когда это касается мальчиков. И родители
и терапевты часто неверно предполагают, что такое поведение — показатель пред¬
почтения объектов своего пола. Предпочтением сексуального объекта называют
выбор индивидом сексуального партнера, и это третья и последняя задача в обла¬
сти гендерного развития ребенка; она может оставаться нерешенной вплоть до
вступления ребенка в подростковый возраст. Каждая задача считается, по суще¬
ству, независимой от остальных. Другими словами, ребенок может развить у себя
чувство мужской или женской идентичности довольно независимо от своего био¬
логического пола. Затем, ребенок может развить у себя гендерно-ролевое поведе¬
ние, которое не всегда соответствует стереотипным представлениям или о его био¬
логическом поле, или о его гендерной идентичности. И наконец, выбор ребенком
сексуального объекта может не соответствовать стереотипным представлениям о
поле ребенка, о его гендерной идентичности или о его гендерно-ролевом поведе¬
нии. Рассмотрим в качестве примера биологического мужчину, который развивает
женскую гендерную идентичность (транссексуал), стремится изменить пол, ведет
себя согласно стереотипным представлениям о женском поведении, а затем всту¬
пает в сексуальные отношения с другой женщиной. Независимо от того, считать
ли такое поведение «здоровым», оно указывает на то, что гендерно-ролевое раз¬
витие — это крайне сложный и немонолитный феномен. Кроме того, такое пове¬
дение — сфера, где сталкиваются природа и воспитание. Многие придают чрезмер¬
ную важность возможности того, что все гендерное и сексуальное поведение
биологически детерминировано. Несомненно, в пользу этого поступает все боль¬
ше медицинских свидетельств. С другой стороны, не вызывает сомнений тот факт,
что в игре замешаны огромные социальные и культурные влияния. То, что счита¬
ется нормальным поведением для мальчиков и девочек, значительно варьирует от
одной культуры к другой и обычно от одной социоэкономической группы данной
культуры к другой.
Поскольку стереотипное гендерное развитие так ценится в западном обществе,
обсудим несколько связанных с ним психоаналитических понятий, а именно за¬
висть к пенису и эдипальный конфликт. Фрейд (Freud, 1917) назвал этот период
фаллической стадией, в ходе которой внимание, концентрируясь на воспринима¬
емой ценности мужского полового органа, фокусируется на относительной соци¬
альной ценности мужской роли. Эта сексуализация феномена детства стала одной
из главных причин распространенного неприятия теории Фрейда. Одним из ас¬
пектов понимания Фрейдом этой фазы развития ребенка, вызывавшим особенную
тревогу, была его привязанность к понятию зависти к пенису. Он считал желание
девочки обладать пенисом необходимым условием для начала женского варианта
эдипова конфликта. В частности, стоит отметить, что Фрейд так ценил стереотип-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 123
ное гендерно-ролевое поведение, что выдвинул постулат, согласно которому
успешное разрешение эдипального конфликта и для мужчин и для женщин — это
условие достижения хотя бы невротического уровня функционирования лично¬
сти. Считалось, что люди, не развившие у себя стереотипной гендерно-ролевой
идентификации, страдают серьезными нарушениями.
Дальнейшее обсуждение очень кратко представляет фрейдовскую (Freud,
1917) трактовку второго уровня, или фаллической стадии развития ребенка, ко¬
торое было более детально представлено в главе 2. На самом начале этого уровня
и мальчики и девочки понимают, что у мальчиков и у мужчин есть пенис, а у дево¬
чек и женщин он отсутствует. При условии предполагаемой ценности этого орга¬
на девочек начинает волновать вопрос его приобретения, а мальчиков — вопрос
его сохранения. Маленькая девочка хочет, чтобы отец дал ей пенис, и, когда со
временем становится очевидным, что он этого не сделает, она стремится забере¬
менеть от него, чтобы родить ребенка, который в теории рассматривается как за¬
мена пениса. Когда становится очевидным, что это решение также не воплощается
в реальность, девочка возвращается за утешением к матери и идентифицируется
с ней в надежде со временем тоже привлечь какого-нибудь мужчину.
Маленький мальчик не имеет причин обращаться к отцу, потому что у него уже
есть пенис. Вместо этого он стремится обладать своей матерью, которая с самого
начала обеспечивала ему большую часть заботы и воспитания. К сожалению, его
соперником за право обладания матерью является отец. Маленький мальчик так¬
же замечает, что ни у его матери, ни у его сестры сейчас нет пениса, которым, как
он считает, находясь в своем эгоцентрическом состоянии, они ранее обладали. Он
оглядывается вокруг и замечает, что у его отца все еще есть пенис, и начинает счи¬
тать, что этот сильный мужчина ответственен за существующее положение дел.
Как и в случае с девочкой, мальчику вскоре становится очевидно, что мать не по¬
может ему избавиться от отца, и он начинает еще больше бояться возмездия отца
за его желание и опасаться возможности кастрации. В качестве защиты он стано¬
вится другом и союзником отца, чтобы обладать ценностью в его глазах и не быть
атакованным. Другими словами, считается, что и мальчики и девочки не могут раз¬
решить свой конфликт до тех пор, пока не идентифицируются с родителем своего
пола, чтобы получить одобрение родителя противоположного пола (A. Freud,
1965).
Терапевтам, не принадлежащим к психоаналитическому направлению, труд¬
но принять концепцию эдипального конфликта и понятие зависти к пенису и тем
более интегрировать их в свою схему осмысления детской психопатологии и по¬
тенциальных проблем ее излечения. В качестве реакции на эти личные сложно¬
сти они часто пренебрегают некоторыми фактами, свидетельствующими о том, как
ребенок второго уровня воспринимает мир, и игнорируют его знания о социаль¬
ной ценности гендерных ролей.
Этот дискомфорт можно свести к минимуму, если эдипальный конфликт и за¬
висть к пенису перевести в терминологию когнитивной психологии развития. Эта
интеграция теорий получила широкое распространение в современной психоло¬
гической науке. Ее сущность заключается в том, чтобы уделять внимание сходству,
а не различиям теоретических моделей. Зависть к пенису действительно вполне
124 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
возможна у трехлетних детей, которые еще не могут осознать понятия эквивален¬
тности, потому что еще не умеют сохранять информацию в памяти. Трехлетка не
умеет ценить то, чего не может видеть. Можно объяснить трехлетней девочке, что
у нее тоже есть половой орган, только расположенный внутри. Но это не компен¬
сирует ей естественной ценности видимых, конкретных объектов, которые завле¬
кают трехлетних детей. Если они видят другого ребенка с игрушкой, похожей на
ту, которая есть у них дома, они предполагают, что новая игрушка тоже принадле¬
жит им, и хотят немедленно получить ее. Когда же их пытаются убедить в том, что
их игрушка находится дома, это мало успокаивает. Добавим к этому относитель¬
ную социальную ценность, которой обладает роль мужчины во многих культурах,
и тогда довольно легко принять такое понятие, как эдипальное желание мальчика
узурпировать роль самого сильного мужчины, которого он знает, и обладать самой
значимой женщиной, которую он знает. Также становится очевидным, почему
девочки проходят эдипальный конфликт не так, как мальчики: у них нет ни жела¬
емого объекта, ни относительного социального статуса, который можно было бы
потерять. В этих условиях даже такое понятие, как зависть к пенису, становится
более логичным и понятным. Очевидно, что далеко не каждая девочка хочет об¬
ладать пенисом, но очень немногие девочки скажут, что они никогда не хотели
обладать социальным статусом и силой сверстников мужского пола.
Социальное развитие
Как показано в предыдущем обсуждении, социальное развитие ребенка второго
уровня связано с его эмоциональным развитием. Обладание властью над ситуа¬
цией (mastery) — это некое само-восприятие, которое возникает в сравнении с дру¬
гими окружающими индивида людьми. Идентификация гендерной роли по опре¬
делению является сравнением ребенка с референтной группой. Именно растущая
способность ребенка к категоризации, сравнению и противопоставлению делает
возможными эти аспекты развития.
В социальном плане дооперациональный ребенок постепенно начинает ориен¬
тироваться на сравнение себя со сверстниками. Если поместить маленького ребен¬
ка второго уровня в группу сверстников, то станет очевидной его склонность игно¬
рировать их до тех пор, пока у них не появится нечто, чем он захочет обладать. Этот
ребенок слишком озабочен своими собственными потребностями и стратегиями
их удовлетворения, чтобы беспокоить кого-то, кто не может способствовать дости¬
жению его потребностей, а тем более того, кто может оказаться соперником в борь¬
бе за ресурсы. Но к 5 или 6 годам он развивает очень сильный паттерн обращения
к сверстникам и даже начинает рассматривать их в качестве потенциальных ис¬
точников как материальных, так и эмоциональных ресурсов. Дети любого воз¬
раста с большой вероятностью будут группироваться возле ребенка, который, по
их мнению, получает стабильный запас подкрепления из окружающей среды. Ре¬
бенок, у которого есть всего лишь печенье, внезапно оказывается другом всех
окружающих.
По мере того как дети взаимодействуют с группой сверстников, они начинают
устанавливать отношения, основываясь на воспринимаемой ими похожести. Это
действие следует из основного поведенческого принципа моделирования: дети
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 125
с большей вероятностью будут имитировать модель, которую они воспринима¬
ют похожей на себя, чем модель, которая кажется им отличающейся. Маленькие
мальчики подражают своим отцам и другим маленьким мальчикам, тогда как ма¬
ленькие девочки подражают своим матерям и другим маленьким девочкам. По ме¬
ре их вовлечения в этот процесс они также идентифицируют себя не только как
мальчиков или девочек — когда они вступают во второй уровень, они могут делать
нечто большее — они работают для совмещения себя со стереотипом, связанным
с их гендером. Мальчики учатся не плакать, а девочки учатся не быть агрессивны¬
ми. Идентификация со стереотипом очень мощно укреплена к тому времени, ко¬
гда дети покидают второй уровень. По мере их вовлечения в этот процесс сравне¬
ния дети приходят к осознанию того, что они имеют больше общего с другими
детьми, чем со взрослыми, и соответственно вырастает ценность, приписываемая
отношениям со сверстниками.
Игровое развитие
Изобразительная игра (pretend play) доминирует над деятельностью детей между
2 и 6 годами, хотя в течение второго уровня значительно возрастает ее сложность.
Очень рано детская игра-изображение становится очень активной, и дети сильно
включаются в нее. Они получают удовольствие от скачки на карусельной лошади
или на движущейся игрушке. Они бегают, прыгают и обычно бывают полностью
поглощены своими действиями. К возрасту 3-4 лет растет воображение ребенка.
У него появляется все больший интерес к миниатюрным игрушкам, копиям на¬
стоящих предметов, которые позволяют ему контролировать их и экстернализо-
вывать изображаемое. Подобным же образом повышается интерес ребенка к иг¬
рушкам и материалам, которые позволяют ему выполнять что-либо, демонстрируя
свою возрастающую удаль. Возникает большой интерес к материалам для творче¬
ства (например, рисования). К сожалению, рисование на «запретных» поверхно¬
стях, таких как мебель и книги, также становится более вероятным, так как ребенок
буквально выискивает, куда бы ему еще поставить свой знак, чтобы зафиксиро¬
вать новую область его все расширяющегося мира. К 5-летнему возрасту ребенок
способен включаться в игры-фантазии и получать удовольствие от использования
обширного набора реквизита. В это же время у ребенка просыпается интерес к
более простым настольным играм. Наконец, именно к концу второго уровня ребе¬
нок становится очень заинтересован в сверстниках как в партнерах для игры и
научается быть более социальным, более способным разделять свой опыт с дру¬
гими.
Переработка жизненного опыта
Как и в случае с детьми первого уровня, терапевт всегда должен быть готов к по¬
тенциальным позитивным и негативным взаимодействиям между продолжаю¬
щимся развитием детей второго уровня и их действительным жизненным опытом.
Как уже упоминалось в дискуссии об академической подготовке детей второго
уровня, в Соединенных Штатах дети поступают в систему средних школ в возра¬
сте 5 или 6 лет. Помимо этого, игровой терапевт должен осознавать значительные
различия между требованиями, предъявляемыми к ребенку из детского сада и
126 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
к первокласснику. Для детей, которые каждый день некоторое время находились
в учреждениях по присмотру за детьми {day саге), детский сад {kindergarten) мо¬
жет не оказаться значительным изменением их опыта. Для тех, кто находился в
учреждении, где за ним присматривали целый день, это может означать, что они
на полдня ходят в школу, а другую половину дня проводят в учреждении по при¬
смотру (группы продленного дня), что значительно нарушает их повседневную
рутину. Независимо от того, с какой легкостью дети совершают переход в детский
сад, большинство из них испытывают трудности при переходе в первый класс,
обнаружив, что длина дня и степень структурированности ограничивают их и
предъявляют к ним определенные требования. Обычно они быстро адаптируются,
но может существовать некоторый период привыкания к новым условиям. К то¬
му же в случае со школой есть дополнительная проблема: в школах обычно недо¬
статочно гибко учитывают индивидуальный уровень развития каждого ребенка и
поэтому ожидают единообразия детей, что нереалистично. В результате некото¬
рые дети ощущают завышенные требования, а другие — чрезмерное упрощение в
обучении.
Между 2 и 6 годами жизни с детьми могут происходить и многие другие собы¬
тия. Некоторые из них в последние годы стали настолько распространенными, что
требуют особого рассмотрения.
Общей практикой в этот период всегда было (и остается до сих пор) рождение
сиблинга — очень немногие дети старше своего брата или сестры более чем на два
или три года. Если же разница составляет 6 лет и более, терапевт должен учиты¬
вать, что каждый из детей мог иметь переживания, похожие на переживания млад¬
шего или единственного ребенка. Частым явлением стал развод родителей, кото¬
рый обычно приходится на то время, когда ребенок учится в начальной школе.
Родители больше не склонны оставаться вместе «ради ребенка», и поэтому они
чувствуют, что могут расстаться раньше. Также весьма распространена смена ме¬
ста жительства, как связанная, так и не связанная с разводом родителей. Многие
дети переезжают с места на место постоянно, часто оставаясь на одном месте не
более года или двух. Эта быстротечность не лучшим образом влияет на форми¬
рование у ребенка стабильных и осмысленных эмоциональных отношений. Еще
одно событие, нередкое в жизни детей дошкольного и раннего школьного возрас¬
та, — смерть близкого человека или домашнего животного. Дети на собственном
опыте понимают, что смерть означает то, что они больше не будут вместе с этим
человеком или животным, и испытывают страх. Каждое событие по-особому воз¬
действует на детские способы мышления и отношения к миру, особенно когда эти
события взаимодействуют с развертывающимся чувством контроля ребенка и
с его осознанием своей маскулинности или фемининности.
Давайте в качестве примера рассмотрим потенциальное влияние развода ро¬
дителей на ребенка второго уровня. То, как он подействует на ребенка, будет за¬
висеть от пола ребенка, пола родителя, который ухаживал за ним сразу после его
рождения и был его первичным объектом (primary caretaker), и от пола родителя,
который уходит из дома в результате развода. Для примера давайте предположим,
что ребенок — трехлетний мальчик, чьим первичным объектом была его мать и чей
отец уходит из дома. Во-первых, если ребенок еще не расширил свою привязан-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 12 7
ность к матери до включения в нее отца, он может начать более собственнически
и прилипчиво относиться к матери и отвергать отца. Во-вторых, с большой веро¬
ятностью, благодаря эгоцентричности детей в этом возрасте, он или посчитает, что
был причиной развода, или что он может опять свести родителей вместе. И нако¬
нец, он может выбрать для себя, хотя бы временно, более фемининную манеру
поведения, чтобы теснее сблизиться с матерью и снизить ощущаемый им риск
того, что она избавится от него, как избавилась от папы.
Дети третьего уровня
Начиная с 6-летнего возраста и приблизительно до 9 лет первичная задача ребен¬
ка — приобретение навыков успешного участия в группах, но в то же время ребе¬
нок может испытывать чувство вины за недостатки других. С 9 и примерно до
12 лет дети учатся делать вклад в групповой процесс и бороться с конфликтом сво¬
его стремления к независимости и потребности в одобрении окружающих (Wood,
Davis, Swindle, & Quirk, 1996).
Когнитивное развитие
Дети третьего уровня, в возрасте от 6 до 11 лет, находятся на стадии конкретных
операций, которая отмечена приобретением способности сохранять, классифици¬
ровать и выстраивать последовательности (Piaget, 1952,1967). Эти навыки не при¬
обретаются все сразу, а появляются обычно к моменту, когда ребенок достигает
возраста около 6 лет. Сохранение означает, что дети способны использовать ког¬
нитивные процессы для преодоления влияния ощущений, чтобы приблизить свое
восприятие к реальности. Они начинают понимать, что сэндвич, разрезанный по¬
полам, не больше, чем целый сэндвич. Теперь дети могут сравнивать и противопо¬
ставлять информацию не только основываясь на своем опыте того, что раньше
оказывалось истинным, но и на том, что истинно согласно их «знаниям». В тече¬
ние этого периода дети становятся одержимыми организацией всей ранее приоб¬
ретенной ими информации и всей информацией, непосредственно получаемой
сейчас, в абсолютно точные категории. Теперь они предпочитают, чтобы вещи
были черными или белыми, и негодуют, когда некоторые факты или переживания
оказываются серыми. Например, многие дети раздражаются, когда узнают, что
категория млекопитающих включает не только собак, кошек и коров, как они уясни¬
ли на дооперациональной стадии, но также китов и дельфинов. Некоторые дети
с недовольством реагируют на очевидно бессмысленные правила, изобретаемые
взрослыми.
В течение этой фазы большая часть обучения ребенка строится на основе язы¬
ка, а не личного переживания. Но опыт все еще важен, потому что ребенок еще
ограниченно использует гипотетическое мышление и может испытывать трудно¬
сти при усвоении новой информации, которая никак не связана с его пережива¬
ниями. Из-за перехода на доминирующее речевое хранение информации, ее обра¬
ботку и извлечение воспоминаний ребенок постепенно теряет непосредственный
доступ ко многим воспоминаниям и переживаниям, приобретенным в ходе сенсо-
моторной и даже ранней дооперациональной стадий. Когда воспоминания извле¬
каются из памяти, это часто происходит в «скачкообразной» манере. В течение
128 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
третьего уровня дети все еще склонны воспроизводить информацию согласно
эмоциональным приоритетам или схожести переживаний. То есть если вы спро¬
сите двух дерущихся детей третьего уровня, кто первый начал драку, оба покажут
друг на друга. И что более важно, оба будут верить в то, что они говорят и показы¬
вают. Если Джон хочет грузовик Мэтта и отбирает его, это заставляет Мэтта уда¬
рить Джона, и тогда Джон скажет, что драка началась, когда Мэтт ударил его. Джон
сказал бы так потому, что, по его мнению, именно в этот момент он почувствовал
боль и вызванный ею гнев на Мэтта; перед этим он просто хотел получить грузо¬
вик. Истинного и согласованного выстраивания воспоминаний во временную по¬
следовательность не происходит до тех пор, пока в возрасте около 11 лет ребенок
не переходит на четвертый уровень.
Между возрастами 6 и 11 лет доминирующей частью жизненного опыта ребен¬
ка третьего уровня становится школа. В 6 лет большинство детей поступают в пер¬
вый класс и вынуждены первое время бороться с полным учебным днем, паттер¬
ном, который продолжается без перерыва по меньшей мере следующие 12 лет. При
определении воздействия школы на развитие ребенка терапевт должен осозна¬
вать, что учеба в разных классах означает для ребенка различные переживания.
Как уже говорилось, детский сад и первый класс связаны для ребенка с особыми
трудностями, вызванными процессом адаптации. Многие дети также сталкивают¬
ся с проблемами, приспосабливаясь к третьему и шестому классу.
Третий класс часто оказывается сложным потому, что детям, еще не совершив¬
шим переход на мыслительную стадию формальных операций, предъявляют по¬
нятия, которые трудно осмыслить конкретно. Лучший пример этого феномена —
обучение третьеклассников таблице умножения. Хотя умножение можно объяс¬
нить как нечто иное, чем последовательное сложение, его проще осознать как про¬
цесс группировки наборов. Последняя концептуализация довольно сложна для
детей, мыслящих конкретно; поэтому они часто подходят к изучению таблицы
умножения как к некоторой задаче на механическое запоминание, объект которо¬
го они не понимают. Таким образом, они сталкиваются с необходимостью выучить
по меньшей мере сто отдельных битов информации, что, конечно, ошеломляющая
задача даже для сообразительного ребенка. Если умножение кажется абстрактным
для ребенка 8-9 лет, вообразите, как он воспринимает деление, обучение которо¬
му обычно происходит в четвертом классе.
Многие дети также воспринимают сложным шестой класс — по тем же причи¬
нам, что и третий. В возрасте 11 лет, обычном для шестиклассников, многие дети
действительно совершают переход на стадию формальных операций, но со мно¬
гими этого не происходит. Сами же академические программы продолжаются, как
если бы все дети функционировали на одном уровне. Основанные на предполо¬
жении руководства школьных округов, что большинство шестиклассников в те¬
чение этого года достигают мыслительного уровня формальных операций, обра¬
зовательные программы смещаются на учебные планы, под завязку нагруженные
заданиями, направленными на чтение и письмо. Это смещение особенно трудно
для детей, чье когнитивное развитие несколько запаздывает. Если эти дети еще и
отличаются от своих сверстников в сферах моторного или физического развития,
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 129
они рискуют подвергнуться критике со стороны сверстников и испытать серьез¬
ные проблемы из-за негативной самооценки.
Физическое развитие
Как и в случае с ребенком, находящимся на дооперациональной стадии, ребенок
на стадии конкретных операций не подвергается драматическим изменениям мо¬
торного функционирования по сравнению с переходами, которые совершает ре¬
бенок, находящийся на сенсомоторной стадии. В возрасте между б и 11 годами
ребенок развивает значительную координацию движений, приобретая навыки, не¬
обходимые для участия в тех видах спорта, в которые играют сверстники. Ребе¬
нок научается бросать, ловить, пинать мяч, скакать через скакалку, залезать на
деревья, бегать и прыгать. Эти навыки могут не понадобиться ребенку для успеш¬
ной взрослой жизни, но они могут очень сильно повлиять на становление его вза¬
имоотношений со сверстниками. При этом и опережение, и задержка моторного
развития имеют разные последствия у мальчиков и у девочек. Мальчики, опере¬
жающие нормальное моторное развитие, могут достигать больших успехов в ко¬
мандных видах спорта и приобретать таким образом много друзей. Мальчиков с
задержкой моторного развития их более сильные однокашники часто делают коз¬
лами отпущения. Менее вероятно, что девочки будут переживать такие значитель¬
ные социальные последствия в результате опережения или задержки моторного
развития.
Тогда как моторное развитие, которому подвергается большинство детей тре¬
тьего уровня, представляет собой количественные изменения, ближе к окончанию
этого уровня многие переживают глубокие качественные физические изменения,
связанные с началом пубертатного периода. Скорее это характерно для девочек,
чем для мальчиков, но возможно для представителей обоих полов. К сожалению,
далее эта физиологическая вариабельность увеличивает возможность того, что
кто-то из детей будет чувствовать себя изгоем из-за своих отличий. Как отмеча¬
лось в разделе, посвященном социальному развитию детей третьего уровня, такие
дети испытывают значительные проблемы с принятием персональных отличий,
считая себя не такими, как сверстники, и, возможно, плохими.
Эмоциональное развитие
Вступление ребенка на третий уровень означает, что его развитие шло нормаль¬
но, то есть что он разрешил эдипальный конфликт. Фрейд (Freud, 1905) называл
этот период латентным и постулировал, что именно в течение этого времени ре¬
бенок не противостоит никаким главным психосексуальным конфликтам. Воз¬
можно, ребенок на данной стадии действительно не переживает существенных
изменений в сексуальных аспектах своей природы, но все равно третий уровень
едва ли является периодом спокойствия, как хотел Фрейд. Как только дети гото¬
вы к сохранению информации, они развивают способность к внутренней генера¬
ции эмоций, которые ранее были невозможны.
Фрейд полагал, что именно процесс разрешения эдипального конфликта при¬
водит к развитию суперэго у ребенка. И опять же когнитивное объяснение раз¬
вития совести у ребенка будет более понятным. Ясно, что к возрасту 5 лет дети
130 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
начинают интернализовывать некоторые из запретов, которые накладывают на
них родители. То есть ребенок сохраняет правила и ожидания, даже когда родите¬
ля физически нет рядом (Piaget, 1965). Сохранение родительских правил даже в
отсутствие родителя позволяет ребенку начать самостоятельно судить свое пове¬
дение и переживать эмоции, соответствующие его оценке. Таким образом, ребе¬
нок способен переживать базирующиеся на его внутренних установках чувство
вины и негативную самооценку.
Независимо от того, как называть этот процесс внутреннего оценивания — су¬
перэго, совестью или просто включать его в число других развивающихся когни¬
тивных операций, он является существенным элементом для расширения репер¬
туара эмоционального опыта ребенка. В то время как все еще остается в силе
феномен, согласно которому даже большинство детей третьего уровня для назы¬
вания своих эмоций употребляют лишь ярлыки «счастье, гнев, печаль», они начи¬
нают учиться классифицировать аффект не только по вызываемым им внутрен¬
ним ощущениям, но и по ситуациям, в которых это случается. Ребенок третьего
уровня знает, что гнев в ответ на побои не тот же самый гнев, который пережива¬
ется как реакция на то, что учитель уделяет больше внимания работе другого уче¬
ника. Он знает, что печаль после смерти домашнего животного не такая же точно,
как печаль, которую он переживает из-за развода родителей. Физиологические ва¬
риации, на которых ребенок базирует свой аффект, так же ограничены, как было в
то время, когда ребенок только что родился, но он строит базу опыта, которая по¬
степенно открывает ему доступ к мириадам слов, обозначающих эмоции в англий¬
ском языке. Эти слова отражают не столько вариации испытываемых эмоций,
сколько специфику ситуации, в которой они были высказаны. Следовательно,
ребенок постепенно узнает, что печаль, переживаемая из-за смерти домашнего
любимца, называется скорбью или горем, а печаль, переживаемая через месяцы
после развода родителей, лучше всего можно назвать подавленностью (депресси¬
ей). Также он узнает, что словом «ревность» обозначают стремление заполучить
внимание другого человека, хотя оно уже занято, а под словом «зависть» пони¬
мают стремление заполучить собственность или достижения, принадлежащие
другому.
Социальное развитие
Способность детей сохранять информацию не только оказывает глубокое воздей¬
ствие на их аффективные переживания, но и драматически изменяет их соци¬
альные взаимодействия. По мере того как они развивают стабильную интерна-
лизованную систему социальных правил, дети меньше полагаются на то, что их
поведением будут управлять внешние авторитетные фигуры; теперь они способ¬
ны демонстрировать моральность взаимодействия (Piaget, 1932,1962). Другими
словами, теперь дети способны демонстрировать некоторые модели поведения не
просто потому, что их проинструктировали сделать именно так, но потому, что
теперь они сами могут ставить себя на место другого человека, чтобы оценить свои
действия. Таким образом, отныне дети могут вести себя так или иначе просто по¬
тому, что, помещая себя на место других людей, могут предвидеть эффект, кото¬
рый их действия будут оказывать на окружающих.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 131
Поскольку способность сохранять информацию позволяет ребенку развивать
интернализованный свод правил, управляющих его поведением, она также позво¬
ляет ему развивать стабильную внутреннюю репрезентацию личности (Piaget,
1963). Более того, как отмечалось в разделе о когнитивном развитии детей третье¬
го уровня, они становятся озабоченными категоризацией каждого объекта и каж¬
дого переживания, с которым вступают в контакт. Эта комбинация стабильного
представления о себе {self-representation) и когнитивной склонности к категори¬
зации и сравнению заставляет детей третьего уровня начинать оценивать себя с
позиций социума. В течение этой стадии нарциссизм ребенка заметно ослабевает,
позволяя ребенку увидеть себя отличным от других; таким образом, процесс срав¬
нивания себя со сверстниками и социализации становится доминирующей зада¬
чей. Этот процесс осуществляется через взаимодействие с другими представи¬
телями окружающей среды, по большей части со сверстниками. Дети третьего
уровня пытаются сравнить каждый аспект себя с каждым из аспектов окружаю¬
щих людей. Кто самый высокий, самый худой, красивый, толстый, славный, ми¬
лый? Кто выше прыгнет, кто больше съест, громче рыгнет и дольше прохихикает?
Ребенка «бомбардирует» новая информация о себе, как позитивная, так и негатив¬
ная. Эта информация должна сравниваться с его неопытным представлением о се¬
бе и либо отвергаться, либо присваиваться. Как только информация присвоена,
она становится частью основы, на которой строятся будущие представления о себе.
Эриксон (Erikson, 1950), заметивший важность поступления ребенка в школу,
увидел главную задачу его развития в этот период в разрешении конфликта меж¬
ду навыком и неполноценностью. Ребенок начинает сравнивать свои собственные
способности с талантами сверстников и, следовательно, либо может увидеть и
уверенно поставить себе новые задачи, либо будет переживать различные чувства
неполноценности, которые замедляют творческую продуктивность. В дополнение
к этому при поступлении в школу ребенок начинает переносить некоторые из своих
позитивных чувств и ожиданий из области своего дома на сверстников (A. Freud,
1965). Это финальная часть процесса индивидуации, когда ребенок отдает своим
сверстникам большинство своей либидинозной энергии, прежде отдававшейся
матери.
Игровое развитие
В то время как в начале третьего уровня ребенок все еще может уделять много
времени изобразительной игре, к его концу доминируют организованные игры
различных типов. Хьюгс (Hughes, 1996) обсуждает некоторые аспекты игрового
развития в течение третьего уровня. Во-первых, большая часть детской игры в этот
период фокусируется на приобретении и демонстрации различных навыков. «За¬
нимаясь скейтбордингом, баскетболом, борьбой, катаясь на роликах, прыгая че¬
рез скакалку, выполняя трюки на велосипеде, набрасывая кольца или карабкаясь
на дерево, каждое поколение детей наследует или изобретает широкий ассорти¬
мент моторных действий, позволяющих им показать себя перед сверстниками и
взрослыми и установить свое положение в группе сверстников» (р. 109). Во-вторых,
дети часто становятся ярыми коллекционерами любых подборок разных объектов.
Приобретение, раздел и обмен коллекциями становится способом демонстрации
132 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
статуса и знания, а также фокусом социальной активности. В-третьих, в течение
этой стадии дети развивают игровые ритуалы, такие как «камень, ножницы, бу¬
мага» и «чет-нечет», используемые для выбора ребенка, первым вступающего в
игру. Эти ритуалы служат отработкой конкретных мыслительных операций, так
как они задают порядок детскому миру и к ним очень серьезно относятся участни¬
ки. В течение этой стадии у детей стремительно развивается интерес к играм по
правилам. Детей этого возраста привлекает все, от карточных и настольных игр
до игр по придуманным правилам, наподобие игры «Захват флага». Часто чем
больше в игре правил, тем больше она нравится ребенку. Многие взрослые в изум¬
лении наблюдают за тем, как группа детей предподросткового возраста проводит
почти все время, отведенное им на игру, в планировании и обговаривании правил
игры, так что у них не остается времени поиграть в нее. Это тот возраст, когда дети
начинают организованно заниматься спортом. Конкуренция, вдохновляемая эти¬
ми играми, может нравиться или не нравиться, но она составляет значительную
часть большинства детских жизней, по мере того как современное общество стано¬
вится все более индустриальным и технологичным. Организованные виды спорта,
видимо, становятся мостом от беззаботных игр детства к интенсивной, конкурен¬
тной и командной природе трудовой жизни большинства современных взрослых.
Переработка жизненного опыта
Жизненные переживания детей третьего уровня могут очень различаться, и исто¬
рии их жизней, несомненно, должны играть роль в формулировании адекватного
плана лечения. События, происходящие сегодня в жизни многих американских
детей, и возраст могут быть любыми из следующего списка: болезнь или смерть
родителя, развод родителей, переезд семьи, болезнь или смерть сиблинга, рожде¬
ние сиблинга, значительные изменения семейного статуса и т. д. Независимо от
опыта, приобретаемого ребенком, он, несомненно, будет обрабатывать его с конк¬
ретной точки зрения, которая означает, что ребенок несколько озабочен фактами
этого события и может хотеть обсудить их подробно, сравнивая с другими собы¬
тиями, которые кажутся ему схожими. Взрослым особенно сложно понять то, в ка¬
кой степени ребенок третьего уровня проявляет интеллектуальное любопытство
к событиям и насколько он склонен связывать их с другими событиями (часто,
с точки зрения взрослых, совершенно случайным образом).
Например, после смерти дедушки или бабушки ребенок третьего уровня, оче¬
видно, переживая горе, тем не менее может задавать многочисленные вопросы
относительно этой ситуации. Как умер дедушка? Что они делали с телом дедуш¬
ки, когда он умер? Что случится, если дождь просочится в могилу? Взрослым,
поглощенным собственной скорбью, эти вопросы могут казаться жестокими, но
они просто отмечают попытку ребенка интегрировать этот опыт в его настоящий
запас знаний. Далее ребенок может пускаться в практически идентичные серии
вопросов, увидев мертвое животное на краю дороги, и может на самом деле быть
при этом чрезвычайно расстроенным. Взрослый должен быть в состоянии осо¬
знать, что для ребенка третьего уровня некая смерть — это просто смерть и что
дифференциация событий становится возможной только к концу этой стадии. Спе-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 133
цифическое взаимодействие травмы и хода развития ребенка третьего уровня об¬
суждается в следующем далее разделе «Патология».
Дети четвертого уровня
На раннем этапе этой стадии первичная задача детей — научиться применять свои
индивидуальные и групповые навыки к новым ситуациям. Они склонны бороть¬
ся за свою идентичность независимого человека (Wood et al., 1996). Но сравни¬
тельно немногие клиенты старше 12 лет проходят лечение игровой терапией.
Из тех же, кто все же проходит, большинство еще не достигли четвертого уровня.
Поэтому данное обсуждение развития детей на четвертом уровне (между 12 и
18 годами жизни) будет дано вкратце.
Когнитивное развитие
Для детей четвертого уровня характерна принадлежность к мыслительной стадии
формальных операций, которая отмечена повышением способности ребенка об¬
рабатывать абстрактную информацию. Дети больше не привязаны к своему опы¬
ту; они могут мыслить в категории «а что, если бы», понимать вещи, которых они
никогда не видели и не переживали, а также формулировать и проверять гипоте¬
зы. Язык становится доминирующим средством изучения мира, как внешнего, так
и внутреннего. В первый раз их концепция времени совпадает с реальностью, хотя
они все еще могут испытывать сложности с такими понятиями, как «вечность» и
«навсегда». С приобретением более адекватного восприятия времени дети сохра¬
няют и воспроизводят воспоминания во временной логической последовательно¬
сти, в отличие от эмоциональных последовательностей, выстраиваемых детьми
второго и третьего уровней. Как и в случае с другими когнитивными процессами,
раньше бытовало мнение, что мышление уровня формальных операций приобре¬
тается в манере «все или ничего», но сейчас считается, что оно представляет собой
набор навыков, постепенно приобретаемых ребенком в период между его восьмым
днем рождения и вступлением в раннюю взрослость. Действительно, хотя Пиаже
и не выделял различных стадий развития после достижения ребенком 11 лет, мно¬
гие авторы настаивают, что ребенок продолжает подвергаться как количествен¬
ным, так и качественным изменениям в течение многих лет и потенциально на
всем протяжении жизни.
Развитие речи — не первичная задача для детей четвертого уровня; фокус вни¬
мания здесь направлен на расширение и совершенствование своего словарного
запаса. Особую важность для игрового терапевта представляет тот факт, что те¬
перь ребенок может мыслить абстрактно и с гораздо большей вероятностью ис¬
пользовать разнообразные термины, обозначающие эмоции, которые отражают
тонкие вариации их внутренних переживаний. Теперь ребенок не просто счаст¬
лив, разгневан или печален; он может переживать экстаз, быть угрюмым, испы¬
тывать тоску, неистовствовать и так далее.
Академический опыт детей четвертого уровня изменяется по более точным за¬
конам, чем подобный опыт детей, находящихся на предыдущих стадиях. Некото¬
рые школьные округа разбивают свои образовательные программы на программы
для начальной, средней и продвинутой средней школы, другие — на программы
134 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
начальной школы, неполной средней и средней школы; возможны и другие вари¬
ации. Часто по данным программам обучают в различных зданиях с разными при¬
легающими территориями; это значит, что ребенок совершает переход из одной
школы в другую и из одной группы сверстников в другую, между любыми двумя
классами. В зависимости от программы, шестиклассник может находиться на вер¬
шине социальной лестницы начальной школы или на нижней ступени иерархии
средней школы. Некоторым детям даже так «везет», что они перемещаются из од¬
ной школьной системы в другую и проводят два года подряд на нижней ступени
статусной иерархии. Учителя, работающие в неполных средних школах, часто го¬
ворят, что восьмиклассники — самая несчастная группа, с которой им приходит¬
ся работать, потому что они зажаты между вновь прибывшими семиклассниками
и вершиной иерархии — девятиклассниками. В результате они чувствуют себя
обделенными и становятся угрюмыми, подобно многим средним детям в семьях.
Важно, чтобы терапевт понимал школьную систему, позицию ребенка внутри нее
и его реакции на эту систему.
Физическое развитие
Когда ребенок вступает в четвертый уровень, он в то же время вступает в пубер¬
татный период, со всеми связанными с ним физическими изменениями. Это вре¬
мя физиологического беспорядка, который описывается как в клинической, так и
в популярной литературе. Это означает не то, что данный возраст обязательно
сложен для подростка, а лишь то, что он создает возможность возникновения внут¬
ренних и внешних стрессоров. Трудности начала подросткового периода порож¬
даются не только присущими ему внутренними проблемами, но и возрастными
различиями детей, вступающих в него, которые повышают вероятность различ¬
ной, в потенциале — негативной самооценки, появляющейся еще в течение тре¬
тьего уровня. Но по мере продолжения когнитивного развития детей их способ¬
ность оценивать получаемую о себе информацию улучшается: если раньше они
просто решали, совпадает ли эта информация с их внутренними представления¬
ми о себе, то теперь они учитывают ситуацию, в которой находятся, и личность
автора сообщения. Таким образом, ребенок четвертого уровня, которого называ¬
ют тупицей за то, что он провалил контрольную работу, прежде чем принять ре¬
шение о включении «тупости» в свою Я-концепцию, способен оценить, справед¬
ливы ли учитель и требования контрольной работы, а также то, отражает ли
результат выполнения работы его действительные способности или только влия¬
ния некоторых других переменных, таких как время, потраченное на подготовку,
и объективность человека, высказавшего данный эпитет.
Эмоциональное развитие
Фрейд (Freud, 1917) назвал подростковый возраст генитальной стадией, потому
что полагал, что именно на протяжении этой фазы энергия либидо фиксируется
в зоне развивающихся половых органов. Этот возраст считается временем, в те¬
чение которого ребенок вырабатывает способность переживать всю гамму чело¬
веческих эмоций и способность сознательно и эффективно защищаться против
нежелательных аффектов, когда это необходимо.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 135
Социальное развитие
Эриксон (Erikson, 1950) говорил о том, что борьба индивида за идентичность, в про¬
тивоположность смешению ролей, — это попытка подростков интегрироваться в
общество взрослых людей. Во многих отношениях подростковый возраст можно
считать «вторым двухлетием» В течение первого двухлетия своей жизни ребенок
договаривается с родителями о своей индивидуальной и все же, по сути, зависи¬
мой роли. В ходе «второго двухлетия» ребенок четвертого уровня договаривается
как об увеличении своей индивидуальности, так и о переходе к опоре исключи¬
тельно на свои силы. Эти переговоры могут быть довольно бурными, так как ре¬
бенок четвертого уровня стремится максимизировать свою индивидуальность и
свой контроль перед лицом реальности и преимуществ зависимой позиции. Один
из способов проявления этого конфликта — амбивалентное отношение ребенка
четвертого уровня к физическому контакту. Часто ребенок чувствует, что ему не
подобает получать физические проявления привязанности от своих родителей,
задолго до того, как у него пропадает стремление к ним. Нередко обычный ребе¬
нок 10-11 лет очень смущается, когда родитель обнимает или целует его в при¬
сутствии других людей, особенно сверстников. Но когда он один и находится в хо¬
рошем настроении, он может быть чрезвычайно ласковым и нежным.
Игровое развитие
В течение четвертого уровня игровое поведение ребенка принимает более спора¬
дический и замаскированный характер. Так как подростки стремятся стать взрос¬
лыми, они редко играют в легкоопознаваемые игрушки и игры, обычно из страха
показаться «детьми». Но часто им достаточно просто опустить до уровня игры
свои повседневные дела. Группа подростков может собираться вместе и работать
на мойке автомашин, зарабатывая таким образом деньги для своей школы или
благотворительного общества. Поначалу они будут очень серьезными и ориенти¬
рованными на задачу. Они будут пытаться оставаться сухими и соблюдать неко¬
торые внешние приличия. Постепенно, когда они становятся все более мокрыми
и усталыми, они начинают «случайно» брызгать друг на друга из шланга или бро¬
саться мыльной пеной и губками. В течение дня их внимание может сместиться с
первоначальной цели — «срубить денег» на второстепенную — «оттянуться». Та¬
кие действия являются также способом направления растущих сексуальных ин¬
тересов, так как можно сделать объект своих интересов объектом своей игры. Ча¬
сто игра используется как повод для случайных физических контактов (Hughes,
1996). Более серьезные игры в этом возрасте часто становятся увлечениями,
причем у подростков существует мотив стать действительно хорошим игроком
в такие игры, как шахматы, теннис или карты. Изобразительная игра (pretend
play) в этом возрасте обычно зависит от ее контекста: так, позволительно наря¬
жаться в костюм во время Хэллоуина, но подобная игра с игрушками считается
детской и отвергается. Немного печально, что подростки мало-помалу отказыва¬
ются от удовольствий непосредственной детской игры и переходят к более серь¬
езной, требующей сосредоточенности и обычно целенаправленной игре взрослых
людей.
136 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Переработка жизненного опыта
Дети, находящиеся на четвертом уровне развития, воспринимают события, про¬
исходящие в их жизни, практически так же, как и взрослые. Заметим, однако, что
большинство детей не попадают на эту фазу одним внезапным скачком — они
вступают в нее постепенно, в течение нескольких лет. Младший подросток с рав¬
ной вероятностью воспользуется для обработки эмоционально значимых событий
способами уровня конкретных операций либо способами уровня формальных
операций.
Некоторые события, наступление которых с большой вероятностью можно
предсказать при вступлении ребенка на четвертый уровень, — это переход в дру¬
гую школу со связанным с ним стрессом и вступление в пубертатный период.
Обычно это очень сложное время, потому что западное общество не имеет каких-
либо ясных опознавательных сигналов перехода ребенка во взрослый возраст.
Девочка может вступать в пубертатный период в возрасте 8 или 9 лет, с 16 лет ей
будет позволено водить автомобиль, но до достижения 18 лет она будет по закону
считаться несовершеннолетней, и лишь после 21 года она сможет воспользовать¬
ся всеми привилегиями, которыми обладают взрослые. Как ей определять свою
социальную роль в промежутке от 10 до 13 лет? Она ребенок, подросток или взрос¬
лый? Если подросток решает поступать в колледж, период перехода от детства к
взрослости может оказаться еще более затянутым и еще менее ясным.
Игровой терапевт, работающий с младшими подростками четвертого уровня,
должен также осознавать многие факторы социального влияния, которым могут
подвергаться дети этого возраста. Взрослые обычно понимают, что дети четверто¬
го уровня испытывают на себе давление, побуждающее их быть сексуально актив¬
ными и экспериментировать с алкоголем и наркотиками, но, кроме того, эти дети
также испытывают давление, побуждающее их одеваться определенным образом,
слушать определенную музыку, получать удовольствие от общения со сверстниками
и пренебрежительно относиться к тому, что нравится взрослым.
К этому моменту становится очевидным, что развитие ребенка действительно
влияет на каждый компонент его функционирования и отражается в каждом ас¬
пекте его повседневной жизни. Знание уровня развития ребенка-клиента опреде¬
ляет знание терапевтом самой «природы зверя», с которым он работает. К тому же
глубокое понимание развития ребенка существенно для диагностирования тера¬
певтом психопатологии ребенка, что иллюстрируется следующим далее материа¬
лом.
Патология
Тема психопатологии сложна и к тому же часто осложняется общей склонностью
полагаться на научный аппарат естественных наук и нередкими промахами в рас¬
чете той степени, в которой в дело замешаны культуральные и социально-био¬
графические факторы. Поскольку в психологии доминирует естественно-научная
парадигма, существует тенденция рассматривать различные диагностические ка¬
тегории как нечто реально существующее и неизменное. Большинство практиков,
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 13 7
работающих в сфере психического здоровья, считают шизофрению реальным, из¬
меримым, документально оформленным заболеванием. И это несмотря на то, что
индивид, демонстрирующий симптомы шизоидного круга, госпитализированный
в Великобритании, а не в Соединенных Штатах Америки, скорее всего, получит
диагноз «маниакально-депрессивный психоз»1. В некоторых других культурах
галлюцинации не считаются патологическим симптомом и могут даже свидетель¬
ствовать об особой духовности видящего их человека. Еще большее замешатель¬
ство вызывает тот факт, что общепринятые диагностические категории, составля¬
ющие основу науки, регулярно изменяются в процессе их обсуждения учеными,
ответственными за составление «Руководства по диагностике и статистике психи¬
ческих расстройств — IV» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV —
DSM-IV) (1994). Несмотря на эти концептуальные проблемы, очевидно, что мно¬
гие дети страдают и что многие дети способны принести значительные страдания
другим.
Другой значимый фактор, имеющий отношение к диагностированию психопа¬
тологии у детей, — это неспособность многих диагностических комплексов при¬
нять в расчет либо уровень развития ребенка, либо лежащий в основе нарушения
патогенетический процесс. Большинство диагностических комплексов строятся
на основании анализа симптоматики, который не принимает во внимание причин
появления наблюдаемых у ребенка симптомов. Например, депрессия может быть
биохимической (эндогенной), реактивной или появившейся в результате воздей¬
ствия травмирующих факторов. Так как лечение должно быть нацеленным на из¬
менение внутреннего процесса, диагностические комплексы, основанные на ана¬
лизе симптоматики, имеют относительно небольшую пригодность, когда дело
доходит до составления плана терапии. Шерк и Рассел (Shirk & Russel, 1996) пред¬
лагают модель, базирующуюся на шести этиологических категориях, выведенных
из трех теоретических направлений психологии. Из психодинамического направ¬
ления ими позаимствована концепция расстройств психики, основанных на внут¬
ренних конфликтах и дефицитарности функции эго. Из когнитивной психологии
пришла концепция психических расстройств, основанных на нарушениях позна¬
вательной функции и дефиците навыков. Из клиент-центрированной психологии
позаимствована концепция психических расстройств, возникших в результате
низкой самооценки и эмоциональных барьеров. Далее в этой же работе авторы
подбирают для каждой этиологической категории специфический психотерапев¬
тический процесс, наиболее подходящий для ее лечения. DSM-IV учитывает раз¬
витие только для отделения класса детских расстройств от расстройств, испы¬
тываемых взрослыми. Отказ от учета развития ребенка предполагает, что люди
различных возрастов переживают и проявляют все психические расстройства од¬
ним и тем же образом. Но, возвращаясь к той же депрессии, мы знаем, что это не
так. В результате бесспорной становится необходимость создания диагностиче¬
ской системы, интегрирующей экосистемную (то есть основанную на различных
1 В настоящее время в Международной классификации болезней МКБ-10 вместо термина «маниа¬
кально-депрессивный психоз» (МДП) используется обозначение «биполярное расстройство лич¬
ности». — Примеч. пер.
138 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
подходах), отологическую и содержательную модели развития ребенка (Greenspan
& Greenspan, 1991; Tolan, Guerra, & Kendall, 1995).
В рамках экосистемной игровой терапии под психической паталогией понима¬
ется «неспособность адекватного удовлетворения собственных потребностей и/
или неспособность удовлетворять свои потребности, немегиаяудовлетворять свои
потребности другим». Симптом или модель поведения, не соответствующие одно¬
му или обоим этим основным условиям, не считаются патологическими и поэто¬
му не рассматриваются подходящими целями для лечения. Когда дети в первый
раз обнаруживают, что их потребности не удовлетворяются адекватно, в попытке
решить свою проблему они могут переходить к разнообразным способам поведе¬
ния. Хорошо, если этот эксперимент не завершается патологичным поведением,
но в ходе его проведения могут возникать другие проблемы. Патологическое по¬
ведение может случайно получить позитивное подкрепление и, таким образом,
стать частью поведенческого репертуара ребенка. Например, некоторые двухлет¬
ние дети обнаруживают, что вспышки их темперамента очень эффективны, и на¬
чинают все чаще и чаще прибегать к ним для достижения своих целей. С другой
стороны, ребенок может обнаружить некое поведение, которое ведет к удовлетво¬
рению его потребности, но действительно мешает удовлетворению потребностей
других людей. Псевдозрелый ребенок, действующий очень по-взрослому, чтобы
избежать жестокого обращения со стороны родителя-алкоголика, часто пропуска¬
ет важные задачи и радости детства. Эти виды поведения являются адаптивными.
Независимо от того, насколько дисфункциональными они кажутся стороннему
наблюдателю, они представляют собой попытку ребенка справиться с ситуацией.
Часто такие паттерны поведения называют патогенными приспособлениями (pa¬
thogenic adaptations) (Rappoport, 1996).
Помимо выработки менее чем эффективных моделей поведения в поисках спо¬
собов удовлетворения потребностей дети могут развивать у себя проблемную схе¬
му межличностных отношений (Shirk, 1998). Межличностная схема — это вид ког¬
нитивного шаблона, с которым ребенок вступает в социальные взаимодействия.
Ребенок, имеющий крепкие позитивные отношения со своим родителем, облада¬
ет ожиданиями того, что во взаимодействиях с другими взрослыми они будут теп¬
лыми и дружелюбными по отношению к нему. И наоборот, ребенок, подвергав¬
шийся жестокому обращению, будет вступать в контакты с ожиданием ответной
жестокости. На некотором уровне такие установки могут защищать ребенка, но,
дошедшие до своей крайности, они могут становиться препятствиями для дальней¬
шего развития ребенка и его общего психического здоровья. Проблемная межлич¬
ностная схема является когнитивным эквивалентом поведению, проявляющемуся
в патогенных приспособлениях ребенка. И то и другое — результат неспособно¬
сти ребенка эффективно удовлетворять свои потребности. И в обоих случаях ре¬
бенок попадает в порочный круг мышления и поведения, мешающий ему видеть
свои исходные потребности и делающий его еще менее способным видеть, как мо¬
дифицировать то, что он делает и думает.
Экосистемная игровая терапия предполагает несколько широких категорий
психопатологии в зависимости от того, насколько научное исследование способ¬
но определить взаимодействие между демонстрируемой ребенком поведенческой
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 139
и эмоциональной патологией и характерными для него особенностями биологи¬
ческого или физиологического функционирования. Эти категории намеренно
сильно упрощены и являются не дискретными группировками, а скорее класте¬
рами, располагающимися вдоль некоего континуума. Эти категории представлены
здесь. В их основании лежит предположение о том, что они должны иметь неко¬
торое влияние на процесс формулирования игровым терапевтом плана разумно¬
го лечения.
Биологические факторы
Прежде всего терапевт должен рассматривать те типы патологии, которые в усло¬
виях современного состояния науки определенно имеют значительные биологи¬
ческие предпосылки. К этим типам относятся аутизм, шизофрения и набор неко¬
торых неврологических, эндокринных и физиологических нарушений. В общем,
эти нарушения требуют более серьезных и более непосредственных вмешательств,
чем игровая терапия. Например, часто приоритет имеют фармакологические и
педагогические вмешательства. Это не значит, что дети с подобными нарушения¬
ми не могут получать выгоду от игровой терапии, а значит только то, что игровой
терапевт никогда не должен разрабатывать план лечения, игнорирующий биоло¬
гическую основу ребенка. В конце концов, никто не будет пытаться превратить
умственно отсталого ребенка в одаренного; нужно надеяться на максимизацию
способностей умственно отсталого ребенка в любой точке его развития.
Во-вторых, игровой терапевт должен сознавать, что некоторые патологии не
являются специфически биологическими, но могут представлять собой послед¬
ствия скрытых биологических проблем и нарушений. К этой категории относятся
дети с эмбриональным алкогольным синдромом, а также те, кого часто называют
«не подлежащими обучению» (learning disabled), или дети с любыми склонностя¬
ми к умеренным нарушениям центральной нервной системы, включая эпилепсию.
Для детей, попавших в первую категорию, игровая терапия может принести боль¬
шую пользу, но в таких случаях часто необходимо совмещать ее с другими форма¬
ми воздействий. В этих случаях игровой терапевт должен осознавать зачастую
запутанные взаимодействия биологических предпосылок и поведения ребенка,
с одной стороны, и его взаимоотношений с миром — с другой. Представляется ра¬
зумным включение в эту группу детей с хроническими медицинскими или физи¬
ческими нарушениями, которые не обязательно имеют специфический невроло¬
гический компонент (диабет, астма, проблемы с почками и т. п.). Неясно, как эти
заболевания и медицинские препараты, которые принимают страдающие ими
дети, взаимодействуют с личностью ребенка, но часто очевидно, что многие из
этих детей развивают в ответ на свои болезни дисфункциональные эмоциональ¬
ные и поведенческие симптомы, которых можно избежать.
Наконец терапевт должен рассмотреть тех детей, чья биологическая база ка¬
жется совершенно здоровой и даже превосходно развитой. Эти дети обладают
способностью не только очень хорошо существовать в мире, но и иметь с ним та¬
кие взаимодействия, которые идут на пользу и им самим, и окружающим их лю¬
дям.
140 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Расстройства, демонстрируемые ребенком, могут широко варьироваться как
между категориями, так и внутри них. Дети, попавшие в категорию со значитель¬
ными нарушениями биологической основы, обычно демонстрируют самую серь¬
езную психопатологию, а те, кто обладает превосходной биологической базой,
иногда кажутся более здоровыми или способными к адаптации. Но терапевт должен
также осознавать, что вариабельность внутри этих категорий часто превосходит
вариабельность между ними. Можно идентифицировать детей-аутистов, функци¬
онирующих на достаточно высоком уровне, и в то же время крайне дезоргани¬
зованных интеллектуально одаренных детей с высокой степенью выраженности
психотического радикала.
Проблемы с обучением
Проблемы с обучением, не связанные с очевидными биологическими дефицита¬
ми или с умственной отсталостью, в последние двадцать лет обращают на себя все
большее внимание в сфере образования. Хотя причина отсутствия способностей
к обучению не слишком очевидна, очевиден тот факт, что отсутствие познаватель¬
ных способностей может взаимодействовать и взаимодействует с общим психо¬
логическим развитием ребенка. Сейчас педагоги выделяют мириады типов высоко¬
специфичных нарушений познавательной сферы, которые могут проявлять дети,
включая нарушение чтения, нарушение математических способностей, нарушение
письменной речи, каждое из которых перечислено в D5M-IV. Специалисты в об¬
ласти психического здоровья начинают выдвигать гипотезы о существовании спе¬
цифических эмоциональных познавательных расстройств. «Далее, эмоциональ¬
ные проблемы детей могут принимать различные формы. Они включают такие
проблемы, как аффективная модуляция, узость эмоциональных реакций, ограни¬
ченная способность понимания ситуации для выражения или контролирования
эмоций, эмоциональная неустойчивость» (Shirk & Russel, 1996, р. 188). Выдвига¬
ются гипотезы о существовании еще более специфических нарушений. «Алекси-
тимия — это нарушение, при котором индивид осознает только физиологические
аспекты эмоций, такие как повышение частоты сердечных сокращений, потоотде¬
ление и сухость во рту, но неспособен назвать данное эмоциональное пережива¬
ние или символически выразить его» (James, 1994, р. 14). Диссемия — это неспо¬
собность читать, интерпретировать или использовать невербальные аффективные
сигналы, как свои, так и других людей (Nowicki & Duke, 1992).
Отклонения в развитии
Независимо от того потолка, который устанавливается биологической базой ре¬
бенка, многие из его психологических симптомов могут пониматься с точки зре¬
ния его развития. Развитие ребенка может быть замедленным, неровным или со¬
вмещать в себе обе эти черты. Эта модель не учитывает возможности ускоренного
развития, то есть того случая, когда некоторые называют ребенка «вундеркиндом».
В этой модели будет считаться, что такой ребенок имеет неровное развитие, так
как некоторые сферы его развития отстают от других. Отклонения в развитии
диагностируются по большей части относительно хронологического возраста ре¬
бенка.
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 141
Во-первых, терапевт должен оценить общий уровень развития ребенка; то есть
он должен составить целостный образ (гештальт) развития ребенка. Каким мир
воспринимает этого ребенка? Кажется ли ребенок младше или старше своего хро¬
нологического возраста? Это общее видение ребенка чрезвычайно важно для по¬
нимания опыта этого ребенка как внутри, так и за пределами игровой комнаты. Те
читатели, которые по мере их роста выглядели младше или старше своих лет, не¬
сомненно, должны вспомнить, как это влияло на их отношения с миром.
Кэролайн, поступившая в колледж в 16 лет, всегда была элегантной и казалась старше
своего возраста. Она нашла хорошее взаимопонимание с новыми товарищами, хотя все
они были старше ее. Юноши часто приглашали ее на свидания. Но она жаловалась, что
часто это были первые и последние свидания, потому что эти юноши, казалось, были
совершенно ошеломлены, когда обнаруживали ее действительный уровень развития.
Такие переживания характерны для подростков, которые стремятся казаться
старше своих лет, но встречаются они и у детей. Ребенок, которого мир, в силу
задержки в физическом, эмоциональном или когнитивном развитии, восприни¬
мает как более младшего, чем его хронологический возраст, часто становятся
субъектом дифференциальных ожиданий. В результате — такова уж человеческая
природа — эти дети стремятся соответствовать таким ожиданиям. Детей с задерж¬
ками в развитии часто незаметно или прямо поощряют оставаться зависимыми и
ограничивать свои контакты со сверстниками. В школе взрослые из лучших по¬
буждений могут отгораживать их от сверстников, чтобы защитить от жестокой об¬
ратной связи, характерной для детей школьного возраста. Это не значит, что ро¬
дители, учителя, сверстники и другие люди вообще не должны адаптировать свои
требования для детей, имеющих отставание в развитии; но важно, чтобы окружа¬
ющие последовательно оценивали, основывается ли их отношение к этим детям
на реалистических ограничениях или же на проекциях, не отражающих истинных
способностей ребенка.
Стоит упомянуть, что такие вызванные проекциями и неадекватные ожидания
часто возлагаются и на детей, которые проявляют себя так, будто они гораздо стар¬
ше своего действительного возраста, что нередко случается с детьми, которых
можно назвать «подавленными». Литература, посвященная детям алкоголиков,
содержит яркие описания таких псевдозрелых детей. Вследствие присущей им по¬
давленности они кажутся более управляемыми, чем обычные дети в этом возрас¬
те. К тому же такие дети обладают значительными вербальными навыками, позво¬
ляющими общаться со взрослыми почти на равных, в то время как общение со
сверстниками не складывается. В результате окружающие взрослые начинают
ждать от таких детей взрослого поведения во всех жизненных ситуациях, а когда
те ведут себя в соответствии с возрастом, их жестко критикуют. Подобным же
образом семьи этих детей рассчитывают на значительную помощь с их стороны,
забывая о собственных потребностях детей. Переоценка функционального уров¬
ня ребенка постепенно приводит к тому, что он начинает удовлетворять все мень¬
ше своих потребностей и демонстрирует усугубление своих симптомов.
Игровому терапевту совсем не сложно запутаться в том же самом клубке оши¬
бочных восприятий ребенка, которыми страдает весь остальной мир. Возьмем,
142 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
к примеру, ребенка, который, придя на терапию, показывает себя чрезвычайно ре¬
грессировавшим и враждебным. Терапевт полагает, что вынужден структурировать
деятельность ребенка, и начинает относиться к ребенку так, что это мешает ока¬
зывать ему поддержку и одобрение, необходимые в ходе терапевтического взаимо¬
действия. По прошествии некоторого времени окажется, что терапия полностью
воспроизводит отношения этого ребенка с миром, что, естественно, не способству¬
ет развитию ребенка. Терапевт просто оказывается еще одной авторитетной фи¬
гурой, демонстрирующей ограниченную способность удовлетворять потребности
ребенка. Этот же непродуктивный паттерн может устанавливаться в общении с
пришедшим на терапию псевдозрелым ребенком, демонстрирующим исключитель¬
ное желание и способность говорить. Игрового терапевта, в частности принадлежа¬
щего к психоаналитической ориентации, может совершенно очаровать очевидная
способность ребенка к когнитивной переработке опыта, и тогда опять повторится
тот тип транзакций, которые существуют в отношениях ребенка с его миром. Те¬
рапия в этом случае более направлена на обдумывание и рассуждения, а не на кон¬
кретные действия, и снова потребности ребенка останутся неудовлетворенными.
Поэтому оценка терапевтом уровня общего развития ребенка — ключевой элемент
в определении курса лечения, особенно на его ранних стадиях.
Перед началом лечения ребенка терапевт также должен учесть возможность
неравномерности развития ребенка в сферах, подвергнутых процедуре оценки.
В то время как глобальные задержки в развитии или очевидная псевдозрелость
ребенка часто являются сигналами значительной психопатологии, неровное раз¬
витие не менее часто становится причиной еще больших расстройств. Рассмотрим
умственно отсталого десятилетнего ребенка, у которого IQ=60. Кроме того, его
языковые навыки развиты на уровне 6-летнего ребенка, а физическое развитие не¬
намного ниже нормы, соответствующей его хронологическому возрасту. Вероят¬
но, что этот ребенок будет испытывать некоторый обусловленный его развитием
дистресс, но при условии нахождения в относительно здоровой среде он не будет
проявлять значительных поведенческих или эмоциональных проблем. Рассмот¬
рим другой случай, 10-летнего ребенка, имеющего 140. Этот ребенок также
обладает языковыми навыками 6-летнего ребенка, и его физическое развитие не¬
сколько ниже нормы. Даже в нормальной среде есть большая вероятность того, что
этот ребенок будет испытывать такую фрустрацию от своей неспособности аде¬
кватно выражать свои мысли и чувства, что будет демонстрировать серьезные по¬
веденческие и эмоциональные симптомы.
Взаимоотношения травмы и уровня развития
При разработке гипотез относительно природы и источников отклонений в раз¬
витии ребенка очень важно, чтобы терапевт понимал взаимное влияние уровня
развития этого ребенка и его травмирующего опыта. То есть «игра процессов рос¬
та и развития и взаимодействие индивида со своей средой должны быть основой
для построения условий лечения и самого процесса лечения» (Kazdin, 1995, р. 259).
Это поможет терапевту понять как симптомы детей, возникшие в ответ на про¬
шлую или переживаемую сейчас травму, так и вероятные последствия, которые
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 143
испытывают дети, пережившие травму на ранних уровнях развития. Очевидно,
что паттерн такого взаимодействия будет очень сложным и сильно различающим¬
ся у разных детей, но в клинической литературе описаны его основные тенденции.
Первый уровень
Если ребенок переживает травму в течение первого уровня, он будет протестовать,
что обычно выражается в виде крика. Этот протест инстинктивен и информирует
родителя, что с физиологией ребенка не все в порядке. Если родитель неспособен
или не хочет заботиться о нуждах ребенка после того, как тот начал активно про¬
тестовать, системы младенца постепенно, по мере истощения, успокоятся, сменив¬
шись такими симптомами, как расстройства сна, потеря аппетита, пониженный
энергетический уровень и отказ от взаимодействия. Это физиологическое затиха¬
ние, видимо, — один из самых ранних проявлений реактивной депрессии и возра¬
жений ребенка, хотя бы и посредством истощения, против смерти. Пиаже (Piaget,
1952) подчеркивал тот факт, что эти рефлекторные модели поведения — един¬
ственные механизмы младенца по совладанию со стрессом. В противном случае
физиологическая регуляция и управление уровнем напряжения ребенка зависит
от родителя (Sroufe, 1979).
Когда в основе психопатологии ребенка лежит травма, пережитая в младенче¬
ском возрасте, психопатология развивается из переживания ребенком основных
реакций, а не из имеющих когнитивные предпосылки внутренних конфликтов
(Arieti & Bemporad, 1978). Далее, из-за того что ребенок не имеет эго, которое могло
бы его защитить, его реакция на травму часто бывает очень суровой (Spitz, 1946).
Наконец, из-за того что ребенок не может направлять аффект наружу, пока он не
достиг стадии постоянства либидинозного объекта (Graham, 1974), этот аффект
не может быстро раствориться, и поэтому его интенсивность со временем не сни¬
жается.
Долговременность воздействия травмы, пережитой в ходе первого уровня, пол¬
ностью зависит от способности родителей ребенка регулировать и восстанавли¬
вать причиненные разрушения. Маленький ребенок вполне может пережить от¬
дельное травмирующее событие за временной промежуток от своего рождения до
начала второго года жизни и при этом никогда в жизни не демонстрировать ника¬
ких поведенческих и эмоциональных симптомов или когнитивных воспоминаний
о случившемся. Если воздействие травмы или ее последствий длится в течение
некоторого времени, процесс функционирования ребенка может быть наполнен
долговременными эффектами, потому что они могут стать интегральной частью
базального подхода ребенка к взаимодействию с миром. Вероятно, нарушения
будут глубокими, с серьезными проявлениями неспособности ребенка к форми¬
рованию близких межличностных отношений, к адекватному совладанию с по¬
требностью в зависимости и иногда к эффективному использованию речи в меж¬
личностном общении.
Также терапевт должен осознавать, что дети первого уровня хранят в памяти
никак не организованную информацию. Она сохраняется в таком же виде, в ка¬
ком воспринимается; это означает, что дети первого уровня с большой вероятно¬
стью будут ассоциировать эмоции, пережитые в ответ на травмирующее событие,
144 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
с любым другим стимулом, воспринятым и сохраненным приблизительно в тот же
период. То есть ребенок, которому пришлось подвергнуться болезненной меди¬
цинской процедуре, может сохранить ассоциирующиеся с ней негативные эмоции,
которые он переживал в то время, вкупе с картинами, звуками, запахами и т. д. Вот
почему дети первого уровня становятся такими чувствительными ко многим сти¬
мулам, связанным с кабинетом педиатра, и так боятся их. Также это служит осно¬
ванием для обеспечения немедленного лечения ребенка, только что пережившего
травму, в надежде преодолеть негативные воспоминания при помощи создания по¬
зитивных воспоминаний. Здесь важен тот факт, что столь много детских реакций
в этом возрасте могут основываться на соседствующих во времени или в простран¬
стве ассоциациях, а не на реальной связи между стимулами. Таким образом, когда
более старший ребенок пытается вспомнить травму, пережитую им в течение это¬
го уровня, он может вытащить на поверхность и такие воспоминания, которые ка¬
жутся совершенно не связанными с ней; это происходит из-за способа их сохра¬
нения в памяти.
Второй уровень
Поскольку ребенок второго уровня все еще не способен к формированию устой¬
чивых внутренних репрезентаций объектов (Piaget, 1963), он оценивает вещи от¬
носительно себя и своей собственной достаточно нестабильной схемы восприя¬
тия. Отсюда следует общее положение, что дошкольник, даже способный относить
эмоции к объектам, все еще продолжает испытывать только счастье, печаль и гнев,
и то лишь при наличии объектов, первоначально вызывавших эти чувства. Таким
образом, терапевту следует ожидать, что эмоциональный мир ребенка будет в выс¬
шей степени вариативным и в норме наполненным эйфорией и отчаянием, но в
специфических ситуациях будет доминировать один устойчивый аффект либо по¬
зитивной, либо негативной природы. Замечено, что тоддлеры и дошкольники от¬
личаются частыми и интенсивными перепадами настроения.
Поэтому может показаться, что травма, полученная во время пребывания на
этом уровне развития, имеет довольно мимолетное влияние на ребенка, который,
как только травма преодолена, быстро возвращается к своему более привычному
способу функционирования. Малер (Mahler, 1972) отмечала кажущуюся непод¬
верженность ребенка-дошкольника долговременным негативным методам реаги¬
рования на события. Но если травма повторяется или продолжается, то с наиболь¬
шей вероятностью пострадает один из аспектов детского развития, а именно —
приобретение личной автономии. Если что-либо мешает ребенку достичь автоно¬
мии, ребенок может пытаться контролировать себя, а не окружающую среду, и вы¬
работать симптомокомплекс депрессивного типа (Erikson, 1950). Без существенной
индивидуации ребенок не может отказаться от инфантильных идеалов и поэтому
подвержен разочарованиям и депрессии (Sandler & Joffe, 1965). И наоборот, если
ребенок развивает исключительную автономию в качестве реакции на неудачу в
удовлетворении своих потребностей в ходе этого уровня, то его отношения с ми¬
ром могут наполниться агрессивным стремлением контролировать все вокруг.
Из-за силы ранней когнитивно-аффективной схемы ребенка общие эмоцио¬
нальные переживания, испытываемые детьми на этой стадии, будут отличаться
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 145
значительным постоянством (Wadsworth, 1971). Далее, как мы уже говорили, аф¬
фект детей второго уровня обычно переключается туда и обратно, с очень пози¬
тивного до крайне негативного. Когда в этот период ребенок переживает травмы,
он может продолжать демонстрировать в высшей степени варьирующиеся эмоции
по мере взросления, продолжая реагировать на объекты или события как на очень
позитивные либо как на очень негативные. Выдвигалась гипотеза, что такой пат¬
терн существует в историях болезней индивидов, получающих диагноз погранич¬
ных личностных расстройств.
Переработка и сохранение травмирующих переживаний у детей второго уров¬
ня устроены лишь ненамного более тонко, чем у детей первого уровня. На этом
уровне воспоминания не только сохраняются в том порядке, в котором происхо¬
дили события, но и группируются в кластеры. Ребенок второго уровня начинает
сортировать свой опыт, и теперь он уже может хранить свои счастливые пережи¬
вания рядом с другими счастливыми переживаниями, а грустные переживания с
другими грустными переживаниями. Действительно, существует большая веро¬
ятность, что дети второго уровня хранят в одном месте воспоминания, вызываю¬
щие схожие эмоции, чем вероятность того, что в одном месте хранятся пережива¬
ния с похожим содержанием. То есть им легче вспомнить и рассказать о событиях,
которые сделали их счастливыми, чем о том, когда они происходили. Это означа¬
ет, что дети, вероятно, воспроизводят ряд других неприятных воспоминаний, ко¬
гда переживают некую новую травму. Когда они чувствуют себя несчастными, они
обычно говорят, что всегда несчастливы и что все идет не так, как им бы хотелось.
Подобным же образом, становясь старше, они могут вспоминать несколько трав¬
матических событий, произошедших за этот период, так, как будто они произошли
практически одновременно.
Третий уровень
По мере того как дети вступают на третий уровень развития, у них быстро про¬
грессирует способность переживать разнообразные стабильные эмоции и диффе¬
ренцировать их одну от другой и одно вызвавшее их событие от другого. Травмы,
случающиеся в течение третьего уровня, с большой вероятностью будут сопро¬
вождаться различными аспектами, если ребенок умеет одновременно удерживать
их в своем опыте. Больше не нужно, чтобы все было хорошим или плохим, — те¬
перь ребенок может осознавать позитивные и негативные аспекты, а также зачат¬
ки амбивалентности.
К тому же ребенок все больше и больше способен отвечать на события, пере¬
живаемые когнитивно, а не только на происходящие в реальности. Ребенок вто¬
рого уровня может иметь жуткие или печальные фантазии, но часто они остаются
просто фантазиями, не связанными с любым реальным, но еще не пережитым со¬
бытием. Дети третьего уровня могут быть печальными, или сердитыми, или напу¬
ганными реальными вещами, которых они не переживали, но которые им описы¬
вали или которые были сконструированы ими в своем мозгу. Если у друга ребенка
третьего уровня вдруг умирает отец, это с большой вероятностью вызовет у него
тревогу не из-за непосредственного влияния этого события на его жизнь, но из-за
того, что он случайно обнаруживает такое явление, как возможность смерти отца,
146 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
и беспокоится за своего. Более того, мораль взаимной обусловленности (влияния
всего на все) позволяет ребенку этого уровня чувствовать себя виноватым за те
действия, которых он никогда не совершал, а только хотел совершить. Это изме¬
нение в переработке опыта означает, что детям третьего уровня не нужно непо¬
средственно переживать событие, чтобы оно оказалось для них травмирующим;
таким образом, внимание, уделяемое терапевтом воздействию на ребенка его окру¬
жения, должно быть гораздо более широким.
Помимо этого, дети третьего уровня способны сортировать и сохранять свои
воспоминания о травмирующих переживаниях гораздо реалистичнее, чем дети
первого и второго уровней. Но существует вероятность того, что они будут сохра¬
нять и воспроизводить впечатления об этих событиях такими способами, которые
многим взрослым покажутся странными. Например, то, что ребенок думает или
чувствует о событии, и само событие с большой вероятностью будут вспоминать¬
ся ребенком как факты, обладающие равным весом. Если некий ребенок, подверг¬
шийся жестокому обращению, воспринимает своего обидчика очень старым и
очень высоким, позже он может сталкиваться с проблемами, когда нужно опознать
его, если на самом деле этот человек — старший подросток сравнительно невысо¬
кого роста.
Четвертый уровень
Согласно Пиаже и Инхелдеру (Piaget & Inhelder, 1969), ребенок, становящийся
подростком, надеется на то, что реальность вполне может соответствовать его иде¬
алам. То есть подросток не верит, что за время его жизни мир нельзя сделать иде¬
альным. Крайний эгоцентрический идеализм обычно защищает младшего под¬
ростка от неприятных жизненных реалий в течение довольно трудного периода
развития. Но по мере того как реальность вторгается и разрушает идеализм под¬
ростка, он часто разочаровывается и становится угрюмым, а ко времени достиже¬
ния позднего подросткового возраста может превратиться в гневливого или по¬
давленного (депрессивного) человека.
Оценив развитие ребенка в различных сферах, как описано в главах 6 и 7, те¬
рапевту предстоит оценить как общий уровень развития ребенка, так и любые из
возможных отклонений в развитии. Затем начинается терапия, которая сначала
концентрирует свой фокус на той сфере, в которой функциональное состояние ре¬
бенка находится на самом низком уровне. Как для детей, которые не могут себя
контролировать, так и для псевдозрелых детей, описанных ранее, основной про¬
блемой могут оказаться потребности в зависимости, которые никогда не удовле¬
творялись адекватно. В таком случае вводные сессии для детей двух этих групп
будут одинаковыми. Если же становится очевидным, что один из этих детей пы¬
тается совладать с относительно недавней травмой, вводные сессии будут выгля¬
деть совершенно иначе.
Патология, не связанная с уровнем развития
В то время как большая часть проблемного поведения, приводящего детей на те¬
рапию, может рассматриваться как проявление либо задержек, либо неровностей
развития, некоторые виды поведения или реакций выходят за эти рамки. Это та-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 147
кие виды поведения, которые считаются патологическими у детей любого возра¬
ста: моторные или речевые тики, рассеянность в обращении с предметами; эксцен¬
тричная речь или формулировка мыслей; нарушения питания; нарушения сна;
крайне выраженные или подавленные эмоции; физическая агрессия; побеги из
дома; несоответствующее возрасту сексуальное поведение; намеренное разруше¬
ние материального имущества; суицидальные намерения, угрозы или попытки.
Эти виды поведения лучше всего осмыслять с точки зрения бихевиоризма, при
помощи анализа причин и следствий. Какие ситуации запускают эти модели по¬
ведения? Какие факторы вызывают повышение или снижение частоты проявле¬
ния этих моделей поведения? В каких ситуациях это поведение осуществляется?
Как реагирует на действия ребенка окружающая среда? Что получает и что теряет
ребенок, реализуя такое поведение? Для осуществления такого анализа неоцени¬
мую помощь дает концепция негативного внимания. Вероятность того, что ребе¬
нок приступает к реализации данной модели поведения, просто чтобы иницииро¬
вать негативное взаимодействие, очень низка. Гораздо вероятнее то, что ребенок
демонстрирует такие модели поведения, которые дают ему чувство контроля над
ситуацией, несмотря на то что они к тому же вызывают негативные взаимодей¬
ствия. Ребенок, реализующий поведение, заставляющее взрослого человека кри¬
чать, обладает уникальной силой, которую можно использовать, чтобы отвлекать
взрослого от других проблем или контролировать начало и окончание взаимодей¬
ствия.
Когда имеет место любое патологическое поведение, которое кажется не свя¬
занным с особенностями развития, терапевту следует очень тщательно изучить
экосистему ребенка. Эти модели поведения обычно отражают существование от¬
носительно серьезных, диадных, системных проблем, с которыми ребенок не спо¬
собен справиться.
Патология, связанная с диадными отношениями
О патологии, обусловленной диадными отношениями, говорят в тех случаях, ког¬
да два, на первый взгляд, функционально сохранных индивида неспособны эф¬
фективно удовлетворять свои потребности в контексте их взаимоотношений друг
с другом. Например, нередко опытная мать обнаруживает, что она испытывает
гораздо больше проблем в общении с одним из своих детей, чем при общении с
остальными. Возможно, их типы темперамента несовместимы. Возможно, ребенок
физически похож на жестокого бывшего мужа. Какими бы ни были причины и
источники патологии, они вовсе не обязательно находятся в ком-либо из членов
диады, но могут локализовываться в каком-либо аспекте их взаимодействий. В та¬
ких случаях терапия вполне эффективна и обычно не занимает много времени,
особенно если оба индивида способны к нормальному функционированию и обла¬
дают значительными ресурсами, на которых может основываться прогресс тера¬
пии.
Патология, связанная с системными факторами
О патологии, вызванной действием системных факторов, говорят в случаях, когда
существуют разногласия между потребностями ребенка и потребностями системы,
148 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
к которой он принадлежит. Она может выражаться в обычных поведенческих про¬
блемах, которые можно наблюдать у посещающего детский сад ребенка, проявля¬
ющихся в его неспособности спать днем, что он спокойно делал до поступления в
садик. Семейные проблемы нередко возникают, когда не совпадает уровень раз¬
вития семьи и уровень развития первого или последнего ребенка. Родители, име¬
ющие ребенка, гораздо младшего по возрасту, чем все остальные дети, могут обна¬
ружить, что они сталкиваются с большими трудностями в воспитании этого
последнего ребенка, с тех пор как остальные их дети стали жить отдельно. Эта пара
готова начать формирование модели «пустого гнезда», тогда как последний ребе¬
нок все еще сильно нуждается в комфорте, который дает гнездо. Проблемы, обу¬
словленные системой, возникают и тогда, когда сама система патологична. Нико¬
гда не следует исключать возможность того, что проблемное поведение ребенка
в действительности представляет собой его наилучшую попытку справиться со
значительно испорченной системой. Эту возможность необходимо сделать перво¬
очередной рабочей гипотезой, если терапевт обнаруживает, что другие дети в той
же системе также испытывают сложности.
Цели лечения/терапии
Исходя из широкого определения психопатологии, изложенного в предыдущем
разделе, первичными целями экосистемной игровой терапии нужно признать сле¬
дующее.
1. Максимизация способности ребенка эффективно удовлетворять свои по¬
требности, не мешая другим людям удовлетворять их потребности.
2. Максимизация связи ребенка с окружающими в качестве первичного спо¬
соба гарантировать, что ребенок удовлетворяет свои потребности социаль¬
но одобряемыми способами, избегая эгоцентризма и социопатии.
3. Возвращение ребенка на уровень функционального развития, соответству¬
ющий его биологическим качествам. Как утверждают Вернберг, Раут и Кучер
(Vernberg, Routh & Koocher, 1992), цель терапии — «помочь детям заново
встать на путь развития, который с наибольшей вероятностью приведет их
к адекватной адаптации в последующие периоды их жизни» (р. 73).
В идеале, это означает, что все структуры личности, эмоции, когниции и со¬
циальные взаимодействия ребенка ко времени окончания лечения будут функ¬
ционировать оптимально по отношению к его обусловленным развитием способ¬
ностям. Далее, изменения в стиле жизнедеятельности ребенка по меньшей мере
начнут переноситься на мир, находящийся вне игровой комнаты, свидетельством
чего будет способность ребенка удовлетворять свои потребности такими способа¬
ми, которые может принять окружающая его среда. Эти общие цели не меняются
в зависимости от длительности терапии. Продолжительность лечения определя¬
ется сложностью проблем, переживаемых ребенком, и способностью среды под¬
держать терапевтический процесс вне терапевтических сессий. Сложные соци¬
альные проблемы, такие как долговременное жестокое обращение с ребенком, не
могут решаться в ходе краткосрочной терапии. Подобным же образом, когда ре-
Глава 4. Теоретические обоснования игровой терапии 149
бенок принадлежит к патогенной среде, например живет в доме родителей-алко-
голиков, краткосрочная терапия может иметь не больший эффект, чем разбрыз¬
гивание стакана воды для тушения лесного пожара. Сталкиваясь с потребностями
таких детей, терапевты не должны отдавать это дело во власть внешних экономи¬
ческих и социально-политических сил. С другой стороны, терапевтам следует
быть очень активными в проверке той возможности, что разрешение ключевой
проблемы и перечисление средств поддержки, естественным образом доступных
в экосистеме ребенка, может в большинстве случаев сделать краткосрочную тера¬
пию эффективной.
Игровые терапевты, акцентирующие свое внимание на аспектах процесса раз¬
вития, также осознают, что может возникнуть потребность обобщить результаты
лечения, когда ребенок вступает на новый уровень развития. Изменения, совер¬
шаемые ребенком и его экосистемой, могут оказаться неподходящими в следую¬
щий момент его развития, и поэтому могут нуждаться в ревизии, чтобы соответ¬
ствовать грядущим ожиданиям от ребенка данного уровня развития.
Как и в случае с остальными теориями игровой терапии, экосистемная игро¬
вая терапия вводит некоторые основные положения о различных элементах про¬
цесса лечения и о его участниках, сделанные на основании модели, представлен¬
ной до сих пор в этой книге. Эти предположения детально рассматриваются в
главе 5.
Глава 5
Основные положения
экосистемной игровой терапии
Помимо различных теоретических концепций, лежащих в основе экосистемной
игровой терапии, для успешного понимания этого терапевтического подхода не¬
обходимо хорошо знать несколько важнейших идей, которые не выведены непо¬
средственно из какого-либо конкретного направления психологии. Среди этих
идей — тип клиентов, который считается наилучшим образом подходящим для
этой формы лечения, тип подготовки, которую необходимо пройти терапевту,
и положение о том, что именно является целительным или способствующим «вы¬
здоровлению» клиента фактором в игровых сессиях.
Клиенты, подходящие для игровой терапии
Уровень развития
Поскольку техники, применяемые игровым терапевтом, варьируют в зависимости
от уровня развития ребенка, экосистемную игровую терапию можно использовать
в работе со всеми детьми, относящимися и к низшим, и, через средние, к высшим
уровням функционирования. На нижних уровнях функционирования лечение на¬
правлено на создание корректирующих переживаний, которые побуждают ребен¬
ка реорганизовывать его представления о мире и о своем месте в нем. На высших
уровнях функционирования лечение носит менее «эмпирический» и более когни¬
тивный характер. Здесь цель в том, чтобы ребенок познал свой мир и свое место в
нем на вербальном уровне, чтобы любые изменения, производимые им в своем
поведении, могли быстрее переноситься во внешний мир. Считается, что ребенок,
находящийся на этих высоких уровнях функционирования, не нуждается в посто¬
янной проверке в реальной жизни каждого нового для него способа поведения, но
должен обладать некоторым количеством навыков когнитивного разрешения про¬
блем. Терапевт должен лишь понимать уровень развития ребенка в каждой из сфер
его деятельности (functioning), чтобы вносить необходимые модификации в ме¬
тод лечения.
Патология
Как и в случае с другими ориентированными на развитие направлениями игро¬
вой терапии, экосистемная игровая терапия делает значительный акцент на том
влиянии, которое недостатки в раннем и современном взаимодействии ребенка и
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 151
родителя оказывают на возникновение и поддержание множества разновидностей
патологического поведения. Терапия считается попыткой опосредовать эти недо¬
статки в контексте очень гуманных отношений ребенка и терапевта. В дополнение
к этому акценту, экосистемная игровая терапия принимает в расчет те экологиче¬
ские переменные, которые ранее произвели и в настоящее время поддерживают
проблемы ребенка. Игровой терапевт планирует работу с ребенком, его родителя¬
ми, школой, сверстниками и т. д. Эта гибкость означает, что игровую терапию
можно применять в работе с детьми, имеющими все виды психопатологий. Одно
из преимуществ ориентированной на развитие парадигмы состоит в том, что она
позволяет лечить даже самых трудных детей, демонстрирующих отреагирование
(iacting-out), до тех пор пока может поддерживаться их безопасность, потому что
игровой терапевт несет ответственность за структурирование сессий в соответ¬
ствии с уровнем развития ребенка и его психопатологией.
Использование описанных в данной книге техник, по большей части предпо¬
лагает амбулаторное лечение (ребенок не лежит в клинике в условиях стациона¬
ра). Но даже если ребенок страдает такими нарушениями, что его необходимо гос¬
питализировать, структура индивидуальных игровых терапевтических сессий не
должна существенно меняться. В общих чертах, в условиях стационарного лече¬
ния первичное изменение проявляется в виде интенсификации лечения посред¬
ством повышения частоты и потенциально продолжительности сессий. Некото¬
рые дети, находящиеся в состоянии острого кризиса, могут получить пользу даже
от режима работы «две сессии в день», особенно когда основной проблемой явля¬
ется суицид.
Подготовка экосистемных игровых терапевтов
Для эффективного проведения игровой терапии терапевту следует иметь по мень¬
шей мере ученую степень магистра психологии или соответствующую степень по
смежной дисциплине. В ходе обучения ему необходимо прослушать курсы по раз¬
витию ребенка, детской психопатологии, детской диагностике, теории семейных
систем, психотерапии и игровой психотерапии. Кроме того, важно, чтобы он под
руководством супервизора прошел по меньшей мере шестимесячный практикум
по игровой терапии. Ниже приводится свод требований к сертифицированному
игровому терапевту {Registered Play Therapist, RPT)> выдвинутый Международной
ассоциацией игровой терапии {International Association for Play Therapy, IAPT).
Академическая подготовка
1. Соответствующая степень магистра в медицинской профессии или в дру¬
гой профессии из сферы обеспечения психического здоровья, полученная
в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
В ходе обучения в аккредитованном образовательном учреждении должны
быть изучены следующие дисциплины: 1) развитие ребенка; 2) теории лич¬
ности; 3) принципы психотерапии; 4) детская и подростковая психопатоло¬
гия и 5) законодательные, профессиональные и этические вопросы.
152 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
2. Курс игровой психотерапии, составляющий минимум 150 часов (подготов¬
ку в размере всех 150 часов нельзя проходить у одного инструктора). Долж¬
ны быть изучены следующие дисциплины: 1) история; 2) теория; 3) техни¬
ки и методы; 4) особенности применения игровой терапии в специфических
условиях и для специфических групп населения.
Клинический опыт
1. Два года практики в сфере, в которой кандидат получил степень магистра,
под наблюдением супервизора и с включением не менее 2000 часов непо¬
средственного контакта с пациентами. Один год такой практики (1000 ча¬
сов непосредственной клинической работы) должен проходить после полу¬
чения степени магистра.
2. Кандидат должен выполнить минимум 500 часов непосредственной работы
с пациентами в присутствии супервизора.
Дальнейшее индивидуальное обучение и развитие
После получения сертификата игровым терапевтам необходимо каждые 3 года
получать подтверждение своей квалификации, проходя 36 часов дополнительно¬
го обучения. Восемнадцать часов из этих 36 должны быть посвящены игровой те¬
рапии, и их должен проводить специалист, одобренный Международной ассоци¬
ацией игровой терапии {International Association for Play Therapy, I APT).
Хотя формальное теоретическое обучение и прохождение практики в ходе по¬
сещения высшего учебного заведения — существенные компоненты подготовки
игрового терапевта, не менее важно, чтобы он развил у себя некоторые личност¬
ные характеристики, упоминающиеся во многих учебниках по психотерапии и
консультированию. Вот пять личностных качеств, необходимых психотерапевту.
1. Способность проявлять эмпатию, или «точное понимание мира клиента,
видение его таким, каким видит его он сам. Чувствовать частный мир кли¬
ента, как если бы он был вашим собственным, но не забывая об этом “как
если бы”...» (Rogers, 1961, р. 284).
2. Способность демонстрировать уважение к клиенту. Установка терапевта
«безоценочна, она не содержит осуждения, критики, насмешки, обесцени¬
вания или возвышения своей роли. Это не означает, что консультант счита¬
ет правильными, желаемыми или приятными все аспекты поведения кли¬
ента или что он соглашается с его поведением или оправдывает его... Все же
терапевт принимает клиента таким, какой он есть» (Patterson, 1974, р. 58).
3. Способность демонстрировать искренность в том, что «в отношениях он сам
свободен и глубок, в сочетании с его действительными переживаниями, в точ¬
ности представленными его осознанием себя» (Rogers, 1957, р. 97).
4. Способность осуществлять «гибкое, непосредственное и полное выражение
специфических чувств и переживаний, независимо от их эмоционального
содержания» (Truax & Garkhuff, 1967, р. 32).
5. Способность выносить состояние неопределенности и необходимость в но¬
вых попытках (Brems, 1994).
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 153
Кроме того, игровой терапевт должен разрешить остаточные проблемы, связан¬
ные с его детскими переживаниями; в противном случае существует опасность
того, что он будет пытаться разрешить эти проблемы в процессе работы с клиентом.
Поэтому сам терапевт должен пройти по крайней мере шестимесячный (а лучше
более продолжительный) курс психотерапии. В ходе такого курса особое внимание
должно уделяться тем детским воспоминаниям, которые проявляются в нынеш¬
них мыслях и поведении терапевта. В процессе индивидуальной психотерапии
терапевт также развивает самоуважение, самооценку, самосознание и готовность
самоизучения, а также осознание своего индивидуального стиля (Brems, 1994).
В дополнение к такой терапии игровой терапевт должен пройти супервизию у
опытного игрового терапевта в течение по меньшей мере одного года. В этот пе¬
риод терапевт должен работать над раскрытием того, как его биография и лич¬
ность влияют на его стиль работы, чтобы научиться как можно полнее использо¬
вать личный опыт, в то же время избегая преобладания собственных потребностей
над потребностями клиента.
В дополнение к разрешению своих собственных детских проблем игровой те¬
рапевт должен быть способен играть. Игра — естественная часть детства, но взрос¬
лые часто воспринимают ее как нечто чуждое и незнакомое. Взрослые больше ни¬
кого не изображают, не вступают в физические взаимодействия и не действуют
импульсивно, поэтому им свойственно дистанцироваться от игры ребенка, зани¬
мая позицию интеллектуального аналитика. Это полезный навык, если терапевт
его контролирует, но если он осуществляется рефлекторно, то становится поме¬
хой. Креативный игровой терапевт должен уметь не только следовать за игрой
ребенка, но и порой ускорять деятельность, происходящую в игровой комнате,
и руководить ею.
Женщина-терапевт только начинала работать с 11-летним мальчиком Томасом, кото¬
рый сильно сопротивлялся включению в процесс психотерапии. Сперва они пытались
разговаривать, но вскоре пациент замолчал и просто сел в угол. Терапевт пыталась так
структурировать сессии, чтобы снизить ситуативное побуждение к ведению беседы.
Хотя поначалу Томас откликался на ее попытки, вскоре он опять отверг их. Через не¬
сколько сессий почти полной бездеятельности терапевту пришла в голову идея, осу¬
ществление которой позволяло как провести диагностику, так и просто здорово поиг¬
рать.
Поперек игровой комнаты она построила стену из мебели, чтобы отделить себя от кли¬
ента. Она проговорила его нежелание взаимодействовать с «девчонкой» и сказала, что
понимает его и хочет быть абсолютно уверенной в том, что этого не произойдет. Затем
она поставила мусорную корзину со своей стороны стены, но близко к тому месту, где
сидел Томас. Она села в нескольких футах от корзины и начала комкать листы бумаги
и швырять их в корзину. Все это время она говорила, что хотела бы добиться успеха
в этой игре, но не сомневается, что Томас не верит, что ей это удастся. В течение супер-
визии она сообщила, что в первые дни Томас следил за всем, что она делает, и при этом
добавила: «Он смотрел на меня так, будто я сошла с ума».
Сначала терапевт с каждой попытки попадала в корзину, но когда заметила, что Томас
придвинулся поближе, начала время от времени промахиваться, пока один из комков
не приземлился по ту сторону перегородки. Мальчик прыгнул к нему, но не сделал ни
одного движения, чтобы вернуть его. Вскоре на его стороне было множество бумажных
154 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
комков, и терапевт попросила его перебросить их ей, чтобы она могла продолжить игру.
Томас мимоходом бросил ей комок, а затем еще один, и, поскольку терапевт успела
подвинуться очень близко к корзине, она в воздухе отбила один из его бросков по на¬
правлению к корзине, прокомментировав это: «Ой, этот почти попал». Конечно, следу¬
ющий бросок Томаса был гораздо ближе к корзине, — началось его включение. Пона¬
чалу он бросал только те бумажки, которые приземлялись на его стороне барьера,
и совершенно не говорил об этом. Вскоре, однако, он перегибался через стену, чтобы
поднять комки с другой стороны, и хвастался меткими бросками.
Терапевт продолжала строить стену в течение нескольких сессий, говоря при этом, что
стена теперь может быть пониже, но она все еще нужна, чтобы обезопасить Томаса.
Игра в корзинбол продолжалась, причем постепенно уменьшалось число доступных
комков, чтобы могло происходить большее число обменов. Примерно через три сессии
игровая терапия пошла полным ходом. Таким образом, эта женщина-терапевт смогла
использовать свою внутреннюю «детскость», чтобы разработать стратегию, позволив¬
шую Томасу сохранять свою первоначальную безопасную дистанцию до тех пор, пока
он не решился вступить в рабочие отношения.
Роль экосистемного игрового терапевта
в терапевтической сессии
Как видно из предыдущего примера, первоначальная задача терапевта заключа¬
ется в выстраивании помогающих отношений с ребенком. Как только эти отноше¬
ния устанавливаются, терапевт предоставляет ребенку альтернативные, коррек¬
тирующие переживания и содействует перестройке его когнитивной организации
посредством использования интерпретации и техники разрешения проблем. Ино¬
гда это происходит в ходе авторитарного ведения сессии, а иногда — в процессе
следования за ребенком. Временами это подразумевает полное включение тера¬
певта в игру с ребенком, временами — принятие более отстраненной, наблюдатель¬
ской позиции. Но в любом случае это означает деятельность по осмыслению пе¬
реживаний ребенка и по возврату ему открывшихся сведений в действии или в
вербальной форме. Более того, игровой терапевт должен постоянно осознавать
уровень развития ребенка и его потребности и действовать в контексте этих фак¬
торов. Основной ролью игрового терапевта при проведении экосистемной игро¬
вой терапии является работа на максимальное усовершенствование функциони¬
рования ребенка сначала на сессиях, а затем и в повседневной жизни.
Наконец, игровой терапевт — защитник ребенка. Он должен помнить, что, на¬
чиная терапию, вмешивается в несколько систем с позиции ребенка. На практике
терапевт рассматривает вмешательство в ту или иную систему, в которую включен
ребенок, как важную часть лечения. Это означает, что в обязанности терапевта
входит и работа с родителями, семьей, школой, сверстниками ребенка. Эта книга
посвящена проведению индивидуальной игровой терапии с позиций экосистем¬
ной игровой терапии; защищающая позиция {advocacy perspective), которая так¬
же представляют собой существенный аспект эффективной работы с детьми и их
семьями, детально не рассматривается. Описание защитной роли придется отло¬
жить на будущее, поскольку это не относится к материалу, который планируется
изложить в данной книге.
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 155
Природа терапевтического процесса
Роль игры
Игра в терапии служит многим целям. Она посредник, в рамках которого могут
применяться разнообразные психологические и обучающие методики. В ходе иг¬
ровой терапии можно обучать детей социальным навыкам, обеспечивать диффе¬
ренциальную обратную связь изменениям в их поведении или предоставлять им
конкретную, фактическую информацию, корректирующую те мифы, которые вы¬
зывают у них тревожность.
Также игра представляет собой средство коммуникации между ребенком и те¬
рапевтом. Она позволяет ребенку разыгрывать те вещи, для обозначения которых
ему недостает слов. Считается, что игра — сознательный процесс, эквивалент так¬
тике «покажи мне, если не можешь рассказать», которая используется при беседе
с детьми, пережившими сексуальное насилие. Подобным же образом терапевт мо¬
жет показать ребенку такие вещи, вербальное объяснение которых потребовало
бы более сложного языка, чем ребенок в состоянии понять. Этот тип игры осно¬
вывается на первичных символах; например, изображение процесса питья воды
заменяет действительный процесс питья (Scarlett, 1994). Но коммуникативная
функция игры работает и на бессознательном уровне: ребенок часто раскрывается
в своих действиях, мыслях и чувствах, которые он совершенно не осознает. Этот тип
игры основан на вторичных символах; то есть изображение процесса питья воды
представляет собой потребность ребенка в питании и воспитании (Scarlett, 1994).
На самом деле это не отличается от невербального взаимодействия, в которое
вступают взрослые в ходе вербальных, по существу, видов психотерапии. Отли¬
чием служит то, что такая игра для терапевта первоочередный источник инфор¬
мации об интрапсихической деятельности ребенка.
Кроме того, игра — это инструмент создания корректирующих переживаний
для ребенка. Либо терапевт, либо ребенок могут устанавливать игровые взаимо¬
действия, позволяющие ребенку заново пережить некое событие или некие взаи¬
моотношения с более позитивным результатом, чем имело исходное событие. В не¬
которых моделях игровой терапии этот аспект используется недостаточно. Когда
ребенок способен воссоздать в игре те ситуации, над которыми ему необходимо
обрести контроль, чтобы продолжить свое развитие, — это волшебный процесс. Но
многие дети за свою жизнь столкнулись со слишком значительным количеством
деструктивных переживаний, и маловероятно, что они случайно обнаружат серии
оптимальных корректирующих переживаний без посторонней помощи. Терр (Тегг,
1983) отмечал, что жертвы угона автобуса с детьми в Чаучилле в течение несколь¬
ких лет тайно играли в игру-повторение, центрированную на их переживаниях
этого инцидента, но не могли достичь ни катарсиса, ни чувства обретения контро¬
ля над этой ситуацией. В таких случаях терапевт может создать игровые пережи¬
вания, которые помогут ребенку разрешить критически важные проблемы и про¬
должить прерванное нормальное развитие.
Необходимо помнить, что, не противореча терапевтической ситуации, игра по¬
лезна и по своей сути, и по своим последствиям. Игра поощряет детей 3-5 лет
развивать вербальные и предметно-изобразительные навыки. Таким образом,
156 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
появляется механизм для разрешения конфликтов со сверстниками и для разви¬
тия эмпатии и моральных ценностей. Ролевая игра для детей в возрасте 6-9 лет
становится ареной самовыражения, но в это же время дети осознают важность
правил и их введения. Они научаются соревноваться контролируемым способом.
Начиная с возраста 10-12 лет дети сильнее включаются в групповую игру и обуча¬
ются социальным навыкам, просто получая удовольствие и не напрягаясь. «Сам
процесс игры консолидирующий и интегративный; он предоставляет детям ресур¬
сы для самостоятельного наделения смыслом эмоциональных переживаний. Лишь
после проведения таких интеграций вербальные интерпретации вытесненных
идей или конфликтов (например, таких, как применяются в терапии) могут стать
для ребенка осмысленными» (Slade, 1994, р. 82).
Целительные элементы
Корректирующее переживание
С момента первого издания этой книги корректирующим переживаниям в тера¬
певтическом процессе стала отводиться центральная, решающая роль. «При опро¬
се двенадцати ведущих терапевтов, представляющих различные научные школы,
корректирующие переживания неизменно назывались “существенными”, “критиче¬
скими”, “основными” и “ключевыми ” для процесса изменений» (Goldfried, 1982).
Но что же в точности представляет собой корректирующее переживание? В дан¬
ном случае оно определяется как один из двух типов событий, запускающих су¬
щественные перемены в образе мышления ребенка. С одной стороны, терапевт
может вести себя так, чтобы подрывать скрытые патогенные убеждения ребенка
(Shirk, 1998). То есть некие действия терапевта заставляют ребенка по-другому
взглянуть на особенности своего взаимодействия и из-за этого начать вести себя
по-другому. С другой стороны, терапевт может предоставлять ребенку новую ин¬
формацию или альтернативное понимание прошлых событий, что вызывает то же
самое изменение мышления и, следовательно, поведения ребенка. Корректирую¬
щие переживания содержат некоторое количество как ретроспективного, так и
проспективного (относящегося к будущему) решения проблем. Ребенок узнает,
что было неправильно в прошлом и как использовать эту информацию для пре¬
дотвращения тех же самых проблем в будущем. Без корректирующих пережива¬
ний деятельность на игротерапевтической сессии становится в лучшем случае
терапевтической игрой, а в худшем — повторением дисфункционального прошло¬
го ребенка. Терапевт должен уметь понимать, какие типы переживаний ускорят
коррекцию следующих негативных аспектов жизни и личности ребенка: прошлый
опыт, современные предположения о принципах устройства и функционирования
мира, паттерны поведения и социального взаимодействия и, наконец, задержки
в развитии ребенка.
Это замечание о корректирующем переживании — не единственное в игровой
терапии; оно просто по-разному оформляется различными авторами. Конечно,
играпия (Theraplay; Jernberg, 1979; Jernberg & Booth, 1999) изначально была эмпи¬
рической моделью. Но, возможно, самое лучшее описание важности эмпириче¬
ского компонента детской психотерапии было дано Левином (Levin, D., 1985):
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 157
Корректирующее развитие переживание представляет собой интеракционистскую, а не
интрапсихическую модель лечения, и поэтому его наиболее разумно применять в та¬
кой момент жизненного цикла, когда важные психические процессы определяются че¬
рез реально происходящие обмены в рамках динамической, взаимно регулируемой
системы интеракций. «Коррекция» тем не менее не ограничивается эмоциональными
или аффективными аспектами взаимодействия, которые, в любом случае, составляют
только одну линию развития... Корректирующее переживание как осмысленная кон¬
цепция, применяемая в лечении ранних детских психопатологий, способствует одно¬
временному осуществлению обменов между многочисленными линиями развития (аф¬
фективной, когнитивной, физически-моторной, социальной, лингвистической и т. д.)
в контексте постепенно изменяющихся, усложняющихся задач на взаимодействие
(Sander, 1983). Таким образом, я выбрал корректирующее развитие переживание для
обозначения модели лечения, в которой подтверждение и неодобрение полученного
опыта и ожидания применяются для происходящей в данный момент и постоянно орга¬
низации, дезорганизации и реорганизации опыта, по мере того как он проявляется в
сложной системе взаимодействий, в которой терапевт — только один системообразую¬
щий элемент. Признавая влияние прошлого ребенка на его настоящее, корректирующее
развитие переживание является продолжительным и изменяющимся в соответствии с
опытом развития ребенка, которым он обладает в данный момент, и с его насущными
проблемами и задачами (р. 301).
Несмотря на центральную роль корректирующих переживаний, они представ¬
ляют некую ценность для ребенка лишь тогда, когда происходят в определенном
контексте. Как отмечалось в разделе, посвященном роли терапевта в игротерапев¬
тической сессии, для осуществления терапевтического изменения важны три ком¬
понента. Во-первых, терапевт создает такие отношения или условия, в которых
может происходить терапия. Терапевт должен вовлечь ребенка. «Мы должны обра¬
щать внимание на то, что даже... модели взаимодействия неопытных терапевтов,
взятые на очень абстрактном уровне, включают... три фактора: поиск информации,
техническая работа (интерпретация, противостояние) и обеспечение подкрепля¬
ющего поощрения» (Моок, 1982; цит. по: Shirk & Russel, 1996, р. 120). Терапевт
может начать деятельность по предоставлению ребенку нового понимания его
проблемы лишь через создание корректирующих переживаний в игровой комна¬
те, через вербальное осмысление происходящего или, что предпочтительнее, че¬
рез соединение этих двух методов. Но даже возникновение нового понимания
проблемы и осознание существующих возможностей выбора могут, по своей при¬
роде и по своим последствиям, не обеспечивать стремления к изменению поведе¬
ния. Помимо этого, психотерапия должна обеспечивать реальные или фантазий¬
ные переживания, позволяющие клиенту чувствовать ценность осуществления
выборов и изменений. Если это вообще возможно, нужно, чтобы терапия предо¬
ставляла те переживания, которые позволяют ребенку экспериментировать со сво¬
ими новыми моделями поведения в отношениях с терапевтом.
Терапевтические отношения
Важность существования отношений между ребенком и терапевтом подчеркива¬
ется в каждом виде игровой терапии. Даже самый ярый клинический поведенче-
158 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
ский игротерапевт признает, что бихевиоральные процедуры лучше всего работа¬
ют, когда ребенок позитивно связан с терапевтом. Несмотря на это, большая часть
литературы по игровой терапии обычно представляет нам ложную дихотомию
между клиент-центрированными детскими терапевтами и, практически, всеми
остальными. Подразумевается, что только клиент-центрированные терапевты по-
настоящему ценят ребенка и свои отношения с ним. Этот взгляд чаще всего имеет
место из-за того, что клиент-центрированная терапия постулирует, что данные
взаимоотношения являются главным целительным элементом психотерапии. Но
это не означает, что следует минимизировать ценность, приписываемую этим от¬
ношениям в рамках других игротерапевтических подходов — в первую очередь в
рамках экосистемной игровой терапии.
Позитивные отношения между терапевтом и ребенком — это ключевой фактор
корректирующего переживания. «По сути, терапевтические отношения делают
возможным конструирование новых ожиданий того, как значимые другие люди
будут отвечать на личность клиента. Те реакции терапевта на ребенка, которые
резко отличаются от привычных ожиданий, предоставляют осуществившийся
факт, который потенциально может устранить проблемную межличностную схе¬
му» (Shirk, 1998, р. 12). Сама природа отношений «ребенок—терапевт» становит¬
ся одним из аспектов корректирующего опыта. Отношения между терапевтом и
ребенком, осмысляемые как часть процесса изменения, служат трем целям.
В первую очередь эти отношения являются формой поддержки ребенка. Такая
поддержка позволяет ребенку переоценить стрессогенные ситуации, имеющие
место за пределами терапевтических сессий, в то же время развивая и поддержи¬
вая самооценку. В этих условиях терапевту очень важно выдержать баланс между
теплотой и контролем. Это полностью соотносится с подходом играпии, где степень
контроля, осуществляемого терапевтом при сохранении теплых и непосредствен¬
ных отношений, зависит от уровня развития и психопатологии ребенка. Клиент-
центрированные подходы к работе с детьми, уделяющие большое внимание теп¬
лоте отношений, более подходят для маленьких детей, которые больше зависят от
внимания взрослых, тогда как другим детям может понадобиться фокусирование
внимания на повышении своей компетентности для построения самооценки (Shirk,
1998).
Поддержка также служит подмостками, на которых ребенок совершает продви¬
жения в развитии. Терапевт ослабляет испытываемый ребенком стресс, чтобы сде¬
лать возможным совмещение внешнего стимула и способности ребенка справить¬
ся с ним. Более того, эта поддержка создает социальный контекст для научения
разрешению проблем и умению смотреть на себя с точки зрения окружающего
социума. Терапевт дает ребенку поддержку и обратную связь, которые тот исполь¬
зует для получения пользы от терапии.
Во-вторых, отношения «ребенок—терапевт» служат базисом для создания ра¬
бочего терапевтического альянса. Позитивные отношения между ними ассоции¬
руются с включением ребенка в терапевтическую деятельность, особенно в раскры¬
тие проблем и обсуждение чувств (Shirk & Saiz, 1992). В условиях этих отношений
ребенку становится легче признавать существование проблем. Но важно помнить,
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 159
что внимание следует фокусировать на построении помогающих, а не просто по¬
лезных отношений (Shirk, 1998). Взаимоотношения ребенка с терапевтом не бу¬
дут похожи на любые другие в его жизни, и главным предназначением их взаимо¬
действия всегда должна быть помощь ребенку.
Наконец, развитие, поддержание и успешное использование данных отноше¬
ний само по себе является терапевтической техникой. То есть терапевт видит все
аспекты взаимоотношений с клиентом как потенциальные корректирующие пе¬
реживания. Поскольку люди склонны интерпретировать новый опыт способами,
согласующимися с их ошибочной схемой (Baldwin, 1992; Safran, 1990а, 1990b),
и эта схема абсолютно устойчива (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985; Safran, 1990a,
1990b), простые корректирующие переживания могут не принести пользы. Ре¬
зультаты некоторых исследований свидетельствуют, что изменение может про¬
изойти только в том случае, если индивид осознает проблемную схему (Kiesler,
1988; Weiss, Sampson, & The Mt. Zion Psychotherapy Research Group, 1986); иными
словами, когнитивная работа по интерпретации и разрешению проблем все еще
остается необходимой частью лечения вне зависимости от того, насколько пози¬
тивны отношения между ребенком и терапевтом.
Терапевтические вмешательства, связанные
с основополагающей динамикой проблемы
В литературе обычно сопоставляются «терапевтическая ориентация (например,
психоаналитическая или когнитивно-поведенческая) и диагностическая катего¬
рия (например, дистимия или поведенческое расстройство). Альтернативно со¬
поставление процесса изменения и формулировки описания патогенного процесса
пациента» (Shirk & Russel 1996) представляется более эффективной терапевтиче¬
ской стратегией. Это связано с тем, что виды поведения, демонстрируемые терапев¬
том в ходе сессии, обычно различаются не столь сильно, как можно предположить
на основе различий в теоретической ориентации. По этой причине существуют
сильные корреляции между позитивными результатами и любой частной теоре¬
тической моделью терапии, или игровой терапии. Вместо этого логичнее строить
концепцию скрытой причины сложностей ребенка и затем применять способы
вмешательства, специально предназначенные для данного класса причин.
Шерк и Рассел (Shirk & Russel, 1996) предложили шесть основных формули¬
ровок диагноза, то есть шесть возможных способов понимания природы проблем,
переживаемых ребенком. После этого они совместили их с 12 психотерапевтиче¬
скими процессами изменения (см. таблицу).
Целительные элементы поведения терапевта
Как уже упоминалось, роль экосистемного игрового терапевта — развивать помо¬
гающие отношения с ребенком, создавать корректирующие переживания, необхо¬
димые ему, включать ребенка в сознательную деятельность по осознанию текущих
проблем, обучать ребенка решению проблем, чтобы уменьшить негативное влия¬
ние будущих трудностей, и подкреплять происходящие изменения.
Чтобы устанавливать взаимоотношения, экосистемный игровой терапевт дол¬
жен уметь создавать для ребенка зависящие от него условия, обсуждавшиеся
160 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Корреляции между формулировкой диагноза и процессами изменений
Формулировка основных диагнозов
Связанные с ними процессы изменений
Внутренний конфликт
Инсайт/интерпретация
Эмоциональное переживание
Дефицит эго
Поддерживающие условия (scaffolding)
Символический обмен
Дефицит когнитивных навыков
Развитие навыков
Аффективное обучение
Когнитивное искажение
Трансформация схемы
Корректирующие взаимоотношения
Низкая самооценка
Межличностная ценность/поддержка
Развитие навыков
Эмоциональные барьеры
Эмоциональная регуляция
Эмоциональное переживание или абреакция
Примечание. Названия процессов изменений, выделенные курсивом, — это первичные методы
вмешательства (Shirk & Russel, 1996). Использовано с разрешения авторов.
ранее: эмпатию, искренность и теплоту (Rogers, 1942,1951). Организация этих от¬
ношений, или условий, в которых может происходить терапевтическая работа,
должна начинаться с вводной сессии и длиться до окончания лечения. Следую¬
щий список моделей поведения терапевта, создающих и поддерживающих терапев¬
тические условия {setting), составлен из пунктов, выбранных из списка, предложен¬
ного Экслайном, Джернберг и Глассером и подробно рассмотренного раньше —
в главе 2. Терапевт:
1) развивает теплые, дружеские отношения с ребенком; хороший раппорт не¬
обходимо установить как можно скорее;
2) принимает ребенка таким, какой он есть;
3) создает чувство дозволенности в отношениях, чтобы ребенок чувствовал
себя свободным в полном выражении своих чувств (пункты 1-3, Axline,
1947, р. 73);
4) внимателен и эмпатичен;
5) интенсивно фокусирует все свое внимание исключительно на ребенке;
6) внимателен к ключам и намекам, даваемым ему ребенком;
7) проводит сессии непосредственно, гибко и делает их полными приятных
сюрпризов для ребенка;
8) структурирует сессию так, чтобы время, место и действующие лица были
четко определены;
9) пытается делать сессии веселыми, оптимистичными, позитивными и ори¬
ентированными на здоровое взаимодействие;
10) проводит свои сессии независимо от того, «любит» ли его ребенок;
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 161
11) сокращает и предотвращает чрезмерную тревожность или чрезмерную мо¬
торную гиперактивность;
12) внимателен к возможным физическим травмам (пункты 4-12, Jernberg, 1979,
р. 48-49);
13) относится к ребенку (такому, какой он есть) не как к фигуре переноса (Glas¬
ses 1975, р. 54).
Создание и поддержание терапевтического сеттинга (терапевтической среды) —
необходимые, но недостаточные условия для терапевтического изменения. То есть
терапевтическая среда сама по себе не является целительной, но обеспечивает
условия, в которых может происходить терапевтическая работа (Tuma & Sobotka,
1983). Поэтому эффективный терапевт должен уметь работать, сохраняя эти усло¬
вия; работой в этом случае будет создание корректирующих переживаний и сооб¬
щение ребенку вербализаций, помогающих ему лучше понять свои мысли, чувства
и отношение к собственному поведению. По существу, терапевт должен вести себя
так, чтобы пациент почувствовал себя в безопасности и смог отказаться от своих
патогенных приспособлений (Rappoport, 1996). Ниже приводится список моделей
поведения терапевта, выбранный из работ Окслайна, Джернберг и Глассера, в ко¬
тором перечисляется, что должен делать терапевт, чтобы создавать корректирую¬
щие переживания для ребенка. Терапевт:
1) устанавливает ограничения, необходимые для закрепления терапии в ре¬
альном мире и для того, чтобы ребенок осознал свою ответственность в те¬
рапевтических отношениях (Axline, 1947, р. 74);
2) всегда отвечает за все, что происходит на сессиях (Robertiello, 1975, р. 12);
3) использует каждую возможность, чтобы вступить в физический контакт
с ребенком;
4) решительно стремится к контакту глаз;
5) инициирует поведение ребенка, а не реагирует на него, предвидит попытки
ребенка проявить сопротивление и действует до, а не после того, как они
осуществляются;
6) использует каждую возможность, чтобы дифференцироваться от ребенка;
7) постоянно помогает ребенку в том, чтобы тот видел себя уникальным, осо¬
бым, отдельным и выдающимся;
8) в первую очередь использует в качестве объекта игровой комнаты самого
себя;
9) понимает, что внутри каждой сессии есть несколько различных сегментов,
каждый из которых имеет свое начало, середину и конец;
10) создает минимальную фрустрацию, бросает минимальное количество вызо¬
вов и вызывает минимальный дискомфорт;
11) когда это уместно, использует парадоксальные методы;
12) в течение всей вспышки темперамента у ребенка настойчиво дает почув¬
ствовать свое присутствие;
162 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
13) в случае недостатка собственных идей включает в свой репертуар телодви¬
жения ребенка (пункты 2-13, Jernberg, 1979, р. 48-49);
14) требует, чтобы ребенок включался в терапию в качестве человека, ответ¬
ственного за свое поведение;
15) сталкиваясь с проблемой «правильного и неправильного», подчеркивает
моральную сторону того или иного поведения, что в свою очередь укрепля¬
ет терапевтические отношения;
16) учит детей лучшим способам удовлетворения их потребностей; терапия не
будет поддерживаться до тех пор, пока ребенок не получит помощи в поис¬
ке более эффективных паттернов поведения (пункты 13-16 адаптированы
из книги Glasser, 1975, р. 54).
Разнообразие переживаний, с которыми ребенок может сталкиваться в своей
жизни, практически неограниченно, и воздействие каждого из них может быть
позитивным либо негативным, в зависимости от связанных переменных различ¬
ных сортов. Например, не каждый ребенок одинаково переживает смерть родите¬
ля. Для некоторых детей смерть — это разрушительное событие, которое становит¬
ся точкой, вокруг которой организованы многие из их предположений о природе
мира. А другие дети, несмотря на свое горе и чувство вины, могут испытывать
облегчение от того, что тиран-родитель ушел и никогда больше не вернется. Реак¬
ция ребенка также детерминируется уровнем его развития в той мере, в которой
он влияет на его понимание данного события, доступную систему поддержки, ре¬
акцию системы на данное событие и т. д. К сожалению, большинство из связан¬
ных переменных не поддаются контролю любого индивида, тем более ребенка,
и поэтому воздействие такой жизненной ситуации может быть разрушительным,
несмотря на то что ребенок или окружающие его люди делают в это время. Если
ребенок родился с неврологическим нарушением, которое воздействует на его спо¬
собность последовательно реагировать на своих родителей, есть вероятность того,
что позже в своей жизни он будет демонстрировать неадекватные межличностные
привязанности независимо от того, насколько героическими были усилия его ма¬
тери в период его младенчества. Несомненно, некоторые из ранних переживаний
можно будет вылечить, когда развитие ребенка дойдет до некой точки, позволяю¬
щей ему проявлять более последовательные реакции, но до этого времени окру¬
жающим его людям не нужно выучивать специальные паттерны стимулирования
этого ребенка и реагирования на него.
Сфера жизненного опыта ребенка практически неограниченна, и настолько же
широка сфера переживаний, с которыми ребенок может столкнуться в ходе свое¬
го лечения. Воздействие каждого из них зависит от ряда связанных переменных.
При регулировании влияния на ребенка опыта, полученного им на сессиях, тера¬
певт имеет два преимущества: одно из них заключается в том, что терапевт изучал
теории, позволяющие ему предсказывать, как данное событие будет взаимодей¬
ствовать с уровнем развития данного ребенка и какой специфический набор ре¬
зультатов будет на выходе. Терапевту следует знать, что воздействие развода роди¬
телей на ребенка будет очень отличаться, в зависимости от того, когда он произошел:
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 163
ребенку было два года, пять или пятнадцать лет. Второе преимущество терапев¬
та — это способность контролировать события, происходящие на сессии, гораздо
лучше, чем это можно сделать с большинством событий, случающихся за ее пре¬
делами. Необходимо отметить главное: терапевт временно приказывает замолчать
своим чувствам и потребностям, чтобы придать первоочередное значение чув¬
ствам и потребностям ребенка. Такая ситуация была бы нереалистичной и нездо¬
ровой, если бы она происходила день ото дня в реальной жизни ребенка и в реаль¬
ном мире.
Чтобы воспользоваться преимуществом этих двух факторов, терапевт должен
обладать знаниями, позволяющими ему оценить особенности воздействия на ре¬
бенка опыта в зависимости от уровня его развития, и уметь контролировать все,
что происходит с ребенком на сессии. В главе 4 представлены теоретические осно¬
вы понимания взаимодействия опыта ребенка и уровня его развития. В III части
этой книги описывается некая модель, которую игровой терапевт может применять
для осмысления воздействия различных взаимодействий между ним и пациентом,
чтобы он мог планировать их использование в ходе занятий.
Дэвид — шестилетний ребенок, который в течение года посещал терапевтические сес¬
сии по причине выраженной депрессии. Всякий раз, когда Дэвид испытывал состоя¬
ние фрустрации, он приходил в ярость, но никогда не направлял свой гнев вовне. Вме¬
сто этого его деструктивное поведение направлялось исключительно на него самого.
Серии несчастных случаев в жизни Дэвида заставили его считать, что у него есть толь¬
ко один выбор: сдерживать свой гнев или рисковать быть отвергнутым.
После целого года терапии мальчик все еще довольно редко проявлял любые знаки
своего гнева, испытывая фрустрацию по поводу устанавливаемых ограничений; вмес¬
то этого он становился очень тихим и печальным. Сколько бы терапевт ни проговари¬
вал наличие у Дэвида гнева и страха быть отвергнутым и ни пытался при этом убедить
его, что сможет выдержать его гнев, все это мало изменяло стиль поведения ребенка.
Он понимал утверждения терапевта, но боялся попробовать вести себя как-то по-дру¬
гому. Наконец на одной сессии, в течение которой были установлены многие ограниче¬
ния, терапевт сказал: «Я уверен, что тебя уже тошнит от того, что я постоянно говорю
“нет”, и что ты устал от этого, и что это очень сердит тебя. Ты знаешь, что не можешь
ударить меня, но ты можешь ударить куклу Бобо». В этот момент Дэвид бросил взгляд
на куклу и улыбнулся, но не сделал ни одного движения, чтобы приблизиться к ней.
Тогда терапевт взял Дэвида за руки, подвел его к кукле и стал бить ее руками Дэвида,
говоря детским голосом: «Я так устал от того, что мне никогда нельзя делать того, что
я хочу. Ты мерзкий и поганый человек. Иногда мне просто хочется ударить тебя, хоть я
и знаю, что это неправильно». После этого Дэвид начал смеяться и с энтузиазмом бить
куклу.
Дальше последовали многочисленные сессии, на которых Дэвид позволял себе выра¬
жать злость как на терапевта, так и на других людей, атакуя различные фигуры в игро¬
вой комнате. Но порой он по-прежнему стеснялся своей ярости, поэтому, прежде чем
выражать негативные эмоции, закрывал глаза или убеждался, что терапевт смотрит в
другую сторону. Гораздо позже мальчик научился применять прямой способ выражения
гнева непосредственно на терапевта, хотя и довольно косвенным образом: он мог взять
игрушечный пистолет, заряжающийся резиновыми стрелами, и стрелять из него, целясь
в потолок над головой терапевта, чтобы эти стрелы падали прямо на него. Он несколь-
164 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
ко раз повторял такие действия, а терапевт открыто говорил, насколько лучше, види¬
мо, Дэвид себя чувствует оттого, что нашел способ злиться. К тому же терапевт повто¬
рял и повторял утверждение о том, что вне зависимости от интенсивности гнева Дэви¬
да он никогда не откажется от ребенка.
Скорее всего, поворотным пунктом в терапии Дэвида стал момент, когда терапевт под¬
толкнул его к ломке привычной модели его реагирования на возникающую злость. Он
поощрял Дэвида не просто злиться, но поначалу даже получать от этого удовольствие.
Вплоть до этого момента ребенок не мог использовать понимание своего поведения для
осуществления изменений в нем. Деятельность, инициируемая терапевтом, помогла
ему пережить опыт отреагирования, за которым не следует отвержение, и этот опыт
настолько снизил тревожность Дэвида, что он смог позволить себе более непосредствен¬
но выражать свои негативные эмоции.
Как отмечалось в предыдущем примере, терапевт в условиях создания коррек¬
тирующих переживаний должен уметь быть директивным и контролирующим в
той степени, в какой это необходимо для обеспечения прогресса и развития ребен¬
ка. Масштаб структурированности должен зависеть от типа патологии, дефици-
тарных навыков и задержек развития, требующих более строгих рамок (Shirk,
1998). Очень немногие практикующие игротерапевты поспорили бы с такой цен¬
ностью переживаний ребенка в терапии. Но многие поспорили бы против такой
степени контроля над этими переживаниями, которой обладает игровой терапевт.
Экосистемная игровая терапия требует, чтобы терапевт поддерживал контроль за
направлением и содержанием терапии. Это не означает, что терапевт действует,
переступая через потребности ребенка, но означает, что терапевт готов пересту¬
пить через поведение ребенка, когда понимает, что именно оно мешает удовле¬
творению его потребностей. Игровой терапевт сумеет удержать ребенка, несмотря
на его крики протеста, если понимает, что в это время ребенка необходимо успо¬
коить. Это понимание вырастает из солидного клинического опыта, основанного
на теоретических концепциях, представленных в главах 2 и 4.
Эта фраза противоречит мнению многих гуманистических игровых терапевтов.
Следующая аналогия, описывающая процесс игровой терапии, была использова¬
на терапевтом, причисляющим себя к гуманистическому направлению. Ребенок,
приходящий на игровую терапию, подобен зерну. Терапевт создает среду, которая
служит почвой, в какой это зерно может вырасти, и взаимодействия, которые дей¬
ствуют как вода и удобрение для обеспечения роста; но он не в силах заставить
зерно расти хоть немного быстрее скорости, заложенной в нем природой. Создав
питательную среду, гуманистический игровой терапевт может только ждать акти¬
визации внутренних сил ребенка, провоцирующих рост. Он замечает, что если бы
терапевт попытался заставить ребенка-росток расти быстрее в каком-либо конк¬
ретном направлении, он тем самым нанес бы ему невосполнимый вред. Эта ана¬
логия подчеркивает важность роли внутренних процессов ребенка для обеспече¬
ния его собственного здоровья в рамках игровой терапии и структурирует роль
игрового терапевта как фасилитатора этого роста.
Этот же самый тип аналогии можно использовать для осмысления ролей ре¬
бенка и терапевта в экосистемной игровой терапии. Ребенок, начинающий тера-
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 165
пию, рассматривается не как семя, а как дерево, растущее уже в течение ряда лет.
Ребенок-дерево приходит к терапевту, прожив все время до их встречи в некоей
среде, повлиявшей на его здоровье и модель роста. Ребенок-дерево чахл, несчас¬
тен, изранен или запущен. Терапевт стремится дать этому дереву новую почву,
поливать и удобрять его каждую неделю. Но он может и формировать его рост. Он
может подрезать дикорастущие древесные ветви, потребляющие столько энергии,
что это создает угрозу здоровью ствола дерева. Он может даже обрезать некото¬
рые новые отростки, чтобы ускорить более ровный и более здоровый рост всего
дерева. И что наиболее важно, он будет работать с другими людьми, присутству¬
ющими в среде ребенка-дерева, в надежде удостовериться, что рост, происходящий
за время сессий, соответствующим образом поддерживается в промежутки меж¬
ду ними.
В этой аналогии отмечается, что энергия для роста и некоторые основные ха¬
рактеристики принадлежат ребенку и берут свои истоки внутри него. Терапевт
пытается работать вместе с этими феноменами, а не наперекор им. Но также в ней
говорится о том, что ответственность за направление и степень роста ребенка ле¬
жит на терапевте. Чем более дисфункционален ребенок и чем ниже уровень его
развития, тем важнее роль терапевта.
В дополнение к созданию корректирующих переживаний для ребенка на сес¬
сии терапевту необходимо работать с родителями этого ребенка, чтобы гаранти¬
ровать перенесение этих переживаний и в окружающую ребенка естественную
среду.
В детской психотерапии, особенно при работе с очень маленькими детьми, все во мно¬
гом определяющие их дальнейшую жизнь события случились не так давно, и исходные
«травмирующие переживания» в большинстве случаев все еще доступны. Занимаясь
психотерапией с родителями и одновременно с самим ребенком, мы, в сущности, кор¬
ректируем сами источники некоторых аспектов опыта развития ребенка в оригиналь¬
ном и продолжающемся до сих пор взаимодействии родитель—ребенок. Это тот уро¬
вень, где реорганизация паттернов «узнавание — ожидание — ответ» является наиболее
важной, если переоценка ребенком возможностей для контакта в рамках взаимодей¬
ствия с родителем в терапевтической ситуации может переноситься и на семейную сис¬
тему. Таким образом, если в корректирующем развитие опыте содержатся терапевти¬
ческие манипуляции, они предпринимаются через родителя и его семью и заключаются
в том, чтобы помогать членам семьи наблюдать, понимать и модифицировать паттерны
взаимодействия, противодействующие текущему развитию ребенка. Но я не согласен,
что процесс терапевтического вмешательства эквивалентен манипуляции. Во многих
примерах наиболее эффективные и длительные изменения в стиле ухода за ребенком
и в принятии ответственности происходят через внезапное понимание (инсайт) источ¬
ников ошибочного семейного взаимодействия в собственном опыте развития самого
родителя, имевшего место одно поколение назад, а не через научение, совет или вну¬
шение (хотя они могут понадобиться в ситуациях, когда родители просто не знают, как
им следует делать некоторые вещи). Оптимально, посредством консолидации новых
структур взаимодействия (и в некоторых случаях, интрапсихических структур) и до¬
стижения понимания (инсайта) текущих паттернов взаимодействия, адаптивные и ро¬
дительские ресурсы родителя расширятся до такой точки, когда и терапевтическая
166 Часть IL Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
среда, и актуальная родительская среда будут предоставлять ребенку сопоставимые
и совместимые переживания, обеспечивающие его рост и развитие (Levin, 1985,
р. 305).
Хотя большая часть того, что приобретается ребенком в ходе терапии, проис¬
ходит из корректирующих переживаний, которые он получает на сессии, измене¬
ния производятся и через осуществляющуюся в то же время вербальную и когни¬
тивную деятельность. На самом деле большинство эффективных терапевтических
подходов объединяет то, что они предоставляют клиентам возможность прийти к
новому пониманию своей ситуации и, таким образом, получить опыт совершения
ответственного выбора. Исследования, проведенные со взрослыми клиентами, по¬
казывают, что они считают изменения видения своих проблем чисто терапевти¬
ческими и, очевидно, не зависящими от теоретической базы терапевта (Elliott,
1984).
В рамках экосистемной игровой терапии обретение нового понимания своей
ситуации или проблемы — это просто первый шаг в процессе решения проблем,
результатом которого является изменение поведения и улучшение деятельности,
то есть улучшение способности эффективно и адекватно удовлетворять свои по¬
требности. В данном тексте термины «когнитивная проработка» (cognitive proces¬
sing) или «проработка события в ходе терапии» (processing an event in therapy)
синонимичны понятию «разрешение проблем» (problem-solving). То есть вначале
ребенок приходит к другому определению своей внутренней схемы (своих пред¬
ставлений о проблеме). Затем он понимает, каково воздействие данной проблемы
и какова сфера ее потенциальных решений. После этого ребенок выбирает одну
или несколько возможностей и воплощает их в жизнь. Перейдя к новой модели
поведения, ребенок оценивает результат и определяет для себя, использовать ли
ему такое поведение в будущем или попробовать альтернативный вариант.
Сравнительно легко можно понять, как применить метод разрешения проблем
к трудностям, испытываемым ребенком в данный момент, но как применить про¬
работку событий в ходе терапии к событиям прошлого? Скажем, родители ребен¬
ка развелись, когда ему было пять лет, и в то время он чувствовал себя ужасно
ответственным за это и пытался справиться со своими чувствами, начиная уста¬
навливать повышенный контроль за всем вокруг и вести себя в манере взрослого.
В этот момент ребенок определяет, что его проблема не в необходимости что-то
сделать с разводом родителей, а в том факте, что другие дети отвергают его. В от¬
вет на чувства боли и отверженности он переходит к еще более контролирующему
поведению в общении со своими сверстниками, отодвигая их еще дальше от себя.
Цель терапевтической проработки — помочь ребенку идентифицировать свою про¬
блему: нерешенные чувства беспомощности относительно развода, с которыми не
получилось эффективно справиться через контролирующее поведение, направ¬
ленное на его сверстников. Затем ребенок должен придумать способы обращения
к современным чувствам ответственности за развод, предпочтительнее в рамках
его отношений с родителями, а не со сверстниками. Помимо этого, он должен раз¬
работать стратегии взаимодействия со сверстниками, не включающие попыток их
контроля, чтобы удовлетворить потребность в присоединении к ним. Он может
Глава 5. Основные положения экосистемной игровой терапии 167
даже зайти так далеко, что будет стремиться к сверстникам за поддержкой в со-
владании со своими негативными чувствами относительно развода родителей.
После этого можно считать, что событие эффективно проработано.
Критическая роль стратегий разрешения проблем в игровой терапии коротко
рассматривается в главах 7 и 9.
Обычно дети, приходящие на терапию, живут в мире своих чувств, пережива¬
ний и воспоминаний, который настолько их ограничивает, что они уверены, буд¬
то ничего не в силах изменить. Их жизнь стала контролировать их, и они не видят
выбора. Терапевт стремится добиться инсайта, который в данном случае означает
понимание причины и природы патогенных приспособлений ребенка (Rappoport,
1996). Важность объединения когнитивной проработки и чувственного опыта на
сессиях с ребенком трудно переоценить. Большая часть когнитивной деятельно¬
сти будет осуществляться через интерпретации, выдвигаемые терапевтом. (В гла¬
ве 9 представлена концептуальная основа выработки и предоставления интер¬
претаций.) Когнитивная проработка ребенком опыта, полученного на сессии,
ускоряется, когда терапевт:
1) готов узнать чувства, выражаемые ребенком, и отразить их ему так, чтобы
ребенок достиг инсайта, обрел новое понимание своего поведения (Axline,
1947, р. 73);
2) использует настроения и чувства ребенка, чтобы помочь ему дифференци¬
роваться от них и научиться их называть (Jernberg, 1979, р. 49);
3) учит ребенка лучшим способам удовлетворения своих потребностей. Тера¬
пия не будет поддерживаться до тех пор, пока пациент не получит помощи
в поиске более удовлетворительных моделей поведения (адаптировано по
Glasser, 1975, р. 54).
Терапевт подкрепляет изменения, достигаемые ребенком, в частности через
техники прямого подкрепления, такие как начисление ребенку очков, баллов,
звезд или особых привилегий на сессии. Терапевту следует последовательно ис¬
пользовать вербальное подкрепление, которое может адресовываться непосред¬
ственно ребенку или иметь вид комментариев, высказываемых родителям ребенка
в его присутствии. Также терапевт может подчеркивать позитивные результаты,
демонстрируемые ребенком благодаря изменениям в его поведении. Этот особен¬
но важно, когда ребенок пробует применять новое поведение, а изменения в его
среде происходят незначительно. Скажем, ребенок, использующий вспышки гне¬
ва, чтобы добиться того, что он хочет, вдруг очень вежливо о чем-то просит мать.
Несмотря на изменение стратегии поведения ребенка, та все равно отказывает ему
в его просьбе. Вероятно, ребенок использует этот случай, чтобы продемонстриро¬
вать терапевту преимущество истерик перед вежливостью. Терапевт должен сра¬
зу указать ребенку на то, что он не получил желаемое, но и не был наказан за
вспышку темперамента, поэтому некоторое улучшение все же было достигнуто.
В ситуациях такого типа очень важна работа терапевта с родителями, чтобы гаран¬
тировать, что попытки ребенка изменить свое поведение действительно некото¬
рым образом вознаграждаются.
168 Часть II. Концептуальные рамки практики индивидуальной игровой терапии
Курс лечения
Фазы терапевтического процесса находятся в центре внимания следующих не¬
скольких глав. В главах 6 и 7 речь пойдет о процессах вхождения в терапию и
предварительных диагностических процедурах, используемых в экосистемной иг¬
ровой терапии. В главах с 8-й по 12-ю описывается сам экосистемный терапевти¬
ческий процесс, а в главе 13 рассматриваются условия окончания лечения.
Часть III
Курс индивидуальной
игровой терапии
Дальнейшая часть этой книги написана с использованием обращения во втором
лице, чтобы ее чтение более походило на чтение инструкции по проведению игро¬
вой психотерапии, а не на чтение теоретического текста, где цель автора — научить
читателя проведению игровой психотерапии. Есть множество книг, обеспечиваю¬
щих теоретическое обоснование данного подхода к психотерапии детей, но очень
немногие из них сочетают теорию и практику, и еще меньшее количество посвя¬
щено самой практике. Цель оставшейся части этого издания — показать на прак¬
тике проведение игровой терапии.
Следующие шесть глав проводят читателя через процесс индивидуальной иг¬
ровой терапии от начала и до конца. Информация организована в последователь¬
ности, составленной из шести фаз лечения, приводимых в литературе по играпии:
введение, исследование, пробное принятие, негативная реакция, рост и доверие,
окончание. Вводная фаза состоит из процессов вхождения и диагностики, описы¬
ваемых в главах 6 и 7 соответственно. Это время, когда ребенка вводят в соприкос¬
новение с проблемами, над которыми предстоит поработать, знакомят с природой
будущей деятельности и с индивидуальным стилем терапевта. Фазы исследова¬
ния, пробного принятия и негативной реакции сгруппированы под общим назва¬
нием «Начало лечения» и описаны в главе 8. Фаза роста и доверия самая длитель¬
ная; на ее долю приходится основной объем терапевтической работы. Этот этап,
а также терапевтические стратегии, необходимые для проведения игровой тера¬
пии, освещены в главах 9-11. «Сопутствующая деятельность» — это термин, ис¬
пользуемый для обозначения любой работы, которую терапевт должен вести со
всеми людьми, входящими в экосистему ребенка, за исключением самого ребен¬
ка. Стратегии реализации сопутствующей деятельности представлены в главе 12.
Окончанию лечения, последней фазе терапевтического процесса, посвящена гла¬
ва 13.
Дидактическая информация, содержащаяся в III части, обильно иллюстриру¬
ется примерами из практики. Большинство этих примеров даны сразу целиком,
но два случая разбиты на сегменты, которые представлены в главах 6-13. При этом
материал о вхождении представлен в главе 6, диагностический материал — в гла¬
ве 7, глава 8 содержит информацию о начале лечения, процесс терапии описыва¬
ется в главах 10-11, сопутствующая деятельность — в главе 12, а глава 13 посвя¬
щена окончанию лечения. Наконец, два случая, которые описываются полностью,
будут еще раз кратко изложены в главе 14. Два из четырех случаев из практики,
представленных в главах 6-14, являются специфическими примерами кратко¬
срочного лечения, включающими планы индивидуальных занятий, тогда как дру¬
гие два случая рисуют нам более общую картину долговременной терапии двух
пациентов.
Глава 6
Процесс вхождения
Игровая психотерапия начинается в тот момент, когда клиент или, в случае если
это ребенок, его родитель или опекун вступает в первый контакт с вами или с ва¬
шим представителем. Обычно этот первый контакт осуществляется по телефону
и заключается в обсуждении условий лечения и назначении встречи. Несомнен¬
но, родитель прошел через многое, прежде чем решился сделать этот звонок, и по¬
лученный им ответ станет основой его решения о направлении ребенка на тера¬
певтические занятия (или о том, что этого делать не следует). Многие клиенты
теряются после первого же звонка, и еще большее их число пропадает после пер¬
вой встречи. Те, кто миновал эту стадию, часто появляются на нескольких сесси¬
ях и тоже уходят. И все же многие люди успешно включаются в процесс лечения
и продолжают его на протяжении недель, месяцев или лет, до тех пор пока не до¬
стигнут удовлетворяющего их результата. Что отличает клиентов, решающих про¬
должить лечение после первых нескольких контактов? Есть переменные, связан¬
ные с самим ребенком, на которые вы не способны повлиять. Барьером могут стать
финансовые проблемы или семейная система может просто не обладать достаточ¬
ными эмоциональными ресурсами, чтобы начать такое рискованное предприятие,
как психотерапия. Тем не менее вы контролируете множество других переменных.
При описании фаз вхождения рассматривается потенциальное воздействие ваше¬
го поведения на вероятность вовлечения клиента в терапию.
Контакт на основе направления
Первым взаимодействием в процессе вхождения обычно является телефонный
контакт между вами и лицом, опекающим ребенка. Будем считать, что в большин¬
стве случаев — это один из родителей ребенка. Тактики, применяемые для полу¬
чения информации в ходе первого телефонного контакта, сильно варьируют от
одного терапевта к другому и от одного лечебного учреждения к следующему. Не¬
которые терапевты настаивают на получении практически всей демографической
информации и истории, значительно увеличивая тем самым длительность перво¬
го контакта. Формат, представленный здесь, предполагает более краткий и менее
информативный первый контакт, цель которого — получение следующей инфор¬
мации: основные демографические данные (имена членов семьи, домашние и ра¬
бочие адреса и телефоны) и описание только насущной проблемы, а не всей истории
172 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
развития ребенка. Ход процесса описания проблемы очень трудно проконтроли¬
ровать, поэтому он может сильно затянуться. На всем протяжении телефонного
контакта вам следует постоянно называть и отражать эмоции родителя в то вре¬
мя, когда он говорит о проблеме ребенка, чтобы установить раппорт, одновремен¬
но формируя паттерн дальнейших взаимодействий. Помимо этого, следует сооб¬
щить клиенту основную информацию, касающуюся методов и стратегий работы
и гонорара, а также время встреч, формат первых сессий и способы оплаты.
Даже такое обычное дело, как сбор демографической информации, может по¬
влиять на решение родителя назначить первую встречу. Записать имя родителя и
назначить первую встречу может и компьютер, но маловероятно, что люди согла¬
сятся доверить ребенка терапевту, по телефону которого можно поговорить только
с автоответчиком. Важно, чтобы фундамент терапевтического альянса или рабо¬
чих отношений закладывался с самого начала. Один из способов добиться этого —
установить эмоциональную связь с родителем. Это нужно не для того, чтобы про¬
явить симпатию к клиенту и разделить его боль, а для того, чтобы дать ему понять,
что вы понимаете проблему и готовы предложить решение. Для этого вы должны
уметь заново сформулировать те эмоции и мотивы, которые движут родителем в
стремлении начать лечение своего ребенка.
Изначально родители склонны утверждать, что их первичной мотивацией был
альтруизм — в конце концов, их ребенок испытывает сложности, и они хотят пре¬
кратить его страдания. Но на самом деле родители руководствуются и собствен¬
ными негативными переживаниями, например опасениями, что они плохие роди¬
тели, так как их ребенок демонстрирует «плохое» поведение, «плохие» мысли или
эмоции, против которых они чувствуют себя бессильными. Другие родители хо¬
тят немедленно прекратить трудности, которые создает им ребенок. И если пер¬
вые родители испытывают уныние, мешающее им активно участвовать в лечении,
то вторые — гнев, вплоть до желания отправить ребенка куда-нибудь подальше.
Миссис Арнольд позвонила терапевту с целью получить информацию об исправитель¬
ных лечебных учреждениях, в которые можно было бы поместить ее девятилетнюю
дочь Дженифер. Миссис Арнольд утверждала, что девочка стала совершенно неуправ¬
ляемой. Терапевт услышал и отразил гнев в голосе женщины, отметив ее очевидную
сильную усталость. Она ответила немедленно, сказав, что действительно, с нее уже до¬
вольно. Дженифер делала ее несчастной, угрожала разрушить ее брак и семью. По мере
того как миссис Арнольд обсуждала с терапевтом сложности, связанные с перемеще¬
нием ребенка в эти особые условия, она начала спрашивать, какое лечение применялось
бы к ее дочери в таком месте. Терапевт рассказал о нескольких основных поведенче¬
ских стратегиях и спросил, использовала ли их миссис Арнольд у себя дома. Та заяви¬
ла, что пыталась, но столкнулась с такими трудностями при управлении поведением,
что вскоре отказалась от этого. Терапевт предложил совместно поработать над разви¬
тием нескольких стратегий управления поведением, которые миссис Арнольд могла бы
использовать дома, пока они подыщут лечебное учреждение. Миссис Арнольд начала
протестовать, утверждая, что применительно к се дочери ничто не действует. В этот
момент терапевт уловил в голосе миссис Арнольд чувство беспомощности и разочаро¬
вания и отразил его ей. Она с готовностью признала наличие этих чувств и начала рас¬
сказывать обо всех попытках применения каких-либо действий по отношению к дочери,
Глава 6. Процесс вхождения 173
которые не увенчались успехом. Это дало терапевту возможность отразить ее чувство
несостоятельности в качестве родителя и желание найти кого-нибудь, кто сделает все
правильно, воспитывая дочь вместо нее. В этот момент миссис Арнольд заплакала и
в первый раз попросила помочь ей справиться с дочерью так, чтобы избежать госпита¬
лизации.
Терапевт мог ограничиться направлением матери и дочери к специалистам.
Но эмпатия и отражение терапевтом гнева, отчаяния и боли матери привели ее к
менее драматичному варианту изменения ситуации. Она успешно начала и завер¬
шила терапию своей дочери, параллельно проходя терапию сама.
Определив эмоции или мотивацию, лежащие в основе решения родителей
вступить в первоначальный контакт, вы должны продолжить давать им ощуще¬
ние того, что с их проблемой и, соответственно, с их чувствами можно справить¬
ся. Это не значит, что вам следует обещать полное исцеление — ничто в этом мире
нельзя гарантировать на все сто процентов, и менее всего — успех игровой тера¬
пии, но родитель должен почувствовать, что вы верите в возможность исправле¬
ния его ситуации, иначе у него будет невысокая мотивация пройти курс лечения.
Часто при первом контакте боль родителей кажется почти всепоглощающей.
Возможно, что родитель, ребенок и семья в течение некоторого времени испыты¬
вают дискомфорт, и их стремление получить немедленное облегчение может вы¬
ражаться в виде довольно требовательного поведения. В этот момент терапевты
склонны бросаться заботиться о родителе, часто не к собственной выгоде.
Одним из факторов, мотивирующих эти попытки помочь родителям, является
фантазия об их спасении, которую тщательно лелеют большинство людей, выбрав¬
ших себе профессии, связанные с заботой о других. Несомненно, многие терапев¬
ты приходят в эту сферу, чтобы помогать людям, и если они не будут выполнять
свою работу с максимальным использованием всех своих способностей, это гро¬
зит их благородному и альтруистическому образу себя.
Второй фактор, мотивирующий попытки некоторых терапевтов помочь роди¬
телю, — убеждение в том, что некая демонстрация навыка будет стимулировать
родителя перейти к дальнейшему лечению. Часто сильное стремление заботиться
о родителе и о его боли приводит к тому, что терапевт начинает давать довольно
обширные советы, особенно если проблема однозначна и относится к поведенче¬
ской сфере. К сожалению, этот подход действительно может привести к разреше¬
нию текущей проблемы, таким образом удерживая родителя от начала необходи¬
мого лечения.
Представим для примера, что вам звонит мать и среди прочего упоминает, что
ее ребенок страдает энкопрезом. К концу телефонного разговора она соглашается
прийти на вводную сессию, но довольно настойчиво спрашивает, что она может
сделать до ее начала. Так как эта мать производит впечатление человека образо¬
ванного, вы упоминаете книгу, посвященную энкопрезу, и кратко очерчиваете не¬
сколько простых шагов, которые можно предпринять в течение следующих не¬
скольких дней. Во время следующего телефонного разговора она сообщает вам,
что случаи энкопреза действительно сократились и, хотя ее ребенок остается бо¬
лезненно застенчивым и тихим, она считает, что он перерастет это и что назначен-
174 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
ное лечение несвоевременно. В такой ситуации вы вряд ли сможете сделать что-
нибудь большее, чем сообщить матери, что если в будущем ей понадобится ваша
помощь, вы всегда к ее услугам.
Вышеприведенный пример никоим образом не дискредитирует телефонные
«горячие линии» или консультационные службы, предоставляющие родителям
информацию о том, как заботиться о детях, регулировать их поведение, и дающие
другие полезные советы. Эти службы, конечно, имеют право на существование и
могут быть очень полезны для решения многих вопросов, встающих перед неопыт¬
ными родителями. К тому же часто эти горячие линии направлены на предотвраще¬
ние жестокого обращения с детьми и превосходно выполняют функцию экстрен¬
ного вмешательства. Но вы должны быть готовы к тому, что некоторые родители
могут потребовать быстрого рецепта. Существует замечательный способ работы с
такими клиентами. Вам понадобится предоставить им достаточно информации,
чтобы стимулировать их возвращение, но не настолько много, чтобы они почув¬
ствовали удовлетворение и подумали, что нет необходимости проходить лечение.
Такого родителя часто отличает склонность ставить свои потребности выше по¬
требностей собственного ребенка. Обычно он стремится к лечению, чтобы спра¬
виться со своими проблемами, и в меньшей степени обращает внимание на ди¬
стресс, переживаемый ребенком.
Наконец, реальность заставляет нас откликаться в тех случаях, когда пробле¬
ма, с которой обращается родитель, настолько не терпит отлагательства, что нуж¬
но сделать что-нибудь прямо сейчас. В таких случаях основу вашего ответа долж¬
ны формировать принципы экстренного вмешательства. К этим случаям могут
относиться суицидальные или психотические дети или семьи, испытывающие та¬
кое напряжение из-за своего ребенка, что существует реальный риск неизбежно
надвигающегося жестокого обращения с ним.
Подробное обсуждение экстренного вмешательства не составляет цель данной
книги, но мы вкратце рассмотрим основные принципы, используемые для тормо¬
жения кризиса и создания базы для последующих рабочих отношений, и проил¬
люстрируем их на конкретных примерах.
Экстренное вмешательство
В пятницу вечером миссис Джонс позвонила терапевту своего племянника и за¬
явила, что тот должен немедленно сделать что-нибудь с ее четырехлетней племян¬
ницей или она не ручается, что не изобьет ребенка. Эта племянница была одним
ребенком из четырех детей брата миссис Джонс, которых она брала к себе, когда
брат выгонял их. Терапевт в это время работал в исправительном лечебном цент¬
ре и был ответственным за лечение и улучшение положения старшего из племян¬
ников миссис Джонс. Из истории этой семьи терапевт знал, что четырехлетняя
девочка страдает извращением аппетита (геофагией) и, возможно, имеет психо¬
тические нарушения. Кроме того, терапевт знал, что у миссис Джонс есть двое соб¬
ственных детей и что раньше в ее семье бывали случаи жестокого обращения с
детьми.
Глава 6. Процесс вхождения 175
Шаг 1. Идентификация непосредственно
действующего стрессора
Терапевт попросил миссис Джонс рассказать ему, что происходит прямо сейчас.
Она сказала, что больше не может справляться с извращенным аппетитом ребен¬
ка и что это отвратительно: девочка только что съела несколько жуков и попыта¬
лась съесть свои фекалии.
Шаг 2. Присоединение к клиенту
Этот этап терапевт прошел сравнительно легко, посочувствовав миссис Джонс по
поводу того, что ей приходится постоянно сохранять повышенную бдительность,
которой требует жизнь с таким ребенком. Когда миссис Джонс согласилась с этим,
терапевт добавил, что это, должно быть, особенно сложно, когда рядом находятся
еще четверо детей. Миссис Джонс снова согласилась. Тогда терапевт выявил су¬
ществование дополнительного напряжения, которое, скорее всего, усугублялось
наличием мужа, который был не в состоянии помочь ей в уходе за детьми. (Неко¬
торые сотрудники исправительного лечебного учреждения отмечали, что муж, ви¬
димо, страдал параноидной шизофренией, сопровождающейся манией величия,
вращающейся вокруг того, что он, будучи физиком, должен тратить свое время на
изучение испорченных распечаток, чтобы не потерять работу.) Несмотря на то что
миссис Джонс никогда раньше не упоминала о своем муже, стресс, вызванный
кризисом, вынудил ее признаться, что муж — это еще один ребенок, нуждающий¬
ся в ее заботе.
Шаг 3. Утверждение вашего авторитета; вы — тот человек,
который способен справиться с данной проблемой
Выяснив, что миссис Джонс чувствует себя совершенно обессилевшей и остро
нуждается в отдыхе, терапевт спросил, связывалась ли она со Службой защиты
детей. Миссис Джонс сказала, что звонила им, но получила ответ, что если у нее
хватило самообладания обратиться за помощью, ей, конечно же, хватит самооб¬
ладания, чтобы не навредить ребенку. Не следует осуждать Службу за этот ответ —
было поздно, была пятница, а миссис Джонс говорила очень рационально, даже
находясь в кризисе. Помимо этого сотрудник, с которым она говорила, не знал, что
миссис Джонс жестоко обращалась с детьми в прошлом.
В этот момент терапевт занял довольно авторитарную позицию. Он спросил,
знает ли миссис Джонс, где расположен офис Службы защиты детей. Она сказа¬
ла, что знает. Тогда терапевт распорядился собрать вещи племянницы, отвести ее
вместе с вещами в офис Службы и оставить там. Миссис Джонс была ошеломле¬
на; конечно же, они арестуют ее! Она не может оставить ребенка и не пострадать
от последствий. Терапевт убедительно сказал ей, что она может заранее позвонить
в Службу и проинформировать об уровне, которого достиг кризис, и добавил, что
она может совершенно спокойно оставить там ребенка. Миссис Джонс по-прежне¬
му сомневалась. Терапевт рассказал ей о том, что Служба защиты детей имеет пра¬
во помогать семьям и детям. Он убедил ее, что она может оставить ребенка так,
что никто не узнает, что это сделала она. Далее он убедил миссис Джонс, что если
176 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
возникнут какие-либо проблемы, он будет на ее стороне и выступит в ее защиту.
Другими словами, терапевт поставил себя в позицию авторитетного человека, ко¬
торый имеет право распорядиться судьбой ребенка, чтобы избежать негативных
последствий.
Шаг 4. Получение дополнительной информации
Теперь, когда миссис Джонс получила способ выхода из кризиса, она несколько
успокоилась и стала обсуждать с терапевтом проблемы племянницы. Она пришла
к выводу, что за девочкой могут понаблюдать старшие дети, а в случае необходи¬
мости можно не выпускать девочку из комнаты. Терапевт согласился с этим, а так¬
же предложил как можно скорее показать ребенка психиатру, чтобы разработать
соответствующую стратегию лечения. Он пообещал миссис Джонс немедленно
позвонить в Службу защиты детей и повесил трубку.
Сотрудники Службы не ужаснулись тому, что услышали от терапевта, но все
же заверили его, что могут поместить ребенка в больницу, если миссис Джонс свя¬
жется с ними в любое время в течение недели. Когда терапевт перезвонил миссис
Джонс, она уже успокоилась и согласилась обратиться в больницу, если психиат¬
рическую диагностику проведут как можно скорее. Терапевт сказал, что будет над
этим работать, и обещал позвонить в понедельник.
Шаг 5. Разработка плана долговременного лечения
Когда терапевт позвонил в понедельник, он условился, что племянница миссис
Джонс посетит детского психиатра. После визита было решено, что ребенок нуж¬
дается в стационарном лечении. Миссис Джонс призналась, что больше не могла
бы заботиться об этом ребенке. Так или иначе, девочка была спасена от угрозы
жестокого обращения и получила возможность пройти лечение, в котором так силь¬
но нуждалась.
Альтернативное вмешательство
Другой тип интервью, применяемого при экстренном вмешательстве в работе с
детьми, называется вмешательством в жизненное пространство (Life Space Inter¬
vention; Wood & Long, 1991). Проведение такого интервью состоит из следующих
шагов.
1. Концентрация внимания па инциденте, чтобы сообщить о поддержке и по¬
нимании стресса ребенка1 и стимулировать ребенка начать рассказывать о
том, что произошло.
2. Детям, находящимся в критической ситуации, необходимо детальное об¬
суждение для прояснения и расширения понимания реальности инцидента
и снижения эмоционального возбуждения и в то же время постоянное по¬
вышение акцента на рациональных словах и мыслях.
3. Найдите центральную проблему и выберите терапевтическую цель.
4. Выберите решение, основываясь на том, что ценно для данного ребенка.
1 Словом «ребенок» во всей цитате заменено слово «студент». — Примеч. авт.
Глава 6. Процесс вхождения 177
5. Планируйте успех, репетируя то, что случится, и предвидя реакции и чув¬
ства (ребенка и других людей), которые появятся, когда решение будет при¬
водиться в действие.
6. Завершайте интервью и готовьте ребенка к принятию ответственности за
последующее поведение.
Техника вмешательства в жизненное пространство — прекрасный способ вклю¬
чения ребенка в интеллектуальную переработку события, вызвавшего напряже¬
ние, и применения стратегий решения проблем, позволяющих ребенку справить¬
ся с этим событием и вернуться к более адаптивным поведенческим моделям либо
перейти к разработке новых моделей.
Страх терапевта, что семья не приступит к лечению дисфункционального ре¬
бенка, может заставить его сказать родителю, что ребенок страдает серьезными
эмоциональными нарушениями. Проблема здесь в том, что родители часто не луч¬
шие наблюдатели и рассказчики о поведении своих детей.
Терапевту позвонила мать и сообщила, что ее дочь не выказывает сочувствия и не ис¬
пытывает угрызений совести после негативного взаимодействия с другими детьми
и что она хотела бы направить ее на лечение. Сначала терапевт на основании этой ин¬
формации сделал вывод о зарождающихся серьезных характерологических нарушени¬
ях и с готовностью согласился посмотреть ребенка. При втором контакте терапевт вы¬
яснил, что родители называли отсутствием сочувствия. Пятилетняя девочка всегда
хотела удовлетворять свои потребности раньше, чем потребности родителей, и она,
видимо, никогда не получала от них достаточного количества внимания, то есть демон¬
стрировала поведение, совершенно обычное для дошкольников.
Даже если проблема очень серьезна, нельзя с уверенностью сказать, побудит
ли возросшая тревожность родителей направить ребенка на лечение или лишь
укрепит их защитные реакции, что неосторожно позволит им оставить все как
есть. Представьте родителя, описывающего семейную ситуацию, которая кажется
очень патологичной; например, один ребенок серьезно угрожает другому или даже
наносит ему физический вред. Терапевт выражает озабоченность этим, и в тече¬
ние первого телефонного контакта называет ситуацию в семье патологичной. Этот
ярлык, вместо того чтобы подтолкнуть родителя начать лечение, скорее всего,
подтолкнет его к бегству из-за страха разоблачения дальнейших неблагозвучных
проблем, которые, по его мнению, будут бросать на него тень. Этот страх осужде¬
ния может появляться даже тогда, когда родитель, звонящий терапевту с целью
начать лечение ребенка, также является жертвой, например как в случае, когда
женщина состоит в несчастливом браке с мужем-алкоголиком, который делает
несчастными ее детей. Наконец она решается обратиться за помощью для своего
ребенка, который регрессирует из-за постоянного напряжения в семье, но сталки¬
вается с терапевтом, который называет их семью проблемной, а ее саму — жерт¬
вой. В результате, вместо того чтобы воодушевиться для помощи своему ребенку,
мать чувствует, что не в силах изменить эту огромную проблему, и не делает ни¬
чего, убеждая себя, что все не так плохо.
Если на одном конце континуума находится терапевт, который в течение пер¬
вого контакта заваливает клиента ошеломляющей информацией, то на противо-
178 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
положном — стоит терапевт, у которого не получается поощрить родителя к лече¬
нию ребенка. Неудача в переходе от родительского обозначения проблемы ребен¬
ка к идентификации переживаний родителей в момент, когда они ищут помощи,
часто мешает родителям привести своих детей на курс игровой терапии. И наобо¬
рот, значительный дистресс, испытываемый родителями, побуждает их начать ле¬
чение ребенка.
В уже приводившемся примере с миссис Арнольд ребенок совершенно не хотел посе¬
щать психотерапию. Дженифер считала, что с ней все в порядке и что все было бы про¬
сто прекрасно, если бы ее мать перестала делать вещи, которые заставляют ее злиться.
Но миссис Арнольд сильнейшим образом страдала и чувствовала, что практически
утратила контроль над собой, заявляя, что персонал школы, которую посещает ее дочь,
не видит, как велика проблема, и что единственной реакцией ее мужа на эту ситуацию
были слова о том, что она недостаточно строго следит за дисциплиной. Именно отра¬
жение терапевтом боли и гнева миссис Арнольд, а также ее чувства изоляции от сис¬
тем, способных ее поддержать, успокоили ее до такой степени, что она смогла принять
решение о начале лечения. Если бы терапевт не смог понять потребностей миссис Ар¬
нольд, маловероятно, что она продолжила бы отношения после первого контакта.
Последнее, о чем следует позаботиться перед тем, как привести клиента на сес¬
сию, — это помощь родителю в определении того, как рассказать ребенку о направ¬
лении на лечение. Это можно сделать по телефону или в ходе вводной беседы с
родителем, если эта первая встреча проходит без участия ребенка. Многие, если
не большинство родителей, не скажут своим детям о намерении позвонить игрово¬
му терапевту, а многие даже никогда не назовут ребенку существующую проблему.
Многие родители не намерены сообщать своим детям ничего, кроме информации
о том, что они навестят одного друга. Но начинать терапевтические отношения со
лжи — не самое мудрое решение; лучше всего надеяться, что именно с этого пунк¬
та родители начнут общаться со своим ребенком ясно и недвусмысленно. Их сле¬
дует поощрить назвать ребенку некоторые из его специфических видов поведения
или взаимодействия, которые они считают проблематичными, и объяснить, что
они решили обратиться за внешней помощью для разрешения этих проблем.
Установление структуры вводной беседы
Выяснив специфику проблемы, с которой обратился клиент, и приняв решение,
что, возможно, игровая терапия будет подходящим способом совладания с ней, вы
должны назначить несколько вводных сессий и определить их структуру. Ключе¬
вой элемент в организации этих сессий — определение того, кто должен их посе¬
тить. Это не простое решение. Понадобится ли вам встреча со всей семьей, только
с родителями, с ребенком, испытывающим выявленные трудности, или есть дру¬
гие необходимые сочетания клиентов?
Первоочередная проблема, связанная с проведением семейных вводных сес¬
сий, в качестве первого шага вхождения в терапию состоит в том, что как у ребен¬
ка, так и у родителей могут возникнуть неверные ожидания о природе предстоя¬
щей работы. Семья ждет, что, когда лечение пойдет полным ходом, продолжится
обмен большим количеством информации. Также они могут посчитать, что будут
Глава 6. Процесс вхождения 179
активно участвовать в процессе лечения. Сами по себе эти ожидания не создают
проблемы; скорее проблема возникает из-за расхождения между планом лечения,
который вы намереваетесь осуществить, и тем, что должно происходить на сесси¬
ях по мнению родителей. Присутствие нескольких детей также может затруднить
получение того количества биографической информации, которое необходимо
для планирования терапии. Во время первых бесед с семьей родители обычно на¬
правляют обсуждение на сложности того, кто определен как потенциальный па¬
циент, и тратят все время, чтобы сделать этого ребенка козлом отпущения. В ре¬
зультате ребенок чувствует обиду и может прийти к выводу, что вы на стороне
родителей. Ни одно из этих условий не создает надежной основы для терапевти¬
ческих отношений.
Несмотря на эти проблемы, на определенной стадии процесса вхождения по¬
лезно провести беседу со всей семьей, даже если вы твердо решили, что в основ¬
ной части лечения работать нужно только с одним ребенком. Следующий случай
из практики демонстрирует, какую дополнительную информацию можно полу¬
чить в ходе такой беседы.
Сыо хотела направить на терапию своего пятилетнего сына. Она и ее муж усыновили
Тедди и его трехлетнего брата около девяти месяцев назад. Сыо сообщила, что, тогда
как брат адаптируется очень хорошо, Тедди сталкивается с проблемами, которые про¬
являются в виде энуреза и распространяющегося неповиновения, хотя и незначитель¬
ного. У него не было вспышек ярости; он просто отказывался выполнять такие вещи,
как сборы в школу по утрам. При этом первичной жалобой Сыо было то, что у Тедди,
видимо, не вырабатывается привязанность ни к ней, ни к ее мужу. Он кажется отдален¬
ным и контролирующим. Ее реакция на это выражалась в следующем утверждении:
«Мы усыновили этих мальчиков, потому что хотели иметь детей, а Тедди не ребенок.
Он похож на взрослого, разделяющего наше жизненное пространство. Это вообще не
то, чего я хотела». Хотя это заявление отражает потребности Сыо, оно также является
сильным высказыванием о Тедди и природе их отношений.
В течение беседы с Тедди он был очарователен. Он с готовностью разговаривал и был
вежливым. Он сидел очень спокойно, говорил последовательно и отрицал наличие
любых негативных чувств. В конце концов он признался, что ему немного не хватает
его родной матери, но сказал, что ему очень нравится в новой семье. Он казался совер¬
шенно нормальным ребенком, разве что слишком сдержанным для своих пяти лет.
Была запланирована беседа с семьей, и в этот раз в поведении Тедди можно было на¬
блюдать заметные изменения. Он все еще сидел очень спокойно и говорил последо¬
вательно, но теперь он чрезмерно контролировал ситуацию. Беседа с семьей предна¬
значалась главным образом для сбора основной биографической информации, которая
не выяснялась до сих пор. Когда терапевт спросил, где работают родители и какое у них
расписание, Тедди ответил, и ответил правильно. Когда отец начал говорить, что соби¬
рается сменить работу, Тедди перебил его и закончил предложение. Когда терапевт
попросил мать описать их повседневную жизнь, Тедди выступил вместо нее и очень
хорошо все изложил. Тедди был так хорош в своих действиях, что терапевт поначалу
не осознавал, что большую часть информации он получал от ребенка. Когда же он за¬
метил этот процесс, то начал более отчетливо называть того человека, от которого хо¬
тел получить ответ на вопрос, но Тедди все равно продолжал отвечать первым. Даже
когда игровой терапевт поблагодарил Тедди за информацию и сказал: «...но я бы хотел
услышать, что скажет об этом твоя мама», Тедди нашел способ предоставить существенную
180 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
информацию. Тедди был не только навязчивым, но и, к большому удивлению, часто
очень точным. Недостаток проявления его привязанности стал более очевидным, так
как в течение беседы он ни разу не попытался взаимодействовать со своими приемны¬
ми родителями, но очень много сделал для того, чтобы оставаться в контакте с игро¬
вым терапевтом. С другой стороны, его попытка привязаться к родителям через осу¬
ществление контроля над ними и через раскрытие всего, что он мог сказать об их жизни
и чувствах, также была очевидной.
Тедди был очень умным ребенком и пытался сохранить свой мир в безопасности, зная
о нем все и контролируя его. Видимо, ему было трудно обсуждать негативные воздей¬
ствия, потому что его первичной эмоцией была тревога, которую пятилетнему ребенку
довольно трудно понять и еще труднее описать. В этом случае беседа с семьей внесла
значительный вклад в понимание игровым терапевтом того, как Тедди и его симптомы
встраивались в общую деятельность его вновь сформированной семьи.
Если вы не собираетесь начинать терапию с контакта со всей семьей, вы долж¬
ны решить, кому нужно прийти на первые несколько сессий. Один из возможных
вариантов — беседа с одними родителями. Когда дело касается достаточно малень¬
кого ребенка, скажем, восьми лет и младше, этот вариант наиболее предпочтите¬
лен. Если вы собираетесь добиться хорошего видения проблемы и получить пол¬
ную историю развития, вам понадобится приблизительно полтора часа, что для
ребенка будет слишком утомительным и вызовет его негативную реакцию. Даже
если после встречи с родителями терапевт поговорит с ребенком, тот все равно
будет чувствовать себя несправедливо обойденным.
Если не пригласить на первую вводную встречу ребенка старше восьми лёт, он
может почувствовать, что его не взяли с собой и теперь «там за глаза обсуждают».
Благоразумно обращаться с этими детьми как с полноправными людьми, способ¬
ными принимать решения относительно своих потребностей и лечения, и о ввод¬
ной встрече лучше договориться с ними по телефону. С этими детьми вы можете
объяснять им план первой встречи и спрашивать их, хотят ли они посетить ее или
предпочитают подождать до следующей сессии, которая будет полностью посвя¬
щена беседе с ними. Объясните ребенку, что вы будете выяснять историю его раз¬
вития, то есть просить родителей описать, что происходило в их семье с момента,
предшествовавшего его рождению. Уточните, что независимо от того, решит ли
ребенок прийти на первую сессию или пропустить ее, ему не будет позволено на¬
ходиться в вашем кабинете, пока вы будете беседовать с родителями. Тем самым
вы поддерживаете существование адекватных границ ролей родителя и ребенка и
ставите себя в положение человека, обладающего некоторым авторитетом в тера¬
певтической ситуации. Получив такую информацию, большинство детей решают
не приходить на первую встречу и при этом чувствуют воодушевление от своего
выбора.
Вне зависимости от вашего решения или от выбора ребенка вам следует осо¬
знавать, что некоторые родители будут настаивать на том, что первую сессию они
должны посетить вместе с «проблемным» ребенком, поскольку не хотят считать
себя пациентами ни сейчас, ни когда-либо в будущем. В таких случаях вам пона¬
добится сделать усилие, чтобы объяснить таким родителям, что на всем протяже¬
нии лечения они будут предоставлять жизненно важную информацию и что их
помощь будет необходима постоянно, чтобы удерживать процесс терапии на пра-
Глава 6. Процесс вхождения 181
вильном пути. Вы должны акцентировать ту степень, в которой они могут облег¬
чить лечение собственного ребенка, и предоставлять гарантии того, что никто не
будет лечить их самих.
Приглашать на первую вводную сессию одного ребенка — потенциального кли¬
ента — невыгодно: рабочие отношения начинают устанавливаться с самой первой
встречи, и всегда существует возможность, что ребенок не окажется хорошим кан¬
дидатом для лечения именно сейчас или именно вами. К тому же в этом случае вы
не получите представления о контексте проблемы или даже не выявите проблему
до конца. Если вы хотите увидеть ребенка — потенциального клиента как можно
раньше в ходе процесса вхождения, возможно, наилучшим вариантом будут раз¬
деленные сессии (split sessions).
В ходе одной части разделенной сессии вы общаетесь с ребенком, а на протя¬
жении второй — с его родителями. Как уже упоминалось, если ребенок и прихо¬
дит на первую сессию, ему не стоит находиться в вашем кабинете, когда родители
излагают его историю. Но вам нужно также уделить внимание и ему. Чтобы раз¬
решить эту проблему, полезно сначала немного пообщаться с ребенком, а затем —
с его родителями; с ребенком вы можете встретиться еще раз в конце сессии.
Вам следует осознавать потенциальные проблемы, связанные с проведением
разделенных сессий. Если вы сначала встречаетесь с ребенком, а потом с родите¬
лем, ребенок может опасаться, что вы расскажете родителю все, что он сообщил.
Если вы сначала встречаетесь с родителем, ребенок может испугаться, что роди¬
тель рассказывает вам про него плохие вещи, и с большой неохотой приходить на
свою часть сессии. Единственный способ минимизировать эти проблемы — спро¬
сить ребенка, как бы он хотел организовать сессию, предложив ему два возмож¬
ных варианта.
Третьей альтернативой разделенной сессии является вариант, когда проводит¬
ся встреча с родителем и ребенком, а затем — сначала только с родителем, а затем
только с ребенком. Такой формат позволяет каждому участнику высказать все, что
он хочет, и при этом ни у кого не создается ощущения, что терапевт становится на
чью-то сторону.
Поскольку каждая стратегия вхождения имеет свои преимущества и связан¬
ные с ней риски, лучше всего просто выбрать одну из них и затем придерживаться
ее, чтобы научиться понимать, какое воздействие оказывает ваша техника, и уметь
осознавать возникающие проблемы и справляться с ними. Когда ребенок все же
сопровождает родителей на сессии, вам следует, встречая семью в приемной, сна¬
чала обратиться к ребенку. Заранее предупредите родителей об этом, объяснив им,
какую важность имеет для ребенка немедленное возникновение чувства уникаль¬
ности терапевтических отношений. Это объяснение не даст родителям думать, что
вы пренебрегаете ими. Также вам понадобится установить способ знакомства с ре-
бенком-клиентом, особенно если к вам приведут несколько детей одновременно.
Когда вы входите в приемную, представьтесь ребенку и протяните ему руку для
рукопожатия. Это лучше всего сделать, когда вы принимаете относительно есте¬
ственную позу, появляясь при этом на уровне глаз ребенка или чуть ниже; это
обычно легко достигается, если присесть на корточки или сесть на пол. Вам не
нужно принимать такой глупый вид, чтобы ребенок потерял уважение к вам, но
некоторое приспособление к росту ребенка обычно ценится.
182 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Когда четырехлетний Дэнни пришел на свою первую сессию, он лег на пол в приемной,
катая по ковру игрушечную машинку. Когда терапевт вышел, чтобы встретить мальчи¬
ка, его мать сообщила, что ребенок не хотел идти на сессию. Дэнни проигнорировал
терапевта, когда тот сказал: «Привет, ты, наверное, Дэнни». Так как Дэнни не двигался,
терапевт лег на пол рядом с ним и высказал свое мнение о машинке. Пока терапевт ле¬
жал, Дэнни краем глаза смотрел так, как будто терапевт продолжает стоять. Тогда те¬
рапевт попытался распластаться на полу, чтобы Дэнни мог посмотреть ему в лицо, не
поворачивая головы. В какой-то момент Дэнни взглянул на него, и терапевт улыбнул¬
ся; Дэнни улыбнулся в ответ, и они поднялись, довольные друг другом. Через несколь¬
ко минут Дэнни вошел в кабинет терапевта, совершенно готовый к разговору.
Беседа с родителями
Проводя беседу с родителями, перед началом сбора информации уделите некото¬
рое время обсуждению с ними природы терапевтического контракта, который они
заключают. Особенно ясно вы должны высказаться о том, кто считается клиентом.
Предназначено ли лечение одному только ребенку, что делает первичным клиен¬
том его, или план терапии включает и других людей? Считаются ли первичной
единицей лечения и, следовательно, клиентами родители вместе с ребенком? Или
считается, что ребенок включен в семейную систему, и следовательно, необходи¬
мо определять как клиента всю семью? Это не просто прагматический вопрос, но
и философско-теоретическая проблема. Лечите ли вы ребенка в условиях отно¬
сительной изоляции, в сотрудничестве с родителем или как составную часть се¬
мейной системы? Или вы идете еще дальше и рассматриваете ребенка как инди¬
вида, включенного в многочисленные системы, на каждую из которых процесс
терапии окажет некоторое влияние? Принятие последней точки зрения вовсе не
предполагает лечения всей семьи; но это предполагает, что ребенок и его лечение
имеют отношение к различным системам и индивидам и влияют на них, и эта точ¬
ка зрения принята в экосистемной игровой терапии. В рамках этого подхода точ¬
нее всего будет сказать, что клиентом, или единицей, претерпевающей изменения
в результате лечения ребенка, является семья.
Как только клиент определен, прежде чем перейти к вводному интервью, вам
следует обсудить другие прагматические аспекты терапевтического контракта:
размеры гонорара, условия оплаты, страховки и график посещений, конфиденци¬
альность и другие соображения. Конфиденциальность — один из первых вопро¬
сов, испытывающих на себе влияние решения рассматривать семью в качестве
клиента. Если бы клиентом был ребенок, ожидалось бы, что конфиденциальность
ребенка простирается очень далеко. Если бы в качестве клиентов рассматривались
родители и ребенок, границы конфиденциальности между ними были бы менее
декларируемыми. Так как вы будете рассматривать ребенка как члена семейной
системы и работать с ребенком, чтобы изменить эту систему, то целая семья будет
считаться клиентом и границы конфиденциальности станут еще менее ясными.
Все семейные терапевты заявляют, что в их подходе конфиденциальность остает¬
ся очень проблематичным вопросом.
В любом случае, вы должны продолжать давать родителям советы относитель¬
но границ их собственной конфиденциальности и конфиденциальности их ребен-
Глава 6. Процесс вхождения 183
ка, даже если некоторые из этих границ кажутся искусственными. Родители долж¬
ны отдавать себе отчет, что если они раскроют любую информацию о том, что они
или любой член их семьи представляют очевидную и текущую опасность для не¬
коего индивида или для самих себя, их конфиденциальность будет нарушена и
проблема будет передана в соответствующие инстанции. Этим относительно про¬
стым утверждением вы сообщаете, что, определив семью как клиента, вы несете
некую профессиональную ответственность больше, чем просто за родителей или
ребенка. Находясь в таком положении, вы вынуждены реагировать на суицидаль¬
ные угрозы брата вашего клиента так же, как и на любые угрозы со стороны само¬
го вашего клиента. Очевидно, занять такую позицию непросто, но она необходи¬
ма и даже желательна, если вы хотите, чтобы лечение было эффективным.
Возникает вопрос, как именно вам поставить в известность родителей о зако¬
нах, требующих сообщать о жестоком обращении с детьми. Некоторые терапевты
считают, что достаточно общего предостережения, приведенного выше. Другие за¬
мечают, что сообщение о жестоком обращении с ребенком заключает в себе не
только информацию об опасности, грозящей ребенку в данный момент, но и о про¬
шлых случаях, и поэтому считают, что просто предостерегающей информации не¬
достаточно. Эти терапевты, число которых постоянно увеличивается, выступают
за открытое доведение требований закона до клиентов, а именно за то, что роди¬
телям необходимо говорить, что если вы подозреваете, что любой ребенок в семье
сейчас или раньше был жертвой жестокого обращения, их конфиденциальность
будет нарушена. Некоторые терапевты заходят так далеко, что дают свои опреде¬
ления жестокого обращения с детьми, но это кажется чрезмерным, особенно при
условии, что многие определения жестокого обращения используют юристы, пе¬
дагоги, психологи и психиатры.
Также вы должны информировать родителей относительно того, насколько вы
раскрываете ребенку информацию, предоставленную родителями. Этот вопрос
становится проблематичным, когда существуют значительные семейные тайны.
Предположим, что в семье ребенку никогда не говорили, что человек, которого он
считает своим родным отцом, на самом деле не является таковым, и становится
очевидным, что бессознательное понимание ребенком этого факта — главная про¬
блема текущего конфликта. В идеале вам нужно сначала поработать с родителями,
поощряя их поговорить с ребенком. Но что, если они откажутся? Хотите ли вы
занять позицию, в которой будете единственным человеком, который решает, от¬
крывать или не открывать ребенку эти сведения? Хотите ли вы попасть в поло¬
жение, когда будете вынуждены продолжать работу с ребенком, несмотря на де¬
структивный семейный секрет? Или вы прерываете работу с семьей, если она
отказывается исполнить вашу рекомендацию? Это очень сложная ситуация, ко¬
торую нужно разрешать изо дня в день. Самым мудрым будет заранее прийти к
открытому соглашению с родителями относительно того, как будут приниматься
решения о том, какую информацию можно сделать доступной для ребенка, чтобы
в случае возникновения проблемы существовал установленный формат ее обсуж¬
дения.
Наконец, важно обсудить с родителями границы конфиденциальности, кото¬
рую может сохранять их ребенок. Императивы, заставляющие вас сообщать, когда
184 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
ребенок представляет опасность для себя или для других или когда ребенок явля¬
ется жертвой жестокого обращения, точно такие же, как и те, которые управляют
границами конфиденциальности родителей. Различия возникают только относи¬
тельно права ребенка не сообщать информацию родителям. Большинство игровых
терапевтов не рассказывают регулярно родителям о том, что происходило на кон¬
кретной сессии; вместо этого они обсуждают с родителями ход процесса, исполь¬
зуя общие описания. Другие терапевты описывают содержание сессии гораздо
более свободно. Практически все игровые терапевты соглашаются, что в большин¬
стве случаев родителю полезно прийти к хорошему пониманию проблем, над ко¬
торыми сейчас работает их ребенок, и понять общую природу терапевтического
подхода, применяемого в данный момент. По этой причине полезно заключить
первоначальный контракт с родителями относительно того, какую информацию
вы будете предоставлять им постоянно. Какую бы позицию вы ни заняли, родите¬
ли должны быть проинформированы о ней заблаговременно, чтобы позже они не
чувствовали себя обманутыми или не думали, что им рассказывают не все.
Решение рассматривать в качестве единицы изменения всю семью усложняет
вхождение еще и в том, что рамки информации, которую необходимо получить,
менее очевидны и для вас, и для родителей. Каждый, кто занимается детской иг¬
ровой терапией, должен помнить, что точкой сосредоточения должен быть ребе¬
нок и что пригодность любого кусочка информации определяется на основании
того, имел ли, имеет или будет иметь этот факт влияние на жизнь и лечение ре¬
бенка. Это означает, что вам следует собрать некоторую информацию отдельно о
каждом из родителей и о них как о паре, но при этом вам необходимы только те
данные, которые имеют отношение к вашему пониманию ребенка и его экосисте¬
мы. К сожалению, часто невозможно определить заранее, какая именно информа¬
ция вам пригодится, и поэтому вам придется сначала собирать данные, а потом уже
сортировать их. Легче всего не сбиться с верного пути в течение первого интер¬
вью и не создать напряжения у родителей, если попросить их описать свою семью
в различные моменты жизни ребенка (позже в этой главе мы обсуждаем получе¬
ние такого типа биографической информации). Помимо прямых вопросов, зада¬
ваемых вами родителям, вы также будете получать информацию через наблюде¬
ние их взаимодействий с вами.
Поговорив об основном терапевтическом контракте и об ограничениях конфи¬
денциальности, вы переходите к проведению вводного интервью. Детальное опи¬
сание того, как проводить оценку всеобъемлющих систем с родителями, вы може¬
те найти в книге Play Therapy Treatment Planning and Interventions: The Ecosystemic
Model and Workbook (O'Connor & Ammen, 1997). Прежде чем приступить к обсуж¬
дению актуальной информации, которую необходимо получить, давайте посмот¬
рим на цели первоначального интервью с родителем либо с ребенком.
1. Установить раппорт с пациентом:
1) через обеспечение соответствующего эмоционального климата для ин¬
тервью;
2) путем структурирования цели интервью;
3) путем прояснения заблуждений об игровой терапии;
Глава 6. Процесс вхождения 185
4) путем работы с неадекватной мотивацией;
5) справляясь с другими проявлениями сопротивления и готовя родителя
и ребенка к игровой терапии.
2. Получить относящуюся к делу информацию от родителей и ребенка:
1) слушая спонтанные отчеты;
2) сосредоточив внимание на отдельных сведениях.
3. Поставить предварительный клинический диагноз.
4. Выдвинуть предварительное суждение о внутренней динамике пациента,
а именно о его внутренних конфликтах, характерологических нарушениях,
механизмах защиты и их генетических источниках.
5. Предварительно определить этиологию.
6. Предварительно проверить ресурсы, сильные стороны и ограничения (ро¬
дителей и ребенка), актуальных и латентных:
1) оценив те области жизни, в которых пациент успешен и в которых он ис¬
пытывает неудачи;
2) определив мотивации прихода на терапию;
3) исследовав уровень проникновения в суть происходящих явлений и про¬
цессов;
4) выдвинув предварительный прогноз.
7. Произвести практические приготовления к терапии:
1) оценить оптимальные цели;
2) выбрать терапевтический метод;
3) принять пациента на лечение или направить его к другому терапевту;
4) договориться об адекватных временных рамках;
5) договориться о финансовых условиях.
8. Выработать условия необходимых консультаций и психологического тес¬
тирования (Wolberg, 1954, р. 198).
Первый пункт, который необходимо раскрыть в беседе, это возникшая пробле¬
ма. Вы могли получить эту информацию во время первого телефонного контакта;
в этом случае попытайтесь больше узнать о деталях. Особенно полезно, если ро¬
дители смогут с практической точки зрения оценить те типы проблем, которые
они наблюдают. Это не только способствует направлению внимания на специ¬
фику, но и сокращает количество оценочных суждений, включаемых родителями
в свои описания.
Миссис Арнольд, позвонившая с желанием немедленно поместить свою дочь в испра¬
вительное лечебное учреждение, могла сказать по телефону только то, что Дженифер
не контролировала себя, что она все время вела себя ужасно и что что-то должно изме¬
ниться прямо сейчас. В течение вводного интервью, когда миссис Арнольд несколько
успокоилась, терапевт попросил определить, что именно в поведении девочки является
186 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
проблемой. Сначала миссис Арнольд сопротивлялась, а потом начала уделять основ¬
ное внимание чудовищно интенсивным вспышкам темперамента Дженифер. Эти
вспышки зачастую длились более получаса и обычно заканчивались только тогда, ко¬
гда кому-то причинялся вред, ломались какие-нибудь предметы и/или девочка на не¬
сколько часов убегала из дома. По мере вхождения в терапию стало очевидным, что
проблема ограничивалась этими вспышками, а также проявлениями мелкого непослу¬
шания. Дженифер неплохо училась в своем классе специального образования, но у нее
было мало друзей.
Как только вы проясните проблему, из-за которой к вам обратились, и сопут¬
ствующие ей обстоятельства, вы сможете определить, какую информацию вам не¬
обходимо получить о системах, частью которых является данный ребенок. Неза¬
висимо от того, с какой именно проблемой вы имеете дело, вы должны получить
избыточное количество информации о прошлой и настоящей структуре и деятель¬
ности семьи ребенка. Также вам может понадобиться более или менее детальная
информация о школьной биографии ребенка, если его проблема распространилась
на эту ситуацию. Или вы можете получить подробную историю болезни, если об¬
наружите, что ребенок страдает некоторым основным заболеванием, или у ребенка
была травма, или он находится в специфических медицинских состояниях, пото¬
му что часто все эти факторы тесно связаны с эмоциональными и поведенчески¬
ми сложностями. Среди других областей, которые может понадобиться изучить:
отношения ребенка со сверстниками, отделы и суды по делам несовершеннолет¬
них, расширенные семьи, учреждения, осуществляющие заботу о детях и т. д.
Основная часть вводного интервью должна быть направлена на получение по¬
дробной истории развития. Формат изложения этой истории несколько отлича¬
ется от более традиционной истории развития в медицине, поскольку здесь ак¬
центируется организация психологической истории ребенка относительно рамок
его развития, а не относительно времени различных вех процесса развития самих
по себе.
В этом типе интервью отвечающего постоянно просят описать его семью и ре¬
бенка в ней на разных этапах развития последнего. Последовательность развития
помогает понять, соответствовало ли общее развитие ребенка в различные перио¬
ды его возрасту.
Сперва родителей просят описать их семью в то время, когда ребенок, о кото¬
ром сейчас идет речь, был зачат. Затем их просят описать ребенка и семью на сле¬
дующих этапах, когда этот ребенок:
• родился;
• был младенцем;
• впервые начал самостоятельно передвигаться;
• начал говорить и ходить (стал тоддлером);
• был в ясельном возрасте (preschooler);
• пошел в детский сад (kindergarten)]
• учился в начальной школе (особое внимание уделяется третьему и четвер¬
тому классам).
Глава 6. Процесс вхождения 187
Важно то, что вы приобретаете информацию не только о ребенке, но и о систе¬
мах, в которые он был включен на протяжении своей жизни. Вам нужно знать,
какой была жизнь родителей в каждый из этих периодов развития ребенка. Также
вам нужно знать, каким был их психический статус в эти моменты. Как каждый
из родителей реагировал, когда выяснилось, что они ждут этого ребенка? Если ре¬
бенок был нежеланным, что заставило принять решение сохранить его? Какой
была мать во время беременности: счастливой, печальной, тревожной? Как роди¬
тели реагировали на рождение ребенка? И так далее. Эта информация крайне важ¬
на для понимания дальнейших взаимодействий членов семьи и реакций ребенка
на эти взаимодействия.
Миссис Уильямс сообщила, что ее брак в течение первых десяти месяцев был мрачным
и предвещал бурю, и все стало еще хуже, когда она забеременела. Ее муж, который все¬
гда был очень ревнив, пришел в ярость и напал на нее, когда обнаружил, что она бере¬
менна. В какой-то момент она закричала, что не может дышать, потому что он душил
ее. Он ответил, что надеется, что ребенок умрет. Его гнев не исчез в течение всей ее
беременности, и не стало сюрпризом, что муж жестоко обращался с младенцем, как
только тот родился.
Завершающая часть вводного интервью с родителями — обсуждение с ними
деятельности ребенка в областях, подлежащих проверке при помощи традицион¬
ного разбора, направленного на определение его психического и интеллектуаль¬
ного статуса. Это следующие области: внешний вид, особенности речи, эмоций
и настроения, содержание и процессы мышления, кратковременная к долговре¬
менная память, интеллект, общий кругозор и информационный запас, социальный
интеллект, степень осознания. Уточнение информации, полученной относитель¬
но каждой из этих областей, происходит при описании вводного интервью ребен¬
ка, которое следует далее. Возможно, вы обнаружите, что многие из этих областей
уже раскрыты в различных частях интервью и поэтому не нуждаются в повтор¬
ном изучении. Такая информация служит ориентиром для подтверждения или
уточнения того материала, который ребенок предоставляет в ходе своего вводно¬
го интервью.
Перед завершением вводной беседы вам следует дать родителям возможность
обсудить любые специфические цели, которые, по их мнению, должны быть до¬
стигнуты их ребенком в ходе лечения. Сделав обзор всей вводной информации,
родители могут указать на разумные цели. Но обычно родители склонны выска¬
зывать довольно общие цели, заключающиеся в желании общего благополучия
ребенка. Эти цели могут модифицироваться и специфицироваться перед началом
лечения, в ходе сотрудничества и бесед терапевта с родителями, с ребенком и с са¬
мим собой.
В течение следующих пяти глав рассматриваются случаи из практики на всем
своем протяжении, начиная с этапа вхождения и заканчивая этапом завершения
лечения. В первом случае проблемы, хотя и серьезные, — совершенно однонаправ¬
ленные (концентрированные), что делает этот пример подходящим для кратко¬
срочного лечения. Второй пример очень сложен, и единственным успешным ва¬
риантом лечения в этой ситуации может быть долговременная игровая терапия.
В разделении краткосрочного и долговременного случаев учитывались две пере-
188 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
менные. Первая из них — сложность проблемы, а также ее продолжительность.
Чем больше систем задействовано в этой проблеме, тем выше вероятность того,
что краткосрочная терапия не подходит для этого случая. Другая учитывавшаяся
переменная — это относительное здоровье систем, к которым принадлежит ребе¬
нок. И опять же чем менее здоровой и поддерживающей будет окружающая ре¬
бенка среда, тем ниже вероятность, что этот случай подлежит краткосрочной
терапии. Определение сложностей случая и удержание довольно узкого фокуса
внимания в течение вводной беседы — это изначальные различия между пациен¬
тами, подлежащими кратковременной и долговременной терапии.
Случай из практики: Аарон
Аарона привела на лечение его мать, которая очень беспокоилась из-за того, что у него
нет друзей среди сверстников и что он кажется чрезмерно взрослым и строгим.
Аарон был единственным ребенком в семье. Родители состояли в браке около пяти лет,
прежде чем решили завести ребенка. Беременность и роды протекали без осложнений.
Мать сообщила, что Аарон был легким младенцем и тоддлером, чье развитие проходи¬
ло вровень или с небольшим опережением рамок нормального развития.
Когда Аарону было два года, семья отправилась в путешествие. В то время как Аарон с
матерью находились на прогулке вдалеке от отеля, отец испытал свой первый интен¬
сивный приступ рассеянного склероза. Вернувшись, Аарон с матерью обнаружили, что
отец почти полностью парализован. Семья отреагировала ужасом, и в течение следую¬
щих нескольких недель отец восстановился лишь частично. В следующие четыре года
состояние отца продолжало быстро ухудшаться, и к моменту прихода Аарона на тера¬
пию его отец был прикован к постели и не мог самостоятельно питаться.
Мать сообщила, что Аарон с самого начала участвовал в заботе об отце, а также под¬
держивал мать тем, что хорошо себя вел.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк был направлен на продолжение лечения, когда ему было 10 лет, после прохож¬
дения коррекционной программы, которую ему назначили из-за серьезных проблем в
школе. Так как ни одного из родителей Фрэнка пригласить на интервью не удалось, его
история была получена главным образом из записей.
Оказалось, что о жизни семьи Фрэнка, начиная с момента его рождения и до двухлет¬
него возраста, практически ничего не известно. Есть некоторое подозрение, что один
или оба его родителя страдали зависимостью от психоактивных веществ.
Когда Фрэнку было около двух лет, его мать родила второго ребенка, который умер
через сравнительно короткое время от нарушения, которое посчитали синдромом вне¬
запной младенческой смерти. Известно, что мать Фрэнка в это время впала в глубокую
депрессию, возможно до такого состояния, что была шесть месяцев прикована к крова¬
ти. Прежний терапевт Фрэнка также подозревал, что в это время мать жестоко обра¬
щалась с ребенком. Какие отношения были тогда у Фрэнка с отцом, неизвестно.
Когда Фрэнку было около трех с половиной лет, он устроил пожар в доме, где жила его
семья. Вероятно, он пытался предупредить об этом мать, но она проигнорировала его.
Потом он взял кошку и донес ее до прихожей, но не смог вынести из дома. Его мать
погибла в огне, а также погибла и кошка, которую Фрэнк пытался спасти.
Следующие четыре года Фрэнк прожил с отцом. Когда ему было около четырех с поло¬
виной лет, их собака укусила его за нижнюю часть лица. (Шрам, оставшийся от этого
Глава 6. Процесс вхождения 189
случая, тянется от одного уголка рта Фрэнка до самого низа подбородка.) Мальчика
вылечили в местной больнице, а затем его забрали домой. На следующий день отец
вывел собаку на улицу, сказав Фрэнку, что они идут на охоту. Оказавшись на открытом
месте, отец застрелил собаку прямо на глазах у ребенка, заявив, что, хотя укус был слу¬
чайностью, теперь можно быть уверенными, что собака больше не укусит Фрэнка.
О жизни Фрэнка на протяжении следующих трех лет известно очень мало. Известно
лишь, что когда в его дело вмешалась Служба защиты детей, он со своим отцом жил в
машине. Отца Фрэнка лишили родительских прав; в качестве причин были предъяв¬
лены пренебрежение ребенком и подозреваемое жестокое обращение с ним.
В течение следующего года, грубо говоря, с семи до восьми лет, Фрэнк перемещался из
одного родительского дома в другой, и везде обнаруживалось, что его поведение прак¬
тически неуправляемо. Наконец он был помещен в клинику, где проходила групповая
психотерапия. Вскоре после этого обнаружилось, что отец Фрэнка совершал над ним
серьезное сексуальное насилие. Это насилие состояло главным образом в осуществле¬
нии отцом анального контакта с ребенком в качестве наказания. Каждый раз отец сна¬
чала ставил Фрэнка в угол или порол его, а затем, когда тот не проявлял никакой реак¬
ции или реагировал незначительно, отец приходил в ярость и насиловал мальчика.
Когда обнаружились такие данные, Фрэнк был направлен на программу лечения для
жертв сексуального насилия. Он посещал эту программу почти два года, после чего
стало ясно, что необходимо более интенсивное вмешательство для разрешения его
школьных проблем и более интенсивная психотерапия. Фрэнк был переведен на про¬
грамму стационарного лечения, позволявшую ему возвращаться в его групповую кли¬
нику {group home) на выходные. Следует отметить, что к этому времени Фрэнк отно¬
сился к женщине, руководящей групповой клиникой, как к своей матери.
История академического обучения Фрэнка была ужасной. В возрасте 10 лет он едва мог
читать и не обладал даже основными учебными навыками. Подобным же образом от¬
сутствовала история его отношений (как позитивных, так и негативных) со сверстни¬
ками. Известно, что в некоторых случаях он стал проявлять физическую агрессию,
направленную на женщину, руководящую групповой клиникой. Помимо этого, во вре¬
мя пребывания в клинике мальчик убил котенка.
Беседа с ребенком
Проведя беседу с родителями ребенка и получив максимально возможное коли¬
чество важной биографической информации о нем, вам предстоит провести бесе¬
ду с ребенком.
Перед началом встречи с ребенком важно учесть, будет ли проводимое вами
интервью клиническим или судебным, особенно если речь идет о случае извест¬
ного или подозреваемого насилия над этим ребенком. Первичная цель клиниче¬
ского интервью — получить информацию, необходимую для начала лечения, тогда
как первичная цель судебного интервью — получение информации, необходимой
для вынесения и осуществления юридического решения. К сожалению, службы,
направляющие ребенка на терапию, такие как Служба защиты ребенка, не всегда
осознают различия и ндзначают ребенку лечение, когда на самом деле хотят по¬
лучить больше информации, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии
случаев насилия над детьми. Среди других различий клинического и судебного
интервью можно упомянуть следующие.
190 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
1. При проведении клинических интервью предполагается, что ребенок гово¬
рит правду, и принимается субъективная реальность ребенка. Цель судеб¬
ного интервью: раскрыть истину и обнаружить альтернативные объяснения
того, что для ребенка является реальностью.
2. В клиническом интервью терапевт становится на сторону ребенка, а в су¬
дебном должен сохранять нейтральную позицию.
3. В клиническом интервью важен лишь факт совершавшегося насилия, а в су¬
дебном интервью решающее значение приобретают его детали.
4. Наконец, при проведении клинического интервью неважен способ получе¬
ния информации. Терапевт может задавать наводящие вопросы и поощрять
ребенка изображать и показывать те вещи, которые он не может описать
словами. При проведении судебного интервью способ получения информа¬
ции строго регламентирован. Наводящие вопросы запрещены, и необходи¬
мо предпринимать усилия, чтобы ребенок всю информацию выражал сло¬
вами (Raskin & Esplin, 1991, цит. по: Steinmetz, 1995).
Список того, что можно и чего нельзя делать при проведении судебного интер¬
вью с детьми, вы можете найти в статье Мелиссы Штейнмец (Steinmetz, 1995)
Interviewing Children: Balancing Forensic and Therapeutic Techniques в докладе Natio¬
nal Resource Center on Child Sexual Abuse News за май — июнь 1995 года.
Вне зависимости от типа интервью, формат его проведения необходимо орга¬
низовывать в соответствии с уровнем развития ребенка. Интервью с детьми перво¬
го уровня развития должно быть крайне ограниченным, направленным в первую
очередь на ваше взаимное знакомство с ребенком. Интервью с детьми четвертого
уровня может показаться очень похожим на стандартные вводные сессии, кото¬
рые вы проводите со взрослыми.
Более детальное описание стратегий, используемых для интервьюирования
детей, можно найти в работе The Clinical Interview of the Child (Greenspan & Green¬
span, 1991). В ней предлагается следующее руководство. Терапевт должен:
1) использовать все уровни коммуникации, включая язык тела, а также мета¬
форическую или символическую коммуникацию;
2) соотносить ответы, получаемые им от ребенка, с уровнем функционирова¬
ния ребенка на различных линиях развития (то есть с его поведением, со¬
циализацией, общением, речью);
3) помнить о концепции множественной детерминированности поведения, то
есть о том, что одно и то же поведение может проявляться в результате дей¬
ствия множества разнообразных причин;
4) помнить о концепции выработки описания случая {casual formulation), а не
просто диагноза, например, вместо того чтобы ставить ребенку диагноз «рас¬
стройство сферы внимания» {Attention Deficit Disorder), терапевт может вы¬
работать описание случая, показывающее, связаны ли нарушения внимания
с неврологическими корнями, явились ли они последствиями сильной тре¬
вожности или результатом комбинации двух этих факторов;
Глава 6. Процесс вхождения 191
5) научиться приводить в соответствие свои личные наблюдения и предостав¬
ленные ему данные. (Интервьюеру никогда не следует недооценивать соб¬
ственное видение функционирования ребенка, а скорее привязывать его к
известным ориентирам. На самом ли деле ребенок обладает сильно разви¬
той речью или такое впечатление создается потому, что интервьюер в тече¬
ние последних нескольких дней встречался с рядом детей, имеющих отста¬
вание в развитии?)
Держа в уме данное руководство, терапевту сначала следует отметить, что при
всем общем честном отношении к ребенку одна из вещей, которые необходимо об¬
судить в первую очередь, это границы конфиденциальности ребенка. Этот вопрос
может быть очень затруднительным, так как ребенок может даже не понимать,
почему он здесь и какова ваша роль, но это необходимо для успешного начала те¬
рапии.
Синди на терапию привела мать. Причиной стали отчужденность и частые случаи эну¬
реза. Терапевт недавно начала работать и не имела достаточного опыта. Она стреми¬
лась помочь этой маленькой девочке, казавшейся очень болезненной и нуждающейся в
помощи. Терапевт немедленно начала исследовать проблему, с которой столкнулась
Синди. К великому удивлению терапевта, Синди почти сразу же рассказала, что под¬
вергалась сексуальному насилию со стороны отца. Терапевт оказалась в положении,
когда ей необходимо было нарушить конфиденциальность ребенка, даже не предупре¬
див ее об условиях, при которых это может происходить, чтобы девочка могла прини¬
мать решение о границах своей откровенности, обладая полной информацией.
Этот частный пример был выбран потому, что многие могли бы поспорить о
том, что благополучию ребенка на самом деле можно принести пользу, обойдя его
личные права. Хотя это может быть так в рамках краткосрочной терапии, несо¬
мненно, можно поставить под вопрос предположение о том, что права ребенка не
имеют никакой ценности, а также о том воздействии, которое могло оказать такое
начальное взаимодействие на ход будущей психотерапии. К тому же чувства по¬
тери контроля и беспомощности, переживаемые ребенком, могут быть восприня¬
ты как аналог насилия, а не как защита от него.
Ограничения конфиденциальности ребенка необходимо представлять ему про¬
сто и прямо. Нетрудно объяснить ребенку следующее: когда он сообщает вам не¬
что, предполагающее наличие опасности для него или для других людей или со¬
общающее, что кто-то когда-нибудь наносил ему вред или вредит ему сейчас, вам
приходится рассказывать об этом другим, чтобы обеспечить безопасность ребен¬
ка. Если это необходимо, вы можете привести ребенку специфические примеры,
но обычно дети, видимо, без особых затруднений понимают, о чем идет речь.
Но тут же возникает проблема, которая состоит в том, что в большинстве слу¬
чаев право ребенка на конфиденциальность очень ограничено. Это ограничение —
родители, которые с точки зрения закона обычно считаются клиентами и поэтому
обладают привилегией относительно информации, раскрывающейся в ходе лече¬
ния. Конечно, если родителям необходима информация об их ребенке, они в состо¬
янии ее получить. Более того, как уже упоминалось, вы с самого начала определя¬
ете, что вашим клиентом является вся семья, и это создает некоторые проблемы,
связанные с установлением и поддержанием границ.
192 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Учитывая, что право ребенка на конфиденциальность ограничено и вам может
понадобиться предоставить родителям информацию, способствующую лечению
ребенка, вам следует подготовить его к этому и убедить его, что никакие сведения
не будут сообщены родителям без его ведома. Это не означает, что вы будете спра¬
шивать у него разрешения предоставить некие данные родителям, а лишь то, что
он будет заранее об этом проинформирован. Большинство детей принимают эти
ограничения, потому что уважают то, что их правам и чувствам уделяется гораздо
больше внимания, чем в большинстве их взаимодействий со взрослыми.
Обсудив сферу конфиденциальности, разумно объяснить ребенку вашу роль.
Неверные представления детей о терапевтах могут достигать крайностей. Часто
детям говорят только, что они идут к доктору, и поэтому они приходят на первую
встречу, ожидая физического осмотра или чего-нибудь еще худшего. Сравнитель¬
но простое объяснение, в котором используются нижеописанные шаги, может
применяться практически для всех детей, вплоть до 10-11-летнего возраста.
Прежде всего спросите ребенка, приходилось ли ему когда-нибудь ходить к вра¬
чу, когда он болел. Совершенно невероятно, что вы встретитесь с ребенком, кото¬
рый никогда не болел, но если это именно такой случай, спросите его, знает ли он
кого-нибудь, кто посещал врача.
Во-вторых, начните обсуждать с ребенком то, что, когда он болел, у него про¬
являлся некий симптом — головная боль или кашель, — который сигнализировал
родителям, что с ним что-то не в порядке, и они показывали его доктору. Затем
доктор осматривал его, чтобы определить, что именно не в порядке, а когда это у
него получалось, он прописывал ребенку лекарство и, возможно, рекомендовал
некие процедуры, способствующие улучшению его самочувствия.
Продолжайте проводить аналогию с терапией. Скажите ребенку, что его роди¬
тели сталкивались с некоторыми видами поведения ребенка, которые сигнализи¬
ровали им, что он не в порядке, но на этот раз дискомфорт связан не с его телом,
а с его чувствами. Представьтесь ребенку, объяснив, что вы доктор, который ле¬
чит чувства, который работает с детьми, когда их тела, по существу, здоровы, но
их чувства вызывают у них беспокойство. Объясните ребенку, что вы не работае¬
те с телами детей, и поэтому не проводите никаких физических осмотров, не про¬
писываете никакого медикаментозного лечения и особенно никаких уколов.
Объясните ребенку, что вместо физического осмотра будет осуществляться осмотр
чувств, в течение которого вы попытаетесь понять чувства ребенка и природу су¬
ществующей проблемы, и что этот осмотр будет производиться при помощи раз¬
говора. Следует дать ребенку понять, что этот процесс может потребовать некото¬
рого времени, но что как только вы оба узнаете, что именно и почему не в порядке
с его чувствами, вы оба сможете перейти к поиску способов, которые помогут ре¬
бенку испытывать более приятные чувства. Большинство детей второго и треть¬
его уровней развития находят это вполне приемлемым объяснением, которое на¬
правлено на их потребности и не критикует их за их состояние.
Проблема обращения к терапевту
Часть беседы с ребенком, направленная на получение информации, начинается
обычно так же, как и интервью родителей: попросите ребенка поговорить о про-
Глава 6. Процесс вхождения 193
блеме, из-за которой они к вам пришли. Только что описанное объяснение роли
терапевта является введением к интервью с ребенком, которое осуществляется в
виде обещанного «осмотра» его эмоций. Начните, спросив ребенка о том, какие мо¬
тивы побудили его родителей привести его к «доктору, лечащему чувства». Мно¬
гие дети не знают, почему их сюда привели, или поначалу отрицают, что знают.
Придерживаясь объяснения, данного ребенку относительно вашей роли, вы мо¬
жете включить его в обсуждение тех видов поведения, наблюдаемых его родите¬
лями, которые заставили их считать, что он испытывает неприятные чувства.
«Как мы уже говорили, ты знаешь, что когда у тебя температура или сильно
болит живот, твои мама или папа узнают, что тебе пора идти к доктору, потому
что видят знаки, показывающие, что с твоим телом что-то не в порядке. Давай те¬
перь поговорим о тех знаках, которые дали им понять, что ты испытываешь неко¬
торые нехорошие чувства». Говоря таким образом, вы можете перейти к обсужде¬
нию актуальной проблемы. Если ребенок проявляет сопротивление или, кажется,
не знает, что сказать, вы можете рассказать ему о некоторых конкретных беспо¬
койствах, высказывавшихся его родителями.
Некоторые дети заявят, что они не испытывают нехороших чувств, и в этот
момент вам может понадобиться уточнить: «Никаких, никогда?» Если ребенок
упорствует в своем отрицании, вы можете воспользоваться двумя стратегиями. Вы
можете сказать: «Отлично, тебе крупно повезло, и, может быть, мы вообще не бу¬
дем постоянно работать вместе». Это позволяет ребенку расслабиться и увидеть,
что вы не собираетесь заставлять его вступать в разговор, который он не хочет
вести. Обычно эта стратегия хорошо работает с детьми, которые в течение ввод¬
ной беседы сравнительно пассивны и боязливы. Применяя другую стратегию, вы
можете сказать: «Отлично, я знаю по меньшей мере одно плохое чувство, которое
у тебя есть. Ты, должно быть, очень злишься, что твои родители привели тебя к
доктору, хотя он тебе совершенно не нужен». Многие дети, активно противящие¬
ся процессу вхождения и действительно испытывающие злость, немедленно вер¬
бально выразят свое согласие с этим утверждением. Затем вы можете продолжить,
заметив, что одной из целей лечения, которые он может себе поставить, является
поиск способов, при помощи которых он может убедить своих родителей, что ему
вовсе не нужно ходить на терапию. В этот момент вы можете еще раз начать об¬
суждение того, что, по мнению ребенка, мотивировало его родителей привести его
к вам, и так далее.
Почувствовав, что ребенок получил некое понимание причины, из-за которой
он оказался у вас в кабинете, вы можете продолжить и попросить ребенка описать
ситуации, в которых он переживает различные чувства, такие как счастье, печаль
или злость. Можно обсудить интенсивность этих эмоций, а также их частоту. Если
вы тщательно выдерживаете роль, которую вначале описали ребенку, обычно не¬
сложно поговорить о негативных эмоциях ребенка, не вызывая у него чувства, что
вы осуждаете его за то, что он не всегда счастлив и доволен. Даже наиболее враж¬
дебно настроенный ребенок может признать, что он часто злится на своих родите¬
лей и что если на тебя кричат и если тебя наказывают, это не очень прикольно и
вызывает еще большую злость, а может быть, даже тоску.
194 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Фокусирование внимания на негативных аффектах ребенка способствует вы¬
работке терапевтического контракта между ребенком и вами. Вы можете догово¬
риться о том, что будете стараться больше узнать о тех случаях, когда ребенок
злится или грустит, а затем вместе искать пути снижения частоты и интенсивно¬
сти этих чувств. Используя этот формат, вы сможете занять ребенка четырех лет
и старше выработкой начальных целей лечения и заключить с ним сравнительно
осознанное соглашение относительно процесса лечения. Этот формат также по¬
зволяет вам сообщать ребенку чувство обладания активной ролью вместо пассив¬
ной роли отвечающего на вопросы. Это в свою очередь работает на более мягкий
переход к первой терапевтической сессии, где вам предстоит задать еще меньше
вопросов, а ребенку предстоит проявить еще больше инициативы.
При проведении экосистемного вводного интервью важно затронуть не толь¬
ко настоящее развитие и функционирование ребенка, но и узнать, что он сам ду¬
мает по этому поводу, а также выяснить особенности функционирования осталь¬
ных систем, в которые он включен.
Психический статус
Игровые терапевты редко проводят формальные процедуры диагностики психи¬
ческого статуса с новыми клиентами-детьми; тем не менее многие из них затра¬
гивают больше сфер ребенка, чем сами осознают. Диагностика, выполняемая
полностью или частично, может быть полезным инструментом для получения
содержательной информации о ребенке. Детальное описание Теста психического
статуса {Mental Status Exam) и стратегий эффективного изучения систем, в кото¬
рые включен ребенок, можно найти в работе Play Therapy Treatment Planning and
Interventions: The Ecosystemic Model and Workbook (O'Connor & Ammen, 1997).
Внешний вид
Вам следует обращать внимание на внешний вид ребенка и выдвигать гипотезы о
том, как он влияет на его отношения с миром. Соответствует ли внешний вид ребен¬
ка его хронологическому возрасту или же он выглядит гораздо младше или гораз¬
до старше своих лет? Возможно, ребенок настолько привлекателен, что это отвле¬
кает внимание от других? Или он имеет некую странность в своем облике, которая
может сделать его «козлом отпущения»? Если имеет место последнее условие,
останется ли такая странность постоянной или она поддается изменению?
Особенности речи
Необычные речевые паттерны могут быть отражениями лежащих в их основе се¬
рьезных расстройств эмоциональной либо когнитивной сферы, специфических
языковых нарушений или нормальных вариаций развития, как, например, заика¬
ние у трех-четырехлетних детей. В некоторых случаях они могут также влиять на
восприятие возраста этого ребенка другими людьми и/или способствовать пре¬
вращению ребенка в «козла отпущения».
Ориентация во времени и в пространстве
В этой части «осмотра» вы оцениваете, насколько ребенок ориентируется в про¬
странстве, во времени и насколько адекватно он воспринимает других людей.
Глава 6. Процесс вхождения 195
Знает ли ребенок, кто он такой и кто вы такой? Знает ли он, где он сейчас нахо¬
дится? Знает ли он, соответственно своему возрасту, сколько сейчас времени, ка¬
кой сегодня день недели, какой идет месяц и какой год?
Аффективная сфера и особенности настроения
Информация об эмоциях и настроении ребенка обычно получается при помощи
наблюдения в течение остальной части интервью, хотя эти сферы можно оценить
и более непосредственно. Вам может понадобиться определить, способен ли ребе¬
нок переживать и проявлять полный спектр эмоций и адекватны ли эти эмоции
ситуациям, в которых они проявляются.
Эта часть интервью может стать наилучшим моментом для изучения самораз¬
рушительных мыслей и моделей поведения ребенка. Оценка суицидального по¬
тенциала детей — не самое приятное дело для многих терапевтов; однако очень
важно, чтобы вы все же выяснили его, эта проблема распространена повсеместно,
и она не исчезает, если ее игнорировать. Вам следует знать, были ли ранее зафик¬
сированы суицидальные мысли и попытки детей; такие дети находятся в группе
риска, потому что их умение контролировать свои импульсы и их способность оце¬
нить летальность выбранного ими метода крайне ограниченны.
Переход к теме самоубийства обычно дается сравнительно легко. Когда после
ваших направляющих действий ребенок начинает говорить о своих плохих чув¬
ствах, вы можете отразить ребенку ваше восприятие его слов; вы можете сказать
ему, что у вас создается такое впечатление, что его негативные чувства, такие как
гнев, печаль, одиночество и т. п., иногда становятся чрезмерно интенсивными,
и вам бы хотелось узнать, размышлял ли он когда-нибудь в эти моменты о том, что¬
бы самому нанести себе повреждение. Слово «повреждение» {hurting) использу¬
ется вместо слова «самоубийство» не для того, чтобы быть корректным и вежли¬
вым, а чтобы оценить наличие саморазрушающего поведения низших уровней,
такого как «случайное» нанесение себе травм, порезов, ожогов или ушибов. Если
ребенок отвечает «да» на ваш первоначальный вопрос, продолжайте спрашивать
его о видах саморазрушающего поведения, которые он проявлял. Когда вы полу¬
чите эту информацию или в случае, если ребенок ответит «нет», спросите его, хо¬
тел ли он когда-нибудь умереть. Это важный вопрос, поскольку многие дети, ко¬
торые могли никогда не думать о совершении самоубийства, хотели в то же время
умереть, а это желание указывает на наличие очень интенсивных негативных аф¬
фектов.
В качестве последнего шага в оценке суицидальных идей ребенка спросите его,
признавался ли он себе хоть раз в желании умереть, если он когда-нибудь хотел
убить себя. Если ребенок отвечает «нет», эта часть интервью закрыта; если он от¬
вечает «да», вы должны продолжить исследование по следующим пунктам.
1. Интенсивность и частота суицидальных мыслей.
2. Характер плана самоубийства ребенка:
1) условия, в которых он собирался осуществить свой план;
2) способ, который он собирался применить;
3) осуществимость выбранного способа.
196 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
3. Видение ребенком ресурсов, к которым он мог бы обратиться, если бы ко¬
гда-нибудь захотел совершить попытку самоубийства.
Чем более конкретно ребенок отвечает на любой из этих вопросов, тем больше
беспокойства вы должны проявить о его безопасности. Первоочередное решение,
которое вам предстоит принять, это ответить на вопрос: будет ли этот ребенок в
безопасности, оставаясь в своем доме и прибегая к амбулаторному лечению, или
требуется более интенсивное вмешательство? К сожалению, подробное описание
терапевтической работы с детьми, обладающими суицидальными склонностями,
находится вне сферы внимания данной работы; за дополнительной информацией
вы можете обратиться к книге The Suicidal Child (Pfeffer, 1986).
Помимо этого, следует оценить наличие у ребенка мыслей об убийстве и соот¬
ветствующего поведения. Хотя дети практически никогда не следуют таким мыс¬
лям, их нужно исследовать, ведь, как мы уже могли видеть в случае с Фрэнком,
даже очень маленькие дети могут убить другого человека. Эту тему следует изу¬
чать с использованием того же самого формата, который применяется для оценки
суицидального потенциала. Вы можете начать дискуссию, спросив ребенка, хотел
ли он когда-нибудь, чтобы кто-то из тех, кого он знает, просто исчез, а затем про¬
должить ее, отталкиваясь от этой точки.
Содержание и процесс мышления
Вам необходимо оценить ясность мышления ребенка не только для того, чтобы
исключить возможность психоза, но для определения влияния когниций ребенка
на его повседневное поведение. Важно выяснить наличие у ребенка опыта галлю¬
цинаторных переживаний, хотя процесс их выявления у маленьких детей пред¬
ставляет некоторую сложность. Одной из стратегий проведения этой части диаг¬
ностики будет задавание следующей серии вопросов.
1. Было ли когда-нибудь так, что ты играл один, шел по улице или просто со¬
средоточился на чем-нибудь и при этом слышал, что кто-то зовет тебя по
имени, а когда ты поворачивался посмотреть, кто это тебя зовет, вокруг не
оказывалось ни одного человека? (Практически каждый ребенок признает¬
ся, что испытывал подобное.)
2. Как ты думаешь, почему это происходило? (Здесь вы должны оценить, со¬
ответствует ли ответ ребенка уровню его когнитивного развития.)
3. Слышал ли ты когда-нибудь что-то большее, чем просто свое имя, напри¬
мер любые другие слова или разговоры, которые никто, кроме тебя, не слы¬
шал или когда вокруг тебя никого не было?
4. Видел ли ты когда-нибудь что-нибудь, что не мог увидеть никто, кроме
тебя?
При получении положительного ответа на любой из двух последних вопросов
нужно провести детальное изучение природы переживаний ребенка в каждом из
этих случаев. Когда имел место этот феномен? Что в это время происходило с ре¬
бенком? Каким было содержание феномена? Более полно тема оценки и интер¬
претации феномена галлюцинаций у детей раскрыта в книге Hallucinations in Child¬
ren (Pilowsky & Chambers, 1986).
Глава 6. Процесс вхождения 197
Кратковременная и долговременная память
Память ребенка обычно оценивается без стандартной процедуры, просто по ходу
интервью. Также ее можно оценить более формально, предложив ребенку выпол¬
нить задачу, подобную субтесту «Числовые ряды» из исправленного детского ва¬
рианта интеллектуального теста Векслера. Развитие долговременной памяти мож¬
но оценить на основании рассмотрения памяти ребенка на события.
Интеллект
Вам нужно диагностировать развитие интеллекта ребенка на основании наблю¬
дений, сделанных в ходе вводной беседы. Часто специалисты, работающие в сфе¬
ре психического здоровья, опасаются ставить такие оценки, поэтому важно по¬
мнить, что ваша оценка будет отражать то, как ребенок вел себя на первой встрече
с незнакомым взрослым, и не обязательно окажется показателем его актуального
когнитивного потенциала.
Общий кругозор и информационный запас
Общий запас знаний ребенка достаточно просто оценить в ходе интервью, но вам
может понадобиться добавить к интервью случайный набор общих вопросов, что¬
бы и оценить общие знания, и дать ребенку отдохнуть, периодически смягчая со¬
держание беседы. Подходящие вопросы можно выбрать из любого детского теста
на интеллект.
Социальный интеллект
В контексте интервью существуют два источника, позволяющие судить о социаль¬
ном интеллекте ребенка: это вид поведения, который он проявляет в течение ин¬
тервью, и степень, в которой это поведение уместно для ребенка данного уровня
развития, находящегося в данной ситуации. Можно ожидать, что большинство
детей первого уровня будут демонстрировать значительное нежелание подойти к
незнакомцу, тогда как дети второго уровня могут подойти к незнакомцу, но не
будут испытывать к нему особого интереса. Дети третьего уровня должны прояв¬
лять гораздо более социально адекватное поведение. Терапевты обычно приходят
в восхищение, когда маленький ребенок с готовностью приходит на первую сес¬
сию и очень быстро включается и начинает проявлять интерес; но часто это ско¬
рее симптом нехватки межличностного взаимодействия или эмоционального го¬
лода (affect hunger), чем признак психического здоровья.
Степень осознания (<apparent insight)
Оцените уровень понимания ребенком существующей проблемы, а также его
мысли и чувства, связанные с ней. Осознает ли ребенок наличие проблемы? Есть
ли у него какие-либо мысли, мотивирующие его вести себя такими способами,
которые приводят к направлению на терапию? Вынося суждение о том, обладает
ли ребенок адекватным уровнем проникновения в суть проблемы, вы должны по¬
стоянно помнить об уровне развития ребенка и осознавать, что способность к са¬
монаблюдению и истинному пониманию обычно не развивается у детей, пока они
не достигают по меньшей мере третьего уровня.
198 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Кроме того, в ходе вводного интервью часто оцениваются следующие области
(La Greca, 1983).
I. Интересы.
1. Что ребенок любит делать в свободное время?
2. Что ребенок любит делать один?
3. Что ребенок любит делать с друзьями?
4. Что ребенок любит делать с членами семьи?
II. Страхи и беспокойства.
1. Чего ребенок боится?
2. Что заставляет ребенка нервничать?
3. О чем ребенок беспокоится?
III. Образ себя.
1. Что ребенок любит или не любит в себе?
2. Что ребенок умеет делать лучше сверстников?
3. Как бы ребенок описал себя?
IV. Соматические проблемы.
1. Болят ли иногда у ребенка голова или живот?
2. Испытывает ли ребенок другие боли?
3. Как часто это случается?
4. Что ребенок делает в таких случаях?
V. Стремления.
1. Кем ребенок хочет стать, когда вырастет?
2. Чего еще ребенок ждет от того времени, когда вырастет?
VI. Фантазии.
1. О чем ребенок мечтает?
2. Что ему снится?
3. Если бы ребенок мог исполнить три любых своих желания, какие жела¬
ния он бы загадал?
Настоящая социальная ситуация
Завершив диагностику психического статуса, интервьюер переходит к сбору ин¬
формации о восприятии ребенком окружающей его среды и о его функциониро¬
вании в ней. При работе с детьми несколько проще получать информацию об их
развитии, если начинать с настоящего и двигаться к прошлому. Это соответствует
склонности детей с большей легкостью вспоминать недавние и эмоционально
окрашенные события.
Семья
Следует попросить ребенка описать его современную жизненную ситуацию и чув¬
ства, которые он относительно нее испытывает, а также каждого из людей, кото-
Глава 6. Процесс вхождения 199
рые составляют его семью. Эту часть интервью вы можете реализовать, предложив
детям нарисовать «Проективный рисунок семьи» (Kinetic Family Drawing; Burns
& Kaufman, 1972).
Школа
Каковы любимые учебные предметы ребенка? Какие предметы нравятся ему
меньше других? Как он ладит с учителями? Какова успеваемость ребенка? Как он
ведет себя в школе?
Сверстники
Также вам нужно получить информацию о взаимоотношениях ребенка со сверст¬
никами и в школе, и дома. Как он описывает своих сверстников? Считает ли ребе¬
нок, что у него есть друзья? Если да, то как он описывает этих друзей? Что он
любит делать вместе с друзьями?
Социальная биография
В течение этой части интервью будьте готовы к тому, что ребенок не сможет пред¬
ставить свою историю в упорядоченном во времени виде. Дети первого или вто¬
рого уровня часто даже не умеют выстраивать во временной последовательности
несколько элементов одного события. Дети третьего уровня, вероятно, смогут ор¬
ганизовать элементы одного события, но будут неспособны точно локализовать
это событие в своей жизненной истории. Независимо от организационных способ¬
ностей ребенка, вам следует позволить ему сообщать информацию любым выбран¬
ным им способом, а не пытаться руководить им в ходе построения им временной
презентации, что может фрустрировать его и убедить в том, что вы более заинте¬
ресованы в форме его истории, а не в ее содержании. В конце интервью вы всегда
можете вернуться и задать несколько вопросов, помогающих вам встроить полу¬
ченную информацию в последовательность.
Семья
В этой части интервью вы будете спрашивать ребенка о том, как изменилась его
семья с течением времени. Имел ли место развод, повторное вступление в брак?
Появились ли в семье младшие сиблинги (братья и/или сестры)? Вышел ли в са¬
мостоятельную жизнь кто-либо из старших детей? Описание реакции ребенка на
эти события гораздо важнее, чем способность ребенка вспомнить их. Что он ду¬
мал о них? Что он чувствовал, когда они происходили, и как он с тех пор к ним
адаптировался?
Школа и сверстники
Подобным же образом нужно узнать, как изменились со временем отношения ре¬
бенка со школой и сверстниками. Менял ли ребенок школы; если менял, то как
часто? Изменился ли статус ребенка по сравнению со сверстниками? Изменилась
ли академическая успеваемость ребенка? Изменилось ли со временем поведение
ребенка по отношению ко взрослым и/или сверстникам в школе?
После завершения вводного интервью наступает подходящее время, чтобы дать
ребенку возможность обсудить его цели в лечении. Выяснилось, что даже дети
200 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
девятилетнего возраста способны достигать разумных решений по поводу своего
лечения (Weithorn, 1980). Важно использовать каждую возможность, чтобы вклю¬
чать хотя бы старших детей и подростков в процесс принятия решений относи¬
тельно их лечения и активно вовлекать их в обсуждение целей лечения. Их учас¬
тие не только оправдано с этической точки зрения, но также может иметь другие
позитивные эффекты: снижение сопротивления лечению и повышение мотивации
(Adelman, Kaser-Boyd, & Taylor, 1984).
Маленькие дети могут не только живо включаться в принятие терапевтических
решений, они, кроме того, способны лучше отвечать на все аспекты процесса вхож¬
дения, описанные до сих пор, чем обычно считают большинство взрослых, в том
числе и профессионалов. С детьми всех возрастов лучше всего вступать в менее
прямой обмен вопросами и ответами, чем при работе с взрослыми. Если задавать
подряд слишком много вопросов, дети обычно ощущают себя как на допросе и от¬
казываются отвечать. Когда это возможно, лучше заменить вопросы простыми
командами. Например, терапевт может сказать: «Мне хотелось бы побольше узнать
о твоих друзьях. Расскажи о тех ребятах, с которыми тебе нравится играть». При
работе в таком формате ребенку становится ясно, что вас интересует, и он не бес¬
покоится о возможности появления двойного смысла, который мог бы возник¬
нуть, если бы вы спросили: «Есть ли у тебя друг»?
Ребенок первого уровня обычно сталкивается с трудностями в ходе любого
процесса вхождения, особенно если он проводится в формате «вопрос — ответ».
Для детей, функционирующих на этом уровне, многие содержательные области
придется затрагивать вкратце или полностью от них отказываться. Но важно не
позволить ограниченному экспрессивному языку ребенка и его ограниченной спо¬
собности делиться с вами информацией удерживать вас от предоставления ему
максимально возможного количества информации в очень простом формате. Вы
всегда должны описывать природу отношений и причины для начала лечения.
Отражение забот ребенка также полезно для того, чтобы помочь ребенку сориен¬
тироваться в процессе лечения.
Как только ребенок оказывается на втором уровне, становится возможным
полный опрос по всем описанным здесь содержательным областям. При работе с
детьми, функционирующими на этом уровне, необходимо адаптировать не содер¬
жание вводного интервью, а формат получения информации. Дети второго уров¬
ня могут потребовать объяснить им ваши ожидания от них настолько подробно,
что вы окажетесь к этому не готовы. С детьми второго уровня приходится тратить
много времени на прояснение значения слов. Вам придется познакомиться с осо¬
быми словами, которыми пользуется ребенок, и познакомить его с вашим слова¬
рем. Установление границ и структуры сессии перед сбором информации предпри¬
нимается только в том случае, если поведение ребенка очень дезорганизованно и
импульсивно. В большинстве же случаев ребенок с готовностью включается в ин¬
тервью, как только понимает ситуацию, в которой оно проводится.
От детей третьего и четвертого уровней можно ожидать предоставления отно¬
сительно полной вводной информации и активного участия в процессе терапии с
самого начала. Ребенок третьего уровня сможет поделиться сравнительно ограни¬
ченными сведениями о своих внутренних состояниях и чувствах, если они не свя-
Глава 6. Процесс вхождения 201
заны со специфическими событиями и взаимодействиями. Ребенок четвертого
уровня постепенно сможет предоставить достаточно подробную информацию о
своих чувствах, в том числе и в чисто гипотетических ситуациях, с которыми на
практике он еще не сталкивался.
Перед завершением вводной беседы вам следует сказать ребенку, что будет
происходить дальше. Если возможно такое решение, в результате которого ребе¬
нок к вам не вернется, скажите ему об этом. Если вы твердо уверены, что следую¬
щая сессия состоится, вам нужно немного рассказать ребенку, что это будет за за¬
нятие. Объяснение может ограничиться простым информированием ребенка о том,
с чего начнется ваша работа: вы будете больше узнавать о нем, проводя вместе
определенное время, которое будет протекать менее напряженно и более интерес¬
но и весело. Это означает, что в течение следующей сессии вы не будете задавать
столько вопросов и ребенок получит возможность не только поговорить, но и что-
то сделать. Также вы можете рассказать ребенку и его родителю, в какой одежде
ребенку нужно приходить на сессии. Предполагается, что одежда должна быть
свободной, игровой, чтобы вы и ребенок могли не беспокоиться о защите его одеж¬
ды от таких вещей, как клей и краски.
Случай из практики: Аарон
В ходе вводного интервью Аарон вел себя совершенно, как взрослый. Он не совсем по¬
нимал, почему мать привела его на терапию, хотя и догадывался, что это может быть
связано с теми неприятностями, в которые он иногда попадал в школе из-за своей
склонности командовать. Тут же он добавил, что вынужден командовать, потому что
другие дети постоянно делают то, что им не положено делать, а учителя, видимо, не¬
способны заставить их вести себя лучше и поэтому нуждаются в его помощи.
Аарон детально описал свою семью и дом. Он описывал события в четкой временной
последовательности и любил приводить такие данные, как продолжительность поезд¬
ки во время какого-нибудь путешествия, а также где и когда они останавливались, что¬
бы перекусить. Все его рассказы содержали лишь поверхностное описание эмоций. Он
говорил о болезни отца очень прагматично и отрицал какие бы то ни было сильные
эмоциональные реакции на изменения, которые происходили в течение этих лет, кро¬
ме замечания о том, что иногда было трудно приспособиться, но это было необходимо.
Аарон не сообщал ни о каких взаимоотношениях со сверстниками. Вместо этого он
отмечал, что поведение других детей не давало ему возможности сблизиться с ними.
Он признался, что начинает злиться, если кто-то беспокоит его или трогает его вещи.
Психический статус Аарона привлекает внимание отсутствием проявлений аффекта,
хотя он может использовать слова для описания чувств, которые испытывал в про¬
шлом. Очевидно, он был очень умным, а также обладал удивительной способностью к
самоконтролю и контролированию других. Он носил рубашку на пуговицах, которая
все еще сохраняла следы утюга, брюки со стрелками и ремень — одежду он выбирал себе
сам. Он встал со своего места, только получив разрешение. Часто он пытался изменить
направление интервью или прервать его, обсуждая предметы, находящиеся в комнате,
и спрашивая, может ли он посмотреть их.
Аарон не мог придумать ни одной причины, из-за которой ему нужно лечение, хотя и
признал, что иногда он немного нервничает и хотел бы найти кого-нибудь, с кем мож¬
но было бы играть. В этот момент он имел в виду терапевта, а не желание играть со сво¬
ими сверстниками.
202 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Случай из практики: Фрэнк
В течение вводной беседы Фрэнк смог рассказать о тех фактах из своего прошлого, ко¬
торые совпадали с тем, что описывалось в истории болезни. Но из-за сложностей с вы¬
ражением мыслей, речевых затруднений и чрезвычайного недостатка доверия он стре¬
мился излагать факты сухо и конкретно, избегая любого обсуждения эмоций.
Фрэнк признал, что устроил пожар, в котором погибла его мать, и что он сделал это
намеренно. Он сказал, что поджег несколько бумажек на кухне, а затем, когда огонь
начал распространяться, испугался. В этот момент он попытался вытащить мать из по¬
стели, но она прогнала его. Тогда он взял кошку и вышел в прихожую, но не смог от¬
крыть дверь, чтобы выйти наружу. Его спасли пожарные, но кошка погибла.
Также Фрэнк вспомнил инцидент, когда его покусала собака, и сказал, что его отец
очень разозлился на то, что он дразнил собаку и спровоцировал нападение. Фрэнк за¬
метил, что хотя отец и заявлял, что застрелил собаку случайно, он считает, что тот сде¬
лал это специально. Более того, он уверен, что отец сделал это не для того, чтобы защи¬
тить его, а чтобы наказать его за то, что он дразнил собаку. Мальчик считал, что отцом
двигала следующая логика: «Если ты не умеешь обращаться с собакой так, как надо, ты
не можешь иметь собаку».
Групповую клинику Фрэнк описывал как свою семью. Он не упоминал ни о каких вза¬
имодействиях с другими детьми, помещенными в эту клинику, или с детьми в школе.
Проверка психического статуса Фрэнка показала, что функции ребенка в основном
сохранны, за исключением очень ограниченного развития речи и связанной с этим огра¬
ниченной способности вспоминать события и организовывать свои вербальные прояв¬
ления. Его эмоции были крайне ровными, и у него полностью отсутствовало осознание
причин, из-за которых его направляли на серию лечебных программ, и причин, из-за
которых он демонстрирует поведение, приводящее его к этим направлениям. Он был
минимально включен в процесс вхождения, и, видимо, его не беспокоило, будет ли он
приходить на будущие сессии.
Полные истории как ребенка, так и семьи, формируют первый блок для постро¬
ения концепции развития данного клиента. При помощи этой информации вы
можете сформулировать несколько общих гипотез, которые далее могут прове¬
ряться в ходе диагностики. Гипотезы, которые вы вырабатываете на основании
истории ребенка, оформляются в следующем виде: «Поскольку это произошло в
течение этой фазы развития, вот ожидаемый результат, а вот логичный вид вме¬
шательства». Здесь мы говорим только о выдвижении гипотезы; выработка плана
лечения рассматривается в следующей главе.
Случай из практики: Ларон
Первые два года жизни Аарона протекали оптимальным образом, пока он не столкнул¬
ся с одним травматическим событием, которое, однако, продолжает свое действие до
сих пор: с началом рассеянного склероза отца. Травма, в частности, связана с потерей
отцом контроля над своим телом. Терапевт выдвинул гипотезу, что, возможно, контроль
настолько важен в жизни Аарона потому, что он совершает переход от первого ко вто¬
рому уровню развития, когда дети развивают свой стиль контроля, а именно аутоплас¬
тичный, аллопластичный либо смешанный стиль.
Случай из практики: Фрэнк
В течение раннего развития Фрэнк испытал многочисленные травмирующие пережи¬
вания. Его отношения с родителями могли быть адекватными, кажется, лишь в тече-
Глава 6. Процесс вхождения 203
ние одного или двух первых лет жизни. Однако, начиная со смерти брата, он подвер¬
гался практически постоянному травмирующему воздействию. Принимая во внимание,
что брат Фрэнка умер, когда последний совершал переход с первого на второй уровень,
терапевт выдвинул гипотезу о том, что Фрэнк, возможно, обладает некоторыми про¬
блемами с развитием привязанностей и имеет значительные сложности с управлением
агрессией. Он предположил, что Фрэнк колеблется между отношениями враждебно¬
сти и зависимости и демонстрирует агрессивное, взрывное поведение, соответствую¬
щее поведению, которое можно наблюдать у двухлетних детей.
В тот период, когда Фрэнк должен был вступить в эдипальный конфликт, он стал при¬
чиной смерти матери и сразу после этого был вовлечен в отношения сексуального на¬
силия с отцом. Терапевт выдвинул гипотезу, что Фрэнк может обладать серьезными
проблемами, связанными с полоролевой идентификацией и с отделением секса от аг¬
рессии. Также терапевт предположил, что Фрэнк, вероятно, может выражать свой гнев
через разведение огня.
Фрэнк находился в отношениях сексуального насилия с отцом на всем протяжении его
перехода от второго к третьему уровню, и поэтому терапевт выдвинул гипотезу, что
Фрэнк настолько занят попытками обезопасить себя, что у него не остается доступной
энергии, чтобы сформировать отношения со сверстниками, и что они продолжают оста¬
ваться проблематичными.
Как только вы сформулировали эти общие гипотезы относительно развития
вашего клиента, вы готовы перейти к диагностической фазе терапевтического про¬
цесса.
Глава 7
Оценка, формулировка диагноза
и планирование лечения
Курс экосистемной игровой терапии, излагаемый в следующих нескольких гла¬
вах, отличается от большинства других моделей игровой терапии, потому что ваша
роль в направлении ее течения чрезвычайна. Вы начинаете с тщательной оценки
ребенка и семьи для того, чтобы определить настоящий уровень развития и фун¬
кционирования ребенка, а также проблемы и конфликты, на которые необходимо
обратить внимание. Критически важный вопрос — каким вы намереваетесь сде¬
лать лечение: краткосрочным или долговременным. На самом деле, для того чтобы
провести более короткое по времени лечение, часто необходим более интенсив¬
ный процесс оценки, позволяющий четко определить цели и тщательно сплани¬
ровать лечение. Затем вы используете полученную информацию для разработки
плана терапии, имеющего конкретные цели. Терапия проходит через стадию вхож¬
дения, рабочую фазу и фазу завершения. Все это время вы пытаетесь максималь¬
но усовершенствовать деятельность ребенка относительно его способностей, обу¬
словленных развитием, и преобразовывать действия в слова всякий раз, когда это
возможно и уместно.
Оценка и диагноз
Планирование лечения зависит от точности оценки уровня развития ребенка во
всех областях его функционирования и от точности психологического диагноза.
В данном контексте отнесение ребенка к одной из диагностических категорий не
будет определяющим аспектом диагностического процесса. Скорее, диагноз ис¬
пользуется в качестве обозначения формулировки, которую терапевт вырабатыва¬
ет для психологического объяснения набора симптомов и уровня функционирова¬
ния, демонстрируемых пациентом. Эти концепции о развитии клиента направлены
на описание лежащих в его основе патологических процессов и поэтому более по¬
лезны для разработки плана лечения, чем диагнозы (Shirk & Russell, 1996). Боль¬
шая часть информации, которую необходимо выработать игровому терапевту для
формулировки диагноза и соответствующего ему плана лечения, приобретается в
ходе вводных бесед с родителями и ребенком. Но иногда вам понадобится допол¬
нительная информация, которую можно получить при помощи более прямого
процесса оценки.
Далее мы рассмотрим процесс оценки, причем до описания оборудования игро¬
вой комнаты, так как обычно рекомендуется, чтобы оценка проходила не в игровой
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 205
комнате, а в других условиях. Это положение отражает различные и часто кон¬
фликтующие процессы, связанные с процедурой оценивания и с самой игровой те¬
рапией. Многие оценки могут напоминать школьные задания и поэтому быть не¬
приятными для ребенка, поэтому крайне нежелательно, чтобы игровая терапия
начала ассоциироваться у ребенка со школой. Таким образом, использование для
проведения диагностики другого помещения может спасти ребенка от связывания
неприятных ассоциаций с самой игровой терапией. Более того, поскольку процесс
оценки часто включает задачи, с которыми ребенок не справляется, вам не нужно,
чтобы он приходил на терапевтические сессии, считая, что его поведение будет
рассматриваться как успешное либо неудачное. Чем меньше процесс оценки на¬
поминает традиционные контрольные экзамены и тесты и чем больше он основы¬
вается на наблюдении в ходе игровых сессий, тем больше вероятность, что вам
можно проводить эти сессии в игровой комнате. Если это тот случай, то перед тем,
как приступить к делу, прочтите в главе 8 принципы организации пространства
игровой комнаты.
Диагностические игровые сессии
Один из вариантов получения информации помимо начального интервью — ис¬
пользование диагностических игровых сессий. Наиболее содержательный текст,
посвященный проведению оценки, основанной на игре, это Play Diagnosis and As¬
sessment (Shaefer, Gitlin, & Sandgrund, 1999). Хотя существуют несколько струк¬
турированных техник, большинство игровых терапевтов полагаются на достаточ¬
но неструктурированные игровые сессии. Достоверность этого подхода сильно
варьирует в зависимости от навыков терапевта. В большинстве случаев рекомен¬
дуется вводить в такие сессии некоторую структуру, чтобы они, по меньшей мере,
предоставляли ребенку специфические материалы. Одно из возможных примене¬
ний этих наполовину структурированных игровых диагностических сессий — изу¬
чение влияния специфической травмы на ребенка, ее жертву.
Эрика-метод ( The Erica Method) является производным от техники мира Левен-
фельда (Lowenfeld World Technique) (1939,1950), состоящей из миниатюрных иг¬
рушек — деревьев, домов, людей, машин и т. д. — и ящика с песком, в котором док¬
тор Левенфельд предлагал детям построить некий «мир». Затем творения детей
становились источником материала для интерпретаций.
Техника Левенфельда модифицировалась в Институте Эрика (Erica Institute)
в Швеции до тех пор, пока не превратилась в содержательную проективную мето¬
дику, используемую для оценки психологического функционирования ребенка.
Элис Дэниэльсон опубликовала руководство по Эрика-методу в 1965 году; это ру¬
ководство помогло Эрика-методу стать наиболее используемой техникой для ди¬
агностических наблюдений за детьми в Швеции и других скандинавских странах.
Материалы состоят из 360 миниатюрных игрушек, которые содержатся в шкафу,
состоящем из 12 отделений. Игрушки распределяются по 12 категориям в зави¬
симости от того, являются ли они мирными, агрессивными, движущимися, актив¬
ными или статичными. Кроме того, в набор входит кусочек глины, чтобы ребенок
мог создать все что захочет, если не увидит этого среди имеющихся игрушек.
На полу находятся два металлических ящика, один из которых наполнен сухим
206 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
песком, а другой — мокрым. Эти ящики помещены в деревянную раму, на кото¬
рой сидят ребенок и исследователь.
Ребенок наблюдается в течение трех сессий, запланированных с минимальны¬
ми возможными промежутками между ними. Применение трех сессий повышает
валидность и надежность метода, так как позволяет сравнивать конструкции, сде¬
ланные ребенком в разное время. Особый интерес для вас будет представлять то,
улучшаются ли постройки ребенка со временем или разрушаются. В конце сессии
следует сфотографировать творение ребенка и заполнить карту наблюдения.
Карта наблюдения организует все данные, замеченные терапевтом, в четыре
категории: последовательность, форма, композиция и содержание. К последова¬
тельности относятся такие факторы, как латентный период ответов, темп работы
ребенка и количество времени, потребовавшегося ему на выполнение работы.
К форме относятся такие факторы, как материалы, использованные ребенком,
способ использования им песка и тип игры, которую он начинает. Категория ком¬
позиции отражает способ организации использованных ребенком материалов. Су¬
ществуют семь типов композиции, отражающих постепенно улучшающиеся ин¬
теллектуальную деятельность и уровень развития: 1) индифферентный тип —
игрушки размещены случайным образом; 2) сортировка — похожие игрушки груп¬
пируются вместе; 3) конфигурация — игрушки выстроены в виде геометрических
фигур; 4) простая категория — группировка игрушек основывается на их концеп¬
туальных сходных чертах; 5) совмещение — несколько связанных между собой
игрушек помещаются рядом друг с другом, но не соединяются в одно целое; 6) кон¬
венциональная группировка — создаются маленькие реалистичные системы иг¬
рушек; 7) осмысленная целостность — игрушки организованы так, что образуют
крупные, более сложные сцены. Считается, что три дополнительных типа компо¬
зиции свидетельствуют о патологии: 1) хаотический тип — игрушки разбросаны
вокруг ящика с песком; 2) эксцентричный тип — ребенок помещает рядом несо¬
вместимые элементы; 3) закрытый тип — сцены, создаваемые ребенком, окруже¬
ны стенами и заборами. К категории содержания относятся темы, затронутые ре¬
бенком на сессии или на протяжении нескольких сессий.
Информация, полученная на этих трех сессиях, используется для разработки
четырех типов диагностических формулировок. Формулировка диагноза разви¬
тия — это описание функционирования ребенка в различных областях. Диагноз
среды описывает отношения между конструкциями, созданными ребенком, и его
реальным миром. Соматический/психосоматический диагноз содержит описания
взаимодействий между медицинским/биологическим функционированием и по¬
ведением. Психопатологические диагнозы представляют собой более традицион¬
ные описания интрапсихических переменных, вызывающих проблемное поведе¬
ние ребенка. Эти диагнозы могут быть использованы для планирования лечения
ребенка, которое может проводиться традиционно либо с дополнительными сес¬
сиями с применением Эрика-метода (описание Эрика-метода адаптировано из
статьи Sjolund, 1983).
Интервью, используемые некоторыми служащими, следящими за соблюдени¬
ем правопорядка, а также психологами, психиатрами и психотерапевтами для
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 207
диагностики сексуального насилия над маленькими детьми, являются примера¬
ми умеренно структурированных диагностических игровых техник. Взгляды на
юридическую и психологическую полезность такого интервью значительно варь¬
ируют даже среди тех, кто ориентируется на защиту ребенка. С одной стороны,
есть те, кто считает такие интервью способом надежной «материализации» опыта
ребенка и снижения количества контактов ребенка со следователями, юристами
и судебной системой, особенно если интервью записывают на пленку или снима¬
ют на камеру. С другой стороны, находятся сторонники того, что надежность ма¬
териала, полученного в ходе таких сессий, может оказаться невысокой и что запи¬
си таких сессий используются для дискредитации свидетельств ребенка на суде.
Количество стратегий проведения неструктурированных диагностических иг¬
ровых интервью так же неограниченно, как и количество применяющих их прак¬
тиков. Этот ряд тянется от вариантов техники мира до чисто наблюдательных ме¬
тодов, в которых вы предоставляете ребенку разнообразные игровые материалы
и даете ему некоторые очень свободные инструкции, позволяющие использовать
все материалы, которые кажутся ему подходящими. Затем вы наблюдаете, какие
материалы выбирает ребенок, в игру какого типа он играет: каковы ее структура,
организация, законченность, какие символы он использует и т. д. Эта информация
интерпретируется в соответствии с вашей теоретической ориентацией. Психоана¬
литически ориентированный терапевт проинтерпретировал бы содержание игры
ребенка на различных символических уровнях; терапевт гуманистической направ¬
ленности мог бы наблюдать за способностью ребенка включаться в способствую¬
щие обретению здоровья виды поведения как в реальности, так и в фантазиях;
бихевиоральный терапевт мог бы взять сессию как модель поведения ребенка,
отметив период его произвольного внимания, способность к использованию ма¬
териалов, ориентированность на терапевта и т. д.
Заметьте, что наблюдения игрового поведения ребенка могут использоваться
для оценки уровня его развития. Игра, подобно всем другим типам поведения
ребенка, следует предсказуемой последовательности развития. Прекрасное рас¬
смотрение темы игры и развития можно найти в работе Cognitive-Developmental
Considerations in the Conduct of Play Therapy (Harter, 1983). Наблюдения игрового
развития ребенка могут использоваться для выработки гипотез относительно дру¬
гих аспектов его развития, а также для постановки целей и создания стратегий
лечения.
Вы можете применять любую из этих техник в зависимости от того, какой ас¬
пект внутренней деятельности, или экосистемы, ребенка нуждается в прояснении.
Формальное тестирование
Формальное психологическое тестирование не является стандартной частью про¬
цедуры оценки клиента, проводимой большинством игровых терапевтов перед
началом лечения. Но оно может оказать неоценимую помощь при выяснении об¬
щего уровня развития ребенка и при выделении конкретных областей, развитие
в которых происходит неровно. Как мы уже отмечали, задержки развития у детей,
пришедших на терапию, встречаются очень часто, но именно неровное развитие
может порождать наибольшие проблемы.
208 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Тестирование когнитивной сферы
Эта часть диагностической процедуры может помочь в идентификации настояще¬
го уровня когнитивного развития. Данная информация может оказаться полезной
для вас в трех различных направлениях. Во-первых, знание когнитивного функ¬
ционирования ребенка на данный момент позволит вам понять, как он до сих пор
перерабатывает свой опыт. Во-вторых, вы получаете возможность подогнать про¬
цесс и содержание игровой терапии под уровень ребенка так, чтобы максимизи¬
ровать обучение, которое он получит на сессиях, и скорость перенесения этих
улучшений во внешний мир. Наконец, знание когнитивного уровня ребенка мо¬
жет помочь вам выработать соответствующие ожидания о его поведении как на
сессиях, так и за их пределами. То есть когнитивный уровень можно использовать
для идентификации сферы функционального потенциала ребенка.
Баллы, полученные по шкале коэффициента интеллекта (IQ), не будут особо
ценными для любой из этих целей, просто на их основании сравнивают ребенка с
нормой, и они говорят о некотором отклонении от средней нормы, а не об уровне
развития или о степени совершенства когнитивной сферы ребенка. Ребенок, чей
общий коэффициент интеллекта (Full Scale IQ) согласно WISC-III (Wechsler Intelli¬
gence Scale for Children-III — Шкала интеллекта Векслера для детей-Ш» — Wechs¬
ler, 1991) равняется 100 баллам, составленным из 130 баллов, полученных по шкале
вербального интеллекта ( Verbal IQ), и 70 баллов, полученных по шкале оператор¬
ного интеллекта (Performance IQ), очень сильно отличается от ребенка, коэффи¬
циент интеллекта которого по всем этим трем величинам составляет 100 баллов.
Более того, два ребенка, набравшие одинаковое число баллов и по шкале вербаль¬
ного, и по шкале операторного интеллекта, могли добиться этого при совершенно
различных типах деятельности. Один из них мог хорошо использовать вербаль¬
ные навыки, предпочитая воспринимать новый материал по аудиальным каналам,
тогда как другой ребенок мог с большей успешностью обрабатывать визуальную
информацию. С другой стороны, анализ субтестов теста Векслера (WISC-ПГ) и
реакций ребенка на их специфические пункты может очень много рассказать вам
о его стиле мышления и помочь определить те сильные или слабые стороны, ко¬
торые могут тормозить либо ускорять прогресс лечения.
Стандартизированные тесты нормативно-информационного интеллекта, по¬
добные WISC-III, могут помочь вам сравнить когнитивное функционирование
данного ребенка с когнитивным функционированием других детей его возраста,
но они не всегда полезны при разработке плана лечения. Например, низкие бал¬
лы, полученные ребенком по результатам выполнения арифметического субтес¬
та, субтеста складывания фигур, складывания кубиков Косса и т. д., не всегда со¬
общают нам много сведений о привычном когнитивном стиле данного ребенка.
К тому же всегда необходимо помнить о потенциальной неадекватности использо¬
вания многих стандартизированных тестов интеллекта для оценки детей, не яв¬
ляющихся англо- или евроамериканцами. Более того, результаты большинства
тестов интеллекта не очень охотно переводятся в гипотезы относительно функ¬
ционального развития ребенка. Как описывалось во II части этой книги, уровень
когнитивного развития ребенка будет определять способ переработки им как об-
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 209
щих жизненных переживаний, так и опыта, получаемого на сессиях. Поэтому хо¬
рошее понимание уровня когнитивного развития ребенка существенно для про¬
ведения эффективных терапевтических сессий.
Проективное тестирование
Для определения уровня психосексуального развития ребенка могут использовать¬
ся различные проективные инструменты в соответствии с психоаналитической
теорией, а также с его эмоциональным опытом и копинг-стратегиями. Проектив¬
ное тестирование может выявить не только уровень функционирования ребенка
на данный момент, но и неразрешенные травмы и конфликты, тянущиеся с пре¬
дыдущих стадий развития.
Проективное тестирование также может быть полезным в выявлении способа
восприятия мира ребенком. Среди типичных вопросов, ответы на которые можно
получить в ходе проективного интервью, есть следующие: развития каких взаи¬
модействий между взрослыми, или между детьми, или между взрослыми и детьми
ожидает ребенок? Как ребенок понимает роли окружающих его значимых фигур?
К кому он обращается за помощью в случае возникновения проблем? Какие типы
результатов он ожидает в различных ситуациях? Как ребенок осмысляет себя в
мире? Сильный он или беспомощный? Хороший или плохой? Все эти представ¬
ления о мире в определенный момент будут влиять на ход лечения или непосред¬
ственно проявляться в его ходе. Если вы хотя бы немного знаете о самых значи¬
мых, организующих мыслях и установках вашего клиента, вы можете предвидеть
их появление и успешно обращаться к ним в процессе терапии.
Оценка развития
Когнитивное тестирование может выявить уровень функционирования ребенка
на данном этапе и создать некоторое представление о его возможном потенциале,
проективное тестирование может измерить личностное функционирование ребен¬
ка, но разработка адекватного игротерапевтического плана лечения кроме всего
этого требует от вас представления об уровне общего развития ребенка абсолют¬
но во всех сферах его функционирования. Существуют несколько прекрасных ин¬
струментов оценки уровня развития ребенка во всех областях его деятельности.
Здесь рассматриваются две методики: Винеландская шкала адаптивного поведе¬
ния {Vineland Adaptive Behavior Scales; VABS) и Методика определения рейтинга
целей развивающей терапии {Developmental Therapy Objective Rating Form).
VABS (Sparrow, Balia, & Cicchetti, 1984) разработана как структурированное
интервью, которое следует проводить с теми, кто хорошо знает ребенка: обычно
это его родитель или опекун. Этот инструмент настолько известен и так широко
распространен, что здесь мы лишь вкратце описываем его.
VABS используется для сбора информации о функционировании ребенка в пя¬
ти областях: коммуникация (рецептивная, экспрессивная и письменная), повсе¬
дневные жизненные навыки (личные, домашние, общественные), социализация
(межличностные отношения, игра и досуг, навыки копинга), двигательные навы¬
ки (мелкая и крупная моторика) и неадаптивное поведение. Подпункты каждой
из этих областей состоят из операциональных (поддающихся наблюдению) моделей
210 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
поведения. Целевые типы поведения выстраиваются иерархично в соответствии
с возрастом, в котором их проявление считается нормой.
Интервьюер проверяет каждый тип поведения, который упоминается респон¬
дентом как обычное для ребенка поведение, демонстрируемое им регулярно. Этот
инструмент измеряет привычное, а не оптимальное функционирование. Чтобы
поддерживать раппорт с респондентом и предотвращать крайнее искажение им
ответов, пункты не представляются непосредственно; сведения получаются путем
очень широкого интервью, содержащего специфические информативные вопро¬
сы, применяемые только когда информация, необходимая для заполнения какой-
либо шкалы, не предоставляется респондентом самопроизвольно.
Как только все данные собраны, «сырые» баллы переводятся в стандартизован¬
ные баллы, национальные процентные ранги, адаптивные уровни и возрастные
соответствия. Как и в случае с другими тестами, содержащими пункты, располо¬
женные в иерархическом порядке в зависимости от норм развития, первоначаль¬
ные пункты, которые ребенок не выполняет в каждой шкале, становятся целями
вмешательства.
VABS обеспечивает значительное количество очень полезной информации, ка¬
сающейся планирования лечения. К сожалению, в силу природы теста, который
связан не с какой-либо теорией, а только с рамками нормы, многие его пункты не
всегда переводятся в концепты, совместимые с любой частной моделью развития,
что создает сложности для интеграции полученной информации и вашей общей
концептуальной парадигмы функционирования ребенка. Исключениями являют¬
ся шкалы социализации и неадаптивного поведения, каждая из которых все рав¬
но может принести большую пользу.
Методика определения рейтинга целей развивающей терапии {Developmental
Therapy Objective Rating Form; DTORF){ — это «инструмент изучения развития,
использующий порядковую шкалу оценки социально-эмоционального развития
испытуемого... которая делает акцент на последовательном процессе овладения ее
пунктами и на ее прямом применении в используемой программе» (Wood, Combs,
Gunn, & Weller, 1986, p. 46; Wood, Davis, Swindle, & Quirk, 1996). DTORFособен¬
но полезна для планирования лечения по двум причинам. Во-первых, она позво¬
ляет терапевту осмыслять общее развитие ребенка, в то же время отмечая любую
неравномерность, неровное развитие различных областей. К тому же DTORFраз¬
работана как часть всеобщей программы вмешательства «Специальное образова¬
ние» для детей с эмоциональными и поведенческими нарушениями, так чтобы
цели, выделенные для каждого испытуемого, можно было непосредственно пре¬
вращать во вмешательства.
DTORF подразделяется на четыре области: поведение, коммуникация, социа¬
лизация и академическое обучение. В рамках каждой области пункты варьируют
от весьма общих видов поведения, поведения низкого уровня на уровне осознания 11 В настоящее время применяется DTORF-R (1999). Современные исследования и усовершенствова¬
ния DTORF-R и материалы теста можно получить по адресу: Developmental Therapy-Teaching Pro¬
grams, Box 5153, Athens, GA, 30604-5153 или по электронной почте: mmwood@arches.uga.edu. Также
в сети Интернет существует соответствующая веб-страница: www.uga.edu/dttp.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 211
до очень сложных моделей поведения, отражающих высокие уровни интегриро¬
ванной, координированной социальной и когнитивной деятельности. Например,
первой целью в области социализации является «Осознание наличия окружаю¬
щих». С другой стороны, последняя цель в этой последовательности: «Демонстра¬
ция способности поддерживать отношения с группой взрослых людей и индиви¬
дуальные отношения, в которых существует взаимное вознаграждение». Цели
разделяются на пять последовательных стадий развития, где первая стадия явля¬
ется самым низшим, а пятая стадия — самым высоким уровнем.
Далее представлены нормальные возрасты нахождения на каждой стадии
и первичные задачи для каждой из них.
Стадия 1. Возраст 0-2 года; научиться реагировать на окружающую среду и до¬
верять ей.
Стадия 2. Возраст 2-6 лет; научиться индивидуальным навыкам.
Стадия 3. Возраст 6-9 лет; научиться применять индивидуальные навыки, на¬
ходясь в группе.
Стадия 4. Возраст 9-12 лет; научиться ценить свою группу.
Стадия 5. Возраст 12-16 лет; научиться применять индивидуальные и группо¬
вые навыки в новых ситуациях (Wood et al., 1986).
К сожалению, стадии DTORF и уровни, предложенные во II части этой книги,
не соответствуют друг другу, поскольку DTORF предполагает, что ребенок до до¬
стижения 11 лет проходит не три, а четыре стадии. В силу причин, несколько ме¬
нее очевидных, DTORF разделяет третий уровень, соответствующий стадии кон¬
кретных операций в ходе развития интеллекта, на два этапа. Но если не обращать
внимания на данный аспект DTORF, эти модели практически идентичны.
DTORF содержит последовательности из 171 операционально определяемой
цели. Эти цели расположены в иерархическом порядке и охватывают промежу¬
ток развития ребенка от рождения до 16-летнего возраста. Специалист, произво¬
дящий оценку, просто начинает с самого раннего уровня развития области, кото¬
рую предстоит оценить. Каждое поведение, соответствующее критерию, которое
присутствует в репертуаре ребенка по меньшей мере в 80 % времени, последова¬
тельно проверяется. Специалист проходит весь список, пока не достигнет некое¬
го поведения, которое ребенок регулярно не демонстрирует; это поведение стано¬
вится целью лечения. Данную методику можно также использовать для оценки
прогресса, достигнутого в ходе лечения.
«Валидность конструкта для DTORF была установлена в первоначальной мо¬
дели развивающей терапии, которая строится на основании результатов иссле¬
дования и теории, рассмотренных в главе 2 (из текста Developmental Therapy, Wood
et al., 1986). Каждый пункт DTORF связан с этой информационной базой. Валид¬
ность содержания методики для применения ее в работе с испытуемыми, страдаю¬
щими эмоциональными нарушениями, в первый раз была подтверждена полевыми
исследованиями, длившимися более пяти лет, в ходе которых были протестиро¬
ваны свыше 400 детей с серьезными эмоциональными нарушениями. Со времени
212 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
первого полевого тестирования DTORFприменялась в работе с несколькими тыся¬
чами детей от 2 до 16 лет, среди которых были лица, страдающие такими расстрой¬
ствами, как аутизм, умственная отсталость, серьезные множественные умствен¬
ные нарушения (severely multiply handicapped), глухота, серьезные эмоциональные
нарушения, шизофрения, социальная и поведенческая отсталость, а также обыч¬
ные и одаренные дети».
В целях планирования программы игровой терапии для ребенка используют¬
ся только области коммуникации и социализации. Обычно вы идентифицируете
от трех до шести целей ребенка, по одной или по две в каждой из трех областей.
Хотя не каждый пункт можно непосредственно применить к работе, которую вы
будете проводить с ребенком в игровой комнате, большинство из них применить
можно. К тому же многие цели могут сообщаться непосредственно родителям или
учителям ребенка, чтобы люди, окружающие ребенка в его среде, могли работать
на повышение генерализации (перенесения улучшений, сделанных в ходе тера¬
пии, в реальную жизнь).
Цели развивающей терапии1
Поведенческие цели
Стадия 1
0. Показывать осознание сенсорных стимулов, демонстрируя любые реакции,
направляемые на источник стимула или на другой объект.
1. Реагировать на сенсорные стимулы, обращая к источнику стимула язык те¬
ла или взгляд.
2. Реагировать на стимул, обращая внимание на источник стимула.
3. Непосредственно реагировать на простые стимулы среды, демонстрируя
моторное поведение.
4. Демонстрировать моторные и телесные реакции на сложные вербальные
стимулы и стимулы среды.
5. Активно обучаться навыкам самообслуживания.
6. Независимо реагировать на несколько игровых материалов.
7. Демонстрировать припоминание привычных событий или явлений, спон¬
танно сдвигаясь к следующей области деятельности, не дожидаясь физиче¬
ских стимулов.
Стадия 2
8. Использовать по назначению игровые материалы, демонстрируя нормаль¬
ные игровые переживания.
9. Ждать без физического принуждения со стороны взрослого.
1 Список целей взят из книги The Developmental Therapy Objectives: A Self-Instructional Workbook
(Wood, 1979, p. 99-132). Практические примеры, приведенные после каждого пункта в оригинале,
для краткости опущены.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 213
10. Вербально и физически участвовать в «сидячих» занятиях, таких как рабо¬
чее время или полдник, без физического принуждения со стороны взросло¬
го.
11. Вербально и физически участвовать в двигательных занятиях, таких как
перерывы, дневное время, игры и музыкальные занятия, без физического
принуждения со стороны взрослого.
12. По своему желанию вербально и физически участвовать в различной дея¬
тельности без физического принуждения.
Стадия 3
13. Выполнять короткие индивидуальные задачи с использованием знакомого
материала без всякого вмешательства учителя.
14. Принимать похвалу или успех без потери контроля или неадекватного по¬
ведения.
15. Сообщать о понимании основных домашних, школьных и общественных
ожиданий, предъявляемых к нему.
16. Просто объяснять причины ожиданий, испытываемых на его счет дома,
в школе и в обществе.
17. Говорить другим о более адекватных способах поведения в данной ситуа¬
ции.
18. Воздерживаться от неадекватного поведения, когда другие члены группы,
в которой сейчас находится ребенок, теряют над собой контроль.
19. Сохранять физический и вербальный контроль, участвуя в групповой дея¬
тельности, включающей переходы (transitions) и групповую игру.
Стадия 4
20. Адекватно реагировать, сталкиваясь с необходимостью принять на себя
роль лидера в группе.
21. Демонстрировать начинающееся осознание собственного прогресса в пове¬
дении.
22. Использовать адекватные альтернативные модели поведения.
23. Демонстрировать гибкость в изменении процедур для удовлетворения ме¬
няющихся потребностей группы.
24. Сохранять вербальный и физический контроль, приобретая новый опыт.
25. Отвечать на провокации, сохраняя вербальный и психический контроль.
26. Реагировать на критические межличностные и групповые проблемы пред¬
ложениями конструктивных решений.
Стадия 5
27. Стремиться развивать новые личные умения или навыки, связанные с ми¬
ром работы.
28. Определять и развивать желаемые позитивные групповые роли.
214 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
29. Открыто принимать ответственность за результаты собственных действий
и отношений.
30. Демонстрировать понимание и принятие понятий закона и порядка в шко¬
ле и в обществе посредством осознанно выбираемого поведения или вер¬
бальных средств.
31. Поддерживать групповое самоуправление и участвовать в нем.
32. Независимо применять рациональные процессы сбора и анализа информа¬
ции, делать выводы и переносить их на решение личных проблем.
Коммуникативные цели
Стадия 1
0. Произносить звуки.
1. Обращать внимание на говорящего.
2. Реагировать на вербальные стимулы моторным поведением.
3. Отвечать на вопросы, называя отдельный объект так, чтобы издаваемые
звуки приближались к соответствующей вербальной реакции и были узна¬
ваемыми.
4. Спонтанно использовать узнаваемую отдельную звуковую имитацию сло¬
ва в нескольких областях деятельности для наименования либо описания
объекта, события или ситуации.
5. Произносить узнаваемые отдельные слова в нескольких видах деятельно¬
сти с целью получения желаемой реакции от взрослого или чтобы назвать
для взрослого какой-либо объект.
6. Произносить узнаваемые отдельные слова в нескольких видах деятельно¬
сти с целью получения желаемой реакции от ребенка или чтобы назвать для
другого ребенка какой-либо объект.
7. Производить осмысленные, узнаваемые последовательности слов, чтобы
получить желаемую реакцию от других или чтобы назвать какой-либо
объект, при отсутствии модели такой последовательности.
Стадия 2
8. Отвечать на вопросы либо просьбы ребенка или взрослого осмысленными,
уместными и узнаваемыми словами.
9. Демонстрировать пассивный словарный запас, не меньший, чем ожидается
от ребенка, хронологический возраст которого на два года младше.
10. Использовать простые последовательности слов для руководства, вопроса
или просьбы, обращенных к другому ребенку или к взрослому в соответ¬
ствии с нормами дисциплины.
И. Использовать слова, чтобы делиться со взрослым минимальной информа¬
цией.
12. Давать простые, отчетливые характеристики себя и других.
13. Спонтанно использовать слова, чтобы делиться минимальной информаци¬
ей с другим ребенком.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 215
Стадия 3
14. Спонтанно использовать слова для описания личных переживаний, мыслей
или деятельности.
15. Использовать слова или жесты для демонстрации испытываемых эмоцио¬
нальных реакций на окружающую среду, предметы, людей или животных.
16. Участвовать в групповых дискуссиях, не разрушая своим поведением груп¬
повую работу.
17. Описывать свои личные качества, сильные черты и проблемы.
18. Использовать слова и невербальные средства для демонстрации гордости
за свою работу и деятельность или высказывать позитивные утверждения
о себе.
19. Описывать характерные черты других людей.
20. Опознавать чувства других людей и вербально называть их.
21. Использовать слова для демонстрации гордости своими достижениями.
Стадия 4
22. Направлять чувства или переживания при помощи креативных, невербаль¬
ных посредников, таких как искусство, музыка, танец или театр.
23. Показывать своим поведением понимание прогресса своего поведения.
24. Объяснять, как собственное поведение отражается на поведении других
людей.
25. Использовать слова похвалы или личной поддержки другого человека.
26. Использовать слова для непосредственного и адекватного выражения сво¬
их чувств при нахождении в группе.
27. Использовать слова для вступления в позитивные отношения и со сверст¬
никами, и со взрослыми.
28. Непосредственно выражать причину и последствия отношений между чув¬
ствами и поведением, влияющих на себя и на членов группы.
Стадия 5
29. Делать вербальные утверждения, сложные по структуре и фигуральные ли¬
бо абстрактные по содержанию.
30. Спонтанно демонстрировать способность в провоцирующих групповых си¬
туациях выбирать вербальные реакции, призывающие к примирению.
31. Вербально поддерживать других, признавая их роль и действия и включая
в свои ответы упоминания слов и мыслей этих людей.
32. Описывать множественные мотивы и ценности в социальных ситуациях.
33. По своему желанию и без помощи взрослых выражать свои собственные
ценности, мысли, приверженности и убеждения.
34. Использовать коммуникативные навыки для поддержания позитивных
межличностных и групповых отношений.
216 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Цели социализации
Стадия 1
1. Осознавать факт существования других людей.
2. Присматриваться к поведению других людей.
3. Реагировать на взрослого, который называет имя ребенка.
4. Невербально взаимодействовать со взрослым для удовлетворения своих по¬
требностей.
5. Включаться в самостоятельно организованную игру, в которой ребенок сам
является единственным участником.
6. Поворачиваться ко взрослому в ответ на его вербальные или невербальные
просьбы.
7. Демонстрировать понимание отдельных вербальных просьб или указаний,
даваемых непосредственно ему.
8. Произносить узнаваемые отдельные слова в ходе некоторой деятельности,
чтобы получить от взрослого желаемую реакцию или назвать ему какой-
нибудь объект.
9. Произносить узнаваемые отдельные слова в ходе некоторой деятельности,
чтобы получить от ребенка желаемую реакцию или назвать ему какой-ни¬
будь объект.
10. Произносить осмысленную, узнаваемую последовательность слов для по¬
лучения желаемой реакции от других или для наименования некоторого
объекта, не имея непосредственной модели этой фразы.
11. Демонстрировать становление личности.
12. По своему желанию стремиться к контакту с взрослым человеком.
Стадия 2
13. Спонтанно участвовать в специфической игровой деятельности одновре¬
менно с другим ребенком, используя похожие материалы, но не вступая во
взаимодействие.
14. Уметь спокойно ждать без физического принуждения со стороны взрослого.
15. Инициировать адекватные минимальные социальные взаимодействия с дру¬
гим ребенком.
16. Участвовать в вербальной беседе.
17. Участвовать в интерактивной игре с другим ребенком.
18. Сотрудничать с другим ребенком в ходе организованной деятельности.
Стадия 3
19. Воспринимать моделируемое другим ребенком адекватное поведение.
20. Делиться и уметь соблюдать очередь, не демонстрируя стенания и жалоб.
21. Проводить или показывать некие упражнения для групповой деятельности.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 217
22. Относить к простым социальным ситуациям ценностные суждения, такие
как правильно/неправильно, хорошо/плохо, честно/нечестно.
23. Участвовать в деятельности, предложенной другим ребенком, без демон¬
страции неадекватных реакций.
24. Описывать опыт своих достижений, соблюдая логическую последователь¬
ность событий.
25. Демонстрировать появление дружеских симпатий к отдельному ребенку
или к отдельным детям.
26. Стремиться помочь другому ребенку или похвалить его.
27. Помогать другим в соблюдении групповых правил.
Стадия 4
28. Идентифицироваться со взрослыми лидерами, героями или другими реаль¬
но существующими людьми.
29. Описывать групповой социальный опыт, соблюдая логическую последова¬
тельность событий.
30. По своему желанию предлагать группе сверстников некоторое адекватное
занятие.
31. Выражать осознание социального поведения других, отличающегося от его
собственного в подобной ситуации.
32. Демонстрировать уважение к мнениям других.
33. Открыто выражать интерес к мнениям сверстников о нем.
34. Выдвигать конструктивные решения в ответ на возникающие межличност¬
ные или групповые проблемы.
35. Узнавать и различать противоположные ценности в социальных ситуациях.
36. Делать для себя выводы из возникающих социальных ситуаций.
Стадия 5
37. Демонстрировать понимание ситуаций, мыслей, чувств и точек зрения дру¬
гих людей и уважение к ним (эмпатия).
38. Участвовать во взаимоотношениях, выступая во многих разнообразных ро¬
лях.
39. Делать личные выборы в социальных ситуациях, основываясь на собствен¬
ных ценностях и принципах.
40. Демонстрировать понимание своей личности, описывая цели, соответствия,
несоответствия и непоследовательности между тем, кто он есть, и тем, ка¬
ким он хотел бы быть.
41. Демонстрировать способность поддерживать зрелые индивидуальные и груп¬
повые отношения, в которых существует взаимное подкрепление.
Определив целевые модели поведения или проблемы развития и имеющие
значение существующие психологические конфликты, вы готовы переходить
к разработке плана лечения.
218 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Формулировка диагноза и выработка целей
Как подчеркивается на всем протяжении этой книги, первоочередная роль игро¬
вого терапевта в разработке и реализации плана лечения — максимально усовер¬
шенствовать функционирование ребенка, при этом сведя к минимуму проявляе¬
мые им симптомы. Чтобы терапия была эффективной как по результату лечения,
так и по времени и материальным вложениям, затраченным родителями ребенка,
вам следует всегда исходить из четкого плана лечения. Этот план может со време¬
нем меняться, но его следует придерживаться для обеспечения информационно¬
го фундамента, базируясь на котором вы строите свою работу.
Некоторые цели, на достижение которых вы направляете свою деятельность, бу¬
дут выработаны ребенком и/или его родителями в течение вводной беседы, и их
будет необходимо включить в ваш план лечения. Остальная часть ваших целей бу¬
дет выработана на основании рассмотрения и интерпретации тех данных, которые
вы собрали в ходе вводной беседы, диагностических процедур и ваших личных
наблюдений.
Разработка хороших, содержательных целей лечения — сложная часть в любой
форме лечения. Она становится еще сложнее, когда вы, по мере вашей работы,
пытаетесь принять к рассмотрению очень много различных аспектов жизни и эко¬
системы ребенка. Этот процесс можно несколько упростить, если разбить план на
три фазы.
На первой стадии описывается современная модель функционирования ребен¬
ка во всех областях его жизни, которые можно оценить. Для создания такого опи¬
сания используйте информацию, полученную от ребенка, членов его семьи, дру¬
гих источников и из любых доступных диагностических процедур. Особенно
внимательно вырабатывайте описание общего функционирования ребенка, в ко¬
торое включаются его проблемные модели поведения. Среди целей, выдвигаемых
на данной стадии анализа, спецификация шагов по лестнице развития, которые
предстоит сделать ребенку для достижения оптимального уровня функциониро¬
вания. Эти цели лежат главным образом в областях эмоциональной и социальной
деятельности ребенка.
На второй стадии анализа выдвигайте гипотезы об источниках современного
функционирования ребенка. Каковы источники задержек развития ребенка, а так¬
же тех проблем, которые не связаны с уровнем его развития? Исходные факторы,
к которым следует обратиться, не основываются на прошлом опыте ребенка: это
такие факторы, которые являются частью самого ребенка, так сказать, его личным
вкладом. Возможно, у вас не получится обратиться к этим факторам в ходе лече¬
ния ребенка, но они являются решающими для определения как стратегий, кото¬
рые следует использовать, так и для создания разумных ожиданий относительно
оптимального уровня функционирования ребенка. Кроме того, вы, подобно пси¬
хоаналитику, должны осознавать, что остаточные влияния прошлого ребенка мо¬
гут быть серьезным барьером на пути изменения присущих ему сейчас способов
поведения. Это не значит, что терапия может уничтожать или изменять прошлое,
а лишь гарантирует, что вы рассмотрите ситуацию, из которой выросло поведе¬
ние ребенка. Цели, выведенные из этой части анализа, состоят главным образом
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 219
из перечисления тех прошлых переживаний ребенка, к которым придется обра¬
титься в ходе терапии. План лечения может либо гарантировать, что ребенок под¬
вергнется переживаниям, которые перевесят оригинальный опыт, либо помочь
ребенку интегрировать свой прошлый опыт и свою настоящую жизнь на когни¬
тивном и эмоциональном уровнях.
На третьей стадии выдвигайте гипотезы относительно факторов, поддержива¬
ющих настоящий уровень функционирования ребенка. Эти факторы могут про¬
истекать из любого сегмента его сложившейся жизненной ситуации (его экосис¬
темы), включая факторы, вкладываемые ребенком, а также факторы, добавляемые
семьей, школой, сверстниками ребенка и т. д. Некоторые из ваших целей будут
направлены на факторы, действие которых необходимо ослабить или удалить,
чтобы они не препятствовали прогрессу ребенка; другие цели будут направлены
на факторы, которые необходимо усилить, чтобы они максимально способствова¬
ли его развитию. И снова обращение ко всем этим пунктам в ходе терапии ребен¬
ка может оказаться невозможным или даже нежелательным, но они могут иметь
опосредованное значимое влияние на общий ход лечения.
Сложившийся паттерн функционирования ребенка
Уровень развития
Каков общий уровень функционирования ребенка и каковы его потребности?
В каких сферах функционирование ребенка адекватно, а в каких — нет? Насколь¬
ко испытываемые ребенком в настоящее время трудности можно назвать откло¬
нениями в развитии, а насколько — поведением, нетипичным для его уровня фун¬
кционирования? Независимо от способа оценки уровня развития ребенка, будь то
интервью, рейтинговая шкала или формальная диагностическая процедура, преж¬
де чем продолжить лечение, необходимо обратиться к каждому возникшему вопро¬
су. Именно через призму теоретического осмысления терапевтом функционирова¬
ния и уровня развития ребенка будет рассматриваться вся остальная информация
о нем, и именно на этом основании будет осуществляться планирование всего
последующего лечения. В первую очередь лечение должно разрабатываться в рас¬
чете на ту сферу ребенка, в которой уровень его функционирования самый низ¬
кий, и в то же время пользоваться теми преимуществами, которыми он обладает
в других сферах. На средней фазе лечения терапевт планирует сессии для уско¬
рения движения ребенка вдоль прямой развития, чтобы он постепенно макси¬
мально приблизился к показателям, которые считаются соответствующими его
хронологическому возрасту. Лечение подходит к своему завершению, когда функ¬
ционирование ребенка кажется максимально соответствующим нормам возраста
и уровню развития с учетом его личных особенностей. В следующих ниже приме¬
рах после каждой приведенной цели находится код, обозначающий область раз¬
вития (П — для поведенческих целей, К — для коммуникативных целей, С — для
целей социализации) и порядковый номер цели из DTORF (методика определе¬
ния рейтинга целей развивающей терапии,).
Случай из практики: Аарон
С использованием DTORF было определено, что к 6 годам Аарон функционировал на
стадии 4 в поведенческой сфере, на стадии 3 в коммуникативной сфере и на стадии 2
220 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
в сфере социализации. При этом для его хронологического возраста нормой было функ¬
ционирование на стадии 3 во всех трех сферах.
Цели: Аарон будет способен: 1) адекватно реагировать на случаи, когда его выберут
либо не выберут лидером в групповой деятельности (П-20); 2) демонстрировать начи¬
нающееся осознание прогресса своего поведения (П-21); 3) использовать слова или
жесты для адекватной демонстрации своих позитивных и негативных чувств, вызыва¬
емых в ответ на действие окружающей среды, людей или животных (К-15); 4) участво¬
вать в групповых дискуссиях, не разрушая своим поведением групповую работу (К-16);
5) инициировать адекватные минимальные движения в сторону другого ребенка (С-15);
6) участвовать в интерактивной игре с другим ребенком (С-17).
Случай из практики: Фрэнк
С использованием DTORFбыло определено, что к 10 годам Фрэнк функционировал на
стадии 2 в поведенческой сфере, стадии 2 в коммуникативной сфере и стадии 2 в сфере
социализации. С учетом его хронологического возраста нормой было функционирова¬
ние на стадии 4 во всех трех сферах.
Цели (Wood, 1979, р. 93-132): Фрэнк будет способен: 1) использовать по назначению
игровые материалы (П-8); 2) по своему желанию вербально и физически участвовать в
различной деятельности без физического принуждения (П-12); 3) демонстрировать
пассивный словарный запас, не меньший, чем ожидается от ребенка, хронологический
возраст которого на два года младше (К-9); 4) использовать слова, чтобы делиться со
взрослым минимальной информацией, помимо обращения с просьбой (К-11); 5) по
своему желанию участвовать в специфической игровой деятельности одновременно
с другим ребенком, используя похожие материалы, но не вступая во взаимодействие
(С-13); 6) инициировать адекватные минимальные социальные взаимодействия с дру¬
гим ребенком (С-15).
Когнитивная сфера
Рисуя картину когнитивного функционирования ребенка, необходимо обратить¬
ся к двум различным вопросам. Во-первых, вы должны определить актуальный
уровень его интеллектуального функционирования и выдвинуть гипотезы отно¬
сительно его интеллектуального потенциала, а с другой стороны, вы должны опре¬
делить, какие из его мыслей и установок формируют стиль его мышления и его
взгляды на мир. То есть вам придется идентифицировать стержневые убеждения,
базирующиеся на опыте ребенка, а также те убеждения, которые могут иметь ка¬
кую-либо основу в современной реальности, но могут обходиться и без нее.
Не нужно предпринимать специфических измерений интеллекта ребенка, осо¬
бенно если его общее функционирование находится приблизительно на среднем
уровне. В конце концов, на природу лечения ребенка влияет не коэффициент его
интеллекта, а его способ обработки информации и сохранения ее в памяти. Поэтому
вам полезно знать, имеет ли ребенок какие-либо общие когнитивные проблемы
или любые специфические нарушения познавательных способностей. Что касает¬
ся нарушения познавательных способностей, вам следует понимать, что некото¬
рые трудности с обучением будут иметь гораздо большее влияние на общее функ¬
ционирование ребенка и на природу его лечения, чем все остальные проблемы.
Например, ребенок, страдающий отсутствием каких бы то ни было математиче-
скихнспособностей, может испытывать фрустрацию в школе, но маловероятно, что
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 221
это значительно повлияет на его способность общаться со своей семьей или со
сверстниками или что вам понадобится сильно модифицировать ваши методы для
его лечения. С другой стороны, ребенок, чей общий интеллектуальный уровень
близок к нормальному, обладающий при этом расстройством, влияющим на вос¬
приятие речи и формулирование своих собственных высказываний, с гораздо
большей вероятностью будет сталкиваться с трудностями в своих социальных
взаимодействиях, и ему потребуется лечебный план, соответствующий его обще¬
му интеллектуальному развитию, но со значительным акцентом на развитие речи.
Соответствие этой интегративной модели и когнитивно-бихевиоральной тера¬
пии отражается в том, что оба этих направления признают, что мысли и убежде¬
ния детей могут играть важную роль для продолжения их дисфункционального
поведения. Эти когнитивные компоненты должны выясняться, так как их можно
изменить, если вы хотите добиться любого поведенческого изменения в ходе те¬
рапии. Часто стержневые ошибочные убеждения детей о мире, в котором они
живут, не поддаются выявлению на начальных этапах лечения, хотя некие их про¬
явления позволяют выдвинуть гипотезу об их существовании. Эти гипотезы мо¬
гут использоваться в планировании терапевтического вмешательства практиче¬
ски с самого начала.
Случай из практики: Аарон
Когнитивное функционирование Аарона оценивалось с использованием детского вари¬
анта теста Векслера (WISC-III). Он получил 130 баллов по полной шкале коэффициен¬
та интеллекта, при небольших отклонениях между баллами субтестов. Это позволяет
предположить, что его интеллектуальные способности порядком опережают ожидае¬
мый уровень его развития и значительно облегчат ему использование когнитивных
стратегий в ходе игровой терапии.
Практически все когнитивные феномены Аарона соответствовали его возрасту. Но он
все же демонстрировал необычные установки относительно болезни своего отца. Не¬
смотря на то что он осуществлял большую часть заботы об отце, он практически не
понимал природы его болезни. Его родители считали, что он слишком мал, чтобы по¬
нимать какие-либо детали. В своем желании понять продолжающиеся изменения в
своей жизни, Аарон сделал множество предположений, которые означали, с учетом его
дооперационального уровня развития интеллекта, что многие соединяемые им факты
в реальности имели очень мало общего друг с другом. Одним из его частных искажен¬
ных убеждений была вера в то, что если он будет очень, очень хорошим, то с ним не
случится того, что произошло с отцом.
Цель. Аарон будет демонстрировать соответствующее его возрасту понимание болезни
своего отца.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк проходил диагностику прямо перед своим приемом на специальную стационар¬
ную образовательную программу, куда был направлен из-за постоянных проблем в
школе. По результатам детского варианта теста Векслера ( WISC-III), который Фрэнк
выполнял в 10 лет, он получил 80 баллов по полной шкале коэффициента интеллекта,
причем по показателю вербального интеллекта он набрал 72 балла, а по операциональ¬
ному интеллекту — 96 баллов. Хотя общее интеллектуальное функционирование Фрэн¬
ка было ниже среднего уровня, на учителей он производил впечатление подающего
222 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
некоторые надежды ученика. Чаще всего упоминалась крайняя неразвитость его речи.
Воспринимая речь на слух, Фрэнк не мог проследить за любыми утверждениями длин¬
нее простых предложений, произносимых в сравнительно медленном темпе. Введение
в беседу любых абстрактных понятий приводило к тому, что он полностью терял пони¬
мание содержания разговора. Когда Фрэнк говорил сам, он ограничивался очень ко¬
роткими утверждениями, а чаще всего старался избежать вербальных взаимодействий,
когда для этого существовала малейшая возможность.
Сравнительно низкий уровень когнитивного функционирования Фрэнка, его серьез¬
ные речевые проблемы и травмирующие жизненные переживания в сочетании значи¬
тельно замедляли его когнитивное развитие. Несмотря на свой возраст, мышление
Фрэнка все еще находилось на раннем уровне конкретных операций, что демонстриро¬
валось его неспособностью выстроить по порядку даже самую простую последователь¬
ность событий.
Из-за пережитого жесточайшего насилия, Фрэнк сохранил многочисленные убежде¬
ния о мире, которые влияли на его повседневное функционирование. Прежде всего он
считал, что несмотря на зависимость его эмоциональных и физических ресурсов от
взрослых, все его взаимодействия с ними могут привести сначала к насилию над ним с
их стороны, а затем — к его отторжению. Поэтому чувства зависимости Фрэнка че¬
редовались с его убеждением в том, что взрослые в его мире не умеют или не хотят по¬
стоянно и последовательно удовлетворять его потребности. Также он верил, что его
сверстники не способны удовлетворять свои потребности и вечно конкурируют за пра¬
во обладать ограниченными доступными ресурсами; поэтому он избегал своих сверст¬
ников или нападал на них. Очень важное убеждение, не обнаруженное на ранних ста¬
диях лечения, заключалось в уверенности Фрэнка в том, что он обладает гигантской
деструктивной силой. Фрэнк считал, что убил свою мать, чтобы защитить себя, и что
никто, кроме него самого, не смог бы так хорошо заботиться о нем, как он сам. Помимо
этого, он не понимал, куда именно делся его отец-насильник, и предполагал, что тот мо¬
жет вернуться.
Цели. Фрэнк будет: 1) уметь описывать свои чувства простыми предложениями и со¬
общать о коротких последовательностях событий, не меняя их местами; 2) стремиться
к тому, чтобы другие люди, сначала взрослые, а затем и сверстники, удовлетворяли
некоторые из его потребностей; 3) демонстрировать меньше страха перед отвержени¬
ем со стороны взрослых; 4) демонстрировать ослабление намерения наносить вред дру¬
гим.
Эмоциональная сфера
В этой области особую важность приобретают репертуар аффективных пережи¬
ваний ребенка, степень осознания им этих чувств и его способность вербально или
в поведении выражать эти чувства. Кроме того, терапевт должен понять, какая
мотивация лежит в основе поведения ребенка и, как и в случае с эмоциями, како¬
ва степень осознания ребенком своих мотивов и что представляет собой его спо¬
собность выражать их.
Доминирующей эмоцией детей, готовящихся начать лечение, является трево¬
га. Она может быть неочевидной, скрываясь за защитой или вторичными эмоция¬
ми, но присутствует почти всегда. Вам придется работать, обращаясь как к эмоци¬
ям, проявляемым ребенком в своих вербализациях и поведении, так и к лежащим
в их основе аффектам и тревогам.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 223
Случай из практики: Ларон
Во время интервью Аарон производил впечатление псевдовзрослого ребенка, и его мать
подтвердила, что это его стиль поведения в любых условиях. Его эмоции всегда выра¬
жаются адекватно и никогда не бывают интенсивными. Когда он сталкивался с чем-то
нелюбимым, он очень прямо выражал свое недовольство. Если его заявления не пре¬
кращали неприятного взаимодействия, он казался очень смущенным и становился
очень тревожным. Аарон отчаянно хотел постоянно держать все под контролем и со¬
противлялся вовлечению в деятельность, инициированную кем-либо другим. В школе
он настаивал на том, что будет делать все таким способом, который сам считает луч¬
шим. Если он был вынужден следовать указаниям, то находил возможность повернуть
дело так, как будто начальная идея принадлежала ему.
Цели. Аарон будет: 1) демонстрировать меньшую тревожность в ситуациях, в которые
попадает; 2) способен принимать помощь и дела других в учебных и социальных ситу¬
ациях; 3) проявлять большее разнообразие аффектов; 4) высказывать больше просьб к
другим людям об удовлетворении своих потребностей; 5) уметь не впадать в состояние
тревожности, сталкиваясь с незначительными беспокойствами или неприятностями.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк пришел на терапию, обладая крайне ограниченным аффективным репертуаром.
Он редко улыбался, плакал или чрезмерно гневался. На самом деле он редко взаимо¬
действовал с кем-либо еще, особенно со своими сверстниками. Когда Фрэнк говорил,
он обычно делал это монотонно, хотя иногда соскальзывал и на более тонкие вариации.
Фрэнк не умел сообщать об изменениях своего настроения (правда, он мог сказать, что
злится, когда его прямо об этом спрашивали). Если мальчик испытывал фрустрацию,
граничащую с гневом, то обычно реагировал деструктивными способами. Казалось, что
многие виды поведения Фрэнка мотивированы его желанием получить от другого че¬
ловека все возможное, прежде чем последний успеет отвергнуть его.
Цели. Фрэнк будет: 1) способен вербализировать свои эмоции; 2) способен осознать
вариации своего аффекта; 3) способен называть свои эмоции (аффекты), находясь в
различных ситуациях; 4) использовать речь для торможения своей склонности к отре¬
агированию.
Психопатология
Как мы уже говорили в главе 4, психопатология в экосистемной игровой терапии
рассматривается как неспособность индивида эффективно и/или адекватно удовле¬
творять свои потребности. Последнее всегда обозначает наличие у субъекта спо¬
собности удовлетворять свои потребности, не мешая при этом удовлетворению
потребностей других.
Случай из практики: Аарон
Потребность Аарона в заботе и привязанности последовательно удовлетворялась с мо¬
мента его рождения, хотя прогрессирующая болезнь отца означала, что у матери оста¬
валось все меньше и меньше времени для сына. К сожалению, из-за того что он был так
сильно сконцентрирован на родителях и их проблемах, он был не способен искать не¬
обходимую ему заботу вне дома, у своих сверстников, и соответственно получать ее.
Существовало некоторое чувство, что потребность Аарона в безопасности могла удовле¬
творяться неадекватно, так как он мог считать болезнь своего отца заразной. Но большая
часть трудностей Аарона происходила все же из его острой потребности в осуществле¬
нии контроля, которая мешала ему получать простые удовольствия от повседневных
224 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
переживаний и ощущений и обычно заставляла его контролировать своих сверстников
и относиться к ним несколько враждебно.
Цели. Аарон будет: 1) испытывать повышение чувства безопасности по мере достиже¬
ния лучшего понимания болезни его отца; 2) осознавать и выражать желание получать
заботу и поддержку от других взрослых, принадлежащих к его среде, и от сверстников;
3) учиться удовлетворять больше своих потребностей в заботе, отказавшись от части
своей потребности в осуществлении контроля.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк с самого раннего возраста был не способен удовлетворять свои потребности ни
эффективно, ни адекватно. Его потребность в заботе и привязанности перестала удов¬
летворяться адекватно, прежде чем ребенок достиг двухлетнего возраста, виной чему
стало жестокое обращение с ним со стороны матери. Этой потребности лишь частично
стало уделяться внимание в его современной жизненной ситуации, по мере того как
Фрэнк развивал чувство привязанности к своей приемной матери, но он считал, что не
заслуживает заботы от других взрослых и тем более детей и не получает ее. Его потреб¬
ность в безопасности была удовлетворена неадекватно за счет того, что она была достиг¬
нута ценой смерти матери. И даже после этого безопасность ребенка оказалась лишь
временной, поскольку насилие стал применять его отец. Далее, он перестал чувствовать
себя в безопасности даже с животными, после того как его укусил их домашний пес.
Его потребность в контроле и владении своей средой никогда не удовлетворялась ни
адекватно, ни эффективно. 6н осуществлял неадаптивный контроль в виде продолжа¬
ющихся вспышек ярости, начиная с того самого времени, когда устроил в доме пожар,
убивший его мать.
Цели. Фрэнк будет способен: 1) выражать желание получать поддержку от других
взрослых и получать ее; 2) выражать желание получать поддержку от сверстников и
получать ее; 3) выражать потребность в безопасности и в защите, обеспечиваемой окру¬
жающими взрослыми; 4) разрабатывать более точное чувство того, что он может, а что
не может контролировать; 5) разрабатывать стратегии подчинения необходимому кон¬
тролю других людей, не инициируя при этом агрессивного взаимодействия.
Репертуар возможных реакций
Как ребенок реагирует на стресс, на ситуативные требования, на чувство неудов¬
летворенности? Склонен ли ребенок к попыткам изменения окружающей среды
(аллопластичные изменения) или к изменению себя (аутопластичные изменения)
или его реакции варьируются в зависимости от ситуаций? Может быть, этот ребе¬
нок начинает значимые аутопластичные изменения, только если видит, что стра¬
дает кто-либо из окружающих его взрослых? Некоторые дети будут делать это,
чтобы удерживать взрослых на расстоянии, так как боятся, что если не сведут раз¬
дражение взрослых к минимуму, то рискуют получить наказание или новые чрез¬
мерные требования. Например, так происходит с детьми алкоголиков: дети в це¬
лях избежания конфликта становятся очень тихими и хорошо ведут себя, если
замечают, что их родитель пьян. Другие дети делают это, чтобы завоевать кредит
доверия взрослого, что гарантирует им удовлетворение их потребностей в буду¬
щем. Это может происходить, когда родители ребенка обладают настолько нарцис-
сической личностью, что не способны заботиться о нем до тех пор, пока не поза¬
ботятся об удовлетворении своих собственных потребностей.
Другие дети будут склонны к аллопластичным изменениям. Они жалуются,
когда испытывают фрустрацию, лезут в драку, когда сердятся, и требуют, чтобы
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 225
мир позаботился о них. Тем не менее большинство детей в различных ситуациях
демонстрируют как аутопластичное, так и аллопластичное поведение. Они могут
справляться со своим гневом аллопластично, избивая сверстников в школе, или
аутопластично, запираясь в ванной и кусая полотенце.
Случай из практики: Аарон
Аарон также был склонен решать все проблемы аутопластическим способом, но при
этом он концентрировал внимание не на своем внутреннем мире, а на окружающей
среде. Аарон содержал свою комнату совершенно стерильной. Его мать сообщала, что
у Аарона сохранены все игры, которые ему когда-либо дарили, и абсолютно все отно¬
сящиеся к ним детали и мелочи и что он точно знает, где, что и на какой полке у него
лежит. Точно так же он следил и за своей одеждой, которая содержалась с безукориз¬
ненной аккуратностью. Он редко играл с другими детьми, потому что они не хотели
играть по устанавливаемым им правилам и производили беспорядок. Он никогда не
позволял никому из других детей дотрагиваться ни до одной из своих игрушек.
Аарон мог регулярно вербально обращаться к обоим родителям с просьбой уделить ему
внимание.
Цели. Аарон: 1) перестанет проявлять неуместную тревожность в ситуациях, контро¬
лируемых другими людьми; 2) перестанет проявлять неуместную тревожность в не¬
структурированных ситуациях; 3) начнет обращаться к своим сверстникам с просьбой
о разрешении поиграть с ними.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк был склонен к первичным аутопластичным реакциям на стресс и фрустрацию.
Если ему что-то не нравилось, он просто уходил прочь или сидел с каменным лицом.
Он не боролся ни вербально, ни физически, пока его не подталкивали к этому. Если его
отказ отвечать не встречал должного уважения, он приходил в ярость и прибегал к фи¬
зическому насилию. В своем недавнем прошлом он убил котенка и серьезно поранил
своего приемного родителя. В школе для него пришлось установить строгие ограниче¬
ния, чтобы он не навредил сверстникам или персоналу. Позже стало очевидно, что он
склонен к насилию еще и тогда, когда чувствовал, что его могут не принять или про¬
гнать. Так, он обычно бурно реагировал, если другой ребенок удовлетворял свои по¬
требности первым, так как боялся, что теперь у взрослых не хватит ресурсов для него и
его забудут или обойдут.
Тревожность Фрэнка была практически незаметна в самом начале лечения. Самое боль¬
шее, он казался нечувствительным к межличностному напряжению, пока на карту не
ставились основные ресурсы. Позже было замечено, что Фрэнк реагирует агрессивно
всякий раз, когда включаются воспоминания о насилии над ним или о различных трав¬
мирующих жизненных переживаниях. Любое слово или действие, связанное с огнем,
достигало особого эффекта в запуске неадекватного поведения.
Цели. Фрэнк: 1) перестанет использовать уход и насилие в качестве способов совлада-
ния с фрустрацией; 2) во всех возможных случаях будет заменять действия словами;
3) будет проявлять меньшую тревогу в ответ на воспоминания о событиях своего дет¬
ства.
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка
Большая часть информации, содержащейся в этой части плана лечения, посвя¬
щена гипотетической, если не абстрактной травме, которую можно выделить в
биографии ребенка. При выстраивании концепции относительно источников его
226 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
трудностей вы пытаетесь понять, почему этот ребенок реагирует именно так на
этот конкретный набор условий. Эта задача подобна задаче поведенческого тера¬
певта, который пытается оценить, почему некий стимул или набор стимулов за¬
ставляет его клиента в определенных условиях демонстрировать определенные
реакции. Остается надеяться, что при помощи понимания того, как прошлое ре¬
бенка создало динамику его современных взаимодействий с миром, вы найдете
способы вмешательства и создадите ребенку динамику альтернативного стиля.
Специфика детской природы: «Личный вклад* ребенка (Endowment)
и обусловленный развитием способ реагирования (Developmental Response)
При разработке причинно-следственной гипотезы относительно взаимодействия
прошлого ребенка и его настоящей модели жизнедеятельности проще всего начать
с проверки того, что сам ребенок вносит в свои отношения с миром, то есть с его
личного вклада. Это направление размышлений не предназначено для обвинения
ребенка за его сложившееся состояние; это попытка понять, что каждый ребенок
уникален и что он сознательно и бессознательно привносит в свой мир некоторые
переменные. Данное положение легче всего принять в тех случаях, когда ребенок
рождается с очевидными природными дефектами, такими как слепота, глухота
или какой-либо физический недостаток. Если вы видите, что такой очевидный
вклад ребенка осуществляется в некоторых, а не во всех ситуациях, вы имеете дело
с теми детьми, чье поведение относится хотя бы частично к менее заметным де¬
фектам, как, например, в случае с аутичными или гиперактивными детьми. Роди¬
тели таких детей часто признаются, что эти отличия их детей имеют место с само¬
го рождения, хотя на деле заметили это отличие лишь за некоторое время до того,
как оно было диагностировано в ходе исследования. Дети, страдающие отсутстви¬
ем способностей к обучению, находятся ближе к тому концу этого континуума, где
расположены дети с меньшей выраженностью неполноценности, хотя окружаю¬
щие также могут считать их не такими, как все, начиная с самого раннего периода
их жизни. Наконец, даже совершенно здоровые дети привносят в любую ситуа¬
цию те ограничения, которые накладывает на них уровень их развития на данный
момент. Вне зависимости от сообразительности трехлетнего ребенка, он все еще
находится на втором уровне и может лишь очень упрощенно перерабатывать ин¬
формацию и демонстрировать соответствующие реакции. Он не может понять
сложных объяснений травматичных жизненных событий, как бы он ни старался
это сделать и каким бы доступным ни было объяснение. Необходимо постоянно
помнить об этих ограничениях для построения эффективной гипотезы о способах
понимания и реагирования ребенка на события в любой момент. Это взаимодей¬
ствие событий и уровня развития ребенка обозначается как «обусловленный раз¬
витием способ реагирования» и является ключевой частью установления фокуса
корректирующих переживаний, которые будут выстраиваться в ходе игровых те¬
рапевтических сессий.
Полностью истории Фрэнка и Аарона представлены в главе 4. Некоторые фак¬
ты из них повторяются здесь, чтобы помочь вам понять, как ребенок перерабаты¬
вает происходящие с ним события.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 22 7
Случай из практики: Аарон
Аарон производил впечатление вполне нормального ребенка, интеллектуальные спо¬
собности которого развиты выше среднего. Как и в случае с Деннис, эти навыки позво¬
ляли ему более успешно, чем другим детям, прибегать к аутопластичным попыткам
модифицирования окружающей среды.
Цели. Аарон будет демонстрировать использование альтернативных стратегий совла-
дания со стрессом в различных ситуациях.
Случай из практики: Фрэнк
Ограниченное когнитивное функционирование Фрэнка и его серьезное нарушение
речи сильно влияли на стиль его жизнедеятельности. Во-первых, вероятно, именно из-
за речевых проблем его отца не отстранили от родительских прав раньше. Фрэнк ни¬
когда не мог рассказать кому-либо о переживаемом им насилии; и вряд ли подлежит
сомнению тот факт, что он столкнулся бы с трудностями в формулировании своих со¬
общений, даже если бы и захотел кому-нибудь рассказать. Во-вторых, в силу ограни¬
ченности своих когнитивных способностей Фрэнк мог перерабатывать свой опыт лишь
очень примитивным образом. Он был неспособен к когнитивному выяснению разли¬
чий между испытываемыми им травмирующими переживаниями, и поэтому все они
хранились в одном регистре его памяти. Он не мог вспомнить одно из них, тут же не
вспомнив все остальные, которые в свою очередь вызывали реакцию, запускающую
очень интенсивное воспоминание о любом из травмирующих событий. И наконец, тот
факт, что травмирующее воздействие на Фрэнка началось в очень раннем возрасте,
добавляет вероятности тому, что он никогда полностью не понимал, что происходило с
ним и почему это происходило. Скорее всего, он перерабатывал эти события в очень
конкретной и эгоцентричной манере. Это подтверждается тем, что он безоговорочно
верил, что преднамеренно убил свою мать, несмотря на то что во время пожара ему было
всего три года.
Цели. Фрэнк будет способен: 1) дифференцировать ситуации, группировать события,
различать предшествующие и последующие действия, называть эмоции, связанные с
каждым травматическим событием в его истории; 2) стать более реалистичным в своих
оценках контроля и власти, которыми он обладал во время насилия и жестокого обра¬
щения с ним, и, следовательно, своей ответственности или за то, как с ним обращались,
или за последствия таких событий, как пожар.
Экологические факторы
Рассмотрев фактор наличия либо отсутствия «личного вклада» ребенка в истоки
или структуру его теперешних трудностей, давайте обратимся к рассмотрению тех
переменных его экосистемы, которые делают свой вклад в формирование его па¬
тологии. К этим переменным относятся: семья, сверстники и широкие системы.
Семья ребенка — это первичная система, в которую он включен, и поэтому обла¬
дает мощным потенциалом как к инициированию патологии, так и к борьбе с не¬
гативными последствиями патогенных событий. Многие терапевты склонны об¬
винять родителей в плачевном состоянии ребенка, и эта установка усиливается
теоретическими концепциями психопатологии, считающими родителей патоген¬
ными агентами, и гуманистической моделью, обладающей постулатом о том, что
все дисфункции запускаются окружающей средой. Но вне зависимости от эффек¬
тивности и «нормальности» функционирования семьи, она не может защитить
228 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
ребенка абсолютно от всего. Некоторые дети получают травмирующий опыт под
влиянием сверстников, учителей или окружающих; иногда дети просто не могут
осуществлять жизнедеятельность на том уровне, на котором хотят их видеть дру¬
гие люди или они сами. Воздействие семьи на функционирование ребенка и ее
способность оказывать ему поддержку в лечении необходимо тщательно учиты¬
вать при выработке плана лечения.
Случай из практики: Аарон
Трудности Аарона почти полностью происходят из его реакции и реакции его семьи на
физическую деградацию отца, происходящую из-за рассеянного склероза. До момента
первого приступа у отца Аарон развивался нормально, если не с опережением. С того
времени Аарон продолжал развиваться и опережал норму в большинстве областей, в то
время как его отец стабильно терял свои функциональные способности. Произошла
постепенная смена ролей, и Аарон стал в семье взрослым мужчиной, а отец — зависи¬
мым ребенком.
Цель. Аарон в течение дня будет проявлять больше поведения, соответствующего его
возрасту.
Случай из практики: Фрэнк
Патология Фрэнка в полной мере явилась результатом травмы, которой его подвергли
мать и отец. Но его случай осложняется дополнительным фактором — серьезным рече¬
вым расстройством, влияние которого на переживание и сохранение Фрэнком травма¬
тического опыта мы рассмотрели в предыдущем примере, посвященном когнитивной
сфере.
Цели. Фрэнк будет способен: 1) вербализовать свое осознание того, что его родители
обладали серьезнейшими патологиями и что их обращение с ним не было его виной;
2) выражать печаль относительно потери обоих родителей; 3) выражать печаль относи¬
тельно того, что его биологические родители не были хорошими родителями; 4) выра¬
жать гнев по отношению к своему биологическому отцу за то, как тот обращался с ним.
Сверстники. В процессе планирования индивидуального лечения ребенка часто
не учитывается фактор влияния на формирование патологии его отношений со
сверстниками. Сверстники могут оказывать сильное воздействие на ребенка, осо¬
бенно если он обладает неким свойством или особенностью, которые могут прово¬
цировать насмешки окружающих.
Сверстники не сыграли значительной роли в возникновении патологии ни у
Фрэнка, ни у Аарона. Они оба были склонны сторониться сверстников и редко
сталкивались с противодействием этой своей позиции. И Диана и Деннис успеш¬
но поддерживали адекватные отношения со сверстниками. Никто из этих детей
не мог удовлетворять значительную часть своих потребностей через взаимодей¬
ствия со сверстниками, поэтому они обладали минимальной мотивацией к таким
отношениям.
Широкие системы: школа, здравоохранение, государственные службы по де¬
лам несовершеннолетних. Воздействие других систем, в которые включен ребе¬
нок, на создание и сохранение его трудностей также часто недооценивается при
разработке плана индивидуального лечения. Дети индивидуальны в своем поло¬
жении сравнительной зависимости и беспомощности перед лицом многих взрос-
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 229
лых, являющихся частью их жизни. Детям приходится выполнять то, что говорят
им учителя, доктора, представители закона и многие другие. Часто в ситуациях,
где родители ребенка некомпетентны, у него нет никого, кто мог бы защитить его
интересы перед интересами системы, в которую он заключен.
Случай из практики: Аарон
Аарон не имел никаких контактов с любыми системами, находящимися за пределами
его семьи и школы, или этих контактов было очень мало. Школьная система довольно
хорошо отвечала его потребностям, хотя была склонна подкреплять его чрезмерное
соответствие и недовольство той степенью, в которой он хотел контролировать каждый
аспект своего школьного дня.
Цель. Аарон научится просить окружающих удовлетворять некоторые из своих основ¬
ных потребностей.
Случай из практики: Фрэнк
Неудача Фрэнка в развитии реальной самостоятельной связи с любым взрослым, уско¬
ренная жестоким отношением и отвержением со стороны родителей, была усложнена
его перемещением из одной приемной семьи в другую в течение полутора лет после
того, как он был взят из-под опеки отца. Система социальной помощи приучила Фрэн¬
ка не вырабатывать привязанность к людям, даже если они добры к нему, потому что
сравнительно скоро они могут его отвергнуть.
Только после своего помещения в групповую терапевтическую клинику, где он оста¬
вался в течение трех лет, Фрэнк начал развивать привязанность к женщине, руководя¬
щей этой клиникой. Стабильность этого места была результатом времени и энергии,
затраченных терапевтом, лечащим Фрэнка, в течение его пребывания там.
Цель. Фрэнк будет демонстрировать развитие индивидуальной привязанности к взрос¬
лым.
К тому же в ходе терапии могут происходить события, которые могут быть гу¬
бительными для процесса лечения. К сожалению, некоторые из этих событий не
поддаются вашему контролю, но вы в состоянии справиться с вредоносным воз¬
действием других.
Случай из практики: Фрэнк
Когда Фрэнк начал демонстрировать реальное улучшение, женщина, руководившая
групповой клиникой (group home), к которой он относился, как к своей матери, решила,
что она больше не может справляться с ним в своей клинике, и попросила переместить
его куда-либо в другое место. С ее стороны это было законным решением, но оно имело
разрушительные последствия на долговременный результат лечения Фрэнка. Терапевт
вместе с ответственным за Фрэнка социальным работником предпринимали серьезней¬
шие попытки оставить ребенка в групповой клинике, но все они не принесли успеха.
В то время как терапевт был неспособен повлиять на решение об отказе в переводе
Фрэнка в другую клинику, он был в состоянии повлиять на другую ситуацию, которая
могла оказать на ребенка серьезные негативные воздействия. На всем протяжении его
жизни он постоянно отделялся от людей, причем практически без заблаговременных
предупреждений и без возможности погрустить и попрощаться. Даже перевод его из
клиники, в которой он провел несколько лет, проводился без всякого уведомления
Фрэнка. Эти внезапные отделения подкрепляли склонность Фрэнка к отказу от разви¬
тия привязанности к любому из людей в окружающей его среде, потому что все они
могли его внезапно покинуть.
230 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Новая клиника находилось на некотором расстоянии от места, где проводилась стаци¬
онарная программа лечения Фрэнка, и было принято решение перевести его в школу,
находящуюся неподалеку от его нового дома. И принятие решения, и перевод мальчи¬
ка были осуществлены менее чем за неделю. Ожидалось, что в течение одной сессии
Фрэнк завершит отношения с терапевтом, с которым он встречался более года.
Терапевт объяснял социальному работнику негативные последствия, которые может
иметь это перемещение. Он подчеркивал, что это действие, вероятно, аннулирует боль¬
шую часть достижений Фрэнка, так как докажет ему, что на самом деле терапевт вовсе
не заботился о нем. После многих убеждений и некоторых угроз были приняты поправки,
заключающиеся в назначении Фрэнку трех дополнительных завершающих сессий в тече¬
ние двух месяцев со старым терапевтом, чтобы позволить Фрэнку погоревать о потере
групповой клиники и стационарной программы и совершить переход на новую програм¬
му. С данной поддержкой Фрэнк был способен совершить мягкий переход в новое место.
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка
На этой финальной стадии анализа данных вы разрабатываете гипотезы относи¬
тельно факторов, способствующих продолжению проявления испытываемых ре¬
бенком трудностей. Как и на предыдущей фазе анализа, вы должны интегрировать
информацию, которую получили от ребенка, его семьи, данных диагностики, ва¬
ших наблюдений и любых других источников и ваш теоретический подход к раз¬
витию патологии ребенка. На этом этапе анализа данных могут возникать цели,
к которым вы будете обращаться не непосредственно на сессиях, но с которыми
будете работать в общем управлении случаем данного пациента.
Специфические трудности ребенка
В этот момент вам предстоит проверить сложившийся паттерн функционирова¬
ния ребенка и специфические воздействующие на ребенка факторы, происходя¬
щие из этого паттерна. Сейчас пришло время проверить те аспекты жизнедеятель¬
ности ребенка, которые подкрепляют его трудности или специфическим образом
мешают его росту и развитию.
«Личный вклад» ребенка {Endowment). Некоторые дети обладают очень незна¬
чительным шансом постоянно функционировать на соответствующем их возрас¬
ту уровне просто потому, что это исключается их биологическим фундаментом.
В большинстве случаев это определяется наличием у ребенка не поддающихся из¬
лечению дефицитов когнитивного или неврологического характера. Иногда дети
обладают неким физическим расстройством, которое время от времени суще¬
ственно препятствует их успешному функционированию в других областях. На¬
пример, отношения детей-астматиков со сверстниками страдают из-за ограниче¬
ний, которые болезнь накладывает на особенности их диеты и деятельности.
Случай из практики: Аарон
•«Личный вклад» Аарона казался совершенно нормальным. К сожалению, его интеллек¬
туальные способности позволяли ему всецело зависеть от аутопластичного подхода
к разрешению проблем.
Цель. Аарон научится обращаться за информацией и помощью в решении проблем
к окружающим взрослым.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 231
Случай из практики: Фрэнк
Ограниченное когнитивное функционирование Фрэнка и его серьезные речевые рас¬
стройства сильно препятствовали прогрессу его развития. Он сталкивался с трудностя¬
ми при переработке событий и осуществлении простых социальных взаимодействий.
Он был практически неспособен к взаимодействию с ровесниками, даже когда сам это¬
го хотел, потому что его коммуникативные навыки были сильно ограничены. Подоб¬
ные трудности ожидали его также при попытках вербального выражения эмоций.
Цель. Фрэнк будет инициировать взаимодействия со сверстниками, по возможности
с использованием невербальных стратегий.
Уровень развития и обусловленный им способ реагирования (Developmental
Response). Уровень развития ребенка, особенно когда он отличается от ожидаемо¬
го в данном возрасте и при данном биологическом фундаменте, может играть важ¬
ную роль в поддержании его актуальных трудностей и даже в порождении новых.
Например, если ребенок демонстрирует очень незрелое поведение, он может про¬
воцировать критику или насмешки ровесников и даже взрослых. Далее терапевт
должен оценивать, соответствует ли осмысление ребенком событий и способ его
реагирования на них уровню развития, во время которого они происходят. То есть
если десятилетний ребенок испытал на себе жестокое обращение в двухлетнем
возрасте, необходимо выяснить, понимает ли он жестокость на уровне двухлетне¬
го (я виноват в проявленной жестокости и ненавижу жестокую мать) или же спо¬
собен посмотреть на нее как десятилетний (со мной не должны были обращаться
жестоко независимо от того, что я сделал, и я испытываю к моей жестокой матери
и любовь, и ненависть).
Случай из практики: Аарон
Аарон демонстрировал поведение, которое казалось более взрослым, чем поведение,
характерное для детей его хронологического возраста, и оно обеспечивалось значитель¬
ными подкреплениями со стороны взрослых. Псевдозрелость Аарона мешала ему уста¬
навливать устойчивые дружеские отношения со сверстниками.
Цель. Аарон будет демонстрировать большую вариативность в способах выражения
эмоций, соответственно своему уровню развития.
Случай из практики: Фрэнк
Крайнее расхождение между уровнем развития Фрэнка и его хронологическим возра¬
стом мешало ему позитивно взаимодействовать со сверстниками. Когда ему было де¬
сять лет и он поступал так, как будто ему пять, это не вызывало особых проблем, пото¬
му что Фрэнк был маленьким. Но когда ему исполнилось одиннадцать лет, он начал
расти, и как детям, так и взрослым стало бросаться в глаза расхождение его возраста и
развития. Взрослые изменили свои ожидания от поведения Фрэнка, даже несмотря на
то что сам он не совершил практически никаких других изменений. Подобным же об¬
разом ровесники Фрэнка стали отвергать его из-за его чрезвычайной инфантильности.
Цель. Фрэнк будет вступать в социальные взаимодействия на своем уровне развития.
Когнитивная сфера. И когнитивное функционирование, и мысли и убеждения
ребенка относительно его мира могут значительно препятствовать его способно¬
сти двигаться по направлению к эмоциональному здоровью.
232 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Случай из практики: Аарон
Когнитивные способности Аарона также были его сильной стороной, и они позволяли
ему предпринимать многие аутопластичные попытки к разрешению проблем. Как и в
случае с Деннис, навыки Аарона в этой сфере мешали рискнуть испробовать другие
стратегии разрешения проблем. К тому же его убеждение, что он может заразиться бо¬
лезнью, поразившей его отца, если не будет вести себя хорошо, полностью препятство¬
вала его готовности рисковать.
Цели. Аарон будет: 1) демонстрировать более реалистичное понимание болезни отца;
2) включаться в незнакомую деятельность, не испытывая неуправляемой тревоги.
Случай из практики: Фрэнк
Ограниченное когнитивное функционирование Фрэнка затрудняло ему процесс пере¬
работки новой информации и реструктуризации старых сведений и переживаний. Он
был склонен замыкаться в своем частном подходе к миру. К тому же его установки по
отношению к людям, с которыми он взаимодействовал (описанные в разделе, посвя¬
щенном сложившемуся паттерну функционирования Фрэнка), значительно мешали
его способности взаимодействовать с другими адекватно своему возрасту.
Цель. Фрэнк будет демонстрировать повышение гибкости мышления, включаясь в раз¬
решение простейших проблем.
Эмоциональная сфера. До какой степени сформировавшийся на данный момент
эмоциональный репертуар ребенка подкрепляет переживаемые им трудности?
У большинства детей, в зависимости от характера и интенсивности испытываемой
тревоги, страдают один или несколько аспектов развития. Эмоции некоторых де¬
тей настолько сильны, что у них практически отсутствует энергия, которую мож¬
но направить на что-либо другое, кроме попыток справиться со своими аффекта¬
ми. В любом случае они должны искать новые способы совладания со своими
эмоциями, чтобы могло происходить дальнейшее развитие.
Случай из практики: Фрэнк
Как уже упоминалось, аффективный репертуар Фрэнка был крайне ограниченным,
поскольку, за исключением случайных вспышек насилия, он обычно оставался эмоци¬
онально нейтральным. Видимо, проблема заключалась в том, что неприятные события
в жизни Фрэнка переплелись в его памяти. Это было похоже на то, как если бы в голо¬
ве у Фрэнка находилась картотека, в которой все травматические воспоминания хра¬
нятся вместе со связанными с ними аффектами. Эти воспоминания невозможно вытас¬
кивать по отдельности, и они, вместе со связанными с ними негативными эмоциями,
активируются всякий раз, когда что-то запускает подобные неприятные эмоции в на¬
стоящем.
Цели. Фрэнк будет способен: 1) дифференцировать прошлые и настоящие аффекты;
2) вспоминать прошлые травмы, не переживая всплеска эмоций.
Репертуар возможных реакций. Какие из стилей реагирования ребенка способ¬
ствуют прогрессу его развития? До какой степени каждый из стилей реагирова¬
ния препятствует этому прогрессу?
Случай из практики: Аарон
Чрезвычайно контролирующие модели поведения Аарона вызывали значительные
позитивные подкрепления со стороны взрослых, но мешали ему включаться в позитив-
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 233
ные отношения со сверстниками. Эмоциональный репертуар Аарона был довольно
ограниченным, и он постоянно испытывал такую высокую тревогу, что у него не оста¬
валось энергии на отношения с окружающими. Более того, его попытки аутопластич¬
ной адаптации очень слабо доходили до забот, порождающих его тревогу.
Цели. Аарон будет: 1) демонстрировать лучшее понимание характера болезни отца;
2) вербализировать свое понимание того, что он не может заразиться болезнью отца;
3) способен обращаться ко взрослым с вопросами относительно течения болезни отца
и особенно относительно своих опасений, что отец неизбежно умрет; 4) способен бесе¬
довать с другими людьми о своем страхе смерти.
Случай из практики: Фрэнк
Первичными реакциями Фрэнка на стресс были или уход, или ярость, но ни то ни дру¬
гое не способствовало удовлетворению его потребности во взаимодействии со сверст¬
никами и со взрослыми.
Цель. Фрэнк должен развить альтернативные способы реагирования на стресс для бо¬
лее эффективного удовлетворения своих потребностей.
Экологические трудности
На этом этапе анализа вы развиваете гипотезы о тех факторах среды, которые пре¬
пятствуют оптимальной жизнедеятельности ребенка. Здесь нам также следует по¬
искать те факторы, которые потенциально могут помешать прогрессу лечения.
Семья — это первая система, которую необходимо рассмотреть в данном контек¬
сте.
Случай из практики: Аарон
Отец Аарона умирал от быстро прогрессирующего рассеянного склероза; никто не
ожидал, что он проживет больше года. Между тем из-за потери контроля над мышцами
ему становилось очень трудно заниматься чем-либо с ребенком. Его продолжающаяся
быстрая деградация запускала повторяющиеся эпизоды скорби у всех членов семьи.
Однажды мать Аарона сказала, что хоть она и признает, что поведение сына не нормаль¬
но для шестилетнего ребенка, и это очень печально для нее, но она не уверена, хочет ли
она на самом деле, чтобы он вел себя, как шестилетний. В конце концов, сказала она,
в таком случае она начнет чувствовать себя так, будто она родитель-одиночка, с мла¬
денцем (ее муж) и шестилетним ребенком на руках. Сейчас, признала она, Аарон не вы¬
зывает проблем и приносит огромную пользу. Терапевт предвидел, что это будет глав¬
ным препятствием прогрессу Аарона в лечении.
Цели. Аарон: 1) увидит, что оба его родителя включены в процесс лечения; 2) увидит,
что в роли основного родителя выступает его мать, но при этом все решения относи¬
тельно его лечения принимаются обоими родителями совместно; 3) будет способен
вербально выражать свое горе по поводу постепенной потери отца.
Случай из практики: Фрэнк
В то время, когда Фрэнк учился на предыдущей стационарной образовательной про¬
грамме, у одного из его приемных (foster) братьев развилась угрожающая жизни
болезнь, требующая многочисленных госпитализаций и круглосуточного ухода. В ре¬
зультате все внимание приемных (foster) родителей было направлено на брата, они про¬
водили много времени в больнице и не могли посещать Фрэнка и видеться с ним, когда
234 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
тот возвращался домой на выходные. Это значительно усилило чувство отверженнос¬
ти Фрэнка и его убеждение в ненадежности заботы взрослых людей.
Терапевт предвидел, что отсутствие у Фрэнка постоянной семьи, которая могла бы по¬
служить «глушителем» для эмоций, переживаемых в ходе терапии, может оказаться
главным препятствием успешности терапии.
Цель. Фрэнк в ходе терапии научится искать поддержку у других.
Сверстники. Как только ребенок начинает демонстрировать несвойственное ему
ранее поведение, повышается вероятность насмешек со стороны ровесников. Один
из самых трудных для лечения типов проблем — серьезная виктимизация (разви¬
тие восприятия себя вечной жертвой) детей — «козлов отпущения», ставшими
объектами травли. Даже если такие дети справляются с изменением своего пове¬
дения, это привлекает негативное внимание их сверстников; имидж или репута¬
цию, которую они себе создали, практически невозможно изменить.
Случай из практики: Аарон
Аарон не взаимодействовал ни с кем из сверстников. Принимая во внимание его воз¬
раст, других детей, видимо, не сильно заботило, включен он в их общество или нет. Ни
дети из его школы, ни соседские дети не говорили, что относятся к нему негативно.
Цель. Аарон будет инициировать взаимодействия со сверстниками в школе и дома.
Случай из практики: Фрэнк
Сверстники Фрэнка уже считали его «странным», и эта характеристика не потеряла
актуальности, когда он походя рассказал им, что убил свою мать и не печалится об этом.
Они предпочитали не играть с ним, хотя обычно не противопоставляли себя ему. Луч¬
ше всего Фрэнка принимали несколько младших по возрасту детей.
Цели. Фрэнк: 1) будет демонстрировать способность общаться со сверстниками своего
возраста; 2) будет способен раскрыть обстоятельства смерти своей матери в беседах со
сверстниками.
Широкие системы: школа, здравоохранение, государственные службы по де¬
лам несовершеннолетних. Метод ограниченной защиты является логическим про¬
должением принятия экосистемной парадигмы, с уважением к проблемам ребен¬
ка. Такой подход требует, чтобы вы учитывали воздействие на здоровье и развитие
ребенка не только семьи, но и других систем.
Случай из практики: Аарон
Аарон не был включен в другие системы, кроме семьи и школы. С ним не проводилось
никаких специальных школьных программ.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк жил в постоянной тревоге, что однажды отец вернется и потребует его к себе,
поскольку судебная система не смогла ни поместить отца в тюрьму, ни лишить роди¬
тельских прав. Однако на самом деле это обязательно произошло бы, если бы отец по¬
пытался вернуться в жизнь мальчика.
Помещение Фрэнка в программу специального образования укрепило его в убеждении,
что никакая семья не справится с его поведением, что подкреплялось постоянной пе¬
редачей мальчика из рук в руки.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 235
Цели. Фрэнк будет: 1) сознавать, что судебная система не даст отцу вернуться в его
жизнь; 2) быть в состоянии участвовать в определении своей дальнейшей судьбы.
Синтез целей
На следующем этапе вы должны составить расширенный (по принципу избыточ-
ности) список целей для ребенка, поступающего на лечение. Многие записанные
цели будут взаимосвязаны, поэтому вы можете облегчить процесс планирования
лечения, сгруппировав цели по категориям. Ниже приводятся интегрированные
цели для каждого из рассматриваемых нами случаев.
Случай из практики: Ларон
Формирование близких терапевтических отношений, находясь в которых Аарон мог бы
практиковать отказ от некоторой части своей всеобъемлющей потребности в контро¬
ле, является первичной целью терапии. Как только Аарон будет в состоянии доверить
терапевту некоторое количество контроля над их взаимодействиями, целью станет
перенесение этого доверия с терапевта на мать Аарона.
Как только терапия эффективно снизит интенсивную потребность Аарона в осуществ¬
лении контроля, внимание сместится на то, чтобы помочь ему осознать и выразить ин¬
тенсивную тревогу и неудовлетворенные потребности, особенно во взаимоотноше¬
ниях с матерью. В этот момент необходимо обратиться к двум проблемам. Первая из
них — конкуренция между Аароном и его отцом за внимание матери, вместе с посте¬
пенно снижающейся способностью отца удовлетворять какие бы то ни было потребно¬
сти Аарона. Другая проблема — потребность Аарона в конкретной информации о бо¬
лезни отца. Хорошо, если удастся убедить Аарона в том, что его потребности будут
удовлетворяться вне зависимости от того, насколько мало отец способен удовлетворять
их, и от того, насколько сам отец нуждается в помощи. Также желательно, чтобы ин¬
формация о болезни отца и прогнозы относительно ее течения помогли Аарону пере¬
стать так сильно беспокоиться о собственном здоровье и о здоровье матери и позволи¬
ли начать готовиться к смерти отца.
Чтобы подготовить мальчика к смерти отца, терапия должна помочь ему общаться с
отцом и в то же время понимать, что отец уже не в состоянии удовлетворять его потреб¬
ности. Также терапия будет стремиться помочь ребенку отделить свои переживания о
болезни отца от переживаний самого отца, то есть научить Аарона сопереживать отцу,
а не идентифицироваться с ним.
Когда удастся достичь заметного снижения тревожности Аарона в семейных взаимо¬
действиях, можно начинать работу по направлению части его энергии на взаимоот¬
ношения со сверстниками, что позволит удовлетворить собственные эмоциональные
потребности ребенка. Для этого ему потребуется осуществлять меньше контроля в от¬
ношениях с ровесниками, а также расширить свой поведенческий репертуар и освобо¬
диться от ненужных обязательств.
В ходе процесса завершения терапии будет поощряться использование Аароном его
семьи и сверстников для удовлетворения своих потребностей способами, соответству¬
ющими его возрасту.
Поскольку случай Аарона приводится здесь в качестве специфического примера крат¬
ковременной терапии, точные цели, указанные в плане лечения, перечислены ниже.
Многие цели, выведенные по результатам процесса вхождения Аарона в терапию и
проведенной перед началом терапии диагностики, были синтезированы в следующие
общие цели.
236 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Аарон будет демонстрировать заметное снижение тревожности и связанных с ней на¬
вязчивых мыслей и компульсивного поведения. Соответственно, он будет способен
лучше справляться с непредсказуемыми или неупорядоченными ситуациями.
Аарон будет осознавать, выражать и использовать более широкий спектр эмоций.
Кроме того, Аарон будет демонстрировать лучшее понимание болезни отца и сможет
обсуждать свои мысли и страхи относительно умирания и смерти. Он начнет процесс
проживания острого горя, вызванного предстоящей потерей отца.
Снизится количество времени, в течение которого Аарону необходимо контролировать
свое окружение, и он отдаст часть контроля над взаимодействиями другим факторам.
Аарон будет поддерживать сильное чувство привязанности к матери и научится лучше
просить об удовлетворении своих потребностей и заботе.
Случай из практики: Фрэнк
Первичная цель лечения Фрэнка — установление близких и доверительных отноше¬
ний, на которые Фрэнк научится полагаться, поскольку создается впечатление, что
травматические переживания из его биографии заставили его ограничить себя состоя¬
нием крайней межличностной отчужденности и автономии. До сих пор ему все же сле¬
довало демонстрировать привязанность ко всем представителям персонала образова¬
тельного центра, к которому он принадлежал. Кроме того, кажется, что он теряет часть
привязанности к своей приемной матери, по мере того как она вовлекается в совлада-
ние с болезнью его приемного брата. В контексте терапевтических отношений необхо¬
димо работать с его боязнью быть отвергнутым.
По мере укрепления терапевтических отношений необходимо помочь Фрэнку более
последовательно называть свои аффекты и использовать слова для задержки импуль¬
сивных поступков. Во-первых, Фрэнку необходимо научиться осознавать эмоции, ко¬
торые он испытывает. Во-вторых, он должен научиться называть эти эмоции. В-тре¬
тьих, ему нужно уметь отделять сегодняшние эмоции от эмоций, которые он испытывал
в прошлом. По мере осуществления этого процесса Фрэнк должен узнать, как исполь¬
зовать терапевтические отношения для совладания со своей тревогой, что снизит его
тенденцию уклоняться от взаимодействий.
Третья фаза лечения — помочь Фрэнку научиться использовать сознание и речь, для
того чтобы сдерживать немедленное следование своим импульсам, особенно агрессии.
Для достижения этой цели он должен научиться выстраивать последовательность со¬
бытий и классифицировать их, чтобы лучше понимать причины и последствия различ¬
ных действий.
На четвертой фазе лечения произойдет приложение новых навыков Фрэнка к перера¬
ботке событий из его истории. Он научится справляться с тревогой, которая появляет¬
ся при вспоминании им травмирующих переживаний. Затем ему предстоит научиться
называть те эмоции, которые связаны с его воспоминаниями. И наконец Фрэнк выра¬
ботает понимание причин и последствий этих событий.
Цель пятой стадии лечения Фрэнка — научиться взаимодействовать со сверстниками.
Прежде всего ему предстоит узнать, как использовать игровые материалы. Далее, он
научится включаться в параллельную игру. И в-третьих, он научится вступать в мини¬
мальные социальные взаимодействия.
Фаза завершения терапии Фрэнка будет играть особо важную роль в планировании
лечения, поскольку отделение от терапевта, с большой вероятностью, опять активизи¬
рует некоторые мысли и чувства, касающиеся его отделения сначала от матери, а затем
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 23 7
и от отца. По мере того как терапия подходит к концу, Фрэнк должен получить возмож¬
ность принять участие в планировании своего будущего.
Планирование лечения
Планирование лечения — чрезвычайно важная часть всего процесса игровой те¬
рапии, но этот ее аспект наиболее сложно описать. Лечебный процесс, предшеству¬
ющий началу собственно игровой терапии, состоит из трех фаз. На стадиях ввод¬
ной беседы и диагностики вы собираете данные о вашем клиенте и его экосистеме.
В ходе стадии формулировки и синтеза целей вы интегрируете полученную ин¬
формацию с неким теоретическим направлением, строите несколько гипотез о
функционировании вашего клиента и вырабатываете цели лечения. Планирова¬
ние лечения — последний этап данного процесса; вы определяете стратегии, ко¬
торые будете применять, чтобы помочь вашему клиенту достичь целей, определен¬
ных на второй стадии. Вы решите, какие аспекты экосистемы ребенка следует
сделать объектами вмешательства, определите типы вмешательств, которые вы
хотите осуществить, и специфические техники, которые будут использованы в ва¬
ших занятиях с ребенком для обеспечения скорейшего, наиболее эффективного и
наиболее экономичного по затрате ресурсов прогресса.
Определение контекста (или контекстов),
в котором будет осуществляться
терапевтическое вмешательство (или вмешательства)
В зависимости от целей лечения, установленных для ребенка, вмешательства мо¬
гут реализовываться в рамках одного либо нескольких компонентов его экосис¬
темы. Вам придется решить, в каких областях лучше всего осуществлять лечение.
Индивид
Будучи игровым терапевтом, вы в первую очередь должны выяснить, является ли
ребенок подходящим кандидатом для индивидуального лечения. Очевидно, что
детей, которым игровая терапия не пойдет на пользу, очень немного, а таких, ко¬
торым она может повредить, нет вообще. Но решение о начале терапии следует
принимать не потому, что она не повредит, а на основе существенных данных, до¬
казывающих, что она будет полезной. К тому же важно учитывать, является ли
ребенок кандидатом на кратковременную или на долговременную терапию и ка¬
кой из видов вмешательства будет наиболее эффективным для него в долговре¬
менной перспективе. Краткосрочная терапия неэффективна в тех случаях, когда
предполагает, что ребенок будет продолжать проявлять симптомы и со временем
ему потребуется уже интенсивное лечение. Например, детям с суицидальными
наклонностями обычно не рекомендуется проходить краткосрочную терапию,
даже если подобное лечение может избавить их от опасности, нависшей над ними
прямо сейчас. В этих случаях если не разрешить проблем, лежащих в основе та¬
ких наклонностей, ребенок со временем может снова начать проявлять их, и по¬
требуется госпитализация. При этом даже относительно долговременная терапия
значительно умереннее по затратам, чем кратковременная госпитализация. Про¬
филактика всегда эффективнее, в том числе в смысле экономии средств.
238 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Семья
Другой важнейший выбор терапевта — определение того, будет ли в этом случае
эффективнее индивидуальная или семейная терапия. Семейные терапевты, не¬
сомненно, будут доказывать, что предпочтительнее семейная терапия, тогда как
игровые терапевты, конечно же, будут предпочитать индивидуальную работу с
ребенком. Экологический подход позволяет вам остановиться где-то посередине,
признавая ценность вмешательств, направленных и на личность, и на с&мью, и их
сочетания. Непросто определить, какой подход предпочтительнее в глобальном
масштабе, даже если отодвинуть в сторону теоретические и философские разли¬
чия. Индивидуальная работа с ребенком полезна, когда проблемы ребенка не яв¬
ляются непосредственным результатом проблем в семейной системе, когда семья
функционирует нормально. Это относится к ситуациям, когда дети получают
травмы вне дома, испытывают проблемы, связанные с неким хроническим забо¬
леванием, или сталкиваются со специфическими затруднениями в общении со
сверстниками. Также индивидуальная терапия может выбираться в качестве ме¬
тода лечения в том случае, когда семейная система и ее члены настолько дисфун¬
кциональны, что просто необходимо добиться стабилизации отдельных членов
этой системы, прежде чем обращаться к проблемам самой системы.
Континуум между семейной и индивидуальной терапией делится на пять ин¬
тервалов. На одном его конце находится лечение только одного индивида, когда
родители ребенка полностью исключаются из этого процесса. Второй интервал —
параллельное лечение, когда терапевт проводит индивидуальные сессии с ребен¬
ком и работает с родителем (или с родителями), но почти полностью или полно¬
стью по отдельности. Третий интервал — сочетанное лечение ребенка и родителя;
и тот и другой вместе приходят на занятие, и лечение направлено на снятие про¬
блем во взаимоотношениях этой диады. Четвертый вид терапии — дочерняя терапия
{filial treatment) (В. Guerney, 1964а, 1964b; L. Guerney, 1983,1991,1997; VanFleet,
1994), когда ребенок лишь изредка приходит на сессии к терапевту. В этом случае
терапевтическим агентом становится родитель, и роль терапевта состоит в подго¬
товке родителя к квалифицированному исполнению обязанностей агента пози¬
тивных изменений. На втором конце континуума находится семейная терапия,
в ходе которой сессии посещают все члены семьи, и терапевтические вмешатель¬
ства направлены на разрешение системных проблем. Решение относительно того,
какой тип лечения стоит применять, целиком зависит от конкретного случая и
основывается на результатах вашей оценки специфических сильных и слабых сто¬
рон ребенка и остальных членов семьи, а также на уровне вашей подготовки и
вашего опыта. Это означает, что иногда вы можете столкнуться с необходимостью
помочь клиенту, потребности которого требуют теоретической подготовки, совер¬
шенно отличной от вашей, и опыта, которым вы пока не обладаете; в любом слу¬
чае вы всегда несете профессиональную и этическую ответственность.
Сверстники
Может случиться, что наиболее разумным вариантом лечения будет направление
некоторых вмешательств на группу сверстников ребенка. Некоторые из этих вме¬
шательств могут осуществляться непосредственно, другие — через родителей ре¬
бенка, а третьи — через самого ребенка. К сожалению, проблемы ребенка в отно-
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 239
шениях со сверстниками могут оказывать сильное сопротивление в контексте те¬
рапевтических отношений, разворачивающихся один на один со взрослым тера¬
певтом. Один из наиболее эффективных методов, который можно применить к
проблемам ребенка со сверстниками — это групповая игровая терапия, одна из
разновидностей которой будет рассмотрена в IV части.
Другие системы
Успешное лечение трудностей ребенка может наилучшим образом осуществлять¬
ся посредством работы со всеми системами, в которые включен ребенок. Разнооб¬
разие вмешательств, которые можно нацелить на эти системы, так же велико, как
и количество этих систем. Некоторые из вмешательств могут проводиться вами,
другие же лучше реализовывать людям, находящимся в данных системах. Напри¬
мер, вы сами можете работать со школьной системой, но, вероятно, целесообраз¬
нее, если эту работу проведет кто-то из учителей или школьный психолог.
Независимо от пункта (или пунктов) в экосистеме ребенка, на которые, по ва¬
шему мнению, следует направить терапевтическое воздействие, вам все равно при¬
дется решать, какой тип вмешательства будет самым эффективным и кому следу¬
ет его проводить — вам или кому-то другому.
Случай из практики: Аарон
Никто не считал, что Аарону необходима интенсивная программа индивидуальной иг¬
ровой терапии, поскольку первичной причиной испытываемой им тревоги были семей¬
ные проблемы, вытекавшие из особой ситуации.
Оптимальной в случае с Аароном стала бы семейная терапия, но это было невозможно
из-за тяжелого состояния отца. Лучшей альтернативой казалась параллельная работа
с Аароном и его матерью с целью создания неких отношений, в которых Аарон мог бы
вернуться на уровень жизнедеятельности ребенка, не напрягая систему больше, чем
позволяют ее возможности. Дополнительной целью было превращение матери в пер¬
вичный источник информации и поддержки для Аарона, по мере его попыток приспо¬
собиться к постепенному ухудшению здоровья отца.
Поскольку тревога Аарона создавала межличностные проблемы, в значительной сте¬
пени мешающие ему установить успешные отношения с ровесниками, было решено, что
как только Аарон начнет проявлять меньше тревоги относительно своей семейной си¬
туации, ему будет полезна работа в группе сверстников.
Вмешательство в другие системы, окружающие Аарона, кроме семьи и сверстников, не
планировалось.
Случай из практики: Фрэнк
После формулировки целей лечения Фрэнка стало очевидно, что ко многим целям луч¬
ше обращаться в ходе индивидуальной игровой терапии. Первичными целями в этом
аспекте лечения стали неумение Фрэнка выстраивать отношения с окружающими, его
навязчивый страх повторения травмы и его трудности с определением и управлением
своими эмоциями.
Учитывая ситуацию, было невозможно направить вмешательство на родную семью маль¬
чика; вместо этого осуществлялась параллельная работа с руководительницей группо¬
вой клиники, к которой Фрэнк привязался, как к матери. Целью этой работы было по¬
мочь ей разработать план совладания с поведением Фрэнка во время его приездов
домой на выходные, в разработке стратегий поддержания их отношений в то время,
240 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
когда ребенок находился на своей стационарной учебной программе, а также привле¬
чение ее сил для помощи Фрэнку в переносе осуществляемых им на сессиях измене¬
ний в домашнюю среду.
Поскольку Фрэнк находился в пансионате, была возможность проводить некоторые
вмешательства непосредственно с группой его сверстников. Тем не менее поначалу
взаимодействие Фрэнка с ними было так ограничено, что эта работа не была значитель¬
ной частью терапии.
Проведение вмешательств в стационарных условиях было показано Фрэнку еще и по¬
тому, что его поведение подвергало опасности окружающих. Цель этой работы состоя¬
ла в активном вовлечении персонала в процесс улучшения межличностных навыков
мальчика. Наконец, для того чтобы разработать долговременный план лечения и пра¬
вильно выбрать место дальнейшего жительства Фрэнка, терапевт счел необходимым
постоянно держать в курсе лечения социального работника, занимавшегося ребенком.
Определение типа терапевтических вмешательств,
используемых в каждом контексте
После определения компонентов экосистемы ребенка, на которые будет направ¬
ляться терапевтическая работа, вам придется принять два решения. Первое из них
касается типа лечения данного случая: краткосрочная или долговременная тера¬
пия. Как уже упоминалось, это решение обычно зависит от сложности проблемы
и от того, достаточно ли здорова экосистема ребенка, чтобы способствовать его
изменениям и поддерживать их. Детей со сложными проблемами, живущих в не¬
здоровых экосистемах, невозможно вдруг сделать здоровыми при помощи крат¬
ковременной работы, не говоря уже о таком аспекте этого вопроса, как платеже¬
способность родителей. Это не означает, что краткосрочное вмешательство в таких
случаях не может принести пользы; просто цели должны быть очень четкими и
продуманными. Второе решение, которое вам придется принять, касается типа
специфических вмешательств, некоторые из них обсуждаются в главах 9 и 10. Для
удобства рассмотрения специфические техники вмешательства разбиты на три
общие категории: техники разрешения проблем, образовательные (обучающие)
методики и терапевтические методы.
Группа методов разрешения проблем является наименее проникающим со сто¬
роны игрового терапевта общим стилем вмешательства. Эта категория включает
любые вмешательства, в рамках которых клиент или члены его экосистемы вклю¬
чены в разработку и осуществление стратегий, направленных на некоторые аспек¬
ты проблем, испытываемых клиентом. Хотя существует множество различных
техник разрешения проблем, все они состоят по меньшей мере из четырех шагов.
Первый шаг — это идентификация проблемы. По возможности проблема должна
определяться на языке конкретных фактов и действий. Шаг второй — мозговой
штурм, направленный на поиск решений. В его ходе учитываются все предлагае¬
мые варианты решений, независимо от возможности их осуществления. Третий
шаг — выбор одного из решений, предложенных в ходе мозгового штурма, на ос¬
нове возможностей индивида и других систем. Шаг четвертый — осуществление
предложенного решения и оценка результата. Если с осуществлением или с полу¬
ченными результатами что-то не так, весь процесс начинается заново. Ценность
такого подхода при работе с вербально-когнитивными аспектами экосистемной
игровой терапии подробнее рассматривается в главе 9.
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 241
Образовательные (обучающие) подходы связаны с более настойчивым вмеша¬
тельством, чем группа методов разрешения проблем, поскольку клиент в них
обычно не так активно включается в процесс. Индивид, являющийся целью вме¬
шательства, чаще всего принимает роль пассивного ученика, а терапевт берет на
себя активную роль учителя. Как и в случае с методами решения проблем, сего¬
дня существует множество образовательных техник вмешательства, которые мож¬
но использовать и при лечении детей. Общее в этих техниках — передача факти¬
ческой информации от человека к человеку. Более того, эти техники обычно не
поощряют переработки передаваемой информации на эмоциональном уровне.
Эмоциональное проживание является целью терапевтических вмешательств,
которые предполагают еще большее погружение, чем другие техники, и связаны с
еще большей широтой и глубиной осуществляемой работы. Терапевтические тех¬
ники, кроме того, основаны на еще большем различии баз знаний клиента и тера¬
певта. Предполагается, что терапевт не только обладает фактической информаци¬
ей, как в рамках обучающих подходов, но и привносит в эту ситуацию понимание
уникальной эмоциональной жизни ребенка. Из-за сложности терапевтических
вмешательств, разновидностей таких техник множество.
В связи с тем что техники решения проблем и методы обучения могут приме¬
няться и в параллельной работе с родителями, мы вернемся к ним в главе 12.
Случай из практики: Ларон
Создавалось впечатление, что Аарону требовалось лишь очень краткое индивидуаль¬
ное терапевтическое вмешательство, а в длительном вмешательстве нуждалась его се¬
мья. Помимо этого, цели, поставленные для терапии Аарона, указывали на необходи¬
мость применения матерью, терапевтом или ими обоими обучающего подхода. Более
того, как только некоторая часть тревоги Аарона была ослаблена при помощи индиви¬
дуальных и семейных воздействий, терапевтическая работа была перенаправлена на
разрешение проблем ребенка в общении со сверстниками.
Случай из практики: Фрэнк
В случае Фрэнка трудно было предложить применять в сессиях другой подход, кроме
терапевтического. Метод разрешения проблем и обучающий подход лучше подходили
к работе с его групповой клиникой. Наконец для персонала специального учебного за¬
ведения оптимальным был метод решения проблем.
Определение терапевтических стратегий
в игровой терапии
Заключительный этап планирования лечения — определение специфических те¬
рапевтических стратегий, которые предстоит использовать в занятиях с ребенком.
Это, как и в случае со всеми остальными стадиями этого процесса, относительно
абстрактная задача, и поэтому довольно сложно обрисовать ее в общих чертах.
Индивидуальная стратегия
Определяя содержание индивидуальных детских сессий, сначала нужно решить,
насколько вы хотите структурировать ваши встречи. Будут ли они сравнительно
неструктурированными, когда ребенку будет дана полная свобода в выборе матери¬
алов и степени взаимодействия? Или они будут наполовину структурированными
242 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
лишь с несколькими доступными игрушками и материалами и терапевт будет за¬
давать степень общения с клиентом? Или сессия будет сильно структурирован¬
ной, когда терапевт будет предоставлять ребенку строго определенные материалы
и точно определять время и характер взаимодействия? Степень структурирован¬
ности зависит главным образом от уровня развития ребенка: чем ниже уровень
развития ребенка, тем больше структурируется сессия. Этот факт отражает реа¬
лии отношений детей и взрослых: чем младше ребенок, тем выше ответственность
взрослого за обеспечение необходимых границ. Некоторым детям, особенно тем,
чьи биографии богаты травмирующими событиями, прежде чем сессии станут
сильно структурированными и интерактивными, может потребоваться время для
знакомства с терапевтом, но большинство детей могут сразу вступать в более ин¬
тенсивные отношения.
Во-вторых, вам предстоит решить, какой объем эмпирической работы ребенок
будет проделывать на сессиях. И снова чем ниже уровень развития и функциони¬
рования ребенка, тем больше практических действий ему необходимо осуществ¬
лять на сессиях. Например, так как вербально ориентированная психотерапия не
подходит для двухлетнего ребенка, ее не следует применять и с более старшим
ребенком, структура личности которого развита на уровне двухлетки. Если вы
решите заниматься с ребенком эмпирической деятельностью, вам нужно опреде¬
лить, будут ли его переживания в ходе терапии нацелены на противостояние (ichal¬
lenging) имеющемуся у него стилю взаимоотношений, на реконструкцию, прожи¬
вание и переделку событий из его прошлого или будут работать и на то и на другое.
Независимо от решения об использовании или отказе от использования прак¬
тических задач, вам нужно решить, какая часть работы будет выполняться при
помощи слов, на уровне сознания. По существу, у вас есть три альтернативы. Вы
можете использовать только практические действия и очень мало вербальных.
Этот подход наиболее эффективен при работе с детьми, функционирующими на
очень низком уровне развития. Во-вторых, вы можете применять практические
техники в сочетании со значительным количеством вербальной поддержки. Этот
подход наиболее эффективен при работе с детьми, находящимися на таком уровне
развития, когда они пытаются конвертировать действия в слова, то есть пытают¬
ся научиться проговаривать, а не совершать немедленные импульсивные дей¬
ствия. Кроме того, вы можете использовать в терапии лишь вербальные взаимо¬
действия с очень незначительным добавлением практического компонента. Этот
подход, скорее всего, годится для детей, функционирующих на высших уровнях
развития.
Концептуальные модели, использованные для разработки специфических эмпи¬
рических задач, которые следует применять, и вербализаций, которые необходи¬
мо производить в данной сессии с данным ребенком, представлены в главах 9 и 10.
Случай из практики: Аарон
Аарон испытал серьезное травмирующее переживание в двухлетнем возрасте, и была
выдвинута гипотеза о том, что его симптомы явились результатом остаточных действий
этой травмы, возникших по мере ее взаимодействия с процессом развития ребенка.
По этой причине было запланировано проведение сильно структурированных сессий
с акцентом на практическую деятельность. Одной из целей было избавление Аарона от
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 243
склонности говорить о проблемах, вместо того чтобы пытаться что-либо сделать с ними.
Поскольку травма была довольно старой и не носила насильственного характера, тера¬
певт не посчитал необходимым проводить длительный вводный период, но решил, что,
начиная со второй встречи, можно будет перейти к структурированным сессиям. По
мере привыкания Аарона к эмпирическому подходу должно было усилиться исполь¬
зование интерпретаций, предъявляемых в устной форме, для ускорения соответству¬
ющей возрасту Аарона когнитивной переработки внутреннего опыта. Переход к боль¬
шему использованию слов планировалось совершить для реализации обучающей части
лечения ребенка, в ходе которой он должен был больше узнать о болезни своего отца.
Случай из практики: Фрэнк
Поскольку история травматизации Фрэнка началась, когда ему было около двух с по¬
ловиной лет, была выдвинута гипотеза, что ограничение его способности к вступлению
в межличностные отношения происходит из остатков проблем самого начала второго
уровня развития. Так как это был самый низкий уровень функционирования Фрэнка,
было решено, что лечение первоначально должно обращаться именно к этому уровню
посредством сильной структурированности и практичности. Необходимость в исполь¬
зовании эмпирического подхода также определялась очень низким развитием у ребен¬
ка речи. Также было решено, что вначале переживания в сессиях будут предназначены
для того, чтобы бросить вызов стилю взаимодействия Фрэнка, а последующие — чтобы
помочь ему проработать травмирующие события его биографии. Наконец было опре¬
делено, что из-за насыщенности жизни Фрэнка травмирующими переживаниями в на¬
чале лечения необходим значительный «период потепления климата», позволяющий
ему познакомиться с терапевтом и хотя бы отчасти перестать испытывать напряжение
в его обществе.
Параллельная стратегия
В том случае, если параллельная работа должна проводиться еженедельно, в при¬
сутствии ребенка или без него, необходимо использовать специфические страте¬
гии и разрабатывать содержание этих сессий отдельно. Данный вид вмешательств
рассматривается в главе 12.
Сессия обратной связи и заключение контракта
Сессия с родителями
Сессии обратной связи являются заключительными контактами между вами и
семьей перед началом лечения ребенка. Проводя родительскую сессию, вам сле¬
дует сделать обзор собранных данных, представить обобщенный список целей, а
также план лечения, который вы разработали для достижения этих целей. Роди¬
телям важно чувствовать, что ничто из того, что вы представляете им, не «высече¬
но в камне» и что они обладают полным правом обсуждать с вами необходимые,
на их взгляд, изменения целей и плана лечения. Задача сессии обратной связи не
в том, чтобы убедить родителей, что вы разработали единственно возможную фор¬
мулировку диагноза их ребенка или единственно возможный план лечения, но
в том, чтобы поддержать и продолжить их включенность в процесс лечения.
Контракт обычно заключается на словах, но можно сделать это и в письменной
форме. Обычно запечатленный на бумаге контракт, подписанный всеми участника¬
ми его составления, как будто возлагает больше ответственности на обе стороны.
244 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
В контракте можно уточнить либо количество сессий, которые будут проведены,
либо операционально определенные цели, которые будут достигнуты. Даже если
есть основания предполагать, что лечение окажется долговременным проектом,
следует установить интервалы, в течение которых будет оцениваться прогресс,
достигнутый ребенком. Первый вариант здесь — создать контракт, который обнов¬
ляется через регулярные промежутки времени. Например, ребенок будет посе¬
щать сессии в течение восьми недель, по окончании которых время, необходимое
для лечения, будет пересмотрено и будет принято решение относительно прове¬
дения еще одного восьминедельного блока или относительно перехода к заверше¬
нию терапии. Члены семьи с самого начала должны понимать, что процесс завер¬
шения после своей инициации занимает как минимум две сессии.
Хорошо проведенная сессия обратной связи полностью включает родителей и
способствует как продолжению посещения ими терапии, так и повышению регу¬
лярности посещения сессий как ими, так и их ребенком.
Сессия с ребенком
Многие игровые терапевты пренебрегают проведением сессий обратной связи и
заключением контракта с ребенком и с родителями, особенно если ребенок отно¬
сительно мал. Как и в случае с родительской сессией обратной связи, сессия, про¬
водимая с ребенком, может значительно повысить понимание ребенком процесса
терапии и его ответственности за его продвижение. С этической точки зрения она
способствует тому, что ребенок соглашается на прохождение терапии, обладая
информацией о том, что это такое, что там будет происходить и зачем это нужно.
Это не означает, что ребенку позволяется решать, проходить ему терапию или нет,
так как это — ответственность родителей. Но следует поощрять ребенка вступать
в переговоры по поводу целей и, до некоторой степени, процесса лечения, что
может означать, что детский терапевтический контракт несколько отличается от
контракта о лечении, заключаемого с родителями. Характерный пример такой си¬
туации — попытка игрового терапевта выработать терапевтический контракт с ре¬
бенком, демонстрирующим сильное сопротивление.
Биллу было 9 лет, и он был непреклонен в своем отказе от участия в терапевтическом
процессе, несмотря на то что родители приводили его каждую неделю; он просто сидел
и молчал. Обращение родителей Билла к психотерапевту было связано с его враждеб¬
ным, агрессивным поведением в школе и дома. Билл признавал, что ненавидит посто¬
янно попадать в неприятности и что это заставляет его грустить и злиться. Он сказал,
что не знает, почему родители привели его лечиться, ведь он не сделал им ничего пло¬
хого; причиной проблем, на его взгляд, был кто-то другой. После многочисленных
попыток включить Билла в процесс терапевт наконец заявила, что она понимает, что
Биллу не нужно находиться здесь, но что он смог как-то убедить других людей, что ему
необходимо приходить сюда. Она спросила его, что он сделал для того, чтобы убедить
окружающих, что с ним не все в порядке. При помощи лишь незначительного побуж¬
дения Билл начал перечислять те виды поведения, которые приводили его в непри¬
ятные ситуации и которые, по его мнению, стали причиной обращения к терапевту.
Он все еще обвинял других в том, что они являлись причинами перечисленных им не¬
гативных взаимодействий, но по меньшей мере начал признавать, что обращение к те¬
рапевту появилось не на пустом месте. В этот момент терапевт предложила, чтобы
Глава 7. Оценка, формулировка диагноза и планирование лечения 245
в заключаемом ими контракте оговаривалось, что лечение будет направлено на поиск
Биллом способов, которыми он сможет убедить окружающих в том, что он не нуждает¬
ся в психотерапии. Она предупредила Билла, что это может потребовать некоторого
времени, но ведь и на то, чтобы убедить всех, будто он нуждается в психотерапии, тоже
ушло немалое время! Билл согласился на этот контракт, и начало лечению было поло¬
жено.
Помимо этого, с самого начала ребенку нужно дать понять, что терапевтиче¬
ские отношения не будут длиться непрерывно и вечно, особенно если терапевт
знает, что будет доступен только в определенное время, как бывает в случае с ас¬
пирантами или интернами в клиниках. Дети имеют ограниченное чувство време¬
ни, но способны запомнить, что эти отношения конечны, особенно если связать
это окончание с каким-то другим важным событием в их жизни, например с за¬
вершением учебного года. Другой вариант — вы можете просто проинформиро¬
вать ребенка, что ваши с ним отношения — рабочие и закончатся с достижением
намеченных целей. Особо следует отметить тот факт, что ребенок обязательно
будет получать заблаговременные предупреждения перед тем, как это произойдет.
Многие терапевты не хотят этого делать, опасаясь, что это помешает ребенку сфор¬
мировать устойчивые терапевтические отношения. Но с этической точки зрения
данные сведения весьма значимы для того, чтобы ребенок вступал в отношения с
вами, обладая всей полнотой информации.
Во многих отношениях сессия обратной связи с ребенком — переходная фаза
от процессов вхождения и диагностики к процессу собственно терапии. Это на¬
чало стадии, которая в рамках играпии называется стадией введения (Jernberg,
1979). Вы устанавливаете структуру сессий и начинаете создавать для ребенка
кратковременные и долгосрочные ожидания.
Случай из практики: Ларон
Обратная связь Аарона была несколько необычной, если учесть степень специфично¬
сти, достигнутой терапевтом при формулировании целей лечения. Терапевт определил,
что Аарон страдает от страхов относительно болезни отца, а также выявил степень,
в которой эти страхи сковывали Аарона в его повседневной жизни. Также терапевт вы¬
явил отдаленность Аарона от своих сверстников и необходимость усиления его способ¬
ности заводить друзей. Аарон согласился,'*что он не очень счастлив и хотел бы чувство¬
вать себя более комфортно, особенно с другими детьми. Он согласился встречаться с
терапевтом дважды в неделю в течение пяти недель.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк не проходил сессии обратной связи в чистом виде; скорее, процессы вводной
беседы, оценки и обратной связи осуществлялись в ходе одной сессии. Поскольку на
тот момент Фрэнк находился на лечении около трех лет, он был полностью готов к его
продолжению. Он был проинформирован, что новый терапевт работает совсем не так,
как предыдущий, но что они проведут несколько сессий, чтобы привыкнуть друг к дру¬
гу, прежде чем переходить к более серьезной работе. Первоначальный фокус сессий был
направлен на облегчение приспособления Фрэнка к его новым жизненным условиям.
Глава 8
Начало лечения
Оформление пространства игровой комнаты
Физическое пространство
Хотя игровой терапевт редко имеет возможность обустраивать свою игровую ком¬
нату с самого начала, эта глава написана специально для данного случая. Заметьте,
что описываемая здесь игровая комната может оказаться неидеальной для прове¬
дения тех видов игровой терапии, которые отталкиваются от других теоретических
направлений психологии, нежели экосистемная игровая терапия. Но все представ¬
ленные здесь элементы можно с легкостью модифицировать, чтобы они подходи¬
ли для других условий, методов работы, клиентов и ситуаций.
Идеальная игровая комната достаточно просторна, чтобы ребенок мог прояв¬
лять значительную двигательную активность, не подвергая себя опасности уда¬
риться о предметы мебели, и все же не настолько велика, чтобы он терялся в ней и
чувствовал себя отделенным от вас. К сожалению, эта фраза немного похожа на
то, как если бы мы посоветовали вам при составлении аптекарского рецепта доба¬
вить не слишком много, но и не слишком мало компонентов. Минимальный раз¬
мер игровой комнаты составляет около 10 квадратных футов (приблизительно
9,3 м2), а максимальный — не более 16 квадратных футов (приблизительно 14,4 м2).
Если предполагается, что эта комната будет иногда использоваться для занятий с
группами детей, она должна быть больше: комната размером 15 на 25 футов (при¬
близительно 4,5 на 7,6 м) — превосходное место для групповой работы.
Независимо от величины комнаты полезно, если одна половина ее пола покры¬
та линолеумом, а другая — ковром, чтобы позволить проводить активные, «гряз¬
ные» упражнения на одной ее стороне, не беспокоясь постоянно о том, что ребе¬
нок может повредить ковер. Сторона комнаты, покрытая ковром, предназначена
для спокойной деятельности, а также рутинной работы, падений и кувырков, ко¬
торые удобнее выполнять на мягкой поверхности. Небольшая раковина, располо¬
женная на линолеумной половине помещения, очень полезна в качестве источ¬
ника воды для ящика с песком, для водной игры, для рисования или просто для
мытья рук.
Также большое преимущество дает уборная, соединенная с игровой комнатой,
чтобы ребенок не мог использовать свои позывы справить естественные нужды
для избегания терапевтической работы (иначе нередко терапевты, отпустив ребен¬
ка в уборную, обнаруживают, что тот исчезает на 15 минут и более). Помимо это-
Глава 8. Начало лечения 24 7
го, дверь уборной, предназначенной для детей-клиентов, не должна запираться:
если вам придется умолять ребенка выйти из запертого туалета, это не улучшит
ваш контроль за терапевтическими отношениями.
Если в игровой комнате есть окна, замените обычное стекло либо пластиком,
либо триплексом. Вам вовсе не нужно, чтобы во время вспышки гнева у ребенка,
когда тот запустит чем-нибудь тяжелым в первую попавшуюся мишень, по ком¬
нате разлетелись осколки стекла. Кроме того, о&на должны закрываться на щекол¬
ды, с которыми может справиться только взрослый человек.
Несколько лет назад Кайли, интерн, проходившая подготовку по игровой терапии, ра¬
ботала в здании, выстроенном в викторианском стиле в начале прошлого века. Однаж¬
ды она услышала панический крик другого интерна, Сьюзен, чей кабинет находился в
другом конце коридора. Она бросилась к ней через коридор и увидела, что восьмилет¬
ний клиент Сьюзен уже наполовину вылез из окна третьего этажа, несмотря на все ее
попытки удержать его. Вдвоем они смогли затащить ребенка обратно, но с тех пор обе
с большой настороженностью относятся к окнам как в кабинетах, так и в игровых ком¬
натах.
Оборудование
В первую очередь вы должны учесть, какие основные предметы мебели вам пона¬
добятся. Необходимый минимум включает стол и несколько стульев. Стол дол¬
жен быть достаточно высоким, чтобы за ним чувствовал себя комфортно ребенок,
находящийся на латентной стадии развития. Младшие дети могут залезть на стул
коленями, не испытывая от этого большого дискомфорта, но более старших детей
«детский» размер мебели может оскорбить. Помимо стола и стульев, особенно
полезны еще два предмета мебели. Один из них — большой шкаф, запирающийся
на замок. Если к игровой комнате примыкает кладовка, снабженная замком, это
прекрасный вариант, но высокий металлический шкаф или сервант также подойдут.
Второй — песочный ящик или стол. Лучший вариант — это конструкция, пред¬
назначенная для ухода за больными или для детских садов; она состоит из глубо¬
кого пластикового подноса, встроенного в раму, стоящую на ножках, подобно сто¬
лику. Самые лучшие модели снабжены поднимающейся деревянной крышкой.
Когда крышка лежит сверху, этот чудо-аппарат выглядит как стандартный дет¬
садовский стол и, таким образом, его можно использовать двумя способами.
Игровые материалы
Теперь вам нужно выбрать, какие игровые материалы следует разместить в ком¬
нате. Мнения терапевтов о том, какие игрушки и игровые материалы необходи¬
мы, широко варьируются. Игровые терапевты психодинамической ориентации
обычно предоставляют детям очень ограниченный набор игрушек, отобранных по
принципу их конкретного символического значения для лечения данного ребенка.
Кроме того, большинство из них используют индивидуальные игрушки и матери¬
алы для каждого ребенка и хранят их отдельно, чтобы они оставались нетронуты¬
ми между визитами этого ребенка. В традиционной психоаналитической прак¬
тике, когда аналитик встречается лишь с пятью или десятью клиентами четыре
или пять раз в неделю, это легко осуществить. Но в клинических условиях, когда
248 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
игровая комната может использоваться несколькими разными терапевтами с об¬
щей нагрузкой более чем в 20 детей у каждого, такой подход превращается в «кош¬
мар логистика». Для терапевтов, причисляющих себя к гуманистической ориен¬
тации, идеальная игровая комната представляется чем-то, смутно напоминающим
мастерскую Санта-Клауса. Так как цель данного терапевтического направления
заключается в создании для ребенка среды, стимулирующей его оптимальные тем¬
пы роста, развития и самоактуализации, имеет смысл обеспечить изобилие раз¬
нообразных игрушек и материалов. Терапевт надеется обладать «правильным»
объектом (объектами) для каждого ребенка. Правильный объект — это предмет,
который достаточно привлекателен для ребенка, чтобы он мог взять его для ис¬
пользования, он несет некое смысловое значение, и его можно применять для раз¬
решения конкретной проблемы, с которой сталкивается ребенок. Чтобы в любой
момент иметь под рукой такие совершенные объекты для каждого ребенка, необ¬
ходимо обладать достаточно обширной коллекцией.
Экосистемная игровая терапия делает основной акцент на взаимодействии ре¬
бенка и терапевта, а не на взаимодействии ребенка с игровыми материалами, и по¬
этому идеальная игровая комната в рамках этого направления практически пус¬
та. Часто комната избавлена даже от мебели. Эта стратегия полностью согласуется
с методом играпии (Jernberg & Booth, 1999). Любые игрушки, присутствующие в
комнате, специально подбираются для конкретного ребенка перед встречей с ним;
обычно в один момент доступны не более одной-двух игрушек. Это положение
полностью соответствует рекомендации Ландрета, которую он дает родителям
относительно использования игрушек при проведении сессий дочерней терапии
(Landreth, 1991). Он показывает, что использование некоторых игрушек только
во время сессии делает их особенными для ребенка. Эта практика не ограничива¬
ет вероятности того, что ребенок случайно наткнется на игрушку, которая будет
способствовать спонтанному и неожиданному выражению некоторой проблемы
и при этом позволит ребенку сфокусировать внимание, которое часто рассеивает¬
ся, когда он находит игрушки более интересными, чем процесс терапии или тера¬
певтические отношения.
Отодвинув в сторону проблему доступности игрушек, вернемся к вопросу о
том, что еще необходимо включить в содержание игровой комнаты. Следует вы¬
бирать игрушки, отражающие потребности и интересы детей, находящихся на
каждом из уровней развития, о которых говорилось во II части. Список игрушек,
которые могут оказаться полезными, практически бесконечен, поэтому далее мы
посмотрим, какие же игрушки считаются самыми полезными.
Игровые материалы для детей первого уровня развития
Помня о том, что развитие детей первого уровня соответствует возрасту от рож¬
дения до двух лет, можно сказать, что наиболее подходящими игрушками будут
те, которые связаны с кормлением и уходом, а также те, которые стимулируют сен-
сомоторную деятельность. Игрушки, связанные с кормлением и уходом (nurturant
toys), позволяют ребенку обратиться к проблемам, окружающим процесс осуще¬
ствления родительской заботы и пеленания, а также содержат сильный сенсомо-
торный компонент. Среди таких игрушек, полезных в терапии детей первого уров¬
ня развития, находятся следующие.
Глава 8. Начало лечения 249
• Детский рожок. У каждого ребенка по гигиеническим соображениям дол¬
жен быть свой собственный рожок. Лучший вариант — недорогие полупроз¬
рачные бутылочки, продающиеся в супермаркетах, потому что их практи¬
чески невозможно сломать.
• Детская пеленка. Фланелевая пеленка занимает мало места, и ее можно
использовать как с ребенком, так и с куклой. Старшие дети обычно исполь¬
зуют такую пеленку для надевания ее на себя либо для создания тента или
«крепости».
• Детская присыпка и/или лосьон. Эти предметы можно использовать с ре¬
бенком или с куклой, и они позволяют ребенку пережить или имитировать
типичную заботу о ребенке. Также их можно применять для ускорения ми¬
нимально угрожающего контакта между ребенком и терапевтом в тех слу¬
чаях, когда это уместно.
• Мягкие игрушки-животные. Часто они оказываются первичными переход¬
ными объектами детей вне терапии и обладают значительным потенциалом
для использования на сессии. Проблема состоит в выборе игрушек и в том,
как сделать их доступными. Слишком большое количество мягких игрушек
отвлекает внимание, и они мешают ребенку вырабатывать привязанность к
какой-либо из них. Если таких игрушек всего одна или две, этого может не
хватить, чтобы включить ребенка во взаимодействие. Но несмотря на по¬
следнюю возможность, лучше ошибиться, поместив в игровую комнату
слишком мало мягких игрушек, чем переборщить с их числом. Самая луч¬
шая такая игрушка — черепаха около 25 см в диаметре, настолько мягкая,
что отлично поддается сжатию и превращается в славную подушку. Исполь¬
зующий ее ребенок также может вытягивать ее голову и передние лапы, что
забавляет маленьких детей. Включение кукол в оборудование игровой ком¬
наты немного подробнее рассматривается далее в этом разделе.
• Объекты, притягивающие внимание. В эту открытую категорию включа¬
ются все те вещи, которые кажутся младенцам и тоддлерам совершенно
очаровательными, начиная с дорогих европейских деревянных кукол и за¬
канчивая пустыми картонными коробками и другими ненужными предме¬
тами. Несколько таких игрушек, возбуждающих интерес, необходимо иметь
под рукой, потому что они могут помочь сконцентрировать внимание ребенка
и усилить взаимодействие с терапевтом. Игрушки, предназначенные исклю¬
чительно для одноразового использования, например хлопушки, не очень
полезны. Среди других простых, но полезных игрушек можно назвать мячи,
кубики, трещотки и музыкальные инструменты. Мячи должны быть разно¬
цветными, и один из них должен быть достаточно большим, чтобы ребенок
мог лечь на него сверху и кататься на нем. Тоддлеры могут использовать
кубики, чтобы строить башни, а потом разрушать их, это упражнение будет
наиболее часто повторяться в течение долгих периодов. Трещотки, другие
предметы, издающие шум, и музыкальные инструменты привлекают вни¬
мание ребенка и могут использоваться для невербального выражения эмо¬
ций.
250 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Художественные материалы не особенно полезны в работе с детьми первого
уровня, если терапевт или ребенок используют их для создания некоего конечно¬
го продукта. Дети этого уровня развития могут только минимально контролиро¬
вать точность своих движений и, несомненно, не умеют воспроизводить при по¬
мощи искусства никаких элементов ни своего внутреннего, ни окружающего мира.
Тем не менее дети первого уровня с большим удовольствием пользуются сенсо-
моторными особенностями художественных материалов. Их завораживают свой¬
ства различных материалов, цвета, фактуры и запахи, а также то, насколько эти
материалы поддаются размазыванию, лепке и капанию; такими способами дети
первого уровня могут заниматься художественными материалами подолгу. Обыч¬
но детей сильнее всего привлекает рисование пальцами, темперой, лепка из плас¬
тилина или глины.
Игровые материалы для детей второго уровня развития
По мере того как ребенок переходит на второй уровень, он становится более заин¬
тересованным в использовании игрушек, чтобы включаться в игру-изображение
(pretend play). Поначалу он обычно помещает в центр разворачивающейся дея¬
тельности себя, но по ходу своего развития изобразительная деятельность в зна¬
чительно большей степени проецируется на игрушки. То есть сначала ребенок
создает сцену аэропорта, делая вид, что он — пилот или даже самолет, но когда он
становится старше, он склонен использовать для организации изобразительной
сцены игрушечный самолет и маленькие фигурки людей, а сам выступает в роли
всезнающего рассказчика. Чтобы удовлетворить данный класс клиентов, вам сле¬
дует обладать рядом изобразительных игрушек, относящихся к каждой из следу¬
ющих категорий: интерактивные игрушки, костюмы и миниатюры.
Интерактивные изобразительные игрушки — это игрушки, используемые ре¬
бенком для того, чтобы изобразить, что он занимается некоторой реальной или
придуманной деятельностью. Это могут быть полномасштабные объекты или
предметы, адаптированные к размеру ребенка. Обычно интерактивные игрушки
привлекают детей начала второго уровня развития. Необходимо, чтобы в хорошо
организованной игровой комнате можно было найти: игрушечные телефоны; по¬
суду и игрушечную еду; бытовые приборы (кухонная плита, холодильник, утюг и
гладильная доска и т. д.), а также оборудование из различных видов социального
пространства, знакомых ребенку (офис, детский сад, школа, больница и т. д.).
Пара игрушечных телефонов — прекрасный стимул для проигрывания слож¬
ных коммуникаций. Их можно использовать для того, чтобы позвонить людям,
обычно не присутствующим на игровых сессиях, или для ролевых бесед с непри¬
ятным содержанием.
Шестилетний Майкл сталкивался с огромными трудностями в выражении гнева. На
одной из сессий он очень рассердился из-за ограничений, установленных терапевтом.
Он подошел к полке с игрушками, снял оттуда игрушечные телефоны и вручил один
из них терапевту, а другой отнес в противоположный конец комнаты. Он проинструк¬
тировал терапевта: «Когда я скажу “дзынь-дзынь”, подними трубку». Затем Майкл сде¬
лал вид, что набирает номер, и сказал: «Дзынь-дзынь». Терапевт снял трубку и отве-
Глава 8. Начало лечения 251
тил: «Алло». Майкл швырнул свою трубку на аппарат, как будто решил в сердцах пре¬
рвать разговор. Это взаимодействие продолжалось несколько раз, пока гнев Майкла не
начинал утихать. В этот момент общение было все еще невербальным, но телефоны
позволили мальчику структурировать начальное выражение его чувств.
Игрушечные посуда и пища позволяют ребенку, вышедшему из младенческо¬
го возраста, изучать вопросы кормления и заботы. Ребенок может есть сам или
получать пищу, испытывать разочарование или удовлетворение. Часто дети ис¬
пользуют игрушечные тарелки в сочетании с пластилином, изображающим еду.
Эти игрушки могут быть особенно полезными для детей, страдающих нарушени¬
ями питания, или тем, кто испытал на себе жестокое обращение или отвержение и
все еще тревожится по поводу удовлетворения своих базальных потребностей.
Игрушки, изображающие уменьшенные бытовые приборы, могут усилить спо¬
собность ребенка включаться в такой же вид игры, который стимулируют игру¬
шечная посуда и пища. К тому же наличие бытовых приборов подталкивает ре¬
бенка к проигрыванию сцен из домашней жизни. В этих постановках дети могут
демонстрировать роли, характеризующие различных членов его семьи, или пре¬
доставлять важный содержательный материал.
Так же как игрушечные бытовые приборы позволяют ребенку разыгрывать до¬
машние ситуации, игрушечные объекты, представляющие другие окружающие
ребенка условия, помогают ему ставить сцены, связанные с этими условиями.
Оборудование, имеющее для детей-клиентов универсальную ценность, — это
предметы, представляющие школьную среду. Часто даже простые вещи, такие как
линейка или мольберт, заключают в себе сильное побуждение начать играть
«в школу», игру, которая может быть позитивной или негативной в зависимости
от той эмоциональной нагрузки, которую школа несет для ребенка. У некоторых
детей школа вызывает такую антипатию, что любые объекты, создающие связь
между школой и игровой комнатой, обладают потенциалом для разрушения ра¬
бочих отношений, особенно на ранних стадиях лечения.
Костюмы или материалы для одевания привлекают детей, но терапевты име¬
ют различные мнения на их счет. Те, кому нравится этот тип игровых материалов,
напоминают нам о природной склонности детей копировать поведение окружаю¬
щих людей и использовать игру для репетиции ролей, которые предстоит испол¬
нять в жизни. Чтобы способствовать развитию этого типа игры, вам следует поза¬
ботиться о наличии в игровой комнате таких предметов, как взрослая одежда,
головные уборы или другие вещи, характеризующие различные профессии, такие
как портфель, стетоскоп, украшения и галстук. Пока вы не обладаете значитель¬
ным местом для хранения игрушек, вам придется ограничить число этих предме¬
тов до нескольких штук, которые можно использовать по-разному.
Другие терапевты, предпочитающие использовать костюмы в игровой комна¬
те, более склонны к использованию актерской игры в качестве терапевтического
посредника; они так компонуют свои материалы, чтобы дать ребенку возможность
разыграть и фантазийные и реальные роли. Материалы, позволяющие ребенку
стать принцем или принцессой, чудовищем или ангелом, животным, космонавтом
или супергероем, потенциально могут использоваться в ходе лечения.
252 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Те, кто протестует против использования костюмов на игротерапевтических
сессиях, говорят в первую очередь о проблемах с управлением и контролем. Кос¬
тюмы позволяют ребенку превратиться в кого-то другого. Это не проблема для
среднего ребенка с несколькими значительными поведенческими трудностями,
осознающего наличие границ между собой и героями, которых изображает; такой
ребенок не использует героя в качестве извинения за деструктивное поведение,
демонстрируемое в его образе. Но маленькие дети и дети, страдающие более серь¬
езными расстройствами, обычно сталкиваются с большими трудностями в поддер¬
жании дистанции между собой и героями, в костюмы которых они наряжаются.
Такой ребенок становится изображаемым им героем. Если такой ребенок одева¬
ется солдатом, ему очень просто начать вести себя как солдат и нарушить все обыч¬
ные правила поведения в игровой комнате. В этой ситуации терапевт сталкивает¬
ся с проблемой: устанавливать границы для «солдата» или для ребенка? Если для
солдата, то ребенок может вступить в спор, потому что он солдат и не обязан вас
слушать. Если вы захотите установить границы для ребенка, вы можете обнару¬
жить, что к ребенку невозможно пробиться, пока цел его костюм, что вновь созда¬
ет условия для негативного деструктивного поведения. Ниже приводится пре¬
красный неклинический пример.
Мэтью было два с половиной года. Он безумно влюбился в ковбоев и старался исполь¬
зовать каждую возможность, чтобы превратиться в одного из них. Вначале для совер¬
шения этих превращений даже не требовалось костюма, поэтому его переключения из
роли в роль были неочевидны. Позже он разработал соответствующий костюм. Для того
чтобы его надеть или снять, Мэтью требовалось время и помощь взрослого. Но глав¬
ная проблема возникала, когда взрослые пытались вступить во взаимодействие с маль¬
чиком. Когда Мэтью был ковбоем, имя Мэт (уменьшительное от Мэтью) больше не
было его именем, и поэтому, когда к нему обращались, он либо не отвечал, либо просто
информировал говорящего, что его зовут не Мэт. Он полностью контролировал про¬
цесс превращений: становился ковбоем, когда это было удобно ему, а не взрослым. Ко¬
гда Мэт был ковбоем, на него не действовали никакие домашние правила, особенно вы¬
ражающиеся в форме запретов. Если ковбой хотел съесть печенье прямо перед обедом,
это было нормально, потому что ковбои могли это делать. Если же Мэтью все равно не
разрешали есть печенье, он ударялся в слезы и начинал спорить, детально описывая
права ковбоев. Если ковбой делал что-то, что не полагалось Мэту, и взрослый делал ему
замечание, он мог посмотреть взрослому прямо в глаза и сказать: «Ты не можешь гово¬
рить это мне, потому что я не Мэт, а ковбой». На слова взрослых, что ковбою следовало
бы послушаться, ребенок реагировал деланным безразличием и удалялся.
Может быть, вы скажете: «Но в чем здесь проблема? Это интересный вариант
нормальной для тоддлера индивидуации и оппозиции, но здесь нет особенных
сложностей». Если ваша реакция такова, вы правы; Мэтт на самом деле редко де¬
лал что-то, требующее значительного вмешательства, и постепенно для начала
трансформации из мальчика в ковбоя ему стал требоваться костюм, так что теперь
взрослые могли лучше отслеживать изменения ребенка. Но что, если бы он, буду¬
чи вашим клиентом, решил, что ему не нравится, как проходит сессия, превратил¬
ся бы в ковбоя и отказался бы взаимодействовать с вами, пока вы не изобразите
его лошадь (разговаривать которой, естественно, не полагается)? Или если бы он
стал агрессивным, как ковбой, а затем разозлился бы на ваши попытки установить
Глава 8. Начало лечения 253
ему ограничения, из-за того что вы не уважали его роль? Что, если бы он не захо¬
тел снимать костюм, когда время сессии подошло к концу (это, кстати, объединя¬
ет детей первого и второго уровней)? Присутствие или отсутствие костюмов не
решит проблему — в конце концов, поначалу Мэту не требовался никакой костюм.
Более того, сопротивление может проявляться в любой форме, и к каждой из них
необходимо обращаться соответствующим образом. Но костюмы, которые поря¬
дочно усложняют дело и не провоцируют чрезмерного агрессивного отреагирова¬
ния, могут оказаться более проблематичными, нежели ценными, особенно в слу¬
чае с детьми, функционирующими на низших уровнях развития.
Ближе к концу второго уровня более популярными становятся изобразитель¬
ные игрушки, подразумевающие сохранение некоторой дистанции между ребен¬
ком и материалом его фантазии. Поскольку эти игрушки нравятся детям на всем
протяжении третьего уровня, рассказ об их использовании приводится в разделе,
посвященном игровым материалам для таких детей.
Обычно дети второго уровня получают огромное удовольствие от художе¬
ственных материалов. В возрасте приблизительно от двух до четырех лет они все
еще склонны фокусироваться на сенсомоторных аспектах материалов, как и дети
первого уровня. Но постепенно они начинают давать своим творениям содержа¬
тельные имена, хотя нередко очень непоследовательно. Трех- или четырехлетний
ребенок может начать рисовать оленя, потом посмотреть, что у него получается, и
решить, что это больше похоже на медведя, а затем, когда черная краска, которой
он пытается добавить оленю копыта, слишком растечется, он может решить, что
все вместе это скорее напоминает автомобиль, и продолжить рисовать кузов, окна
и фары. Эти переключения не беспокоят ребенка; они демонстрируют текучесть
дооперационального детского мышления. Ближе к концу этого уровня, когда ре¬
бенку уже между четырьмя и шестью годами, он начинает испытывать гораздо
больший интерес к созданию двух- и трехмерных репрезентаций своего внутрен¬
него и внешнего мира.
Стремление детей второго уровня к изобразительному искусству значительно
превосходит их когнитивное развитие и навыки мелкой моторики. Они с одина¬
ковой вероятностью концентрируются как на процессе созидания, так и на его
содержании. По этой причине нужно, чтобы ребенку были доступны материалы,
позволяющие наилучшим образом выполнять эту работу и сталкиваться с мини¬
мальными разочарованиями. Вероятно, оптимальной техникой художественного
творчества для детей второго уровня можно считать фломастеры, а на втором мес¬
те (с незначительным отставанием) — пастель (цветные мелки). При помощи фло¬
мастеров дети обычно рисуют выразительные картины, передающие большое ко¬
личество информации с помощью разнообразия ярких цветов. До тех пор пока не
используются фломастеры с тонкими кончиками, рисунки фломастерами обыч¬
но довольно упрощенные и выглядят достаточно плоско, поскольку при помощи
этого посредника очень трудно добиться отражения светотеней. Несмотря на то
что многим детям мелки кажутся чрезмерно «детскими» атрибутами, они обеспе¬
чивают достаточно широкую сферу художественного самовыражения. Рисунки
могут четче прорабатываться, и с их помощью легко передавать текстуру и свето¬
тень. Темпера, используемая вместе с кистями среднего размера, также очень при-
254 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
влекательна для детей этой возрастной группы и является великолепной наход¬
кой для создания простых, несложных в рисовании и вместе с тем выразительных
(bold) картин. Независимо от того, какой инструмент используется для рисования,
листы бумаги для детей второго уровня должны быть довольно крупными. Это не
обязательно большие листы газетной бумаги, которые вы дали ребенку первого
уровня, но предоставляемая вами бумага должна быть крупнее, чем лист формата
А-4. Акварельные краски обычно не подходят для использования в игровой ком¬
нате, поскольку эта техника слишком сложна для детей.
Помимо прочего, в течение второго уровня у детей развивается способность
символического использования искусства. То есть они научаются передавать чув¬
ства через качество работы, а не просто посредством ее содержания. Семейные
раздоры могут изображаться на листе бумаги в виде рваной монохромной спира¬
ли, а не в виде изображения людей, дерущихся между собой. Эти символические
навыки могут совершенствоваться при помощи специальных техник, например
техники «Раскрась свою жизнь» (Color-Your-Life Technique; O'Connor, 1983), ко¬
торая делает эти навыки доступной для ребенка формой коммуникации в рамках
сессий.
Кроме того, детям второго уровня нравится создавать трехмерные произведе¬
ния искусства. Как и в случае с любыми двухмерными посредниками, предостав¬
ляемыми детям на данном уровне развития, любые трехмерные материалы долж¬
ны быть сравнительно просты в использовании. Если вы используете пластилин,
обязательно выбирайте самые мягкие разновидности, потому что наибольшую
фрустрацию у пятилетнего ребенка вызывают попытки сделать что-то из чрезвы¬
чайно твердого комка пластилина, который не поддается давлению его пальчиков.
Более структурированные художественные материалы, такие как книжки-рас¬
краски или сборные модели, редко появляются в игровых комнатах, поскольку
они все же ограничивают содержательный и креативный процесс. Но некоторые
терапевтические книжки-раскраски могут оказаться подходящими в качестве спо¬
собов введения чувственного материала, особенно при работе с теми детьми, ко¬
торые проявляют сопротивление или уходят в защиту. Например, существуют
раскраски, предназначенью для введения в детские сессии информации о сексу¬
альном или физическом насилии, об алкоголизме.
Игровые материалы для детей третьего уровня развития
В среднем дети третьего уровня достигли точки, когда они лучше способны диф¬
ференцировать фантазию и реальность. К сожалению, их крайне конкретный под¬
ход к миру и их очарование фактами может помешать проигрыванию фантазий.
Многие из них с готовностью включаются в «большие» детские игры, такие как
традиционные настольные игры, или в занятия спортом, но никто с легкостью не
увлекается ориентированной на инсайт работой, которая осуществляется со зна¬
чительным использованием интерпретаций. К счастью, в безопасных условиях
игровой комнаты дети третьего уровня готовы играть в изобразительные игры
с игрушками.
Дети, развитие которых соответствует развитию детей 6-11 лет, наиболее охот¬
но включаются в изобразительную игру с материалами, позволяющими им под-
Глава 8. Начало лечения 255
держивать некоторую дистанцию от своих фантазий. Миниатюрные игрушки (фи¬
гурки, дома, машинки и т. п.) ребенок использует просто потому, что они включа¬
ют все те пункты, которые позволяют ему воссоздать в миниатюре свои мысли и
свой мир. Вы можете воспользоваться готовыми наборами таких игрушек.
Например, существует набор, включающий отца, мать, ребенка и детскую ко¬
ляску. У отца и матери есть головные уборы, а у младенца — пеленка. Другой
набор содержит почти все необходимое для традиционной классной комнаты: учи¬
тель, ученики, парты и стулья для каждого из них, классная доска, карта с подстав¬
кой, головные уборы и рюкзаки для учеников, шляпа и портфель для учителя. Два
набора среднего размера воссоздают операционную и больничную палату. В не¬
которых крупных наборах можно найти пожарные машины, машины «скорой по¬
мощи», макет типичного провинциального городка, пиратские корабли и так да¬
лее и тому подобное. Но с этими наборами связано несколько проблем. Во-первых,
сейчас эти наборы нельзя заказать прямо у производителя, поэтому вам придется
покупать или заказывать их в магазинах. Во-вторых, обычно такие наборы очень
традиционны и стереотипизированны. Школьная учительница — женщина в оч¬
ках; все пожарные — мужчины и т. д. Если у вас есть несколько наборов, вы може¬
те хранить все персонажи в одной коробке, отдельно от остальных принадлеж¬
ностей каждого набора, что позволяет ребенку выбирать, какие герои подойдут
для игры. Последняя проблема — наборы содержат ограниченное количество фи¬
гур — представителей различных национальностей или социальных меньшинств.
И опять же если вы купите несколько наборов, вы сможете сложить все фигуры
вместе и решить эту проблему.
Куклы и кукольные дома всегда считались значимым элементом игровой комна¬
ты. Существует много их разновидностей, из которых можно выбирать; большин¬
ство лучших моделей можно достать через компании, занимающиеся школьными
принадлежностями. Они могут быть достаточно дорогими, но предназначены для
использования многими детьми и поэтому обладают простой и прочной конструк¬
цией. В течение многих лет вы можете столкнуться с одной проблемой: трудно
найти кукольный дом, отражающий разнообразие условий мест жительства ваших
клиентов. Дети могут жить в собственных домах, в домах, рассчитанных на две
семьи, в квартирах и в многоэтажных домах, и конечно, количество возможных
типов планировки этих помещений практически бесконечно. Рекомендуемое ре¬
шение заключается в том, что нужно убирать кукольный дом из игровой комнаты,
но оставлять фигуры, живущие в нем, и иметь широкое разнообразие миниатюрной
мебели, бытовых приборов и других домашних вещей. В отсутствие кукольного
дома дети склонны более свободно создавать модели жилых помещений прямо на
полу. Те дети, которым необходима большая структурированность, могут исполь¬
зовать кубики для создания конструкций, которые могут населять игровые фи¬
гурки.
Помимо материалов и оборудования, позволяющих ребенку проигрывать сце¬
ны из реальной жизни или фантазии, вы можете выбрать и другие изобразитель¬
ные игрушки, удовлетворяющие потребностям конкретного клиента, как демон¬
стрируется в следующем клиническом примере.
256 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Райан был госпитализирован в 4 года с осложнениями после гриппа. Поскольку он был
полностью обезвожен, ведение иглы в вену было сильно затруднено, при этом необхо¬
димо было делать три укола в различные части тела. Райан пытался сотрудничать с
врачами, но постепенно начал очень сильно напрягаться, кричать и активно протесто¬
вать. На следующий день, когда внутривенные впрыскивания помогли ему почувство¬
вать себя лучше, он попросил разрешения сходить в больничную игровую комнату.
Оказавшись в ней, он нашел ящик с медицинскими инструментами, среди которых был
и внутривенный набор (intravenous set). Он взял одну из кукол-детей и шприц и не¬
сколько раз проделал с ней процедуру инъекции. Каждый раз его отец держал куклу за
руку и приговаривал: «Малыш напуган и хочет заплакать, поэтому нужно держать его
за руку». В течение следующих двух дней эта игра доминировала в деятельности Рай¬
ана в игровой комнате. На третий день его выписывали, и он попросился последний раз
побывать в игровой комнате. Он снова собрался сделать кукле инъекцию, но сказал
отцу: «В этот раз тебе не придется держать его за руку, он не собирается плакать». Сра¬
зу после завершения этого действия Райан стал играть во что-то другое, видимо, спра¬
вившись со своей тревогой.
Ребенку третьего уровня нравится использовать самые разнообразные типы
художественных материалов, хотя более старшие дети третьего уровня заинте¬
ресованы в материалах, которые можно использовать для создания более реали¬
стичных репрезентаций своего мира и фантазий. Обычно таким детям нравится
выполнять как двухмерные, так и трехмерные работы. Для двухмерной работы
(рисование) они чаще выбирают стандартный размер листа (А4), а не более круп¬
ные листы, предпочитаемые младшими детьми. Также они больше склоняются к
белой, а не к цветной бумаге. По мере того как дети третьего уровня становятся
старше, они демонстрируют снижение интереса к темпере и возрастание интереса
к фломастерам и мелкам. Интерес к мелкам колеблется во времени; большинство
детей обычно предпочитают яркие цвета и несложность контролирования, обес¬
печиваемые фломастерами. Ближе к концу третьего уровня дети могут решить, что
цвета, передаваемые фломастером, нереалистичны, и предпочесть им цветные ка¬
рандаши, которые позволяют оттенять рисунки. Что касается акварели, то это еще
слишком сложная техника даже на этом уровне развития. К тому же акварель не¬
удобно применять в игровой комнате, где содержание и процесс имеют большую
ценность, чем технические навыки исполнения.
В своем производстве трехмерной продукции дети третьего уровня тоже склон¬
ны предпочитать средства, позволяющие им создавать реалистичные творения. На
этом уровне они предпочитают глину. Неплохой вариант — большой контейнер с
глиной на водной основе (наподобие такой, какую используют гончары), и в этом
случае глину несложно сохранять мягкой — нужно просто добавлять воду. К со¬
жалению, предметы, слепленные из такой глины, получаются очень хрупкими,
если сушить их на воздухе, а не обжигать на огне. Одно из возможных решений —
приобретайте самозатвердевающую глину, при работе с которой получаются пре¬
восходные результаты (правда, она недешева).
Другое решение — относиться к объектам, слепленным из глины, так же как и
к конструкциям, построенным из кубиков. То есть вы можете проинформировать
ребенка, что как только сессия закончится, его скульптура будет скатана обратно
в комок и возвращена в контейнер до следующей недели. Если вы решаете после-
Глава 8. Начало лечения 257
довать этому плану, придерживайтесь его независимо от того, какой бы прекрас¬
ной или символической ни оказалась скульптура, созданная ребенком. Возмож¬
но, ребенок, который сотворил нечто особенно символическое, мог сделать это
только потому, что вы обещали ему, что не будете хранить результат его творче¬
ства там, где его смогут увидеть другие. Если вы сохраняете прекрасные творения,
ребенок может прийти к выводу, что вы только тогда охраняете его произведения,
когда они нравятся вам. В первом случае ребенок чувствует, что его ввели в за¬
блуждение, в последнем — что его ценят лишь тогда, когда он способен произве¬
сти прекрасный конечный продукт. Обе эти ситуации могут повредить ходу тера¬
пии. Если вам кажется, что планомерное разрушение творений ребенка жестоко,
вы можете справиться с этим, используя камеру для съемок многосерийного филь¬
ма, описывающего все созданное ребенком, прежде чем совершится его уничто¬
жение.
Дети третьего уровня также склонны демонстрировать повышение интереса к
игрушкам-конструкторам, таким как наборы Лего®, Lincoln logs®, Tinker Toysi® и
Erector®, но обычно по ряду причин они менее чем удовлетворительны для вклю¬
чения в обстановку игровой комнаты. Lincoln Logsи Tinker Toys® не являются хо¬
рошим выбором, потому что сложны в применении и, что еще более важно, из них
конструируется опасное оружие. Наборы Erector требуют значительных навыков
и отвлекают ребенка от работы на сессии. Вероятно, из этой группы наиболее по¬
лезны игрушки Лего. Этот конструктор достаточно прост, чтобы ребенок третье¬
го уровня мог успешно справиться с простым сооружением, и при этом его можно
использовать для построения более сложных конструкций, которые привлека¬
тельны для старших детей третьего уровня и даже для представителей четвертого
уровня. Одна из стратегий, предотвращающих погружение ребенка в технические
детали создания чего-либо из конструктора Лего, — ваша проверка того, чтобы
поблизости не находилось никаких коробок и чертежей, на которых изображены
примеры законченных объектов, которые можно выстроить из этого набора. Со¬
вершенно очевидно, что дети третьего уровня немедленно попытаются воспроиз¬
вести все что увидят, и это сразу отвлечет их от работы на сессии.
Некоторые старшие дети третьего уровня развития также любят собирать мо¬
дели, которые обычно содержат разрозненные элементы, несколько напоминаю¬
щие традиционные настольные игры. Главнейшие препятствия здесь — степень
структурированности, которую предполагает большинство моделей, и сложность
указаний по сборке. То есть содержание заранее предопределено и оставляет ребен¬
ку слабую возможность проявить свою креативность, а необходимость следовать
указаниям может занимать столько внимания ребенка, что его просто не остается
на терапевтическую работу. Модели обсуждаются далее, в контексте рассмотре¬
ния их использования в работе с детьми четвертого уровня.
Еще одна группа игровых материалов, способная увлечь детей третьего уров¬
ня, — это настольные игры. Здесь вы можете решить, использовать ли вам тради¬
ционные игры или во множестве доступные сегодня терапевтические настольные
игры. Сложным традиционным настольным играм, таким как шахматы или «Мо¬
нополия» (Monopoly®), не место в игровой комнате, потому что они обычно фоку¬
сируют внимание ребенка на механизмах игры, а не на терапевтической работе.
258 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Более простые игры, например «Леденцовая страна» (Candyland®), «Змея и Ле¬
сенка» (Chutes and Ladders®) или шашки, могут быть очень полезными, особенно
если использовать их с целью научить ребенка соблюдать правила и очередность.
Формат настольных игр также можно применять для введения в сессии разнооб¬
разнейшего содержательного материала при помощи таких игр, как «Говорю-чув-
ствую-делаю» (The Talking, Feeling and Doing Game; Gardner, 1973), «Вообрази»
(Imagine; Burks, 1978), «Не-игра» (The Ungame; Zakich, 1975) или «Воссоединение»
(Reunion; Zakich & Monroe, 1979).
Независимо от того, какую игру вы выбрали для использования на сессиях с
конкретным клиентом, важно, чтобы вы не пытались поддаваться ребенку в игре
(Cooper & Wanerman, 1977). Большинство детей определяют, когда взрослый иг¬
рает не в полную силу. Это не значит, что вы обязаны выигрывать всегда, без уче¬
та потребностей клиента, а лишь то, что вам нужно обращать внимание на процесс
игры в игру, а не на выигрыш или проигрыш. Один из способов добиться этого —
иметь две игры: одна из них основана на везении, а другая — на навыке. Вы може¬
те продемонстрировать ребенку, что у вас обоих равный шанс выиграть в играх,
зависящих от случая, но что при этом вы обладаете большими шансами выиграть
в игру, зависящую от навыка. Хорошей игрой, основанной на удаче, является «Ле¬
денцовая страна», потому что в нее можно играть несколько раз за время одной
сессии, что повышает шансы того, что и вы и ребенок хотя бы по одному разу вы¬
играете. Шашки — хорошая игра, основанная на навыке, и в нее тоже можно играть
несколько раз за сессию. Также, играя в нее, вы можете научить ребенка простой
стратегии, которая повышает его шансы на победу (просто объясните ребенку, что
всякий раз, когда это возможно, ему нужно стараться двигать свои шашки к цент¬
ру доски).
Также важно, чтобы вы не позволяли ребенку мошенничать в играх (Cooper &
Wanerman, 1977). Когда мошенничество происходит впервые, вам следует проин¬
терпретировать поведение ребенка, придерживаясь стиля, предложенного в гла¬
ве 9. Если мошенничество продолжается, вам следует ввести ограничения. На¬
пример, вы можете выдвинуть гипотезу, что склонность ребенка к жульничеству
может быть одной из причин, в силу которых ему трудно ладить со сверстниками.
Если ребенок признаёт справедливость вашей интерпретации, но продолжает мух¬
левать, вы можете попробовать «ужасно обмануть» себя, сказав, что действитель¬
но, эта игра кажется гораздо более забавной, когда ее правила игнорируются. Это
заявление обычно становится началом обсуждения относительной честности уло¬
вок ребенка по сравнению с вашим жульничеством. В качестве альтернативного
варианта вы можете установить ограничения, сказав ребенку, что он, видимо, пока
еще не готов играть в игры, потому что не умеет соблюдать правила, и вам не сле¬
дует предлагать эту игру на следующей сессии.
Игровые материалы для детей четвертого уровня развития
Дети старше 11-12 лет находятся в сложном положении и социально, и если го¬
ворить о типах игровых материалов, которые им нравится использовать. По мере
вступления ребенка в предподростковый период значительно усиливается его ког¬
нитивная способность сравнивать себя с другими людьми. Внезапно он развивает
Глава 8. Начало лечения 259
у себя самосознание (.self-conscious) и, в общем, приобретает мощную мотивацию
подчиняться стандартам и ожиданиям сверстников. Предподростки также нахо¬
дятся в условиях значительного социального давления, побуждающего их казать¬
ся похожими на взрослых и предпочитать взрослые игрушки. Это изменение часто
заставляет их отвергать игровые материалы, которые совсем недавно им нрави¬
лись. Ребенок может быть доволен этим отказом от игрушек, но может и испыты¬
вать сожаление по этому поводу. То есть некоторые предподростки могут считать
себя очень взрослыми и не скучать по забавам недавнего детства. Другие же мо¬
гут стремиться побыстрее вырасти, но при этом все еще ощущать себя детьми и
чувствовать горе по поводу потери игрушек. В любом случае редкий предподрос-
ток или даже подросток готов и способен высиживать 50-минутную терапевтиче¬
скую сессию и ничего не делать, а только говорить. По этой причине вам необходи¬
мо иметь некий набор игрушек на случай, если придется работать с клиентами
четвертого уровня.
Младшие дети четвертого уровня могут продолжать демонстрировать значи¬
тельный интерес к изобразительным игрушкам, особенно к миниатюрам, начиная
с того момента, как освоятся в игровой комнате. Двенадцатилетний клиент, под¬
чинившийся своему желанию взять кубики и игрушечных солдатиков, создаст
драматически более сложную сцену, чем десятилетний. Подобным же образом
двенадцатилетний ребенок может продемонстрировать разгоревшийся с новой
силой интерес к механической игрушке, к которой он не притрагивался несколь¬
ко лет, потому что теперь он будет захвачен действием ее внутреннего механизма.
Интерес детей четвертого уровня к игрушкам младших детей может происходить
не только из-за того, что они сами только что вышли из детства, но и из-за услож¬
нения их когнитивной структуры, дающей им возможность взглянуть на старые
игрушки по-новому.
Ребенок четвертого уровня развития совершает переход от стремления играть
на сессии к стремлению просто сидеть и разговаривать. В такой ситуации полезно
иметь простые игрушки, которыми он сможет занять руки во время разговора.
Дети четвертого уровня часто используют для этого игрушки Лего; они ничего не
строят, но снова и снова соединяют и разъединяют детали конструктора. Иногда
той же самой цели может служить сборная модель; она должна быть проще, чем
выбрал бы сам ребенок, чтобы ему не пришлось постоянно заглядывать в руковод¬
ство по сборке, а можно было работать и говорить одновременно.
По мере вступления детей на четвертый уровень их интерес к художественным
материалам стремительно падает. Повышение способности сравнивать свою ра¬
боту с работами окружающих или нарисованный предмет с реальным делает их
очень критичными к результатам своей деятельности. Часто они отказываются
рисовать, говоря, что это у них не очень хорошо получается. Конечно, есть и дети,
обладающие художественным талантом и осознающие его — для них создание
произведений искусства на сессиях может быть очень продуктивным и в целях
терапии, и в целях развития навыков. На этом уровне дети могут демонстрировать
интерес к некоторым качественным материалам, из которых можно создать реаль¬
ный продукт. К сожалению, художественные материалы могут быть очень доро¬
гими, и поэтому большинство игровых терапевтов в состоянии позволить себе
260 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
лишь очень небольшой их запас. Недорогой посредник, позволяющий в то же вре¬
мя создавать утонченные и выразительные работы, — это уголь, используемый для
рисования на газетной бумаге.
Наконец предостережение. Если вы планируете работать с детьми четвертого
уровня, игрушки, имеющиеся в игровой комнате, желательно спрятать, чтобы они
были не на виду. Дети, находящиеся на этом уровне, с некоторой ригидностью
остаются верными своим первым впечатлениям. Если они входят в комнату для
лечения и поражаются, насколько он «детская», у них может выработаться пози¬
ция сопротивления, которую очень сложно преодолеть.
Оформив игровую комнату так, чтобы она соответствовала потребностям ва¬
шего клиента, и добыв необходимые игровые материалы, вы готовы начинать саму
игровую терапию. Чтобы совершить переход от формата вводных сессий к фор¬
мату первых игровых сессий, ребенку понадобится некоторая переориентация.
Лучше всего открыто высказать ожидания от этих сессий. Напомните ребенку о
терапевтическом контракте, который был представлен на вводной сессии обрат¬
ной связи. Затем объясните, чему будут посвящены первые сессии и какой будет
их структура. Этот переход можно совершить, просто сказав ребенку следующее.
В последний раз, когда мы с тобой встречались, мы говорили о том, как грустно тебе
иногда бывает и как сильно ты иногда злишься, и ты сказал, что хотел бы испытывать
эти чувства не так часто. Итак, мы собираемся ненадолго встречаться каждую неделю
и выяснять, что мы можем для этого сделать. Когда мы встречались в первый раз, я за¬
давал тебе много вопросов и много про тебя узнал. Сейчас я бы хотел узнать тебя не¬
много лучше. Но теперь я больше не хочу задавать тебе вопросы. Вместо этого я хотел
бы провести с тобой некоторое время и просто посмотреть, какие вещи ты любишь де¬
лать и что тебе делать не нравится. Когда я узнаю о тебе еще что-то, мы подробнее по¬
говорим о твоих чувствах, а сейчас давай просто кое-что сделаем. Ты можешь делать
все, что захочешь: играть с игрушками, говорить все что угодно...
Эта вводная речь предполагает, что поначалу у вас пройдут несколько неструк¬
турированных сессий; если вы не планировали это делать, переход может совер¬
шиться еще легче. В последнем случае переход заключается в том, что вы говори¬
те ребенку: «В последний раз, когда мы с тобой встречались, мы говорили о том,
как грустно тебе иногда бывает и как сильно ты иногда злишься, и ты сказал, что
хотел бы испытывать эти чувства не так часто. Итак, я бы хотел попробовать про¬
вести некий эксперимент, чтобы посмотреть, насколько трудно для тебя быть сча¬
стливым и радоваться (вам может понадобиться объяснить слово “эксперимент”).
Это несложный эксперимент, потому что я просто хочу посмотреть, удастся ли мне
насмешить тебя. Сначала я попытаюсь рассмешить тебя, рассказав одну или две
шутки, но если это не сработает, мне может понадобиться посмотреть, почему ты
такой особенный». Так или иначе, ребенок должен уяснить, что формат, по срав¬
нению с вводными сессиями, изменился, а также усвоить свою и вашу роль в даль¬
нейшем процессе.
Первая сессия (первые сессии)
Анна Фрейд сравнивала фазы вхождения, исследования и пробного принятия
(tentative acceptance) в структуре лечения ребенка с обольщением. Эта аналогия
может казаться чрезмерно сексуализированной, но во многих отношениях она
Глава 8. Начало лечения 261
точна. Сначала вы добиваетесь того, чтобы ребенок почувствовал себя в безопас¬
ности в незнакомых условиях с незнакомым человеком, так чтобы вы могли со¬
единиться и включиться в процесс, совершенно незнакомый для ребенка — луч¬
ше всего, если это будет проблемная ситуация. Фрейд рекомендовала, чтобы в
течение этой фазы происходила лишь самая незначительная работа (интерпрета¬
ция), чтобы защиты ребенка не начали рушиться прежде, чем он установит безо¬
пасные отношения с терапевтом, который может его защитить. На этих начальных
сессиях вы должны создавать «поддерживающие» отношения — отношения, на¬
ходясь в которых ребенок уверен в вашей способности таким образом обходиться
с его наиболее пугающими и деструктивными мыслями и чувствами, что никому
из вас не будет нанесен вред.
Даже прежде, чем вы сможете создать соответствующую поддерживающую сре¬
ду, ребенок должен начать считать вас частью его экосистемы. На всем протяже¬
нии процессов вхождения и диагностики вы являлись нарушителем, вторгшимся
в экосистему ребенка, но с самого начала лечения вы становитесь интегральной
частью этой системы и, хочется надеяться, товарищем вашего клиента. Но ребе¬
нок не может позволить стать частью своей экосистемы чужаку. Сперва он дол¬
жен убедиться, что у вас есть что ему предложить. Вы уже предложили все свое
внимание, и это впечатляет большинство детей, но некоторые продолжают сопро¬
тивляться и хотят еще большего удовлетворения своих ожиданий. Фрейд делала
для своих клиентов волшебные трюки и просто становилась чем-то знакомым,
веселым и безопасным в мире ребенка. На этом уровне вы можете действовать
более активно и демонстрировать ребенку ваше желание взаимодействовать с ним.
Каким бы образом вы этого ни достигали, эта фаза пробного принятия или, если
угодно, обольщения, — необходимый шаг в начале процесса игровой терапии с
любым ребенком.
Джим, 6-летний клиент, был приведен на терапию, потому что его мать беспокоилась,
что он чрезмерно контролирует себя и окружающих и несколько подавлен. Родители
развелись несколько лет назад, и казалось, что Джим так по-настоящему и не оправил¬
ся от этого события. В течение стадий вводной беседы и предварительной оценки Джим
вел себя примерно. Он прямо отвечал на все вопросы, сидел совершенно спокойно и не
делал ничего, что хотя бы приблизительно напоминало импульсивность. Чтобы всту¬
пить в первоначальный альянс и совершить переход от вхождения к собственно лече¬
нию, терапевт предложил, чтобы они вместе с Джимом поучаствовали в эксперименте.
Это сразу привлекло Джима, который отличался интеллектуальным складом и стилем
деятельности. Терапевт заметил, что Джим все время производит впечатление очень
серьезного человека, и спросил, есть ли у него внутри хоть какие-нибудь счастливые,
радостные чувства. Он подчеркнул, что иногда счастливые чувства прячутся в таких
чувствительных местах, что только и ждут возможности проявиться. Он сказал, что
попытается пощекотать различные части тела Джима, чтобы посмотреть, выскочит ли
счастье наружу. Джим нерешительно согласился и поначалу сидел ровно, пока терапевт
щекотал ему шею. Оба заметили, что, видимо, никакого счастья здесь не прячется. Тогда
терапевт продолжил «эксперимент» и сильнее пощекотал Джима под коленками. Ребе¬
нок тут же засмеялся и даже соскользнул со стула на пол, говоря: «Мне очень нравится,
когда мне щекотно». В этот момент он с готовностью согласился работать с терапев¬
том, чтобы посмотреть, есть ли другие способы вызывать счастье и рассеивать груст¬
ные чувства.
262 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Этот альянс с ребенком можно считать эквивалентом терапевтического альянса,
являющегося предпосылкой успешного психоаналитического лечения взрослых.
Этот альянс также является детским аналогом трансферного невроза. Трансфер¬
ный невроз (невроз переноса — transference neurosis) — это термин, используемый
для обозначения тех мыслей, эмоций и видов поведения, которые появляются на
сессии как отражения истории или Жизненного опыта человека, но не как реак¬
ции на реалии терапевтического процесса. Невроз переноса играет важную роль в
проведении традиционной психоаналитической работы, потому что создает кон¬
текст, в котором осуществляется подача материала пациента в ходе сессий.
Детские аналитики долго обсуждали способность ребенка к выработке клас¬
сического переноса, поскольку родители ребенка, исходные объекты, с которыми
сформированы его инфантильные отношения и вокруг которых они вращаются,
все еще являются интегральной частью жизни ребенка. Начальная аналитическая
позиция Анны Фрейд состояла в том, что дети неспособны развивать невроз пе¬
реноса, но позже она скорректировала свои взгляды (A. Freud, 1965), признав, что
трансферный невроз может возникать у детей, но не в такой форме, как транс¬
ферный невроз у взрослых. Тогда с аналитической точки зрения вопрос заключа¬
ется в степени, в какой ребенок проецирует образы значимых в его жизни людей,
а именно родителей, на персону терапевта, в то время как родители не только про¬
должают оставаться живыми людьми, но и очень властными фигурами в обыден¬
ном мире ребенка. Так как считается, что выработка этого устойчивого трансфер¬
ного невроза определяет течение истинного процесса психоанализа, вопрос его
наличия является ключевым.
Сегодня детские аналитики продолжают обсуждать слишком редкое появле¬
ние неврозов переноса у детей, причем их согласие по этому вопросу не всегда
бесспорно (Chused, 1988; Harley, 1986; Sandler, Kennedy, & Tyson, 1980; Tyson &
Tyson, 1986). Например, Чьюзед предполагал возможность возникновения пере¬
носа у детей, хотя признавал, что в некоторых отношениях они отличаются от пе¬
реноса взрослых. Он подчеркивал следующее:
У детей, как и у взрослых, эдипальные конфликты — важная черта трансферного не¬
вроза, поскольку эти конфликты отражают не только патогенные переживания, имев¬
шие место в течение эдипального периода развития, но и организуют патологии, про¬
исходящие на ранних, доэдипальных стадиях. Когда принимается в расчет уровень
развития функций эго ребенка, включающих когнитивное развитие, устойчивость аф¬
фекта, нарциссическую уязвимость и зрелость защит, а также природа привязанности
ребенка к его настоящим объектам (Tyson & Tyson, 1986), тщательная аналитическая
процедура, со строгим соблюдением правил анализа сопротивления и влияний контр¬
переноса, может привести к расцветанию трансферного невроза у пациента-ребенка.
Более того, перенос может развиваться и развивается в муках прохождения
ребенком любой фазы развития, независимо от смещения зоны концентрации
энергии либидо. Но еще более важной для развития невроза переноса, чем неза¬
висимость от первичных объектов, является достигнутая им степень интернали¬
зации. Достигая с ростом ребенка все большей устойчивости, интернализация по¬
зволяет аналитику проявлять больше гибкости при интерпретации сексуальных
(либидинозных) и агрессивных стремлений и связанных с ними фантазий. Чьюзед
Глава 8. Начало лечения 263
(Chused, 1988) доказывал, что не потребность или желание обладать объектами
удовлетворения приводит ребенка на прием к аналитику; скорее за это ответствен¬
ны бессознательные конфликты, связанные с удовлетворением потребностей, кон¬
фликты, коренящиеся не в актуальных отношениях, но происходящие из прошло¬
го опыта, а также их встраивание в структуру психики, что устанавливает более
существенные трудности. «Потенциально удовлетворяющие объекты часто до¬
ступны в жизни наших пациентов; проблема состоит в неспособности пациента
получать удовлетворение»1.
Согласитесь вы или не согласитесь с тем, что дети способны вырабатывать
трансферный невроз, несомненно одно: дети могут развивать (и развивают!) силь¬
ные рабочие отношения со своими терапевтами, которые могут содержать либо не
содержать некоторых проекций. Большинству терапевтов стоит лишь вспомнить,
сколько раз их дети-клиенты ошибались и называли их мамой или папой незави¬
симо от пола терапевта, чтобы стало ясно, что некоторое количество проекций про¬
исходит в ходе лечения детей. Тем не менее истиной является следующее: дети не
могут так, как взрослые, использовать свой интеллект, чтобы поддерживать убеж¬
дение в том, что их терапевты не являются частью их обыденного мира. То есть
дети не только проецируют на терапевта некоторое количество своего опыта, по¬
лученного с людьми «настоящего» мира, но и проецируют свой опыт, полученный
с терапевтом и в ходе терапии, на людей и ситуации, находящиеся за пределами
игровой комнаты. Именно эта склонность ребенка смешивать мир в игровой ком¬
нате с миром вне ее обычно способствует реальным отношениям между ребенком
и терапевтом, независимо от желаний или усилий последнего.
В то время как детские аналитики предпочли бы, чтобы клиент-ребенок раз¬
вивал достаточно сильный трансферный невроз, чтобы исключить установление
реальных отношений, существуют и такие специалисты, которые отстаивают об¬
ратное. Ярым защитником этой позиции был Глассер (Glasser, 1975). Он настойчи¬
во утверждал, что терапевты должны взаимодействовать с клиентами как с тако¬
выми, а не как с объектами переноса. Глассер хотел, чтобы терапевт поддерживал
некоторые ценности и работал над передачей их ребенку. Терапевт не нейтраль¬
ный экран, на который можно спроецировать свои фантазии, но сильный и ста¬
бильный человек, который служит для ребенка моделью принятия на себя ответ¬
ственности за свое поведение. Психотерапевты, работающие в рамках играпии
(Jernberg, 1979; Jernberg & Booth, 1999), придерживаются похожей позиции. Пред¬
ставители обоих подходов доказывают, что ребенок должен чувствовать присут¬
ствие личности терапевта и нужно подталкивать его к взаимодействию с этим че¬
ловеком, с которым должны установиться теплые, поддерживающие отношения.
Кроме того, и те и другие заявляют, что такие отношения — ключевые для того,
чтобы ребенок обрел смелость и стойкость, необходимые для изменения своего
поведения.
1 Обсуждение потенциала детского переноса было адаптировано по статье Advances in Psychoanalytic
Psychotherapy with Children (O’Connor & Lee, 1991) из книги M. Hersen, A. Kazdin & A. Bellack (Eds.)
The Clinical Psychology Handbook, p. 580-595. New York: Pergamon Press. Используется с разрешения
правообладателя.
264 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Традиционные детские психоаналитики в своей работе с ребенком стремятся
поддерживать отношения переноса. Терапевты, работающие в русле играпии и
терапии реальности, стремятся поддерживать с ребенком истинные отношения.
Наиболее продуктивные отношения, которые вы можете выработать с вашим кли-
ентом-ребенком, будут содержать оба подхода. Несомненно, ребенок будет про¬
ецировать на вас свои чувства, убеждения и фантазии относительно других лю¬
дей из его мира. Эти отношения должны включать некоторые элементы переноса
или по меньшей мере проекции, потому что ребенок никогда не узнает, кто вы и
какой вы на самом деле. Он не узнает, что вы делаете после работы, где вы живете,
как вы жили до сих пор, и поэтому будет заполнять пробелы в своих знаниях о вас
фантазиями. С другой стороны, невозможно предотвратить развитие реальных
отношений между вами и вашими клиентами. Если ребенок идет домой и говорит
о вас и об игровой сессии, значит, вы определенным образом вошли в его экосис¬
тему, причем не можете это полностью контролировать. Несомненно, продуман¬
ное и своевременное общение с родителями ребенка притупит влияние всего, что
может сказать ребенок, но фактом остается то, что в восприятии ребенка вы те¬
перь член его семьи. Вы должны осознавать уникальность своей позиции и дей¬
ствовать между вашей ролью в реальном мире ребенка и вашей ролью в мире его
фантазии, пытаясь произвести позитивные изменения в них обеих. Именно ваши
отношения дают ребенку ресурсы, необходимые для того чтобы начать изменения.
И именно желание поддерживать эти отношения мотивирует ребенка продолжать
развиваться с течением времени.
В следующих двух разделах описана подготовка терапевтов к начальным сес¬
сиям с Фрэнком и Аароном.
Случай из практики: Аарон
Поведение Аарона в ходе вводной беседы несколько усложнило планирование вводных
сессий. Было очевидно, что Аарон обладал некоторым когнитивным осознанием пере¬
живаемых им проблем и желанием приходить на терапию, которое основывалось на
понимании того, что ему помогут справиться с этими проблемами. С другой стороны,
его тревога была настолько интенсивной, что казалось, будто он не выработал никакой
эмоциональной связи с терапевтом, что проявлялось в его желании контролировать
практически каждый момент их взаимодействия. Основываясь на последнем наблюде¬
нии, терапевт решил разделить начальные встречи с Аароном на три фазы. На первых
двух занятиях Аарон должен будет обладать полным контролем над содержанием сес¬
сии и над форматом ее проведения. На следующих сессиях они с терапевтом по очере¬
ди будут контролировать по одной половине занятия. На последних двух сессиях на¬
чальной фазы терапевту предстоит контролировать формат сессии, предоставляя
содержанию разворачиваться своим чередом. Переход со стадии вхождения к началь¬
ным сессиям произошел, когда терапевт сказал Аарону, что много узнал о нем, контро¬
лируя первую встречу, а теперь, так как они согласились работать вместе, чтобы помочь
Аарону стать менее нервным, настала очередь Аарона контролировать сессии. Предпо¬
лагалось, что таким образом терапевт больше узнает об Аароне и это поспособствует
«хорошему старту».
Случай из практики: Фрэнк
Основываясь на знании травматической истории Фрэнка и его склонности оставаться
в стороне, терапевт решил провести начальные сессии в нейтральном ключе и позво-
Глава 8. Начало лечения 265
лить Фрэнку самому контролировать их содержание. Переход от стадии вхождения
был осуществлен при помощи простого признания того, что Фрэнк не очень счастлив
в стационаре, и предложения, что терапию можно начать с облегчения его адаптации.
Игровая комната была организована таким образом, что позволяла выбирать, каким из
трех видов деятельности заняться: 1) открытый ящик с песком с большим количеством
фигурок людей, животных и транспортных средств; 2) кукольный дом с набором фигу¬
рок, изображающих семью; 3) настольная игра, направленная на обучение основным
правилам безопасности.
В зависимости от ребенка и природы его проблем, формирование хороших ра¬
бочих отношений может занять любое количество времени, от одной сессии до
нескольких месяцев. Среди сигналов того, что такие отношения установлены,
можно назвать прохождение ребенком фазы негативной реакции (подробнее об¬
суждается в главе 9), растущее активное участие ребенка в деятельности на сесси¬
ях и повышение отзывчивости ребенка к предлагаемым вами интерпретациям.
Когда ребенок вступает в отношения, вы готовы переходить к рабочей фазе игро¬
вой терапии.
Глава 9
Как сделать игротерапевтические
сессии терапевтическими
Как утверждается в главе 4, краеугольным камнем экосистемной игровой терапии
является убеждение в том, что корректирующие события представляют собой
важнейший целительный элемент игровой терапии. Как вы помните, корректи¬
рующим является событие, которое нарушает прошлый опыт ребенка и/или его
центральные убеждения (внутреннюю схему) и заставляет ребенка приходить к
новому пониманию проблемы. Вооруженный этим новым пониманием, ребенок
способен начать процесс разрешения проблемы, который создает новые, более эф¬
фективные и более адекватные способы удовлетворения потребностей с одновре¬
менным избавлением от патогенных механизмов приспособления. Более того, эко-
системная игровая терапия постулирует, что первичная роль и долг терапевта
заключаются в том, чтобы активно работать над наполнением детских игровых
терапевтических сессий корректирующими событиями. Эти события могут быть
как эмпирическими, так и когнитивными по своей природе. Как только происхо¬
дит некое событие, терапевт начинает работать, чтобы помочь ребенку выработать
выражаемое в словах понимание проблемы, которое в будущем станет руководить
им в попытках разрешить проблему и удовлетворить свои потребности.
Экосистемный игровой терапевт в одинаковой мере ориентирован на цель не¬
зависимо от того, требует ли план лечения долговременной или кратковременной
игровой терапии. Тем не менее чем короче срок терапии, тем более ограниченны¬
ми и узкоопределенными должны быть ее цели. Как утверждают Слоувс и Питер-
лин (Sloves & Peterlin, 1993), кратковременная игровая терапия «противоречит
сути нескольких моделей игровой терапии, основанных на идеях Экслайна и Род¬
жерса. Терапевт — сочувствующий, дружелюбный и эмпатичный, но он редко по¬
такает клиенту. Тогда как терапевт уважает способность детей разрешать пробле¬
мы, кажется нечестным позволять им сделать это в свое время, особенно когда
терапевт обладает знаниями о других детях, которые в похожих обстоятельствах
сталкивались с подобными проблемами. Терапевт, будучи союзником ребенка, де¬
лает все, чтобы ускорить ход терапии, не испугав при этом ребенка и не вызвав
у него пассивности, активного сопротивления или бегства. Терапевт руководит ре¬
бенком, поддерживая позитивный перенос перед лицом постоянной угрозы воз¬
никновения негативного переноса».
Некоторые авторы предполагают существование некоей дихотомии, в которой
клиент-центрированные игровые терапевты сфокусированы на отношениях меж¬
ду ними и ребенком, тогда как другие терапевты этим не отличаются. В той же
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 26 7
мере, в которой эта дихотомия кажется ложной, кажется неверной и дихотомия,
в которой клиент-центрированные детские терапевты следуют за планом ребенка,
тогда как все остальные игровые терапевты следуют своим собственным планам.
Как постоянно утверждается в этой книге, ни один терапевт не достигнет опти¬
мальной эффективности при отсутствии позитивных отношений с детьми — сво¬
ими клиентами. Точно так же терапевт не достигнет оптимальной эффективности
своей работы, пока не создаст рабочий альянс с ребенком, в котором план ребенка
сольется с планом терапевтического лечения. Именно внутри контекста этих по¬
зитивных отношений и рабочего альянса терапевт ориентируется на цель и своей
деятельностью создает в ходе сессии корректирующие события.
Планирование эмпирического компонента
детской игровой терапии
Один из способов, при помощи которого вы можете выстроить вашу концепцию
тех терапевтических событий, которые могут стать корректирующими для ваших
клиентов-детей, — это рассмотрение понятий структурирования, помещения в
развивающую ситуацию и вызова, внедрения/вовлечения, а также заботы и ухо¬
да, выработанных в рамках играпии (Jernberg & Booth, 1999). Некоторые есте¬
ственно происходящие аспекты игровой терапии подходят к каждой категории
(как обсуждалось в главе 2) и могут иметь такое же позитивное влияние на ребен¬
ка, как и взаимодействия, происходящие между ребенком и его родителем.
Структурирование
Структурирующую деятельность составляют те действия, которые организовыва¬
ют мир ребенка так, чтобы обезопасить его. Многие аспекты каждой игровой тера¬
певтической сессии обеспечивают ребенку структуру, которая способствует тому,
чтобы он чувствовал себя в безопасности и использовал оздоровляющие аспекты
сессии. Сессия игровой терапии по определению обладает некоей собственной
структурой, которая помогает ребенку удовлетворить свои потребности. Сессия
начинается и завершается в установленное время, в определенный день и в осо¬
бом месте. Ребенку предоставляется некоторая информация относительно обще¬
го предназначения игровой терапии и формата каждой следующей сессии. Каж¬
дая структура позволяет ребенку предвидеть наступление сессии, планировать ее
содержание и уходить с данной сессии, чувствуя себя безопасно благодаря знанию,
что через некоторое время последует другая. Так как структурирующая деятель¬
ность важна для развития ребенка, игровому терапевту следует сообщать ребенку
как можно больше сведений, касающихся природы и структуры терапевтическо¬
го процесса, а не просто позволять ему самому выяснять правила и логические
последовательности, действующие на сессии.
Ритуалы перехода: игровая комната — вход и выход
Среди структурирующих аспектов игровой сессии, происходящих естественным
образом, можно назвать перемещения, совершаемые ребенком, чтобы войти в иг¬
ровую комнату или выйти из нее. Терапевтическая ценность этих ритуалов, отме¬
чающих начало и конец каждой сессии, часто недооценивается.
268 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Многим детям сложно контролировать свои импульсы; большинству детей,
сталкивающихся с проблемами контроля над своими импульсивными побужде¬
ниями, сложно переключаться с одной деятельности на другую. Учителя часто
сообщают, что такие дети, начав что-то делать, не могут остановиться, пока не
вмешается взрослый. Создание ритуалов, подчеркивающих границы сессии, для
таких детей может явиться ключевой составляющей для начала развития ими
контроля над своими импульсами. Другие дети могут приходить на терапию, ис¬
пытывая страх отделения; им страшна разлука с человеком, приводящим их на
сессию и уводящим с нее. Часто встречаются и такие дети, которые проявляют на
сессии игровое поведение, неприемлемое во внешнем мире. Им могут потребо¬
ваться ритуалы перехода, помогающие оставить свои игры в игровой комнате.
Импульсивные дети могут сталкиваться с проблемами даже в простом перехо¬
де из комнаты ожидания в игровую комнату, если для этого необходимо пересечь
некоторое расстояние. Им может быть трудно оставаться в игровой комнате на
протяжении сессии или же им сложно прервать игру в конце сессии. Иногда про¬
стые переходные действия, направляющие внимание ребенка, уже обеспечивают
достаточную структурированность, чтобы справиться с этими затруднениями. На¬
пример:
Игровой терапевт Сьюзен работала в клинике, где игровая комната располагалась в
конце длинного холла, по обеим сторонам которого находились кабинеты других тера¬
певтов. Путь с ребенком в игровую комнату часто превращался в нелегкую задачу: тре¬
бовалось не нарушить работу находящихся вокруг людей и в то же время не вызвать у
ребенка тревожности по поводу того, что он слишком отдалился от родителей. Для трех
разных клиентов Сьюзен изобрела три различных решения. Джоуи, импульсивному ги¬
перактивному ребенку, она предлагала добираться до игровой комнаты, соревнуясь, но
так, чтобы ребенок при этом успокаивался — например, они шли задом наперед. С дру¬
гим импульсивным ребенком, Тимом, на второй половине пути (миновав чужие каби¬
неты) терапевт играла в железную дорогу, но для этого первую половину пути сле¬
довало уиновать как можно тише. А для Джилл, апатичной семилетней девочки, она
просто перед каждой сессией прятала в игровой комнате маленький вкусный сюрприз
и затем по дороге через холл сообщала, что ее ждет. В конце сессии каждая стратегия
применялась в обратном порядке, чтобы помочь детям вернуться из игровой комнаты
в комнату ожидания.
Импульсивным детям может также потребоваться предупреждение или серия
предупреждений о том, что игровая сессия подходит к завершению. Некоторым
детям помогает, если вы словесно напоминаете им, что до конца сессии осталось
десять минут, затем — пять минут, и наконец — одна минута; другим лучше про¬
сто показывать часы. Наконец, для некоторых детей лучший вариант — видеть во
время всей сессии заведенный вами таймер.
Для детей, испытывающих тревогу по поводу отделения, полезны те же самые
ритуалы, но обычно они любят переходы, которые превращают отделение в игру.
В этом случае структурируйте переходы так, чтобы они занимали немного време¬
ни, что снижает чувствительность ребенка к этому процессу. Детям могут доста¬
вить удовольствие попытки найти терапевта, прячущегося в нескольких шагах в
стороне в то время, когда они движутся в игровую комнату. Или они могут пред-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 269
почесть игру, будто они с различными интервалами в течение сессии возвраща¬
ются в помещение для ожидания, чтобы проверить на месте ли их родители. По¬
следнюю технику необходимо тщательнейшим образом структурировать, чтобы
она не превратилась в проблему управления, посредством которой ребенок актив¬
но избегает терапевтической работы.
Пятилетний Томми создал игру, в которой дважды в течение сессии тайком возвращал¬
ся в комнату ожидания, чтобы проверить, ждет ли его мать. Его мать должна была за¬
метить его прежде, чем он увидит ее. Терапевт следил за промежутками времени, когда
Томми мог покидать игровую комнату, и за тем, чтобы это происходило дважды в тече¬
ние каждой сессии. Используя эту игру в качестве пособия, терапевт научил Томми
некоторым основным навыкам разрешения проблем. Они разработали стратегии варь¬
ирования промежутков времени между попытками прокрасться к матери, направление
движения к комнате ожидания и способы очень медленного открывания двери. С тече¬
нием времени Томми научился лучше подкрадываться к комнате ожидания и не нуж¬
дался в том, чтобы мать увидела его перед возвращением на сессию. Как только данное
взаимодействие стало менее важным, пропала и потребность Томми ходить и прове¬
рять присутствие матери.
Семилетняя Люси испытывала трудности с уходом с сессии. Вместе с терапевтом они
придумали игру в прятки, в которую играли перед окончанием каждой сессии. В игро¬
вой комнате не было окон. Ближе к концу сессии Люси гасила свет и считала до пяти,
прежде чем включить его. Пока свет был выключен, терапевт перемещалась по комна¬
те, чтобы удивить Люси своим местоположением в момент, когда свет зажжется. В кон¬
це занятия Люси окончательно гасила свет и тщательно закрывала за собой дверь, как
бы для того, чтобы сохранить комнату до следующего занятия и вновь удивиться, при¬
дя на следующую сессию.
Наконец, поведение некоторых детей на сессиях совершенно неадекватно от¬
носительно ожиданий их обыденной среды. Дети могут быть очень агрессивными,
экзальтированными, эксцентричными или демонстрировать регрессивное поведе¬
ние. Вы должны обеспечить этих детей четкой структурой переходов, чтобы по¬
мочь им оставлять такое поведение в игровой комнате, чтобы они не сталкивались
с крайне негативными реакциями на свое появление во внешнем мире. Родители
и учителя не будут рады, если вы вернете им ребенка, демонстрирующего еще бо¬
лее дисфункциональное поведение, чем то, с которым он пришел на сессию.
Пятилетняя Тина в течение своих сессий включалась в очень регрессивные игры: она
хотела быть младенцем, которого носят на руках и качают. Когда терапевт пытался за¬
кончить сессию, Тина могла отреагировать по полной программе как в игровой ком¬
нате, так и в комнате ожидания. Она могла бегать, кричать, агрессивно вести себя по
отношению к терапевту, отказываться покидать комнату, все время лепетать, как ма¬
ленький ребенок. После нескольких очень неприятных завершений, когда терапевт был
вынужден устанавливать очень строгие границы, он выработал эффективный ритуал
выхода. Перед началом сессии он шел встречать Тину в приемную и они направлялись
в игровую комнату. Через каждые три шага они делали вид, что Тина стала на год млад¬
ше, и она начинала вести себя соответственно своему «новому» возрасту. Когда они до¬
стигали игровой комнаты, Тина превращалась в младенца, терапевт брал ее на руки и
вносил в комнату. После завершения каждой сессии процесс разворачивался1 в обрат¬
ном порядке.
270 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
В каждой из этих ситуаций внимание к ритуалу перехода обнаруживало в себе
и прагматическую и терапевтическую ценность. Эти ритуалы делали переход бо¬
лее эффективным, поэтому у ребенка оставалось больше времени на саму сессию.
Также ритуалы помогали этим детям успешно переключаться с одной деятельно¬
сти на другую и снижать тревогу, связанную с отделением. Эти ритуалы напоми¬
нают о том, что терапия заключается не только в символической деятельности
ребенка, которую терапевт призван интерпретировать. Терапия осуществляется с
того момента, когда ребенок впервые осознает ваше присутствие, и до тех пор,
когда он расстается с этим осознанием. Наконец, типы ритуалов перехода, кото¬
рые выбирают для себя дети, могут предоставить вам дополнительную информа¬
цию об уровне их развития. Чем выше уровень развития ребенка, тем меньше ему
необходимы определенные ритуалы, такие как игра в прятки, и тем меньше ему
необходимо включение в какие бы то ни было ритуалы вообще.
Установление ограничений
Другая форма структурирования, применяемая терапевтами, — это установление
ограничений. Все признают, что установление ограничений обладает значитель¬
ной терапевтической ценностью, потому что при помощи этого процесса ребенок
узнает о границах приемлемого поведения, развивает у себя межличностную от¬
ветственность и видит ваш интерес в поддержании его безопасности. Даже самые
ярые клиент-центрированные детские терапевты признают, что «дети не чувству¬
ют себя в безопасности, не чувствуют себя оцененными и принимаемыми, если
находятся в абсолютно позволяющих (попустительских) отношениях» (Landreth
& Sweeney, 1997, р. 23). Помимо этого, установление ограничений полностью со¬
ответствует модели терапии реальности (Glasser, 1975), в которой ранние усилия
родителей по организации мира ребенка таким образом, чтобы помочь ему удов¬
летворять свои потребности адекватными способами, рассматриваются в качестве
первичной срлы, направляющей ребенка к эмоциональному здоровью и оптималь¬
ной социализации.
Большая часть действий по установлению ограничений, осуществляемых вами
в течение игровых сессий, совершается ненамеренно. Ваши вербализации и по¬
ведение обеспечивают ребенку постоянное подкрепление различного характера.
Каждый раз, когда вы произносите позитивное или негативное высказывание, вы
по-разному оцениваете поведение ребенка. Вы не можете отражать все, что делает
ребенок, и не можете быть максимально активным каждую минуту. Так как ваши
реакции варьируют, то со временем начинает варьироваться и поведение ребенка.
Если вы более активно реагируете на слова ребенка, чем на его действия, через
некоторое время он начнет больше говорить. Обратное происходит, если вы боль¬
ше внимания обращаете на поведение ребенка и меньше — на его вербализации.
Многократно доказано, что ребенок с большей вероятностью воспринимает все
ваши проявления позитивного поведения как мощные подкрепляющие факторы,
поэтому вы должны пытаться использовать это. Вам не следует говорить просто
для того, чтобы поговорить. Вы должны понимать, что ваши реакции, действия и
высказывания структурируют игровую сессию ребенка благодаря или своему со¬
держанию, или просто факту их демонстрации.
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 271
Согласно Ландрету и Райту (Landreth & Wright, 1997), за последние тридцать
лет практика установления ограничений не претерпела значительных изменений.
Наиболее часто терапевты вводят ограничения в ответ на агрессивное поведение,
направленное на терапевта, агрессивное поведение, направленное на игрушки или
предметы обстановки, а также поведение, создающее угрозу здоровью и безопасно¬
сти ребенка. Большинство из них допускают проявления социально неприемле¬
мого поведения, например ругань. Но если в вопросе о том, какое именно поведе¬
ние терапевт должен ограничивать, достигнуто согласие, то методы ограничений
остаются предметом споров.
Ландрет (Landreth, 1991) предложил следующие шаги по введению ограниче¬
ний: 1) признать чувства, желания и побудительные мотивы ребенка; 2) сообщить
ему об ограничении или запрете; 3) уточнить, какое альтернативное поведение
будет приемлемым в данной ситуации. Если ситуация позволяет, полезно доба¬
вить две дополнительные детали. Первая из них — уточнение причины, повлек¬
шей ограничение, которое делается в тот момент, когда вы заявляете о суще¬
ствовании этого ограничения. Это действие помогает детям понять и усвоить
логическое обоснование требуемого от них поведения, а не просто заставляет их
соблюдать правила. Другая деталь призвана предоставить ребенку несколько аль¬
тернативных способов поведения в ходе осуществления третьего шага, что позво¬
ляет ему делать выбор. Еще лучше, если ребенок сам участвует в генерировании
хотя бы одного из этих способов. Это делает ребенка активным участником раз¬
решения проблемы и снижает его зависимость от терапевта. Если при помощи
этих непрямых действий ограничить поведение ребенка не удается, терапевт про¬
должает искать способы совладения с проблемой, предлагая удалить вызвавшие
затруднения игрушки или материалы из игровой комнаты и, если все бесполезно,
закончить сессию. Хотя он предоставляет много примеров проблем в игровой ком¬
нате, он никогда не упоминает самую проблематичную ситуацию агрессии, на¬
правленной на терапевта. Эта специфическая проблема рассматривается в следу¬
ющем разделе, посвященном удержанию.
В гуманистической и аналитической терапии часто прибегают к такому мето¬
ду ограничения, как завершение сессии. Но принципы экосистемной игровой те¬
рапии исключают такую возможность. Здесь структурирование, в том числе путем
установления ограничений, — важное средство достижения прогресса в терапии.
А что ребенок поймет, если вы завершите сессию? Только то, что вы не хотите
находиться рядом с ним, когда он совершает негативные поступки, а это, несо¬
мненно, окажет сильный структурирующий эффект, но в то же время воспроизве¬
дет негативные транзакции, с которыми ребенок сталкивается в своей экосистеме
за пределами игровой комнаты. Ребенок просто научится приравнивать потерю
контроля над собой к отвержению со стороны других и начнет бояться своих соб¬
ственных побуждений, которые потенциально могут стать причинами его непри¬
нятия. Вторым сообщением, которое получит ребенок, станет сообщение о том, что
вы неспособны его контролировать и вынуждены прибегать к изгнанию, вместо
того чтобы обращаться к его поведению. Если вы на самом деле неспособны кон¬
тролировать ребенка, маловероятно, что терапия имеет шанс на успех. В конце
концов, какой шанс на успешное воспитание ребенка есть у родителей, если они
272 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
не готовы или неспособны в случае необходимости вмешаться и осуществить конт¬
роль? Вы должны быть способны или обеспечить структуру, позволяющую вам
контролировать данного клиента, или уметь изыскивать ресурсы, помогающие
осуществлять контроль этого типа. Если вы на самом деле теряете контроль над
ходом сессии, в результате чего наносится вред либо вам, либо ребенку, вы нано¬
сите такую травму, от которой терапевтический процесс, скорее всего, не оправит¬
ся. Ребенок узнает, что никто не находится в безопасности, и атмосфера доверия
будет утрачена безвозвратно.
Прерывание сессии делает очевидным тот факт, что терапия возможна только
если ребенок ведет себя адекватно, что, как нам кажется, создает некоторое струк¬
турное противоречие. Если бы ребенок мог все время вести себя адекватно, он бы
не нуждался в терапии, и все же он не может приходить на терапию, если не ведет
себя адекватно. Более того, вам придется учесть возможность, что прерывание
сессии может подкрепить модель использования ребенком негативного отреаги¬
рования в целях избегания неприятных для него сессий или тем.
Физическое руководство
Использование физического контакта как способа направления поведения ребен¬
ка и установления ограничений в игровой терапии — тема довольно противо¬
речивая. К сожалению, по мере повышения чувствительности общества к пробле¬
мам физического и сексуального насилия практически любой физический
контакт между взрослыми и детьми попадает под подозрение. Фундаментальная
роль физического контакта между ребенком и терапевтом состоит в том, что он
должен осуществляться, основываясь исключительно на потребностях ребенка
в данный момент, а не на потребностях терапевта. Очевидно, что это исключает
любой сексуально окрашенный контакт, являющийся прерогативой взрослых, а не
детей, но это правило не такое простое, как кажется. Если терапевт держит ребен¬
ка за руку, чтобы помешать ему запустить в окно кубиком, чьи потребности учи¬
тываются в данный момент? Как ни странно, это зависит от того, что происходит
в этот момент в сознании терапевта. Если терапевт испытывает фрустрацию и
злится на продолжающееся непослушание ребенка и импульсивно хватает его за
руку, скорее всего, он идет навстречу своим потребностям, а не потребностям ре¬
бенка. В этом случае ребенок узнает, что взрослые могут импульсивно реагиро¬
вать, демонстрируя агрессию, точно так же, как это делают дети. Но если терапевт
исходит из того, что ребенок понимает, что вышел из себя, и ждет, что взрослый
поможет ему справиться с гневом, то физическое пресечение действия ребенка
будет правильным терапевтическим выбором.
В то же время если ребенок держит свое поведение под контролем и физиче¬
ское руководство терапевт использует для того, чтобы мягко структурировать его
деятельность, существует опасность, что такой контакт вызовет обострение пове¬
дения ребенка.
Билл заинтересовался ружьем, стреляющим дротиками с резиновыми наконечниками.
Он начал играть с ним, стреляя дротиками по комнате. Терапевт понимала, что Билл
обладает сложностями с управлением своим поведением и что проблемы часто выхо¬
дят из-под его контроля. Не ожидая, что стрельба дротиками перерастет в проблему,
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 2 73
она тут же предложила Биллу стрелять на меткость и немедленно соорудила некое по¬
добие мишени. Потом она подошла к Биллу со спины (пока мальчик продолжал стре¬
лять в потолок), положила ему руки на плечи и стала поворачивать его по направле¬
нию к мишени, отражая в это время то, насколько Биллу нравится ружье, и повторяя
свое предложение, чтобы он стрелял в цель. Затем она встала позади Билла, стоявшего
напротив мишени, создавая таким образом некие рамки, направляющие его поведение.
Билл продолжил стрельбу уже по мишени, и терапевт немедленно предоставила ему
вербальное подкрепление. Когда стало очевидным, что терапевт успешно перенапра¬
вила поведение Билла, она отодвинулась от него, таким образом снизив физический
контроль, но повысив использование вербального руководства.
В этом примере терапевт сначала использовала вербальные ключи, а затем не¬
медленно перешла к физическому действию. Она не ждала, пока поведение обо¬
стрится до такой степени, что понадобится применение ограничений. Это идеаль¬
ная ситуация. Терапевт поняла потребности ребенка и предоставила ему столько
содействия, сколько было необходимо, чтобы помочь адекватным способом удов¬
летворить свои потребности. В этом случае физический контакт был случайным
и, вероятно, остался почти незамеченным ребенком. Но в случае, когда физиче¬
ский контакт не является частью обычной терапевтической деятельности или если
ребенок уже начал терять контроль над собой, прикосновение к нему легко может
вызвать взрывное поведение. В этом случае ребенку кажется, что терапевт захва¬
тил контроль в свои руки и потенциально угрожает его благополучию, и он реаги¬
рует агрессивно. В этом случае клиническая проницательность становится реша¬
ющей переменной для совладания с ситуацией. Терапевт должен знать, когда
полагаться на речь, а когда использовать физический контакт, а также уметь ви¬
деть разницу между злящимся, но управляющим собой ребенком и ребенком, на
самом деле потерявшим контроль над собой. Предотвращение и раннее вмеша¬
тельство всегда являются предпочтительными моделями терапевтической реак¬
ции на агрессивное и опасное поведение детей на сессии. Физическое управление
отреагированием ребенка всегда должно стать последней мерой.
В идеале количество физического руководства, используемого терапевтом,
должно быть непосредственно связано с уровнем развития ребенка. При работе с
детьми первого уровня физическое руководство — непосредственная и обычная
часть взаимодействия. Вполне обычно, когда здоровые родители здоровых детей,
функционирующих на уровне возраста до двух лет, структурируют мир ребенка
при помощи прикосновений. Родитель держит ребенка за руку, чтобы гарантиро¬
вать, что он благополучно доберется из пункта А в пункт Б. Подобным же обра¬
зом терапевт может держать за руку импульсивного ребенка, переходя из комна¬
ты ожидания в игровую комнату. Важно совмещать этот тип прикосновения с
речью, потому что «соединяя физическое вмешательство с позитивными, поддер¬
живающими словами, обучающийся начнет выстраивать ассоциации между сло¬
вами и поведением» (Wood et al., 1996, р. 13). Но с детьми второго уровня фи¬
зическое руководство должно применяться ограниченно, а с детьми третьего
уровня — в исключительных случаях. Целью во всех случаях будет постепенная
замена физического руководства ребенком вербальным. Хочется надеяться, что
постепенно даже внешнее, вербальное руководство, осуществляемое взрослыми,
будет заменено внутренним контролем самого ребенка.
274 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Удержание (restraint)
Если вы успешно расставляете границы, готовы покончить с подрывающими эф¬
фективность терапии сессиями и работаете с любыми детьми, кроме детей с самы¬
ми незначительными нарушениями, вы можете столкнуться с ситуацией, в кото¬
рой вам придется удерживать ребенка — вашего клиента. Когда поведение ребенка
выходит из-под контроля и становится опасным для него самого и для окружаю¬
щих, очень немногие психологи или психиатры не согласятся с тем, что необхо¬
димо удержание ребенка или ограничение его деятельности. Конечно, каждый, кто
работал с детьми в стационарной клинике, попадал в ситуации, когда детей нуж¬
но было удерживать и когда их действительно удерживали. Но в вопросе об умест¬
ности использования удержания в амбулаторной игровой терапии такого согла¬
сия нет. Многие игровые терапевты скорее завершили бы сессию или обратились
бы к родителям ребенка, чем стали бы удерживать ребенка самостоятельно.
Тем не менее возможно, что акт удержания ребенка может замечательно под¬
ходить к общему плану лечения. Техника удержания полностью согласуется с фи¬
лософией терапии реальности (Glasser, 1975) и с моделью развивающей терапии —
развивающего обучения (Developmental Therapy Developmental Teaching; Wood et al.,
1996). В рамках терапии реальности считается, что клиенты ответственны за свое
поведение, и им позволяется переживать его естественные и логические послед¬
ствия. Более того, считается, что клиенты совершают лучший и скорейший про¬
гресс, когда такие последствия предъявляются им постоянно. В модели развива¬
ющей терапии — развивающего обучения существует понимание того, что иногда
дети теряют способность контролировать себя и им нужен взрослый, чтобы зано¬
во обрести этот контроль. Даже в подходе играпии, основанном главным образом
на позитивных взаимодействиях и контактах, отмечается, что терапевтам важно
удерживать детей, запускающих паттерны отреагирования (Jernberg & Booth, 1999).
Естественные последствия — это последствия, происходящие, если поведение
должно осуществляться в реальном мире, без искусственных вмешательств. Дупло
в зубе — последствие отсутствия привычки чистить зубы. Ожог — естественное
последствие прикосновения к горячей плите. Обычно эти потенциально опасные
последствия происходят с детьми лишь случайно, но когда они все же происхо¬
дят, их результатом является научение, полученное «на собственной шкуре». Сре¬
ди менее деструктивных естественных последствий можно назвать социальное
высмеивание, имеющее место, когда человек регулярно не моется в ванной, или
голод, появляющийся, если забыть взять в школу завтрак.
Логические последствия — это такие последствия, которые могут и не проис¬
ходить в естественной среде, но которые имеют смысл. Вероятно, родитель не за¬
хочет ждать, пока у его ребенка сгниет зуб, чтобы он понял ценность чистки зу¬
бов. Большинство родителей прибегают к ворчанию или модификации поведения,
что снимает ответственность с ребенка и передает весь контроль в руки родите¬
лей. Подход, опирающийся на использование логических последствий, имел бы
место, если бы оодители информировали ребенка о том, что поскольку они не в
силах заставить его чистить зубы, чтобы предотвратить стоматологические забо¬
левания, им придется взять под контроль другие вещи, которые тоже влияют на
разложение зубов, пока он не начнет их регулярно чистить. Затем родители могут
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 2 75
исключить из рациона ребенка все сладкое, и подавать на стол сырые овощи и
фрукты, пока ребенок не начнет чистить зубы. Родители не ворчат и не спорят; они
просто контролируют те аспекты среды, которые находятся в их власти, а не пы¬
таются контролировать ребенка.
Если процедуры ограничения проводятся точно, ребенок может воспринимать
их как логические последствия; таким образом, ответственность ребенка стиму¬
лируется, а не снижается. Ребенок должен получать сообщение: «Если ты неспо¬
собен контролировать себя и поэтому подвергаются опасности люди и имущество,
мне придется обеспечивать тебе защиту до тех пор, пока ты вновь не обретешь
контроль над собой». Это сообщение не говорит о том, что вы будете авторитарно
или по своей прихоти контролировать ребенка; на самом деле оно вообще не о том,
что вы контролируете ребенка. Смысл сообщения в том, что вы будете обеспечи¬
вать ребенку поддержку и защиту, пока он будет вырабатывать способность кон¬
тролировать себя.
В контексте игровой терапии этот подход означает, что вы должны уметь оста¬
ваться позитивным и поддерживающим в то время, как происходит удержание.
Это в свою очередь означает, что вы должны осуществить удержание прежде, чем
разозлились на поведение ребенка или испугались за него. При этом если вы при¬
бегли к удержанию, вы не должны отказываться от него, пока ребенок не научит¬
ся самообладанию.
Помимо важности запуска реалистичных последствий в ответ на опасное от¬
реагирование ребенка, использование удержания во многих случаях соответству¬
ет развитию. Когда младенец приходит в ярость, его родитель не позволяет этому
поведению просто продолжаться — родитель начинает удерживать ребенка, успо¬
каивать и даже кормить его. Когда тоддлер приходит в ярость, бросается на землю
и начинает биться головой, родитель снова начинает удерживать и успокаивать
его. Родитель выступает в роли регулирующей функции до тех пор, пока ребенок
не выработает значительных способностей к саморегуляции. Эти эпизоды учат
ребенка тому, что родитель готов и способен выдерживать его ярость, при этом
оставаясь в безопасности сам и сохраняя в безопасности ребенка. Таким образом,
удержание — это нормальное взаимодействие родителя и ребенка и соответству¬
ет философии играпии.
Как и в случае с любой другой ситуацией, в которой вы вступаете в физиче¬
ский контакт с ребенком, вы должны быть готовы к возможности возникновения
проблем с законом. Таких проблем обычно легко избежать, если информировать
тех, кто приводит ребенка на терапию, о природе лечения и о возможных типах
взаимодействий ребенка и терапевта, которые могут происходить перед началом
лечения. Очень немногим родителям трудно вынести мысль об абстрактном удер¬
жании ребенка, но многие становятся обеспокоенными гораздо больше, когда оно
происходит в реальности. Если когда-нибудь приходится удерживать ребенка в
ходе сессии, вам следует по завершении инцидента уделить время опросу роди¬
телей и ребенка. И родители и ребенок должны понимать, что именно вызвало
применение удержания. Они должны сделать точный обзор шагов, которые были
предприняты перед процедурой удержания и в ее ходе, чтобы гарантировать
безопасность ребенка. Родители и ребенок должны понять, что вы не злитесь
276 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
на ребенка или на родителя и что никому из участников инцидента не нужно из¬
виняться за произошедшее.
Методы интерактивной игровой терапии позволяют вам достаточно точно пред¬
сказать, когда следует ждать негативной реакции ребенка и готовиться к удержа¬
нию. Во-первых, степень вашего контроля позволяет вам оценить темп прохож¬
дения ребенком стадий лечения. Во-вторых, как отмечается в описании играпии
в главе 2, этот тип терапии проходит через предсказуемые фазы, первыми тремя
из которых являются раскрытие, пробное принятие и негативная реакция. Переход
от пробного принятия к негативной реакции обычно предваряется незначительным,
но постепенным увеличением сопротивления ребенка вашим вмешательствам. В хо¬
де кратковременного лечения стадия негативной реакции часто наступает на тре¬
тьей или четвертой сессии.
Ваша способность предсказывать пик фазы негативной реакции в этом случае
даст вам возможность контролировать ее, когда она наступит. Если история ре¬
бенка содержит примеры серьезного отреагирования, вам следует ожидать, что
фаза негативной реакции выдастся очень суровой, и разрабатывать соответству¬
ющий план действий. По мере того как вы начинаете наблюдать рост сопротивле¬
ния ребенка, отнеситесь внимательно к тем вещам, которые могут выступать в
роли «включателей». Когда вы осознаете эту модель, попытайтесь ближе к концу
сессии не включаться в действия, которые потенциально могут оказаться прово¬
цирующими. Затем спланируйте несколько сессий, в которых вам будет доступно
дополнительное время, если у ребенка возникнет в этом потребность, и вы будете
продолжать нормально взаимодействовать с ребенком, даже если это означает, что
он будет отреагировать. Так как вы будете готовы к этой ситуации, вы сможете ре¬
агировать на нее спокойно и пройти до конца любые негативные взаимодействия,
которые возникнут.
Кроме того, вы можете подготовить к вспышке родителей, а также помочь им
проработать ее, когда она произойдет. Вы можете дать родителю возможность
пронаблюдать за несколькими сессиями либо посадив его в игровой комнате, либо
через зеркало, прозрачное с одной стороны. Если вы — единственный специалист
или представитель обслуживающего персонала, занимающийся осуществлением
необходимого удержания, предпочтительно, чтобы родитель находился с вами в
игровой комнате, чтобы вы могли прокомментировать ему происходящее и при
необходимости включить его в работу. Если имеются два терапевта, полезно по¬
местить одного из них вместе с родителем за непрозрачным стеклом, чтобы они
наблюдали за вами и за ребенком, получая важную информацию без нарушения
хода сессии. Наконец, сессии, на которых вероятно отреагирование, можно запи¬
сывать на видео.
Миссис Эрнандес просматривала видеосъемки всех трех первых сессий ее приемного
сына Джейкоба. После первой сессии она высказала комментарии относительно интен¬
сивности первоначальной привязанности Джейкоба к терапевту. Она была удивлена
тем, что ему, видимо, было так весело, и отметила, что он кажется гораздо более рас¬
слабленным, чем дома. Когда миссис Эрнандес смотрела запись второй сессии, тера¬
певт обратил ее внимание на то, как Джейкоб проявлял начинающееся сопротивление
терапевту, часто демонстрируя драку «понарошку» и делая вид, что хочет укусить те-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 277
рапевта. Он выдвинул гипотезу, что в течение одной из двух следующих сессий Джей¬
коб может продемонстрировать свою главную вспышку, подобную тем, которые он
устраивает дома почти ежедневно. В течение следующей сессии Джейкоб действитель¬
но устроил главную вспышку, и терапевту пришлось удерживать его в течение 45 ми¬
нут, прежде чем ребенок смог успокоиться. Когда миссис Эрнандес просматривала
пленку, она плакала и сказала, что испытывает огромное облегчение оттого, что нако¬
нец-то профессионал увидел и пережил то поведение, с которым ей приходится стал¬
киваться каждый день. Она сообщила, что Джейкоб никогда не демонстрировал такое
поведение при работе с предыдущим терапевтом или в течение того короткого време¬
ни, когда он был госпитализирован в психиатрическую клинику поведенческого тол¬
ка. Также она сообщила, что этот эпизод завершился не так, как обычно, потому что
обычно Джейкоба невозможно успокоить, пока он не успокоится сам.
Тем не менее даже при наилучшем планировании временами ребенок может
включиться в отреагирование внезапно, практически безо всякого предупрежде¬
ния. В этих случаях лучше всего установить ограничения и попытаться подклю¬
чить родителей, чтобы они успокоили ребенка. При этом большинство терапевтов
согласны, что независимо от того, ожидалось или не ожидалось отреагирование,
ребенок может нуждаться в защите. Но даже среди тех, кто соглашается с выше¬
упомянутым философско-теоретическим положением относительно удержания,
есть разногласия по поводу того, как лучше всего удерживать ребенка. Какой бы
метод вы ни решили применять в случае опасной ситуации в вашем кабинете, ро¬
дители ребенка и потенциально даже сам ребенок должны точно знать, что вы бу¬
дете делать, если он потеряет над собой контроль. Основные виды удержания —
это помещение ребенка в специальную комнату, где он может успокоиться, меха¬
ническое удержание и физическое удержание.
В первом случае предполагается, что никто из взрослых не хочет и не может
выполнить сдерживание; к сожалению, хотя помещение ребенка в безопасное про¬
странство эффективно для удержания, у него возникает ощущение отвержения.
Иногда применение этого способа необходимо для всеобщего благополучия, но вы
должны серьезно рассмотреть уместность мощного сигнала, который такое дей¬
ствие посылает ребенку по поводу его способности находиться в обществе других
людей.
Механическое удержание включает такие устройства, как смирительная ру¬
башка, ручные или ножные путы, оковы, пояса для пристегивания к стульям, ко¬
жаные ошейники. Такие средства почти не используются вне психиатрических
клиник, но даже там их применяют с большой осторожностью. Преимущество та¬
ких ограничителей в том, что при грамотном использовании они обеспечивают ре¬
бенку высокий уровень безопасности. К тому же они позволяют вам находиться
близко к ребенку, даже если он совершенно взбешен и находится полностью в не¬
подконтрольном состоянии. С другой стороны, механические виды удержания
обычно посылают ребенку те же самые сигналы, что и удаление, а именно — сооб¬
щения о том, что вы неспособны контролировать его. К тому же эти методы могут
казаться слишком суровыми и тем, кто наблюдает за вашей работой, и самому ре¬
бенку.
Физическое удержание имеет место тогда, когда взрослый (или взрослые) ско¬
вывает действия ребенка до тех пор, пока он не обретает контроль над собой. Каждая
278 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
из многих техник физического удержания детей имеет свои преимущества и не¬
достатки. Независимо от используемого метода удержания, тем, кто собирается
его применять, необходимо обладать существенной подготовкой. Всем специали¬
стам, работающим с детьми, рекомендуется освоить основные техники удержания,
владение которыми может им очень пригодиться; это очень похоже на то, что всем
медикам требуется освоить технику кардиопульмональной реанимации (CPR)*.
Такую подготовку осуществляют несколько организаций, и с ними несложно свя¬
заться через местный школьный округ или через правоохранительные органы.
Многие техники физического ограничения ребенка распространяют свои по¬
следствия как на сферу простой логики, так и на сферу взаимодействий. Чтобы
облегчить вам принятие решения об использовании любой из этих техник в лече¬
нии данного ребенка, давайте рассмотрим три самых общих положения удержа¬
ния.
В позиции «удержания корзины», вы сидите и держите ребенка на коленях, его
спина прислонена к вашему животу, а руки ребенка вы обвиваете вокруг него и
так его удерживаете. Прагматическое преимущество этой позиции заключается в
том, что вам очень легко манипулировать ребенком, находящимся в таком поло¬
жении, даже если вы сидите. Прагматический недостаток этой позиции в том, что
ребенок может очень резко и сильно откинуть свою голову назад и попасть вам
прямо в лицо или в грудь. Эмоциональное преимущество этой техники удержа¬
ния в том, что ребенок сохраняет прямое положение корпуса и обладает некото¬
рой подвижностью, несмотря на то что вы держите его более или менее крепко.
Риск этой позиции заключается в том, что она препятствует вашему контакту глаз
с ребенком, поэтому коммуникация может оказаться не очень эффективной, и это
может помешать вам успокоить ребенка так же быстро, как в другом положении.
Некоторые организации, обучающие использованию безопасных техник огра¬
ничения, рекомендуют так называемое «удержание ничком». В этом случае вы
помещаете ребенка животом на пол, затем становитесь на колени сверху и прижи¬
маете к полу его ягодицы или нижнюю часть спины. Используйте руки, чтобы
прижать к полу руки ребенка. С прагматической точки зрения это очень безопас¬
ная позиция, в которой ни вы, ни ребенок, скорее всего, не получите травму. Но
управлять ребенком в такой позиции очень сложно. С эмоциональной точки зре¬
ния эта техника удержания имеет все недостатки «удержания корзины» и еще не¬
которые специфические недостатки. Ребенок не видит вашего лица, поэтому комму¬
никация между вами затруднена. Более того, отсутствие контакта глаз в сочетании
с положением ребенка, лежащего ничком на полу, может активизировать у него
чувство жертвы; в особенности это относится к тем детям, в биографии которых
имело место сексуальное насилие.
Последняя техника удержания — это «удержание навзничь», причем осуществ¬
ляется эта техника точно так же, как и «удержание ничком», за исключением того,
что ребенок лежит лицом вверх, а не вниз. Из прагматических соображений ре- 11 Кардиопульмональная реанимация — восстановление функционирования сердца и легочной вен¬
тиляции после остановки сердца и дыхания посредством использования искусственного дыхания и
закрытого массажа грудной клетки. — Примеч. пер.
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 2 79
бенка проще перевести в эту позицию, чем в положение ничком. К сожалению, это
удержание не так безопасно, как предыдущее, потому что ребенок может поднять
голову и удариться ею об пол, а также плюнуть в вас. С положительной стороны
«удержание навзничь» допускает важнейшую возможность осуществления кон¬
такта глаз, который повышает шансы быстро успокоить ребенка: он видит ваше
лицо и понимает, что вы хотите только успокоить его, но не нанести ему вред.
В амбулаторной игровой терапии физическое удержание, инициированное те¬
рапевтом или родителями ребенка, — наилучший способ вмешательства в случае,
если ребенок потерял над собой контроль. Перед тем как приступить к процедуре
удержания, вы должны сообщить ребенку, в чем заключается его проблемное по¬
ведение, почему оно неприемлемо и что последует, если оно не прекратится.
Если есть время, вы можете предложить альтернативную модель поведения, ко¬
торую ребенок может реализовать, чтобы дать выход своим чувствам. Скажем,
ребенок начинает бить вас. Вы можете сказать: «Ты не можешь продолжать бить
меня, потому что я не хочу, чтобы мне был нанесен вред. Если ты сердишься, ты
можешь побить подушку или накричать на меня. [Вы можете попытаться физи¬
чески перенаправить ребенка в направлении подушки.] Если ты не прекратишь
драться, мне придется держать тебя до тех пор, пока я не буду уверен, что ты готов
остановиться».
Если ребенок не прекращает свое поведение в течение нескольких секунд ва¬
шего устного предупреждения, вам следует переходить к удержанию. Иногда это¬
го действия достаточно, чтобы сигнализировать ребенку о том, что границы все
же существуют, и позволить ему обрести способность контролировать себя; но это
редко происходит в первый раз, когда вы пытаетесь установить значительные
ограничения. Как только вы совершили удержание ребенка, вам следует начать по¬
могать ему вновь обрести самоконтроль. Прежде всего постарайтесь установить с
ребенком контакт глаз. Произнося слова, говорите негромко, ясно сообщая, что вы
держите ситуацию под контролем, независимо от того, какие сложные моменты
переживает сейчас ребенок, вам нужно просто и непосредственно отражать напря¬
жение ребенка, не утрируя очевидных фактов, потому что это только возмутит его.
Предложите ребенку выполнить какие-либо действия, которые помогут ему вос¬
становить контроль над собой. Вы можете предложить ему, чтобы он сделал глу¬
бокий вдох, расслабил конечности или закрыл глаза и представил себя в том мес¬
те, которое ему очень нравится.
Если совершить физическое ограничение вам помогает другой человек, его сле¬
дует предварительно проинструктировать о том, что он не должен ничего говорить,
пока ребенок находится в состоянии удержания. Все взаимодействия ребенка долж¬
ны происходить только между ним и вами, чтобы гарантировать, что посредством
ассоциации он соединит в единый образ запускающий механизм — свое поведе¬
ние — с последствиями, постепенно наступающим безопасным выходом и вашей
персоной.
Если вы начали осуществлять удержание, не отпускайте ребенка до тех пор,
пока он не восстановит контроль над собой, независимо от того, как много време¬
ни займет этот процесс. Лучший способ гарантировать то, что вы не отпустите
ребенка слишком быстро, — потребовать, чтобы он выполнил какое-либо ваше
280 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
указание, прежде чем освободить его. Попросите его сделать вместе с вами три
глубоких вдоха и выдоха. Или предложите ему полежать спокойно, пока вы со¬
считаете до десяти. Если вы не сможете продлить удержание до тех пор, пока ин¬
цидент будет полностью завершен, результаты будут еще худшими, чем если бы
вы вообще не начинали процедуру установления ограничений. Ребенок в таком
случае придет к выводу, что вы, как и другие, не заслуживаете доверия и что как
бы он ни нуждался в помощи, он не достучится до вас. Вероятно, терапевтические
отношения будут серьезно повреждены.
В главе 8 мы описывали, как интерн Кайли помешала клиенту другого интер¬
на, Питеру, выпрыгнуть из окна игровой комнаты. Та ситуация на этом не завер¬
шилась, потому что, когда Кайли втащила Питера назад в помещение, он пришел
в ярость и попытался физически напасть на нее.
Сначала Кайли попыталась повернуть Питера к его собственному терапевту, Сьюзен,
но каждый раз, когда она отпускала его, ребенок направлялся к окну или начинал раз¬
рушать обстановку игровой комнаты. Кайли продержала Питера в позиции «удержа¬
ния корзины» около десяти минут, и за это время поведение Питера продолжало обо¬
стряться. Когда ему почти удалось укусить Кайли за руку, она перевела его в позицию
«удержания навзничь» и поддерживала ее около двадцати минут, пока Питер не обна¬
ружил, что он может достаточно резко дернуться, чтобы приблизить свою голову к
рукам Кайли и снова попытаться укусить ее. После многочисленных предупреждений
Кайли перевернула Питера в положение «удержания ничком» и продержала его так в
течение всей остававшейся части сессии, используя при этом всевозможные попытки
успокоить и поддержать ребенка, которые она только могла себе вообразить. В продол¬
жение всего этого эпизода Питер кричал, что убьет Кайли, как только та его отпустит,
и что он разрушит все, что попадется ему под руку.
К сожалению, в этот момент вмешался супервизор Сьюзен, который настоял, чтобы
Кайли освободила Питера, потому что удержание явно не помогало. Кайли повторила
ему все угрозы; которые высказал Питер, и попросила помощи в завершении данного
взаимодействия, поскольку Питер до сих пор пребывал в совершенно неконтролируе¬
мом состоянии. Это утверждение поддерживало Питера, который все еще продолжал
выкрикивать свои угрозы так громко, как только мог. Когда супервизор, чья теорети¬
ческая ориентация отличалась от теоретической ориентации Кайли, настоял, чтобы та
все же отпустила ребенка, она сдалась. Питер немедленно начал крушить кабинет Сью¬
зен, отодвигать книжные полки от стен, швырнул огнетушитель через лестничные пе¬
рила в холл и разбросал вещи Сьюзен по лестнице, а супервизор все это время стоял и
интерпретировал его поведение. Когда Питер наконец истощил свои силы, супервизор
вывел его погулять на улицу, и они начали говорить о том, что произошло.
В то время как супервизор Сьюзен считал это взаимодействие успешным, Сьюзен, Кай¬
ли и супервизор Кайли с этим не соглашались. Сьюзен попала в положение, когда ей
необходимо было работать с ребенком, которому разрешено уничтожать ее кабинет.
Она потратила много энергии и почувствовала себя в безопасности только тогда, когда
окно ее кабинета было наглухо заколочено гвоздями. Питер продолжал прибегать к вы-
лезанию в окно в качестве главного способа отреагирования. В течение следующих не¬
скольких месяцев его приходилось несколько раз снимать с крыши дома его группо¬
вой клиники {group home). Наконец ему прописали курс приема значительных доз
седативных препаратов и продержали в лекарствах до тех пор, пока не появилась воз¬
можность начать его лечение с другим терапевтом.
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 281
Когда эпизод отреагирования заканчивается, вам следует потратить некоторые
время на то, чтобы поухаживать за ребенком, демонстрируя ему, что вы не серди¬
тесь на него за то, что он потерял контроль, а только благодарны ему за то, что он
смог постепенно восстановить самообладание. Кроме того, вам следует потратить
несколько минут, чтобы сделать обзор того, что произошло. Проговорите то дей¬
ствие ребенка, которое повлекло за собой необходимость применить удержание.
Проговорите те альтернативные модели поведения, которые ребенок мог бы реа¬
лизовать, чтобы выразить свои чувства адекватным образом. Сделайте краткий
обзор шагов, предпринятых, чтобы помочь ребенку вновь обрести способность
контролировать себя, и любого значимого материала, раскрытого в ходе данного
эпизода. Наконец заметьте, как вы довольны тем, что ребенок восстановил само¬
контроль. Будет лучше, если вы ничего не станете говорить о будущем поведении
ребенка. То есть лучше не говорить о том, что вы надеетесь, что такого больше не
произойдет, или о том, что, если это произойдет опять, результат будет тем же са¬
мым, потому что любое из этих утверждений выглядит как просьба к ребенку по¬
вторить такое поведение еще раз.
Учитывая все это, немного удивительно, что многие, если не большинство иг¬
ровых терапевтов, предпочитают другие стратегии управления отреагированием
ребенка, происходящим в ходе сессий. Но помните, что другие взаимодействия с
ребенком-клиентом в подобной ситуации не дадут такого терапевтического эф¬
фекта, как эффективное совладание с его яростью. Ребенок понимает, что даже
самые крайние проявления его чувств не могут повредить вам или заставить вас
ополчиться против него. Он узнаёт, что вы имеете в виду, когда призываете его
демонстрировать на сессиях ответственное поведение и намереваетесь проследить
за этим. А еще он понимает, что игровые сессии действительно безопасны. Связь,
которая начнет формироваться между вами и ребенком после такого инцидента,
настолько интенсивна, что это трудно описать тому, кто с этим не сталкивался.
Третья сессия с Джейкобом, уже упоминавшимся здесь ранее, началась точно так же,
как и все остальные. Джейкоб очень тепло поздоровался с терапевтом и с готовностью
вошел в игровую комнату. Терапевт потратил около десяти минут на рисование вместе
с Джейкобом его портрета, задачу, которая помогала ориентировать его на достаточно
структурированное взаимодействие. Затем терапевт включил его в некоторую сума¬
тошную игру, похожую на драку, как он делал и в двух предыдущих сессиях. Джейкоб
с самого начала пытался управлять взаимодействием. Он отобрал у терапевта все фло¬
мастеры и отказывался открывать рот, когда терапевт хотел проверить, вырос ли у него
уже новый зуб. Когда началась игра, он пытался сбить терапевта с ног и укусить его за
руку. Когда терапевт сделал попытку перенаправить его агрессивное поведение, Джей¬
коб начал его бить. При этом ни разу не создалось впечатления, что ребенок сердится;
казалось, что его поведение на несколько шагов опережает его чувства. Он хотел полно¬
стью контролировать ситуацию, но не казался обескураженным происходящим взаимо¬
действием. Когда терапевт стал перенаправлять его удары на другие объекты, Джей¬
коб пришел в ярость и начал нападать в полную силу. Тогда терапевт попытался
удержать Джейкоба, который был не в состоянии восстановить самообладание в тече¬
ние 45 минут. Все это время терапевт очень мягко объяснял ребенку, как восстановить
контроль. Терапевт успокаивал его и проговаривал его гнев, но также настаивал, что
Джейкоб должен расслабиться и сделать одновременно с ним три глубоких вдоха, преж¬
де чем его можно будет отпустить. Минут через тридцать Джейкоб начал плакать, но все
282 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
еще пытался нанести терапевту вред. Последний стал еще больше успокаивать маль¬
чика, говоря ему, что думает, что все уже подходит к концу. Понемногу Джейкоб смог
расслабиться и начал тихо плакать. Он расслабился настолько, что терапевт согласил¬
ся отпустить его.
Сразу после освобождения Джейкоба терапевт проговорил его состояние (reflected),
отразив, что ребенку пришлось проделать значительную работу над собой, чтобы вновь
обрести способность контролировать себя. Затем терапевт стал очень заботливым (ямг-
turant): он придерживал ребенка и вытирал ему лоб полотенцем. Как только он смог,
он пригласил в игровую комнату приемную мать Джейкоба и предоставил ей заботить¬
ся о ребенке. Когда она взяла Джейкоба, то сказала, что очень довольна тем, что может
поухаживать за ним, потому что после таких вспышек дома он никого к себе не подпус¬
кал. Также она признала, что обычно бывала так зла, когда Джейкоб занимался отреа¬
гированием, что после любого такого эпизода в течение нескольких часов не могла всту¬
пать во взаимодействия с ним. Чтобы завершить сессию, Джейкоб и терапевт провели
обзор того, что произошло, причем в присутствии матери, которая помогла сравнить
эту ситуацию с такими случаями дома.
Структурирующая деятельность очень важна для поддержания ребенка в оп¬
тимальном состоянии возбуждения (без ущерба для его безопасности), а вызовы,
бросаемые терапевтом, подталкивают ребенка к достижению более высоких уров¬
ней развития.
Помещение в развивающую (проблемную) ситуацию
Игровые терапевты редко считают, что намеренно создают для своих клиентов
сложности в ходе игровых сессий. В действительности терапевты чаще всего со¬
знательно пытаются избежать действий, требующих от ребенка значительных
навыков. Но существует широкое разнообразие способов, когда ребенок сталки¬
вается и может столкнуться с вызовом, брошенным ему вами, игровой сессией и
содержанием сессий.
Один из способов поставить ребенка перед развивающей задачей — это разра¬
ботка структуры и содержания сессий с расчетом на точку, которая находится чуть
выше точки настоящего уровня развития ребенка. В ходе вводных бесед и оценки
вы определили уровень функционирования ребенка в различных сферах: в когни¬
тивной, эмоциональной, поведенческой и социальной. Затем вы разработали цели
лечения, среди которых упомянуто усовершенствование функционирования ре¬
бенка во всех этих областях. Но когда мы обсуждали вопросы детской психопато¬
логии, мы отмечали, что дисгармоничность развития личности ребенка (неравно¬
мерность развития различных функций) обычно создает еще больше проблем, чем
общая задержка функционирования. Поэтому важно начинать лечение с обраще¬
ния к той области, функционирование ребенка в которой является самым отста¬
ющим. Важно применять на сессиях упражнения, которые будут регулярно под¬
талкивать ребенка функционировать на уровне, немного превышающем уровень
его настоящего функционирования.
Например, если к вам на игровую терапию приходит ребенок любого уровня
развития, испытывающий сложности в общении с людьми, вы не станете ожидать,
что он вдруг самопроизвольно разовьет с вами рабочие отношения. Вместо этого
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 283
вам придется работать над созданием переживаний, которые провоцируют самые
незначительные взаимоотношения с ребенком, на основании которых вы можете
строить дальнейшую работу.
Колин, 10-летний ребенок, страдающий серьезнейшими психическими нарушениями,
не мог поддерживать адекватных отношений с другими людьми даже в течение несколь¬
ких минут. Он или уклонялся от общения, направляя внимание на предметы окружаю¬
щей обстановки, или становился настолько навязчивым, что его оппоненту приходи¬
лось самому уходить от общения. В самом начале посещения игровой терапии он
прикладывал огромные усилия, чтобы избежать общества терапевта, прячась или
демонстрируя крайне эксцентричное ритуальное поведение. Для начала построения
отношений терапевт решила прибегнуть к социальным взаимодействиям первого уров¬
ня. Первым делом, чтобы привлечь внимание Колина, она давала ему несколько жева¬
тельных конфет. Затем, завладев его вниманием, она прятала где-то на себе одну-две
конфеты и предлагала Колину поохотиться на них. Поначалу эти конфеты было легко
найти, потому что они оказывались или за манжетами ее рубашки, или за отворотом
брюк. Но постепенно она сдвигала места дислокации конфет ближе к лицу, чтобы в
поиске конфет Колину приходилось смотреть на нее. Еще позже игра изменилась так,
что Колину приходилось устанавливать почти тридцатисекундный контакт глаз, что¬
бы получить намек относительно того, где спрятаны конфеты. Поведение Колина фор¬
мировалось посредством постепенного повышения барьеров, которые требовалось пре¬
одолеть для решения простой терапевтической задачи.
Другой способ помещения ваших клиентов в проблемную ситуацию, который
вы применяете постоянно, — это высказывание парадоксальных утверждений или
указаний. Парадоксальные утверждения — это заявления, противоположные по
смыслу тому, что вы имеете в виду, и высказываемые вами с целью заставить ре¬
бенка подчиниться им. Например, вы можете сказать сердитому ребенку, только
что ударившему вас, будто вы уверены в том, что он не сможет ударить куклу, на¬
ходящуюся у вас в руках, с такой же силой, с какой он только что ударил вас. Очень
немногие дети устоят перед вызовом ударить куклу, а вы успешно перенаправите
нападение. Парадоксальные утверждения и указания наиболее часто используют¬
ся для управления поведением, в ходе сессий и вне их.
Используя парадоксальный метод, следует избегать иронии, потому что иро¬
ния открывает ребенку двойственный смысл ваших слов. К тому же ирония со¬
держит оттенок вызова и может вызвать злость. Так, если с явной иронией сказать
ребенку, находящемуся на пике ярости: «Спорим, ты не сможешь успокоится!», —
он, скорее всего, не только не успокоиться, но и еще больше разгорячиться. На¬
против, если сказать: «Я никогда не видел такого сердитого ребенка. Спорим, ко¬
гда ты раздражен, все сразу об этом узнают! Видел бы ты, как ты свирепо выгля¬
дишь, а ты можешь еще злее?» — ребенок, вероятно, отреагирует на это, а вы таким
образом начнете учить ребенка управлять своим поведением.
Внедрение/вовлечение
Как говорится в главе 2, Джернберг изменила название этого вида поведения те¬
рапевта со слова «внедрение» на «вовлечение». Несмотря на это изменение, нам
кажется, что терапевтам в ходе сессий понадобится прибегать и к тому и к другому.
284 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Очень немногие игровые терапевты полагают, что должны вторгаться в лич¬
ное пространство своих клиентов. Само слово «внедрение» (intrude) противоречит
положениям о поддержке и некоторой дистанции, которые соблюдают игровые
терапевты. И все же первичное действие каждого психотерапевта — вербализация
во всех ее формах — это, по сути, вторжение. В конце концов, как часто большин¬
ству увлеченных своей игрой детей приходится выслушивать, как взрослый че¬
ловек комментирует их деятельность и смысл этой деятельности. Этот процесс
почти всем детям кажется разрушительным, особенно на ранних стадиях лечения.
Конечно, ребенок воспринимает плохо сформулированные и не вовремя выска¬
занные отражения и интерпретации как вторжение и нарушение его личного про¬
странства и поэтому не принимает их. Если это происходит, значит, вы совершили
внедрение для удовлетворения ваших потребностей, а не нужд ребенка, и столк¬
нулись с вполне предсказуемым результатом такого внедрения. Но во множестве
случаев, когда вы совершаете вторжение способами, отвечающими интересам ре¬
бенка, оно, в силу этого, обладает терапевтическим эффектом.
Точно сформулированная и вовремя высказанная интерпретация, вероятно,
является самым общим и самым эффективным из всех видов поведения, связан¬
ных с внедрением. Хорошая интерпретация будет обладать всеми чертами внедре¬
ния, так как вызывает сдвиг мыслей и действий ребенка. Различные аспекты ин¬
терпретаций и их воздействия на ребенка подробно обсуждаются далее.
Кроме того, терапевты, независимо от их теоретической ориентации, осуществ¬
ляют внедрение и во многих других ситуациях. Например, большинство терапев¬
тов нарушают границы личного пространства очень замкнутого ребенка. Представь¬
те, что ребенок принял положение эмбриона и остается в нем более нескольких
минут. В этом случае вы попытаетесь физически или вербально войти в его ситу¬
ацию. Вы можете уговаривать ребенка, показывать ему игрушки или гладить его
по голове. Все эти действия являются вторжением в пространство ребенка, но вы¬
полняются с целью усилить его взаимодействие с вами. Если вы размышляете с
позиции оптимальных взаимоотношений ребенка и родителя, вы осознаете, что
ни один родитель не позволит своему ребенку сколько-нибудь долго находиться
в состоянии одиночества, не попытавшись вовлечь его в социальное взаимодей¬
ствие. Подобным же образом родители совершают внедрение, когда их ребенок пе¬
ревозбуждается и они пытаются его успокоить. Сначала вы можете совершить сло¬
весное внедрение в пространство ребенка, который, видимо, теряет контроль над
своим поведением, и напомнить ему об ограничениях, действующих в игровой
комнате. Если это его не остановит, удалите все объекты, с которыми он обраща¬
ется неподобающим образом. Если ребенок продолжает «заводиться», может по¬
требоваться удержание одним из вышеописанных способов. Все эти действия,
несомненно, настолько же правомерно назвать внедрением, как и структурирова¬
нием.
Вовлекающее поведение также может противоречить видению некоторыми те¬
рапевтами их роли в проведении сессии. Посредством вовлекающего поведения
терапевт настаивает на том, чтобы ребенок осознал присутствие терапевта, и на
том, чтобы оба они продолжали оставаться включенными в терапевтический про-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 285
цесс. Терапевт не является ни пассивным наблюдателем, ни объектом, которому
ребенок может не уделять внимания. Чтобы терапевтическая работа состоялась,
ребенок и терапевт должны быть союзниками. Ребенок должен относиться к те¬
рапевту как к человеку, который обязался улучшить его качество жизни. Терапевт,
со своей стороны, не должен превращать сессии в столь серьезные мероприятия,
что их трудно высидеть. Опытный терапевт знает, когда можно работать, а когда
лучше сказать ребенку: «Что ж, ты прекрасно справился с трудной работой и за¬
служил перерыв, давай-ка поиграем».
Забота и уход
Забота — это нечто, что обычно легко, а часто слишком легко, дается игровым тера¬
певтам. Большинство людей, приходящих работать в сферу обеспечения психиче¬
ского здоровья — ив частности, в сферу работы с детьми, — обладают стремлени¬
ем помогать другим и заботиться о них. Но забота — это такая область, в которой
наиболее сложно управлять своим поведением так, чтобы действовать не в своих
интересах, а в интересах ребенка. Очень просто заботиться о плачущем ребенке,
обнимая и утешая его. Но поможете ли вы ему понять эту боль или просто отбро¬
сить ее, чтобы она не беспокоила в данный момент? Правильный терапевтический
подход заключается в том, чтобы, внедрившись в пространство ребенка, поместить
его в развивающую ситуацию, которая позволяет сохранить боль, на излечение
которой направлена данная терапия, до тех пор пока ее не удастся хорошо изучить.
Без этого справиться с болью не удастся, а значит, до того как проблема не станет
понятной, забота о ребенке исключается. Ниже приводятся примеры работы по
такой схеме.
Давайте рассмотрим состояние ребенка, обладающего физической, а не эмоци¬
ональной проблемой. Представьте, что ребенок просыпается среди ночи, плачет и
жа^ется на боль в животе. Боль настолько сильна, что мать не может успокоить
ребенка и вынуждена позвонить педиатру. Должен ли врач порекомендовать аспи¬
рин и грелку или попросить мать ощупать живот ребенка, чтобы выяснить лока¬
лизацию боли? В первом случае мать и ребенок немедленно успокоятся, но если
у ребенка аппендицит, он не получит своевременного хирургического вмешатель¬
ства, а грелка только усугубит его состояние. Во втором случае страдания ребенка
не будут прекращены немедленно, но удастся избежать худших последствий и до¬
биться полного излечения. Значит, мать должна отложить облегчение и отказать¬
ся от части заботы (ощупать его живот, до операции не давать ему пить) в интере¬
сах ребенка.
Итак, в определенных ситуациях, для того чтобы оказать ребенку помощь, нуж¬
но отказаться от части заботы о нем. Но существуют и ситуации, когда необходимо
усилить заботу о ребенке. Страдающему острым заболеванием ребенку для спа¬
сения жизни может потребоваться капельница, хотя очень немногим детям понра¬
вится в течение многих часов лежать на спине с иглой, вставленной в руку. При
лечении аутичных детей часто приходится стимулировать или успокаивать их та¬
кими способами, которые заставляют их осознавать присутствие человека, осуще¬
ствляющего заботу о них. Эти действия содержат в себе внедрение, структуриро¬
вание, помещение в проблемную ситуацию и заботу одновременно.
286 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Одна из форм заботы, по-разному осуществляемая игровыми терапевтами —
это питание. Есть много «за» и «против» введения пищи в игровую сессию, и вам
следует рассмотреть их, прежде чем принять соответствующее решение.
Главный аргумент против использования пищи выдвигают сторонники психо¬
аналитической модели. Считается, что предоставление пищи на сессии портит
отношения переноса, так как создает реальные, зависимые отношения, что явля¬
ется поводом для беспокойства, когда ребенок уже склонен к принятию зависи¬
мой позиции перед лицом других людей в своей среде. Но это беспокойство необ¬
ходимо изучить в контексте развития. Для ребенка первого уровня принятие пищи
от другого человека представляют собой главный мотив межличностного общения.
Когда младенец, которого кормят грудью, голоден, он не принимает успокоения
ни от кого, кроме матери — в конце концов, она способна удовлетворить потребно¬
сти ребенка. Когда дети переходят на второй уровень развития, пища все еще про¬
должает оставаться важной частью многих взаимодействий. Время приема пищи
в яслях или детском саду обычно несет очень позитивный эмоциональный заряд.
К тому времени, когда ребенок вступит на третий уровень, пища потеряет боль¬
шую часть своей ценности, связанной с межличностным взаимодействием и забо¬
той. Дети третьего и четвертого уровня, развивающиеся нормально, едят, потому
что они голодны, а не потому что нуждаются в межличностных ресурсах. Если вы
вводите в сессии пищу так, что ребенок интерпретирует ее как замену межлич¬
ностных отношений, вы рискуете создать пищевые проблемы там, где их никогда
не было.
Другой главный аргумент против использования пищи в детской сессии состоит
в том, что это с большой вероятностью может стать ритуалом, от которого будет
очень сложно избавиться в дальнейшем и который может препятствовать прове¬
дению сессии. Что касается первой проблемы, то действительно, если вы прино¬
сите пищу на одну сессию, вам придется готовиться приносить ее и на каждую
последующую встречу с этим клиентом, до самого завершения его лечения. Если
это не тот путь, которым вы готовы следовать, лучше не начинайте его. Относи¬
тельно второго вопроса: прием пищи и питья может стать ритуалом, посредством
которого ребенок избегает терапевтической работы. Первые пятнадцать или два¬
дцать минут сессии могут начать уходить на еду, питье, походы в уборную и мытье
рук. Если вы собираетесь принести на сессию пищу, сделайте так, чтобы это была
очень простая пища, которую едят руками, а не столовыми приборами, и то, что
вы приносите, должно быть одним и тем же видом продукта из недели в неделю.
Не поощряйте ребенка приносить пищу из дома. Если вы сделаете это, вы полно¬
стью потеряете контроль над воздействием пищи на сессии. Это может окончить¬
ся тем, что дети начнут приносить еду, процесс употребления которой весьма сло¬
жен, и вся сессия будет посвящена мероприятиям по подготовке к приему пищи,
ее съедению и умыванию.
Есть прагматические преимущества использования пищи на сессиях и преиму¬
щества, относящиеся к развитию. Главный прагматический вопрос состоит в том,
что дети часто приходят на встречи с вами прямо из школы, у них нет времени
перекусить, и поэтому вполне логично, что они голодны. Голодный ребенок, ско¬
рее всего, не будет слишком заботиться о хорошей терапевтической работе. В этих
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 28 7
случаях если вы сможете добиться того, чтобы родители перед каждой сессией
обеспечивали ребенку простой завтрак, или сами можете предоставлять ему та¬
ковой перед началом сессии, это может сильно улучшить сотрудничество с ребен¬
ком. Как уже отмечалось, совершенно естественно, если пища является для ребен¬
ка первого или второго уровня первичным мотивирующим фактором вступления
в межличностные отношения. В этих случаях количество пищи сравнительно не¬
важно для ребенка. Ему не нужно получать всю ее сразу, но он просто счастлив
получать небольшие, даже незначительные количества пищи по ходу сессии. На¬
питки, налитые в детские бутылочки, более интересны, чем напитки, налитые в
чашки, хотя последний метод является более простым способом выпить большое
количество жидкости.
Если еда в ходе терапевтического занятия с ребенком подается неким спосо¬
бом, специфически зависящим от уровня его развития, существует гораздо мень¬
шая вероятность того, что ребенку захочется продолжить принимать пищу на сес¬
сиях после того, как эта фаза его развития будет успешно пройдена. В двух из
четырех здесь представленных случаев еда вводилась для того, чтобы помочь ре¬
бенку сфокусироваться на определении своих потребностей в зависимости и на
своих страхах относительно разрешения себе стать зависимым. В обоих случаях
желание ребенка продолжать питаться длилось лишь несколько следующих сес¬
сий и вскоре замещалось другими, более адекватными возрасту, способами полу¬
чения межличностных ресурсов.
Более общая форма проявления заботы по отношению к детям-клиентам — это
позитивный физический контакт. Прикосновение важно для благополучия ребен¬
ка (Barnard & Brazelton, 1990), для развития образа физиологического, социаль¬
ного и телесного «Я», а также для формирования навыков управления стрессом
(Jernberg & Booth, 1999). И все же позитивный физический контакт может ока¬
заться еще более противоречивым вопросом, чем использование удержания, и он
несет в себе собственные потенциальные этнические и юридические проблемы.
Как уже упоминалось, сегодня, когда умы взрослых занимают вопросы физиче¬
ского и сексуального насилия над детьми, идея физического контакта между
взрослым и ребенком может заставить нервничать. Некоторые центры дневной
опеки ребенка (группы продленного дня, дневная няня) зашли так далеко, что от¬
казываются менять ребенку пеленки из страха, что это действие потенциально
может вызвать обвинения в сексуальном насилии. Эти центры информируют ро¬
дителей, что если те хотят, чтобы пеленки у ребенка менялись, они должны сами
приходить в центр и делать это. Очевидно, данная ситуация прискорбна, посколь¬
ку происходящее не отвечает интересам ни одной из сторон.
Но как насчет физического контакта между ребенком и его терапевтом? В част¬
ности, как обстоят дела с физическим контактом между ребенком и терапевтом
противоположного пола или даже одного пола? Философские основания, лежа¬
щие в основе играпии (Jernberg, 1979, Jernberg & Booth, 1999), развивающей иг¬
ровой терапии (Brody, 1992, 1997) и экосистемной игровой терапии, свидетель¬
ствуют о том, что физический контакт между ребенком и взрослым, если ребенок
функционирует не более чем на третьем уровне развития, не только уместен, но и
терапевтически оправдан.
288 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Прикосновение — это общение между тем, кто совершает прикосновение, и тем, кого
касаются. С помощью рук, тех частей тела, которые обладают волшебной способностью
совершать бесконечное разнообразие прикосновений, от тонких до очень сильных, ка¬
сающийся сообщает о своем присутствии. Прикосновения сообщают тому, кого каса¬
ются, как к нему относятся. Экспрессивное прикосновение является первым средством
общения, первым отданием и принятием в жизни каждого человека. Это фундамент,
на котором должно строиться все последующее вербальное и невербальное общение
(Brody, 1997, р. 161).
Значение заботливого контакта признается и в других видах терапии. Приве¬
дем пример из практики, описанный в книге Multi-Systemic Structural Strategic In¬
terventions for Child and Adolescent Behavior Problems (Tolan, 1990). В этом примере
терапевт, установившая для ребенка правила относительно того, что можно, а что
нельзя трогать в кабинете, справляется с нарушением этих правил, одновременно
беседуя с родителями пациента.
Двигаясь так же быстро, терапевт схватила маленького мальчика и перекинула его че¬
рез плечо, держа вниз головой за ноги. Реакцией была смесь хихиканья и протестов.
Когда он начал ругаться, она обездвижила его руки и ноги и стала его щекотать. Семья
Джеффа открыла рты от удивления. «Джефф, не повреди доктора», — предупредили
они. Джефф пытался плюнуть, поэтому терапевт пощекотала его немного больше, а за¬
тем посадила на колени к матери. Поняв намек, мать погладила ребенка и стала удержи¬
вать его, а в конце концов отпустила, чтобы он продолжал заниматься своими делами,
в то время как мать и терапевт продолжали разговаривать. На всем дальнейшем протя¬
жении сессии Джефф проверял обстановку, и либо его мать, либо терапевт в шутливой
форме напоминали ему, что они больше и сильнее и что ему следует соответствовать
тем ограничениям, которые они установили. В конце сессии Джефф отдал должное те¬
рапевту, обняв и поцеловав ее (Comrink-Graham, 1990, р. 23).
Потребность© прикосновении существует независимо от пола ребенка и тера¬
певта и совершенно не зависит от биографии ребенка. На самом деле создается
впечатление, что чем более патологичными были контакты ребенка со взрослыми
людьми в прошлом, тем более показаны ему адекватные физические контакты
в ходе терапии. Это относится даже к детям, пережившим сексуальное насилие
(Jernberg & Booth, 1999).
Мишель, четырехлетняя девочка, страдающая задержкой развития, была направлена
на лечение, потому что постоянно подходила к взрослым мужчинам и пыталась сесть к
ним на колени. Она делала это независимо от того, знает ли она этих мужчин или ви¬
дит их впервые в жизни. Сев на колени к мужчине, она начинала ёрзать и тереться сво¬
им тазом о тело мужчины. Это поведение считалось непосредственным результатом
сексуального насилия, которое она перенесла от отца. Ее мать боялась, что если ее по¬
ведение будет повторяться, Мишель рискует снова подвергнуться насилию.
Как только Мишель начала посещать терапевтические сессии, проводимые терапевтом-
мужчиной, она постоянно пыталась сесть к нему на колени. Несколько раз она смогла
застать его врасплох, и, как он позже сообщал своему супервизору, он был удивлен,
насколько ее поведение было сексуально окрашено. Сначала терапевт старался пере¬
направить поведение девочки. Он предлагал ей сесть рядом с ним и взять его за руку,
но не позволял ей сидеть у себя на коленях. Это вмешательство и другие попытки пе¬
реключить внимание Мишель не увенчались успехом. Если эти действия чего-то и до¬
стигли, то лишь обострения проблемного поведения. Наконец супервизор терапевта
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 289
предположил, что вместо сохранения дистанции с Мишель терапевт может попробо¬
вать воспринять девочку той, кем она является — хрупким ребенком начала второго
уровня развития, — и обращаться с ней соответствующим образом. Терапевт согласил¬
ся и на следующее занятие пришел, вооруженный пеленкой и детской бутылочкой с
соской. Прежде чем Мишель могла подойти к нему, он ввел новую игру, «младенческую
игру». Он сказал ей, что несколько раз в течение каждой сессии они будут делать вид,
что она — маленький ребенок и он будет ухаживать за ней. В этот момент он поднял ее
и положил к себе на колени, попой от себя. Он накрыл ее пеленкой, вставил в рот буты¬
лочку и начал баюкать. Девочка без протеста принимала каждое заботливое действие.
Явная инфантильная природа этого взаимодействия позволяла Мишель принимать
его, не испытывая угрозы возможных сексуально неприемлемых последствий. Игра
позволила ей удовлетворять свои потребности способом, соответствующим уровню ее
развития. Введение данной игры свело к нулю частоту попыток Мишель сесть на коле¬
ни к терапевту. Это изменение было генерализовано (перенесено на ее жизнь вне тера¬
певтической комнаты) при помощи жившего по соседству с девочкой дяди, который
регулярно приходил и проводил время с Мишель, заботясь о ней и баюкая ее.
Хотя только что описанное вмешательство завершилось очень успешно, осу¬
ществить его было нелегко. Поначалу терапевт чувствовал себя очень неловко при
вступлении в любой контакт с Мишель из страха обострить проблему. Кроме того,
ему было очень неудобно объяснять всю процедуру матери, которая хотела, что¬
бы ее дочь перестала приставать к мужчинам. Но когда он все же побеседовал с
матерью, она тут же поняла суть вмешательства и уяснила, почему забота, кото¬
рую могла обеспечить она, была не той же самой, которую мог обеспечить муж¬
чина. Она даже поняла потребность Мишель в том, чтобы выработать здоровый
паттерн взаимодействия с мужчинами и тем самым избавиться от проблем, запу¬
щенных пережитым ею насилием.
Этот пример указывает на необходимость готовить родителей к каждому ас¬
пекту терапевтического процесса, независимо от того, каким бы благодарным ни
казалось вам вмешательство. Родителю необходимо знать уровень развития ре¬
бенка и типы взаимоотношений родитель/ребенок, которые соответствовали бы
ребенку этого уровня. Также до родителя необходимо донести то, что взаимоот¬
ношение можно уберечь от возникновения любых сексуальных ассоциаций, сде¬
лав его очень инфантильным и сопряженным с оказанием заботы. Главное здесь —
не вынуждать к вступлению в контакт ребенка, который в нем не нуждается, и не
вызвать регресс у детей, уже достигших конца третьего уровня. Цель — создать
такие здоровые, облеченные заботой контакты, которые необходимы для нормаль¬
ного прогресса ребенку, функционирующему на первом или втором уровне.
Как и в случае с физическим руководством, поведение терапевта всегда долж¬
но руководствоваться потребностями ребенка. В исследовании переживаний при¬
косновений взрослыми клиентами было обнаружено пять элементов, влияющих
на восприятие ими взаимодействия как позитивного (Horton, Clance, Sterk-Elif-
son, & Emhoff, 1995). Основываясь на раннем исследовании Гелба (Gelb, 1982),
обнаружившего, что ясность границ, конгруэнтность прикосновения, субъектив¬
ная подконтрольность контакта пациенту и убежденность пациента в том, что кон¬
такт осуществляется для его пользы, а не в интересах терапевта, связаны с пози¬
тивными впечатлениями пациента, была выдвинута гипотеза о важности четырех
290 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
первых факторов. Исследование 1995 года обнаружило эмпирическое подтверж¬
дение первых трех факторов и добавило к ним пятый фактор — мнение пациента
о том, что между ним и терапевтом установлены позитивные терапевтические от¬
ношения. Создается впечатление, что для взрослых позитивность переживания
прикосновения связана с их видением необходимости этого контакта как в кон¬
тексте ситуации, так и в контексте терапевтических отношений.
Теперь становится ясно, что первоначально ребенок может воспринимать за¬
боту, равно как и структурирование, помещение в развивающую ситуацию и вне¬
дрение, не только позитивно, но и негативно. Все четыре категории взаимодей¬
ствия можно навязать ребенку, от применения всех их можно удержаться и все они
могут предоставляться ребенку терапевтическими способами. Именно потребности
каждого ребенка определяют уместность данного действия в ходе отдельной сес¬
сии и во всем курсе лечения. Природа этих терапевтических взаимодействий плани¬
руется, основываясь на знании оптимальных взаимоотношений родитель/ребенок
и их влияния на развитие и психическое здоровье детей. Характер (позитивный
либо негативный) результата осуществления таких взаимодействий определяется
посредством оценки прогресса соответствующих линий развития ребенка и его
прогресса по отношению к разрешению ошибочных предположений и установок
о мире.
Дополнительные идеи о возможной в ходе детских терапевтических сессий дея¬
тельности можно найти в книге Activities for Children in Therapy: A Guide for Plan¬
ning and Facilitating Therapy with Troubled Children (Dennison & Glassman, 1987). Эта
книга содержит более 200 упражнений для работы с детьми в возрасте от 5 до 12 лет.
Эти идеи охватывают построение отношений и раскрытие личной информации,
осознание эмоций и общение, социальные навыки, школьную деятельность, завер¬
шение лечения и дополнительные сведения. Среди других источников упражне¬
ний и терапевтич<еских занятий можно назвать 101 Favorite Play Therapy Techniques
(Kaderson & Schaefer, 1997), а также Play Therapy Treatment Planning and Interven¬
tions (O’Connor & Ammen, 1997).
Многие эффективные техники, применяемые в работе с детьми, страдающи¬
ми специфическими психическими нарушениями, представлены в The Practice of
Child Therapy (Morris & Kratochwill, 1983) и Therapies for Children (Schaefer & Mill-
man, 1977). Корректирующие переживания, которые вы создаете для ребенка на
сессии, будут обладать терапевтическим эффектом, независимо от того, сопровож¬
даются ли они когнитивной или вербальной деятельностью. При работе с детьми
первого уровня развития, для того чтобы добиться наибольших терапевтических
изменений, вам придется полагаться на восприятия и переживания. По мере по¬
вышения уровня развития ребенка повышается и потенциальное воздействие ког¬
нитивных и вербальных терапевтических вмешательств.
Планирование вербального компонента
детской игровой терапии
Речь играет ключевую роль в здоровом эмоциональном функционировании детей
и поэтому должна играть ключевую роль в лечении детей с помощью игровой те¬
рапии. Если выражаться просто: «речевые и языковые процессы... являются важной
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 291
составляющей детской психотерапии, способствуют нормальному развитию и от¬
ветственны за детские дисфункции либо коррелируют с ними» (Shirk & Russel,
1996, р. 228). Существует сильная корреляция между нарушениями речи и пси¬
хиатрическими проблемами в целом (Cantwell & Baker, 1984). Если быть более
точными, обнаружилось, что нарушения речи коррелируют с экстернализацией
поведенческих проблем (Burke, Crenshaw, Green, Schlosser, & Stocchia-Rivera,
1989; Davis, Singer & Morris-Friehe, 1991; Hindshaw, 1992; Piel, 1990), атакже с ин¬
тернализацией проблем (Evans, 1987; Stevenson, Rickman, & Graham, 1985). Фун¬
кция речи в развитии здоровой, в противоположность патологической, личности,
видимо, связана со способностью ребенка использовать язык как мост, ведущий
через символ от действия к мышлению, а также с ее интегральной ролью в пере¬
живании и регулировании эмоций.
Термин «переживание эмоций» используется для определения процесса, в ходе
которого человек как переживает (почти на психологическом уровне), так и узна¬
ет (на когнитивном уровне) некую эмоцию. Процесс, посредством которого дети
в ходе нормального развития начинают использовать переживание эмоций в сво¬
ей повседневной жизни, довольно похож на то, как этот процесс происходит в ходе
лечения. В игровой терапии терапевт может способствовать переживанию ребен¬
ком эмоций, разбив этот процесс на шаги (Shirk & Russel, 1996). Первый шаг —
выявление эмоции. Он не противоречит процессу создания корректирующих пе¬
реживаний в ходе детской сессии, описанному ранее. Вторым шагом терапевт по¬
могает ребенку зарегистрировать эмоцию, назвав ему испытываемое чувство.
Вполне обычное для ребенка явление — описание физического ощущения вместо
аффекта, например — описание боли в животе, а не испытываемой тревоги. Ребе¬
нок осознает физиологию аффекта, но не регистрирует его собственно как эмоцию.
Словесный ярлык, предоставленный терапевтом, конвертирует физическое ощу¬
щение в когнитивный опыт, таким образом радикально повышая шансы ребенка
эффективно справиться с ним. Наконец терапевт отражает выявленные чувства
обратно ребенку, в ходе сессий последовательно сдвигая внимание на эмоциональ¬
ные проявления. Это позволяет ребенку легче узнавать эмоции и использовать их
в повседневных межличностных взаимодействиях.
Терапевт может облегчить ребенку переживание эмоций на сессии нескольки¬
ми способами (Shirk & Russel, 1996). Прежде всего помещайте эмоциональные
переживания в ситуативный контекст. Дети могут столкнуться с трудностями при
ответе на открытый вопрос относительно того, как они себя чувствуют в данной
ситуации. Но если терапевт сначала спросит ребенка о деталях его переживания,
это может вывести его на эмоцию с гораздо меньшими затратами. Так, ребенок,
который не способен сказать, что он испугался, когда отец велел ему выключить
телевизор и идти в постель, может сделать это, если опишет, что в это время его
отец кричал, махал кулаком и его лицо при этом покраснело. Во-вторых, терапев¬
ту может понадобиться изыскать способ поддержания эмоционального пережи¬
вания ребенка. Если ребенок будет рисовать картины некоторого аффекта или ис¬
пользовать нечто вроде техники «Раскрась свою жизнь» (O'Connor, 1983), чтобы
создать конкретную репрезентацию чувств, он сможет удержать аффект, в то же
время пытаясь перейти к его переработке. В-третьих, терапевту может понадо-
292 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
биться использование непрямых методов для недозволенных чувств ребенка. Раз¬
говор о ситуации насилия {abuse) над ребенком или о жестоком обращении с ним
может вывести ребенка из себя и помешать точному узнаванию чувств. Разговор
о медведице, грубо разговаривающей со своим медвежонком, может оказаться го¬
раздо менее угрожающим. Наконец, насколько это возможно, терапевт должен
постоянно оставаться в настоящем времени, в положении «здесь-и-сейчас». Дети
переживают не самые простые моменты, когда вспоминают, как они чувствовали
себя в прошлых ситуациях. Иногда такое простое действие, как, например, проиг¬
рывание по ролям события из прошлого, помогает ребенку получить доступ к
эмоциональным переживаниям, которые он не может вспомнить вне контекста.
Как только ребенок начал переживать и узнавать свои собственные аффекты,
он должен научиться регулировать их, чтобы они служили своему прямому назна¬
чению и гарантировали, что удовлетворение потребностей ребенка происходит
эффективно и адекватным способом. Используя модель переработки информа¬
ции, Гарбер, Браафладт и Земан (Garber, Braafladt, & Zeman, 1991) описали шаги,
посредством которых происходит эмоциональная регуляция. Во-первых, суще¬
ствует восприятие эмоции, переживание эмоции и осознание потребности регу¬
лировать этот аффект. Во-вторых, индивид интерпретирует эту эмоцию и прихо¬
дит к когнитивному пониманию ее причины, а также того, кто или что несет
ответственность за ее изменение. В-третьих, существует установление цели, и в хо¬
де этого процесса индивид решает, что необходимо сделать для изменения этого
аффекта. В-четвертых, происходит генерация реакции; в эту стадию включен и
оперативный поиск конкретных действий, которые можно предпринять прямо
сейчас. В-пятых, происходит оценка, когда критически рассматриваются все «за»
и «против» идец, выработанных на предыдущем шаге, и происходит выбор одной
идеи. Наконец, индивид реализует выбранную идею. Предполагается, что этот
процесс происходит внутри индивида и что он не обязательно должен быть пол¬
ностью осознаваемым, но это полностью сочетается с шагами, ведущими к тера¬
певтическому разрешению проблем, которые описываются далее в этой главе.
В течение последнего десятилетия были разработаны специфические страте¬
гии организации вербализаций терапевта. Эти стратегии принимают к рассмот¬
рению как технические варианты, позволяющие лечить более широкую популя¬
цию людей, так и тенденции понимания развития ребенка. В этой части главы
рассматриваются три типа вербализаций, которые часто осуществляет терапевт:
вопросы, информационные утверждения, структурирующие утверждения, отве¬
ты на вопросы детей, комментарии и, наконец, интерпретации.
Терапевтическое воздействие общих вербализаций терапевта
Вопросы
О ценности вопросов, задаваемых в ходе продолжающейся терапии, идут споры.
Один из главных предметов этих споров — то, какую цель терапевт преследует,
задавая вопросы. Вопросы обычно задаются в силу одной из трех причин: прояс¬
нить поведение или высказывание ребенка, получить информацию или выразить
то, что терапевт делает осторожное утверждение, а не пытается получить ответ от
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 293
ребенка. Во всех этих случаях вопрос остается особым способом вербализации, так
как задается для удовлетворения ваших потребностей, а не обращен к нуждам ре¬
бенка. Проблема в случае с вопросами состоит в том, что обычно отвечающий счи¬
тает, будто в них прячутся скрытые сообщения, даже если у вас нет подобного
намерения (Gordon, 1970). Если вы спрашиваете у ребенка: «Нравится ли тебе
в школе?», он, скорее всего, увидит в этом вопросе утверждение, что вы считаете,
что она ему нравится. Поскольку вопросы по своей природе требуют точности
формулировки, они часто заставляют ребенка переставать говорить, уходить в за¬
щиты и спорить, а также чувствовать на себе давление и пренебрежительное от¬
ношение «как к ребенку» (Gordon, 1970). В силу этих причин вопросы следует
сводить к минимуму, предоставляя вместо этого интерпретирующие утверждения,
техника которых описана далее в этой главе.
Большинство теоретиков согласны, что вы можете задавать уточняющие во¬
просы, позволяющие понять, как ребенок пережил то или иное событие (O’Connor,
Lee, & Schaefer, 1983). Но эти вопросы должны только подталкивать ребенка к
переработке материала, представленного на сессии. Например, ребенок рассказы¬
вает достаточно развернутую историю, и пока он занимается этим, вы теряете след
людей, к которым на самом деле относятся местоимения, используемые вашим
клиентом:
На другой день, когда я был в школе, мой учитель сильно рассердился на Томми и на
меня за то, что мы дрались на футбольном поле. Он не пустил меня в мою очередь пнуть
мяч, потому что он сказал, что другие дети уже не соблюдали очередь. Потом я вышел
из себя и закричал на него. Потом мы стали бить друг друга. Потом он пришел, и у него
лицо было красное, и он схватил мяч, а затем сказал сесть. Он ударил меня и сбил с ног.
Даже если вы внимательно слушали эту историю, трудно понять, кто же в раз¬
личные моменты рассказа этот «он». В этом случае вам надлежит признаться, что
вы немного запутались, и задать несколько вопросов, уточняющих отношения в
рассказе. В этом рассказе оказалось, что последний удар был действительно нане¬
сен учителем, который испытывал огромные сложности с контролированием сво¬
их реакций, вызываемых именно этим ребенком.
В тех ситуациях, когда вы потеряли значительное количество деталей, вклю¬
ченных в утверждения или действия ребенка, лучше использовать некоторую
стратегию вместо прямого задавания вопросов. Предположим, что приведенная
здесь история на самом деле значительно длиннее и рассказывается ребенком,
обладающим нечетким произношением. Логично, что вы можете не захотеть пре¬
рывать течение такой эмоционально нагруженной истории; но если вы подождете
ее конца, чтобы начать попытки ее прояснения, ребенок может не захотеть возвра¬
щаться к тому, что уже говорил.
В качестве альтернативы, вы можете прокомментировать, каким длинным и
интересным был рассказ, и выразить ваше желание получше разобраться во всем
этом деле, которое можно удовлетворить, если ребенок согласится некоторым об¬
разом показать эту историю. Разыгрывание рассказа может привести к тому, что
ребенок возьмет маленькие фигурки для представления героев этой истории.
Вы должны быть уверены, что каждая фигурка ясно названа, и стимулировать
294 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
повторное рассказывание истории, попросив ребенка, чтобы он соотнес диалоги
и действия с каждой фигуркой. Альтернативно вы можете поощрить ребенка про¬
иллюстрировать рассказ или поставить его в виде сценки. Оба этих метода позво¬
ляют вам уточнить материал, в то же время не мешая ребенку рассказывать даль¬
ше и не обескураживая его тем, что он, оказывается, не способен эффективно
общаться.
Уточняющие вопросы обычно не планируются, и необходимость их использо¬
вания может значительно варьироваться от сессии к сессии. Режим этих вопросов
довольно узконаправленный, потому что они генерируются в ответ на вербализа¬
ции или действия ребенка. Несмотря на очевидную безобидность уточняющих
вопросов, если переусердствовать с их использованием, они могут разрушитель¬
но воздействовать на процесс терапии. Несколько сфокусированных уточняющих
вопросов дают ребенку понять, что вы заинтересованы в том, что он сообщает, но
не поняли кое-каких деталей. Слишком большое количество заданных вопросов
может серьезно прервать течение истории ребенка и удержать его от продолже¬
ния. Подобным же образом некий вопрос, открывающий ребенку, что вы пропус¬
тили ключевой элемент очень длинной истории, только что рассказанной им, мо¬
жет заставить его полностью отказаться от истории и заняться чем-либо другим.
Это поведение часто сопровождается отношением «а оно мне надо?» и молчани¬
ем со стороны ребенка. Данный тип ситуации часто возникает при обращении с
детьми, страдающими нарушениями речи или языка.
Когда Хосе, пятилетний мальчик с задержкой развития, пришел на терапию, его речь
была практически непостижимой. Терапевт постоянно стояла перед искушением по¬
просить его повторить большую часть того, что он сказал, но каждый раз, когда она это
делала, Хосе илй прекращал говорить совсем, или отворачивался от нее явно, испыты¬
вая гнев и фрустрацию. Вместо этого терапевт начала комментировать действия и игру
Хосе, а не содержание его речи. Они вместе называли объекты и действия и рисовали
картины, которые включали то небольшое содержание, которое терапевту удавалось
извлечь из высказываний Хосе. Через несколько месяцев таких сессий терапевт научи¬
лась лучше понимать необычные речевые паттерны Хосе, а тот, в свою очередь, с боль¬
шей вероятностью сопровождал свои слова объяснительным поведением и жестами,
поэтому их общение в значительной степени наладилось.
Кроме того, в различные моменты сессии или курса лечения вам могут пона¬
добиться вопросы, направленные на получение информации. Ребенок, родители
которого находятся в разводе, может проводить время с каждым из родителей,
перемещаясь из одного дома в другой несколько раз в неделю или несколько раз в
год. Независимо от того, являются ли эти переходы регулярными и запланирован¬
ными либо неупорядоченными и самопроизвольными, вам может понадобиться
узнать, где ребенок проводит данный период времени, чтобы получить контекст,
в котором можно интерпретировать дальнейшие дискуссии и игровое поведение.
Подобным же образом, когда ребенок приходит на сессию, пропустив предыду¬
щую по болезни, вы можете захотеть спросить его, как он себя чувствует. Пробле¬
ма с этим типом вопросов состоит в том, что не всегда есть подходящий повод,
чтобы их можно было задать. Стоит ли терапевту спрашивать ребенка о воскрес¬
ном визите в дом отца в самом начале сессии, по ходу занятия, когда эта тема спон-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 295
танно возникает сама, или ближе к концу встречи? Очевидно, что воздействие
вопроса будет частично определяться тем, когда этот вопрос задан.
Любой вопрос, заданный в начале сессии, потенциально обладает структури¬
рующим потенциалом, направляющим в определенное русло все содержание сес¬
сии с момента своего предъявления. Ребенок, пропустивший сессию по болезни,
мог проболеть всего лишь один день или даже несколько часов и поэтому мог чув¬
ствовать себя хорошо всю неделю между сессиями. В этом случае очень высока
вероятность того, что ребенок самостоятельно и не упомянет о своей болезни в
течение следующей сессии. Когда вы, хотя и без злого умысла, интересуетесь здо¬
ровьем ребенка, он понимает, что вас интересуют его «старые» новости, и может
потратить некоторое время на обсуждение этого, не уделив внимания более на¬
сущным заботам. Значимость этой проблемы еще более повышается, если ребе¬
нок болеет часто, скажем, если ребенок — астматик. В таком случае его готовность
самопроизвольно обсуждать болезнь может считаться важной при оценке терапев¬
тического прогресса. Очевидно, вам следует тщательно соизмерять ценность не¬
обходимой вам информации и конструктивность способа, которым ребенок будет
интерпретировать ваш вопрос, прежде чем ответит на него.
Наконец, бывают моменты, когда вы можете решить сделать утверждение, в
котором не полностью уверены. Часто эта неуверенность передается через вопро¬
сительную интонацию голоса или его модуляцию. Это ловушка, в которую попада¬
ют многие неопытные терапевты. Слово «ловушка» используется здесь намерен¬
но, потому что эта категория вопросов непродуктивна практически всегда. Если
вы настолько не уверены в содержании того, что собираетесь произнести, лучше
%не говорить этого вообще, по меньшей мере до тех пор, пока ситуация не станет
более очевидной. Если вы продолжаете высказывать такие суждения/вопросы,
ребенок может отреагировать на этот материал несколькими способами. Во-пер¬
вых, он может понять, что вы не уверены в том, что предлагаете, и поэтому решит
проигнорировать содержание. Во-вторых, он может почувствовать, что вынужден
отвечать, и снова выберет уход от содержания, просто как оппозиционный ответ
воспринимаемому требованию. И в-третьих, он может испугаться, что причина
такой вашей осторожности в том, что содержание вашей речи сопряжено с боль¬
шими сложностями, даже для вас.
Когда семилетняя клиентка Дженифер, подвергавшаяся сексуальному насилию, при¬
шла на свою первую сессию, она казалась очень тревожной. Она настояла, чтобы в те¬
чение вводной беседы ее мать постоянно находилась в комнате, поэтому сейчас был
первый раз, когда она осталась одна с терапевтом-мужчиной. Заметив тревогу Джени¬
фер, терапевт сказал: «Мне кажется, ты нервничаешь; это потому, что ты боишься на¬
ходиться со мной один на один после того, что с тобой случилось». Это утверждение
было настолько неопределенным, что Дженифер не только не смогла на него ответить,
но и забеспокоилась еще больше. Терапевт осознал свою ошибку и решил перейти к
очень простой задаче, для выполнения которой нужно было рисовать и раскрашивать.
Они с Дженифер рисовали, используя набор мелков, лежащий в центре стола. В какой-
то момент рука терапевта задела руку Дженифер, когда они оба тянулись за мелками.
Дженифер так быстро и с такой силой отдернула руку, что ушибла локоть о подло¬
котник кресла и заплакала. Терапевт немедленно придвинулся, чтобы посмотреть ее
296 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
локоть и убедиться, что с ним все в порядке. На этот раз он сказал: «О, это должно силь¬
но болеть, позволь мне посмотреть, не идет ли кровь». Он осторожно взял руку Джени¬
фер и осмотрел ее. Продолжая держать руку, он сказал: «Нет, никакой крови, но я ру¬
чаюсь, что локоть все равно сильно болит. Конечно, ты же так прыгнула, когда наши
руки впервые соприкоснулись. Я уверен, что это испугало тебя, потому что тебе немно¬
го страшно быть наедине со мной в этой комнате. Ты немного боишься, что я могу де¬
лать “плохие прикосновения” (термин Дженифер), как твой дядя Джон. Но этого не
произойдет. На самом деле мы будем работать вместе, чтобы понять, как избавить тебя
от страхов, которые начались с тех пор, как дядя Джон делал плохие прикосновения».
Дженифер заметно расслабилась, и в течение следующих пятнадцати секунд они с те¬
рапевтом просто смотрели друг на друга.
В этом случае терапевт смог быстро исправиться после ошибки, и клиентка
оказалась в состоянии продолжить работу после коррекции. В других случаях
осторожность и уклончивость вводного замечания терапевта могли убедить ребен¬
ка, что если терапевту столь некомфортна эта тема, она действительно ужасна для
обсуждения, и поэтому девочка начала бы избегать ее.
Информационные утверждения
Многие утверждения, которые вы будете делать, проводя игровую сессию с ре¬
бенком, направлены не на получение информации от клиента, а на сообщение
ему некоторых данных. Среди этих утверждений выделяются структурирующие
утверждения, ответы на вопросы клиента и комментарии.
Структурирующие утверждения
К структурирующим утверждениям относятся те комментарии, которые вы вы¬
носите для создания границ работы (или терапевтической сессии) для ребенка.
Часто первая сессия состоит из предоставления ребенку значимой информации о
природе терапии, о терапевте и терапевтических отношениях. Структура и содер¬
жание этой вводной встречи достаточно подробно обсуждались в главе 6. Однако
много раз по ходу работы вам придется снабжать ребенка дополнительной инфор¬
мацией.
Некоторые такие утверждения будут формировать временные рамки сессии,
например — задавать время ее начала и конца или определять, сколько времени
осталось до завершения данной сессии. Также вам понадобится предупреждать
ребенка о приближении перерывов в ваших встречах, вызванных каникулами или
рабочими планами.
Другие структурирующие утверждения могут устанавливать границы, поддер¬
живающиеся в течение сессии, в том числе базовые правила: ненанесение вреда
другим, себе самому и имуществу. Также сюда относятся правила посещения убор¬
ной, завтраков и т. п. Если вы в разумных пределах предвидите потребности ре¬
бенка, вы сможете избежать проблемы столкновения с множеством прагматиче¬
ских, прямых вопросов с его стороны, с которыми вам придется справляться. Но
независимо от того, как хорошо вы предвидите потребности и поведение ребенка,
вероятно, он рано или поздно задаст хотя бы несколько вопросов, и вы должны
быть готовы ответить на них.
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 29 7
Ответы на вопросы клиента
Некоторые читатели удивятся, почему вопросы, задаваемые ребенком, можно счи¬
тать опасными, заслуживающими чего-то большего, чем просто прямой ответ.
Проблемы возникают в точности по тем же самым причинам, которые делают про¬
блематичными вопросы терапевта, обращенные к ребенку. Самая главная пробле¬
ма состоит в том, что вопросы могут быть двусмысленными и необдуманный от¬
вет может преждевременно раскрыть ваши планы. Поэтому, прежде чем отвечать
на любой вопрос, его следует интерпретировать. Проводя интерпретацию, вы
обычно просто отражаете вопрос, но реорганизовывая его таким образом, чтобы
он включал лежащие в его основе эмоции или мотивы ребенка. Для более полно¬
го рассмотрения стратегий осуществления интерпретации обратитесь к материа¬
лу, представленному далее в этой главе.
Интерпретация служит двум целям. Во-первых, она помогает прояснить кон¬
текст задаваемого вопроса. Также, если это необходимо, вы выигрываете время
для придумывания адекватного ответа. Например, предположим, что ребенок
спрашивает, видели ли вы других детей в игровой комнате. Возможно, он пытает¬
ся выяснить, уникальны ли его отношения с вами, но лежащей в основе данного
вопроса проблемой может быть и соперничество с сиблингом, и фантазия о том,
что вы можете стать заместителем родителей, и даже беспокойство о глубине соб¬
ственной патологии, выражающееся в попытке выяснить, много ли других детей
нуждаются в подобном лечении. Другие прекрасные примеры множественности
возможных смыслов в вопросах ребенка приведены в книге Play Therapy: The Art
of the Relationship (Landreth, 1991). Интерпретация позволяет вам раскрыть и
уточнить (verify) специфические мотивы, лежащие в основе вопроса, снижая воз¬
можность того, что вы начнете работать не с теми проблемами.
Остальные задаваемые детьми вопросы часто подпадают под одну из трех ка¬
тегорий: практические, личные, связанные с отношениями. Дети с готовностью
обращаются к вам с практическими вопросами, не предполагающими скрытых
мотивов. Эти вопросы могут включать просьбы пойти в уборную, вопросы отно¬
сительно того, сколько времени осталось до конца сессии или сколько сессий оста¬
лось до каникул либо до завершения лечения. Эти, с виду невинные вопросы, на
которые неопытные терапевты отвечают, ни секунды не медля, с большой вероят¬
ностью маскируют скрытые планы действий (agendas), особенно сопротивление.
Личные вопросы ребенка редко основаны лишь на простом социальном инте¬
ресе. Клиенты могут спрашивать вас, состоите ли вы в браке, есть ли у вас свои
дети, где вы живете, сколько вам лет и так далее.
Одна маленькая девочка имела привычку задавать своему терапевту-студенту множе¬
ство вопросов личного характера. Некоторые из них он интерпретировал как ее жела¬
ние видеть его в качестве своего родителя, а другие — как отражение ее желания кон¬
тактировать с ним за пределами сессии. Он пытался множить другие интерпретации,
и все же цепочки личных вопросов продолжали смешиваться с содержанием любой
другой сессии. На супервизии он говорил о том, что испытывает дискомфорт относи¬
тельно указания терапевта не отвечать на содержание ее вопросов. Он чувствовал, что
если просто ответить на вопросы девочки, можно будет спокойно перейти к другому
298 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
материалу, но опасался, что его ответы на слишком большое количество вопросов ме¬
шают взаимодействию.
Наконец группа супервизоров пришла к мнению, что ему следует интерпретировать не
содержание вопросов, а сам факт того, что девочка так настойчиво задает их, через пред¬
положение о том, что ей очень важно контролировать ход сессий. Такая интерпретация
разозлила ее, потому что нарушила ее контроль, но частота вопросов заметно снизи¬
лась. С течением времени стало очевидным, что эта девочка демонстрирует на сессиях
много контролирующего поведения в моменты, когда ее мать декомпенсирует ее до
степени умеренного расстройства мышления. Это привело к более сфокусированным
обсуждениям корреляции между ее поведением на сессиях и состоянием матери. Еще
позже удалось обсудить способы, при помощи которых она могла бы удовлетворять
свои потребности даже тогда, когда ее мать действовала не очень адекватно.
Вопросы, касающиеся отношений, также редко задаются без лежащих в их ос¬
нове умыслов или мотивов. Эти вопросы могут включать расспросы о том, при¬
нимали ли вы на сессиях других детей, нравятся ли вам другие дети, хотите ли вы
усыновить ребенка и т. д. Очевидно, эти вопросы требуют большего, чем простой
и прямой ответ. Обычно ребенок хочет узнать о глубине отношений, причем ско¬
рее всего в тот момент, когда подумывает о том, чтобы сделать весомый вклад в их
укрепление:
Джейкоб, маленький мальчик, о котором речь шла в разделе, посвященном установле¬
нию границ, очень долго находился в детском доме {foster home), но никогда не усы¬
новлялся. Фостерные родители говорили ему, что они хотели бы усыновить его, но не
могут сделать этого до тех пор, пока его поведение такое проблемное. Следующий ди¬
алог происходил между Джейкобом и его терапевтом Стивом во время их третьей встре¬
чи, в ходе процедуры удержания, к которой терапевт прибегнул, когда ребенок поте¬
рял над собой контроль.
Джейкоб спросил, есть ли у Стива дети. Прежде чем тот смог ответить, Джейкоб задал
ему вопрос, почему он не идет домой и не ограничивает там своих собственных детей.
Затем мальчик спросил, женат ли Стив, и снова, не дождавшись ответа, попытался
узнать, почему он не идет домой и не удерживает свою жену. В этот момент Стив смог
отразить вопрос Джейкоба, сказав: «Ты хочешь знать, делал бы я это с тем, кого я люб¬
лю?» Джейкоб начал кричать: «Я знаю, что ты не сделал бы этого с тем, кого ты лю¬
бишь. Ты не любишь меня?» Последняя фраза выкрикивалась с вопросительной ин¬
тонацией, и Стив отразил ее, сказав: «Ты не веришь, что я могу любить тебя». В этот
момент Джейкоб сорвался на истошный крик: «Нет, ты не любишь меня, никто не лю¬
бит меня, и никто никогда не любил». Ребенок непрерывно плакал около пятнадцати
минут, в течение которых Стив говорил о том, как тяжело было Джейкобу всякий раз,
когда он думал о том, что мать бросила его, а приемная мать не хочет усыновить. Тако¬
го глубокого взаимодействия ребенка и терапевта не удалось бы достичь, если бы Стив
не интерпретировал вопросы мальчика.
Текущие комментарии, или комментарии
в процессе взаимодействия
Выдвигая текущие комментарии, терапевт подводит итог сказанному ребенком,
обобщая материал для себя и для ребенка и закладывая основу для дальнейших
конфронтаций и интерпретаций. Некоторые авторы, пишущие об игровой тера¬
пии, часто называют комментарии, предоставляемые терапевтом в ходе взаимо-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 299
действий (running comments), отражениями (reflection). Независимо от того, как их
называть, эти утверждения не добавляют во взаимодействие никакой информа¬
ции, а лишь по-новому формулируют его. Начинающие игровые терапевты часто
совершают ошибку, практически дословно повторяя все сказанное ребенком. Ре¬
бенок говорит: «Смотри, машина сейчас врежется в стену». А терапевт тут же го¬
ворит: «О, машина сейчас врежется в стену». Ребенок смотрит на терапевта, буд¬
то тот полоумный, и продолжает играть. По этой причине обычно лучше не делать
текущих комментариев относительно вербализаций ребенка, чтобы избежать эф¬
фекта бесконечной магнитофонной кассеты с автореверсом. Лучше, если вы посвя¬
тите побольше много комментариев поведению ребенка и содержанию его игры.
Например, вам стоит сказать: «О, машина врезалась в стену», когда машина вре¬
залась, а ребенок при этом ничего не сказал.
Предоставляемые в такой манере, текущие комментарии создают модель вер¬
бализаций для ребенка, демонстрируя их важность и способствуя его постоянно¬
му движению к тому, чтобы говорить, а не «показывать». Текущие комментарии
также демонстрируют интерес терапевта к деятельности ребенка, способствуя, та¬
ким образом, его «производительности».
Критически важные терапевтические процессы:
интерпретация и разрешение проблем
Интерпретации — это важнейшие терапевтические вербализации, которые тера¬
певт осуществляет в ходе лечения ребенка посредством игровой терапии. В боль¬
шей части традиционной психоаналитической литературы термин «интерпрета¬
ция» используется исключительно для обозначения утверждений, которые более
точно называются генетическими интерпретациями, или утверждений, предостав¬
ляющих ребенку возможность связать его текущее поведение с прошлым опытом
или воспоминаниями (Lewis, 1974). В этой книге термин «интерпретация» ис¬
пользуется для обозначения любого утверждения терапевта, которое способству¬
ет повышению осознания ребенком его внутренних процессов или поведения.
В чем смысл интерпретации? По существу, исходя из психоаналитической те¬
ории, интерпретация необходима, чтобы обеспечить превращение бессознатель¬
ного материала в сознательный, который может использоваться клиентом. В рам¬
ках экосистемной игровой терапии интерпретация имеет два применения, сильно
связанных друг с другом. Первое из них помогает создавать общий язык, на кото¬
ром могут говорить терапевт и ребенок, чтобы получить доступ к событиям жизни
последнего, которые раньше могли не облекаться в слова, а просто переживаться.
Такие переживания или воспоминания сравнительно недоступны для терапевти¬
ческого раскрытия и разрешения. В этой начальной работе вам нужно не пытать¬
ся изменить когнитивные установки ребенка относительно некоторого события
или переживания, а пытаться создавать относительно их некоторые когниции.
Второе применение интерпретации основывается на том, что она помогает по-
новому определить проблемы, испытываемые ребенком, так что становится воз¬
можным последующая работа с ними при помощи техники разрешения проблем.
И все же необходимо быть осторожным и не погубить ребенка и его игру. Сна¬
чала важно способствовать началу демонстрации игрового поведения. Скарлет
300 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
(Scarlett, 1994) подчеркивал важность процесса игры терапевта с ребенком и его
помощи в ее инициировании и развитии для того, чтобы она приобретала цели¬
тельные свойства. Один из примеров — вмешательство терапевта в посттравма¬
тическую игру детей. Посттравматической игрой называется бесконечно повто¬
ряющаяся, не имеющая других вариантов игра детей, перенесших некоторое
травмирующее воздействие (Gil, 1991). Создается впечатление, что игра такого
вида пролонгирует травмирующий эффект, а не способствует совладанию с ним,
как было бы в случае здоровой игры. В качестве примера такой игры представьте
себе ребенка, бесчисленное число раз восстанавливающего в игре с куклами точ¬
ные обстоятельства произошедшего с ним сексуального насилия. В подобных слу¬
чаях рекомендуется, чтобы терапевты мягко вмешивались в игру, скажем, вводя в
нее супергероя, в последний момент спасающего ребенка, чтобы тот мог начать
процесс совладания с травмой вместо ее простого повторения. Как только игра ре¬
бенка приобретает функцию его оздоровления, эта деятельность может усиливать¬
ся через эффективное использование интерпретации и когнитивного разрешения
проблем.
В игровой психотерапии именно процесс интерпретации придает смысл игре
ребенка. Интерпретация позволяет ему осознать вторичные символы в своей игре,
расчищающие дорогу для общения и терапевтической работы или для разреше¬
ния проблемы (Scarlett, 1994). «По мере того как слова становятся средствами
обозначения внутренних переживаний, обостряется видение различий между вне¬
шним и внутренним, сознательным и бессознательным, желанием и реальностью»
(Slade, 1994, р. 93). Процесс игровой терапии можно представить как процесс рас¬
смотрения событий и эмоций и выведения из них смысла таким образом, что ста¬
новится возможным работа с порождаемыми ими проблемами и конфликтами и
их разрешение (Slade, 1994J. Игра — это способ обретения ребенком смысла. Де¬
зорганизованная игра ребенка, лишенная предметной изобразительности (поп-
representational play), демонстрирует не смесь символов, а скорее неспособность
ребенка обретать смысл на фундаментальном уровне. Терапевт руководит ребен¬
ком на его пути к организованности. Чтобы делать это, терапевт: 1) называет ге¬
роев, объекты, действия или состояния в игре; 2) связывает между собой героев,
объекты и действия; 3) связывает между собой события по мере их возникнове¬
ния (Slade, 1994). Ребенок научается рассказывать историю своего опыта, своих
переживаний, потому что верит, что терапевт будет его слушать и включаться в
игру с ним. По мере развития истории или рассказа ребенок может занять наблю¬
дательскую позицию, может следить за игрой и может проводить необходимые
связи со своей собственной жизнью.
Эффективное предоставление интерпретаций1
Чтобы помочь терапевтам «упорядоченно и систематически» предоставлять свои
интерпретации, Ловенштейн (Lowenstein, 1957) описал различные уровни интер-
1 Материал об использовании терапевтом интерпретации заимствован из работы О’Коннора и Ли
(O’Connor, К. & Lee, А., 1991). Также при составлении данного раздела использовалась статья Ad¬
vances in psychoanalytic psychotherapy with children из M. Hersen, A. Kazdin, and A. Bellack (Eds.) The
Clinical Psychology Handbook, New York: Pergamon, p. 580-595. (Использовано с разрешения.)
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 301
претации: подготовку (Lowenstein, 1951), конфронтацию (Devereaux, 1951), уточ¬
нение (Bibring, 1954) и собственно интерпретацию. На стадии подготовки тера¬
певт указывает на общие элементы событий, связанных с ребенком, а также на его
склонность вести себя одинаково в каждой ситуации. Споры (конфронтации)
строятся как на непосредственно возникающем материале, так и на основании
прошлых переживаний, для того чтобы ребенок осознал, что им используется не¬
кая защита. Уточнения укрепляют и достраивают фундамент для интерпретации.
Кроме того, Ловенштейн отмечал, что интерпретации могут иметь различную
структуру и обладать разными функциями. Он классифицировал интерпретации
следующим образом: интерпретация бессознательного намерения, функциональ¬
ная интерпретация — раскрытие деятельности некоего психологического фено¬
мена в рамках личности, символическая интерпретация, а также генетическая ин¬
терпретация, посредством которой воссоздается процесс происхождения данного
феномена.
Льюис (Lewis, 1974) предлагал другую модель, в которой выделял следующие
уровни: установочные утверждения, утверждения внимания, связующие утверж¬
дения (reductive statements), ситуативные утверждения, интерпретации переноса
и этиологические утверждения. Установочные утверждения помогают определить
терапевтическую ситуацию; то есть с их помощью происходит структурирование
терапевтического взаимодействия. Среди таких утверждений — рассказ ребенку
о правилах, действующих в игровой комнате, о целях сессий и о продолжительно¬
сти встреч. Утверждения внимания (attention statements) — это попытки терапев¬
та перевести в слова действия, чувства и мысли ребенка. Эти утверждения связаны
со вторичным процессом мышления и направлены на консолидацию уже достиг¬
нутого с одновременным раскрытием нового материала. Связующие утверждения
(reductive statements) организуют эмоции или демонстрируемые ребенком модели
поведения, прежде казавшиеся разнородными или дискретными, в некую общую
систему или паттерн. Ситуативные утверждения создают ребенку контекст, в рам¬
ках которого демонстрируются эмоциональные или поведенческие паттерны,
выявленные при помощи связующих утверждений. Интерпретации переноса важ¬
ны для того, чтобы помочь ребенку осознать уникальность его отношений с тера¬
певтом. Также они помогают ему отличать терапевта от прочих людей, активно
взаимодействующих с ним в его повседневной жизни. Более того, посредством
этих интерпретаций поддерживается и используется несовершенное и нестабиль¬
ное развитие ребенком невроза переноса. Этиологические утверждения связыва¬
ют текущие поведение и эмоции ребенка с событиями и реакциями, имевшими
место ранее. «Гленн (Glenn, 1978) классифицировал интерпретации следующим
образом: 1) интерпретации защит; 2) описания конфликта; 3) интерпретация со¬
держания фантазий и производных драйва (мотива — drive); 4) реконструкции;
5) интерпретации переноса; 6) интерпретации замещения (inteipretation of dis¬
placements)» (O’Connor, Lee, & Schaefer, 1983, p. 549).
Предлагаемая в данной книге модель уровней интерпретации объединяет толь¬
ко что описанные модели и модель автора, использованную им для подготовки и
супервизии студентов-докторантов, специализирующихся в клинической психо¬
логии. Эта модель содержит пять уровней, описываемых в том порядке, в котором
их следует предоставлять ребенку.
302 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Отражение (reflection). Первый уровень интерпретации лучше всего назвать от¬
ражением. Это не совсем то же самое, что отражение, о котором говорят клиент-
центрированные детские терапевты; отражения — это ваши утверждения, при¬
званные поддержать или мотивировать ребенка или дать имя произведенному
ребенком материалу. Шёрк и Рассел (Shirk & Russel, 1996) называют это «субъек¬
тивной разработкой» игры ребенка, в ходе которой терапевт добавляет психо¬
логическое или мотивационное содержание к точно описанным событиям, пред¬
ставленным детьми. Далее они утверждают, что, хотя этот процесс недостаточно
изучен, он может быть мощным элементом игровой терапии. Предоставляя отра¬
жение ребенку, через всю комнату бросающемуся кубиками в куклу, вы можете
сказать: «Глядя на то, как ты швыряешь кубики, я прихожу к выводу, что ты очень-
очень сильно злишься». Или так: «Должно быть, эта кукла очень боится, что эти
кубики могут поранить ее». Если швыряние кубиками началось как раз в тот мо¬
мент, когда ребенок вот-вот собирался обсудить болезненное событие, вы можете
отразить: «Я думаю, что бросание кубиками — это почти нарушение правила о том,
что нельзя разрушать игровую комнату, поэтому я уделю внимание тому, что ты
делаешь, и забуду о том, что ты собирался сказать». Когда ребенок строит башню
из кубиков, вы можете отметить очевидную гордость ребенка за свое произведе¬
ние или его страхи относительно того, что, делая башню выше, повышается риск
ее полного разрушения. Если после завершения строительства ребенок преднаме¬
ренно рушит башню, вы можете отметить его недовольство своим произведением
или его облегчение оттого, что он контролировал момент разрушения.
Отражения применяются для достижения множества целей. Во-первых, они
помогают детямчназывать их внутренний опыт (experience), расширяя в то же вре¬
мя количество слов, описывающих их эмоциональное состояние. Это важно по¬
тому, что и в данный момент, и в будущем опыт перерабатывается гораздо лучше,
если сопряжен с языком. Кроме того, дети часто обладают очень ограниченным
аффективным словарем, включающим лишь счастье, гнев и печаль {happy, mad,
sad). Без расширения этого словаря ребенку трудно оценить некоторые тонкости
процесса интерпретации. И в-третьих, отражения предупреждают ребенка о важ¬
ности его эмоций в терапевтическом процессе. Другими словами, они помогают
ребенку открыть существование аффекта и подкрепляют его внимание к нему.
Наконец, отражения дают вам возможность подтвердить ваши восприятия аффек¬
та ребенка.
Действующий паттерн {present pattern). Второй уровень интерпретации, интер¬
претация действующего паттерна, требует от вас определения и наименования
паттернов, обнаруженных в материале ребенка в ходе сессий. Поначалу интерпре¬
тируются только те паттерны, которые наблюдались в материале ребенка в ходе
одной сессии, чтобы гарантировать, что ребенок обладает информацией, необхо¬
димой для того, чтобы оценить интерпретацию некоторого паттерна. Вы можете
указать на то, что ребенок пришел на сессию, нарисовал картинку и разорвал ее,
построил башню из кубиков и разрушил ее, а затем слепил снеговика из глины
лишь затем, чтобы расплющить его. Вместе с повторением последовательности
поведения ребенка вы можете отметить, что в каждом случае перед деструкцией
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 303
следовало выполнение работы. Позже вы можете предлагать интерпретацию пат¬
тернов поведения, демонстрируемых в ходе нескольких сессий. Выявление этих
паттернов помогает ребенку увидеть, что его поведение не случайно, а представ¬
ляет собой последовательную и повторяющуюся со временем структуру. И снова
эти утверждения позволяют ребенку стать участником терапевтического процес¬
са, повышая его чувствительность к относительно конкретным примерам повто¬
ряющихся видов поведения и к их смыслу.
Если вы не привыкли размышлять в терминах повторения тем или моделей
поведения в ходе детской игровой сессии, их выявление может создать некоторые
трудности. Одной из стратегий развития осознания повторяющейся природы дет¬
ской сессии является аудио- или видеозапись сессии и ее последующая проработ¬
ка, сопровождающаяся записью на бумаге тех видов поведения, которые демонст¬
рировали вы и ребенок. Записи должны быть короткими, по одной строчке на
каждый новый тип поведения. Часто эта процедура помогает идентифицировать
паттерн и выстроить некоторые гипотезы относительно динамики поведения ре¬
бенка.
Джон пришел на группу супервизии, очень обеспокоенный тем, как проходили послед¬
ние несколько сессий с его клиенткой Тиной. Он сказал, что все, что она делала, было
игрой, организованной, казалось, совершенно случайно. Группа согласилась помочь
Джону расшифровать видеозапись последней сессии Тины, чтобы посмотреть, можно
ли выявить в ней некий паттерн. После просмотра первых 25 минут видеозаписи сес¬
сии была получена следующая транскрипция.
Тина спросила Джона, может ли она сегодня сделать нечто, что прежде ей запрещалось.
Джон отказал ей в этой просьбе.
Тина построила крепость из предметов мебели, не пустив Джона внутрь, и затем стала
делать вид, что вызывает службу спасения «911», говоря, что к ней приближаются пло¬
хие парни.
Когда Тина услышала, что плохие парни подходят еще ближе, она пригласила Джона
войти в крепость, а затем продолжала набирать номер службы спасения, чтобы вызвать
помощь.
Тина совершила еще несколько непродолжительных действий, а затем спросила Джо¬
на, можно ли ей сделать еще кое-что, что он ей прежде запрещал.
Джон отказал ей в этой просьбе.
Тина вернулась в свою крепость и набрала «911».
Тина сделала вид, что приближаются плохие парни, пригласила Джона войти в кре¬
пость и затем набрала «911».
После этого Тина продемонстрировала еще несколько новых моделей поведения, а по¬
том спросила Джона, можно ли ей совершить еще один неподобающий поступок.
В этот момент паттерн был очевидным. Тина использовала набирание «911» как спо¬
соб: 1) символического удовлетворения своих потребностей и 2) защиты себя от пло¬
хих парней. Это сочетается с историей Тины. Она поступила на терапию, когда обна¬
ружилось, что ее отец, — первый, кто заботился о ней (primary caretaker), сексуально
домогался ребенка в течение последних двух лет. В группе реабилитации для детей,
переживших сексуальное насилие, Тину научили набирать «911» в случае, если ей ко¬
гда-нибудь понадобится помощь. Теперь она использовала «911» как некий магический
304 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
символ, изображая, что отвечающий на звонок ни в чем не может ей отказать и защи¬
тит ее от любого вреда. Тина могла включать терапевта в свою фантазию только если
чувствовала угрозу со стороны внешних сил. На следующую сессию Джон отправился,
вооруженный полным комплектом потенциальных интерпретаций.
Простая динамика (simple dynamic). На третьем уровне — уровне интерпретации
простой динамики — вы продолжаете указывать ребенку на связи между его аф¬
фектом или мотивацией (в том виде, как они были названы в ранее осуществляв¬
шихся отражениях) и паттернами поведения (в том виде, как они были названы в
ходе ранее сделанных интерпретаций паттерна). И опять, как и в случае с ранни¬
ми интерпретациями паттерна, вам следует ограничить вашу первую интерпрета¬
цию простой динамики рамками отдельной сессии. Например, в случае с описан¬
ным ранее ребенком вы могли бы отметить: «Я заметил, что каждый раз, когда ты
что-нибудь делаешь — рисуешь, строишь башню или лепишь снеговика, ты сна¬
чала очень гордишься тем, что делаешь, а затем начинаешь беспокоиться, что это
может оказаться недостаточно хорошим. И затем, прежде чем закончить работу,
ты разрушаешь ее, чтобы никогда не узнать, окажется ли она плохой или хо¬
рошей». Вы просто переводите на язык ребенка вашу формулировку о том, что
запланированная неудача вызывает у него гораздо меньшую тревогу, чем случай¬
ный, непредвиденный провал. Как только ребенок привыкнет к вашим интерпре¬
тациям простой динамики его поведения, происходящего в ходе одной вашей
встречи, вы продолжаете интерпретировать простую динамику поведения, проис¬
ходящего от сессии к сессии. В этот момент вы двигаетесь к более традиционным
типам интерпретации, помогая ребенку понять динамику его поведения в недав¬
нем прошлом. Через интерпретацию простой динамики вы поощряете ребенка
видеть длительный характер аффектов и смыслов, проходящих через его способы
поведения. Дети становятся более чувствительными к внутренним чувствам, про¬
цессам и мотивациям, руководящим их поведением. Поскольку интерпретации
простой динамики строятся на основании двух предыдущих уровней интерпрета¬
ции, каждый из которых ребенок принял независимо, он с меньшей вероятностью
будет сопротивляться принятию их взаимодействия.
Генерализованная динамика (generalized dynamic). Интерпретации четвертого
уровня, или интерпретации генерализованной динамики, идентифицируют для
ребенка деятельность его личной динамики в поведении как на сессии, так и за ее
пределами. И опять же, как и в случаях с интерпретациями паттерна и простой
динамики, интерпретации генерализованной динамики строятся на основе утвер¬
ждений, сделанных вами ранее. Для иллюстрации процесса, посредством которо¬
го вы можете прийти к интерпретации генерализованной динамики, давайте рас¬
смотрим пример семилетнего мальчика Кларка.
Последние шесть сессий Кларк начинал с обращения к терапевту с просьбой, которая,
как он знал, противоречила правилам игровой комнаты. Каждый раз после отказа те¬
рапевта ребенок замолкал и сохранял молчание в течение 10-15 минут. Содержание
материала, раскрываемого Кларком на этих сессиях, было особенно болезненным. Те¬
рапевт последовательно делал отражения относительно желания Кларка получить от
терапевта специфические преимущества, его гнева на то, что он не получает такого
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 305
внимания, и его очевидного стремления избежать производства болезненного матери¬
ала, сохраняя молчание. К третьей сессии терапевт почувствовал, что может сделать ин¬
терпретацию паттерна посредством замечания о том, что последние три сессии начи¬
нались очень похоже. Вместо этого терапевт перешел к интерпретации простой
динамики, связывавшей тревогу Кларка относительно обсуждаемого материала и его
склонность вступать в спор с терапевтом, чтобы избежать этих обсуждений.
Вскоре после этого Кларк начал описывать большой спор со своей матерью, произо¬
шедший перед походом к дантисту. Этот спор начался, когда Кларк попросил, чтобы
ему позволили доехать до стоматологического кабинета по шоссе на велосипеде. Ин¬
терпретация генерализованной динамики, которую после этого сделал терапевт, ука¬
зывала на сходство поведения Кларка на сессиях и вне их. «Ты знаешь, мы заметили,
что, когда на наших встречах вот-вот собирается произойти что-то, что тебе не нравится,
ты просишь о чем-то, что, как тебе точно известно, нельзя получить. Я отказываю тебе,
и ты используешь мой отказ как оправдание своего гнева и повод не говорить о том,
что тебе не нравится на самом деле. Исходя из твоего рассказа, ты также поступаешь и
дома. Ты не хотел идти к зубному врачу, но, вместо того чтобы рассказать об этом маме,
попросил разрешения поехать туда на велосипеде. Она отказала, и ты так рассердился,
что вы с мамой затеяли борьбу, которая привела к тому, что ты опоздал к дантисту».
Такой тип интерпретации генерализованной динамики поощряет ребенка на¬
чинать применять процесс терапии за пределами сессий. Более того, эти интер¬
претации дают ребенку возможность осознать, что для интерпретации открыт не
только материал, непосредственно производимый им в течение сессии, но и мате¬
риал, связанный с любым аспектом его жизни. И в конце концов, хотя терапевты
обычно не любят этим заниматься, интерпретации генерализованной динамики
способствуют перенесению инсайтов и поведенческих изменений, достигаемых
ребенком на сессиях, в его жизнь вне игровой комнаты.
Генетическая интерпретация. Наконец и вы и ребенок готовы к тому, что многие
авторы считают единственным видом интерпретации: к генетической интерпре¬
тации. На этом уровне вы проводите связь между непосредственным поведением
ребенка и его историей. Для Кларка из предыдущего примера терапевт предложил
генетическую интерпретацию, определяющую, что история его изоляции от ма¬
тери стала источником его страха прямо высказывать свои просьбы, чтобы выхо¬
дить из неприятных ситуаций. Мать Кларка обладала таким выраженным нарцис-
сическим радикалом, что была неспособна поддерживать ребенка в случаях, когда
он испытывал страхи и беспокойство. Однако она могла включаться в ситуацию,
если Кларк вел себя неподобающим образом. Со временем ребенок начал вступать
с ней в конфликт в попытке избежать пугающих ситуаций, вместо того чтобы об¬
ращаться к ней с прямыми просьбами о помощи.
Регулирование воздействия интерпретаций
Помимо соблюдения последовательности уровней предоставляемых интерпрета¬
ций, вы должны учитывать, какое потенциальное воздействие может оказать на
ребенка конкретная интерпретация. Прямая и специфическая интерпретация
игры ребенка небезопасна, потому что часто приводит к ограничению игрового по¬
ведения ребенка (O’Connor, Lee, & Schaefer, 1983). Более того, воздействие интер¬
претации должно дозироваться каждый раз, когда ребенок, по данным диагностики,
306 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
обладает ограниченной силой эго. Эти ограничения могут накладываться либо
психопатологией, либо возрастом ребенка. В общем, считается, что подростки
нуждаются в модифицированной интерпретации в силу хрупкости их эго, возни¬
кающей в результате попыток осуществить процесс сепарации/индивидуации от
родителей. Если вам необходимо сделать некоторую интерпретацию, но вы види¬
те, что ребенок не сможет воспринять ее, если высказать ее прямо, вы можете уме¬
рить ее воздействие, предложив интерпретацию в игровой форме, в контексте ва¬
ших отношений или в формате «как если бы», прежде чем предоставлять ребенку
прямую интерпретацию.
Интерпретации в контексте игры. Интерпретации, предлагаемые в ситуации игры
ребенка, часто могут содержать достаточно мощный материал, не нарушая при
этом его деятельность. Чтобы сделать их, вы просто приводите интерпретацию в
соответствие с неким героем изобразительной игры ребенка и затем сообщаете
свою интерпретацию этому герою, а не прямо ребенку. Предположим, что ребе¬
нок, направленный на терапию из-за тревоги, испытываемой им в связи с отделе¬
нием, играет с куклой и разыгрывает сцену ухода в школу. Вы можете воспользо¬
ваться этой возможностью, чтобы отразить тревогу куклы из-за необходимости
уйти, ее страх по поводу того, что может что-нибудь случиться с матерью, пока ее
не будет, или желание, чтобы кто-то из взрослых пожалел ее и позволил ей остать¬
ся дома и не ходить в школу. Подобные интерпретации можно предоставлять и
еще в менее очевидной форме. Предположим, что ребенок разыгрывает сцену, в
которой некииивзрослый собирается куда-то пойти. Вы можете использовать эту
ситуацию, чтобы отразить, что кукла, изображающая взрослого человека, видимо,
совсем не нервничает и не беспокоится о том, что произойдет с остальными чле¬
нами ее семьи. Вы даже можете использовать эту возможность, чтобы ввести не¬
которые стратегии разрешения проблем, которые может использовать ребенок.
«Ты знаешь, что взрослый не нервничает, возможно, потому, что знает, что когда
он придет в гости к своему другу, он может позвонить домой и проверить, как там
идут дела».
Интерпретации «как если бы» (<ms if» interpretations). Это интерпретации, пре¬
доставляемые ребенку как субъекту, обладающему общим опытом всех детей. Вы
можете сказать: «Ты знаешь, другие мальчики твоего возраста очень злятся, когда
их ругают перед всем классом». Таким образом вы позволяете ребенку дистанци¬
роваться от содержания и в то же время сообщаете ему ощущение того, что его
опыт, возможно, не уникален и поэтому нет повода для такой уж сильной тревоги.
Интерпретации в контексте отношений. Еще одна стратегия ограничения воздей¬
ствия интерпретаций — интерпретация только в контексте отношений «клиент-
терапевт». Эта техника может быть особенно полезной, когда вы пытаетесь уста¬
новить рабочие отношения с ребенком, или при работе с детьми, проявляющими
самое сильное сопротивление.
Лайза, девочка-подросток, проходила коррекционную терапию у молодого терапевта,
Пэм. Каждую неделю Лайза, добиравшаяся до клиники на общественном транспорте,
опаздывала на сессию. Каждый раз она пускалась в длительные объяснения причин
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 307
своего опоздания: работодатель заставил работать сверхурочно, автобус опоздал, не
хватило мелочи на билет. Эти дискуссии могли служить отправной точкой вовлечения
Пэм в обычную болтовню. Лайза хотела знать, где она одевается и у кого делает при¬
ческу. Лайза хотела знать, где Пэм жила, прежде чем переехала в Калифорнию, и что
она думает об этом месте. Она могла растягивать эту беседу более чем на половину
оставшегося времени.
Через несколько подобных сессий Пэм начала интерпретировать не содержание во¬
просов Лайзы, а мотивацию, побуждающую ее задавать их. Лайза начала оправдывать
опоздание, а Пэм сказала: «Сейчас я, видимо, должна вести себя, как твоя мама, и ска¬
зать тебе, что ты должна исправиться. Затем мы начнем спорить, виновата ли ты в сво¬
ем опоздании, и убьем еще немного времени». Лайза заявила, что ей нравится, как Пэм
сегодня одета, а та ответила: «Сейчас я, видимо, должна вести себя, как одна из твоих
школьных подружек, и пуститься в обсуждение моды, чтобы убить еще немного време¬
ни». Это продолжалось около пятнадцати минут, пока Лайза не сказала: «Прекрасно,
а еще мы можем поговорить о том, что произошло на этой неделе дома». Хотя ее сопро¬
тивление время от времени продолжало проявляться, этот тип интерпретации всегда
помогал раскрыть ее мотивы и включить ее в терапевтический процесс.
Прямые интерпретации. Когда ребенок полностью готов к интерпретациям, вы
можете начинать непосредственно предоставлять их ему стандартным способом.
Считается, что ребенок готов к интерпретациям, когда услышал все компоненты
интерпретации по отдельности, и теперь достаточно спокоен и сконцентрирован,
чтобы услышать, что вы собираетесь сказать. Не предлагайте ребенку прямых
импровизированных бесцеремонных интерпретаций; они должны отражать серь¬
езность проделываемой работы. И все же они не должны быть тяжеловесными и
нудными. Они могут просто идентифицировать эмоцию или мотивацию, руково¬
дящие поведением ребенка, и, повторившись несколько раз в различных ситуаци¬
ях, превратиться в шутку, понятную только вам и ребенку. Сигнал того, что ребе¬
нок действительно усвоил эту работу, появляется, когда он начинает делать или
говорить что-то, а затем улыбается, поворачивается к вам и говорит: «Я знаю, знаю,
это как если бы я...».
Но терапевтическая эффективность интерпретации зависит не только от пра¬
вильного выбора ее типа, но и от режима ее предъявления. Если вы внезапно при¬
думаете отличную генетическую интерпретацию или интерпретацию генерализо¬
ванной динамики и предоставите ее ребенку без должной подготовки, есть шанс,
что он не только отвергнет ее, но и будет некоторое время после этого сопротив¬
ляться дальнейшему включению в процесс терапии. Если что-то кажется вам по¬
трясающим инсайтом, это еще не означает, что ребенок согласится с этим или го¬
тов это услышать.
Поэтому важно, чтобы в ходе терапии вы предлагали множество отражений и
давали множество интерпретаций паттернов. Интерпретации простой и генерали¬
зованной динамики следует предоставлять реже, а генетические интерпретации —
еще реже. Никогда не делайте интерпретаций простой или генерализованной ди¬
намики и генетических интерпретаций, если до конца вашей встречи остается
меньше десяти минут. Такой запас гарантирует, что у вас будет время проработать
реакцию ребенка на вашу интерпретацию, прежде чем он уйдет с сессии.
308 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Интерпретации простой динамики могут предлагаться ребенку на ранних ста¬
диях его лечения, но интерпретации генерализованной динамики, и особенно ге¬
нетические интерпретации, необходимо отложить до тех пор, пока ребенок не
вступит в рабочие отношения с вами и не привыкнет к терапевтическому процес¬
су. Обычно этого не происходит до тех пор, пока не разрешается хотя бы частично
фаза негативной реакции. Единственное исключение имеет место при лечении
детей, переживших сильную травму. Часто наилучшим вариантом будет, если еще
на ранней стадии лечебного процесса вы сделаете некоторое утверждение, в мяг¬
кой форме признающее факт существования этой травмы.
Джим привел шестилетнего клиента Марка в игровую комнату на первую сессию.
Джим не проводил Марка через этап вхождения, но знал, что тот подвергался особен¬
но садистическому сексуальному насилию со стороны дяди, что дошло до суда. Также
он заметил, насколько сильно Марк тревожился, входя в игровую комнату. Когда они
сели за стол, Марк спросил, может ли он порисовать, и Джим охотно согласился на это.
Марк нарисовал чрезвычайно наглядную картину одного из случаев пережитого им
сексуального насилия и назвал насильника дядей, который скоро окажется в тюрьме.
Прежде чем Джим смог ответить, Марк отложил рисунок в сторону и спросил, могут
ли они с Джимом поиграть в шашки. Несмотря на то что Джим был ошеломлен внезап¬
ным самораскрытием Марка, он справился с удивлением и смог сказать: «Мы можем
поиграть в шашки, но перед этим я хотел бы сказать, что я знаю о том, что ты предпола¬
гал, что я буду задавать тебе вопросы о пережитом тобой насилии, и надеялся, нарисо¬
вав картину, покончить с этим. Я знаю, что об этом трудно говорить, и сегодня ты уже
сделал больше, чем я мог от тебя ожидать. Я уже много знаю о перенесенном тобой
насилии, поэтому, прежде чем мы будем как-либо обращаться к этой теме, давай потра¬
тим несколько сессий на то, чтобы просто помочь тебе освоиться в игровой комнате,
привыкнуть ко мне и почувствовать себя в безопасности».
Теперь, когда вы имеете некоторое представление о типах корректирующих
переживаний (corrective experiences), которые будете пытаться создавать для ре¬
бенка, и о типах когнитивной и вербальной работы, которую вам предстоит выпол¬
нять, мы можем перейти к изучению способов, посредством которых можно так
организовать оба эти компонента, чтобы на всем протяжении лечения они удо¬
влетворяли потребностям детей, находящихся на различных уровнях развития.
Переоценка
Шёрк (Shirk, 1998) дал определение процессу переоценки, лежащему между про¬
цессами интерпретации и разрешения проблем в том виде, как они определяются
в экосистемной игровой терапии. Он говорит: «Решающая терапевтическая зада¬
ча, по-видимому, состоит в определении и переоценке неадаптивной межличност¬
ной схемы в контексте поддерживающих терапевтических отношений. Переоценка
может принимать разнообразные формы, среди которых можно упомянуть следу¬
ющие.
1. Помощь ребенку в определении ситуаций, которые быстро выявляют спе¬
цифические ожидания.
2. Создание новой связи ожиданий с контекстом отношений, в которых они
сформировались.
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 309
3. Дифференциация оригинального контекста, в котором формировались ожи¬
дания, от новых ситуаций.
4. Определение эмоций, запускаемых в действие ожиданиями.
5. Проведение проверок ожиданий в новых ситуациях, с тщательным учетом
как подтверждающих, так и опровергающих их данных» (р. 13).
Говоря на языке экосистемной игровой терапии, неадаптивная межличностная
схема — это фиксированные способы осмысления межличностных взаимодей¬
ствий, которые не эффективны для успешного или адекватного удовлетворения
потребностей ребенка. То есть ребенок привыкает в некоторых ситуациях реаги¬
ровать неадекватными способами, поскольку прошлые события заставляют его
воспринимать такие ситуации очень односторонне, фиксированно и негибко. В ка¬
честве простого примера такого случая можно привести ребенка, ожидающего, что
все взрослые будут жестокими (abusive) к нему, потому что с ним жестоко обра¬
щалась мать. Эта неадаптивная схема имеет позитивный эффект в том, что при
вступлении в любые взаимодействия ребенок всегда оказывается готовым к худ¬
шему, но у нее есть и негативная сторона — она может вызывать такую тревогу
ребенка относительно взрослых, что он начинает отреагировать, вызывая тем са¬
мым их гнев; неадаптивная межличностная схема превращается, таким образом,
в самоисполняющееся пророчество.
В ходе процесса переоценки при работе с таким ребенком терапевт должен
помочь ему осознать, что тот действительно ожидает насилия от всех новых взрос¬
лых. Затем терапевт должен продемонстрировать ребенку, что эти ожидания сфор¬
мировались не в текущей ситуации, а в условиях длительных отношений с роди¬
телем или другим человеком, применявшим насилие. После этого ребенка можно
направить на поиск отличий взрослых, с которыми он общается сейчас, от того,
кто жестоко с ним обращался. Далее терапевт может обратить внимание ребенка
на его тревогу, появляющуюся в результате ожиданий насилия {abuse). И в послед¬
нюю очередь терапевт может провести ребенка через различные взаимодействия,
помогающие отличать взрослых, склонных к насилию и жестокости, от других.
Когда ребенок замечает, что успешно с этим справляется, вместо того чтобы при¬
менять общую схему, это снижает его тревожность. Как вы увидите в следующем
разделе, процесс переоценки очень похож на более общий процесс разрешения
проблем в рамках экосистемной игровой терапии.
Разрешение проблем
Все, что до сих пор обсуждалось в этой главе, приводило к осуществлению в ходе
игровой терапии процесса разрешения проблемы (problem solving). В рамках эко¬
системной игровой терапии именно эффективное использование метода разреше¬
ния проблем кристаллизует корректирующие события, которые игровой терапевт
смог создать для ребенка в практической или вербальной форме. Кроме того,
именно процесс разрешения проблем позволяет ребенку перенести то, чему он
научился в ходе игровой терапии, в повседневную жизнь. Это не означает, что вся
игровая терапия должна сопровождаться механическим воплощением когнитив¬
ной стратегии разрешения проблем. Большая часть этого процесса может никогда
310 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
не стать очевидной для ребенка, и все же игровая терапия при этом будет в выс¬
шей степени эффективной. Здесь важно следующее: идеи разрешения проблем
организуют то, что терапевт делает на сессии.
В ходе экосистемной игровой терапии терапевт проводит ребенка через после¬
довательный процесс. Во-первых, терапевт выстраивает поддерживающие по сво¬
ей природе отношения с ребенком, создавая, таким образом, рабочий альянс. И те¬
рапевт и ребенок осознают проблемы, с которыми необходимо справиться в ходе
терапии. Во-вторых, терапевт способствует инициированию и течению игры ре¬
бенка как способа укрепления этих отношений, — начального и очень важного
канала символического общения. Постепенно терапевт совершает третий шаг, ко¬
гда через использование интерпретаций он приписывает смысл и значение игре
ребенка. Этот шаг должен осуществляться медленно, чтобы ребенок не был вы¬
бит происходящим из колеи и чтобы не нарушалась его способность играть на сес¬
сиях. Третий шаг направлен на разработку детального описания природы и ди¬
намики проблем ребенка, на решение которых соглашаются клиент и терапевт.
По мере того как ребенок приходит к такому пониманию, устанавливается арена
для совершения пятого шага: разрешения проблемы. Именно процесс разрешения
проблем позволяет ребенку выстраивать новые, непохожие на прежние способы
эффективного и адекватного удовлетворения своих потребностей. В качестве од¬
ной из частей процесса разрешения проблем терапевт поощряет ребенка крити¬
чески оценивать эти новые решения и модели поведения и использовать их как
на сессии, та^ и в жизни. Составной частью процесса разрешения проблемы явля¬
ется обратная связь, предоставляемая относительно всех успехов и неудач, с кото¬
рыми сталкивается ребенок в применении вновь приобретенных навыков, благода¬
ря чему поведение ребенка совершенствуется и оттачивается. По мере перенесения
ребенком его способности успешно и адекватно удовлетворять свои потребности
во внешний мир, терапия близится к завершению. Весь этот терапевтический про¬
цесс можно либо сфокусировать на узких проблемах и пользоваться им только на
нескольких сессиях, либо обратить его на более комплексные хронические про¬
блемы, требующие многомесячного лечения. В любом случае процесс разрешения
проблемы остается относительно неизменным.
Как описывалось в главе 7, можно считать, что часть терапии, посвященная раз¬
решению проблемы, проходит в четыре этапа. Первый шаг — определение и опе¬
рациональное описание проблемы. Второй шаг — мозговой штурм, направленный
на поиск решений данной проблемы. Третий шаг — оценка этих решений и выбор
одного или нескольких из них, которым ребенок будет следовать. Четвертый и
последний шаг — оценка эффективности действий ребенка и выяснение того, ра¬
ботает ли предложенное решение и нужно ли провести дополнительный процесс
разрешения проблемы, чтобы гарантировать, что потребности ребенка удовлетво¬
ряются оптимально и наиболее адекватным образом. Как мы увидим далее в гла¬
ве 15, для того чтобы помочь детям легче ориентироваться в процессе разрешения
проблем, эти шаги можно обозначить ключевыми словами: Проблема, План, Дей¬
ствие, Ответ (обратная связь).
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 311
Проблема
При определении проблемы, которую предстоит разрешить, необходимо, чтобы
она формулировалась как проблема, стоящая непосредственно перед данным ре¬
бенком. Поэтому «Я бью сестру» обычно не становится проблемой для большин¬
ства детей, тогда как «Меня наказывают за то, что я бью сестру» — реальная про¬
блема для ребенка. Если в вашей формулировке проблема не затрагивает самого
ребенка, не терзает его, то, если принять во внимание его естественный эгоцент¬
ризм, у него будет минимальная мотивация для ее разрешения. Многим детям
бывает очень сложно освоиться на этой стадии процесса. Они настолько привык¬
ли к тому, что им постоянно говорят, будто их поведение проблематично для дру¬
гих людей, что они перестали чувствовать, что именно терзает их самих. Поскольку
цель экосистемной игровой терапии состоит в том, чтобы позволить детям эффек¬
тивно и адекватно удовлетворять свои потребности, полезно, чтобы некоторые,
а лучше — большинство проблем, формулировались в терминах некоторой не¬
удовлетворенной потребности. Так, в случае с ребенком, бьющим сестру, может
обнаружиться, например, такой факт: младшая сестра без спроса берет его игруш¬
ки и ломает их. Тогда формулировка может быть следующей: «Мне необходимо
научиться сохранять свои игрушки в безопасности» или «Мне необходимо, что¬
бы мои родители проявляли уважение ко мне, защищая от моей маленькой сест¬
ры мои игрушки». Последние две конструкции представляют собой гораздо бо¬
лее тонкие проблемы, и к ним трудно прийти без некоторой работы и вашего
наставничества по отношению к ребенку.
План
Возможно, данная часть процесса разрешения проблем наиболее важна, чтобы
помочь ребенку в разрушении установки, сложившейся под действием прошлых
патогенных приспособлений, и в разработке новых мыслей и моделей поведения.
Существенно необходимой на данном этапе будет креативность, поэтому количе¬
ство цензуры должно быть сведено к минимуму. На этой стадии принимаются все
идеи по разрешению проблемы, независимо от того, насколько они нереалистич¬
ны или неадекватны. Многие дети сразу же начинают генерировать идеи, которые
так любят слышать взрослые, например: «Мне следует просто не обращать на нее
внимания». Вам нужно активно не одобрять такие мысли, так как они редко бы¬
вают реалистичными (многие ли взрослые могут просто игнорировать того, кто
их беспокоит?) и редко помогают разрешить актуальную проблему ребенка (ред¬
ко удовлетворяют его потребности). Если есть такая необходимость, терапевт
может взять на себя руководство производством некоторых «дурацких» решений.
Действие
В течение этой стадии процесса ребенок выбирает из только что созданного им
списка план, который будет реализовывать. При совершении выбора эти планы
оцениваются с использованием трех критериев. 1. Возможно ли осуществление
этого плана? Похищение сестры марсианами может казаться привлекательным
312 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
вариантом, но маловероятно, что это произойдет. 2. Удовлетворит ли данный план
лежащую в основе проблемы потребность? Может оказаться, что судить об этом
сложно, но это центральная причина, из-за которой мы вступили в этот процесс.
3. Адекватен ли данный план? Не помешает ли он удовлетворению чьих-либо по¬
требностей? План похищения сестры инопланетянами не только нереалистичен,
но он еще и подразумевает причинение боли сестре и родителям и поэтому не
является адекватным. Выбрав план, удовлетворяющий всем трем критериям, ре¬
бенок должен согласиться на его осуществление в тот момент, когда в следующий
раз столкнется с данной проблемой. Сейчас самое время для ролевой игры, чтобы
ребенок попробовал использовать новый план в безопасной обстановке игровой
комнаты.
Ответ
Когда ребенок получил возможность применить свой план в жизни, терапевт
вместе с ребенком отвечает на вопрос: как работал этот план? Здесь вновь необхо¬
димо прибегнуть к помощи трех критериев, использовавшихся на стадии дей¬
ствия. После оценки результата реализации выбранного решения может оказать¬
ся, что план работает хорошо и им следует пользоваться в будущем. Оценка может
показать, что план работает, но результат был не настолько хорош, как хотелось,
и поэтому нужно несколько модифицировать его. Кроме того, предпринятые дей¬
ствия могли окончиться неудачей, и в этом случае требуется вернуться к преды¬
дущему списку выработанных в ходе мозгового штурма планов или начать про¬
цесс разрешения проблемы сначала.
При учете всех возможных последствий очевидно, что включение в процесс
разрешения проблемы может быть болезненным и требовать временных затрат,
полностью занимая все время одной или нескольких сессий. Это ставит несколь¬
ко вопросов, на которые необходимо ответить. Как создать у ребенка начальный
интерес к разрешению проблемы? Какой тип проблем подходит для этого процес¬
са? Нужно ли непосредственно учить ребенка применять процесс разрешения
проблем? Какая часть ответственности за выполнение процесса ложится на тера¬
певта? Сколько времени должен занимать процесс?
Чтобы заинтересовать ребенка, идентифицированные проблемы должны быть
важными для него. Но обычно лучше не начинать с неудовлетворенных потреб¬
ностей, лежащих в основе главной проблемы, приведшей ребенка на терапию.
Если пойти по этому пути, это, возможно, ошеломит ребенка, потому что он еще
не обладает навыками, необходимыми для решения этой задачи, и может даже не
уметь или не хотеть определять проблему. Вместо этого терапевту следует начи¬
нать процесс разрешения проблем с небольших проблем, возникающих на сессии.
Практически любое действие, требующее принятия решения, можно оформлять
как проблему, давая тем самым ребенку множественные и простые возможности
развить у себя навыки разрешения проблем. Прекрасные примеры таких возмож¬
ностей — дилеммы, такие как попытки решить, что необходимо сделать в первую
очередь или кому первому начинать игру. Каждый раз, когда ребенок проигрыва¬
ет или описывает некоторое событие, которое имело плачевный результат, это
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 313
является потенциальной возможностью для тренировки навыков разрешения
проблем.
Можно прямо обучать ребенка этому процессу либо моделировать (показывать
на личном примере) его использование или совмещать эти два варианта. Неза¬
висимо от того, обучаете ли вы ребенка прямо, обычно именно моделирование яв¬
ляется наиболее значимым при научении использованию стратегии разрешения
проблем. Лучше всего начинать моделирование этого процесса, обращаясь к не¬
большим проблемам, возникающим на сессиях. Как только ребенок начинает сам,
без вашего побуждения, применять этот процесс, его очень просто научить шагам
процесса; обычно это можно сделать в нескольких предложениях. После этого
стратегию можно применять к разрешению все более крупных и значимых про¬
блем.
Степень ответственности за выполнение процесса разрешения проблемы, ко¬
торая ложится на терапевта, зависит от нескольких факторов. Первый из них —
это стадия лечения. На ранних этапах терапии вам нужно обеспечивать быстрое и
сравнительно безболезненное течение процесса. Подобным же образом чем млад¬
ше ребенок, тем больше ответственности лежит на вас. Наконец, чем более эмо¬
ционально нагружен материал, тем больше терапевту придется руководить про¬
цессом, чтобы ребенок не был ошеломлен и подавлен.
Длительность процесса разрешения проблемы должна быть пропорциональна
важности проблемы, и кроме того, при ее расчете необходимо помнить о величи¬
не периода произвольного внимания ребенка. На ранних шагах терапевтического
процесса и при работе с маленькими детьми весь процесс может моделироваться
терапевтом всего лишь в нескольких фразах.
Карен чувствовала непреодолимую потребность угождать взрослым. Она была такой
внимательной и заботливой, что, казалось, никогда не хотела ничего для себя. На пер¬
вой сессии игровой терапии ей была предоставлена полная свобода действий, и она прак¬
тически застыла, ожидая какого-либо знака терапевта относительно действий, которых
он от нее ждет. После многочисленных отражений терапевт интерпретировал поведе¬
ние Карен как страх вызвать недовольство терапевта и немедленно перешел к иден¬
тификации проблемы, сказав: «Ты так беспокоишься о том, какие твои действия я хочу
увидеть, что даже не можешь решить, чего хочешь сама. Если ты предпринимаешь что-
нибудь, ты боишься, что можешь огорчить меня, но если я предпринимаю что-то, я бо¬
юсь, что могу огорчить тебя. У нас есть проблема. Мы оба попали в тупик». Сразу же
переходя к процедуре мозгового штурма, направленного на поиск решения, терапевт
сказал: «Один из возможных выходов из этого затруднительного положения может
найтись, если кто-то или что-то еще примет решение за нас. Мы можем предоставить
право решать вот этой кукле. Мы можем написать несколько идей на бумажках, поме¬
стить их в шляпу и вытянуть одно наугад. Мы можем составить список идей, пронуме¬
ровать их по порядку и бросать кости, чтобы посмотреть, какой номер нам выпадет. Как
ты думаешь, что из этого может сработать?»
В ответ Карен пожала плечами. Тогда терапевт сказал: «О нет, я просто попросил тебя
принять другое решение, и ты снова попала в тупик. Ладно. Кажется, тебе не нравится
идея, чтобы за нас выбирала кукла, поэтому давай бросать кубики, чтобы посмотреть,
какому из оставшихся планов мы последуем. Если выпадет четное число, мы положим
идеи в шляпу и вытянем одну из них. Если выпадет нечетное число, мы составим
314 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
нумерованный список и снова будем бросать кости. Ты бросишь одну кость, а я — дру¬
гую». В двух предложениях терапевт дал Карен понять, что то, что ей может не нравить¬
ся идея, предложенная терапевтом, вполне приемлемо, и выбрал план принятия началь¬
ного решения и включил Карен в его реализацию.
Они бросили кости, затем на листах бумаги составили список из нескольких идей от¬
носительно того, во что они могут поиграть, и положили его в кубок, чтобы вытянуть
одну из них. Терапевт держал кубок, но право вытягивать из него бумажку досталось
Карен, которая таким образом опосредованно приняла решение относительно того, чем
будет заниматься. Когда Карен приступила к игре, терапевт сказал: «Этот план хорошо
сработал, и тебе не пришлось беспокоиться о том, понравятся ли мне твои действия,
поэтому ты вышла из тупика и смогла начать игру».
Терапевт отражал начальное замешательство Карен не меньше десяти минут, прежде
чем применил стратегию разрешения проблем, так как он беспокоился о том, что она
может испытать непосильную тревогу уже на первой сессии. Как только он приступил
к разрешению проблемы, прошло всего пять минут, прежде чем Карен приступила
к игре.
При работе с более взрослым ребенком или с ключевой терапевтической про¬
блемой ребенка может потребоваться несколько сессий по разрешению проблемы,
особенно если этот процесс организован достаточно точно.
Роберт попал на терапию после участия в нескольких драках в школе. В течение всего
нескольких сессий он смог признать, что драки были отражениями его гнева на отца,
который не встречался с ним уже шесть недель (родители Роберта были разведены),
хотя встречи были запланированы. В качестве проблемы, над которой он будет рабо¬
тать в ходе терапии, Роберт смог определить неудовлетворенность своей потребности
в контакте с отцом. В ходе мозгового штурма он решил, что хочет встретиться и пого¬
ворить с отцом, но чувствует себя безопаснее, если сделает это по телефону. Тут же Ро¬
берт заметил, что недостаток этого плана — способность его отца так поворачивать дело,
что ему сразу начинает казаться, что он хочет слишком многого. Остаток этой сессии и
всю следующую Роберт и терапевт писали текст для телефонного звонка отцу. Они
выписали все, что скажет Роберт, и возможные ответы, которые может дать отец. Для
каждого потенциального ответа отца были подготовлены дополнительные замечания,
которые мог бы сказать Роберт. Затем они написали заключительное утверждение, в ко¬
тором Роберт говорит отцу, что любит его и что очень грустит и злится, когда у них не
получается встретиться. Это утверждение должно было пойти в ход независимо от того,
что скажет отец.
Перед следующей сессией Роберт решился позвонить отцу. На сессии мальчик сооб¬
щил, что разговор прошел успешно, хотя отец и разозлился, оказавшись пойманным на
слове. При этом Роберт понимал, что успех связан с тщательным планированием звон¬
ка на сессии. Затем в течение нескольких недель отец Роберта не звонил и не появлял¬
ся, и стало казаться, что план не удался. Но потом отец без предупреждения появился
на футбольном матче Роберта, после которого взял сына погулять и поесть морожено¬
го. Хотя проблема пропущенных встреч не была полностью разрешена при помощи
этого вмешательства, оно настолько улучшило способность мальчика прямо выражать
свой гнев на отца, что драки в школе полностью прекратились.
Независимо от происходящего на сессии, главное внимание экосистемной иг¬
ровой терапии сконцентрировано на стратегиях разрешения проблем, позволяю-
Глава 9. Как сделать игротерапевтические сессии терапевтическими 315
щих ребенку более эффективно и адекватно удовлетворять свои потребности. Эта
цель должна постоянно и в любой ситуации оставаться важнейшей для терапевта.
Пока терапевт мыслит таким образом, он может выражать это вслух и моделиро¬
вать этот процесс для ребенка. Если моделирование эффективно, сравнительно
несложно начать включение ребенка в этот процесс. Войдя в него, он приобретает
навыки, необходимые для разрешения собственных проблем, сначала на сессии,
а затем и в реальном мире. С приобретением этих навыков психическое здоровье
ребенка становится самоподдерживающимся, и игровая терапия может близить¬
ся к концу.
Глава 10
Модификации экосистемной игровой
терапии в зависимости от уровня
развития ребенка и фазы лечения
Корректирующие события и интерпретации
на различных уровнях развития
Соотношение корректирующих событий и интерпретаций в игровых сессиях долж¬
но меняться в зависимости от уровня развития ребенка. Чем ниже уровень разви¬
тия, тем больше терапия будет полагаться на корректирующие события. Чем выше
уровень развития, тем в большей степени первичными терапевтическими инстру¬
ментами становятся интерпретации и разрешение проблем.
Первый уровень
Для детей первого уровня практически вся терапевтическая работа будет постро¬
ена на основании корректирующих событий. Двухлетний ребенок не способен к
вербальной переработке ни внутренних, ни межличностных трудностей, с кото¬
рыми сталкивается. Однако он отлично учится на собственном чувственном опы¬
те (experience). При работе с детьми этого уровня развития вы становитесь в значи¬
тельной степени «продолжением» его родителей. Пока ребенок находится в вашем
кабинете, вы, несомненно, выступаете в родительской роли. Терапевтическая стра¬
тегия, применяемая в работе с такими детьми, заключается в создании пережива¬
ний, которые уничтожают опыт, накопленный ребенком до сих пор, тем самым
продуцируя изменения, которые могут переноситься и во внешний мир. Очень
важно, чтобы родитель ребенка максимально активно участвовал в этом процес¬
се, чтобы не вводить ребенка в замешательство относительно природы вашей роли
по сравнению с ролью его родителей.
На сессиях с детьми первого уровня делается очень мало интерпретаций. Это
не означает, что язык или вербальная работа играют незначительную роль в лече¬
нии маленьких детей, просто эти компоненты не доминирующие. На этом уровне
вам следует использовать каждую возможность, чтобы четко назвать объекты, дей¬
ствия и эмоции, создавая, таким образом, языковую базу для ребенка, которая да¬
лее может использоваться при разрешении проблемы. Также это способ, посред¬
ством которого ребенок сравнивает ситуации и свои реакции на них, что является
началом применения метода интерпретации.
Второй уровень
Для детей второго уровня корректирующие события — все еще доминирующий
терапевтический инструмент, но уже добавляются интерпретации. На этом уров-
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 317
не вы можете исполнять роль рассказчика о событиях, происходящих на сессии,
или роль «наблюдающего эго» ребенка. Ребенок все еще не способен отстранить¬
ся и взглянуть на свое поведение со стороны, а тем более проанализировать его,
и поэтому вы должны делать это вместо него. Вы становитесь «внутренним голо¬
сом» ребенка, комментирующим его чувства и мотивы. Кроме того, вы станови¬
тесь голосом эмпатии ребенка, сообщающим ему о реакциях других людей, нахо¬
дящихся в его среде.
Третий уровень
Ребенок третьего уровня развития с большей готовностью перемещается от чув¬
ственного опыта к речи. Терапия становится смесью корректирующих событий и
интерпретаций. В отличие от детей, находящихся на других уровнях функциони¬
рования, дети третьего уровня склонны к большим колебаниям в своей деятель¬
ности. Они все еще мыслят очень конкретно, но уже способны перерабатывать
свой опыт с использованием языка. Иногда ребенок этого уровня продумывает
свои действия, прежде чем осуществлять их, а в другие моменты сначала делает,
а думает потом. Представитель начала третьего уровня все еще поступает и чув¬
ствует как ребенок, и наиболее комфортно ему в игре, особенно со сверстниками.
Ближе к концу третьего уровня ребенок время от времени пытается поступать, как
взрослый, но в других случаях ведет себя совершенно по-детски. Ребенку трудно
совершить целую серию переходов и перемен, и неудивительно, что большинство
детей направляются на терапию именно в этом возрасте.
Четвертый уровень
Игровая терапия с детьми начала четвертого уровня предполагает совладание с
колебаниями в функционировании, наблюдаемыми у детей предыдущего уровня,
но демонстрируемыми еще в более преувеличенной форме. Предподростки не
только подвергаются воздействию смешанных детских и взрослых мотивов, но и
склонны к переходу от конкретного к более абстрактному мышлению. Большую
часть терапевтической сессии они предпочитают работать вербально и могут про¬
держаться большую часть терапевтического часа. Тем не менее почти все время,
когда они говорят, им нужно что-то делать руками. Действия, происходящие на
сессиях, обычно в меньшей степени терапевтические, а в большей степени направ¬
лены на снижение тревожности ребенка, чтобы он мог сосредоточиться на вер¬
бальном терапевтическом процессе.
Корректирующие события и интерпретации
на различных фазах игровой терапии
Практически ни один из компонентов, составляющих каждую игротерапевтиче¬
скую сессию, не остается постоянным в процессе лечения ребенка. Со временем
довольно предсказуемым образом меняется и ваша роль, и поведение ребенка. Ко¬
личество и интенсивность корректирующих событий, создаваемых вами для ре¬
бенка в начале лечения, очень высоки и обычно не уменьшаются до завершения
фазы роста и доверия. Подобным же образом степень вашего контроля будет са¬
мой высокой в начале лечения и самой низкой в его конце.
318 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Поток интерпретаций не подчиняется такой простой линейной зависимости,
как степень вашего контроля над ходом сессий. Помните, что существуют пять
уровней интерпретаций, идущих в иерархической последовательности: отраже¬
ние, действующий паттерн, простая динамика, генерализованная динамика и ге¬
нетическая интерпретация. Эти уровни предлагаются ребенку в порядке умень¬
шения частоты их предъявления в ходе лечения. То есть вы сделаете больше всего
отражений и меньше всего генетических интерпретаций. Количество предъявля¬
емых вами отражений будет максимальным в начале лечения, а затем постепенно
снижаться. Использование каждого из остальных типов интерпретаций будет по¬
вышаться в ходе лечения, пока их частота и интенсивность не достигнут своего
пика по прошествии приблизительно двух третей лечения, после чего они пойдут
на спад.
Игровая терапия проходит через те же шесть фаз, которые описаны в литера¬
туре, посвященной играпии (Jernberg, 1979): введение, исследование, пробное
принятие, негативная реакция, рост и доверие, завершение. Фаза введения в про¬
цессе игровой терапии приходится на период проведения вводного интервью и
процесса диагностики и оценки. Именно в это время ребенок знакомится с про¬
блемами, над которыми вы будете работать, с природой этой работы и получает
первую возможность составить впечатление о вашем индивидуальном стиле.
Фазы изучения, пробного принятия и негативной реакции сгруппированы под
общим заголовком «Начало лечения» и довольно подробно обсуждались в главе 8.
Фаза роста и доверия самая протяженная, и в ее ходе происходит основная часть
терапевтической работы. Последняя фаза лечения — это завершение: она полно¬
стью раскрывается в главе 13.
Начало
Поскольку детали начальной фазы терапии обсуждались в главе 8, здесь мы обра¬
тим внимание на использование корректирующих событий и интерпретаций в
рамках первых нескольких сессий. Терапевтические переживания, создаваемые
вами для ребенка в течение первых встреч, задают условия для остальной части
лечения, что становится большой проблемой в случае, когда вводное интервью и
диагностическая сессия проводятся до начала терапевтических сессий. В ходе эта¬
па вводной беседы ребенок понимает, что его задача — отвечать на ваши вопросы.
Он привыкает занимать относительно пассивную позицию, поскольку в ваших
планах, видимо, оставлено немного места для его активности. Неудивительно, что
многие дети сидят достаточно пассивно, когда во время первой терапевтической
сессии вы вдруг переносите ответственность за выработку плана действий на них,
как в психоаналитической или гуманистической игровой терапии. Обычно гораз¬
до разумнее, если вы не станете делать такого резкого перехода, а сохраните неко¬
торый контроль над ходом лечения.
Начало курса игровой терапии состоит из трех стадий: исследование, пробное
принятие и негативная реакция. На всем их протяжении очень мало внимания
уделяется проработке специфических событий или проблем из биографии ребен¬
ка. Вместо этого основное внимание уделяется развитию актуальных взаимоот¬
ношений между вами и ребенком в ситуации «здесь-и-сейчас». Вы начинаете с со-
Глава 10. Модификации зкосистемной игровой терапии... 319
здания переживаний, помогающих вам и ребенку познакомиться друг с другом.
Вы должны узнать, каков ребенок сейчас, а он должен узнать, каковы вы в роли
терапевта.
Как только вы с ребенком познакомитесь, вы начинаете включать его в деятель¬
ность, запланированную вами, чтобы помочь ему исправить нарушения его ран¬
них взаимоотношений со своим первичным объектом. Эта деятельность увлека¬
тельна, но она мешает ребенку сохранять обычный уровень межличностной
дистанции. В ходе этой фазы ребенок, видимо, принимает ваши вмешательства,
хотя вы можете осознавать почти постоянное подводное течение (сопротивление)
в его попытках поддерживать равновесие. На последней фазе процесса начала ле¬
чения, фазе негативной реакции, ребенок открыто протестует против ваших вме¬
шательств в его привычный паттерн взаимодействия с окружающими. Он может
стать очень злым и агрессивным, и вы должны следить за собой, чтобы не отверг¬
нуть ребенка, сталкиваясь с отвержением с его стороны, иначе вы рискуете вос¬
произвести те переживания, которые были у ребенка во всех остальных межлич¬
ностных взаимодействиях, в которые он вступал. Ребенок должен открыть для
себя, что вы не похожи ни на одного человека из его мира. Вы ответственны за то,
чтобы заботиться о нем все время независимо от того, нравится ему это или нет.
К моменту окончания этой части лечения вы выработаете сильную связь с ребен¬
ком, которая будет сохранять ваш союз, когда вы будете проходить через стадию
роста и доверия, сопряженную с сильной тревогой.
Для осмысления видов поведения, в которые вы будете включаться в течение
начальной фазы игровой терапии, полезно следующее руководство. Вы будете
активно «отражать» ребенку столько аффектов и мотивов, проявляющихся в иг¬
ровой комнате, насколько это возможно, позволяя таким образом вам обоим по¬
знакомиться со сравнительной важностью аффектов в жизненном опыте ребенка.
Общее правило — делать в ходе терапии как можно меньше глубоких интерпрета¬
ций, за исключением вероятного использования интерпретации для того, чтобы
дать ребенку понять, что вы осознаете наличие некоей травмы в его биографии.
Вы можете уже знать, что ребенок подвергался насилию или жестокому обра¬
щению, но он не упомянул этого факта в ходе вводного интервью. В этом случае
вы можете искать возможность сделать генетическую интерпретацию относитель¬
но некоторых действий ребенка на одной из начальных сессий, чтобы получить
эту информацию. Например, на первой сессии ребенок слегка вздрагивает, когда
вы совершаете внезапное движение. Вместо того чтобы просто изменить свое по¬
ведение, вы можете извиниться перед ребенком и сказать, что понимаете, каки¬
ми пугающими для него могут быть внезапные движения, если учесть количество
и серьезность перенесенных им в прошлом побоев. Это позволит вам сообщить
ваше знание ребенку, не требуя от него подтверждения или опровержения.
Степень вашего структурирования начальных сессий зависит от уровня разви¬
тия ребенка, его опыта психотерапии, если он был, и наличия или отсутствия трав¬
мы в недавнее время. Чем ниже уровень развития ребенка, тем больше вам при¬
дется структурировать вводные встречи, побуждая ребенка взаимодействовать с
вами и соблюдать правила игровой комнаты. Если ребенок ранее уже посещал
психотерапевта, вам может понадобиться по меньшей мере на первых сессиях
320 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
придерживаться той степени структурированности, которой отличались те сессии,
на которых он был. Но если опыт прохождения предыдущей психотерапии был у
ребенка негативным, вам может потребоваться выстроить первые несколько сес¬
сий так, чтобы они коренным образом отличались от знакомых ему сессий, чтобы
у ребенка не создалось впечатление, что это то же самое, что и раньше. Наконец,
если ребенок недавно перенес травмирующее воздействие, вам можно оставить
первые сессии неструктурированными, содержащими минимальное количество
вмешательств, чтобы он мог почувствовать, что в игровой комнате с вами ему не
угрожает опасность, прежде чем ему придется непосредственно с вами взаимодей¬
ствовать.
Независимо от той структуры, которую вы введете на ранних фазах лечения,
вы должны гарантировать, что когда ребенок вступит на стадию негативной реак¬
ции, структурированность будет очень существенной. Основательная структури¬
рованность позволит вам справиться с негативной реакцией ребенка твердым и
терапевтическим образом, не требующим от вас внезапного изменения стиля ра¬
боты, что может смутить ребенка и вызвать у него дополнительную тревогу. Если
вы сделали первые сессии совершенно неструктурированными, сказав ребенку,
что он может делать все что захочет, то он может очень удивиться, когда в ходе
четвертой сессии вы начнете активно устанавливать ограничения, запрещающие
ему бросаться кубиками в стену. Он должен не просто перерабатывать любое ак¬
туальное поведение, в которое вы включаетесь во время установления ограниче¬
ний; он должен пытаться понять перемену в вашем поведении и то, является ли
она знаком соответствующего изменения ваших чувств по отношению к нему. С дру¬
гой стороны, если вы структурировали все сессии, ваше поведение не претерпит
никаких изменений. Как только фаза негативной реакции пройдена, постепенно
снижайте степень вашего структурирования сессий до уровня, соответствующего
уровню развития ребенка.
Случай из практики: Аарон
СТАДИЯ «ВВЕДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ»
Цели стадии. Аарон будет:
1) демонстрировать заметное снижение тревожности и сопряженных с ней навязчи¬
востей (обсессий) и компульсивного поведения. В связи с этим он будет способен
лучше справляться с непредсказуемыми или неупорядоченными ситуациями;
2) осознавать, выражать и использовать более широкий ряд эмоций.
Первая и вторая сессии
Участники. Аарон и терапевт
Материалы. «Стратиго»® (Stratego®, сложная настольная игра), маленькие фигурки
людей, машин и приборов, мелки, темпера, большие и малые кисти для краски, боль¬
шие и малые листы бумаги.
Практические компоненты. В силу крайней тревожности Аарона и ригидности его
самоконтроля терапевт решил использовать первые шесть сессий, чтобы совершить
переход от положения, когда Аарон осуществляет полный контроль над ходом сессии,
к положению, когда терапевт полностью контролирует сессию. Переход от этапа вхож¬
дения к первым терапевтическим сессиям был сделан, когда терапевт сказал Аарону,
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 321
что много узнал, контролируя течение их первого контакта, и что, поскольку они со¬
гласились вместе работать, чтобы помочь Аарону стать менее нервозным, он считает,
что настала очередь Аарона контролировать сессии. Предполагалось, что это больше
скажет терапевту о ребенке и даст хороший старт работе.
На первых двух сессиях Аарон выбирал деятельность, значительно превосходящую его
уровень развития и к тому же очень чистую, а именно он хотел играть в сложную на¬
стольную игру. Было очевидно, что ему приходилось заставлять себя целый час сидеть
спокойно, играя в игру, и что правила игры и возможность проигрыша вызывали у него
значительную тревогу. Терапевт постоянно «отражал» эти чувства, но Аарон упорство¬
вал и продолжал игру.
Вербальные компоненты. В ходе сессии терапевт сделал следующие интерпретирую¬
щие утверждения.
Отражения. «Тебе нравится эта игра, потому что она предназначена для старших де¬
тей, поэтому ты чувствуешь себя очень взрослым». «Я уверен, что это очень сложно —
так долго сидеть на одном месте». «Ты выглядишь очень озабоченным». «Видимо, пра¬
вила этой игры расстраивают тебя и держат в напряжении». «Ты, несомненно, выгля¬
дишь очень счастливым, когда захватываешь одну из моих фишек».
Интерпретации действующего паттерна. «Ты уже примерно в пятый раз прекраща¬
ешь игру, чтобы прочитать правила и удостовериться, что мы играем так, как надо».
«Каждый раз, когда я захватываю в плен одного из твоих людей, ты снова заглядыва¬
ешь в правила». «Каждый раз, когда я захватываю одного из твоих людей, ты выгля¬
дишь так, будто ты в панике». «Каждый раз, когда ты захватываешь одного из моих
людей, ты выглядишь очень гордым».
Интерпретации простой динамики. «Кажется, ты бываешь сильно обеспокоен каждый
раз, когда не все идет так, как ты хочешь, и ты надеешься, что следующие далее прави¬
ла поправят твои дела». «Проверка правил помогает тебе чувствовать, что ты не дела¬
ешь ничего неправильно, и поэтому ничто не заставляет тебя жертвовать мне свои
фишки». «Кажется, ты уверен, что если будешь соблюдать все правила, то обязательно
выиграешь». «Для тебя очень важно выиграть; это способ, благодаря которому ты чув¬
ствуешь, что ты хороший».
Интерпретации генерализованной динамики. Единственной интерпретацией этого
уровня было замечание терапевта о том, что он бьется об заклад, что дома Аарон играет
в игры точно так же. Кроме того, терапевт заметил, что мать Аарона сообщала, что он
бывает настолько поглощен правилами игры, когда они играют дома, что у них никогда
не получается довести игру до конца и они почти никогда не играют в ту же игру еще раз.
Генетические интерпретации. За это время не было сделано ни одной интерпретации
данного уровня.
Кроме того, терапевт включил Аарона в разрешение проблемы, связанной со стратеги¬
ей игры. Цель данной игры — использовать игровые фишки, представляющие собой
солдат и бомбы, для защиты своего флага. С момента начала игры можно изменить
положение только одной фишки за один ход (передвигать бомбы нельзя), и поэтому
требуется серьезно планировать на много ходов вперед. Однажды стало очевидным, что
Аарон не очень хорошо планирует и что многие его наиболее сильные фишки находятся
вдалеке от его флага. Терапевт отметил эту проблему и предложил несколько альтер¬
натив. Аарон мог признать свое поражение и начать новую игру. Аарон мог продолжать
играть со своими фишками, оставив их в прежнем положении. Аарон мог попросить
терапевта о пятнадцатисекундном отступлении от правил, чтобы перегруппировать
свои фишки. Без особых колебаний Аарон выбрал последний вариант и продолжил
игру, хотя все еще настаивал, чтобы терапевт четко следовал всем правилам. Терапевт
322 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
высказал следующую интерпретацию: это означает, что тогда как правила помогают
гарантировать, что все идет хорошо, нарушение правил иногда немного помогает игро¬
ку чувствовать себя увереннее и считать, что он контролирует ситуацию.
Компоненты сотрудничества. В ходе этой стадии терапевт после каждой сессии встре¬
чался с матерью, чтобы предоставить ей некоторую обратную связь относительно те¬
чения сессий. Также терапевт и мать приступили к процессу разрешения следующей
проблемы: как мать может способствовать приобретению Аароном лучшего понимания
природы болезни его отца. Мать Аарона включилась в работу и занялась подбором
доступных пониманию детей книг, посвященных рассеянному склерозу, смерти и уми¬
ранию.
СТАДИЯ «ПРОБНОЕ ПРИНЯТИЕ»
Цели стадии. Аарон будет:
1) демонстрировать заметное снижение тревожности и сопряженных с ней навязчи¬
востей (обсессий) и компульсивного поведения. В связи с этим он будет способен
лучше справляться с непредсказуемыми или неупорядоченными ситуациями;
2) осознавать, выражать и использовать более широкий ряд эмоций;
3) снижать количество времени, в течение которого ему необходимо контролировать
ситуацию, и давать возможность другим людям контролировать взаимодействия
с ним.
Третья сессия
Участники. Аарон и терапевт
Материалы. Темпера, большие и малые кисти для краски, большие листы бумаги.
Практические компоненты. Контроль над содержанием сессий был поделен между
Аароном и терапевтом. Терапевт отвечал за первую половину, а вторую половину конт¬
ролировал Аарон. Терапевт начал третью сессию, попросив Аарона порисовать. Тот
неохотно согласился и захотел надеть фартук, чтобы защитить одежду. Он держал кис¬
точку за самый кончик, как можно дальше от щетины, и жаловался, когда терапевт
преднамеренно позволял нескольким краскам смешаться. В течение своей половины
сессии Аарон продолжал рисовать, что было некоторым отражением пробного приня¬
тия, но настаивал на необходимости использовать кисточки меньшего размера и был
гораздо аккуратнее, чем терапевт.
После окончания сессии, когда Аарон стоял рядом, терапевт попросил его мать просле¬
дить, чтобы на следующую сессию Аарон надел старую одежду, которую было не жал¬
ко запачкать.
Вербальные компоненты. В течение третьей сессии терапевт сделал следующие интер¬
претирующие утверждения.
Отражения. «Безусловно, ты ненавидишь грязь». «Ты выглядишь так, будто к нам ре¬
шила зайти Фея Соблюдения Всех Правил и ужасно рассердилась на нас за то, что мы
нарушили правила рисования и испачкались». «Кажется, ты считаешь, будто рисова¬
ние должно быть серьезным, а не забавным». «Я думаю, ты миришься с этим только
потому, что я взрослый, а не потому, что тебе это хоть немного нравится». «Ты не про¬
изводишь впечатления довольного человека». «Сейчас, когда наступила твоя очередь
быть боссом, ты выглядишь гораздо более довольным». «Ты выглядишь менее напря¬
женным, когда используешь маленькие кисточки и рисуешь более аккуратно».
Интерпретации действующего паттерна. «Каждый раз, когда я пытаюсь превратить
наш рисунок в простое украшение или узор, ты пытаешься сделать из него изображе-
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 323
ние чего-то определенного». «Ты постоянно выглядишь то почти испуганным, то по¬
чти сердитым». «Ты постоянно пытаешься ввести правила для рисования, похожие на
правила, которые были у нас при игре в “Стратиго”». «Ты постоянно говоришь мне, как
себя вести. Ты говоришь, как будто ты взрослый».
Интерпретации простой динамики. «Жизнь становится гораздо более пугающей, ког¬
да в ней нет правил, говорящих тебе, что нужно делать». «Это очень страшно — испач¬
каться». «Ты выглядишь довольным, когда мы рисуем изображения, и сердитым, когда
мы просто создаем дурацкие разводы и узоры. Я думаю, ты считаешь, что, для того что¬
бы что-то делать, должна быть причина и что получение удовольствия — недостаточно
хорошая причина». «Ты, видимо, думаешь, что если не будешь постоянно все конт¬
ролировать, случится что-то плохое». «Теперь, когда ты главный, ты кажешься гораздо
более довольным, но я заметил, что мы рисуем только серьезные картины».
Интерпретации генерализованной динамики. «Я думаю, что эта тема с правилами и с
тем, кто — начальник, причина того, почему ты не можешь играть дома. Ты так сильно
беспокоишься о правилах и о том, чтобы все сделать правильно, что иногда кажется,
что проще вообще ничего не делать». «Когда ты соблюдаешь все правила, взрослым это
нравится, и они делают тебе комплименты, но я могу поспорить, что другие дети не
всегда любят, когда ты говоришь им, как правильно делать то или иное дело». «Спорю,
что на самом деле тебе не нравится играть с другими детьми, потому что они не всегда
делают так, как ты считаешь правильным, а тебя это злит». «Ты не можешь играть с
другими детьми, потому что они тебя не слушаются. Но разве ты не чувствуешь себя
одиноко без друзей?»
Генетические интерпретации. «Я думаю, ты начал все эти соблюдения правил после
того, как твой папа заболел и твоей маме было нужно, чтобы ты вел себя так, потому
что она была занята, заботясь о твоем папе».
Кроме того, терапевт включил Аарона в процесс разрешения проблемы, связанной с
удержанием равновесия между ориентацией на цель и получением удовольствия. Он
заметил, что Аарон, казалось, становился очень тревожным, когда они не рисовали что-
то конкретное. В режиме мозгового штурма они выработали способы, при помощи ко¬
торых Аарон мог бы попытаться преодолеть свою тревогу, не обязательно рисуя конк¬
ретные картинки. Терапевт предложил Аарону попробовать глубоко дышать, чтобы
расслабиться. Также он предложил попытаться нарисовать такие вещи, которые невоз¬
можно увидеть, например счастье или мороз, чтобы у Аарона не было модели того, как
правильно их рисовать. В конце сессии Аарон согласился на то, чтобы терапевт во время
рисования ненадолго закрывал ему глаза руками, что помогало рисовать свободнее, без
чрезмерного внимания к деталям.
Компоненты сотрудничества. Данная работа продолжалась в том же виде, что и
прежде.
СТАДИЯ «НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ»
Цели стадии. Аарон будет:
1) демонстрировать заметное снижение тревожности и сопряженных с ней навязчи¬
востей (обсессий) и компульсивного поведения. В связи с этим он будет способен
лучше справляться с непредсказуемыми или неупорядоченными ситуациями;
2) осознавать, выражать и использовать более широкий ряд эмоций;
3) снижать количество времени, в течение которого ему необходимо контролировать
ситуацию, и давать другим возможность контролировать взаимодействия с ним.
324 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Четвертая сессия
Участники. Аарон и терапевт
Материалы. Темпера, большие и малые кисти для краски, большие листы бумаги.
Практические компоненты. Когда Аарон пришел на четвертую сессию, терапевт сно¬
ва решил, что они будут рисовать, только в этот раз он был гораздо менее аккуратным.
Он испачкал Аарону краской все руки и не разрешал ему помыть их, пока не кончилось
его время контроля над сессией. Аарон выдержал это с большим трудом, его пробное
принятие было доведено до крайности. Когда началась вторая половина сессии, Аарон
спросил разрешения пойти в ванную и вымыть руки. Терапевт согласился и пошел с
ним. Поскольку раковина была довольно высокой, Аарону требовалась помощь, и те¬
рапевт использовал эту возможность, чтобы начать игру, соответствующую возрасту
Аарона. Он надувал мыльные пузыри и стряхивал их на голову мальчику, чтобы они
падали, как снег, а потом заявил, что нужно смыть пузыри, и облил все кругом водой.
Аарон был в ярости, но выражал ее только в высказываниях. Он сказал, что его мать
рассердилась бы на терапевта. Он призывал терапевта не вести себя подобно ребенку.
И после этого наконец начал плакать и тоже брызгаться водой. Хотя он и плакал, он
оставался включенным в процесс весь остаток сессии. Когда время вышло, терапевт
начал вытирать Аарона и приводить в порядок его одежду. Затем очень мягким голо¬
сом он сделал генетическую интерпретацию, приведенную в следующем разделе. Аарон
больше не отвечал, но его плач медленно затихал. Фаза негативной реакции пока еще
была завершена не полностью — она проявлялась в виде кратковременных вспышек в
течение следующих нескольких сессий, — но он вступил в стадию роста и доверия.
Вербальные компоненты. Интерпретирующие утверждения терапевта, приведенные
им в ходе данной сессии, были практически теми же самыми, что и в предыдущей, за
исключением заострения внимания на следующем факте: если поначалу Аарон очень
сильно тревожился, когда терапевт вел себя дурашливо и непредсказуемо, вскоре он
стал очень сердитым. Также терапевт заметил, что Аарон казался очень удивленным,
обнаружив, что не может проконтролировать терапевта, просто разозлившись. Главным
дополнением этой сессии стала глубокая генетическая интерпретация.
Генетические интерпретации. Поскольку терапия Аарона должна была быть кратко¬
срочной и поскольку причина его трудностей была так очевидна, терапевт сделал гене¬
тическую интерпретацию относительно рано. Когда Аарон начал плакать, терапевт ска¬
зал: «Я знаю, что иногда становится немного страшно, когда ты не можешь быть
начальником над всем. Иногда тебе кажется, что если ты перестанешь быть главным
даже на минуту, ты перестанешь расти и начнешь двигаться обратно, как твой папа».
Аарон продолжал плакать, но не отодвинулся от терапевта. Последний продолжал:
«Я знаю, что ты разговаривал с мамой и что она сказала тебе, что твой папа болен такой
болезнью, которой ты не сможешь заразиться. Очень страшно смотреть, как твоему
папе становится все хуже и хуже, и не иметь возможности помочь ему, но ничто, что ты
делаешь, не поможет ему чувствовать себя лучше. Никто на свете не в силах сделать
ничего, чтобы он почувствовал себя лучше. Потеря контроля и получение удовольствия
не сделают твоему папе хуже, и ничего плохого из-за этого с тобой не случится».
Также терапевт включил Аарона в процесс решения проблемы, связанной с его воспри¬
ятием глупого поведения терапевта во время мытья рук. Он предложил Аарону по¬
пытаться игнорировать действия терапевта (не переставая при этом вмешиваться и
поддерживая включенность Аарона). Кроме того, он предположил, что Аарон мог бы
просто взорваться и закричать на терапевта. Он предложил, чтобы Аарон попытался
«переглупить» терапевта и вступить в ответную борьбу с пузырями. Хотя Аарон слы¬
шал предложения терапевта, он явно был слишком встревожен, чтобы последовать им,
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 325
но коротко опробовал каждое из них. Когда Аарон начал плакать, терапевт отметил, что
ни одно из предложений не сработало, но что плач, видимо, отвлекал внимание Аарона
от тревоги и злости и концентрировал его на грусти, вызванной его невозможностью
контролировать все.
Компоненты сотрудничества. После данной сессии с матерью Аарона состоялась ко¬
роткая встреча, на которой она получила инструкции относительно того, как помочь
Аарону в течение нескольких следующих дней (эта сессия разбирается далее в главе 12).
Тот факт, что травма, положившая начало проблемам взаимоотношения Аарона с ро¬
дителями, в некотором смысле продолжала свое воздействие, фаза роста и доверия бы¬
ла несколько осложнена. По мере того как Аарон пытался отказаться от своего неверо¬
ятного контроля, появлялись некоторые негативные реакции со стороны его родителей,
которым было необходимо, чтобы он вел себя, как взрослый, чтобы не добавлять до¬
полнительных стрессов в их жизнь. С большей частью этих реакций велась работа в
ходе сопутствующей (вспомогательной) терапии с матерью и отцом. Семейные сессии
были невозможны, так как отец не мог дышать, если ему приходилось хотя бы некото¬
рое время сидеть прямо.
Случай из практики: Фрэнк
Вводная фаза лечения Фрэнка была, по существу, завершена в течение стадии вхожде¬
ния. Фрэнку было сказано, что он снова начнет посещение терапии, в этот раз с интер¬
вьюером, и что они будут встречаться каждый понедельник по часу. Основываясь на
целях, выработанных для лечения Фрэнка, и на его чрезвычайно насыщенной травми¬
рующими событиями биографии, было решено, что фаза исследования будет достаточ¬
но долгой, чтобы ребенок с самого начала не был переполнен своей тревогой. Степень
структурированности этих сессий была сведена к минимуму, чтобы соответствовать
тому типу лечения, которому Фрэнк подвергался в прошлом.
Придя в игровую комнату на свою первую сессию, Фрэнк выбрал игру в песочный ящик
с фигурками людей и животных. Он выстроил тщательно разработанную мизансцену с
зоопарком, холмами и дорогами. На всем протяжении сессии он полностью игнориро¬
вал терапевта. Он ни разу не вступил в контакт глаз и не подтвердил вербально того,
что было сказано терапевтом. Терапевт был довольно настойчив, отражая чувства раз¬
личных героев игры, и даже попытался связать чувства некоторых животных с тем, как
Фрэнк мог чувствовать себя в связи с помещением на новую стационарную програм¬
му. В конце сессии Фрэнк ушел без комментариев, хотя и кивнул в знак согласия со
словами терапевта: «Увидимся на следующей неделе».
На второй сессии Фрэнк выбрал настольную игру, предназначенную для обучения де¬
тей личной безопасности. По сравнению с прошлой сессией это можно было считать
грандиозным сдвигом, так как теперь Фрэнк выбрал взаимодействие с терапевтом. Все¬
го лишь после нескольких ходов Фрэнк выбрал карточку, требовавшую, чтобы он об¬
судил, почему детям важно не играть со спичками. Фрэнк очень зажался, дал однослож¬
ный ответ и двинулся дальше. Терапевт почувствовал, что даже на этой ранней сессии
он не должен позволить пройти дискомфорту Фрэнка и его источнику незамеченны¬
ми. Он сказал: «Я спорю, что этот вопрос был особенно сложен для тебя, потому что
твоя мама погибла в огне, который ты развел». В этот раз Фрэнк не только признал это
утверждение, но и добавил, что всегда испытывал дискомфорт, пока не узнавал навер¬
няка, знают ли о его истории новые люди, с которыми ему приходится взаимодейство¬
вать.
Приняв во внимание откровенность Фрэнка на второй сессии, терапевт решил на тре¬
тьей встрече вести себя более директивно, чтобы провести процесс исследования. Когда
326 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Фрэнк пришел на третью сессию, он снова выбрал настольную игру о правилах без¬
опасности, но создавалось неуловимое впечатление, что он потерял интерес к этому
процессу. Терапевт говорил очень мало, и это еще больше снизило интерес Фрэнка к
данной игре. Он начал изменять правила, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и тера¬
певт воспользовался этой возможностью, чтобы взять контроль в свои руки. Он шут¬
ливым тоном сказал: «Ладно, тебе скучно. Никто не говорил, что ты можешь просто
изменить правила. Мне тоже скучно. Я бы скорее поиграл. Я знаю, как изменить эту
игру». В этот момент он несильно бросил одну из игровых фишек во Фрэнка, который
немедленно ответил тем же. Началась фаза пробного принятия. На это терапевт ска¬
зал: «Ну хорошо, теперь мы играем». Он поднялся и дотянулся до Фрэнка, который,
уже смеясь, бегал вокруг стола. Оставшаяся часть сессии была наполнена попытками
поймать и убежать, в ходе которых терапевт отразил изменение настроения Фрэнка,
и отметил, какой он быстрый и сильный.
Четвертая сессия началась с игры в догонялки сразу же, как только Фрэнк вошел в
комнату, но в этот раз терапевт поймал и осторожно пощекотал его. Фрэнк засмеялся,
и они с терапевтом стали определять, какие части тела «щекотливые», а какие нет. По¬
мимо этого терапевт поощрял попытки Фрэнка найти способ защекотать самого тера¬
певта. В течение этой встречи, Фрэнк, в игровой форме, сделал несколько движений,
изображающих попытки выбежать за дверь. Каждый раз терапевт ловил его и говорил,
что Фрэнк должен оставаться в комнате, пока не кончится сессия. Настроение и аф¬
фект Фрэнка продолжали оставаться позитивными, но его физическое сопротивление
постепенно возрастало. Терапевт предвидел, что на следующей сессии должна будет
начаться терапевтическая фаза негативной реакции.
Следующие восемь встреч с Фрэнком были очень похожи одна на другую и состояли
из постепенно разворачивающегося процесса негативной реакции. Ребенок пытался
выбежать из комнаты, и терапевту приходилось постоянно сторожить дверь. Фрэнк
стал гораздо меньше церемониться с терапевтом и мог схватить или ударить его. Одна¬
ко Фрэнк ни разу не потерял контроль над собой; он просто настойчиво становился все
более агрессивным. Терапевт делал отражения о том, какой Фрэнк сильный, и вызы¬
вал его, предлагая освободиться от различных захватов, которые делал терапевт. Это
обычно оканчивалось тем, что терапевт удерживал ребенка, а тот пытался вырваться.
Постепенно Фрэнк перешел к более пассивному сопротивлению, отказываясь вступать
с терапевтом в контакт глаз или делая вид, что спит. Тогда терапевт начинал игру в
прятки, в которой поднимал веки Фрэнка, чтобы проверить, здесь ли он. Примерно
через восемь недель Фрэнк начал расслабляться, и было очевидно, что фаза негатив¬
ной реакции близится к концу. Фрэнк начал занимать более зависимую позицию и хо¬
тел, чтобы его держали и качали. В лечении наступила фаза роста и доверия.
Рост, доверие и проработка
По мере того как ребенок покидает фазу негативной реакции, он попадает на наи¬
более длительный этап лечения — стадию роста и доверия, или стадию проработ¬
ки. В течение этого периода ребенок должен завершить два смежных этапа рабо¬
ты. Во-первых, ему необходимо аккумулировать переживания, компенсирующие
недостатки, имевшиеся до сего дня в его отношениях с родителями. Это достига¬
ется при помощи корректирующих терапевтических событий, если угодно, «но¬
вого родительства». Вы должны начать эту работу, обратившись к самым ранним
из неудовлетворенных потребностей ребенка, и продолжить эту работу, постепен¬
но доходя до настоящего момента. Вы все время пытаетесь сдвинуть ребенка к
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 32 7
некоторой точке, в которой он функционирует на уровне, соответствующем его
способностям во всех сферах, диагностированных во время вводной беседы. Кро¬
ме того, по мере прохождения ребенком последовательности переживаний, адек¬
ватных его развитию, он должен интегрировать, или проработать, все травмати¬
ческие переживания, произошедшие в его прошлом.
Это главное отличие экосистемной игровой терапии и от играпии, и от тера¬
пии реальности, ни одна из которых в ходе лечения не придает никакого значения
изучению и интеграции прошлого ребенка. Прошлое ребенка необходимо рассмат¬
ривать как компонент, равнозначный всем остальным составляющим экосистемы
этого ребенка. То есть прошлое ребенка реально, и оно оказывает свое влияние на
структуру и состояние его экосистемы в данный момент. Чтобы целостно функ¬
ционировать в настоящем, ребенок не должен отрицать реальность своего прошло¬
го. Вместо этого ему необходимо интегрировать его со своим настоящим, чтобы
он мог воспользоваться позитивными моментами своей биографии и преодолеть
негативные моменты. Проработка прошлого опыта осуществляется главным об¬
разом через использование интерпретаций и техники разрешения проблем.
Фаза роста и доверия обычно начинается с концентрации на настоящем. Ребе¬
нок должен быть в состоянии оптимально функционировать в режиме реального
времени, в «здесь-и-сейчас», начиная с взаимодействий с терапевтом. Проработ¬
ка биографии ребенка обычно не начинается до тех пор, пока он не достигает не¬
которого прогресса в своем общем функционировании. Тем не менее обычно эти
процессы накладываются во времени, а не существуют в качестве последователь¬
ных дискретных аспектов лечения. Ради удобства и ясности здесь эти два процес¬
са разделены, чтобы позволить вам приобрести понимание типов корректирую¬
щих событий, используемых для обеспечения роста ребенка в каждой сфере.
Развивающая работа
Корректирующие события, улучшающие функционирование ребенка и способ¬
ствующие его развитию, наиболее точно отражает взаимодействие между здоро¬
вым родителем и его ребенком. Главным образом они состоят из деятельности по
структурированию, помещению в развивающую ситуацию, вовлечению, заботе и
уходе, которые описаны в главах 2,9 и 10.
Случай из практики: Аарон
СТАДИЯ «РОСТ, ДОВЕРИЕ И ПРОРАБОТКА»
Цели стадии. Аарон будет:
1) демонстрировать заметное снижение тревожности и сопряженных с ней навязчи¬
востей (обсессий) и компульсивного поведения; в связи с этим он будет способен
лучше справляться с непредсказуемыми или неупорядоченными ситуациями;
2) осознавать, выражать и использовать более широкий ряд эмоций;
3) демонстрировать лучшее понимание болезни своего отца и обсуждать свои мысли
и страхи относительно умирания и смерти; он начнет процесс переживания остро¬
го горя (grieving), вызванного потерей отца;
4) снижать количество времени, в течение которого ему необходимо контролировать
ситуацию, и давать другим людям возможность контролировать взаимодействия
с ним;
328 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
5) поддерживать сильное чувство привязанности к матери и просить ее об удовлетво¬
рении его потребностей в заботе и ласке.
Пятая сессия
Участники. Аарон и терапевт.
Материалы. Несколько видов пищи, которую можно есть руками, и пищи, при упо¬
треблении которой неизбежно появление грязи и мусора.
Практические компоненты. На пятой сессии Аарон и терапевт пытались употреблять
небольшие порции различной еды, не пользуясь никакими столовыми приборами.
Сначала они пытались есть руками очень жидкое фруктовое желе, затем старались без
рук съесть сухие мюсли, а затем по одному ловили маленькие леденцы, лежащие на
тарелке, пытаясь прилепить их на кончик языка. Эти упражнения использовались по¬
тому, что совмещали тип заботы и ухода, который понравился бы типичному двухлет¬
ке, и чувство контроля над ситуацией, не связанное с конкуренцией. Аарон пытался
быть аккуратным, но, попавшись на вызов, брошенный терапевтом, вскоре отказался
от этого и полностью увлекся предложенной деятельностью.
Вербальные компоненты. В ходе сессии терапевт сделал очень немного интерпрети¬
рующих высказываний. Он сконцентрировался на выявлении связи между тревожно¬
стью Аарона, его контролирующим поведением и теми короткими моментами, когда
ребенок мог получать удовольствие, ослабив контроль над ситуацией. Кроме того, он
отметил, насколько лучше удовлетворялись потребности Аарона, когда он меньше за¬
ботился о правильности способов выполнения того или иного действия.
Также терапевт занял Аарона разрешением проблемы, связанной с поиском новых спо¬
собов, при помощи которых они могли бы съесть что-нибудь. Целью было заставить
Аарона самостоятельно выработать способы удовлетворения его потребностей, не огра¬
ничиваясь рамками правил. Например, Аарон хотел есть мюсли ложкой (которой не
было). Он продемонстрировал некоторую креативность, когда вытащил из кармана
лист бумаги и свернул его так, чтобы его можно было использовать в качестве столового
прибора. После этого терапевт предложил испробовать различные методы и посмот¬
реть, при помощи какого из них во рту за раз оказывается наибольшее количество су¬
хого завтрака (мюсли). Они пробовали кончики пальцев (слишком мало хлопьев), при¬
горшни (слишком много просыпается на пол, вместо того чтобы попадать в рот), кончик
языка (немного еды, но зато очень аккуратно) и, наконец, пересыпание хлопьев из чаш¬
ки в рот, загребая языком (самый эффективный подход). В этот раз Аарон был спосо¬
бен так модифицировать свое поведение, чтобы его потребности удовлетворялись, даже
если это происходило не совсем по правилам.
Компоненты сотрудничества. На встрече с матерью Аарона было уделено время на
лекцию о способах переработки информации ребенком дооперационального уровня
развития мышления, таким как Аарон. Это было сделано для того, чтобы облегчить ее
разговоры с ним о болезни отца. Например, она никогда не учитывала возможность
того, что Аарон может бояться заразиться от отца.
Шестая сессия
Участники. Аарон и терапевт.
Материалы. Шоколадный пудинг и большие листы плотной бумаги.
Практические компоненты. В ходе шестой сессии Аарон и терапевт использовали шо¬
коладный пудинг в качестве краски, которой при помощи кончиков пальцев можно
рисовать на очень большом листе бумаги. К тому времени, когда они закончили, они
испачкали в пудинге все локти и перешли к водным процедурам, похожим на те, кото-
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 329
рые последовали после четвертой сессии. В этот раз, когда Аарон бывал облит водой,
он давал соответствующий отпор. Хотя он был немного агрессивным, он вел себя со¬
вершенно адекватно поведению шестилетнего ребенка, каковым и являлся.
Вербальные компоненты. Интерпретации и разрешение проблем в ходе шестой сес¬
сии были практически идентичными тем, которые осуществлялись на предыдущей сес¬
сии.
Компоненты сотрудничества. В этот момент мать Аарона сообщала о заметных изме¬
нениях стиля его взаимодействия со сверстниками. Она сказала, что большую часть
времени он играет на улице и что он даже брал с собой одну из своих игрушек, чтобы
дать поиграть другому ребенку.
Седьмая сессия
Участники. Аарон, терапевт, мать Аарона.
Материалы. Шоколадный пудинг и крупные листы плотной бумаги.
Практические компоненты. На седьмой сессии Аарон с матерью повторили рисование
при помощи пудинга, которое имело место в ходе шестой сессии. Терапевт занял Ааро¬
на обучением его матери этой деятельности. Это дало ему некоторую возможность для
контроля, но еще и поставило его в положение, в котором он мог проговорить то, что
было ему необходимо в этой деятельности. Также это послужило перемещению фоку¬
са сессии с взаимодействий Аарона и терапевта на взаимодействия между Аароном и
его матерью. Было очевидно, что в течение этой сессии ребенок несколько ре¬
грессировал, то есть пытался быть аккуратным и злился, когда мама не все делала пра¬
вильно. Этого можно было ожидать, так как мать Аарона являла собой исходный кон¬
фликт между его потребностями как ребенка и потребностью его матери иметь очень
взрослого сына, который хорошо себя ведет.
Вербальные компоненты. На этой сессии терапевт сделал следующие новые интерпре¬
тации.
Интерпретации простой динамики. «Каждый раз, когда твоя мама пытается быть глав¬
ной, кажется, что ты выходишь из себя, но, видимо, ты миришься со мной, когда главным
бываю я». «С твоей мамой очень сложно понять, что же следует делать. Ты знаешь, что
она обычно любит, чтобы ты был опрятным, но веселая часть этого упражнения — это
шанс испачкаться».
Интерпретации генерализованной динамики. «Спорю, что то же самое происходит дома
и в школе. Дома ты знаешь, что мама хочет, чтобы ты вел себя хорошо, потому что она
так занята заботой о твоем отце, но теперь ты иногда просто хочешь побыть ребенком и
развлечься. Вам с мамой придется придумать, как уравновесить эти две вещи. В школе
учителю нравится, что ты хорошо себя ведешь, но твои друзья думают, что ты слишком
задаешься. Может быть, в йжоле тебе стоит попытаться очень хорошо вести себя в клас¬
се и побольше дурачиться на площадке для игр».
Генетические интерпретации. Никакого нового материала не добавилось.
Кроме того, терапевт занял Аарона и его мать решением проблемы, связанной с опре¬
делением, где и когда несерьезное или буквально «грязное» поведение не только тер¬
пимо, но и желательно. Они решили отказаться от ежедневного времени «Несерьезной
игры» и использовать игровую комнату, которая была у ребенка дома. Его мать с готов¬
ностью согласилась, чтобы сын устраивал бардак в своей комнате, который не распро¬
странялся бы на остальную часть дома. Проговаривание различий их потребностей и
креативные способы достижения баланса между ними стали основными задачами сле¬
дующих сессий.
330 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Компоненты сотрудничества. Неудивительно, что Аарон перенес на терапевта-муж-
чину свои отношения с отцом. Он был склонен рассматривать терапию как шанс иметь
здорового отца, который мог бы обеспечивать руководство, дающее чувство безопас¬
ности. В ходе сопутствующей работы с его матерью была рассмотрена реальность же¬
лания Аарона взаимодействовать со здоровой моделью мужской роли, и она стала при¬
кладывать еще больше усилий, чтобы Аарон проводил время с дедушкой и с дядей.
Восьмая сессия
Участники. Аарон, терапевт, мать Аарона.
Материалы. Несколько видов пищи, которую можно есть руками: разрезанные фрук¬
ты, мюсли и жевательные конфеты.
Практические компоненты. На восьмой сессии Аарон с матерью играли в игры, не
предполагавшие конкуренции, в ходе которых нужно было кормить друг друга. Каж¬
дый из них закрывал глаза и пытался угадать, чем его кормит другой. Каждый из них
смотрел, может ли он различить фрукты на ощупь или по запаху. В течение этой сес¬
сии они также много играли в игры, сопряженные с суматохой, свалкой и неразбери¬
хой. На всем ее протяжении терапевт пытался оставаться как можно дальше в стороне
от игры. Он высказывал устные комментарии, но не включался в деятельность Аарона
и его матери. Целью этого было обеспечение максимально возможного перенесения
полученных Аароном в ходе терапии позитивных эффектов в его взаимодействия с
матерью.
Вербальные компоненты. Единственным новым материалом для интерпретации ста¬
ло наблюдение терапевта, что мать Аарона была еще лучшим игровым партнером, чем
он сам, особенно с тех пор, как она столько времени провела здесь. Применение техни¬
ки разрешения проблем было направлено на достижение баланса между потребностя¬
ми Аарона и его матери на сессии и дома.
Компоненты сотрудничества. В конце каждой из этих сессий терапевт проводил теле¬
фонные беседы с матерью и с отцом ребенка. Эти сессии начались, когда стало очевид¬
ным, что отцу несколько угрожает растущая привязанность Аарона к терапевту, а так¬
же к работнику, которого родители мальчика наняли для помощи по дому и в уходе за
отцом. В ходе этих телефонных сессий терапевт и родители придумывали способы,
позволяющие отцу активно заниматься с Аароном, несмотря на то что его физическое
здоровье продолжало ухудшаться. За недели, прошедшие с начала лечения, отец пере¬
стал читать Аарону на ночь, потому что у него больше не было сил говорить больше
нескольких минут подряд. Результатом этих телефонных контактов стало решение отца
появиться на заключительной сессии и участвовать в праздновании тех полезных при¬
обретений, которые его сын сделал за это время. Это было героическим и дорогим пред¬
приятием, потому что транспортировка должна была осуществляться бригадой медра¬
ботников.
Девятая сессия
Участники. Аарон, терапевт и мать Аарона.
Материалы. «Головомойка» (Headache® — простая настольная игра), которую принес¬
ли на сессию Аарон с матерью.
Практические компоненты. Готовясь к окончанию лечения, терапевт попросил Ааро¬
на и его мать принести из дома игру, которая им нравится, чтобы они могли поиграть в
нее на девятой сессии. Они принесли «Головомойку», настольную игру, соответствую¬
щую уровню развития Аарона, в которую он играл без своей обычной ригидности и не
выходил из себя в случае проигрыша. Терапевт попросил и мать и сына проговаривать
во время игры свои чувства по отношению к ней.
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 331
Вербальные компоненты. Не было представлено никаких новых интерпретаций. Те¬
рапевт занимался вербальным подкреплением сделанных Аароном улучшений, а так¬
же его позитивных взаимодействий с матерью. Продолжался процесс разрешения про¬
блем, направленный на достижение баланса их потребностей и гарантирующий, чтобы
они получали удовольствие.
Компоненты сотрудничества. Завершение лечения Аарона было запланировано еще
тогда, когда он начинал свой курс, состоящий из десяти сессий. К окончанию восьмой
сессии многие из видов поведения Аарона, послуживших поводом начала терапии, ис¬
чезли. И родители, и представители школы сообщали о значительных изменениях его
поведения, особенно об увеличении непосредственности и улучшении игровых способ¬
ностей. Хотя они и отмечали небольшое снижение его послушности, они соглашались,
что это более соответствует его возрасту и с этим легче справляться.
В результате улучшения коммуникации между терапевтом и отцом Аарона в течение
нескольких последних недель лечения было решено, что отец посетит последнюю сес¬
сию. Также было принято решение о том, что сессия будет проходить в игровой комна¬
те, а не у Аарона дома — хотя так было бы проще, — чтобы способствовать перенесе¬
нию на отца чувств, пережитых ребенком в связи с игровой комнатой, а не только в
связи с терапевтом. Аарон с матерью спланировали содержание последней сессии и за¬
нялись приготовлениями для транспортировки отца в терапевтическую комнату.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк пришел на терапию, пережив серьезную травму, которая началась, когда ему
было два года. Как отмечалось во время вводной беседы, была выдвинута гипотеза о
том, что эти травмы помешали ему получить защиту и заботу, которую обычно получа¬
ет тоддлер. По этой причине терапевт решил посвятить главную часть стадии роста
и доверия переживаниям, которые могли бы компенсировать этот недостаток.
Как только была пройдена стадия негативной реакции Фрэнка, терапевт приступил к
использованию на сессиях пищи. Это было сделано для того, чтобы обратить пережи¬
вания Фрэнка, связанные с необходимостью кормить его мать, создав ситуацию, в ко¬
торой он сам мог получать пищу. Среди используемой пищи были маленькие — на один
укус — конфеты, арахис и изюм, которыми терапевт кормил Фрэнка, когда он расслаб¬
ленно лежал у него на руках. Также он поил Фрэнка лимонадом или апельсиновым
соком из детской бутылочки. Эти сессии продолжались несколько месяцев.
В течение этого времени терапевт постоянно «отражал» аффект Фрэнка и паттерны,
которые можно было выделить в его поведении. Они медленно, но верно начинали
выкристаллизовываться в более динамические интерпретации. Состояние интенсив¬
ной актуализированности потребностей Фрэнка на сессии посредством интерпретации
генерализованной динамики было связано с тоской по приемной матери (fostermother),
в то время когда он жил в стационаре (residential placement), и с позднейшим фактом
того, что его приемная мать стала менее доступной из-за болезни сводного брата Фрэн¬
ка. Эти чувства в свою очередь посредством генетической интерпретации сравнивались
с чувствами Фрэнка относительно той заброшенности, от которой он страдал из-за
смерти матери и насилия со стороны отца.
По мере увеличения числа генетических интерпретаций Фрэнк начал отрицать поте¬
рю матери вплоть до того дня, когда сказал, что убил ее преднамеренно, что она сексу¬
ально насиловала его и что он рад тому, что она мертва. До этого момента Фрэнк всегда
утверждал, что его мать была очень хорошим человеком. Эта информация была неизвест¬
на ранее, и она существенно повлияла на природу интерпретаций, предоставляемых
332 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
терапевтом. Теперь он сконцентрировался на том горе, которое, должно быть, Фрэнк
переживал из-за того, что его биологические родители никогда не обеспечивали ему той
заботы, которой он заслуживал. Эти интерпретации привели к первым обсуждениям
сексуального насилия, совершавшегося отцом Фрэнка. Он утверждал, что это насилие
было очень бурным и что он до сих пор боится, что его отец однажды может вернуться
и снова попытаться причинить ему вред. В течение этого периода работы Фрэнк все
еще проводил большую часть каждой сессии, лежа на руках терапевта, который ласко¬
во щекотал и гладил его.
По мере того как терапевт все больше и больше сдвигал внимание на пережитое Фрэн¬
ком насилие и на его роль в современной потребности Фрэнка в заботе, ребенок начал
меньше нуждаться в физическом контакте с терапевтом. Они прекратили питание на
сессии; Фрэнк приходил в кабинет и играл с пластилином. Этот крупный скачок в его
функционировании использовался как знак того, что можно всерьез приступать к про¬
работке материала, связанного с его личной историей.
Проработка имеющихся в личной истории
травматических переживаний
Вы начинаете лечение ребенка, создавая переживания, которые будут заменять
развитие сильной связи между вами и ребенком. Затем вы переходите к смягче¬
нию некоторых из пережитых ребенком в раннем возрасте дефицитов развития.
Постепенно ребенок начинает чувствовать себя несколько удовлетворенным; он
начинает отказываться от своих старых способов удовлетворения потребностей и
искать новые, более функциональные паттерны взаимодействия. В этот момент
личность ребенка значительно стабилизируется, и его отношения с вами укреп¬
ляются на основании достаточно позитивного опыта, позволяя вам начинать ра¬
боту с любым травматическим материалом из его биографии, который может вли¬
ять на его современные дефициты и стиль функционирования. Главное здесь не
бередить все прежние травмы просто ради того, чтобы взглянуть на них. Перед тем
как приступать к любой работе с травматическим опытом, терапевт сначала дол¬
жен определить, какой остаток травмы (обычно это проблемная межличностная
схема) до сих пор мешает ребенку эффективно и адекватными способами удовлет¬
ворять свои потребности. Если это так, терапевт начинает создавать для ребенка
новые переживания, активирующие его биографические элементы, затем исполь¬
зует интерпретацию для определения степени их воздействия и технику разреше¬
ния проблем для поиска средств снижения этого воздействия в настоящем.
Следует планировать такие корректирующие события, которые воссоздают
некоторый аспект прошлого опыта. Эти переживания могут или в реальности или
символически воссоздавать тип взаимодействия, условия, само событие или чув¬
ства, вызванные этим событием. Часто эти переживания можно создать посред¬
ством введения некоторых материалов. Игрушечный пистолет можно ввести в
программу сессии для ребенка, видевшего, как кого-нибудь застрелили, медицин¬
ские инструменты и приспособления могут оказаться полезными для ребенка,
попавшего в аварию или получившего серьезную травму, а игрушечная кукла и
набор младенческих аксессуаров помогут ребенку, которому очень трудно адап¬
тироваться к рождению младшего брата или сестры. Иногда эта работа начинает¬
ся не через использование особых игрушек или материалов, а через использова-
Глава 10. Модификации экосистемной игровой терапии... 333
ние некоторого материала особым образом. Краски можно использовать, чтобы
рисовать картины, но также и для выражения эмоций, и для того чтобы хорошень¬
ко испачкаться. Из пластилина можно изготовить пищу для заброшенного ребен¬
ка или плохих парней, которых можно порушить при работе с унижаемыми деть-
ми-жертвами. Вопрос здесь не в материале, а в том, как вам облегчить применение
этого материала для помощи ребенку в проработке его прошлого опыта.
Случай из практики: Аарон
Поскольку семья Аарона располагала только небольшим временем для прохождения
курса лечения, терапевт решил в ходе игротерапевтических сессий сконцентрировать¬
ся на проблемах развития, а с проблемами, связанными с прошлым опытом, разбирать¬
ся в ходе сопутствующей работы с родителями ребенка. Это простой и эффективный
способ ограничения количества информации, с которой вы хотите работать на сессии
при проведении краткосрочной терапии. Детали вспомогательной работы рассматри¬
ваются в главе 12.
Случай из практики: Фрэнк
Когда Фрэнк был в состоянии перейти к менее зависимым и к более экспрессивным
типам игры на сессиях, терапевт решил, что наступило время начать проработку его
биографии. Этот процесс начался при помощи постепенного увеличения количества
генетических интерпретаций, привязывающих все больше и больше эмоций, мыслей и
видов поведения Фрэнка к тому, что он переживал в прошлом. Каждый раз, когда де-
л.итсь такая интерпретация, он становился очень тревожным и пытался срочно сме¬
нить тему.
Постепенно Фрэнк и его терапевт начали делать людей из пластилина; эти люди прак¬
тически немедленно идентифицировались как родители мальчика. В ходе одной из сес¬
сий терапевт сидел и держал Фрэнка, как они делали на ранних стадиях лечения. Он
сказал, что знает, что это будет очень трудно для Фрэнка, но хочет, чтобы тот вспом¬
нил события дня, когда погибла его мать. Фрэнк пришел в состояние сильного возбуж¬
дения, но терапевт крепко держал его, и ребенок начал вспоминать свою историю. В со¬
ответствии с довольно конкретным мышлением Фрэнка и ограниченной способностью
к оценке времени его воспоминания звучали так, будто все пережитые им травмы про¬
изошли в один и тот же день. Он на самом деле хранил воспоминания о всех своих трав¬
мах в одном месте, поэтому неудивительно, что они полностью захватывали его. К кон¬
цу сессии терапевт оказывал ребенку максимально возможную заботу и поддержку,
признавая, насколько эта сессия была трудной для мальчика, и подчеркивая, что Фрэнк
впервые смог думать обо всех событиях своего прошлого одновременно и при этом не
сорваться на агрессивное отреагирование (кроме того, что он разломал пластилиновые
фигурки).
В этом контексте терапевт начал определять для Фрэнка то, насколько его ярость по
отношению к родителям до сих пор мешает ему ежедневно удовлетворять свои потреб¬
ности. Из-за гнева и страха он никогда не чувствовал себя в безопасности. Из-за того
что фоном его настроения всегда была ярость, вещи, которые у другого человека вы¬
звали бы легкое раздражение, приводили его к вспышкам очень опасного поведения.
А из-за сохранившегося чувства вины за то, что он развел огонь, убивший его мать, он
сохранял остро амбивалентные отношения с огнем. На сессиях началась работа по поис¬
ку способов выпускания ярости Фрэнка, чтобы он не взрывался, каждый день вступая
в обычные взаимодействия. Помимо этого, ребенок и терапевт начали изучать вопрос
о том, почему и как Фрэнк устроил пожар. Наконец они начали в режиме разрешения
334 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
проблемы искать другие способы выражения страха и гнева, помимо разведения огня.
Вся эта работа, основанная на когнитивном компоненте и привязанная к реальности,
перемежалась значительным количеством изобразительных игр.
В течение следующих нескольких сессий Фрэнк продолжал вместе с терапевтом созда¬
вать модели себя и своих родителей. Они разыгрывали некоторые травмирующие со¬
бытия, и ритуал расплющивания пластилиновых фигурок, чтобы вернуть их на место
в коробку, превратился в ритуал изувечивания фигурок родителей во время рассказа
об испытанной Фрэнком ярости. Мальчик часто втыкал в фигурки тот или иной длин¬
ный заостренный объект, который можно было найти в игровой комнате, совершая та¬
ким образом символическую месть за изнасилования, которым подвергался. Однажды
он разрубил фигурку матери на несколько тоненьких частей и сложил их стопкой на
большую сковороду, которую водрузил на игрушечную кухонную плиту. Терапевт, не¬
сколько захваченный врасплох, смог, однако, дать следующую генетическую интерпре¬
тацию: «Это напоминает мне о том, как погибла твоя мать после того, как причинила
тебе вред*. Фрэнк выглядел искренне удивленным и спросил, что заставило терапевта
подумать об этом. Терапевт подчеркнул сходство между тем, чтобы поджарить «мать*
на кухонной плите, и тем, чтобы сжечь ее в огне. В ответ на это Фрэнк перевернул ско¬
вороду, разбрасывая по плите кусочки «матери*. Это было сделано без больших эмо¬
ций, и Фрэнк до конца сессии занялся отмыванием пластилина.
Начиная с этого момента поведение Фрэнка, казалось, стабилизировалось. Улучшения,
которые терапевт замечал на сессиях, начали переноситься в класс и в детский дом.
Фрэнк повысил привязанность к своей учительнице и к одному из мужчин-консуль-
тантов и даже начал взаимодействовать с некоторыми сверстниками. Но терапевт не
считал, что пора думать об окончании лечения, из-за некоторых изменений, которые
должны были произойти в жизни Фрэнка. Наиболее разрушительным из них могло
оказаться следующее: вскоре ему должны были сообщить о том, что он не вернется ни
в групповую клинику, где провел три года, ни к женщине, к которой относился как к ма¬
тери. Вместо того чтобы двигаться к завершению, терапия была направлена на включе¬
ние Фрэнка в разрешение его повседневных переживаний.
Как только начинается проработка прошлого опыта ребенка, количество эмо¬
циональных реакций и ребенка и терапевта интенсифицируется. Когда Фрэнк
неожиданно «приготовил свою мать на плите», терапевт испытал сильное эмоци¬
ональное потрясение. То же самое произошло и с Фрэнком, когда ему впервые
предложили напрямую поговорить о прошлом, а не отреагировать его. Эмоцио¬
нальные реакции ребенка и терапевта часто определяются как перенос и контрпе¬
ренос соответственно. Эффективное управление переносом существенно для до¬
стижения хорошего результата терапии. Эта тема обсуждается в следующей главе.
Глава 11
Перенос и контрперенос
В этом разделе термин «перенос» используется несколько нетрадиционно. Авто¬
ры, относящие себя к психоаналитическому направлению, обычно ограничивают
применение этого термина, обозначая им эмоции, мысли и виды поведения, кото¬
рые привносятся в сессию как отражения биографии или личного опыта челове¬
ка, а не как реакции на реалии терапевтического процесса. Возникновение пере¬
носа у клиента желательно, поскольку цель психоанализа — проработка этих
архаических комплексов. Способность и неспособность ребенка формировать
невроз переноса обсуждалась в главе 8. Возникновение переноса, или контрпере¬
носа (как он обычно называется), у терапевта обычно считается проблематичным,
потому что он мешает его способности объективно обрабатывать материал кли¬
ента.
Более поздние источники, описывающие терапевтический процесс, обычно
используют термин «перенос» для обозначения всех эмоций, мыслей и видов по¬
ведения, которые клиент и терапевт привносят в сессию, логично предполагая, что
никто не может изолировать себя от своего прошлого опыта и что любое пережи¬
вание, с которым человек сталкивается в настоящем, интимно связано со всем, что
было в его опыте ранее. Остается надеяться, что в этом случае терапевт более пол¬
но осознает воздействие своего прошлого на свое настоящее функционирование.
С этим осознанием приходит способность использовать то, чему он научился в
прошлом в работе, происходящей в настоящем. Цель терапии — создавать такое
же осознание у клиента, позволяющее ему использовать свой прошлый опыт, а не
становиться его жертвой.
В этой книге термин «перенос» используется в значении, близком к этому бо¬
лее общему определению, но здесь он обладает еще более широким смыслом. Здесь
он применяется для обозначения не только эмоций, мыслей и видов поведения,
которые индивид проявляет в контексте терапевтических отношений, но и для
обозначения связанных с лечением взаимодействий между ребенком или терапев¬
том, с одной стороны, и экосистемой ребенка — с другой. То есть перенос со сторо¬
ны ребенка происходит и тогда, когда он реагирует на события, происходящие
внутри его экосистемы неким способом, соответствующим проблемам, имеющим
место на терапевтических сессиях. Подобным же образом термином «контрпере¬
нос» обозначаются эмоции, мысли и виды поведения, которые вы привносите в
ваши взаимодействия с экосистемой ребенка. Проблемы всех типов, связанные с
переносом, осложняют и для вас, и для ребенка сохранение самых необходимых
336 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
ролевых границ в ходе лечения. Проблема размытости границ еще более запута¬
на, если вы придерживаетесь широкого экосистемного подхода к проведению иг¬
ровой терапии.
Когда вы определяете себя как игровой терапевт в психоаналитическом смыс¬
ле, вы устанавливаете набор границ, которые значительно снижают потенциал для
проблем переноса и контрпереноса. Вы сами не заодно с ребенком; вы более от¬
странены и более «объективны». Вы минимально включены в экосистему ребен¬
ка и совершенно не связаны с ним за пределами терапевтической сессии. Эти гра¬
ницы, будучи несколько искусственными, создают чувство безопасности.
Стоит вам войти в экосистему ребенка, что свойственно подходу, практикуе¬
мому в рамках экосистемной игровой терапии, как границы становятся далеко не
столь очевидными. Вы можете решить, что вам необходимо поработать с родите¬
лями ребенка или даже с его сиблингами. Вас могут позвать на родительское со¬
брание в школу, посещаемую вашим клиентом. Вам может понадобиться поуча¬
ствовать в составлении плана по размещению ребенка в некотором заведении вне
его дома. Вы можете даже вступить во взаимодействие с правовой или медицин¬
ской системами, если у вашего клиента есть трудности с ними. Но как тогда опре¬
делить ваши границы и ограничения в рамках этой модели игровой терапии?
В конечном счете ваша роль игрового терапевта определяется тремя фактора¬
ми. Первый из них — уровень вашей подготовки и компетентности. Вы должны
знать о пределах ваших знаний. Если вы не очень хорошо знакомы со школьной,
медицинской или правовой системой, вам не следует вмешиваться в эти сферы в
интересах вашего клиента. Но вы обязательно должны иметь знакомых специа¬
листов, к которым в любой момент можете направить вашего клиента при возник¬
новении трудностей в любой из этих областей. Подобным же образом, если вы не
проходили подготовку по семейной терапии, вам пока не следует пытаться рабо¬
тать с семьей ребенка. И опять же вам нужно знать людей, обладающих соответ¬
ствующей компетентностью, к которым вы можете направить семью, если ей тре¬
буется такой вид работы.
Во-вторых, вы должны четко представлять себе, какими временными ресурса¬
ми располагаете. Если вы занимаетесь частной практикой и принимаете от 20 до
30 клиентов в неделю, вы не сможете приходить на собрания в школу, работать
с семьей и осуществлять экстренное вмешательство применительно к каждому ре¬
бенку. Получается, что ваша работа будет определяться тем временем, которое у
вас есть; вы должны откровенно информировать родителей о границах ваших воз¬
можностей. И опять же вам необходимо обзавестись сетью специалистов, к кото¬
рым вы можете нарпавить своих клиентов при возникновении такой потребности.
Третий фактор — вопрос осознания ваших личностных ограничений. Ни один
человек не может быть всецело всем даже для одного ребенка, а тем более не мо¬
жет быть всем для каждого ребенка. Какой тип работы вам наиболее удобен? Мо¬
жет быть, вы предпочитаете погрузиться в глубокую работу с несколькими деть¬
ми, страдающими очень серьезными расстройствами, и с их семьями. Может быть,
вам лучше заниматься более поверхностной работой с менее патологичными деть¬
ми. Или же вам удобнее, когда среди ваших клиентов есть совершенно разные
Глава 11. Перенос и контрперенос 33 7
дети. Что бы вы ни предпочитали, вы должны знать, когда нужно твердо сказать
«нет». Лучше всего обсудить ограничения, которые вы устанавливаете в своей
работе, с семьей клиента перед началом лечения, чтобы ее члены могли решить,
удовлетворят ли ваши услуги их потребностям.
Подведение теории под априорное установление ограничений природы вашей
роли в проведении игровой терапии с данным ребенком, видимо, не имеет боль¬
шого смысла. Если вы хотите принять такие произвольные правила для защиты
себя от чрезмерного или недостаточного включения в работу с вашими клиента¬
ми, это прекрасно, но вы должны признавать, что любые устанавливаемые вами
ограничения носят несколько искусственный характер. С другой стороны, если вы
хотите делать все й для всех людей, вам следует обладать подготовкой социально¬
го работника, психолога, школьного консультанта, учителя, врача, юриста и т. д.
Ради вашей сохранности в некоторых областях вы устанавливаете ограничения и
определяете предпочитаемые вами средства вмешательства. Когда вы придержи¬
ваетесь экосистемного подхода при проведении игровой терапии, вы получаете су¬
щественную свободу в планировании и выборе вашей роли, потому что этот под¬
ход поощряет вас принимать во внимание всю экосистему ребенка независимо от
того, в каких областях вы планируете осуществлять свои вмешательства. На сле¬
дующих страницах приводится обзор некоторых из наиболее общих проблем пе¬
реноса и контрпереноса, чтобы вы могли справляться с ними в ходе вашей работы.
Перенос
Вам следует быть готовым к трем типам переноса, обычно проявляемым детьми,
потому что они могут стать причинами проблем, возникающих в процессе тера¬
пии. В определенный момент в ходе вашей работы с ребенком весьма вероятно,
что он перенесет на вас часть своих отношений с родителями. Он может реагиро¬
вать на вас как на хорошего или на плохого родителя; если терапия проходит хо¬
рошо, чаще происходит последнее. Наиболее очевидное проявление такого типа
переноса вы можете заметить, когда ребенок начинает называть вас мамой или
папой. Назначение этих имен редко зависит от пола, потому что дети склонны
называть мамой всех терапевтов — и мужчин, и женщин. Иногда ребенок будет
пытаться вовлечь вас в обсуждение ваших собственных детей, а затем говорить о
том, как могло бы быть, если бы вы были его родителем. В других случаях этот
перенос проявляется не непосредственно на сессии, а дома или в школе. Дети
могут просто сказать родителям, что они хотели бы, чтобы их родителем были вы.
Как бы ни проявлялись переносы родительских отношений, если адекватно не
справиться с ними, они угрожают самой возможности продолжения лечения.
Очень важно помочь ребенку назвать перенос фантазией, которая никогда не осу¬
ществится. Вам следует активно интерпретировать потребности и мотивы, лежа¬
щие в основе желания ребенка видеть вас своим родителем. Обычно такой ребе¬
нок переживает актуализированное состояние потребности, которое родитель, на
его взгляд, не в силах удовлетворить. Появление этого типа переноса также необ¬
ходимо прорабатывать с родителями, которые могут остро чувствовать угрозу,
338 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
исходящую от глубины привязанности к вам их ребенка. Им понадобится знать,
о каких потребностях он пытается сообщить, чтобы они могли обращаться к ним,
а не обижаться на отвержение, демонстрируемое ребенком.
Вторая общая реакция переноса возникает, когда дети начинают считать тера¬
певта всезнающим и всемогущим. Если вы помогаете им придумать решение не¬
коей проблемы, которое срабатывает, когда они осуществляют его, полученный
результат, особенно для самых маленьких клиентов, может казаться волшебством.
Если вы работаете с родителями и способствуете изменениям их поведения, эта
ваша способность может казаться еще более магической. Ребенок начинает ждать,
что вы справитесь со всем, и может разочароваться, обнаружив, что это не так. Эта
ситуация действительно отражает фазу развития отношения детей с родителями,
на которую они впервые вступают, находясь на втором уровне; проходя ее, дети
постепенно начинают понимать, что, хотя их родители очень сильные, они не мо¬
гут защитить их от всего. Эта ситуация снова возникает, когда дети достигают
четвертого уровня развития и внезапно замечают, что их родители — вполне обыч¬
ные люди, которые тоже ошибаются.
Данный тип переноса вызывает меньше проблем, влияющих на общий ход ле¬
чения, чем перенос отношений с родителями, но с ним все равно нужно справлять¬
ся. На сессиях следует активно интерпретировать потребности и мотивы ребенка,
лежащие в основе его желания обладать всесильным хранителем. Родителям тоже
следует осознавать, какие чувства вызывают у ребенка фантазии относительно
терапевта.
Последняя проблема переноса, обсуждаемая здесь, касается случаев, когда дети
переносят эмоции, мысли и виды поведения из игровой комнаты в свою экосисте¬
му, а не наоборот. Ребенок, которому нельзя стрелять из пистолета дома, но мож¬
но на терапии, в течение нескольких часов после каждой сессии внезапно начина¬
ет делать вид, будто стреляет в членов своей семьи. Ребенок, ставший очень
зависимым на терапии, становится очень прилипчивым и зависимым дома. Ребе¬
нок, чье поведение дома и так было проблематичным, еще более ухудшается вско¬
ре после начала терапии. Все эти ситуации довольно распространены, но любая
из них может привести родителей к мысли, что терапия не только не улучшает, но
и еще более усложняет положение.
Как и в случае со всеми остальными типами переноса, важно, чтобы вы актив¬
но интерпретировали и для ребенка, и для его родителей лежащие в основе его
поведения потребности и мотивы. Часто с этими проблемами можно справиться,
создав ритуалы вхождения в сессию и выхода из нее, которые делают для ребенка
очевидным, что игровая комната — это уникальная среда со своими правилами и
ожиданиями. (Использование ритуалов вхождения и выхода подробно обсужда¬
лось в главе 9.) Если есть такая возможность, обсудите вероятность переноса с ро¬
дителями, прежде чем он произойдет. Кроме тоге, обсудите стратегии управления
поведением. Многие родители думают, что раз вы позволяете некое поведение на
сессии, вы ожидаете, чтобы они позволяли демонстрировать его дома. Часто они
испытывают большое облегчение, обнаружив, что вы хотите, чтобы дома они уста¬
навливали для ребенка границы и помогали ему учиться адекватно оценивать, что
уместно в одной среде и неуместно в другой.
Глава 11. Перенос и контрперенос 339
Случай из практики: Аарон
Неудивительно, что Аарон перенес на своего терапевта-мужчину свои отношения с
отцом. Он был склонен рассматривать терапию как шанс иметь здорового отца, обес¬
печивающего руководство, дающее чувство безопасности. В ходе сопутствующей ра¬
боты с его матерью была рассмотрена реальность желания Аарона взаимодействовать
со здоровой моделью мужской роли, и она стала прикладывать еще больше усилий,
чтобы Аарон проводил время с дедушкой и дядей. На сессиях этот перенос был взят
под управление через включение в работу матери в терапевтической роли и перевозки
отца на финальную сессию, чтобы для Аарона сложилась четкая связь между терапев¬
том и отцом.
Случай из практики: Фрэнк
Самой значительной проблемой с переносом в ходе лечения Фрэнка была его склон¬
ность переносить свое поведение с сессии в обычную экосистему, особенно когда он
чувствовал себя или очень несчастным, или ошеломленным воспоминаниями о про¬
шлых травмирующих переживаниях. Фрэнк мог быть вполне адекватным на сессиях,
но меньшая структурированность его жизни за их пределами приводила к снижению
адекватности. Поскольку Фрэнк находился в детском доме, терапевт решил работать
не с ограничением его поведения, а со стратегиями, позволяющими среде основного
места обитания мальчика лучше удовлетворять его потребности. Эта цель была достиг¬
нута путем параллельной работы с учителем Фрэнка и с консультантом из его детско¬
го дома. Эти вмешательства обсуждаются в главе 12.
Контрперенос
Во всех случаях с контрпереносом лучше всего справляться, сохраняя такой уро¬
вень осознанности, который позволял бы вам удовлетворять свои потребности
помимо игровых сессий с детьми. Решение этой проблемы может потребовать от
вас самого прохождения курса психотерапии или регулярного посещения супер-
визии, но она должна активно решаться прежде, чем сможет оказать негативное
воздействие на ваших клиентов-детей и на их семьи.
Создается впечатление, что большинство проблем, связанных с контрперено¬
сом, возникающим при лечении детей, происходят из одного источника: этот ис¬
точник — то, что терапевт был воспитан родителями, у которых имелся нарцисси-
ческий радикал. Миллер в своей книге The Drama of the Gifted Child (Miller, 1981)
называет реакцию на нарциссизм родителей одной из главных причин выбора
карьеры психоаналитика. Представленные ею аргументы позволяют спокойно
расширить сферу выбираемых такими людьми профессий, чтобы включить в нее
представителей всех профессий, связанных с помощью другим людям, и особен¬
но специалистов из сферы заботы о психическом здоровье.
Миллер заметила, что у большинства психоаналитиков хотя бы один из роди¬
телей обладает выраженным нарциссическим складом личности. Это не означает,
что эти родители демонстрируют нарциссические личностные расстройства,
а только то, что на различных уровнях или в различные промежутки времени они
не были способны точно прочитывать и затем удовлетворять потребности своих
детей. Вместо этого они были склонны использовать детей для удовлетворения
собственных потребностей. Для некоторых родителей это было последствием зло-
340 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
употребления психоактивными препаратами, для других — результатом депрес¬
сии, а для кого-то — отголоском некоторого психического или эмоционального
расстройства их первичного объекта (матери). Если ребенок сообразительный, он
научается удовлетворять потребности своих родителей в надежде, что постепен¬
но они смогут вернуть ему свою благосклонность. Чтобы достичь этого, ребенок
должен научиться читать потребности других людей и откладывать удовлетворе¬
ние своих собственных. Миллер говорит, что такой опыт и связанные с ним навы¬
ки становятся в дальнейшем основанием для возникновения интереса к сфере пси¬
хоанализа. Ребенок просто продолжает демонстрировать паттерн межличностного
взаимодействия, который он запустил в ранние годы жизни. Далее Миллер ука¬
зывает на то, что если терапевт, обладающий таким паттерном, не осознает его или
не умеет с ним справляться, это представляет опасность для клиентов. Психоана¬
литик должен уметь поддерживать для себя такую экосистему, которая позволя¬
ет постоянно удовлетворять собственные потребности, чтобы избежать соблазна
использовать для их удовлетворения клиентов.
Это сущностное переживание, имеющееся в биографиях многих специалистов
в сфере психического здоровья, движет их желанием заботиться о других, часто
достигая крайне нереалистичных ожиданий относительно своей способности спо¬
собствовать изменениям. Терапевт хочет делать все для всех и принимает на себя
роль защитника ребенка. Вы начинаете полагать, что любого ребенка можно спа¬
сти, если только вы совершите нужное вмешательство в нужное время. Вы счита¬
ете, что можете влиять не только на ребенка, но и на каждую переменную в его
экосистеме. Главным риском здесь является профессиональное выгорание. Когда
реальность бьет вас в полную силу, вы чувствуете себя подавленным и склонны
отказаться от клиента, чтобы ваш провал в удовлетворении его потребностей не
был столь очевидным.
Существует исследование, говорящее о том, что тип и степень контрпереноса,
демонстрируемого терапевтом, могут быть связаны с диагнозом ребенка (Shachner
& Farber, 1997). Дети, диагностированные как дистимики, обычно вызывают наи¬
более позитивный контрперенос. Дети с диагнозом «поведенческие нарушения»
вызывают наиболее негативный контрперенос. На детей с диагнозом «погранич¬
ные психические расстройства» терапевты склонны реагировать наиболее актив¬
ными контрпереносными действиями (действиями, основанными на чувствах те¬
рапевта, а не на материале клиента). В общем, это исследование подкрепляет
мнение о том, что дети с большими нарушениями вызывают у терапевта более
негативный контрперенос и большее отреагирование связанных с ним негативных
чувств.
С этой ситуацией связаны гнев и фрустрация, которую вы испытываете, когда
ребенок не демонстрирует улучшения. Вы чувствуете, что сделали все возможное
для удовлетворения его потребностей и поэтому теперь он должен удовлетворить
ваши или, по меньшей мере, способствовать улучшению вашего самочувствия, по¬
казав позитивные изменения. Эти чувства очевиднее всего в случаях с детьми,
в которых вы вложили много сил и энергии. Особенно сильно фрустрируют ухуд¬
шения и регрессы клиента. Нередко регрессирующие дети с признаками погранич¬
ного расстройства психики часто инициируют такие чувства почти у каждого,
Глава 11. Перенос и контрперенос 341
с кем они вступают в контакт, а не только у своих терапевтов. И снова существует
тенденция со временем отказываться от таких детей.
Бремс (Brems, 1994) выделил четыре типа контрпереноса. Термин проблемно¬
специфический контрперенос используется для описания чувств, вызываемых
бессознательным материалом самого терапевта. Этот тип наиболее часто упоми¬
нается в психоаналитической литературе. К стимульно-специфическому контр¬
переносу относятся негативные реакции терапевта на стимулы, находящиеся вне
терапевтической сессии и не связанные непосредственно с ребенком, такие, напри¬
мер, как развод его родителей. О качественно-специфическом контрпереносе
говорят, когда во всех взаимодействиях с детьми терапевт демонстрирует некото¬
рые личностные черты, даже если они неуместны для данного ребенка. Такой контр¬
перенос можно наблюдать у терапевта, испытывающего потребность в том, чтобы
каждому ребенку нравились его сессии, и поэтому излишне стимулирующего сво¬
их клиентов, в том числе и гиперактивных. Последний, ребенок-специфический
тип контрпереноса имеет место, когда ребенок вызывает у терапевта те же самые
реакции, которые он вызывает у людей, окружающих его в его собственной среде.
Этот последний вид контрпереноса сопряжен с особыми проблемами, потому что
терапевту сложно создавать на сессиях корректирующие переживания. Незави¬
симо от того, какой контрперенос у вас вырабатывается, важен не сам факт его
возникновения — важно лишь то, как вы с ним справляетесь, чтобы продолжать
действовать в интересах ребенка.
Последняя проблема, связанная с контрпереносом, возникает вследствие иден¬
тификации терапевта со своим клиентом или с его родителями. Бремс выделил
четыре типа идентификации. Во-первых, проблемой является идентификация с
ребенком, когда терапевт начинает реагировать на родителей ребенка точно так
же, как и сам ребенок. Все дети приходят на лечение потому, что их родители чув¬
ствуют, что не способны удовлетворить потребности ребенка и нуждаются в по¬
мощи профессионала. Это означает, что все дети-клиенты совершенно оправдан¬
но могут считать, что их родители некоторым образом не смогли позаботиться о
них. Проблемы начинаются, когда вы соглашаетесь с восприятием ребенка и не
учитываете воздействия самого ребенка и его экосистемы на формирование теку¬
щей жизненной ситуации. Такую потерю общей картины особенно легко совершить,
когда родители ребенка на самом деле вели себя халатно или даже деструктивно,
как в случае насилия над ребенком. Вы начинаете считать родителей плохими людь¬
ми, неспособными измениться даже в случае, если изменятся окружающие их усло¬
вия. Вы должны постоянно быть настороже, чтобы не потерять способность ви¬
деть общую картину, потому что это подрывает не только весь процесс лечения
данного клиента, но и вашу способность работать с родителями и придерживать¬
ся экосистемного подхода. С другой стороны, в некоторых ситуациях (например,
жестокое обращение с ребенком) терапевт обязан обратиться в судебные органы,
так как очевидно, что родители действительно неспособны измениться. Детали
того, как и когда необходимо делать такое заключение, не относятся к теме дан¬
ной книги. Важно лишь упомянуть, что такие решения должны приниматься с
крайней осторожностью и только после тщательного исследования того, не повли¬
яли ли на общую картину эмоции терапевта.
342 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Во-вторых, терапевт может выработать идентификацию с родителями ребен¬
ка. В этом случае терапевт начинает смотреть на ребенка и обращаться с ним точ¬
но так же, как и его родители. Это особенно легко сделать, когда приятные, обра¬
зованные родители пытаются справиться с ребенком, имеющим очень серьезные
нарушения. Этот тип контрпереноса, по существу, — обратный вариант типа, опи¬
санного в предыдущем абзаце.
В-третьих, когда терапевту не нравятся некоторые характеристики родителя и
он начинает последовательно поступать в пику ему, говорят о наличии реактив¬
ной идентификации. Терапевту может не нравиться жесткое внимание родителя
к опрятности и чистоте, и поэтому на сессии он поощряет ребенка разводить грязь
и беспорядок. Это приводит к конфликту, в котором терапевт уже встал на одну
из сторон. И наконец, существует проективная идентификация, когда терапевт
относится к неприемлемым потребностям или эмоциям ребенка так, как к своим
собственным. Отличие от простой идентификации с ребенком здесь состоит в том,
что терапевт неспособен осознать, что эти чувства изначально принадлежат ребен¬
ку. Может казаться, что заброшенный ребенок в ходе терапии принимает свою
ситуацию, умудряясь в то же время вызвать у терапевта чувства отверженности и
боли. Это не означает, что ребенок делает это сознательно; скорее, это найденный
им бессознательный способ вызывать чувства у других. Этот тип проблемы опи¬
сывается в большей части клинической литературы, посвященной работе с взрос¬
лыми пациентами, страдающими пограничными психическими расстройствами.
Вне зависимости от природы идентификации она должна рассматриваться как
форма контрпереноса и поэтому попадать под жесткий контроль. При этом про¬
блемой становится не само появление идентификации и/или связанных с ней
чувств, а та степень, в которой она мешает терапевту действовать в интересах ре¬
бенка.
Случай из практики: Аарон
Жизненная ситуация Аарона по своей природе вызывала сочувствие и симпатию. Его
отец медленно умирал, и все, в том числе и сам Аарон, знали об этом, что побуждало
окружающих защищать ребенка, мешая бросить вызов тем неадаптивным способам,
посредством которых он удовлетворял свои потребности. Также это мешало предостав¬
лять ему конкретную информацию, необходимую, чтобы понять, что происходит с от¬
цом и какое воздействие это окажет на его собственную жизнь. Одним из источников
поддержки терапевта Аарона были несколько других терапевтов, каждый из которых
сказал, что они не уверены, смогли бы они работать с ребенком в такой ситуации. Хотя
каждый из них справился бы с собой и осуществил необходимые вмешательства, будь
Аарон их клиентом, осознание ими требуемых для этого усилий помогло поддерживать
этого терапевта на всем протяжении лечения.
Случай из практики: Фрэнк
Фрэнк способствовал развитию практически всех возможных форм контрпереноса.
Исключительное насилие, которому он подвергся со стороны обоих биологических
родителей, обычно побуждало окружающих заботиться о нем и защищать его. Но по¬
скольку он упрямо отвергал все попытки взаимодействия, это обычно приводило к
тому, что окружающие начинали злиться на него, по мере того как уставали от бесплод¬
ных попыток помочь. Видя, что система так и не нашла места для этого ребенка и о нем
Глава 11. Перенос и коптрперенос 343
никто по-настоящему не заботится, многие люди приходили к мысли о его усыновле¬
нии, но то обстоятельство, что он, хотя бы и косвенно, стал причиной гибели собствен¬
ной матери, отпугивало их.
Когда терапевт узнал, что Фрэнк после окончания стационарного лечения не сможет
вернуться к женщине, к которой относился как к матери, это вызвало у него такое ост¬
рое чувство беспомощности, что ему было трудно продолжать работу с Фрэнком. Про¬
должить эту деятельность во время данного кризиса ему помогли две вещи. Одной из
них стало грандиозное улучшение, которое Фрэнк демонстрировал после всего 10 ме¬
сяцев лечения, что позволяло надеяться, что он сможет справиться с этим новым пре¬
пятствием в своем развитии. Другой было когнитивное осознание терапевтом того, что
сейчас Фрэнк нуждается в лечении больше, чем когда-либо. Чтобы избежать возможно¬
сти направлять свой гнев прямо на Фрэнка, он выбрал нескольких людей, ответствен¬
ных за поиск места для него, и дал максимально допустимый выход своей фрустрации,
чтобы способствовать выработке наилучшего из возможных планов перемещения
Фрэнка.
Если ребенку предоставляются подобающие корректирующие переживания и
с ним проводится подобающая когнитивная и вербальная работа, вскоре он пол¬
ностью попадает на терапевтическую фазу роста и доверия. Как только это проис¬
ходит, он начинает совершать изменения, и если должным образом справиться
с проблемами переноса и контрпереноса, эти изменения могут произойти очень
быстро. Чтобы обеспечить перенесение сделанных ребенком в ходе лечения улуч¬
шений во внешний мир, вы должны проводить хотя бы некоторую параллельную
работу со значимыми людьми из его жизни. Стратегии осуществления этой парал¬
лельной работы рассматриваются в следующей главе.
Глава 12
Параллельная работа
Как подчеркивается на всем протяжении данной книги, при планировании и реа¬
лизации процесса игровой терапии вы должны полностью учитывать экосистему
ребенка. Основное внимание здесь уделяется работе, которая должна вестись с ин¬
дивидуальным клиентом, но вам не следует игнорировать потенциальную цен¬
ность изменений или, по меньшей мере, создания условий для изменений некото¬
рых других индивидов или систем, составляющих экосистему ребенка. Наиболее
часто вмешательства, призванные создать изменения, направляются на семью ре¬
бенка или на его родителей, но, кроме того, их можно применять к индивидам или
системам в школах и медицинских учреждениях и к различным правовым систе¬
мам. Термин «параллельный» (collateral) часто используется для обозначения ра¬
боты, выполняемой с родителями, или работы, проводимой самими родителями с
детьми под руководством терапевта. В этой главе под общим названием парал¬
лельной работы обсуждаются все вмешательства, которые вы можете осуществить
в рамках экосистемы ребенка.
Параллельная работа с родителями
Параллельная работа с родителями — это решающий фактор, если вы хотите, что¬
бы игровая терапия успешно удовлетворяла индивидуальные потребности ребен¬
ка. Руководство родителей тоже способствует генерализации улучшений, сделан¬
ных детьми в ходе терапии. Параллельная работа с родителями клиента может
принимать множество форм. Она может предназначаться для поддержки лечения
ребенка путем укрепления вашего союза с родителями или для передачи значи¬
мой информации. Она может задумываться как время для разрешения взаимных
проблем вами и родителями. Она может быть образовательной по своей природе;
то есть вы предоставляете родителям информацию об особенностях патологии их
ребенка, о стратегиях управления поведением и даже об общих родительских на¬
выках. Также параллельная работа с родителями может быть и терапевтической.
Терапевтическую работу можно проводить тремя способами. Во-первых, родите¬
ли могут работать со своими детьми в роли терапевтов, а вы при этом исполнять
роль клинического супервизора. Во-вторых, родители могут приглашаться на со¬
вместные с ребенком сессии или на семейные сессии. В-третьих, родители могут
проходить собственную индивидуальную или супружескую терапию параллель¬
но с работой, проводимой с их ребенком.
Глава 12. Параллельная работа 345
Игровые терапевты склонны считать отдельной целью параллельной работы
вовлечение родителей в лечение ребенка в качестве союзников терапевта. Хотя эта
цель очень желательна, лучше, если она не будет вашей первой целью. Помните,
что именно родитель приводит ребенка на терапию, и возможно, что в момент
обращения к вам эмоциональные потребности родителей, по меньшей мере, столь
же велики, как и потребности ребенка. Часто терапевты ошибочно полагают, буд¬
то, заботясь о ребенке, они удовлетворяют родителя и снижают обостренность его
потребностей. На самом же деле ваши заботливые отношения с ребенком могут
вызвать обратный эффект: родители могут прийти к мысли о том, что они были
полностью некомпетентны как родители и ответственны за нарушения у ребенка.
Они могут почувствовать себя полностью безнадежными, если всего один час кон¬
такта с чужим человеком (с вами) приводит к тому, что их ребенок чувствует и
ведет себя гораздо лучше. Когда у родителей возникают такие чувства, они склон¬
ны, пускай бессознательно, пытаться саботировать сессии. По этой причине вам
лучше приступать к параллельной работе с родителями ребенка, ставя перед со¬
бой цель обратиться к их насущным потребностям и конфликтам.
Чтобы справляться с потребностями родителей и обеспечить поддержку ими
хода лечения ребенка, необходимо встречаться с ними на регулярной основе. По¬
скольку большинство родителей не могут себе позволить две сессии в неделю,
а, для большинства детей стандартная 50-минутная сессия кажется слишком дол¬
гой, хорошим способом пойти навстречу потребностям каждой стороны будет про¬
ведение разделенных сессий {split session). В ходе разделенной сессии родитель
общается с вами 20 минут, а игроЕая сессия с ребенком продолжается 30 минут.
Важные последствия имеет выбор времени встречи с родителем — происходит ли
она в начале игровой сессии или после ее завершения. Обычно родители предпо¬
читают встречаться в начале часа, чтобы они могли рассказать вам о событиях,
произошедших с момента вашего последнего занятия. Если вы используете этот
формат, родители смогут обеспечивать вас информацией, очень полезной для пла¬
нирования содержания игровой сессии ребенка.
У этого формата есть три ограничения. Во-первых, ребенок может почувство¬
вать, что родитель «наговаривает» на него, и поэтому приходить на сессию, силь¬
но тревожась относительно вашей реакции на слова родителя. Во-вторых, ребе¬
нок может подумать, что ваш главный союз заключен с его родителем, потому что
с ним вы всегда встречаетесь в первую очередь. Ребенок может даже прийти к
мысли, что в случае разногласий вы примете сторону родителя. В-третьих, у вас
никогда не будет возможности представить родителю любую информацию о при¬
роде сессий ребенка в случае, если есть что-то, за чем родитель должен следить,
или что-то, что он должен делать в период до вашей следующей встречи.
Альтернативным вариантом является формат, при котором вы встречаетесь с
родителем в течение последних 20 минут сессии, но он тоже имеет ограничения.
При использовании такого режима у ребенка может появиться чувство, что вы
«ябедничаете» про его сессию родителю, даже если вы убедительно гарантируете
ему конфиденциальность материала. Данный режим также может приводить к си¬
туациям, в которых вы не обнаруживаете некоторой очень существенной инфор¬
мации, пока не становится уже поздно использовать ее на сессии.
346 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Несмотря на проблемы, связанные с первым вариантом, он обеспечивает вам
большую часть информации. Кроме того, он задает ситуацию, в которой содержа¬
ние самой последней сессии ребенка является «старыми» новостями, поэтому
родитель с меньшей вероятностью захочет узнать, что именно обнаружилось за ее
время. В любом случае вы можете захотеть предоставить своим клиентам-детям,
особенно старшим, выбор относительно того, как бы они хотели заниматься. Как
только вы объясняете им, что главная цель этих встреч для вас состоит в сборе ин¬
формации о том, как прошла неделя у этого ребенка, они обычно соглашаются на
первый формат.
Независимо от выбранного режима проведения сессий, другой важной целью
проведения любой параллельной работы с родителями, помимо рассмотрения их
потребностей и конфликтов, является формирование и поддержание крепкого
рабочего альянса, подкрепляющего лечение ребенка, который достигается глав¬
ным образом через активный обмен информацией. За исключением родителей,
понимающих и принимающих природу истинной аналитической работы, практи¬
чески невозможно ожидать от родителей длительной поддержки лечения, из ко¬
торого они почти полностью исключены. Родителей необходимо постоянно ин¬
формировать о целях лечения, общем характере сессий и о прогрессе терапии. Без
этой информации они с большой вероятностью будут испытывать фрустрацию
и тревогу и постепенно прервут лечение.
Родители, полностью не осознающие тот факт, что поведение многих детей по
ходу лечения ухудшается, прежде чем пойти на улучшение, могут прервать его как
раз в тот момент, когда терапия вступает в наиболее благоприятный для обеспе¬
чения позитивного эффекта период. Подобным же образом вы не сможете добить¬
ся успеха в вашей работе с ребенком, если не будете полностью информированы
относительно текущего поведения ребенка и состояния его экосистемы. Если вы
не знаете, что родители собираются развестись или что у ребенка только что умер¬
ла бабушка, вы можете неправильно понять многие изменения, которые увидите
у ребенка на сессии. Активный и точный обмен и||формацией между вами и роди¬
телями — единственный наиболее эффективный путь сохранения альянса, под¬
держивающего вашу работу с ребенком.
Помимо простого обмена информацией, и вам и родителям может оказаться
полезным включение в процесс разрешения проблем, связанных с поведением
ребенка в школе и дома. Значительная часть этого вида работы состоит из выра¬
ботки адекватных стратегий управления поведением. Безусловно, это как раз то,
что нужно ребенку, главная проблема которого — плохое поведение, но также это
может быть полезно и для депрессивных, и для отвергаемых детей, и даже для
детей, демонстрирующих саморазрушительное поведение.
С родителями полезно применять ту же самую стратегию разрешения проблем,
которую вы планировали использовать с ребенком, чтобы у каждого из них была
одинаковая практическая база, позволяющая каждому из них в случае необходи¬
мости независимо приступать к разрешению проблемы. Рекомендуется стандарт¬
ная четырехшаговая модель, которую вы используете при работе на сессии с деть¬
ми. Первым шагом родители операционально определяют проблему, которую
хотели бы разрешить. Вторым шагом родители в режиме мозгового штурма гене-
Глава 12. Параллельная работа 34 7
рируют ее возможные решения. Помните, что на этой стадии целью является кре¬
ативность, а не практичность. Третьим шагом осуществляется оценка практиче¬
ской применимости решений, выработанных во время второго шага, и выбор од¬
ного из них для осуществления. Четвертым шагом выбранный способ реализуется
и проводится оценка его эффективности. Если при реализации решения возник¬
ли какие-либо проблемы, процесс начинается сначала.
Так как большая часть проблем, которым вы будете адресовать стратегию поис¬
ка их разрешения — это поведенческие проблемы, обычно бывает неплохо позна¬
комить родителей с основной информацией по управлению поведением. Такие
понятия бихевиоризма, как позитивное и негативное подкрепление, последствия,
лишение и наказание родители часто понимают неверно и применяют неграмотно.
Простой обзор каждого из них может открыть для родителей некоторые пробле¬
мы, с которыми они сталкиваются при выстраивании плана последовательного
управления поведением. Обсуждение использования естественных и логических
последствий также может значительно улучшить навыки родителей в этой обла¬
сти управления поведением.
Как упоминалось в главе 9, естественными последствиями называются такие
последствия, которые наступают после некоторого поведения ребенка, если не
провести предотвращающее их вмешательство. Для иллюстрации таких послед¬
ствий приводились следующие примеры: если коснуться горячей плиты, на руке
появится ожог, а если не чистить зубы, в них образуются дырки. Часто родители
не позволяют наступать естественным последствиям, потому что считают их слиш¬
ком грубыми и жестокими, только для того, чтобы стать еще более жестокими при
применении последствий своего собственного изобретения.
Логическими последствиями называются такие последствия, которые не про¬
исходят сами по себе, но логически вытекают из поведения ребенка. Слишком
многие родители применяют последствия, которые заставляют ребенка плохо себя
чувствовать независимо от того, связано ли последствие с проблемным поведени¬
ем. Часто это последствие становится стандартным наказанием за широкий ряд
проступков. Например, многие родители могут регулярно сокращать время про¬
смотра ребенком телепередач. «Если ты не доешь завтрак, не будет тебе никакого
телевизора». Это последствие не только кажется надуманным, но и постепенно
теряет свою эффективность. Логические последствия проистекают из поведения.
«Если ты не съешь чего-нибудь за завтраком, ты будешь голодным, но больше ни¬
чего не получишь до самого обеда».
Мать Сары была доведена до полного изнеможения ежедневными битвами, начинав¬
шимися, когда она пыталась заставить свою девятилетнюю дочь помыться. Время умы¬
вания обычно заполнялось физической борьбой, утомлявшей и Сару, и ее мать.
В разговоре с терапевтом мать была способна определить естественные последствия,
которые могли бы наступить в случае отказа Сары от умывания. Она понимала, что
скоро Сара сама будет испытывать неудобства, а через несколько дней с большой веро¬
ятностью ее начнут высмеивать сверстники. Но она боялась, что учитель Сары или ро¬
дители других детей подумают, что она негодная мать. После анализа этой ситуации мать
девочки решила, что естественные последствия предпочтительнее тех, которые она са¬
ма создает сейчас. Она сообщила Саре, что больше не будет битв по поводу умывания
348 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
и что отныне выбор времени и способа умывания становится исключительно ее ответ¬
ственностью.
Для усиления интенсивности последствий она добавила еще и несколько логических
последствий. Она сказала Саре, что, поскольку чистая одежда будет только зря пачкать¬
ся, если надевать ее на грязное тело, она больше не будет стирать ничего из ее вещей,
пока Сара не захочет принять ванну. Еще она прибавила, что до этого времени не по¬
беспокоится и о том, чтобы менять ей постельное белье.
Заботясь о своих собственных чувствах, мать позвонила учителю Сары и рассказала
ему о своем плане, попросив его, чтобы он сказал ее дочери нечто поддерживающее
в следующий раз, когда она придет в школу чистой.
В течение нескольких дней Сара не принимала ванну, и ее мать уже отчаялась, решив,
что ее действия не будут иметь никакого эффекта. Затем однажды утром Сара захотела
надеть определенную рубашку, но она оказалась невыстиранной. Она закричала, при¬
шла в бешенство и заплакала, но мать просто повторила свое намерение не стирать
одежду, пока Сара собирается надевать ее на грязное тело, и осталась спокойной. Она
«отразила» фрустрацию дочери, указав в то же время, какое влияние сама Сара может
оказать на всю эту ситуацию. Наконец девочка пошла в школу в другой рубашке. Вече¬
ром она вернулась домой и приняла ванну, а ее мать в это время начала загрузку сти¬
ральной машины. На следующий день она сделала комплимент дочери по поводу ее
внешнего вида, но не сделала ни одного замечания о ванне и умывании. С этого момен¬
та Сара принимала ванну практически каждый день, без малейшего напоминания со
стороны матери.
Миссис Уилсон обратилась к терапевту с проблемой, которая не влекла за собой ника¬
ких естественных последствий. Она пожаловалась, что ее сын, а на самом деле и все
остальные члены ее семьи были неряхами, никогда не убиравшими свои вещи из гос¬
тиной. Она считала, что имеет право спокойно посидеть в своей гостиной в конце дня и
расслабиться, и не видеть при этом разбросанные вокруг вещи. Члены семьи миссис
Уилсон соглашались с разумностью этого ожидания, но настолько привыкли к ее по¬
стоянному ворчанию, что никто не реагировал на него, пока она не срывалась на крик.
Работая с терапевтом своего сына, миссис Уилсон создала очень эффективное логиче¬
ское последствие этой проблемы. Она взяла картонную коробку, бумажный скотч и
фломастер. Затем она объявила своей семье, что ожидает, чтобы каждый день к шести
часам вечера гостиная была свободна от личных вещей. Она пообещала, что на любом
предмете, обнаруженном ею в гостиной после этого времени, она будет ставить дату его
нахождения и помещать в коробку. Предметы, попавшие в ящик, не будут возвращать¬
ся в течение пяти дней с момента подбора. Кроме того, она сказала, что больше не бу¬
дет ворчать и даже никогда не будет никому напоминать о том, что приближается рас¬
четное время — шесть часов вечера.
За все время только один предмет попал в ее коллекцию. Один лишь вид миссис Уил¬
сон, вооруженной коробкой, скотчем и фломастером заставлял семью начинать бешено
суетиться, собирая вещи. Миссис Уилсон получила столь желанный ей порядок в гос¬
тиной, а семья избавилась от ее ворчания.
Стратегии разрешения проблем и управления поведением часто работают наи¬
лучшим образом, если сочетать их использование с применением образователь¬
ного подхода. Родители, приводящие детей на лечение, часто нуждаются в полу¬
чении сравнительно большого количества информации, чтобы более эффективно
работать с вами и со своим ребенком. Один из самых первых моментов, сведения
о котором им требуются, это процесс игровой терапии. В рамках большинства ле-
Глава 12. Параллельная работа 349
чебных программ считается, что соответствующая подготовка членов семьи суще¬
ственна для того, чтобы лечение могло продлиться дольше, чем первые несколько
сессий. Многие детские психотерапевты слышали вопрос: каким это образом мой
ребенок достигнет улучшения, если будет просто приходить сюда и играть? Час¬
то один из вопросов, скрывающихся за этим вопросом, звучит так: почему я плачу
такие деньги за то, что вы играете с моим ребенком, а не работаете с ним? Игро¬
вые терапевты часто неосторожно дают долгую жизнь мифу о том, что просто внима¬
тельная и поддерживающая игра с ребенком выльется в грандиозные изменения.
Хотя до некоторой степени это справедливо, часто в этом сообщении до родите¬
лей доносится следующий скрытый смысл: «Вы были неспособны хорошо играть
с вашим ребенком и, вероятно, неспособны на это и сейчас». Если необходимо,
чтобы родитель услышал данное сообщение, это можно сделать в любой форме,
кроме скрытой.
Адекватное образование родителей в области лечения ребенка содействует со¬
трудничеству относительно всех аспектов этого процесса, начиная с привода ре¬
бенка на сессию до поддержки терапевтической работы с ребенком и оплаты счета.
Как минимум родителей следует проинформировать о теоретической ориентации
терапевта и о практических аспектах процесса лечения. Среди этих аспектов не¬
обходимо упомянуть следующие моменты.
1. Как часто ребенок будет приходить на сессии?
2. Как долго будет длиться каждая сессия?
3. Во сколько обойдется родителям участие ребенка в каждой сессии?
4. Будет ли родитель участвовать в беседах с игровым терапевтом, и если будет,
то как часто и сколько времени в таком случае будут занимать эти встречи?
5. Что будет происходить на сессиях и будет ли родитель узнавать обо всем,
что там случилось?
6. Сколько времени может пройти, прежде чем начнут проявляться эффекты
лечения, и как родители узнают о том, что терапия на самом деле проходит
успешно?
7. Сколько времени займет весь процесс лечения, от диагностики до заверше¬
ния?
На некоторые из этих вопросов легко ответить, и они всегда обсуждаются на
этапе вхождения (см. главу 6), тогда как на другие сложно определенно ответить
в самом начале лечения. Например, в ответ на вопросы о продолжительности ле¬
чения часто лучше всего познакомить родителей с широкой сферой ожидаемых
последствий, чтобы они могли начать мыслить в соответствующих категориях.
Очень важно информировать родителей относительно каждого аспекта плана ле¬
чения и, после его начала, о его ходе. Для информирования и родителей и ребенка
о процессе игровой терапии вы можете просто предложить им почитать книгу Не-
мирова и Аннунциаты A Child's First Book about Play Therapy (Nemiroff & Annun-
ziata, 1990).
При работе с некоторыми родителями терапевт помимо информации о ходе
лечения должен предоставить информацию о текущем функционировании их
350 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
ребенка и о прогнозе. При выполнении этой задачи может потребоваться предо¬
ставить родителям информацию о нормальном развитии детей и о том, как пато¬
логия их ребенка связана с его общим функционированием.
Часто родители, даже те, у кого несколько детей, могут иметь очень нереалис¬
тичные представления о развитии ребенка. Многие из них не знают показателей
нормы, которых должен достигать ребенок на том или ином уровне развития.
И еще очень многие не понимают, какой эффект в будущем будут иметь измене¬
ния когнитивного функционирования ребенка. Например, практически каждый
родитель знает, что двухлетние дети отличаются частыми вспышками темпера¬
мента, но очень немногие понимают, как попытки управлять этими вспышками
повлияют на будущее поведение их ребенка. Предоставление родителям необхо¬
димой информации о развитии ребенка может снизить их тревожность, потому что
это помогает им выработать адекватные ожидания относительно поведения сына
или дочери.
Родители, дети которых демонстрируют более серьезные или необычные рас¬
стройства, часто нуждаются в применении образовательного подхода. Обычно это
необходимо, когда существует взаимодействие между дефицитарным развитием
когнитивной, эмоциональной или поведенческой сферы ребенка и другим нару¬
шением, как в случае с детьми, неспособными к обучению (learning-disabled),
с эпилептиками, аутичными детьми, детьми, страдающими хроническими заболе¬
ваниями или синдромом Туретта1.
Родители, дети которых демонстрируют флуктуации в своем функционирова¬
нии, также могут получить пользу от образовательного подхода. В частности, это
относится к родителям детей, демонстрирующих пограничные личностные рас¬
стройства. Хотя ведутся жаркие прения относительно источников этого расстрой¬
ства, сопровождающих его поведенческих проявлений и возможности диагности¬
ровать его у детей, многие терапевты начали сообщать об увеличении среди своих
клиентов числа детей, картина нарушений которых укладывается в рамки данно¬
го синдрома с точки зрения развития. Эти дети часто отличаются чрезвычайными
колебаниями в каждом аспекте повседневной жизнедеятельности. Поражение
может охватывать их аффективную сферу, логическое мышление, поведение, спо¬
собность тестировать реальность и способность спокойно переносить отделение
от родителей. Когда ребенок достаточно сообразителен и его функционирование
находится на высоком уровне, имеющиеся у него флуктуации могут сильно фру-
стрировать родителей.
Одной из характеристик, общих для той подгруппы детей с пограничными
личностными расстройствами, функционирование которых находится на высоком
уровне, является тенденция отлично адаптироваться в школе, где их день четко
структурирован, и при этом ужасно вести себя дома. Родители часто сообщают о
том, что поведение их ребенка приближается к психотическому, и приходят в от-
1 Синдром Туретта — симптомокомплекс поражения центральной нервной системы, характеризую¬
щийся пароксизмальными тикоидными подергиваниями мышц лица, шеи, верхних и нижних конеч¬
ностей, напряженностью дыхательной мускулатуры и мышц, участвующих в речевом акте, с непро¬
извольными импульсивными выкриками отдельных звуков и слов (Большая медицинская энцик¬
лопедия. — М., 1985). — Примеч. пер.
Глава 12. Параллельная работа 351
чаяние оттого, что никто с ними не соглашается. Это расхождение может еще бо¬
лее обостряться тем фактом, что ребенок может очень по-разному вести себя с
каждым из родителей. Часто именно мать является центром, в который направле¬
на большая часть отреагирования ребенка. Объяснение этим родителям того, что
дети испытывают свою главную тревогу относительно проблем их индивидуации
и сепарации от родителей, часто вводит их еще в большее замешательство. Поче¬
му в таком случае дети не становятся еще хуже, когда находятся не дома? Почему
они не проявляют большего отреагирования с отцом? Родители должны знать, что
абсолютно неэмоциональные отделения, такие как поход в школу, могут и не ак¬
тивировать страхов ребенка, и поэтому их когнитивная способность помнить о
том, что в конце дня они вновь соединятся со своими семьями, остается сохран¬
ной. Дома, однако, они вступают в многочисленные эмоциональные транзакции с
родителями, и каждый раз, когда эти контакты приобретают хотя бы незначитель¬
ный и неявный негативный оттенок, повышается тревога детей, они начинают
бояться отвержения и часто отреагируют свои эмоции очень экспрессивно. Целост¬
ная система установок родителей и стиль их взаимодействия с ребенком смогут
измениться только тогда, когда они поймут, что поведением их ребенка движет не
стремление встать в оппозицию, а тревожность.
Чтобы не затрачивать много времени на сессии на предоставление родителям
большого объема практической информации, можно обратиться к библиотерапии.
И родителям, и детям доступны много хороших книг, написанных на разнообраз¬
нейшие темы, от совладания с хроническими болезнями до копингов в случае ал¬
коголизма или ситуации развода родителей. К сожалению, очень немного книг по
психопатологии ребенка написаны с прагматических позиций, которые находят
столь полезными родители, поэтому именно от вас зависит совершение перевода
массы доступной информации в нечто, что могли бы использовать родители.
Наконец, многим родителям полезно обучение специфическим родительским
навыкам. Существует множество программ подготовки родителей; для примера
см. Parent Effectiveness Training (Gordon, 1970), Systematic Training for Effective Pa¬
renting (Dinkmeyer & McKay, 1982), а также Active Parenting (Popkin, 1983). Bee,
что вам понадобится сделать, — найти программу, удовлетворяющую потребно¬
сти родителей, с которыми вы работаете, и приступить к ее применению.
Для того чтобы ребенок получил пользу от игровой терапии, некоторые роди¬
тели нуждаются в чем-то большем, нежели простая стратегия разрешения проблем
или образовательная программа. Таким родителям полезны терапевтические вме¬
шательства. Существуют три различных способа подключения родителей к тера¬
певтическому подходу: 1) родители выступают в роли терапевта своего ребенка
под вашей супервизией; 2) родители участвуют в совместных сессиях с ребенком
или в семейных сессиях; 3) параллельно с лечением ребенка родители проходят
собственный курс индивидуальной или семейной психотерапии.
Родители в качестве детского терапевта
Применение ряда техник позволяет включить родителей непосредственно в лече¬
ние ребенка. Одна из наиболее традиционных техник — дочерняя терапия (Andro-
nico, Fidler, Guerney, & Guerney, 1967; Guerney, 1964). Другим подходом, в рамках
352 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
которого родители занимаются лечением своих детей, является играпия (Jernberg,
1979).
Родители могут участвовать в терапии своих детей самыми разными способа¬
ми, предложенными терапевтом. Они могут присутствовать на некоторых сессиях
либо наблюдать за ними со стороны (вместе со специалистом, комментирующим
происходящее, или без него). Могут участвовать в структурированных упражне¬
ниях со своим ребенком. Наконец, могут выполнять задания терапевта по работе
с ребенком между сессиями.
Одно из заданий, полезных практически всем родителям и детям, это введение
дома «специального времени». Эта концепция очень проста: ежедневно ребенок
получает от 10 до 20 минут родительского времени, в течение которых ему предо¬
ставляется вся полнота контроля. Данная методика основана на замечании, что
многие демонстрируемые детьми симптомы имеют для них побочную выгоду в
виде получаемого внимания родителей, и способствуют выработке у них чувства
контроля над ситуацией. Виды вмешательства, дающие ребенку эти подкрепле¬
ния, не ожидая, пока он начнет проявлять подобные симптомы, могут быть очень
эффективными.
Родитель ежедневно должен уделять ребенку приблизительно по 15 минут,
в течение которых он целиком и полностью сконцентрирован на удовлетворении
потребностей ребенка, по мере того как тот о них сообщает. Ребенок может попро¬
сить родителя начать совершать любые действия. Единственное ограничение свя¬
зано с тем, что данные действия должны быть безопасными, разумными (с финан¬
совой, пространственной и других точек зрения) и их выполнение не должно
занимать более 15 минут. Временной режим строго соблюдается, чтобы родитель
с ребенком не могли, пропустив несколько дней, затем устраивать в виде компен¬
сации часовую сессию. Единственный аспект «специального времени», который
контролирует родитель, это время его начала и окончания. Ключевые элементы
здесь — концентрированное внимание родителя и тот факт, что ребенок контро¬
лирует действия, которые они должны совершить.
Родителя следует поощрять давать этому времени некое название и создавать
сигналы к его началу и окончанию. Некоторые родители просто называют его
«время (имя ребенка)», например «время Сэма» или «время Салли», и устанав¬
ливают кухонный таймер, чтобы отметить его начало; звонок таймера обозначает
завершение. В других парах родитель/ребенок, определение времени больше по¬
хоже на ритуал с отключением телефона и перемещением в специально выделен¬
ное для этого место дома, в соответствии с потребностями ребенка. Некоторым
родителям понадобится потренировать свои роли, которые им предстоит испол¬
нять в течение «специального времени», в ходе игровой сессии их ребенка, чтобы
научиться отказываться от своего контроля и полностью ориентироваться на по¬
требности ребенка.
Часто в ответ на рекомендацию ввести «специальное время» у родителей воз¬
никает много вопросов и жалоб. Одна из них состоит в том, что они просто не мо¬
гут выделять время на это каждый день. В этом случае терапевт может вместе с
родителем проанализировать его распорядок дня и все-таки найти свободное вре¬
мя или деятельность, которую можно безболезненно заменить. Некоторые роди-
Глава 12. Параллельная работа 353
тел и просто увеличивают на 15 минут обычный процесс отхода ребенка ко сну,
другие могут решить отказаться от просмотра одного телевизионного шоу, а для
других будет проще подниматься по утрам на 15 минут раньше. Если родитель се¬
рьезно противится выкраиванию даже 10 минут ежедневно и вы верите, что это
сопротивление вызвано исключительно нехваткой времени, вы можете рассмот¬
реть вероятность очень серьезных проблем в детско-родительских отношениях,
и вам следует поставить под вопрос способность родителя обеспечивать необхо¬
димую заботу о ребенке. В такой ситуации прежде всего необходимо обратиться к
этой проблеме при помощи некоторой формы семейной терапии, вместо того что¬
бы пытаться индивидуально работать с ребенком.
Другие родители выражают сопротивление, говоря, что они и так каждый день
посвящают ребенку значительно больше времени, чем 15 минут. Эта оценка мо¬
жет быть очень реалистичной, и в этом случае важно дать понять таким родителям,
что им не обязательно прибавлять к тому, что они делают, еще 15 минут, а просто
можно назвать один 15-минутный блок «специальным временем». Объясните не¬
обходимость этого в терминах потребности маленького ребенка в конкретных на¬
званиях, чтобы узнавать объекты и явления. Читая следующий пример, многие ро¬
дители могут вспомнить некоторые события.
Идя за рождественскими покупками, Джо взял с собой сына, Тима. Они остановились
позавтракать в ресторане быстрого питания и Джо, подчиняясь духу праздника, позво¬
лил Тиму взять себе вместе с едой большое сливочное мороженое со взбитыми сливка¬
ми. Очевидно, Джо не позволил бы такого дома и считал, что он сделал Тиму большой
сюрприз, хотя не назвал его таковым вслух. Немного позже Тим увидел витрину, пол¬
ную конфет, и начал просить купить ему что-нибудь вкусненькое.
Тим: «Только в этот раз! Сделай мне сюрприз, пожалуйста!» Джо: «Нет. Ты уже полу¬
чил свой сюрприз». Тим: «Что? Какой сюрприз?» Джо: «Помнишь то огромное моро¬
женое?» Тим: «Это был не сюрприз, это был завтрак. Ты не сказал, что ничего больше
мне не купишь, если я возьму мороженое. Если бы ты сказал, я бы не стал его есть. Я на
самом деле и не хотел его. Я хочу какую-нибудь конфету».
В этом примере оба участника ситуации попадают в тупик, главным образом
потому что потребности отца чувствовать себя щедрым позволено пересиливать
потребность ребенка в получении некоторого подарка, соответствующего его же¬
ланиям. Джо начинает злиться, потому что чувствует, что Тим не оценил мороже¬
ное, а Тим начинает злиться, потому что не получает конфету. Проблемы можно
было бы избежать, если бы отец ясно назвал мороженое сюрпризом, — предпола¬
галось, что задень можно получить только один подарок — и Тим получил бы не¬
кий выбор в этом вопросе.
Чтобы «специальное время» имело желаемый эффект, при его введении необ¬
ходимо, чтобы все эти факторы были очевидными. Введя «специальное время»,
многие родители приходят в ужас оттого, что могут потратить целый день на поход
с ребенком в зоопарк или цирк, только для того чтобы он после этого напоминал
им, что сегодня еще не было «специального времени». Это отражает потребность
ребенка в таком времени, а также трудность в осознании времени, проведенного с
родителем, и его ценности.
354 Часть III, Курс индивидуальной игровой терапии
Некоторых родителей гораздо больше беспокоит сама возможность предостав¬
лять ребенку полный контроль над чем-нибудь, чем «потерянные» 15 минут. А что,
если ребенок захочет сделать что-нибудь опасное, постыдное, нелепое или отвра¬
тительное? Очевидно, что не следует допускать опасных занятий, но даже самые
нелепые или отвратительные действия не лишены своих преимуществ.
Одна мать рассказывала, что однажды, после проведения «специального времени» со
своим восьмилетним сыном в течение двух недель, он попросил ее провести все сего¬
дняшнее «специальное время», рыгая. Так как мать часто жаловалась, что она считает
отрыжку оскорбительной и обидной, она поняла, что сын проверяет, как она выдержит
свое обещание делать все, что он захочет. Она поступила мудро, согласившись на пред¬
ложение сына, и тот действительно 15 минут рыгал, издавая при этом всякие звуки и
полутона. На своей игровой сессии, имевшей место на этой неделе, он со смехом сооб¬
щил терапевту, что мама разрешила ему рыгать все «специальное время» напролет. Он
позитивно отреагировал на интерпретации, отмечающие тот факт, что он должен чув¬
ствовать, что мама имела в виду, говоря о том, что «специальное время» полностью
принадлежит ему. После этой интерпретации он сам вдруг сообщил, что не будет де¬
лать этого снова, потому что потратил на это занятие все свое время и потерял возмож¬
ность использовать его, чтобы поиграть с мамой.
Кроме того, родители часто спрашивают, стоит ли им проводить эти 15-минут-
ные сессии «специального времени» в дни, когда ребенок на самом деле ведет себя
очень плохо. Им следует напомнить, что это время должно отводиться ребенку
независимо ни от каких условий, — в конце концов, даже плохой ребенок заслу¬
живает 15 минут родительского времени в день. Родителю можно посоветовать по¬
дождать случая, когда он сможет поймать ребенка между эпизодами негативного
отреагирования, и предложить ему воспользоваться его правом на «специальное
время», независимо от того, что происходило в течение дня. Однако идея безу¬
словности не означает, что ребенок может отреагировать в течение «специально¬
го времени». Если ребенок становится агрессивным или теряет контроль над со¬
бой, родителю следует спокойно закончить сегодняшнее «специальное время»,
напомнив ребенку, что на следующий день у них снова будет возможность прове¬
сти его. Если отреагирование продолжается, родителю следует прибегнуть к обыч¬
ному формату установления ограничений.
Наконец, родители спрашивают, что им следует делать, если все дети в их се¬
мье хотят, чтобы с ними проводили «специальное время», или если ребенок хочет
проводить «специальное время» с обоими родителями. Здесь следует поощрять
гибкость и креативность, чтобы обеспечить каждому ребенку, который хочет ис¬
полнять эту процедуру, возможность делать это каждый день. В некоторых семьях
этот процесс поставлен так, что половина детей за вечер проводят «специальное
время» с отцом, а другая половина — с матерью. На следующий вечер происходит
смена родителей и детей. В других семьях ребенок каждый вечер участвует в этом
процессе и с отцом, и с матерью.
Время от времени ребенок бывает таким пассивным и заторможенным, что со¬
вершенно искренне не может придумать никакого занятия в «специальное время».
В этом случае родитель может предложить ему список возможностей, но ему не
следует ничего делать до тех пор, пока ребенок не укажет на что-либо одно. При
Глава 12. Параллельная работа 355
составлении списка возможных действий поощряйте родителей включать в него
те действия, которые не являются особо целенаправленными и не связаны с кон¬
куренцией, например выдувание мыльных пузырей и погоня за ними, щекотание,
борьба, кормление друг друга сухими хлопьями, рисование портретов друг друга,
дуэль на водяных пистолетах и драка подушками. Идея каждой игры состоит в
том, чтобы быть с ребенком, включаясь в интерактивную, а не параллельную игру.
«Специальное время» полезно практически всем детям, но особенно ценно пе¬
ред введением родителями более жестких ограничений поведения. Родителя, уста¬
навливающего границы физической агрессии ребенка, можно попросить в тече¬
ние одной недели описывать базовый уровень агрессивного поведения и начинать
«специальное время» в качестве прививки отношениям с ребенком против стрес¬
са, продуцируемого, когда родитель переходит к более жестким ограничениям
поведения.
Когда вы рекомендуете родителям что-то, что ребенок воспримет позитивно,
всегда делайте это в его отсутствие. Затем эта информация сообщается ему роди¬
телями, а не игровым терапевтом, чтобы позволить ребенку увидеть, что его роди¬
тели хорошие сами по себе, а не просто подчиняются контролю хорошего терапевта.
Совместные детско-родительские сессии
Терапевтические стратегии, обсуждавшиеся до сих пор, в большей или меньшей
степени включали родителей в процесс лечения их детей в роли терапевтов. Иног¬
да полезно, когда родитель участвует в терапии своего ребенка в роли клиента,
и это достигается при помощи совместных или семейных терапевтических сессий.
Этот подход позволяет родителю и ребенку находиться в похожих ролях по отно¬
шению к терапевту и может приводить к возникновению некоего альянса между
ними. Полное обсуждение семейной психотерапии, игровой или иной, не являет¬
ся целью данной книги, поэтому сейчас мы обратим внимание на проведение со¬
вместных сессий с участием одного или обоих родителей и ребенка.
Формат этой работы коротко обсуждался в главе 6. Сессия разделяется на три
части: 15 минут работы с родителем и ребенком, 15 минут работы только с роди¬
телем, и 30 минут работы только с ребенком. Этот формат позволяет терапевту ис¬
пользовать совместную 15-минутную сессию для вовлечения ребенка и родителя
в разрешение социальных проблем на примере инцидентов, произошедших со вре¬
мени последней игровой сессии. Пятнадцатиминутная сессия с родителем исполь¬
зуется для обзора состояния семьи и восприятия родителем функционирования
ребенка. Полчаса, проводимые после этого с ребенком, используются для прове¬
дения стандартной игровой сессии.
Миссис Томас и ее девятилетняя дочь Пенни обратились с просьбой о лечении, вы¬
званной крайней тревогой Пенни относительно отделения. Со временем стало очевид¬
ным, что Пенни и ее мать часто вступали в серьезные споры, которые главным образом
были результатом неверного понимания намерений друг друга. Для работы с ними при¬
менялись сессии, состоящие из трех частей, чтобы данные споры могли стать целью
вмешательства, не относящегося к содержанию игровых сессий.
Совместная часть сессии начиналась с того, что миссис Томас и Пенни описывали каж¬
дая свою версию споров, которые велись на этой неделе. После этого под руководством
356 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
терапевта они приступали к процессу разрешения проблем. Случаи, выбираемые ими
для работы, варьировались от споров по поводу выполнения работы по дому и проблем
Пенни со сверстниками до конфликтов между родителями относительно того, как сле¬
дует реагировать на поведение дочери. С помощью терапевта они смогли понять точку
зрения друг друга на поведение дочери и достичь компромисса.
Пятнадцатиминутные сессии миссис Томас варьировались по направленности. Иног¬
да они были образовательными, нацеленными на улучшение ее родительских навыков
или понимания психопатологии Пенни. Иногда проводились поддерживающие сессии,
целью которых было эмпатичное сочувствие переживаемому миссис Томас напряже¬
нию в результате ее попыток воспитывать очень трудного ребенка. А иногда внимание
сессии было сконцентрировано на конфликтах миссис Томас и ее мужа и воздействии
этих событий на Пенни.
После этого Пенни могла использовать свои игровые сессии для работы с другими
проблемами, помимо споров с матерью. На этих сессиях поднимались темы отделения
(сепарации), боязни критики и потребности Пенни во внимании и заботе взрослых
Такой формат имел дополнительное преимущество, так как предоставлял кон¬
кретный способ укрепления границ, необходимых для разделения миссис Томас
и ее дочери. Они могли разделить все проблемы на общие проблемы, проблемы
миссис Томас и проблемы Пенни.
Очень часто, по мере того как игровой терапевт взаимодействует с родителя¬
ми клиента, становится очевидным, что им будет полезно самим пройти курс ле¬
чения. Более того, очень просто скатиться к этой роли, начав предоставлять такое
лечение, не проговорив открыто его условия и сам факт его прохождения. Снача¬
ла вы видитесь с родителем от 15 до 20 минут каждую неделю, и ваши беседы ка¬
саются ребенка и его лечения. Постепенно вы обнаруживаете, что время общения
с родителем расширилось до 30-40 минут и что его содержание главным образом,
если не исключительно, концентрируется на родителе и на его проблемах, не свя¬
занных с ребенком. В этот момент вы можете разозлиться на родителя за то, что
он занимает время ребенка, и попытаться установить ограничения, которые, од¬
нако, приведут только к отчуждению родителя, часто до такой степени, что он нач¬
нет чувствовать, что вы его отвергаете. Логичным результатом будет прерывание
родителем и своей терапии, и терапии ребенка.
С такой ситуацией можно сравнительно легко справиться, если с самого нача¬
ла соблюдать некоторые простые правила. Во-первых, четко определяйте время,
отводимое вами для родителя, и строго придерживаетесь его независимо от того,
насколько важным кажется содержание беседы. Если это решение превращается
в проблему, напомните родителю, что в заключенном контракте указано, что долж¬
но осуществляться лечение ребенка, которое требует определенной продолжи¬
тельности каждой из терапевтических сессий. Во-вторых, всегда четко отслежи¬
вайте моменты, когда родитель переключается на проблему, не связанную с
ребенком (Chetik, 1989). Признавая эти проблемы, важно сочувствовать родите¬
лю и осознавать их важность, делая при этом акцент на том, что вашей первичной
задачей является работа с взаимодействиями родитель—ребенок. Легко попасть
под власть точки зрения, что все, касающееся родителя, влияет и на ребенка. До
некоторой степени это так, но также верно и то, что все семьи должны обладать
адекватными границами, защищающими ребенка от некоторых переживаний ро-
Глава 12. Параллельная работа 357
дителей. Если становится очевидным, что вы регулярно меняете ярлыки для ма¬
териала родителя, это означает, что пришло время предположить, что он стремит¬
ся к лечению для себя. В этом случае следует применить технику отражения и упо¬
мянуть о том, что при ваших беседах часто всплывают собственные проблемы
родителя, что они важны и что ограниченное время параллельной сессии мешает
достаточно подробно поработать с этими проблемами.
Параллельное индивидуальное лечение родителя
(или супружеской пары)
Наконец, вы можете столкнуться с тем, что родитель попросит вас начать его ин¬
дивидуальное лечение. Это довольно естественный итог, если вы с самого начала
сформировали и поддерживаете хороший рабочий альянс с ним. Решение о том,
соглашаться на это или нет, лучше всего принимать на основании вашего представ¬
ления о своей способности удовлетворять потребности и родителя и ребенка, со¬
храняя при этом адекватные границы. Если это удавалось вам в ходе начальной
параллельной работы, вероятно, будет удаваться и дальше. Но если эти вопросы
порождали проблемы в ходе параллельной работы, раздельные сессии не прине¬
сут улучшения.
Питер, 10-летний мальчик, проходил лечение в условиях стационара для детей с серь¬
езными поведенческими проблемами. Питер был крайне запущенным, зависимым и де¬
монстрировал некоторые модели поведения, характерные для аутичных детей. Во вре¬
мя пребывания Питера в стационаре выяснилось, что его мать была ужасно озабочена
контролированием его стула, так как была уверена, что в противном случае у мальчика
возникнут серьезные нарушения.
Мать хотела, чтобы персонал клиники в течение недели назначал ребенку слабитель¬
ные и клизмы, а она продолжала бы применять их, когда Питер приходил домой на
выходные. В течение недели сотрудники не шли на это и не замечали у Питера никаких
проблем со стулом. Медицинское исследование не выявило никаких проблем, и мать
была проинформирована о том, что ей следует немедленно прекратить вмешательства
во время приездов Питера домой. Рассматривалась возможность передачи этого дела в
Службу защиты детей, но затем было решено, что в качестве первого шага лучше по¬
пробовать провести параллельное лечение матери и сына.
Индивидуальные терапевтические сессии Питера, начатые раньше, не претерпели из¬
менений. Они остались достаточно неструктурированными и были направлены на то,
чтобы помочь ему стать более непосредственным и активным в области межличност¬
ных отношений. Задачей же сессий, совместных с матерью, стало превращение ее на¬
вязчивого вторжения в процесс дефекации ребенка в другие, более продуктивные вза¬
имодействия. Терапевт предположил, что она испытывает огромное желание помогать
своему ребенку и с готовностью примется за выполнение других задач, не связанных с
функционированием кишечника сына. Но вместо этого мать проявляла сопротивление
на каждом шаге этого пути, постоянно пытаясь вернуться к практике назначения клиз¬
мы или слабительного. Постепенно стало очевидным, что она обладала серьезным нар-
циссическим радикалом, и устойчивость ее самооценки зависела от способности воспи¬
тывать ребенка и быть для него хорошим родителем. К сожалению, в ее представлении
хорошим был родитель, устанавливающий и поддерживающий полный контроль над
ребенком. Создавалось впечатление, что ее эмоциональное вложение в ребенка осу¬
ществлялось исключительно для обретения чувства выполненного долга, которого она
могла добиться посредством своих медицинских вмешательств.
358 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Тогда терапевт поставил для параллельных сессий другую задачу и начал сильно со¬
чувствовать недостатку положительных чувств, сообщаемых этой матери ее сыном.
Также терапевт определил, что, поскольку мальчик вынужден спать в ее комнате, она
не может получать никакого удовлетворения, которое могла бы получать от отноше¬
ний со взрослым мужчиной. Он определил, что ее страх того, что ребенок не способен
позаботиться о себе, целыми днями удерживает ее дома и мешает ей удовлетворять свои
взрослые межличностные потребности. По мере дальнейшего исследования вопроса
мать переключилась с разговоров о трудностях сына на разговоры о собственных разо¬
чарованиях и страданиях, вызванных наличием сына, обладающего такими нарушени¬
ями. Кроме того, она определила, что именно чувство вины заставляло ее так настой¬
чиво вторгаться во все сферы жизни ребенка.
Терапевт Питера постоянно признавал важность этих вопросов для матери, в то же
время отмечая, что их нельзя рассматривать в ходе еженедельных 20-минутных сессий.
После серьезных разговоров с терапевтом и ломания рук мать решила начать прохож¬
дение своей собственной терапии. В этот момент терапевт Питера начал помогать ей
прояснять, какие проблемы напрямую связаны с ее ребенком и поэтому подлежат об¬
суждению в течение параллельных сессий, а какие относятся к ее внутреннему миру и
поэтому более уместно обсуждать их с ее личным терапевтом.
По мере того как эти границы становились все более явственными и мать приобретала
способность удовлетворять некоторые из собственных потребностей, ее потребность в
контролировании ребенка значительно снизилась. Она смогла прекратить применение
клизм и слабительных. Затем она решилась позволить Питеру самостоятельно готовить
несложные блюда, иметь собственную комнату и настаивать на том, чтобы он спал в
собственной постели. Она даже смогла позволить ему играть на улице с соседскими
детьми и оставаться на ночь у друга либо приглашать его к себе. По мере ослабления
контроля она обнаружила, что ее ребенок на самом деле гораздо более компетентный и
адаптивный, чем она могла предположить. Кроме того, она увидела, что теперь у нее
появилось время для того, чтобы куда-нибудь сходить и удовлетворять свои межлич¬
ностные потребности. Отношения матери и сына нормализовались, и оба были очень
довольны новым положением вещей.
Случай из практики: Ларон
С матерью Аарона проводилась гигантская параллельная работа. Еженедельные сессии
были разделенными. В течение части сессии, посвященной матери, терапевт работал,
применяя несколько различных способов. Некоторое время уделялось для обмена ин¬
формацией о продвижении лечения Аарона; некоторое время занимало обучение мате¬
ри нормам поведения шестилетних детей, чтобы она могла в этом контексте оценивать
изменения, сделанные ее сыном в ходе лечения. Еще некоторое время уходило на ее
просвещение в области принципов переработки информации детьми, находящимися,
как и Аарон, на дооперациональной стадии мышления. Например, она никогда не учи¬
тывала возможности того, что Аарон может бояться заразиться от отца его заболевани¬
ем. И наконец, еще одна часть времени посвящалась поддержке матери в ее попытках
справляться с чрезвычайно стрессогенными условиями жизни.
Кроме того, мать Аарона непосредственно включалась в его лечение с седьмой по деся¬
тую сессию, а также участвовала в заключительной сессии. В течение этих сессий мать
постепенно все больше выступала в роли терапевта, тогда как сам терапевт действовал
как ее наставник. В ходе седьмой сессии они вместе с Аароном повторили процедуру
рисования шоколадным пудингом при помощи пальцев, которую Аарон и терапевт
выполняли на их шестой встрече. В течение восьмой сессии они планировали лишен-
Глава 12. Параллельнаяработа 359
ные конкуренции игры, в которых нужно было кормить друг друга. Каждый из них за¬
крывал глаза и пытался угадать, чем его кормит другой. Каждый из них смотрел, мо¬
жет ли он различить фрукты на ощупь или по запаху. В течение этой сессии они также
много играли в игры, сопряженные с суматохой, свалкой и неразберихой. Готовясь к
окончанию лечения, терапевт попросил Аарона и его мать принести из дома игру, кото¬
рая им нравится, чтобы они могли поиграть в нее на девятой сессии. Они принесли на¬
стольную игру, соответствующую уровню развития Аарона, в которую он играл без
своей обычной ригидности и не выходил из себя в случае проигрыша. Терапевт попро¬
сил и мать и сына проговаривать во время игры свои чувства по отношению к ней.
В течение этих сессий терапевт начал проводить телефонные беседы с матерью и с от¬
цом ребенка. Эти сессии начались, когда стало очевидным, что отцу несколько угрожа¬
ет растущая привязанность Аарона к терапевту и к работнику, который был нанят ро¬
дителями для помощи по дому и в уходе за отцом. В ходе этих телефонных сессий
терапевт и родители придумывали способы, позволяющие отцу активно заниматься с
Аароном, несмотря на то что его физическое здоровье продолжало ухудшаться. За 10 не¬
дель, прошедших с начала лечения, отец перестал читать Аарону на ночь, потому что у
него больше не было сил говорить больше чем несколько минут подряд. Результатом
этих телефонных контактов стало решение отца посетить заключительную сессию и
участвовать в праздновании тех полезных приобретений, которые его сын сделал за это
время. Это было героическим и дорогим предприятием, потому что транспортировка
должна была осуществляться бригадой медработников.
Случай из практики: Фрэнк
Ни один из биологических родителей Фрэнка не был доступен для проведения с ним
параллельной работы. В ограниченном варианте параллельная работа проводилась с
женщиной, руководившей групповой клиникой, в которую был помещен мальчик, и с
женщиной, руководившей клиникой, куда он был перемещен после выписки из преды¬
дущей. В обоих случаях интервенции заключались главным образом в поддерживаю¬
щей работе, в ходе которой происходил обмен информацией о функционировании
Фрэнка. Кроме того, реализовывалась некоторая деятельность по разрешению проблем,
связанных с выработкой адекватных стратегий управления его поведением.
Прежний терапевт Фрэнка проводил значительную параллельную работу с его прием¬
ной матерью, включающую смежные сессии, посвященные выработке детско-родитель¬
ской привязанности и, следовательно, непосредственно вводившими фостерную мать
ребенка в процесс лечения. Для образования приемной матери в вопросах природы по¬
сттравматических реакций Фрэнка и потенциальных стратегий интервенций, которые
она могла бы применять, использовались разделенные сессии. Кроме того, такие сес¬
сии применялись для обеспечения поддержки и кризисного вмешательства в случаях,
когда агрессия Фрэнка превышала допустимые пределы.
Параллельная работа со школьным персоналом
Основное время детей делится между пребыванием дома с родителями и пребы¬
ванием в школе. Школа может способствовать патологическому поведению ребен¬
ка или, напротив, играть большую роль в решении его проблем. Если сотрудники
школы или сверстники ребенка негативно реагируют на происходящие в его пове¬
дении изменения, инициируемые психотерапией, обеспечение дальнейших улуч¬
шений может стать достаточно проблематичным. Если школа поддерживает из¬
менения ребенка, он с большой вероятностью будет быстро продвигаться по пути
360 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
к здоровью. В силу воздействия школы на психическое здоровье ребенка интер¬
венции, позитивно влияющие на связанные со школой переживания, могут суще¬
ственно улучшить общий прогресс ребенка в терапии.
Случай из практики: Аарон
Терапевт Аарона не имел прямого контакта с его школой. Но зато мать ребенка обща¬
лась с классной руководительницей мальчика и объясняла ей, что Аарон проходит те¬
рапию, а также просила, чтобы она потерпела временное ухудшение его поведения.
К счастью, учительница была очень отзывчивой и сказала, что не будет возражать, если
Аарон немного займется отреагированием; на самом деле она считала, что может даже
стимулировать его, чтобы он был несколько более раскованным и игривым.
Случай из практики: Фрэнк
Поскольку Фрэнк жил в стационаре, было сравнительно легко осуществлять вмеша¬
тельства в его школьную программу. Терапевт проводил консультации с различными
представителями школьного персонала. В первую очередь он предоставлял служащим
информацию относительно общего функционирования Фрэнка и воздействия его био¬
графии на его развитие и на его паттерны реагирования и поведения. Во-вторых, взаи¬
модействуя с персоналом, он планировал обучающую программу, призванную способ¬
ствовать социальному и эмоциональному развитию Фрэнка, не будучи при этом
стрессогенным фактором, вызывающим бурное отреагирование. Наконец, наиболее
важной частью параллельной работы было взаимодействие с учительницей, в ходе ко¬
торого были выработаны несколько серий интервенций для их проведения в классе.
Эти интервенции должны были способствовать прогрессу Фрэнка в терапии и генера¬
лизации сделанных им улучшений.
Фрэнку повезло, что его учительница с готовностью согласилась непосредственно
включиться в его лечение. Каждый день она проводила по две индивидуальные полу¬
часовые сессии с ребенком. В ходе этих сессий она повторяла многие из корректирую¬
щих переживаний, осуществляемых терапевтом в течение недели. Главным образом это
были высокоактивные физические мероприятия, призванные поднять у Фрэнка уро¬
вень доверия. Взаимодействия с учительницей уравновешивали взаимодействия, про¬
исходящие у него с терапевтом, так как у Фрэнка появилась возможность взаимодей¬
ствовать с женщиной, в очень структурированной и все же очень заботливой среде.
Кроме того, учительница способствовала дополнительной переработке биографиче¬
ской информации, поскольку ее звали так же, как и родную мать Фрэнка. Из-за того
что учительница и терапевт смогли работать в такой тесной связке, создавался такой
же терапевтический эффект, как если бы Фрэнк проходил лечение по меньшей мере
пять раз в неделю.
Параллельная работа с медицинскими работниками
При лечении детей с сопутствующими медицинскими проблемами вам может по¬
надобиться тесно сотрудничать со специалистами-медиками, проводящими меди¬
цинское лечение ребенка. Критически важно, чтобы вы понимали, какое влияние
может оказывать заболевание ребенка на его поведение.
Многие хронические заболевания оказывают мощнейшее воздействие на де¬
тей. Один терапевт рассказывал, что каждый из членов группы детей-астматиков
в возрасте от 6 до 12 лет, с которой он работал, имел мысли о самоубийстве. Дети
Глава 12. Параллельная работа 361
говорили, что знают, что однажды их болезнь может убить их, и не лучше ли опе¬
редить ее, чем все время жить с такими мыслями?
Заболевание ребенка будет по-разному воздействовать на него на разных стади¬
ях развития. Дети третьего уровня, страдающие диабетом, с большой вероятностью
будут негодовать по поводу своей болезни и бояться уколов, но они достаточно
быстро адаптируются к своему положению. Если же взять подростков-диабети-
ков, находящихся на четвертом уровне развития, то они склонны вести себя так,
как будто они не чувствуют долговременных последствий своей болезни и игно¬
рировать симптомы. Они будут есть то, что хотят и когда хотят, а затем экспери¬
ментировать с дозой инсулина в попытках нейтрализовать поглощенный сахар.
Наконец, медики в свою очередь должны понимать, как имеющаяся психопа¬
тология влияет на осознание ребенком своей болезни и необходимых процедур.
Параллельная работа с правоохранительной системой
Еще одна часть экосистемы ребенка, с которой вы можете столкнуться, это право¬
охранительная система. К сожалению, лишь очень немногие специалисты в обла¬
сти психического здоровья готовы хорошо исполнять роль защитника закона.
К тому же правовая система обычно действует, исходя из набора основных допу¬
щений, и это большое отличие от системы психического здоровья. Как сказал один
судья: «Многие психологи и психиатры часто начинают злиться на судей, кото¬
рые не действуют, на их взгляд, в интересах ребенка в каждом конкретном случае.
Они не понимают одного: судья занимает свой пост не для того, чтобы защищать
ребенка или любого другого индивида, а чтобы гарантировать, что требования
закона соблюдены до последней буквы». Даже при условии серьезных различий в
деятельности уголовного суда и суда по семейным делам факт остается фактом:
судьи, специализирующиеся на семейных делах, имеют очень слабую подготовку
в вопросах развития ребенка, детской психопатологии, семейных систем и любых
других областей знания, которые могли бы помочь им действовать в интересах
ребенка. Даже адвокаты, ведущие дела, связанные с защитой детей, не обладают
большими знаниями о том, что движет детьми, которых они представляют.
Хотелось бы, чтобы со временем в области пересечения психопатологии и за¬
кона возникла новая профессия. Это будет великим благом для тысяч детей, каж¬
дый год вступающих в соприкосновение с правовой системой. Прекрасный при¬
мер такой подготовки для профессионалов, участвующих в принятии решений об
опекунстве и лишении родительских прав, представлен в книге The Best Interest of
the Child (Goldstein, Solnit, Goldstein, & Freud, 1996). Пока специалисты в области
психического здоровья и закона не приступят к исполнению своих обязанностей,
терапевты, работающие с детьми, время от времени могут обнаруживать, что им
необходимо выступить в роли адвоката.
Генри было пять лет, когда он стал свидетелем того, как его мать напала с ножом на
женщину, которую он считал своим основным источником заботы, и убила ее. Эта жен¬
щина жила с Генри, его братом и матерью по меньшей мере год, и в это время исполня¬
ла много обязанностей по дому и заботилась о детях. Очевидно, убийство произошло
на бытовой почве. Когда прибыла полиция, Генри показал им место, где его мать спря¬
тала нож, которым совершила убийство. Генри с братом поместили в детский дом, пока
362 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
их мать ожидала судебного разбирательства. Через несколько недель Генри был направ¬
лен на лечение, поскольку не смог адаптироваться к новым условиям и демонстриро¬
вал агрессивное отреагирование.
Когда начался суд по делу матери, терапевт Генри случайно обнаружил, что окружной
прокурор, обвиняющий мать его клиента, собирается вызвать мальчика в суд свиде¬
тельствовать против нее. Терапевт выступил с протестом, заявив, что это негуманно;
в самом деле, даже один из супругов не может свидетельствовать против другого, так
почему же ребенок должен свидетельствовать против собственной матери? Какое вли¬
яние это оказало бы на дальнейшие взаимоотношения Генри и матери? Когда терапевт
позвонил в офис окружного прокурора и спросил, кто может представлять интересы
ребенка в суде в данной ситуации, ему ответили, что обычно никто не назначается для
защиты интересов свидетелей, так как не считается, что они находятся в опасности.
Однако сотрудники офиса окружного прокурора признали, что если бы кто-то и дол¬
жен был представлять интересы ребенка, то это был бы человек из их службы. Более
того, они признали, что это могло бы привести к конфликту интересов, и поэтому они
назначили бы не связанного с ними адвоката.
После телефонного звонка терапевт стал писать письма, ходатайствуя об участии в
рассмотрении этого случая социальной службы, адвоката матери, окружного прокуро¬
ра, суда по семейным делам и суда по уголовным преступлениям. Несколько дней спу¬
стя ребенок был вычеркнут из списка свидетелей, но не потому что были учтены его
интересы, а из-за того что терапевт обнаружил, что ребенок обладал небольшой задерж¬
кой интеллектуального развития и в соответствии с нормами уголовного законодатель¬
ства это делало практически невозможным его участие в суде в качестве свидетеля.
Случай из практики: Фрэнк
Поскольку Фрэнк находился на государственном содержании, приходилось проводить
много параллельной работы с сотрудниками Службы защиты детей. Хотя социальный
работник, ведший дело Фрэнка, должен был выступать в роли его главного защитника
и обладал правом принимать все «родительские* решения, он при этом был и государ¬
ственным служащим, вынужденным работать в этой системе. Двойственность его роли
проявлялась в тех случаях, когда он скоропалительно перемещал мальчика от одних
опекунов к другим. Очевидно, что при этом учитывались интересы всех, кроме ребен¬
ка. Только многолетняя параллельная работа двух психотерапевтов позволила соци¬
альному работнику уяснить вред этих перемещений и свести их к минимуму.
По мере того как работа с клиентом и его родителями продуцирует изменения
в поведении и экосистеме ребенка, задачей терапии все больше становится обес¬
печение стабилизации и генерализации совершенных изменений. Когда цели ле¬
чения достигнуты, а ребенок и его экосистема кажутся стабилизированными, при¬
ходит время начинать процесс завершения лечения.
Глава 13
Завершение лечения
Последняя существенная проблема игровой терапии — завершение лечения. Два
центральных вопроса здесь следующие: как определить, что пришло время закан¬
чивать терапию, и как следует осуществлять процедуру завершения?
В идеале завершение лечения происходит, когда достигаются цели, выработан¬
ные в ходе вводного интервью. Это кажется очевидным, но обычно принятие со¬
ответствующего решения — не такое простое дело. Одним из осложняющих фак¬
торов может стать то, что с момента начала лечения его цели эволюционировали
и изменялись. В ходе терапии может раскрываться дополнительный материал,
который необходимо проработать. Дети не всегда способны обсуждать все, что
сделало свой вклад в актуальное состояние их психики. Часто они просто не зна¬
ют, в чем на самом деле их проблема. Например, когда дети вырабатывают чув¬
ство безопасности в игровой комнате и формируют свои отношения с терапевтом,
они могут рассказать, что были жертвами жестокого обращения.
Цели лечения ребенка также могут меняться в том случае, если ребенок за вре¬
мя посещения терапии переходит на новый уровень развития. Его способность по-
новому классифицировать информацию и переживания создает потребность в
переработке его опыта способами, соответствующими новому уровню понимания.
Это не означает, что ребенок, переживший травматическое событие, должен посе¬
щать терапию до тех пор, пока не станет взрослым; но это значит, что взрослые
должны чувствовать изменение потребностей ребенка со временем.
Колин было два года, когда она выпила достаточное количество щелока, чтобы серьез¬
но сжечь себе горло, пищевод и желудок. Перед этим инцидентом ее описывали как
очень активную, не по годам развитую, очень независимую девочку, то есть, очевидно,
она была ребенком, находящимся в начале второго уровня развития. Несчастный слу¬
чай повлек за собой госпитализацию на шесть недель. В течение этого времени ее кор¬
мили через катетер, проведенный прямо в желудок, и она должна была очень спокойно
лежать в кровати. Дважды она подвергалась очень болезненным процедурам, которые
были нужны для растягивания пищевода, чтобы формирующийся рубец не перекрыл
его. Она была полностью беспомощной. Ее дооперациональное развитие мышления,
несмотря на то что говорили ей взрослые, привело ее к мысли о том, что она была очень
плохой девочкой и теперь она наказана тем, что с ней делают плохие вещи. Также она
решила, что изучать мир тоже нехорошо, потому что он, очевидно, полон скрытых опас¬
ностей, от которых взрослые не могут защитить. После выздоровления Колин ее пове¬
дение осталось пассивным, зависимым и подчиненным строгому контролю.
Когда в возрасте девяти лет Колин перешла на четвертый уровень развития мышления,
она начала понимать, что плохим является не любое исследовательское поведение,
364 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
а только любопытство, свойственное тоддлерам. Повышение ее понимания мира столк¬
нуло ее еще с большим числом скрытых опасностей и подтолкнуло еще к более пассив¬
ному поведению. Она стала гиперосторожной со своим младшим братом, которому бы¬
ло два с половиной года.
Когда Колин вступила на пятый уровень развития и начала испытывать некоторое дав¬
ление со стороны сверстников, побуждающее ее стать более независимой, вместо этого
она еще больше замкнулась и стала еще больше находиться дома. Она сравнила иссле¬
довательское поведение ее сверстников-предподростков с исследовательским поведе¬
нием, в которое включалась она сама, будучи тоддлером, и решила, что оно тоже очень
опасно.
С переходом на каждый следующий уровень развития Колин не могла увидеть полной
картины того, что с ней произошло; вместо этого она генерализовала первоначальный
травматический опыт и разработала более интенсивные симптомы. К сожалению, ле¬
чение, которое было начато в то время, когда произошел несчастный случай, не про¬
длилось достаточно долго, чтобы гарантировать настоящую проработку переживаний
Колин.
В случае, когда среда, окружающая ребенка, остается токсичной, подвергая его
новым травмам, может быть показано повторное или долговременное лечение, как
в случаях, когда ребенок становится жертвой домашнего насилия. К сожалению,
способность системы социальной защиты охранять детей значительно не дотяги¬
вает до оптимальной, и очень высоки шансы, что ребенок будет подвергаться про¬
должительному жестокому обращению {abuse). В этих ситуациях лечение долж¬
но быть своего рода прививкой против ситуационно обусловленного стресса,
чтобы ребенок мог постепенно научиться противостоять ему или справляться
с ним.
Альтернативой завершению лечения после достижения его целей является за¬
благовременное планирование даты его окончания. Это выгодный подход в слу¬
чае, когда цели лечения имеют достаточно узкие пределы, когда ребенок или
терапевт располагают лишь ограниченным количеством времени или когда моти¬
вация родителя относительно прохождения его ребенком терапии кажется очень
низкой.
В любой из первых двух ситуаций вы можете заключить контракт, основанный
на определенной дате окончания лечения или на ограниченности количества сес¬
сий. Последний подход более разумен, поскольку детям свойственно пропускать
сессии по болезни. Краткосрочные интервенции в количестве 8,10 или 12 сессий
могут оказаться очень эффективными и вызывать долговременные изменения в
поведении ребенка. Типичный курс играпии (Jernberg, 1979; Jernberg & Booth,
1999) ограничен 8 сессиями, тогда как групповая игровая терапия, описанная в
IV части, проходит за 12 сессий.
Если терапевт будет доступным только в течение установленного периода, важ¬
но, чтобы и ребенок и его родители осознавали это ограничение. Эта ситуация
распространена в клиниках, в которых ведется подготовка терапевтов, так как
постоянно происходит ротация студентов или интернов. Дату отъезда терапевта
желательно твердо установить заранее. Клиент должен заранее знать обо всех
ограничениях, чтобы заключать контракт, обладая всей полнотой информации.
Более того, даже если принято решение перейти к лечению, ребенок должен обла-
Глава 13. Завершение лечения 365
дать правом ограничивать свое участие в нем, если чувствует, что общая протя¬
женность лечения слишком коротка.
Другой возможный вариант выбора, который хорошо работает, когда создает¬
ся впечатление, что родитель обладает ограниченной мотивацией, это заключение
контракта относительно условий лечения, который предполагает периодическое
обновление. В этом случае в первоначальном контракте между терапевтом, ребен¬
ком и родителями оговаривается, что он будет пересматриваться каждые шесть
недель. Если в такой момент пересмотра принимается решение о прекращении ле¬
чения, то после этого проводятся две заключительные сессии. Другими словами,
вы видите ребенка в течение 8, 14, 20 и т. д. сессий. Такой тип переоценки плана
может поддерживать у каждого чувство включенности и прогресса, даже когда
лечение с самого начала планируется как кратковременный процесс.
Продолжительность долговременного лечения может значительно варьиро¬
вать в зависимости от таких факторов, как ваша теоретическая ориентация, учреж¬
дение, в котором вы работаете, а также тип детей и семей, являющихся вашими
клиентами. Многие терапевты считают курс терапии из 8-10 сессий долговремен¬
ным лечением; для других два и более лет лечения срок не чрезмерный. При усло¬
вии выдерживания осмысленного подхода к игровой терапии проведение 8 сессий
после процесса диагностики и оценки кажется минимальным временем, необхо¬
димым для осуществления эффективной интервенции. На другом конце этого
континуума находится двухлетний срок, так как маловероятно, что в случае, если
терапия проводится с оптимальной эффективностью, ребенку следует находить¬
ся на терапии большее количество времени. Для обоих концов спектра могут по¬
являться свои исключения.
Это подводит нас к вопросу прерывания лечения ребенка не из-за достижения
запланированных целей и не из-за того, что терапия длится уже очень долго и
пришло время посмотреть, может ли ребенок самостоятельно функционировать
без нее, но из-за того что отсутствуют любые признаки прогресса. Это крайне труд¬
ное и все же необходимое с этической точки зрения решение. Как долго вы долж¬
ны встречаться с ребенком на сессиях, после того как он перестал демонстриро¬
вать прогресс, прежде чем рекомендовать или завершение лечения, или переход к
другому терапевту? Ответ не должен зависеть исключительно от природы пато¬
логии ребенка. В большинстве случаев, если ребенок проходит от 8 до 10 сессий
или один из интервалов переоценки начального контракта и не проявляет ника¬
кого различимого прогресса, необходимо подумать о завершении лечения или о
переходе.
Существуют два вероятных исключения из этого правила. Одно из них возни¬
кает при лечении детей, направленных на терапию вследствие неудачи в разви¬
тии значимых межличностных привязанностей. В этих случаях ребенку может
требоваться некоторое время для формирования некоторых отношений с вами,
чтобы позволить перейти к терапевтической работе. Более того, завершение лече¬
ния ребенка или передача его другому терапевту могут обострить симптомы от¬
сутствия привязанности, а не успокоить их. Другое исключение касается лечения
детей, продолжающих жить в токсичной среде. Эти дети могут не демонстрировать
366 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
прогресса в терапии в обычном смысле этого понятия; вместо этого они поддер¬
живаются на плаву посредством терапии. Они могут достигать приемлемого уров¬
ня функционирования за достаточно короткое время, но нуждаться в продолже¬
нии лечения, чтобы сохранять эти изменения перед лицом продолжающихся
стрессов.
-Даже при отсутствии прогресса, перед принятием решения о завершении те¬
рапии ребенка или о передаче его другому терапевту, вы должны все тщательно
взвесить. Если прерывать лечение, не воспримет ли ребенок это как свою неудачу
и последовавшее за ней отвержение его вами? Если этот результат вероятен, вы
должны подумать, что можно сделать, чтобы сгладить такую ситуацию. Возмож¬
но, следует поставить одну маленькую цель и прервать лечение после ее достиже¬
ния. Возможно, более позитивное завершение будет обеспечено, если последние
несколько сессий потратить на обзор прогресса ребенка и празднование его успе¬
хов. В любом случае ребенок не должен покидать терапию с чувством, что вы про¬
сто больше его не любите. Другими словами, независимо от того, насколько плох
был прогресс терапии, ребенок должен чувствовать, что он добился, пусть и не¬
большого, успеха, и что вы дружески расстаетесь, закончив работу. Хотя это не
всегда возможно, особенно если родители злы на вас или разочарованы, необхо¬
димо стремиться именно к такому исходу.
Как только решение о завершении терапии принято, важно, чтобы оно рассмат¬
ривалось как существенная часть процесса лечения, а не просто как неприятное и
неизбежное событие. С точки зрения ребенка, в завершении лечения мало смыс¬
ла. Дети вступают в терапевтические отношения в момент, когда переживают се¬
рьезные трудности. Они научаются доверять вам и полагаться на вас, и после того,
как они стали чувствовать себя значительно лучше, вы прерываете эти отноше¬
ния. Чтобы избежать такого эффекта, вы должны выработать хороший план, преж¬
де чем прерывать ваши отношения. Когда процесс завершения лечения тщательно
спланирован, он может стать для ребенка таким же корректирующим пережива¬
нием, как и любая другая часть терапии.
Успешность завершения лечения в значительной степени определяется нали¬
чием у ребенка реалистичного понимания природы его отношений с вами. Ребе¬
нок должен понимать, что эти отношения целенаправленны, необходимы для ра¬
боты и значительно отличаются от любых других отношений, в которые он
когда-либо будет вступать. Он должен понимать, что вы союзник, а не друг, не ро¬
дитель и не сверстник. Выработка четкого контракта в самом начале лечения очень
сильно способствует такой дифференциации. Точно так же как вы будете через
некоторые промежутки времени пересматривать условия контракта с родителя¬
ми ребенка, вам следует пересматривать контракт и с самим ребенком. Он может
не хотеть или быть не в состоянии заключить некий контракт в самом начале ле¬
чения, но вам следует постоянно искать возможности установления целей рабо¬
ты и согласования их с ребенком.
Если удается достаточно легко ознакомить ребенка с целями лечения, его осо¬
знание вы можете поддерживать, используя интерпретации. Способ вашего взаимо¬
действия с ребенком будет отличаться от того, как он взаимодействует с другими
взрослыми, находящимися в его окружении, но, возможно, не очень значительно.
Именно интерпретации отличают терапевтические отношения от всех остальных.
Глава 13. Завершение лечения 367
Цикакой другой взрослый в жизни ребенка не будет сводить все свои вербализа¬
ции к одной этой частной форме, и ребенку ничего не остается, как со временем
осознать это. К тому же если хотя бы иногда ваши интерпретации связывают про¬
блемы, с которыми ребенок пришел на лечение, и его настоящее и прошлое пове¬
дение, то рабочая природа ваших отношений будет подкреплена еще сильнее.
Если удается помочь ребенку понять, что терапевтические отношения по сво¬
ей сути рабочие, тогда он может оценивать свой прогресс в продвижении к выра¬
ботанным целям. Эти оценки необходимо делать регулярно и не реже чем один раз
в шесть-восемь недель. По мере приближения окончания терапии вам необходи¬
мо повысить частоту ваших отражений, касающихся достижений ребенка. Кроме
того, вам следует начать вербально подкреплять их, замечая, что необходимость в
ваших совместных встречах скоро совсем отпадет. Эта процедура приучает ребен¬
ка к мысли об окончании ваших отношений, поскольку предупреждает о том, что
оно неизбежно.
По ходу подготовки ребенка к завершению терапии приходит время для уста¬
новления даты завершения лечения или для объявления количества оставшихся
сессий. Чем ниже уровень развития ребенка, тем более конкретными должны быть
намеки, сигнализирующие о конце терапии. Например, можно обвести дату по¬
следней сессии в календаре и зачеркивать дни. Или вы можете приготовить для
ребенка конфеты, по одной на каждую сессию, и давать съедать по одной после
каждой сессии. Чем дольше ребенок находился на лечении, тем больше сессий
отводится для его завершения.
Продолжительность процесса завершения должна быть пропорциональна дли¬
тельности лечения ребенка, поскольку вам следует ожидать, что дети будут вос¬
создавать (recapitulate) главные элементы пройденной ими терапии. То есть по
мере приближения к окончанию терапии дети склонны повторять ее в сжатой
форме. Так происходит не всегда, но достаточно часто для того, чтобы вы готови¬
лись к этому феномену. Дети, не демонстрировавшие регрессивного, инфантиль¬
ного поведения с самого начала терапии, внезапно могут захотеть, чтобы их снова
подержали на руках и покормили. Настоящая проблема состоит в том, что дети
обычно повторяют и фазу негативной реакции, причем не обязательно в укоро¬
ченном виде. Не вполне ясно, почему происходит такое воссоздание (recapitula¬
tion), но создается впечатление, что угроза потери терапевтических отношений
запускает внезапный и массивный регресс. Дети проявляют поведение, привед¬
шее их на терапию, в первую очередь в попытке убедить вас, что вы все еще необ¬
ходимы им. Терапевтов, не знающих, насколько общим бывает этот процесс, дан¬
ное возрождение отреагирования часто убеждает в необходимости продолжения
лечения, а через пару недель они обнаруживают, что ребенок функционирует про¬
сто прекрасно.
Справиться с воссозданием очень просто, если активно интерпретировать его.
Следует отзеркаливать тревогу ребенка и его чувства потери, а также его надежду
на то, что он сможет найти способ предотвратить завершение лечения. Вслед за
увеличением количества интерпретаций, необходимых для успешного проведения
ребенка через процесс воссоздания, необходимо обратить терапевтическую дея¬
тельность на проработку реакции, вызванной предстоящим расставанием, в срав¬
нении с отделениями, происходившими в его прошлом, посредством генетических
368 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
интерпретаций. Наконец, вам следует выделить некоторое время, чтобы рассмот¬
реть важнейшие открытия и изменения, сделанные ребенком с начала лечения.
Сначала вам стоит представлять эти интерпретации в формате, практически иден¬
тичном формату предыдущих интерпретаций, чтобы позволить ребенку увидеть
это рассмотрение частью работы. В то время как интерпретация существенна для
управления процессом воссоздания, не менее важно, чтобы вы начали несколько
изменять природу своей роли по мере приближения лечения к финалу. Перестань¬
те предлагать новые задачи; вместо этого, присоединитесь к ребенку в празднова¬
нии достижений, сделанных им в ходе терапии.
Сейчас не время ослаблять границы терапевтических отношений, если вы хо¬
тите выйти из процесса лечения как терапевт ребенка, а не как его друг. Сохране¬
ние вашей роли гарантирует, что вы будете способны до самого конца продолжать
проработку реакции ребенка на предстоящее отделение. Также это позволяет ре¬
бенку вернуться к вам на терапию в будущем, если это когда-нибудь понадобится.
Когда ребенок может увидеть свои чувства относительно завершения лечения
в перспективе, работа, производимая с ребенком на сессиях, должна быстро сокра¬
щаться. Точно так же как вы не предлагаете ребенку важных интерпретаций в
последние минуты отдельной терапевтической сессии, потому что у него нет вре¬
мени на их обработку, вам не следует раскрывать новый материал, когда терапия
близится к концу.
Когда бы и как бы терапия ни подходила к своему финалу, часть последней сес¬
сии или даже она вся должна быть посвящена тому, чтобы отпраздновать прогресс,
достигнутый ребенком в ходе лечения. Это нужно как для повышения чувства
значимости достижений ребенка, так и для того, чтобы обеспечить четкую и не¬
двусмысленную церемонию конца лечения. В соответствии с этим возникают во¬
просы относительно продолжительности контакта с ребенком после завершения
терапии. Должна ли у ребенка быть возможность написать, позвонить вам или
посетить вас? Следует ли вам планировать последующую, посттерапевтическую
работу? Нужны ли нетерапевтические контакты между вами и ребенком? По боль¬
шей части, конец терапии должен быть действительно концом. Но, с другой сто¬
роны, ребенок и его родители должны осознавать, что некий возврат к терапии воз¬
можен, если это нужно ребенку. Для создания этого понимания очень разумно
дать ребенку ваш рабочий телефон, чтобы он мог вам позвонить при возникнове¬
нии потребности. Один из самых простых и профессиональных способов — дать
ребенку вашу визитную карточку.
Окончание лечения
Случай из практики: Аарон
СТАДИЯ «ЗАВЕРШЕНИЕ»
Цели стадии. Аарон будет:
1) поддерживать сильное чувство привязанности к матери и лучше удовлетворять
свои потребности в заботе;
2) вторичная цель — поддержание привязанности Аарона к отцу — была добавлена для
того, чтобы Аарон не начал преждевременно оплакивать своего отца и отделяться
от него.
Глава 13. Завершение лечения 369
Десятая сессия
Участники. Аарон, терапевт, отец и мать Аарона.
Материалы. Кексы и сок, принесенные Аароном и его родителями.
Практические компоненты. В начале последней сессии Аарон находился в состоянии
эйфорического возбуждения. Он помог вкатить инвалидное кресло отца в игровую
комнату и приступил к демонстрации ему комнаты и к объяснению того, что и для чего
здесь находится, одновременно вместе с матерью и терапевтом выполняя те действия,
о которых рассказывал. Начало сессии было посвящено обзору содержания сессий
Аарона и достигнутого им прогресса. В этом процессе было несколько очень болезнен¬
ных точек, когда обсуждались страхи каждого члена семьи относительно здоровья отца,
но семья прекрасно с этим справилась. Затем сессия превратилась в праздник. Запла¬
нированные действия требовали частого физического контакта между всеми членами
семьи в игровой форме. Аарон получал наслаждение, карабкаясь на отца, несмотря на
то что спектр физических реакций последнего был крайне ограничен. Сессия содержа¬
ла много смешанных эмоций и слез, но в основном отличалась радостью по поводу того,
что Аарон был теперь гораздо более счастливым, а его игра гораздо более здоровой.
Вербальные компоненты. Прежде всего терапевт сделал обзор достижений Аарона и
поддержал изменения, совершенные всей семьей. Хотя обычно терапевты не предо¬
ставляют никаких генетических интерпретаций на таком позднем этапе терапии, тера¬
певт чувствовал, что в данном случае это нужно сделать. Терапевт повторил раннюю
интерпретацию, определявшую болезнь отца как источник сильнейшей тревожности,
с которой Аарон пытался справиться посредством компульсивного поведения и осу¬
ществления тотального контроля. Он отметил, как сложно было каждому из них пере¬
носить ухудшение состояния отца, поскольку оно пугало и означало, что он все ближе
к смерти. И наконец он добавил, что, независимо от того, насколько страшно происхо¬
дящее, всегда важно помнить, что Аарон — ребенок, которому иногда необходимо сде¬
лать перерыв, расслабиться и повеселиться, даже если все вокруг приняло очень серь¬
езный оборот. Эта информация повторялась, чтобы вся семья могла ее хорошо усвоить
и понять, что необходимо поддерживать детскость Аарона, несмотря на то что за пре¬
делами игровой комнаты они переживают трагические события.
Компоненты сотрудничества. Оба родители получили информацию о возможности
телефонного контакта с терапевтом, если у них возникнут любые вопросы относитель¬
но того, как поддерживать приобретения Аарона по мере ухудшения здоровья отца.
Кроме того, терапевт сообщил матери, что если после смерти отца у мальчика вновь
обострятся какие-либо симптомы, будет целесообразно вернуться к поддерживающей
терапии.
Случай из практики: Фрэнк
Индивидуальная игровая терапия Фрэнка длилась в течение одного года, и за это вре¬
мя он был переведен в терапевтическую групповую клинику, где проходил групповую,
а не индивидуальную терапию. В силу структуры стационарной школьной программы
завершение должно было происходить в две фазы.
Вначале Фрэнк должен был подготовиться к отделению длиной в 1 месяц, вызванному
летним перерывом в школе. Поскольку окончательное место жительства Фрэнка еще
не было установлено, существовали планы о его помещении в другую групповую кли¬
нику сроком на один месяц. Это означало, что Фрэнку предстоит покинуть всех тех лю¬
дей, которые отвечали за заботу о нем в течение последних десяти месяцев, адаптиро¬
ваться к временному месту жительства, на несколько месяцев вернуться в школу и затем
переместиться в постоянный детский дом. При условии наличия у Фрэнка проблем с
привязанностью заранее было ясно, что этот план очень непрост, но все же неизбежен.
370 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
За неделю до запланированного перехода во временный детский дом Фрэнк рассказал,
что украл и спрятал несколько спичек и теперь очень боится, что разожжет огонь. Те¬
рапевт «отразил» и признал его тревогу, вызванную предстоящим отделением, и его
чувства, что им пренебрегают и жестоко с ним обращаются. Посредством генетической
интерпретации и отражения было показано сходство между разведением Фрэнком огня
в ответ на пренебрежение и жестокость матери и его желанием развести огонь сейчас.
После серьезного обсуждения терапевт решил, что в детском доме Фрэнк не будет в
безопасности, и выработал план по перемещению его в психиатрическую клинику, как
только школьное обучение прервется на летние каникулы. Фрэнк был полностью вклю¬
чен в этот процесс и рассматривал госпитализацию как защиту, обещанную терапев¬
том.
Фрэнк был госпитализирован на неделю, и в это время сотрудники клиники были чрез¬
вычайно заботливыми и поддерживающими. По мере привыкания Фрэнка к отделению
от людей, окружавших его на школьной программе, его настроение стабилизировалось,
и он был успешно переведен во временный детский дом.
Когда Фрэнк вернулся в школу, сразу же началась работа над окончательным заверше¬
нием лечения. С самого начала этого процесса он понимал, что терапия будет ограни¬
ченной по времени и что ему предстоит навсегда оставить ее через пару месяцев. В этот
раз у него было чувство, что он переживет отделение, и, вместо того чтобы полностью
отдаться своей тревожности, он, с сохранением большего контроля, приступил к про¬
цессу воссоздания. Данный процесс начался с того, что ему стало совершенно необхо¬
димо частое вступление в физический контакт и со своей учительницей, и с терапев¬
том. Вскоре, однако, активизировалась его ярость по поводу предстоящего отделения,
и к концу нескольких очень эмоциональных терапевтических сессий он подходил, со¬
вершенно выбившись из сил.
Было очевидно, что одновременно активизировались эмоции Фрэнка относительно
всех когда-либо перенесенных им отделений, в стиле, характерном для дооперацио-
нального мышления, при помощи которого он привык сохранять травмы прошлого,
когда они происходили. В силу его актуального нахождения на третьем уровне когни¬
тивной деятельности он мог делать более осознанные связи между этими событиями,
а также сознательно проводить различия между ними. Он определил, что переживает
интенсивную смесь грусти и гнева, напоминающую его реакцию на смерть матери, на
отбирание его у отца, на перемещение по нескольким детским домам и клиникам, на
необходимость оставить школьную программу и окончить терапию. Символом всех
этих событий стала кошка, погибшая в том же огне, что и мать мальчика. Кошка никог¬
да не причиняла ему вреда, и он ужасно по ней тосковал. Также она символизировала
его страх того, что он мог быть виноват во всех своих потерях. На новом месте, где стал
жить Фрэнк, были созданы условия для того, чтобы он мог держать кошку, и это стало
важным переходным символом.
Процесс воссоздания достиг своего пика в течение трех сессий. Перед первыми двумя
сессиями Фрэнк становился очень грубым и агрессивным в своих взаимодействиях с
другими воспитанниками, из-за чего приходилось удалять его. Оба события происхо¬
дили ранним утром того единственного дня в неделю, когда терапевт находился в шко¬
ле. После своего прибытия в школу терапевт обнаруживал Фрэнка в отдельной комна¬
те и успокаивал ребенка. Оба раза Фрэнк немедленно становился очень агрессивным,
и это интерпретировалось как потребность в том, чтобы терапевт подержал его на ру¬
ках, обеспечивая тем самым полную безопасность для мальчика. Первая из таких сес¬
сий с держанием Фрэнка на руках продлилась более полутора часов, и в течение этого
времени был выявлен и проинтерпретирован практически весь материал, приведенный
в предыдущем абзаце. К концу этой сессии Фрэнк мог определить, что испытывает
Глава 13. Завершение лечения 371
сильное горе, и терпеть его, не приходя при этом в ярость. Вторая сессия продлилась
45 минут, и в ее ходе была рассмотрена и интегрирована большая часть материала пер¬
вой сессии. В течение обеих сессий Фрэнк был крайне агрессивным, пытался нанести
повреждения и себе и терапевту, но все же оставался удивительно открытым для ин¬
терпретаций, возможно из-за того, что привык к ним к данному моменту терапии.
К концу второго из этих эпизодов терапевт отметил паттерн, согласно которому он,
приходя в школу, уже обнаруживал Фрэнка изолированным в отдельной комнате. Он
сделал интерпретацию, выявляющую страх Фрэнка, что его ярость может повредить
терапевту, и отметил потребность ребенка обнаружить, до какой степени терапевт мо¬
жет терпеть его выходки. Он предложил Фрэнку, чтобы они наперед спланировали их
следующую битву. Он обратил внимание на то, что напольное покрытие комнаты очень
жесткое и что лучше удерживать Фрэнка в комнате, где на полу лежит ковер, но это
возможно только в том случае, если бы Фрэнк смог себя контролировать. Фрэнк не¬
медленно согласился и затем предложил, чтобы вместо игровой комнаты они встреча¬
лись в спортивном зале, где перед началом сессии они могли бы расположиться на ма¬
тах. Чтобы закрепить свой договор, Фрэнк и терапевт пожали друг другу руки, и Фрэнк
вернулся в школу, спокойный и довольный.
Странность этой беседы никогда не поражала Фрэнка. Утром, перед каждой из этих
двух последующих сессий, он полностью не контролировал себя, требуя долгих, болез¬
ненных периодов удержания, и все же соглашался держать себя в руках на следующей
неделе, если терапевт будет удерживать его. На следующей неделе он гораздо лучше
контролировал себя. Он помог терапевту разложить маты, затем затеял некоторую
игру, требующую, чтобы его удерживали. Однако вскоре он захотел, чтобы его держа¬
ли и кормили. На всем протяжении этой сессии он был спокойным и довольным. Тера¬
певт интерпретировал постепенное принятие Фрэнком приближающегося завершения
лечения и его увеличивающееся чувство контроля и безопасности, что Фрэнк охотно
признал.
Оставшиеся сессии были посвящены обзору содержания терапии Фрэнка и прогресса,
которого он добился. По мере приближения даты его перехода в терапевтическую груп¬
повую клинику вся его школьная программа была направлена на то, чтобы отметить
достигнутые им улучшения. Поскольку Фрэнк нуждался в конкретных предметах, об¬
легчающих его переход на другую программу, некоторые из них были изготовлены,
а другие куплены. На терапии они с терапевтом рисовали картины особых, запомнив¬
шихся им сессий, которые собирали в «финальную книгу*. Фрэнк со своей учительни¬
цей сделали приготовления для прощания со школьной программой и собрали фото¬
графии тех людей, с которыми работал Фрэнк. И терапевт, и учитель, и школьный
консультант купили Фрэнку символические подарки, одним из которых была мягкая
игрушечная кошка.
Переход Фрэнка на новую программу проходил без инцидентов, и казалось, что он от¬
лично адаптировался к новым людям. Для обеспечения некоторой последовательно¬
сти в ходе его приспособления к новой программе, он встречался со своим терапевтом
еще три раза с интервалами в месяц. В течение этих сессий их содержание постепенно
смещалось с тоски по старой школе на интерес мальчика к новому месту. В ходе послед¬
ней сессии Фрэнк и его терапевт устроили небольшой праздник.
Переход детей-клиентов
Иногда, или по необходимости, или по плану, вам понадобится не завершать ле¬
чение вашего клиента, а переводить его к другому терапевту или на другой вид
372 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
лечебного воздействия. Некоторые из этих изменений могут обусловливаться ва¬
шими личными причинами, но хочется надеяться, что большинство из них будут
осуществляться ради пользы ребенка. Бывает, что терапевт должен перевести ре¬
бенка к другому терапевту из-за своей болезни, смены работы или беременности.
Бывает, что смена терапевта необходима из-за провала терапевтических отноше¬
ний. Большинство переходов на другие модели лечения, такие как семейная или
групповая терапия, задумываются, когда индивидуальные цели ребенка достиг¬
нуты и вы хотите перейти к работе с некоторыми экосистемными целями.
Переход ребенка к другому терапевту
Как уже упоминалось, переход ребенка к другому терапевту может потребоваться
в силу одной из двух причин: либо вы больше не можете лечить ребенка по вашим
личным причинам, либо вы решили, что ваши терапевтические отношения с ре¬
бенком настолько плохи, что необходимо совершить его перемещение, чтобы по¬
смотреть, может ли терапия продолжаться. Стратегии перехода ребенка в этих
двух ситуациях в корне отличаются друг от друга.
Если вы должны перевести ребенка, с которым у вас налажены хорошие рабо¬
чие отношения, вам понадобится приложить все усилия для перехода к другому
терапевту не только ребенка, но и ваших отношений с ним. Другими словами, вам
нужно, чтобы ребенок выработал сильную связь между вами и новым терапевтом.
Всегда, когда это возможно, полезно делать эту связь максимально конкретной.
Этот процесс должен происходить за два шага, причем второй состоит из трех ста¬
дий.
Сначала вам следует предупредить ребенка о намечающемся переходе, предо¬
ставив некоторое объяснение его необходимости. То есть следует дать понять ре¬
бенку, что проблема не связана с ним, и это должно создавать переход к довольно
стандартной процедуре завершения лечения. Возможно, ребенок начнет процесс
некоторого воссоздания, хотя он может оказаться не таким интенсивным, как
в случае настоящего завершения терапии. Когда ребенок сможет двигаться даль¬
ше, вам следует сделать обзор достигнутых целей лечения и целей, к которым еще
предстоит идти. По поводу достигнутых целей необходимо устроить небольшой
праздник, чтобы с завершением лечения были связаны некоторые приятные чув¬
ства. И вы, и ребенок можете чувствовать, что кое-чего добились и не придется на¬
чинать все с самого начала. Еще не достигнутые цели должны стать основным фо¬
кусом для объяснения необходимости в совершении перехода ребенка, вместо того
чтобы просто закончить лечение. Все это вполне можно сделать за одну или две
сессии.
Затем желательно организовать несколько сессий, которые вы будете прово¬
дить вместе с новым терапевтом ребенка. Эти смежные сессии должны состоять
из трех фаз. В идеале на каждую фазу должно приходиться по одной сессии, но
при необходимости этот процесс можно сжать. Первым шагом должно стать про¬
ведение сессии, в ходе которой новый терапевт исполняет очень пассивную роль,
делая лишь несколько замечаний, не несущих в себе угрозы ребенку. В течение
этой сессии вам стоит рассказать новому терапевту ключевые моменты биографии
ребенка и истории его лечения. При этом вы должны сказать ребенку, что это нужно
Глава 13. Завершение лечения 3 73
для того, чтобы ему не пришлось с самого начала рассказывать все эти неприят¬
ные вещи. При работе со старшими детьми вы можете перед началом сессии обсу¬
дить, хотят ли они сами рассказать свою историю или вам стоит сделать это за них.
Эта часть процесса позволяет ребенку осознать, что вы пообщались с новым тера¬
певтом и что теперь он кое-что знает о нем. Также вы вместе с ребенком должны
продемонстрировать новому терапевту типичную сессию. Желательно как мож¬
но полнее включить ребенка в этот процесс, даже спросить его, о каких аспектах
ваших сессий желательно узнать новому терапевту. Это минимизирует возмож¬
ное сопротивление ребенка новому терапевту, во время которого ребенок заявля¬
ет: «А мой старый терапевт всегда делал так... (никогда так не делал)».
На второй фазе процесса смежных сессий вы и новый терапевт должны дей¬
ствовать на равных позициях. Вы можете выбрать деятельность, в ходе которой
взаимодействуете с ребенком по очереди. Или же вы можете сказать, что ребенку
нравится некоторое занятие, и предложить новому терапевту попробовать поуча¬
ствовать в нем вместе с ребенком. В течение этой фазы и вам, и новому терапевту
нужно говорить и делать приблизительно одно и то же. Кроме того, вам нужно
много взаимодействовать друг с другом, чтобы ребенок увидел, что между вами
существуют крепкие рабочие отношения.
В ходе последней фазы лечения вы исполняете очень пассивную роль, в то вре¬
мя как новый терапевт выполняет основную часть работы с ребенком на сессии.
Идеальный способ проведения этой процедуры — разработка и реализация ребен¬
ком и новым терапевтом «праздника прощания» с вами. Для планирования этого
мероприятия они могут уединиться на несколько минут в конце второй сессии.
Затем, в ходе третьей сессии и заключительной, переходной сессии, они могут
уединяться на несколько минут сразу после начала, чтобы подготовиться, а затем
позвать вас для участия во второй половине занятия. Это создает между ними аль¬
янс, основанный на переживании расставания с вами, и обеспечивает основатель¬
ный фундамент для работы на первых нескольких сессиях после вашего ухода.
Если вы переводите ребенка к новому терапевту, потому что ваш терапевтиче¬
ский альянс не очень хорошо сложился, вам нужно переносить в новую для ре¬
бенка терапевтическую ситуацию как можно меньше черт ваших отношений, мак¬
симально снижая количество связей, которые ребенок сможет провести между
вами и новым терапевтом. Если ребенка необходимо перевести, могут возникать
те же самые чувства. Вы можете решить, что для ребенка было бы лучше не ви¬
деть коммуникаций между вами и новым терапевтом, за исключением знания о
том, что вы знакомы друг с другом. Безусловно, не рекомендуется проводить смеж¬
ные сессии. Вместо них вам стоит завершить сессии с ребенком, разорвать ваши
проблемные взаимоотношения с ним. Полезно предоставить ребенку перед нача¬
лом работы с новым терапевтом немного свободного времени, чтобы он мог вос¬
принимать это как новое начало, а не как изменение, вызванное главным образом
неудачей предыдущей попытки. Если вы принимаете ребенка, направленного к
вам таким образом, обычно лучше всего лишь вскользь упомянуть его прошлого
терапевта, возможно, подчеркивая, чем ваши методы работы отличаются от его
подхода.
374 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Переход ребенка на другой вид лечения
Иногда ребенок в ходе терапии достигает всех своих индивидуальных целей, но
остаются проблемы с семьей или со сверстниками. В такой ситуации большого
успеха можно добиться, переведя ребенка на другой вид лечения, который може¬
те осуществлять вы или другой терапевт. В частности, это хороший вариант для
детей, пострадавших от насилия, независимо от того, продолжают они жить дома
или нет. В ходе индивидуальной терапии вы можете обратиться к интрапсихиче-
ским проблемам и проблемам развития, возникшим в результате насилия. По мере
разрешения индивидуальных проблем вы можете перейти к групповой работе над
компенсацией дефицита социальных навыков, демонстрируемых большинством
детей, пострадавших от жестокого обращения. Кроме того, переход ребенка от
индивидуальной к групповой форме работы может помочь ему более постепенно
«отходить» от процесса лечения и, следовательно, демонстрировать меньшие и не
такие интенсивные симптомы процесса воссоздания. В течение этого времени вы
или другой терапевт можете лечить других членов семьи, чтобы стабилизировать
их как индивидов, входящих в семейную систему ребенка. По мере продвижения
каждого индивида к усовершенствованию своего функционирования можно при¬
ступать к проведению семейных сессий, чтобы обратиться к оставшимся пробле¬
мам семейной системы. Такой подход особенно полезен, когда один или более чле¬
нов семьи чрезвычайно дисфункциональны.
Семейная терапия
Если вы сами будете проводить семейную терапию, важно, чтобы ребенок с само¬
го начала лечения понимал, что такой тип перехода произойдет. Помимо включе¬
ния проведения семейной терапии в контракт относительно лечения, вам следует
приложить значительные усилия в ходе индивидуальных сессий с ребенком, что¬
бы определить себя в первую очередь как союзника всей семейной системы ребен¬
ка и уже во вторую очередь быть союзником ребенка как члена этой системы. Вы
можете выполнить эту задачу, так изменив тип делаемых вами интерпретаций,
чтобы они больше обращались к системным, а не к индивидуальным или внутри-
психическим проблемам. Если вы придерживаетесь этой позиции, переключение
между семейными и индивидуальными сессиями или переход от индивидуальной
терапии к семейной должен даться вам сравнительно легко. Существенное пре¬
имущество, кроющееся в сочетании одним терапевтом семейной и индивидуаль¬
ной работы, состоит в том, что у вас есть уникальная возможность помочь выстра¬
ивать и поддерживать адекватные межличностные границы. Например, вы можете
четко определять и проговаривать, кому принадлежат проблемы: ребенку, роди¬
телям, сиблингам или семейной системе, а затем включать соответствующих ин¬
дивидов в работу над этими проблемами.
Слабая сторона совмещения ролей индивидуального и семейного психотера¬
певта заключается в том, что те члены семьи, чьи межличностные границы осо¬
бенно слабы, могут считать, что вы обязаны больше заботиться о благополучии
вашего индивидуального клиента, чем о благополучии всей семьи. В таких случаях
вы можете принять решение передать семью другому терапевту, а сами начать про¬
цесс завершения ваших встреч с ребенком. Если существует период наложения
Глава 13. Завершение лечения 3 75
этих видов работы, он должен соответствовать потребностям данного ребенка. Для
некоторых детей будет достаточно, если вы просто завершите работу и направите
семью к независимому семейному терапевту. Эту стратегию обычно лучше всего
применять, когда вы хотите создать четкие границы между вашей работой с ре¬
бенком и потребностями семьи, что помогает предотвратить возникновение у ре¬
бенка ожиданий, что семейные сессии будут похожи на его индивидуальные за¬
нятия.
В случаях, когда индивидуальная игровая терапия с ребенком прошла хорошо
и члены семьи удовлетворены ею, целесообразно порекомендовать переход семьи
к рабочим отношениям с новым терапевтом. Тогда следующая за принятием тако¬
го решения процедура должна быть очень похожа на описанный ранее процесс
перевода ребенка к новому терапевту. Этот процесс можно разделить на следую¬
щие этапы.
• Запланируйте две или три завершающие сессии с ребенком, организовав
в течение последней сессии семейный праздник.
• Запланируйте смежную сессию с участием семьи ребенка — вашего клиен¬
та, самого вашего клиента, вас и нового терапевта, в ходе которой вы актив¬
но способствуете предоставлению новому терапевту уместной информации
о семье. В течение сессии новый терапевт дает большинство своих коммен¬
тариев относительно материала семьи, таким образом начиная строить от¬
ношения с ней.
• Запланируйте финальную смежную сессию, которую будет контролировать
новый терапевт и в которой вам предстоит играть очень пассивную роль.
В конце этой сессии новый терапевт замечает, что это была последняя сес¬
сия с вашим участием. Он должен сообщить, что семья потеряет вас, отме¬
тить тот прогресс, который был сделан до сих пор, и поощрить членов се¬
мьи попрощаться с вами.
Групповая терапия
Как и в случае с переходом детей от индивидуальной к семейной терапии, процесс
перехода к групповой терапии зависит от того, кто будет проводить группу: вы или
другой терапевт. Главное преимущество того, что группу будете проводить вы,
состоит в том, что вы можете помочь ребенку интегрировать его индивидуальный
прогресс и работу, которую он будет выполнять в группе. Группа становится оче¬
видным продолжением его терапевтического опыта и не кажется чем-то обособ¬
ленным. Например, в процессе вашей работы с ребенком вы оба придете к осозна¬
нию воздействия, которое оказывает его личностное развитие на взаимодействие
со сверстниками. Если вы также придете к согласию относительно того, что раз¬
решили большинство индивидуальных проблем ребенка, то сможете перейти к
заключению контракта о том, чтобы перед завершением лечения обратиться к про¬
блемам, связанным со сверстниками в ситуации взаимодействия с ними.
В этом случае на завершающей индивидуальной сессии все равно следует устро¬
ить праздник, чтобы отметить прогресс, сделанный ребенком до сих пор. Кроме
того, праздник помогает отметить, что с достижением такого прогресса ребенок
376 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
готов двигаться дальше и переходить к новому типу лечения, с которым, вы уве¬
рены, ребенок тоже отлично справится. Бывают случаи, когда вы можете решить
одновременно работать с ребенком и в групповом, и в индивидуальном режиме.
Главной проблемой, связанной с одновременным проведением как индивидуаль¬
ной, так и групповой работы с неким ребенком, является потенциал для развития
среди членов группы соперничества, подобного соперничеству сиблингов, и это
соперничество будет усиливаться, если вы встречаетесь с несколькими из членов
группы в рамках параллельной индивидуальной терапии. Чтобы предотвратить
это, рекомендуется одновременно с групповой работой проводить индивидуаль¬
ную работу со всеми детьми или же ни с кем из них.
Если ребенок должен проходить групповую терапию в группе, руководимой
другим терапевтом, вы можете решить, завершить вашу индивидуальную работу
с ним или продолжить ее. Поскольку в каждом виде лечения дети обычно выпол¬
няют очень разную работу, может быть полезным одновременное проведение и
групповой и индивидуальной работы. Вы просто должны гарантировать, что бу¬
дете поддерживать тесный контакт с групповым терапевтом в выяснении прогрес¬
са ребенка. Независимо от того, кто будет проводить групповую фазу лечения,
полезно ознакомиться с описанием группового формата терапевтической работы,
который представлен в IV части этой книги.
Глава 14
Случаи из практики: Дэнис и Диана
В основной части данной книги были представлены два случая для иллюстрации
различных шагов процессов вхождения, диагностики и лечения. К сожалению,
использование такого формата требовало, чтобы эти случаи были разбиты на ча¬
сти, приводимые дискретно на протяжении нескольких глав, и это, возможно, со¬
здавало определенные трудности для читателя. В этой главе представлены два
случая во всей полноте с минимально возможным количеством описательного
текста. Информация представлена точно в таком же виде, как и в основной части
книги, поэтому читатель сможет с легкостью возвращаться для поиска содержа¬
тельных объяснений, если это будет необходимо. Разделы каждого случая пред¬
ставлены в форме таблицы, в которой данные или гипотезы находятся слева, а вы¬
работанные на их основе цели лечения — справа. Хотелось бы надеяться, что такой
формат позволит читателю в точности проследить процесс формулировки целей
лечения на основе информации о клиенте. Как и в случаях Аарона и Фрэнка, при¬
веденных ранее, в одном из данных случаев проводилось краткосрочное, а во вто¬
ром — долговременное лечение. Дэнис проходил краткосрочную терапию, и здесь
детально представлены цели и содержание восьми его терапевтических сессий.
Диана проходила долговременную терапию в течение гораздо более длительного
периода, и здесь в более обзорном виде представлены цели и содержание ее тера¬
певтических сессий.
Дэнис: кратковременная экосистемная игровая терапия
Общая информация
Дэнис был очень красивым белым мальчиком, которому в момент обращения к
терапевту было девять с половиной лет. Родители привели его на лечение к школь¬
ному психологу по рекомендации одного из учителей, которого обеспокоило то,
что во время письменных работ Дэнис периодически бил себя по голове.
Этап вхождения
Этап вхождения был пройден за две сессии. Первую сессию посетили отец и мать
Дэниса, которые предоставили множество сведений об общей биографии и об
истории развития своего ребенка. Сам Дэнис пришел на вторую сессию, где был
собран краткий анамнез и проведена оценка психического статуса.
378 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Дэнис был младшим из трех детей и единственным мальчиком в семье. Бере¬
менность и роды прошли без осложнений. Развитие Дэниса, по словам родителей,
протекало с опережением нормальных показателей. История раннего развития
Дэниса была ничем не примечательна, за исключением того, что семья примерно
каждые два года переезжала на новое место жительства. Отец работал на дипло¬
матической службе, и семья впервые переехала за границу, когда Дэнису было
пять лет. Когда ему было семь лет, семья переехала в другую страну.
Дэнис посещал школы, обучение в которых велось на английском языке, и имел
хорошую академическую успеваемость. Когда классный руководитель заметил,
что Дэнис испытывает в школе некоторые трудности, мальчика направили в кор¬
рекционный класс. Учитель этого класса обнаружил, что Дэнис — на редкость
спокойный, но во время письменных работ склонен себя бить.
Родители сообщили, что дома Дэнис очень коммуникабелен и у него много
друзей. Дома за ним не замечали никакого необычного поведения. Ему нравилось
проводить время с семьей. Они отмечали, что Дэнис, видимо, очень сенситивен и
что он уделяет много времени проработке своих межличностных взаимодействий.
В ходе вводного интервью Дэнис был очень тихим и сообщил, что родители
привели его на терапию, потому что учителя считают его тупым. После просьбы
рассказать об этом поподробнее он признал, что в школе бил себя по голове, при¬
чем, рассказывая об этом, казался очень смущенным.
В ходе вводной беседы в поведении Дэниса проявились два разных стиля. Каж¬
дый раз, когда затрагивалась тема, связанная с учебой, он вел себя очень тихо,
избегал контакта глаз, становился скованным и физически зажатым. Когда же
разговор заходил о семье и сверстниках, мальчик становился разговорчивым и
оживленным и тепло общался с терапевтом. Он сказал, что очень любит свою се¬
мью, и заметил, что, будучи младшим ребенком в семье, часто становится цент¬
ром всеобщего внимания. Он сказал, что у него много друзей и что ему нравится
играть в школьной футбольной команде. Он мог долго перечислять, что ему нра¬
вится и что не нравится, и вести длинные дискуссии на любую тему.
Психический статус Дэниса не был примечательным, за исключением его спо¬
собности говорить о своих внутренних процессах. Казалось, что он тратит много
энергии на самонаблюдение и может не только описать, как он себя чувствует, но
и объяснить, почему он чувствует себя именно так. Он охотно признавал, что
школа вызывает у него множество нехороших чувств и что он был бы просто сча¬
стлив, если бы терапия помогла ему избавиться хотя бы от некоторых из них.
Диагностика и оценка
После этапа вхождения Дэнис прошел довольно содержательную процедуру оцен¬
ки. Главной целью диагностики было определение основания саморазрушитель¬
ного поведения Дэниса, о котором сообщал его учитель.
В ходе наблюдения за Дэнисом в классе, как и в ходе вводной беседы, было
отмечено, что он бьет себя только когда пытается выполнить письменные задания.
На самом деле именно его письменные работы, устойчиво оказывавшиеся ниже
среднего уровня, стали причиной направления Дэниса в ресурсный центр для двух
еженедельных часов дополнительной работы. Учителя подозревали у Дэниса не¬
способность к языковому обучению.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 379
В результате оценки было обнаружено, что полный коэффициент интеллекта
мальчика составлял 140 баллов, причем оценки, полученные по вербальной шка¬
ле и по шкале действия, были представлены величинами одного порядка. Эти бал¬
лы свидетельствовали о превосходном интеллектуальном развитии ребенка. Од¬
ной из особенно сильных сторон Дэниса был его словарный запас. Дальнейшая
диагностика подтвердила, что Дэнис был одаренным ребенком, обладавшим спо¬
собностью не к письменному, а к устному обучению. Письмо от руки представля¬
ло для него проблему, потому что он не мог вспомнить шаги написания каждой
буквы карандашом; поэтому практически вся его энергия уходила на попытки
определить, какое движение карандашом ему нужно совершить дальше, и он те¬
рял идеи, которые хотел изложить. Удары по голове служили Дэнису чем-то вроде
нажатия клавиши «RESET*1, которую он использовал перед началом коррекции,
чтобы дать себе сигнал, что карандаш движется в неправильном направлении. Ко¬
гда с Дэнисом проводилось интервью, его язык был чрезвычайно сложным и его
взаимодействия значительно опережали нормальный для его возраста уровень.
Кроме того, Дэнис выполнил несколько личностных тестов, а также заполнил
методику определения целей развивающей терапии (Developmental Teaching Objec¬
tives Rating Form, DTORF). Личностные методики обнаружили у ребенка низкую
самооценку своих интеллектуальных и академических способностей, общую за¬
стенчивость и склонность к отказу от деятельности при столкновении с академи¬
ческой задачей. DTORF показала следующие данные:
Дэнис будет способен:
1) демонстрировать начало осозна¬
ния улучшения своего поведения
(П—21);
2) реализовывать адекватные альтер¬
нативные модели поведения в усло¬
виях межличностных взаимодей¬
ствий (П-22);
3) описывать свои характерные чер¬
ты, сильные стороны и проблемы
(К—17);
4) использовать слова или невербаль¬
ные проявления для демонстрации
гордости за собственную работу и
деятельность, то есть делать пози¬
тивные высказывания о себе (К-18);
5) искать помощи или похвалы у дру¬
гих детей (С-26);
6) помогать другим в соблюдении
групповых правил (С-27);
1 RESET (от англ. — запускать повторно) — клавиша компьютера, позволяющая перезагрузить опе¬
рационную систему и исправить таким образом накопившиеся во всех программах ошибки. — При-
меч. пер.
При использовании DTORF было выяв¬
лено, что в возрасте девяти с половиной
лет Дэнис функционировал на четвер¬
том уровне развития в поведенческой
сфере, на третьем уровне в коммуни¬
кативной сфере и на третьем уровне в
сфере социализации. Согласно своему
возрасту, Дэнис должен был бы функ¬
ционировать на начальном четвертом
уровне развития всех сфер.
380 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Выработка целей
Заголовки в данном разделе соответствуют заголовкам, использованным в главе 7.
Читатель отсылается к ним за описательной информацией относительно каждой
сферы, исходя из которой выработаны цели лечения.
Сложившийся паттерн функционирования ребенка
Описание уровня развития
Несмотря на незначительные измерен¬
ные DTORF задержки, Дэнис произво¬
дил общее впечатление ребенка старше
своего возраста, особенно из-за хороше¬
го поведения и вежливости. Дэнис не
часто инициировал беседы, но когда он
все же говорил, он использовал доста¬
точно сложные речевые обороты.
Функционирование Дэниса, обуслов¬
ленное его развитием, варьирует в зави¬
симости от количества речи, требуемой
ситуацией. Находясь в классе, он произ¬
водит впечатление ребенка, опережаю¬
щего свой возраст по поведению, но от¬
стающего социально. В то же время при
выполнении деятельности, не связан¬
ной с учебой (например, игра в футбол),
Дэнис демонстрирует хорошие соци¬
альные навыки.
Когнитивная сфера
Все взаимодействия Дэниса с миром
выведены из его стержневого убежде¬
ния, что он тупой. Он был, по его мне¬
нию, одним из самых тупых детей в сво¬
ем классе и боялся остаться на второй
год. В остальном же он, судя по всему,
развивался нормально и был вполне
здоровым ребенком.
Эмоциональная сфера
В комфортной ситуации Дэнис был
способен переживать широкий диапа¬
зон эмоций, соответствующих его воз-
7) Дэнис будет действовать в манере,
соответствующей его хронологи¬
ческому возрасту, что будет прояв¬
ляться в его использовании более
спонтанных вербализаций;
8) Дэнис в различных ситуациях бу¬
дет демонстрировать поведение,
соответствующее его развитию.
Дэнис будет:
9) демонстрировать меньше сигналов
тревоги при выполнении письмен¬
ных работ;
10) проговаривать свое убеждение в
том, что он очень умен.
Дэнис будет способен:
11) выполнять школьные задания, не
испытывая серьезной тревоги;
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 381
расту, и рассказывать о них. Но он так
боялся потерпеть неудачу или пока¬
заться глупым, что драматически сдер¬
живал проявления своих эмоций. Со¬
здавалось впечатление, что часто ему
было трудно получать удовольствие от
позитивных социальных взаимодей¬
ствий, хотя его эмоции обычно остава¬
лись нейтральными, а не превращались
в негативные.
Психопатология
Потребность Дэниса быть удовлетво¬
ренным своими когнитивными и эмо¬
циональными способностями не удов¬
летворялась эффективно. Более того, не
удовлетворялась эффективно и его по¬
требность чувствовать себя специалис¬
том в решении когнитивных задач.
Ни одна из потребностей Дэниса не
была неадекватной, так как ничто из
того, что он делал, не мешало другим
людям удовлетворять их потребности.
Репертуар возможных реакций
Дэнис был склонен к аутопластичному
разрешению практически каждой ситу¬
ации. Он редко говорил кому-нибудь,
что его что-то беспокоит, и все считали
его очень вежливым ребенком, склон¬
ным к сотрудничеству. И взрослые, и
сверстники испытывали к нему симпа¬
тию. Если он сталкивался с проблемой,
то полагал, что это его просчет, и делал
попытки изменить свое поведение. Не¬
смотря на глубокое графомоторное на¬
рушение, Дэнис никогда никому не го¬
ворил, что ему сложно писать, и не
жаловался, что не может завершить ра¬
боту за отведенное на время. Даже его
удары по голове были попыткой заста¬
вить себя выполнять работу так, как
того ожидают другие.
12) проявлять большее разнообразие
эмоций;
13) проговаривать свое эмоциональное
состояние.
Дэнис будет:
14) демонстрировать повышение оцен¬
ки своих когнитивных и академи¬
ческих способностей;
15) демонстрировать повышение мас¬
терства, лучше выполняя школь¬
ные задания, как только снизится
его тревога.
Дэнис будет:
16) проявлять меньшую тревогу в си¬
туациях выполнения заданий;
17) высказывать больше просьб к окру¬
жающим об удовлетворении своих
потребностей;
18) проговаривать свое убеждение в
том, что он не тупой;
19) не демонстрировать больше само¬
разрушительного поведения, стал¬
киваясь с тревогой при выполне¬
нии деятельности.
382 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка
Специфические факторы, связанные с ребенком
«Личный вклад» ребенка (Endowment)
Превосходный интеллект Дэниса по¬
зволил ему достичь оптимального раз¬
вития в большинстве сфер его функци¬
онирования. Его серьезное графомотор¬
ное нарушение было причиной убежде¬
ния, что он тупица, и главным пуско¬
вым механизмом практически всех по¬
веденческих проблем, приведших его на
терапию. Кроме того, вероятно, что он с
большей охотой, чем большинство де¬
тей его возраста, прибегал к аутопла¬
стичным изменениям, потому что обла¬
дал способностью к этому.
Дэнис будет:
20) включать графомоторное расстрой¬
ство в пространное описание себя и
своих навыков;
21) демонстрировать использование
альтернативных стратегий управ¬
ления стрессом в школе.
Обусловленный развитием способ реагирования (Developmental Response)
Поскольку снижение способности к
обучению не проявлялось у Дэниса до
тех пор, пока он уверенно не освоился
на третьем уровне функционирования,
была выдвинута гипотеза, что его общая
картина развития будет здоровой и аде¬
кватной хронологическому возрасту.
Тем не менее, поскольку его проблема
непосредственно мешала справляться с
индивидуальными задачами, была вы¬
двинута гипотеза, что он будет прояв¬
лять общие чувства неспособности аде¬
кватно выполнять задачи.
Экологические факторы
Семья
Семья Дэниса была оценена как чрез¬
вычайно адаптивная, функциональная
и поддерживающая система. В данную
ситуацию они неумышленно могли вне¬
сти лишь свою повышенную мотива¬
цию достижения. Оба родителя Дэниса
были очень успешными, как и две его
старшие сестры. Будучи младшим ре-
22) Дэнис научится отделять свои труд¬
ности в учебе от общего восприя¬
тия себя и своих способностей.
Дэнис будет:
23) просить семью о поддержке в совла-
дании со своим графомоторным на¬
рушением;
24) понимать, что его особое место в
семье не подвергается опасности
из-за его академических затрудне¬
ний.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 383
бенком и единственным мальчиком в
семье, он испытывал большую любовь и
заботу. Но при этом он почему-то не
был уверен, что его будут любить неза¬
висимо от его успехов.
Сверстники
Сверстники Дэниса не сыграли значи¬
тельной роли в формировании его дез-
адаптивных мыслей и поведенческих
паттернов.
Другие системы
Работа отца Дэниса требовала, чтобы
семья довольно часто перемещалась с
места на место по всему миру. Из-за
этих переездов Дэнис никогда не учил¬
ся в одной школе более двух лет и нахо¬
дился в школах, где не было хорошей
психологической помощи. Когда Дэнис
перестал справляться с письменными
заданиями, его направили на коррекци¬
онное обучение. Хотя сотрудники шко¬
лы принимали этот план с самыми луч¬
шими намерениями, он значительно
подкрепил убежденность Дэниса в сво¬
ей бестолковости. Помимо контактов в
школе, Дэнис не имел значимых взаи¬
модействий с другими системами.
25) Дэнис будет проговаривать жела¬
ние проходить программу ресурс¬
ного центра, не выказывая стыда по
этому поводу.
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка
Специфические трудности ребенка
«Личный вклад» ребенка (Endowment)
Графомоторное нарушение Дэниса бы¬
ло и одним из главных источников его
актуальных проблем и одним из наибо¬
лее важных факторов, поддерживаю¬
щих самооценку мальчика на низком
уровне.
26) Дэнис будет способен назвать свое
графомоторное расстройство как ас¬
пект, противоположный позитив¬
ному самоописанию.
384 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Привлекательная внешность Дэниса
заставляла людей реагировать на него
очень позитивно. Можно предполо¬
жить, что в сочетании с его поведением
этот фактор заставлял их недооцени¬
вать серьезность его трудностей и при¬
ходить к выводу, что для достижения
академического успеха ему просто не¬
обходимо больше стараться.
27) окружающие смогут проявлять бо¬
лее реалистичную оценку трудно¬
стей Дэниса и помогать ему, когда
это необходимо.
Анализ издержек и выгод установок, эмоций и моделей поведения
Так как Дэнис демонстрировал поведе¬
ние, которое, казалось, опережало его
хронологический возраст, это обеспе¬
чивало ему значительное подкрепление
со стороны взрослых. К счастью, Дэнис
умел при этом взаимодействовать со
сверстниками в соответствующей его
возрасту манере.
Негативная самооценка Дэнисом своих
когнитивных и академических способ¬
ностей мешала ему добиваться успехов
в других академических областях, так
как мешала ему вести себя непосред¬
ственно при взаимодействиях с дру¬
гими.
Экологические факторы
Семья
Семья Дэниса была стабильной и здо¬
ровой, и на ближайшие два года не
предвиделось никаких переездов. Не
предвиделось никаких помех прогрессу
лечения.
Сверстники
У Дэниса были хорошие отношения со
сверстниками, что оказывало значи¬
тельную поддержку в областях, не свя¬
занных с учебой.
28) Дэнис будет демонстрировать боль¬
шую вариабельность в выражении
своих эмоций, соответствующую
его уровню развития.
Дэнис будет:
29) лучше справляться с неписьмен¬
ными задачами, как только улуч¬
шится его общая негативная само¬
оценка;
30) демонстрировать более непосред¬
ственное, счастливое поведение в
большем количестве ситуаций.
31) Дэнис увидит, что его родители ак¬
тивно участвуют в процессе лече¬
ния и заинтересованы в его благо¬
получии.
32) Дэнис начнет обращаться к сверст¬
никам с просьбами о поддержке в
борьбе со своими академическими
трудностями.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 385
Другие системы
Во время этапа вхождения Дэнис полу¬
чал минимальную поддержку системы
специального образования. Никакие
другие системы в его жизни не присут¬
ствовали.
33) Дэнис будет активнее участвовать
в планировании своей академиче¬
ской программы, заявляя о своих
предпочтениях и включаясь в ре¬
шение возникающих проблем вме¬
сте родителями.
Формулировка диагноза и синтез целей
Для Дэниса главной целью терапии является снижение интенсивной тревоги, свя¬
занной с выполнением деятельности. Часть этого процесса представляет собой
формирование терапевтического альянса, но само по себе это не является цент¬
ральной целью, потому что не предвидится возникновения никаких трудностей
при вхождении Дэниса в такие отношения.
Начальная цель Дэниса — осознание и называние своих эмоций, рождающих¬
ся в различных условиях и ситуациях. Скрытая цель здесь — помочь ему отделить
свои чувства относительно школы и своей школьной успеваемости от общей
Я-концепции. Это необходимо, чтобы школьные проблемы не воспринимались
Дэнисом как всеобъемлющие и не снижали его общей самооценки.
Как только Дэнис осознает, что его чувство собственной тупости и бестолко¬
вости ограничено только некоторыми типами школьных задач, целью терапии ста¬
нет вовлечение мальчика в решение имеющихся проблем. Компонент терапии,
связанный с применением техники разрешения проблем, будет направлен на опре¬
деление способов, посредством которых Дэнис мог бы справиться и со своим гра¬
фомоторным нарушением, и с вызываемыми им чувствами; целевыми моделями
поведения при этом определяются его вербальные и физические саморазруши¬
тельные паттерны. Кроме того, терапевт будет поощрять его вырабатывать стра¬
тегии получения большей поддержки семьи и сверстников.
По мере того как в ходе терапии Дэнис генерирует стратегию решения проблем,
целью станет помощь в их реализации за пределами сессии. Его нужно будет по¬
ощрять искать помощи у семьи, сверстников и школьного персонала. По мере того
как эти стратегии станут эффективно снижать тревожность Дэниса, терапевт бу¬
дет концентрироваться на расширении и высвобождении поведенческого и эмо¬
ционального репертуара мальчика.
Стадия завершения лечения поможет Дэнису стать более активным в отноше¬
ниях со сверстниками, чтобы на всем протяжении учебы в школе они могли обес¬
печивать ему продолжающуюся поддержку.
В кратком изложении 33 цели, выведенные по результатам этапа вхождения,
диагностики и формулировки диагноза, были объединены в 7 целей индивидуаль¬
ной работы и 1 цель параллельной работы. Поскольку лечение задумывалось как
кратковременное, все выбранные цели в высокой степени взаимосвязаны. Также
предполагалось, что относительно более содержательных целей, таких как уста¬
новление самооценки Дэниса или его восприятия своего места в семье, будет про-
386 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
водиться лишь подготовительная работа. На уровне индивидуальной работы Дэ-
нис будет:
• более реалистично описывать себя, демонстрируя позитивный образ «Я»,
в котором графомоторное нарушение играет ограниченную роль (удовле¬
творение потребности в одобрении и высокой самооценке);
• показывать увеличение проявлений непосредственного поведения, в том
числе большее разнообразие эмоций и способов аффективного выражения;
• проявлять меньшую тревогу во время выполнения академических заданий
и снижение саморазрушительного поведения;
• чаще обращаться с просьбами о помощи к сверстникам и значимым взрос¬
лым, особенно к учителям;
• демонстрировать общее улучшение успеваемости, особенно в областях, не
связанных с письменными работами (удовлетворение потребности в мас¬
терстве);
• демонстрировать осознание того, что его академические проблемы не угро¬
жают его положению в семье;
• показывать растущее осознание прогресса своего поведения.
На уровне параллельной работы:
• значимые взрослые, окружающие Дэниса, будут демонстрировать более
четкое понимание его нарушения способности к обучению и обеспечивать
ему лучшую и более последовательную поддержку.
Решения, принятые до начала лечения
Определение контекста (контекстов),
в котором будут происходить интервенции
Индивидуальный контекст. Дэнис проходит индивидуальную игровую терапию,
чтобы выработать устойчивость к негативной обратной связи по поводу учебных
проблем. Другая цель — обеспечить Дэниса максимально возможной поддержкой
в его попытках разрешить школьные проблемы.
Семья. Была инициирована параллельная работа с родителями, чтобы они спо¬
собствовали генерализации тех изменений, которые будут происходить у Дэниса,
на внешний мир.
Сверстники. Поскольку Дэнис не испытывал никаких трудностей во взаимодей¬
ствиях со сверстниками, для этой группы не было запланировано никаких интер¬
венций.
Другие системы. Было решено, что для обеспечения разумного прогресса в лече¬
нии необходимы консультации с сотрудниками школы Дэниса, потому что школа
была основной средой, в которой проявлялась его симптоматика. Целью являет¬
ся помощь им в разработке учебной программы, позволяющей Дэнису функцио¬
нировать на уровне, соответствующем его когнитивным способностям.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 387
Определение типов интервенций
в каждом контексте
Дэнис был хорошим кандидатом для краткосрочной индивидуальной терапии; но
казалось, что наиболее эффективные вмешательства можно осуществлять через
его школу. Стратегия разрешения проблем и образовательный подход должны
были использоваться в работе с персоналом школы и с родителями Дэниса.
Определение терапевтических стратегий
в игровой терапии ребенка
Развитие Дэниса было равномерным практически во всех областях. Поскольку он
отлично функционировал на третьем уровне, эмпирический подход к его терапии
не казался необходимым. Но все же терапевт решил провести несколько очень
структурированных и практических сессий в самом начале, чтобы развеять пат¬
терн тревоги и ригидности, используемый Дэнисом во взаимодействиях со взрос¬
лыми, когда обсуждались академические вопросы. Целью было снизить чувстви¬
тельность Дэниса к страху неудачи при выполнении учебных заданий. Остальная
часть лечения должна была быть открытой и неструктурированной, с акцентом на
применении вербализаций, чтобы Дэнис мог научиться применять свои когни¬
тивные навыки для выработки стратегий, которые помогли бы добиться успеха
в школе.
Обратная связь и заключение контракта на лечение
На сессии обратной связи основное внимание направлялось на тревогу и негатив¬
ные чувства Дэниса относительно школьной деятельности. Дэнис согласился, что
хотел бы перестать так сильно тревожиться относительно школьных заданий,
и сказал, что готов попытаться научиться другим способам совладания с ними, по¬
мимо битья себя по голове.
План лечения
СТАДИЯ «ВВЕДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ»
Цели стадии. Дэнис будет:
1) описывать себя более реалистично; демонстрировать позитивный образ «Я», в ко¬
тором его графомоторное нарушение будет играть очень ограниченную роль (удов¬
летворение потребности в одобрении и высокой самооценке);
2) демонстрировать меньше тревоги в ходе выполнения учебных заданий и снижение
количества проявлений саморазрушительного поведения.
Первая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. График результатов выполнения детского интеллектуального теста Векс¬
лера (WISC-Л), карандаш и бумага, большая круглая подушка, наполненная пенорези¬
ной, и мишень.
Практические компоненты. Поскольку Дэнис не имел опыта посещения психотерапии
и травматической истории, терапевт решил для начала взять контроль над ходом сес¬
сий на себя. Он начал первую сессию с того, что предоставил Дэнису обратную связь
388 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
о том, как тот справился с интеллектуальным тестом. При этом терапевт продемон¬
стрировал мальчику и график, отображающий результаты субтестов. Это позволило об¬
судить сильные и слабые стороны Дэниса, а также проиллюстрировать тот факт, что
даже там, где он был слабее, он значительно опережал нормальный уровень своего воз¬
раста. Кроме того, терапевт детально описал истинную природу нарушения Дэниса. По
мере этого обсуждения Дэнис постепенно расплывался в улыбке, хотя иногда в его
взгляде и проскальзывало недоверие.
После части сессии, посвященной обратной связи по результатам теста, терапевт ска¬
зал: «В первые две наши встречи я задавал множество вопросов, и ты прошел через
чудовищное количество разных тестов. Это была большая работа. Сейчас мы перехо¬
дим к работе другого типа. Я собираюсь научить тебя расслабляться, чтобы твое пись¬
мо давалось тебе несколько проще. Перед тем как научить тебя расслабляться, мне не¬
обходимо узнать о тебе еще кое-что». Затем терапевт начал спрашивать Дэниса о его
любимых местах, где он чувствует себя спокойно, о том, какой у него любимый цвет,
о музыке, о животных и т. д. Эта деятельность была продолжением исследовательской
стадии лечения, потому что Дэнис и терапевт в ходе этой вводной беседы и первона¬
чальной оценки проводили вместе много времени.
Как только интервью было проведено, терапевт начал обучать Дэниса стратегии глу¬
бокой мышечной релаксации. По мере расслабления мышц релаксация усиливалась
при помощи визуализации (продуцирования особых зрительных образов). Терапевт
научил Дэниса представлять в воображении секретное место, куда он мог попасть толь¬
ко после пересечения широкого луга. Оказавшись в потайном месте, Дэнис должен был
представить, что его окружают любимые вещи. Стены комнаты были окрашены в его
любимый цвет, по радио звучала его любимая музыка. Он мог посмотреть из окна на
реку, где остановился на водопой олень — его любимое животное. Когда он находился
в этом месте, он мог делать все что захочет, потому что там не было никого, кто мог бы
предъявить к нему какие-то требования. После релаксации следовали два коротких
занятия.
Деятельность, выполняемая в ходе этой сессии, была предназначена для демонстрации
контраста между задачами, которые Дэнис выполнял плохо, и задачами, с которыми он
справлялся хорошо. На роль задачи, с которой Дэнис справлялся посредственно, оче¬
видно просилась задача, связанная с написанием чего-либо. Необходимую интенсив¬
ность этого переживания можно было задавать, введя временное ограничение на вы¬
полнение задачи. Бросание набивных подушек в мишень терапевт посчитал задачей
очень низкого уровня, с которой Дэнис должен был справиться просто отлично. Необ¬
ходимый уровень сложности задачи можно было задавать через дистанцию от Дэниса
до мишени.
Вербальные компоненты. Целью вводной части сессии было начало оказания Дэнису
помощи в помещении его академических трудностей в ситуацию терапии. В качестве
проверочных данных терапевтом был выполнен некий пробный процесс разрешения
проблемы, связанной с тем, как можно воспринимать себя очень компетентным в од¬
них областях и ужасным неудачником и неумехой в других. Несмотря на то что это
происходило лишь в самом начале лечения, терапевт смог сделать несколько важных
интерпретаций, потому что Дэнис уже достаточно хорошо осознавал природу своих
затруднений. Терапевт сделал следующие интерпретирующие утверждения.
Отражения. Терапевт отзеркалил эмоциональные изменения Дэниса, в том числе его
тревогу во время выполнения письменного задания и удовольствие, испытанное им,
когда он услышал, что он сообразителен и способен на достаточно сложные броски на¬
бивными подушками.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 389
Интерпретации паттерна. «Это уже второй раз, когда ты упоминаешь, как сильно не
любишь такие предметы, как риторика и социальные науки». «Ты уже в третий раз го¬
воришь мне, как весело бросать подушку в различные мишени».
Интерпретации простой динамики. «Кажется, ты так сильно беспокоишься, когда тебе
приходится писать или выполнять некоторые виды школьной работы, что не хочешь
выполнять их совсем». «Ты кажешься счастливым, когда делаешь что-то, что не напо¬
минает о школе».
Интерпретации генерализованной динамики. «Спорю, что когда приходит время пись¬
менной работы в классе, ты начинаешь беспокоиться еще больше, чем сейчас». «Наблю¬
дая за тем, как сильно тебе нравится бросать подушки в мишени, я начинаю понимать,
почему ты любишь играть в футбол».
Генетические интерпретации. В этот раз не было сделано никаких генетических интер¬
претаций.
Помимо этого, терапевт занял Дэниса разрешением проблемы, связанной с тем, как
сделать выполнение письменной задачи менее болезненным, а бросание подушками
более веселым.
Компоненты сотрудничества. Терапевт провел с родителями расширенную сессию
обратной связи относительно природы академических трудностей Дэниса. Они испы¬
тали такое облегчение, узнав, что проблема Дэниса имеет такую узкую причину, что
немедленно принялись изыскивать способы, при помощи которых могли бы облегчить
сыну обучение и посещение школы. Была выдвинута идея предоставить ему пишущую
машинку или ноутбук и направить на специальное обучение машинописи, если это
поможет справиться с его нарушением. Кроме того, они предложили купить ему дик¬
тофон, чтобы он мог записывать на него свои ответы на школьные работы, а они затем
транскрибировали бы их. В конце концов, было очевидно, что они сделают все возмож¬
ное, чтобы помочь Дэнису.
Кроме того, была проведена встреча с представителями персонала школы Дэниса. Они
были несколько удивлены, обнаружив, что он обладает высоким уровнем интеллекта.
Как и его родители, они испытали некоторое облегчение, обнаружив, что он обладает
таким узким нарушением. Учительница сразу же согласилась модифицировать для
Дэниса процедуры учебного процесса. Отныне он будет получать больше времени на
выполнение письменных заданий. Она согласилась, что он может диктовать свои до¬
машние работы. Она даже согласилась выработать для него специальные тесты, в ко¬
торых ему нужно будет отмечать правильные ответы, а не писать. Все сотрудники со¬
гласились встретиться снова через четыре недели для определения того, явились ли эти
изменения существенными и эффективными.
СТАДИЯ «ПРОБНОЕ ПРИНЯТИЕ»
Цели стадии. Дэнис будет:
1) описывать себя более реалистично; демонстрировать позитивный образ «Я», в ко¬
тором его графомоторное нарушение будет играть очень ограниченную роль (удов¬
летворение потребности в одобрении и высокой самооценке);
2) демонстрировать меньшую тревогу в ходе выполнения учебных заданий и сниже¬
ние количества проявлений саморазрушительного поведения.
Вторая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Крупные листы бумаги и маркеры, набивные подушки.
390 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Практические компоненты. Пробное принятие Дэниса проявлялось в его безоговороч¬
ном сотрудничестве, имевшем место в ходе обучения релаксации в первой части дан¬
ной сессии. Это упражнение выполнялось по существу точно так же, как и в течение
первой сессии. После этого терапевт предложил Дэнису начать самостоятельно при¬
менять релаксацию дома, особенно вечером, перед отходом ко сну, или сразу после ут¬
реннего пробуждения.
Следующая деятельность состояла в том, что терапевт обвел все тело Дэниса на боль¬
шом листе бумаги. После этого он вместе с мальчиком начал заполнять контур, рисуя
на нем отдельные черты, одежду, а также вписывая описания личностных характерис¬
тик Дэниса. Целью было включение в список тех вещей, которые давались ему легко,
а также тех, которые были сложными, чтобы ребенок мог приступить к созданию более
целостного образа «Я». Для разнообразия в список были включены многие нейтраль¬
ные характеристики, такие как цвет глаз и волос. Каждая характеристика была поме¬
чена плюсом, минусом или нулем, чтобы показать, считает ли Дэнис эту характеристику
хорошей, плохой или нейтральной. Когда подошло время графомоторного нарушения,
терапевт вписал этот пункт маленькими буквами внутри контура правой руки Дэниса,
что символизировало локализацию проблемы. Дэнис и терапевт писали характеристи¬
ки по очереди, чтобы мальчик мог получить опыт как письма (вызывающего тревогу),
так и диктования (не провоцирующего тревоги).
После того как рисунок был завершен, Дэнис и терапевт расстелили его на полу и по
очереди бросали в него подушки, при этом бросивший должен был называть характе¬
ристики, скрывшиеся под подушкой, или другие характеристики, обладающие для
Дэниса такой же значимостью.
Вербальные компоненты. Так как целью оставалось построение Дэнисом лучшего и
более целостного видения себя, терапевт продолжил делать следующие интерпретиру¬
ющие утверждения.
Отражения. Отражались все чувства счастья, тревоги, расслабления и фрустрации
вместе с периодическими проблесками самосознания Дэниса, вызванными тем, что он
находился в центре близкого рассмотрения и подробного обсуждения.
Интерпретации паттерна. «Ты, несомненно, очень торопишься вернуть мне ручку,
когда решаешь, что опять пришла моя очередь писать». «Эта негативная характери¬
стика, которую ты сейчас высказал, уже четвертая подряд». «Большинство плохих ве¬
щей, которые ты говоришь о себе, каким-то образом связаны со школой».
Интерпретации простой динамики. «Ты кажешься гораздо более спокойным, когда
можешь не писать ответы, а просто диктовать их». «Кажется, разговор о школе вызы¬
вает у тебя неприятные чувства». «Кажется, разговор о том, что ты делаешь вместе со
своей семьей, связан со множеством счастливых чувств».
Интерпретации генерализованной динамики. «Могу поспорить, что в школе ты тратишь
много времени на беспокойство и на переживания по поводу своей глупости, особенно
когда тебе приходится делать письменную работу». «Могу поспорить, ты любишь по¬
чти все, что происходит вне школы, за исключением домашних заданий».
Генетические интерпретации. В этот раз не было сделано никаких генетических интер¬
претаций.
Разрешение проблем. Терапевт помог Дэнису придумать, что еще он может сказать о
себе, а также о том, как сохранять сбалансированное видение своих хороших и плохих
черт. Каждый раз, когда создавалось впечатление, что Дэнис начинает тревожиться,
терапевт помогал ему при помощи стратегии разрешения проблем придумывать, как
он может снизить уровень тревоги (в этот момент они сконцентрировались на исполь¬
зовании техники релаксации или просьбы о помощи).
Компоненты сотрудничества. В этот раз не проводилось никакой параллельной работы.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 391
СТАДИЯ «НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ»
Цели стадии. Дэнис будет:
1) описывать себя более реалистично; демонстрировать позитивный образ «Я», в ко¬
тором его графомоторное нарушение будет играть очень ограниченную роль (удов¬
летворение потребности в одобрении и высокой самооценке);
2) демонстрировать повышение проявлений непосредственного поведения, в том чис¬
ле — более широкой сферы аффектов и средств эмоционального выражения;
3) демонстрировать меньше тревоги в ходе выполнения учебных заданий и снижение
количества проявлений саморазрушительного поведения.
Третья сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Диктофон, цветные мелки и бумага, темпера и большие кисти, краска для
рисования пальцами и крупные листы бумаги, повязка на глаза.
Практические компоненты. Проявление Дэнисом негативной реакции на процесс те¬
рапии было очень кратким. В начале третьей сессии он пожаловался, что постоянно
выполнять релаксацию скучно. После совместного с терапевтом мозгового штурма, на¬
правленного на то, чтобы сделать процедуры релаксации менее скучными, они пришли
к некоторым идеям, среди которых было такое упражнение: Дэнис пытается провести
релаксацию и расслабиться, в то время как терапевт отвлекает его. Кроме того, они ре¬
шили, что можно записать релаксацию на магнитофонную кассету, чтобы Дэнис мог за¬
ниматься дома. Этих незначительных изменений хватило, чтобы Дэнис заново почув¬
ствовал интерес к процессу, и стадия негативной реакции на терапию подошла к концу.
Целью этой стадии была меньшая концентрация Дэниса на выполнении деятельности
и большее внимание к получению удовольствия. Сначала он должен был задумать не¬
кое слово. Потом ему нужно было это слово написать. После этого маркерами он нари¬
совал картину, ассоциирующуюся с этим словом. Затем он нарисовал другую картину,
подходящую к этому слову, с использованием темперы, кистей и больших листов бу¬
маги. Наконец он повторил рисование, на этот раз рисуя пальцами. Каждый раз, когда
Дэнис слишком концентрировался на получении продукта, терапевт надевал ему на
глаза повязку, и мальчику приходилось выполнять эту стадию рисования, не имея воз¬
можности смотреть, что у него получается. Все же, если мальчик просил об этом, тера¬
певт подсказывал ему, помогая выполнить работу вслепую. По мере продвижения идеи
насчет рисования становились все глупее, и терапевт отводил все меньше времени на
выполнение каждого шага, чтобы основное внимание было направлено на процесс, а не
на результат.
Вербальные компоненты. Терапевт продолжал дифференцировать виды деятельности
на продуцирующие тревогу и доставляющие удовольствие. В течение этой сессии те¬
рапевт также концентрировался на веселье, связанном с непосредственностью.
Отражения. Терапевт «отражал» те же самые чувства, как и на предыдущем этапе ра¬
боты, а также дополнительно очевидную потребность Дэниса в достижении, когда он
концентрируется на попытках сделать все по правилам.
Интерпретации паттерна. «Я заметил, что ты закатываешь глаза перед тем, как что-
нибудь написать». «Ты тратишь ужасно много времени на рисование маркером, про¬
рисовывая в своих картинах множество деталей». «Ты пронесся через процесс рисова¬
ния пальцами, совсем не уделив внимания тому, что ты делаешь».
Интерпретации простой динамики. «Мне кажется, когда тебе нужно что-то написать,
ты заранее решаешь, что это слишком трудно и волнуешься, а это тебе мешает». «Ты
392 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
любишь рисовать маркерами, потому что это дает тебе шанс показать мне, как хорошо
ты умеешь рисовать». «Кажется, ты не очень-то любишь краски для пальцев, потому
что ими практически невозможно нарисовать что-либо хорошо». «Кажется, тебе труд¬
нее начинать делать что-то, если ты не умеешь справляться с этим делом очень хоро¬
шо». «Кажется, что если ты не можешь делать чего-то хорошо, это заставляет тебя пло¬
хо о себе думать».
Интерпретации генерализованной динамики. «Спорю, что и дома и в школе ты избега¬
ешь тех вещей, которые, по твоему мнению, не можешь делать хорошо. На самом деле я
поспорю, что именно поэтому ты едва ли когда-нибудь садишься за домашние задания».
Генетические интерпретации. «Я думаю, что это беспокойство о том, чтобы всё делать
хорошо, началось, когда ты обнаружил, что не можешь писать так же хорошо, как дру¬
гие дети. С тех пор оно несколько выросло, и поэтому все, что даже немного трудно,
заставляет тебя плохо думать о себе».
На этой стадии все разрешение проблем сфокусировалось на том, как сделать каждую
из задач более забавной и вызывающей меньшую тревогу.
Компоненты сотрудничества. В этот раз не проводилось никакой дополнительной па¬
раллельной работы.
СТАДИЯ «РОСТ, ДОВЕРИЕ И ПРОРАБОТКА»
Цели стадии. Дэнис будет:
1) описывать себя более реалистично; демонстрировать позитивный образ «Я», в ко¬
тором его графомоторное нарушение будет играть очень ограниченную роль (удов¬
летворение потребности в одобрении и высокой самооценке);
2) демонстрировать повышение проявлений непосредственного поведения, в том чис¬
ле — более широкой сферы аффектов, и средств эмоционального выражения;
3) демонстрировать меньшую тревогу в ходе выполнения учебных заданий и сниже¬
ние количества проявлений саморазрушительного поведения;
4) повышать частоту своих просьб о помощи, обращаемых к сверстникам и значимым
взрослым, особенно к учителям;
5) проявлять общее улучшение школьной успеваемости, особенно при выполнении не
связанных с письмом задач (удовлетворение потребности в компетентности и мас¬
терстве).
Четвертая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Большие листы бумаги, ванильный и шоколадный пудинги, мокрая
тряпка.
Практические компоненты. Целями практического компонента этой сессии было во¬
влечение Дэниса в получение удовольствия во время выполнения совершенно неце¬
ленаправленной деятельности, а также удовольствия от получения помощи. Теперь,
когда Дэнис хорошо овладел процедурой релаксации, требовалось научиться оставать¬
ся расслабленным в ходе той или иной деятельности. То есть требовалось укрепить чув¬
ство компетентности мальчика путем того, чтобы научить его оставаться расслаблен¬
ным при выполнении хорошо знакомой деятельности в новых условиях. Терапевт
начал учить Дэниса использовать релаксацию для противостояния щекотке. Он пока¬
зал ему, что напряженные мышцы реагируют на щекотку гораздо сильнее, чем расслаб¬
ленные. Затем они работали над тем, чтобы Дэнис остался расслабленным под натис¬
ком все более интенсивной щекотки. Как только он смог справляться с этим, была
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 393
введена идея остаться расслабленным и спокойным, думая о школе. Поскольку для
Дэниса это было большим шагом вперед, эта часть работы была проделана кратко.
Остальную часть сессии Дэнис провел, рисуя пальцами на больших листах бумаги шо¬
коладным и ванильным пудингами. Поначалу Дэнис отнесся к этому с неохотой, но те¬
рапевт сам закатал ему рукава и измазал ему руки пудингом. Затем терапевт сделал вид,
что он художник, использующий руки Дэниса как свои кисти. Не было предпринято
попытки нарисовать что-либо конкретное; все внимание было направлено на получе¬
ние удовольствия. Периодически терапевт просил Дэниса «промыть одну из кистей»,
облизывая пальцы. В конце сессии терапевт помог ребенку вымыть руки.
Вербальные компоненты. В дополнение к предоставлению интерпретаций терапевт
приложил все усилия, чтобы вербально подкреплять малейшие попытки Дэниса про¬
сить о помощи. Так, когда во время рисования пудингом рукав мальчика начал спол¬
зать, он посмотрел на терапевта. Терапевт сразу сказал: «А, у тебя съезжает рукав и ты
хочешь, чтобы я поправил? Конечно, с удовольствием!»
Отражения. Были сделаны такие же отражения, как и в ходе предыдущих сессий.
Интерпретации паттерна. «Кажется, ты научился веселиться и дурачиться». «По-
моему, ты не просишь о помощи, а ворчишь».
Интерпретации простой динамики. «Несомненно, ты не очень хорошо себя чувству¬
ешь, когда просишь о помощи». «По-моему, ты не решаешься попросить о помощи по¬
тому, что боишься, будто я увижу, что у тебя это не слишком хорошо получается». «Ко¬
нечно, тебе нравятся шумные игры, например щекотание. Я думаю, это потому, что при
щекотании нельзя быть ни хорошим, ни плохим. Это чистая забава».
Интерпретации генерализованной динамики. «Спорю, что просить о помощи в школе
трудно потому, что ты беспокоишься, будто другие люди подумают, что ты глупый, если
не можешь справиться с этим сам».
Генетические интерпретации. «Когда ты понял, что не справляешься с учебой, ты ре¬
шил скорее смириться с участью неуспевающего, чем попросить о помощи».
В течение этой сессии разрешение проблем было сведено к минимуму, чтобы Дэнис мог
сконцентрироваться на процессе взаимодействия.
Компоненты сотрудничества. В этот раз не выполнялось никакой параллельной ра¬
боты.
Пятая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Кубики, две палки и мяч, ручка и бумага, кресло.
Практические компоненты. Эта сессия была разделена на две части. В первой части
Дэнис использовал стратегию релаксации, чтобы попробовать остаться спокойным в
ходе обсуждения учебных заданий, в конце проводились ролевые игры, изображавшие
выполнение Дэнисом академических заданий. В ролевых играх затрагивались задания,
подразумевавшие как письменные, так и устные ответы. Выполняя письменные зада¬
ния, Дэнис сначала делал вид, что пишет, а потом уже на самом деле использовал стра¬
тегию релаксации, чтобы написать первые отдельные буквы и затем короткие слова. Те¬
рапевт исполнял роль учителя, обеспечивавшего значительную поддержку и постоянно
побуждавшего работать быстрее. На всем протяжении этой деятельности сохранялось
игровое настроение.
Следующий набор задач на компетентность заключался в том, чтобы Дэнис оставался
расслабленным, играя в игры, что требовало от него десенсибилизации как к соревно¬
ванию, так и к перспективе проиграть. Сначала это выполнялось в ходе игр, подразу-
394 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
мевавших сотрудничество. В одной из них Дэнис и терапевт по очереди добавляли ку¬
бики к башне, чтобы посмотреть, насколько высокой она получится, прежде чем разру¬
шится. Каждый раз они соревновались только со своим предыдущим рекордом. Затем
они играли в некую игру, где им приходилось перемещать мяч с одного конца игровой
комнаты на другой. У каждого из них была палка, и им приходилось работать вместе,
чтобы поднять мяч без помощи рук и перенести его на другую сторону комнаты. Это не
только помогло Дэнису научиться необходимому социальному навыку, но и стало од¬
ним из способов научения приему помощи.
Вербальные компоненты. В этой сессии использовалось меньше интерпретаций, и она
была сосредоточена на совместной работе.
Отражения. Те же самые, что и на предыдущих сессиях.
Интерпретации паттерна. «Я заметил, что в строительстве башни тебе нравится де¬
лать первые шаги». «Кажется, что ты хочешь, чтобы я давал указания, как нам рабо¬
тать, чтобы перенести мяч через комнату». «Пусть ты и выглядел очень раздраженным,
когда мы роняли мяч, я заметил, что ты ничего не говорил».
Интерпретации простой динамики. «Я думаю, ты хочешь, чтобы при строительстве
башни я воспользовался своей очередностью позже, чтобы ее разрушение было моей
виной. Я думаю, ты все еще хочешь избежать неудачи, потому что даже такая незначи¬
тельная вещь, как строительство башни, может заставить тебя плохо думать о себе».
«Эта игра с мячом несколько смущает тебя. Когда мы роняем мяч, ты раздражаешься,
но не уверен, кого винить в неудаче. Эту игру делает привлекательным то, что ты не
можешь винить себя или плохо себя чувствовать, когда не все идет хорошо».
Интерпретации генерализованной динамики. «Ив спорте, и в школе лучше работать
совместно, потому что тогда появляется больше шансов добиться успеха и всегда есть
те, с кем можно разделить вину за неудачу, если что-то не работает». «Спорю, что ты не
испытываешь сильного беспокойства дома, за исключением того, чтобы родители не
думали о твоих плохих оценках в школе».
Генетические интерпретации. Были повторены ранние интерпретации об источниках
негативной самооценки Дэниса.
Все разрешение проблем, выполнявшееся на этой сессии, было направлено на то, как
успешно играть в игры. Это были объединенные усилия, в которых терапевт пытался
использовать усилия Дэниса.
Компоненты сотрудничества. Сейчас, когда Дэнис использовал релаксацию в ходе
ролевого проигрывания решения академических задач, на проводимую им сессию были
приглашены и его учительница, и руководитель коррекционной программы. На этой
сессии мальчик продемонстрировал навыки глубокой мышечной релаксации и расска¬
зал, как эта техника помогает ему сосредоточиться. Затем его учителя тоже попробова¬
ли применить релаксацию, а Дэнис руководил ими. После этой сессии оба учителя со¬
гласились обеспечить Дэнису любую поддержку, которая будет в их силах, когда ему
понадобится использовать его релаксационную подготовку для совладания со школь¬
ной задачей.
Шестая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Ручка и бумага, невыполненные домашние задания, кости, игра «Змеи
и лестницы» ( Chutes and Ladders), шашки и шахматная доска.
Практические компоненты. Эта сессия была разделена на три части. В первой части
Дэнис практиковал использование своей релаксационной подготовки, вначале при ро-
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 395
левом проигрывании выполнения учебных задач, а затем действительно выполняя не¬
которые домашние задания.
Следующая часть сессии была направлена на то, чтобы сделать оценку Дэнисом своих
навыков и его самооценку более реалистичными и менее пессимистическими. В ходе
этого этапа сессии Дэнис с терапевтом сначала бросали кости, каждый раз отмечая, кто
выбрасывает наибольшее количество очков. Терапевт использовал кости, чтобы про¬
демонстрировать Дэнису, что независимо от используемой стратегии сравнительное
количество выигрышей и проигрышей каждого участника игры остается приблизитель¬
но тем же. Терапевт подчеркнул, что проигранные или выигранные игры, основанные
на счастливом случае, должны иметь очень незначительное влияние на самооценку че¬
ловека, так как они обусловлены не личными действиями, а просто удачей. Так как
перемещения игроков в «Змеях и лестницах» зависят от бросков костей, Дэнис с го¬
товностью воспринимал ее как игру случая, а поэтому расслаблялся и получал удоволь¬
ствие, а не концентрировался на результате. Заодно мальчик и терапевт соревновались
в том, кто придумает более смешной способ бросать кости.
Последняя треть сессии была направлена на то, чтобы показать Дэнису, как просьба о
помощи может радикально изменить уровень его навыка и его самооценку. Терапевт
начал играть с Дэнисом в шашки и в первой партии с треском разгромил его. Когда
Дэнис принял удрученный вид, терапевт сообщил, что знает стратегию, которая позво¬
ляет легко выигрывать. В течение нескольких ходов Дэнис колебался, а затем попро¬
сил терапевта научить его этой стратегии. Терапевт тут же выполнил его просьбу. Пос¬
ле этого они начали новую партию, которую не успели завершить до конца сессии, но
«съели» одинаковое число шашек, и Дэнис был очень горд.
Вербальные компоненты
Отражения. Те же самые, что и на предыдущих сессиях.
Интерпретации паттерна. «Видимо, тебе больше нравятся игры случая, такие как
кости и “Змеи и лестницы”». «Безусловно, вторая игра в шашки понравилась тебе боль¬
ше, чем первая».
Интерпретации простой динамики. «Тебе нравятся игры, где ты не контролируешь
выигрыш или проигрыш, потому что тогда тебе не приходится беспокоиться о том, что
ты не справишься и будешь переживать о том, что ты плохой». «Ты перестал испыты¬
вать неприятные чувства от игры в шашки после того, как попросил научить тебя луч¬
шей стратегии» . «Попросить о помощи было нелегко, но использовать помощь было
просто и весело».
Интерпретации генерализованной динамики. На генерализованном уровне терапевт
в первую очередь осуществлял обучение, а не интерпретацию. Он предлагал Дэнису
в течение школьного дня уделять внимание тем действиям, которые зависели от удачи,
а не от навыков, и посмотреть, как он себя чувствует в случае своих успехов и неудач
в них. Также терапевт продолжал интерпретировать страх Дэниса потерять любовь и
одобрение родителей, если он не начнет лучше учиться. Поскольку в успеваемости
Дэниса уже наметилось улучшение, он сказал, что беспокоится об этом все меньше
и меньше.
Генетические интерпретации. На этой стадии лечения не было сделано никаких допол¬
нительных генетических интерпретаций.
В течение этой сессии не происходило никакого особенного разрешения проблем. Вме¬
сто этого терапевт указывал на то, как просьба Дэниса об обучении игре в шашки при¬
вела к немедленному появлению у него знаний и к успеху в игре. Последствием стал
вывод о том, что просьба о помощи может быть хорошим решением во многих случаях,
когда Дэнис сталкивается с трудностями.
396 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Компоненты сотрудничества. После этой сессии терапевт снова встретился с предста¬
вителями персонала школы Дэниса. Учительница Дэниса рассказала, что теперь он
выполняет всю свою работу и что точность и полнота его ответов чрезвычайно улуч¬
шились. Также она заметила, что в классе он стал вести себя более непосредственно.
Основываясь на этом сообщении, терапевт рекомендовал включить Дэниса в факуль¬
тативную программу для одаренных детей одновременно с продолжением программы
корректирующего обучения.
СТАДИЯ «ЗАВЕРШЕНИЕ»
Хотя планировалось, что лечение Дэниса займет приблизительно восемь сессий, на
самом деле процесс завершения начался в начале седьмой сессии, прежде чем терапевт
объяснил ее тему. Дэнис сообщил, что чувствует себя гораздо лучше, что не бил себя
уже несколько недель и хотел бы знать, нужно ли ему дальше посещать сессии. Он ска¬
зал, что, хотя ему очень нравится терапевт, он хотел бы вступить в школьную футболь¬
ную команду, тренировки которой по времени как раз совпадают с сессиями. Терапевт
согласился, что завершение лечения кажется ему уместным, и они запланировали две
финальные сессии.
Цели стадии. Дэнис будет:
1) описывать себя более реалистично; демонстрировать позитивный образ «Я», в ко¬
тором его графомоторное нарушение будет играть очень ограниченную роль (удов¬
летворение потребности в одобрении и высокой самооценке);
2) повышать частоту просьб о помощи, обращаемых к сверстникам и значимым взрос¬
лым, особенно к учителям;
3) демонстрировать начало осознания прогресса своего поведения.
Седьмая сессия
Участники. Дэнис и терапевт.
Материалы. Листы бумаги разного формата, ручки, маркеры, текущие школьные зада¬
ния, шашки, пара водяных пистолетов.
Практические компоненты. Так как Дэнис завел разговор о завершении лечения, эта
сессия началась с повторения задачи самой первой сессии. Терапевт снова обвел тело
Дэниса на большом листе бумаги, после чего мальчик стал заполнять контур описани¬
ями своих внешних черт и внутренних качеств. Теперь, когда Дэнис смог рассмотреть
свое нарушение в контексте общего когнитивного функционирования, его самооценка
стала гораздо более устойчивой. Ему нравилось посещать программу для одаренных
детей, и он уделял много времени и усилий школьной деятельности, причем взаимо¬
действуя со сверстниками, что позволяло ему переносить многие позитивные пережи¬
вания со сверстников на академическую часть школьного дня. Разговор в течение этой
сессии был направлен на различия между тем, как Дэнис чувствовал себя в момент
начала терапии и тем, как он чувствует себя сейчас.
После завершения рисунка терапевт позволил Дэнису немного попрактиковаться в
технике релаксации в ходе выполнения домашнего задания. При этом внимание вновь
было сконцентрировано на различиях между тем, как Дэнис выполнял эту работу в
начале лечения, и тем, как он справлялся с ней сейчас. В центре внимания находилось
то, насколько мальчик улучшил контроль над своими сомнениями и тревогой.
В рамках практической части сессии Дэнису был предоставлен выбор: играть в шашки
или с водяными пистолетами. Сначала он выбрал шашки, но затем, когда стало очевид¬
но, что времени сессии не хватит на завершение этой игры, он попросил поиграть с
Глава 14. Случаи из практики: Дэпис и Диана 39 7
пистолетами. Во время игры с пистолетами терапевт указывал на различные варианты
этой игры, чтобы способствовать непосредственности Дэниса. Они стреляли в мише¬
ни, потом друг в друга, прыскали водой в рот себе и друг другу, складывали бумажные
фигурки и стреляли по ним. Ни одно из этих действий не длилось дольше минуты или
двух, и акцент делался на развлекательной стороне.
Ближе к концу сессии Дэнис и терапевт уделили время планированию праздника, по¬
священного финальной сессии и завершению лечения. Терапевт предложил Дэнису
пригласить двух детей из своего класса, чтобы они помогли отпраздновать это собы¬
тие. Поскольку сессии проводились в школе, проблемы с перемещениями не возника¬
ло. После этого терапевт использовал подход разрешения проблем для руководства Дэ-
нисом в планировании деятельности, назначенной на финальную сессию. Дэнис выбрал
в качестве желаемой деятельности игру «Змеи и лестницы», а также водяные пистоле¬
ты. Кроме того, он решил, что для настоящего праздника необходимы еда и напитки.
Они с терапевтом договорились, что Дэнис принесет кексы или пирожные (в зависи¬
мости от того, на что согласится его мать), а терапевт — соки и чашки.
Вербальные компоненты. Первая часть сессии содержала обсуждение прогресса Дэ¬
ниса к данному моменту. Терапевт потратил много времени на похвалы Дэнису за со¬
вершенный им прогресс и за способность применять технику релаксации к различным
задачам в ходе школьного дня. Это обсуждение продолжалось на всем протяжении
выполнения мальчиком «рисунка себя».
Отражения. Главным фокусом отражений было увеличение позитивных и снижение
негативных эмоций Дэниса.
Интерпретации паттерна и простой динамики. На этих уровнях не было сделано ни¬
каких новых интерпретаций.
Интерпретации генерализованной динамики. Было сделано усилие, чтобы привязать
практически всю беседу к переживаниям Дэниса в школе и дома.
Генетические интерпретации. На этой сессии не было сделано никаких генетических
интерпретаций.
Все разрешение проблем было сосредоточено на оценке прогресса Дэниса и на плани¬
ровании финальной сессии. Специфическое разрешение проблем было предпринято
относительно «за» и «против» приглашения каждого из его одноклассников, чтобы
можно было определить деятельность на следующей сессии и составить меню, которое
понравится всем и которое мать Дэниса сочтет приемлемым.
Компоненты сотрудничества. В этот раз не проводилось никакой дополнительной
параллельной работы.
Восьмая сессия
Участники. Дэнис, два выбранных им одноклассника и терапевт.
Материалы. Чашки, сок, одноразовые тарелки, салфетки, пирожные, «Змеи и лестни¬
цы», бумага, маркеры и водяные пистолеты.
Практические компоненты. Целью всех видов деятельности этой последней сессии
было просто дать Дэнису опыт использования стратегии разрешения проблем во взаи¬
модействиях со сверстниками и обеспечить основу для перенесения улучшений, сде¬
ланных на терапии, за ее пределы. Ближе к концу сессии заглянули учительница Дэни¬
са и школьный консультант (который вел программу работы с одаренными детьми),
чтобы поздравить Дэниса и угоститься чашкой сока.
Вербальные компоненты. Не было сделано никаких новых интерпретаций. Мотивы
и эмоции всех мальчиков активно отражались для поддержки процесса разрешения
398 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
проблем, в который они были включены. Разрешение проблем было предпринято для
управления даже малейшими разногласиями среди мальчиков. Оно использовалось для
определения последовательности упражнений, выявления того, кто будет делать пер¬
вый ход в играх, кто будет первым выбирать пирожное и т. д. Поскольку разрешение
проблем использовалось очень часто, терапевт старался сделать каждый такой случай
кратким, но максимально эффективным.
Компоненты сотрудничества. В течение финальной встречи с родителями Дэниса те¬
рапевт сделал обзор его прогресса и высказал предложения о том, как родители могли
бы работать с его школами в будущем, чтобы гарантировать, что он не совершит ре¬
гресса.
Впоследствии было замечено, что Дэнис очень успешно продвигается в рамках про¬
граммы для одаренных детей в его школе и снизил количество времени, проводимого
на программе коррекционного обучения, причем работал там только над выполнением
особенно сложных заданий, которые не смог выполнить в классе.
Проблемы переноса и контрпереноса
Деренос
Поскольку терапия Дэниса была сконцентрирована на очень специфической про¬
блеме и связанных с ней феноменах, существовала крайне незначительная воз¬
можность для возникновения реакций переноса. Единственной проявившейся
реакцией стали попытки Дэниса взаимодействовать с терапевтом как с другом/
сверстником, которого он боготворил. С этой ситуацией удалось справиться по¬
средством интерпретаций, в которых автором всех позитивных изменений назы¬
вался Дэнис, а терапевт был назван только диагностом, помогавшим определить
источники проблем.
Контрперенос
Дэнис и его ситуация не способствовали возникновению контрпереноса. Это был
такой случай, который помогает отделить терапевта от любого недостатка прогрес¬
са в случаях с другими детьми. Тем не менее одна проблема заслуживает упоми¬
нания. Время от времени терапевту хотелось понять, до какой степени чрезвычай¬
ная физическая привлекательность Дэниса, сочетающаяся с его интеллектуальной
одаренностью, запускала быстрый ответ, который он получал от каждого, находя¬
щегося в его экосистеме. Школа сделала исключение из своих правил и политик,
и учительница сделала исключения из классной программы практически без ко¬
лебаний. Терапевт чувствовал, что реакция не была бы такой сильной, если бы
Дэнис был ребенком со средним интеллектуальным функционированием. Воз¬
можно, это именно тот случай, когда контрперенос сыграл исключительно полез¬
ную роль в лечении ребенка.
Диана: долговременная экосистемная игровая терапия
Общая информация
Диана поступила на лечение в возрасте 11 лет, после выписки из стационара. Ее
мать хотела, чтобы Диана прошла лечение, облегчающее ее переход из клиники
обратно к жизни дома.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 399
Этап вхождения
Этап вхождения был пройден за две сессии. Сначала состоялась встреча с матерью
Дианы для сбора полного анамнеза. На вторую сессию была приглашена Диана
для сбора биографических данных и оценки ее психического статуса, а также для
понимания собственного восприятия Дианой ее проблем.
Диана была четвертым из пяти детей в семье. Беременность и роды проходили
без осложнений. Однако мать сообщила, что в период младенчества Диана была
самой трудной из ее детей. Диана была ужасно прилипчивой. Если мать пыталась
убрать ее с рук, та поднимала совершенно неконтролируемый крик. Большую
часть первых двух лет жизни она провела в постели родителей. Мать сообщила,
что Диана также казалась крайне сензитивной к воздействиям окружающей сре¬
ды и ей было очень трудно успокоиться. Когда Диане было около двух лет, ее мать
вернулась к работе, которая занимала четыре вечера в неделю. В течение этого
времени о Диане заботился отец: казалось, что она совершила внезапное и корен¬
ное приспособление, как если бы она и в самом деле не возражала против отделе¬
ния от матери, если бы ее мать была далеко. В этот момент Диана без осложнений
была переведена с кормления грудью на искусственное питание и начала спать
ночью. Она больше не была прилипчивой и, казалось, могла выдерживать пребы¬
вание в одиночестве, хотя начало каждого ежедневного отделения все еще было
проблематичным.
Когда Диане было два с половиной года, мать родила пятого и последнего ре¬
бенка. Примерно через шесть месяцев Диана пошла в детский сад. Оба этих собы¬
тия произошли без особых инцидентов и реакций со стороны Дианы.
Развитие Дианы протекало в рамках нормы или с опережением показателей
нормы.
Родители разошлись, когда Диане было 8 лет. Мать покинула дом примерно
на год, оставив детей отцу, но постоянно навещала их. Через год мать вернулась
домой. Их совместная с мужем жизнь продлилась еще шесть месяцев. Когда ро¬
дители развелись окончательно, дети остались с матерью. За сравнительно корот¬
кое время Диана стала причиной двух пожаров, нанесших серьезный ущерб. Кроме
того, она демонстрировала сигналы прогрессирующего расстройства мышления.
Она была на шесть месяцев помещена в психиатрическую клинику, а затем на 18 ме¬
сяцев в стационарный лечебный центр.
На вводном интервью Диана была полностью настроена на сотрудничество и
охотно утверждала, что она здесь, чтобы облегчить себе переход от клиники к до¬
машней жизни. Она призналась, что испытывает некоторую тревогу относитель¬
но перехода, но что по большей части рада находиться дома.
Диана могла поделиться только минимальными автобиографическими данны¬
ми. Она знала, когда развелись ее родители и в каких домах ее семья жила в тече¬
ние этих лет. Также она знала, когда была помещена на лечение и сколько времени
провела в каждом из двух стационаров. Она соглашалась, что была госпитализи¬
рована после инцидента с разведением огня, но настаивала, что он не был таким
серьезным, как об этом говорили другие; второй случай, когда она развела огонь,
девочка отрицала. Казалось, что она неспособна вспомнить многое о последних
двух годах своей жизни, однако она сказала, что ей нравилось жить в обоих стаци-
400 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
онарах. Казалось также, что она неспособна вспомнить о любом аспекте последних
двух лет психотерапии. Часть этого провала в памяти казалась если не сопротив¬
лением, то по крайней мере защитным механизмом; но в то же время создавалось
впечатление, что Диана не может вспомнить эти вещи потому, что они закончи¬
лись. Похоже, что она не помнила значительной части информации о любом пе¬
риоде своей жизни.
Диана с нетерпением ожидала возвращения в школу и встречи с новыми дру¬
зьями. Она уже решила, что расскажет всем, что два года находилась в частной
школе-пансионе и вернулась потому, что семья не могла больше оплачивать ее
пребывание там. Она уже успела поиграть с одной из старых подруг и сказала, что
это было весело.
В психическом статусе Дианы привлекала внимание ее неспособность расска¬
зывать о любом из своих внутренних процессов. Она была счастлива находиться
дома и ни разу не хотела вернуться в стационар. Ей понравились вводная беседа и
терапевт, но казалось, что она не может обсудить ничего, кроме настоящего и очень
недавнего прошлого. Кроме того, она боялась, что если признается в любых нега¬
тивных чувствах, то терапевт негативно ее оценит. Наконец девочка призналась,
что боится, что ее вновь госпитализируют, если она будет испытывать любые не¬
гативные эмоции.
Диана сказала, что для нее главная цель лечения — избежать возвращения в
госпиталь. При этом она добавила, что, скорее всего, могла бы добиться этого и
сама, так как всегда добивалась того, чего хотела, так что терапия ей вряд ли нужна.
Диагностика и оценка
Поскольку Диана находилась на стационарном лечении, где проходила несколько
оценочных процедур, в процессе вхождения не было предпринято никакого допол¬
нительного тестирования. На основании предыдущей диагностики по WISC-R,
проведенной, когда Диане было 10 лет, она набрала 145 баллов. Ее отличала так¬
же высокая академическая успеваемость.
Как часть вводного интервью, мать Дианы заполнила методику определения
целей развивающей терапии ([DTORF).
При помощи DTORF было определено,
что в возрасте 11 лет Диана функциони¬
ровала на третьей стадии в поведенче¬
ской сфере, на третьей стадии в комму¬
никативной сфере и на третьей стадии
в сфере социализации. Согласно своему
возрасту, Диана должна была функци¬
онировать на четвертом уровне во всех
трех сферах.
Диана будет способна:
1) сообщать об основных ожиданиях
дома, школы и общества от ее пове¬
дения (П—15);
2) давать простые объяснения ожи¬
даниям школы, дома и общества
(П—16);
3) использовать слова или жесты для
демонстрации адекватных позитив¬
ных и негативных чувственных ре¬
акций на окружающую среду, лю¬
дей и животных (К-15);
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 401
4) описывать свои характерные каче¬
ства, сильные стороны и проблемы
(К—17);
5) приписывать простым социальным
ситуациям такие ценностные суж¬
дения, как правильный/неправиль-
ный, хороший/плохой, честный/
нечестный (С-22);
6) описывать свои переживания в по¬
следовательности их появления
(С-24).
Выработка целей
Сложившийся паттерн функционирования ребенка
Описание уровня развития
По результатам интервью Диана пока¬
зала смешанную картину развития. Ино¬
гда она казалась старше своего хроноло¬
гического возраста благодаря большо¬
му словарному запасу и богатым знани¬
ям. В другие моменты девочка казалась
гораздо младше из-за трудностей в со¬
общении даже самой простой информа¬
ции и слишком конкретного мышления.
7) Диана будет демонстрировать бо¬
лее последовательное функциони¬
рование, соответствующее ее раз¬
витию;
Связанное с уровнем развития функци¬
онирование Дианы значительно варьи¬
ровало от одной ситуации к другой и
в ее взаимодействиях от одних людей
к другим. В лучшем случае она казалась
очень социально развитым ребенком,
способным хорошо прочитывать людей
и ситуации. Обычно это происходило в
эмоционально нейтральных ситуациях
с другими взрослыми или сверстника¬
ми. Подвергаясь стрессу, она регресси¬
ровала на невообразимо низкие уровни,
где ей было свойственно крайне эгоцен¬
тричное видение ситуации. Этот тип
поведения наиболее часто проявлялся в
ее взаимодействиях с матерью и други¬
ми авторитетными фигурами.
8) сталкиваясь со стрессовыми или
эмоционально нагруженными си¬
туациями, Диана будет поддержи¬
вать уровень функционирования,
соответствующий ее возрасту.
402 Часть III, Курс индивидуальной игровой терапии
Когнитивная сфера
Несмотря на свой уровень интеллекта,
Диана демонстрировала чрезвычайно
конкретное мышление, особенно в эмо¬
ционально нагруженных ситуациях.
Например, она очень тревожилась, ког¬
да по соседству с ней выключалось
электрическое освещение. Она пыта¬
лась успокоить себя, утверждая, что за¬
темнения нет, а просто не работают свет
и электроприборы в доме. Она говори¬
ла, что знала это потому, что вода текла
и тикали часы с кукушкой. Никакие ар¬
гументы, отмечающие, что ни воде, ни
часам не требуется электричества или
что все остальные дома тоже темны, не
могли дойти до нее. Помимо этих слу¬
чайных нарушений мышления Диана
не проявляла никаких необычных уста¬
новок. Она плохо помнила события соб¬
ственной жизни, а также не умела свя¬
зывать причину и следствия.
Эмоциональная сфера
Эмоции Дианы к моменту начала тера¬
пии были крайне ограниченными. В ос¬
новном она говорила, что всем доволь¬
на. Она все же признавала, что ей не
нравится, когда люди злятся на нее, но
сказала, что как только такое взаимо¬
действие заканчивается, она опять чув¬
ствует себя отлично. Диана призналась,
что иногда боится, что ее застанут за
тем, что она будет делать что-то непра¬
вильно. Однажды она сообщила, что
чаще всего не может сказать, как чув¬
ствует себя в той или иной ситуации,
пока эта ситуация не завершится и она
не сможет оглянуться назад и оценить
свое поведение.
Как отмечалось в разделе о когнитив¬
ном функционировании Дианы, ее тре¬
вога часто значительно разрушала спо¬
собность перерабатывать информацию
Диана будет:
9) демонстрировать повышение спо¬
собности продолжать заниматься
когнитивной деятельностью, даже
испытывая тревогу;
10) способна совмещать события и их
предпосылки;
11) использовать более широкий аф¬
фективный словарь.
Диана будет способна:
12) осознавать свои аффекты;
13) осознавать аффекты окружающих;
14) испытывать умеренную тревогу, не
теряя при этом когнитивных навы¬
ков и не демонстрируя деструктив¬
ного поведения.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 403
на уровне, соответствующем ее интел
лекту и общему развитию.
Психопатология
Потребности Дианы в привязанности
не удовлетворялись адекватно из-за ее
колебаний в способности воспринимать
заботу окружающих.
Потребность Дианы в безопасности не
удовлетворялась постоянно, так как она
часто чувствовала, что взрослые злятся
на нее исходя из своей раздражительно¬
сти и капризов.
Потребность Дианы в контроле не удо¬
влетворялась должным образом, по¬
скольку часто она делала такие вещи,
которые мешали другим людям удов¬
летворять их потребности.
Репертуар возможных реакций
Диана располагает смесью аутоплас¬
тичных и аллопластичных стратегий
реагирования, но ее способность созна¬
тельно прибегать к любой из них нахо¬
дилась в зачаточном состоянии. Испы¬
тывая тревогу или скучая, Диана за¬
нималась самостимулирующей деятель¬
ностью и фантазированием, в том чис¬
ле — мастурбацией, чтением романов с
повышенным содержанием агрессии,
коллекционированием опасных пред¬
метов (например, спички, петарды).
В межличностных эмоционально нейт¬
ральных ситуациях Диана великолепно
могла удовлетворять свои основные по¬
требности, используя речь. Она спокой¬
но могла попросить о том, чего хочет,
и работать со взрослыми или сверстни¬
ками над достижением поставленных
целей. Кроме того, она отлично умела
15) Диана будет испытывать более
устойчивые чувства привязанно¬
сти;
16) Диана будет большую часть време¬
ни чувствовать себя в безопасности
(а не под угрозой испытать на себе
гнев окружающих);
17) Поскольку Диана будет чаще чув¬
ствовать себя в безопасности, ее по¬
требность в контроле будет сни¬
жаться. С этой пониженной по¬
требностью можно будет работать
при помощи более социально при¬
емлемых действий.
Диана будет:
18) проговаривать осознание своей
склонности и способности справ¬
ляться с поведением других и более
последовательно демонстрировать
использование этого навыка;
19) совершать дополнительные оди¬
ночные действия, снижающие тре¬
вогу;
20) дома демонстрировать меньше не¬
предсказуемого поведения;
21) отделять реальность от фантазий.
404 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
имитировать поведение окружающих,
поэтому ее поведение в группе было
практически адекватным. Обычно это
поведение создавало у взрослых впе¬
чатление того, что ее отреагирование
является целенаправленным, так как
она способна вести себя адекватно. Кро¬
ме того, это означало, что ее поведение
в школе обычно было прекрасным, так
как она очень хорошо успевала академи¬
чески и могла работать со сверстника¬
ми, поэтому редко чувствовала себя в
школе некомфортно. Тем не менее до¬
ма, где Диана была окружена людьми,
к которым она испытывала очень силь¬
ные чувства, она была склонна к гораз¬
до более частым и гораздо более дест¬
руктивным отреагированиям. Если не¬
кое взаимодействие начинало фрустри-
ровать ее или вызывать у нее тревогу,
Диана обычно начинала делать все, что¬
бы закончить эту ситуацию. В дело пус¬
калась ложь. Однако стоило только Ди¬
ане солгать, ложь так затуманивала ее
мышление, что девочка делала ее час¬
тью своей реальности и больше не зна¬
ла, что же на самом деле являлось «ис¬
тинным». Если у нее не получалось за¬
кончить взаимодействие вербально, она
могла обострять свои проявления, на¬
чиная с физических угроз и заканчивая
действительным применением насилия
либо бегством.
Источники сложившегося паттерна функционирования ребенка
Специфические факторы, связанные с ребенком
«Личный вклад» ребенка (Endowment)
Было замечено, что паттерн реагирова¬
ния Дианы на стимулы с самого рожде¬
ния обладает значительными призна¬
ками отклонения от нормы, предпола¬
гающими, что, несмотря на интеллекту¬
альные навыки, она обладает незрелой
22) Диана будет дифференцировать
свои когниции, эмоции и пережи¬
вания от когниций, эмоций и пере¬
живаний других людей, окружаю¬
щих ее в ее среде.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 405
или поврежденной с рождения нервной
системой, хотя эти дефициты уже не об¬
наруживались в то время, когда она по¬
ступила в начальную школу. Помня об
интенсивности проблем, имевших мес¬
то в младенчестве, о чем сообщала мать,
допустим, что существовала серьезная
преграда для формирования первичной
связи матери и ребенка. То есть создает¬
ся впечатление, что обусловленная не¬
врологическими факторами сензитив-
ность Дианы запустила интенсивную
зависимость от матери и не позволила
должным образом осуществить диффе¬
ренциацию от нее в течение первых
двух лет жизни. Чрезвычайно развитый
интеллект Дианы позволял ей продол¬
жать свое развитие в других областях,
но его не хватало на то, чтобы скоррек¬
тировать неудачу в совершении диффе¬
ренциации от матери.
Обусловленный развитием способ реагирования (Developmental Response)
Видимо, в возрасте от года до полуто¬
ра лет Диана испытывала серьезные
неврологические проблемы, которые
осложняли обретение ею устойчивости
к окружающей среде без серьезной за¬
щиты, обеспечиваемой матерью. Это
вызвало ситуацию, в которой Диана
первые 12-18 месяцев своей жизни на¬
ходилась в отношениях очень сильной
привязанности к матери, вплоть до пол¬
ного исключения взаимодействий с
окружающими. Но когда в возрасте
примерно двух лет Диана совершила
отделение от матери, сепарация была
внезапной и неожиданной. При такой
неадекватной привязанности и после¬
довавшего за ней отделения терапевт
выдвинул гипотезу, согласно которой
Диана могла обладать проблемами в
своих взаимодействиях со значимыми
для нее людьми. Далее терапевт пред-
Диана будет:
23) демонстрировать более устойчи¬
вую и безопасную привязанность
к матери;
24) демонстрировать более устойчи¬
вые и соответствующие ее возрасту
привязанности к сверстникам;
25) лучше отличать фантазию от ре¬
альности.
406 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
положил, что, поскольку проблемы Ди¬
аны начали проявляться на столь ран¬
нем этапе жизни, их воздействие на ее
последующее функционирование мог¬
ло быть очень суровым, вплоть до иска¬
жений реальности, особенно в случаях,
когда ее отношения становятся очень
близкими или очень дистантными.
Экологические факторы
Семья
Последствия неудачи Дианы в дости¬
жении дифференциации от матери
осложнились, когда мать ушла из семьи
примерно на год (Диане тогда было
3 года). Этот уход был предвестником
развода родителей, после которого опе¬
ку над детьми мать взяла на себя и сно¬
ва стала основным человеком, обеспе¬
чивающим заботу о них. Хотя Диана не
демонстрировала никаких признаков
угнетенности этими событиями, пред¬
ставляется вероятным, что они были
сопутствующими факторами для созда¬
ния ее патологической привязанности к
матери. С того времени мать и сиблин-
ги Дианы, видимо, позитивно повлияли
на уровень адаптации, которого она до¬
стигла, несмотря на то что ее ранние не¬
врологические нарушения серьезно по¬
мешали развитию у нее отдельной
личности. Мать Дианы постоянно репе¬
тировала с ней социальные взаимодей¬
ствия, поэтому она редко вступала в си¬
туацию, не зная, как себя в ней вести.
Когда Диана вступала в негативные вза¬
имодействия, ее мать помогала ей ког¬
нитивно перерабатывать их, пока дочь
не понимала хотя бы некоторые из их
причин и последствий. Кроме того, мать
последовательно устанавливала огра¬
ничения с использованием естествен¬
ных и логических последствий, так что
Диана будет:
26) дифференцировать свои когниции,
эмоции и переживания от когни-
ций, эмоций и переживаний членов
ее семьи;
27) обращаться с просьбами о помощи
в подготовке к социальным ситуа¬
циям.
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 407
домашняя жизнь Дианы была хорошо
структурированной и предсказуемой.
Сверстники
Поскольку трудности Дианы возникли
задолго до того, как она настолько вы¬
росла, чтобы вырабатывать любые зна¬
чимые привязанности к сверстникам,
ее сверстники не играли никакой роли
в формировании ее психопатологии.
Другие системы
Помещение Дианы сначала в психиат¬
рическую клинику, а затем в стационар¬
ный лечебный центр в период, когда ей
было от 8 до 10 лет, стало дополнитель¬
ным фактором, внесшим свой вклад в ее
неудачу в выработке здоровой связи с
матерью, хотя оно все же усилило ее
дифференциацию. При наличии коле¬
баний в поведении Дианы была высока
вероятность того, что в будущем ей при¬
дется некоторое время проходить по¬
вторную госпитализацию. Если бы это
случилось, тот способ, которым про¬
изошла сепарация, мог бы стать решаю¬
щим для определения того, окажет ли
эта госпитализация позитивный либо
негативный эффект на общее развитие
Дианы.
Диана будет:
28) проговаривать свои мысли и чув¬
ства относительно опыта госпита¬
лизации;
29) демонстрировать полное понима¬
ние причин любых будущих госпи¬
тализаций, если они случатся.
Факторы, поддерживающие сложившийся паттерн
функционирования ребенка
Специфические трудности ребенка
« Личный вклад» ребенка (.Endowment)
Неврологические проблемы, пережи¬
тые Дианой в младенческий период, не
проявлялись в ее функционировании
во время этапа вхождения в лечение.
Когнитивные способности Дианы по¬
зволяли ей в учебных вопросах функ¬
ционировать на уровне, превышающем
30) Диана будет использовать свои ин¬
теллектуальные способности для
включения эмоций в ситуациях, ос¬
новываясь на своем понимании
того, что происходит.
408 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
уровень ее одноклассников, и поддер¬
живать достаточно позитивные отно¬
шения со сверстниками. Однако ее не¬
способность перерабатывать эмоцио¬
нально нагруженные стимулы делала
практически невозможным продвиже¬
ние дальше самого конкретного уровня
межличностных взаимодействий.
Анализ издержек и преимуществ установок, эмоций и моделей поведения
Эгоцентризм Дианы придавал ей ощу¬
щение контроля за своей жизнью, но
мешал устанавливать отношения с
людьми.
Трудности Дианы с тестированием ре¬
альности заставляли ее видеть опас¬
ность в огромном количестве ситуаций
и определенно мешали ее отношениям
с людьми.
Периодически проявляемое Дианой де¬
структивное поведение часто было при¬
чиной проблем и привело к потере сво¬
боды в форме госпитализации.
Из-за трудностей Дианы люди часто
упрощали ее мир (самым жестким при¬
мером этого стала госпитализация),
вследствие чего Диана испытывала мень¬
шую тревогу и вступала в лучшие меж¬
личностные отношения.
Экологические факторы
Семья
В тот момент, когда Диана была направ¬
лена на лечение, ее мать собиралась раз¬
вестись со своим вторым мужем. По¬
скольку этот человек вошел в семью в
то время, когда Диана находилась на
лечении, у девочки не было к нему при¬
вязанности и казалось, она даже была
рада, что он скоро уйдет. Но терапевт
считал, что развод ее биологических ро-
31) Диана будет вырабатывать лучшие
эмпатические качества, ее эгоцент¬
ризм уменьшится, и она будет ус¬
пешнее формировать межличност¬
ные отношения;
32) Диана будет более точно тестиро¬
вать реальность и межличностные
отношения;
33) Диана будет демонстрировать ме¬
нее деструктивное поведение;
34) Диана будет чувствовать, что мо¬
жет лучше справляться с миром,
находящимся по ту сторону боль¬
ничной ограды, и перестанет нуж¬
даться в этой защищенной среде.
Диана будет:
35) как на практическом, так и на эмо¬
циональном уровне вербально
дифференцировать нынешний раз¬
вод матери и ее первый развод с от¬
цом Дианы;
36) проговаривать осознание того, что
семья снова госпитализирует ее,
если это станет необходимым для
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 409
дителей был одним из событий, форси¬
ровавших ее начальную госпитализа¬
цию. Была высока вероятность возник¬
новения у Дианы негативных реакций
как вида бессознательного повторения.
Поскольку семья Дианы жила без нее
2 года, можно было предсказать, что
устойчивость ее членов к эпизодам от¬
реагирования у Дианы будет низкой.
Возможность активного отвержения
ими Дианы в случае кризиса рассматри¬
валась в качестве главной опасности
при достижении других целей лечения.
Сверстники
У Дианы были хорошие отношения со
сверстниками, и имелось даже несколь¬
ко друзей, которые знали, что она лечи¬
лась в клинике, но которых это не бес¬
покоило.
Другие системы
Во время вводной беседы Диана не вхо¬
дила ни в какие другие системы, поми¬
мо семьи. Вскоре после этапа вхожде¬
ния по ее просьбе она была записана на
программу для интеллектуально разви¬
тых учеников.
ее защиты, но верит, что этого не
произойдет;
37) видеть, что ее мать активно уча¬
ствует в процессе лечения, стре¬
мясь обеспечить дочери всемерную
поддержку;
38) Диана будет просить поддержки у
сверстников в работе со своей меж¬
личностной тревожностью;
39) Диана будет продолжать макси¬
мально участвовать в планирова¬
нии своей учебной программы.
Формулировка диагноза и синтез целей
Первичная цель лечения Дианы — формирование близких и доверительных от¬
ношений, на которые она сможет положиться, добиваясь адекватного уровня меж¬
личностной дифференциации. Это требуется потому, что Диане, видимо, не уда¬
лось совершить полного отделения от матери, и поэтому она демонстрирует
флуктуации привязанностей, а также в когнитивном и эмоциональном функцио¬
нировании. Цель терапевтических отношений — создание не привязанности,
а дифференциации.
Главная цель процесса дифференциации — повышение способности Дианы
отделять свои аффекты и когнитивные представления от эмоций и когниций дру¬
гих. Акцент здесь делается на выработке Дианой способности к осознанию и на¬
зыванию ее эмоций, вместо того чтобы выводить ее чувства из ее собственного
410 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
поведения. Первоначальная цель для Дианы — отделение ее собственного аффек¬
та от аффекта терапевта. Позже для нее возникнет цель научиться отделять свои
аффекты от аффектов членов семьи и в последнюю очередь — отличать свои эмо¬
ции от эмоций сверстников. Как часть этого процесса, Диане следует научиться
лучше дифференцировать фантазию от реальности: здесь Диана должна в первую
очередь начать отличать нынешний развод матери от развода своих биологических
родителей, который в свое время дал начало ее декомпенсации, приведшей к гос¬
питализации.
По мере того как Диана научится лучше осознавать и называть свои эмоции,
целью лечения станет помощь в разработке способов управления тревогой. Этот
шаг станет решающим этапом лечения, так как главная проблема Дианы заклю¬
чается в том, что тревога мешает ей использовать свои когнитивные способности,
а это, в свою очередь, приводит к отреагированию. Так как Диана отличается огра¬
ниченным развитием личности, возможно, начальное управление ее тревогой при¬
дется осуществлять терапевту.
По мере того как Диана научится с большей достоверностью осознавать и на¬
зывать свои эмоции, целью лечения будет научение ее пользованию этим навы¬
ком в комбинации с интеллектуальными навыками для задержки склонности к
импульсивному отреагированию. Специфические целевые модели поведения де¬
вочки — избегание (вплоть до физического бегства) и агрессия. Чтобы способство¬
вать перенесению терапевтических эффектов, необходимо помогать Диане доби¬
ваться понимания причин и следствий различных видов поведения, проявляемых
в межличностных ситуациях, а также осознания прав других людей. Последняя
задача подразумевает развитие элементарной эмпатии.
Целью финальной фазы лечения является перенесение Дианой вновь приоб¬
ретенных межличностных навыков на ее взаимодействия со сверстниками и чле¬
нами семьи, в том числе достижение последовательности своих проявлений в раз¬
личных ситуациях и с течением времени. Если же поведение Дианы ухудшится
настолько, что потребуется срочная госпитализация, целью лечения должна стать
попытка включить ее в процесс принятия решения, который, хотелось бы наде¬
яться, поможет ей увидеть, что она обладает некоторым контролем над ходом сво¬
ей жизни, даже если находится в бедственном положении. Без этого чувства конт¬
роля Диана потеряет ощущение своей личности и не сможет сопротивляться
попыткам других людей вмешаться в ситуацию.
Процесс завершения лечения в терапии Дианы будет особенно важным, пото¬
му что он, с большой вероятностью, заново активирует ее страхи относительно
дифференциации и автономии. В этой ситуации процесс завершения должен ис¬
пользоваться для того, чтобы придать девочке уверенность в ее собственных си¬
лах и избежать переноса зависимости с терапевта на кого-либо другого.
Тридцать девять целей, сформулированных в ходе процессов вхождения и ди¬
агностики, были сгруппированы следующим образом.
1. Диана будет испытывать меньше тревоги и .будет лучше тестировать реаль¬
ность, что позволит ей с большей точностью прослеживать и связывать меж¬
ду собой различные ситуации (цели: б, 10,14,16,19,21,25,28,29,32,34).
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 411
2. Диана будет переживать, проговаривать и использовать более широкий пе¬
речень эмоций, что проявится в более реалистичном чувстве личности. Она
будет лучше распознавать аффективные состояния, как свои, так и других
людей (цели: 3,4, И, 12,13,30,31).
3. Диана будет демонстрировать лучшие межличностные привязанности
(цели: 15,23, 24,37,38).
4. Диана будет демонстрировать меньшую непредсказуемость в поведении
(цели: 7,8,9, 20,27).
5. Диана будет лучше дифференцировать свои мысли, чувства и виды поведе¬
ния от мыслей, чувств и видов поведения других людей (цели: 18, 26,35).
6. Диана будет демонстрировать лучшее понимание социальных правил и по¬
следствий своего поведения, а также проявлять менее деструктивное пове¬
дение (цели: 1, 2,5,33,36).
Решения, принятые перед началом лечения
Определение контекста, в котором будут происходить интервенции
Индивидуальный контекст. Из-за неспособности Дианы хорошо справляться со
своими эмоциями в любых близких межличностных отношениях считалось, что
она является хорошим кандидатом для индивидуальной игровой терапии. Пер¬
вичной целью было повышение способности ребенка формировать четко диффе¬
ренцированные и вместе с тем близкие отношения. Другой целью было улучше¬
ния у Дианы навыков разрешения проблем и тестирования реальности.
Семья. Кроме того, были показаны параллельные сессии с матерью, поскольку
поведение Дианы в школе и дома существенно различалось. Этот компонент те¬
рапевтической интервенции был предназначен для того, чтобы помочь матери
Дианы лучше управлять ее поведением дома и чтобы она помогала дочери пере¬
носить в домашние условия улучшения, достигнутые в ходе лечения. Также были
запланированы смежные сессии Дианы и ее матери, чтобы позволить провести
работу, направленную на повышение дифференциации между ними.
Сверстники. Поскольку отношения Дианы со сверстниками были одним из наи¬
более сильных аспектов ее непосредственного функционирования, не было зап¬
ланировано никаких специфических вмешательств в этой сфере. Было решено,
что следует тщательно отслеживать ее отношения со сверстниками в ходе адапта¬
ции к жизни в обществе. Существовала опасность, что вне защищенных условий
больницы отношения Дианы станут более изменчивыми или что благодаря ее низ¬
кой критичности и проницательности она будет с легкостью вовлечена в проблем¬
ное поведение.
Другие системы. Так как Диана испытывала очень мало проблем вне дома, было
решено, что интервенции в любые другие системы нецелесообразны. Школьная
система была осведомлена о природе и серьезности трудностей Дианы, и поэтому
ее сотрудники могли наблюдать за прогрессом девочки и немедленно предупреж¬
дать ее мать в случае возникновения проблем.
412 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Определение типов интервенций, предназначенных
для использования в каждом контексте
Представлялось разумным, что долговременным индивидуальным целям Дианы
будет лучше всего соответствовать терапевтический подход; тем не менее созда¬
валось впечатление, что разрешение проблем лучше подходит для работы с во¬
просами, связанными с ее мягким переходом из стационара к домашней жизни.
С матерью Дианы должен был применяться подход разрешения проблем и обра¬
зовательный подход. Кроме того, образовательный подход должен был использо¬
ваться в работе с персоналом школы, посещаемой Дианой.
Определение терапевтических стратегий, предназначенных
для использования в игровой терапии ребенка
Диана с самого рождения демонстрировала трудности во взаимодействии с миром,
и хотя во время обращения за терапевтической помощью она производила впечат¬
ление ребенка, прошедшего хорошую социализацию к некоторым условиям, было
очевидным, что если она будет находиться в серьезном стрессовом состоянии,
может появиться примитивное и деструктивное отреагирование. Из-за наличия
потенциала для появления серьезного отреагирования начальные сессии должны
были быть очень структурированными и скорее вербальными, чем практически¬
ми. По мере видимой адаптации Дианы будут применяться более практические
сессии, предназначенные для того, чтобы бросить вызов ее способу взаимодей¬
ствия с миром. На всем протяжении сессий с Дианой основной упор делался на
использовании вербальных взаимодействий, чтобы облегчить Диане применение
интеллектуальных навыков в межличностных взаимодействиях.
Обратная связь и заключение контракта на лечение
Поскольку Диана пришла на свою первую сессию, ожидая, что терапия поможет
ей совершить переход жизни в стационаре к домашней жизни, у нее не было сес¬
сии обратной связи. Первая половина была посвящена обсуждению ее опыта те¬
рапии и обсуждению особенностей новой терапии. Девочка немного нервничала,
узнав, что в новом лечении будет меньше разговоров и больше действий, но была
готова к изменениям.
План лечения
СТАДИЯ «ВВЕДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ»
Диана уже имела большой опыт как амбулаторного, так и стационарного лечения. Она
ожидала, что терапия будет состоять из большого количества разговоров и разрешения
проблем. По этой причине ее терапевт решил позволить Диане структурировать часть
каждой из первых нескольких сессий, сам структурируя их оставшуюся часть, что по¬
зволяло сравнить и противопоставить друг другу стили старого и нового терапевта
Дианы. Так как Диана утверждала, что ходит на терапию для облегчения своего пере¬
хода от стационарного лечения к жизни дома, начальные сессии являлись переходом
от одного терапевта к другому. Диане были доступны несколько игрушек: фломастеры,
бумага, мячик, маленькие фигурки людей.
Прежде чем попасть к игровому терапевту, придерживавшемуся экологического на¬
правления, она посещала терапию, относящуюся к другому подходу. Вводная фаза ее
лечения была осуществлена в течение первой половины первой сессии, когда общая
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 413
структура этого курса терапии сравнивалась с тем, что она делала прежде. Были уста¬
новлены сроки посещений, и в терапии началась стадия исследования. Терапевт пла¬
нировал оставить первые несколько сессий Дианы сравнительно неструктурированны¬
ми, чтобы они были сопоставимы с ее опытом предыдущего посещения терапии.
Всю свою первую сессию Диана потратила на разговоры ни о чем конкретно. Когда те¬
рапевт задавал прямые вопросы, девочка отвечала на них, но в остальном не касалась
никаких своих конкретных переживаний. Она отказалась говорить о своем предыду¬
щем лечении потому, что оно уже закончено и теперь она хочет говорить о будущем.
Когда терапевт стал настаивать на ответе, она заявила, что почти ничего не помнит об
учреждении, которое только что покинула.
СТАДИЯ «ПРОБНОЕ ПРИНЯТИЕ»
Следующие три сессии Дианы были очень похожи на первую. Тем не менее в ходе чет¬
вертой сессии девочка упомянула, что знала другого ребенка, которого лечил ее нынеш¬
ний терапевт, и что этот ребенок сказал ей, будто терапевт иногда держал его на руках
и играл с ним в игры. Терапевт сказал: «Это правда. Но, прежде чем я стал играть с ним,
я подождал, пока мы получше узнаем друг друга. Я думал, что тебе понадобится время,
чтобы привыкнуть после одного терапевта к другому. Хотя ты выглядишь так, будто
готова к этому уже сейчас, так что...» В этот момент он дотянулся до Дианы и начал ее
щекотать, а девочка визжала от восторга. После этого Диана охотно перешла на стадию
пробного принятия лечения.
СТАДИЯ «НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ»
Хотя в ходе любого физического взаимодействия с терапевтом Диана время от време¬
ни становилась агрессивной, ее энергию всегда было легко перенаправить. Ее преды¬
дущее лечение сопровождалось довольно строгими ограничениями, так как проходило
в стационаре, так что она уже сталкивалась с удержанием. По этой причине стадия не¬
гативной реакции Дианы была очень краткой. Несколько раз терапевт начинал игру, в
ходе которой удерживал Диану, говоря, что она становится слишком грубой и ей необ¬
ходимо успокоиться. Диана минуту или две жаловалась. Постепенно она начала боль¬
ше говорить о том, что происходило у нее дома и в школе, — началась стадия роста и
доверия.
СТАДИЯ «РОСТ, ДОВЕРИЕ И ПРОРАБОТКА»
Диана пришла на терапию без особой травматической истории, хотя в ее опыте при¬
сутствовали множественные изменения интенсивности ее отношений с матерью, самым
последним из которых было недавнее двухлетнее пребывание в клинике. Все это в со¬
четании с неврологическими нарушениями, имевшимися у Дианы в первые полтора
года жизни, сильно осложнило ей выбор хорошего объектного пространства, несмотря
на значительные интеллектуальные способности. Этот недостаток объектного посто¬
янства проявлялся в неспособности Дианы вспоминать, а тем более перерабатывать
события из ее прошлого. То немногое, что она могла вспомнить из своего прошлого до
11-летнего возраста, было так затуманено фантазией, что практически не имело ника¬
кого отношения к оригинальным переживаниям. Главное загрязнение происходило,
когда Диана накладывала свои актуальные чувства на вспоминаемые события. Если не¬
посредственно сейчас она чувствовала себя хорошо, то и в ходе воспоминаемого ею со¬
бытия она чувствовала себя хорошо. Если сейчас ей было плохо, значит, ей было плохо
и тогда. Из-за этого чрезвычайного провала в социальном и эмоциональном функцио¬
нировании Дианы терапевт решил работать практически исключительно в режиме
«здесь-и-сейчас» и создавать корректирующие переживания, которые были бы срав¬
нимы с событиями из недавнего прошлого девочки.
414 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
Поскольку большинство воспоминаний прошлого, имеющихся у Дианы, не были по¬
следовательными и реалистичными, она не считала, что у нее есть неудовлетворенные
потребности. На сессии она не нуждалась в физическом контакте с терапевтом до тех
пор, пока некая ситуация не становилась чрезвычайно стрессовой, что обычно проис¬
ходило, когда мать Дианы давала понять терапевту, что ее вывел из себя какой-то по¬
ступок Дианы на прошлой неделе. Диана могла стать очень тревожной, и ее двигатель¬
ная активность значительно повышалась до такой степени, что терапевт решил
вмешаться и успокоить ее, держа ее в довольно крепких объятиях.
Практически все используемые в лечении Дианы корректирующие переживания бази¬
ровались на ролевом проигрывании недавних негативных взаимодействий, в которые
она вступала либо со сверстниками, либо с различными авторитетными фигурами.
В ходе этих ролевых игр терапевт предоставлял практически всю информацию о чув¬
ствах Дианы и о чувствах других людей, включенных в эту ситуацию. Диана обычно
спрашивала, откуда терапевт знает о том, что она испытывает те или иные чувства, и он
уточнял, какие именно поведенческие индикаторы приводили его к такому заключе¬
нию. Однажды Диана открыла терапевту, что никогда не знает, как себя чувствует. Если
она смотрит «вглубь себя», то видит лишь пустоту. Она сказала, что ей все время при¬
ходится ждать конца взаимодействия, а затем, оглядываясь на то, что она сделала, она
предполагала, как себя чувствовала.
В этот момент казалось, что Диана стала более активно участвовать в раскрытии и на¬
зывании своих собственных чувств. Именно в этот момент терапевт начал проработку
некоторых фактов из биографии Дианы, проводя сравнения между событиями и чув¬
ствами настоящего и прошлого.
Фаза роста и доверия в ходе лечения Дианы состояла по большей части из сессий раз¬
решения проблем, направленных на события, происходившие на протяжении недели.
Этими событиями обычно оказывались минимальные нарушения школьных и соци¬
альных правил, которые для предподростка могли считаться практически адекватны¬
ми. Однако в случае Дианы поражали чрезвычайные трудности, с которыми она обра¬
батывала эти события после того, как они случились.
Часто трудности возникали при идентификации проблемы, то есть на первом шаге
процесса разрешения проблемы. Диана понимала, что кто-то негативно прореагировал
на какое-то ее действие, но не всегда понимала, что именно произошло. Так, однажды в
школе обнаружилось, что Диана давала другим школьникам не принадлежавшие ей
талоны на завтрак. Когда осмотрели ее шкафчик, выяснилось, что у Дианы имеется
множество школьных талонов на завтрак, принадлежащих другим учащимся. Возник
вопрос, как Диана смогла накопить такое количество талонов; при этом торговля таки¬
ми талонами была в школе строго запрещена.
Когда Диане задали соответствующие вопросы, она заявила, что старший ученик, ко¬
торого она не знала, дал ей эти талоны, когда она играла на школьном дворе. Она сказа¬
ла, что принесла талоны домой и спросила у мамы, что ей следует с ними сделать, и что
мама велела ей отнести их в учительскую. Мать Дианы это подтвердила. Просто как-то
получилось, что Диана не сделала этого.
Диана не могла объяснить, почему она сохранила эти талоны, за исключением смутно¬
го предположения, что она попадет в неприятное положение, если попытается вернуть
их. Она боялась, что ей начнут задавать вопросы о том, как талоны попали к ней. Ее при¬
вела в совершенное замешательство гневная реакция школьного персонала на то, что
она отдала несколько талонов ученикам. В конце концов, она не продавала эти талоны,
а просто отдавала их. Она не могла понять, что то, что она сделала, было тем же самым,
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 415
что и «отдавать краденый товар», хотя понимала, что последнее является правонару¬
шением. Чем больше терапевт побуждал Диану к называнию проблемы в этой ситуа¬
ции, тем в большее возбуждение она приходила, и наконец проблема была названа не¬
удачей в выполнении начального указания матери вернуть чужие талоны на завтрак.
После этого терапевт попытался помочь Диане при помощи мозгового штурма выра¬
ботать решение этой проблемы. Она могла попросить свою мать сопровождать ее, ког¬
да она пойдет возвращать талоны. Она могла вернуть талоны анонимно. Она могла
просто оставить талоны в каком-нибудь месте, где их мог бы найти учитель. Она могла
выбросить талоны. Она могла поспрашивать других детей, не теряли ли они талоны на
завтрак. Диана хорошо справлялась с этой частью процесса разрешения проблемы,
очевидно, потому, что он требовал чисто когнитивной деятельности.
Когда пришло время выбора того плана, который сработал бы наилучшим образом,
Диана снова попала в тупик. Она не могла оценить сравнительную уместность каждо¬
го из решений. Она не могла определить свои собственные эмоции в этой ситуации,
и поэтому она не могла определить, какое из решений заставило бы ее почувствовать,
что она приняла именно то решение, которое нужно было принять. Прежде всего, она
не могла идентифицироваться с детьми, потерявшими талоны на завтрак, и, конечно,
не могла понять, почему школьный персонал усомнился в истории о мальчике, давшем
ей талоны. По мере того как Диана снова приходила в возбуждение, терапевт объяснял
эмоции и реакции различных людей, участвовавших в этом инциденте. Делая это, он
создал объяснение последовательности событий, которую Диана могла проследить при
помощи когнитивных механизмов, хотя она продолжала говорить, что не понимает,
почему люди подняли по этому поводу такой шум.
В конце концов, терапевт похвалил Диану за то, что она все-таки пыталась разрешить
проблему, обратившись с вопросом к матери. Он поощрил ее использовать такую стра¬
тегию и в будущем, и осуществлять принятые таким образом решения.
Всем взрослым, участвовавшим в этой ситуации, было трудно поверить, что такой ум¬
ный ребенок, как Диана, мог до такой степени не понимать последствий своих действий.
Каждый был склонен считать, что Диана просто пыталась выпутаться из затруднитель¬
ной ситуации. И все же каждый из них соглашался, что когда они говорили с ней, Ди¬
ана была совершенно растерянной. Они признали, что некоторые элементы в ее рас¬
сказе много раз изменились и что все же Диана всегда твердо стояла на позициях
правды и отрицала, что когда-нибудь говорила что-то, не соответствующее ее виденью
ситуации. Это событие разительно показывает, до какой степени негативные эмоции
продолжали мешать тестированию Дианой реальности и постоянству ее восприятия
объектов.
Остальная часть лечения Дианы проходила по такому же плану. Все время предприни¬
мались попытки помочь ей выстроить адекватные границы и выработать адекватное
чувство личности. Лечение осложнялось несколькими серьезными регрессами, когда
состояние Дианы ухудшалось до положения, требующего госпитализации, потому что
ее крайне деструктивные импульсы начинали выходить из-под контроля. Обычно это
проявлялось в виде саморазрушительного поведения, когда она била себя, сообщала о
суицидальных намерениях или разводила огонь. Девочку несколько раз снова госпи¬
тализировали, но когда выписывали, терапия возобновлялась. Ее основной целью было
усиление личности Дианы.
СТАДИЯ «ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ»
Терапия Дианы продолжалась около трех с половиной лет. Завершение лечения стало
планироваться, когда ее поведение оставалось стабильным на протяжении шести меся-
416 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
цев. В течение этого времени Диана все еще демонстрировала упущения в проницатель¬
ности и тестировании реальности, но эти упущения не мешали ее поведению. В ходе
своего лечения Диана во многих сферах перешла на четвертый уровень функциониро¬
вания. Первым на четвертый уровень продвинулось ее когнитивное развитие, а почти
сразу же за ним и общее межличностное поведение. Когда все сравнительно успокои¬
лось, ее эмоциональное функционирование находилось в начале третьего уровня. На¬
ходясь на таком уровне эмоционального развития, она уже не подвергалась крайним
перепадам настроения, которые мешали ее адаптации перед началом терапии.
Благодаря длительности лечения Дианы его завершение было запланировано за шесть
месяцев. В то время она обсуждала свой прогресс за последние полгода и согласилась
с терапевтом, что пришла пора заканчивать лечение. Дата окончания, совпавшая с рож¬
дественскими каникулами, была выбрана так, чтобы у Дианы было время разобраться
с текущими школьными делами до завершения терапии. Эта дата была отмечена в ка¬
лендаре, в котором все предстоящие сессии были обведены кружками. В конце каждой
недели из календаря вычеркивались соответствующие сессии.
Хотя за последний год лечения Диана очень мало занималась играми, она захотела сно¬
ва поиграть во многие из тех игр, которые ей нравились, чтобы вспомнить проведен¬
ную терапию и сделать обзор ее результатов. Несмотря на этот регресс, большая часть
терапевтической работы выполнялась на вербальном уровне без особых инцидентов.
Большинство сессий было посвящено тревоге Дианы относительно необходимости
жить самостоятельно и развитию стратегий совладания с этой тревогой, а также стра¬
тегий создания системы поддержки, которая могла бы обеспечить ей некоторые из тех
вещей, которые давала терапия.
В этот момент Диана значительно полагалась на своих друзей-ровесников и проводи¬
ла с ними много времени. Были определены те ее потребности, которые в течение этих
лет удовлетворяла терапия, а также способы, которыми ее друзья могли бы участвовать
в удовлетворении некоторых из этих потребностей. В режиме ролевой игры она репе¬
тировала на сессии дискуссии с друзьями, а затем повторяла взаимодействия дома. На
следующей сессии она продолжала взаимодействие и планировала, что может сделать
следующим номером. Этот подход разрешения проблем помог ей декатектизироваться
(отстраниться) от содержания сессий и начать принимать на себя все большую ответ¬
ственность за управление своей жизнью и своими межличностными взаимодействиями.
За последние несколько недель Диана сообщала о чувствах, которые могла декомпен-
сировать. Она отметила некоторые кратковременные искажения своего тестирования
реальности, но ни одно из них не было устойчивым. Терапевт постоянно делал отраже¬
ния относительно повышения ее тревожности и связывал это с тем, что ей трудно быть
независимой в силу ее потребности в получении значительной помощи от других в
чтении межличностных ситуаций и принятии решения, как себя вести. Признавалась
доступность в ее среде людей, которые могли бы делать это для нее, и подчеркивался
тот факт, что она могла бы вернуться на терапию в будущем, если это понадобится. Зная
об этом, она могла спокойно заканчивать текущее лечение. Впоследствии, в 21 год Ди¬
ана действительно вернулась на лечение, так как испытывала серьезную тревогу при
необходимости уехать из дома. Результаты этого лечения нам неизвестны.
Параллельные интервенции
Мать Дианы принимала чрезвычайно активное участие в нескольких видах парал¬
лельной работы. У нее с Дианой были разделенные и смежные сессии. Содержа¬
ние разделенных сессий варьировалось. Иногда они были направлены главным
Глава 14. Случаи из практики: Дэнис и Диана 417
образом на получение информации, в других случаях целью было информирова¬
ние матери о природе патологии Дианы и о прогнозе лечения. Наконец, мать мог¬
ла привлекаться для того, чтобы помочь терапевту совладать с трудным ребенком.
Смежные сессии содержали разрешение проблем, возникших в течение предыду¬
щей недели.
Кроме того, мать Дианы посещала того же терапевта для собственной индиви¬
дуальной терапии. Это давало терапевту возможность помочь матери выработать
стратегии, гарантирующие удовлетворение ее потребностей несмотря на колеба¬
ния функционирования Дианы. Повышение способности матери самой заботить¬
ся о себе привело к тому, что теперь она могла лучше работать с Дианой.
В процессе лечения Дианы терапевт в нескольких случаях работал с ее шко¬
лой. По большей части он посещал собрания по планированию учебных программ,
на которых делился соображениями о месте Дианы в классе и о стратегиях управ¬
ления ее поведением.
Несколько раз терапевта вызывали в школу для экстренного вмешательства в
случаях поведенческих кризисов. Один раз это был инцидент с талонами на завт¬
рак, описанный ранее. Сотрудники школы не были уверены, стоит ли им звонить
в полицию, что было их стандартной реакцией в таких ситуациях. Заместитель ди¬
ректора не последовал этим путем, так как было очевидно, что Диана не обраба¬
тывала ни одно из их вербальных взаимодействий так, как он ожидал, и при этом
он знал о ее прекрасной успеваемости. Вместо того чтобы вовлекать в дело поли¬
цию, школа согласилась, чтобы Диана возместила убытки тем учащимся, чьи би¬
леты она раздала. Это вмешательство длилось дольше, чем лекция, которую ей
прочитал бы дежурный офицер полиции, и значило для нее больше, чем угроза
попасть на учет в отдел по делам несовершеннолетних.
Очень ограниченное чувство межличностных и телесных границ Дианы силь¬
но осложняло для нее прохождение медицинских процедур. Так произошло, на¬
пример, во время первого визита Дианы к стоматологу. Она была готова терпеть
боль, но пришла в ужас оттого, что кто-то будет возиться у нее во рту! Ее беспо¬
койство было настолько сильным, что врач не смог закончить работу.
В течение следующей игровой сессии Диана сказала терапевту, что ее вовсе не
беспокоит мысль о том, что кто-то вставляет в ее тело разные штуки. Она, конеч¬
но, не любила боль, но она не особенно пугала ее. Однако мысль о том, что кто-то
достает что-то, например часть зуба, из ее тела, была для нее невыносимой. Она
заявила, что еще перед тем, как дантист начал сверлить, она почувствовала, что
вся голова начала неприятно гудеть и кровь хлынула к просверленному отвер¬
стию. Она знала, что все это чепуха, но сказала, что это так напугало ее, что она не
дала врачу продолжить.
Вооруженная этой информацией, мать Дианы поговорила с дантистом, и они
договорились, что Диана попробует еще раз, в этот раз со специальной заслонкой.
Заслонка, закрывающая весь рот, кроме целевого зуба, создала у Дианы чувство,
что из ее тела ничто не «сбежит», и дантист смог успешно провести лечение.
Проблемы переноса и контрпереноса
Из-за плохо развитого у Дианы чувства индивидуальных границ проблемы пере¬
носа возникали почти непрерывно. Некоторое время терапевт был «хорошим
418 Часть III. Курс индивидуальной игровой терапии
родителем», который, на взгляд девочки, обладал властью заставить мать Дианы
удовлетворять желания дочери. Однако затем Диана стала считать терапевта
«плохим родителем», так как он был требовательным, настаивал на своем и не
позволял отклоняться от темы. Оценка Дианой способности терапевта влиять на
ее экосистему также колебалась: девочка считала ее то огромной, то ничтожной.
И с тем и с другим восприятием приходилось справляться путем постоянных ин¬
терпретаций эмоций, потребностей и мотивов Дианы, а также с помощью пережи¬
ваний, нарушающих ее систему убеждений. Большая часть этих переживаний зак¬
лючалась в введении других во взаимодействия между Дианой и ее терапевтом,
чтобы роль каждого из них могла проясняться и определяться операционально.
Диана была из тех детей, чей прогресс столь медленен, а регрессы были столь
драматичны, что все окружающие неизбежно испытывают раздражение и бесси¬
лие. Терапевт справлялся с такими реакциями у себя с помощью варьирования
техники и содержания сессий. Кроме того, осуществлялись периодические встре¬
чи сотрудников школы и системы охраны психического здоровья с родителями и
терапевтом Дианы, которые помогали каждому чувствовать, что они участвуют в
командной работе, а не пытаются в одиночку изменить очень сложную ситуацию.
Часть IV
Экосистемная игровая терапия
в группах
Модель групповой игровой терапии, представленная в главе 15, основана большей
частью на индивидуальной экосистемной игровой терапии, описанной выше.
Имеется в виду, что несколько различных терапевтических стратегий были инте¬
грированы в некую отдельную модель, использующую в качестве концептуальных
рамок теорию развития, а в качестве фильтра — экологический подход. Органи¬
зация и структура группы, а также упражнения и вербальные интервенции, осу¬
ществляемые на сессиях, разрабатываются с учетом уровня развития участников.
Подобным же образом в планировании и проведении групповой работы не изме¬
няется понимание детской патологии, представленное в главе 4. Основное внима¬
ние программы все же сдвигается с интрапсихических аспектов психопатологии
ребенка на межличностные. Тем не менее цель групповой работы, как и в индиви¬
дуальной работе, состоит в том, чтобы вывести ребенка на некий уровень функ¬
ционального развития, соответствующий его биологическим детерминантам.
В частности, групповая игровая терапия ориентирована на ускорение перенесе¬
ния индивидуальных способностей ребенка в его взаимодействия со сверстни¬
ками.
Представленная здесь модель групповой игровой терапии сильно структури¬
рована, особенно в начале интервенции, и предназначена для работы с детьми вто¬
рого, третьего и четвертого уровней развития, демонстрирующих значительные
проблемы в отношениях со сверстниками.
Глава 15
Групповая игровая терапия
До сих пор в этой книге более или менее детально обсуждалось применение эко-
системной теории в практике игровой терапии индивидуальных клиентов, диад
родитель—ребенок и семей. В данной главе экосистемная теория прикладывается
к практике экосистемной групповой игровой терапии, для которой она особенно
подходит. На самом деле игротерапевтические группы — лучшее место для вос¬
становления и тренировки навыков взаимодействия со сверстниками. В ходе двух
исследований были раскрыты некоторые из сильных и слабых сторон групповой
работы. Бильман, Фингстен и Лёзель (Bielman, Pfingsten & Losel, 1994), проведя
обзор 56 исследований, выполненных в период с 1974 по 1997 год, выяснили, что:
1) групповое лечение эффективно; 2) дети из семей среднего социально-экономи¬
ческого уровня лучше реагируют на групповую терапию, чем дети из семей низ¬
кого социально-экономического уровня; 3) лечение в клинических условиях бо¬
лее эффективно, чем лечение в школах; 4) дети, посещавшие группы, целью
которых было лечение, демонстрировали большие изменения, чем дети, посещав¬
шие группы, бывшие по своему характеру образовательными и просветительски¬
ми в психологических вопросах. Хоаг и Бёрлингейм (Hoag & Burlingame, 1997) в
своем обзоре 49 исследований, проведенных в период с 1981 по 1990 год, выясни¬
ли, что максимальные изменения у детей были достигнуты в тех областях, с кото¬
рыми велась непосредственная работа в группе. Кроме того, они обнаружили, что
дети, прошедшие групповые программы тренинга социально-когнитивных навы¬
ков, демонстрировали незначительное перенесение позитивных изменений в сво¬
ем поведении в реальную жизнь и короткий период сохранения этих изменений.
Проблеме слабой генерализации изменений в ходе описания экосистемной груп¬
повой игровой терапии уделяется особое внимание.
История групповой игротерапии в общих чертах повторяет эволюцию инди¬
видуальной игровой психотерапии. Групповая терапия с детьми проводилась еще
в 1936 году (Bender & Woltman). В 40-е годы XX века групповая работа медленно
распространялась; в это время широкую известность приобрели работы Славсона
(Slavson, 1947, 1964). В 60-е и 70-е годы XX века основное внимание групповой
работы и ее исследований было направлено на изучение социальных и социокуль¬
турных переменных. Начиная с этого времени групповую игровую терапию ста¬
ли повсеместно использовать для работы с широкой сферой проблем, от навыков
социального взаимодействия со сверстниками до таких специфических областей,
422 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
как развод родителей или хронические заболевания (Куmissis & Halperin, 1966;
Sweeney & Homeyer, 1999). С более полной историей этой темы можно познако¬
миться в работе Kraft, 1996.
Почти независимо от того, какая теоретическая основа используется в практи¬
ке групповой игротерапии, считается, что групповая работа обладает нескольки¬
ми присущими ей по определению преимуществами, не всегда доступными в рам¬
ках индивидуальной терапии.
1. Обычно группы способствуют большей непосредственности и спонтанно¬
сти, чем ребенок может продемонстрировать в ходе индивидуальных встреч
с терапевтом.
2. Групповой подход обеспечивает возможность для работы как с интрапси-
хическими, так и с межличностными проблемами.
3. В группе происходит обучение на чужом опыте и достигается катарсис.
4. Дети получают возможность получать обратную связь от сверстников и де¬
лать на ее основании некоторые выводы.
5. Обычно присутствие сверстников позволяет более надежно связывать сес¬
сию с реальностью. В группе ребенок менее склонен к повторяющемуся по¬
ведению или к бегству в фантазии.
6. Паттерн взаимодействия ребенка с группой дает терапевту возможность
пронаблюдать пример «реального жизненного» поведения ребенка.
7. Дети в группе получают возможность потренировать новые модели пове¬
дения и социальные навыки.
8. Присутствие других детей может облегчать ребенку развитие терапевтиче¬
ских отношений.
(Источники: Axline, 1947; Glinnott, 1994; Landreth & Sweeney, 1999; Schiffler,
1969; Slavson, 1964; Sweeney, 1997; Sweeney & Homeyer, 1999.)
Концептуальная модель
Структура, лежащая в основе экосистемной групповой игровой терапии, перво¬
начально была разработана автором этой книги и Марией Нардон (Nardone, Тгуоп,
& O’Connor, 1986) как часть исследовательского проекта, направленного на сни¬
жение агрессивного поведения мальчиков 9-12 лет, находящихся на стационар¬
ном лечении. Оригинальная модель групповой работы была нацелена на два типа
проблем. Первый комплекс проблем был связан со специфическими навыками,
считавшимися существенными для эффективных межличностных взаимодей¬
ствий. Среди этих навыков назывались способности:
1) выбирать адекватные стимулы и отвечать на них;
2) помнить эти стимулы;
3) выстраивать стимулы или события в последовательность, а также способ¬
ность предсказывать логическую последовательность событий;
Глава 15. Групповая игровая терапия 423
4) предвидеть последствия собственных действий и действий других;
5) оценивать собственные чувства и чувства других людей;
6) справляться со своей фрустрацией, независимо от ее причин;
7) тормозить по меньшей мере на несколько секунд свой импульс к немедлен¬
ным действиям и особенно — задерживать свою первоначальную (инстин¬
ктивную) реакцию;
8) расслабляться с минимумом внешней помощи.
(Адаптировано из книги Teaching Children Self-Control, Fagen, Long, & Stevens,
1975, p. 38.)
Основываясь на этом списке, представленная здесь модель экосистемной груп¬
повой игровой терапии объединяет разнообразные техники для работы в группо¬
вом режиме с тремя аспектами функционирования детей. Во-первых, группа, ви¬
димо, усиливает навыки самоконтроля ребенка. Во-вторых, социальный контекст
группы позволяет детям выстраивать эти навыки, применяя их в своих соци¬
альных взаимодействиях со сверстниками и с ведущим группы. В-третьих, струк¬
тура группы позволяет детям чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы они
могли чаще, чем в индивидуальной работе, непосредственно работать с содержа¬
нием сессий.
Другой тип специфических целевых проблем экосистемной групповой игровой
терапии — это нередко встречающаяся у детей неспособность переносить измене¬
ния, совершаемые ими на терапии, в другие условия. Экосистемная групповая
игровая терапия направлена на максимальное усиление генерализации поведен¬
ческих улучшений посредством включения когнитивных, моторных, поведенче¬
ских, социальных и эмоциональных компонентов, осознаваемых в ходе терапии,
в дискуссии и задачи, типичные для широкого разнообразия повседневных жиз¬
ненных ситуаций ребенка. Связанное с этим основание формата проведения дан¬
ной группы описывается на следующих нескольких страницах. Остальная часть
данной главы посвящена типам клиентов, наилучшим образом подходящих для
экосистемной групповой игровой терапии, подготовке, необходимой терапевту
для проведения таких групп, и природе группового процесса.
Основные положения
Клиенты экосистемной групповой игровой терапии
Уровень развития
Дети первого уровня развития (от рождения до двух лет) не подходят для груп¬
повой работы, потому что в удовлетворении их основных потребностей и перера¬
ботке их опыта они по большей части связаны со своим первичным объектом.
Своих сверстников они воспринимают как конкурентов в борьбе за ограниченные
ресурсы, а не как союзников. Это не означает, что дети первого уровня никогда не
собираются в группы; в конце концов, в яслях и детских садах это происходит
постоянно. Просто вы должны осознавать, что дети первого уровня развития очень
мало заинтересованы в групповых взаимодействиях и еще меньше в приобрете¬
нии необходимых для этого навыков.
424 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
Групповую работу можно проводить с детьми, находящимися на втором уров¬
не развития и выше. Дети второго уровня (в возрасте от 2 до 6 лет) все еще ориен¬
тированы прежде всего на приобретение индивидуальных навыков (Wood et al.,
1996), но заинтересованы в своих сверстниках как в потенциальных источниках
информации и других ресурсов. В ходе этой фазы развития в игровом поведении
этих детей совершается переход от параллельной к интерактивной игре со свер¬
стниками.
Дети третьего уровня (от 6 до 12 лет) идеально подходят для ориентирован¬
ной на действие групповой терапии, описываемой ниже. Дети третьего уровня вы¬
рабатывают сильные привязанности к ровесникам и рассматривают их в качестве
важного источника эмоциональных ресурсов. Большая часть этого периода раз¬
вития уходит у них на то, чтобы научиться применять свои индивидуальные на¬
выки в работе группы (Wood et al., 1996). Они могут считать себя частью группы,
не теряя чувства своей индивидуальности, и активно определять свою конкрет¬
ную роль.
По мере перехода детей на четвертый уровень развития (12 лет и старше), они
теряют интерес к сильно структурированной группе, поскольку она слишком на¬
поминает им о школе; эта установка ограничивает их включенность. Чтобы мак¬
симизировать взаимодействие членов группы, вы можете составить список воз¬
можных упражнений или тем для обсуждения, и вам может понадобиться
введение всего лишь нескольких основных правил. Помимо введения этой доли
структурированности, вам может понадобиться передать контроль над ходом
групповой работы детям. В таком менее структурированном контексте дети чет¬
вертого уровня развития обычно приобретают все больший и больший интерес к
вербальным взаимодействиям и к содержанию сессий. На этом уровне развития
дети уже осознают особую ценность группы, отличающуюся от того, что они мо¬
гут получить друг от друга порознь. Группы детей четвертого уровня часто разви¬
вают свою собственную идентичность, что может открыто проявляться, когда дети
выбирают имя для своей группы. Для детей, достигших по меньшей мере второго
уровня функционирования, групповая работа может стать очень важной частью
их общего плана лечения.
Патология
Экосистемная групповая игровая терапия предназначена для работы с межлич¬
ностными последствиями патологии каждого ребенка. Отдельные дети в группе
могут демонстрировать патологии, строящиеся на основании подобных или раз¬
личных биологических, средовых или травматических фундаментов. Однако каж¬
дого ребенка объединяет с остальными именно тот факт, что их патология прояв¬
ляется в виде межличностных проблем.
Помимо случаев детей, демонстрирующих специфическую патологию или да¬
же специфические межличностные проблемы, вам может понадобиться рассмот¬
реть возможность проведения кратковременной групповой терапии для детей,
недавно попавших в новые для себя условия: например, группы для детей, недав¬
но попавших в клинику (медицинскую или психиатрическую), группы для детей,
только что пришедших в школу (новички, первоклассники, все дети, переходящие
Глава 15. Групповая игровая терапия 425
на новую ступень обучения), и даже группы для приезжающих в летний лагерь.
В этом контексте группа может послужить готовой системой сверстников, облег¬
чающей для каждого ребенка привыкание к новым условиям, и переход в более
крупную группу сверстников. При включении детей в подобную группу импера¬
тивным требованием к вам является ваш хороший пиар (связи с общественно¬
стью), направленный на других детей и взрослых, находящихся в этой среде, что¬
бы участие в группе действительно способствовало адаптации ребенка, а не
тормозило ее, отмечая его печатью отличия от других.
Состав группы
Дети могут объединяться в группу по одной или нескольким причинам. Каждый
ребенок может обладать похожим паттерном психопатологии. Например, все чле¬
ны группы могут иметь проблемы с самоконтролем, все дети могут обладать де¬
прессивным радикалом или все могут быть крайне агрессивными. Все дети могут
обладать общей проблемой, не психологической по своей природе, но воздейству¬
ющей на их поведение и межличностную адаптацию. Например, все участники
данной группы могут страдать от особого медицинского заболевания, такого как
астма или диабет, могут быть новичками в данной школе или клинике или все мо¬
гут отличаться нарушениями способностей к обучению. Либо же все участники
группы могут обладать некоторым общим опытом, влияющим на их межличност¬
ное функционирование, как в случае, когда составляются группы детей, пережив¬
ших сексуальное насилие, развод родителей или пострадавших от какого-либо
другого травмирующего воздействия. Причина, в силу которой дети были объеди¬
нены в одну группу, должна быть известна им, потому что она становится началь¬
ной основой для развития чувства сплоченности.
Хотя важно, чтобы дети обладали некоторой общей патологией или общим
опытом, члены одной группы должны демонстрировать некоторое разнообразие
внутриличностного и межличностного взаимодействия. Если потребности детей
слишком похожи, они будут чрезмерно соперничать за похожие виды внимания
со стороны терапевта. К тому же одним из преимуществ групповой работы явля¬
ется потенциал детей к моделированию поведения друг друга. Если поведение
детей близко к идентичному, возможность для моделирования практически исче¬
зает.
Следующее руководство также имеет ценность при формировании группы.
1. В группе, проводимой одним взрослым, не должно быть больше 4-6 детей,
а в группе, проводимой двумя взрослыми, не должно быть больше 60 детей.
2. Разница в возрасте между участниками группы не должна составлять боль¬
ше трех лет, особенно при работе с маленькими детьми.
3. Социально-экономический статус и/или этническое происхождение детей
должно быть несколько похожим. Эта переменная может стать одной из
наименее значимых, пока различия между детьми не становятся очень яв¬
ными, и в этом случае группа фокусируется исключительно на них и не спо¬
собна работать с другими содержательными или поведенческими аспектами.
426 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
4. Все дети не должны отличаться друг от друга по коэффициенту интеллекта
(IQ) более чем на 15 баллов.
5. Возможность смешивать в одной группе мальчиков и девочек варьирует
с возрастом детей, типом группы и целями интервенции. Здесь не существу¬
ет фиксированных правил, но этот фактор при формировании группы вы
должны принимать во внимание.
Существует очень много исключений для степени гомогенности, требуемой
для проведения успешной группы. Если ваша цель — облегчить принятие члена¬
ми группы индивидуальных различий, вам, конечно, понадобится создать более
гетерогенную группу. Тем не менее в своем крайнем проявлении гетерогенность
делает практически невозможным для группы развитие другой идентичности,
кроме идентичности ее отдельных членов. В общем, чем сильнее отличаются друг
от друга общие проблемы детей, тем сильнее дети могут отличаться друг от друга
и все же тем лучше они могут действовать в одной группе. Один терапевт провел
очень удачную группу, несмотря на то что нарушил практически каждое из толь¬
ко что упомянутых правил. Возраст участников группы колебался от 6 до 12 лет.
Они представляли четыре различные расовые группы: афроамериканцев, амери¬
канцев камбоджийского происхождения, англоамериканцев и латиноамерикан¬
цев. В группе находились 6 мальчиков и 2 девочки. И баллы по шкале интеллекта
(IQ) варьировали от 85 до 140. Связь участников, возникшая на основании того,
что все дети пытались справиться с угрожающей их жизни астмой, оказалась силь¬
нее всех остальных различий между участниками и стала причиной развития мощ¬
ной эмпатии и сплоченности.
Групповые игротерапевты
Подготовка
Подготовка, необходимая для эффективного проведения экосистемной групповой
игровой терапии, несколько отличается от подготовки, необходимой для прове¬
дения индивидуальных терапевтических сессий, в зависимости от типа прово¬
димой группы. Поскольку описываемый формат групповой работы очень струк¬
турирован, можно обладать подготовкой, ограниченной ведением групп и не
включающей в себя комплексную подготовку во всех аспектах психотерапии.
Групповая игровая терапия успешно реализуется учителями и специалистами
смежных профессий, прошедшими обучение в течение периода от 6 до 15 недель.
Более того, групповая игровая терапия может быть эффективной даже в том слу¬
чае, если вы делаете лишь очень ограниченные интерпретации группового процес¬
са или содержания, что также снижает необходимость для ведущего таких групп
хорошо знать различные психотерапевтические техники. Все же вам стоит обла¬
дать солидными познаниями в области влияния развития ребенка на его взаимо¬
отношения со сверстниками и в области групповой динамики.
Роль
В дополнение к тем элементам вашей роли, которые обрисованы в главе 5, при про¬
ведении экосистемной групповой игровой терапии вы отвечаете за содействие раз-
Глава 15. Групповая игровая терапия 42 7
витию у отдельных членов группы адекватных социальных навыков в ходе взаи¬
модействия со сверстниками.
Природа процесса
Роль игры
Роль игры в групповой работе не отличается от ее роли в индивидуальной игро¬
вой терапии, описанной в главе 5.
Целительные элементы
Как и в индивидуальной экосистемной игровой терапии, именно переживания,
корректирующие развитие, создаваемые для ребенка в группе, считаются главны¬
ми агентами целительного эффекта. Эти переживания возникают в ходе взаимо¬
действий ребенка с вами и со сверстниками в безопасных условиях группы. Вер¬
бальные утверждения, которые вы можете обеспечивать в виде интерпретаций
различных уровней, очень сильно способствуют интернализации ребенком его
поведенческих изменений, сделанных в группе, и развитию у него способности
переносить их, но не являются некоей заменой непосредственному переживанию.
Для ребенка его попытка использования новой модели поведения, позитивно под¬
держанная сверстниками, более сильное и целительное переживание, чем любые
обсуждения, которые он может вести с вами как индивидуальным терапевтом или
ведущим группы.
Фазы экосистемной групповой игровой терапии
Этап вхождения
Процедура вхождения для детей, которым предстоит групповая программа, иден¬
тична процедуре, описанной в главе 6. Заметьте, что принятию прямого направ¬
ления детей на групповую терапию сопутствуют несколько проблем. Направле¬
ние взрослыми (родителями, учителями, медсестрами, терапевтами и т. д.) детей
на лечение — сравнительно надежный способ выявления детей с достаточно на¬
сущными проблемами самоконтроля в ситуациях, контролируемых взрослыми.
Однако обычно на групповую терапию направляют детей, отличающихся негатив¬
ным отреагированием, в то время как дети, умеренно или сильно замкнутые, мо¬
гут и не направляться для прохождения терапии. Обращение родителей к тера¬
певту обычно возможно лишь тогда, когда они хорошо знакомы с предлагаемой
программой или когда их дети уже проходили терапевтические программы ранее.
Самостоятельные, независимые от вас обращения на терапию детей, особенно
старших, сообщают вам о мотивации группы, но в этом случае обычно не удается
выявить детей, склонных к социальной изоляции или к антисоциальному отреа¬
гированию. Поэтому даже в тех случаях, когда ребенок сам обратился за лечени¬
ем, решение о способе лечения должны принимать только вы.
Диагностика и оценка
В целях оценивания потребности любого данного ребенка в прохождении игровой
групповой терапии может использоваться любой из методов оценки, описанных
428 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
в главе 7. Если вы имеете доступ к некоей субкультурной группе, к которой при¬
надлежит ребенок, вы можете использовать такой метод, как социограмму, для
определения детей, обладающих межличностными проблемами.
Начало лечения
Планирование групповых сессий зачастую становится одним из самых серьезных
камней преткновения в организации даже краткосрочной группы. Первая пробле¬
ма — частота сессий. Для более старших детей еженедельные встречи и даже встре¬
чи, происходящие один раз в две недели, могут оказаться достаточными, чтобы
обеспечить целостное лечение. Группа более младших детей должна собираться
по меньшей мере раз или два раза в неделю, чтобы оставаться достаточно устойчи¬
вой и обеспечивать целостность, необходимую для поддержания и генерализации
вновь приобретенных моделей поведения. В условиях стационара частые встречи
не несут в себе каких-либо сложностей, кроме сложности, связанной со сбором
всех участников в одном месте в одно и то же время. В амбулаторных условиях
более частые встречи нередко означают более частые их пропуски отдельными
детьми и отмены, поэтому целостность лечения опускается ниже того уровня, ко¬
торого можно было бы достичь посредством менее частых встреч. В школьных
условиях возникает проблема того, какой урок (уроки) каждый ребенок может
позволить себе пропустить. Иногда полезно регулярно менять время встреч груп¬
пы (в течение 6,8,10 недель), чтобы не оказалось, что дети постоянно пропускают
один и тот же урок.
Другая проблема с планированием сессий возникает, когда группа не ограни¬
чена по времени. В группах, ограниченных по времени, дети и их родители заклю¬
чают соглашение на определенное количество сессий, что позволяет всем детям
начинать и заканчивать лечение одной группой, что значительно облегчает как
процесс привыкания к группе, так и завершение лечения. Если же вы проводите
долговременную группу, введение новых участников или, наоборот, завершение
чьего-то лечения создает проблемы, и эти проблемы могут оказывать разруши¬
тельное действие на групповой процесс, особенно если за короткий промежуток
времени в группу приходят или группу оставляют сразу несколько детей. Чтобы
получить полезный результат от долговременной терапии и не столкнуться со
множеством связанных с ней проблем, можно прибегнуть к интервальному (цик¬
лическому) характеру проведения сессий.
Проводя долговременные терапевтические группы с использованием интер¬
вального (циклического) характера встреч, вы будете планировать окончание
групповой работы, например, через каждые 9 недель. Затем вы заключаете с ре¬
бенком и с его родителями контракт, согласно которому ребенок может вступать
в групповую работу только в течение первой сессии любого из 9-недельных ин¬
тервалов и может завершать работу только тогда, когда этот интервал заканчива¬
ется. При использовании такого формата работы, после восьмой сессии каждого
цикла вы встречаетесь с родителями всех детей, посещающих вашу группу, и опре¬
деляете, завершает ли ребенок лечение или ему следует остаться еще на один 9-не¬
дельный цикл. Девятая сессия каждого цикла будет завершающей для тех детей,
которые заканчивают лечение. Первая сессия каждого цикла — вводная и ориен-
Глава 15. Групповая игровая терапия 429
тационная для новых членов группы, чтобы обеспечивать максимальное чувство
целостности, при этом регулярно впуская в группу новых членов и выпуская кого-
либо из старых.
Заслуживают упоминания еще три вопроса, касающиеся организации терапев¬
тических групп. Первый из них — получение согласия родителей. При работе с
детьми, относительно которых уже определено, что им требуется психотерапев¬
тическое лечение, с этим обычно не возникает больших проблем. Когда дети ра¬
нее не прибегали к психотерапевтической помощи, что часто бывает, например,
при поступлении в новую школу или в клинику, будет лучше, если в первый кон¬
такт с родителями вступит не психолог или психотерапевт, а учитель или врач,
и объяснит им цели групповой работы и причины, в силу которых ребенку следу¬
ет участвовать в ней. Если учитель говорит родителю: «Я бы хотел, чтобы ваш сын
посещал особую “дружескую группу”, где он может научиться с большей легко¬
стью заводить друзей в классе», это звучит лучше, чем если бы школьный психо¬
лог сказал: «Ваш сын сталкивается с трудностями в классе миссис Икс. Он часто
вступает в драки, и поэтому его направили в нашу группу обеспечения социали¬
зации для начальных школьников». Другими словами, решающее значение может
иметь родительское восприятие направления ребенка на лечение.
Второй вопрос касается выбора места встреч группы. В идеале игровая комна¬
та для групповой работы должна быть достаточно обширной, сравнительно сво¬
бодной от мебели и не содержать бьющихся или легкоразрушаемых предметов
(оптимальная обстановка игровой комнаты описана в главе 8). Неплохо, если для
каждого ребенка найдется подушка для сидения, потому что подушки помогают
создавать границы и чувство личного пространства.
Кроме того, конечно, возможны и другие приспособления; главное — не пы¬
таться вместить слишком много детей в слишком маленькую комнату, поскольку
давка и теснота сами по себе становятся причинами искажения поведения. Суще¬
ствует определенное преимущество в использовании одной и той же комнаты для
проведения всех сессий, потому что в этом случае вы не теряете времени на то, что
дети каждый раз изучают новую среду и отвлекаются на ее стимулы.
Третья проблема — что нужно сказать детям про группу. Обычно, для того что¬
бы ввести детей в курс дела, достаточно некоторого простого объяснения приро¬
ды группы и приведения примеров того, что здесь будет происходить. Если груп¬
па проводится в условиях школы, не повредит предоставление детям информации
о том, что они будут пропускать один урок в неделю. Может понадобиться насто¬
ять на обязательном посещении ребенком первых нескольких занятий. Если пос¬
ле этого вы все еще сталкиваетесь со значительным сопротивлением, вам может
понадобиться переоценить необходимость включения данного ребенка в данную
группу именно сейчас и подумать об альтернативной интервенции.
Рабочая фаза
Практические и вербальные компоненты
Групповой формат работы сочетает практические действия и вербальные взаимо¬
действия, происходящие в каждой из следующих пяти модальностей: когнитивной,
моторной, поведенческой, социальной и эмоциональной. Включение в интервенцию
430 Часть IV. Экосистемпая игровая терапия в группах
когнитивного компонента создает некоторые условия, в рамках которых проис¬
ходит некоторое актуальное обучение. Один из способов добиться этого — фор¬
мальное применение техники разрешения проблем для выработки решений по
поводу затруднений возникающих в группе. Во-первых, побуждайте детей описы¬
вать проблему в точных поведенческих терминах. «Мы не можем решить, в какую
игру играть». «Джим и Билл дерутся». Во-вторых, поощряйте их креативность,
когда они будут генерировать возможные решения; любое решение следует при¬
нимать к рассмотрению. «Каждый из нас может играть во что-то свое». «Мы мо¬
жем бросить монетку». В-третьих, предложите детям выбрать и реализовать одно
из решений, основываясь на некоторой оценке его потенциальной эффективно¬
сти. Четвертым шагом дети будут оценивать результат и эффективность их реше¬
ния. Обозначайте для группы каждую стадию каким-либо ключевым словом, на¬
пример: «проблема» (в чем именно заключается проблема?), «план» (при помощи
каких действий мы сможем разрешить эту проблему?), «действие» (приведение
лучшего плана в действие) и «ответ» (Как сработал наш план?) — это может по¬
мочь сделать данный процесс значительно более конкретным. Эта стратегия при¬
менима как к гипотетическим, так и к реальным проблемам, и ее следует исполь¬
зовать по меньшей мере один раз за время каждой сессии.
Детей можно научить упражнениям прогрессивного глубокого расслабления
мышц для снижения их тревоги, концентрации внимания, улучшения контроля
над импульсивностью и повышения их физического и эмоционального самосо¬
знания. Младших детей очень просто научить упражнениям, требующим после¬
довательного сокращения и расслабления мышц. Если пол в игровой комнате по¬
крыт ковром и у каждого участника группы есть своя подушка для сидения, то они
могут лечь и выполнить следующую последовательность действий: подогнуть
кончики пальцев ног — расслабиться, подтянуть колени к животу — расслабить¬
ся, прижать бедра к полу — расслабиться, втянуть внутрь живот — расслабиться,
поднять плечи к ушам — расслабиться, сжать кисти в кулаки — расслабиться, на¬
морщить лицо — расслабиться. Каждую группу мышц следует сократить и рассла¬
бить по меньшей мере дважды, перед тем как двигаться дальше, и все упражнение
должно оканчиваться несколькими медленными глубокими вдохами. Постарай¬
тесь, чтобы дети успокоились и приводили в движение только те мышцы, очередь
которых наступает в данный момент. Как только члены группы научатся этому
упражнению, они могут поочередно исполнять роль ведущего, называющего сле¬
дующее движение. С более старшими детьми следует использовать более слож¬
ное упражнение, в которое может включаться визуализация (сеанс управляемого
воображения). Хотя такое упражнение часто не вызывает значительного расслаб¬
ления, оно все же помогает снизить моторную активность детей, стимулировать
их ориентацию на себя и сконцентрировать их внимание.
Поведенческий компонент группового процесса может включать в себя заме¬
щение некоторых негативных моделей поведения позитивными через применение
некоторой системы подкрепления. Конкретнее: вам может понадобиться созда¬
вать прямые подкрепления в случаях проявления внимания, толерантности к фру¬
страции и способности замедлить первоначальную антисоциальную реакцию на
Глава 15. Групповая игровая терапия 431
негативные ситуации. Специфическая поведенческая система обсуждается в раз¬
деле, описывающем примерный план групповой работы.
Компонент социализации в группе наиболее важен, потому что именно он яв¬
ляется причиной группового, а не индивидуального лечения. Фокус когнитивно¬
го разрешения проблем и групповых дискуссий может подчеркивать значимость
адекватных социальных навыков и межличностного поведения. Посредством вклю¬
чения в работу обсуждений межличностных ситуаций, возникающих вне группы,
с использованием той же самой стратегии разрешения проблем можно обеспечи¬
вать генерализацию навыков, приобретаемых детьми в ходе работы.
Самый прямой путь введения эмоционального компонента в групповой про¬
цесс — включение его в качестве важного элемента стратегии разрешения межлич¬
ностных проблем. Другими словами, понимание детьми их собственных эмоций
и эмоций других людей следует сделать интегральной частью выявления межлич¬
ностных проблем, определения потенциальных решений и оценки результата их
поведения. Это помогает детям протягивать связи между их когнициями и аффек¬
тами и различать явления, относящиеся к этим двум классам. Эмоции могут об¬
суждаться как на гипотетическом, так и на реальном уровне, чтобы охватить
широкий спектр ситуаций и эмоций в рамках временных ограничений, наклады¬
ваемых группой.
Помимо включения в групповую деятельность всех этих различных компонен¬
тов, важно, чтобы ведущий группы следил и за текущими индивидуальными и
групповыми процессами. Отслеживание индивидуальных процессов в группе по
существу такое же, как и в индивидуальной терапии. Терапевт может привлечь к
ним внимание ребенка при помощи интерпретации. Следует отметить, что интер¬
претации, даваемые отдельным участникам группы, обычно не столь глубоки, как
те, которые терапевт может предоставлять своим клиентам в ходе индивидуаль¬
ной игровой терапии. Следовательно, в высшей степени непостоянные индивиду¬
альные проблемы и процессы обычно остаются закрытыми для группового наблю¬
дения и обсуждения. Главное преимущество групповой работы — это возможность
привести ребенка к осознанию паттерна его взаимодействий с другими людьми.
Ван Флит (VanFleet, 1998) предлагает, чтобы, пытаясь понять групповые взаимо¬
действия и упражнения или опрашивая участников по этому поводу, терапевт
учитывал следующее.
1. Лидерство. Кто исполнял роль лидера и как развивалось лидерство в
группе?
2. Эмоциональные реакции. Как себя чувствовали участники и как они справ¬
лялись со своими чувствами?
3. Коммуникация. Как она устанавливалась и насколько она была эффектив¬
ной?
4. Принятие решений/Разрешение проблем.
5. Поддержка.
6. Давление группы. Как оно проявлялось и как с ним справлялись участ¬
ники?
7. Сотрудничество.
432 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
8. Конкуренция.
9. Проблемы, связанные с многообразием мнений, точек зрения, чувств
и опыта участников.
10. Безопасность. Как устанавливалась и поддерживалась эмоциональная
и физическая безопасность?
11. Постоянное обучение. Научилась ли группа чему-нибудь на своих ошиб¬
ках и на основании произошедших процессов?
Примерный формат работы
Представленный здесь групповой формат работы подходит для большинства де¬
тей начального школьного возраста и для некоторых младших подростков. В нем
таким образом объединены все пять ранее обсуждавшихся модальностей.
Каждая сессия длится приблизительно один час и подразделяется на следую¬
щие части.
1. Время для расслабления (от 5 до 15 минут). Задает группе настрой. Помо¬
гает сконцентрировать внимание. Способствует обучению. Повышает сте¬
пень осознания собственного тела.
2. Время обсуждения (от 10 до 30 минут). Терапевт проводит групповое об¬
суждение важных для детей ситуаций, пытаясь в то же время максимально
включить в него обучение навыкам самоконтроля. Младшим детям терапевт
может рассказывать историю или сказку; с детьми постарше можно устраи¬
вать дискуссию в более свободной форме. Сейчас самое время проводить
непосредственную тренировку навыков разрешения проблем.
3. Структурированное упражнение (от 10 до 30 минут). В течение этого вре¬
мени терапевту следует предлагать детям деятельность, в ходе которой про¬
исходит подкрепление навыков, являющихся составными частями навыка
самоконтроля, или проблем, освещавшихся в ходе дискуссии. Пример: в од¬
ной группе четырех-пятилетним детям читали сказку о добром привидении,
а затем обсуждали, чего они боятся и как они могут противостоять своим
страхам. Во время упражнения они придумывали маленькие куклы-приви¬
дения и «пугали» друг друга.
4. Время для свободной игры (от 10 до 20 минут). Это время позволяет тера¬
певту пронаблюдать «сухой остаток» своей работы, а детям — потрениро¬
вать вновь приобретенные навыки.
Последовательность упражнений, запланированных для каждой сессии, очень
важна, потому что кажется, будто навыки детей во многих сферах приобретаются
в иерархическом порядке. Программа развивающей терапии (Wood, Combs, Gunn,
& Weller, 1986) предлагает различные варианты планов, материалов и упражне¬
ний, подходящих для детей, функционирующих на различных уровнях развития.
Примерный план лечения
В таблице приводится последовательность из 12 сессий, предназначенных для усо¬
вершенствования социальных взаимодействий детей. Каждая сессия начинается
Глава 15. Групповая игровая терапия 433
Сессия
Обсуждение/упражнение
Поведенческая модифика¬
ция, осуществляемая
на данной стадии
1
Введение правил и применяемой далее системы
баллов, обучение релаксации —
Кинетический рисунок семьи
(Kinetic Family Drawing, Burns & Kaufman, 1972)
Ежедневные индивиду¬
альные вознаграждения
2
Обучение стратегии разрешения проблем —
«Мама, можно?»*
Ежедневные индивиду¬
альные вознаграждения
3
Обучение детей словам, обозначающим эмоции —
Техника «Раскрась свою жизнь»
(Color-Your-Life Technique; O’Connor, 1983)
Ежедневные индивиду¬
альные вознаграждения
4
Толерантность к фрустрации — «Тайный лидер»*
Выбор между ежедневны¬
ми и отсроченными
вознаграждениями
5
Совладание с гневом — «Игра в кругу»*
Выбор между ежедневны¬
ми и отсроченными
вознаграждениями
6
Совместная деятельность — «Картины вдвоем»*
Выбор между ежедневны¬
ми и отсроченными
вознаграждениями
7
Игры, не связанные с конкуренцией —
«Змеи в траве»*
Выбор между ежедневны¬
ми и отсроченными
вознаграждениями
8
Игры, связанные с конкуренцией — любая игра,
выбранная членами группы
Выбор между ежедневны¬
ми и отсроченными
вознаграждениями
9
Групповые цели против индивидуальных —
«Глиняная терапия»*
Групповые вознагражде¬
ния
10
Сотрудничество и планирование — деятельность,
предполагающая сотрудничество, выбираемая
членами группы
Групповые вознагражде¬
ния
И
Планирование заключительного праздника —
Групповые вознагражде¬
группа выбирает прощальное мероприятие
ния
12
Прощальный праздник и прощальное
мероприятие
Групповые вознагражде¬
ния
* Упражнение, помеченное звездочкой, описывается далее в данной главе в разделе «Специальные
упражнения».
с параллельной игры и быстро переходит к соревновательным играм, соответству¬
ющим данному возрасту. Вероятно, наилучшим образом этот терапевтический
цикл удовлетворяет потребности детей третьего и начала четвертого уровней раз¬
вития.
В каждой сессии перед сегодняшним упражнением следует обсуждение. Один
из способов облегчить течение таких обсуждений — представление в картинках
434 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
некоей гипотетической ситуации. Лайнер, Моурер и Детуайлер (Liner, Maurer, &
Detwyler, 1975) создали набор карточек, изображающих многие ситуации, с кото¬
рыми дети сталкиваются каждый день, и содержащих вопросы, стимулирующие
дискуссию. Например, на одной карточке нарисован явно рассерженный мальчик,
надувший губы. Изложенная под картинкой история сообщает: «Моя младшая
сестра обзывалась. Я ударил ее. Моя мама увидела это и наказала меня...». После
предъявления карточки детям предлагается завершить историю предпочтитель¬
нее в обсуждении с использованием стратегии разрешения проблем, содержащей
шаги проблемы, плана, действия и ответа.
Запланированное для каждой сессии упражнение должно выбираться исходя
из его потенциальной способности подкреплять навыки или понятия, представ¬
ленные в течение сессии. Список терапевтических техник и упражнений, которые
могут успешно использоваться для этого, представлен в этой главе ниже. Допол¬
нительные идеи относительно упражнений для сессий можно почерпнуть в сле¬
дующих текстах.
Allen, J., & Klein, R. (1996). Ready, set, relax. Watertown, WI: Inner Coaching.
LeFevre, D. (1988). New games for the whole family. New York: Perigee Books.
Jackson, T. (1993). Activities that teach. Cedar City, UT: Red Rock.
Jackson, T (1994). More activities that teach. Cedar City, UT: Red Rock.
Rohnke, K., & Butler, S. (1995). Qucksilver. Dubuque, IA: Kendall-Hunt.
Cartledge, G., & Millburn, J. (1996). Cultural diversity and social skills instruction: Understan¬
ding ethnic and gender differences. Champaign, IL: Research Press.
Pasternak, M. (1979). Helping kids learn multicultural concepts: A handbook of strategies. Cham¬
paign, IL: Research Press.
В условиях групповой работы поведенческая модификация может использо¬
ваться либо для контролирования детей, склонных к негативному отреагирова¬
нию, либо для подкрепления или ослабления некоторых целевых моделей пове¬
дения. Если говорить об установлении ограничений на поведение детей, то лучше
всего ввести для группы минимально возможное количество правил. Следующие
три пункта содержат практически все правила, которые только могут понадобить¬
ся группе детей:
1) не наносить физического или словесного вреда окружающим;
2) не наносить вреда себе;
3) не наносить ущерб имуществу и ничего не ломать.
В зависимости от уровня развития детей эти правила можно формулировать с
большей или меньшей развернутостью. Для предотвращения введения слишком
большого количества правил важно, чтобы любые другие правила, необходимость
введения которых обусловливается поведением некоторой группы, выводились из
этих трех. Кроме того, полезно, если в процесс разработки дополнительных пра¬
вил можно будет вовлечь детей. Одна группа как-то ввела правило, что перед сес¬
сией все участники должны разуваться и во время сессии быть без обуви. Дело в
том, что в то время у мальчиков третьего и четвертого уровней в моде были тяже-
Глава 15. Групповая игровая терапия 435
лые ботинки, которые часто использовались в качестве оружия во время вспышек
ярости. Мальчики приняли новое правило, поскольку оно выводилось непосред¬
ственно из правила номер два и поскольку они помогли усовершенствовать его.
Некоторые группы решают, что сквернословие является неприемлемым, потому
что наносит вред окружающим, тогда как другие считают, что такая манера изъяс¬
няться нормальна, пока она не используется для обзывания или оскорбления дру¬
гих. В любом случае введение очень ограниченного числа конкретных правил су¬
щественно упрощает управление поведением детей.
В целях подкрепления этих правил очень хорошо работает введение системы
баллов. Например, дети могут заработать по одному баллу на каждом этапе сес¬
сии, в котором участвуют. Кроме того, они могут заработать по одному баллу за
каждое правило, которое они ни разу не нарушат в течение всей сессии. На с. 436
показан пример бланка учета индивидуальных баллов.
Независимо от типа применяемой системы подкрепления, со временем ее ис¬
пользование должно сводиться к нулю. Если система подкрепления остается по¬
стоянной в продолжении хода терапии, мотивация детей начинает зависеть от нее.
Многие дети вырабатывают убеждение, что они не должны демонстрировать це¬
левое поведение, если система подкрепления не приведена в действие; такая уста¬
новка препятствует генерализации целевого поведения. Сворачивание системы
подкрепления предотвращает появление подобной зависимости. Сворачивание
происходит в три этапа.
1. Начальная стадия. Вознаграждения должны следовать практически немед¬
ленно после некоего действия участника группы. Например: в конце каж¬
дой сессии на заработанные очки члены группы могут приобрести какие-
либо сласти или игрушки.
2. Средняя стадия. Детям предоставляется выбор: обменивать очки на еду и
игрушки в конце каждой сессии, как и раньше, либо копить очки в течение
некоторого ограниченного времени, чтобы заработать более крупную на¬
граду.
3. Финальная стадия. Дети должны все вместе собирать очки для получения
через ограниченный период группового вознаграждения. Например, одна
группа накопила на праздник с тортом и подарками. Чем больше баллов
сохранила группа, тем более затейливым должен быть праздник.
Хотя система начисления баллов может быть очень полезной для достижения
как индивидуальной, так и групповой покладистости, часто большего терапевти¬
ческого эффекта можно добиться, используя давление группы сверстников. Оно
хорошо работает, когда большая часть группы позитивно настроена по отношению
к лечению и только один-два ребенка занимаются отреагированием. Вместо того
чтобы делать замечания нарушителям и устанавливать ограничения для них, вы
просто подчеркиваете тот факт, что они не соответствуют ожиданиям и потребно¬
стям остальных участников терапии и мешают течению группового процесса.
После этого вы прекращаете ведение группы и ожидаете, пока отреагирующие
дети не начинают приходить в соответствие с остальными. Пока группа ждет, вам
436 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
Примерный бланк учета индивидуальных баллов
Имя
участника
Присут¬
ствие
Расслабле¬
ние
Время
разго¬
воров
Упраж¬
нения
Не
нано¬
сить
вреда
себе
Не
нано¬
сить
вреда
окру¬
жаю¬
щим
Не раз¬
рушать
имуще¬
ство
Дополни¬
тельные
баллы
лучше сохранять молчание и позволить в'ести разговор детям. Если становится
очевидным, что «буйные» участники терапии переключают всю группу на свое
поведение, вы можете, прежде чем все дети потеряют контроль над собой, перей¬
ти к установлению ограничений обычными способами. Однако по меньшей мере
в 8 из 10 случаев простое название происходящего и ожидание приводит к стаби¬
лизации отреагирующих членов группы, вызывая у них минимум враждебности.
Если с детьми особенно трудно справляться, может потребоваться применение
процедуры «тайм-аута», чтобы добиться четкого и строгого соблюдения детьми
правил. Ниже приведена одна из возможных процедур тайм-аута.
1. Одно нарушение какого-либо правила влечет за собой устное предупреж¬
дение.
2. Второе нарушение какого-либо правила влечет за собой тайм-аут, в течение
которого ребенок должен применить к своему поведению стратегию разре¬
шения проблем. Когда он сформулирует некоторое жизнеспособное реше¬
ние проблемы своего поведения, он может вернуться в группу.
3. Третье нарушение какого-либо правила влечет за собой второй тайм-аут,
похожий на первый, и потерю ребенком очка, которое он мог заработать за
соблюдение этого правила в течение этой сессии.
Прежде чем перейти к обсуждению специальных корректирующих пережива¬
ний, которые можно использовать в групповых занятиях, важно отметить, как на
сессиях реализуется вербальный компонент терапевтической работы. Содержание
групповых встреч вы будете интерпретировать таким же образом, как вы интер¬
претируете содержание индивидуальных сессий. В групповой работе возможно
использовать интерпретации всех пяти уровней. Но основная направленность
ваших интерпретаций будет отличаться от таковой в ходе индивидуальной рабо-
Глава 15. Групповая игровая терапия 43 7
ты, а именно — вам понадобится больше концентрироваться на интерпретации по¬
ведения и динамики группы в целом, чем ее отдельных членов.
Время от времени вам будет важно представлять ваше понимание того, как
мысли, чувства и мотивы отдельного ребенка влияют на его поведение на сессии.
Однако уникальные преимущества применения группового подхода реализуют¬
ся наилучшим образом, когда вы интерпретируете групповой процесс. На этом
уровне вы можете интерпретировать то, как группа реагирует на одного из своих
членов или на вас как на ведущего группы. Кроме того, вы можете интерпретиро¬
вать эмоции группы, характерные модели поведения и их уникальные установки.
Другими словами, интерпретации подлежит не только материал каждого члена
группы, но и материал самой группы как отдельной сущности.
Специальные упражнения
Можно, мама? В этой игре участники движутся к финишной черте, руководству¬
ясь инструкциями «матери». Каждый ребенок, дождавшись своей очереди, спра¬
шивает у ребенка, играющего «мать», на какое расстояние вперед он может про¬
двинуться, и после этого, прежде чем начать продвижение, должен не забыть
прибавить: «Можно?» Если ребенок забывает попросить разрешения, ему при¬
ходится вернуться на линию старта. Первый ребенок, добирающийся до финиша,
выигрывает. Эта игра тренирует навыки самоконтроля, памяти, выстраивания по¬
следовательностей, предвидения последствий, управления фрустрацией и тормо¬
жения первой, импульсивной, реакции.
Игра в кругу. Все дети становятся в круг, а водящий занимает место в центре.
Стоящим в кругу предлагается делать все что угодно, за исключением физиче¬
ского контакта, чтобы заставить находящегося в центре ребенка рассмеяться. Если
у него получается продержаться одну минуту, не рассмеявшись, он выигрывает.
Позже группе предлагается сделать все что угодно, опять же кроме физического
контакта, чтобы заставить «водящего» ребенка рассердиться. Игра тренирует на¬
выки самоконтроля управления фрустрацией и торможения первой, импульсив¬
ной реакции.
Саймон сказал. Дети следуют инструкциям ведущего группы, выполняя их толь¬
ко в том случае, если им предшествуют его слова: «Саймон сказал...». Если ребе¬
нок выполняет любую другую инструкцию, он выбывает из игры. Последний ре¬
бенок, оставшийся в игре, выигрывает. Игра тренирует способность к отбору
информации и внимание, память, управление фрустрацией и торможение первой,
импульсивной, реакции.
«Замороженные» пятнашки. Эта игра играется так же, как и другие догонялки,
в которых «водящий» ребенок догоняет и пытается «запятнать» других играющих.
Когда кого-то «пятнают», он должен замереть и стоять неподвижно до тех пор,
пока его не спасут другие игроки. Игра заканчивается, когда все игроки оказыва¬
ются «замороженными». Эта игра тренирует некоторые навыки контролирования
себя, среди которых — предвидение последствий, управление фрустрацией и
в наибольшей мере — замедление своего побуждения к действию.
438 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
Тайный лидер. Эту игру производит компания Invicta, и в ней ребенок должен
воспроизводить последовательности из сигналов, каждый из которых закодиро¬
ван различными цветами — от двух до шести цветов, которые его оппонент спря¬
тал за неким непрозрачным экраном. Оппонент дает позитивную обратную связь,
когда первый ребенок угадывает правильное количество сигналов одного цвета,
а также тогда, когда он точно помещает некий цвет на его место в последователь¬
ности. Цель игры — воспроизвести целевую последовательность за минимальное
количество попыток. Игра развивает память, умения выбирать и распределять
внимание, выстраивать последовательности, предвидеть последствия и управлять
фрустрацией.
Другие необычные игры читатель может найти в книге New Games Book (Fleu-
gelman, 1976); большая часть этих игр акцентируется на развитии крупной мото¬
рики и социальных навыков. Следующие три игры, выбранные из этой книги, как
обнаружилось, нравятся детям второго, третьего и четвертого уровней развития.
«Упади!* В эту игру играют два человека. Оба ребенка забираются на небольшие
платформы, от 15 до 45 см высотой, находящиеся на расстоянии около 3 м друг от
друга. В качестве платформ можно использовать старые ящики или коробки. Дети
берутся за разные концы веревки длиной около 9 м. После этого начинается пере¬
тягивание каната, причем задача здесь — стащить оппонента с его платформы. Это
прекрасная игра, чтобы научить детей предвидеть последствия действий, а также
требующая от них умения замедлять свои движения.
Змеи в траве. Для этой игры требуется игровое поле или пустое помещение раз¬
мером приблизительно 6,1 х 6,1 м. Одного ребенка выбирают «змеей». Он должен
лежать в центре игрового пространства на животе, в то время как другие игроки
собираются вокруг него и кладут одну руку на какое-либо место его тела. По ко¬
манде «Начали!» игроки разбегаются в стороны от «змеи», которая пытается до¬
тронуться до них руками так, чтобы живот при этом касался пола. «Запятнанный»
играющий тоже становится «змеей» и должен начать помогать первой «змее» ло¬
вить остальных детей. Уровень сложности в этой игре можно задавать, меняя раз¬
мер игрового пространства. Когда все играющие превращаются в змей, последний
пойманный становится водящим («змеей») в следующей игре. Помимо развития
памяти и способностей управлять фрустрацией и предвидеть последствия, эта
игра способствует появлению чрезвычайного сотрудничества среди играющих.
Поймай дракона за хвост. В эту игру может играть любое количество детей, но
для хорошей работы обычно требуется по меньшей мере восемь человек. Дети
выстраиваются в линию, и каждый держится за талию ребенка, стоящего перед
ним; таким образом получается дракон. В задний карман ребенка, замыкающего
линию, кладут носовой платок, так чтобы он свисал из него, — это хвост дракона.
Задача для «головы» дракона, первого ребенка в колонне, поймать «хвост», не ра¬
зорвав драконье «тело». Тогда как цели нескольких первых и нескольких за¬
мыкающих ребят очевидны, дети, находящиеся в середине, должны сами решить,
кому — «голове» или «хвосту» — они будут помогать. Как и «Змеи в траве», эта
игра формирует навыки предвидения последствий и управления фрустрацией,
делая основной акцент на сотрудничестве между игроками.
Глава 15. Групповая игровая терапия 439
Помимо игр, в распоряжении детей находится практически бесконечное коли¬
чество таких креативных занятий, как коллективная настенная живопись, строи¬
тельство клуба, планирование загородной прогулки, написание сценария и по¬
следующая постановка игры либо телевизионной программы. Сделаем намек,
который вам необходимо учесть при выборе деятельности для группы: позитив¬
ность упражнений обусловлена тем, насколько они забавны: решающим фактором
успешности групповой работы будет способность терапевта задавать структуру
лишь тогда, когда это необходимо для оптимального функционирования группы,
постоянно концентрируя основное внимание на потребности группы играть и ве¬
селиться.
Картины вдвоем. Разбейте членов группы по парам. Каждой паре дайте большой
лист бумаги и коробку фломастеров или цветных мелков. Единственная инструк¬
ция состоит в том, что пара должна нарисовать на куске бумаги некую картину.
Они могут распределить между собой работу так, как им захочется, за исключе¬
нием того, что им нельзя разрывать лист пополам. Эта задача стимулирует спо¬
собности детей к предвидению последствий, к пониманию ценности чувств дру¬
гого и к совладанию с фрустрацией.
Глиняная терапия. Эта техника была разработана автором как способ обеспече¬
ния самовыражения и взаимодействия в контексте терапевтической группы. В ней
детям требуется по очереди, используя глину, делать свой вклад в фантастическую
конструкцию, начало созданию которой дает терапевт. Как и в случае с любой
формой игры, главнейшая задача детей здесь — получение удовольствия. Техни¬
ка глиняной терапии не ориентирована на продукт, и в выполнении этой задачи
может участвовать вся группа. Эта техника особенно хорошо подходит для рабо¬
ты с детьми второго уровня развития, поскольку позволяет им при помощи своих
индивидуальных навыков сделать вклад в групповую деятельность.
Для проведения этой игры требуется достаточно глины, чтобы у каждого чле¬
на группы был порядочный ее кусок (размером по меньшей мере с теннисный мяч)
и поверхность для работы. Вы можете посадить детей за стол и на маленькой дос¬
ке, передаваемой от одного ребенка к другому, строить групповой проект. Кроме
того, вам может понадобиться фотоаппарат, чтобы вы могли заснять окончатель¬
ный продукт, прежде чем разрушить его и вернуть в коробку, предотвращая та¬
ким образом споры относительно того, в чью собственность перейдет выполнен¬
ный проект.
Посадите детей вокруг стола и раздайте каждому из них по комку глины. Пос¬
ле этого скажите, что начнете строить, а затем каждый получит возможность до¬
бавить что-либо к первоначальной форме, используя свою глину. Вам следует
поощрять детей делать то, что им нравится, уверив их в том, что их произведение
не должно быть реальным или иметь представительный вид. Единственное пра¬
вило, которое необходимо ввести, это требование, чтобы каждый ребенок делал
добавление к исходной работе. Это необходимо, чтобы некоторые дети из бедных
семей не припрятывали полученную ими глину для себя, передавая дальше лишь
небольшое ее количество. Часто дети будут спрашивать, можно ли им разрушать
440 Часть IV. Экосистемиая игровая терапия в группах
работу тех, кто делал свой вклад до них; вам следует отвечать, что это решение им
придется принимать самостоятельно. После объяснения правил вы лепите из ва¬
шей глины нечто, не имеющее определенных очертаний, и передаете это нечто
одному из детей, сидящих радом с вами. Он добавляет к конструкции свою глину
и передает ее дальше, пока она не пройдет целый круг. По мере того как дети рабо¬
тают, поощряйте их обсуждать работу друг друга, чтобы они могли заранее пред¬
ставить, что могут сделать со скульптурой, когда она дойдет до них. Кроме того,
вы можете решить интерпретировать процесс по мере необходимости. Важно под¬
держивать общий тон сессии легким и забавным и обеспечивать быстрое продви¬
жение работы, чтобы у всех детей сохранялся интерес к ней. В этих целях вам
может понадобиться ввести ограничение времени для индивидуальной работы с
проектом или передвигать его дальше по кругу, если вам кажется, что группа на¬
чинает терять интерес.
Группа «А» состояла из 7 мальчиков и 2 девочек в возрасте от 7 до 9 лет, функ¬
ционирующих на третьем уровне развития. Они испытывали трудности с фор¬
мированием групповой сплоченности, и многие из них занимались умеренно
враждебным отреагированием. К глиняной терапии они отнеслись с большим ин¬
тересом. Терапевт слепил простой кубик, передал его дальше, и после нескольких
дополнений он превратился в довольно искусно сделанный замок. В этот момент
он перешел в руки к мальчику Дэвиду, который обычно занимал в группе несколь¬
ко изолированное положение и был склонен к достаточно враждебным, антисо¬
циальным действиям. Он тут же расплющил замок, наблюдая за реакцией на это
остальных детей. Все члены группы были приведены в ярость и сразу же обрати¬
лись к терапевту за поддержкой в предании Дэвида остракизму. Сначала терапевт
напомнил группе, что каждому из них было разрешено изменять конструкцию так,
как ему покажется подходящим. Затем он обратился к Дэвиду и предложил ему
следующую интерпретацию: «Должно быть, ты настолько хотел сделать что-то,
что было бы только твоим, что решил, что это стоит того, чтобы вызвать на себя
гнев всех остальных». В это время мальчик быстро строил что-то свое, что крити¬
ковали все остальные дети. Они снова получили напоминание о правилах, кото¬
рые гласили, что они могут разрушить творение Дэвида, когда придет их очередь.
Эта резолюция снова успокоила всех, в то время как Дэвид продолжал работу,
достаточно искусно создавая корабль, на который терапевт тут же позитивно от¬
реагировал, снова проговаривая очевидную потребность Дэвида в создании чего-
то собственного. К тому времени как мальчик закончил свой корабль, он привле¬
кал такой интерес, что группа начала просить следующего после Дэвида ребенка
не разрушать работу Дэвида, а что-нибудь к ней добавить.
После короткого перерыва глиняная терапия проводилась в этой группе во
второй раз. Поначалу ее участники хотели, чтобы Дэвид начинал первым, не имея
таким образом возможности разрушить ничьей работы; однако наконец они рас¬
слабились и позволили ему приступать к делу в свою очередь, после тех детей,
которые сидели между ним и терапевтом. Когда проект, великан, дошел до Дэви¬
да, в группе повисло напряжение, которое исчезло только тогда, когда он начал
прилеплять к правой руке великана собаку на поводке, вместо того чтобы разру-
Глава 15. Групповая игровая терапия 441
шать дело рук предыдущих участников. Все дети одобрили получившийся резуль¬
тат, и Дэвид смог интегрировать свою потребность в производстве индивидуаль¬
ного продукта и потребность группы в получении общего, имеющего определен¬
ный вид, проекта.
Группа «Б» состояла из 10 мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет. Они уже выра¬
ботали некоторое чувство общности и принадлежности к одной группе и отнес¬
лись к глиняной терапии с интересом, проявив значительную креативность. Их
наиболее творческим проектом стало создание великана о двух головах, с тремя
ногами, грудями и пенисом. Добавляя «лишние» части тела, каждый ребенок мог
соотнести свою потребность в производстве своего личного продукта в том, что¬
бы оставить свой след, и желание группы в создании отдельной фантастической
фигуры. Эта частная конструкция также позволила мальчикам в сравнительно от¬
крытом, легком стиле обсуждать сексуальные и половые вопросы. Хотя пока ве¬
ликан обзаводился своими половыми органами, со всех сторон раздавалось не¬
рвное хихиканье, дети были бесконечно горды своим конечным продуктом и
попросили разрешения продемонстрировать его всему остальному лагерю, в ко¬
тором они в это время находились.
Другие группы создавали широкое разнообразие предметов, большая часть ко¬
торых включала человеческие фигуры того или иного типа. Уровень способностей
отдельных членов группы редко вызывал какие-либо проблемы, потому что даже
те дети, которые были начисто лишены художественных способностей, оказыва¬
лись в состоянии найти что-то, что могли добавить, даже если это была просто
шляпа или постамент фигуры. Кроме того, способности группы в целом, видимо,
не слишком сильно изменяли ценность таких сессий, потому что даже группы де¬
тей с ретардацией среднего уровня могли произвести некоторый продукт и полу¬
чить при этом удовольствие.
Техника глиняной терапии, при всей своей простоте, оказалась очень ценной
стратегией в репертуаре методов автора этой книги. Она предоставляет прекрас¬
ную возможность для облегчения перевода группы от параллельных действий к
совместной деятельности, не неся в себе при этом никакой угрозы и не вызывая
опасений участников. Для групп, уже обладающих некоторыми навыками совме¬
стной работы, этот метод оказывается площадью для начала аффективного выра¬
жения и связанных с ним групповых обсуждений. И что лучше всего, от глиняной
терапии все (включая терапевта) получают удовольствие и развлекаются.
Завершение лечения
Способ завершения игровой терапевтической группы варьируется в зависимости
от того, завершают ли терапию все участники одновременно или они покидают ее
по одному. Процесс завершения не отличается от процесса завершения индиви¬
дуальной терапии, описанного в главе 13.
Ребенок или дети, завершающие терапию, должны быть заблаговременно пре¬
дупреждены об этом, и стоит ожидать от них некоторого воссоздания истории их
лечения. Когда группу покидают только один или несколько детей, это может оказы¬
вать разрушительное влияние, потому что остальная часть группы в этот момент
не испытывает подобного регрессивного импульса. К счастью, давление группы,
442 Часть IV. Экосистемная игровая терапия в группах
направленное на достижение дальнейшего развития, часто будет уравновешивать
регресс, демонстрируемый ребенком, покидающим группу. Когда лечение завер¬
шает вся группа, процесс воссоздания может быть очень заметным.
Как только запускается процесс воссоздания, вам следует провести обзор про¬
гресса, достигнутого каждым индивидуальным участником и группой в целом,
независимо от количества детей, завершающих терапию. Кроме того, необходимо
уделять особое внимание празднованию осуществленного группой и ее членами
прогресса.
Если терапию завершает вся группа, вам следует спланировать праздник, за¬
нимающий целую сессию и позволяющий детям попрощаться друг с другом. Дети
могут на свой выбор пригласить или не приглашать прийти на этот праздник од¬
ного из своих друзей — не членов терапевтической группы, чтобы способствовать
этим генерализации совершенных благоприобретений. Если группу покидают
только один или два ребенка, лучше запланировать праздник, длящийся лишь в
течение первой половины сессии, по прошествии которой завершающие терапию
дети покидают группу. Остальная часть такой сессии может быть посвящена про¬
работке реакций детей на потерю кого-то из членов группы и переключению их
внимания на планирование будущего группы. Всех этих проблем легко можно
избежать, если и дети и родители заключают контракт на определенное количе¬
ство сессий, как описывается в разделе о начале групповой работы.
Обсуждение завершения экосистемной групповой игровой терапии приводит
нас к завершению этой книги. Сейчас вы должны обладать значительным репер¬
туаром стратегий, которые можете использовать как в индивидуальной, так и в
групповой работе с детьми. Потенциальную ценность вашей работы, особенно
когда вы позволяете себе полностью настроиться на восприятие всей экосистемы
ребенка, невозможно переоценить. Но вы всегда должны помнить, что цель любой
игротерапевтической интервенции — это развитие способности ребенка к игре,
к реализации моделей поведения, которые приносят удовольствие, совершенны
по своей сути, личностно ориентированы, гибки и изменчивы, не инструменталь-
ны и характеризуются естественностью своего протекания. В качестве финально¬
го предостережения хочется сказать: маловероятно, что любая игровая терапия,
которую вы проводите, будет эффективной, если вы не научитесь включаться в
точно такое же игровое поведение сами.
Параллельная работа
Всякий раз, когда вы проводите игровые группы для детей, существует сильная
потребность в реализации параллельной работы. Прогресс каждого ребенка в
группе будет усилен вашим взаимодействием с людьми, окружающими его в его
экосистеме, с его родителями, учителями и т. д. Если в вашей группе от восьми до
десяти детей, то вы сталкиваетесь с проблемой, как вам физически удастся нала¬
дить регулярное общение со всеми необходимыми людьми. Одно из возможных
решений — организация для людей, включенных в жизни ваших клиентов, груп¬
пы, которая периодически будет проводить свои встречи. Если детская группа
проводится в условиях школы или госпиталя, учителя и медицинские сотрудни¬
ки, работающие с детьми, могут встречаться с вами один раз каждые шесть или
Глава 15. Групповая игровая терапия 443
восемь недель. Родители посещающих групповую терапию детей могут собирать¬
ся вместе независимо от условий, в которых проходит лечение их ребенок. Один
терапевт проводил успешную амбулаторную группу, родители и дети, ее посещав¬
шие, с самого начала договорились, что дети посетят восемь групповых сессий, по
одной сессии в неделю. По прошествии восьми недель родители всех детей, ходив¬
ших на группу, собрались вместе для обсуждения прогресса, достигнутого их сы¬
новьями и дочерьми. Кроме того, они сделали обзор того, что происходило в этой
группе, и ознакомились с планами терапевта относительно хода лечения на сле¬
дующие восемь недель. В конце собрания терапевт коротко переговорил с каждым
из родителей, для того чтобы определить, следует ли его ребенку продолжать ле¬
чение в течение следующих восьми недель или ему следует завершить терапию в
течение следующих двух сессий. Таким образом, родители оказались глубоко во¬
влечены в планирование прогресса и хода терапии как их ребенка, так и всей
группы.
Алфавитный указатель
А
Адлерианская игровая терапия 33, 65
активная игровая терапия 27
аллопластичные изменения 224
анальная стадия 35
аутопластичность 120
аутопластичные изменения 224
Б
безопасная игра 20
библиотерапия 351
бихевиоральная теория 47
В
Винеландская шкала адаптивного поведе¬
ния 209
вмешательство в жизненное пространство
176
внедрение/вовлечение 283
внутренний конфликт 160
внутриличностные функции 22
вовлекающее поведение 284
вовлечение 56,327
воспитание и уход 56
вызов 55
г
гендерная идентичность 121
гендерная роль 122
генерализованная динамика 304
генетическая интерпретация 305
генитальная стадия 36
глобализация 85, 90
групповая игровая терапия 375, 420,
421
«гуманистическая игровая терапия» 42
д
двигательные навыки 209
действующий паттерн, итерпретация 302
дефицит когнитивных навыков 160
дефицит эго 160
диагноз развития 206
диагноз среды 206
диагностика 51
дочерняя терапия 29, 30, 33, 63, 351
Е
естественные и логические последствия
поведения 274
ж
жизненные навыки 209
з
забота и уход 327
знание 95
И
игра с налаживанием контакта 20
играпия 30, 287, 352
игровая терапия развития 30
игровой терапевт 31
игровой терапевт-супервизор 31
игры по правилам 19
инсайт/иитерпретация 160
интеграция теоретических моделей 99
интерпретации 40, 299, 366
исполнение 19
использование нищи на сессии 286
исходные стержневые модели 32
к
клиент-центрированный подход 29
когнитивная поведенческая игровая
терапия (КПИТ) 47
когнитивное искажение 160
компонент социализации в групповом
процессе 431
конфиденциальность 191
Алфавитный указатель 445
м
Международная ассоциация игровой
терапии 20,30,151
межличностная ценность/поддержка 160
межличностные привязанности 365
межличностные функции 23
Методика определения рейтинга целей
развивающей терапии 209, 210
мотивационная система 103
н
нарциссический радикал 339
низкая самооценка 160
о
объект 18
опасная игра 20
оральная стадия 34
организм 42
освобождающая терапия 27
отрицание 19
п
параллельная работа 343
перенос родительских отношений 337
переоценка 308
пересечение психопатологии и закона 361
поведенческий компонент группового
процесса 430
поддерживающие условия 160
помещение в развивающую ситуацию
327
предпочтение сексуального объекта 122
привязанность 34
принятие решения — игра 20
проблема контроля над импульсами 268
проективное тестирование 209
простая динамика 304
психические нарушения 290
психоаналитическая игровая терапия 32,
33
психодинамическая психотерапия 26
психодинамические методы 28
психология глобального сообщества 100
психопатологические диагнозы 206
р
развивающая игровая терапия 53
развивающая терапия — развивающее
обучение 274
развитие 104
развитие навыков 160
религиозные убеждения терапевта 83
с
семейная терапия 238,374
семья 78, 227,233
сепарация и иидивидуация 23
сессии обратной связи 243
сигналы 19
система подкрепления 430
ситуация удовлетворения желаний 19
случаи из практики
Аарон 188,201,202,219,221,223,
225,227-235, 239,241, 242, 245,
264,320,327,333,339,342,358,360,
368
Фрэнк 188,202,220,221,223-225,
227-229, 231-234, 236, 239,241,243,
245,264,325,331,333,339,342,359,
360,362,369
соматический/психосоматический
диагноз 206
социализация 209
социокультуральные функции игры 24
специальное время 352
специфические знания о культурах 93
структурирование 327
структурированная терапия 27
структурирующая деятельность 53, 267
т
терапия отношений 28
терапия реальности 33,68, 76, 274
техника мира 207
техника мира Левенфельда 205
технический эклектизм 101
трансферный невроз (невроз переноса)
262
трансформация схемы 160
тревога по поводу отделения 268
446 Алфавитный указатель
У
«удержание навзничь» 278
упражнения прогрессивного глубокого
расслаблениям 430
условия семьи 78
ф
фаллическая стадия 35,36
фантазийные игры 19
феноменологическая философия 32
феноменология 88
физические проблемы 285
фокусы, применение в игровой тера¬
пии 26
формальное психологическое тестирова¬
ние 207
ш
Шкала интеллекта Векслера для детей,
WISC-III 208
э
эго-синтонный и эго-дистонный 41
эдипальный конфликт 34,36,262
эмоциональная регуляция 160
эмоциональные барьеры 160
эмоциональный компонент группового
процесса 431
Эрика-метод 205
Библиография
Abikoff, Н. (1979). Cognitive training intervention in children: Review of a new approach./oi/r-
nal of Learning Disabilities, 12(2), 65-77.
Achenback, T. (1969). Cue learning, associative responding and school performance in children.
Developmental Psychology, 1, 717-725.
Adebimpe, V. (1981). Overview: White norms and psychiatric diagnosis of Black patients. Ame¬
rican Journal of Psychiatry, 138, 279-285.
Adelman, H., Kaser-Boyd, N., & Taylor, L. (1984). Children’s participation in consent for psy¬
chotherapy and their subsequent response to treatment./омгаа/ of Clinical Child Psycholo¬
gy, 18,170-178.
Adler, A. (1927). Understanding human nature. New York: Greenberg.
Adler, A. (1963). The problem child. New York: Putnam. (Original work published 1930)
Allen, F. (1942). Psychotherapy with children. New York: Norton.
Allen, J., & Klein, R. (1996). Ready, set, relax. Watertown, WI: Inner Coaching.
American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(3rd ed., rev.). Washington, DC: Author.
Andronico, M., Fidler, J., Guerney, G., & Guerney, L. (1967). The combination of didactic and
dynamic elements in filial therapy. International Journal of Group Psychotherapy, 17,10-17.
Arieti, S., & Bemporad, J. (1978). Severe and mild depression: The psychotherapeutic approach.
New York: Basic Books.
Arnold, S. (1977). Effects of cognitive training response cost procedure with impulsive preschool
children (Doctoral dissertation, University of Georgia, 1977). Dissertation Abstracts Inter¬
national, 38,5553B-5554B.
Association for Advanced Training in the Behavioral Sciences. (1988). Cross cultural counsel¬
ing. Santa Monica, CA: Prepatory Course for the Psychology Oral Examination Training
Materials.
Association for Play Therapy. (1997). A definition of play therapy. The Association for Play Ther¬
apy Newsletter, 16(1), 1.
Atkinson, D., Morton, G., & Sue, D. (1983). Counseling American minorities: A cross-cultural
approach (2nd ed.). Dubuque, IA: Brown. Axline, V. (1947). Play therapy. Boston: Hough¬
ton Mifflin.
Baldwin, J. (1992). Relational schemas and the processing of social information. Psychological
Bulletin, 112,461-484.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Barabash, C. (1978). A comparison of self-instruction training, token fading procedures and a
combined self-instruction: Token fading treatment in modifying children’s impulsive behav¬
iors (Doctoral dissertation, New York University, 1978). Dissertation Abstracts Internatio¬
nal, 39, 2135A-2136A.
Barasch, D. (1999, April). The value of play. Family Life, 25-42.
Barnard, K., & Brazelton, T. (1990). Touch: The foundation of experience. Madison, CT: Inter¬
national Universities Press.
Baruch, D. (1949). New ways in discipline. New York: McGraw-Hill.
Beach, F. (1945). Current concepts of play in animals. American Naturalist, 79, 523-541.
448 Библиография
Beck, А. (1967). Depression: Clinical', experimental and theoretical aspects. New York: Harper &
Row.
Beck, A. (1972). Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.
Beck, A. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Uni¬
versities Press.
Beck, A., & Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York:
Basic Books.
Bender L., & Woltman, A. (1936). The use of puppet shows as a psychotherapeutic measure for
behavior problem children. American Journal of Orthopsychiatry, 6,341-354.
Berlyne, D. (1960). Conflict, arousal and curiosity. New York: McGraw-Hill.
Bernstein, D., & Borkovec, T. (1973). Progressive relaxation training: A manual for the helping
professions. Champaign, IL: Research Press.
Bettleheim, B. (1972). Play and education. School Review, 81,1-13.
Bibring, E. (1954). Psychoanalysis and the dynamic psychotherapies. Journal of the American
Psychiatric Association, 2, 745-770.
Bielman, A., Pfingsten, U., & Losel, F. (1994). Effects of training social competence in children:
A meta-analysis of recent evaluation studies.Joumal of Clinical Child Psychology, 23(3), 260-
271.
Bixler, R. (1949). Limits are therapy. Journal of Consulting Psychology, 13,1-11.
Boll, E. (1957). The role of preschool playmates: A situational approach. Child Development, 28,
327-342.
Bornstein, B. (1945). Clinical notes on child analysis. The Psychoanalytic Study of the Child, 1,
151-166.
Bornstein, P., & Quevillon, R. (1976). The effects of a self-instructional package on overactive
preschool boys.Joumal of Applied Behavior Analysis, 9, 179-188.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation anxiety. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New
York: Basic Books.
Bratton, S., & Landreth, G. (1995). Filial therapy with single parents: Effects of parental accep¬
tance, empathy and stress. International Journal of Play Therapy, 4(1), 61-80.
Brems, C. (1994). The child therapist: Personal traits and markers of effectiveness. Boston: Allyn
& Bacon.
Brody, V. (1978). Developmental play: A relationship focused program for children .Journal of
Child Welfare, 57(9), 591-599.
Brody, V. (1992). The dialogue of touch: Developmental play therapy. InternationalJournal of
Play Therapy, 122-30.
Brody, V. (1997). Developmental play therapy. In K. O’Connor & L. Braverman (Eds.), Play
therapy theory and practice: A comparative presentation. New York: Wiley.
Brown, R.H. (1977). An evaluation of the effectiveness of relaxation training as a treatment
modality for the hyperkinetic child (Doctoral dissertation, Texas Technology University,
1977). Dissertation Abstracts International, 38, 2847B.
Burke, A., Crenshaw, D., Green, J., Schlosser, M., & Strocchia-Rivera, L. (1989). Influence of
verbal ability on the expression of aggression in physically abused children. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 215-218.
Библиография 449
Burks, Н. (1978). Imagine. Huntington Beach, CA: Arden Press.
Burns, R., & Kaufman, S. H. (1972). Actions, styles, and symbols in kinetic family drawings (KFD):
An interpretive manual. New York: Brunner/Mazel.
Camp, B., Blom, G., Herbert, F., & Van Doornick, W. J. (1977). “Think aloud”: A program for
developing self-control in young aggressive boys. Journal of Abnormal Child Psychology, 5,
157-169.
Cantwell, D., & Baker, L. (1987). Developmental speech and language disorders.New York: Guil¬
ford Press.
Cartledge, G., & Millburn.J. (1996). Cultural diversity and social skills instruction. Champaign,
IL: Research Press.
Chandler, M. (1973). Egocentrism and anti-social behavior: The assessment and training of so¬
cial perspective taking skills. Developmental Psychology, 9, 326-332.
Chandler, M., Greenspan, S., & Barenboim, C. (1974). Assessment and training of role-taking
and referential communication skills in institutionalized emotionally disturbed children.
Developmental Psychology, 10, 546-553.
Chateau, J. (1954). Venfantetlejeu. Paris: Editions du Scarabee.
Chethik, M. (1989). Techniques of child therapy: Psychodynamic strategies. New York: Guilford
Press.
Chused, J. (1988). The transference neurosis in child analysis. Psychoanalytic Study of the Child,
43, 51-81.
Cole, P. M., & Hartley, D. G. (1978). The effects of reinforcement and strategy training on im¬
pulsive responding. Child Development, 49, 381-384.
Coleman, V., & Barker, S. (1991). Barriers to the career development of multicultural popula¬
tions. Educational and Vocational Guidance, 52, 25-29.
Coleman, V., Farmer, T., & Barker, S. (1993). Play therapy for multicultural populations: Guide¬
lines for mental health professionals. International Journal of Play Therapy, 2(1), 63-74.
Comas-Diaz, L., & Griffith, E.E.H. (Eds.). (1988). Clinical guidelines in cross-cultural mental
health. New York: Wiley.
Cooper, S., & Wanerman, L. (1977). Children in treatment: A primer for beginning psychothera¬
pists. New York: Brunner/Mazel.
Cramer, P. (1975). The development of play and fantasy in boys and girls: Empirical studies.
Psychoanalysis and Contemporary Science, 4, 529-567.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Play and intrinsic rewards. Journal of Humanistic Psychology, 75
• (3), 41-63.
Csikszentmihalyi, M. (1976). What play says about behavior. Ontario Psychologist, 8(2), 5-11.
Cullinan, D., Epstein, M.H., & Silver, I. (1977). Modification of impulsive tempo on learning
disabled pupils./оштгя/ of Abnormal Child Psychology, 5,437-444.
Davis, A., Singer, D., & Morris-Friehe, M. (1991). Language skills of delinquent and nondelin¬
quent adolescent males.Joumal of Communicative Disorders, 24, 251-266.
Dennison, S., & Classman, K. (1987). Activities for children in therapy: A guide for planning and
facilitating therapy with troubled children. Springfield, IL: Thomas.
Des Lauries, A. (1962). The experience of reality in childhood schizophrenia. New York: Interna¬
tional Universities Press.
Devereaux, G. (1951). Some criteria for the timing of confrontations and interpretations. Inter¬
nationalJournal of Psychoanalysis, 32, 19-24.
450 Библиография
Dinkmeyer, D., & McKay, G. (1982). Parent’s handbook: Systematic training for effective parent¬
ing. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
Dohlinow, P., & Bishop, N. (1970). The development of motor skills and social relationship
among primates through play. In J. Hill (Ed.), Minnesota Symposia on Child Psychology
(Vol. 4). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Douglas, V. (1972). Stop, look, and listen: The problem of sustained attention and impulse con¬
trol in hyperactive and normal children. Canadian Journal of Behavioral Science, 259-282.
Douglas, V., Parry, P„ Marton, P., & Garson, C. (1976). Assessment of a cognitive training pro¬
gram for hyperactive children./owrrca/ of Abnormal Child Psychology, 4t 389-410.
Dreikurs, R., & Cassel, P. (1972). Discipline without tears. Toronto: Alfred Adler Institute of
Ontario.
Druker, J. (1975). Self-instructional training: An approach to disruptive classroom behavior
(Doctoral dissertation, University of Oregon, 1974). Dissertation Abstracts International, 35,
4167B-4168B.
D’Zurilla, T., & Goldfried, M. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of
Abnormal Psychology, 78, 107-126.
Elliott, R. (1984). A discovery-oriented approach to significant change events in psychothera¬
py: Interpersonal process recall and comprehensive process analysis. In L. Rich & L. Green¬
berg (Eds.), Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process. New York: Guil¬
ford Press.
Ellis, D. E. (1976). The assessment of self-instructional training in developing self-control of ag¬
gressive behavior in impulse-aggressive boys. Unpublished doctoral dissertation, University
of North Carolina at Raleigh.
Erikson, A. (1940). Studies in the interpretation of play: Clinical observation of play disruption
in young children. Genetic Psychology Monographs, 22,557-671.
Erikson, E. (1950). Childhood and society. New York: Norton.
Esman, A. (1983). Psychoanalytic play therapy. In C. Schaefer & K. O’Connor (Eds.), Hand¬
book of play therapy. New York: Wiley.
Evans, M. (1987). Discourse characteristics of reticent children. Applied Psycholinguistics, 16,
319-324.
Fagen, S. A., Long, N. J., & Stevens, D. J. (1975). Teaching children self-control. Columbus, OH:
Merrill.
Fall, M. (1997). From stages and categories: A study of children’s play in play therapy sessions.
International Journal of Play Therapy, 6(1), 1-21.
Fenson, L. (1986). The developmental progression play. In A. Gottfried & C. Brown (Eds.), Play
interactions: The contribution of play materials and parental involvement to children’s devel¬
opment. Lexington, MA: Heath.
Fenson, L., & Ramsey, D. (1980). Decentration and integration of play in the second year of life.
Child Development, 51,171-178.
Finch, A., & Nelson, W. (1976). Reflection-impulsivity and behavior problems in emotionally
disturbed boys. Journal of Genetic Psychology, 128, 271-274.
Fleugelman, A. (Ed.). (1976). The new games book. Garden City, NY: Headlands Press.
Ford, D., & Lerner, R. (1992). Development systems theory. Newbury Park, CA: Sage.
Frank, L. (1955). Play in personality development. American Journal of Orthopsychiatry, 25,
576-590.
Frank, L. (1968). Play is valid. Childhood Education, 32,433-440.
Библиография 451
Frank, М., & ZilbachJ. (1968). Current trends in group therapy with children. International
Journal of Group Psychotherapy, 18,447-460.
Freud, A. (1928). Introduction to the technique of child analysis (L.P. Clark, Trans.). New York:
Nervous and Mental Disease Publishing.
Freud, A. (1965). Normality and Pathology in childhood. New York: International Universities
Press.
Freud, S. (1933). Collected papers. London: Hogarth Press.
Freud, S. (1955). Analysis of a phobia in a five-year-old boy. (standard ed., Vol. 10). London:
Hogarth Press. (Original work published 1909).
Freud, S. (1957a). Introductory lectures on psychoanalysis, (standard ed., Vol. 16). London: Hog¬
arth Press. (Original work published 1917).
Freud, S. (1957b). Three essays on the theory of sexuality, (standard ed., Vol. 7). London: Hog¬
arth Press. (Original work published 1905).
Fromm, E. (1947). Man for himself. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Fry, P. (1978). Resistance to temptation as a function of the duration of self-verbalization. Brit¬
ish Journal of Social and Clinical Psychology, 17,111-116.
Fuller, G., & Fuller, D. (1999). Reality therapy approaches. In H. Prout and, D. Brown (Eds.),
Counseling and psychotherapy with children and adolescents (3rd ed.). New York: Wiley.
Garb, H. (1997). Race bias, social class bias and gender bias in clinical judgment. Clinical Psy¬
chology: Science and Practice, 4(2), 99-120.
Garber, J., Braafladt, N., & Zeman, J. (1991). The regulation of sad affect: An information pro¬
cessing perspective. In J. Garber & K. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation
and dysregulation. New York: Cambridge University Press.
Gardner, R. (1973). The talking, feeling and doing game. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
Gelb, P. (1982). The experience of nonerotic contact in traditional psychotherapy: A critical
investigation of the taboo against touch. Dissertation Abstracts, 43.
Gergen, K., Gulerce, A., Lock, A., & Misra, G. (1996). Psychological science in cultural context.
American Psychologist, 51(5), 496-503.
Gil, E. (1991). The healing power of play. New York: Guilford Press.
Gilbert, J. (1986). Logical consequences: A new classification. Individual Psychology, 42, 243-
254.
Gilroy, B. (1997). Building rapport: It’s magic. Association for Play Therapy Newsletter, 16(4),
3-5.
Ginnott, H. (1959). The theory and practice of therapeutic intervention in child treatment./owr-
nalof Consulting Psychology, 23,160-166.
Ginnott, H. (1961). Group psychotherapy with children. New York: McGraw-Hill.
Ginnott, H. (1994). Group psychotherapy with children: The theory and practice of play therapy.
North vale, NJ: Aronson.
Gitlin-Weiner, K., & Schaefer, C. (Eds.). (1999). Play diagnosis and assessment. New York: Wi¬
ley.
Glasser, W. (1969). Schools without failure. New York: Harper & Row.
Glasser, W. (1972). The identity society. New York: Harper & Row.
Glasser, W. (1975). Reality therapy. New York: Harper & Row.
Glasser, W. (1986). Control theory in the classroom. New York: Harper & Row.
Glenn, J. (1978). General principles of child analysis. In J. Glenn (Ed.), Child analysis and the¬
rapy. New York: Aronson.
452 Библиография
Glenwick, D., Barocas, R., & Burka, A. (1976). Some interpersonal correlates of cognitive im-
pulsivity in fourth graders Journal of School Psychology, 14, 212-221.
Goldberg, S., & Lewis, M. (1969). Play behavior in the year-old infant: Early sex differences.
Child Development, 40,21—31.
Goldfried, M. (1998). A comment on psychotherapy integration in the treatment of children.
Journal of Clinical Child Psychology, 27(1), 49-53.
Goldfried, M., & Davison, G. (1976). Problem solvingin clinical behavior therapy. New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Goldstein, J., Solnit, A., Goldstein, S., & Freud, A. (1996). The best interests of the child. New
York: The Free Press.
Gordon, T. (1970). Parent effectiveness training. New York: Wyden.
Graham, P. (1974). Depression in prepubertal children. Developmental Medicine and Child Neu¬
rology, 16, 340-349.
Greenspan, S., & Greenspan, N. (1991). The clinical interview of the child (2nd ed.). Washington,
DC: American Psychiatric Press.
Guerney, B. (1964a). Filial therapy: Description and ratiomle.Joumal of Consulting Psycholo¬
gy, 28(4), 304-310.
Guerney, B. (1964b). Psychotherapeutic agents: New rolesfor nonprofessionals,parents and teach¬
ers. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Guerney, L. (1983). Introduction to Filial therapy. In P. Keller & L. Ritt (Eds.), Innovations in
clinical practice: A sourcebook (Vol. 2, pp. 26-39). Sarasota, FL: Professional Resource Ex¬
change.
Guerney, L. (1991). Parents as partners in treating behavior problems in early childhood set¬
tings. Topics in Early Childhood Special Education, 11(2), 74-90.
Guerney, L. (1997). Filial therapy. In K. O’Connor & L. Braverman (Eds.), Play therapy theory
and practice: A comparative presentation. New York: Wiley.
Hambridge, G. (1955). Structured play therapy. American Journal of Orthopsychiatry, 25,601-
617.
Harley, M. (1986). Child analysis, 1947-1984: A retrospective. Psychoanalytic Study of the Child,
4,129-153.
Harley, M., & Sabot, L. (1980). Conceptualizing the nature of the therapeutic action of the child
analysis: Scientific proceedings: Panel reports. Journal of the American Psychoanalytic Asso¬
ciation, 28,161-179.
Harter, S. (1983). Cognitive-developmental considerations in the conduct of play therapy. In
C. Schaefer & K. O’Connor (Eds.), The handbook of playtherapy. New York: Wiley.
Hermans, H., & Kenipen, H. (1998). Moving cultures: The perilous problems of cultural dichot¬
omies in a globalizing society. American Psychologist, 53(10), 1111-1120.
Hersen, M., Kazdin, A., & Bellack, A. (Eds.). (1991). The clinical psychology handbook. New York:
Pergamon Press.
Hindshaw, S. (1992). Externalizing behavior problems and academic under-achievement in
childhood and adolescence: Causal relationships and underlying mechanisms. Psychological
Bulletin, 111,127-155.
Hoag, M., & Burlingame, G. (1997). Evaluating the effectiveness of child and adolescent group
treatment: A meta-analytic review .Journal of Clinical Child Psychology, 26(3), 234-246.
Horney, K. (1937). The neurotic personality of our time. New York: Norton.
Библиография 453
Horton, J., Glance, P., Sterk-Elifson, C., & Emshoff, J. (1995). Touch in psychotherapy: A sur¬
vey of patient’s experiences. Psychotherapy, 32(3), 443-457.
Hug-Hellmuth, H. (1921). On the technique of child-analysis. International Journal of Psycho-
Analysis, 2, 287-305.
Hughes, F. (1994). Children, play, and development Boston: Allyn & Bacon.
Huizinga, J. (1950). Homo ludens: A study of the play element in culture. New York: Roy.
Hutt, C. (1970). Specific and diverse exploration. In H. Reese & L. Lipsitt (Eds.), Advances in
child development and behavior (Vol. 5). New York: Academic Press.
Jackson, T. (1993). Activities that teach. Cedar City, UT: Red Rock. Jackson, T. (1995). More
activities that teach. Cedar City, UT: Red Rock.
Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation: A physiological and clinical investigation of muscular
states and their significance in psychology and medical practice (2nd ed.). Chicago: Universi¬
ty of Chicago Press.
James, B. (1994). Handbook for the treatment of attachment-trauma problems. New York: The
Free Press.
Jernberg, A. (1973). Theraplay technique. In C. Schaefer (Ed.), The therapeutic use of child'splay.
New York: Aronson.
Jernberg, A. (1979). Theraplay. San Francisco: Jossey-Bass.
Jernberg, A., & Booth, P. (1999). Theraplay: Helping parents and children build better relation¬
ships through attachment based play (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Jernberg ,J., Booth, P., Roller, T., & Albert, A. (1980). Manual for the administration and the clin¬
ical inteipretation of the Marschak interaction method (MIM). Chicago: Theraplay Institute.
Johnson, J., Rasbury, W., & Siegel, L. (1986). Approaches to child treatment. New York: Perga-
mon Press.
Johnson-Powell, G., & Yamamoto, J. (1997). Transcultural child development: Psychological as¬
sessment and treatment. New York: Wiley.
Kadushin, A. (1972). The racial factor in the interview. In A. Kadushin (Ed.), The social work
interview. New York: Columbia University Press.
Kaduson, H., & Schaefer, C. (Eds.). (1997). 101favorite play therapy techniques. Northvale, NJ:
Aronson.
Kagan, J., Pearson, L., & Welch, L. (1966). Modifiability of an impulsive tempo .Journal of Ed¬
ucational Psychology, 57, 359-365.
Kazdin, A. (1988). Child psychotherapy: Developing and identifying effective treatments. New
York: Pergamon Press.
Kazdin, A. (1995). Bridging child, adolescent and adult psychotherapy: Directions for research.
Psychotherapy Research, 5, 258-277.
Kazdin, A. (1996). Combined and multimodal treatments in child and adolescent psychothera¬
py: Issues, challenges and research directions. Clinical Psychology: Science and Practice, 3(1),
69-100.
Kelly, F. (1999). Adlerian approaches to counseling with children and adolescents. In H. Prout
& D. Brown (Eds.), Counseling and psychotherapy with children and adolescents (3rd ed.).
New York: Wiley.
Kendall, PC., & Finch, A.J. (1976). A cognitive-behavioral treatment for impulse control: A case
study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 44, 852-857.
Kerl, S. (1998). Working with Latino/a clients: Five common mistakes. Association for Play
Therapy Newsletter, 77(4), 1-3.
454 Библиография
Kiesler, D. (1988). Therapeutic metacommunication: Therapist impact disclosure as feedback in
psychotherapy. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Klein, M. (1932). The psycho-analysis of children. London: Hogarth Press.
Klein, S. A., & Deffenbacher, J. L. (1977). Relaxation and exercise for hyperactive impulsive chil¬
dren. Perceptual Motor Skills, 45, 1159-1162.
Knell, S. (1993). Cognitive-behavioral play therapy. North vale, NJ: Aronson.
Knell, S. (1994). Cognitive-behavioral play therapy. In K. O’Connor & C. Schaefer (Eds.). Hand¬
book of play therapy: Advances and Innovations (Vol. 2). New York: Wiley.
Knell, S. (1997). Cognitive-behavioral play therapy. In K. O’Connor & L. Braverman (Eds ),
Play therapy theory and practice. A comparative presentation. New York: Wiley.
Knell, S. (1998). Cognitive behavioral play therapy .Journal of Clinical Child Psychology, 27(1),
28-33.
Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization. The cognitive developmental approach. In
T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior. Theory, research and social issues. New
York: Holt, Rinehart and Winston.
Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. San Francisco: Harper.
Kohlberg, L., Hewer, A .,& Levine, C. (1983). Moral stages. A current formulation and a response
to ciitics. Farmington: S-Karger AG.
Kottman, T. (1994). Adlerian play therapy. In K. O’Connor & C. Schaefer (Eds.), Handbook of
play therapy Advances and Innovations (Vol. 2) New York: Wiley.
Kottman, T. (1995). Partners in play. An Adlerian approach to play therapy. Alexandria, VA:
American Counseling Association.
Kottman, T. (1997). Adlerian play therapy: In K. O’Connor & L. Braverman (Eds.), Play thera¬
py theory and practice. A comparative presentation. New York: Wiley.
Kottman, T., & Johnson, V. (1993). Adlerian play therapy. A tool for school counselors. Elemen¬
tary School Guidance and Counseling, 28,42-51.
Kraft, I. (1996). History (of group therapy). In P. Kymissis & D Halperin (Eds.), Group therapy
with children and adolescents. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Kramer, S., & Byerly, L. (1978). Technique of psychoanalysis of the latency child. In J. Glenn
(Ed.), Child analysis and therapy. New York: Aronson.
Krasner, W. (1976). Childrens play and social speech. Department of Health, Education and
Welfare: National Institute of Mental Health, Maryland.
Kymissis, P. ,& Halperin, D. (Eds.) (1996). Group therapy with children and ado lescents. Wash¬
ington, DC: American Psychiatric Press.
La Greca, A. (1983). Interviewing and behavioral observation. In E. Walker & M. Roberts (Eds.),
Handbook of clinical child psychology. New York: Wiley.
Landreth, G. (1991). Play therapy. The art of the relationship. Muncie, IN: Accelerated Develop¬
ment.
Landreth, G. & Sweeney, D. (1997). Child-centered play therapy. In K. O’Connor & L. Braver¬
man (Eds.), Play therapy theory and practice. A comparative presentation. New York: Wiley.
Landreth, G., & Sweeney, D. (1999). The freedom to be Child-centered group play therapy. In
D. Sweeney & L. Homeyer (Eds.), The handbook of group play therapy. San Francisco: Jos-
sey-Bass.
Landreth, G., & Wright, C. (1997). Limit setting practices of play therapists in training and
experienced play therapists. International Journal of Play Therapy, 6(1), 41-62.
Библиография 455
Lee, А. (1997). Psychoanalytic play therapy. In K. O’Connor & L. Braverman (Eds.), Play ther¬
apy theory and practice: A comparative presentation. New York: Wiley.
LeFevre, D. (1988). New games for the whole family. New York: Perigee Books.
Leland, H. (1983). Play therapy for mentally retarded and developmentally disabled children.
In C. Schaefer & K. O’Connor (Eds.), Handbook of play therapy. New York: Wiley.
Levin, D. (1985). Developmental experiences: Treatment of developmental disorders in children.
New York: Aronson.
Levy, D. (1938). Release therapy for young children. Psychiatry, 1,387-389.
Lewis, M. (1974). Interpretation in child analysis: Development considerations.yoz/raa/ of the
American Academy of Child Psychiatry, 13,32-53.
Liner, M. (Writer), Maurer, I. (Ed.), & Detwyler, R. (111.). (1975). I have feelings: Self-aware¬
ness. Los Angeles: Wise Owl.
Locke, D. (1992). Increasing multicultural understanding: A comprehensive model. Newbury Park,
CA: Sage.
Lowenfeld, M. (1939). The world pictures of children: A method of recording and studying them.
British Journal of Medical Psychology, 18, 65-101.
Lowenfeld, M. (1950). The problem of interpretation. Psychoanalytic Quarterly, 20,1-14.
Lowenstein, R. (1951). The problem of interpretation. Psychoanalytic Quarterly, 20, 1-14.
Lowenstein, R. (1957). Some thoughts on interpretation in the theory and practice of psycho¬
analysis. The Psychoanalytic Study of the child, 12, 127-150.
Lubar, J., & Shouse, M. (1977). Use of biofeedback in the treatment of seizure disorders and
hyperactivity. In B. Lahey & A. Kazdin (Eds.), Advances in clinical child psychology. New
York: Plenum Press.
Lunt, I., & Poortinga, Y. (1996). Internationalizing psychology: The case of Europe. American
Psychologist, 5 (1), 504-508.
Luria, A. (1961). The role of speech in the regulation of normal and abnormal behaviors. New York:
Liveright.
Mahler, M. (1967). On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. Journal of the
American Psychoanalytic Association, 25, 740-763.
Mahler, M. (1972). On the first three subphases of the separation-individuation process. Inter¬
national Journal of Psycho-Analysis, 53,333-338.
Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and adulthood: A move
to the level of representation. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points of attach¬
ment theory and research Monographs of the Society for Research in Child Development, 50
(1-2, Serial No. 209).
Marsella, A. (1998). Toward a «global-community» psychology: Meeting the needs of a chang¬
ing world. American Psychologist, 53(12), 1282-1291.
Marsella, A., & Pedersen, P. (Eds.) (1981). Cross cultural counseling andpsy chotherapy. New
York: Pergamon Press.
Mason, W. (1965). The social development of monkeys and apes. In I. DeVore (Ed.), Primate
behavior: Field studies of monkeys and apes. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Meichenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification: An integrative approach. New York:
Plenum Press.
Meichenbaum, D. & Goodman, J. (1971). Training impulsive children to talk to themselves:
A means of developing self control .Journal of Abnormal Psychology, 77,115-126.
456 Библиография
Miller, А. (1981). The drama of the gifted child. New York: Basic Books.
Mook, B. (1982). Analyses of therapist variables in a series of psychotherapy sessions with two
child clients./ownza/ of Clinical Child Psychology, 38, 63-76.
Moore, S., & Cole, S. (1978). Cognitive self-meditation training with hyperkinetic children. Bul¬
letin of the Psychonomic Society, 12(1), 18-20.
Morris, R.,& Kratochwill, T. (Eds.) (1983). The practice of child therapy. New York: Pergamon
Press.
Moustakas, C. (1959). Psychotherapy with children. New York: Harper & Row.
Nardone, M., Tryon, W, & O’Connor, K. (1986). The effectiveness and generalization of a cog¬
nitive-behavioral group treatment to reduce impulsive/ aggressive behavior for boys in a res¬
idential setting. Behavioral and Rest dential Treatment, 7(2), 93-103.
Nemiroff, M., & Annunziata,J. (1990). A Child’s first book about play therapy. Washington, DC:
American Psychological Association.
Nowicki, S., & Duke, M. (1992). Helping the child who doesn’t fit in Clinical psychologist decipher
the hidden dimensions of social rejection. Atlanta Peachtree.
O’Connor, K. (1983). The color your life technique. In C. Schaefer & K. O’Connor (Eds.), Hand¬
book of play therapy. New York: Wiley.
O’Connor, K. (1991). The play therapy primer: An integration of theories and tech niques. New
York: Wiley.
O’Connor, K., & Ammen, S. (1997). Play therapy treatment planning and interventions. The eco-
systemic model and workbook. San Diego: Academic Press.
O’Connor, K., & Braverman, L. (1997). Play therapy theory and practice: A comparative presen¬
tation. New York: Wiley.
O’Connor, K., Ewart, K., & Wolheim, I. (in press). Advances in psychodynamic psychotherapy
with children. In V. VanHasselt & M. Hersen (Eds.), Advanced abnormal psychology. New
York: Plenum Press.
O’Connor, K., & Lee, A. (1991). Advances in psychoanalytic psychotherapy with children. In
M. Hersen, A. Kazdin, & A. Bellack (Eds.), The clinical psychology handbook. New York:
Pergamon Press.
O’Connor, K., Lee, A., & Schaefer, C. (1983). Psychoanalytic psychotherapy with children. In
M. Hersen, A. Kazdin, & A. Bellack (Eds.), The clinical psychology handbook. New York:
Pergamon Press.
O’Connor, K., & Schaefer, C. (1994). The handbook of play therapy. (Vol. 2). New York: Wiley.
O’Connor, K., & Wolheim, I. (1994). Psychodynamic psychotherapy with children. In V. Van¬
Hasselt & M. Hersen (Eds.), Advanced abnormal psychology (pp. 403-417). New York: Ple¬
num Press.
Paniagua, F. (1994). Assessing and treating culturally diverse clients: A practical guide. Thousand
Oaks, CA: Sage.
Pasternak, M. (1979). Helping kids learn multi-cultural concepts: A handbook of strategies. Cham¬
paign, IL: Research Press.
Patterson, C. (1974). Relationship counseling in psychotherapy. New York: Harper & Row.
Patterson, G. (1971). Families: Applications of social learning theory to family life. Champaign,
IL: Research Press.
Pelham, W., Bryan, B., & Paluchowski, C. (1978). Social skills training with hyperactive chil¬
dren: A preliminary evaluation of a coaching procedure and a reward system. Paper present¬
ed at the Annual Meeting of the Association for the Advancement of Behavior Therapy.
Библиография 457
Pfeffer, С. (1986). The suicidal child. New York: Guilford Press.
Piaget, J. (1932). The moral judgment of the child. New York: Harcourt Brace.
Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International Universities
Press.
Piaget, J. (1959). The language and thought of the child. London: Routledge & Kegan Paul.
Piaget, J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton.
Piaget, J. (1963). The psychology of intelligence. Patterson, NJ: Littlefield-Adams.
Piaget, J. (1967). Six psychological studies. New York: Vintage.
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. New York: Basic Books.
Piel, J. (1990). Unmasking sex and social class differences in childhood aggression: The case for
language maturity. Journal of Educational Research, 84(2), 100-106.
Pilowsky, D., & Chambers, W. (Eds). (1986). Hallucinations in children. Washington, DC: Amer¬
ican Psychiatric Press.
Plant, E. (1979). Play and adaptation. The Psychoanalytic Study of the Child', 34, 217-232.
Poal, P., & Wiesz, J. (1989). Therapist’s own childhood problems as predictors of their effec¬
tiveness in child psychotherapy .Journal of Clinical Child Psychology, 18(3), 202-205.
Popkin, M. (1983). Active parenting handbook. Atlanta: Active Parenting.
Portela, J. (1971). Social aspects of transference and countertransference in the patient-psychi¬
atrist relationship in an underdeveloped country: Brazil. InternationalJournal of Social Psy¬
chiatry, 4,254-263.
Prout, H., & Brown, D. (1999). Counseling and psychotherapy with children and adolescents (3rd
ed.). New York: Wiley.
Pulaski, M. (1974). The importance of ludic symbolism in cognitive development. InJ. Magary,
M. Poulson, & G. Lubin (Eds.), Proceedings of the Third Annual UAP Conference: Piagetian
Theory and the Helping Professions. Los Angeles: University of Southern California Press.
Rank, O. (1936). Will therapy. New York: Knopf.
Rappoport, A. (1996). The structure of psychotherapy: Control-mastery theory’s diagnostic plan
formulation. Psychotherapy ,33(1), 1-10.
Raskin, D., & Esplin, P. (1991). Statement validity assessment: Interview procedures and con¬
tent analysis of children’s statements of sexual abuse. Behavioral Assessment, 73(3), 265-291.
Rivera, E. (1978). An investigation of the effects of relaxation training on attention to task and
impulsivity among male hyperactive children (Doctoral dissertation, University of South¬
ern California, 1978). Dissertation Abstracts International, 39, 2841A.
Robertiello, R. (1975). Hold them very close, then let them go. New York: Dial Press.
Robinson, R., Kaltner, D., Ward, A., & Ross, L. (1995). Actual versus assumed differences in
construal: “Naive Realism” in intergroup perception and conflict. Journal of Personality and
Social Psychology, 68,404-417.
Rogers, C. (1942). Counseling and psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
Rogers, C. (1951). Client-centered therapy. Boston: Houghton Mifflin.
Rogers, C. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change.
Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103.
Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed
in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of science (Vol. 3).
New York: McGraw-Hill.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin.
458 Библиография
Rogoff, В., & Chavajay, Р. (1995). What’s become of research on the cultural basis of cognitive
development? American Psychologist, 50(10), 859-877.
Rohnke, K., & Butler, S. (1995). Quicksilver. Dubuque, IA: Kendall-Hunt.
Roopnarine, J., Johnson, J., & Hooper, F. (1994). Children’s play in diverse cultures. Albany, NY:
State University of New York Press.
Rotter, J. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Russ, S. (1998). Special section on developmentally based integrated psychotherapy with chil¬
dren: Emerging models. Journal of Child Clinical Psychology, 27(2), 2-3.
Safran, J. (1990a). Towards a refinement of cognitive therapy in light of interpersonal theory:
Practice. Clinical Psychology Review, 10,107-121.
Safran, J. (1990b). Towards a refinement of cognitive therapy in light of interpersonal theory:
Theory. Clinical Psychology Review, 10,87-105.
Safran, J., & Messer, S. (1997). Psychotherapy integration: A post modern critique. Clinical Psy¬
chology: Science and Practice, 4(2), 140-152.
Sander, L. (1983). Polarity, paradox, and the organizing process in development. In J. D. Call,
E. Galenson, & R. L. Tyson (Eds.), Frontiers of infant research. New York: Basic Books.
Sandier, J., & Joffe, W. (1965). Notes on childhood depression. International Journal of Psycho¬
analysis, 46, 88-96.
Sandier, J., Kennedy, H., & Tyson, R. (1980). The technique of child analysis. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Sandier, J., & Nagera, H. (1963). Aspects of the metapsychology of fantasy. The Psychoanalytic
Study of the Child, 18,159-194.
Scarlett, W. (1994). Play, cure and development: A developmental perspective on the psycho¬
analytic treatment of young children. In A. Slade & D. Wolf (Eds.), Children at play: Clinical
and developmental approaches to meaning and representation. New York: Oxford Universi¬
ties Press.
Schaefer, C. (1979). Therapeutic use of child’s play. New York: Aronson.
Schaefer, C., Gitlin, K., & Sandgrund, A. (Eds.). (1991). Play diagnosis and assessment. New
York: Wiley.
Schaefer, C., & Kottman, T. (Eds.). (1993). Play therapy in action a casebook for practitioners.
North vale, NJ: Aronson.
Schaefer, C., & Millman, H. (Eds.). (1977). Therapies for children. San Francisco: Jossey-Bass.
Schaefer, C., & O’Connor, K. (Eds.). (1983). Handbook of play therapy. New York: Wiley.
Schaefer, C., & Reid, S. (Eds.). (1986). Game play: Therapeutic use of childhood games. New York:
Wiley.
Schiffler, M. (1969). The therapeutic play group. New York: Grune & Stratton.
Schiller, F. (1875). Essays, aesthetical and philosophical. London: Bell.
Shirk, S. (1998). Interpersonal schemata in child psychotherapy: A cognitive interpersonal per¬
spective. Journal of Clinical Child Psychology, 27(1), 4-16.
Shirk, S., & Russell, R. (1996). Change processes in child psychotherapy: Revitalizing treatment
and research. New York: Guilford Press.
Shirk, S., & Saiz, C. (1992). Clinical, empirical-developmental perspectives on the therapeutic
relationship in child psychotherapy. Development and Psychopathology, 4,713-728.
Shuval, J., Antonovsky, A., & Davies, D. (1967). The doctor-patient relationship in an ethnical¬
ly heterogeneous society. Social Science and Medicine, 1,141-154.
Библиография 459
Simpson, D., & Nelson, A. (1974). Attention training through breathing control to modify hy-
peractivity .Journal of Learning Disabilities, 7, 274-283.
Singer, D., & Revenson, T. (1996). A Piaget primer: How a child thinks. New York: Penguin.
Sjolund, M. (1983). A «new» Swedish technique for play diagnosis and therapy: The Erica meth¬
od. Association for Play Therapy Newsletter, 2(1), 3-5.
Skinner, B.F. (1972). Cumulative record: A selection of papers. New York: Appleton-Century-
Crofts.
Skinner, B.F. (1974). About behaviorism. New York: Random House.
Slade, A. (1994). Making meaning and making believe: Their role in the clinical process. In
A. Slade & D. Wolf (Eds.), Children at play: Clinical and developmental approaches to mean¬
ing and representation. New York: Oxford Universities Press.
Slade, A., & Wolf, D. (Eds.). (1994). Children at play: Clinical and developmental approaches to
meaning and representation. New York: Oxford Universities Press.
Slavson, S. (1947). The practice of group therapy. New York: International Universities Press.
Slavson, S. (1948). Play group therapy for young children. Nervous Child, 7,318-327.
Slobin, D. (1964). The fruits of the first season: A discussion of the role of play in childhood.Jour-
nal of Humanistic Psychology, 4, 59-79.
Sieves, R., & Peterlin, K. (1993). Where in the world is... my father: A time limited play thera¬
py. In C. Schaefer & T. Kottman (Eds.), Play therapy in action a casebook for practitioners.
North vale, NJ: Aronson.
Solomon, J. (1938). Active play therapy. American Journal of Orthopsychiatry, 8,479-498.
Sparrow, S., Balia, D., & Cicchetti, D. (1984). Vineland adaptive behavior scales. Interview edi¬
tion, expanded form. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
Spiegel, J. (1976). Cultural aspects of transference and countertransference revisited. Journal of
the American Academy of Psychoanalysis, 4,447-467.
Spitz, R. (1946). Anaclitic depression. Psychoanalytic Study of the Child, 2, 313-342.
Spivak, G., Platt, J., & Shure, M. (1976). The problem-solving approach to adjustment. San Fran¬
cisco: Jossey-Bass.
Spivak, G., & Shure, M. (1982). The cognition of social adjustment: Interpersonal cognitive
problem solving training. In B. Lahey & A. Kazdin (Eds.), Advances in clinical child psychol¬
ogy (Vol. 5). New York: Plenum Press.
Sroufe, L. (1979). The coherence of individual development: Early care, attachment and subse¬
quent issues. American Psychologist 34(10), 834-841.
Steinmetz, M. (1995). Interviewing children: Balancing forensic and therapeutic techniques.
National Resource Center on Child Sexual Abuse News, 4(3), 1-5.
Stevenson, J., Richman, N., & Graham, P. (1985). Behavior problems and language abilities at
three years and behavioral deviance at eight year .Journal of Child Psychology and Psychia¬
try, 26, 215-230.
Sue, D.W., & Sue, D. (1977). Barriers to effective cross-cultural counseling.,Journal of Counsel¬
ing Psychology, 24,420-429.
Sue, D.W., & Sue, D. (1990). Counseling the cultural different: Theory and practice (2nd ed.).
New York: Wiley.
Sue, S. (1998). In search of cultural competence in psychotherapy and counseling. American
Psychologist, 53(4), 440-448.
Sullivan, H. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Norton.
460 Библиография
Sutherland, S. (1989). The international dictionary of psychology. New York: Continuum.
Sweeney, D. (1997). Counseling children through the world of play. Wheaton, IL: Tyndale House.
Sweeney, D., & Homeyer, L. (1999). Group play therapy. In D. Sweeney & L. Homeyer (Eds.),
The handbook of group play therapy: How to do it. How it works. Whom it works best for. San
Francisco: Jossey-Bass.
Switsky, H„ Haywood, H., & Isett, R. (1974). Exploration, curiosity and play in young children:
Effects of stimulus complexity. Development Psychology, 10, 321-329.
Taft, J. (1933). The dynamics of therapy in a controlled relationship. New York: Macmillan.
Teasdale, J., Taylor, M„ Cooper, Z., Hahurst, H., & Paykel, E. (1995). Depressive thinking: Shifts
in construct accessibility or in schematic mental models? Journal of Abnormal Psychology,
104,500-507.
Terr, L. (1983). Play therapy and psychic trauma: A preliminary report. In C. Schaefer & K. O’Con¬
nor (Eds.), Handbook of play therapy. New York: Wiley.
Thomas, A., & Cobb, H. (1999). Culturally responsive counseling and psychotherapy with chil¬
dren and adolescents. In H.T. Prout & D. Brown (Eds ), Counseling and psychotherapy with
children and adolescents: (3rd ed.). New York: Wiley.
Tolan, P., Guerra, N., & Kendall, P. (1995). A developmental ecological perspective on antiso¬
cial behavior in children and adolescents Toward a unified risk and intervention framework
Journal of Consulting and Clinical Psychology. 63(4), 579-584.
Triandis, H. (1996) The psychological measurement of cultural syndromes American Psycholo¬
gist, 57(4), 407-415.
Truax, C., & Carkhuff, R. (1967). Toward effective counseling and psychotherapy. Chicago: Aldine.
Tuma, J., & Sobotka, K. (1983). Traditional therapies with children. In T. Ollendick & M. Her-
sen (Eds.), Handbook of child psychopathology. New York: Plenum Press.
Tyson, R., & Tyson, P. (1986). The concept of transference in child psychoanalysis./owratf/of
the American Academy of Child Psychiatry, 25, 30-39.
Valsiner, J. (1997). Culture and the development of children’s action A theory of human develop¬
ment. New York: Wiley.
VanFleet, R. (1994). Filial therapy Strengthening parent child relationships through р1аую Sara¬
sota, FL: Professional Resource Press.
VanFleet, R. (1998). Debriefinggroup activities. Boiling Springs, PA: Play Therapy Press.
Vygotsky, L. (1962). Thought and language. New York: Wiley.
Wadsworth, B. (1971). Piaget’s theory of cognitive development. New York: McKay.
Walder, R. (1933). The psychoanalytic theory of play. Psychoanalytic Quarterly, 2, 208-224.
Walker, C. (1979). Treatment of children’s disorders by relaxation training. The poorman’s bio¬
feedback Journal of Clinical Child Psychology, 8, 22-25.
Watson, J., & Raynor, R. (1920). Conditioned emotional reactions Journal of Experimental Psy¬
chology, 3,1-14.
Wechsler, D. (1991) Wechsler Intelligence Scale for Children (3rd ed.) San Antonio, TX: Psy¬
chological Corporation.
Weisler, A., & McCall, R. (1976). Exploration and play: Resume and redirection. American Psy¬
chologist, 32(7), 492-508.
Weiss, J., Sampson, H., & the Mt. Zion Psychotherapy Research Group (1986). The psychoana¬
lytic process: Theory, clinical observations and empirical research. New York: Guilford Press.
Weisz, J. (1986). Contingency and control beliefs as predictors of psychotherapy outcomes
among children and adolescents./owma/ of Consulting and Clinical Psychology, 54,789-795.
Библиография 461
Weithorn, L. (1980) Competency to render informed treatment decisions: A comparison of cer¬
tain minors and adults (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh). Doctoral Abstracts
International, 8202375.
Westermeyer, J. (1979). Sex roles at the Indian-majority interface in Minnesota. International
Journal of Social Psychiatry, 24,189-194.
Westermeyer, J. (1987). Cultural factors in clinical assessment./owraa/ of Consulting and Clin¬
ical Psychology, 55(4), 471-478.
Wolberg, L. (1954). The technique of psychotherapy. New York: Grune & Stratton.
Wood, M. (1979). The developmental therapy objectives: A self-instructional workbook. Austin,
TX: ProEd.
Wood, M., Combs, C., Gunn, A., & Weller, D. (1986). Developmental therapy in the classroom
(2nd ed.). Austin, TX: ProEd.
Wood, M., Davis, K., Swindle, R, & Quirk, C. (1996). Developmental therapy-developmental
teaching (3rd ed.). Austin, TX: ProEd.
Wood, M., & Long, N. (1991). Life space intervention: Talking with children and youth in crisis.
Austin, TX: ProEd.
Wubbolding, R. (1988). Usingreality therapy. New York: Harper & Row.
Zakich, R. (1975). The ungame. Anaheim, CA: Ungame Company.
Zakich, R., & Monroe, S. (1979). Reunion. Anaheim, CA: Ungame Company.
ПЗДАТЕПЬСКПЙ ДОМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
КНИЖНОГО
БИЗНЕСА!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПИТЕР» ПРИГЛАШАЕТ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КОМПЬЮТЕРНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС НЕ ТОЛЬКО
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
Россия, г. Москва
Представительство издательства «Питер»,
м. «Калужская», ул. Бутлерова, д. 176,
оф. 207 и 240, тел./факс: (095) 777-54-67.
E-mail: sales@piter.msk.ru
Россия, г. Санкт-Петербург
Представительство издательства «Питер»,
м. «Электросила», ул. Благодатная, д. 67в,
тел.: (812) 327-93-37,387-54-65.
E-mail: sales@piter.com
Россия, г. Воронеж
Представительство издательства «Питер».
ООО «Питер-Центр», ул. Ленинградская, д. 136,
тел.: (0732)496886.
Украина, г. Харьков
Представительство издательства «Питер»,
тел.: (0572) 14-96-09, факс: (0572) 28-20-04,
28-20-05. Почтовый адрес: 61093,
г. Харьков, а/я 9130.
E-mail: piter@tender.kharkov.ua
Украина, г. Киев
Филиал Харьковского представительства
издательства «Питер», тел./факс: (044)
490-35-68, 490-35-69. Адрес для писем: 04116,
г. Киев-116, а/я 2. Фактический адрес: 04073,
г. Киев, пр. Красных Казаков, д. 6, корп. 1.
E-mail: office@piter-press.kiev.ua
Беларусь, г. Минск
Представительство издательства «Питер»,
тел./факс: (37517) 239-36-56. Почтовый адрес:
220100, г. Минск, ул. Куйбышева, 75.
ООО «Питер М», книжный магазин «Эврика».
E-mail: piterbel@tut.by
КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РАБОТАЕТ
С КЛИЕНТАМИ ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПИТЕР».
Ищем зарубежных партнеров или посредников, имеющих выход на зарубежный рынок.
^ Телефон для связи: (812) 327-93-37.
E-mail: grigorjan@piter.com
Редакции компьютерной, психологической, экономической, юридической, медицинской,
^ учебной и популярной (оздоровительной и психологической) литературы Издательского
дома «Питер» приглашают к сотрудничеству авторов.
Обращайтесь по телефонам: Санкт-Петербург — тел.: (812) 327-13-11,
Москва - тел.: (095) 234-38-15, 777-54-67.
В Практикум по психотерапии ■ Практику» по рсиготерзт'*
Ю9Ш№^М|
r-,v.^/u г») ггн»отрратп*1*
и IKI ШАл системная -—~а
п£&щт под„ерЖ™яая
КАЯ ТРУ
ГКОВАЯ ПСИХ
РШШ
психотерапия
Чарлза Шефера и Лоис Кэри
подростков