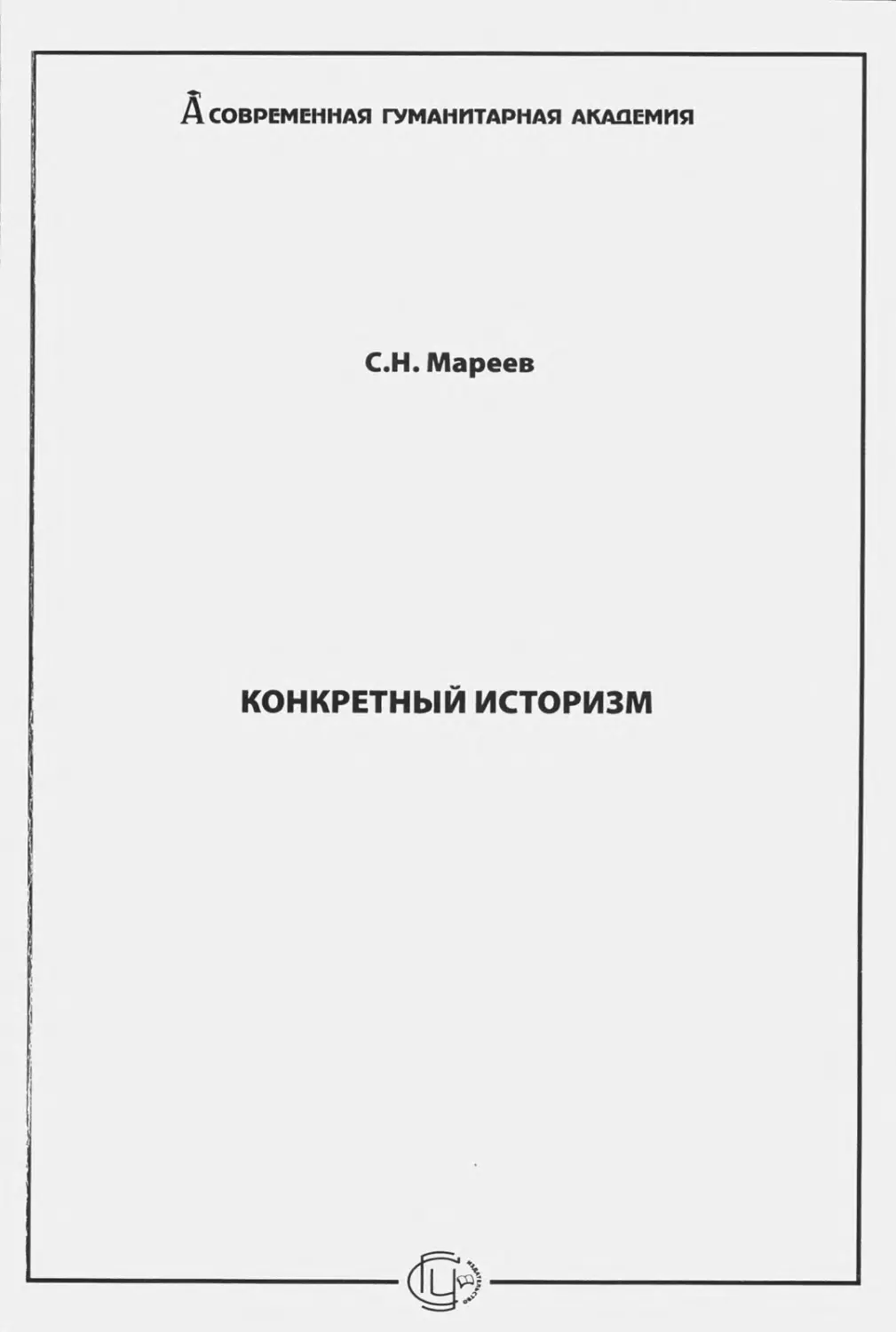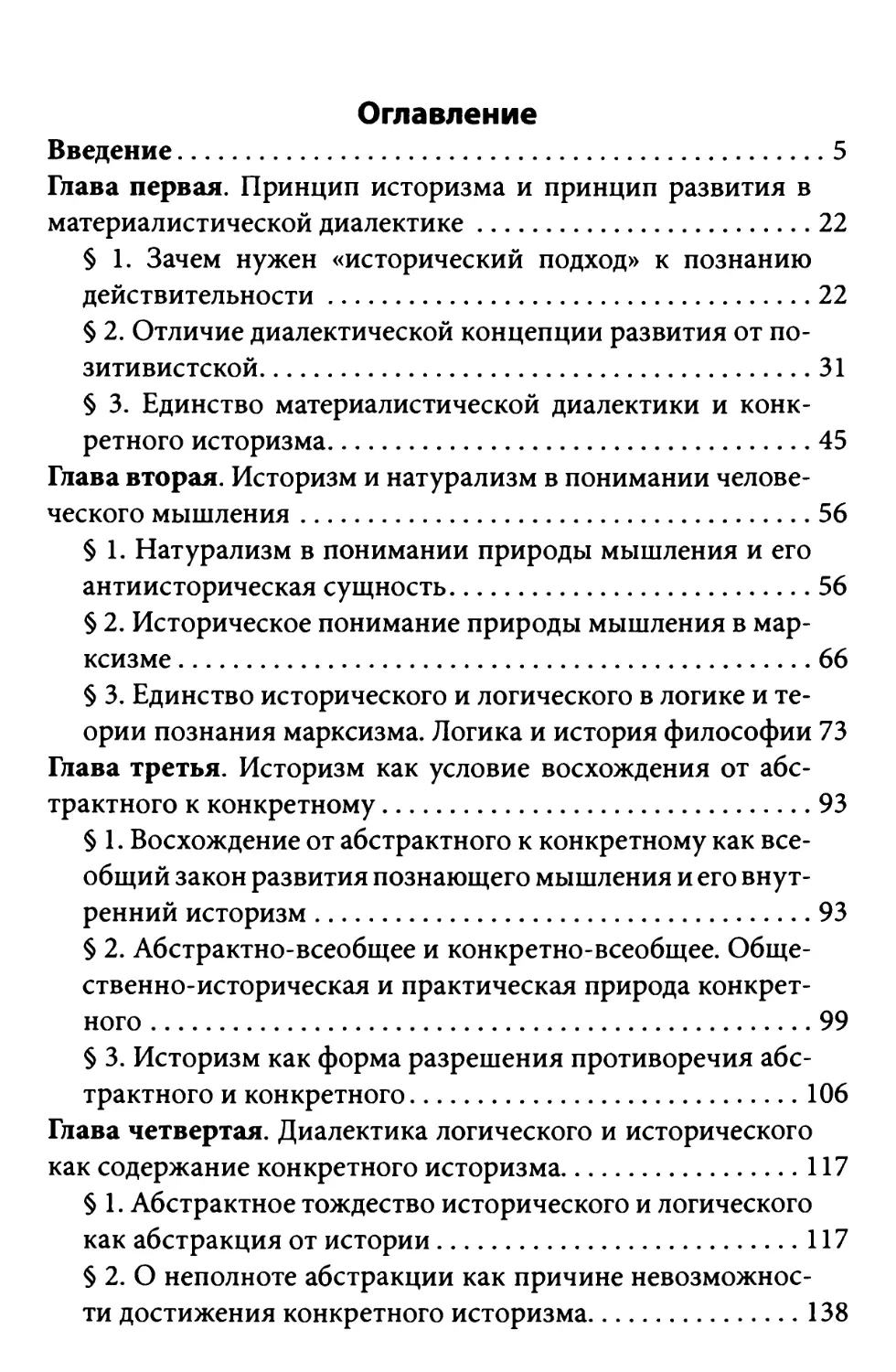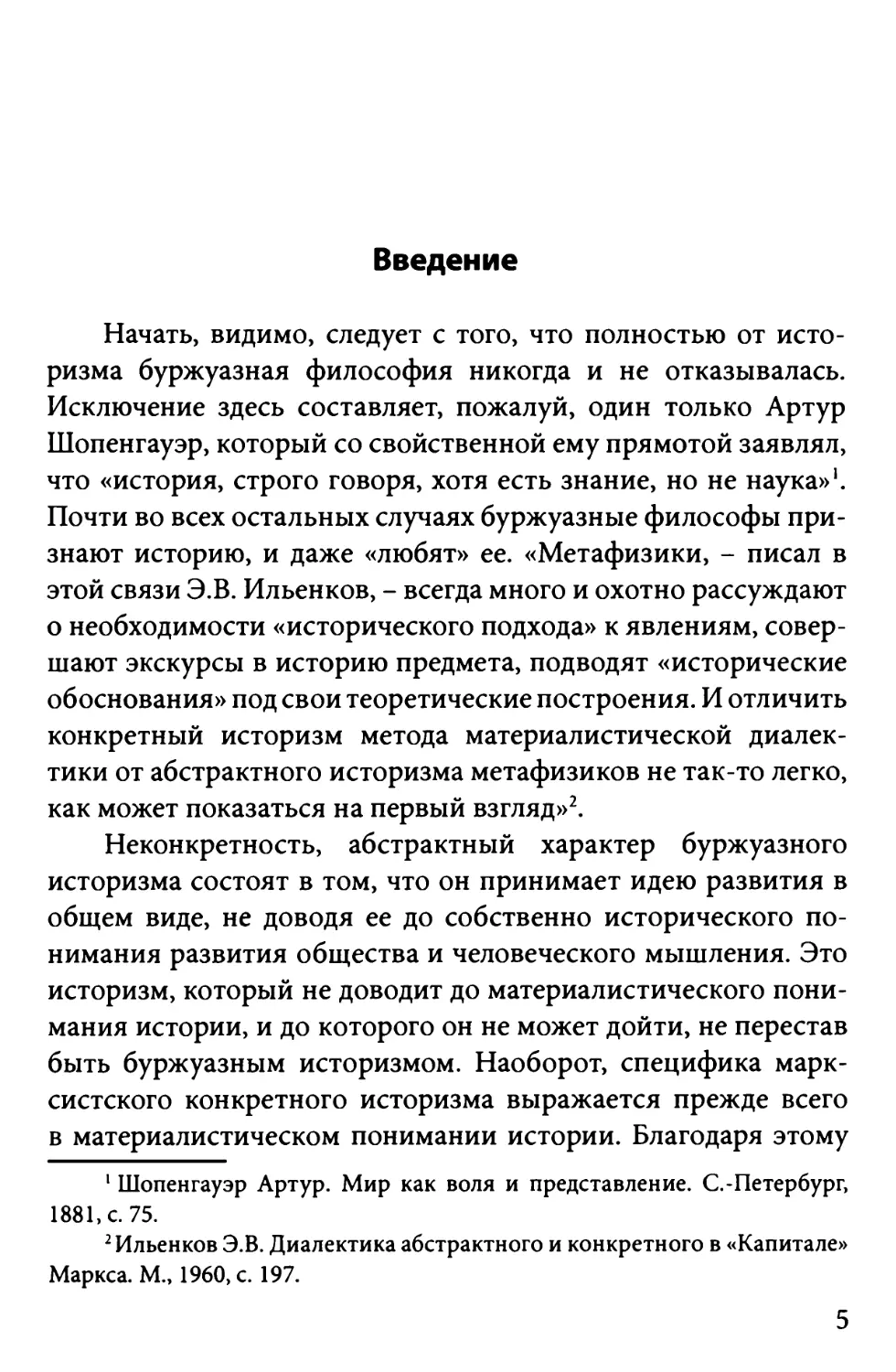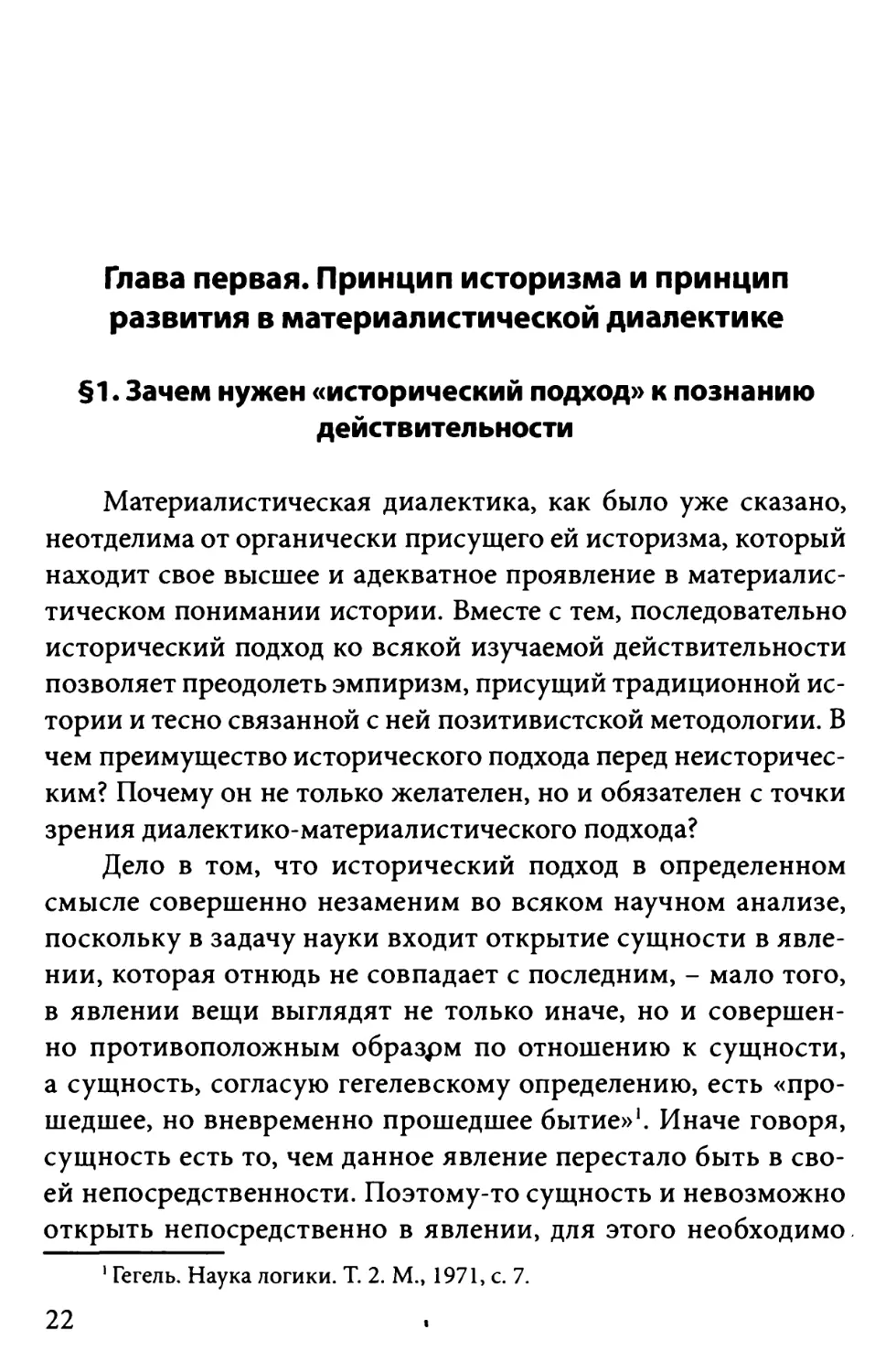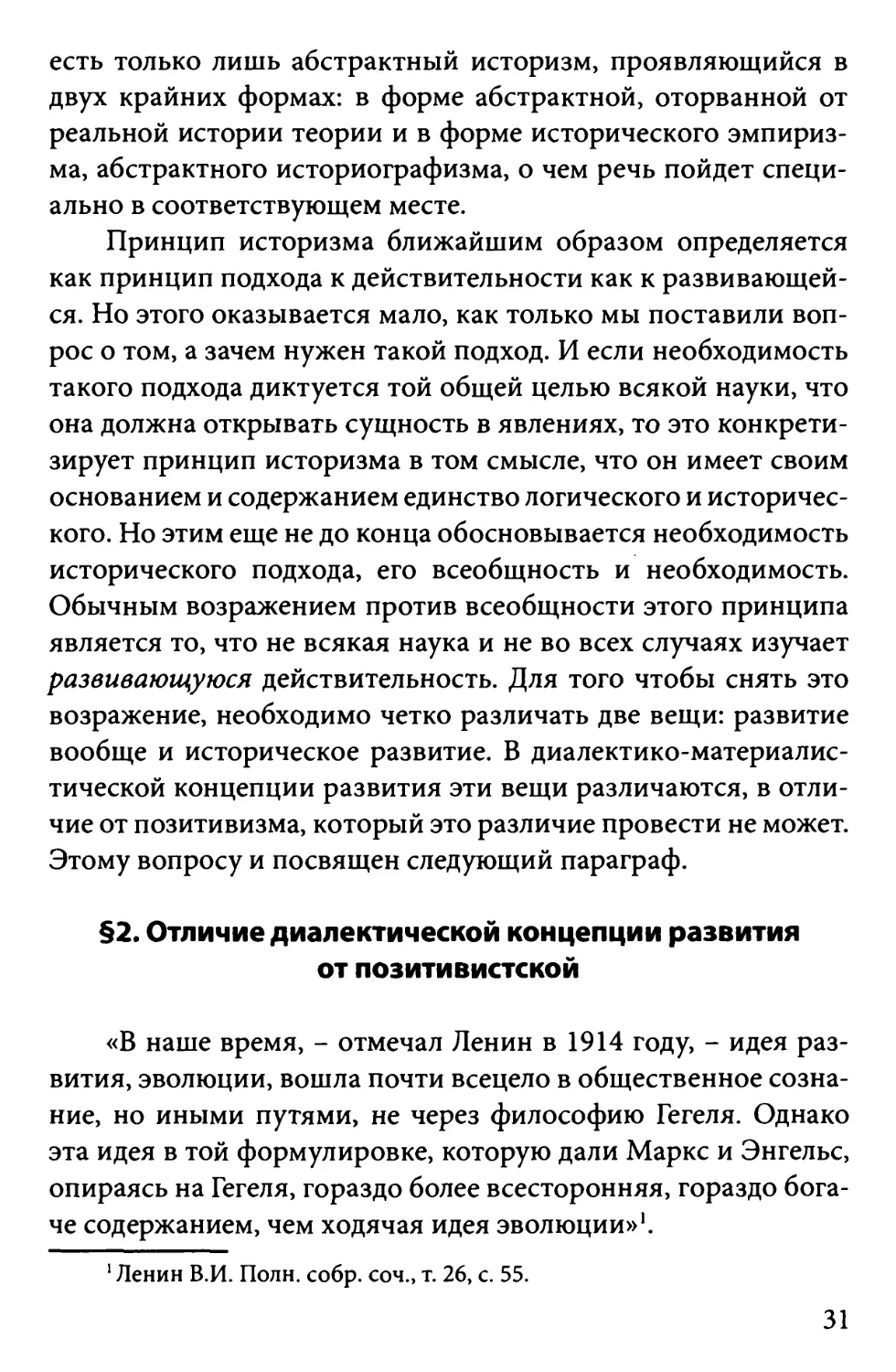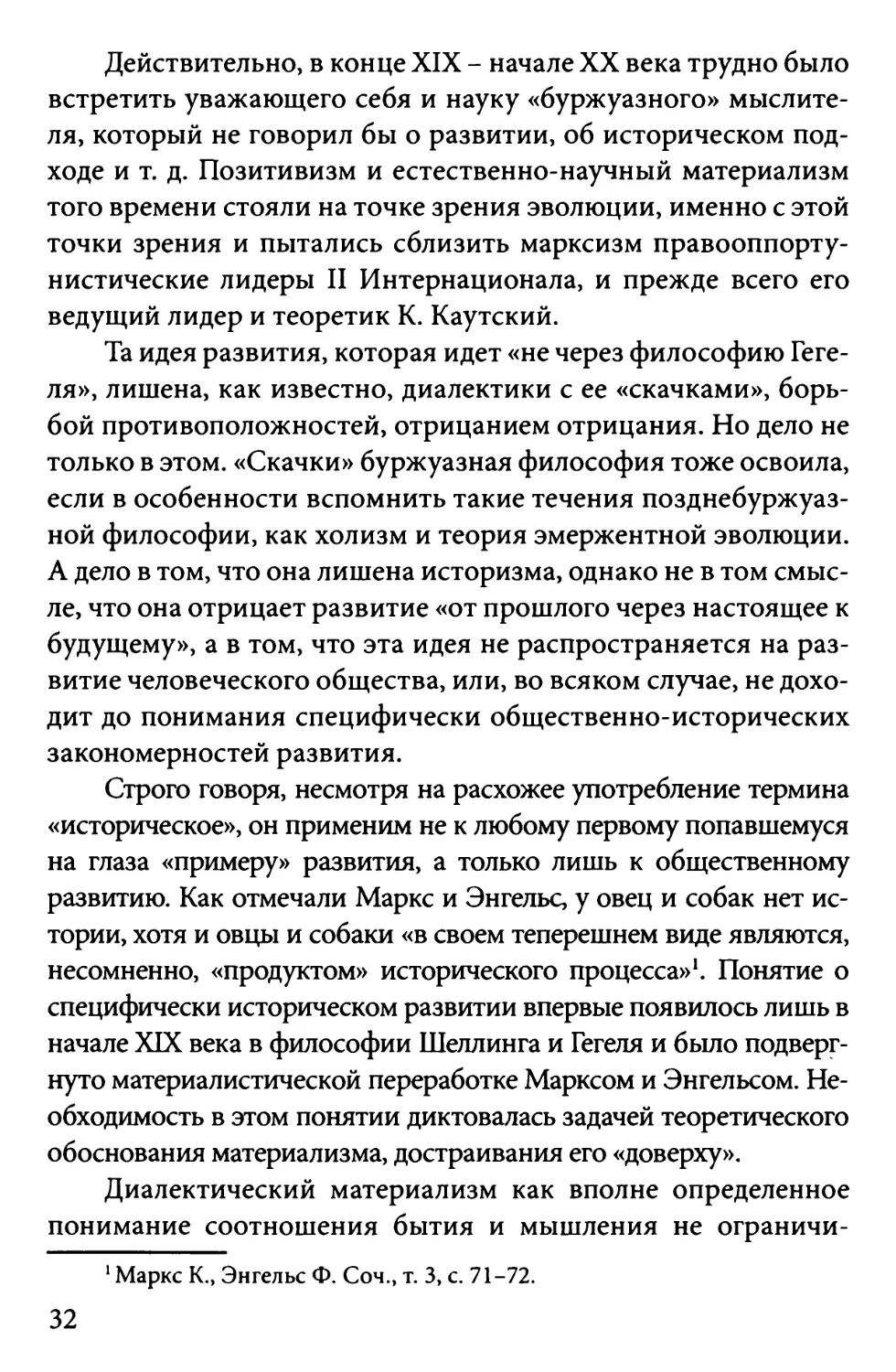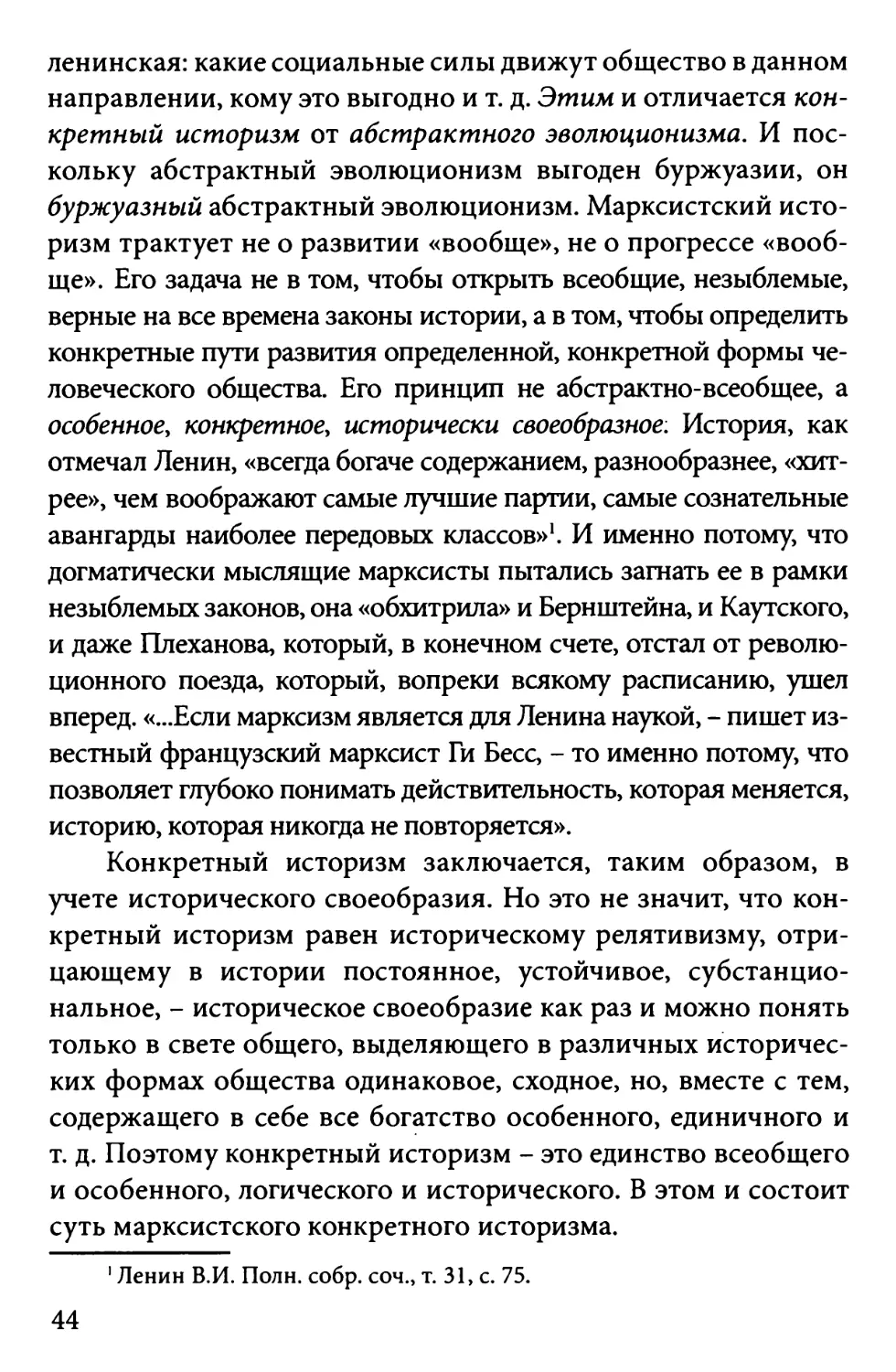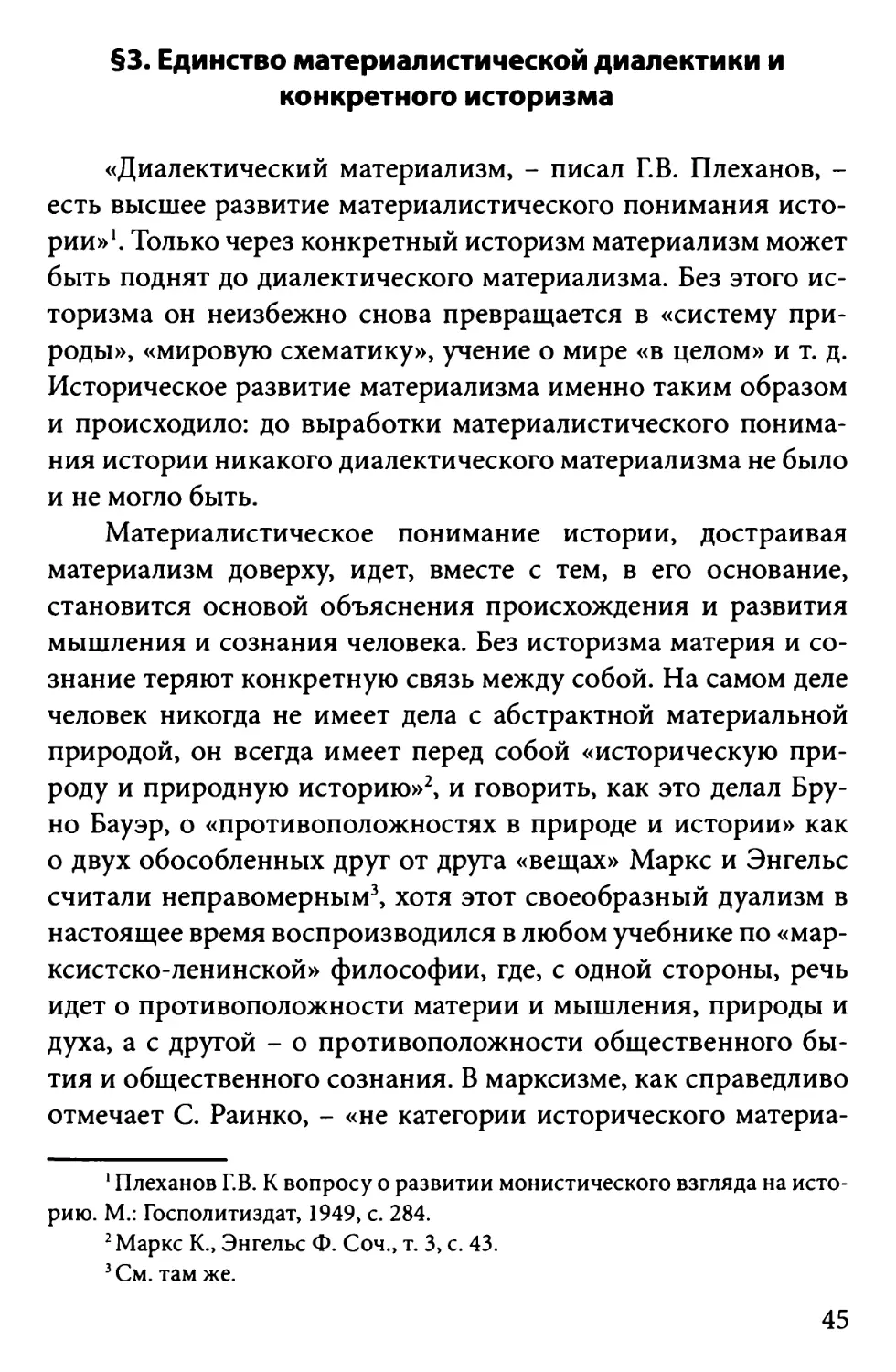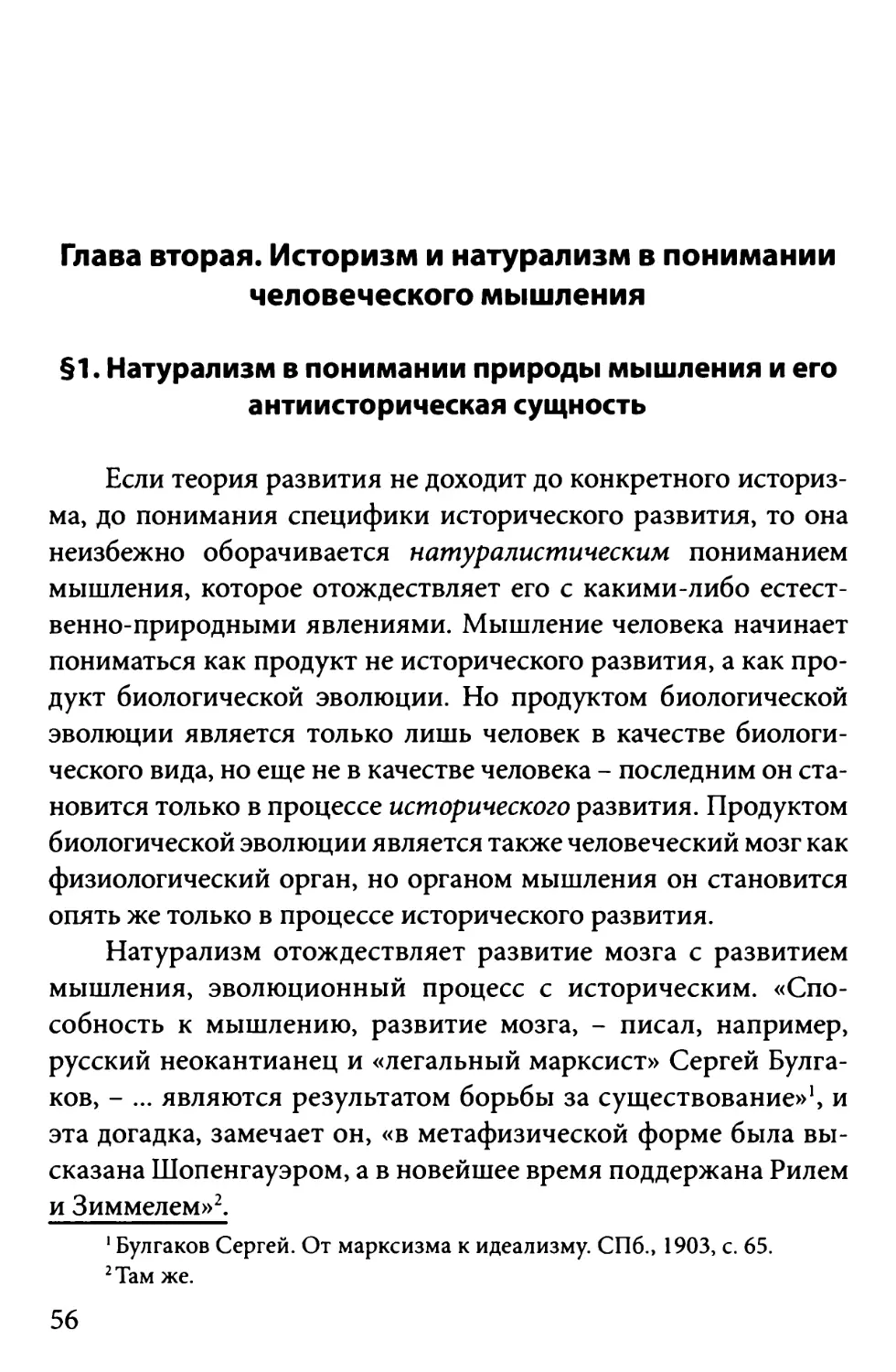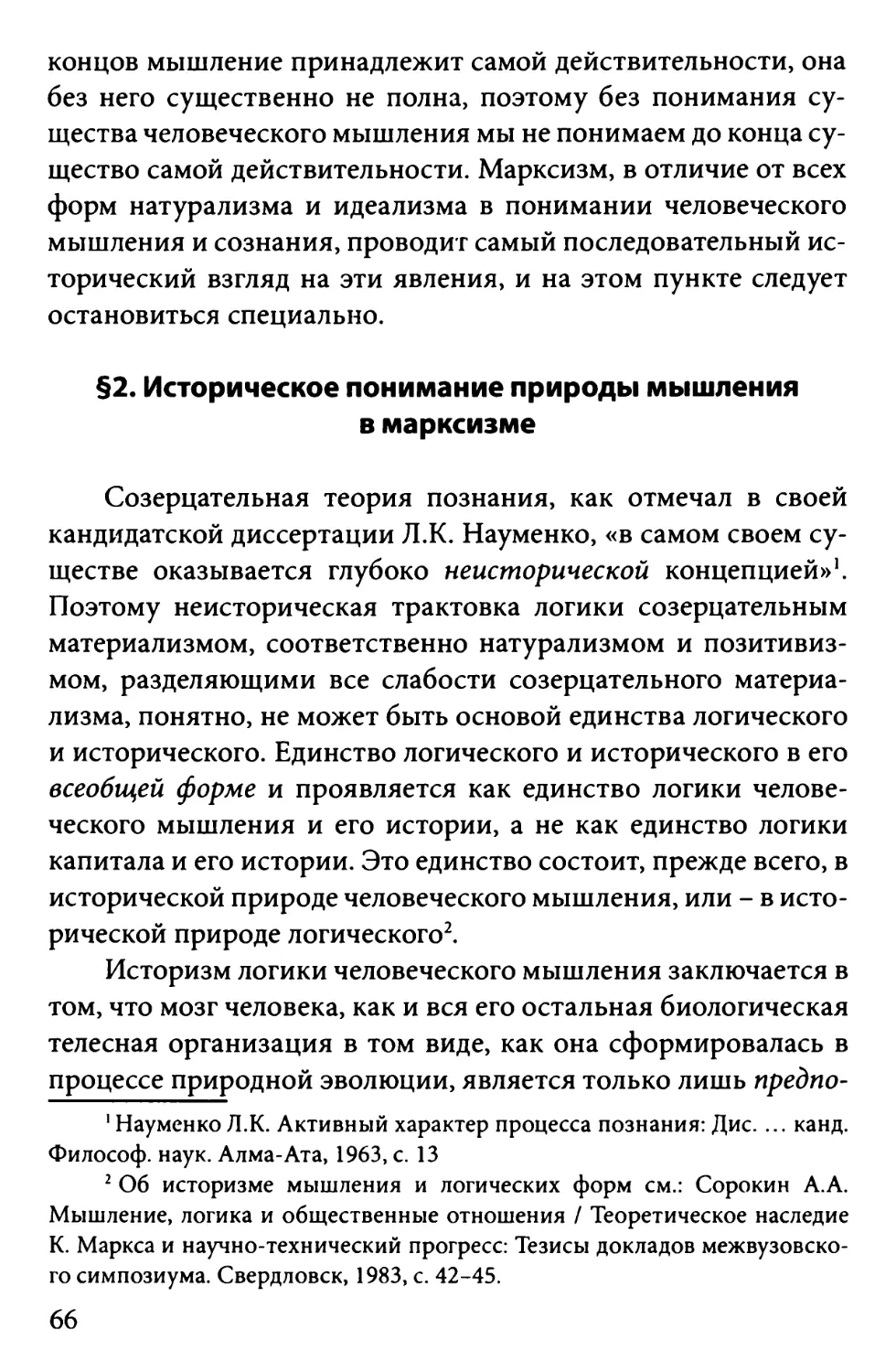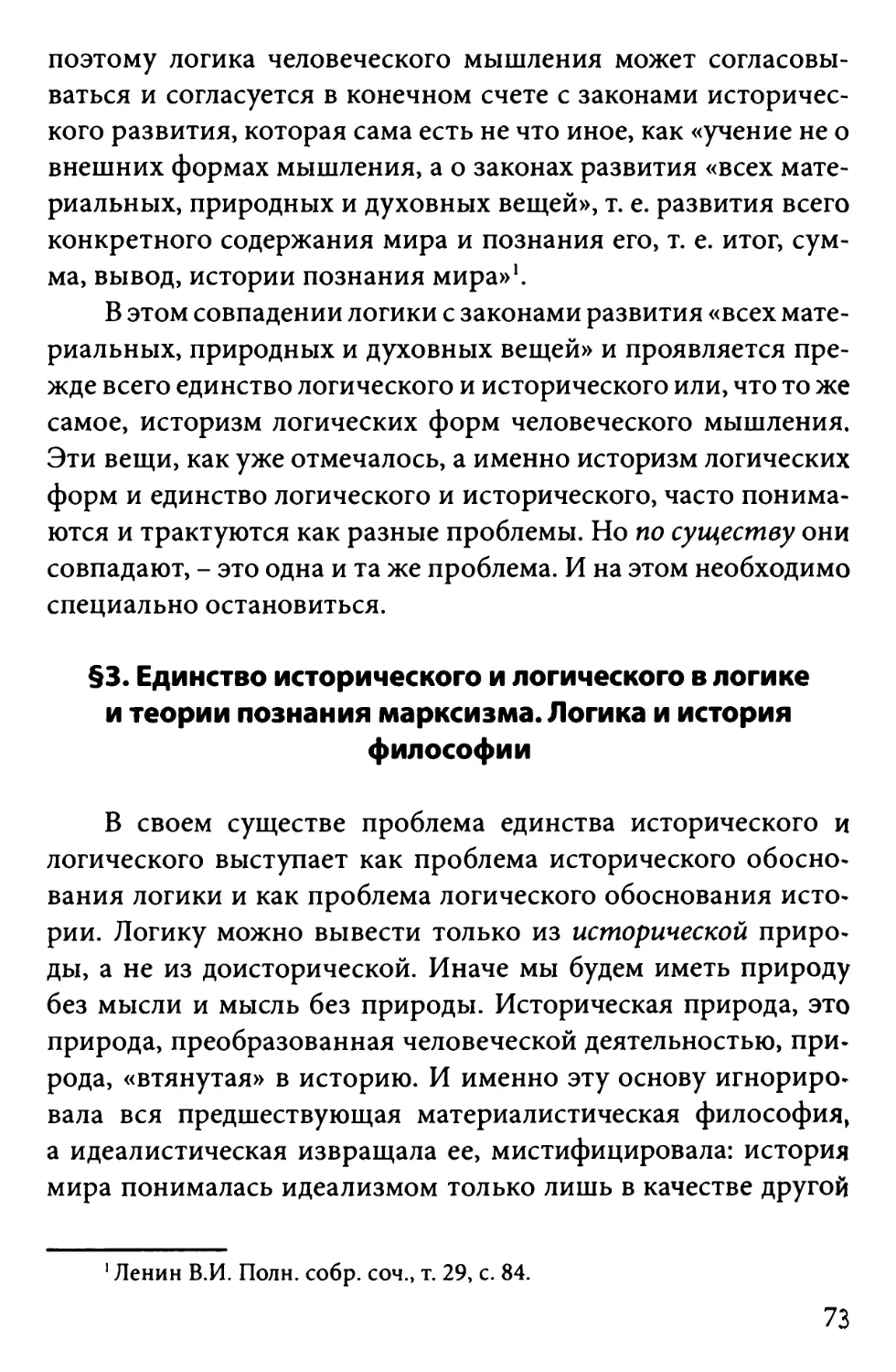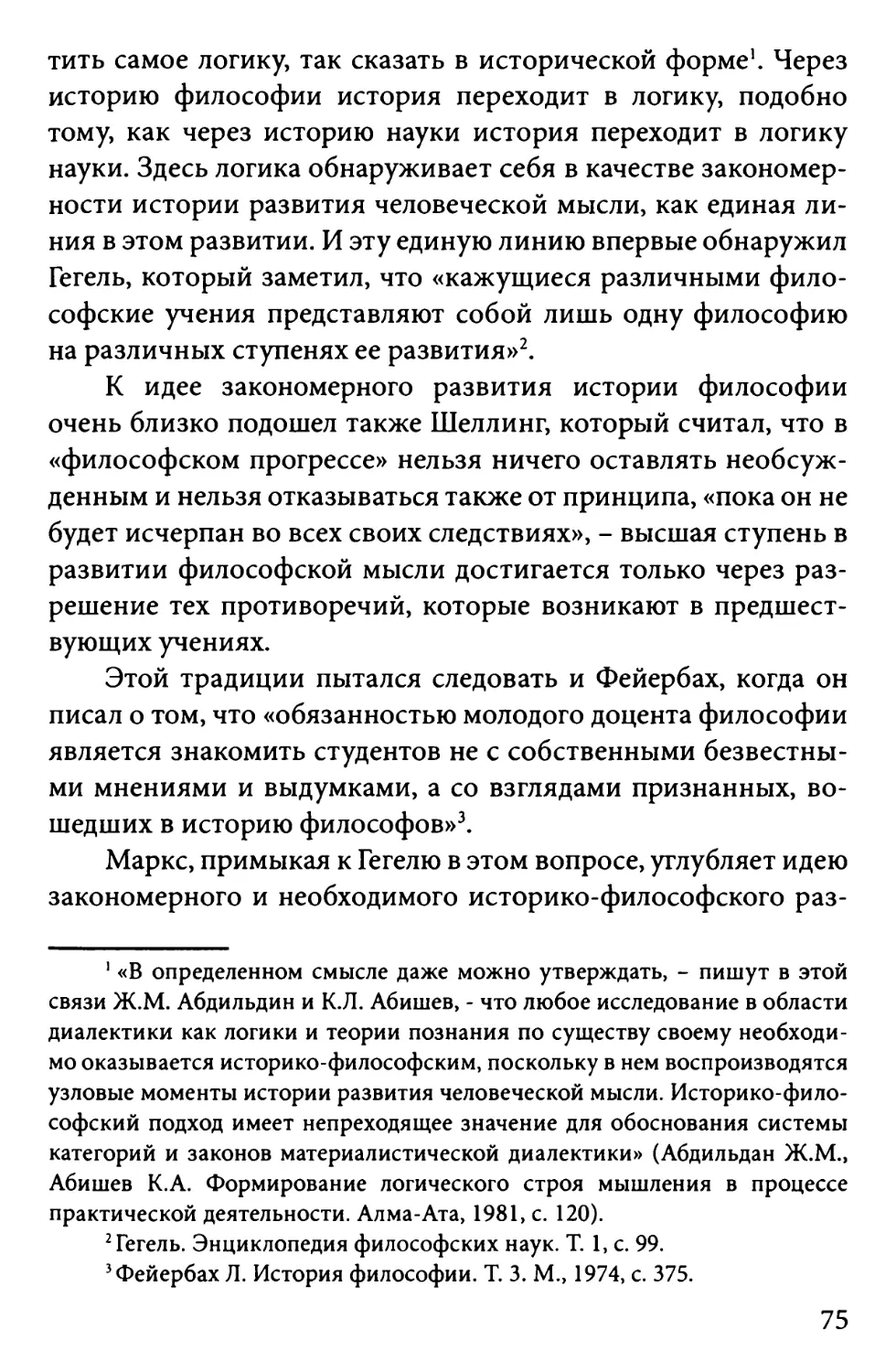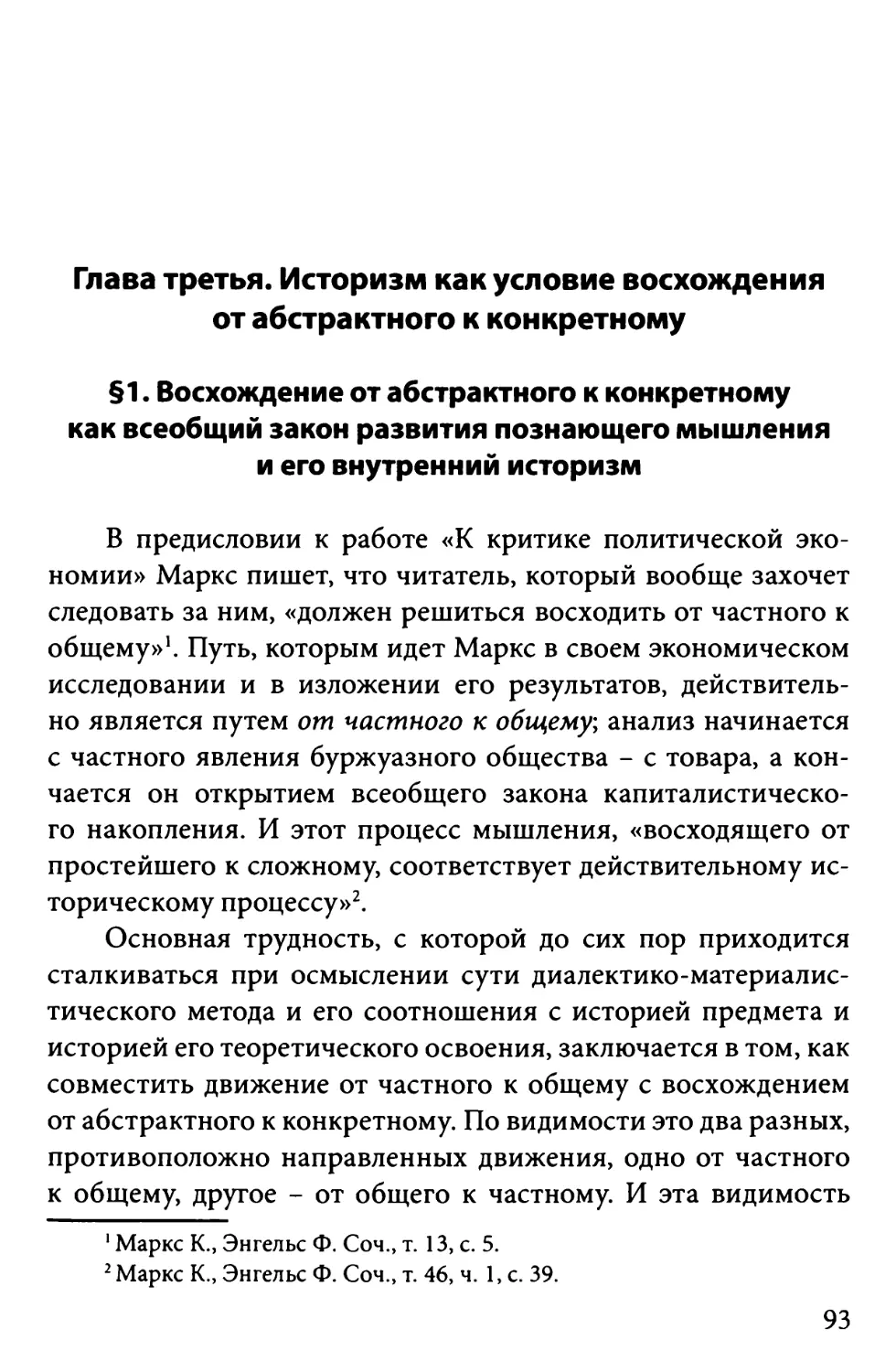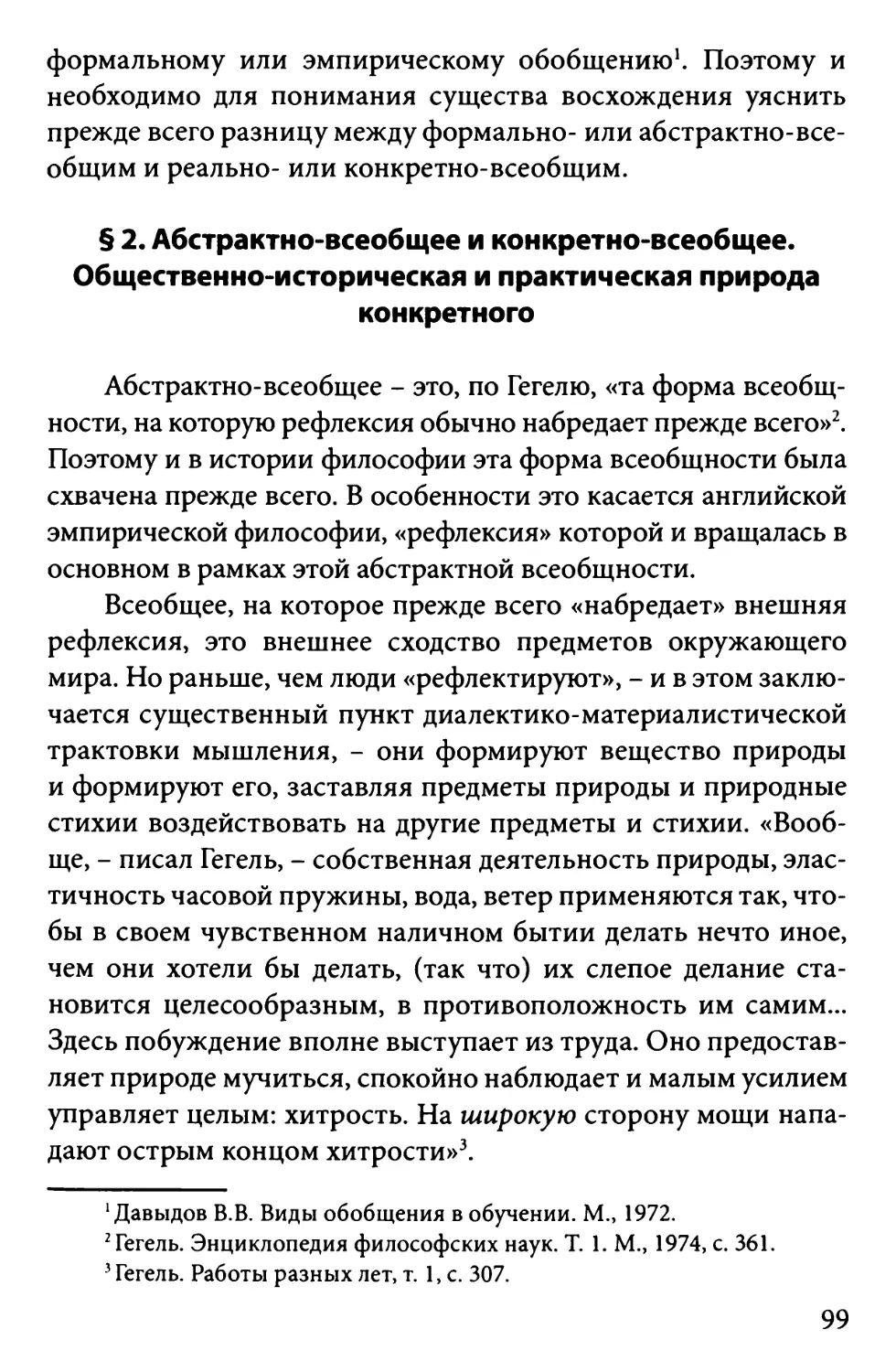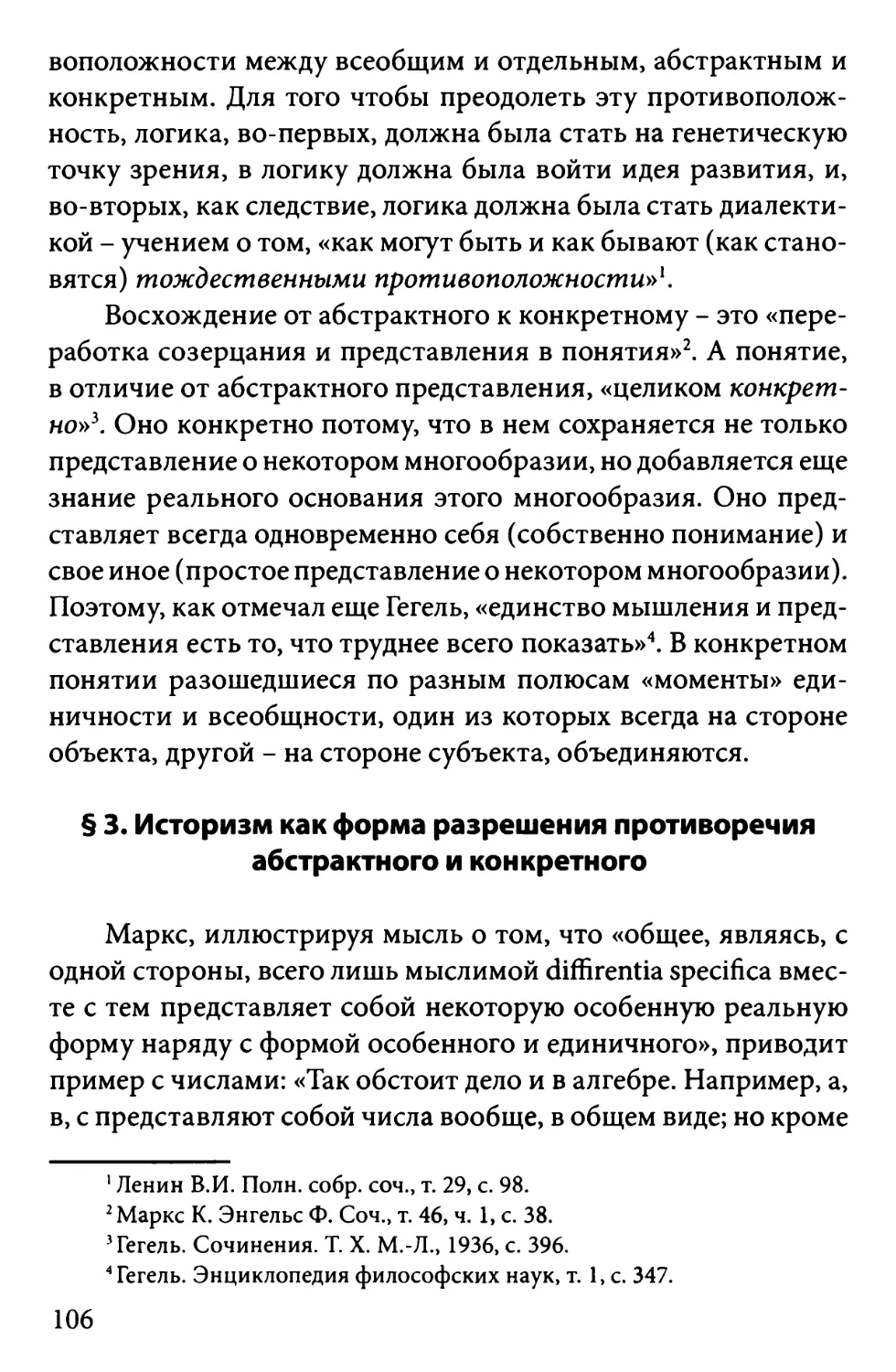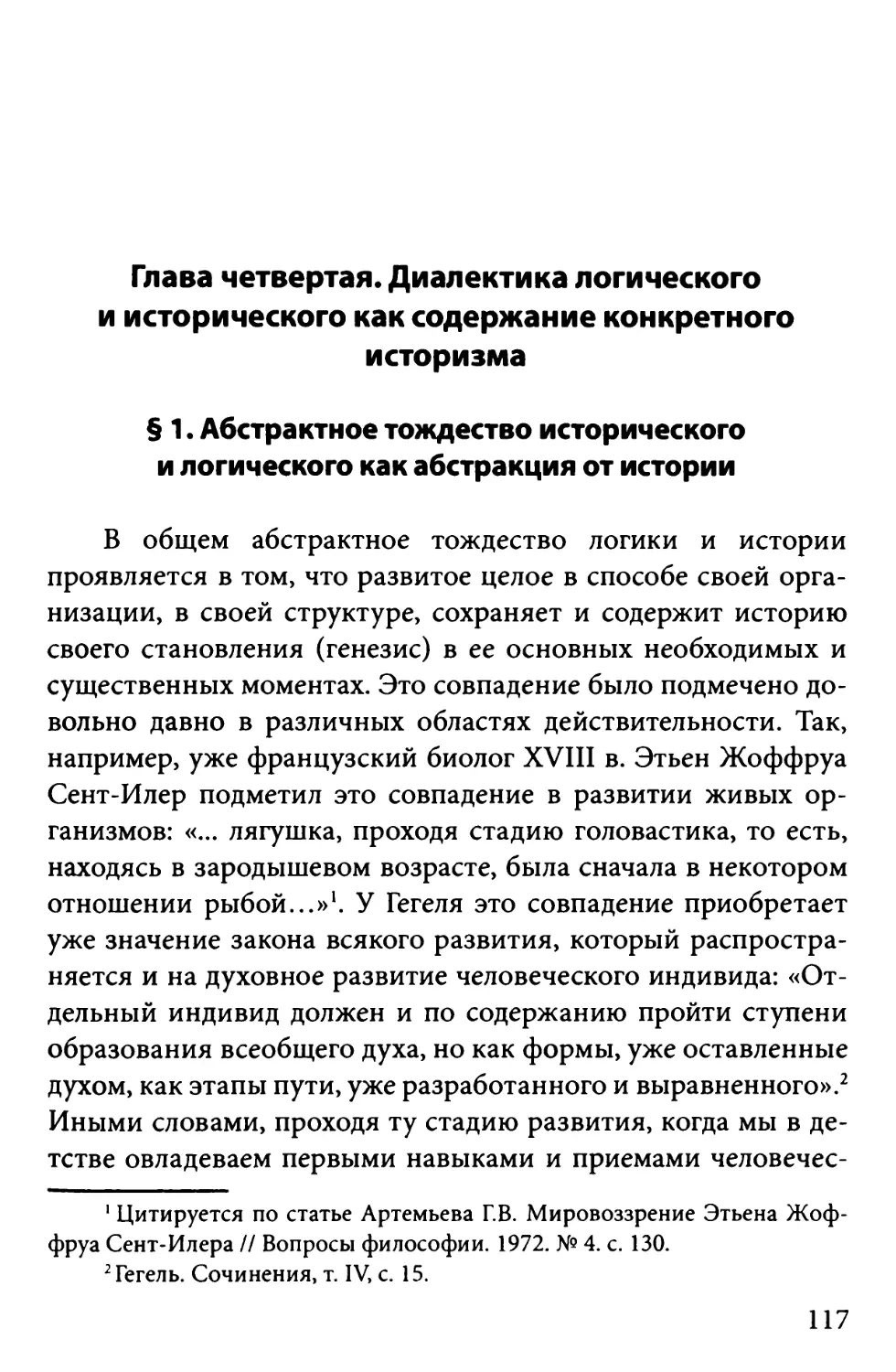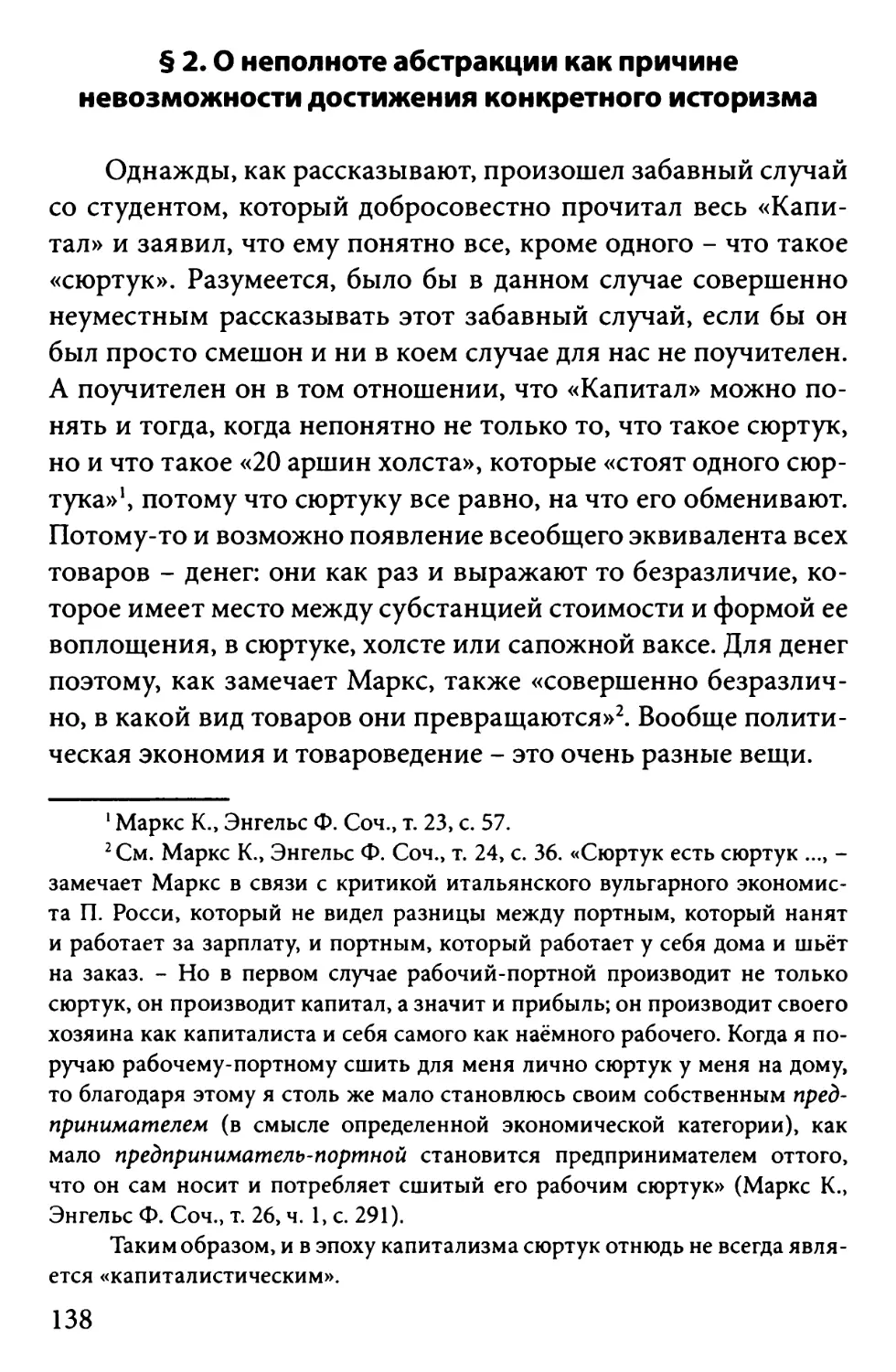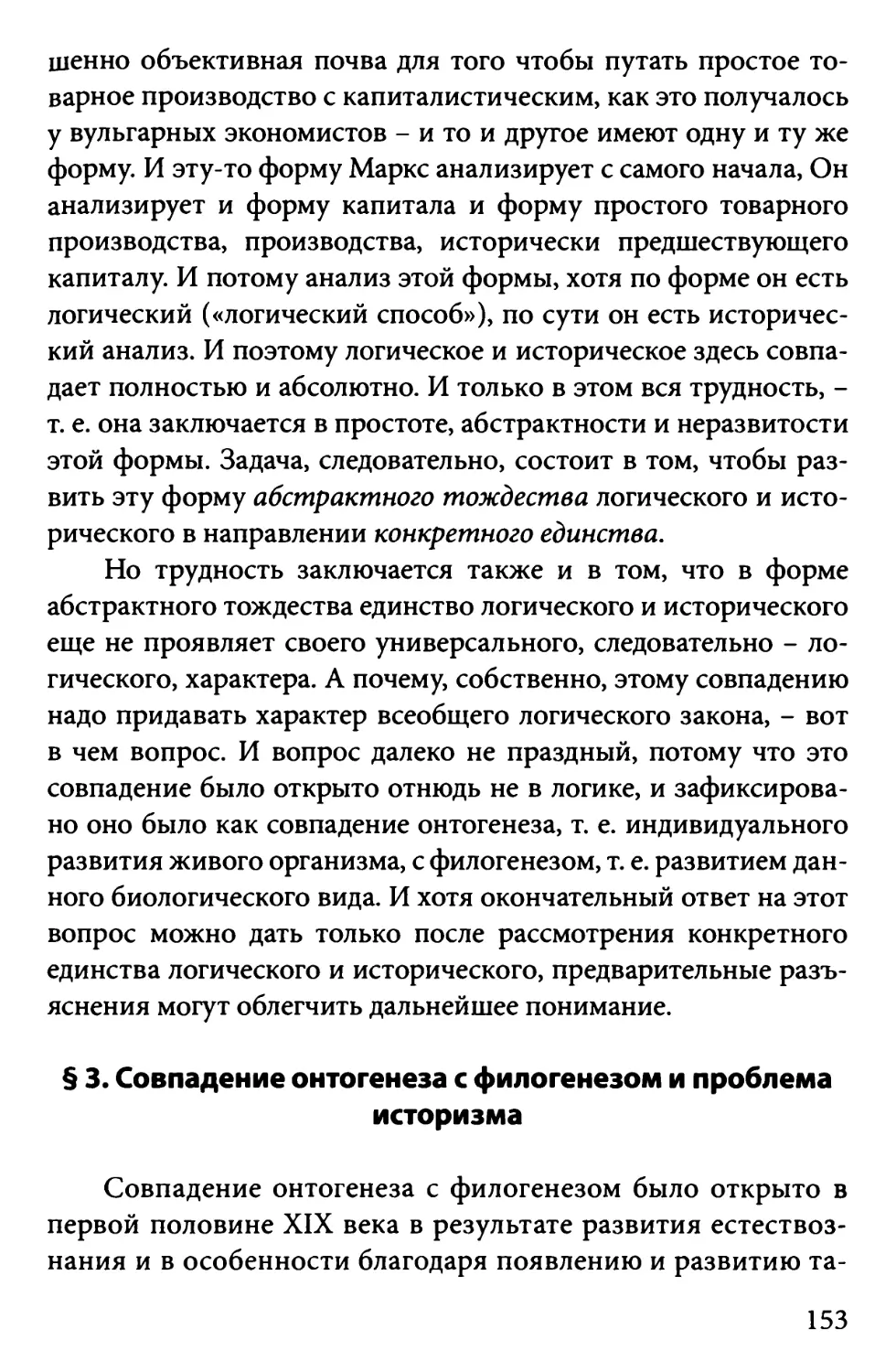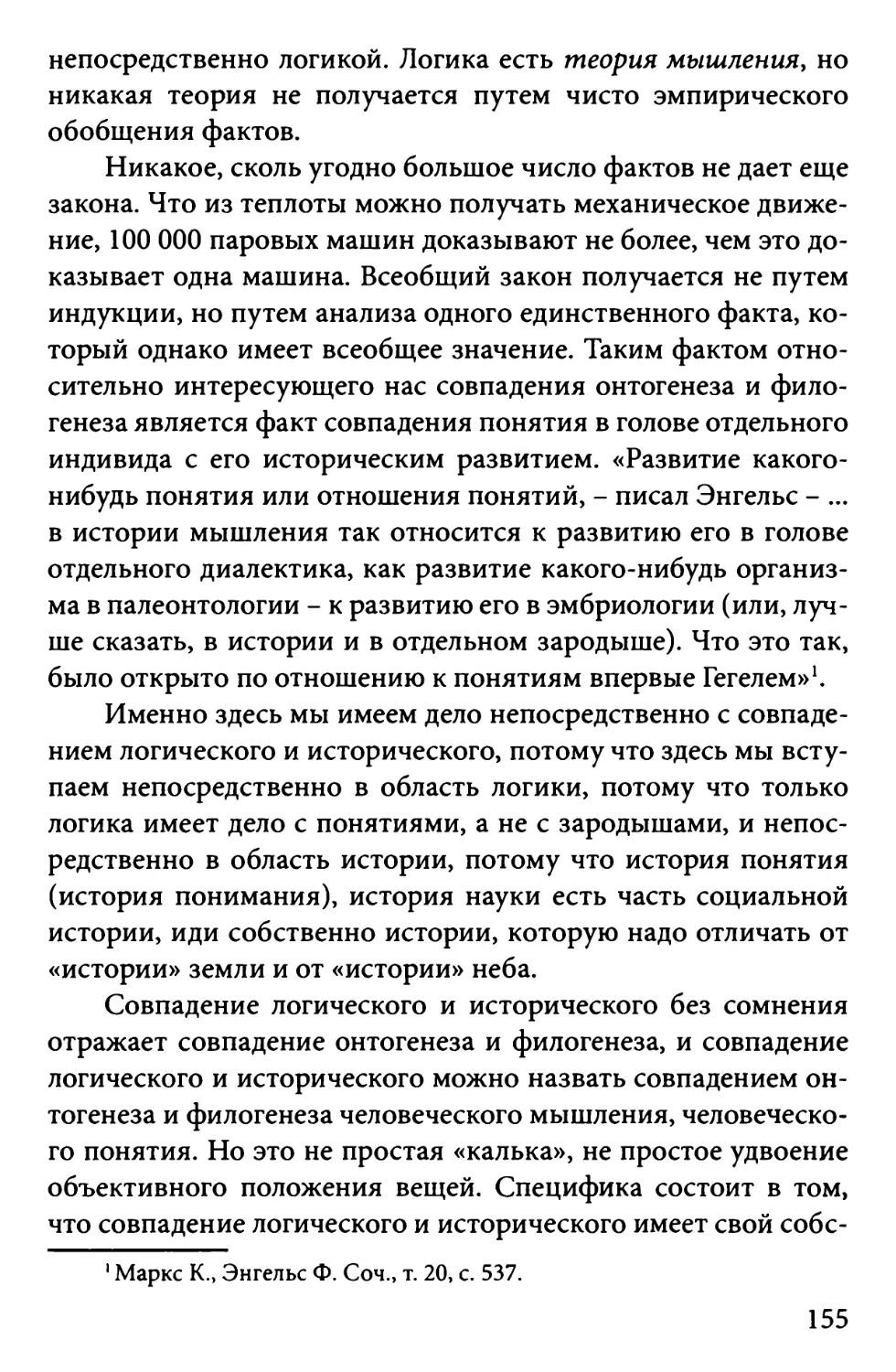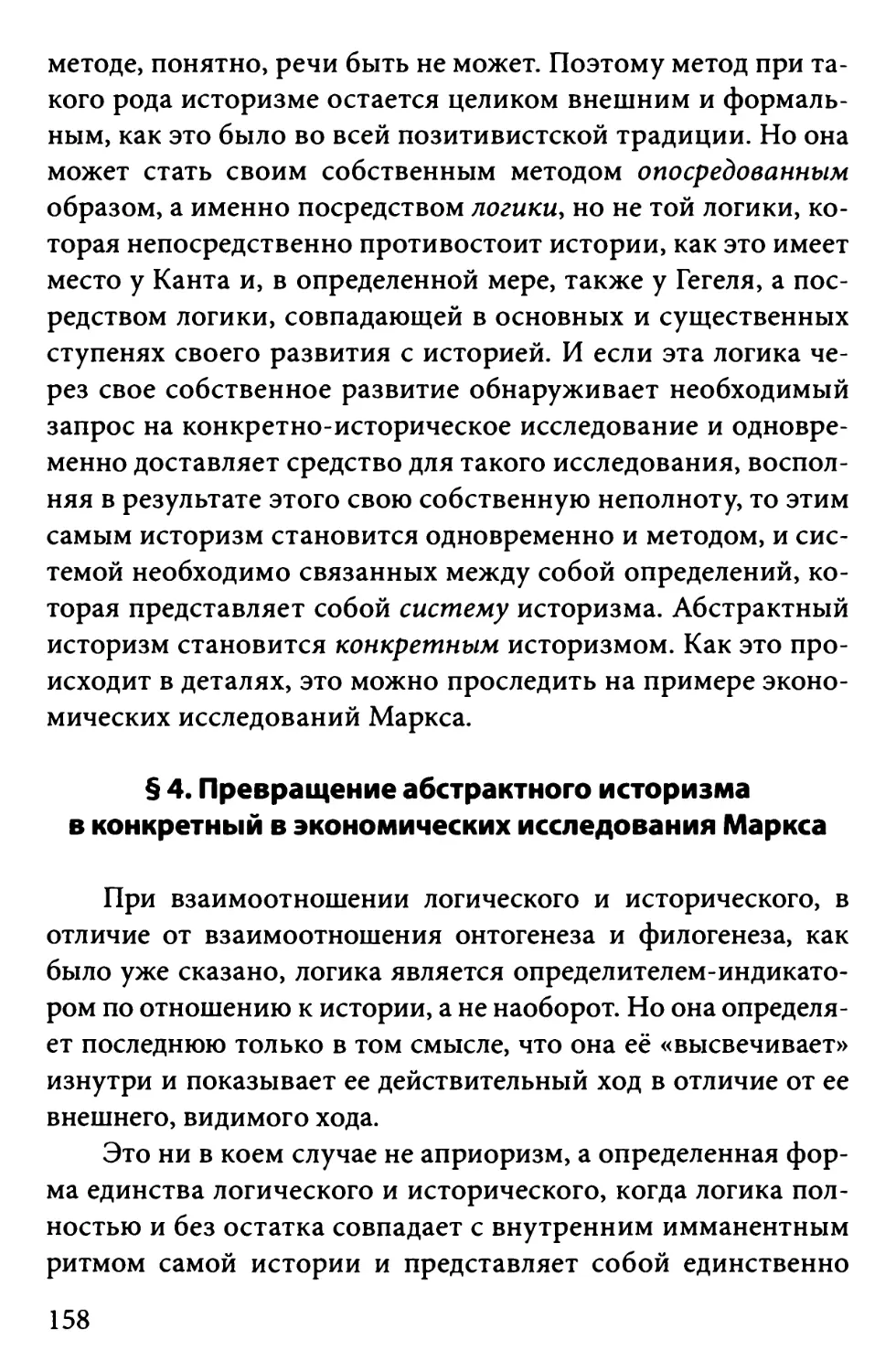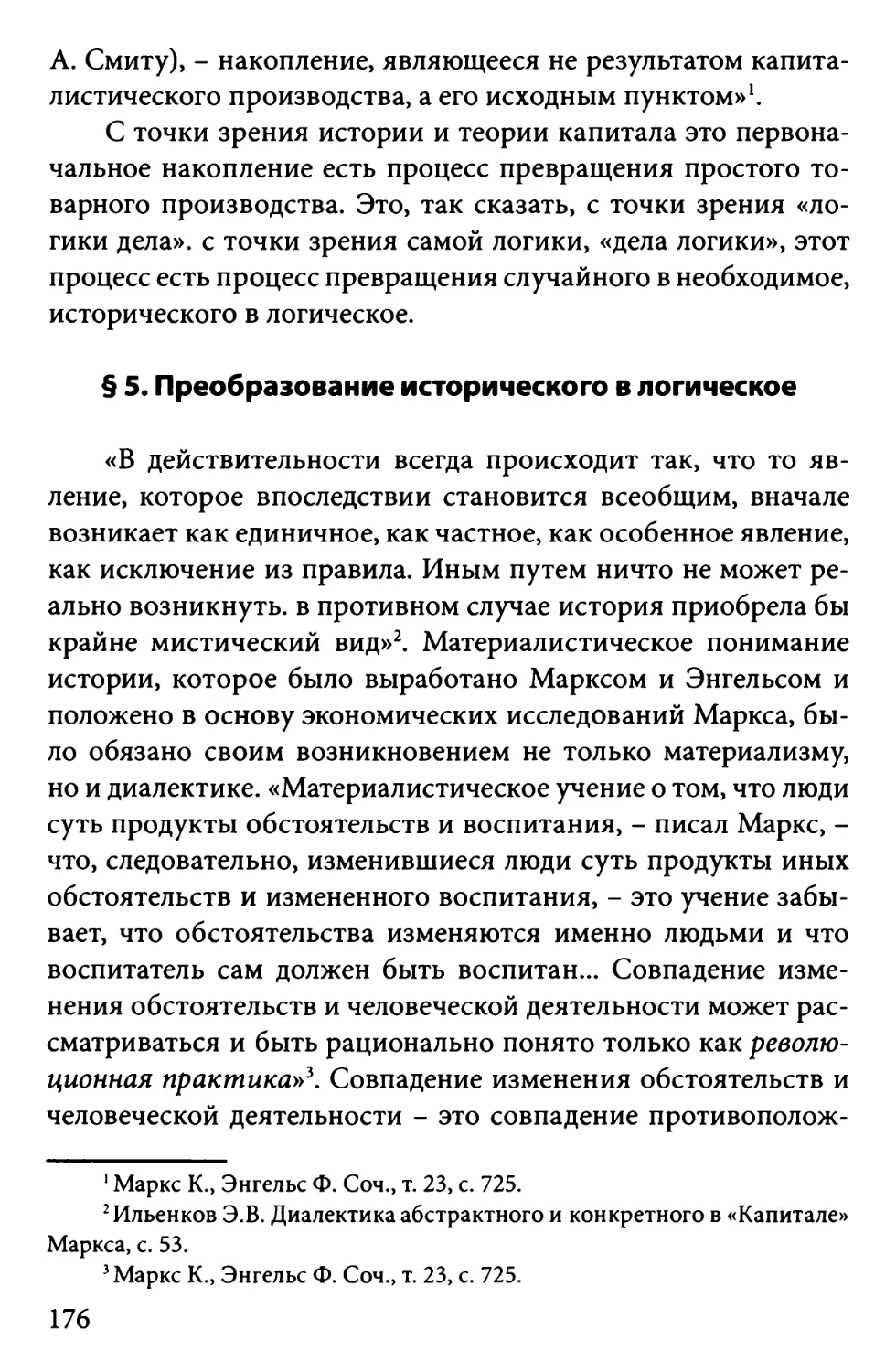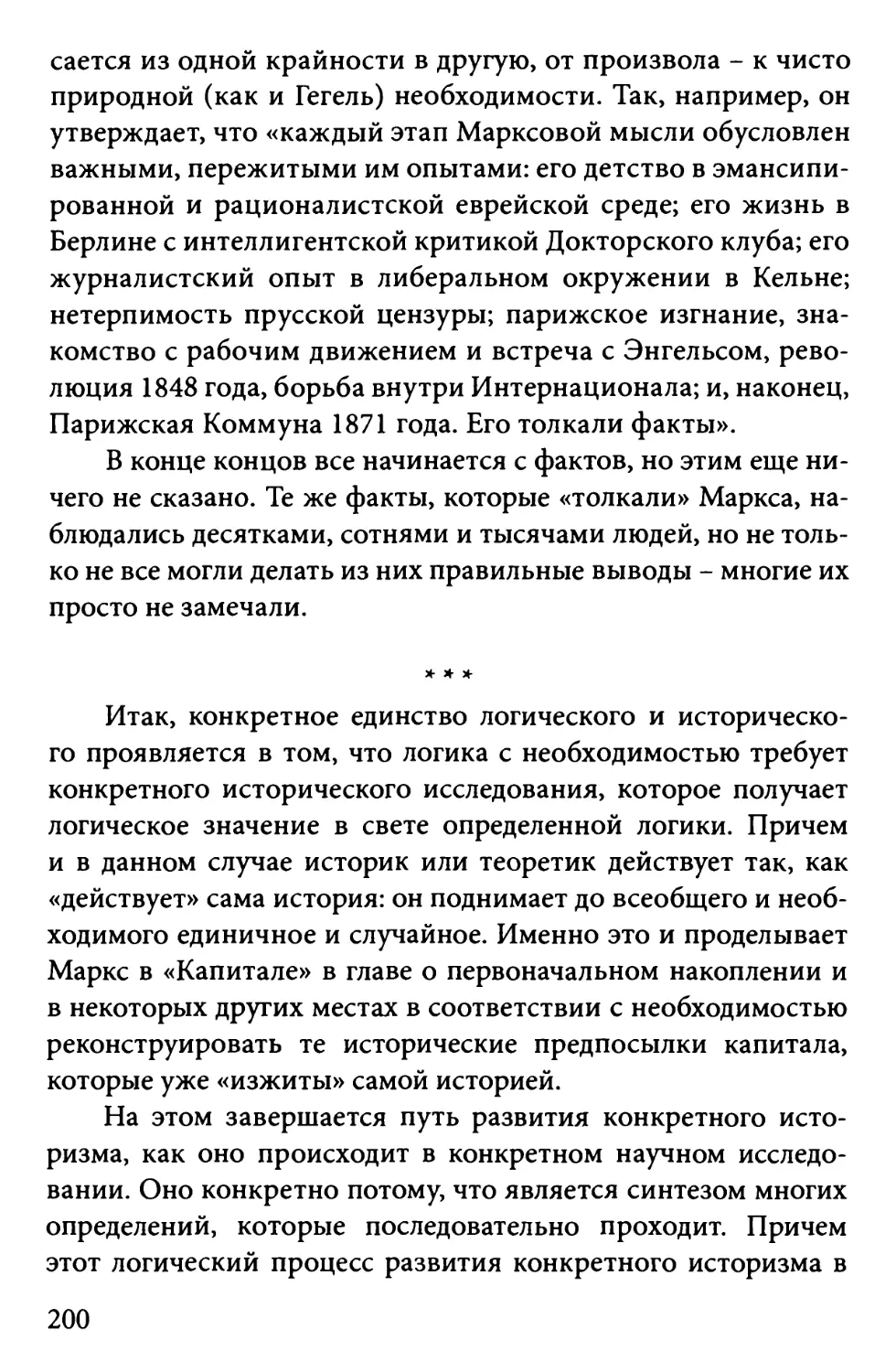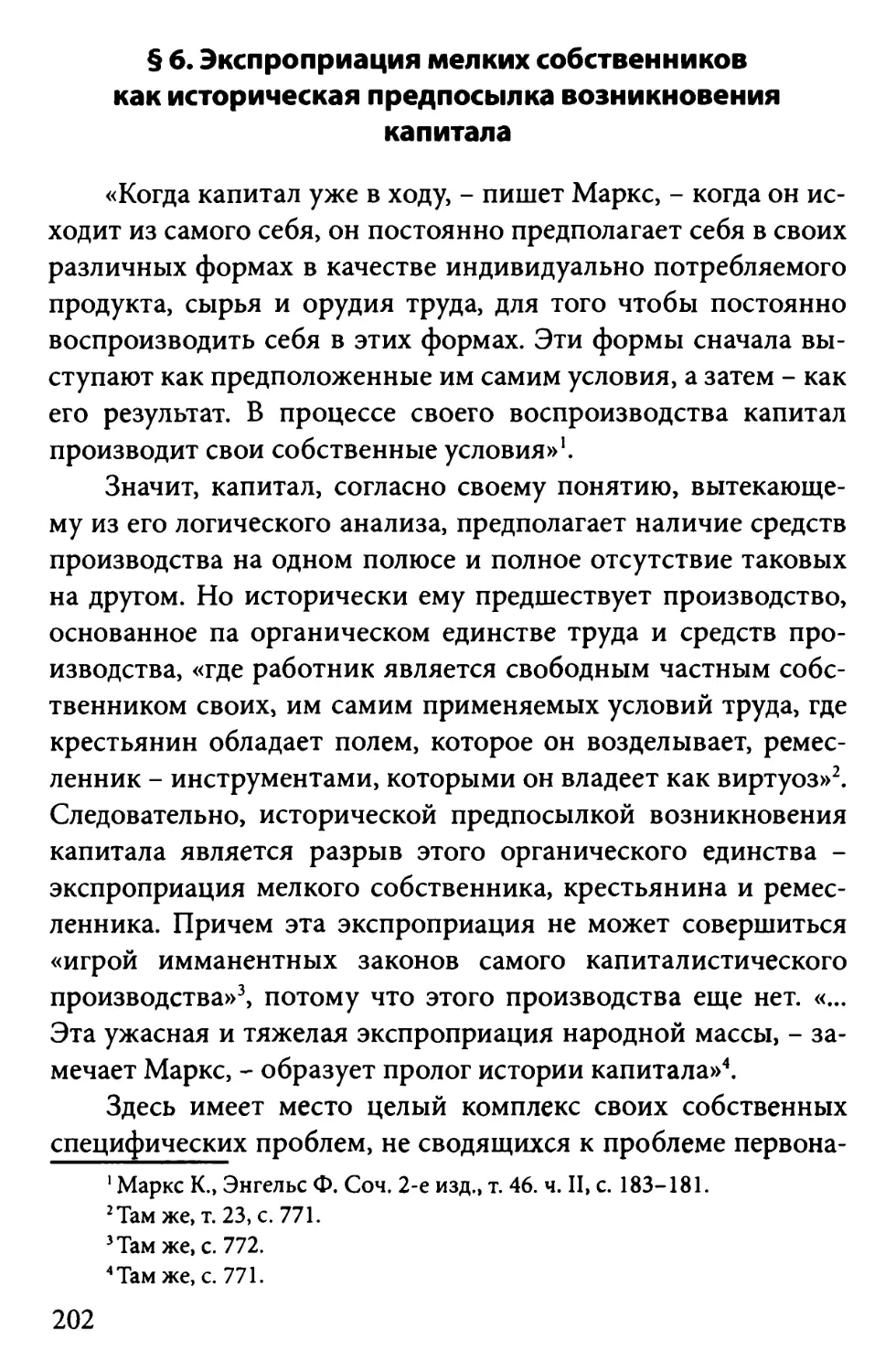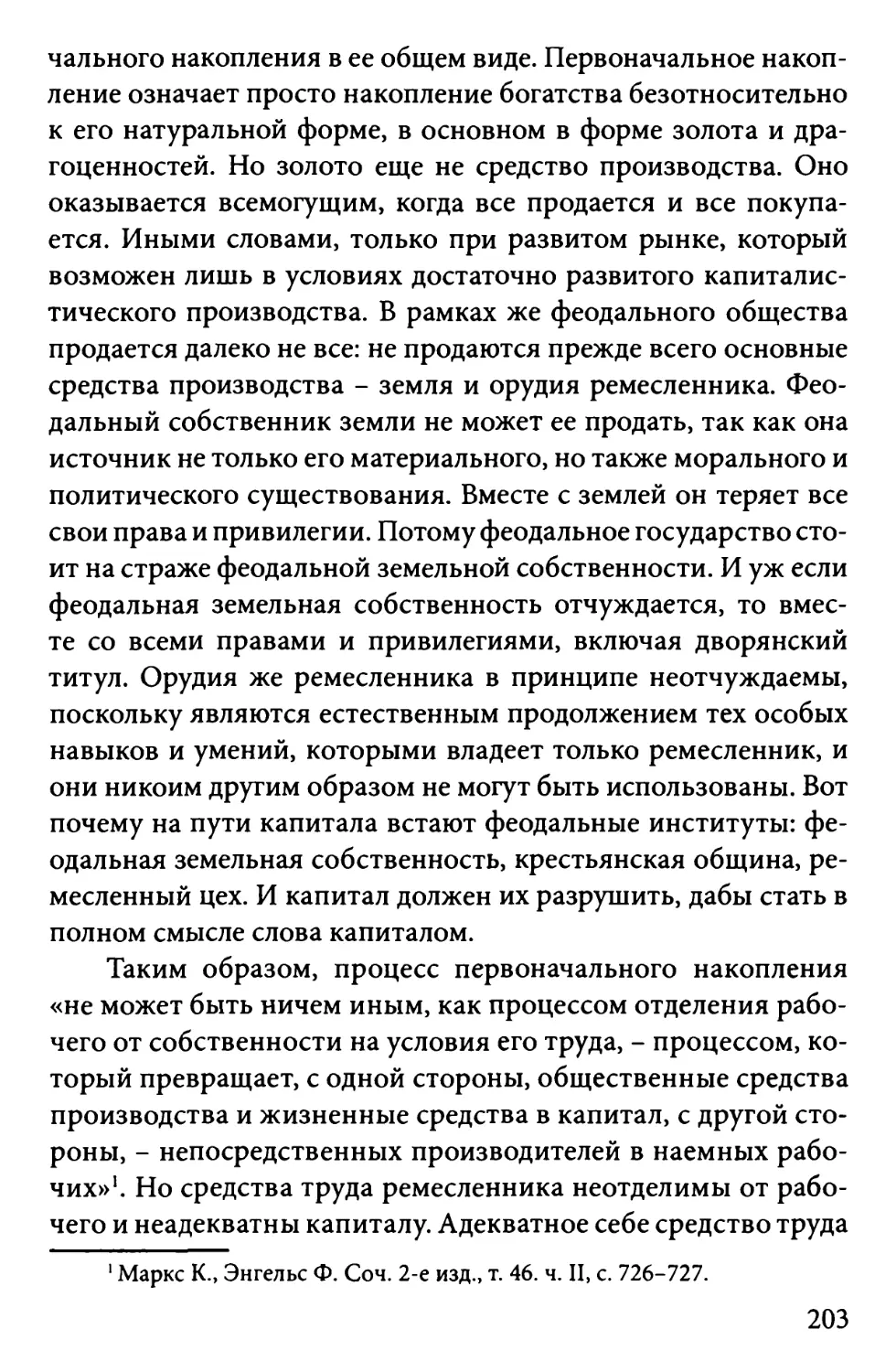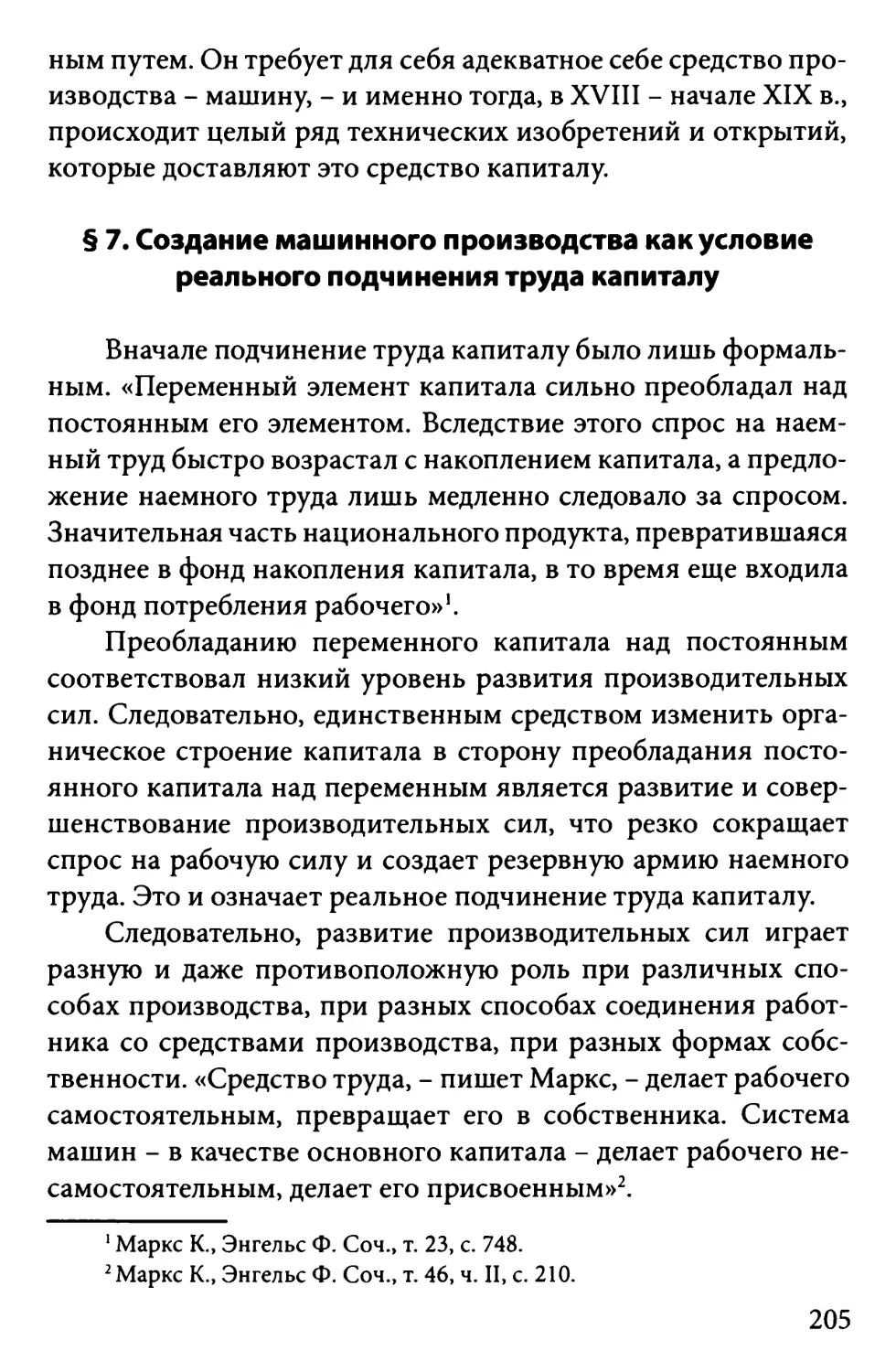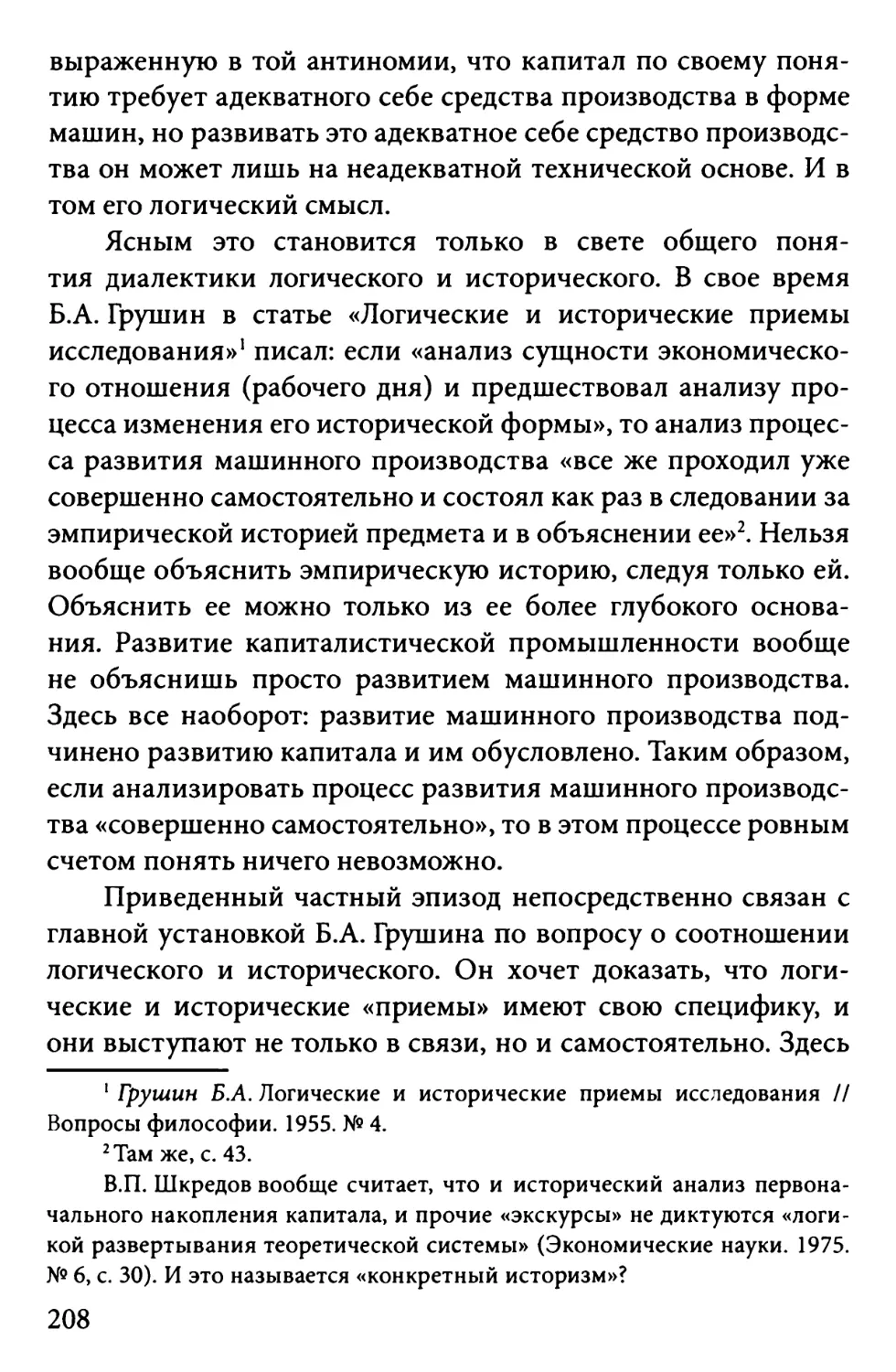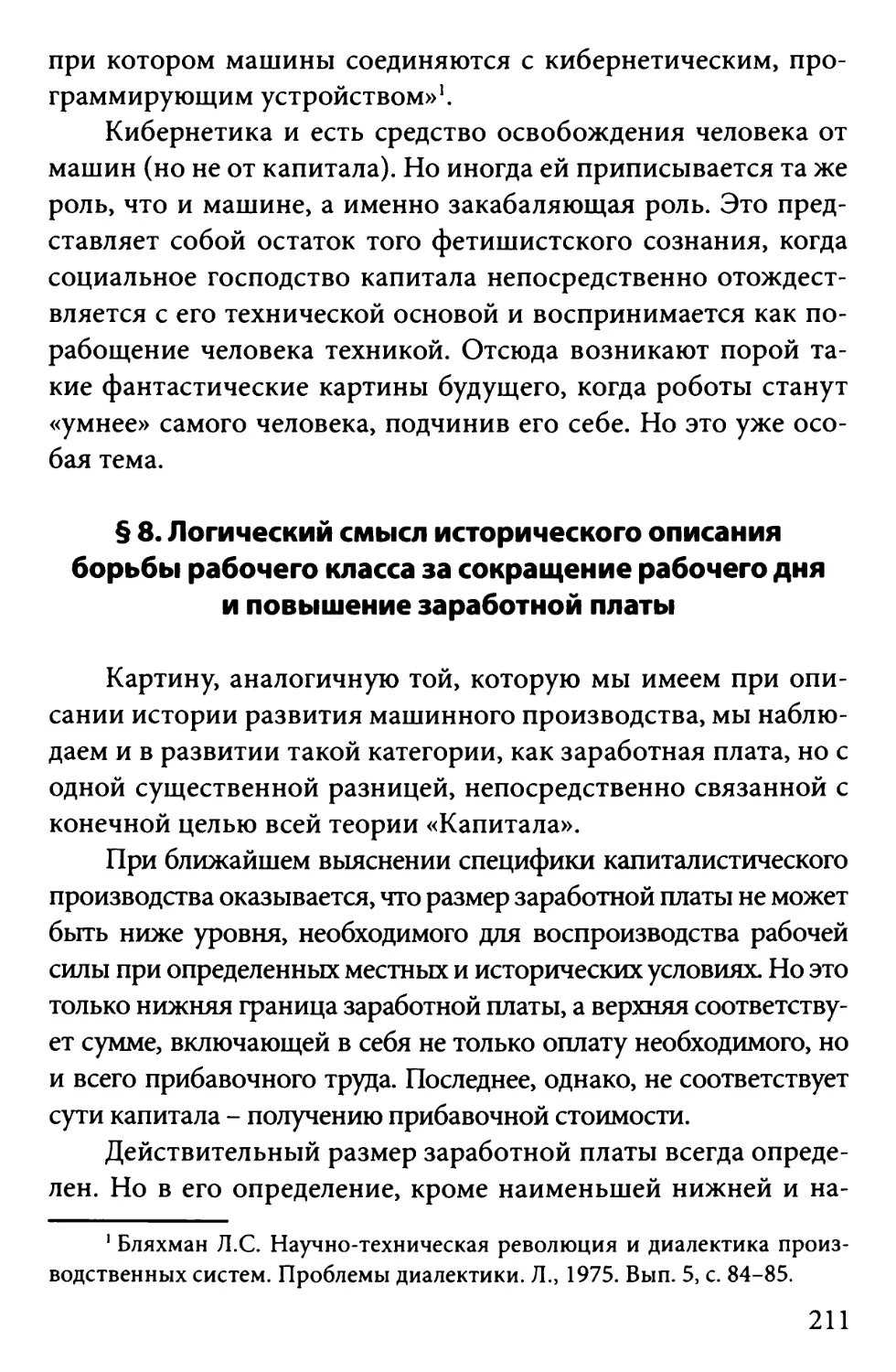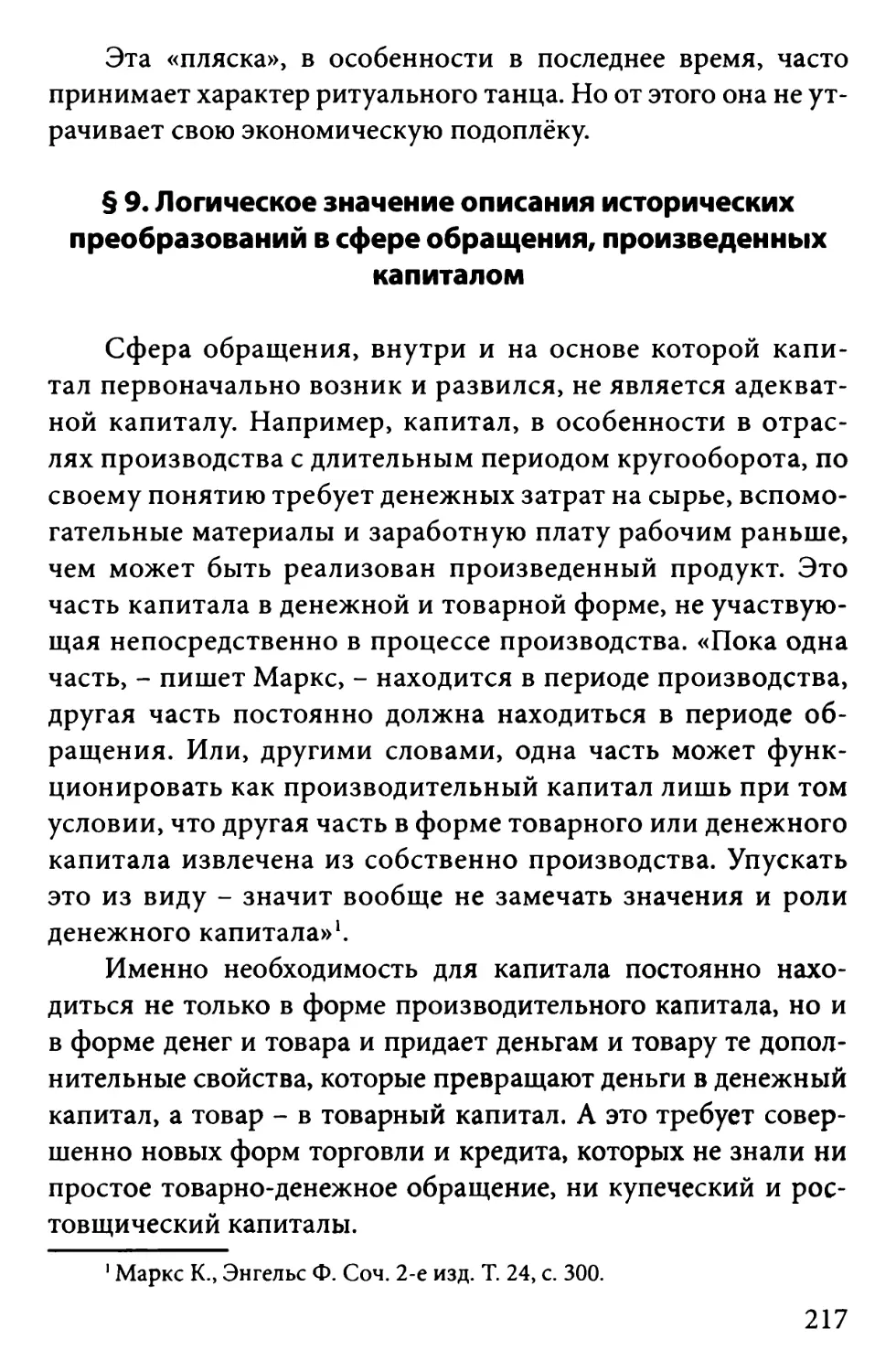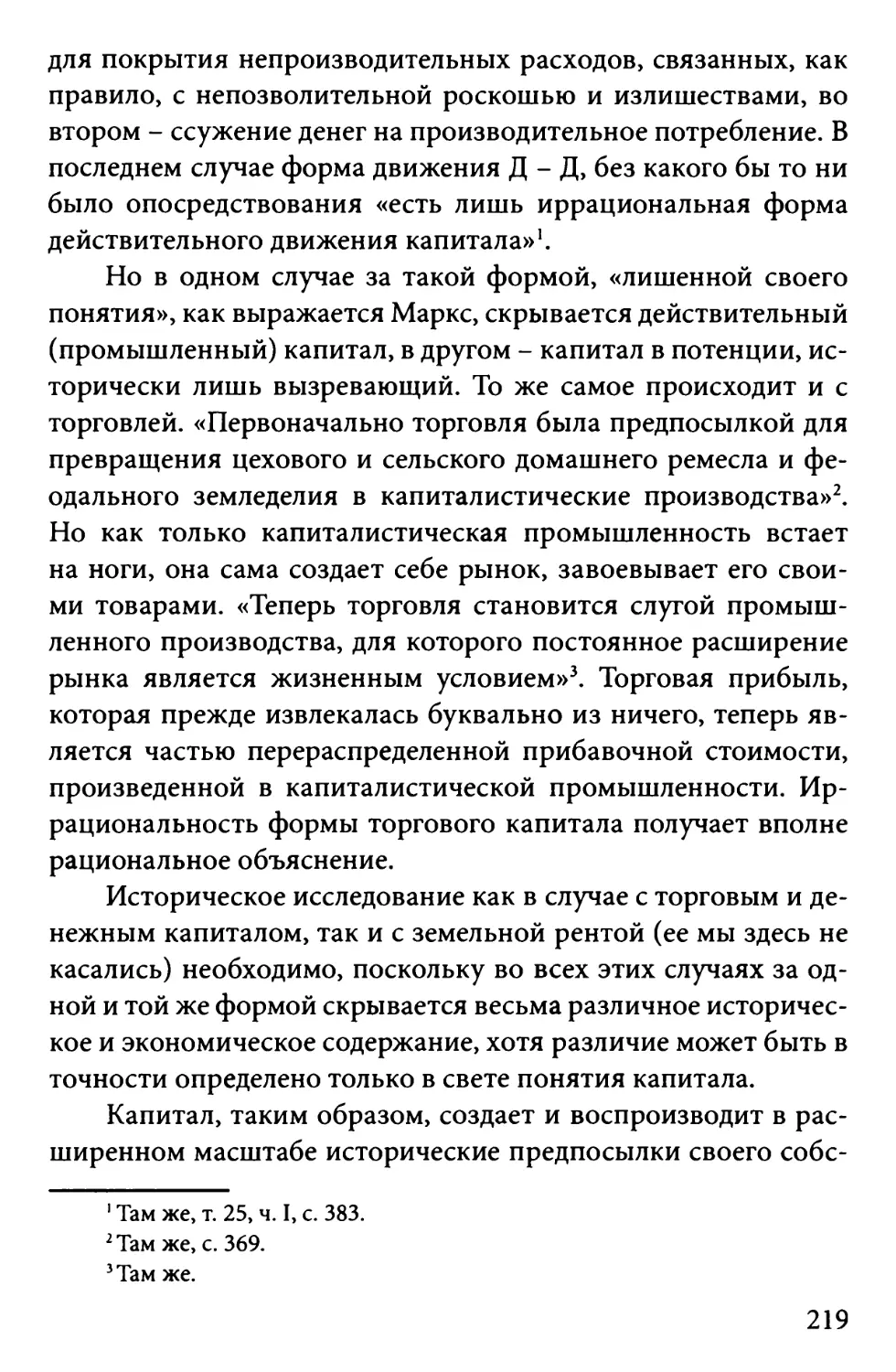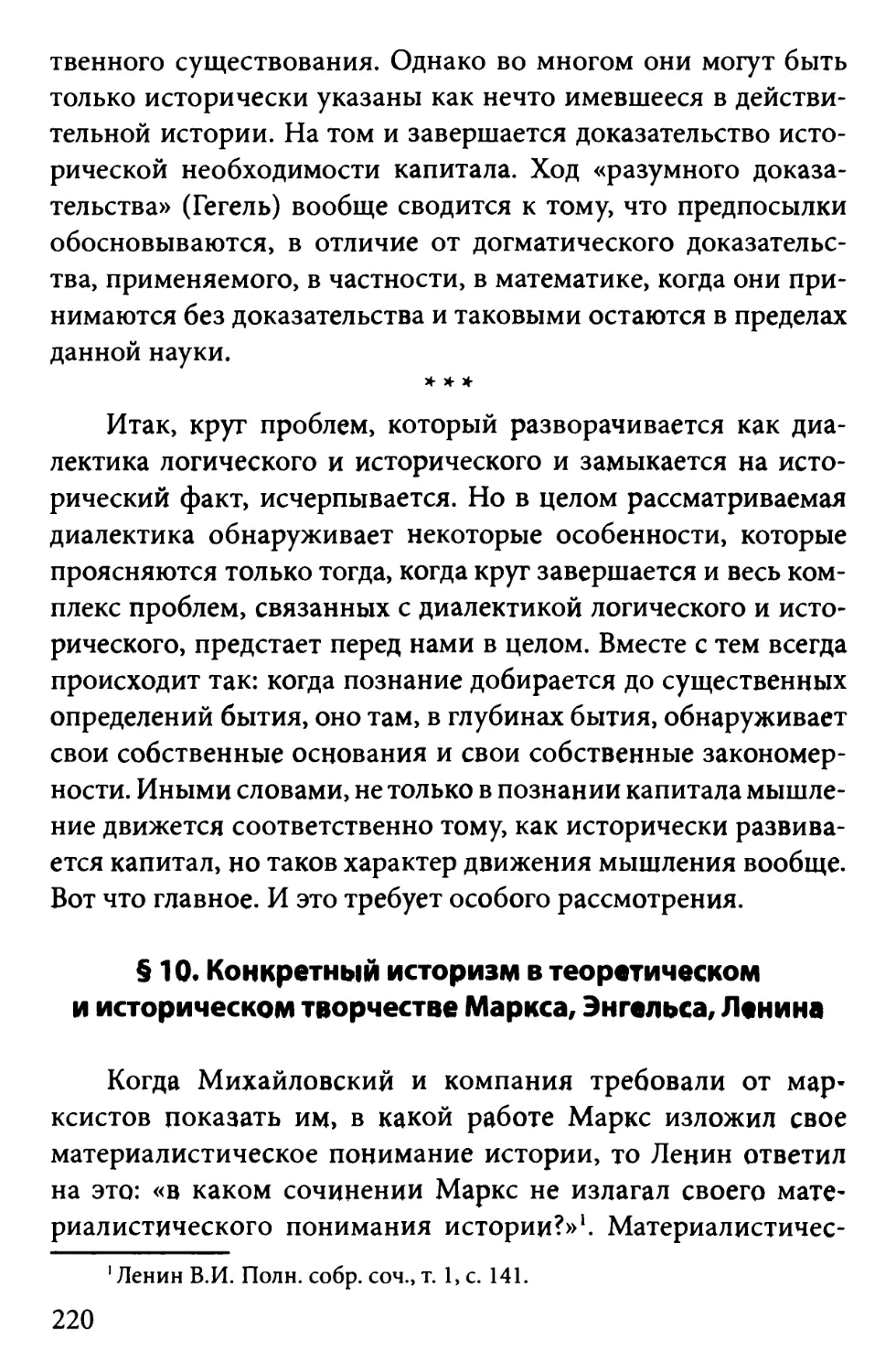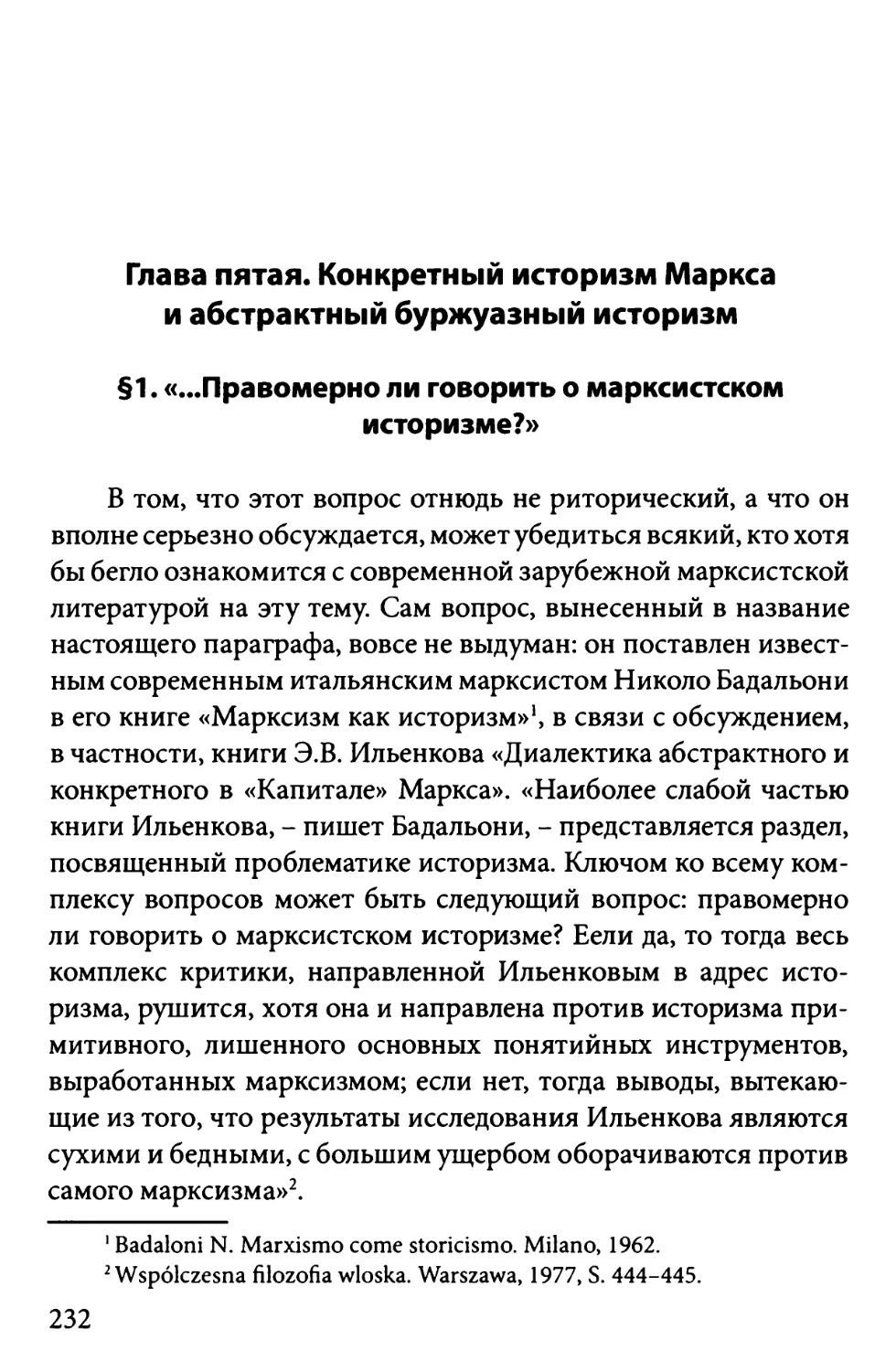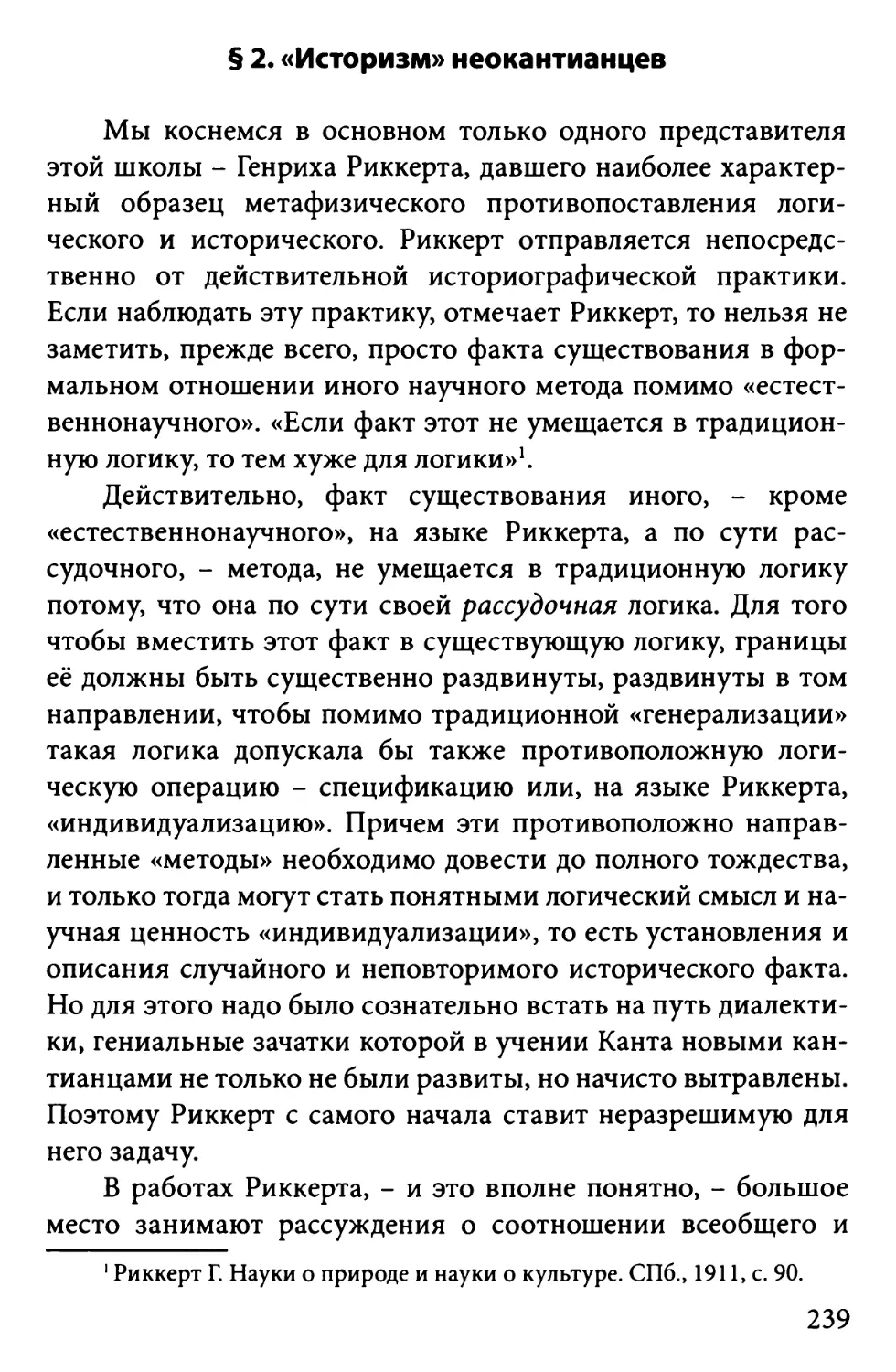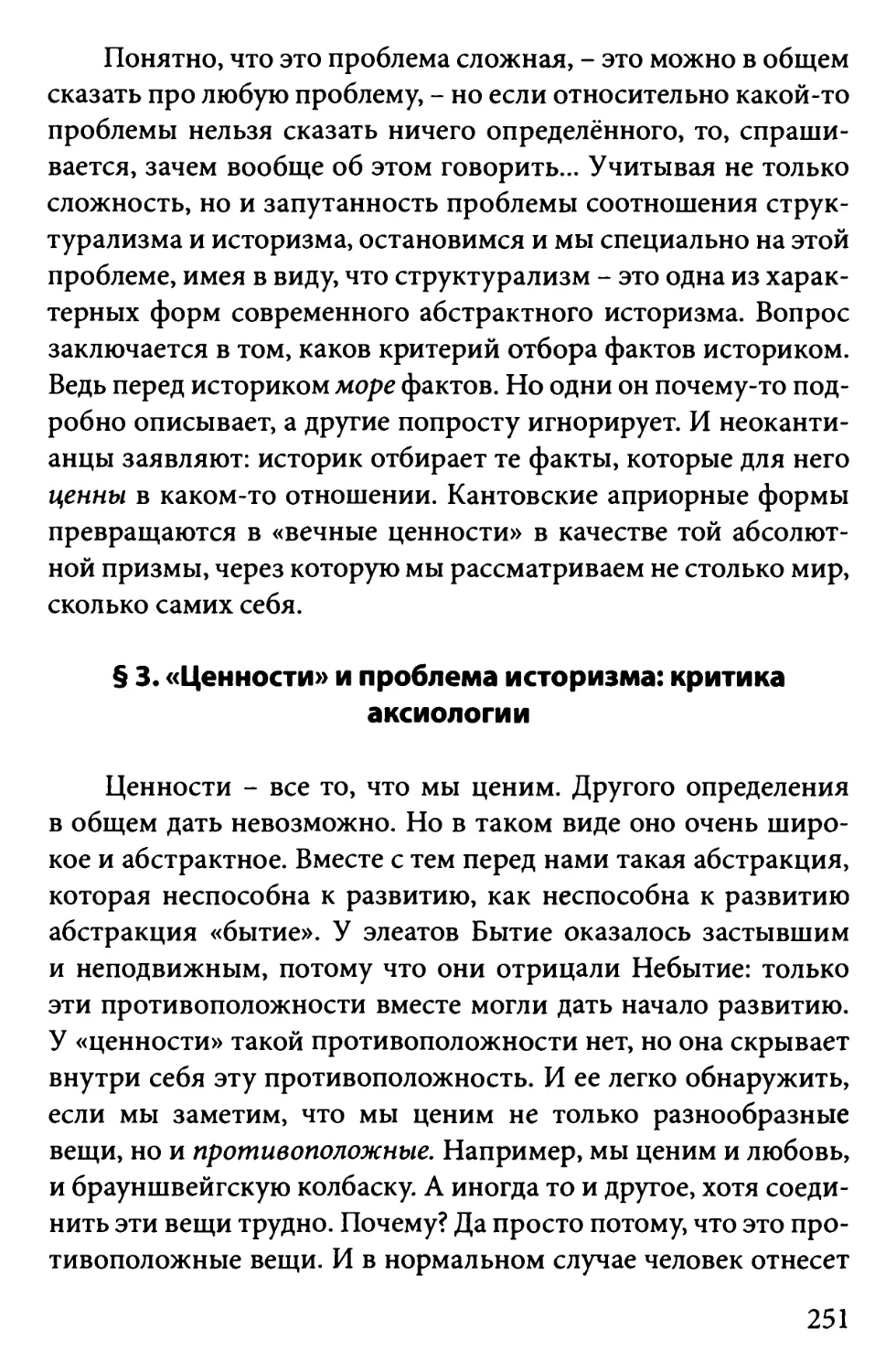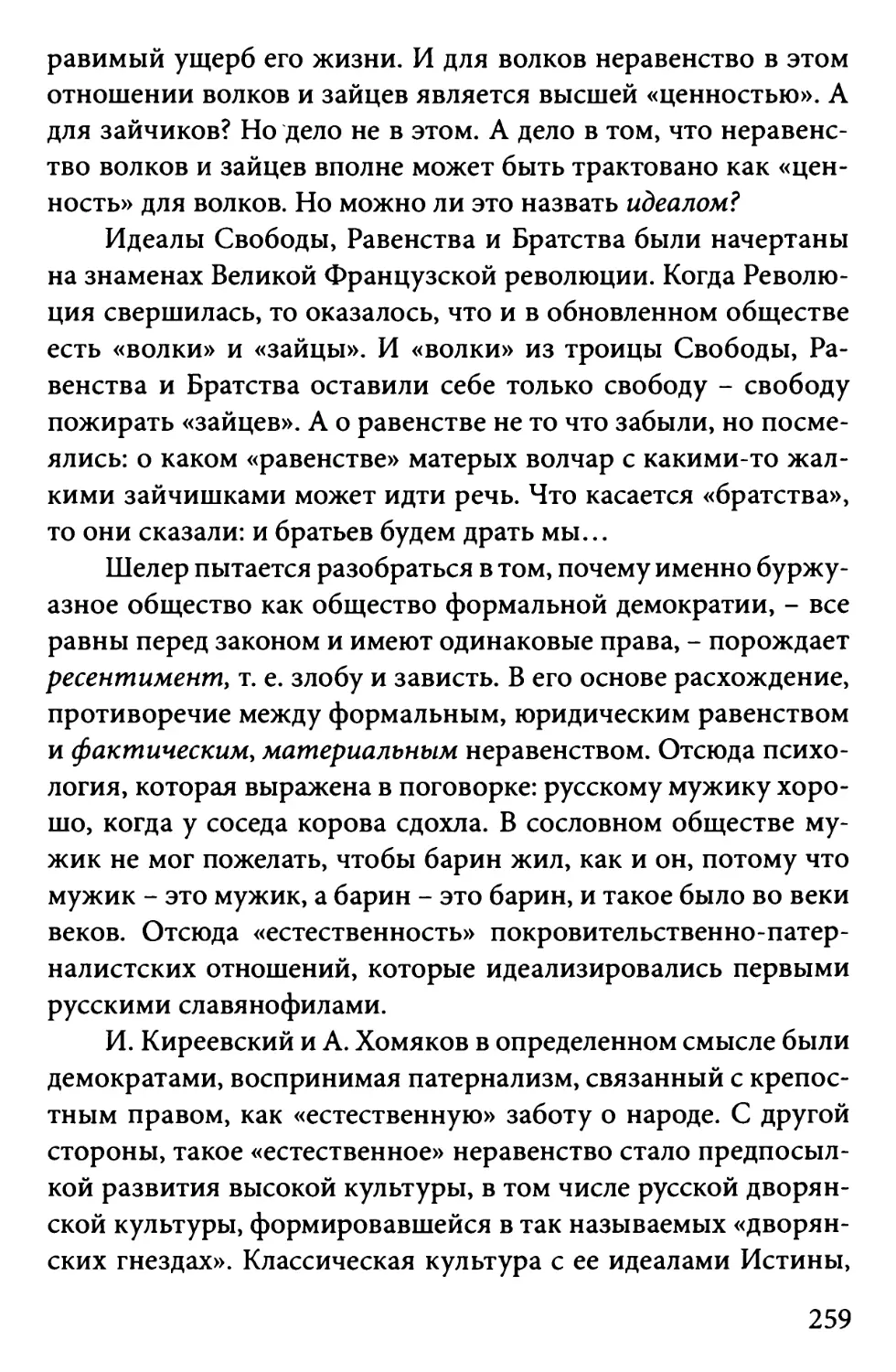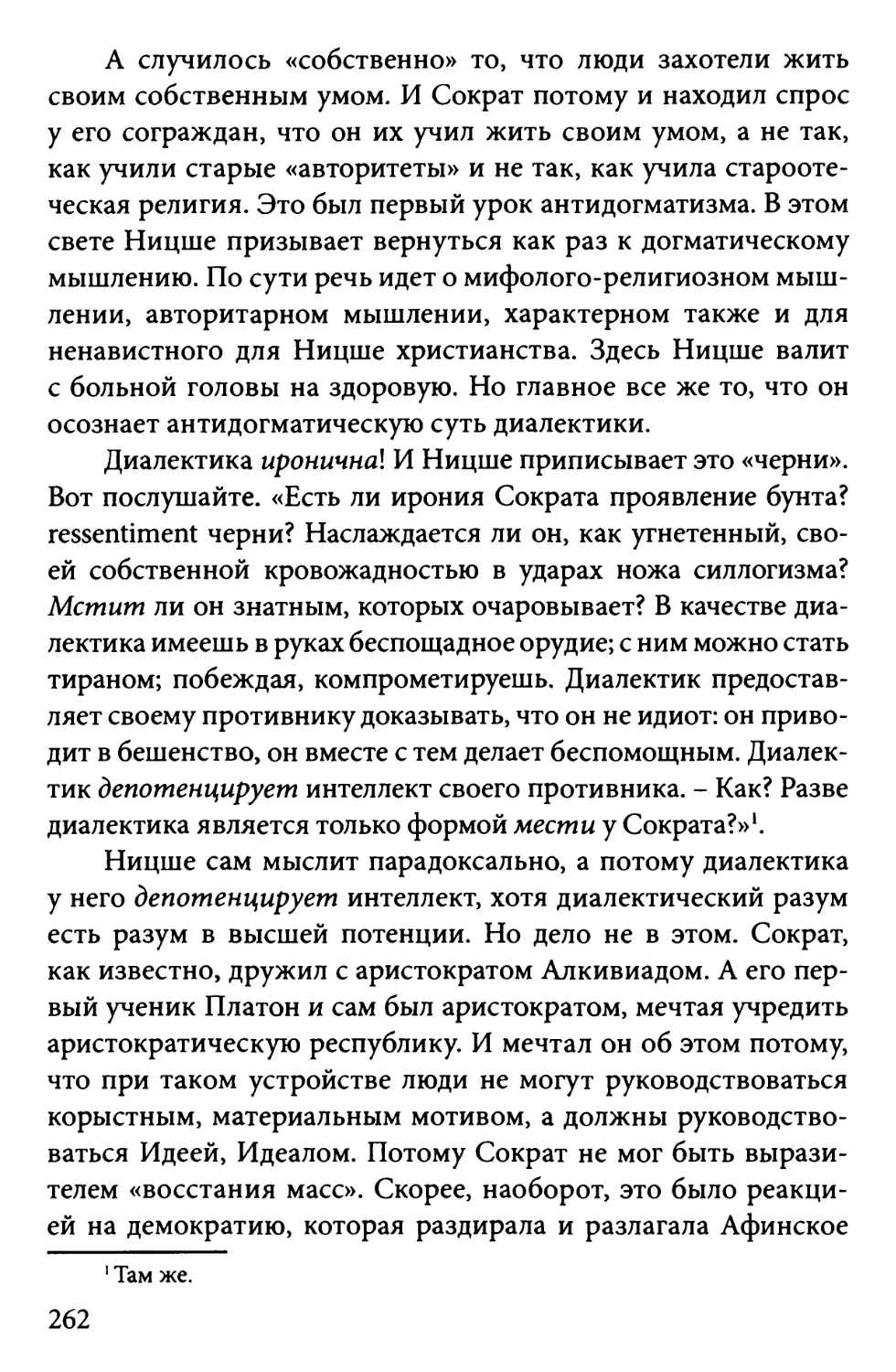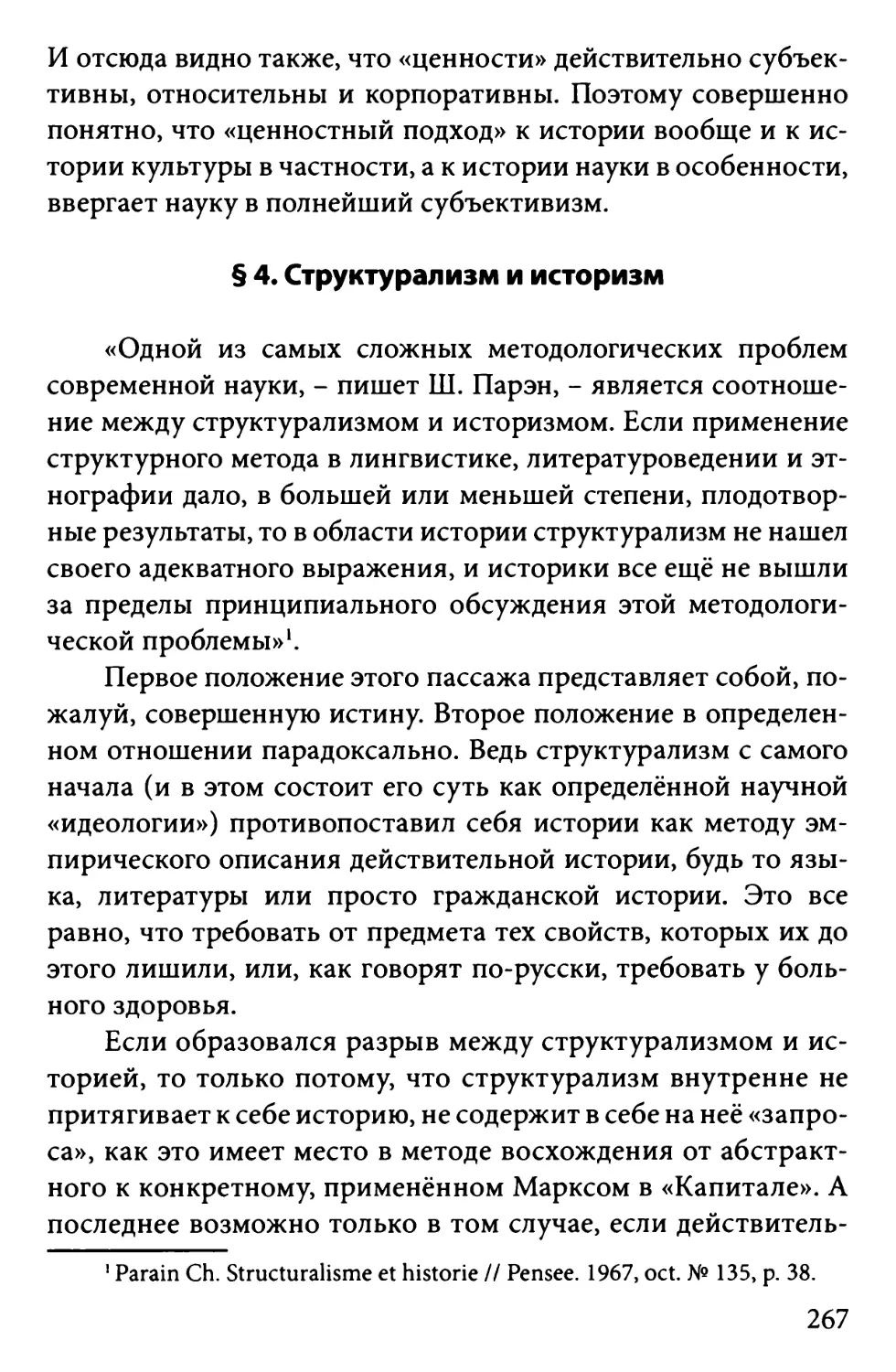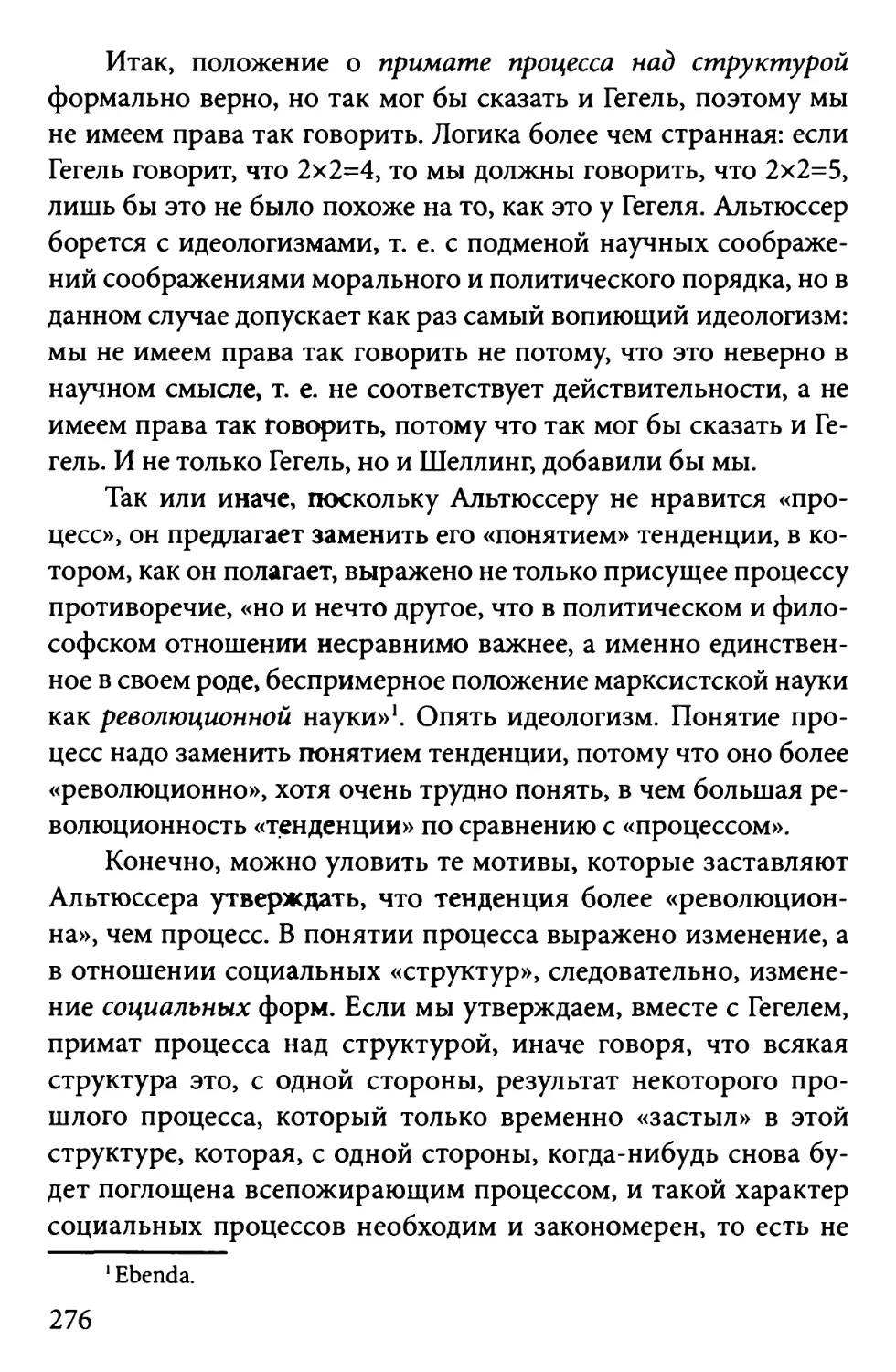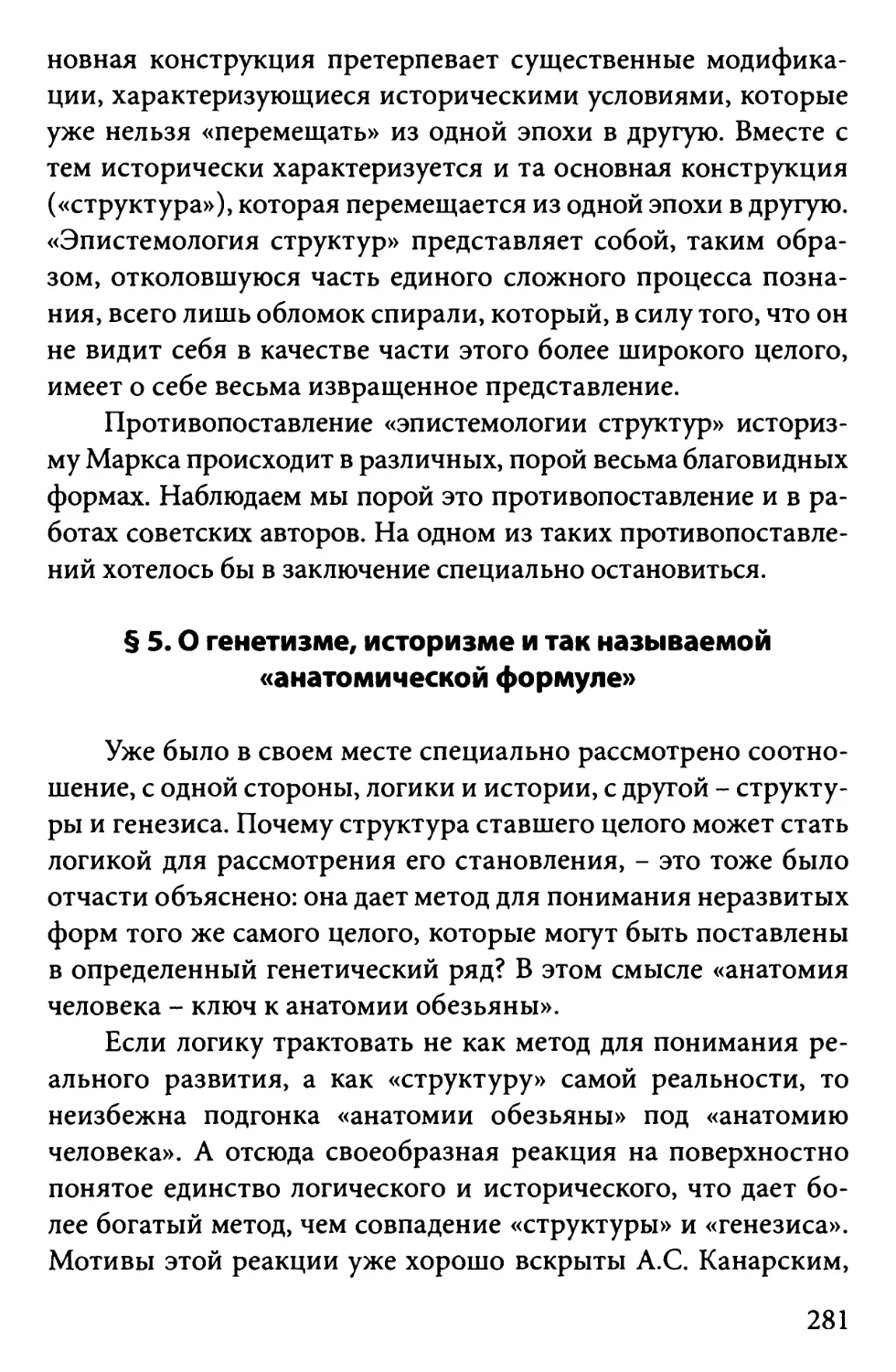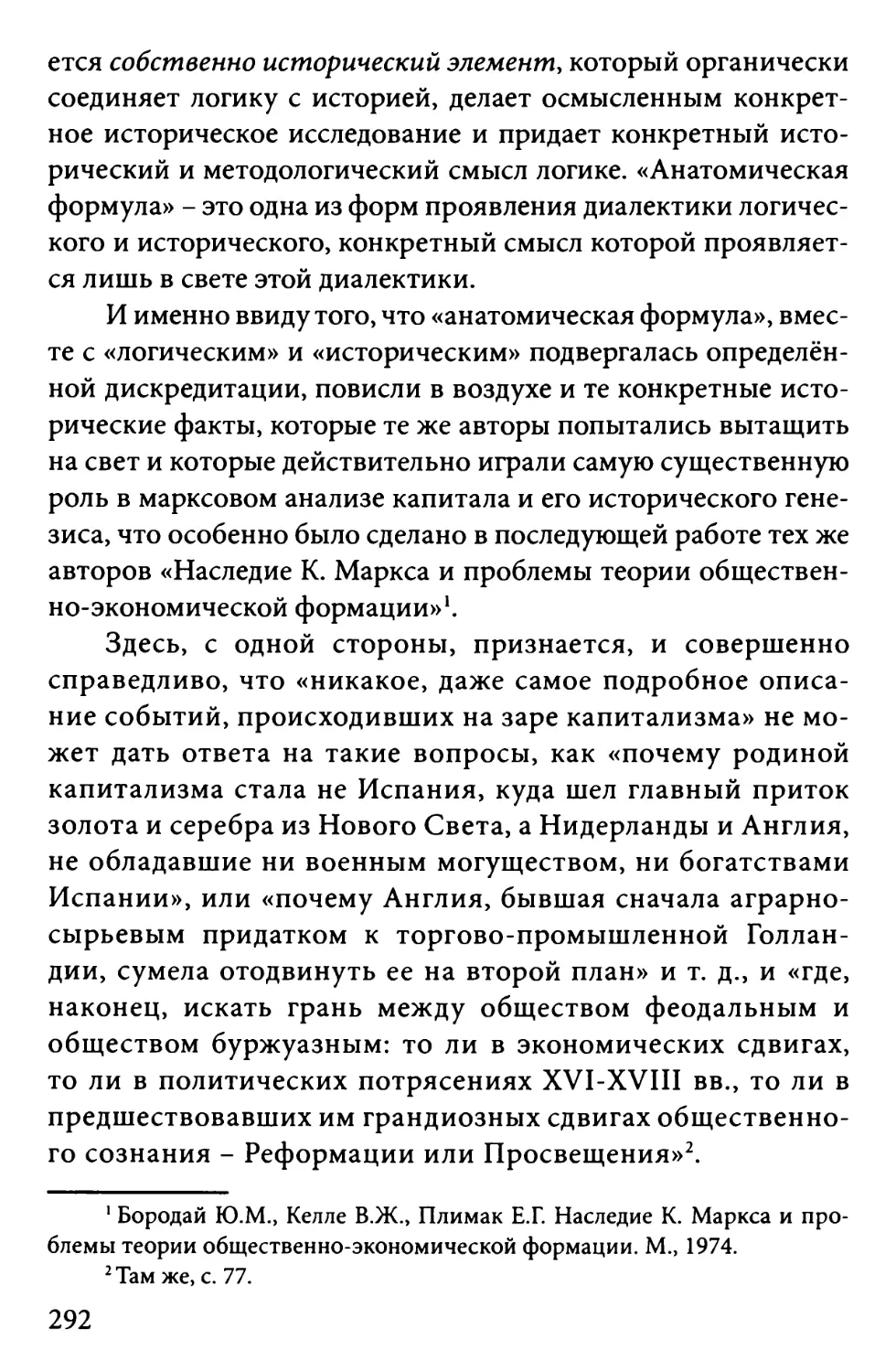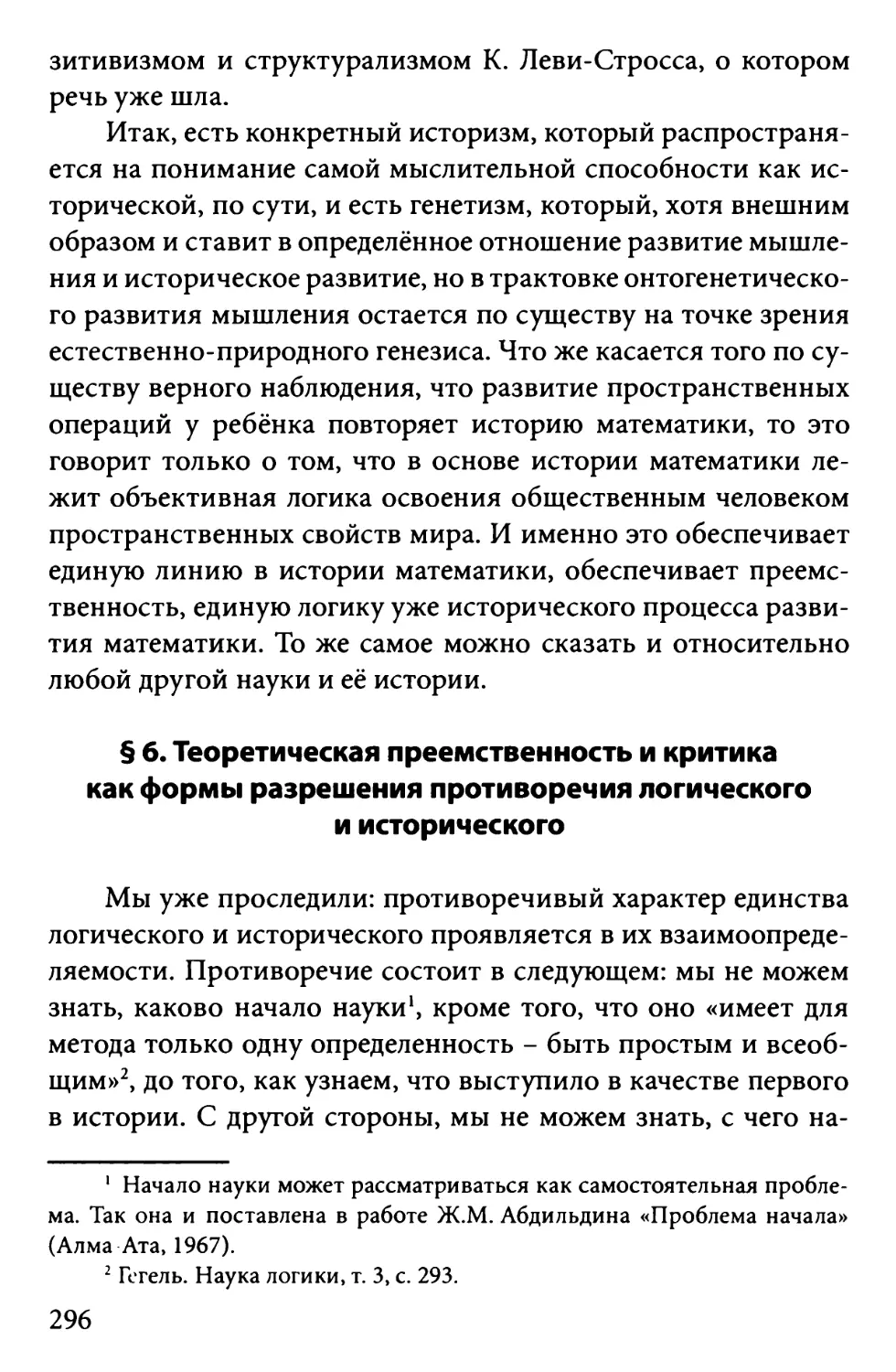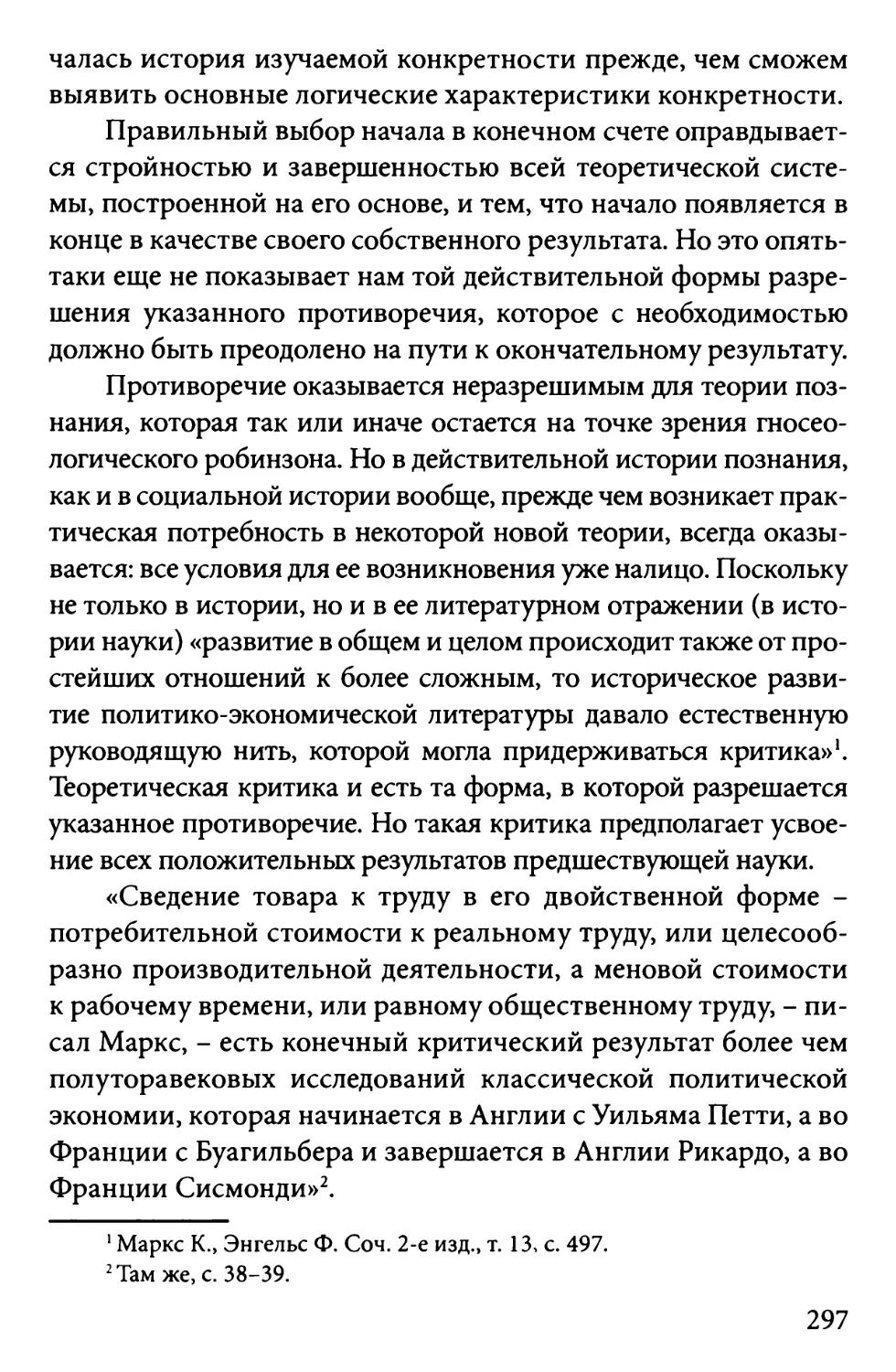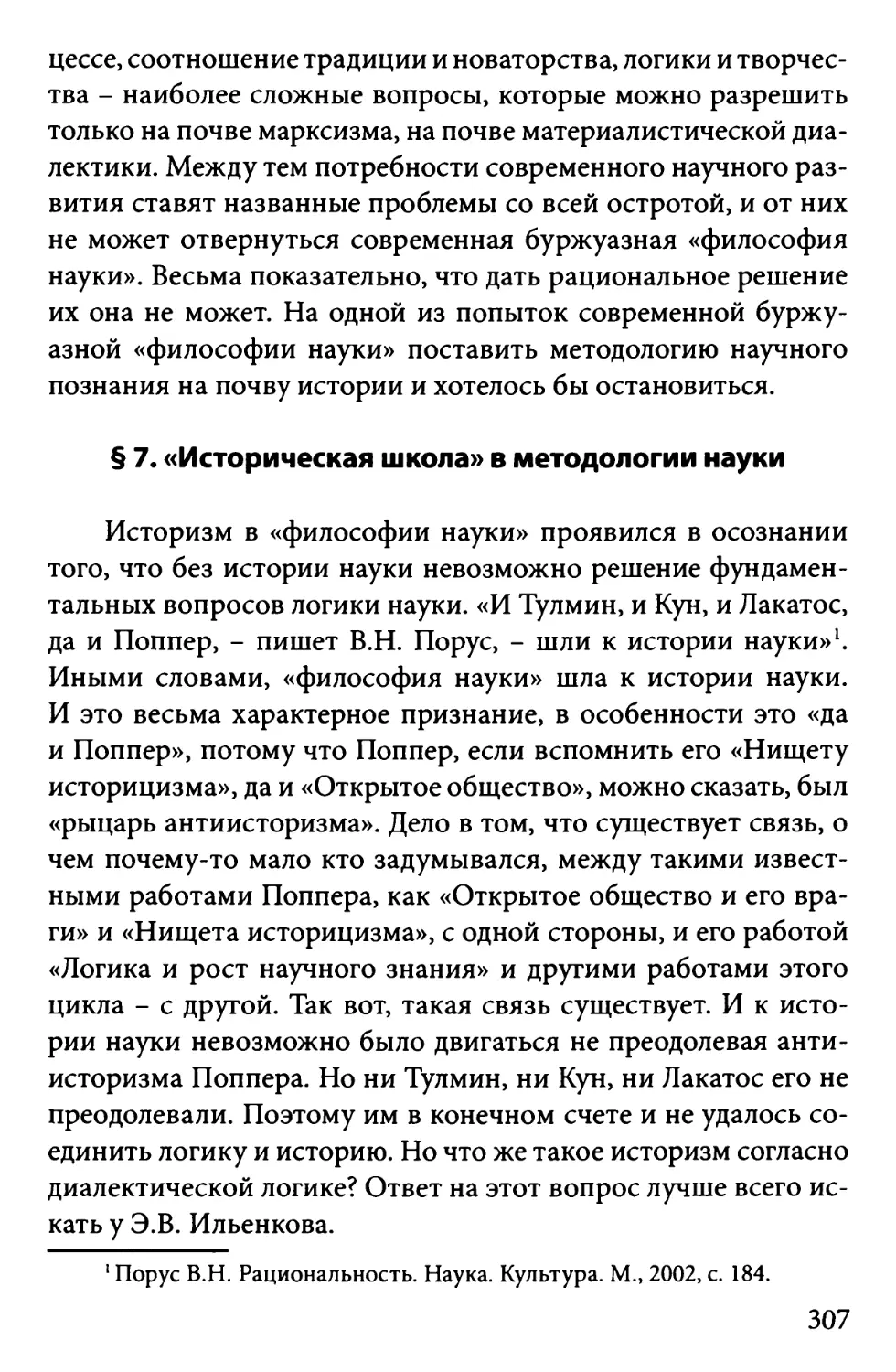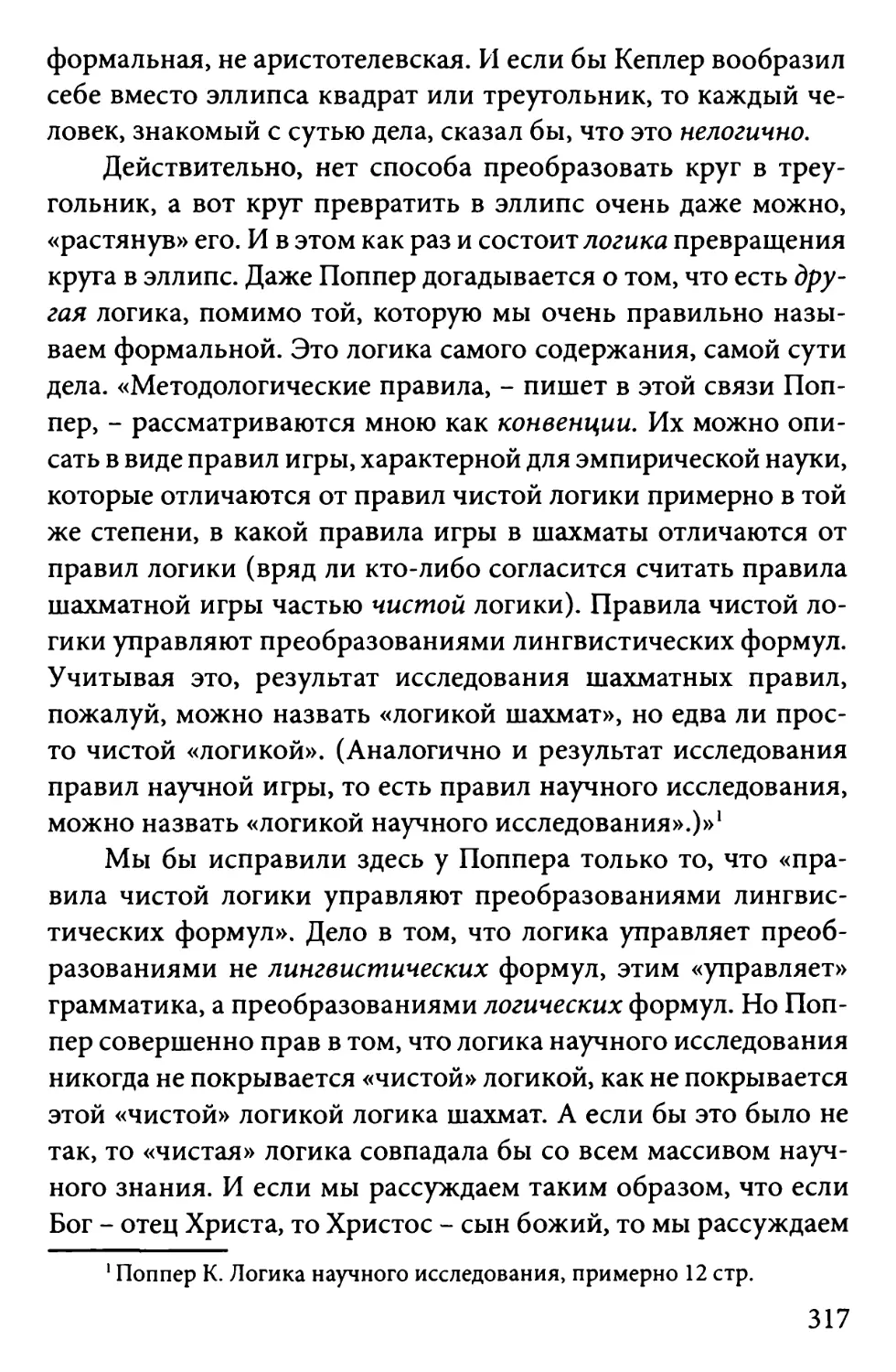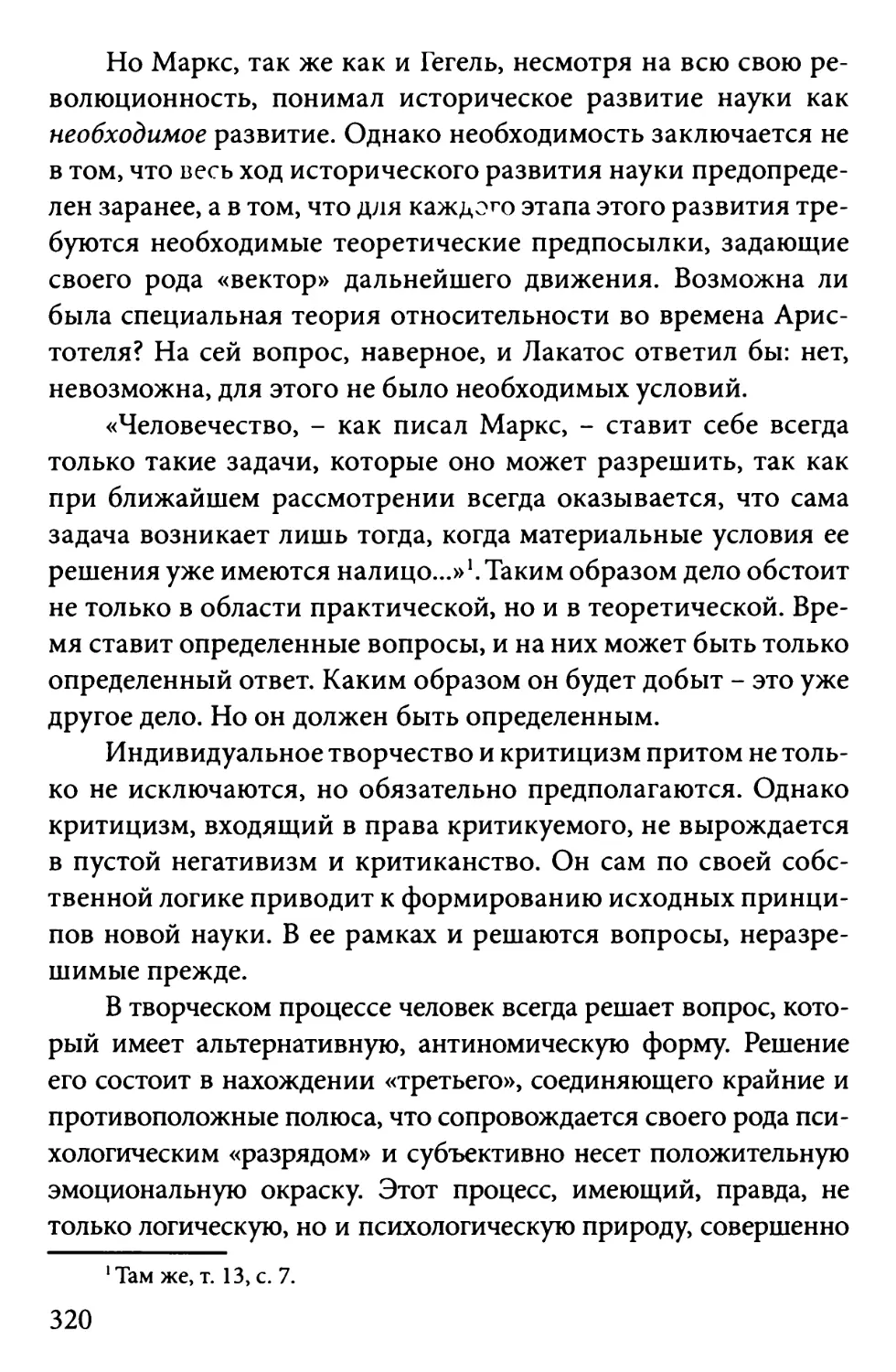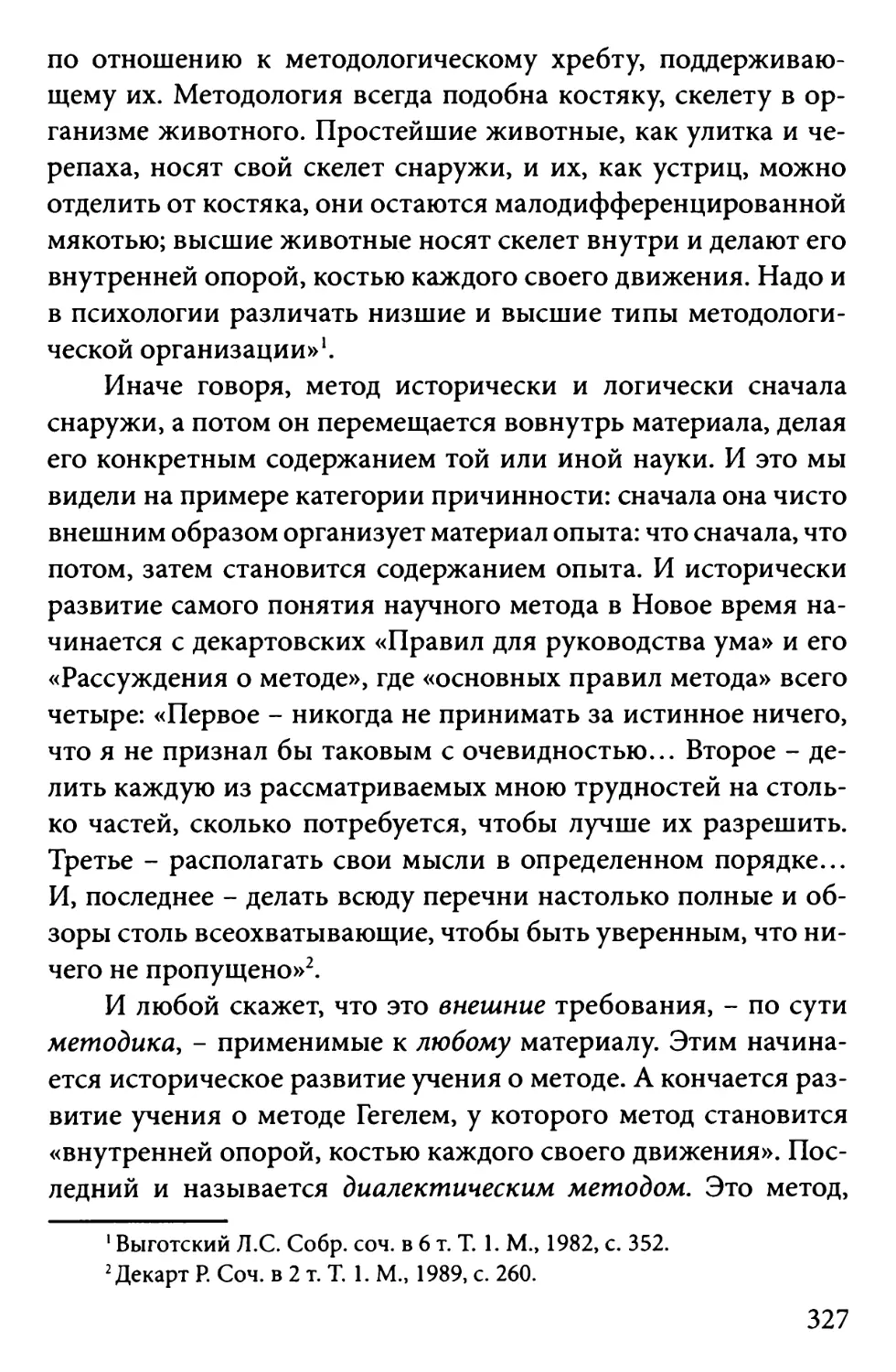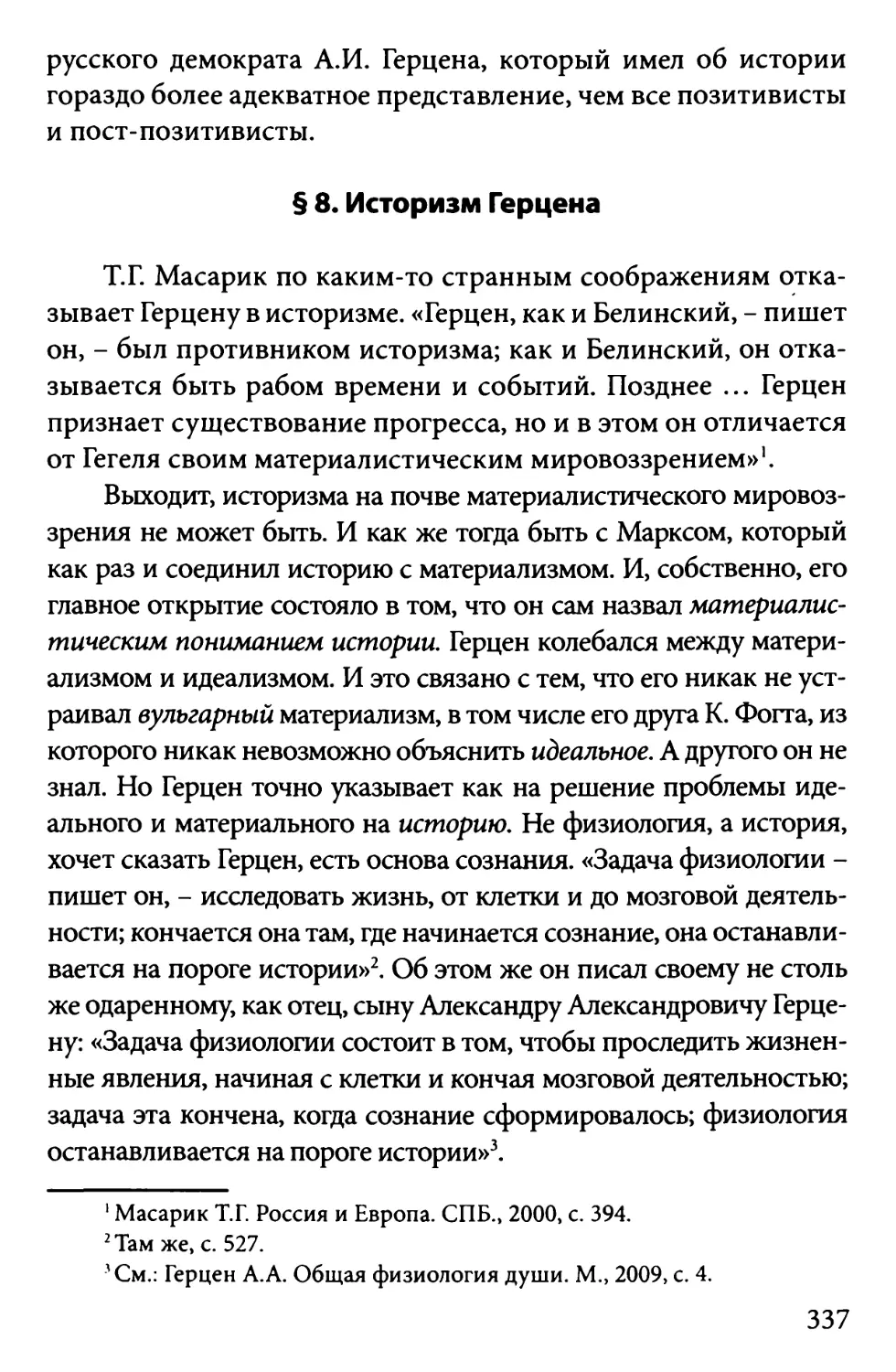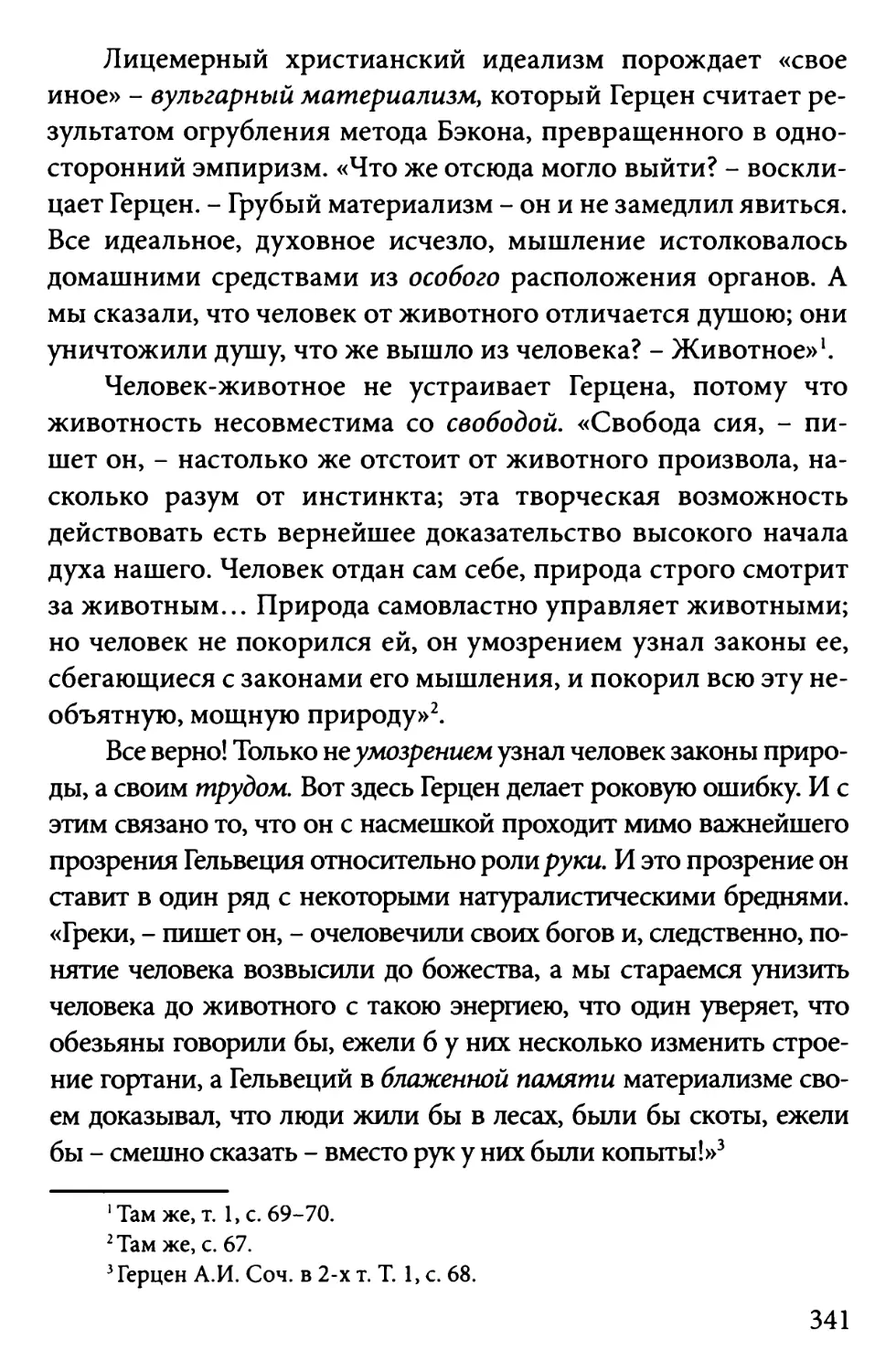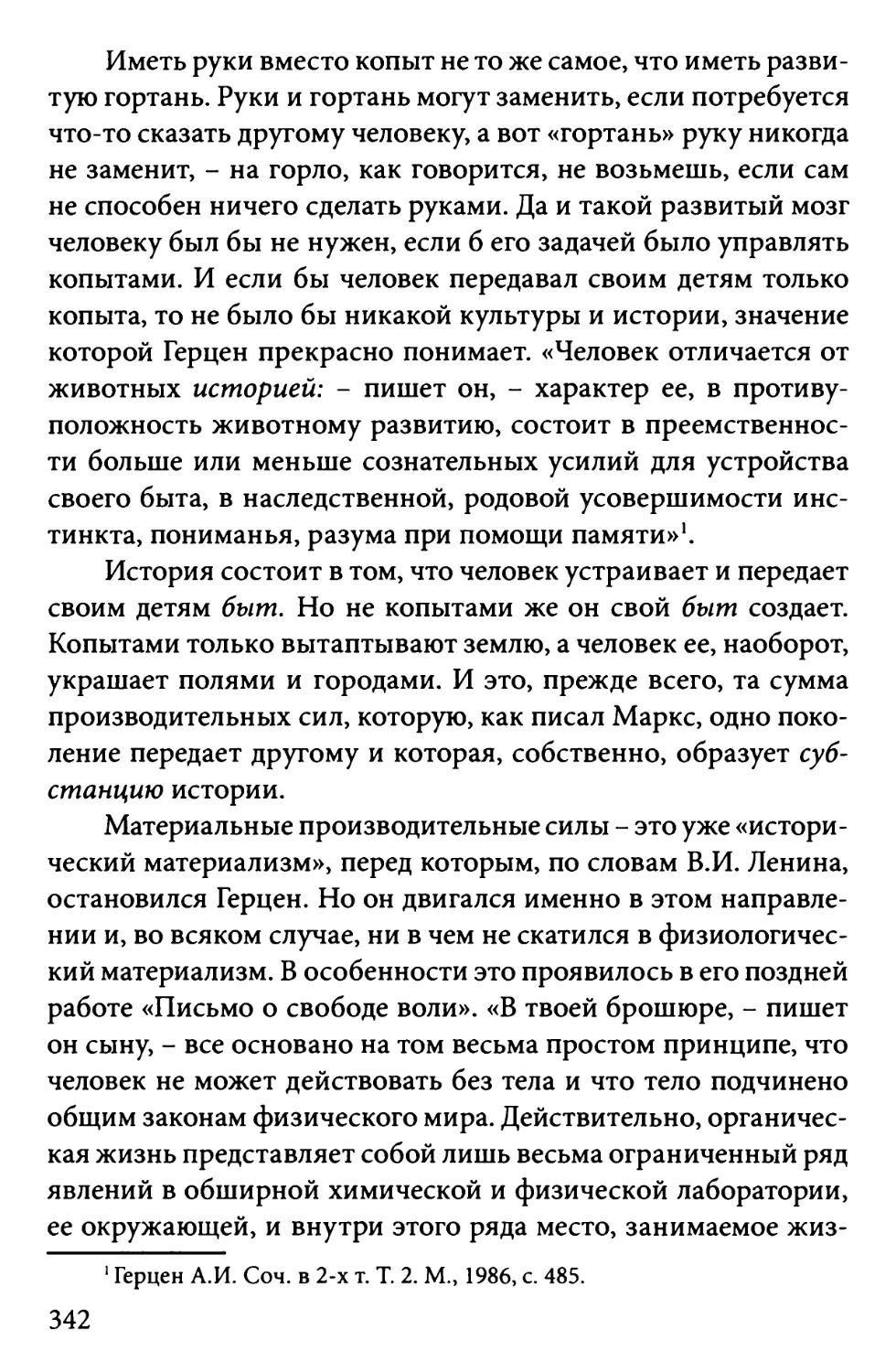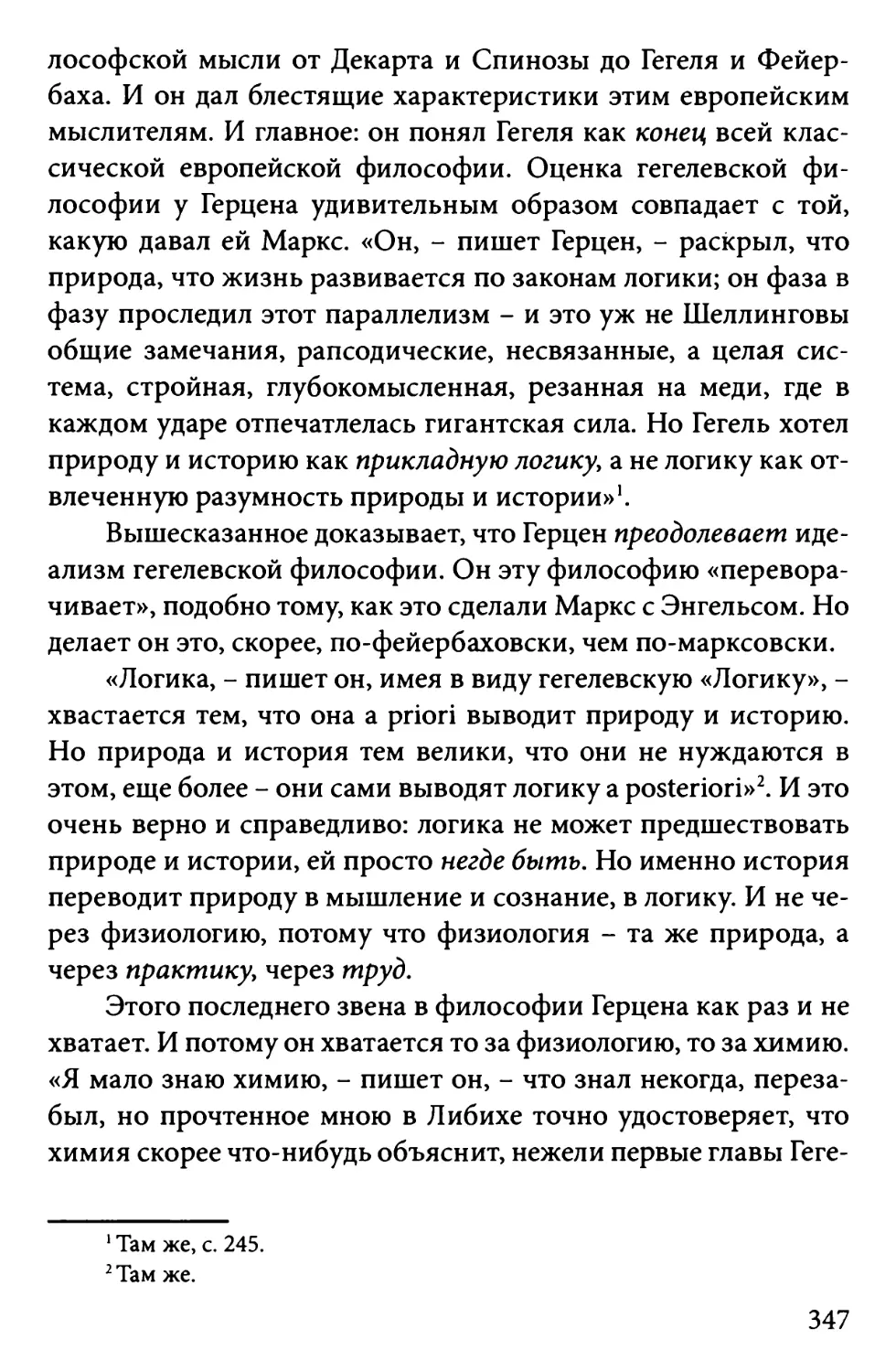Автор: Мареев С.Н.
Теги: философские системы и концепции история философии история монография философия истории
ISBN: 978-5-8382-1011-4
Год: 2015
Текст
Современная гуманитарная академия
С.Н. Мареев
КОНКРЕТНЫЙ ИСТОРИЗМ
Монография
Москва 2015
Мареев С.Н. Конкретный историзм: Монография. М.: Изд-во
СГУ,2015.352с.
ISBN 978-5-8382-1011-4
© Мареев С.Н., 2015
© Современная гуманитарная академия, 2015
© Издательство СГУ, оформление, 2015
Оглавление
Введение 5
Глава первая. Принцип историзма и принцип развития в
материалистической диалектике 22
§ 1. Зачем нужен «исторический подход» к познанию
действительности 22
§ 2. Отличие диалектической концепции развития от
позитивистской 31
§ 3. Единство материалистической диалектики и
конкретного историзма 45
Глава вторая. Историзм и натурализм в понимании
человеческого мышления 56
§ 1. Натурализм в понимании природы мышления и его
антиисторическая сущность 56
§ 2. Историческое понимание природы мышления в
марксизме 66
§ 3. Единство исторического и логического в логике и
теории познания марксизма. Логика и история философии 73
Глава третья. Историзм как условие восхождения от
абстрактного к конкретному 93
§ 1. Восхождение от абстрактного к конкретному как
всеобщий закон развития познающего мышления и его
внутренний историзм 93
§ 2. Абстрактно-всеобщее и конкретно-всеобщее.
Общественно-историческая и практическая природа
конкретного 99
§ 3. Историзм как форма разрешения противоречия
абстрактного и конкретного 106
Глава четвертая. Диалектика логического и исторического
как содержание конкретного историзма 117
§ 1. Абстрактное тождество исторического и логического
как абстракция от истории 117
§ 2. О неполноте абстракции как причине
невозможности достижения конкретного историзма 138
§ 3. Совпадение онтогенеза с филогенезом и проблема
историзма 153
§ 4. Превращение абстрактного историзма в конкретный
в экономических исследования Маркса 158
§ 5. Преобразование исторического в логическое 176
§ 6. Экспроприация мелких собственников как
историческая предпосылка возникновения капитала 202
§ 7. Создание машинного производства как условие
реального подчинения труда капиталу 205
§ 8. Логический смысл исторического описания борьбы
рабочего класса за сокращение рабочего дня и
повышение заработной платы 211
§ 9. Логическое значение описания исторических
преобразований в сфере обращения, произведенных
капиталом 217
§ 10. Конкретный историзм в теоретическом и
историческом творчестве Маркса, Энгельса, Ленина 220
Глава пятая. Конкретный историзм Маркса и абстрактный
буржуазный историзм 232
§ 1. «...Правомерно ли говорить о марксистском
историзме?» 232
§ 2. «Историзм» неокантианцев 239
§ 3. «Ценности» и проблема историзма: критика
аксиологии 251
§ 4. Структурализм и историзм 267
§ 5. О генетизме, историзме и так называемой
«анатомической формуле» 281
§ 6. Теоретическая преемственность и критика как
формы разрешения противоречия логического и
исторического 296
§ 7. «Историческая школа» в методологии науки 307
§ 8. Историзм Герцена 337
Введение
Начать, видимо, следует с того, что полностью от
историзма буржуазная философия никогда и не отказывалась.
Исключение здесь составляет, пожалуй, один только Артур
Шопенгауэр, который со свойственной ему прямотой заявлял,
что «история, строго говоря, хотя есть знание, но не наука»1.
Почти во всех остальных случаях буржуазные философы
признают историю, и даже «любят» ее. «Метафизики, - писал в
этой связи Э.В. Ильенков, - всегда много и охотно рассуждают
о необходимости «исторического подхода» к явлениям,
совершают экскурсы в историю предмета, подводят «исторические
обоснования» под свои теоретические построения. И отличить
конкретный историзм метода материалистической
диалектики от абстрактного историзма метафизиков не так-то легко,
как может показаться на первый взгляд»2.
Неконкретность, абстрактный характер буржуазного
историзма состоят в том, что он принимает идею развития в
общем виде, не доводя ее до собственно исторического
понимания развития общества и человеческого мышления. Это
историзм, который не доводит до материалистического
понимания истории, и до которого он не может дойти, не перестав
быть буржуазным историзмом. Наоборот, специфика
марксистского конкретного историзма выражается прежде всего
в материалистическом понимании истории. Благодаря этому
1 Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. С.-Петербург,
1881, с. 75.
2 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса. М., 1960, с. 197.
5
пониманию марксизм, по словам В.И. Ленина, отбросил
разговоры о развитии общества вообще и перенес центр тяжести на
конкретный исторический анализ конкретной исторической
формы общества - буржуазного общества1.
Именно этот конкретный характер марксистского
историзма часто остается в тени, и его нередко смешивают с
абстрактной идеей развития, которая ничего специфически
марксистского в себе не содержит. «В наше время, - отмечал
В.И. Ленин, - идея развития, эволюции, вошла почти
всецело в общественное сознание, но иными путями, не через
философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке,
которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо
более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая
идея эволюции»2.
Эта ходячая идея развития, которая и до сих пор
остается наиболее распространенной идеей развития, - а ныне она
приняла форму так называемого «глобального
эволюционизма», - лишена как раз конкретности и историзма. Она, как и
сто лет назад, входит в сознание людей не через философию
Гегеля и Маркса, а через современные естественно научные
представления и повседневный опыт. Понятно, что у
естествоиспытателя, замкнутого в узком кругу своей специальности,
другого представления и быть не может. Но именно поэтому-
то ему и требуется серьезное марксистское образование,
профессиональная помощь со стороны философов.
Только через конкретный историзм общая идея
развития может быть поднята до диалектики как логики и теории
познания марксизма. Равно как конкретный историзм может
быть только лишь результатом обогащения (конкретизации)
общей идеи развития [диалектической логикой]. Конкретный
историзм, таким образом, при самом общем его определении,
оказывается единством логики и истории, или, иначе - единс-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 143.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 55.
6
твом логического и исторического. Таковы основные идеи и
основные определения, положенные в основу предлагаемой
работы. Но это требует пояснения.
Одна из серьезнейших попыток отделить конкретный
историзм Маркса от абстрактного буржуазного
историзма, попыток, в значительной мере удавшихся, принадлежит
Э.В. Ильенкову. «Историзм логического метода
Маркса-Энгельса-Ленина, - писал Ильенков, - конкретен. Это значит,
что он обязывает говорить не об истории вообще, но каждый
раз о конкретной истории конкретного предмета»1.
Это определение, само по себе, не вызывает ни
малейшего возражения. Но оно еще не отделяет в достаточной мере
конкретный историзм от абстрактного, что и дало в свое
время повод для критики работы Ильенкова со стороны
известного итальянского марксиста Николо Бадальони2. Мы говорим
«повод», но не «основание», потому что от критики требуется
попытка улучшить критикуемую точку зрения, чего
Бадальони не делает, но что можно и нужно сделать.
Вопрос, собственно, заключается в том, что есть
конкретная история конкретного предмета и чем она отличается от
абстрактной истории, от всеобщего потока изменения и развития.
Чтобы выделить историю именно данного
конкретного предмета, надо точно знать, что есть данный предмет, его
differentia specifica, иначе мы можем спутать, допустим,
историю религии с историей искусства, или историю развития
производительных сил общества с историей развития
капитала, тем более, что буржуазные историки и экономисты именно
это и делали, и это было проявлением именно их абстрактного
историзма.
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 201. Аналогичное понимание конкретности историзма
развивает В.П. Кохановский (см.: его «Историзм как принцип диалектической
логики).
2 См. Badaloni Nicolo come storicisma, Milena 1962, р. 189-198.
7
Иными словами, конкретный историзм, это историзм,
опосредованный определенной логикой - логикой,
выясняющей специфику данного конкретного предмета. И, таким
образом, конкретный историзм есть по существу выражение
единства логического и исторического.
В такой прямой и ясной форме Э.В. Ильенков нигде не
формулирует определение конкретного историзма. Но оно
«напрашивается», если следовать существу и логике его работ.
Однако эта недоговоренность породила множество
недоразумений, главное из которых до сих пор состоит в том, что
проблематика историзма и проблематика диалектики логического
и исторического в основном у нас идет по разным
«ведомствам», по разным статьям, разделам и т. д.
В связи с анализом точки зрения Э.В. Ильенкова здесь
важен и еще один существенный пункт. Проблему диалектики
логического и исторического он сразу ставит как проблему
единства логического и исторического способов
исследования и критики теоретических предшественников. «Энгельс в
своих рецензиях на книгу Маркса «К критике политической
экономии» ясно показал, - пишет Ильенков, - что проблема
отношения логического к историческому непосредственно
встает перед теоретиком как вопрос о способе критики
имеющейся теоретической литературы»1. Далее Ильенков цитирует
известное место из рецензии Энгельса на первый выпуск
работы «К критике политической экономии» Маркса: «Критику
политической экономии даже и согласно приобретенному
методу можно было проводить двояким образом: исторически
или логически»2.
Э.В. Ильенков, как и большинство авторов после него не
проводит четкого различия между тем, как непосредственно
выступает проблема исторического и логического, и тем, что
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 186.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 497.
8
она собою представляет по существу. Иначе говоря, не
проводится различие между сущностью и явлением историзма у
Маркса. И хотя нельзя сказать, что Ильенков не проник в суть
марксистского историзма, явным образом он это отличие не
проводит, и это породило трудности, которые не преодолены
до сих пор.
Ведь Энгельс в той же рецензии далее пишет, что
логической метод по существу есть тот же самый исторический и т. д.
Иначе говоря, логический метод, будучи логическим по
форме, является историческим по существу. И то же самое можно
сказать про исторический способ: он, будучи историческим по
форме, является логическим по существу. Иными словами,
историзм метода материалистической диалектики не сводится к
историческому методу, он проявляется и в форме логического
метода тоже. И потому единство логического и исторического
- это не то же самое, что единство логического и исторического
методов. Это, кстати, хорошо понял и выразил Тодор Павлов.
«Изучая явления логически - писал он, - в их сравнительно
чистой, классической, свободной от несущественного и
случайного форме, мы этим не уничтожаем их историчность, а
только делаем возможной научную историю вещей, поскольку
направляем ее к правильному отысканию, обнаружению и
пониманию тенденций в развитии тех или иных явлений в
прошлом и этим предохраняем ее от возможности «заблудиться»
в лабиринте несущественного, случайного, малоценного»1.
Не всякий логический способ дает ключ к пониманию
истории предмета. Мы можем определять человека и как
существо двуногое и от природы не имеющее перьев, и как животное,
изготовляющее орудия труда. С формальной (с
формальнологической) точки зрения это совершенно равноценные
определения. Но по существу второе дает ключ к пониманию
исторического генезиса человека, а первое в этом отношении
1 Досев (Павлов) Тодор. Теория отражения. Основные вопросы теории
познания диалектического материализма. М., 1949, с. 249-250.
9
ничего не дает. Поэтому второе является историческим по
существу, хотя этим не уничтожается специфика логики. Первое
же и по форме и по существу является
абстрактно-логическим. Вот в чем разница. И эту разницу прекрасно осознавал
Э.В. Ильенков, то есть разницу между «логическим способом»
Маркса и «логическим способом» Карнапа-Поппера. И это,
кстати, понимал также незаслуженно забытый в этом
отношении Тодор Павлов. «Фактически всякая теория
(«логическое исследование»), - писал он, - есть исторический продукт
и имеет свое начало в первичных, хаотических, чувственно-
предметных восприятиях и представлениях, т.е. по существу
всякая теория является исторической по своему содержанию
и должна оставаться таковой. Но одновременно с этим она
- именно теория, а не история вещей; она, как говорил Ленин
о «Капитале», - логика, примененная в отдельной научной
области, т.е. она должна быть (и есть) по форме изложения и
исследования логичной»1.
Всякая логика, всякая теория, всякая наука и всякая форма
человеческого сознания вообще есть, так или иначе, продукт
исторического развития и его выражение. Это, кстати,
касается и формальной логики, которая тоже является продуктом
исторического развития человеческого мышления, только его
превращенным продуктом. В этом и состоит радикальный
историзм всего марксистского учения: история абсолютна,
всякая логика только - относительна, хотя этим, хочется это еще
раз подчеркнуть, не уничтожается специфика логики,
специфика логического.
Итак, с одной стороны, логический способ и исторический
способу а с другой - логическое и историческое. Отделить одно
от другого явным образом ни Ильенков, ни кто другой из
более поздних авторов не смог. А сделать это надо.
Соответственно, логический способ и исторический способ исследования у
Маркса, должны быть поняты как две разные и закономерным
1 Павлов Тодор. Теория отражения, с. 249-250.
10
образом связанные между собой формы проявления единства
логического и исторического.
Но с этим связан и еще один очень важный момент. Дело
в том, что такая трактовка историзма обнаруживает его более
органическую связь с восхождением от абстрактного к
конкретному как наиболее общим способом развития всякой
научной теории. Вообще эта связь была очевидна и несомненна
и для Ильенкова, и для многих других авторов. Однако здесь
требуется конкретизация. Дело в том, что сам конкретный
историзм разворачивается в процессе исследования как ряд
его форм, - что подробно излагается в предлагаемой работе и
чего не делалось до сих пор, - и этот ряд разворачивается в
направлении движения от абстрактного к конкретному. И
конкретный историзм выступает в качестве результата, имеющего
своей предпосылкой абстрактный историзм, проявляющийся
в двух своих формах: в форме «Монблана фактов», то есть
необработанного эмпирического исторического материала, и в
форме абстрактной теории, в которой исчезает исторический
факт в его конкретности, но не исчезает история, как не
исчезает она в определении человека как животного,
производящего орудия труда, хотя в этом определении не содержится
никакого конкретного исторического факта.
Эта форма единства логического и исторического, которая
характерна как раз для «логического способа» исследования,
в предлагаемой работе называется абстрактным тождеством
(в противоположность конкретному единству, характерному
для «исторического способа») логического и исторического. И
эта форма единства логического и исторического, будучи
условием и предпосылкой конкретного историзма, не остается
позади его, а сохраняется в нем, иначе говоря, «снимается» в
гегелевском смысле.
Ильенков, справедливо разделяя ту общую позицию, что
диалектика, в противоположность метафизике, стоит на
точке зрения конкретно-всеобщего, не учел в достаточной мере
11
того, что движение к конкретно-всеобщему может
происходить только в «эфире» абстрактно-всеобщего. Именно в этом
пункте его трактовка диалектики абстрактного и конкретного
нуждается в коррективах, попытка внести которые делается в
настоящей работе как ввиду важности этого вопроса вообще,
так и в виду важности его для понимания места, сути и
значения конкретного историзма в логико-методологической
концепции марксизма.
Разумеется, все это повлекло за собой еще целый ряд
более мелких и частных моментов, которые, если их перечислить
все шесть с основными и главными идеями и составляют
содержание предлагаемой работы.
* * *
Итак, прежде всего проблема конкретного историзма и
проблема единства логического и исторического - это одна
и та же проблема. А поскольку ее разрыв на две разных не
мог не сказаться отрицательно как на трактовке конкретного
историзма, так и на трактовке единства логического и
исторического, а литература по тому и другому вопросу весьма
обширна, то это ставит автора настоящей работы в весьма
затруднительное положение, поскольку дело касается оценки
работ других авторов. Из подобного положения вообще
можно выйти только лишь воспользовавшись преимуществами
логического способа критики перед историческим, которые
отмечает Энгельс в своей рецензии на первый выпуск работы
Маркса «К критике политической экономии». Но можно
выбрать некоторый «третий» путь, которым мы в данном случае
попытаемся воспользоваться.
Дело в том, что развитие, как известно, в том числе и
научное развитие, имеет место только там, где в последующем
снимается предшествующее и происходит своего рода
«уплотнение»? Правда-это «уплотнение» происходит не всегда, и
действительное логическое и историческое развитие науки не
12
всегда совпадает с абстрактно-хронологическим порядком
следования работ, имен и т. д. Но в общем, чтобы судить об уровне
разработки той или иной научной проблемы, достаточно
изучить последние работы, посвященные данной проблеме.
В этом отношении характерный образец представляют
работы Г.А. Подкорытова1, и его позиция в данном вопросе
представлена в одной из последних коллективных работ,
написанных ленинградскими авторами, в работе
«Материалистическая диалектика как теория развития»2, которой мы в
данном случае и воспользуемся.
«Прежде всего, - пишет Подкорытов, - историзм есть
сознание того, что все является ставшим, что все природные,
общественные и духовные явления имеют историю. Термин
«историческое», прилагаемый к предметам и явлениям объективной
действительности или к понятиям о них, дается для того, чтобы
подчеркнуть их развитие, их преходящий характер»3.
Таким образом, у Подкорытова получается, что «историзм»
это абстрактное выражение сознания того, что все имеет свое
начало и свой конец. Иначе говоря, это является выражением
того сознания, которое нашло свое проявление еще в
известных афоризмах Гераклита Темного из Эфеса: «Все течет и все
изменяется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку» и т. д.
Известно, что Гераклита считают также родоначальником
диалектики как наиболее общего учения о развитии. Возникает,
естественно, вопрос: в каком отношении находятся между собой
такие категории, как «историзм», «диалектика», «развитие»?
Подкорытов, пытаясь разобраться в этом вопросе, хотя
его четкой постановки в тексте не встретишь, ссылается на
известную мысль В.И. Ленина о том, что диалектика включает
историчность. Но что означает здесь «историчность»?
1 См. Подкорытов ГА. Историзм как метод научного познания. Л.,
1967.
2 Материалистическая диалектика как теория развития. Л., 1982.
3 Материалистическая диалектика как теория развития. Л., 1982, с. 41.
13
Когда В.И. Ленин пишет: «Весь дух марксизма, вся его
система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь
(а) исторически; (ß) лишь в связи с другими; (у) лишь в связи с
конкретным опытом истории»1, то что является здесь
выражением историзма материалистической диалектики, положение
(а) или положение (у), или то и другое вместе?
Все дело в том, что выражением историзма в данном
случае являются оба положения, и одно от другого отрывать
никак нельзя, иначе мы скатимся на позиции абстрактного
«буржуазного» историзма. Рассматривать вещи конкретно-
исторически -это и значит рассматривать их в связи с
конкретным опытом истории, то есть в связи с конкретным
опытом общественного развития, а не просто развития. И потом
в данном случае речь идет о рассмотрении «положений», а не
просто предметов окружающей действительности. Иначе
говоря, это положение Ленина надо понимать не в объектном,
как сейчас выражаются, а в методологическом плане. А это
существенно разные вещи: одно дело исторически подходить
к изучению нашей планетарной системы, другое -
исторически подходить к положению о том, что наша планетарная
система однажды возникла из газопылевого облака. Дело в том,
что исторически можно подходить и к положению о том, что
наша планетная система возникла не из газопылевого облака,
как это утверждают Кант и Лаплас, а она возникла в
результате божественного творческого акта, как этот вопрос
трактует христианское вероучение. Исторически можно подходить и
к любому метафизическому положению. Исторически можно и
нужно подходить к учению о строении атома, хотя это строение
со времен Демокрита не изменилось. Не изменилось строение,
но изменилось наше знание о строении. Наше знание изменяется
даже там, где объект остается неизменным. И принцип
историзма в его конкретном выражении требует учета этого изменения,
учета всего исторического опыта изучения данного явления.
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329.
14
Иначе говоря, действительно всеобщим и действительно
конкретным принцип историзма становится как принцип
исторического подхода к познанию, как историзм в теории
познания. «Принцип историзма, исторического подхода к
познанию, - как пишут авторы «Материалистической диалектики»
(под редакцией академика П.Н. Федосеева), - пронизывает
все учение материалистической диалектики о познавательном
процессе»1. И с этим можно целиком и полностью согласиться.
Но как это совместить с утверждением о том, что «существо
диалектико-материалистического принципа историзма
заключается в понимании объективной реальности как
развивающейся»2. И дело не в том, что это неверно вообще. Вообще
это верно. Но это никак не характеризует существо именно
диалектико-материалистического историзма.
Подлинный историзм, - торжественно заявлял В.П. Ко-
хановский, - «неотделим от пролетарской коммунистической
партийности, включающей в себя критику реакционных
антимарксистских концепций и являющейся высшим
выражением объективного подхода к действительности»3. Но для
коммунистической партийности признания того, что «все
развивается», мало. «Если все развивается, то относится ли сие
к самым общим понятиям и категориям мышления?» - как
отмечал В.И. Ленин4. И именно здесь проявляется существо
марксистско-ленинского историзма, а вовсе не в том, что «все
развивается».
При абстрактном понимании историзма исторический
подход требуется только в науках «исторических», и он
сводится по существу к абстрактному выражению идеи развития.
Г.А Подкорытов понимает его как «основу развития», как дви-
1 Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. М., 1980,
с. 229-230.
2 Там же, с. 221.
3 Кохановский В.П. Историзм как принцип диалектической логики,
с. 40.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 229.
15
жение «от прошлого к будущему». Но движение от прошлого
к будущему через настоящее - это не основа развития, а его
имплицитное свойство, такое же, как равенство всех радиусов
круга, или как протяженность тела. Если мы говорим «тело»,
то этим уже сказано, что это нечто протяженное. Если мы
говорим развитие, то этим уже предположено и пространство,
и время, и движение, и прошлое и будущее. Нельзя говорить,
что абстрактное выражение некоторой конкретности
является его «основой», например, абстрактное выражение идеи
развития является основой конкретного историзма. Наоборот,
конкретный историзм является основой для понимания
всякого развития, подобно тому, как анатомия человека является
основой для понимания анатомии обезьяны. С помощью
высшего можно и нужно объяснять низшее, но не наоборот.
«В психологических исследованиях, - пишет Подкоры-
тов, - историзм заключается в признании решающего значения
проблемы общественно-исторической обусловленности
психики человека»1. Это верно. Но этого опять-таки мало. Во-первых,
марксизмом придается решающее значение
общественно-исторической практике не только в психологических, но и в логико-
гносеологических исследованиях. Это, во-первых. Во-вторых,
это должно быть сказано не под конец и не между прочим, а
это должно быть положено в основу. В этом состоит существо
диалектико-материалистического историзма, того историзма,
который вошел в марксизм через философию Гегеля, а историзм
последнего состоит вовсе не в том, что у него «все развивается»,
а в том, что он исторически понимает природу человеческого
мышления и человеческого сознания».
Самым распространенным и характерным недостатком
многих современных трактовок историзма, и в этом все они
сходны с трактовкой историзма у Подкорытова, является
утрата специфического содержания именно историзма,
исторического. И с этим связана также утрата специфического
1 Материалистическая диалектика как теория развития, с. 49.
16
содержания логического. Другой вопрос, что есть
человеческое мышление? Диалектический материализм и отличается от
материализма недиалектического, материализма
метафизического и созерцательного. Он отличается как раз историзмом
в понимании мышления и его логики. Строго говоря,
«носителем» логического является не натуралистически понятая
человеческая голова, а сам реальный исторический процесс.
Именно в этом пункте проявляется проблема соотношения
логики и истории, логического и исторического. Домарксов-
ский материализм такой проблемы не знал: для него если
истина, то есть совпадение мысли и действительности, т. е. вся
сразу и целиком, иначе вообще нет никакой истины. А для
материалистической диалектики истина есть процесс, процесс
не только логический, но и исторический. Вот почему если мы
стоим не на исторической, общественно-исторической, точке
зрения на природу человеческого мышления, а на точке
зрения натуралистической, то специфика диалектики
логического и исторического полностью испаряется, она в лучшем
случае сводится к проблеме сочетания «логического способа» и
«исторического способа» исследования.
Разумеется, логическое в марксистском понимании
является выражением объективной закономерности, в том числе и
исторической. Но логикой эта объективная внутренняя
закономерность становится только тогда, когда она отразилась в
человеческом мышлении и уже противостоит объективному
процессу в качестве формы мышления. Таким образом, в
данном вопросе придется признать правым Э.В. Ильенкова.
«Вопрос об отношении логического к историческому, - писал он, -
или, как он сформулирован у Маркса, об отношении научного
развития к действительному развитию, был непосредственно
связан с необходимостью материалистически обосновать
способ восхождения от абстрактного к конкретному»1.
1 История материалистической диалектики. От возникновения
марксизма до ленинского этапа. М., 1970, с. 265.
17
Согласно этому пониманию, мышление, восходящее к
конкретному, не есть абстрактно-логическое развитие из
некоей «идеи», а есть выражение действительного движения.
Таково общее решение вопроса, которому диаметрально
противостоит другое понимание, которое, в частности, представлено
И.С. Нарским. По мнению последнего, движение от
абстрактного к конкретному - это движение от сущности к явлению, а
не наоборот. Следовательно, это движение не может совпадать
с действительным движением1. Иначе пришлось бы признать,
что в действительном движении сущность предшествует
существованию, а это очень напоминает учение Платона и Гегеля.
Это понимание справедливо критикуется в работе
И.К. Смирнова2. И совершенно справедливо, потому что, если
теоретическое развитие не совпадает с действительным
развитием, то логика не совпадает с историей, и единая логика
распадается на логический и исторический «способы». Но, главное,
не получается никакого материалистического обоснования
логики человеческого мышления и метода научного развития.
Материалистическое обоснование логики человеческого
мышления - это ее историческое обоснование, это выведение
ее из истории освоения общественным человеком окружающей
действительности. Если такого обоснования мы не даем, то мы
невольно скатываемся в вопросе о природе логического на
субъективистские позиции. И не случайно в кантианской традиции
происходит резкое противопоставление «логического способа»
«историческому способу». Именно к этой традиции невольно
скатываются некоторые марксистские авторы, которые сводят
проблему диалектики логического и исторического к проблеме
соотношения логического и исторического «способов»
исследования. В.И. Столяров пишет, например, о «конкретно-хроноло-
1 Нарский И.С. Вопросы диалектики познания в «Капитале» К.
Маркса. М., 1959, с. 342.
2 Смирнов И.К. Метод исследования экономического закона движения
капитализма в «Капитале» К. Маркса. Л., 1984, с. 28-29.
18
гическом» и «абстрактно-теоретическом» способах
исследования. Разумеется, в этой терминологической новации самой по
себе еще нет ничего плохого, хотя она путает и сбивает с толку.
Но плохо то, что этим освящается разрыв логики и истории.
Конечно, для анализа предварительное выделение двух
указанных «способов» возможно и даже необходимо. Но есть
анализ и анализ. «Существует два вида анализа, - отмечал в
этой связи А. Лабриола, - можно в процессе анализа
механически расчленять в теории части организма на множество
элементов, составлявших единое целое; но можно также
разъединять и выделять элементы лишь для того, чтобы увидеть в
результате объективную необходимость их совместного
действия ради конечного результата, и только такой анализ
представляет ценность для понимания истории»1.
«Абстрактно-теоретический» и
«конкретно-хронологический» способы исследования могут взаимодействовать
только тогда, когда у них есть общая основа - конкретный историзм.
Но тогда они перестают быть «абстрактно-теоретическим» и
«конкретно-хронологическим» способами, а становятся
конкретно-логическим и конкретно-историческим способами.
Если же такого внутреннего единства нет, то
«абстрактно-теоретический» и «конкретно-хронологический» способы, как бы
они ни назывались, разделяются непроходимой пропастью и
по существу отождествляются с неокантианскими
«индивидуализирующим» и «генерализирующим», «идеографическим» и
«номотетическим» методами. И.В. Тугаринов в этом
простодушно проговаривается, когда он заявляет, что этому
различению методов у неокантианцев в марксизме соответствует
учение о логическом и историческом методах познания2.
Это отождествление марксизма с неокантианством
справедливо критикует СП. Сайко. Он справедливо замеча-
1 Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М.,
1960, с. 26.
2 Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968, с. 98.
19
ет также следующее: «Выяснение логической природы
конкретных понятий имеет первостепенное значение для
понимания общей основы логического и исторического методов
познания»1. Именно выяснение логической природы такого,
например, понятия, как товар, как мы видели, обнаруживает
его историческую природу и внутреннее совпадение
логического и исторического как основу единства логического и
исторического способов познания.
Такая основа отсутствует также в работе Б.А. Грушина
«Приемы и способы воспроизведения в мышлении
исторических процессов развития»2, основным недостатком которой,
по словам З.М. Оруджева, является «противопоставление
исторического способа рассмотрения объекта логическому, как
генетического - структурному»3. Здесь опять происходит
подмена терминов, которая не проходит безвредно для
адекватного понимания марксовой диалектико-материалистической
концепции единства логического и исторического.
Автору предлагаемой работы ни в коем случае не хотелось
бы содействовать тому вредному предрассудку, что единство
логического и исторического, вообще метод восхождения от
абстрактного к конкретному, имеет отношение только лишь к
индивидуальной манере, или индивидуальному стилю
мышления только лишь Маркса и только лишь применительно к
«Капиталу», что в изменившихся исторических условиях, в
отношении современной науки это все уже «устарело» и т. д.
Поэтому там, где это только возможно, автор предлагаемой
работы старался поднимать принцип единства логического и
исторического до его всеобщего значения, или, как принято
сейчас говорить, до общенаучного значения. И если в настоя-
1 Сайко С. Исторический метод и проблема конкретности познания.
«Становление и структура сознания и познания». Иваново, 1983, с. 116.
2Грушин Б.А. Приемы и способы воспроизведения в мышлении
исторических процессов развития. М., 1956.
3Оруджев З.М. К. Маркс и диалектическая логика. Баку, 1964, с. 19.
20
щей работе значительное место будет занимать анализ
экономических текстов Маркса под углом зрения метода, то это
вовсе не означает, что речь идет только о круге методологических
идей, не выходящих за пределы специфически экономической
теории.
21
Глава первая. Принцип историзма и принцип
развития в материалистической диалектике
§1. Зачем нужен «исторический подход» к познанию
действительности
Материалистическая диалектика, как было уже сказано,
неотделима от органически присущего ей историзма, который
находит свое высшее и адекватное проявление в
материалистическом понимании истории. Вместе с тем, последовательно
исторический подход ко всякой изучаемой действительности
позволяет преодолеть эмпиризм, присущий традиционной
истории и тесно связанной с ней позитивистской методологии. В
чем преимущество исторического подхода перед
неисторическим? Почему он не только желателен, но и обязателен с точки
зрения диалектико-материалистического подхода?
Дело в том, что исторический подход в определенном
смысле совершенно незаменим во всяком научном анализе,
поскольку в задачу науки входит открытие сущности в
явлении, которая отнюдь не совпадает с последним, - мало того,
в явлении вещи выглядят не только иначе, но и
совершенно противоположным образрм по отношению к сущности,
а сущность, согласую гегелевскому определению, есть
«прошедшее, но вневременно прошедшее бытие»1. Иначе говоря,
сущность есть то, чем данное явление перестало быть в
своей непосредственности. Поэтому-то сущность и невозможно
открыть непосредственно в явлении, для этого необходимо
1 Гегель. Наука логики. Т. 2. М., 1971, с. 7.
22
определенное опосредствование, которое по своему
направлению соответствует действительному развитию.
Следовательно, необходимо заглянуть в прошлое, чтобы понять суть
настоящего. «Экономисты, - писал Маркс, - объясняют нам,
как совершается производство при указанных отношениях;
но у них остается невыясненным, каким образом
производятся сами эти отношения, т. е. то историческое движение,
которое их порождает»1.
Таким образом, неисторическому взгляду на вещи
соответствует эмпиризм, который не идет дальше обманчивой
видимости. Различие между историческим и эмпирическим
(фенотипическим) взглядами на вещи известный советский
психолог Л.С. Выготский, который, кстати, пожалуй, первый
поставил психологическую науку на почву конкретного
историзма Маркса, поясняет примером из области биологии.
«Преодоление описательной фенотипической точки зрения, -
пишет он, - было связано с открытием Дарвина. Открытое им
происхождение видов положило основание для совершенно
новой классификации организмов по совершенно новому
типу образования научных признаков... Явление
определяется не на основе его внешнего вида, но на основе его
реального происхождения. Различие этих двух точек зрения можно
разъяснить на любом биологическом примере. Так, кит с
точки зрения внешних признаков, несомненно, стоит ближе к
рыбам, чем к млекопитающим, но по биологической природе он
все же ближе стоит к корове и оленю, чем к щуке или акуле»2:
Фенотипически детское мышление развивается от
«эгоцентрического к социальному, и это представляется
истинным, «естественным» путем его развития, - по сути же
эгоцентрическое мышление есть всего лишь форма
проявления социальной сущности человеческого мышления, которое
именно, по сути, социально от начала и до конца. И поскольку
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 129.
2 Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1983, с. 97.
23
задача науки состоит в том, чтобы за обманчивой видимостью
вскрывать сущность вещей, исторический подход, при
котором только и вскрывается сущность как «прошедшее бытие»,
оказывается единственно научным подходом к изучаемым
явлениям. В этом и состоит в самой общей форме единство
логического и исторического: исторический метод это не
дополнительный по отношению к логическому методу, а это тот
же самый логический метод на высшем этапе его развития.
В отношении сути человеческого мышления
исторический метод тоже оказывается единственно научным и
единственно материалистическим методом. Ведь земные
основания нашего мышления мы можем вскрыть только тогда, когда
мы, отправляясь от этих оснований, воспроизведем весь путь,
пройденный мышлением в процессе его становления и
развития. А вскрыв эти основания, мы тем самым вскрываем и
сущность мышления, то есть, выполняем истинно научную
задачу, ведь материалистически понятая сущность ничего
другого и не означает, кроме как реальное основание
интересующего нас явления.
С пониманием сущности как «прошедшего бытия»
связано у Гегеля также понимание истины как процесса.
Согласно этому пониманию, «истина не есть отчеканенная монета,
которая может быть дана в готовом виде и в таком же виде
спрятана в карман»1. Она не может быть дана в готовом виде,
потому что истина выражает суть, а «суть дела исчерпывается
не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть
действительное целое, а результат вместе со своим
становлением»2. Но это не только логический процесс, это процесс,
который разворачивается в исторический процесс научного
освоения действительности, в историю науки. И поскольку
в истории науки отразилась «история» сущности, истина как
процесс, постижение истории науки становится необходимым
1 Гегель. Сочинения. Т. IV. М., 1959, с. 20.
2 Там же, с. 2.
24
условием постижения ее логики. И прежде всего в этом
состоит сущность исторического подхода и его необходимость для
логики познания, согласно диалектике.
В не до конца осознанной форме идея «исторического
подхода» присутствует уже у мыслителей Нового времени.
Декарт, например, считал, что природу вещей «гораздо легче
познать, видя их постепенное возникновение, чем
рассматривая их как совершенно готовые». А Кондильяк писал в этой
связи следующее: «Пробный камень для определения
заблуждения и истины заключается в следующем: доберитесь до
происхождения, изучите, каким образом они проникли в
человеческий дух, и вы сумеете прекрасно отличить их друг от
друга. Критикуемые мною философы недостаточно знакомы
с употреблением этого метода». И хотя мы привыкли
связывать идею «исторического подхода» с более поздним
временем, можно говорить также и об историзме времен Декарта,
Спинозы и Кондильяка. Это иногда называют классическим
историзмом.
Парадокс состоит в том, что XVII-XVIII столетия
считаются периодом безраздельного господства классической
метафизики, отрицающей, как это принято считать, развитие.
Примером такого рода метафизики является, например,
метафизика того же Декарта. И мы можем окончательно запутаться
в данном вопросе, если не поставим его более конкретно:
развитие чего отрицала метафизика. Так вот, метафизика отрицала
развитие в сущности, или развитие сущности. Сущность вещей
остается вечной и неизменной, а сами вещи возникают,
изменяются и исчезают. Поэтому-то наблюдение становления вещи, ее
генезиса, может облегчить понимание ее сущности, но не
является обязательным для этого понимания.
Диалектика, наоборот, считает, что не только явление, но
и сущность вещей изменчива. И потому, чтобы преодолеть
обманчивую видимость вещей, их необходимо рассматривать
в развитии, в процессе их становления. Таким образом, здесь
25
кардинально меняется характер «исторического подхода». И
это изменение связано прежде всего с именем Гегеля, способ
мышления которого, по словам Энгельса, «отличался от
способа мышления всех других философов огромным историческим
чутьем, которое лежало в его основе»1. Интересно, что одна из
первых реакций на «огромное историческое чутье»
гегелевского способа мышления, а именно Шопенгауэра, шла именно по
линии противопоставления историческому способу
понимания сущности у Гегеля - кантовского понимания сущности
как непознаваемой, а потому неизменной для нас, вещи-в-
себе. Шопенгауэр держится того мнения, что «бесконечно
далек от философского познания мира всякий полагающий, что
он может схватить сущность оного как-нибудь исторически»2.
Сущность, считает он, нельзя схватить исторически, потому,
что сущность вневременна, а «историческая философия
принимает, словно Кант никогда не существовал, время за
определение вещей самих в себе и останавливается на том, что Кант
называет явлением, в противоположность вещи самой в себе,
а Платон грядущим, никогда не сущим, в противоположность
сущему, никогда не грядущему»3.
Отсюда вполне законный вывод: «Истинное философское
миросозерцание, т. е. то, которое учит нас познавать
внутреннее существо мира и таким образом переходить за пределы
явления, есть именно то, которое спрашивает не откуда и куда и
зачем, а только всегда и всюду, по отношению к миру,
спрашивает, что, т. е. которое рассматривает вещи не по какому-либо
отношению, не как становящиеся и преходящие..., а наоборот,
разбирает именно то, что по выделении всего этого..., остается
проявляющееся во всех соотношениях, само оным не
подвластное, вечно себе равное существо мира, идеи оного»4.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 496.
2 Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление, с. 323-324.
3 Там же, с. 324.
4 Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление, с. 324-325.
26
Таким образом, вопреки обыденному представлению,
которому рассудочная философия сообщает лишь внешнюю
научную форму, историческое познание дает знание высшего
типа, знание, соответствующее теоретическому уровню
познания, тогда как без историзма мы имеем лишь эмпиризм и
феноменализм, не идущие дальше обманчивой видимости
вещей. И в этом находит свое проявление действительный
историзм метода, а не в том, что это принцип подхода к
действительности как развивающейся. Декарт тоже подходил к
действительности как к развивающейся, но этот «историзм»
не распространял принцип развития на сущность вещей и на
само мышление. Он не распространял его на собственно
историю, а потому его и нельзя считать историзмом в подлинном
смысле слова. В классической диалектике сама логика
мышления начинает рассматриваться как возникающая и
развивающаяся. Это в особенности относится к философии Фихте
и Гегеля. Но у первого развитие в основном выступает как
индивидуально-психологический процесс, а не как процесс
исторический. Поэтому это еще тоже не историзм. Только у
Гегеля логическое развитие впервые начинает выступать как
выражение исторического развития, в учении Гегеля впервые
в истории мысли встречаются и соединяются между собой
история и логика. Как писал Р. Гайм, «гегелево понимание
истории имеет характер метафизический, а его
метафизика - характер исторический»1. А потому здесь впервые
можно говорить об историзме в собственном смысле слова:
подлинный историзм проявляется только в единстве логики и
истории, в единстве логического и исторического.
В связи с этим надо отличать также естественно научный
историзм XIX века, возникший непосредственно на основе
развивающегося естествознания. Особую роль здесь сыграла
эволюционная теория Дарвина, которая заслуженно
считается одним из трех великих открытий, позволивших «в доволь-
1 Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861, с. 384.
27
но систематической форме дать общую картину природы как
связного целого»1. Но на этой почве самой по себе не могла
вырасти материалистическая диалектика, относительно чего
очень часто заблуждаются до сих пор. Материалистическая
диалектика невозможна без исторического понимания
природы самого человеческого мышления, а понять это можно
было только на пути развития мировой философской мысли,
в особенности немецкой классической философии. Поэтому
на почве эволюционной теории и других теорий развития
мог сформироваться и сформировался буржуазный
эволюционизм как составная часть философии позитивизма,
отрицающей вообще деление действительности на явление и
сущность, отчего для этой философии «исторический подход» не
может иметь того значения, которое он имеет для
диалектики Гегеля и Маркса.
Наиболее характерным выразителем этого
эволюционизма явился Г. Спенсер, которым, прежде всего,
представлена та линия в развитии историзма, которая идет «не
через философию Гегеля». Причем Спенсер, вслед за Контом и
Сен-Симоном, пытался распространить принцип развития
на понимание общества. Но это распространение
понималось буквально, а именно как применение понятий и
представлений, добытых в эволюционной теории, на понимание
сущности общественных форм. Естественно, что такие
понятия как «интеграция», «дифференциация» и т. д. оказались
слишком абстрактными для того, чтобы понять специфику
именно общественного развития.
Эволюционизм оказал определенное влияние на
европейскую социал-демократию, на ту ее оппортунистическую часть,
для которой идея общественной эволюции служила
методологической базой идеи «мирного врастания» капитализма в
социализм, Вместе с тем, этот эволюционизм вытеснял
диалектику с ее действительным историческим подходом, позво-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 304.
28
ляющим понять эксплуататорскую сущность капитализма во
всех его исторических формах и необходимость
социалистической революции для действительного освобождения
рабочего класса и всех трудящихся. А это также гармонировало с
оппортунистическими устремлениями европейской социал-
демократии, которые в особенности нашли свое проявление
в творчестве Э. Бернштейна, который считал гегелевскую
диалектику «ловушкой», в которую попали Маркс и Энгельс, и
Каутский, который заявлял, что Маркс и Энгельс шли от Гегеля,
а он шел от Дарвина.
Эволюционный подход к общественному развитию ведет
к утрате того внутреннего противоречия общественной
системы, которое обостряется по мере ее развития и ведет ее к
ее историческому концу. Но точно также получается и в том
случае, когда абстрагируются от эмпирической истории и
рассматривают только «структуру» определенной
общественной системы. То есть при этом неизбежно получается так, что
противоречие, лежащее в основе системы, или утрачивается,
или становится не условием исчезновения, гибели системы, а,
наоборот, ее устойчивости, условием, как считал Л. Альтюссер,
пытавшийся дать новую жизнь марксизму на основе
структуралистской методологии, ее «супердетерминации». Отсюда и
получается, что противопоставление «системно-структурного
анализа» историзму, как это делают структуралисты и
позитивисты, оказывается формой апологии существующей системы,
апологии буржуазного общества. Причем это
противопоставление может происходить с двух сторон: со стороны
«системы» против историзма, и, наоборот - со стороны историзма
против «системы». Последнее делает, например, A.C. Арсеньев,
когда он заявляет, что «логика как система категорий не может
включить время как аргумент своего собственного движения,
а, следовательно, не может быть историчной, т. е. особенной и
содержательной»1.
1 Арсеньев A.C. Диалектическая логика как открытая система. В кн.:
29
Это противопоставление историзма системе, разумеется,
исключает постановку вопроса о единстве логического и
исторического, историзма и диалектики как логики и теории
познания марксизма. Марксизм, по Ленину, обязывает «смотреть
на общество, как на живой организм в его функционировании
и развитии»1. Говорят поэтому, что марксизм не против
структурно-функционального анализа. Надо сказать точнее: одной
из черт марксистской методологии, материалистической
диалектики является системность. Но в диалектике анализ системы
неотделим от исторического анализа, причем ведущим, главным
при этом является исторический анализ, поскольку без него
невозможно понять сущность системы. Связь между
«системным» анализом и анализом историческим, или, как это принято
выражать в марксистской терминологии, между логическим и
историческим такова, что одно другое обусловливает, одно
другое делает возможным. Но это только в том случае, если мы
хотим достичь конкретности, конкретного исторического анализа
конкретной системы. Если мы от этой неразрывной связи
абстрагируемся, как это делают структурализм и позитивизм, то
мы получаем в итоге абстрактный (эмпирический)
исторический анализ и столь же абстрактный (формальный) логический
анализ. Основным методом и там и здесь становится
формальная логика с ее «запретом» противоречия.
Исторический анализ поднимает наше знание
действительности на уровень теории только лишь при условии
единства исторического и логического. Только при этом условии
прослеживается внутренняя связь фактов, а не внешняя,
чисто хронологическая, как это имеет место при эмпирическом
историческом подходе. При каких условиях исторический
анализ становится теоретическим анализом, - это и
призвана вскрыть диалектика логического и исторического. Поэтому
без этой диалектики никакого конкретного историзма нет, а
Проблемы диалектической логики. Алма-Ата, 1958, с. 133.
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 192.
30
есть только лишь абстрактный историзм, проявляющийся в
двух крайних формах: в форме абстрактной, оторванной от
реальной истории теории и в форме исторического
эмпиризма, абстрактного историографизма, о чем речь пойдет
специально в соответствующем месте.
Принцип историзма ближайшим образом определяется
как принцип подхода к действительности как к
развивающейся. Но этого оказывается мало, как только мы поставили
вопрос о том, а зачем нужен такой подход. И если необходимость
такого подхода диктуется той общей целью всякой науки, что
она должна открывать сущность в явлениях, то это
конкретизирует принцип историзма в том смысле, что он имеет своим
основанием и содержанием единство логического и
исторического. Но этим еще не до конца обосновывается необходимость
исторического подхода, его всеобщность и необходимость.
Обычным возражением против всеобщности этого принципа
является то, что не всякая наука и не во всех случаях изучает
развивающуюся действительность. Для того чтобы снять это
возражение, необходимо четко различать две вещи: развитие
вообще и историческое развитие. В диалектико-материалис-
тической концепции развития эти вещи различаются, в
отличие от позитивизма, который это различие провести не может.
Этому вопросу и посвящен следующий параграф.
§2. Отличие диалектической концепции развития
от позитивистской
«В наше время, - отмечал Ленин в 1914 году, - идея
развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное
сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако
эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс,
опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо
богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции»1.
'Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 55.
31
Действительно, в конце XIX - начале XX века трудно было
встретить уважающего себя и науку «буржуазного»
мыслителя, который не говорил бы о развитии, об историческом
подходе и т. д. Позитивизм и естественно-научный материализм
того времени стояли на точке зрения эволюции, именно с этой
точки зрения и пытались сблизить марксизм правооппорту-
нистические лидеры II Интернационала, и прежде всего его
ведущий лидер и теоретик К. Каутский.
Та идея развития, которая идет «не через философию
Гегеля», лишена, как известно, диалектики с ее «скачками»,
борьбой противоположностей, отрицанием отрицания. Но дело не
только в этом. «Скачки» буржуазная философия тоже освоила,
если в особенности вспомнить такие течения позднебуржуаз-
ной философии, как холизм и теория эмержентной эволюции.
А дело в том, что она лишена историзма, однако не в том
смысле, что она отрицает развитие «от прошлого через настоящее к
будущему», а в том, что эта идея не распространяется на
развитие человеческого общества, или, во всяком случае, не
доходит до понимания специфически общественно-исторических
закономерностей развития.
Строго говоря, несмотря на расхожее употребление термина
«историческое», он применим не к любому первому попавшемуся
на глаза «примеру» развития, а только лишь к общественному
развитию. Как отмечали Маркс и Энгельс, у овец и собак нет
истории, хотя и овцы и собаки «в своем теперешнем виде являются,
несомненно, «продуктом» исторического процесса»1. Понятие о
специфически историческом развитии впервые появилось лишь в
начале XIX века в философии Шеллинга и Гегеля и было
подвергнуто материалистической переработке Марксом и Энгельсом.
Необходимость в этом понятии диктовалась задачей теоретического
обоснования материализма, достраивания его «доверху».
Диалектический материализм как вполне определенное
понимание соотношения бытия и мышления не ограничи-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 71-72.
32
вается простым указанием на первичность бытия, но
теоретически воспроизводит сам процесс рождения мышления из
материального бытия. Без этого теория развития была бы
существенно неполна.
«Если все развивается, - спрашивает Ленин, - то
относится ли сие к самым общим понятиям и категориям
мышления?», и отвечает: «Если нет, значит, мышление не связано с
бытием. Если да, значит, есть диалектика понятия и
диалектика познания, имеющая объективное значение»1. Здесь, в
этом пункте оборачивается метафизикой, а в конечном счете
и идеализмом, весь домарксовский материализм, хотя немалая
доля его представителей была согласна с принципом развития
«вообще». Метафизика не допускает развитие в самое логику
мышления, развитие которой можно правильно понять
только как историческое, как отражение исторического развития
материальной общественной практики. Это возможно только
на почве материалистического понимания истории.
Материалистическое понимание истории и есть
воплощение диалектико-материалистического историзма. Согласно
этому пониманию сознание есть продукт общественного бытия.
Конкретный историзм Маркса доводит развитие материи до
развития сознания, до чего никакая разновидность абстрактного
историзма не доходит. Он достраивает материализм «доверху»,
делает его целостным учением, охватывающим собой все
явления в природе и обществе, начиная с простейших механических
взаимодействий и кончая высшим цветом развития материи -
мыслящим духом. Только такой историзм, собственно говоря, и
является конкретным, то есть не некоторой общей отвлеченной
идеей развития, равно применимой к разным областям
действительности, а принципом, позволяющим «схватить» и
объяснить своеобразие различных ступеней единого процесса
развития, поступательный характер этого процесса, восхождение от
элементарных к высшим формам движения.
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29 , с. 229.
33
Конкретный историзм оказывается, таким образом,
принципом действительно последовательного материализма.
«Конечно, - писал в этой связи Маркс, - много легче
посредством анализа найти земное ядро туманных религиозных
представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной
жизни вывести соответствующие им религиозные формы.
Последний метод есть единственно материалистический, а
следовательно, единственно научный метод. Недостатки
абстрактного естественно-научного материализма,
исключающего исторический процесс, обнаруживаются уже в абстрактных
и идеологических представлениях его защитников, едва лишь
они решаются выйти за пределы своей специальности»1.
Домарксовский материализм не мог вывести сознание,
мышление из материального бытия, потому что он не видел
той конкретной формы материального бытия, материального
общественного бытия, материальной практики, труда, на
основе которой только и может возникнуть сознание. Он
поэтому был неисторическим материализмом, хотя часто и стоял на
точке зрения развития.
Когда марксистский историзм трактуют просто как
понимание развития «от прошлого через настоящее к
будущему», то это по существу представляет собой самое абстрактное
выражение этого принципа, его необходимое, но не
достаточное определение. Историческое исследование, конечно, имеет
место там, где исследуемый предмет претерпевает развитие.
Но ограничиться этим - значит сделать существенную
уступку историзму абстрактному. Конкретный историзм
рассматривает развитие не только в его абстрактно-общих моментах,
но и его высшие формы, которые только и могут дать ключ к
пониманию всего процесса, подобно тому, как анатомия
человека дает, по словам Маркса, ключ к анатомии обезьяны.
Только высшее может быть основой для понимания низшего. Без
этого историзм не может быть конкретен.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 383.
34
В одной из своих ранних работ с характерным названием
«Основные элементы исторического взгляда на природу.
Природа - жизнь - психика - общество» (СПб., 1899)
небезызвестный A.A. Богданов писал: «Общественные формы
представляют из себя частный вид биологических форм приспособления.
Следовательно, развитие и вообще изменения общественных
форм совершаются по тем же законам, которые даны
современной наукой для всей области жизненных процессов»1.
По сути дела здесь действовала та же логика, которая была
свойственна материализму XVII-XVIII веков, когда научно-
материалистическим объяснением явлений признавалось
только их механистическое объяснение. В конце XIX - начале
XX столетий положение изменилось лишь в том отношении,
что на место механики стали ставить биологию. А биологизм
в понимании общественно-исторических явлений и есть
характерный образчик абстрактного буржуазного историзма,
когда специфика собственно исторических закономерностей
игнорируется.
Игнорируется она, кстати, не только в случае
механистического, биологического или энергетического
объяснения истории, но и в случае, так сказать, «астрофизического»
объяснения, когда, например, великое переселение народов
объясняется усилением солнечной активности. Конечно,
наступление пустыни, лишившее скотоводов-кочевников
основы их существования, могло побудить их к переселению. Но в
иных конкретно-исторических условиях это могло привести
к совершенно иным последствиям. И потому
«астрофизическое» объяснение исторических событий не может быть само
по себе конкретным: оно выносит источники и движущие
силы исторического развития за пределы самой истории. В
этом - главный порок абстрактного историзма, главная его
характерная черта. Не только биологизаторские интерпретации
1 Богданов A.A. Основные элементы исторического взгляда на
природу, с. 165.
35
истории, но и всевозможные концепции «технологического
детерминизма» следуют этой общей схеме абстрактного
историзма, которая лежит в основе и откровенно идеалистического
понимания истории. Все они ищут источник движения
общества вне его самого.
Богданов не отрицал, что «все развивается». Но Ленин,
тем не менее, крайне негативно отнесся к такой «теории
развития». «Богданов, - писал он, - занимается вовсе не
марксистским исследованием, а переодеванием уже раньше
добытых этим исследованием результатов в наряд биологической и
энергетической терминологии. Вся эта попытка от начала до
конца никуда не годится, ибо применение понятий «подбора»,
«ассимиляции и дезассимиляции», энергии, энергетического
баланса и проч. и т. п. в применении к области общественных
наук есть пустая фраза. На деле никакого исследования
общественных явлений, никакого уяснения метода общественных
наук нельзя дать при помощи этих понятий»1.
Нельзя с помощью этих понятий уяснить конкретный
историзм метода общественных наук. Чтобы теория развития была
действительно универсальной и всеобщей, она должна
описывать действительно всеобщую и универсальную реальность.
Поэтому материалистическое понимание истории, развитое
Марксом и Энгельсом и блестяще примененное Марксом в
«Капитале», является более общей и более универсальной,
более конкретной теорией развития, чем, например,
эволюционная теория, потому что логика материалистического
понимания истории может быть методом для понимания природной
эволюции, но эволюционная теория не может стать методом
для понимания истории.
Отсюда вытекает и единство исторического и
диалектического материализма, вернее - историзма и диалектики
современного материализма. Только через конкретный историзм
материализм может быть поднят до диалектического матери-
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 348.
36
ализма. А это соответствует действительному историческому
процессу становления философии марксизма: до выработки
материалистического понимания истории в таких работах,
как «К критике гегелевской философии права», «Святое
семейство», «Немецкая идеология», «Нищета философии»,
«Манифест коммунистической партии» никакого философского
материализма Маркс и Энгельс не признавали. Без этого
историзма материализм неизбежно снова превращается в «систему
мира», «систему природы», «мировую схематику» и т. д.
Получается, с одной стороны, учение о мировой материи без
сознания, ибо сознание, по Марксу и по Энгельсу, «с самого начала
есть общественный продукт»1, а с другой - учение о сознании,
оторванном от реального исторического процесса.
Конкретный историзм не допускает отдельных,
отделенных друг от друга китайской стеной учения о природе и учения
об истории. На самом деле человек всегда имеет перед собой
«историческую природу и природную историю»2 и говорить, как
это делал Бруно Бауэр, о «противоположностях в природе и
истории» как о двух обособленных друг от друга «вещах» Маркс
и Энгельс считали неправомерным. Не может быть отношений
человека к природе до общественного бытия, до начала
человеческой истории. Только через историю и ее продукты общается
человек с природой. Можно, следовательно, говорить о
противоположности истории и природы, где история выступает как
«иное» природы, как ее собственная противоположность, в
которой и через которую та продолжает свое развитие, но уже не
как слепое и бессознательное, а как свободное и
целесообразное. Вне истории и помимо истории «оппозиция» природы и
духа становится абстрактной и недействительной, заводящей в
безнадежные тупики философской схоластики.
Не умея вывести сознание из общественной истории,
старый материализм или отождествлял сознание с какой-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 39.
2 Там же, с. 43.
37
либо естественно-природной формой материального бытия,
например, с процессами, происходящими внутри головного
мозга, или же полностью сдавал свои позиции и переходил
в свою противоположность - становился идеализмом, коль
скоро речь заходила об объяснении истории. Здесь он
апеллировал или к сознанию, или к вечной и неизменной
человеческой «природе».
Представление о некоей вечной, неизменной, внеисто-
рической «человеческой природе» есть предел абстрактного
буржуазного историзма, дальше которого он не идет.
Марксизм и самое человеческую «природу», человеческую
сущность понимает как историческую сущность, как исторически
изменяющийся «ансамбль» всех общественных отношений.
Последовательный конкретный историзм и представление о
неизменной «человеческой природе» - два абсолютно
несовместимых принципа, которые, тем не менее, некоторые
теоретики пытаются совместить в представлении о так называемой
«биосоциальной» сущности человека.
Маркс вскрыл апологетический характер
естественнонаучного материализма в понимании общественных явлений, в
понимании истории с его апелляцией к вечной и неизменной
«человеческой природе». Он отмечал в частности, что
буржуазное общество изображается его идеологами «как включенное в
рамки независимых от истории вечных законов природы,
чтобы затем, пользуясь удобным случаем, совершенно незаметно
в качестве непреложных естественных законов общества in
abstracto (вообще) подсунуть буржуазные отношения»1.
Апологетический характер апелляции к «человеческой
природе» у буржуазных экономистов отмечал и Г.В. Плеханов:
«Защищая буржуазный общественный порядок против
реакционеров и социалистов, экономисты защищали его именно
как порядок, наиболее соответствующий человеческой
природе. Усилия найти отвлеченный «закон народонаселения», - вы-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 23.
38
ходили ли они из социалистического или буржуазного лагеря, -
тесно связаны были со взглядом на «человеческую природу»
как на основное понятие общественной науки»1.
Неизменная «человеческая природа» действительно
является основным понятием буржуазной науки, и в этом ее
принципиальный антиисторизм, хотя она и говорит о
развитии человеческого общества, даже его подчеркивает. Но она
все время имеет в виду развитие общественных форм в
направлении их соответствия «человеческой природе», идеалам
абстрактного человеческого «разума». А неизменная
«человеческая природа», согласно известной поговорке, что
дышло, - куда повернешь, туда и вышло, в этом и проявляется
совершенно абстрактный и неисторический характер этого
представления, которое может быть наполнено любым
содержанием, смотря по тому, что кому нужно.
Марксистский конкретный историзм, напротив, требует
объяснять каждый раз конкретные исторические свойства
«человеческой природы» исходя из соответствующего,
исторически определенного способа материального
производства, общественных отношений. Социолог-материалист, по
словам Ленина, «делающий предметом своего научения
определенные общественные отношения, тем самым уже
изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются
эти отношения»2.
Совпадение анализа определенных общественных
отношений с анализом реальных личностей может иметь место
только на почве конкретного историзма, исключающего
отсылки к «человеческой природе» или другим неисторическим
«сущностям».
Динамизм социалистических общественных отношений
как никогда ранее в истории приходит в противоречие с абс-
1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах.
Т. 1. М, 1956, с. 537, примечание.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 424.
39
трактным представлением о человеке, с абстрактной
антропологией. Здесь как никогда ранее происходит тесное
совпадение и слияние изменения обстоятельств с изменением людей,
которое может быть рационально понято, по словам Маркса,
только как «революционная практика»1.
Последовательный историзм не допускает рядом с
историческим пониманием человеческой сущности никакой
философской антропологии, которая возникла в русле развития
буржуазной философии именно в связи с представлением о
неизменной внеисторической «человеческой природе» и вне-
исторических «ценностях».
Это, однако, не значит, что марксизм
отождествляется с историческим релятивизмом, отрицанием абсолютных,
субстанциальных моментов в развитии общества. Общее и
субстанциальное в истории, согласно марксизму, существует,
но принадлежит оно самой истории, а не природе или
мировому духу. Она включает в себя не только преходящее, но и
непреходящее, те элементарные условия общественности, без
которых не может существовать никакое конкретное
историческое общество. Но если эти формы по мере исторического
развития не меняются, то это вовсе не означает того, что они
«неисторические». Они историчны потому, что возникают
только вместе с возникновением человеческой истории и
непрерывно воспроизводятся в ее ходе.
Маркс называет неисторическим такое понимание
общественных отношений, когда они трактуются как вечные
и естественные. То есть когда историческое, социальное
отождествляются с естественно-природным. И это называется
натурализмом. И когда Маркс писал, что антиисторизм буржуазной
политической экономии состоит «попросту в превращении
преходящих общественных отношений, свойственных
определенной исторической эпохе и соответствующих данному уровню
материального производства, в вечные, всеобщие, незыблемые
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 2.
40
законы, в естественные законы, как их называют экономисты»1,
то это не означает, что он отрицал в истории постоянное,
устойчивое, субстанциальное - он протестовал только против
превращения исторических законов в «естественные» законы.
Смешение же историзма с релятивизмом характерно
именно для абстрактного историзма, когда от натурализма он
переходит к другой, столь же абстрактной, крайности и
вырывает непроходимую пропасть между природой и историей,
усматривая специфику последней в том, что она якобы лишена,
в отличие от природы, всяких устойчивых закономерностей,
всякой логики, а потому и не доступна логическому
постижению, но требует особой познавательной способности,
иррационального «вчувствования», «вживания» и т. п. И в этом
состоит характернейшая особенность абстрактного историзма:
его неспособность «схватить» диалектику относительного и
абсолютного, исторического и логического.
В конце XIX века идея развития, «прогресса» настолько
внедрилась во всеобщее сознание, что даже стала
своеобразной модой. Даже либеральные помещики в то время любили
поговорить о «прогрессе». Но абстрактное желание
«прогресса», улучшения материальных условий жизни, нравов,
политических учреждений, без понимания конкретных исторических
путей преобразования общества на разумных началах,
оборачивалось лишь либеральной фразой, только усугублявшее
лицемерие эксплуататорского общества. Именно поэтому
разговоры о «прогрессе» вызывали законную негативную реакцию
со стороны людей, искренне сочувствовавших обездоленной
и эксплуатируемой массе, таких, например, как Лев Толстой,
который совершенно справедливо подмечал, что сказать: «в
бесконечном пространстве и времени все развивается,
совершенствуется, усложняется, дифференцируется, - это значит
ничего не сказать»2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 9, с. 257.
2 Толстой Л. Не могу молчать. М., 1985, с. 55.
41
Какой обыватель не хочет улучшения своей жизни, иметь
комфорт, хорошую еду, жилье и т. д. Поэтому обыватель за
прогресс, - научный, технический и т. д., - он даже
оказывается в первых рядах борцов за этот «прогресс», но только до тех
пор, пока это не касается социальной и политической сфер, до
тех пор, пока от него не требуется ради прогресса, ради блага
целого, пожертвовать своими личными удобствами. Он легко
соглашается с тем, что «все развивается». Но сказать, что «все
развивается», это то же, что сказать, что «все к лучшему в этом
лучшем из миров». И этот наивный оптимизм оборачивается
самым мрачным пессимизмом, как только мы оставим
разговоры о прогрессе вообще и обратим свой взор на грешную
землю. Если бы каждому, как писал Шопенгауэр, «представить
воочию ужасные страдания и муки, коим жизнь его постоянно
открыта, он бы содрогнулся, и если провести упорнейшего
оптимиста по больницам, лазаретам и хирургическим камерам
истязаний, по тюрьмам, комнатам пыток и невольничьим
хлевам, через поля сражений и места казни, затем раскрыть пред
ним все мрачные обители нищеты, куда она заползает от
взоров холодного любопытства,... то наверное и он бы напоследок
убедился, какого рода этот (лучший из возможных миров)»1.
Человеку нужно знать не то, что «все к лучшему в этом
лучшем из миров», а нужно знать конкретные пути
избавления от тех зол, которые его окружают, от тех бедствий,
которые он терпит. Марксизм тем и отличается от наивного
оптимизма Лейбница и позднейших
позитивистов-эволюционистов, с одной стороны, и от безысходного пессимизма
Шопенгауэра и позднейших экзистенциалистов, с другой, что он
ставит вопрос о прогрессе конкретно-исторически: не о зле и
добре вообще, а о конкретных носителях зла и о конкретных
силах добра. «Гигантский шаг вперед, сделанный в этом
отношении Марксом, - отмечал В.И. Ленин, - в том и состоял, что
он отбросил все эти рассуждения об обществе и прогрессе
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, с. 386.
42
вообще и зато дал научный анализ одного общества и одного
прогресса - капиталистического»1. Научный анализ общества
и всех его явлений и может быть только лишь
конкретно-историческим анализом. Всякие общесоциологические теории
не могут выводить за рамки абстрактных рассуждений об
исторической необходимости вообще, о прогрессе вообще,
поэтому против такого рода теорий неизменно выступали
Маркс, Энгельс, Ленин.
И дело не в том, что эволюционная теория развития не
знает «скачков». «Скачки» сами по себе тоже ничего не
решают. Каутский признавал и «скачки». Его теория
ультраимпериализма на том и основана, что капитализм в своем развитии
делает еще один большой скачок и из империалистической
стадии перерастает в новую, когда капиталистическое
хозяйство превращается в одну-единственную монополию, а
государство - в единого и единственного собственника
капитала. После этого рабочему классу остается только взять в свои
руки государственную власть и готовую по существу
социалистическую систему хозяйства. Главная ошибка Каутского
состояла только в том, что он рассуждал абстрактно.
«Абстрактно мыслить подобную фазу можно, - дает к этой теории
свой критический комментарий Ленин. - Только на практике
это значит становиться оппортунистом, отрицающим острые
задачи современности во имя мечтаний о будущих неострых
задачах. В теории это значит не опираться на идущее в
действительности развитие, а произвольно отрываться от него во
имя этих мечтаний»2.
Дело не в «скачках» самих по себе, и не в
«постепенности» самой по себе, а дело в том, чтобы определить конкретные
исторические условия определенного конкретного «скачка»,
и в какой конкретной связи он стоит с конкретной
«постепенностью». Здесь нужна просто иная постановка вопроса -
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1 , с. 143.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 98.
43
ленинская: какие социальные силы движут общество в данном
направлении, кому это выгодно и т. д. Этим и отличается
конкретный историзм от абстрактного эволюционизма. И
поскольку абстрактный эволюционизм выгоден буржуазии, он
буржуазный абстрактный эволюционизм. Марксистский
историзм трактует не о развитии «вообще», не о прогрессе
«вообще». Его задача не в том, чтобы открыть всеобщие, незыблемые,
верные на все времена законы истории, а в том, чтобы определить
конкретные пути развития определенной, конкретной формы
человеческого общества. Его принцип не абстрактно-всеобщее, а
особенное, конкретное, исторически своеобразное: История, как
отмечал Ленин, «всегда богаче содержанием, разнообразнее,
«хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные
авангарды наиболее передовых классов»1. И именно потому, что
догматически мыслящие марксисты пытались загнать ее в рамки
незыблемых законов, она «обхитрила» и Бернштейна, и Каутского,
и даже Плеханова, который, в конечном счете, отстал от
революционного поезда, который, вопреки всякому расписанию, ушел
вперед. «...Если марксизм является для Ленина наукой, - пишет
известный французский марксист Ги Бесс, - то именно потому, что
позволяет глубоко понимать действительность, которая меняется,
историю, которая никогда не повторяется».
Конкретный историзм заключается, таким образом, в
учете исторического своеобразия. Но это не значит, что
конкретный историзм равен историческому релятивизму,
отрицающему в истории постоянное, устойчивое,
субстанциональное, - историческое своеобразие как раз и можно понять
только в свете общего, выделяющего в различных
исторических формах общества одинаковое, сходное, но, вместе с тем,
содержащего в себе все богатство особенного, единичного и
т. д. Поэтому конкретный историзм - это единство всеобщего
и особенного, логического и исторического. В этом и состоит
суть марксистского конкретного историзма.
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 75.
44
§3. Единство материалистической диалектики и
конкретного историзма
«Диалектический материализм, - писал Г.В. Плеханов, -
есть высшее развитие материалистического понимания
истории»1. Только через конкретный историзм материализм может
быть поднят до диалектического материализма. Без этого
историзма он неизбежно снова превращается в «систему
природы», «мировую схематику», учение о мире «в целом» и т. д.
Историческое развитие материализма именно таким образом
и происходило: до выработки материалистического
понимания истории никакого диалектического материализма не было
и не могло быть.
Материалистическое понимание истории, достраивая
материализм доверху, идет, вместе с тем, в его основание,
становится основой объяснения происхождения и развития
мышления и сознания человека. Без историзма материя и
сознание теряют конкретную связь между собой. На самом деле
человек никогда не имеет дела с абстрактной материальной
природой, он всегда имеет перед собой «историческую
природу и природную историю»2, и говорить, как это делал
Бруно Бауэр, о «противоположностях в природе и истории» как
о двух обособленных друг от друга «вещах» Маркс и Энгельс
считали неправомерным3, хотя этот своеобразный дуализм в
настоящее время воспроизводился в любом учебнике по
«марксистско-ленинской» философии, где, с одной стороны, речь
идет о противоположности материи и мышления, природы и
духа, а с другой - о противоположности общественного
бытия и общественного сознания. В марксизме, как справедливо
отмечает С. Раинко, - «не категории исторического материа-
1 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на
историю. М.: Госполитиздат, 1949, с. 284.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 43.
3См. там же.
45
лизма интерпретируются и обосновываются в свете открытий
диалектического материализма, а совсем наоборот - понятия и
суждения диалектического материализма становятся ясными
и приобретают свой подлинный смысл только в отношении к
структуре и содержанию исторического материализма»1
Можно, следовательно, говорить только лишь о
противоположности истории и природы, где история выступает как
«иное» природы, как ее собственная противоположность, в
которой та продолжает свое развитие, но уже не как слепое и
бессознательное, а как свободное и целесообразное. Вне
истории «оппозиция» природы и духа становится абстрактной и
недействительной. Историзм, таким образом, является основой
монизма марксистской философии. И не только философии,
но и всего марксистско-ленинского учения в целом, марксизм,
по словам Г.В. Плеханова, не есть «экономическое учение плюс
историческая теория»2, марксистский историзм, найдя свое
конкретное воплощение в материалистическом понимании
истории, является методом анализа социальной структуры
капиталистического общества, его анатомии, без чего последняя
не может быть понята по существу. Всякая попытка отделить
экономическое учение марксизма от историзма, марксистскую
теорию от истории, неизбежно ведет к серьезным искажениям
как во взглядах на общество, так и на перспективы его
исторического развития. Одно от другого неотделимо, и в этом
состоит конкретный характер марксистского историзма.
При абстрактно-историческом подходе, когда принцип
историзма понимается как развитие «вообще», не выявляется
собственная специфика истории как высшего типа развития,
которая состоит в том, что человек своей преобразующей
деятельностью превращает законы развития объективной
реальности (объективная диалектика) в формы практического и
1 Раинко С. Марксизм и его критики. М., 1979, с. 120.
2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. ТЕМ., 1957,
с. 197.
46
теоретического отношения к ней, то есть в законы мышления
(субъективная диалектика). Абстрагируясь от этой
специфики, невозможно объяснить соответствие законов развития
мышления с законами развития самой объективной
действительности. Задача материалистической диалектики как раз в
том и состоит, чтобы через историческое развитие объяснить
развитие человеческого мышления как отражение
объективной закономерности развития.
Через материальную практику, ее историческое развитие,
происходит превращение законов развития в природе в
законы развития мышления. Поэтому материалистическая
диалектика, включающая в себя конкретный историзм, является
не просто наукой о всеобщих законах развития в природе, в
обществе и в человеческом мышлении, в каждое из этих
областей действительности в отдельности, а она является наукой
о всеобщем развитии, то есть о всеобщем потоке развития,
который включает в себя в качестве своих ступеней, как их
обозначил Гегель, «механизм», «химизм», «телеология», «жизнь»,
«идея». Иначе говоря, этот всеобщий поток развития идет
от простейших механических взаимодействий к физическим
и химическим превращениям, затем к явлениям жизни, а от
нее через практику к истории и человеческому мышлению. Ни
одного звена в этой цепи развития миновать нельзя. Поэтому
если мы не поймем химическую форму движения материи в ее
специфике, то мы не перейдем от механических и физических
взаимодействий к жизни. А если мы не поймем историческое
развитие в его специфике, а будем сводить его специфические
закономерности к закономерностям развития в живой
природе, как это делали (и делают) позитивисты и натуралисты,
то мышление человеческое неизбежно оказывается
оторванным от действительности. А тогда в лучшем случае мы сможем
только указать на абстрактно-одинаковое в развитии
действительности и в развитии мышления. Диалектика оказывается в
таком случае «суммой примеров» к общим местам, вроде того,
47
что и кипящий чайник и Великая французская революция
суть проявления одного и того же закона диалектики - закона
перехода количественных изменений в качественные. Причем
рядом с такой диалектикой, или так понятой диалектикой,
неизбежно появляется представление о некоторых
«специфических» закономерностях мышления, которые отличают его
от кипящего чайника и Французской революции. И это
представление будет оставаться неистребимым до тех пор, пока
диалектика будет сводиться к общим абстрактным местам и
подтверждающим их «конкретным» примерам, - в самом деле,
трудно согласиться с тем, что мышление ни в чем
существенном не отличается от кипящего чайника.
Диалектика не может стать всеобщей теорией развития,
если она не охватывает собой все развитие - от «механизма»
до «идеи». Но если она доходит до «идеи», до мышления, то
она тем самым объясняет происхождение мышления в его
специфике. А потому она неизбежно становится логикой -
учением о всеобщих законах человеческого мышления. Она
неизбежно объясняет также, каким образом человек от незнания
приходит к знанию через практическую преобразовательную
деятельность и ее развитие. Поэтому диалектика как
действительно всеобщая теория развития неизбежно становится
теорией познания. «Диалектика и есть теория познания (Гегеля
и) марксизма»1.
Единство, тождество диалектики, логики и теории
познания у Гегеля и в марксизме как раз в том и состоит, что
диалектика не может стать всеобщей теорией развития, не
охватив собой развитие человеческого мышления, то есть не став
логикой и теорией познания. И она не может стать логикой
и теорией познания, соответственно, не став всеобщей
теорией развития. Но это единство имеет место, понятно, лишь
при условии, что диалектика как всеобщая теория развития
включает в себя, охватывает собой, развитие человеческого об-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 321.
48
щества, человеческую историю в ее специфическом отличии
от «истории» неба и земли, в отличие от естественной
истории, в отличие от естествознания. И отсюда совершенно ясно,
что без материалистического понимания истории, без
конкретного историзма, нет по существу, и не может быть,
единства (тождества) диалектики, логики и теории познания. Без
историзма разговоры о единстве диалектики, логики и теории
познания неизбежно превращаются в
абстрактно-семантические рассуждения о том, в каком смысле понимать
ленинские слова о том, что «не надо трех слов», в каком
отношении диалектика совпадает с логикой и теорией познания, а в
каком отношении не совпадает, что во что «входит» и что из
чего «выходит» и т. д. Только последовательно реализованный
историзм превращает диалектику в логику и теорию познания
марксизма. Без историзма диалектика неизбежно
превращается в сумму общих мест, снабженных «конкретными»
примерами, в диалектику того-сего, а механический агрегат разных
«диалектик»: диалектики квантовой механики, диалектики
современной биологии, диалектики спорта и т. д.
Именно то обстоятельство, что люди не находят форму
единства всеобщего и особенного в качестве предмета для
всеобщей теории развития, заставляет их бросаться из одной
крайности - общих «диалектических» мест, в другую - в
«конкретные» примеры. Эту ситуацию в общем верно выразил в
своей обзорной статье по проблемам развития А.М. Миклин.
«При обсуждении проблемы развития, - писал он, -
построение чисто логических схем «всеобщего развития» и
малоконструктивные дискуссии о движении и развитии «вообще» все
чаще отступают перед анализом действительных процессов
развития, изучаемых науками о природе и обществе»1. Но
Миклин видит в этом только плюсы и не видит минусов. А
они в данной ситуации есть. И главный из них состоит в том,
1 Миклин А.М. Проблема развития в современной марксистской
философии // Вопросы философии. 1980. № 1, с. 74-75.
49
что забвение общих вопросов неизбежно приводит к тому, что
при решении частных проблем наталкиваются на те же самые
общие вопросы, которые кустарным образом (в рамках наук о
природе и обществе) решить невозможно, а для решения
которых нужен свой философский, диалектический
профессионализм, приобретаемый только в практике развития общей
теории диалектики, в практике изучения всей предшествующей
философии, в особенности философии Гегеля, который
«первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение»
всеобщих форм диалектического движения1.
Другой минус состоит в том, что те философы, которые,
оставляя общие, а тем самым свои собственные проблемы и
бросаясь в объятия конкретных наук о природе и обществе,
часто не замечают того, что они уже не на своей территории и,
по сути, являются непрошенными гостями, которые начинают
судить и рядить там, где опять-таки нужен свой особый,
выработанный долгим и трудным путем профессионализм, будь то
профессионализм математический или биологический.
Общие разговоры о развитии «вообще»
действительно малопродуктивны. Нормальное человеческое мышление
всегда испытывает тоску по конкретному содержанию и не
может долго довольствоваться дистиллированной водой
абстрактных рассуждений. Но нельзя, как это делает по
существу Миклин, отождествлять развитие «вообще» со всеобщим
развитием, как нельзя смешивать абстрактно-всеобщее с
конкретно-всеобщим. Диалектика стоит на точке зрения
конкретно-всеобщего. И если о диалектике развития рассуждают в
категориях абстрактно-всеобщего, то необходимо исправить,
прежде всего, эту ошибку.
Диалектика как раз тем и сильна, что она соединяет
всеобщее и особенное, абстрактное и конкретное, логическое и
историческое и т. д. Часто не понимают того, что диалектика
как сумма примеров не менее абстрактна, чем общие разго-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 22.
50
воры о развитии «вообще», а уход в диалектику живой и
неживой природы для того, чтобы путем обобщения отдельных
случаев проявления диалектики прийти к теории диалектики,
ни к чему другому, как к тем же самым общим местам, от
которых ушли, привести не может. Это все равно как если от общих
мест о превращении тепловой энергии в механическую идти к
отдельным случаям такого перехода, а от них снова к тем же
самым общим местам. Общие места (абстрактное) могут быть
конкретизированы только на почве особенного случая, будь
то идеальная тепловая машина, как у Карно, товар - рабочая
сила, как у Маркса, или атом водорода, как у Менделеева.
Движение от абстрактного к конкретному - это закон
развития всякой науки. Тем более его не может миновать
диалектика, которая и является всеобщим выражением
данного закона. В этом легко убедиться, если проследить
историческое развитие диалектики от Платона до Гегеля, которое в
определенной мере повторяется и при усвоении результатов
этого развития. В.И. Ленин, например, говорит сначала о
диалектике как «самом всестороннем, богатом содержанием и
глубоком учении о развитии»1, затем как о логике и теории
познания марксизма2. И это не означает «отмену» первого
определения, а означает его конкретизацию. В общем, верны оба
определения, но первое верно «вообще», второе верно по сути,
это результат, итог, резюме, в котором первое «вообще»
воплотилось, конкретизировалось и оказалось снятым. С первым
определением был согласен и Плеханов. Второго он не понял.
Движение от первого ко второму - это не только логически
необходимое, но и исторически прогрессивное развитие.
Развитие теории развития так или иначе должно
привести к диалектической логике как теории развития мышления,
во всяком случае - подвести к этому. Другое дело, что к этому
можно идти сознательно, с пониманием той самой «железной»
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 53.
2 См. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 321.
51
необходимости, которая так или иначе приводит к появлению
мыслящего духа. Развитие всякой теории идет по пути
обобщения и конкретизации, и люди никогда не смогут
успокоиться на том, что есть развитие неживой природы и есть развитие
живой природы, но нет развития неживой природы в живую
природу или что есть развитие живой природы и развитие
человеческого общества, история, но нет развития первого во
второе. А когда мы включим в этот всеобщий процесс
развития мышление в качестве его результата, то окажется, что все
необходимые и всеобщие формы, которые проходит мировая
материя в своем развитии до того, как она порождает
мышление, снимаются этой высшей ступенью ее развития,
становятся всеобщими и необходимыми формами уже логического
развития мышления, категориями, - история, генезис
снимаются, резюмируются в логике. В результате мы получаем
чистую форму всякого развития, или развитие в его необходимых
и всеобщих формах - в категориях.
Отсюда и получается, как это отнюдь не случайно
получилось у Гегеля, что всеобщие формы развития
действительности, «механизм», «химизм», «телеология», «жизнь», «идея»,
оказываются также всеобщими формами развития
«логической идеи», развития логики человеческого мышления. А
Гегель «угадал» в диалектике развития «логической идеи»
диалектику развития действительности не потому, что он Гегель,
а потому, что мышление объективно, необходимо движется
и развивается в тех же самых нормах, в которых движется и
развивается действительность, А поэтому логика в своем
универсальном применении, как она применена, например, в
«Капитале» Маркса, совпадает со всеобщей теорией развития. «...
Логику «Капитала» составляет вся система категорий логики,
т. е. универсальных определений природы, общества и самого
мышления, понимаемых в их диалектически противоречивом
единстве, в их переходах; диалектика, как наиболее развитое
и полное учение о развитии через противоречия, - это и есть
52
логика «Капитала». Поэтому систематическое изложение
логики «Капитала» и совпадает без остатка с систематическим
изложением материалистической диалектики»1.
Историзм есть сущность диалектики, которая вовсе не
обязательно должна выступать в исторической форме.
«Противники всякого историзма, - отмечал Тодор Павлов, -
смешивающие последний с грубым эмпиризмом, субъективизмом
и релятивизмом, уничтожают историзм не только формы, но
и содержания»2. Конкретный историзм не только не отменяет
логики, не отменяет теории в их собственной специфике, но
их предполагает, без них невозможен. Поэтому плохую услугу
историзму и марксизму оказывают те авторы, которые сводят,
сознавая то или нет, суть историзма к исторической форме, к
историческому повествованию, к историографизму. «К
сожалению, - отмечал Тодор Павлов, - все еще находятся авторы (и
среди них некоторые марксисты), усматривающие историзм
научного мышления только, или главным образом, в обилии
исторических экскурсов и естественно-научных и других
примеров. Конкретность мышления они ищут и находят только,
или главным образом, в этих исторических экскурсах, в
иллюстрациях и примерах, не видя и не понимая, что
иллюстрации и примеры сами по себе далеко еще не есть доказательство
логической конкретности мышления»3.
Таких авторов и сейчас можно найти. Они понимают
конкретность и историзм только как «исторически способ»
исследования. Если же имеется в виду «логический способ», то он
уже, как считается, никак не может быть ни конкретным, ни
историческим. Они не идут в понимании историзма дальше
явления и не доходят до сущности. А до сущности историзма
невозможно дойти, если самое человеческое мышление не
понимается исторически, как продукт исторического развития
1 Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1966.
2 Досев (Павлов) Т. Теория отражения, с. 256.
яДосев (Павлов) Т. Теория отражения, с. 259.
53
человеческой материальной практики и всей человеческой
культуры. «В психологических исследованиях, - пишет Г.А.
Подкорытов, - историзм заключается в признании решающего
значения проблемы общественно-исторической
обусловленности психики человека»1. Это верно. Но почему надо
говорить об общественно-исторической обусловленности только
психики человека? Вопрос надо ставить глубже, а именно об
общественно-исторической обусловленности человеческого
мышления и сознания.
«Историзм материалистической диалектики как
философского учения о познании, - совершенно справедливо
пишут авторы «материалистической диалектики» (под редакцией
академика П.Н. Федосеева), - предполагает последовательное
проведение принципа социально-исторической
обусловленности всего человеческого познания, включая и научное,
конкретный учет внутренних и внешних факторов развития
научного знания, что в каждом отдельном случае представляет
специальную проблему»2. Можно, конечно, придраться к
неуклюжей формулировке: «историзм материалистической
диалектики как философского учения о познании». Дело в том,
что историзм материалистической диалектики как учения о
познании, - последнее тоже можно было бы не добавлять:
материалистическая диалектика в своей конкретной и развитой
форме и есть теория познания (Гегеля и) марксизма, - как раз
противостоит философскому учению о познании и мышлении,
свойственному предшествующей марксизму философии, как
и вообще диалектика противостоит всей предшествующей
умозрительной философии. Но дело не в этом. А дело в том,
что это должно быть сказано не вскользь, и не под конец, не
наряду с тем, что историзм - это развитие от прошлого к
будущему через настоящее и т. д., потому что это и есть основ-
1 Материалистическая диалектика как теория развития, с. 49.
2 Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. М., 1980,
с. 239.
54
ное и главное в содержании диалектико-материалистического
историзма». И хотя в советской и зарубежной марксистской
литературе сделано немало в направлении
культурно-исторического анализа мышления и познания, четкой разработки
той истины, что это и есть суть и содержание
диалектико-материалистического историзма, в общем нет, если не считать
работ Э.В. Ильенкова, где проблема историзма с самого начала
ставится как проблема логики, как проблема развития
человеческого мышления и познания, а не как проблема развития
того-сего. Поэтому когда мы говорим об историзме в теории
познания марксизма, то этим подчеркивается не просто то, что
историзм в теории познания марксизма отличается от
историзма в других «теориях», а собственно то, что других «теорий»,
в которых мог бы быть изложен историзм в своей конкретной
форме, просто нет. Развитием этой идеи и должна послужить
следующая глава.
55
Глава вторая. Историзм и натурализм в понимании
человеческого мышления
§1. Натурализм в понимании природы мышления и его
антиисторическая сущность
Если теория развития не доходит до конкретного
историзма, до понимания специфики исторического развития, то она
неизбежно оборачивается натуралистическим пониманием
мышления, которое отождествляет его с какими-либо
естественно-природными явлениями. Мышление человека начинает
пониматься как продукт не исторического развития, а как
продукт биологической эволюции. Но продуктом биологической
эволюции является только лишь человек в качестве
биологического вида, но еще не в качестве человека - последним он
становится только в процессе исторического развития. Продуктом
биологической эволюции является также человеческий мозг как
физиологический орган, но органом мышления он становится
опять же только в процессе исторического развития.
Натурализм отождествляет развитие мозга с развитием
мышления, эволюционный процесс с историческим.
«Способность к мышлению, развитие мозга, - писал, например,
русский неокантианец и «легальный марксист» Сергей
Булгаков, - ... являются результатом борьбы за существование»1, и
эта догадка, замечает он, «в метафизической форме была
высказана Шопенгауэром, а в новейшее время поддержана Рилем
и Зиммелем»2.
1 Булгаков Сергей. От марксизма к идеализму. СПб., 1903, с. 65.
2 Там же.
56
В какой мере историческое развитие мышления
оказывает воздействие на развитие мозга и развитие мышления
нельзя просто ставить через запятую, - это разные вещи, хотя
и связанные между собой. Поэтому, кстати, любой, самый
исчерпывающий анализ мозговой работы не даёт нам
понимания существа человеческого мышления. «Мы, - отмечал
в этой связи Энгельс, - несомненно, «сведем» когда-нибудь
экспериментальным путем мышление к молекулярным и
химическим движениям в мозгу; но разве этим исчерпывается
сущность мышления?»1.
Сущность мышления этим не только не исчерпывается,
но даже в достаточной мере не проявляется. Она лежит совсем
в иной плоскости - в плоскости исторического развития
человеческой деятельности, прежде всего в плоскости развития
материально-практической, трудовой деятельности.
Итак, биологическая эволюция и человеческая
история вещи сугубо разные. Отождествление человеческой
истории и ее продуктов с биологической эволюцией и
любыми естественно-природными вещами есть натурализм.
Если мы хотим открыть тайну человеческого мышления и
человеческого познания, то мы можем открыть ее только в
человеческой истории, а не в человеческой биологии.
Наоборот, натурализм смазывает четкую грань между тем и
другим. «Биология и история культуры, - писал, например,
Эрнст Мах, который был ярким представителем именно
натуралистической точки зрения в теории познания, - суть
равноценные, взаимно дополняющие друг друга источники
психологии и учения о познании»2.
Что же в таком случае есть познание? «Всякое
познание, - читаем мы далее у Маха, - есть психическое
переживание, непосредственно или, по крайней мере, посредственно
биологически для нас полезное. Наоборот, если суждение ока-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 563.
2 Мах Э. Познание и заблуждение. М., 1909, с. 78.
57
зывается в противоречии с соответственным переживанием,
мы называем его заблуждением....»1.
Натурализм в понимании мышления, как в чистом виде,
так и в разбавленном историей культуры, как это имеет место
у Маха, не спасает от идеализма. У С. Булгакова, как мы видим,
разговоры о «мозге» и «борьбе за существование» не случайно
ведутся в работе под характерным названием «От марксизма
к идеализму». Признание мозга носителем мышления не
мешает быть идеалистом и Шопенгауэру, на которого ссылается
Булгаков. «... Функция мозга, - пишет Шопенгауэр, - которая
во время сна какими-то чарами порождает совершенно
объективный, наглядный, даже осязательный мир, должна
принимать такое же точно участие и в созидании объективного мира
яви. Оба мира, хотя и различные по своей материи,
очевидно вылиты из одной и той же формы. Эта форма - интеллект,
функция мозга»2. Это, так сказать, кантианство,
«усовершенствованное» с помощью позднейшей физиологии.
Натурализм это прямой путь к идеализму, причем к
самой грубой и примитивной его форме - к субъективному
идеализму и спиритуализму. Это как раз тот случай, когда
«грубый материализм», по словам Маркса, переходит в «грубый
идеализм»3.
То, что нет мышления без мозга, что мозг является
органом мышления, это, как говорят, медицинский факт. Но
истолкование этого факта, как это видно из уже
приведенных мест из Шопенгауэра и Булгакова, который ссылается
при этом еще на Риля и Зиммеля, может быть двояким:
можно функцию мозга понимать так, что она служит способом и
формой отражения окружающей действительности в
сознании человека и что она существует вне и независимо от этого
1 Мах Э. Познание и заблуждение. М., 1909, с. 121.
2 Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Т. II. М., 1901, с. 2.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 198; Гегель. Сочинения, т. 17,
с. 174-175.
58
сознания, а можно так, что эта функция производит образ
окружающей действительности, которая и есть этот образ,
произведенный деятельностью человеческого мозга, как
это, собственно, и понимает Шопенгауэр. Кстати,
признание того, что мозг человека является органом человеческого
сознания и мышления, не спасает не только от
субъективного идеализма, но и от объективного. Разве Гегель, например,
считал, что человек может мыслить без мозга? «... Головной
и спинной мозг, - говорит он, - можно рассматривать как
пребывающую внутри себя... непосредственную наличность
самосознания»1. Но это только непосредственная
наличность самосознания, которой не исчерпываются все формы
ее бытия, «потому что рефлектированное в себя бытие духа
в головном мозгу само, в свою очередь, есть только средний
термин его чистой сущности и его телесного расчленения»2.
Посредством головного мозга и всей нервной системы, по
Гегелю, действует нечто иное, а именно в себе сущий дух,
который делает человеческую голову, как и все остальное
человеческое тело, своим послушным орудием.
Именно поэтому отношение мозг-сознание не есть
непосредственно предмет философии, а есть предмет
физиологии высшей нервной деятельности, в рамках которой без
философии, невозможно обосновать ни материализма, ни
идеализма; не случайно многие крупнейшие физиологи,
включая И.П. Павлова, по своему общему мировоззрению были
идеалистами. Для того чтобы обосновать материализм, надо
выйти в более широкую сферу действительности. «Задача
физиологии, - писал великий русский демократ А.И. Герцен, -
состоит в том, чтобы проследить жизнь от клеточки до мозговой
деятельности. Она оканчивается началом сознания, она
останавливается у порога истории»3.
1 Гегель. Сочинения, т. 17, с. 174-175.
2 Там же.
3 Герцен А.И. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1985, с. 527.
59
Сознание начинается там, где начинается человеческая
история. В ней заключена «тайна» человеческого сознания, в
ней человеческий дух проявляет себя более адекватным
образом, чем в деятельности физиологического органа - мозга. И
в этом отношении гегелевское понимание сознания как
исторически развивающегося к марксизму гораздо ближе, чем весь
предшествующий неисторический материализм, включая
материализм Фейербаха. Фейербах тоже пытался отойти от
физиологического понимания мышления, тем более что он уже
имел перед собой образчики того, что получило название
вульгарного материализма, отождествлявшего непосредственно
деятельность физиологического органа с мышлением,
сознанием, идеальным. «Мышление, - писал Фейербах, - ни в коем
случае не объект физиологии, но только философии»1. И хотя
оно осуществляется посредством органа вполне
физиологического, а именно посредством головного мозга, его законы, его
логические формы, его суть отнюдь не физиологические, а
общественно-исторические.
На языке Фейербаха это означает «философские». Фейербах
противопоставлял физиологии философию, или
«антропологию», но не как науку естественную, а как науку гуманитарную,
как науку о человеческой сущности. Но в том-то и слабость
фейербаховского философского учения вообще и его учения о
мышлении в частности, что он не указал той области, которая
лежит между природой, физиологией, и духом, мышлением, и
которая опосредствует крайности спиритуализма и
вульгарного материализма. Фейербах стремится отмежеваться от того и
другого, но чаще у него это получается на словах, а не на деле,
потому что реального источника человеческого мышления и
человеческого духа он указать не смог, утратив его вместе с
гегелевским идеализмом, который он справедливо отверг.
Настаивая на первичности материального бытия,
Фейербах не смог указать ту особую форму материального бытия, ко-
1 Фейербах Л. История философии. Т. 3. М., 1974, с. 351.
60
торая порождает мышление и сознание. Но не материальное
бытие вообще не материя как таковая порождает мышление.
Было бы чудом, если бы мертвая материя непосредственно
превратилась в живую. Для того, чтобы это произошло,
необходим целый ряд особых условий. Точно так же было бы чудом,
если бы живое непосредственно породило мышление, дух,
сознание. Для этого тоже необходим целый ряд особых условий,
которые должны быть точно определены.
Фейербах не понимает прежде всего исторических
условий возникновения человеческого сознания и мышления. У
Фейербаха расхождение материализма и историзма находит
наиболее характерное проявление. «Поскольку Фейербах
материалист, - пишут Маркс и Энгельс, - история лежит вне его
поля зрения; поскольку же он рассматривает историю - он
вовсе не материалист. Материализм и история у него
полностью оторваны друг от друга...»1.
Мозг - это явление сознания, мышления. Но сущность
их в истории. Поэтому неисторический подход к пониманию
сущности мышления и сознания заводит в безнадежные
тупики философско-физиологической схоластики. Именно по этой
причине Фейербах «ударяется в бесплодные, вращающиеся в
круге спекуляции насчет отношения мышления к мыслящему
органу, мозгу»2.
Натурализм отнюдь не является проявлением слабости
развития естествознания. Наоборот, он, как правило,
является проявлением ее силы, ее развитости. Именно тогда, когда
какая-нибудь естественная наука получает преобладающее
развитие - как это было с физиологией во второй половине
XIX в., именно тогда появляется соблазн объяснить с ее
помощью все. Натурализм в определенном смысле есть
распространение естественнонаучной точки зрения за пределы явлений
естественно-природных, попытка объяснить феномены куль-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 44.
2 Там же, т. 20, с. 563.
61
турные и исторические с точки зрения естественнонаучных
закономерностей, втискивание их в узкие рамки
естественнонаучных категорий и понятий. А такой соблазн возникает не
вследствие слабости естествознания, а, наоборот - вследствие
его силы, более высокого уровня развития. И потому, хотя в
той или иной форме натуралистические взгляды были
присущи всем историческим эпохам и всем историческим этапам
развитая науки и философии, он получает свое
действительно всеобщее распространение во второй половине XIX -
начале XX столетий, в эпоху бурного развития естествознания,
и биологии в особенности. Само естествознание в своем
прогрессивном движении неизбежно порождает не только
идеалистические шатания, как показал Ленин, но и
натуралистические, что является лишь другой крайностью того же самого
шатания. И причинная зависимость здесь скорее обратная, а
именно: натуралистические попытки объяснять
общественно-исторические явления, сознание и мышление,
порождают идеализм в понимании общественных явлений. Ведь если
мышление и сознание - продукты биологической эволюции,
то они должны предшествовать, как и сама биологическая
эволюции, истории.
Понятно, что никакого действительно диалектического
единства логики и истории при натуралистическом
понимании мышления быть не может. Сама логика
человеческого мышления органически не объединяется с исторической
закономерностью, из нее не вытекает и ее не определяет. Та
и другая остаются совершенно внешними по отношению
друг к другу. Невозможно непосредственно от природы,
замечал Маркс, перейти к паровой машине. Точно так же
невозможно непосредственно от природы перейти к логике
человеческого мышления. И машина, и человеческое
мышление с его логикой, и человеческий язык - все это
феномены человеческой культуры, возникшей и развивающейся
исторически. Они - продукты истории, как и все специ-
62
фически человеческие сущностные силы, в том числе и
такие, как человеческие чувства. «Образование пяти внешних
чувств, - писал Маркс, - это работа всей предшествующей
всемирной истории»1, а история, замечал он, «есть
истинная естественная история человека»2.
Маркс изгоняет здесь натурализм в области логики
человеческого мышления из его последнего убежища - из
области специфически человеческой чувственности, что
Фейербах считал сугубо антропологической характеристикой
человека. «Человек отличается от животного - писал тот, - вовсе
не только одним мышлением. Скорее все его существо отлично
от животного. Разумеется, тот, кто не мыслит, не есть человек,
однако не потому, что причина лежит в мышлении, но потому,
что мышление есть неизбежный результат и свойство
человеческого существа»3.
Исходной для Фейербаха является специфически
человеческая чувственность. Она у него ниоткуда не
выводится, а является таким же свойством человеческого существа,
как способность рыбы жить в воде, а мышление только
производным. В сущности же именно мышление как
исторически развивавшееся опосредствованное.отношение человека к
действительности облагораживает человеческие чувства,
делает их тем, что они есть на самом деле. «... Мы не
воспринимали бы предметного мира, - писал известный советский
психолог А.Н. Леонтьев, - если бы не мыслили его»4 Чувственное
восприятие человека не есть простейший, не разложимый
далее акт, а представляет собой очень сложное образование. «В
ходе образования чувственно-наглядного образа вещи, - как
отмечал Э.В. Ильенков, - тоже имеется своя, и очень сложная
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 122.
2 Там же, с. 164.
3 Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2-х т. Т. 1. М.,
1955, с. 200-201.
4 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975, с. 140.
63
диалектика абстрактного и конкретного, тем более - при
образовании представления, связанного с речью, со словом»1.
Диалектика абстрактного и конкретного, и связанная с
ней диалектика логического и исторического, разворачивается
не только на почве уже сложившегося чувственно-наглядного
образа действительности, но и внутри этого
чувственно-наглядного образа: чувственно-наглядный образ у человека - и
этим он отличается от образа у животного - исторически и
логически опосредован. И этот пункт остается до сих пор одним
из наиболее сложных для понимания. Как правило,
диалектика абстрактного и конкретного, логического и исторического
трактуется только лишь в плане построения научной теории.
Поэтому «начало» и «конец» восхождения от абстрактного к
конкретному здесь «повисают», отмечаются, как пишет Б.С.
Веблер, многоточием2 Такая формальная трактовка
восхождения от абстрактного к конкретному неизбежно порождает
проблему начала логического движения, оказывающегося за
пределами логики. И здесь без уточнения того, о какой,
собственно, логике идет в данном случае речь, распутать сложный
клубок проблемы невозможно. Если имеется в виду
формальная логика, то она действительно оставляет проблему
формирования чувственно-наглядного образа за своими пределами.
Если же речь идет о диалектической логике, то она как раз тем
и отличается от формальной, что не оставляет в стороне
содержание как что-то безразличное, а делает и само это содержание
предметом своего рассмотрения и объясняет способ, пути его
формирования. Восхождение от абстрактного к конкретному
осуществляется только с помощью диалектики как логики и
теории познания. Без нее никакого восхождения нет. Поэтому
восхождение включает в себя и путь формирования
чувственно-наглядного образа исследуемого предмета. И потому здесь
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 12-13
2 См. Библер B.C. Мышление как творчество. М., 1975, с. 14.
64
нельзя согласиться с B.C. Библером, который по существу
логику восхождения от абстрактного к конкретному
отождествляет с формальной логикой1.
Э.В. Ильенков, когда писал о том, что в ходе образования
чувственно-наглядного образа тоже имеется своя
диалектика абстрактного и конкретного, добавлял при этом: «Память,
также играющая колоссальную роль в процессе познания,
заключает в своем составе не менее сложное отношение
абстрактного к конкретному. Относятся эти категории и к процессу
художественного творчества. Все эти аспекты мы вынуждены
оставить без внимания, как предмет специального
исследования»2. То, что вынуждают оставить без внимания некоторые
внешние обстоятельства, в том числе такое обстоятельство,
как человеческая конечность, ограниченность в определенном
пространстве и времени, не остается за пределами диалектики
абстрактного и конкретного по сути. И отсутствие
развернутой диалектики абстрактного и конкретного в рамках
формирования чувственно-наглядного образа в работе «Диалектика
абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса», основной
работе Ильенкова, где главным образом изложена диалектика
абстрактного и конкретного, прекрасно дополняется,
во-первых, его собственными работами в области эстетики3, а, во-
вторых, работами советских психологов, в особенности
работами В.В. Давыдова4.
Без историзма невозможно преодолеть эмпиризм и
феноменализм в понимании действительности. Но без
историзма невозможно преодолеть эмпиризм, феноменализм
и натурализм в понимании существа самого человеческого
мышления, его логики. Причем одно с другим связано: в конце
1 См. Библер B.C. Мышление как творчество. М., 1975, с. 15 и далее.
2 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 13.
3См. Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984.
4 См. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
65
концов мышление принадлежит самой действительности, она
без него существенно не полна, поэтому без понимания
существа человеческого мышления мы не понимаем до конца
существо самой действительности. Марксизм, в отличие от всех
форм натурализма и идеализма в понимании человеческого
мышления и сознания, проводит самый последовательный
исторический взгляд на эти явления, и на этом пункте следует
остановиться специально.
§2. Историческое понимание природы мышления
в марксизме
Созерцательная теория познания, как отмечал в своей
кандидатской диссертации Л.К. Науменко, «в самом своем
существе оказывается глубоко неисторической концепцией»1.
Поэтому неисторическая трактовка логики созерцательным
материализмом, соответственно натурализмом и
позитивизмом, разделяющими все слабости созерцательного
материализма, понятно, не может быть основой единства логического
и исторического. Единство логического и исторического в его
всеобщей форме и проявляется как единство логики
человеческого мышления и его истории, а не как единство логики
капитала и его истории. Это единство состоит, прежде всего, в
исторической природе человеческого мышления, или - в
исторической природе логического2.
Историзм логики человеческого мышления заключается в
том, что мозг человека, как и вся его остальная биологическая
телесная организация в том виде, как она сформировалась в
процессе природной эволюции, является только лишь предпо-
1 Науменко Л.К. Активный характер процесса познания: Дис. ... канд.
Философ, наук. Алма-Ата, 1963, с. 13
2 Об историзме мышления и логических форм см.: Сорокин A.A.
Мышление, логика и общественные отношения / Теоретическое наследие
К. Маркса и научно-технический прогресс: Тезисы докладов
межвузовского симпозиума. Свердловск, 1983, с. 42-45.
66
сыпкой исторического развития человека, его мышления, его
сознания. Мозг человека становится органом мысли только
лишь при особых исторических условиях.
Каковы же эти особые условия и какова ближайшая
основа человеческого мышления? Точный ответ на этот вопрос
дан марксизмом. Основа эта заключается в материальной
практике, в труде, в производстве. «... Люди, развивающие
свое материальное производство и свое материальное
общение, - писали Маркс и Энгельс, - изменяют вместе с этой своей
действительностью также свое мышление и продукты своего
мышления»1. Мышление есть функция материальной
практики. Таково общее и принципиальное понимание природы
человеческого мышления в марксизме.
Не пассивное созерцание природы является ближайшей
основой возникновения и развития человеческого мышления,
а ее активное изменение и преобразование. Созерцательность
и была основным недостатком всего предшествовавшего
материализма, включая фейербаховский2. И здесь мы опять-таки
имеем дело с характерным «оборачиванием» исторического
развития в ставшем предмете; созерцание, которое
представляется совершенно «естественным» началом человеческого
познания и предпосылкой мышления, исторически является
вторичным - результатом всей предшествующей истории.
Это задает совершенно новый, по сравнению со всем
предшествующим материализмом, угол зрения на природу
мышления. Это целая программа исследований. Задача заключается
в том, чтобы проследить, как развивалось мышление в связи
с развивающейся практикой, различные исторические формы
которой дают различные исторические типы мышления.
Однако и здесь у марксизма были свои предшественники.
Хотя в целом предшествующий материализм был
действительно созерцательным, в материалистической традиции тоже
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 25.
2 См. там же, с. 1.
67
были попытки понять мышление как форму деятельности,
по существу родственную или тождественную практической
деятельности. Это прежде всего Бенедикт Спиноза, который
впервые определил мышление как способность мыслящего
тела совершать действия согласно расположению других тел
во внешнем пространстве.
Но Спиноза не понял, что деятельность мыслящего
человека это всегда коллективная деятельность, совершающаяся в
исторически выработанных общественных формах.
Исторический угол зрения как раз и позволяет выделить в мышлении
и познании собственный предмет логики и теории познания.
Известно, что мышление изучается также другими
науками: психологией, формальной логикой, кибернетикой,
лингвистикой. Но прежде всего психологией. Иногда даже
считается, что это предмет скорее психологии, чем логики, диалектики.
Предметом логики, согласно историко-материалистическому
взгляду, являются как раз объективные мыслительные формы.
Иначе говоря, это категории, которые по определению как раз
и являются одновременно и наиболее общими формами
бытия и наиболее общими формами мышления.
Разумеется, эти формы находят свое определенное
субъективное преломление, или то, что можно назвать
субъективно-психологическим преломлением. Ведь мышление
совершается не только в определенных объективных логических
формах, но оно сопровождается также различного рода
переживаниями и чувствами. И все это имеет определенное
значение для самого мыслительного процесса, для его объективной
результативности. И это есть предмет психологии, а не логики.
Такая трактовка логических форм мышления, когда они
в качестве объективных мыслительных форм подменяются
психологическими, субъективными формами и путаются с
ними, обычно характеризуется как психологизм в логике и
теории познания. И психологизм в принципе неизбежен, если
мы в логике и теории познания абстрагируемся от истории.
68
История, таким образом, позволяет нам четко выделить и
определить наш предмет. Она позволяет отделить логику и от
психологии, и от физиологии, и от кибернетики, и от теории
информации.
Человеческое мышление как орган познания
исторически развивалось, развивались его логические формы, которые
выступают первоначально непосредственно как формы
практической деятельности, а потому как формы, вполне
доступные объективному исследованию. Поэтому человек способен
мыслить объективно, то есть в соответствии с реальным
положением вещей, с существом дела, а животные всегда только
субъективны: реагируют только на внешние признаки вещей
в соответствии со своей биологической организацией. И
поэтому мышление животных не имеет истории, оно им дано
вместе с определенным генотипом как их вполне натуральное,
естественно-природное свойство, хотя биологическая
организация животных, а вместе с ней и их мышление, развиваются,
эволюционируют, являются продуктами развития.
«Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей
эпохи, - писал Энгельс, - это - исторический продукт,
принимающий в различные времена очень различные формы и
вместе с тем очень различное содержание. Следовательно, наука о
мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука,
наука об историческом развитии человеческого мышления»1
«Как и всякая другая наука», - это и означает, что всякая наука
становится наукой только тогда, когда она доходит до
исторической трактовки своего предмета, до сущности.
Гегелевская логика явилась в истории логической мысли
первой попыткой трактовать логику исторически, причем в
основном удавшейся. Удавшейся в общем и целом. Но даже при
том, что диалектика Гегеля и явилась объективно обобщением
истории мысли, в «Науке логики» она предстала, наоборот, как
основа истории мысли, а последняя, - и вместе с ней всякая
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 366-367.
69
история, как манифестация логики, ее внешнее историческое
проявление. И это требует соответствующего
материалистического «переворачивания». Работа здесь отнюдь не
закончена. «Чрезвычайно благодарной кажется задача, - отмечает в
связи с этим Ленин, - проследить сие конкретнее, подробнее,
на истории отдельных наук. В логике история мысли должна,
в общем и целом, совпадать с законами мышления»1.
Если в логике история мысли должна, в общем и целом,
совпадать с законами мышления, то мы должны
предположить, что есть внутренняя существенная, можно сказать -
интимная, связь между историей и мышлением. Гегель понял эту
связь так, что в основе истории лежит Логика, а история нужна
затем, чтобы дух осознал себя. Но если это отношение
перевернуть и сказать, что мышление нужно для того, чтобы история
осознала себя, то в этом уже не будет ничего специфически
гегельянского. Однако и мышление при этом развивается
исторически, а не эволюционно.
«С «принципом развития», - писал Ленин, - в XX веке
(да и в конце XIX века) «согласны все». - Да, но это
поверхностное, непродуманное, случайное, филистерское «согласие»
есть того рода согласие, которым душат и опошляют истину.
Если все развивается, значит все переходит из одного в другое,
ибо развитие заведомо не есть простой, всеобщий и вечный
рост, увеличение (respective уменьшение) etc. - Раз так, то, во-
первых, надо точнее понять эволюцию как возникновение и
уничтожение всего, взаимопереходы. - А во-вторых, если в с
е развивается, то относится ли сие к самым общим
понятиям и категориям мышления? Если нет, значит, мышление не
связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика понятий и
диалектика познания, имеющая объективное значение2.
Если все развивается, то относится ли это к мышлению
тоже? Вот в чем вопрос. Развивается ли само мышление7. А отве-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 298.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 229.
70
тить на этот вопрос положительно мы можем только в том
случае, если мы расширим принцип развития до исторического
развития, до историзма, который является не просто
принципом развития, а его высшей формой. И только таким образом
мы можем объяснить возникновение и развитие мышления.
Поэтому не подняв принцип развития до исторического
развития, мы не выбиваем окончательно почву из под
идеализма, не стоим еще прочно на позициях материализма.
Последовательный материализм невозможен без историзма, без
материалистического понимания истории. «Природа
мышления, - писал в этой связи О.И. Джиоев, - не может быть
раскрыта без уяснения социальной сущности человека, без
выявления структуры общественной действительности. Поэтому
подлинно научное понимание мышления было недоступно
философии и психологии до Маркса»1.
В какую бы мистическую оболочку не были облечены идеи
о том, что в истории совершается прогрессивное развитие
сознания и свободы, что сознательная и свободная человеческая
деятельность составляет специфику именно человеческой
истории, - они составляют бесспорное завоевание домарксовс-
кой философской мысли и послужили непосредственным
теоретическим источником марксизма. Маркс дал новую жизнь
этим идеям, пересадив их, так сказать, на вполне реальную
почву - на почву материального производства, благодаря
которому, благодаря труду, человек делает себя и сознательным
и свободным. Прогресс в материальном производстве и
представляет собой действительную «субстанцию» исторического
процесса»2.
В этом и состоял существенный пункт совершенно
нового типа материалистического мировоззрения - исторического
1 Джиоев О.И. Проблема социологии мышления в трудах K.P. Мегре-
лидзе / Социальная природа познания. Теоретические предпосылки и
проблем. М., 1979, с. 120.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 37.
71
материализма, который принципиально отличался не только
от немецкого исторического идеализма, но и от
натуралистического материализма XVIII века. Именно поэтому
совершенно нелепы утверждения Р.Дж. Коллингвуда о том, что Маркс, в
противоположность Гегелю, который «порвал с историческим
натурализмом восемнадцатого столетия», повернул вспять и
«снова подчинил историю господству естествознания, от
которого Гегель объявил ее свободной»1, что у него природа была
«источником, из которого извлекалась модель исторического
действия»2.
Маркс как раз решительно возражал против подведения
истории под «естественный закон» борьбы за существование,
как это пытался делать буржуазный социолог Ф. Ланге3' следуя
весьма распространенной в XIX столетии моде объяснять
историю из естествознания. И дело не только в этом особенном
случае. «Основа критики Ланге заключается у Маркса, -
отмечал Ленин, - не в том, что Ланге подсовывает специально
мальтузианство в социологию, а в том, что перенесение
биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза.
С «хорошими» ли целями предпринимается такое перенесение
или с целями подкрепления ложных социологических выводов,
от этого фраза не перестает быть фразой. И «социальная
энергетика» Богданова, его присоединение к марксизму учения об
общественном подборе есть именно такая фраза"4.
Там, где начинается история, кончается безраздельное
господство естественно-природных законов, безраздельное
господство естественно-природной необходимости, И только
здесь появляется почва для развития человеческого сознания
и мышления, которые развиваются только лишь в процессе
исторического развития материального производства. И именно
1 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 121.
2 Там же, с. 120.
3См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 571.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 349.
72
поэтому логика человеческого мышления может
согласовываться и согласуется в конечном счете с законами
исторического развития, которая сама есть не что иное, как «учение не о
внешних формах мышления, а о законах развития «всех
материальных, природных и духовных вещей», т. е. развития всего
конкретного содержания мира и познания его, т. е. итог,
сумма, вывод, истории познания мира»1.
В этом совпадении логики с законами развития «всех
материальных, природных и духовных вещей» и проявляется
прежде всего единство логического и исторического или, что то же
самое, историзм логических форм человеческого мышления.
Эти вещи, как уже отмечалось, а именно историзм логических
форм и единство логического и исторического, часто
понимаются и трактуются как разные проблемы. Но по существу они
совпадают, - это одна и та же проблема. И на этом необходимо
специально остановиться.
§3. Единство исторического и логического в логике
и теории познания марксизма. Логика и история
философии
В своем существе проблема единства исторического и
логического выступает как проблема исторического
обоснования логики и как проблема логического обоснования исто-
рии. Логику можно вывести только из исторической
природы, а не из доисторической. Иначе мы будем иметь природу
без мысли и мысль без природы. Историческая природа, это
природа, преобразованная человеческой деятельностью,
природа, «втянутая» в историю. И именно эту основу
игнорировала вся предшествующая материалистическая философия,
а идеалистическая извращала ее, мистифицировала: история
мира понималась идеализмом только лишь в качестве другой
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 84.
73
стороны истории общества»1. «Как естествознание, так и
философия, - писал Энгельс, - до сих пор совершенно
пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его
мышление. Они знают, с одной стороны, только природу, а с
другой - только мысль. Но существеннейшей и ближайшей
основой человеческого мышления является как раз изменение
природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум
человека развивался соответственно тому, как человек
научался изменять природу. Поэтому натуралистическое понимание
истории - как оно встречается, например, в той или иной мере
у Дрейпера и других естествоиспытателей, стоящих на той
точке зрения, что только природа действует на человека и что
только природные условия определяют его историческое
развитие, - страдает односторонностью и забывает, что человек
воздействует обратно на природу, изменяет ее, создает себе
новые условия существования»2.
Не из природы как таковой и не из чистой мысли как
таковой выводит марксизм логику, а из исторического процесса
развития человеческой практики, прежде всего материальной.
Но охватить историю развития «всех материальных,
природных и духовных вещей» не может никакой логик, и даже
никакой историк. И здесь мы, казалось бы, сталкиваемся с
необъятностью задачи. Однако раньше, чем возникает сама задача
«диалектической обработки», истории науки, техники и т. д.,
история развития «всех материальных, природных и
духовных вещей» уже резюмируется в истории философии. Будучи
квинтэссенцией эпохи, - философия, как справедливо считал
Гегель, - это эпоха, схваченная в мысли, - философия
«резюмирует» в себе все «материальные, природные и духовные вещи»,
поэтому история философии это уже почти чистая логика, и,
по прошествии определенного периода, в ней трудно не заме-
1 Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Новые идеи в
социологии. 1914. №2, с. 60.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 545-546.
74
тить самое логику, так сказать в исторической форме1. Через
историю философии история переходит в логику, подобно
тому, как через историю науки история переходит в логику
науки. Здесь логика обнаруживает себя в качестве
закономерности истории развития человеческой мысли, как единая
линия в этом развитии. И эту единую линию впервые обнаружил
Гегель, который заметил, что «кажущиеся различными
философские учения представляют собой лишь одну философию
на различных ступенях ее развития»2.
К идее закономерного развития истории философии
очень близко подошел также Шеллинг, который считал, что в
«философском прогрессе» нельзя ничего оставлять необсуж-
денным и нельзя отказываться также от принципа, «пока он не
будет исчерпан во всех своих следствиях», - высшая ступень в
развитии философской мысли достигается только через
разрешение тех противоречий, которые возникают в
предшествующих учениях.
Этой традиции пытался следовать и Фейербах, когда он
писал о том, что «обязанностью молодого доцента философии
является знакомить студентов не с собственными
безвестными мнениями и выдумками, а со взглядами признанных,
вошедших в историю философов»3.
Маркс, примыкая к Гегелю в этом вопросе, углубляет идею
закономерного и необходимого историко-философского раз-
1 «В определенном смысле даже можно утверждать, - пишут в этой
связи Ж.М. Абдильдин и К.Л. Абишев, - что любое исследование в области
диалектики как логики и теории познания по существу своему
необходимо оказывается историко-философским, поскольку в нем воспроизводятся
узловые моменты истории развития человеческой мысли.
Историко-философский подход имеет непреходящее значение для обоснования системы
категорий и законов материалистической диалектики» (Абдильдан Ж.М.,
Абишев К.А. Формирование логического строя мышления в процессе
практической деятельности. Алма-Ата, 1981, с. 120).
2 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1, с. 99.
3 Фейербах Л. История философии. Т. 3. М., 1974, с. 375.
75
вития. «Задача философской историографии, - писал он, -
заключается не в том, чтобы представить личность философа,
хотя бы и духовную, так сказать, как фокус и образ его
системы, еще менее в том, чтобы предаваться психологическому
крохоборству и мудрствованиям. История философии должна
выделить в каждой системе определяющие мотивы, подлинные
кристаллизации, проходящие через всю систему, и отделить их
от доказательств, оправданий в виде диалогов, от изложения
их у философов, поскольку эти последние осознали себя. Она
должна отделить бесшумно продвигающегося вперед крота
подлинно философского знания от многословного,
экзотерического, принимающего разнообразный вид,
феноменологического сознания субъекта, которое является вместилищем и
двигательной силой этих рассуждений»1.
Если бы сущность и явление непосредственно совпадали,
часто повторял Маркс, то не нужна была бы никакая наука.
Наука только там и нужна, где за тем, что является,
усматривается еще нечто существенное. И только там наука имеет
место, где имеется это усмотрение. Если в истории философии
мы этого деления не проводим, то и нет науки истории
философии. Гегель потому и является основоположником науки
истории философии, что он впервые различил, хотя и на свой
идеалистический манер, явление, историческую форму, и
сущность историко-философского процесса.
Часто говорят при этом, что в истории философии, как и
в истории вообще, явление тоже существенно. И это
действительно так: в истории вообще, как ни в одной другой области
действительности явление тоже существенно. Но весь вопрос
состоит в том, а что собой представляет это «тоже».
Если это «тоже» на практике проявляется так, что
несущественные факты излагаются наряду с существенными,
даже с добавлением того, что именно существенно, а что
несущественно, то это будет все-таки обыкновенное эклектическое
1 Маркс К., Энгельс Э. Соч., т. 40, с. 136.
76
«тоже», В этом разделении, как отмечает Маркс, должно быть
прослежено единство, взаимная обусловленность, И
именно это дает возможность подвергнуть любую историческую
форму философии, любую философскую систему, критике,
которая, в свою очередь, обусловливает единство сущности
и явления. «Этот критический момент при изложении
философской системы, имеющей историческое значение, - пишет
Маркс, - безусловно необходим для того, чтобы привести
научное изложение системы в связь с ее историческим
существованием, - в связь, которую нельзя игнорировать именно
потому, что это существование является историческим»1.
Иначе говоря, имманентная критика возможна только лишь
благодаря сопоставлению сущности той или иной философской
системы с ее историческим существованием, благодаря
обнаружению несоответствия, противоречия между тем и другим,
которое и выводит эту философскую систему за свои собственные
границы, за границы ее исторического существования. Поэтому,
кстати, в отношении исторической преемственности
оказываются не только так сказать родственные системы, но и
противоположные, по внешней форме несовместимые, - идеалистические
и материалистические, метафизические и диалектические и т. д.
Они несовместимы именно для феноменологического сознания,
не идущего дальше явления, дальше внешней формы.
История философии предстает прежде всего как ряд
следующих друг за другом философских систем.
Эмпирическим фактом является также то, что все выдающиеся
философские учения отрицают друг друга. «Это отрицание может быть
абстрактным, метафизическим или же конкретным,
диалектическим, но именно оно, отрицание, характеризует каждую
философскую систему, а, следовательно, и специфику
философии, несмотря на то, что непосредственно оно указывает лишь
на отличие одних философских систем от других»2.
1 Маркс К., Энгельс Э. Соч., т. 40, с. 136.
2Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. М., 1969, с. 54.
77
Один и тот же эмпирический факт, - и это поучительно
вообще в отношении фактов в науке, - а именно то, что
различные философские системы отрицают друг друга,
приводил к совершенно противоположным выводам при различных
его интерпретациях. Если история философии это война всех
против всех, - заключали скептики, - то, значит, нет
объективной почвы для единой, обязательной для всех философии,
и она в принципе невозможна.
Но совершенно противоположный вывод сделал из этого
Гегель. Если все философские системы отрицают друг друга,
рассуждал он, то это может означать только то, что они имеют
общее поле для борьбы, с которого они и стремятся вытеснить
друг друга. Если бы такового не было, то и не было бы причин
для борьбы, для отрицания и для критики. Эту общую почву
для всех философских систем Гегель усмотрел в разуме: «Есть
лишь один разум, поэтому и философия только одна и лишь
одной быть может»1.
Все различия, которые имеются между различными
философиями, это различия между различными «моментами»
одной и той же философии. И если они отрицают друг друга,
то это означает, что отрицательность не есть нечто только
негативное по отношению к разуму, а представляет собой его
существенный момент, а, следовательно и существенный момент
самой философии. То есть сущность философии есть
диалектика. Она представляет собой ее differentia specifica и с точки
зрения этой специфики история философии может
рассматриваться как закономерный и необходимый процесс. Поэтому
совершенно неслучайно то, что именно Гегель во всей пошноте
представил ту идею, что историко-философское развитие
имеет совершенно необходимый и закономерный характер.
Здесь мы имеем тот случай, когда логическая difFerentia
specifica дает ключ к пониманию исторического развития. Но
сама она также представляет собой итог некоторого истгори-
1 Гегель. Работы разных лет в двух томах. Т. 1. М., 1970, с. 270.
78
ческого развития. И в этом заключается противоречие,
которое разрешается в форме ряда следующих друг за другом
философских систем, то есть формой его разрешения
является сама история философии со всеми своими совершенно
индивидуальными и неповторимыми формами, совершенно
уникальными личностями. Если мы от этой формы
абстрагируемся, то мы никогда не сможем объяснить, каким образом
могло быть разрешено противоречие между сущностью и
существованием философии. А в лице диалектики, - в той
мере, в какой она научна, - философия действительно приходит
в соответствие со своей сущностью, и в этом смысле с
появлением научной диалектики завершается определенный цикл
философского развития. И если, как это очень часто бывает,
гегелевское положение о том, что в его системе мировой
разум пришел к самосознанию, относят только за счет слишком
завышенного самомнения философа и истолковывают это как
противоречие между положением самой диалектики о
бесконечности развития и провозглашением конца истории
философии, то это весьма и весьма поверхностное суждение.
Да, развитие человеческого познания не имеет предела.
И того, что оно когда-нибудь полностью завершится, не
утверждал и Гегель. Развитие человеческого познания
прочерчивает во времени и пространстве траекторию, уходящую
в бесконечность... Но это не «дурная» бесконечность, не
однообразная абстрактная текучесть. Это развитие имеет свой
ритм, свои периоды и свои цезуры. Процесс познания не
может завершиться, но завершаются его определенные периоды.
И если определенный период в развитии, будь то в математике
или в философии, кем-то и когда-то завершается, то от этого,
как было остроумно замечено, не стоит падать в обморок1.
Гегель ошибался относительно сроков наступления
конца определенного периода в развитии философии.
Понадобились серьезные коррективы, внесенные в гегелевскую диа-
1 См. Лифшиц Мих. Чего не надо бояться // Коммунист. 1978, № 2, с. 109.
79
лектику Марксом, чтобы этот период завершить. Но то, что
с появлением научной диалектики определенный период
историко-философского развития завершается, это величайшее
прозрение, которое делает честь уму и таланту Гегеля. «Гегелем
вообще завершается философия, - как писал Энгельс, - с
одной стороны, потому, что его система представляет собой
величественный итог всего предыдущего развития философии,
а с другой - потому, что он сам, хотя и бессознательно,
указывает нам путь, ведущий из этого лабиринта систем к
действительному положительному познанию мира»1.
Завершение каждого подобного рода периода
отмечено довольно отчетливо определенным возвратом к началу, и
вместе с этим завершением отчетливо выступает его
спиралевидная форма: у истоков философского развития, приведшего
к научной диалектике, лежит стихийная диалектика древних, у
истоков общественного развития, которое должно привести к
коммунизму, лежит первобытный коммунизм. И только тогда,
когда определенный период развития завершается, мы можем
отчетливо обозревать пройденный путь и видеть его
действительную «траекторию».
Только отправившись на восток и вернувшись в то же
место с запада, мы убеждаемся в том, что мы двигались не в
«дурную» бесконечность, а по замкнутой, - и в этом смысле
конечной, - кривой. Поэтому и разгадка приходит только в
конце. Поэтому разгадка истории философии приходит
только с появлением материалистической диалектики, подобно
тому, как разгадка человеческой истории вообще, как считал
молодой Маркс, приходит с наступлением коммунизма2.
Отсюда понятно, что диалектика есть единственная
методология научной истории философии, - и в последней, науки
ровно столько, сколько ее в диалектике. И поэтому вовсе не случаен
тот факт, что именно Гегелю впервые удалось дать всеобъем-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 278-279.
2См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 116.
80
лющее и систематическое изображение истории философии,
ему первому удалось прочертить единую линию развития
сквозь два с лишним тысячелетия европейской истории.
Историко-философское развитие, - и это часто выставляется
в качестве аргумента против гегелевской трактовки истории
философии, - никогда не идет «правильным маршем» (Герцен)
вперед. Но если этот факт противопоставляется «правильному»
изображению истории философии, то это говорит только о том, что за
этим кроется совсем иное понимание задач науки вообще. Делает
честь мысли именно то, как отмечал Гегель, что она, «имея перед
собой массу случайностей, отыскивает их законы»1. Именно в этом
Гегель видел заслугу английской политэкономии: она вскрывает
регулярность и закономерность в той области действительности,
которая, подобно планетной системе, «являет глазу лишь
неправильные движения»2 Наука вообще, и об этом уже говорилось, только
там и начинается, где за «неправильными» движениями
открываются «правильные» движения. Этот диалектико-материалистичес-
кий по существу взгляд на характер и задачи науки противостоял
и противостоит плоско-позитивистскому ее пониманию, которое
никогда не поднималось до понимания истории философии, как и
истории вообще, как науки.
Мы говорим, что диалектика составляет внутренний
стержень историко-философского развития, она, поэтому итог и
вывод этого развития, ее обобщение. Она поэтому и есть
истинный предмет философии, даже в том случае, когда она
явным образом не имеется в виду. Но такое обобщение
может иметь место, когда сама диалектика оказывается методом
обобщения истории философии. Если же мы положим в основу
обобщения иной принцип, принцип формальной логики,
которая, в силу особенности своего метода, исключает
противоположности в истории философии, то и результат будет иной:
поскольку этот способ обобщения основан на «одинаковости»
1 Гегель. Сочинения, т. VII, с. 218.
2 Там же.
81
(Гегель), то, за вычетом противоположности, а, следовательно,
и особенности философских систем, за философией останется
весьма абстрактное и неопределенное содержание.
К определению предмета философии исторически
подходят не только Гегель, и не только Маркс, Энгельс, Ленин.
Исторически к этому определению пытается подойти, например, В.
Дильтей. «Задача определения сущности философии, - пишет
Дильтей, - которое сделало бы ясным ее название и понятия,
существующие о ней у различных философов, необходимо
ведет от систематической точки зрения к исторической.
Необходимо определить не то, что здесь или теперь считается
философией, а то, что постоянно и всегда составляет ее содержание1.
Дильтей предлагает абстрагироваться от различий,
которые характеризуют ту или иную особенную историческую
форму философии, и выделить то, что пронизывает собой всю
историю философии. А если две философские системы отличаются
между собой не в частностях, а в существенном и главном? Что
же тогда будет общим? Если одна философия утверждает, что
бытие первично, а «дух», сознание вторичны, а другая -
наоборот, то общее надо искать, очевидно, между бытием и сознанием,
духом и природой. А что между ними может быть общего, если
они исключают друг друга по определению? Поэтому Дильтей
при своем абстрактно-историческом подходе не смог ухватить
подлинно всеобщее, определяющее специфику философии.
Согласно Дильтею, сущность философии состоит в исторической
относительности всех философских понятий и представлений.
Эта относительность и преходящность противоречат
стремлению к абсолютному и вечному, которое сопровождает всякое
философское творчество. «Это противоречие, - пишет Дильтей,
- составляет интимнейшее, молчаливо переносимое страдание
современной философии»2
1 Дильтей В. Сущность философии // Философия в систематическом
изложении. СПб., 1909, с. 23.
2Тамже,с. 23-24.
82
А подлинно всеобщее - это и есть отношение между
бытием и мышлением. Именно это-то отношение и составляет
«великий основной вопрос всей, в особенности новейшей,
философии»1.
Сущностью философии, по Дильтею, является также
диалектика, но диалектика, понятая как внутреннее томление
и страдание, как переживание противоречия между
неизбежным стремлением к вечному и сознанием тщеты всякого
человеческого стремления и действия. И поскольку нет ничего
устойчивого, объективного в истории философии, то историзм
Дильтея лишает философию объективности: «она не выносит
никаких строгих ограничений определенным предметом и
определенным методом»2.
Таким образом, исторический подход к определению
логического, для того чтобы он был плодотворным, сам
предполагает определенную логику. И если результатом
исторического определения логического является диалектика, имеющая
объективное значение, то это предполагает, что историзм
плодотворен только тогда, когда он применяется в единстве
с диалектической логикой, как ее элемент и принцип.
Иными словами, последовательный и конкретный историзм - это
всегда диалектико-материалистический историзм.
Единство логики и истории вообще, как мы видели,
предполагает взаимопроникновение одного другим.
Применительно к истории философии и самой философии это означает, что
история философии проникнута логикой, в свете которой она
только и может быть понята, а сущность самой философии
может быть определена только исторически. Это по существу
совершенно меняет характер самого философствования: вместо
того, чтобы конструировать некоторую идеальную
действительность, чем по преимуществу занималась «прежняя мета-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 282.
2 Дильтей В. Сущность философии // Философия в систематическом
изложении, с. 25.
83
физика» (Гегель), философ должен внимательно проследить
историю философии и посмотреть, к чему она себя
определила исторически. Задача состоит не в том, чтобы давать
определения философии, а проследить, как и к чему она сама себя
определила. Это и есть диалектическое требование
рассматривать предмет в его самодвижении и самоопределении
применительно к самой философии. А исторически, как
выяснилось, философия определила себя к тому, чтобы быть Логикой,
диалектикой, всеобщим методом теоретического и
практического освоения человеком окружающей действительности, как
природной, так и своей собственной социальной и духовной.
«Но это понимание, - как отмечал Энгельс, и это не «мнение»,
а констатация уже совершившегося во многом реального
исторического факта, - наносит философии смертельный удар в
области истории точно так же, как диалектическое понимание
природы делает ненужной и невозможной всякую
натурфилософию. Теперь задача в той и в другой области заключается
не в том, чтобы придумывать связи из головы, а в том, чтобы
открывать их в самих фактах. За философией, изгнанной из
природы и из истории, остается, таким образом, еще только
царство чистой мысли, поскольку оно еще остается: учение о
законах самого процесса мышления, логика и диалектика1.
Теперь философские исследования, в отличие от прежней
умозрительной метафизики, ставятся на объективную почву
истории философии и «истории» умственного развития
ребенка - тех областей знания, из которых должна прежде всего
«сложиться теория познания и диалектика»2. А история
философии, умственного развития ребенка, равно как история
языка, науки, вообще духовного развития человека,
превращается в постоянный «участок» работы философа: философия
из душной монашеской кельи выходит на простор
исторического, а тем самым фактического, исследования.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 316.
2 См. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 314.
84
Точка зрения единства логического и исторического
неразрывно связана с объективным подходом к философии, к
определению ее предмета, характера и задач: история
философии и есть объективно представшая Философия, которая, хотя
и осуществлялась отдельными философствующими
субъектами, в целом представляет собой нечто большее, чем простая
сумма субъективных мнений отдельных философов.
Итак, предмет Логики - это развитие человеческого
мышления. Развитие, которое в своей истине может быть понято
только как историческое развитие. Логика и есть
теоретическое изображение этой истории. Но пробиться к этой истории
можно только через такие ее проявления, как история языка,
отдельных наук, техника и технология и, наконец, история
философии. Т. е. историю развития мышления мы можем изучать
только через ее отражение в истории материальной и
духовной культуры человечества. А здесь, как уже говорилось, все
«наоборот». И, мало того, здесь логика человеческого
мышления неизбежно подвергается определенной идеологизации, а
подлинная сущность человеческого мышления отчуждению,
что проявляется в частности в форме религиозного
отчуждения: бог, кроме того, что он всеблаг, что он есть любовь,
всемогущ и т. д., т. е. воплощает в себе все сущностные силы
человека, он еще и всеведущ, и перед его мудростью всякая
человеческая мудрость оказывается суемудрием, а стремление
человека постичь суть вещей есть гордыня, которую он
должен смирить, - «успокойся, смертный, и не требуй правды той,
что не нужна тебе» и т. д.
Поэтому только тогда, когда отношения между
людьми станут «прозрачными», когда исчезнут все формы
отчуждения, исчезнет и интеллектуальное отчуждение, и
человеческому мышлению будет возвращена его подлинная
сущность - диалектика. Подлинная Логика человеческого
мышления пробивает себе дорогу в истории только в
качестве тенденции, которая ни в одном из своих проявлений до
85
сих пор еще не реализовала себя адекватно и в полной мере.
Она поэтому не соответствует существовавшим до сих пор и
в значительной мере еще существующим историческим типам
(«стилям») мышления. Вот почему процесс освобождения
человека от всех форм эксплуатации, от всех форм фетишизма и
всех форм человеческого отчуждения предполагает овладение
человеком диалектикой мышления.
Такова суровая диалектика развития Логики: по
необходимости приходится пробиваться сквозь обманчивую
видимость, потому что мышление - его сущность, - непосредственно
самому себе не дано, оно дано себе только в его результатах, в
его продуктах, в качестве представшей человеку
материальной и духовной культуры, но продукты человеческой
культуры непосредственно о себе тоже ничего не говорят, они молчат
как камни египетских пирамид, чтобы они заговорили о себе,
их нужно расшифровывать, а для этого нужно иметь шифр,
ключ, - философия же непосредственно о себе говорит, но
говорит о себе вовсе не то, что она собой представляет по сути. Hie
Rhodus, hie salta! Здесь Родос, здесь и прыгай!
Диалектическая Логика не может быть ничем иным, как
обобщением истории мысли, нашедшей свое выражение
прежде всего в истории философии, но к последней нельзя
относиться некритически. «В логике, - писал В.И. Ленин, -
история мысли должна, в общем и целом, совпадать с
законами мышления»1. И Ленин делает акцент на слове
«должна». Это долженствование, а не факт. К этому совпадению
еще надо идти и идти. «Продолжение дела Гегеля и Маркса
должно состоять в диалектической обработке истории
человеческой мысли, науки и техники»2. Это долгий и
сложный процесс, обязательно включающий в себя взаимную
коррекцию - поверку Логики историей, а истории, в свою
очередь, - Логикой. И о богатстве Логики можно легко су-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 298.
2Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 131.
86
дить по богатству того исторического содержания, которое
она в себя вбирает, а прежде всего в ней должна уместиться
«Наука логики» Гегеля и логика «Капитала» Маркса. Если ни
того, ни другого в ней нет, то это будет очень бедная логика,
не намного богаче аристотелевской.
Дальнейшее развитие данной темы связано с
критическим анализом гегелевской трактовки единства логического и
исторического. Слабый пункт этой трактовки как раз
заключается в том, что у Гегеля вольно или невольно происходит
отождествление истории развития человеческой мысли с ее
так сказать литературным отражением, - с историей логики,
с историей философии. Отсюда его во многом
некритическое отношение к истории логики и некоторые другие слабые
пункты. Но об этом надо говорить специально. А настоящий
параграф хотелось бы завершить еще одной мыслью, которая
отчасти возвращает нас к его началу.
Речь идет о предмете философии. Дело в том, что с точки
зрения единства логического и исторического существенно
меняется представление о предмете философии. Не сам
предмет, - в конечном счете он у всякой философии один и тот
же, иначе, как было уже сказано, мы никак, даже критически,
не могли бы соприкасаться с ее различными историческими
формами, - а именно представление о предмете. Если во всей
прежней, недиалектической, - или докритической, как ее еще
называют, - философии предмет понимался как некоторая, в
данном случае неважно: материальная или идеальная, пред-
существующая действительность, которую и должна
изобразить философия, sub specie aeterni, с точки зрения вечности,
потому что она должна изобразить вечную и неизменную
сущность всякого существования, всякого бытия. Такова
«прежняя метафизика», ее метод потому и
«метафизический», что он соответствовал именно так понятому
предмету философии. Материалистическая диалектика, в отличие
от этого, не изобретает еще один предмет наряду с другими
87
предметами, а берет в качестве предмета само историческое
изменение предмета Философии, историческое изменение
отношения мышления к действительности, которое
отразилось в историческом изменении предмета Философии:
«прежняя метафизика», «критическая философия», стихийная
диалектика древних и так называемый естественнонаучный
материализм - все это разные типы отношения мышления
к действительности. Закономерность этого изменения,
которая в общем и целом совпадает с законами мышления,
поэтому эта закономерность есть Логика, хотя она заключает в
себе вещи, далеко не только «мысленного» свойства, и есть
предмет диалектической философии.
Именно такой подход к предмету философии, или, что
по сути то же самое, точка зрения единства логического и
исторического, практически реализован в работе Е.С. Линь-
кова «Диалектика субъекта и объекта в философии
Шеллинга», что и придает ей дополнительную ценность. «Развитие
природы, человеческого общества и мышления является
единственным содержанием мышления, - рассуждает
Линьков о предмете философии. - Все наше познание есть
отражение действительности. И философия в этом отношении
ничем не отличается от остальных наук. Необходимость
философии прежде всего определяется необходимостью ее
предмета. Однако даже самое поверхностное рассмотрение
истории философии обнаруживает, как часто изменялся
предмет философии, выступая как нечто случайное. Если
бы необходимость не прокладывала себе дорогу через эти
случайные моменты, сама философия опустилась бы до
случайного. Только наличие необходимости в самом случайном
делает историю философии историей единой науки. История
философии - это философия в исторической форме. Таким
необходимым предметом философии является отношение
мышления к бытию. Как бы различны ни были системы
философии, все они стихийно или сознательно выражают это
88
отношение. Философия исследует не бытие само по себе, не
мышление само по себе, а их отношение друг к другу1.
Таков исторический итог более чем двухтысячелетнего
развития европейской философии. Это не значит, что
философы ничем другим не занимались. Они занимались и бытием
самим по себе, и мышлением самим по себе, и многим другим.
Но, во-первых, не все, чем занимались философы,
принадлежит Философии, а потому то, что не принадлежит
Философии, принадлежит только ее истории. А, во-вторых, единство
логического и исторического, как об этом уже говорилось,
только потому и возможно, что логика воплощает в себе
историческую отрицательность, а потому она и может «вместить»
в себя отрицающие друг друга исторические формы своего
собственного существования. Такая Логика не оставляет
позади себя ничего существенного, а поэтому, и как результат,
и как предпосылку такого своего характера, она имеет своим
предметом тождество противоположностей, взаимно
отрицающих и взаимно предполагающих друг друга, тождество
мышления и бытия, в котором уже сняты и так называемая
онтология, и так называемая гносеология.
Этот основной предмет, в конечном счете, всякой
философии принимает также форму основного философского
вопроса, вопроса об отношении мышления к бытию, «духа» к
материи2. Но этот основной вопрос философии оставался бы
пустой абстракцией, если бы он не рассматривался как
процесс - как исторический процесс - смены различных форм его
решения и как логический процесс его разрешения,
соответствующий основным и существенным ступеням его
исторического развития. Решение этого основного вопроса философии,
что «первично», а что «вторично», это не предпосылка,
догматически «принимаемая» тем или иным философом, и не один
1 Линьков Е.С. Диалектика субъекта и объекта в философии
Шеллинга. Ленинград, 1973, с. 3.
2 См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 282.
89
только результат, а весь процесс философского, логического
развития от начала и до конца. Это не мы, материалисты, так
решаем, что материя первична, а сознание вторично, так
«решила» История, а мы только ее исполнители, только
выговариваем ее решения и ее приговоры. Там, где эта историческая
почва в подходе к основному вопросу философии
утрачивается, там неизбежно его волюнтаристское и догматическое
решение в качестве некоторого «гносеологического постулата».
Исторический подход к предмету философии (если это
конкретно-исторический подход), основанный на конкретном
единстве логического и исторического, не знает
противоречащих инстанций даже тогда, когда встречаются случаи,
казалось бы явно противоречащие тому, что основным предметом
философии является отношение мышления к бытию.
Позитивизм вообще сознательно отказывается от этого
основного предмета философии. На этом основании конечно можно
было бы просто сказать, что это не философия, и это в
определенной мере соответствовало бы истине. Но это все-таки
философия, также как тунеядец все-таки человек, хотя
последний является так сказать практическим отрицанием
всеобщей человеческой сущности - труда. Это вырожденный
случай, случай, противоречащий всеобщему закону, но все-таки
являющийся его собственным проявлением. Позитивизм и
есть именно такой особенный случай, а именно вырожденный
случай, вырождение всякой философии, потому что он есть
отрицание основного предмета всякой философии. Но это
все-таки философия, потому что это - отрицание философии
в рамках философии, самоотрицание философии.
Сознательный отказ от решения основного философского вопроса - это
тоже определенная форма его решения.
Позитивизм выдает «тайну» всей позднее буржуазной
философии, которая состоит в том, что эта последняя
порывает с прогрессивной традицией классической буржуазной
философии. «Классическая буржуазная и позднее буржуазная
90
философия? Для сопоставления обоих понятий союз «и»
звучит слишком сильно. Несомненно, обе философии являются
буржуазным мышлением и подчиняются общим
закономерностям капитализма вообще, чего никогда нельзя забывать.
Но все же одна из них устремлена вперед, другая - назад;
это - мышление, обращенное только на себя. В то время как
классическая буржуазная философия шла в ногу с
историческим процессом, являясь его частью и таким образом сама
представляла собой прогресс, позднее буржуазная философия
просто отрицает исторический прогресс, потому что ее
классовый интерес не допускает признания рабочего класса как
общественно-исторического субъекта нашей эпохи»1.
Итак, конкретный историзм должен лежать в основе
правильного определения всеобщего предмета философии,
которым оказываются всеобщие законы развития природы,
общества и человеческого мышления. Ее предметом оказывается
всеобщая диалектика. Таким образом, предмет философии в
ее историческом развитии совпадает с предметом
марксистско-ленинской философии, которая и составляет поэтому
результат всего предшествующего историко-философского
развития, она вызревала в процессе этого развития.
Марксистская философия в этом отношении разделяет общий характер
всего марксистского учения, которое «возникло как прямое и
непосредственное продолжение учения величайших
представителей философии, политической экономии и социализма»2.
Единство логического и исторического в его всеобщей и
конкретной форме, как мы видели, проявляется как единство
истории философии и диалектики, понятой как логика и
теория познания марксизма. Именно поэтому диалектика,
понятая как логика и теория познания, является наиболее адек-
1 Бур М, Штайгервальд Р. Отречение от прогресса, истории, познания
и истины / Об основных тенденциях современной буржуазной философии.
М., 1984, с. 33-34.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 40.
91
ватной формой проявления конкретного историзма. Между
тем, как известно, логика резюмируется в методе. И в этом,
диалектическом, методе единство логического и
исторического, или конкретный историзм, проявляется как единство
логического и исторического методов. Такое рассмотрение
единства логического и исторического является обычным и
наиболее распространенным. Но в своей истине это единство
может быть понято только как единство в логике. Однако
дальнейшее развитие темы с необходимостью требует перехода к
рассмотрению историзма методом материалистической
диалектики, который прежде всего проявляется как метод
восхождения от абстрактного к конкретному.
92
Глава третья. Историзм как условие восхождения
от абстрактного к конкретному
§1. Восхождение от абстрактного к конкретному
как всеобщий закон развития познающего мышления
и его внутренний историзм
В предисловии к работе «К критике политической
экономии» Маркс пишет, что читатель, который вообще захочет
следовать за ним, «должен решиться восходить от частного к
общему»1. Путь, которым идет Маркс в своем экономическом
исследовании и в изложении его результатов,
действительно является путем от частного к общему; анализ начинается
с частного явления буржуазного общества - с товара, а
кончается он открытием всеобщего закона
капиталистического накопления. И этот процесс мышления, «восходящего от
простейшего к сложному, соответствует действительному
историческому процессу»2.
Основная трудность, с которой до сих пор приходится
сталкиваться при осмыслении сути диалектико-материалис-
тического метода и его соотношения с историей предмета и
историей его теоретического освоения, заключается в том, как
совместить движение от частного к общему с восхождением
от абстрактного к конкретному. По видимости это два разных,
противоположно направленных движения, одно от частного
к общему, другое - от общего к частному. И эта видимость
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 5.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 39.
93
соответствует традиционному взгляду на характер
человеческого познания.
Традиционно считалось, что человеческое мышление, и
научное исследование, протекает в рамках двух основных
логических схем. Сначала путем сравнения и анализа отдельных
случаев некоторой целокупности выделяют некоторые общие
«понятия». Затем из этих общих «понятий» выводят
некоторые частные заключения. Это представление о двух путях
развития познания было реализовано, соответственно, в
представлении об индукции - движении от частного к общему, и в
представлении о дедукции - движении от общего к частному.
История развития логики и философии показала, что ни
каждый из этих методов в отдельности, ни их механическое
соединение не обеспечивают гарантированного получения нового
знания. Традиционная индукция не могла объяснить то новое
качество общего знания, которое не сводится к простой сумме
частных случаев. Это новое качество, как показал в свое время
Иммануил Кант, состоит в аподиктической достоверности
таких, например, общих утверждений как утверждение «тело
протяженно», которое в общем виде оказывается более достоверным
и очевидным, чем в каждом частном случае. А именно в этом
состоит специфика научного знания, а не просто в его общности.
Вместе с тем традиционная дедукция не могла указать того
реального процесса, который за ней стоит и который она выражает,
она не могла устранить видимость произвола формализма.
Эти проблемы, то есть проблема получения не просто
общего, а достоверно-общего знания, и проблема
реального обоснования дедукции, впервые были решены только в
рамках диалектической логики. Они были решены не за счет
усовершенствования традиционных индуктивных и
дедуктивных методов, не за счет их «удачного» сочетания, а за счет
радикального переосмысления самой природы человеческого
мышления, которая была понята, как мы видели, как его
социально-историческая и материально-практическая природа.
94
Традиционные схемы были не усовершенствованы, а
попросту отброшены, чтобы затем получить значение всего лишь
частных случаев проявления некоторого принципиально
иного метода, который коренным образом отличается и от
традиционной индукции и от традиционной дедукции.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному не просто
противоположен традиционной индукции, а содержит ее в
себе в качестве момента своего собственного движения.
«Восхождение от чувственно-созерцаемой конкретности, - как
отмечал Э.В. Ильенков, - это только форма, в которой
осуществляется более содержательный процесс, - процесс достижения
истины, которую созерцание схватить не в состоянии»1.
Точно так же и формальная дедукция не отбрасывается
этим методом и не оставляется просто в стороне, а она, в свою
очередь, оказывается всего лишь формальным условием и
снятым моментом более содержательного процесса восхождения
от абстрактного к конкретному. Например, развитие формы
стоимости от простой до всеобщей есть процесс превращения
частного во всеобщее. Прослеживая это развитие, мы
движемся, следовательно, от частного к общему и, следовательно, по
традиционной схеме индукции. Но простая форма стоимости
есть абстракция. Она абстракция в двояком смысле: в смысле
ее оторванности от той целостности, то есть всеобщей и
денежной формы стоимости, внутри которой она получает свое
конкретное значение, и в смысле той общей специфической
черты, которая присуща всякой форме стоимости, в любой, более
развитой форме стоимости мы эту простую форму можем
обнаружить в качестве ее момента. И в этом смысле движение
от простой формы стоимости ко всеобщей есть движение от
общего к частному, от абстрактного к конкретному.
Индукция есть дедукция, восхождение от абстрактного
к конкретному есть восхождение от конкретного к абстракт-
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса. М., 1960, с. 23.
95
ному, путь вверх есть путь вниз. В этом и состоит «парадокс»,
с которым не может справиться методологическая мысль,
находящаяся в плену у традиционных представлений о
методах научного познания. И главное - это отсутствие
историзма в традиционных логических представлениях: для них
история, это всегда что-то, лежащее по ту сторону логики, за
пределами логики.
Если же мы от историзма внутренне присущего
восхождению от абстрактного к конкретному, отвлечемся, то это
восхождение, а вернее - представление об этом восхождении,
неизбежно мистифицируется. И с такими мистификациями,
к сожалению, иногда приходится сталкиваться в
марксистской литературе. «Из курса диалектического
материализма, - пишет, например, A.B. Гулыга, - мы знаем, что наряду с
чувственной конкретностью единичного явления может
существовать и логическая конкретность, сконструированная
из одних абстракций»1.
Неизвестно, из какого курса диалектического
материализма почерпнул такое представление Гулыга, но у Маркса
такого представления явно нет. «Метод восхождения от
абстрактного к конкретному, - пишет он, есть лишь тот способ,
при помощи которого мышление усваивает себе конкретное,
воспроизводит его как духовно конкретное»2.
Есть только одна конкретность, только один раз данная в
созерцании, другой раз - воспроизведенная мышлением.
Воспроизведенная, а не сконструированная. И метод восхождения
от абстрактного к конкретному как раз противостоит
методу формального конструирования, которым страдал метод
восхождения от абстрактного к конкретному у Гегеля.
Движение от факта, данного в созерцании, к этому же
факту, воспроизведенному мышлением, и есть восхождение
от абстрактного к конкретному. Поэтому восхождение от
1 Гулыга A.B. Искусство в век науки. М., 1978, с. 21.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 37-38.
96
абстрактного к конкретному, будучи всеобщим законом
всякого познания, распространяется также и на историческое
познание. «Невозможно изучать историю такого предмета, о
котором неизвестно, что же он собою представляет, -
совершенно справедливо пишет по этому поводу А.Ф. Лосев. -
Несомненно, такого рода предварительное знание предмета
неизбежно будет абстрактным, потому что конкретным оно
станет только в своем историческом развитии и в результате
соответствующего исследования»1.
В общей форме необходимость восхождения от
абстрактного к конкретному выражается в том, что нельзя дать науку
раньше науки, во всяком научном познании мы так или иначе
вынуждены двигаться от знания неполного и поверхностного
к знанию более исчерпывающему и глубокому. Но, несмотря
на очевидность этого общего положения, оно встречает
возражения там, где речь заходит об историческом познании. B.C.
Добриянов, например, возражая Э.В. Ильенкову, утверждает,
что «восхождение от абстрактного к конкретному выступает
как принцип построения именно теоретической системы
научного познания, но не исторической»2. Он считает, что
«можно было бы и не ставить вопроса о том, что метод
восхождения от абстрактного к конкретному является специфической
чертой построения именно теоретической системы, если бы
не было попыток доказать, что этот метод играет одинаковую
роль как в теории, так и в истории»3.
Настоящая работа является именно еще одной такой
«попыткой» доказать, что историческое знание может быть и
абстрактным и конкретным, точно так же, как и теоретическое
знание, которое может и не развиться до конкретной теории,
а остаться на ступени абстрактно-теоретического постро-
1 Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977, с. 3.
2 Добриянов B.C. Методологические проблемы теоретического и
исторического познания. М., 1968, с. 219.
3 Там же.
97
ения. В этом смысле метод восхождения от абстрактного к
конкретному не является методом какой-то особой науки, но
он является методом всякой развитой науки, будь то история
или физика. Поэтому, кстати, «Капитал» Маркса, в котором
метод восхождения от абстрактного к конкретному применен
сознательно и последовательно, показывает многим наукам их
завтрашний день, задает определенный идеал научности.
Согласно традиционным представлениям,
действительный факт всегда конкретен, а мышление всегда абстрактно.
Согласно диалектико-материалистическим представлениям,
действительность не только конкретна, но и абстрактна, а
мышление не только абстрактно, но и конкретно. Причем оно
конкретно не там, где оно не идет дальше «конкретного»
факта, а там, где оно проникает в его более глубокое основание,
потому что знание основания не устраняет знания того,
основанием чего оно является, а оно его конкретизирует,
уточняет, обогащает и т. д. Поэтому Энгельс и отмечал, что «общий
закон изменения формы движения гораздо конкретнее, чем
каждый «конкретный» пример этого»1.
Конкретное заключается не в примерах, не в «суше
примеров» (Ленин). Конкретное - это результат конкретного,
синтезирующего («сращивающего») по видимости не связанные
между собой факты, мышления. Вот в чем заключается
кардинальный пункт диалектической теории мышления.
«Конкретное потому конкретно, - писал Маркс, - что оно есть синтез
многих определений, следовательно, единство
многообразного. В мышлении оно поэтому выступает как процесс синтеза,
как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет
собой действительный исходный пункт и, вследствие этого,
также исходный пункт созерцания и представления»2.
Восхождение от абстрактного к конкретному - это обобщение
посредством мышления, рефлексии, в противоположность
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 537.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 37.
98
формальному или эмпирическому обобщению1. Поэтому и
необходимо для понимания существа восхождения уяснить
прежде всего разницу между формально- или
абстрактно-всеобщим и реально- или конкретно-всеобщим.
§ 2. Абстрактно-всеобщее и конкретно-всеобщее.
Общественно-историческая и практическая природа
конкретного
Абстрактно-всеобщее - это, по Гегелю, «та форма
всеобщности, на которую рефлексия обычно набредает прежде всего»2.
Поэтому и в истории философии эта форма всеобщности была
схвачена прежде всего. В особенности это касается английской
эмпирической философии, «рефлексия» которой и вращалась в
основном в рамках этой абстрактной всеобщности.
Всеобщее, на которое прежде всего «набредает» внешняя
рефлексия, это внешнее сходство предметов окружающего
мира. Но раньше, чем люди «рефлектируют», - и в этом
заключается существенный пункт диалектико-материалистической
трактовки мышления, - они формируют вещество природы
и формируют его, заставляя предметы природы и природные
стихии воздействовать на другие предметы и стихии.
«Вообще, - писал Гегель, - собственная деятельность природы,
эластичность часовой пружины, вода, ветер применяются так,
чтобы в своем чувственном наличном бытии делать нечто иное,
чем они хотели бы делать, (так что) их слепое делание
становится целесообразным, в противоположность им самим...
Здесь побуждение вполне выступает из труда. Оно
предоставляет природе мучиться, спокойно наблюдает и малым усилием
управляет целым: хитрость. На широкую сторону мощи
нападают острым концом хитрости»3.
'Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
2 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974, с. 361.
3 Гегель. Работы разных лет, т. 1, с. 307.
99
И если внешняя рассудочная рефлексия превращает
многое в одно, все возможные виды животных в животное
«вообще», все возможные виды растений в растение «вообще» и
т. д., то в своей практической деятельности человек поступает
совершенно наоборот: он одно превращает во многое, он
позволяет под своим контролем размножаться животным,
превращает одно зерно в много зерен, один гончарный круг в
множество круглых предметов. Человеческое познание поэтому
только на «вершине» своего восхождения обнаруживает свое
действительное основание и «тайну» своего практического
происхождения. Только здесь оно открывает для себя
внутреннюю каузальную связь, которую человек в своей практической
деятельности непосредственно использует. «Труд может быть
успешным только тогда, - замечает Георг Лукач, - когда
приводится в движение действительная каузальная цепь, и притом
в направлении, которого требует телеологическая
установка»1. Когда дикарь выбирает между двумя камнями и решает,
что один годится для того, чтобы сделать из него топор, а
другой не годится для этой цели, то «с этого выбора первобытного
камня начинается наука»2.
В материально-практической деятельности гораздо
больше науки, чем в иной «науке», потому что в отличие от пустых
рассудочных всеобщностей, ее обобщения всегда обладают
достоинством непосредственной действительности, они
конкретны, потому что «сращены» с единичным и особенным.
Эта особенность практической деятельности, благодаря
которой она и становится совершенно незаменимой для
развитая теоретической способности, и была подмечена Гегелем.
«В орудии или в обработанной, сделанной плодородной
пашне, - писал он, - я владею возможностью, содержанием как
содержанием всеобщим. Поэтому орудие, средство, превос-
1 Holz H.H. Koffler L., Abendroth W. Gespräche mit Georg Lukacs.
Hamburg, 1967, s. 13.
2 Ebenda.
100
ходнее цели вожделения, цели единичной; орудие
охватывает всякую единичность»1,
Уже простое наблюдение подсказывает нам, что человек
объединяет предметы в роды и виды не произвольно, а с
определенным смыслом. Ведь никто не зачисляет в один класс блин
и Луну по признаку круглости. Человек скорее включит блин
в класс мучных или хлебных изделий, то есть по источнику и
способу их происхождения, а что касается внешней формы, то
блины в принципе могут быть и квадратными. Луну же
человек зачислит в класс планет Солнечной системы, то есть класс,
который будучи просто классом, вместе с тем образует
систему взаимосвязанных частей.
И если я сформировал из теста блины, булки, хлебы и
прочие вещи, то я сформировал тем самым также «идею» «хлебное
изделие», и даже тогда, когда эта «идея» вербально не
оформлена и я не знаю этого казенного официального названия, хлебное
изделие». Когда человек научился и привык образовывать свои
«идеи» подобным образом, то уже и в своей познавательной
деятельности он будет их образовывать тоже аналогичным
образом, то есть доискиваясь до первоисточника, до закона, до сути
дела, и всякое произвольное внешнее формальное обобщение
будет вызывать у него внутренний протест.
Разумеется, нет необходимости в том, чтобы каждый,
желающий приобщиться к науке, прежде занимался
хлебопечением. При всем сказанном выше нужно помнить, что здесь
все время имеется в виду историческое измерение развития
человеческого познания, в логическом же своем развитии оно
как правило движется наоборот: от формальных «идей» к
действительным и реальным, но это-то как раз и делает
совершенно необходимым выход в историю, если мы хотим знать,
что представляет собой человеческое познание и человеческое
мышление по сути. И при этом не надо забывать также, что
в какой бы сфере деятельности ни подвизался современный
1 Гегель. Работы разных лет, т. 1, с. 306.
101
человек, он, будучи носителем современной ему культуры,
является также носителем тех человеческих потенций,
которые ее создали, и, осваивая эту культуру во всех ее формах,
он присваивает себе те потенции, которые формировал в себе
наш далекий предок, отесывая неподатливый камень и
формируя из него каменный топор.
Практическое человеческое отношение к природе, не
испорченное еще «внешней рефлексией», формирует также
определенное эстетическое чувство, своеобразное чувство
«системности», которое представляет собой «крайне ценный
индикатор, барометр», - как называет это Ильенков. «Он
скорее, чем наука, отзывается на интегральное, совокупное
положение дел в реальном мире. Он позволяет «схватывать»
образ целостной жизненной ситуации до того, как она
будет строго и подробно проанализирована жесткой логикой
мышления в понятиях»1.
Откуда берется та интенция, которая заставляет
человека не успокаиваться на одних только формальных
определениях вещей, этого-то и не может объяснить
формалистическая и эмпирическая теория мышления. А это и есть
решающее и существенное. Человек ищет существенного,
которое всегда является особенным, а не
абстрактно-всеобщим. «Если бы существенные признаки, - писал по этому
поводу Гегель, - были только значками для распознавания
и ничем больше, то можно было бы, например, сказать, что
признаком человека служит мочка уха, которой никакое
другое животное не обладает. Но здесь мы сразу чувствуем,
что такого определения недостаточно для познания
существенного в человеке. Однако если всеобщее определяют как
закон, силу, материю, то это не значит, что всеобщее
признается внешней формой и субъективным содержанием, а
это значит, что законам приписывают объективную дейс-
1 Ильенков Э. Об эстетической природе фантазии // Вопросы
эстетики. 1964. №6, с. 87.
102
твительность, что силы имманентны, что материя
составляет подлинную природу самой вещи»1.
Всеобщее, которое имеет характер закона, «силы»,
«материи», это и есть конкретно-всеобщее. Абстрактные «классы»,
роды и виды, это нечто исторически вторичное и производное,
как и сама способность к чисто формальной и абстрактной
классификации, но в логике развитого познания выступающее
в качестве условия определения существенного. Еще
Аристотель замечал, что «не все, что первее по определению, первее и
по сущности»2. Но это не значит, что определение
существенного не может совпадать с формальным определением, хотя это
совпадение чисто случайно. «Бывают ли включенные в
дефиницию признаки просто лишь паллиативным средством или же
они более приближаются к природе некоторого принципа, -
замечал Гегель по этому поводу, - это - дело чистого случая. Уже
их чисто внешний характер указывает на то, что не с них начали
в познании понятия; нахождению родов в природе и духе
предшествовало скорее смутное чувство, неопределенное, но более
глубокое ощущение, некоторое предчувствие существенного, и
лишь после этого начали искать для рассудка ту или иную
определенную внешнюю черту»3.
Мочка уха это признак, образующий форму
всеобщности. Но подобный способ обобщения обнаруживает скорее
тождество этой сферы деятельности человека с поведением
и способом жизнедеятельности животных, чем отличие
специфически человеческой деятельности. Рыбы, например,
хватают не только муху, упавшую на поверхность воды, но и
искусственную «мушку», сделанную из конского волоса, которая
скрывает в себе крючок. То есть животные тоже производят
«абстракцию отождествления» по некоторым характерным
признакам, но сам характерный признак, существенный с
1 Гегель. Сочинения. М.-Л., 1934, с. 15.
2 См. Аристотель. Сочинения. Т. 1. М., 1975, с. 324.
3 Гегель. Наука логики. Т. 3. М., 1972, с. 259.
103
точки зрения способа жизнедеятельности данного животного
вида, оказывается совершенно безразличным по отношению к
той вещи, которая им непосредственно обладает.
«Существенное для вещи самой по себе и жизненно важное для
животного не совпадают»1.
«Нам общи с животными все виды рассудочной
деятельности, - писал Энгельс, - индукция, дедукция, следовательно, также
абстрагирование... анализ незнакомых предметов (уже
разбивание ореха есть начало анализа), синтез (в случае хитрых
проделок у животных) и, в качестве соединения обоих, эксперимент (в
случае новых препятствий и при затруднительных положениях).
По типу все эти методы - стало быть, все признаваемые обычной
логикой средства научного исследования - совершенно
одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (по
развитию соответствующего метода) они различны»2.
Трудность в понимании различия абстрактно-всеобщего и
конкретно-всеобщего основана на сложной диалектике того и
другого: абстрактно-всеобщее никогда не представляет собой
чего-то самостоятельного, в качестве самостоятельной
формы это всеобщее выступает только в сфере формальных
отношений, в сфере рассудочной логики, а конкретно-всеобщее
всегда представляет собой и себя и свое иное. Так, например,
про материю в той форме, которую она принимает на Солнце,
где «отдельные вещества диссоциированы и не различаются
по своему действию», как замечает Энгельс, не скажешь, что
эта материя абстракция3. «А в газовом шаре туманности все
вещества, хотя и существуют раздельно, сливаются в чистую
материю как таковую, действуя только как материя, а не
согласно своим специфическим свойствам»4.
1 Науменко Л.К. Категории - формы мысли. Проблемы
диалектической логики. Алма-Ата, 1968, с. 123.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 537.
3См. там же, с. 558.
4 См. там же.
104
В данном случае материя «вообще» это не просто
измышление, а вполне определенная реальность, особенная реальность,
но которая мыслится как некоторая всеобщая реальность
только потому, что в ней, хотя бы потенциально, положено все
многообразие других особенных формообразований, особенных
«материй». Но многообразие отдельных материальных
формообразований может быть представлено не отдельным
особенным формообразованием, газовой туманностью, «водой»,
«воздухом», «огнем» или «атомами», но чистой мыслью,
представляющей определенный «угол зрения» на действительность,
а именно если ее брать под «углом зрения» материальности
(телесности). И тогда материя превращается в чисто «мысленную
вещь». «Материя как таковая, это - чистое создание мысли и
абстракция. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей,
когда объединяем их, как телесно существующие, под
понятием материи. Материя как таковая, в отличие от определенных,
существующих материй, не является, таким образом, чем-то
чувственно существующим»1.
В действительности всеобщее всегда есть производное от
особенного, и оно превращается только в
абстрактно-всеобщее, когда абстрагируются от особенного, а тем самым и от
реального генезиса, порождения всеобщего особенным. Но
человеческое познание логически движется в направлении,
противоположном этому генезису, рефлексия «набредает»
прежде на абстрактно-всеобщее. И параллельно этому
логическому движению происходило развитие логики, поэтому в
истории логики действительная история развития
человеческой мысли оказалась представленной в перевернутом виде.
Поэтому логическая мысль за всю свою длительную историю,
по сути вплоть до появления материалистической
диалектики, не могла преодолеть абсолютной противоположности
между мыслью и действительностью, между идеальным и
материальным, ибо она не могла преодолеть абсолютной проти-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 570.
105
воположности между всеобщим и отдельным, абстрактным и
конкретным. Для того чтобы преодолеть эту
противоположность, логика, во-первых, должна была стать на генетическую
точку зрения, в логику должна была войти идея развития, и,
во-вторых, как следствие, логика должна была стать
диалектикой - учением о том, «как могут быть и как бывают (как
становятся) тождественными противоположности»1.
Восхождение от абстрактного к конкретному - это
«переработка созерцания и представления в понятия»2. А понятие,
в отличие от абстрактного представления, «целиком
конкретно»1. Оно конкретно потому, что в нем сохраняется не только
представление о некотором многообразии, но добавляется еще
знание реального основания этого многообразия. Оно
представляет всегда одновременно себя (собственно понимание) и
свое иное (простое представление о некотором многообразии).
Поэтому, как отмечал еще Гегель, «единство мышления и
представления есть то, что труднее всего показать»4. В конкретном
понятии разошедшиеся по разным полюсам «моменты»
единичности и всеобщности, один из которых всегда на стороне
объекта, другой - на стороне субъекта, объединяются.
§ 3. Историзм как форма разрешения противоречия
абстрактного и конкретного
Маркс, иллюстрируя мысль о том, что «общее, являясь, с
одной стороны, всего лишь мыслимой diffirentia specifica
вместе с тем представляет собой некоторую особенную реальную
форму наряду с формой особенного и единичного», приводит
пример с числами: «Так обстоит дело и в алгебре. Например, а,
в, с представляют собой числа вообще, в общем виде; но кроме
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 98.
2 Маркс К. Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 38.
3 Гегель. Сочинения. Т. X. М.-Л., 1936, с. 396.
4 Гегель. Энциклопедия философских наук, т. 1, с. 347.
106
того это - целые числа в противоположность числам а/в, в/с,
с/в, с/а, в/а и т. д., которые, однако, предполагают эти целые
числа как всеобщие элементы»1.
Это и есть такое всеобщее, которое «не только
абстрактно всеобщее, но всеобщее, охватывающее собой также и
богатство особенного»2. Такое всеобщее, как нетрудно заметить,
представляет собой нечто генетически исходное, а его
отношение к особенным видам является отношением генезиса,
порождения одного другим. В основе всякого вида числа лежит
целое положительное число, из которого тот получается путем
определенной процедуры, являющейся в то же время его
реальным, а не только номинальным, определением.
Прогресс науки поставляет все больше примеров
подобного рода всеобщего или подобных реальных абстракций, и
прогресс науки состоит собственно именно в подведении под
некоторые эмпирические многообразия подобного рода
реальных оснований, в чем и состоит реальное, а не формальное
обобщение. Вот что пишут, например, о вирусах авторы
интересной во многих отношениях книги «Тайны третьего
царства»: «... Вирусы, это простейшие формы жизни, и поэтому
служат наиболее благодарным объектом биологии вообще и
молекулярной биологии в особенности»3.
Это действительно абстракция жизни, но произведенная
не в «голове» человека, а прежде всего в деятельности
ученого, в лаборатории, а соответствует эта абстракция простейшей
форме существования определенной конкретности, в данном
случае жизни.
Чтобы еще четче уяснить себе тождество всеобщего и
особенного, обратимся к другому примеру, восходящему еще к
Аристотелю. Это пример треугольника как «подлинно всеоб-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 437.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 90.
3 Жданов В.М., Ершов Ф.И., Новохатский A.C. Тайны третьего
царства. М., 1981, с. 6.
107
щей фигуры»1. Подлинную всеобщность треугольника
Аристотель усматривает в том, что он представляет собой реальное
основание всего многообразия производных от него фигур.
Но дело еще в том, что «для фигур возможно общее
определение, которое подходит ко всем фигурам, но не будет
принадлежать исключительно к какой-либо одной фигуре...»2. Это
тоже всеобщее, фигура «вообще». «Однако, - замечает далее
Аристотель, - было бы смешно, пренебрегая указанным
определением, искать в этих и других случаях такое общее
определение, которое было бы определением, не относящимся ни к
одной из существующих вещей и не соответствующим особой
и неделимой форме вещи»3.
Соответственно двойственному характеру всеобщего его
определение может быть двояким. С одной стороны, оно
выражает только мыслимую diffirentia specifica с помощью
которой мы фиксируем некоторое реальное многообразие; с
другой стороны, оно является выражением формы особенного и
единичного, формы «особой и неделимой» вещи, некоторого
первоэлемента, из которого реально развивается все
многообразие. Причем надо иметь в виду, что самостоятельность
номинального определения всеобщего, всеобщего как diffirentia
specifica по отношению к его реальному определению, как
выражению формы особенного и единичного, только кажущаяся,
как и самостоятельность абстрактно-всеобщего по отношению
к конкретно-всеобщему. Оно, как и абстрактно-всеобщее,
реально подчинено реальному определению, хотя логически оно
выступает в качестве первого и исходного.
Понятно, что для того чтобы посредством анализа
отыскать реальный род и реальное единство некоторого
многообразия, это многообразие необходимо как-то фиксировать.
И выявление одинаковости, схожести первоначально только
1 Гегель. Сочинения. Т. X, с. 284.
2 Аристотель. Сочинения. Т. 1. М., 1975, с, 400.
3 Аристотель. Сочинения. Т. 1. М., 1975, с. 400.
108
и может быть способом удержания некоторого
многообразия в памяти и представлении. Чтобы, например, дать
реальную генетическую трактовку единства и многообразия, рода
и видов химических элементов, согласно которой реальным
генетическим родом оказывается форма особенного и
единичного, а именно, водород, а атомы прочих элементов -
различным числом «слипшихся» атомов водорода, это
многообразие должно было быть накоплено. Поэтому такая трактовка
стала возможной только во второй половине XIX века, когда
был открыт великим русским химиком Д.И. Менделеевым
так называемый периодический закон, а вся история химии
до этого была как раз «накоплением» многообразия
химических элементов.
Таким образом, то, что является результатом
исторического развития науки, становится ее логическим основанием,
соответствующим реальному генетическому основанию
изучаемой конкретности. Совпадение логического развития с
реальным генетическим развитием, следовательно, является
показателем высшей ступени развития науки, хотя в принципе
оно обнаруживает себя в качестве всеобщего и необходимого
закона всякого мышления в его основании.
Если какая-нибудь наука не дошла еще до такой,
соответствующей диалектико-материалистическому методу
научного мышления и развития научной теории, трактовки своего
предмета, то это вовсе не означает, что единство логического
и исторического не обладает всеобщим и необходимым
характером. Истинно всеобщие формы и законы
человеческого мышления выражают собой не только наличный уровень
его развития, но показывают также, чем оно должно быть
«по идее». Истинная наука о мышлении, а для марксизма
таковой и является материалистическая диалектика, как
всякая истинная наука, указывает перспективы развития своего
предмета - мышления - рисует не только сегодняшний, но и
завтрашний день науки, который может принципиально отли-
109
чаться от сегодняшнего. А в науке, как и во всяком деле, важно
не упускать из виду перспективу.
Существенная трудность, которую решает исторический
подход к делу, заключается во взаимной обусловленности
абстрактно-всеобщего и конкретно-всеобщего, что и образует
определенного рода «порочный круг». Ведь определения
частного случая становятся конкретно-всеобщими определениями
только после того, как мы из всеобщих определений вывели
конкретные определения. Стало быть мы заранее должны
догадываться об их всеобщности. Именно догадываться, потому
что по-настоящему знать мы об этом можем только в конце.
Здесь нас, во-первых, выручает та способность, о которой
уже шла речь, а именно способность воображения. Благодаря
этой способности мы можем, так сказать, мыслить особенное
без представления о всеобщем. Мы выделяем треугольник как
особенную фигуру среди других фигур даже тогда, когда мы
не имеем о нем понятия как об «истинно всеобщей фигуре».
Почему же она особенная? - Потому что она проста, далее
не разложить, и в этом смысле является предельным случаем
геометрической фигуры вообще: с двумя углами замкнутой
фигуры уже нет. Это геометрический «вирус». То же самое с
атомом водорода, с живой клеткой, наконец, со светом,
особенная природа которого часто давала повод в различных
натурфилософских построениях, в особенности у Шеллинга,
для своеобразной мистики света. Это - неадекватный с точки
зрения «строгой науки», но совершенно незаменимый способ
удержания особенного. Другого способа, по сути, нет. И
поэтому логика, которая от способности воображения
абстрагируется как от чего-то «ненаучного», особенного вообще не
знает. Для нее существует только, с одной стороны,
абстрактно-всеобщее, с другой - абстрактно-единичное.
И, с другой стороны, благодаря той же способности, по
сути, я удерживаю в памяти и представлении другую
«половинку» - всеобщее без понятия о всеобщем. Само собой ясно, что
ПО
если я мыслю треугольник как нечто особенное, то уже этим
самым я полагаю рядом с ним нечто, по сравнению с чем
треугольник является особенной фигурой. И ясно, что особенным
он является не по сравнению с яблоками, телеграфными
столбами и т. д. Он особенный по сравнению с другими
геометрическими фигурами. То есть мы имеем общее представление о
геометрической фигуре вообще до того, как мы подведем под
это «вообще» определенное реальное основание. Каким
образом я мыслю эту геометрическую фигуру «вообще»,
совершенно непонятно. Непонятно с точки зрения чисто рассудочной
логики, которая и заводит уже в совершенно неразрешимый
для нее круг при попытке по своему «объяснить образование
всеобщих представлений («идей») путем сравнения предметов
некоторого класса и выделения некоторого сходного признака.
Ведь чтобы осуществить такую процедуру сравнения, мы уже
заранее должны иметь представление о некотором классе или
роде вещей: чтобы образовать «идею» геометрической фигуры
«вообще», мы будем сравнивать параллелограмм с квадратом,
треугольником и т. д., а не с цветной капустой, автобусом и
американским миллионером.
Здесь, к сожалению, нет больше возможности
обсуждать более подробно механизм человеческого воображения,
с помощью которого мы образуем наши общие «идеи», - это
проблема специальная. Но, так или иначе, мы всегда заранее
имеем представление о всеобщем без понятия о всеобщем,
потому что по своему понятию всеобщее есть
обязательно особенное. Только таким образом абстрактно-всеобщее
представление может логически и исторически
предшествовать конкретно-всеобщему. Всеобщее представление
предшествует понятию, рассудок разуму и т. д. Неадекватность
всеобщего представления может проявиться в дальнейшем в
том, что некоторые индивиды, которых мы зачисляли в
некоторый класс, не являются индивидами этого класса.
Типичным примером подобного случая является тот, кого как кита
111
зачисляли в класс рыб, а в дальнейшем обнаружилось, что он
является млекопитающим.
И, во-вторых, отмеченную трудность, как было уже
сказано, помогает решить исторический подход. Вернее, этот
подход совершенно необходим для решения этой трудности, но он
сам предполагает, так сказать, условия своего применения, о
чем и пойдет главным образом речь в настоящей работе. Дело
в том, что единство логического и исторического это не только
решение проблемы, а именно проблемы логического круга в
определениях, которая оказывается совершенно
неразрешимой при чисто абстрактном и формальном подходе к делу1,
но оно само представляет собой проблему. Эту-то проблему и
должна решить диалектика логического и исторического.
В несколько иной форме проблема единства (совпадения)
логического и исторического - это проблема, с чего начинать
науку, «с чего начинает история, с того же должен
начинаться и ход мыслей...»2. Но тогда возникает законный вопрос, а с
чего началась... история?
Чтобы сразу пояснить проблему и одновременно характер
имеющихся на этот счет расхождений во мнениях, обратимся к
одному характерному месту из «Критики политической
экономии» Маркса, представляющей собой первый черновой
набросок будущего «Капитала». В этой рукописи Маркс делает
следующее замечание в скобках: «Какие определения стоит включить
в первый раздел: «О производстве вообще», и какие в первый
отдел второго раздела, трактующий о меновой стоимости
вообще - это может выясниться лишь в конце и в качестве
результата всего исследовании»3. «Все прочее, - замечает он при этом,
- является переливанием из пустого в порожнее»4.
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 90-91.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф, Соч., т. 13, с. 497.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 180.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 275.
112
Общий смысл замечания, если оставить без внимания
вопросы, касающиеся специфической экономической
материи, заключается в том, что нельзя заранее решить, что
рассматривать сначала и что рассматривать потом, до того, как
мы приступили к самому рассмотрению. Решить такой вопрос
заранее означает примерно, тоже самое, что научиться
плавать, не войдя в воду. Ведь заранее нам может быть известна
только эмпирическая история, которая отнюдь не совпадает с
действительной историей. Ясно, что производство вообще
исторически предшествует производству капитала или
капиталистическому производству, но это вовсе не значит, что анализ
производства вообще во всем его объеме должен
предшествовать анализу капитала, потому что не с него началась
действительная история капитала. Неслучайно поэтому получилось
так, что предполагавшийся Марксом раздел «О производстве
вообще» как предшествующий разделу о меновой
стоимости вообще (о товаре) в окончательном варианте «Капитала»
просто отсутствует.
Действительную историю некоторой конкретности
представляют не все события, хронологически предшествующие
ей, а те из них, которые предшествуют данной конкретности,
как говорил еще Аристотель, «по природе». Если пояснить
примером это различие, имеющее решающее значение для
понимания диалектики логического и исторического, то можно
сказать, что физическое рождение человека предшествует по
времени, но не «по природе», тем дурным поступкам, которые
он совершает в своей жизни. Действительная «история»
дурных поступков человека начинается не с «первородного
греха», а с событий, лежащих в совершенно ином измерении, в
плоскости действительной истории человечества, которой
может быть только социальная история.
Чтобы точно очертить границы действительной истории
предмета, надо точно определить, что собой представляет
данный предмет по существу, по своей «природе». Существо диа-
113
лектико-материалистической позиции в данном вопросе
выражено Марксом следующим образом. «Указание на diffirentia
specifica, - пишет он, имея в виду специфику капитала, -
является здесь как логическим развитием темы, так и ключом к
пониманию исторического развития»1.
Мы не можем говорить об историческом развитии
исследуемой конкретности до того, пока нам не станет известна ее
diffirentia specifica, но diffirentia specifica, в свою очередь,
может стать нам известна только после того, как мы взойдем по
ступеням исторического становления исследуемой
конкретности. Ведь для настоящего определения, как известно, мало
diffirentia specifica, нужен еще genus proximum, ближайший
род, а ближайшим родом для всякой исторической
конкретности является ее исторический, генетический род.
Родовидовое отношение здесь не просто формальное отношение, а
отношение реального генезиса, и род здесь не только
этимологически и формально, но и по существу, «по природе»
является родом, тем, что действительно рождает. В случае капитала
таким родом оказывается товар.
Указание на diffirentia specifica служит ключом к
пониманию исторического развития только потому, как
оказывается, что она здесь является исторической diffirentia specifica
специфицирующей исторический же род. Это указание
поэтому есть одновременно указание на историческую границу
появления (исчезновения) данной конкретности.
Здесь видно, что «ход абстрактного мышления,
восходящего от простейшего к сложному, соответствует
действительному историческому процессу»2. Но надо точно уяснить себе
смысл этого совпадения. Ведь речь идет не просто о
совпадении последовательности определений изучаемой
конкретности как некоторых логических операций с хронологической
последовательностью некоторых событий. Такое совпадение
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 180.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 39.
114
было бы только внешним совпадением, и при этом оставалось
бы непонятным, почему имеет место совпадение только с
последовательностью именно этих, а не других событий, почему,
например, историю капитала надо вести от товарного
производства, а не от производства «вообще» и не от сотворения
мира. Речь идет о совпадении в рамках самой логической
операции определения, а потому логическое совпадает не просто
с историческим как хронологией, отношением «раньше -
позже», а с историческим как выражением реального генезиса,
который тоже проявляет себя на поверхности явлений как
«раньше - позже», но не сводится только к этому. И поэтому,
кстати, нельзя выразить диалектику логического и
исторического с помощью «диахронии» и «синхронии». Этим
диалектика нисколько не обогащается, а, скорее, обедняется.
Итак, указание на diffirentia specifica дает нам ключ к
пониманию исторического развития, а это указание предполагает
знание ближайшего исторического рода, то есть знание
действительной истории. Таким образом, обнаруживается первая
и наиболее общая форма противоречия логического и
исторического, пути и способы разрешения которого и составляют
основное содержание проблемы соотношения логического и
исторического.
* * *
Диалектика, таким образом, не дает готовых ответов на
вопросы, поставленные познанием, жизнью, практикой
вообще. Но она позволяет осознать те трудности, которые могут, и
даже должны, встать на пути научного исследования. Что
касается вопроса, с чего начинать науку, то начало, как отмечал
еще Гегель, «имеет для метода только одну определенность -
быть простым и всеобщим»1, «начало должно быть
абстрактным началом»2. Диалектика есть логика творческого мыш-
1 См. Гегель. Наука логики, т. 3, с. 293.
2 См. Гегель. Наука логики, т. 1, с. 130.
115
ления, она не только процесс ее применения, но и процесс ее
созидания одновременно. Поэтому она не имеет ничего
общего с тем, что ей приписывают по неведению или злому умыслу
ее незадачливые «друзья» или открытые враги, а именно, что
диалектический метод жестко нормирует исследовательскую
мысль, заставляя ее двигаться по заранее заданной схеме.
Единственной нормой правильного мышления, в конечном
счете, с диалектико-материалистической точки зрения
оказывается та, которая требует подчинения познающего
мышления собственной форме становления, развития и
существования изучаемой конкретности. Это и является выражением
творческого характера материалистической диалектики как
логики и методологии марксизма: она каждый раз должна
прожить новую жизнь в каждой новой познавательной ситуации,
и даже тогда, когда все «азы» диалектики уже пройдены.
С этими последними замечаниями и хотелось бы
приступить непосредственно к изложению диалектики логического
и исторического, отметив предварительно только следующее.
Поскольку восхождение от абстрактного к конкретному в
своем очень общем выражении не только предъявляет
совершенно определенный запрос на историзм, единство логического
и исторического, но выражает также и общую «фигуру»
последнего: изображая диалектику логического и исторического,
мы также должны «взойти» от абстрактного к конкретному,
то изложение этой диалектики и должно начаться с ее самого
общего и элементарного проявления - с абстрактного
тождества логического и исторического.
116
Глава четвертая. Диалектика логического
и исторического как содержание конкретного
историзма
§ 1. Абстрактное тождество исторического
и логического как абстракция от истории
В общем абстрактное тождество логики и истории
проявляется в том, что развитое целое в способе своей
организации, в своей структуре, сохраняет и содержит историю
своего становления (генезис) в ее основных необходимых и
существенных моментах. Это совпадение было подмечено
довольно давно в различных областях действительности. Так,
например, уже французский биолог XVIII в. Этьен Жоффруа
Сент-Илер подметил это совпадение в развитии живых
организмов: «... лягушка, проходя стадию головастика, то есть,
находясь в зародышевом возрасте, была сначала в некотором
отношении рыбой...»1. У Гегеля это совпадение приобретает
уже значение закона всякого развития, который
распространяется и на духовное развитие человеческого индивида:
«Отдельный индивид должен и по содержанию пройти ступени
образования всеобщего духа, но как формы, уже оставленные
духом, как этапы пути, уже разработанного и выравненного».2
Иными словами, проходя ту стадию развития, когда мы в
детстве овладеваем первыми навыками и приемами человечес-
1 Цитируется по статье Артемьева Г.В. Мировоззрение Этьена
Жоффруа Сент-Илера // Вопросы философии. 1972. № 4. с. 130.
2 Гегель. Сочинения, т. IV, с. 15.
117
кой трудовой деятельности, мы являемся «в некотором
отношении» первобытными людьми,
Более простым и наглядным примером этого совпадения
могла бы служить своеобразная «модель», которую
представляет собой всем известная игрушка «матрешка». В данном
случае совпадение «логики» и «истории» заключается в том,
что «матрешка», находящаяся в большой своей «подруге»,
когда она вложена в последнюю, и она же, находясь рядом с ней
в ряду выстроившихся «по росту» «матрешек», есть одна и та
же матрешка.
При рассмотрении этого простого совпадения
логического и исторического необходимо помнить, что здесь еще
нет в собственном смысле ни логики, ни истории, а есть два
разных и, вместе с тем, тождественных порядка определений
некоторой конкретности. Логическое значение того и
другого проявится только тогда, когда проявится необходимость
именно такого порядка рассмотрения изучаемой
конкретности с точки зрения ее адекватного теоретического
воспроизведения (отражения) и когда проявится существенное
различие того и другого. А главное, что часто и сбивает с
толку, при этом совпадении не проявляет себя специфически
история, у которой при таком совпадении исчезают два ее
основных специфических определения: историческое время
и случайность. Необходимость такого рода абстракции
можно проследить прежде всего на таком классическом образце
сознательного применения диалектико-материалистическо-
го метода, каким является «Капитал» Маркса.
В своем экономическом исследовании Маркс
предполагает рассмотреть сначала «всеобщие абстрактные
определения, которые поэтому более или менее присущи всем формам
общества»1. Товар в его определении продукта,
произведенного для обмена, это явление, наблюдаемое на протяжении
всей писаной истории человечества. «Начало же обмена то-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 45.
118
варов, - как отмечает Энгельс, - относится ко времени,
которое предшествует какой бы то ни было писаной истории
и уходит в глубь веков в Египте по меньшей мере за две с
половиной, а может быть и за пять тысяч лет, в Вавилонии же
за четыре-шесть тысяч лет до нашего летоисчисления. Таким
образом, закон стоимости господствовал в течение периода в
пять-семь тысяч лет»1.
В силу того, что специфические определения отдельных
исторических эпох, отдельных стран и народов, в этих
всеобщих определениях исчезают, то исчезают и специфические
определения истории - исторические пространство и время.
Если мы рассматриваем акт простого товарного обмена и
путем его анализа хотим открыть всеобщие определения этого
обмена, то нам все равно, кто обменивается, где
обменивается и когда обменивается. И только таким образом мы можем
получить то исторически исходное, прослеживая развитие
которого мы можем воспроизвести некоторую
историческую конкретность. Исторически исходное и логически первое
отождествляется, как это не покажется на первый взгляд
парадоксальным, только в силу того, что от истории в собственном
смысле слова отвлекаются, абстрагируются. И только это,
забегая вперед скажем, является условием возврата к истории.
Попробуем разобраться в этом более подробно. Указывая
на то, что в буржуазном мире товарно-денежные отношения
существенным образом модифицированы капиталом, Маркс
отмечает: «Только в так называемой розничной торговле, в
повседневном обороте буржуазной жизни, как он протекает
непосредственно между производителями и потребителями, в
мелочной торговле, при которой целью одной из сторон
является обмен товара на деньги, а целью другой стороны обмен
денег на товар для удовлетворения индивидуальных
потребностей, - только в этом движении, происходящем на
поверхности буржуазного мира, движение меновых стоимостей, их
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 475.
119
обращение протекает в чистом виде. И рабочий, покупающий
каравай хлеба, и миллионер, покупающий такой же каравай,
выступают в этом акте лишь как простые покупатели, точно
так же как лавочник по отношению к ним выступает лишь как
продавец. Все другие определения здесь погашены»1.
Здесь Маркс явственно отмечает тот факт, что в простом
акте купли-продажи капиталист выступает не как капиталист,
а как покупатель, и в этом качестве он отождествляет себя с
любым покупателем, что так же как любой человек, войдя в
автобус, становится пассажиром, независимо от того, кто он,
рабочий или капиталист, последний нищий или глава
государства. Если капиталист покупает каравай хлеба, то это, как
любил выражаться Маркс, принадлежит к числу его
человеческих слабостей, здесь он еще не проявляет себя в качестве
капиталиста. Он не проявляет себя в качестве такового даже тогда,
когда он нанимает на вокзале носильщика или служанку для
своих собственных удобств. Покупатель и продавец - это
фигуры очень абстрактные, это еще не капиталист и не наемный
рабочий, хотя и они могут оказаться и покупателями и
продавцами. И хотя капиталист, уже как капиталист, обязательно
должен быть и покупателем и продавцом (покупателем
рабочей силы и продавцом продукта, произведенного наемным
рабочим), равно как и наемный рабочий должен быть по
крайней мере продавцом своей рабочей силы, просто покупатель и
продавец, это еще не капиталист и не рабочий.
В общем здесь отношение примерно такое же, как то,
согласно которому осел - это обязательно животное, но
животное - это еще вовсе не обязательно осел. Отношение между
товаром и капиталом это такое же родовидовое отношение,
но с той существенной разницей, что капиталистическое
производство - это не просто вид товарного производства,
это - товарное производство по преимуществу, это все равно,
как если бы был вид животного, который бы наиболее адек-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 198-199.
120
ватно представлял свой собственный род, свой собственный
«общий тип». И если в определениях покупателя и продавца
«погашены» специфические определения капиталиста и
наемного рабочего, то в них «погашены» и все специфические
определения, характеризующие данную конкретную
историческую эпоху, капитализма, феодализма и т. д. Эти определения,
таким образом, отбрасывают нас к той исторической эпохе,
когда не было ни капиталистов, ни рабочих, а были только
простые товаропроизводители, то есть к эпохе простого
товарного производства, хотя в то же время мы можем мыслить их в
качестве определений и капиталистического производства.
Сила абстракции оказывается, кроме всего прочего,
своеобразной «машиной времени», которая способна
переносить нас в самые удаленные от настоящего моменты. Выделяя в
качестве наиболее общего и абстрактного определения
человека его способность производить орудия труда, мы
переносимся в то время, когда наш обезьяноподобный предок
спустился с дерева и изготовил самое первое и примитивное орудие.
Первое и наиболее общее определение человека указывает на
историческую границу появления феномена Человек
(соответственно - исчезновения, если такое произойдет). Мы можем
свободно путешествовать в прошлое и будущее в
«семимильных сапогах логики» (Гегель) потому, что субстанциальное
общее есть сохраняющееся во времени необходимое условие
возникновения и существования данной конкретности.
Поскольку основные определения товарно-денежного
обращения следуют не из природы капиталистического способа
производства, не из капитала, а из природы товара, то
денежное обращение, хотя и является необходимым условием
существования капитала, не выражает собой еще ничего
капиталистического. «Буржуазный процесс производства, - пишет
Маркс,-первоначально овладевает металлическим обращением,
как переданным ему в готовом виде органом, который, хотя
постепенно и преобразуется, однако постоянно сохраняет свою
121
основную конструкцию»1. Естественно, что при таком
положении вещей легко можно принять эту основную конструкцию за
собственную конструкцию капитала, что часто и происходило
у буржуазных экономистов. В этом проявляется, как отмечал
Маркс, неполнота абстракции, которая имеет место, в
частности, у Рикардо, который «недостаточно, не до конца
абстрагируется так что, когда он, например, рассматривает стоимость
товара, он с самого же начала включает в ее определение
всевозможные конкретные отношения»2.
В первых и наиболее абстрактных определениях
изучаемой конкретности историческое время «сплющивается»,
превращается в нулевое измерение, поэтому, независимо от
того, каким образом эти определения получены,
бессмысленно задаваться вопросом о том, к какой более узко
специфицированной исторической эпохе эти определения относятся.
Рассуждая в первых главах «Капитала» о товаре, деньгах и т.
д., Маркс рассуждает не о «капиталистических» товаре и
деньгах, не о деньгах и товаре «докапиталистических», а о
товаре и деньгах вообще, об определениях, которые «более или
менее присущи всем формам общества». Но это такое
«вообще», которое будучи чисто «мысленной diffirentia specifica,
представляет собой также совершенно определенную
историческую реальность, товар вообще, деньги вообще реальны как
особенное историческое, исторически предшествующее
капиталу, формообразование. Однако об этом мы еще не знаем, мы
можем знать и говорить об этом с уверенностью только тогда,
когда мы выведем из этих всеобщих определений
специфические определения капитала. Для нас это пока что абстрактные
и формальные «роды», историческая определенность которых
еще только должна проявиться.
«Деньги могут существовать и исторически
существовали раньше капитала, раньше банков, раньше наемного труда
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 134.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. II, с. 111.
122
и т. д. - пишет Маркс во Введении экономических рукописей
1857-1859 гг., - с этой стороны можно, стало быть, сказать, что
более простая категория может выражать собой
господствующие отношения менее развитого целого или подчиненные
отношения более развитого целого, т. е. отношения, которые
исторически уже существовали раньше, чем целое развилось в
ту сторону, которая выражена в более конкретной категории.
В этом смысле ход абстрактного мышления, восходящего от
простейшего к сложному, соответствует действительному
историческому процессу»1.
В свете вышеизложенного и может проясниться значение
выражения «в этом смысле» в последнем предложении только
что процитированного места из Маркса. А именно, если более
простая категория выражает собой отношения, которые
«исторически уже существовали раньше, чем целое развилось в ту
сторону, которая выражена в более конкретной категории». Но
более простая категория может собой выражать также
«подчиненные отношения более развитого целого», и тогда говорить о
действительном историческом процессе не приходится.
Товарно-денежное обращение при капитализме
подчинено капиталу, более развитому целому, в состав которого оно
входит. Но товарно-денежные отношения исторически
существовали раньше капитала, поэтому первая наиболее общая и
абстрактная характеристика целого является и исторически
первой, и наоборот. С этой стороны мышление
рационально воспроизводя развитое целое, совпадает с историей
становления этого целого.
Вот тот смысл, наиболее общий смысл, который
вкладывается Марксом в положение о совпадении логики и
истории. И в контексте всего рассуждения Маркса по этому
поводу это подчеркивание определенного смысла понятно, ибо в
принципе возможно и иное понимание историзма. И оно не
только возможно, оно в значительной мере культивировалось.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 39.
123
И Маркс предупреждает против такого вульгаризированного
представления об историзме: «Речь идет не о том положении,
которое экономические отношения исторически занимают в
различных следующих одна за другой формах общества. Еще
меньше речь идет об их последовательности «в идее» (Пру-
дон), этом мистифицированном представлении об
историческом процессе. Речь идет о том месте, которое они занимают в
структуре современного буржуазного общества»1.
Иными словами, Маркс предупреждает, с одной стороны,
против исторического эмпиризма, который пытается
воспроизвести историю, как она непосредственно есть, а с другой
стороны, и против произвольного логического
конструирования исторического процесса. Если мы возьмем
непосредственно предшествующую капитализму феодальную форму
общества, то решающую роль при феодализме, как известно,
играет натуральное хозяйство, которое несовместимо с
товарным хозяйством и антагонирует с последним.
Товарно-денежные отношения несовместимы с отношением личной
зависимости, на котором покоится феодализм, поэтому там, где
товарно-денежные отношения возникают и развиваются, они
так или иначе подтачивают и разрушают изнутри феодализм
и прокладывает дорогу капиталистическим отношениям. В
буржуазном же обществе натуральное хозяйство существует
только в качестве реликта, это совершенно чуждый ему
элемент, оно не входит в капитал в качестве подчиненного ему
отношения, а это как раз и свидетельствует о том, что не из
него исторически развился капитал.
Капитал имеет совершенно иную основу, исторически
иную основу - товарное производство. И поэтому Маркс, в
противовес такому вульгаризированному представлению об
историзме, когда исторически предшествующее
отождествляется с логически предшествующим только потому, что оно по
времени предшествует появлению исследуемой конкретности,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 44-45.
124
заявляет: «... Было бы неосуществимым и ошибочным
трактовать экономические категории в той последовательности, в
которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их
последовательность определяется тем отношением, в котором
они находятся друг к другу в современном буржуазном
обществе, причем это отношение прямо противоположно тому,
которое представляется естественным или соответствует
последовательности исторического развития»1.
То есть действительная история капитала определяется в
свете логики капитала. В этом отношении и проявляется
действительное рациональное значение гегелевского понимания
определяющей роли логики по отношению к истории: «То, что
составляет первый шаг в науке, должно было явить себя
первым и исторически»2. Надо только помнить о том, что
логика определяет историю в том смысле, что она её выявляет, но
вовсе не в том, что она является реальной детерминантой
последней. Но определяющей по отношению к действительной
истории может быть только та логика, которая уже совпала с
этой действительной историей. Если мы правильно
изобразили «логику» «матрешки», т. е. их, «матрешек», внутреннюю
«субординацию», то мы тем самым уже определили их
«историю», их расположение «по росту» одна возле другой.
Здесь мы имеем определенного рода антиномию,
выражающую противоречивый характер единства логического и
исторического, о чем в общей форме было уже сказано. Но это
еще только такая форма проявления противоречия
логического и исторического, которая еще не дает адекватных средств
для его настоящего разрешения. Поэтому проблема решается
на данном этапе за счет того, что она, строго говоря,
отодвигается, однако отодвигается благодаря тому, что с историей в
собственном смысле слова мы на стадии абстрактного
тождества не имеем дела. Здесь мы имеем дело с товарным определе-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 44.
2 Гегель. Наука логики, т. I, с. 147.
125
нием капитала, если иметь в виду логику и историю капитала,
как его абстрактно-всеобщим определением, а его конкретно-
исторический характер существует для нас пока еще только
в качестве нашего подозрения, так же как, имея определение
живого на уровне живой клетки, мы имели бы некоторые
эвристические основания полагать, что клеточное строение это
непросто абстрактно-всеобщая характеристика всего живого,
но что одноклеточный организм лежит «в основании
эволюционного древа»1, даже в том случае, если бы мы не знали об
этом точно.
Важно понять, что мы еще не имеем дела с реальной
детерминацией логики со стороны истории, равно как и
наоборот. Поэтому мы еще не можем решить проблему таким
образом, чтобы отдать предпочтение одной из
противоречащих друг другу альтернатив или изгнать противоречие (и
саму проблему) с помощью переформулировки самой
проблемы, с помощью изменения vera rerum vokabula
(правильного наименования вещей)2, потому что и противоречие и
сама проблема возникает только благодаря тому, что вещи
названы своими именами.
От истории необходимо абстрагироваться, чтобы не
сбиться на эмпирическое описание действительного
исторического процесса, чтобы не спутать решающее и
определяющее для форм, предшествующих данной исторической
конкретности, с действительными историческими условиями
возникновения данной конкретности. С другой стороны, мы
не можем сразу говорить о конкретных исторических
реальностях: там, где речь идет об абстрактно-всеобщих
определениях исследуемой конкретности, допустим, там, где речь
идет о таких вещах, как «товар», «стоимость», «деньги», как
об абстрактно-всеобщих определениях. Ведь тогда мы уже не
могли бы мыслить под этими определениями и саму разви-
1 См. Поннамперума С. Происхождение жизни. М., 1977, с. 89.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. III, с. 85.
126
тую конкретность: она еще просто реально, исторически не
возникла. Но что нам давало бы тогда основание говорить
о товаре как об исторической реальности, предшествующей
исторически капиталу? Только хронология? Но
хронологически хозяйственное развитие человечества началось не с
товарного, а с натурального хозяйства.
Все дело в том, что хронологическое предшествование и
действительное историческое предшествование не совпадают.
И потому мы рискуем потерять (а вернее: никогда не найти)
действительную историческую связь, если мы с самого
начала не вооружим себя логикой и будем оставаться при одной
только хронологии. Всеобщее ходом своего собственного
развития должно проявить себя как особенное, а потому и наука
должна пройти все необходимые логические этапы своего
развития, ни одного из которых миновать нельзя, и нельзя
поэтому забегать вперед. Поэтому Маркс и отмечал в предисловии
к работе «К критике политической экономии», что «всякое
предвосхищение выводов, которые еще только должны быть
доказаны, может помешать» и что читатель, который вообще
захочет следовать за ним, «должен решиться восходить от
частного к общему»1.
Здесь Маркс руководствуется вполне осознанными
мотивами, И это те же самые мотивы, которые побудили его очень
осторожно отнестись к советам своего друга Энгельса насчет
«исторических иллюстраций» к первому отделу I тома
«Капитала», когда тот в ответ на просьбу Маркса сообщить ему,
«какие именно пункты в изложении формы стоимости
необходимо популяризировать в дополнении»2, писал Марксу
следующее: «Самое большее, что следовало бы сделать, это
несколько подробнее доказать исторически то, что здесь
достигнуто диалектическим путем; так сказать, подтвердить
достигнутое на примере истории... Ты совершил большую ошибку, не
1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 5.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 256.
127
сделав ход мыслей этого относительно абстрактного
исследования более наглядным при помощи более мелких
подразделений и отдельных подзаголовков».
Весьма характерен ответ Маркса на эти советы Энгельса.
«Что касается развития формы стоимости - писал он, - то я
последовал твоему совету и не последовал ему, желая также и
в этом отношении остаться диалектиком. Это значит,
во-первых, что я написал приложение, в котором излагаю тот же
вопрос возможно более просто и возможно более
по-школьному, и, во-вторых, что я по твоему совету выделил каждый этап
развития в параграф и т. д. со своим заголовком. В предисловии
же я посоветую «недиалектическому» читателю пропустить
такие-то страницы и вместо них прочесть приложение»2.
Маркс по сути уклоняется от совета «подтвердить
достигнутое на примере истории». Для «недиалектического» читателя
это облегчило бы понимание, но это было бы пониманием на
уровне некоторого общего представления, к тому же довольно
неопределенного. Людям вообще в значительно большей мере
свойственна неполнота абстракции, о которой Маркс говорит
в отношении Рикардо, нежели противоположное, а именно
подмена всеобщих определений более конкретными
определениями, и этому необходимо противодействовать, тогда как
попытка «подтвердить достигнутое на примере истории»
этому бы содействовала и тем усугубляла бы положение.
«Могут ли логическое и историческое в общем и целом
совпадать уже не является для марксистов открытым
вопросом»3, - констатировал в свое время немецкий философ Хорст
Крошнак. По странному стечению обстоятельств примерно
в то же время и по тому же поводу другой автор, тоже
марксист, писал следующее: «... В каких работах Маркс начинает с
товара? В «Критике политической экономии» и в «Капитале».
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 260.
3Kreschnak Н. Zur Einheit vom Logischem und Historischem in der
Erkenntnistheorie // Deutsche Zeitschrift f; r Philosophie. 1963. № 4, S. 423.
128
В рукописи же 1857-1858 гг. (работа непосредственно
предшествующая названным) Маркс не начинает, а заканчивает
ее главой о товаре. Причем эта глава занимает всего полторы
страницы»1. В данном случае выражается как раз довольно
явное сомнение в том, что логическое и историческое должны «в
общем и целом совпадать».
В чем же дело и где истина? Часто ее ищут между двумя
крайностями, но между крайностями, как отмечал где-то Гёте,
лежит не истина, а проблема. Для диалектического движения
познающего мышления вообще характерно то, что при таком
движении «сама истина развернута как движение проблем,
решения которых одновременно знаменуют собой постановку
новых проблем и ведут к дальнейшему погружению в
конкретность предмета»2. Абстрактное тождество логического и
исторического есть средство решения определенных проблем,
о чем общем и целом было уже сказано и о чем более подробно
речь впереди, но прежде чем оно становится средством, оно
само представляет собой проблему. И должно «в общем и
целом» (а не «могут») совпадать логика с историей не в силу
каких-то метафизических соображений, а в силу определенных
методологических законов, законов диалектики познающего
мышления.
Этот проблемный характер совпадения логического с
историческим как раз и проявляется в том, что это совпадение
осуществляется через неосуществление. В процессе живого
исследования поэтому неизбежно должны быть отступления от
того порядка рассмотрения и изложения, которые
характеризуют зрелую теорию, в которой «разъединенные звенья»
«соединяются в конечном итоге». Парадокс состоит в том, что то, что
выдается в качестве instantia contradictora (противоречащей
инстанции), является как раз подтверждением всеобщего закона.
1 Вазюлин В.А. За исторический подход к проблеме исторического и
логического // Философские науки. 1963. № 2, с. 143.
2 См. Маркс К. Капитал. Философия и современность. М., 1968, с. 241.
129
В связи с этим проблемным характером совпадения
логического с историческим, как и диалектики вообще, и
приобретают неоценимое значение подготовительные рукописи
Маркса к «Капиталу». Они и демонстрируют осуществление
совпадения логического с историческим через
неосуществление, через отступления и последующие исправления. Здесь
действительно есть отступления от того порядка, который
мы находим в «Капитале», но не настолько, чтобы все было
наоборот, как пишет об этом В.А. Вазюлин, что рукопись
1857-1856 гг. (первый черновой набросок «Капитала» под
названием «Критика политической экономии») Маркс якобы «не
начинает, а заканчивает ее главой о товаре», которая занимает
«всего полторы страницы».
Во-первых, эта глава, которая у Маркса называется
«Стоимость»- только начата, поэтому она и умещается на
полутора страницах. Во-вторых, эта глава имеет порядковый номер,
поставленный собственной рукой Маркса, римскую цифру
«один». И, наконец, в-третьих, собственное замечание
Маркса: «Этот раздел надо добавить к предыдущим»1 говорит о том,
что если этот раздел рукописи оказался хронологически более
поздним, то это вовсе не означает, что он логически и
композиционно должен завершать исследование.
Кроме всего прочего диалектическое понимание
характера развертывания научной теории было выражено до Маркса
уже Гегелем, учеником которого тот считал себя. И Гегель
понимал, что всякое деление науки до науки может быть только
предварительным. «Можно, однако, - писал он, -
попытаться заранее объяснить в общем то, что требуется для деления,
хотя и для этого необходимо прибегнуть к методу, который
приобретает свою полную ясность и обоснование только в
рамках самой науки»2. Т. е. метод претерпевает, как это было
уже отмечено, процесс становления вместе с самой наукой.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 293.
2 Гегель. Наука логики, т. I, с. 114.
130
Его становление, его движение, и есть движение
возникновения и разрешения методологических проблем, и это особенно
заметно в подготовительных рукописях к «Капиталу».
Так, например, рассматривая переход капитала из
процесса производства в процесс обращения, Маркс делает для
себя следующее замечание в скобках: «На данном этапе
исследования еще нельзя перейти к отношению между спросом,
предложением, ценами, которые в своем подлинном развитии
предполагают капитал. Однако поскольку спрос и
предложение являются абстрактными категориями и еще не выражают
определенных экономических отношений, быть может, их
следует рассмотреть уже при анализе простого обращения или
простого производства?»1.
Мы не можем непосредственно знать, какие из
определений отношения между спросом, предложением и ценами
являются абстрактными и всеобщими и которые не являются
результатом вмешательства в процесс обращения капитала, и
какие являются следствием капитала, по сути определениями
товарного и денежного капитала. Значит нужен
предварительный анализ, прежде чем определения могут быть
распределены в порядке их действительного генезиса, действительной
истории капитала. И таким образом решается проблема
совпадения логики и истории, как содержательная, а не как
формальная проблема.
И еще замечание в скобках (кстати, то, что у Маркса
заключено в его подготовительных работах в скобки, для
исследователя по логике «Капитала» представляет наибольший
интерес): «Выше, при рассмотрении процесса увеличения
стоимости капитала, мы уже видели, что он предполагает простой
процесс производства как процесс, развившийся уже ранее.
Так же будет обстоять дело со спросом и предложением,
поскольку при простом обмене предполагается наличие
потребности в продукте. Собственная потребность производителя
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 383.
131
(непосредственного) выступает как потребность в спросе со
стороны других. При самом изложении этого вопроса должно
выясниться то, что должно быть ему предпослано, и все это
затем следует включить в первые главы»1.
Действительно, тот порядок, который здесь
устанавливает Маркс (устанавливает опять-таки путем предварительного
исследования), мы находим в «Капитале». Первый том
«Капитала» начинается главой о товаре, деньги рассматриваются в
третьей главе, так как эта категория более позднего
(исторически) происхождения, и сущность денег может быть понята
лишь после рассмотрения товара и простого процесса
товарного обмена. Но простой процесс производства рассматривается
Марксом в «Капитале» лишь в связи с определением
субстанции стоимости, в связи с определением двух факторов
товара: потребительной стоимости и стоимости. Хотя простой
процесс производства исторически предшествует товарному
производству и является основой существования
человеческого общества вообще, Маркс не рассматривает
производство вообще специально, потому что специальным предметом
рассмотрения в «Капитале» является особенная историческая
форма производства - капиталистическая.
Характерно также такое замечание Маркса: «Все прочее
является переливанием из пустого в порожнее. Какие
определения следует включить в первый раздел: «О производстве
вообще», и какие в первый отдел второго раздела, трактующий
о меновой стоимости вообще, - это может выясниться лишь в
конце и в качестве результата всего исследования»2.
Как известно, в окончательном варианте «Капитала»
раздел «О производстве вообще» просто отсутствует, потому что
не с производства «вообще» началась действительная история
капитала, а с определенной исторической формы
производства - с товарного производства. С него поэтому начинается и
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 384.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 275.
132
логическое рассмотрение капитала. Порядок рассмотрения,
как и вопрос о том, что вообще рассматривать, а что нет,
принадлежит самой теории, и если теория находится в процессе
становления, то в процессе становления находится и порядок
рассмотрения. Поэтому когда говорят о том, что порядок
рассмотрения категорий в подготовительных рукописях к
«Капиталу» отличается от соответствующего порядка в «Капитале»,
то отсюда можно сделать только тот вывод, что в
подготовительных рукописях теория капитала находится в процессе ее
становления и обнаруживает свою незавершенность1.
Сознательный историзм Маркса проявляется в том, что
предварительный анализ капитала служит ему необходимой
предпосылкой для того, чтобы выйти на путь
исторического развития капитала, а тем самым и на путь его подлинной
логики. После этого предварительного беглого анализа
капитала Маркс констатирует: «Мы уже видели, что капитал
предполагает: I) процесс производства вообще, в том виде, в
1 В статье А.И. Когана «О неизученном плане исследований К.
Маркса» (Вопросы философии. 1967. № 9) поднимается вопрос о так называемом
плане шести книг, который Маркс дал во «Введении» (см. К. Маркс и Ф.
Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, с. 45). Коган говорит о «научном членении», о
«методологической идее» плана шести книг, так что создается впечатление, что
созданию теории предшествует выработка плана. Коган полемизирует с Д.
Розенбергом и доказывает, что «Капитал» является реализацией этого
плана. Может быть Коган и прав, и «Капитал» действительно является
реализацией этого «шестикнижия». Но он упускает из виду один существенный
момент, а именно, что план шести книг, являясь программой дальнейшего
исследования, является в то же время, или может быть, даже в первую
очередь, итогом предварительного исследования, и если бы даже этот план,
как считает Д. Розенберг, остался нереализованным, или реализованным
не полностью, то это еще не было бы катастрофой и крушением
«методологической идеи». Остается вообще не ясным, что такое «методологическая
идея» плана. Всякий предварительный план является результатом каких-то
предварительных соображений и должен составляться с расчетом на
дальнейшую коррекцию, если исходить из основной методологической идеи,
вытекающей из диалектического понимания метода научного познания
вообще.
133
каком он свойствен всем общественным укладам, т. е. процесс
производства вне его исторического характера, если угодно,
общечеловеческий процесс; 2) обращение, которое даже в
каждом из своих моментов, а еще более в своей целостности
является определенным историческим продуктом; 3) капитал
как определенное единство обоих.
В какой мере сам общий процесс производства
видоизменяется исторически, едва только он начинает выступать уже
только как элемент капитала, - это должно выявиться в ходе
его анализа как и вообще из простого рассмотрения
специфических особенностей капитала должны выявиться его
исторические предпосылки»1
Из простого рассмотрения специфических особенностей
капитала выясняются по крайней мере две его необходимые
предпосылки: 1) процесс производства вообще и 2)
обращение вообще, поэтому рассмотрение этих предпосылок должно,
естественно, предшествовать рассмотрению собственно
капитала. Этот порядок и соответствует тому порядку, в каком эти
явления возникли в действительной истории. Но процесс
производства вообще, «вне его исторического характера», это, как
отмечалось, можно сказать, слишком «вообще», чтоб этим
заниматься специально. Производство вообще является
условием существования человеческого общества вообще, любой его
формации, тогда как товарно-денежное обращение есть лишь
определенная историческая форма обмена деятельностями и
способностями. Вместе с тем форма продукта труда, которую
он принимает при товарно-денежном обращении, а именно
форма стоимости, как замечает Маркс, «есть самая
абстрактная и в то же время наиболее общая форма буржуазного
способа производства, который именно ею характеризуется как
особенный тип общественного производства, а вместе с тем
характеризуется исторически»2. Таким образом, капитал дол-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 274-275.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 91.
134
жен быть выведен не из производства вообще, а из
обращения, из рассмотрения простого товарного обмена.
Так в процессе исследования предмета конституируется
порядок самого исследования и изложения. В этом сказывается
и проявляется противоречивость единства логического и
исторического, это одна из форм проявления этого противоречия,
которая и может быть разрешена только в процессе
исследования, в котором оно постоянно разрешается и возникает вновь.
Отступлением от принципа совпадения логики и
истории (хотя на стадии абстрактного тождества логического и
исторического единство логического и исторического еще не
проявило себя как принцип) был бы, допустим, тот факт, что
Маркс вопреки действительной истории пытался бы вывести
сущность капитала из капиталистической ренты. Совпадение
логики и истории на данном этапе подтверждается и
обнаруживает себя как логическая стройность и согласованность
теории внутри себя, а не сопоставлением последней с
действительной историей, так как она еще не существует для нас, а
нам непосредственно дана только эмпирическая история,
которая отнюдь не совпадает с действительной. Отступление от
принципа единства логического и исторического - это всегда
натяжки, искусственные построения и неверные выводы, как
это имело место у буржуазных экономистов.
Только в процессе анализа может выясниться, что
рассматривать сначала, а что рассматривать потом, и,
соответственно, что чему исторически, в процессе реального генезиса
исследуемой конкретности, предшествует. Так рассматривая
роль и место основного капитала в процессе
капиталистического производства, Маркс пишет: «Стоимость средств
производства, не являющихся продуктом труда, сюда еще не
относится, так как эти средства производства не вытекают из
рассмотрения самого капитала. Для капитала они выступают
прежде всего как данная историческая предпосылка. В
качестве таковой мы их здесь и оставляем. Только видоизмененная,
135
применительно к капиталу, форма земельной собственности -
или природных факторов как величин, определяющих
стоимость, - входит в рассмотрение системы буржуазной
экономики. На той стадии анализа капитала, которой мы достигли,
ничего не меняется от того, что земля и т. д. рассматривается
как форма основного капитала»1.
Метод Маркса вообще требует сознательного отвлечения от
всего того, что не относится к сути дела. «Необходимо избегать
всяких деталей, - пишет он, - а когда их надо вносить, то вносить
их лишь там, где они теряют свой элементарный характер»2. Вот
почему все теоретическое построение Маркса может производить
впечатление априорной конструкции, диалектической игры с
понятиями и т. д. И Маркс, как будто чувствуя возможные
недоразумения, делает замету для себя уже в рукописи 1857-58 гг.:
«Необходимо будет впоследствии, прежде чем покончить с этим вопросом
(вопросом происхождения денег - СМ.) исправить
идеалистическую манеру изложения, которая может породить видимость,
будто речь идет лишь об определениях понятий и о диалектике этих
понятий. Следовательно, прежде всего надо будет уточнить фразу:
«продукт (или деятельность) становится товаром, товар - меновой
стоимостью, меновая статность - деньгами»3.
То, что опасения Маркса были не напрасными,
подтверждается фактами, которые имели место еще при жизни автора
«Капитала». В послесловии ко второму изданию I тома
своего главного труда Маркс разбирает отзывы рецензентов, и,
среди прочих, автора рецензии из петербургского «Вестника
Европы». Читателя, как пишет этот рецензент, вводит в
заблуждение внешняя форма изложения, откуда, считает, он,
можно заключить, что «Маркс большой идеалист-философ, и
притом в «немецком», т. е. дурном, значении этого слова»4. На
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 224.
2 Там же, с. 303-304.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 94.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 19-20.
136
это Маркс замечает: «Конечно, способ изложения не может с
формальной стороны не отличаться от способа исследования.
Исследование должно детально освоиться с материалом,
проанализировать различные формы его развития, проследить их
внутреннюю связь. Лишь после того как эта работа закончена,
может быть надлежащим образом изображено
действительное движение. ... Раз это удалось, и жизнь материала
получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед
нами априорная конструкция»1.
Может показаться, что перед нами априорная
конструкция... Когда «выравнивание» исторического пути развития
предмета произошло, и история тем самым предстала в
качестве логики, что происходит не только и не столько в
результате абстрагирующий деятельность человеческого
мышления, а в результате самого процесса: последующее сохраняет
в себе необходимые моменты предшествующего и оставляет
позади себя случайное, то может показаться, что не было
никакого действительного исторического процесса становления
исследуемой конкретности, равно как не было процесса
идеального отражения этой конкретности в теории.
Таков характер приведения логики и истории к
абстрактному тождеству, полное логическое значение которого, как и
его необходимый характер, могут проявиться только в составе
конкретного единства логического и исторического,
рассмотрение которого еще в значительной мере только предстоит.
Понять эту форму совпадения логического и исторического
мешает очень часто проявлявшаяся неполнота абстракции, а
именно подсовывание под абстрактные определения
конкретных вещей, под функциональные значения - материальных и
т. д. История изучения Марксова теоретического наследия
последних лет и дала несколько примеров такой неполноты, на
рассмотрении которых хочется остановиться.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 21.
137
§ 2.0 неполноте абстракции как причине
невозможности достижения конкретного историзма
Однажды, как рассказывают, произошел забавный случай
со студентом, который добросовестно прочитал весь
«Капитал» и заявил, что ему понятно все, кроме одного - что такое
«сюртук». Разумеется, было бы в данном случае совершенно
неуместным рассказывать этот забавный случай, если бы он
был просто смешон и ни в коем случае для нас не поучителен.
А поучителен он в том отношении, что «Капитал» можно
понять и тогда, когда непонятно не только то, что такое сюртук,
но и что такое «20 аршин холста», которые «стоят одного
сюртука»1, потому что сюртуку все равно, на что его обменивают.
Потому-то и возможно появление всеобщего эквивалента всех
товаров - денег: они как раз и выражают то безразличие,
которое имеет место между субстанцией стоимости и формой ее
воплощения, в сюртуке, холсте или сапожной ваксе. Для денег
поэтому, как замечает Маркс, также «совершенно
безразлично, в какой вид товаров они превращаются»2. Вообще
политическая экономия и товароведение - это очень разные вещи.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 57.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 36. «Сюртук есть сюртук ..., -
замечает Маркс в связи с критикой итальянского вульгарного
экономиста П. Росси, который не видел разницы между портным, который нанят
и работает за зарплату, и портным, который работает у себя дома и шьёт
на заказ. - Но в первом случае рабочий-портной производит не только
сюртук, он производит капитал, а значит и прибыль; он производит своего
хозяина как капиталиста и себя самого как наёмного рабочего. Когда я
поручаю рабочему-портному сшить для меня лично сюртук у меня на дому,
то благодаря этому я столь же мало становлюсь своим собственным
предпринимателем (в смысле определенной экономической категории), как
мало предприниматель-портной становится предпринимателем оттого,
что он сам носит и потребляет сшитый его рабочим сюртук» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 291).
Таким образом, и в эпоху капитализма сюртук отнюдь не всегда
является «капиталистическим».
138
Но все это не было бы так интересно, если бы вдруг
однажды наш старый знакомый сюртук не напомнил о себе, и на этот
раз не в изустном творчестве, за историческую достоверность
которого трудно ручаться (может быть такого студента вовсе и
не существовало на свете, которому было непонятно, что такое
«сюртук»), а на страницах научного журнала. Здесь нам
придется выписать довольно обширный период, чтобы уж никто не
мог нас упрекнуть в сочинении нелепых историй про сюртук.
«То, что глубина проникновения в метод К. Маркса
может быть неодинаковой, - читаем мы, - ощущают уже
студенты, когда, переходя от чтения «Капитала» к чтению
учебников по политической экономии и наоборот, обращают
внимание на одно обстоятельство, поначалу кажущееся
скорее забавным, нежели существенным. А именно: при анализе
простой формы стоимости примеры, приводимые в
«Капитале» и в вузовских учебниках, заметно различаются. Общая
формула простой формы стоимости, как известно такова:
«х товара А = у товара В». Для наглядности К. Маркс дает
пример: «20 аршин холста = 1 сюртуку, или: 20 аршин холста
стоят одного сюртука» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23,
с. 57). В учебниках по политической экономии также
приводятся примеры: «1 топор = 20 кг зерна» («Курс политической
экономии». В 2 т. Изд. 3. Т. 1. М., 1973, с. 146) (из контекста
следует, что имеются в виду не просто топоры, а каменные
топоры, хотя и не совсем ясно, когда мог происходить такой
обмен: килограмм как мера веса утвердился, когда каменные
топоры уже перекочевали в музеи); «... владелец каменного
топора меняет его на овцу» (Политическая экономия.
Капиталистический способ производства. М., 1973, с. 97); «... 2
глиняных сосуда обмениваются на I каменный топор» (Курс
лекций по политической экономии социалистической
формации. М., 1963, с. 121). Здесь уже прямо сказано, о каких
топорах идет речь. Невольно возникает вопрос: почему именно
каменными топорами и глиняными сосудами - предметами,
139
давно исчезнувшими из человеческого обихода, - авторы
заменяют сюртук и холст»1.
Вопрос в самом деле законный, если здесь, в примерах,
проявила себя определенная тенденция в толковании Марксо-
ва метода исследования капитала. И автор, A.B. Ермакова, эту
тенденцию усматривает вот в чем. Сюртук, как весьма
справедливо замечает она, вошел в моду в Англии только в XVIII в.,
т. е. во время уже вполне развившегося капитализма.
Следовательно, строит нехитрый силлогизм A.B. Ермакова, Маркс,
поскольку он иллюстрирует простую форму стоимости
примером, где фигурирует сюртук, анализирует не какой-то там
простой товар, а тем самым и простое товарное производство,
которое исторически предшествовало капиталу, а
«капиталистический» товар2. (Последнее совершенно нелепое выражение,
примерно такое же, как «ослиное животное»: животное,
принявшее форму осла, это и есть просто осел. Маркс поэтому
везде говорит о «товарном капитале», т. е. капитале, принявшем
форму товара в процессе его метаморфоз, но нигде не говорит
о «капиталистическом товаре», потому что товар, принявший
форму капитала, это и есть просто капитал).
Если авторы учебников, о которых идет речь в
разбираемой статье, заменяют «сюртук» на «каменные топоры», то они,
как считает Ермакова, совершают тем самым непоправимый
грех, а именно подменяют якобы Марксов
«капиталистический товар» товаром «докапиталистическим» (тоже нелепое
выражение, как «доослиное животное»).
Вот, оказывается, в чем дело. И это уже не столь забавно.
Во всяком случае, не только забавно. Конечно, если тайный
смысл, - которым руководствовались авторы учебников по
политической экономии, заменяя «сюртук» на «каменные топо-
1 Ермакова A.B. О логическом и историческом при анализе формы
стоимости товара в «Капитале» К. Маркса // Философские науки. 1977. № 2,
с. 38.
2 См.: там же, с.53.
140
ры», заключается в том, чтобы выразить этим, будто у Маркса
в первых главах речь идет о «докапиталистическом товаре»,
то это действительно свидетельствует не об очень глубоком
«проникновении в метод К.Маркса». Но если Ермакова
противопоставляет этому положение о том, что Маркс анализирует
«капиталистический товар», то это свидетельствует о точно
таком же уровне «проникновения», не большем и не меньшем.
«Проблема, какие виды товаров своим свойством
предопределены возведению в ранг капитала ж какие к рядовой товарной
службе, - замечает по этому поводу Маркс, - является одним
из тех невинных затруднений, которые создала дня себя сама
схоластическая политической экономия»1. Этим сказано все.
Товар вообще это такое отношение, в котором погашены все
специфические определения конкретных исторических эпох.
Поэтов лучшим примером для простой формы стоимости
было бы: 20 каменных топоров стоят одного сюртука, В этой
форме действительно встречаются разные эпохи, и если взять
меновую торговлю, которую вели европейцы с туземным
населением вновь открытых земель, то там сюртук вполне мог
быть обменян на каменные топоры.
И последнее замечание в связи с сюртуком. Маркс
иллюстрируем при помощи сюртука и холста уже простую
форму стоимости, т. е. форму простого обмена, не
опосредованного не только деньгами, но и всеобщей формой
стоимости. В Англии в XVIII в. уже давно существовало
вполне развитое товарно-денежное обращение. Где же мог
происходить непосредственный обмен сюртука на холст?
В цивилизованной стране такой случай совершенно
исключен, а если в массовом масштабе иногда и происходит
возврат к этой давно исторически пройденной, допотопной
форме торговли, то это бывает только во время больших
общественных потрясений, во время войн и революций,
когда расстраивается нормальное денежное обращение и люди
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 45.
141
поэтому предпочитают менять сюртук непосредственно на
хлеб или на табак.
Конечно, не было бы особого смысла уделять столько
внимания этому курьезному случаю с сюртуком, если бы это
был всего лишь единичный случай. Но здесь, как и у
авторов учебников по политической экономии, которые упорно
иллюстрируют простую форму стоимости каменными
топорами, глиняными сосудами и т. д., мы имеем дело с
тенденцией, которая уже давно обозначилась довольно четко. Так,
например, у В.А. Вазюлина в его «Логике «Капитала» К.
Маркса» читаем, что Маркс, оказывается, «отвлекает категорию
простого товара именно путем рассмотрения буржуазного
общества»1. И поэтому он якобы рассматривает в первых
главах «Капитала» не товар вообще, а «капиталистический»
товар, а потому «Ф. Энгельс в своем убедительном и ясном
разъяснении П. Фиреману, неправомерно искавшему у К.
Маркса раз и навсегда готовых определений, допускает
неточность», когда он пишет, что категории следует
рассматривать в «историческом, соответственно логическом, процессе
образования» (так у Энгельса), а наоборот: «в их логическом,
соответственно в историческом, процессе образования2.
Ничего себе «неточность»... в «убедительном и ясном
разъяснении». Интересно посмотреть, в чем заключается у
Энгельса это «убедительное и ясное разъяснение». На
замечаниях П. Фиремана, американского химика, взявшегося за
проблемы, не свойственные его профессии, Энгельс
останавливается в предисловии к подготовленному им III тому «Капитала».
«Они, - пишет Энгельс, имея в виду эти замечания, -
основываются на недоразумении, будто Маркс дает определения там,
где он в действительности развивает, и на непонимании того,
что у Маркса вообще пришлось бы поискать готовых и раз
навсегда пригодных определений. Ведь само собой разумеется,
'См. Вазюлин В.А. Логика «Капитала»К Маркса. М., 1968, с. 276.
2 См. там же, с. 275.
142
что, когда вещи и их взаимные отношения рассматриваются
не как постоянные, а как находящиеся в процессе изменений,
то и их мысленные отражения, понятия, тоже подвержены
изменению и преобразованию; их не втискивают в
окостенелые определения, а рассматривают в их историческом,
соответственно логическом, процессе образования. После этого
станет, конечно, ясно, почему Маркс в начале первой книги
(где он исходит из простого товарного производства,
являющегося для него исторической предпосылкой, чтобы затем в
дальнейшем изложении перейти от этого базиса к капиталу)
начинает именно с простого товара, а не с формы, логически
и исторически вторичной, не с товара, уже капиталистически
модифицированного - этого Фиреман, конечно, никак не
может понять»1.
Все ясно и просто: сначала исторически возникло и
развилось простое товарное производство, а уж затем на этом
историческом базисе возник и развился капитал. Причем
этот исторический базис капитала является той необходимой
предпосылкой капитала, которую он в качестве абстрактного
момента своего собственного движения постоянно
воспроизводит. Поэтому логическое движение от товара к капиталу
выражает как исторический ход развития, так и определенный
цикл собственного движения уже ставшего капитала.
Поэтому и получается так, что там, где анализ ухватывает
действительное положение вещей, он выводит на путь исторического
понимания данной формы. Как отмечал Маркс, «недостатком
и ошибкой классической политической экономии является
то, что она основную форму капитала, производство,
направленное на присвоение чужого труда, трактует не как
историческую форму, а как естественную форму общественного
производства», но для устранения этой трактовки она «сама
прокладывает путь своим анализом2. Верность научной ис-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 16-19.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. III, с. 526.
143
тине не может рано или поздно не обернуться верностью
исторической правде - это тоже выражение необходимой связи
логики и истории, которая пробивает себе дорогу даже там,
где этого не желают.
Можно, конечно, легко показать, что не один только
Энгельс допустил такую «неточность», что простое товарное
производство не только логически, но и исторически предшествует
капиталу. Сам Маркс, например, пишет в третьем томе своего
«Капитала» следующее. «Обмен товаров по их стоимостям или
приблизительно по их стоимостям... соответствует гораздо
более низкой ступени, чем обмен по ценам производства, для
которого необходима определенная высота
капиталистического развития... Таким образом, независимо от подчинения
цен и их движения закону стоимости, является вполне
правильным рассматривать стоимость товаров не только
теоретически, но и исторически, как prius (предшествующее) цен
производства»1. Следовательно, как предшествующее
капиталу, потому что цена производства специфически
капиталистическая категория. И таких мест у Маркса, если вставать на
путь начетничества, можно найти не одно. Примерно, то же
самое повторяет и Ленин: «Конечно, вполне развитое
товарное производство возможно только в капиталистическом
обществе, но «товарное производство» вообще есть и логически
и исторически prius по отношению к капитализму»2.
Дело, здесь, как видим, не в Энгельсе. И дело не в том,
чтобы привести еще десяток цитат из Маркса, чтобы
показать, что Энгельс ни на йоту не исказил основную
методологическую идею Маркса. Это нисколько не продвинуло бы нас
по пути более глубокого понимания сути самой проблемы, а
это главное. И вся проблема, как выясняется, упирается в
затруднение, связанное с отождествлением нетождественного,
в понимании того, что здесь нет исключающего «или»: если
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. И, с. 193-194.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 221.
144
говорится, что товар prius по отношению к капиталу
исторически, то это не значит, что товар не сохраняется в капитале. А
если он сохраняется в капитале как его собственная
абстрактная форма и как отношение, которое на поверхности
буржуазного общества выступает как то же самое, что и во времена,
когда никакого капитализма не было, то это не значит, что он
не существовал как исторически предшествующая капиталу
особенная форма общественного производства. И это легко
подтверждается тем известным историческим фактом, что как
только капитализм революционным путем уничтожается, то
остается после этого та историческая основа, на которой он
возник и существовал, - мелкое товарное производство. И эта
основа снова может породить капитализм, потому что мелкое
товарное производство, как отмечал Ленин, порождает
капитализм ежедневно и ежечасно, и именно этим и осложняется
политика пролетарского государства в переходный период.
Здесь дело не только в невнимательном отношении к
текстам классиков, здесь трудность, так сказать,
логико-методологического свойства, которая рано или поздно выдает свою
«тайну». Это именно и случилось в статье другого
представителя рассматриваемой тенденции, В.П. Шкредова, который
прямо и без обиняков заявил: никакого «простого товарного
производства» как формы, исторически предшествующей
капиталу, не было на самом деле, «простое товарное
производство» придумал Энгельс, а Маркс начинает изложение теории
капитала с ... товарного обращения1. И, самое главное, здесь
под такое понимание подводится «методологическое»
основание, заключающееся в том, что Маркс стоял на точке зрения
конкретно-всеобщего, которая якобы исключает всякого рода
абстракции «вообще», типа «стол вообще», «животное вооб-
1 См. Шкредов В.Д. Товар и товарное обращение как предпосылки
анализа процесса производства капитала // Экономические науки. 1975. № 6,
с. 22. См. также Куликов В., Покрытая А. К истории создания главного
труда марксизма// Коммунист. 1984. № 18, с. 110-111.
145
ще» и т. д. То есть, в конечном счете, как это и должно быть
по сути, проблема совпадения логики и истории оказывается
связанной с диалектикой абстрактного и конкретного, не
разобравшись в которой, нельзя разобраться и в диалектике
логического и исторического.
Все дело в том, как об этом уже в соответствующем
месте говорилось, что перемещение акцента на
конкретно-всеобщее, которого не знала метафизическая философия, у Маркса
(и у Гегеля) вовсе не означает, что форма
абстрактно-всеобщего отбрасывается, делается излишней или не нужной. Это
объективно невозможно: всякое конкретно-всеобщее,
именно как всеобщее, проявляет себя только как
абстрактно-всеобщее, только как мысленная differentia specifica, которая еще
не нашла своей опоры в особенном, и не проявила себя как
особенное. В познании формальные абстракции, во-первых,
служат необходимой формой движения к
конкретно-всеобщему, ко всей полноте определений изучаемой конкретности, и,
во-вторых, как писал Гегель, «сокращениями»,
своеобразными аббревиатурами, которые избавляют нас от повторений.
«Производство вообще, - писал Маркс, - это абстракция, но
абстракция разумная, поскольку она действительно
выделяет вообще, фиксирует его и потому избавляет нас от
повторений... Некоторые определения общи и для новейшей и для
древнейшей эпохи. Без них немыслимо никакое
производство»1. И поскольку без этих определений невозможно никакое
производство, то и научный анализ всякой особенной формы
производства не может миновать этих всеобщих определений.
И это приходится делать Марксу, как мы знаем.
Иными словами, такие абстракции, как «производство
вообще», «труд вообще» и т. д. совершенно необходимы, хотя
в то же время и совершенно недостаточны, для того, чтобы
понять любую конкретную историческую ступень развития
общественного производства. На этих абстракциях нельзя
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 21.
146
останавливаться, но их нельзя и миновать - это и составляет
одно из центральных противоречий диалектики абстрактного
и конкретного, путь и способ разрешения которого есть
восхождение от абстрактного к конкретному. Переход на точку
зрения конкретно-всеобщего вовсе не освобождает нас от
употребления слов, обозначающих некоторые
абстрактно-всеобщие представления, иначе это было бы не движение вперед, а
движение попятное - к той стадии первобытной дикости,
когда, как это проявляется еще у некоторых современных
исторически отсталых народов, люди не знали слова «снег», которое
бы означало «снег вообще», а знали только слова,
обозначающие снег, который лежит, снег, который падает, снег, который
метет ветер («пурга») и т. д.
Маркс поэтому высоко ценил классиков буржуазной
политической экономии, что они значительно продвинулись
вперед по пути освобождения основных понятий своей науки
от излишней «чувственности», как сказал бы Гегель. В этой
связи он в частности отмечал: «Огромным шагом вперед
Адама Смита явилось то, что он отбросил всякую определенность
деятельности, создающей богатство; у него фигурирует просто
труд, не мануфактурный, не коммерческий, не
земледельческий труд, а как тот, так и другой... Как труден и велик был
этот переход, видно из того, что Адам Смит сам еще время от
времени скатывается назад к физиократической системе (т. е.
отождествляет труд вообще с особенным видом труда, с
земледельческим трудом - СМ.)»1.
Насколько трудны подобного рода переходы вообще,
видно из того, что, оказывается, до сих пор для некоторых
теоретиков если «сюртук», то не «каменные топоры», и
наоборот. Просто труд, просто товар, просто производство, просто
товарное производство и т. д. это абстракции, но такие
абстракции, без которых невозможна никакая научная работа в
области политической экономии. Вот что нужно прежде всего
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 40-41.
147
усвоить и что представляет собой один из «азов»
марксистской диалектико-логической грамоты. Речь поэтому вообще
идет не просто о разногласиях относительно понимания
такой категории политической экономии, как «простое товарное
производство», что есть просто товарное производство (как
это чаще всего встречается у Маркса, и делать «историю» из
того, что Энгельс добавил к «товарному руководству»
предикат «простое» нет никаких оснований), а речь идет о
принципиальных разногласиях в понимании сути марксистского диа-
лектико-материалистического метода.
Поэтому утверждение о том, что Маркс в первых главах
«Капитала» занимается анализом товарного обращения, а не
товарного производства (или простого товарного
производства), это не выход из положения. Тем более это странно
слышать от экономиста. Ведь нет товарного обращения без
товарного производства, и наоборот. Если мы говорим о товарном
обращении, то этим самым мы уже предполагаем товарное
производство. Товарное производство это форма
производства, которая накладывается на него благодаря тому, что
продукты этого производства принимают форму товара,
обращаются и поступают в сферу потребления как товары. Поэтому
товарное производство это не технологическая, а
экономическая характеристика, которая как таковая только и проявляется
в обращении, на рынке. Товар - это не вещь, а отношение по
поводу вещи, натуральная форма которой до некоторой
степени безразлична для самого этого отношения, это отношение
между людьми по поводу производства и потребления
продуктов, характерная для определенной исторической ступени
развития общественного производства. Поэтому сказать
«анализируется товар» или сказать «анализируется товарное
обращение» - это абсолютно одно и то же. Политическая экономия
занимается экономической формой производства и продукта
производства, а не самим производством и продуктом - там,
где наука теряет свой предмет, начинается схоластика.
148
У нас еще будет возможность, и не раз, вернуться к
вопросу об историческом предшествовании и товарного
обращения, и товарного производства капиталу. Маркс, во всяком
случае, не делал «проблемы» из различия между товарным
обращением и товарным производством. «Предпосылкой
образования капитала и подчинения ему производства, -
писал он, - является известная степень развития торговли,
а потому и развития товарного обращения и, следовательно,
товарного производства, ибо изделия не могут вступить в
обращение как товары, если они производятся не для
продажи, следовательно не как товары»1. Об этом можно говорить
без конца. Но здесь хотелось бы коснуться одного важного
терминологического (и не только терминологического)
различения, которое почти никогда не делается и которое имеет
самое решающее значение для понимания диалектики
исторического и логического.
В.А. Вазюлин, как мы помним, утверждает и доказывает,
что Маркс «отвлекает» категорию товара путем рассмотрения
«именно буржуазного общества». Если бы вообще категории
получались путем «отвлечения», в чем усомнился уже Давид
Юм то из того, что «товар» получился путем рассмотрения
«сюртука», еще не следует того, что эта «категория» не
подходит для «каменных топоров». «Соус, пригодный для
гусака, годится и для гусыни»2. Но дело не в этом, а в том, что
общее положение, которое этим «обосновывается» или из этого
«следует», выглядит следующим образом: «В «Капитале»
господствует логический способ рассмотрения, категории
располагаются в логической последовательности, т. е. доминирует
исследование предмета, движущегося на своей основе, и
расположение категорий определяется местом и ролью
отражаемых категориями сторон именно в уже возникшем предмете.
К. Маркс руководствуется не исторической последовательнос-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 40.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 56.
149
тью, а логической, ибо историческая последовательность не
совпадает с логической»1.
Прежде всего непонятно,есл и историческая
последовательность не совпадает с логической, то почему от этого должно
быть «хуже» для истории. О какой «истории» вообще идет речь?
И, наконец, самое главное, что нас здесь интересует, что такое
«логический способ»? Ведь «логический способ» для Маркса и
«логический способ» для какого-нибудь Карнапа или Поппера,
это вещи существенно разные. Логический способ, как он
проявляется у Маркса, это определенная форма единства
логического и исторического, а именно форма абстрактного
тождества логического и исторического, и в качестве такового он еще
должен проявить себя. Иными словами, «логический способ»
это слишком конкретная вещь, чтобы с этого начинать
разговор. Логический способ и исторический способ - это две
различные формы проявления единства логического и
исторического, и внутренняя закономерная связь этих двух «способов»
будет непременно упущена, если начинать изложение
диалектики логического и исторического сразу с этих форм. Об этом
уже шла речь в первых главах настоящей работы. Это формы,
которые непосредственно проявляют себя в научном тексте, и
если дальше их не идут, то не идут по сути дальше
текстологического анализа науки, застревают на «языке науки» и не
доходят до самой науки. Отсюда и неопределенность выражений,
вроде «господства» логического способа.
Если обращаться к экономическим текстам Маркса, то
действительно, текстуально там довольно четко различаются
части, в которых мы имеем дело с логическим анализом, и
части, в которых мы имеем дело с историей в смысле описания
некоторых действительных исторических событий. Здесь можно
даже сказать о «господстве» логического способа, но от этого
еще ничего не будет понято, и этим ничего не будет сказано.
Отсюда и все натяжки, вроде поисков у самого Маркса под-
1 Вазюлин В.А. Логика «Капитала» К. Маркса, с. 274-275.
150
тверждения того, что у него «господствует» логический
способ, включая подготовительные тексты. Вазюлин, в
частности, ссылается на то место, которое уже цитировалось ранее,
из рукописи 1857-88 гг.: «Только в так называемой розничной
торговле, в повседневном обороте буржуазной жизни... в
мелочной торговле ... только в этом движении, происходящем на
поверхности буржуазного мира, движение меновых
стоимостей, их обращение протекает в чистом виде. И рабочий,
покупающий каравай хлеба, и миллионер, покупающий такой же
каравай, выступают в этом акте лишь как простые
покупатели... Все другие определения здесь погашены».
Вазюлин специально выделяет слова «на поверхности
буржуазного мира», желая этим подчеркнуть, что анализ
простого товарно-денежного обращения, как оно протекает при
капитализме, не касается сути самого капитала. В то же
время Маркс с самого начала заявляет, что предметом его
анализа является капиталистический способ производства, стало
быть, он начинает анализ капитала не с простого товара. Вот и
вся «премудрость».
Маркс однако никогда не строил себе иллюзий, в отличие
от Шеллинга, что можно сразу проникнуть в существо дела,
минуя обманчивую видимость. С чего начинается
«Капитал»? - «Богатство обществ, - пишет с самого начала Маркс, - в
которых господствует капиталистический способ
производства, выступает как «огромное скопление товаров», а
отдельный товар - как элементарная форма этого богатства. Наше
исследование начинается поэтому анализом товара»1. Почему
«элементарной формой этого богатства» не может быть тот
самый каравай хлеба, который покупает и миллионер и
рабочий? Очень даже может быть, что он произведен вполне
капиталистическим способом. Может быть тот лавочник, который
продает каравай хлеба и капиталисту и рабочему, содержит
собственную хлебопекарню с наемными рабочими.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 43.
151
И для того чтобы убедиться, что надо различать
обращение капитала и простое товарное обращение, которое
протекает также и при капитализме, и что Маркс очень четко различал
эти вещи, вовсе не надо читать рукописное наследие Маркса.
Мало того, в этом и заключается одна из главных задач II тома
«Капитала». Если прибавочная стоимость выпадает из
обращения капитала, не идет на расширение производства, а
расходуется капиталистом на собственные нужды (в том числе и
на тот самый каравай хлеба, который он покупает в розницу у
лавочника), то она обращается по законам простого товарного
обращения. «Типично для кретинизма вульгарна
политической экономии то, - пишет Маркс, - что это обращение, не
входящее в кругооборот капитала, - обращение той части вновь
созданной стоимости, которая потребляется как доход, - она
выдает за кругооборот, характерный для капитала»1.
Иными словами, вульгарная политическая экономия не
различает двух существенно разных вещей: одно дело, когда
капиталист покупает каравай хлеба для собственного
потребления, и совсем другое дело, когда он покупает тот же самый
каравай хлеба у того же самого лавочника, чтобы кормить этим
хлебом своих рабочих. Во втором случае хлеб это уже не
просто хлеб, продукт питания, а производительный капиталу т. е.
капитал, принявший форму средства производства. И спутать
эти две вещи не мудрено, потому что по своей форме это одно
и то же. «Оба обращения, как Т - Д - Т, так и Т - Д - Т, по
своей общей форме относятся к товарному обращению (и потому
не обнаруживают никакой разности в стоимости между двумя
крайними членами)»2
Чтобы понять действительную разницу между тем и
другим, надо покинуть сферу обращения и последовать за
капиталистом, чтобы посмотреть, что он будет делать с тем караваем
хлеба, который он купил на рынке. Иными словами, есть совер-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 81.
2 Там же, с. 79.
152
шенно объективная почва для того чтобы путать простое
товарное производство с капиталистическим, как это получалось
у вульгарных экономистов - и то и другое имеют одну и ту же
форму. И эту-то форму Маркс анализирует с самого начала, Он
анализирует и форму капитала и форму простого товарного
производства, производства, исторически предшествующего
капиталу. И потому анализ этой формы, хотя по форме он есть
логический («логический способ»), по сути он есть
исторический анализ. И поэтому логическое и историческое здесь
совпадает полностью и абсолютно. И только в этом вся трудность, -
т. е. она заключается в простоте, абстрактности и неразвитости
этой формы. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы
развить эту форму абстрактного тождества логического и
исторического в направлении конкретного единства.
Но трудность заключается также и в том, что в форме
абстрактного тождества единство логического и исторического
еще не проявляет своего универсального, следовательно -
логического, характера. А почему, собственно, этому совпадению
надо придавать характер всеобщего логического закона, - вот
в чем вопрос. И вопрос далеко не праздный, потому что это
совпадение было открыто отнюдь не в логике, и
зафиксировано оно было как совпадение онтогенеза, т. е. индивидуального
развития живого организма, с филогенезом, т. е. развитием
данного биологического вида. И хотя окончательный ответ на этот
вопрос можно дать только после рассмотрения конкретного
единства логического и исторического, предварительные
разъяснения могут облегчить дальнейшее понимание.
§ 3. Совпадение онтогенеза с филогенезом и проблема
историзма
Совпадение онтогенеза с филогенезом было открыто в
первой половине XIX века в результате развития
естествознания и в особенности благодаря появлению и развитию та-
153
ких двух новых естественнонаучных дисциплин, как наука
о развитии растительных и животных зародышей -
эмбриология, и наука, реконструирующая исчезнувшие в прошлом
виды по органическим остаткам, сохранившимся в
различных слоях земной поверхности - палеонтология. «Дело в
том, - как пишет Энгельс, - что тут обнаруживается
своеобразное соответствие между постепенным развитием
органических зародышей в зрелые организмы и последовательным
рядом растений и животных, появлявшихся одни за другими
в истории земли»1.
Подобное соответствие имеет место не только в развитии
живого, - точно такое же соответствие наблюдается также и
в развитии капитала, и в развитии человеческого духа. В
отношении развития последнего это соответствие
продемонстрировано в «Феноменологии духа» Гегеля, которая является
«параллелью эмбриологии и палеонтологии духа,
отображением индивидуального сознания на различных ступенях его
развития, рассматриваемых как сокращенное
воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим
сознанием»2, - в отношении капитала то же самое проделал Маркс,
«Капитал» которого можно назвать параллелью
исторического и индивидуального становления капитала как
общественного способа производства, рассмотрением последовательных
ступеней его развития, которые совпадают с основными
ступенями, исторически пройденными капиталом.
Но несмотря на наличие совпадения онтогенеза и
филогенеза в любом развитии, оно от этого еще не становится
законом логики, принципом историзма. Оно есть закон развития.
Оно даже, как отмечает Энгельс, «дало надежнейшую опору
для теории развития»3. Но теория развития, как она
непосредственно выходит из лона естествознания, не может стать
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 74-75.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 278.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 75.
154
непосредственно логикой. Логика есть теория мышления, но
никакая теория не получается путем чисто эмпирического
обобщения фактов.
Никакое, сколь угодно большое число фактов не дает еще
закона. Что из теплоты можно получать механическое
движение, 100 000 паровых машин доказывают не более, чем это
доказывает одна машина. Всеобщий закон получается не путем
индукции, но путем анализа одного единственного факта,
который однако имеет всеобщее значение. Таким фактом
относительно интересующего нас совпадения онтогенеза и
филогенеза является факт совпадения понятия в голове отдельного
индивида с его историческим развитием. «Развитие какого-
нибудь понятия или отношения понятий, - писал Энгельс - ...
в истории мышления так относится к развитию его в голове
отдельного диалектика, как развитие какого-нибудь
организма в палеонтологии - к развитию его в эмбриологии (или,
лучше сказать, в истории и в отдельном зародыше). Что это так,
было открыто по отношению к понятиям впервые Гегелем»1.
Именно здесь мы имеем дело непосредственно с
совпадением логического и исторического, потому что здесь мы
вступаем непосредственно в область логики, потому что только
логика имеет дело с понятиями, а не с зародышами, и
непосредственно в область истории, потому что история понятия
(история понимания), история науки есть часть социальной
истории, иди собственно истории, которую надо отличать от
«истории» земли и от «истории» неба.
Совпадение логического и исторического без сомнения
отражает совпадение онтогенеза и филогенеза, и совпадение
логического и исторического можно назвать совпадением
онтогенеза и филогенеза человеческого мышления,
человеческого понятия. Но это не простая «калька», не простое удвоение
объективного положения вещей. Специфика состоит в том,
что совпадение логического и исторического имеет свой собс-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 537.
155
твенный механизм своего осуществления, отличный от
механизма осуществления совпадения онтогенеза и филогенеза:
когда мы спрашиваем, почему характер развития зародыша
именно таков, почему у него, например, в определенный
период развития появляются, а потом исчезают жаберные дужки,
то мы отвечаем: потому что такова история вида, потому что
данный вид был в определенном отношении некогда рыбой,
но само совпадение логики рассмотрения развития зародыша
с историей вида не так просто объяснить.
Объективно онтогенез всегда определен со стороны
филогенеза, но когда дело касается соотношения логического и
исторического, то здесь скорее логика является определителем
истории, и это в особенности проявляется в форме
конкретного единства логического и исторического, когда логика
становится методом установления исторического факта.
Что же касается истории науки, истории понятия, то она
целиком и полностью определена логикой данной науки, в
которой отражается логика самой реальности. Поэтому
когда задаются вопросом о том, «почему человечество в своем
культурном развитии сначала разработало все-таки
геометрию Эвклида и только потом, уже на довольно высокой
уровне абстракции, открыло возможность существования других
геометрий и в частности пространств Лобачевского»1, то на
этот вопрос нет иного ответа кроме того, что именно так
устроена сама реальность, такова ее логика. История науки это ее
развернутая во времени логика. И в этом состоит специфика
логического и исторического по сравнению с онтогенезом и
филогенезом.
Специфика совпадения логического и исторического
проявляется также в том, что оно имеет очевидно более
универсальное значение по сравнению с совпадением онтогенеза и
филогенеза. Понятие может и должно развиваться даже там,
1 См. Акчурин И.А. Рецензия на книгу Грюнбаума «Философские
проблемы пространства и времени» // Вопросы философии. 1971. № 6, с. 155.
156
где о развитии самой объективной реальности говорить по
крайней мере трудно. Это относится в особенности к так
называемым формальным наукам, формальной логике и
математике: нет истории того, что изучается этими науками, но
всякая наука, в том числе математика и формальная логика, имеет
свою историю. Логика всякой науки должна разворачиваться
в историю данной науки, потому что истина не может быть
схвачена вся сразу и целиком. Поэтому насколько
универсальна диалектика абсолютной и относительной истины,
настолько же универсальна диалектика логического и исторического.
Диалектика логического и исторического органически входит
в систему категорий диалектики как логики и теории
познания, поэтому она настолько же универсальна, настолько
универсальна диалектическая логика.
Итак, необходимость историзма для науки основана
прежде всего на том, что логика науки, специфический способ ее
собственного имманентного движения, должна развернуться
во времени, в историю науки. Поэтому освоена, она может
быть только через эту историю.
Но это-только внешняя необходимость, необходимость,
основанная на том, что наука вынуждена обращаться к своей
собственной истории, когда последняя является только
внешним по отношению к науке, к логике средством. Она пока
еще только на стороне предмета, но не на стороне метода.
Однако предмет не может непосредственно стать методом, а
метод своим собственным предметом. Они противоположности,
как противоположны относительная и эквивалентная формы
стоимости. И именно эта противоположность лежит в основе
противоположности натуралистического, позитивистского
историзма и историзма «методологического».
История не может стать своим собственным методом
непосредственно. До тех пор, пока она находится еще
целиком и полностью на стороне предмета, является всего лишь
«некогерентной компиляцией фактов» (Конт), ни о каком
157
методе, понятно, речи быть не может. Поэтому метод при
такого рода историзме остается целиком внешним и
формальным, как это было во всей позитивистской традиции. Но она
может стать своим собственным методом опосредованным
образом, а именно посредством логики, но не той логики,
которая непосредственно противостоит истории, как это имеет
место у Канта и, в определенной мере, также у Гегеля, а
посредством логики, совпадающей в основных и существенных
ступенях своего развития с историей. И если эта логика
через свое собственное развитие обнаруживает необходимый
запрос на конкретно-историческое исследование и
одновременно доставляет средство для такого исследования,
восполняя в результате этого свою собственную неполноту, то этим
самым историзм становится одновременно и методом, и
системой необходимо связанных между собой определений,
которая представляет собой систему историзма. Абстрактный
историзм становится конкретным историзмом. Как это
происходит в деталях, это можно проследить на примере
экономических исследований Маркса.
§ 4. Превращение абстрактного историзма
в конкретный в экономических исследования Маркса
При взаимоотношении логического и исторического, в
отличие от взаимоотношения онтогенеза и филогенеза, как
было уже сказано, логика является
определителем-индикатором по отношению к истории, а не наоборот. Но она
определяет последнюю только в том смысле, что она её «высвечивает»
изнутри и показывает ее действительный ход в отличие от ее
внешнего, видимого хода.
Это ни в коем случае не априоризм, а определенная
форма единства логического и исторического, когда логика
полностью и без остатка совпадает с внутренним имманентным
ритмом самой истории и представляет собой единственно
158
только ее внутренний имманентный ритм. Если мы говорим,
что капитал не может быть логически выведен из земельной
ренты, а наоборот - земельная рента может и должна быть
выведена из капитала, а тем самым и объяснена, ибо
объяснение, с точки зрения диалектической логики, означает
демонстрацию необходимости возникновения данного явления, то
это означает только то, что действительная история
капитала начинается не с земельной ренты, а ... с чего-то другого.
С чего? - С того, из чего он может быть логически выведен.
А из чего он может быть логически выведен? И т. д. В этом
и состоит противоречие, из которого нельзя выбраться
иначе, как покинув почву имманентной логики и обратившись к
формально-рассудочным методам.
Чтобы ближайшим образом пояснить место
формального метода в решении задачи, которая встает при построении
теории капитала, скажем только, что капитал может быть
выведен только из того, подо что он формально
подводится, субсумируется. Такую форму уже экономисты до Маркса
нашли в стоимости. Но их основная ошибка состояла в том,
что они из этого явления пытались все основные
определения капитала столь же формально вывести. А это неизбежно
заводит или в порочный круг, потому что из стоимости
формально можно вывести только то, что в ней содержится,
подобно тому, как из утверждения «все люда смертны» выводят
утверждение «Кай смертен», или в противоречие, когда вдруг
находится такой упрямый «Кай», который не подчиняется
общему правилу и оказывается бессмертным. Таков капитал,
который, вопреки общему правилу товарного обращения,
при потреблении товара не только не уничтожает его
стоимости но последнюю производит.
Этого-то противоречия и не смогли разрешить
буржуазные экономисты, и поэтому они по сути отождествляли
капиталистическое производство со всяким товарным
производством, т.е. трактовали его не-исторически, «не как ис-
159
торическую форму, а как естественную ферму
общественного производства»1. Поэтому последовательный историзм, как
было уже сказано, невозможен без диалектики, которая учит,
как разрешаются действительные противоречия.
В форме абстрактного тождества логического и
исторического логика и история, как было сказано, не различаются.
И для их различения не годятся непосредственно
объективные («онтологические») критерии: генезис и структура,
становление и ставшее целое и т. д.
Когда Маркс пишет о том, что «было бы
неосуществимым и ошибочным трактовать экономические категории в
той последовательности, в которой они исторически играли
решающую роль» и что их, наоборот, надо брать в том
отношении, «в котором они находятся друг к другу в современном
буржуазном обществе, причем это отношение прямо
противоположно тому, которое представляется естественным или
соответствует последовательности исторического развития»2, то
нельзя при этом забывать того, что когда мы развернем
категории современного буржуазного общества в том порядке,
который соответствует их действительному поряди, то мы вместе с
этим получим также и тот порядок, в котором они возникали
в действительной истории буржуазного общества. И именно в
истории буржуазного общества, а не какого-то другого.
Поначалу так называемый логический способ и
исторический способ вообще не различаются, поэтому нет и не
может быть никакого критерия для их различения, то и другое
возникает из первоначального и недифференцированного
целого. Различить их, это значит проследить их
объективное «различение», раздвоение в процессе развития. Надо
показать, где и при каких условиях это с необходимостью
происходит. Но прежде, чем мы к этому перейдем, надо
сказать несколько слов об истории науки как необходимой
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. III, с. 526.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, ч. I, с. 44.
160
форме логического движения и разрешения противоречия
логического и исторического.
Мы уже цитировали то место из переписки Маркса, где
он пишет, что для себя он начал «Капитал» в обратном
порядке «по сравнению с тем, как он предстанет перед публикой»,
начав работу с исторической части. Но историческая часть
«Капитала» это его историко-литературная или исторически-
критическая часть. И это не случайно.
Как было уже сказано, логика не может быть
непосредственно угадана ни в ставшем целом, ни в его истории, потому
что непосредственное в познании («интуиция») это всего лишь
особая форма опосредования. Когда Дильтей и др. говорят о
«вживании», «вчувствовании» и т. д. как методе постижения
истории, то надо сказать, что дело не в том, что это имеет или,
наоборот, не имеет на самом деле места, а дело в том, что там,
где это имеет место, там всегда имеет место также и
определенный уровень образования и культуры: очень разные вещи для
себя вычитают в одной и той же истории, например, в истории
восстания на броненосце «Потемкин», первоклассник, едва
научившийся вообще читать, и образованный историк. Опыт
и образование последнего и выступают как опосредствующее,
хотя для него непосредственно оно не выступает в качестве
такового. Это-то вообще и создает иллюзию
непосредственного «видения» и т. д. И когда говорят про яблоко, упавшее
на голову Ньютона, сразу вызвавшее в его голове идею закона
всемирного тяготения, то не надо забывать о том, что это была
голова Ньютона, - иному на голову хоть камни с неба, а ни
малейшей искры мысли из этой головы не выходит.
Именно поэтому и необходимо историческое
«образование» вообще и для ученого, занимающегося определенной
наукой, в области истории данной науки в частности. Логика
науки, как было сказано, по необходимости разворачивается в
историю науки, и только посредством последней она
«транслируется», присваивается определенным индивидом и в даль-
161
нейшем употребляется. При этом последний результат
истории становится началом и условием логического развития.
«Сведение товара к труду в его двойственной форме -
потребительной стоимости к реальному труду, или
целесообразно производительной деятельности, а меновой стоимости к
рабочему времени, или равному общественному труду, -
писал Маркс, - есть конечный критический результат более чем
полутора вековых исследований классической политической
экономики, которая начинается в Англии с Уильяма Петти, а
во Франции с Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а
во Франции Сисмонди»1.
Таким образом непосредственно проблема логического
и исторического встает как проблема способа критики
предшествующей науки. «Критику политической экономии, даже
согласно выработанному методу, можно было проводить
двояким образом: исторически или логически. Так как в
истории, как и в ее литературном отражении, развитие в общем и
целом происходит также от простейших отношений к более
сложным, то историческое развитие политико-экономической
литературы давало естественную руководящую нить, которой
могла поддерживаться критика; при этом экономические
категории в общем и целом появлялись бы в той же
последовательности, как и в логическом развитии»2.
Но это только непосредственное проявление проблемы,
по сути же это всего лишь только одна из форм проявления
противоречивого характера единства логического и
исторического, - форма его литературного отражения. Поэтому ни в
коем случае нельзя начинать с этой формы изложения самой
проблемы, - это всего лишь одна из форм ее проявления и ее
разрешения.
Итак, историческая критика является той формой,
благодаря которой разрешается противоречие логического и ис-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 38-39.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 497.
162
торического и достигается их совпадение. Совпадение
логического и исторического это не готовый ключ к решению всех
теоретических проблем, а само представляет собой проблему,
хотя затем встает само в активное методологическое
отношение к материалу. Для диалектического движения
познающего мышления вообще характерно то, что при этом движении
сама истина развернута как движение проблем, решения
которых одновременно знаменуют собой постановку новых
проблем и ведут к дальнейшему погружению в конкретность
предмета. Абстрактное тождество логического и
исторического есть средство для решения определенных проблем, о чем
более подробно речь впереди, но прежде чем оно становится
средством, оно само представляет собой проблему.
В чем же состоит проблема, которая возникает в
результате достижения абстрактного тождества логического и
исторического? Дело в том, что на первом этапе приходится по
необходимости абстрагироваться от случайной исторической
формы, внутри которой протекает действительный процесс
становления и развития исследуемой конкретности, в нашем
случае - капитала. Но специфика истории именно в том и
состоит, что случайность в ней не есть просто внешняя и
безразличная форма проявления некоторой предсуществующей
необходимости. Как очень точно и справедливо замечено,
«историческая необходимость не есть наперед заданное,
неподвижное условие движения, как думают механисты, а есть
процесс ее становления в историческом развитии»1.
Специфика исторической необходимости и состоит как раз в том, что
она включает в себя процесс своего собственного становления
в свободной деятельности людей, преследующих свои
собственные цели.
Если все это сразу перенести на проблему теоретического
выражения необходимости исторического становления
капитала, то оказывается, что абстрактное тождество логического
1 Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964, с. 245.
163
и исторического, поскольку оно достигается за счет
абстракции от собственно исторической формы, никоим образом не
ухватывает этой необходимости. И тогда приходится
предполагать, что капитал или преформирован во всех
предшествующих формах общественного производства, т. е. по существу
никогда не возникал, как это получилось в апологетической
буржуазной политэкономии, или он возник чисто случайно, а
потому и может быть легко устранен в результате некоторых
реформ в сфере обращения, как полагали некоторые
социалисты-утописты, в частности Прудон.
И поскольку в форме абстрактного тождества
схватывается только внутренняя необходимость капитала без
необходимости его исторического становления, то все логическое
движение оказывается замкнутым в круг, в который нет входа.
«Мы видели, - пишет Маркс в самом начале главы о так
называемом первоначальном накоплении капитала, - как деньги
превращаются в капитал, как капитал производит прибавочную
стоимость и как за счет прибавочной стоимости увеличивается
капитал. Между тем накопление капитала предполагает
прибавочную стоимость, прибавочная стоимость -
капиталистическое производство, а это последнее - наличие значительных
масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей.
Таким образом, все это движение вращается, по-видимому, в
порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе,
как предположив, что капиталистическому накоплению
предшествовало накопление «первоначальное».., - накопление,
являющееся не результатом капиталистического способа
производства, а его исходным пунктом»1.
Процесс первоначального накопления капитала и есть
процесс становления его необходимости. Но вместе с тем сам
этот процесс также необходим. Но необходим в особом, а
именно в специфически историческом смысле, - в том смысле,
в каком случайность - необходима.
1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 725.
164
Логически, - и это соответствует действительному
историческому процессу, - анализ капитала начинается с товара.
Но исторические условия его возникновения, как отмечал
Маркс, «отнюдь не исчерпываются наличием товарного и
денежного обращения»1. Для этого необходимо не только
обращение товаров, но такое обращение, когда на товарный рынок
поступает также особенный, товар - рабочая сила, а «в бытии
рабочей силы как товара, предлагаемого самим рабочим,
заложен целый круг исторических условий, только при наличии
которых труд может стать наемным трудом и, следовательно,
деньги - капиталом2. И этот круг исторических условий не
может быть по сути вычерпан ни в каких абстрактно-всеобщих
категориях, с помощью которых характеризуется уже ставший
и движущийся на своей собственной основе капитал. Вместе с
тем эти условия необходимы.
Но историзм в форме абстрактного тождества
логического и исторического не только выявляет проблему, - он
одновременно создает условия, является методом, ее решения.
Этот метод «показывает те пункты, где должно быть
включено историческое рассмотрение предмета, т. е. пункты, где
буржуазная экономика, являющаяся всего лишь
исторической формой процесса производства, содержит выходящие за
ее пределы указания на более ранние исторические способы
производства»3.
В данном случае имеет место то, что Маркс называл
оборачиванием метода: результат некоторого логического
движения становится условием дальнейшего движения, но
как бы в обратном направлении. Если с самого начала
движение было в общем направлено от исторического факта в
сторону теории, в сторону логики, то теперь наоборот - движение
направлено от логики в сторону исторического факта, с него
1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 181.
2См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 121.
3См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 449.
165
наука начинается, им и кончается, но в конце это уже не тот
факт, который мы имели в начале.
Анализ капитала начинается с анализа товара, к простому
товарному производству снова приходится возвращаться для
того, чтобы показать процесс исторического преобразования
последнего в капитал. Почему же это нельзя сделать сразу?
Диалектическое движение, как писал в свое время А.И.
Герцен, «своими скучными рядами и нежданным возвращением к
началу» «оскорбляет мыслящего человека, даже исполняет
печалью и отчаянием»1. И все-таки в этом есть необходимость,
потому что сразу мы не можем знать, что и во что
исторически преобразуется: мы должны очень точно определить товар с
положительной стороны, чтобы точно знать, чего ему не
хватает для того, чтобы стать капиталом.
Товар со стороны своих всеобщих определений
представляет собой только возможность капитала. И он
выводится из первого сначала как логически, а потому и
исторически, возможная форма общественного производства.
Для того чтобы показать его историческую необходимость,
к товарному производству как возможности
капиталистического должны присоединиться определенные
исторические условия, которые как таковые являются
привходящими, а потому случайными условиями. «Первоначальные
условия производства, - пишет Маркс, имея в виду условия
капиталистического производства, - ... не могут сами быть
произведены, не могут сами быть результатом
производства. В объяснении нуждается (или результатом
некоторого исторического процесса является) не единство живых и
деятельных людей с природными, неорганическими
условиями их обмена веществ с природой и в силу этого
присвоение ими природы, а разрыв между этими
неорганическими условиями человеческого существования и самим этим
деятельным существованием, разрыв, впервые полностью
1 См. Герцен А.И. Письма об изучении природы. М., 1946, с. 281.
166
развившийся лишь в форме отношения наемного труда и
капитала»1.
Капитал как определенное производственное отношение
предполагает «свободу» рабочего от средств производства. Но
все предшествующие способы производства покоятся на
единстве «живых и деятельных людей с природными,
неорганическими условиями их обмена веществ с природой». Следовательно,
разрыв людей с этими условиями представляет собой
некоторый исторический процесс, который не детерминирован
имманентными законами капиталистического способа
производства. Вот в чем противоречие и одновременно проблема. Причем
она должна быть зафиксирована именно как противоречие для
того, чтобы она вообще могла быть решена.
В этом и находит свое проявление противоположность и
противоречие логического и исторического, которые не могут
быть зафиксированы, а следовательно и разрешены, без
первоначального очень точного отграничения, абстрагирования,
от случайной исторической формы и очень строгой
логической дедукции всех существенных определений капитала, Это
необходимо для того, чтобы выявить существенные
случайные исторические условия возникновения капитала, которые,
в силу того, что они существенные, являются необходимыми
условиями, которые от этого не перестают быть случайными
по своей исторической форме.
Эти случайные исторические условия могут быть только
описаны. Но благодаря тому, что с помощью этого описания
решается определенная логическая проблема, - любая проблема,
зафиксированная как противоречие, является логической
проблемой, - это описание приобретает логический характер. Именно
благодаря этому и только этому историческая наука становится
наукой: она становится наукой, приобретает логический
характер не потому, что она делает то же самое, что и логика, а потому,
что она делает то, чего не может сделать никакая логика.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 478.
167
Вот где появляется так называемый «исторический
способ» в противоположность «логическому способу», но он
появляется уже как определенная форма проявления единства
логического и исторического, он уже этим связан прочно и
неразрывно с логическим способом, а потому и не нуждается
в своем внешнем оправдании.
Как было сказано, формальное, абстрактное тождество
логического и исторического дает метод для определения
существенных исторических условий возникновения капитала.
В чем же заключается роль этого метода? Это необходимо
объяснить для того, чтобы роль метода в данном случае не
путалась с формально-алгорифмической ролью. Метод в нашем
случае только очерчивает контуры проблемы, но не дает ее
готового решения.
Если мы точно знаем, из предварительно выведенного
понятия капитала, что последний предполагает разрыв
единства человека с неорганическими условиями своего
существования, а таковым условием является прежде всего земля, то
этот разрыв должен был исторически произойти вместе со
становлением капитала и в качестве условия этого
становления. Но где, когда и при каких конкретных исторических
обстоятельствах это произошло, - на этот вопрос никакой метод
не может дать ответа. На этот вопрос может дать ответ только
историческая наука, хотя и при условии, что она должна быть
вооружена методом, предполагающим единство логического
и исторического. Именно это и делает исторический поиск
творческим поиском и роднит историческую науку, отчего
она нисколько не перестает быть наукой, с искусством: здесь
всегда тлеется существенная неполнота условий, при которых
возникает, как бы сразу и вдруг, образ целостной ситуации. Но
это уже особая проблема.
С точки зрения развиваемой концепции важно понять,
что конкретное историческое исследование решает
совершенно определенную логическую проблему. И в свете решения
168
этой проблемы оно само приобретает логический характер,
происходит преобразование исторического в логическое. В чем
же конкретно состоит проблема? Эта проблема четко
фиксируется Марксом в его экономическом исследовании.
Возникновение этой проблемы и необходимо проследить самым
тщательным образом.
«Товарное обращение, - пишет Маркс, - есть исходный
пункт капитала. Историческими предпосылками
возникновения капитала являются товарное производство и развитое
товарное обращение, торговля... Если мы оставим в стороне
вещественное содержание товарного обращения, обмен
различных потребительных стоимостей, и будем рассматривать
лишь экономические формы, порождаемые этим процессом,
то мы найдем, что деньги представляют собой его последний
продукт. Этот последний продукт товарного обращения есть
первая форма проявления капитала»1. Таков исходный пункт
разъяснения Марксом тайны превращения денег в капитал.
Но стоимость, реальным бытием которой являются
деньги, в простом обращении проявляет только тенденцию к
самосохранению и увеличению. Для того чтобы произошло
действительное увеличение стоимости, на товарный рынок
должен поступить особый товар - рабочая сила. Эта
необходимая предпосылка капитала, в отличие от денег не только не
дана товарно-денежным отношениям, но и находится в прямом
противоречии с ним, ибо купля-продажа, этот элементарный
акт товарного обращения, предполагает собственность
производителя на произведенный продукт, он должен продавать
свой собственный продукт, а это возможно только при условии
собственности производителя на орудия и средства
производства. «... В бытии рабочей силы как товара, предлагаемого самим
рабочим, - пишет Маркс, - заложен целый круг исторических
условий, только при наличии которых труд может стать на-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 157.
169
емным трудом и, следовательно, деньги - капиталом»1. Это не
формальная предпосылка исторического возникновения
капитала, которая не вытекает формально из имманентных законов
товарного производства, которая хотя и предполагается в
начале как формальная, предполагается, как пишет Маркс, что
«рабочий работает как несобственник и что условия его труда
противостоят ему как чужая собственность», должна быть в
дальнейшем оправдана как неформальная.
С другой стороны, и деньги как таковые, которые являются
последним продуктом развитого товарного обращения, не могут
служить исходным пунктом капитала, если не учесть
количественную сторону. В капитал превращаются не просто деньги, а
определенная сумма денег. Эта сумма должна позволять нанимать
такое количество рабочих - и, соответственно, закупать такое
количество средств производства, которое может обеспечить
занятость этих рабочих, чтобы совокупная прибавочная стоимость
позволяла капиталисту существовать как таковому, т. е. чтобы
капиталист мог сам себя воспроизводить. Но при простом
товарно-денежном обращении концентрация денег в одних руках
может быть фактом только случайным, ибо при простом товарном
производстве продают только затем, чтобы купить: здесь деньги
играют роль только посредника обмена и не могут в больших
количествах оседать в одних руках, если, конечно, исходить опять-
таки из имманентных законов товарно-денежного обращения.
Частично, как отмечает Маркс, деньги могут быть накоплены
просто путем обмена эквивалентов, «но это составляет столь
незначительный источник, что исторически о нем не стоит даже и
упоминать, если допустить предположение, что деньги
приобретены путем обмена собственного труда»2. Страсть к
накопительству вообще пишет Маркс, охватывает людей и государства
только тогда, когда деньги уже приобретают способность приносить
деньги, то есть превращаются в капитал.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 121.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 496.
170
Именно здесь приобретает существенное значение
количественная разница между простым товарным производством
и капиталистическим товарным производством, от которой
абстрагируются при анализе качества и которую подчеркивали
и Маркс, и Ленин. «Предпосылкой образования капитала, -
пишет Маркс, - и подчинения ему производства является
известная степень развития торговли, а потому и развития товарного
обращения и, следовательно, товарного производства (это
специально для тех, кто считает, что может быть товарное
обращение без товарного производства - СМ.) ибо изделия не могут
вступить в обращение как товары, если они производятся не
для продажи, следовательно, не как товары. Но лишь на основе
капиталистического производства товарное производство
является нормальным, господствующим типом производства»1.
До того как простое товарное производство
превращается в капитал, оно не нормально, т. е. не является нормой, а
ее исключением; нормой, господствующим и определяющим
способом производства докапиталистических формаций,
является натуральное хозяйство. Вот почему нельзя брать
категории в той исторической последовательности, в
которой они играют решающую и определяющую роль в
следующих друг за другом общественно-экономических
формациях. Капитал не может возникнуть как прямое историческое
следствие господствовавших до него производственных
отношений в обществе, он возникает как прямая
противоположность этих отношений, которые он отрицает. «Нужно
помнить, - пишет Маркс, - что новые производительные
силы и производственные отношения не развиваются из
ничего, из воздуха или из лона саму себя полагающей идеи;
они развиваются внутри и в борьбе с имеющимися налицо
развитием производства и с унаследованными,
традиционными отношениями собственности»2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 40.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. X, с. 496.
171
Иными словами, проблема теперь состоит в следующем.
Исследуя форму, в которой непосредственно проявляет себя
капитал, а именно форму товара, форму стоимости, мы
исследовали также форму его исторических предпосылок. Но
для того чтобы представить эти предпосылки как именно
исторические предпосылки, одной только формы отнюдь
не достаточно, нужно показать еще также и специфическое
содержание, внутри которого и на основе которого данная
форма развилась. Когда мы рассматриваем эту
предпосылку только в качестве формальной предпосылки, то для нас
совершенно безразлично историческое содержание данной
предпосылки. Более того, мы не могли бы показать
превращения товара в капитал, если бы от этого содержания не
абстрагировались и не мыслили себе и товар и капитал под
одной и той же формой товара, ибо историческое
содержание товара как исторической предпосылки противоречит
форме товара, а, следовательно, содержанию капитала,
поскольку последний имеет товар не только в качестве
формы, но и в качестве содержания. И в этом его специфика:
он делает стоимость не только формой, но и содержанием
обмена. Абстрагироваться от истории необходимо потому,
что невозможен непосредственный переход в
противоположность как логический переход. Но если мы исходим из
товара как формальной предпосылки, то мы попадаем в
порочный круг. В этом и состоит проблема, которую решает
конкретный историзм. «Рассечь логический круг в
определении стоимости и капитала, - очень точно и справедливо
писал в свое время Э.В. Ильенков, - невозможно
никакими логическими ухищрениями, никакими семантическими
манипуляциями с понятиями и их определениями, ибо он
возникает вовсе не из «неправильности» в определении
понятий, а из непонимания диалектического характера
взаимосвязи между тем и другим, из отсутствия действительно
исторического подхода к исследованию этой взаимосвязи.
172
Только исторический подход дает возможность найти
выход из круга, точнее, - вход в него»1.
Маркс поэтому различает - сначала формально - два
«появления' капитала с точки зрения характера его
предпосылок. «При первом появлении капитала казалось, - пишет
он, - что сами его предпосылки даются извне процессом
обращения как внешние предпосылки возникновения капитала
и поэтому как не вытекающие из его внутренней сущности и
не объяснявшиеся ею. Теперь (при втором появлении
капитала - СМ.) эти внешние предпосылки становятся моментами
движения самого капитала, так что сам капитал предполагает
их в качестве своих собственных моментов, как бы они ни
возникли исторически»2.
С точки зрения имманентных законов капитала
исторический способ формирования его предпосылок совершенно
безразличен. «Если уж предположено производство,
основанное на капитале, - пишет Маркс, - ... то в этом случае условие,
что капиталист, для того чтобы стать капиталом, должен
привнести в обращение стоимости, созданные его личным трудом
или каким-либо другим способом (но только не уже наличным,
прошлым наемным трудом), это условие относится к
допотопным условиям капитала, к его историческим предпосылкам,
которые в качестве такого рода исторических предпосылок
уже изжиты и поэтому принадлежат к истории образования
капитала, но отнюдь не к его современной истории, т. е. они не
относятся к действительной системе подчиненного ему
способа производства»3.
Но если не реконструировать эти исторические
предпосылки первого «появления» капитала, то все теоретическое
построение будет вращаться в кругу, который хотя и является
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 91.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 438.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 447-448.
173
выражением реального кругооборота, совершаемого
капиталом, однако не позволяет трактовать капитал исторически, как
историческую, а не как «естественную», форму производства
к обмену. Проблема здесь совершенно аналогична той,
которая встает в биологии при анализе сущности живого, а
именно проблеме так называемого абиогенного синтеза основных
химических компонентов жизни. Когда жизнь уже развилась,
то эти компоненты синтезируются самими живыми
организмами, которые передают друг другу от поколения к поколению
готовый механизм синтеза. Но анализ развившейся жизни
никоим образом не может ухватить тех механизмов, посредством
которых были синтезированы те основные «кирпичи» жизни
до ее возникновения, потому что эти предпосылки
возникновения жизни уже ею «изжиты». Поэтому и приходится
обращаться «вглубь геологических времен, к тому очень раннему
периоду, когда жизнь только начиналась»1.
Важно однако понять, что проблема здесь возникает
вместе с условиями ее решения, и именно потому, что она
ставится в своем месте. «... Наш метод, - пишет Маркс, -
показывает те пункты, где должно быть включено историческое
рассмотрение предмета, т. е. пункты, где буржуазная
экономика, являющаяся всего лишь исторической формой
процесса производства, содержит выходящие за ее пределы
указания на более ранние исторические способы производства»2.
И при сравнении с проблемой возникновения жизни очень -
хорошо видно, что метод, который показывает те пункты, где
должно быть включено историческое рассмотрение
предмета, вовсе не является монополией Маркса: если мы
отправляемся вглубь веков на поиски исторических предпосылок
возникновения жизни, то наше путешествие туда может быть
успешным только в том случае, если мы знаем, что мы там
будем искать, а это мы можем знать только тогда, когда мы
1 Поннампертума С. Происхождение жизни, с. 123.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 449.
174
логически воспроизвели развившуюся конкретность в том
порядке и направлении, в котором она исторически
развилась. Мы можем знать, где находится исторический «вход»
в круг, образовавшийся в результате того, что предпосылки
своего возникновения капитал делает своими следствиями,
потому что мы его логически воспроизвели и, в результате
этого, видим ту ритмическую паузу его обращения, которая
и представляет собой тот пункт, где буржуазная экономика
содержит выходящие за ее пределы указания на более ранние
исторические способы производства.
Но автоматически эта проблема не решается. Здесь имеет
место перерыв исторической, а потому и логической,
«постепенности», который может быть заполнен только конкретным
историческим исследованием, которое приобретает
логический характер только потому, что решает оно задачу
логического. Поэтому уже в первом черновом наброске «Капитала» у
Маркса намечается раздел «Об историческом процессе
возникновения капиталистических производственных отношений».
В окончательном варианте «Капитала» уже четко
формулируется и сама проблема и четко выделяются, каждая на своем
месте, части, посвященные историческому анализу
становления капиталистических производственных отношений.
Проблема эта формулируется Марксом в «Капитале»
следующим образом: «Мы видели, как деньги превращаются в
капитал, как капитал производит прибавочную стоимость и
как за счет прибавочной стоимости увеличивается капитал.
Между тем накопление капитала предполагает прибавочную
стоимость, прибавочная стоимость - капиталистическое
производство, а это последнее - наличие значительных масс
капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. Таким
образом, все это движение вращается, по-видимому, в порочном
кругу, из которого мы не может выбраться иначе, как
предположив, что капиталистическому накоплению
предшествовало накопление «первоначальное» («previous accumulation» по
175
А. Смиту), - накопление, являющееся не результатом
капиталистического производства, а его исходным пунктом»1.
С точки зрения истории и теории капитала это
первоначальное накопление есть процесс превращения простого
товарного производства. Это, так сказать, с точки зрения
«логики дела», с точки зрения самой логики, «дела логики», этот
процесс есть процесс превращения случайного в необходимое,
исторического в логическое.
§ 5. Преобразование исторического в логическое
«В действительности всегда происходит так, что то
явление, которое впоследствии становится всеобщим, вначале
возникает как единичное, как частное, как особенное явление,
как исключение из правила. Иным путем ничто не может
реально возникнуть, в противном случае история приобрела бы
крайне мистический вид»2. Материалистическое понимание
истории, которое было выработано Марксом и Энгельсом и
положено в основу экономических исследований Маркса,
было обязано своим возникновением не только материализму,
но и диалектике. «Материалистическое учение о том, что люди
суть продукты обстоятельств и воспитания, - писал Маркс, -
что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных
обстоятельств и измененного воспитания, - это учение
забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что
воспитатель сам должен быть воспитан... Совпадение
изменения обстоятельств и человеческой деятельности может
рассматриваться и быть рационально понято только как
революционная практика»3. Совпадение изменения обстоятельств и
человеческой деятельности - это совпадение противополож-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 725.
2 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 53.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 725.
176
ностей, coinsidentia oppositorum, а о том, как совпадают, как
становятся тождественными противоположности, учит
только диалектика.
История первоначального накопления капитала,
которую Маркс описывает после того, как им была вскрыта
«тайна» производства прибавочной стоимости, это и есть
революционная практика преобразования докапиталистических
производственных отношений в капиталистические, где
обстоятельства менялись в результате деятельности людей,
которые были «продуктами» этих обстоятельств. И именно
потому, что Маркс показал в «Капитале», что не только люди
оказываются в плену ими же созданных общественных
отношений, но что они же и создают эти отношения, а тем самым
творят историю, - именно поэтому после написания
«Капитала» «материалистическое понимание истории уже не
гипотеза, а научно доказанное положение»1. Вместе с тем в силу
того, что материалистическое понимание истории есть не
только выражение абстрактной исторической
необходимости, но и процесса ее становления в результате деятельности
людей, превращения случайности в необходимость, которое
происходит всякий раз в неповторимой исторической форме,
оно не доктрина, а метод для понимания реальной
человеческой истории. Этим материалистическое понимание истории
и отличается прежде всего от всякого рода «философии
истории», «историософии» и т. д.
В связи со всем этим понятен тот факт, что в своих
экономических исследованиях Маркс среди тех пунктов,
«которые не должны быть забыты» и которые должны быть
развиты при трактовке материалистического понимания
истории, отмечает также следующий: «Это понимание выступает
как необходимое развитие. Однако правомерен и случай. В
каком смысле. (Среди прочего правомерна и свобода).
(Влияние средств сообщения. Всемирная история существова-
1 См. Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 139.
177
л а не всегда, история как всемирная история - результат)»1.
Материалистическое понимание истории, признавая
необходимый характер исторического развития, не исключает, таким
образом, во-первых, случайности как объективной
характеристики исторического процесса, во-вторых, «правомерность»
свободного исторического действия индивидов - участников
исторической драмы. Однако в каком смысле? Не проникнув
в глубокий смысл диалектики случайности и необходимости,
возможности и действительности, невозможно понять
необходимость и логический характер исторического исследования
как описания единичного, индивидуального и неповторимого
исторического факта.
«... Случайное необходимо, - писал Гегель, - потому что
действительное определено как возможное»2. Товарное
производство есть возможность появления
капиталистического производства. «В простом обращении, - как отмечает
Маркс, - положена только форма... сохранения и
увеличения стоимости»3. Но для того, чтобы товар превратился в
капитал, необходим еще целый ряд обстоятельств, которые
каждый раз принимают сугубо индивидуальную и
неповторимую форму - форму случайного исторического события.
И в данном случае случайное необходимо. Оно необходимо,
потому что исторические условия существования капитала,
отмечал Маркс, «отнюдь не исчерпываются наличием
товарного и денежного обращения».
Причем случайное необходимо только тогда, когда
действительное определено как формально возможное, и эту
формальную возможность надо отличать от реальной
возможности. Деньги в условиях уже ставшего и развившегося
капиталистического производства представляют собой реальную
возможность превращения в капитал, потому что для этого
1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 181.
2 264 См. Гегель. Наука логики, т. 2, с. 195.
3 К. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. И, с. 480.
178
есть все необходимые и достаточные условия. Здесь
«непосредственная действительность определена к тому, чтобы быть
условием»1 превращения возможности в действительность.
Мало того, деньги в условиях развитого капитализма
представляют собой форму проявления капитала, денежный
капитал, то есть действительность самого капитала. «... В
снимающей себя реальной возможности снимается теперь нечто
двоякое; ибо она сама есть двоякое: и действительность и
возможность»2. Различие между возможностью и
действительностью само становится здесь чисто формальным.
Когда говорится о том, что случайное необходимо, то
при этом надо иметь в виду, что речь в данном случае идет об
определенной форме необходимости. Случайное необходимо
не потому, что оно детерминировано господствующими
условиями: как раз в этом случае оно не было бы необходимым
с точки зрения реализации данной возможности. Форма
необходимости здесь условная: без этой формы невозможен
переход возможности в действительность. Историческая
необходимость есть наиболее богатая форма необходимости, она
конкретна: включает в себя свое иное - случайность. История
и начинается там, где кончается царство чисто природной
необходимости. Процесс становления исторической
необходимости, превращение случайного в необходимое, исключения в
норму, свободы в подчинение и т. д., рассматриваемый со
стороны «дела логики» есть процесс превращения исторического
в логическое, превращения описания реального
исторического процесса в необходимый элемент теории. И он становится
таковым именно потому, что никакая теория, никакая логика
не «вычерпывает» до конца всех обстоятельств дела.
Абстрактная теория, «логический способ», ухватывают только
формальную возможность. «Но когда начинают изучать
определения, обстоятельства, условия той или иной сути дела, чтобы
1 См.: Гегель. Наука логики, т. 2, с. 195.
2 Там же.
179
из этого познать ее возможность, то уже не довольствуются
формальной возможностью, а рассматривают реальную
возможность сути дела»1.
То, что у Гегеля представлено как логический костяк, как
«дело логики», у Маркса облекается исторической плотью,
превращается в «логику дела». «Первоначальные условия
производства, - пишет Маркс, имея в виду условия
капиталистического производства, - ... не могут сами быть произведены,
не могут сами быть результатами производства. В
объяснении нуждается (или результатом некоторого исторического
процесса является) не единство живых и деятельных людей с
природными, неорганическими условиями их обмена веществ
с природой и в силу этого присвоение ими природы, а разрыв
между этими неорганическими условиями человеческого
существования и самим этим деятельным существованием,
разрыв, впервые полностью развившийся лишь в форме
отношения наемного труда и капитала»2.
Первоначальные условия капиталистического
производства не могут быть результатом самого капиталистического
производства, так как этого производства просто еще нет. С другой
стороны - эти условия не могут быть результатом
предшествующих форм производства, так как они покоятся на другой
форме собственности, на единстве «живых и деятельных людей
с природными, неорганическими условиями их обмена веществ
с природой». Поэтому первоначальные условия
капиталистического производства могут быть созданы или в результате
случайных причин (например, потеря собственности в результате
какого-нибудь стихийного бедствия), что создает столь
незначительную долю армии людей, лишенных средств
производства, которая необходима капиталу, что об этом не стоило бы и
упоминать, или в результате насильственной экспроприации
мелких собственников («огораживание» в Англии).
1 Гегель. Наука логики, т. 2, с. 193-194.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 478.
180
Это тождество случайности и необходимости
представляет собой очень тонкий, и потому сложный для понимания,
но, вместе с тем, важный пункт. Поэтому он требует к себе
усиленного внимания. Тем более что в этом пункте часто
видят «слабое звено» во всей концепции Маркса. Так, например,
известный «марксолог» иезуит Кальвез считает, что в этом
пункте Маркс отходит от принципа детерминизма.
Сравнивая то место в тексте I тома «Капитала», где делается вывод
о неизбежности экспроприации экспроприаторов, с главой о
первоначальном накоплении, он пишет, что это место
«обнаруживает следы детерминизма, которой является более
принудительным, чем описание феномена первоначального
накопления», что объяснение первоначального накопления «через
насилие и кровь» (durch Gewalt und Blut) не дает
достаточного отчета о связи между системой товарообмена
некапиталистического характера и господством капитала1.
Здесь действительно нет «сплошной» связи, даже очень
подробное историческое описание первоначального накопления
не может до конца исчерпать всех подробностей этого
процесса. Но это не значит, что ее вообще нет. «Без сомнения, - пишет
далее Кальвез, и эти строки поистине любопытны, - насилие, с
помощью которого первые капиталисты вырвали средства
производства у первых пролетариев, результат экономического
интереса. Ведь в самые значительные моменты истории
корыстолюбие всегда связано с насилием. Но здесь речь идет о субъективном
корыстолюбии, а не о том объективном или систематическом, от
воли самого отдельного капиталиста независимом,
корыстолюбии, которое материализуется в (опиравшейся на выжимаемую
прибавочную стоимость) системе эксплуатации»2.
Совершенно верно, все начинается именно с чисто
субъективного корыстолюбия. Но это определенная форма корыс-
1 См.: Calwez J.Y. Karl Marx. Darstellung und Kritik seines Denkens.
Walter-Verlag, Ölten und Freiburg in Breisgau, 1964, S. 290.
2 Ebenda.
181
толюбия, где предметом корысти становится не
потребительная стоимость, а стоимость. И такая форма корыстолюбия,
как это отмечает и Маркс, в условиях докапиталистических
формаций вовсе не правило, а исключение, которое затем
становится правилом, системой «объективного или
систематического» корыстолюбия.
«Если капитал однажды возник, - продолжает Кальвез,
- дальше эксплуатация продолжается уже как заведенный
механизм. Однако для получения самого первого капитала
механизм должен был быть однажды включен. Но во имя чего
его включают, если не во имя личной воли к власти, которая
для того чтобы найти опору в развитии новых
производительных сил, тем не менее предполагает свободный выбор? Однако
это решение еще менее предопределено, чем появление
капиталистической прибавочной стоимости только через наличное
бытие категорий товарного хозяйства. Идет ли теперь речь
о «возможности», вытекающей из категорий товарного
хозяйства, или о возможности, которая вытекает из новых
условий для производительных сил, которые являются
решающими при возникновении первоначального накопления: это
постоянно остается только неясной и непоправимой связью,
которую Маркс дает между возможностью и
действительностью; и господствующая расплывчатость выступает в этой
области яснее, воля человека к власти, как решающий
фактор истории не исключается; точно также становится яснее,
что исключительное и гладкое сведение всех форм
отчуждения к экономическому отчуждению, которое теперь могло бы
быть понято как господствующий и разделяющий механизм,
неправомерным»'.
Марксизм вовсе не исключает «воли к власти» в качестве
движущей исторической силы, но понимает ее исторически,
то есть как то, что в разные исторические эпохи принимало
различные формы и что ни в коем случае нельзя приписы-
1 Ebenda.
182
вать человеческой «природе», повторяя натуралистическую
ошибку идеологов буржуазии времен ее прихода к
политической власти и времен ее упадка (Фридрих Ницше). Кроме того,
здесь надо было бы повторить все аргументы Энгельса против
так называемой «теории насилия». Что же касается
«гладкого сведения» всех форм отчуждения к экономическому
отчуждению, то «гладкого» сведения действительно здесь быть
не может. Но если все другие формы отчуждения вообще не
выводятся из экономического в конечном счете, то нет
монистического понимания истории, нет науки. Именно к этому и
ведет Кальвез: «Если мы установим различие между
философским тоном и образом действия, различим друг от друга
теорию стоимости и теорию капитализма, если мы далее выявим
невозможность, в которой оказывается Маркс, когда он хочет
дать чисто «экономическое» объяснение первоначального
накопления, то этим самым мы уже отбросим решающие
проблемы исторического и диалектического материализма. Мы
натолкнулись на ядро марксистской мысли»1.
Кальвез безусловно прав - он действительно
натолкнулся здесь на ядро марксистской мысли. Ядро это заключается в
совпадении противоположностей. Кальвез считает, что
субъективное корыстолюбие не может стать «объективным
корыстолюбием», свободный выбор не может быть предопределен,
возможность не может превратиться в действительность,
случайность - в необходимость и т. д. И безусловно прав Кальвез
в том, что если действительно невозможен необходимый
переход от простого товарного производства к капитализму, то
рушится диалектический и исторический материализм. Что же
касается невозможности дать «чисто экономическое
объяснение» первоначального накопления, то здесь надо уточнить,
что значит «чисто экономическое объяснение».
Здесь возможны, по крайней мере, два варианта.
«Экономическое объяснение» может означать, во-первых, объяснение
1 Ebenda.
183
какого-либо явления, например, прогрессирующего
разорения мелких собственников при капитализме из имманентных
экономических законов, в нашем примере - имманентных
законов капиталистического производства. Во-вторых, это
может означать то, что производя определенные перемены, люди
руководствуются экономическими мотивами. Так, например,
свободные крестьяне были согнаны со своей земли в Англии
в конце XV - начале XVI столетий вовсе не потому, что к ним
кто-то испытывал личную вражду и желал им зла, а потому
что надо было превратить пахотную землю в пастбище для
овец. «Превращение пашни в пастбище для овец, - отмечает
Маркс, - стало лозунгом феодалов»1. Непосредственным же
толчком к этому послужили «расцвет фландрской шерстяной
мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть».
И еще один немаловажный фактор, касающийся
«субъективного» корыстолюбия и его роли в становлении
капиталистических производственных отношений. «Старую феодальную
знать, - отмечал Маркс, - поглотили великие феодальные
войны, а новая была детищем своего времени, для которого
деньги являлись силой всех сил»2.
Все это мотивы отнюдь не «идеальные», а сугубо
материальные, и в этом смысле экономические. Конечно, все
перечисленные события, а это все действительные исторические
события, не следуют формально из имманентных законов
капиталистического производства, они скорее «следуют» из
идеального предвосхищения этого способа производства. И в этом
смысле это не «чисто» экономическое объяснение. Но если
понимать под экономическим объяснением истории такое, где все
должно формально следовать из экономических законов,
которые сами неизвестно когда и неизвестно кем созданы, то такое
«экономическое» объяснение прямо переходит в свою прямую
противоположность, что и случилось в свое время с Прудоном.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 730.
2 Там же
184
Кстати, о необходимом характере «субъективного»
корыстолюбия в эпоху первоначального накопления свидетельствует
та общая закономерность, что «новая знать», для которой деньги
являются силой всех сил, не только в Англии, но и на
континенте, вышла не из старой феодальной знати. И эта закономерность
была подмечена еще Гегелем. «Нынешняя знать, - писал он, -
вышла, как правило, не из старых свободных земледельцев, а
из императорских, королевских, герцогских вассалов. Сами эти
землевладельцы должны были становиться вассалами, если они
хотели сохранить какое-то значение и не быть полностью
подавленными»1 Старой знати не позволило стать «новой знатью»
именно отсутствие корыстолюбия в его буржуазной форме.
Раневская у Чехова в «Вишневом саде» продает усадьбу своему
бывшему крепостному, а «на чай» дает золотой, чего бы себе
никогда не позволил скромный и бережливый буржуа. Так что
корыстолюбие это вполне конкретная историческая категория,
а вовсе не от природы присущая человеку «слабость».
Для Маркса и марксизма нет абстрактной исторической
необходимости, эта необходимость в своем конкретном
выражении всегда включает в себя деятельность людей,
преследующих свои собственные цели. «Когда Маркс говорит о
коммунистическом преобразовании действительности, он имеет в
виду не одну только «историческую необходимость», не одни
только «потребности экономического развития», развития
производительных сил и т. д., которые сами собой разрешили
бы все конфликты. Он имеет в виду и необходимость
сознательного действия революционных масс, восстающих против
частной собственности, эксплуатации и принуждения, против
основанного на их господстве государства»2.
Нет безусловной исторической необходимости, в
качестве таковой она только «момент» конкретной исторической
1 Гегель. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2, с. 561.
2 История марксистской диалектики. От возникновения марксизма до
ленинского этапа. М., 1971, с. 102.
185
необходимости, которая всегда тождественна самой
действительной истории, а безусловная необходимость - только
ее абстракция. Конкретная историческая необходимость это
каждый раз момент перехода условной необходимости в
безусловную, возможности в действительность, это всего лишь
мгновенный импульс исторического движения, случайное
историческое событие, в котором снимается
противоположность между возможностью и действительностью. Случайное
и становится тем самым необходимым, оно необходимо в
своей «положенности» определенной возможностью.
Обстоятельства изменяют людей и в то же время люди
изменяют обстоятельства - вот та Великая Историческая
Антиномия, которую не смог решить предшествующий Марксу
материализм, намеки на решение которой дал только Гегель
и которая совершенно не по силам современной буржуазной
философии. Не смог с ней справиться и Кальвез, если у него
вообще было желание с ней справиться. И уж совершенно
беспомощно барахтается в ней Карл Поппер. Вот образец его
рассуждений: «Бетховен в определенной степени безусловно
является продуктом музыкального воспитания и традиции,
и многое, что представляет в нем интерес, отразилось
благодаря этому аспекту его творчества. Однако важнее то, что он
является также творцом музыки и тем самым музыкальной
традиции и воспитания. Я не желаю спорить с
метафизическими детерминистами, которые утверждают, что каждый такт,
который написал Бетховен, определен комбинацией влияний
прошлых поколений и окружающего мира»1.
Поппер приводит и другие подобные примеры, которые
являются ничем иным, как особенными формами проявления
все той же самой исторической Антиномии, «концы» которой
у него никак не сходятся, хотя нечаянно он неявным образом
отождествил крайности: общезначимый характер музыкаль-
1 Popper K.R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bern. Zweiter Band,
1958, S.257.
186
ного творчества Бетховена, - он действительно творец
музыкальной традиции, - и совершенно индивидуальную фигуру
великого композитора. Но отождествление индивидуального
и всеобщего происходит у Поппера только в одну сторону:
индивид творит всеобщее, общезначимое, что и склоняет его к
субъективистской и волюнтаристской точке зрения на
характер исторического процесса, которую он противопоставляет
монистической («закрытой») точке зрения Маркса и Ленина1.
Поппер, таким образом, видит только одну «половинку»
исторической действительности, которая совершенно не
действительна без другой. Между тем, действительное творчество,
а историческое творчество по своей общей логике ничем не
отличается от художественного творчества, есть только там,
где имеет место «химическое» или «органическое» соединение
индивидуальности воображения со всеобщей нормой, при
котором новая, всеобщая норма рождается только как
индивидуальное отклонение, а индивидуальная игра воображения
прямо и непосредственно рождает всеобщий продукт, сразу
находящий отклик у каждого»2.
Рождение всеобщей нормы, традиции в музыке,
литературе, философии, в экономике, в общественной жизни вообще,
это всегда индивидуальное отклонение, но такое
индивидуальное отклонение, которое выражает всеобщий запрос, который
уже смутно бродит в глубине общества, который просится на
поверхность, но прорывается наружу только в
индивидуальной форме.
Вся сложность решения исторической антиномии состоит
в том, что она не решается, как и любое противоречие в
теоретическом познании, в общем виде. Она разрешается только за
счет ее внутреннего имманентного содержания, которое каж-
1 См. об этом: Лившиц Мих. Чего не надо бояться // Коммунист. 1978.
№2, с. 114-115.
2 См.: Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии // Вопросы
эстетики. 1964. Вып. 6, с. 68.
187
дый раз индивидуально и неповторимо. Поэтому этот пункт
труднее всего понять. «Если каждый из обоих рядов
причиненного объяснения (изменение людей под влиянием
обстоятельств и изменение обстоятельств людьми. - СМ.), - отмечал
В.Ф. Асмус, - рассматриваемый сам по себе, совершенно
понятен в своей необходимости, то, напротив, совершенно
загадочным и непонятным становится их совпадение в реальном
процессе общественного развития. До тех пор, пока ход
развития рассматривается лишь как объект познания, остается
непостижимым, каким образом активность социального
действия человека, с одной стороны, и всемогущая определяющая
сила обстоятельств, с другой стороны, могут друг другу
соответствовать, складываться в единый конкретный процесс
социально-исторического движения»'.
Если «совпадение изменения обстоятельств и
человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально
понято только как революционная практика», то понимание
этого положения становится доступным только для того, кто
не довольствуется одним только теоретическим
(созерцательным) отношением к действительности, а сам активно
участвует в революционной практике, кто сам активно воздействует
на ход исторического процесса, неважно - стоя у станка, или
сидя за письменным столом, важна смысложизненная
позиция. Иными словами, совершенно необходимым условием
понимания этого совпадения является партийная позиция, так
же как понимание совпадения противоположностей вообще
предполагает не только умение рассуждать и теоретизировать,
но и наличие «практического разума», то есть разума вместе с
его волевым импульсом, вместе с его практической энергией.
Последовательная материалистическая диалектика вообще не
только необходима, но и возможна только как мировоззрение
единственного, до конца последовательного в революционном
преобразовании общества класса - пролетариата.
1 Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т.П. М., 1971, с. 295.
188
Интересно в связи с этим, что когда дело касается
философии истории, то Гегель, так блестяще развивший диалектику
возможности и действительности, случайности и
необходимости в своей «Науке логики», не идет дальше абстрактного
тождества логики и истории в своей «Философии истории».
То же самое и в философии права, в учении о государстве.
Открытое или молчаливое непризнание Гегелем логического
характера конкретного исторического исследования
оказывается связанным у него с отрицанием значимости случайного
исторического события, с формальным характером свободы,
борьбы противоположностей и т. д. За эти отступления от
диалектики и критиковал Маркс Гегеля. Эта критика очень
показательна с точки зрения обсуждаемых нами проблем,
поэтому есть смысл коротко остановиться на ней.
В работе «К критике гегелевской философии права»
Маркс, отмечая, что глубина Гегеля сказывается в том, что он
«везде начинает с противоположности определений (в том
их виде, в каком они существуют в наших государствах) и на
ней делает ударение»1, в то же время усматривает коренной
порок гегелевской философии государства и права в том, что
Гегель решает противоречие в рамках самого противоречия.
Это, в частности, касается противоречия, которое возникает
между государственным строем и законодательной властью.
«Законодательная власть сама является частью
государственного строя», - пишет Маркс, - который сам по себе лежит вне
области ее непосредственного определения». Но ведь и
государственный строй не сам себя произвел. Ведь законы,
«нуждающиеся в дальнейшем определении», должны сначала быть
установлены. Должна ведь существовать - или должна была
существовать - законодательная власть до государственного
строя и вне государственного строя. Выходит, что должна
существовать законодательная власть помимо действительной,
эмпирической, установленной законодательной власти. На это
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 281.
189
Гегель, быть может, ответит: мы исходим из уже
существующего государства. Но ведь Гегель - философ права и
развивает родовое понятие государства. Он не должен мерить идею
масштабом существующего, он должен существующее мерить
масштабом идеи...Уоиа la collision (Вот в чем коллизия). На
протяжении новейшей французской истории люди немало
помучились, пытаясь разрешить эту коллизию.
Как разрешает «Гегель эту антиномию?»1
Вот здесь-то и проявляется весь консерватизм и весь
антиисторизм Гегеля. Он пытается выйти из затруднения
путем различия между фактическим и летальным действием
законодательной власти. Но, как отмечает Маркс, «Гегель этим не
устранил антиномии, он превратил ее в другую антиномию, в
антиномию между действием законодательной власти, ее
правомерным с точки зрения существующего государственного
строя действием, и ее назначением - развивать
государственный строй. Противоречие между государственным строем и
законодательной властью остается в силе»2.
Иными словами, если действия законодательной власти
развивают государственный строй, если они ему на пользу,
то эти действия легальны, если же они не развивают и не
укрепляют этого строя, то независимо от того, каковы они по
форме, по существу они не легальны, и никакой
государственный строй не потерпит подобных действий. Различие между
легальным и нелегальным действием законодательной власти
- это чисто формальное, не соответствующее
действительности, различие. Это своеобразный «эпицикл», с помощью
которого Гегель пытается согласовать свою теорию государства с
действительностью. Гегель в данном случае встает на худший
путь, по которому и сейчас идут многие теоретики: он
пытается снять антиномию путем чисто формальных различий,
ибо различие между фактическим и легальным действием
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 281.
2 Там же, с. 282.
190
законодательной власти не является различием по существу.
Различием по существу было бы различие между легальным и
нелегальным действием. Но законодательная власть не может
действовать нелегально в рамках данного государственного
строя: она есть выражение его и плоть от плоти его.
Единственный способ разрешения этой антиномии - это
совпадение государственного строя и законодательной власти,
которое может быть рационально понято только как
революционная практика. Но эта практика Гегеля в данном случае не
устраивает. Вместо развития путем разрешения противоречий, которое
Гегель отстаивает в «Логике», здесь он предлагает постепенное
изменение государственного строя. И для доказательства этого
положения Гегель опять встает на худший путь - путь примеров
и неполных индуктивных обобщений вместо имманентного
развития идеи государства. «Правда, - замечает Маркс, - в целом
ряде государств строй менялся таким образом, что постепенно
возникали новые потребности, старое подвергалось разложению
и т. д., но для установления нового государственного строя всегда
требовалась настоящая революция»1.
Любопытно, что Маркс здесь оказывается не только
более последовательным диалектиком, но и более
последовательным «идеалистом». «Гегель, - пишет он, - стремится везде
представить государство как осуществление свободного духа,
но re vera (на самом деле) ищет выхода из всех трудных
коллизий в природной необходимости, стоящей в противоречии
к свободе. Точно так же и переход особого интереса на
ступень всеобщего не совершается сознательно посредством
государственного закона, а совершается против сознания, - как
опосредуемый случаем, - но ведь Гегель хочет видеть везде в
государстве реализацию свободной воли»2.
Реализация свободной воли у Гегеля как раз и не
получается, это воля, которой, по словам Гайма, «недостает формы
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 283.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 283.
191
хотения, - это воля, выражаясь резко, которая не желает»1. Ей
недостает практической энергии, потому что «воля и свобода
в системе Гегеля выдыхаются в мышлении и знании»2.
Маркс более последовательно, чем Гегель проводит точку
зрения, согласно которой в социальной теории, и прежде всего
в социальной теории, практика является «средним термином»
умозаключения, т. е. необходимым звеном и продолжением
теоретической работы мышления, но теперь уже в его
практической энергии, оно должно превратиться в импульс воли и
действия. «Уже как решительный противник прежней формы
немецкого политического сознания, - пишет Маркс, - критика
спекулятивной философии права погружается не в себя самое,
а в такие задачи, для разрешения которых тлеется одно только
средство - практика»*.
Маркс недаром проводит параллели между гегелевской
манерой интерпретации исторического процесса и
«исторической школой права», которая «подлость сегодняшнего
дня оправдывает подлостью вчерашнего»3. Как часто вообще
подлость сегодняшнего дня оправдывается «вечными и
неизменными» законами человеческой «природы». Философы и
философствующие историки много и охотно говорят о
необходимости «обобщения» фактов, что история должна не
только описывать, но и обобщать. Как будто этим уже все сказано.
Представители «исторической школы права» тоже обобщали,
но обобщали так, что все что выходило за рамки этого
«обобщения», выступало только как аномалия, только как случайное
и индивидуальное, противоположное «духу народа» - этой
тощей и несерьезной абстракции.
С помощью такого «обобщения», как было уже сказано,
ухватывается только одна сторона, одна «половинка»
исторической действительности. «Характерная особенность народов
1 См.: Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861, с. 318.
2 См. там же.
3 См. там же, с. 416.
192
с «историческим» развитием в смысле исторической школы
права, - писал Маркс, заключается в том, что они постоянно
забывают свою собственную историю»1. Действительно, в
истории некоторых народов бывают периоды с «историческим»
развитием в смысле «исторической школы права», это
периоды застоя и безвременья, поэтому такая «история»
забывается, так же как отдельный человек забывает те периоды
своей жизни, когда не произошло ничего примечательного2. То,
что можно получить из истории путем ее обобщения в духе
«исторической» школы, это серые будни истории. Это такое
всеобщее, которое совершенно не содержит в себе никакого
богатства особенного и никакого импульса движения вперед.
Если «обобщать» историю подобным образом, то за рамками
такого обобщения останутся Маркс, Гегель, Пушкин, Великая
французская революция и многое многое другое...
Если, как писал Маркс, «революция начинается в мозгу
философа»3, и она не может начаться иначе, хотя это всего лишь
начало, то задача историка заключается в том, чтобы показать,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 148.
2 Вот как характеризовал Энгельс это состояние применительно к
Швейцарии 30-х и 40-х годов XIX столетия: «Маленькое поле
деятельности для маленьких, непритязательных людей, государство в виде несколько
расширенной общины, «кантона», маленькая, неподвижная, основанная на
ручном труде промышленность, обусловливающая такое же неподвижное и
сонливое состояние общества, незначительное богатство и незначительная
бедность, сплошное среднее состояние и сплошная непосредственность;
ни государя, ни цивильного листа, ни постоянного войска, ни
сколько-нибудь значительных налогов, ни активного участия в истории, ни внешней
политики, - только внутренняя политика, сведенная к местным мелким
сплетням и мелким распрям en famille (в семейном кругу); ни крупной
промышленности, ни железных дорог, ни мировой торговли, ни социальных
столкновений между миллионерами и пролетариями, но тихая, уютная
жизнь, полная благочестия и респектабельности, в соответствии с
мелочной ограниченностью самодовольных людей, жизнь, не оставляющая следа
в истории, - такова тихая Аркадия, которая существует в большей части
Швейцарии.... (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 143).
3См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 442.
193
что она действительно началась в мозгу именно этого
философа, ибо тут нельзя сослаться на философа «вообще». Революция
зарождается в мозгу философа как раз и именно потому, что он
не является философом «вообще». Если бы мы сослались на
философа вообще, а не, допустим, на Маркса, то мы получили бы
некоторое «всеобщее» т. е. усредненное, одинаковое для всех,
иначе - мы получили бы типичного представителя казенной
профессорской науки, серенькую посредственность, которая
как раз пуще всего боится всяких революций. Этот философ,
наоборот, должен быть исключением.
«... Для камердинера не существует героя, - писал
Гегель, - ... но не потому, что последний не герой, а потому, что
первый - камердинер. Камердинер снимает с героя сапоги,
укладывает его в постель, знает, что он любит пить шампанское
и т. д. Плохо приходится в историографии историческим
личностям, обслуживаемым такими психологическими
камердинерами; они низводятся этими их камердинерами до такого
же нравственного уровня, на котором стоят подобные тонкие
знатоки людей, или, скорее, несколькими ступеньками
пониже этого уровня»1. Камердинер тоже «обобщает», т. е. он видит
в своем «герое» только «общечеловеческое», что ему не чуждо
ничто человеческое, он тоже любит шампанское и т. д., но не
видит, что истинно общезначимым в данном случае является
не общее, а индивидуальное и неповторимое его «героя».
Но у Гегеля, и в этом, как было уже сказано, заключается
ущербность его исторической диалектики, индивидуальное
становится общезначимым только потому, что оно уже
заранее является носителем и проявлением субстанциального -
«мирового духа». Поэтому различие между субстанциальным
и акцидентальным здесь у него превращается в формальное
различие.
В чисто формальное различие превращается у Гегеля
и различие между объективной и субъективной свободой.
1 Гегель. Сочинения, т. VIII, с. 31.
194
Маркс отмечает, что у него субъективная свобода не
переходит в объективную. Да и о каком переходе может идти
речь, если Гегель уже заранее определил и различил их на все
времена. «Та свобода, которая ограничивается, - заявляет
он, - есть произвол, относящийся к частностям
потребностей»1. Ограничение в данном случае это чисто формальный
признак: история знает случаи, когда ограничивается
именно свобода, а произвол, наоборот, получает полную свободу.
Свобода, которая ограничивается, не является произволом
только в силу того, что она ограничивается. Существенным
различием было бы различие по содержанию, которое
заключает в себе то и другое.
У Гегеля вообще, отмечает Маркс, единичное нигде не
доходит до своей истинной всеобщности2. Это результат
невозможности - разрешить на почве объективного идеализма ту
антиномию, которую Гегель сам сформулировал: «Человек как
свободный может сделать нечто такое, что бог раньше не велел
сделать, а это противоречит всемогуществу и всеведению бога;
если же скажем, что все установлено богом, то этим была бы в
свою очередь уничтожена человеческая свобода»3.
Случайное историческое событие, по Гегелю, если оно не
детерминировано субстанциальным, т. е. принадлежащим
целиком и полностью Мировому Разуму, только случайно и
принадлежит дурной субъективности и произволу. Но если оно
детерминировано субстанциальным, то оно теряет свой
случайный характер. В обоих случаях случайное не необходимо.
Это положение прямо противоречит положению его же
логики - «случайное необходимо».
Историзм Маркса, преодолевая «философскую историю»
Гегеля, развивается в сторону эмансипации свободного
волевого исторического действия действительных субъектов
1 Гегель. Сочинения, т.VIII, с. 37.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 264.
3 Гегель. Сочинения, т. XI, с. 278-279.
195
истории - людей, освобождения его из-под подавляющего
деспотизма всеобщего. Это по существу изменяет отношение
марксистского историзма к тому, что Гегель называл
«историографией в собственном смысле слова». Всемирная история,
по Гегелю, могла бы быть трактована так, что «она совершенно
не касалась индивидуумов и не упоминала о них, потому что
ей надлежит повествовать о деяниях духа народов; те
индивидуальные формы, которые он принимал на внешней почве
действительности, могли бы быть предоставлены
историографии в собственном смысле слова»1.
Маркс своей научной практикой доказал, что в
конкретной теории (не говоря уже о всемирной истории) без
«историографии в собственном смысле слова» не обойтись, потому
что каждая историческая антиномия разрешается в
индивидуальной форме, что превращает ее из безразличной формы
проявления необходимости и закономерности в закон и
содержание всемирно-исторического процесса. Дело логики
поэтому превращается в логику дела. Логика как выражение
всеобщего, необходимого, универсального и т. д. переходит в
свою противоположность - в описание индивидуального,
неповторимого, случайного и т. д. Единство логического и
исторического выступает уже не как абстрактное тождество, а как
конкретное тождество противоположностей.
«В науке, например, - пишет Маркс, - «отдельная
личность» может осуществлять всеобщее дело, да оно и
осуществляется всегда отдельными личностями. Но действительно
всеобщим оно становится лишь тогда, когда является уже не
делом отдельной личности, а делом общества. Это изменяет не
только форму, но и содержание»2. Прежде, чем дело отдельной
личности становится всеобщим, оно уже является всеобщим,
но не в действительности, а только в возможности. Поэтому
создается иллюзия, что отдельные индивиды творят историю из
1 Гегель. Сочинения, т. VIII, с. 64-65.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 292.
196
самих себя и возводят в закон собственный произвол. Всеобщее
с необходимостью выступает сначала в индивидуальной форме,
но необходимость означает здесь не наперед заданные условия
движения, а неудовлетворенную потребность, цель.
Историческая возможность не может превратиться в действительность не
приняв формы должного, не превратившись в импульс воли и
действия. А действуют и «волят» реальные люди, а не Мировой
Дух, Дух Народов или еще какой-нибудь «Дух».
Марксистский историзм требует не только обобщения
фактов, он требует также обобщения фактом. И в этом его
отличие как от абстрактного историзма спенсеровского толка
и современной позитивистской «исторической социологии»,
так и от «философской истории» Гегеля. Это главный пункт
конкретного историзма Маркса. Ключ к пониманию этого
историзма лежит в диалектике, и, прежде всего, в понимании ее
ядра - единства и борьбы противоположностей, в понимании
того факта, что истинно всеобщее - это в то же время частный
случай исследуемой конкретности. Историк постигает
неразложимый дальше исторический факт, в котором
индивидуальное и универсальное слиты до неразличимости. Если
противоположность всеобщего и отдельного вообще разрешается
в особенном, то на почве истории это особенное
приобретает форму индивидуального и неповторимого, в этом прямое
сходство истории с искусством.
Но это такое индивидуальное и неповторимое, которое
может быть установлено в своей исторической значимости
только путем обнаружения таких универсальных форм
социального бытия, которые оно прорывает, которое оно отрицает
и которые «достойны гибели». И в силу именно этого оно
является истинным проявлением индивидуальности, а не
пустым самомнением взбесившегося «Я».
«Биография Карла Маркса образует часть введения в его
творчество»1, - замечает иезуит Кальвез. Действительно, мар-
1 Calvez J.Y. Opus cit., S. 300.
197
ксизм неразрывно связан с именем основоположника этого
учения. Но что хочет сказать в данном случае Кальвез? Он
хочет сказать, что марксизм не имеет под собой реальной
исторической почвы, что не только учение марксизма, но и все
мировое коммунистическое движение (!?) являются целиком
и полностью продуктом индивидуального творчества Маркса.
Анализ истории Кальвез превращает в психоанализ, отдавая
при этом солидную дань еврейскому происхождению и
прочим частностям личной жизни творца великого учения.
Но если бы Кальвез ограничился только этим
утверждением, то с ним, может быть, всерьез и спорить-то не стоило
бы. Но Кальвез рассуждает на «ниве» истории и
рассуждает «солидно». Отметив, что всемирная революция, идущая
под знаменем марксизма, достигла успехов «внутри самых
различных цивилизаций», он тут же готовит «подвох». «Что
означает этот подъем в глобальном масштабе?» - задается
вопросом Кальвез, и отвечает: «Стихийное движение
самого освобождающегося человечества, как скажут марксисты.
Однако в подобном чисто естественном движении идеология
играла бы только побочную роль. Тогда революция была бы
первичной, философия только производной. В сметающей
троны, разрушающей политические учреждения
Французской революции философские и социальные теории стояли
на первом месте; в марксистской революции, которая
разрушает даже структуру человека (! ?), справедливость действия
должна лежать в самом действии»1.
Если присмотреться внимательней, то здесь Кальвез снова
не может (если он вообще этого хочет) найти выход из
исторической антиномии в новой ее форме - в форме антиномии
сознательности и стихийности. Для Кальвеза признание
положения о том, что базой марксизма является стихийное
движение освобождающегося человечества означает превращение
идеологии и философии в нечто побочное, а признание зна-
1 Calvez J.Y. Opus cit., S. 300.
198
чимости идеологии и философии означает волюнтаризм
разрушение «структуры человека», попрание вечных ценностей и
т. д. «Однако колыбелью марксизма является философия»1, -
таким выводом заканчивает свое рассуждение Кальвез. Он,
как и Поппер, что мы видели выше, считает возможным
выбрать только одну из двух противоречащих друг другу
альтернатив и... выбирает, выбирает ту, которая для него в данном
случае является более предпочтительной. После этого,
конечно, не так уж трудно превратить Маркса из действительной
индивидуальности в индивидуализм отверженного Я, а все
его учение и социальное движение, связанное с его именем, в
болезненный нарост на здоровом теле истории.
Действительно, Маркс явился основоположником
учения, которое было необходимо пролетариату, в силу случая:
мог бы оказаться и другой человек. Но не случайно то, что
именно марксизм сделался учением пролетариата.
Пролетариат в своем бессознательном стремлении к освобождению
мог воспринять только такое учение. Произошел
«естественный отбор»: пролетариату предлагалось не только это
учение, ему предлагался и сенсимонизм, и прудонизм, и
позитивизм (Конта). Действительное сознательное
революционное движение пролетариата явилось поэтому реализацией
возможности через случай, но этим самым этот случай и стал
необходимым. Но необходимость означает здесь не
господствующие условия наличного социального бытия, условия
здесь только довольно растяжимые границы возможности,
а действительный исторический акт, в котором эта
возможность реализуется. Поэтому-то личность Маркса и значима в
истории: она во всей своей индивидуальности и
неповторимости «сраслась» с исторической необходимостью. Но все это
не означает, что во всем, что происходит на этом свете,
виноват Маркс. Вот чего не понимает или не хочет понять
Кальвез, который в своем стремлении опорочить марксизм бро-
1 Ebenda.
199
сается из одной крайности в другую, от произвола - к чисто
природной (как и Гегель) необходимости. Так, например, он
утверждает, что «каждый этап Марксовой мысли обусловлен
важными, пережитыми им опытами: его детство в
эмансипированной и рационалистской еврейской среде; его жизнь в
Берлине с интеллигентской критикой Докторского клуба; его
журналистский опыт в либеральном окружении в Кельне;
нетерпимость прусской цензуры; парижское изгнание,
знакомство с рабочим движением и встреча с Энгельсом,
революция 1848 года, борьба внутри Интернационала; и, наконец,
Парижская Коммуна 1871 года. Его толкали факты».
В конце концов все начинается с фактов, но этим еще
ничего не сказано. Те же факты, которые «толкали» Маркса,
наблюдались десятками, сотнями и тысячами людей, но не
только не все могли делать из них правильные выводы - многие их
просто не замечали.
* * *
Итак, конкретное единство логического и
исторического проявляется в том, что логика с необходимостью требует
конкретного исторического исследования, которое получает
логическое значение в свете определенной логики. Причем
и в данном случае историк или теоретик действует так, как
«действует» сама история: он поднимает до всеобщего и
необходимого единичное и случайное. Именно это и проделывает
Маркс в «Капитале» в главе о первоначальном накоплении и
в некоторых других местах в соответствии с необходимостью
реконструировать те исторические предпосылки капитала,
которые уже «изжиты» самой историей.
На этом завершается путь развития конкретного
историзма, как оно происходит в конкретном научном
исследовании. Оно конкретно потому, что является синтезом многих
определений, которые последовательно проходит. Причем
этот логический процесс развития конкретного историзма в
200
общем и целом повторяет и воспроизводит в общем и целом
основные исторические этапы развития концепции
конкретного историзма, которые последним «сняты». И поэтому все
конкретные исторические формы историзма, в том числе и
гегелевский историзм, оказываются различными формами
абстрактного историзма.
И поскольку марксистский историзм противостоит
любой форме абстрактного историзма, то это и дает повод
говорить об «антиисторизме» метода материалистической
диалектики. Неверно также и такое представление, что
историзм как таковой, историзм «вообще» определяет существо и
специфику диалектико-материалистического метода. Точка
зрения историзма вообще, не соединенная с диалектической
идеей конкретности, неизбежно превращается в пустую
фразу. «Неконкретный, т. е. абстрактный, историзм не только не
чужд метафизическому способу мышления, но и составляет
одну из его характернейших черт. Метафизики всегда много
и охотно рассуждают о необходимости «исторического
подхода» к явлениям, совершают экскурсы в историю предмета,
подводят «исторические обоснования» под свои
теоретические построения. И отличить конкретный историзм метода
материалистической диалектики от абстрактного историзма
метафизиков не так-то легко, как может показаться на
первый взгляд»1.
Конкретный историзм материалистической диалектики
есть конкретное единство (тождество противоположностей)
логического и исторического. Другого определения ему дать
невозможно. И это единство у основоположников и классиков
марксизма присутствует всюду, а отнюдь не только в
«Капитале», оно присутствует во всем их многообразном творчестве,
и эта тема заслуживает особого внимания.
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, с. 197-198.
201
§ 6. Экспроприация мелких собственников
как историческая предпосылка возникновения
капитала
«Когда капитал уже в ходу, - пишет Маркс, - когда он
исходит из самого себя, он постоянно предполагает себя в своих
различных формах в качестве индивидуально потребляемого
продукта, сырья и орудия труда, для того чтобы постоянно
воспроизводить себя в этих формах. Эти формы сначала
выступают как предположенные им самим условия, а затем - как
его результат. В процессе своего воспроизводства капитал
производит свои собственные условия»1.
Значит, капитал, согласно своему понятию,
вытекающему из его логического анализа, предполагает наличие средств
производства на одном полюсе и полное отсутствие таковых
на другом. Но исторически ему предшествует производство,
основанное па органическом единстве труда и средств
производства, «где работник является свободным частным
собственником своих, им самим применяемых условий труда, где
крестьянин обладает полем, которое он возделывает,
ремесленник - инструментами, которыми он владеет как виртуоз»2.
Следовательно, исторической предпосылкой возникновения
капитала является разрыв этого органического единства -
экспроприация мелкого собственника, крестьянина и
ремесленника. Причем эта экспроприация не может совершиться
«игрой имманентных законов самого капиталистического
производства»3, потому что этого производства еще нет. «...
Эта ужасная и тяжелая экспроприация народной массы, -
замечает Маркс, - образует пролог истории капитала»4.
Здесь имеет место целый комплекс своих собственных
специфических проблем, не сводящихся к проблеме первона-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46. ч. II, с. 183-181.
2 Там же, т. 23, с. 771.
3Тамже,с. 772.
4 Там же, с. 771.
202
чального накопления в ее общем виде. Первоначальное
накопление означает просто накопление богатства безотносительно
к его натуральной форме, в основном в форме золота и
драгоценностей. Но золото еще не средство производства. Оно
оказывается всемогущим, когда все продается и все
покупается. Иными словами, только при развитом рынке, который
возможен лишь в условиях достаточно развитого
капиталистического производства. В рамках же феодального общества
продается далеко не все: не продаются прежде всего основные
средства производства - земля и орудия ремесленника.
Феодальный собственник земли не может ее продать, так как она
источник не только его материального, но также морального и
политического существования. Вместе с землей он теряет все
свои права и привилегии. Потому феодальное государство
стоит на страже феодальной земельной собственности. И уж если
феодальная земельная собственность отчуждается, то
вместе со всеми правами и привилегиями, включая дворянский
титул. Орудия же ремесленника в принципе неотчуждаемы,
поскольку являются естественным продолжением тех особых
навыков и умений, которыми владеет только ремесленник, и
они никоим другим образом не могут быть использованы. Вот
почему на пути капитала встают феодальные институты:
феодальная земельная собственность, крестьянская община,
ремесленный цех. И капитал должен их разрушить, дабы стать в
полном смысле слова капиталом.
Таким образом, процесс первоначального накопления
«не может быть ничем иным, как процессом отделения
рабочего от собственности на условия его труда, - процессом,
который превращает, с одной стороны, общественные средства
производства и жизненные средства в капитал, с другой
стороны, - непосредственных производителей в наемных
рабочих»1. Но средства труда ремесленника неотделимы от
рабочего и неадекватны капиталу. Адекватное себе средство труда
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46. ч. II, с. 726-727.
203
в виде машины или системы машин он еще должен создать.
Поэтому экспроприация мелкого собственника начинается с
экспроприации земли у сельского населения, а генезис
капитализма происходит сначала как генезис капиталистического
фермера. Причем только после земледельческой революции,
ибо лишь она могла доставить городской промышленности
массу пролетариев, стоявших «совершенно вне всяких
цеховых отношений»1, создать рынок наемного труда, рынок
сырья и рынок жизненных средств, которые представляют
собой необходимые предпосылки развития городского
промышленного капитала.
Весь этот процесс описан у Маркса достаточно
подробно в отношении Англии. Характерно, он может быть описан
каждый раз только особенным образом, поскольку и сам
процесс первоначального накопления может произойти только
в особенной исторической форме. Но это не меняет
существа вопроса. «Дело здесь, само по себе, - как предупреждал
Маркс, - не в более или менее высокой ступени развития тех
общественных антагонизмов, которые вытекают из
естественных законов капиталистического производства. Дело в самих
этих законах, в этих тенденциях, действующих и
осуществляющихся с железной необходимостью. Страна, промышленно
более развитая, показывает менее развитой стране лишь
картину ее собственного будущего»2.
Главное, реальная, фактическая история капитала как
будто бы буквально дедуцируется из понятия капитала, что и
придает логический характер историческому описанию.
Капитал по своему понятию предполагает первоначально деньги,
доставляемые заморской торговлей и ограблением колоний.
Он требует разрыва органического единства («сращенности»)
производителя со средствами производства - в Англии
именно такой процесс происходит насильственным и законодатель-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46. ч. II, с. 755.
2Тамже,с.6-9.
204
ным путем. Он требует для себя адекватное себе средство
производства - машину, - и именно тогда, в XVIII - начале XIX в.,
происходит целый ряд технических изобретений и открытий,
которые доставляют это средство капиталу.
§ 7. Создание машинного производства как условие
реального подчинения труда капиталу
Вначале подчинение труда капиталу было лишь
формальным. «Переменный элемент капитала сильно преобладал над
постоянным его элементом. Вследствие этого спрос на
наемный труд быстро возрастал с накоплением капитала, а
предложение наемного труда лишь медленно следовало за спросом.
Значительная часть национального продукта, превратившаяся
позднее в фонд накопления капитала, в то время еще входила
в фонд потребления рабочего»1.
Преобладанию переменного капитала над постоянным
соответствовал низкий уровень развития производительных
сил. Следовательно, единственным средством изменить
органическое строение капитала в сторону преобладания
постоянного капитала над переменным является развитие и
совершенствование производительных сил, что резко сокращает
спрос на рабочую силу и создает резервную армию наемного
труда. Это и означает реальное подчинение труда капиталу.
Следовательно, развитие производительных сил играет
разную и даже противоположную роль при различных
способах производства, при разных способах соединения
работника со средствами производства, при разных формах
собственности. «Средство труда, - пишет Маркс, - делает рабочего
самостоятельным, превращает его в собственника. Система
машин - в качестве основного капитала - делает рабочего
несамостоятельным, делает его присвоенным»2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 748.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 210.
205
Такова качественная разница роли средств труда в
капиталистическом производстве по сравнению с предшествующими
формами производства. Производительные силы капитала,
которые на первый взгляд предстают как прямое
продолжение исторического развития средств труда, начавшегося с лука
и стрел, с каменного топора и других примитивных орудий,
выступают как противоположность этого развития.
Закабаляющая роль машин в капиталистическом
производстве выступает в период первоначального накопления
капитала как тенденция, противоположная устремлению людей
с помощью открытий и изобретений увеличить свою власть
над природой. «Еще в начале XVIII века, - отмечает Маркс, -
лесопильные машины, приводимые в движение водой, лишь с
трудом преодолевали в Англии сопротивление народа,
встречавшее поддержку парламента»1.
Но, с другой стороны, увеличение производительной
силы труда и максимальное отрицание необходимого труда
представляют собой2 необходимую тенденцию капитала.
Осуществлением этой тенденции является превращение средств
труда в систему машин3. Борьба этих двух тенденций
составляет эпоху, которую Маркс назвал эпохой первоначального
накопления капитала. А поскольку указанные тенденции
являются реальными, то и борьба между ними - реальная
историческая борьба. И победа здесь одерживается не
теоретически, а в действительной истории. Такая борьба может быть
только описана, но объяснительный и доказательный, вообще
понятийный смысл это описание приобретает только в свете
понятия капитала.
Здесь надо иметь в виду, что качественное изменение роли
средств труда при капитализме происходит не только в
результате их чисто количественного изменения, - происходит
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, ч. II, с. 438-439.
2 Там же, с. 385.
3 Там же.
206
качественное изменение в характере самих производительных
сил, когда простое орудие превращается в машину и систему
машин. Машина в отличие от простого орудия заступает
место человека, потому что орудие переходит от человека к
механизму. И если в форме простого орудия человек владеет
средством производства, то в форме машины и системы машин оно
владеет человеком, подчиняет его своему собственному ритму,
делает своим придатком. Словом, подчинение труда капиталу
выступает как подчинение человека машине. Развитие средств
труда в систему машин, - подчеркивает Маркс, - не случайно
для капитала, а представляет собой историческое
преобразование традиционных, унаследованных средств труда,
превращение их в средства труда, адекватные капиталу1.
Вот почему машина является вполне экономической
категорией, а не только технологической. И хотя Маркс
прекрасно отдает себе отчет в том, что «политическая экономия - не
технология»2, именно логика политической экономии
капитализма приводит к необходимости рассмотрения специфики
машинного производства и его исторического становления.
Здесь пересекаются два логических «пространства» -
экономическое и технологическое.
Неслучайно в рукописи Маркса 1857-1858 гг. имеет место
только выяснение специфики и роли системы машин в
процессе капиталистического производства, а в «Капитале» к
этому присоединяется еще большой фактический исторический
материал. В рукописи о машинах говорится в рамках раздела
о постоянном капитале, не считая отдельных заметок в
других местах. В «Капитале» появляется отдельная большая глава
«Машины и крупная промышленность», которая
представляет собой в значительной мере историю технических открытий
и изобретений. Историческое описание решает определенную
логическую (теоретическую) проблему, а именно проблему,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, ч. II, с. 205.
2 Там же, т. 46, ч. I, с. 22.
207
выраженную в той антиномии, что капитал по своему
понятию требует адекватного севе средства производства в форме
машин, но развивать это адекватное себе средство
производства он может лишь на неадекватной технической основе. И в
том его логический смысл.
Ясным это становится только в свете общего
понятия диалектики логического и исторического. В свое время
Б.А. Грушин в статье «Логические и исторические приемы
исследования»1 писал: если «анализ сущности
экономического отношения (рабочего дня) и предшествовал анализу
процесса изменения его исторической формы», то анализ
процесса развития машинного производства «все же проходил уже
совершенно самостоятельно и состоял как раз в следовании за
эмпирической историей предмета и в объяснении ее»2. Нельзя
вообще объяснить эмпирическую историю, следуя только ей.
Объяснить ее можно только из ее более глубокого
основания. Развитие капиталистической промышленности вообще
не объяснишь просто развитием машинного производства.
Здесь все наоборот: развитие машинного производства
подчинено развитию капитала и им обусловлено. Таким образом,
если анализировать процесс развития машинного
производства «совершенно самостоятельно», то в этом процессе ровным
счетом понять ничего невозможно.
Приведенный частный эпизод непосредственно связан с
главной установкой Б.А. Грушина по вопросу о соотношении
логического и исторического. Он хочет доказать, что
логические и исторические «приемы» имеют свою специфику, и
они выступают не только в связи, но и самостоятельно. Здесь
1 Грушин Б.А. Логические и исторические приемы исследования //
Вопросы философии. 1955. № 4.
2 Там же, с. 43.
В.П. Шкредов вообще считает, что и исторический анализ
первоначального накопления капитала, и прочие «экскурсы» не диктуются
«логикой развертывания теоретической системы» (Экономические науки. 1975.
№ 6, с. 30). И это называется «конкретный историзм»?
208
единство логического и исторического понимается очень
абстрактно. «... Содержание проблемы логического и
исторического, - считает он, - состоит не только в том, чтобы говорить
о единстве логического и исторического, о воспроизведении в
логической последовательности категорий исторической
последовательности отношений, отражаемых в этих категориях, и
приводить бесконечные примеры»1.
Грушин понимает единство логики и истории только как
выражение истории в логических категориях, как
абстрактное тождество. Все остающееся за его рамками у него выходит
за рамки единства, хотя в диалектике единство не только не
сводится к абстрактному тождеству, одинаковости, но
последнее представляет собой только реальное условие единства, а
действительное единство обеспечивается лишь различием и
противоположностью. С целью подтвердить свою концепцию
он и привел пример с историческим исследованием развития
машинного производства у Маркса, якобы не обусловленным
логическим исследованием машинного производства и не
подчиненным ему.
Мало того, машинное производство имеет
непосредственное экономическое и социальное значение. Машина
уродует рабочего морально и физически: капиталистическое
производство «развивает технику и комбинацию общественного
процесса производства лишь таким путем, что оно подрывает
в то же самое время источники всякого богатства: землю и
рабочего»2. Без ясного понимания этой проблемы нельзя
правильно понять и сущность так называемой современной
научно-технической революции, историческая миссия которой и
состоит в освобождении человека от машины.
«... Историческое назначение капитала, - писал Маркс, -
будет выполнено тогда, когда, с одной стороны, потребности
1 Грушин Б.А. Логические и исторические приемы исследования //
Вопросы философии. 1955. № 4, с. 46.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 515.
209
будут развиты настолько, что сам прибавочный труд, труд за
пределами абсолютно необходимого для жизни, станет
всеобщей потребностью, проистекающей из самих
индивидуальных потребностей людей, и когда, с другой стороны, всеобщее
трудолюбие благодаря строгой дисциплине капитала, через
которую прошли следовавшие друг за другом поколения,
разовьется как всеобщее достояние нового поколения, - когда,
наконец, это всеобщее трудолюбие, благодаря развитию
производительных сил труда, постоянно подстегиваемых
капиталом, одержимым беспредельной страстью к обогащению и
действующим в таких условиях, в которых он только и может
реализовать эту страсть, приведет к тому, что, с одной
стороны, владение всеобщим богатством и сохранение его будут
требовать от всего общества лишь сравнительно
незначительного количества рабочего времени и что, с другой стороны,
работающее общество будет по-научному относиться к
процессу своего прогрессирующего воспроизводства, своего
воспроизводства во все возрастающем изобилии; -
следовательно, тогда, когда прекратится такой труд, при котором человек
сам делает то, что он может заставить вещи делать для себя,
для человека»1.
Историческое назначение капитала - развивать
машинное производство. Но оно же является и его историческим
пределом. То, что машинное производство является
адекватной технической основой капитала, означает: для другого,
более прогрессивного способа производства эта основа не
является адекватной. Историческое назначение социализма,
если и дальше пользоваться такой терминологией, состоит в
преобразовании технико-экономической основы общества, в
освобождении рабочего от машины. «Исходный пункт
современного переворота в технике - переход от машин (средств
труда, соединяющих двигатель, передаточный механизм и
рабочее орудие) к новому, четырехзвенному типу средств труда,
1 Там же, т. 46, ч. I, с. 280.
210
при котором машины соединяются с кибернетическим,
программирующим устройством»1.
Кибернетика и есть средство освобождения человека от
машин (но не от капитала). Но иногда ей приписывается та же
роль, что и машине, а именно закабаляющая роль. Это
представляет собой остаток того фетишистского сознания, когда
социальное господство капитала непосредственно
отождествляется с его технической основой и воспринимается как
порабощение человека техникой. Отсюда возникают порой
такие фантастические картины будущего, когда роботы станут
«умнее» самого человека, подчинив его себе. Но это уже
особая тема.
§ 8. Логический смысл исторического описания
борьбы рабочего класса за сокращение рабочего дня
и повышение заработной платы
Картину, аналогичную той, которую мы имеем при
описании истории развития машинного производства, мы
наблюдаем и в развитии такой категории, как заработная плата, но с
одной существенной разницей, непосредственно связанной с
конечной целью всей теории «Капитала».
При ближайшем выяснении специфики капиталистического
производства оказывается, что размер заработной платы не может
быть ниже уровня, необходимого для воспроизводства рабочей
силы при определенных местных и исторических условиях. Но это
только нижняя граница заработной платы, а верхняя
соответствует сумме, включающей в себя не только оплату необходимого, но
и всего прибавочного труда. Последнее, однако, не соответствует
сути капитала - получению прибавочной стоимости.
Действительный размер заработной платы всегда
определен. Но в его определение, кроме наименьшей нижней и на-
1 Бляхман Л.С. Научно-техническая революция и диалектика
производственных систем. Проблемы диалектики. Л., 1975. Вып. 5, с. 84-85.
211
ибольшей верхней границ, вытекающих уже из рассмотрения
специфики капитала на уровне абстрактной теории,
привносятся конкретные условия, которые и делают категорию
заработной платы конкретной. Названные условия имеют
относительно случайный характер, и это случайное определение
является законом капиталистического производства,
является опять-таки необходимым.
Определенный размер заработной платы - всегда
результат борьбы между классом капиталистов и классом наемных
рабочих. А поскольку реальный размер заработной платы не
может быть неопределенным, то капитал предполагает
классовую борьбу, которая в отличие от всех предшествующих
способов производства есть не только «надстроечное» явление, а
экономический закон. Вот почему описание этой борьбы
органически входит у Маркса в корпус теории капитала, где
вообще нет ничего лишнего и все находится на своем месте.
Здесь специфика проявляется в следующем. Если раб и
крепостной крестьянин боролись за свободу, против личной
зависимости, то в условиях капиталистического способа
производства свобода рабочего является условием его рабства. Да
и борется он не за свободу, а за более выгодные условия
продажи своей рабочей силы до тех пор, пока не осознает свои
классовые интересы. И если в условиях докапиталистических
формаций классовая борьба в определенном смысле
аномалия, бунт, восстание, то для капитала - норма, закон. Поэтому
в развитых капиталистических странах экономическая борьба
рабочих, как правило, узаконивается.
Историческое описание классовой борьбы занимает в
«Капитале» значительное место. Специальная глава «Рабочий
день», целиком посвященная этому, заканчивается
характерным выводом: «Мы видим, что если не считать весьма
растяжимых границ рабочего дня, то природа товарного
обмена сама не устанавливает никаких границ для рабочего дня,
а следовательно и для прибавочного труда. Капиталист осу-
212
ществляет свое право покупателя, когда стремится по
возможности удлинить рабочий день и, если возможно, сделать два
рабочих дня из одного. С другой стороны, специфическая
природа продаваемого товара обусловливает предел потребления
его покупателем, и рабочий осуществляет свое право
продавца, когда стремится ограничить рабочий день определенной
нормальной величиной. Следовательно, здесь получается
антиномия, право противопоставляется праву, причем оба они
в равной мере санкционируются законом товарообмена. При
столкновении двух равных прав решает сила. Таким образом,
в истории капиталистического производства нормирование
рабочего дня выступает как борьба за пределы рабочего дня, -
борьба между совокупным капиталистом, т. е. классом
капиталистов, и совокупным рабочим, т. е. рабочим классом»1.
Приведенное положение из «Капитала» в рукописи 1857-
1858 гг. предстает лишь в форме вопроса: «Как же определяется
стоимость того товара, который отчуждает рабочий?»2. Вопрос и
здесь в значительной мере риторический, ибо в указанной
рукописи содержится ответ на вопрос о границах заработной платы,
которую Маркс еще называет «ценой труда»3 и которая является
выражением необходимого рабочего времени4. Это только часть
ответа, хотя уже и она дает в руки Маркса полемическое оружие
против буржуазных экономистов, не отличавших куплю-продажу
рабочей силы от обычного товарообмена, обмена эквивалентов.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 246.
2 Там же, т. 46, ч. I, с. 278.
3 Там же, с. 276.
4 Заработная плата (или «цена труда»), пишет Маркс в рукописи,
«определяется тем овеществленным трудом, который содержится в его
[рабочего. - СМ.] товаре» (Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46. ч. I. с. 278).
Это нижняя граница. Но, с другой стороны, «если бы для того, чтобы
поддержать существование рабочего в течение одного рабочего дня нужен был
целый рабочий день, то капитал не существовал бы, так как рабочий день
обменивался бы на свой собственный продукт и, следовательно, капитал
не мог бы увеличиваться по своей стоимости, а потому и сохраняться как
капитал» (там же, с. 279).
213
«Тот обмен между капиталом и трудом, - пишет Маркс, -
результатом которого является цена труда, хотя и
представляет собой со стороны рабочего простой обмен, со стороны
капиталиста должен быть не обменом. Капиталист должен
получить больше стоимости, чем он отдал. Обмен,
рассматриваемый со стороны капитала, должен быть только кажущимся
обменом, т. е. он должен подпадать под другое экономическое
определение формы, чем определение формы обмена; иначе
были бы невозможны капитал как капитал и труд как труд в
противоположность капиталу. Капитал и труд обменивались
бы лишь как равные меновые стоимости, вещественно
существующие в различных формах бытия»1.
Борьба, которую на протяжении всей истории капитала
вели рабочие, показывает: продажа рабочей силы - не
обычный обмен эквивалентов. При обычной товарной сделке ее
участники могут торговаться, спорить, и хотя не исключено,
что один из партнеров окажется одураченным, спор, как
правило, служит выяснению истинной стоимости товара. Спор
между рабочим и капиталистом может прерываться лишь
временными компромиссами, ибо последний никогда не может
полностью оплатить рабочему стоимости всего его рабочего
дня. Это закон капитала, который непосредственным образом
связан с субъективным фактором, который входит в
определение закона и без него недействителен. А чтобы доказать
действительность такого закона, нет иного выхода, кроме как
описать указанную борьбу.
Продажа рабочей силы по стоимости и получение
прибавочной стоимости - антиномия, являющаяся законом
капитала. И главная ошибка буржуазной политической экономии
заключается в том, что она воспринимала это противоречие как
противоречие в теории. Но такое противоречие разрешается
только путем революционной практики, изменяющей сам
способ общественного производства. Эту практику капитал по-
1 Там же, с. 276-277.
214
рождает и содержит в себе по своей сущности. Следовательно,
описание ее является одновременно доказательством
закономерного и необходимого характера революционного рабочего
движения, обоснование правомерности которого заключается
не в том, что борьба рабочих справедлива вообще, наоборот -
она справедлива, поскольку закономерна и неизбежна.
В отличие от прочих пунктов теории капитала, где
требуется учет субъективного фактора и историческое описание,
последний случай, как можно было уже заметить, обладает
существенной особенностью: он имеет отношение не к
истории первоначального накопления капитала, а ко всей его
истории. Противоречие, возникающее в период первоначального
накопления капитала между тенденцией капитала к
увеличению производительной силы и консерватизмом старых
обстоятельств, разрушить которые призвано капиталистическое
применение машины, разрешается в ходе развития самого
капитализма. Противоречие же между законом стоимости
(рабочая сила покупается по стоимости) и отрицанием этого
закона (получение прибавочной стоимости) принадлежит
самому капиталу и достигает наибольшей остроты в период его
наивысшего развития.
Если принять во внимание последнее, то может
показаться, что описание борьбы между наемным трудом и капиталом
должно начаться в «Капитале», а именно в главе «Рабочий
день», уже при рассмотрении купли и продажи рабочей силы,
так как исторически и логически это первый акт капитала.
Однако поскольку участники названной сделки еще не покинули
сферу обращения и «тайна добывания прибыли»1 еще не
раскрылась, описание исторической эмпирии, на фоне которой
сделка происходит в действительности, могло бы лишь
породить иллюзию: идет обычная при простой купле и продаже
склока. Маркс сознательно ведет рассуждение на уровне двух
абстрактных индивидов. Они, как обычно бывает на товарном
'Там же, с. 187.
215
рынке, сторговались наконец, и каждый получил свое. Лишь
тот факт, что, покидая сферу обращения, по выражению
Маркса, «мы замечаем, что начинают несколько изменяться
физиономии наших dramatis personae [действующих лиц]»1, дает
основание подозревать, что здесь не все обычно.
Но это только, так сказать, завязка драмы. И хотя в
капиталистической действительности она всегда совпадает с основным
действием, объективная логика исследования требует
отвлечения от этой действительности или, иначе, от исторического фона.
В подготовительной рукописи 1857-1858 гг. у Маркса неслучайно
отсутствует описание, подобное тому, которое мы имеем в
главе «Рабочий день» «Капитала». Маркс уже тогда ясно сознавал:
«Необходимо точно развить понятие капитала, так как оно
является основным понятием современной политической экономии,
подобно тому, как сам капитал, - абстрактным отображением
которого служит его понятие, - является основой буржуазного
общества. Из четкого понимания основной предпосылки
[капиталистического] отношения должны выявиться все
противоречия буржуазного производства, так же как и та граница, достигая
которую это отношение гонит буржуазное производство к
выходу за свои собственные пределы»2.
Историческое описание и здесь у Маркса опосредствовано
абстрактной теорией. Только в этой опосредствованности оно
и выступает как элемент логики. Лишь в такой связи история
становится тождественной логике и, наоборот, логика
переходит в свою противоположность - историческое описание.
Фердинанд Лассаль в свое время описал борьбу рабочего
класса за условия продажи своей рабочей силы как «пляску
работника и заработной платы» в рамках верхнего и нижнего
пределов. Эта «пляска, то немного отступающая от этого
предела, то перескакивающая за него, не прекращается никогда»3.
1 Там же.
2 Там же, т. 46, ч. I, с. 288.
3См.: Лассаль Ф. Соч. Т.1, СПб., 1908, с. 69.
216
Эта «пляска», в особенности в последнее время, часто
принимает характер ритуального танца. Но от этого она не
утрачивает свою экономическую подоплёку.
§ 9. Логическое значение описания исторических
преобразований в сфере обращения, произведенных
капиталом
Сфера обращения, внутри и на основе которой
капитал первоначально возник и развился, не является
адекватной капиталу. Например, капитал, в особенности в
отраслях производства с длительным периодом кругооборота, по
своему понятию требует денежных затрат на сырье,
вспомогательные материалы и заработную плату рабочим раньше,
чем может быть реализован произведенный продукт. Это
часть капитала в денежной и товарной форме, не
участвующая непосредственно в процессе производства. «Пока одна
часть, - пишет Маркс, - находится в периоде производства,
другая часть постоянно должна находиться в периоде
обращения. Или, другими словами, одна часть может
функционировать как производительный капитал лишь при том
условии, что другая часть в форме товарного или денежного
капитала извлечена из собственно производства. Упускать
это из виду - значит вообще не замечать значения и роли
денежного капитала»1.
Именно необходимость для капитала постоянно
находиться не только в форме производительного капитала, но и
в форме денег и товара и придает деньгам и товару те
дополнительные свойства, которые превращают деньги в денежный
капитал, а товар - в товарный капитал. А это требует
совершенно новых форм торговли и кредита, которых не знали ни
простое товарно-денежное обращение, ни купеческий и
ростовщический капиталы.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24, с. 300.
217
Перевороты в сфере обращения, как и переворот в
технике и общественной организации процесса труда, совершает
только промышленный капитал. «Другие виды капитала,
которые появились до него в рамках отошедших в прошлое или
гибнущих укладов общественного производства, не только
подчиняются ему и не только претерпевают соответствующие
ему изменения в механизме своих функций, но и движутся
впредь уже лишь на основе промышленного капитала,
следовательно, живут и умирают, стоят и падают вместе с этой своей
основой. Денежный капитал и товарный капитал, поскольку
они со своими функциями выступают наряду с
промышленным капиталом как носители особых отраслей
предпринимательства, суть лишь достигшие самостоятельности вследствие
общественного разделения труда и односторонне развитые
способы существования различных функциональных форм,
которые промышленный капитал то принимает, то
сбрасывает в сфере обращения»1.
Видоизменение роли денег и товара вследствие влияния
промышленного капитала дает ключ к пониманию
исторического преобразования купеческого капитала в торговый
капитал, а ростовщического капитала в капитал, приносящий
проценты, - в банковский капитал. Но по внешней своей форме
купеческий и торговый капитал, ростовщический и
банковский капитал представляют собой одно и то же, что создает
обманчивую видимость прямой исторической
преемственности между тем и другим и, при абстракции от
опосредующего влияния промышленного капитала, делает совершенно
необъяснимыми некоторые исторические факты. Например,
в период раннебуржуазных революций нарождающийся
промышленный капитал выступает против ростовщического
капитала как паразитического непроизводительного
капитала. За одной и той же формой может скрываться
совершенно различное содержание: в одном случае это ссужение денег
1 Там же, с. 65.
218
для покрытия непроизводительных расходов, связанных, как
правило, с непозволительной роскошью и излишествами, во
втором - ссужение денег на производительное потребление. В
последнем случае форма движения Д - Д, без какого бы то ни
было опосредствования «есть лишь иррациональная форма
действительного движения капитала»1.
Но в одном случае за такой формой, «лишенной своего
понятия», как выражается Маркс, скрывается действительный
(промышленный) капитал, в другом - капитал в потенции,
исторически лишь вызревающий. То же самое происходит и с
торговлей. «Первоначально торговля была предпосылкой для
превращения цехового и сельского домашнего ремесла и
феодального земледелия в капиталистические производства»2.
Но как только капиталистическая промышленность встает
на ноги, она сама создает себе рынок, завоевывает его
своими товарами. «Теперь торговля становится слугой
промышленного производства, для которого постоянное расширение
рынка является жизненным условием»3. Торговая прибыль,
которая прежде извлекалась буквально из ничего, теперь
является частью перераспределенной прибавочной стоимости,
произведенной в капиталистической промышленности.
Иррациональность формы торгового капитала получает вполне
рациональное объяснение.
Историческое исследование как в случае с торговым и
денежным капиталом, так и с земельной рентой (ее мы здесь не
касались) необходимо, поскольку во всех этих случаях за
одной и той же формой скрывается весьма различное
историческое и экономическое содержание, хотя различие может быть в
точности определено только в свете понятия капитала.
Капитал, таким образом, создает и воспроизводит в
расширенном масштабе исторические предпосылки своего собс-
1 Там же, т. 25, ч. I, с. 383.
2 Там же, с. 369.
3 Там же.
219
твенного существования. Однако во многом они могут быть
только исторически указаны как нечто имевшееся в
действительной истории. На том и завершается доказательство
исторической необходимости капитала. Ход «разумного
доказательства» (Гегель) вообще сводится к тому, что предпосылки
обосновываются, в отличие от догматического
доказательства, применяемого, в частности, в математике, когда они
принимаются без доказательства и таковыми остаются в пределах
данной науки.
* * *
Итак, круг проблем, который разворачивается как
диалектика логического и исторического и замыкается на
исторический факт, исчерпывается. Но в целом рассматриваемая
диалектика обнаруживает некоторые особенности, которые
проясняются только тогда, когда круг завершается и весь
комплекс проблем, связанных с диалектикой логического и
исторического, предстает перед нами в целом. Вместе с тем всегда
происходит так: когда познание добирается до существенных
определений бытия, оно там, в глубинах бытия, обнаруживает
свои собственные основания и свои собственные
закономерности. Иными словами, не только в познании капитала
мышление движется соответственно тому, как исторически
развивается капитал, но таков характер движения мышления вообще.
Вот что главное. И это требует особого рассмотрения.
§ 10« Конкретный историзм в теоретическом
и историческом творчестве Маркса, Энгельса, Ленина
Когда Михайловский и компания требовали от
марксистов показать им, в какой работе Маркс изложил свое
материалистическое понимание истории, то Ленин ответил
на это: «в каком сочинении Маркс не излагал своего
материалистического понимания истории?»1. Материал истичес-
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 141.
220
кое понимание истории - это прежде всего метод анализа
реальных исторических фактов. Без этих фактов это
понимание может быть представлено только в самой общей форме1.
Конкретное изложение материалистического понимания
истории может быть дано только вместе с материалом, вместе с
фактами. И поэтому главным произведением, в котором такое
изложение дано, является прежде всего «Капитал» Маркса.
Но не только «Капитал». «Маркс, - как отмечал Энгельс, - не
написал ничего, в чем бы эта теория не играла роли. В
особенности великолепным образцом ее применения является «18
брюмера Луи Бонапарта»2.
Тот, кто хотя бы бегло прочитал это гениальное
произведение Маркса, в котором дан анализ характера и
движущих сил бонапартистского переворота во Франции 2 декабря
1851 г., тот мог бы не без основания заметить, что здесь мы
имеем дело с конкретным историческим анализом
конкретных исторических событий, - здесь мы имеем дело с
«историческим способом». Но что сообщает действительную
конкретность этому произведению? На этот вопрос ответ может быть
только один: действительная конкретность этого
произведения состоит вовсе не в том, или, во всяком случае, не только в
том, что здесь речь идет о совершенно конкретных событиях и
фактах. Эти событие и факты были известны отнюдь не
одному только Марксу, они были известны многим, но дать
научное освещение этих фактов смог впервые только Маркс.
Действительную конкретность этому произведению
придают не факты, а метод, - метод, который включает в себя
единство логики и истории. «Конкретно-исторические
объяснения и описания, - как очень точно отмечено в работе
СП. Сайко, - даются в «Восемнадцатое брюмера...» именно
в контексте продолжающей свое развитие теории
политического действия общественных классов, их исторического
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 26.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 396.
221
творчества, тесно связанной с философской, экономической
и другими теориями марксистской общественной науки.
Способ создания этого произведения, по существу, тот же самый,
что и способ создания «Капитала», потому что действовавшая
впоследствии в «Капитале» логика продуцирования
теоретических определении в строгой последовательности и связи
применялась и в «Восемнадцатом брюмера...»1.
Как и в «Капитале», в «Восемнадцатом брюмера...» Маркс
показывает не только необходимый характер исторических
обстоятельств, но также и сам процесс становления этой
необходимости. Он показывает, что государственный
переворот, совершенный Луи Бонапартом, явился необходимым,
неизбежным результатом предшествующего хода событий. Но
это не предзаданная, от века существующая необходимость, а
необходимость, созданная самим предшествующим ходом
событий, выявивших и обостривших такие противоречия
буржуазной парламентской республики, которые могут быть
разрешены только с помощью бонапартизма как особой формы
диктатуры мелкой буржуазии города и парцельного
крестьянства. Эта форма была создана в результате усовершенствования
государственной машины и приспособления ее к тем
условиям, которые характеризовались определенной расстановкой
классовых сил во Франции в середине XIX века.
Историческая необходимость фиксируется здесь как
необходимый ход событий, связанных между собой таким
образом, что предшествующее создает определенную
возможность последующего. «За буржуазной монархией
Луи-Филиппа может следовать только буржуазная республика...»2. В этом
заключается определенная историческая необходимость,
потому что необходим определенный период экономического
и политического развития крестьянства для того, чтобы оно
1 Сайко СП. Диалектика эмпирического и теоретического в
историческом познании, с. 150 - 151.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 126.
222
убедилось в том, что его интересы находятся «не в гармонии
с интересами буржуазии, с капиталом», а в непримиримом
противоречии с ними1. И только тогда, когда крестьяне
находят своего естественного союзника и вождя в городском
пролетариате, последний становится способен ниспровергнуть
буржуазный порядок. До этого всякая попытка захвата власти
пролетариатом обречена на поражение. В этом трагедия
июньского восстания парижского пролетариата: он «имел на своей
стороне только самого себя»2.
Маркс, таким образом, в реальном историческом
движении открывает его собственные законы, он открывает законы
социальной революции. И именно открывает, а не
придумывает, не дедуцирует из некоторой «идеи» общественного
прогресса и т. д. История сама создает формы своего
собственного движения, и до тех пор, пока они не созданы, говорить о
том, каковы они во всей своей конкретности, не приходится.
Поэтому научный коммунизм, опирающийся на понимание
законов исторического развития, чужд всякого
прожектерства и утопизма. «У Маркса, - как писал Ленин, - нет и
капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал
«новое» общество. Нет, он изучает, как естественноистори-
ческий процесс, рождение нового общества из старого,
переходные формы от второго к первому. Он берет фактический
опыт массового пролетарского движения и старается извлечь
из него практические уроки»3.
Ленин, который учился у Маркса революционной
диалектике, в точном соответствии с историческим духом последней
писал, что все своеобразия русской революции сможет учесть
«только история»4. Но это вовсе не означает, что русская
революция была исторически не необходима, - она была и законо-
1 См.: там же, с. 211.
2 См.: там же, с. 126.
3 Левин В.И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 48.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 381.
223
мерна и необходима, но ее закономерность и необходимость
может быть конкретно изображена только в форме,
аналогичной Марксову «Восемнадцатому брюмера...».
Конкретную историческую необходимость нельзя
выразить никакими абстрактными формулами, хотя ее нельзя
выразить так же и без них. Поэтому, как писали Маркс и Энгельс,
абстракции «сами по себе, в отрыве от реальной истории, не
имеют ровно никакой ценности»1, и действительные
трудности «только тогда и начинаются, когда приступают к
рассмотрению и упорядочению материала - относится ли он к
минувшей эпохе или к современности, - когда принимаются за его
действительное изображение»2.
В этом суть материалистического понимания истории, и
поэтому адекватно проявиться и подтвердить себя оно может
только там, где оно служит в качестве метода исторического
творчества и революционного действия. Поэтому можно дать
только «общий очерк марксова понимания истории и, самое
большее, пояснить его некоторыми примерами.
Доказательства истинности этого понимания могут быть заимствованы
только из самой истории...»3.
И Маркс дал это доказательство. Дал его прежде всего
своим «Капиталом», после написания которого
«материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное
положение»4. Это понимание подтвердило свою истинность в
качестве метода для анализа и понимания только одной
общественно-экономической формации, но для подтверждения
истинности метода как метода этого вполне достаточно. Но это
не означает, что материалистическое понимание истории это
истина, перекрывающая собой все прошлые, настоящие и
будущие вариации всемирной истории. «Метод Маркса, - как писал
'См. там же, с. 126.
2 Маркс К., Энгельс. Соч., т. 3, с. 37.
3 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 139-140.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 316.
224
Ленин, - состоит прежде всего в том, чтобы учесть
объективное содержание исторического процесса в данный конкретный
момент, в данной конкретной обстановке, чтобы прежде всего
понять, движение какого класса является главной пружиной
возможного прогресса в этой конкретной обстановке»1.
Метод Маркса дает не готовую истину, истину на все
времена, а истинный путь к истине. Этот творческий и научный
характер марксова метода и находит свое выражение в
единстве логического и исторического, формы которого
многообразны, и «Восемнадцатое брюмера...» Маркса, характер этой
работы, представляет собой одну из таких форм, - это форма
конкретного исторического анализа, форма «исторического
способа», как его иногда называют.
Диалектико-материалистическая концепция
исторической необходимости выражает прежде всего необходимую связь
исторических фактов, а не наперед заданные условия
дальнейшего движения. Условия дальнейшего движения задаются
каждой достигнутой конкретной ступенью исторического
развития, прежде всего развития производительных сил. И
принудительный характер этих условий состоит в том, что каждое
новое поколение «застает в наличии определенный
материальный результат, определенную сумму производительных сил,
исторически создавшееся отношение людей к природе и друг
к другу, застает передаваемую каждому последующему
поколению предшествующим ему поколением массу
производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной
стороны, и видоизменяются новым поколением, но, с другой
стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и
придают ему определенное развитие, особый характер»2.
С этой точки зрения историческая необходимость,
неизбежность социализма заключается не в том, что он
заранее предписан, а потому, что при тех условиях, которые люди
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 57-58.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 34.
225
имеют в качестве производительных сил, развитых
капиталом, другого
ничего быть не может, не может быть, например, сразу
полного коммунизма, потому что последний требует гораздо
более высокой ступени развития материального
производства и, соответственно, сознания, нежели та, которой
способен достичь капитализм. И именно поэтому всякое идеальное
представление о характере будущего социального устройства
в человеческой истории всегда появляется как результат
идеального же отрицания наличного состояния. И социализм,
даже в своей утопической форме, как учение и как реальное
общественное движение возможен поэтому только на почве
уже развившегося буржуазного общества, он исторически
возможен только как анти-капитализм.
Суть учения Маркса и состоит как раз в том, что он ясно
осознает неизбежность гибели капиталистического
состояния общества в силу его собственных противоречий, которые
углубляются и обостряются по мере развития капитализма.
«Коммунизм, - писали Маркс и Энгельс, - для нас не
состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым
должна сообразоваться действительность. Мы называем
коммунизмом действительное движение, которое уничтожает
теперешнее состояние. Условия этого движения порождены
имеющейся теперь налицо предпосылкой»1.
Это не значит, что коммунизм для них не имел никаких
положительных определений. Но каждое положительное
определение было для них только результатом отрицания тех
отрицательных принципов, на которых зиждилось
современное им буржуазное общество и которые толкали его к гибели.
Если, например, основой этого общества была и является
частная собственность на орудия и средства производства, то
положительной основой коммунистического общества должно
быть ее отрицание - общественная собственность. Если час-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 34.
226
тная собственность является основой эксплуатации человека
человеком, то с уничтожением этой основы должна исчезнуть
также эксплуатация человека человеком и т. д. Но в каких
конкретных формах будет существовать общественная
собственность, в каких конкретных формах будет происходить
распределение и потребление, - на эти вопросы Маркс и Энгельс
ответить даже и не пытались. И не пытались сознательно,
потому что они ясно сознавали невозможность дать конкретные
ответы на эти вопросы.
Марксу и Энгельсу было ясно уже по крайней мере в 1846 г.,
что «каждый стремящийся к господству класс, - если даже его
господство обусловливает, как это имеет место у пролетариата,
уничтожение всей старой общественной формы и господства
вообще, - должен прежде всего завоевать себе политическую
власть»1. Это было для них абсолютно ясно, потому что
уничтожить «господство вообще» можно только при помощи
господства, сила может быть опрокинута только силой. Но для них
было совершенно неясно, в какой конкретной форме
пролетариат сможет осуществлять свою политическую власть, свою
диктатуру, потому что эта конкретная форма может быть
создана только самим реальным историческим движением,
только в результате революционного творчества трудящихся масс.
«Не вдаваясь в утопии, - как писал Ленин, - Маркс от опыта
массового движения ждал ответа на вопрос о том, в какие
конкретные формы эта организация пролетариата, как
господствующего класса, станет выливаться, каким именно образом эта
организация будет совмещена с наиболее полным и
последовательным «завоеванием демократии»2. Именно поэтому Маркс
«подвергает в «Гражданской войне во Франции» самому
внимательному анализу» опыт Парижской Коммуны - этой первой
исторической формы диктатуры пролетариата3.
1 Там же, с. 32.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 40.
3 Там же.
227
Пока старое только еще беременно новым, можно с
уверенностью сказать только одно: старое рано или поздно разрешится
от своего бремени, но в какой час и даже в какой день это
произойдет, и будет ли новорожденное дитя мальчиком или девочкой,
с голубыми или с карими глазами, - на этот счет можно только
гадать. Можно вообще фантазировать сколько угодно и по
любому поводу, но надо точно отличать научно обоснованный
прогноз от фантазии, чтобы не выдавать последнюю за первый.
Именно на это была постоянно направлена теоретическая
и практически-политическая деятельность
основоположников и классиков марксизма, они чутко следили за деятельным
процессом созидания истории в ходе революционного
творчества масс, в котором снимается противоречие между
свободой и необходимостью. «Когда изображается этот деятельный
процесс жизни, - писали Маркс и Энгельс, - история
перестает быть собранием мертвых фактов, как у эмпириков, которые
сами еще абстрактны, или же воображаемой деятельностью
воображаемых субъектов, какой она является у идеалистов»1.
Эта деятельность основоположников и классиков
марксизма была направлена, следовательно, с одной стороны, против
субъективизма и произвола, против отрицания объективной
исторической необходимости, с другой - против фатализма,
против метафизического понимания исторической
необходимости как неотвратимого рока. Последнее обязательно
оказывается связанным с объективно-идеалистическим пониманием
истории, как это имеет место у Гегеля. Причем здесь идеализм
приходит в вопиющее противоречие с собственной спецификой
истории. Он смазывает последнюю. И именно поэтому
философия истории Гегеля, как отмечал Ленин, «дает очень и очень
мало - это понятно, ибо именно здесь, именно в этой области,
в этой науке Маркс и Энгельс сделали наибольший шаг вперед.
Здесь Гегель наиболее устарел и антиквирован»2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 25.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 269.
228
Не случайно получилось так, что критика Гегеля
Марксом была направлена в основном против метафизического и
фаталистического понимания Гегелем исторической
необходимости. Гегель, как отмечал Маркс, «нашел лишь
абстрактное, логическое, спекулятивное выражение для движения
такой истории, которая не есть еще действительная история
человека как уже предположенного субъекта, а есть только
акт порождения, история возникновения человека»1.
Можно сказать, что Гегель дошел только до
абстрактного тождества логического и исторического, при котором
выражаются главным образом основные ступени становления
(«образования») индивидуального человека, хотя они и
совпадают с основными ступенями становления «всеобщего духа».
Здесь так же, как при теоретическом изображении
исторического становления капиталистического способа производства,
первоначально фиксируются те абстрактные определения,
которые в значительной мере относятся к становлению
индивидуального капитала, нежели капитала как исторически
определенной общественной формы производства. На этой
ступени анализа, как выражается Маркс, мы еще «не имеем дела
с историческим переходом обращения в капитал»2, а здесь
ухватываются только такие определения, которые
характеризуют «абстрактную сферу буржуазного процесса производства
в целом»3. Хотя в то же время переход индивидуального
капитала из сферы обращения в сферу производства совпадает
с последовательностью ступеней исторического становления
капиталистического способа производства.
Однако здесь отсутствует именно тот деятельный момент
становления капиталистического способа производства,
который «делает его именно историческим процессом, и, вместе
с тем, процессом действительно необходимым. Только в ре-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 155.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 464.
3 Там же.
229
альной деятельности людей, преследующих свои собственные
цели, снимается противоположность между формальной
возможностью и конкретной действительностью. И это делает ее
необходимой.
Гегель абстрагируется как раз от этого деятельного
элемента. Его понимание истории, как отмечал в свое время
Рудольф Гайм, и в данном случае отмечал справедливо,
«представляется пониманием, которое успокаивается, едва достигло,
так сказать, порога деяния»1. Поэтому у Гегеля и получается
неразрешимая антиномия «особого интереса индивидов» и
«всеобщей конечной цели государства»2, а «субъективная
свобода выступает как формальная свобода»3. И именно потому,
хотя можно сказать и наоборот, что «объективная свобода не
представлена у него как осуществление субъективной
свободы, как ее действительное проявление»4, «одна крайность не
носит в себе самой стремление к другой крайности,
потребность в ней или ее предвосхищение»5.
Но самое интересное заключается в том, что именно на
этой почве у Гегеля получается разрыв между «философской
историей» и «историографией в собственном смысле слова».
Всемирная история, по Гегелю, могла бы быть трактована так,
что «она совершенно не касалась индивидуумов и не
упоминала о них, потому что ей надлежит повествовать о деяниях духа
народов; те индивидуальные формы, которые он принимал на
внешней почве действительности, могли бы быть
предоставлены историографии в собственном смысле слова»6.
Для теоретической и историко-литературной
деятельности основоположников и классиков марксизма характерно как
раз обратное: у них «философская», т. е. понимающая история
1 Гайм Р. Гегель и его время, с. 56.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 223.
3Тамже,с. 290.
4 Там же.
5Там же, с.101.
6 Гегель. Соч., т. VIII, с. 64-65.
230
и «историография в собственном смысле» слиты в одно
неразрывное целое. Разделить их можно только в специальном
анализе и только для того, чтобы понять их конкретное
единство, а вовсе не для того, чтобы изложить отдельно то и другое.
Это конкретное единство и есть конкретный историзм
материалистической диалектики, который находит свое
многообразное проявление во всем творчестве и Маркса, и Энгельса
и Ленина. Поэтому для понимания этого историзма и надо
рассматривать все их творчество в целом, и самое трудное в
понимании этого конкретного историзма заключается в
понимании логического характера «историографии в собственном
смысле», что оставил по существу необъясненным Гегель.
231
Глава пятая. Конкретный историзм Маркса
и абстрактный буржуазный историзм
§1. «...Правомерно ли говорить о марксистском
историзме?»
В том, что этот вопрос отнюдь не риторический, а что он
вполне серьезно обсуждается, может убедиться всякий, кто хотя
бы бегло ознакомится с современной зарубежной марксистской
литературой на эту тему. Сам вопрос, вынесенный в название
настоящего параграфа, вовсе не выдуман: он поставлен
известным современным итальянским марксистом Николо Бадальони
в его книге «Марксизм как историзм»1, в связи с обсуждением,
в частности, книги Э.В. Ильенкова «Диалектика абстрактного и
конкретного в «Капитале» Маркса». «Наиболее слабой частью
книги Ильенкова, - пишет Бадальони, - представляется раздел,
посвященный проблематике историзма. Ключом ко всему
комплексу вопросов может быть следующий вопрос: правомерно
ли говорить о марксистском историзме? Еели да, то тогда весь
комплекс критики, направленной Ильенковым в адрес
историзма, рушится, хотя она и направлена против историзма
примитивного, лишенного основных понятийных инструментов,
выработанных марксизмом; если нет, тогда выводы,
вытекающие из того, что результаты исследования Ильенкова являются
сухими и бедными, с большим ущербом оборачиваются против
самого марксизма»2.
1 Badaloni N. Marxismo come storicismo. Milano, 1962.
2 Wspölczesna filozofia wloska. Warszawa, 1977, S. 444-445.
232
В чем тут дело? Имеются ли какие-либо объективные
основания для подобного рода оценки? Причем это оценка только
одной и определенной части книги - части, посвященной
историзму. Другие части, как отмечает сам Бадальони, «содержат
элементы большой проницательности и важности»1.
Бадальони отмечает также, что оценка концепции историзма
Ильенкова со стороны Колетти в его предисловии к итальянскому
изданию работы Ильенкова «Диалектика абстрактного и
конкретного в «Капитале» Маркса» противоположная: он,
наоборот, высоко оценивает именно те части книги, где речь идет об
историзме. В своей работе Бадальони пытается выделить
главные пункты рассуждений Ильенкова об историзме и выделяет
следующие: «1) различение логического метода и метода
исторического, отражением которого является различение
историзма конкретного и историзма абстрактного; 2) конкретным
историзмом для него является тот, который пользуется
дедукцией, включающей в себя, правда, постоянное обращение к
эмпирии; 3) конкретным историзмом является также тот,
который может а priori установить предмет исследований и его
контекст; 4) абстрактным историзмом является тот, который
тонет в великом море фактов, сбиваясь на ложный путь
дурной бесконечности»2.
Прежде всего надо заметить, что различение логического
метода и исторического метода не Ильенкову принадлежит. Эти
два метода различают все. Другое дело, что тот и другой методы
понимаются весьма различно. Мы уже говорили, что одно дело
логический метод Карнапа-Поппера, другое дело - логический
метод в марксизме. Бадальони правильно, хотя и робко,
замечает, что логическая дедукция у Маркса, согласно Ильенкову, не
исключает обращения к эмпирическим фактам.
Иначе говоря, это такая дедукция, которая совпадает с
индукцией, с анализом исторических фактов, а следовательно,
1 Ibidem, S. 448.
2 Ibidem.
233
является не априорной схемой, а выражением действительной
истории. Поэтому не с различением логического способа и
исторического способа совпадает различение конкретного и
абстрактного историзма, а оно проходит по линии единства
логического и исторического: если это единство есть, то есть
конкретный историзм, который может проявляться и в форме
логического способа, и в форме исторического способа, если
же этого единства нет, то мы имеем дело с абстрактным
историзмом, в какой бы форме он ни проявлялся.
Неверно также, и по Ильенкову, и по Марксу, что
конкретный историзм может а priori установить предмет
исследований. Это все было показано в своем месте. И единственно
верным из всех четырех пунктов является тот, что абстрактный
историзм, это историзм, который тонет в море фактов,
сбиваясь на путь дурной бесконечности перечисления
исторических фактов.
Но не факты сами по себе делают историзм абстрактным
или конкретным, а метод анализа и обобщения фактов. Ба-
дальони от этого вопроса, вопроса о методе, абстрагируется,
и у него получается, что там, где есть анализ фактов, там есть
абстрактный историзм. А раз в марксизме есть анализ фактов,
то там есть и абстрактный историзм, а отсюда получается, что
критика Ильенкова, направленная против абстрактного
историзма, оборачивается якобы против марксизма.
Если дальше противопоставления «логического
способа» «историческому способу», и наоборот, не идти, то так
оно и получится, и тогда мы должны будем говорить,
вместе с Бадальони, об «абстрактном марксистском историзме».
«Абстрактный марксистский историзм», - пишет
Бадальони, - основывается... на том, чтобы рассматривать факты в их
эмпирическом проявлении, чтобы в свете принятых
методологических принципов получать из этих фактов определенные
указания и результаты»1.
1 Opus cit., S. 449.
234
Весь вопрос в том, каким в данном случае методом
анализа и обобщения фактов мы пользуемся. Если диалектико-ма-
териалистическим, требующим рассматривать факты в их
собственной связи, то это конкретный историзм. Если же мы
пользуемся таким методом, который рассматривает факты
не в их собственной связи, а эту связь им внешним образом
навязывает, то это будет абстрактный буржуазный историзм.
Точно так же мы будем иметь дело с абстрактным
буржуазным историзмом и в том случае, если попытаемся поставить
факты в связь между собой помимо всякого метода, чисто
хронологически. Ильенков больше говорит об этой последней
форме абстрактного буржуазного историзма и специально не
останавливается на той форме абстрактного историзма, когда
факты искусственно подгоняются под какую-то логическую
схему. В этом его упущение. Но упущение, это не заблуждение.
Упущение можно, и нужно, просто восполнить, но не
допустимо пользоваться им как предлогом для того, чтобы вообще
совершенно снять верную и плодотворную постановку
вопроса о различии между абстрактным буржуазным историзмом и
конкретным историзмом Маркса.
Итак, есть абстрактный буржуазный историзм и есть
конкретный историзм Марксова диалектического метода,
историзм материалистической диалектики. Отличить их
действительно довольно трудно, потому что отличаются они друг
от друга не сами по себе, не в своем «наличном бытии», а по
своему более глубокому основанию, которое
непосредственно в самом «теле» историзма не обнаруживается. Дело в том,
что историзм характеризует материалистическую диалектику
специфически только тогда, когда он сам стоит на почве
материалистической диалектики. А конкретнее это означает, что
историзм материалистической диалектики опирается на
диалектику исторического и логического. Здесь, как во всякой
органической системе, - а материалистическая диалектика и
является таковой, - следствия замыкаются на свои собствен-
235
ные предпосылки. И в этом состоит существенная трудность:
марксистский историзм не представляет собой определённого
«раздела» в составе материалистической диалектики: он и её
предпосылка и её следствие, им начинается
материалистическая диалектика и им она кончается. Он пронизывает её от её
начала до её конца, как и наоборот - сам историзм
материалистической диалектики от начала и до конца пронизан
диалектикой.
Соответственно, абстрактный буржуазный историзм -
это историзм, в основании которого нет единства логического
и исторического, у которого вообще нет никакого прочного
основания. Поэтому он выражается в двух крайностях:
абстрактном логизировании по поводу истории, чисто внешнем
схематизме, подминающем под себя исторические факты, и в
простом описании исторического факта без его
действительного понимания, т. е. в историческом эмпиризме. В позитивизме,
например, обе эти крайности соседствуют рядом, совершенно
не соединяясь друг с другом как масло и вода.
В этом и заключается определённая трудность, которая
помешала очевидно, Бадальони правильно понять
действительный характер конкретного историзма Маркса и двоякую
направленность критики буржуазного историзма у
Ильенкова. В соответствии с обыденным и очень распространенным
представлением об абстрактном вообще абстрактный
историзм представляется обязательно чем-то противоположным
историческому факту, истории в её внешнем эмпирическом
проявлении. Это вовсе не обязательно. Любой факт, в том
числе и исторический, может быть совершенно абстрактным,
если он мыслится (вернее: представляется) вне связи с
другими фактами, связи, которая выявляется только в теории, в
логике. Поэтому Маркс и говорит о вульгарных экономистах
Бастиа и Кэри, что они «оба одинаково неисторичны и
антиисторичны»1, хотя они и представляют собой в определённом
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 9.
236
смысле противоположности. «Всеобщность у Кэри, - пишет
Маркс, - это универсализм янки. Ему одинаково близки
Франция и Китай. Во всех случаях он выступает как человек,
живущий у берегов Тихого и Атлантического океанов. Всеобщность
у Бастиа - это игнорирование - всех стран»1.
Буржуазная методологическая мысль не может
совместить логику и историю, для неё одно все время исключает
другое. И эта неспособность проявляется иногда и у некоторых
марксистов. Так, например, небезызвестный Н. Бухарин в своё
время писал: «Одно дело, когда говорят, что политическая
экономия должна быть исторической наукой и при этом
понимают, что она оперирует категориями известного, исторически
ограниченного строя, капиталистического строя... [и] совсем
другое дело «историческое» понимание в том, что, по-моему,
на самом деле является «не историческим», поскольку оно
годно для всех времен, для всех народов и все изучает. Это - не
историческая наука. Маркс... говорил сикофантам: «Вы -
мошенники, вы переносите одну теорию решительно на все
эпохи, все народы. Вас надо разоблачить»2.
Звучит это довольно убедительно. И Маркс действительно
считал, что тайна буржуазной политической экономии
состоит «попросту в превращении преходящих общественных
отношений, свойственных определённой исторической эпохе и
соответствующих данному уровню материального
производства, в вечные, всеобщие, незыблемые законы, в естественные
законы, как их называют экономисты»3.
Но Маркс называет неисторическим такое понимание
преходящих общественных отношений, когда они трактуются
как вечные и «естественные», то есть присущие человеческой
«природе». То есть когда историческое, социальное, что то же
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 9.
2 Цит. По: Маневич В.Е. Проблемы методологии политической
экономии в советской литературе 20-х годов. М., 1970, с. 79.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 9, с. 257.
237
самое, отождествляется с естественно-природным. Вместе с
тем историзм Маркса не исключает в истории общего,
закономерного, субстанциального. «История, - как отмечал М.А.
Лифшиц, - не исключает систему, она не сводится к
релятивизму множества чуждых друг друга культур, которые,
подобно монадам, окон не имеют»1.
Общее и субстанциальное в истории, согласно марксизму,
принадлежит самой истории, а не природе, как это особенно
проявляется в современном структурализме, о чём ещё
предстоит особый разговор. В этом смысле оно тоже историческое.
И великая заслуга Гегеля состояла как раз в том, что у него
впервые субстанциальное, исторически непреходящее, и его
конкретные исторические, преходящие формы проявления
выступили в тесном органическом единстве. И абстрактный характер
гегелевского историзма проявляется как раз в отступлении от
этого единства, которое было обусловлено в конечном счёте
его исходным идеалистическим принципом, согласно которому
субстанция истории предшествует самой истории.
Марксизм не отбрасывает субстанциальной точки зрения
на историю. Он изменяет только содержание субстанции
истории: его составляет не деятельность Абсолютной идеи, как
это было у Гегеля, а деятельность людей, преследующих свои
цели. Этот историзм требует отыскания именно
субстанциального общего, пронизывающего собой историческое
содержание, а не просто одинаковости, схожести, абстрактности
общего, к чему свелась проблема обобщения в исторической
науке у неокантианцев, у которых поэтому мы и находим один
из характерных образчиков абстрактного буржуазного
историзма, на котором как на модели можно чётко проследить
связь этой формы абстрактного буржуазного историзма с
абстрактным метафизическим пониманием метода обобщения.
И потому на этой форме буржуазного историзма мы коротко
остановимся.
1 Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. М., 1980, с. 39.
238
§ 2. «Историзм» неокантианцев
Мы коснемся в основном только одного представителя
этой школы - Генриха Риккерта, давшего наиболее
характерный образец метафизического противопоставления
логического и исторического. Риккерт отправляется
непосредственно от действительной историографической практики.
Если наблюдать эту практику, отмечает Риккерт, то нельзя не
заметить, прежде всего, просто факта существования в
формальном отношении иного научного метода помимо
«естественнонаучного». «Если факт этот не умещается в
традиционную логику, то тем хуже для логики»1.
Действительно, факт существования иного, - кроме
«естественнонаучного», на языке Риккерта, а по сути
рассудочного, - метода, не умещается в традиционную логику
потому, что она по сути своей рассудочная логика. Для того
чтобы вместить этот факт в существующую логику, границы
её должны быть существенно раздвинуты, раздвинуты в том
направлении, чтобы помимо традиционной «генерализации»
такая логика допускала бы также противоположную
логическую операцию - спецификацию или, на языке Риккерта,
«индивидуализацию». Причем эти противоположно
направленные «методы» необходимо довести до полного тождества,
и только тогда могут стать понятными логический смысл и
научная ценность «индивидуализации», то есть установления и
описания случайного и неповторимого исторического факта.
Но для этого надо было сознательно встать на путь
диалектики, гениальные зачатки которой в учении Канта новыми
кантианцами не только не были развиты, но начисто вытравлены.
Поэтому Риккерт с самого начала ставит неразрешимую для
него задачу.
В работах Риккерта, - и это вполне понятно, - большое
место занимают рассуждения о соотношении всеобщего и
1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911, с. 90.
239
особенного. И здесь он остается целиком и полностью в
плену метафизических представлений, согласно которым между
всеобщим и особенным существует непроходимая пропасть.
Действительность, согласно Риккерту, иррациональна и гете-
рогенна. Она может стать рациональной «только благодаря
абстрактному (begrifflich) разделению разнородности и
непрерывности»1. В том виде, «как она существует на деле, она
не входит ни в одно понятие»2. Понятие, считает Риккерт,
всегда огрубляет действительность, а понятия математики не
имеют, или почти не имеют, с ней ничего общего. Различие
между понятием и представлением у Риккерта размывается,
понятие у него это только формальная сторона знания, это
только безразличная к своему содержанию форма
всеобщности. «В учении о естествознании, - как отмечал В.Ф. Асмус,
- Риккерт выдерживает формально методологическую точку
зрения потому, что её последовательное проведение выгодно
подчеркивает гносеологические границы природоведения, его
неадекватность, удаленность от подлинной действительности.
Иными словами, в логике естествознания формально
методологическая точка зрения демонстрирует недостаточность и
несовершенство естественнонаучного познания»3.
С формальной стороны понятие действительно всегда
является общим, абстрактным, но его всеобщая форма
настолько безразлична для существа дела, что мы часто употребляем
как совершенно равнозначные такие, например, выражения,
как «во всяком треугольнике сумма внутренних углов равна
180 градусам» и «в треугольнике сумма внутренних углов
равна 180 градусам», как «все люди смерты» и « человек смертен».
Абстрактную множественность однако, действительно
совершенно безразличную к особенной (одна ложка из столового
сервиза говорит о «существе» этой ложки ровно столько же,
1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре, с. 68.
2 Там же, с. 70.
3 Асмус В.Ф. Избранные философские труды, т. II, с. 369.
240
сколько весь комплект), часто смешивают со всеобщностью,
которая не только не является чем-то иным и
противоположным по отношению к особенному, а по существу оно
совпадает с особенным.
Как отмечает Асмус, Риккерту выгодно подчёркивать
именно формальную сторону, ибо именно благодаря этому
ему удается разорвать и противопоставить интерес к
индивидуальному интересу к общему. А так как «противоположность
«исторического» и естественнонаучного не может относиться
к реальной противоположности наук, то, в сущности
говоря, весь смысл утомительно длинных рассуждений Риккерта
сводится к пустейшей и бессодержательнейшей тавтологии, к
формальнологическому повторению той мысли, что интерес к
общему не есть интерес к индивидуальному, и наоборот»1.
Даже сам Риккерт, замечает далее Асмус, чувствует
тривиальность своей точки зрения. «Если мы говорим, -
признается он, что все частное, т. е. воззрительное и
индивидуальное непонятно в смысле естествознания, то этим мы,
собственно, выражаем не что иное, как то, что общее не есть
«частное»«2.
Не усматривая никакого органического перехода
«частного» во всеобщее, и наоборот, но однако поставив себе целью
как-то оправдать научный смысл исторической науки,
Риккерт апеллирует к «ценностям», моральным, политическим,
эстетическим и т. д., которые придают смысл познанию
индивидуального, особенного и неповторимого. Но поскольку
ценности относительны и не являются, по Риккерту, выражением
свойств объективного мира, а, как и у его учителя Канта,
заключены в самой человеческой природе, то и история у него
лишается важнейшего атрибута научности - объективности.
В общем, науки истории у Риккерта так и не получается.
Искусственность противопоставления естествознания
1 Там же.
2 Там же.
241
истории у неокантианцев отмечал уже первый их
марксистский критик Г.В. Плеханов. «Дело в том, - писал он, - что
между естественными науками есть такие, которые отнюдь
не переставая быть естественными* являются в то же время
историческими. Такова, например, геология. Особый предмет,
которым занимается эта наука, вовсе не есть для неё «только
экземпляр». Нет. Геология изучает именно историю земли, а
не какого-нибудь другого небесного тела, как история России
изучает историю нашего отечества, а не какой-нибудь другой
страны. История земли «индивидуализирует» ничуть не
меньше, чем история России, Франции и т. п.»1.
Все это верно. И «индивидуализирует» не только
геология. Ботаника тоже «индивидуализирует», описывая какое-
нибудь растение. Но в истории всё-таки интерес к
индивидуальному и неповторимому имеет особый смысл, логический
характер которого не смог объяснить Плеханов. Его критика
неокантианского противопоставления «наук о природе»
«наукам о культуре» поэтому осталась половинчатой, не полной,
не окончательной. И это связано с серьезными пробелами в
его диалектическом образовании, что отмечал Ленин в своих
«Философских тетрадях».
Критика противопоставления истории теории часто и в
наше время идет в направлении указания на
«промежуточные области» между тем и другим. Дело не в существовании
этих областей, а в диалектическом единстве истории и теории,
основанном на единстве, тождестве всеобщего и особенного.
Для того, чтобы это единство выявить, надо не смазывать
различие между историей и теорией, между логическим и
историческим, а наоборот - заострять «притупившиеся различия»
до противоположности, до противоречия, чтобы сделать их
подвижными, переходящими друг в друга и т. д.
Риккерт вырывает непроходимую пропасть между «на-
1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. III. М., 1957,
с. 514.
242
уками о природе» и «науками о культуре» не потому, что он
не видит, или не хочет видеть «промежуточных областей», а
потому, что он вырывает непроходимую пропасть между
всеобщим и особенным. Если мы здесь не сможем объяснить
необходимую и закономерную связь между тем и другим, то уже
ничто нас спасти не может, и рассуждения Риккерта в общем
останутся в силе.
Все дело, таким образом, в методе обобщения. Риккерт
знает только один метод обобщения, который он называет
«естественнонаучным». Но и в естественных науках
обобщение вовсе не сводится к нахождению некоторого усредненно-
общего для массы случаев. Это только та форма обобщения,
которая схватывается формальной логикой. «Для формальной
логики, - писал в этой связи Л.С. Выготский, - понятие есть
совокупность признаков, выделенных из ряда и подчеркнутых
в их совпадающих моментах. Например, если мы возьмем
самые простые понятия: Наполеон, француз, европеец, человек,
животное, существо и т. п., - мы получим ряд понятий все
более и более общих, но все более и более бедных по количеству
конкретных признаков. Понятие «Наполеон» бесконечно
богаче конкретным содержанием. Понятие «француз» уже гораздо
более бедно: не все то, что относится к Наполеону, относится
к французу. Понятие «человек» ещё беднее. И т. д. Формальная
логика рассматривала понятие как совокупность признаков
отдаленного от группы предмета, совокупность общих
признаков. Отсюда понятие возникало в результате омертвления
наших знаний о предмете. Диалектическая логика показала,
что понятие не является той формальной схемой,
совокупностью признаков, отвлечённых от предмета, оно дает гораздо
более богатое и полное знание предмета»1.
За счёт чего же получается это более богатое знание
предмета в понятии согласно диалектической логике? За счет
связей, за счет тех опосредствовании, которые выявляются при
1 Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. I. М., 1982, с. 120-121.
243
диалектическом обобщении и которые утрачиваются при
формальном обобщении. Выготский приводит удачный
пример конкретного диалектического обобщения, который
представляет собой совершеннейшую параллель с диалектико-
материалистическим обобщением истории. Поэтому на нем
стоит задержать свое внимание.
«Сравним, - пишет он, - непосредственный образ какой-
нибудь девятки, например фигуры в картах, и цифры 9.
Карточная девятка богаче и конкретнее, чем наше понятие «9»,
но понятие «9» содержит в себе целый ряд таких суждений,
которых нет в карточной девятке; «9» не делится на чётные
цифры, делится на 3, оно есть З2, основание квадрата 81; мы
связываем «9» с целым числовым рядом и т. д. Отсюда
понятно, что если процесс образования понятия с психологической
стороны заключается в открытии связей данного предмета с
рядом других, в нахождении реального целого, то в развитом
понятии мы находим всю совокупность его отношений, если
можно так сказать, его место в мире. «9» - это определённый
пункт во всей теории чисел с возможностью бесконечного
движения и бесконечного сочетания, всегда подчиненных
общему закону»1.
Понятие числа «9» неотделимо от понятия числа вообще,
от понятия натурального ряда, от понятия счётного
множества и всех тех арифметических операций, в которых оно может
участвовать. И именно в этом состоит понятие, которое
связано прежде всего с пониманием данного предмета, явления и т. д.
среди других предметов и явлений, его места во всеобщей
взаимосвязи явлений определённого класса. А усредненное и
обеднённое нечто - это всего лишь некоторое общее представление,
которое, правда, образует необходимую почву для развития
понятия, но последнее никогда только к этому не сводится.
Точно так же обстоит дело и с «Наполеоном». Богатство
этого понятия состоит непосредственно не в том, что это
1 Там же.
244
конкретный человек, яркая индивидуальность,
талантливый полководец, корсиканец и т. д. А оно состоит в том, что
эта конкретная личность находится в конкретной
неразрывной связи с событиями Великой французской революции.
И именно эта связь и опосредствование делают Наполеона
конкретной исторической личностью, и конкретным
понятием. В этом смысле сам термин «понятие» становится
вполне применимым и к единичному, тогда как с точки зрения
формалистического понятия, понятия, которого держатся и
неокантианцы и позитивисты, это нонсенс, «единичное
понятие». Но бывают случаи, - и это прежде всего связано с
исторической «материей» - когда существенное как раз
безнадёжно утрачивается, как только мы абстрагируемся от
индивидуального, особенного. Представьте себе, что мы
абстрагировались от всего индивидуального и исключительного
в личности Наполеона и оставили в нем всего лишь
«француза» или даже «генерала французской революционной
армии». Ни в какую конкретную связь с событиями
французской революции в таком случае мы его уже не поставили, а
тем самым и в необходимую историческую связь.
Если конкретное понятие вообще мы имеем благодаря
единству всеобщего и особенного, как это и имеет место в
естествознании, то в случае истории конкретное понятие есть не
просто единство особенного и всеобщего, а оно есть единство
всеобщего и единичного, индивидуального, неповторимого. В
этом и состоит разница между «науками о природе» и
«науками о духе». Какой-то принципиальной разницы здесь нет, хотя
и есть существенное отличие истории от естествознания, от
всякой формальной теории и т. д. И это специфическое
отличие исторической науки сближает её с искусством. Там тоже
имеет место неразрывное единство всеобщего и
индивидуального, неповторимого, уникального. Причем характер этого
единства таков, что чем более уникально произведение, чем
более оно ярко, неповторимо и т. д., тем полнее оно воплощает
245
в себе всеобщие человеческие качества, всеобщие
человеческие идеалы и т. д. Существенная разница состоит только в том,
что в истории эта связь опосредствованная связь, а в
искусстве она предстает как непосредственная. «Человеческие образы
старых реалистов, - отмечал в этой связи Георг Лукач, -
непосредственно представляли могучие силы, решающие тенденции
и противоречия буржуазной революции. Их индивидуальные
страсти были непосредственно связаны с проблемами этой
революции. Такие образы, как Вертер у Гете или Жульен Сорель
у Стендаля, очень ясно обнаруживают связь между личными
страстями и общественной необходимостью, они показывают
общественное значение именно этих индивидуальных
страстей, как формы выражения общественных тенденций»1.
Разница в том, что образы искусства вымышленные, тогда
как историческая наука имеет дело с реальными историческими
лицами и событиями. Но вымышленные образы искусства
являются вполне реалистическими образами именно потому» что они
часто схватывают действительную общественную потребность и
действительную общественную необходимость гораздо глубже и
полнее, нежели они проявляют себя в действительности.
Искусство стилизует и подправляет действительность, но благодаря
этому схватывает её существенные и необходимые черты.
Историку тоже, видимо, совершенно необходимо то чувство, благодаря
которому непосредственно схватывается единство единичного и
всеобщего, когда в единичном факте непосредственно
усматривается всеобщая и необходимая историческая тенденция.
Историческая наука не может на этом остановиться, она должна
далее, в деталях, проанализировать эту связь. Но если она не будет с
самого начала схвачена непосредственно, то она вообще не будет
усмотрена и проанализирована.
В неокантианстве только лишь наиболее ярко отразилась
несостоятельность всякой попытки выявить специфику
исторической науки с помощью метафизически понятых катего-
1 Лукач Г. К истории реализма. М, 1939, с. 296.
246
рий всеобщего и отдельного, которые сами по себе ни Риккер-
том, ни кем-либо из неокантианцев, ни кем-либо вообще из
представителей послегегелевской буржуазной философии, не
подвергались критическому анализу. Не подвергалась
критике сама логико-методологическая основа науки вообще, в том
числе и исторической, и это главное.
Так, например, Артур Шопенгауэр одним ив первых в
понимании всеобщего и отдельного поворачивает от
гегелевского диалектического понимания этих категорий к старому
формально-логическому и метафизическому. Расположив все
науки по степени общности их предмета в известную
пирамиду, над которой «парит философия», он заявляет: «Только одна
история не имеет права вступать в этот ряд наук, ибо она не
может похвалиться теми же достоинствами, что другие: в ней
отсутствует основной признак науки, - субординация
познанных фактов; вместо этого она предлагает их простую
координацию. Поэтому не существует никакой системы истории,
хотя есть системы всех других наук1«.
История для Шопенгауэра просто не наука, ибо она не
«генерализует», не обобщает. Что же понимает под
обобщением Шопенгауэр? В соответствии с формальной традицией в
логике, которой он целиком и полностью придерживался, это
подведение многого под одно «понятие», а не подведение одного
под многое, без чего нет действительного конкретного понятия,
которого Шопенгауэр не знал. А поскольку Шопенгауэр видит
только одну сторону понятия, его форму всеобщности без
содержания, то он, - и в этом он опять-таки последователен, - очень
низко ценит такого рода «понятийное» знание. Понятие,
считает он, - это только очень несовершенный вид деятельности
представления. Представление у него оказывается основной и
высшей формой познавательной деятельности. «Что такое
познание? - Прежде всего и главным образом - представление»2.
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. И. М., 1901, с. 452.
2 Там же, с. 457.
247
Не найдя других аргументов против истории как науки,
Шопенгауэр разражается в заключение в адрес адептов
историзма потоком брани: «Все эти философы истории и её поклонники
на самом деле, - ограниченные реалисты к тому же оптимисты
и эвдемонисты; они - пошляки и прирождённые филистеры и
вдобавок, собственно говоря, плохие христиане»1.
Мы видим, что историзм и антиисторизм, конкретный
историзм Маркса и абстрактный буржуазный историзм
различаются вовсе не по линии обобщения как такового
исторических фактов как таковых. Вся проблема упирается в метод
обобщения. Что мы понимаем под общим? Схожесть,
одинаковость, повторяемость и т. д., одним словом абстрактное
общее? Или субстанциональное общее, всеобщую взаимосвязь?
Для исторического обобщения, или для обобщения в
исторической науке, это различие имеет самое решающее
значение: если мы понимаем под обобщением только
отыскание одинакового, то такое понимание неизбежно приходит в
противоречие со спецификой исторической науки, связанной
с описанием индивидуального и неповторимого, если же мы
под обобщением понимаем отыскание внутренней, а не
просто абстрактно хронологической связи фактов, то такое
обобщение вполне соответствует специфике истории, - факты как
раз и связываются, а тем самым обобщаются именно
благодаря их индивидуальности.2 Образ Наполеона только потому
1 Там же.
2 В.И. Ленин всегда подчеркивал, что суть и сила марксизма не в
«общих» законах истории, а в понимании исторического своеобразия. Как
совершенно справедливо подчеркивает известный французский марксист
Г. Бесс «если марксизм является для Ленина наукой, то именно потому, что
позволяет глубоко понимать действительность, которая меняется,
историю, которая никогда не повторяется» (Bess G. Dialektyka I revolucja // Stu-
dia filosoficzne. 1977. № 7-8, S. 13).
«...Подменять конкретное абстрактным, - писал Ленин, - один из
самых главных грехов в революции» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 34,
с. 17).
248
и «вписывается» в связь событий Великой французской
революции, что это образ выдающегося полководца, а не среднего
генерала, каких всегда и везде было много. Вот этого до сих
пор часто не понимают профессиональные историки, и даже
тогда, когда они практически пользуются именно тем
способом обобщения, который имманентен исторической науке.
Если же обратиться к специальной методологической
литературе, где речь идет о методологии исторического
исследования, то и там не встретишь различия между двумя видами
обобщения, формальным и диалектическим, хотя за всеми
рассуждениями об обобщении и его необходимости часто
явно или неявно сквозит именно формальное понимание
обобщения.
Поэтому в этой литературе «обобщение» и «факт» все
время расходятся по разным полюсам и не сливаются в одно
и то же. Так, например, М.А. Барг пишет: «От историографии
справедливо требуют изучения процесса развития общества
«во всей его конкретности и многообразии». Но что же
имеется в виду под словом «конкретность»? «Факт в его
единичности и уникальности или «факт» в его всеобщности и
повторяемости, «факт» на уровне его видимости (т. е. на уровне
обеденного сознания). Или на уровне скрытой за видимостью
сущности?»1
Почему «факт» должен обязательно исключать
«всеобщее»? Он исключает лишь формальное всеобщее, но не
исключает конкретного всеобщего, с которым он может и должен
совпадать. И всеобщее вовсе не обязательно повторяющееся.
Великая Октябрьская социалистическая революция никогда
не повторится. Но она дает начало, общее начало целой серии
1 «Научность истории заключается не в отрицании
индивидуального и неповторимого, а в использовании такого научного метода, который
позволяет понять всеобщее значение индивидуального и неповторимого»
(Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М, 1984, с. 8.). Вот это
слова не мальчика, а академика!
249
социалистических революций, она открывает целую эпоху
крушения капитализма и становления капитализма. И в этом
ее всемирно-историческое значение. Вот вам и
непосредственное совпадение уникального и неповторимого с всеобщим и
субстанциальным. И в своей практике историки это
совпадение как правило реализуют. Но как только они становятся в
позу методологов, так у них тотчас же разваливается единство
«факта» и «всеобщего». Это касается также и работы
Иванова Г.М., Коршунова А.М. и Петрова Ю.В. «Методологические
проблемы исторического познания» (М., 1981), и работы Мер-
цалова А.И. «В поисках исторической истины» (М., 1984), и
коллективной работы «Методологические и философские
проблемы истории» (Новосибирск, 1983), и работы
Дьякова В.А. «Методология истории в прошлом и настоящем» (М.,
1974), и работы Жукова Е.М. «Очерки методологии истории»
(М., 1980), и работы Афанасьева Ю.Н. «Историзм против
эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в
современной буржуазной историографии» (М., 1980).
Основной недостаток этих работ состоит как раз в том,
что в них проблемы методологии исторического
исследования отрываются от проблем методологии социального
исследования, от методологии «Капитала», тогда как это одна
и та же методология, единство которой как раз и
обеспечивается единством логического и исторического. Но забвение
этой методологии ни к чему хорошему привести не может.
А поскольку свято место пусто не бывает, то
методологическую пустоту иногда пытаются заполнить заимствованиями
из современной буржуазной методологии, прежде всего
методологии позитивизма и структурализма. Так, например,
Ю.Н. Афанасьев, обсуждая тему «историзм и
структурализм», не обнаруживает никакого антагонизма между
структурализмом и конкретным историзмом, а только не устает
повторять, что это проблема «сложная», что в ней надо ещё
разбираться и т. д.
250
Понятно, что это проблема сложная, - это можно в общем
сказать про любую проблему, - но если относительно какой-то
проблемы нельзя сказать ничего определённого, то,
спрашивается, зачем вообще об этом говорить... Учитывая не только
сложность, но и запутанность проблемы соотношения
структурализма и историзма, остановимся и мы специально на этой
проблеме, имея в виду, что структурализм - это одна из
характерных форм современного абстрактного историзма. Вопрос
заключается в том, каков критерий отбора фактов историком.
Ведь перед историком море фактов. Но одни он почему-то
подробно описывает, а другие попросту игнорирует. И
неокантианцы заявляют: историк отбирает те факты, которые для него
ценны в каком-то отношении. Кантовские априорные формы
превращаются в «вечные ценности» в качестве той
абсолютной призмы, через которую мы рассматриваем не столько мир,
сколько самих себя.
§ 3. «Ценности» и проблема историзма: критика
аксиологии
Ценности - все то, что мы ценим. Другого определения
в общем дать невозможно. Но в таком виде оно очень
широкое и абстрактное. Вместе с тем перед нами такая абстракция,
которая неспособна к развитию, как неспособна к развитию
абстракция «бытие». У элеатов Бытие оказалось застывшим
и неподвижным, потому что они отрицали Небытие: только
эти противоположности вместе могли дать начало развитию.
У «ценности» такой противоположности нет, но она скрывает
внутри себя эту противоположность. И ее легко обнаружить,
если мы заметим, что мы ценим не только разнообразные
вещи, но и противоположные. Например, мы ценим и любовь,
и брауншвейгскую колбаску. А иногда то и другое, хотя
соединить эти вещи трудно. Почему? Да просто потому, что это
противоположные вещи. И в нормальном случае человек отнесет
251
первое к духовным ценностям, а второе - к материальным. В
более общем выражении это противоположность между
идеальным и материальным.
В самом понятии «ценность» этой противоположности не
видно, она скрыта и перекрыта этим абстрактным понятием.
«Ценность» - ни то, ни сё. Мы называем «ребёнком» и
маленькую девочку, и маленького мальчика. Но «ребенок» - ни то и
ни это. Если я скажу: у меня есть ребенок, то меня, в свою
очередь, спросят: у вас девочка, или мальчик. Вот и тогда, когда
нам говорят про «ценности», мы вправе спросить: а какие
ценности вы имеете в виду, духовные или материальные. Иначе
никакой конкретный разговор невозможен.
Словечко «ценность» блокирует противоречие идеального и
материального, помещает его в «карантин». Помещение
противоречий в «карантин» как способ их «разрешения» был предложен
постпозитивистом Имре Лакатосом. Что касается аксиологии, то
она применила этот «метод», так сказать, до его появления.
Понятно, что это не является действительным методом разрешения
противоречий, а это метод лишь их «запечатывания».
Другой «метод» состоит в том, что в качестве
действительной утверждается лишь одна «половинка» противоречия.
И если в идеализме от Платона до Гегеля действительно было
только идеальное, то нынешний «вульгарный» материализм
стоит на том, что действительно только материальное.
Последнее время мы часто слышим, что «мысль материальна». Об
этом уверенно заявляют и ученые, и телеведущие, и
продавщицы в магазинах: они откуда-то это узнали, и эта «мысль» им
понравилась. Подобное с точки зрения «философии
повседневности» понятно: нынешний обыватель разочарован во
всяких идеалах, ни во что идеальное он уже не верит. Но во что-то
верить надо, вот он и верит в материальное. Только то, во что
он верит, материя очень «тонкая», эдакая «нана-материя».
Характерное свойство абстрактных понятий в том и
состоит, что они скрывают от нас существенные различия. Поэ-
252
тому, согласно классической диалектической методологии, надо
двигаться к конкретному. Гегель от абстрактных понятий
«бытия» и «небытия» переходит к первому конкретному понятию
«становление». Маркс от абстрактного понятия «товар»
переходит к первому конкретному понятию «товар рабочая сила». И
только так можно развить какое-то научное содержание.
«Все философы, - писал Маркс, - делали из самих
предикатов субъекты»1. Вот и «ценность» превратилась из
предиката в субъект. Мы говорим: любовь для человека ценна.
«Философы» говорят: ценность - это любовь. Вот мы и образовали
абстракцию «ценность». Но из «любви» мы можем вывести,
почему она ценна для нас, к примеру, она нас объединяет. А
вот из абстракции «ценность» смысла любви вы никогда не
выведете, как не выведете вы из абстрактного понятия «плод»
своеобразный вкус груши. Вы можете подвести любовь под
понятие «ценность». Но вывести из нее ничего невозможно.
Поэтому невозможна наука о «ценностях». Не бывает науки
об абстрактному как не бывает абстрактной истины. Истина,
по словам Гегеля, всегда конкретна, а значит всякая наука как
наука бывает только о конкретном.
Многие, в том числе и образованные люди, думают, что
абстракция - это атрибут научности. А у философской
публики вообще выходит, что чем абстрактнее, тем лучше. Но
абстракции в научном познании необходимое, и, тем не менее,
только условие движения к конкретному. Ученый мыслит
конкретно, тогда как абстрактно мыслит обыватель, торговка на
базаре, как это показал Гегель в известной статье,
переведенной на русский язык Э.В. Ильенковым. Именно обывательское
мышление застревает на абстракциях. Кто сейчас не любит
порассуждать о «ценностях», о «менталитете», об
«информации», о «мировоззрении». Это легко и просто, потому что
имеют дело с абстракциями, ни о чем конкретном не говорящими.
В одном случае эти понятия перекочевывают из науки в обы-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. I. М.: Госполитиздат, 1938, с. 461.
253
денный язык, как это случилось с понятием информации. В
другом их пытаются из обыденного языка перетащить в науку,
как это происходит с понятием «ценность». И в каждом случае
они теряют свою конкретную определенность.
Вот, вроде бы, А.К. Абишева подходит к этому
различению. «В XX веке, - пишет она, - появилось научное
направление под названием аксиология - наука о ценностях. Однако в
понимании ценностей существует разнобой. Если Ницше,
неокантианцы, Шпенглер и Ясперс под идеей эпохи имели в виду
нечто пронизывающее собой всю духовную и бытийную
сферу жизни эпохи, народа, культуры, то в науке аксиологии
часто превалирует чисто эмпирическая констатация всего того,
что нужно человеку, в чем он имеет потребность в качестве
ценностей. В таком представлении в мире человеческой
жизни нет ничего, что не было бы ценностью. Все предметы,
которыми пользуется человек, составляют ценности. Точно также
все институты, знания, традиции, формы мышления, нормы,
регулирующие поступки индивида и т. д. все суть ценности»1.
Всё значит ничто. Самое общее понятие, скажем, понятие
бытия, т. е. всего, что есть на свете, оказывается самым пустым.
И это по закону логики об обратном соотношении объема и
содержания понятия: чем шире объем, тем беднее содержание.
Но посмотрим, что пишет Абишева в продолжение
сказанного: «В таком случае ценности являются всего навсего другими
названиями всех явлений человеческого мира и с ними
производится всего лишь перерегистрация. Этим не открывается
никакое новое содержание и новый аспект реальности»2.
Мы бы сказали не то, что не открывается, а наоборот,
таким образом закрывается то, что было открыто ранее. Маркс
назвал вульгарного экономиста Мак-Куллоха «невероятным
штопальщиком». Вот и философы после великих немцев Канта,
1 Абишева А.К. Проблема ценностного смысла в философии и
психоанализ. Алматы, 2002, с. 36-37.
2 Там же,с.37.
254
Фихте, Шеллинга, Гегеля вместо того, чтобы поставить вопрос
о перелицовке старых философских мундиров, доставшихся
им в наследство, начинают штопать дырки на них. Так
неокантианцы Баденской школы делают ставку на абсолютные
«ценности», чтобы заштопать некоторые прорехи в философии
Канта. Не сумев объяснить происхождения кантовских
априорных форм познания, В. Виндельбанд объявил их всего лишь
частным случаем в «царстве всеобщих значимостей» или
«разумных ценностей». А его последователь Г. Риккерт заявляет:
«Сами ценности... не относятся ни к области объектов, ни к
области субъектов. Они образуют совершенно
самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта»1.
Указанное «самостоятельное царство» похоже на царство
«идей» Платона, хотя у Платона это царство помещается в «за-
небесье», а у неокантианцев оно где-то между небом и землей,
а конкретнее - в культуре, и таким образом наука о вечных
«ценностях» становится наукой о культуре - философией
культуры. Но откуда берется культура, здесь не объясняется.
Как и в кантовском трансцендентализме, она есть выражение
особой абсолютной реальности.
«Ценности» в «философии культуры» неокантианцев, как
и идеи Платона, еще идеальны, чего не скажешь о том, что
подразумевают под «ценностями» в наши дни. Сегодня речь идет о
«материальных ценностях», хотя о «материальных идеях»
сказать никак нельзя. Собственно и сам термин идеальность
означает соответствие идее. «Идеи» Платона обладают и другими
конкретными определениями. Например, согласно Платону,
идеи есть «образцы», по которым творит Бог-Демиург, а также
создает горшки, столы, дома и т. п. обыкновенный ремесленник.
Но от этого образец не утрачивает своей идеальности.
Поэтому и нельзя согласиться с Абишевой, когда она
пишет: «Содержание идеи имеет более нейтральный характер,
чем содержание ценности, так как выявляет ее всеобщее и
1 Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998, с. 460.
255
необходимое содержание. Отсюда можно заключать, что идея
может нести образ некоего сущего, тогда как ценность
заключает в себе скорее образ должного»1.
Как раз именно идея заключает в себе долженствование.
Не только в любой деятельности, но и в поступках люди
должны стремиться к идеалу - к Истине, Добру и Красоте.
Таковы высшие идеи, которые венчают пирамиду идей Платона.
И мудрость, по Платону, состоит в том, чтобы подняться на
эту вершину. Ничего подобного в популярном ныне понятии
«ценность» не заключено. Так же, как ничего конкретного не
заключено в «пирамиде» Маслоу, с которой сейчас носятся как
с писаной торбой философствующие обыватели.
Можно пойти еще дальше и сказать: идея есть понятие
классической философии, а ценность, наоборот, понятие
философии неклассической. В идеализме Гегеля ничего подобного
«ценностям» нет. И это понятно, поскольку во времена Ницше
мир потерял, утратил свою идеальность. «Бог умер» -
констатировал доктор Ницше. Но «ценности»-то остались. И если
говорить о материальных ценностях, то они не только не «умерли», а
они впоследствии неуклонно количественно возрастали.
Говоря политэкономическим языком, росло благосостояние народа.
А вот духовные ценности почему-то куда-то испарялись.
«Бог умер» означало, что умер платоновский Бог как Бог-
Идея, Бог-Идеал. То есть погиб Идеал, погасло, как выражался
Маркс, общее для всех Солнце, после чего каждый стал
зажигать для себя свой маленький светильничек. Но при этом
появились «ценности». «Ценной» стала личная жизнь, «ценной»
стала личная независимость, «ценной» стала безмятежность,
т. е. обывательский покой, Это все ценности, поскольку люди
их ценят. Но назовете ли вы все это Идеалом?
И христианского Бога, хотя он и скопирован во многом
с Бога Платона, тоже Идеалом не назовешь, потому что он не
вмещает в себя всю полноту жизни, выраженную классичес-
1 Абишева А.К. Цит. изд., с. 38.
256
ким триединством Истины, Добра и Красоты. Красота в
христианстве греховна, поскольку в ней соблазн и порок, а вовсе
не идеал. А без красоты христианское добро оказывается
худосочным и непривлекательным. И люди часто предпочитают
«грех» христианской «святости» и «непорочности». А истина?
«Что есть истина?», - повторяют слова скептика Пилата
нынешние скептики и циники.
«Я думал, - писал В.В. Маяковский в поэме «Облако в
штанах», - ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный бо-
жик». «Крохотный божик» современного обывателя - деньги.
Они-то и есть главная его «ценность». Именно такой
«ценности» он молится с утра до ночи. Именно этот «божик» по сути
стал на место умершего Бога. Вот как описывает эту ситуацию
ницшеанец Макс Шелер: «Житейский ум, способность к
быстрому приспособлению, безотказно калькулирующий
рассудок, знание толка в том, что касается «безопасности» жизни и
всестороннего свободного общения, соответственно качества,
способные их обеспечить, чутье на «сбалансированность» и
предсказуемость всех отношений, постоянство в труде и
прилежании, экономность и педантичная точность в заключении и
соблюдении договоров - таковы теперь главные добродетели,
перед которыми отступают мужество, смелость, готовность к
самопожертвованию, восторг решимости, великодушие,
жизненная сила, жажда завоеваний, равнодушное отношение к
экономическим благам, любовь к родине, верность семье,
преданность роду и государю, способность править и
господствовать, смирение и т. д.»1.
Что было движущей силой этого сдвига? Шелер
отвечает: ресентименгПу зависть бедных по отношению к богатым.
«Новый общественный строй, - пишет он, - наметившийся в
XVIII веке, получивший развитие в эмансипации третьего
сословия во времена Французской революции и оформившийся
в основанное на этой эмансипации политическо-демократи-
1 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999, с. 178.
257
ческое движение - это лишь внешняя
политико-экономическая форма выражения того ценностного сдвига, который, в
свою очередь, был вызван взрывом ресентимента,
накопившегося за времена преимущественно авторитарного управления
жизнью, победой и распространением его ценностей»1.
Не «ценности» являются у Шелера отражением
политико-экономических реальностей, а, наоборот - в основе
политических и экономических переворотов лежат изменения в
«ценностях». Но тогда в чем, в свою очередь, коренятся наши
«ценности»? Они в «жизни», - отвечает Макс Шелер.
Первичными и основными являются витальные ценности. Но что
есть «жизнь»? - вот в чем вопрос. Именно здесь и заключена
главная мистификация. Потому что жизни в биологическом
смысле нельзя приписать никаких «ценностей».
У волка нет «ценностей», поскольку он живет не по
«ценностям», а по непреложному закону природы - сильный
пожирает слабого. А для «философа жизни» Макса Шелера
такого рода жизнь и есть главная ценность. И потому на место
общественной морали он ставит мораль леса. Высшая норма
морали, - христианской и кантовской, -равенство всех людей.
Но уровнять волка и зайчика нельзя, - тогда жизнь в лесу
прекратится. «Равное» распределение ценностей приятного (как
и стремление к нему), - пишет Шелер, - было бы
«несправедливо» по отношению к носителям более высоких жизненных
ценностей и даже повредило бы им, а потому было бы «плохо»;
дело в том, что оно нанесло бы ущерб жизни как таковой. Оно
дало бы толчок тенденции к извращению чувственных
переживаний и привело бы к тому, что всё большее число вещей
и действий, в сущности опасных для жизни, стали бы
оцениваться как приятные»2.
Понятно, что волк счел бы «несправедливым», если бы
ему запретили кушать зайчиков, ведь это нанесло бы непоп-
1 Там же, с. 177.
2Тамже,с. 170.
258
равимый ущерб его жизни. И для волков неравенство в этом
отношении волков и зайцев является высшей «ценностью». А
для зайчиков? Но дело не в этом. А дело в том, что
неравенство волков и зайцев вполне может быть трактовано как
«ценность» для волков. Но можно ли это назвать идеалом?
Идеалы Свободы, Равенства и Братства были начертаны
на знаменах Великой Французской революции. Когда
Революция свершилась, то оказалось, что и в обновленном обществе
есть «волки» и «зайцы». И «волки» из троицы Свободы,
Равенства и Братства оставили себе только свободу - свободу
пожирать «зайцев». А о равенстве не то что забыли, но
посмеялись: о каком «равенстве» матерых волчар с какими-то
жалкими зайчишками может идти речь. Что касается «братства»,
то они сказали: и братьев будем драть мы...
Шелер пытается разобраться в том, почему именно
буржуазное общество как общество формальной демократии, - все
равны перед законом и имеют одинаковые права, - порождает
ресентимент, т. е. злобу и зависть. В его основе расхождение,
противоречие между формальным, юридическим равенством
и фактическим, материальным неравенством. Отсюда
психология, которая выражена в поговорке: русскому мужику
хорошо, когда у соседа корова сдохла. В сословном обществе
мужик не мог пожелать, чтобы барин жил, как и он, потому что
мужик - это мужик, а барин - это барин, и такое было во веки
веков. Отсюда «естественность»
покровительственно-патерналистских отношений, которые идеализировались первыми
русскими славянофилами.
И. Киреевский и А. Хомяков в определенном смысле были
демократами, воспринимая патернализм, связанный с
крепостным правом, как «естественную» заботу о народе. С другой
стороны, такое «естественное» неравенство стало
предпосылкой развития высокой культуры, в том числе русской
дворянской культуры, формировавшейся в так называемых
«дворянских гнездах». Классическая культура с ее идеалами Истины,
259
Добра и Красоты столетиями развивались на почве
свободного общения тех, кого кормили зависимые люди. И она стала
погибать там, где большинство зависимых получили и
отвоевали свободу.
Буржуазная демократия радикально поменяла
представление о «естественных» отношениях и «естественных»
ценностях именно потому, что естественные жизненные
ценности - это миф. Но у Шелера выходит, что современная
демократия - результат деформации естественных основ
авторитаризмом прежних веков, что и породило
противоестественную ценностную реакцию в виде ресентимента. Сложное
явление кризиса культуры в условиях, когда к ней формально
уже может приобщиться большинство, у Шелера решается в
самой незамысловатой форме. Такой кризис - результат
извращения основополагающих жизненных ценностей. А
значит преодоление кризиса культуры не в развитии демократии,
когда большинство не просто рождает массовую, но
присваивает высокую культуру. Преодоление кризиса в движении от
ресентимента к естественным жизненным ценностям,
которые у Шелера сами по себе загадка.
Мы сказали, что «ценности» появились, когда «Бог умер».
Но умер не только Бог и не только Идеал. Идеал - «симулякр»,
сказали бы нынешние постмодернисты. Но эти последние по
сути ничего нового не придумали, все существенное сказал
их предтеча Ницше. Он впервые резко и определенно отверг
идеализм Сократа и Платона, у которых идеальное впервые
выступило как нечто реальное. Для Ницше оба эти
мыслителя «декаденты»: «я опознал Сократа и Платона как симптомы
гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков,
как антигреков»1. То, что было подлинным у греков, по
убеждению Ницше, это дионисизм, т. е. вакханалия, «инстинкт»,
чувство, страсть. Но Ницше выступает не только против
идеализма Сократа и Платона, он выступает, что, похоже, никто
1 Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990, с. 563.
260
не замечал, против диалектики. И как раз потому, что она
неразрывно связана с идеализмом, с проблемой идеального.
Идеальное как реальное может быть обнаружено
только при помощи диалектики. При помощи диалектики Сократ
доказывает реальность Добра, Истины, Красоты, которые
реальны в своей идеальности. Идеальность красоты у Сократа
связана с отрицанием ее телесности. Тело может быть
прекрасным, утверждает он, но Красота, которая делает тело
таковым, сама не телесна. Первое проявление диалектики -
отрицательность. И идеальное есть отрицание материальности.
Но если на этом остановиться, то идеальное есть ничто,
пустое место. За первым отрицанием должно последовать второе,
отрицание отрицания, когда материальное
восстанавливается как особая форма материальности.
«С появлением Сократа, - пишет Ницше, - греческий вкус
изменяется в благоприятную для диалектики сторону; что же
происходит тут в сущности? Прежде всего этим побеждается
аристократический вкус; чернь всплывает наверх с диалектикой. До
Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер:
они считались дурными манерами, они компрометировали»1.
Феномен идеального требует вывода, доказательства. Оно не дано
нам в чувственном опыте, в созерцании. В опыте нам дано только
материальное, только оно действует на органы чувств.
Диалектика состоит в том, чтобы снять эту видимость и обнаружить за ней
сущность, которая и дана нам всегда в форме идеального. Ницше
считает наоборот: высшее и значительное не требует
доказательства. «Что сперва требует доказательства, - заявляет он, то имеет
мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу
хороших обычаев, где не «обосновывают», а повелевают, диалектик
является чем-то вроде шута: над ним смеются, к нему не относятся
серьезно. - Сократ был шутом, возбудившим серьезное отношение
к себе: что же случилось тут, собственно?»2.
1 Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 2, с. 565.
2 Там же.
261
А случилось «собственно» то, что люди захотели жить
своим собственным умом. И Сократ потому и находил спрос
у его сограждан, что он их учил жить своим умом, а не так,
как учили старые «авторитеты» и не так, как учила
староотеческая религия. Это был первый урок антидогматизма. В этом
свете Ницше призывает вернуться как раз к догматическому
мышлению. По сути речь идет о мифолого-религиозном
мышлении, авторитарном мышлении, характерном также и для
ненавистного для Ницше христианства. Здесь Ницше валит
с больной головы на здоровую. Но главное все же то, что он
осознает антидогматическую суть диалектики.
Диалектика иронична). И Ницше приписывает это «черни».
Вот послушайте. «Есть ли ирония Сократа проявление бунта?
ressentiment черни? Наслаждается ли он, как угнетенный,
своей собственной кровожадностью в ударах ножа силлогизма?
Мстит ли он знатным, которых очаровывает? В качестве
диалектика имеешь в руках беспощадное орудие; с ним можно стать
тираном; побеждая, компрометируешь. Диалектик
предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот: он
приводит в бешенство, он вместе с тем делает беспомощным.
Диалектик депотенцирует интеллект своего противника. - Как? Разве
диалектика является только формой мести у Сократа?»1.
Ницше сам мыслит парадоксально, а потому диалектика
у него депотенцирует интеллект, хотя диалектический разум
есть разум в высшей потенции. Но дело не в этом. Сократ,
как известно, дружил с аристократом Алкивиадом. А его
первый ученик Платон и сам был аристократом, мечтая учредить
аристократическую республику. И мечтал он об этом потому,
что при таком устройстве люди не могут руководствоваться
корыстным, материальным мотивом, а должны
руководствоваться Идеей, Идеалом. Потому Сократ не мог быть
выразителем «восстания масс». Скорее, наоборот, это было
реакцией на демократию, которая раздирала и разлагала Афинское
1 Там же.
262
государство. И, в конце концов, демократия Афины погубила,
сначала их победила тоталитарная Спарта, потом Александр
Македонский и, наконец, Римская республика, где служение
отечеству считалось высшим долгом, а греки к тому времени
свой патриотизм порастеряли, став по преимуществу
«безродными космополитами».
Диалектика антидогматична. А поскольку догматический
метод был характерен для докантовской метафизики,
диалектический метод и стал антитезой «метафизического метода»,
или просто - метафизики. Ильенков в свое время выступил
против догматического «диамата», «диалектического
материализма», который объявлял себя «диалектическим», но всю
диалектику сводил к «общей теории развития», а метод при
этом использовал по сути догматический и метафизический.
Это была своего рода «диалектическая метафизика», -
«круглый квадрат», «деревянное железо» и т. п. Но когда Ильенков
заявил, что диалектика это логика и теория познания
марксизма, то на него посыпались обвинения в «гносеологизме»,
«гегельянстве», «ревизионизме» и т. п.
«Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они
больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей,
разрушителя, преступника - но это и есть созидающий»1.
Ильенков не только разбивал их «скрижали ценностей», но он и
созидал такое, что и не снилось «вашим мудрецам», - дух
отрицающий есть дух созидающий. Он создал теорию
идеального, где надо начинать с противоположности идеального и
материального, довести эту противоположность до обострения,
до противоречия, чтобы увидеть их диалектическое тождество
в «третьем», которого, согласно аристотелевской логике, «не
дано», - в материальной предметной деятельности, которая
по своей сути включает в себя два неразрывно связанных
момента - идеальный «проект», «дом в голове», и деятельность
строителя, - каменщика, бетонщика, арматурщика и т. д.
'Там же, с. 16.
263
В современном обществе эти вещи разделились:
архитектор проектирует дом, но сам иногда гвоздя не может забить в
стенку, а «строитель», который может хорошо работать
лопатой, не может спроектировать себе даже жалкую халупу,
поскольку строит по проекту, превращенному в шаблон.
Так сейчас. Но когда наш далекий предок решил строить
себе убежище, то он не мог заказать проект архитектору, а
значит был сам себе архитектор, и сам себе исполнитель
собственного проекта. Потому здесь невозможно обойтись без
истории, без историзма: любое явление проявляет свою сущность,
как заметил Гегель, в фазе его возникновения. Гегель
обыгрывает здесь немецкие слова das Wesen (сущность) и gewesen
(глагол «быть» в прошедшем времени: «было», «прошло»):
сущность - это то, что было и прошло. Теперь эта ситуация скрыта
множеством последующих наслоений, а главное - это то, что
историческое отношение труд -> идеальное, оборачивается, и
теперь всякой материальной деятельности предшествует
идеальный «проект», идеальная цель. Отсюда и прочность
идеалистического предрассудка, согласно которому «идея» вообще
предшествует всякому материальному бытию, как это
получилось у Платона.
«Аксиология» не пользуется ни историческим, ни
диалектическим методом. Для нее «ценности» - вечные и неизменные
сущности, которые постулируются, но всерьез не
объясняются. Самое большее, на что она способна, так это их
классифицировать: ценности бывают такие, сякие и эдакие. Но такова
наука на уровне ботаники Линнея или «Зоологии»
Аристотеля. Хотя на деле она всегда стремилась к монизму, т. е.
систематическому единству, единому принципу. Но в чем единый
принцип всех «ценностей»?
Диалектика, мы сказали, это, прежде всего,
отрицательность. И отсутствие этой диалектики не позволяет
последователю Ницше, каким был Макс Шелер, уже в XX веке
разобраться с сущностью «ценностей». Чтобы понять суть, считал
264
Николай Кузанский, надо наблюдать минимумы и максимумы.
Идеальное и материальное, скажем, тоже «максимум» и
«минимум», высшее и низшее. И Шелер располагает все
«ценности» на шкале от высших духовных до самых низших,
витальных, иначе говоря, материальных. А между ними Макс Шелер
располагает «ценности» различных степеней. Но если мы
осознаем идеальное и материальное как противоположности, то
«промежуток» между ними не может быть заполнен никакими
другими «ценностями». Переход от материального к
идеальному в качестве противоположности невозможен через
количественное приращение. Это так же, как между
противоположными мужским и женским полами нет множества других
полов, более или менее мужских и более или менее женских.
А любое последующее деление мы можем производить только
по другому основанию. Сколько бы мы ни расписывали
«ценности» по разным рубрикам и степеням, - ценности
убеждения, ценности действия, ценности успеха и т. п., - от этого не
становится понятнее само понятие «ценности». Тем более что
это не понятие, а, как было сказано, просто абстракция, слово,
в лучшем случае общее представление. А к понятию мы идем
через конкретизацию, а не через абстракцию.
В понятии «ценности» у Шелера представлено его
понимание природы человека. Но и здесь у Шелера нет никакой
определенности. Он отрицает дуализм Декарта. Но
монистическую сущность человека Шелер понимает, то как
натуралистический дух, то как духовную натуру. Сущность человека
у него постоянно двоится. Монизм, как известно, возможен
тогда, когда из телесного мы выводим душу, или, наоборот,
когда идеальное считаем активным принципом движения
материального тела. Иначе говоря, монизм возможен только как
результат решения так называемого основного вопроса
философии: если мы из материального объясняем идеальное, то
это будет материалистический монизм, если наоборот - мы из
идеального объясняем материальное, то это будет идеалисти-
265
ческий монизм. Дуализм не является решением этой
проблемы, сам дуализм есть проблема. И так она стоит до сих пор, и
не только в философии, но и в психологии.
Монистическими системами в истории были как
идеалистические, так и материалистические. Но это были системы
объективного идеализма и объективного же материализма. Для
последнего это тавтология, потому что материализм и
означает признание не зависящего от познающего и любого другого
субъекта существования, т. е. материи. Но Шелер, поскольку
он застревает в рамках дуализма, не может преодолеть и
субъективизма. «Ценности» у Шелера субъективны и имеют
отношение только к отдельному индивиду. Они вытекают, по Ше-
леру, из предпочтения, которое всегда субъективно. «Только
ценности, изначально «данные» в этих актах, - пишет Шелер,
затем могут «чувствоваться» - вторичным образом. Таким
образом, та или иная структура предпочтения и пренебрежения
выделяет те ценностные качества, которые мы чувствуем»1.
Никакой объективной основы для своих «ценностей»
ни Шелер, ни другие «аксиологи», как мы видим, не находят.
Попытка Шелера спасти и сохранить некоторым образом
общеобязательность нравственного закона, заключенного в
категорическом императиве Канта, тоже кончается какой-то
странной и компромиссной формой. Он переосмысливает
проблему релятивизма в этике, исследуя природу
множественности «моралей». И хотя система ценностей у него
остается неизменной, меняются правила предпочтения ценностей.
Чем конкретно обусловлено «предпочтение», до конца не
совсем ясно.
Вот и кончились идеалы, и остались «ценности».
Равенство может быть идеалом, а неравенство - нет. Но сегодня
неравенство может быть «ценностью»: если волки ценят свое
превосходство над зайцами, то это и является для них ценностью.
1 Шелер М. Феноменология, герменевтика, философия языка. М, 1994,
с. 307.
266
И отсюда видно также, что «ценности» действительно
субъективны, относительны и корпоративны. Поэтому совершенно
понятно, что «ценностный подход» к истории вообще и к
истории культуры в частности, а к истории науки в особенности,
ввергает науку в полнейший субъективизм.
§ 4. Структурализм и историзм
«Одной из самых сложных методологических проблем
современной науки, - пишет Ш. Парэн, - является
соотношение между структурализмом и историзмом. Если применение
структурного метода в лингвистике, литературоведении и
этнографии дало, в большей или меньшей степени,
плодотворные результаты, то в области истории структурализм не нашел
своего адекватного выражения, и историки все ещё не вышли
за пределы принципиального обсуждения этой
методологической проблемы»1.
Первое положение этого пассажа представляет собой,
пожалуй, совершенную истину. Второе положение в
определенном отношении парадоксально. Ведь структурализм с самого
начала (и в этом состоит его суть как определённой научной
«идеологии») противопоставил себя истории как методу
эмпирического описания действительной истории, будь то
языка, литературы или просто гражданской истории. Это все
равно, что требовать от предмета тех свойств, которых их до
этого лишили, или, как говорят по-русски, требовать у
больного здоровья.
Если образовался разрыв между структурализмом и
историей, то только потому, что структурализм внутренне не
притягивает к себе историю, не содержит в себе на неё
«запроса», как это имеет место в методе восхождения от
абстрактного к конкретному, применённом Марксом в «Капитале». А
последнее возможно только в том случае, если действитель-
1 Parain Ch. Structuralisme et historie // Pensee. 1967, oct. № 135, p. 38.
267
ная противоположность между логикой и историей
понимается не как непреодолимая, а наоборот - как способ связи
между тем и другим. Т. е. единство структуры и истории, а,
тем самым, и единство структурализма и историзма, - если,
конечно, вообще допустима идентификация между
«логикой» и «структурой», - возможно только на почве
диалектики как учения о том, как становятся тождественными
противоположности.
Иначе говоря, структурализм должен перестать быть
структурализмом для того, чтобы восстановилось единство
логики и истории, ибо характерной специфической чертой
структурализма является именно формализм в смысле
антидиалектики, в смысле абсолютизации законов и принципов
традиционной формальной логики. Если этого нет, то все
разговоры об «уважительном» отношении к истории останутся
разговорами, и между историей и структурализмом может
быть только «мирное сосуществование».
«Я не отвергаю понятия процесса и не оспариваю значения
динамических интерпретаций, - заявляет Клод Леви-Стросс в
полемике с американскими антропологами Мердоком и
Фогтом. - Мне представляется только, что одновременное
изучение процесса и структуры, во всяком случае в антропологии,
является следствием весьма наивных философских воззрений
и пренебрежением теми специфическими условиями, в
которых происходит деятельность антропологов»1.
Леви-Стросс делает подобные заявления и в других
местах. Так, например, в одном из своих главных трудов,
«Первобытное мышление», Леви-Стросс пишет: «Этнолог отдает
истории должное, но не считает её познанием высшего порядка.
Он рассматривает историческое исследование как
комплементарное его собственному: одно изучает человеческие общества
в пространстве, другое - во времени»2.
1 Uut. по: Parain Ch. Ор. cit., р. 166.
2 Lewi-Strauss С. La pensee souwage. Paris, 1962, р. 339.
268
Действительно, невозможно одновременное изучение
процесса и структуры. У Маркса, например, это
подразделение чётко проводится. Но существенная разница заключается
в понимании характера самой структуры. Структура у
последнего понимается как динамическая (процессуальная)
структура. «Капитал есть движение, процесс кругооборота,
проходящий различные стадии, - пишет Маркс, - процесс который,
в свою очередь, заключает в себе три различные формы
процесса кругооборота. Поэтому капитал можно понять лишь как
движение, а не как вещь, пребывающую в покое. Те
экономисты, которые рассматривают самостоятельное существование
стоимости как просто абстракцию, забывают, что движение
промышленного капитала есть эта абстракция in actu (в
действии)»1. Иначе говоря, общая структура промышленного
капитала, Д - Т ... П ... Т - Д, есть последовательная смена его
форм не только в пространстве, но и во времени (только это
уже не историческое время). Если мы возьмем «синхронный
срез» этого процесса на любой его стадии, стадии товарного
капитала, производительного капитала или денежного
капитала, и будем рассматривать эту «синхронную» абстракцию
саму по себе, то мы получим или всеобщие определения денег
как денег, а не как денежного капитала, всеобщие
определения товара как товара, а не как товарного капитала, всеобщие
определения производства как производства, а не как
капиталистического производства. Т. е. такой «синхронный срез»
бессмыслен, поскольку он начисто уничтожает специфику
рассматриваемого предмета.
Леви-Стросс и сам признает, что «рассмотрение синхро-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 24, с. 121. «Структурная модель должна
учитывать возможность трансформации. Структуралистская же
абстракция, мысленная конструкция, именуемая структурой, в принципе не может
верно отражать реальную ситуацию, ибо она лишает ее времени и,
следовательно, причинно-следственной связности» (Broun C.W. Some problems in
the epistemology of structure. In: The future of structuralism. Göttingen, 1983,
p. 423 - 433).
269
нии и статики как равнозначных явлений - заблуждение, что
статический срез - лишь фикция и что перцепция движения
сохраняется в синхронном аспекте»1. Но если в «синхронном
срезе» сохраняется «перцепция движения», как это имеет
место при рассмотрении общей структуры промышленного
капитала, то в динамике этой структуры обязательно сохраняется
и воспроизводится динамика исторического становления этой
структуры, что и позволяет выйти в историческое
рассмотрение становления данной конкретности. Именно в этом пункте
заключается существенное расхождение конкретного
историзма Маркса и абстрактного структурализма Леви-Стросса.
Маркс тоже понимает, что можно взять такой
«синхронный срез», когда исчезает не только историческое время, но и
«перцепция движения», характерная для динамической
структуры капитала. Если, например, взять такой «срез» процесса
движения капитала на стадии производства, процесса труда,
то он утратит тем самым характер особой экономической
определённости. «В нем, - как пишет Маркс, - не выражено никакого
определённого исторического (общественного)
производственного отношения, в которое люди вступают в производстве их
общественной жизни, напротив, в нем выражена та всеобщая
форма и те всеобщие элементы, на которые во всех
общественных способах производства одинаково должен разлагаться труд,
чтобы действовать в качестве труда»2. Можно также взять такой
синхронный «срез» динамической структуры человеческого
мышления, что оно станет тождественным мышлению
дикаря, или даже животного. Но не в том заключается задача науки,
чтобы таким путем получать отдельные абстрактные элементы
динамических структур, а в том, чтобы посредством синтеза
воспроизвести из этих элементов целое, конкретное.
Существенное различие между марксизмом и
структурализмом заключается, таким образом, не в том, что методу
1 Цит. По: Parain Ch. Opus cit., р. 39.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 64-65.
270
Маркса чужд, так сказать, теоретизм, направленный против
абстрактного эмпирического историзма. «Какие бы ни были
недостатки в моих сочинениях, - писал Маркс, - у них есть одно
достоинство, что они представляют собой художественное
целое; а этого можно достигнуть только при моем методе...
Этого не достичь методом Якоба Гримма, который вообще
подходит для сочинений, не представляющих собой диалектически
расчленённого целого»1. То есть этого не достичь с помощью
индуктивного сравнительно-исторического метода. Различие
заключается в понимании характера самого теоретического
метода. Различие заключается также в том, что метод
теоретического анализа в понимании структурализма совершенно
исключает исторический метод, метод теоретического анализа
Маркса этот метод предполагает. По сути, в последнем случае,
это разные «ипостаси» одного и того же метода.
История, считает Леви-Стросс, «самостоятельная наука,
методы которой полностью противоречат структурному
анализу этнологии; этнолог стремится элиминировать в
изучаемых им социальных феноменах все следы событий и рефлексии
и делает объектом своего анализа бессознательные элементы
социальной жизни, тогда как внимание историка
направлено на то, что воспринимается людьми как следствие их
представлений и действий»2. То есть Леви-Стросс считает не
только возможным, но и необходимым абстрагироваться от того,
что воспринимается людьми как следствие их представлений
и действий. Вопрос заключается в том, насколько и до каких
пределов правомерна такая абстракция. Леви-Стросс ставит
задачу «свести произвольные по видимости данные к
упорядочению, выявить уровень, на котором открывается
необходимость, имманентная иллюзии свободы»3, а вопрос состоит в
том, является ли и в каком смысле свобода необходимым эле-
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 111 -112.
2Lewi-Strauss С. La pensee souwage, р. 329.
3 Ebenda, р. 331.
271
ментом исторической необходимости. А Леви-Стросс
исключает необходимый характер свободы. Он не понимает
свободу как необходимый элемент функционирования социальной
структуры, он вообще всюду стремится исключить личный,
субъективный элемент. Во всех своих допущениях, - надо
сказать, очень сильных, - Леви Стросс видит залог
объективности анализа, но тем самым явно или неявно предполагается, что
свобода, сознательная целенаправленная деятельность людей
и т. д. только субъективны.
Таким образом, признавая, с одной стороны, что все в
человеческом обществе может быть понято только в свете
истории, Леви-Стросс вместе с тем утверждает, что
исторический подход («диахронический разрез») только облегчает
понимание того, как возникают те или иные общественные
институты; главная же цель научного изучения общества -
«синхронный разрез», т. е. раскрытие формальной
структуры взаимоотношений, которые, в свою очередь, вытекают из
«бессознательной природы коллективных феноменов». Эти
феномены есть нечто вечное, присущее человеку как
родовому существу, поэтому так и обесцениваются познавательные
возможности истории.
«Леви-Стросс использует диалектику, с формальным
следованием тезис -антитезис - синтез, скорее гегелевскую, чем
марксистскую и его отношение к истории представляется
совершенно противоположным марксистской догме»1, - пишет
английский автор книги о Леви-Строссе Эдцунд Лич. (Нет
пророка в своем отечестве!). Если говорить точнее, то отношение
Леви-Стросса к истории не имеет ничего общего не только с
марксистским, но и с гегелевским. У Леви-Стросса налицо
явный разрыв между историей и теорией, между историческим
и логическим, у Гегеля они выступают, хотя и в ограниченном,
но все-таки единстве. Единственное, что роднит Леви-Строс-
1 Leach Е. Claude Levi-Strauss. Moderne Theoretiker. München, 1971,
S. 14.
272
са с Гегелем, так это превращение человека в безвольную
игрушку надисторических сил: в одном случае это «абсолютная
идея», в другом - безличная «структура».
«Этнография и история отличаются от этнологии и
социологии, - пишет Леви-Стросс, - прежде всего в том
отношении, что две первые дисциплины опираются на собирание и
упорядочивание материалов источников, в то время как две
другие изучают скорее модели, построенные на основе тех
материалов и при их помощи?»1. Здесь явно бросается в глаза
сходство понимания Леви-Строссом места и роли истории в
системе научного знания с тем, как понимает это место
позитивизм: превращение её в придаток, в «эмпирический базис»
социологии, дающий лишь только эмпирический материал
для обобщения. Вместе с тем, в этом понимании, как и в
позитивизме, обнаруживается явный разрыв между чувственным
и рациональным: модель уже лишена эмпирического
содержания. Если бы содержание модели признавалось собственным
содержанием истории, то следовало бы признать также, что
история и «структура» не могут безразлично противостоять
друг другу. В то же время, если не признать содержание
модели собственным содержанием истории, выражающим её суть,
то такая модель не может быть использована для объяснения
социально исторических явлений - в противном случае это
было бы равносильно тому, как если бы мы захотели
объяснить процесс художественного творчества, исходя из теории,
моделирующей метеорологические процессы.
Марксизм, считает Леви-Стросс, «поступает таким же
образом, как геология и психоанализ». Во всех этих случаях
«понимание заключается в сведении одного типа реальности к
другому», и все эти случаи показывают, что «подлинная
реальность никогда не является наиболее очевидной из
реальностей», и во всех этих случаях проблема одна и та же: отношение
1 Levi-Strauss Cl. Antropologia strukturalna. Warschawa, 1970, S. 373.
273
«между разумом и чувственными восприятиями»1. Вскрыть
сущность в явлении - это действительно задача всякой
науки, не только геологии и психоанализа. Марксизм здесь,
разумеется, не делает для себя исключения. Если бы сущность
и явление непосредственно совпадали, то не нужна была бы
никакая наука. Но между геологией и философией
марксизма имеет место та существенная разница, что геология, как
и всякая другая так называемая «частная» наука, вскрывает
сущность в определённого рода явлениях, а философия
марксизма выявляет законы, пути вскрытия сущности вообще, т.
е. во всех науках, во всяком познании. Тем самым
материалистическая диалектика тоже, как всякая другая наука, вскрывает
сущность, но она вскрывает сущность познавательного
процесса, т. е. процесса постижения всякой сущности. И только
в этом заключается особое положение философии марксизма
по сравнению с остальными науками.
Утверждая, таким образом, что марксизм поступает
как и всякая другая наука, сводя явление к его сущности,
реальность, как она нам непосредственно дана, к
«подлинной реальности», Леви-Стросс утверждает не более того, что
марксизм есть наука. Но общее положение о том, что наука
возможна и необходима только при условии различения
сущности и явления, не выражает ещё специфики марксистской
философии. Такое различение проводилось почти во всей
домарксистской философии, только эмпиризмом и
позитивизмом оно отвергается, хотя по существу иногда признается
даже последним. Иначе как рассматривать утверждения
вроде того, как это имеет место у Ф. Франка, а именно что
«центральной проблемой философии науки является вопрос о
том, как мы переходим от утверждений обыденного здравого
смысла к общим научным принципам». И в этом Ф. Франк
весьма не далек от истины, но другое дело - как понимать
переход от «утверждений здравого смысла» к «общим научным
1 Levi-Strauss Cl. Wold on the Woma. London, 1961, р. 61.
274
принципам»1. Вот в понимании этих путей и заключается
существенная разница между марксизмом, с одной стороны, и
структурализмом и позитивизмом - с другой.
Все сказанное, разумеется, имеет силу только - и в
рамках этого предположения мы двигались - в том случае, если
вообще возможно сравнение структуралистской теории
познания с марксистской, с логикой «Капитала». Но кроме того,
что сравнение возможно хотя бы потому что в обоих
случаях имеется в виду один и тот же предмет, нам дают для
этого основание сами представители структурализма, которые,
и сам Леви-Стросс в первую очередь, как мы видели, считает
возможным такое сравнение. Мы имеем, наконец, для этого
основания потому, что имеет место довольно
распространенное и влиятельное направление современных марксистских
исследований, где методу Маркса дается явно
структуралистское толкование, хотя делается это под предлогом всего лишь
«онаучить» традиционную диалектическую терминологию,
которой пользовался Маркс. Мы имеем в виду французского
философа Луи Альтюссера и его школу.
Структуралистская интерпретация метода Маркса Альтюс-
сером в свое время вызвала значительную критику в его адрес
со стороны многих марксистов во многих странах. Эта
критика была настолько значительна, а справедливость её
настолько очевидна, что это заставило Альтюссера опубликовать свои
«Элементы самокритики»2. Но и в этих «Элементах» Альтюссер
не отказывается от основных установок своей концепции,
которые приводят его порой к совершенно парадоксальным
выводам. «Некоторые говорят или скажут однажды, - пишет он,
- что марксизм отличается от структурализма приматом
процесса над структурой. Рассматриваемое чисто формально, это
положение верно: но это относится также и к Гегелю»3.
1Ф. Франк. Философия науки. М., 1960, с. 56.
2 Altusser L. Elemente der Selbstkritik. Berlin (West), 1975.
3Ebenda,S.68.
275
Итак, положение о примате процесса над структурой
формально верно, но так мог бы сказать и Гегель, поэтому мы
не имеем права так говорить. Логика более чем странная: если
Гегель говорит, что 2x2=4, то мы должны говорить, что 2x2=5,
лишь бы это не было похоже на то, как это у Гегеля. Альтюссер
борется с идеологизмами, т. е. с подменой научных
соображений соображениями морального и политического порядка, но в
данном случае допускает как раз самый вопиющий идеологизм:
мы не имеем права так говорить не потому, что это неверно в
научном смысле, т. е. не соответствует действительности, а не
имеем права так говорить, потому что так мог бы сказать и
Гегель. И не только Гегель, но и Шеллинг, добавили бы мы.
Так или иначе, поскольку Альтюссеру не нравится
«процесс», он предлагает заменить его «понятием» тенденции, в
котором, как он полагает, выражено не только присущее процессу
противоречие, «но и нечто другое, что в политическом и
философском отношении несравнимо важнее, а именно
единственное в своем роде, беспримерное положение марксистской науки
как революционной науки»1. Опять идеологизм. Понятие
процесс надо заменить понятием тенденции, потому что оно более
«революционно», хотя очень трудно понять, в чем большая
революционность «тенденции» по сравнению с «процессом».
Конечно, можно уловить те мотивы, которые заставляют
Альтюссера утверждать, что тенденция более
«революционна», чем процесс. В понятии процесса выражено изменение, а
в отношении социальных «структур», следовательно,
изменение социальных форм. Если мы утверждаем, вместе с Гегелем,
примат процесса над структурой, иначе говоря, что всякая
структура это, с одной стороны, результат некоторого
прошлого процесса, который только временно «застыл» в этой
структуре, которая, с одной стороны, когда-нибудь снова
будет поглощена всепожирающим процессом, и такой характер
социальных процессов необходим и закономерен, то есть не
1 Ebenda.
276
оставляет места для политического авантюризма, для револю-
ционаризма и маоистской катаклизмомании. Когда же
«структура» проявляет только тенденцию к изменению, но сама по
себе измениться не может, потому что она полностью и без
остатка подчиняет себе волю и сознание людей, обладает
«супердетерминацией», то ставка может быть сделана только на
революционный взрыв, который должен произойти без
сознательной и планомерной подготовки, а произведён он может
быть людьми, которые менее всего «интегрированы»
структурой современного буржуазного общества.
Все это идеологизаторство самой чистейшей воды. А
главное, что здесь структуралистские теоретические взгляды
принимаются в основном потому, что они в большей мере
соответствуют такого рода революционности. И только на этом
основании отвергается диалектика Гегеля. Но, как это очень
часто случается, там, где Гегеля отвергают как диалектика, с
ним обнаруживают очень близкое сходство как с идеалистом
и метафизиком. «При всех его сетованиях по поводу влияния
Гегеля на Маркса, - пишет английский марксист Мак-Лел-
лан, - Альтюссер уподобляется Гегелю, и не только
вычурностью стиля: Альтюссерова функциональная «структура»
более чем гегелевская «идея» представляет собой независимую
сущность, которая определяет сами предметы, которыми она
порождена»«1. Причем это удвоение реальности Альтюссер
пытается приписать Марксу. «Текст Введения 1957 г., - пишет
он, - в котором так строго делается различие между реальным
объектом и познавательным объектом, ... ясно... показывает,
что... существует также различие порядков... Маркс утверждает,
что порядок, который определяет в познавательном процессе
мысленные (gedachte) категории, не совпадает с порядком,
который определяет реальные категории в процессе реального
исторического развития. Это различие ведет нас к одному из
1 См.: The Grundrisse Karl Marx. Edited and translated by David McLellan.
New-York; Ewanston; San-Francisco; London, 1971, p. 2.
277
наиболее дискутируемых вопросов в «Капитале» - к вопросу
о тождестве так называемого «логического» порядка (порядка
«дедукции» категорий в «Капитале») и реального,
«исторического порядка»«1.
Маркс, во-первых, никогда не делал разницы между
«мысленными» и «реальными» категориями, потому что категории
вообще, согласно всей историко-философской традиции, это
формы, в которых реальность дана нашему мышлению, они и
формы бытия и формы мышления одновременно. В частности
категории политической экономии, как отмечал Маркс, это
«общественно значимые, следовательно, объективные
мыслительные формы для производственных отношений данного
исторического определённого общественного способа производства»2.
А, во-вторых, речь должна идти не просто о тождестве,
а о тождестве противоположностей, которые именно в силу
этого обнаруживают симпатическую силу по отношению друг
к другу. И тем самым выясняется, что это не только два разных
порядка принадлежащих различным и противоположным
сферам - сфере объективной реальности и сфере мышления, а
что это два объективно существующих и объективно
совпадающих порядка. Но об этом было уже достаточно сказано.
Подобной трактовки единства логического и
исторического Альтюссер не может принять, и не может потому, что он
не знает, не признает того, что составляет существо всякой
диалектики, а именно coincidentia oppositorum, совпадение
противоположностей. Это только по Гегелю
противоположности могут совпадать, заявляет Альтюссер, и этим самым по
существу делает диалектику монопольным владением Гегеля,
которого его лишили основоположники марксизма.
Альтюссер, таким образом, пытается перетащить на почву
марксизма структурализм со всеми его пороками. Это прежде
всего удвоение реальности на мир эссенциальный и мир являю-
1 Altusser L, Baibar Е. Das Kapital lesen. Reinbek, 1972, S. 59.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 23, с. 86.
278
щийся, которые неизвестно каким образом между собой
сообщаются. А в отношении метода исследования это проявляется
в резком разведении уровня теоретического и уровня
эмпирического, объяснения и описания, формы и содержания и т. д.
Если отвлечься от частностей и сосредоточить внимание
на главном, то коренное и главное отличие марксизма от
структурализма по вопросу об историзме заключается в том, что для
структуралиста логика - имманентное свойство человеческого
мозга, а «структура отношений, которая может быть
обнаружена при анализе материала какой-либо одной культуры, - это
алгебраическая трансформация других возможных структур,
принадлежащих общему выбору, и этот общий набор образует
модель, отражающую свойства механизма человеческого
мозга»1. Для марксиста наоборот - логика, как выражение
всеобщих и необходимых связей в природе, обществе и мышлении
- это культурное образование, продукт истории. Такое
коренное расхождение в оценке природы логического не могло не
отразиться на оценке и понимании исторического.
Поскольку марксист считает, что «в логике история мысли
должна, в общем и целом, совпадать с законами мышления»2,
история уже не может быть безразличной по отношению к
познанию вообще. А что касается конкретного познания, то
анализ каждый раз обнаруживает, что теория не только не
исчерпывает всего содержания наличной эмпирии, такую задачу
наука и не может себе ставить, но и всего существенного
содержания этой эмпирии, то совпадение логики и истории
вообще требует каждый раз дополнения конкретным
историческим исследованием. Поэтому марксистская теория познания
не только не оставляет историю лежать мертвой в качестве
простой предпосылки познания, как это делает в лучшем
случае позитивизм, а делает ее своим необходимым принципом и
элементом. В этом она видит путь преодоления узости наших
1 Leach Е. С. Levi-Strauss, р. 57.
2 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 298.
279
представлений, выявляющейся при столкновении с «более
богатой исторической действительностью»1.
«Мы должны отметить, - пишет один из
интерпретаторов структурализма Леви-Стросса Г. Лантери-Лора, - что в тот
момент, когда происходит интенсивная разработка понятия
структуры, понятийный аппарат исторических наук
сравнительно беден, хотя невозможно перечислить огромное
количество марксистских работ по философии истории, а также
трудов по изучению основных ценностей в истории; однако
эпистемология историчности почти не развита и не может
быть противопоставлена эпистемологии структур»2.
Может ли вообще «эпистемология структур» быть
противопоставлена «эпистемологии историчности», - вот в
чем состоит основной и главный вопрос, который по
большей части обходится вообще. Ответ на этот вопрос зависит от
того, а что мы собственно имеем в виду, когда мы говорим об
«эпистемологии историчности».
Структурализм понимает эту «эпистемологию»
совершенно определенно. Для структурализма «интеллигибель-
ность истории» кончается там, где «нет возможности открыть
структуру, которую можно перемещать из одной эпохи в
другую»3. Мы видели, что для Маркса «интеллигибелъность
истории» не только не кончается с открытием инварианта,
который сохраняет свою основную конструкцию на протяжении
довольно обширного отрезка исторического времени, но
«высшая интеллигибелъность» начинается только там, где эта ос-
1 Копнин П.В. К вопросу о методе историко-философского
исследования // Вопросы философии. 1967. № 5, с. 115.
2Lanteri-Laura G. Historie et struktura, dans connasanse de 1 homme. -
Annales economies, cocietes, civilization. Paris, 1967. № 4, p. 805.
3 Lanteri-Laura G. Historie et struktura, dans connasanse de 1Г homme. -
Annales economies, cocietes, civilization, p. 809-810. «Интеллигибельность не
только не завершается историей, - утверждает Леви-Стросс, - но историю
следует рассматривать как отправной пункт в поисках любой нтеллиги-
бельности» (Levi-Strauss С. La pensee souvage, р. 347).
280
новная конструкция претерпевает существенные
модификации, характеризующиеся историческими условиями, которые
уже нельзя «перемещать» из одной эпохи в другую. Вместе с
тем исторически характеризуется и та основная конструкция
(«структура»), которая перемещается из одной эпохи в другую.
«Эпистемология структур» представляет собой, таким
образом, отколовшуюся часть единого сложного процесса
познания, всего лишь обломок спирали, который, в силу того, что он
не видит себя в качестве части этого более широкого целого,
имеет о себе весьма извращенное представление.
Противопоставление «эпистемологии структур»
историзму Маркса происходит в различных, порой весьма благовидных
формах. Наблюдаем мы порой это противопоставление и в
работах советских авторов. На одном из таких
противопоставлений хотелось бы в заключение специально остановиться.
§ 5.0 генетизме, историзме и так называемой
«анатомической формуле»
Уже было в своем месте специально рассмотрено
соотношение, с одной стороны, логики и истории, с другой -
структуры и генезиса. Почему структура ставшего целого может стать
логикой для рассмотрения его становления, - это тоже было
отчасти объяснено: она дает метод для понимания неразвитых
форм того же самого целого, которые могут быть поставлены
в определенный генетический ряд? В этом смысле «анатомия
человека - ключ к анатомии обезьяны».
Если логику трактовать не как метод для понимания
реального развития, а как «структуру» самой реальности, то
неизбежна подгонка «анатомии обезьяны» под «анатомию
человека». А отсюда своеобразная реакция на поверхностно
понятое единство логического и исторического, что дает
более богатый метод, чем совпадение «структуры» и «генезиса».
Мотивы этой реакции уже хорошо вскрыты A.C. Канарским,
281
который писал в этой связи следующее: «К сожалению,
тяготение к онтологически истолкованной логике и боязнь логики
как схемы, шаблона и т. д. вынуждает Ю.М. Бородая
совершенно не замечать методологической роли тех знаний
(понятий, категорий), которые уже даны как относительный «итог,
сумма, вывод», постижения объекта на его высшей ступени
развития, но которые должны быть положены как
предпосылка (а не приняты как схемы) рассмотрения объекта на низшей
ступени его развития. Лучшим свидетельством такой боязни
является попытка своеобразно локализовать применимость
марксовой «анатомической формулы истории»...»1
Можно было бы понять опасения Бородая относительно
абстрактно догматического истолкования принципа единства
логического и исторического. Но ведь метод диалектики
вообще в принципе не догматичен: он представляет собой
«внутреннюю форму саморазвития содержания» (Гегель). И это
довольно общая ошибка в истолковании метода Маркса вообще:
в нем часто почему-то видят только схему, шаблон,
предписание и т. д. В отношении историзма это означает не доведение
его до конкретного историзма, истолкование единства логики
и истории не как конкретного единства, где одно выступает
в качестве «инобытия» другого, а как совпадение структуры
ставшего целого и его генезиса.
Прежде всего, о том, что касается генезиса и структуры, с
одной стороны, и логики и истории - с другой. Всякая логика -
это, так или иначе, структура. И всякая история, так или
иначе, генезис. Но не всякая структура есть логика. И не всякий
генезис есть история. Поэтому логическое и историческое и их
отношение представляют собой более развитые и конкретные
формы, чем структура и генезис и их отношение.
Соответственно, понимание «анатомии» соотношения логического и
исторического есть ключ к «анатомии» соотношения
структуры и генезиса. Поэтому справедливо рассматривать сначала
1 Канарский A.C. Диалектика эстетического процесса. Киев, 1982, с. 7.
282
более конкретные и развитые формы, ведь структура и генезис
получаются как всего лишь частный, «вырожденный»- случай.
И потому, следует заметить, подмена «исторического» и
«логического» генезисом и структурой как более «современными»
категориями на самом деле обедняет более богатую
диалектику исторического и логического и запутывает суть дела.
В истории генезис и структура предшествовали
собственно истории, поскольку природа предшествовала
человеку, соответственно - они предшествовали логике, ведь логика
появляется вместе с человеком и его историей. В общем, все
обстоит так, как положено согласно приобретённому методу,
который в частности выражен и в «анатомической формуле»,
как она слегка иронически названа в работе Ю.М. Бородая,
В.Ж. Келле и Е.Г. Плимака «Принцип историзма в познании
социальных явлений»1. Ирония была основана на том, что у
Маркса эта формула якобы понимается не буквально и
выражает только лишь специфически буржуазный взгляд на вещи.
Имеется в виду, прежде всего, следующее место из
Введения: «Так как, далее, буржуазное общество само есть только
антагонистическая форма развития, то отношения
предшествующих форм (общества) встречаются в нем часто лишь в
совершенно захиревшем или даже шаржированном виде, как,
например, общинная собственность, поэтому, если верно, что
категории буржуазной экономики заключают в себе какую-то
истину для всех других форм общества, то это надо понимать
лишь cum grano salis (дословно: «с крупинкой соли», «не
вполне буквально»)»2
Вот это-то «cum grano salis» и послужило в качестве
основания для утверждения о том, что «анатомическая формула
истории» выражает по преимуществу буржуазный взгляд на
вещи. Что здесь является специфически буржуазным, а что та-
1 Принцип историзма в познании социальных явлений. М., 1972,
с. 144.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 42-43.
283
ковым не является, в этом мы попытаемся разобраться
дальше. Но прежде надо заметить, что приведённое место лишь
оговорка и пояснение к сказанному Марксом чуть выше. А
именно: «буржуазное общество есть наиболее многообразная
историческая организация производства».
Поэтому категории, выражающие его отношения,
понимание его структуры, дают вместе с тем возможность заглянуть в
структуру и производственные отношения всех тех погибших
форм общества, из обломков и элементов которых оно было
построено. Некоторые ещё не преодоленные остатки этих
обломков и элементов продолжают влачить существование
внутри буржуазного общества, а то, что в прежних формах общества
имелось лишь в виде намёка, развилось здесь до полного
значения и т. д. Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны.
И здесь нет ничего «буржуазного». Буржуазный взгляд на
вещи состоит в том, что все предшествующие формы общества
рассматриваются как неразвитые формы именно буржуазного
общества как единственного, соответствующего
человеческой «природе». Но как только это общество становится
способным отнестись к себе критически, т. е. когда оно начинает
клониться к своему историческому закату, и люди начинают
осознавать, что это не идеал, что возможны и другие формы
общества, более соответствующие человеческой сущности,
вот тогда начинает осознаваться и тот факт, что буржуазное
общество существовало не всегда, что оно однажды
исторически возникло и т. д.
Оставим, однако, на время утверждение о том, что
«анатомическая формула» выражает некоторый буржуазный
взгляд на вещи, на совести тех, кто это утверждает, и
обратимся к несколько иному сюжету.
Когда Л.С. Выготский занимался психологией искусства,
то он попытался применить к анализу искусства метод,
применённый Марксом в «Капитале». «Я попытался, - писал он
позже, - ввести подобный метод в сознательную психологию,
284
вывести законы психологии искусства на анализе одной
басни, одной новеллы и одной трагедии. Я исходил при этом из
мысли, что развитие формы искусства дают ключ к
недоразвитым, как анатомия человека - к анатомии обезьяны; что
трагедия Шекспира объяснит нам загадки первобытного искусства,
а не наоборот»1.
Попытаться сначала нащупать специфику искусства путем
анализа развитых форм, например, трагедий Шекспира, как это
делает Выготский, а затем на основе этой специфики определить
неразвитые или недоразвитые исторические формы
искусства, - в этом тоже нет ничего «буржуазного», а это единственный
путь анализа, потому что если мы попытаемся начать с
неразвитых форм, то мы очень легко можем спутать разные вещи,
например, предметы быта или ритуальные предметы и
предметы искусства, подобно тому как специфика товарного
производства ярче и контрастней проявляется в его высшей
форме - в капитале. Тот же метод, считает Выготский, необходимо
применять также для определения специфики психики
животных, соответственно - зоопсихологии. Не зоопсихология, т. е.
наука о поведении животных, лежит в основании психологии,
т. е. науки о человеческой психике, человеческом поведении, как
считал в частности И.П. Павлов, - отсюда не объяснишь тех
новообразований, которые свойственны человеческой психике как
человеческой, а наоборот - психология человека бросает свет
на психологию животных, подобно тому как истина освещает и
самое себя и заблуждение.
«Таков, - пишет Выготский, - один из возможных
методологических путей, достаточно оправдавших себя в
целом ряде наук. Приложим ли он к психологии? Но Павлов
именно с методологической точки зрения отрицает путь от
человека к животному; не фактическое различие в явлениях,
а познавательная бесплодность и неприменимость
психологических категорий и понятий является причиной того, что он
1 Выготский Л.С. Собр. соч., т. 1, с. 405.
285
защищает обратный «обратному», т. е. прямой путь
исследования, повторяющий путь, которым шла природа1«.
Идти в науке путем, которым шла природа, кажется
нормальным и "игественным. В конце концов именно на этот путь
рано или поздно должна ьыити ,:тг>бая наука. Но на этот путь
должна вывести логика, иначе мы будем блуждать в потемках.
И, самое главное, здесь, на этом «прямом» пути, лежит
существенная и непреодолимая трудность, которая состоит в том, что
невозможно непосредственно от психики животных перейти к
психике человека: между тем и другим лежит история, г это уже
вообще не предмет психологии. «Совершенно неверно, - писал
Маркс ещё задолго до того, как он приступил вплотную к
экономическим исследованиям, - применять более низкую сферу
как мерило для более высокой сферы; в этом случае разумные в
данных пределах законы искажаются и превращаются в
карикатуру, так как им произвольно придается значение законов не
этой определённой области, а другой, более высокой»2.
Поэтому у психологов и естествоиспытателей, когда они
пытались идти по пути природной эволюции и таким образом
прийти к человеку, всегда получалось так, что они смазывали
существенную качественную разницу между животным и человеком и
трактовали человека просто как наиболее совершенное животное,
у которого то, что у других животных имело место только в
зачаточном состоянии, развилось до полного значения. Как, например,
объяснить то, что у человека есть мышление? А очень просто. У
животных тоже есть мышление, но только не развитое. Сказать
они ничего не умеют, - вот беда. А человек научился говорить и,
тем самым, освободил свое мышление от тех стеснительных
рамок, в которых оно существует у кошки, у собаки и т. д.3.
1 Там же, с. 295.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 74.
3 Биологизаторская точка зрения, по словам академика Н.П.
Дубинина, состоит в том, что «человек - это лишь поумневшее животное, все
поведение, духовная жизнь которого диктуется генами» (Дубинин Н.П. Очерки
о генетике. М., 1985, с. 28).
286
Таков наивный натуралистический взгляд на вещи,
соответствующий определённому методу. Там, где при помощи
этого метода пытаются объяснить человеческие качества, он
оборачивается неизбежным антропоморфизмом, т. е. приписыванием
чисто природным формам существования человеческих качеств
и свойств. Подобно тому, как буржуазный политэконом видит во
всех формах общества, предшествующих буржуазному обществу,
неразвитые формы этого общества, натуралист и эволюционист
в животных видит недоразвитые формы человека, в животном
мире видит недоразвитые формы человеческих отношений. И
подобно тому, как буржуазный политэконом в буржуазном
обществе видит естественное и нормальное состояние человека и
человеческих отношений, натуралист находит его тоже нормальным
и естественным, потому что конкуренция и борьба за
существование есть нормальный и естественный закон природы. Поэтому
натуралистический взгляд на вещи, который представляется
нормальным и естественным научным взглядом, тоже оборачивается
апологией буржуазных общественных отношений.
Генетизм был свойственен не только философии, но и
политической экономии буржуазии. «То, что дает нам до сих
пор экономическая наука, - отмечал Энгельс, -
ограничивается почти исключительно генезисом и развитием
капиталистического способа производства»1. И ниже: «Новая наука была
для них не выражением отношений и потребностей их эпохи,
а выражением вечного разума; открытые ею законы
производства и обмена были не законами исторически
определённой формы экономической деятельности, а вечными законами
природы: их выводили из природы человека»2.
Точно так же и у Дюринга. «Для него дело шло не об
исторических законах развития, а о естественных законах, о
вечных истинах»3.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 154.
2 Там же, с. 155.
3 Там же.
287
Итак, одно дело применять категории, выражающие
специфику высшей формы развития для определения специфики
низших форм, и совсем другое - в недоразвитых формах видеть
всего лишь не развитые формы тех же самых качеств, которые
специфически характеризуют высшую форму. И этот метод
подхода совпадает с буржуазным взглядом на вещи. Идеолог
буржуазного общества рассматривает все предшествующие
формы общества, первобытную дикость, рабство, феодализм
как неразвитые формы буржуазного общества, как его
извращенные формы, как формы, противоречащие человеческому
«естеству», которому адекватно соответствуют именно
буржуазные общественные отношения. Он и социализм склонен
рассматривать как «высшую стадию» развития буржуазного
общества. Для него вся история, прошлая и будущая, это
история буржуазного общества.
И совсем другое дело, когда понимание специфики
высшей формы становится методом для понимания специфики
низших форм. В этом случае понимание высшего дает ключ
для понимания низшего, но не само понимание низшего.
Автоматически здесь следуют лишь отрицательные
определения низших форм. Если, допустим, специфическим для
капиталистического способа производства является отделение
производителя от средств производства, то уже отсюда
понятно, что для предшествующих форм характерно органическое
единство производителя со средствами производства, прежде
всего с землёй. В каких конкретных формах имело место это
единство, это дело уже конкретного исторического
исследования. Если, допустим, специфическим для человека является
опосредствованное отношение к действительности,
опосредствованное прежде всего орудием, а затем мышлением,
сознанием и т. д. то для животного характерно непосредственное
тождество с природой. «Животное, - пишет Маркс, -
непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью.
Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть
288
эта жизнедеятельность. Человек же делает сам свою
жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания»1.
Каковы же конкретные формы этой непосредственной
животной жизнедеятельности, - на этот вопрос должна дать
ответ зоопсихология. Это дело конкретного исследования. Но
для того, чтобы оно было правильно ориентировано, к
конкретному исследованию необходимо подходить с четким
пониманием общей специфики животной жизнедеятельности,
которая непосредственно вытекает из понимания специфики
человека. Поэтому и получается, что понимание специфики
человеческой психики дает метод для всякой психологии, как
это считал Выготский. И общей теоретической частью
психологии, как это ни странно, оказывается психология человека.
Точно так же и «Капитал» Маркса. Хотя он представляет
собой теоретическое изображение только лишь одной
общественно-экономической формации, он, в силу того, что
капитал представляет собой наиболее богатую и наиболее
развитую сферу общественного производства и, тем самым, дает
ключ для понимания всякой другой формы общественного
производства, оказывается общей теоретической частью
марксистского обществоведения вообще. И потому
материалистическое понимание истории, применённое только лишь один
раз для объяснения одной общественной формации,
превращается из гипотезы в науку.
Итак, «анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны»
означает: понимание высшего дает метод для понимания
низшего. Но ни в коем случав не готовый ответ, не само понимание.
Это для всякого мало-мальски знакомого с основным
характером марксистской методологии, должно быть с самого начала
ясно. Ведь с самого начала Марксом и Энгельсом было
заявлено, что, в отличие от философии истории, которая пытается
дать готовую схему для понимания исторического процесса,
основные понятия и категории материалистического понима-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 93.
289
ния истории отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые
можно подогнать исторические эпохи. «Наоборот, трудности
только тогда и начинаются, когда приступают к рассмотрению
и упорядочению материала - относится ли он к минувшей
эпохе или к современности, - когда принимаются за его
действительное изображение»1. В силу именно такого характера метода
сохраняет самостоятельное значение конкретное историческое
исследование, как это было уже показано.
Но это не значит, что диалектико-материалистический
метод не универсален. Он не формален, т. е. имманентен
содержанию, и потому каждый раз требует конкретного исследования.
Он, как отмечал ещё Гегель, «не есть нечто отличное от своего
предмета и содержания, ибо именно содержание внутри себя,
диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперёд
это содержание»2. То же самое имеет прямое отношение и к
материалистическому пониманию истории, которое является
не чем иным, как дальнейшим развитием и конкретизацией
диалектического метода.
«Непосредственное приложение теории диалектического
материализма, - писал в этой связи Л.С. Выготский, - к
вопросам естествознания... невозможно, как невозможно
непосредственно приложить её к истории и социологии... Так же как
история, социология нуждается в последующей особой теории
исторического материализма, выясняющей значение для
данной группы явлений абстрактных законов диалектического
материализма»3.
Диалектический метод в «Капитале» взаимодействует с
материалом посредством исторического материализма или
материалистического понимания истории, а также
посредством понятий и категорий, выработанных на основе того и
другого, а именно посредством категорий «товара», «стоимос-
1 Маркс К. Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 26.
2 Гегель. Наука логики. Т. 1. М., 1970, с. 108.
3 Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 1, с. 419.
290
ти», «рабочей силы», «капитала» и т. д., что в целом составляет
метод исследования не только собственно капитала как
особой исторической формы общественного производства, но в
определённой степени также и других
общественно-экономических формаций. В какой мере, - это уже дело конкретного
анализа. И поскольку буржуазное общество, основанное на
капиталистическом способе производства, представляет собой
такую форму общества, где определяющая роль
материального, экономического фактора во всей общественной жизни, его
влияние на юридическую и политическую надстройку
является наиболее характерным и прозрачным (почему, собственно,
материалистическое понимание истории и было открыто не
раньше, чем развились в достаточной степени буржуазные
общественные отношения), метод исторического материализма
проявляет себя наиболее универсальным образом именно в
анализе буржуазного общества.
Утверждать после этого, что «политическая экономия
есть наука о буржуазном обществе», а «метод политической
экономии», который рассматривается Марксом в данном
разделе «Экономических рукописей», есть метод анализа именно
данного общества, и поэтому как таковой он не совпадает с
методом исторического материализма в целом»1, значит
проявлять отсутствие ясного понимания характера
диалектического метода вообще и метода исторического материализма в
частности. Как раз относительно буржуазного общества метод
его анализа в наибольшей степени совпадает с методом
исторического материализма.
Когда «логическое» и «историческое» заменяют на
«структуру» и «генезис», соответственно на «системно-структурный»
и «генетический» метод, - «историческое» и «логическое» при
этом берутся в кавычки как устаревшие и беллетристические
названия для более современных и научных
«системно-структурного» и «генетического» методов, - то при этом утрачива-
1 Принцип историзма в познании социальных явлений, с. 138.
291
ется собственно исторический элемент, который органически
соединяет логику с историей, делает осмысленным
конкретное историческое исследование и придает конкретный
исторический и методологический смысл логике. «Анатомическая
формула» - это одна из форм проявления диалектики
логического и исторического, конкретный смысл которой
проявляется лишь в свете этой диалектики.
И именно ввиду того, что «анатомическая формула»,
вместе с «логическим» и «историческим» подвергалась
определённой дискредитации, повисли в воздухе и те конкретные
исторические факты, которые те же авторы попытались вытащить
на свет и которые действительно играли самую существенную
роль в марксовом анализе капитала и его исторического
генезиса, что особенно было сделано в последующей работе тех же
авторов «Наследие К. Маркса и проблемы теории
общественно-экономической формации»1.
Здесь, с одной стороны, признается, и совершенно
справедливо, что «никакое, даже самое подробное
описание событий, происходивших на заре капитализма» не
может дать ответа на такие вопросы, как «почему родиной
капитализма стала не Испания, куда шел главный приток
золота и серебра из Нового Света, а Нидерланды и Англия,
не обладавшие ни военным могуществом, ни богатствами
Испании», или «почему Англия, бывшая сначала аграрно-
сырьевым придатком к торгово-промышленной
Голландии, сумела отодвинуть ее на второй план» и т. д., и «где,
наконец, искать грань между обществом феодальным и
обществом буржуазным: то ли в экономических сдвигах,
то ли в политических потрясениях XVI-XVIII вв., то ли в
предшествовавших им грандиозных сдвигах
общественного сознания - Реформации или Просвещения»2.
1 Бородай Ю.М., Келле В.Ж., Плимак Е.Г. Наследие К. Маркса и
проблемы теории общественно-экономической формации. М., 1974.
2Тамже,с. 77.
292
Для того чтобы ответить на эти вопросы, как отмечал
Маркс, надо «точно развить понятие капитала», его основного
противоречия, из которого «должны выявиться все
противоречия буржуазного производства, так же как и та граница,
достигая которую это отношение гонит буржуазное
производство к выходу за свои собственные пределы»1. Исторические
пределы капиталистического производства, как в смысле его
исторического исчезновения, так и в смысле его исторического
становления, могут быть определены только лишь из понятия
капитала. Оно же, как это мы и пытались показать, позволяет
производить отбор исторических фактов на предмет, имеют ли
они отношение к истории становления и развития капитала,
или не имеют. Всякая попытка отправиться по безбрежному
морю исторических фактов без понятия ни к чему хорошему
привести не может. Это тоже одна из форм проявления
«анатомической формулы», принудительный характер которой
здесь проявляется достаточно очевидно. Предпосылкой
«генетического анализа», как говорится в работе Бородая, Келле
и Плимака, является «системно-структурный анализ». И это,
если отвлечься от специфической терминологии, в общем
верно. Но что это, как не та же самая «анатомическая формула»?
Но логика теряет свой определяющий характер по
отношению к истории, если она превращается в формальную логику,
с которой по преимуществу связан так называемый системно-
структурный анализ, в логику, в которой уже нет и намёка на
реальный исторический генезис, тогда как логика Маркса - это
логика восхождения от понятия товара к понятию капитала, и
потому она дает «ключ», метод для понимания реального
исторического генезиса капитала. Можно это называть и «системно-
структурным анализом», - от одного только переименования
суть вещей не меняется, - но надо точно знать, о чем идет речь.
Но поскольку с определённой терминологией, - и потому она
терминология, т. е. система слов, имеющих чётко определённое
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 288.
293
значение, - связана определённая логико-методологическая
традиция, к ней нельзя относиться произвольно.
В результате как раз замены «логического» на «системно-
структурный анализ» утрачивается конкретный
определяющий по отношению к истории характер логического анализа.
Поэтому, с одной стороны, хотя и признается, что сначала
должен быть «системно-структурный анализ, а уж затем
«генетический», но не указывается, в чем конкретно заключается
определяющий характер этого анализа. С другой стороны, из
такого понимания соотношения логики и истории вытекает
худший вариант «анатомической формулы»: если проводить
только формальный логический анализ развитой
конкретности, то это дает нам такое «понятие», с помощью которого
можно только совершенно произвольно трактовать
действительную историю.
И, наконец, относительно «генетического» анализа. Как
было уже сказано, история не сводится просто к генезису, а
исторический анализ, соответственно, к генетическому.
Точка зрения генезиса, которую следовало бы называть генетиз-
мом, ведущим свое происхождение от И.Г. Фихте, в отличив
от историзма, который впервые появляется только у Ф.В.И.
Шеллинга и получает свое дальнейшее развитие у Гегеля,
является весьма распространенной в современной методологии,
в частности она имеет место и в так называемой генетической
психологии, которая связана, прежде всего, с именем
известного швейцарского психолога Жана Пиаже. Пиаже считал, что
человеческую психику необходимо рассматривать в процессе
её генезиса, её порождения. И это, разумеется, более
прогрессивная точка зрения по сравнению с той, когда считается, что
в человеческой «душе» заранее заложены все способности,
вместе с генами родителей, как иногда считается.
В частности Пиаже смог экспериментально показать, что
«история» умственного развития ребёнка в общем
воспроизводит историю культурного развития человечества. Например,
294
«пространственные операции в ходе спонтанного (и
независимого от школы) интеллектуального развития появляются в
такой же последовательности, в какой они возникли в истории
математики - сначала измерение в эвклидовом пространстве,
затем проективные интуиции, и наконец, открытие
топологических связей»1,
Но все это происходит, согласно Пиаже, в процессе
социализации детского мышления, тогда как сама
мыслительная способность изначально социальной не является и, как
таковая, не является продуктом культурного исторического
развития. С самого начала, согласно этой точке зрения,
ребёнок обладает мышлением, но так называемым аутистинеским
или эгоцентрическим мышлением. Затем в процессе его
развития происходит социализация мышления ребёнка. «Процесс
социализации детской мысли, - пишет в этой связи Л.С.
Выготский, - напоминает в его изображении процесс
«социализации частной собственности». Детское мышление как нечто,
принадлежащее ребёнку, составляющее «его личную
собственность» как известной биологической особи, вытесняется,
замещается формами мышления, которые ребёнку навязаны
окружающей средой»2.
Этот подход, как отмечает далее Выготский, не решает
главной проблемы теоретической психологии, а именно
вопроса о том, «откуда и как возникает разумный характер
детского мышления»3.
В этом пункте у Пиаже остается непреодоленным
натурализм в понимании природы человеческого мышления4,
который вообще, как было уже сказано, есть прямая
противоположность историзма. В этом пункте Пиаже смыкается с по-
1 Piaget I. Psichologia I epistemologia. Warszawa, 1977, S. 26.
2 Выготский Л.С. Собр. соч., т. 2, с. 404.
3 Там же, с. 406.
4 «...Структурная психология есть натуралистическая психология,
как и рефлексология» (Выготский Л.С. Собр. соч., т. 1, с. 159).
295
зитивизмом и структурализмом К. Леви-Стросса, о котором
речь уже шла.
Итак, есть конкретный историзм, который
распространяется на понимание самой мыслительной способности как
исторической, по сути, и есть генетизм, который, хотя внешним
образом и ставит в определённое отношение развитие
мышления и историческое развитие, но в трактовке
онтогенетического развития мышления остается по существу на точке зрения
естественно-природного генезиса. Что же касается того по
существу верного наблюдения, что развитие пространственных
операций у ребёнка повторяет историю математики, то это
говорит только о том, что в основе истории математики
лежит объективная логика освоения общественным человеком
пространственных свойств мира. И именно это обеспечивает
единую линию в истории математики, обеспечивает
преемственность, единую логику уже исторического процесса
развития математики. То же самое можно сказать и относительно
любой другой науки и её истории.
§ 6. Теоретическая преемственность и критика
как формы разрешения противоречия логического
и исторического
Мы уже проследили: противоречивый характер единства
логического и исторического проявляется в их взаимоопреде-
ляемости. Противоречие состоит в следующем: мы не можем
знать, каково начало науки1, кроме того, что оно «имеет для
метода только одну определенность - быть простым и
всеобщим»2, до того, как узнаем, что выступило в качестве первого
в истории. С другой стороны, мы не можем знать, с чего на-
1 Начало науки может рассматриваться как самостоятельная
проблема. Так она и поставлена в работе Ж.М. Абдильдина «Проблема начала»
(Алма Ата, 1967).
2 Гегель. Наука логики, т. 3, с. 293.
296
чалась история изучаемой конкретности прежде, чем сможем
выявить основные логические характеристики конкретности.
Правильный выбор начала в конечном счете
оправдывается стройностью и завершенностью всей теоретической
системы, построенной на его основе, и тем, что начало появляется в
конце в качестве своего собственного результата. Но это опять-
таки еще не показывает нам той действительной формы
разрешения указанного противоречия, которое с необходимостью
должно быть преодолено на пути к окончательному результату.
Противоречие оказывается неразрешимым для теории
познания, которая так или иначе остается на точке зрения
гносеологического робинзона. Но в действительной истории познания,
как и в социальной истории вообще, прежде чем возникает
практическая потребность в некоторой новой теории, всегда
оказывается: все условия для ее возникновения уже налицо. Поскольку
не только в истории, но и в ее литературном отражении (в
истории науки) «развитие в общем и целом происходит также от
простейших отношений к более сложным, то историческое
развитие политико-экономической литературы давало естественную
руководящую нить, которой могла придерживаться критика»1.
Теоретическая критика и есть та форма, в которой разрешается
указанное противоречие. Но такая критика предполагает
усвоение всех положительных результатов предшествующей науки.
«Сведение товара к труду в его двойственной форме -
потребительной стоимости к реальному труду, или
целесообразно производительной деятельности, а меновой стоимости
к рабочему времени, или равному общественному труду, -
писал Маркс, - есть конечный критический результат более чем
полуторавековых исследований классической политической
экономии, которая начинается в Англии с Уильяма Петти, а во
Франции с Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а во
Франции Сисмонди»2.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 497.
2Тамже,с. 38-39.
297
Маркс начал с того, чем кончили его теоретические
предшественники, - с товара. Но это не было простым
продолжением классической политической экономии. А чтобы пойти
дальше, предстояло критически переосмыслить все лучшие
теоретические достижения предшественников. Всякий
существенный шаг в истории науки - всегда переход в иное и
противоположное, всегда революция в науке.
Часто непосредственными теоретическими
предшественниками оказываются люди с противоположными
теоретическими взглядами. «В Канте, - подмечал в свое время Р. Гайм,
- видит Гегель своего предшественника, подобно тому, как в
Юме Кант видел своего предшественника»1. Маркс, в свою
очередь, видел своего предшественника в Гегеле. И каждый из них
проявлял противоречивое отношение к своим теоретическим
предшественникам. Кантовскую философию Гегель называл
«немецким ипохондрическим взглядом, который обратил в
тщету все объективное и только наслаждается этой тщетой в
своей душе». Но добавлял: «Говоря так, я отнюдь не забываю о
заслугах кантовской философии - на ней я сам воспитан - для
прогресса и даже в особенности для революции в
философском образе мысли»2.
Всякий положительный результат в истории познания
мира является прежде всего как отрицательный результат
критики. «Критика чистого разума, - писал Гайм, - должна
быть развита (доведена) до ее окончательных пределов. Тогда
ее отрицательный результат сам собою превращается в
положительное: «критика разума» преобразуется в систему
разума»3. Если человеческий разум в своих попытках проникнуть
в суть вещей наталкивается на противоречия, как показал
Кант, то это означает, делает вывод Гегель, что вещи по
своей внутренней сути противоречивы, и если разум человечес-
1 Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861, с. 252.
2 Гегель. Работы разных лет: В 2-х т. Т. 2. М., 1970, с. 415.
3 Гайм Р. Гегель и его время, с-253.
298
кий вообще способен постигать сущность («вещь в себе»), он
с необходимостью должен уметь мыслить («выдерживать»)
противоречие. Или за диалектикой должно быть признано
объективное и положительное значение, заявляет Гегель, или
вы должны оставаться на точке зрения «немецкого
ипохондрического взгляда», который довольствуется только внешней
видимостью.
Критика «Критики разума» не преобразуется
непосредственно в систему разума, но дает руководящий принцип для ее
построения. В самом основании критики должно лежать
некоторое положительное руководящее воззрение. Однако оно еще
не может стать результатом критики. Если вы склонны к
ипохондрии, то вам не придет в голову критиковать Канта,
поскольку нет лучшей философии для оправдания ипохондрии.
И в то же время беззаветная вера во всепобеждающую мощь
человеческого разума, не подкрепленная еще строгой
теоретической системой разума, может побудить на штурм даже такой
твердыни философского агностицизма, как «Критика чистого
разума» Канта. Гегелю недаром всю жизнь был свойственен
высокий пафос искания истины.
Непосредственным побудительным мотивом, которым
руководствовался Маркс, когда он взялся за критическое
освоение буржуазной политической экономии, было желание
показать эксплуататорскую сущность капитализма и
доказать его неизбежный исторический конец. И в основе этого
желания лежало еще не столько теоретическое обоснование,
сколько определенное мировоззрение. Практически разум в
конечном счете - корень всякого теоретического разума. А
морально-практическое отношение к действительности
проявляется прежде всего как критическое отношение к ней и ее
идеологическое оправдание.
Критика может быть формой разрешения противоречия
логического и исторического не только потому, что она не
проистекает непосредственно из теоретических источников.
299
Она и по своей логической сути не требует обязательно
какого-то однозначного теоретического построения. «Критик
может... взять за исходную точку всякую форму теоретического
и практического сознания, - отмечал Маркс, - и из
собственных форм существующей действительности развить истинную
действительность как ее долженствование и конечную цель»1.
Если теорию капитала следует начинать только с товара, то
критика существующих теорий прибавочной стоимости
вовсе не должна начинать с того же. Она может оттолкнуться
от любого теоретического понятия и представления
существующих теорий и до определенной степени позволяет
войти в рассмотрение вопроса раньше, чем будет развернуто
его позитивное понимание, которое, в свою очередь, может
дать основание для более обстоятельной критики. Если
обратиться к ранним произведениям Маркса, можно заметить:
он критикует Гегеля еще не с позиций диалектического
материализма и научного коммунизма, а с позиции абстрактного
гуманизма и за «недостаточное понимание философом
своего собственного принципа»2.
Наука начинается, таким образом, с критики. Гегелевская
«Логика» начиналась с «Критического философского
журнала»3, «Капитал» - с «Критики политической экономии». Еще
раз подчеркнем, Маркс критиковал Гегеля за недостаточное
понимание им его собственного принципа. То есть критика
предполагает понимание критикуемого принципа даже более
глубокое, нежели понимание его со стороны самого творца.
Маркс в определенном смысле был больший гегельянец, чем
сам Гегель! И это явилось необходимым условием
преодоления Гегеля. «Власть гегелевских предпосылок над мыслью
1 Маркс К. и Фридрих Э. Соч. Т. I, с. 380.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 380.
3 В йенский период своей деятельности (1801-1807 гг.) Гегель
совместно с Шеллингом издавал «Критический философский журнал» («Kritisches
Journal der Philosophie»), в первом номере которого он, в частности,
опубликовал статью «О сущности философской критики».
300
Маркса оказалась в 40-е годы очень существенным
воспитывающим ее фактором. Надо было сначала испытать эту власть
над собой, чтобы потом обрести способность к снимающей ее
критике - к критике, которая позволяла стать действительно
выше гегельянства, включая и его разновидность -
младогегельянство»1. Выражаясь фигурально, Гегель может быть
преодолен только с помощью Гегеля.
Оперативность критики, как было сказано, проявляется
в том, что она может начать с любой формы теоретического и
практического сознания и из собственных форм
существующего теоретического сознания развить истинное понимание
существа дела. И это легко прослеживается на примере
развития Марксом своей теории капитала. Первоначальный
вариант будущего «Капитала», рукопись «Критика политической
экономии», начинается с критики прудонистской концепции
«рабочих денег», которая питала иллюзии насчет того, что
путем преобразования денежного обращения и банковского
кредита можно избежать многих зол капиталистического
способа производства.
Дав краткую характеристику упомянутой концепции,
Маркс констатирует: «В общем виде вопрос заключается в
следующем: возможно ли путем изменения орудия обращения -
организации обращения - революционизировать
существующие производственные отношения и соответствующие им
отношения распределения? Следующий вопрос: можно ли
предпринять подобное преобразование обращения, не
затрагивая существующих производственных отношений и
покоящихся на них общественных отношений? Если бы оказалось,
что каждое подобное преобразование обращения, в свою
очередь, само уже предполагает изменение прочих условий
производства и общественные перевороты, то, естественно, сразу же
обнаружилась бы несостоятельность такого учения, которое
1 История марксистской диалектики. От возникновения марксизма до
ленинского этапа. М, 1971, с. 122.
301
предлагает свои фокусы в сфере обращения для того, чтобы, с
одной стороны, избежать насильственного характера перемен,
а с другой стороны, сделать сами эти перемены не
предпосылкой, а, наоборот, постепенным результатом перестройки
обращения. Достаточно ус ганоьи гь ошибочность этой основной
предпосылки, чтобы доказать наличие у приверженцев этих
взглядов такого же непонимания относительно внутренней
связи между производственными отношениями,
отношениями распределения и отношениями обращения» L.
Здесь сразу видно: задача исторической критики
выдвигает задачу создания теории капитала. В связи с поставленным
вопросом возникает еще целый ряд вопросов, которые
должны быть решены прежде, чем станет окончательно ясным то
или иное заблуждение предшествующих теоретиков.
«Этот общий вопрос об отношении обращения к
остальным производственным отношениям, - продолжает далее
Маркс, - разумеется, может быть поставлен лишь в конце»2.
То есть только после рассмотрения сущности меновой
стоимости, товарного обмена, затем производства капитала и его
обращения. Тогда станет ясно, какие изменения привносит
капитал в сферу обращения и что капиталистическое
обращение (в том числе кредит) подчинено капиталистическому
производству, а, следовательно, всякое изменение в
распределении может быть осуществлено только с изменением
характера производства. «Но если предположить, что этот базис
устранен, - констатирует Маркс, - то с другой стороны, отпадает
сама проблема, которая существует только на этом базисе и
вместе с ним»3.
В процессе полемики с прудонистами наблюдается
постепенное углубление Маркса в суть дела. Он отмечает, например,
связь ошибочной теории обращения Прудона с его ошибоч-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 61.
2 Там же, с. 62.
3Тамже,т.46,ч. II, с. 309.
302
ной теорией стоимости, набрасывая собственную теорию
стоимости, дабы показать, что возникновение денег и денежного
обращения произошло не по воле отдельных лиц, а является
необходимым результатом исторического развития
производства и обмена. Раздел (6) «Превращение продукта в товар,
а стоимости товара в деньги в процессе обмена» выделяется
в рассматриваемой нами главе из рукописи Маркса как
самостоятельная часть, как краткий очерк собственной теории
стоимости, переросший впоследствии в самостоятельный отдел
«Капитала». Причем Маркс уже здесь намечает ряд пунктов,
которые должны быть развиты подробнее.
В отношении критики и позитивной науки
прослеживается тоже своеобразное «оборачивание». То, что явилось
результатом критики, само становится ее основанием, причем более
прочным, чем первоначальные идеи «практического» разума.
Например, критика Прудона с его прожектами
относительно преобразований в сфере обращения в самом начале и уже
четкий вывод в конце как результат исследования сущности не
только денег, но и капитала: «Бравый юноша не понимает, что
все дело в том, что стоимость обменивается на труд по закону
стоимости и что поэтому для того, чтобы упразднить процент,
необходимо упразднить самый капиталу способ производства,
основанный на меновой стоимости, а значит и наемный труд»1.
Отсюда двоякий способ критики: «Критику политической
экономии, даже согласно выработанному методу, можно было
проводить двояким образом: исторически или логически»2.
Но это все-таки логически не равноправные способы.
Можно, конечно, излагать собственную теорию и в связи с
исторической критикой, как делает Маркс в рукописи 1857-1858 гг.
Но, во-первых, подобный способ изложения громоздкий и не
совсем удобный, во-вторых, он не меняет сути дела:
собственная теория должна быть предпослана критике, так как и при
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. И, с. 358.
2 Там же, т. 13, с. 497.
303
историческом способе критические аргументы черпаются из
собственной теории, а в собственно критической части
предвосхищаются только выводы теории. Всякое суждение
истинности предполагает представление об истинном и ложном,
подобно тому как, по словам lei-j^q, «для того, чтобы знать,
какие поступки справедливы, добры, а какие несправедливы,
злы, нужно уже заранее иметь понятие о справедливом и
добром»1. Речь, следовательно, должна идти прежде всего не об
удобстве или неудобстве того или иного способа
исследования и изложения, а о той более глубокой и объективной
основе, которая диктует определенный порядок исследования и
изложения. Так же как всякое утверждение есть
одновременно и опровержение, всякое опровержение есть утверждение,
предполагает последнее. Но это не строго «симметричное»
отношение: опровержение может быть основано на внутренней
противоречивости критикуемого принципа, что дает только
руководящий принцип для построения позитивной науки,
тогда как позитивно обоснованный принцип автоматически
опровергает всякий другой, ему противоречащий.
Критика, черпающая свои критические аргументы не в
позитивной теории, а в смутно предчувствуемой идее ее, не
может быть критикой «для нас», - она еще только «в себе» и «для
себя», являясь необходимым этапом на пути формирования
позитивной науки. Но и смутно предчувствуемая идея
позитивной науки необходима. Например, смутно предчувствуемой
идеей научного коммунизма явился «реальный гуманизм», и
Марксу в определенном смысле необходимо было пройти
такой этап развития. Но как только позитивная наука получает
свой завершенный вид, роли меняются, и уже позитивная
наука становится условием критики. Если «Капитал» был сначала
по необходимости «Критикой политической экономии», то
теперь он становится условием критики политической экономии
(«Теории прибавочной стоимости»). «В действительности, для
1 Гегель. Работы разных лет, т. 2, с. 13.
304
себя, - поясняет Маркс, - я начал „Капитал» как раз в обратном
порядке по сравнению с тем, как он предстанет перед публикой
(начав работу с третьей, исторической, части)...»1.
Однако теперь, когда критика получает свое позитивное
основание, она превращается из критики «для себя» в
общезначимую и в определенном смысле необходимую, а
попросту - всем понятную критику. Последняя не несет в себе уже
никакого нового теоретического содержания, а только
использует его. Маркс признает: «написать 4-ю книгу,
историко-литературную...» для него «относительно наиболее легкая
часть, так как все вопросы решены в первых трех книгах, а эта
последняя является поэтому больше повторением в
исторической форме»2.
В теории, в логике оказывается, таким образом, снятой
двоякая история - история самой изучаемой конкретности и
история теоретического освоения этой конкретности, ее
литературное отражение. И нет необходимости писать историю
политической экономии, как и «нет необходимости писать
действительную историю производственных отношений...»,
чтобы раскрыть законы буржуазной экономики3.
И того требует действительный историзм в отличие от
«эрудитской» имитации «всестороннего» знания, которую
Маркс назвал «могилой» науки и про которую писал: «Самой
последней формой является профессорская форма, которая
берется за дело «исторически» и с мудрой умеренностью
отыскивает везде «наилучшее»... Это - выхолащивание всех систем, у
которых повсюду обламывают их острые углы и которые
мирно уживаются друг с другом в общей тетради для выписок»4.
Критика, таким образом, одна из форм, где
преодолевается и разрешается противоречие логического и исторического.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 34, с. 238.
2Тамже, т. 31, с. 111.
3Там же, т. 46, ч. I, с. 449.
4Тамже,т. 26, ч. III, с. 528.
305
Но и критика, обладая определенной самостоятельностью, -
определенной оперативностью, - предполагает, как было уже
отмечено, какую-то форму смутно предчувствуемой идеи
нового. Оставаясь в пределах теоретического разума, здесь
невозможно не избежать порочного круга или интуитивизма
худшего толка. Но, во-первых, философия всегда в конечном
счете выражение практических потребностей времени. И мы
не можем, допустим, вывести марксистскую философию как
автоматический результат развития немецкой классической
философии. А во-вторых, диалектическая теория познания
марксизма не снимает, если можно так выразиться, с повестки
дня такие «вещи», как талант, гений и т. д., а только дает им
вполне рациональное объяснение.
То, что вытекает из марксистской концепции историзма,
в полной мере относится и к самому марксизму. «Кто захотел
бы вывести великие научные идеи, созданные Марксом, -
писал В.Ф. Асмус в своей работе „Марксизм и буржуазный
историзм», - из философских, исторических и экономических учений
его предшественников, тот показал бы только полное
непонимание их действительного генезиса... Философия истории Маркса
полагает некоторый новый рубеж научного развития, знаменует
рождение нового типа философско-исторической мысли, по
отношению к которому работа предшественников должна
рассматриваться не столько в качестве прямого реактива, сколько в
качестве всего только фермента его возникновения и развития»1.
Понимание действительного генезиса марксизма не исключает
также значения великой личности его создателя - Маркса.
Понадобилась поистине уникальная фигура человека, соединившего
в себе способность к философскому теоретизированию с очень
яркими морально-политическими качествами, для того чтобы
появилось на свет такое явление, как марксизм.
Роль личности в истории научного, философского,
духовного развития вообще, место и роль критицизма в этом про-
1 Асмус В.Ф. Избр. филос. труды: В 2-х т. Т. 2. М., 1971, с. 286-287.
306
цессе, соотношение традиции и новаторства, логики и
творчества - наиболее сложные вопросы, которые можно разрешить
только на почве марксизма, на почве материалистической
диалектики. Между тем потребности современного научного
развития ставят названные проблемы со всей остротой, и от них
не может отвернуться современная буржуазная «философия
науки». Весьма показательно, что дать рациональное решение
их она не может. На одной из попыток современной
буржуазной «философии науки» поставить методологию научного
познания на почву истории и хотелось бы остановиться.
§ 7. «Историческая школа» в методологии науки
Историзм в «философии науки» проявился в осознании
того, что без истории науки невозможно решение
фундаментальных вопросов логики науки. «И Тулмин, и Кун, и Лакатос,
да и Поппер, - пишет В.Н. Порус, - шли к истории науки»1.
Иными словами, «философия науки» шла к истории науки.
И это весьма характерное признание, в особенности это «да
и Поппер», потому что Поппер, если вспомнить его «Нищету
историцизма», да и «Открытое общество», можно сказать, был
«рыцарь антиисторизма». Дело в том, что существует связь, о
чем почему-то мало кто задумывался, между такими
известными работами Поппера, как «Открытое общество и его
враги» и «Нищета историцизма», с одной стороны, и его работой
«Логика и рост научного знания» и другими работами этого
цикла - с другой. Так вот, такая связь существует. И к
истории науки невозможно было двигаться не преодолевая
антиисторизма Поппера. Но ни Тулмин, ни Кун, ни Лакатос его не
преодолевали. Поэтому им в конечном счете и не удалось
соединить логику и историю. Но что же такое историзм согласно
диалектической логике? Ответ на этот вопрос лучше всего
искать у Э.В. Ильенкова.
1 Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002, с. 184.
307
«Весь... процесс движения познания в целом, - писал
Ильенков, - реально протекает как процесс развития от
абстрактного выражения объективной истины к всё более и
более конкретному ее выражению. Процесс в целом выглядит
как процесс постоянной «конкретизации» знания, процесс, в
котором плавные, эволюционные периоды сменяются время
от времени периодами революционных переворотов,
подобных открытиям Коперника, Маркса, Эйнштейна. Но эти
революционные перевороты, периоды решительной ломки старых
понятий, где, как кажется на первый взгляд, прерывается
всякая нить преемственности и развития, сами суть
естественные и необходимые формы, в которых осуществляется как раз
преемственность процесса движения к все более и более
конкретной истине»1.
Это Ильенков писал тогда, когда о Т. Куне с его
«научными революциями» мы еще вообще и не слышали. И по сути
Ильенков опровергал Куна, Лакатоса и др. не зная их ни по
имени, ни в лицо. Он с самого начала понимал, что движение
ко все более конкретной истине есть историческое движение.
Но оно же есть и логическое движение. «Наука, - пишет
Ильенков, - должна начинать с того, с чего начинает реальная
история. Логическое развитие теоретических определений должно
непосредственно выражать конкретно-исторический процесс
становления и развития предмета. Логическая «дедукция» и
есть не что иное, как общественно-теоретическое выражение
процесса реального исторического становления исследуемой
конкретности. Это - фундаментальный принцип диалектики
как логики»2.
Если, например, реальная история освоения
количественной стороны действительности началась с изобретения
целого «натурального» числа, то и наука математики долж-
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в
научно-теоретическом познании, с. 233.
2 Там же, с. 277.
308
на начинаться с этого. И каждый согласится, что это логично.
Для обычного нормального человека вообще логично все то,
что соответствует реальному порядку вещей. Маркс начинает
свою теорию капитала с товара, потому что в реальной
истории так называемое простое товарное производство
предшествует капиталистическому товарному производству.
Казалось бы здесь все ясно и понятно. Но здесь имеется
одна очень не простая проблема. Ильенков в приведенном
выше месте слово «дедукция» берет в кавычки. В кавычках это
слово употребляет и Энгельс, который пишет: «... Благодаря
успехам теории развития даже вся классификация организмов
отнята у индукции и сведена к «дедукции», к учению о
происхождении - какой-нибудь вид буквально дедуцируется, из
другого путем происхождения, а доказать теорию развития
при помощи простой индукции невозможно, так как она
целиком антииндуктивна»1.
Дело в том, что под «дедукцией» в обычной формальной
логике понимают совсем другое. Самая общая форма этой
дедукции такая: «Все люди смертны, Сократ - человек,
следовательно, Сократ смертен». То, что утверждается обо всех, можно
утверждать о каждом в отдельности. Когда здесь говорится о
«человеке», то имеется в виду человек «вообще». Т. е. не Иван,
не Пётр, и даже не негр и не европеец. Получается «человек»,
который не имеет никаких особенных и индивидуальных
определений. Такие понятия, или термины, называются
абстракциями. Но абстракция это то, что реально не существует, это
то, что существует только «в голове». И весь процесс дедукции
это процесс, который совершается «в голове», а никак не в
реальной истории. И если мы припишем это реальной истории,
то это будет выглядеть по крайней мере странно.
Поппер знает только такую дедукцию. Ильенков
называет ее формальной дедукцией. Логика развития науки, по Поп-
перу, состоит в том, что наука выдвигает гипотезы, а затем
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 497-498.
309
проверяет их частные следствия. Например, мы выдвигаем
гипотезу, что все люди смертны. Отсюда, - чисто
формально-дедуктивно, следует, что Сократ тоже смертен. Если это
действительно так, то наша гипотеза подтверждается. Но
это подтверждение не есть доказательство, потому что для
того, чтобы это доказать таким образом, надо чтобы
умерли все люди. Но тогда и вывод делать будет некому. Поэтому
Поппер на место «верификации», т. е. подтверждения
гипотез, выдвинул «фальсификацию», т. е. опровержение.
Опровержение должно, в нашем случае, состоять в том, что если
найдется такой Сократ, который окажется бессмертным, то
утверждение, что все люди смертны, будет ложным. Ну, а
если мы этого никогда не дождемся... Тем не менее, согласно
Попперу, только то положение научно, которое в принципе
опровержимо. Но здесь возникает парадоксальная ситуация:
если какое-то положение опровергается, то оно, понятно,
опровержимо, а потому научно, и одновременно оно ложно, раз
оно опровергнуто. А если какое-то положение оказывается
неопровержимым, а потому «ненаучным», то получается, что
оно истинное положение, ведь если оно неопровержимо, то
оно истинно, хотя и должно быть признано «ненаучным».
«Парадоксально, - восклицает А. Никифоров, - но вполне
в соответствии с гносеологическими воззрениями Поппера:
несомненно, научны только ложные теории!»1
Понятно, что такая формальная дедукция, как говорится,
имеет место быть. Но это только, как выражался Гегель,
«момент» в развитии научного знания. И чисто формальное
движение не есть реальное порождение, это только движение «в
голове». «Лошадь и корова, конечно, - пишет Ильенков, - не
произошли из «животного вообще», как груша и яблоко не
есть продукты «самоотчуждения», понятия плода вообще. Но,
несомненно, что и корова и лошадь имели где-то в глубине
веков общего предка, а яблоко и груша также есть продукты
1 Никифоров А. Философия науки. История и теория. М., 2006, с. 47.
310
дифференциации какой-то одной, общей для них обеих
ботанической формы плода»1.
И это тоже имеет место. И вопрос только в том, как
между собой связаны формальная дедукция и реальная
«дедукция». Этот вопрос непростой. Но если оторвать формальную
дедукцию от реальной, а, тем самым, оторвать ее от истории,
то тогда неизбежно сам процесс выдвижения гипотез
оказывается иррациональным, как «иррационален» вообще
случай. Ведь случайно то, что не вытекает из господствующих
условий, не «дедуцируется» формально из «всеобщего». И
то, что яблоко упало на голову Ньютона, это чистый случай.
Но именно это породило в голове Ньютона идею всемирного
тяготения. И ни в какую логику такой переход не
умещается, однако исторически это могло быть именно так. Отсюда
и идея дополнить логику историей, которую лучше всего из
«философов науки» выразил Имре Лакатос. «Философия
науки без истории науки пуста; история науки без философии
науки слепа». Руководствуясь этой перефразировкой кан-
товского изречения, - пишет Лакатос, - мы в данной статье
попытаемся объяснить, как историография науки могла бы
учиться у философии науки и наоборот»2.
Так начинает свою статью «История и ее рациональные
реконструкции» Лакатос. И здесь перед нами не просто
перефразировка знаменитого кантовского изречения: чувства без
понятий слепы, а понятия без чувств пусты. Здесь та же самая
проблема: как соединить отдельное и всеобщее, случайное и
необходимое. Кант, как известно, решил эту проблему при
помощи «схематизма воображения». Но Лакатос здесь в эту
проблематику не углубляется. Поэтому у него и не
происходит в конечном счете органического соединения логики и ис-
1 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в
научно-теоретическом мышлении, с. 276.
2 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //
Структура и развитие науки. М., 1978, с. 203.
311
тории. Как выразился он сам, «реальная история науки часто
представляет собой карикатуру ее рациональной
реконструкции, рациональные реконструкции часто являются
карикатурой реальной истории, а некоторые изложения истории науки
являются карикатурами и на ее реальную историю, и на ее
рациональные реконструкции»1.
Процесс формирования гипотез, по Попперу, это
психологический процесс. Но если это чисто психологический процесс,
никак не связанный с определенным историческим фоном, то
тогда почему гипотеза периодического закона элементов
пришла в голову Менделееву во второй половине XIX в., а не Эм-
педоклу в VI в. до н.э., - на этот вопрос нету ответа. И тогда
можно предполагать все, что угодно. И никакая
«рациональная реконструкция» истории науки невозможна. Она
возможна только в том случае, если процесс формирования гипотезы
мы поймем не только как психологический процесс, но и как
исторический процесс. Это процесс исторического развития
науки, хотя он и совершается в голове отдельного конкретного
человека: тот процесс, который совершился в голове Ньютона
в результате падения на его голову яблока, не мог совершиться
в голове питекантропа, если бы ему на голову падали даже не
яблоки, а камни. Следовательно, это случайное событие, -
падение яблока на голову Ньютона, - в чем-то было необходимо.
Поппер упрекает Т. Куна в историческом релятивизме. Но
он сам своим пониманием истории дает все основания для
такого релятивизма, потому что история у него лишена всякой
закономерности и необходимости, всякой логики. И какую
логику можно извлечь из истории науки, если ее там нет, - это
хуже чем искать чёрную кошку в темной комнате.
История, если она не понята в ее внутренней связи,
действительно является карикатурой на логику. Так вот именно
такую карикатуру на историю и дал Поппер в его
«исторических» работах. Ведь даже название историзму он дает уни-
1 Там же, с. 265.
312
чижительное, - «историцизм». И понятно, что при помощи
так понятой истории невозможно ничего объяснить.
История может чего-то объяснять только тогда, когда она сама
объяснима. А у Поппера она необъяснима,
«иррациональна». Дело в том, что история науки это составная часть
истории культуры, всеобщей истории. И если в истории вообще
нет никакой закономерности и необходимости, то этого нет
и в истории науки. Но тогда и нет никакой закономерности
перехода от системы Аристотеля - Птолемея к системе
Коперника. Но все-таки предположить, что система Коперника
исторически могла появиться раньше системы Аристотеля-
Птолемея, едва ли кто-нибудь решился бы. И чтобы перейти
к истории науки как объяснительному принципу, сама
историческая, вернее - антиисторическая, концепция Поппера
должна была бы быть кардинально пересмотрена. Но тогда
надо было бы поставить крест на всей философии истории
Поппера, т. е. отказаться от идеи «открытого общества», на
что ни Кун, ни Лакатос не решились.
Итак, прогрессивный сдвиг в понимании проблемы
метода у Куна и Лакатоса, по сравнению с «критическим
рационализмом» Поппера, состоит прежде всего в том, что в
методологию науки вводится история науки. Для всякого человека,
знакомого с историей науки, совершенно очевидно, что
никакая теория, идея, гипотеза не возникает на пустом месте. Даже
там, где происходит революционный переворот в науке, вроде
возникновения гелиоцентрической системы Коперника, это
переворот в тех представлениях, которые были уже до того. И
трудно себе представить такой вариант, чтобы
гелиоцентрическая система возникла раньше, чем возникла хотя бы идея
планетарного движения вокруг какого-то центрального тела,
которая была уже у греков.
Но предшествующее научное развитие создает только
возможность появления новой теории, только возможность
научной революции. Но возможность реализуется и превраща-
313
ется в действительность только в конкретных исторических
обстоятельствах, конкретными историческими личностями.
В этом и состоит роль личности не только в общей истории,
но и в истории науки. Поэтому любая научная революция на
веки вечные связана с конкретными историческими
личностями. Здесь общее и отдельное, уникальное и неповторимое
становятся тождественными, что совершенно невозможно по
логике Поппера.
«Бетховен, - писал Поппер, и в своем месте мы уже
приводили это место, - в определенной степени безусловно является
продуктом музыкального воспитания и традиции, и многое,
что представляет в нем интерес, отразилось благодаря этому
аспекту его творчества. Однако важнее то, что он является
также творцом музыки и тем самым музыкальной традиции
и воспитания. Я не желаю спорить с метафизическими
детерминистами, которые утверждают, что каждый такт, который
написал Бетховен, определен комбинацией влияний прошлых
поколений и окружающего мира»1.
С метафизическими детерминистами действительно не
стоит спорить. Но помимо метафизического детерминизма
есть еще такой детерминизм, который признает не только
историческую необходимость и историческую причинность, но
также историческое становление самой исторической
необходимости, историческое становление всеобщего через особую
историческую личность, через историческое творчество.
Художественное и научное творчество всегда есть
одновременно историческое творчество. Между тем истинное творчество
возможно только там, где, как писал об этом Э.В. Ильенков,
«имеет место «химическое» или «органическое» соединение
индивидуальности воображения с всеобщей нормой, при
котором новая, всеобщая норма рождается только как
индивидуальное отклонение, а индивидуальная игра воображения
1 Popper K.R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Zweiter Band. Bern,
1958, S. 257.
314
прямо и непосредственно рождает всеобщий продукт, сразу
находящий отклик у каждого»1.
Именно так рождается новая музыкальная «парадигма».
Но не только музыкальная, а и научная тоже. И без
«воображения» здесь так же, как и в музыке, не обойтись, потому что
эллипс, как форму орбитального движения, невозможно
формально дедуцировать из тех представлений, которые
предшествовали открытиям И. Кеплера. Здесь тоже нет
«метафизического детерминизма». Но это не значит, что открытие Кеплера
произошло «иррационально». Тогда «иррационально» все
новое, чего не было раньше. Когда-то не было паровоза, потом
его изобрел Стефенсон, а у нас в России братья Ползуновы.
И паровоз тоже не является прямым продолжением развития
гужевого транспорта. И устроен он вполне рационально. И
парадоксом было бы, если бы вполне рациональная вещь
появилась в результате иррационального акта. Это только Бог так
может творить, а люди делают все по уму, т. е. рационально. А
Поппер, Кун и Лакатос не могут отделаться от представления о
том, что всякая научная революция иррациональна.
Да, всякая революция, и не только научная,
иррациональна с точки зрения рассудочной рациональности, которая
понимает рациональность только как «постепенность», как
непрерывность, только как эволюцию, а не как диалектику с ее
противоречиями, «перерывами постепенности», с ее
отрицательностью. И тем не менее, лишь через отрицание
устаревших научных представлений рождается новая «парадигма».
Мы уже говорили о том, что воображение в теорию
познания впервые ввел только Кант. Точно так же он впервые
стал рассматривать противоречие не как недоразумение и
нарушение логических законов, а как форму, имманентную
разуму. Ильенков в свое время говорил, что современная наука
в своем методе дошла только до Канта. Мы бы сказали, что и
1 Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии. Вопросы
эстетики. М., 1964, Вып. 6, с. 68.
315
«философия науки» дальше Канта не пошла и пойти не может,
не отказавшись полностью от позитивистской «парадигмы».
Не только в смысле догмы эмпиризма в самой науке, но и в
смысле ориентации только на «современную науку», потому
что всякая «современная наука» исторически ограничена. И
методология, ориентированная только на современную
науку, неизбежно оказывается тоже исторически ограниченной.
Исторически неограниченным является только человеческое
мышление, которое поэтому и способно преодолевать всякую
историческую ограниченность, и науки и практики и т. д. Оно
по своей сути не эмпирично, а теоретично, и потому способно
выходить за пределы любой эмпирической данности. И здесь,
конечно, не обойтись без противоречия и воображения. Тем
более что то и другое между собой связано.
Все это проявляется уже у Канта. Ведь воображение, по
Канту, должно заполнить тот «промежуток», который лежит
между отдельным и общим, между чувствами и рассудком.
Но, тем самым, мышление преодолевает противоречие
всеобщего и отдельного. И Кант, вопреки его общей установке на то,
что «антиномии» не преодолеваются разумом, преодолевает
по крайней мере одно противоречие, ведь воображение у него
соединяет отдельное и общее, а единство
противоположностей и есть противоречие.
Движение от отдельного к всеобщему и есть логика
открытия. «...Всякое действительное, исчерпывающее
познание, - писал Ф. Энгельс, - заключается лишь в том, что мы в
мыслях поднимаем единичное из единичности в особенность,
а из этой последней во всеобщность; заключается в том, что
мы находим и констатируем бесконечное в конечном, вечное в
преходящем»1. Если нет обязательной логики перехода от
круга к эллипсу, - отчего Фейерабенд и считает, что здесь полный
произвол, - то это не значит, что здесь вообще нет никакой
логики. Здесь есть логика, но только другая: не рассудочная, не
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 548.
316
формальная, не аристотелевская. И если бы Кеплер вообразил
себе вместо эллипса квадрат или треугольник, то каждый
человек, знакомый с сутью дела, сказал бы, что это нелогично.
Действительно, нет способа преобразовать круг в
треугольник, а вот круг превратить в эллипс очень даже можно,
«растянув» его. И в этом как раз и состоит логика превращения
круга в эллипс. Даже Поппер догадывается о том, что есть
другая логика, помимо той, которую мы очень правильно
называем формальной. Это логика самого содержания, самой сути
дела. «Методологические правила, - пишет в этой связи
Поппер, - рассматриваются мною как конвенции. Их можно
описать в виде правил игры, характерной для эмпирической науки,
которые отличаются от правил чистой логики примерно в той
же степени, в какой правила игры в шахматы отличаются от
правил логики (вряд ли кто-либо согласится считать правила
шахматной игры частью чистой логики). Правила чистой
логики управляют преобразованиями лингвистических формул.
Учитывая это, результат исследования шахматных правил,
пожалуй, можно назвать «логикой шахмат», но едва ли
просто чистой «логикой». (Аналогично и результат исследования
правил научной игры, то есть правил научного исследования,
можно назвать «логикой научного исследования».)»1
Мы бы исправили здесь у Поппера только то, что
«правила чистой логики управляют преобразованиями
лингвистических формул». Дело в том, что логика управляет
преобразованиями не лингвистических формул, этим «управляет»
грамматика, а преобразованиями логических формул. Но
Поппер совершенно прав в том, что логика научного исследования
никогда не покрывается «чистой» логикой, как не покрывается
этой «чистой» логикой логика шахмат. А если бы это было не
так, то «чистая» логика совпадала бы со всем массивом
научного знания. И если мы рассуждаем таким образом, что если
Бог - отец Христа, то Христос - сын божий, то мы рассуждаем
1 Поппер К. Логика научного исследования, примерно 12 стр.
317
логически правильно, но в этом нет никакого правила или
закона формальной логики. Логика дела никогда не умещается в
дело логики, и чтобы понять это, не надо доказывать теорему
Гёделя о неполноте формализованных систем.
Мысль об ограниченности «частой» логики в «философии
науки» не приводит к идее диалектической логики, а приводит
к идее относительности всякой логики. И установка на
абсолютный метод, который гарантировал бы всякую науку на
вечные времена от заблуждений, характерная в особенности для
неопозитивизма, приводит в итоге к полнейшему релятивизму.
«Необходимо было окончательно осознать, - как было
сказано в одной из последних книг по «философии науки», -
что нет и не может быть такого бесспорного основания, такого
фундамента наших знаний, относительно которого в
принципе не возникает никаких сомнений»1. Получается, что
познание движется от сомнительного к сомнительному. И в чем же
тогда прогресс науки? И, значит, мы сейчас, в начале XXI века
знаем не больше, чем знали древние. И на чем держится вся
наша цивилизация, - непонятно. Ведь наука уже давно
вошла в практику, в действительность, и опровергать надо уже не
атомную физику, а атомную электростанцию. Получается
какая-то бледная немочь, седьмая вода на киселе.
Вот вам и закономерный результат развития «философии
науки» на Западе и у нас. Здесь мы шли след в след за Поппе-
ром и его последователями и все понимали через Поппера. И
от идеи абсолютного метода, который бы давал абсолютную
гарантию «демаркации», отделяющей науку от ненауки, вместе с
Фейерабендом мы пришли к «методологическому анархизму», к
отрицанию всякого общеобязательного метода. Но тогда
получается, что и вся история науки, которая была также историей
выработки научного метода, прошла даром. Но даже те ученые
и философы, которые не разделяют марксистских взглядов на
метод научного познания, вынуждены признать, что теорети-
1 .Меркулов И.П. Эпистемология. СПб., 2003, с. 470.
318
ческое мышление воспроизводит в себе этапы истории
человеческого познания. Так, например, известный французский
математик А. Пуанкаре, основатель субъективистской
методологической доктрины, замечает: «Зоологи утверждают, что
эмбриональное развитие животного повторяет всю историю его
предков в течение геологического времени. По-видимому, то же
происходит и в развитии ума... По этой причине история науки
должна быть нашим первым руководителем»1.
В истории науки, как и в эмбриональном развитии,
предшествующее снимается в последующем. Но всякое «снятие»
есть скачок, перерыв постепенности. Это то, что Т. Кун назвал
научной революцией. Но саму революцию он не только не
объяснил, но вынужден в итоге заявить: этот вопрос «приходится
оставить здесь нерассмотренным и, может быть, навсегда»2.
Это опять-таки, как и у Поппера, непонимание характера
исторического детерминизма. И это следствие неприятия и
непонимания гегелевской диалектики. На этом «сломался» и Лакатос.
Так, Лакатос, - самый продвинутый из пост-позитивистов,
марксистское образование в молодости не прошло совсем
даром, - считает, что для Гегеля и его последователей изменения
в «концептуальных каркасах» являются предопределенными
неизбежным процессом, где индивидуальное творчество или
рациональный критицизм не играют существенной роли, что
их наука рассматривает изменения без критицизма.
Даже в отношении Гегеля это верно только с очень
существенными поправками, о чем речь уже шла. Но когда дело
касается «последователей» его, к которым позитивисты
причисляют обычно и марксистов, то это совсем неверно. По крайней
мере, один из марксистов, сам Маркс, обосновал
необходимость критицизма во всяком прогрессивном развитии. И не
только своей революционной диалектикой, но и своей
научной практикой. Об этом тоже уже шла речь.
1 Цит. по.: Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967, с. 10.
2См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975, с. 121.
319
Но Маркс, так же как и Гегель, несмотря на всю свою
революционность, понимал историческое развитие науки как
необходимое развитие. Однако необходимость заключается не
в том, что весь ход исторического развития науки
предопределен заранее, а в том, что для каждого этапа этого развития
требуются необходимые теоретические предпосылки, задающие
своего рода «вектор» дальнейшего движения. Возможна ли
была специальная теория относительности во времена
Аристотеля? На сей вопрос, наверное, и Лакатос ответил бы: нет,
невозможна, для этого не было необходимых условий.
«Человечество, - как писал Маркс, - ставит себе всегда
только такие задачи, которые оно может разрешить, так как
при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама
задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее
решения уже имеются налицо...»1. Таким образом дело обстоит
не только в области практической, но и в теоретической.
Время ставит определенные вопросы, и на них может быть только
определенный ответ. Каким образом он будет добыт - это уже
другое дело. Но он должен быть определенным.
Индивидуальное творчество и критицизм притом не
только не исключаются, но обязательно предполагаются. Однако
критицизм, входящий в права критикуемого, не вырождается
в пустой негативизм и критиканство. Он сам по своей
собственной логике приводит к формированию исходных
принципов новой науки. В ее рамках и решаются вопросы,
неразрешимые прежде.
В творческом процессе человек всегда решает вопрос,
который имеет альтернативную, антиномическую форму. Решение
его состоит в нахождении «третьего», соединяющего крайние и
противоположные полюса, что сопровождается своего рода
психологическим «разрядом» и субъективно несет положительную
эмоциональную окраску. Этот процесс, имеющий, правда, не
только логическую, но и психологическую природу, совершенно
'Там же,т. 13,с. 7.
320
непонятен и «иррационален» именно с логической стороны,
когда его рассматривают с точки зрения формальной логики. А она
по своей природе «третье» исключает, которого «не дано».
Не умея объяснить такой переход логически, нельзя,
понятно, объяснить его и как исторический переход. Значит,
историзм так называемой «исторической школы в методологии
науки»1, с помощью которого «постпозитивисты» пытаются
смягчить основные пороки неопозитивизма, оказывается
урезанным в самом существенном звене.
Противоречие - это предел, до которого дошла
«философия науки» и который она перейти не смогла. И не только в
лице ее западных представителей, но и наших отечественных,
в том числе и в лице такого «философа науки», как В. Порус.
Главное противоречие «философии науки» Порус усматривает
в том, что «рациональность» не может быть обоснована
«рационально». «Рациональность, - заявляет он, - результат
усилия воли и мысли. Чтобы выть рациональным, человек должен
быть свободным, не преодолев в себе рациональность. В этом
трагедия и парадокс рациональности. Рациональность не
может быть несвободной и безличностной, и она же
элиминирует свободу и личностное начало»2.
Перед нами еще один вариант «трагической диалектики»,
которой мучился несчастный С. Киркегор. Но Порус, как
истинный патриот своего отечества, ищет поддержки не у
датчанина Киркегора, а у православного С.Н. Булгакова, который
считал, что вера в преодоление всякой границы, положенной
человеческому разуму, вера в то, что всякая проблема в
принципе разрешима, - это «ограниченность и самодовольство
философской мысли, которой чуждо всякое сознание
трагедии, более того, присуща уверенность в разрешении и
логической разрешимости всех вопросов»3.
1 См.: Структура и развитие науки. М, 1978, с. 22-23.
2 Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002, с. 100.
3 См.: там же, с. 99.
321
Здесь Порус явно превосходит и Поппера, и Куна, и Лака-
тоса. Те только констатировали, что всякий рационализм
ограничен, и не пускались ни в какое морализаторство по этому
поводу. Порус же использует совершенно недозволенный для
ученого человека прием: если ты считаешь, что всякое
противоречие в принципе разрешимо, то ты «ограниченный и
самодовольный» оптимист. Впрочем, такие «аргументы» вовсе
не новы. В давние времена Артур Шопенгауэр все это, и даже
кое-что покрепче, высказал в адрес ненавистного Гегеля,
который считал, что перед человеческим разумом ничто устоять не
может, потому что разум способен разрешать противоречия.
Порус не находит у разума такой способности. «Во всяком
случае, - заявляет он вполне авторитетно, - противоречие
рациональности не может быть разрешено в смысле формального
выхода из парадокса. Оно является одной из форм
фундаментальной противоречивости, присущей субъекту познания»1.
Формального выхода из противоречия действительно нет,
несмотря на все усилия в этом направлении таких
замечательных советских философов, как И.С. Нарский, Ю.А. Петров,
A.A. Зиновьев и др. Формальная антиномия «А и не-А» - это
только форма противоречия, но не само противоречие, потому
что действительное противоречие существует только вместе
с особенным содержанием, потому что только в содержании
имеет место единство противоположностей. Форма «А и не-
А» сама по себе никакого единства не содержит, поэтому она
«разваливается» на две «половинки» и «разваливает» любую
логику. И разрешается это противоречие только через
особенное содержание, которое еще надо найти, надо открыть, надо
придумать. Это сугубо творческая задача, которая может быть
разрешена только при помощи такой способности, как
воображение. Кант был не так далек от истины, когда считал, что эта
способность или есть у человека, или ее нет. И с последним
уже ничего не поделаешь.
1 Там же.
322
Форма «А и не-А» - это только «схема» противоречия,
если использовать здесь это кантовское выражение. И она
должна воплотиться в конкретном содержании, для того
чтобы стать действительным противоречием. Но чем отличается
«схема» от реальной действительности, или от образа
реальной действительности? Это можно пояснить на примере
«схемы» причинности.
«Схему» причинности Кант определяет следующим
образом: «Схема причины и причинности вещи вообще есть
реальное, за которым, когда бы его ни полагали, всегда следует
нечто другое. Стало быть, эта схема состоит в
последовательности многообразного, поскольку она подчинена правилу»1.
Понятно, что это еще не причина. Ведь если каждый
раз, когда я встречаю бабу с пустыми ведрами, и со мной
происходит какое-нибудь несчастье, то это еще не
основание, чтобы считать бабу с пустыми ведрами причиной моих
несчастий. Post hoc не есть, как известно, propter hoc. Для
этого надо еще кое-что, а именно то, что можно назвать
механизмом, который связывает причину и следствие. И этот
«механизм» обнаруживается для меня только тогда, когда я
сознательно включаю определенную каузальную цепъ. «...
Благодаря деятельности человека, - отмечал Энгельс, - и
обосновывается представление о том, что одно движение
есть причина другого»2.
Понять причину чего-то - это всегда творческая задача.
Но, вместе с тем, ее решение всегда имеет определенную
логику. Но это совсем не та логика, которую имеют в виду Порус и
Поппер. Хотя Поппер и догадывается о существовании другой
логики, по сравнению с обычной аристотелевской. Чтобы
разобраться в том, какая здесь логика, мы приведем эксперимент,
проведенный в свое время Л.С. Выготским. Этот эксперимент
состоит в следующем.
1 Кант И. Соч. в 6 т. Т. 3. М., 1964, с. 225.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20, с. 545.
323
«Детей спрашивают, как нужно дополнить фразу:
«Человек упал с велосипеда, потому что...». Выполнить это задание
не удается детям еще в 7 лет. Они дополняют часто эту
фразу следующим образом: «Он упал с велосипеда, потому что
он упал и потом он очень ушибся»; или: «Человек упал с
велосипеда, потому что он был болен, потому его и подобрали
на улице»; или: «Потому что он сломал себе руку, потому что
он сломал себе ногу». Мы видим, таким образом, что ребенок
этого возраста оказывается неспособным к намеренному и
произвольному установлению причинной связи...»1.
Дети до определенного возраста еще не владеют свободно
категорией причинности. Поэтому и фантазия их
организована неправильно: вместо того, чтобы указать причину падения
велосипедиста, они указывают следствие. «Схема»
причинности, как ее определяет Кант, - а по другому ее и не
определишь, - это логика причинности. И ребенку можно было бы
возразить, что он, когда он говорит, что велосипедист упал с
велосипеда, потому что он сломал себе руку, что он мыслит
нелогично. Такое словоупотребление и оправданно, и
распространено. И человек, не побывавший в обучении у Евгения
Казимировича Войшвилло, под словом «логика» именно это
и понимает, а вовсе не рассуждение по modus ponens или по
modus tollens. Да и любой ученый человек, не замороченный
«философией науки», понимает под научным исследованием
отыскание причин соответствующих явлений. Ф. Бэкон
считал, что истинное знание есть знание причин2. И причина -
это не только то, что открывает и находит ученый, но это и
категория, которая предшествует всякому научному опыту и
организует его в соответствии со своей логикой.
Именно эту логику, логику синтеза на основе категорий,
не знает и не признает «философия науки». Не признает ее,
понятно, и Порус, потому что он идет след в след за «фило-
1 Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 1982, с. 207-208.
2 Бэкон Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1978, с. 80.
324
Софией науки» и очень гордится тем, что он причастен к этой
«большой философии», как он ее называет. А классическая
философия, философия Канта, Фихте, Гегеля, Ильенкова - это
«маленькая философия». Таково типичное высокомерие
позитивиста. Но вернемся к нашей «логике».
Дело в том, что, как мы уже сказали, «схема»
причинности - это еще не причина. Чтобы быть действительной
причиной, эта «схема» должна быть заполнена конкретным
содержанием. И только это конкретное содержание сообщает ту
необходимость у которая только и делает причину причиной.
«Если мы, - писал Ф. Энгельс, - вложим в ружье капсюль,
заряд и пулю, а затем выстрелим, то мы рассчитываем на
заранее известный по опыту эффект, так как мы в состоянии
проследить во всех деталях весь процесс воспламенения,
сгорания, взрыва, вызванного внезапным превращением в
газ, давление газа на пулю»1.
Если мы в состоянии проследить во всех деталях весь
процессу мы можем рассчитывать на предполагаемый эффект.
Иначе говоря, только в этом случае мы действительно знаем
конкретную причину соответствующего эффекта. Знание этой
конкретной причины дает только практика и эксперимент.
Из опыта мы этой конкретной причины знать не можем. Здесь
Юм прав. Потому что в опыте нам не дана необходимая связь
между причиной и следствием. Но всякому опыту
предшествует понятие причины в виде «схемы». И это направляет наш
поиск конкретной причины.
Что это означает логически? Логически это означает, что в
опыте мы соединяем абстрактно-всеобщее понятие причины,
«схему», и чувственно-конкретное представление о
некотором явлении. Мы должны соединить несоединимоеу отдельное
и всеобщее. Иными словами, мы должны разрешить
противоречие между тем и другим. Как оно вообще разрешается? Оно
разрешается только в особенной форме, в форме особенного
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20, с. 545.
325
процесса, например, в форме того процесса, который
происходит при выстреле и который описан Энгельсом.
Противоречие в общем виде не решается] Вот в чем
корень всех недоразумений, с этим связанных. Здесь, с одной
стороны, «философия науки», которая, в особенности в виде
логического позитивизма, хотела разрешить все
противоречия, все «парадоксы», создав язык, свободный от всякой
парадоксальности, этакий стерильный и совершенно унылый
«язык науки». С другой стороны, «диамат», который считал,
что диалектические категории могут непосредственно
прилагаться к любому материалу.
Против последнего и выступил в свое время Л.С.
Выготский. Правда, выступил так, что его никто не услышал. Дело
в том, что проделал все это Выготский в работе, которая
оставалась при жизни автора, да и долгое время после смерти,
неопубликованной. Это работа «Исторический смысл
психологического кризиса», где речь идет отнюдь не только о
психологии и о методе психологии. А речь идет о методе вообще.
И это не было учтено по сути до сих пор ни «методологами»,
ориентированными на импортную «философию науки», ни
« д иаматчиками».
Главная идея Выготского состояла в том, что метод должен
быть адекватен тому специфическому материалу, к которому
он применяется. Это идея по существу еще гегелевская.
«Метод, - писал Гегель, -... есть не внешняя форма, а душа и
понятие содержания»1. И суть кризиса современной «философии
науки» состоит в том, что она была ориентирована на такой
абсолютный метод, который применим к любому материалу.
Но историческая логика развития «философии науки»
подвела ее к тому, что она или должна признать имманентность
метода, или отказаться от идеи метода вообще.
Роль метода, считает Выготский, по крайней мере,
двойственна. «Есть, - писал Выготский, - два типа научных систем
1 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1975, с. 423.
326
по отношению к методологическому хребту,
поддерживающему их. Методология всегда подобна костяку, скелету в
организме животного. Простейшие животные, как улитка и
черепаха, носят свой скелет снаружи, и их, как устриц, можно
отделить от костяка, они остаются малодифференцированной
мякотью; высшие животные носят скелет внутри и делают его
внутренней опорой, костью каждого своего движения. Надо и
в психологии различать низшие и высшие типы
методологической организации»1.
Иначе говоря, метод исторически и логически сначала
снаружи, а потом он перемещается вовнутрь материала, делая
его конкретным содержанием той или иной науки. И это мы
видели на примере категории причинности: сначала она чисто
внешним образом организует материал опыта: что сначала, что
потом, затем становится содержанием опыта. И исторически
развитие самого понятия научного метода в Новое время
начинается с декартовских «Правил для руководства ума» и его
«Рассуждения о методе», где «основных правил метода» всего
четыре: «Первое - никогда не принимать за истинное ничего,
что я не признал бы таковым с очевидностью... Второе -
делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на
столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.
Третье - располагать свои мысли в определенном порядке...
И, последнее - делать всюду перечни настолько полные и
обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что
ничего не пропущено»2.
И любой скажет, что это внешние требования, - по сути
методика, - применимые к любому материалу. Этим
начинается историческое развитие учения о методе. А кончается
развитие учения о методе Гегелем, у которого метод становится
«внутренней опорой, костью каждого своего движения».
Последний и называется диалектическим методом. Это метод,
1 Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. М., 1982, с. 352.
2 Декарт Р. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1989, с. 260.
327
совпадающий с внутренней логикой развития конкретного
содержания. И если выражение «логика науки» имеет смысл, то
это только то, что представляет собой логика того особенного
содержания, которым занимается наука.
«Диаматчики» поняли диалектику как метод так, что
категории диалектики могут прилагаться к любому материалу.
Выготский возражал «диаматчикам»: «Непосредственное
приложение теории диалектического материализма к вопросам
естествознания, и в частности к группе наук биологических
или к психологии, невозможно, как невозможно
непосредственно приложить ее к истории и социологии»1.
Чтобы «приложить» диалектический метод к
определенному материалу, должна быть учтена прежде всего
специфика этого материала, т. е. специфическая область той или иной
науки. «Диалектический метод вовсе не един, - отмечал
Выготский, - в биологии, истории, психологии. Нужна
методология, т. е. система посредствующих, конкретных, применимых к
масштабу данной науки понятий»2.
Например, понятие причинности, хотя и является общим
для всякого научного познания, но оно особенное для
разных областей действительности: механическая причинность
- это одно, а социологическая - совсем другое. Механическая
причинность - это когда одно тело давит на другое, толкает
другое. В обществе никто друг друга не толкает, если только
в общественном транспорте, но там мы просто механические
тела. И, вместе с тем, мы ощущаем на себе какое-то
«давление» обстоятельств, которые заставляют нас поступать так
или иначе. Здесь действует то, что Аристотель характеризовал
как целевую причинность. Мы ставим себе определенные цели
и стремимся их достичь, и потому они действуют как
причины. Раз они причиняют мои действия, значит они являются
причинами. «Философия науки» потому и не одолела историю,
1 Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. М., 1982, с. 419.
2 Там же.
328
потребность в которой она ощутила в лице Т. Куна и И. Лака-
тоса, что она так и не поняла того особого типа исторической
детерминации, который предполагает такие вещи, как
«случай» и «цель».
Основную причину психологического кризиса
Выготский видит как раз в том, что психология не смогла выработать
своего собственного метода, что она пыталась заимствовать
его у биологии, физиологии высшей нервной деятельности и
т. д. Но эта собственная методология, согласно Выготскому,
должна быть тождественна общей психологии. «Кто пытается,
- пишет Выготский, - перескочить через эту проблему,
перепрыгнуть через методологию, чтобы сразу строить ту или
иную частную психологическую науку, тот неизбежно, желая
сесть на коня, перепрыгивает через него... Нельзя сейчас,
исходя из принципов универсальных, равно приложимых к
физике и к психологии, не конкретизировав их в методологии,
прямо подойти к частному психологическому исследованию:
вот почему этих психологов упрекают в том, что они знают
одно сказуемое, равно применимое ко всему миру»1.
И это относится к современному «глобальному
эволюционизму», который хочет провести единую непрерывную линию
от амебы до Эйнштейна. И та и тот, говорят, делают пробы и
ошибки, стало быть, они пользуются одним и тем же
методом познания окружающего мира. И это относится не только
к Попперу и его адептам. Это относится и к «диамату»,
который утверждает, что все и везде совершается «диалектически».
Поэтому предлагается непосредственно «прикладывать»
диалектику ко всякому предмету, - и к амебе, и к Эйнштейну, и к
Французской революции, и к кипящему чайнику. В свое время
такую диалектику «кипящего чайника» очень зло высмеивал
Э.В. Ильенков, который шел вслед за Выготским в понимании
конкретности диалектики, но продвинулся здесь несравненно
дальше. И столкнулся с «диаматчиками», которые обвиняли
1 Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. М, 1982, с. 418.
329
Ильенкова в «гносеологизме» и считали, что диалектика есть
теория всего на свете. Колотушки, которые предназначались
Выготскому, достались Ильенкову.
Диалектика нужна для создания общих
теорий-методологий, которые уже, в свою очередь, должны стать методами
для каких-то конкретных областей знания. «Для создания
таких опосредующих теорий-методологий, - пишет
Выготский, - общих наук - надо вскрыть сущность данной области
явлений, законов их изменения, качественную и
количественную характеристику, их причинность, создать свойственные
им категории и понятия, одним словом, создать свой
«Капитал». Стоит только представить себе, что Маркс оперировал
бы общими принципами и категориями диалектики, вроде
количества-качества, триады, всеобщей связи, узла, скачка и
т. п., чтобы увидеть всю чудовищную нелепость
предположения, будто можно непосредственно, минуя «Капитал», создать
любую марксистскую науку. Психологии нужен свой
«Капитал» - свои понятия класса, базиса, ценности и т. д., - в
которых она могла бы выразить, описать и изучить свой объект, а
открывать в статистике забывания оттенков серого цвета у
Немана подтверждения закона скачков - значит ни на йоту не
изменить ни диалектики, ни психологии»1.
Отсюда, кстати, понятна вся нелепость упреков Марксу в
том, что он «вывел» экспроприацию экспроприаторов из
закона отрицания отрицания. Отрицание должно совершиться
имманентно в соответствии с законами той реальности,
которая сама себя отрицает. Закон диалектики не отрицание, а
самоотрицание. И историческое творчество происходит
только так, что новое должно прийти на смену старому на основе
самоотрицания старого. Это же верно и по отношению к
историческому развитию науки. И общая «схема» здесь давно уже
прорисовалась. «Развитие научных идей и взглядов, - писал
Л.С. Выготский, - совершается диалектически. Противопо-
1 Там же, с. 420.
330
ложные точки зрения на один и тот же предмет сменяют друг
друга в процессе развития научного знания, и новая теория
часто является не прямым продолжением предшествующей, а
ее диалектическим отрицанием. Она включает в себя все
положительные достижения своей предшественницы,
выдержавшие историческую проверку, но сама в построениях и
выводах стремится выйти за ее пределы и захватить новые и более
глубокие слои явлений»1.
И Энгельс об этом же писал: «Наблюдение открывает
какой-нибудь новый факт, делающий невозможным прежний
способ объяснения фактов, относящихся к той же самой
группе... Дальнейший опытный материал приводит к очищению
этих гипотез... пока, наконец, не будет установлен в чистом
виде закон»2.
Перед нами то, что «философы науки» называют гипоте-
тико-дедуктивным методом. И в этом нет ничего
особенного. Это опять-таки кантовская «схема», которая должна быть
наполнена конкретным содержанием. И если это относится к
истории науки, то мы должны иметь дело с конкретным
историческим содержанием, включающим в себя всю
совокупность исторических обстоятельств, при которых произошло
то или иное научное открытие, включая и особую личность
самого творца новых научных теорий. Здесь логика должна
быть дополнена историей. Но конкретная история, заполняя
логические лакуны, сама становится элементом логики -
логики истории. И это сугубо творческая задача, потому что
исторически любое действительное открытие совершается в
условиях существенной неполноты логических условий. Если бы
Кеплер получил от Тихо Браге все параметры орбиты Марса,
то не надо было быть Кеплером, чтобы сказать, что она
имеет форму эллипса. Это следовало бы чисто аналитически из
наблюдений Тихо Браге. Формирование гипотезы, наоборот,
1 Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. М., 1982, с. 210.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20, с. 555.
331
есть синтетическая, а потому творческая и, согласно логике
Поппера, иррациональная, задача. Логика синтеза не
умещается в логику анализа с ее «запретом» противоречия, то есть
в логику узкой рассудочной рациональности. Но эта
рациональность оказывается единственной рациональностью для
Поппера и, в конечном счете, для Поруса.
Вся «трагедия» «философии науки» в том, что она
застревает в рамках «антиномии-проблемы»: новое не может быть
получено в пределах рассудочной рациональности, а другой
рациональности она признавать не хочет, потому что другая
рациональность противоречит рассудочной рациональности
с ее «запретом» противоречия, другая рациональность
является «иррациональной». И здесь ей не хватает ни
воображения, ни просто верности факту, ведь фактически-исторически
наука открывала новое, стало быть, она как-то разрешала
возникавшие противоречия. Здесь просто нужно то, что Лакатос
называет «рациональной реконструкцией» истории науки. Но
здесь вопрос упирается опять же в то, что значит
«рациональная». И здесь и Лакатос пасует перед проблемой, отделавшись
ироническим замечанием, что «реальная история науки часто
представляет собой карикатуру ее рациональной
реконструкции, рациональные реконструкции часто являются
карикатурой реальной истории, а некоторые изложения истории науки
являются карикатурами и на ее реальную историю, и на ее
рациональные реконструкции»1.
Иначе говоря, и Лакатос питает скепсис относительно
возможности адекватного познания истории, относительно
рациональности исторической науки. Здесь предел, который
не может перейти «философия науки». История вообще
остается за рамками «философии науки», которая с самого
начала была ориентирована на «индуктивные науки», то есть на
естествознание. Но и на естествознании она сломалась, как
1 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //
Структура и развитие науки. М., 1978, с. 265.
332
только вопрос встал об историческом развитии
естествознания, о формировании новых гипотез, теорий и т. д. Тем более,
что когда мы говорим об историческом развитии
естествознания, то тут совершенно невозможно абстрагироваться от
практики, от развития техники и промышленности, которые
не только используют результаты научного развития, но и
ставят проблемы перед ним. Последнего «философия науки»
совершенно не учитывает: для нее всякая научная теория
рождается или из абстрактного «опыта», или из чистого мышления.
Для всякой «философии науки» всякая рациональность
ограничивается с внешней стороны противоречием. С
возникновением противоречия кончается всякая рациональность.
Хотя кончается здесь только рассудочная рациональность.
Стало быть, если существует какая-то другая рациональность,
то она должна включать в себя противоречие. Вот этого как
раз не хочет признать Порус. Хотя вроде бы он все понимает.
Но он не хочет понять, что «парадокс» рациональности -
рациональность сама не может быть обоснована рационально,
есть действительное противоречие. Иначе говоря,
рассудочность не может быть сама обоснована рассудочно. Для этого
надо выйти за пределы рассудочных определений мышления,
то есть за пределы отношений, подчиненных закону
«запрещенного» противоречия. А если мы выходим за пределы
закона «запрещенного» противоречия, то мы должны вступить в
пределы «разрешенного» противоречия.
«Существует, - пишет Порус, - классическая
философская традиция истолкования этого парадокса. В ней различают
Рассудок и Разум. Работа Рассудка - движение внутри
системы критериев рациональности, внутри парадигмы. Работа
Разума - выход за пределы парадигмы, критика и создание иных,
альтернативных парадигм рациональности. Разум в своей
творчески-разрушительной и вместе с тем
творчески-созидательной работе иррационален для Рассудка. Рассудок,
цепляющийся за парадигму и растворенный в ней - иррационален
333
для Разума. Завоевав новые территории знания, Разум
уступает правление Рассудку, который подвергает достижения
Разума рационализации»1.
Все правильно: дух разрушающий есть дух созидающий,
как говорил русский гегельянец Михаил Бакунин. Здесь не
сказано только одно, но самое главное, - в чем, собственно,
состоит «парадигма» Рассудка? Хотя это в классической
философии, уж если обращаться к ней, давно известно, - это
пресловутый закон тождества, А = А. Или, иначе говоря,
закон «запрещенного» противоречия. Поэтому когда Николай
Кузанский понял, что для познания Бесконечности нужна
какая-то другая познавательная способность, с помощью
которой можно соединять противоположности, то он назвал эту
способность Разумом. Разум - это и есть прежде всего
способность выдерживать и разрешать противоречие, единство
противоположностей, coinsidentia oppositorum, как
выражается Кузанский.
Все то же самое, по сути, и у Гегеля. Разум потому и
противоречит рассудку, что тот и другой подчинены
противоположным, противоречащим друг другу основным принципам.
То есть противоречие того и другого должно быть определено,
чтобы его можно было разрешить. И здесь Н. Автономова,
которую цитирует Порус, всего до конца не договаривает. «В
понятии рациональности, - сказано у Автономовой, -
обнаруживается внутреннее противоречие: рациональное
оказывается одновременно и рассудочным и разумным, причем это
противоречие рассудка и разума до поры, до времени затемнено и
выявляется тогда, когда творческий акт, выступающий как акт
иррациональный, ломает прежнюю освященную разумом
логику. .. Иррациональное, таким образом, есть абсолютизация
всегда присущего познанию творческого момента: то, что
прежде выступало как нерациональное, неразумное, нарушающее
логические законы, в дальнейшем с неизбежностью будет ра-
1 Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура, М., 2002, с. 98-99.
334
ционализировано, подчинено правилу, затем само станет
правилом и, наконец, вплотную подойдет к тому моменту, когда и
это правило нужно будет преодолеть»1.
Здесь говорится о противоречии Рассудка и Разума.
Только в чем же конкретно это противоречие? Здесь и Автономо-
ва боится назвать черта по имени. И, вдохновленный этим,
Порус выносит свой вердикт: «Однако различение Рассудка
и Разума проблематично. Когда отвечают на вопрос,
благодаря чему Разум совершает свои подвиги, обычно указывают на
«нерассудочные» духовные движения: интуицию,
бессознательное, творческое воображение. Проясняется ли тем самым
«рациональность Разума»? Говорят также, что историческое
движение познания осуществляется через разрешение
противоречий между Разумом и Рассудком. Но что означает это
«разрешение»?»2.
Что значит «разрешение» противоречия, это объяснено
тысячу раз. Это разрешение означает, что находится та
конкретная форма, внутри которой противоречащие друг другу
стороны становятся моментами единого целого. Если,
допустим, капитал возникает в обращении и не может возникнуть в
обращении, и в этом заключается противоречие, то
конкретной формой, в которой это противоречие разрешается,
является особый товар рабочая сила, который соединяет
производство и обращение в единое целое, в единый непрерывный
процесс. И здесь действительно требуется творческое
воображение, чтобы эту форму открыть. Так же как потребовалось
творческое воображение Кеплеру, чтобы открыть
эллиптическую форму орбитального движения. Формально такие
противоречия не разрешаются. Поэтому долдонский рассудок здесь
ничего не может поделать. И он заявляет, что такого быть не
может. И тогда такой резонерствующий рассудок адресует
такого рода проблемы по ведомству, в котором говорят: тайна
1 Цит. по: там же, с. 99.
2 Там же, с. 99.
335
сия великая есть... И Порус от рассудочной рациональности
шарахается в прямо противоположную крайность - к
Булгакову, Бердяеву, Батищеву и т. п. И получается «парадокс»: те,
которые считают, что любая проблема в принципе разрешима,
потому что разум способен разрешать противоречия, то есть
разум безграничен, объявляются «ограниченными и
самодовольными», а те, которые считают, что разум принципиально
ограничен, являются «неограниченными» и не довольными
собой. Поистине «безумьем разум стал...».
«Философия науки» зашла в тупик именно потому, что
проблема творчества, в том числе и научного творчества, была
ею не только не решена, но даже не поставлена. Эта проблема,
вместе с проблемой мышления вообще, была переадресована
«психологии». И это связано также с тем, что «философия
науки» ориентирована на аристотелевскую логику с ее
«запретом» противоречия, то есть на рассудочную логику. И в этом
причины кризиса «философии науки», о котором вынуждены
говорить ее адепты. Правда, причину этого кризиса видят в
падении престижа самой науки, как это представлено у А.Л.
Никифорова1. Но причина кризиса «философии науки» в том, что
она была ориентирована на ту науку, которая не объясняла и
не могла объяснить человеку самые важные для него вещи.
Она исключала всякую критику науки, которая была
оставлена на откуп Ницше, Бердяеву, Шестову, Хайдеггеру и
постмодернистам. Правда, ее критикует и Фейерабенд. Но именно
поэтому он и выходит за пределы «философии науки». И
поэтому его числят не только по ведомству «философии науки»,
но и по ведомству постмодернизма. Но, главное, «философия
науки» не смогла сделать своим методологическим принципом
историзм, история науки для нее оказалась лишенной всякой
логики, а логика осталась для нее только формальной. В
заключение мы хотим привести концепцию историзма великого
1 Никифоров А.Л. Философия науки. История и теория. М., 2006,
с. 124.
336
русского демократа А.И. Герцена, который имел об истории
гораздо более адекватное представление, чем все позитивисты
и пост-позитивисты.
§ 8. Историзм Герцена
Т.Г. Масарик по каким-то странным соображениям
отказывает Герцену в историзме. «Герцен, как и Белинский, - пишет
он, - был противником историзма; как и Белинский, он
отказывается быть рабом времени и событий. Позднее ... Герцен
признает существование прогресса, но и в этом он отличается
от Гегеля своим материалистическим мировоззрением»1.
Выходит, историзма на почве материалистического
мировоззрения не может быть. И как же тогда быть с Марксом, который
как раз и соединил историю с материализмом. И, собственно, его
главное открытие состояло в том, что он сам назвал
материалистическим пониманием истории. Герцен колебался между
материализмом и идеализмом. И это связано с тем, что его никак не
устраивал вульгарный материализм, в том числе его друга К. Фогта, из
которого никак невозможно объяснить идеальное. А другого он не
знал. Но Герцен точно указывает как на решение проблемы
идеального и материального на историю. Не физиология, а история,
хочет сказать Герцен, есть основа сознания. «Задача физиологии -
пишет он, - исследовать жизнь, от клетки и до мозговой
деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она
останавливается на пороге истории»2. Об этом же он писал своему не столь
же одаренному, как отец, сыну Александру Александровичу
Герцену: «Задача физиологии состоит в том, чтобы проследить
жизненные явления, начиная с клетки и кончая мозговой деятельностью;
задача эта кончена, когда сознание сформировалось; физиология
останавливается на пороге истории»3.
1 Масарик Т.Г. Россия и Европа. СПБ., 2000, с. 394.
2 Там же, с. 527.
^См.: Герцен A.A. Общая физиология души. М., 2009, с. 4.
337
На смену физиологическому материализму у Герцена
просится материализм исторический. Физиологический
материализм Фогта он называет вздором. Так характеризует этот
материализм Герцен в письме к сыну, который, вопреки
предупреждению отца, попал-таки под влияние Фогта. Но вот что он
писал своему сыну в связи с этим: «Насчет занятия,
разумеется, надобно слушать Фогта, но о философии он говорит все же
вздор»1. Сын, однако не внял отцу и, вместе с физиологической
наукойу заглотил и тот «вздор», который Фогт связывал со своей
наукой. На этой почве разошлись отец с сыном. «Расходимся мы
с тобой, - пишет отец сыну, - не в главном, однако мне кажется,
что ты слишком упрощенно разрешаешь вопрос, выходящий за
пределы физиологии; последняя доблестно выполнила свою
задачу, разложив человека на бесчисленное множество действий
и реакций, сведя его к скрещению и круговороту
непроизвольных рефлексов; пусть же она не препятствует теперь
социологии восстановить целое, вырвав человека из анатомического
театра, чтобы возвратить его истории»2.
Основной пафос Герцена относительно человека и его
основного отличия от других живых существ - свободы воли}
состоит в том, что не в физиологии и не благодаря физиологии
человек становится человеком, а он становится таковым
только в истории. «Физиология сбрасывает идола с его пьедестала
и полностью отрицает свободу. Но следует еще
проанализировать понятие о свободе как феноменологическую
необходимость человеческого ума, как психологическую реальность»3.
Не в физиологии, а в истории человек обретает свободу.
Человек историческое существо. «Задача физиологии - пишет
он, - исследовать жизнь, от клетки и до мозговой
деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она
останавливается на пороге истории. Общественный человек усколь-
1 Герцен. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1986, с. 554.
2 Там же, с. 526.
3Там же, с. 530.
338
зает от физиологии; социология же, напротив, овладевает им,
как только он выходит из состояния животной жизни»1.
Но в чем начало самой истории? Где начало
«социологии»? Здесь Герцен колеблется между историческим и
антропологическим пониманием человеческой сущности. Иногда
он хватается, как мы видим, за «социологию». Иногда он
начало истории относит к началу того, что называется
«цивилизацией». «Начало истории, - пишет он, - непокорность
лица поглощающей его семье, стремление стать на свои ноги
и невозможность на них удержаться. Племенным
безразличием замыкается животный мир»2. Выходит, племенной
человек - еще животное?
Герцен не знает труда как субстанции истории, а через нее
и человека, хотя очень близко подходит к такому пониманию. В
понимании истории Герцен не гегельянец и не марксист, здесь
он застрял между Гегелем, Фейербахом и Марксом. История,
по Герцену не является производной ни от Логики, ни от Бога.
Она довлеет сама себе. Она есть субстанция, а не акциденция.
Она причина самой себя, она есть взаимодействие внутри себя.
«Личность создается средой и событиями, но и события
осуществляются личностями и носят на себе их печать - тут
взаимодействие»3. Но это взаимодействие должно происходить на
какой-то реальной почве. Вот этой почвы Герцен не находит. А
почва здесь - созидание человеческого мира.
С физиологией все ясно: ни один физиолог, - а уж он-то
знает, что такое физиология, - не может признать наличие
свободы воли у человека. Феноменология вырастает в
определенной степени как попытка преодолеть физиологический
материализм с его отрицанием свободы. Но она повисает в
безвоздушном пространстве «субъективной реальности».
«Если бы я не боялся старого философского языка, - пишет
1 Там же, с. 527.
2 Там же.
3 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1986, с. 542.
339
Герцен, - я повторил бы, что история является не нем иным,
как развитием свободы в необходимости»1.
Герцен «боится» гегелевской формулы. Но именно
потому, что он не видит освобождающей роли труда, он не видит
и реального содержания этой формулы: человек своим трудом
освобождает себя от природной необходимости, подчиняясь
ей, как заметил уже Френсис Бэкон. Вся диалектика свободы
и необходимости разыгрывается на почве труда, а не на почве
физиологии и не на почве феноменологии.
Герцен не видит здесь выхода из круга. Но завершает он
свое рассуждение о свободе таким заключением: «Дело не в
том, чтоб из него выйти, дело в том, чтоб его понять»2. Но
чтобы понять этот «круг», надо найти в него вход. Без
этого «входа» и сам Герцен порой кружит и колеблется между
обычным материализмом и христианским пониманием
человека как божественного творения. Герцена не устраивает
христианский дуализм души и тела. «Христианство, -
пишет он, - раздвояя человека на какой-то идеал и на какого-
то скота, сбило его понятия; не находя выхода из борьбы
совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто
откровенному, что противуположность слова с делом его не
возмущает. Он ссылается на свою слабую, злодейскую
натуру, и церковь торопилась индульгенциями и отпущением
грехов давать легкое средство сводить счеты с испуганной
совестью, боясь, чтобы отчаяние не привело к другому
порядку мыслей, которых не так легко уложить исповедью и
прощением. Эти шалости так укоренились, что пережили
самую власть церкви. Натянутые цивические добродетели
заменили натянутое ханжество; отсюда - театральное
одушевление на римский лад и на манер христианских
мучеников и феодальных рыцарей»3.
1 Там же.
2 Там же.
3 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2, с. 104.
340
Лицемерный христианский идеализм порождает «свое
иное» - вульгарный материализм, который Герцен считает
результатом огрубления метода Бэкона, превращенного в
односторонний эмпиризм. «Что же отсюда могло выйти? -
восклицает Герцен. - Грубый материализм - он и не замедлил явиться.
Все идеальное, духовное исчезло, мышление истолковалось
домашними средствами из особого расположения органов. А
мы сказали, что человек от животного отличается душою; они
уничтожили душу, что же вышло из человека? - Животное»1.
Человек-животное не устраивает Герцена, потому что
животность несовместима со свободой. «Свобода сия, -
пишет он, - настолько же отстоит от животного произвола,
насколько разум от инстинкта; эта творческая возможность
действовать есть вернейшее доказательство высокого начала
духа нашего. Человек отдан сам себе, природа строго смотрит
за животным... Природа самовластно управляет животными;
но человек не покорился ей, он умозрением узнал законы ее,
сбегающиеся с законами его мышления, и покорил всю эту
необъятную, мощную природу»2.
Все верно! Только не умозрением узнал человек законы
природы, а своим трудом. Вот здесь Герцен делает роковую ошибку. И с
этим связано то, что он с насмешкой проходит мимо важнейшего
прозрения Гельвеция относительно роли руки. И это прозрение он
ставит в один ряд с некоторыми натуралистическими бреднями.
«Греки, - пишет он, - очеловечили своих богов и, следственно,
понятие человека возвысили до божества, а мы стараемся унизить
человека до животного с такою энергиею, что один уверяет, что
обезьяны говорили бы, ежели 6 у них несколько изменить
строение гортани, а Гельвеций в блаженной памяти материализме
своем доказывал, что люди жили бы в лесах, были бы скоты, ежели
бы - смешно сказать - вместо рук у них были копыты!»3
'Там же, т. 1, с. 69-70.
2 Там же, с. 67.
3 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 1, с. 68.
341
Иметь руки вместо копыт не то же самое, что иметь
развитую гортань. Руки и гортань могут заменить, если потребуется
что-то сказать другому человеку, а вот «гортань» руку никогда
не заменит, - на горло, как говорится, не возьмешь, если сам
не способен ничего сделать руками. Да и такой развитый мозг
человеку был бы не нужен, если б его задачей было управлять
копытами. И если бы человек передавал своим детям только
копыта, то не было бы никакой культуры и истории, значение
которой Герцен прекрасно понимает. «Человек отличается от
животных историей: - пишет он, - характер ее, в противу-
положность животному развитию, состоит в
преемственности больше или меньше сознательных усилий для устройства
своего быта, в наследственной, родовой усовершимости
инстинкта, пониманья, разума при помощи памяти»1.
История состоит в том, что человек устраивает и передает
своим детям быт. Но не копытами же он свой быт создает.
Копытами только вытаптывают землю, а человек ее, наоборот,
украшает полями и городами. И это, прежде всего, та сумма
производительных сил, которую, как писал Маркс, одно
поколение передает другому и которая, собственно, образует
субстанцию истории.
Материальные производительные силы - это уже
«исторический материализм», перед которым, по словам В.И. Ленина,
остановился Герцен. Но он двигался именно в этом
направлении и, во всяком случае, ни в чем не скатился в
физиологический материализм. В особенности это проявилось в его поздней
работе «Письмо о свободе воли». «В твоей брошюре, - пишет
он сыну, - все основано на том весьма простом принципе, что
человек не может действовать без тела и что тело подчинено
общим законам физического мира. Действительно,
органическая жизнь представляет собой лишь весьма ограниченный ряд
явлений в обширной химической и физической лаборатории,
ее окружающей, и внутри этого ряда место, занимаемое жиз-
1 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2. М, 1986, с. 485.
342
нью, развившейся до сознания, так ничтожно, что нелепо
изымать человека из-под действия общего закона и предполагать
в нем незаконную субъективную самопроизвольность»1.
Но если субъективная самопроизвольность «незаконна»,
то «незаконна» и свобода, и тогда человек окажется
физиологическим существом, живущим по физиологическим законам.
Чем же он тогда отличается от животного? Свобода
предполагает сознание, возможность поступать со знанием дела,
сознательно. Но и сознание из физиологии никак не следует. «Как
только, - пишет Герцен, - человек принимается рассуждать, он
проникается основанным на опыте сознанием, будто он
действует по своей воле; он приходит вследствие этого к выводу
о самопроизвольной обусловленности своих действий - не
думая о том, что само сознание является следствием
длинного ряда позабытых им предшествующих поступков. Он
констатирует целостность своего организма, единство всех его
частей и их функций, равно как и центр своей чувственной и
умственной деятельности, и делает из этого вывод об
объективном существовании души, независимой от материи и
господствующей над телом»2.
Герцен замечает далее, что «душа» - не просто иллюзия, а
это представление имеет под собой вполне реальные
основания. «Следует ли из этого, - заключает Герцен, - что чувство
свободы является заблуждением, а представление о своем я
- галлюцинацией? Этого я не думаю»3.
Сознание, под названием «душа», есть реальность. Но это
не материальная реальность, а идеальная. Герцен не знает и не
может развить адекватного понятия идеального. Однако он не
пытается редуцировать его к материальному и относит его к
истории. «Все явления исторического мира, - пишет он, - все
проявления агломерированных, сложных, обладающих тради-
1 Там же, с. 527.
2 Герцен А.И. Собр. соч. в 2-х т. Т. 2, с. 526.
3 Там же.
343
цией, высокоразвитых организмов имеют в своей основе
физиологию, но переступают за ее пределы»1.
Чувство прекрасного, к примеру, как показывает Герцен,
выходит за пределы физиологии. «Прекрасное, конечно, -
пишет он, - не ускользает от законов природы; невозможно ни
создать его без материи, ни ощущать его без органов чувств;
но ни физиология, ни акустика не могут создать теорию
художественного творчества, искусства»2. Па-де-де из «Лебединого
озера» исполняется при помощи ног, но никакими ногами не
объяснишь эстетику этого танца. Здесь объяснение должно
лежать совсем в иной плоскости. Это совсем другая реальность,
которую Герцен относит к области психологии.
Иначе говоря, Герцен не закрывает дорогу к пониманию
свободы. Но он здесь почему-то не догадывается, что путь к
пониманию свободы и путь к свободе - один и тот же путь. И проблема
свободы решается не теоретически, а практически: задача, как
сказал классик, не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы его
переделать. Вот в этой переделке и обретешь свободу.
Здесь, как и во многом другом, Герцен идет тем же путем,
которым шли Маркс и Энгельс. И надо сказать, что Булгакову
это ясно. «Герцен, - пишет он, - прошел хорошую
философскую школу, ибо, будучи некоторое время гегельянцем,
прилежно изучал Гегеля. Но влияния этой школы, кроме чисто
внешних особенностей стиля, совершенно не чувствуется в
Герцене, и та прямо компрометирующая легкость, с которой
Герцен сбросил с себя влияние Гегеля за чтением «Wesen des
Christenthums» Фейербаха (любопытно, что совершенно то же
самое произошло и с Марксом и Энгельсом), красноречиво
свидетельствует о поверхностном характере этого влияния»3.
Но в том-то и весь фокус, что Герцен, как и Маркс с
Энгельсом, не сбросил с себя влияния Гегеля за чтением Фейер-
1 Там же, с. 528.
2 Там же.
3 Там же.
344
баха. Герцен не перестал быть сторонником диалектики Гегеля,
которую Фейербах, по словам Энгельса, выплеснул вместе с
грязной водой идеализма. И он не стал однозначно
сторонником антропологического материализма Фейербаха, в котором
человек понимается как родовое, а не историческое существо.
Он смеется над Линнеем, который относил человека к тому
же виду, к которому относятся обезьяны и нетопыри. И его,
конечно же, никак нельзя отнести к сторонникам толкования
человека как био-социального существа, как это в наши дни
понимают последователи академика И.Т. Фролова. Герцен
сумел удержаться на грани и не скатился ни в вульгарный
материализм, ни в христианский идеализм, ни в био-социальный
дуализм. Он твердо держится исторического понимания
человеческой сущности, но до диалектики материального и
идеального в истории он не дорабатывается. Здесь граница его
понимания. Но Герцен явно указывает то направление, в
котором мы можем перейти эту границу и преодолеть слабость его
собственной философии.
Дойти до материализма в духе Маркса Герцену
помешало только то, что он не дошел до материализма в понимании
истории. Но это не значит, что в своем отношении к
истории он остался гегельянцем. Его позицию здесь даже трудно
выразить. Герцен хочет оставаться верным факту и ничем не
грешит против факта. Но при этом Герцен не всегда
понимает связь фактов. И для такого непонимания была объективная
почва: сама история еще не до конца себя поняла.
Герцена всерьез волновала проблема единства бытия и
мышления, жизни и идеала. И историческое развитие
философии он понимал именно как развитие принципа единства
бытия и мышления. «История, - пишет Герцен, - связует
природу с логикой: без нее они распадаются»1. Иначе говоря,
природа поднимается к сознанию только через историю.
«История, - подчеркивает он, - эпопея восхождения от одной к
'Там же. Т. 1,с. 253.
345
другой, полная страсти, драмы»1. Это прямо наоборот по
сравнению с Гегелем, у которого сначала Логика, потом Природа, а
уж потом История.
Итак, сам процесс развития мышления и познания, хотя
он и осуществляется отдельными людьми, по убеждению
Герцена, есть исторический процесс. Перед нами как раз то, что
называется единством логического и исторического. Оно
означает, как замечает Герцен, что «в сущности все равно,
рассказать ли логический процесс самопознания или
исторический»2. Однако такое безразличие не может быть абсолютным:
в конечном счете все равно встает вопрос, что было в начале,
логика или история. И вот здесь Герцен совершенно
определенно отдает предпочтение истории.
Отсюда вытекает необходимость истории для всякого
понимания. «Ничего не может быть ошибочнее, - пишет Герцен,
- как отбрасывать прошедшее, служившее для достижения
настоящего, будто это развитие - внешняя подмостка,
лишенная всякого внутреннего достоинства. Тогда история была бы
оскорбительна, вечное заклание живого в пользу будущего;
настоящее духа человеческого обнимает и хранит все
прошедшее, оно не прошло для него, а развилось в него; былое
не утратилось в настоящем, не заменилось им, а исполнилось
в нем; проходит одно ложное, призрачное, несущественное;
оно, собственно, никогда и не имело действительного бытия,
оно мертворожденное - для истинного смерти нет. Недаром
дух человеческий поэты сравнивают с морем: он в глубине
своей бережет все богатства, однажды упавшие в него; одно
слабое, не переносящее едкости соленой волны его, -
распускается бесследно»3.
Герцен, можно сказать, был первым из русских
философов, который основательно изучил историю европейской фи-
1 Там же.
2 См.: там же.
3 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1985, с. 253-254.
346
лософской мысли от Декарта и Спинозы до Гегеля и
Фейербаха. И он дал блестящие характеристики этим европейским
мыслителям. И главное: он понял Гегеля как конец всей
классической европейской философии. Оценка гегелевской
философии у Герцена удивительным образом совпадает с той,
какую давал ей Маркс. «Он, - пишет Герцен, - раскрыл, что
природа, что жизнь развивается по законам логики; он фаза в
фазу проследил этот параллелизм - и это уж не Шеллинговы
общие замечания, рапсодические, несвязанные, а целая
система, стройная, глубокомысленная, резанная на меди, где в
каждом ударе отпечатлелась гигантская сила. Но Гегель хотел
природу и историю как прикладную логикуу а не логику как
отвлеченную разумность природы и истории»1.
Вышесказанное доказывает, что Герцен преодолевает
идеализм гегелевской философии. Он эту философию
«переворачивает», подобно тому, как это сделали Маркс с Энгельсом. Но
делает он это, скорее, по-фейербаховски, чем по-марксовски.
«Логика, - пишет он, имея в виду гегелевскую «Логику», -
хвастается тем, что она а priori выводит природу и историю.
Но природа и история тем велики, что они не нуждаются в
этом, еще более - они сами выводят логику а posteriori»2. И это
очень верно и справедливо: логика не может предшествовать
природе и истории, ей просто негде быть. Но именно история
переводит природу в мышление и сознание, в логику. И не
через физиологию, потому что физиология - та же природа, а
через практику у через труд.
Этого последнего звена в философии Герцена как раз и не
хватает. И потому он хватается то за физиологию, то за химию.
«Я мало знаю химию, - пишет он, - что знал некогда,
перезабыл, но прочтенное мною в Либихе точно удостоверяет, что
химия скорее что-нибудь объяснит, нежели первые главы Геге-
1 Там же, с. 245.
2 Там же.
347
левой энциклопедии, т.е. II части»1. Пожалуй, только отчаяние
может заставить искать реальную опору для логики
мышления в области химии.
Герцен читал «Сущность христианства» Фейербаха. И она
на него подействовала так же, как и на Маркса и на Энгельса.
Это было время новгородской ссылки, куда, будучи проездом,
книгу привез ему Огарев. «Прочитав первые страницы, -
пишет Герцен в «Былом и думах», - я вспрыгнул от радости.
Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания,
мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать
истину в мифы!»2
Приняв фейербаховскую критику христианства и
гегелевского идеализма, Герцен не утрачивает полностью, как
это получилось у Фейербаха, гегелевского исторического
понимания человеческой сущности. «Человек отличается от
животных историей: - способен написать Герцен, -
характер ее, в противуположность животному развитию, состоит
в преемственности больше или меньше сознательных усилий
для устройства своего быта, в наследственной, родовой усо-
вершимости инстинкта, пониманья, разума при помощи
памяти»3. Не физиология, а история, хочет сказать Герцен, есть
основа сознания.
Наставления отца пошли даром, и сын пытается
напрямую соединить несоединимое - душу и физиологию. Но эта
тенденция, можно сказать, остается господствующей до сих
пор. И, тем не менее, эту позицию нельзя выдавать за
единственную. Кстати в статье «Герцен» идея историзма
совершенно не упомянута, так же как не сказано знаменитое: дошел до
диалектического материализма и остановился перед
историческим. А ведь это сказано очень верно. Так чего же тут
стесняться. И потом, Герцену можно было бы уделить внимания
1 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1985, с. 433.
2 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1986, с. 198.
3 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1986, с. 485.
348
хотя бы чуть-чуть побольше, чем сексуально озабоченному
Василию Васильевичу Розанову.
Герцен не был марксистом, хотя по существу к марксизму
он ближе, чем многие официальные «марксисты». В течение
почти всего эмигрантского периода он враждовал с Марксом и
«марксидами», и история эта до конца еще не понятая. В свои
последние годы он разошелся по ряду принципиальных
вопросов с молодой революционной эмиграцией. А в результате
Герцен подвергался критике не только «справа», но и «слева».
И после Ленина ни в Советском Союзе, ни в современной
России никто не написал о Герцене чего-то достойного этой
фигуре. Кто мог прописать знаменитое герценовское
«гегелевская диалектика - алгебра революции», если диалектика за все
годы Советской власти превращалась во «всеобщую теорию
развития», когда она должна быть, прежде всего, теорией
исторического развития.
Ленин писал, что Герцен пошел «дальше Гегеля, к
материализму, вслед за Фейербахом», он, по словам Ленина, «вплотную
подошел к диалектическому материализму и остановился
перед - историческим материализмом»1. Но что значит,
«вплотную подошел»? Что значит, «остановился перед историческим
материализмом»? Кто это определил конкретно?
Вот, например, один любопытный отрывок:
«Историческое мышление, - читаем мы у Герцена, - родовая деятельность
человека, живая и истинная наука, то всемирное мышление,
которое само перешло всю морфологию природы и
мало-помалу поднялось к сознанию своей самозаконости: во всякую
эпоху осаждается правильными кристаллами знание ее, мысль
ее в виде отвлеченной теории, независимой и безусловной: это
формальная наука; она всякий раз считает себя завершением
ведения человеческого, но она представляет отчет, вывод
мышления данной эпохи - она себя только считает абсолютной, а
абсолютно то движение, которое в то же время увлекает ис-
1 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 256.
349
торическое сознание далее и далее. Логическое развитие идеи
идет теми же фазами, как развитие природы и истории»1.
Логическое развитие идеи идет теми же фазами, как
развитие природы и истории. У Гегеля наоборот: развитие
природы и истории есть проявление развития логической идеи.
Вместо исторического идеализма мы получаем исторический
материализм. И это не «перед» историческим материализмом,
а самый настоящий исторический материализм.
По Булгакову, если Герцен, как до него Маркс и Энгельс,
отказался от идеализма гегелевской философии, то это значит,
что он «поверхностно» усвоил его философию. А то, что он
усвоил диалектику Гегеля, так же как и его историзм, это не в
счет. А это-то и есть самое важное и главное. И это
чувствуется во всем.
Герцен был материалистом в понимании истории и тогда,
когда он ставил во главу угла политическую экономию.
Социализм, считал он, должен водрузить «знамя разумных
отношений людских и действительных, трезвых, логических законов
общежития»2. Под социализм должна быть подведена наука.
Социализм должен стать научным социализмом. «Не
уничтожить и разбить должен он политическую экономию, - считал
он, - а превратить ее из эмпирического свода рассуждений и
наблюдений, не смеющего касаться до святых твердынь
существующего, в экономическую науку, посягающую на все»3.
Объяснять все явления общественной жизни из
экономического базиса, - это и есть исторический материализм.
Единственное, что остается у Герцена за пределами историко-
материалистического объяснения, так это сознание, мышление.
Здесь он еще остается во многом в плену физиологического
материализма французов и Фейербаха. Но и здесь он
дистанцируется от «вульгарного материализма» своего друга Карла
1 Там же.
2 Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 2, с. 451.
3Там же, с. 451.
350
Фогта, которому он поручил воспитание своего сына.. И это
понятно, если учесть, что Герцен действительно прошел
хорошую философскую школу. Ведь изучение Гегеля способствует
формированию культурно-исторического взгляда на
мышление, который прямо противоположен
вульгарно-материалистической позиции Фогта.
Герцен действительно критически оценивал философскую
метафизику и религиозную веру. Но дело в том, что в XIX веке
их отрицали не только позитивисты, а и такие мыслители, как
Фейербах, Маркс, Энгельс. Мало того, что касается Маркса и
Энгельса, то у них было однозначно отрицательное отношение
и к позитивизму Конта. Но при этом Маркс считал, что без
указания на differentia specifica, т. е. специфическое отличие, не
может быть никакого объяснения.
Из всего этого следует, что для объяснения своеобразия
философской позиции Герцена, надо обязательно указать на
то, чем она отличалась от позитивизма, а не только на то, в
чем Герцен и позитивисты сходны. Ведь Герцен, в отличие от
Конта, отказываясь от метафизики, не отбросил
разработанную в ее рамках науку о мышлении - логику и диалектику. И
именно потому ему дорог был Гегель, который эту науку
развил до такой степени, что она изнутри взорвала
метафизическую оболочку, в которую Гегель пытался ее втиснуть. А потому
заслуга Герцена состоит как раз в том, что, отбросив ложную
форму гегелевской диалектики, он сумел удержать ее
положительное содержание.
351
Сергей Николаевич Мареев
Конкретный историзм
Монография