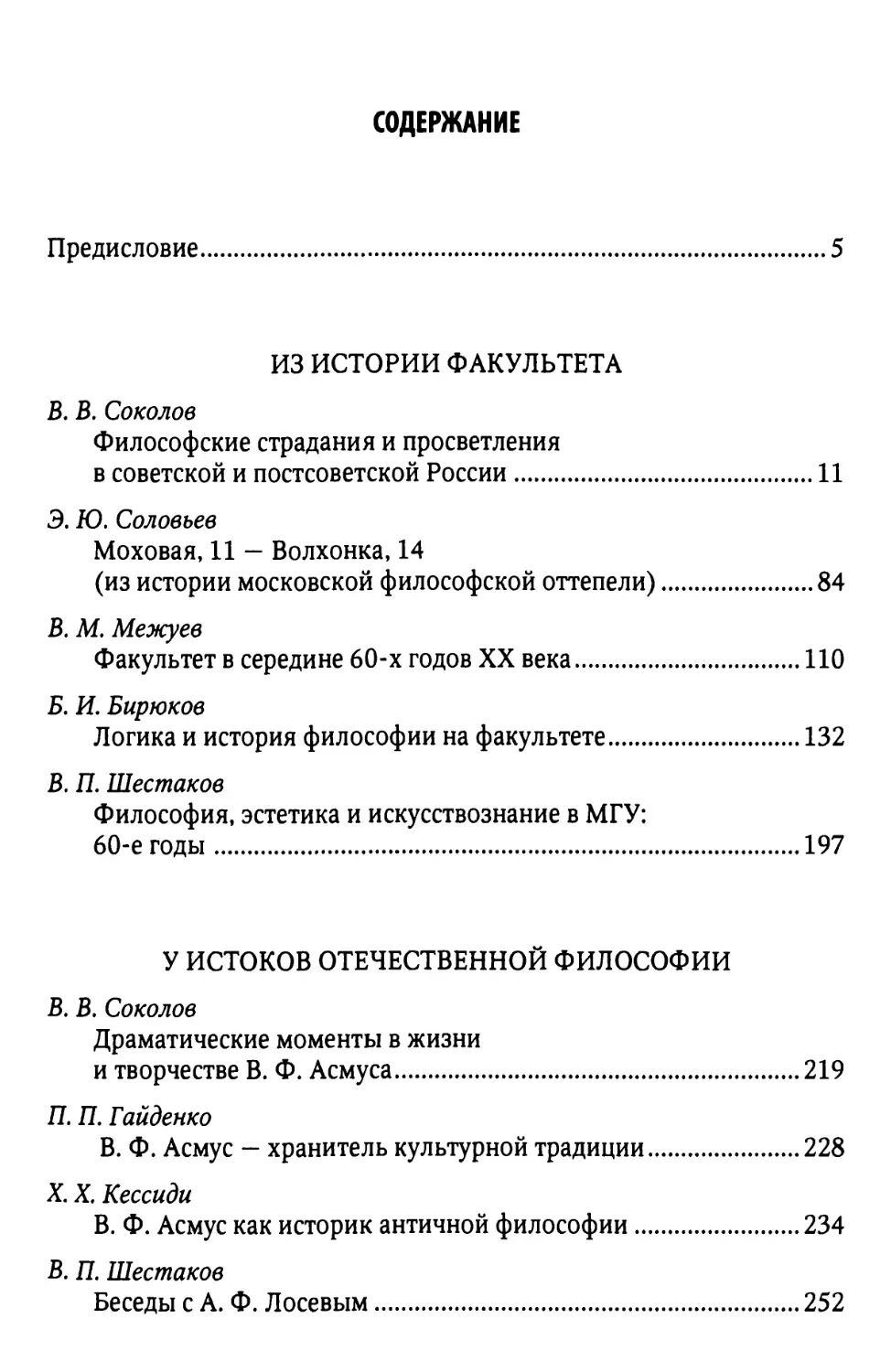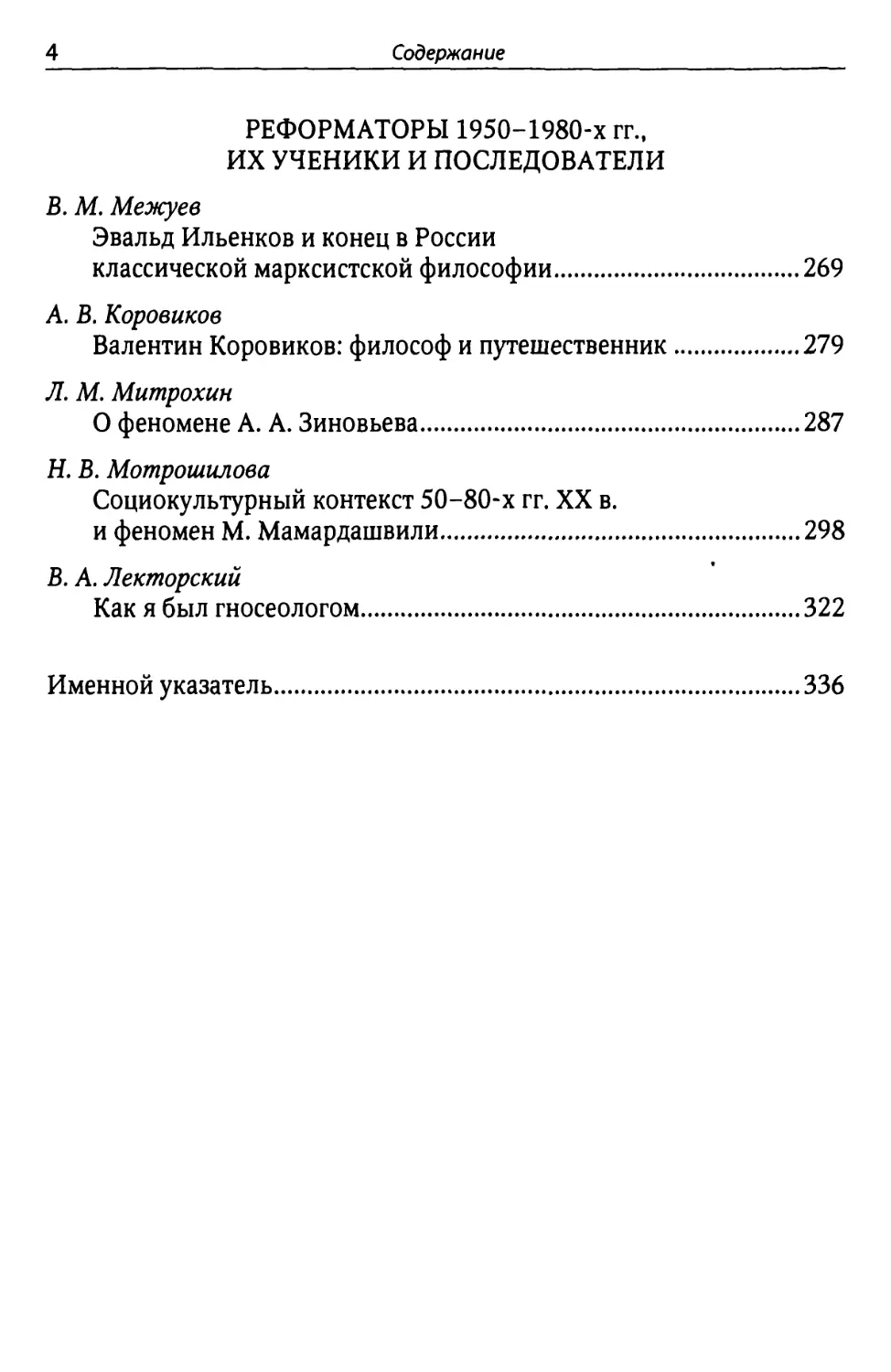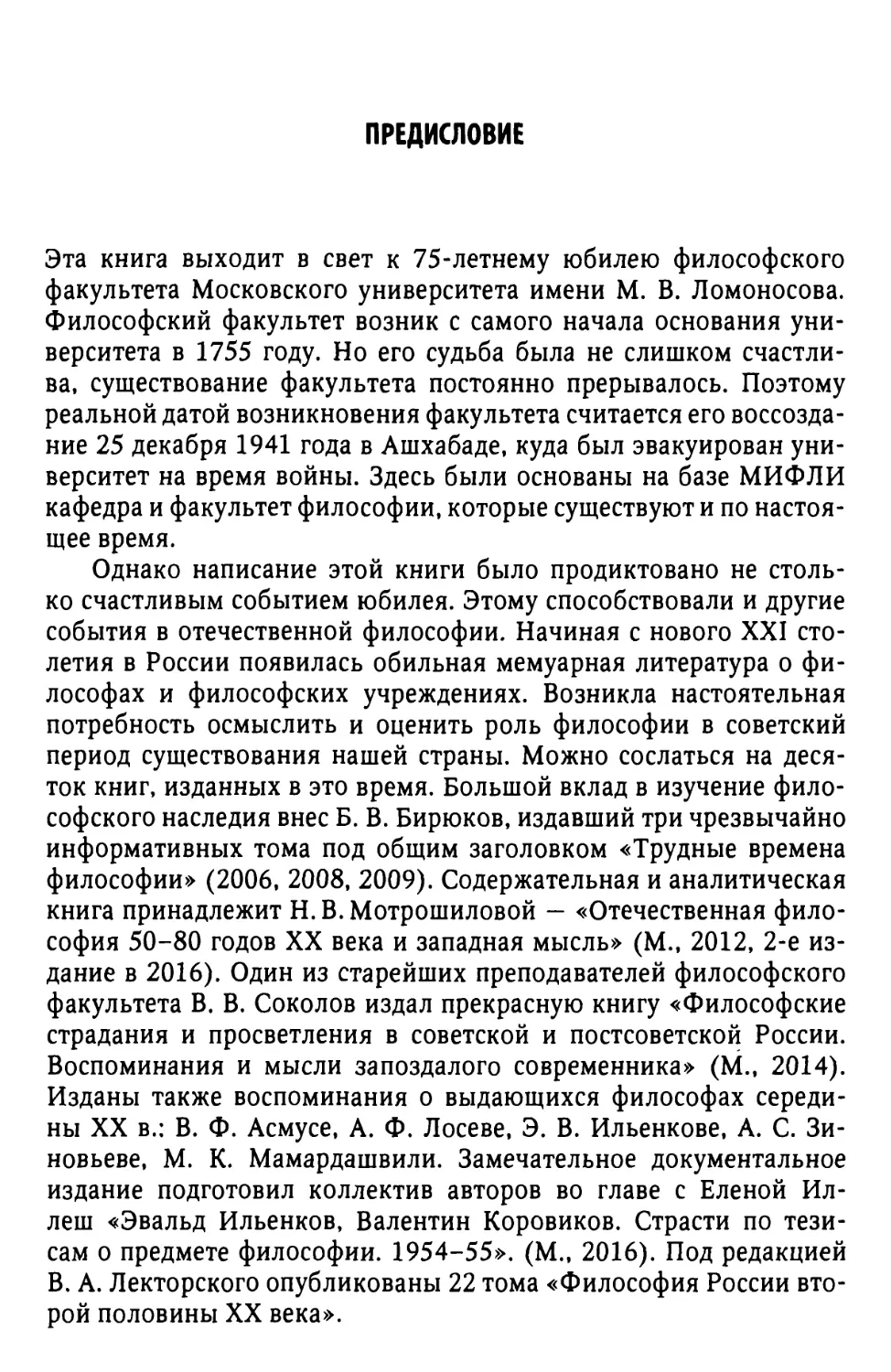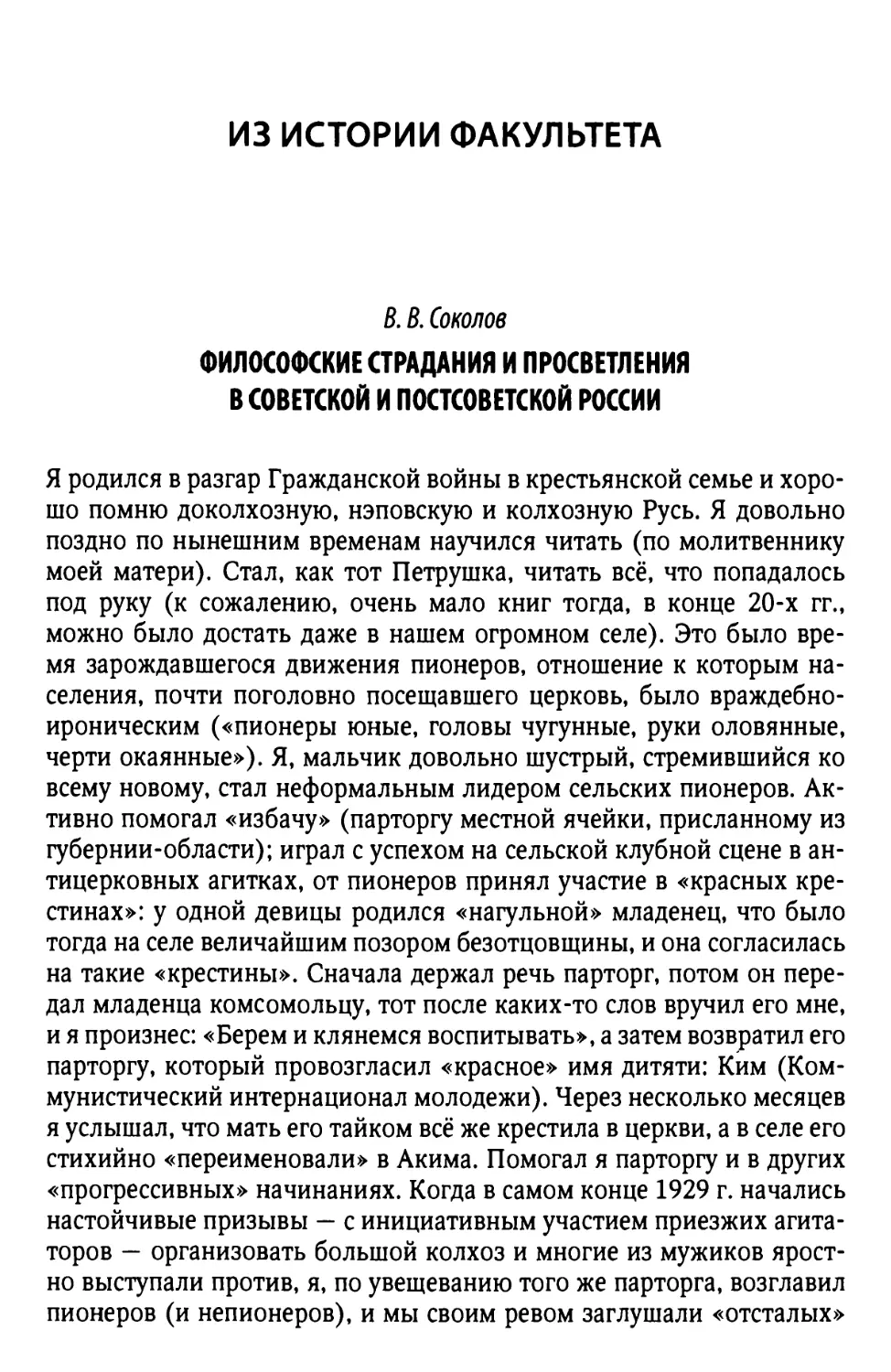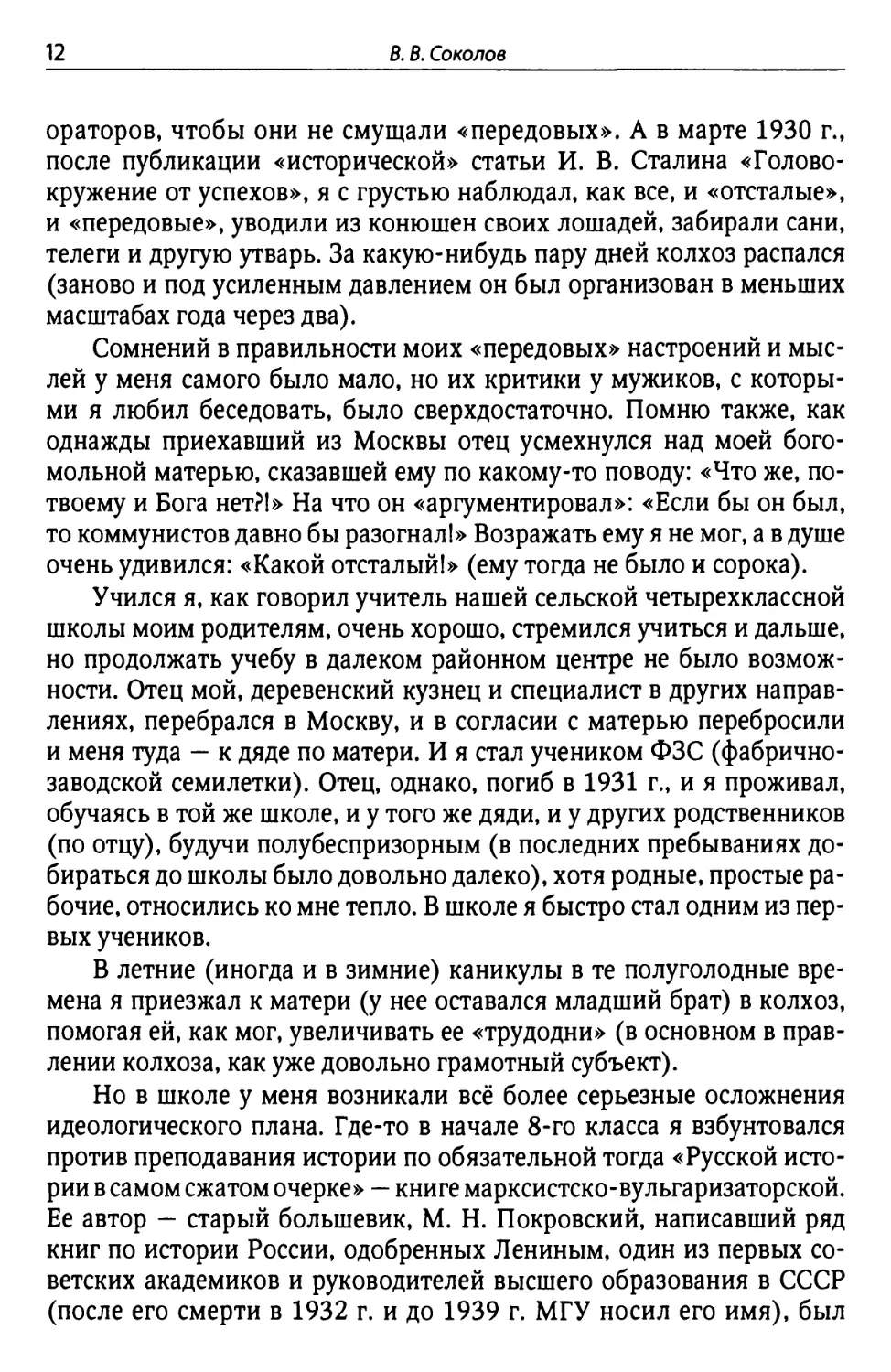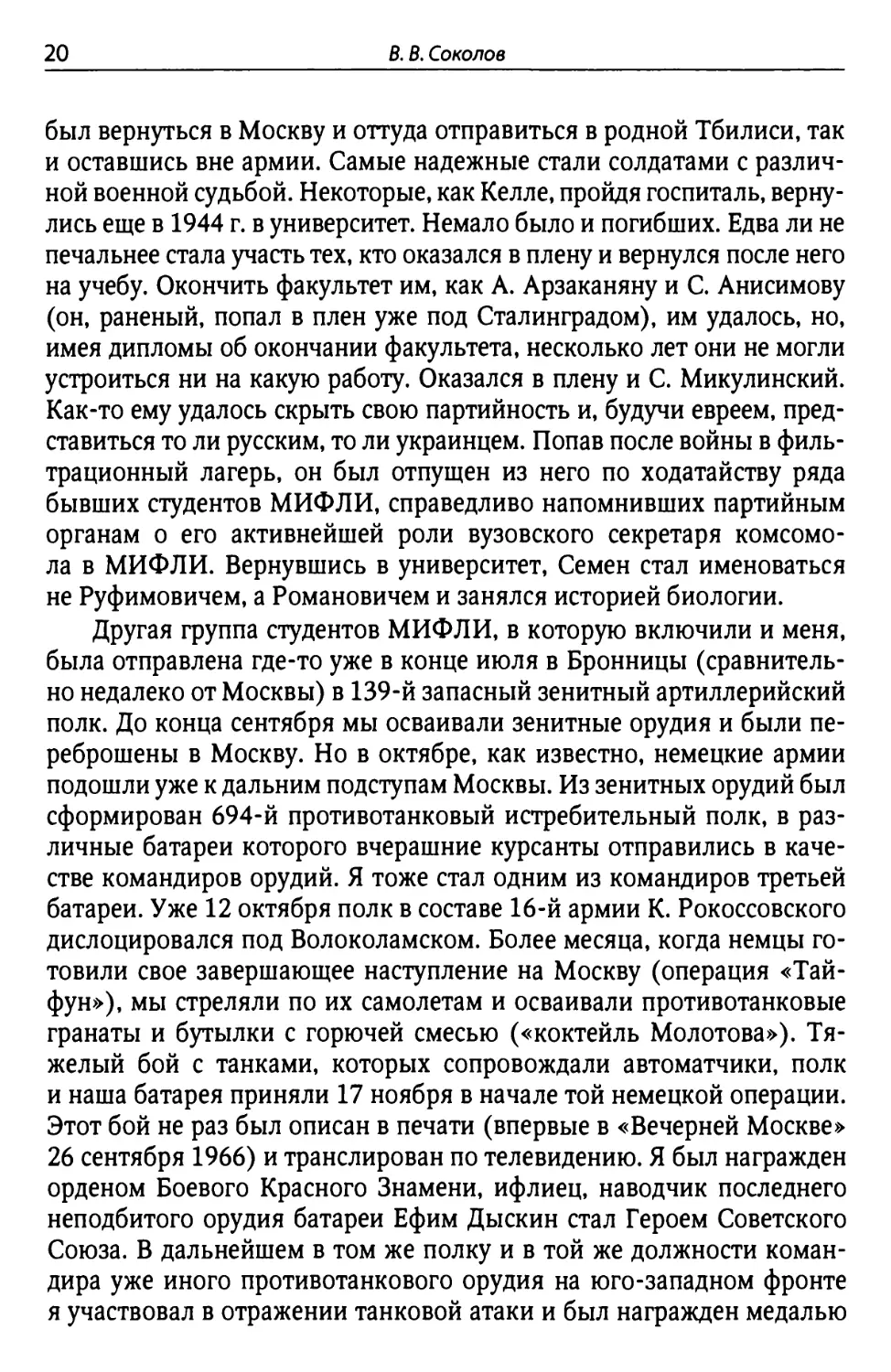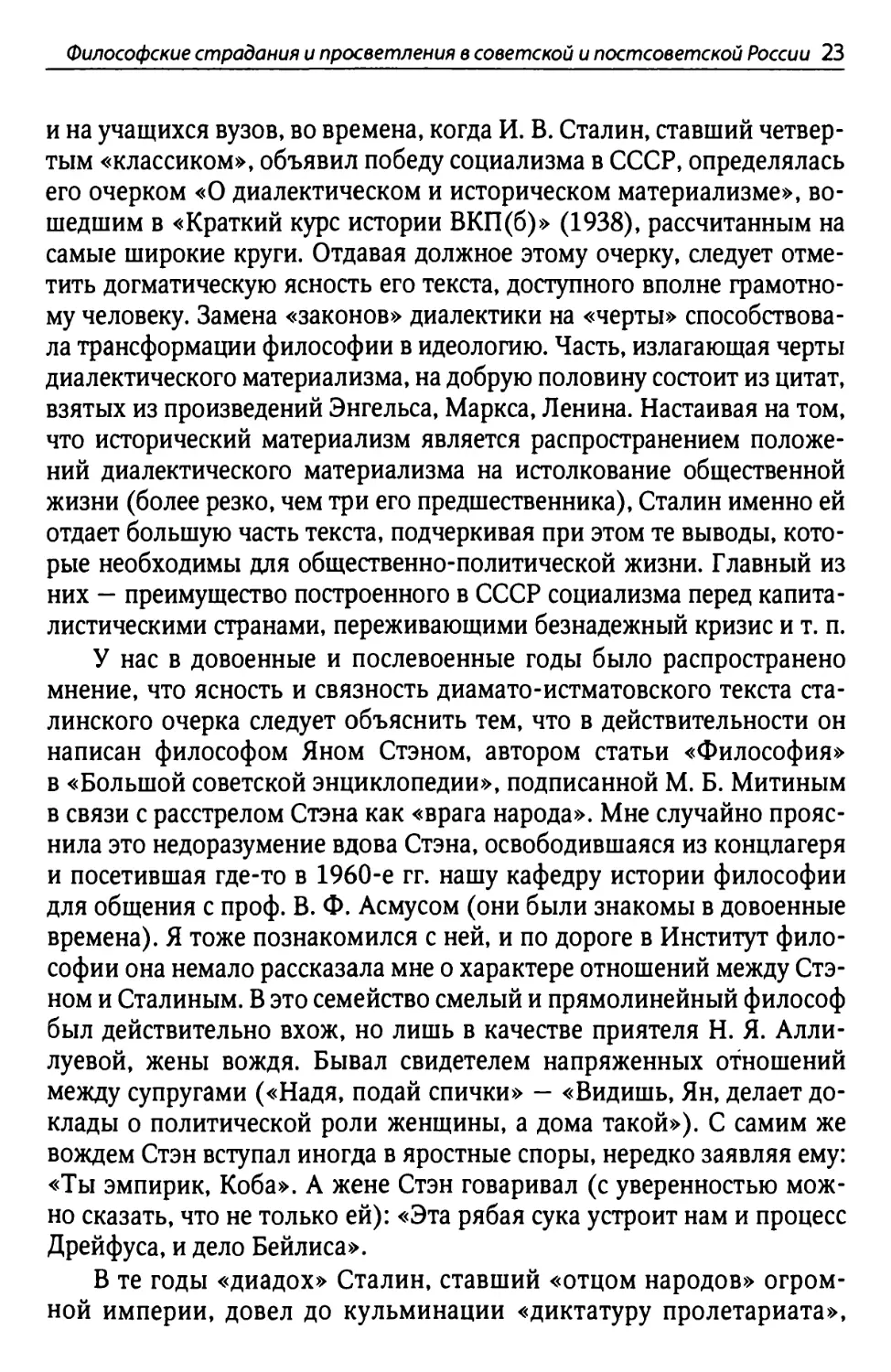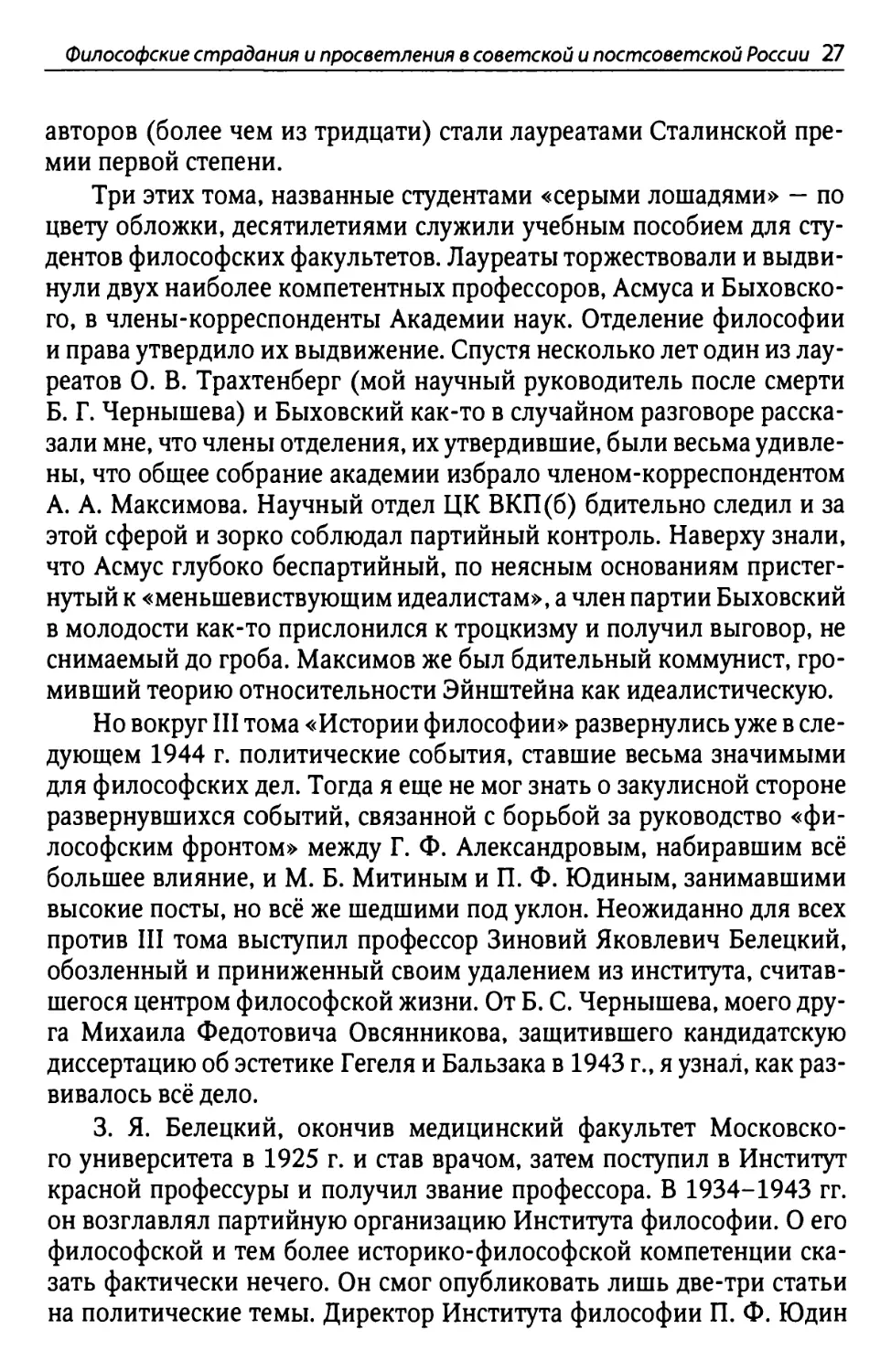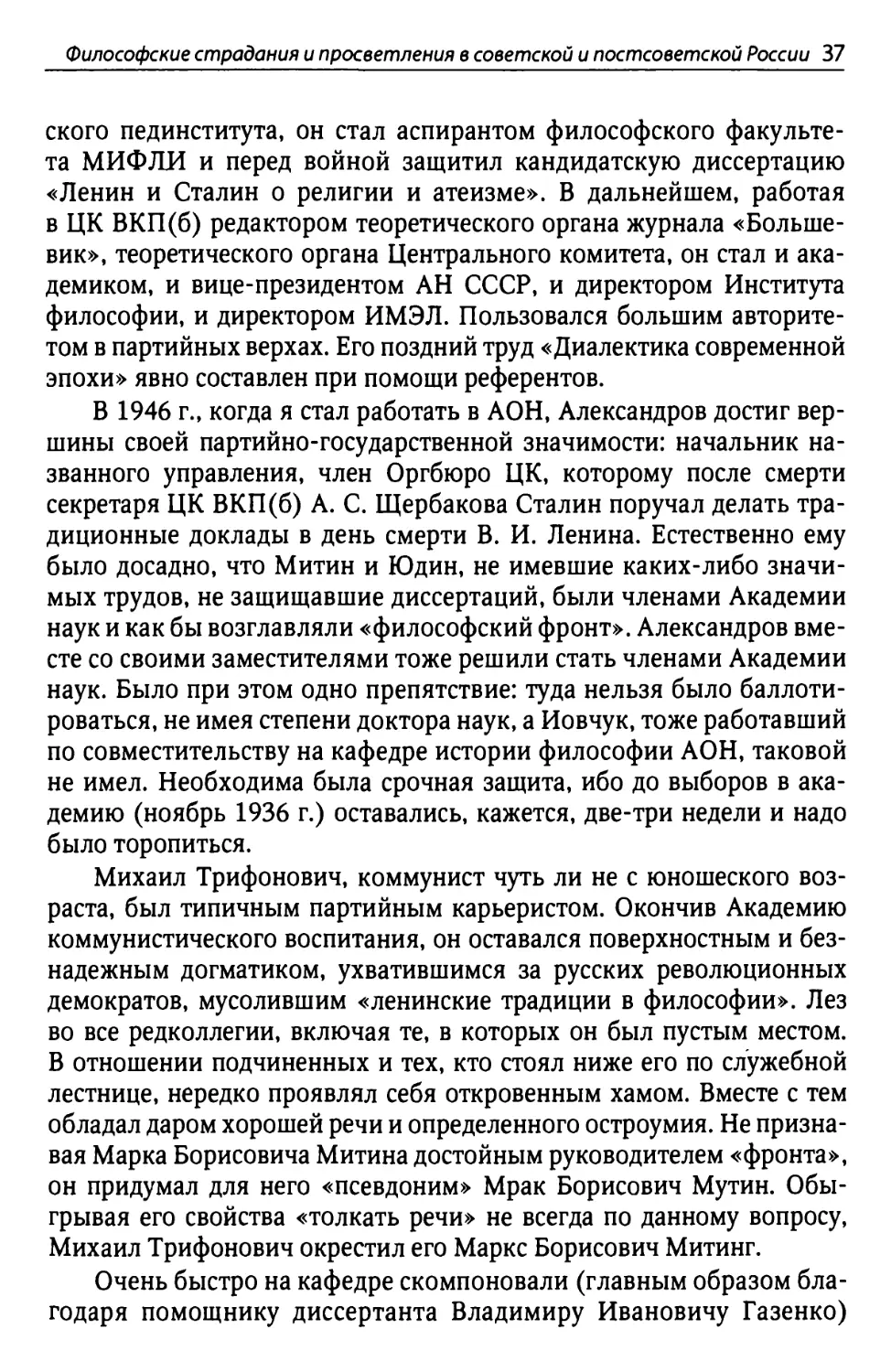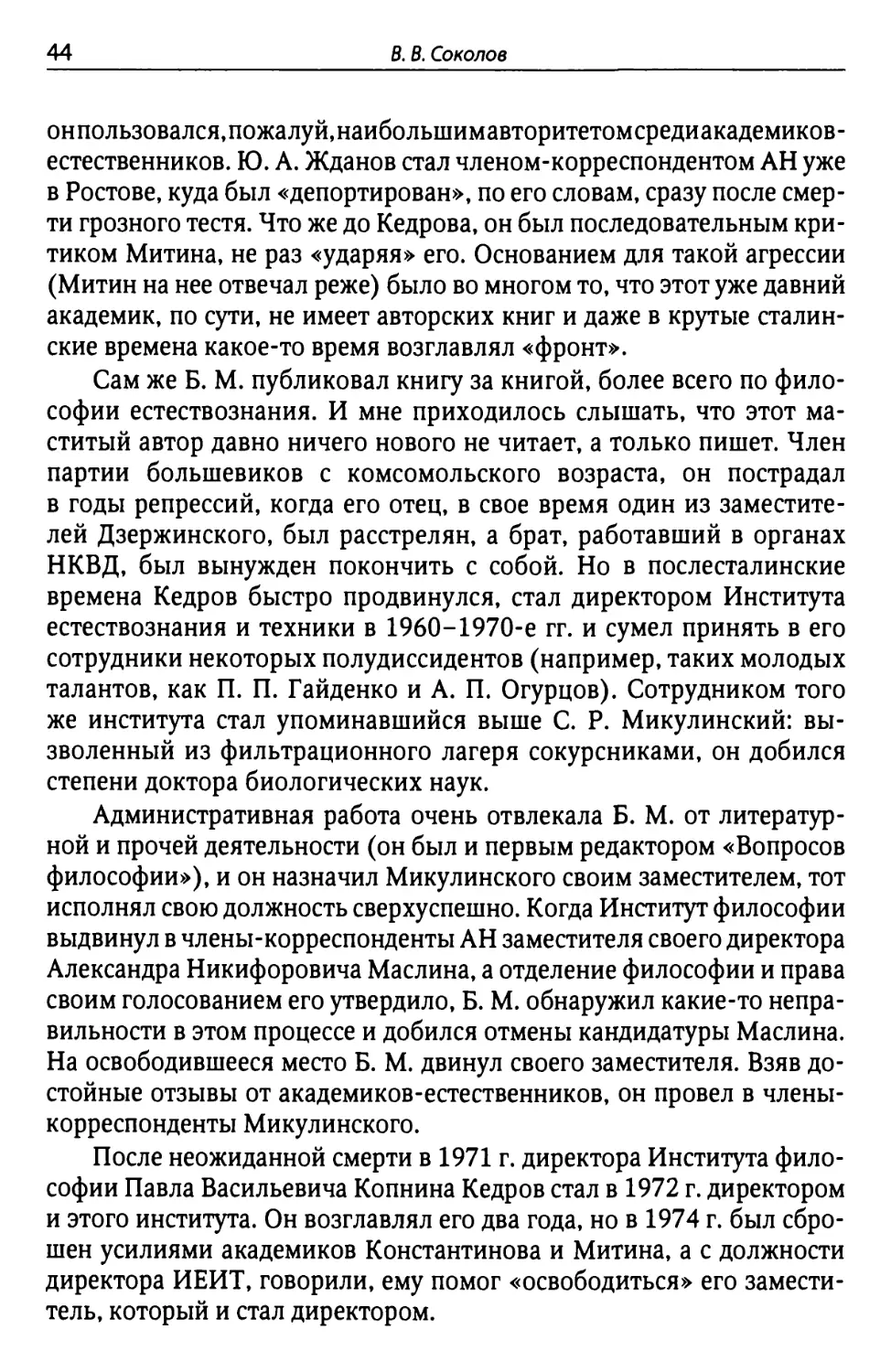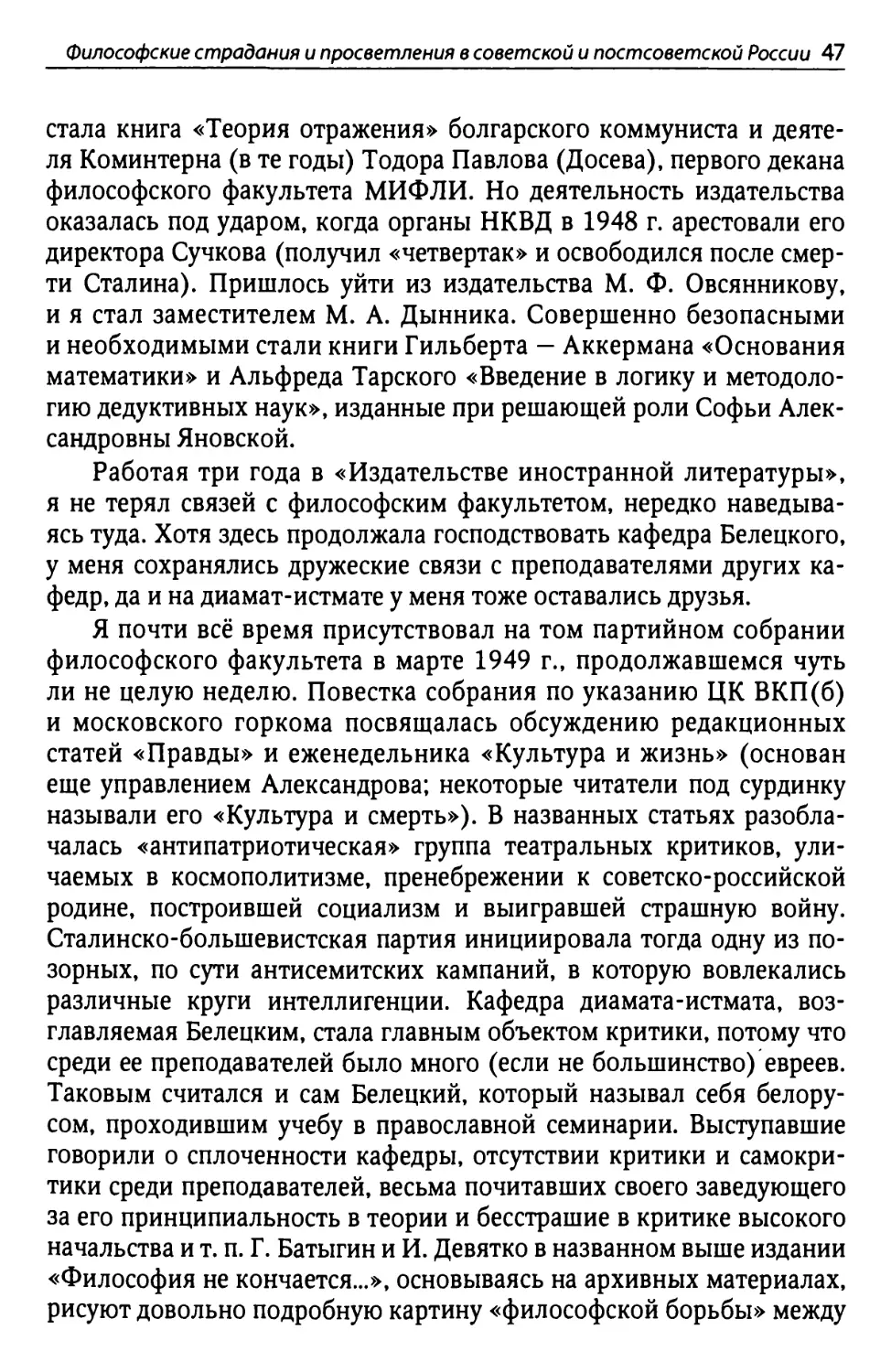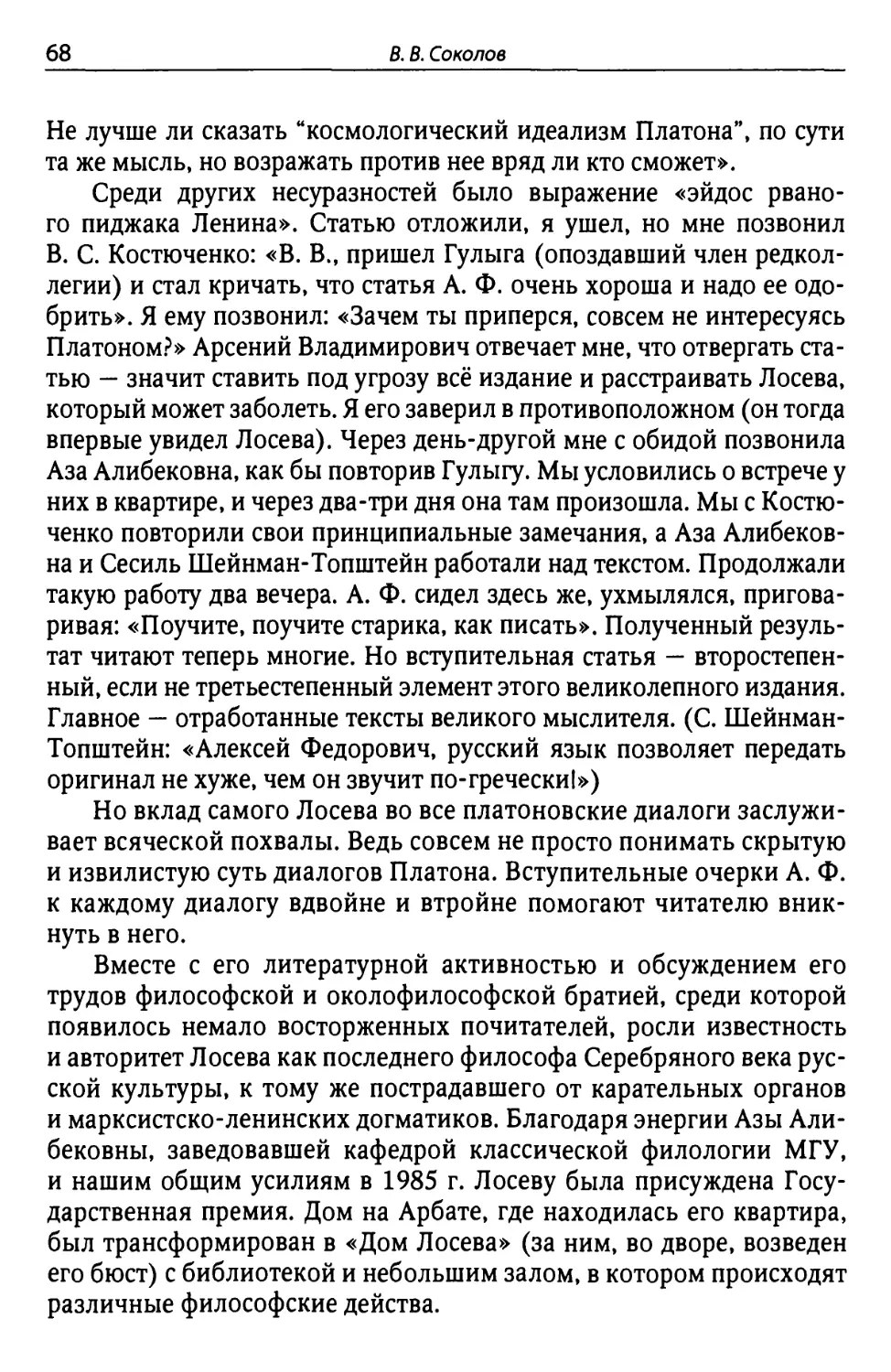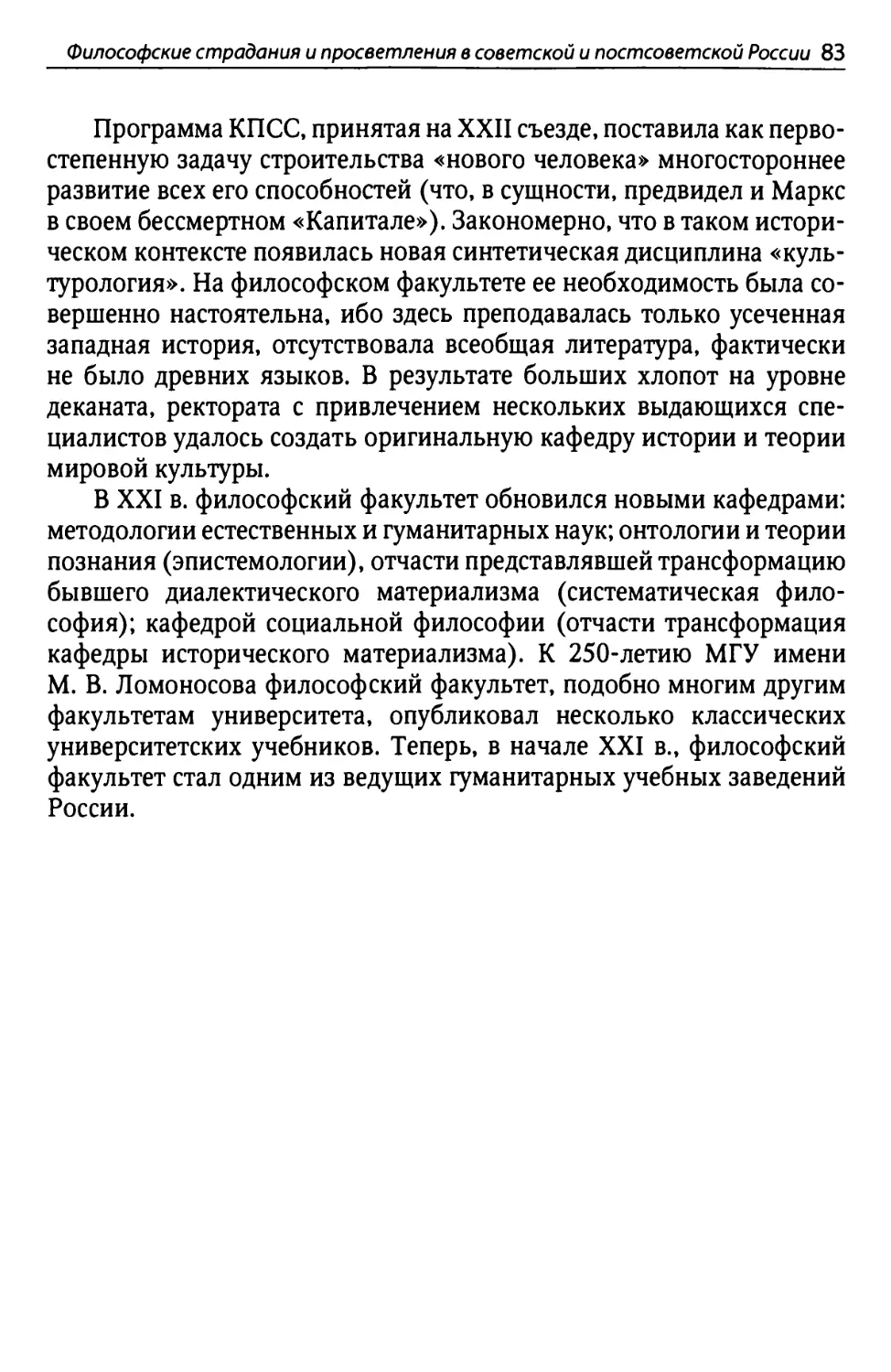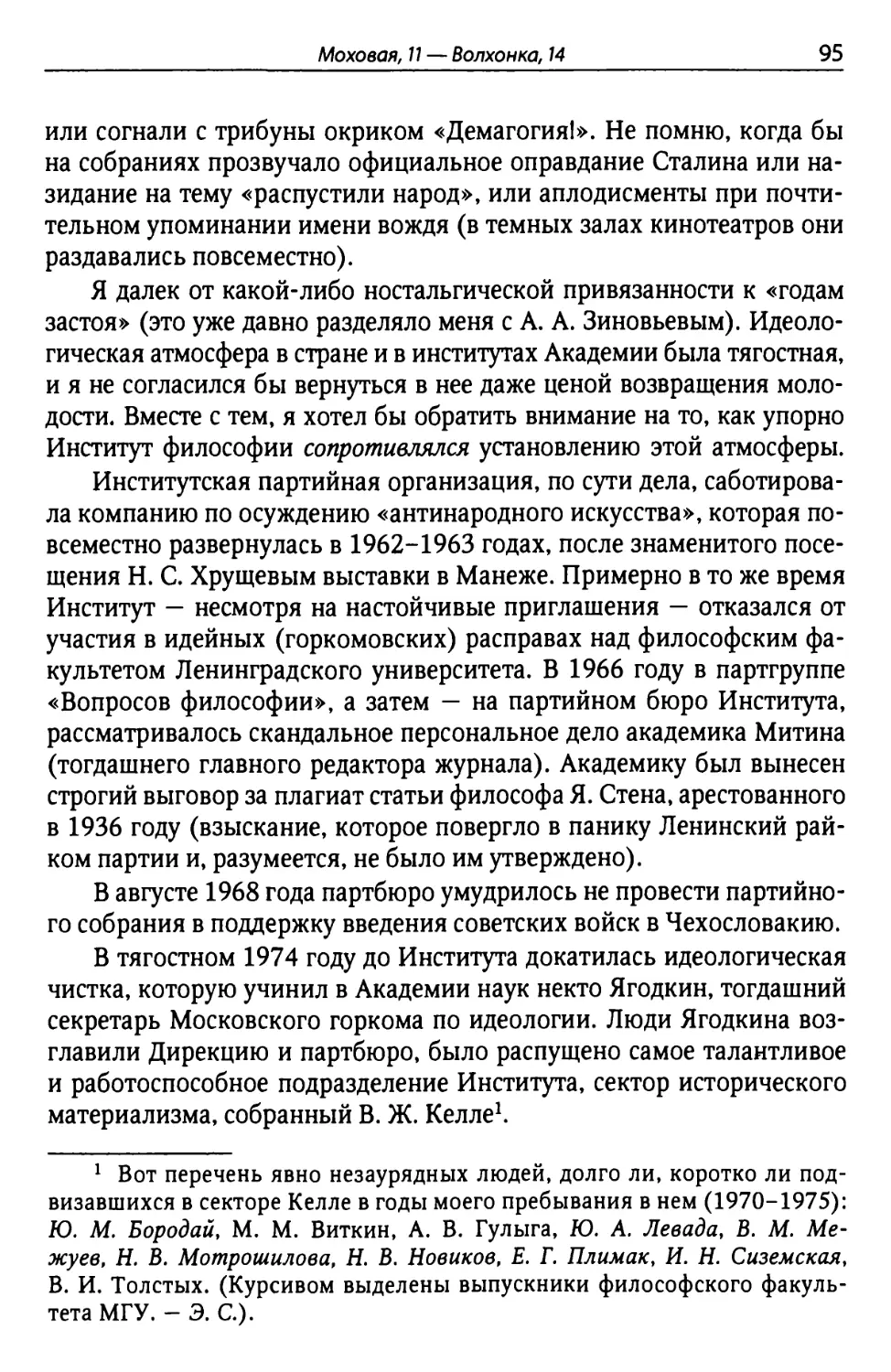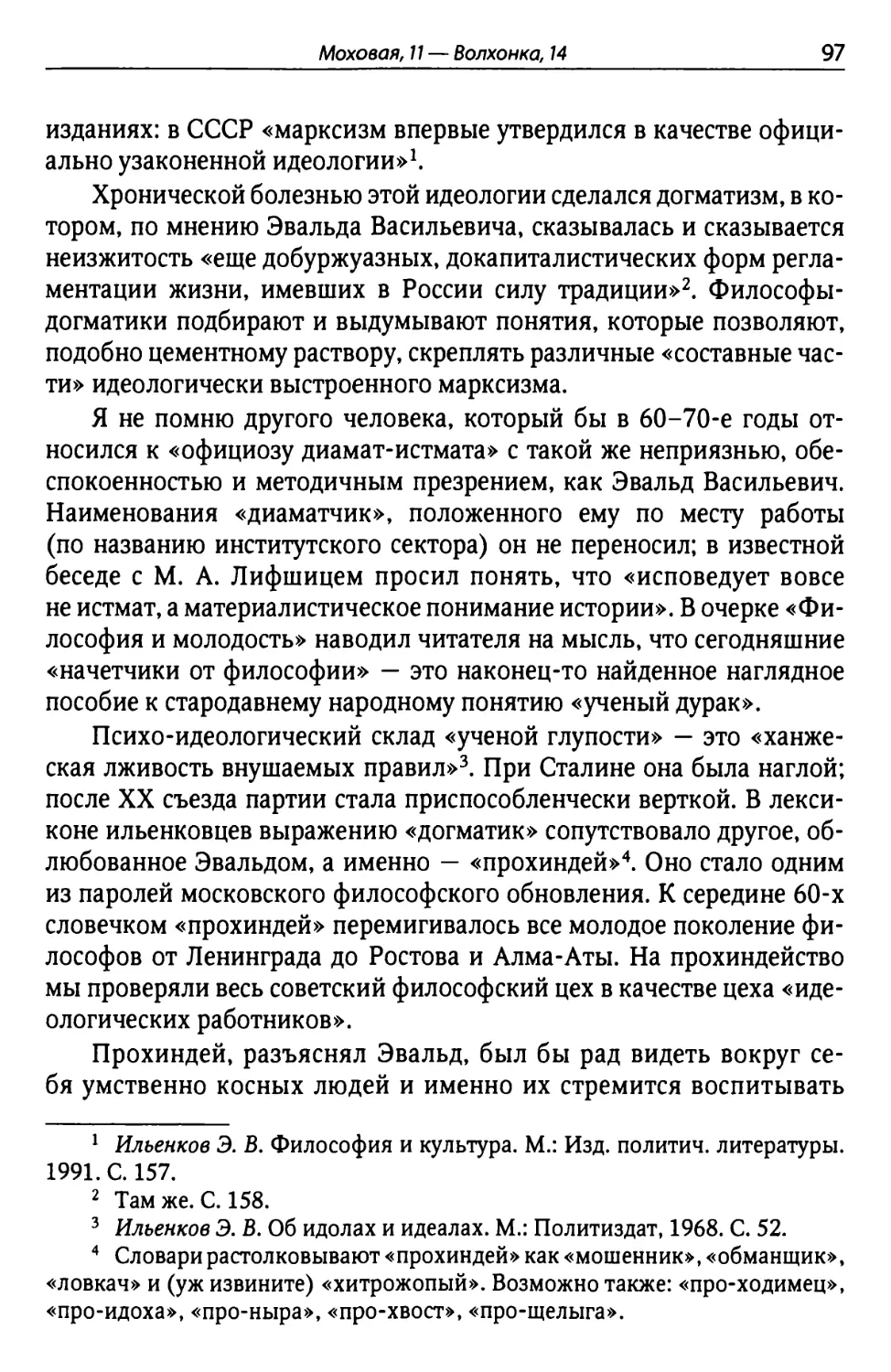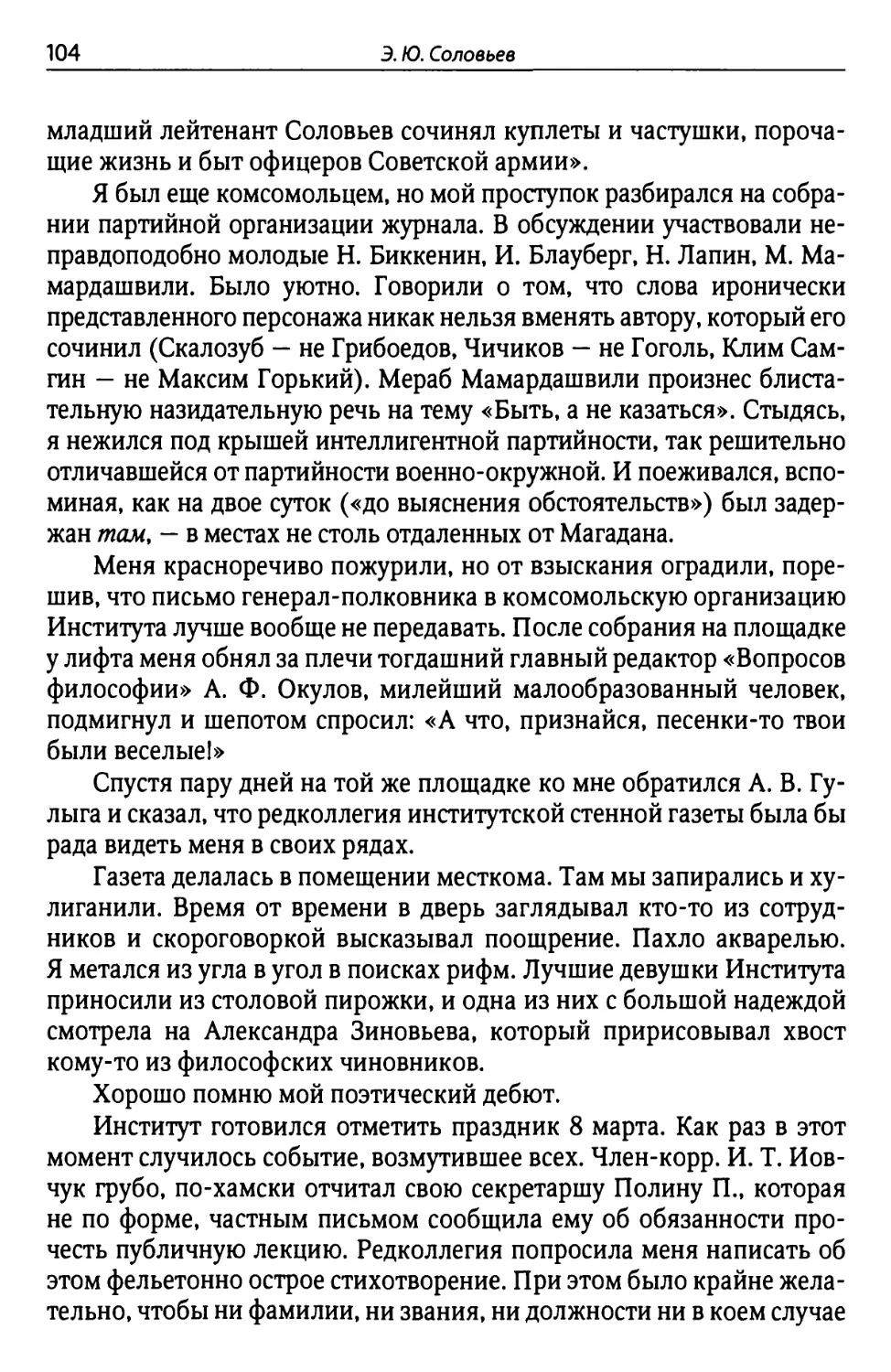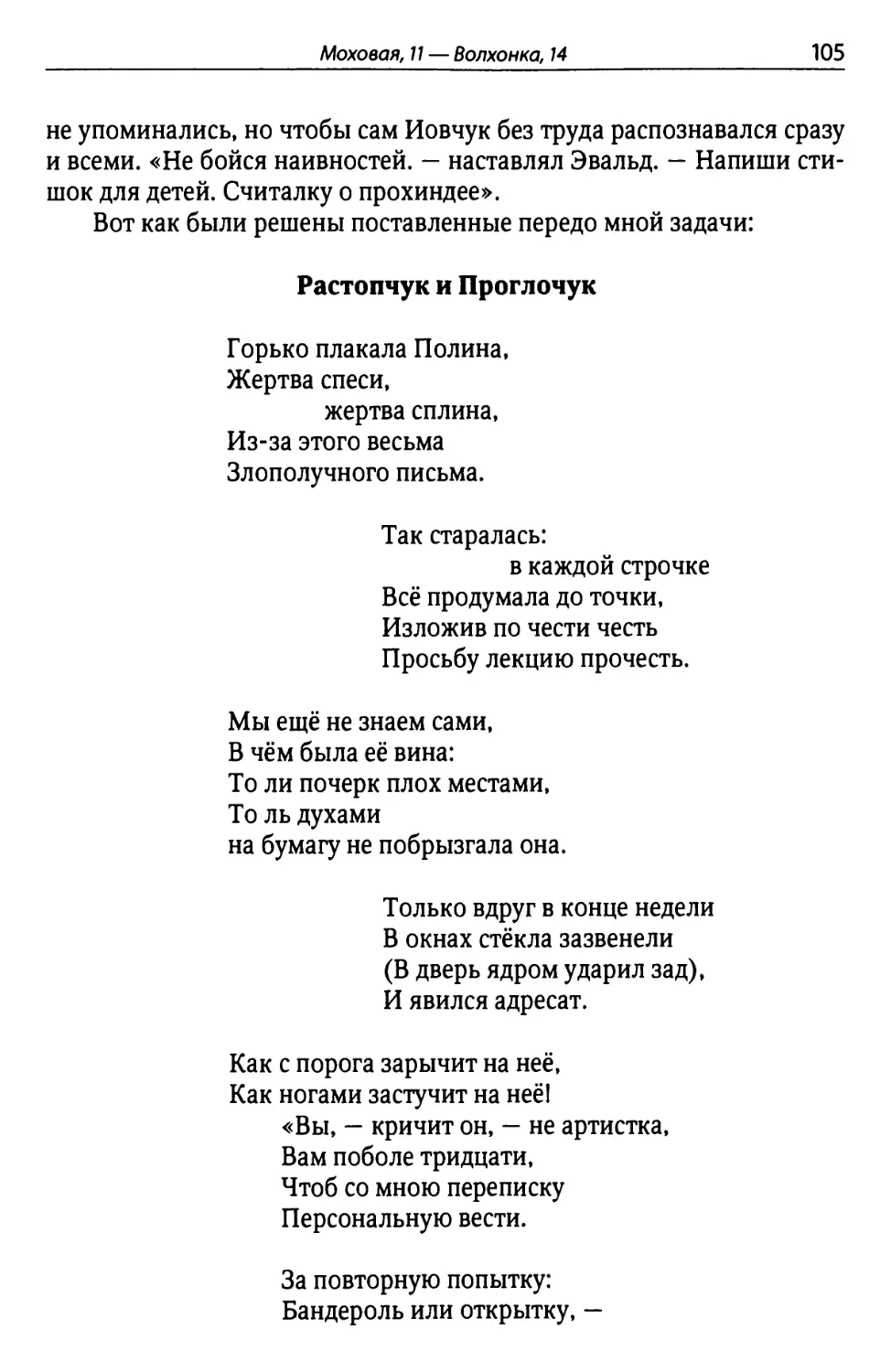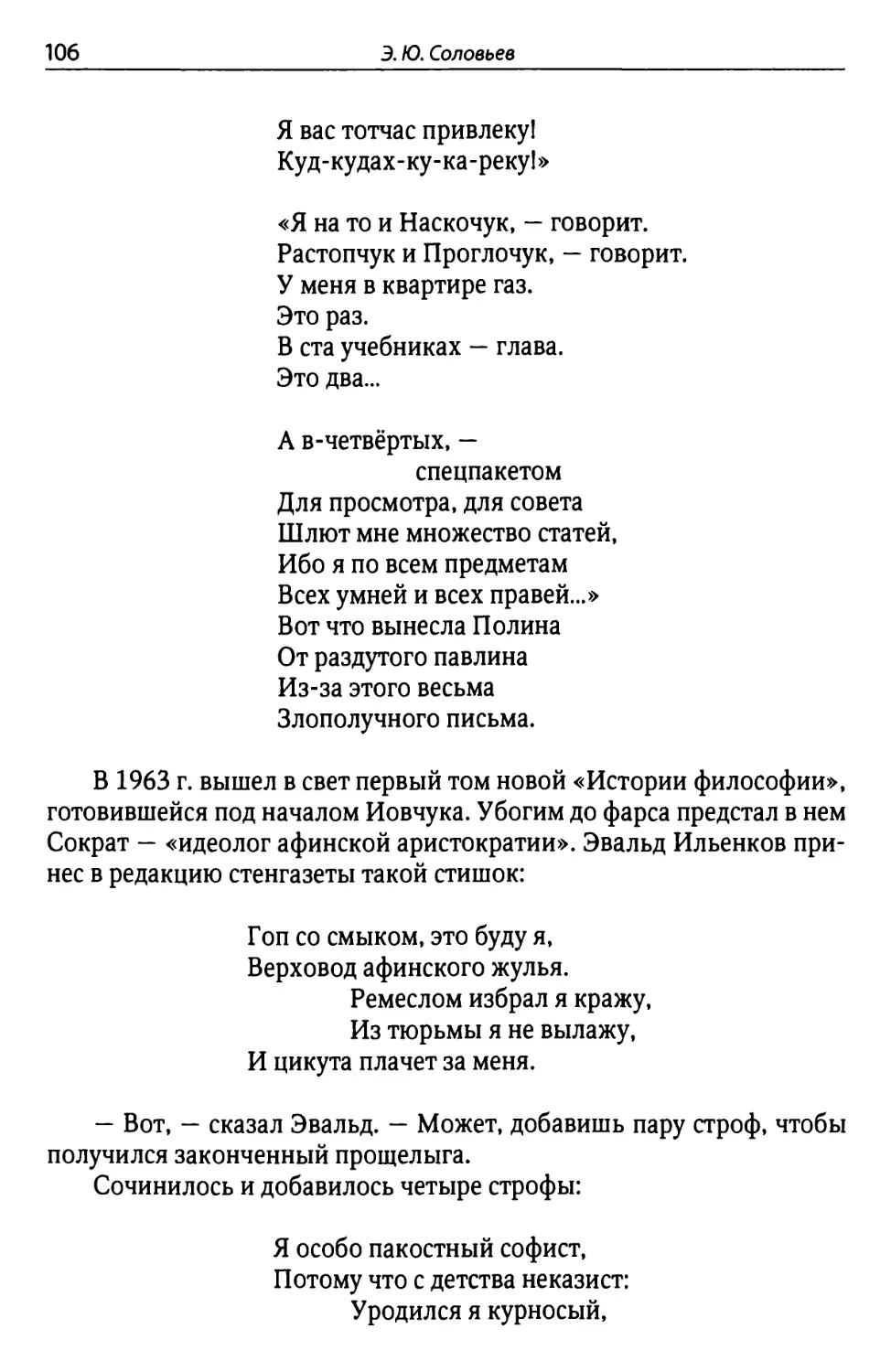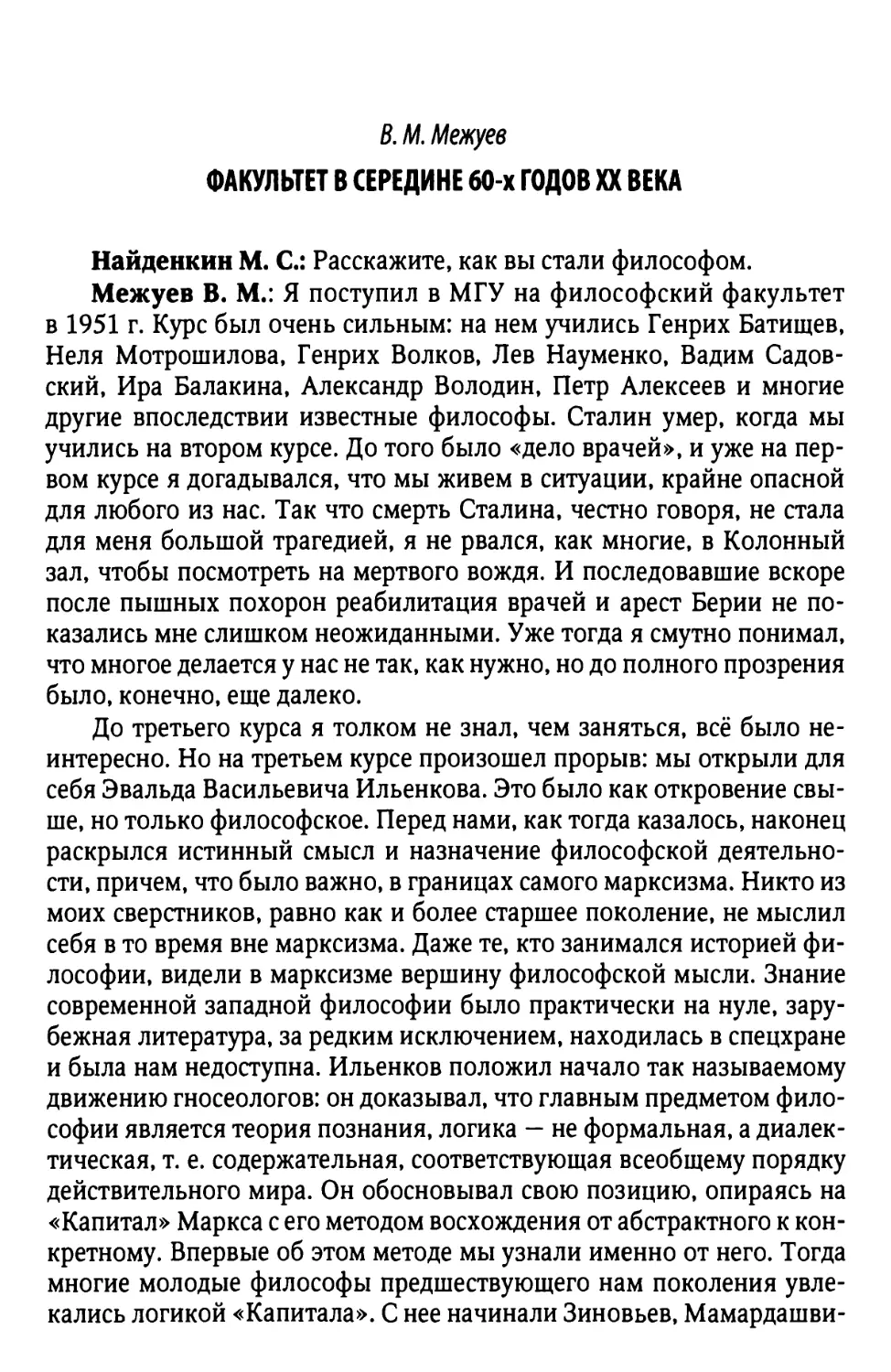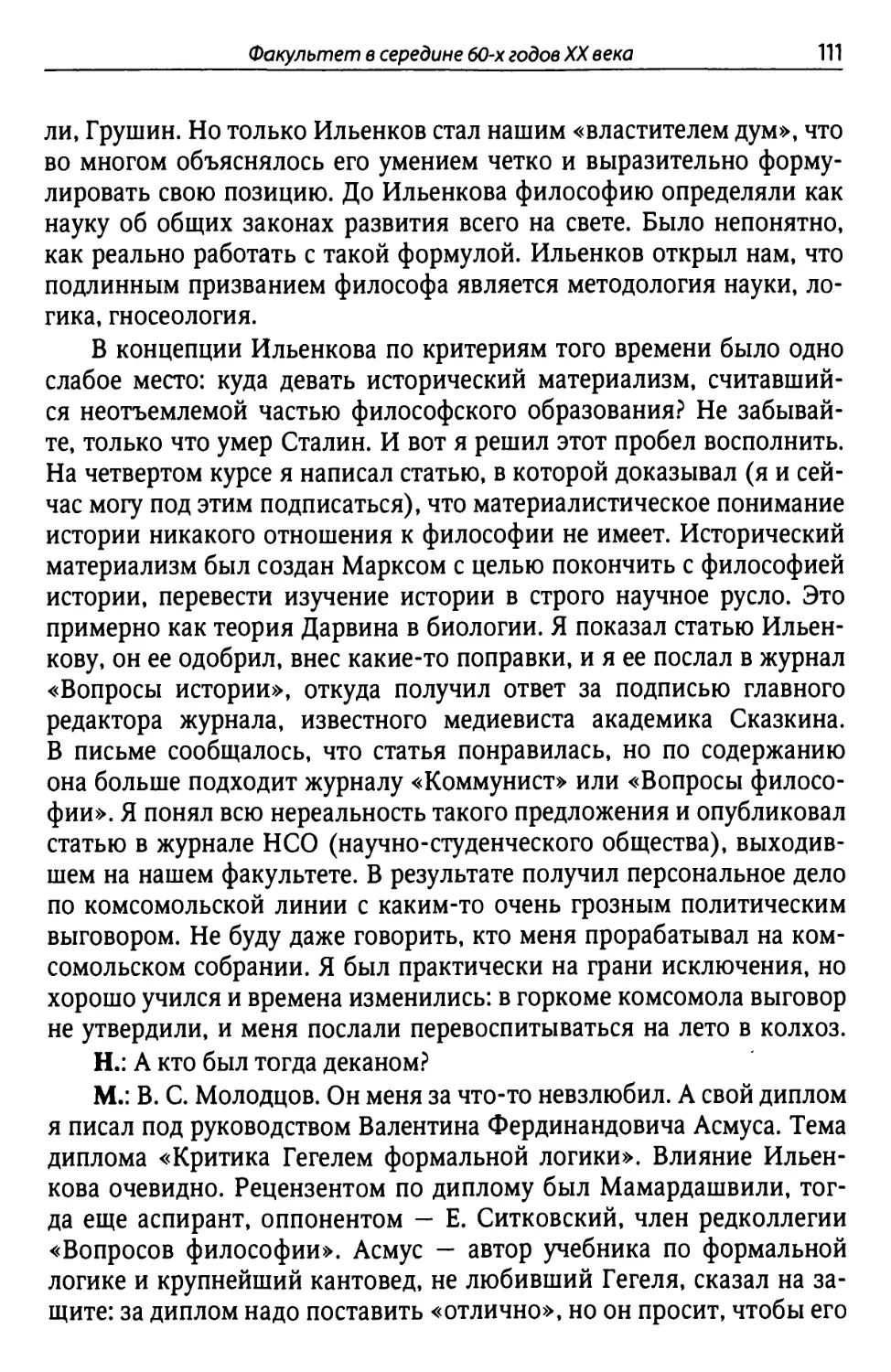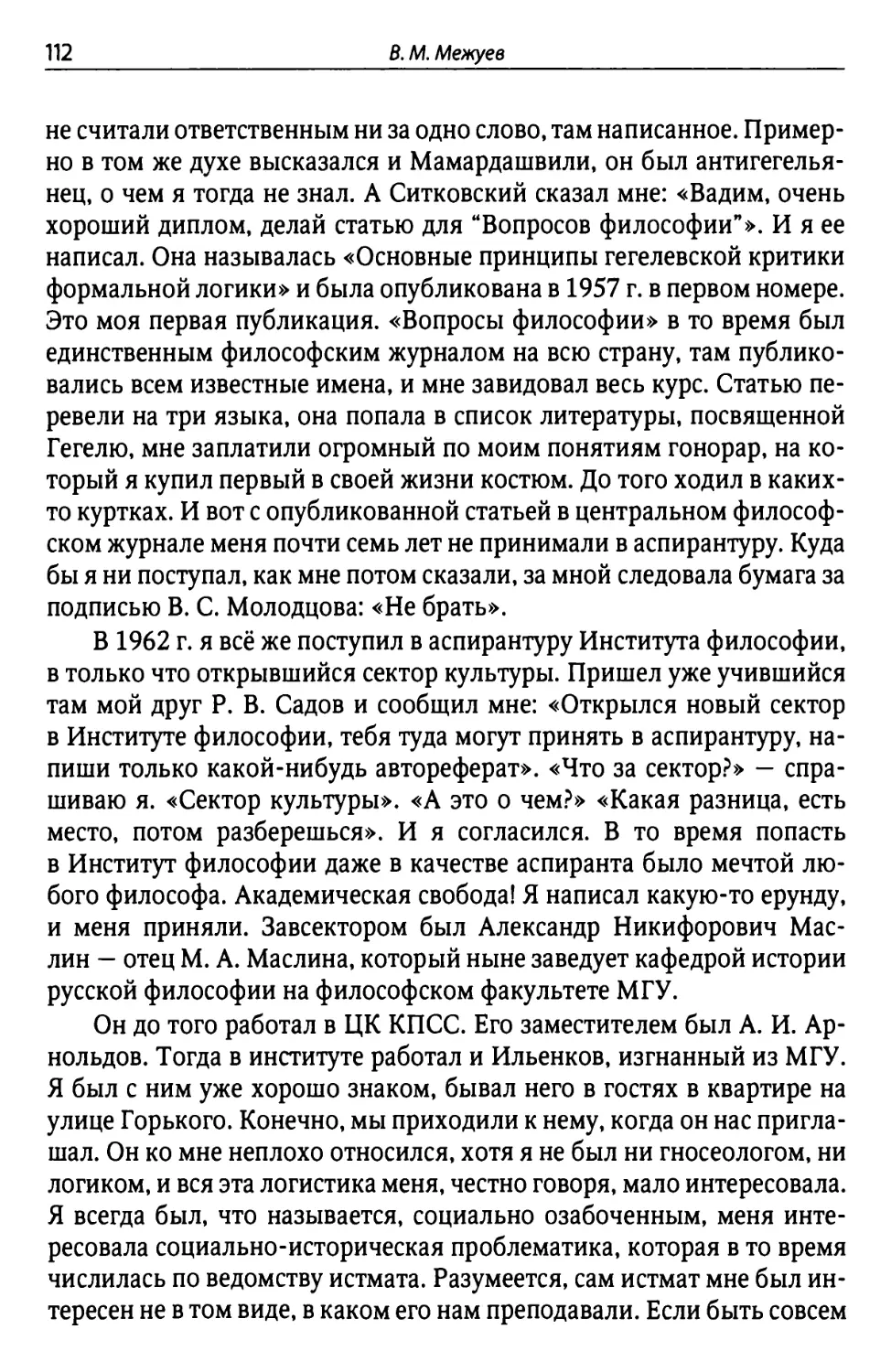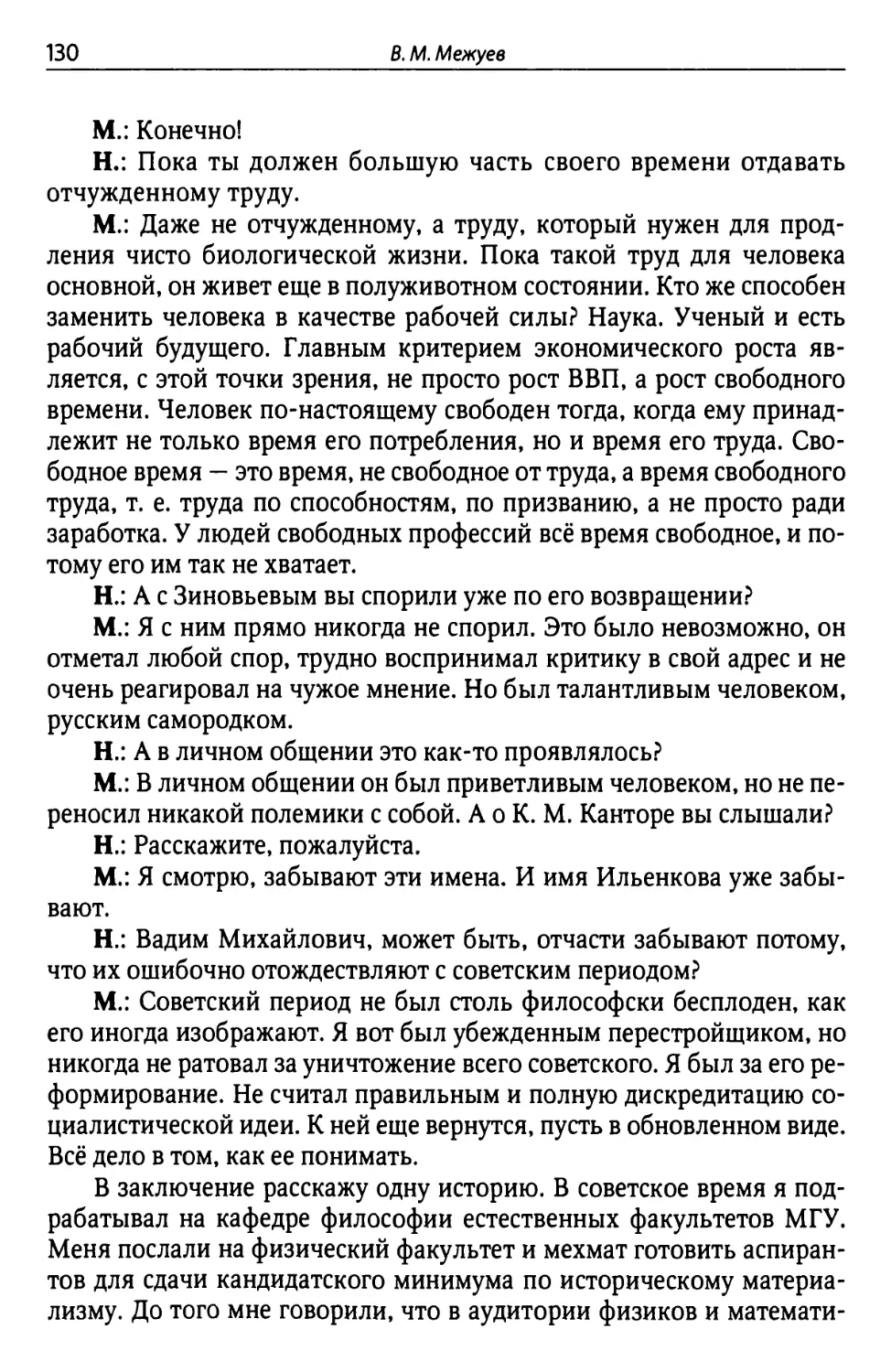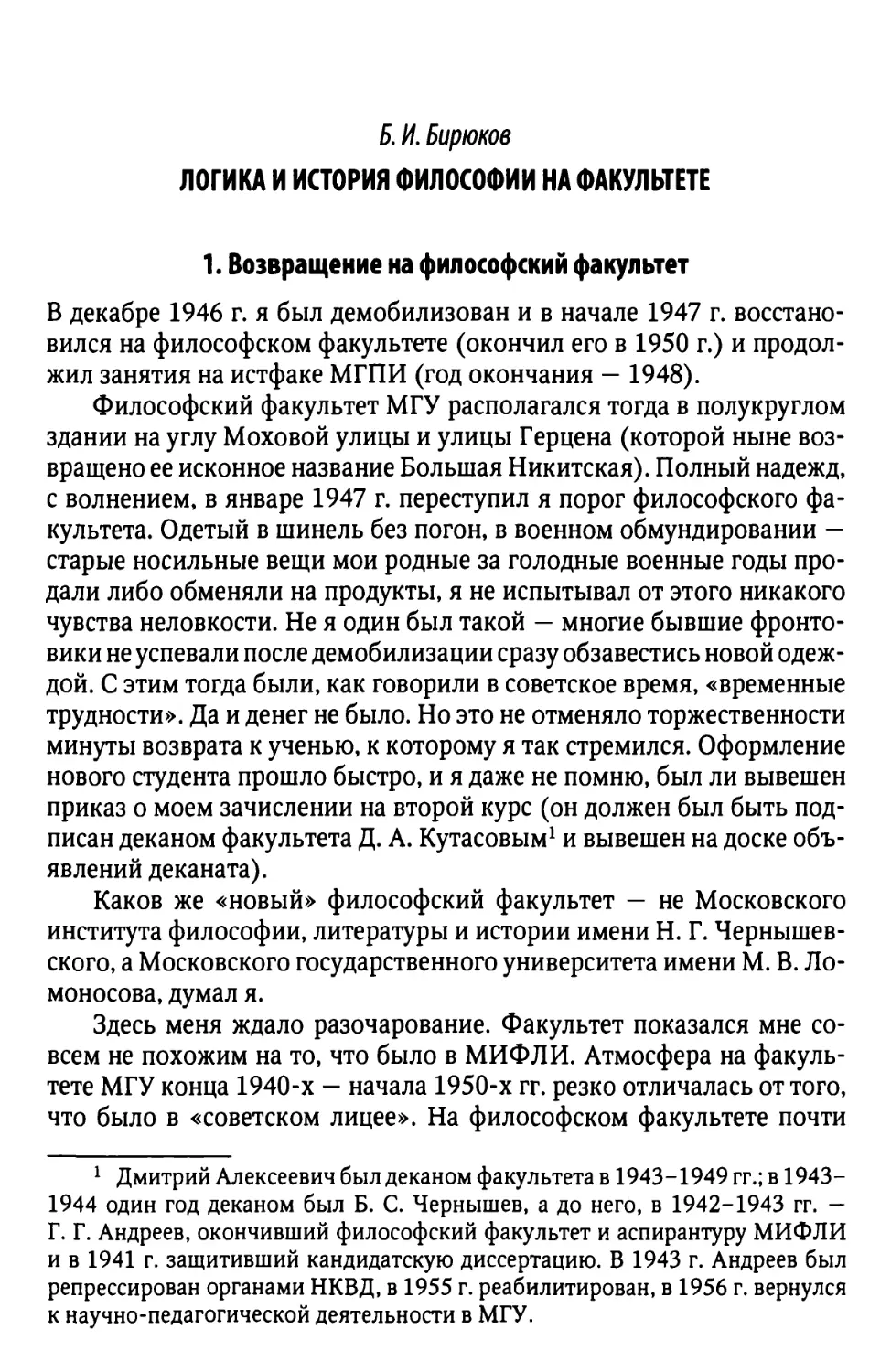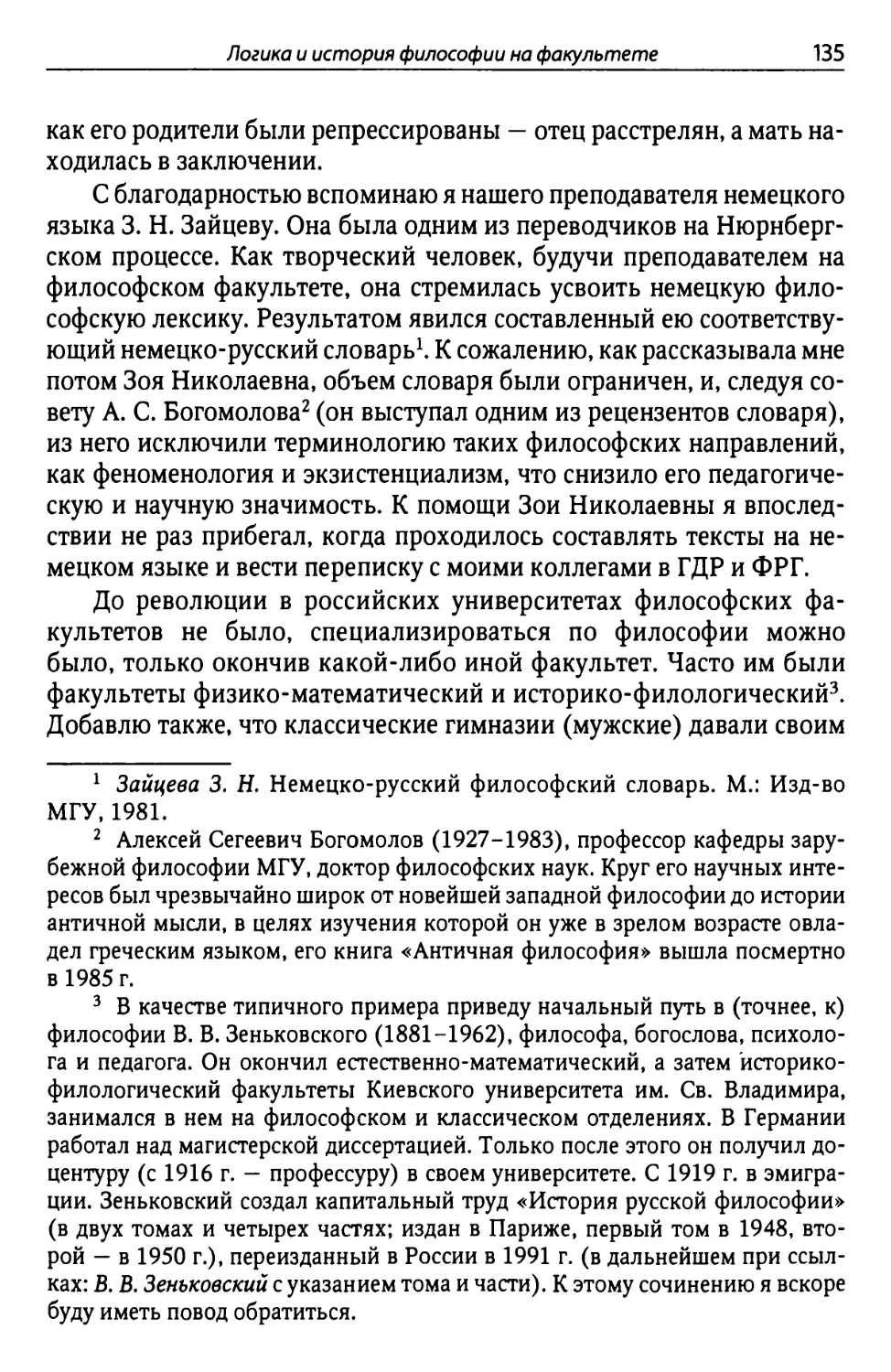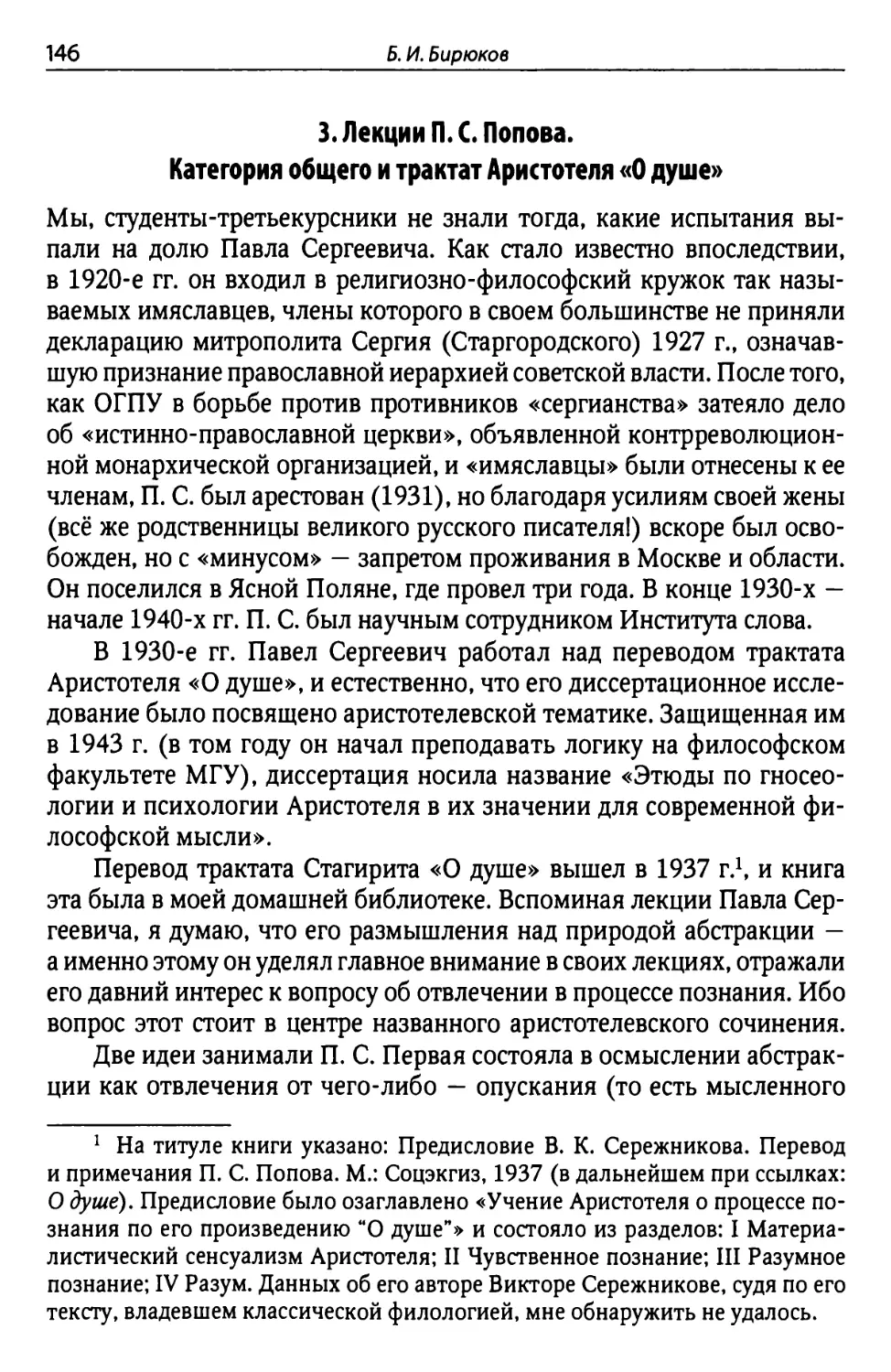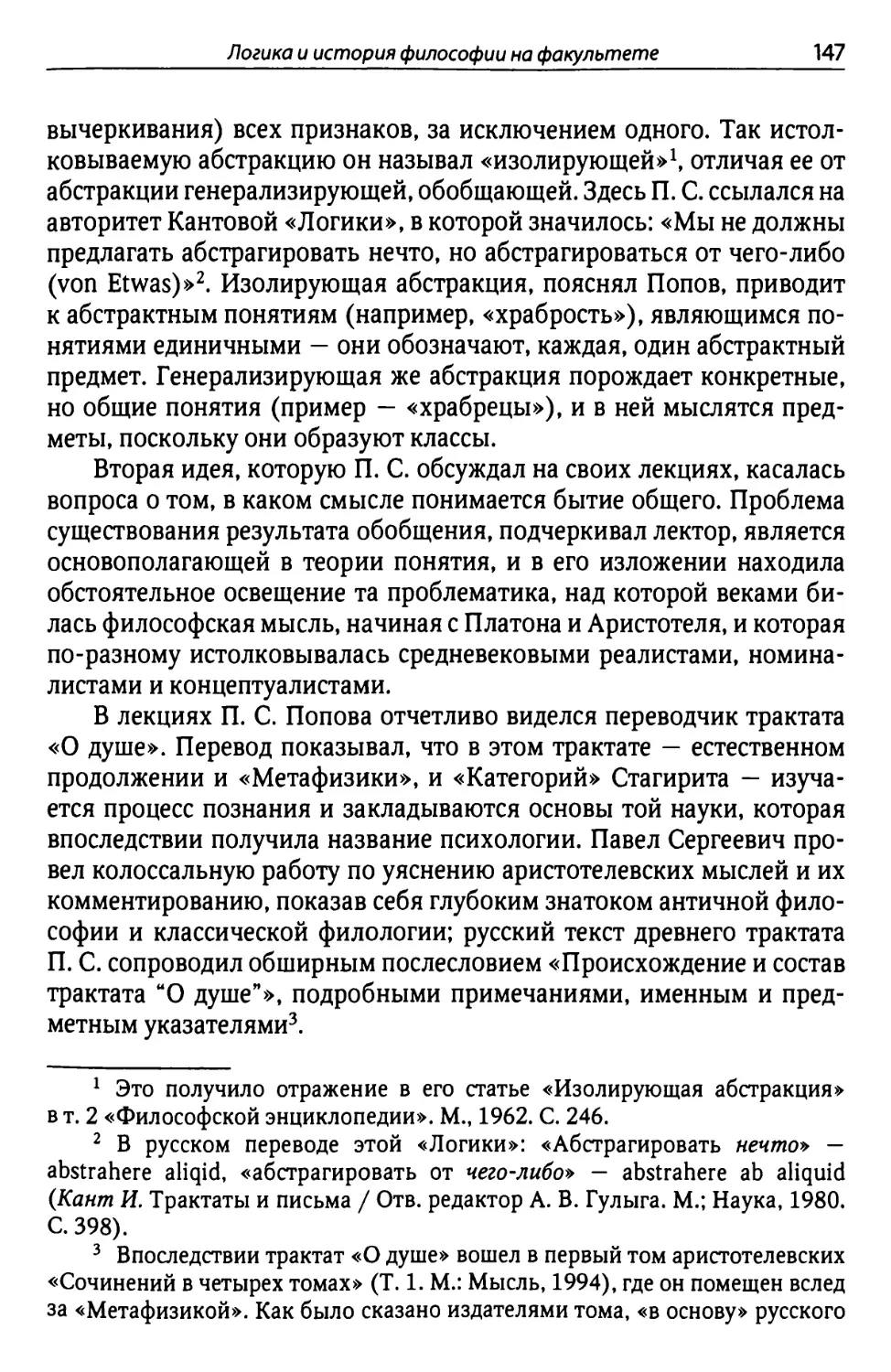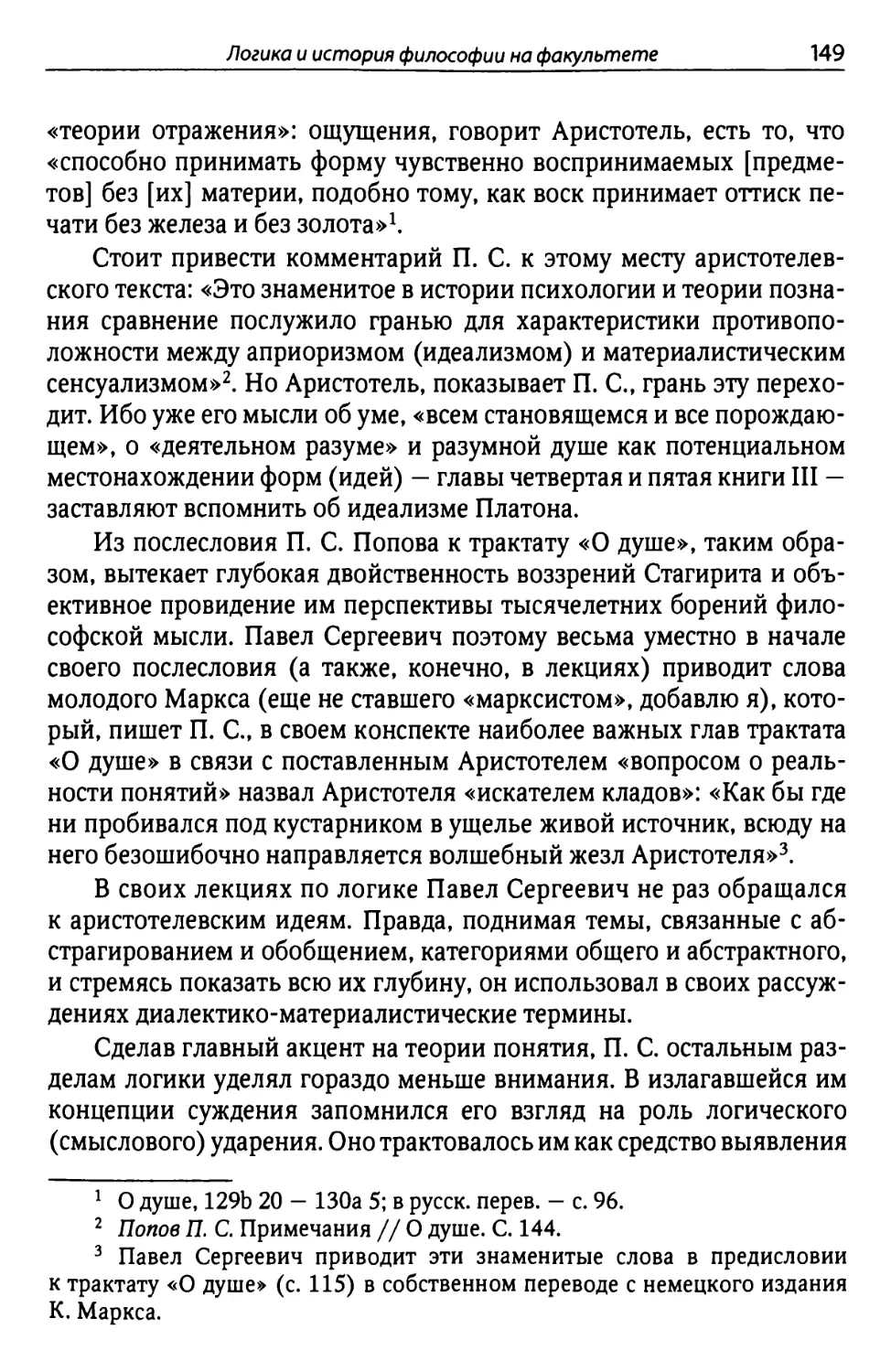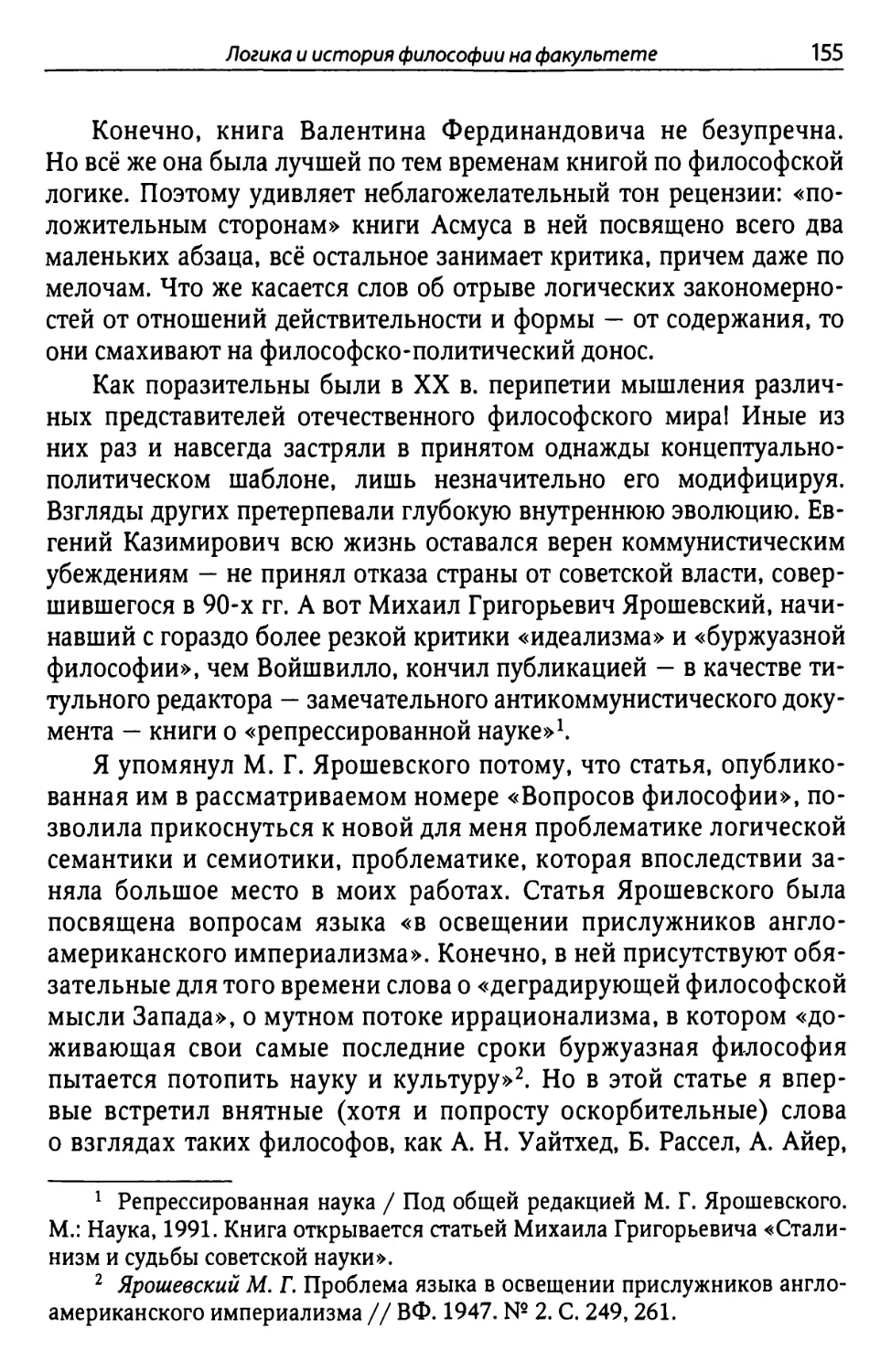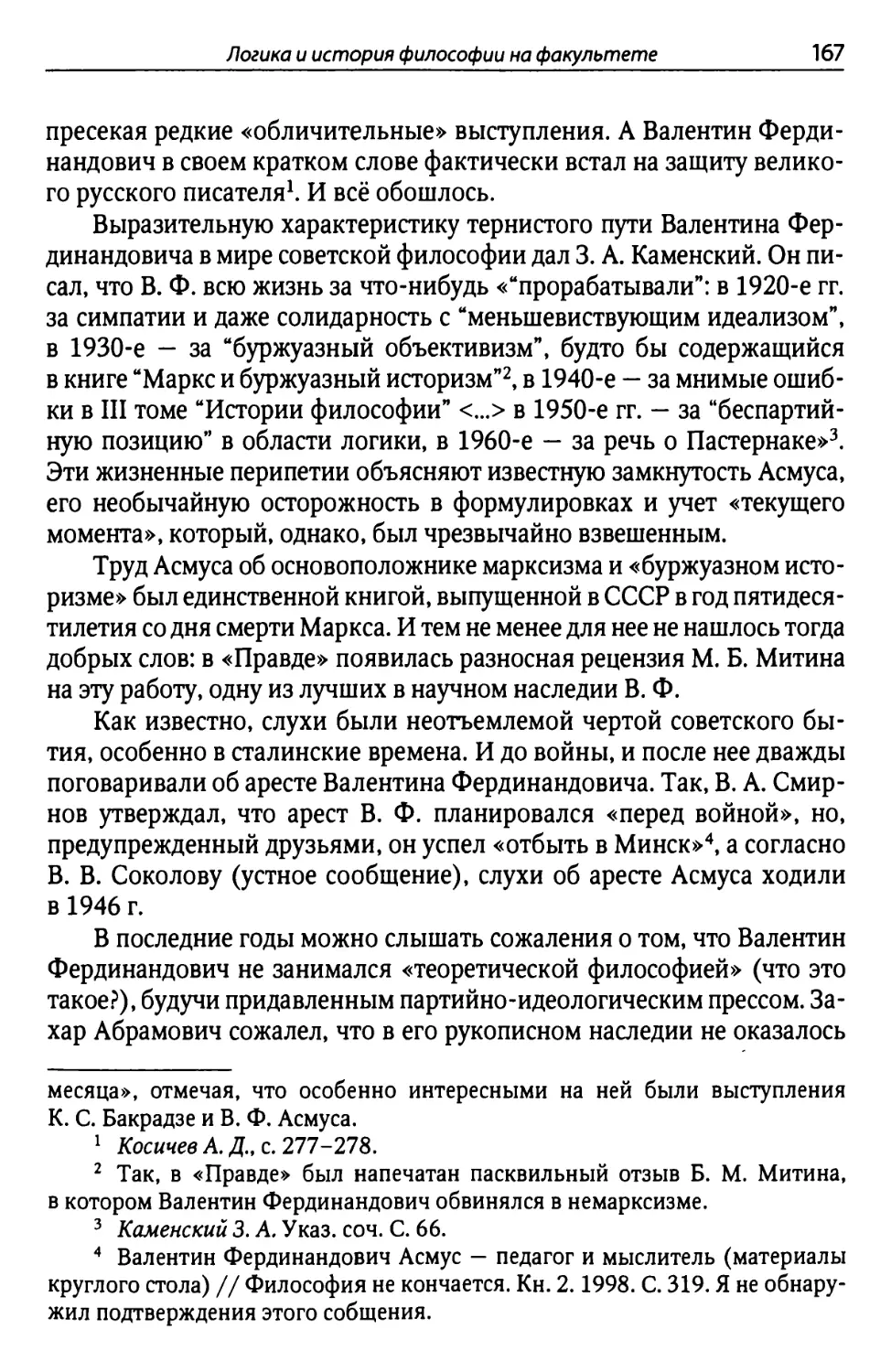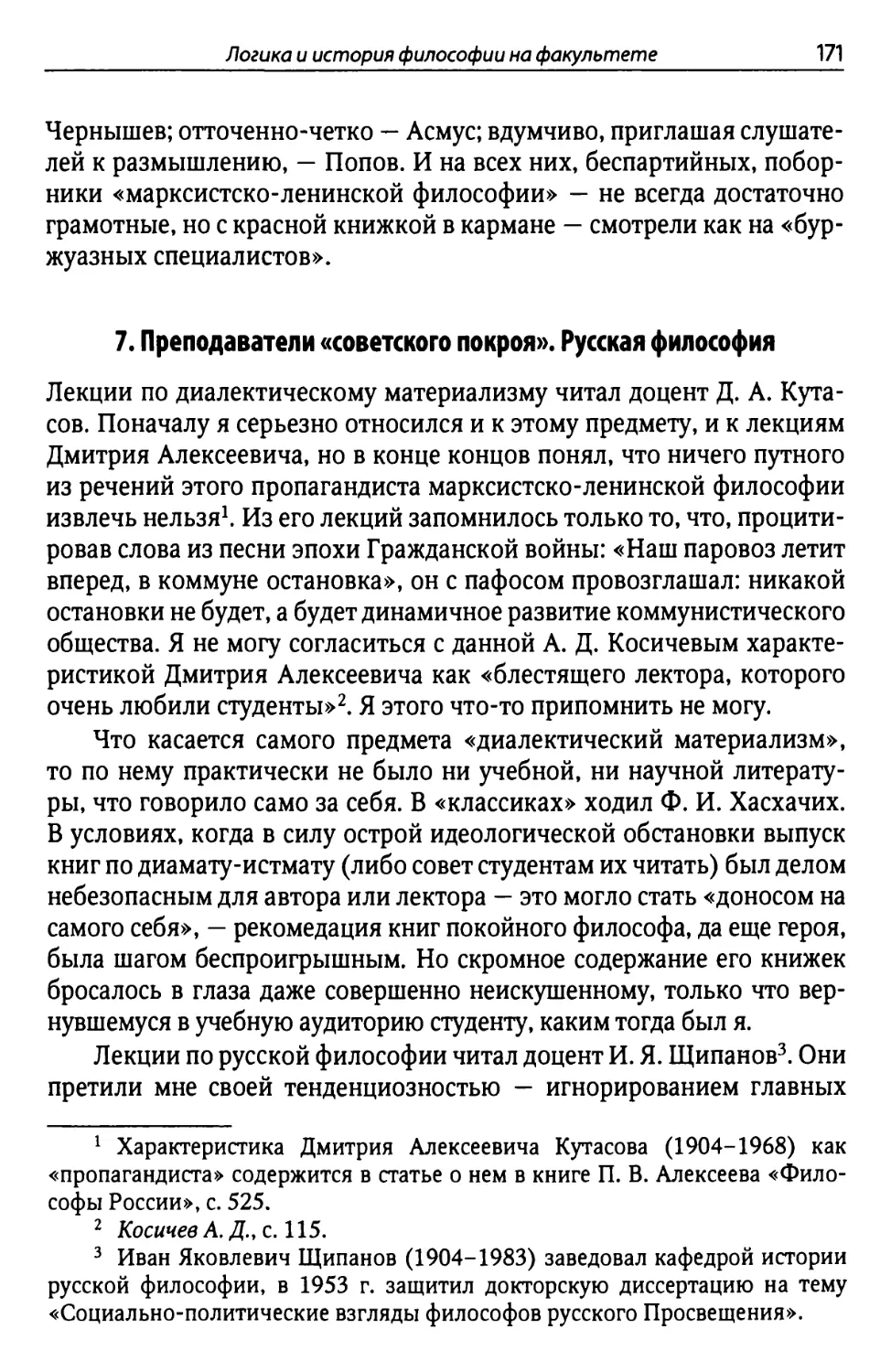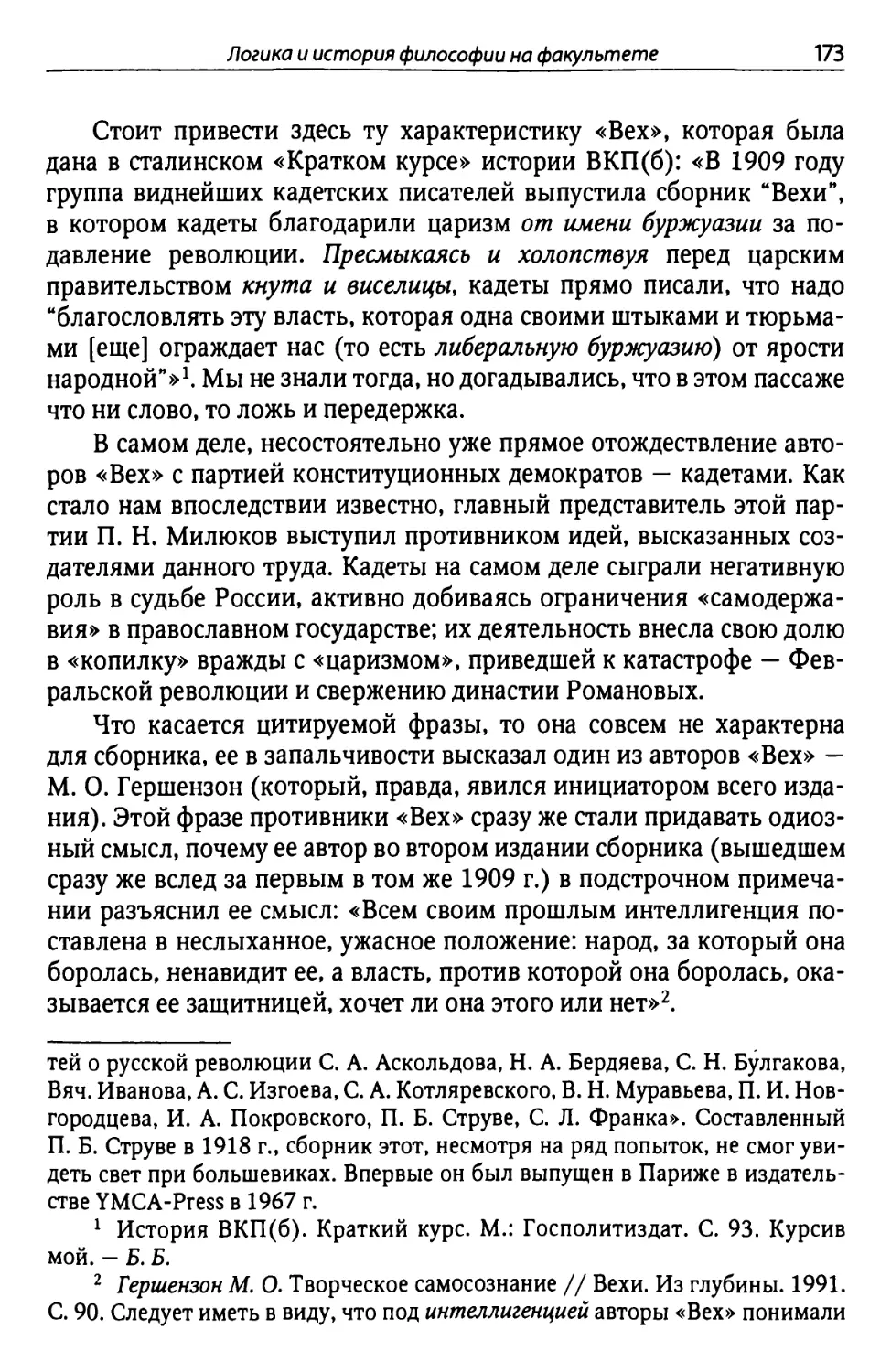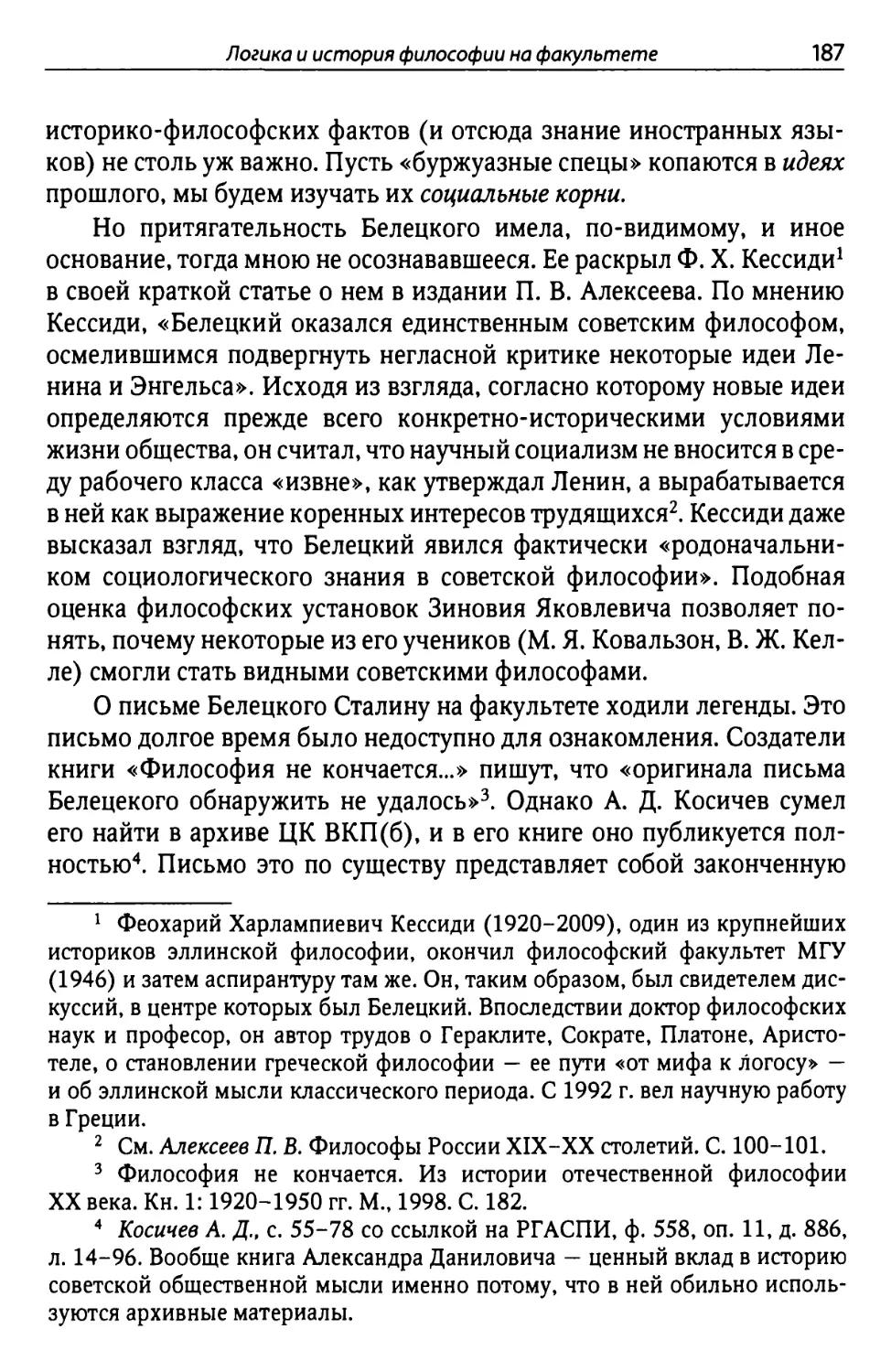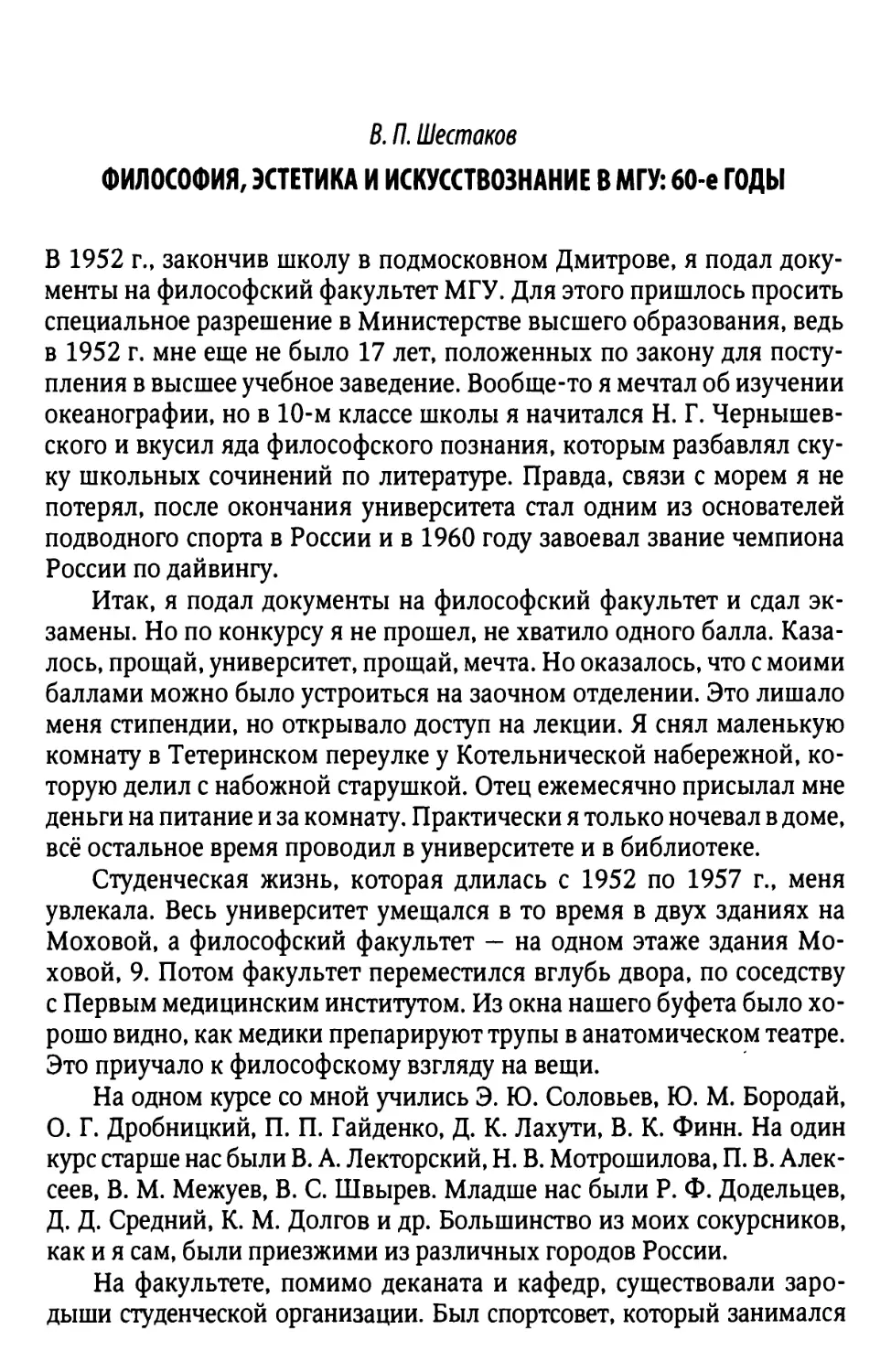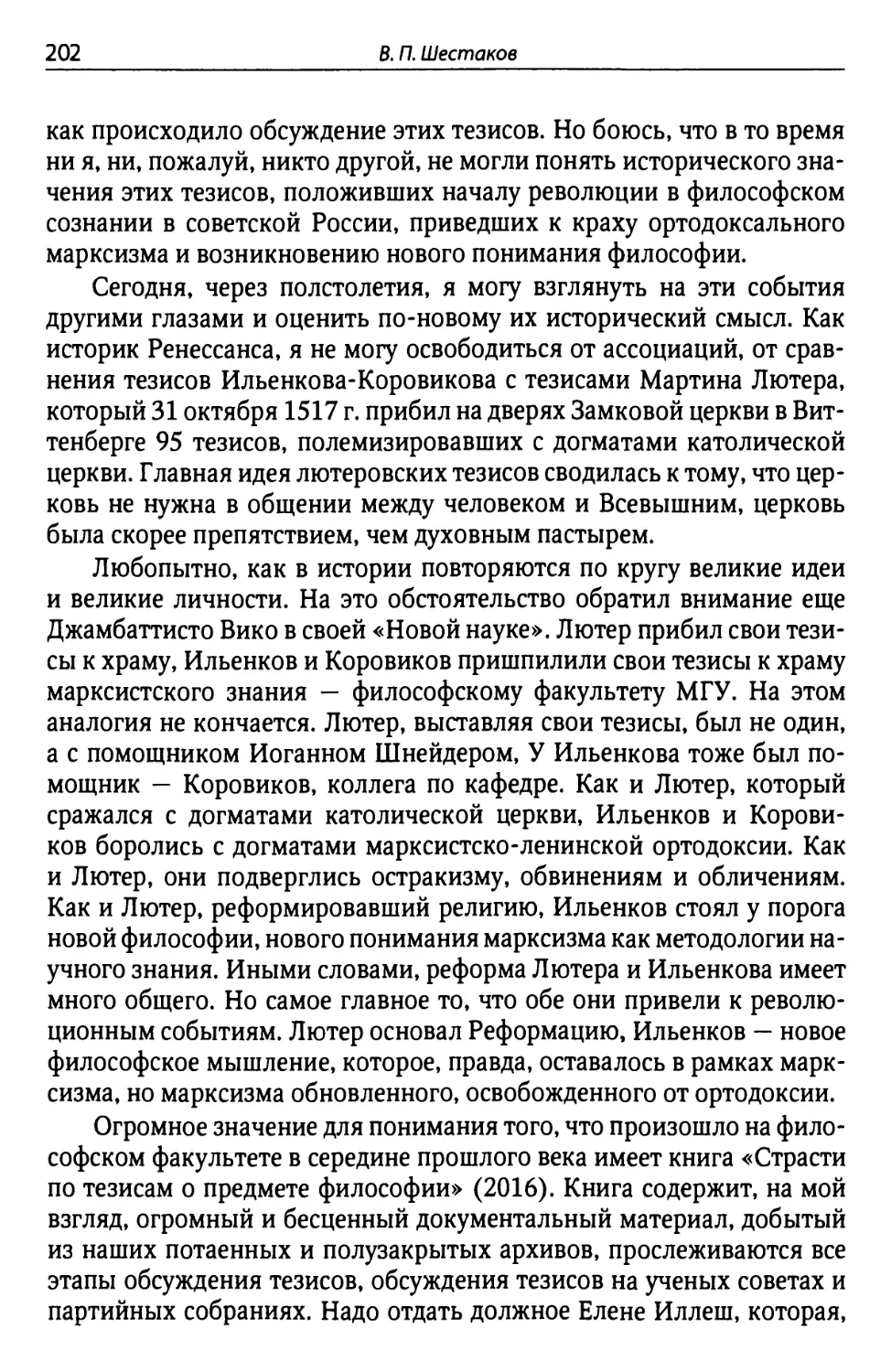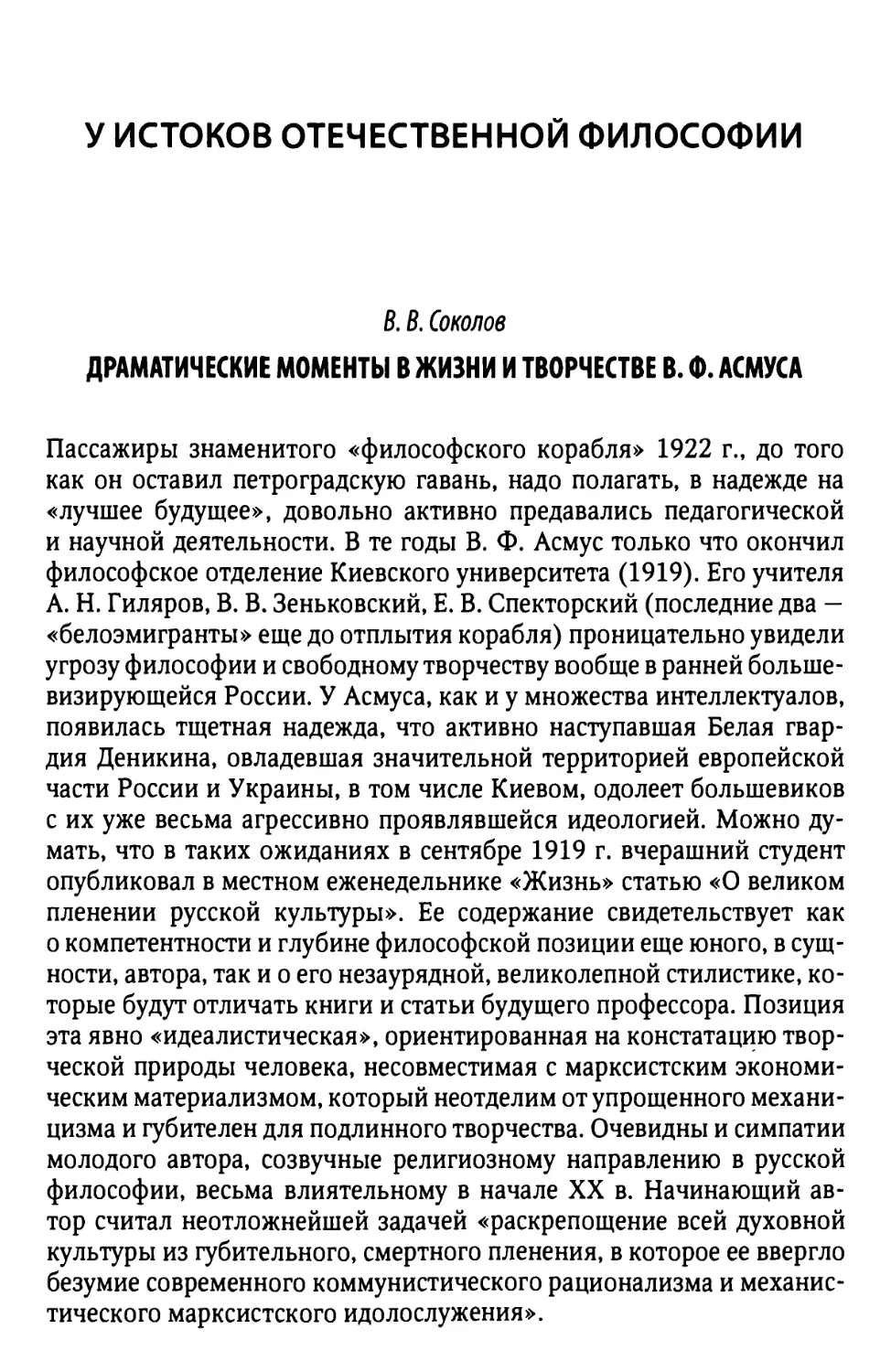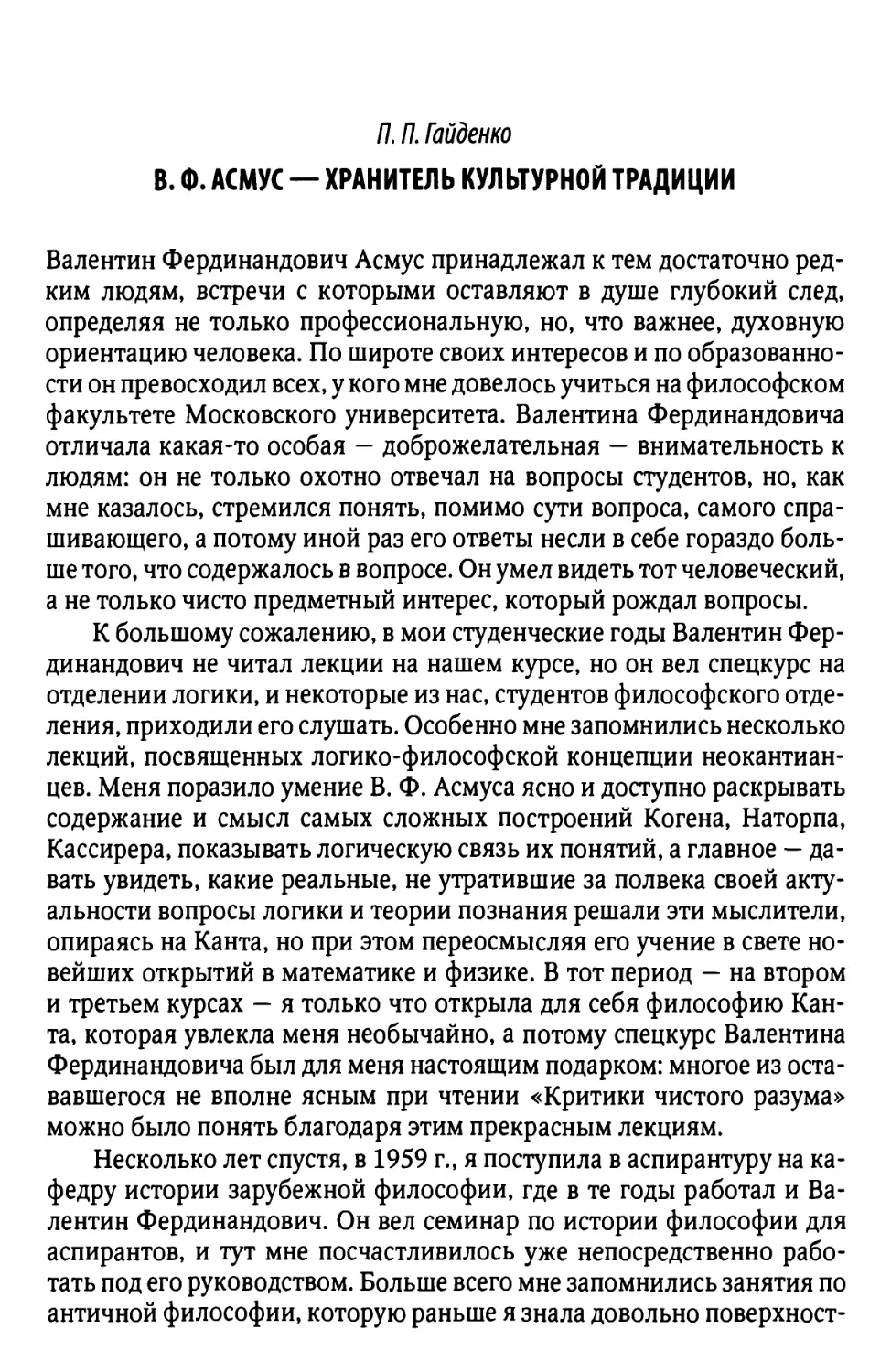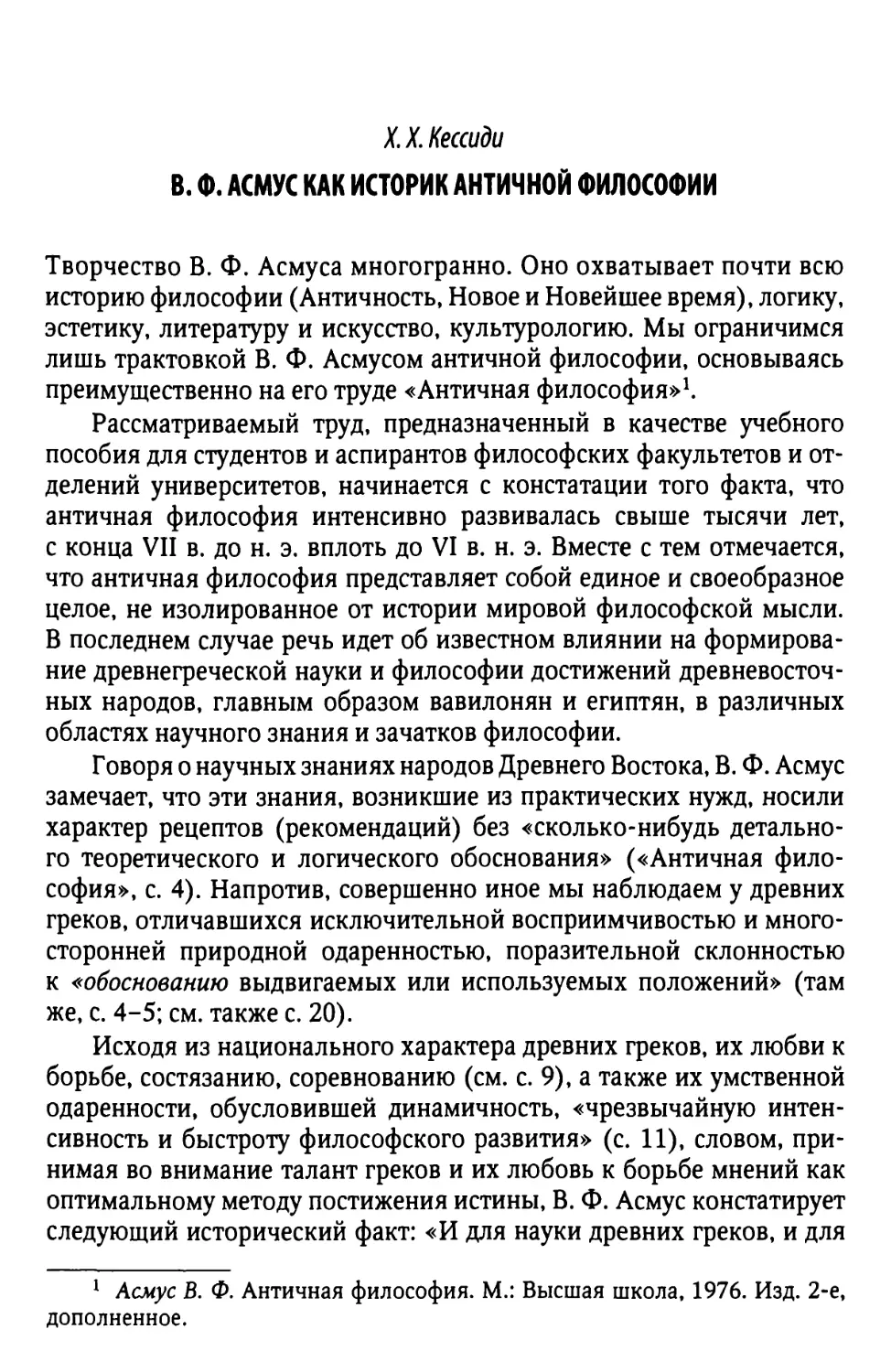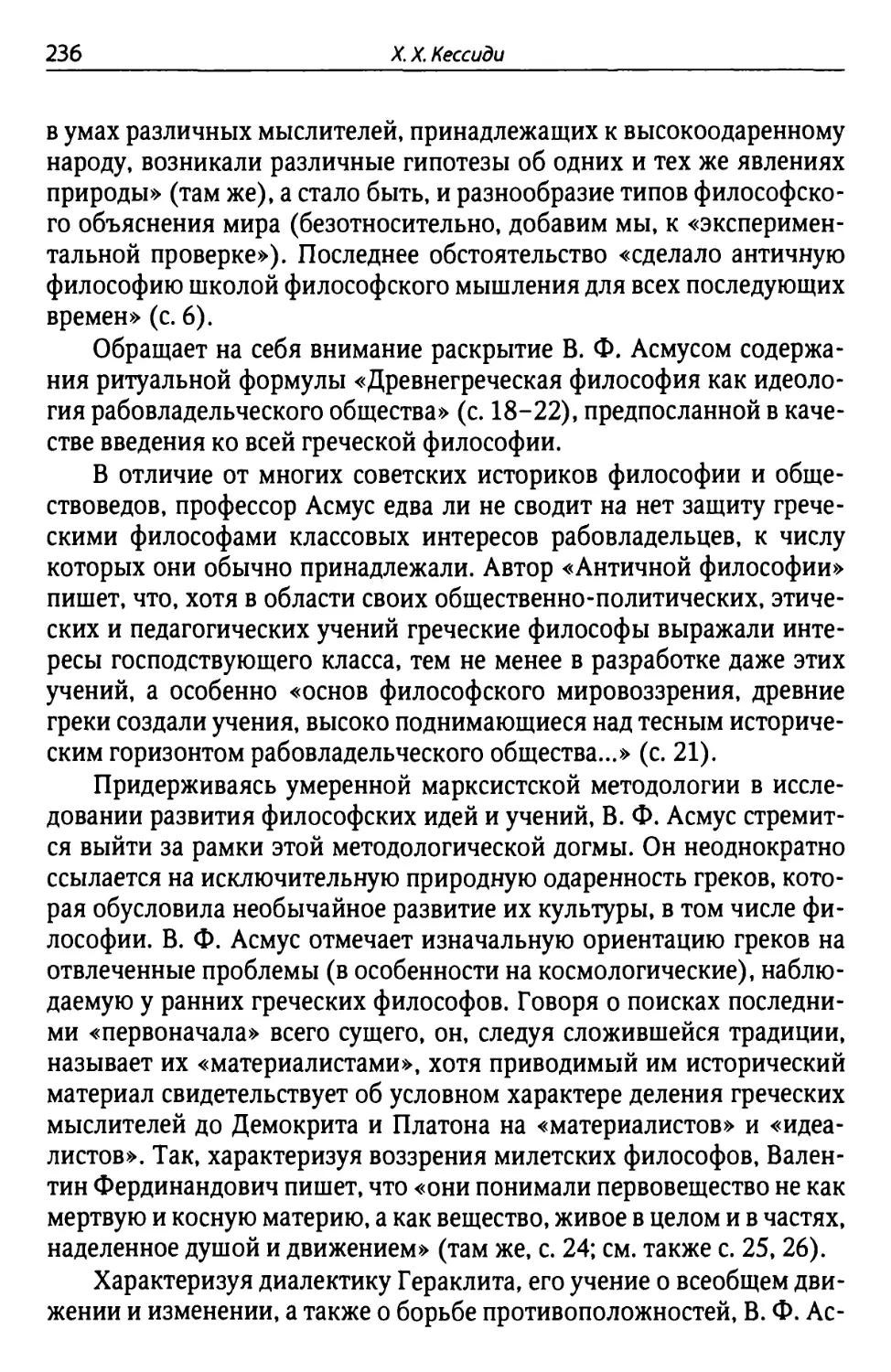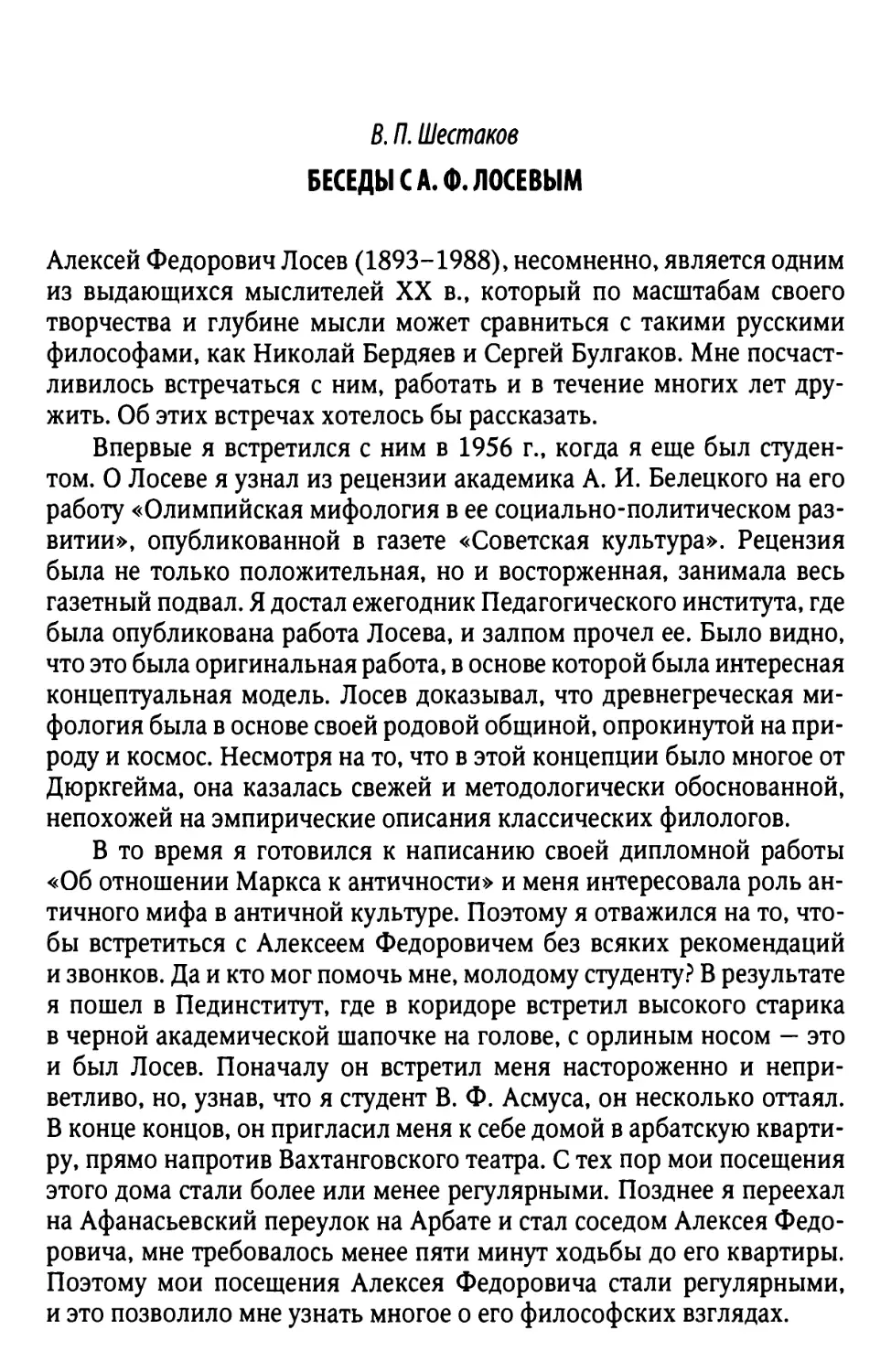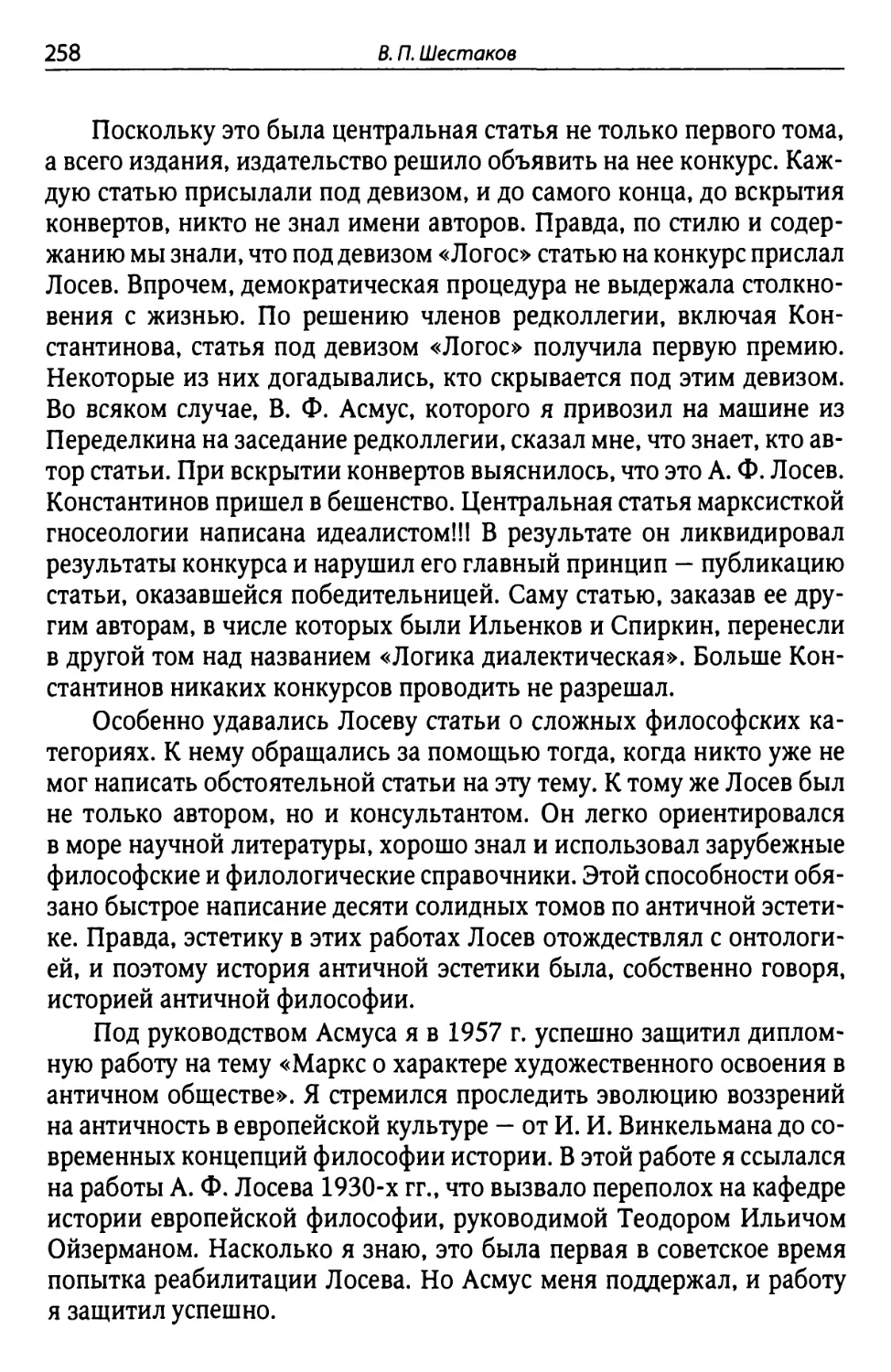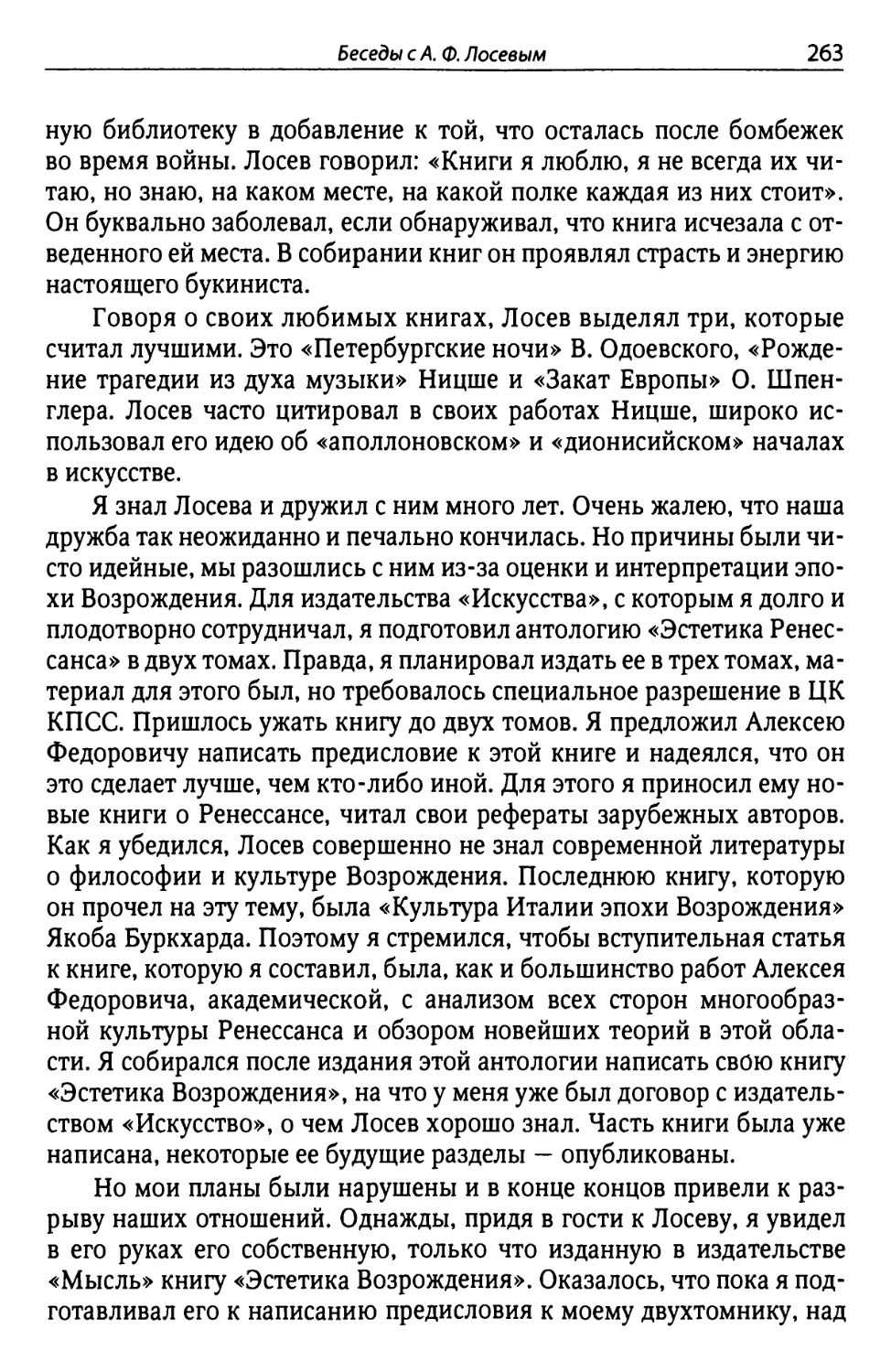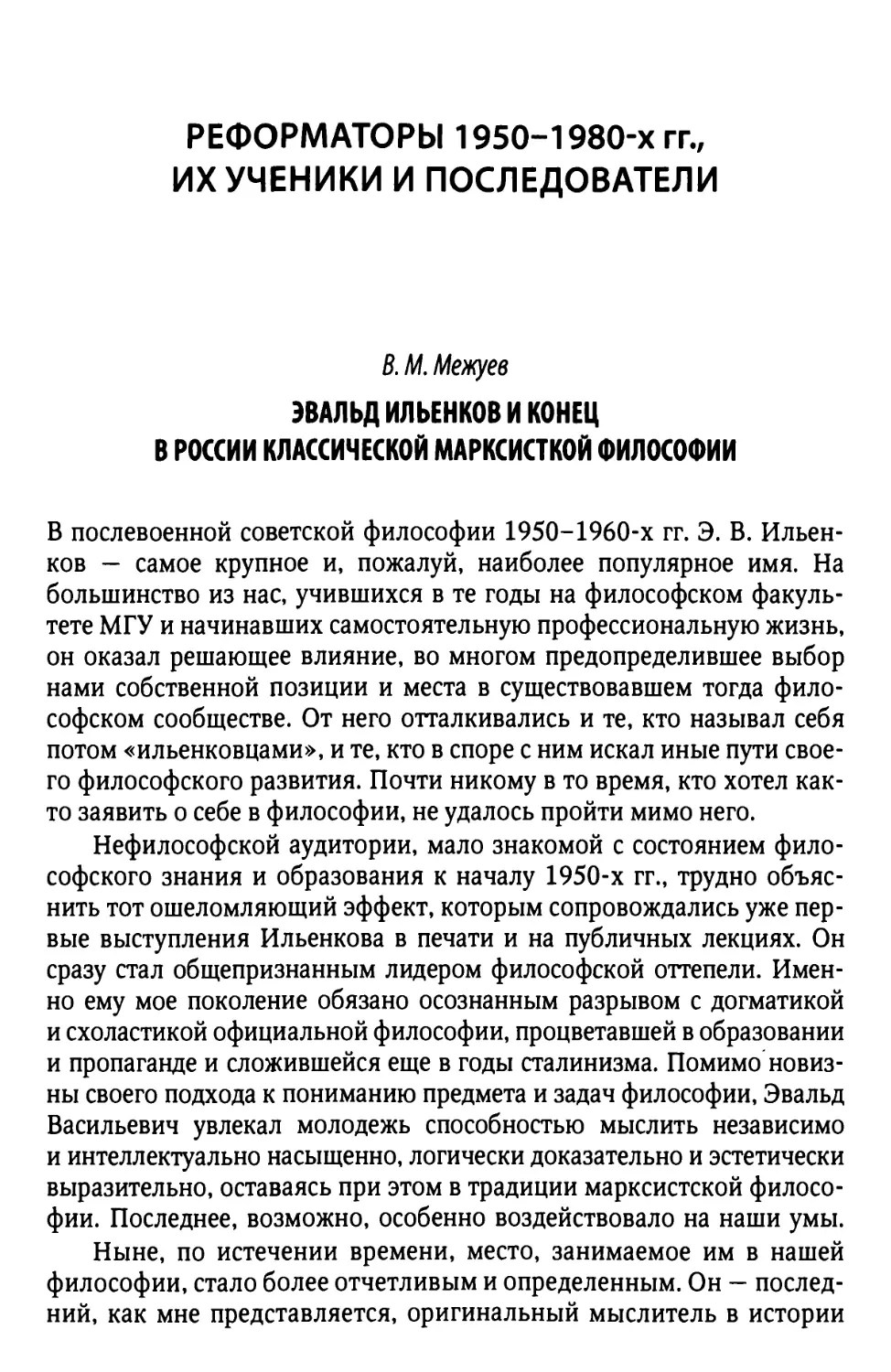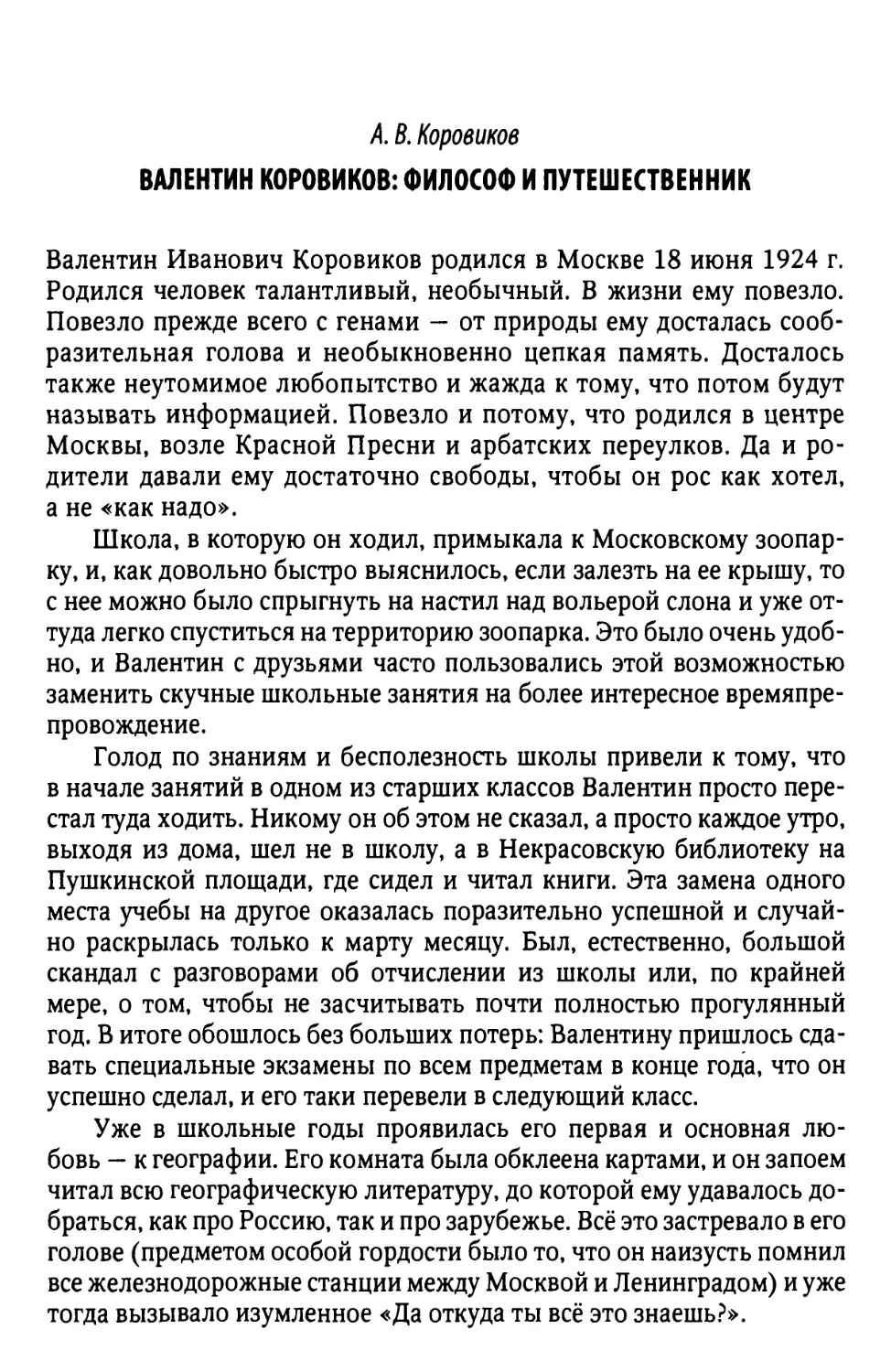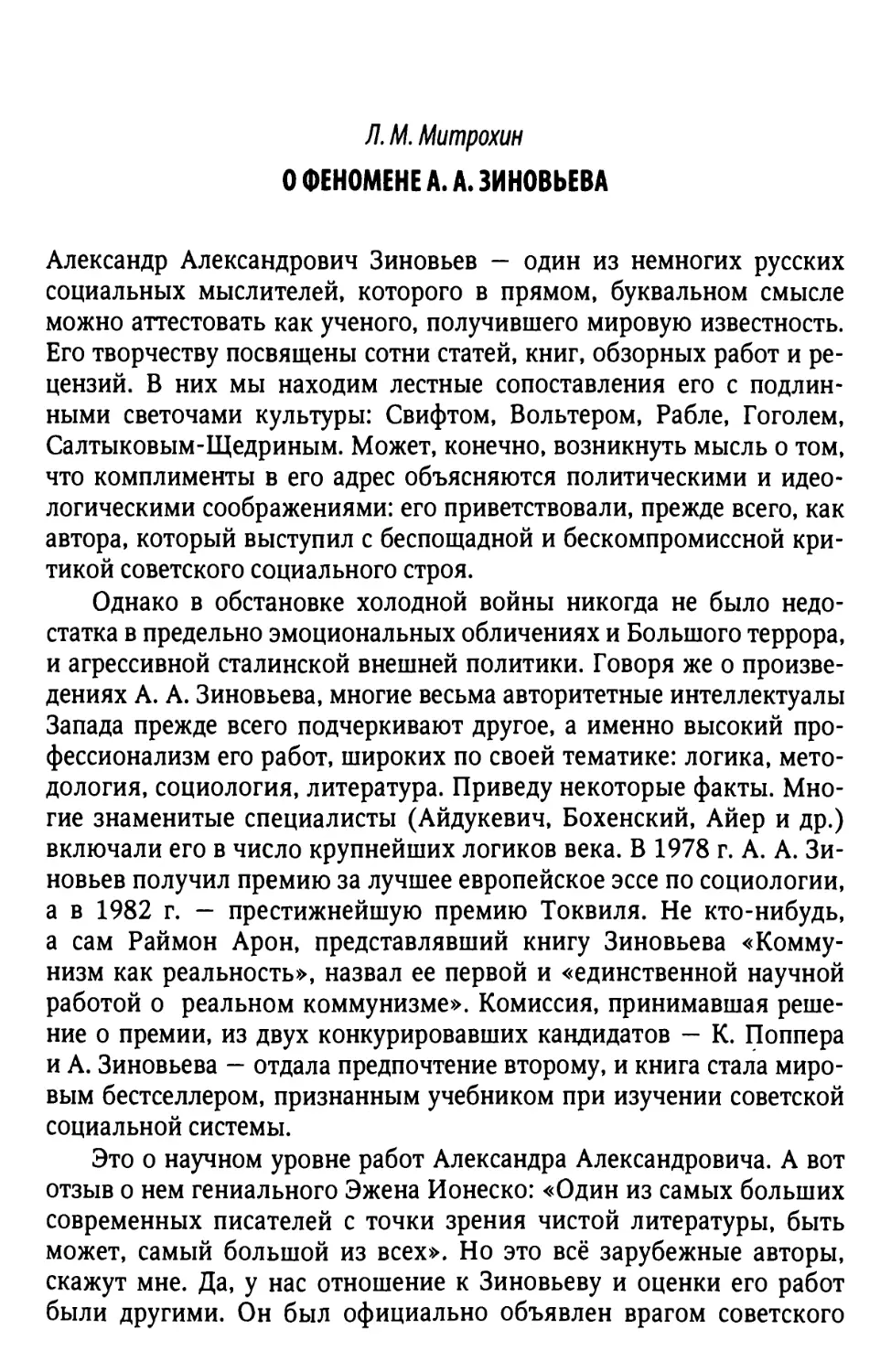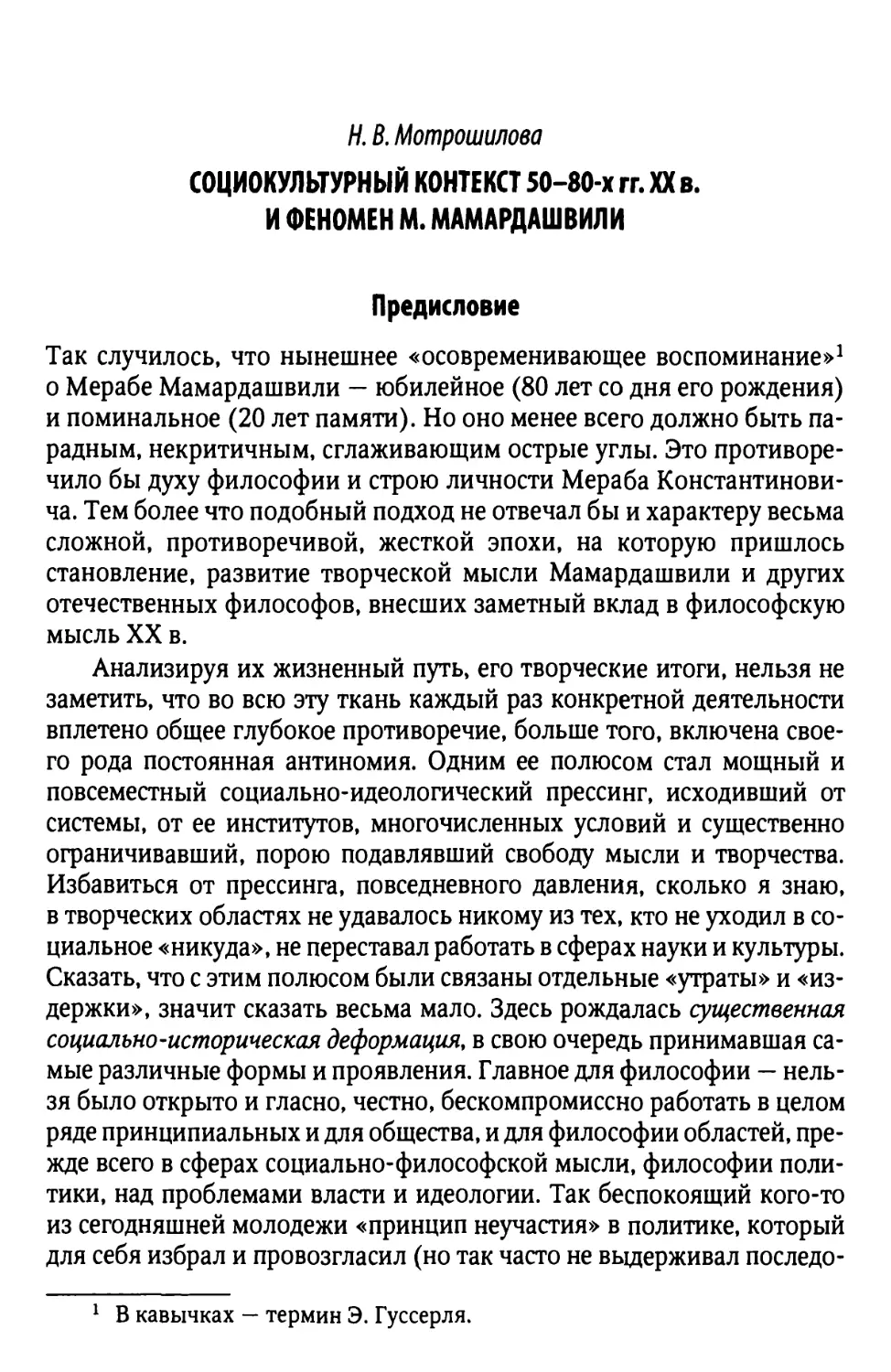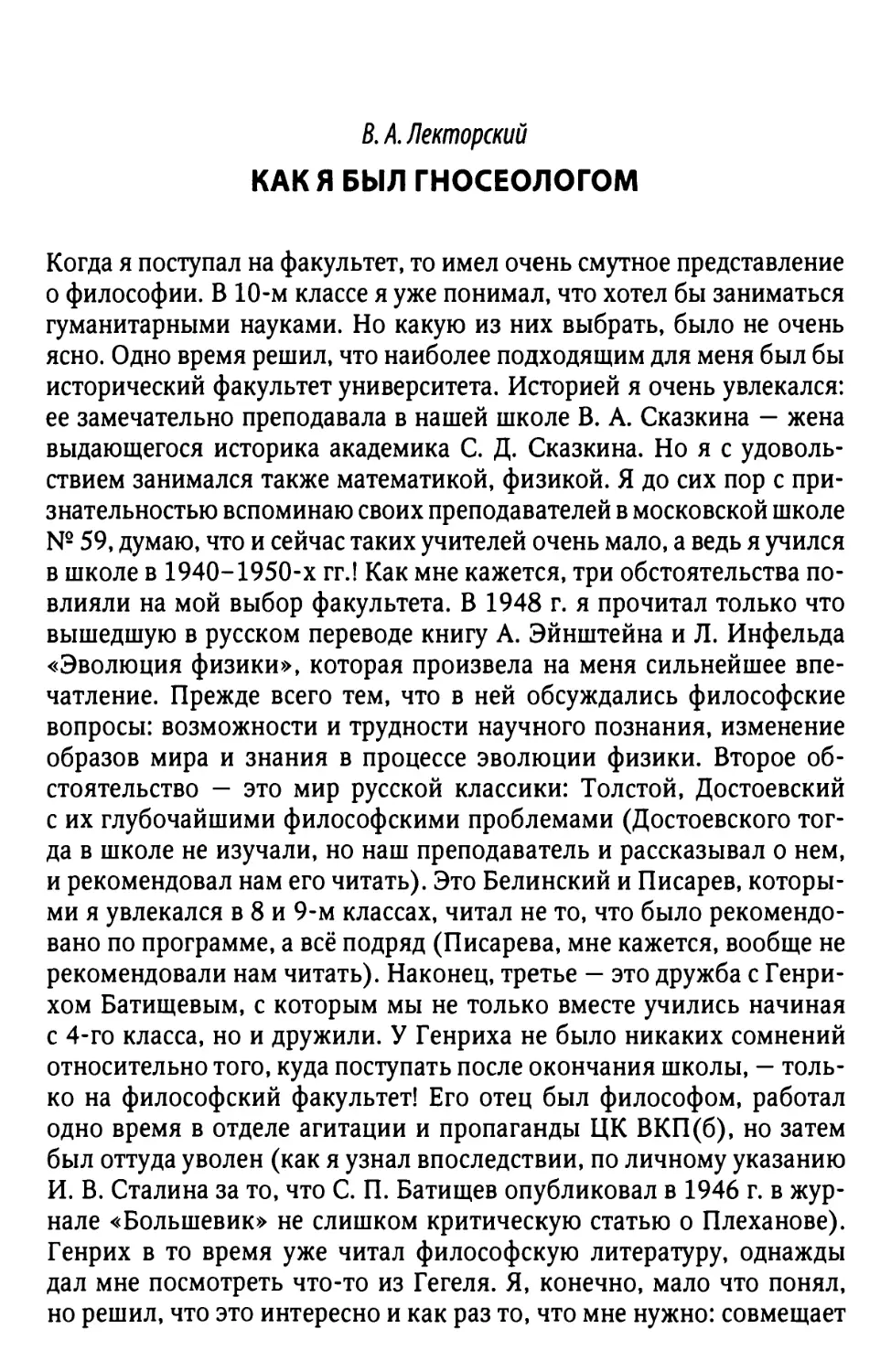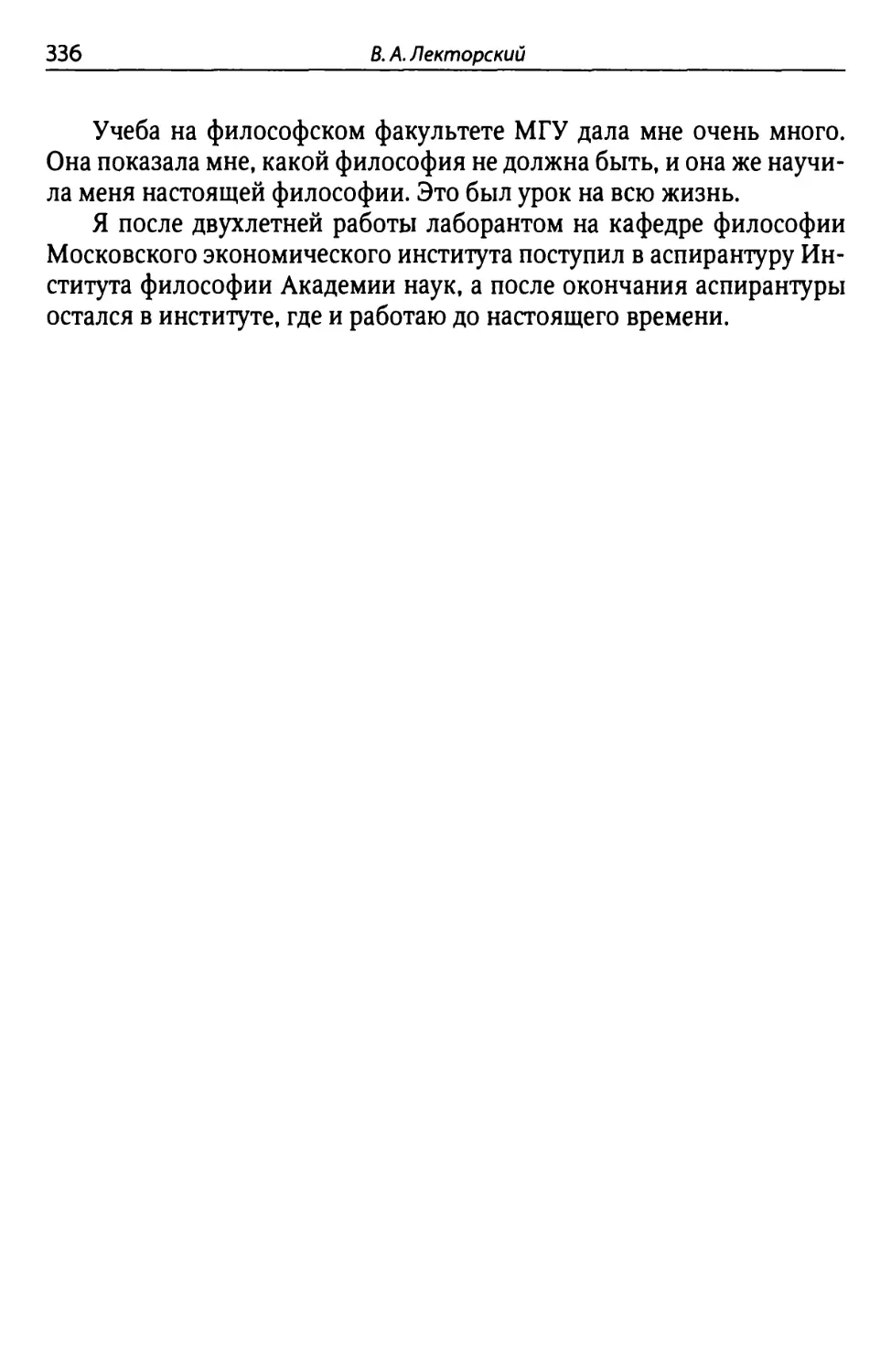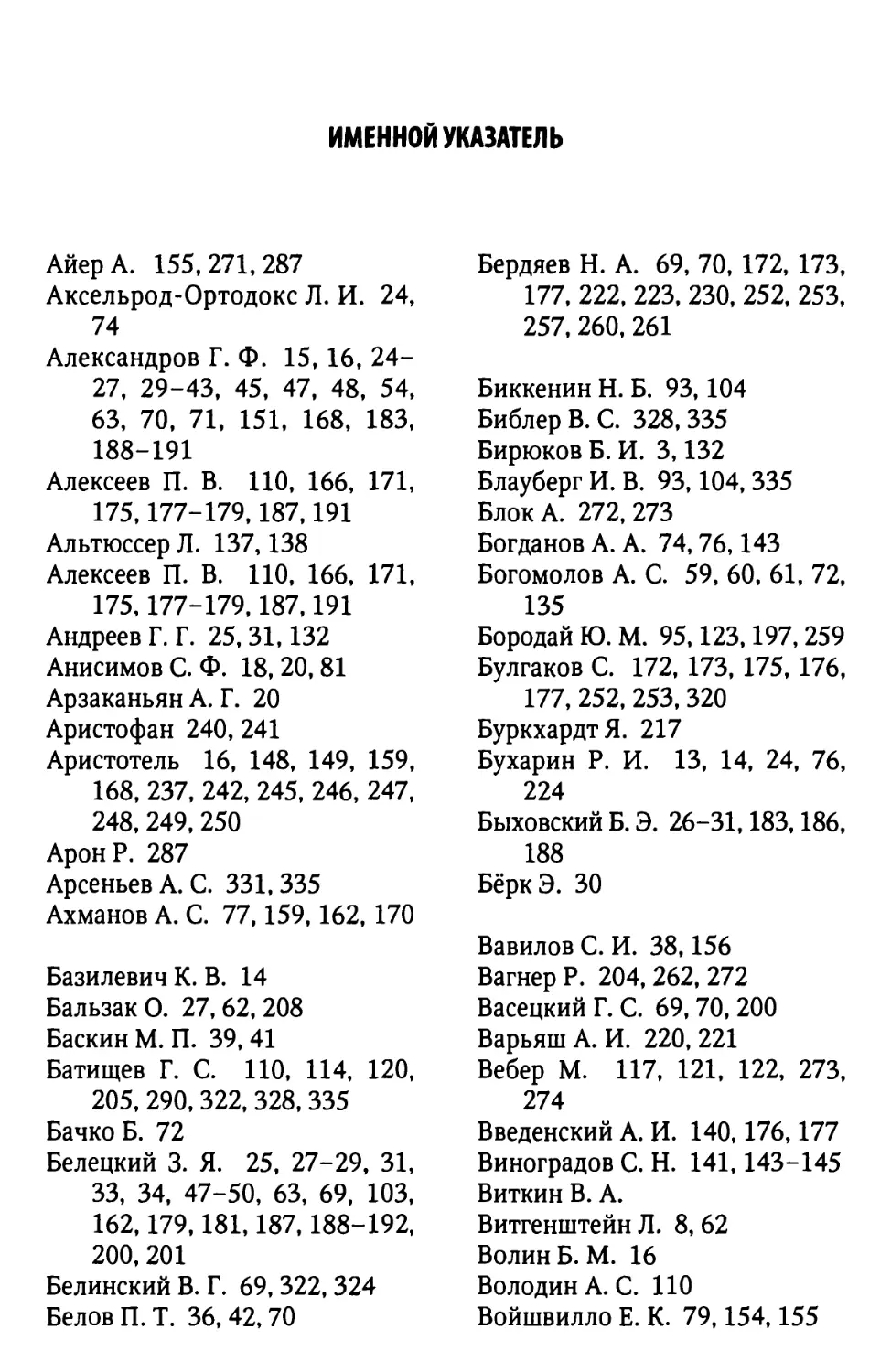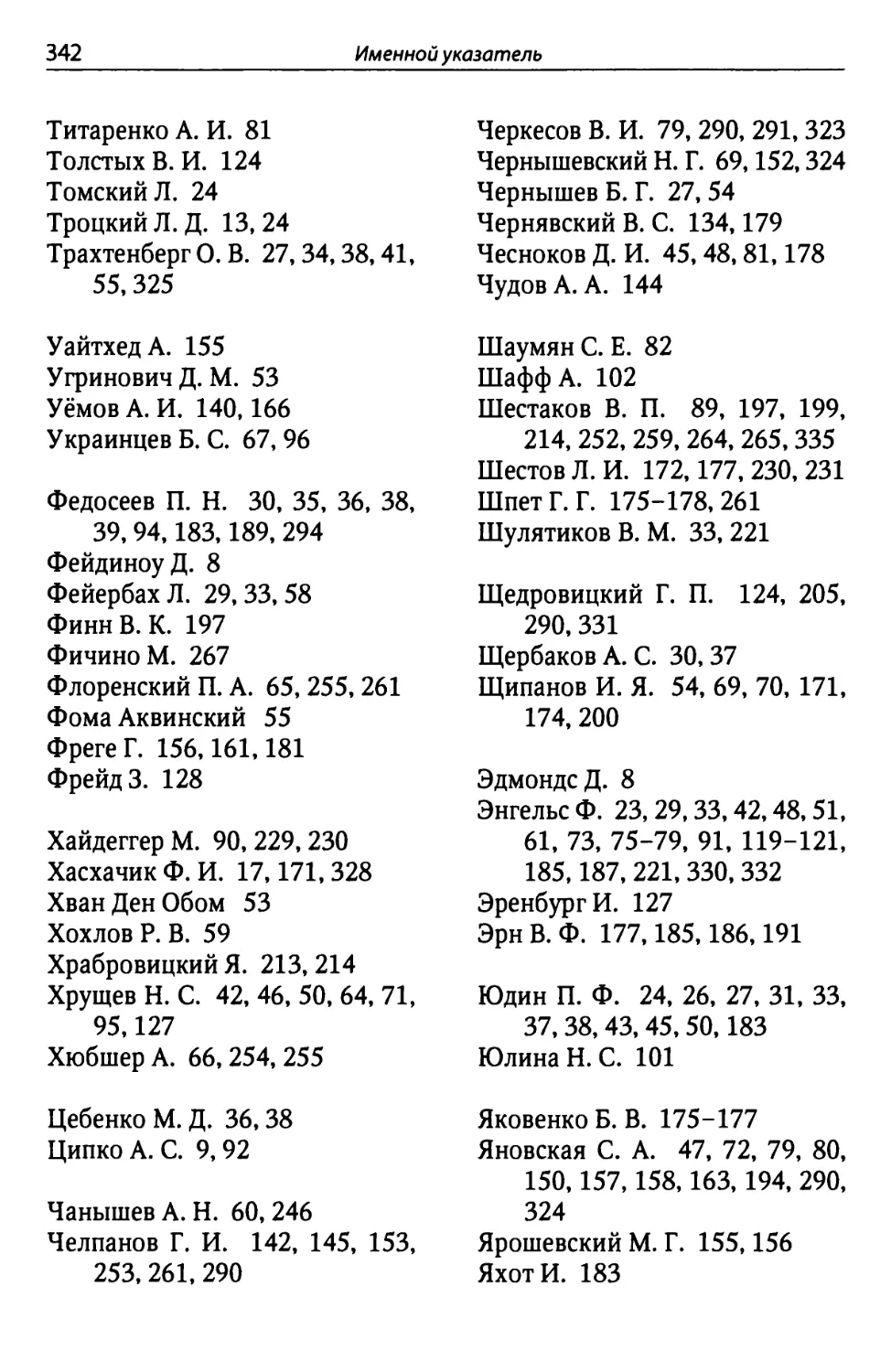Автор: Пружинин Б.И.
Теги: философия марксизм философия россии философия ссср падение марксизма в россии
ISBN: 978-5-4469-1008-3
Год: 2017
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ФИЛОСОФСКАЯ
И 1ЩЕНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА В РОССИИ
ОТТЕПЕЛЬ
Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
в воспоминаниях его выпускников
Москва • Санкт-Петербург
Нестор-История
2017
Рецензенты:
Б. Г. Юдин, чл.-кор. РАН;
Б. И. Пружиним, д-р филос. наук, профессор
Философская оттепель и падение догматического марксизма
в России. Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
в воспоминаниях его выпускников. — М. ; СПб. : Нестор-
История, 2017. - 344 с.
ISBN 978-5-4469-1008-3
В этом издании собраны воспоминания студентов и
преподавателей философского факультета МГУ 50-60-х гг. прошлого
столетия. Это было время кризиса догматического марксизма-
ленинизма, на основе которого строилась университетская
программа преподавания философии. На факультете
возникали новые реформаторские концепции о предмете философии,
расширялась сфера изучения истории философии, появлялись
новые философские дисциплины. Всё это привело к острому
столкновению догматизма и новаторства, дискуссиям о
предмете философии. В центре книги — знаменитое обсуждение
тезисов преподавателей Э. Ильенкова и В. Коровикова. Оба
преподавателя были изгнаны с факультета. Но в конечном
счете победило новаторское мышление, которое открыло
путь к творческому развитию философской науки.
© В. П. Шестаков, составление,
общая редакция и предисловие, 2017
© Издательство «Нестор-История»,
издательская подготовка, 2017
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА
В. В. Соколов
Философские страдания и просветления
в советской и постсоветской России 11
3. Ю. Соловьев
Моховая, 11 - Волхонка, 14
(из истории московской философской оттепели) 84
В. М. Межуев
Факультет в середине 60-х годов XX века ПО
Б. И. Бирюков
Логика и история философии на факультете 132
В. П. Шестаков
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ:
60-е годы 197
У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
В. В. Соколов
Драматические моменты в жизни
и творчестве В. Ф. Асмуса 219
Я. Я. Гайденко
В. Ф. Асмус - хранитель культурной традиции 228
X. X. Кессиди
В. Ф. Асмус как историк античной философии 234
В. П. Шестаков
Беседы с А. Ф. Лосевым 252
4
Содержание
РЕФОРМАТОРЫ 1950-1980-х гг.,
ИХ УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
В. М. Межуев
Эвальд Ильенков и конец в России
классической марксистской философии 269
A. В. Коровиков
Валентин Коровиков: философ и путешественник 279
Л. М. Митрохин
О феномене А. А. Зиновьева 287
Я. В. Мотрошилова
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в.
и феномен М. Мамардашвили 298
B. А. Лекторский
Как я был гносеологом 322
Именной указатель 336
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга выходит в свет к 75-летнему юбилею философского
факультета Московского университета имени М. В. Ломоносова.
Философский факультет возник с самого начала основания
университета в 1755 году. Но его судьба была не слишком
счастлива, существование факультета постоянно прерывалось. Поэтому
реальной датой возникновения факультета считается его
воссоздание 25 декабря 1941 года в Ашхабаде, куда был эвакуирован
университет на время войны. Здесь были основаны на базе МИФЛИ
кафедра и факультет философии, которые существуют и по
настоящее время.
Однако написание этой книги было продиктовано не
столько счастливым событием юбилея. Этому способствовали и другие
события в отечественной философии. Начиная с нового XXI
столетия в России появилась обильная мемуарная литература о
философах и философских учреждениях. Возникла настоятельная
потребность осмыслить и оценить роль философии в советский
период существования нашей страны. Можно сослаться на
десяток книг, изданных в это время. Большой вклад в изучение
философского наследия внес Б. В. Бирюков, издавший три чрезвычайно
информативных тома под общим заголовком «Трудные времена
философии» (2006, 2008, 2009). Содержательная и аналитическая
книга принадлежит Н.В.Мотрошиловой — «Отечественная
философия 50-80 годов XX века и западная мысль» (М., 2012, 2-е
издание в 2016). Один из старейших преподавателей философского
факультета В. В. Соколов издал прекрасную книгу «Философские
страдания и просветления в советской и постсоветской России.
Воспоминания и мысли запоздалого современника» (М., 2014).
Изданы также воспоминания о выдающихся философах
середины XX в.: В. Ф. Асмусе, А. Ф. Лосеве, Э. В. Ильенкове, А. С.
Зиновьеве, М. К. Мамардашвили. Замечательное документальное
издание подготовил коллектив авторов во главе с Еленой
Иллеш «Эвальд Ильенков, Валентин Коровиков. Страсти по
тезисам о предмете философии. 1954-55». (М., 2016). Под редакцией
В. А. Лекторского опубликованы 22 тома «Философия России
второй половины XX века».
6
Предисловие
Среди этой литературы надо выделить две монументальные
книги: «Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова: страницы
истории» (Издательство МГУ, 2011) и «Наш философский дом. К 80-
летию Института философии РАН» (Прогресс-Традиция, 2009). Это
содержательные и значительные книги. В первой описывается
история философского факультета и рассказывается обо всех его деканах,
во второй повествуется об истории Института философии и
биографиях всех его директоров. Иными словами, в этих трудах
рассказывается о руководителях, точнее сказать, генералах философского
фронта. Но, как известно, войны выигрывают генералы, но в окопах
воюют солдаты. Отдавая должное двум этим книгам, приходится
констатировать, что в них еще не прозвучал голос студенчества, тех,
кто учился и преподавал на философском факультете в те времена,
когда в философии произошли коренные перемены. Следует сказать,
что в середине прошлого века именно студенты поддержали те
революционные процессы, которые происходили на факультете и
привели к крушению догматической марксистско-ленинской идеологии.
Поэтому цель настоящей книги - дать возможность рассказать о
философском факультете не только тем, кто им руководил, но и тем, кто
на нем учился.
Главный акцент в данной книге делается на период 50-60-х гг.
прошлого столетия, когда в условиях начинавшейся
перестройки произошел резкий поворот от традиционного марксизма-
ленинизма к новому философскому мышлению. В послевоенный
период на факультет пришли многие участники войны, они
побывали в других странах и познакомились с традициями европейской
культуры, от которой СССР был оторван в течение многих
десятилетий. Смерть И. В. Сталина и начинавшаяся оттепель
стимулировали новый интерес к западной философии и пересмотр
традиций отечественной философской мысли. Старшее поколение,
пришедшее с фронта, поддержала молодая генерация студентов,
которые попали на философский факультет прямо из школы. Это
было замечательное время, время творческих открытий,
свободных дискуссий, общения студентов с молодыми преподавателями.
На факультете начали работать тематические кружки, издавался
никем не цензурированный журнал научного студенческого
общества (НСО), в котором печатались работы студентов, рецензии на
книги, философские новости, в частности переписка с венгерским
философом Георгом Лукачем и т. д.
Предисловие
7
Во главе революционного, по сути дела, преобразования
философии встали два молодых преподавателя, оба бывшие
фронтовики: Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Оба они выступили
в одно и то же время, оба исследовали одну и ту же проблематику,
основанную на изучении методологических проблем в «Капитале»
Маркса. Как справедливо пишет В. А. Лекторский, «оглядываясь
назад, я особенно ясно представляю себе революционную роль для
нашей философии того, что Ильенков и Зиновьев сделали в
середине и второй половине 50-х гг. Дело не только в том, что они
были родоначальниками интересных школ в определенной
области философии. Их идеи и программы означали принципиальный
рубеж, новую точку отсчета в развитии нашей философии в целом.
Так же, как делим немецкую философию на докантовскую и по-
слекантовскую, а русскую литературу на допушкинскую и дого-
голевскую и послепушкинскую и послегоголевскую, так же мы
можем делить советскую философию послевоенного времени на
доильенковскую и дозиновьевскую и послеильенковскую и после-
зиновьевскую. Работы Ильенкова и Зиновьева означали создание
совершенно новой ситуации в нашей философии, задание новой
проблематики. Это было как бы открытием нового мира. И новых,
по-настоящему философских методов исследования. Те, кто
работал в нашей философии после них, сколь далеко ни расходились их
идеи между собой и сколь сильно бы они ни отходили в некоторых
пунктах от идей своих учителей, были бы невозможны без
Ильенкова и Зиновьева»1.
Мы, студенты философского факультета, воспринимали
Ильенкова и Зиновьева как двух равноправных и равнозначных по
авторитету и знаниям учителей. На факультете не было никакой борьбы
между «ильенковцами» или «зиновьевцами». Эта борьба появилась,
по-видимому, гораздо позже, когда стали спорить, кому принадлежит
право первенства в решении методологических проблем, кто
оказался наиболее влиятельным в философской среде и т. д.
На мой взгляд, каждый внес свой адекватный вклад в постановку
и решение абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса.
Некоторые считают, что Зиновьев раньше, чем Ильенков, подошел к этой
проблеме, и поэтому ему принадлежит пальма первенства. Но если
1 Беседы с В. А. Лекторским // Митрохин Л. Мои философские
собеседники. М., 2005. С. 339.
8
Предисловие
говорить о силе и широте влияния, то, несомненно, Ильенков оказал
большее влияние на молодых последователей, поскольку как
преподаватель он был ближе к массе студентов, чем Зиновьев. Оба они
решали одну проблему, но подходили к ней с разных сторон. Впрочем,
А. Зиновьев сам довольно четко определил разницу в этих подходах.
Он говорил, что исходил прежде всего из логических принципов,
чтобы «вычленить логическую структуру "Капитала"», а Ильенков
подходил к проблеме с историко-философских позиций. Иными
словами, один - как логик, другой — как философ. Конечно, при этом
сказалась и разница в темпераментах. Зиновьев выступал как борец,
как воин, атакующий банальность и догматичность, Ильенков был
учителем, наставником1.
Впервые к преподаванию на философском факультете были
допущены философы старой школы, получившие образование в
дореволюционное время. Среди них следует выделить Алексея 'Федоровича
Лосева и Валентина Фердинандовича Асмуса. Правда, Лосев пробыл
на факультете всего несколько месяцев и затем был уволен за
преподавание идеализма. Ему пришлось заниматься классической
филологией и преподавать античную литературу. Возвращение Лосева
в философию произошло только после того, как сотрудники
«Философской энциклопедии» привлекли его к написанию статей на
философские темы. До этого большинство молодых студентов-философов
долгое время даже не знали имени и работ Лосева.
В. Ф. Асмус преподавал на факультете около десяти лет, пока он
не перешел в Институт философии, поэтому общение с ним и
воспоминания о нем были более частыми. Некоторые студенты
посещали его московскую квартиру и его загородный дом в Переделкино.
Похороны Асмуса стали событием исторического масштаба, о них
вспоминают так же, как вспоминают похороны Бориса Пастернака,
на которых Асмус выступил с прощальной речью. Сегодня
творческое наследие Асмуса издается и переиздается. В 2015 г. издательство
1 Отношения Зиновьева и Ильенкова напоминают отношения другой
пары выдающихся мыслителей, которые встречались и дискутировали между
собой в Кембридже: Людвига Витгенштейна и Карла Поппера. Один исходил
из логики языка, другой - из логики философского мышления, отраженной
в истории философии. Антиномичность их методологии отражена в книге
английских авторов Дэвида Эдмондса и Джона Фейдиноу «Философская
кочерга» (рус. пер. 2004).
Предисловие
9
URSS с помощью и при поддержке сыновей Асмуса опубликовало
семь томов собрания сочинений философа.
Философское наследие, накопленное в стенах философского
факультета, нуждается не только в собирании, но и в защите. Сегодня
становятся модными нападки на 60-е гг. Так, политолог А. С. Цип-
ко, который сам, как ни странно, окончил философский
факультет, где прилежно изучал марксизм, в сегодняшних экономических
и идеологических трудностях обвиняет интеллигенцию, в частности
философов того времени. В статье «Перестроить страну по
китайскому пути нам помешала интеллигенция» он, обвиняя Горбачева,
пишет: «Будущий генсек оказался в одной компании с друзьями Раисы
Максимовны - Левадой, Грушиным, Мамардашвили. Они жили на
Стромынке, и бывший комбайнер Горбачев приходил к ним, сидел и
слушал этих философов-диссидентов, рассуждающих о возможности
построить "социализм с человеческим лицом"1. По мнению этого
политолога, нужно было строить не «человеческое общество», а пойти
по китайскому пути, отказаться от перестройки и реформ, а заодно
и от достижений современной философской мысли. Еще
неизвестно, насколько могут быть прочны экономические и идеологические
контакты с Китаем. Впрочем, каждому свое. Ципко не нравится
«социализм с человеческим лицом», он предпочитает «капитализм с
китайским лицом».
Настоящая книга ставит перед собой цель представить
воспоминания тех, кто учился или преподавал на философском факультете
в период реформ и революционных преобразований, чьи работы
сегодня вошли в интеллектуальный фонд отечественной мысли. К
сожалению, молодое поколение нашей страны уже забывает о том,
какими трудами, интеллектуальными и моральными жертвами было
достигнуто преодоление догматического марксизма-ленинизма,
общение русской философии с мировой философской мыслью. Во главе
этого движения стояли студенты и молодые преподаватели, которые
подвергались незаслуженной критике, увольнению с факультета.
Некоторые из них были отлучены не только от профессии, но и от
Родины, как это было с Александром Зиновьевым, Валентином Коровико-
вым, Борисом Шрагиным и многими другими. Восстановить память
о тех, кто открывал путь к свободе мышления в области философской
мысли, — цель этой книги.
Комсомольская правда. 2015. 7 мая. С. 8.
10
Предисловие
Необходимо предупредить читателя, что в настоящей книге
печатаются работы разного жанра и стиля: исторические статьи,
мемуарные очерки, интервью. Мы не стремились свести все работы
к какому-то одному стилю, предоставляя авторам полную свободу
выражения их взглядов и мнений. В чем-то они совпадают, в чем-то
расходятся. Надеемся, что именно это разнообразие голосов вызовет
интерес читателей к содержанию этой книги.
ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА
В. В. Соколов
ФИЛОСОФСКИЕ СТРАДАНИЯ И ПРОСВЕТЛЕНИЯ
В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Я родился в разгар Гражданской войны в крестьянской семье и
хорошо помню доколхозную, нэповскую и колхозную Русь. Я довольно
поздно по нынешним временам научился читать (по молитвеннику
моей матери). Стал, как тот Петрушка, читать всё, что попадалось
под руку (к сожалению, очень мало книг тогда, в конце 20-х гг.,
можно было достать даже в нашем огромном селе). Это было
время зарождавшегося движения пионеров, отношение к которым
населения, почти поголовно посещавшего церковь, было враждебно-
ироническим («пионеры юные, головы чугунные, руки оловянные,
черти окаянные»). Я, мальчик довольно шустрый, стремившийся ко
всему новому, стал неформальным лидером сельских пионеров.
Активно помогал «избачу» (парторгу местной ячейки, присланному из
губернии-области); играл с успехом на сельской клубной сцене в
антицерковных агитках, от пионеров принял участие в «красных
крестинах»: у одной девицы родился «нагульной» младенец, что было
тогда на селе величайшим позором безотцовщины, и она согласилась
на такие «крестины». Сначала держал речь парторг, потом он
передал младенца комсомольцу, тот после каких-то слов вручил его мне,
и я произнес: «Берем и клянемся воспитывать», а затем возвратил его
парторгу, который провозгласил «красное» имя дитяти: Ким
(Коммунистический интернационал молодежи). Через несколько месяцев
я услышал, что мать его тайком всё же крестила в церкви, а в селе его
стихийно «переименовали» в Акима. Помогал я парторгу и в других
«прогрессивных» начинаниях. Когда в самом конце 1929 г. начались
настойчивые призывы — с инициативным участием приезжих
агитаторов — организовать большой колхоз и многие из мужиков
яростно выступали против, я, по увещеванию того же парторга, возглавил
пионеров (и непионеров), и мы своим ревом заглушали «отсталых»
12
В. В. Соколов
ораторов, чтобы они не смущали «передовых». А в марте 1930 г.,
после публикации «исторической» статьи И. В. Сталина
«Головокружение от успехов», я с грустью наблюдал, как все, и «отсталые»,
и «передовые», уводили из конюшен своих лошадей, забирали сани,
телеги и другую утварь. За какую-нибудь пару дней колхоз распался
(заново и под усиленным давлением он был организован в меньших
масштабах года через два).
Сомнений в правильности моих «передовых» настроений и
мыслей у меня самого было мало, но их критики у мужиков, с
которыми я любил беседовать, было сверхдостаточно. Помню также, как
однажды приехавший из Москвы отец усмехнулся над моей
богомольной матерью, сказавшей ему по какому-то поводу: «Что же, по-
твоему и Бога нет?!» На что он «аргументировал»: «Если бы он был,
то коммунистов давно бы разогнал!» Возражать ему я не мог, а в душе
очень удивился: «Какой отсталый!» (ему тогда не было и сорока).
Учился я, как говорил учитель нашей сельской четырехклассной
школы моим родителям, очень хорошо, стремился учиться и дальше,
но продолжать учебу в далеком районном центре не было
возможности. Отец мой, деревенский кузнец и специалист в других
направлениях, перебрался в Москву, и в согласии с матерью перебросили
и меня туда — к дяде по матери. И я стал учеником ФЗС (фабрично-
заводской семилетки). Отец, однако, погиб в 1931 г., и я проживал,
обучаясь в той же школе, и у того же дяди, и у других родственников
(по отцу), будучи полубеспризорным (в последних пребываниях
добираться до школы было довольно далеко), хотя родные, простые
рабочие, относились ко мне тепло. В школе я быстро стал одним из
первых учеников.
В летние (иногда и в зимние) каникулы в те полуголодные
времена я приезжал к матери (у нее оставался младший брат) в колхоз,
помогая ей, как мог, увеличивать ее «трудодни» (в основном в
правлении колхоза, как уже довольно грамотный субъект).
Но в школе у меня возникали всё более серьезные осложнения
идеологического плана. Где-то в начале 8-го класса я взбунтовался
против преподавания истории по обязательной тогда «Русской
истории в самом сжатом очерке» - книге марксистско-вульгаризаторской.
Ее автор — старый большевик, M. Н. Покровский, написавший ряд
книг по истории России, одобренных Лениным, один из первых
советских академиков и руководителей высшего образования в СССР
(после его смерти в 1932 г. и до 1939 г. МГУ носил его имя), был
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 13
ярым приверженцем трактовки истории как политики, опрокинутой
в прошлое. В этих теоретических тонкостях я тогда, конечно, не
разбирался, но находился под сильным влиянием книги Александры
Ишимовой, талантливо переложившей для детей фундаментальный
труд H. М. Карамзина «История государства Российского». (Пушкин
высоко оценил книгу Ишимовой в своем преддуэльном письме к ней.)
Отец, знавший о моем увлечении чтением, прислал из Москвы
небольшой ящик книг, где была и эта. Я так ее изучил и освоил, что
древо Рюриковичей, к удивлению соклассников, мог рисовать едва ли не
наизусть. С таких «позиций» я и стал «громить» книгу Покровского,
в которой исторические факты исчезали в экономико-политических
схемах. Взбешенная Марья Ивановна, преподававшая нам историю,
обвинила меня в «монархических влияниях» и за шиворот потащила
к директору. Слава богу, мудрый Алексей Максимович, выдвиженец
из рабочих, спустил всё на тормозах. Как ни странно, от моей
«критики» Покровского я выиграл: через несколько месяцев, когда в 1934 г.
были опубликованы замечания Сталина, Кирова, Жданова на какую-
то книгу с критикой концепции Покровского и с рекомендацией
(по сути приказом) восстановить в школах «гражданскую историю».
Эти замечания по сути были кратковременной самокритикой
большевизма, для которого трактовка истории всегда была
догматической — политикой, опрокинутой в прошлое. Мне же такой поворот
очень помог, и мой авторитет как ученика «с критическим умом»
среди учителей повысился.
Однако в нашем воспитании политизация усиливалась с каждым
годом, и следить за своими словами было необходимо не только на
уроках истории, а этого мы, разумеется, делать не умели. В школе
я оказался в одном классе с поэтом Павликом Коганом (он учился
там с 1-го класса), и где-то уже в 9-м мы распевали его «Бригантину».
Долгое время мы сидели с ним за одной партой. Он был из семейства
старых большевиков, и вот где-то классе в 8-м на собрании нашей
большой группы он был вынужден каяться «за переоценку
Троцкого». В следующем классе проблемы начались у меня самого. Не очень
ясно почему: то ли потому, что в своем Петрушине, куда я
систематически наезжал, я видел, как плохо идет жизнь в колхозе, а мать
всё время жаловалась мне в том же духе; то ли под влиянием Когана,
имевшего основательную информацию о замечательном
руководителе Бухарине, вывод которого из Политбюро лишь ухудшил
экономическую ситуацию в голодающей стране; то ли потому, что и сам
14
В. В. Соколов
я активно начал читать газеты и партийные документы и не стесняясь
стал славить Бухарина. Это был 1935 г., когда Сталин уже
безоговорочно стал четвертым классиком и смолкли все сомнения — мы
живем в социализме. В том году у нас шел прием в комсомол, и под
руководством Васи Ямпольцева, освобожденного секретаря комсомола,
поставленного райкомом, меня начали активно «молотить» (хотя всё
же были отдельные защитники) и в комсомол не приняли, но
аттестат отличника (никаких медалей тогда не было) мне все же выдали.
Увлеченный историей, я поступил на исторический
факультет Московского института истории, философии и литературы
(МИФЛИ). Учрежденный в 1931 г. в составе исторического и
философского факультетов (к которым в 1934 г. был добавлен и
литературный, а в 1939 г. еще и экономический), он был тогда лучшим
гуманитарным учебным заведением в стране. В год 50-летия смерти
Н. Г. Чернышевского институту было присвоено его имя. Я был
зачислен после небольшой беседы с деканом исторического
факультета И. С. Галкиным. Однако уже после войны при случайной встрече
с нашей весьма эрудированной преподавательницей по литературе
Любовью Петровной Жак (одновременно она была аспиранткой
МИФЛИ и защищала там диссертацию) я узнал, что вдогонку мне
из нашей школы поступило заявление, в котором я изобличался как
бухаринец, которому либеральные учителя умудрились выдать
аттестат отличника. Любовь Петровна, дав мне высокую характеристику,
погасила это дело. Тем не менее меня вызвали в партком МИФЛИ,
и один из секретарей настоятельно рекомендовал мне держать язык
за зубами и всегда помнить, что я поступил в идеологический вуз.
Я стал вести себя «правильно». Активный интерес к истории
отодвигал политические интересы, хотя я, как и многие другие студенты,
втягивался в агитационную работу (готовилась «Сталинская
конституция») и, наконец, был принят в комсомол.
В МИФЛИ в эти годы читали содержательные (некоторые из
них были и увлекательными) лекции и вели серьезные семинары
профессора и преподаватели Ю. В. Готье, В. С. Сергеев, Н. А. Кун,
Н. А. Машкин, В. К. Никольский, К. В. Базилевич, А. И. Неусыхин,
С. Д. Сказкин, Б. Ф. Поршнев, Ф. В. Потемкин. Все они были с
основательным дореволюционным образованием. В их семинарах у меня
проявлялось стремление не только к рассмотрению данной темы, но
и к сравнению реалий конкретной эпохи, которая обсуждалась, со
сходными реалиями древней и средневековой истории, что выраба-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 15
тывало общий взгляд на нее. Некоторые преподаватели не отвергали
такого подхода, даже шли ему навстречу. Например, Юрий
Владимирович Готье, ученик Ключевского, академик, широко образованный
историк, специалист мирового уровня по истории Киевской и вообще
феодальной Руси, иронически прищурив глаза, даже вступал в
дискуссии с невоспитанным наглецом, потому что, полагаю, чувствовал
искреннее стремление к углубленному постижению истории. В
семинаре известного историка античной культуры Н. А. Куна я сделал
доклад (теперешняя курсовая) «Общественный строй древней
Спарты», и Николай Альбертович похвалил меня. К сожалению, недавно
открывшаяся тогда кафедра классической филологии совсем не вела
у нас занятий по древнегреческому языку, а проводила лишь не очень
интенсивные занятия латинским.
Три с лишним года я метался между историей России, которой
я увлекся уже в сельской школе (а другую историю там просто не
преподавали), античной, средневековой, новой. Остановился было на
средневековой (А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин и др.). Здесь и
произошел у меня перелом интеллектуальных интересов. Незаурядная
эрудиция в области истории (как мне говорили сокурсники, да и
некоторые преподаватели) пробудила во мне ту интуицию целостности, без
которой нет философии (в принципе она «работает» во всех науках,
но в разной степени и с разными результатами). Я стал задумываться
о философском факультете.
Туда не было приема в 1936 и 1937 гг.: было арестовано
большинство преподавателей факультета. Прием снова открылся в 1938 г.,
и семь студентов, окончивших два курса истфака/перешли туда: Ар-
заканян, Егидес, Карпов и др. Я же продолжал колебаться. Еще на
первом курсе лекции по диамату-истмату содержательно и
остроумно нам читал доцент Дмитрий Алексеевич Кутасов, будущий декан
философского факультета. Они произвели на меня определенное
впечатление. Я стал посещать некоторые семинары на философском
факультете.
В мае 1939 г. я присутствовал на защите докторской диссертации
Георгием Федоровичем Александровым. Он был тогда профессором
философского факультета, читал лекции по истории философии,
а в 1939 г. опубликовал на основе этих лекций книгу «История
западноевропейской философии». Значительно позже я услышал, что
некоторое время Г.Ф. общался в МИФЛИ с А. В. Кубицким, первым
(по сути единственным) переводчиком «Метафизики» Аристотеля,
16
В. В. Соколов
а также его «Категорий», и тот учил его древнегреческому языку.
Вряд ли Александров далеко продвинулся в этом направлении, но
написал диссертацию по мировоззрению Аристотеля в целом. Одним из
его оппонентов был М. А. Дынник, занимавшийся тогда по
совместительству античной философией. Однако в качестве неофициального
оппонента выступил профессор Давид Юльевич Квитко, тоже
читавший лекции по истории европейской философии в МИФЛИ. Он
справедливо утверждал, что по такому гиганту, как Аристотель, защищать
диссертацию «в целом» совершенно поверхностно и неубедительно.
Председатель совета (кажется тогда единственного в МИФЛИ)
заведующий кафедрой истории ВКП(б) Б. М. Волин (студенческая
частушка: «Как бы рад я был, доволен, если б Волин был уволен»)
провозгласил, что профессор Квитко, в отличие от диссертанта,
совершенно не прав. Он, конечно, был проголосован и стал доктором
философских наук. Едва ли не на следующий день в «Правде»
появилась заметка об успешной защите докторской диссертации бывшим
беспризорным (его отец, путиловский рабочий, к тому времени давно
умер). Успех Александрова во многом определялся и тем, что после
опустошения партийных и вообще гуманитарных кадров в 1937-
1938 гг. Сталин был вынужден привлекать новые. Они в особенности
были необходимы для партийного аппарата. Александров тоже
перешел в аппарат Коминтерна, а затем и ЦК ВКП(б). Однако при всей
формальности защиты Г. Ф. Александровым его докторской
диссертации, первой по философии и первой публичной, в отличие от него
Марк Борисович Митин без всякой защиты стал доктором
философии за редактирование учебника по диалектическому материализму.
Нельзя в этом контексте не вспомнить о заслуге
Александрова перед философским факультетом МИФЛИ. Со времени своего
основания в 1931 г. он равнялся одной кафедре — диалектического
и исторического материализма. Александров же учредил кафедру
истории философии, которая до того изучалась как краткое
введение в диамат-истмат. Но сам Александров, читавший курс истории
философии как особый предмет, был переведен в сферы ЦК ВКП(б).
Новую кафедру он передал Борису Степановичу Чернышеву,
окончившему историко-филологический факультет по отделению
философии в 1921 г. Но теперь ему пришлось вступить в партию.
Попытка моего перехода на философский факультет не сразу
увенчалась успехом. Гуманитарные предметы на историческом и
филологическом факультетах изучались основательно, и я их успешно
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 17
сдал. На философском гуманитарные предметы тоже изучались, но
в меньшем объеме и не все. Зато здесь к ним прибавлялись предметы
естественно-научного цикла: математика, физика, химия, биология,
физиология органов чувств, психология. Ректор А. С. Карпова не
решалась поэтому перевести меня на философский, но декан
факультета Федор Игнатьевич Хасхачих, знавший меня по отзывам
нескольких преподавателей, добился моего перевода в сентябре 1939 г., когда
я закончил уже три курса истфака.
На философском факультете меня сразу привлекли лекции
и в особенности содержательные семинары по античной философии
Б. С. Чернышева. История философии и стала для меня главным
притягательным центром, к чему стимулировала моя осведомленность
в истории, теперь уже всеобщей. Все естественно-научные предметы
я сдал с успехом. Приближался к пятому курсу, но тут меня постигла
неожиданная катастрофа.
Еще на историческом факультете мне, запятнанному
«разоблачительным» письмом из школы, всё же удалось вступить в комсомол.
Во многом в результате смены руководства НКВД, когда в
вакханалии арестов 1937-1938 гг. в «ежовые рукавицы» попало немало
молодежи, произошел некоторый «откат». Многие юнцы связывали
тогда «послабление» таких арестов с приходом к руководству НКВД
Лаврентия Берии. В действительности никогда не ошибавшееся
партийное руководство вспомнило «ленинскую позицию», которая
провозглашала, что комсомол призван для воспитания молодежи,
которая, конечно, может и ошибаться. Однако вспоминается, что на
комсомольском собрании МИФЛИ, посвященном итогам XVIII
съезда ВКП(б), в марте 1939 г. в клубе им. Русакова докладчику доценту
Е. Городецкому послали много вопросов, почему «товарищ Ежов не
избран членом ЦК партии». Недоумение многих объяснялось тем,
что Ежов, перестав возглавлять НКВД, еще оставался Наркомом
водного транспорта. Бедный докладчик отвечал всем вопрошавшим:
«Значит, теперь товарищ Ежов не достоин столь высокого членства».
Однако в кулуарах некоторые студенты старших курсов и аспиранты
говорили: ну что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти!
Вскоре совсем тихо произошло освобождение Ежова с поста Наркомвода,
как и его арест и последующий «суд» и расстрел, о чем стало известно
лишь после XX съезда КПСС.
На новых для меня двух курсах философского факультета я
встретил других «сокашников», и некоторые из них, например, П. Копнин,
18
В. В. Соколов
В. Келле, Д. Горский, С. Анисимов, И. Нарский, Б. Мееровский, А. Гу-
лыга, А. Зиновьев, Ф. Кессиди в послевоенное время стали
значительными научными работниками, авторами, профессорами не только
в философских кругах. Секретарем комсомольской организации
всего МИФЛИ стал тоже мой сокурсник Семен Микулинский (поступил
в институт кандидатом партии и стал здесь ее членом). Столь
ответственная занятость оставляла ему мало времени для интенсивных
занятий, он должен был писать в ЦК ВЛКСМ предложения о
политическом воспитании студентов, формулируя свои идеи о способах
его усиления. В этом контексте я неожиданно для себя, будучи уже
на четвертом курсе, стал одним из наиболее трудных объектов для
такого рода усилий.
Практическая дипломатия, особенно при резких ее поворотах
и политическом их оправдании, — весьма опасный феномен с
точки зрения воспитания молодежи. Именно такая ситуация возникла,
когда за несколько дней произошел переворот в отношениях с
фашистской Германией. Вчера ее поносили все средства СМИ, а сегодня
в Москву приезжает Риббентроп и заключает договор о ненападении
(23 августа 1939). И я совсем потерял внутренний контроль, когда
практически через месяц (в сентябре 1939) с той же ненавистной
фигурой был заключен даже договор о дружбе. Многие историки
утверждают, что этот договор, в отличие от первого, был совершенно
ошибочным, демобилизующим советский народ и армию.
Партийное руководство принялось яростно его оправдывать. На сессии
Верховного Совета Молотов объявил агрессорами Англию и Францию,
а Германию — страдающей стороной, защищающейся от
«агрессоров». (Менее чем через год, напомним, Германия сокрушила
Францию, захватив «попутно» Бельгию, Нидерланды, Норвегию.) Польшу,
уже оккупированную Германией (и СССР), Молотов объявил
совершенно прогнившей и заслуживавшей ликвидации как государство.
Последовали приветственные телеграммы Сталина Гитлеру и т. д.
Взбесившись, я записал в своем дневнике резкое осуждение договора,
речь Молотова назвал насквозь софистической и, слава богу, ничего
не писанул о Сталине. В дальнейшем я продолжал дневник, мало уже
касаясь политики, забыв о записи сентября 39-го. Когда в
следующем году нас перебрасывали из общежития на Усачевке в
общежитие на Стромынке, я забыл дневник, а его нашел один мой сокурсник
по истфаку и сдал в комитет комсомола. Я был очень удивлен, когда
где-то в сентябре-октябре 1940 г. меня вызвали в комитет комсомо-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 19
ла и члены комитета стали расспрашивать меня о моих взглядах на
международную ситуацию и т. п. Я отвечал вполне правильно, в духе
официальной линии, пока Семен не сказал: «Хватит с ним играться.
А вот что ты писал в дневнике в прошлом году?» Я вспомнил ту
роковую запись, растерялся и что-то лепетал, а комитетчики разоблачали
меня, оттачивая свое партийно-комсомольское оружие. Обсуждение
закончилось страшной для меня резолюцией: «За двурушничество
и осуждение последних мероприятий партии во внешней политике
исключить из комсомола».
Хотя «двурушничество» было закономерным явлением и
следствием навязанной официальной идеологии и носило, в сущности,
массовый характер, я глубоко переживал свое моральное падение,
ибо говорил (например, на избирательном участке) не то, что писал
в дневнике. Минимально мне грозило исключение из института, но
я надеялся (конечно, тщетно) вернуться на исторический факультет.
Не один месяц меня воспитывали в райкоме комсомола, был выделен
специальный инструктор, и я, конечно, полностью прозрел и
выразил сожаление о необдуманной и легкомысленной записи в дневнике.
Однако дело мое все равно было передано в горком ВЛКСМ, а там
первый секретарь, заглянув в мой дневник, сказал: «Э-э, да у тебя
нутро гнилое!» — и исключил меня из комсомола. Это была уже
весна. И месяца через два-три началась война.
Ненависть к фашизму была столь велика, что множество
студентов МИФЛИ через день-другой после речи Молотова, объявившего
об агрессии Германии против СССР, бросились в наш военкомат
записываться добровольцами. Я тоже был среди них. Призывались
отдельными группами и направлялись на различные службы. Немало
студентов стали «чекистами», задача которых состояла в охране
подмосковных военных и хозяйственных объектов и борьбе с
возможными немецкими парашютистами. Из философов моего курса здесь
оказались Ю. Карпов, его жена А. Серцова, Н. Сенин, О. Яхот.
Более значительная группа во главе с С. Микулинским отправилась под
Смоленск воздвигать различные препятствия, помогая
прибывавшим туда войскам задерживать наступавшие немецко-фашистские
силы. Военная ситуация, как теперь многократно описано и
изображено в ряде фильмов, развивалась столь быстро, что из «строителей»
стали отбирать в солдаты — по здоровью и политическим факторам,
направляя их в воинские части. Например, Ф. Кессиди, рвавшемуся
туда, не оказали «доверия», как греку, и бедный Феохар вынужден
20
В. В. Соколов
был вернуться в Москву и оттуда отправиться в родной Тбилиси, так
и оставшись вне армии. Самые надежные стали солдатами с
различной военной судьбой. Некоторые, как Келле, пройдя госпиталь,
вернулись еще в 1944 г. в университет. Немало было и погибших. Едва ли не
печальнее стала участь тех, кто оказался в плену и вернулся после него
на учебу. Окончить факультет им, как А. Арзаканяну и С. Анисимову
(он, раненый, попал в плен уже под Сталинградом), им удалось, но,
имея дипломы об окончании факультета, несколько лет они не могли
устроиться ни на какую работу. Оказался в плену и С. Микулинский.
Как-то ему удалось скрыть свою партийность и, будучи евреем,
представиться то ли русским, то ли украинцем. Попав после войны в
фильтрационный лагерь, он был отпущен из него по ходатайству ряда
бывших студентов МИФЛИ, справедливо напомнивших партийным
органам о его активнейшей роли вузовского секретаря
комсомола в МИФЛИ. Вернувшись в университет, Семен стал именоваться
не Руфимовичем, а Романовичем и занялся историей биологии.
Другая группа студентов МИФЛИ, в которую включили и меня,
была отправлена где-то уже в конце июля в Бронницы
(сравнительно недалеко от Москвы) в 139-й запасный зенитный артиллерийский
полк. До конца сентября мы осваивали зенитные орудия и были
переброшены в Москву. Но в октябре, как известно, немецкие армии
подошли уже к дальним подступам Москвы. Из зенитных орудий был
сформирован 694-й противотанковый истребительный полк, в
различные батареи которого вчерашние курсанты отправились в
качестве командиров орудий. Я тоже стал одним из командиров третьей
батареи. Уже 12 октября полк в составе 16-й армии К. Рокоссовского
дислоцировался под Волоколамском. Более месяца, когда немцы
готовили свое завершающее наступление на Москву (операция
«Тайфун»), мы стреляли по их самолетам и осваивали противотанковые
гранаты и бутылки с горючей смесью («коктейль Молотова»).
Тяжелый бой с танками, которых сопровождали автоматчики, полк
и наша батарея приняли 17 ноября в начале той немецкой операции.
Этот бой не раз был описан в печати (впервые в «Вечерней Москве»
26 сентября 1966) и транслирован по телевидению. Я был награжден
орденом Боевого Красного Знамени, ифлиец, наводчик последнего
неподбитого орудия батареи Ефим Дыскин стал Героем Советского
Союза. В дальнейшем в том же полку и в той же должности
командира уже иного противотанкового орудия на юго-западном фронте
я участвовал в отражении танковой атаки и был награжден медалью
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 21
«За отвагу», но на следующий день в августе 1942 г. при минометном
налете был тяжело ранен в бедро.
После операции в госпитале где-то за Волгой меня отправили
на долечивание в Москву, где я оказался к началу 1943 г. и явился
на философский факультет уже МГУ, где одна группа 4-го курса
продолжала учебу с начала февраля 1942 г., когда немецкие войска
отогнали от Москвы. За несколько месяцев я сдал остававшиеся
предметы философского факультета и пять государственных экзаменов:
диамат, истмат, историю философии, политическую экономию,
историю ВКП(б). Дипломных работ тогда, как и в несколько
последующих лет, не было. О профессорах и преподавателях факультета буду
говорить в дальнейшем. Получив статус нестроевика, в октябре того
же 1943 г. я поступил в аспирантуру кафедры истории философии,
которую возглавлял Б. С. Чернышев. В 1944 г. она стала именоваться
кафедрой истории западноевропейской философии, поскольку в том
же году появилась кафедра истории русской философии.
***
Аспирантское, и тем более последующее, погружение в философию,
как и расширение восприятия и осмысления конкретной жизни во
множестве ее аспектов, естественно, открывало всё новые горизонты
социальной действительности и философской жизни. Специфичность
духовной атмосферы советских времен, как ни в одну другую эпоху,
заключалась в тесном переплетении политических и идеологических
факторов, в зависимости от которых вспоминались и выявлялись те
или иные философские идеи.
Они были утрачены, забыты в армейские времена, но в еще
большей мере - в результате давления идеологии, которая в первую
очередь требовалась и на экзаменах, и еще более на госэкзаменах.
Всякая идеология, даже религиозная (в особенности сугубо
монотеистическая, как христианство) в определенной степени взывает к тем
или иным философским идеям, вырываемым из системного
интеллектуального контекста. Изгнание Лениным группы выдающихся
философов, которых он считал антимарксистами (что было, конечно,
верно, и сами они этого не скрывали), идеалистами и, следовательно,
представителями «поповщины», террористическое гонение на
служителей церкви, повседневная антирелигиозная пропаганда
требовали новой духовной пищи для масс. Мавзолеизация мумии Ленина
22
В. В. Соколов
создавала новый культ, призванный разрушить религиозные,
одновременно стремясь к максимизации роли марксистской идеологии.
Сам Ленин, как известно, слепо верил в марксизм, весьма
схематично его понимая и вырывая из него те положения, в которых видел
необходимость для учреждения социализма в экономически и
социально отсталой стране: захват власти через революцию,
беспощадное проведение так называемой диктатуры пролетариата, опора на
высокоцентрализованную партию и т. п. Еще в «Материализме или
эмпириокритицизме» Ильин-Ульянов противопоставил «научную
идеологию» гносеологии эмпириокритиков как ведущую к
фидеизму и «поповщине». Уже после смерти автора этого компилятивного
опуса, написавшего множество статей и теперь увековеченного, его
последователи из партийных верхов провозгласили усопшего вождя
творческим продолжателем уже давних «основоположников»,
утвердили другого идеологического кентавра — «марксизм-ленинизм»,
новацией которого стала «мировая революция». Идейно-политическая
борьба между «диадохами», объявленными через полузакрытые
суды «врагами народа» и расстрелянными, закончилась полным
торжеством единственного вождя и «отца народов» Сталина. После его
смерти продолжалась политически менее значимая борьба между
эпигонами. Их определяющей идеологической задачей стала «борьба
за чистоту марксизма-ленинизма» с любыми от него, как и от
«генеральной линии партии», отклонениями. Наше поколение, в основном
рожденное после Октября, идеологически и политически служило
и писало, уже так или иначе общаясь с ними.
Марксистско-ленинская идеология, стремившаяся полностью
преодолеть религиозные вероисповедания, писаниями и речами
своих эпигонов (теперь среди них было множество вузовских и
академических деятелей) непрерывно «разоблачая» всякого рода
идеализм, провозгласила ленинский этап в философии как единственно
правильный и убедительный. Этот «этап» содержал немало
утверждений и положений, которые повторялись, а то и просто мусолились
многими эпигонами, но иногда и честными авторами и
преподавателями, стремившимися прояснить их «рациональное ядро». Здесь мы
не будем на них останавливаться, но вспомним о них в дальнейшем
в конкретных контекстах.
Дальнейшая последовательно тотальная трансформация
философии в идеологию, ориентированная на широкие круги
пропагандистов, которые были обязаны доносить ее до более широких масс, как
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 23
и на учащихся вузов, во времена, когда И. В. Сталин, ставший
четвертым «классиком», объявил победу социализма в СССР, определялась
его очерком «О диалектическом и историческом материализме»,
вошедшим в «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938), рассчитанным на
самые широкие круги. Отдавая должное этому очерку, следует
отметить догматическую ясность его текста, доступного вполне
грамотному человеку. Замена «законов» диалектики на «черты»
способствовала трансформации философии в идеологию. Часть, излагающая черты
диалектического материализма, на добрую половину состоит из цитат,
взятых из произведений Энгельса, Маркса, Ленина. Настаивая на том,
что исторический материализм является распространением
положений диалектического материализма на истолкование общественной
жизни (более резко, чем три его предшественника), Сталин именно ей
отдает большую часть текста, подчеркивая при этом те выводы,
которые необходимы для общественно-политической жизни. Главный из
них — преимущество построенного в СССР социализма перед
капиталистическими странами, переживающими безнадежный кризис и т. п.
У нас в довоенные и послевоенные годы было распространено
мнение, что ясность и связность диамато-истматовского текста
сталинского очерка следует объяснить тем, что в действительности он
написан философом Яном Стэном, автором статьи «Философия»
в «Большой советской энциклопедии», подписанной М. Б. Митиным
в связи с расстрелом Стэна как «врага народа». Мне случайно
прояснила это недоразумение вдова Стэна, освободившаяся из концлагеря
и посетившая где-то в 1960-е гг. нашу кафедру истории философии
для общения с проф. В. Ф. Асмусом (они были знакомы в довоенные
времена). Я тоже познакомился с ней, и по дороге в Институт
философии она немало рассказала мне о характере отношений между
Стэном и Сталиным. В это семейство смелый и прямолинейный философ
был действительно вхож, но лишь в качестве приятеля Н. Я.
Аллилуевой, жены вождя. Бывал свидетелем напряженных отношений
между супругами («Надя, подай спички» - «Видишь, Ян, делает
доклады о политической роли женщины, а дома такой»). С самим же
вождем Стэн вступал иногда в яростные споры, нередко заявляя ему:
«Ты эмпирик, Коба». А жене Стэн говаривал (с уверенностью
можно сказать, что не только ей): «Эта рябая сука устроит нам и процесс
Дрейфуса, и дело Бейлиса».
В те годы «диадох» Сталин, ставший «отцом народов»
огромной империи, довел до кульминации «диктатуру пролетариата»,
24
В. В. Соколов
реализованную судами над «врагами народа», арестами и
расстрелами 1936-1938 гг. Философия, заимствованная, как ясно из
рассмотренного выше «Очерка», у «основоположников», Сталина,
в сущности, не интересовала, но он подверг ее сугубой идеологизации
и политизации, как сказано выше. Политический прагматизм Сталина
оперировал военными образами. Например, в 1920-е гг. происходила
довольно оживленная полемика между «механистами» (Скворцов-
Степанов, Тимирязев, Аксельрод-Ортодокс) и «диалектиками» (Де-
борин, Карев, Стэн). Сначала были побеждены «механисты» как
антидиалектические упрощенцы, и торжествовали «диалектики». Но
и они не привлекли Сталина своей, как он считал, бесплодной
схоластикой. Против них генсек мобилизовал группу молодых философов,
эпигонов во главе с М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным. Политической
сутью «механистов» был объявлен «правый уклон» (Бухарин, Рыков,
Томский). «Диалектикам» сам вождь дал совершенно «точную»
квалификацию — «меньшевиствующий идеализм», выражавший «левый
уклон» (Троцкий, Зиновьев, Каменев).
Задачей «философии» становилась теперь «борьба на два фронта».
Из «диалектиков» были арестованы и расстреляны виднейшие
сторонники Деборина — Карев и Стэн. Активнейшее участие в ней стали
принимать и другие эпигоны. Многие из них получали философское
образование и политическую закалку в Институте красной
профессуры, революционный цвет которого гарантировал высокое качество
в обоих этих направлениях. Были там и лекции, и семинары, правда,
никаких диссертаций они не писали, но выпускники всё же получали
звания профессоров. Митин и Юдин с подачи Сталина в 1939 г. стали
членами Академии наук СССР. Существовала еще Академия
коммунистического воспитания, несколько меньшей значимости.
Партийные чистки, аресты и расстрелы 1936-1938 гг.
опустошили партийный аппарат, и для эпигонов открылись соответствующие
возможности. Среди них тоже развивалась тайная и явная борьба за
различные должности «наверху», включая и академические,
переплетавшиеся с партийными. В этих интересах писались статьи,
брошюры, трактовавшие мысли «классиков».
Вернувшись на факультет в 1943 г., я узнал о двух новых
профессорах — Алексее Федоровиче Лосеве и Павле Сергеевиче
Попове, которых я совершенно не знал, но впоследствии для меня многое
прояснилось. Оказалось, что они появились на факультете
благодаря Георгию Федоровичу Александрову, о котором я говорил выше.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 25
В 1940-1950-е гг. он сыграл немаловажную роль в философско-
идеологической советской жизни, и я теперь вернусь к нему.
В аппарате ЦК ВКП(б) Александров сделал большую карьеру.
Сталин провел его и в кандидаты ЦК, и, более того, вопреки уставу
этого всесильного органа сделал его и членом Оргбюро (в принципе
туда вводились только члены ЦК). Главным идеологом партии был
А. А. Жданов, член Политбюро и одновременно первый секретарь
Ленинградского горкома ВКП(б). Здесь в преддверии войны и
должен был сосредоточиться преемник С. М. Кирова. Говорили, что он
рекомендовал Сталину назначить Александрова начальником
управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), что и произошло. Он стал
теперь большой партийной фигурой, особенно в условиях войны,
когда и члены Политбюро, и множество членов ЦК были втянуты
в повседневные требования войны. Когда МИФЛИ в эвакуации
оказался в Ашхабаде, его руководство (по-видимому И. С. Галкин,
декан истфака МИФЛИ и ректор МГУ, когда он снова прибыл в Москву
в 1943-1946 г.) обратилось к члену Оргбюро с вопросом, как им быть
в эвакуации. Он распорядился влиться в МГУ им. М. В. Ломоносова,
что там и произошло. Так здесь появились философский,
филологический и экономический факультеты, а исторические слились.
Занятия на философском факультете в Москве начались в
феврале 1942 г., когда немецкие войска были отогнаны довольно далеко.
Преподавателей на нем (и на его отделении психологии) было
крайне мало, но и студентов едва ли более трех десятков. Профессоров-
философов тоже три-четыре (Б. С. Чернышев, 3. Я. Белецкий,
Г. М. Гак и, кажется, А. П. Гагарин). На отделении психологии
примерно столько же. Тогдашний декан факультета Г. Г. Андреев,
будучи в отделе пропаганды ЦК, говорил с Александровым о
немногочисленности профессоров на факультете, особенно в перспективе
умножения студентов, демобилизирующихся из армии по ранению,
по болезни, не успевших окончить факультет до начала войны.
Александров знал о Лосеве и Попове как об ученых с дореволюционным
образованием, окончивших Московский университет, знал и об их
тяжелых конфликтах с ГПУ в прошлом (о чем напишу в
дальнейшем). Как политик, учитывающий некоторую идеологическую
оттепель, кратковременно наступившую в результате неожиданных
огромных поражений на фронте в первый период войны, а также
речь Сталина на историческом параде 7 ноября 1941 г.,
содержавшую патриотическую тематику, Александров «выразил мнение»
26
В. В. Соколов
о привлечении на факультет дореволюционных русских
профессоров с философским образованием. Такое «мнение» высокого
начальника сообщил декану факультета Н. Г. Тараканов — подчиненный
Александрова, окончивший философский факультет МИФЛИ. Так
А. Ф. Лосев и П. С. Попов стали профессорами факультета. Первый
опубликовал в 1920-е гг. восемь книг (за собственный счет), но все
его довоенные попытки защитить докторскую диссертацию были
безуспешны. Теперь Александров «выразил мнение», что столь
солидный автор заслуживает присвоения степени доктора
философских наук без формальной защиты. Совет принял к исполнению это
«мнение», но проявил осторожность и присвоил ему степень доктора
филологических наук (в сумятице военных лет такое было возможно).
В те годы в философской жизни факультета и Института
философии АН СССР, которые, можно сказать, были сообщавшимися
учреждениями, произошли события, имевшие немаловажное значение для
философии, для идеологии и даже для политики. Важным для них
событием послужила публикация трех томов «Истории философии»
(1940-1943), в принципе необходимых не только для философского
образования, но и для удовлетворения мировоззренческих интересов
широкой публики. Такого рода книг, можно сказать, до этой
публикации не было в советские времена, а солидные переводные книги
(Виндельбанд, Фалькенберг и др.) найти было уже трудно. Для
издания в трех томах был подобран квалифицированный в общем
коллектив, а редакцию составили Александров, Быховский, Митин и
Юдин. Двое последних никакого отношения к истории философии не
имели, будучи, однако, членами Академии наук и занимая большие
партийно-административные посты. Все три тома в 1943 г.
получили Сталинскую премию первой степени. Прежде всего члены
редакции — Александров, Митин и Юдин, которые не написали ни строчки
и ничего не редактировали, будучи заняты на «ответственных
постах», да они и не были компетентны в истории философии.
Подлинным организатором и редактором, написавшим к тому же
наибольшее количество текстов, был Бернард Эммануилович Быховский,
сумевший получить филологическое и философское образование на
грани революционных лет, а в советские времена весьма активный
автор множества статей и нескольких книг. Александров тоже не
участвовал в редактировании, но Быховский сократил верстку его
диссертации, подготовленной к изданию, и она стала важнейшей
главой античной части I тома. Кроме членов редколлегии еще шесть
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 27
авторов (более чем из тридцати) стали лауреатами Сталинской
премии первой степени.
Три этих тома, названные студентами «серыми лошадями» - по
цвету обложки, десятилетиями служили учебным пособием для
студентов философских факультетов. Лауреаты торжествовали и
выдвинули двух наиболее компетентных профессоров, Асмуса и Быховско-
го, в члены-корреспонденты Академии наук. Отделение философии
и права утвердило их выдвижение. Спустя несколько лет один из
лауреатов О. В. Трахтенберг (мой научный руководитель после смерти
Б. Г. Чернышева) и Быховский как-то в случайном разговоре
рассказали мне, что члены отделения, их утвердившие, были весьма
удивлены, что общее собрание академии избрало членом-корреспондентом
А. А. Максимова. Научный отдел ЦК ВКП(б) бдительно следил и за
этой сферой и зорко соблюдал партийный контроль. Наверху знали,
что Асмус глубоко беспартийный, по неясным основаниям
пристегнутый к «меньшевиствующим идеалистам», а член партии Быховский
в молодости как-то прислонился к троцкизму и получил выговор, не
снимаемый до гроба. Максимов же был бдительный коммунист,
громивший теорию относительности Эйнштейна как идеалистическую.
Но вокруг III тома «Истории философии» развернулись уже в
следующем 1944 г. политические события, ставшие весьма значимыми
для философских дел. Тогда я еще не мог знать о закулисной стороне
развернувшихся событий, связанной с борьбой за руководство
«философским фронтом» между Г. Ф. Александровым, набиравшим всё
большее влияние, и М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным, занимавшими
высокие посты, но всё же шедшими под уклон. Неожиданно для всех
против III тома выступил профессор Зиновий Яковлевич Белецкий,
обозленный и приниженный своим удалением из института,
считавшегося центром философской жизни. От Б. С. Чернышева, моего
друга Михаила Федотовича Овсянникова, защитившего кандидатскую
диссертацию об эстетике Гегеля и Бальзака в 1943 г., я узнал, как
развивалось всё дело.
3. Я. Белецкий, окончив медицинский факультет
Московского университета в 1925 г. и став врачом, затем поступил в Институт
красной профессуры и получил звание профессора. В 1934-1943 гг.
он возглавлял партийную организацию Института философии. О его
философской и тем более историко-философской компетенции
сказать фактически нечего. Он смог опубликовать лишь две-три статьи
на политические темы. Директор Института философии П. Ф. Юдин
28
В. В. Соколов
уволил его оттуда за бездеятельность, и он стал профессором
философского факультета МГУ (еще до войны он работал там как
совместитель). Лекций он фактически не читал, а вел аспирантский
семинар, в котором состоял и я.
Третий том «Истории философии» был доведен до изложения
западноевропейской философии до середины XIX в., но добрая его
половина была посвящена немецкой классической философии,
большая часть которой, естественно, излагала ее фундаментальный
идеализм, фокус которого составляла доктрина Гегеля, столь высоко
значимая и использованная «классиками» марксизма, включая Ленина.
В большой его статье «О значении воинствующего материализма»
(опубликована в основанном тогда философском журнале «Под
знаменем марксизма» № 3, 1922), вождь мирового пролетариата
категорически рекомендовал учредить «общество материалистических
друзей философии Гегеля». Быховский и Чернышев, основные
авторы текстов III тома досконально использовали все наиболее
значимые высказывания «классиков». Однако профессора, увлеченные
аналитическим изложением трудных учений (а замыслы Быховского
и в целом редакции предполагали еще четыре тома), фактически не
учитывали, что третий том публикуется в разгар ожесточенной войны
с немцами. Белецкий же использовал это обстоятельство, как иногда
говорится, на всю катушку. Он обратился к Сталину с большим
«разоблачительным» письмом. Длительное время о содержании этого
письма мы могли судить лишь косвенно по суждениям Белецкого на
нашем аспирантском семинаре. Но сравнительно недавно профессор
Анатолий Данилович Косичев в архивах ЦК ВКП(б) — КПСС
обнаружил это письмо и опубликовал его в книге «Философия. Время.
Люди. Воспоминания и размышления декана философского
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова» (М., 2007). Выпускник ИКП
философии 3. Я. Белецкий весьма туманно трактовал историю философии,
полностью отрицал целостность ее традиций, утверждая, что
воззрения любого философа определяются временем его жизни,
национальным фактором и, главное, тем социальным статусом, к которому
он принадлежал. Белецкий доводил до абсурда принцип социального
детерминизма, который определял и методологию «классиков».
Автор письма их положения использовал выборочно. «Забывал» о
работе Ленина «Три источника, три составных части марксизма».
Настойчиво подчеркивал ленинское утверждение, что идеализм — это
«поповщина». Использовал некоторые преувеличения немецкого на-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 29
ционального фактора, которые кое-где имеются у Гегеля (и тем более
у Фихте). Преувеличивал известное высказывание Гегеля о
необходимости войн как морально мобилизирующего фактора
национальной жизни (авторы тоже критически использовали данный текст).
В целом стремился доказать, что авторы III тома, искажая положения
«классиков», фактически защищают идеализм.
Приспосабливаясь к честолюбию Сталина, Белецкий
утверждал, что авторы не считаются с некоторыми положениями его
очерка «О диалектическом и историческом материализме». Если Асмус
в предвоенной брошюре, как и Быховский, убедительно доказывал,
что Гегель (и тем более Фейербах), в сущности, сторонники
гуманизма, который растоптал фашизм, то Белецкий утверждал, что они
подлинные предшественники фашизма. Здесь же Белецкий не забыл
прибавить, что Быховский — бывший троцкист, а Асмус — меныпе-
виствующий идеалист, а Лосев, присланный на факультет из ЦК, —
откровенный мистик.
Сталин ознакомился с этим письмом и позвал Г. Ф.
Александрова, дал прочитать ему и спросил его мнение. Слухи об их «свидании»
и позиции Сталина я слышал еще в конце войны, но наиболее
достоверно суть этого разговора передана в книге академика Т. И. Ойзер-
мана со слов самого Александрова (разумеется, после смерти
Сталина), с которым он был достаточно близок со времен МИФЛИ, в его
монографии «Оправдание ревизионизма» (М., 2005).
Ознакомившись с письмом Белецкого, Теодор Ильич сказал вождю, что это
письмо свидетельствует о философской малограмотности автора, его
истолкование философии Гегеля совершенно перечеркивает
трактовку Маркса, Энгельса, Ленина, да и самого Сталина в его очерке «О
диалектическом и историческом материализме». Но, выслушав такую
оценку, Сталин сказал, что, по-видимому, в философии автор письма
и не силен, но у него совершенно ощутим философский нюх.
Для прояснения ситуации генсек распорядился передать
письмо Белецкого в ведомство секретаря ЦК Г. М. Маленкова для
тщательного обсуждения. В этой акции проявилось определяющее
свойство Сталина-политика. Философия как таковая, по существу, его не
интересовала (и здесь, полагаю, его отличие от Ленина). В его очерк
для «Краткого курса истории ВКП(б)», автор в различных разделах
(особенно в истматовском) стремится зафиксировать практическо-
политические выводы для «углубленного» понимания и истолкования
социальной жизни. При этом философию Гегеля он явно не жаловал
30
В. В. Соколов
и — косвенные свидетельства — пренебрежительно относился к
«Философским тетрадям» Ленина. Как сообщает Т. И. Ойзерман в его
названной книге, со слов Александрова Сталин вызвал его вместе с
заместителями (П. Н. Федосеевым, М. Т. Иовчуком и B.C.
Кружковым) и спросил их, как они трактуют социальную суть философии
Гегеля. Никто из них не решился сформулировать свое понимание
(но сделать это мог, конечно, только Александров). Тогда
высказался сам Сталин: «Философия Гегеля — это аристократическая реакция
на Великую французскую революцию и французский материализм
XVIII в.». Вождь высказал совершенно нелепую идею,
свидетельствующую о его полной некомпетентности в истории философии этого
периода (и не только).
По-своему глубокую критику этой революции сформулировали
так называемые традиционалисты уже во время ее и вскоре после -
англичанин Эдмунд Берк, французы Жозеф де Местр и Луи Бональд.
В том же III томе содержится весьма содержательный анализ их
сугубо консервативных воззрений, но тогда с ними вряд ли кто
знакомился. Социальные воззрения Гегеля здесь тоже были представлены
в соответствии с уже принятой трактовкой: энтузиаст событий
французской революции в студенческие и молодые годы, в «Философии
права» он консерватор, но сторонник конституционной монархии и
гражданского общества. Вождь, по-видимому сам III тома не читая,
свою «смелую» трактовку социального гегельянства не
опубликовал, хотя она стала в общем известна и приводила к растерянности
действующих философов. На философской дискуссии 1947 г. (я на
ней присутствовал и скажу о ней дальше), которой руководил
главный тогда идеолог А. А. Жданов, ему из зала кто-то задал вопрос, как
понимать эту трактовку социальности Гегеля т. Сталиным. Жданов
уклонился от ответа и сказал, что уточнит ее с ним своим.
Обсуждение III тома (трижды в секретариате Г. М. Маленкова —
А. С. Щербакова) в соответствии с указанием Сталина состоялось
в феврале-марте 1944 г. О нем мне рассказал Б. С. Чернышев, затем
я слышал об этом и от других фигурантов. Быховский, Асмус и
Чернышев, специалисты весьма компетентные, говорили о фактическом
невежестве, вульгаризаторстве и примитивизме позиции Белецкого,
присутствовавшего здесь же и тоже выступавшего. Но вся убедительная
компетентность и эрудиция вышеназванных профессоров была
совершенно безразлична секретарям ЦК, ибо они знали позицию Сталина.
Отсюда и итоги «дискуссии»: тому же Александрову, напутствовавше-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 31
му названных профессоров показать невежество «горбуна»
(Белецкого), было предложено написать полностью критический текст,
который был опубликован как решение Политбюро в 7-8 номерах журнала
«Большевик» (официальный орган ЦК ВКП(б)) за 1944 г.: «О
недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца
XVIII — начала XIX вв.». Здесь в особенности «разоблачалось»
возвеличение Гегелем немцев «как избранного народа». Сталин-политик
показал, как надо трактовать прошлое с позиций настоящего, да еще
полыхающего огнем. «Извратителями» были названы Быховский,
Чернышев (умерший от инфаркта в сентябре того же года) и Асмус.
Белецкий же фактически «реабилитировался».
С III тома сталинская премия была снята (восстановлена как
государственная после смерти вождя). Митина отстранили с поста
директора ИМЭЛ, а Юдина - директора Института философии.
Быховский был лишен поста заведующего сектором истории философии
и отправлен рядовым редактором в «Большую советскую
энциклопедию». Александров остался на своем посту.
Примерно в то же время и на философском факультете
произошли неприятные, печальные события. Александров понял свою
политическую ошибку с Лосевым. По инициативе Белецкого был
проработан А. Ф. Лосев, преподававший в семинаре студенческой группы
IV курса, как сугубый гегельянец, идеалист и даже мистик. Алексей
Федорович сообщил мне много позже, что был приглашен к
председателю комитета по высшей школе С. В. Кафтанову и тот сказал ему,
что они считают, что как доктору филологических наук ему лучше
работать «по специальности», и отправил его на кафедру классической
филологии в пединститут им. Ленина.
На факультете случились и другие неприятности. Бывшего
декана Г. Г. Андреева, принимавшего на службу Лосева и Попова,
в 1943 г. отправили в советскую дипмиссию в Лондон, но в 1944 г.
отозвали в Москву в МИД, а после какого-то краткого отчета
пригласили в МГБ и в итоге дали 25 лет лагерей (он отсидел половину
этого срока, после смерти Сталина вернулся в университет). Были
также арестованы два студента: А. Романов, работавший в семинаре
Лосева, и А. Ревзон (под сурдинку критиковал новый гимн, но один
из сокурсников не согласился с ним). Б. С. Чернышева освободили
от поста декана, которым он стал после отъезда в Лондон Андреева,
и заменили доцентом Д. А. Кутасовым, бывшим деканом факультета
перед войной в МИФЛИ.
32
В. В. Соколов
Торжество Белецкого на факультете стало полным. В лектории
МГУ он стал читать небольшой курс по осужденному немецкому
идеализму. По моему аспирантскому восприятию, его лекции были
примитивны: социологизированы и политизированы, философски
поверхностны. Со второй лекции я ушел и больше их не посещал.
Отрицательность описанных событий для факультетской жизни
и философского образования компенсировалась и положительными
приобретениями, косвенно и непосредственно связанными с этими
событиями. Нетерпимым фактом философского (и не только)
образования, как оно сложилось в довоенные времена, было отсутствие
курсов и семинаров по логике. Это осознавалось и в верхах. Не раз
мне приходилось слышать, что инициатива принадлежала здесь
Сталину. Можно думать, что его семинарская учеба полностью у него не
выветрилась. Да и его произведениям, и в особенности выступлениям
и речам, при всей их сугубой упрощенности нельзя отказать в
логической ясности. В 1941 г., еще перед войной, «партия и правительство»
приняли постановление о введении в школьное образование двух
новых предметов — логики и психологии. На философский факультет
МИФЛИ приглашался профессор Валентин Фердинандович Асмус
с эпизодическими лекциями о предмете логики. Тогда я с ним и
познакомился (два-три вопроса). В 1942-1943 гг. преподавание логики
на философском факультете МГУ было восстановлено. Там уже
работал упомянутый выше высокоавторитетный профессор В. Ф. Асмус,
о котором в дальнейшем будет специальный разговор. Собственно
для преподавания логики на факультет были в 1942 г. посланы
ведомством Александрова А. Ф. Лосев и П. С. Попов, окончившие
отделение логики и психологии Московского университета еще в 1915 г.
В 1947 г., когда появились аспиранты-логики и другие
преподаватели, возникла и кафедра логики, которую возглавил профессор Попов,
и мы в дальнейшем к ней вернемся.
Другим приобретением философского факультета, можно считать
прямо связанным с описанными событиями вокруг III тома «Истории
философии», стала организация кафедры истории русской
философии. Поворот в сторону ее преподавания наметился уже перед войной,
и политически здесь опять проявилось воздействие резкого поворота
Сталина к истории России, в которой, по его категорическому
утверждению, уже построен социализм. Редакция III тома наметила из
последующих четырех томов один посвятить истории русской философии.
В значительной мере, по-видимому, вчерне, он был написан ко вре-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 33
мени обсуждения этого тома, а в ходе самого обсуждения
прозвучала довольно резкая критика Митина и Юдина, которые уже довольно
долго руководили «философским фронтом», но тормозили разработку
русской философской тематики (см. статью Г. С. Батыгина и И. Ф. Де-
вятко «Советское философское сообщество в сороковые годы. Почему
был запрещен третий том «Истории философии»? в кн. «Философия
не кончается. Кн. I. Из истории отечественной философии. XX век.
1920-50-е годы». Под ред. В. А. Лекторского. М., 1998). Во всех вузах
СССР преподавали диалектический материализм главным образом по
произведениям Энгельса, в которых первостепенная роль отводилась
Гегелю, главному классику немецкого идеализма с его диалектическим
методом, как и Фейербаху, ущербному материалисту, но тем не менее
сыгравшему переломную роль в переходе Маркса и Энгельса на
позиции материализма, уже так называемого диалектического. Всё это
потребовало создания истории русской философии во главе с Михаилом
Трифоновичем Иовчуком, окончившим Академию
коммунистического воспитания и одним из заместителей Александрова в Управлении
агитации и пропаганды. Кафедра истории философии стала
называться кафедрой истории западноевропейской философии.
В 1944-1945 гг. на факультете работали два аспирантских
семинара — по истории философии, которым руководил Б. С. Чернышев
вплоть до своей смерти, и по диалектическому и историческому
материализму, которым руководил 3. Я. Белецкий. Кроме меня в этих
семинарах участвовали М. Ковальзон, Ш. Герман, Е. Куражковская,
Д. Кошелевский, А. Никитин, позже присоединился В. Келле,
демобилизованный после госпиталя. Семинары работали активно.
Мы с моим другом, тогда доцентом М. Ф. Овсянниковым не
стеснялись в критике (с преподавателями и аспирантами) Белецкого как
продолжателя В. Шулятикова, дореволюционного литкритика и
философа, который в книге «Оправдание капитализма в
западноевропейской философии» развивал сверхвульгаризаторскую трактовку
этой философии, большевика, чьи воззрения отвергал даже Ленин.
У меня же были нередки довольно резкие споры с Белецким на его
семинаре, поскольку я уже тогда не принимал марксистского
положения о сугубой «надстроечности» философии над пресловутым
социально-экономическим базисом. Белецкий при поддержке
некоторых аспирантов не раз меня «прорабатывал».
Мне это аукнулось при защите кандидатской диссертации
в июне 1946 г. В ней я трактовал соотношение марксистского решения
34
В. В. Соколов
проблемы свободы и необходимости с домарксистским ее
решением Спинозой и в меньшей мере Гегелем. Тема эта,
стимулированная идеей Маркса о том, что будущее коммунистическое общество,
к которому придет всё человечество, станет «царством свободы»,
тогда активно обсуждалась. Перед самой войной кандидатскую
диссертацию по этой теме защитил Т. И. Ойзерман. Теперь взялся за
нее и я, стремясь в меру своих знаний прояснить ее родословную.
После благожелательного выступления официальных оппонентов,
В. Ф. Асмуса и М. Ф. Овсянникова, и моего им ответа выступили
с резко отрицательными выпадами члены кафедры диамата -
будущий столп диалектической логики доцент В. И. Мальцев, теоретик
эстетики С. С. Гольдентрихт. Оба они отрицали саму идею сравнения
марксистского решения данной проблемы с какой-то домарксистской
темнотой (последний из них, помнится, указал на то, как Александр
Матросов закрыл своей грудью немецкую амбразуру — ярчайший
факт ленинско-сталинского понимания свободы в действии).
В выступлениях этих неофициальных оппонентов содержались
кричащие противоречия, которые умело выявил в своей реплике
мой научный руководитель (после смерти Б. С. Чернышева) Орест
Владимирович Трахтенберг, показавший, что это не те
противоречия, «которые ведут вперед» (формула Гегеля). И здесь в атаку
пошел сам 3. Я. Белецкий. Общий смысл его выступления был тот
же: само сопоставление марксистской концепции свободы с
предшествующими в корне порочны. Были какие-то и более частные
и малоубедительные возражения, которых теперь не помню
(стенограмма не велась, не было и совета как такового, голосовали все, кто
имел степень или звание). Я резко, запальчиво и, полагаю, не очень-
то умело отвечал Белецкому, стремясь показать неубедительность
его возражений. По своей невоспитанности я совсем не благодарил
его, как мне советовали сделать в ожидании результатов
голосования тогдашний аспирант Ю. К. Мельвиль, и П. В. Копнин, и другие
более зрелые друзья. Я ждал провала, но оказалось, что при голосах
против я всё же прошел «в упор». Думаю, что не из-за моего
поведения, а из-за активной неприязни к Белецкому (обратившемуся
с новыми письмами к Сталину против Александрова) и его кафедре,
о чем свидетельствовали громкие аплодисменты довольно
многочисленной публики.
В конце того же 1946 г. я был утвержден в степени на ученом
совете МГУ под председательством ректора академика А. Несмеянова
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 35
(ВАКа тогда еще, кажется, не было). Но возможность работы на
кафедре истории западноевропейской философии, о чем я мечтал, мне
была закрыта. Слабовольный ее заведующий В. И. Светлов,
работавший по совместительству и сменивший Б. С. Чернышева,
совершенно пасовал перед сверхволевым 3. Я. Белецким, во многом
определявшим кадры не только своей кафедры, но и других. В частности,
он определял и кадры по логике, и П. С. Попов сумел с ним
договориться, хотя А. Ф. Лосев в результате его «разоблачений» был удален
из университета.
Но в то время, осенью 1946 г., была открыта Академия
общественных наук (АОН), как бы вместо Института красной профессуры,
закрытого в 1938 г. (множество арестов среди преподавателей и
слушателей). Новая академия, как и тот институт, была ориентирована
на партийных работников. Среди нескольких кафедр здесь учредили
три философских: диамата-истмата (заведующий П. Н. Федосеев),
истории философии (возглавил сам Г. Ф. Александров) и логики
и психологии (во главе с высококвалифицированным психологом
Б. М. Тепловым). Каждая кафедра имела кабинеты соответствующей
литературы. Я поступил заведовать кабинетом при кафедре истории
философии. Новая академия набирала партийных аспирантов,
которые после трехлетнего обучения должны были защищать
кандидатские диссертации.
Здесь необходимо вспомнить, что в довоенном СССР
диссертаций, даже кандидатских, защищалось крайне мало, не в последнюю
очередь потому, что приобретенная степень фактически не
увеличивала зарплату. В 1946 г. «остепенение» значительно по тем временам
ее увеличивало. С каждым годом теперь увеличивалось и количество
защит, более всего кандидатских, но постепенно и докторских. Сами
защиты всё более превращались в инсценировки, особенно если
диссертант в официальной характеристике наделялся высокими
партийно-общественными качествами. Поток диссертаций
наиболее широким был в сфере истории ВКП(б), как в наиболее
актуальной тематике в политическом аспекте. Снижение требовательности
и, соответственно, качества диссертаций (я имею здесь в виду
прежде всего, если не главным образом, общественно-политическую,
включая и философско-идеологическую проблематику) рождало
множество шуток и анекдотов: «Если в диссертации списан один
чужой текст — это плагиат, два текста — реферат, три — компиляция,
четыре — диссертация».
36
В. В. Соколов
***
Поскольку АОН была учреждена фактически при управлении
агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), Александров раз или два назначал
заседания кафедры в своих помещениях, и я, как заведующий
кабинетом при его кафедре, стал вхож в главное здание страны. В самой
академии и тем более здесь я увидел, как она управляется, рассмотрел
и даже познакомился с некоторыми из эпигонов.
С Александровым я общался главным образом через его
заместительницу по кафедре доцента Марию Дмитриевну Цебенко, но иногда
и лично. Он представлялся мне довольно симпатичным, даже для меня
немного открытым, а особенно для моего друга Павла Тихоновича
Белова, работавшего с ним перед войной. Я, не очень-то тогда
квалифицированный в истории философии, иногда при разработке и
обсуждении программы кандидатского минимума всё же замечал кое-какие
промахи и ошибки в познаниях шефа. Но я, конечно, понимал, что при
его партийно-политической занятости у него вряд ли находится время
для углубления своих знаний, и он жил «старым запасом».
На заседании кафедры в ЦК присутствовали оба его
заместителя — Петр Николаевич Федосеев (первый) и Михаил Трифонович
Иовчук (второй). Я обратил внимание, что когда Александров
торопил с составлением программы кандидатского минимума для
аспирантов, то посматривал на Федосеева, который говорил, что не стоит
с этим так уж торопиться. Когда же программа минимума по кафедре
Александрова была отпечатана, в отделе кадров ЦК зафиксировали,
что большинство аспирантов взяты кафедрами АОН неправильно по
их партийным и служебным качествам. На эти кафедры пришлось
набирать других аспирантов. Кафедра же диамата, руководимая
Федосеевым, даже не приступала к составлению своей программы.
В дальнейшем я более подробно узнал о Федосееве, наблюдая его
в АОН. Несколько удивлял его партийный стаж, ибо он стал членом
ВКП(б) лишь в 1939 г., в то время как его ровесники Иовчук и
Александров вступили в партию в 18 и в 20 лет. Мне объяснили тогда, что
Федосеев - сын кулака и не мог стать коммунистом так рано, как
его теперешние сослуживцы. Наблюдая его и впоследствии
(короткое время я был даже заместителем редколлегии «Философского
наследия», а председателем был Петр Николаевич), я убедился в его
«герметичности». Он был из тех, о ком говорят: «Слово — серебро,
молчание — золото». Окончив исторический факультет горьков-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 37
ского пединститута, он стал аспирантом философского
факультета МИФЛИ и перед войной защитил кандидатскую диссертацию
«Ленин и Сталин о религии и атеизме». В дальнейшем, работая
в ЦК ВКП(б) редактором теоретического органа журнала
«Большевик», теоретического органа Центрального комитета, он стал и
академиком, и вице-президентом АН СССР, и директором Института
философии, и директором ИМЭЛ. Пользовался большим
авторитетом в партийных верхах. Его поздний труд «Диалектика современной
эпохи» явно составлен при помощи референтов.
В 1946 г., когда я стал работать в АОН, Александров достиг
вершины своей партийно-государственной значимости: начальник
названного управления, член Оргбюро ЦК, которому после смерти
секретаря ЦК ВКП(б) А. С. Щербакова Сталин поручал делать
традиционные доклады в день смерти В. И. Ленина. Естественно ему
было досадно, что Митин и Юдин, не имевшие каких-либо
значимых трудов, не защищавшие диссертаций, были членами Академии
наук и как бы возглавляли «философский фронт». Александров
вместе со своими заместителями тоже решили стать членами Академии
наук. Было при этом одно препятствие: туда нельзя было
баллотироваться, не имея степени доктора наук, а Иовчук, тоже работавший
по совместительству на кафедре истории философии АОН, таковой
не имел. Необходима была срочная защита, ибо до выборов в
академию (ноябрь 1936 г.) оставались, кажется, две-три недели и надо
было торопиться.
Михаил Трифонович, коммунист чуть ли не с юношеского
возраста, был типичным партийным карьеристом. Окончив Академию
коммунистического воспитания, он оставался поверхностным и
безнадежным догматиком, ухватившимся за русских революционных
демократов, мусолившим «ленинские традиции в философии». Лез
во все редколлегии, включая те, в которых он был пустым местом.
В отношении подчиненных и тех, кто стоял ниже его по служебной
лестнице, нередко проявлял себя откровенным хамом. Вместе с тем
обладал даром хорошей речи и определенного остроумия. Не
признавая Марка Борисовича Митина достойным руководителем «фронта»,
он придумал для него «псевдоним» Мрак Борисович Мутин.
Обыгрывая его свойства «толкать речи» не всегда по данному вопросу,
Михаил Трифонович окрестил его Маркс Борисович Митинг.
Очень быстро на кафедре скомпоновали (главным образом
благодаря помощнику диссертанта Владимиру Ивановичу Газенко)
38
В. В. Соколов
тексты под заголовком «Из истории русской философии», которые
и были представлены в ученый совет. Первым официальным
оппонентом стал тот же Митин, вторым — Владимир Семенович
Кружков, преемник Митина в качестве директора ИМЭЛ, третьим —
Орест Владимирович Трахтенберг, самый достойный и грамотный
по сравнению с первыми. Защита состоялась «нормально», т. е.
совершенно формально, Митин дал должный отзыв официального
оппонента и совершенно положительную рекомендацию
диссертанту. Но через неделю-другую, придя на кафедру, в присутствии моем
и Цебенко он, ухмыляясь, сказал: «У меня такое впечатление, что
Михаил Трифонович один и тот же текст трижды пропустил через
пишущую машинку».
Новоиспеченный доктор, диссертация которого не попала в
Ленинскую библиотеку, что в дальнейшем привело к неприятным
скандалам для Иовчука, вместе с Александровым и Федосеевым стал
членом академии: первый действительным, остальные — членами-
корреспондентами.
Они, надо думать, очень торжествовали, но, оказалось,
преждевременно. Уже после избрания всё это стало известно Сталину.
В свое время он «помог» пройти в академию с соблюдением всех
формальностей Митину (в действительные члены) и Юдину (в члены-
корреспонденты). Но они тогда были нужны Сталину для
сокрушения «меныиевиствующего идеализма», основанного на гегельянстве.
Теперь же он поддерживал другой порядок, зорко следя за теми
выдвинувшимися деятелями руководства партии, которые слишком
«зарывались». От многих работающих в АОН я слышал, что генсек
пригласил президента академии Сергея Ивановича Вавилова и просил
его сообщить, каким образом все представители руководства
управления агитации и пропаганды ЦК стали членами Академии наук. Тот
ему ответил, что на этих достойных лиц поступила рекомендация ЦК
ВКП(б) (она была обязательна и тогда строго соблюдалась). «Ну,
я вам такой рекомендации не давал, — сказал генсек. — Может быть,
она поступила от т. Жданова?» Вавилов ответил, что и этого не было.
«Тогда кто же такую рекомендацию вам направил?» — снова спросил
вождь. «Мы получили ее от т. Иовчука», — ответил президент
академии (следовательно, Иовчук рекомендовал и самого себя). Тогда
генсек спросил Вавилова: «А нельзя ли их всех обратно»? Последний
сказал, что, увы, устав академии не позволяет такое сделать. Сталин
будто бы сказал: «Ну, хорошо. Мы примем свои меры». Действитель-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 39
но, вскоре мы узнали, что Иовчук удален из ЦК партии и направлен
в Белоруссию как секретарь по пропаганде тамошнего ЦК. Федосеев
был назначен главным редактором «Большевика». Положение
Александрова тоже покачнулось.
Когда несколько лет тому назад совет МГУ присваивал звание
заслуженного профессора Московского университета Юрию
Андреевичу Жданову, прибывшему для этого действа из Ростова-на-Дону,
где он, член-корреспондент АН СССР, работал в филиале академии,
меня тоже позвали на тот совет (в сталинские годы я был немного
знаком с ним). Ю. А., окончивший перед войной химический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в конце 1940-х гг. заведовал
отделом науки ЦК ВКП(б) и, будучи зятем Сталина (вторым мужем его
единственной дочери Светланы), весьма способствовал решению
о строительстве комплекса современных зданий МГУ на Ленинских
(Воробьевых) горах. Он мне подтвердил выше рассказанный эпизод
об отношении Сталина к академическому делу Александрова. При
этом добавил существенный момент — что Сталин, назначая
внушительные оклады академикам, считал, что следует каждые пять
лет проводить их ротацию, заменяя неэффективных академиков на
более эффективных путем новых выборов. Такой замысел Сталина
представляется актуальным в контексте теперешней реорганизации
Академии наук. Но вместе с тем он, по-видимому, достаточно
утопичен, поскольку и у нас, да и повсюду «большие ученые» приходят
в Академию наук на всю жизнь.
Летом 1945 г. Александров опубликовал книгу «История
западноевропейской философии», которой был присвоен гриф
учебника для вузов. В действительности это была небольшая доработка
книги с таким же названием, опубликованной автором в 1939 г. на
основе курса лекций, который он читал на философском факультете
МИФЛИ. Мы, аспиранты, изучая ее, убедились, что это стандартное
произведение на основе уже традиционной тогда марксистской
методологии, в которую вписывались пересказы воззрений философов
с эпохи Возрождения. Нам было совершенно ясно, как далеко ей до
«осужденного» III тома «Истории философии», который,
основываясь в принципе на той же методологии, давал конкретный анализ
воззрений философов при довольно тщательном прочтении их
произведений. Но книга уже влиятельного партийного деятеля была
высоко оценена в рецензиях. Профессор Марк Петрович Баскин
(работал по совместительству в МГУ на нашей кафедре), оценивая в своей
40
В. В. Соколов
рецензии книгу как «выдающийся труд», оканчивал ее сожалением,
что «явно недостаточен тираж издания» (50 тысяч!). При таких
похвалах естественно, что труд Александрова был увенчан Сталинской
премией. Но Белецкого это не смутило, и он в конце 1946 г.
обратился к Сталину с письмом, в котором утверждал, что автор книги
совершенно не учел в ней решения Политбюро ЦК о III томе «Истории
философии». Существо же его критики, как он говорил на нашем
семинаре, - игнорирование «классовой сущности», автор книги
трактует философов как сотоварищей по профессии, полностью забывая
о классовых корнях и т. п.
Письмо Белецкого оказало свое действие. ЦК ВКП(б)
потребовало обсудить положение на «философском фронте» в связи с книгой
Александрова, замечаниями Белецкого и постановлением
Политбюро по III тому. Такое достаточно аморфное обсуждение состоялось
в Институте философии в январе 1947 г., я на нем присутствовал.
Председательствовавший В. С. Кружков, сверхосторожный П. Н.
Федосеев и другие осуждали воззрения Белецкого как
антимарксистские. Сам он тоже присутствовал, но промолчал.
Однако и это обсуждение не удовлетворило высшее партийное
руководство (прежде всего, конечно, Сталина). Постановили
провести новую дискуссию.
Она состоялась в здании ЦК ВКП(б) в конце июня 1947 г. На ее
заседания из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов
была привлечена не одна сотня участников, имевших прямое или
косвенное отношение к «философскому фронту». Я, как работник АОН,
состоявший на учете в ее партийной организации, тоже был сюда
допущен. Всматривался в президиум, где сидели А. Жданов, А.
Кузнецов, М. Суслов (секретари ЦК), М. Шкирятов (председатель
комиссии партконтроля). Первый из них вел заседания непринужденно
и улыбчиво. К концу шестидневного заседания, когда выступил сам
Жданов, в то время первый идеолог партии, выявилась в очередной
раз особенность подобных заседаний, объявлявшихся дискуссиями.
Как полностью стало ясно впоследствии для большинства
непосвященных, Сталин напутствовал организаторов о полной свободе
выступлений участников, но окончательный смысл и цель этих
выступлений были зафиксированы в той самой речи Жданова, которую
одобрил Сталин с несколькими замечаниями и поправками. По его
заданию сначала следовало вскрыть недостатки учебника
Александрова, а затем подвергнуть «партийному анализу» состояние всего
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 41
«философского фронта». Сам учебник по своей содержательности
и литературному исполнению, по моему уже тогдашнему и тем
более последующему мнению, содержательно и литературно был ниже
злосчастного III тома, который я достал в библиотеке АОН.
Сам по себе учебник Александрова не заслуживал столь
широкого и длительного обсуждения, но решали идеологические установки,
сформулированные Сталиным, в принципе ясные для Жданова и без
того. Не успел он окончить свою речь, как Кузнецову, теперь
председательствующему, посыпались заявления записавшихся, но еще
не выступивших участников с отказом от предполагавшихся
выступлений. Впрочем, некоторые из них воспользовались правом
представить для отчета о дискуссии свои тексты. Характерен тот
анекдотический скептицизм, который проявлялся в кулуарах относительно
подлинной безошибочности для авторов их теоретических
публикаций (мне, в частности, сформулировал это О. В. Трахтенберг): их
собственные формулировки должны представлять кратчайшее
расстояние между двумя цитатами из «классиков» марксизма-ленинизма
или из официальных документов. А еще вернее - привести цитату,
а в скобках указать: «Разрядка моя». Так под сурдинку выражался
абсурд предельного догматизма, который действительно был свойствен
многим «теоретическим» публикациям.
Но тем не менее ряд моментов речи Жданова свидетельствовал
о его начитанности в историко-философской литературе. Например,
идея, согласно которой в ходе историко-философского процесса,
начиная с античности, от философии отделяются всё новые и новые
науки. В этом контексте возникает проблема, близкая к позитивистскому
истолкованию философии. Что же остается от философии, тем более
с марксистско-ленинской идеологией? Но здесь неверна основная
посылка, ибо философия никогда не была некой пранаукой, но
развивалась, конкретизировалась в тесной связи с практически-научным
знанием, рационализирующим и конкретизирующим философию
прежде всего в отношении к мифологическому мировоззрению.
Жданов, как и участники дискуссии, в различных аспектах
трепали своей критикой схематичность, нечеткость учебника
Александрова, потешаясь, в частности, над бедным Марком Петровичем
Баскиным («морской философский волк» ждановской речи),
сожалевшим, как отмечено выше, о недостаточности огромного тиража
книги. Наиболее основательными и весьма неприятными для
автора книги и ответственного партийного начальника были в основном
42
В. В. Соколов
традиционные провалы книги: «объективизм», ослабляющий, если
не устраняющий марксистско-ленинскую партийность, в ряде
случаев как бы солидарность с некоторыми из домарксистских
философов, усеченность изложения формирования марксизма,
заканчивающегося «Коммунистическим манифестом» и революцией 1848 г.,
в то время как оно, конечно, продолжало развиваться и Марксом,
и Энгельсом, и Лениным, а теперь и Сталиным. Главный же порок
книги Александрова заключается в том, что марксизм, доведенный
до предельной высоты ленинизмом, знаменовал революционный
переворот в философии, когда она из различных систем мыслителей-
одиночек стала единым учением для миллионных масс. Можно было
бы добавить, что тем самым она трансформировалась в идеологию,
но первое слово было всё же более значимо и серьезно.
В своем заключительном слове Александров, конечно,
каялся, полностью признавал свои ошибки, заверял как Жданова, так
и Сталина в радикальном изменении своей деятельности, уверял
в существенной переработке новой книги по истории философии
и т. п. Когда уже закончилась «дискуссия», он, смущенный, стоял
перед Ждановым, по выражению моего друга П. Т. Белова, как
побитая собачонка, и в чем-то оправдывался. Многим стало ясно, что
он переоценил свое положение и свою роль в партийном
руководстве. Его освобождение от высокой должности и перемещение на
должность директора Института философии состоялось через три-
четыре месяца. Несколько загадочно, что столь жестко
раскритикованную «Историю западноевропейской философии» не лишили
Сталинской премиии (во всяком случае в печати ничего подобного
не было объявлено).
Прямым результатом речи Жданова для изучения истории
философии стало расширение преподавания марксизма во всем его
хронологическом объеме. Притом воззрения и произведения Маркса
и Энгельса изучались лекционно и семинарски на кафедре истории
западноевропейской философии, впоследствии переименованной
в зарубежную, а Ленин и Сталин — на кафедре истории русской
философии. Трагикомизм последних курсов (прежде всего для
бедного Григория Степановича Васецкого, который их читал) проявился
сразу после XX съезда, когда сталинист Хрущев столь примитивно
раскритиковал Сталина (на университетском партактиве историки
КПСС утверждали, что в 1920-е гг. он был еще троцкистом, но сумел
вовремя покаяться перед Сталиным). Удаление из преподавания его
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 43
произведений и статей привело почти к половинной резекции
«ленинского этапа в философии».
Положительным результатом той же дискуссии стало
учреждение журнала «Вопросы философии». В нем, конечно, печаталось
множество идеологизированных статей, но появлялось всё больше
и собственно философских.
Ситуация на уровне философствующих эпигонов,
непосредственно руководивших «философским фронтом» в различных
учреждениях, по существу, менялась мало. В ней происходили лишь
персональные изменения, как и сражения между ними, что в определенной
мере оправдывало идею «фронта», в принципе призванного громить
«буржуазную философию», которую знали и понимали очень плохо,
и всякого рода попытки «искажения» марксизма-ленинизма.
В названном выше издании «Философия не кончается...» (кн. I,
с. 232) приводится весьма характерная для состояния «фронта»
докладная записка вышеупомянутого Ю. А. Жданова, тогдашнего
заведующего отделом науки ЦК ВКП(б), написанная в сентябре 1949 г.
секретарю ЦК М. А. Суслову, ставшему главным идеологом партии
после смерти А. А. Жданова. Здесь Ю. А. пишет о «наших философах-
профессионалах, заполняющих институты философии и
философские кафедры учебных заведений, партийных школ... никто из них
за тридцать лет советской власти и торжества марксизма в нашей
стране не высказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в
сокровищницу марксизма. Более того, никто из наших философов-
профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила бы
какую-либо конкретную область знаний. Это в равной степени
относится к Деборину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову
и Кедрову и всем остальным». Хочется сказать теперь уже покойному
(в те годы моему знакомцу) сыну своего отца и зятю самого
Сталина, что определяющая роль эпигонов, им названных и неназванных,
заключалась главным образом в том, чтобы следить за «чистотой»
марксизма и поддерживать ее, продолжая и даже усиливая догматизм
«непрерывно развивающегося» учения, как тогда писали. К тому же
адресат записки еще бдительно нес ту же службу, хотя тогда был
далек от философии.
Несколько непонятно помещение автором записки в тот же ряд
Бонифатия Михайловича Кедрова, которого мы тогда воспринимали
как философского наставника самого Ю. А. Жданова. Оба они имели
образование в области химии, и когда Б. М. стал академиком (1966 г.),
44
В. В. Соколов
онпользовался,пожалуй,наибольшимавторитетомсредиакадемиков-
естественников. Ю. А. Жданов стал членом-корреспондентом АН уже
в Ростове, куда был «депортирован», по его словам, сразу после
смерти грозного тестя. Что же до Кедрова, он был последовательным
критиком Митина, не раз «ударяя» его. Основанием для такой агрессии
(Митин на нее отвечал реже) было во многом то, что этот уже давний
академик, по сути, не имеет авторских книг и даже в крутые
сталинские времена какое-то время возглавлял «фронт».
Сам же Б. М. публиковал книгу за книгой, более всего по
философии естествознания. И мне приходилось слышать, что этот
маститый автор давно ничего нового не читает, а только пишет. Член
партии большевиков с комсомольского возраста, он пострадал
в годы репрессий, когда его отец, в свое время один из
заместителей Дзержинского, был расстрелян, а брат, работавший в органах
НКВД, был вынужден покончить с собой. Но в послесталинские
времена Кедров быстро продвинулся, стал директором Института
естествознания и техники в 1960-1970-е гг. и сумел принять в его
сотрудники некоторых полудиссидентов (например, таких молодых
талантов, как П. П. Гайденко и А. П. Огурцов). Сотрудником того
же института стал упоминавшийся выше С. Р. Микулинский:
вызволенный из фильтрационного лагеря сокурсниками, он добился
степени доктора биологических наук.
Административная работа очень отвлекала Б. М. от
литературной и прочей деятельности (он был и первым редактором «Вопросов
философии»), и он назначил Микулинского своим заместителем, тот
исполнял свою должность сверхуспешно. Когда Институт философии
выдвинул в члены-корреспонденты АН заместителя своего директора
Александра Никифоровича Маслина, а отделение философии и права
своим голосованием его утвердило, Б. М. обнаружил какие-то
неправильности в этом процессе и добился отмены кандидатуры Маслина.
На освободившееся место Б. М. двинул своего заместителя. Взяв
достойные отзывы от академиков-естественников, он провел в члены-
корреспонденты Микулинского.
После неожиданной смерти в 1971 г. директора Института
философии Павла Васильевича Копнина Кедров стал в 1972 г. директором
и этого института. Он возглавлял его два года, но в 1974 г. был
сброшен усилиями академиков Константинова и Митина, а с должности
директора ИЕИТ, говорили, ему помог «освободиться» его
заместитель, который и стал директором.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 45
В коллекцию философствующих академиков вошел и Федор
Васильевич Константинов. Профессор-икапист, активно
поворачивавший вместе с Митиным и Юдиным «философский фронт» в должное
русло после осуждения «меньшевиствующих идеалистов», занимал
ряд высоких партийно-государственных должностей, был и первым
президентом Философского общества. В своих выступлениях
последовательно защищал «научную идеологию», обладал даром речи и
был прозван «лирический марксист». Авторских книг не имел, но был
назначен шеф-редактором первой советской пятитомной
«Философской энциклопедии» (1960-1970). Далекий от философии, он
добился назначения своим главным заместителем профессора Александра
Георгиевича Спиркина, который и подбирал знающих руководителей
отделов, а те — конкретных авторов статей. В 4-5-й тома прорвались
диссидентствующие молодые авторы, они наполнили издание
опасными статьями, особенно по русским дореволюционным идеалистам,
на исследование которых было наложено литературное табу. В
результате было сорвано представление «Философской энциклопедии»
на государственную премию, что расстроило шеф-редактора и
подобранных им «правильных» членов общей редколлегии.
Для характеристики отношений, складывавшихся среди
философского начальства, можно привести один эпизод примерно того
времени, когда готовилась докторская защита М. Т. Иовчука. Где-то в
конце ноября 1947 г. на заседании кафедры истории философии
появился сравнительно молодой красивый человек, которого звали
Дмитрий Иванович Чесноков. Позже мне сказали, что это приехавший из
Свердловска тамошний секретарь по пропаганде горкома ВКП(б). Он
привез рукопись, трактующую мировоззрение А. И. Герцена,
которую он просил рассмотреть на предмет ее докторской защиты в АОН.
Александров, ведущий заседание, поручил Митину дать ей
предварительную оценку. На следующем заседании академик заявил, что,
прочитав рукопись, он убедился, что пока она представляет хорошую
кандидатскую диссертацию и требует доработки для проведения ее
на докторский уровень. Хотя рецензент, совсем недавно
оппонировавший на защите диссертации по русской тематике М. Т. Иовчука
и давший ей добро (вопреки, как мы видели выше, своему
действительному мнению о ней), ничего не сказал по существу, рукопись
Чеснокова была отклонена на дальнейшую доработку. Не
состоявшийся тогда доктор философии возненавидел Митина и увеличил
число врагов Александрова. В следующем году Дмитрий Иванович
46
В. В. Соколов
опубликовал эту работу, названную «Мировоззрение Герцена», и она
вскоре получила Сталинскую премию. В дальнейшем, на XIX съезде
партии (1952), тот же автор, работавший уже в Москве, в частности
главным редактором «Вопросов философии», был введен Сталиным
в состав Президиума ЦК КПСС.
Завершая обзор партийных начальников от философии кратко
остановлюсь на Леониде Федоровиче Ильичеве. Икапист, рано
вступивший в партию, он проделал обычную партийно-административную
карьеру, вершина которой была достигнута в правление Хрущева,
когда он, хрущевский прихвостень, стал секретарем ЦК КПСС. При
подготовке членства в АН, не будучи членом-корреспондентом, он
созвал представителей различных наук и поставил перед ними
задачу методологического объединения. Показательно, что в своем
обосновании столь трудной задачи он, что-то слышавший об идеальном
государстве Платона, провозгласил, что теперь, наконец, наступило
то время, когда философы стали править государством.
** *
К самому концу 1947 г. мне надоела подсобная должность
заведующего учебным кабинетом при кафедре. В том же году при Совете
министров СССР по прямому распоряжению Сталина было учреждено
«Издательство иностранной литературы», имевшее задачей
переводить и издавать наиболее интересные и важные произведения
зарубежных авторов. В число нескольких редакций издательства была
включена и редакция философии и психологии. Директором
издательства был назначен весьма перспективный филолог Борис
Леонтьевич Сучков. До войны они учились вместе с моим другом,
упоминавшимся выше Михаилом Федотовичем Овсянниковым, ставшим
здесь заместителем заведующего редакцией Михаила
Александровича Дынника, назначенного министерством. Михаил Федотович
пригласил в качестве редактора будущих книг и меня. Наша редакция
встретилась сразу с огромными трудностями, ибо она должна была
искать и издавать только «прогрессивных» авторов, и если
удавалось найти таковых среди «буржуазных» философов, то при их
публикации в те времена и сами авторы, и редакция быстро попадали
под огонь партийно-догматической критики. С осторожностью
искали бесспорных авторов, и одним из них стал английский коммунист
Морис Корнфорт, автор «Науки против идеализма». Другой удачей
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 47
стала книга «Теория отражения» болгарского коммуниста и
деятеля Коминтерна (в те годы) Тодора Павлова (Досева), первого декана
философского факультета МИФЛИ. Но деятельность издательства
оказалась под ударом, когда органы НКВД в 1948 г. арестовали его
директора Сучкова (получил «четвертак» и освободился после
смерти Сталина). Пришлось уйти из издательства М. Ф. Овсянникову,
и я стал заместителем М. А. Дынника. Совершенно безопасными
и необходимыми стали книги Гильберта — Аккермана «Основания
математики» и Альфреда Тарского «Введение в логику и
методологию дедуктивных наук», изданные при решающей роли Софьи
Александровны Яновской.
Работая три года в «Издательстве иностранной литературы»,
я не терял связей с философским факультетом, нередко
наведываясь туда. Хотя здесь продолжала господствовать кафедра Белецкого,
у меня сохранялись дружеские связи с преподавателями других
кафедр, да и на диамат-истмате у меня тоже оставались друзья.
Я почти всё время присутствовал на том партийном собрании
философского факультета в марте 1949 г., продолжавшемся чуть
ли не целую неделю. Повестка собрания по указанию ЦК ВКП(б)
и московского горкома посвящалась обсуждению редакционных
статей «Правды» и еженедельника «Культура и жизнь» (основан
еще управлением Александрова; некоторые читатели под сурдинку
называли его «Культура и смерть»). В названных статьях
разоблачалась «антипатриотическая» группа театральных критиков,
уличаемых в космополитизме, пренебрежении к советско-российской
родине, построившей социализм и выигравшей страшную войну.
Сталинско-большевистская партия инициировала тогда одну из
позорных, по сути антисемитских кампаний, в которую вовлекались
различные круги интеллигенции. Кафедра диамата-истмата,
возглавляемая Белецким, стала главным объектом критики, потому что
среди ее преподавателей было много (если не большинство) евреев.
Таковым считался и сам Белецкий, который называл себя
белорусом, проходившим учебу в православной семинарии. Выступавшие
говорили о сплоченности кафедры, отсутствии критики и
самокритики среди преподавателей, весьма почитавших своего заведующего
за его принципиальность в теории и бесстрашие в критике высокого
начальства и т. п. Г. Батыгин и И. Девятко в названном выше издании
«Философия не кончается...», основываясь на архивных материалах,
рисуют довольно подробную картину «философской борьбы» между
48
В. В. Соколов
эпигонами-начальниками Александровым, Митиным, Иовчуком,
Кедровым, Чесноковым и другими и их бесстрашным критиком
Белецким, хотя все они, добиваясь истины, апеллировали в своих
посланиях к Сталину, Жданову, Маленкову, Суслову. Авторы подробно
рисуют и ход названного собрания.
В изложении этих авторов поражает возвышенная, а иногда
просто ложная оценка деятельности Белецкого. В ней он фигурирует
как «неподкупный часовой философского фронта», отличавшийся
свободомыслием, самостоятельностью мышления, самым
последовательным марксистом, державшим в напряжении Институт
философии и философский факультет и т. п. Здесь мне приходится
вернуться к Белецкому, в семинаре которого я был участником, хорошо
знал всех своих сокурсников, названных Батыгиным и Девятко, по
довоенному факультету и тому же семинару. Отражал, пускай
весьма запальчиво, попытки Белецкого опровергнуть мою диссертацию,
попытки всё же провалившиеся, о чем свидетельствовало
голосование в мою пользу и гром аплодисментов при оглашении протокола
голосования.
Все названные выше эпигоны и тем более сам Белецкий всегда
уличали друг друга в антимарксизме. Для такого взаимного
«опровержения» определенное основание давали «основоположники»,
особенно Энгельс, который в четырех известных письмах к своим
последователям-критикам признавался, что они с Марксом слишком
напирали на роль социально-экономического базиса по отношению
к различным компонентам духовной надстройки вообще, философии
в особенности, подчеркивали его столь сильно, что исторический
материализм многие и многие интеллектуалы трактовали как
экономический материализм. Здесь вставала проблема относительной
самостоятельности философской «надстройки», что и образует историю
философии. Белецкий ее весьма плохо знал и не признавал, считая ее
ассоцианистическим набором терминов, «гносеологической
схоластикой» (по Ленину), идеалистической в своем отрыве от
общественной жизни. Марксистско-пролетарская идеология — ее
непосредственное отражение, а философию того же Гегеля следует трактовать
как политическое оправдание прусско-немецкой государственности
в ее стремлении к войне. Показательно также противопоставление
Белецким русского революционного демократизма (Герцен,
Чернышевский) западноевропейской «буржуазной» философии. Первая всё
же обладала значительной самостоятельностью, и поэтому якобы не
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 49
имела никакого отношения к возникновению марксизма, в то время
как русский революционный демократизм, погруженный в жизнь
и ориентированный на русский пролетариат, породил марксизм-
ленинизм в России. Здесь «оригинал» приспосабливался к
развивавшемуся «антикосмополитизму» противопоставления великой
русской культуры западной культуре.
В этом же контексте развивались гносеологические споры об
истине, точнее, объективной истине: что в ней преобладает и ее
определяет - объект с его особенностями или закономерностями, или
она определяется субъектом и без его познавательной деятельности
не может вообще быть речи об истине, преобладание субъектного
начала ведет к идеализму и т. п. В этих рассуждениях апеллировали
к ленинскому «Материализму и эмпириокритицизму», где
объективность истины максимально сенсуализирована, как это было у
Гольбаха. Белецкий решал ее еще более примитивно, чем автор этого
произведения. Отсюда, по-видимому, и байка, как руководитель семинара,
распахнув окно с видом на Кремль (университет и факультет были
тогда напротив его) и указав на него, сказал: «Вот она, объективная
истина!» Я такого эпизода не вспоминаю, но она вполне
соответствует трактовке истины Белецким, как и его обращения по
теоретическим вопросам в «высшие инстанции». А. Д. Косичев в своей
вышеупомянутой книге пишет, что студент 5-го курса Я. Аскинадзе
обратился с письмом к Сталину с просьбой прояснить, как же
понимать объективную истину.
Но вернемся теперь к партсобранию факультета в марте 1949 г.
Оно проходило весьма бурно. Настойчиво критиковали кафедру
диамата-истмата, заостряя критику и против молодых ее
преподавателей (Герман, Куражковская, Вербин, Ковальзон), Вадима Кел-
ле, писавшего диссертацию о Гегеле под руководством Белецкого,
даже вывели из президиума собрания. Приняли постановление об
увольнении проф. Белецкого с факультета, закрепленное и решением
совета. Но его восстанавливали не раз высшие партийные и
министерские инстанции, несмотря на новые постановления об его
увольнении парторганизациями философского факультета и университета.
Поддержка Сталиным в 1944 г. (а 3. Я. послал ему новое письмо в
1949 г.) «мастера эпистолярного жанра», как говорили на факультете
и в университете, делала бессильными все постановления и решения
«внизу», как ни кипятилось здесь множество противников
Белецкого, а он вместе с Митиным стал активно поддерживать идеи Лысенко,
50
В. В. Соколов
которого приводил на факультет для выступлений перед студентами
в большой аудитории. Однажды я пришел, чтобы послушать этого
дремучего субъекта, который, в частности, доказывал отсутствие
внутривидовой борьбы: «Заяц зайца не ест, волк зайца ест».
После смерти Сталина удалось переместить Белецкого на
кафедру диамата-истмата для гуманитарных факультетов, а в 1955 г.
министерство переместило его на ту же должность в Инженерно-
экономический институт. Никто из сотрудников его кафедры,
бывших его аспирантов, за ним не последовал. Один из его активных
защитников на факультетских баталиях Иван Михайлович Паню-
шев рассказал мне об их разочаровании в Зиновии Яковлевиче как
в ученом и человеке. Сам я слышал, присутствуя при их
собеседованиях (Белецкий жил уже в нашем университетском доме), как после
XX съезда КПСС он поносил Хрущева за его разоблачение Сталина,
почему-то сравнивая первого с Распутиным. Не повезло ему и в
личной жизни: со скандалом ушла жена, врач по профессии, а дочь
выбросилась с балкона.
* * *
Конец диктатуры Белецкого на факультете открыл мне возможность
возвращения. Ушли в факультетскую аспирантуру двое основных
редакторов, И. С. Нарский и А. П. Петрашик, а М. А. Дыннику,
раскритикованному за отсутствие активности в подборе иностранной
философской литературы (что было трудно и небезопасно), пришлось
оставить заведование редакцией, в которой кроме меня оставались
два младших технических редактора. Всё это поставило под вопрос
существование редакции в Иноиздате. Я тоже покинул ее, и она была
закрыта. Однако ЦК года через два приказало дирекции издательства
редакцию снова открыть. Заведующим стал Н. Г. Тараканов,
набравший новый состав.
На философский факультет МГУ я был зачислен не сразу,
приводил какие-то возражения тот же Белецкий. Но ситуация на кафедре
истории философии изменилась, теперь, после смерти Б. С.
Чернышева, ею по совместительству заведовал Василий Иосифович
Светлов. Икапист, он работал в аппарате ЦК и был в 1944 г. направлен
оттуда на пост директора Института философии (вместо П. Ф. Юдина
при осуждении III тома «Истории философии»), автор книги о браке
и семье при капитализме и социализме, о формировании философ-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 51
ских взглядов Маркса и Энгельса. Каким-то образом заинтересовался
античной философией и в 1946 г. на сессии АН СССР, посвященной
2000-летию со времени смерти Лукреция Кара, сделал доклад
«Мировоззрение Лукреция Кара», в котором, в частности, доказывал, что
древнегреческие боги, фигурирующие в его поэме «О природе
вещей», — только маскировка римского материалиста. В 1946 г.
Светлов стал заместителем министра высшего образования, продолжая
заведовать той же кафедрой.
Мое устройство туда было сомнительно, ибо заместитель
министра очень опасался Белецкого. Но своим заместителем по
кафедре он пригласил доцента Теодора Ильича Ойзермана, работавшего
в Экономической академии им. Плеханова, с которым я был знаком
с ифлийских времен (он был тогда аспирантом). Умнейший и
выдающийся речист, он стал одним из самых активных критиков Белецкого,
который его ненавидел. Человек весьма оперативный, он, развивая
традиционную уже идею, подчеркнутую и в речи Жданова, в 1948 г.
издал основательную брошюру «Возникновение марксизма —
революционный переворот в философии», прибавив на обложке к своей
фамилии фамилию Светлова. Он отвел все возражения «белецкиан-
цев» против моей кандидатуры, и я стал старшим преподавателем
родной кафедры. На нее не только косились «белецкианцы», но и
партком факультета не очень-то ее любил. Теодор Ильич умело обходил
все препятствия. Положение его окрепло, когда он, ориентируясь
на высказанное Ждановым недоумение, почему история
марксистской философии заканчивается «Коммунистическим манифестом»,
весьма оперативно (он читал на кафедре курс по развитию
доктрины Маркса — Энгельса) написал докторскую диссертацию «Развитие
марксистской философии на опыте революции 1848 г.» и защитил ее
в декабре 1951 г. К тому времени я вполне вошел в деятельность
кафедры, читая курсы истории домарксистской классической
философии на отделении психологии и на историческом факультете.
***
Но здесь мне пришлось прервать свою работу на факультете. В
министерство высшего образования поступил запрос из аналогичного
ведомства Корейской народно-демократической республики с просьбой
прислать им профессора или доцента для чтения курсов и проведения
занятий именно по истории философии в Университете им. Ким Ир
52
В. В. Соколов
Сена, тогдашнего их партийного и государственного руководителя.
Меня вызвали в наше министерство и категорически предложили,
как и специалистам по другим предметам, длительную командировку
в эту республику. На мой недоуменный вопрос о том, что там идет
ожесточенная война между Севером и Югом (уже и при участии
американских войск Макартура и китайских «добровольцев») ответили:
«Сейчас идут переговоры о перемирии между социалистическим
Севером и буржуазным Югом, к нашему приезду оно будет заключено,
и мы будем работать нормально». Быстро я собрал не так уж
много книг и отправился с экономистом Виктором Юрьевым на вокзал
в январе-феврале 1952 г.
Через всю Сибирь и Маньчжурию мы прибыли в Корею, но
не в сам Пхеньян, который наиболее часто подвергался
бомбардировкам американской авиации. У встречавшего нас
представителя министерства образования КНДР, советского корейца Пака,
спросили, почему они потребовали для философского факультета
именно историка философии. Он, ухмыляясь, ответил, что историк
философии может преподавать диамат-истмат, а обратное, как
правило, невозможно. Мне оставалось пожать плечами (диамат-истмат
я многократно преподавал в различных вузах Союза в период от
защиты диссертации и возвращения на философский факультет МГУ).
Через несколько дней меня и Юрьева повезли в сопки в 50-60
километрах от столичного Пхеньяна, где в ряде «чиби» (большие,
просторные деревенские дома) располагался Университет им. Ким Ир
Сена. Пришел и представился в качестве и. о. ректора еще один
советский кореец Ю Сен Хун. Приятный человек, он в дальнейшем
просил именовать его «Сергей Павлович». Он прибавил при этом,
что подлинный ректор в какой-то военной ситуации утонул в реке
Тедонган и теперь он, проректор, исполняет обязанности ректора
до конца войны (заключения перемирия). Министерство назначило
меня его советником.
Хотя в советском министерстве заверяли, что к нашему приезду
будет заключено перемирие и мы будем работать в Пхеньяне, но оно
заключено не было. В посольстве нам под сурдинку сказали, что
Сталин «рекомендовал» Ким Ир Сену заключить перемирие лишь
после того, как южане передадут всех пленных северокорейцев, а они
(конечно, по указке американцев) говорили, что эти военнопленные
не хотят возвращаться в КНДР. Так почти полтора года пришлось
работать в условиях войны. Хотя нам прорыли в одной из сопок убежи-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 53
ще от бомбежек, но были ситуации, когда при американских налетах
приходилось ползать по земле.
Свои лекции я записывал, а мой корейский ассистент Ким,
учившийся в Москве, переводил их на корейский язык и читал
студентам, а их вопросы он переводил с моих слов. Однажды к нам прибыл
сам Ким Ир Сен, довольно красивый мужчина, пригласивший нас
с Юрьевым в хорошее чиби с большим залом. Состоялась довольно
длительная беседа, которую переводил сам проректор-ректор. Он
рассказывал вождю о трудностях физического существования
университета, когда не столько в результате бомбежек, сколько в
условиях сильнейших дождей (субтропики) разрушаются плохо
построенные чиби и приходится строить новые. Вождь сказал, что надо
тщательно изучить причины некачественности их постройки и,
строя новые, не повторять ошибок. Позже я уяснил, что тогда и
начиналось великое учение чучхе. Оно разрабатывалось, в частности,
кандидатом философских наук нашего факультета (научный
руководитель Д. М. Угринович) Хван Ден Обом, ставшим здесь
секретарем ЦК Трудовой партии. Ким Ир Сен приобрел тогда огромный
авторитет. О нем сочинили песню, которую, как гимн, стоя
исполняли вначале каждого большого собрания. На лекции по диамату
собирались довольно большие аудитории. Одним из особо частых
пожеланий была просьба подробнее разъяснить закон диалектики,
трактующий закономерность качественного скачка в силу
количественных изменений. Заинтересованность в этом законе,
подчеркивали многие прямо, позволяет твердо верить в то, что корейской
республике удастся, минуя капитализм, построить социализм.
Смерть Сталина мы переживали еще в сопках, но заключение
перемирия в мае 1953 г. позволило перевести университет в Пхеньян.
Здесь происходили более частые лекции не только для
университетских аудиторий. Отношение к ним студентов, преподавателей и
руководителей было более чем благожелательным. За добросовестную
работу в особо трудных условиях военного времени нас наградили
орденами Государственного Знамени II степени.
***
Я вернулся на факультет и на кафедру в мае 1954 г. Полноправным ее
заведующим стал Теодор Ильич Ойзерман (Светлов вернулся на нее
рядовым профессором в 1953 г. и умер через два года). На кафедре
54
В. В. Соколов
работали как бы два слоя профессоров с дореволюционным
образованием, кроме Ойзермана и Светлова, и преподавателей (трое в том же
году стали доцентами).
Михаил Александрович Дынник, сын крупного адвоката,
получил хорошее гимназическое образование, в 1919 г. окончил
философское отделение историко-филологического факультета
Киевского университета. В 1918 г. принимал активнейшее участие
в студенческих движениях и вступил в партию эсеров (левых),
собирался заниматься общественно-политической деятельностью, но
вступление в партию большевиков было наглухо закрыто. Переехав
в Москву, переключился на античную философию и стал
аспирантом РАНИОН (Российская ассоциация научных исследований), где
учился одновременно с Б. Г. Чернышевым. По окончании
опубликовал книгу «Диалектика Гераклита Эфеского» (1929), а в 1936 г. -
книгу «Философия классической Греции». Был типичным
приспособленцем к марксистской диалектике. Читая лекции по античной
философии на старшем курсе (Ойзерман, 3. Смирнова, И. Щипанов
и др.), трактовал Сократа как «врага народа» (афинского). Вторую
его книгу очень ругали за догматизм другие философы-античники.
В частности, Б. С. Чернышев говорил, что он превратил Платона
в каналью (об этом мне сообщил сам М. А.). Выступил
официальным оппонентом упоминавшейся выше докторской диссертации
Г. Александрова (а Б. Чернышев ее игнорировал). Первый, став
большим начальником, выдвигал его на хорошие места, сделав
членом своей кафедры в АОН, заведующим редакцией философии
и психологии в Иноиздате. Здесь он стал моим начальником, и я
оценил его остроумие в повседневной жизни, как и порядочную лень:
из осторожности ни разу не поставил своей подписи ни на одной
стадии готовящейся книги и не очень-то стремился к их выявлению
для перевода и издания.
Филологически образованный и литературно одаренный, он
переводил стихи с французского и итальянского, в частности,
философские поэмы Бруно, поэму Парменида. Но собственные статьи М. А.
не отличались какой-то оригинальностью, были пересказательны,
догматически заурядны. Я не знал ни одного аспиранта, который
выражал бы признательность за его руководство. Несколько лет читал
семестровые курсы по критике новейшей буржуазной философии,
которые отличались остроумием, но не содержательностью.
Пришлось его от этого курса освобождать, о чем скажу в дальнейшем.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 55
Ошибка, совершенная Михаилом Александровичем в юности
(в 1918 г. невозможно было угадать, какая партия будет править
Россией), не помешала ему в дальнейшей жизни преданно улучшать ее.
В 1950-е гг. уже стали выпускать за границу ученую (или
считавшуюся таковой) публику. Небольшая делегация во главе с директором
Института философии Ф. В. Константиновым поехала в Швейцарию.
Здесь произошла какая-то встреча с группой местных философов
(кажется, в Женеве), один из них, рассуждая о Гераклите, допустил
какую-то ошибку, и М. А. его умело поправил. Этот и какие-то другие
факты остроумия Дынника привели руководителя нашей делегации,
ничего не знавшего о диалектике Гераклита, да еще
сформулированной по-французски, в такой восторг, что он где-то через год провел
(1958) М. А. в члены-корреспонденты АН СССР.
Постарше Дынника был Орест Владимирович Трахтенберг
(р. 1889), происходивший из прибалтийских дворян. Учился он на
юридическом факультете Санкт-Петербургского университета по
кафедре философии права. В молодые годы с ним тоже приключилась
неприятность, когда он, оказавшись на Северном Кавказе, в 1919 г.
был мобилизован в Добровольческую армию Деникина. Конечно,
переживал, но как человек смирный и благожелательный,
беспартийный. Правда, в 1952 г. на факультете усилиями тогдашнего
декана А. П. Гагарина всё же приняли в партию «бывшего деникинца»
(по словам последнего). Оказавшись в Москве, Орест
Владимирович преподавал социальные дисциплины в различных вузах, в
особенности в Коммунистической академии им. Н. К. Крупской, где
несколько лет вел ИРОФ. На мой вопрос, что это за зверь, ответил:
«История развития общественных форм». В академической карьере
профессора Трахтенберга особо важную роль сыграли издания
«Беседы с учителем по историческому материализму» и «Беседы с
учителем по диалектическому материализму». Благодаря им в 1947 г.,
когда открылась Академия педагогических наук, он стал одним из ее
академиков-основателей.
За несколько месяцев до начала войны в Институте философии,
где он был научным сотрудником, защитил докторскую диссертацию
по средневековой западноевропейской философии, первую в СССР
и долго единственную. В соответствии с высказыванием Маркса о
номинализме как главной материалистической тенденции в этой
философии ей (главным образом Оккаму) и была посвящена эта
диссертация. Фома Аквинский, совершенно чуждый светской идеологии,
56
В. В. Соколов
представлен маловразумительно. В1957 г. работа была издана
отдельной книгой. Хороший лектор, Орест Владимирович в 1940-е — начале
1950-х гг. читал лекции по домарксистской западной философии
(кроме немецкой). Последние три года он работал дома и умер в 1959 г.
Из профессоров философии с дореволюционным образованием
самым выдающимся был Валентин Фердинандович Асмус, ученый-
гуманитарий энциклопедического плана. Был незаурядным
специалистом в области истории философии (античной, новоевропейской,
по немецкому классическому идеализму (Кант), новейшей западной
философии, дореволюционной философии в Московском
университете). По глубине, точности и стилистике ему не было равных в
советской философии. Здесь я коснусь только этой стороны его
таланта, проявившейся в педагогике и научно-исследовательской работе,
оставляя его деятельность в области логики, истории и теории
эстетики, как и литературоведения.
Он учился одновременно с Дынником на отделении философии
и русской словесности историко-филологического факультета
Киевского университета. По окончании преподавал эстетику в тамошних
вузах, в 1927 г. его пригласили читать лекции по истории
философии в тот самый Институт красной профессуры, а через несколько
лет этот же предмет он преподавал в Академии коммунистического
воспитания. Но в 1931 г., когда разразилась катавасия по критике
«меньшевиствующего идеализма», его тоже причислили к этому
опасному заблуждению. Особенно остро его поносили в академии
и хулигански (лекции он читал, не снимая обручального кольца)
изгнали оттуда. В ИКП он работал всё же до его закрытия. В 1940 г.
в Институте философии защитил докторскую диссертацию по
эстетике древнегреческой философии. В дальнейшем работал и там,
и в Институте мировой литературы. В МИФЛИ его приглашали для
чтения небольшого курса логики (тогда я с ним мимолетно
познакомился). В 1943 г. Асмус в небольшой группе авторов трех томов
стал лауреатом сталинской премии (а потом государственной —
после смерти Сталина и «реабилитации» III тома). Как выше отмечено,
избранный в члены-корреспонденты АН на отделении философии и
права, он был «забаллотирован» (вместе с Быховским) по
распоряжению ЦК ВКП(б). В годы войны Асмус в основном официально
работал на кафедре логики. В1947 г. он опубликовал фундаментальный
учебник по традиционной логике. Позже им были опубликованы
другие работы по логической проблематике.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 57
В 1954 г. глава кафедры Т. И. Ойзерман добился перевода В. Ф.
на нашу кафедру истории зарубежной философии (так она стала
называться), чему мы были чрезвычайно рады. Его лекции отличались
строгостью и точностью мысли, как и незаурядной стилистикой
(здесь проявлялся и его эстетический дар, особенно яркий в его
публикациях). Авторитет Асмуса-автора, да и учителя, был очень велик
как на факультете, так и за его пределами. Работая уже на кафедре, он
опубликовал учебник по античной философии и весьма
содержательные брошюры по ее различным фигурам (Платон, Демокрит).
Перечислять многие труды здесь нет смысла.
Безупречный интеллигент, В. Ф. был отличным, внимательным
руководителем и консультантом по различным вопросам и фигурам
философии. У него осталось много почитателей, что, в частности,
проявилось на его похоронах в самом начале июня 1975 г. В. Ф. был
религиозным человеком, и естественно, что семейство пригласило
священника для свершения службы и соответственных похорон, что
тогда было не безопасно. У церкви в Переделкине, куда прибыл после
отпевания священник, собралось множество учеников и
почитателей покойного. Некоторые из них при виде священника повернулись
и стали удаляться к станции. Но я организовал светское прощание,
сказал слово о незаурядности покойного, за мной выступил декан
факультета Серафим Тимофеевич Мелюхин и закончил С. М. Ма-
кашин, редактор «Литературной летописи», с которой много лет
сотрудничал покойный. Священник с сыном покойного Валентином,
его женой Инной под пение псалмов двинулись к могиле, мы с Ме-
люхиным пошли за ними и участвовали при погребении по русско-
христианской традиции. На следующий день по требованию
парткома МГУ писали объяснение столь «позорного» события.
Асмус был последним профессором нашей кафедры (да и
факультета) досоветского образования. Теперь педагогическая и научная
работа ложилась на нас, философов советской выучки. Из «молодых»
самым старшим был Юрий Константинович Мельвиль, родившийся
в 1912 г. в дворянской семье. Социальное происхождение
позволило ему закончить лишь Плановый институт в довоенном
Ленинграде, а он мечтал о философии. Лишь став членом КПСС в армии, он
смог в 1945 г. поступить в аспирантуру философского факультета
по нашей кафедре, где в 1948 г. под руководством В. Ф. Асмуса
защитил кандидатскую диссертацию об английском прагматисте
Шиллере. Вместо М. А. Дынника он стал читать и постепенно расширять
58
В. В. Соколов
курсы истории современной западной философии. Совершил две
командировки в США, где проводил собеседования с местными
философами. В 1964 г. защитил фундаментальную монографию «Чарльз
Пирс и прагматизм» на степень доктора. В 1968 г., после перехода
Т. И. Ойзермана в Институт философии, Ю. К. был назначен
заведующим нашей кафедрой, которой руководил до 1985 г. Был очень
тщателен, педантичен в руководстве многими аспирантами, готовя их
к кандидатским защитам. Внимательно читал и выступал при
обсуждении всех диссертаций, подготовленных под руководством других
членов кафедры. Добился образцовой дисциплины в работе
преподавателей и аспирантов кафедры. Министерством высшего
образования наша кафедра истории зарубежной философии была определена
как ведущая историко-философская кафедра университетов СССР.
Весьма активным преподавателем и профессором кафедры
истории зарубежной философии был Игорь Сергеевич Нарский. Он
специализировался главным образом в истории новоевропейской
домарксистской и в некоторых темах новейшей западной философии.
Как член редколлегии большой серии изданий классиков
«Философское наследие» (см. ниже), зная польский язык, он издал несколько
томов произведений польских философов (вступительная статья,
редактирование текстов и комментарии). В этой же серии издал
произведения Юма, Беркли, Локка, Лейбница, большой том
«Антологии мировой философии». Издал три тома учебных пособий для
философских факультетов (от Бэкона до Фейербаха). В журналах
«Вопросы философии», «Философские науки» и в других изданиях
опубликовал множество статей. Многочисленность изданий
философских работ в те годы рассматривалась как важнейший критерий
прохождения в члены АН СССР. Игорь Сергеевич не раз претендовал
на избрание ее членом-корреспондентом. В 1970 г. он снова подал
документы в Отделение философии и права, где его очень
поддерживали Митин и Иовчук, и стал одним из трех, кажется, претендентов
на обсуждение и голосование (положительный результат
утверждался на общем собрании АН СССР). Но кто-то из членов отделения
сказал ему, что у них распущен слух, будто он еврей. Возмущенный
Игорь Сергеевич обратился к президенту академии М. В. Келдышу
с протестом против таких слухов (в подробностях изложил свою
биографию, опровергающую столь «подлый» слух) и просил передать
этот протест в Отделение философии и права, что тот и сделал. Но
в отделении произошел большой скандал, и Нарский был отвергнут
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 59
без обсуждения. Когда мы узнали об этом на кафедре, мудрый
Валентин Фердинандович сказал ему: «Игорь Сергеевич, ну разве можно
протестовать против слухов!» Расстроенный Нарский покинул нашу
кафедру, перейдя в АОН, хотя именно мы выдвинули его в члены-
корреспонденты АН.
К более молодому поколению преподавателей кафедры истории
зарубежной философии принадлежал Алексей Сергеевич Богомолов,
«опоздавший» к призыву в армию во время войны (р. 1927),
призванный в авиацию сразу после ее окончания. Однако здесь он заболел
тяжелым диабетом, был комиссован и поступил на философский
факультет. По окончании факультета и аспирантуры нашей кафедры он
стал активнейшим лектором, руководителем семинаров и
аспирантов. Вместе с Ю. К. Мельвилем, своим научным руководителем, он
основательно в течение двух семестров вел занятия по «буржуазной»
европейской и американской философии XIX-XX вв. Были
опубликованы основательные курсы лекций по этим эпохам и проблемам.
Теперь оказался не нужен «осужденный» за ненадобностью III том
«Истории западной философии», полностью обесценились
легковесные курсы М. А. Дынника. А. С. Богомолов в 1964 г. защитил
оригинальную докторскую диссертацию «Идея развития в буржуазной
философии XIX и XX веков» (по одноименной монографии). Конечно,
она, как и другие работы автора, выполнена на основе марксистской
методологии, ибо иная была в те, как и в последующие, годы для нас
противопоказана, невозможна в условиях сугубого догматизма.
Освоив новейшую «буржуазную философию», Алексей
Сергеевич повернулся на 180 градусов, ознакомился с греческим языком
и углубился в античную философию, опубликовав несколько работ.
Итогом этих его занятий стал основательный курс «Античная
философия» (1985). Твердый характер и административные
способности (одно время он работал заместителем декана факультета)
дали основания ректору университета Рему Викторовичу Хохлову
выдвинуть его на пост декана факультета после окончания срока
деканства М. Ф. Овсянникова в 1974 г. Однако консервативное
большинство совета (в основном заведующие кафедрами), по-видимому,
опасаясь усиления требовательности, провалило эту кандидатуру.
Но и при положительном голосовании Богомолову было бы весьма
трудно работать с его тяжелым диабетом (два укола ежедневно).
На ранней лекции ему стало плохо, он просил студентов подождать
и пошел в туалет для укола. По дороге преподаватель упал, сломал
60
В. В. Соколов
ногу. Его отвезли в госпиталь, где ногу отняли, но через
несколько дней А. С. умер (1983) от сердечной недостаточности. Мы с
горестью хоронили его, и я еще на факультете произнес речь об этом
незаурядном ученом и человеке.
Годом старше А. С. Богомолова был Арсений Николаевич Ча-
нышев. Сын архиепископа Смоленского и Вяземского Тихона
Николаевича Никитина (в церковном сане Модест), арестованного
и расстрелянного в 1937 г., он скрывал этот факт, приняв фамилию
матери. Окончил философский факультет и аспирантуру нашей
кафедры в 1955 г., защитив диссертацию по американскому
протестантизму. Последовательно работал как ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор. Отличался прямотой и резкостью характера. Как
автор основательно осмысливал проблему возникновения философии
в Античности и в древности в целом. Наиболее интересны в этих
областях его книги «Эгейская предфилософия», «Италийская философия»,
«Начало философии». А. Н. издал и курсы лекций по античной
философии. Наиболее фундаментальным учебным пособием Чанышева
стала книга «Философия древнего мира» (1999), в которой «по ходу
Солнца» изложены философские идеи и учения китайской, индийской,
античной «профилософии» и собственно философии до ее завершения
неоплатонизмом. Учебного пособия на русском языке,
охватывающего все страны и сюжеты древности, написанного одним автором, кроме
этого, нет. А. Н. Чанышев содержательно разрабатывал и максимально
абстрактную философскую проблематику. Наиболее интересен здесь
«Трактат о небытии» («Вопросы философии», № 10,1990).
Арсений Николаевич был и незаурядным поэтом по философско-
мировоззренческим, морально-этическим, сатирическим сюжетам.
Он стал членом Союза писателей. Как поэт, нередко писавший
«в стол», выдавал и свои политические воззрения. Например:
Кто знал, когда тифозных вшей давили
И собирали Русь под красный флаг,
Что строим пьедестал для Джугашвили,
А для себя архипелаг ГУЛАГ.
Сокурсник А. С. Богомолова Виталий Николаевич Кузнецов,
закончивший факультет в 1955 г., но учившийся в аспирантуре
кафедры философии Московского областного пединститута, защищал
кандидатскую диссертацию о Вольтере на нашей кафедре, короткое
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 61
время работал в Институте философии и с 1960 г. стал членом нашей
кафедры, на которой оставался до смерти (2011). Основным
содержанием его исследовательских интересов была философия
французского Просвещения XVIII в., в особенности материализм той эпохи.
Один год он стажировался во Франции, в Сорбонне. Писал работы
разного объема и по другим французским философам XX в.
Докторскую диссертацию «Экзистенциализм Жана-Поля Сартра» В. Н.
защитил в 1973 г. В принципе он последовательно придерживался
марксистско-ленинской методологии. Философскую
оригинальность формулировал с помощью собственных терминов: «фик-
сизм» — в отношении метафизики в трактовке Энгельса, «панэ-
дукационизм» - в отношении морально-социальной концепции
Гельвеция и др. Последняя книга В. Н. Кузнецова «Туманные
вершины мировой философии. От Платона до Делёза» (2001) в четырех
главах содержит разбросанный обзор имен и идей множества
философов (далеко не только тех, которые фигурируют в заголовке всей
книги). Немалое место здесь занимают высказывания и формулы
Маркса, Энгельса, Ленина. Попытка прояснить «туманность»
Платона, Плотина, Юма и Делёза (как и ряда философов между ними),
пожалуй, только усилила ее.
Сокурсником Богомолова и Кузнецова был Анюр Мусеевич Ка-
римский. По окончании философского факультета и аспирантуры
нашей кафедры он работал в международном отделе ЦК профсоюза
высшей школы и научных учреждений. Уволившись оттуда, Карим-
ский стал сотрудником нашей кафедры — от ассистента до
профессора. Его вкладом в научно-педагогическую деятельность кафедры стала
американская философия, в которой он выявил и осмыслил
натуралистическое направление как специфическую особенность
американского духа в его философской ментальности. Писал он и по вопросам
религиоведения в его гуманистическом аспекте. Новой в нашей
философской монографической литературе стала его книга «Революция
1776 г. и становление американской философии» (1976). Очень ясна
и содержательна монография А. М. Каримского «Философия истории
Гегеля» (1988), его докторская диссертация, одно из лучших
исследований по столь важной проблематике в нашей историко-философской
литературе. Умер Анюр Мусеевич от рака в 1993 г.
Доцентом, а затем профессором нашей кафедры работал и
Михаил Федотович Овсянников, о котором я писал в начале этих
воспоминаний. Первый период этой работы, начавшейся с защиты
62
В. В. Соколов
кандидатской диссертации «Судьба искусства в капиталистическом
обществе у Гегеля и Бальзака» (1943) (оппонентом здесь был Д. Лу-
кач), продолжался на кафедре истории западноевропейской
философии, когда еще был жив Б. С. Чернышев, и частично на кафедре
диамата-истмата, возглавляемой Белецким. Михаил Федотович был
образцом внимательного и доброжелательного педагога в
отношении и студентов, и аспирантов. Вместе с тем наша с ним критическая
позиция относительно «теорий» Белецкого привела в результате
происков последнего к удалению Овсянникова с факультета (1947)
и вынужденному переходу на кафедру философии в Московский
областной пединститут. По моему возвращению на факультет из КНДР
по договоренности с заведующим кафедрой Т. И. Ойзерманом и
деканом факультета В. С. Молодцовым (Белецкого на факультете
уже не было) Михаила Федотовича вернули в 1955 г. на факультет,
на нашу кафедру, где он работал с полной отдачей и авторитетом
в кругах студентов и аспирантов. Здесь состоялась и его защита
докторской диссертации на основе монографии «Философия Гегеля»
(1959). Филолога по образованию М. Ф. Овсянникова более всего
всё же привлекала эстетическая проблематика, о чем
свидетельствует уже его оригинальная кандидатская диссертация.
Ориентируясь на это важнейшее обстоятельство, руководство факультета
и университета учредило кафедру эстетики во главе с М. Ф.
Овсянниковым. Такая кафедра появилась впервые в истории Московского
университета.
Самым молодым членом нашей кафедры в советский период стал
Александр Феодосиевич Грязное. Окончив факультет с красным
дипломом в 1971 г., он, минуя аспирантуру, был зачислен ассистентом
кафедры, вел педагогическую работу, готовя одновременно
кандидатскую диссертацию, которую защитил по философии Шотландской
школы (одноименная монография опубликована в 1979 г.), до того
совсем не исследованной в русской историко-философской
литературе. А. Ф., великолепно знавший английский язык, ездил как стажер
в Великобританию, а впоследствии и в Соединенные Штаты. Уделяя
значительное внимание классической философии (в основном
англоязычной), А. Грязнов особо значительные исследования посвятил
философской проблематике языка. Главным его исследованием стала
докторская диссертация «Язык и деятельность. Критический анализ
витгенштейнианства» (1990). Недолго, 2-3 года, А. Грязнов работал
заместителем декана факультета (им был тогда доцент А. Панин), но
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 63
здоровье — больные почки - не позволили ему продолжить эту
деятельность. Он умер безвременно, на 53-м году жизни, в 2001 г.
Выше я упоминал двух профессоров философского факультета,
Алексея Федоровича Лосева и Павла Сергеевича Попова, с которыми
я впервые встретился на факультете по возвращении из госпиталя.
Оба они формально не принадлежали к кафедре истории философии,
ибо были присланы из ведомства Александрова для преподавания
логики и как бы образовали секцию на кафедре диамата-истмата,
которой стал заведовать 3. Я. Белецкий. Я, ставший уже аспирантом,
был огорчен, когда А. Ф. удалили с факультета в 1944 г. на кафедру
классической филологии Пединститута им. Ленина. В дальнейшем,
не встречаясь с Лосевым, я узнал о некоторых фактах его жизни
и значительных его трудах. Через год после возвращения из КНДР
я с радостью прочитал в «Литературной газете» рецензию
украинского академика А. И. Белецкого на работу А. Ф. по древнегреческой
мифологии, опубликованной в трудах Душанбинского педагогического
института. Теперь (он умер в 1988 г.) уже много лет его имя и
множество опусов широко известны в России и за границей, и я коснусь их
содержания лишь в контексте моих воспоминаний.
Меня ввел к нему М. Ф. Овсянников, достаточно близко
сошедшийся с ним в 1943-1944 гг. еще на факультете. Потом я, проживая
в Загорянке, посетил их в 1956 г. в соседней Валентиновке, где он
вместе с супругой Азой Алибековной Тахо-Годи снимал дачу.
Состоялось довольно тесное знакомство, когда я рассказал, что собой
представляет теперь факультет, с которого его когда-то удалили.
В частности и о Павле Сергеевиче Попове. Они в 1915 г. окончили
историко-филологический факультет Московского университета по
отделению философии и классической филологии. Говоря о
Попове, я убедился, как не жалует и даже ненавидит А. Ф. своего бывшего
сокурсника. Он и сам мне рассказал о своем отношении к П. С. Как
ученый и автор, опубликовавший многие солидные труды, он видел
во главе будущей кафедры именно себя. Между тем его удалили с
факультета, а Попов (тоже подвергавшийся аресту по политическим
мотивам, как и Лосев) сумел сжиться с Белецким и получить кафедру
логики, когда она образовалась. Как он представлял логику, пойдет
речь в дальнейшем.
В 1958 г. я опубликовал в «Вопросах философии» рецензию на
большую монографию Лосева «Античная мифология в ее
историческом развитии». Это была вторая после А. И. Белецкого рецензия
64
fi. В. Соколов
на его труд после освобождения из лагеря ОГПУ и снятия судимости
в 1932-1933 г. Теперь ему открывались всё большие возможности
не только писать, но и публиковаться. Мы с М. Ф. Овсянниковым
стали его ежегодно посещать на даче А. Г. Спиркина, где они
проживали летом почти до самой его смерти. Я не раз наведывался и в их
квартиру на Арбате. Для нас он был весьма интересен не только как
мировой специалист по античной культуре и философии, но и как
свидетель философской и филологической жизни с
дореволюционных времен и многих лет советской власти, жизни, которую мы
представляли только ретроспективно. Не чурались мы и политической
современности. Так, при разговоре о политико-экономических
благоглупостях Хрущева, А. Ф. заметил: «Ну что ж, мировой Дух знает,
каким дураком ударить по истории!» В своих посещениях мы с
удивлением лично наблюдали, как А. Ф., который тогда уже более чем
семидесятилетний автор, писал (диктовал), демонстрируя
сверхчеловеческую работоспособность. В данном случае я имею в виду его
«Историю античной эстетики», шесть томов которой мы получили
(начиная с 1964 г.) с авторскими надписями. По сути этот труд,
каждый том которого составляет несколько сот страниц, представляет
всю многовековую древнегреческую и древнеримскую философию
на фоне античной культуры. Эта серия насчитывает десять огромных
опусов (с посмертными их изданиями).
Для перехода к краткой характеристике философской менталь-
ности Алексея Федоровича приведу один личный эпизод. Я тоже
осмелился подарить ему в 1984 г. свою книгу о западноевропейской
философской классике эпохи Возрождения и XVII в. К тому времени
я полностью убедился, что невозможно излагать эти сюжеты, не
анализируя в антропологических, гносеологических, моральных и
социальных аспектах проблему Бога в ее возникновении и развитии
до монотеистической и вероисповедальной стадии. А.Ф. похвалил
меня, но многозначительно добавил: «Вот ты, Вася, можешь теперь
рассуждать и даже анализировать проблему Бога, а вот я, коснись
в 20-е годы публично этой проблемы, как меня одернут: "А зачем ты
нас в церковь-то зовешь?"».
За таким воспоминанием скрывалась его жизнь в 1920-
1930-е гг. Он, тогда уже с ослабленным зрением, опубликовал
восемь основательных книг, наиболее значительными из
которых, по моему мнению, были «Философия имени» и «Диалектика
мифа». Важнейшей философской платформой этих, как, в сущнос-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 65
ти, и всех книг данного (и не только) периода, были платонизм
и неоплатонизм, которые автор знал досконально. Однако по его
собственному признанию, эйдетические формулы платонизма он
стремился сочетать с гегелевской панлогической диалектикой и
феноменологией Гуссерля. Все эти труднейшие доктрины автор
сочетал также с религиозно-теологическим направлением имя-
славия (Бог есть имя, слово; учителем Лосева здесь был о. Павел
Флоренский). Это направление, враждебное официальной русской
православной церкви (патриархи Тихон и Сергий) за ее
примиренчество с советской властью.
Алексей Федорович вместе с супругой Валентиной Михайловной
тайно приняли монашеский постриг. Историософская парадигма
Лосева в те годы была религиозно-примитивной: история человечества
представляет собой постоянную борьбу божественного и
сатанинского начала. Последнее и воплощено в марксистско-советских
начальниках и подчиняющемся им простом народе, а первое
олицетворено в правильной церкви как непосредственном установлении Бога
и в высокоморальных и просвещенных монахах, его верных
послушниках. Эти мысли А. Ф. вписал в свою «Диалектику мифа» без ведома
цензуры. ОГПУ, тогда главный карательный орган большевистской
партии и государства, сфабриковало дело имяславского движения
как антисоветского и контрреволюционного. Лосев был арестован
как его идейный вдохновитель. На XVI съезде ВКП(б) летом 1930 г.
его «разоблачал» и поносил Л. Каганович, секретарь ЦК ВКП(б).
По «суду» он был приговорен к десяти годам лагерей и отправлен
на Беломорканал.
В декабре 1930 г. с резкими статьями «О борьбе с природой»
А. М. Горький выступил против «реакционера» в «Правде» и
«Известиях». А. Ф. был, видно, очень обижен на Горького и говорил мне
с обидой: «А что сам-то Горький писал в 1918 г.?», — имея в виду
его тогда резкую, разоблачительную критику Ленина и большевиков.
По-видимому, именно из этих статей Горького о деле А. Ф. узнала
юридическая жена писателя Екатерина Павловна Пешкова,
которую муж уже давно покинул. Она занимала тогда влиятельный пост
председателя Российского Красного Креста. Ей удалось в те еще
«либеральные» (по сравнению с 1937 г.) годы добиться освобождения
А. Ф. как «ударника социалистического труда» и его реабилитации.
Философская концептуальность работы Лосева над «восьми-
книжием» в 1920-е гг. определялась гегелевской диалектическо-
66
В. В. Соколов
метафизической доктриной. Она, правда, была помножена на
платоновско-неоплатоновскую терминологию — «эйдетический
логос», «ноэтическая логика» и др. Не менее важный момент этого
терминологического синтеза — имяславская метафизика, согласно
которой даже вселенная есть «имя и слово», читаем мы в «Философии
имени». Другой важнейший фактор составляет мифология,
объявляемая наукой о бытии, а сам миф - личность. Как и Гегель, Лосев
растворял законы формальной логики в категориях диалектики. Вместе
с тем «диалектика — универсальный метод... ему подчинена не только
логика, не только экономика и не только история и культура, но и
самая дикая магия, ибо она тоже есть момент и логики, и
экономики, и истории, и культуры», — приводит эту сверхтотальную
формулу диалектики вдова А. Ф. А. Тахо-Годи в его биографии «Лосев».
Однако перейдя на позиции марксизма (см. далее), А. Ф. стремился
осмысливать диалектику в его духе, о чем свидетельствует сборник
статей «Страсть к диалектике».
***
Когда мы с М. Овсянниковым достаточно близко сблизились с
Алексеем Федоровичем, он уже не раз объявлял о своем переходе на
позиции марксизма и демонстрировал теперь эту позицию в своих книгах.
Такова его весьма содержательная книга «Гомер». Не перечисляю
здесь других, в сущности, вся десятитомная «История античной
эстетики» в общем написана с тех же позиций. По-прежнему мы
удивлялись сверхработоспособности А. Ф. Она не очень понятна даже
в 1920-е гг., когда он писал с явно ослабленным зрением (толстенные
очки на студенческой фотографии). В лагере его зрение стало
близко к полной слепоте, поэтому теперь тексты нужных материалов он
слушал от секретарей, аспирантов, продумывал их и диктовал
стенографисткам.
Немаловажным признаком марксистского духа А. Ф. стала и его
энергичная критика буржуазной философии. Таково, например, его
послесловие к книге Хюбшера «Великие философы». Вскоре после
ее выхода мы сидели рядом с Валентином Фердинандовичем на
Ученом совете факультета. Листая это послесловие, В. Ф. сказал мне:
«Ну и откалывает на старости лет. Прямо громилой стал. Бешеный
темперамент. Но он нас всех переживет». (А. Ф., будучи старше В. Ф.
на год, пережил его на 23 года.)
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 67
«История античной эстетики» при всех замечаниях, которые
можно сделать к любой книге, в целом представляет собой
выдающийся труд по античной философии и культуре. Не менее, если
не более важным и нужным предприятием стало издание всех
диалогов и писем Платона. Такие попытки предпринимались и в
дореволюционной России. В конце 1920-х гг. издание платоновских
произведений начали Жебелев, Карсавин и Радлов. Они смогли
опубликовать пять выпусков, но власти закрыли возможность их
продолжения. Марксистско-ленинское руководство
книгоизданий настороженно относилось к публикациям основоположника
«поповщины». Начавшаяся перестройка помогла не без труда
добиться издания Платона только в трех томах. Я уже несколько лет
работал по совместительству в Институте философии, и мне было
поручено в многотомной и авторитетной библиотеке
«Философское наследие» курировать и издавать некоторые из ее томов
(поочередно с А. В. Гулыгой). Редакции удалось обойти предписание
министерства, разбив второй том на два полутома, чтобы таким
образом поместить все диалоги Платона и пять его писем вместе
с подложками.
Руководить изданием поручили А. Ф. Лосеву, к редактированию
«Государства» был привлечен и В. Ф. Асмус. Отношение к вполне
реабилитированному и уже много публикующемуся Лосеву у некоторых
начальников всё же оставалось настороженным. Директор института
Б. С. Украинцев сказал мне, что особо внимательно надо прочитать
вступительную статью ко всему изданию (это был 1967 г.). Мы с
тогдашним заведующим редакцией истории философии издательства
«Мысль» В. С. Костюченко внимательно ее прочитали и собрали
редакционное заседание. Митин, формально председатель
редколлегии библиотеки «Философское наследие», как всегда, отсутствовал.
Был только В. Ф. Асмус, который, прочитав статью, пожал
плечами. Но нам с Костюченко необходимо было делать замечания.
Так, чуть ли не в самом начале автор заявил: «Читать Платона по-
русски все равно, что Бетховена исполнять на балалайке!» Следует
ли тогда издавать его для широкого круга читателей? (Соколов,
Костюченко и весьма квалифицированный редактор и переводчик
С. Шейнман-Топштейн.) Явно «подстраиваясь» под марксизм,
автор выдал словосочетание «материалистический идеализм
Платона». Я сказал: «Алексей Федорович! Ведь получается "деревянное
железо", и к нам сразу прицепятся всякие догматики от марксизма.
68
В. В. Соколов
Не лучше ли сказать "космологический идеализм Платона", по сути
та же мысль, но возражать против нее вряд ли кто сможет».
Среди других несуразностей было выражение «эйдос
рваного пиджака Ленина». Статью отложили, я ушел, но мне позвонил
В. С. Костюченко: «В. В., пришел Гулыга (опоздавший член
редколлегии) и стал кричать, что статья А. Ф. очень хороша и надо ее
одобрить». Я ему позвонил: «Зачем ты приперся, совсем не интересуясь
Платоном?» Арсений Владимирович отвечает мне, что отвергать
статью — значит ставить под угрозу всё издание и расстраивать Лосева,
который может заболеть. Я его заверил в противоположном (он тогда
впервые увидел Лосева). Через день-другой мне с обидой позвонила
Аза Алибековна, как бы повторив Гулыгу. Мы условились о встрече у
них в квартире, и через два-три дня она там произошла. Мы с
Костюченко повторили свои принципиальные замечания, а Аза
Алибековна и Сесиль Шейнман-Топштейн работали над текстом. Продолжали
такую работу два вечера. А. Ф. сидел здесь же, ухмылялся,
приговаривая: «Поучите, поучите старика, как писать». Полученный
результат читают теперь многие. Но вступительная статья —
второстепенный, если не третьестепенный элемент этого великолепного издания.
Главное - отработанные тексты великого мыслителя. (С. Шейнман-
Топштейн: «Алексей Федорович, русский язык позволяет передать
оригинал не хуже, чем он звучит по-гречески!»)
Но вклад самого Лосева во все платоновские диалоги
заслуживает всяческой похвалы. Ведь совсем не просто понимать скрытую
и извилистую суть диалогов Платона. Вступительные очерки А. Ф.
к каждому диалогу вдвойне и втройне помогают читателю
вникнуть в него.
Вместе с его литературной активностью и обсуждением его
трудов философской и околофилософской братией, среди которой
появилось немало восторженных почитателей, росли известность
и авторитет Лосева как последнего философа Серебряного века
русской культуры, к тому же пострадавшего от карательных органов
и марксистско-ленинских догматиков. Благодаря энергии Азы Али-
бековны, заведовавшей кафедрой классической филологии МГУ,
и нашим общим усилиям в 1985 г. Лосеву была присуждена
Государственная премия. Дом на Арбате, где находилась его квартира,
был трансформирован в «Дом Лосева» (за ним, во дворе, возведен
его бюст) с библиотекой и небольшим залом, в котором происходят
различные философские действа.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 69
* * *
Калейдоскоп деканов философского факультета в предвоенные,
военные и послевоенные годы завершился в 1952 г., когда деканом стал
Василий Сергеевич Молодцов, возглавлявший факультет и кафедру
диалектического материализма до 1968 г. Имея пестрое партийное
образование и популярные работы по марксистско-ленинской
тематике, В. С. отличался устойчивым характером, доброжелательностью
и дипломатической жилкой, позволявшей ему гасить в зародыше те
или иные противостояния между кафедрами или преподавателями.
На факультете воцарился «застой», однако не все кафедры одинаково
его демонстрировали.
Кафедру истории русской философии, возникшую в значительной
мере как результат дискуссий вокруг III тома «Истории философии»,
возглавлял сначала М. Т. Иовчук, а после его отправки в Минск -
профессор Иван Яковлевич Щипанов. Он, как и другие преподаватели
кафедры, окончил философский факультет еще в МИФЛИ. Со
временем здесь появились и выпускники философского факультета МГУ.
Ущербность теоретического содержания лекций и семинаров этой
кафедры заключалась в том, что оно почти исключительно
черпалось в произведениях русских революционных демократов (Герцен,
Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, к которым
добавлялись Ломоносов, Радищев). Их проработка в отрыве от
западноевропейской философии, идеи которой они во многом (а некоторые
и исключительно) развивали, обедняли курсы и семинары, что
приводило к значительному падению авторитета кафедры. Студенты
выразили его в иронической строфе:
Абсолютная идея завершила полный круг,
Вместо Гегеля — Белецкий,
Вместо Шеллинга - Васецкий,
Вместо Канта - Иовчук!
Внутри кафедры возникли тяжелые конфликты между
молодыми преподавателями (особенно Е. Г. Плимаком и М. Ф. Каряки-
ным) и Щипановым и Иовчуком, которых резко критиковали за
догматический примитивизм преподавания, полное игнорирование
теоретически богатого и неоднозначного русского идеализма
конца XIX-XX вв. (Соловьев, Бердяев и др.). Эти острые и неприятные
70
В. В. Соколов
конфликты выносились на общие партийные собрания факультета.
Руководству кафедры удалось изгнать из ее состава нескольких
молодых «бунтарей», заменив их старшими и давно знакомыми им
преподавателями (Ш. Мамедов, М. Шестаков). Радикальные изменения
в деятельности кафедры, ориентирующейся на все направления
русской философской мысли, произошли лишь к началу 1980-х гг., когда
умер И. Я. Щипанов и отошел от преподавания М. Т. Иовчук. Теперь
ее деятельность стала осуществляться новым поколением
преподавателей, ориентировавших преподавательскую и научную работу на
произведения весьма компетентных русских дореволюционных
идеалистов (Соловьев, Бердяев, Лосский, Ильин, Вышеславцев, Карсавин
и других), большинство которых оказались в эмиграции и вели там
активную литературную деятельность. Изучение революционных
материалистов-демократов отошло на второй и третий план.
Длительное время, как отмечено выше, учение Маркса и
Энгельса преподавалось на кафедре истории зарубежной философии, а
произведения Ленина и Сталина — на кафедре русской философии.
После разоблачения культа личности в 1956 г. была оформлена кафедра
истории марксистско-ленинской философии, которой пять лет
руководил М. Т. Иовчук, на этот раз прибывший из Свердловского
университета. Его сменил профессор Григорий Степанович Васецкий,
окончивший в молодости Херсонский педагогический институт и
переехавший в Москву. Он работал в аппарате ЦК партии, был одним из
друзей Г. Ф. Александрова, который выдвинул его на пост директора
Института философии (1946) после ухода с него В.И. Светлова, но
проработал в этом качестве лишь до философской дискуссии 1947 г.,
когда на тот же пост вернулся его друг. Кафедрой истории
марксистской философии он заведовал восемь лет, но был снят с этого поста
решением парткома МГУ. В его деятельности на посту директора
института знаменателен один факт, весьма характерный для
морального облика руководящих эпигонов. Как рассказывал мне весьма
осведомленный Павел Тихонович Белов (подтверждения я
слышал и в самом Институте философии), Григория Степановича как
директора «главного учреждения философии» на совете выдвинул
в члены-корреспонденты АН СССР М. Б. Митин, давший ему
высокую характеристику ученого и администратора. Все присутствующие
с этой характеристикой согласились и дружно проголосовали. Когда
же открыли секретный ящик, обнаружилось, что все шары, включая
и митинский, оказались черными. Об этом скандале доложили секре-
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 71
тарю ЦК партии Г. М. Маленкову, который в адрес Митина сказал
лишь одно: «Вот сволочь!»
Здесь нелишним будет сказать и о печальной участи самого
Г. Ф. Александрова. Председатель Совета министров (после смерти
Сталина) Маленков выдвинул его в 1954 г. на пост министра
культуры. Многие говорили, что некто Кривошеий, служивший в Малом
театре, на своей даче в Валентиновке устраивал веселые вечера, на
которых вокруг министра и его приближенных кружились артистки
и артисты. Среди них обычно говорили о красавице Алле
Ларионовой (сыгравшей тогда заглавную роль в кинокартине «Анна на шее»),
с которой у министра был чуть ли не интим. Хрущеву доложили об
этих сборищах на частной даче как чуть ли не о притоне с участием
министра культуры. Хрущев в то время копал под Маленкова,
чтобы снять его с поста председателя Совета министров, и, поскольку
Александров был его выдвиженцем, глава партии раздул дело
«притона», устроил ему партпроработку и снял с поста министра.
(Ирония «доброжелателей»: «За Анну — по шее».) Бывший министр
культуры вынужден был уехать в Минск, где заведовал сектором
диамата-истмата в Белорусской АН. Время от времени он
наведывался в Москву. Бывший ученый секретарь ИФ АН Георгий Васильевич
Платонов, не потерявший хороших отношений со своим бывшим
начальником, посетил его на даче. Позже он говорил мне, что академик
заболел «русской болезнью». Александров умер от цирроза печени
на 54-м году жизни в июне 1961 г. Я присутствовал на его панихиде
в Институте философии. С большой прощальной речью выступил
посланец белорусской Академии наук, тогда как тогдашний директор
Института философии, когда-то выдвиженец покойного П. Н.
Федосеев молча стоял у гроба, поручив произнести прощальную речь от
института своему заместителю А. Ф. Окулову.
Дело о «притоне» на даче Кривошеина после смерти Хрущева
было дезавуировано, дачу вернули его владельцу, но Александров,
увы, не дожил до этого события.
* * *
Одним из последствий разоблачения культа личности Сталина стало
некоторое оживление философской жизни на факультете и, пожалуй,
в еще большей мере - в Институте философии. И там, и на факультете
72
В. В. Соколов
усилились контакты с философами стран социалистического лагеря.
Наиболее интересными и плодотворными, по моему убеждению, они
оказались с поляками. Дисциплинированные марксисты ГДР в общем
твердо держались за догмы «основоположников», не уступая, если не
превосходя здесь советских коллег. Значительно отличались от них
польские философы. У них не высылали немарксистских, серьезно
образованных интеллектуалов старшего поколения, как это было
у нас со злополучным кораблем (да и не только с ним), и молодые
философы обладали значительно большими возможностями
контактов с умудренными стариками. К тому же они довольно интенсивно
общались и с европейскими интеллектуалами от философии и не без
основания считали себя посредниками между европейской и
советской философией, прозябавшей в догмах марксизма, умноженного на
ленинизм.
В 1959 г. наш факультет посетила порядочная делегация
философского факультета Варшавского университета. Ее возглавляла
декан того факультета Янина Котарбиньска. Родившаяся в русской
Польше, она великолепно владела русским языком, весьма выделяясь
на фоне речи нашего Василия Сергеевича. К тому же Котарбиньска
была значительным логиком и много общалась с Софьей
Александровной Яновской (о ней вспомню в дальнейшем). В Польше
существовала Львовско-Варшавская школа логики, далеко продвинувшая
ее математическо-логическое содержание, в то время как на нашем
факультете она делала только первые шаги.
В следующем 1960 г. небольшая группа с нашего факультета
прибыла на философский факультет Варшавского университета. Я тоже
был в ее составе. Меня, как и Богомолова, прибывшего сюда, более
всего интересовали контакты с историками философии. Были
встречи и коллоквиумы. Я встречался с Брониславом Бачко, специалистом
по французскому Просвещению, а с Лешеком Колаковским мы
провели довольно длительную беседу у него в квартире. Он тогда только
что опубликовал книгу «Личность и бесконечность. Свобода и
антиномии свободы в философии Спинозы». Мы говорили не только
о ней, но и о политическом попрании философии в СССР, во многом
и в Польше. Этого высокоталантливого человека, учившегося у нас
в ВПШ, поносил как злостного ревизиониста Нарский, Иовчук и
некоторые польские ортодоксы. Гомулка, генсек ЦК ПОРП, его терпел,
но Герек выдворил из Польши. Осевший в Оксфорде, Колаковский
в конце 1970-х гг. опубликовал огромное, в трех томах, исследование
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 73
«Основные направления в марксизме», которое многие зарубежные
марксологи трактовали как лучшее философское исследование этой
идеологии за всю ее историю. У нас оно так и не переведено.
* * *
Страдания философии в СССР определялись жестоким догматизмом,
в принципе полностью противопоставлявшим ее всем тогдашним
философским учениям, трактуемым как «буржуазные». «Пролетарская»
философия в России объявлялась ее «ленинским этапом».
Правильнее было бы называть ленинизм новым «идеологическим этапом».
Сам Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» иногда
говорит о марксизме как о «научной идеологии», и множество советских
философов повторяли это словосочетание. Но всё же содержание
философии, ее «природу», ориентированную на огромное множество
явлений и фактов духовной и телесной жизни человечества,
невозможно отождествить с идеологией, содержание которой
определяется главным образом, если не исключительно, социальным
аспектом. Хотя в первые годы советского времени находились отдельные
«смельчаки», предлагавшие выбросить философию за борт, но такие
заскоки свидетельствовали лишь об их философской неграмотности.
Поскольку же и учебная, и тем более литературная жизнь
российско-советской философии была пронизана ленинизмом,
необходимо вспомнить некоторые идеи «вождя мирового пролетариата».
Совершенно обязательным и для учащихся, и для авторов был
его «Материализм и эмпириокритицизм», опубликованный еще
в 1909 г. Как известно, он был написан автором из сугубо
партийных намерений и заострен против тех меньшевиков и большевиков,
которые увлеклись махизмом, противопоставляя его
«субъективный идеализм» диалектическому материализму Маркса и Энгельса
(в принципе и Плеханова, одного из основных философских учителей
Ленина), а главное — против их социально-философской доктрины.
Предельно расширяя идею партийности, Ленин объявил ее стержнем
всей истории философии, инициированной в античности
Демокритом и Платоном. С тех пор материализм и идеализм развиваются, по
Ленину, как взаимоисключающие учения. Притом первое
абсолютно истинно, а второе совершенно ложно, и всякая «третья линия»
между ними, каковых было множество в «буржуазной философии»,
74
В. В. Соколов
по Ленину, совершенно абсурдна. Идеализм систематически
объявляется «поповщиной».
Гносеологическая трактовка материализма Лениным достаточно
упрощенна и даже примитивна. Она грубо сенсуалистична. Объявляя
материю объективной реальностью, данной нам в ощущениях, она
фактически повторяла формулу Гольбаха, одного из самых
последовательных французских материалистов XVIII в., которых Ленин
высоко ценил как яростных отвергателей религии. Советские философы
объявляли эти мысли Ленина «теорией отражения», на предмет
которой писали популярные статьи и даже книги (одним из первых
написал такую Т. Павлов-Досев, первый декан философского факультета
МИФ Л И). Однако сам Ильин (псевдоним Ленина), считая ощущения
адекватными образами внешних вещей, по сути, повторял так
называемую теорию наивного реализма и с этих позиций подверг
критике, как идеалистическую, «теорию иероглифов» Плеханова, которая
подчеркивала сложность чувственного восприятия вещей человеком.
Ученица Плеханова Аксельрод-Ортодокс в своей рецензии на опус
Ленина раскрыла его полную философскую некомпетентность. Всего
рецензий на компилятивное, философски примитивное и
стилистически грубое до неприличия творение большевика из дворян было
шесть, самую основательную, ироничную, как и другие рецензии, под
заголовком «Наука и религия» опубликовал А. Богданов.
Фактически незамеченный философской общественностью и забытый опус
был переиздан только в 1920 г., когда Ленина провозгласили вождем
мирового пролетариата. Послесловие к нему по заданию автора
написал один из его верных сподвижников В. И. Невский, назвавший
свою статью «Диалектический материализм и философия мертвой
реакции». Одобрение этой статьи Лениным не спасло автора от
расстрела в 1937 г., как антисоветчика и контрреволюционера. Для нас
же это эклектическое и достаточно запутанное произведение долго
оставалось обязательной идейной пищей, не глотая которой, было
сложно и даже невозможно сдавать экзамены по философии.
По-видимому, Ленин и сам осознал поверхностность своего
творения. В 1914-1915 гг. в условиях мировой войны и фактической
освобожденности от партийной борьбы, он, проживая в Берне и в
Цюрихе и приобретя значительный досуг, решил расширить и углубить
свое философское образование, читая, конспектируя и делая
выписки из различных философских произведений. Немного заглянул
даже в «Метафизику» Аристотеля. Наибольшее же внимание Ленин
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 75
уделил «Науке логики» и «Лекциям по истории философии»
Гегеля. Весь этот корпус записок, полностью опубликованный в 1933-
1936 гг. и повторенный в 1947 г. огромным тиражом в 100 тыс. экз.,
обычно называется «Философские тетради».
Хотя они часто трактовались советскими философами как
подготовительные материалы для более целостного труда, всё же они
достаточно определенно выражают суть философской ментальности
Ленина. Так, поражает своей сумбурностью и противоречивостью
ленинский конспект «Науки логики» Гегеля. Между тем автор уверяет,
что «Капитал» Маркса «нельзя вполне понять... не проштудировав
"Логики" Гегеля» (см. «Философские тетради». Мм 1969).
Действительно, Маркс однажды признался, что в главе о стоимости своего
главного произведения он иногда «кокетничал» гегелевской
манерой изложения, но объявить гегелевскую «логику» ключом к смыслу
всего «Капитала» — значит очень плохо понимать этот смысл. Как
известно, Энгельс и Маркс пытались «перевернуть» систему Гегеля
«с головы на ноги», опираясь на его же умозрительный,
«диалектический метод», что принципиально невозможно, ибо эта система
может стоять только «на голове». Энгельс много трудился над этой
операцией, но в сущности завершил ее тем, что объявил
диалектику Гегеля тотальной теорией развития, что в советской философии
породило множество недоразумений и споров. Ленин тоже
пытался поставить эту систему «на ноги», выкидывая при чтении
«Науки логики» «боженьку», «абсолют», «чистую идею», что по сути
приводит к кастрированию этой системы. Если теория отражения
в «Материализме и эмпириокритицизме», разоблачая
«субъективный идеализм» махистов, подчеркивает определяющую роль
внешней реальности, воспроизводимой образами чувств, то теперь автор
заявляет, что «сознание человека не только отражает объективный
мир, но и творит его».
Множество замечаний Ленина по тексту «Науки логики»
свидетельствуют, что она никак не может служить ключом к «Капиталу».
Тут и «пустота», и «длиннота», и «неясность», и «темнота» и
просто «мистика». Правда, когда Ильич что-то уясняет, появляются
восторженные похвалы, вроде «верно и глубоко», «очень умно» и т. п.
Возможно, в этой связи Ленин считал себя знатоком диалектики.
Давая характеристики наиболее способным членам ЦК РКП (б)
в своем известном «Завещании», Ленин назвал Н. И. Бухарина
«любимцем партии», но вместе с тем указал на его слабость в диалектике
76
В. В. Соколов
и даже склонность к схоластике. Сам же критик Бухарина (который
в те годы сближался с Богдановым) в небольшом фрагменте «К
вопросу о диалектике» в тех же «Тетрадях» вполне догматически, как
начинающий студент, приводит примеры «тождества
взаимоисключающих противоположностей», почерпнутых в элементарных науках,
иллюстрирующих «диалектичность» знания (+ и -, дифференциал
и интеграл в математике, действие и противодействие в механике
и т. п.), притом противоположности отождествляются с
противоречиями и т. п.
Автор этих очерков не ставит перед собой задачи подробно
рассматривать «Философские тетради» Ленина, которые всё же были
конспективны и не доведены до публикации. Необходимо, однако,
обратить внимание на те формулировки автора, которые одних
советских философов ставили в тупик, а другие пытались их по-своему
развивать не в лучшую сторону, не понимая, в чем же их подлинная
суть. В первом случае Ленин утверждает, будто в «Капитале»
«применена к одной и той же науке логика, диалектика и теория познания
материализма (не надо трех слов, это одно и то же)». Автор
«Тетрадей» запомнил сверхважные философские понятия, в сущности даже
только термины, но их отождествление свидетельствует о
непонимании их действительного содержания в (истории) философии. Гегель,
систематизировавший категории диалектики как достоинство
высшего, теоретического мышления и противопоставивший их
обычной, формальной логике как низменному повседневному мышлению
(усилено Энгельсом), воспринят и в «Философских тетрадях», хотя
выражено это здесь достаточно смутно.
История философии свидетельствует, что дорога к
точности научно-философского мышления проходила от платоновско-
схоластической «диалектики» к формальной логике. Между тем
споры о соотношении логики формальной и так называемой логики
диалектической составили одну из определяющих проблем
советской философии. «Виноват» здесь был Гегель, более чем
некорректно употребивший термин «логика» в названии своего главного
произведения и в раскрытии содержания этого опуса. Более адекватным
у самого Гегеля, который в противовес иррационализму романтиков
и Шеллинга максимально расширил содержание понятия «логика»,
был бы родственный ему термин «методология». Энгельс закрепил
эту некорректность. Ленин его «поддержал» не только в
«Философских тетрадях», но и в большой программной статье «О значении
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 77
воинствующего материализма» (1922, в теоретическом журнале
партии «Под знаменем марксизма»), в которой, восхваляя французский
материализм XVIII в. за его воинственную критику «поповщины»,
вместе с тем категорически рекомендовал не только систематически
изучать «диалектику Гегеля», но и организовать общество ее
«материалистических друзей». В этом контексте советские философы
обычно призывали различать «материалистическую диалектику»
и «идеалистическую диалектику», игнорируя, что она в качестве
метода мышления не должна быть ни материалистической, ни
идеалистической. Другое дело те результаты, к которым мог приводить этот
метод, ибо онтологический статус реальности определяется не
только им. К тому же Энгельс объявил диалектику универсальной
парадигмой движения и развития всего сущего.
Все названные моменты подвигнули многих советских
философов к попыткам доказать превосходство «диалектической логики»
над логикой формальной. На философском факультете МГУ
докторские диссертации на эту тему защищали В. И. Мальцев, В. И.
Черкесов, сменивший П. С. Попова в заведовании кафедрой логики
в 1947 г., M. Н. Алексеев, тоже заведовавший этой кафедрой после
предыдущего. Однако крупнейшие специалисты кафедры В. Ф. Асмус
и П. С. Попов были специалистами по традиционной, формальной
логике. Они понимали, что в западноевропейской философии уже
давно к тому времени была разработана точная методика,
трансформировавшая формальную логику в логику математическую,
приобретавшую и техническое назначение. Но в СССР она делала только
первые шаги на механико-математическом факультете.
Валентин Фердинандович сокрушался, что он уже стар, чтобы
достойно овладеть этой формой логического, символического
мышления, и перешел на нашу кафедру, поскольку история философии
представляла основной его интерес. Вместе с тем он говорил нам,
что традиционная формальная логика пронизывает историю
философии и совершенно необходима тем, кто по ней специализируется.
Александр Сергеевич Ахманов, ученик дореволюционного
высокообразованного философа Б. П. Вышеславцева, высланного из
России на пресловутом корабле в 1922 г., очень ценимый В. Ф. Асмусом
(«Александр Сергеевич — не ум, а граненый хрусталь»), по адресу
почитателей «диалектической логики» говорил: «Гоняют категории
диалектики, не зная логики элементарной. Между тем формальная
логика — это логика честного человека». Но адепты «диалектической
78
В. В. Соколов
логики», неспособные к овладению логикой математической,
символической, настойчиво уверяли, что она вовсе не философская, а по
сути позитивистская и т. п. Но они были не в силах предотвратить
ее преподавание на философском факультете. Даже когда уже после
увольнения M. Н. Алексеева с места заведующего кафедрой логики
была всё же образована кафедра диалектической логики во главе
с академиком М. Б. Митиным, она так и не смогла начать реальную
работу и самоликвидировалась.
В советских философских рассуждениях закрепилась главным
образом Энгельсова трактовка диалектики как универсальной
теории развития, каковой она не могла быть в противоположность тому,
что обнимается термином «эволюция». Ленин, однако, осуждая этот
термин в «Философских тетрадях» как недостаточный и даже
ложный, закрепил трактовку диалектики Энгельсом. И она «заразила»
не только руководящих эпигонов-академиков, но и стала
универсальной парадигмой у множества субъективно честных
профессиональных философов, толкая их на путь неопределенности ее смысла
и даже ассоцианизма терминов. В 1970-1980-х гг. Институт
философии, задействовав множество авторов, опубликовал восьмитомник
по диалектике именно в этом смысле.
Против такого сугубо онтологического понимания
«материалистической диалектики» выступили философы молодого поколения,
которые толковали ее главным образом, если не исключительно,
универсальным методом осмысления всех феноменов ментальности.
Так, по сути, трактовал ее и А. Ф. Лосев. На философском
факультете инициатором аналогичного осмысления (совершенно независимо
от лосевского) выступил молодой преподаватель Эвальд Васильевич
Ильенков. В1956 г. он выступил с докладом на эту тему на ученом
совете факультета. Хотя фактически в его докладе содержалась критика
господствующего догматизма, но она была выполнена достаточно
туманно и весьма слабо в речевом аспекте. Члены совета, в
большинстве своем устойчивые догматики, и даже более молодые
преподаватели не восприняли его всерьез. Тем не менее среди последних возник
интерес к вопросам гносеологии. К идеям Ильенкова примкнул
преподаватель нашей кафедры В. Коровиков, появились и другие
любители. В бдительном парткоме МГУ забеспокоились: нет ли крамолы,
олицетворяемой «гносеологами»? В парткоме философского
факультета было рассмотрено «дело» Коровикова, который, получив
«строгача», покинул факультет.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 79
Ильенкову тоже пришлось перейти в Институт философии, в
котором после XX съезда КПСС стала всё более оживать духовная и
идейная жизнь. Сталин, не жаловавший умозрительной гегельянщины и
пригасивший к ней интерес своим «меньшевиствующим идеализмом»
и совершенно ложной трактовкой ее социального содержания, в этих
условиях стал подвергаться разрушающей критике и как философ (кем
он, по сути, и не был), в частности и за его антигегельянство.
Произведения Гегеля стали снова издаваться, теперь в библиотеке
«Философское наследие». Эвальд стал одним из активных сторонников
и литературных пропагандистов этой философии («Гегельенков»).
Он переключился и на защиту «диалектической логики» и получил
многих сторонников не только в Москве («школа Ильенкова»).
Но названная «логика» получила и другой гносеологический
аспект при переключении ее трактовки с произведений Энгельса на
«Капитал» Маркса. Здесь Александр Александрович Зиновьев один
из первых защитил диссертацию, трактуя в принципе исконную
гносеологическую проблему «От абстрактного к конкретному». В
дальнейшем, перейдя в Институт философии, он стремился освоить
и математическую логику, два года заведовал кафедрой логики на
философском факультете по совместительству.
Огромная роль в становлении преподавания, а затем и
исследований в области символической логики принадлежит Софье
Александровне Яновской. Она была того же поколения, что и П. С. Попов
и В. Ф. Асмус, но, в отличие от них, имела математическое
образование. Работая в МГУ с 1925 г., она уже в 1936 г. читала здесь курс
математической логики. Добрейшая женщина, она обладала большим
мастерством лектора и высоким педагогическим талантом, всегда
учитывавшим запросы и способности своих слушателей. Свой курс
на философском факультете она начала читать с 1955/1956 учебного
года. Ее слушателями были не только те, кто уже окончил
факультет, но и некоторые его преподаватели (П. С. Попов, В. И. Черкесов,
Е. К. Войшвилло и др.). Из ее школы вышли серьезные и увлеченные
специалисты по математической логике, преподававшие на
философском факультете, работавшие в Институте философии и в некоторых
других местах. Назову здесь тех, кто внес наибольший вклад в
деятельность факультетской кафедры логики.
Весьма продуктивную роль сыграл на этой кафедре Евгений Кази-
мирович Войшвилло. Математик по образованию, окончивший
Казанский университет еще до войны, после нее он учился в аспирантуре
80
В. В. Соколов
кафедры логики и психологии Академии общественных наук, где
и защитил кандидатскую диссертацию. В 1949 г. он стал одним из
ведущих преподавателей, а затем и профессором кафедры логики.
Его докторская диссертация «Понятие как форма мышления»,
увенчанная премией им. М. В. Ломоносова, раскрывала философское
содержание математической логики. Евгений Казимирович отличался
предельной научной и человеческой честностью, в частности,
«разоблачая» на партийных собраниях любое начальство, если оно
недостойно вело себя как руководство.
Среди логиков, вышедших из школы С. А. Яновской, но
учившихся на философском факультете, выдающимся специалистом
в различных аспектах символической логики и эпистемологии был
Владимир Александрович Смирнов, один из тех специалистов,
которые подняли эту трудную область знания на международный
уровень. Николай Иванович Стяжкин, работавший на философском
факультете как совместитель, был весьма компетентным историком
общей и символической логики, в частности логики средневековых
западноевропейских схоластиков. Дмитрий Павлович Горский,
заведуя различными секторами в Институте философии более четверти
века, был профессором и кафедры логики. Среди многих работ Д. П.
(и не только по математической логике) особое место занимают два
учебника для средней школы, в которых впервые в отечественной
педагогике привлечены идеи и методы математической науки.
В 1968 г. состоялись перевыборы декана философского
факультета, на которых Василия Сергеевича Молодцова, проработавшего
в этой должности пятнадцать лет, заменил Михаил Федотович
Овсянников, который к тому времени уже несколько лет как организовал
кафедру эстетики и руководил ей. Ее появление стало весьма
положительным фактом духовной жизни факультета, усиливавшим его
связь с театральной и литературной жизнью, деятели которых сами
стремились к такому сотрудничеству. Правда, предмет преподавания
назывался «марксистско-ленинской эстетикой», предписывающей
ориентироваться и на «социалистический реализм», но умудренные
специалисты научились соблюдать форму, оставляя в тени
надуманное содержание.
Еще более трудным стало преподавание «марксистско-ленинской
этики», предмет которой с его категорическим утверждением
классовой природы этических категорий звучал как «деревянное железо».
Тем более что несколько лет этика обреталась на кафедре эстетики,
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 81
где по первому предмету не было сколько-нибудь
удовлетворительных специалистов. Ситуация радикально изменилась, когда
самостоятельную кафедру «марксистско-ленинской» этики возглавил
в 1980 г. профессор Сергей Федорович Анисимов, хорошо
образованный и вдумчивый ученый, участник Великой Отечественной
войны. Насыщая этот благородный предмет историко-философским
и жизненным содержанием, он поднял его на должный уровень
преподавания и осмысления, что значительно повысило его авторитет
среди студентов и аспирантов. Идейная насыщенность этого
предмета значительно снизилась с приходом в 1986 г. нового заведующего
Александра Ивановича Титаренко, который во многом растворял его
в марксистско-ленинских идеологизмах.
С конца 60-х и в последующие годы XX в. оживление
философской жизни на факультете во многом определялось появлением
новых кафедр в условиях нарастающей эрозии марксистско-ленинской
идеологии, но этот процесс достиг своего максимума лишь в 1990-е гг.
В частности, появилась самостоятельная кафедра исторического
материализма наряду с кафедрой диалектического материализма. Ее
заведующим стал упоминавшийся выше партийный и философский
политик Дмитрий Иванович Чесноков, перешедший на философский
факультет. Хороший лектор, человек открытый и симпатичный, он
был, можно сказать, противоположностью М. Т. Иовчуку.
Очень трудно и долго проходила в конце 1960-1970-х гг. борьба
факультета за открытие кафедры социологии. Министерство
высшего образования, и прежде всего заместитель министра Н. И. Мохов,
доказывали, что раз на факультете теперь имеется самостоятельная
кафедра исторического материализма, особая теоретическая
кафедра социологии излишня. Лишь когда эти споры были перенесены
на страницы печати (прежде всего в «Литературную газету»),
министерство дало добро на организацию кафедры методики конкретных
социальных исследований (1968). Так был сделан небольшой шаг
к будущему социологическому факультету.
Заведовать этой кафедрой стала компетентная и мудрая
Галина Михайловна Андреева. Она стремилась расширить деятельность
кафедры до общесоциологических масштабов, однако не нашла на
факультете должного понимания и поддержки. Но ее поддержали
ректор университета Иван Георгиевич Петровский и декан
факультета психологии Алексей Николаевич Леонтьев. Перейдя на этот
факультет, Галина Михайловна образовала здесь кафедру социальной
82
В. В. Соколов
психологии, которой руководила много лет. Она была и членом
Академии образования и скончалась в мае 2014 г.
Я проработал в Институте философии более двадцати лет.
Учредил здесь новое издание, назвав его «Памятники философской
мысли», как бы параллельное «Философскому наследию». Во главе
редколлегии был поставлен академик Бонифатий Михайлович Кедров,
ушедший с постов директора Института философии и Института
истории естествознания. Совершенно правильно понимая свою роль,
он позвонил в издательство «Наука», категорически заверив их, что
реальным руководителем издания являюсь я, предоставив мне как
бы карт-бланш. Я образовал небольшую дельную редакцию, и мы
издали ряд ценных изданий, в частности, два тома главных
сочинений Шопенгауэра, не издававшихся с дореволюционных лет, и др.
Но к тому времени вовсю бушевала перестройка, я перестал
совместительствовать в Институте философии, передав «Памятники
философской мысли» академику Т. И. Ойзерману и профессору А. Л.
Субботину (реальный заместитель), а сам полностью сосредоточился на
философском факультете.
Здесь произошли значительные изменения. Умерли профессора
«среднего» возраста, на плечах которых десятилетиями держалась
педагогическая и научная работа: Юрий Константинович Мельвиль,
заведовавший кафедрой почти четверть века, Анюр Мусеевич Ка-
римский, Игорь Сергеевич Нарский (правда, перешедший в АОН за
два года до смерти), Михаил Петрович Новиков, заведовавший
кафедрой научного атеизма, тесно сотрудничавший с нашей. Все они
скончались в 1993 г.
Положительным изменением в кафедральной структуре
факультета следует считать ликвидацию кафедры истории марксистско-
ленинской философии. Целое десятилетие после М. Т. Иовчука
и Г. С. Васецкого ею руководил профессор Анатолий Данилович Ко-
сичев, который одновременно с успехом исполнял должность декана
философского факультета. Из профессоров этой кафедры выделялся
своей партийной принципиальностью Сурен Тигранович Калтахчян,
принадлежавший к нашему поколению. Он основательно исследовал
воззрения выдающегося большевика С. Т. Шаумяна, расстрелянного
англичанами в 1918 г., и был убежден, что, если бы не это печальное
событие, именно Шаумян, а не Сталин возглавил бы партию после
смерти Ленина и Страна Советов не пережила бы столько
трагических и печальных событий.
Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России 83
Программа КПСС, принятая на XXII съезде, поставила как
первостепенную задачу строительства «нового человека» многостороннее
развитие всех его способностей (что, в сущности, предвидел и Маркс
в своем бессмертном «Капитале»), Закономерно, что в таком
историческом контексте появилась новая синтетическая дисциплина
«культурология». На философском факультете ее необходимость была
совершенно настоятельна, ибо здесь преподавалась только усеченная
западная история, отсутствовала всеобщая литература, фактически
не было древних языков. В результате больших хлопот на уровне
деканата, ректората с привлечением нескольких выдающихся
специалистов удалось создать оригинальную кафедру истории и теории
мировой культуры.
В XXI в. философский факультет обновился новыми кафедрами:
методологии естественных и гуманитарных наук; онтологии и теории
познания (эпистемологии), отчасти представлявшей трансформацию
бывшего диалектического материализма (систематическая
философия); кафедрой социальной философии (отчасти трансформация
кафедры исторического материализма). К 250-летию МГУ имени
М. В. Ломоносова философский факультет, подобно многим другим
факультетам университета, опубликовал несколько классических
университетских учебников. Теперь, в начале XXI в., философский
факультет стал одним из ведущих гуманитарных учебных заведений
России.
3. Ю. Соловьев
МОХОВАЯ, 11 —ВОЛХОНКА, 14
(из истории московской философской оттепели)
Литература о философском обновлении, свершившемся в Москве
в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, сегодня, я
думаю, могла бы составить уже пару томов. Но вопросы, которые
в ней обсуждаются, по-прежнему не закрыты, а сами породившие
их события смотрятся как все более масштабные и смыслоёмкие.
Для их историко-философской расшифровки требуются новые
усилия и не в последнюю очередь — усилия памяти. Возрастает
ценность живых свидетельств, возможных подателей которых,
увы, становится все меньше. Я, так получилось, принадлежу к их
числу и в последние годы все чаще испытываю что-то вроде
мемориального долга.
Я никогда не вел дневника и располагаю лишь редкими
записями задевших меня событий. Но есть немало отстоявшихся и как
бы во мне самом записанных впечатлений-суждений большой
давности, которые, как правило, постигают меня при чтении чужих
мемориалов. Они оживляют то, что казалось напрочь забытым,
обладают, сколь это ни удивительно, типологической, социокультурной
определенностью и напрашиваются на поэтическую чеканку.
Возможно, именно это имеет в виду замечательное выражение
«воскресло в памяти».
Вот суть одного из таких суждений-впечатлений: исток
«шестидесятничества» как особого идейного поколения следует искать в
составе студенчества, отличавшем пятидесятые годы. Исключительно
интересным в этом отношении как раз и был философский факультет
МГУ. Можно сказать, что на нем обучалось в ту пору парадоксальное
«гибридное» поколение. За студенческой скамьей сошлись «отцы»
и «дети», которые по возрасту различались всего лишь как старшие
и младшие братья. «Братьями-отцами» были те, кто прошел опыт
войны, многое повидал и уже имел повод усомниться в достоинстве
советской большевистской системы.
В литературе последних лет, например, в известной книге
В. К. Кантора «...Есть европейская держава», формулируется
следующий любопытный тезис: «XX съезд партии по сути своей был
съездом вернувшихся с войны лейтенантов».
Моховая, 11 — Волхонка, 14
85
Было бы наивно думать, что таковыми оказывались все офицеры,
пришедшие на факультет с фронта. Однако в ряду последних
встречались люди, удивительные по выстраданной духовной независимости.
Выразительнейший пример тому — Эвальд Ильенков и Александр
Зиновьев. В 1999 году я написал стихотворение, которое (через
поэтическую гиперболу), пожалуй, разъясняет их значение для
формирования философского шестидесятничества лучше, чем это могли бы
сделать пространные социологические выкладки.
Шинель
Э. Ильенкову, А. Зиновьеву
На факультете пропадали
Послевоенные мальчишки,
И пропадали их медали,
И их снобистские замашки.
Но в раздевалке, где висели
Послевоенные пальтишки,
Вдруг появились две шинели -
Шинели Эвальда и Сашки.
Они по опыту отцы нам,
Они по возрасту братишки.
Они свободы образцы нам
Перед лицом муштры и слежки.
Иные шутки зазвенели,
И начались иные книжки,
И в семинарах под шинелью
Созрели крепкие орешки.
Мы были — в бурсе лицеисты,
Самоуправные студенты,
Земного бога атеисты
И трудоголики в шарашке.
Внутри марксистской цитадели
До диссиденства диссиденты
86
Э. Ю. Соловьев
С тех пор как вышли из шинели,
Шинели Эвальда и Сашки.
Еще до XX съезда КПСС Ильенков и Зиновьев защитили
новаторские, провокативные по характеру диссертации. Обе были
посвящены теме абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса,
обе неуличимым образом наводили на мысль, что Маркс велик, по
сей день методологически важен, а вот работы его новоявленных
последователей, Ленина и Сталина, не говоря уже о Ждановых, алек-
сандровых, митиных, Константиновых, - отмечены философским
убожеством. В 1954 году Э. В. Ильенков и В. И. Коровиков (опять-
таки «уцелевший лейтенант ВОВ») затеяли ныне прославленную
факультетскую дискуссию о предмете и миссии философии.
Руководство факультета добилось ее осуждения. Инициаторы, заработав
ярлык «гносеологов», были отстранены от преподавания. Однако
дискуссия успела обнаружить, что на разных курсах обретается
немало пытливых и ищущих людей, которые теперь узнали друг
друга. Полемика не прекращалась, и в ней стало складываться
долгосрочное, неформальное сообщество. Вновь образующиеся кружки
и собрания «ильенковцев», «зиновьевцев», «щедровитян» (по
фамилии Г. Щедровицкого), «мерабианцев» (по имени М. Мамардаш-
вили) при всех концептуальных разногласиях — как покажет время,
совсем нешуточных — позиционировали себя в качестве стойких
союзников в противостоянии факультетскому официозу. Вся
молодежь чувствовала себя в обновляющемся проблемном поле, о чем
Лев Науменко, на мой взгляд, лучший биограф Э. В. Ильенкова, на
закате XX века скажет так: Ильенков задел всех, кто хоть сколько-
нибудь серьезно относился к своей профессии: «Одних он
"перепахал", других "заразил", третьих — подстегнул».
***
Я пришел в философию шестьдесят лет назад — вскоре после смерти
Сталина. В течение всего этого времени я чувствовал себя
пребывающим внутри одного и того же, не сменявшегося исторического
периода, — внутри оттепели. Я имею в виду необратимое поступательное
освобождение от базисного общего страха и властных социальных
обманов. Моей оттепели не прервали ни Чехословакия 1968 года, ни
застой, ни буксующая перестройка, ни круговерть 90-х. Во мне жила
Моховая, 11 — Волхонка, 14
87
и живет стойкая уверенность в невозвратимости сталинского
ледникового периода.
Я хорошо помню, как началась моя «умоперемена». Это
случилось осенью 1955 года, когда мой школьный учитель логики, эстетик
Б. И. Шрагин привел меня в дом к Э. В. Ильенкову, отношения с
которым вскоре стали дружескими. Я, студент-четверокурсник, угодил
в эпицентр философского обновления, начатого Ильенковым и Ко-
ровиковым; Ильенковым и Зиновьевым.
Нелегко найти язык для выражения того, как мы, их
приверженцы и последователи, переживали и осознавали тогдашние события.
Мне кажется, я отыскал его в начале 80-х годов, когда занялся
историей Реформации.
Дело, затеянное Ильенковым, Коровиковым и Зиновьевым,
я склонен определять как попытку философской реформации
марксизма. Над их начинанием смело можно было бы поставить
ренессансно-реформаторский девиз: «Ad fontes!» («Назад к
истокам!»). Это безоговорочно справедливо в отношении Эвальда
Ильенкова, — ключевой фигуры тогдашнего идейного брожения. С
решительностью и энергией, отличавшей экзегетиков-евангелистов
XVI века, Ильенков обратился к первомарксизму. За пару лет до
XX съезда партии, призвавшего к восстановлению ленинских
норм жизни, он стал проповедовать возврат к Марксовым нормам
мышления. Самым точным словом для обозначения его позиции
было бы слово из протестанского экклезиологического словаря, -
неоортодоксия. Разъясняя данное выражение, надо непременно
вспомнить парадоксалистски-диалектическую формулу,
характеризующую образ мысли и позицию молодого Мартина Лютера:
ортодоксия против догмы.
Усилию неоортодоксии отвечала идейная и экзистенциальная
позиция Лютера, обозначенная знаменитой формулой «На том стою
и не могу иначе», заявленной им на рейхстаге в Вормсе. Формула
эта была созвучна девизу стоиков «Делай что должно, и будь что
будет». В обоих случаях предполагалось, что даже безотрадная истина
(и, может быть, прежде всего она) заслуживает верного служения,
целеустремленности и дисциплины.
Хорошо известно, что поэтические метафоры и акцентировки
могут с высокой точностью выражать смысл исторических
аналогий. Помня об этом, я позволил себе в середине 90-х написать такое
стихотворение:
88
Э. Ю. Соловьев
Эвальдом звался наш пастор
В пору студенческого убожества
и преддипломных драм
там,
на углу проезда Художественного,
был у меня храм.
Эвальдом звался наш пастор,
жил он в стойкой тоске,
был он пророк,
рисовальщик
и мастер
на токарном станке.
В доме пастора
творилась схизма:
оструганье ствола от ветвей -
вызволение первомарксизма
из марксистских церквей.
«Гегель — это
Ветхий Завет,
Маркс — это Новый,
высший, последний.
Ленин — апостол и апологет,
Прочее — ересь и бредни.
Господи!
дай устоять в парадоксе,
дай не забыть
на пути нашем долгом,
что дрянь реформы:
одна ортодоксия
может сломить
партийную догму.
Верить в Маркса,
верить безостаточно,
в нем и в Гегеле
оплодотворение!
Иначе зачатие
пойдет внематочно
Моховая, 11 — Волхонка, 14
89
и родами Родина
помрет в разорении.
И хватит пить
чего ни поставят!
И хватит унынья,
острот и лени!
Проклят и выкинут
идол Сталин.
Гегель - Маркс — Ленин!»1
Ильенков не просто учил увлеченно читать Маркса. Человек
поразительной литературной одаренности, он — и письменно, и
изустно — умел мыслить и выражаться, как сам Маркс (то же самое можно
сказать и в отношении Ильенкова и Гегеля). Преподаватели,
аспиранты и студенты, посещавшие замечательные семинары, которые
вел Эвальд Васильевич, оказывались внутри дискурса, вызывающе
отличного от ленинско-сталинской догматики, которую им надо
было штудировать. В свете речевого поведения и самой личности
Ильенкова она (догматика) смотрелась как марксизм, отчужденный
от Маркса, и как принудительно заданная «превращенная форма»
самой философии. Это было настоящим экзистенциальным открытием,
которое одушевляло, но не могло обнадеживать и радовать.
Официальная догматика, осознанная как анонимная, идеологически
принудительная сила, обескураживала и пугала, порождала сомнение в
эффективности рациональных доводов и публичного спора. Лично для
Ильенкова сама дискуссия, одним из инициаторов которой он
оказался, стояла, по-видимому, под знаком этой социально
предопределенной неэффективности.
В момент обсуждения «Тезисов о предмете философии» я еще не
был близко знаком с Эвальдом Васильевичем. Однако мне известно
1 Недавно вышло новое сочинение о творчестве Э. В. Ильенкова -
«Страсти по Тезисам» (сост. Е. Иллеш, М.: Канон+, 2016, 272 с). В рецензии
на это издание мой однокурсник, когда-то ильенковец, В. П. Шестаков также
прибегает к разъясняющей исторической аналогии. Знаток эпохи Ренессанса,
он считает возможным сравнить ильенковско-коровиковские Тезисы 1954 г.,
пробудившие студентов и аспирантов философского факультета МГУ, со
знаменитыми Тезисами против индульгенций, которые Мартин Лютер прибил
к дверям виттенбергской Замковой церкви 31 октября 1517 г. (См. Вопросы
философии. 2016. № 12).
90
Э. Ю. Соловьев
(известно «из первых рук»), что его состояние в те дни было от
начала и устойчиво удрученным («жил он в стойкой тоске»).
Воспользовавшись понятием Мартина Хайдеггера, можно
сказать, что у инициаторов тогдашней дискуссии была разная «исходная
настроенность». Виталий Иванович Коровиков взвинчивал себя до
благих упований, не исключал преподавательской и даже партийной
поддержки и чем-то напоминал мужественного энтузиаста,
отправляющегося на целину. Эвальд Васильевич конституировал себя
стоически, и его поведение точнее всего могло бы разъясняться известной
формулой Сартра «борьба без надежды на успех».
Я навсегда запомнил выражение лица Эвальда Ильенкова в
момент, когда ораторы Ученого Совета предъявляли ему свои
обвинительные вердикты. Это был лик, - лик мыслителя-мученика,
осмеиваемого толпой «не ведающих что творят». — «Смотри, он как
Езус», - шепнул мне на ухо Юрий Маркуш1.
Не было случая, чтобы впоследствии, в годы работы в Институте
философии, Эвальд позволил себе светлые и отрадные
воспоминания о философском факультете МГУ. А вот на рассказы зека, недавно
покинувшего места заключения, его мемориальные сентенции
походили нередко.
***
Воспоминания об идейном обновлении, начавшемся на
философском факультете МГУ в 50-х годах, как правило, несвободны от цехо-
1 Юрий (Дьёрдь) Маркуш (1934-2016) - студент из Венгрии, с красным
дипломом закончивший философский факультет МГУ; после возвращения на
родину в 1957 г. стал секретарем опального Георга (Дьёрдя) Лукача. В
шестидесятые годы предложил оригинальную интерпретацию наследия молодого
Маркса. В 1968 г. подписался под коллективной петицией, осуждавшей
введение в Чехословакию войск Варшавского договора. В 1973 г. (в соавторстве
с Д. Бенце и Я. Кишем) выступил с критикой политэкономии Маркса,
основывающейся на доминантных понятиях теории предельной полезности. Был
уволен из Института философии ВАН и в 1977 г. эмигрировал в Австралию.
С 1978 - профессор Сиднейского университета. Одна из последних его книг
называлась «Метафизика — что же это, наконец, такое?» (1998).
Юрий Маркуш, один из талантливейших моих однокурсников,
скончался 5 октября 2016 г., — тогда, когда я дорабатывал эту статью и вспоминал
для вас, дорогие читатели, наши студенческие годы.
Моховая, 11 — Волхонка, 14
91
вого ностальгического благодушия. Легко может сложиться
впечатление, будто факультет в ту пору был столичной кузницей талантов
и переживал чуть ли не «золотой век». Теплые воспоминания об
эксклюзивах добротного преподавания: о В. Ф. Асмусе и П. С. Попове,
М. Ф. Овсянникове и П. Я. Гальперине, Т. И. Ойзермане и В. В
Соколове, — заслоняют толпу одноликих кафедральных уродцев, которые
методично выковывали из нас ленинско-сталинских догматиков,
нацеленных на карьерное послушание, доносительство и фабрикацию
идеологических ярлыков.
В осенне-зимний семестр 1952 года (первый в моей жизни) все
кафедры философского факультета провели по несколько семинарских
занятий, посвященных молитвенному заучиванию убогой брошюры
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В канун
выборов в Верховный Совет студентов поголовно мобилизовали на
агитационную работу: ее главной задачей было разъяснение решений
XIX съезда партии, рекордных по степени казенщины. Мне известны
случаи, когда студенты длительное время имитировали косноязычие,
чтобы избежать пропагандистских нагрузок (и не могу не добавить —
действительно зарабатывали себе дефект речи).
Легенда о «врачах-убийцах», запущенная в январе 1953 г.,
разожгла подозрительность. С особым тщанием отслеживались
возможные рецидивы космополитизма. Их усматривали, например, в
живом интересе к истории западно-европейской философии. Списки
соответствующей литературы, рекомендуемой для ознакомления,
были решительно сокращены. Уже в 1949 г. (замечу: по сигналу из
Министерства высшего образования) запретили кружок-семинар по
изучению немецкой классической философии, которым руководил
М. Ф. Овсянников. Бывшие участники семинара находились под
особым наблюдением. Руководители дипломных и курсовых работ
доверительно советовали студентам не увлекаться цитатами из Маркса
и Энгельса и непременно уравновешивать их ссылками на Ленина и
Сталина. Интенсивное изучение иностранных языков стало
выглядеть как подозрительное занятие. На военной кафедре подполковник
Пуговкин, рубаха-парень, с панибратским простодушием и
протокольным цинизмом рассказывал студентам о своем участии в рас-
стрельных командах 1937-1938 годов.
Смерть Сталина не привела к сколько-нибудь существенному
изменению обстановки. В. С. Молодцов, декан хрущевского
времени, пребывал в неизбывном ужасе от решений XX съезда, переживал
92
Э. Ю. Соловьев
приступы ксенофобии, с неприязнью относился ко всякой примете
интеллигентности и был убежден в том, что контакты философов
(особенно молодых) с конкретными науками должны находиться под
постоянным идеологическим досмотром. Где-то осенью 1954 г.
подвыпивший А. Зиновьев бросил в лицо факультетскому Ученому
Совету реплику, которая вскоре облетела страну: «На нашем факультете
на голову студента уже с первого курса надевают презерватив, чтобы
он, не дай бог, не заразился исследующим научным мышлением».
Рассказывая о послевоенной жизни философского факультета
МГУ, сегодня уже просто нельзя не упомянуть дискуссию о предмете
философии, затеянную Э. В. Ильенковым и В. И. Коровиковым.
Вместе с тем, глубоко ошибется тот, кто поставит эту дискуссию в зачет,
в заслугу факультету. Факультет как учреждение просто проглядел,
проморгал дискуссию, а затем учинил пугливую срочную расправу
над ее инициаторами и участниками.
Еще меньше оснований вменять в заслугу факультету
распространение идей, родившихся и высказанных в ходе дискуссии. Идеи
транслировались в формате слухов, вопреки факультетским предохранительным
мерам, нескоро, полуподпольно, а в наиболее сохранном виде — вместе
с выпускниками факультета, по распределению прибывавшими в
разные места. Какое-то признание и понимание они получили лишь к
концу 1950-х годов, — лишь после XX съезда партии, вызвавшего известное
оживление и демократизацию научных и образовательных учреждений,
политпросвещения и издательских редакций.
На Моховой, 11 (таков тогдашний адрес философского
факультета МГУ) проект философского обновления всего лишь чудесным
образом родился. Он походил на островок витаминозного салата,
который образовался вдруг в сыром погребе, в соседстве с плесенью;
образовался, но не мог не погибнуть в столь гиблом месте. Теплицами
же, где проект выжил и начал осуществляться, стали, например,
Институт психологии при Министерстве образования, новая редакция
«Философской энциклопедии», философский факультет
Ростовского университета, а где-то с начала 60-х — редакция международного
журнала «Проблемы мира и социализма», размещавшаяся в Праге1.
1 О роли московского «философского шестидесятничества» в
формировании мировоззренческого климата этой редакции не так давно
рассказал А. С. Ципко в одном из выпусков передачи «Тем временем» (телеканал
«Культура»).
Моховая, 11 — Волхонка, 14
93
Но главная делянка, защищенная от весенних заморозков,
разумеется, находилась на Волхонке, 14, — в здании, где помещался
Институт философии АН СССР и редакция его печатного органа,
журнала «Вопросы философии».
В конце пятидесятых журналу были отведены две комнаты
пятого этажа. У работников редакции и сотрудников Института был один
лифт, одна столовая, одна курилка, одни присутственные дни, одни
застолья и праздничные вечера. Вся повседневность была общей.
Кроме того, партийная ячейка журнала входила в партийную
организацию Института, последняя же несомненно была в ту пору одним
из лидеров в робком, зарождающемся движении за внутрипартийную
демократию и гласность, держа курс на омоложение Института.
Для «Вопросов философии» два года, последовавшие за XX
съездом партии, оказались временем перехода с шестиномерной на две-
надцатиномерную систему. Воспользовавшись этой перестройкой,
тогдашний ответственный секретарь редакции М. И. Сидоров сделал
все возможное, чтобы ввести в ее состав исследовательски
зарекомендовавших себя аспирантов и выпускников философского факультета
МГУ. В 1955-1965 гг. за редакторскими столами «Вопросов
философии» оказались А. Л. Субботин, И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили,
И. В. Блауберг, Н. И. Лапин, Н. Б. Биккенин, Б. М. Пышков, И. Б.
Новик, В. М. Садовский, А. П. Огурцов, — молодые люди, которые
узнали и признали друг друга в ходе факультетской дискуссии о предмете
философии1.
Мне (я был принят на редакторскую работу в 1957 г., сразу по
окончании университета) никогда позже не приходилось пребывать
в коллективе со столь высоким индексом талантливости, смекалки
и сплоченности.
Более десятка аспирантов и выпускников МГУ пришли в ту пору
и в сектора Института философии, сразу организовав вокруг себя
его молодежное общественное мнение и образовав ядро наиболее
1 Сегодня все они хорошо известны российскому философскому
сообществу; почти о каждом существует литература. В справке нуждаются,
пожалуй, лишь Н. Б. Биккенин и Б. М. Пышков. Оба с середины 60-х гг. работали
в аппарате ЦК; оба немало сделали для подготовки перестройки.
Н. Б. Биккенин (1931-2007) был последним редактором журнала
«Коммунист», и именно ему (вместе с О. Р. Лацисом) довелось оповестить страну
и мир о том, что Коммунистическая партия Советского Союза прекратила
свое существование.
94
Э. Ю. Соловьев
увлеченных и творческих исследовательских групп. Дело выглядело
так, как если бы группа интеллигентов, уже длительное время
находившаяся на Моховой, 11 в положении затаенных «внутренних
эмигрантов», переселилась на Волхонку, 14 как в новую, более
свободную страну и стала обустраиваться здесь в качестве вполне легальной,
граждански активной «иммигрантской диаспоры».
Разумеется, в старшем поколении тогдашних сотрудников
Института не было недостатка в натасканных и агрессивных догматиках.
Но при директорстве П. Н. Федосеева, в 1952 г. грубо униженного
Сталиным1, они чувствовали себя крайне неуверенно и на настроения
институтской молодежи смотрели сквозь пальцы.
А кто встречал новобранцев ИФ АН? Кто первым выплачивал им
дань гостеприимства и высказывал напутствия доброго хозяина? -
Да не кто иной, как Ильенков с Зиновьевым, вчерашние
диссиденты факультетского кодекса правоверия, — две провинившиеся щуки,
только что брошенные в реку желанных академических занятий.
Оба успешно работали, авторитет обоих укреплялся в Институте
день ото дня. В 1962 г. Эвальд Васильевич положит на стол
катехизис ильенковства — книгу «Диалектика абстрактного и конкретного
в «Капитале» Маркса»; в 1967 г. Александр Александрович
опубликует свои «Основы логической теории научного знания».
Равняясь на своих признанных лидеров, разделяя
политическую эйфорию на пике «оттепели», новобранцы с Моховой активно
включаются в жизнь журнала и института. Партийная организация
ИФ АН пополняется новыми членами, политически возбужденными,
амбициозными и непугаными. («Ох, не били вас мордой об стол», -
говорят им некоторые старики).
Однажды я спросил жену: «Какими вспоминаются тебе
партийные собрания 60-х годов?» Жена (а это Е. А. Фролова, выпускница
философского факультета МГУ, одна из старейших сотрудниц
Института) по-молодому сверкнула глазами и заявила: «Как место, где
можно и нужно спорить!».
И вот что, пожалуй, самое замечательное. Атмосфера
открытого спора сохранилась в институтской парторганизации и тогда,
когда начал набирать силу процесс ресталинизации. Не помню случая,
чтобы в семидесятые годы кому-нибудь осмелились заткнуть рот
1 См. об этом: Корсаков С. Н. Во главе Института // Наш философский
дом. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 292.
Моховая, 11 — Волхонка, 14
95
или согнали с трибуны окриком «Демагогия1». Не помню, когда бы
на собраниях прозвучало официальное оправдание Сталина или
назидание на тему «распустили народ», или аплодисменты при
почтительном упоминании имени вождя (в темных залах кинотеатров они
раздавались повсеместно).
Я далек от какой-либо ностальгической привязанности к «годам
застоя» (это уже давно разделяло меня с А. А. Зиновьевым).
Идеологическая атмосфера в стране и в институтах Академии была тягостная,
и я не согласился бы вернуться в нее даже ценой возвращения
молодости. Вместе с тем, я хотел бы обратить внимание на то, как упорно
Институт философии сопротивлялся установлению этой атмосферы.
Институтская партийная организация, по сути дела,
саботировала компанию по осуждению «антинародного искусства», которая
повсеместно развернулась в 1962-1963 годах, после знаменитого
посещения Н. С. Хрущевым выставки в Манеже. Примерно в то же время
Институт — несмотря на настойчивые приглашения — отказался от
участия в идейных (горкомовских) расправах над философским
факультетом Ленинградского университета. В 1966 году в партгруппе
«Вопросов философии», а затем — на партийном бюро Института,
рассматривалось скандальное персональное дело академика Митина
(тогдашнего главного редактора журнала). Академику был вынесен
строгий выговор за плагиат статьи философа Я. Стена, арестованного
в 1936 году (взыскание, которое повергло в панику Ленинский
райком партии и, разумеется, не было им утверждено).
В августе 1968 года партбюро умудрилось не провести
партийного собрания в поддержку введения советских войск в Чехословакию.
В тягостном 1974 году до Института докатилась идеологическая
чистка, которую учинил в Академии наук некто Ягодкин, тогдашний
секретарь Московского горкома по идеологии. Люди Ягодкина
возглавили Дирекцию и партбюро, было распущено самое талантливое
и работоспособное подразделение Института, сектор исторического
материализма, собранный В. Ж. Келле1.
1 Вот перечень явно незаурядных людей, долго ли, коротко ли
подвизавшихся в секторе Келле в годы моего пребывания в нем (1970-1975):
Ю. М. Бородай, М. М. Виткин, А. В. Гулыга, Ю. А. Левада, В. М. Ме-
жуев, Н. В. Мотрошилова, Н. В. Новиков, Е. Г. Плимак, И. Н. Сиземская,
В. И. Толстых. (Курсивом выделены выпускники философского
факультета МГУ. - Э. С).
96
Э. /О. Соловьев
Но в течение пары месяцев тогдашний директор-победитель
Б. С. Украинцев подвергался уничижительной критике со стороны
сотрудника сектора истмата Н. С. Злобина. И нельзя было согнать
охальника с кафедры: собрание не давало. Хотя все уже
понимали — не в надежде на торжество правды выступает Наль Степанович,
а просто по формуле: «делай что должно, и будь что будет». И вот
парадокс для теории ожиданий: безнадежно мужественная акция
Н. С. Злобина спустя полгода уже выглядела как вполне успешная:
скинули Ягодкина с поста горкомовского секретаря. Институт
переживал это как свидетельство необратимых перемен, начавшихся на
переломе 50-60-х годов. Переживал в ту мрачную пору, когда уже
значительная часть интеллигенции (ленинградской, московской,
свердловской) сказала себе: с этой властью и этим обществом
никакого дела иметь нельзя.
***
Важной компонентой этой идейной стойкости были понятия,
установки, полемические символы, которые родились в ходе
философского обновления конца пятидесятых - начала шестидесятых годов
и целеустремленно прорабатывались Э. В. Ильенковым в
публикациях 1964-1968 гг. (едва ли не каждая из них делалась в Институте
философии предметом живого обсуждения).
Уже в факультетской дискуссии о предмете философии за
столкновениями спорящих кафедральных партий и кружков
проступила оппозиция предельного исторического масштаба. Я имею
в виду оппозицию философии, как она понималась и
культивировалась веками, и наличной псевдофилософии, эрзац-философии,
представленной партийно-просветительским «официозом диамат-
истмата»1.
В удивительном очерке «Маркс и западный мир»,
готовившемся в 1965 г. для зачтения на международном философском
конгрессе во Франкфурте, но опубликованном лишь в постсоветское время,
Э. В. Ильенков отваживается на следующую констатацию, в общем-
то элементарную, но невозможную в отечественных подцензурных
1 Выражение, найденное Львом Науменко в очерке «Эвальд Ильенков:
портрет в интерьере времени» (Науменко Л. К., 2004).
Моховая, 11 — Волхонка, 14
97
изданиях: в СССР «марксизм впервые утвердился в качестве
официально узаконенной идеологии»1.
Хронической болезнью этой идеологии сделался догматизм, в
котором, по мнению Эвальда Васильевича, сказывалась и сказывается
неизжитость «еще добуржуазных, докапиталистических форм
регламентации жизни, имевших в России силу традиции»2. Философы-
догматики подбирают и выдумывают понятия, которые позволяют,
подобно цементному раствору, скреплять различные «составные
части» идеологически выстроенного марксизма.
Я не помню другого человека, который бы в 60-70-е годы
относился к «официозу диамат-истмата» с такой же неприязнью,
обеспокоенностью и методичным презрением, как Эвальд Васильевич.
Наименования «диаматчик», положенного ему по месту работы
(по названию институтского сектора) он не переносил; в известной
беседе с М. А. Лифшицем просил понять, что «исповедует вовсе
не истмат, а материалистическое понимание истории». В очерке
«Философия и молодость» наводил читателя на мысль, что сегодняшние
«начетчики от философии» - это наконец-то найденное наглядное
пособие к стародавнему народному понятию «ученый дурак».
Психо-идеологический склад «ученой глупости» — это
«ханжеская лживость внушаемых правил»3. При Сталине она была наглой;
после XX съезда партии стала приспособленчески верткой. В
лексиконе ильенковцев выражению «догматик» сопутствовало другое,
облюбованное Эвальдом, а именно - «прохиндей»4. Оно стало одним
из паролей московского философского обновления. К середине 60-х
словечком «прохиндей» перемигивалось все молодое поколение
философов от Ленинграда до Ростова и Алма-Аты. На прохиндейство
мы проверяли весь советский философский цех в качестве цеха
«идеологических работников».
Прохиндей, разъяснял Эвальд, был бы рад видеть вокруг
себя умственно косных людей и именно их стремится воспитывать
1 Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Изд. политич. литературы.
1991. С.157.
2 Там же. С. 158.
3 Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968. С. 52.
4 Словари растолковывают «прохиндей» как «мошенник», «обманщик»,
«ловкач» и (уж извините) «хитрожопый». Возможно также: «про-ходимец»,
«про-идоха», «про-ныра», «про-хвост», «про-щелыга».
98
Э. Ю. Соловьев
и размножать. Эта губительная тенденция все более заметна
в практике философского образования.
Удивительно интересна уже упомянутая мною статья
«Философия и молодость», написанная Э. В. Ильенковым в середине
шестидесятых годов. Заголовок и зачин статьи располагали ожидать,
что ее автор будет проповедовать возможно более раннее увлечение
философскими занятиями. На деле основная интенция статьи — это
критическое предостережение. Ильенков видит коварную
двусмысленность самого выражения «занятие философией». Он готовит
молодого читателя к осмотрительному различению действительной
философии и ее расхожих подобий, а затем с предельной прямотой
говорит ему: «Надо знать, что ты глотаешь, чтобы потом крепко
не пожалеть». Надо быть готовым к тому, что философия и
философский ширпотреб окажутся похожими друг на друга «как шампиньон
и бледная поганка»1.
Каковы приметы опасных подобий философии, претендующих
на овладение юными умами? — Ильенков обозначает по крайней
мере две из них.
Первая — это культивирование благих упований, которого
подлинная философия никогда себе не позволяет. В царстве
официозного диамат-истмата молодой человек, который решил заняться
философией, раньше всего встретит «бездумный оптимизм». Эвальд
Васильевич находит для него разъяснение, поразительное по
простоте и точности: «оптимизм до первой беды»2. Напомню, что формула
эта предъявлена вскоре после оглашения новой программы КПСС,
погружавшей всю советскую идеологию в атмосферу беспросветно
благостных обещаний.
Другая стойкая примета расхожих подобий философии — это
позиция и стиль ментора, вкладывающего в головы людей готовое
и расфасованное знание. Критика менторства проходит сквозь все
наследие Э. В. Ильенкова, и, пожалуй, никто другой в отечественной
философии XX века не проводит ее с такой же страстью и таким же
упорством. Десятки фрагментов ильенковского текста смотрятся как
экспликации (порой совершенно неожиданные) замечательной
метафоры Плутарха: учитель должен не просто влить свои знания в уче-
1 Ильенков Э. В. Философия и культура. С. 28.
2 Там же. С. 19.
Моховая, 11 — Волхонка, 14
99
ника, как воду в сосуд; он должен своим факелом зажечь в ученике
его собственный огонь.
Философия как идеология тяготеет к тому, чтобы найти и
взрастить среди людей «чистых репродуктивов»1. «Традиционная
философия в лице лучших своих представителей» (таково ключевое
понятие Ильенкова) ищет и взращивает в людях автономию
мышления, — «"силу суждения", как назвал когда-то эту способность Кант»2.
Ильенков видит здесь основную дефиницию ума. «Ум, - заявляет
он, - резонно определить как способность суждения»3.
Меня удивляет и печалит то обстоятельство, что Эвальд, судя
по всему, не был знаком со статьей Канта «Ответ на вопрос: "Что
такое просвещение"?». Ни в одном из его сочинений я не встретил
ссылки на эту выдающуюся журнальную публикацию 1792 г.,
породившую десятки интереснейших откликов и по сей день
пребывающую в поле актуальной полемики. Вместе с тем Ильенков как бы
рвется навстречу кантовскому тексту, как бы пытается разъяснить
его и развить.
В своем манифесте «истинного просвещения» Кант, если
помните, ставил всю практику обучения мышлению под известный
древнеримский девиз «Sapere audel» («Имей мужество мыслить сам!»); он
предполагал в слушателе и читателе совершеннолетнего реципиента
(отстаивал в обучении «презумпцию совершеннолетия», если
говорить философско-правовым языком); он утверждал просвещение
в противовес просветительству в узком смысле слова, то есть
прописям и авторитарному назиданию. Их исходный смысл помечен у
Канта жестко акцентированным глаголом «leiten» («руководить»)4.
В очерке «Философия и молодость» (и еще в двух-трех
публикациях, близких ему по времени и по теме) Ильенков проигрывает
эти кантовские мотивы. «Ум, - заявляет он, — это умение, которое
каждый человек может и должен воспитывать в себе сам и которое
даром не дается»5.
1 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 22.
2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 25.
4 См. Мотрошилова Н. В. История философии: статьи, их роль в науке
и в публичном пространстве // История философии в формате статьи / Сост.
и отв. ред. Ю. В. Синеокая. - М.: Культурная революция, 2016. С. 40-48.
5 Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 21.
100
Э. /О. Соловьев
Обращаясь к богатому потенциалу русского языка, Эвальд
Васильевич предъявляет констатацию, которая наверняка радостно
поразила бы Канта: «В русском языке "ум" одного корня со словами
"умение", "умелец"»1.
«Умение» в понимании Ильенкова — это личностно
неповторимый и лишь через личность формируемый задаток. В полном
развитии — трудами наработанный талант.
«Ум» - не что иное, как всеобщность умения, способность к
самочинности суждения и действия, которую общество должно равным
образом предполагать в каждом и без которой талант не развивается
ни в ком.
Этот комплекс понятий более всего отвечал проблематике
образования и именно работникам образования прежде всего
адресовался. С середины 60-х годов Эвальд Васильевич облюбовал тему
обучения и иногда называл свои философские поиски
«философией педагогики» или даже «социальной педагогикой». Но то, что он
говорил, задавало новые ориентиры к размышлению о творческих
коллективах, о наилучшей организации живых ячеек научного
сообщества. Борьба с менторством, тема «воспитания самих
воспитателей», идея упреждающего доверия к умению и таланту - всё
это (пусть под другими терминами) страстно дебатировалось тогда
в институтах Академии наук.
В пору работы на философском факультете Эвальд Васильевич,
как я упомянул, славился своими незаурядными учебными
семинарами. Вот выразительная и, я думаю, весьма точная
характеристика Ильенкова как преподавателя: он «говорил так, словно впервые,
здесь, на кафедре задумался над проблемой», и мыслители
прошлого, о которых он рассказывал, «были никак не объектами, а именно
субъектами и занимались они одним делом, советуясь, споря,
помогая и поправляя друг друга»2.
Я не исключаю того, что, выдворив преподавателя Ильенкова,
руководство факультета, если говорить о будущем, лишило Московский
университет одного из самых выдающихся мыслителей-педагогов.
Я также глубоко сожалею о том, что в семидесятые годы сам
Эвальд Васильевич не попытался выступить в Москве (или в
Новосибирске, куда его приглашали) с комплексом свободных лекций о фило-
1 Там же.
2 Науменко Л. К. Указ. соч. С. 61.
Моховая, 11 — Волхонка, 14
101
софии. Не могу не отметить, что эта инициатива блестяще удалась
Мерабу Мамардашвили, соратнику и сопернику Эвальда
Ильенкова по теме «Гегель и Маркс» (на момент факультетской дискуссии
о предмете философии — аспиранту кафедры ИЗФ).
Вместе с тем совершено неверно, будто по части воспитания
философов Э. Ильенков оказался человеком несостоявшимся.
Десятки молодых сотрудников ИФ АН нашли в нем учителя,
который помог им
— отнестись к старшему поколению с достоинством
совершеннолетних,
- не поддаться эйфории завышенных ожиданий,
— стоически отстаивать свою непризнанную позицию, если она
не опровергнута теоретически,
- встречать рутину, штамп и переменчивую идеологическую
моду уверенной (а если потребуется, то и беспощадной)
философской иронией.
Без Э. Ильенкова (и, конечно же, надо добавить — без А.
Зиновьева, Ю. Левады, В. Лекторского, Н. Юлиной, Е. Плимака)
Институт в шестидесятые годы не знал бы настоящих дискуссий и ничего
не добился в борьбе за внутрипартийную демократию и
формирование атмосферы гражданского общества.
В России не было, да еще и сегодня нет гражданского общества.
И все-таки в шестидесятые годы Институт философии имел приметы
его элементарной ячейки.
Любопытной институцией были защиты кандидатских и
докторских диссертаций. В Академии наук достаточно строго соблюдался
их старый (еще дореволюционный) либеральный формат.
Выступать мог каждый. В 1963 году общественность Института
использовала эту возможность на защите докторской диссертации эстетиком
В. А. Разумным, имевшим высокую идеологическую поддержку.
Обсуждение длилось 9 часов! Запомнились отважные и умелые
выступления молодого тогда эстетика В. Тасалова и молодого психолога
В. Давыдова.
Завалить Разумного не удалось. Однако тексты, прозвучавшие
с трибуны, подготовили почву для журнальной критики.
Ядовитый памфлет появился в журнале «Вопросы литературы», а затем
«Новый мир» опубликовал один из шедевров философской
публицистики шестидесятых — статью М. Лифшица «В мире эстетики».
Разумный предстал в статье как эклектичный эстетик-прохвост,
102
Э. Ю. Соловьев
который в новых условиях закономерно и бойко заместил эстетика-
доктринера. Рассуждения Разумного Лифшиц сравнивает с
базарными гуттаперчевыми рожицами, которые, потяни их вдоль, примут
выражение унылое, а потяни поперек, сделаются веселыми и
радостными, как колхозники в «Кубанских казаках». «Не читайте
Разумного, - заключает Михаил Александрович. — Я прочел его за вас».
Здесь, когда дело дошло до жесткой философской иронии, нельзя
не вспомнить еще об одной форме публичной активности,
сообщавшей ИФ АН достоинство института гражданского общества. Я имею
в виду институтскую стенную печать.
***
Стенгазета «Советский философ» уже достаточно почтена в
мемориальной литературе. Лучшей из кратких ее характеристик я считаю
следующую реплику А. В. Гулыги: «В 1960-е годы наша стенная
газета пользовалась большой известностью. Это был подлинный рупор
общественного мнения не только Института. Там сотрудничали
специалисты высокого класса. Нашу стенную газету приходили читать
сотрудники из других академических институтов, студенты и
преподаватели философского факультета. Ее знали и за пределами страны.
По словам польского профессора Адама Шаффа, это был "лучший
философский орган социалистического лагеря". В стенной газете
было впервые сказано, что автором философского раздела "Краткого
курса истории ВКП(б)" был не Сталин, а Я. Стэн. В 1964 году
стенгазета опубликовала образчик постыдной печатной продукции,
которую в то время уже прятали от глаз, как чертову свитку, — разносную
рецензию Митина на книгу уважаемого всеми В. Ф. Асмуса "Маркс
и буржуазный историзм" ("Правда" в 1930 годы), где Асмус был
назван пустозвоном и антимарксистом»1.
Поговорю о том, к чему я прямо был причастен, — о
работе стенгазетной команды по сатире и юмору. Ее вожаками были
художники-карикатуристы: А. Зиновьев, Э. Ильенков, Б. Драгун,
Е. Никитин, чье мастерство, право же, было не меньшим, чем
мастерство Кукрыниксов.
1 Тулыга А. В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке.
СПб., 2000. С. 399.
Моховая, 11 — Волхонка, 14
103
Немногие знают, что по части гротеска и шаржа стенгазета
«Советский философ» наследовала стенгазете «За ленинский стиль»,
вывешивавшейся в коридоре философского факультета МГУ. И Ильенков,
и Зиновьев, и Никитин принимали участие в ее сатирических затеях,
пусть нечастых и робких. Впечатляющим событием стала карикатура
А. Зиновьева, появившаяся на ватмане газеты «За ленинский стиль» как
раз в дни факультетской дискуссии о предмете философии. Александр
Александрович представил читателям убийственно похожего Эвальда
Васильевича, который темной ночью раскапывает могилу Гегеля. Для
несведущих это был просто озорной дружеский шарж. Для тех же, кто
знал о подоплеке жестоких идейных передряг, разыгравшихся в конце
сороковых годов, Эвальд в изображении Сашки был иронически
поданным героем: он выкапывал Гегеля, которого Сталин, Жданов и их
убогий факультетский подсказчик, 3. Белецкий, попытались было
захоронить и завалить могильной плитой с надписью « феодально-
аристократическая реакция на Французскую революцию».
Карикатура провоцировала и другие уже назревшие
полемические суждения.
Помню один из разговоров, состоявшихся по данному поводу
(правда, уже не в 1954 году, а много позже).
— Это ведь очень метко, это самая суть того, что хотел и хочет
Ильенков! — вспомнил кто-то.
— Было бы точнее, если бы Ильенков на картинке раскапывал
могилу Маркса, - возразил Юрий Корякин.
— Могилу молодого Маркса, - поправил его Борис Грушин
с полной серьезностью.
В институтскую газету «Советский философ» меня пригласили за
прежние крамольные заслуги.
Студентом-пятикурсником я сочинял и режиссировал
«капустник» философского факультета МГУ. Он был хорошо известен
(воспоминания проникли даже в художественную прозу конца 1970-х
годов). Зуд «капустника» донимал меня и в дальнейшем.
В октябре 1960 года, уже будучи сотрудником «Вопросов
философии», я угодил на военные сборы в Улан-Удэ (был
переквалифицирован из пехотинцев в ракетчики). Прошла пара недель после моего
возвращения в Москву, и на Волхонку, 14 поступил сигнал,
подписанный генерал-полковником, начальником политуправления
Забайкальского военного округа: «При прохождении лагерных сборов
104
Э. Ю. Соловьев
младший лейтенант Соловьев сочинял куплеты и частушки,
порочащие жизнь и быт офицеров Советской армии».
Я был еще комсомольцем, но мой проступок разбирался на
собрании партийной организации журнала. В обсуждении участвовали
неправдоподобно молодые Н. Биккенин, И. Блауберг, Н. Лапин, М. Ма-
мардашвили. Было уютно. Говорили о том, что слова иронически
представленного персонажа никак нельзя вменять автору, который его
сочинил (Скалозуб — не Грибоедов, Чичиков — не Гоголь, Клим Сам-
гин — не Максим Горький). Мераб Мамардашвили произнес
блистательную назидательную речь на тему «Быть, а не казаться». Стыдясь,
я нежился под крышей интеллигентной партийности, так решительно
отличавшейся от партийности военно-окружной. И поеживался,
вспоминая, как на двое суток («до выяснения обстоятельств») был
задержан там, — в местах не столь отдаленных от Магадана.
Меня красноречиво пожурили, но от взыскания оградили,
порешив, что письмо генерал-полковника в комсомольскую организацию
Института лучше вообще не передавать. После собрания на площадке
у лифта меня обнял за плечи тогдашний главный редактор «Вопросов
философии» А. Ф. Окулов, милейший малообразованный человек,
подмигнул и шепотом спросил: «А что, признайся, песенки-то твои
были веселые!»
Спустя пару дней на той же площадке ко мне обратился А. В. Гу-
лыга и сказал, что редколлегия институтской стенной газеты была бы
рада видеть меня в своих рядах.
Газета делалась в помещении месткома. Там мы запирались и
хулиганили. Время от времени в дверь заглядывал кто-то из
сотрудников и скороговоркой высказывал поощрение. Пахло акварелью.
Я метался из угла в угол в поисках рифм. Лучшие девушки Института
приносили из столовой пирожки, и одна из них с большой надеждой
смотрела на Александра Зиновьева, который пририсовывал хвост
кому-то из философских чиновников.
Хорошо помню мой поэтический дебют.
Институт готовился отметить праздник 8 марта. Как раз в этот
момент случилось событие, возмутившее всех. Член-корр. И. Т. Иов-
чук грубо, по-хамски отчитал свою секретаршу Полину П., которая
не по форме, частным письмом сообщила ему об обязанности
прочесть публичную лекцию. Редколлегия попросила меня написать об
этом фельетонно острое стихотворение. При этом было крайне
желательно, чтобы ни фамилии, ни звания, ни должности ни в коем случае
Моховая, 11 — Волхонка, 14
105
не упоминались, но чтобы сам Иовчук без труда распознавался сразу
и всеми. «Не бойся наивностей. - наставлял Эвальд. — Напиши
стишок для детей. Считалку о прохиндее».
Вот как были решены поставленные передо мной задачи:
Растопчук и Проглочук
Горько плакала Полина,
Жертва спеси,
жертва сплина,
Из-за этого весьма
Злополучного письма.
Так старалась:
в каждой строчке
Всё продумала до точки,
Изложив по чести честь
Просьбу лекцию прочесть.
Мы ещё не знаем сами,
В чём была её вина:
То ли почерк плох местами,
То ль духами
на бумагу не побрызгала она.
Только вдруг в конце недели
В окнах стёкла зазвенели
(В дверь ядром ударил зад),
И явился адресат.
Как с порога зарычит на неё,
Как ногами застучит на неё!
«Вы, — кричит он, - не артистка,
Вам поболе тридцати,
Чтоб со мною переписку
Персональную вести.
За повторную попытку:
Бандероль или открытку, -
106
Э. Ю. Соловьев
Я вас тотчас привлеку!
Куд-кудах-ку-ка-реку!»
«Я на то и Наскочук, — говорит.
Растопчук и Проглочук, — говорит.
У меня в квартире газ.
Это раз.
В ста учебниках — глава.
Это два...
А в-четвёртых, —
спецпакетом
Для просмотра, для совета
Шлют мне множество статей,
Ибо я по всем предметам
Всех умней и всех правей...»
Вот что вынесла Полина
От раздутого павлина
Из-за этого весьма
Злополучного письма.
В 1963 г. вышел в свет первый том новой «Истории философии»,
готовившейся под началом Иовчука. Убогим до фарса предстал в нем
Сократ — «идеолог афинской аристократии». Эвальд Ильенков
принес в редакцию стенгазеты такой стишок:
Гоп со смыком, это буду я,
Верховод афинского жулья.
Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
И цикута плачет за меня.
— Вот, — сказал Эвальд. — Может, добавишь пару строф, чтобы
получился законченный прощелыга.
Сочинилось и добавилось четыре строфы:
Я особо пакостный софист,
Потому что с детства неказист:
Уродился я курносый,
Моховая, 11 — Волхонка, 14
107
Глупый, лысый и гундосый,
Сразу видно, что идеалист.
Потирая старческую плешь,
Ловко охмуряю я невеж,
Истязаю в диалоге,
Вовлекая их в итоге
В аристократический мятеж.
Но не верьте, будто бы Сократ —
Попросту партийный бюрократ.
Ибо нету у Сократа
Никакого аппарата,
Только секретарь Алкивиад.
Выкормыш притонов и лачуг,1
Ни идей не чту я, ни людей.
Всё крою под конъюнктуру,
Мою подлую натуру
Понимает только... прохиндей.
Получилась озорная песенка, которая Эвальду полюбилась.
Она исполнялась мною на двух институтских вечерах (концертный
вариант - когда я выходил в сандалиях на босу ногу и в античной
тоге), а также просто в дружеских компаниях. Получил одобрение
А. Ф. Лосева.
Но самым значительным достижением институтского газетного
юмора стоит, пожалуй, признать Митрофана Полупортянцева.
Митрофан Лукич Полупортянцев — лицо вымышленное.
Маска номенклатурного советского философа, предвосхитившая маску
номенклатурного советского писателя Е. Сазонова на шестнадцатой
странице «Литературной газеты». Персонаж родился в 1966 г. Имя
и идея исходили от Арсения Гулыги; лаконичный графический
образ начертал Борис Драгун, а самопредставление Митрофана Лукича
(«Моя афтобеография») сочинялось Эвальдом Ильенковым и мною.
В зависимости от того, в какие предлагаемые обстоятельства попадал
1 Эта поэтически некорректная (незарифмованная) строка
запрашивала Иовчука в рифму.
108
Э. Ю. Соловьев
Полупортянцев, он живо напоминал то одного, то другого
руководителя тогдашнего философского фронта.
Если Газета славословила:
наш Лукич как загорится —
весь в работе Институт,
глядь и ахнет заграница,
глядь и премию дадут, —
то читатель без труда угадывал в Лукиче-энтузиасте М. Т. Иовчука,
который забрасывал Комиссию по Государственным премиям
томами новой «Истории философии», но все никак не делался лауреатом.
Если в пору проведения Международного социологического
конгресса в Эвиане Газета сообщала:
Рано утром в Эвиан
Улетал аэроплан,
Как Бутырская ворами,
Был набит он докторами;
Но в Москве остался наш
Обобщенный персонаж,
Самый видный из загранцев
Митрофан Полупортянцев, —
то уж тут всякий мог понять, что речь идет о М. Б. Митине, которому
французское посольство отказало вдруг во въездной визе.
В «Афтобеографию» Полупортянцева Эвальд Васильевич
включил следующий список его печатных работ:
«1) «Империалиствующие империалисты» (8 стр., издание
НИИБЕ-НИИМЕ, 2-е издание «Academia», 1938, 3-е издание
«Наука» — подготовлено в 3-х томах).
2) Приказ об отчислении группы империалиствующих
империалистов и примкнувшего к ним аспиранта (22 стр., изд. «Academia»,
1938).
3) «Смертоубийцы в халатах» («Советская культура» от 2
февраля 1953 г., удостоена Государственной премии в 1953 г.).
4) «Вершина мировой философской мысли» (1950).
5) «Еще одна вершина мировой философской мысли» (1951).
6) «Эльбрус философской мысли» (1952).
Моховая, 11 — Волхонка, 14
109
7) «Памир (крыша мира) философской мысли» (рассыпана
в 1954 г.). [...]
8) «Кукуруза как вершина мировой философской мысли»
(рассыпана в 1964 г.).
9) «Кукуруза как пример волюнтаризма и волюнтариствующего
субъективизма» (ноябрь 1964).
К списку печатных работ был подсоединен еще и фрагмент анкеты:
«7. Незаконченное [...]
17. Не состоял.
18. Не было етого.
19. Снято.
20. Опять женат»1.
«Афтобеографию» Митрофана Полупортянцева не причислишь
к произведениям высокой сатиры. Перед нами, скорее, сатирическая
«оплеуха наотмашь», которые институтская газета шестидесятых
годов отвешивала нередко и которые сегодня едва ли могут служить
примером для подражания. Вместе с тем, воспроизведенный мною
текст - документ высокой ценности.
Перед нами ведь не что иное, как список печатных работ
типового прохиндея позднего сталинского времени, вышедший из-под пера
Ильенкова. «Афтобеография» Полупортянцева открывает «Про-
хиндиаду», над которой Эвальд Васильевич будет работать все 60-
70-е годы, используя разные литературные жанры, разные поводы
и контексты. Работа эта пока что не стала предметом специального
внимания, хотя именно она, на мой взгляд, содержит самые
выразительные свидетельства того, как набирала силу философская
оттепель и как терял ее догматический марксизм, корчивший все новые
и новые спесивые гримасы, то грозные, то жалкие.
1 Сохранилась фотография Э. В. Ильенкова, заснятого рядом с тем
выпуском стенной газеты, в котором помещена «Афтобеография» Митрофана
Полупортянцева. Есть также фотокопия самой «Афтобеографии»,
составленной из машинописного текста и текста, написанного моей рукой. И тот,
и другой можно прочесть, воспользовавшись увеличительным стеклом
(см. Наш философский дом. М: Прогресс-Традиция, 2009. С. 468-469).
В. M. Межуев
ФАКУЛЬТЕТ В СЕРЕДИНЕ 60-х ГОДОВ XX ВЕКА
Найденкин М. С: Расскажите, как вы стали философом.
Межуев В. М.: Я поступил в МГУ на философский факультет
в 1951 г. Курс был очень сильным: на нем учились Генрих Батищев,
Неля Мотрошилова, Генрих Волков, Лев Науменко, Вадим
Садовский, Ира Балакина, Александр Володин, Петр Алексеев и многие
другие впоследствии известные философы. Сталин умер, когда мы
учились на втором курсе. До того было «дело врачей», и уже на
первом курсе я догадывался, что мы живем в ситуации, крайне опасной
для любого из нас. Так что смерть Сталина, честно говоря, не стала
для меня большой трагедией, я не рвался, как многие, в Колонный
зал, чтобы посмотреть на мертвого вождя. И последовавшие вскоре
после пышных похорон реабилитация врачей и арест Берии не
показались мне слишком неожиданными. Уже тогда я смутно понимал,
что многое делается у нас не так, как нужно, но до полного прозрения
было, конечно, еще далеко.
До третьего курса я толком не знал, чем заняться, всё было
неинтересно. Но на третьем курсе произошел прорыв: мы открыли для
себя Эвальда Васильевича Ильенкова. Это было как откровение
свыше, но только философское. Перед нами, как тогда казалось, наконец
раскрылся истинный смысл и назначение философской
деятельности, причем, что было важно, в границах самого марксизма. Никто из
моих сверстников, равно как и более старшее поколение, не мыслил
себя в то время вне марксизма. Даже те, кто занимался историей
философии, видели в марксизме вершину философской мысли. Знание
современной западной философии было практически на нуле,
зарубежная литература, за редким исключением, находилась в спецхране
и была нам недоступна. Ильенков положил начало так называемому
движению гносеологов: он доказывал, что главным предметом
философии является теория познания, логика — не формальная, а
диалектическая, т. е. содержательная, соответствующая всеобщему порядку
действительного мира. Он обосновывал свою позицию, опираясь на
«Капитал» Маркса с его методом восхождения от абстрактного к
конкретному. Впервые об этом методе мы узнали именно от него. Тогда
многие молодые философы предшествующего нам поколения
увлекались логикой «Капитала». С нее начинали Зиновьев, Мамардашви-
Факультет в середине 60-х годов XX века
111
ли, Грушин. Но только Ильенков стал нашим «властителем дум», что
во многом объяснялось его умением четко и выразительно
формулировать свою позицию. До Ильенкова философию определяли как
науку об общих законах развития всего на свете. Было непонятно,
как реально работать с такой формулой. Ильенков открыл нам, что
подлинным призванием философа является методология науки,
логика, гносеология.
В концепции Ильенкова по критериям того времени было одно
слабое место: куда девать исторический материализм,
считавшийся неотъемлемой частью философского образования? Не
забывайте, только что умер Сталин. И вот я решил этот пробел восполнить.
На четвертом курсе я написал статью, в которой доказывал (я и
сейчас могу под этим подписаться), что материалистическое понимание
истории никакого отношения к философии не имеет. Исторический
материализм был создан Марксом с целью покончить с философией
истории, перевести изучение истории в строго научное русло. Это
примерно как теория Дарвина в биологии. Я показал статью
Ильенкову, он ее одобрил, внес какие-то поправки, и я ее послал в журнал
«Вопросы истории», откуда получил ответ за подписью главного
редактора журнала, известного медиевиста академика Сказкина.
В письме сообщалось, что статья понравилась, но по содержанию
она больше подходит журналу «Коммунист» или «Вопросы
философии». Я понял всю нереальность такого предложения и опубликовал
статью в журнале НСО (научно-студенческого общества),
выходившем на нашем факультете. В результате получил персональное дело
по комсомольской линии с каким-то очень грозным политическим
выговором. Не буду даже говорить, кто меня прорабатывал на
комсомольском собрании. Я был практически на грани исключения, но
хорошо учился и времена изменились: в горкоме комсомола выговор
не утвердили, и меня послали перевоспитываться на лето в колхоз.
H.: А кто был тогда деканом?
М.: В. С. Молодцов. Он меня за что-то невзлюбил. А свой диплом
я писал под руководством Валентина Фердинандовича Асмуса. Тема
диплома «Критика Гегелем формальной логики». Влияние
Ильенкова очевидно. Рецензентом по диплому был Мамардашвили,
тогда еще аспирант, оппонентом - Е. Ситковский, член редколлегии
«Вопросов философии». Асмус — автор учебника по формальной
логике и крупнейший кантовед, не любивший Гегеля, сказал на
защите: за диплом надо поставить «отлично», но он просит, чтобы его
112
В. M. Межуев
не считали ответственным ни за одно слово, там написанное.
Примерно в том же духе высказался и Мамардашвили, он был
антигегельянец, о чем я тогда не знал. А Ситковский сказал мне: «Вадим, очень
хороший диплом, делай статью для "Вопросов философии"». И я ее
написал. Она называлась «Основные принципы гегелевской критики
формальной логики» и была опубликована в 1957 г. в первом номере.
Это моя первая публикация. «Вопросы философии» в то время был
единственным философским журналом на всю страну, там
публиковались всем известные имена, и мне завидовал весь курс. Статью
перевели на три языка, она попала в список литературы, посвященной
Гегелю, мне заплатили огромный по моим понятиям гонорар, на
который я купил первый в своей жизни костюм. До того ходил в каких-
то куртках. И вот с опубликованной статьей в центральном
философском журнале меня почти семь лет не принимали в аспирантуру. Куда
бы я ни поступал, как мне потом сказали, за мной следовала бумага за
подписью В. С. Молодцова: «Не брать».
В 1962 г. я всё же поступил в аспирантуру Института философии,
в только что открывшийся сектор культуры. Пришел уже учившийся
там мой друг Р. В. Садов и сообщил мне: «Открылся новый сектор
в Институте философии, тебя туда могут принять в аспирантуру,
напиши только какой-нибудь автореферат». «Что за сектор?» —
спрашиваю я. «Сектор культуры». «А это о чем?» «Какая разница, есть
место, потом разберешься». И я согласился. В то время попасть
в Институт философии даже в качестве аспиранта было мечтой
любого философа. Академическая свобода! Я написал какую-то ерунду,
и меня приняли. Завсектором был Александр Никифорович
Маслин - отец М. А. Маслина, который ныне заведует кафедрой истории
русской философии на философском факультете МГУ.
Он до того работал в ЦК КПСС. Его заместителем был А. И.
Арнольдов. Тогда в институте работал и Ильенков, изгнанный из МГУ.
Я был с ним уже хорошо знаком, бывал него в гостях в квартире на
улице Горького. Конечно, мы приходили к нему, когда он нас
приглашал. Он ко мне неплохо относился, хотя я не был ни гносеологом, ни
логиком, и вся эта логистика меня, честно говоря, мало интересовала.
Я всегда был, что называется, социально озабоченным, меня
интересовала социально-историческая проблематика, которая в то время
числилась по ведомству истмата. Разумеется, сам истмат мне был
интересен не в том виде, в каком его нам преподавали. Если быть совсем
Факультет в середине 60-х годов XX века
113
точным, меня привлекала философско-историческая проблематика,
из чего потом и выросла моя философия культуры.
H.: А на факультете вы на какой кафедре были?
М.: Это не на факультете, а в Институте философии.
Н.: Это я понимаю. А на факультете вы по какой кафедре?
М.: Я писал диплом по кафедре истории философии. В
институте короткое время директором был Павел Васильевич Копнин, он
приехал с Украины, был очень хорошим человеком, известным
философом, единомышленником Ильенкова. Он как-то меня встретил
в коридоре института, мы о чем-то заговорили, и он мне сказал:
«Вадим, ты так хорошо начинал как историк философии, а теперь какой-
то культурой занялся». Я ему: «Павел Васильевич, лет через десять
культура станет одной из самых популярных тем в философии». Он:
«Нет такой проблемы в философии». Я: «Поверьте, есть».
В то время сектор приступил к написанию коллективной
монографии «Коммунизм и культура». Я аспирант, и предложил себя в
качестве автора первой главы «О понятии культуры», которая
показалась мне наиболее теоретической. Поскольку Маслин знал о моем
студенческом дипломе, опубликованном в «Вопросах философии»,
он согласился. В процессе работы над главой я опубликовал в
«Вопросах философии» статью «Проблема культуры в домарксистской
философии» (1964). Это моя вторая публикация. Между первой
и второй прошло ровно семь лет. В нашей послевоенной философии
я, кажется, был одним из первых, кто обратил внимание на
культуру как сквозную тему всей новоевропейской философии. Когда меня
приняли в аспирантуру, Эрих Соловьев, работавший тогда в
«Вопросах философии», сказал мне: «Ну, Вадим, ты на семь лет отстал, уже
не нагонишь». К тому времени многие мои сокурсники,
действительно, успели защититься, что тогда было намного сложнее, чем сейчас.
В институте я сдружился с Олегом Дробницким, окончившим
университет на год позже меня. Слыхали о нем?
Н.: Расскажите.
М.: К моменту нашего знакомства и последующей дружбы он был
уже известным в стране и за рубежом этиком, самым молодым из
советских философов, защитивших докторскую диссертацию. О нем
можно долго рассказывать. В сорок лет он трагически погиб —
разбился на самолете, возвращаясь из Болгарии в Москву. Его книга
«О понятии морали», вышедшая уже после его гибели, с моей точки
зрения — лучшее, что было у нас написано на эту тему.
114
В. M. Межуев
H.: Он был из вашего сектора?
М.: Нет, он работал в секторе истории (или критики) зарубежной
философии. А мы, как я говорил, готовили к изданию книгу
«Коммунизм и культура». Кстати, хорошее название, многое объясняющее
в том и другом. Работая над главой, я опирался, естественно, на идеи
Ильенкова, отчасти Генриха Батищева, но тогда уже предложил в
качестве базовой категории теории культуры вычитанное мной у Маркса
понятие духовного производства. В советской философской
литературе того времени никто этим понятием не пользовался, я был, пожалуй,
первым, кто ввел его в философский оборот, хотя впоследствии
отказался от его отождествления с культурой. Но приравнивание
культуры к духовному производству прижилось в нашей литературе, было
поддержано рядом философов, в частности, В. Ж. Келле и Н. С. Зло-
биным (особенно последним). Книга «Коммунизм и культура» вышла
в 1967 г. и стала философским бестселлером. А. Н. Маслин, который
вначале был мной недоволен, даже хотел отчислить из аспирантуры
(он считал, что категории «деятельность» и «производство»
применительно к культуре подменяют ее философский анализ
экономическим) после успеха книги вдруг в корне изменил свое отношение ко
мне и даже уговаривал остаться и продолжить работу в секторе.
H.: А потом сепарировалась культурология?
М.: Да. Правда, она называлась не культурологией, а теорией
культуры. Книга стала широко известна в философских кругах, и
после ее выхода в разных городах страны начали образовываться
философские центры по изучению проблем культуры. Помню, приехал из
Свердловска Л. Н. Коган и сказал мне: «Я бы тебе за одну твою главу
дал кандидата философских наук». А. И. Арнольдов через общество
«Знание» издал ряд глав из этой книги, в том числе мою, в виде
отдельных брошюр. Моя называлась «Что такое культура?». С книги
«Коммунизм и культура», собственно, и начинается у нас
разработка философской теории культуры. До того ни в одном учебнике по
философии вы не найдете главы о культуре. Но книга, конечно, была
советской, сами понимаете. Чуть позже были изданы учебники по
теории культуры, а сама теория включена в число философских
дисциплин и специальностей. Так что в разговоре с Копниным я оказался
прав. Интерес к проблеме культуры в те годы вполне объясним:
общество после XX съезда стало немного оттаивать и
гуманизироваться, что повысило интерес к человеческой личности, а следовательно,
и к культуре как главной среде ее обитания.
Факультет в середине 60-х годов XX века
115
Н.: И у вас, начиная с 3 курса, сохранилась связь с Ильенковым
и деятельностным подходом?
М.: Через это все прошли. Иное дело, что так называемый «дея-
тельностный подход» не всеми понимался одинаково.
H.: А чем объясняется такая волна? В чем суть этой вехи, с вашей
точки зрения?
М.: Следует учитывать, как строилось философское образование
до появления философов-шестидесятников. Оно базировалось на
главе из «Краткого курса истории ВКП(б)» «О диалектическом и
историческом материализме», авторство которой приписывалось Сталину.
Мы заучивали четыре черты материализма, три закона диалектики,
потом распространяли их на понимание истории. Когда после
смерти Сталина впервые на русском языке были изданы ранние
рукописи Маркса, всем стало ясно, что центральной категорией для Маркса
является труд, или деятельность. О чем первый тезис Маркса о
Фейербахе? О том, что действительность надо брать не в форме объекта,
а как чувственно-практическую деятельность, т. е. субъективно. Мир
не просто материален, а практичен, и следовательно, в самой практике
надо искать ответ на вопрос о том, в чем состоит его материальность.
Маркс называл свой материализм не диалектическим и даже не
историческим, а практическим. Субстанцией для Маркса была не природа,
не мертвая материя, а живая человеческая деятельность. Это и
доказывал Ильенков, но применительно лишь к мышлению, к сознанию.
Объяснение мышления как деятельности постепенно вытесняло
из философского оборота ленинскую теорию отражения, хотя сам
Ильенков пытался как-то совместить эти две концепции. Именно
здесь пролегал основной философский водораздел между
периодами сталинизма и оттепели. Наиболее ярко он предстал в работах
Э. В. Ильенкова. Тогда же вышли книга М. Б. Туровского «Труд и
мышление», Ю. Н. Давыдова «Труд и свобода», работы Г. С. Бати-
щева о деятельностной природе человека — своеобразный вариант
марксистской философской антропологии. Через категорию
деятельности стали анализировать искусство и мораль, эстетика и этика как
бы обрели новое дыхание. Иное дело, что вокруг понятия
деятельности завязалась острая дискуссия, чем-то напоминавшая ту, что шла
в свое время в новоевропейской философии вокруг понятия разума.
Концепция деятельности была положена нашими философами,
в частности мной, и в основу определения культуры, хотя саму
деятельность мы трактовали по-разному.
116
В. M. Межуев
H.: И в психологии в том числе?
М.: Да, возникла школа В. В. Давыдова — ученика Выготского
и Леонтьева, близкого друга Ильенкова, появились другие крупные
психологи, которые предприняли попытку создания деятельностной
теории обучения и всего педагогического процесса. А в общем курсе
философского образования появилась новая дисциплина — общая
теория культуры. Ее, правда, называли марксистко-ленинской, но
тогда всё так называли. Общей методологической установкой для этой
теории служил всё тот же деятельностный подход, хотя, повторю,
по-разному интерпретированный разными авторами. В своей книге
«Идея культуры», вышедшей в 2007 г., я попытался рассказать о
некоторых из этих интерпретаций. Но вот что важно. Именно
приверженностью к деятельностному подходу объясняется, почему многие
философы, критически настроенные по отношению к советской
власти, сохраняли верность марксизму. Ведь данный подход, сменивший
плоскую теорию отражения, был заимствован у Маркса, и, казалось,
ему нет разумной философской альтернативы. До какого-то времени
и я придерживался того же мнения, хотя несколько по-иному, чем
другие, понимал саму деятельность. Но об этом чуть позже.
В 1977 г. вышла моя книга «Культура и история», которую
перевели на несколько языков, включая немецкий, французский,
испанский. В ней я попытался вписать культуру в историческую теорию
Маркса. Но главное даже не в этом. Через призму культуры я хотел
разобраться в самой этой теории, понять ее смысл. И здесь я
несколько разошелся с Э. В. Ильенковым.
H.: А в чем конкретно, интересно?
М.: При жизни Ильенкова я не вступал с ним в дискуссию,
хорошо понимая его место и непростую судьбу в нашей философии,
но как-то постепенно уходил из-под его влияния. Со мной и сегодня
ильенковцы полемизируют, говорят, что всё, о чем я говорю,
Ильенков понимал лучше меня. Этого я оспаривать не буду. Но различие
не в том, что он был марксистом, а я нет, а в разном понимании нами
сути этого учения. Ильенков видел главную задачу марксистской
философии в разработке диалектической логики, считал себя в первую
очередь логиком и тем самым, на мой взгляд, в какой-то мере
подменял Маркса Гегелем. Он был своеобразным неогегельянцем на
марксистской почве, а если быть более точным, вслед за Лениным считал,
что без знания логики Гегеля нельзя понять и Маркса. О гегельянстве
Ильенкова писал и Мамардашвили.
Факультет в середине 60-х годов XX века
117
Возможно, сведение философии к логике и теории познания, ее
«гносеологизация» соответствовала взглядам самого Маркса
(Энгельс, как известно, писал, что после Гегеля от философии остается
только логика — формальная и диалектическая). Но сам Маркс себя
философом не считал и не претендовал на это звание. Он считал себя
историком (так, во всяком случае, он думал о себе), но историком
особого рода. Его историческая теория, названная им
материалистическим пониманием истории, противостоит и философии истории,
и эмпирической историографии. Предметом ее является история не
сознания, а бытия, общественного бытия в процессе его производства
людьми. Иными словами, не логика, а практика (общественно
созидающая деятельность) - в центре его внимания.
В советское время самое интересное, что было написано
нашими философами о Марксе, касалось понимания им сознания,
мышления, познания, но никак не бытия. Общественное бытие было
цензурировано властью до такой степени, что отбивало у мыслящих
людей всякую охоту им заниматься. Истмат был не в почете у
философской молодежи и вызывал у наиболее талантливых из них лишь
презрительную усмешку. Но тем самым перекрывался путь к
подлинному смыслу учения Маркса. Я всегда думал, что именно понимание
истории, а не логики, даже диалектической, составляет своеобразие
и оригинальность этого учения. Кстати, по части диалектики наши
философы так и не сказали ничего нового по сравнению с Гегелем,
а из исторической теории Маркса вышли впоследствии наши
социологи и культурологи. И сегодня Маркса чтят во всем мире как
выдающегося социолога (наряду с Дюркгеймом и Максом Вебером),
но не как логика.
Н.: Политология в том числе?
М.: Совершенно верно. Маркс интересен своим новым
пониманием бытия, из чего только и можно заключить, как он понимал
сознание. Знаменитая дискуссия между М. А. Лифшицем и
Ильенковым о природе идеального натолкнулась, на мой взгляд, именно на
эту проблему — на понимание Марксом бытия.
Н.: Не Лифшица, а...
М.: Ильенков написал статью «Идеальное» для «Философской
энциклопедии». Статья стала знаменитой.
Н.: Наверное, Ильенков — Дубровский, простите?
М.: Это позже. А вначале был спор Ильенкова и Лифшица о
понимании идеального Марксом. «Ильенковцы» до сих пор спорят на
118
В. M. Межуев
эту тему. С моей точки зрения, Ильенков, объясняя природу
идеального, не объяснил другого: что Маркс понимал под материальным.
В этом вопросе он опирался на определение материи, данное
Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» (кстати, совершенно
немарксистское). В итоге, как и Ленин, он пришел к
отождествлению материального и природного, т. е. остался на позиции
старого - созерцательного - материализма. М. А. Лифшиц, возражая
Ильенкову, писал, что идеальное, как и материальное, присутствует
в самой природе.
Но для Маркса, я думаю, материальное — такой же продукт
человеческой деятельности (практики), как и идеальное. Тем самым
он выводил материальное не из природы, а из той же человеческой
деятельности. Что Ильенков называл «идеальным в вещах», Маркс
считал материальным. Но тогда решение вопроса о материальности
мира следует искать не в «диамате», а в «истмате», не в логике и
теории познания, а в практике, не в философии даже, а в
материалистически, т. е. научно, понятой истории. Материализм здесь - синоним
не философской, а научной теории истории.
Для современных молодых философов подобный спор может
показаться схоластическим, но тогда за ним скрывалось разное
понимание того, в каком направлении должен развиваться марксизм.
Для Ильенкова он сводился к разработке диалектической логики, для
Лифшица — к разработке онтогносеологии, но оба теряли историю,
пусть даже как только логико-методологическую проблему — по
примеру, скажем, логики «наук о культуре» неокантианства,
родившей аксиологию, или герменевтического метода исторических наук
(«наук о духе») Дильтея. Это направление развития философской
мысли, опиравшееся на опыт исторических наук, было совершенно
упущено нашими философами. Большинство из них двинулось в
сторону позитивизма и философии естествознания.
Ильенков, конечно, не отрицал истории, много писал о
соотношении логического и исторического, но в конечном счете видел свою
задачу в сведении исторического к логическому. Я же постепенно
приходил к выводу, что историю нельзя целиком свести к логике, к
рационально выстроенной теории, что в ней всегда сохраняется не
рационализируемый остаток. Иными словами, общественное бытие — не то,
что уже создано и требует лишь осознания, а что находится в процессе
исторического становления и развития. Онтология Маркса — это
онтология не завершенного, не сложившегося до конца бытия.
Факультет в середине 60-х годов XX века
119
Соответственно я расходился с Ильенковым и в понимании
человеческой деятельности. Для Ильенкова, как я его понимал,
деятельность носит предметный, чувственно преобразующий характер.
Иными словами, она есть труд, создающий предметы. В процессе
труда человек придает веществу природы определенную форму, в
которой как бы запечатлевается общая логика создавшей его
деятельности. Она и есть идеальное в предмете. Идеальное — это та печать,
которую деятельность накладывает на вещество природы. Так я
всегда понимал Ильенкова.
В понимании деятельности как предметной я, признаться,
не вижу ничего оригинального. О том, что люди создают полезные
для себя предметы, знали задолго до Маркса, и в этом не было
никакого открытия. Маркс, на мой взгляд, открыл нечто иное —
способность труда создавать не просто предметы, но общественные
отношения между людьми, а значит, самого человека как общественное
существо. Не предметы, а отношения - вот что является главным
результатом человеческого труда. Об этом у Маркса прямым текстом
сказано. Критикуя Прудона, он писал, что тот понимает, что человек
создает шелк, сукно, еще что-то, но для этого много ума не надо. Вот
чего не понял Прудон, так это то, что труд, создавая вещи,
одновременно создает отношения между людьми. Маркс открыл
общественную природу труда, т. е. его способность в форме вещей, в «вещной
форме» создавать общественные связи между людьми. Эти связи
и отношения Маркс и называл материальным, отличая их от
идеального — от их фиксации на уровне сознания в форме идей.
Признай Маркс наличие идеального в самих предметах, пусть
и созданных трудом (как это делал Ильенков), он был бы не Марксом,
а еще одним гегельянцем. Никакой материи (равно как и
диалектики) за пределами человеческой истории, человеческой практики для
Маркса не существует. В этом смысле у него нет и диалектического
материализма, взятого в отрыве от исторического. «Диалектика
природы» Энгельса, так и не написанная им, вряд ли аутентична взглядам
Маркса. Природа до практики, согласно Марксу, вообще практически
нигде не встречается.
Н.: Она всегда так или иначе вовлечена в практику?
М.: Да, совершенно верно. Отсюда мое расхождение не только
с ильенковцами, но и с теми, кто замыкался тогда исключительно
в рамках гносеологии и эпистемологии. История их мало
интересовала. Многие из них чуть позже увлеклись позитивизмом, затем его
120
В. M. Мвжуев
критикой от Т. Куна до К. Поппера, другие занялись философскими
проблемами естествознания, системным анализом, структурализмом
и пр. Они также по-своему избавлялись от власти «диамата»,
выдавая за него разного рода методологические изыскания, опиравшиеся,
как правило, на опыт естественных наук, но упускали из виду то, что
происходило тогда в «истмате» и вообще в исторической науке того
времени. Но именно здесь деятельность в качестве универсального
объяснения всего на свете была поставлена под сомнение.
Никто из наших логиков и гносеологов не обратил внимания,
например, на знаменитую дискуссию об «азиатском способе
производства». Это был огромный поворот в историческом сознании того
времени. Всего таких дискуссий было четыре, три из них
довоенные. Почти все участники первых трех стали жертвами сталинского
террора, четвертая, послевоенная, была инициирована академиком
Варга. И здесь большое влияние на меня оказал М. А. Виткин,
объяснивший мне смысл этих дискуссий. Он был историком, его
приняли в наш сектор культуры аспирантом. Им была написана
кандидатская диссертация «Концепция Востока в работах К. Маркса
и Ф. Энгельса», изданная чуть позже в виде небольшой книжки.
На мой взгляд, эта книжка — лучшее, что было написано в то время
на тему азиатского способа производства. Сам термин, как известно,
принадлежит Марксу, используется им в подготовительных
рукописях к «Капиталу», но в более поздний период он от него почему-то
отказывается. Почему?
Виткин открыл для меня «позднего Маркса» (после издания им
первого тома «Капитала), о котором мы мало что знали.
Большинство из нас, включая Ильенкова и Батищева, апеллировали к
«раннему Марксу», с публикации рукописей которого и началась у нас
философская оттепель, или в лучшем случае к «Капиталу». Я как-то
спросил Т. И. Ойзермана, признанного у нас специалиста по Марксу,
как он относится к позднему Марксу. Он переспросил: «А что вы
считаете поздним Марксом?» Я ответил: «Маркс после выхода первого
тома "Капитала"». Первый том вышел в 1864 г., а умер он в 1883-м.
Прошло почти 20 лет. Чем он занимался в эти годы? Почему не
издавал ни второго, ни третьего, ни всех последующих томов
«Капитала»? Издал по сохранившимся рукописям Энгельс с примечанием,
что Маркс хотел многое переписать заново, но не успел. И поэтому
он, Энгельс, издает рукописи в том виде, в каком они сохранились.
Ойзерман сказал, что он этим вопросом не занимался.
Факультет в середине 60-х годов XX века
121
Я не знаю никого, кто лучше Виткина раскрыл бы направление
мыслей Маркса в последний период его жизни. Он первый обратил
мое (и не только мое) внимание на знаменитые конспекты его письма
к Вере Засулич. Та обратилась к нему с просьбой ответить на вопрос
о перспективе социалистического движения в России. Маркс садится
за ответ. Пишет первый ответ (примерно на два листа) —
перечеркивает, второй — также перечеркивает, третий — и тоже перечеркивает.
Отделывается небольшой запиской. Все три конспекта этого письма
хранились в архиве Каутского и были выкуплены Рязановым, а затем
впервые изданы им на русском языке лишь в 1924 г. Ленин их не
читал (он вообще многое у Маркса не читал). Сейчас о них знает любой
марксовед, но тогда, хотя они и были напечатаны в собрании
сочинений Маркса и Энгельса, никто не обращал на них серьезного
внимания. А вот Виткин смог доказать, что в конце жизни Маркс
существенно изменил свое представление о ходе и содержании исторического
процесса, выделив в качестве его первой ступени «первичную, или
архаическую, формацию», включающую в себя первобытность и
Восток и не имеющую ничего общего с «общественно-экономической
(вторичной) формацией». Общественно-экономическая формация,
в которой до того видели объяснение всей человеческой истории, тем
самым сужается до размеров одного Запада, причем в своей наиболее
развитой форме предстает на его заключительной -
капиталистической - фазе. Но тогда большая часть человечества оказывается за ее
пределами. Вот тебе и экономический детерминизм Маркса. Эту
книгу Виткина сняли с продажи сразу же после ее выхода. По тем
временам она была чистой крамолой.
Из этой книги напрашивались два вывода. Первый состоял в том,
что пока мир был озабочен противостоянием двух лагерей,
социалистического и капиталистического, а СССР - якобы происходившим
в нем переходом от социализма к коммунизму, современность
оказалась перед историческим вызовом совсем иного рода: большинство
стран, включая Россию, не преодолели даже тот рубеж, который
отделяет первичную (архаическую) формацию от вторичной
(экономической). Именно наличие этого вызова заставило чуть позже
заговорить о модернизации как переходе от архаики к модерну. Проблема,
поставленная поздним Марксом, нашла свое продолжение в
последующем различении «механического» и «органического» (Дюркгейм),
Gemeinshaft и Gesellshaft, ценностно- и целерационального действия
(М. Вебер), первого и второго «осевого времени» (К. Ясперс), короче,
122
В. M. Межуев
во всем том, что получило в наше время обобщенное название
«Востока» и «Запада». Встал вопрос: Восток - это состояние,
предшествующее Западу (Запад как бы призван сменить собой Восток), или
равновеликое ему цивилизационное образование?
Другой более фундаментальный вывод касался понимания роли
труда в истории, его истолкования как деятельности, порождающей
общественные отношения. Маркс, как я уже говорил, считал такое
понимание труда своим главным открытием. Чтобы объяснить, как
из труда возникают вещные (товарные) отношения, он придумал
учение о «двойственном характере труда» - абстрактном и
конкретном. Но можно ли из труда вывести не вещные, а
«непосредственно личностные» отношения, господствовавшие на протяжении всей
истории первобытности и древних цивилизаций Востока? Какой труд
может служить источником (и, следовательно, объяснением)
кровнородственных связей и тех, что лежат в основе азиатских деспотий?
Если крестьянский, земледельческий, то он не выводил за пределы
отдельной общины и нигде не скреплял собой древние общества. Такой
скрепой на Востоке всегда было государство (в лице его верховных
правителей) и религия. Производительный труд перестает служить
универсальной отмычкой ко всей человеческой истории. Природа
человеческого взаимодействия (интеракции) и общения выходит на
первый план, образуя собой новую, отличную от предметной
деятельности область исследования. Именно здесь обозначились иные
пути в постановке и решении философских проблем, прямо уже не
связанные с деятельностным подходом. Подобные выводы прямо
следовали из анализа взглядов Маркса позднего периода.
Сам Виткин после выхода своей книги, естественно,
эволюционировал в сторону социологии, в направлении, так сказать, от
марксизма к веберианству. Он перешел на работу в открывшийся тогда
Институт социологии, где стал заместителем Левады, руководившим
там каким-то сектором или отделом.
Н.: В каком году примерно вышла книга Виткина?
М.: В начале 70-х, по-моему. После разгрома Института
социологии, учиненного Ягодкиным (был такой секретарь по идеологии МГК
КПСС), он вернулся обратно к нам в институт, в сектор В. Ж. Келле,
но в качестве не старшего, а младшего научного сотрудника. Мы все
хлопотали за него, пытаясь восстановить в звании старшего научного
сотрудника, которое он имел у Левады. К тому времени я тоже
работал в секторе Келле. В собственном секторе культуры, в котором за
Факультет в середине 60-х годов XX века
123
это время сменилось много руководителей, мне не давали
возможность защитить кандидатскую диссертацию, хотя у меня уже был
внушительный список публикаций.
Н.: Почему?
М.: Видимо, я больше устраивал секторское начальство в
качестве младшего научного сотрудника без степени — руководить
было проще. Поэтому, когда В. Ж. Келле предложил мне перейти
к нему в сектор, я сразу согласился. А по составу у него был
потрясающий сектор.
Н.: Это сектор до разгона?
М.: Да, до разгона. До образования Института социологии у Келле
работали Юрий Левада, Борис Грушин, Нина Наумова, Евгений Пли-
мак, Юра Бородай, Эрик Соловьев, Неля Мотрошилова, В. И.
Толстых — всех не перечислишь. Из этого сектора можно было создать
целый институт. И Виткина Келле взял в сектор. Тогда же началась
атака Ягодкина на наш институт, и прежде всего на сектор Келле.
Слыхали о таком?
Н.: Нет, расскажите.
М.: Был такой секретарь МГК по идеологии, который объявил
войну ревизионизму в АН. Кстати, пришел из МГУ, был секретарем
парткома МГУ и очень нравился Гришину. Он фактически
уничтожил Институт социологии, разрушил еще несколько институтов, но
зарвался. Дело дошло до Брежнева, и его сняли.
Н.: Кто-то за ним стоял?
М.: За ним стоял Гришин. Первый секретарь МГК и член
Политбюро. Но Ягодкин перестарался, написал какую-то статью о
литературе, опубликовал в журнале «Коммунист». Тут уже испугались
писатели и деятели культуры, обратились к Брежневу, и тот его снял.
Но сектор Келле был все-таки расформирован, а сам Келле был
вынужден уйти из института. Надо сказать, что одним из поводов для
разгона сектора стал Виткин, который втайне от нас подал заявку на
эмиграцию в Израиль. В итоге он уехал в Канаду, где и живет по
настоящее время.
После ухода Келле ему на смену из МГУ прислали Юрия
Константиновича Плетникова, который привел с собой ряд других
преподавателей. Надо сказать, что ему я во многом обязан тем, что остался
на работе в секторе и вообще в институте. Институтское начальство
в то время смотрело на меня довольно косо, особенно после
отъезда Виткина. Я провожал его на аэродром, и кто-то написал на меня
124
В. M. Мвжуев
анонимку в райком. Юрий Константинович, который мне почему-то
симпатизировал, ходил в райком, защищал меня и потом всегда
относился ко мне очень по-доброму. Я, конечно, участвовал в
коллективных трудах сектора, о чем нет сейчас смысла подробно рассказывать.
Некоторые из них, несомненно, утратили всякую актуальность, но
были и такие, которые, на мой взгляд, внесли определенный вклад
в историю отечественного марксоведения. Назову лишь одну
работу - «Духовное производство», монография, написанная по моему
предложению и под руководством В. И. Толстых небольшим
коллективом авторов (Толстых, Сиземская, я и Козлова). В 1984 г. я
защитил докторскую диссертацию.
Н.: Тогда не было такой гонки академической с тем, чтобы
получить степень?
М.: Гонки не было, во всяком случае у тех, кто всерьез относился
к своей профессии. Многие известные философы, например, В. С. Би-
блер, К. М. Кантор, кажется, Г. П. Щедровицкий вообще не были
докторами наук. Да и другие — тот же Ильенков — защищали
докторскую довольно поздно.
В наше время даже защита кандидатской была событием. А
защита докторской — событие общесоюзного уровня. Говорили друг
другу: «Слышал, вчера такой-то докторскую защитил». Это был
переход в совершенно новое качество — и по статусу, и в плане
материальном.
H.: А потом началась девальвация?
М.: Да, доктора стали плодиться, как грибы в лесу.
H.: А чем объясняете? Это девальвация чего?
М.: Интересный вопрос. Прежде всего, конечно, это девальвация
знания, профессионализма. Во времена сталинизма были
академики, которые не дотягивали даже до уровня кандидатов наук и даже
не были ими. Но то было идеологическое начальство, и их было
не так много.
Но были философы и европейского уровня с дореволюционным
образованием: В. Ф. Асмус, П. С. Попов, М. Ф. Овсянников, А. Ф.
Лосев. Да и философы периода оттепели, так называемые
шестидесятники, достаточно высоко держали планку философского знания.
Н.: Планка определенная была.
М.: Да, была. Она начала снижаться в 1970-1980-е гг., в период
застоя, а что сейчас происходит, я вообще не понимаю.
Н.: Об этом хочется подробнее.
Факультет в середине 60-х годов XX века
125
М.: Почему снизилась планка? Во-первых, снизились критерии
оценки философской работы. Требования к диссертациям предельно
упростились; мы дипломные работы писали порой на более высоком
уровне. Люди со званиями, не соответствующими их знаниям,
начинают плодить себе подобных, размножаются в ускоренной
прогрессии. В наше время кандидат и тем более доктор философских наук
должен был знать историю философии, владеть философским
языком, быть в курсе последних философских событий. Я не считаю себя
специалистом по всем философским вопросам, что-то знаю лучше,
что-то хуже, но классическую философию мы все изучали. Сейчас
спросите у некоторых докторов философских наук, чем Гегель
отличается от Канта, и они не ответят. Потеряны все критерии
философского профессионализма. Человек, считающий себя философом,
не может ответить на вопрос, что он понимает под философией.
Вроде бы, философ, а чем занимается философия, какую функцию
выполняет в обществе и культуре, ради чего существует - об этом он
даже не задумывается. Очень много людей пришло в философию из
естественных и технических наук, пытаясь наверстать в ней то, что
им там оказалось не под силу. Многим вообще философия кажется
легким хлебом, доступным каждому.
Н.: Это вы имеете в виду расцвет истории науки, методологии
науки.
М.: И под словом «методология» часто понимают что угодно.
Философия если и занималась методом, то не столько частных наук,
сколько своим собственным. Диалектика — это философский метод,
а не физики или биологии. То, что под методом понимал Декарт, Кант,
Гегель, было методом философии. А как у нас готовят философов?
Раньше они обучались в ведущих университетах страны, сейчас их
выпускают все кому не лень. Наоткрывали по всей стране философские
факультеты: кто там преподает, что преподают? Нам в МГУ целый год
читали античную философию, у нас были спецсеминары по
Аристотелю, Гегелю, Канту, мы читали и изучали их тексты, спорили. А сегодня
люди, не прочитавшие ни строчки из философской классики, называют
себя философами. Ну ладно философы, без них люди еще как-то
проживут, а если такие врачи, юристы, экономисты? Отсюда у нас и
философия такая, непонятно зачем и кому нужная. Ее престиж сегодня
держится в основном за счет переводов с иностранных языков.
Н.: То есть на излете сталинского времени знание философское
имело характер элитарности?
126
В. M. Межуев
M.: В то время философию губило, конечно, то, что она была
идеологическим орудием власти, считалась мировоззрением
господствующей партии.
Н.: Но атмосфера, я имею в виду ценности знания и элитарности,
создавали определенные критерии.
М.: Философ и должен входить в культурную элиту общества.
Когда-то он занимал в ней центральное место. Но сегодня на это
место претендуют не философы, не ученые и даже не художники,
а журналисты. Ведь мы живем в век СМИ. В медийном пространстве
журналисты заменили собой всех. На телевидении и радио — а это
главные средства массовой коммуникации в наше время —
журналисты, ведущие передачи, как бы присвоили себе право говорить за
всех, право последнего слова и окончательного мнения. Иногда
создается впечатление, что приглашенные ими гости - только подвод
для оглашения своей собственной позиции. Они — хозяева эфира,
и потому свое мнение считают самым авторитетным.
Н.: Универсальный медиатор.
М.: Да, совершенно верно. Это происходит, конечно, не только
у нас. Но это особый разговор — о том, что представляет собой
современная массовая культура и какое место в ней занимает философия.
Н.: В тотальной массовой культуре?
М.: Да, в массовом обществе. Это действительно большая
проблема. Ее еще в XIX в. поставили.
Н.: С появлением массового рабочего такого пролетариата.
М.: Пролетариат тут ни при чем. Массовое общество — не
пролетарское общество. Массы — особая социальная категория, не народ,
не нация, не класс. С появлением массового общества возникла и
социология. Социология - наука не о любом, а о массовом обществе,
о поведении людей в социальных институтах. Отсюда же и
социальная психология, которая, в отличие от индивидуальной психологии,
занимается психологией толпы, масс. Массовая культура — это
способ управления (манипулирования) людьми в массовом обществе.
H.: А вот вы пишете о том, что 1950-1960-е гг. - это скорее
ильенковское время, а 1970-1980-е?
М.: Да, я различаю философию периода оттепели и
философию периода застоя. Мы — нация литературная, любим обозначать
основные периоды нашей истории с помощью литературных
метафор: оттепель, застой, перестройка. Слово «оттепель» из литературы
пришло. Оно еще в XIX в. служило для обозначения наступившего
Факультет в середине 60-х годов XX века
127
после смерти Николая I царствования Александра II. А во времена
Хрущева вышла повесть И. Эренбурга «Оттепель». Название этой
повести и послужило названием для целой эпохи. Люди периода
оттепели (шестидесятники) считали, что действительность, как она
сложилась в Советском Союзе, все-таки содержит в себе некоторую
долю разумности, но только искаженную, извращенную в период
сталинизма, культа личности. И надо как-то преодолеть эти извращения,
вернуться к подлинному марксизму и социализму, придать им
человеческое лицо. Потому и термин «отчуждение» был столь популярен
у философов-шестидесятников. После разгрома Пражской весны вера
в марксизм и социализм у значительной части интеллигенции рухнула.
С этого начинается застой. Большая часть интеллигенции перестала
видеть в действительности какой-либо смысл, посчитав ее полностью
иррациональной. Можно выразить ту же мысль следующим образом:
если люди периода оттепели еще придерживались гегелевской
формулы «всё действительное — разумно», т. е. за всеми ее превращенными,
отчужденными, искаженными формами скрывается нечто разумное,
то в период застоя они отказали действительности во всякой
разумности. На этом и строилась вся философия Мамардашвили, который
не считал себя шестидесятникам и человеком оттепели. Единственное,
что может философ в этой ситуации, это вернуться в сознание,
закрыться в нем, существовать исключительно из когито, из мысли. Отсюда
полное неприятие политики, деполитизация философии. Неприятие
любой политики, если она советская, сталинской, хрущевской, любой.
Ну, понятно, и полное отвержение социальной и исторической
проблематики. Главный философский поиск этого периода - как остаться
философом в стране, где философия стала официальной идеологией,
оправданием существующей действительности.
Н.: Вы говорите, что относите себя к шестидесятникам, а если бы
в 1950-1960-е гг. были сохранены темпы роста, которые были при
Сталине, экономические темпы роста, вот это колоссальное
движение, которое осуществлялось?
М.: Знаете, это один из мифов. Да, рост был, но чего? У нас вся
промышленность работала на оборону, но не на людей. Танков,
ракет, снарядов производилось огромное количество, а штаны надо
было покупать за границей.
Н.: Ну а такую индустриальную мощь высокотехнологичную
можно было переориентировать в определенной части на внутреннее
потребление, на примитивные потребительские товары?
128
В. M. Межуев
M.: А что же не сделали? Советский Союз погиб из-за двух
дефицитов: дефицита потребительских товаров и дефицита свободы -
политической и любой другой. Почти вся русская философия
Серебряного века была упрятана в спецхран. Фрейд и Ницше были под
запретом, да и почти вся современная западная философия. Я уже не
говорю про философию русского зарубежья. То, что у нас
преподавали под видом марксизма, имело к марксизму весьма отдаленное
отношение. Даже взгляды Ленина преподносились в весьма искаженном
виде. Я не идеализирую Ленина, но то, к чему он пришел в конце
жизни, было замалчиваемо. Как марксизм для видимости был подменен
ленинизмом, так за ленинизм в конечном счете выдавали сталинизм.
Культ личности Сталина был разоблачен, а сталинизм как идеология
сохранялся. Как вы думаете, в чем суть этой идеологии?
Н.: Скажите.
М.: Суть сталинизма как идеологии — отождествление
социалистической идеи с реальностью. Через 12 лет после смерти Ленина
Сталин объявил, что социализм в целом построен. Иными словами,
он превратил социализм даже не в утопию, а в миф, выдал за него то,
что им вовсе не являлось. Ни один грамотный марксист не
подписался бы под этим, не назвал бы социализмом режим, выстроенный
Сталиным. Поэтому всех грамотных марксистов он и уничтожил.
Именно идеология сталинизма легла в основу политической
практики сталинизма — террора и ГУЛАГа.
Н.: Это даже не метафизика?
М.: Это не метафизика, а черная магия. Какой-то шаманизм.
Я с Зиновьевым не согласен, когда он пишет: «Коммунизм таков,
каким был у нас, и другим быть не может. Он везде таков».
Коммунизмом, конечно, можно назвать всё, что угодно, всё, что отрицает
капитализм. Но для Маркса коммунизм — не общество, которое когда-то
будет построено на радость всем, а синоним бесконечно длящейся
истории. С коммунизмом история людей не заканчивается, а только
начинается (до того была лишь история вещей и идей). Главная
проблема, которую решает коммунизм, — как жить в истории, в
историческом времени. Мы никогда этого не понимали. До сих пор, считал
Маркс, люди делали историю, но еще не жили в ней, поэтому всю
предшествующую историю он и называл «предысторией». Но что
значит жить в истории? Такая жизнь равносильна для Маркса жизни
человека в свободном времени, целью которой является
производство человеком себя и своих отношений с другими людьми. Именно
Факультет в середине 60-х годов XX века
129
переход к свободному времени знаменует для Маркса начало
подлинной истории.
Н.: Свободное время как высшая ценность?
М.: Не ценность, а базис общества. Можете себе представить
общество, базирующееся не на рабочем, а на свободном времени? Это,
значит, столько обществ, сколько людей, вступающих в общение.
Нет одного общества на всех. Если угодно, идея коммунизма есть
доведенная до логического предела идея гражданского общества, хотя
Маркс называл подобное устройство совместной жизни людей не
гражданским, а человеческим обществом. Люди вступают здесь в
отношения друг с другом сообразно своим запросам и интересам. Такое
общество как бы постоянно переструктурируется в зависимости от
тех, кто вступает в общение. В этом смысле Маркс — критик любого
общества, не только капиталистического, если оно становится
плотиной на пути истории. Ведь каждое такое общество хочет как бы на
себе закончить историю, остановить время, считает себя последним
в истории. Оно в этом смысле — пожиратель времени. Маркс ставит
вопрос: может ли общество быть не наглухо перегораживающей
плотиной на пути истории, а плотиной со шлюзами, через которые
история свободно течет в нужном ей направлении? Возможно, и такую
постановку вопроса следует признать утопической. Но в чем другом
может состоять человеческая история?
Н.: Открытая система?
М.: Да, постоянно открытая система. А разве что-то иное
происходит в странах с развитым гражданским обществом? Люди ведь
вовлекаются в активную гражданскую жизнь не за деньги, а
добровольно. Для этого нужно и свободное время. Маркс не считал, что можно
полностью избавиться от рабочего времени, но ведь его можно свести
к минимуму, более или менее равномерно распределив между всеми
членами общества. Куда отнести это время? В каждом обществе
человеку положено спать 7-8 часов — это как естественная предпосылка
общественной жизни. Добавьте к ней еще 2-3 часа рабочего времени,
а само общество постройте на базе свободного времени. Такова была
идея Маркса. Пока общество базируется на рабочем времени, а
экономика — его базис, люди еще не живут общественной жизнью.
Поэтому Маркс — не апологет, а критик общественно-экономической
формации. Как выйти за рамки общественно-экономической
формации — вот что его интересует в первую очередь.
Н.: Покончить с диктатом экономического базиса.
130
В. M. Межуев
M.: Конечно!
H.: Пока ты должен большую часть своего времени отдавать
отчужденному труду.
М.: Даже не отчужденному, а труду, который нужен для
продления чисто биологической жизни. Пока такой труд для человека
основной, он живет еще в полуживотном состоянии. Кто же способен
заменить человека в качестве рабочей силы? Наука. Ученый и есть
рабочий будущего. Главным критерием экономического роста
является, с этой точки зрения, не просто рост ВВП, а рост свободного
времени. Человек по-настоящему свободен тогда, когда ему
принадлежит не только время его потребления, но и время его труда.
Свободное время - это время, не свободное от труда, а время свободного
труда, т. е. труда по способностям, по призванию, а не просто ради
заработка. У людей свободных профессий всё время свободное, и
потому его им так не хватает.
H.: А с Зиновьевым вы спорили уже по его возвращении?
М.: Я с ним прямо никогда не спорил. Это было невозможно, он
отметал любой спор, трудно воспринимал критику в свой адрес и не
очень реагировал на чужое мнение. Но был талантливым человеком,
русским самородком.
H.: А в личном общении это как-то проявлялось?
М.: В личном общении он был приветливым человеком, но не
переносил никакой полемики с собой. А о К. М. Канторе вы слышали?
Н.: Расскажите, пожалуйста.
М.: Я смотрю, забывают эти имена. И имя Ильенкова уже
забывают.
Н.: Вадим Михайлович, может быть, отчасти забывают потому,
что их ошибочно отождествляют с советским периодом?
М.: Советский период не был столь философски бесплоден, как
его иногда изображают. Я вот был убежденным перестройщиком, но
никогда не ратовал за уничтожение всего советского. Я был за его
реформирование. Не считал правильным и полную дискредитацию
социалистической идеи. К ней еще вернутся, пусть в обновленном виде.
Всё дело в том, как ее понимать.
В заключение расскажу одну историю. В советское время я
подрабатывал на кафедре философии естественных факультетов МГУ.
Меня послали на физический факультет и мехмат готовить
аспирантов для сдачи кандидатского минимума по историческому
материализму. До того мне говорили, что в аудитории физиков и математи-
Факультет в середине 60-х годов XX века
131
ков нельзя произносить два слова: «социализм» и «марксизм», — они
автоматически перестают тебя слушать. «Как же мне с ними
работать?» — спросил я своего зава. Он ответил: «Говори, о чем хочешь,
но только чтобы им было интересно». Я пришел к ним и сказал: «Вы
знаете, я не смогу подготовить вас к экзамену, пока не объясню, что
означают слова "марксизм" и "социализм". Только после этого
можно будет начать содержательный разговор». Когда я им это объяснил,
как сам понимал, они страшно заинтересовались. «Так ведь это то,
что мы сами хотим», — сказал кто-то. Я ответил: «Про вас и таких,
как вы, это и было написано». Когда они сдали минимум, комитет
комсомола устроил среди них опрос, с кем из преподавателей
общественных наук они хотели бы дальше встречаться. Они назвали меня.
Всё зависит от того, что и как говорить на эти темы.
В. И. Бирюков
ЛОГИКА И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
1. Возвращение на философский факультет
В декабре 1946 г. я был демобилизован и в начале 1947 г.
восстановился на философском факультете (окончил его в 1950 г.) и
продолжил занятия на истфаке МГПИ (год окончания - 1948).
Философский факультет МГУ располагался тогда в полукруглом
здании на углу Моховой улицы и улицы Герцена (которой ныне
возвращено ее исконное название Большая Никитская). Полный надежд,
с волнением, в январе 1947 г. переступил я порог философского
факультета. Одетый в шинель без погон, в военном обмундировании -
старые носильные вещи мои родные за голодные военные годы
продали либо обменяли на продукты, я не испытывал от этого никакого
чувства неловкости. Не я один был такой — многие бывшие
фронтовики не успевали после демобилизации сразу обзавестись новой
одеждой. С этим тогда были, как говорили в советское время, «временные
трудности». Да и денег не было. Но это не отменяло торжественности
минуты возврата к ученью, к которому я так стремился. Оформление
нового студента прошло быстро, и я даже не помню, был ли вывешен
приказ о моем зачислении на второй курс (он должен был быть
подписан деканом факультета Д. А. Кутасовым1 и вывешен на доске
объявлений деканата).
Каков же «новый» философский факультет — не Московского
института философии, литературы и истории имени Н. Г.
Чернышевского, а Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова, думал я.
Здесь меня ждало разочарование. Факультет показался мне
совсем не похожим на то, что было в МИФЛИ. Атмосфера на
факультете МГУ конца 1940-х — начала 1950-х гг. резко отличалась от того,
что было в «советском лицее». На философском факультете почти
1 Дмитрий Алексеевич был деканом факультета в 1943-1949 гг.; в 1943-
1944 один год деканом был Б. С. Чернышев, а до него, в 1942-1943 гг. -
Г. Г. Андреев, окончивший философский факультет и аспирантуру МИФЛИ
и в 1941 г. защитивший кандидатскую диссертацию. В 1943 г. Андреев был
репрессирован органами НКВД, в 1955 г. реабилитирован, в 1956 г. вернулся
к научно-педагогической деятельности в МГУ.
Логика и история философии на факультете
133
не нашел тех, кто когда-то вместе со мной учился на первом курсе
исторического и философского факультетов МИФЛИ. Многие мои
бывшие сокурсники, разочарованные состоянием философского
факультета, по возвращении из армии перешли в Высшую
дипломатическую школу МИД СССР1. Из тех, кто остался на факультете, я могу
припомнить, пожалуй, только А. А. Ветрова, к тому времени уже
окончившего университет, моего одногодка; в период войны
Анатолия Алексеевича из-за болезни не призвали в армию, и в 1947 г. он
был аспирантом2.
Преподавательский состав, если не говорить об упомянутых
выше профессорах В. Ф. Асмусе и П. С. Попове, а также А. С. Ахмано-
ве, был серым, учебный план — односторенне марксистским. Книга
А. Д. Косичева позволяет составить хорошее представление о степени
этой односторонности.
Анатолий Данилович приводит сведения об учебном плане конца
1970-х гг., замечая при этом, что учебные планы в 1950-1960-х гг.
по объему учебных часов на философские дисциплины мало чем
отличались от него. Смею предположить, что учебные планы 1950-х гг.
могли разниться от них только в худшую сторону. Вот как выглядел
описываемый А. Д. Косичевым план.
На курс диалектического и исторического материализма
отводилось 670 учебных часов, причем в это число не входило время,
затрачиваемое на спецкурсы и спецсеминары по этому предмету; 90 часов
занимал курс истории и теории научного коммунизма, а курс истории
марксистской философии предусматривал 184 учебных часа. Всего,
таким образом, на изучение марксизма затрачивалось (по учебному
плану) 944 часа!
Все эти «марксистские» предметы повторяли друг друга,
требовали обращения к одним и тем же текстам классиков марксизма-
ленинизма. Живая мысль находила в них место с величайшим
трудом — подобно растению, которое в своем стремлении к жизни и свету
1 Высшая дипломатическая школа была создана еще в 1939 г. после
реорганизации Института подготовки дипломатических и консульских
работников при Наркоминделе СССР.
2 По окончании аспирантуры А. А. Ветров в 1949-1958 гг. занимал
должность старшего преподавателея кафедры логики факультета, а потом
долгие годы был сотрудником Института философии АН СССР, скончался
в 1975 г.
134
б. И. Бирюков
пробивает бетон. В общем же создавалось впечатление переливания
из пустого в порожнее. Я много раз сдавал экзамены по диамату-
истмату, в том числе два раза на госэкзаменах, три раза при
поступлении в аспирантуру и один раз в рамках кандидатского минимума,
и горько сожалею о потраченных на это силах и времени.
Сопоставим внимание, которое на факультете уделялось
марксизму, с тем местом, которое занимало в нем изучение мировой
философской мысли. На историю домарксистской зарубежной
философии (древней, средней и новой) отводилось всего 320 учебных часов,
на современную англо-американскую философию (как называет этот
предмет Косичев), то есть на ее «критику», — 184 часа. В этой
сетке часов в никуда проваливались и Шопенгауэр, и Дильтей, и
Ницше, и Гуссерль. Но дело даже не в объеме часов, зафиксированном
в учебном плане, — жизнь его корректировала, и преподаватели
истории философии находили способ, как донести до студентов —
пусть и в весьма усеченной форме - философские учения Германии
и Франции второй половины XIX и первой половины XX столетия.
Главный изъян состоял в том, что на факультете не было поставлено
изучение древних языков — греческого и латыни. Последняя, правда,
преподавалась, но в таком объеме, который на позволял
выпускникам читать классиков философии в подлиннике: курс латыни был
куцым, а греческого и церковнославянского вообще не было.
Незнание латинского языка закрывало путь к ознакомлению
с громадой философских первоисточников, написанных на
латинском языке, а ведь он был языком науки вплоть до XVIII в. Что
касается основных европейских языков, немецкого, английского и
французского, то каждый студент обязан был изучать только один из них,
а на преподавание иностранных языков отводилось так мало часов,
что философ, окончивший факультет, оказывался беспомощным
перед лицом иноязычного текста и был вынужден работать с ним
только с помощью словаря.
Оказалось, что в группе я по немецкому языку оказался самым
сильным - языковые занятия в армии дали свои результаты.
Правда, я не знал тогда, что мой товарищ по группе, Володя Чернявский
(о нем я буду еще говорить) владел немецким почти как родным
языком. Отрочество свое он провел в Германии, где работали его
родители, высокопоставленные партийно-советские чиновники, и он
обучался в немецкой школе (кажется, даже в пансионате) и вполне
вошел в мир немецкого языка. Однако он об этом помалкивал, так
Логика и история философии на факультете
135
как его родители были репрессированы — отец расстрелян, а мать
находилась в заключении.
С благодарностью вспоминаю я нашего преподавателя немецкого
языка 3. Н. Зайцеву. Она была одним из переводчиков на
Нюрнбергском процессе. Как творческий человек, будучи преподавателем на
философском факультете, она стремилась усвоить немецкую
философскую лексику. Результатом явился составленный ею
соответствующий немецко-русский словарь1. К сожалению, как рассказывала мне
потом Зоя Николаевна, объем словаря были ограничен, и, следуя
совету А. С. Богомолова2 (он выступал одним из рецензентов словаря),
из него исключили терминологию таких философских направлений,
как феноменология и экзистенциализм, что снизило его
педагогическую и научную значимость. К помощи Зои Николаевны я
впоследствии не раз прибегал, когда проходилось составлять тексты на
немецком языке и вести переписку с моими коллегами в ГДР и ФРГ.
До революции в российских университетах философских
факультетов не было, специализироваться по философии можно
было, только окончив какой-либо иной факультет. Часто им были
факультеты физико-математический и историко-филологический3.
Добавлю также, что классические гимназии (мужские) давали своим
1 Зайцева 3. Н. Немецко-русский философский словарь. М.: Изд-во
МГУ, 1981.
2 Алексей Сегеевич Богомолов (1927-1983), профессор кафедры
зарубежной философии МГУ, доктор философских наук. Круг его научных
интересов был чрезвычайно широк от новейшей западной философии до истории
античной мысли, в целях изучения которой он уже в зрелом возрасте
овладел греческим языком, его книга «Античная философия» вышла посмертно
в 1985 г.
3 В качестве типичного примера приведу начальный путь в (точнее, к)
философии В. В. Зеньковского (1881-1962), философа, богослова,
психолога и педагога. Он окончил естественно-математический, а затем историко-
филологический факультеты Киевского университета им. Св. Владимира,
занимался в нем на философском и классическом отделениях. В Германии
работал над магистерской диссертацией. Только после этого он получил
доцентуру (с 1916 г. — профессуру) в своем университете. С 1919 г. в
эмиграции. Зеньковский создал капитальный труд «История русской философии»
(в двух томах и четырех частях; издан в Париже, первый том в 1948,
второй - в 1950 г.), переизданный в России в 1991 г. (в дальнейшем при
ссылках: В. В. Зеньковский с указанием тома и части). К этому сочинению я вскоре
буду иметь повод обратиться.
136
б. И. Бирюков
выпускникам хорошее знание латыни, а то и греческого, не говоря
уже об основных европейских языках. Церковнославянский же был
языком православного богослужения и тем был близок русскому
человеку. Неудивительно поэтому, что философы Серебряного века
обращались к философским первоисточникам на языках оригинала.
Советская средняя и высшая школа таких возможностей не создавала.
Правда, в конце 1940-х — начале 1950-х в некоторых средних
школах (старшие классы) было введено преподавание латинского языка
и даже выпущен соответствующий учебник1, но вскоре это
«баловство» было прекращено.
Всё это позволяет понять, почему в советский период дважды
ставился вопрос о переходе к подготовке философов только из числа
лиц, уже имеющих высшее образование по какой-либо
специальности (филология, математика и др.). Первый раз вопрос был
поставлен в 1949 г. отделом науки ЦК ВКП(б) в письме на имя секретаря
Центрального комитета партии М. А. Суслова. В письме — оно
опубликовано в книге А. Д. Косичева2 — предлагалось реорганизовать
философское образование в университетах так, чтобы на
философские факультеты принимались лишь лица, которые имеют
специальную подготовку (по истории, экономике, физике, биологии, химии
и т. д.), а срок обучения был сокращен до трех или двух лет. Это
предложение последствий не имело. В октябре 1956 г. ректор МГУ
академик И. Г. Петровский направил в ЦК КПСС письмо3 с
предложением закрыть в университетах философские факультеты, а подготовку
философов вести через аспирантуру, в которую принимать «только
лиц, окончивших университеты и другие высшие учебные заведения
по различным специальностям». Это предложение подверглось
обсуждению в отделе науки, вузов и школ ЦК партии и было
отвергнуто4. Тем не менее практика приема в философскую аспирантуру
после получения какого-либо другого высшего образования получила
1 Кондратьев С. П., Васнецов А. В. Учебник латинского языка. Для
8-10 классов средней школы. М.: Учпедгиз, 1950.
2 См. КосичевА.Д. Указ соч. С. 182-191.
3 См. там же. С. 191 и далее. Анатолий Данилович извлек это письмо
и сведения об его обсуждении в аппарате ЦК КПСС из Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ).
4 Мнение А. Д. Косичева, будто письмо в ЦК партии «было навязано
ему [Петровскому] полупозитивистскими недоброжелателями
философского образования и философской науки» (Косичев А. Д. Указ соч. С. 197), ко-
Логика и история философии на факультете
137
широкое распространение, и я впоследствии этим воспользовался,
правда, неудачно (но об этом позже). А философские факультеты,
эти рассадники полуобразованных марксиствующих партийных
пропагандистов, были сохранены...
Чтобы закрыть тему о том, развивалась ли «философская наука»
в СССР «в общем русле мировой философской мысли»1, выскажу
свое отношение к двум аргументам, которые автор книги
«Философия, время, люди» приводит в пользу данного положения.
Первый аргумент состоит в ссылке на французского философа
Луи Альтюссера, имя которого будто бы «гремело во всем мире».
Насчет «всего мира» ничего сказать не могу — советская власть
отгородила нас от него железным занавесом; что касается меня, то это имя
я впервые вычитал у Александра Даниловича, а затем обнаружил его
в одной статье Л. В. Митрохина2.
Альтюссер был участником проходившего в Москве в 1974 г.
10-го Международного гегелевского конгресса. Этот философ,
пишет А. Д. Косичев3, повторяя рассказ Л. В. Митрохина, был поражен
тем, что «молодые философы МГУ на десять лет раньше опередили
Альтюссера и его учеников в открытии и формировании новых
важных философских идей», в анализе «понятийного строя "Капитала"»
К. Маркса4.
Кто же такой Альтюссер, и что за «новые важные идеи» он
развил? Открываю статью об Альтюссере в «Новой философской
энциклопедии» и узнаю, что он был членом французской компартии,
убил свою жену, покончил жизнь самоубийством. Новизна его идей
заключалась в том, что он предлагал очистить марксизм от остатков
гегельянства и фейербахианства, диамат сделать «строгой наукой»
(что, как известно, никому не удалось). Автор книг «За Маркса»
и «Читать "Капитал"»5, Алтьюссер дал «оригинальную трактовку
нечно, несостоятельно. Ректор МГУ просто знал истинную цену
«философской науке», которой обучали на этих факультетах.
1 Косичев А. Д. Указ соч. С. 254.
2 Митрохин Л. В. «Докладная записка» — 74 // Философия не
кончается. Из истории отечественной философии. XX век. 1960-1980-е гг. В двух кн.
[Кн. 2] / Под ред. В. А. Лекторского. М., РОССПЭН, 1998. С. 124.
3 Там же. С. 7, 255.
4 Следует ссылка на упомянутую выше книгу «Философия не
кончается». Кн. 2,1998. С. 124 (курсив мой - Б.Б.).
5 AlthusserL. Pour Marx. Paris, 1965; Ibid. Lire Te Capital". Paris, 1965.
138
б. И. Бирюков
вклада Ленина в марксистскую философию»1. Авторитетная
личность и авторитетный подход, не правда ли?
Второй аргумент представляет собой ссылку на мнение
выпускника философского факультета, ныне профессора Лондонского
университета, специалиста по индийской философии А. М.
Пятигорского. В совместной с В. Н. Садовским статье, опубликованной
в журнале — преемнике «Коммуниста», Александр Моисеевич,
окончивший философский факультет в 1952 г., утверждает, что уровень
образования на нем был «чрезвычайно высок» и «те студенты,
которые хотели учиться <...> могли многое получить». Сравнивая уровни
философского образования в Европе и США с тем, что было в МГУ,
он заключает: «У нас были хорошие преподаватели»2. Продолжая эту
мысль, В. Н. утверждает, что на этом факультете давалось
профессиональное философское образование «достаточно высокого уровня»3.
Уровень западного философского образования, насколько я
понимаю, очень разный в разных странах и в общем действительно
невысок; я думаю, что проистекает это из-за его несистематичности.
Иная картина получается, когда мы сравниваем философское
образование в СССР и на Западе - с тем, что было в России Серебряного
века. Тогда это было фундаментальное образование, осененное
высоким духовным взлетом, — взлетом, который в советской России был
пресечен силой. Что касается Запада, то аналогичные духовные
поиски были подорваны усилиями таких «леваков», как Альтюссер.
Преподаватели же у нас были всякие, в том числе и замечательные. И на
моем собственном примере видно, что тот, кто хотел учиться,
действительно мог овладеть многими вещами. Об этом речь впереди.
В. В. Зеньковский дал убийственную характеристику «советской
философии». Отметив «внутреннюю узость», изначально присущую
Ленину, основоположнику этой философии, он пришел к выводу,
1 Грецкий H. М. Альтюссер Луи // Новая философская энциклопедия.
Т. 1.М., 2000. С. 91-92.
2 Пятигорский А., Садовский В. Как мы изучали философию.
Московский университет в 50-е годы // Свободная мысль. М., 1993, № 2. С. 43-44.
Согласно устному сообщению В. Н. Садовского, статья эта была
подготовлена на основе записанного им интервью с Пятигорским.
3 Садовский В. Н. Философия в Москве в 50-е - 60-е годы // Философия
не кончается. Кн. 2. С. 15. Статья впервые опубликована в журнале «Вопросы
философии» в 1993 г. Из беседы с В. Н. мне стало известно, что он теперь
несколько ослабил эту свою «высокую оценку».
Логика и история философии на факультете
139
что узость эта превращала «его философские писания в
своеобразную схоластику (в дурном смысле слова)». Ибо с ленинских
позиций приемлемо лишь то, что «соответствует» диамату, укрепляет
его; «всё, что не соответствует, — отбрасывается только по этому
признаку». Здесь Василий Васильевич имеет в виду прежде всего
книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Но в
оправдание автора надо заметить, что построенная на весьма внушительном
философском материале книга эта имела совершенно конкретную
политическую направленность, которая ныне хорошо известна.
Рассмотрение ее вне этой направленности, превращение ее в
учебник философии, произошедшее в советские годы, определило резко
зауженные догматические рамки «советской философии». И
Зеньковскии прав, когда пишет: «Всё это философски убого; если
угодно, всё это было бы и смешно, если бы не было столь трагично».
Поэтому Василий Васильевич в своих замечаниях о «советской
философии» отказывается от упоминания каких-либо имен, так как
в ней, этой философии, «нет личного творчества — есть лишь одно,
свыше одобренное и регулируемое направление ("диалектический
материализм")»1.
На деле всё обстояло сложнее - и лучше. Конечно,
предпринятая бывшим деканом философского факультета попытка оправдания
философии марксизма не очень убедительна. Утверждение, будто
после Гегеля западная философия «вступила в полосу затяжного
кризиса», из которого ее вывел Маркс, благодаря чьим трудам «философия
претерпела радикальное обновление, какого она не знала с момента
своего возникновения»2, — по крайней мере спорно. Анатолий
Данилович, видимо, забыл максиму логики: кто слишком много
доказывает, тот ничего не доказывает.
Возвращаясь к труду Зеньковского, замечу, что он вышел в конце
50-х гг. прошлого века. Всё творческое, что пробивалось под маркой
материалистической диалектики, стало обнаруживаться в основном
с хрущевской оттепели. С этого времени начали появляться работы,
1 Зеньковскии В. В. История русской философии. В 2 т. Л.: ЭГО, 1991.
Это перепечатка сочинения, вышедшего в Париже в 1948 и 1950 гг. в
издательстве YMCA-PRESS (в дальнейшем при ссылках: Зеньковскии с указанием
тома, части и страниц). Приводимые мною высказывания данного автора
можно найти в т. 2, ч. 2, с. 46, 50,53.
2 Косичев А. Д. Указ. соч. С. 340-341.
140
Б. И. Бирюков
в которых развивались идеи, отклоняющиеся от ортодоксального
диамата. Но и до этого философская мысль в стране развивалась. В
наибольшей мере это проявлялось — я имею в виду 1930-1950-е гг. —
в выпуске переводов трудов античных и западноевропейских
классиков философии. Русскому читателю стали доступны не
издававшиеся ранее сочинения: досократиков и Аристотеля, мыслителей
Нового времени - Бэкона, Декарта, Гоббса, Беркли, Локка, Юма,
Дидро, Руссо, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и др. Существенно, что
сопровождались они квалифицированными вступительными
статьями отечественных авторов и обширными комментариями:
складывалась традиция издания тщательно выполненных переводов
классиков мировой мысли прошлого, сопровождаемых фундаментальным
научным аппаратом. К этому следует добавить ценные работы в
области методологии науки и логики1. Здесь были имена, да еще какие!
О некоторых из них я буду говорить ниже.
Вообще, надо заметить, что в эмигрантских
историко-философских исследованиях, как правило, обходятся молчанием
философские вопросы естествознания, математики и математической логики.
А. И. Уемов прав в своем критическом замечании, сделанном в адрес
другого труда по истории русской философии, книги Н. О. Лосско-
го2. Рассматривая философские взгляды М. В. Ломоносова, Авенир
Иванович замечает, что у Лосского не нашлось и двух слов о
великом русском ученом. Это объясняется тем, что Лосский «не понимал
той значимости для истории развития философской мысли, которую
имеют работы естествоиспытателей»3; это же справедливо и в
отношении двухтомника В. В. Зеньковского.
1 При всей фундаментальности образования, а также широте
исследовательских интересов В. В. Зеньковского один изъян его
историко-философских рассмотрений, по-моему, бесспорен: в них оставлены в стороне
вопросы логики и связанной с ней научной методологии. Так, логическим
достижениям М. И. Карийского в труде Зеньковского отведено всего
пятнадцать строк, причем в них еще названы (только названы!) логические книги
А. И. Введенского и Н. О. Лосского. Вообще, невнимание к вопросам
логики — отличительная черта главных представителей философской мысли
Серебряного века, «увезенная» ими за границу.
2 Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991 (английский
оригинал: N.Y., 1951).
3 Уемов А. И. Ломоносов и философия // Вестник Моск. ун-та. Серия 7:
Философия. 2003, № 5. С. 124.
Логика и история философии на факультете
141
Тем не менее, если ограничиться заскорузлым
диаматом-истматом, который десятилетиями определял основное содержание
«советской философии», то негативное заключение Зеньковского вряд
ли может быть оспорено.
2. Два приобретения. Знакомство с логикой
По сравнению с МИФЛИ на философском факультете МГУ я
обнаружил два приобретения: латинский язык и логику. Экзамены по этим
предметам надо было досдавать. Латынь я изучал еще на истфаке
МИФЛИ и не раз с благодарностью вспоминал своего первого
преподавателя латинского язык К. Р. Мейера1. Но с переходом на
философский факультет о латыни пришлось забыть: как ни странно, в
учебном плане философского факультета МИФЛИ ее не было. Теперь
к ней надо было вернуться и как-то сдать требуемый экзамен.
Конечно, преподаватель шел навстречу студентам-фронтовикам: объем
выносимого на экзамен материала, помимо элементов грамматики,
был по существу ограничен фрагментом текста одной из речей
Цицерона против Катилины. На всю жизнь запомнилось начало одной из
самых знаменитых цицероновских речей: Quo usque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra? Впоследствии я остро чувствовал
ущербность своего знакомства с латынью, и когда уже в период
перестройки Ю. А. Шичалин создал Греко-латинский кабинет, я год занимался
в группе латинского языка. Но что легко в 25 лет, когда ученье есть
цель жизни, трудно усвоить через сорок лет человеку,
обремененному множеством иных задач...
Что касается логики («формальной логики»), то еще в МИФЛИ
соответствующий курс читал В. Ф. Асмус2, но это был факультатив,
и я его не посещал. Правда, книга В. Ф. Асмуса «Логика» 1947 года
издания была мне известна, но так и не проработана. Теперь пришлось
самостоятельно изучать логику - традиционную, разумеется. В числе
преподавателей этого предмета на факультете был С. Н. Виноградов,
как говорили, старый гимназический учитель; впоследствии он стал
1 Я был рад встретить Константина Робертовича в Москве после войны:
он шел по Большой Коммунистической улице, военный китель без погон
свидетельствовал о том, что война пощадила его.
2 Валентина Фердинандовича Асмуса (1894-1975) логика интересовала
еще в годы обучения в Киевском университете им. Св. Владимира, см. ниже.
142
Б. И. Бирюков
автором учебника логики для средней школы. Ему-то я и должен был
сдавать экзамен. Источником знаний служил только что
переизданный дореволюционный учебник Г. И. Челпанова. Нам, студентам -
и, я думаю, большинству преподавателей факультета тоже, — не было
известно, что на самом деле представляет собой этот учебник и его
автор. Как я узнал в постсоветские времена, учебник этот был отмечен
премией Петра Великого и выдержал до революции девять изданий.
А его автор Г. И. Челпанов не был логиком в собственном смысле,
хотя читал лекции по логике в Киеве и Москве. Он был прежде
всего крупнейшим русским психологом. Из книги С. Л. Рубинштейна1
я узнал, что Институт психологии — говоря точно, Институт
экспериментальной психологии при Московском университете, — в
лекционной аудитории которого я в 1941 г. слушал лекции С. В. Кравкова по
физиологии органов чувств, был создан Челпановым в 1911 г.; в этот
институт он поистине вложил свою душу. Прекрасен был
лекционный зал, расположенный амфитеатром, по верху которого шли
высокие окна. Я пишу «был», так как в советское время была разрушена
обветшавшая красивая балюстрада, которой завершался верхний ряд
скамей для слушателей, и вид аудитории стал неузнаваем. А потом,
где-то в 1990-х гг. или позже, зал был совершенно перестроен на
современный лад, высокие окна, прежде его украшавшие, исчезли,
амфитеатра не стало, и акустика стала столь плоха, что в трех шагах от
лектора его было еле слышно...
Георгий Иванович Челпанов был учеником В. Вундта, одного из
основателей научной психологии. Созданный им в 1912 г. Институт
экспериментальной психологии при Московском университете
обладал таким оборудованием, которое позволяло вести самые
современные для того времени опытные психологические исследования.
Однако экспериментальный психолог Челпанов был вместе с тем
философом с широким кругозором2 и прекрасным педагогом,
способным создавать учебные пособия, жившие десятилетия.
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1940. С. 66.
2 Георгий Иванович Челпанов (1862-1936) был профессором
Университета Св. Владимира в Киеве, затем профессором Московского
университета, автором многочисленных трудов по философии и психологии, включая
«Введение в экспериментальную психологию»; его учебник психологии
выдержал 15 изданий. Лекции по логике, читанные им в Киеве (1897 и 1901 гг.)
и Москве (1908/1909 г.), были выпущены как литографированные издания.
По заключению В. В. Зеньковского, в книге Челпанова «Мозг и душа» (1900;
Логика и история философии на факультете
143
Сохранился конспект челпановского «Учебника логики»,
который был составлен мною при подготовке к экзамену; этим
конспектом я потом пользовался, когда преподавал логику в школе и
педагогическом училище. Поля этого конспекта обильно уснащены
добавлениями и уточнениями, выписанными мною из разных
логических руководств типа известного переводного пособия Минто1,
упомянутой выше книги В. Ф. Асмуса «Логика» и других логических
книг. Иные из них, например книжка А. Филиппова «О сущности
суждений» (1929), попадали ко мне случайно, и я их штудировал, не
будучи в состоянии оценить их научную значимость.
Стоит заметить, что я пользовался также корректурой учебника
логики, составленного Э. Я. Кольманом. Этот учебник выгодно
отличался от других пособий по нематематической логике тех лет, так
как включал в себя естественно-научный материал и вероятностные
представления, касающиеся правдоподобных заключений. Можно
лишь сожалеть, что этот учебник так и не вышел в свет.
В «Очерке истории логики в России» (автор В. И. Кобзарь),
открывающем петербургское издание «Логика. Справочник»,
представлен взгляд, согласно которому восстановление логики как предмета
преподавания и научной разработки началось еще в 1939 г. и было
инициировано властью. Согласно гипотезе данного автора, это,
возможно, связано с письмом С. И. Поварнина Сталину.
Аргументируется это тем, что с упомянутого года в печати появляются статьи о
полезности логики2. Против этого, правда, можно возразить, указав, что
статьи о логике встречались и до этого года, например, В. Ф. Асмуса
и С. Н. Виноградова3.
Но начало 1940-х гг. действительно отмечено появлением
материалов, говорящих о начавшемся изменении отношения к логике.
книга выдержала несколько изданий; 5-е изд. - М., 1912) анализируется
материализм «во всех своих утверждениях и блистательно опровергается».
1 Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика / Пер. с англ. С. А. Котля-
ревского под ред. В. Н. Ивановского. Я пользовался 5-м изданием (М., 1905).
2 Логика. Справочник. С. 11.
3 См. Виноградов С. Н. Элементы логики // Русский язык в комвузах. М.,
1927; Асмус В. Ф. Логическая реформа Богданова // Вестник
Коммунистической академии, 1927, № 2; Его же. К вопросу о логике естественых и
исторических наук // Научное слово, 1930, № 6. Еще ранее Валентин Фердинан-
дович выпустил книгу «Диалектический материализм и логика», о которой
я скажу ниже.
144
Б. И. Бирюков
Как отмечается в литературе, в 1941 г. ЦК ВКП(б) принял решение
о введении в школьные программы логики и психологии1. Война,
по-видимому, замедлила реализацию этого решения, но со
временем оно нашло свою реализацию. Отношение к логике изменилось.
В этом контексте следует смотреть и на несостоявшуюся книгу
Э. Кольмана: в издании «Логика. Справочник» утверждается, что
его «Учебник логики» относится к 1942 г. и выпущен на правах
рукописи. Укажу также, что в 1943 г. в журнале «Советская
педагогика», № 8-9, была напечатана статья того же С. Н. Виноградова
«Об изучении логики». А в следующем году преподавать логику
в Ленинградском университете начал известный русский философ
Сергей Иннокентьевич Поварнин, представитель так называемой
логики отношений. Полная же «реабилитация» логики
произошла в 1946 г., когда ЦК ВКП(б) принял постановление о введении
преподавания логики и психологии в средней и высшей школе2,
что потребовало и подготовки кадров преподавателей этих
дисциплин, и разработки связанных с ними философских и
методических проблем.
Вернусь, однако, к экзамену по логике. Принимавший его С. Н.
Виноградов был опытным преподавателем: ему принадлежит учебник
логики, изданный еще до революции3. В 1946 г. он защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Основные проблемы формальной
логики», вполне традиционную по своему содержанию, а в следующем году
выпустил учебник логики для средней школы. Редактором учебника
был А. А. Чудов, о котором речь пойдет в следующей главе. Правда,
к беспартийному автору уже со 2-го (или 3-го) издания4, по которому
1 См. Батыгин Т.С, Девятко И. Ф. Советское философское сообщество
в сороковые годы. Почему был запрещен третий том «Истории
философии»? // Философия не кончается. Из истории отечественной философии.
XX в. [Кн. 1]. 1920-1950-е гг. М.: РОССПЭН, 1998. С. 173.
2 См. газету «Культура и жизнь» от 30 ноября 1946 г. Ср. слова С. Л.
Рубинштейна, сказанные им на «философской дискуссии» 1947 г.: «Лишь
специальное указание товарища Сталина и постановление ЦК напомнило о
существовании логики и психологии» (ВФ. 1947, № 1. С. 423).
3 Виноградов С. Н. Логика. Учебник для средних учебных заведений
и для самообразования. М., 1914.
4 На с. 96 издания «Логика. Справочник» Кузьмин в качестве соавтора
С. Н. Виноградова появляется уже во 2-м издании (1948), но на с. 226 —
только с 3-го (1949).
Логика и история философии на факультете
145
я впоследствии в школе и педагогическом училище преподавал этот
предмет, присоединили (очевидно, для преодоления «формализма»
в обучении логике, против которого тогда уже начался поход)
партийного соавтора — сотрудника кафедры логики Академии общественных
наук при ЦК ВКП(б) А. Ф. Кузьмина1.
Что касается экзамена, то он запомнился мне благодаря
следующему небезынтересному эпизоду. Речь зашла о категорическом
силлогизме, и я бодро воспроизвел определение этого понятия, данное
Челпановым. Но экзаменатора это не удовлетворило. Он и так, и эдак
пытался подвести экзаменуемого к иной дефиниции, чего, однако,
никак не получалось. Тогда Виноградов сформулировал следующее
определение: силлогизм — это такое рассуждение, в котором из
отношения двух понятий к третьему следует их отношение друг к
другу. Это было великолепное определение, которое впоследствии я
использовал, когда стал преподавать логику.
Как я уже сказал, экзамен по логике я готовил по учебнику
Г. И. Челпанова. Ныне он переиздан издательской группой
«Прогресс», и выяснилось, что в советском издании из книги произвели
ряд изъятий, в частности, был выпущен материал, касающийся
истолкования категории общего (общих имен, универсалий):
блюстителям официальной идеологии вопросы эти казались, видимо, чем-
то сомнительным (тем более что Ленин в «Философских тетрадях»
на примерах «Листья дерева зелены», «Иван есть человек», «Жучка
есть собака» всё разъяснил). Пикантность ситуации, однако,
состояла в том, что после вводного курса логики — он назывался
«элементарным» и экзамен по нему принимал Виноградов — следовал
проблемный лекционный курс по тем же вопросам. Этот курс — он
назывался «основным» — читал П. С. Попов2, и я был
внимательнейшим его слушателем.
1 Этот учебник, в выходных данных которого сообщалось: «при участии
Н. И. Кондакова», выдержал много изданий; мне известно, что 7-е издание
вышло в 1953 г.
2 Павел Сергеевич Попов (1892-1964) окончил
историко-филологический факультет Московского университета. Наряду с изысканиями в
области истории философии - они у него естественным образом базировались
на классической филологии — П. С. занимался и вопросами, касающимися
творчества Л. Н. Толстого, что было отчасти связано с тем, что он был женат
на внучке Льва Николаевича.
146
Б. И. Бирюков
3. Лекции П. С Попова.
Категория общего и трактат Аристотеля «О душе»
Мы, студенты-третьекурсники не знали тогда, какие испытания
выпали на долю Павла Сергеевича. Как стало известно впоследствии,
в 1920-е гг. он входил в религиозно-философский кружок так
называемых имяславцев, члены которого в своем большинстве не приняли
декларацию митрополита Сергия (Старгородского) 1927 г.,
означавшую признание православной иерархией советской власти. После того,
как ОГПУ в борьбе против противников «сергианства» затеяло дело
об «истинно-православной церкви», объявленной
контрреволюционной монархической организацией, и «имяславцы» были отнесены к ее
членам, П. С. был арестован (1931), но благодаря усилиям своей жены
(всё же родственницы великого русского писателя!) вскоре был
освобожден, но с «минусом» — запретом проживания в Москве и области.
Он поселился в Ясной Поляне, где провел три года. В конце 1930-х —
начале 1940-х гг. П. С. был научным сотрудником Института слова.
В 1930-е гг. Павел Сергеевич работал над переводом трактата
Аристотеля «О душе», и естественно, что его диссертационное
исследование было посвящено аристотелевской тематике. Защищенная им
в 1943 г. (в том году он начал преподавать логику на философском
факультете МГУ), диссертация носила название «Этюды по
гносеологии и психологии Аристотеля в их значении для современной
философской мысли».
Перевод трактата Стагирита «О душе» вышел в 1937 г.1, и книга
эта была в моей домашней библиотеке. Вспоминая лекции Павла
Сергеевича, я думаю, что его размышления над природой абстракции —
а именно этому он уделял главное внимание в своих лекциях, отражали
его давний интерес к вопросу об отвлечении в процессе познания. Ибо
вопрос этот стоит в центре названного аристотелевского сочинения.
Две идеи занимали П. С. Первая состояла в осмыслении
абстракции как отвлечения от чего-либо - опускания (то есть мысленного
1 На титуле книги указано: Предисловие В. К. Сережникова. Перевод
и примечания П. С. Попова. М.: Соцэкгиз, 1937 (в дальнейшем при ссылках:
О душе). Предисловие было озаглавлено «Учение Аристотеля о процессе
познания по его произведению "О душе"» и состояло из разделов: I
Материалистический сенсуализм Аристотеля; II Чувственное познание; III Разумное
познание; IV Разум. Данных об его авторе Викторе Сережникове, судя по его
тексту, владевшем классической филологией, мне обнаружить не удалось.
Логика и история философии на факультете
147
вычеркивания) всех признаков, за исключением одного. Так
истолковываемую абстракцию он называл «изолирующей»1, отличая ее от
абстракции генерализирующей, обобщающей. Здесь П. С. ссылался на
авторитет Кантовой «Логики», в которой значилось: «Мы не должны
предлагать абстрагировать нечто, но абстрагироваться от чего-либо
(von Etwas)»2. Изолирующая абстракция, пояснял Попов, приводит
к абстрактным понятиям (например, «храбрость»), являющимся
понятиями единичными - они обозначают, каждая, один абстрактный
предмет. Генерализирующая же абстракция порождает конкретные,
но общие понятия (пример — «храбрецы»), и в ней мыслятся
предметы, поскольку они образуют классы.
Вторая идея, которую П. С. обсуждал на своих лекциях, касалась
вопроса о том, в каком смысле понимается бытие общего. Проблема
существования результата обобщения, подчеркивал лектор, является
основополагающей в теории понятия, и в его изложении находила
обстоятельное освещение та проблематика, над которой веками
билась философская мысль, начиная с Платона и Аристотеля, и которая
по-разному истолковывалась средневековыми реалистами,
номиналистами и концептуалистами.
В лекциях П. С. Попова отчетливо виделся переводчик трактата
«О душе». Перевод показывал, что в этом трактате — естественном
продолжении и «Метафизики», и «Категорий» Стагирита -
изучается процесс познания и закладываются основы той науки, которая
впоследствии получила название психологии. Павел Сергеевич
провел колоссальную работу по уяснению аристотелевских мыслей и их
комментированию, показав себя глубоким знатоком античной
философии и классической филологии; русский текст древнего трактата
П. С. сопроводил обширным послесловием «Происхождение и состав
трактата "О душе"», подробными примечаниями, именным и
предметным указателями3.
1 Это получило отражение в его статье «Изолирующая абстракция»
в т. 2 «Философской энциклопедии». М., 1962. С. 246.
2 В русском переводе этой «Логики»: «Абстрагировать нечто» —
abstrahiere aliqid, «абстрагировать от чего-либо» — abstrahiere ab aliquid
(Кант И. Трактаты и письма / Отв. редактор А. В. Гулыга. М.; Наука, 1980.
С. 398).
3 Впоследствии трактат «О душе» вошел в первый том аристотелевских
«Сочинений в четырех томах» (Т. 1. М.: Мысль, 1994), где он помещен вслед
за «Метафизикой». Как было сказано издателями тома, «в основу» русского
148
б. И. Бирюков
В отношении текстов древних мыслителей обычно возникает
вопрос о достоверности авторства. Это в полной мере касается и
трактата «О душе»1. Но текстологические вопросы не заслоняли для
издателя теоретико-познавательное и психологическое содержание
сочинения Стагирита. Конечно, вполне в духе тех лет П. С. говорит об
«идеологической борьбе вокруг Аристотеля», стремится вскрыть
материалистический характер его психологического учения. Но не это
является ведущим в предпринятом им осмыслении аристотелевского
трактата. П. С. Попов показывает удивительную проницательность
Аристотеля в описании процесса познания. Последнее, анализирует
П. С. аристотелевское учение, разделяется на чувственное и «высшее»,
охватывающее, с одной стороны, воображение, а с другой стороны,
способность мыслить и находить истину; эта способность - öictvoia
охватывает «мнение» (которое может быть и ложным), практическое
и научное мышление — науку (слютлцг)). область которой -
всеобщее и которая развивается путем доказательств и определений.
Знаменитое сравнение «ума» (vou£) с письменной доской, на которой
опыт запечатлевает свои знаки, характеризует Стагирита как
сенсуалиста. Для того чтобы квалифицировать его как материалиста, Павел
Сергеевич обращает внимание на первую главу книги I, где
Аристотель говорит о неотделимости «состояния души» от тела (в
следующей главе я вернусь к этому вопросу). А в главе двенадцатой книги II
мы находим знаменитую формулировку того, что получило название
текста сочинения «О душе» был положен перевод П. С. Попова; что касается
примечаний к нему (автор их А. В. Сагадеев), то относительно них
указывалось, что при их составлении «были использованы отдельные примечания
к предыдущим изданиям», значит, и примечания П. С. Попова к изданию
1937 г. У меня есть сомнение, привела ли, как сказано издателями,
«значительная переработка» М. И. Иткиным выполненного Павлом Сергеевичем
перевода действительно к его приближению к греческому оригиналу.
1 Рассмотрев историю публикации основного греческого текста
трактата, а также его вариантов и латинского перевода Беккером, Тренделенбур-
гом, Дидо и др., учтя переводы трактата на немецкий, английский и русский
языки (перевод казанского ученого В. Снегирева), а также комментаторов
аристотелевского творения (Целлер, Риттер и др.), П. С. пришел к выводу,
что «Аристотель сам кратко набросал все те мысли, которые он привык
излагать устно в виде лекций или в прениях. После его смерти последователи
Аристотеля сохранили этот текст как основу собственных исследований»
(Попов П. С. Происхождение и состав трактата «О душе» // О душе. С. 119).
Логика и история философии на факультете
149
«теории отражения»: ощущения, говорит Аристотель, есть то, что
«способно принимать форму чувственно воспринимаемых
[предметов] без [их] материи, подобно тому, как воск принимает оттиск
печати без железа и без золота»1.
Стоит привести комментарий П. С. к этому месту
аристотелевского текста: «Это знаменитое в истории психологии и теории
познания сравнение послужило гранью для характеристики
противоположности между априоризмом (идеализмом) и материалистическим
сенсуализмом»2. Но Аристотель, показывает П. С, грань эту
переходит. Ибо уже его мысли об уме, «всем становящемся и все
порождающем», о «деятельном разуме» и разумной душе как потенциальном
местонахождении форм (идей) - главы четвертая и пятая книги III -
заставляют вспомнить об идеализме Платона.
Из послесловия П. С. Попова к трактату «О душе», таким
образом, вытекает глубокая двойственность воззрений Стагирита и
объективное провидение им перспективы тысячелетних борений
философской мысли. Павел Сергеевич поэтому весьма уместно в начале
своего послесловия (а также, конечно, в лекциях) приводит слова
молодого Маркса (еще не ставшего «марксистом», добавлю я),
который, пишет П. С, в своем конспекте наиболее важных глав трактата
«О душе» в связи с поставленным Аристотелем «вопросом о
реальности понятий» назвал Аристотеля «искателем кладов»: «Как бы где
ни пробивался под кустарником в ущелье живой источник, всюду на
него безошибочно направляется волшебный жезл Аристотеля»3.
В своих лекциях по логике Павел Сергеевич не раз обращался
к аристотелевским идеям. Правда, поднимая темы, связанные с
абстрагированием и обобщением, категориями общего и абстрактного,
и стремясь показать всю их глубину, он использовал в своих
рассуждениях диалектико-материалистические термины.
Сделав главный акцент на теории понятия, П. С. остальным
разделам логики уделял гораздо меньше внимания. В излагавшейся им
концепции суждения запомнился его взгляд на роль логического
(смыслового) ударения. Оно трактовалось им как средство выявления
1 О душе, 129Ь 20 - 130а 5; в русск. перев. - с. 96.
2 Попов П. С. Примечания // О душе. С. 144.
3 Павел Сергеевич приводит эти знаменитые слова в предисловии
к трактату «О душе» (с. 115) в собственном переводе с немецкого издания
К. Маркса.
150
Б. И. Бирюков
предиката суждения, т. е. того нового, что мы хотим в нем сообщить
о субъекте. Павел Сергеевич оперировал примером: «Семен едет
завтра в Москву», указывая на различный смысл, которое это суждение
получает в зависимости от логического ударения: «Семен [а не кто-
то другой] едет завтра в Москву» (предикат «Семен»); «Семен едет
[а, скажем, не идет] завтра в Москву (предикат — едет, то есть «способ
передвижения Семена из Москвы в Петербург») и т. д. Впоследствии
П. С. Попов изложил это свое понимание логического ударения,
используя тот же пример, в статье «Суждение и предложение»1.
Кроме того, Павел Сергеевич обращал внимание на
необходимость четкого различения грамматического предложения и
логического суждения, почему и считал неподходящим применение в логике
термина «предложение». Логическое ударение выявляет
расхождение между грамматикой и логикой: в зависимости от логического
ударения (передаваемого в устной речи интонацией, а в письменной
порядком слов) логическим предикатом может оказаться и
грамматическое сказуемое (едет), и обстоятельственное слово (завтра),
и дополнение (в Москву). Эти соображения Павла Сергеевича могут
показаться не относящимися к делу, если иметь в виду определенный
логический формализм, скажем, логику высказываний. Это
объясняет, почему Яновская, редактируя русский перевод книги Д.
Гильберта и В. Аккермана «Основы теоретической логики» (об этом
издании речь пойдет особо), остановилась на «нейтральном» термине
«высказывание», который с тех пор прочно вошел в математически-
логическую литературу. Когда я слушал лекции Попова, книга эта
уже вышла из печати, и данное нововведение лектор считал
неуместным, будучи убежден в том, что в логике речь должна идти именно
о суждениях как актах мысли. Под влиянием лекций Яновской я счел
тогда рассуждения Павла Сергеевича архаичными; впоследствии,
однако, познакомившись с проблематикой логического анализа языка,
использующей идеи той же математической логики, а также с
работами по искусственному интеллекту, пришел к выводу, что в его
рассуждениях было немало полезного.
На теорию умозаключений лекционных часов Павлу Сергеевичу
уже не хватало, и он предлагал освоить ее самостоятельно, по
упомянутой книге В. Минто.
1 Попов П. С. Суждение и предложение // Вопросы синтаксиса
современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950. С. 28.
Логика и история философии на факультете
151
4. Бурный сорок седьмой
Второй послевоенный год был чрезвычайно насыщен событиями.
Я не говорю о разрушениях, вызванных войной, и неотделимой от
советского режима разрухе и фактическом голоде, охватившем
многие регионы страны: здесь для этого нет места. Существенно то, что
год этот в идеологическом плане был во многом переломным. Сталин
решил покончить с элементами «вольномыслия», связанными с
психологией воинов-победителей. Придя на факультет из армии, я этого
тогда не понимал — был слишком наивен.
Летом 1947 г. состоялась пресловутая «философская дискуссия»
по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской
философии» — дискуссия, о которой я буду говорить в связи с 3. Я. Белецким,
чье имя я услышал сразу после возвращения на факультет. Здесь я
отмечу только то, что в созданном после этой дискуссии журнале
«Вопросы философии» появился раздел логики (за него отвечал П. В. Та-
ванец, и о его логических взглядах я расскажу ниже), и уже во втором
его номере за упомянутый год в разделе «Сообщения и публикации»
был помещен отрывок из впервые опубликованного в 1885 г. курса
логики известного дореволюционного русского философа М. И.
Карийского, отрывок, к которому я вскоре обращусь.
Первоначально журнал издавался три раза в год и был велик
по объему. Естественно, что, поскольку в его первом номере была
опубликована стенограмма «философской дискуссии», он были
очень пухлым (504 страницы!). Но и последующие номера были ему
под стать: № 2 за тот же 1947 г. имел объем в 399 страниц, № 3 за
1950 г. — 384 страницы (я называю цифры, относящиеся к тем
номерам, о которых ниже пойдет речь). И статьи в журнале были очень
подробными — такими, подобные которым в последующие годы
не печатались.
Вернусь к упомянутому второму номеру единственного
философского журнала за 1947 г. Номер был чрезвычайно насыщен. Начну
с логики. Деятели «философского фронта» с самого начала были
озабочены ее «аполитичностью». В разделе «Философское образование»
была помещена статья некоего П. Е. Вышинского «Об одном из
недостатков в преподавании логики». Надо сказать, что этот «мыслитель»
выступал с критикой логики — как «вульгарно-материалистического»
понимания мышления — еще в журнале «Под знаменем
марксизма», а потом в выступлении на «философской дискуссии» 1947 г.;
152
5. И. Бирюков
впоследствии он продолжил критику на страницах журнала
«Вопросы философии»1.
На «дискуссии» 1947 г. П. Е. Вышинский солидаризировался
с точкой зрения М. А. Леонова, согласно которой введение
формальной логики в учебные планы вузов привело к тому, что «некоторые
склонны ее канонизировать» - в ущерб логике диалектической2.
Вслед за Леоновым П. Е. Вышинский в своем выступлении подверг
критике книгу «Логика» М. С. Строговича. «Формальная
логика, - вещал этот критик, - которая до сих пор была прибежищем
схоластики, аполитизма и безыдейности, должна быть
преподнесена учащимся как живой и увлекательный предмет, как практически
полезное руководство в практике мышления»3. Свои критические
эскапады П. Е. Вышинский подробно сформулировал в упомянутой
выше статье 1947 г. «Серьезные недостатки» в преподавании логики
виделись ему в том, что отсутствовала «идейность» в подборе
«иллюстративного материала».
Текст статьи Вышинского, помещенный в рубрике
«Философское образование», свидетельствовал о том, что его автор не очень
разбирается в предмете. Он считал неуместным использование в
преподавании известного логического квадрата, фигур и модусов
силлогизма, как «отвлеченных схем», и требовал «высокой идейности
и партийности в преподавании логики»; он осуждал преподавание
этого предмета в дореволюционной школе, которое, по его мнению,
было проникнуто проповедью схоластики и идеализма,
«приверженности к западноевропейской профессорской "науке" и
низкопоклонства перед ней». Примеры, приводимые в изданных учебных
пособиях по логике, говорилось в его публикации, пестрят именами
«многих ученых... но только не русских»; в этом проявляется
«раболепие» перед зарубежной логической наукой. «До сих пор у нас более
популярны Минто, Зигварт и другие зарубежные логики, чем наши
отечественные логики - Каринский, Рутковский, Поварнин и др.».
Автор данной публикации предлагал изучать, какой вклад в
логическую науку внесли Ломоносов, Герцен, Чернышевский, Ушинский,
1 Вышинский П. Е. Критика вульгарно-материалистического понимания
мышления // ПЗМ, 1941. № 4; Его же. Против формализма и аполитичности
в преподавании логики // ВФ, 1948. № 1 (3).
2 ВФ. 1947. № 1.С. 155.
3 Там же. С. 229.
Логика и история философии на факультете
153
Сеченов, а примеры применения логики искать в трудах Мечникова,
Менделеева, Тимирязева и других русских ученых1.
Надо сказать, что, говоря о необходимости изучения наследия
русской науки, в том числе относящегося к логике, автор данной
публикации ломился, так сказать, в открытую дверь. Этим уже начали
активно заниматься такие специалисты, как П. С. Попов и Н. И.
Кондаков, а если говорить также и о математической логике, то С. А.
Яновская и ее ученики. Все они вряд ли нуждались в указаниях со стороны
П. Е. Вышинского.
Автор поучения «Об одном из недостатков в преподавании
логики» резко обрушился на учебные пособия по логике. «В «Учебнике
логики» Г. И. Челпанова - сокращенном, очищенном от многих
негодных примеров — всё же остались, пишет он, «суждения о "бытии
телесном и бестелесном"», а также «положения затхлой и пошлой
морали, вроде "Невозмутимое спокойствие есть счастье"».
Подразумевалось, конечно, что «советский человек» должен искать счастья
не в спокойствии, а в борьбе...
Досталось и современным отечественным авторам:
Виноградову, Строговичу, Асмусу. Все они осуждались за приводимые в их
книгах «аполитичные» логические примеры, а М. С. Строгович2 —
еще и за «смешение формальной логики и диалектики». Что
касается В. Ф. Асмуса, автора книги о логике, вышедшей в том же году3,
то о нем говорится, что он прибегает к «выкрутасам», навязывает
нашему мышлению «искусственные схемы». «Пора бы советским
логикам, - советует П. Е. Вышинский, имея в виду В. Ф. Асмуса, —
перейти от подробных описаний практически бесполезных фигур
и модусов силлогизма к разъяснению познавательного значения
силлогизмов и основных правил логического мышления», оставляя
читателя в недоумении, как можно показать «познавательное
значение» силлогистики, не объяснив, что это такое. Еще более странно
звучит назидание учесть «опыт применения нашими людьми логики
в их идеологической борьбе с представителями буржуазного мира»4.
1 См. Вышинский П. Е. Об одном из недостатков в преподавании
логики // ВФ. 1947. № 2. С. 369-373.
2 Строгович М. С. Логика. Учебное пособие для слушателей Высшей
юридической академии Красной Армии, М., 1946.
3 Асмус В. Ф. Логика. М.: Госполитиздат, 1947.
4 Там же. С. 370-371.
154
б. И. Бирюков
Интересно было бы знать, представлял ли сам автор этих слов, как
это следовало делать?
С воинствующего невежды, каким, судя по всему, был этот
Вышинский, как говорится, взять нечего. Но в том же номере
журнала мне на глаза впервые попало имя Е. К. Войшвилло: им была
подписана рецензия на книгу В. Ф. Асмуса. Правда, на это имя я тогда
особого внимания не обратил, заметил только разносный характер
критики, что, впрочем, меня не удивило, так как тогда это был
принятый стиль.
Рецензия Евгения Казимировича1, как это ни прискорбно
признавать, не делала ему чести. В книге Асмуса он находит «весьма
крупные недостатки». К ним автор рецензии относит отсутствие
«критики идеалистических извращений в логике». Профессор Асмус,
оказывается, должен был «вскрывать гносеологические корни тех
или иных идеалистических ошибок в трактовке вопросов логики»,
и он знал об этом, но не сделал. Кроме того, он отнесся
«недостаточно критически к отдельным неверным положениям прежней логики
и не избежал идеалистических ошибок»2.
Не стану утомлять читателя изложением всех претензий, которые
Е. К. Войшвилло предъявил Валентину Фердинандовичу Асмусу.
Скажу о самых главных. Это был «отрыв логических закономерностей от
отношений действительности, стремление вывести закономерности в
отношениях между мыслями из свойств и наиболее общих законов
самих мыслей». Этому «отрыву» противопоставлялся тезис,
согласно которому «необходимость вывода обусловлена, конечно (!), теми
отношениями действительности, которые выражены в посылках»,
тезис, несостоятельность которого рецензент, должно быть, вскоре
осознал. Далее следуют упреки в отрыве формы от содержания и в
игнорировании отношения сходства, на котором, по Войшвилло,
основано обобщение, приводящее к образованию понятия; осуждается
«резкое отделение» научного мышления от мышления
повседневного и, наконец, указывается на «механическое объединение» трех
разных точек зрения в логике — точки зрения традиционной логики,
точки зрения М. И. Карийского и точки зрения логики отношений
С. И. Поварнина.
1 Войшвилло Е. К. О книге «Логика» проф. В. Ф. Асмуса // ВФ. 1947.
№ 2. С. 226-234.
2 Там же. С. 326.
Логика и история философии на факультете
155
Конечно, книга Валентина Фердинандовича не безупречна.
Но всё же она была лучшей по тем временам книгой по философской
логике. Поэтому удивляет неблагожелательный тон рецензии:
«положительным сторонам» книги Асмуса в ней посвящено всего два
маленьких абзаца, всё остальное занимает критика, причем даже по
мелочам. Что же касается слов об отрыве логических
закономерностей от отношений действительности и формы — от содержания, то
они смахивают на философско-политический донос.
Как поразительны были в XX в. перипетии мышления
различных представителей отечественного философского мира! Иные из
них раз и навсегда застряли в принятом однажды концептуально-
политическом шаблоне, лишь незначительно его модифицируя.
Взгляды других претерпевали глубокую внутреннюю эволюцию.
Евгений Казимирович всю жизнь оставался верен коммунистическим
убеждениям - не принял отказа страны от советской власти,
совершившегося в 90-х гг. А вот Михаил Григорьевич Ярошевский,
начинавший с гораздо более резкой критики «идеализма» и «буржуазной
философии», чем Войшвилло, кончил публикацией — в качестве
титульного редактора — замечательного антикоммунистического
документа — книги о «репрессированной науке»1.
Я упомянул М. Г. Ярошевского потому, что статья,
опубликованная им в рассматриваемом номере «Вопросов философии»,
позволила прикоснуться к новой для меня проблематике логической
семантики и семиотики, проблематике, которая впоследствии
заняла большое место в моих работах. Статья Ярошевского была
посвящена вопросам языка «в освещении прислужников
англоамериканского империализма». Конечно, в ней присутствуют
обязательные для того времени слова о «деградирующей философской
мысли Запада», о мутном потоке иррационализма, в котором
«доживающая свои самые последние сроки буржуазная философия
пытается потопить науку и культуру»2. Но в этой статье я
впервые встретил внятные (хотя и попросту оскорбительные) слова
о взглядах таких философов, как А. Н. Уайтхед, Б. Рассел, А. Айер,
1 Репрессированная наука / Под общей редакцией М. Г. Ярошевского.
М: Наука, 1991. Книга открывается статьей Михаила Григорьевича
«Сталинизм и судьбы советской науки».
2 Ярошевский М. Г. Проблема языка в освещении прислужников
англоамериканского империализма // ВФ. 1947. № 2. С. 249, 261.
156
5. И. Бирюков
Ч. Моррис1, о таких направлениях, как логический позитивизм,
логический атомизм, неореализм, семантика и семиотика, и о таких
замыслах, как создание «энциклопедии унифицированной науки»,
задуманной, как потом мне стало известно, лидерами знаменитого
Венского кружка. Читал я цитировавшиеся М. Г. Ярошевским слова
Рассела о том, что «логика, хоть в малейшей степени доверяющая
языку, ведет к фальшивой метафизике»2, — и не подозревал о том,
что заключенная в них концепция впоследствии, в связи с изучением
философско-логических воззрений Г. Фреге, займет столь большое
место в моих историко-логических размышлениях.
Просматривая эту статью сейчас, я натолкнулся на цитату
из Морриса, которая словно бы предрекала бурные споры о
методологическом значении логики и семиотики, разыгравшиеся в
нашей стране в начале 1960-х гг.: «Классическая логика
предполагала стать органоном науки, но оказалась неспособной исполнить
эту роль; современная семиотика, воплощающая в себе новейшие
логические течения и широкое многообразие подходов к
знаковым феноменам, может вновь попытаться взять на себя эту же
самую роль»3.
Мое внимание привлекла также развернувшийся на страницах
этого журнала спор, вызванный публикацией в том же номере
журнала статьи М. А. Маркова «О природе физического знания». Она
отражала теоретико-познавательное осмысление квантовой
физики, которой была посвящена книга того же автора «О микромире».
В статье говорилось о специфике познания физиками микромира,
и редколлегия журнала, главным редактором которого решением
ЦК партии был назначен Б. М. Кедров (после выхода этого
номера снятый с этой должности), чувствуя рискованность темы,
уведомляла читателей, что печатается она «в порядке обсуждения».
Кроме того статье было предпослано предисловие академика
С. И. Вавилова4, в котором он указал на то, что материал статьи
1 Назывались труды: Whitehead A. Process and Reality, 1941; Russell В.
Logical atomism // Contemporary British Philisophy, London, 1925; Ayer A.
Language, Truth and Reality. London, 1936; Morris Ch. Foundations of the Theory
of Science. Chicago, 1938.
2 Ярошевский M. Г. Указ. соч. С. 269.
3 Там же. С. 269-270.
4 Вавилов С. И. Несколько слов к статье А. А. Маркова // ВФ. 1947. № 2.
С. 138-139.
Логика и история философии на факультете
157
представляет большой интерес для размышлений как философа,
так и физика. «Почему, например, макроприборы, переводя
микроявления на человеческий язык», делают их статистическими?
Кроется ли статистическая неопределенность в методе познания
или в самом существе дела?» Президент Академии наук выразил
пожелание, чтобы данная публикация стала «исходным пунктом
большой и серьезной дискуссии», не сводящейся к «наклеиванию
клеймящих ярлыков».
Увы, пожелание президента АН СССР повисло в воздухе. Против
положений статьи М. А. Маркова выступил закаленный в партийно-
философских баталиях борец потив «идеализма в физике» А. А.
Максимов и другие охотники до всяческих «проработок». Для меня же
статья физика М. А. Маркова была важна тем, что знакомила с
вопросами, которые не освещались в курсе, который в МИФЛИ читал
профессор Фридман. Новым был и принцип дополнительности, и взгляд
на человека, познающего микромир, как на «макроприбор», и
понятие «модельного представления» познаваемого, и категория
физической реальности, и проблема «скрытых параметров» в квантовой
теории, и «опережающая» роль математики в развитии квантово-
физических теорий.
При написании этой главы я заново обратился к статье
М. А. Маркова и позволю себе привести из нее отрывок, так как
он служит подтверждением концепции С. А. Яновской о введении
и исключении научных абстракций, о которых я буду говорить в
последующих главах. Ибо математический аппарат, «опережающий»
наличные физические представления, означает введение новых
абстракций, а освоение их как составной части «физической
реальности» есть своего рода «исключение» этих абстракций - в том
смысле, что происходит как бы спуск на более низкий уровень научных
отвлечений.
У М. А. Маркова это выглядит так: «Иногда математика приводит
к таким выводам, которые "здравому смыслу" кажутся абсурдными;
кажется, что эти выводы противоречат даже физическим
представлениям, лежащим в основе математических уравнений. Но всегда, если
"соблюдены правила игры", т. е. не сделано математических ошибок,
математика оказывается правой, оказывается "умнее", как в таких
случаях, не переставая удивляться, говорят физики. Любопытно, что
при дальнейшем изучении вопроса физики настолько осваиваются
с этими, казалось вначале абсурдными, результатами, что начинают
158
б. И. Бирюков
считать их "само собой понятными и без всякой математики, если
хорошо подумать"»1.
В январе 1948 г. в Физическом институте АН СССР состоялось
обсуждение книги М. А. Маркова «О микромире», основные положения
которой были изложены в его статье в «Вопросах философии». Обзор
этого обсуждения, составленный Львом Львовичем Лотковым, был
напечатан в том же номере журнала2. Интересно столкновение
взглядов физика В. Л. Гинзбурга и философа Б. М. Кедрова. Физик упрекает
автора книги в том, что он ограничился теоретико-познавательными
проблемами и поэтому недостаточно обстоятельно осветил
статистический характер рассматриваемых им закономерностей; философ же
критикует М. А. Маркова за то, что квантовая механика выводится им
будто бы из особенностей субъекта, что означает «дань идеализму».
Когда в 1947 г. я читал статью М. А. Маркова, для меня была
очевидна правота ее автора. В этой связи мне хочется отметить «промар-
ковскую» позицию С. Г. Суворова, философа-физика, тесно
сотрудничавшего с Физматгизом, где мне спустя десять лет довелось работать.
Не могу также удержаться, чтобы не сказать, что к вопросам,
поставленным в статье М. А. Маркова, мне впоследствии пришлось
обращаться трижды: в первый раз, когда я как научный редактор готовил
к публикации в «Философской энциклопедии» статью «Логика
квантовой механики» Б. Н. Пятницына, над которой до этого поработала
С. А. Яновская. Второй раз, когда знакомился с книгой В. С. Меськова
о логике квантовой механики3 и писал совместно с В. И. Шаховым на
нее рецензию4, и третий раз, когда (тоже совместно с В. И. Шаховым)
делал доклад о развитии квантовой логики в СССР на конференции
по логике квантовой механики, проведенной на базе кафедры логики
философского факультета МГУ5.
1 Марков М. А. О природе физического знания // ВФ. 1947. № 2. С. 158.
2 Лотков Л. Л. Обсуждение работы М. А. Маркова «О микромире» //
ВФ. 1947. № 2. С. 381-382. Этот номер, датированный 1947 г., был подписан
к печати лишь в феврале следующего года, почему обзор январской (1948)
дискуссии о познании микромира и мог быть в ней опубликован.
3 Месъков В. С. Очерки по логике квантовой механики. М., 1986.
4 Бирюков Б. В., Шахов В. И. Рецезия на книгу В. С. Меськова «Очерки по
логике квантовой механики» // Философские науки. 1987. № 8.
5 См. Бирюков Б. В., Шахов В. И. Квантовая логика: развитие
исследований в Советском Союзе // Современные исследования по квантовой логике /
Под ред. В. С. Меськова и Б. Н. Пятницына. М.: Изд-во МГУ, 1989.
Логика и история философии на факультете
159
4. Три выдающихся профессора.
Публикация отрывка из «Логики» М. И. Карийского
Три личности на факультете воплощали наследие
логико-философской мысли Серебряного века: это были названные выше П. С. Попов,
В. Ф. Асмус и А. С. Ахманов. На философском факультете в 1947 г.
была создана кафедра логики, и первым ее заведующим (точнее,
исполняющим обязанности заведующего) стал Павел Сергеевич.
Вклад П. С. Попова в отечественное логико-философское
образование трудно переоценить. Логика в его изложении представала
перед слушателями как важнейшая составная часть мировой
философской мысли. Он был разносторонним историком философии
и логики. Одним из первых он начал изучать историю
отечественной философско-логической мысли, в частности логическое учение
Михаила Ивановича Карийского (1840-1917). В журнале «Вопросы
философии» П. С. Попов опубликовал отрывок из текста «Логика»
этого оригинального русского мыслителя.
В «Справке», предшествовавшей этой публикации, Павел
Сергеевич писал, что речь идет о литографированном издании курса лекций,
читанных Каринским на Высших женских курсах в 1880-х гг., уже
после его диссертации «Классификация выводов» (1880)1. Данная
публикация, отмечал П. С. Попов, интересна тем, что в ней отражены
взгляды Карийского на суждение (в «Классификации выводов» они
только намечены автором). «Справка» Павла Сергеевича интересна
тем, что в ней текст печатающегося отрывка из «Логики» Карийского2
1 Труд «Классификация выводов. Исследование М. Карийского» увидел
свет в 1980 г. в Петербурге. В 1956 г. он был стараниями Н. И. Кондакова
переиздан в книге «Избранные труды русских логиков XIX века» (М.: Изд-во
АН СССР, 1956). Помимо работы Каринского в книгу вошел труд Л. В. Рут-
ковского «Основные типы умозаключений». В приложении к книге была
помещена обстоятельная статья Николая Ивановича «Выдающиеся
произведения русской логической науки XIX века». В начале 1960-х гг. со статьей о
логическом наследии Рутковского выступил П. С. Попов: «Учение Л. В. Рут-
ковского об умозаключениях и их классификации» в сборнике «Очерки по
истории логики в России» (М.: Изд-во МГУ, 1962).
2 Судя по всему (см. петербургскую книгу «Логика. Справочник»,
с. 195), речь идет о литографированом издании «Логика. Аристотель —
Бэкон - Милль. Лекции профессора Каринского». СПб., 1884-1885.
160
б. И. Бирюков
сопоставляется с его статьей «Явление и действительность»1 и
программой по логике, приложенной в конце его логического курса.
Обращение Павла Сергеевича к названной выше статье русского
философа примечательно тем, что он старается доказать, будто
логическое учение Карийского носило «по существу» материалистический
характер. Это утверждение автор «Справки» обосновывал, приводя
следующие слова Карийского: «Не явления только, но и
действительность, не действительность только внутренняя, непосредственно
переживаемая нами, но и действительность внешняя, лежащая в
основании мира явлений, составляет такую точную истину, какая только
доступна науке в ее настоящем положении»2. П. С. Попов пишет
далее, что публикуемый отрывок подтверждает предлагаемую им
трактовку учения Карийского.
Подобный прием зачисления в «материалисты» философов,
заведомо таковыми не являвшихся, характерен для того времени.
Карийский был православным мыслителем, преподавателем
Духовной академии. Разве можно человека, верующего в Бога, считать
материалистом? На деле установка Карийского, как это совершенно
очевидно, была направлена против кантианства,
противопоставляющего явления и действительность. Для православного христианина
таковое, конечно, совершенно неприемлемо. Впрочем, много ли мы,
начинающие «философы-марксисты», знали тогда о православном
вероучении? Но Павел Сергеевич его знал...
Каринский был противником субъективизма, который он
усматривал и в традиционной дедуктивной логике, и в логике
индуктивной. И там и тут, по его мнению, субъектом суждения считается не
предмет, а представление о нем.
Здесь надо сказать хотя бы несколько слов о самом логическом
учении М. И. Карийского, как оно представлено в
публиковавшемся отрывке; с поднятой им проблематикой мне в дальнейшем
пришлось иметь дело. Согласно взглядам русского философа, логика
есть наука о познании, познание же имеет своим предметом всё
существующее, причем последнее должно браться именно так, как оно
существует.
1 Опубликована в «Православном обозрении», № 4, апрель 1887 г. В
петербургском издании «Логика. Справочник» указан другой год — 1878.
2 Попов П. С. О курсе логики М. И. Карийского (Справка) // ВФ. 1947.
№ 2. С. 286.
Логика и история философии на факультете
161
Не излагая здесь всего учения Карийского о предмете логики,
подчеркну два момента. Первый касается видов существующего
с точки зрения их познания. Каринский ставит вопрос, «каким же
образом могут стать предметами знания те предметы, которые
заведомо не могут иметь места среди действительных вещей;
например, человечеческие идеалы, божества мифологии и т. п.»1. Ответ
состоит в том, что в этом случае предметом изучения выступают
связанные с ними характерные черты: изучая греческие божества,
мы изучаем состояние греков, существовавшее в
действительности. Здесь русский мыслитель поднимает проблему категорий
бытия, над которой билась и западная философская мысль (Фреге,
Майнонги др.).
С этой проблемой связано различение Каринским трех классов
суждений: суждений, приписывающих предметам существование
(«например, когда доказывается существование Бога»); суждений,
рассматривающих предметы «сами в себе»; и суждений,
рассматривающих отношения между предметами. Выделение суждений
этой последней группы П. С. Попов считает особенно важным для
логики.
Действительно — и в этом состоит второй момент, который
я хочу подчеркнуть, — выделение суждений отношения побуждает
Карийского заняться проблемами тождества, сходства и различия.
Здесь его мысль идет отчасти в параллель с теми
размышлениями, которые в те же годы привели Фреге к его учению о значении
и смысле, а еще ранее побудили братьев Германа и Роберта Грасс-
манов привлечь к трактовке тождества и различия диалектические
соображения. А именно, Каринский выделяет суждения о
реальном тождестве и о тождестве логическом. В случае реального
тождества мы имеем дело с одним предметом, на который, однако, мы
смотрим с различных точек зрения. При этом отмечаются две
возможные познавательные ситуации: когда предметы, считавшиеся
различными, опознаются как один и тот же предмет, и когда
обнаруживается ошибочность отождествления: то, что принималось
нами за один и тот же предмет, оказывается предметно различным.
Что касается логического тождества, то оно имеет место в случае
сходства предметов.
1 Отрывок из литографированного издания Карийского «Логика»
(1884-1885) // ВФ. 1947. № 2. С. 388.
162
Б. И. Бирюков
б.АсмусиАхманов
В. Ф. Асмус1 был во второй половине 1940-х и в 1950-х гг. членом
логической кафедры. Это вполне понятно, так как логика была
давней сферой его научных интересов. Он интересовался логикой,
по-видимому, еще когда учился в Университете им. Св.
Владимира. Именно там, в Киеве, 7 марта 1922 г. им была прочитана лекция
pro venia legendi (то есть на право преподавания в университете)
на тему «Философские задачи логики»2. В 1930 г. он опубликовал
статью о логике3. В МИФЛИ наряду с историко-философскими
лекциями Валенин Фердинандович, как я уже говорил, вел
лекционный курс формальной логики. Что касается МГУ, то в 1939 г.
для аспирантов кафедры диалектического и исторического
материализма, которой руководил 3. Я. Белецкий, он читал лекции
по истории логики, и их слушал 3. А. Каменский4. Впоследствии,
в феврале - мае 1951 г. он посещал лекционный курс В. Ф. по
формальной логике и в своих воспоминаниях отметил, что в нем
большое внимание уделялось историко-философским вопросам5.
В 1952 г. Асмус читал на факультете лекции по истории логики,
и у меня сохранилась стенограмма части этого курса, о которой
я скажу в своем месте.
В. Ф. Асмус — активный участник движения за восстановление
логики в ее правах как предмета преподавания и научного исследова-
1 Валентин Фердинандович Асмус (1894-1975), уроженец Киева и
потомок обрусевших немцев, окончил историко-филологический факультет
Киевского университета в 1919 г.; с 1927 г. в Москве. Преподавал в
Институте красной профессуры, в Академии коммунистического воспитания,
в МИФЛИ. Историк философии с широчайшими научными интересами,
он к середине 1940-х гг. успел опубликовать работы об этике Спинозы,
диалектике Декарта и Канта. В 1930 г. вышли его «Очерки истории диалектики
в Новой философии», а затем - нашумевшая книга «Маркс и буржуазный
историзм» (М.; Л., 1933).
2 Ныне она опубликована в журнале «Путь», 1995, № 7.
3 Асмус В. Ф. К вопросу о логике естественных и исторических наук //
Научное слово. 1930. № 6.
4 Каменский 3. А. О «Философской энциклопедии» // Философия
не кончается. Из истории отечественной философии. XX век. [Кн. 2]: 1960-
1980-е годы. М.; РОССПЭН, 1998. С. 64.
5 В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель (материалы круглого стола) //
Философия не кончается. Кн. 2.1998. С. 311.
Логика и история философии на факультете
163
ния. В 1944 г. он выступил со статьей на логические темы1. Его
«Логика» (1947) была лучшей из ряда книг по нематематической логике,
которые в те годы появлялись одна за другой; к учебнику
впоследствии добавились его небольшая книга «Учение логики о
доказательстве и опровержении» (1954)2. Лекторий МГУ организовал курс
лекций по логике, и В. Ф. участвовал в нем наряду с математиками
П. С. Новиковым и С. А. Яновской; лекции в этом лектории (это был
1952 г.) я слушал, записал и записи эти сохранил.
Конечно, В. Ф. Асмус был прежде всего историком философии.
Но в 1947 г. он был профессором кафедры логики, к преподаванию
истории философии его не допускали по идеологическим
соображениям. Как вспоминал Т. И. Ойзерман, декан факультета Д. А. Кутасов
высказывался в том смысле, что преподавать логику —
«беспартийную» дисциплину - Асмус, конечно, может, но иное дело история
философии, дисциплина партийная3.
Для молодежи, да и людей среднего возраста, это время предстает
как некий театр абсурда — с той немаловажной особенностью, что
актерами в нем были все. Два раза в год, 1 мая и 7 ноября, во всех
городах и весях все «трудящиеся», то есть лица, состоящие на
государственной службе (а какая иная могла быть тогда служба?) обязаны
были — добровольно, конечно, - участвовать в демонстрациях:
проходить на предназначенных для этого площадях перед трибунами, на
которых их приветствовало партийно-государственное руководство
соответствующего ранга. В Москве «демонстранты» шествовали по
Красной площади перед мавзолеем В. И. Ленина, на трибунах
которого стояли «руководители партии и правительства». Парткомы и
партбюро на учреждения и предприятиях, следуя указаниям райкомов и
горкомов, утверждали оформление колонн (портреты тех, кто стоял
на мавзолее, красные флаги и иные революционные символы), весь
персонал данной организации - если люди не были больны либо
заняты на неотложных работах - разбивали на пятерки, и в каждой из
них назначался правофланговый. Он отвечал за поведение на
демонстрации своей пятерки. Глубокий смысл этого назначения состоял
1 Асмус В. Ф. Логические законы мышления // Под знаменем
марксизма. 1944. № 4-5.
2 Ныне эту публикацию Валентина Фердинандовича можно найти в его
«Избранных философских трудах» (Т. 1-2. М., 1969-1971).
3 См.: В. Ф. Асмус - педагог и мыслитель. С. 301.
164
б. И. Бирюков
в том, что, проходя по Красной площади, правофланговый оказывался
ближе всего к трибунам Мавзолея, и если бы в его пятерке нашелся
кто-либо, решившийся покуситься на стоящих на трибуне «вождей»
(на самом деле имелся в виду именно Сталин), да хотя бы выкрикнуть
что-то неположенное, он должен был немедленно это пресечь.
Боже мой, на что был похож город в день демонстрации! Тучи
народа, колонны часами стоят на месте, ожидая своей очереди на
прохождение через Красную площадь, порядок в них
расстраивается, «неустойчивые элементы» норовят улизнуть домой. У
немногочисленных общественных туалетов (изобилие этих заведений
молчаливо считается чем-то недостойным высокого звания
советского человека!) выстраиваются громадные двуветвистые — женские
и мужские — очереди; мужчинам легче: справить «по маленькой» они
забегают в подворотни. Наконец, колонна, порядком поредевшая,
вступает на площадь, и тысячи глаз устремляются на трибуны — все
хотят увидеть Сталина. Беспрерывно звучит праздничная музыка.
Пройдя площадь, все устремляются к метро, и многие по пути
бросают атрибуты оформления (потом этот вопрос будет предметом
разбора в парторганизации). У входов в метро страшная давка. Для
отдыха либо работы день выброшен.
После смерти Сталина власти сообразили, что поголовные
демонстрации не нужны, постепенно уменьшили их размах: теперь по
Красной площади стали проходить «представители трудящихся».
Какое отношение этот рассказ имеет к Валентину Фердинандо-
вичу? Самое прямое. Дело в том, что назначение «правофланговым»
означало политическое доверие со стороны власти. А таковым его не
удостаивали, и когда однажды на парткоме поставили вопрос о
переводе В. Ф. из сектора логики в сектор истории философии (об этом
настойчиво хлопотал Т. И. Ойзерман), один из членов парткома
высказался против, потому что Асмус «не заслуживает в полной мере
политического доверия, так как его недавно не утвердили
правофланговым на предстоящей праздничной демонстрации»1.
Со временем, после кончины «солнцеликого садовника»
и XX съезда партии, В. Ф. перешел на кафедру истории зарубежной
философии, хотя на один год (1956) ему пришлось-таки вернуться на
кафедру логики, чтобы ею руководить. Это было для него явно
нежелательной обузой, и скоро он ее с себя снял (об этом позже).
1 См. Там же. С. 30.
Логика и история философии на факультете
165
Я считаю даром судьбы, что успел кое-что «урвать» от лекций
Валентина Фердинандовича по греческой философии: полтора месяца
(февраль — март 1942 г.) слушал их в филиале философского
факультета, открывшемся в Москве. В памяти запечатлелось: голова с
копной седеющих волос, делающая его похожим на льва. Лекции Асмуса
были очень содержательны, отличались отточенностью
формулировок, но были суховаты — в этом его стиль преподнесения
материала контрастировал с манерой чтения лекций, которая была присуща
Б. С. Чернышеву. В асмусовском изложении эллинская философия
представала как, прежде всего, история рационализма; логическому
дискурсу древних греков уделялось большое внимание.
Это не было у Асмуса случайным. Дело в том, что логический
дискурс в истории философии почти всегда был связан с диалектикой,
а она была в центре его философских исследований фактически на
протяжении всей творческой жизни. Во всяком случае, подзаголовок
одной из первых (если не первой) его публикации о диалектическом
материализме и логике гласит: «Очерк развития диалектического
метода от Канта до Ленина»1. Это, конечно, шло в унисон с
официальной идеологией, но В. Ф. занимался проблемами диалектики отнюдь
не из конъюнктурных соображений.
Ученик В. Ф. Асмуса в области истории философии Г. А. Заичен-
ко2, характеризуя Валентина Фердинандовича, пишет, что «в
страшные годы коммунистического диктата он имел мужество отстаивать
критерии честного, глубоко профессионального служения
философской науке, служения истине»3. Он воспитал целое поколение
советских историков западной философии, а также некоторых логиков
1 Асмус В. Ф. Диалектический материализм и логики. Очерк развития
диалектического метода от Канта до Гегеля. Киев, 1924. Впоследствии,
будучи уже в Москве профессором Института красной профессуры, он публикует
работы: Диалектика и антиномии Канта // Вестник Коммунистической
академии. 1928. Кн. 29; Диалектика Канта, М., 1929 (2-е изд., М., 1930). Много
лет спустя, незадолго до смерти, выходит его фундаментальная монография
«Иммануил Кант» (М., 1973).
2 Георгий Антонович Заиченко (1921-2001), доктор философских
наук, работавший на Украине, окончил философский факультет МГУ и там
же в 1955 г. аспирантуру; его кандидатская диссертация была посвящена
Дж. Локку.
3 Заиченко Г. А. Взаимозависимость теории познания и истории
философии: вклад В. Ф. Асмуса // Вестник Международного славянского
166
б. И. Бирюков
(А. И. Уемов, В. А. Смирнов). Для них, учеников Валентина Ферди-
нандовича, «решающим был фактор образца, готовность совершать
поступки. В 1960 г. на Ученом совете философского факультета МГУ,
когда В. Ф. Асмуса подвергали идеологической проработке и
разносной критике за речь, произнесенную им на похоронах его друга,
автора романа "Доктор Живаго" Б. Л. Пастернака, он сказал: "Не мог же
я плюнуть человеку в могилу!"»1.
Вообще в связи с этой речью Валентина Фердинандовича
подстерегали опасности с самых разных сторон. В то время Асмус был
членом редколлегии «Философской энциклопедии», и ее главный
редактор Ф. В. Константинов поставил перед ЦК партии вопрос о
выведении его из ее состава. Но, как рассказывает 3. А. Каменский со
слов самого Федора Васильевича, секретарь ЦК партии М. А. Суслов,
которому Ф. В. доложил об этой своей инициативе, отверг ее, сказав,
что в отношении ученых такого рода действия совершать нельзя2.
Как свидетельствует А. Д. Косичев, в связи с речью Валентина
Фердинандовича на похоронах Пастернака в аппарате ЦК партии
нашлись работники, которые требовали «принятия к Асмусу самых
решительных мер - вплоть до увольнения с работы». Однако
председатель ученого совета факультета и его декан В. С. Молодцов3 «очень
умело вел заседание», на котором обсуждалось «поведение» Асмуса,
университета. Вып. 4. М., 1998. С. 50. Эта статья готовилась к печати
мною — заместителем председателя редакционной коллегии «Вестника».
1 Заиченко Г. А. Указ. соч. С. 51.
2 Каменский 3. А. Указ. соч. С. 50-51.
3 Василий Сергеевич Молодцов (1899/1900-1985) - декан
философского факультета МГУ (1952-1968), сменивший А. П. Гагарина,
скончавшегося в 1960 г. Переизбрание Молодцова в 1968 г. деканом (до 1956 г. деканы
назначались решением высших партийно-государственных органов) не
поддержал ректор университета И. Г. Петровский.
В Гражданскую войну Молодцов был политработником на фронте, затем
учился в Комакадемии, окончил аспирантуру МИФЛИ, был слушателем
Института красной профессуры, получил ученую степень доктора философских
наук и звание профессора. С1937 г. - работник аппарата ЦК ВКП(б),
директор Политиздата; в годы войны с Германией — редактор пропагандистского
Совинформбюро. Перед назначением на должность декана философского
факультета МГУ работал в Высшей партийной школе при ЦК партии. О Мо-
лодцове см.: Алексеев П. В. Философы России. С. 647-648, и Косичев А. Д.,
с. 34 и далее. Александр Данилович сообщает: «Молодцов провел ряд
теоретических конференций, одна из которых — по логике — длилась больше
Логика и история философии на факультете
167
пресекая редкие «обличительные» выступления. А Валентин Ферди-
нандович в своем кратком слове фактически встал на защиту
великого русского писателя1. И всё обошлось.
Выразительную характеристику тернистого пути Валентина Фер-
динандовича в мире советской философии дал 3. А. Каменский. Он
писал, что В. Ф. всю жизнь за что-нибудь «"прорабатывали": в 1920-е гг.
за симпатии и даже солидарность с "меньшевиствующим идеализом",
в 1930-е — за "буржуазный объективизм", будто бы содержащийся
в книге "Маркс и буржуазный историзм"2, в 1940-е - за мнимые
ошибки в III томе "Истории философии" <...> в 1950-е гг. — за
"беспартийную позицию" в области логики, в 1960-е — за речь о Пастернаке»3.
Эти жизненные перипетии объясняют известную замкнутость Асмуса,
его необычайную осторожность в формулировках и учет «текущего
момента», который, однако, был чрезвычайно взвешенным.
Труд Асмуса об основоположнике марксизма и «буржуазном
историзме» был единственной книгой, выпущенной в СССР в год
пятидесятилетия со дня смерти Маркса. И тем не менее для нее не нашлось тогда
добрых слов: в «Правде» появилась разносная рецензия М. Б. Митина
на эту работу, одну из лучших в научном наследии В. Ф.
Как известно, слухи были неотъемлемой чертой советского
бытия, особенно в сталинские времена. И до войны, и после нее дважды
поговаривали об аресте Валентина Фердинандовича. Так, В. А.
Смирнов утверждал, что арест В. Ф. планировался «перед войной», но,
предупрежденный друзьями, он успел «отбыть в Минск»4, а согласно
В. В. Соколову (устное сообщение), слухи об аресте Асмуса ходили
в 1946 г.
В последние годы можно слышать сожаления о том, что Валентин
Фердинандович не занимался «теоретической философией» (что это
такое?), будучи придавленным партийно-идеологическим прессом.
Захар Абрамович сожалел, что в его рукописном наследии не оказалось
месяца», отмечая, что особенно интересными на ней были выступления
К. С. Бакрадзе и В. Ф. Асмуса.
1 Косичев А. Д., с. 277-278.
2 Так, в «Правде» был напечатан пасквильный отзыв Б. М. Митина,
в котором Валентин Фердинандович обвинялся в немарксизме.
3 Каменский 3. А. Указ. соч. С. 66.
4 Валентин Фердинандович Асмус - педагог и мыслитель (материалы
круглого стола) // Философия не кончается. Кн. 2.1998. С. 319. Я не
обнаружил подтверждения этого собщения.
168
б. И. Бирюков
«собственно теоретических работ». А Вадим Николаевич приводит
мнение А. Ф. Лосева, что В. Ф. «очень талантлив, но он во многом
растерял свой талант»1. Я убежден, однако, что этот взгляд несостоятелен.
Просто В. Ф. был достаточно умен, чтобы не заниматься
«теоретической философией», которая в нашей стране в XX в. не могла не
свестись к толчению диалектической воды в материалистической ступе.
В. Ф. Асмус читал на факультете курсы истории философии еще
в 1942 г., и, как я писал в главе «МИФЛИ» и повторил выше, мне
довелось его слушать. Но вернувшись в МГУ из армии, я обнаружил,
что лекции по истории античной и средневековой философии на
втором курсе уже прочитаны, и я должен сдавать соответствующий
экзамен, прорабатывая соответствующий материал самостоятельно, что я
и сделал. Я готовился по первому тому «Истории философии» 1940 г.
и до сих пор считаю его достаточно добротным трудом. В последние
годы модными стали пренебрежительные отзывы о главе об
Аристотеле, написанной Г. Ф. Александровым, так же как и о его
монографии о великом эллине2. Аргументируется это тем, что автор
пользовался не греческими и латинскими оригиналами, а немецкоязычными
переводами аристотелевских текстов. Во всяком случае, в серьезной
современной отечественной литературе по истории греческой
философии его монография не упоминается. Но Георгий Федорович был,
насколько мне известно, знаком и с латынью, и с греческим. А его
глава об Аристотеле в «серой лошади», как студенты именовали
данный том «Истории философии», со знанием дела освещает вопрос.
Многие ли из современных критиков Александрова владеют
древними языками?
Экзамен по истории античной и средневековой философии мне
в память не запал. Я готовил его, конечно, по первому тому
«Истории философии», вышедшем в 1940 г. Сколько помню, я сдавал этот
курс М. А. Авраамовой, которая, по-моему, была тогда заместителем
декана факультета3. Ничем не запомнилось мне и изучение в МГУ —
1 Садовский В. Н. Философия в Москве в 50-е и 60-е годы // Философия
не кончается. Кн. 2.1998. С. 19. Эта статья впевые опубликована в журнале
«Вопросы философии» в 1993 г.
2 Александров Г. Ф. Аристотель. Философские и
социально-политические взгляды. М., 1940. До этого, в 1938 г., он защитил докторскую
диссертацию, посвященную философии Стагирита.
3 Мария Александровна Авраамова специализировалась в области
античной философии, что следует из выпущенных позже ее публикаций:
Логика и история философии на факультете
169
и сдача соответствующего экзамена — исторического развития
западной философии. Конечно, я пользовался вторым томом «Истории
философии». Знания философских первоисточников от нас тогда не
требовали. Но мне очень помогал тот историко-философский багаж,
который я сумел накопить, занимаясь историей литературы и
философии в период военной службы.
Как я сказал выше, Асмус в 1952/1953 учебном году читал курс
истории логики; я его не слушал, но имел возможность ознакомиться
со стенографической записью девяти его лекций, относящихся к
ноябрю — декабрю 1952 г.; все стенограммы выправлены, содержат мои
пометы и хранятся в личном архиве. Стенографически запечатленная
часть курса Асмуса (243 машинописные страницы) начинается
лекцией о логическом учении Авиценны (5 ноября 1952 г.); далее следуют
лекции о естествознании Нового времени, о Бэконе (учение которого
сопоставляется с индуктивизмом Милля), о Гоббсе, Декарте и Паскале
(лекция 17 декабря).
То, что в 1952 г. лекции Асмуса стенографировались, было,
видимо, не случайно. Это было «смутное» время: шли дискуссии о
логике, участники которых соревновались в изъявлениях верности
марксизму-ленинизму, в разоблачении «идеализма» и раздаче
идеологических ярлыков своим оппонентам. Руководство факультета,
а может быть, и университета — и, конечно, партийные органы —
решило, видимо, проверить Валентина Фердинандовича на
«идеологическую выдержанность». Это обстоятельство, по-видимому,
учитывалось Асмусом, и уже в первой застенографированной лекции
мы находим высказывание о том, что «англо-американский
прагматизм в экономике и теории познания представляет собой род
субъективного идеализма и агностицизма». И эти слова был
вынужден говорить ученый с мировым именем, мыслитель, чьи
работы получили признание за рубежом. Известный западный историк
логики И. М. Бохенский прислал Асмусу свой труд «Формальная
логика»1 с автографом: «От постоянного читателя Ваших трудов».
Валентин Фердинандович впоследствии в разговоре со мной высказал
Из истории античного атеизма. Лекция для студентов-заочников
философских факультетов государственных университетов. М.: Изд-во МГУ, 1960;
Учение Аристотеля о сущности. М.: Изд-во МГУ, 1970.
1 BochenskiJ. M. Formale Logik. Freiburg/Munchen, 1956. Этот труд
неоднократно переиздавался, был переведен на английский язык.
170
б. И. Бирюков
убеждение: в те годы его не принудили уйти из университета потому,
что он никогда не прекращал чтения лекций1. Но на компромиссы всё
же приходилось идти, выступая против «идеализма в логике»,
присущего будто бы «буржуазной философии»2.
По единодушному мению философов, которых я уважаю,
В. Ф. Асмус был крупнейшим отечественным философом прошлого
века, творившим в своем отечестве. Как подчеркивает Т. И. Ойзер-
ман, он был первым — и в течение многих лет единственным —
советским философом, избранным действительным членом
Международного института философии в Париже3. Но его не избрали в Академию
наук (правда, удостоили звания заслуженного деятеля науки РСФСР)
и не выпускали за границу на международные философские
конгрессы и конференции.
Знакомство с Александром Сергеевичем Ахмановым произошло
гораздо позже, во второй половине 1950-х гг., уже в аспирантуре
кафедры логики, о чем ниже. Но не личное знакомство, оно было
поверхностным, а ознакомление с посмертно вышедшим вторым
изданием труда Ахманова о логике Аристотеля4 (его автор умер в 1957 г.)
было значимым для логиков моего поколения. Впоследствии я
использовал это сочинение при подготовке курса истории логики,
который мне довелось читать на философском факультете МГУ.
Б. С. Чернышев, П. С. Попов, В. Ф. Асмус, А. С. Ахманов -
какие это были неординарные личности, как широка была их
эрудиция и глубина мысли, как свободно обращались они к иноязычным
источникам! И как по-разному читали они лекции! Ярко, образно —
1 Мне неизвестно, стенографировался ли весь курс истории логики,
прочитанный В. Ф. Асмусом в 1952/1953 учебном году. Если да, то
соответствующие стенограммы могли сохраниться в университетском либо
факультетском архивах. Но и то, что имеется в наличии, заслуживает публикации:
лекции Валентина Фердинандовича ценны не только сами по себе как работа
по историографии логики, но и как своеобразный памятник эпохи.
2 Ср., например, его статью «Критика буржуазных идеалистических
учений логики эпохи империализма» (Вопросы логики. М., 1955). С
аналогичной лекцией В. Ф. выступал и в лектории МГУ.
3 В. Ф. Асмус - педагог и мыслитель. С. 304.
4 Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. М.: Соцэкгиз, 1960.
В 2002 г. эта книга была переиздана издательством УРСС в серии «Из
истории логики XX века». Первое издание этой книги увидело свет при жизни
автора в 1953 г.
Логика и история философии на факультете
171
Чернышев; отточенно-четко — Асмус; вдумчиво, приглашая
слушателей к размышлению, — Попов. И на всех них, беспартийных,
поборники «марксистско-ленинской философии» — не всегда достаточно
грамотные, но с красной книжкой в кармане — смотрели как на
«буржуазных специалистов».
7. Преподаватели «советского покроя». Русская философия
Лекции по диалектическому материализму читал доцент Д. А.
Кутасов. Поначалу я серьезно относился и к этому предмету, и к лекциям
Дмитрия Алексеевича, но в конце концов понял, что ничего путного
из речений этого пропагандиста марксистско-ленинской философии
извлечь нельзя1. Из его лекций запомнилось только то, что,
процитировав слова из песни эпохи Гражданской войны: «Наш паровоз летит
вперед, в коммуне остановка», он с пафосом провозглашал: никакой
остановки не будет, а будет динамичное развитие коммунистического
общества. Я не могу согласиться с данной А. Д. Косичевым
характеристикой Дмитрия Алексеевича как «блестящего лектора, которого
очень любили студенты»2. Я этого что-то припомнить не могу.
Что касается самого предмета «диалектический материализм»,
то по нему практически не было ни учебной, ни научной
литературы, что говорило само за себя. В «классиках» ходил Ф. И. Хасхачих.
В условиях, когда в силу острой идеологической обстановки выпуск
книг по диамату-истмату (либо совет студентам их читать) был делом
небезопасным для автора или лектора — это могло стать «доносом на
самого себя», - рекомедация книг покойного философа, да еще героя,
была шагом беспроигрышным. Но скромное содержание его книжек
бросалось в глаза даже совершенно неискушенному, только что
вернувшемуся в учебную аудиторию студенту, каким тогда был я.
Лекции по русской философии читал доцент И. Я. Щипанов3. Они
претили мне своей тенденциозностью — игнорированием главных
1 Характеристика Дмитрия Алексеевича Кутасова (1904-1968) как
«пропагандиста» содержится в статье о нем в книге П. В. Алексеева
«Философы России», с. 525.
2 Косичев А. Д., с. 115.
3 Иван Яковлевич Щипанов (1904-1983) заведовал кафедрой истории
русской философии, в 1953 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Социально-политические взгляды философов русского Просвещения».
172
б. И. Бирюков
течений отечественной философской и общественной мысли
прошлого. Односторонняя - и я бы сказал, примитивная - ориентация
на «материализм» во многом их обесценивала. Считать Ломоносова,
Радищева, Белинского или Герцена философами крупного масштаба
было просто смешно. Сомнение вызывало, например, приписывание
Ломоносову открытия закона сохранения энергии. Полагать
таковым его рассуждение о том, что «все встречающиеся в природе
изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то
это отнимается у чего-то другого» просто смешно: физический закон
предполагает измеримые величины, а у Ломоносова и намека на это
не было. Он пояснял этот, по его словам, «всеобщий закон природы»
не только упоминая материю и движение, но и... сон: «Сколько часов
я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования»1. Столь
же странным было слышать, будто в виршах Михаила Васильевича
«Раскрылась бездна звезд полна, / звездам нет счета, бездне дна»
содержится... учение о бесконечности Вселенной.
Обязательными были повторения цитат марксистских
«классиков», вроде слов Ленина о Герцене, что он «вплотную подошел к
диалектическому материализму и остановился перед историческим
материализмом». Предстояло проникнуть в глубину различия — «подойти
к чему-либо» и «остановиться перед чем-либо». Ясно, что подобные
историко-философские «изыскания» носили схоластический
характер в самом дурном смыле слова и не давали никакой пищи для ума.
Так я воспринимал курс русской философии в то время. А
когда началась перестройка, а затем рухнул коммунистический режим,
книга за книгой появились сочинения подлинно крупных русских
мыслителей: К. Н. Леонтьева, Б. Н. Чичерина, Вл. С. Соловьева,
Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Н. О. Лосского,
князей С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. Б. Вышеславцева, П. И. Новгород-
цева, В. В. Розанова, И. А. Ильина, Л. И. Шестова, Л. П. Карсавина,
П. А. Флоренского и др. Были переизданы и стали доступны
знаменитые «Вехи», о которых мы знали фактически только по поносному
упоминанию их в «Кратком курсе истории ВКП(б)», а также сборник
«Из глубины»2.
1 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. Т. 2,1951. С. 183,185 (ср. Т. 3.1952.
С. 383).
2 Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991 (приложение к журналу «Вопросы
философии»). В подзаголовке второй из этих книг мы читаем: «Сборник ста-
Логика и история философии на факультете
173
Стоит привести здесь ту характеристику «Вех», которая была
дана в сталинском «Кратком курсе» истории ВКП(б): «В 1909 году
группа виднейших кадетских писателей выпустила сборник "Вехи",
в котором кадеты благодарили царизм от имени буржуазии за
подавление революции. Пресмыкаясь и холопствуя перед царским
правительством кнута и виселицы, кадеты прямо писали, что надо
"благословлять эту власть, которая одна своими штыками и
тюрьмами [еще] ограждает нас (то есть либеральную буржуазию) от ярости
народной"»1. Мы не знали тогда, но догадывались, что в этом пассаже
что ни слово, то ложь и передержка.
В самом деле, несостоятельно уже прямое отождествление
авторов «Вех» с партией конституционных демократов - кадетами. Как
стало нам впоследствии известно, главный представитель этой
партии П. Н. Милюков выступил противником идей, высказанных
создателями данного труда. Кадеты на самом деле сыграли негативную
роль в судьбе России, активно добиваясь ограничения
«самодержавия» в православном государстве; их деятельность внесла свою долю
в «копилку» вражды с «царизмом», приведшей к катастрофе —
Февральской революции и свержению династии Романовых.
Что касается цитируемой фразы, то она совсем не характерна
для сборника, ее в запальчивости высказал один из авторов «Вех» —
М. О. Гершензон (который, правда, явился инициатором всего
издания). Этой фразе противники «Вех» сразу же стали придавать
одиозный смысл, почему ее автор во втором издании сборника (вышедшем
сразу же вслед за первым в том же 1909 г.) в подстрочном
примечании разъяснил ее смысл: «Всем своим прошлым интеллигенция
поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она
боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась,
оказывается ее защитницей, хочет ли она этого или нет»2.
тей о русской революции С. А. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
Вяч. Иванова, А. С. Изгоева, С. А. Котляревского, В. Н. Муравьева, П. И. Нов-
городцева, И. А. Покровского, П. Б. Струве, С. Л. Франка». Составленный
П. Б. Струве в 1918 г., сборник этот, несмотря на ряд попыток, не смог
увидеть свет при большевиках. Впервые он был выпущен в Париже в
издательстве YMCA-Press в 1967 г.
1 История ВКП(б). Краткий курс. М.: Госполитиздат. С. 93. Курсив
мой. - Б. Б.
2 Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. 1991.
С. 90. Следует иметь в виду, что под интеллигенцией авторы «Вех» понимали
174
Б. И. Бирюков
В приведенном выше отрывке из сталинского «Краткого курса»
умиляет осуждение «правительства кнута и виселицы» — со стороны
той власти, которая залила кровью Россию.
Освоить всё богатство русской философии, открывшееся с
перестройкой и крушением советской власти, у меня уже не было ни
времени, ни сил. Но я прочел упомянутые сборники и передо мною
открылся весь трагизм русской истории XX в. Что касается
произведений названных выше мыслителей, то прочесть из них я успел очень
немного, составив общее представление об их воззрениях по
изложениям, в изобилии появившимся в новой отечественной историко-
философской литературе. Поезд, как говорится, ушел.
Кроме того, после ознакомления с содержанием историко-
философского двухтомника В. В. Зеньковского1, мне стало ясно: от нас
не только утаивали главное в отечественном философском наследии,
не только тенденциозно представляли его историю — ее злостно
фальсифицировали. Об этом Зеньковский прямо сказал в своем
ответе2 на клеветнические статьи о его труде (и книге Н. О. Лосского
«History of Russian Philosophy») в журналах «Вопросы философии»
и «Коммунист»3.
Я раскрываю одну из этих статей в первом из упомянутых
журналов, озаглавленную «Фальсификаторы истории русской
философской мысли». Ее автор — Н. Г. Тараканов4 обличает в ней «буржуаз-
не вообще образованных русских людей, а тех из них, которые были
преисполнены вражды к российскому государству и православию.
1 Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. Л.: ЭГО, 1991.
Это перепечатка сочинения, вышедшего в Париже в 1948 и 1950 гг. в
издательстве YMCA-PRESS.
2 Зеньковский В. В. Кто фальсифицирует историю русской
философии? // Вестник РСХД. № 39. Париж; Нью-Йорк, 1955; цитируется по
переизданию в кн.: Зеньковский, т. 2, ч. 2, с. 245-250.
3 Тараканов Н. Фальсификаторы истории русской философской
мысли // Вопросы философии, 1955, N2 3; Малинин Т. (по-видимому, В.),
Тараканов К, Щипаное И. Против современных буржуазных фальсификаторов
истории русской философии // Коммунист. № 10.1955 (?).
4 Николай Григорьевич Тараканов (1910-1974), выпускник
философского факультета МИФЛИ, в 1940-х гг. был работником аппарата ЦК
ВКП(б), потом занимал руководящие должности в Госполитиздате и
Издательстве иностранной литературы. С1955 г. нес свои знания истории русской
философии студентам философского факультета МГУ. Я еще вспомню о нем
в связи с кампанией борьбы с «космополитизмом».
Логика и история философии на факультете
175
ных идеологов, в том числе белоэмигрантов» за то, что они в своих
исследованиях (это слово Н. Г. берет в кавычки) сосредоточивают
свое внимание на «реакционных направлениях русской
философской мысли». К таковым он относит не только «теологическиие
учения» и масонство, но и славянофильство, «мистику» Вл. Соловьева,
братьев Трубецких и Булгакова и анархизм Бакунина и Кропоткина;
в «реакционные» зачисляются также «религиозно-идеалистические
идеи» в творчестве Гоголя, Толстого и Достоевского1. Н. О. Лосский
обвиняется в «клевете» на «Советское правительство и
Коммунистическую партию», Г. Г. Шпет назван «известным реакционером»,
о Б. В. Яковенко сказано, что он «в своих книжонках систематически
клевещет на русских философов». Зеньковский и Лосский изучали
«идеалистический хлам», игнорируя либо искажая учения матера-
листов. Кульминацией этих инвектив является утверждением, будто
критикуемые Таракановым авторы «стараются увести своих
читателей в средневековье»2.
Я привел высказывания этого «специалиста по истории русской
философии», как он охарактеризован в фундаментальном
справочнике П. В. Алексеева3, чтобы дать читателю представление об
уровне советской историко-философской мысли 1940-1950-х гг.
Кроме того, оценки, которые давал Н. Г. Тараканов, типичные и для
1960-х гг., позволяют осознать значимость того переворота,
который произошел в отношении к подлинно великим русским
мыслителям (включая тех, кто творил за рубежом) с выходом в свет в 1970
г. пятого тома «Философской энциклопедии», о чем я вскоре скажу
специально.
В. В. Зеньковский ответил советским критикам его труда в статье
«Кто фальсифицирует историю русской философии?»4. Его
критики, говорит он, претендуют быть историками русской философии, и
Зеньковский демонстрирует, чего стоят эти претензии. Он разбирает
изданный «кафедрой истории русской философии» философского
1 См. Тараканов Н. Г. Указ. соч. С. 73.
2 Там же. С. 75,76, 78, 80.
3 Алексеев П. В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи,
труды. М.: Академический проект, 2002. С. 960; в дальнейшем при ссылках на
эту книгу: Алексеев П. В.
4 Опубликована в «Вестнике РСХД», № 39. Париж; Нью-Йорк, 1955.
С. 37-39. Ныне ее можно найти в Приложении к т. 2, ч. 2 упомянутого выше
труда В. В. Зеньковского. По этому источнику она и цитируется.
176
Б. И. Бирюков
факультета МГУ сборник 1951 г.1 и показывает, что его авторы
извращают факты: «Умалчивают о критике материализма у русских
мыслителей», без всяких оснований причисляют к материалистам
Ломоносова, Радищева, Герцена, Сеченова. «Утверждать, что основное
течение в русской философии было и есть обоснование
материализма, — читаем мы у Зеньковского, — есть... чистая ложь и намеренная
фальсификация». Деятели философского факультета Московского
университета — «того самого Университета, где ранее
преподавали В. Соловьев, Чичерин, Лопатин, бр. Трубецкие, Новгородцев,
о. С. Булгаков, Вышеславцев!» — боятся сказать «подлинную правду
о русской мысли, которая насыщена религиозными исканиями»2.
Следует сказать, что в условиях вакуума знаний о подлинной
истории русской философии публикации типа упомянутой выше
статьи Н. Г. Тараканова имели и положительную сторону.
Советский философский читатель тех лет знал цену критическим пассажам
в адрес идеалистов и эмигрантов, умел и из «таракановщины»
извлекать ценную информацию. Например, из рассмотреной выше статьи
он узнавал о богатстве утаиваемой от него литературы по истории
русской философской мысли.
В самом деле, в статье были названы книги Б. В. Яковенко
«Очерки русской философии», Э. Л. Радлова «Очерки истории
русской философии», M. Н. Ершова «Пути развития философии в
России», Иванова-Разумника «Пути русской общественной
мысли», Е. А. Боброва «Философия в России», Г. Г. Шпета «Очерки
развития русской философии», M. М. Филиппова «Судьбы
русской философии», П. Н. Милюкова «Главные течения русской
исторической мысли», работа А. И. Введенского «Судьба
философии в России». Имена Э. Л. Радлова, Г. Г. Шпета, А. И.
Введенского и тем более П. Н. Милюкова, одного из лидеров партии
конституционных демократов и члена Временного правительства,
были достаточно известны. Радлов, например, участвовал в выпуске
русского издания «Истории человечества» Гельмольта, переводил
Аристотеля и Гегеля; Шпет тоже был переводчиком Гегеля, и
вообще масштаб этой личности ощущался даже в смутных 1940-х гг.;
имя Иванова-Разумника было мне известно в связи с историей
литературы, которую я изучал в годы войны; что касается Александра
1 Из истории русской философии, 1951 (?).
2 Зеньковский В. В. Т. 2. Кн. 2. С. 247-250.
Логика и история философии на факультете
177
Ивановича Введенского, то его книга «Логика как часть теории
познания» была в моей домашней библиотеке.
Иначе обстояло дело с другими авторами книг по истории
русской философии, названными Н. Г. Таракановым. Краткую статью
о Боброве я потом нашел в первом томе «Философской
энциклопедии», о Ершове же и Филиппове в этом пятитомнике нет ни
слова1. Мы, студенты и аспиранты МГУ, конечно, догадывались, что
названные в таракановской статье авторы были людьми непростой
судьбы — эмигрировали из страны либо подвергались в ней опале и
репрессиям. Но судьба их выяснилась много позже: стало известно,
например, что Шпета расстреляли, а Ершов был профессором в
русском Харбине...
Вообще, со временем истина о великих русских философах конца
XIX и XX в. стала решительно пробиваться и в советских условиях.
Это отчетливо видно по той эволюции, которую претерпели
описания взглядов философов Серебряного века и мыслителей русского
зарубежья и оценка этих взглядов в «Философской энциклопедии»
1960-1970 гг. В первых томах статьи о русских «идеалистах», если
соответствующие персоналии вообще помещаются, носят краткий
справочный характер, сопровождаясь выражениями «бердяевщина»,
«буржуазная реакционность» (о Н. А. Бердяеве) и утверждениями об
использовании их взглядов «врагами науки, демократии (!) и
коммунизма» (об о. С. Булгакове), о связи их религиозно-философских
теорий с «реакционной концепцией общественного развития»
(Л. П. Карсавин) и о «фальсификации» истории русской философии
(Н. О. Лосский). Это тома I—III. Положение радикально меняется
в томе V, где печатаются большие и объективные статьи о Вл.
Соловьеве (она занимает девять с половиной полос!), князьях
Трубецких, Федорове, Франке, Флоренском (расстрелянном в Соловках!),
Шестове, Шпете2; помещаются статьи об В. Ф. Эрне и Б. В. Яковенко.
1 Персоналий о них нет и в «Новой философской энциклопедии»
(2000-2001). Положение спасает труд П. В. Алексеева, где о M. М.
Филиппове и M. Н. Ершове помещены большие статьи.
2 Статью о Густаве Густавовиче Шпете (1878-1937) написал В. Ф.
Асмус. Дата смерти Шпета, в ней указанная, 23 марта 1940 г., представляет
собой фальшивку НКВД, маскирующую истину. Г. Г. был приговорен к десяти
годам заключения «без права переписки», что, как выяснилось после падения
советской власти, означало расстрел. Он и был произведен 16 ноября 1937 г.;
см. об этом статью «Шпет Густав Густавович», первый ее раздел, написанный
178
5. И. Бирюков
Хотя при изложении воззрений «русских революционных
демократов» по-прежнему акцентируется их «материализм» и «социализм»,
статья о Н. Г. Чернышевском уже достаточно объективна1.
8. Чесноков. Овсянников. Ковальзон.
Спор о «ленинском определении истины»
Из преподавателей философского факультета МГУ «советского
покроя» в позитивном плане запомнились трое: Д. И. Чесноков,
читавший лекции по историческому материализму; М. Ф. Овсянников
(он вел семинар по греческой философии) и М. Я. Ковальзон,
руководивший семинаром по диалектическому материализму.
Дмитрий Иванович Чесноков запомнился мне как единственный
марксист (конечно, среди тех, кого я слушал), который свободно, без
заглядывания в бумажки, преподносил свой материал, преподносил
его содержательно и убедительно, — так, что в результате его
рассказа исторический материализм представал в качестве некой цельной
концепции. Лекции Чеснокова были полной противоположностью
«красноречию» Кутасова. Д. И. Чесноков, крупный партработник,
был, несомненно, неординарной личностью, что и подтвердила его
последующая судьба2.
Михаил Федотович Овсянников3имел обыкновение приходить на
семинарские занятия с задержкой минимум в 20 минут, но на
студентов производила впечатление его эрудиция, например то, что, ком-
А. П. Алексеевым, в кн. Алексеев П. В., с. 1101, где чиатель может найти
ссылку на статью М. К. Поливанова «О судьбе Г. Г. Шпета» (ВФ. 1990. № 6).
1 Галъцева Р. А. Это был наш маленький крестовый поход // Знамя.
1997. № 2.
2 Д. И.Чесноков (1910-1973) на XIX съезде КПСС был избран членом
Президиума ЦК партии. Судя по всему, он мыслился Сталиным в качестве
одного из противовесов группе «старых» членов Политбюро, смещение
которых готовил «вождь народов». После смерти Сталина Чесноков стал
профессором философского факультета МГУ, возглавив в 1969 г. кафедру
исторического материализма. Свою карьеру он завершил на посту главы Госкомитета
по радио и телевидению при Совете министров СССР.
3 М. Ф. Овсянников (1915-1987), тогда кандидат философских наук,
одно время был удален с факультета и преподавал в одном из пединститутов
Москвы. Впоследствии вернулся на факультет, стал доктором наук и
профессором. Он был специалистом по истории философии и эстетике. В 60-70-х гг.
Логика и история философии на факультете
179
ментируя студенческие высказывания, он мог свободно оперировать
силлогистическими модусами. Что же касается Матвея Яковлевича
Ковальзона1, то студентов подкупала его манера рассуждать, как бы
думая вслух. Это, однако, не спасало диамат от студенческого
скепсиса. Вспоминается беспредметный, по сути дела, спор, который возник
вокруг того, как понимать ленинское определение объективной
истины; дело в том, что автор сочинения «Материализм и
эмпириокритицизм» в ряде случаев называл объективной истиной... объективный
мир. Один из студентов, въедливый В. С. Чернявский2, ставил вопрос
ребром: совпадает ли объективная истина с объективным миром, как
это можно «вычитать» из Ленина. Отвечая, Матвей Яковлевич
объяснения свои начинал словами: «Вопрос об объективной истине...»
прошлого века заведовал на философском факультете кафедрой эстетики,
его избрали деканом факультета (он сменил В. С. Молодцова).
1 М. Я. Ковальзон (1913-1992) окончил философский факультет МИФЛИ
в год моего поступления в этот институт - в 1940 г., участвовал в войне с
Германией, на философском факультете МГУ в 1946 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Борьба К. Маркса с младогегельянцами», был членом
кафедры, которую возглавлял 3. Я. Белецкий. В сотрудничестве с В. Ж. Келле
выпустил ряд работ по историческому материализму (именно по этой тематике
он в 1964 г. защитил докторскую диссертацию); трагически погиб в
дорожном происшествии. О Ковальзоне см. Алексеев П. В., с. 453.
2 Владимир Соломонович Чернявский окончил факультет в том же
году, что и я (1950). Быстро сообразив, что ему, беспартийному еврею, в
разгар «борьбы против космополитизма» делать в советской философии нечего,
он поступил на мехмат МГУ, защитил там диссертацию и стал кандидатом
физико-математических наук (его научным руководителем был В. А.
Успенский). Затем он поступил на работу в ВИНИТИ, где участвовал в разработке
первых отечественных информационно-поисковых систем. Эмигрировав из
СССР в 1970-е гг., он в конце концов обосновался в ФРГ — стал
профессором Техническогго университета Брауншвейга (земля Нижняя Саксония).
По приглашению Чернявского, ныне покойного, я гостил у него в 1995 г.,
и Владимир Соломонович подробно описал мне свои оригинальные идеи,
касающиеся «принципа относительности» в логике; он успел изложить их
в своей монографии «Die Virtualität. Philosophische Grundlagen der logischen
Virtualität» (Verlag Dr. Kovac. Hamburg, 1994). Для обоснования «логической
относительности» им был сконструирован парадокс (выразимый и на
естественном, и на математико-логическом языке), который естественно назвать
«парадоксом Чернявского». В 1995 г. В. С. опубликовал в качестве отчета
своего университета брошюру о философских аспектах теоремы Гёделя о
неполноте. В следующем году Чернявский скончался.
180
б. И. Бирюков
и прямого ответа не давал: сказать, что Ленин не то чтобы ошибался,
но просто был не очень аккуратен в выражениях, преподаватель не
решался. Битых два или три семинарских занятия прошли в
бесплодных спорах на эту тему.
Следует признать, что автор «Материализма и
эмпириокритицизма» действительно дал повод для отождествления истины
и реальности. Так, Ленин говорит о «признании объективной и
абсолютной истины, именно: объективной реальности, данной нам
в ощущениях»; пишет, что «всякой научной идеологии...
соответствует объективная истина, абсолютная природа»; рассуждает о критерии
практики как «подтверждении объективной истины, объективной
реальности», говорит о «правильном отражении» в мышлении
объективной истины3. Ленин критикует Гельмгольца за то, что он катится
«к отрицанию объективной реальности и (!) объективной истины»4,
и выделеное мною «и» можно понимать и как различение, и как
отождествление. Но всякий внимательный читатель легко поймет, что
для автора «Материализма и эмпириокритицизма» объективная
истина лежала в сфере мысли, отражающей реальность. Писал же
Ленин, что «утверждение (!) существования земли до человечества есть
истина», что «теория выражает (!) истину»5 и т. д.
Терминологическая неаккуратность в характеристике истины
была для Ленина не существенна, так как не мешала его основной
цели: опровержению взглядов, отличных от диалектического
материализма, как он его понимал. Но, думается, был здесь и примеча-
тельый гносеологический момент, ибо ставя вопрос, «существует ли
объективная истина, т. е. может ли в человеческих представлениях
быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит
ни от человека, ни от человечества», Ленин, по-видимому, не
подозревал, что, коль скоро речь идет о науке, положительный ответ на
него означает признание существования так называемого третьего
мира, то есть мира абстракций научного знания.
3 Я цитирую Ленина по первому изданию его собрания сочиений,
которым я все время пользовался: Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений.
Т. X: Материализм и эмпириокритицизм. М.: Госиздат, 1924. Приведенные
ленинские слова можно найти на с. 109, 152, 119, 158-159.
Заинтересованный читатель без труда найдет их в последующих изданиях ленинского
сочинения. Слова, набранные курсивом, подчеркнуты Лениным (разрядка).
4 Там же. С. 194.
5 Там же. С. 98.
Логика и история философии на факультете
181
Когда мы, студенты второго курса, обсуждали на семинаре
М. Я. Ковальзона вопрос о том, что есть объективная истина, ни нам,
ни Матвею Яковлевичу не пришло в голову связать ответ на него
с «миром абстракций», известным в философии по крайней мере
начиная с Платона1. Конечно, привлечение платонистских
представлений на семинаре по диалектическому материализму показалось бы по
меньшей мере странным. Но ведь из курса истории эллинской
философии нам было известно учение Аристотеля о «первой сущности»,
и мы знали аристотелевский аргумент о «третьем человеке».
Соответствующие выводы было бы сделать нетрудно...
Отождествление объективной истины с объективным миром
проводил заведующий кафедрой диалектического и исторического
материализма 3. Я. Белецкий, и вопрос о правомерности подобного
отождествления явился впоследствии предметом жесткой дискуссии,
о чем я еще буду говорить. Что касается М. Я. Ковальзона, то ведь он
был членом этой кафедры.
9. Зиновий Яковлевич Белецкий. Критика третьего тома
«Истории философии». Проблема русского национального сознания
Ковальзона можно понять: время было страшное. Одна
идеологическая кампания сменялась другой. На факультете происходили
жаркие дискуссии с выраженной политической окраской, и одной
из центральных фигур на них был тогдашний заведующий
кафедрой диалектического и исторического материализма 3. Я.
Белецкий. Горбун от природы, он, видимо, был снедаем комплексом
неполноценности, отсюда его напористо-агрессивные выступления
на дискуссиях, которые для многих тогдашних полуобразованных
философов делали его взгляды убедительными. Существует
гипотеза, что он некогда обучался в духовной семинарии2, это объясняет
1 Сам термин «третий мир» обычно приписывается К. Попперу. В
современной логике соответствующая концепция была развита Готлобом
Фреге (см. Бирюков Б. В логическом мире Фреге. Послесловие // Фреге Г.
Логика и логическая семантика. Сб. трудов. Пер. с нем. М.: Аспект Пресс,
2000).
2 Эта гипотеза высказана в петербургском издании «Логика.
Справочник», с. 51. Впрочем, достоверно известно, что 3. Я. Белецкий (1901-
1969) окончил медицинский факультет первого МГУ (1925 г., когда наряду
182
б. И. Бирюков
отчетливо запомнившуются манеру Белецкого вещать не
допускающую возражений истину. Во всяком случае имя Белецкого гремело
на факультете, вокруг него группировалась часть философской
молодежи (в их числе были, в частности, М. Я. Ковальзон, В. Ж. Келле
и, кажется Е. А. Куражковская, впоследствии работавшая на кафедре
философии естественных факультетов МГУ, членом которой я был
в начале 1960-х гг.).
Не труды по философии — их у Белецкого было очень мало1, он
так и не собрался защитить даже кандидатскую диссертацию, - а то,
что к его мнению прислушивались в ЦК ВКП(б), делали Зиновия
Яковлевича весьма влиятельной фигурой, более того — его просто
боялись. Ведь именно его личное письмо Сталину с резкой критикой
III тома «Истории философии» (1943) — по отзыву В. В. Соколова,
лучшего тома трехтомника2 — послужило толчком к постановлению
ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в освещении истории
немецкой философии конца XVIII — начала XIX вв.», приведшему к
объявлению немецкой классической философии «аристократической
реакцией» на французский материализм и французскую буржуазную
революцию. Можно с уверенностью сказать, что подобная
трактовка отвечала идеологическим установкам компартии периода войны
с Германией3. Постановление ЦК отменяло решение о присуждении
Сталинской премии III тому, оставляя ее за первыми двумя томами
(после XX съезда партии премия, переименованная в
Государственную, была III тому возвращена). Этот том является ныне
библиографической редкостью, так как большая часть тиража была пущена под
нож. Один из главных авторов «крамольного» тома Борис
Степанович Чернышев не выдержал критики своего труда (он участвовал
с «первым», основным, существовал «2-й МГУ», который был создан на
базе бывших Высших женских курсов и впоследствии дал начало трем
разным вузам), а затем Институт красной профессуры.
1 Из них заслуживают упоминания его «Лекции по историческому
материализму» (М., 1954).
2 Соколов В. В. Некоторые эпизоды предвоенной и послевоенной
философской жизни // Вопросы философии. 2000. № 1. С. 77. При дальнейших
ссылках: Соколов В. В.
3 События, связанные с постановлением ЦК ВКП(б) по третьему тому
«Истории философии», подробно на архивном материале освещены в статье
Г. С. Батыгина и И. Ф. Девятко в книге «Философия не кончается...» ([Кн. 1],
с. 171-198), к которой я и отсылаю читателя.
Логика и история философии на факультете
183
в написании параграфов о Гегеле1), заболел и вскоре скончался от
инфаркта миокарда2.
Мне не удалось разыскать текст самого постановления, но оно было
изложено в статье П. Федосеева, напечатанной в журнале «Большевик»3,
на которую я ниже и опираюсь. В современной философско-историо-
графической литературе относительно этого постановления
господствуют стереотипные негативные оценки. Прочитаем же его
внимательно — так, как оно изложено упомянутым партийно-философским
функционером. В оценке III тома «Истории философии», содержащейся
в этом постановлении, можно выделить, с одной стороны, стандартную
философско-политическую критику, говорить о справедливости либо
несправедливости которой не имеет смысла, а с другой стороны,
вполне здравые замечания. Смысл последних заключался в отступлении от
утвердившегося в марксизме пиетета перед гегельянщиной и в
вызванном войной повороте в сторону русского патриотизма.
Вряд ли можно оспорить содержавшуюся в постановлении
критику взгляда, будто создание «новой, диалектической логики было
1 В самом 3-м томе не указано авторство тех или иных глав и
параграфов. «В личном архиве Каменского сохранился экземпляр тома, где частично
расписаны авторы глав и параграфов» (Батыгин Г. С, Девятко И. Ф.
Советское философское сообщество в сороковые годы... // Философия не
кончается. [Кн. 1]. С. 182). 3. А. Каменский опубликовал в 1991 г. статью о
философской дискуссии 1947 г. (данные об этой статье можно найти у Батыгина
и Девятко), откуда названные авторы и извлекли соответствующие сведения.
Если не считать редакторов тома (Г. Александров, Б. Быховский, М. Митин,
П. Юдин), то кроме Бориса Степановича в числе имен, прямо названных
в этом постановлении, значились Бернгард Эммануилович Быховский и
Валентин Фердинандович Асмус. Последнему принадлежали главы о Канте
и, по свидетельству 3. А. Каменского, о так называемой
«пореволюционной немецкой философии», представленной такими именами, как И. Гер-
барт, А. Шопенгауэр, Ф. Бенеке, Б. Больцано, Г. Фехнер, Г. Лотце и др. (см.:
B. Ф. Асмус - педагог и мыслитель // Философия не кончается. Кн. 2.1998.
C. 310). Но только Борис Степанович так остро пережил партийное вмеши-
тельство в философскую историографию.
2 См. Яхот И. Подавление философии в СССР (20-30-е годы) //
Вопросы философии. 1991. № 10. С. 129.
3 Федосеев П. О недостатках и ошибках в освещении немецкой
философии конца XVIII и начала XIX веков // Большевик. 1944. № 7-8. Эта статья
издана также отдельной брошюрой, следующие ниже ссылки даны именно
по данной публикации.
184
б. И. Бирюков
великой исторической заслугой Гегеля», будто он углубил понятие
истории и утвердил новую концепцию развития. «Взгляды Гегеля на
историю, — читаем мы в федосеевском изложении партийного
постановления, - нельзя ныне рассматривать иначе как совершенно
устаревшие»1. Думается, что здесь гласом «философских младенцев»
от политики глаголет истина.
Посмотрим, однако, какие этапы развития мирового духа во
всемирной истории выделяет Гегель. Оказывается, это «четыре
всемирных царства»2: Восточный мир, Греческий мир, Римский мир и
Германский мир. На Востоке мировой дух находился в состоянии
«детства», в Греции и Риме он мужает, а в Новое время, особенно
в «христианско-германском мире», достигает «самопознания».
«Германский дух есть дух нового мира, цель которого заключается в
осуществлении абсолютной истины как бесконечного самоопределения
свободы. <...> Назначение германских народов состоит в том, чтобы
быть носителями христианского принципа». А всё иное «остается вне
всемирной истории и лишено исторического смысла»3.
В соответствии с этой концепцией Гегель полностью игнорирует
Россию и славянские народы. Все они попадают в категорию
нецивилизованных наций; при этом «цивилизованные нации рассматривают
субстанциональные моменты государства... как варваров и
неравноправных им (!), а самостоятельность этих народов — как нечто
формальное и соответственно относятся к ним», что проявляется «в
войнах и спорах, возникающих при таких обстоятельствах»4.
Вернемся, однако, к рассматриваемому постановлению.
Наиболее важным в нем было решительное отвержение присущего
многим немецким мыслителям враждебного отношения к славянским
народам, и прежде всего - русскому. Авторов тома упрекали в том,
что в нем «не подвергнуты критике такие реакционные социально-
политические идеи немецкой философии, как восхваление прусского
монархического государства, возвеличение немцев как «избранного»
народа, пренебрежительное отношение к славянским народам, аполо-
1 Там же.
2 Гегель Г. В. Ф. Философия права / Пер. Б. Г. Столпнера и М. И.
Левиной. Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. С. 374.
Курсив Гегеля.
3 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 361.
4 Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 273.
Логика и история философии на факультете
185
гетика войны, оправдание колониальной захватнической политики»1.
Эта фразеология, конечно, достаточно груба, а слова об «избранном
народе», как говорится, не из той оперы. К тому же сделанная перед
этим ссылка на Маркса и Энгельса - ярых противников России и
русского народа — просто кощунственна. Но главный акцент верен.
Кстати, он не был нов: еще в начале первой войны с Германской империей
русский философ В. Ф. Эрн2 выступил с нашумевшим докладом «От
Канта к Круппу», в котором предвосхитил то, что написали о
немецкой философии составители партийного постановления. Стоит
привести кое-что из речи В. Ф., ныне ставшей доступной для широкого
читателя. Эрн прослеживает «магистраль» Экхарт — Кант — Крупп,
утверждая, в частности, что в Гегеле «она раскидывается
гениальным пожаром»; «Гегель воскурил фимиам диалектического
признания перед прусской государственностью. Но вот налетает война. Под
мягкой шкуркой немецкой культуры вдруг обнаружились хищные
кровожданые когти. И лик "народа философов" исказился звериной
жестокостью». Эрн убежден: генеалогически орудия Круппа
являются «внуками философии Канта».
Здесь не место объяснять обоснование Эрном связи германского
национализма и милитаризма с кантовским «феноменологизмом».
Важна его констатация, что под взглядом о «безусловном тождестве
германской культуры с германским милитаризмом подписывается
цвет немецкой науки и немецкой философии», и это нашло
подтверждение в пришедшем из воюющей Германии сообщении о том, что
«философский факультет Боннского университета избрал докторами
honoris causa Круппа и директра крупповских заводов Аусенберга»3.
1 Там же. С. 19.
2 Владимир Францевич Эрн (1882-1917), русский религиозный
философ и публицист. Его речь «От Канта к Круппу», произнесенная на заседании
Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева 6 октября
1914 г., была опубликована в том же году в журнале «Русская мысль» (№ 12),
а затем вошла в сборник его статей «Меч и крест» (М., 1915; ныне она
переиздана в кн.: Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991; там же опубликована
статья В. Ф. «Сущность немецкого феноменализма», в которой Эрн отвечал
своим критикам. Этот источник мы цитируем как Эрн с указанием страниц).
Эрн был оппонентом русских неокантианцев, он стоял на славянофильских
позициях и отстаивал положение о самобытности русского религиозно-
философского мышления.
3 Эрн, с. 308,313, 316, 317, 320.
186
б. И. Бирюков
Я думаю, что эти мысли Эрна или были неизвестны создателям
III тома «Истории философии», или, если и были известны1, то
игнорировались как выражение «шовинистической позиции»2. Между
тем даже беглое знакомство, например, с гегелевской философией
истории и философией права показывает, насколько прав был Эрн.
События Второй мировой войны подтверждают это. Авторы
вступительной статьи к русскому изданию гегелевских «Лекций» приводят
замечание одного западного историка о том, что «в битве под
Сталинградом сошлись в смертельной схватке две школы гегелевской
философии»3 — имеются в виду германско-националистическая
и марксистско-коминтерновская.
В военные годы, будучи в армии, я только и слышал о «братьях-
славянах». Надо быть совершенно замороченным марксизмом с его
родимым пятном гегельянства — именно таким был Быховский, на
которого легла главная тяжесть редактирования всего тома, — чтобы
не уловить общественные настроения военного времени. Ведь это
русский народ положил миллионы жизней для спасения советского
государства и, в числе прочего, предотвратил гибель значительной части
того этноса, к которому принадлежал сам Бернгард Эммануилович.
10. Письмо Белецкого Сталину. Философская дискуссия 1947 г.
Обратимся, однако, снова к Белецкому. Его взгляды сводились к
выраженной социологизации и политизации историко-философского
процесса, и можно полагать, что именно это привлекало к нему
многих начинающих советских философов: если, как утверждал Зиновий
Яковлевич, новые идеи в философии возникают не столько на основе
созданного ранее культурологического материала, сколько на базе
существующих социально-экономических отношений, то изучение
1 Такое знакомство можно предположить по крайней мере в случае
Б. С. Чернышева, специалиста по итальянской философии, так как
диссертационное исследование В. Ф. было посвящено философии итальянского
религиозного мыслителя XIX в. Винченцо Джоберти (опубликована в виде
книги: М., 1916).
2 Так его взгляды на войну с Германией квалифицировал А. П. Поляков
в статье «Эрн Владимир Францевич» в томе 5 «Философской энциклопедии»
(М., 1970. С. 570).
3 Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции
к историчности // Гегель Г. В. Ф. Лекции по философской истории. С. 7.
Логика и история философии на факультете
187
историко-философских фактов (и отсюда знание иностранных
языков) не столь уж важно. Пусть «буржуазные спецы» копаются в идеях
прошлого, мы будем изучать их социальные корни.
Но притягательность Белецкого имела, по-видимому, и иное
основание, тогда мною не осознававшееся. Ее раскрыл Ф. X. Кессиди1
в своей краткой статье о нем в издании П. В. Алексеева. По мнению
Кессиди, «Белецкий оказался единственным советским философом,
осмелившимся подвергнуть негласной критике некоторые идеи
Ленина и Энгельса». Исходя из взгляда, согласно которому новые идеи
определяются прежде всего конкретно-историческими условиями
жизни общества, он считал, что научный социализм не вносится в
среду рабочего класса «извне», как утверждал Ленин, а вырабатывается
в ней как выражение коренных интересов трудящихся2. Кессиди даже
высказал взгляд, что Белецкий явился фактически
«родоначальником социологического знания в советской философии». Подобная
оценка философских установок Зиновия Яковлевича позволяет
понять, почему некоторые из его учеников (М. Я. Ковальзон, В. Ж. Кел-
ле) смогли стать видными советскими философами.
0 письме Белецкого Сталину на факультете ходили легенды. Это
письмо долгое время было недоступно для ознакомления. Создатели
книги «Философия не кончается...» пишут, что «оригинала письма
Белецекого обнаружить не удалось»3. Однако А. Д. Косичев сумел
его найти в архиве ЦК ВКП(б), и в его книге оно публикуется
полностью4. Письмо это по существу представляет собой законченную
1 Феохарий Харлампиевич Кессиди (1920-2009), один из крупнейших
историков эллинской философии, окончил философский факультет МГУ
(1946) и затем аспирантуру там же. Он, таким образом, был свидетелем
дискуссий, в центре которых был Белецкий. Впоследствии доктор философских
наук и професор, он автор трудов о Гераклите, Сократе, Платоне,
Аристотеле, о становлении греческой философии — ее пути «от мифа к логосу» —
и об эллинской мысли классического периода. С 1992 г. вел научную работу
в Греции.
2 См. Алексеев П. В. Философы России XIX-XX столетий. С. 100-101.
3 Философия не кончается. Из истории отечественной философии
XX века. Кн. 1:1920-1950 гг. М., 1998. С. 182.
4 Косичев А. Д., с. 55-78 со ссылкой на РГАСПИ, ф. 558t оп. 11, д. 886,
л. 14-96. Вообще книга Александра Даниловича — ценный вклад в историю
советской общественной мысли именно потому, что в ней обильно
используются архивные материалы.
188 б. И. Бирюков
статью, хотя и начинается со слов «Дорогой Иосиф Виссарионович!»
В нем дается резкая критика концепции истории философии,
представленной в томе III «Истории философии» 1943 г., а также
излагаются взгляды автора, на которых основывается эта критика. Цель
письма — показать, «насколько велика разница в оценке философии
немецкого классического идеализма, даваемая, с одной стороны,
классиками марксизма, а с другой — редакцией третьего тома»1
(редакцию составляли Г. Ф. Александров, Б. Э. Быховский, Б. М. Ми-
тин и П. Б. Юдин). Упрощая вопрос, Белецкий обвиняет редакцию
III тома в том, что она изображает немецкий идеализм
«революционной идеологией», в то время как она «стремилась примирить
интересы прусской феодальной монархии со своими
собственными интересами и тем избежать революции»2. Что касается стиля
письма, то для него характерно изобилие инвектив политического
рода. Говоря о В. Ф. Асмусе, Белецкий напоминает, что это бывший
«меньшевиствующий идеалист», о Б. Э. Быховском говорит, что тот
использует «теоретическую разболтанность нашего философского
руководства для того, чтобы задним числом оправдать свои прошлые
идейные и политические убеждения», о А. Ф. Лосеве, - что он
«небезызвестный гегельянец и мистик», несущий «бред и глумление над
марксизмом»3. Письмо оканчивается обращением к адресату:
«Необходима серьезная помощь с Вашей строны».
На письмо Белецкого, которое было датировно 27 января 1944 г.
и несет на себе резолюцию «т. Маленкову», датированную 2 февраля,
ответ попытался дать Г. Ф. Александров, возглавлявший управление
пропаганды и агитации при ЦК партии. Он составил соответствующее
письмо, адресовав его секретарям ЦК — Г. М. Маленкову и А. С.
Щербакову, поскольку, как предполагает Косичев, они получили от
Сталина задание разобраться в вопросе. В своем письме Георгий
Федорович по пунктам старается опровергнуть Белецкого. А. Д. Косичев
цитирует основные положения этого письма, но не приводит его
полностью, так как оно, судя по всему, еще объемнее письма Белецкого.
Косичев считает это письмо содержательным и документированным.
Александров разбирает в нем «выкрутасы» Белецкого и приходит
к выводу: «Было бы ошибкой считать выступление т. Белецкого
1 Косичев А. Д., с. 59.
2 Там же. С. 64. Здесь и далее подчеркивания Белецкого.
3 Там же. С. 70,73-75.
Логика и история философии на факультете
189
просто заблуждением. Речь здесь идет о том, чтобы отделить
китайской стеной марксизм от всей прогрессивной истории философии,
от мировой культуры <...> Распространение точки зрения Белецкого
означало бы серьезное разоружение нашей партии».
Но товарищ Сталин так не думал. Его интересовала не истина,
а политика. А в годы войны политика эта была антинемецкой.
Поэтому он поддержал не Алесандрова, а Белецкого, результатом чего
и явилось сначала закрытое постановление ЦК ВКП(б) от 1 мая
1944 г. «О недостатках в научной работе в области философии»1.
На его основе было принято упомянутое выше открытое
постановление ЦК ВКП(б). Его изложение, как уже говорилось, было дано
в журнале «Большевик» за подписью П. Федосеева, и когда этот
номер вышел, всем стало ясно, что точка зрения Зиновия Яковлевича
восторжествала. На факультет я вернулся в начале 1947 г., и данное
постановлекние было у всех свежо в памяти. И я понимаю теперь,
почему Белецкий был такой силой на факультете: считалось, что он
имеет связи в партийных верхах. На самом деле это были не связи
в вульгарном смысле, просто к его мнению прислушивались в ЦК
партии ее секретари, даже Сталин. Секрет заключался в личности
Зиновия Яковлевича. Как считаеют Г. С. Батыгин и И. Ф. Девятко,
в Белецком «явил себя дух отчаянного марксистского
философствования», который и объясняет, почему Зиновий Яковлевич мог
терроризировать «философскую общественность своей бесстрашной
критикой» и держать в напряжении «столичный Институт философии
и философский факультет МГУ»2.
Вполне последовательно Белецкий обрушился на переизданную
в 1945 г. книгу Г. Ф. Александрова «История западноевропейской
философии»3. Он пишет новое письмо Сталину, в котором старается
1 Ныне оно опубликовано в кн.: Академия наук в решениях
Политбюро ЦК РКП(б) и ВКП(б). 1922-1952 / Сост. В. Д. Есаков. М.: РОССПЭН,
2000. В литературе это постановление иногда называют секретным. Это
неверно — грифа секретности на нем не было. Просто оно осталось
неопубликованным и было разослано сначала секретарям ЦК партии и
руководителям «философского фронта», а затем по списку, который состоял из
партийной номенклатуры.
2 Батыгин Г. М. Девятко И. Ф. Дело профессора 3. Я. Белецкого //
Философия не кончается. [Кн. 1]. С. 218, 221.
3 Александров Г. Ф. История западноевропеской философии. Изд.
второе, дополненное. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
190
б. И. Бирюков
доказать, что автор этой книги игнорирует постановление ЦК
партии по III тому «Истории философии»1. Белецкий обвиняет
Александрова в том, что в его книге история философии излагается как
«чистая филиация идей», что автор «погружается в сферу чистой мысли
и конструирует там мир»2.
Решением Секретариата Центрального комитета партии в конце
декабря 1946 г. принимается решение провести в Институте
философии АН СССР обсуждение этой книги — с широким приглашением
философов из других организаций, партийных работников и
работников министерств, занимающихся вопросами просвещения и
культуры. Обсуждение состоялось в январе 1946 г. в конференц-зале
гуманитарных институтов на Волхонке (в здании, где ранее
размещался Институт красной профессуры) и длилось три дня. Обсуждение
это не удовлетворило Сталина, и было принято решение провести по
книге Александрова широкую дискуссию под руководством
секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова.
Дискуссия проходила в июне 1947 г., причем не в Институте
философии, а в ЦК ВКП(б). Я, студент второго курса, на ней, конечно,
не присутствовал. Никаких сообщений о подготовке и проведении
этой дискуссии ни в средствах массовой информации, ни в партийной
печати опубликовано не было. Впервые о ней было сказано в статье,
опубликованной в «Правде» в конце августа 1947 г., с связи с выходом
первого номера жунала «Вопросы философии», содержавшего
стенограмму дискуссии3. Но философский мир полнился слухами. К тому же
толстенный первый номер журнала «Вопросы философии»
(созданного, как я уже упоминал, по решению этого «философского форума»)
вышел сразу же после дискуссии; он содержал не только выступления
«диспутантов», но и тексты тех лиц, которые не выступали, но
пожелали представить свои материалы для публикации. В этом номере
была опубликована стенограмма этой дискуссии, причем почти
полностью — за небольшими изъятиями, одобренными Сталиным.
1 Это второе письмо Белецкого Сталину кратко изложено в кн. А. Д. Ко-
синев и более подробно — в статьях: Батыгин Г. М„ Девятко И. Ф. Дело
академика Г. Ф. Александрова: эпизоды 40-х годов; и Есаков В. Д. К
истории философской дискуссии 1947 года (Философия не кончается. [Кн. 1].
С. 199 и далее и с. 243 и далее); в обоих случаях используются архивные
источники.
2 Философия не кончается. [Кн. 1], с. 204.
3 См. статью В. Д. Есакова, указанную в предыдущем примечании.
Логика и история философии на факультете
191
В числе лиц, не выступавших на дискуссии, но представивших
на нее тексты своих выступлений, был и Белецкий. Зиновий
Яковлевич утверждал, будто у них «имеют хождение две точки зрения»
на философию и ее историю: точка зрения меныпевиствующего
идеализма и точка зрения исторического материализма. Согласно
первой из них, историю философии следует излагать лишь как
историю философских школ и учений, что противоречит «партийно-
политическому подходу», являющемуся «единственно научным
и единственно правильным».
Надо сказать, что подобная трактовка историко-философского
процесса выглядела — если подходить к делу с последовательно
марксистских позиций — достаточно убедительной. Но ее
конкретизация Зиновием Яковлевичем выглядела странной: например,
он утверждал, что философия Канта «защищала немецкую
реакцию против французской революции». Теперь, когда нам известны
взгляды и аргументация В. Ф. Эрна, на воззрения 3. Я. нужно, по-
моему, смотреть шире. Тем более, что, согласно взгляду Белецкого,
отстаиваемый им подход к анализу философских учений «отнюдь
не исключает гносеологических и логических проблем». И, как
оказалось, на его кафедре философская логика нашла в МГУ свое
первое прибежище.
Разбирая «ошибки» Александрова, секретарь ЦК указал на
необходимость учета истории русской философии.
11. Лосев и логика
К чести 3. Я. Белецкого надо сказать, что логика первоначально
приютилась именно на руководимой им кафедре диалектического и
исторического материализма МГУ1, где ею сначала ведал столь нелюбимый
Зиновием Яковлевичем А. Ф. Лосев, а потом П. С. Попов. На этой
кафедре были написаны первые защищенные на философском
1 Согласно П. В. Алексееву («Философы России»), Белецкий руководил
этой кафедрой с 1943 по 1953 г. (см. с. 100). В книге «Логика. Справочник»
(с. 51), где мы находим более узкие границы (1947-1948), очевидная
ошибка: уже свое первое письмо Сталину Белецкий подписал как заведущий
кафедрой диалектического и исторического материализма философского
факультета МГУ. Все годы, когда я как студент был связан с этим факультетом
(1947-1950), Белецкий был заведующим названной кафедрой.
192
Б. И. Бирюков
факультете диссертации по логике1. Что Павел Сергеевич читал
лекции по логике и руководил соответствующими аспирантскими
исследованиями, это я могу понять. Но есть свидельства, и первое письмо
Белецкого Сталину это подтверждает, что в 1943 г. логику на
факультете преподавал и Лосев: читал лекции по логике и проводил
семинары, и его даже намечали на должность заведующего
предполагавшейся логической кафедрой.
Как преподавателя логики А. Ф. Лосева я себе представить не могу.
Ныне очевидно, что он был выдающимся историком античной мысли,
крупным представителем классической филологии. Но логика — дело
другое. Теперь, когда в изобилии опубликованы его труды,
тематический диапазон которых вызывает изумление: от эллинской
мифологии до теории аналитических функций (теории, которую развивал
H. Н. Лузин), становится, по-моему, очевидным, что он зачастую
брался не за свое дело. То, что он преподавал на философском факультете,
в лучшем случае могло быть смесью элементов традиционной логики
(это мог быть, например, рассказ о логических ошибках, которые он
выискивал у других авторов) и какой-то диалектики. В основном это,
по-видимому, была диалектическая логика в ее особой лосевской
интерпретации, «нагруженной» античным наследием, с одной стороны,
и некоторыми философскими учениями XIX-XX вв., прежде всего
диалектическим учением Гегеля и феноменологией Гуссерля, с другой.
Наверное, там значительное место уделялось антиномиям.
Учитывая позицию Белецкого, Лосеву на факультете
оставаться было нельзя. К тому же у него возник конфликт с Павлом
Сергеевичем Поповым. В. Н. Садовский пишет даже о «преступной
роли», которую в судьбе Лосева сыграл П. С. Попов. Он ссылается
при этом на «некоторые последние публикации». Как выяснилось
из беседы с ним, имеется в виду одна газетная статья супруги
Лосева — А. А. Тахо-Годи, источник явно необъективный. Я думаю, что
конфликт Попова с Лосевым имел под собой, помимо вероятной
личностной составляющей, также и научную основу.
В конце концов Лосеву посоветовали (здесь обычно называется
имя министра высшего образования Кафтанова) как доктору фило-
1 В издании «Логика. Справочник» говорится, что Белецкий был
научным руководителем первых диссертаций по логике (с. 51); если он
действительно числился таковым, то очевидно, что фактическое руководство
осуществлял либо Алексей Федорович Лосев, либо Павел Сергеевич Попов.
Логика и история философии на факультете
193
логических наук (эта ученая степень была ему присвоена —
небывалый случай! — ученым советом философского факультета) перейти на
вновь образованную в Пединституте им. В. И. Ленина кафедру
классической филологии, что он и сделал.
Если бы Лосев остался в сфере логики, это привело бы, я думаю,
к полной дискредитации данной дисциплины. Обладая храбростью
писать «про всё», включая вопросы методологии науки, математики
и естествознания, — вопросы, к которым ему вряд ли следовало
обращаться, — он внес бы полную сумятицу в студенческие головы.
Свидетельством тому являются некоторые пассажи из одного его учебного
пособия1, относящегося к более позднему времени. Отважно раздавая
своим оппонентам, а в их числе были выдающиеся отечественные
и зарубежные ученые, обвинения в логических ошибках idem per idem
и ignotum per ignotum, он берется рассуждать об определении падежа по
Колмогорову, не владея существом дела и путая Б. А. и В. А. Успенских,
а в связи с теорией порождающих грамматик Ноама Хомского
приводит вполне бессмысленное определение рекурсивной функции2.
Или, быть может, Алексей Федорович взялся бы учить
студентов «музыке как предмету логики»? С него вполне могло статься
такое. Из его сочинения на «логико-музыкальную» тему, написанного
в 1920-х гг., мы узнаём, что «время есть жизнь числа, становление
числа, т. е. (!) оно относится всецело к чисто смысловой сфере и есть
определенная модификация смысла, определенная его степень,
именно на степени отождествления смысла с вне-смысловой инако-
востью <...> Движение есть такая инаковость времени, где
последнее выступает в качестве гипостазированного факта»3. И так далее
в том же духе.
Но еще хуже было бы, если бы он стал учить той «логике»,
которая содержится в его сочинении «Философия имени» (1927).
Чтобы не быть голословным, я приведу некоторые утверждения
1 Лосев А. Ф. Языковая структура. Учебное пособие. М., 1993 (издание
МГПИ им. В. И. Ленина). Цитаты из этой книги, которые будут приведены
ниже, взяты из раздела III «Логическая характеристика методов
структуральной типологии».
2 См. Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 46 и далее, 48-61.
3 Я цитирую сочинение Алексея Федоровича «Музыка как предмет
логики» (написано в 1920-1925 гг.) по изданию: Лосев А. Ф. Избранные
произведения. М.: Правда, 1990. С. 329.
194
Б. И. Бирюков
из изложенного там лосевского учения о логике, предоставляя
читателю поразмыслить, можно ли такое преподносить студентам1.
Исходными понятиями конструкции Лосева являются
античные понятия логоса, ноэмы, меона и идеи (эйдоса), которые Лосев
трактует в смысле, близком к их пониманию античными
мыслителями, в частности Плотином. Из этих понятий в пояснении (в
данном контексте неизбежно очень приблизительном) нуждаются,
пожалуй, только «ноэма» и «меон»: первая, грубо говоря, есть мысль
о предмете, вторая - «иное» мысли, ее отвержение. Не вдаваясь
в подробности лосевского учения о логике, приведу только
следующие слова из его «Философии имени»2: «Логос логоса мысли-слова
дает мифологическую логику, ноэтическую (или "формальную")
логику, геометрию и арифметику, и, следовательно, можно говорить
о мифологически-логической, ноэтически-логической, геомериче-
ской и арифметической природе мысли-слова». При этом «в ноэ-
тической логике мы даем классификацию понятий. Соответственно
с этим (!) в мифологической логике мы конструируем понятие
силлогизма»...
Конечно, как крупный историк античности, сфера мысли
которой — при всей ее рационалистичности — была пропитана мистико-
мифологическими представлениями, Лосев высказал многое из того,
что витало в воздухе философской мысли XX в. и нашло выражение
в ряде философских направлений: в феноменологии Гуссерля, в
учении о символических формах Кассирера, в семиотике, сигнифике и
когнитологии. Но было бы лучше, если бы он оставил в покое
математику и логику3.
1 Более обстоятельное рассмотрение логических и математических
новаций Алексея Федоровича я предпринимаю в статье о С. А. Яновской,
весьма критически относившейся к сочинениям этого историка античной
философии.
2 Цит. по кн.: Лосев А. Ф. Бытие - имя - космос. М.: Мысль, 1993.
С. 787, 785.
3 Однако Алексея Федоровича постоянно заносило в сферу
математического и логического, о чем свидетельствуют уже названия таких его
сочинений, как «Диалектика числа у Плотина» (М., 1928); «Логика символа»
(в кн. Контекст-72, М., 1973): «Миф - Число - Сущность» (М., 1994; сост.
А. А. Тахо-Годи); «К вопросу о применении теории отражения в логике»
(Вопросы философии, 1998, № 8); «Основной принцип мышления и
вытекающие из него логические законы мышления» (Там же).
Логика и история философии на факультете
195
Сравнивая Лосева и Асмуса, видно, насколько Валентин Ферди-
нандович был умнее Алексея Федоровича: понимал, что вторгаться
в научные области, где ученый не чувствует себя свободно, ему
противопоказано. Кроме того, Асмус совершенно по-другому, чем Лосев,
относился к марксизму.
Будучи членом кафедры 3. Я. Белецкого, Лосев открыто
объявлял себя идеалистом, а потом, после философской дискуссии 1947 г.,
в письме к А. А. Жданову заявил, что перешел на позиции
марксизма1. В статье «Лосев Алексей Федорович» в «Философской
энциклопедии», написанной, по данным 3. А. Каменского, самим А. Ф.,
мы читаем: в 1920-е гг. он «пытался сочетать элементы платонизма
с диалектикой Гегеля и феноменологией Гуссерля. В дальнейшем,
в 30-е (!) — 40-е гг. переходит на позиции марксизма. С этих позиций
он исследует проблемы античной мифологии, философии, эстетики,
литературы, категории диалектики, выступает с критикой
буржуазной философии»2.
Со стороны глубоко религиозного человека, каким был Лосев,
эта самохарактеристика выглядит дико. И хотя вполне можно
согласиться с Каменским, утверждавшим, что в этом не было ни
политиканства, ни приспособленчества: А. Ф. «искренно и всерьез
стремился овладеть марксистской методологией историко-философского
исследования и применять ее»3, - остается недоуменный вопрос,
как же можно было сочетать марксизм, воинствующе атеистическое
учение, с православием? Но А. Ф. пытался это делать, и следует
признать, весьма неумело.
Иное дело — Асмус. Он смотрел на марксизм как на явление
истории философской и общественной мысли, тщательно
прослеживая его связи с предшествующим идейным развитием. В. В. Соколов,
говоря об известной работе Асмуса о Марксе и «буржуазном
историзме», отмечает, что Марксово учение об обществе представлено в ней
как итог и преодоление предшествующих философско-исторических
традиций: Бэкона, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля.
«Вместе с тем оно как учение рационалистическое и диалектическое
1 См. Батыгин Г. С, Девятко И. Ф. Советское философское сообщество
в сороковые годы // Вестник Российской академии наук. 1993. № 7. С. 634.
2 Философская энциклопедия. Т. 3.1964. С. 255.
3 Каменский 3. А. О «Философской энциклопедии» // Философия не
кончается. Кн. 2.1998. С. 59.
196
б. И. Бирюков
было противопоставлено алогическому историзму А. Шопенгауэра
и О. Шпенглера, методологическому дуализму Г. Риккерта». Слушая
формулировки Асмуса, внимательный слушатель, либо читатель за
внешней идеологической шелухой усматривал глубинную суть тех
вопросов, которую хотел донести до него Валентин Фердинандович.
***
Вернусь к результатам «открытий», сделанных в философии
Сталиным (постановление ЦК ВКП(б) 1944 г.) и Ждановым (дискуссия
1947 г.). Они печальны. Философское образование было
выхолощено. Философия сводилась, с одной стороны, к «русской философии»,
под чем понималась прежде всего полуфилософская публицистика
«русских революционных демократов», которые «близко подошли»
и «остановились перед» (к чему подошли и перед чем остановились —
понятно), а с другой стороны, к повторению и апологетическому
комментированию текстов «классиков марксизма-ленинизма».
Гегелевская философия (которой марксизм издавна придавал
преувеличенное значение) стала изображаться не просто консервативным,
а реакционным учением. Изучение же по послегегелевской западной
философии было вообще свернуто — подменено ее «критикой». В этих
условиях неудивительно, что ряд моих соучеников по МИФЛИ,
вернувшись из армии, предпочли покинуть факультет и перейти в
только что открытую Высшую дипломатическую школу. Развернувшаяся
в стране в 1948 г. кампания против «космополитизма», необходимой
составной частью которой были поиски приоритета русской науки,
где только можно было, окончательно ставила крест на научном
подходе к содержанию и истории мировой философской мысли.
В. П. Шестаков
ФИЛОСОФИЯ, ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВОЗНАНИЕ В МГУ: 60-е ГОДЫ
В 1952 г., закончив школу в подмосковном Дмитрове, я подал
документы на философский факультет МГУ. Для этого пришлось просить
специальное разрешение в Министерстве высшего образования, ведь
в 1952 г. мне еще не было 17 лет, положенных по закону для
поступления в высшее учебное заведение. Вообще-то я мечтал об изучении
океанографии, но в 10-м классе школы я начитался Н. Г.
Чернышевского и вкусил яда философского познания, которым разбавлял
скуку школьных сочинений по литературе. Правда, связи с морем я не
потерял, после окончания университета стал одним из основателей
подводного спорта в России и в 1960 году завоевал звание чемпиона
России по дайвингу.
Итак, я подал документы на философский факультет и сдал
экзамены. Но по конкурсу я не прошел, не хватило одного балла.
Казалось, прощай, университет, прощай, мечта. Но оказалось, что с моими
баллами можно было устроиться на заочном отделении. Это лишало
меня стипендии, но открывало доступ на лекции. Я снял маленькую
комнату в Тетеринском переулке у Котельнической набережной,
которую делил с набожной старушкой. Отец ежемесячно присылал мне
деньги на питание и за комнату. Практически я только ночевал в доме,
всё остальное время проводил в университете и в библиотеке.
Студенческая жизнь, которая длилась с 1952 по 1957 г., меня
увлекала. Весь университет умещался в то время в двух зданиях на
Моховой, а философский факультет — на одном этаже здания
Моховой, 9. Потом факультет переместился вглубь двора, по соседству
с Первым медицинским институтом. Из окна нашего буфета было
хорошо видно, как медики препарируют трупы в анатомическом театре.
Это приучало к философскому взгляду на вещи.
На одном курсе со мной учились Э. Ю. Соловьев, Ю. М. Бородай,
О. Г. Дробницкий, П. П. Гайденко, Д. К. Лахути, В. К. Финн. На один
курс старше нас были В. А. Лекторский, Н. В. Мотрошилова, П. В.
Алексеев, В. М. Межуев, В. С. Швырев. Младше нас были Р. Ф. Додельцев,
Д. Д. Средний, К. М. Долгов и др. Большинство из моих сокурсников,
как и я сам, были приезжими из различных городов России.
На факультете, помимо деканата и кафедр, существовали
зародыши студенческой организации. Был спортсовет, который занимался
198
В. П. Шестаков
развитием спорта. В спортзале разыгрывалось межфакультетское
первенство по баскетболу и волейболу. Я был включен в
волейбольную команду, и мы пытались оказывать посильное сопротивление
другим, более продвинутым в спортивном отношении факультетам.
Эти усилия нашли даже отражение в серии дружеских шаржей в
журнале «Крокодил». Кроме того, я стал помогать в издании стенной
газеты «Трибуна спортсмена», которую редактировал Борис Грушин,
тогда еще аспирант. Вся эта общественная деятельность очень мне
помогла в учебе. Студенческий совет рекомендовал перевести меня
на очное отделение, и эта рекомендация была принята. Так что на
следующий год оказался вполне полноценным студентом, со всеми
студенческими правами и обязанностями.
Главное — я устроился в общежитии на Стромынке. Большое,
замкнутое по квадрату, очевидно, монастырское здание давало приют
всем иногородним студентам. Для меня условия казались
роскошными. Впервые у меня было что-то свое: своя койка, тумбочка, а на общем
столе можно было есть и пить чай. Несмотря на то, что в комнате жило
по 5-6 человек, жили дружно. Помнится, я делил комнату со своими
сокурсниками Эрихом Соловьевым и Юрием Бородаем. Чтобы
высыпаться, в морозные ночи открывали окна. Ведь вставать надо было
рано, чтобы бежать на трамвай, а затем на метро от Сокольников до
Охотного ряда. К тому же я стал получать стипендию, это повысило
мой социальный статус и дало возможность покупать какие-то книги.
В то время в букинистических магазинах можно было встретить
редкие издания, например, отдельные, разрозненные тома из
собрания сочинения Ницше. Стоили они всего 10 рублей. Новые издания
по философии не были интересными, но зато издания 1930-х гг. были
замечательными.
В университете была замечательная Фундаментальная
библиотека, составленная из фондов, подаренных библиотеке
университетскими профессорами. Заниматься в этой библиотеке,
представляющей собой здание башенного типа, было и полезно, и приятно. Здесь
можно было найти редкие книги. К тому же в библиотеке собирались
студенты разных гуманитарных факультетов. Я помню, что на
площадке перед читальным залом часто стоял молодой кудрявый Гриня
Ратгауз, крупнейший знаток Гельдерлина и немецкой классической
поэзии. Вокруг него собиралась толпа молодежи, обсуждали новинки
литературы и новости политики. Для нас, студентов, эта библиотека
была своеобразным клубом.
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 199
Правда, в университете на Моховой был и студенческий клуб
(теперь это университетская церковь). Здесь можно было
репетировать. Я немного играл на скрипке, и под руководством
консерваторского профессора Тэриана мы разучивали «Неоконченную
симфонию» Шуберта. Здесь возник замечательный театральный
коллектив, в который входили как профессиональные, так и
непрофессиональные актеры. В 1956 г. студия поставила пьесу чешского
автора Павла Когоута «Такая любовь». Главную роль в ней сыграла
Ия Саввина. Одну из главных ролей играл преподаватель
университета Всеволод Шестаков, я запомнил его имя, очевидно, потому,
что он был моим однофамильцем. В спектаклях принимал участие
Вадим Межуев. Совершенно не помню в этом спектакле Аллу
Демидову, которая тогда была студенткой экономического факультета.
Теперь мы с Аллой соседи по Дому творчества кинематографистов
на Икше и часто вспоминаем наши студенческие годы. Спектакль
произвел настоящий фурор, его посещала вся Москва. Вряд ли так
посещаются службы в церкви, которая теперь отняла у студентов
помещение на улице Герцена.
В начале 1950-х гг. на факультете обучались иностранные
студенты, как правило, из стран т. н. народной демократии. На нашем курсе
учились трудолюбивые немцы из ГДР, группа китайских студентов,
которые, правда, быстро потом исчезли. Были чехи, несколько
венгров, среди которых хорошо помню Дьердя Маркуша, который
впоследствии стал секретарем Георга Лукача периода его участия в
демократическом правительстве. Среди иностранных студентов на нашем
курсе были два албанца, довольно милые и старательные студенты.
К сожалению, один из них сошел с ума на почве военной истерии,
он считал, что под высотным зданием МГУ заложена атомная бомба.
Так что в национальном и культурном отношении это был
своеобразный «Ноев ковчег».
Программа обучения философии была довольно пестрой.
Помимо идеологических предметов - диамата, истмата и истории
КПСС - этого обязательного «тривиума» советского образования,
нам преподавали элементы естественно-научных дисциплин: основы
дарвинизма, высшую математику, формальную логику (для меня это
был чрезвычайно занудный предмет), психологию.
Деканом факультета в мое время был Василий Сергеевич
Молодцов, который начал свою карьеру на физико-математическом
факультете. Поэтому он устраивал разнообразные курсы по философским
200
В. П. Шестаков
вопросам языкознания. Как и вся страна, мы изучали гениальный труд
И. В. Сталина по вопросам языкознания. Я помню, что нас
собирали со всех курсов на лекцию трубадура сталинской эпохи академика
Т. Д. Лысенко, который в течение двух часов истерично выкрикивал
анафемы в адрес генетики.
В общем, в программе обучения было много чего для
промывания мозгов. В особенности убогими были лекции по русской
философии, которые читали И. Я. Щипанов, М. Т. Иовчук, Г. С. Васецкий.
Но были и хорошие лекторы. О «Капитале» Маркса неплохо, чисто
аналитически, без всякой идеологической интерпретации, читал
испанец Мансилья. Историю философии читали Теодор Ильич Ойзер-
ман и Василий Васильевич Соколов. Прекрасные лекции по Канту
и кантианству читал Валентин Фердинандович Асмус. Их
приходилось тщательно записывать, потому что учебники по истории
философии были догматизированы, и пользоваться ими не было никакой
возможности.
С самого начала поступления на факультет я интуитивно
почувствовал, что философии можно обучиться единственным способом —
посредством изучения истории философии. Поэтому я с увлечением
стал читать произведения мыслителей прошлого и слушать лекции
по истории философии.
Надо сказать, что изучать историю философии было не просто,
так как переводы многих философских сочинений отсутствовали,
а хороших учебников по истории философии не было. На факультете
были живы воспоминания о недавнем идеологическом погроме —
обсуждении учебника по истории западноевропейской философии или,
как его называли студенты, «серой лошади». Погром этот был начат
по инициативе одиозной фигуры - философа 3. Я. Белецкого,
заведующего кафедрой диалектического и исторического
материализма. Врач по образованию, Белецкий философии не знал, но крепко
держался за догматы марксизма-ленинизма. Белецкий принес
много бед философскому факультету. Он писал обличительные письма
Сталину, которые, по сути дела, были доносами. В особенности он
обличал авторов III тома «Истории философии», где речь шла о
немецкой философии. Ее авторы воздавали должное Канту и Гегелю,
развивавшим идею историзма и диалектики. Напротив, Белецкий
называл Гегеля мыслителем, обосновывающим нацистскую
национальную идею. Сталин поддержал Белецкого, в особенности его нападки
на изучение гегелевской философии, которая, очевидно, ему самому
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 201
не далась. В результате обсуждения этого учебника по истории
западноевропейской философии в ЦК КПСС он был признан
идеологически несостоятельным, зараженным вирусом «европоцентризма».
После этого обсуждения многие философы потеряли работу и
вынуждены были уйти из Института философии или с философского
факультета. Среди них был молодой М. Ф. Овсянников.
До смерти Сталина Белецкий доминировал на факультете.
Зиновий Белецкий считал, что истина материальна, а все ее вековые
поиски — дань идеализму. О нем ходило много мрачных историй,
он фигурировал в гимне философов, где, как мне помнится, были
такие слова:
Над истиной люди трудились века,
Корпел наш умишко простецкий.
В реальность ее возродил, ха-ха-ха!
Мыслитель Зиновий Белецкий.
Среди философов, с которыми я общался в моей юности, был
довольно большой процент людей, подвергшихся репрессиям в 1930-е гг.
Назову хотя бы три имени: А. Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, которые
побывали в лагерях, и А. С. Спиркин, отсидевший пять лет в тюрьме на
Лубянке, как, якобы, английский шпион.
В то время кумиром всех молодых студентов на факультете был
Эвальд Васильевич Ильенков. Сын известного писателя, редактора
популярного издания «Роман-газета», Эвальд получил хорошее
образование. Он отличался глубоким, вдумчивым, критическим умом.
Его главным интересом были проблемы диалектической логики как
метода мышления. В 1954 г. Эвальд Ильенков и его приятель
Валентин Коровиков выступили со своими знаменитыми тезисами. Они
предложили пересмотреть вопрос о предмете философии как науки.
Должна ли философия заниматься всем без разбора, как наука о
всеобщих законах бытия и мышления, или же у нее есть специальный
предмет? Если да, то в чем же он состоит? Молодые реформаторы
объявили, что философия должна заниматься логикой познания, или
гносеологией, тогда как исторический материализм как
идеологическая наука должен быть исключен из предмета философии.
Тезисы сыграли огромную историческую роль, которую мы
оцениваем в полной мере только сегодня. В то время я был студентом
второго курса философского факультета и живым свидетелем того,
202
В. П. Швстаков
как происходило обсуждение этих тезисов. Но боюсь, что в то время
ни я, ни, пожалуй, никто другой, не могли понять исторического
значения этих тезисов, положивших началу революции в философском
сознании в советской России, приведших к краху ортодоксального
марксизма и возникновению нового понимания философии.
Сегодня, через полстолетия, я могу взглянуть на эти события
другими глазами и оценить по-новому их исторический смысл. Как
историк Ренессанса, я не могу освободиться от ассоциаций, от
сравнения тезисов Ильенкова-Коровикова с тезисами Мартина Лютера,
который 31 октября 1517 г. прибил на дверях Замковой церкви в Вит-
тенберге 95 тезисов, полемизировавших с догматами католической
церкви. Главная идея лютеровских тезисов сводилась к тому, что
церковь не нужна в общении между человеком и Всевышним, церковь
была скорее препятствием, чем духовным пастырем.
Любопытно, как в истории повторяются по кругу великие идеи
и великие личности. На это обстоятельство обратил внимание еще
Джамбаттисто Вико в своей «Новой науке». Лютер прибил свои
тезисы к храму, Ильенков и Коровиков пришпилили свои тезисы к храму
марксистского знания — философскому факультету МГУ. На этом
аналогия не кончается. Лютер, выставляя свои тезисы, был не один,
а с помощником Иоганном Шнейдером, У Ильенкова тоже был
помощник — Коровиков, коллега по кафедре. Как и Лютер, который
сражался с догматами католической церкви, Ильенков и
Коровиков боролись с догматами марксистско-ленинской ортодоксии. Как
и Лютер, они подверглись остракизму, обвинениям и обличениям.
Как и Лютер, реформировавший религию, Ильенков стоял у порога
новой философии, нового понимания марксизма как методологии
научного знания. Иными словами, реформа Лютера и Ильенкова имеет
много общего. Но самое главное то, что обе они привели к
революционным событиям. Лютер основал Реформацию, Ильенков — новое
философское мышление, которое, правда, оставалось в рамках
марксизма, но марксизма обновленного, освобожденного от ортодоксии.
Огромное значение для понимания того, что произошло на
философском факультете в середине прошлого века имеет книга «Страсти
по тезисам о предмете философии» (2016). Книга содержит, на мой
взгляд, огромный и бесценный документальный материал, добытый
из наших потаенных и полузакрытых архивов, прослеживаются все
этапы обсуждения тезисов, обсуждения тезисов на ученых советах и
партийных собраниях. Надо отдать должное Елене Иллеш, которая,
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 203
несмотря на все препятствия, собрала исключительно ценные
материалы, они впервые появятся в нашей литературе. Кроме того, в
рукописи, помимо документов и стенограмм, есть много личных оценок
свидетелей и участников дискуссии. Сегодня публикуется много
материалов мемуарного характера о философии прошлого века,
основанных на воспоминаниях и личных оценках. При всей их ценности
в них порой много субъективного, а порой и недостоверных мнений.
Достоинство «Страстей» в том, что они документальны и основаны
на архивах и стенограммах.
Заслуга Ильенкова и Коровикова заключается в том, что они
создали и придали гласности революционный по смыслу документ,
который положил начало разрушению ортодоксального советского
диалектического материализма. Я думаю, если бы обсуждение
предмета философии ограничилось дискуссией на семинаре или ученом
совете, оно бы не получило такого взрывного характера, как
написанные (и размноженные) тезисы. Правда, Лев Науменко в своих
воспоминаниях считает тезисы ошибочным шагом, называя молодых
преподавателей, их написавших, «остолопами». Конечно, в советское
время делать это было опасно и с точки зрения здравого смысла -
неразумно. Но дело в том, что тезисы были гражданским актом,
принесшим их авторам много бед, огульной критики, партийных
взысканий и пр. В конечном счете, несмотря на многие утраты и поражения,
они победили. И сегодня их тезисы являются важным историческим
фактом, отправным пунктом новой отечественной философии.
Действительно, обсуждение тезисов вызвало много страстей,
в большей части негативных, негодующих, оскорбляющих. Авторы
были признаны ревизионистами, меньшевиствующими
идеалистами, двурушниками, «философскими стилягами», забившими «клин
в спину марксизма». Страсти бушевали довольно долго, почти два
года, сначала на философском факультете, затем в Институте
философии. Коровиков был изгнан с философского факультета и занялся
журналистикой. А Ильенков перешел на работу в Институт
философии, постоянно обороняясь от злобствующей критики. Но, судя по
материалам рукописи, его позиции укреплялись. Если на факультете
он вынужден признать ошибочность своих тезисов, то в Институте
философии уже звучат, наряду с бранью, голоса в его поддержку.
А количество его последователей среди студентов и аспирантов росло
и множилось. Иностранные студенты распространили тезисы за
рубежом, и оттуда возникла поддержка от Тольятти и Тодора Павлова,
204
В. П. Шестаков
что, правда, вызвало новые обвинения уже политического
характера. Сегодня хулители тезисов и обвинители пишут в своих мемуарах
о том, как они поддерживали Ильенкова. Но публикуемые в книге
документы партийных собраний и постановлений ЦК
свидетельствуют, что ортодоксальная критика уже агонизировала.
Эти тезисы вызвали шуму не меньше, чем те, что в свое время
прибивал на вход собора Лютер. Если студенты поддерживали
Ильенкова и Коровикова, то начальство решило по-иному. Оно осудило
эти злополучные тезисы и отлучило Ильенкова и Коровикова «от
церкви». Иными словами, им было запрещено преподавать. Правда,
Ильенков остался на факультете, а Коровикову пришлось уйти. В
последующем их сторонники назывались бранным термином «гносео-
логи». Помнится, в деканате обсуждали мою кандидатуру на какой-
то общественный пост, но отвели, так как кто-то сказал: «Но он ведь
гносеолог». Парадоксально, но в то время даже гносеология на
философском факультете была идеологически опасной.
Ильенков был центром стихийно сложившегося философского
кружка. Он жил в самом центре города — в начале улицы Горького,
напротив Центрального телеграфа. Поэтому к нему приходили все,
кто шел с философского факультета. Здесь бывали Борис Грушин и
Юра Щедровицкий, Саша Зиновьев и Мераб Мамардашвили, Карл
Кантор и Борик Шрагин. Поначалу Эвальд много пил, а затем резко
и бесповоротно отказался от алкоголя. Тем не менее у него в доме
можно было и выпить, и поспорить, и рассказать новый анекдот,
и послушать музыку. Эвальд любил Рихарда Вагнера, и ему удалось
переписать на пленку всё «Кольцо Нибелунгов». Так что за
слушанием музыки засиживались у Эвальда задолго после полуночи. Я
приводил в этот музыкальный Байрет, расположенный в центре Москвы,
А. Ф. Лосева.
В 1950-х гг. мы, молодые студенты, ощущали, хотя еще довольно
смутно, что в философской науке происходят серьезные изменения
и что приходит конец догматическому марксизму-ленинизму,
который мы вынуждены были не без отвращения изучать. Во главе этой
реформы, а правильно было бы сказать - революции, стояли два
молодых человека, в то время аспиранты философского факультета —
Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Они открыли дорогу новой
философской проблематике, связанной с методологией мышления
и научного познания. Хотя оба занимались общими проблемами,
подход у каждого был особенный. Ильенков продолжал традицию
Философий, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 205
немецкой классической философии, в особенности Гегеля. Зиновьева
больше интересовали вопросы структуры и систематизации знания.
Я плохо знаю работы Зиновьева, тем более что он и его
последователи занимались главным образом проблемами логики. Для меня
различие обеих школ состоит в том, что одна (ильенковская)
рассматривала современную философию как закономерный результат
логики философско-исторического знания, тогда как школа Зиновьева
считала, что философия в ее настоящем виде только начинается и
резюмируется в логике или семантике. Иначе говоря, это было в
общем виде различие между историзмом и модернизмом. Но при этом
надо сказать, что в чистом виде эти школы никогда не существовали,
они постоянно пересекались друг с другом, и, несмотря на полемику,
между ними было много общего.
Каждый из них создал свою школу. Из школы Зиновьева
вышли Мераб Мамардашвили, Борис Грушин, Георгий Щедровицкий.
Школа Ильенкова была более многочисленной, поскольку он читал
лекции на факультете и его лекции слушали многие студенты. Как
сказал кто-то из студентов, кажется, Эрих Соловьев: «Все мы
вышли из ильенковской шинели». В 1960 г. Ильенков издал книгу
«Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса». Правда,
еще раньше логикой «Капитала» стал заниматься Зиновьев,
написавший в 1954 г. диссертацию на эту тему. Книга Ильенкова оказала
огромное влияние на многих студентов и аспирантов, независимо
от того, к какой школе они принадлежали. Логику «Капитала» стали
изучать буквально все. Эта тема стала предметом диссертаций,
статей и книг Александра Зиновьева, Мераба Мамардашвили, Бориса
Грушина, Георгия Щедровицкого, Генриха Батищева, Владислава
Лекторского.
Любопытно, что студенты философского факультета 1950-
1960 гг. не принадлежали к элитарным или состоятельным семьям.
Только пять процентов из их числа были выпускниками московских
школ. Остальные 95 процентов составляли выходцы из самых
различных областей Советского Союза, причем далеко не всегда из
крупных городов, а из сельской местности. Всё это
свидетельствовало, что молодое поколение того времени было проникнуто духом
если не свободы, то освобождения. Оно испытало на себе две
тирании: тирании войны и тирании сталинизма. В 1945 г. Советская
армия вместе с союзниками победила гитлеровский фашизм и
стала освободительницей Европы. А в 1953 г. умер Сталин, и вместе
206
В. П. Шестаков
с его смертью покачнулась железная диктатура сталинизма. Эти две
тирании сказались на судьбах людей философской профессии.
Известно, что на фронтах войны погибло десять сотрудников Института
философии, а в сталинские лагеря были репрессированы 115 человек.
Теперь всё это было в прошлом, и молодые люди, пришедшие на
философский факультет, были свободны в мысли и в поведении от этих
двух страшных тираний XX в.
Благодаря открытости и общительности, существовавших на
факультете, новые философские идеи не замыкались в узком кругу,
а широко расходились по всей стране. Так начинала
формироваться школа. Ильенков обладал способностью объединять людей
разного поколения: и молодых, начинающих жизнь в науке, и людей
уже опытных, прошедших суровую школу 1930-х гг. Я и мои друзья
были представителями молодого поколения. Но интерес
представляет дружба с Ильенковым Михаила Александровича Лифшица,
о которой он рассказывает в своей книге «Диалог с Эвальдом
Ильенковым». Дружба эта началась на почве письма Лукача,
указывающего Ильенкову и его друзьям, переводившим его книгу «Молодой
Гегель», на Лифшица как на эксперта по Гегелю. Ильенков пришел
с этим письмом к Лифшицу, и, как пишет Лифшиц, с этого первого
посещения началась их дружба.
С другой стороны, Лифшица интересовала интерпретация
Эвальдом Васильевичем гносеологических проблем, в частности его статья
«Идеальное» во втором томе «Философской энциклопедии».
Лифшиц подчеркивал, что Ильенков подходил к решению философских
проблем как профессиональный философ, отвергая всякую моду
и модничание и, уж конечно, всякие поправки на идеологию и
политику. «Ильенков был настоящим философом, если такая
профессия существует. Во всяком случае, он ставил вопросы онтологические
и гносеологические, искал решения их на почве диалектического
метода, в садах истории философии и в других специально отведенных
местах». Читая этот текст, чувствуешь даже некоторую зависть
Лифшица как человека 1930-х гг. к той философской свободе и
концентрации на самом процессе мышления, которая отличала Ильенкова
как представителя нового философского поколения.
Сашу Зиновьева помню не на факультете, а в Институте
философии. Он был намного старше нас и писал диссертацию тогда, когда
я еще готовил свои курсовые работы. Он прошел всю войну, служил
в танковых войсках, хотя его полк танков не получил, потом был
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 207
военным летчиком. Окончил войну в звании капитана. И сегодня его
портрет в военной форме можно увидеть на первом этаже Института
философии.
Сразу после войны Зиновьев поступает на философский
факультет, после окончания которого остается в аспирантуре. Затем он
поступает в Институт философии, где в 1954 г. защищает кандидатскую
диссертацию на тему «Логика "Капитала" К. Маркса». К сожалению,
она не была опубликована, и поэтому стала известна лишь немногим.
Она вышла в свет только в 2002 г.
Саша обладал, помимо своих научных знаний как логик,
огромным сатирическим талантом. Вместе с Эрихом Соловьевым они
выпускали в Институте философии стенную газету, посмотреть
которую съезжалась вся Москва. В ней все институтские события
иллюстрировались в острых карикатурах и сопровождались
остроумными стихотворными пародиями, в том числе на институтское
начальство. Из-за этого газету вскоре закрыли. От стихотворной
сатиры Зиновьев перешел к сатирической прозе, написав серию книг
о сталинской эпохе. Первой была книга «Зияющие высоты»,
описывающая некую страну Ибанию и все ибанские учреждения.
Несмотря на все предосторожности, книга попала за границу, где была
напечатана. Это послужило причиной высылки Зиновьева в ФРГ.
Но здесь сатирический талант Саши только расцвел, и он красочно
описал гротескный тип Homo Soveticus, который и поныне
здравствует в России. Зиновьев отказался участвовать в строительстве
«зияющих высот», но он вернулся на родину, когда возникли
надежды, что старый мир рухнул навсегда.
Когда я поступил на философский факультет, в аспирантуре
училась будущая жена Михаила Сергеевича Горбачева — Раиса
Максимовна. Я никогда не встречался с ней и не знал ее тогда. Но позднее
узнал, что она в то время готовила диссертацию о колхозном строе
в СССР. Став женой Горбачева, она, как говорят, знакомила его
с классиками русской литературы и читала ему на ночь Достоевского.
Михаил Сергеевич в молодости занимался партийной работой,
времени на художественное образование ему не хватало.
Позднее на факультете появился еще один преподаватель,
который сыграл в моем философском образовании большую роль, —
Михаил Федотович Овсянников. Он был аспирантом у Георга Лукача,
который одно время жил в России. От Лукача Овсянников получил
глубокие знания немецкой философии, в особенности Гегеля.
208
В. П. Шестаков
В библиотеке я познакомился с кандидатской диссертацией
Михаила Федотовича «Гегель и Бальзак о судьбе искусства в
капиталистическом обществе», которую он написал и защитил под
руководством Лукача. Это была замечательная работа, основанная на
многочисленных источниках и документах, соединяющая
философскую глубину с филологической точностью. Гегеля Овсянников знал
не из пересказов, переводов или популярных адаптации, а из первых
рук, на основе немецких источников.
Поэтому мы, студенты 3-го курса, обрадовались, когда узнали,
что открывается спецкурс по «Феноменологии духа» Гегеля. Я
немедленно записался на эти занятия и стал усиленно их посещать. Должен
сказать, это была хорошая философская школа.
Приход Овсянникова на философский факультет был большим
событием для нас, студентов. Многое изменилось и в его жизни.
Преподавание философии позволило ему преодолеть ту травму, которую
принесло ему отлучение от философии. Я помню свое посещение его
жилища, которое располагалось в общежитии Педагогического
института. Это была небольшая, темная комната, в которой находились
еще какие-то жильцы. Позднее, после того как на Ленинских (ныне
Воробьевых) горах было возведено здание университета, Михаил
Федотович получил квартиру в профессорском корпусе. Но к тому
времени он уже был заведующим кафедрой марксистско-ленинской
эстетики.
Михаил Федотович много работал: читал лекции, писал книги
и статьи, руководил кафедрой эстетики и философским факультетом.
Но у него было любимое занятие — фотография. Он всегда носил с
собой фотоаппарат и часто совершенно неожиданно начинал снимать.
Сегодня его фотографии — замечательный документ,
свидетельствующий о наблюдательности и постоянной сосредоточенности ума.
Большим событием, которое изменило жизнь университета,
и прежде всего философского факультета, была смерть Сталина.
Я встретил это событие распятым на решетке университетских ворот
со стороны улицы Герцена.
Виной всему была лень. 6 марта 1953 г. я проснулся в
общежитии на Стромынке довольно поздно. Все мои товарищи уже ушли
на лекции, а я решил пойти на занятия позднее. Но когда я вышел
из метро в центре города, я не узнал Москву. Всюду стояли военные
машины, ряды солдат, которые перекрывали проход к центру. Город
был в шоке. Умер великий Генералиссимус, вождь и отец народов, ве-
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 209
личайший диктатор, которого только знала история со времен
Римской империи. Осиротевший народ понуро тек в Дом союзов, чтобы
проститься с ним. Дорогу толпе преграждали войска. В возникающей
давке люди теряли обувь, одежду, жизни.
Меня швыряло в толпе, как щепку в океане. Я постарался
выбраться и добраться до университета, куда меня, как пчелу в улей,
вел инстинкт. Почему-то хотелось попасть на факультет, быть рядом
с товарищами. Я перебирался по кузовам машин, убегал от военных
и постепенно приближался к университету по улице Герцена.
Наконец я достиг ворот университета и бросился к ним, отрываясь от
преследователей. Увы, они были закрыты. Как в фильмах Эйзенштейна,
я взобрался на решетку ворот, но был снят с нее солдатиками,
которые заломили мне руки за спину и отбросили от ворот aima mater.
Хорошо, что меня при этом не побили. Так, НА решетке (хорошо, что
не ЗА) я встретил смерть Великого кормчего.
После смерти Сталина в области идеологии появились первые,
еще слабые, а потому и привлекательные признаки оттепели.
Одним из таких признаков нового идеологического климата было
появление на факультете новых философских предметов и дисциплин,
в частности эстетики. Наряду с «тривиумом» марксистских
дисциплин на факультете стали появляться «свободные искусства» (liberal
arts). Интерес к эстетике был огромным, так как эта наука
признавала личностные оценки, суждения вкуса, красоту как огромную
духовную силу, которая, по словам Достоевского, может «спасти мир».
Во всех вузах страны стихийно возникали кружки по эстетике, на
которых читались доклады, обсуждались проблемы искусства, велись
дискуссии о поэзии, музыке или живописи. Помнится, всех тогда
занимала дискуссия «физиков» и «лириков», выяснявших, что важнее
в жизни — наука или искусство. Такой кружок по эстетике,
кажется, первый в стране, возник и на философском факультете. Я долгое
время был старостой этого кружка. А его научным руководителем
был Виктор Константинович Скатерщиков, один из первых
преподавателей эстетики на философском факультете. Но вскоре эстетика
конституировалась как философская наука. Этому способствовало
основание кафедры марксистско-ленинской эстетики (так она
тогда называлась) на философском факультете. Возглавил эту кафедру
М. Ф. Овсянников. Вслед за Московским университетом курсы
эстетики стали читаться во всех крупных вузах страны в качестве
обязательного предмета. Наступил настоящий эстетический бум, который
210
В. П. Шестаков
сопровождался изданием книг и учебников, организацией дискуссий
и конференций, появлением огромного числа студентов и
аспирантов, желавших специализироваться по проблемам эстетики. Когда
Михаил Федотович совмещал должности декана философского
факультета и заведующего кафедрой эстетики, у него на кафедре было
до 50 аспирантов. Казалось, вся страна превратилась в Общество
любителей эстетики.
Надо сказать, что далеко не всё в этой молодой дисциплине было
на высоком научном уровне. В ней было много наивного, порой
просто примитивного. Слово «эстетика» применялось буквально ко
всему: «эстетика труда», «эстетика спальни», «эстетика поведения».
Уровень преподавания эстетики в ряде учреждений, особенно
провинциальных, был низким. Часто эстетикой занимались люди без
философского образования, те, кто не нашел себе места в своей
области, - филологии, истории, порой, представители естественных
наук. Ироничный Михаил Александрович Лифшиц, написавший
замечательный полемический трактат «В мире эстетики» против
такого рода учености, называл этот способ философствования
«ученым дилетантизмом», а многочисленные эстетические сочинения —
«школьной эстетикой». Я разделял его скептицизм относительно
марксистско-ленинской теории эстетики и занимался поэтому
главным образом историей эстетики. В этой области я находил в Михаиле
Александровиче не только учителя, но и союзника и коллегу.
На факультете некоторое время преподавал психологию
Александр Романович Лурия, психиатр с мировым именем. Его
работы о функциях головного мозга были известны во многих странах.
К тому же, несмотря на трудное время, Лурия читал лекции в
Сорбонне и США. Александр Романович проявлял интерес и к психологии
искусства. На этой почве мы с ним как-то разговорились, и он
порекомендовал мне поработать в домашнем архиве Сергея
Михайловича Эйзенштейна. Для этого он рекомендовал меня жене Эйзенштейна
П. М. Аташевой. Она жила на Кропоткинском бульваре, куда меня
и пригласила.
Аташева обитала в небольшой квартире на первом этаже. При
входе я увидел, прежде всего, знаменитые маски, которые
Эйзенштейн привез из Мексики. В то время началось издание собрания
сочинений Эйзенштейна, но оно не было закончено. Аташева любезно
предоставила мне возможность познакомиться с рукописями
Эйзенштейна, которые еще не были напечатаны. Я был поражен разно-
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 211
образием интересов Сергея Михайловича и глубиной его познания.
Его интересовало всё, связанное не только с кинематографом, но
и выразительным языком других видов искусств. Он читал много
книг об искусстве и был хорошо знаком с эстетическими трактатами.
Сам прекрасный рисовальщик, Эйзенштейн проявлял особый
интерес к графике, к европейской и японской гравюре. Особенно меня
заинтересовала прекрасная статья Эйзенштейна о Хогарте, где он
доказывал, что эстетическая теория английского художника может быть
вполне применена к современному кинематографу. Поскольку в то
время не было никаких средств для копирования, я сделал много
выписок из рукописей Эйзенштейна.
Помимо постепенного подъема новых философских дисциплин,
в числе которых была математическая логика, история науки,
появлялись и другие признаки наступающей оттепели. К ним относилась
деятельность научно-студенческого общества (НСО), которая не
подчинялась деканату, партийной и профсоюзной организациям,
контролирующим идеологическую жизнь факультета. На факультете стали
активно работать кружки, в которых студенты читали и обсуждали
доклады. Вся эта деятельность нуждалась в отражении, в каком-то
письменном органе. Так возник «Журнал НСО» - орган научной
самодеятельности студентов. Я стал его редактором и одновременно
составителем, корректором и издателем. Поначалу это был небольшой
информативный бюллетень. Потом я стал включать в него
теоретические статьи, фрагменты курсовых или дипломных работ. Я помню, что
в числе авторов были Н. Мотрошилова, В. Лекторский, В. Межуев.
Печатался журнал в четырех экземплярах на пишущей машинке, а затем
переплетался в издательском центре МГУ. Журнал помещали в
библиотеку, которая выдавала его желающим под расписку.
Вскоре я вошел во вкус. Материалы становились всё более
интересными. Надо было менять технологию издания. И я,
договорившись с типографией МГУ, стал издавать журнал сначала в количестве
50, а потом 100 экземпляров. Конечно, я не ведал, что творил. На
самом деле я основал нелитованный, не подверженный цензуре журнал.
Фактически это было самым настоящим самиздатом. Известно, что
советская власть не допускала свободы печати и цензурировала даже
спичечные коробки и обертки для конфет. Благодарю Господа Бога,
что всё обошлось и я избежал неминуемого наказания, как издатель
нецензурированной литературы. К сожалению, у меня не осталось ни
одного экземпляра журналов, которые я тогда издавал на свой страх
212
В. П. Шестаков
и риск. Но сегодня в музее факультета хранится один-единственный
экземпляр журнала, напечатанный на машинке.
Научным руководителем моих курсовых и дипломных работ был
Валентин Фердинандович Асмус. В 1940 г. он защитил докторскую
диссертацию по древнегреческой философии, впоследствии издавал
книги на эту тему, опубликовал прекрасную антологию «Мыслители
древней Греции об искусстве», по которой я учился. Он писал
работы и по логике, но его истинным призванием была история
философии — античная, европейская философия Нового времени, немецкая
классическая философия. Он писал замечательные книги, в
особенности о Канте и неокантианстве. Асмус был прекрасным лектором, пусть
несколько скучным по стилю, но всегда содержательным, точным во
всех своих формулировках. Он никогда не импровизировал, но читал
свои лекции по готовым текстам. В них не было ни одного пустого
слова. Я полностью согласен с В. В. Соколовым в том, что из философов
старой дореволюционной школы самым выдающимся был Асмус.
Асмус в 1927 г. приехал в Москву из Киева, где в 1919 г.
окончил историко-филологический факультет Киевского
университета. В 1927 г. он переезжает в Москву, где читает лекции по истории
философии в Институте красной профессуры и МИФЛИ. В 1939 г.
его приглашают вместе с А. Ф. Лосевым на философский факультет
МГУ для чтения лекций по логике. На факультете Асмус работает до
1968 г., после чего он переходит в Институт философии.
А. Ф. Лосев, подтрунивая над Асмусом, говорил, коверкая на
немецкий лад его имя: «Азмуз? Я помню, как он пирожки в Киеве
продавал». Быть может, тяжелая жизнь на Украине заставляла молодого
ученого зарабатывать себе на хлеб, но это не умаляет его
философских достоинств.
Я посещал Валентина Фердинандовича в его квартире на
Хорошевском шоссе, которая помещалась в доме, построенном немецкими
военнопленными. У него в то время было, кажется, трое маленьких
сыновей. Помню, что, когда я первый раз открыл дверь его
квартиры, оттуда, как горох, высыпался отряд малышей, которые
выбежали в подъезд, намереваясь удрать на улицу. Мне вместе с Валентином
Фердинандовичем пришлось загонять их обратно в квартиру.
Позднее Асмус построил дом в Переделкине и переехал жить
туда. Отсюда он ездил на такси на лекции в новое здание
Университета. Я навещал его в небольшом дачном домике. Асмус более, чем кто-
либо из моих знакомых, воплощал в своей жизни кантовский прин-
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 213
цип: «Звездное небо над нами, нравственный закон в нас». Он был
глубоко нравственным человеком. А по ночам он изучал звезды.
У него на столе стоял небольшой телескоп, которым он пользовался,
когда рассматривал звезды на небе.
Как известно, в Переделкине Асмус дружил с двумя людьми —
пианистом Станиславом Нейгаузом и поэтом Борисом Пастернаком.
Они встречались семьями, слушали музыку, беседовали. После
смерти Пастернака Асмус был единственным человеком, кто осмелился
сказать над гробом опального поэта прощальную речь. Хотя нигде не
было объявления о времени и месте похорон, на кладбище собралось
несколько тысяч человек (в отчете заведующего отделом ЦК КПСС
Черновцана значится всего 500 человек, но это жалкая попытка
умалить значимость события). Среди людей, пришедших проститься
с поэтом, отсутствовали официальные советские писатели,
исключение составили только Н. Коржавин, Б. Окуджава и А. Вознесенский.
Выступление на могиле Пастернака было героическим актом,
проявлением гражданского мужества Асмуса. В своих воспоминаниях
критик Александр Храбровицкий рассказывает, что как-то при встрече
с Валентином Фердинадовичем он сказал ему: «Ваши книги по
философии вскоре все забудут. Но выступление на могиле Бориса
Пастернака сделает вас известным на все времена».
Но прежде всего это выступление стало известно властям и
вызвало бурный гнев. Это едва не послужило причиной потери
Асмусом работы, которая была единственным источником
существования его самого и его семьи. Тогда ему пришлось бы возвращаться
в Киев и заниматься тем, в чем его упрекал Лосев — «продавать
пирожки». Начальство допрашивало его, кто позволил выступить на
похоронах Пастернака. Асмус нашел только одно объяснение. Он
сказал, что выступить его уполномочил Литфонд, который был не
идеологической, а имущественной организацией, оказывавшей
материальную помощь писателям. Это было не очень хорошее
объяснение, но оно давало Асмусу хоть какое-то оправдание перед
советской властью. Тем не менее дамоклов меч безработицы долгое
время висел над Валентином Фердинандовичем. Он этого
страшился, но был непреклонным и не приносил никаких извинений за свой
мужественный гражданский поступок. Ф. В. Константинов
попытался вывести Асмуса из состава редколлегии «Философской
энциклопедии». К счастью, этого не случилось, так как власть побоялась
скандала. Я знаю, что власть стремилась манипулировать ученым,
214
В. П. Шестаков
толкала его на неблаговидные поступки. Но советскому закону
Асмус, как последователь Канта, предпочитал закон нравственный
и до конца жизни остался ему верным.
В своем разговоре с Асмусом А. Храбровицкий оказался не
вполне прав. Философские работы Асмуса не забыты. Об этом
свидетельствует семитомное собрание сочинений философа, изданное в 2015 г.
в издательстве УРСС. Это замечательное издание, опубликованное
по инициативе сыновей Валентина Фердинандовича. Но
Храбровицкий прав в том отношении, что имя Асмуса всегда будет
ассоциироваться с именем великого русского поэта.
Под руководством Асмуса я в 1957 г. успешно защитил
дипломную работу на тему «Маркс о характере художественного освоения
в античном обществе». В этой работе я стремился проследить
эволюцию воззрений на античность в европейской культуре - от И. И. Вин-
кельмана до современных концепций философии истории. Я
ссылался на работы А. Ф. Лосева 1930-х гг., что вызвало переполох на
кафедре истории европейской философии, руководимой довольно
ортодоксальным Теодором Ильичом Ойзерманом. Насколько я знаю,
это была первая в советское время попытка реабилитации Лосева.
Но Асмус меня поддержал, и работа была защищена успешно.
Алексей Федорович тоже написал на восьми печатных страницах
положительный отзыв на мою дипломную работу, который я
сохранил до сих пор. В нем он писал: «У В. П. Шестакова уже намечается
умение оперировать с трудными философскими текстами и
критически относиться к философским понятиям. Так, его сознательное
отношение к фетишизму, начиная от первобытного и кончая товарным
фетишизмом нового времени, свидетельствует и о критицизме
автора и даже об его талантливости в понимании трудных философских
понятий». Статья была подписана: А. Лосев, доктор филологических
наук. Действительно, находясь на философском факультете, Алексей
Федорович получил степень доктора, но не философии, а филологии.
В своем отзыве Лосев, очевидно, почувствовал мой интерес к
философским и эстетическим категориям, которыми сам он прекрасно
владел. Через восемь лет в издательстве «Искусство» мы издали с ним
совместную работу «История эстетических категорий», которая, как
меня уверяют, до сих пор не утратила своего значения.
В последующем Асмус следил за моей работой. У меня
сохранилось несколько его одобрительных рецензий на книги по эстетике,
которые я тогда опубликовал. Я же имел возможность приезжать
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 215
к нему в Переделкино, привозил пластинки с записями музыки Баха.
От Асмуса я получил вкус к немецкой философии, в частности к
немецкому романтизму. Позднее я опубликовал редкий философско-
эстетический трактат романтика Карла Зольгера «Четыре разговора
о красоте», а также «Музыкальную эстетику Германии XIX века».
Я также подготовил большую антологию «Ницше в России», которая
осталась, к сожалению, неопубликованной. Единственный результат
этой работы — статья «Ницше в Росии» в сборнике «Германия и
Россия». Немецкая философская мысль — прекрасная школа для
развития философского мышления. Это убеждение я почерпнул из лекций
и бесед с Валентином Фердинандовичем.
Еще будучи студентом начальных курсов философии, я
чувствовал абстрактность и отвлеченность чисто философского подхода
к искусству. Зарождающаяся эстетика апеллировала, как правило,
к банальным примерам из литературы, к наивным дискуссиям
«физиков» и «лириков». Мне казалось, этого недостаточно. Хотелось знать
об искусстве больше и по возможности глубже. Была возможность
посещать лекции по истории искусства на историческом факультете,
но по советским законам учиться на двух факультетах одновременно
было строжайше запрещено.
В то время ректором МГУ был замечательный человек -
академик Георгий Иванович Петровский. Замечательный уже тем, что был
достижим для простых студентов. Я пришел к нему на прием и
объяснил, что я занимаюсь эстетикой, но хотел бы иметь более
конкретные знания об искусстве, которые могло бы дать изучение истории
искусства. Петровский внимательно выслушал меня и подписал мое
заявление на поступление на заочное отделение исторического
факультета по кафедре истории искусства. Так я получил формальное
право посещать лекции и семинары по искусствоведению. С тех пор
после лекций на философском факультете на Моховой, 11 я бежал на
улицу Герцена, 5, где в то время помещались искусствоведы.
Из моих занятий историей искусства на историческом
факультете я вынес одно очень важное убеждение, которое теперь стремлюсь
по-возможности реализовать на практике, о первостепенной роли
Ренессанса в становлении европейской цивилизации. Именно
в культуре Возрождения сформировался тот тип личности,
который может быть назван европейцем. Он связан со свободой мысли
и слова, универсальной образованностью, духом гуманизма.
Эпоха Возрождения сыграла важную, можно сказать, ключевую роль
216
В. П. Шестаков
в истории европейской культуры. Этой эпохе мы обязаны
возникновением гуманизма, разрушившего старую систему образования, новой
концепцией личности с ее безграничными возможностями,
открытием новой картины мира, созданием архитектуры и изобразительного
искусства, основанных на законах линейной перспективы,
завоеванием нового социального статуса для художника, превратившегося
из ремесленника в творца, равного по своим возможностям самому
Богу, появлением открытий в области науки и т. д. Эпоха
Возрождения заимствовала и переработала лучшие традиции Средневековья
и создала новое научное и художественное мировоззрение, которое
дало себя знать во всех областях человеческой культуры и знания.
Сегодня модно говорить о недолговечности Ренессанса, об
утопичности его идеалов, о нереалистичности гуманизма и того мира
гармонии, который воплощало в себе искусство Возрождения.
Действительно, художники Возрождения верили в гармонию, которая
царит в мире и отражением которой является искусство во всех его
видах — архитектуре, музыке, живописи. Но они же создавали и
искусство, в котором раскрывали гротеск и уродство, и делали это с не
меньшим мастерством, чем создавали идеальные образы. Таковы
гротескные головы Леонардо да Винчи, таково искусство Микеландже-
ло, такова живопись Брейгеля. Всё это далеко от наивной гармонии.
Быть может, мы сами идеализируем искусство Возрождения, а затем
упрекаем его в «титанизме», утопизме и прочих грехах. На самом
деле художники и мыслители Ренессанса не меньше, чем мы, знали
о слабости и несовершенстве человека, о чем свидетельствуют
восхваление глупости Эразмом Роттердамским или скептические
максимы Мишеля Монтеня.
Нам, русским, приходится задним числом осваивать этот опыт,
так как Россия в свое время не прошла через то революционное
движение, которое охватило Европу в XIV-XVI вв. В то время как
в Европе происходил подъем экономики, появлялись первые
формы капиталистического производства, развивалась урбанистическая
культура, Россия боролась за национальную независимость с татаро-
монгольскими завоевателями. Тем не менее некоторые
гуманистические идеи и настроения пришли в Россию через Византию из Европы
и оказали влияние на русскую культуру. Мне представляется, что
Андрей Рублев и его школа были отражением этих влияний. Не
случайно Рублева называют русским Рафаэлем. К тому же, в начале XX в.
Россия переживала свой собственный Ренессанс, который получил
Философия, эстетика и искусствознание в МГУ: 60-е годы 217
название религиозно-философского Возрождения. Многие явления
этого периода в развитии русской культуры аналогичны
европейскому Возрождению, и, как известно, этот период в истории России
связан с расцветом искусства и интеллектуальной мысли. Уже одно это
обстоятельство делает изучение культуры Возрождения актуальным
для русского человека, если он признает себя не азиатом, а
европейцем. К этому выводу я пришел, изучая историю искусства.
Характерно, что Ренессанс - предмет пристального изучения всех
крупнейших историков искусства. У нас в стране это были Б. Р.
Виппер, М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев, M. М. Бахтин и его брат Николай, за
рубежом - Якоб Буркхардт, Аби Варбург, Бернар Беренсон, Отто Бе-
неш, Эрвин Панофский, Эрнст Гомбрих. Этот список можно было бы
бесконечно продолжать. Вот почему я уделяю сейчас так много
труда и времени Ренессансу. В свое время мне удалось издать несколько
книг, посвященных ренессансной философии и эстетике.
Параллельно с изучением философии я занимался на кафедре
истории искусства исторического факультета, где прослушал все
основные курсы. Но это уже другая история, хотя мои знания
истории искусства отделяли меня подчас от философской эстетики,
которая проявляла чудовищную неспособность анализировать материал
искусства, как прошлых эпох, так и современного. Что стоит
высказывание модного в то время Владимира Разумного о «бюргерских
замках», которые привиделись ему в его претенциозных писаниях об
эстетике. Из профессональных эстетиков, исследователей и
преподавателей, как минимум 90 процентов не были знакомы с историей
искусства. Парадокс заключался в том, что эстетикой, которая по сути
дела была философией искусства, занимались люди, не знающие
искусства. Без связи с историей искусства эстетика превращалась в
абстрактную дисциплину, лишенную, порой, реального содержания.
Именно поэтому эстетика так быстро, и практически без боя,
уступила место культурологии, центром которой был Российский
институт культурологии (РИК). Но его безжалостно уничтожил министр
культуры Владимир Мединский. В биографии министра это, увы, не
единственный варварский акт по отношению к культуре. Он культуру
не уважает и с ней успешно сражается. Музеи, кинематограф, театры,
ученые-искусствоведы стонут от министра и его коррумпированного
окружения. Но его спасает непробиваемый панцирь
псевдопатриотизма, сегодня это броня, которая спасает бездарность, коррупцию
и ненависть к интеллектуализму.
218
В. П. Шестаков
Учиться в старом здании университета на Моховой было удобно,
так как всё было близко, всё было рядом. Например, по вечерам
после лекций можно было бежать в консерваторию, где в Малом зале
играли студенты и аспиранты. Эти концерты были бесплатными.
Более того, я распространял на факультете пригласительные билеты на
эти концерты. Теперь многие из тех, кого я тогда слушал,
превратились в известных музыкантов, на концерты которых попасть совсем
не просто. Недалеко на Арбате был Дом журналистов с прекрасной
библиотекой, превосходным рестораном. По вечерам в этом доме
проводились лектории по истории кино, где я получил свое первое
киноведческое образование (закончил я его в Голливуде, где провел
год на стажировке по линии Госкино СССР).
С переездом в новое здание университета мы утратили место
в центре Москвы. Но зато можно было тренироваться в
университетском бассейне, лечиться в университетской поликлинике. И,
конечно, студенты получили намного более комфортные условия для
проживания, чем на Стромынке.
Я помню день открытия нового здания МГУ. Оно проходило
почему-то не у самого здания, а на смотровой площадке на
Ленинских горах. Сюда собрались студенты всех факультетов, прошел
краткий митинг. Настроение было праздничное, верилось, что
университет получил новые возможности для развития образования и науки.
Трудно сказать, насколько эта вера оправдала себя. Что-то мы
приобрели, но что-то утратили.
Сейчас я иногда бываю в новом здании университета, участвую
в конференциях, посещаю деканат и кафедру эстетики. Условия
преподавания здесь, несомненно, улучшились, нет былой скученности,
появилось большое количество аудиторий. Гуманитарное здание
университета стало более светлым, чистым, уютным. Но все мои
попытки принять участие в работе факультета, сотрудничать с ним,
в том числе и получить статьи и финансовую поддержку для
настоящего сборника, оказались неудачными. Создается впечатление, что
факультет удовлетворен своим настоящим, беспокоится о своем
будущем и мало интересуется своим прошлым, забывая, что без прошлого
не существует будущего. Тем не менее, факультет вправе гордиться
своим прошлым, именно здесь полвека назад произошли события,
приведшие к падению ортодоксального марксизма.
У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
В. В. Соколов
ДРАМАТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ В. Ф. АСМУСА
Пассажиры знаменитого «философского корабля» 1922 г., до того
как он оставил петроградскую гавань, надо полагать, в надежде на
«лучшее будущее», довольно активно предавались педагогической
и научной деятельности. В те годы В. Ф. Асмус только что окончил
философское отделение Киевского университета (1919). Его учителя
А. Н. Гиляров, В. В. Зеньковский, Е. В. Спекторский (последние два -
«белоэмигранты» еще до отплытия корабля) проницательно увидели
угрозу философии и свободному творчеству вообще в ранней больше-
визирующейся России. У Асмуса, как и у множества интеллектуалов,
появилась тщетная надежда, что активно наступавшая Белая
гвардия Деникина, овладевшая значительной территорией европейской
части России и Украины, в том числе Киевом, одолеет большевиков
с их уже весьма агрессивно проявлявшейся идеологией. Можно
думать, что в таких ожиданиях в сентябре 1919 г. вчерашний студент
опубликовал в местном еженедельнике «Жизнь» статью «О великом
пленении русской культуры». Ее содержание свидетельствует как
о компетентности и глубине философской позиции еще юного, в
сущности, автора, так и о его незаурядной, великолепной стилистике,
которые будут отличать книги и статьи будущего профессора. Позиция
эта явно «идеалистическая», ориентированная на констатацию
творческой природы человека, несовместимая с марксистским
экономическим материализмом, который неотделим от упрощенного
механицизма и губителен для подлинного творчества. Очевидны и симпатии
молодого автора, созвучные религиозному направлению в русской
философии, весьма влиятельному в начале XX в. Начинающий
автор считал неотложнейшей задачей «раскрепощение всей духовной
культуры из губительного, смертного пленения, в которое ее ввергло
безумие современного коммунистического рационализма и
механистического марксистского идолослужения».
220
В. В. Соколов
Однако марксизм восторжествовал и год от года усиливал свою
диктатуру, но отказаться полностью от занятий философией Асмус,
конечно, не мог. Он стал преподавать эстетику, которую любил и
великолепно знал, в художественных вузах Киева. Не менее сведущ он
был и в вопросах логики и философской методологии.
Нацеленность молодого автора на исследование общих и
самых принципиальных вопросов философии характеризует уже
его первую изданную в Киеве книгу «Диалектический
материализм и логика» (1924). Для уяснения роли дальнейшей научно-
исследовательской, литературной и педагогической деятельности
В. Ф. Асмуса необходимо вспомнить определяющие особенности
марксистской идеологии и философии и специфику их
преломления в тех суровых условиях.
Первая из таких особенностей состояла в достаточно
настойчивой претензии на то, что эта философия продолжает и углубляет
предшествующую философскую культуру — прежде всего
материализм и диалектику. Вместе с тем в марксизме и в большей мере в
ленинизме всемерно подчеркивался революционный переворот,
якобы осуществленный в философии. Такой «переворот», в сущности,
трансформировал философию в идеологию, всемерно
политизировал философию на основе пресловутого принципа партийности.
Рассмотрение «философского наследия», его исследование в этих
условиях, как правило, вульгаризировалось, схематизировалось, а иногда
и просто пресекалось.
Но потребность в такой работе — разумеется, с сугубо
марксистских позиций — конечно, существовала. К тому же после высылки
многих «идеалистов» в стране оставалось крайне мало
квалифицированных специалистов, способных вести серьезную
исследовательскую, да и преподавательскую работу в философии. Отсюда
относительно терпимое отношение к молодым специалистам, недавно
окончившим «старую школу». Одним из них и стал В. Ф. Асмус.
Для его позиции весьма характерна полемика с А. Варьяшем
(см.: Под знаменем марксизма. 1926, № 7-8,10; 1927, № 1).
Специализировавшийся по вопросам логики, методологии
естествознания, опубликовавший книги по истории философии,
А. Варьяш, видный деятель венгерской революции 1919 г., затем
эмигрировавший в СССР, проявил себя в этих книгах как
упрощенец и социологический вульгаризатор, пытавшийся
однозначно вывести из пресловутого социально-экономического базиса
Драматические моменты в жизни и творчестве В. Ф. Асмуса 221
гносеологические и онтологические идеи великих рационалистов
и эмпиристов XVII в. Хотя такого рода «идеи» в марксистской
философской литературе признавались не вполне (вспомним судьбу
книги В. Шулятикова «Оправдание капитализма в
западноевропейской философии», 1908), но их снова и снова повторяли в той или
иной мере множество авторов, что было закономерно в силу
марксистской идеологизации философии. В своей рецензии на книгу
A. Варьяша, а затем и в ответе на его реакцию (в том же журнале)
B. Ф. Асмус с блеском эрудиции, силой аргументации,
опиравшейся и на логику, и на оригинально осмысленные работы Маркса,
с тонкостью ироничной стилистики показал несостоятельность
позиций А. Варьяша.
Для утверждения идей о первостепенной важности философии
в ее органической связи с историей философии весьма существенны
те акценты, которые делал В. Ф. Асмус в интерпретации
диалектического материализма. По его словам, диалектический материализм,
конечно, является революционной философией, поскольку «отнюдь
не развивается вне философской традиции, ибо перестраивает мир он
по тем принципам, которые находит в этом же самом мире как
тенденции его развития»1.
По-видимому, эта полемика, выявившая недюжинную
теоретическую и литературную силу киевского философа (как и две его
глубокие статьи «Бергсон и его критика интеллекта» и «Алогизм
Уильяма Джемса», опубликованные в ПЗМ в 1926-1927 гг.),
произвела сильное впечатление на А. Деборина и И. Луппола, тогдашних
руководителей Института красной профессуры, и они пригласили его
в качестве преподавателя главного в то время центра философского
образования. Здесь (а затем и в других московских вузах) в течение
ряда лет развертывалась профессорская деятельность В. Ф. Асмуса,
великолепного лектора, точного и изящного в своей речи, о чем автор
настоящей заметки судит и по рассказам своих старших коллег, и по
собственному, уже более позднему опыту.
Продолжалась, расширялась и углублялась литературная
деятельность В. Ф. Асмуса. Одно из главных ее направлений было
зафиксировано в «Очерках истории диалектики в новой философии»
(1930), в которых автор развивал и углублял ту же идею
«синтетичности» диалектики Маркса и Энгельса по отношению к диалектике
1 Под знаменем марксизма. 1926. № 7-8. С. 206.
222
В. В. Соколов
Декарта, Спинозы, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Широта
термина «диалектика», как он трактовался в гегелевско-марксистской
традиции, предоставляла автору дополнительные возможности
рассмотрения основных вопросов философии. Это очевидно в
«Диалектике Канта» (1929); переработанная и дополненная, эта работа легла
в основу солидного тома «Иммануил Кант», опубликованного в 1973 г.
Многие годы В. Ф. Асмус оставался в нашей стране главным кантове-
дом, и есть все основания утверждать, что именно философия Канта
составляла для него самую убедительную основу мировоззрения.
На публикацию «Очерков истории диалектики» откликнулся
рецензией Н. А. Бердяев, один из главных пассажиров того самого
корабля, теперь издававший в Париже журнал «Путь»1. В молодости
увлекавшийся марксизмом и ставший впоследствии его
непримиримым критиком, Бердяев сумел рассмотреть как философскую силу
автора «Очерков», так и те моменты, в которых он был вынужден
наступать на горло своей философской песне. Прежде всего рецензент
констатирует, что «книга В. Асмуса есть показатель существования
философской мысли в Советской России», ее автор «знает историю
философии, имеет вкус к философствованию, любит великих
немецких идеалистов» и явно образовался «еще на старой русской
культуре». Вместе с тем умудренный философский волк с горечью
отмечает, что «автор свободно и по существу философствует только тогда,
когда он забывает, что он марксист и что советская власть требует от
него материализма». Давление марксистской религии, с которой
автор вынужден считаться, лишает его подлинной философской
свободы. Тем не менее достоинства «Очерков» таковы, что Бердяев пишет
в заключение: «Г. Асмус производит впечатление случайного
человека в коммунизме».
Это была весьма опасная «похвала». Если о статье «Великое
пленение русской культуры» в верхах явно не знали (она была
обнаружена лишь в последние годы), то за «белоэмигрантской»
литературой следили достаточно внимательно. В 30-е гг. XX в.
развернулась известная кампания против «меньшевиствующего идеализма».
В. Ф. Асмус, как можно судить, не был близок с А. М. Дебориным, но
дружил с одним из лидеров того же «направления» Я. Стэном. Но, по-
видимому, главную роль сыграли не личные отношения со Стэном,
а увлеченность Асмуса Кантом, к которому отношение официальной
1 См.: Путь. 1931. С. 108-112.
Драматические моменты в жизни и творчестве В. Ф. Асмуса 223
марксистской философии было тогда в целом отрицательным,
поскольку Гегель, высоко ценимый Лениным, трактовался как «на
голову поставленный материалист», чья диалектика якобы полностью
перечеркнула диалектику «трусливого» Канта. Впрочем, были и
другие придирки довольно невежественных критиков. Весьма возможно,
что в этой ситуации «помогла» и рецензия Бердяева. Так или иначе,
Асмуса тоже стали причислять к «меньшевиствующим идеалистам».
Здесь имел место один эпизод, весьма показательный для
характеристики «философской борьбы» тех лет. К В. Ф. подошел Е. П. Сит-
ковский и предложил ему руку помощи: «Валентин Фердинандо-
вич, — сказал он, - обвинение в меньшевистском идеализме содержит
политический подтекст, он небезопасен, и я буду вас защищать». «А как
вы, Евгений Петрович, будете меня защищать?» - спросил его В. Ф.
«А я буду доказывать, что вы не меньшевиствующий, а буржуазный
идеалист!» В. Ф. отказался от такой «помощи», заметив: «Хотя и
неверно, что я — меньшевиствующий идеалист, но уж лучше оставаться
им, чем стать буржуазным идеалистом».
Продолжались проработки В. Ф. Его изгнали из Академии ком-
воспитания, где он читал лекции, но его беспартийность, стремление
держаться вне политики и сугубая осторожность спасали его от
более горькой участи (большевики Карев и Стэн, как известно, были
арестованы, а затем расстреляны). В один из дней группа
слушателей академии явилась в общежитие Института красной профессуры
(ИКП), в одной из комнат которого проживал В. Ф. с семейством,
и стала выбрасывать его вещи в коридор. В такой гнетущей
атмосфере, оставаясь лектором ИКП, В. Ф. Асмус опубликовал одно из самых
значительных своих исследований «Маркс и буржуазный историзм»
(1933). В работе вновь учение Маркса об обществе представлено как
итог и преодоление предшествующей философско-исторической
традиции Бэкона, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Вместе с тем
оно как учение рационалистическое было противопоставлено
алогическому историзму А. Шопенгауэра и О. Шпенглера,
методологическому дуализму Г. Риккерта. Эта книга В. Ф. Асмуса была
единственной философской книгой, вышедшей в год 50-летия со дня смерти
Маркса, тем не менее это обстоятельство не удержало М. Б. Митина
от публикации в «Правде» разгромной рецензии на нее. В рецензии
доказывалось, что автор игнорирует основной вопрос философии!
В последующие годы непродолжительное литературное
сотрудничество с Н. И. Бухариным снова подвело В. Ф. Асмуса к опасной
224
В. В. Соколов
черте. В стенной газете Института философии после известного
политического процесса в марте 1938 г. появилась статья Кеменова,
видного тогда литературно-политического деятеля, утверждавшего,
что Асмус был «тенью Бухарина».
В те годы В. Ф. Асмус переключился на изучение истории и
теории эстетики. Среди наиболее значительных публикаций этого
периода — «Гёте в "Разговорах" Эккермана», «Философия и эстетика
русского символизма», «Чтение как труд и как творчество», «Круг идей
Лермонтова». В послевоенные годы были опубликованы такие
значительные работы, как «Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в.»,
«Мировоззрение Толстого» (отдельные статьи о нем публиковались
и в 30-е гг.). Будучи членом Союза советских писателей с 1935 г.,
В. Ф. Асмус немало писал и по вопросам литературоведения. В
частности, он первым заметил большой поэтический талант А. Т.
Твардовского, когда появились его первые публикации в начале 30-х гг.
В январе 1940 г. В. Ф. Асмус защитил докторскую диссертацию
«Эстетика классической Греции». Это была вторая в СССР публичная
защита диссертации и первая в ИФАНе. Он один из авторов
многотомной «Истории философии». Первые три тома из семи
намеченных и частично написанных были опубликованы в 1940-1943 гг.,
и Асмус стал одним из лауреатов Сталинской премии. Но уже
в следующем 1944 г. было принято известное постановление
ЦК ВКП(б), осуждавшее третий из вышедших томов (в сущности,
самый содержательный из них) за освещение в нем немецкого
классического идеализма XVIII-XIX вв. Претензии к этому освещению
носили туманно-политический характер (шла война с фашистской
Германией), и В. Ф. Асмус наряду с Б. Э. Быховским и Б. С.
Чернышёвым был назван в этом постановлении одним из виновников
политически неверного изображения немецких идеалистов. Последовали
новые проработки на философском факультете МГУ, где В. Ф. Асмус
был профессором, как и Б. С. Чернышёв, и в Институте философии.
Так называемая дискуссия 1947 г. по книге Г. Ф.
Александрова «История западноевропейской философии» стала новым этапом
в идеологизации и политизации философии. Она сводила к
минимуму преподавание истории классической (домарксистской)
философии, максимально увеличив долю истории марксистской философии,
которая включала теперь не только ленинский, но и сталинский этап.
Исследования по истории домарксистской философии фактически
прекратились. В те годы В. Ф. Асмус переключился на работу в об-
Драматические моменты в жизни и творчестве В. Ф. Асмуса 225
ласти логики, которой он занимался с молодых лет и которую теперь
начали преподавать в ряде вузов. Уже в 1947 г. вышел его солидный
труд «Логика», где систематически рассматривалась традиционная
формальная логика. В дальнейшем в новой коллективной
монографии «Логика» (1956) им были написаны главы «Понятие»,
«Аналогия», «Гипотеза», «Доказательство».
Но когда в этой научной дисциплине возобладала ориентация
на математическую логику, В. Ф. Асмус посчитал, что в его годы уже
поздновато переключаться на новую исследовательскую область.
К тому же наступило время XX съезда КПСС, знаменовавшего
определенную оттепель и в философии. Перемены в обществе дали проф.
Асмусу возможность перейти с кафедры логики на кафедру истории
зарубежной философии, на которой он работал последующие
двадцать лет. История философии оставалась главной научной любовью
В. Ф. Асмуса. Он читал общие и специальные курсы по истории
античной, новой и новейшей истории философии в студенческой,
аспирантской, преподавательской аудиториях. Как всегда, эти лекции
отличались ясностью, содержательностью, непринужденной и
изящной стилистикой. Из книг, опубликованных в тот период творческой
деятельности В. Ф. Асмуса, назовем монографии «Декарт» (1956),
«Проблема интуиции в философии и математике» (1963; 2-е изд.
1965), «Платон» (1969; 2-е изд. 1975), учебное пособие «Античная
философия» (1968; 2-е изд. 1976).
Здесь названы, разумеется, далеко не все публикации философа-
энциклопедиста, охватившего фактически все разделы истории как
зарубежной, так и русской философии XIX-XX вв., написавшего
по проблемам эстетики и литературы, русской и зарубежной,
множество статей в Большой советской, Литературной и Философской
энциклопедиях.
Возвращаясь к названной выше монографии «Проблема
интуиции в философии и математике», в которой исследуется проблема
непосредственного знания в западноевропейской философии XVII-
XIX вв. и математике XIX-XX вв., необходимо подчеркнуть высокий
философский профессионализм ее автора. Такого рода
профессионализм невозможен без способности к логико-гносеологическому
анализу, им наш маститый автор владел в высокой степени.
Последние 15-20 лет жизни и деятельности В. Ф. Асмуса были
не только творчески насыщенными, но и довольно счастливыми
по сравнению с предшествующими годами. Правда, появилась одна
226
В. В. Соколов
тучка, когда в 1960 г. на похоронах Б. Л. Пастернака, травля
которого за публикацию «Доктора Живаго» продолжалась и посмертно,
В. Ф. Асмус, его близкий друг, построил свою надгробную речь
вокруг идеи, согласно которой конфликт большого поэта и писателя не
был конфликтом только с советской эпохой, но и со всеми эпохами.
Руководящие профессора философского факультета МГУ на
заседании ученого совета устроили агрессивную проработку коллеге за
то, что он в своей речи не осудил покойного «клеветника» на
советскую действительность. В процессе проработки один из профессоров
убежденно доказывал, что необязательно читать «Доктора Живаго»,
ибо антисоветская суть автора сформулирована во многих его
стихах. Прорабатываемый не посыпал свою голову пеплом, умело
защищался, но, имея богатый опыт прошлых проработок, решил было
покинуть философский факультет МГУ и перейти в сектор эстетики
Института мировой литературы, где работал по совместительству.
Однако времена всё же изменились, «высшие инстанции» не
поддержали проработчиков, и все сделали вид, что Асмуса никто не
трогал. В 1969-1971 гг. в издательстве Московского университета были
опубликованы два тома его «Избранных философских трудов».
С1943 г. и в каждые новые выборы В. Ф. Асмуса выдвигали в
состав АН СССР по отделению философии. Однако члены этого
отделения, руководимые фанатичными марксистами-ленинцами и старыми
партийцами, не могли простить ему ни «меньшевиствующего
идеализма», ни последующих «вихляний». У автора этого очерка есть все
основания полагать, что они перед Асмусом, как ни перед кем другим,
испытывали чувство профессиональной неполноценности. Научное
содержание его трудов им было попросту непонятно. Впрочем, и сам
«непроходимец» с 1962 г. не подавал больше документов. («Не хочу
я разыгрывать демократию для Ильичёва», - сказал он в том году,
когда секретарь ЦК КПСС сразу прыгнул в академики.)
Но к этому времени выросли новые поколения философов,
формировавшиеся уже в предвоенные и тем более в послевоенные годы.
Многие из них оценили уникальный талант В. Ф. Асмуса,
глубокого и разностороннего исследователя и стилиста. Если поколение
икапистов и других работников «философского фронта»,
сформировавшееся в 1920-1930-е гг., видело, как правило, в Асмусе
«индивидуалиста» и «аристократа» (приходя на лекции, он не снимал
с пальца обручального кольца), всегда замкнутого и идеологически
ненадежного, то многие представители нового поколения убедились,
Драматические моменты в жизни и творчестве В. Ф. Асмуса 227
что его замкнутость — своего рода защитная броня, позволившая ему
выжить в жестокие годы идеологической бдительности, проработок
и арестов. И стоило уже стареющему профессору убедиться, что его
слушатель, студент и аспирант — искренний поклонник философии,
как он раскрывался в своей подлинной сути — в желании
максимально помочь молодому коллеге, наделяя его толикой своих громадных
знаний. Его слушатель быстро убеждался в огромной доброте и
безупречной интеллигентности Валентина Фердинандовича. И когда он
умер 4 июня 1975 г., на его похороны в Переделкино пришло
множество его учеников, друзей и почитателей.
Здесь многие увидели, что В. Ф. был религиозен (до этого
события лишь члены семьи и близкие друзья знали или догадывались об
этом). На даче в Переделкине тайно приглашенный священник
провел обряд отпевания усопшего, на котором присутствовал лишь
ограниченный круг лиц. В соответствии с ранее выраженным пожеланием
В. Ф. в его гроб положили портрет Канта. Когда же близкие друзья,
сопровождавшие гроб с телом покойного, подъехали к церкви, автор
этих строк, а также декан философского факультета МГУ С. Т. Мелю-
хин и редактор «Литературного наследия» Макашин на гражданской
панихиде произнесли свои прощальные речи. Священник стоял здесь
же, и многие присутствовавшие «от греха» повернули тыл, удаляясь
к станции. От церкви к могиле под псалмы священника (им был сын
покойного Валентин) и его жены Инны шли лишь несколько
учеников и друзей. Уже через день мы с С. Т. Мелюхиным писали по
требованию парткома объяснительную записку, почему и как произошло
такое «позорное» событие.
В заключение автор этих строк выражает давно сложившееся
у него убеждение, что за все пореволюционные годы никто в нашей
стране и во всех странах бывшего СССР не сделал для философского
просвещения и образования столько, сколько сделал Валентин Фер-
динандович Асмус.
П. П. Гайденко
В. Ф. АСМУС — ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Валентин Фердинандович Асмус принадлежал к тем достаточно
редким людям, встречи с которыми оставляют в душе глубокий след,
определяя не только профессиональную, но, что важнее, духовную
ориентацию человека. По широте своих интересов и по
образованности он превосходил всех, у кого мне довелось учиться на философском
факультете Московского университета. Валентина Фердинандовича
отличала какая-то особая — доброжелательная - внимательность к
людям: он не только охотно отвечал на вопросы студентов, но, как
мне казалось, стремился понять, помимо сути вопроса, самого
спрашивающего, а потому иной раз его ответы несли в себе гораздо
больше того, что содержалось в вопросе. Он умел видеть тот человеческий,
а не только чисто предметный интерес, который рождал вопросы.
К большому сожалению, в мои студенческие годы Валентин
Фердинандович не читал лекции на нашем курсе, но он вел спецкурс на
отделении логики, и некоторые из нас, студентов философского
отделения, приходили его слушать. Особенно мне запомнились несколько
лекций, посвященных логико-философской концепции
неокантианцев. Меня поразило умение В. Ф. Асмуса ясно и доступно раскрывать
содержание и смысл самых сложных построений Когена, Наторпа,
Кассирера, показывать логическую связь их понятий, а главное —
давать увидеть, какие реальные, не утратившие за полвека своей
актуальности вопросы логики и теории познания решали эти мыслители,
опираясь на Канта, но при этом переосмысляя его учение в свете
новейших открытий в математике и физике. В тот период — на втором
и третьем курсах — я только что открыла для себя философию
Канта, которая увлекла меня необычайно, а потому спецкурс Валентина
Фердинандовича был для меня настоящим подарком: многое из
остававшегося не вполне ясным при чтении «Критики чистого разума»
можно было понять благодаря этим прекрасным лекциям.
Несколько лет спустя, в 1959 г., я поступила в аспирантуру на
кафедру истории зарубежной философии, где в те годы работал и
Валентин Фердинандович. Он вел семинар по истории философии для
аспирантов, и тут мне посчастливилось уже непосредственно
работать под его руководством. Больше всего мне запомнились занятия по
античной философии, которую раньше я знала довольно поверхност-
fi. Ф. Асмус — хранитель культурной традиции
229
но. И несмотря на то, что моя диссертация была посвящена философу
XX в. Мартину Хайдеггеру, я с энтузиазмом погрузилась в изучение
Платона, творчество которого Валентин Фердинандович прекрасно
знал и высоко ценил. Вспоминается такой эпизод. Как-то раз по
окончании занятий Валентин Фердинандович сказал, что хочет пойти
купить грампластинки. В то время недалеко от университета, на улице
Горького, рядом с Центральным телеграфом, был хороший магазин
грампластинок и музыкальных инструментов, куда порой заходила и
я, чтобы пополнить свою небольшую фонотеку. На этот раз мы
пошли вместе, по дороге продолжая обсуждать поднятую на семинаре
тему — платоновское учение об идеях. И тут Валентин
Фердинандович, отвечая на мой вопрос, насколько правомерна та трактовка идей,
какую дает Наторп в своей работе «Платоновское учение об идеях»,
посоветовал почитать по этой теме исследование неизвестного мне
тогда философа. «Вам не знакома книга Алексея Федоровича
Лосева "Очерки античного символизма и мифологии"»? - спросил он.
Я, к стыду своему, в то время еще не знала работ Алексея
Федоровича. И тогда Валентин Фердинандович, как-то сразу оживившись, стал
рассказывать об этом замечательном русском мыслителе, большом
знатоке не только античной философии, мифологии и искусства (его
трактовку платоновской идеи как «лика» В. Ф. Асмус считал глубокой
и оригинальной), но и новоевропейской мысли, особенно немецкого
идеализма и гуссерлевой феноменологии. Оказывается, А. Ф. Лосев
живет в Москве, недалеко от университета - на Арбате, а мы, хотя
и учимся на философском факультете, не знаем ни его, ни его работ!
На следующий день я уже нашла в Горьковской библиотеке
«Очерки античного символизма и мифологии», а заодно и другие
сочинения А. Ф. Лосева: «Античный космос и современная наука»
и «Диалектика мифа». Так началось мое первое знакомство с
творчеством Алексея Федоровича, открывшего мне, а потом и моим
студентам, которым я всегда рекомендовала книги Лосева, целый новый
мир. Несколько лет спустя, после того как я познакомилась с самим
Алексеем Федоровичем, этот мир приобрел еще большую полноту
и многомерность: личное общение не могут заменить никакие
книги! Но первой своей встречей с творчеством А. Ф. Лосева я обязана
именно Валентину Фердинандовичу. Ему же я обязана и еще
одним открытием, которое, без всякого преувеличения, существенно
изменило мою философскую судьбу. А случилось это так. Работая
над диссертацией о Хайдеггере, я нередко вставала в тупик, пытаясь
230
П. П. Гайденко
войти в совершенно новую для меня систему понятий, ключ к
которой не могли дать мне прежние историко-философские
представления. Моим научным руководителем был Т. И. Ойзерман. Я
консультировалась и с ним, и с другими преподавателями кафедры, в том
числе, конечно, и с Валентином Фердинандовичем. И вот однажды,
когда мы обсуждали с ним феноменологический метод Хайдеггера
и степень влияния на него Гуссерля, творчество которого он
хорошо знал, Валентин Фердинандович посоветовал мне прочитать
рецензию В. Э. Сеземана на «Бытие и время», опубликованную в
конце 1920-х гг. в эмигрантском философском журнале «Путь». Этого
журнала нет в открытом доступе, сказал Валентин Фердинандович,
но его можно получить в спецхране Ленинской библиотеки, оформив
в деканате соответствующее разрешение.
Так я узнала об издававшемся Н. А. Бердяевым в Париже с 1925
по 1940 г. толстом журнале, в котором печатались наши русские
философы, высланные в 1922 г. из страны. Я очень быстро разыскала и
прочитала интересную статью Сеземана о «Бытии и времени»
Хайдеггера, написанную вскоре после выхода в свет этой книги
немецкого философа. И действительно, эта статья многое прояснила в той
связи идей, которая составляла специфику хайдеггеровского подхода
к проблемам онтологии. Но главное было даже не в этом: в журнале
«Путь» я открыла такое богатство, которое осваивала на протяжении
целого года; оно позволило мне многое понять не только в
философской ситуации XX в. в России и на Западе, но и в нашей отечественной
истории, трагические события которой лишили нас естественной
преемственности в духовном развитии. Этот журнал, открытый
благодаря В. Ф. Асмусу, стал для меня чем-то вроде второго университета.
Отведя утром дочку в детский сад, я мчалась в Ленинку, в спецхран,
где до вечера - до закрытия садика — пожирала один номер журнала
за другим в хронологическом порядке, узнавая либо совсем мне до
той поры неизвестных, либо известных лишь понаслышке
соотечественников: Н. Бердяева, Н. Лосского, И. Ильина, С. Франка, Б.
Вышеславцева и других. С тех пор многие годы я изучала русскую
философию Серебряного века, читая те сочинения, которые можно было
найти в библиотеках, а иногда получая их у знакомых, привозивших
кое-что из-за границы.
С Валентином Фердинандовичем мы иногда обсуждали
творчество отечественных философов. Он говорил, что хотел бы написать
исследование о Льве Шестове. И действительно, спустя много лет,
ß. Ф. Асмус — хранитель культурной традиции
231
уже работая в Институте философии, Валентин Фердинандович
прочитал интересный доклад о Шестове. Это, кажется, был последний из
его докладов, который мне удалось услышать. Доклады В. Ф. Асмуса -
с ними он нередко выступал и на кафедре — отличались, как и его
лекции, ясностью и логической строгостью, а главное - доскональным
знанием предмета, о котором ему доводилось говорить. Для меня, как
и для многих моих сверстников, Валентин Фердинандович был
образцом подлинного ученого, которого отличала, помимо высокой
академической культуры и широкой образованности, необычайная
добросовестность — качество, значение которого я по-настоящему оценила
именно благодаря ему. В этом смысле Валентин Фердинандович был
для многих из нас, у него учившихся, носителем той самой -
прерванной на долгие десятилетия — культурной традиции, о которой, не будь
таких людей, как он, мы знали бы разве что из книг.
В самом начале 1970-х гг. наша семья снимала дачу в
Переделкине — не в писательском поселке, а по другую сторону железной
дороги. Зная, что Валентин Фердинандович проводит лето у себя на
даче, мы с мужем иногда навещали его. Впервые на даче у В. Ф.
Асмуса мне довелось побывать задолго до того, еще в аспирантские
годы. Мы приехали к нему, помнится, вместе с Эрихом Соловьевым
и встретили у него пожилого человека с редкой, запоминающейся
внешностью: невысокого, худощавого, с живыми темными глазами
и длинной, почти до пояса, совершенно белой бородой. Это был, как
выяснилось, Яков Эммануилович Голосовкер, чья работа
«Достоевский и Кант» (1963) произвела на меня сильное впечатление. Когда
гость ушел, Валентин Фердинандович рассказывал нам о нем с
большой теплотой и участием. Кажется, в то время он пытался помочь
Голосовкеру опубликовать что-то из его сочинений. Теперь, когда
мы с мужем заходили к Валентину Фердинандовичу, он встречал нас
с неизменным радушием. Мы вместе слушали музыку, обсуждали
кантовское понимание разума, особенно проблему антиномий и кан-
товское убеждение в необходимости устранения противоречий,
которое я полностью разделяла, а Валентин Фердинандович видел здесь
ту границу Канта, которую философу не удалось преодолеть, за что
его справедливо критиковали Шеллинг и особенно Гегель.
В тот период Валентин Фердинандович как раз заканчивал свое
фундаментальное исследование о философии Канта, вышедшее в свет
в 1973 г., где, кстати, проблеме разума и учению о диалектике
уделено большое внимание. Валентин Фердинандович много рассказывал
232
П. П. Гайденко
о своем близком друге Борисе Леонидовиче Пастернаке, которого он
очень любил, о последних годах его жизни, омраченных той травлей,
что последовала за публикацией романа «Доктор Живаго», о
тяжелой болезни Пастернака. В. Ф. Асмус был одним из тех, кто
поддерживал Пастернака в эти тяжелые последние годы. Он выступил с
прощальным словом на могиле поэта, невзирая на все предостережения
и предупреждения, которые ему делали многочисленные
«доброжелатели», намекавшие на то, что у него будут большие неприятности
в университете. А мы, молодые преподаватели, так же как и многие
студенты, восхищались мужеством своего учителя: те, кто помнит
обстановку тех лет, понимают, что нужно было немало мужества, чтобы
противостоять психологическому давлению властей, особенно если
учесть атмосферу философского факультета, где В. Ф. Асмус тогда
работал. Посещение Валентина Фердинандовича всегда заряжало
нас бодростью — мы уходили в каком-то просветленном настроении.
Одно только омрачало это настроение: в то лето мы заметили у него
тяжелую одышку — видимо, начинало сдавать сердце. Но ни разу он
не пожаловался на здоровье - судя по всему, эту тему он обсуждать
не любил.
К сожалению, это было единственное лето, когда мы жили
неподалеку от писательского поселка. И оказалось, что эти наши встречи
были последними. В начале июня 1975 г. мы провожали нашего
учителя в последний путь. Был яркий летний день, всё цвело и благоухало.
На похороны собралось множество людей. Многие, как и мы с моей
подругой Валей Лучиной, не могли сдержать слез. Смерть Валентина
Фердинандовича воспринималась нами как личное горе, но, конечно,
самым большим горем она была для близких — Ариадны
Борисовны и уже взрослых его детей. На похоронах произошло событие, по
тем временам достаточно драматичное, но вместе с тем и отрадное:
Валентин Валентинович и другие дети Валентина Фердинандовича
настояли на том, чтобы отца похоронили по христианскому обряду.
Драматизм этой ситуации заключался в том, что советский философ
по определению должен был быть атеистом — не только при жизни,
но и после смерти. Когда появился священник и началось отпевание,
то, к моему немалому удивлению, исчезли некоторые профессора,
которые работали вместе с В. Ф. Асмусом в университете многие
годы. Некоторые, но не все: никогда не забуду, какое
прочувствованное слово прощания произнес Василий Васильевич Соколов, глубоко
почитавший и любивший В. Ф. Асмуса, как достойно вел себя Сера-
В. Ф. Асмус — хранитель культурной традиции 233
фим Тимофеевич Мелюхин, тогда декан философского факультета,
от имени всего философского сообщества сумевший сказать, что
значил В. Ф. Асмус для этого сообщества.
А семья Валентина Фердинандовича в тот горький день
обнаружила те же человеческие качества, которые отличали его самого:
благородство характера и твердость в осуществлении того, что он считал
своим нравственным долгом.
Х.Х.Кессиди
В. Ф. АСМУС КАК ИСТОРИК АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Творчество В. Ф. Асмуса многогранно. Оно охватывает почти всю
историю философии (Античность, Новое и Новейшее время), логику,
эстетику, литературу и искусство, культурологию. Мы ограничимся
лишь трактовкой В. Ф. Асмусом античной философии, основываясь
преимущественно на его труде «Античная философия»1.
Рассматриваемый труд, предназначенный в качестве учебного
пособия для студентов и аспирантов философских факультетов и
отделений университетов, начинается с констатации того факта, что
античная философия интенсивно развивалась свыше тысячи лет,
с конца VII в. до н. э. вплоть до VI в. н. э. Вместе с тем отмечается,
что античная философия представляет собой единое и своеобразное
целое, не изолированное от истории мировой философской мысли.
В последнем случае речь идет об известном влиянии на
формирование древнегреческой науки и философии достижений
древневосточных народов, главным образом вавилонян и египтян, в различных
областях научного знания и зачатков философии.
Говоря о научных знаниях народов Древнего Востока, В. Ф. Асмус
замечает, что эти знания, возникшие из практических нужд, носили
характер рецептов (рекомендаций) без «сколько-нибудь
детального теоретического и логического обоснования» («Античная
философия», с. 4). Напротив, совершенно иное мы наблюдаем у древних
греков, отличавшихся исключительной восприимчивостью и
многосторонней природной одаренностью, поразительной склонностью
к «обоснованию выдвигаемых или используемых положений» (там
же, с. 4-5; см. также с. 20).
Исходя из национального характера древних греков, их любви к
борьбе, состязанию, соревнованию (см. с. 9), а также их умственной
одаренности, обусловившей динамичность, «чрезвычайную
интенсивность и быстроту философского развития» (с. 11), словом,
принимая во внимание талант греков и их любовь к борьбе мнений как
оптимальному методу постижения истины, В. Ф. Асмус констатирует
следующий исторический факт: «И для науки древних греков, и для
1 Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976. Изд. 2-е,
дополненное.
В. Ф. Асмус как историк античной философии
235
античной философии характерно обилие почти одновременно
возникавших научных гипотез и типов философских учений» (с. 5).
При этом он дает данному факту следующее толкование: «При
рано возникшей острой научной пытливости древние греки могли
удовлетворять ее только в тех условиях и границах, которые
предоставляло им слабое развитие техники и почти полное отсутствие
эксперимента» (там же)1. Отсюда и основной способ научного исследования,
наблюдение, а также исключающие «экспериментальную проверку
аналогия и гипотеза» (там же). Сказанное представляется более или
менее убедительным, когда речь идет о научных гипотезах и
аналогиях, но никак не распространяется на обилие философских учений,
гипотез и аналогий, будь то древность или современность. Ведь ни
одно из них не сумело экспериментально обосновать (доказать,
подтвердить) правильность, истинность отстаиваемых идей, концепций.
По-видимому, не удовлетворенный социально-экономическим
объяснением феномена многообразия научных и философских гипотез
и теорий, В. Ф. Асмус предлагает также гносеологическое объяснение
этому феномену, более близкое, на наш взгляд, к истине. Он пишет:
«Так как при разработке гипотезы мысль идет от действия к его
причине, а одно и то же действие может вызываться различными
причинами, то в условиях невозможности экспериментальной проверки
1 Диспропорция между необычайным расцветом теоретического
мышления у греков и относительно низким развитием техники, технологии
и отсутствием эксперимента, на наш взгляд, не имеет, в сущности,
никакого отношения к дешевой рабочей силе рабов, не говоря уже о якобы
пренебрежительном отношении свободных граждан (в том числе рабовладельцев)
греческих полисов к физическому труду.
Диспропорция, о которой идет речь, во многом объясняется тем, на что
сам В. Ф. Асмус обращает внимание, а именно фактом, что зачатки научных
знаний у народов Древнего Востока носили прикладной характер. Иначе
говоря, любое решение какой-либо проблемы, дававшее практически
приемлемый результат, считалось достаточным «без сколько-нибудь детального
теоретического и логического обоснования», говоря словами В. Ф. Асмуса.
Принципиально иное, согласно Асмусу, мы наблюдаем у греков - их
«поразительную склонность к обоснованию выдвигаемых или используемых
положений».
Стало быть, изначальные, обусловленные историческими и
генетическими предпосылками ценностные ориентации греков и народов Древнего
Востока (у которых, кстати, дешевой рабочей силы было не меньше, чем
у эллинов), существенно разнились между собой.
236
Х.Х.Кессиди
в умах различных мыслителей, принадлежащих к высокоодаренному
народу, возникали различные гипотезы об одних и тех же явлениях
природы» (там же), а стало быть, и разнообразие типов
философского объяснения мира (безотносительно, добавим мы, к
«экспериментальной проверке»). Последнее обстоятельство «сделало античную
философию школой философского мышления для всех последующих
времен» (с. 6).
Обращает на себя внимание раскрытие В. Ф. Асмусом
содержания ритуальной формулы «Древнегреческая философия как
идеология рабовладельческого общества» (с. 18-22), предпосланной в
качестве введения ко всей греческой философии.
В отличие от многих советских историков философии и
обществоведов, профессор Асмус едва ли не сводит на нет защиту
греческими философами классовых интересов рабовладельцев, к числу
которых они обычно принадлежали. Автор «Античной философии»
пишет, что, хотя в области своих общественно-политических,
этических и педагогических учений греческие философы выражали
интересы господствующего класса, тем не менее в разработке даже этих
учений, а особенно «основ философского мировоззрения, древние
греки создали учения, высоко поднимающиеся над тесным
историческим горизонтом рабовладельческого общества...» (с. 21).
Придерживаясь умеренной марксистской методологии в
исследовании развития философских идей и учений, В. Ф. Асмус
стремится выйти за рамки этой методологической догмы. Он неоднократно
ссылается на исключительную природную одаренность греков,
которая обусловила необычайное развитие их культуры, в том числе
философии. В. Ф. Асмус отмечает изначальную ориентацию греков на
отвлеченные проблемы (в особенности на космологические),
наблюдаемую у ранних греческих философов. Говоря о поисках
последними «первоначала» всего сущего, он, следуя сложившейся традиции,
называет их «материалистами», хотя приводимый им исторический
материал свидетельствует об условном характере деления греческих
мыслителей до Демокрита и Платона на «материалистов» и
«идеалистов». Так, характеризуя воззрения милетских философов,
Валентин Фердинандович пишет, что «они понимали первовещество не как
мертвую и косную материю, а как вещество, живое в целом и в частях,
наделенное душой и движением» (там же, с. 24; см. также с. 25, 26).
Характеризуя диалектику Гераклита, его учение о всеобщем
движении и изменении, а также о борьбе противоположностей, В. Ф. Ас-
В. Ф. Асмус как историк античной философии
237
мус показал, что из факта движения и непрерывного изменения вещей
эфесец сделал вывод о противоречивом характере их существования.
Сказанное означает, что о каждом движущемся предмете
необходимо утверждать, что «он и существует и не существует в одно и то же
время» (с. 33).
Как известно, выдвинутый Гераклитом тезис подверг
решительной критике Парменид из Элей, а затем и Аристотель. Первый
назвал Гераклита и его последователей «двуголовыми», а второй
считал утверждение Гераклита неправомерным, если не абсурдным.
Общеизвестно также, что в противоположность Гераклиту Парменид
выдвинул постулат, согласно которому лишь бытие, истолкованное
в аспекте непротиворечивой мысли, является истинным. И не
только истинным, но также единым (чуждым множественности), вечным,
неподвижным и неизменным. Этот ход мыслей делает Пармени-
да первым антагонистом диалектики, говоря словами В. Ф. Асмуса
(см. с. 47, 50). Однако автор «Античной философии» замечает, что
«развитая Парменидом метафизическая характеристика бытия
основывалась на недоверии к той картине мира, которая доставлялась
чувствами, и на убеждении о превосходстве ума над ощущениями»
(с. 48). И хотя добытые на основе чувств и ощущений «мнения»
являются недостоверными представлениями (т. е. лишены подлинной
истинности), тем не менее они, согласно Пармениду, заслуживают
изучения. Неудивительно, что некоторые «физические» воззрения,
будь то догадка о том, что Луна лишь отражает свет Солнца, или же
его предположение о зависимости наших чувств и нашего ума от
нашей физической природы и от состояния наших телесных органов,
сыграли большую роль в дальнейшем развитии научных
представлений (см. с. 49).
Далее, попытка Парменида установить строгое различие между
истиной и мнением означала, согласно В. Ф. Асмусу, проведение
греческим философом различия между «знанием совершенно
достоверным и знанием, о котором можно сказать, что оно... не
лишено вероятности, есть лишь правдоподобное предположение» (с. 50).
В. Ф. Асмус считает, что скорее в наше время, чем в какое-либо
другое стала очевидной ценность мысли Парменида о различии между
знанием достоверным и знанием всего лишь вероятным. Говоря, что
логика и теория познания уже давно выявили огромное значение
вероятностного знания для практики и для логического мышления,
автор продолжает: «Ни современная наука, ни современная техника,
238
Х.Х.Кессиди
ни современная логика... были бы совершенно невозможны без
вероятностного знания и без умозаключений и рассуждений, приводящих
в результате к такому знанию» (с. 51). Понятно, что заслуги Парме-
нида в развитии теоретического знания значительны, и поэтому
вышесказанное, согласно Асмусу, «трудно согласовать с
категорическими утверждениями некоторых исследователей, будто Парменид был
сплошным реакционером в науке и в философии» (с. 49).
Верно, Парменид был первым метафизиком, в смысле антиподом
диалектики. Однако то же можно сказать о многих последующих
философах, особенно о Левкиппе и Демокрите. У Демокрита (и
предположительно Левкиппа) получается, что атомы - это то же истинное
бытие Парменида, но раздробленное на далее неделимые
материальные частицы, виды («идеи»), формы.
Знаменитые апории Зенона Элейского, вскрывшие
противоречивость движения и пространства (т. е. их немыслимость), Демокрит,
согласно Аристотелю (Мет., I, 4, 985 а), просто-напросто
игнорировал. Асмус, не соглашаясь с последним, пишет, что «атомисты не
ставят вопрос о причине движения атомов... движение атомов
представляется им изначальным, свойством атомов. Именно как изначальное
оно не требует объяснения причины. Но учение о движении атомов
не есть и произвольное утверждение философа», так как «теория
атомизма возникла... на основании наблюдений и некоторых аналогий»,
таких как наблюдения над «способностью некоторых твердых тел
сжиматься» (с. 140).
На наш взгляд, эти суждения В. Ф. Асмуса могут быть оспорены,
ведь у Зенона речь идет о мыслимости движения в непротиворечивых
понятиях, а не о том, изначально движение или нет. Вместе с тем мы
солидарны с В. Ф. Асмусом в том, что научная гипотеза Демокрита
позволила объяснить возникновение и гибель вещей (а также
бесчисленных миров) соединением и распадением бесконечного множества
атомов, движущихся в различных направлениях и различающихся между
собой по форме, порядку и положению в пространстве (см. с. 140-142).
В советских академических изданиях и учебных пособиях
принято было считать Демокрита «атеистом»: «Демокрит решительно
восставал против всякой веры в бога... Атеизм Демокрита приводил
в бешенство идеалиста Платона... В высказываниях Демокрита звучит
презрение и ирония по адресу ученых, молящихся богам»1. Во второй
1 История философии. Т. 1. Мм 1940. С. 116.
В. Ф. Асмус как историк античной философии
239
половине 1950-х гг. наряду с утверждением об атеизме Демокрита
была предпринята попытка установления связи между теорией
познания Демокрита и его представлениями об обществе, а также
признанием абдеритом существования бога (богов), хотя и не
обладающего бессмертием.
Трактовка В. Ф. Асмусом воззрений Демокрита о богах исключает
совместимость «атеизма» последнего с признанием им
существования бога (богов). «В учении Демокрита о богах, — пишет Асмус, -
сочетаются критика традиционной религии, рационализм с
пережитками религиозных и магических представлений» (с. 165).
Некоторые антиковеды считают, что древним грекам была
неведома идея развития, как, впрочем, и «чувство истории», говоря
словами А. Ф. Лосева. Между тем, согласно В. Ф. Асмусу, Демокрит
одним из первых высказал идею развития материальной и умственной
жизни, причем движущей силой этого развития он объявил нужду
и осознание пользы нововведений в жизни общества.
В этике Демокрит придерживался интеллектуалистической
позиции. Или, как пишет В. Ф. Асмус, «всё дурное, ошибочное в
действиях человека Демокрит склонен объяснять недостатками знания:
"Причина ошибки, - говорит он, - незнание лучшего"» (с. 173).
И далее: « Интеллектуалистическая этика Демокрита созерцательна...
По Демокриту, наибольшего уважения заслуживает невозмутимая
мудрость. Невозмутимость для Демокрита — синоним "эвтюмии",
"хорошего расположения духа", в котором он видел "цель жизни"»
(там же).
Решая в соответствии со своей интеллектуальной этикой вопрос
о соотношении воспитания и природных задатков в формировании
личности, Демокрит отдавал приоритет воспитанию. Отсюда и его
высказывание: «Больше люди становятся хорошими от упражнения,
чем от природы» (с. 171).
Общая оценка учения Демокрита, данная В. Ф. Асмусом, сводится
к следующему: «...Хотя для Демокрита знание — средство устранения
того, что препятствует достижению "хорошего расположения духа"
("эвтюмии"), оно еще не есть рычаг преобразования мира.
Материализм Демокрита остается материализмом созерцательным» (с. 174).
Действительно, Демокрит не задумывался над преобразованием
мира, ограничиваясь лишь достижением «хорошего расположения
духа». Однако ему принадлежит открытие атомной гипотезы,
значение которой в истории науки и техники невозможно переоценить. Эта
240
Х.Х.Кессиди
гипотеза преобразовала мир в гораздо большей степени, чем многие
восстания и политические революции.
С Сократа, точнее с софистов и Сократа, начинается решительная
переориентация греческой философии с проблем космогонии и
космологии на проблемы антропологические, в том числе этические,
эстетические, социально-политические и т. п.
В. Ф. Асмус указывает на социально-политические предпосылки,
а именно на торжество демократических порядков, в условиях
которых появились так называемые софисты, платные учителя мудрости,
т. е. люди, обучавшие всех желающих, особенно молодежь,
различным областям знания, в том числе ораторскому искусству. Хотя
софисты различались между собой по политическим и философским
воззрениям, тем не менее их объединяло, как пишет В. Ф. Асмус,
«утверждение относительности всех человеческих понятий,
этических норм и оценок, оно выражено Протагором в его знаменитом
положении: "Человек есть мера всех вещей"» (с. 99). Иначе говоря,
сколько людей, столько истин. То же самое можно сказать
относительно добра и зла, прекрасного и безобразного. Но ежели все
суждения субъективны, т. е. нет никакой объективной истины,
справедливости, правовых и нравственных норм, то отсюда с неизбежностью
следует, что «всё позволено», говоря словами Ф. М. Достоевского.
Против релятивизма софистов и выступил Сократ.
Как известно, Сократ не оставил письменного наследия.
Источниками, из которых мы узнаем о его жизни и учении, являются
сочинения его учеников и друзей — Платона и Ксенофонта, его идейных
противников (комедиографа Аристофана), а также сообщения более
поздних авторов, главным образом Аристотеля. Так как каждый из
названных авторов (особенно Платон и Ксенофонт, с одной стороны,
а сатирик Аристофан — с другой) по-разному понимали и
трактовали учение Сократа, то возникла проблема установления того, чему
Сократ учил на самом деле. Из этого расхождения в свидетельствах
швейцарский исследователь О. Гигон и советский ученый И. Д. Ро-
жанский1 сделали вывод о неразрешимости «загадки» Сократа,
невозможности выяснения того, чему учил древний философ.
В отличие от Гигона и Рожанского, приравнивавших сообщения
Платона и Ксенофонта к «сведениям» сатирика Аристофана, В. Ф. Ас-
1 Gigon О. Socrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte. Bern, 1947;
Романский И. Д. Загадка Сократа // Прометей. Т. 9. М., 1972.
В. Ф. Асмус как историк античной философии
241
мус отмечает: «Философия Сократа — не загадка, к которой нельзя
подобрать ключи. В изображениях Ксенофонта и Платона может
быть обнаружено нечто согласное, общее обоим, что обрисовывает
Сократа как историческую личность, как мыслителя и диалектика»
(с. 106-107). «Изображение Аристофана ни в коем случае нельзя
рассматривать и использовать как свидетельство современника об
историческом, реальном Сократе... Выведенный Аристофаном в
"Облаках" Сократ - это великолепный комедийный персонаж... Сократ
лжет, измышляет, как лгут и измышляют софисты, и, как они,
болтает и грезит о явлениях природы» (с. 107). Словом, Аристофан
«изобразил Сократа в виде шарлатана-натурфилософа» (с. 175). И если
речь идет о сообщениях, которые ведут к историческому Сократу, то
это — «ранние диалоги Платона» (с. 108).
Релятивизм софистов побудил (инициировал, как ныне стало
модно говорить) Сократа заняться определением понятий, таких,
например, как «мужество», «справедливость», «благоразумие»,
«прекрасное» и т. д. Определение понятия есть установление его сущности. Так,
определение мужества есть нахождение общего (и объективного) для
всех его частных проявлений, обнаружений. Или, как пишет В. Ф.
Асмус: «Сократовская диалектика есть усмотрение общего в
различающемся, единого во многом, рода в видах, сущности в ее проявлениях»
(с. 111). Если, стало быть, в различных проявлениях мужества имеется
нечто тождественное, единое и объективно значимое, то отсюда
следует, что «мужество» (как понятие) вовсе не означает, как полагают
софисты, условный знак, под которым можно подразумевать что угодно,
в том числе трусость, предательство, измену и т. п.
Хотя одна из заслуг Сократа, замечает В. Ф. Асмус, состояла в том,
что он «дал толчок к развитию в философии учения об общем понятии»
(с. 120), тем не менее «его интерес был сосредоточен не на области
общей теории диалектики, а в области этики. Диалектика Сократа есть
только пропедевтика его этических исследований» (там же). Автор
«Античной философии» считает также, что «мысль Сократа о
решающем значении определения понятия для этического поведения
человека выражена в диалоге Платона "Протагор"» (с. 122-123).
В этом диалоге рассматривается вопрос о том, есть ли в знании
сила, способная руководить людьми. Большинство людей считают,
что страсть, удовольствие, скорбь, любовь, а чаще страх руководят
людьми, а не знание. Сократ же отстаивает тезис, согласно
которому никто не делает зла по своеволию, а лишь по неведению. Это
242
Х.Х.Кессиди
значит, что «всё есть знание: и справедливость, и рассудительность,
и мужество» (с. 123-124). Указывая на этический рационализм
Сократа, В. Ф. Асмус заключает: «Основная черта этики Сократа, тесно
связанная с его взглядом на роль понятий, состоит в отождествлении
нравственной доблести со знанием» (с. 128).
В переориентации философской мысли с космологических
проблем на этические, в определении общих понятий (к которым до
Сократа лишь «слегка подошел» Демокрит), в предвосхищении того,
что впоследствии «Платон и Аристотель описали как двойной путь
диалектического процесса — расчленение единого на многое и
соединение многого в единое» (с. 122), Асмус усматривает главную заслугу
Сократа в истории философской мысли.
От поиска Сократом определения понятий — один шаг до
основателя философии понятий, т. е. Платона, согласно которому
«"сущность" вещи коренится в понятийном всеобщем» (с. 124). Ссылаясь
на высказывания Аристотеля, профессор Асмус отмечает, что Платон
приписал «общему и определениям обособленное от чувственных
вещей существование» (с. 125). Тем самым Платон придал понятиям
(«идеям») самостоятельное бытие, существование. Ясно, что
идеализм Платона — закономерный результат развития философской
мысли в условиях афинской демократии, которая в период жизни
и деятельности Платона переживала острый кризис.
Платон — одна из самых великих фигур на небосклоне
мирового созвездия мыслителей. Он был и остался одинаково влиятелен
и в своей правоте, и в своих заблуждениях. В. Ф. Асмус посвятил
Платону отдельное исследование, названное «Платон» (М., 1969).
В рассматриваемой работе В. Ф. Асмус отводит Платону большую
главу. И не только Платону, но и Аристотелю. Оба правомерно
занимают центральное положение в книге «Античная философия». Им
отведено более трети этого труда. Но вот незадача: Платон и
Аристотель - идеалисты, идеологические противники материализма, а тем
самым (в историко-философском отношении) — недруги марксизма-
ленинизма, пусть и отдаленные по времени.
Хотя Платон и Аристотель — «творцы реакционных доктрин
идеализма» (с. 176), тем не менее их творчество выходит далеко за
рамки как их идеализма, так и самой Античности. Или, как пишет
В. Ф. Асмус, «огромная одаренность, всесторонний охват изучаемых
предметов, глубина разработки делают учения Платона и Аристотеля
источником влияния, далеко выходящего за рамки общества, в ко-
В. Ф. Асмус как историк античной философии
243
тором оба они жили и действовали. Этим объясняется значительное
внимание, которое уделено обоим в настоящей книге» (там же).
Даже непоколебимо правоверного приверженца философского
материализма не может не поражать глубина мысли Платона — этого
философа понятий, виртуоза их диалектики, достигшего высот
отвлеченного мышления, которые и поныне остаются непревзойденными.
Платон — философ и писатель, идеалист и несравненный стилист.
Он же — моралист и мечтатель, родоначальник всех последующих
социальных утопий. Отсюда и привлекательность древнего
философа, который всегда остается современным для всех мыслящих людей,
особенно для столь разностороннего философа и ученого, а также
крупного логика В. Ф. Асмуса.
Платон выдвинул и отстаивал тезис, согласно которому
умопостигаемый мир «идей» («видов», «образцов») более реален,
подлинно истинен, чем мир чувственно-воспринимаемых вещей. С
платоновским тезисом не обязательно соглашаться, но бесспорен тот факт,
что никто на свете не ощущал, не видел общее и существенное в
вещах, т. е. то единое, что их объединяет. Например, никто чувственно
не воспринимает (но постигает умом, мыслью) то общее, что
делает все многообразие треугольников «треугольником вообще»,
понятием «треугольник», парадигмой («идеей») треугольника. Общее
(существенное) в вещах не менее (если не более) присуще миру, чем
чувственно воспринимаемые вещи. Стало быть, идеализм (в смысле
признания приоритета умопостигаемого аспекта действительности)
столь же правомерен, как и материализм. Сказанное вытекает из
трактовки В. Ф. Асмусом учения великого Платона.
Не касаясь биографических сведений о Платоне, периодизации
его сочинений и т. п., которые даны в рассматриваемой книге,
отметим следующее: один из главных пунктов, на котором
сосредоточивает свое внимание Асмус, — это положение о том, что в учении Платона
мир идей и мир вещей составляют единство. Иначе говоря, В. Ф.
Асмус оспаривает распространенное среди значительной части
историков философии представление о дуализме Платона, оторванности
мира идей от мира вещей. Это положение отстаивается В. Ф. Асмусом
и в названной монографии («Платон»), и в рассматриваемой главе
«Античной философии», посвященной Платону.
Вводя читателя в сложную, но вместе с тем оригинальную
теоретическую лабораторию Платона, В. Ф. Асмус отмечает прежде всего,
что «идея» (eiôoç), «вид», «образец» (например, идея прекрасного)
244
Х.Х.Кессиди
есть «сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом;
иными словами, прекрасное — сверхчувственная причина и
образец всех вещей, называемых прекрасными в чувственном мире,
безусловный источник их реальности в той мере, в какой она для
них возможна» (с. 187). Сказанное означает, что «идеи»
Платона - не абстракции, не формы человеческого сознания, а
объективные сущности, созерцаемые человеческим умом (душой). «Идеи»
как царство подлинного бытия первичны по отношению к миру
чувственно-воспринимаемых вещей.
Несмотря на глубокое отличие «идеи», особенно «идеи» блага
(бога), от обнимаемых ими чувственных вещей, это обстоятельство
не означает «дуализма обоих миров» (с. 192). Дело в том, что мир
чувственных вещей не отсечен от мира «идей»: первый «причастен»
второму. Мир «идей», по Платону, противостоит миру «небытия»,
т. е. «материи», в рамках единства противоположностей, в котором
мир «идей» составляет первичное и активное начало по отношению
к сфере «материи» как начала пассивного. Чувственный мир вещей
занимает «среднее» положение между сферами «идей» и «материи»,
т. е. каждая чувственная вещь «причастна» и к той, и к другой
сфере. Вследствие этой «причастности» каждая вещь, с одной стороны,
представляет собой пусть несовершенное и искаженное, но всё же
отображение идеи или ее подобия, а с другой - она имеет
отношение к «материи» как необходимому условию пространственного
обособления множества вещей и беспредельной делимости; «материя»
является также «кормилицей» и «восприемницей» всякого
возникновения и становления (см. с. 192-193).
Заключая, Асмус пишет: «Мир чувственных вещей... есть
область становления, генезиса, бывания. Мир этот сопричастен бытию
и небытию, совмещает в себе противоположные определения
сущего и не-сущего» (с. 194). Предметы чувственного мира совмещают
противоположные качества не случайно, а необходимым образом.
Однако следует иметь в виду, что, по Платону, противоположности
могут существовать и совмещаться «только для мнения, только для
низшей части души, направленной на познание чувственных
предметов. Напротив, для разумной части души, направленной на познание
истинно-сущих "видов", или "идей", верховным законом будет закон,
запрещающий мыслить совмещение противоположных утверждений
об одном и том же предмете» (с. 218-219). Тем не менее
противоречия в мыслях, возникающие при известных условиях, — по Платону,
В. Ф. Асмус как историк античной философии
245
ценный стимул для познания и исследования. Иначе говоря,
«платоновское понимание противоречия отнюдь не есть "логика
противоречия"... Противоречие, по Платону, - чисто отрицательное условие
познавательной деятельности. Оно не столько раскрывает
содержание усматриваемой истины, сколько есть "сигнал о бедствии",
заставляющий мысль отвратиться от мнимого знания и обратиться к
знанию истинному» (с. 220).
Нетрудно заметить, что в разгоревшихся в 1960-х и 1970-х гг.
в советских философских кругах жарких спорах о соотношении так
называемой диалектической логики и формальной логики позиция
В. Ф. Асмуса сводилась к защите последней. Допустимость
противоречия в суждениях, предлагаемых «диалектической логикой», говоря
в духе Платона (и Асмуса), является «сигналом бедствия»,
признаком, указывающим «не на обладание истиной, а, напротив, на
пребывание в сфере мнения, заблуждения, неистинного» (там же). Итак,
совмещение противоположностей в истинно сущем не означает, по
Платону, допустимости противоречия в суждениях о нем.
В. Ф. Асмус показывает, что то, что порой называется
иррационализмом или мистикой (допущение противоречия в мышлении)
Платона, не является таковым на деле. То же можно сказать
относительно так называемого дуализма древнего философа. Для Платона мир
(истинно сущее и сам чувственный мир, объемлемый «душой мира»)
представляет диалектическое единство противоположностей сущего
и несущего, бытия и небытия, тождественного и нетождественного
(иного), неизменного и изменчивого, неподвижного и движущегося,
единого и многого. По Платону, истинно сущая природа
«совмещает в себе единство и двойственность: она есть и неизменное,
тождественное себе бытие, и одновременно отличное от него подобие этого
бытия в изменчивом, нетождественном мире вещей. Как
отличающаяся от бытия "кормилица происхождения" она есть небытие, но как
присущая бытию есть сущее небытие. Тождественное себе бытие -
"идея", начало идеальное, "иное", или вечно сущее пространство, —
начало телесное» (с. 227-228).
В рассматриваемой главе особый интерес представляют
страницы, на которых отмечается, что в диалогах «Парменид», «Софист»
и «Филеб» Платон подверг суровой критике выработанное им самим
учение об идеях (см. с. 228). Тем самым Платон предвосхитил
знаменитые возражения, которые его ученик Аристотель высказал
впоследствии против платоновской теории идей (эйдосов).
246
Х.Х.Кессиди
Историков философии всегда озадачивал тот факт, что
Аристотель ни в одном из своих сочинений не указывает на критику
Платоном его собственной теории идей, в частности умалчивает о доводе
«третьего человека», который содержится в диалогах «Парменид»,
а также «Государство» и «Тимей». Между тем этому доводу
Аристотель придавал особое значение. Поскольку он не указывал на
соавторство Платона, получается, что Аристотель «совершил плагиат».
«Но такое заключение, - продолжает В. Ф. Асмус, — противоречит
нравственному облику Аристотеля» (с. 232). Он полагал, что
умолчание Аристотеля о платоновской самокритике объясняется
«небрежностью, встречающейся порой у самого Аристотеля» (с. 233).
Согласно В. Ф. Асмусу, Аристотель вовсе не оспаривал
выдающегося открытия, сделанного Сократом и Платоном, а именно
идеального как сферы действительности, не менее (а по Платону, более)
реальной, чем чувственно воспринимаемые вещи. Но Аристотель
решительно отказывался признавать тезис Платона и его сторонников
об объективном существовании мира «идей». Если «идеи»,
утверждал Стагирит, выражают сущность вещей, их смысл и назначение,
то невозможно, «чтобы врозь находились сущность и то, сущностью
чего она является» (Мет., XIII, 5,1079 Ь).
Для Аристотеля, по В. Ф. Асмусу, непосредственная сущность
чувственных вещей заключается в них самих, т. е. в каждой из них.
Автор считает, что «на пороге теоретической философии
Аристотеля мы встречаем введенное им понятие субстанции... Субстанцией
в смысле Аристотеля может быть только единичное бытие» (с. 273).
Так как выдвинутое положение было (и остается) предметом
расхождений среди антиковедов1, В. Ф. Асмус разъясняет (впрочем, на
свойственном немецкому менталитету весьма отвлеченном уровне):
«Для понимания дальнейшего аристотелевского развития учения
о единичном, или субстанциальном, бытии необходимо помнить,
1 Оспаривая положение В. Ф. Асмуса об однозначном понимании
Аристотелем субстанций (сущностей) как единичных предметов, явлений,
процессов, А. Н. Чанышев в своей книге «Аристотель» (М., 1987, с. 55 и след.)
утверждает, что «такое понимание учения Аристотеля о сущности отражает
лишь одну, и не главную, сторону дела. Склоняясь к отождествлению
сущности с единичным, отдельным предметом, Аристотель на этой позиции не
удерживается. Подобные сущности не отвечают такому критерию, как
определимость, они не понятийны, а тем самым не познаваемы разумом».
В. Ф. Асмус как историк античной философии
247
что, ведя свой анализ независимого объективного бытия, Аристотель
неуклонно имеет в виду это бытие как предмет познания,
протекающего в понятиях. Другими словами, он полагает, что существующее
само по себе и потому совсем независимое от сознания человека
бытие уже стало предметом познания, уже породило понятие о бытии
и есть в этом смысле уже бытие как предмет понятия. Если не учесть
это, то учение Аристотеля о бытии может показаться более
идеалистическим, чем оно есть на деле» (там же).
Говоря об отличии идеализма Аристотеля от идеализма его
учителя, В. Ф. Асмус пишет: «Объективный идеализм Аристотеля имеет
более рационалистический характер. Высшее бестелесное бытие
Платона - "идея" блага, представляющая идеализм Платона в этическом
свете; высшее бестелесное бытие Аристотеля - "ум". Бог
Аристотеля — как бы идеальный величайший и совершеннейший философ,
созерцающий свое познание и мышление, чистый теоретик» (с. 288).
Для объяснения столь необычайного уровня развития
философского мышления, какое наблюдается у Аристотеля (да и у его
предшественников), В. Ф. Асмус в то время вынужден был
прибегнуть к избитому стереотипу — ссылке на рабовладельческое
общество. Но он более близок к истине, когда, причем неоднократно,
ссылается на одаренность греков как на источник их невероятных для
того (и не только того) времени достижений в сфере теоретической
мысли, искусства и науки. В отличие от, если можно так выразиться,
«заземленных» римлян древние греки выглядели витающими в
облаках идеалистами. Римляне — «натуралисты»: они любили цирк,
где происходили настоящие бои (и даже сражения) людей и зверей
(не говоря уже о поединке гладиаторов) и где проливалась настоящая
кровь. Греки - «виртуалисты», говоря в современных терминах: они
предпочитали театр, на сцене которого совершались «виртуальные»
(воображаемые) драмы, трагедии и комедии.
Аристотель — сын своего народа, среди которого зародилась
и расцвела специфическая область знания, получившая у него
название «философия». Для греков знание являлось ценностью само
по себе, т. е. безотносительно к какой-либо пользе. Надо полагать,
что не случайно «Метафизика» Аристотеля начинается со слов: «Все
люди от природы стремятся к знанию».
Если исключить из «Античной философии» эпизодические
ссылки автора на пресловутое «рабовладельческое общество», этот
универсальный «ключ» ко всем «тайнам» Античности, то нетрудно
248
Х.Х.Кессиди
заметить стремление автора к адекватной и основательной трактовке
древнегреческой философии, особенно учения Аристотеля.
Складывается впечатление, что В. Ф. Асмусу наиболее близок по духу Стаги-
рит, отличавшийся трезво-научным складом мышления, энциклопе-
дичностью знаний и обстоятельностью, не говоря уже о его роли как
родоначальника науки логики, т. е. области знания, в которой
Валентин Фердинандович был (и остался) выдающимся специалистом.
Как известно, Аристотель в вопросе о рабстве не вышел за рамки
предрассудков своей эпохи: он считал, что «варвары» (во всяком
случае, большинство из них), т. е. не эллины, «по природе» (генетически,
как принято ныне говорить) рабы, а эллины, за некоторым
исключением, «по природе» свободны. Впрочем, необходимость рабства
с хозяйственной точки зрения Аристотель оправдывал также
отсутствием соответствующих технических устройств (автоматов),
которые заменили бы труд рабов. В этой связи В. Ф. Асмус, пересказывая
мысль (мечту) Стагирита, пишет: «Если бы каждый инструмент мог
выполнить свойственную ему работу сам или по данному ему
приказанию, либо даже его предвосхищая, если бы, например, ткацкие
челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, то тогда
архитекторы не нуждались бы в "рабочих", а господам не были бы нужны
рабы» (с. 380).
В своем «идеальном» государстве Платон отвергал право на
частную собственность как для правителей, так и для стражей,
охранителей государства от внешних и внутренних врагов. Согласно
Платону, частная собственность (особенно для названных важнейших
сословий в государстве) служит источником непомерного усиления
эгоизма людей и вызывает расслоение общества на богатых и
бедных, а также другие социальные неурядицы и беды. Аристотель, как
известно, придерживался иного взгляда на проблему собственности.
«Вразрез с Платоном, который оспаривал право на личное владение
для стражей-воинов и даже выдвинул проект общности для них жен
и детей, Аристотель выступает как сторонник индивидуальной
частной собственности», — читаем мы у автора «Античной философии»
(с. 383). И далее: «Обычно спокойный и уравновешенный, он
(Аристотель. — Ф. К.), говоря о собственности, поднимается до настоящего
воодушевления. "Трудно выразить словами, — говорит он, — сколько
наслаждения в сознании, что нечто тебе принадлежит"» (там же).
По Аристотелю, эгоизм как любовь к себе — явление нормальное,
внедренное в нас самой природой. Ненормальна чрезмерная любовь
В. Ф. Асмус как историк античной философии
249
к себе. Сообразно с этим Стагирит говорил о необходимости
совмещения общей и частной собственности, но с приоритетом последней.
«Собственность должна быть общей только в относительном смысле,
а в абсолютном же она должна быть частной» (Политика, II, 2,1263
а 26-27). Комментируя это высказывание Аристотеля, В. Ф. Асмус
замечает: «Аристотель восхваляет результаты такого разделения:
когда пользование собственностью будет поделено между
отдельными лицами, утверждает он, исчезнут среди них взаимные нарекания,
и наоборот, получится большой выигрыш, "так как каждый будет
с усердием относиться к тому, что ему принадлежит"» (с. 384).
В отношении частной собственности и государства у Аристотеля
встречаются высказывания, которые вызывали прямые аналогии с
небрежным, беззаботным и беспечным («бесхозным», говоря в
терминах советских времен) отношением к «общественной»
(государственной) собственности. Согласно Аристотелю, «люди заботятся всего
более о том, что принадлежит лично им: менее заботятся они о том,
что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается
каждого» (Политика, И, 1,1261 b 35). Подвергая критике идеи
Платона о необходимости создания чрезмерного единства в государстве,
в частности обеспечения единомыслия граждан, Аристотель
приходит к выводу о том, что «следует требовать относительного, а не
абсолютного единства... государства. Если это единство зайдет слишком
далеко, то и само государство будет уничтожено; если даже этого не
случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет
государством худшим, все равно как если бы кто симфонию заменил
унисоном или ритм — одним тактом» (там же, 1263 b 30-35).
(Невольно хочется назвать Аристотеля пророком, предвидевшим распад
государственного (тоталитарного) строя, в котором «единство зашло
слишком далеко» и в котором, образно говоря, симфония заменилась
унисоном, а ритм — одним тактом.)
Вернемся к злободневной проблеме «среднего элемента» у
Аристотеля, ограничившись его некоторыми высказываниями и
трактовкой их Асмусом. «Термин "средний" означает в устах Аристотеля
только средний размер имущественного состояния... Именно среднее
состояние, и только оно, может благоприятствовать цели
государства... состоящей в счастливой и прекрасной жизни и деятельности
(см. Политика, III, 5, 1280 b 39 - 1281 b 2). Ни самые богатые из
свободных, ни самые бедные не способны вести государство к этой
цели» (с. 395).
250
Х.Х.Кессиди
Аристотель не додумался до такого понятия, как
«экспроприация экспроприаторов», тем не менее он позаботился о том, чтобы его
правильно поняли и люди не затевали такие акции, как
распределение имущества богатых среди бедных. «И это "среднее" состояние, —
продолжает Асмус комментировать Аристотеля, — ни в коем случае
не может быть достигнуто путем экспроприации богатых бедными
и посредством разделения имущества богачей. "Разве справедливо
будет, — спрашивает Аристотель, - если бедные, опираясь на то, что их
большинство, начнут делить между собой состояние богатых?.. Что же
в таком случае подойдет под понятие крайней несправедливости?"»
(там же, III, 6,1281 b 14-26). (Живи Аристотель в первые годы
большевистской власти, вряд ли бы он одобрил практику комбедов,
которые как раз и были заняты экспроприацией деревенских «богачей»,
кулаков и так называемых зажиточных посредством разделения
имущества последних среди бедных, подчас лентяев и бездельников.)
Разумеется, не одно и то же «средний элемент» в Древней Греции
и «третье сословие» в Западной Европе Нового времени или
«средний класс» в современных странах с рыночной экономикой. Тем не
менее трудно оспорить наличие точек соприкосновения (стыковки,
как ныне принято говорить) между ними. В самом деле, «средний
элемент» (сословие, класс) обеспечивает стабильность в государстве,
на чем и акцентирует внимание Аристотель. Да и сам В. Ф. Асмус
одобрительно ссылается на суждения Стагирита: «Аристотель находит,
что государство, состоящее из "средних" людей, будет иметь и
наилучший государственный строй, а составляющие его граждане будут
в наибольшей безопасности. Они не стремятся к чужому добру, как
бедняки, а другие люди не посягают на то, что этим "средним"
принадлежит» (с. 396).
Как известно, Аристотель наилучшим политическим строем
считал политию именно потому, что при этом строе «власть
находится в руках "среднего элемента" общества» (с. 397). По Аристотелю,
власть нельзя доверять ни чрезмерно богатым, ни крайне бедным:
«Люди первой категории чаще всего становятся наглецами и
крупными мерзавцами; люди второй категории — подлецами и мелкими
мерзавцами... В результате вместо государства из свободных людей
получается государство, состоящее из господ и рабов, или
государство, где одни полны зависти, другие — презрения» (с. 398).
Проблема среднего имущественного класса приобрела
исключительную актуальность в наши дни, особенно в России и других стра-
В. Ф. Асмус как историк античной философии
251
нах СНГ. Средний класс, обеспечивая стабильность (относительную
гармонию) в обществе, является главным условием строительства
гражданского общества, т. е. сферы самопроявления свободы
граждан по созданию ассоциаций и организаций (экономических,
культурных, национальных, религиозных и т. п.), которые независимы
от государства, но взаимодействуют с ним.
*#*
«Античная философия» В. Ф. Асмуса является одной из лучших
работ по древней философии, написанных за весь период
существования Советского Союза. Отличительные ее особенности — это
ориентация автора на объективную, непредвзятую трактовку философских
учений, стремление максимально опереться на первоисточники, на
высказывания и суждения самих древних авторов. Капитальный труд
В. Ф. Асмуса, за исключением некоторых второстепенных моментов,
не утратил своей ценности и в наши дни. В суровых условиях
тоталитарного режима Валентин Фердинандович Асмус оставался верен
науке, ее строгости и достоинству.
В. П. Шестаков
БЕСЕДЫ С А. Ф.ЛОСЕВЫМ
Алексей Федорович Лосев (1893-1988), несомненно, является одним
из выдающихся мыслителей XX в., который по масштабам своего
творчества и глубине мысли может сравниться с такими русскими
философами, как Николай Бердяев и Сергей Булгаков. Мне
посчастливилось встречаться с ним, работать и в течение многих лет
дружить. Об этих встречах хотелось бы рассказать.
Впервые я встретился с ним в 1956 г., когда я еще был
студентом. О Лосеве я узнал из рецензии академика А. И. Белецкого на его
работу «Олимпийская мифология в ее социально-политическом
развитии», опубликованной в газете «Советская культура». Рецензия
была не только положительная, но и восторженная, занимала весь
газетный подвал. Я достал ежегодник Педагогического института, где
была опубликована работа Лосева, и залпом прочел ее. Было видно,
что это была оригинальная работа, в основе которой была интересная
концептуальная модель. Лосев доказывал, что древнегреческая
мифология была в основе своей родовой общиной, опрокинутой на
природу и космос. Несмотря на то, что в этой концепции было многое от
Дюркгейма, она казалась свежей и методологически обоснованной,
непохожей на эмпирические описания классических филологов.
В то время я готовился к написанию своей дипломной работы
«Об отношении Маркса к античности» и меня интересовала роль
античного мифа в античной культуре. Поэтому я отважился на то,
чтобы встретиться с Алексеем Федоровичем без всяких рекомендаций
и звонков. Да и кто мог помочь мне, молодому студенту? В результате
я пошел в Пединститут, где в коридоре встретил высокого старика
в черной академической шапочке на голове, с орлиным носом — это
и был Лосев. Поначалу он встретил меня настороженно и
неприветливо, но, узнав, что я студент В. Ф. Асмуса, он несколько оттаял.
В конце концов, он пригласил меня к себе домой в арбатскую
квартиру, прямо напротив Вахтанговского театра. С тех пор мои посещения
этого дома стали более или менее регулярными. Позднее я переехал
на Афанасьевский переулок на Арбате и стал соседом Алексея
Федоровича, мне требовалось менее пяти минут ходьбы до его квартиры.
Поэтому мои посещения Алексея Федоровича стали регулярными,
и это позволило мне узнать многое о его философских взглядах.
Беседы с А. Ф. Лосевым
253
При моих посещениях арбатской квартиры Лосев рассказывал
мне о своей жизни. Он родился 23 сентября 1893 г. в большом
казацком селе на Кубани. Его отец был учителем гимназии, но увлекался
музыкой, играл на скрипке и руководил казачьим хором. Очевидно,
отец привил сыну любовь к музыке. Молодой Лосев тоже хотел стать
музыкантом, как и отец, он занимался игрой на скрипке. Но отец рано
ушел из семьи, и воспитание сына взяла на себя мать. Она переехала
в Новочеркасск, где сдавала дом в наем. Окончив гимназию в
Новочеркасске, Алексей в 1911 г. приехал в Москву, где поселился в
общежитии на Красной Пресне. За 16 рублей он снимал отдельную
комнату, хотя столовая была общей с другими квартирантами. Он поступил
в Московский университет сразу на два отделения — философское,
где занимался под руководством профессора Челпанова, и
классическое, где изучал античную литературу. Впоследствии владение двумя
сферами научного знания позволяло Лосеву быть «амфибией»,
выживать в разных условиях существования. В Москве Лосев
продолжал занятия музыкой, но ухудшающееся зрение не позволило ему
заниматься скрипкой. В конце концов, он всё свое время посвятил
философии и филологии. В 1915 г. он окончил университет, защитив
диплом на тему «Мировоззрение Эсхила».
Еще будучи студентом первого курса, Лосев стал посещать
заседания Религиозно-философского общества Владимира Соловьева,
получив разрешение на эти посещения от своего профессора Челпанова,
правда, только на правах слушателя, без права выступлений. В этих
заседаниях принимали участие Н. Бердяев, С. Булгаков, Ф. Степун,
В. Иванов, И. Ильин, С. Франк. «Многих я знал, — говорил мне
Лосев, — но потом порвал с ними. Даже держать их произведения в
библиотеке было опасно».
В 1916 г. была опубликована первая работа Лосева, «Эрос у
Платона», в сборнике, посвященном его учителю Г. И. Челпанрву. Это
была классическая тема для русского философского идеализма.
Наряду с этим Лосев занимается изучением русской философской традиции.
Результатом явилась статья «Русская философия», которая появилась
на немецком языке в швейцарском журнале Rusland в 1919 г. К этой
теме Лосев возвращается в начале 1940 г., когда он пишет статью
«Основные особенности русской философии», а затем в своих поздних
работах, посвященных Владимиру Соловьеву: «Вл. Соловьев» (1983),
«Владимир Соловьев и его время» (1990). Обширные высказывания
о русских мыслителях начала XX в. содержатся в послесловии Лосева
254
В. П. Шестаков
к книге А. Хюбшера «Мыслители нашего времени» (1962),
апокалипсическое название которой — «Гибель буржуазной культуры и ее
философии» - продиктовано атмосферой идеологической борьбы
того времени. Эта статья поразила своим нигилистическим пафосом
В. Ф. Асмуса, о чем пишет в своих воспоминаниях В. В. Соколов.
Алексей Федорович в своих рассказах о русских мыслителях
давал их живописные портреты, порой сохраняя интонации и обороты
речи описываемых им персонажей. Особенно часто он рассказывал
о Федоре Степуне: «Он был одновременно и аристократом, и
актером. Полурусский, полунемец, он казался мне красавцем и был
действительно прекрасно образован и замечательно говорил. Я не знаю
никого, кто бы умел так замечательно говорить. Это был один из
немногочисленных мыслителей-ораторов». Степун восхищал Лосева не
только умением ораторствовать, но и способностью талантливо
мыслить и писать. Он высоко отзывался о книге Степуна о сути трагизма,
о его глубоком знании немецкого романтизма.
Большой интерес у Лосева в молодости вызывали личность
и книги Василия Розанова. Правда, его отношение к писателю было
двойственным: с одной стороны, его восхищали писательский
талант Розанова, афористичность его мышления, а с другой он не мог
принять его нигилизм и цинизм. Лосев нарисовал мне следующий
портрет Розанова: «Я знаю только трех европейских мыслителей,
которые могли так анархически размышлять. Это — Уайльд,
Ницше и Розанов. Причем, последний из них - самый талантливый. Это
был человек, который всё понимает, но ни во что не верит. Я помню
его книги — "Темный лик", "Люди лунного света". В них были такие
серьезные возражения против христианства, которые и не снились
ни одному нашему антирелигиознику. И вместе с тем он глубоко
писал о религии. Об античности Розанов говорил, что она пропитана
запахом мужского семени. В своих книгах он не стеснялся при всех
штаны снимать. Когда я спросил у Павла Флоренского, кого из
русских мыслителей он ценит более всего, он назвал Вячеслава Иванова
и Василия Розанова. Хочешь знать, что такое Розанов? Это красивая
медуза. В воде она сверкает всеми цветами радуги, а вытащишь на
берег — одна слизь».
Эти отношения любви и ненависти, приятия и неприятия
Лосев выразил и в послесловии к книге Хюбшера. «В те годы мало кто
понимал Василия Розанова, поскольку этот человек сам всё сделал
для того, чтобы никто не понял его собственной сущности. Василий
Беседы с А. Ф. Лосевым
255
Розанов был черносотенный политикан, верующий во все религии
и, собственно говоря, ни в одну из них. Мистик и атеист,
одновременно и неимоверный циник и часто порнограф. Этот человек
превращал все великие культуры прошлого только в ряд своих
изысканий и острейших ощущений, просто смакуя всё святое и несвятое как
вкусное блюдо... А главное, мировая литература, не исключая
Уайльда, не исключая даже Ницше, не исключая даже Достоевского, еще
никогда не рисовала и личного, и общественного бытия в таком
анархическом самоотрицании, в такой близости к мировой катастрофе,
как это выходило под пером Василия Розанова»1.
Изощренно критикуя Розанова, объявляя его черносотенцем
и порнографом, Лосев тем не менее испытывал симпатию к писателю.
Он не раз говорил, что хотел бы написать о нем книгу, но так и не
решился этого сделать.
Вспоминал Лосев часто и Павла Флоренского, которого он
высоко ценил и как философа, и как теолога. В первые годы после
революции 1905 г. он читал публичные лекции. «Тихим и едва слышным
голосом, с вечно опущенными вниз глазами, он вещал, что ничего
не должно оставаться на прежнем месте, что всё должно терять свое
оформление и свои закономерности, что всё существующее должно
быть доведено до окончательного распадения, распыления, что
покамест всё старое не превратится в чистый хаос и не будет истерто в
порошок, до той поры нельзя говорить о появлении новых и устойчивых
ценностей. Я сам слышал эти жуткие доклады, и теперь прекрасно
отдаю себе отчет в их полной исторической обоснованности»2.
Лосев высоко ценил труд Флоренского «Столп и утверждение
истины». В своей книге «Античный космос и современная наука» он
писал, что Флоренский вскрыл «мировую первосреду», лежащую в
основе греческой философии. На заседаниях Религиозно-философского
общества Лосев познакомился со знаменитым поэтом-символистом
Вячеславом Ивановым. Здесь в 1911 г. он слушал его доклад
«О границах искусства», который позднее вошел в книгу
«Борозды и межи». Позднее Лосев неоднократно обращался к этой работе
Иванова, сравнивал его идеи с «Рождением трагедии из духа
музыки» Фридриха Ницше. Он говорил, что Иванов перенес идеи Ницше
1 Лосев А. Ф. Предисловие // Хюбшер А. Мыслители нашего времени.
М., 1962. С. 316-318.
2 Там же. С. 317.
256
В. П. Шестаков
об «аполлинийском» и «дионисическом» начале из аттической
трагедии на общехудожественную область. Со своей стороны, Вячеслав
Иванов обратил внимание на молодого студента, занимающегося
классической филологией и философией. Он читал дипломную
работу молодого Лосева «Мировоззрение Эсхила» и дал ей
положительную оценку.
В конце концов, как рассказывал Лосев, он получил право на
выступление в Религиозно-философском обществе. Здесь он сделал
доклад о диалогах Платона «Парменид» и «Тимей». Таким
образом, он был не только пассивным свидетелем деятельности русской
религиозно-философской интеллигенции, но и активным
участником тогдашнего процесса религиозно-философского возрождения.
Огромное влияние на Лосева оказали работы Владимира
Соловьева, которого он считал самым крупным русским философом.
Разработанный Соловьевым принцип «всеединства» Лосев пытался сам
использовать в своих работах.
Главные и, на мой взгляд, наиболее значительные его работы
были написаны в 1920-х гг. Я особенно ценю три его книги: «Музыка
как предмет логики», «Диалектика художественной формы»,
«Очерки античного символизма и мифологии». Все они были изданы в
таинственном «Издательстве автора», которым на самом деле было
издательство «Учпедгиз». Этот секрет Алексей Федорович раскрыл мне
при наших беседах. Лосев в статье, написанной им самим для третьего
тома «Философской энциклопедии», характеризуя свои философские
позиции того времени, писал: «В 20-х гг. пытался сочетать элементы
неоплатонизма с диалектикой Гегеля и феноменологией Гуссерля.
В дальнейшем, в 30-40 гг. переходит на позиции марксизма».
Действительно, неоплатонический элемент занимает важное
место в работах А. Ф. Лосева. Он постоянно обращался к сложному
понятийному аппарату неоплатонической философии, и прежде
всего - к понятию «эйдос». Именно поэтому у него философское
познание органически проявляется в художественной форме,
гносеология перерастает в эстетику. Гегеля Лосев прекрасно знал и мог по
памяти цитировать его «Логику» или «Феноменологию духа». С
работами Гуссерля Лосев ознакомился, будучи студентом Московского
университета. В последующем интерес к феноменологии проявился в
исследованиях Лосевым философской и эстетической терминологии.
Что касается марксизма, то трудно сказать, относился ли он к нему
серьезно, либо использовал марксистские цитаты для адаптации к со-
Беседы с А. Ф. Лосевым
257
ветской действительности. Думаю, что Лосев пытался найти в
марксизме объяснение некоторых исторических и социальных процессов.
Порой, правда, марксизм Лосева нес окраску социологии Дюркгейма.
В этом Лосев шел иным путем, чем, скажем, Николай Бердяев.
Последний увлекался марксизмом на раннем этапе своего творчества,
но затем решительно от него отказался, хотя, по собственному
признанию, он никогда до конца не мог преодолеть его влияния. Лосев,
напротив, в молодости был совершенно далек от марксизма и
проявил к нему интерес только в зрелый период своего творчества.
Надо сказать, что время, когда я встретил Лосева, не было
самым легким периодом его жизни. После лет, проведенных в ГУЛАГе,
он был отлучен от философии. Ему позволялось заниматься только
античной мифологией и литературой. В 1943 г. его и П. С. Попова
для «укрепления» логики пригласили на философский факультет, но
через несколько месяцев Лосев был уволен. И, как я убедился,
философы, во всяком случае те, которых я знал, с Лосевым не общались
и публиковать его философские работы не стремились, очевидно,
побаиваясь остракизма, которому был подвержен идеалист Лосев.
У Лосева было два могущественных врага, с которыми ему было
трудно бороться. Во-первых, Максим Горький, который подверг
критике работы Лосева в своей статье «О земле». Во-вторых, Каганович,
который с трибуны XVI съезда партии, процитировав Лосева, долго
махал кулаками в сторону «недобитых идеалистов». Кампанию против
философа поддержал Деборин, написавший статью «Вольный стрелок
Лосев». После этого все издательства отказывались печатать работы
Лосева, и фактически до 1953 г. он был обречен на молчание.
Но после смерти Сталина и начала хрущевской оттепели
положение дел в стране стало постепенно меняться. Я уже говорил,
что впервые после высылки Лосев стал печатать статьи на
философские темы в «Философской энциклопедии». Я был инициатором
приглашения Лосева в редакцию, меня поддерживали А. Спиркин
и 3. Каменский. Всего в энциклопедии были опубликованы более
ста статей Лосева, которые затем сброшюровали и подарили ему.
Правда, Ф. В. Константинов страшно гневался, встречая имя Лосева
в энциклопедии, и устраивал нам в редакции истерические разносы.
Но все мы защищали Лосева как могли. О трудностях, с которыми
мы сталкивались, свидетельствует история со статьей Лосева
«Диалектическая логика», получившей по условиям конкурса первую
премию, но так и не опубликованной.
258
В. П. Шестаков
Поскольку это была центральная статья не только первого тома,
а всего издания, издательство решило объявить на нее конкурс.
Каждую статью присылали под девизом, и до самого конца, до вскрытия
конвертов, никто не знал имени авторов. Правда, по стилю и
содержанию мы знали, что под девизом «Логос» статью на конкурс прислал
Лосев. Впрочем, демократическая процедура не выдержала
столкновения с жизнью. По решению членов редколлегии, включая
Константинова, статья под девизом «Логос» получила первую премию.
Некоторые из них догадывались, кто скрывается под этим девизом.
Во всяком случае, В. Ф. Асмус, которого я привозил на машине из
Переделкина на заседание редколлегии, сказал мне, что знает, кто
автор статьи. При вскрытии конвертов выяснилось, что это А. Ф. Лосев.
Константинов пришел в бешенство. Центральная статья марксисткой
гносеологии написана идеалистом!!! В результате он ликвидировал
результаты конкурса и нарушил его главный принцип - публикацию
статьи, оказавшейся победительницей. Саму статью, заказав ее
другим авторам, в числе которых были Ильенков и Спиркин, перенесли
в другой том над названием «Логика диалектическая». Больше
Константинов никаких конкурсов проводить не разрешал.
Особенно удавались Лосеву статьи о сложных философских
категориях. К нему обращались за помощью тогда, когда никто уже не
мог написать обстоятельной статьи на эту тему. К тому же Лосев был
не только автором, но и консультантом. Он легко ориентировался
в море научной литературы, хорошо знал и использовал зарубежные
философские и филологические справочники. Этой способности
обязано быстрое написание десяти солидных томов по античной
эстетике. Правда, эстетику в этих работах Лосев отождествлял с
онтологией, и поэтому история античной эстетики была, собственно говоря,
историей античной философии.
Под руководством Асмуса я в 1957 г. успешно защитил
дипломную работу на тему «Маркс о характере художественного освоения в
античном обществе». Я стремился проследить эволюцию воззрений
на античность в европейской культуре — от И. И. Винкельмана до
современных концепций философии истории. В этой работе я ссылался
на работы А. Ф. Лосева 1930-х гг., что вызвало переполох на кафедре
истории европейской философии, руководимой Теодором Ильичом
Ойзерманом. Насколько я знаю, это была первая в советское время
попытка реабилитации Лосева. Но Асмус меня поддержал, и работу
я защитил успешно.
Беседы с А. Ф. Лосевым
259
Алексей Федорович тоже написал на восьми печатных страницах
положительный отзыв на мою дипломную работу, который я
сохранил до сих пор. В нем он писал: «У В. П. Шестакова уже намечается
умение оперировать с трудными философскими текстами и
критически относиться к философским понятиям. Так, его сознательное
отношение к фетишизму, начиная от первобытного и кончая товарным
фетишизмом нового времени, свидетельствует и о критицизме автора,
и даже об его талантливости в понимании трудных философских
понятий». Статья была подписана: А. Лосев, доктор филологических наук.
Действительно, находясь на философском факультете, Алексей
Федорович получил степень доктора, но не философии, а филологии. В
своем отзыве Лосев, очевидно, почувствовал мой интерес к философским
и эстетическим категориям, которыми сам он прекрасно владел.
Как издательский работник, я имел широкие связи с другими
издательствами, в которые я предлагал работы Алексея Федоровича. Одна
из них вышла в 1960 г. в издательстве «Музыка» — «Античная
музыкальная эстетика». Это была первая работа по античной эстетике. Затем
мой однокурсник Юра Бородай, поступивший в только открывшееся
издательство «Высшая школа», опубликовал книгу Лосева «Античная
эстетика». Вслед за тем издательство «Искусство» открыло серию книг
под таким названием. Алексей Федорович много и плодотворно
работал, получая компенсацию за вынужденное многолетнее молчание.
В конце концов между нами установилась дружеская связь. Аза
Алибековна приглашала меня с женой на воскресные обеды. Мы
делились книгами и информацией о философских событиях. Когда я
покупал квартиру в университетском кооперативе, Алексей Федорович
одолжил мне деньги на уплату взноса, чем чрезвычайно выручил меня.
Более того, Лосев в своем монументальном труде «История античной
эстетики» написал обо мне чрезвычайно высокие и явно
преувеличенные слова. Ссылаясь на газетную статью о моих спортивных подвигах,
которую ему принес редактор тома Юра Бородай, он написал: «Здесь
дан яркий образ гармонически развитой личности — советского
спортсмена, философа и эстетика, специалиста именно по античной
эстетике В. П. Шестакова. Желающие понять, как может воплотиться
античный идеал гармонии в современном человеке, прочитают этот очерк
с большим любопытством и пользой для себя»1. Так с помощью Лосева
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М.:
Высшая школа. 1963. С. 576.
260
В. П. Шестаков
я попал в царство гармонии, из которого жизненные невзгоды
неоднократно выбивали меня. Но я по-прежнему в духе античной paydeia
сочетаю занятия философией с занятиями спортом. Сделать меня
гармоническим человеком было философской фантазией Лосева.
В гораздо большей степени я горжусь дарственной надписью на этой
же книге: «Дорогому Вячеславу Павловичу на память о совместной
работе в области античной эстетики, от автора. Москва, 1.IV, 1964».
Эта работа привела нас к написанию совместной книги, насколько
я знаю, единственной в научной биографии Лосева.
В 1964 г. я заключил с издательством «Искусство» договор на
книгу о категориях эстетики. Мне не хотелось банально называть эту
книгу, и я предложил название, отвечающее моему замыслу, -
«История эстетики в категориях». Но заведующий редакцией эстетики
отверг это название как слишком сложное и непривычное. Пришлось
назвать ее банально — «История эстетических категорий». До сих
пор ругаю себя за то, что я его послушался.
Я уже написал большую часть книги, когда столкнулся со
сложностями в определении ряда категорий. Я поделился своими
проблемами с Алексеем Федоровичем и сказал, памятуя о его интересе
к категориям, что был бы рад, если бы он принял участие в этой
книге. К моей радости, он легко и быстро согласился. С этого момента
началась увлекательная работа над текстом. Мы работали так: я
приносил часть написанного текста и говорил о том, что вызывает
трудности. Алексей Федорович короткое время думал, а затем начинал
диктовать. В особенности ему удавались дефиниции категорий. Так
писалась эта книга. Она довольно быстро была издана и переведена
на несколько языков. Думаю, что из обильной эстетической
литературы, изданной в 1960-1980-х гг., которая чаще всего носила
идеологический характер, эта книга сохранила свое значение, так как она
раскрывала логику формирования эстетического знания и не имела
никакого отношения к идеологии.
Так постепенно и, как я полагаю, не без моей помощи, начался
выход А. Ф. Лосева из вынужденного подполья, в котором он
находился около четверти века под неусыпным контролем советских
идеологических цензоров. Несомненно, Лосев — одна из трагических
фигур русской философской мысли XX в. Он сформировался как
личность и как мыслитель в эпоху, которая, по выражению Николая
Бердяева, является «серебряным веком» в истории русской духовной
культуры. Он лично встречался и был знаком со многими предста-
Беседы с А. Ф. Лосевым
261
вителями этой культуры: Л. Лопатиным, Г. Челпановым, Н.
Бердяевым, Ф. Степуном, В. Ивановым, Г. Шпетом. Традиции философии
той эпохи Лосев пронес через длительный период господства в нашей
стране тоталитарной идеологии. Он не попал на «философский
пароход», на высылку русской интеллигенции, организованной Лениным
в 1922 г. К счастью, ему не хватило на нем места. Но он пережил все
тяжести сталинизма, включая заключение и высылку на
строительство Беломоро-Балтийского канала, а затем все трудности
военного времени. Немецкая бомба попала в его дом у арбатского метро,
и часть его библиотеки, которой он дорожил, сгорела. Паровой
каток сталинизма пытался раздавить всякую неортодоксальную мысль,
в сталинских лагерях погибли многие выдающиеся мыслители, такие
как Г. Шпет, А. Жураковский, П. Флоренский, Л. Карсавин.
Лосев, пройдя через сталинские лагеря, остался жив, но опыт
ГУЛАГа нанес ему тяжелую травму, отложил отпечаток на всю его
последующую жизнь. Об этом свидетельствует следующая история,
которой я был очевидцем. При наших встречах Лосев увлекательно
рассказывал о прошлом, о своих встречах с людьми, которые для меня
казались глубокой историей. Я много раз предлагал Алексею
Федоровичу записать свои воспоминания, но он постоянно отшучивался,
говорил, что пока он пишет свои книги, у него нет ни времени, ни
желания писать мемуары. Однажды я подарил ему «Диалоги»
Стравинского, записанные его секретарем. Эта книга очень понравилась
Лосеву, и он, наконец, принял решение записать свои воспоминания
с моей помощью. Я должен был выполнять роль секретаря. Чтобы
облегчить работу и сделать ее максимально достоверной и
документальной, я принес на следующую нашу встречу маленький
магнитофон и сказал, что теперь будем записывать наши диалоги на пленку.
Реакция была ужасной и абсолютно непредсказуемой. Алексей
Федорович непривычно для себя занервничал и закричал: «Убери это,
убери». Я не сразу понял, с чем связана эта реакция. Более того, даже
обиделся. Но потом сообразил, что это была естественная реакция
на прошлое. Очевидно, мое напоминание о звукозаписи напомнило
Лосеву о допросах, которым он подвергался во время заключения.
С тех пор Лосев звукозаписывающим аппаратам не доверял.
(Кстати, подобная история повторилась и с другими интервьюерами.)
Поскольку зрение у него было плохое, все его работы записывала жена
Аза Алибековна Тахо-Годи и переписывали секретари. В
результате из наших диалогов ничего не получилось. После этого, уберегая
262
В. П. Шестаков
Алексея Федоровича от неприятных воспоминаний, я не делал
попыток записать наши разговоры. Я знаю, что после меня у Лосева
появились и другие помощники, которые продолжили мою попытку
записать беседы с Лосевым, но они, на мой взгляд, оказались крайне
неудачными, не имеющими никакого отношения к философии.
Теперь я могу восстановить наши разговоры с ним только по памяти.
Чаще всего они касались воспоминаний о выдающихся русских
мыслителях эпохи «религиозного ренессанса».
Лосев был замечательной и цельной личностью с гениальной
памятью, огромной эрудицией, с живым интересом к науке,
искусству, музыке. В нем было что-то монументальное, скульптурное.
Не случайно он часто обращался к себе в третьем лице. Он говорил:
«Вячеслав, знаешь, что Лосев думает по этому поводу?» Он любил
иронизировать, и не только над другими, но и над самим собой.
Лосев был знаком с романтической иронией не только в теории, но
и на практике.
Я старался знакомить Лосева со своими друзьями и
знакомыми, приводил к нему в дом психолога В. В. Давыдова,
литературоведа П. А. Палиевского. Последний заказал Лосеву статью о символе
в редактируемый им журнал «Контекст», из которой в последующем
выросла целая книга. Лосев безумно любил музыку, в особенности
Рихарда Вагнера. В 1950-1960-х гг. в Москве было невозможно
найти записи вагнеровских опер. Неожиданной страстью воспылал
к Вагнеру Эвальд Ильенков, который собрал записи всего «Кольца
Нибелунгов». Он записывал их на тысячеметровых бобинах и давал
их переписывать другим, в том числе и мне. Тогда я познакомил
Лосева с Ильенковым и приводил его на квартиру Эвальда Васильевича
для вагнеровских слушаний. Квартира Ильенкова, что у почтамта на
улице Горького (ныне Тверская), превращалась в Байрет. Мы
слушали Вагнера за полночь. Помню, с каким восторгом Лосев слушал эту
музыку. Когда мы возвращались домой на Арбат пустынными
переулками Москвы, Лосев громко напевал основные лейтмотивы
Вагнера. Должен заметить, что Аза Алибековна в своих воспоминаниях
пишет, что Ильенков лично пригласил Лосева к себе в гости. Мягко
говоря, это либо ошибка, либо забывчивость пожилой женщины.
Эвальд Васильевич о Лосеве ничего не знал, с его работами не был
знаком, и без меня этот визит вряд ли бы состоялся.
Другой страстью Лосева было собирание книг. На книги уходили
все профессорские заработки. В результате Лосев собрал замечатель-
Беседы с А. ф. Лосевым
263
ную библиотеку в добавление к той, что осталась после бомбежек
во время войны. Лосев говорил: «Книги я люблю, я не всегда их
читаю, но знаю, на каком месте, на какой полке каждая из них стоит».
Он буквально заболевал, если обнаруживал, что книга исчезала с
отведенного ей места. В собирании книг он проявлял страсть и энергию
настоящего букиниста.
Говоря о своих любимых книгах, Лосев выделял три, которые
считал лучшими. Это «Петербургские ночи» В. Одоевского,
«Рождение трагедии из духа музыки» Ницше и «Закат Европы» О.
Шпенглера. Лосев часто цитировал в своих работах Ницше, широко
использовал его идею об «аполлоновском» и «дионисийском» началах
в искусстве.
Я знал Лосева и дружил с ним много лет. Очень жалею, что наша
дружба так неожиданно и печально кончилась. Но причины были
чисто идейные, мы разошлись с ним из-за оценки и интерпретации
эпохи Возрождения. Для издательства «Искусства», с которым я долго и
плодотворно сотрудничал, я подготовил антологию «Эстетика
Ренессанса» в двух томах. Правда, я планировал издать ее в трех томах,
материал для этого был, но требовалось специальное разрешение в ЦК
КПСС. Пришлось ужать книгу до двух томов. Я предложил Алексею
Федоровичу написать предисловие к этой книге и надеялся, что он
это сделает лучше, чем кто-либо иной. Для этого я приносил ему
новые книги о Ренессансе, читал свои рефераты зарубежных авторов.
Как я убедился, Лосев совершенно не знал современной литературы
о философии и культуре Возрождения. Последнюю книгу, которую
он прочел на эту тему, была «Культура Италии эпохи Возрождения»
Якоба Буркхарда. Поэтому я стремился, чтобы вступительная статья
к книге, которую я составил, была, как и большинство работ Алексея
Федоровича, академической, с анализом всех сторон
многообразной культуры Ренессанса и обзором новейших теорий в этой
области. Я собирался после издания этой антологии написать свою книгу
«Эстетика Возрождения», на что у меня уже был договор с
издательством «Искусство», о чем Лосев хорошо знал. Часть книги была уже
написана, некоторые ее будущие разделы - опубликованы.
Но мои планы были нарушены и в конце концов привели к
разрыву наших отношений. Однажды, придя в гости к Лосеву, я увидел
в его руках его собственную, только что изданную в издательстве
«Мысль» книгу «Эстетика Возрождения». Оказалось, что пока я
подготавливал его к написанию предисловия к моему двухтомнику, над
264
В. П. Шестаков
которым я еще работал, он тайно написал свою собственную книгу,
ничего мне об этом не сказав.
Не берусь судить, насколько это было этичным. Лосев знал, что
в советское время нельзя было выпускать две книги на одну и ту же
тему, тем более что он использовал название моей планируемой
книги. Выпуская свою книгу, он отнимал у меня возможность
публикации уже подготовленной рукописи. В результате мне пришлось
надолго спрятать мою собственную работу. Только через четверть века
я решился, переработав, представить ее в издательство1. Конечно,
Лосев поступил по отношению ко мне не по-дружески. Но я не
обиделся на него, понимая, что ему, как старшему и заслуженному
человеку, надо было уступить дорогу. Поэтому я не сказал ему ни слова
и не упрекнул его.
Это был настоящий шок, но на этом дело не кончилось. Второй
шок случился, когда я получил от Лосева его статью к моей
антологии «Эстетика Ренессанса». Она не имела ничего общего с книгой,
которую должна была представлять, и написана была не академически,
а скорее в игривом «розановском» стиле.
Об этой злополучной статье ходят самые различные легенды.
Василий Васильевич Соколов, мой преподаватель на философском
факультете, в беседе с составителем книги «Философский
факультет МГУ им. Ломоносова. Страницы истории» излагает следующую
версию: «Историки и эстетики Ренессанса собрали и перевели очень
хороший двухтомник "Эстетика Возрождения". Два тома страниц
по 400-500. И почему-то, это не очень ясно, заказали предисловие
А. Ф. Лосеву объемом в четыре листа. Алексей Федорович диктует,
а когда диктуешь, это ведь совсем другое, чем писать: в общем,
написал он 16 листов. Искусствовед-ренессанист член-корреспондент
РАН В. Н. Гращенков написал резко отрицательную рецензию.
Алексей Федорович, как говорят, не растерялся, к 16 листам он прибавил
еще листов 30 и представил книгу в издательство «Мысль». Его
авторитет был уже велик, и его издали. Историки-ренессанисты очень
ее критиковали». Если бы статья была опубликована, ее критиками
оказались бы не только Гращенков, но и все историки и теоретики
Возрождения2.
1 Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. СПб., 2007.
2 Философский факультет МГУ им. Ломоносова. Страницы истории.
М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 384.
Беседы с А. Ф. Лосевым
265
К сожалению, Василий Васильевич ошибается, рассказывая об
истории этой статьи. Очевидно, он пересказал историю,
придуманную Азой Алибековной. Во-первых, говорит во множественном
числе «собрали и издали» тексты по Возрождению, на самом деле
собрал и издал книгу один человек - В. П. Шестаков. Это
значится на титуле книги и странно, что Соколов моей фамилии почему-
то не упоминает, может быть, он ее не читал. Во-вторых, были все
основания доверить написание предисловия именно А. Ф. Лосеву,
а не кому-нибудь другому. Лосев интересовался неоплатонизмом,
он в 1937 году издал свои переводы сочинений Николая Кузанско-
го, связанного с Возрождением. В-третьих, свою книгу он написал
и издал в 1978 г., за три года до выхода антологии. Предисловие
писалось уже после выхода книги «Эстетика Ренессанса». Поэтому
никаких 16 листов он в издательство «Искусство» не представлял,
а написал небольшое эссе на 2-3 авторских листах, в котором был
только один тезис: «Ренессанс — это неоплатоническая эстетика
и эстетический неоплатонизм». Кроме этой спорной тавтологии,
в статье ничего не было.
Это был второй шок, который я испытал. Я так долго ждал от
Лосева четкой картины развития эстетической мысли, а получилась
довольно эксцентрическая статья, никак не связанная с текстом
антологии. Это было настолько не похоже на Лосева, что я до сих пор
не уверен, что именно он был автором статьи. Я попросил Алексея
Федоровича переделать статью, так как она не может быть ни по
своему жанру, ни по содержанию предисловием к антологии, в которой,
помимо неоплатонизма, были представлены аристотелизм,
пифагореизм, стоицизм и другие философско-эстетические направления.
Лосев отказался переделывать статью. Как показывает его книга, он
вообще отрицательно относился к эпохе Возрождения и видел в ней
только «обратную сторону». Пришлось отправить статью на
рецензию Гращенкову, который читал на факультете курс историографии
культуры Возрождения. Рецензия была уничижительной.
В результате я вынужден был отказаться от обещанного мне
Лосевым предисловия. Никакого договора у Лосева с издательством не
было, привлечь его в качестве автора предисловия было моей
инициативой. Я был огорчен, быть может, больше, чем сам Лосев. Мне
было неприятно и трудно отказывать Лосеву в публикации, о
которой я сам его просил. Но, как говорится, «Платон мне друг, но истина
мне дороже». Никогда в жизни я не прочувствовал так глубоко, что
266
В. П. Шестаков
за добро нужно платить. Я мог бы сам написать такое предисловие,
но тогда оказалось бы, что я «подсидел» Лосева и снял его статью,
чтобы написать свою. Поэтому я ограничился кратким введением
к книге. Я честно исполнил просьбу Алексея Федоровича, вернул
рукопись, не оставив не одной копии себе. И я не сохранил отзыва Гра-
щенкова, полагая, что спор окончен. Я думал, что речь идет о научной
дискуссии, а не о столкновении личностей и оскорбленном
самолюбии. По наивности я ошибался.
Я считаю, что, не напечатав предисловия, я скорее спас Лосева.
Если бы статья была напечатана, она породила бы десятки
отрицательных отзывов вроде того, который был написан Гращенковым,
ведь она была лишена всякой логики, научного аппарата, какой-либо
связной концепции. Казалось, что эту статью написал не Лосев, а кто-
либо другой. Если бы она была опубликована, ее критиками оказались
бы не только Гращенков, но все историки и теоретики Возрождения.
Та критика, которую вызвала в научных кругах его книга «Эстетика
Ренессанса», была вполне объективной и уважительной, и не
хотелось подвергать пожилого, заслуженного человека дальнейшей
экзекуции. Я вынужден был вернуть Лосеву его статью, высказав
откровенно мои к ней претензии. Но Алексей Федорович критики уже не
принимал. Он обиделся и с этого момента порвал со мной дружеские
отношения. Примерно то же произошло до того с милейшим Марком
Туровским, которого Лосев при мне распекал как своего злейшего
врага. Из категории близких друзей я был объявлен личным врагом,
правда, не самим Лосевым, а его женой Тахо-Годи. Так кончилась
наша дружба. Я полагаю, что Лосев уже не нуждался во мне. Запрет на
его работы был снят, популярность его книг росла, и добровольные
помощники, как я, ему были уже не нужны.
Меня часто связывали с Лосевым, называли его учеником. Думаю,
что это не так. Моим учителем был В. Ф. Асмус, у которого я учился
в университете. Сбылись его предсказания, которые сделал Валентин
Федорович, когда я вез его в такси из Переделкино в редакцию
«Философской энциклопедии», где обсуждалась выдвинутая на конкурс
статья Лосева «Диалектическая логика». Асмус сказал: «Я знаю, кто
автор статьи, подписанной псевдонимом, это Лосев. Я очень уважаю
Алексея Федоровича и буду голосовать за него. Но должен сказать,
что если бы Лосев вдруг стал Папой Римским, то все мы превратились
бы в еретиков». Я был озадачен этой фразой моего учителя. Теперь
я хорошо понимаю ее правомерность.
Беседы с А. Ф. Лосевым
267
Правда, с А. Ф. Лосевым у меня были общие интересы. Прежде
всего, интерес к музыке. Как и Лосев, я в юности начинал играть на
скрипке. Я водил Лосева и его жену на музыкальные вечера, на
оперу Прокофьева, на прослушивание «Кольца Нибелунгов» в квартире
Ильенкова. Вместе с Лосевым я начал издавать серию книг по
музыкальной эстетике. Его книга «Античная музыкальная эстетика»
вышла под моей редакцией и с моим предисловием. К тому же у нас
был общий интерес к неоплатонизму: у Лосева к античному, а у меня
к ренессансному. Ведь я впервые издал самого крупного теоретика
неоплатонизма, главу знаменитой Академии Платона во Флоренции
Марсилио Фичино. И, конечно же, общим был интерес к категориям,
благодаря чему мы и написали с ним книгу «История эстетических
категорий». Это единственная книга, которую Лосев написал в
соавторстве. Но мне было далеко до его идеалистических построений.
Школа, из которой я вышел, была сугубо материалистической, хотя
в ней было много места для идеального. Если верить известным
рассказам о Лосеве, он был единственным идеалистом в стране, и
Сталин, который, спросив, сколько у нас идеалистов в стране, и узнав,
что только один, приказал Лосева не трогать. Не знаю, правда это или
вымысел. Во всяком случае, об этой истории повествует в своей книге
о Лосеве А. А. Тахо-Годи.
Несмотря на расхождения в понимании и оценке Возрождения,
о чем я пишу только сейчас, я признаю огромную заслугу А. Ф.
Лосева в развитии отечественной философии, его огромный вклад
в эстетику. Как и у каждого мыслителя, у Лосева были свои подъемы
и спады, свои достоинства и недостатки. Да он и сам никогда не
относился к себе, как к иконе, на которую надо молиться. Далеко не во
всем с ним можно соглашаться, что не умаляет его неоспоримых
достоинств и несомненных заслуг. Конечно, работы 1920-х гг. намного
выше и содержательнее, чем работы, написанные в 1960-х гг. В них
сказалось стремление адаптироваться к вульгарному марксизму,
неумеренное цитирование работ Ленина и Сталина.
Жизненная судьба Алексея Федоровича была трагичной. Он был
человеком Серебряного века, волею случая и сложных исторических
катаклизмов оказавшимся в стальном веке, символом которого был
Сталин и сталинизм. Из этих катаклизмов А. Ф. Лосев вышел
победителем и как человек, и как мыслитель. Я уверен, что его
философское наследие будет изучаться еще долгое время. Но вокруг его
имени создается миф, который искажает его образ, превращает в икону.
268
В. П. Шестаков
Становится неясным, кем был Алексей Федорович Лосев — самым
трезвым, энциклопедически образованным, рационалистически
мыслящим философом XX в. (таким он остается в моей памяти) или
теологом, принявшим монашеский постриг, человеком, который всю
жизнь скрывал свою тайную тягу к религии и мистицизму. Таким его
рисуют многие современные комментаторы и прежде всего его жена.
Так что суть философского наследия А. Ф. Лосева остается тайной,
и, по-видимому, эту тайну будут разгадывать не одно десятилетие.
РЕФОРМАТОРЫ 1950-1980-х гг.,
ИХ УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
В. М. Межуев
ЭВАЛЬД ИЛЬЕНКОВ И КОНЕЦ
В РОССИИ КЛАССИЧЕСКОЙ МАРКСИСТКОЙ ФИЛОСОФИИ
В послевоенной советской философии 1950-1960-х гг. Э. В.
Ильенков — самое крупное и, пожалуй, наиболее популярное имя. На
большинство из нас, учившихся в те годы на философском
факультете МГУ и начинавших самостоятельную профессиональную жизнь,
он оказал решающее влияние, во многом предопределившее выбор
нами собственной позиции и места в существовавшем тогда
философском сообществе. От него отталкивались и те, кто называл себя
потом «ильенковцами», и те, кто в споре с ним искал иные пути
своего философского развития. Почти никому в то время, кто хотел как-
то заявить о себе в философии, не удалось пройти мимо него.
Нефилософской аудитории, мало знакомой с состоянием
философского знания и образования к началу 1950-х гг., трудно
объяснить тот ошеломляющий эффект, которым сопровождались уже
первые выступления Ильенкова в печати и на публичных лекциях. Он
сразу стал общепризнанным лидером философской оттепели.
Именно ему мое поколение обязано осознанным разрывом с догматикой
и схоластикой официальной философии, процветавшей в образовании
и пропаганде и сложившейся еще в годы сталинизма. Помимо
новизны своего подхода к пониманию предмета и задач философии, Эвальд
Васильевич увлекал молодежь способностью мыслить независимо
и интеллектуально насыщенно, логически доказательно и эстетически
выразительно, оставаясь при этом в традиции марксистской
философии. Последнее, возможно, особенно воздействовало на наши умы.
Ныне, по истечении времени, место, занимаемое им в нашей
философии, стало более отчетливым и определенным. Он —
последний, как мне представляется, оригинальный мыслитель в истории
270
В. M. Межуев
марксистской философии на русской почве. Им завершается
философская школа русского марксизма, которую не надо отождествлять с
псевдомарксистской философской партийной ортодоксией,
закончившей свои дни уже после смерти Ильенкова. А поскольку данная школа
в любом случае останется в истории всей русской философии в
качестве одной из ее важнейших вех, Ильенкова, несомненно, можно
причислить к плеяде выдающихся русских философов нашего века.
Для разоблачения несостоятельности официальной философии
Ильенков сделал больше, чем кто-либо другой, и прежде всего
потому, что сохранял верность марксизму. Партийные идеологи потому и
третировали его больше других. Он как бы объявил им бой на их
собственной территории, оспаривал их право на эту территорию, что по
тем временам было намного опаснее любой немарксистской крамолы.
В отличие от некоторых к тому времени сохранившихся в живых
крупных философских имен (например, А. Ф. Лосев), сформировавшихся
вне марксизма и потому вынужденных в целях личной безопасности
мимикрировать под него, демонстрируя свою идеологическую
лояльность, Ильенков атаковал идеологическую власть в самом важном для
нее пункте - в ее претензии на марксистскую непогрешимость. Он
как бы говорил ей: именно в марксизме, в его философии ты ничего
не смыслишь и не понимаешь. А что могло быть болезненней для нее,
претендующей на монопольное владение «вечно живым» учением? Ей
легче было иметь дело со своими откровенными противниками, чем
конкурировать с кем-то на почве марксизма, ибо подобной
конкуренции она не выдерживала в любом случае. Недаром с оппонентами из
лагеря марксистов она расправлялась с особой яростью и
беспощадностью, о чем свидетельствует участь «механицистов», «меньшевиствую-
щих идеалистов» и прочих марксистских «ересей».
Этим объясняется удивительный парадокс в отношениях
Ильенкова с властью: убежденный философ-марксист, он был ненавидим
ею даже больше тех, кого делал объектом своей философской
критики. А таким объектом для него являлся, как известно, позитивизм
и связанная с ним формальная логика. Позитивистская философия,
набиравшая у нас силу также в 1960-х гг., встречала у власти более
благосклонное отношение, чем ее марксистская (с позиции
диалектической логики) критика Ильенковым. Даже в период жесткой
идеологической цензуры переводились и издавались в нашей стране работы
классиков западного неопозитивизма. Те, кто исповедовал дух и
букву позитивизма, видели в нем последнее слово в развитии методоло-
Эвальд Ильенков и конец в России классической марксисткой философии 271
гии научного познания, оценивая, пусть и негласно, диалектику как
философскую архаику, пережиток гегельянской «метафизики»,
делали успешную научную и служебную карьеру. Разумеется, они также
демонстрировали внешнюю лояльность марксизму, критиковали для
видимости «буржуазный позитивизм», что не мешало им, однако,
встречать в штыки работы Ильенкова, защищавшего в борьбе с
позитивизмом диалектику как логику и теорию познания. Подобная
полемика вполне приемлема в рамках философской дискуссии, но
поразительно то, что идеологическое начальство в этой схватке было
отнюдь не на стороне Ильенкова.
Любой редактор, работавший в то время в философском журнале
или издательстве, может подтвердить, что легче было напечатать статью
и книгу по формальной логике или с изложением той или иной
позитивистской концепции, чем оригинальный труд по марксистской
философии. В отношении к ней цензура была особенно строга. Пишите о чем
угодно, только не трогайте марксизм, не покушайтесь на его
официальную версию — таков был негласный принцип политики в области
философии. Оставаться творчески мыслящим марксистом в период
нахождения «марксистов» у власти было намного труднее, чем пропагандировать
Карнапа, Айера и прочие неопозитивистские авторитеты. Власть как бы
во вред себе вынуждала способных молодых философов искать
приложение своих сил за пределами марксизма, что и привело, в конце концов,
к его истощению и обескровливанию, сделало прибежищем
бездарности и пустословия. Ильенков был последним, кто всерьез и с талантом
пытался вдохнуть в философию марксизма новую жизнь, повысить
его конкурентоспособность в борьбе идей. Но и он, как можно теперь
констатировать, потерпел поражение. К концу жизни его влияние на
молодежь начало падать, число учеников сокращаться и, как мне
кажется, он все более остро ощущал свое философское одиночество. Это,
возможно, и стало причиной его личной трагедии.
Кто знает, может, уже в то время Ильенков предчувствовал
приближение конца марксизма в России, а значит, и краха смысла всей
своей жизни. Я не могу представить его вне марксизма, то есть в
ситуации нашего времени. Но, доживи он до наших дней, он, конечно, был
бы не с теми, кто предал марксистскую философию анафеме. Скорее,
подобно своему постоянному оппоненту по философии А. А.
Зиновьеву, он усмотрел бы в поражении марксизма не столько
доказательство его теоретической ущербности, сколько свидетельство
происшедшей в России исторической катастрофы. И здесь самое время
272
В. M. Межуев
поговорить не только о марксистских, но и русских, отечественных
корнях ильенковской философии.
О влиянии немецкой философии на русскую хорошо известно.
Ильенков вполне вписывается в эту традицию. Но при всей любви
к Гегелю и Марксу (в музыке - к Вагнеру) он — глубоко русский
мыслитель с характерным для этого типа философствования кругом
интересов, складом характера, духовным настроем и способом
изложения своих мыслей. В этом, как мне кажется, он близок своему
антиподу Александру Зиновьеву. При всей их полярности (один -
диалектик и марксист, другой — формальный логик и
претендующий на научную беспристрастность социолог) оба озабочены одним
и тем же — Россией, болеют за нее душой, с тревогой
всматриваются в ее будущее. На поверхности спор между ними — это спор о том,
как, какими методами, в каком направлении следует развивать науку.
В действительности же наука, за которую они ратуют, — это наука,
отвечающая на самые злободневные вопросы русской истории. У
Зиновьева это более очевидно только потому, что он намного пережил
Ильенкова. В этом их кардинальное расхождение с другим
философским «соловьем» застойных времен — М. К. Мамардашвили, почти
не скрывавшим своего негативного и даже в чем-то презрительного
отношения к исторической и современной России.
Что делало гегельянца и марксиста Ильенкова русским
философом (не просто по крови, но прежде всего по духу), я поясню на
примере Александра Блока. Известно, что Блок поначалу принял и
приветствовал большевистскую революцию, призывал интеллигенцию
слушать ее «музыку». Что же заставило его разочароваться в ней?
Отнюдь не только и не столько террор большевиков, как принято
думать (Блок даже воспел его в «Двенадцати»). Но еще в 1918 г.
революционная Россия, пусть во многом варварская, азиатская,
«скифская», была для Блока культурной антитезой цивилизованному, но
уже умирающему и загнивающему, как он думал, Западу. Еще до
выхода в свет книги Шпенглера «Закат Европы» Блок сформулировал
понятие культуры, во всем противоположное цивилизации.
Подобное противопоставление — вообще чисто русская тема. И до Блока
русская культура отличалась ярко выраженной антибуржуазной
настроенностью, неприятием бездуховной «западной цивилизации».
Носителем же культуры, как утверждал Блок, является не
интеллигенция, а народ. Революция есть восстание, бунт народной стихии
против цивилизации во имя спасения мистических и творческих
Эвальд Ильенков и конец в России классической марксисткой философии 273
основ культуры, «духа музыки». «Поэтому не парадоксально будет
сказать, — писал он, — что варварские массы оказываются
хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи,
когда обескрылившая и отзвучавшая цивилизация становится врагом
культуры, несмотря на то, что в ее распоряжении находятся все
факторы прогресса — наука, техника, право и т. д.»1
Блок разочаровался в революции после того, как ему стало ясно,
что в ее результате цивилизация (как бы ее ни называть —
модернизацией, индустриализацией, вестернизацией и пр.) всё же победила
культуру. Ранее других он почувствовал «буржуазный дух» революции,
называвшей себя пролетарской и социалистической. Сегодня этот «дух»,
освободившийся от былых марксистских и коммунистических клише,
обнаружил себя в полной мере, заявил о себе как о главной движущей
силе русской истории XX в. Его победа в нынешней России и есть
суммирующий итог русской революции, ее подспудный смысл, который так
напугал и отвратил от нее Блока. При всем антикоммунизме русских
«реформаторов-демократов» они — прямые наследники
большевизма по методам и способам своего политического поведения. Те хотели
цивилизовать Россию под прикрытием коммунистических лозунгов
(в действительности — чисто варварскими методами), эти хотят того
же, но без коммунистической риторики, вот и вся разница между ними.
Но для поэта и философа решающим остается вопрос, в каком все-таки
отношении чаемая теми и другими цивилизация находится к культуре.
Тема несовместимости культуры с буржуазной цивилизацией —
центральная в русской философии, у позднего Блока и... в философии
Ильенкова. У последнего она получает форму критики позитивизма и
формальной логики — этих двух разновидностей «буржуазного
рассудка». Кому-то, возможно, и покажется, что в работах Ильенкова речь идет
лишь о гносеологических проблемах, о диалектико-материалистической
теории познания, но в действительности в них столкнулись два разных
мировоззрения, содержащие взаимоисключающие принципы и
установки человеческого существования в мире. Не знаю, читал ли
Ильенков книгу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», но для
него этот «дух» предстал не в протестантском, а в позитивистском
обличий. Он исследовал не этическую, а логическую природу
капитализма. Всё написанное им можно было бы назвать
«Позитивистская логика и дух капитализма» с тем лишь отличием от Вебера, что
Ильенков — не апологет, а непримиримый противник этого «духа».
Работу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», философски
274
В. M. Межуев
слабую даже по марксистским критериям, он поднял на щит потому, что
она также содержала в себе критику позитивизма в лице Маха и
Авенариуса. Позитивизм для Ильенкова — своеобразное философское
выражение «мещанского», антигуманного «духа» буржуазной цивилизации,
а в его войне с этим «духом» нельзя не увидеть отголосок той борьбы,
которую русская философия - под разными идейными знаменами -
ведет уже на протяжении двух столетий.
Орудием своей борьбы Ильенков сделал диалектическую логику.
Диалектика для него — не просто логика и теория научного
познания (хотя об этом он писал больше всего), но, прежде всего,
логически представимый всеобщий способ практической деятельности
человека, всех ее форм, направленных на преобразование природного
мира в мир культуры. Хотя познание — предмет преимущественного
интереса Ильенкова, субъект познания для него — «общественно-
определенный индивид, все формы жизнедеятельности которого
даны не природой, а историей, процессом становления человеческой
культуры»1. Мышление неотделимо от преобразующей деятельности
человека и только в такой связи может быть понято в своей
познавательной функции. А поскольку результатом такого преобразования
является культура, диалектика, будучи всеобщей логической формой
человеческой деятельности, оказывается одновременно и формой
бытия человека в культуре. Логически представшую в диалектике форму
человеческого общественно-практического бытия следует отличать от
формально-рассудочного (формально-рационального, как сказал бы
Вебер) существования людей в мире буржуазной цивилизации.
Диалектично мыслит тот, кто живет по законам культуры, противостоя
в этом смысле тем, кто телом и душой пребывает в овеществленном
и абстрактном мире буржуазного рассудка. Диалектика - логическая
ипостась духовности, творческой активности, тогда как
позитивистская логика — синоним бездуховной, безыдеальной «буржуазности»,
пусть и с внешними признаками цивилизованности.
Такое мышление — материалистическое и диалектическое
одновременно — является естественным только «для человека
коммунистического общества, где культура не противостоит индивиду как
нечто извне заданное ему, самостоятельное и чужое, а является
формой его собственной активной деятельности. В коммунистическом
1 Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.,
1984. С. 185.
Эвальд Ильенков и конец в России классической марксисткой философии 275
обществе, как показал Маркс, становится непосредственно
очевидным тот факт, который в условиях буржуазного общества
выявляется лишь путем теоретического анализа, рассеивающего неизбежную
здесь иллюзию, что все формы культуры суть только формы
деятельности самого человека»1. Идущее от Маркса понимание культуры
как человеческой деятельности было впервые четко
сформулировано в нашей философской литературе именно Ильенковым, а уж вслед
за ним и другими советскими философами. Впоследствии оно
стало исходным для всей отечественной марксистской культурологии
1960-1980-х гг. Ильенков первым же усмотрел прямую связь между
так понятой культурой и диалектической логикой, с одной стороны,
коммунистическим идеалом - с другой. То и другое - логическая
и историческая формы существования культуры в ее собственном
содержании и значении.
Выявленная Ильенковым связь между материалистически
понятой диалектикой и реальным процессом культурного развития
позволила ему дать оригинальное толкование такой важнейшей
философской категории, как идеальное. Под идеальным он понимал, как
известно, не содержание индивидуальной человеческой психики, а
такое соотношение материальных объектов, когда один из них берет на
себя функцию репрезентации (представительства) другого. Предмет
отражается не просто в голове, но в другом предмете, созданном
человеческой деятельностью (в том числе и посредством головы),
причем в форме создавшей его деятельности. В этой форме он и есть
идеальное — уже не природный объект, а предмет культуры. Идеальное
есть материальное, преобразованное человеческой деятельностью,
вещественно закрепленная форма этой деятельности. Разве
культура — это не мир предметно созданных человеческой деятельностью
произведений, в которых выражены, предметно представлены
способы и методы этой деятельности? «Идеальность, по Марксу, — пишет
Ильенков, - и есть не что иное, как представленная в вещи форма
общественно-человеческой деятельности. Или, наоборот, форма
человеческой деятельности, представленная как вещь, как предмет»2.
Идеальное, согласно Ильенкову, - и это, конечно, отличает его
как материалиста от русских религиозных философов Серебряного
1 Там же. С. 184.
2 Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал. Избранные
статьи по философии и эстетике. М., 1984. С. 51.
276
В. M. Межуев
века — существует не за пределами материального мира, а в самом
материальном мире. Искать его нужно не в сфере религиозного
опыта и духа, а в самой жизни, в сфере культуры. Традиционное для
русской религиозной и идеалистической философии
пренебрежительное отношение к материальной стороне жизни Ильенков стремился
преодолеть не принижением духовного, а, наоборот, возвышением
материального до уровня духовного, в чем, собственно, и
усматривал суть общественно-преобразовательной деятельности человека.
«"Идеальность" — это своеобразная печать, наложенная на вещество
природы общественно-человеческой жизнедеятельностью, это
форма функционирования физической вещи в процессе общественно-
человеческой жизнедеятельности. Поэтому-то все вещи, вовлеченные
в социальный процесс, и обретают новую, в физической природе их
никак не заключенную и совершенно отличную от последней «форму
существования», идеальную форму»1. Не трансцендентный мир или
трансцендентальный разум образует, с этой точки зрения, сферу
идеального и духовного, а общественно-преобразующая деятельность
человека, как она дает о себе знать в предметном мире культуры.
Я далек от мысли считать такую постановку вопроса личным
открытием Ильенкова, но он обладал способностью читать и
комментировать тексты Маркса в соответствии с их не только буквой, но и духом,
в полном согласии с тем, что в них написано, а не вычитано в угоду
расхожей точке зрения или политической конъюнктуре.
Не превосходство материального над духовным, а их примирение,
синтез на базе «общественно-человеческой жизнедеятельности» — вот
что Ильенков воспринял от Маркса и попытался внести в русскую
философию, повернув тем самым ее проблематику в сторону не
потусторонней, а земной жизни человека. При этом он отказывался видеть в таком
повороте переход на позицию позитивистской науки с ее некритической
фетишизацией наличной действительности. Позитивизм не видит в вещи
ничего, кроме самой вещи, не обнаруживает за ее внешней
предметностью никакого идеального начала, никакой человеческой
субъективности и универсальности. Но тогда утрачивается и какая-либо
историческая перспектива развития. Мир предстает как процесс трансформации
обезличенных, овеществленных социальных структур и институтов,
как совокупность лишенных человеческого содержания и присутствия
квазиприродных объектов. Из него испаряется всё идеальное и духов-
Там же.
Эвальд Ильенков и конец в России классической марксисткой философии 277
ное. Антитезой этому миру может быть только сам человек, взятый
в аспекте своего не биологического или психического, а общественно-
исторического бытия, т. е. как свободно действующий и мыслящий
субъект истории. Именно такого человека и защищал Ильенков в
борьбе с «некритическим позитивизмом» буржуазной философии. Он,
разумеется, — не враг цивилизации, но отказывался видеть в ней
последнюю истину человеческого существования в мире. Глубинный пафос
его философии — защита культуры, человеческого духа перед лицом
обезличивающей и обездуховляющей власти цивилизации, нашедшей
свое отражение в позитивистской науке. В таком качестве он, конечно,
не просто марксист, но и типично русский философ.
Теперь понятно, почему власть, декларировавшая на словах свою
приверженность марксизму, была столь неблагосклонной к
Ильенкову. Она и сама была позитивистской, «буржуазной» по своему
менталитету, ориентированной на чисто внешние и абстрактные — технико-
экономические и великодержавные — цели развития, но никак не на
цели культуры - свободного развития человеческой личности. Человек
для нее - орудие в руках государства, эффективный работник или во
вторую очередь потребитель, но не духовно самостоятельное существо.
Это еще не буржуазная цивилизация в чистом виде с ее предельной
рационализацией жизни, но нечто, приближающееся к ней. Ильенков
остро чувствовал антигуманную, бездуховно-утилитарную сущность
системы, ее, если угодно, механистическую природу, равнодушную
к каким-либо проявлениям человечности, но объяснял это не ее социа-
листичностью, а, наоборот, ее разрывом с социалистическими целями
и идеалами, нарастающими в ней элементами «буржуазности». Живи
он при капитализме, он чувствовал бы то же самое и, может быть, еще
резче. И сегодня, будь он с нами, расхождение между нынешними
рыночными реформаторами и прежними номенклатурными партократами
воспринималось бы им как менее значительное явление по сравнению
с чуждостью тех и других культуре и духовному развитию.
В моем изображении Эвальд Васильевич предстает, похоже, как
последний марксист-романтик, рыцарски отстаивающий высокие
и гуманные идеалы культуры в мире, где всё большую силу набирают
идолы цивилизации. Но таким, как мне кажется, он и был в
действительности. И как русским дореволюционным философам не удалось
сдержать напор этой цивилизации или хотя бы облагородить ее
посредством христианских ценностей (в русской революции, которая
смела их, цивилизация предстала в своей самой грубой, варварской,
278
В. M. Межуев
языческой форме), так и Ильенков не смог посредством
диалектической логики предотвратить победу буржуазно-рассудочного «духа»
в теории и на практике. Где они сегодня — его ученики и поклонники?
Кого можно назвать продолжателем его дела? Иных уж нет, другие
соревнуются на ниве изобличения научной несостоятельности
марксизма, третьи давно сменили диалектического журавля на
позитивистскую синицу и прилагают все силы для утверждения
«буржуазного духа» в общественном сознании.
Эпоха возвышенного гегельянски-марксистского донкихотства
закончилась, началась эпоха меркантильно расчетливых, буржуазно
рассудительных Санчо Пане. Этим уж точно никакая диалектика не
нужна (как, впрочем, и культура). В стране, не прошедшей до
конца стадии цивилизации (или, проще, капитализма), марксизм или
близкая ему по духу философия заведомо обречены: они либо
вырождаются в пошлую и вульгарную официальную демагогию, либо
замыкаются в «чистом творчестве» своих отдельных честных и
преданных последователей, каким, собственно, и был Ильенков. К
сожалению, такое творчество оказывается часто далеким от жизни, теряет
связь с ней, обретает налет сектантства. Ильенков и производил
впечатление человека «не от мира сего». Он был подвижником учения,
не просто вышедшего из моды, но оказавшегося преждевременным
в исторических обстоятельствах своей страны. Можно видеть в нем
человека, отставшего от времени, я же вижу в нем того, кто
разошелся с ним, пытаясь слишком далеко заглянуть в будущее. Потому
и оказался он в непримиримом конфликте с настоящим.
Своей жизнью и судьбой Ильенков как бы знаменует конец
марксизма в России. Конец, но не смерть. России сегодня марксизм
действительно не нужен — не те цели она ставит перед собой, не те задачи
решает. Спекуляции на почве марксизма, скрывающие его
действительную суть и преследующие чисто политические цели, можно
наблюдать и сегодня, но они не имеют ничего общего с тем, что искал
и ценил в марксизме Ильенков. Когда-нибудь этот поиск, если
России суждено выжить, несомненно, будет продолжен в новых
условиях и обстоятельствах, пусть и в измененном виде. Рано или поздно
людям всё же придется задуматься о культурных и человеческих
последствиях той цивилизации, к которой они сегодня так стремятся.
И тогда они вернутся к тому, что сделал Ильенков в философии,
чтобы не только помянуть его имя добрыми словами, но и продолжить
то, что он когда-то начал.
А. В. Коровиков
ВАЛЕНТИН КОРОВИКОВ: ФИЛОСОФ И ПУТЕШЕСТВЕННИК
Валентин Иванович Коровиков родился в Москве 18 июня 1924 г.
Родился человек талантливый, необычный. В жизни ему повезло.
Повезло прежде всего с генами - от природы ему досталась
сообразительная голова и необыкновенно цепкая память. Досталось
также неутомимое любопытство и жажда к тому, что потом будут
называть информацией. Повезло и потому, что родился в центре
Москвы, возле Красной Пресни и арбатских переулков. Да и
родители давали ему достаточно свободы, чтобы он рос как хотел,
а не «как надо».
Школа, в которую он ходил, примыкала к Московскому
зоопарку, и, как довольно быстро выяснилось, если залезть на ее крышу, то
с нее можно было спрыгнуть на настил над вольерой слона и уже
оттуда легко спуститься на территорию зоопарка. Это было очень
удобно, и Валентин с друзьями часто пользовались этой возможностью
заменить скучные школьные занятия на более интересное
времяпрепровождение.
Голод по знаниям и бесполезность школы привели к тому, что
в начале занятий в одном из старших классов Валентин просто
перестал туда ходить. Никому он об этом не сказал, а просто каждое утро,
выходя из дома, шел не в школу, а в Некрасовскую библиотеку на
Пушкинской площади, где сидел и читал книги. Эта замена одного
места учебы на другое оказалась поразительно успешной и
случайно раскрылась только к марту месяцу. Был, естественно, большой
скандал с разговорами об отчислении из школы или, по крайней
мере, о том, чтобы не засчитывать почти полностью прогулянный
год. В итоге обошлось без больших потерь: Валентину пришлось
сдавать специальные экзамены по всем предметам в конце года, что он
успешно сделал, и его таки перевели в следующий класс.
Уже в школьные годы проявилась его первая и основная
любовь — к географии. Его комната была обклеена картами, и он запоем
читал всю географическую литературу, до которой ему удавалось
добраться, как про Россию, так и про зарубежье. Всё это застревало в его
голове (предметом особой гордости было то, что он наизусть помнил
все железнодорожные станции между Москвой и Ленинградом) и уже
тогда вызывало изумленное «Да откуда ты всё это знаешь?».
280
А. В. Коровиков
Детство у Валентина кончилось, как у всего его поколения, с
началом Великой Отечественной войны. В первые же ее дни он пошел
в военкомат и записался добровольцем, наврав про свой возраст.
Его приняли и зачислили в какую-то часть, но через несколько дней
обман открылся и его как слишком маленького отправили домой со
словами: «Успеешь еще, войны на всех хватит».
Слова эти были верны, и через пару месяцев он, теперь уже по всем
правилам, снова оказался в армии, в обычной пехоте. Его отрядили в
запасной полк («Самое голодное время в моей жизни», — вспоминал он
потом), который недолго оставался запасным. В конце осени 1941-го
этот полк был брошен затыкать очередную брешь в разваливающейся
линии фронта к западу от Москвы, хотя к боям был не готов, оружия
было недостаточно — всего одна винтовка на двух-трех солдат.
После нескольких столкновений его рота попала под
минометный обстрел, и Валентин был тяжело ранен одной из мин,
разорвавшейся рядом. Его контузило, и осколки мины повредили ему обе
ноги. И снова повезло, он выжил, и его успели вывезти в тыл. А вот
остатки его полка через неделю оказались в немецком котле и почти
полностью были уничтожены.
Контузия да и раны ног оказались серьезными, и его списали из
армии как инвалида. В Москву в тот момент вернуться было
нельзя, он отправился на восток. Поначалу он устроился работать
электриком на одной из шахт на Южном Урале. Электрики там
работали с аккумуляторами, дышали парами серной кислоты и зачастую
обливались ей. На этой работе долго не выживали. После сильного
ожога кислотой Валентин отправился дальше на восток и проработал
некоторое время на складе артиллерийских снарядов неподалеку от
китайской границы. Там он тоже не задержался и в конечном итоге
добрался до Тихого океана.
На Дальнем Востоке он наконец нашел работу себе по сердцу:
стал суперкарго, то есть ответственным за погрузку и разгрузку на
грузовом судне, курсировавшем по Тихому океану. Эта работа
фактически вылечила и спасла его. Во-первых, на судне была еда, много
еды. Изобилие даров моря можно было чуть ли не просто черпать из
богатых тихоокеанских вод, и какое-нибудь ведро крабов через
несколько минут под открытым краном паропровода превращалось в
прекрасный обед или ужин. Во-вторых, морской воздух стал
потихоньку вылечивать контузию, постепенно стал исчезать постоянный
звон в ушах, стали реже головные боли.
Валентин Коровиков: философ и путешественник 281
Работа эта была не только относительно спокойной, но и
интересной. Грузовоз часто ходил в загранплавания, поначалу в Японию,
а потом, когда начались поставки по ленд-лизу, в Америку. Так что
первый раз США Валентин посетил и 1944 г., когда его судно пришло
за грузом в Сиэтл, штат Вашингтон.
После окончания войны он вернулся в Москву и поступил учиться
на философский факультет МГУ. Жизнь его стала постепенно более
нормальной, он женился, и в 1946 г. у него родился сын Игорь.
Закончив университет, Валентин вместе со своим студенческим другом
Эвальдом Васильевичем Ильенковым поступил в аспирантуру, где
они почти одновременно в 1953 г. защитили диссертации, Валентин
по классической немецкой философии XIX в., а Ильенков — по
диалектике в работах Карла Маркса. Валентина после защиты оставили
на кафедре, и он стал преподавать в МГУ историю зарубежной
философии, а Ильенков, хотя и стал научным сотрудником Института
философии, тоже читал лекции на философском факультете.
Более или менее нормальная жизнь, впрочем, продолжалась
недолго. Весной 1954 г. два друга написали и выставили на
обсуждение тезисы о предмете философии, которые явились поворотным
пунктом в развитии философской мысли в России. Эти тезисы
вызвали бурное обсуждение и серьезный конфликт на факультете.
Эта нашумевшая история, получившая название «дело гносеологов
Ильенкова и Коровикова», подробно описана в книге Елены Иллеш
«Страсти по тезисам»1, так что я не буду на ней подробно
останавливаться. Но необходимо заметить, что в те времена философские
диспуты приводили к оргвыводам. Подход Ильенкова и Коровикова
против ортодоксального марксизма был объявлен антимарксистским
и антипартийным, и, естественно, подобным людям было не место
на таком важном участке идеологического фронта, как философский
факультет. Ильенкова и Коровикова выгнали из МГУ, а Валентина
исключили из партии.
И вот опять повезло, год уже был 1955-й, Сталин был мертв,
приближался XX съезд и начало оттепели. Произошла бы вся эта
история на несколько лет раньше, скажем году в 1951-м или 1952-м,
отправили бы обоих еретиков в лагерь усваивать правильное
понимание предмета философии на лесоповале. Но времена изменились,
1 Ильенков Э., Коровиков В. Страсти по тезисам о предмете философии
(1954-1955). М., 2016.
282
А. В. Коровиков
ретиво сажать всех подозрительных перестали, и дело в конечном
итоге спустили на тормозах. Оба смогли избежать волчьих билетов,
Ильенков остался сотрудником Института философии, а Валентин
ушел в журналистику.
Он нашел работу в газете «Советская Россия» где быстро стал
известен своей готовностью ездить в командировки по всей
стране, и чем дальше, тем лучше. За несколько лет Валентин исколесил
все просторы Советского Союза от Молдавии до Дальнего Востока,
от Заполярного Урала до Средней Азии. Поначалу он записывал
маршруты своих поездок в толстые общие тетради, но на третьей или
четвертой тетради бросил — слишком много было этих поездок.
В конце 1950-х гг. произошло событие, повернувшее его жизнь
в неожиданном направлении. В «Советской России», где он
заведовал отделом науки и часто бывал в Академией наук, он совершенно
случайно узнал, что готовится поездка делегации АН СССР в только
что получившую независимость Гану, небольшую страну в Западной
Африке. Как он уговорил академиков — неизвестно, но его включили
в состав этой делегации в качестве представителя прессы.
В этой поездке Валентин обнаружил яркий, необычный и
чертовски интересный мир, тогда еще во многом не исследованный и для него
совсем незнакомый. Давняя его любовь к географии вспыхнула,
откликаясь на этот новый мир. В результате Валентин заболел Африкой,
что и определило его жизнь на последующие почти четверть века.
Из «Советской России» он перешел в журнал «За рубежом»,
но там пробыл недолго и вскоре оказался в газете «Правда», в
которой уже и остался до выхода на пенсию. От «Правды» он несколько
раз съездил в Африку в командировки, а в 1964 г. вместе с семьей
уехал в Аккру, столицу Ганы, как собственный корреспондент
«Правды» по Западной Африке. Так начался африканский период жизни
бывшего «гносеолога».
Своих привычек не сидеть дома, а ездить по интересным местам
он не оставил. Сам корпункт находился в Гане, но в его ведении была
вся Западная Африка, и он мотался по ней без устали: на самолетах,
машинах, автобусах, ослах и просто пешком. Так, например, он
решил совершить поход через всю Либерию, от границы с Гвинеей до
столицы Монровии, расположенной на побережье, и всего за неделю
прошел этот маршрут пешком, не столько даже по дорогам, сколько
по тропам от одной деревни до другой. В те времена африканская
глубинка еще была достаточно безопасна для одинокого европейца.
Валентин Коровиков: философ и путешественник 283
В Аккре мой отец прожил меньше двух лет. Когда он приехал,
страну возглавлял друживший с Советским Союзом Кваме Нкрума, но
в начале 1966 г. в Гане произошел военный переворот, Нкруму
свергли, и Валентина, как подозрительную личность, сначала посадили
под домашний арест, а затем в 24 часа выслали из страны. Он остался
корреспондентом «Правды» в Африке, но корпункт пришлось
перенести. На этот раз он обосновался в Лагосе, столице Нигерии.
Жизнь в Нигерии спокойной тоже не оказалась. Вскоре после его
приезда один из регионов Нигерии заявил, что отделяется, и в мае
1967 г. была провозглашена независимость новой республики Биаф-
ра. В стране началась гражданская война. Война была серьезная,
с применением танков, авиации и артиллерии. Валентин писал
репортажи с линии фронта. Пару раз он попал под артобстрел, но на
этот раз всё обошлось.
В те же времена бытия журналистом в Западной Африке ему
пришлось разбираться с обвинениями в работе на КГБ. Валентин был
человеком абсолютно не похожим на Homo Soveticus, и это, с точки
зрения западных контрразведок, делало его очень подозрительным.
Посудите сами: советский человек за границей, но живет не в
посольстве, ведет себя самостоятельно и главное — всё время куда-то ездит
в очень странные места. Должно быть, шпион. Да еще и после
военного переворота из Ганы выслали не зря же. В результате его
«официально» записали в агенты КГБ.
Дальше дело происходило примерно так. Во время одной из
своих поездок Валентин повстречался с местным резидентом
британской разведки, они разговорились, друг другу понравились, выпили
вместе много виски. После этого британская контрразведка
вычеркнула Валентина из списка шпионов. Похожая история произошла
и с французским резидентом, после чего Франция его тоже
вычеркнула. А вот с американским резидентом повстречаться не пришлось,
и у американцев он числился агентом еще очень долго.
В конце 1960-х он вернулся в Москву, проработал около года
в «Правде» редактором, а потом опять уехал собственным
корреспондентом в Африку. Ему предлагали более «статусные» страны,
он мог отправиться корреспондентом в Западную Европу, но
Валентин отказался. Третий мир был ему интереснее, и, главное, там
было гораздо больше свободы. Журналисты в странах Запада
должны были строго проводить линию партии: капитализм загнивает
и в процессе загнивания угнетает и мучает рабочий класс, который
284
А. В. Коровиков
ужасно страдает. Писать про это ему не хотелось. А вот про то, что
происходит в Африке, линии партии просто не существовало (ну,
кроме того, что колониализм и империализм — это плохо, а дружить
с СССР — это хорошо). Корреспондент из «диких» мест мог
спокойно писать про этнографию, про национальные парки, про местные
культурные особенности, и это было вполне приемлемо. О странах
Африки Валентин Коровиков написал несколько книг, основанных
на достоверном опыте историка и географа1.
На этот раз его территорией стала Центральная и Восточная
Африка, и в качестве месторасположения корпункта он выбрал
столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Эфиопия - страна чрезвычайно
интересная, с очень древней традицией христианства, никогда не
бывшая колонией (кроме короткого периода оккупации Италией
во время Второй мировой войны). Тогда она возглавлялась
императором Хайле Селассие, который официально являлся прямым
потомком царя Соломона и царицы Савской. К тому же Аддис-Абеба
находится на горном плато на высоте 2,5 км над уровнем моря,
климат в ней не тропический, и, в частности, нет малярии, которой мне
приходилось тяжело болеть в Гане.
Первые несколько лет жизни там прошли спокойно, заполненные
поездками по Эфиопии и соседним странам. В их числе были и
путешествия на машине через всю страну из Аддис-Абебы в Массаву
на берегу Красного моря и обратно, и полет в Омо, где местные
племена еле-еле выбрались из каменного века. У егерей национального
парка в долине Омо не было горючего для их «Лендровера», поэтому
в маленький самолетик, который летал туда раз в неделю, пришлось
погрузить бочку бензина. Спали там в палатке на берегу ручья, где
тропический лес переходил в саванну.
Эфиопия казалась стабильной страной, но долго остаться
таковой ей не удалось. В 1974 г. и здесь произошел военный
переворот, император был отстранен от власти и через некоторое время
убит в тюрьме. Последовавшие за этим политические конфликты,
стычки и чистки сильно ослабили страну и привели к началу воен-
1 Коровиков В. И. Оазис в океане: Путешествие по Сейшельским
островам. М.: Мысль. 1983 (переведена на многие языки); его же. Эфиопия. М.:
Мысль. 1981 (Серия: У карты мира); его же. Эфиопия — годы революции.
М.: АПН. 1979 (Серия: Библиотечка АПН); его же. Гамбия. М.: Мысль. 1971
(Серия: У карты мира).
Валентин Коровиков: философ и путешественник 285
ных столкновений в Эритрее, которая в тот момент была
провинцией Эфиопии и боролась за независимость. А в 1977 г. в Эфиопию
вторглись войска из соседнего Сомали, государства, которое
захотело отторгнуть себе кусок территории. Так началась Огаденская
война. Валентину снова пришлось писать репортажи с фронта
боевых действий.
Из Эфиопии мы с отцом приехали назад в Москву в самом конце
1970-х гг. и больше жить в Африку уже не возвращались. Она была
вся им изъезжена, из примерно пятидесяти африканских государств
он не побывал только в трех, а его неутомимой любознательности
хотелось чего-нибудь нового. Валентин был фактически главным
африканистом страны, не было в Советском Союзе человека, который
знал бы Африку лучше него, а почивать на лаврах ему было
неинтересно. До выхода на пенсию ему оставалось еще одно назначение
собственным корреспондентом (обычно на 6-7 лет) и на этот раз он
поехал в Индию, страну с богатейшей историей и культурой и
великим разнообразием жизни.
В Индии обошлось без войн и линий фронта. Валентин, конечно,
очень много ездил по стране и впитывал в себя еще один необычный
для него мир. Нельзя сказать, что Индия заменила ему Африку, но, по
крайней мере, она предоставила ему возможность на время утолить
его географическую жажду.
В 1988 г. он вернулся в уже начинающий разваливаться
Советский Союз и вскоре после этого вышел на пенсию. Отец продолжал
путешествовать по мере возможности, а кроме того начал разбирать
свою богатейшую библиотеку и этнографические коллекции,
привезенные из дальних стран за многие годы и впихнутые в небольшую
московскую квартиру. Основную часть своих африканских книг он
отдал в Институт Африки, а многие предметы искусства подарил
музеям. Друзья уговаривали его написать книгу воспоминаний, но он,
к сожалению, не согласился, сказав, что недостаточно он
выдающаяся личность, чтобы мемуары писать.
С середины 1990-х гг. он стал часто ездить в США, где пришлось
жить мне. Тут как раз всплыло то, что американцы его из списка
шпионов так и не вычеркнули. Когда он приходил в посольство за
американской визой, ему улыбались и говорили: «Ну вы же понимаете,
мистер Коровиков, вы человек не в нашем ведении. Ваше заявление
ушло в Госдепартамент, и они уже там будут решать, давать вам визу
или нет». Впрочем, визу всегда давали.
286
А. В. Коровиков
Хотя в США его пускали, по крайней мере первые несколько раз,
когда он приезжал туда, но местные органы безопасности уделяли
ему особое внимание. Тут им, конечно, не повезло. Привычки сидеть
на одном месте Валентин не приобрел, и на поездах и автобусах
объездил пол-Америки, да и пешком исшагал по ней немало. Если за ним
ходил «хвост», то работа его была нелегка. Но, вроде, через
несколько лет они успокоились и отстали.
Старший сын Игорь как-то заметил, что отцу для того, чтобы себя
хорошо чувствовать, надо в год проезжать не менее ста тысяч
километров. И это было недалеко от истины. Он не переставал
путешествовать до 2003 г., когда неожиданная смерть его жены Айны
сильно его подорвала. Валентин продолжал приезжать в США погостить,
но энтузиазм его к поездкам сильно уменьшился, да и собственное
здоровье стало накладывать ограничения на возможности активной
жизни. Он скончался в Москве в августе 2010 г. в возрасте 86 лет.
Этот очерк начался с фразы о том, что в жизни ему повезло,
и это правда. Он прожил уникальную, невероятную жизнь, которую
и придумать-то было нельзя, не то чтобы посчитать ее возможной.
Жизнь яркую, насыщенную, жизнь, в которой исполнились его
мальчишеские мечты о далеких странах. Жизнь, которую стоило жить.
Л. M. Митрохин
О ФЕНОМЕНЕ А. А. ЗИНОВЬЕВА
Александр Александрович Зиновьев — один из немногих русских
социальных мыслителей, которого в прямом, буквальном смысле
можно аттестовать как ученого, получившего мировую известность.
Его творчеству посвящены сотни статей, книг, обзорных работ и
рецензий. В них мы находим лестные сопоставления его с
подлинными светочами культуры: Свифтом, Вольтером, Рабле, Гоголем,
Салтыковым-Щедриным. Может, конечно, возникнуть мысль о том,
что комплименты в его адрес объясняются политическими и
идеологическими соображениями: его приветствовали, прежде всего, как
автора, который выступил с беспощадной и бескомпромиссной
критикой советского социального строя.
Однако в обстановке холодной войны никогда не было
недостатка в предельно эмоциональных обличениях и Большого террора,
и агрессивной сталинской внешней политики. Говоря же о
произведениях А. А. Зиновьева, многие весьма авторитетные интеллектуалы
Запада прежде всего подчеркивают другое, а именно высокий
профессионализм его работ, широких по своей тематике: логика,
методология, социология, литература. Приведу некоторые факты.
Многие знаменитые специалисты (Айдукевич, Бохенский, Айер и др.)
включали его в число крупнейших логиков века. В 1978 г. А. А.
Зиновьев получил премию за лучшее европейское эссе по социологии,
а в 1982 г. — престижнейшую премию Токвиля. Не кто-нибудь,
а сам Раймон Арон, представлявший книгу Зиновьева
«Коммунизм как реальность», назвал ее первой и «единственной научной
работой о реальном коммунизме». Комиссия, принимавшая
решение о премии, из двух конкурировавших кандидатов — К. Поппера
и А. Зиновьева — отдала предпочтение второму, и книга стала
мировым бестселлером, признанным учебником при изучении советской
социальной системы.
Это о научном уровне работ Александра Александровича. А вот
отзыв о нем гениального Эжена Ионеско: «Один из самых больших
современных писателей с точки зрения чистой литературы, быть
может, самый большой из всех». Но это всё зарубежные авторы,
скажут мне. Да, у нас отношение к Зиновьеву и оценки его работ
были другими. Он был официально объявлен врагом советского
288
Л. M. Митрохин
строя, изгнан из страны, одно лишь упоминание его имени
приравнивалось к проявлениям антисоветских взглядов. Но не является ли
такая, со страхом смешанная реакция очевидной, хотя и
«превращенной» формой признания исключительного культурного
достоинства его творчества?
Мне по-своему повезло: несколькими годами позже А. А.
Зиновьева я учился на кафедре логики философского факультета МГУ,
и более полувека назад у меня установились с ним тесные дружеские
отношения. Нас сближало многое: и неприятие догматизма и
кустарщины, насаждавшихся руководством кафедры, и предельно деловые,
но одновременно полные веселого юмора заседания в редколлегии
журнала «Вопросы философии», и работа над очередным номером
известной на всю Москву стенной газеты Института философии,
своими язвительными заметками и карикатурами наводившей ужас
на номенклатурных корифеев (неслучайно бюро райкома КПСС два
раза привлекало к партийной ответственности ее редакторов).
Хорошо помню я и свои поездки в Мюнхен, и свои хлопоты (я
тогда был заместителем директора Института философии), чтобы
облегчить процедуру возвращения А. А. Зиновьева на родину. Мне давно
хотелось рассказать о нем как об ученом и удивительном человеке,
не похожем на всех других. Прежде всего, меня интересовала научная
деятельность А. А. Зиновьева. Но для этого ему, прежде всего, нужно
было демобилизоваться из армии. И я просил его рассказать о том,
как выглядел этот в общем даже рискованный поступок.
А. Зиновьев: Поступок для меня вполне естественный. Дело
в том, что еще в школе, слушая рассказы людей о прошедших
временах, о современной жизни, о планах на будущее, меня всё
больше и больше одолевало желание разобраться в том, как и по каким
законам развивается общество, почему у большинства людей, да
и у меня самого, так трудно складывается жизнь. Мне казалось, что
ответ я смогу найти прежде всего в философии, в диалектике,
которую тогда определяли как науку об общих законах природы и
общества. Поэтому я и поступил в МИФЛИ. Но спокойно его окончить
мне не удалось. Здесь я вступил в тайный кружок, который готовил
покушение на Сталина. Меня, как и других его участников,
арестовали. В КГБ пришли к выводу, что я был простым исполнителем,
а им важно было раскрыть всю структуру «заговора»: руководителей,
связных и т. д. Поэтому было решено меня под суд сразу не отдавать,
а поселить в отдельной квартире и организовать за ней наблюдение.
О феномене А. А. Зиновьева
289
Но мне удалось бежать. Около года я скитался по стране, меняя место
проживания, а порой и фамилию. В конце концов меня всё же
обнаружили и предложили выбор: тюрьма или фронт. Прошел войну
от ее начала до конца, сражался сначала в танковых частях, а потом
в авиации. Закончил войну в чине капитана.
Мысль разобраться, что же творится в этом мире, меня никогда
не оставляла. И в МИФЛИ, и на фронте я использовал каждую
минуту для самообразования, читал книги, беседовал с бывалыми людьми,
что-то записывал. Поэтому, как только представилась возможность
вернуться в институт, я не колеблясь решил ею воспользоваться. Это
произошло при довольно забавных обстоятельствах.
Война закончилась, но наши части штурмовой авиации
оставались в Вене. В течение недели мы регулярно совершали
тренировочные полеты. Самым трудным днем был понедельник — после
воскресной пьянки. И вот в один из таких дней произошло чрезвычайное
происшествие: мы сорвали задание и даже повредили несколько
самолетов. Нас собрали на летном поле, и командир дивизии
обрушился на нас едва ли не с кулаками. «Ну, кому надоело служить в армии,
пусть открыто заявит об этом и сделает шаг», — закончил он,
уверенный в том, что таковых не найдется: все знали, что после армии
нас ждет полуголодное существование. И из всей длинной шеренги
вперед шагнул только я. «Тогда пишите рапорт о демобилизации», -
сказали мне. Написал.
А в это время началась массовая демобилизация,
расформировывались целые полки и дивизии. И сложилась комическая ситуация:
все мои сослуживцы уже ушли из армии, а я, единственный, кто
подал рапорт, по-прежнему числился на военной службе. Дело дошло
до генерала, командующего военно-воздушными силами. Он вызвал
меня и спрашивает: «Почему вы решили уйти из армии? Хотите, мы
пошлем вас на переподготовку, вас повысят в звании?» Я отвечаю:
«Это не входит в мои планы». — «Хорошо, тогда пошлем вас учиться
в академию. Станете офицером». Я снова отказываюсь. «Что же вы
хотите?» — «Я хочу реализовать свое призвание». Он молча, то ли
с одобрением, то ли подозрительно, посмотрел на меня и быстро
подписал рапорт.
МИФЛИ к этому времени перестал существовать. Его
исторический и филологический факультеты присоединились к
соответствующим факультетам МГУ, а философский был преобразован
290
Л. M. Митрохин
в самостоятельный факультет университета. Так что никаких
сомнений, куда поступить, у меня не возникало.
Л. Митрохин: Одним из главных переломных моментов твоей
жизни стала кандидатская диссертация «Восхождение от
абстрактного к конкретному (на материале "Капитала" К. Маркса)». Как ты
пришел к этой теме? Я помню, что в начале 1950-х гг. анализ
логики «Капитала» нами, студентами, рассматривался как одно из новых
и наиболее перспективных направлений философских исследований.
В то время логику, наряду с психологией, стали преподавать в школе,
был переиздан учебник Челпанова, а несколько позже вышли
учебники В. Ф. Асмуса и М. С. Строговича. На факультете была создана
кафедра логики, на которой сразу же вспыхнули споры относительно
фразы Ленина «не надо трех слов», и бурная дискуссия в «Вопросах
философии» о соотношении формальной и диалектической логики,
когда руководитель кафедры В. И. Черкесов яростно критиковал
Строговича и Асмуса за некритическое отношение к концепции
формальной логики Г. В. Плеханова и игнорирование логики
диалектической. Напомню и о годовом курсе математической логики, который
читала С. А. Яновская.
Как бы то ни было, помимо Э. В. Ильенкова (а он в 1960 г.
издал книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса»), Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий,
Г. С. Батищев, Ж. Абдильдин, В. А. Лекторский, Л. В. Скворцов и
другие прямо или косвенно заинтересовались этой тематикой. В 1953 г.
я тоже делал студенческий доклад «О логическом и историческом
в "Капитале" Маркса» на заседании кафедры Т. И. Ойзермана. Даже
M. М. Розенталь написал на эту тему толстую книгу. M. Н. Алексеев
в книге «Диалектика форм мышления» (1959) утверждал, что
ведущим специфическим методом познания в марксистской философии
является метод восхождения от абстрактного к конкретному.
Но всё это было позже. Сейчас я хочу поговорить о самой
ранней стадии широкого обращения к этой тематике, ее, так сказать,
хронологии. Меня смутили некоторые положения в предисловии
К. М. Кантора к твоей кандидатской диссертации, опубликованной
в Институте философии в 2002 г. Он пишет: «Собственно наличие
конкретного в сознании в отличие от конкретного в самой
действительности и абстракции в сознании — это то, о чем сказал Маркс, и то,
что у нас в советской философии очень четко зафиксировал
Ильенков... Последовал второй удар, мощнейший, когда А. А. Зиновьев
О феномене А. А. Зиновьева
291
предложил свою методологию восхождения от абстрактного к
конкретному... Вот, собственно говоря, то, что сделал Зиновьев в отличие
от Ильенкова». Как соотносилась твоя диссертация с книгой
Ильенкова (скажем, в понимании того, что такое диалектическая логика),
в какой мере она способствовала возникновению многочисленной
и достаточно разношерстной группы «ильенковцев» и т. д.? Да и что
это означает - «второй удар»?
Я всегда полагал, что ты занялся этой темой раньше всех и был
основоположником этого направления. Причем шел к этой теме не от
истории философии. Помню, что как-то, говоря о своем подходе, ты
упомянул аэродинамику. «Я просто попытался упростить и
формализовать логическую структуру "Капитала", и увидел, что эта операция
позволяет получить совершенно нетривиальное понимание
диалектики и логики».
А. 3.: Я поступил в МГУ в 1946 г., и тогда этой темой никто не
занимался. Когда я внимательно прочитал «Капитал», меня поразило
не столько собственно политэкономическое содержание, сколько
жесткость и разработанность его логической конструкции, и я решил,
что она может стать предметом специального исследования. При
поступлении в аспирантуру по кафедре логики я предложил ее в
качестве темы кандидатской диссертации. Ты прав: вопрос о сути и
самой возможности диалектической логики, ее соотношении с логикой
формальной тогда яростно и, в общем, весьма бестолково обсуждался
и на ученых советах, и в журнале. Например, В. И. Черкесов был
уверен, что я напишу что-нибудь на том же примитивном уровне:
формальная логика пронизана метафизикой, она устарела и преодолена
Марксом, нужно разрабатывать качественно новую диалектическую
логику, а авторитетные ссылки на «Капитал» лишь подтверждают эту
установку, с позиции которой он критиковал «метафизиков». Когда
же Черкесов увидел, что я рассуждаю на совершенно ином уровне,
то, наверное, схватился за голову. Тогда руководство кафедры вместе
с «диаматчиками» типа М. И. Мальцева, Попцова и других
организовали настоящий поход против присуждения мне ученой степени.
Теперь о хронологии. Конечно, проблемой восхождения я начал
заниматься раньше Ильенкова. Некоторые идеи на этот счет я
высказывал уже на 3-м курсе (1948), когда Эвальд еще не понимал всю
важность и масштабность этой темы. К ней он приступил позже,
подготовив книгу, которая стала событием в жизни факультета и среди
старой гвардии вызвала единодушное осуждение. Но и в ней (в этом
292
Л. M. Митрохин
К. M. Кантор прав) он подошел к процессу восхождения от
абстрактного к конкретному как философ, ограничившись общей
характеристикой этого процесса. Я же стремился, прежде всего, вычленить
в «Капитале» его логическую структуру, представить ее в
универсальной форме, позволяющей ее использовать не только в
политэкономии, но и в других научных сферах. Это, на мой взгляд, существенное
различие сохранялось до самого конца.
Думаю, что уже Ильенкову грозила опасность свести всё к идее
такой «диалектической логики», которая имитировала бы тогдашнее
понимание диалектики как «науки об общих законах развития
природы и общества, понимание, для науки бесплодное. Но Эвальд был
человек думающий, и его воззрения ломали прежние догматические
представления о сути теории познания. А вот его многочисленные
последователи, составившие так называемую «ильенковщину»,
довели изначально здравые идеи до философского бесплодия.
Я действительно указывал на единственно адекватный научный
путь решения обсуждавшейся проблемы. Ведь тогдашняя дискуссия
зашла в тупик. То есть по инерции она сохраняла какой-то
идеологический смысл (мы защищаем «чистоту марксизма»), но в научном
отношении она была бесплодной. Хорошо, мы установили, что
формальная логика противоречит диалектике (что неверно, поскольку
она имеет свой предмет и в определенных рамках сохраняет свое
значение). А что дальше? Ломать ее традиционные законы и правила,
заменяя их на «диалектические» суждения и умозаключения? Но это
же нелепость. Ничего ценного в методологическом плане такая
процедура дать не может. Остается только выхватывать примеры из
различных наук, выдавая это за демонстрацию эвристической
плодотворности метода. Но это опять-таки откат к прежнему
догматическому пониманию логики как науки обо всём.
Мой подход был совершенно иным. Восхождение — это сложный
и дифференцированный по своей структуре прием исследования,
в котором в единстве используется множество конкретных приемов
и мыслительных навыков. В то же время восхождение — не есть
схема в том дурном смысле, что его стоит лишь однажды открыть и
затем как сложную, расчлененную большую посылку силлогизма
распространять на различные частные науки. Применение его к частным
случаям должно совершаться с учетом всей совокупности развития
данной науки, начиная от конкретной задачи исследования и кончая
особенностями исследования данного предмета. Одним из приемов,
О феномене А. А. Зиновьева
293
которые при этом используются, могут быть приемы формальной
логики, например, элементарная абстракция или силлогистика,
которые ею изучаются. Но это не означает, что принципы формальной
логики, например, принцип непротиворечивости мышления,
включаются в процесс восхождения и рассматриваются как абсолютные
регуляторы этого процесса. Они проявляются в нем, как некие детали,
стороны, технические средства, осуществляющие свои конкретные
и достаточно скромные функции. На этих проблемах я
останавливался в приложении к диссертации «Отношение восхождения к приемам
формальной логики».
Таковы были мои соображения, заставившие всерьез заняться
этой проблематикой. Сказалось и другое весьма существенное
обстоятельство. Защита диссертации заняла несколько месяцев. То
ее откладывали, потом созывали ученый совет, но, поскольку он не
приходил к единогласному решению, решение откладывали до
следующего заседания. Так было трижды, и каждый раз я был вынужден
отвечать на массу нелепых вопросов, которые задавались людьми,
ничего не понимавшими и не желающими всерьез понять, в чем же
состоит суть и новизна моей работы. Наконец, было решено передать
ее непосредственно в ВАК, который в конце концов и принял
решение о присуждении мне кандидатской степени.
Л. М.: Мне бросилась в глаза еще одна особенность твоей
диссертации. С одной стороны, ты понимаешь радикальную новизну своей
работы. С другой, постоянно подчеркиваешь, что это лишь первый
шаг в создании новой исследовательской дисциплины, что работа
по изучению диалектических форм мышления, проделанная тобой
на материале «Капитала» Маркса, должна быть продолжена в сфере
других наук. Может быть, эта установка так переполошила
огнеупорных догматиков?
А. 3.: Но обстановка вокруг меня на факультете становилась всё
более враждебной. Всё это мне надоело, и в 1955 г. я перешел на работу
в Институт философии АН СССР. Естественно, прежде всего я занялся
подготовкой моей диссертации к печати. После основательной
работы я подготовил текст и показал его П. В. Копнину, который тогда
заведовал кафедрой диалектического материализма и, как человек
творческий и независимый, весьма сочувственно относился к моим
идеям. Он прочитал рукопись и сказал примерно так: «Я
полностью разделяю твою точку зрения, что в таком виде ее не разрешат
к печати. Во всяком случае, директор института П. Н. Тимофеев
294
Л. M. Митрохин
всячески препятствует публикации книги Э. В. Ильенкова на
сходную тему. Поскольку ты выступаешь в ней как логик, то советую пока
публиковать отдельные статьи по неоклассической логике, а там
посмотрим».
Л. Н.: Когда я поступил в институт (1958), то в дирекции меня
попросили на некоторое время заняться издательской деятельностью,
и я хорошо помню всю возню вокруг издания книги Ильенкова. Сам
он часто жаловался: «Федосеев по-прежнему против. Имеется,
повторяет он, классическая формулировка процесса познания: от живого
созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике. А вы ее
практически отвергаете». И сколько раз я ни пытался доказать ему,
что совершенно адекватно интерпретирую метод познания Маркса,
он стоял на своем. Как ты знаешь, ее издали только в 1961 г. У меня
сохранился экземпляр с дарственной надписью автора: «Прими сей
многострадальный труд». Эвальд тогда не подозревал, что его
главные страдания еще впереди.
А. 3.: Услышав такой совет П. В. Копнина, я подумал: скорее
всего, он прав, - и сжег рукопись.
Л. М.: Страшный поступок: пропал такой гигантский труд.
А. 3.: Пропал не совсем. Я напечатал целую серию статей, в
которых я максимально использовал содержание этой рукописи.
Позже, как ты знаешь, я составил из них книгу «Философские проблемы
многозначной логики» (М., 1960).
Л. М: Насколько я понимаю, твои логические работы получили
широкую, даже мировую известность. Почему же ты вдруг так круто
расстался с логической проблематикой и все силы сосредоточил на
написании «Зияющих высот», по существу яростного политического
памфлета, который вскоре стал мировым бестселлером? Не потому,
наверное, что власти не пустили тебя в Финляндию на конференцию
Финской академии наук?
А. 3.: «Зияющие высоты» — вовсе не первая моя работа,
затрагивающая политические проблемы. Еще во время работы в МИФЛИ,
а особенно во время пребывания в армии я написал множество
коротких пародий, сатирических эссе и рассказов о проявлениях глупости,
подхалимства, лицемерия. Они имели огромный успех у моих
сослуживцев и товарищей. Наиболее активно на литературном поприще
я трудился в Институте философии, когда я постоянно обнаруживал
свои тексты в самиздатских публикациях, часто без указания автора
О феномене А. А. Зиновьева
295
или под чужим именем. Уже одно это подталкивало меня к мысли
как-то собрать эти отдельные зарисовки и памфлеты в единое целое.
Но главное было не в этом. Со стороны может показаться, что во
всех подобных работах я выступал не как специалист (философ или
логик), исследующий сугубо научные проблемы, а в новом для себя
качестве - то ли начинающего писателя, то ли журналиста. Однако
сам я не воспринимал литературные опыты как некую параллельную
деятельность, так сказать, существующую рядом с научными
исследованиями. Для меня это была органическая часть вполне
амбициозной задачи, которую я постепенно осознавал как свое главное
призвание, а именно — строго адекватное и достоверное познание мира,
выявление скрытых механизмов, приводящих его в движение, хотя и
не бросающихся в глаза с первого взгляда. Делая зарисовки
отдельных людей или бытовых эпизодов, сочиняя сатирический рассказ
или пародию, я каждый раз видел в них способ выявления каких-то
атомов, кирпичиков, которые, складываясь в различных пропорциях
и конфигурациях, образуют общество в целом. И тогда, естественно,
рано или поздно появлялось искушение суммировать, слить эти
отдельные детали в единое целое, воссоздать общество, в котором мы
живем. «Зияющие высоты» и стали первым масштабным
результатом такой работы.
Л. М.: Помню, что все сотрудники института и «Вопросов
философии» крайне болезненно переживали тот факт, что перед отъездом
тебя лишили гражданства, всех званий, боевых наград и грубо,
жестоко выбросили в чужую, враждебную (а мы это знали) тебе среду.
Постоянно делились скудными, случайными сведениями, как тебе
живется, не сломался ли ты. Всё это невольно ассоциировалось
с судьбой А. И. Солженицына, М. Л. Ростроповича. Причем
переживали даже люди, так или иначе причастные к твоему изгнанию.
Я хорошо знал сына могущественного заведующего управления
кадрами АН СССР, генерал-лейтенанта Г. А. Цыпкина, который и
объявил тебе это решение. Так вот, по рассказам сына, отец очень
переживал эту сцену, особенно твои слова: «Геннадий
Александрович, вы же сами боевой генерал, прошли фронт и знаете цену
военным наградам. Как же вы можете требовать, чтобы я вернул свои
боевые награды?» Отец, вспоминал сын, сказавшись больным,
срочно уехал на дачу и несколько дней пил.
И вместе с тем нас долго волновал один деликатный вопрос.
Впервые о «Зияющих высотах» я узнал от Мераба Мамардашвили, когда
296
Л. M. Митрохин
отдыхал у его родственницы в Пицунде. Причем говорил он с
раздражением и упреками в твой адрес. По его словам, в главных
героях книги («социолог», «претендент», «мыслитель», «мазила» и др.)
легко угадывались реальные люди — это близкие тебе коллеги,
друзья. И разговоры, которые они ведут, довольно точно воспроизводят
реальные встречи и застолья. В книге немало и отдельных
характеристик внешности, манеры одеваться, сатирические эпизоды
поведения ибанских правителей. Так, сцена, когда вождю дружественной
африканской страны никак не удается увернуться от жарких
поцелуев главного ибанца, моментально ассоциируется с Брежневым и
запоминается навсегда. В героях «Светлого будущего» угадывается не
только Ф. В. Константинов, но и некоторые наши товарищи,
заслуживающие только уважения. Без особого труда расшифровывается
«Нелькин кружок» и его главные участники. А поскольку эти
персонажи обычно довольно критически высказываются об уродливых
порядках, царящих в Ибанске (который ассоциируется с советским),
а их поведение не отличается особыми добродетелями, то нетрудно
предположить, что партийные и кэгебешные начальники воспримут
эту книгу как неоспоримое свидетельство того, что у них под боком
назревает едва ли не идеологический заговор, и с пристрастием будут
допытываться, кто является реальным прототипом того или иного
литературного героя, действительно ли этот прототип
придерживается зловредных «подрывных» идей.
Так и случилось. Как мне рассказывали, многих из таких
потенциально подозреваемых вызывали в ЦК КПСС и настойчиво
пытались выяснить, кто такой «претендент», «мыслитель» или, скажем,
«болтун» и «клеветник». Особенно забавно было с социологом. Как
человек с «бородой», в нашей среде тогда редкой, он у тебя внешне
похож то ли на Ю. Замошкина, то ли на Б. Грушина, и компетентные
органы ломали голову, кто же он на самом деле.
А. 3.: В соответствии с моим замыслом я никак не был
хроникером, описывающим окружающих меня людей, реальные мнения и
разговоры. Я стремился выделить систему максимально типичных
для нашего общества персонажей, неких кирпичиков, создающих
специфику ибанского общежития. К тому же это было
литературное произведение, и нужно было подумать и о читателе: выдержать
и логику, и, так сказать, интеллектуальную детективность
сюжета. Естественно, исходным материалом были прежде всего люди,
с которыми был так или иначе знаком, но я стремился осмыслить,
О феномене А. А. Зиновьева
297
художественно обработать эти первичные впечатления, создать
серию характеров, различающихся между собой какими-то внешними
чертами, манерой разговоров и поведения. Но я не
профессиональный писатель, к тому же условия работы были не самыми
благоприятными. Поэтому процесс литературной обработки порой,
вероятно, оставался незавершенным. Отсюда и совершенно неожиданное
соотношение моих героев с реальными людьми. Мне остается их
только разочаровывать.
Л. М.: Прошло 15 лет, мы живем в другой стране. Теперь ты
можешь наблюдать ее непосредственно. Уверен, что эти суждения
сохранили свое значение и в личном, и в общественном смысле.
Однако много воды утекло за эти годы, и мне интересно твое мнение
о последующих событиях. Насколько точными оказались прогнозы,
которые часто встречаются в твоих работах, и чего можно ожидать
в будущем?
H. В. Мотрошилова
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 50-80-х гг. XX в.
И ФЕНОМЕН М. МАМАРДАШВИЛИ
Предисловие
Так случилось, что нынешнее «осовременивающее воспоминание»1
о Мерабе Мамардашвили — юбилейное (80 лет со дня его рождения)
и поминальное (20 лет памяти). Но оно менее всего должно быть
парадным, некритичным, сглаживающим острые углы. Это
противоречило бы духу философии и строю личности Мераба
Константиновича. Тем более что подобный подход не отвечал бы и характеру весьма
сложной, противоречивой, жесткой эпохи, на которую пришлось
становление, развитие творческой мысли Мамардашвили и других
отечественных философов, внесших заметный вклад в философскую
мысль XX в.
Анализируя их жизненный путь, его творческие итоги, нельзя не
заметить, что во всю эту ткань каждый раз конкретной деятельности
вплетено общее глубокое противоречие, больше того, включена
своего рода постоянная антиномия. Одним ее полюсом стал мощный и
повсеместный социально-идеологический прессинг, исходивший от
системы, от ее институтов, многочисленных условий и существенно
ограничивавший, порою подавлявший свободу мысли и творчества.
Избавиться от прессинга, повседневного давления, сколько я знаю,
в творческих областях не удавалось никому из тех, кто не уходил в
социальное «никуда», не переставал работать в сферах науки и культуры.
Сказать, что с этим полюсом были связаны отдельные «утраты» и
«издержки», значит сказать весьма мало. Здесь рождалась существенная
социально-историческая деформация, в свою очередь принимавшая
самые различные формы и проявления. Главное для философии -
нельзя было открыто и гласно, честно, бескомпромиссно работать в целом
ряде принципиальных и для общества, и для философии областей,
прежде всего в сферах социально-философской мысли, философии
политики, над проблемами власти и идеологии. Так беспокоящий кого-то
из сегодняшней молодежи «принцип неучастия» в политике, который
для себя избрал и провозгласил (но так часто не выдерживал последо-
1 В кавычках — термин Э. Гуссерля.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 299
вательно1) М. Мамардашвили, был ответом немалого числа
философов и других гуманитариев на саму невозможность профессионально
честной и ответственной мысли, а тем более деятельности в этих и
сопредельных областях. Здесь — один из тех самых трудных, подчас
трагических острых углов во всей области культуры, духа того периода,
сглаживать которые было бы неверно и недостойно.
Но у антиномии, нами рассматриваемой, был и другой полюс. Его
образовали именно мысль, художественное творчество, настроенные
на волну свободы, — свободы личности в различных областях духовной
жизнедеятельности, в результате чего в период 1950-1980-х гг. XX в.
были все-таки, вопреки всем препятствиям, накоплены впечатляющие,
проверенные и сегодняшним временем творческие результаты.
Напряжение между двумя этими полюсами, которые к тому
же не были взаимоизолированными, а так или иначе «заражали»
друг друга, характерно для всей эпохи, которую обычно называют
«советской»2. Впрочем, подобная антиномия полюсов подавления
и свободы мысле-творчества характерна не только для советского
периода истории. В том или ином виде она свойственна всему развитию
человеческой цивилизации с тех (очень давних) времен, когда вообще
зародилась культура, включая ее важнейшую часть, философию.
Социальные условия редко когда благоприятствовали великим умам и
талантам человечества. Напомню: куда чаще история являла
настоящие трагедии в том противостоянии внешних сил, обстоятельств
и людей духа, культуры (в том числе философов), которое
оканчивалось для последних казнями, изгнаниями, иными
преследованиями и утеснениями. Другими словами, репрессивно-подавляющая
сторона этой исторической антиномии исправно функционировала.
Но и существование другого полюса, свидетельствующего о
неодолимости стремления мыслящих личностей к свободе, о накоплении
и сохранении в веках высоких результатов их творчества, — факт,
вряд ли требующий специальных доказательств и иллюстраций.
Важно в конкретной связи нашего повествования то, что даже
в жестких, иногда смертельно опасных условиях полюс свободной
1 См. по этому вопросу: Мотрошилова Н. В. Мераб Мамардашвили:
философские размышления и личностный опыт. М.: Канон+, 2007. С. 177-180.
2 По моему мнению, этим расхожим прилагательным надо
пользоваться, особенно в философии, с сугубой осторожностью, тем более когда речь
идет о мыслителях типа и ранга Мамардашвили.
300
H. В. Мотрошилова
мысли и высочайшего творчества оказывался неуничтожимым. Что
отчетливее проступало и проступает по прошествии длительного
времени после создания таких творческих результатов. Но уже и
историческая дистанция в 50-60 лет тут многое проясняет.
Вот и для историко-философских исследований, каковые
требуются в случае Мамардашвили и других его современников1, сейчас
имеются более благоприятные, чем прежде, возможности. Вместе
с тем вызовы, самой новой эпохой предъявленные таким историко-
философским разысканиям, более глубоки и многообразны.
Историки философии поставлены перед необходимостью выходить за
сложившиеся пределы и ограничения своей дисциплинарной области,
в частности осваивать и применять методы смежных гуманитарных
областей: социологии познания (в том числе познания
философского), социологии науки, культуры. (К слову, это для меня лично еще
с молодости освоенные сферы теоретической работы.)
Прежде всего, встает задача более конкретно, более
многослойно, чем это обычно делается при самых общих отсылках к «эпохе»,
проанализировать специфику социально-исторического периода
развития нашей страны начиная с 50-х гг. XX в., чтобы вникнуть
в конкретные особенности цивилизационного, эпохального и
ситуационного социокультурного контекста2, которые позволяют понять
специфику развития общества, культуры, духа и на протяжении всей
послевоенной истории, и истории каждого десятилетия.
Специфика социокультурного контекста 50-х гг. XX в. и философия
Результаты проделанного мною анализа (в более полном виде
имеющиеся в книге, подготовленной для печати) здесь могут быть пред-
1 Эта предлагаемая читателям небольшая работа является частью
солидного массива моих исследований истории отечественной философии второй
половины XX в. Среди них книга «Мераб Мамардашвили: философские
размышления и личностный опыт» (М: Канон+, 2007); статьи в книге о Мамардашвили
в серии «Философия России второй половины XX века» (М.: РОССПЭН, 2009);
статьи, посвященные памяти И. Фролова, Б. Грушина, Ю. Левады, Э. Араб-оглы,
Ю. Замошкина, а также юбилеям В. Степина, А. Гусейнова, Л. Микешиной,
А. Доброхотова и др. Мною также подготовлена к печати книга «Отечественная
философия 50-80-х годов XX века и западная мысль».
2 Подробнее об этих срезах анализа см.: Мотрошилова Н. В.
Социальные корни немецкой классической философии. М.: Наука. 1990.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 301
ставлены в самом кратком виде. Сначала скажу о главных, с моей
точки зрения, чертах социокультурного контекста, в котором
развивалась также и философия нашей страны как к началу 50-х гг. XX в.,
так и в самом этом десятилетии.
Здесь приходится констатировать не только существование
упомянутой антиномии, но даже ее заострение, появление болезненных
парадоксов.
Известный факт: как раз на вторую половину 1940-х гг. (когда
страна лежала в руинах, а население голодало и бедствовало)
пришлись разгромные партийные постановления, обрушившиеся на
наиболее яркие явления тогдашней отечественной культуры. А по
философии идеологический каток прошелся еще раньше: ведь партийные
идеологи и судьи «нашли время» заклеймить III том «Истории
философии» (это было, к слову, одно из лучших философских учебных
пособий) тогда, когда еще шла страшная война... И после войны, во
второй половине 1940-х гг., идеологическая хватка власти не
ослабевала. Репрессивные идеологические механизмы смазывались и
крутились и в 1950-х гг.
В подготовленной к печати книге, опираясь на документы, на
прекрасные исследования ряда авторов, например, Г. Батыгина, А. Огур-
цова и др., я подробно показываю, сколь активная и разветвленная
«деятельность» различных, прежде всего партийных, инстанций
обеспечивала стойкое присутствие подавляющего свободу полюса
социального контекста. И все-таки 1950-е гг. даже и в проявлениях этого
полюса антиномии заметно отличались от 1940-х. Если не
учитывать сумму новых факторов, нельзя понять, почему и как зародились
творческие силы в сферах духа, культуры, включая и философию.
Говоря коротко, изменения и послабления состояли — после
смерти Сталина в 1953 г. и особенно после XX съезда КПСС -
сначала в сдерживании массовых репрессий, а затем и в их
официальном осуждении. Причин, как мы увидим, было немало. Одна из
них - уже было невозможно обрушивать такие репрессии на народ-
победитель, который понес во время войны страшные жертвы и
теперь должен был восстанавливать лежавшую в руинах страну.
Какими бы непоследовательными, противоречивыми, колебательными
ни были послабляющие, в том числе реабилитационные, процессы
середины 1950-х гг., никак нельзя не видеть их громадное
воздействие на жизнь, деятельность, сознание, ценности людей, в том числе,
а возможно — в особенности занятых в духовно-творческих сферах.
302
H. В. Мотрошилова
Немалое влияние состояло в таком социально-психологическом
изменении: стал отступать страх, в 1930-1940-е гг. пронизывавший
бытие и сознание всех без исключения слоев и поколений, — страх
человека оказаться в ГУЛАГе, за решеткой, поплатиться за
несуществующие «преступления» самой жизнью, своей и своих близких.
В 1950-е гг. страх как бы отступил даже в жизни поколений, которые
в прошлом были им охвачены. А для вновь вступавшей в
сознательную жизнь молодежи страх уже не был стойкой чертой
повсеместного и повседневного состояния индивидов.
Более того, жизнедеятельность, сознание, ориентации, ценности
довольно большого числа людей в нашей стране проникались
стремлением жить и действовать свободнее, самостоятельнее, достойнее.
Высоко поднятые и массово проявлявшиеся во время войны
ценности патриотизма продолжали определять поведение и внутренний
мир «поколения победителей» — и прежде всего тех людей, которые
вернулись с чудовищной войны с гордым сознанием выполненного
долга и перед родиной, и перед всем миром. Они, освободив другие
народы от фашистского ига, вновь и вновь задавали (подобно нашим
отдаленным предкам) вопрос: почему так плачевно обстоят дела со
свободами и правами человека на их собственной родине?
К философии вчерашние фронтовики тоже имели прямое
отношение: ведь они, еще достаточно молодые люди, принесли на
философские факультеты, куда после войны поступили учиться или
продолжать учебу, подобные ценности и умонастроения. Те из них, что
впоследствии стали известными и выдающимися философами (А.
Зиновьев, Э. Ильенков, Т. Ойзерман, В. Келле, А. Гулыга и многие
другие), стали своего рода символическими фигурами для философии,
культуры и тогдашнего, и последующего периодов. Э. Ю. Соловьев
верно написал в одном из своих стихотворений о влиянии, которое
они оказали на нас, вчерашних школьников: «Все мы вышли из
шинели, из шинели Эвальда и Сашки...» (имея в виду Эвальда
Ильенкова и Александра Зиновьева).
Нелишне напомнить, что сходные явления в тот период можно
было наблюдать в становлении новой литературы, кинематографии,
других областей культуры послевоенной России.
Полагаю, среди наиболее важных социальных условий и
предпосылок, проявивших свое действие к концу 1940-х, в 1950-х, а также
в 1960-х гг. (они сильно повлияли и на философию), следует назвать
становление и приход к профессиональной, социальной — в том чис-
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 303
ле творческой — активности, а сначала, разумеется, в сферу обучения
самых молодых поколений. Это были дети войны, зачастую
потерявшие на фронтах отцов, иногда и матерей, других близких; при утрате
кормильцев им приходилось надеяться на самих себя.
Дополнительное обстоятельство (существенное не только для
философии: согласно проведенному мною исследованию (его
источники — справочники, энциклопедии с биографическими данными)),
лишь около 5 % молодых, составивших впоследствии основную массу
докторов и кандидатов философских наук, родились и заканчивали
школу в Москве, Ленинграде, других крупных городах. А более 95 %
родилось даже не в городах, а в «весях» - деревнях, райцентрах,
небольших городках нашей необъятной страны. Парадоксально, но
они, несмотря на все бедствия и лишения войны, а также первых
послевоенных лет — благодаря упорному труду, талантливости —
хорошо учились (кстати, нередко у педагогов, сохранившихся еще с
дореволюционных времен), готовились к поступлению в лучшие вузы
страны, широко распахнувшие свои двери для масштабных
послевоенных приемов, и напористо завоевывали их!
Оказалось - и подтвердилось историческим опытом, что у
представителей послевоенных молодых поколений ценности свободы,
творчества, профессионализма, личностного достоинства, рвения
в освоении богатств духа и культуры выдвинулись на передний план.
Этому в значительной степени способствовали подспудные циви-
лизационные социально-исторические процессы — прежде всего то, что
послевоенные годы стали эпохой развертывания научно-технической
революции. О ней сначала не так много говорили, даже и сам термин
НТР не был в ходу. Но вызовы научно-технической эпохи чем дальше,
тем больше давали о себе знать, входили в миры сознания, ценностей,
ориентации индивидов, социальных групп, целых поколений. Нельзя
сказать, чтобы «ценности» партийной преданности, идеологического
фанатизма и т. д. исчезли из жизни, ибо «работа», направленная на
их поддержание и воспитание, велась огромная, разветвленная,
целенаправленная, наконец, дорогостоящая. Но в 1950-1960-е гг. на
сознание многих людей и в нашей стране уже не могли не повлиять
ценности профессионализма, квалифицированного труда, управленческой
ответственности и т. д. Что самое, пожалуй, существенное — эпоха
НТР объективно затребовала большую массу научно-технических
специалистов. Ученые (прежде всего в естественных и технических
науках), инженеры, организаторы крупных технических проектов
304
H. В. Мотрошилова
постепенно становились престижными социальными фигурами.
Идеологические инстанции упорно принуждали в книгах или
фильмах ставить «рядом» секретарей райкомов, парткомов, но и их облик
эпоха заставляла изменять соответственно требованиям добротного
профессионального труда.
Такие или подобные конкретные, эпохальные и ситуационные
социально-исторические изменения (их было много, но вдаваться
здесь в детализированную картину невозможно) воздействовали
также и на философию.
Зарождение неортодоксальных тенденций в философии 50-х гг.
Об этих тенденциях буду говорить далее, ближе соотнося их с темой
статьи, касающейся творчества М. Мамардашвили в
социокультурном контексте того времени.
Путь Мамардашвили в 1940-1950-х гг. может служить и
подтверждением, и иллюстрацией ранее сказанного. Мераб
Мамардашвили родился в Грузии, в местечке Гори, 15 сентября 1930 г. —
родился тогда, когда другой уроженец этого городка, Иосиф Сталин,
прочно занял место у руля правления нашей страной, во многом
определив драматический ход дальнейшего развития ее истории.
(Кстати, Мераб Константинович, когда он стал самостоятельным
мыслителем, сформировал и никогда не менял резко критическое
отношение к Сталину и сталинизму1). В 1949 г. с золотой медалью
окончив школу в Тбилиси, Мамардашвили поступил на философский
факультет МГУ; в 1950-х гг. он был его студентом (1949-1954), а
потом и аспирантом (1954-1957).
В те годы наша страна вступила в исторический период своего
развития, во многих отношениях обновляющий, но и в высшей
степени противоречивый. В том числе с точки зрения обострения
антиномии, о которой говорилось раньше.
Прежде чем подробнее разбирать эту тему конкретнее, отметим:
одним из очень важных локусов движения к новым идеям,
ценностям, социальным преобразованиям оказались отечественные
университеты. (Кстати, здесь — институциональный аспект анализа
социокультурного контекста, роль которого справедливо акцентирует
1 Мамардашвили М. К. Философские наблюдения и заметки //
Мамардашвили М. К. Мой опыт нетипичен. СПб.: Азбука, 2000. С. 355, 373, 376.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 305
социология познания. Ибо роль университетов в человеческой
истории со времени их зарождения вообще была достаточно высокой; но
это особая тема.) Специфика момента в жизни нашей страны
состояла в наличии и обострении уже обсуждавшегося цивилизационного
противоречия, которое мы теперь уточним применительно к слою
научной интеллигенции, а также к институциям духа и знания.
Положение тоже было противоречивым.
С одной стороны, репрессии 1930-1940-х гг., в том числе
идеологические, нанесли мощный удар по научно-технической
интеллигенции; с другой стороны, в 1950-е гг. НТР затребовала на арену истории
этот слой, способствовала и его численному расширению, и усилению
исполняемой им социальной роли. Власть вряд ли была готова в
полной мере и без идеологических искажений осознать и признать это,
но необходимость конкурентно создавать новые системы
вооружения в условиях холодной войны заставляла и ее хотя бы в некоторой
степени подчиниться велениям эпохи. На смену выбитым
репрессиями, а потом и войной образованным слоям должны были прийти и
действительно пришли люди новых поколений. На возникший
вызов времени в послевоенный период отвечали прежде всего с
помощью университетов, вузов, значительно усиливших свое социально-
историческое значение. Можно утверждать, что даже в последующие
десятилетия развертывания НТР, включая и сегодняшний день, роль
университетов, вузов никогда не была столь существенной в
социальном, цивилизационном отношении, как это произошло в 1950-
1960-х гг. прошлого века. В частности, благодаря вузам - и крупным
университетам в первую очередь — за пару-другую послевоенных
десятилетий в нашей стране сложились замечательные научно-
технические школы во многих решающих областях знаний. И если
бы не преступное продолжение инициированных идеологической
верхушкой партии разгромных действий в отношении науки
.(вспомним кампании против генетики или кибернетики), то результаты
были бы более впечатляющими. (Вдаваться в детали этих сложных
процессов здесь не представляется возможным.)
Нас интересует положение, сложившееся в философии,
поскольку она (и в буквальном, и в переносном смысле) тогда развивалась
под единой крышей университетов. (Причем, что было весьма
благоприятно, университетов наиболее крупных, ибо лишь они имели
философские факультеты или отделения.) Тут особенно важны
некоторые исторические факты, вернее блоки фактов.
306
H. fî. Мотрошилова
Факт первый. В силу обстоятельств, о которых ранее шла речь,
на философские факультеты пришли одаренные, готовые трудиться,
устремленные к свободе и профессионализму молодые — и пришли
не единицы; в вузы они влились, что называется, целыми
«квантами». Когда среди философов тех поколений выделяют имена А.
Зиновьева, М. Мамардашвили, Г. Щедровицкого и других, то это
отчасти оправданно, но в целом и главном не вполне справедливо и
точно. Ведь дело в том, что сколько-нибудь полный список имен тех
студентов, аспирантов одного только философского факультета МГУ
конца 1940-х и 1950-х гг., которые сегодня занимают почетное
место в истории профессиональной, исследовательской отечественной
философии второй половины XX в., должен включать многие
десятки имен. (Кстати, когда я начинала свое упомянутое исследование,
то предполагала существование этого факта. Однако меня удивило,
сколь много имен честных, профессиональных философов надо было
упоминать применительно к различным областям философского
знания.) Итак, описываемый факт подтвержден тогдашней и
последующей историей отечественной философии. Его акцентируют как раз
сформировавшиеся в те времена самые крупные философы. И среди
них — Мамардашвили.
В интервью, которое он за год до смерти, в 1989 году, — как
оказалось, подводя итоги, — давал для киевского журнала «Философия и
социологическая мысль», интервьюер (Ю. Прилюк) настойчиво
просил выделить какие-то имена коллег, друзей, в том числе
университетского времени. Мераб Константинович отдельные имена перечислять
не стал, причем по принципиальным соображениям. «Могу, - сказал
он, — назвать общую атмосферу философского факультета
Московского университета, сформировавшуюся в 1953-1955 гг. Имена я,
конечно, помню, но выделить их из общей атмосферы взаимной
индукции мысли — нет, это невозможно. Да и не имена важны, а сама
эта атмосфера общения, эти искры озарения, творчества... Многие из
нас, варившиеся в этой атмосфере, стали совсем непохожими
философами, и это нормально; важно, что они стали ими, состоялись как
интересные личности»1.
Факт второй. Уже во время учебы на философских факультетах,
а особенно на последующих этапах творческой работы представите-
1 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию //
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 35 (курсив мой. - Н. М.).
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 307
ли молодых поколений стали действовать совместно. С точки
зрения социологии познания, науки и культуры правомерно говорить
о формировании уже в 50-х гг., во время студенческого и
аспирантского обучения, объединений философов, сначала небольших, но
активно взаимодействовавших друг с другом. Затем они расширялись,
увеличивались в числе и заметно набирали силу, влияние в стране.
Они постепенно составили новое философское сообщество. В 1960-х
его «отделы» существовали по всей стране — при университетах,
академических и иных учреждениях Москвы, Ленинграда, Минска,
Новосибирска, Ростова-на-Дону, столиц тогдашних республик СССР,
других городов. Там возникли и развились теперь уже известные
философские школы1. Характерно, что приют для деятельности
неортодоксальных философов, притесняемых и вытесняемых с мест работы
партийными и иными инстанциями, часто давали нефилософские
структуры и учреждения (что можно видеть, скажем, на примере
Мамардашвили, Щедровицкого и других опальных философов).
Существенным обстоятельством было предоставление им
трибуны для гласного выражения новаторских идей, нередко политически
«неблагонадежных». Поддержка философам исходила, в
частности (что представляет важную специальную тему), от
естественнонаучных институций, от соответствующих сообществ.
Примером может служить тогдашний физический институт,
сейчас носящий имя Курчатова, где под руководством Ю. Кагана
(сегодня он один из наиболее известных в стране и мире отечественных
физиков) функционировал своего рода центр для удивительно
свободного обсуждения животрепещущих проблем бытия, знания и
сознания, духа и культуры, в том числе проблем философских. Другие
примеры — работа философов в центрах научных моногородов
(Дубна, Обнинск и др.).
Отмечу в данной связи два важнейших момента. Первый из них:
специфика нового внутрифилософского сообщества состояла в том,
что оно долгое время (видимо, до середины 1970-х гг.) было неинсти-
туционализированным, не закрепленным официально и формально.
Вместе с тем оно включало в себя людей, мысливших и работавших
самостоятельно, индивидуально, но разделявших (относительно)
1 Подробнее о них см.: Лекторский В. А., Огурцов А. П. Философия
в СССР и постсоветской России // Новая философская энциклопедия. Т. IV.
М.: Мысль, 2001. С. 202-206.
308
H. В. Мотрошилова
единые общесоциальные, профессиональные, личностные ценности.
Последние, как оказалось, стали достаточно мощным — «незримым»,
именно духовным — сплачивавшим и защищающим фактором. Это
было тем более важно, что со времени своего сколько-нибудь
заметного оформления неофициальному, неортодоксальному
философскому сообществу пришлось противостоять структурам и сообществу
официального, ортодоксального характера. А именно противостоять тому,
что официально именовалось «философией», хотя в значительной
своей части было идеологией ортодоксального марксизма-ленинизма.
Новое сообщество, разумеется, не было и не могло быть отделено от
господствовавших в то время официальных структур, институций и
верных им ортодоксальных сообществ. В частности, философы —
носители новых идей и ориентации по целому ряду параметров зависели
от формальных, официальных правил, установлений, ритуалов и
систем контроля. А без хотя бы минимального, хотя бы внешнего
подчинения им на протяжении советского периода (вплоть до краха всей
системы) нельзя было ни получить работу в официальных
институтах системы (впрочем, других институтов для философов вообще не
было), ни защитить диссертацию, ни опубликовать статью, тем более
книгу. В случае если молодой человек хотел работать в философии —
а она, верно говорил Мамардашвили, есть «сознание вслух»,
публичное сознание, — то выбора, по сути, не было: после учебы оставаться на
философском факультете, поступать на работу в Институт философии
АН СССР - или уходить из профессии.
Напомню, что преподавания философии в вузах в то время не
было, так что получить работу по философской специальности
после окончания университета для ряда выпусков было трудной
проблемой. (И некоторые известные теперь ученые вынуждены были
несколько лет пробиваться к философской работе.) Проблему мест
работы разрешило постановление о введении преподавания
диалектического и исторического материализма во всех вузах, в
результате чего некоторое время существовал просто-таки бумовый спрос на
выпускников философских факультетов.
Здесь мы снова сталкиваемся с парадоксом. Властвующие
инстанции мыслили с помощью идеологизированного преподавания
философии усилить контроль над умами широко затребованных, как было
сказано, специалистов разного профиля. Замысел отчасти
оправдался, ибо система такого преподавания строго контролировалась и цен-
зурировалась как сверху, так и изнутри (кондовыми диаматчиками
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 309
и истматчиками). Однако совокупный эффект всё же оказался
незапланированным, неидеологизированным. И именно потому, что
представители неофициального сообщества, составившие заметную
новую часть преподавательского корпуса, стали - в постоянной
борьбе, но всё упорнее и настойчивее — учить студентов
профессиональной, исследовательской философии. Особенно явно это было не
в преподавании обязательных курсов, а в случаях спецкурсов, число
которых неуклонно росло. Это подтверждается на примере
Мамардашвили и немалого числа других философов.
Конечно, философы, по своим ценностям и ориентациям близкие
Мамардашвили, переживали упомянутые сосуществование и
зависимость как болезненное противоречие своей жизнедеятельности, о
котором некоторые молодые, слава богу, теперь могут говорить
свободно и отстраненно. Однако было в жизни тогдашних гуманитариев
свое, притом устроенное, отвоеванное ими самими «отстранение».
Они обрели его благодаря постоянному сопротивлению, главным
образом в форме сознательного и стойкого неучастия в
официальных псевдофилософских процессах и вакханалиях. Ныне
совершенно ясно, что благодаря таким, как будто только негативным
установкам неучастия сформировался стиль жизнедеятельности, имевший
вполне позитивным результатом причастность к формам и типам
той высокопрофессиональной философской работы, которая
обладает внутренней способностью если не полностью, то в большой
степени перешагивать через границы и ограничения отдельных времен,
социальных систем, идеологических «превращенных форм». А в
результате — пробиваться к самому ядру философских исследований.
В этих процессах существование и укрепление философского
сообщества было, несомненно, весьма важным поддерживающим
и сохраняющим фактором. Между людьми, относившими себя,
да и объективно отнесенными к неортодоксальному сообществу,
не просто складывались дружеские и коллегиальные отношения
(хотя и этот существенный житейский фактор неправильно
сбрасывать со счетов). Еще важнее, что внутри сообщества
господствовал живой творческий, содержательный интерес причастных
к нему индивидов к формировавшимся тогда идеям, концепциям
друг друга. Продолжалась упомянутая Мамардашвили «взаимная
индукция» более свободной философской мысли. Как
упоминалось, возникли и закрепились локусы общения этих молодых,
легких на подъем, охотно и страстно дискутировавших друг с другом
310
H. В. Мотрошилова
философов. Никем сверху не назначенные (и, кстати, бывшие под
подозрением у официозов) семинары, конференции проводились
то в одной, то в другой — и тоже более свободной — институции.
Если требовалась взаимовыручка, то ее в неофициальном
сообществе оказывали друг другу с полной готовностью.
Еще одно обстоятельство, которое на первый взгляд может
показаться несущественным, но на деле было крайне важным, — никем
специально не устроенное, но фактически бытовавшее
бойкотирование в этом неофициальном сообществе ортодоксальной,
псевдофилософской литературы. Сложилась привычка ее попросту не читать
(если не было официальной «принуды», которую в
функционировании институций трудно было избежать полностью) и не
использовать. Сложнее обстояло дело с сочинениями классиков марксизма-
ленинизма, без ссылок на которые никак нельзя было обойтись, и не
только в философии, но и в других общественных и гуманитарных
науках, за чем бдительно следили в издательствах и курирующих их
инстанциях. Однако и здесь были объективные возможности
научного, исследовательского характера, которые широко использовались
представителями неофициального сообщества. В моей книге,
подготовленной к печати, подробно показано: благодаря тому, что
отдельные идеи Маркса имели исследовательский характер, некоторые
философы нашей страны достаточно сознательно использовали их
творческую разработку для освобождения от ортодоксии
ленинизма (пример марксоведческих исследований Мамардашвили — один
из наиболее ярких, но он далеко не единственный). Раз непременно
требовалось цитировать классиков марксизма, то именно из Маркса
выбирались цитаты, теоретически релевантные той или иной
области философских знаний.
Так и сложилась причудливая ситуация: внутри философии СССР
уже начиная с 1950-1960-х гг. сосуществовали, подчас вступая в
открытые конфликты1, два типа работы, соответственно, два типа
коммуникации и сообществ, нередко как бы располагавшихся в
«параллельных мирах». Постепенно, в ходе смены поколений,
неофициальное сообщество стало численно, а особенно в ценностно-
мотивационном отношении преобладать и в деятельности фило-
1 Таковых было немало, в том числе в исключительно сложных
условиях второй половины 1970-х гг., но говорить здесь о них специально не
представляется возможным.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 311
софских институций. (Кстати, этот процесс не был однозначно
положительным, но это другая тема.)
Касательно силы, влияния, которые постепенно набирали
неофициальные сообщества, надо учитывать и второй, на этот раз вне-
философский фактор. О нем уже отчасти шла речь. В общей форме
надо подчеркнуть: то были многообразные типы сообществ, круги
межличностного, коммуникационного перекрестного влияния,
взаимоподдержки, которые охватывали культуру как целое, сферы духа,
в том числе на интернациональном уровне. В случае Мамардашвили
здесь непосредственно наблюдаемая сторона его жизни.
(Применительно же к философии как интегральной части отечественной
культурной коммуникации советского времени можно, да и нужно было
бы конкретно вычертить целую систему там и здесь пересекавшихся,
взаимодействовавших кругов общения философов и между собой,
и с другими заметными центрами творчества.)
Резюмируя сказанное на эту тему, можно сказать: на целые
десятилетия растянулось сложившееся начиная с 1950-х гг. причудливое
и болезненное сосуществование-противостояние официального,
идеологически ортодоксального и неофициального, неортодоксального
сообществ. Впрочем, такое противостояние тоже не было
исторически уникальным; нечто подобное имело место в предшествовавшей
истории мысли в периоды, когда возникала новаторская
философская мысль, когда ее представители так или иначе объединялись
в противостоянии консервативному философскому мышлению1.
Вот почему был прав Мамардашвили, когда он ретроспективно
описывал сложившуюся ситуацию в терминах цивилизационных
противостояний и вызовов, в очередной раз проявивших свое действие
также и в истории отечественной философии. Он подчеркивал, что
и здесь действовала общецивилизационная потребность в
продолжении и обновлении профессионального философствования.
Процитирую Мамардашвили: «Потребность была - философия находилась
в определенной ситуации. В ней уже в 50-е годы, параллельно тому,
что происходило в политике, появились цивилизованные люди. С моей
точки зрения, их лучше назвать не либералами. Это просто
цивилизованный элемент, абсолютно необходимый в любом нормальном
1 Анализ сходных структур и тенденций на примере немецкой
классической философии см.: Мотрошилова Н. В. Социально-исторические корни
немецкой классической философии. М.: Наука, 1990.
312
H. В. Мотрошилова
обществе. Это были неплохие профессионалы своего дела: логики,
эпистемологи, занимавшиеся теорией познания, историки
философии. То есть специалисты тех дисциплин, в которых можно было
работать даже в те времена, выбирая темы, не связанные с
политикой. Разумеется, весьма спекулятивные и абстрактные, но такие темы
всегда существуют в философии. И мы ими занимались. Поколение,
о котором я говорю, сформировалось фактически уже к середине
50-х годов»1. Здесь простое, но очень важное и точное свидетельство.
Ибо размежевание между двумя сосуществовавшими (верно, что уже
с середины 1950-х гг.) сообществами шло: а) через противостояние
форм философского профессионализма целиком или по
преимуществу идеологическим действиям и продуктам2, имевшим скорее не
философскую суть, а внешний, притом псевдофилософский
«орнамент»; б) через избрание представителями неортодоксального
сообщества внутрифилософских тем и областей специализированной
работы в соответствующих дисциплинах философии. В эти области
путь идеологам-контролерам был если не совсем заказан, то
существенно затруднен. Там философия, и не впервые в истории, как бы
сохраняла самое себя и создавала ниши (конечно, не полностью
свободные и безопасные) для людей, работавших на этих
тематических и дисциплинарных полях. И не случайно увеличивалось число,
росло влияние таких специальных дисциплин. Некоторые —
например, история и философия науки — приобретали новый вид и шире
вторгались в философию нашей страны под немалым влиянием
мирового опыта, постепенно превращаясь в профилирующие разделы
философского знания.
1 Мамардашвили М. К. Мой опыт нетипичен // Мамардашвили М. К.
Мой опыт нетипичен. С. 393 (курсив мой. — Я. М.).
2 Противопоставление исследовательской философии и идеологии
в моих текстах не следует читать так, будто я отрицаю возможность и
необходимость исследовательского подхода к идеологии, ее продуктам или
подвергаю сомнению оправданность самого существования идеологии. Когда
какая-либо социальная группа объективирует, обосновывает свои цели и
задачи, она строит (и должна строить) идеологию, предлагает идеологические
продукты. Это лучше всего делать открыто, гласно и профессионально.
Против чего я резко возражаю, так это против попыток тотального превращения
философии в идеологию (такие «обоснования» советского времени
конкретно разбираются в моей подготавливаемой монографии) — и тем более против
привлечения философии к «обоснованиям» тоталитаристской идеологии.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 313
Факт третий — это выход отечественной философии на
протяжении всего анализируемого периода из прежней изоляции от мировой
философии, более основательное изучение зарубежной литературы,
содержательное исследование главных течений европейской и
восточной мысли. Не упуская из виду все трудности, противоречия,
непоследовательности соответствующих процессов, неверно не
признавать (следуя, в частности, точным высказываниям Мамардашвили)
цивилизующей роли этой просветительской деятельности
философов. К сожалению, она долгое время из-за идеологического
давления была вынуждена существовать в неадекватных рамках
«критики буржуазной философии». Надо учитывать также, что все такого
рода внутрифилософские процессы тоже были вписаны и в общие
социально-исторические сдвиги 1950-1960-х гг., временами
приводившие к потеплениям, к разрядке международной напряженности,
но и испытывавшие на себе непоследовательности этих широких
социальных процессов.
В общем же смысле смена ситуаций оттепели
социально-политическими заморозками так или иначе сказывалась на колебаниях
внутрифилософского климата. В своей книге, которая уже не раз
упоминалась, я отдельно и специально разбираю применительно к
избранным проблемно-дисциплинарным блокам философии ситуации
1950-х, 1960-х и очень трудных, как ни парадоксально, 1970-х гг.
XX в. Здесь же приходится ограничиться сказанным и перейти
к краткой характеристике того, что правомерно назвать «феноменом
Мамардашвили».
Особенности феномена Мамардашвили
«Быть философом — это судьба...»
Прежде всего, верна, даже тривиальна мысль о том, что
выдающимися представителями различных областей культуры становятся люди,
наделенные прирожденным талантом. Он, как правило, получает
огранку благодаря немалому и упорному труду, образованию и
самообразованию, а также благодаря многим перекрестным влияниям.
Но особенно результативной и впечатляющей творческая
деятельность становится в случае органической прилаженности таланта к
избранной личностью сфере творческой жизнедеятельности. Эта мысль
тоже тривиальна, хотя совсем не само собой разумеющимся фактором
314
H. В. Мотрошилова
становится подобное совпадение, согласование в реальной жизни.
Исток феномена Мамардашвили оправданно видеть как раз в
полноте и глубине такого совпадения применительно к его философским
занятиям. Недюжинный, оригинальный ум Мераба
Константиновича развился именно как ум философский - и в общем смысле, и во
многих конкретных смысловых оттенках этого понятия.
Отсюда в свою очередь проистекало удивительное
соединение личности Мераба Константиновича с философским делом,
что запечатлелось, в частности, в массе его исповедальных смыс-
ложизненных высказываний-формул: «Быть философом — это
судьба...» Философия, писал он, «может быть и профессией.
Но гораздо важнее то, что она — часть жизни как таковой. Если,
конечно, эта жизнь проживается как своя, личностная,
единственная и неповторимая»1. Он и прожил свою, увы, безвременно
оборвавшуюся жизнь так, что философия всегда оставалась его делом,
больше того, уделом, т. е. призванием - выбором,
предполагавшим неотлагаемый и ни на кого не перелагаемый, личностно
понимаемый труд философской мысли.
С этими личностными, судьбинными устремлениями тесно
взаимосвязано то особое теоретическое и практическое внимание,
которое философ Мамардашвили уделил темам метафилософии, т. е.
философской же рефлексии над самой философией. Казалось бы, любой
философ хоть когда-то должен поразмышлять над такими
проблемами. На деле же далеко не все философы, в том числе профессионально
занимаясь своим специальным делом, основательно задерживаются
на метафилософских размышлениях. Мамардашвили же никогда
не прерывал свое глубокое, сложное, личностно окрашенное, часто
и тревожное размышление о философии, соответственно,
предпринимая новые и новые попытки разъяснить смысл, значимость
философствования нефилософам.
В условиях, когда «философия» представала как официальная,
извне навязанная идеологическая программа (которую партийные
верхи упорно хотели — но так и не смогли — перевести на уровень
личностной интериоризации), изначальная апелляция
Мамардашвили к делу и труду глубоко личностного философствования не имела
ничего общего с официозными установками. Тем более после того,
как многих заметных, ярких, а особенно выдающихся философов
1 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. С. 28.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 315
не только вытесняли из философии, но и изгоняли с родины...
Личностная преданность исследовательскому философскому труду,
которую сразу, в сущности, изъявил (подобно другим коллегам)
молодой мыслитель Мамардашвили, могла по крайней мере
насторожить вне- и внутрифилософских надсмотрщиков.
Настороженность превращалась в прямые подозрения и обвинения, когда
наиболее ревностные (и прозорливые) из них хотя бы отчасти вникали
в более конкретные метафилософские разъяснения Мамардашвили.
А вникнув, в очередной раз запрещали его лекции или издание его
трудов, чем в свое время лично и конкретно озаботился, например,
секретарь ЦК КПСС В. Зимянин.
Ибо Мамардашвили подробно и полностью неортодоксально
разъяснял: философия невозможна без свободы — как в смысле
спонтанности акта философского мышления, так и борьбы за свободные
условия его существования и выражения.
Он постоянно проговаривал в своих лекциях, что «философия
(и мысль вообще) не может и не должна почтительно замирать ни
перед чем». И отстаивал свое убеждение: подобная
«непочтительность» вытекает из природы самой философии и философского акта
мысли. Ведь философские понятия, которые кажутся застывшими,
«вечными», заведомо данными, каждому философу в его реальном
философском опыте приходится «обсуждать каждый раз заново»1,
делая это именно свободно, от самого себя, не переставая наполнять
их жизненным и теоретческим смыслом и корректируя, вновь
возрождая их.
Есть еще одна смысловая связка, а одновременно и социально-
историческая функция философии, акцентируемая у
Мамардашвили2: где бы и как бы философская мысль ни создавалась (в
дискурсе школы, будь это платоновская Академия, Ликей Аристотеля
или в уединенном убежище мыслителя), но философия как бы по
определению есть, согласно Мамардашвили, «сознание вслух»,
«явленное сознание»: «Если вы хоть раз вкусили свободу, узнали
ее, то вы не можете забыть ее, она — вы сами». Философия к тому
же в значительной своей части посвящена исследованию сознания,
1 Мамардашвили М. К. Введение в философию // Мамардашвили М. К.
Мой опыт нетипичен. С. 86.
2 Мамардашвили М. К. Философия — это сознание вслух //
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 58.
316
H. В. Мотрошилова
а «сущностью феномена сознания, — писал и говорил
Мамардашвили, — является свобода»1.
Отсюда выводились более конкретные идеи
социально-философского, социально-гражданского плана, касающиеся философии
и не только ее. Это простая - и в других условиях вроде бы
элементарная, но в несвободном государстве и для его идеологии
крамольная — идея о том, что без агоры, т. е. свободного демократического
и публичного обмена мнениями, суждениями, ценностями, с одной
стороны, невозможно сколько-нибудь широкое и содержательное
развитие философии, а с другой стороны, она даже и в несвободных
условиях может продолжать свое развитие, если все-таки существует
сообщество и граждански зрелое сознание людей, взявших на себя
труд свободной по определению философской мысли.
Размышления над смыслом и сутью философии, над
призванием философа находят продолжение и в других проблемных
разделах творчества Мамардашвили. Прежде всего — в его историко-
философских разветвлениях.
Историко-философские размышления
Применительно к проблемной части этой темы особенно важно
осознать специфический характер историко-философских
элементов творческого наследия Мамардашвили. Кстати, когда эта
специфика не осознаётся и не признаётся, возникает искушение — ему-то
и поддаются даже почтенные, высокопрофессиональные
историки философии — как бы «отлучить» Мамардашвили от истории
философии. Особенно часто подобные оценочные высказывания
приходится слышать от авторов неплохих историко-философских
учебников. Они почему-то сильно огорчаются, не встретив у
Мамардашвили еще один вариант учебникового пересказа
соответствующего историко-философского материала. И либо не
замечают, либо не придают значения тому, что он вообще не намеревался
этим заниматься. И что, следовательно, изначально не надо
ожидать от его текстов, посвященных философам прошлого,
продолжения подобного типа истории философии. В текстах
Мамардашвили о его любимых философах, будь это Платон, Декарт, Кант,
1 Мамардашвили М. К. Сознание — это парадоксальность, к которой
невозможно привыкнуть // Там же. С. 75.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 317
действительно не найдешь типичных опознавательных знаков
такого вида историко-философской работы — перечисления и
разбора главных произведений мыслителей прошлого, ссылок на них
и на вторичную литературу, анализа последующей рецепции тех
или иных идей и т. п.
А чего можно и нужно ожидать от этих текстов? Стихия
историко-философских по предмету размышлений Мамардашвили — это
стремление и умение вскрыть глубокий внутренний смысл главных
идей, формул великих философов, а также тех «стрел познания»,
которые от них исходят и обеспечивают им непреходящее,
вневременное значение. К слову, вполне можно, да и нужно добросовестно
увидеть (из соответствующих материалов), что результирующему
раскрытию смысла, сути таких идей, как правило, предшествовала
скрупулезная подготовительная работа над произведениями,
источниками, историко-философской литературой, которую
Мамардашвили, однако, не считал необходимым объективировать для своих
читателей и слушателей. Поскольку же он главным образом читал
лекции, именно благодаря подобным сокращениям, относящимся
к подготовительной «лабораторной» работе, он экономил время,
так необходимое для содержательного, существенного, проблемного
анализа самих идей. (И не случайно непредвзятые историки
философии, пусть уважающие и осуществляющие специальную историко-
философскую работу более «классического» типа, не огорчаются тем,
что Мамардашвили не занимает свое и их время хорошо известными
«учебниковыми» сведениями.)
Специфику содержательно-проблемной, обширной по объему
работы Мамардашвили над идеями, главными формулами великих
философов прошлого лучше всего пояснять на примерах, скажем,
разбирая его «картезианские размышления» или «кантианские
вариации». В этом кратком тексте никак невозможно заняться таким
конкретным разбором, почему и приходится снова отослать читателя
к другим текстам об историко-философских размышлениях
Мамардашвили1.
1 См. в данной книге: Мотрошилова Н. В. Символика трех «К» (Карте-
зий, Кант, Кафка) в философии Мераба Мамардашвили; ее же. Мераб
Мамардашвили: философские размышления и личностный опыт. М.: Канон+,
2007, разделы об интерпретации у Мамардашвили учений Декарта, Канта,
философии и литературы XX в.
318
H. В. Мотрошилова
Проблематика цивилизации
и, напротив, антицивилизационного одичания
На примере этих проблем сподручно пояснить такую характерную
особенность феномена Мамардашвили: он обладал прозорливостью
крупного социального мыслителя, способностью заглянуть в будущее.
В условиях, когда прогрессистская, бодряческая официозная
марксистско-ленинская идеология перелагала все кардинальные
кризисные бедствия на капитализм, буржуазные порядки, отводя социализму
и соцстранам роль реализаторов «светлого будущего» человечества,
в этих условиях не формационно-классовый, а общецивилизационный
подход (его в отечественной мысли 1970-1990-х гг. неортодоксально
разрабатывали и другие отечественные философы) требовал
теоретической смелости и исследовательской настойчивости. Правда, прогрес-
сизм — под влиянием благоприятной конъюнктуры 1960-1970-х гг. -
закрепился и в тех течениях западной социальной мысли, включая
социальную философию, создатели которых твердили о «государствах
всеобщего благосостояния», возлагали особые надежды на новейшие
научно-технические достижения. Мамардашвили же не поддался
конъюнктурным настроениям. Он заглянул вперед в том, что осмыслил
(в унисон с целым рядом критических, а не конъюнктурных
направлений зарубежной мысли) неизбежность общецивилизационных кризисов,
еще более глубоких, чем те, которые ясно проявились во время его
жизни. При этом их истоки он усмотрел в фундаментальной для
современного человечества «антропологической катастрофе», в свою очередь
запечатлевшейся в несомненных фактах масштабного одичания, которое
парадоксальным образом расползалось по всей планете на фоне
невиданных прежде научно-технических открытий и достижений.
Идей и теоретических выкладок такого рода у Мамардашвили
очень много. Приведу одно его высказывание, емкое и красноречивое:
«Цивилизация — весьма нежный цветок, весьма хрупкое строение,
и в XX в. совершенно очевидно, что этому цветку, этому строению,
по которому везде прошли трещины, угрожает гибель. А разрушение
основ цивилизации что-то производит с человеческим элементом,
с человеческой материей жизни, выражаясь в антропологической
катастрофе, которая, может быть, является прототипом иных,
возможных глобальных катастроф»1. Наша эпоха уже, по существу, сня-
1 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. С. 107.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 319
ла это предположительное «может быть», сделав антропологическую
катастрофу общецивилизацыонным фактом, особенно явным и
чувствительным в нашей стране. После смерти Мамардашвили Россия,
как и прежние части СССР, теперь формально независимые, прошла
через поистине разрушительное время, которое по своим социально-
историческим последствиям для «человеческого элемента», для
«человеческой материи жизни» можно поставить в один ряд с наиболее
страшными тенденциями эпохи войн и революций. Выдающийся
философ это предвидел, предчувствовал, ибо он основательно разобрал,
выписал главные черты устройства господствовавшей десятилетиями
социальной системы. Это и характер «советской власти» — с
изначальным, с момента их появления до их исторического конца
«безвластием Советов». И другие ее черты - отсутствие гражданского
общества, сугубо превращенные формы повсеместного и
повседневного действия; или накопившаяся «чудовищная масса отходов
производства мысли и языка» — и многое, многое другое, что не могло
не породить и в будущем кардинально-системные неудачи реформ,
преобразований. Отсюда и многие выразительные формулы
Мамардашвили, касающиеся нашей страны, историю и современность
которой он подвергал нелицеприятной критике, но никогда не отделял от
судьбы своего родного края и от своей личной судьбы.
Философия и культура
Важнейшая сторона феномена Мамардашвили, о которой здесь могу
говорить лишь сжато, — его участие именно как философа в
осмыслении, а в известном смысле и в развитии отечественной культуры.
Концептуально Мераба Константиновича интересовали как
общие внутренние стимулы развития культуры, в том числе в
органическом единстве с философией, под ее влиянием, так и отдельные
области художественных духовно-творческих комплексов. Среди
последних наибольшее исследовательское внимание Мамардашвили
привлекла, конечно, литература, прежде всего классическая
мировая литература, зарубежная и российская. Многочисленные
примеры этого хорошо известны. Образы и художественные идеи Данте,
Пушкина, Толстого, Достоевского, Пруста, Мандельштама и многих
других великих или выдающихся литераторов плотно и органично
вплетены в сочинения, опубликованные при жизни Мераба
Константиновича; но еще больше они присутствуют, анализируются в его
320
H. В. Мотрошилова
лекциях, специальных интервью. Кому-то может показаться, что
о великих писателях он не говорит ничего нового, поскольку не
сообщает неизвестных фактов, подробностей. Но если внимательнее
вчитаться в соответствующие тексты, даже свободного жанра
(интервью, записки в дневниках), недобросовестно не увидеть немало
оригинальных и глубоких подходов. Так, мне лично представляется
весьма интересным необычное рассмотрение феномена Пушкина,
при котором не одни лишь художественные достоинства творчества
ставятся в заслугу великому поэту, но и то, что Пушкин, как пишет
Мамардашвили, «чуть ли не собственноручно, единолично хотел
создать историю в России», в частности, «утвердить традицию семьи как
частного случая Дома, стен обжитой культуры» — «как
автономного и неприкосновенного исторического уклада, в который никто не
может вмешиваться, ни царь, ни церковь, ни народ». Пушкин,
«невольник чести», защищал честь «не в ходячем, "полковом" ее
понимании». Он был защитником чести «как устоя бытия, как элемента
чуть ли не космического осмысления порядка и меры». Аналогично
и мамардашвилиевское широкое социальное понимание сути и
значения творчества других великих русских литераторов — и понимание,
противоположное ходячим классовым оценкам советского периода.
Главный тезис Мамардашвили: труд Гоголя, Пушкина, Чаадаева,
Толстого, Достоевского (как и всей весьма многочисленной в России
когорты великих или выдающихся писателей, поэтов, дополненной
в работах Мамардашвили яркими образами Булгакова, Пастернака,
Платонова или перечисленными им писателей, наших
современников) справедливо расценивается как «попытка родить целую страну
"через звуки лиры и трубы", — как говорил Державин, — из слова,
из смыслов, из правды»1.
Особняком стоят мамардашвилиевские объемные, скрупулезные
исследования, посвященные М. Прусту. Они, как и большинство работ
Мамардашвили, возникли из лекций, прочитанных в последнее
десятилетие его жизни и опубликованных посмертно. При том, что пру-
стоведение — весьма развитый раздел мирового
литературоведческого исследования, созданный Мамардашвили жанр преимущественно
философско-феноменологического анализа наследия Пруста вряд ли
имеет в мире прецеденты подобного же теоретического уровня.
1 См.: Мамардашвили М. К. «Если осмелиться быть...» //
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. С. 185,186,187.
Социокультурный контекст 50-80-х гг. XX в. и феномен М. Мамардашвили 321
Необычна и такая свойственная творческой личности,
жизненному пути Мамардашвили черта, как встречи, а иногда и его
длительные дружеские отношения с известными творцами отечественной
послевоенной культуры, среди которых — Эрнст Неизвестный, Отар
Иоселиани, Алла Демидова, Марк Захаров и др. Мераб
Мамардашвили после очередного изгнания из других институций преподавал
во ВГИКе, на Высших режиссерских и сценарных курсах; слушатели
и коллеги тех лет из мира кинематографа нередко становились его
добрыми друзьями (некоторые из них предоставили свои
воспоминания для данной книги). Очень важен и вполне ясен общий вывод: для
многих людей культуры, лично знавших Мамардашвили или
читавших его работы, он стал тем человеком, через которого они узнавали
о Философии в высоком, парадигмальном значении этого слова.
Таковы лишь некоторые особенности феномена Мамардашвили.
Но это особенности, которые, по моему мнению, органично
вписываются в то более общее, только формирующееся представление о
лучших страницах отечественной философии и всей культуры, которое
еще требует тщательных дополнительных исследований.
Ряд таких современных исследований или воспоминаний
осуществлен; их результаты представлены для опубликования также
авторами данной книги. Что важно, авторами, живущими не
только в России, но и в других государствах, в том числе тех, которые
были частью единой страны, целостной культуры. И личностями,
подвизающимися не только в философии. Эти материалы — ценные
свидетельства сохраняющегося и сегодня международного,
междисциплинарного, межкультурного значения духовного наследия
выдающегося философа Мераба Мамардашвили.
В. А. Лекторский
КАК Я БЫЛ ГНОСЕОЛОГОМ
Когда я поступал на факультет, то имел очень смутное представление
о философии. В 10-м классе я уже понимал, что хотел бы заниматься
гуманитарными науками. Но какую из них выбрать, было не очень
ясно. Одно время решил, что наиболее подходящим для меня был бы
исторический факультет университета. Историей я очень увлекался:
ее замечательно преподавала в нашей школе В. А. Сказкина - жена
выдающегося историка академика С. Д. Сказкина. Но я с
удовольствием занимался также математикой, физикой. Я до сих пор с
признательностью вспоминаю своих преподавателей в московской школе
№ 59, думаю, что и сейчас таких учителей очень мало, а ведь я учился
в школе в 1940-1950-х гг.! Как мне кажется, три обстоятельства
повлияли на мой выбор факультета. В 1948 г. я прочитал только что
вышедшую в русском переводе книгу А. Эйнштейна и Л. Инфельда
«Эволюция физики», которая произвела на меня сильнейшее
впечатление. Прежде всего тем, что в ней обсуждались философские
вопросы: возможности и трудности научного познания, изменение
образов мира и знания в процессе эволюции физики. Второе
обстоятельство — это мир русской классики: Толстой, Достоевский
с их глубочайшими философскими проблемами (Достоевского
тогда в школе не изучали, но наш преподаватель и рассказывал о нем,
и рекомендовал нам его читать). Это Белинский и Писарев,
которыми я увлекался в 8 и 9-м классах, читал не то, что было
рекомендовано по программе, а всё подряд (Писарева, мне кажется, вообще не
рекомендовали нам читать). Наконец, третье - это дружба с
Генрихом Батищевым, с которым мы не только вместе учились начиная
с 4-го класса, но и дружили. У Генриха не было никаких сомнений
относительно того, куда поступать после окончания школы, —
только на философский факультет! Его отец был философом, работал
одно время в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), но затем
был оттуда уволен (как я узнал впоследствии, по личному указанию
И. В. Сталина за то, что С. П. Батищев опубликовал в 1946 г. в
журнале «Большевик» не слишком критическую статью о Плеханове).
Генрих в то время уже читал философскую литературу, однажды
дал мне посмотреть что-то из Гегеля. Я, конечно, мало что понял,
но решил, что это интересно и как раз то, что мне нужно: совмещает
Как я был гносеологом
323
всё то, что меня интересовало и в сфере понимания оснований
научного знания, и в области смысложизненных проблем. Так в 1950 г.
я оказался на философском факультете МГУ, довольно плохо
представляя, что меня ждет.
Я быстро убедился в том, что попал не туда, куда стремился, или,
точнее, не совсем туда. Как раз в то время вышла «гениальная
работа» Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», и преподавание
всех предметов на 1 и 2-м курсах было привязано к разъяснению
идей этого опуса. Когда я учился на 3-м курсе, появился еще один
«шедевр» того же автора — «Экономические проблемы социализма
в СССР», и на этот раз нужно было всю философию каким-то
образом связывать уже с этой работой. Я вспоминаю предельно
схоластические дискуссии на факультете тех лет: относится ли искусство
к надстройке или в нем есть что-то вненадстроечное (по аналогии
с языком, который Сталин в 1950 г., как известно, вывел за пределы
надстройки), как соотносятся базис и способ производства и т. д.
Меня подобные споры не увлекали. Лекции по формальной логике
на 1 и 2-м курсах нам читал В. И. Черкесов. Каждый раз он
сначала излагал нечто из формальной логики, а затем противопоставлял
всему этому идеи диалектической логики, разумеется, в своем
понимании. При этом лекция почему-то заканчивалась обязательной
критикой ошибочных взглядов В. Ф. Асмуса («А Валентин Ферди-
нандович и здесь не прав», — как любил повторять Черкесов). Асмус
не читал нам, но на факультете преподавал. Помню, как однажды
Валентин Фердинандович появился на одной из лекций Черкесова,
скромно сел в последнем ряду, послушал то, что о нем говорится,
и молча ушел.
На 2-м курсе основы дарвинизма читал Дворянкин, один из
ближайших сподвижников Лысенко. Дворянкин разоблачал
классическую генетику и превозносил мичуринское учение в лысенковском
понимании. Не могу сказать, что я в те годы критически относился
к сталинским идеям и к сталинской версии марксистской философии,
изложенной, как известно, в соответствующей главе «Краткого
курса истории ВКП(б)». Но кое-что уже тогда мне было неясно. Дело
в том, что я смог прочитать еще в средней школе вузовский учебник
по биологии, изданный примерно в 1945 г. Там были обстоятельно
изложены работы Менделя и Моргана. Когда я впоследствии читал
работы Лысенко или слушал лекции Дворянкина, критика
классической генетики не казалась мне убедительной.
324
В. А. Лекторский
Самое же главное было то, что философия оказалась не похожей
на то, как я себе ее представлял до поступления на факультет. Мне
казалось, что философия — это исследование, а не разъяснение
готовых истин. Я думал, что философия допускает выдвижение гипотез,
выявление истины в процессе дискуссии. На факультете же я узнал,
что не может быть ни малейших отступлений от основоположений
марксизма-ленинизма, при этом не очень ясно, что именно должно
рассматриваться как такое отступление. Преподаватели приводили
нам примеры «ужасных ошибок»: статья М. А. Маркова «О природе
физического знания» в журнале «Вопросы философии» в 1948 г.,
многочисленные ошибки первого главного редактора этого
журнала Б. М. Кедрова, защита С. А. Яновской «реакционной
символической логики» и т. д. Одним из самых больших разочарований для
меня в те годы были лекции по истории русской философии. Как я
уже сказал, чтение русской литературной классики, работ
Белинского и Писарева было одним из факторов, определивших мой выбор
философского факультета (уже на 1-м курсе я прочитал Герцена,
включая «Былое и думы», и испытал настоящий восторг). Однако
в лекциях по истории русской философии, которые нам читались,
и Белинский, и Герцен, и Чернышевский, и Писарев оказались
скучнейшими людьми, к тому же совершенно не отличимыми друг от
друга: все они «вплотную подошли к диалектическому
материализму и остановились перед историческим». (Лекцию о Писареве один
из преподавателей начал так: «Писарев погиб в комсомольском
возрасте».) О тех русских философах, которые популярны
сегодня, — В. С. Соловьеве, Н. И. Бердяеве, П. А. Флоренском и др. — мы
в те годы вообще ничего не слышали. После таких лекций русскую
философию можно было только презирать.
К счастью, на факультете было и другое, даже в 1950-1953 гг.
Были замечательные семинары по историческому материализму,
которые вели у нас сначала В. Ж. Келле, а затем В. П. Калацкий — оба
учили умению критически анализировать тексты, аргументировать
свою позицию, хотя, казалось бы, это было трудно делать на
материале той весьма идеологизированной дисциплины, которую они
преподавали. Замечательно читал лекции по политической экономии
капитализма Р. Мансилья, уже тогда меня восхитила логика Марксо-
ва «Капитала».
Замечательны были занятия по психологии. П. Я. Гальперин не
только вел семинары, но и читал лекционный курс. Читал удиви-
Как я был гносеологом
325
тельно. Это были годы, когда после известной «павловской сессии»
Академии медицинских наук СССР психологию пытались свести
к физиологии высшей нервной деятельности. Петр Яковлевич
ухитрялся читать нам в те годы настоящую психологию, увлекал нас
интереснейшей и мало исследованной проблематикой и даже, как
я понял впоследствии, излагал нам кое-что из идей Л. С. Выготского
(который в те годы был практически под запретом) и те собственные
идеи, которые он несколько лет спустя развернул в известную теорию
поэтапного формирования умственных действий.
Много мне дало изучение истории западной философии. Помню
основательные лекции О. В. Трахтенберга, семинары, которые у нас
вел Ю. К. Мельвиль. Юрий Константинович заставлял изучать
тексты философской классики. Поэтому уже в эти годы я получил первое
знакомство с Кантом и Гегелем, достаточное для того, чтобы понять
всю серьезность проблематики, обсуждавшейся в истории
философии. На этом фоне преподававшийся нам курс диамата сильно
проигрывал. В 1954 г. Ю. К. Мельвиль читал нам лекции по новейшей
западной философии и вел семинары. И тут уже нужно было читать
Виндельбанда, Риккерта, даже Маха. Помню мое удивление, когда я
впервые открыл Маха. До этого я знал о Махе и его идеях только на
основании «Материализма и эмпириокритицизма», который мы
изучали на 1-м курсе. После чтения ленинской работы (которая тогда,
правда, не вызвала у меня критического отторжения, но показалась
довольно скучной) у меня сложилось представление о Махе как
отчасти о дураке, отчасти просто сумасшедшем. Тем сильнее было мое
изумление, когда я понял, что Мах - интересный и по-своему
глубокий мыслитель, пытавшийся осмысливать современные ему
проблемы физики и психологии, выдвигавший аргументы в защиту своей
философской позиции.
Вообще учеба на философском факультете позволяла
знакомиться с классическими философскими текстами, будь то тексты Маркса,
Канта или Гегеля. Это было обязательным даже в сталинские годы.
И если к тому же попадался думающий преподаватель, то по крайней
мере по некоторым дисциплинам можно было получить неплохую
подготовку.
Большую роль в развитии нашего поколения сыграли лекции
Т. И. Ойзермана по истории марксистской философии. Именно от
Теодора Ильича мы узнали об идеях раннего Маркса, которые в то
время не популяризировались. В 1954 г. Теодор Ильич прочитал
326
В. А. Лекторский
нам спецкурс по «Критике чистого разума» Канта, который я считаю
революционным. Т. И. Ойзерман тщательно, параграф за
параграфом, разбирал знаменитую кантовскую «Критику», комментировал
ее и сопоставлял с ходячими представлениями о познании, которые
преподносились нам до этого в курсе диалектического материализма.
Это, конечно, не было критикой марксизма. Наоборот, лектор
пытался показать, что марксистская философия понимается у нас
поверхностно и даже искаженно, ибо она не может быть по своему уровню
ниже того, что сделано Кантом. Но это была сильнейшая критика
ходячего диамата и формулировка тех серьезных проблем, которые
есть в области теории познания и которые во многом еще
предстоит разрабатывать. А мы, слушатели спецкурса, начали обстоятельно
штудировать Канта.
Теодор Ильич читал нам свой спецкурс уже в 1954 г., когда на
факультете происходили большие, поистине революционные
изменения, и исключительная заслуга в этом принадлежит Теодору
Ильичу. На мой взгляд, та проблематика, которая наиболее интересно
разрабатывалась в нашей философии в последующие 1960-1980-е гг.,
была сформулирована именно на философском факультете МГУ
в 1954-1955 гг. Факультет в то время стал центром развития
философии в нашей стране.
Я имею в виду прежде всего появление двух молодых
преподавателей, которые стали возмутителями философского спокойствия
и повели за собою молодежь. В1953 г., через несколько месяцев после
смерти Сталина, аспирант кафедры истории зарубежной философии
Э. В. Ильенков защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
исследованию логики Марксова «Капитала». Год спустя состоялась
защита диссертации на близкую тему аспирантом кафедры логики
А. А. Зиновьевым. Тематика обеих диссертаций может показаться
весьма специальной. В действительности же речь шла о
формулировании новой философской проблематики и об оппозиции целому ряду
догм официального диамата и истмата. Обе диссертации,
отталкиваясь от интерпретации Марксова метода в «Капитале» (знаменитое
«восхождение от абстрактного к конкретному»), открыли для нашей
философии совершенно новое по тем временам исследовательское
поле: логика построения и развития научной теории, методы этого
развития, взаимоотношение теоретического и эмпирического
знания, логики исследования и логики изложения и т. д. Иными
словами, речь шла о теории научного познания.
Как я был гносеологом
327
Понимание Ильенковым и Зиновьевым формирования и
развития теоретического знания на пути «восхождения от абстрактного
к конкретному» (следуя Марксу) вступало, по сути дела, в
противоречие с известным ленинским положением о развитии познания
(которое было неприкасаемой идеологической догмой) как о движении
«от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к
практике». Но до некоторых пор это противоречие было как бы неявным,
прямо не формулировалось. В обстановке воцарившейся в нашем
обществе в 1954 - первой половине 1955 гг. относительной оттепели
Ильенкову и Зиновьеву было разрешено преподавать. У них сразу же
появилось множество восторженных последователей среди
студентов. Одним из них был и я, тогда студент 4-го курса.
Конечно, я понимаю, что и та, и другая диссертации готовились
еще в 1951-1952 гг. Но всё же ясно, что появление и
распространение принципиально новой философской тематики стало возможным
только после смерти Сталина. Оглядываясь назад, я особенно ясно
представляю себе революционизирующую роль для нашей
философии того, что Ильенков и Зиновьев сделали в середине и второй
половине 1950-х гг. Дело не только в том, что они были
родоначальниками интересных школ в определенной области философии. Я
считаю, что их идеи и программы означали принципиальный рубеж
в развитии нашей философии в целом. Это было как бы открытием
нового мира и новых, по-настоящему философских методов
исследования. Те, кто работал в нашей философии после них, сколь далеко
бы ни расходились их идеи между собой и сколь сильно бы они ни
отходили в некоторых пунктах от идей своих учителей, были бы
невозможны без Ильенкова и Зиновьева.
При этом в философско-методологической интерпретации
«Капитала» (а поэтому и в понимании характера и задач философии)
между Ильенковым и Зиновьевым сразу обнаружились
существенные расхождения.
Ильенков понимал науку и научность в духе высокого
классического рационализма, прежде всего в духе немецкой философской
классики: Кант, Фихте, Гегель (поэтому участники его семинара —
а я стал в 1954 г. не только его участником, но и старостой —
должны были основательно штудировать как Маркса, так и названных
классиков). С этой философской традицией он связывал и
методологические уроки «Капитала». При таком понимании проблематика
научного познания и знания оказывается не противопоставленной
328
В. А. Лекторский
гуманистическим проблемам, а непосредственно с ними связанной.
Поэтому не случайно философское развитие Ильенкова вело его
впоследствии к таким вопросам, как природа идеального, проблемы
личности, творчества, деятельности, воображения, фантазии, как
проблематика ранних философских работ К. Маркса. Не случаен
его интерес к вопросам психологии, педагогики, этики и эстетики.
Среди его учеников и сподвижников оказалось немало выдающихся
деятелей в этих областях (назову только В. В. Давыдова, В. П. Зин-
ченко, А. И. Мещерякова). Он был в близких отношениях с нашими
выдающимися психологами А. Н. Леонтьевым и П. Я. Гальпериным.
Значительная часть наших известных философов последующего
времени (В. С. Библер, Г. С. Батищев, Ф. Т. Михайлов, В. М. Межуев,
М. К. Петров и др.) были либо его непосредственными учениками,
либо испытали серьезнейшее влияние его идей, которое не
прекращалось и тогда, когда они разрабатывали собственные концепции
и по каким-то вопросам вступали с ним в полемику. Как сказал
впоследствии один из них: «Все мы вышли из ильенковской шинели».
От Зиновьева шла другая интерпретация философской
методологии. Упор здесь делался на выявление некоторых способов
познавательной деятельности («приемов») и их увязанности в
определенные структуры. Впоследствии ряд представителей этой школы ушел в
область математической логики (в частности, сам Зиновьев), другие
стали заниматься системно-структурными исследованиями
(предвосхитив некоторые идеи французского структурализма — это ранние
работы Б. А. Грушина и М. К. Мамардашвили), третьи (Г. П. Щед-
ровицкий и его школа) стали заниматься системно-деятельностной
методологией, четвертые, описав сложный путь развития, отошли от
исходной сциентистской установки и ассимилировали идеи
феноменологии и экзистенциализма (М. К. Мамардашвили). Между этими
двумя линиями в философском движении 1950-1970-х гг. в нашей
стране существовали непростые отношения. С одной стороны, всех
представителей движения объединяло неприятие официальной
идеологии и официального истолкования марксизма. С другой стороны,
полемика между ними была довольно острой. Вместе с тем, как мне
сегодня представляется, имело место и взаимное обогащение, не
сознававшееся в то время большинством из них.
Та теория познания, которую нам преподавали в начале 1950-х гг.
и которая была изложена в известных тогда книгах М. А. Леонова,
Ф. И. Хасхачиха и др., была в действительности наивной, догматизи-
Как я был гносеологом
329
рованной и идеологизированной разновидностью сенсуализма, хотя
на словах от сенсуализма открещивалась. В принципе то же относится
к книге Т. Павлова «Теория отражения», хотя в некоторых вопросах
автор книги позволял себе некоторые вольности и поэтому
критиковался за «идейные ошибки». Преподававшаяся нам теория познания
исходила из идеи В. И. Ленина о «данности материи в ощущениях»,
из его же идеи о движении познания от «живого созерцания к
абстрактному мышлению». При этом «живое созерцание» понималось
психологически, а поскольку психология в те годы в соответствии
с официальными указаниями сводилась к физиологии высшей
нервной деятельности, то нам и пересказывали учение об условных
рефлексах. Что же касается «абстрактного мышления», то оно
трактовалось в духе элементарной формальной логики (понятие, суждение,
умозаключение) с некоторыми добавлениями «диалектической
логики», которую каждый преподаватель понимал по-своему и рассказ
о которой в большинстве случаев не добавлял ничего принципиально
нового к тому, что можно было узнать уже из логики формальной.
Излагавшаяся нам теория познания такого рода не вызывала
энтузиазма и тем более желания работать в этой области: не очень понятно
было, что серьезно можно здесь исследовать. Я и не собирался
заниматься проблемами теории познания до тех пор, пока не встретил
Ильенкова и не начал работать в его семинаре, т.е. в конце 1953 г.
Эвальд Васильевич рассказывал нам о совершенно иной
проблематике. Теория познания была истолкована как теория научного
познания. В этом понимании она совпадала с тем, что потом стали
называть методологией научного познания, и с тем, что сам Ильенков
называл диалектической логикой. Подобная версия теории познания
противостоит сенсуализму и продолжает гегельянскую (и, как я
впоследствии узнал, неокантианскую) традицию. При таком понимании
теории познания она действительно становится
философской-дисциплиной, отличной от психологии (тем более от физиологии
высшей нервной деятельности) и от формальной логики. Ильенков
неоднократно говорил нам, участникам его семинара, что философия
не занимается т. н. чувственным познанием — это дело психологии.
(Сегодня для меня ясно, что философия не может не анализировать
чувственный опыт, т. н. «данное», своими собственными средствами,
в этом убеждает развитие в XX в. как феноменологии, так и
аналитической философии.) Ясно, что такая позиция вступала в серьезный
конфликт с официальной установкой советской философии. И этот
330
В. А. Лекторский
конфликт должен был раньше или позже обнаружиться. Он
выявился тогда, когда Ильенков вместе с В. И. Коровиковым выступили со
знаменитыми тезисами о предмете философии. Это произошло, если
я не ошибаюсь, в конце 1954 г.
Дело было так. Ильенков и другой молодой преподаватель
кафедры истории зарубежной философии Валентин Иванович Коро-
виков написали тезисы о том, в чем состоит предмет философии.
Валентина Ивановича я тоже хорошо знал, так как он вел у нас
семинары по истории зарубежной философии и пользовался большой
популярностью. Тезисы эти были по тем временам еретическими
(в полной мере я осознал это гораздо позже). В них Ильенков и Ко-
ровиков доказывали, что теперь, когда философия уже не может
играть роль натурфилософии и решать конкретные научные
проблемы за специальные науки, ей остается только стать теорией
научного знания, т. е. решать вопросы о характере и природе
научности, изучая реальный процесс развития науки. В контексте нашей
философии середины 1950-х гг., когда еще были живы
воспоминания о том, как философы поучали биологов и физиков, эти тезисы
были восприняты молодежью поистине в качестве откровения, как
путеводитель в новую страну, в которой философы-профессионалы
занимаются не простым «обобщением» данных других дисциплин
и тем более не решают проблемы за другие науки, а имеют дело
с собственными, очень интересными вопросами, важными не только
для них самих, но и для представителей частных наук, для
культуры в целом. Но защищавшаяся в тезисах позиция вступала в прямое
противоречие с официальными установками. Во-первых, она была
несовместима с пониманием марксистской философии как «науки
о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления». Нужно сказать, что это официальное понимание, хотя в
прямой форме и не было выражено в считавшихся священными работах
классиков марксизма-ленинизма, тем не менее довольно хорошо
соответствовало ряду высказываний Энгельса и Ленина. Если считать,
что философия — это теория познания, то непонятно, что делать
с «диалектической теорией бытия» или «диалектической теорией
развития» (онтологией). Во-вторых, куда деть исторический
материализм, который всегда считался неотъемлемой (а для партийных
идеологов даже самой важной) частью марксистско-ленинской
философии? Разве может марксистская философия в ее официальном
понимании обойтись без учения о классовой борьбе и о развитии
Как я был гносеологом
331
общественно-экономических формаций? В-третьих, вызывало
сомнение само понимание теории познания как теории научного
познания, ибо что тогда делать с «ленинским учением» об ощущении,
о чувственном познании и т. д.?
Когда началось обсуждение этих тезисов на заседании ученого
совета философского факультета (а таких заседаний было
несколько), на Ильенкова и Коровикова буквально обрушились
многочисленные критики, которые не пользовались какими-либо
рациональными аргументами, а в основном ссылались на высказывания
классиков марксизма-ленинизма и указывали на опасность того
пути развития философии, который предлагается в тезисах («Вы
зовете нас в душную сферу мышления, - заявил один из них, - но мы
туда не пойдем»). Выступали и сторонники. Насколько я помню,
позицию авторов тезисов защищали П. В. Копнин (я тогда впервые
увидел его), А. А. Зиновьев, Г. П. Щедровицкий, А. С. Арсеньев.
Сторонники тезисов и сами авторы пытались ответить на критические
высказывания. По вопросу об онтологии Ильенков и Коровиков
заявили, что ее нет и не может быть в составе марксистской
философии. «Наиболее общие (или, точнее, всеобщие) законы развития
бытия» и законы мышления совпадают и выявляются именно на
основе анализа мышления. («А как быть с теорией отражения?» —
воскликнул один из критиков. «Отражение является неудачным
словом», - парировал А. С. Арсеньев. «И вообще ленинский
"Материализм и эмпириокритицизм" — это незрелая работа в отличие от
"Философских тетрадей" того же автора», - продолжил он. Я хочу
напомнить, что всё это говорилось в 1954 г.!) По вопросу о
философском характере исторического материализма авторам тезисов
сказать по существу было нечего, и это, конечно, делало их
позицию уязвимой перед идеологической и демагогической критикой.
То же относилось и к третьему пункту возражений (ленинское
учение об ощущении и т. д.).
Позднее в некоторых отечественных работах по истории
советской философии я прочитал, что полемика Ильенкова и его
сторонников с теми, кто нападал на них (а эти споры в менее ожесточенной
форме продолжались и впоследствии), была дискуссией «гносеоло-
гов» и «онтологов». Я хочу подчеркнуть, что в действительности
речь шла не о полемике разных философских концепций, по крайней
мере в те годы. Т. н. «гносеологи» пытались заниматься реальной
философской тематикой, дать новый импульс нашей философии
332
ß. А. Лекторский
(и, как теперь очевидно, им удалось сделать это). Главная цель их
противников — защитить существующее положение дел в
советской философии и свои собственные позиции. В качестве средства
«онтологи» использовали демагогические и идеологические
аргументы. Ведь та «онтология», которая в те годы противостояла
позициям «гносеологов», была либо повторением общих
естественнонаучных сведений (теории физики о пространстве и времени, т. н.
«учение» Лысенко о видообразовании, теория Павлова о высшей
нервной деятельности и т. д.), либо же изложением законов
диалектики как законов развития (их понимание сначала черпалось из
«Краткого курса истории ВКП(б)», а потом из некоторых работ
Энгельса). Единственным способом «обоснования» такого рода
«онтологии» были ссылки либо на факты естествознания, либо на
священные тексты классиков марксизма-ленинизма. Сегодня мне ясно,
что онтология в принципе может быть действительно философской
дисциплиной, и притом вполне критической. Но в этом случае она
не может обосновываться и разрабатываться без анализа познания
и сознания. Однако, я еще раз повторяю, в те годы в нашей
философии «гносеологи» и «онтологи» противостояли друг другу не как
представители разных теоретических концепций, а как те, кто
пытался заниматься реальными философскими проблемами, и те, кто
не мог и не хотел этого делать, а был озабочен лишь демонстрацией
своей «идеологической выдержанности».
Иногда думают, что понимание философии как теории познания
было связано с желанием уйти в философии от идеологических
вопросов, найти безопасную нишу для академических размышлений.
Наверное, определенное желание найти такую область, в которой философия
может быть самою собой, а не служанкой меняющейся партийной
идеологии, было. Но это не было просто желание «хорошо спрятаться».
Понимание того, что не всё в нашей жизни обстоит хорошо, начало
расти у многих из нас вскоре после смерти Сталина, а особенно после
известного XX съезда партии. Ильенков из учителя вскоре превратился в
моего старшего друга, я часто навещал его дома и хорошо представлял
его настроения. Это была, конечно, критическая социальная
настроенность, близкая тому, что впоследствии реализовалось в Пражской
весне 1968 г. (недаром Эвальд Васильевич сочувствовал ее лидерам).
Речь шла вовсе не об отказе от социализма, а о его демократическом
реформировании в соответствии с идеалами подлинного Маркса, а не
того марксизма-ленинизма, который стал у нас официальной идео-
Как я был гносеологом
333
логией. «Связь философии с жизнью», в отсутствии которой тогда
и много раз впоследствии демагогически обвиняли Ильенкова и
других близких ему философов, понималась официальными инстанциями
вполне определенно: «философское обоснование» очередных решений
ЦК КПСС (а во второй половине 1950-х и первой половине 1960-х гг.
XX в. эти решения менялись катастрофически быстро). Ильенков и Ко-
ровиков предлагали другое: опору на научное знание, на теоретическое
мышление и на философию как на рефлексивную и методологическую
основу этого мышления в качестве единственно возможного способа
изменения социальной реальности. Ибо, как уже стало ясно к середине
1950-х гг., с наукой идеология не может ничего сделать. В этом случае
исследование мышления, разработка теории научного познания
выступает как жизненная миссия философии, как своеобразный способ
социальной критики. Философия толковалась как критическая и
самокритическая деятельность, подчиненная своим собственным
требованиям. Этическая и эстетическая тематика, которой Эвальд
Васильевич посвятил немало работ, не противопоставлялась философской
теории мышления, а связывалась с нею — в духе Гегеля. Идеология же
понималась в смысле Маркса, как ложное сознание. Идеология
пытается нечто внушить без обоснования, притупить остроту критического
понимания. Философия же (как и наука) нацелена на поиск истины.
Поэтому термин «идеолог» был в те годы одним из самых бранных
в нашей среде. Интересно, что сказал бы Эвальд Васильевич, доживи
он до наших дней, по поводу современной постмодернистской моды,
стирающей грани между идеологией и наукой, исследованием и
риторикой, истиной и ложью, по поводу широко распространившегося
пиара и «политтехнологии» как его разновидности, т. е. способов
манипулирования сознанием. Сегодня такого рода занятия не только не
считаются предосудительными в некоторых кругах, но даже и весьма
модны, наверное, потому, что очень прибыльны. Между прочим,
интересный сюжет для размышлений о том, что произошло с нашей
интеллигенцией за последнее десятилетие.
Я, тогда студент 4-го курса, тоже выступил в этой дискуссии
(насколько я помню, единственным из студентов). И, конечно, как
горячий защитник Ильенкова и Коровикова. В силу своей наивности я не
предполагал, что мне это дорого обойдется. А между тем наказание
«отступников» не заставило себя долго ждать. В начале 1955 г. кто-то
из преподавателей написал в ЦК КПСС о том, что на философском
факультете завелись опасные ревизионисты, которые своими идеями
334
В. А. Лекторский
заражают молодежь. Идеологический отдел ЦК КПСС назначил
специальную комиссию по проверке факультета. В результате появилась
соответствующая бумага, в которой разоблачались Ильенков, Коро-
виков и их сторонники, а в качестве того студента, который попал под
их вредное идейное влияние, назывался как раз я. О том, что моя
фамилия попала в решение идеологического отдела ЦК КПСС, я тогда
не знал, однако быстро догадался, что произошло нечто нехорошее,
касающееся в том числе непосредственно меня. Ильенков и Корови-
ков были уволены с факультета. То же вскоре произошло с
Зиновьевым. Ильенкова и Зиновьева взяли в Институт философии АН СССР:
им все-таки разрешили заниматься исследованиями, но запретили
преподавать. Коровиков вообще изменил сферу своей деятельности
и занялся международной журналистикой. В течение нескольких
десятков лет он работал спецкором «Правды», сначала в Индии, а затем
в разных африканских странах. С факультета были также уволены
молодые популярные преподаватели, поддержавшие в той или иной
форме идеи «гносеологов»: Г. С. Арефьева, В. Н. Бурлак. В это же
время несколько аспирантов кафедры истории русской философии
начали борьбу с методами изучения истории русской философии,
которые практиковались на этой кафедре. Этими смутьянами были
Е. Г. Плимак, Ю. Ф. Карякин, И. К. Пантин. Вскоре последовало
изгнание и этих «отщепенцев».
Весной 1955 г. на партийном собрании факультета (я не был
тогда членом партии, и о том, что было на собрании, узнал от своих
товарищей) несколько человек выступили с вопросами по поводу
снятия Г. М. Маленкова с поста председателя Совета министров СССР.
Все они были немедленно исключены из партии, в том числе наш
сокурсник, фронтовик, парторг нашего курса А. И. Могилев
(некоторых из исключенных потом восстановили, но наказали в другой
форме). Весной 1955 г. в руководящих партийных инстанциях
сложилось мнение о философском факультете МГУ как о рассаднике
идейной заразы. Особенно зараженным был объявлен наш курс.
В итоге со всего курса в аспирантуру было взято всего два человека.
Хотя я имел рекомендацию в аспирантуру в начале 1955 г., сразу
же после работы комиссии ЦК КПСС мне отказали в этой
рекомендации. На 4 и 5-м курсах научным руководителем моих курсовой
и дипломной работ был Ильенков. В апреле 1955 г., после
увольнения с факультета, Эвальд Васильевич для того, чтобы не ставить
под удар защиту моего диплома, отказался от научного руководства
Как я был гносеологом
335
и попросил быть моим руководителем М. Ф. Овсянникова (он
только что вернулся на факультет после многолетнего перерыва). С
помощью Михаила Федотовича я защитился и даже получил красный
диплом. Правда, на работу я смог устроиться с большим трудом
и только через полгода после окончания факультета. Это была
кафедра философии Московского государственного
экономического института (впоследствии он был слит с Институтом народного
хозяйства имени Плеханова), куда меня взяли лаборантом:
преподавать мне не доверили. Там я проработал два года. Кличка «гно-
сеолог», которую прилепили и мне, была в те годы свидетельством
идеологической неблагонадежности.
Что же касается философского факультета МГУ, то его разгром
весной 1955 г. привел к тому, что он перестал на многие годы быть
центром развития нашей философии. Этот центр переместился в
другие места. Это был прежде всего Институт философии АН СССР, где
начали работать Ильенков, Зиновьев, где работали в те годы Копнин,
С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Овчинников, И. В. Кузнецов, М. Э. Омелья-
новский, П. В. Таванец, Д. П. Горский. В начале 1960-х гг. в институт
пришли В. Ж. Келле, Т. И. Ойзерман, О. Г. Дробницкий, В. А.
Смирнов, Л. Н. Митрохин, Г. С. Батищев, Е. П. Никитин. В аспирантуру
института поступили М. К. Петров, Н. С. Мотрошилова, В. С. Швырев,
Н. Н. Трубников, В. М. Межуев. Четверо последних потом остались
работать в институте. Это был журнал «Вопросы философии», куда
с философского факультета МГУ во второй половине 1950-х гг.
перешли И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили, И. В. Блауберг, к которым
вскоре присоединились Э. Ю. Соловьев, В. Н. Садовский. Это была
«Философская энциклопедия», работа над которой началась в конце
1950-х гг. коллективом, включавшим А. Г. Спиркина, 3. А.
Каменского, Ю. Н. Давыдова, В. П. Шестакова, М. Б. Туровского, Э. Г. Юдина
и др. В начале 1960-х гг. в число этих центров вошел также Институт
истории естествознания и техники АН СССР, в котором его
тогдашний директор Б. М. Кедров собрал немало ходивших под
идеологическими подозрениями философов: В. С. Библера, А. С. Арсеньева,
Б. С. Грязнова, А. Ф. Зотова, В. Л. Рабиновича, И. С. Алексеева, а
впоследствии изгнанных или полуизгнанных из партии А. П. Огурцова,
П. П. Гайденко и др.
Только спустя значительное время философский факультет
университета снова стал одним из важнейших центров нашей
философии.
336
В. А. Лекторский
Учеба на философском факультете МГУ дала мне очень много.
Она показала мне, какой философия не должна быть, и она же
научила меня настоящей философии. Это был урок на всю жизнь.
Я после двухлетней работы лаборантом на кафедре философии
Московского экономического института поступил в аспирантуру
Института философии Академии наук, а после окончания аспирантуры
остался в институте, где и работаю до настоящего времени.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
АйерА. 155,271,287
Аксельрод-Ортодокс Л. И. 24,
74
Александров Г. Ф. 15,16, 24-
27, 29-43, 45, 47, 48, 54,
63. 70, 71, 151, 168, 183,
188-191
Алексеев П. В. ПО, 166, 171,
175,177-179,187.191
АльтюссерЛ. 137.138
Алексеев П. В. ПО, 166, 171,
175,177-179.187.191
Андреев Г. Г. 25,31,132
АнисимовС. Ф. 18,20,81
Арзаканьян А. Г. 20
Аристофан 240,241
Аристотель 16, 148, 149, 159,
168, 237, 242, 245. 246, 247,
248, 249, 250
Арон Р. 287
Арсеньев А. С. 331,335
Ахманов А. С. 77,159,162,170
Базилевич К. В. 14
Бальзак О. 27,62,208
Баскин М. П. 39, 41
Батищев Г. С. ПО, 114, 120,
205, 290, 322, 328. 335
Бачко Б. 72
Белецкий 3. Я. 25, 27-29. 31,
33, 34. 47-50, 63, 69, 103,
162,179,181,187,188-192.
200. 201
Белинский В. Г. 69.322.324
Белов П. Т. 36,42,70
Бердяев Н. А. 69. 70, 172, 173,
177, 222, 223, 230, 252, 253,
257. 260, 261
Биккенин Н. Б. 93,104
Библер В. С. 328,335
Бирюков Б. И. 3,132
Блауберг И. В. 93,104,335
Блок А. 272, 273
Богданов А. А. 74,76,143
Богомолов А. С. 59, 60, 61, 72,
135
Бородай Ю. М. 95,123,197,259
Булгаков С. 172, 173, 175, 176,
177, 252, 253,320
БуркхардтЯ. 217
Бухарин Р. И. 13, 14, 24, 76,
224
Быховский Б. Э. 26-31,183,186,
188
БёркЭ. 30
Вавилов С. И. 38,156
Вагнер Р. 204, 262, 272
Васецкий Г. С. 69,70, 200
Варьяш А. И. 220, 221
Вебер М. 117, 121, 122, 273,
274
Введенский А. И. 140,176,177
Виноградов С. Н. 141,143-145
Виткин В. А.
Витгенштейн Л. 8,62
Волин Б. М. 16
ВолодинА. С. ПО
Войшвилло Е. К. 79,154,155
338
Именной указатель
ВундтВ. 142,
Вышеславцев П. Б. 70, 77,172,
176
Гагарин А. П. 25, 55,166
Гайденко П. П. 3, 44, 197, 228,
335
Гак Г. М. 25
Галкин И. С. 14,25
Гальперин П. Я. 91,324,328
Гегель Г. В. Ф. 29,66,76,88,89,
101,116,125,184-186, 206,
208, 223, 231,327
Гераклит 54,55,187, 236, 237
Герцен А. И. 45, 46, 48, 69,152,
172,176,324
ГигонО. 240
Гиляров А. Н. 219
Гоголь Н. В. 104
Голосовкер Я. Э. 201, 231
Городецкий У.
Горский Д. П. 18,80,335
Горький А. М. 65,104, 257
Гольдентрихт С. С. 34
Гомер 66
Горбачев М. С. 9,207
Гращенков В. Н. 264-266
Грушин Б. А. 9, 103, 111, 123,
198, 204, 205, 290, 296, 300,
328
ГрязновА. Ф. 62
Гулыга А. В. 68,95,102,147,302
Гуссерль Э. 134
Давыдов В. В. 101,116,262,328
Давыдов Ю.Н. 115,335
ДеборинА. 24,43,221,222,257
Девятко И. 47,48,144,182,183,
189,190,195
Делёз 61
Демокрит 57,236,238,239,242
Дильтей 134
Додельцев Р. Ф. 197
Достоевский Ф. М. 322
Драгун Б. 102,107
Дробницкий О. Г. 197,335
ЕгидесП. М. 15
Ершов M. Н. 176,177
Жданов А. А. 13, 25, 30, 38, 40,
41, 42, 43, 48, 51, 86, 103,
190,195,196
Жданов Ю. А. 39,43,44
ЖозефдеМестр 30
Зенон Элейский 238
ЗеньковскийВ.В. 135,138,139,
174,175,176, 219
Зиновьев А. А. 4, 7-9, 18, 24,
79, 85-87, 92, 94, 95, 102-
104,110,128,130, 204-207,
272, 287, 288, 290, 291, 302,
326-328,331,334,335
Зиновьев А. С. 5
Злобин Н. С. 96
ЗольгерК. 215
Иванов В. И. 173, 253-256, 261
Иванов-Разумник 176
Иллеш Е. Э. 5,89, 202,281
Ильенков Э. В. 5, 7, 8, 78, 79,
85-87, 89, 90, 92, 94, 96-
103, 106, 107, 109-120,
124,126,130, 201-206, 258,
262, 267, 269-278, 281, 282,
290-292, 294, 302, 326, 327,
329-335
Именной указатель
339
Ильин И. А. 70, 74, 172, 230,
253
Ильичев Л. Ф. 46,226
Иовчук М. Т. 30, 33, 36-39,
45, 48, 58, 69, 70, 72, 81, 82,
105-108, 200
Каганович Л. 65, 257
Калтахчан С. Т. 82
Кант И. 56, 69, 99, 100, 125,
140,147,162,165,183,185,
191,195,200. 212,214, 222,
223, 227, 228, 231, 316, 317,
325-327
Кантор К. М. 124,130,204,290,
292
Карамзин H. М. 13
Каринский М. И. 152,160,161
Карков Ю.
Карсавин Л. П. 67,70,172,177,
261
Кафтанов С. Ф. 192
Кедров Б. М. 43,44,48,82,156,
158,324, 335
Келдыш М. В. 58
Келле В. Ж. 18, 20, 33, 95, 114,
122,123,179,182, 302, 324,
335
КессидиФ.Х. 3,18,19,187
Квитко Д. Ю. 16
Ким Ир Сен 51-53
Ковальзон М. Я. 33, 49, 178,
179,181,182,187
Коган Л. Н. 114
Колаковский Л. 72
Константинов Ф. В. 44, 45, 55,
86,166, 213, 258, 296
Копнин П. В. 17, 34, 44, 113,
114,293,294,331,335
Коровиков А. В. 4,279
Коровиков В. И. 5, 78, 86, 87,
89, 90, 92, 201-204, 279,
281, 284, 285, 329-334
Корякин Ю. Ф. 103
КорнфортМ. 46
Костюченко В. С. 67,68
Косичев А. Д. 28, 49, 133, 134,
136,137,139,166,167,171,
187,188
Котарбинска Я. 72
Кошелевский Д. 33
Кружков В. С. 40
Ксенофонт 240,241
Кубицкий А. В. 15
Кун Т. 120
Кутасов Д. А. 15, 31, 132, 163,
171,178
Лапин Н. И. 93,104
ЛахутиД. 197
Левада Ю. А. 95,123
Левкипп 238
Лекторский В. А. 4, 7,197, 211,
290, 307, 322
Ленин В. И. 12, 21-23, 28-30,
33, 37, 42, 48,65,70,73-76,
78, 82, 86, 88, 89, 91, 116,
118,121,128,138,139,145,
163,165,172,179,180,187,
193, 223, 261, 267, 273, 290,
329,330
Леонтьев А. Н. 81,116,328
ЛифшицМ.А. 97,101,102,117,
118,206,210
Ломоносов М. В. 69, 140,152,
172
Лосев А. Ф. 3, 5, 8, 24-26, 29,
31,32,35,63,65-68,78,107,
168,188,191-195, 201, 204,
340
Именной указатель
212-214,229,239,252-268,
270
Лосский Н. О. 70,140,175,177
Луппол И. 221
Лурия А. Р. 210
Лукач Д. (Г.) 6,90,199,206-208
Лукреций Кар 51
Лютер М. 87,89,202, 204
Лысенко Т. Д. 49, 200,323,332
Макаемов А. А.
МакашинС.М. 227
Максимов А. А. 27,43
Маленков Г. М. 29, 30, 48, 71,
188,334
Мальцев В. И. 34, 77, 291
Мамардашвили М. К. 5, 9, 93,
101,104,111,112,116,127,
204,205,272,290,295,298-
300,304-306,308-321,328,
335
Мансилья 200,324
Марков М. А. 156, 157, 158,
324
Маркс К. 7,23,29,33,34,42,48,
51, 55, 61,70, 73, 75, 79, 83,
86, 88-91, 94, 96, 101-103,
110,111,114-122,128,129,
137,139,149,162,167,179,
185,195, 200, 205, 207, 214,
221, 223, 252, 258, 272, 275,
276, 281, 290, 291, 293, 294,
310,325-328,332,333
Маркуш Д. (Ю) 90,199
Маслин А. Н. 44,112-114
Машкин М. А. 14
МееровскийБ. 18
Межуев В. М. 110, 197, 199,
211,269,328,335
Мелюхин С. Т. 57, 227, 233
Мельвиль Ю. К. 34,57,82,325
Микулинский С. М. 18, 20
Милюков П. Н. 173,176
Митин М. Б. 16, 23, 24, 26, 27,
31, 33, 37, 38, 43-45, 48, 49,
58, 67, 70, 71, 78, 95, 102,
108,167,183, 223
Митрохин Л. В. 7,137, 287, 290
Молодцов В. С. 62, 69, 80, 91,
111,112,166,179
Моррис Ч. 156
Мотрошилова Н. В. 95,99,110,
123,197, 211, 298, 299, 300,
311,317
Нарский И. С. 18,50,58,59,72,
82
Науменко Л. 86, 96, 100, 110,
203
Невский В. И 74
Неусыхин А. И. 14,15
Никитин Е. П. 102,103,335
Никольский В. К. 14
Ницше Ф. 128, 198, 215, 254,
255,263
Новиков М. П. 82
Овсянников М. Ф. 27,33,34,46,
47, 59, 61-64, 66, 91, 124,
178, 201, 207-209, 334
Огурцов А. П. 44,93,307,335
Ойзерман Т. И. 30, 34, 51, 53,
54, 57, 62, 82, 91, 120, 163,
164, 214, 230, 258, 290, 302,
325,335
Оккам 55
Окуджава Б. Ш. 213
Окулов А. Ф. 71,104
Именной указатель
341
Павлов (Досев) Т. 47, 74, 203,
328
Палиевский П. А. 262
Парменид 54, 237, 238, 245,
246, 256
Пастернак Б. Л. 8,166,167,213,
226, 232,320
Петровский И. Г. 81, 136, 166,
215
Платон 46,54,57,61,67,68,73,
147,149,181,187, 225, 229,
236, 238, 240-248, 256, 265,
267, 316
Плимак Е. Г. 69,95,101, 334,
Плотин 61,194
Попов П. С. 25, 26, 31, 32, 35,
63,77,79,91,124,133,145-
150,153,159-161,170,171,
191,192, 257
Поппер К. 8,120,181, 287
Поршнев Б. Ф. 14
Пышков Б. Н. 93
Пятигорский А. М. 138
Радлов Э. Л. 67,176
Разумный В. А. 101
Рассел Б. 155,156
Розанов В. В. 172, 254, 255
Рожанский И. Д. 240
Рутковский Л. В. 152
Садовский В. Н. 138, 168, 192,
335
Сартр Ж.-П. 61,90
Светлов В. И. 35,51, 53, 54,70
СеземанВ.Э. 230
СенинН.С. 19
Сергеев В. С. 14
Ситковский Е. П. 111,112
СказкинС.Д. 14,15,111,322
Смирнов В. А. 80,166,335
Смирнова 3. В. 54
Соколов В. В. 5,11,67,167,182,
195, 200, 212, 219, 232, 254,
264, 265
Сократ 54,106,107,187, 240-
242,246
Соловьев В. С. 69, 70,172,175,
176,185, 253,256,324
Соловьев Э. Ю. 84, 104, 113,
123,197,198, 205, 207, 231,
302,335
Спиркин А. С. 257, 258
Сталин И. В. 6, 12-14, 16, 18,
22-25,28-32,34,37-42,44,
46-50, 53, 56, 70,71, 79,82,
86, 89, 91, 94, 95, 97, 102,
103,110,111,115,127,128,
143,144,151,164,178,182,
186,187,189-192, 200, 201,
205, 208, 209, 257, 267, 281,
288, 301, 304, 322, 323, 326,
327, 332
Стэн Я. Р. 23,24,102, 222,223
Строгович М. С. 152,153, 290
Стяжкин Н. И. 80
Субботин А. С.
Суслов М. А. 40,43,48,136,166
Сучков Б. Л. 46,47
Таванец П. В. 335
Тараканов Н. Г. 26, 50, 174-
177
ТарскийА. 47
Тахо-Годи А. А. 63, 66, 192,
194, 261, 266, 267
Теплов Б. М. 35
Тимофеев П. Н. 293
342
Именной указатель
Титаренко А. И. 81
Толстых В. И. 124
Томский Л. 24
Троцкий Л. Д. 13,24
Трахтенберг О. В. 27,34,38,41,
55,325
УайтхедА. 155
Угринович Д. М. 53
Уёмов А. И. 140,166
Украинцев Б. С. 67,96
Федосеев П. Н. 30, 35, 36, 38,
39, 94,183,189, 294
ФейдиноуД. 8
Фейербах Л. 29,33,58
Финн В. К. 197
ФичиноМ. 267
Флоренский П. А. 65, 255, 261
Фома Аквинский 55
Фреге Г. 156,161,181
Фрейд 3. 128
Хайдеггер М. 90, 229, 230
Хасхачик Ф. И. 17,171,328
ХванДенОбом 53
Хохлов Р. В. 59
Храбровицкий Я. 213, 214
Хрущев Н. С. 42, 46, 50, 64, 71,
95,127
Хюбшер А. 66, 254, 255
Цебенко М. Д. 36,38
ЦипкоА. С. 9,92
Чанышев А. Н. 60,246
Челпанов Г. И. 142, 145, 153,
253, 261, 290
Черкесов В. И. 79, 290, 291,323
Чернышевский Н. Г. 69,152,324
Чернышев Б. Г. 27,54
Чернявский В. С. 134,179
Чесноков Д. И. 45,48,81,178
Чудов А. А. 144
Шаумян С. Е. 82
ШаффА. 102
Шестаков В. П. 89, 197, 199,
214,252, 259,264, 265,335
Шестов Л. И. 172,177, 230, 231
ШпетГ.Г. 175-178,261
Шулятиков В. М. 33, 221
Щедровицкий Г. П. 124, 205,
290,331
Щербаков А. С. 30,37
Щипанов И. Я. 54, 69, 70, 171,
174, 200
ЭдмондсД. 8
Энгельс Ф. 23,29,33,42,48,51,
61, 73, 75-79, 91, 119-121,
185,187, 221,330,332
ЭренбургИ. 127
Эрн В. Ф. 177,185,186,191
Юдин П. Ф. 24, 26, 27, 31, 33,
37,38,43,45, 50,183
ЮлинаН.С. 101
ЯковенкоБ. В. 175-177
Яновская С. А. 47, 72, 79, 80,
150,157,158,163,194, 290,
324
Ярошевский М. Г. 155,156
ЯхотИ. 183
ФИЛОСОФСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ
И ПАДЕНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА
В РОССИИ
Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
в воспоминаниях его выпускников
Корректор А. С. Семенова
Оригинал-макет Л. А. Философова
Дизайн обложки И. А. Тимофеев
Подписано в печать 23.12.2016
Бумага офсетная. Печать офсетная
Формат 60x90 Vi6. Усл.-печ. л. 21,5
Тираж 800 экз. Заказ № 604
Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru
www.nestorbook.ru
Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел.(812)622-01-23