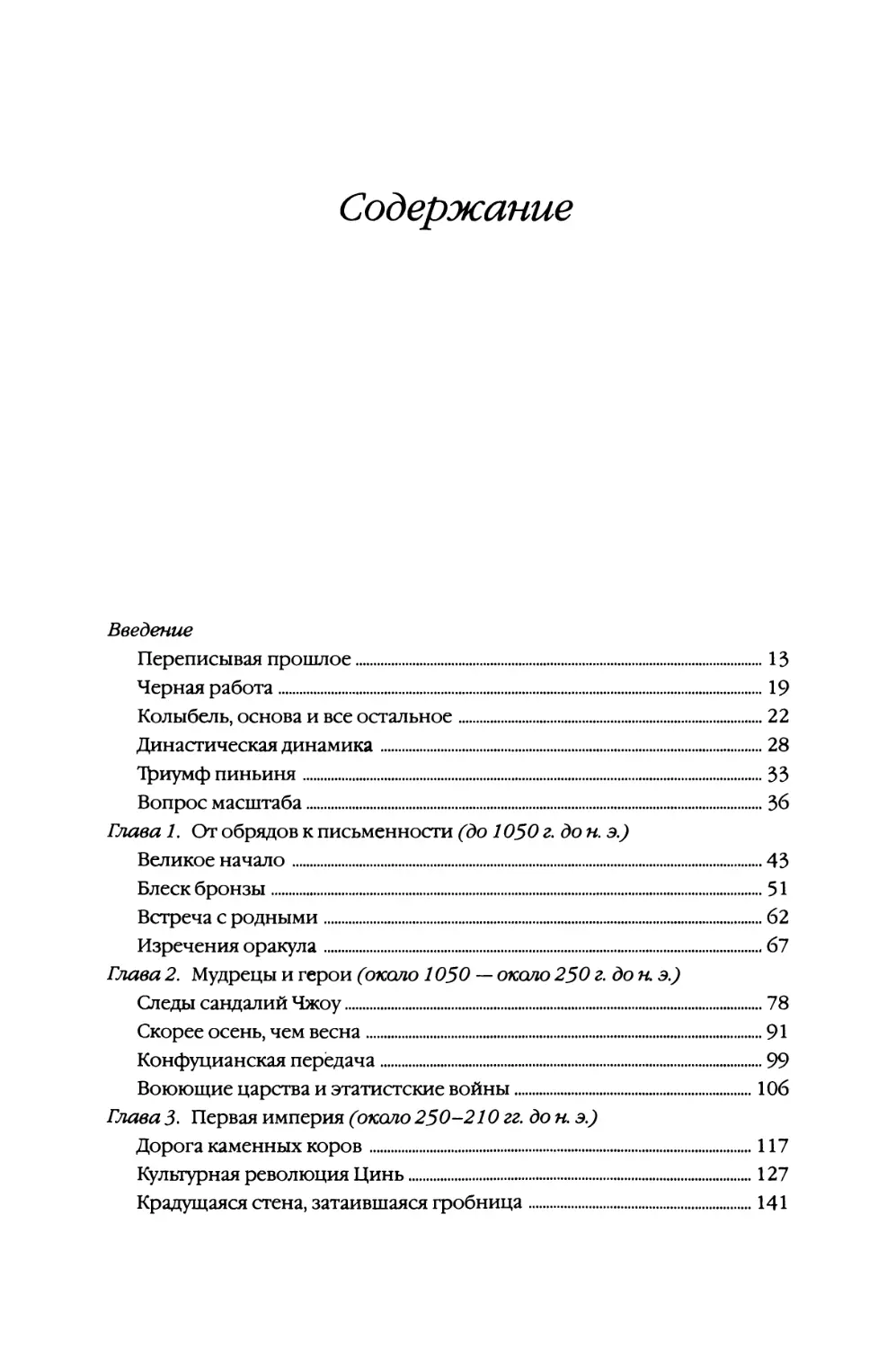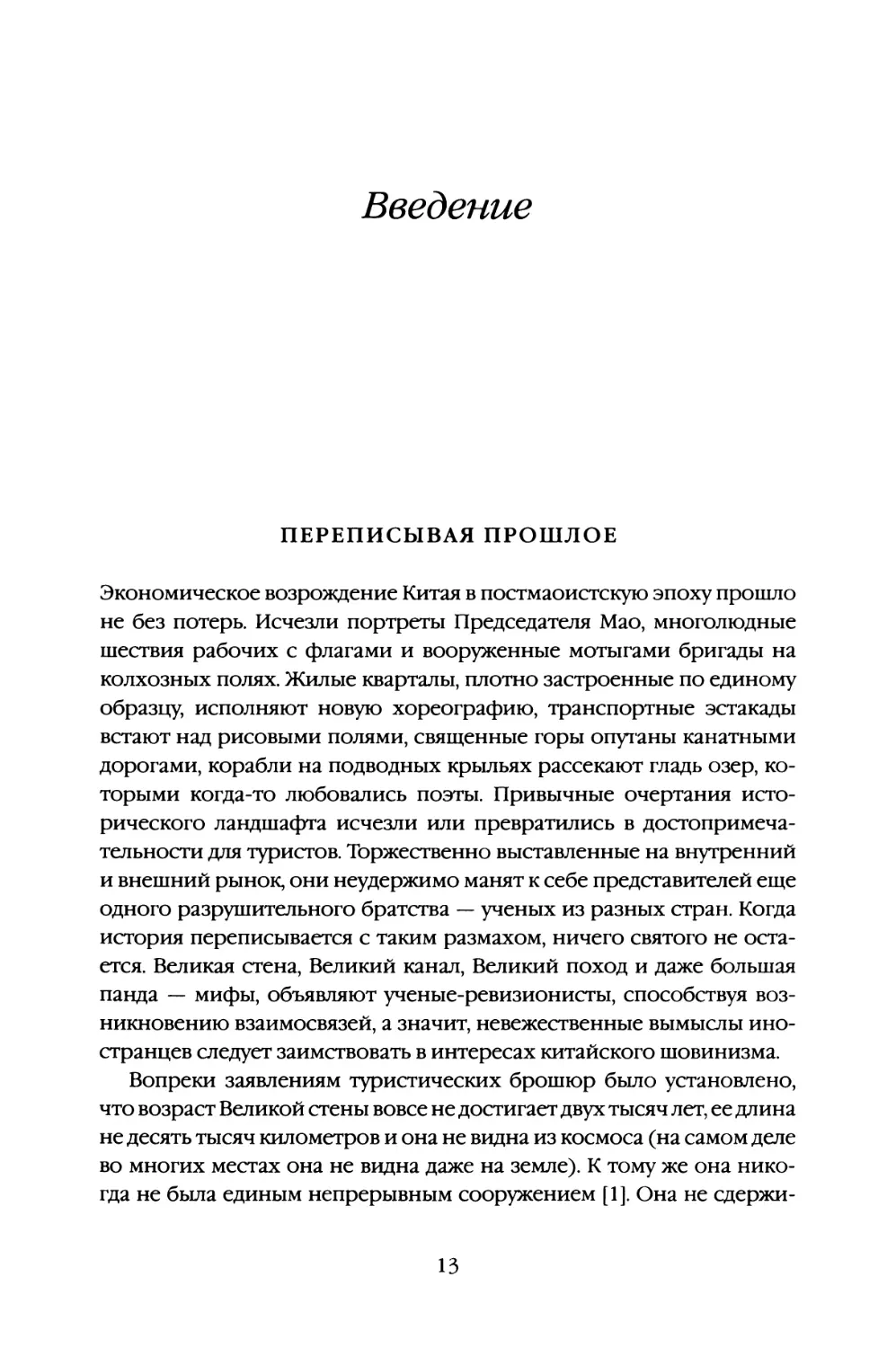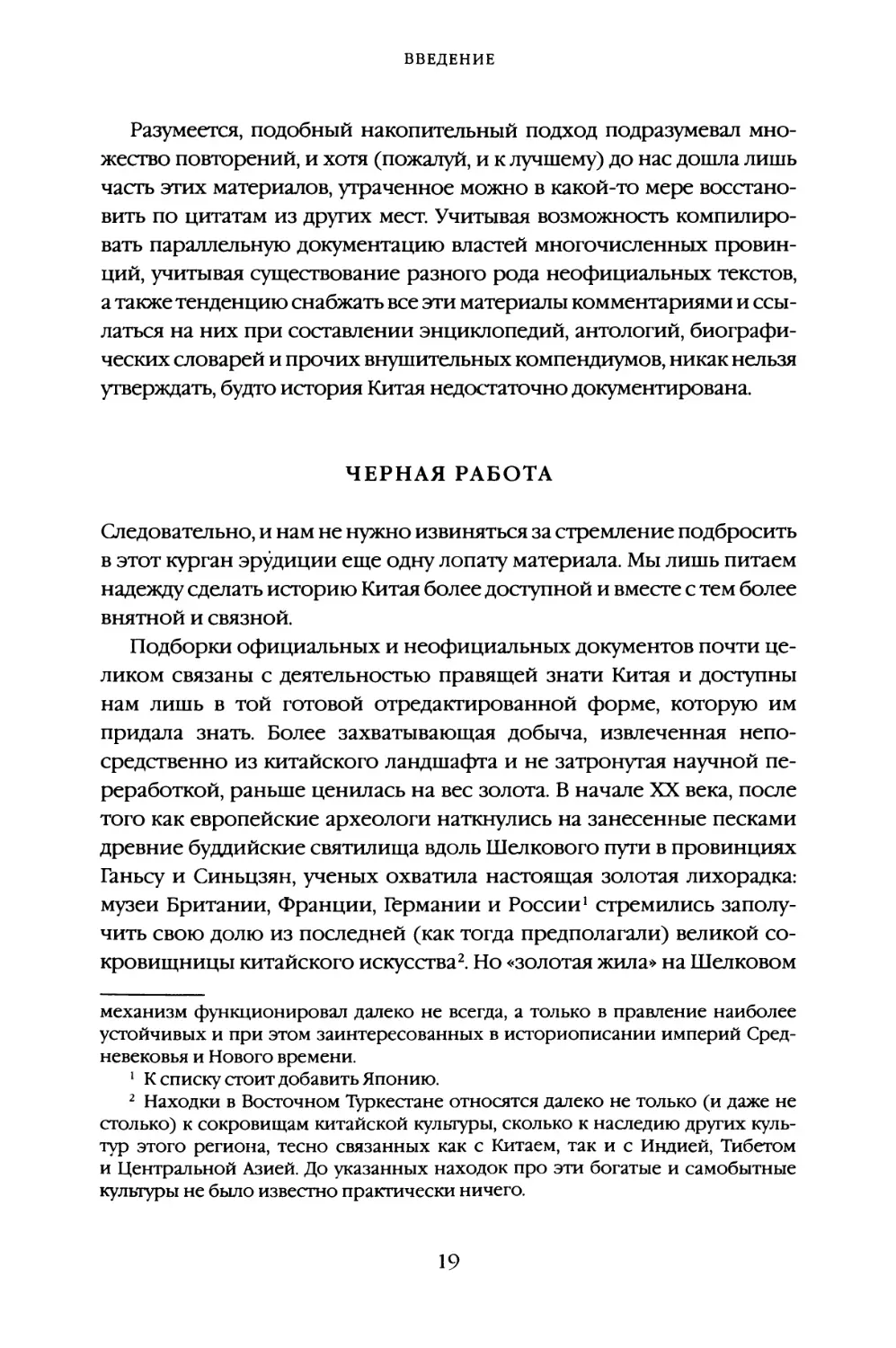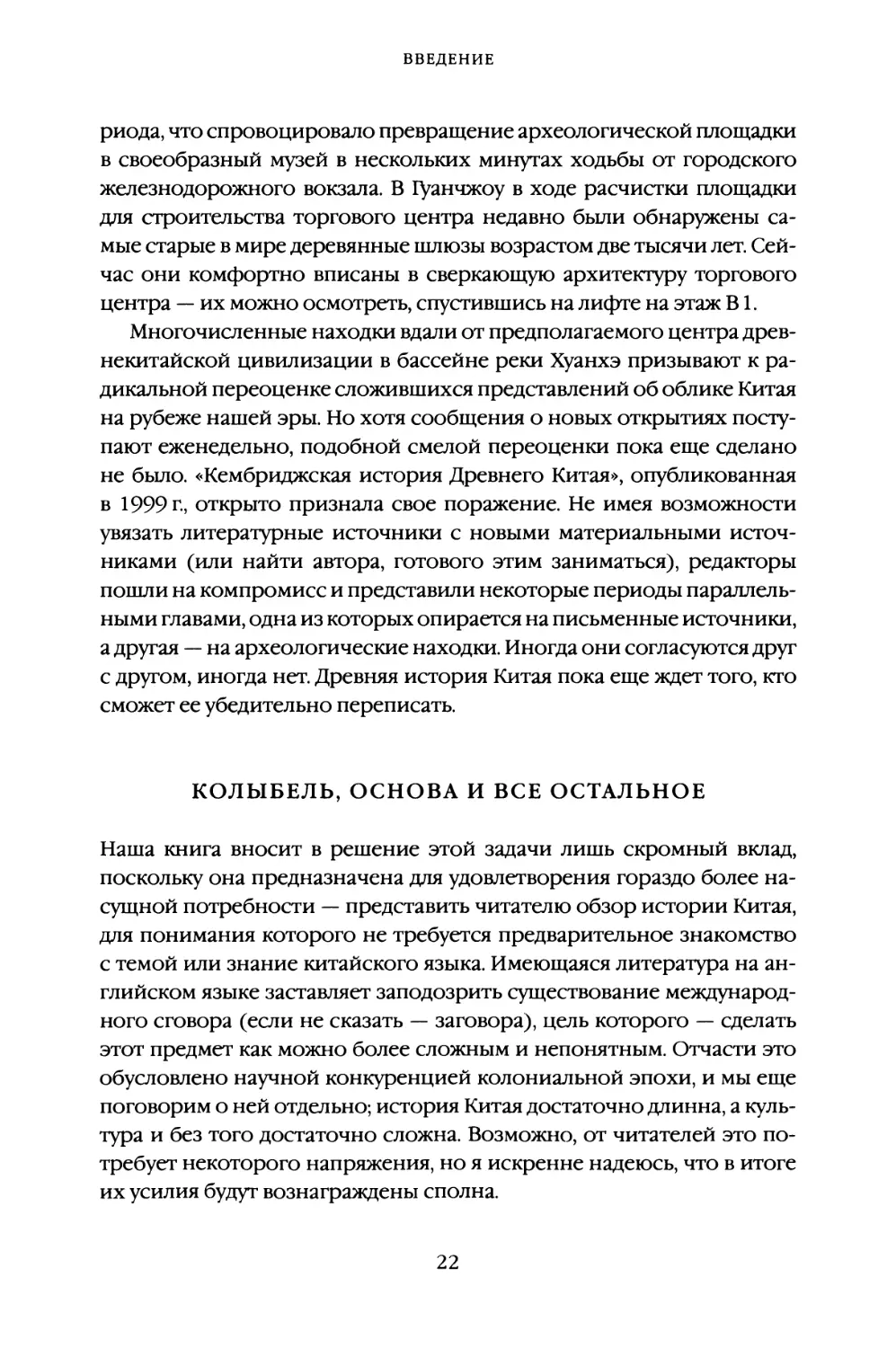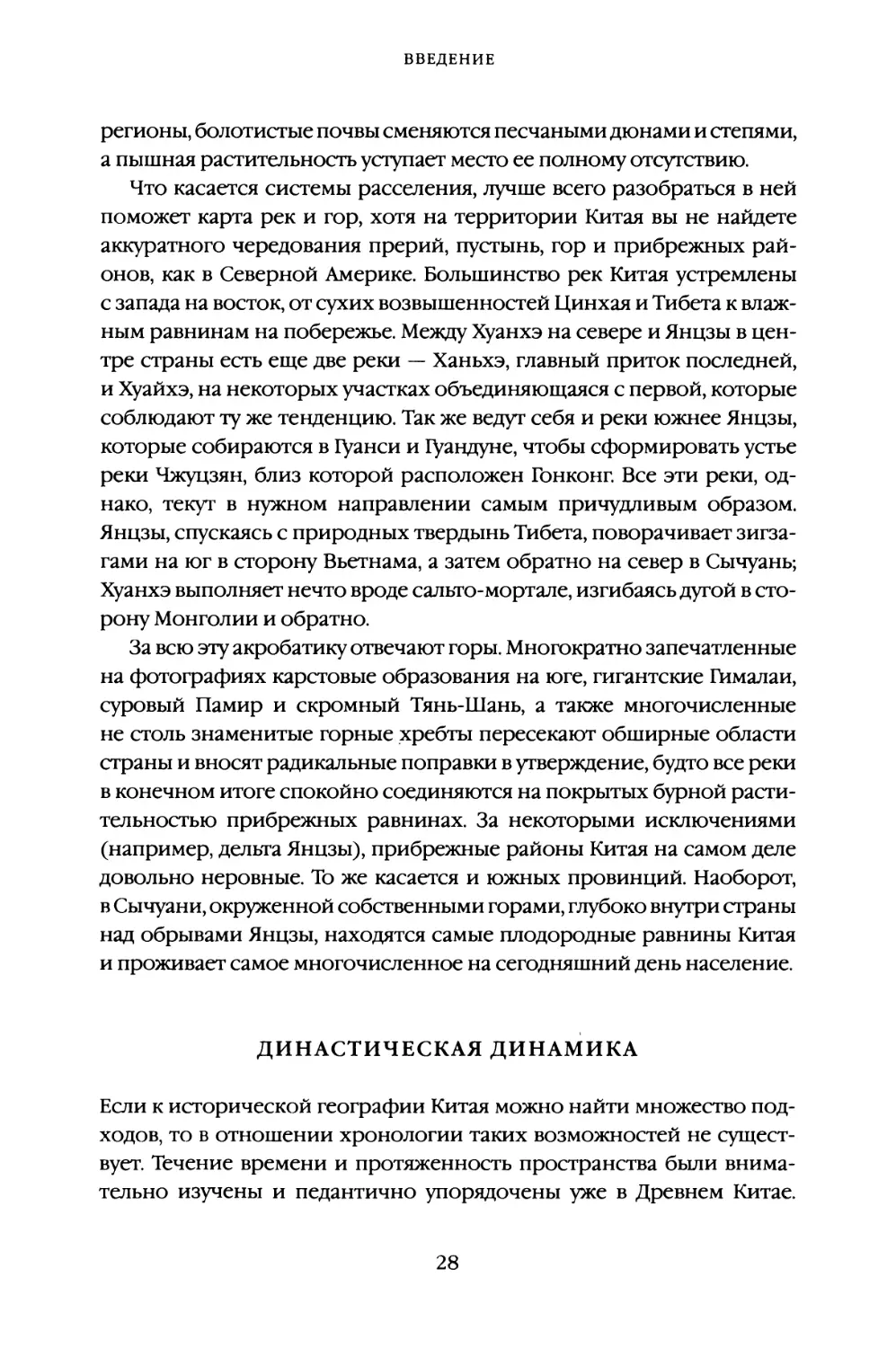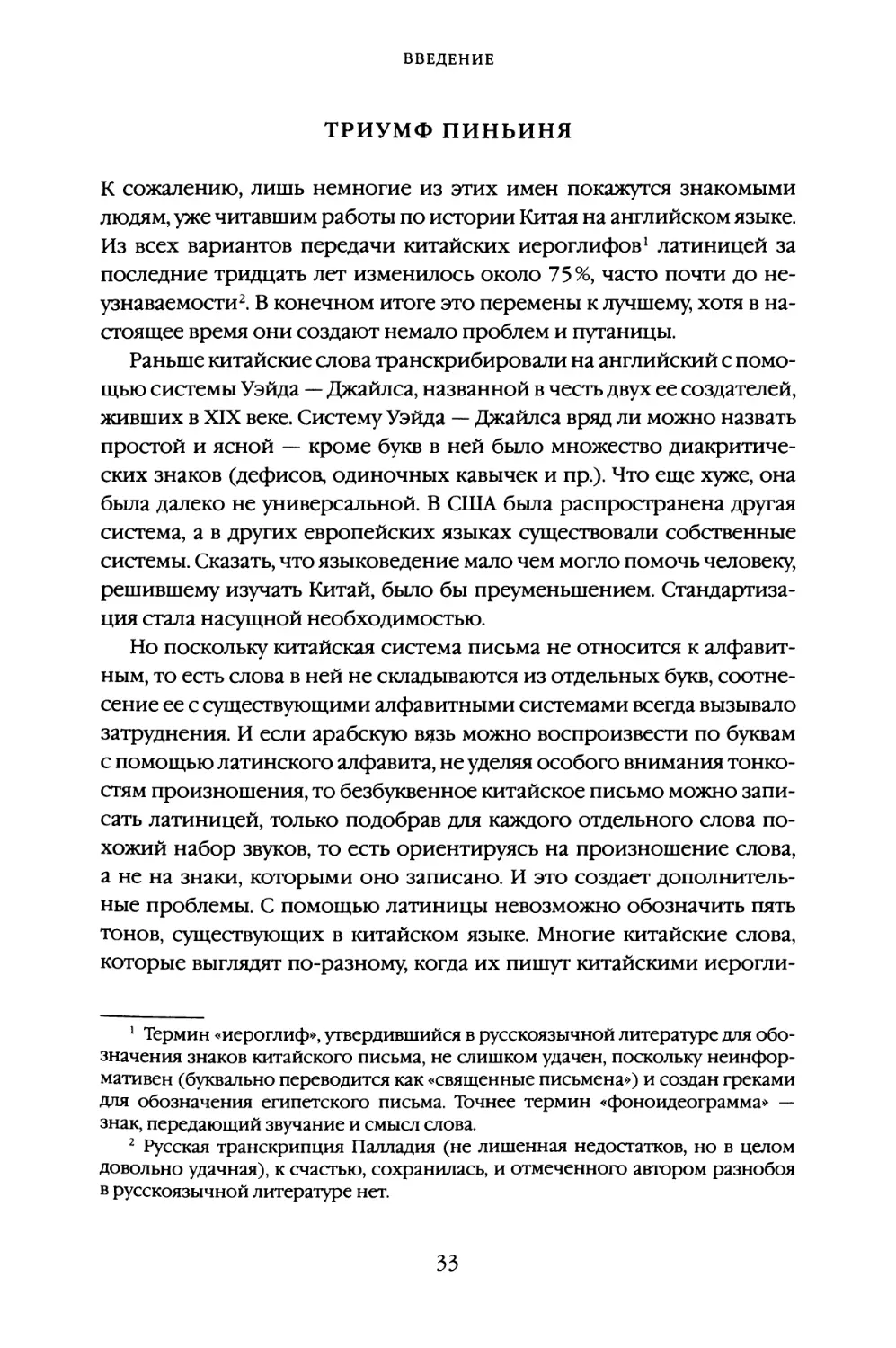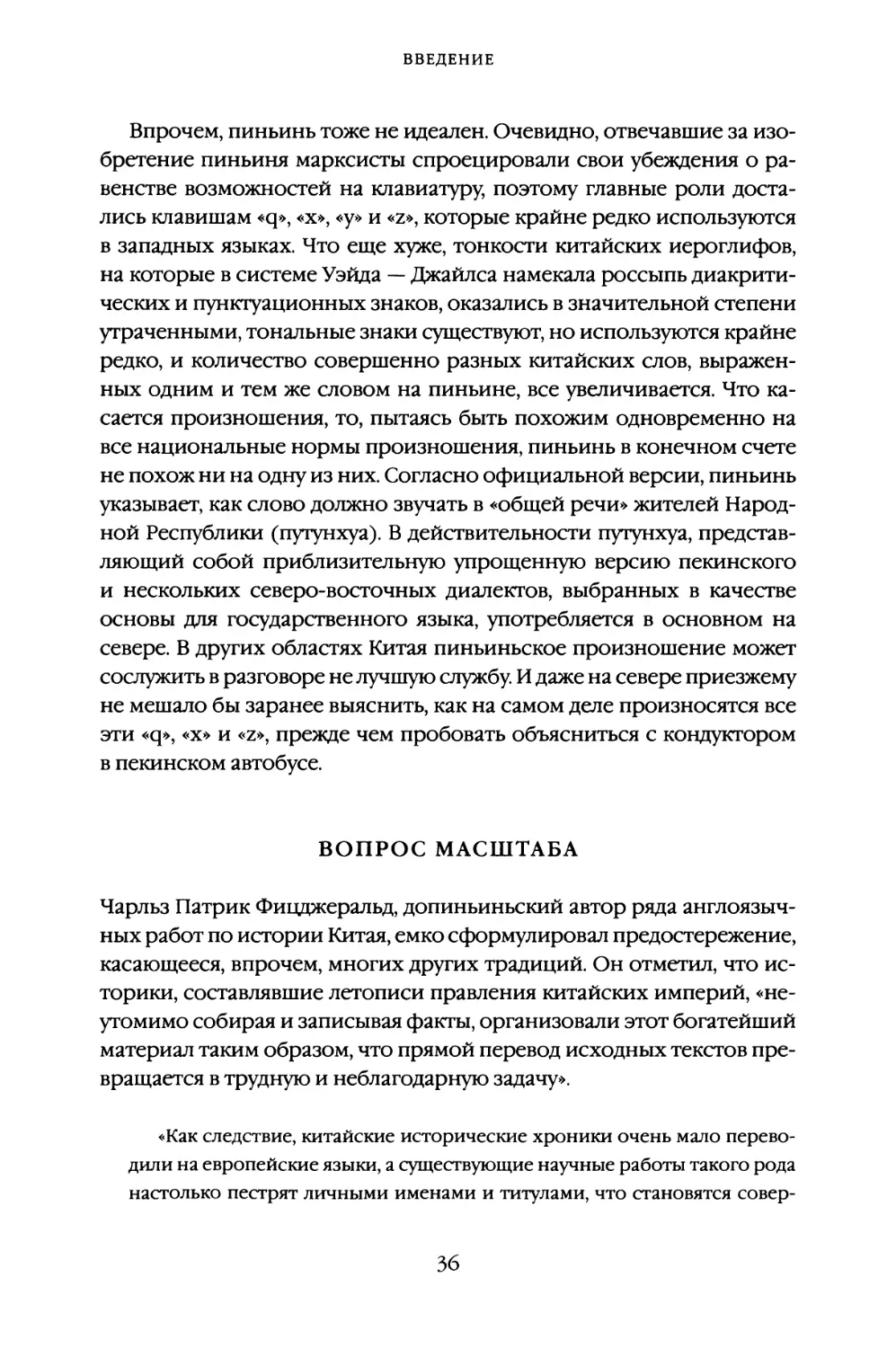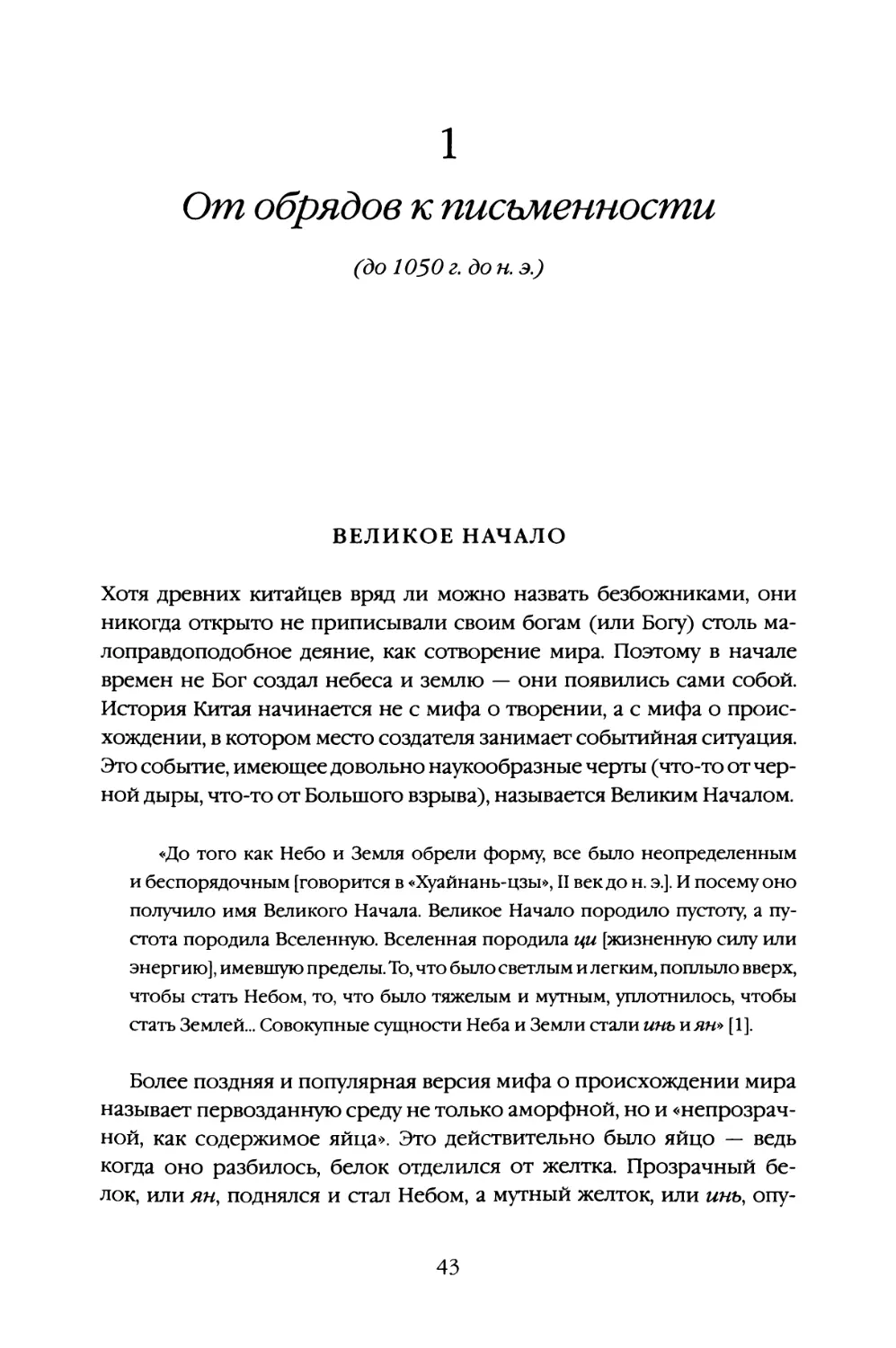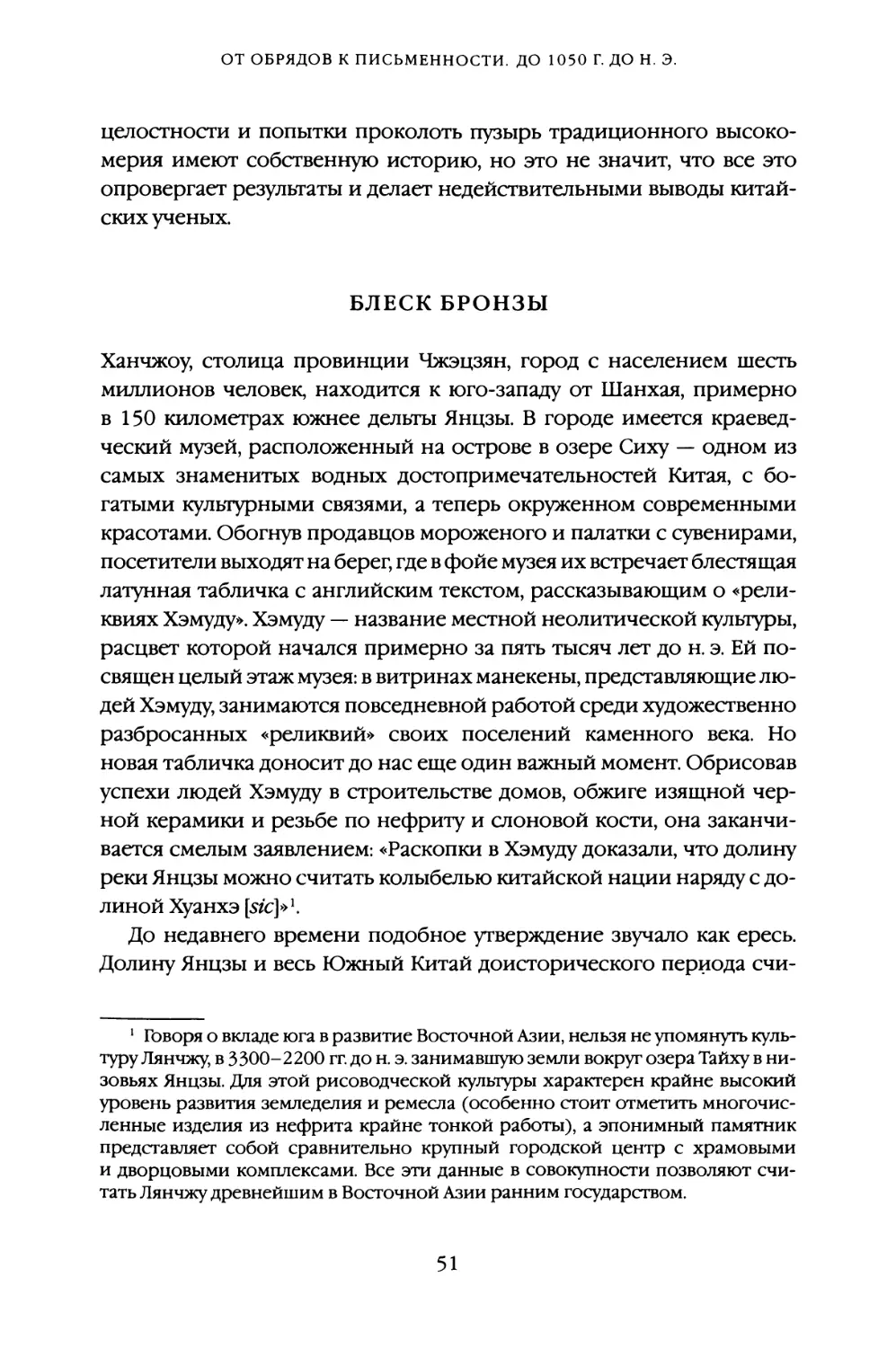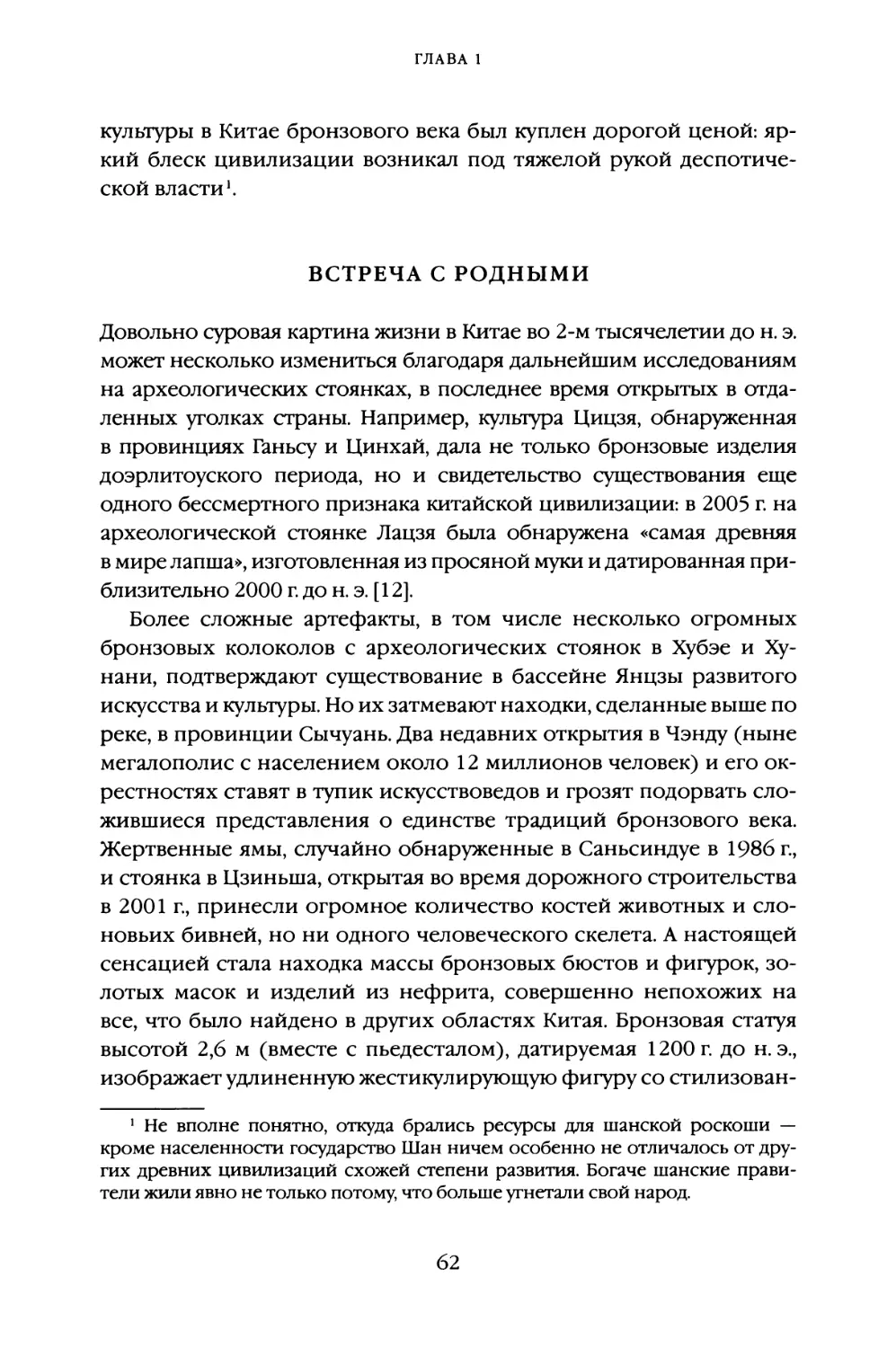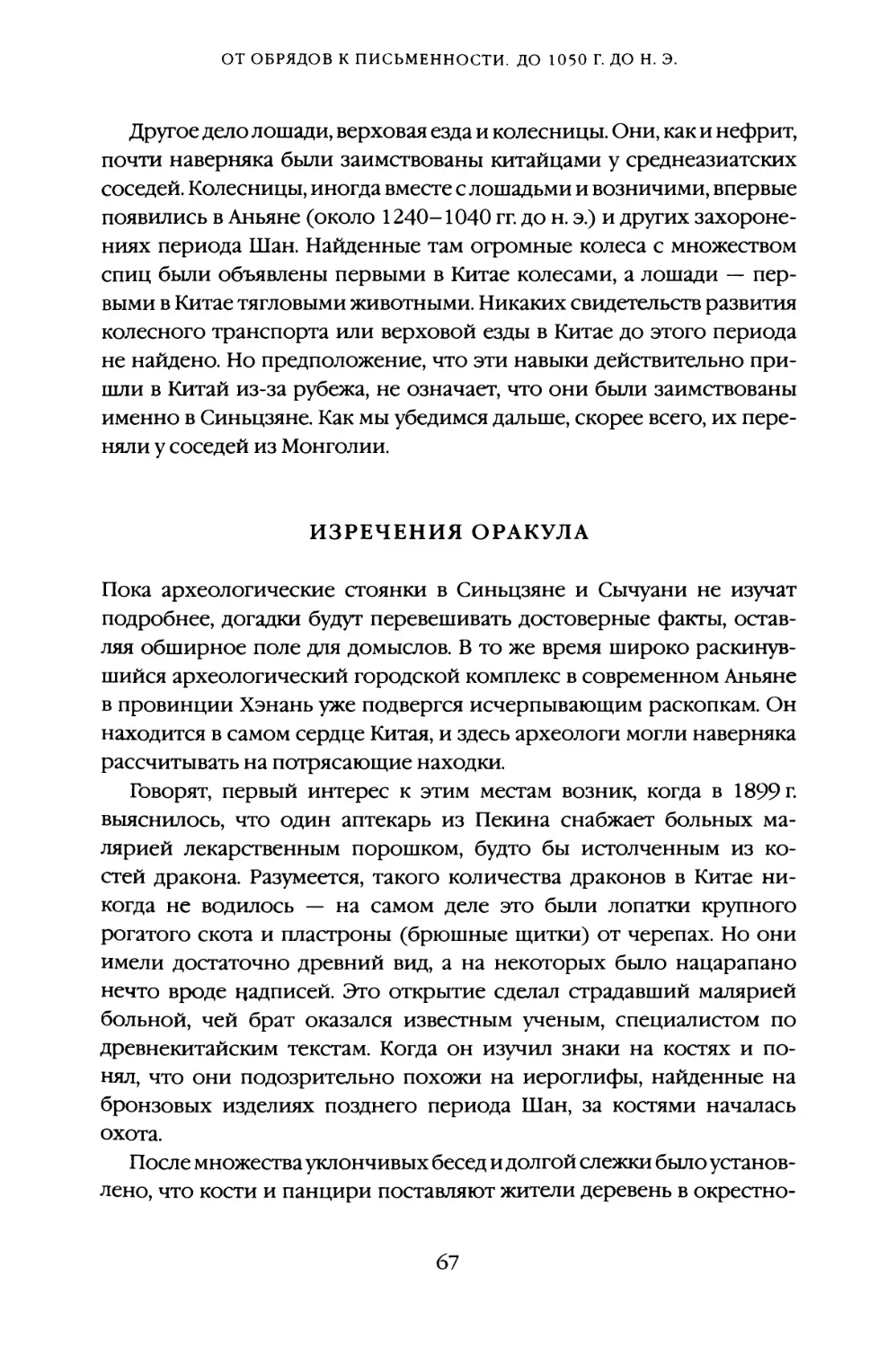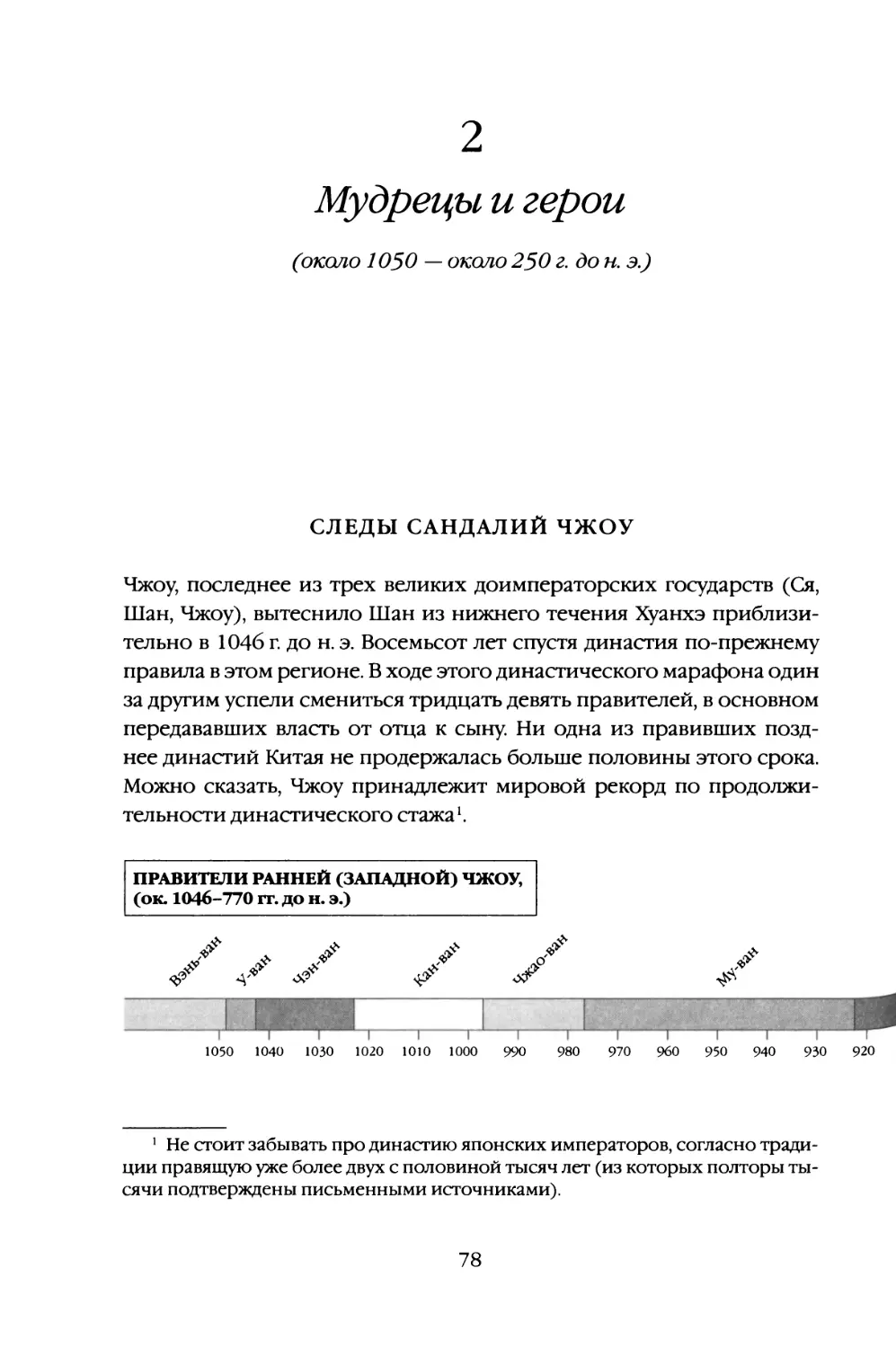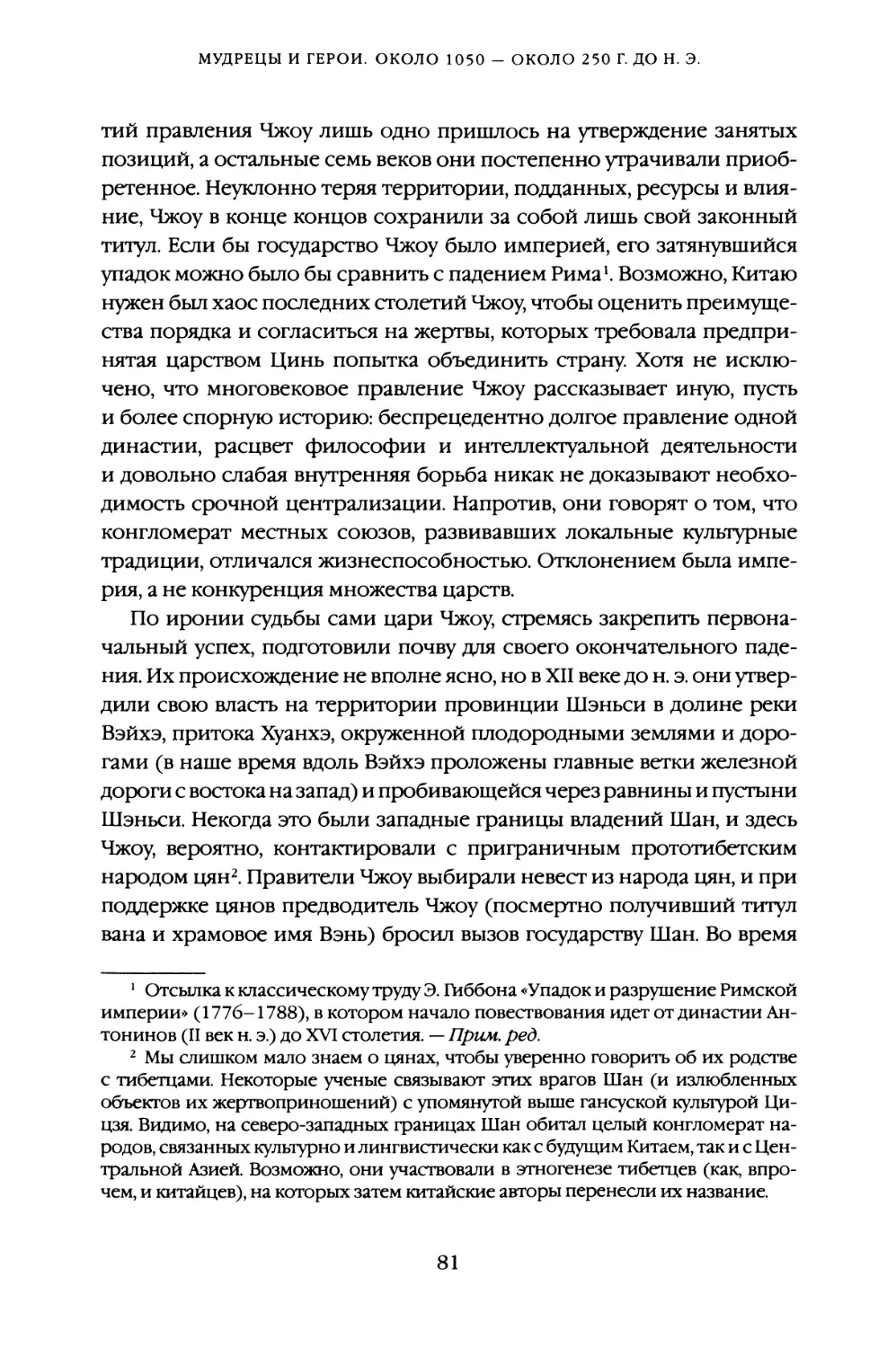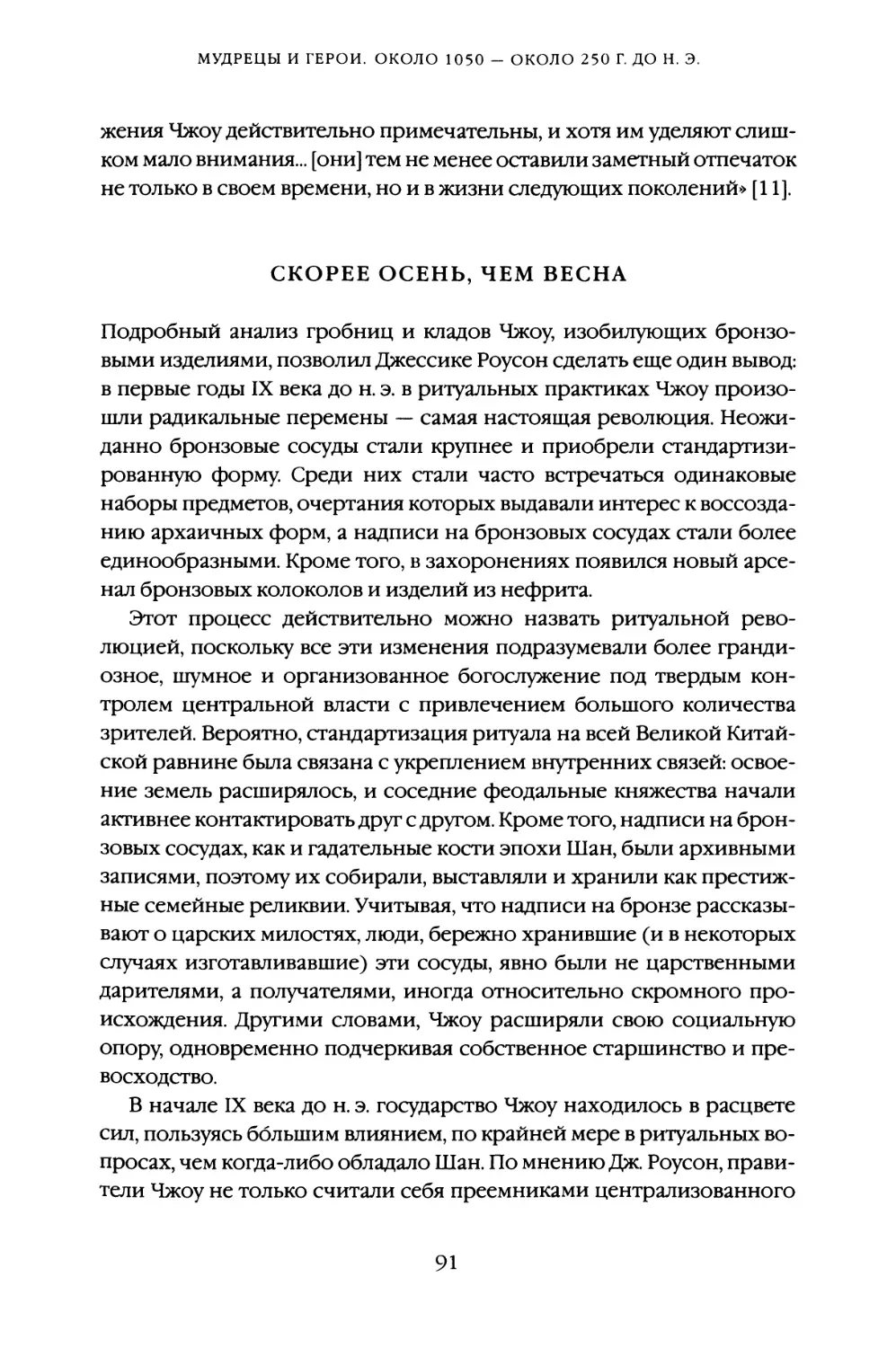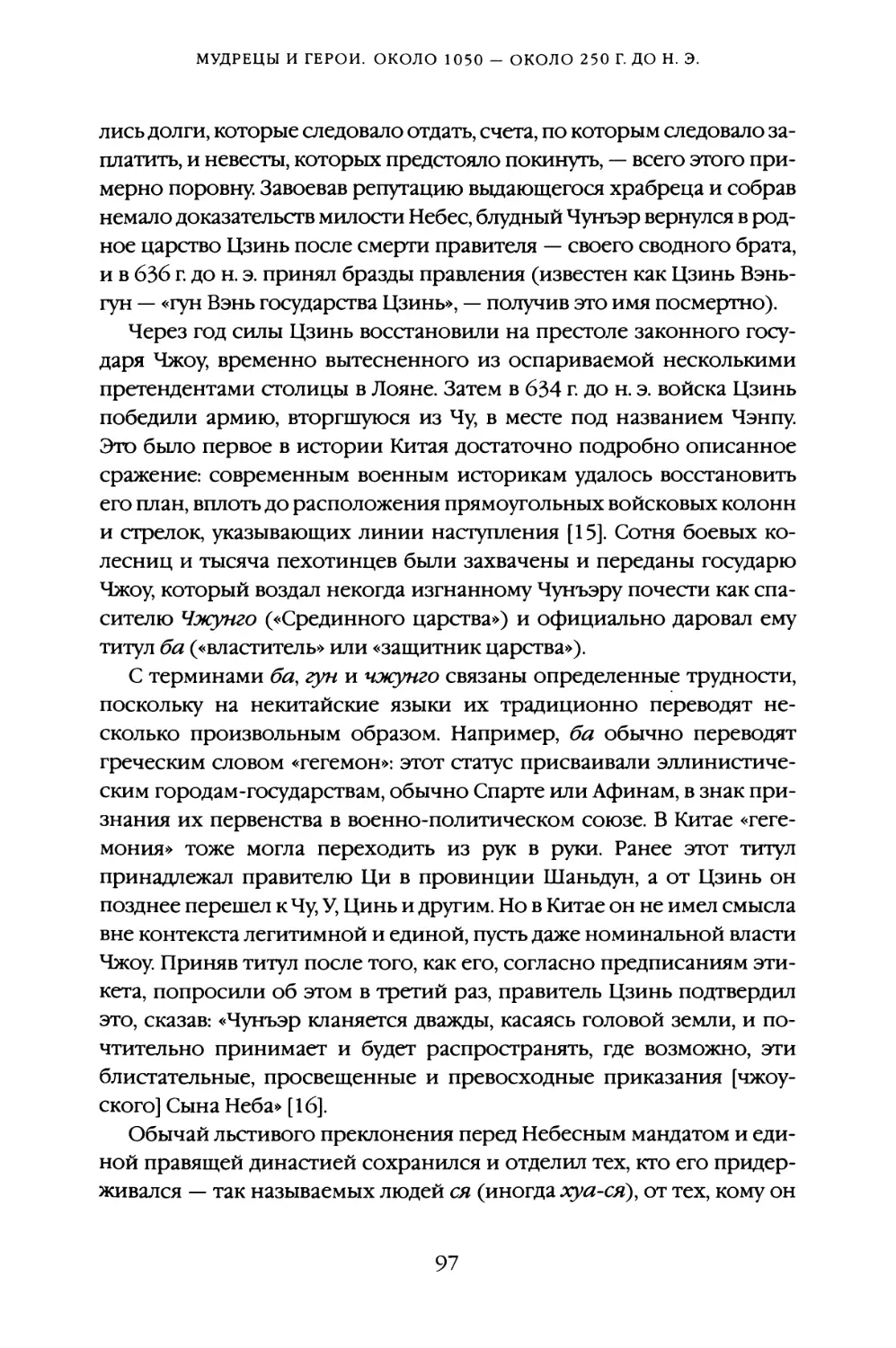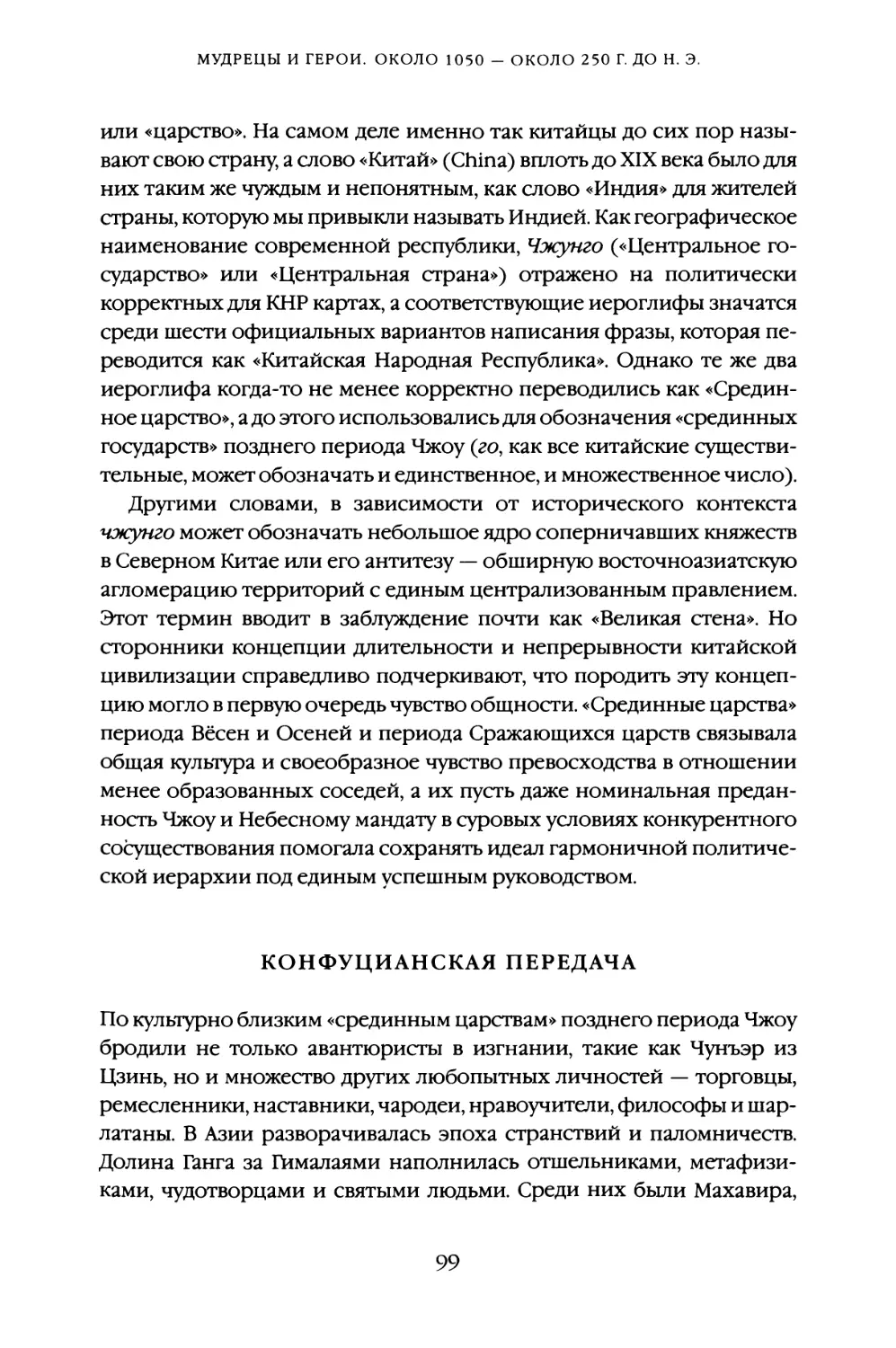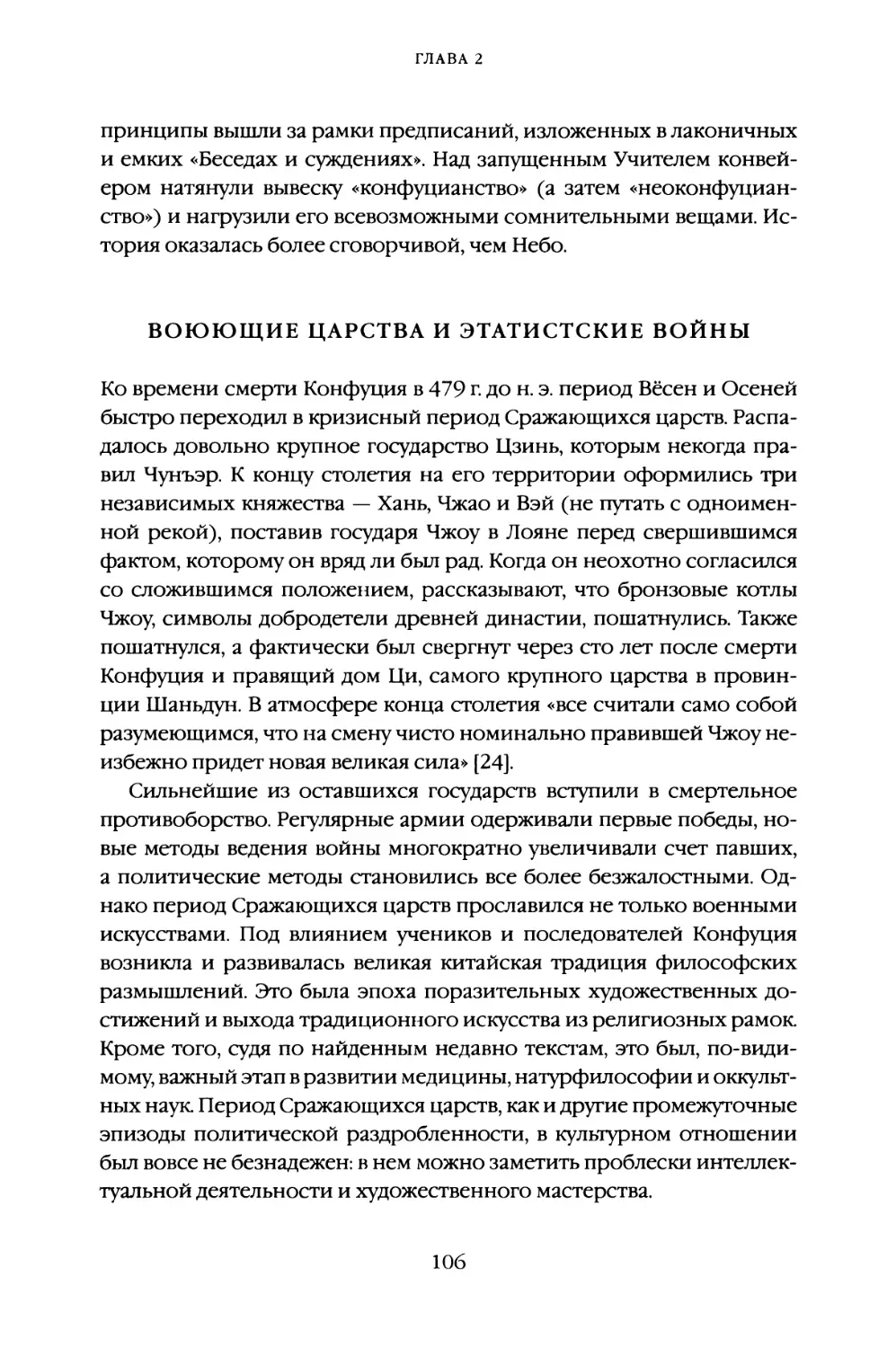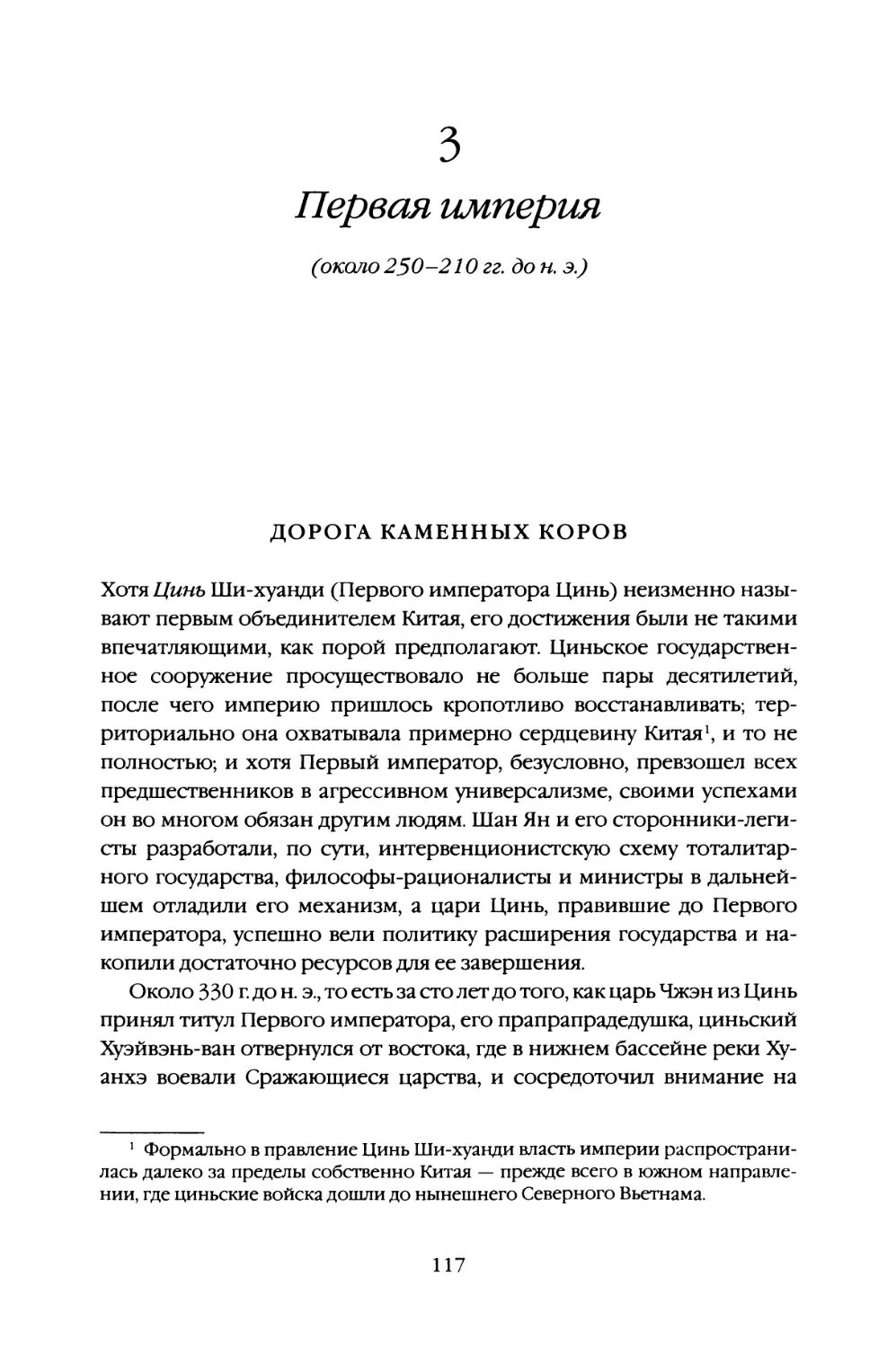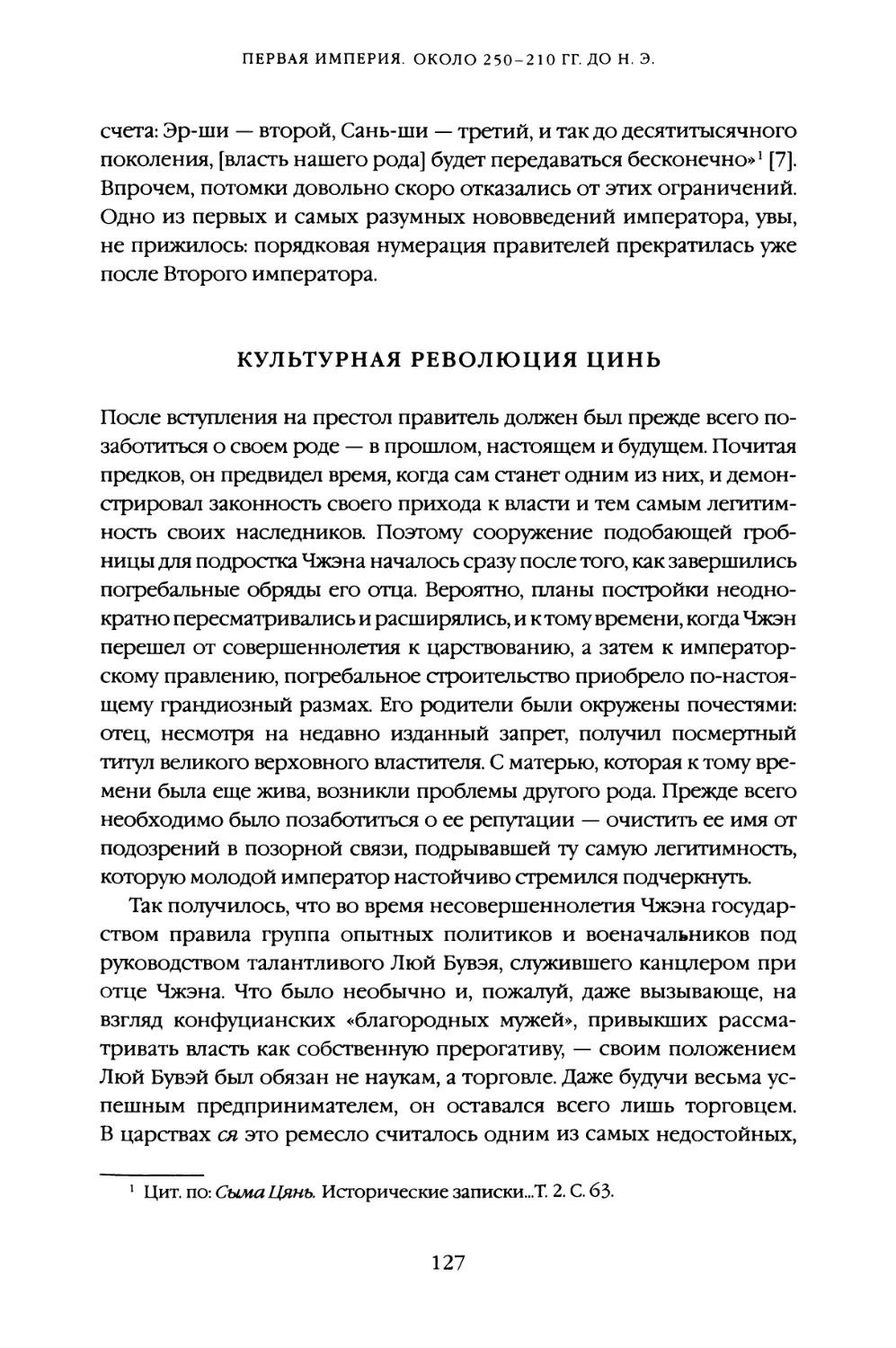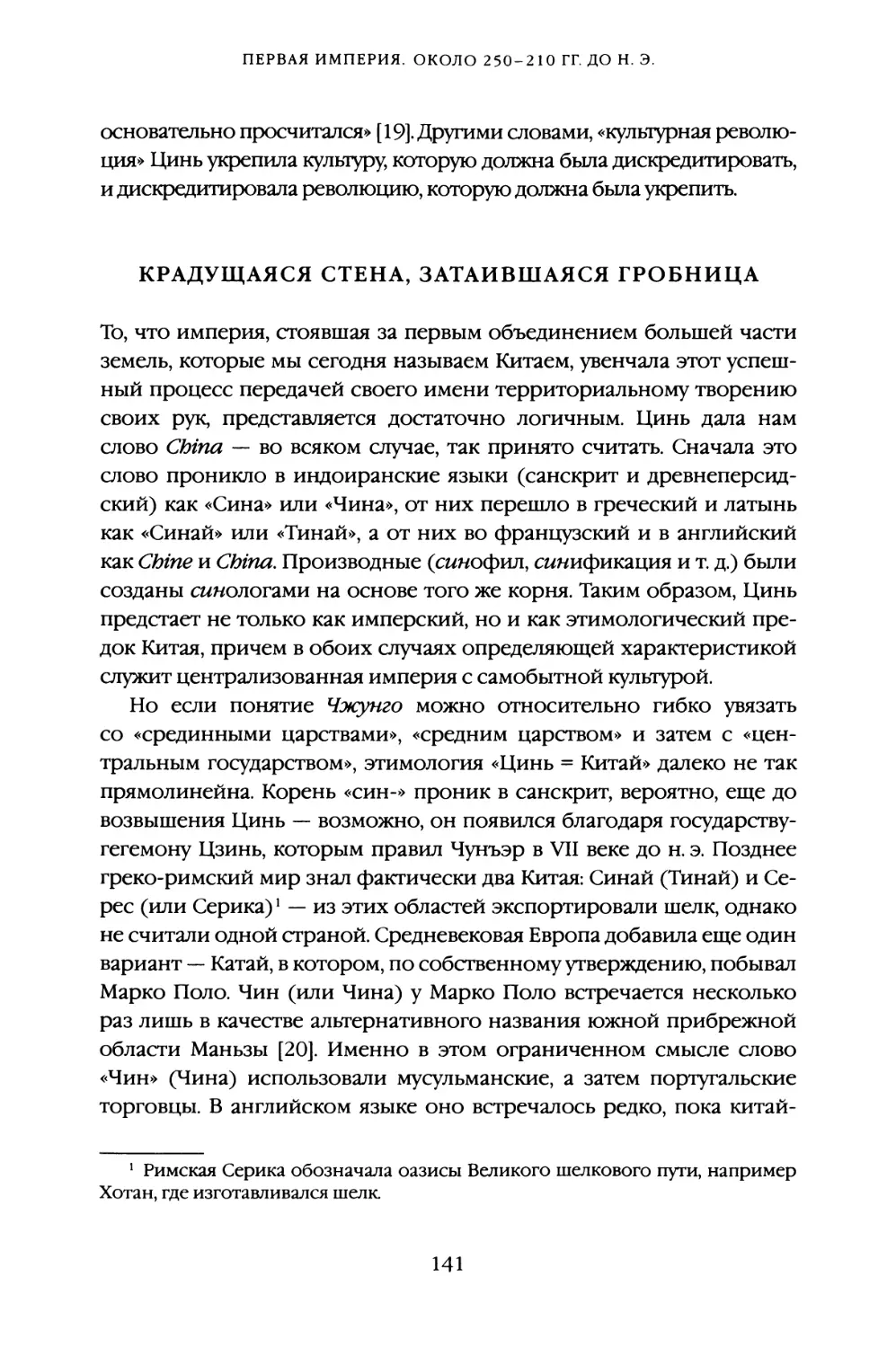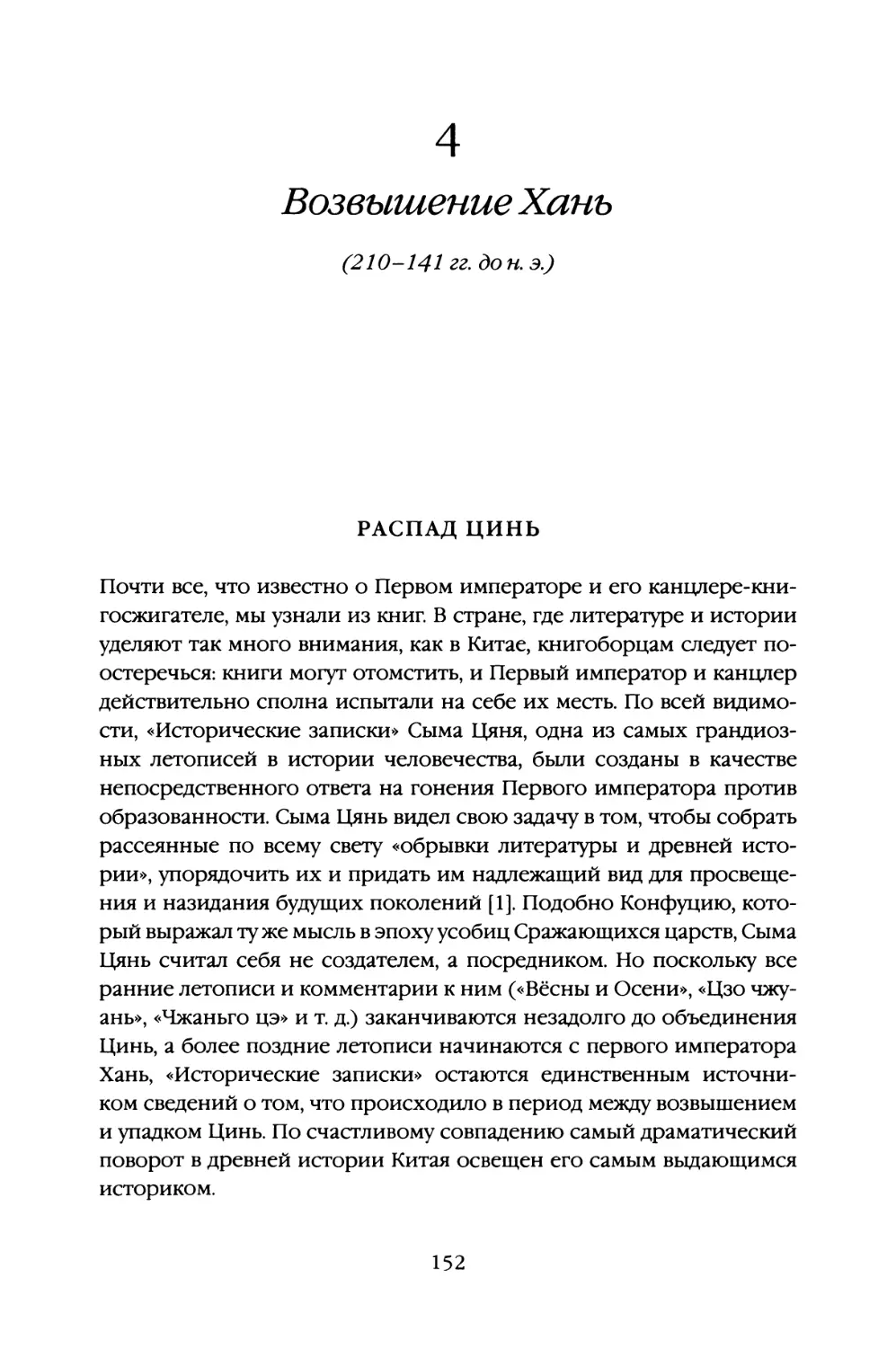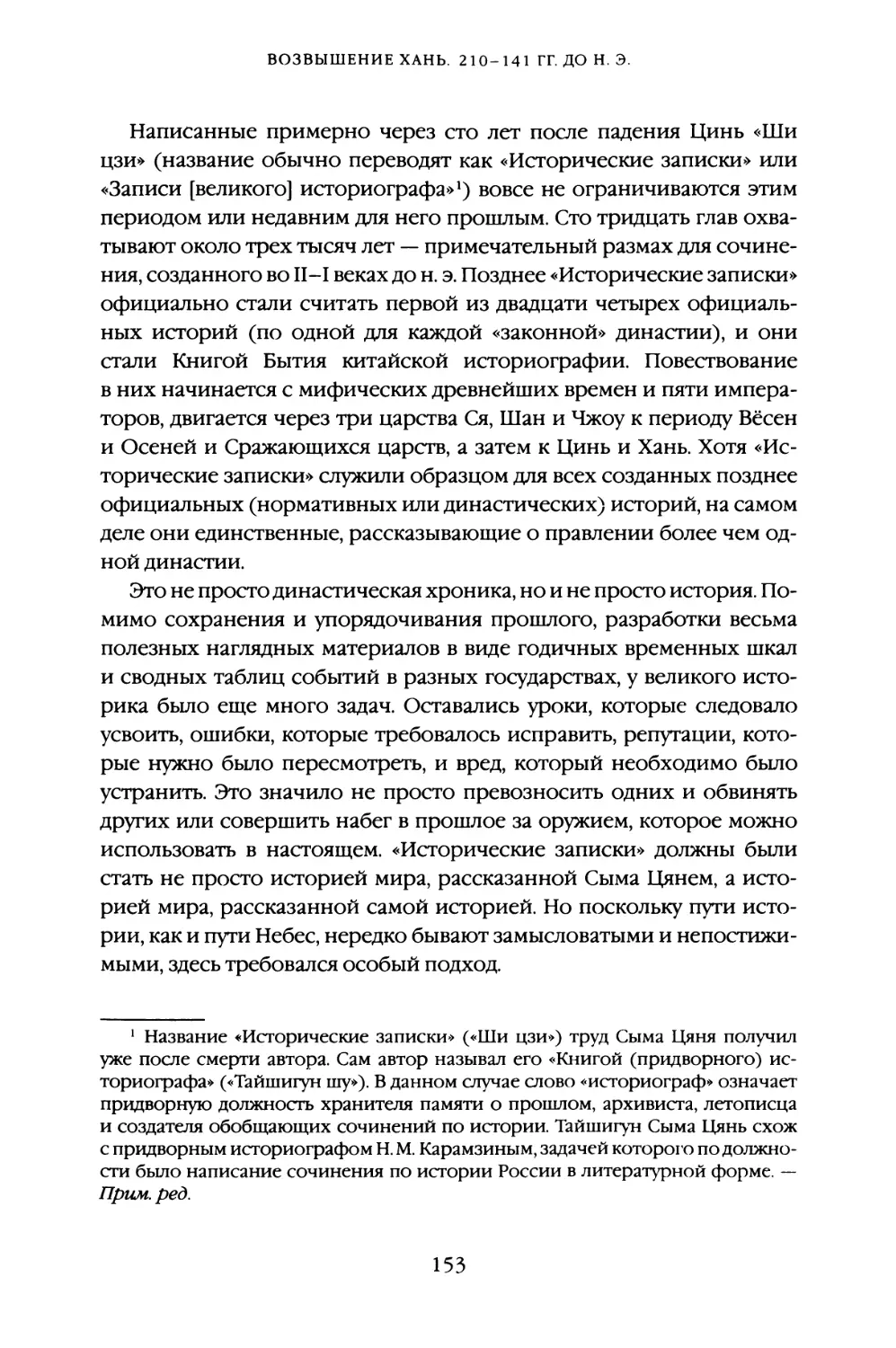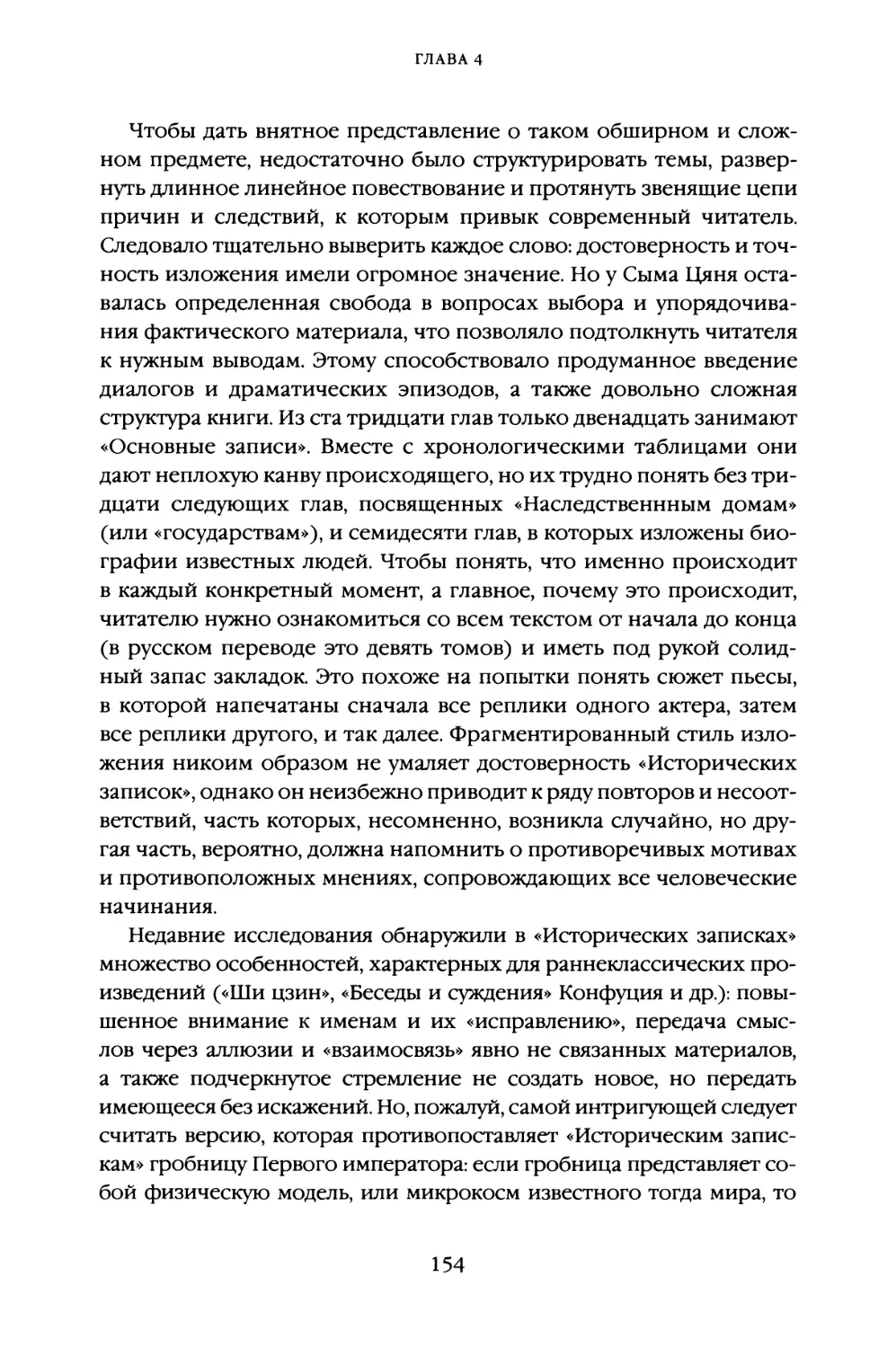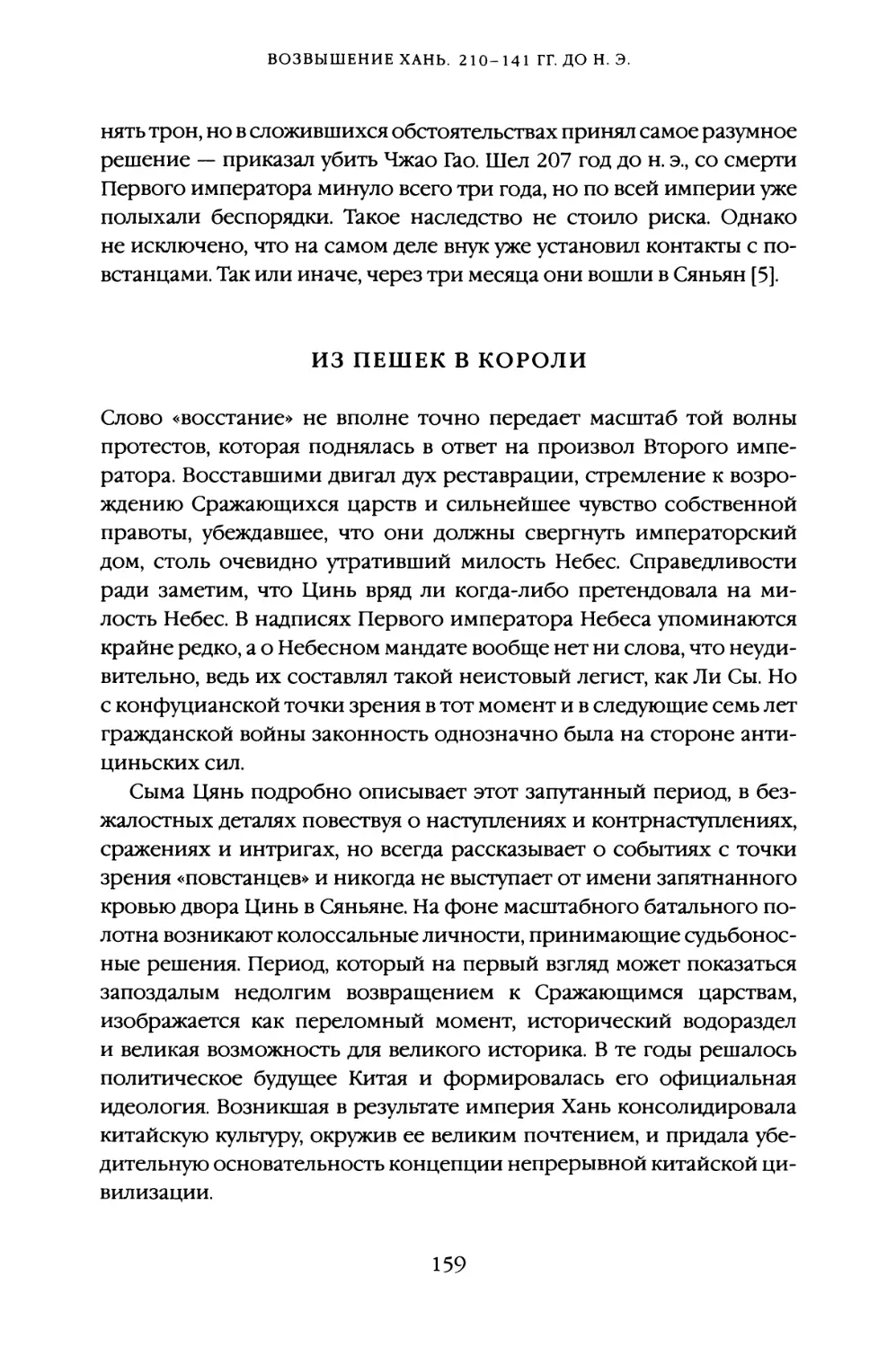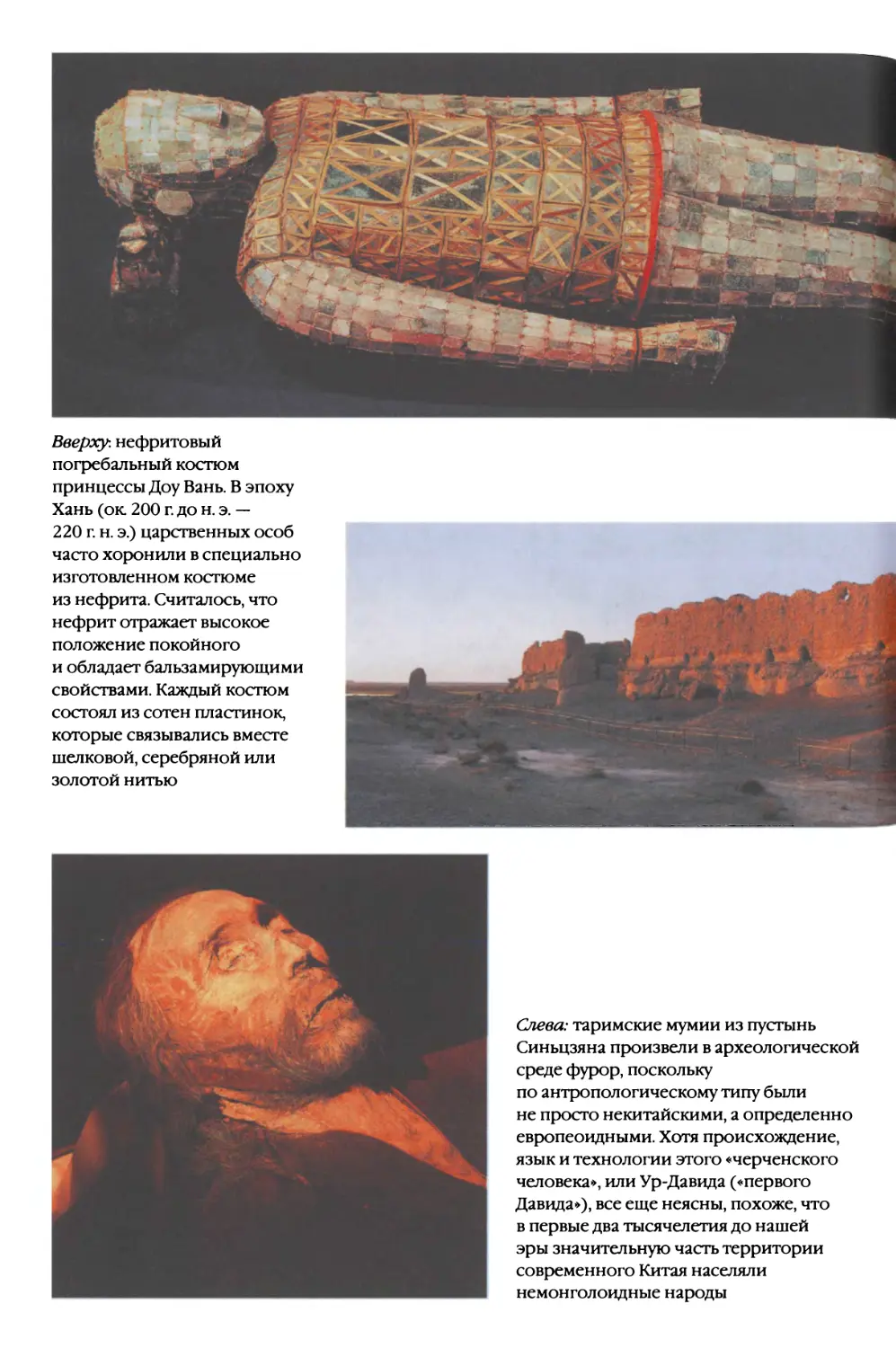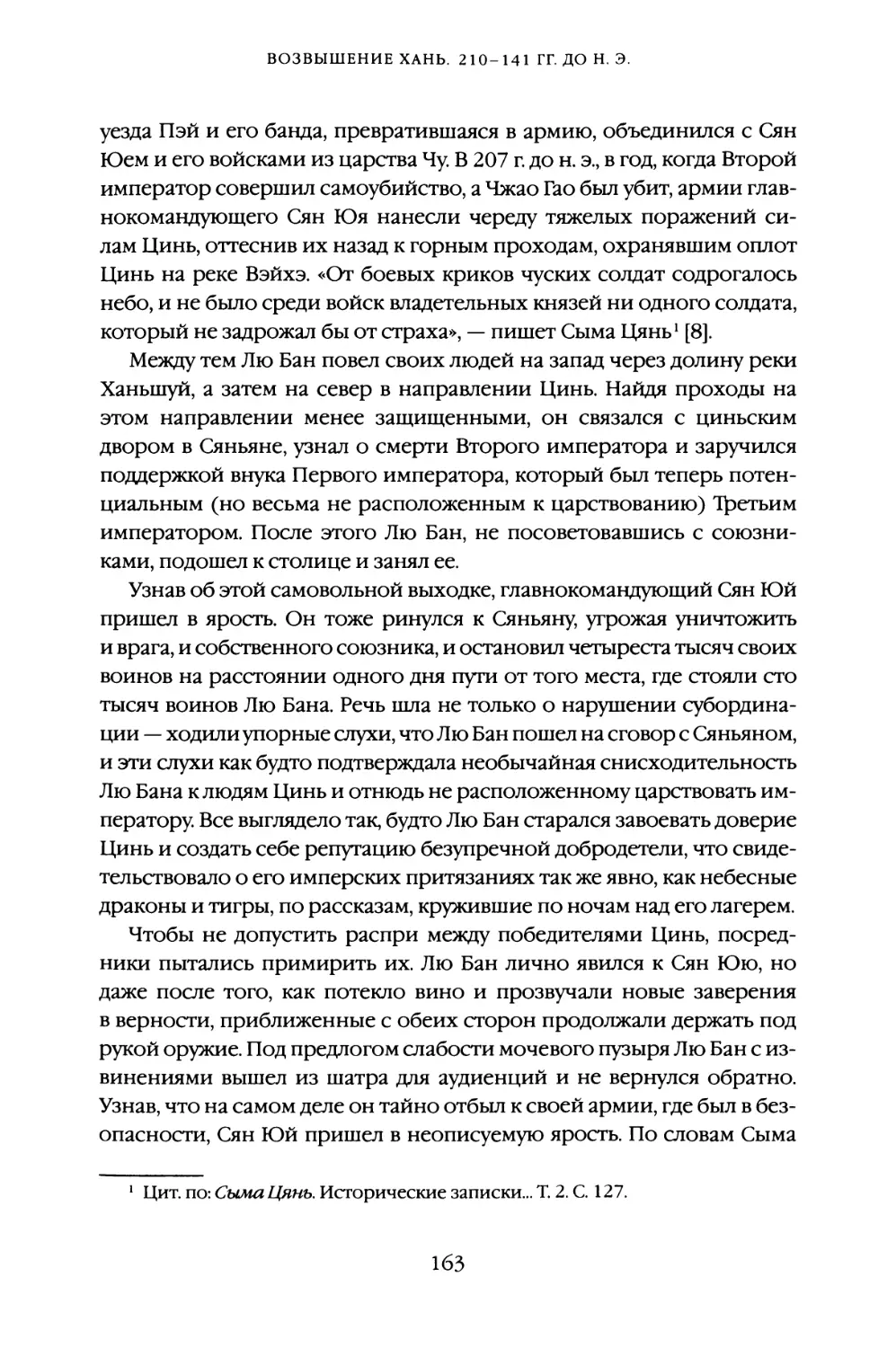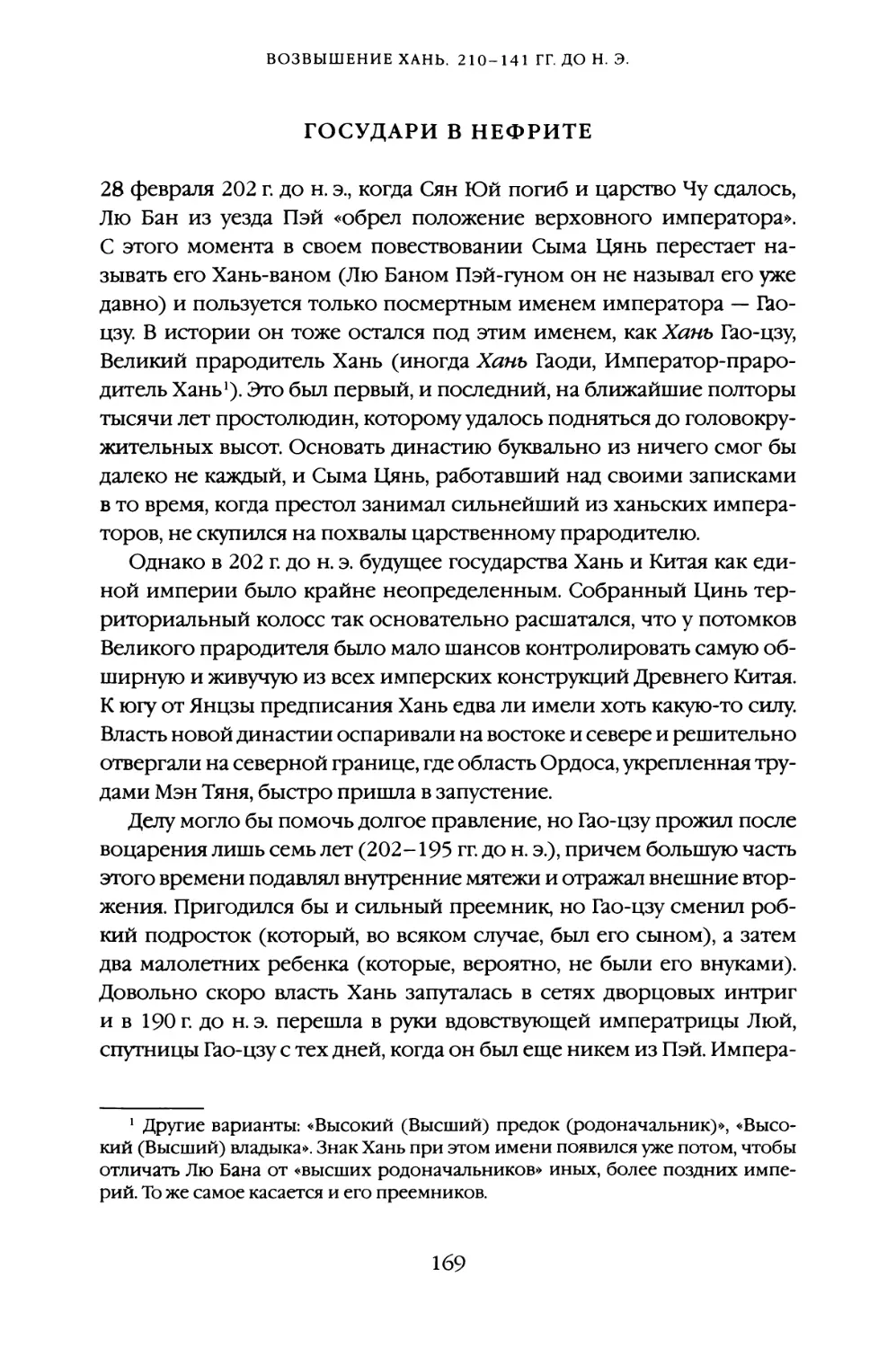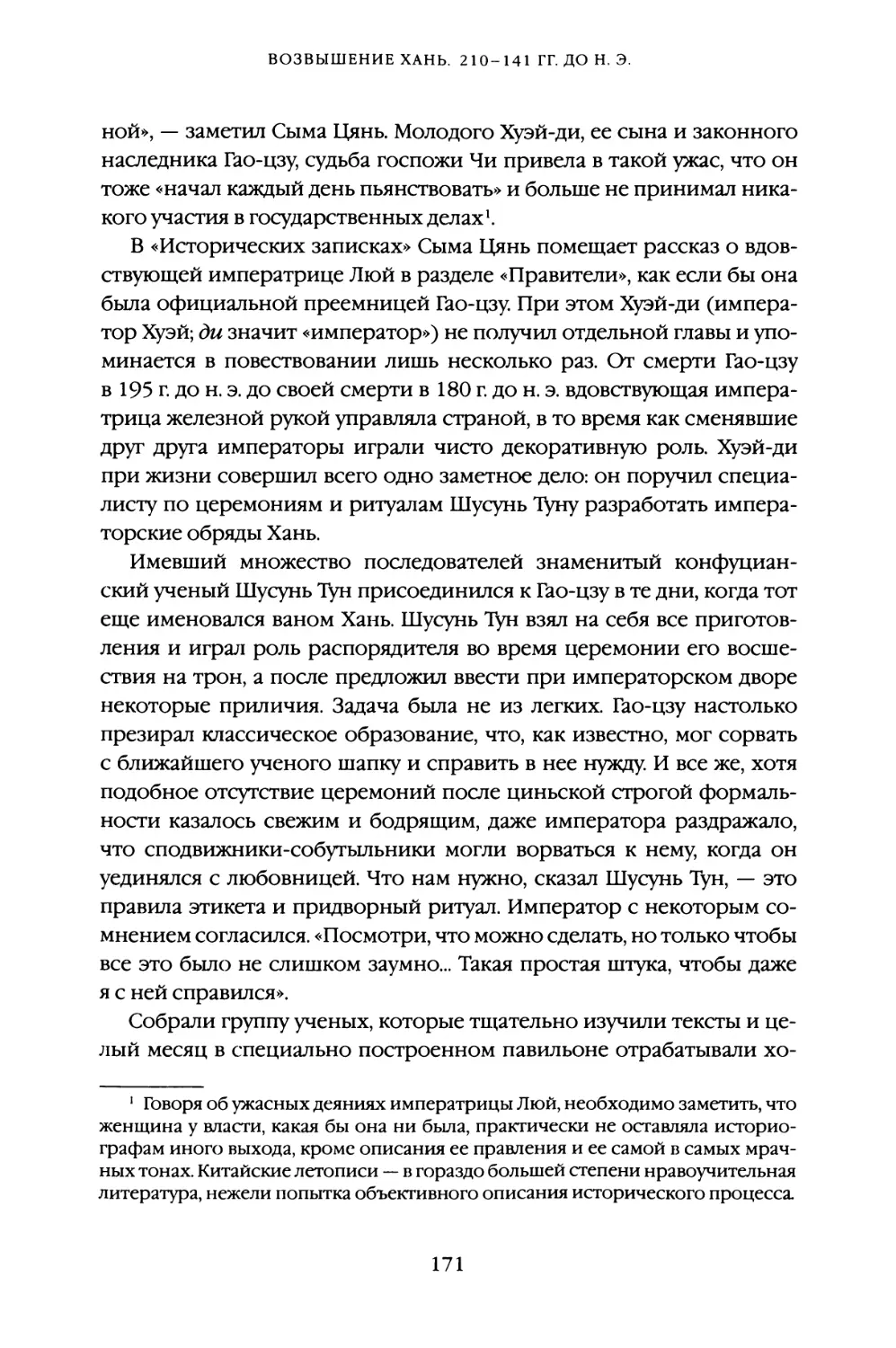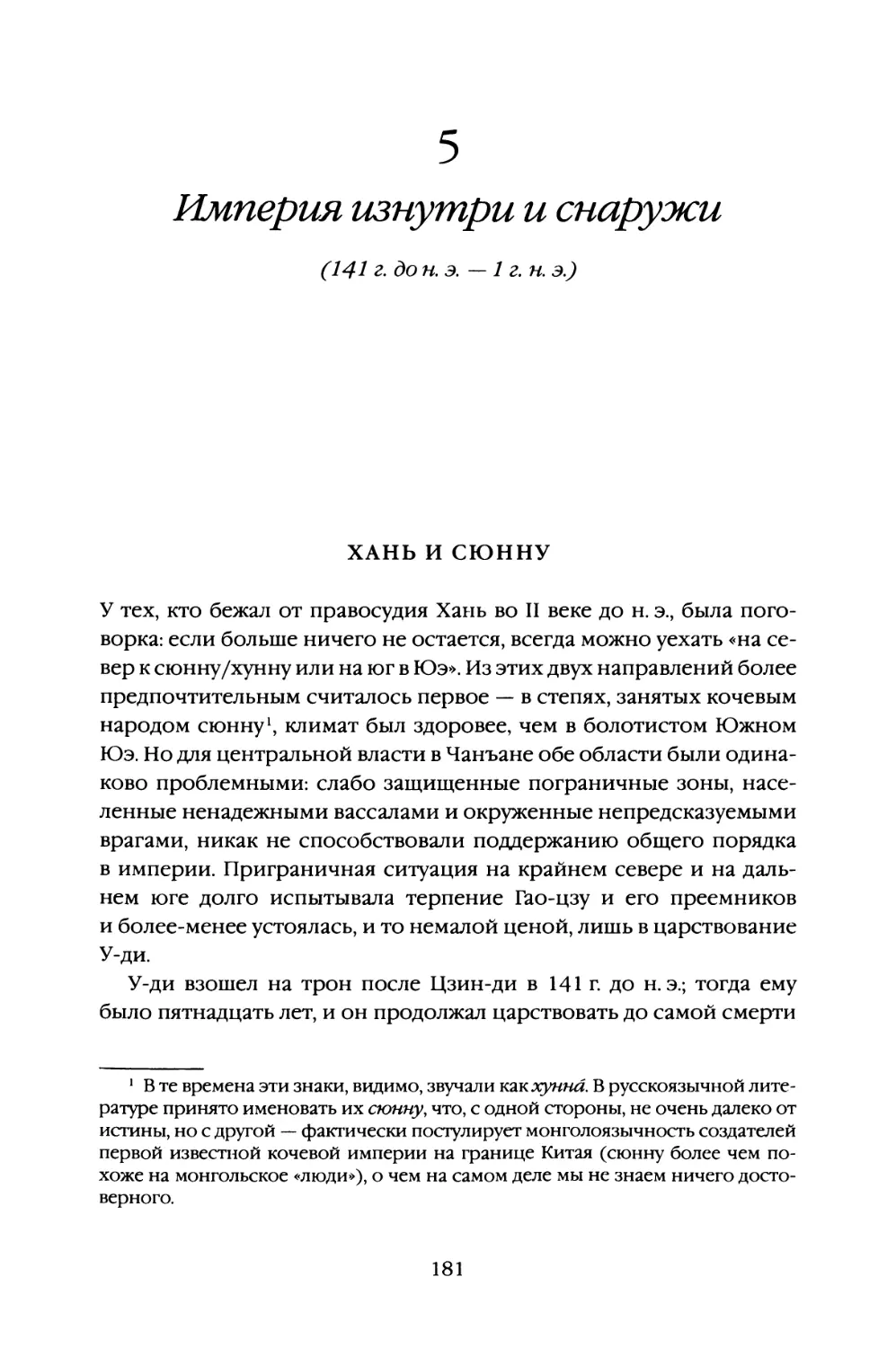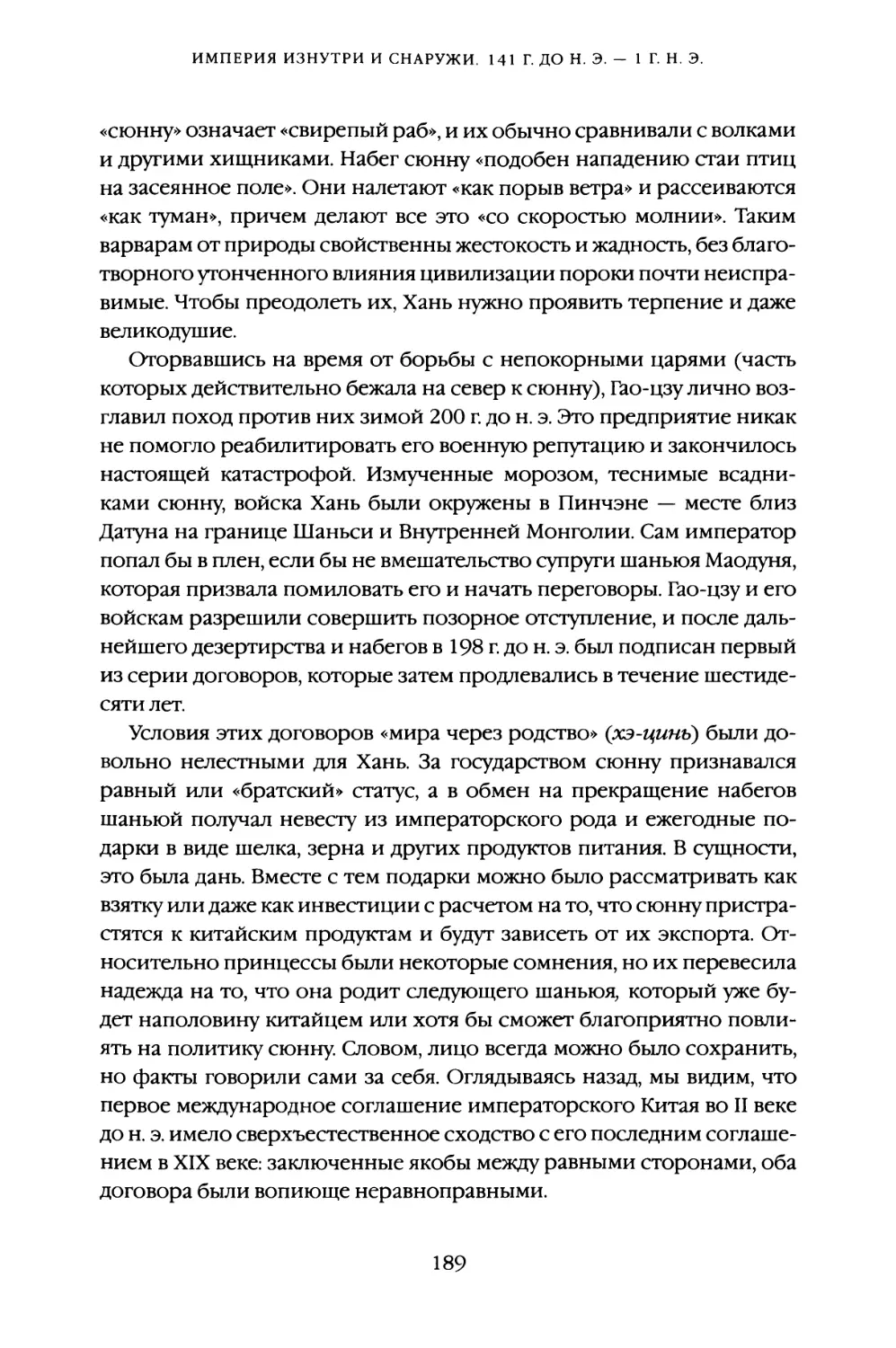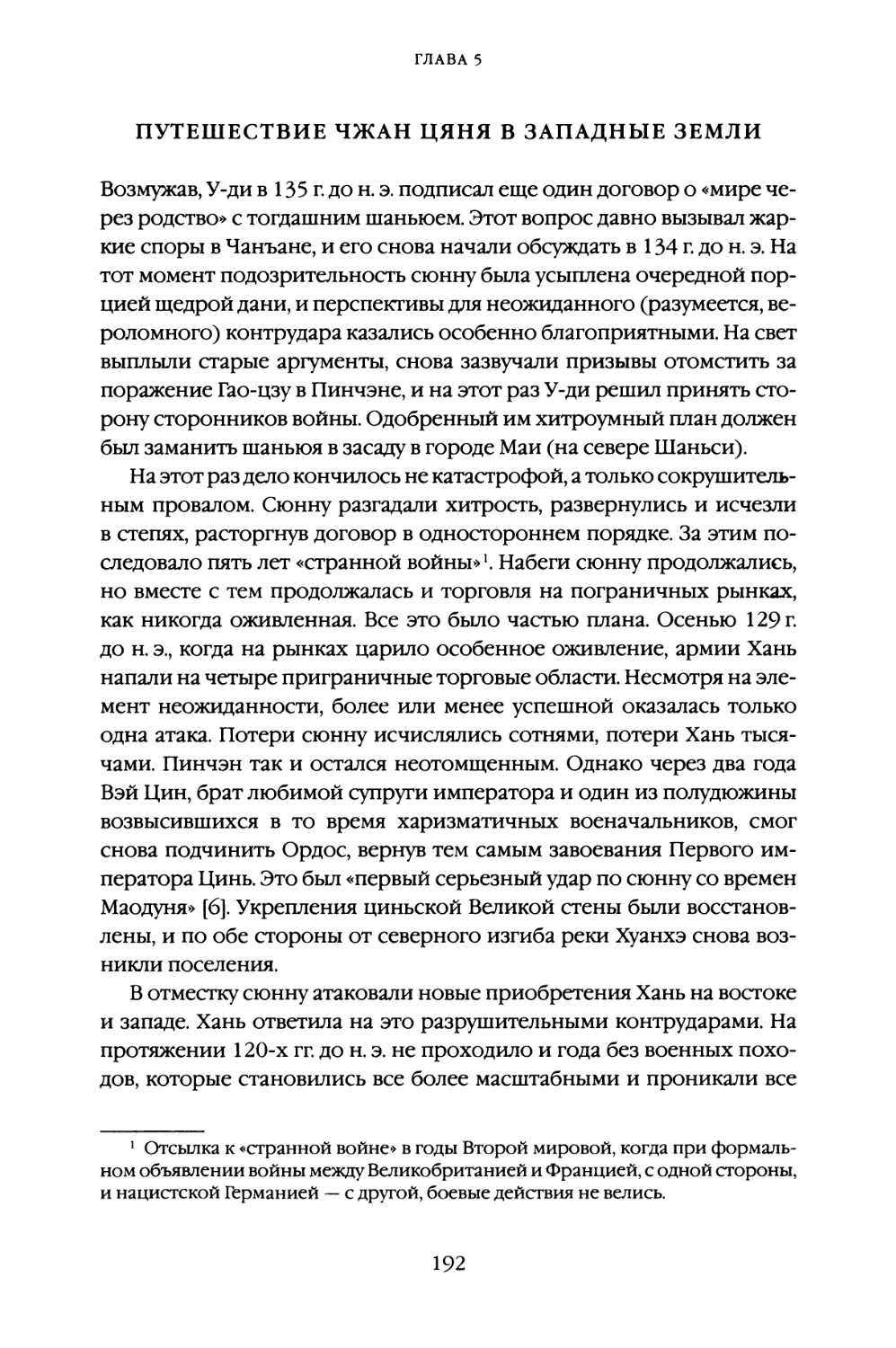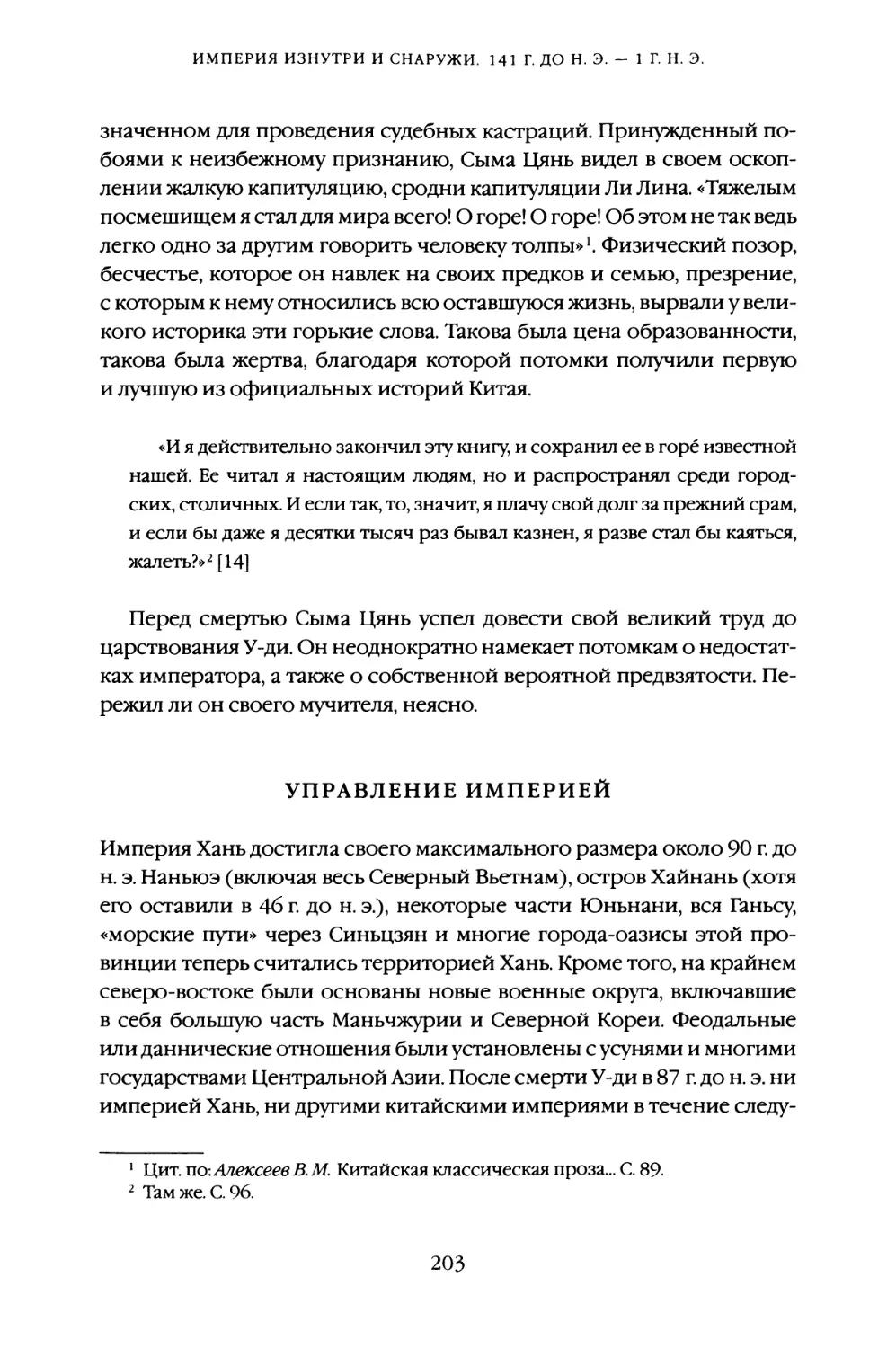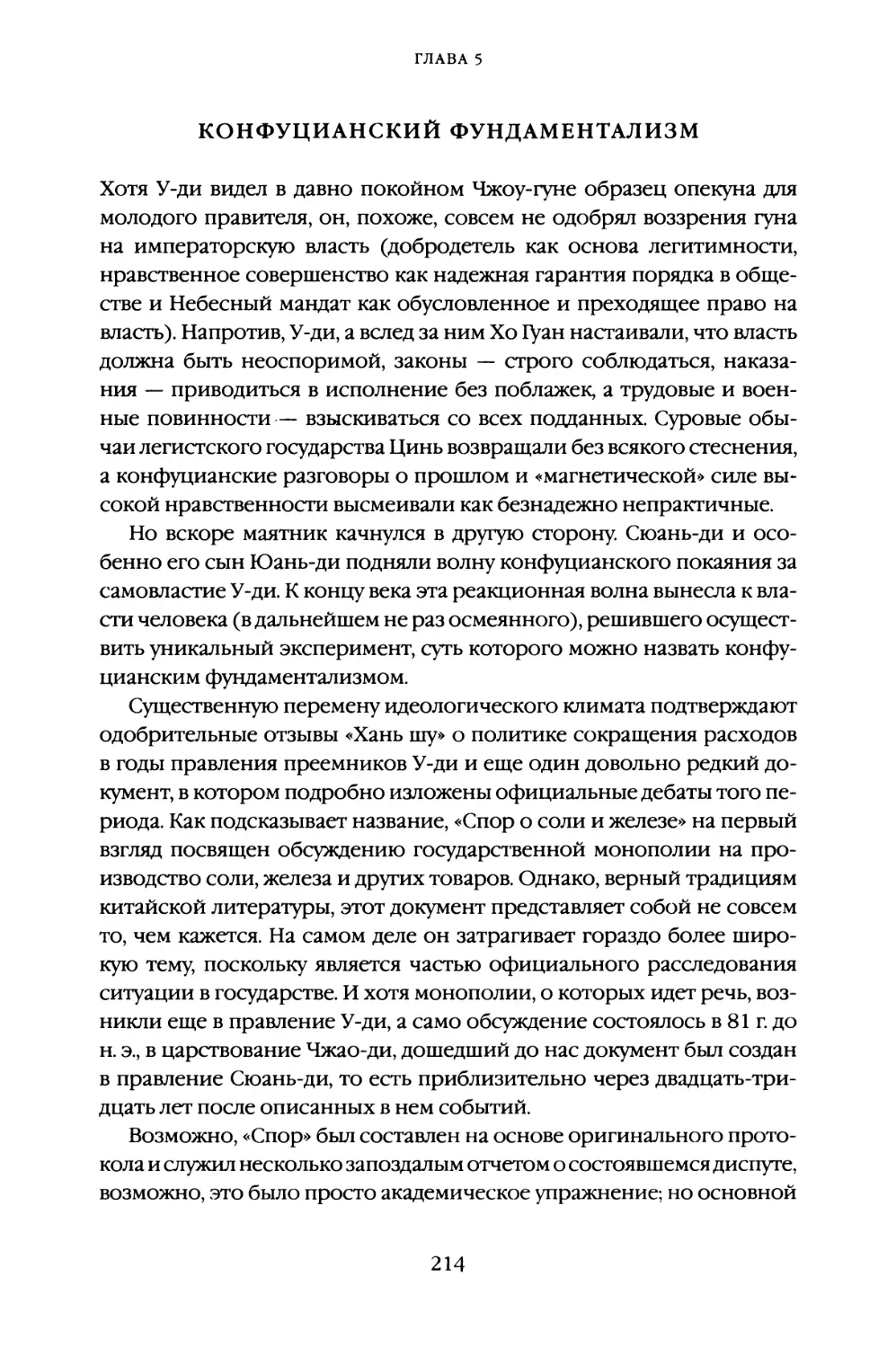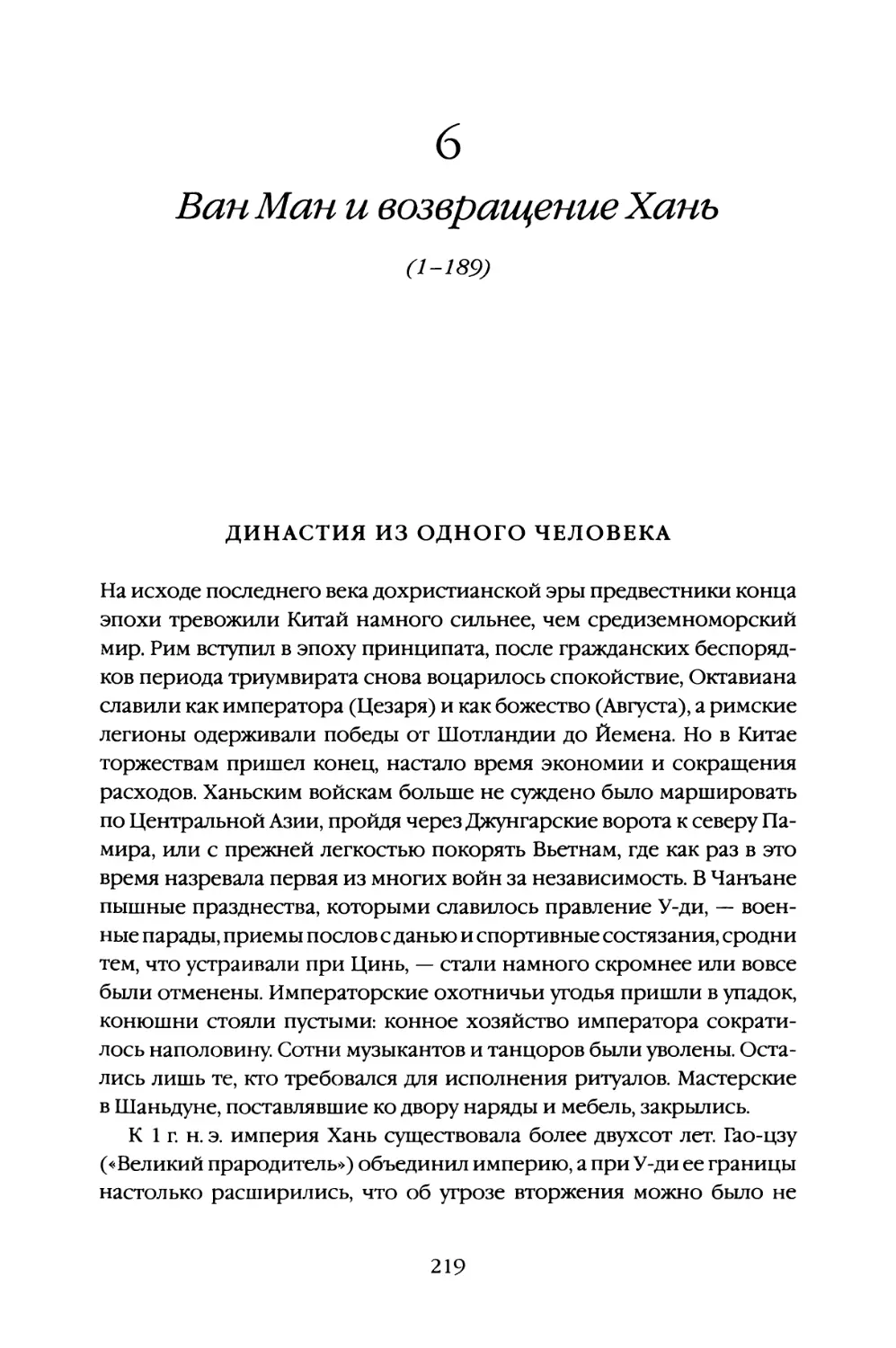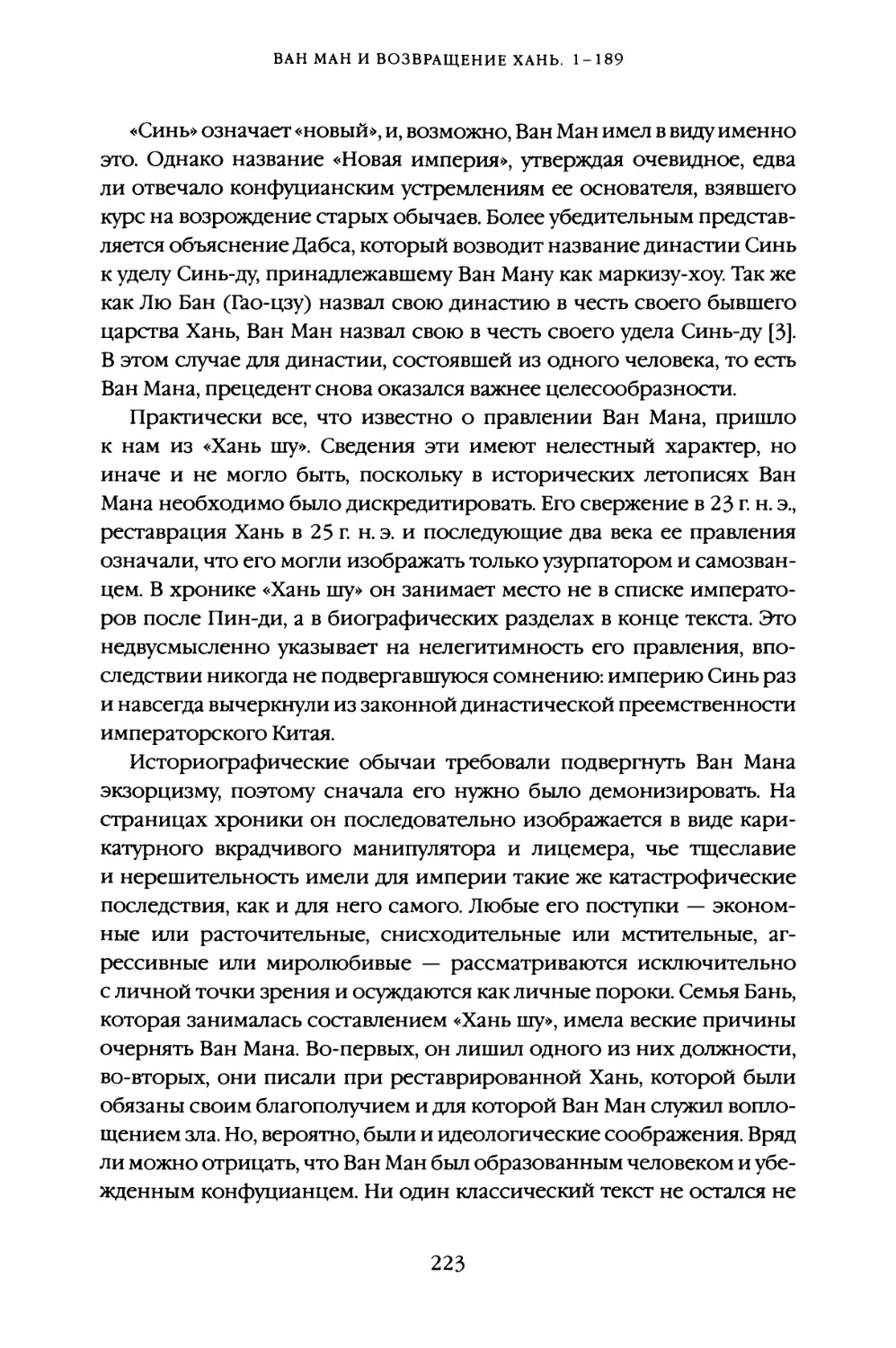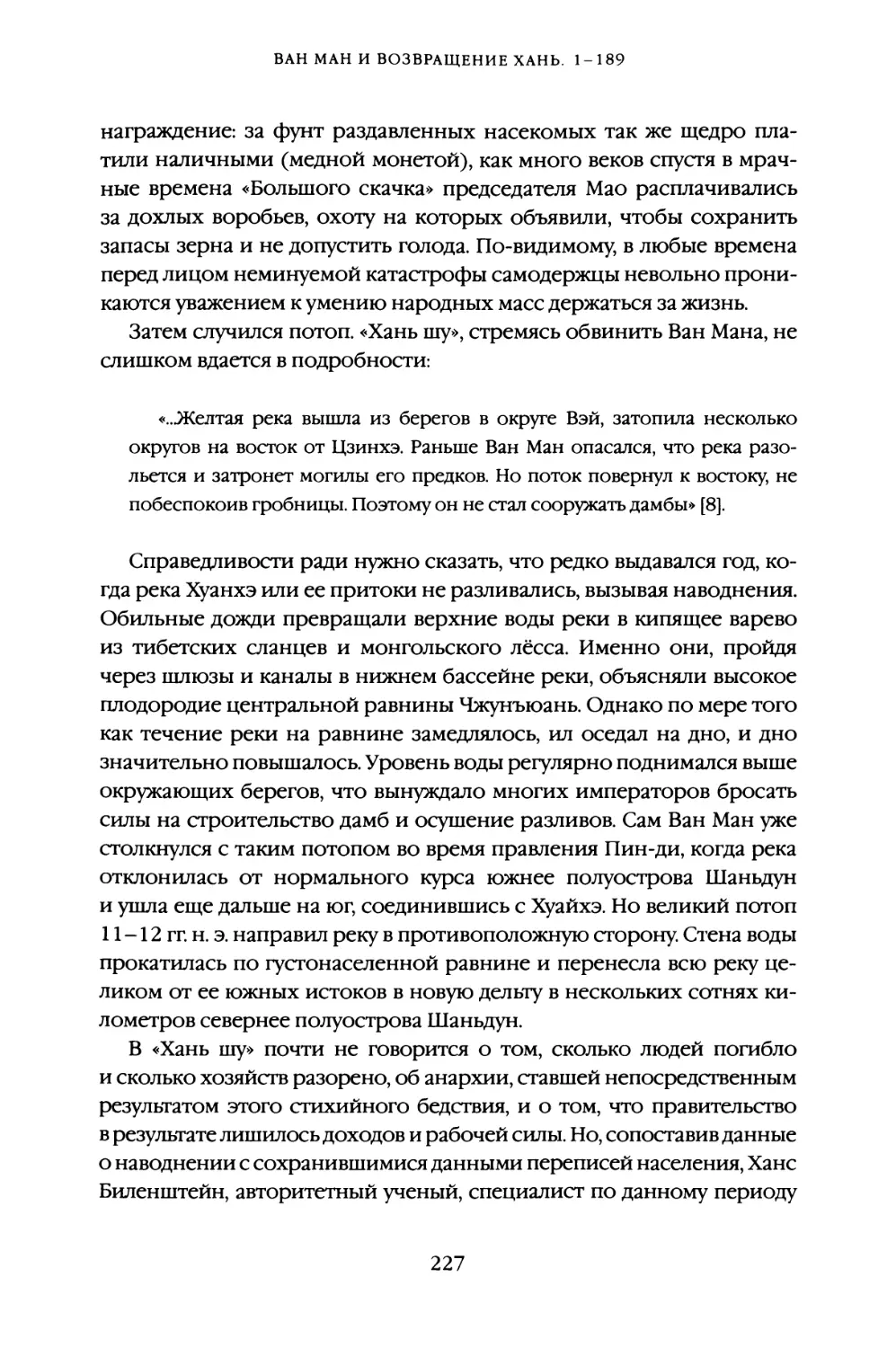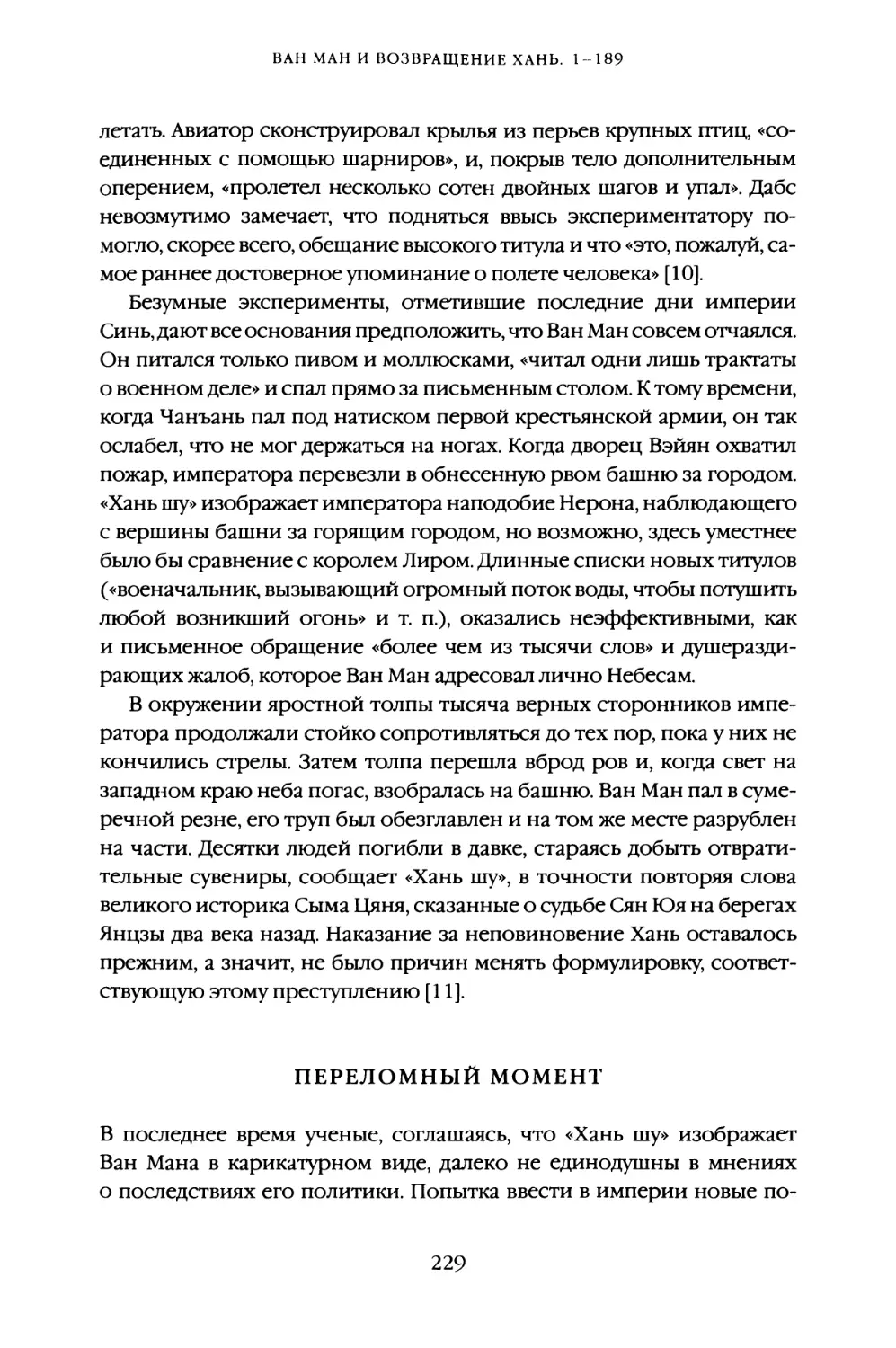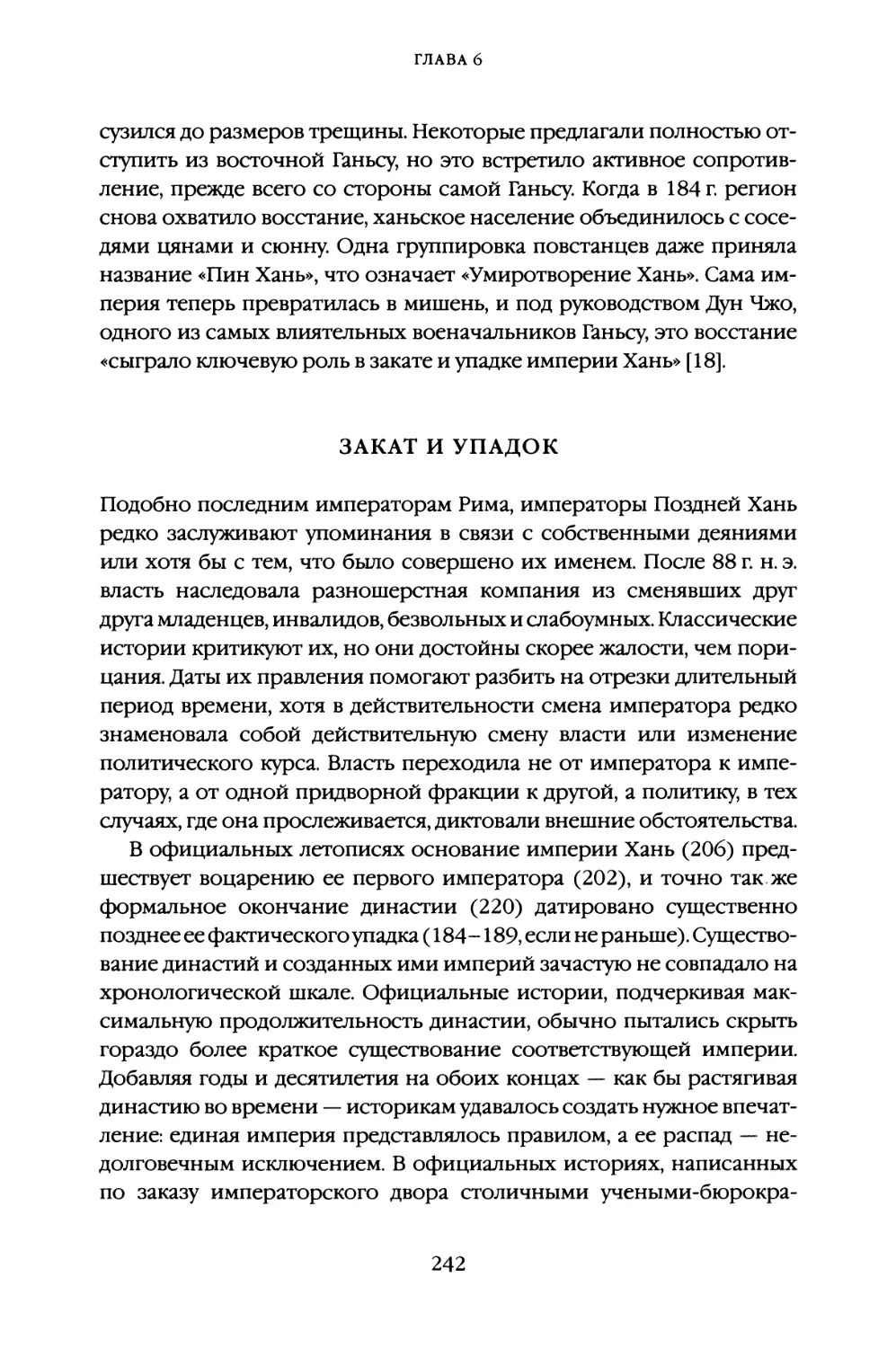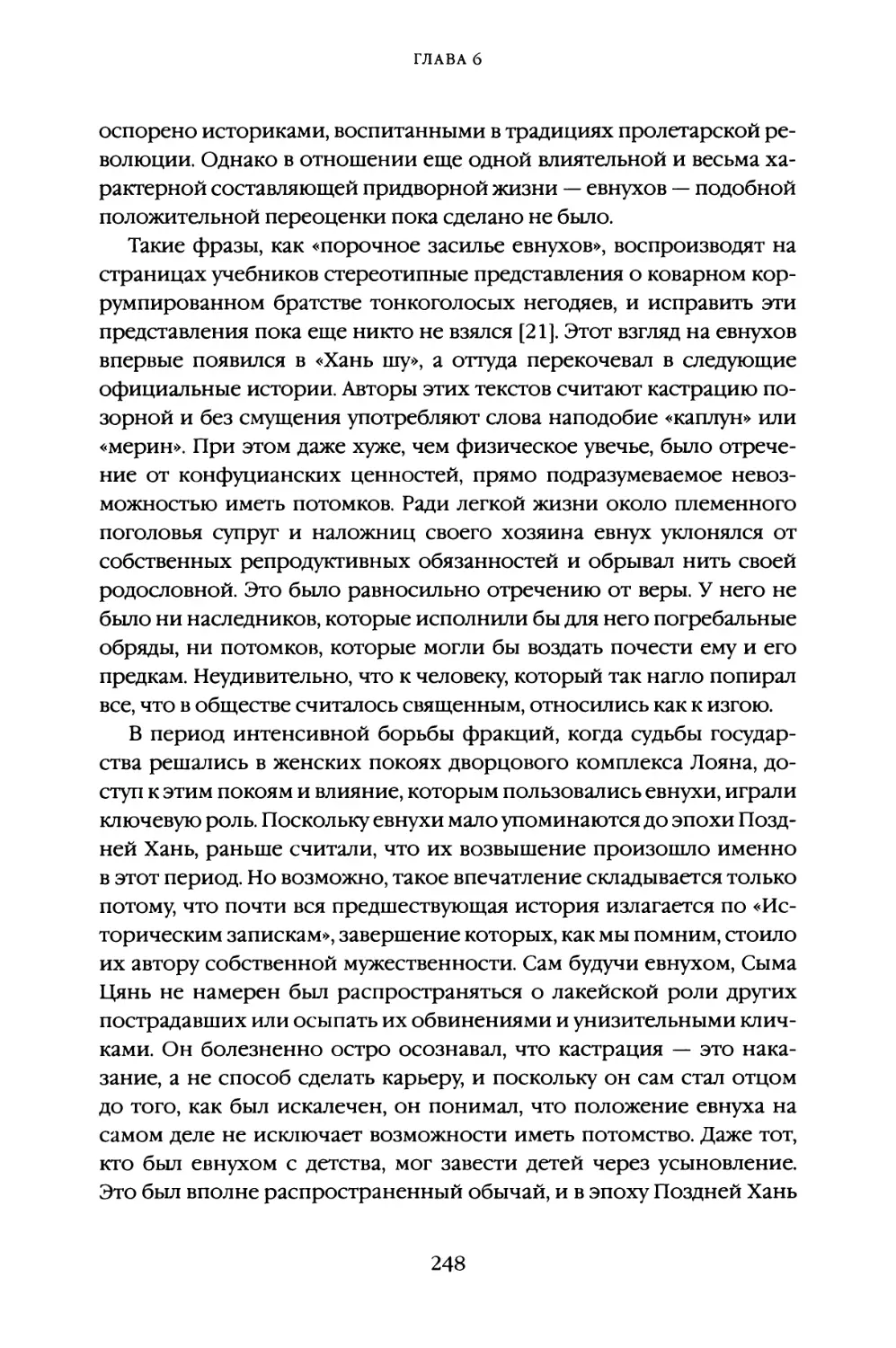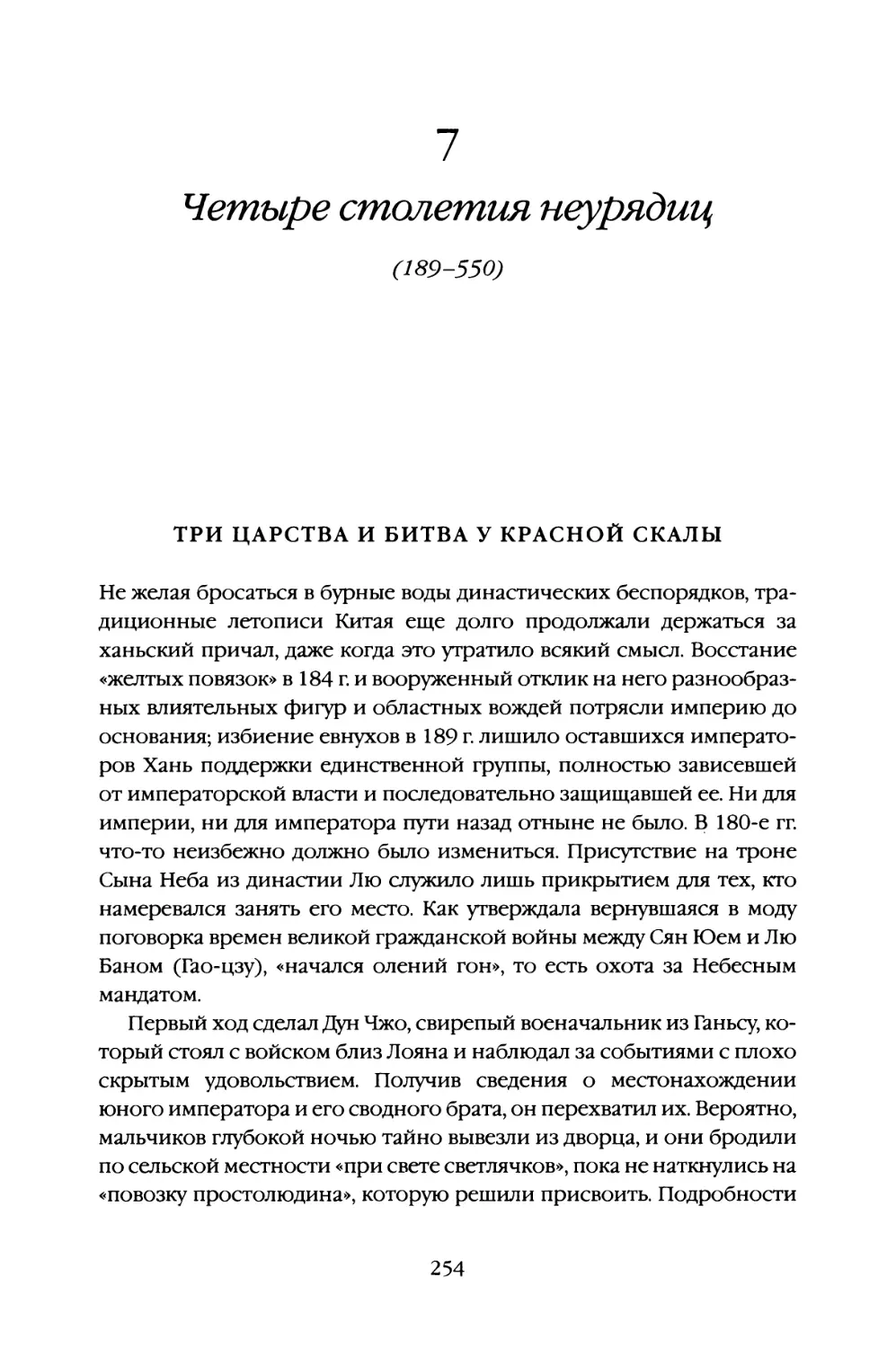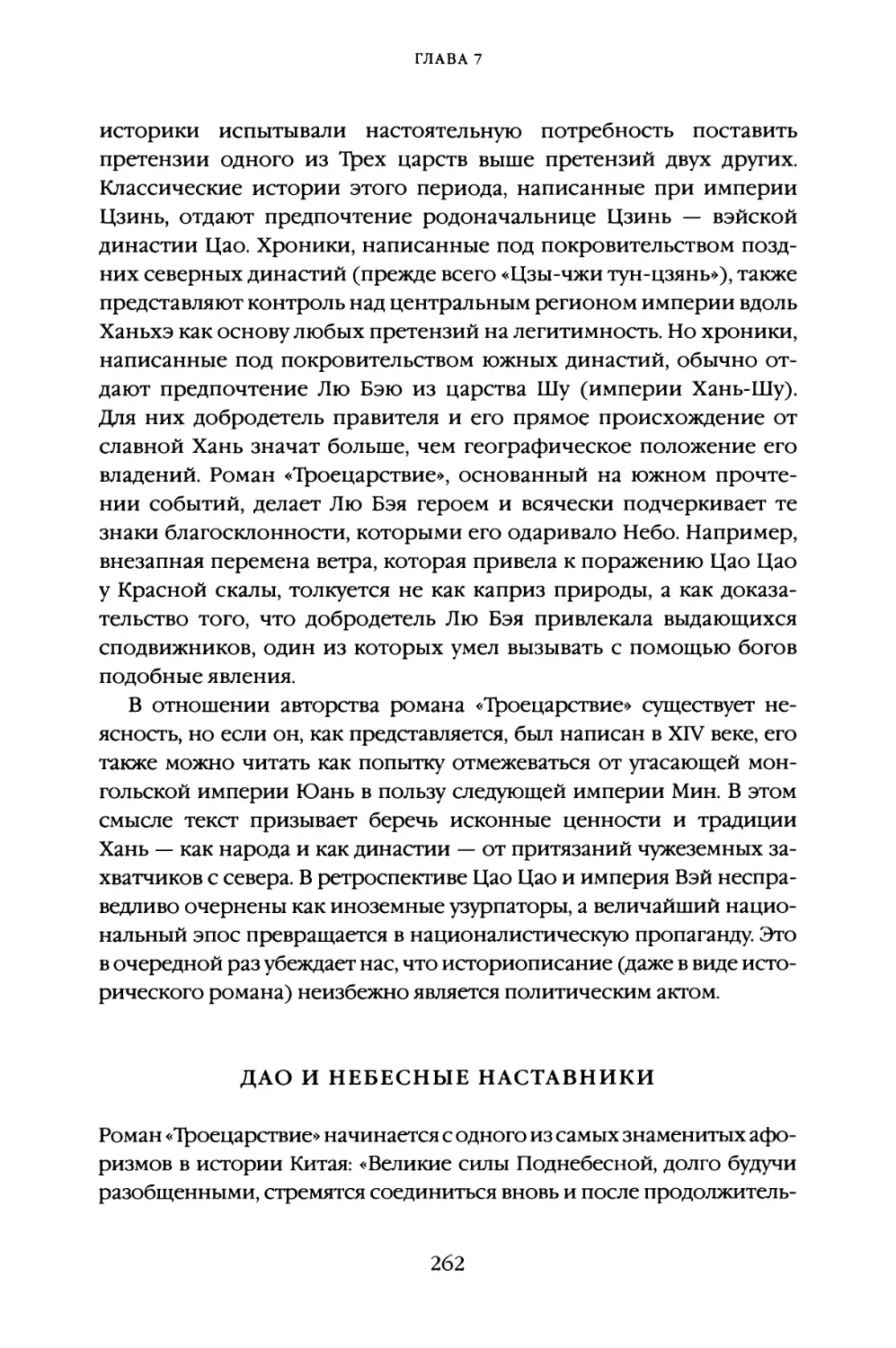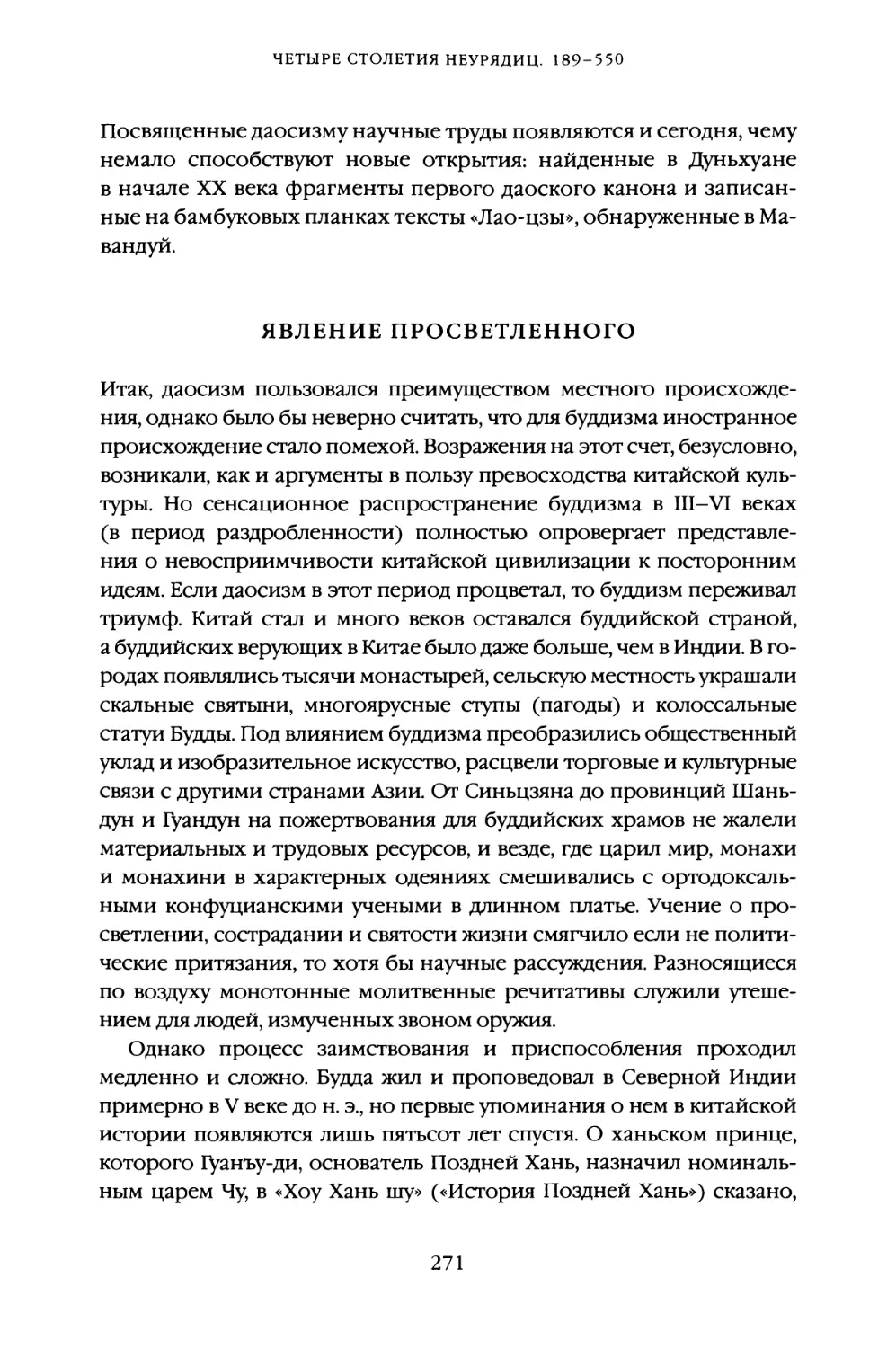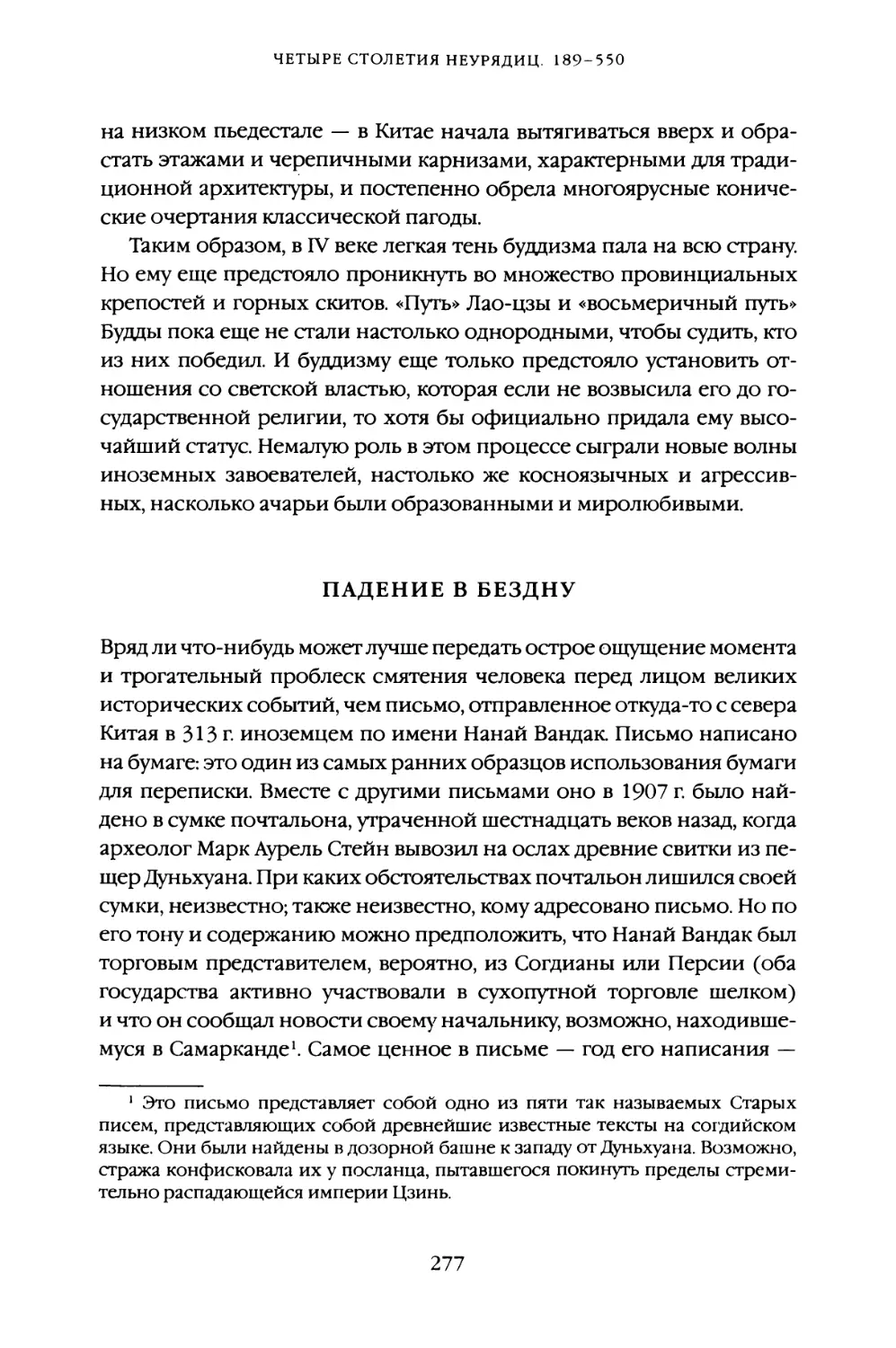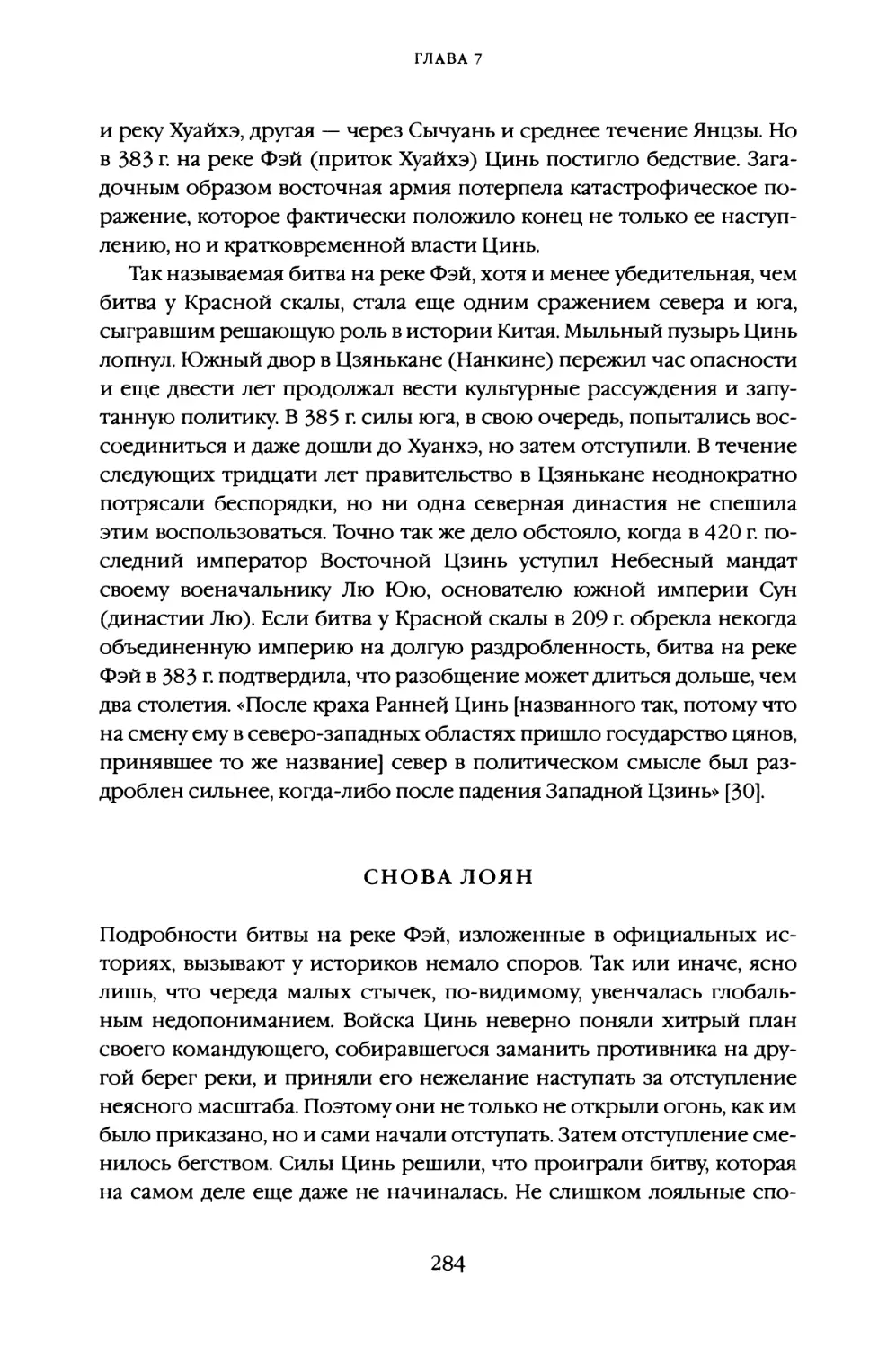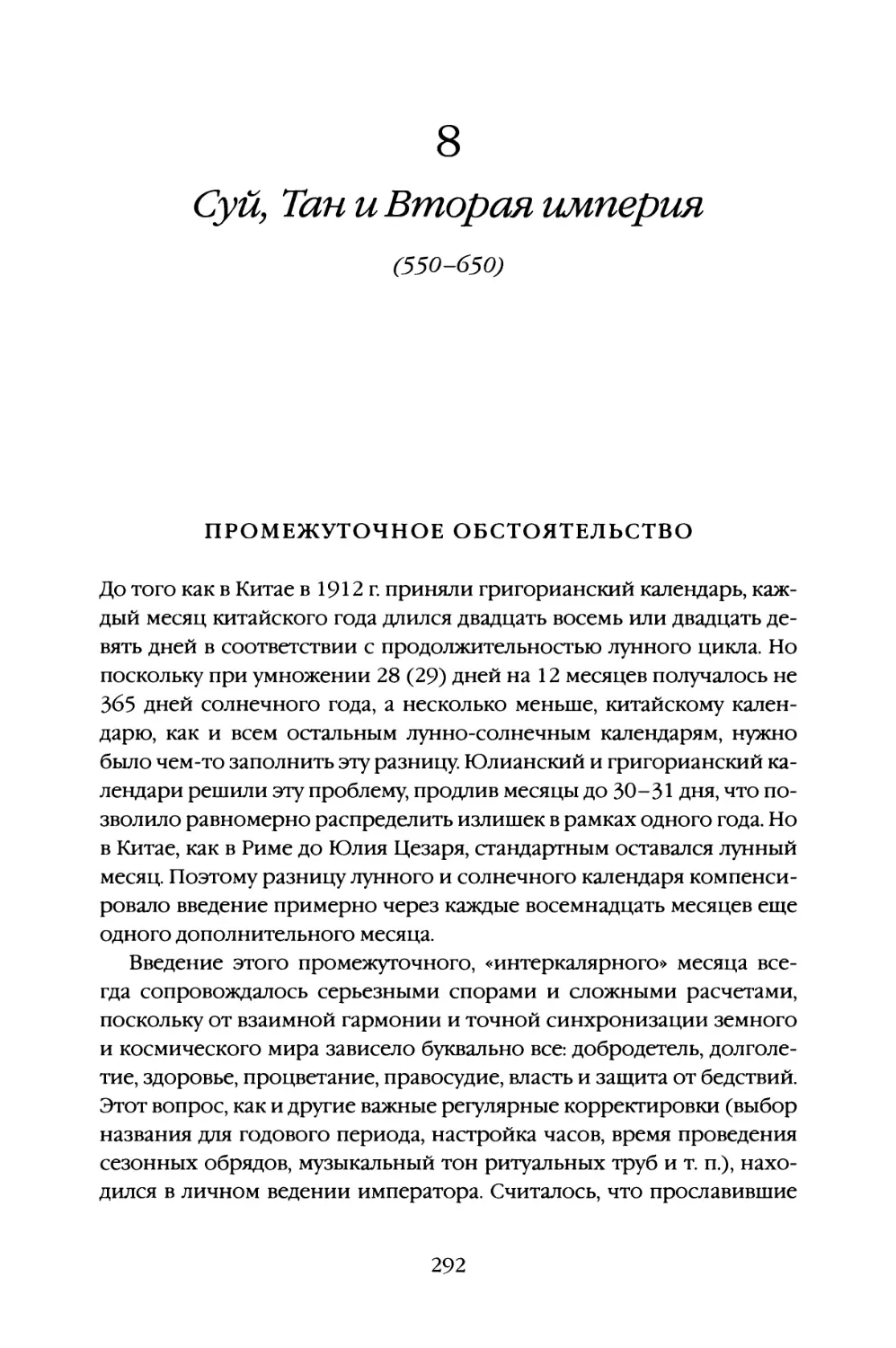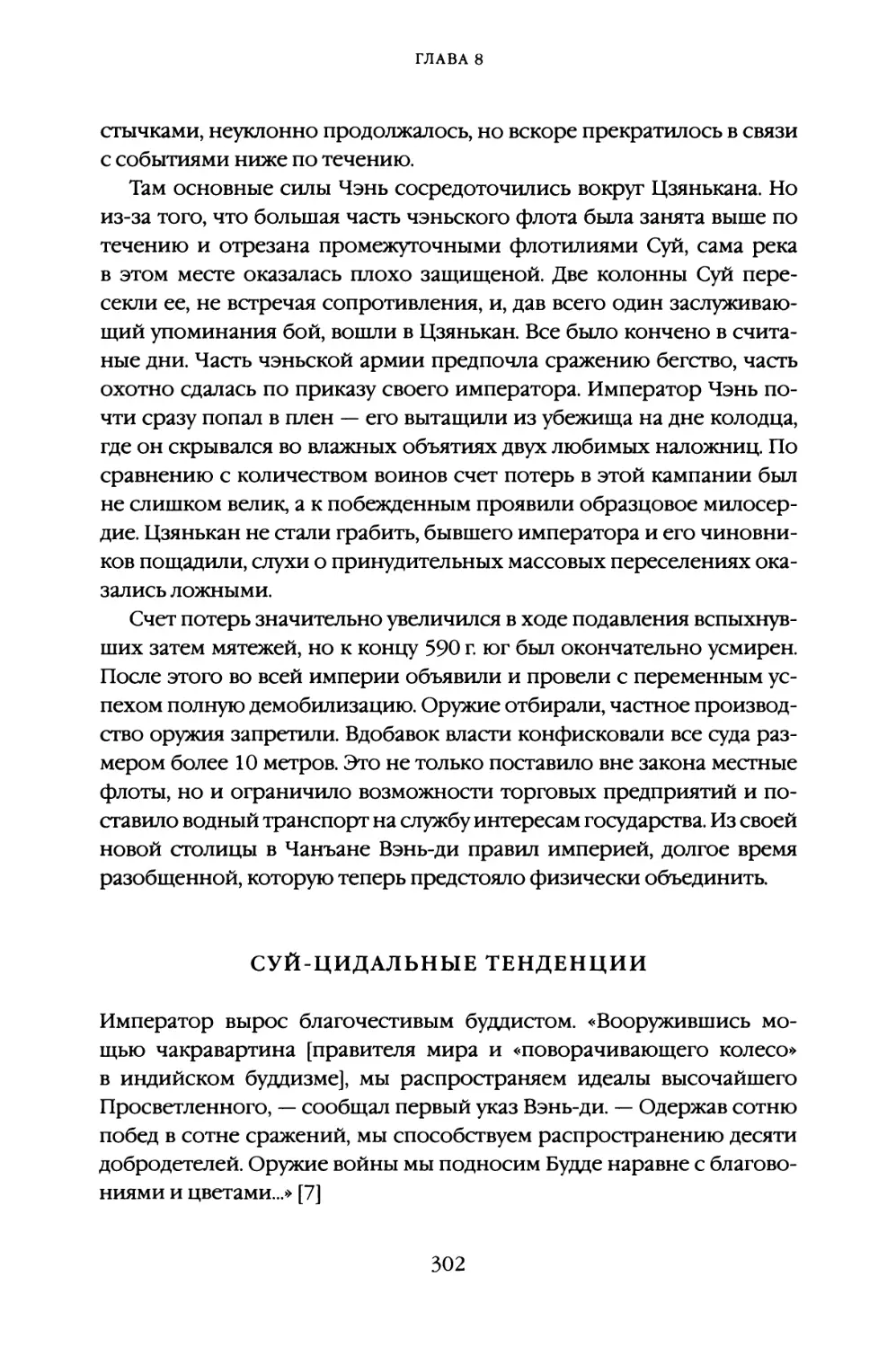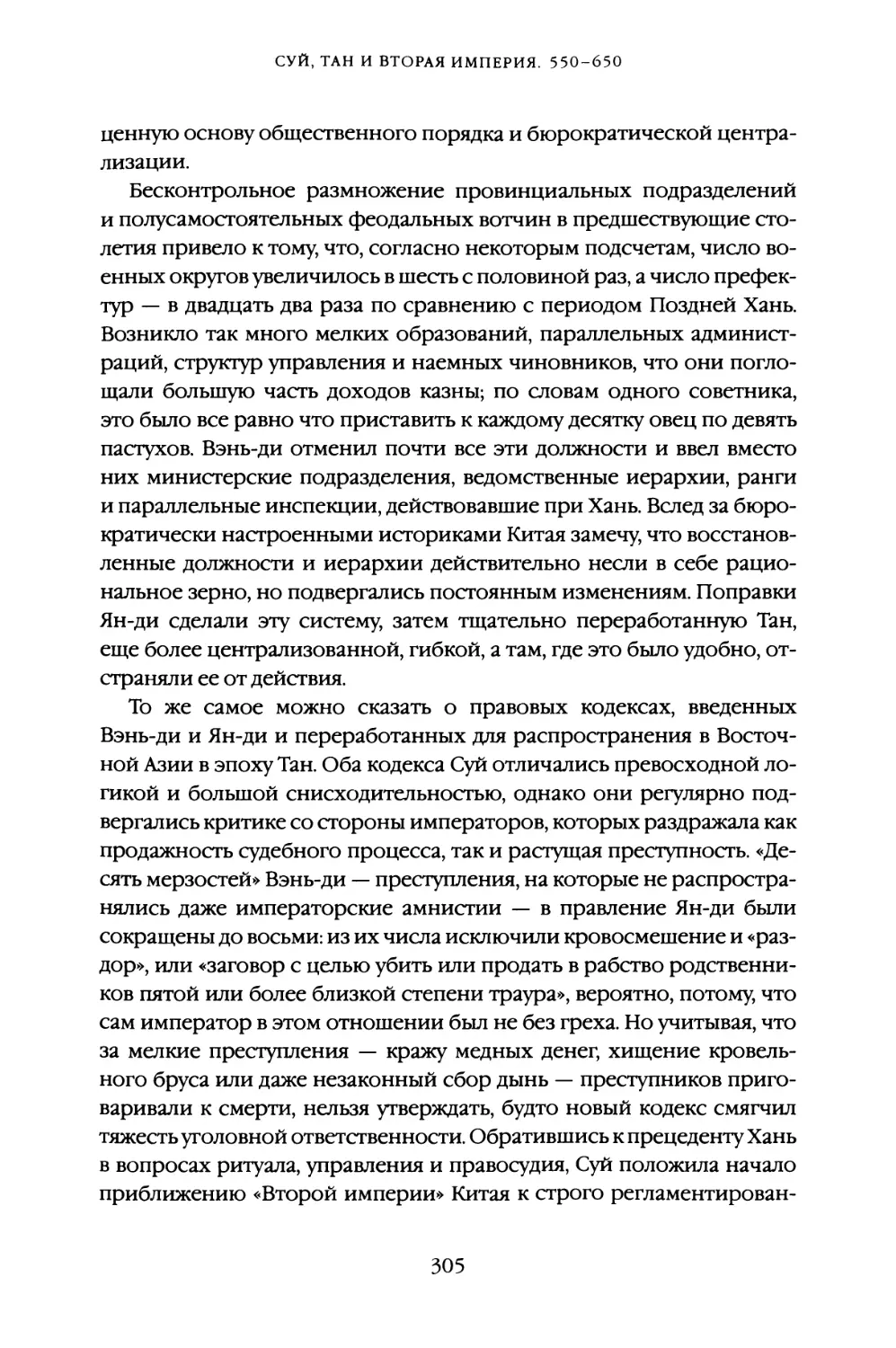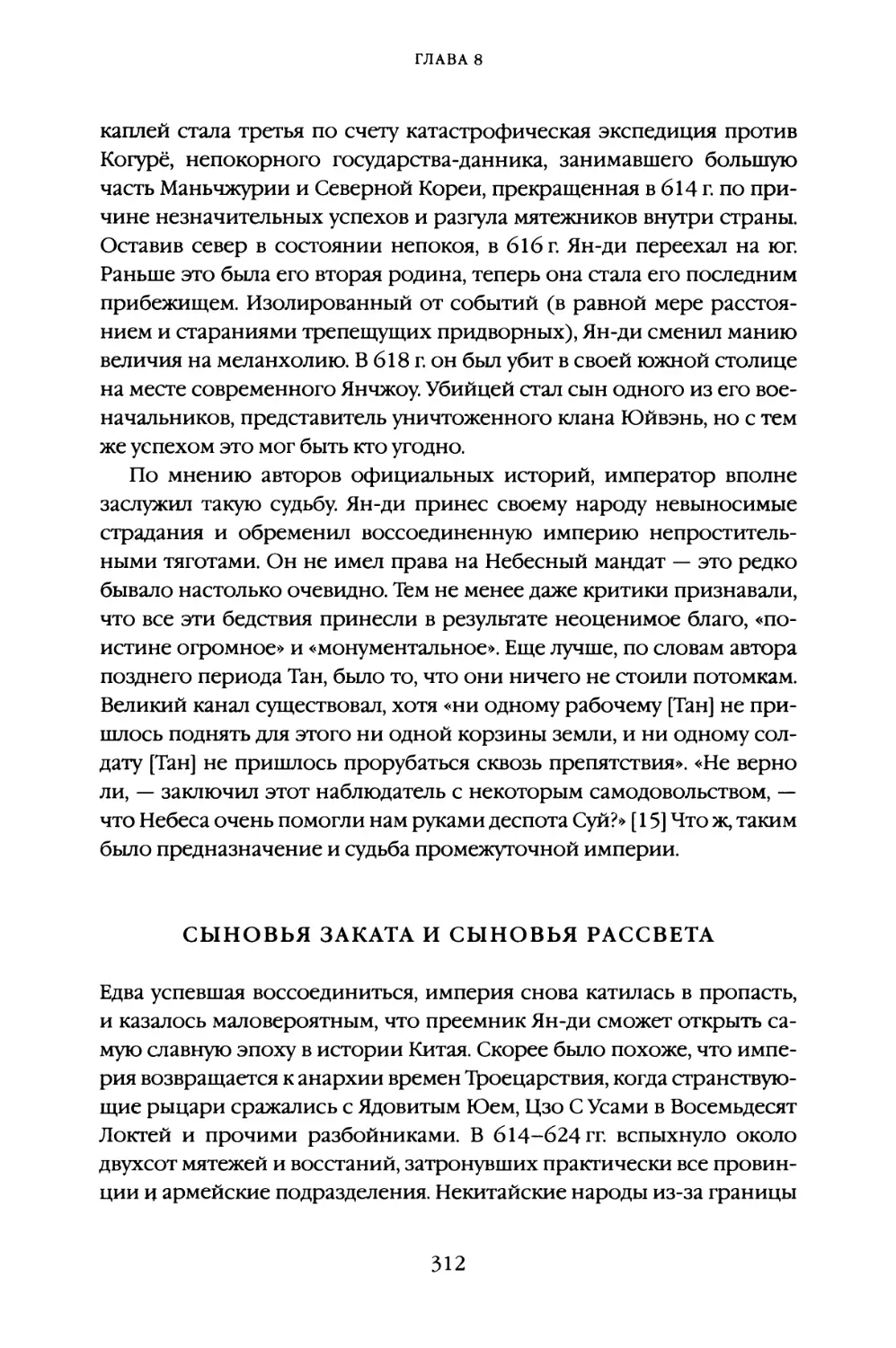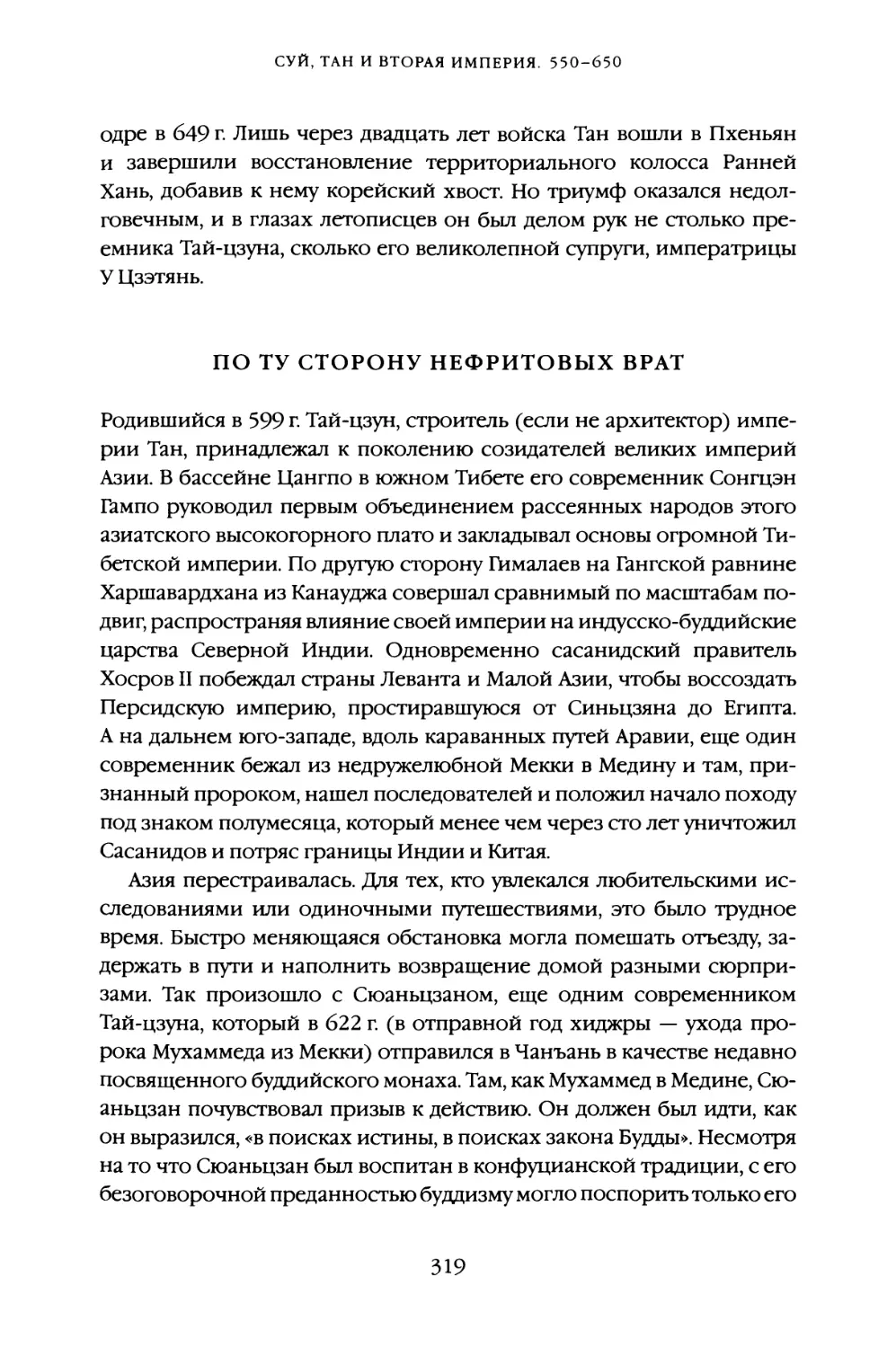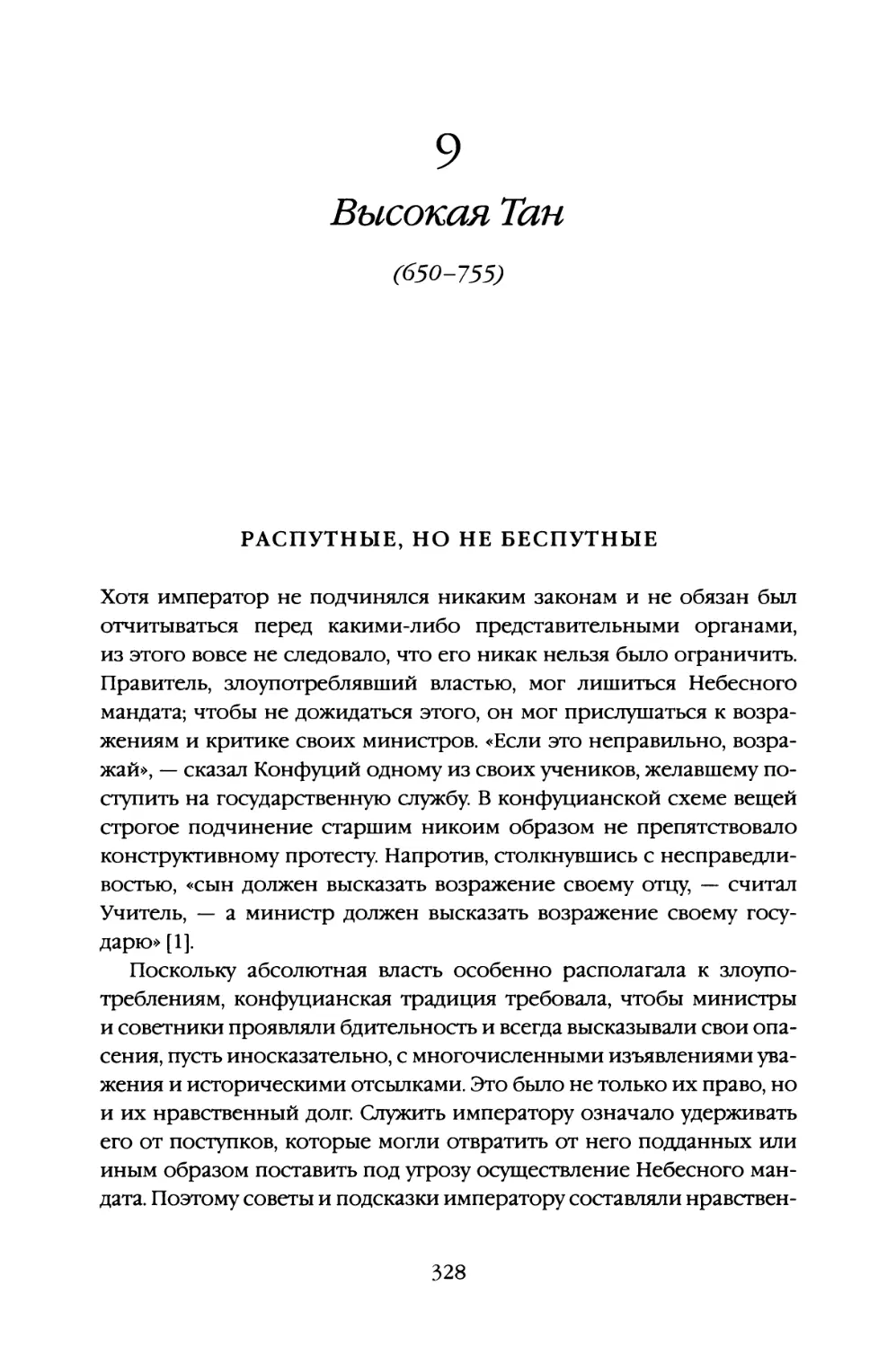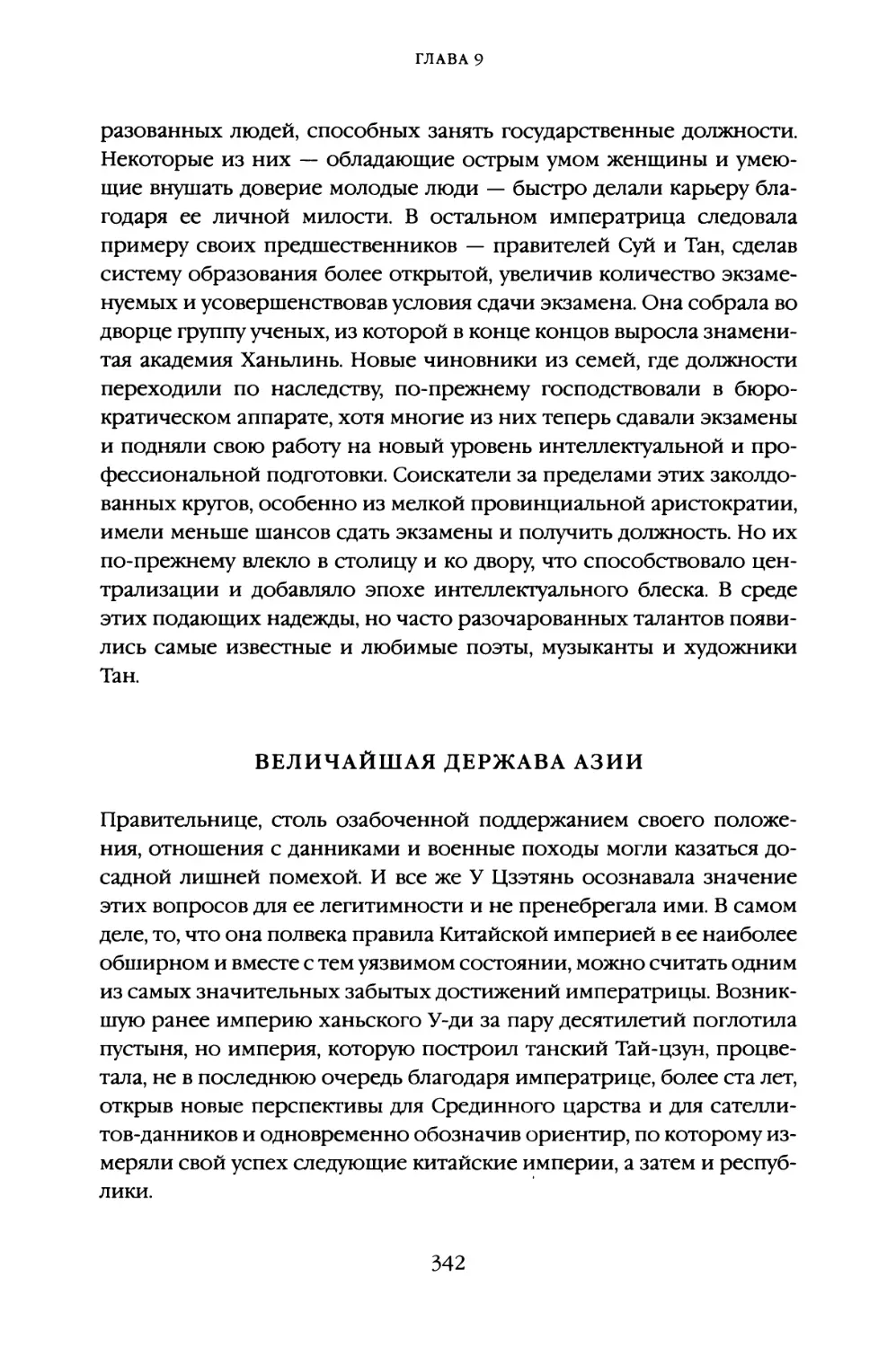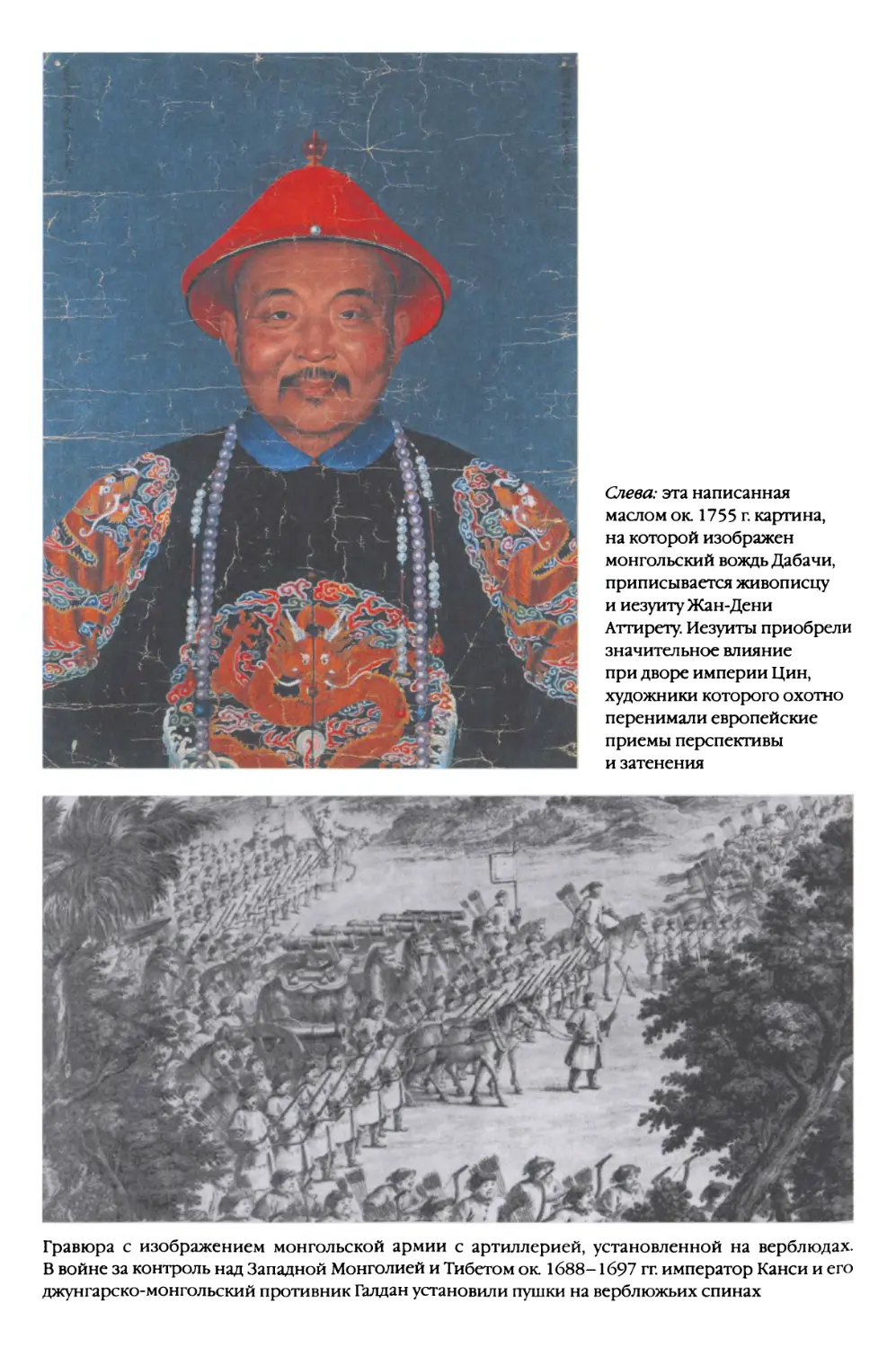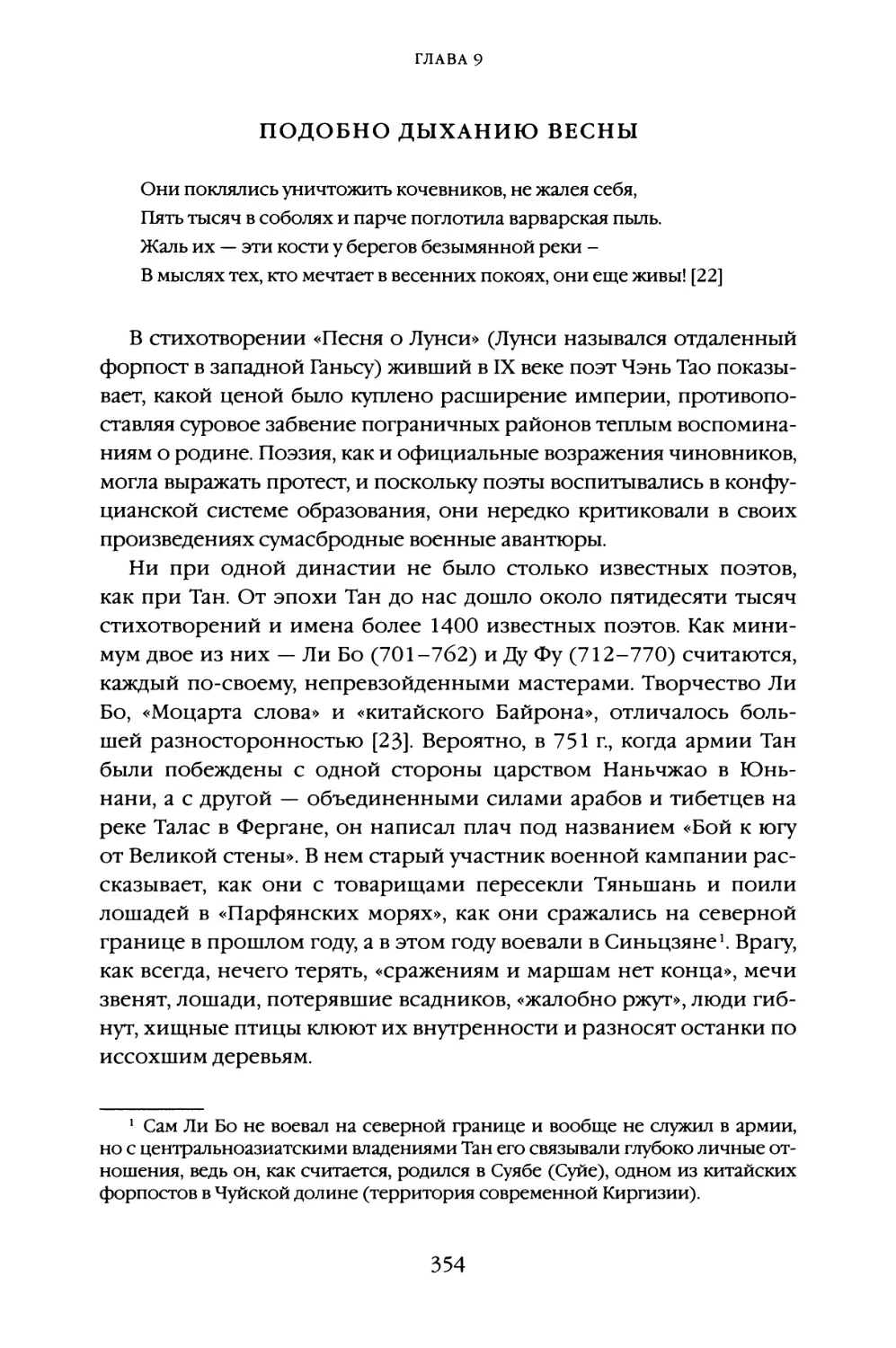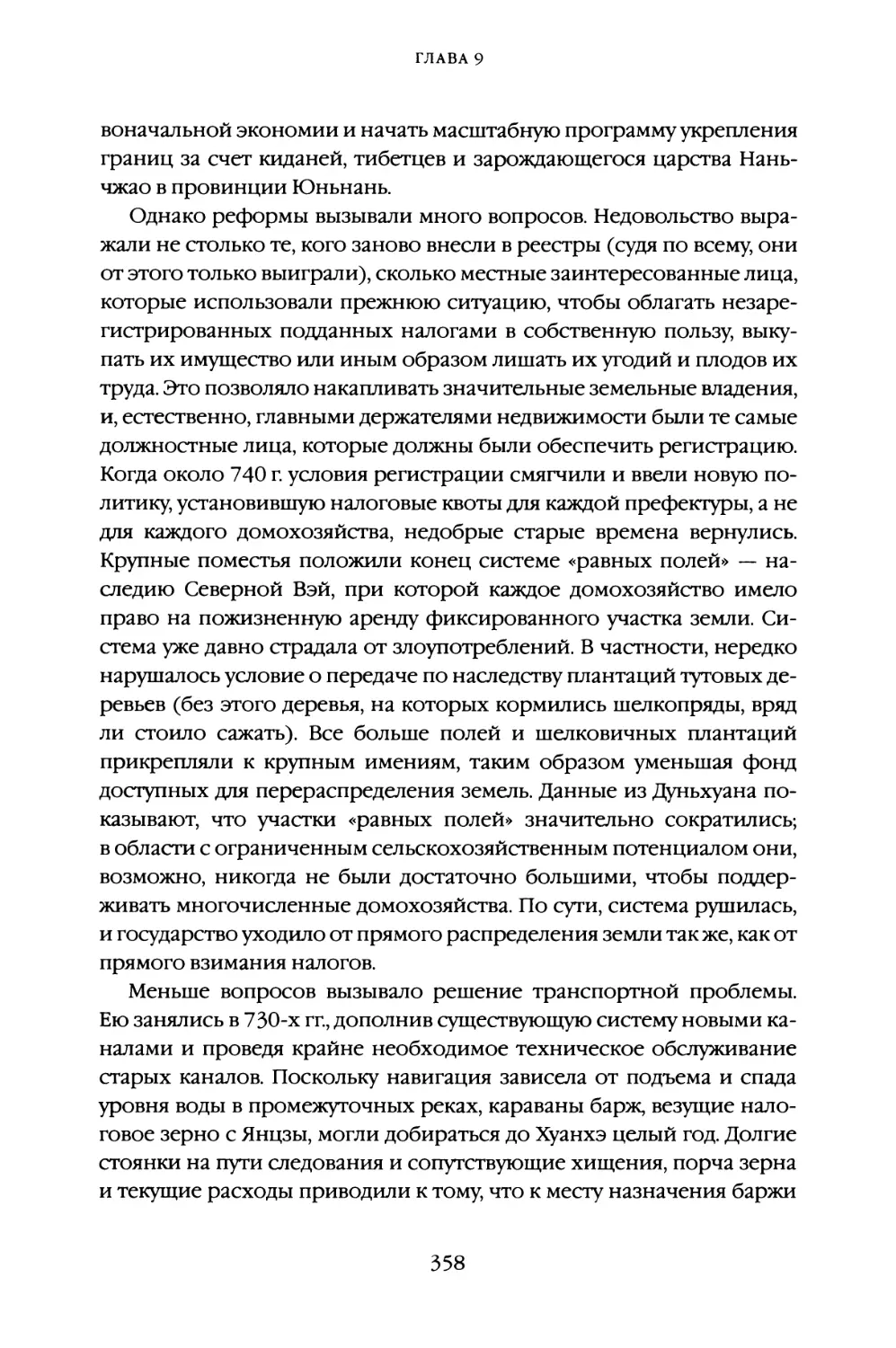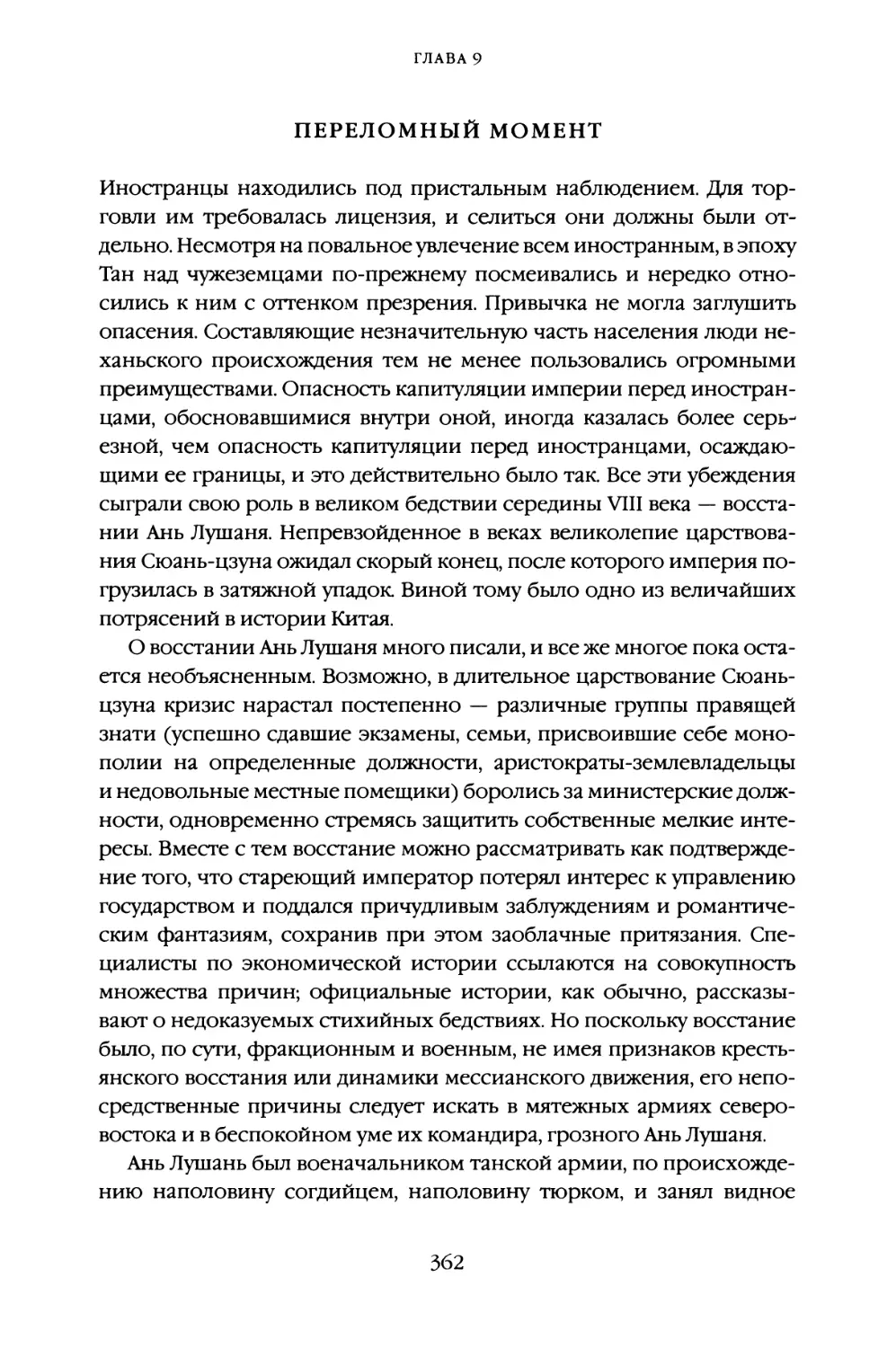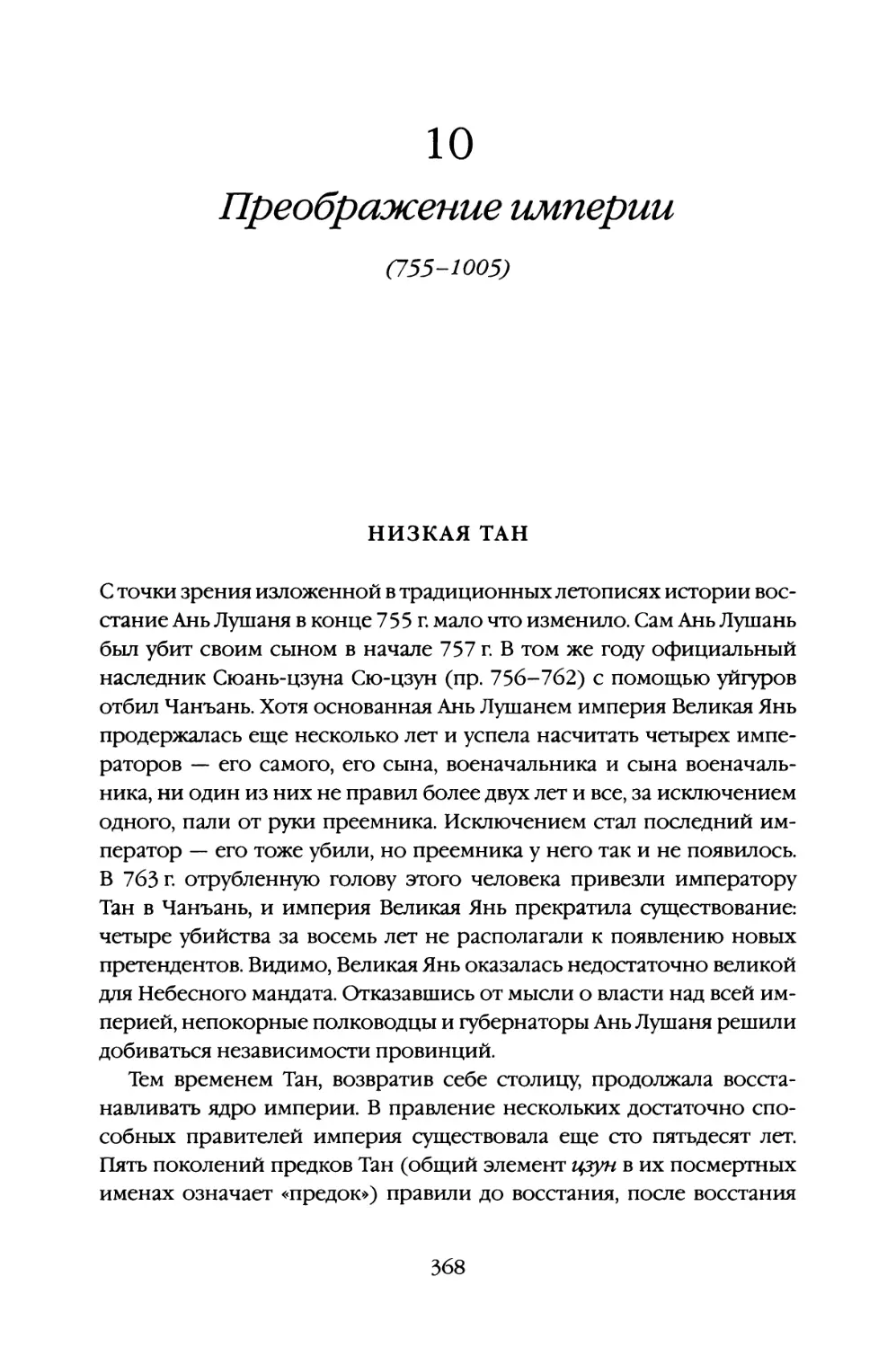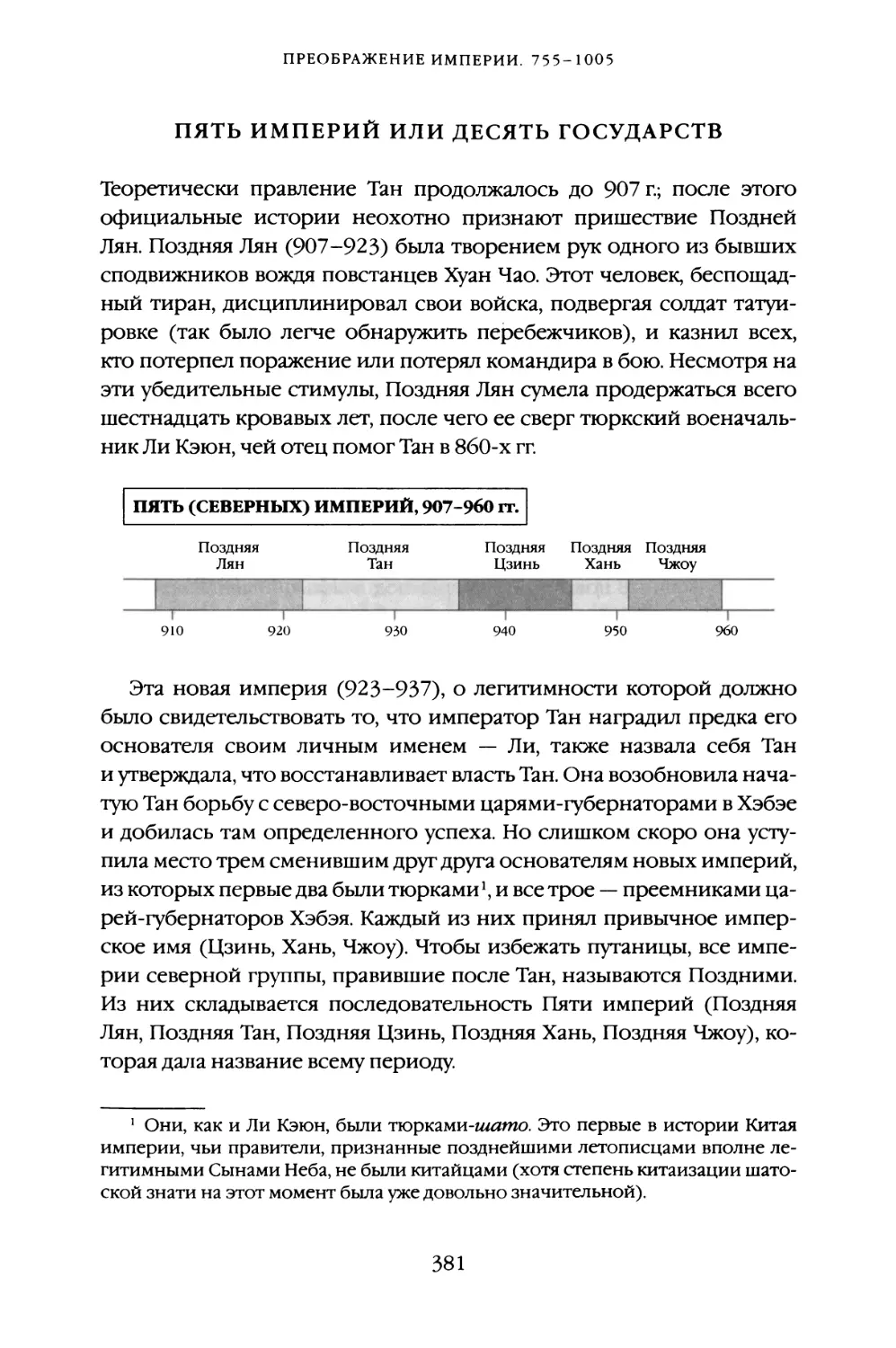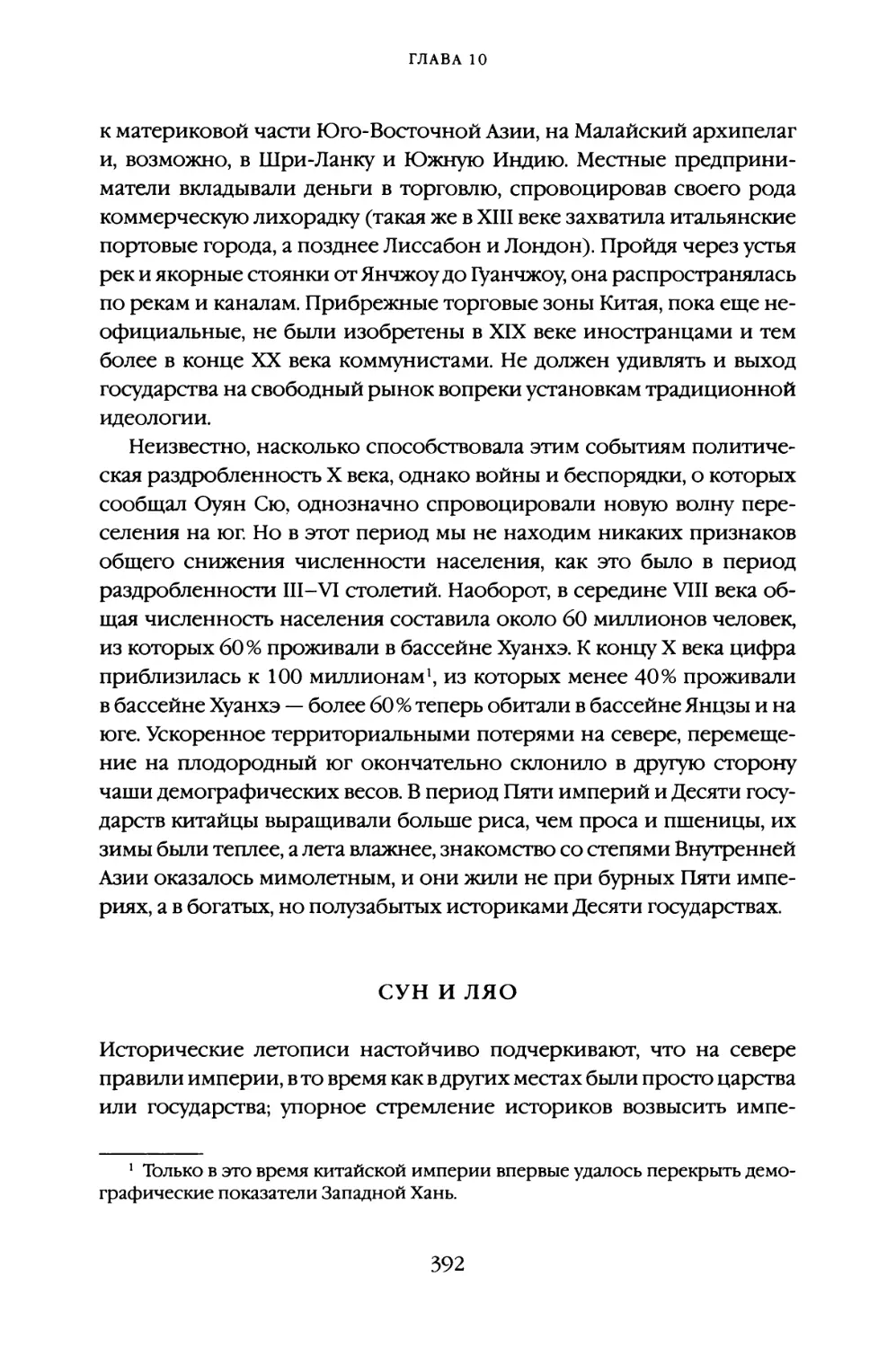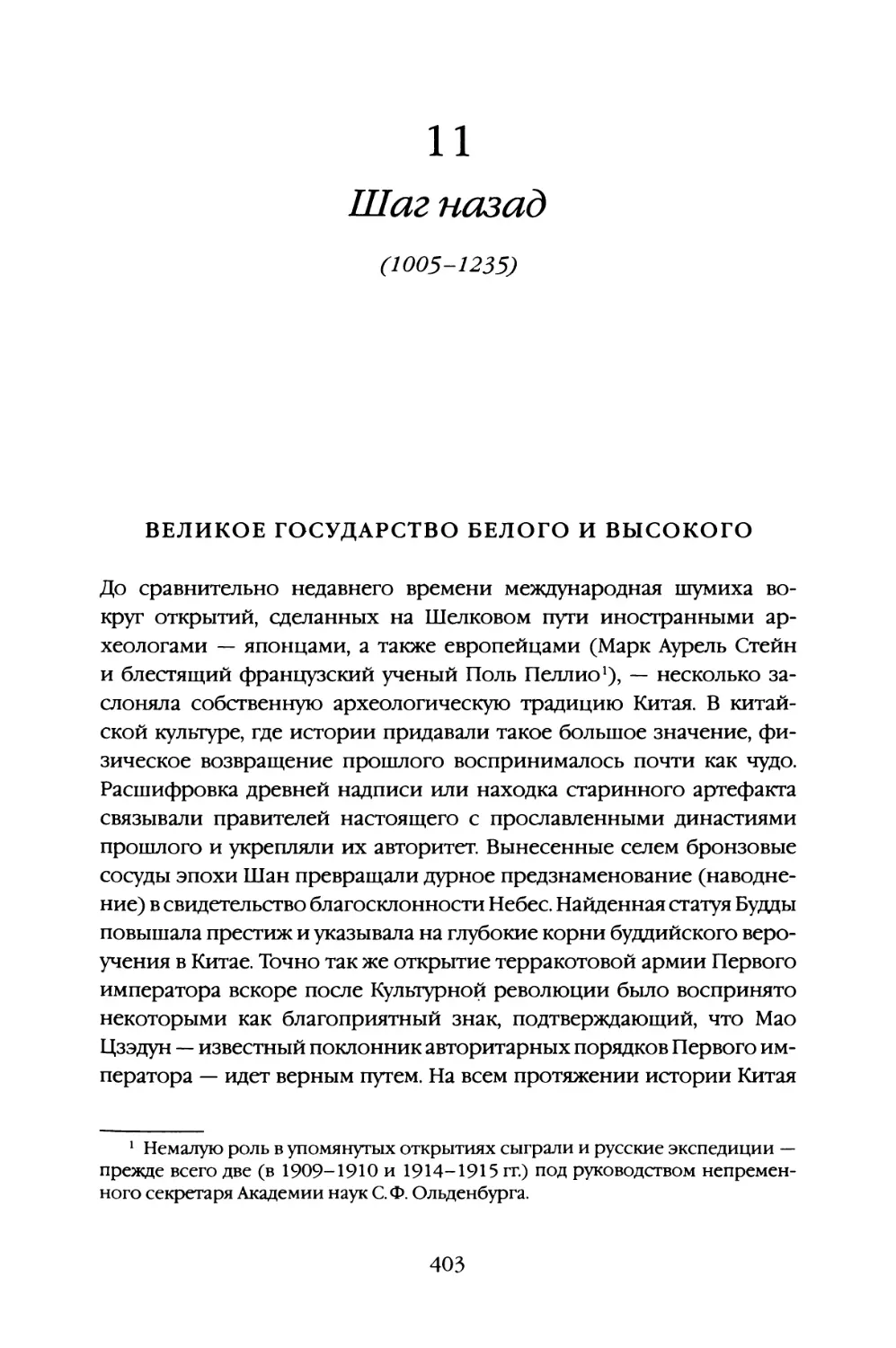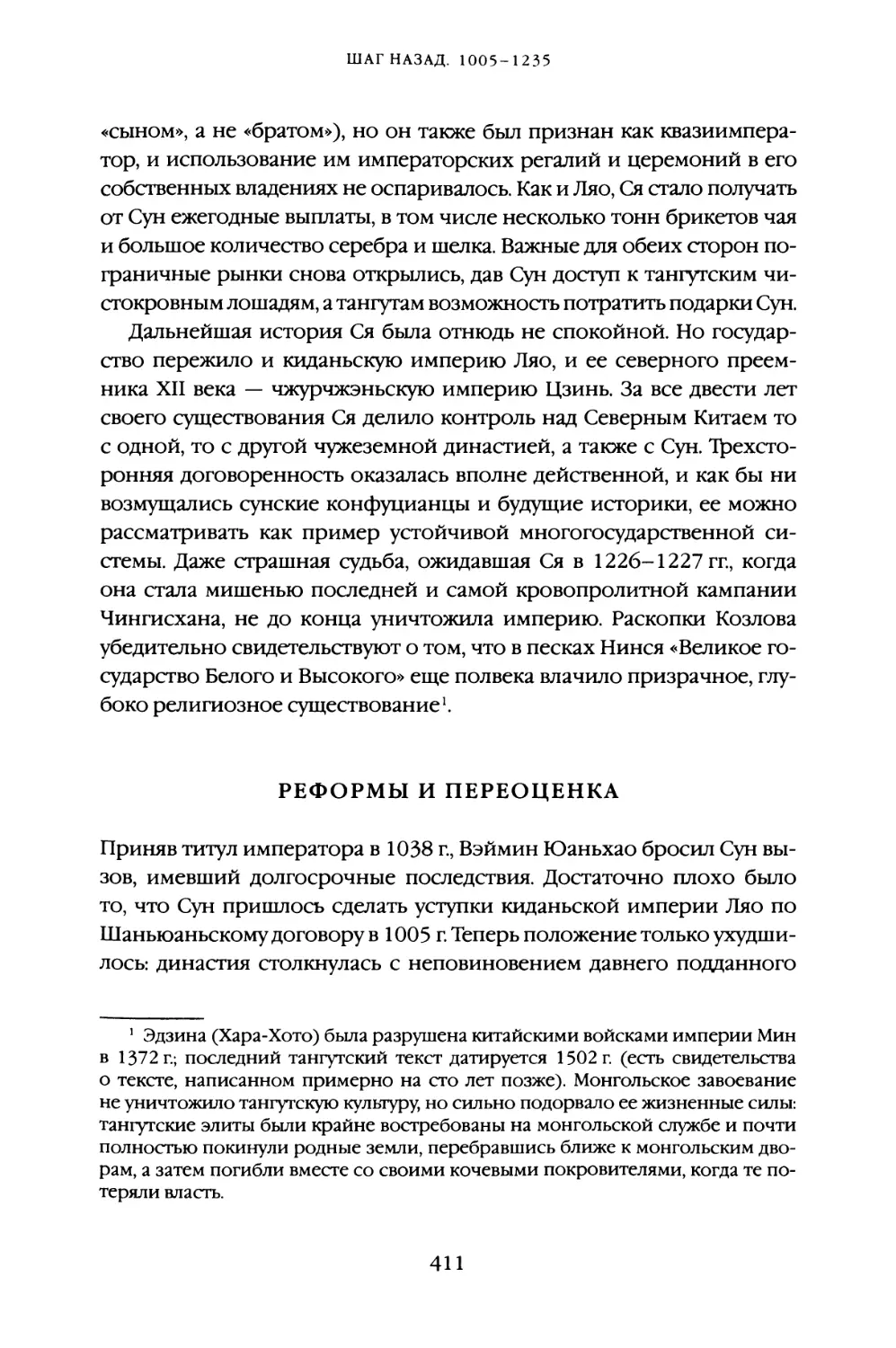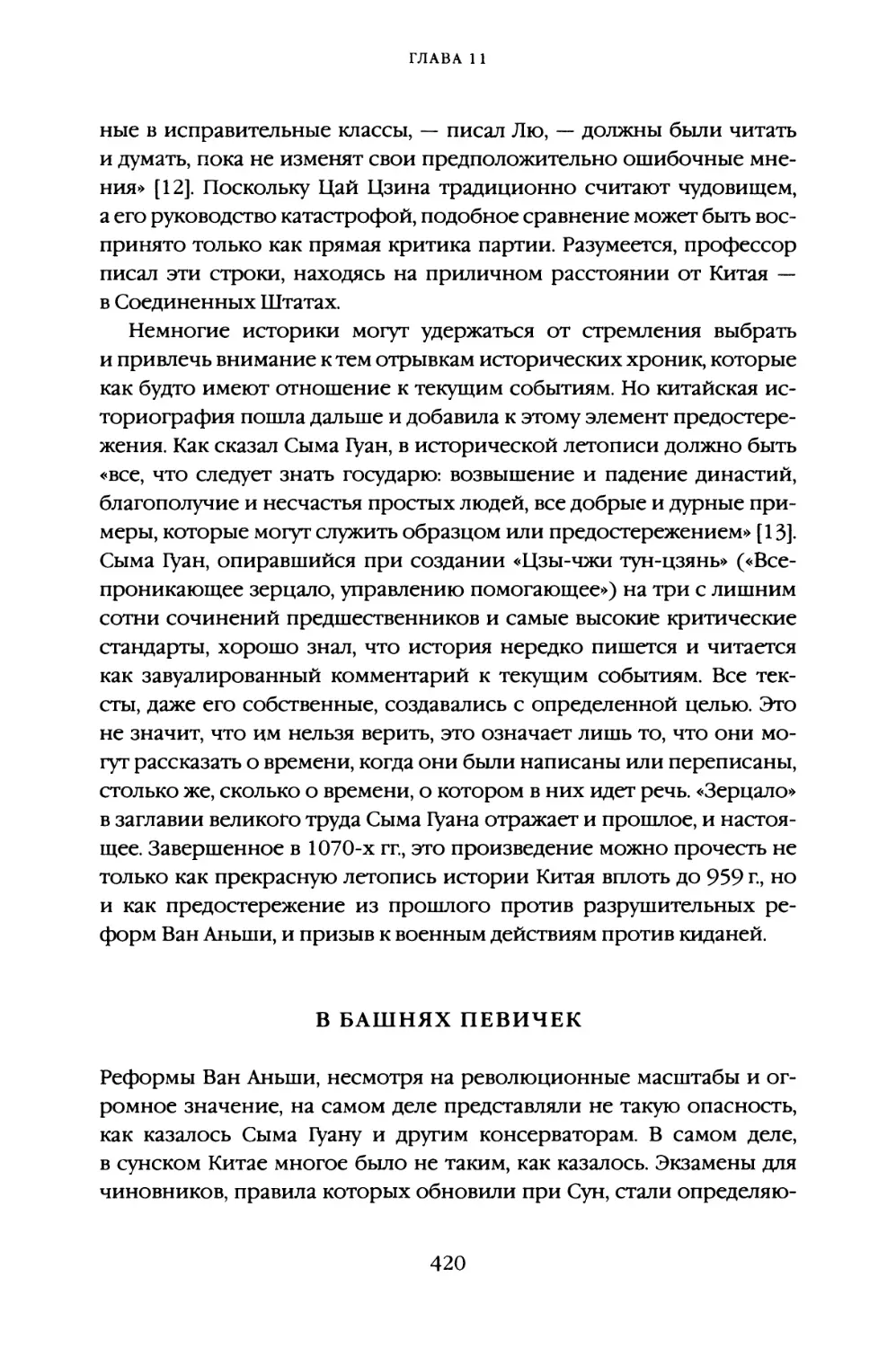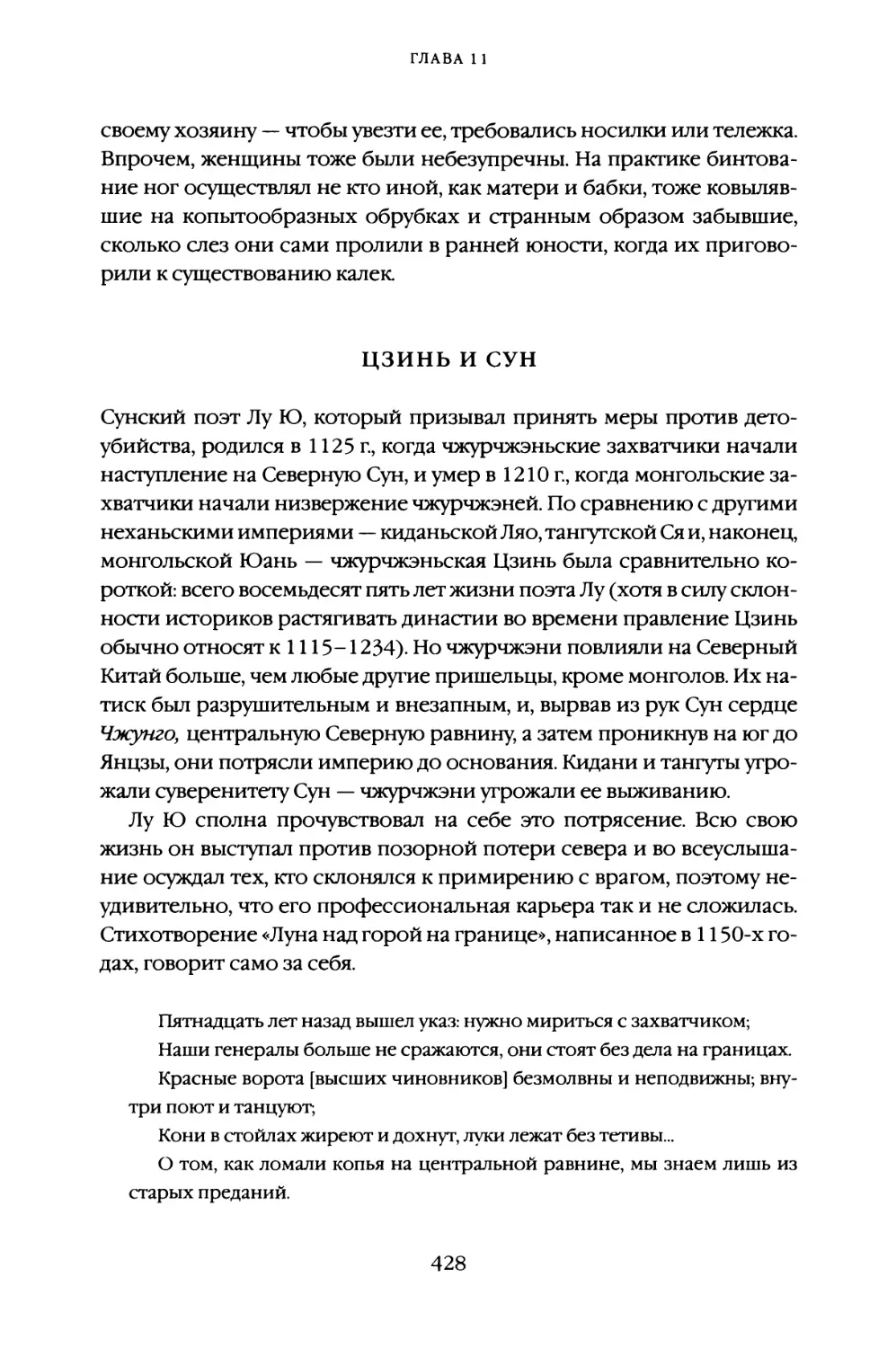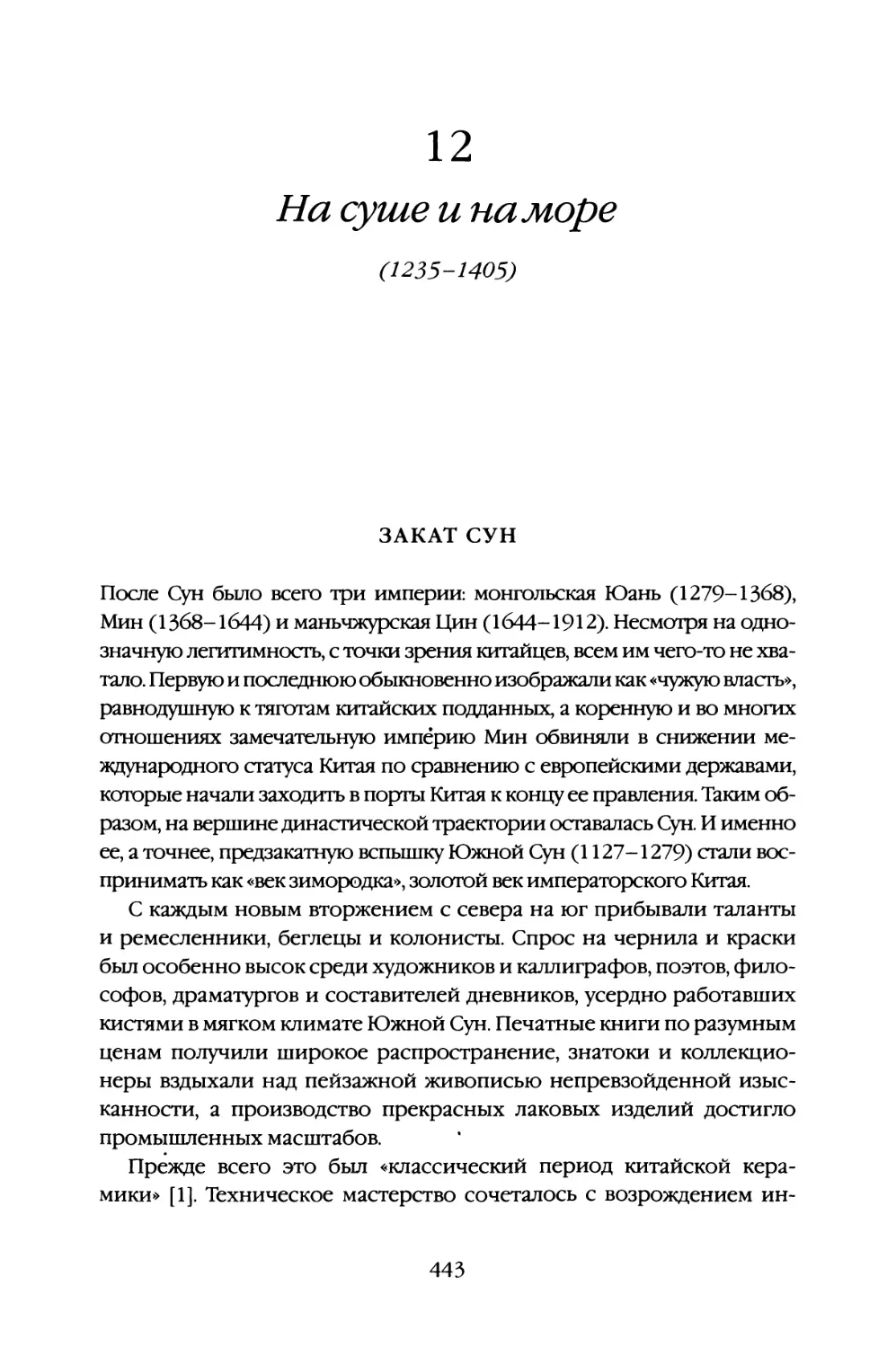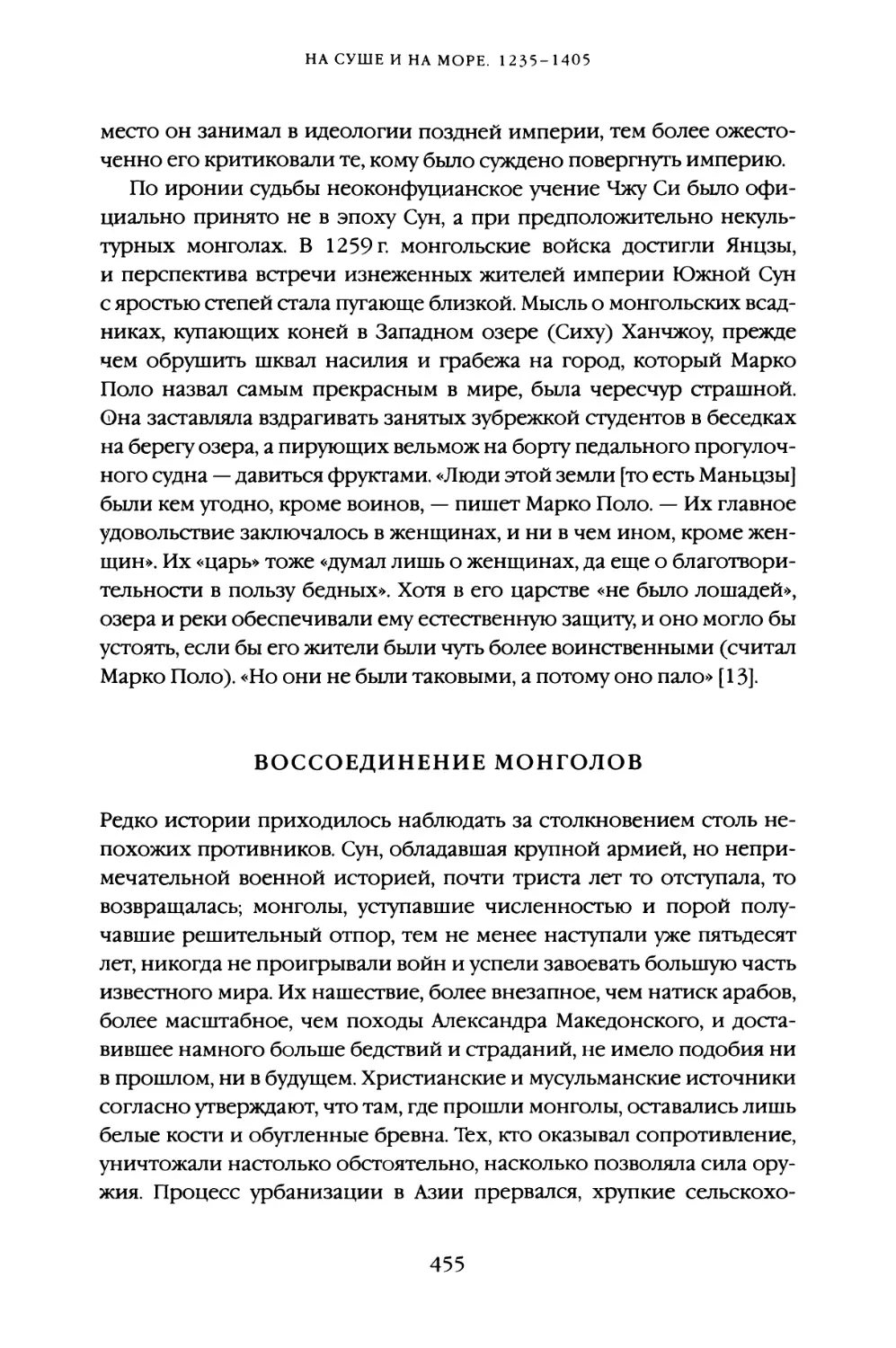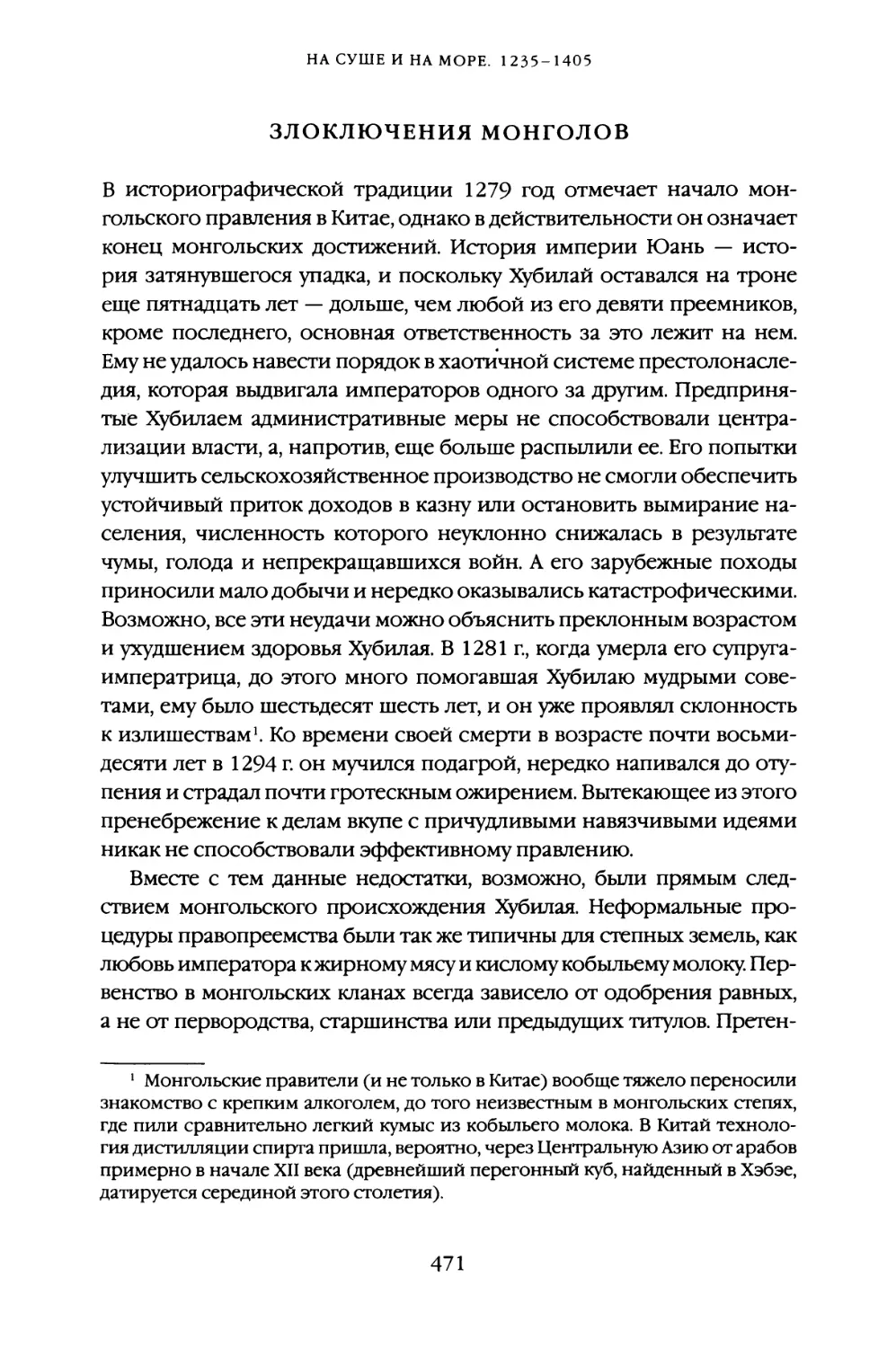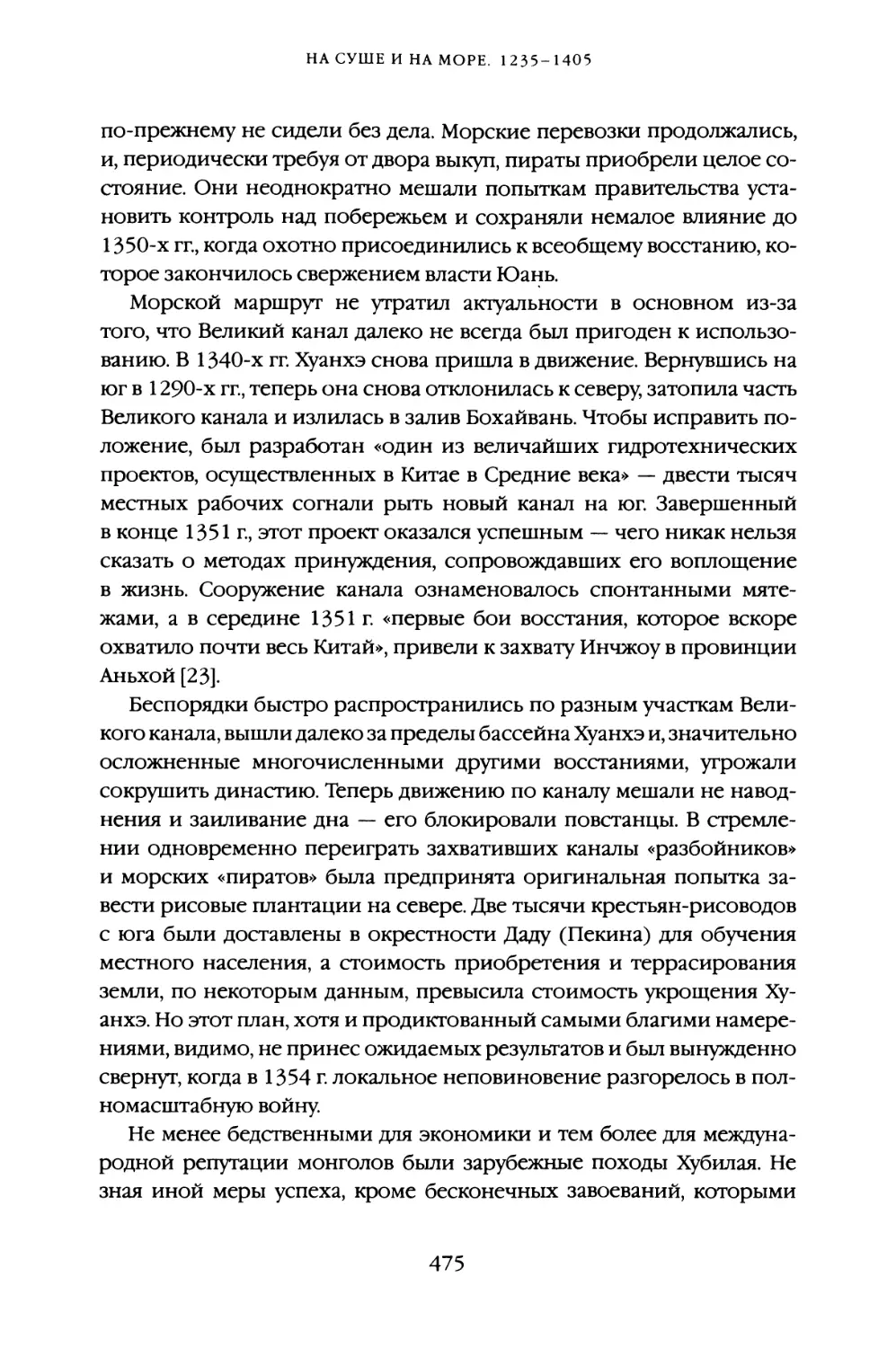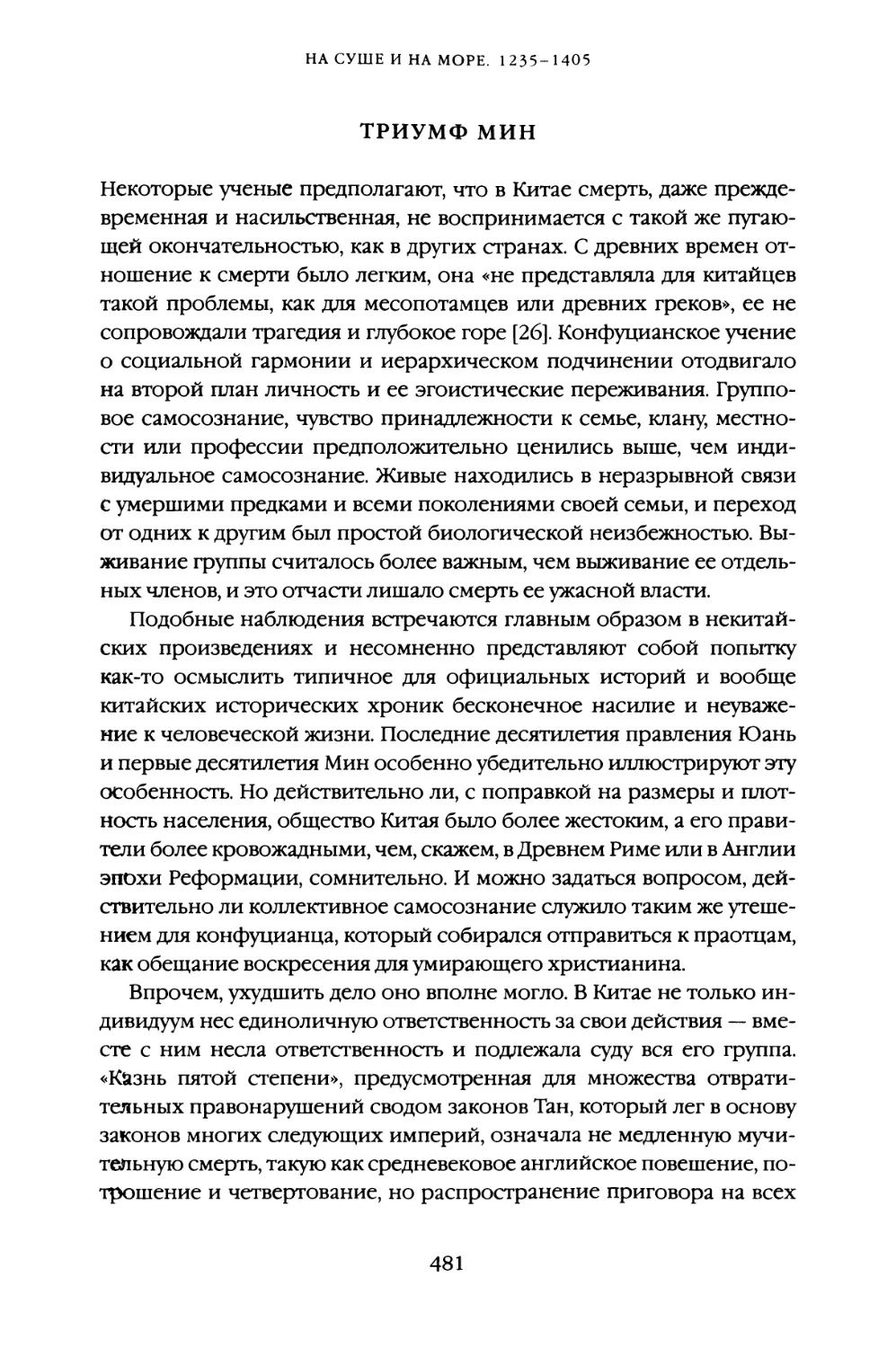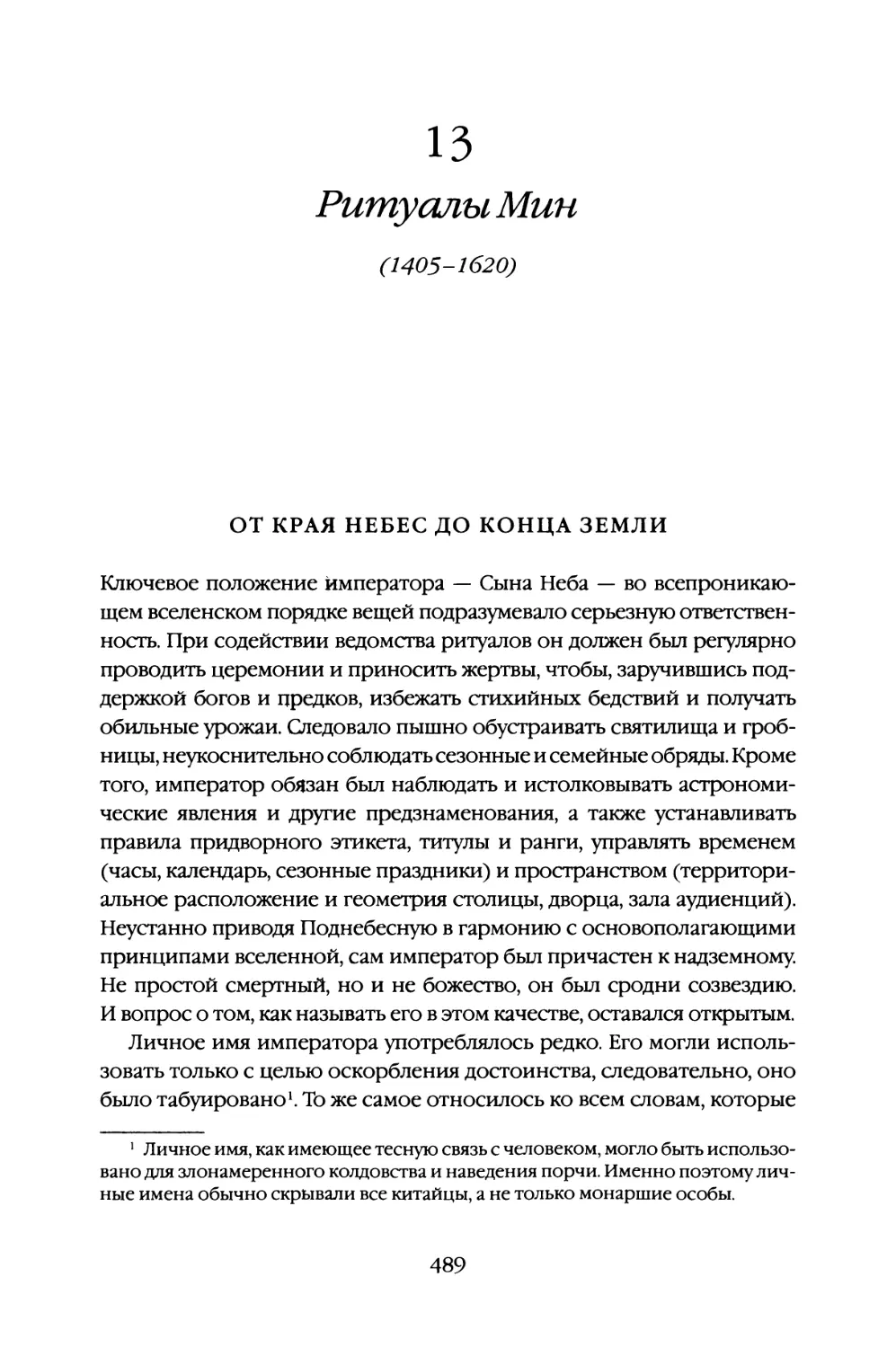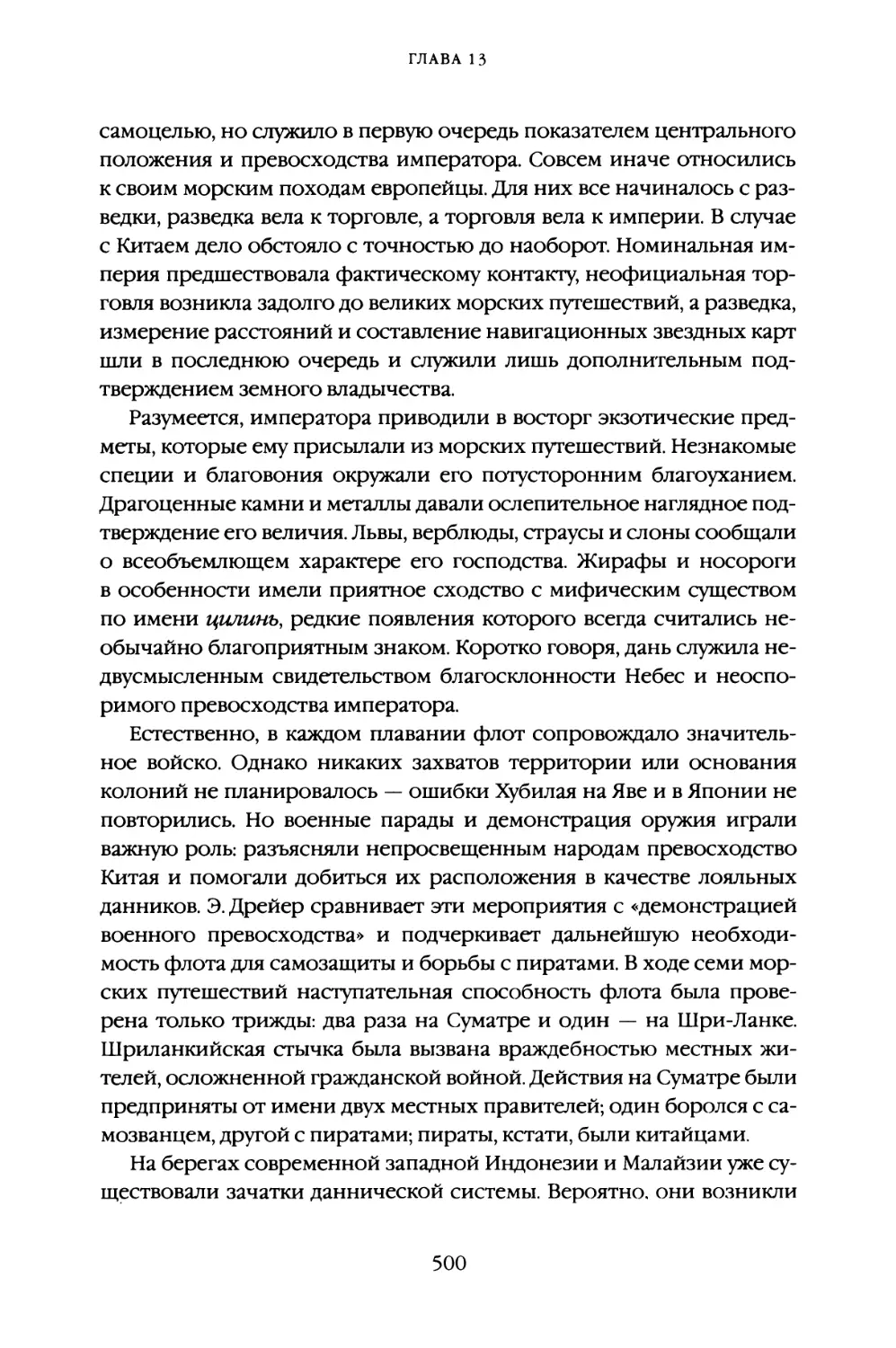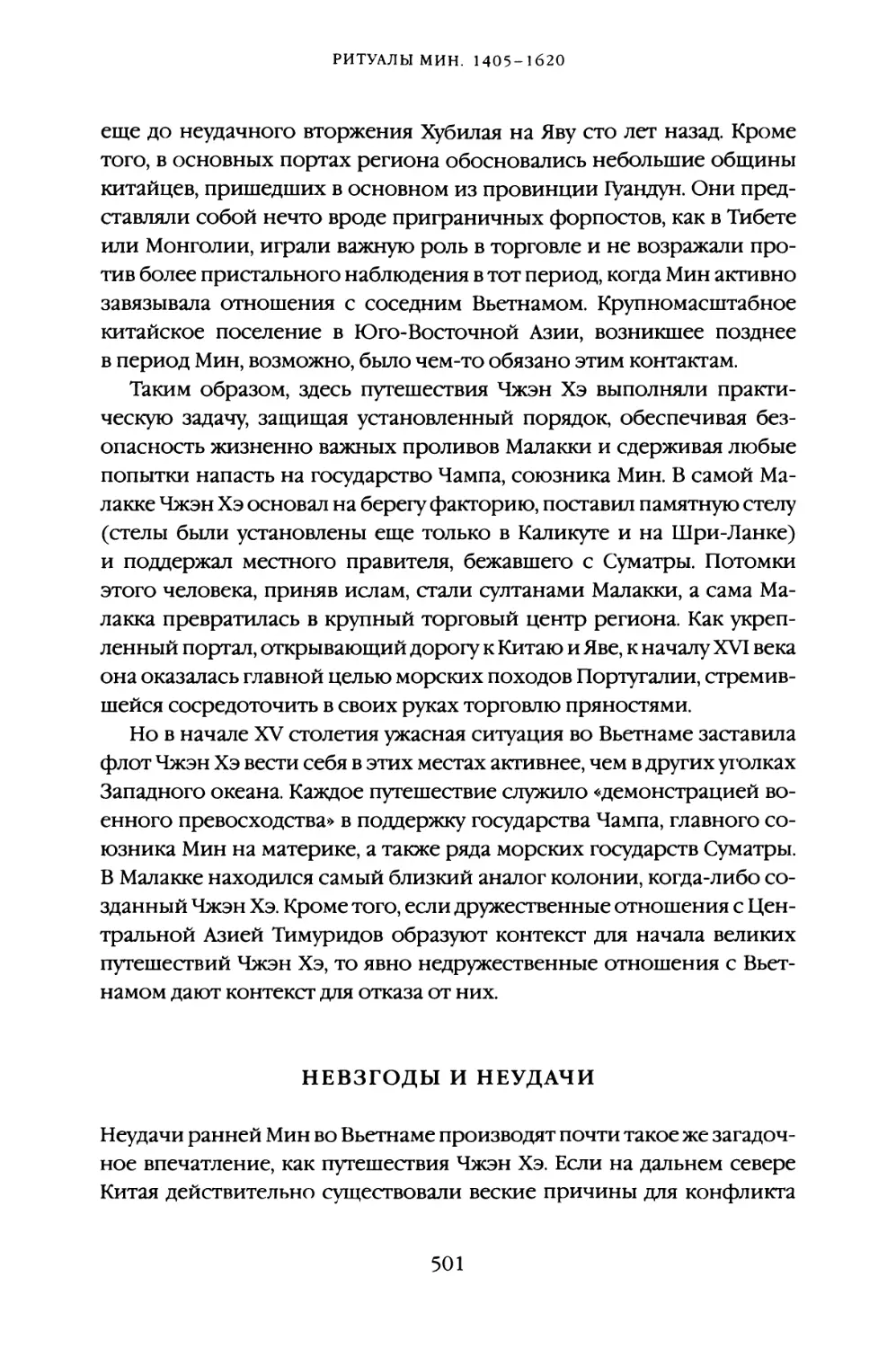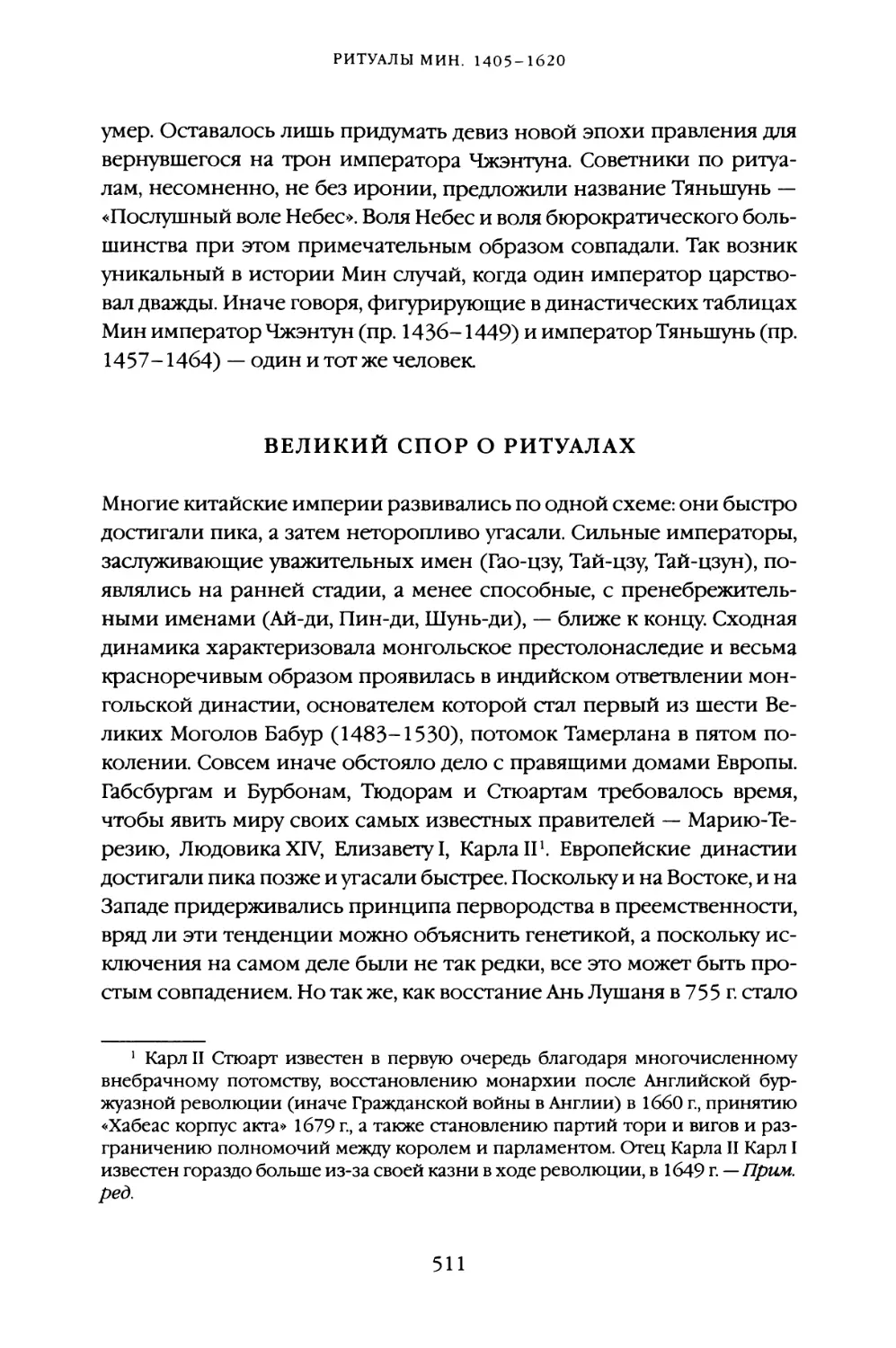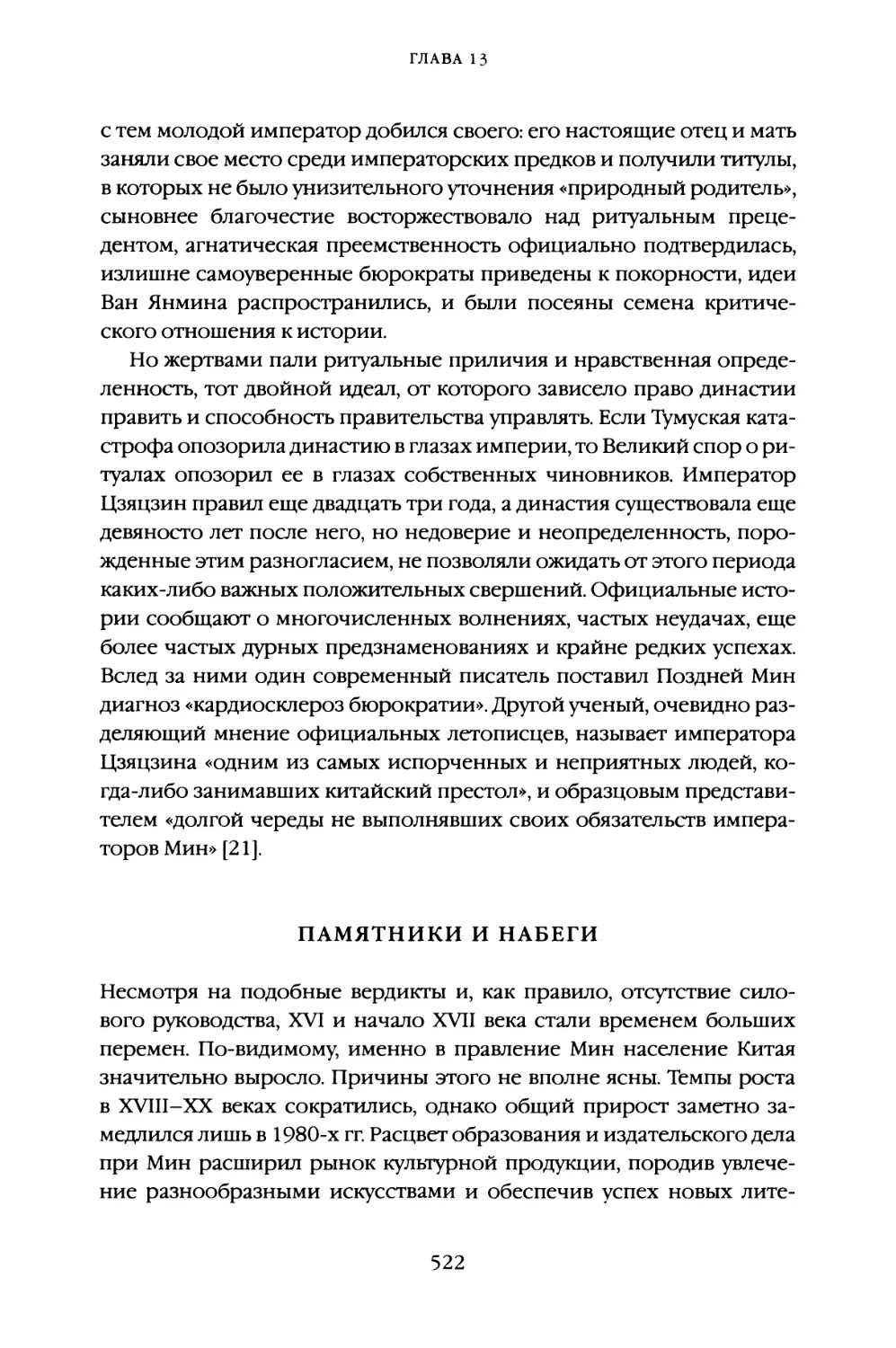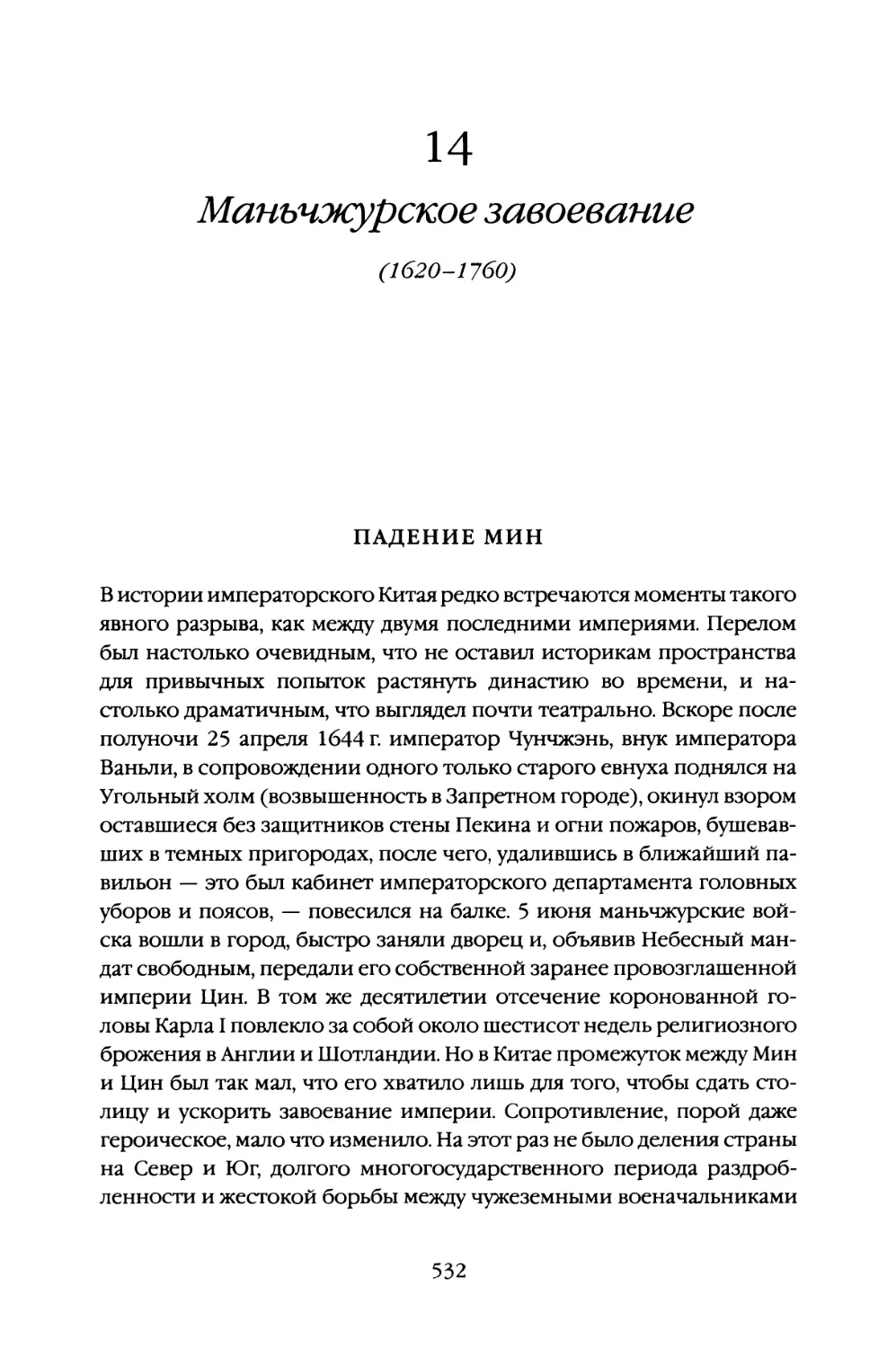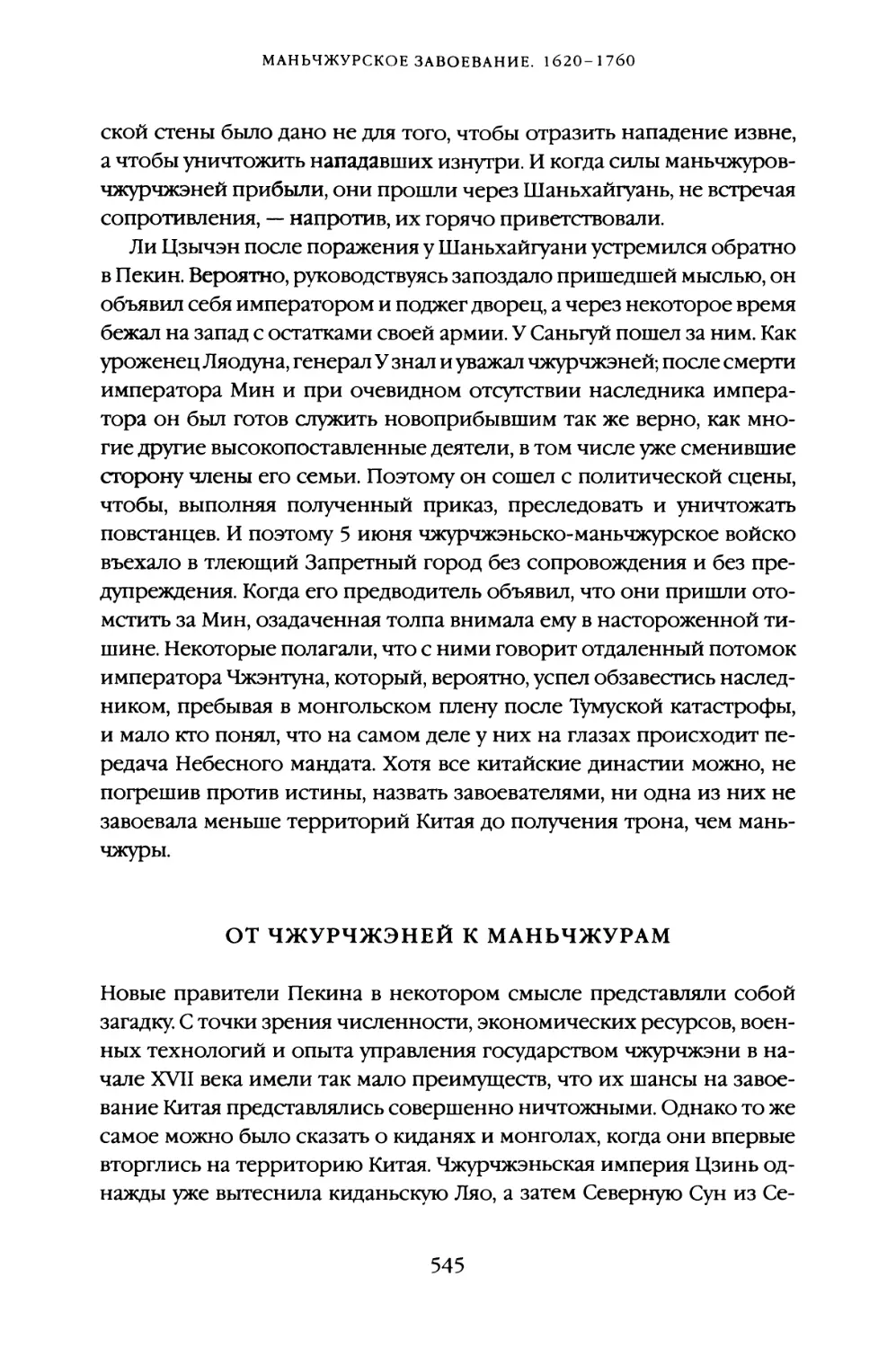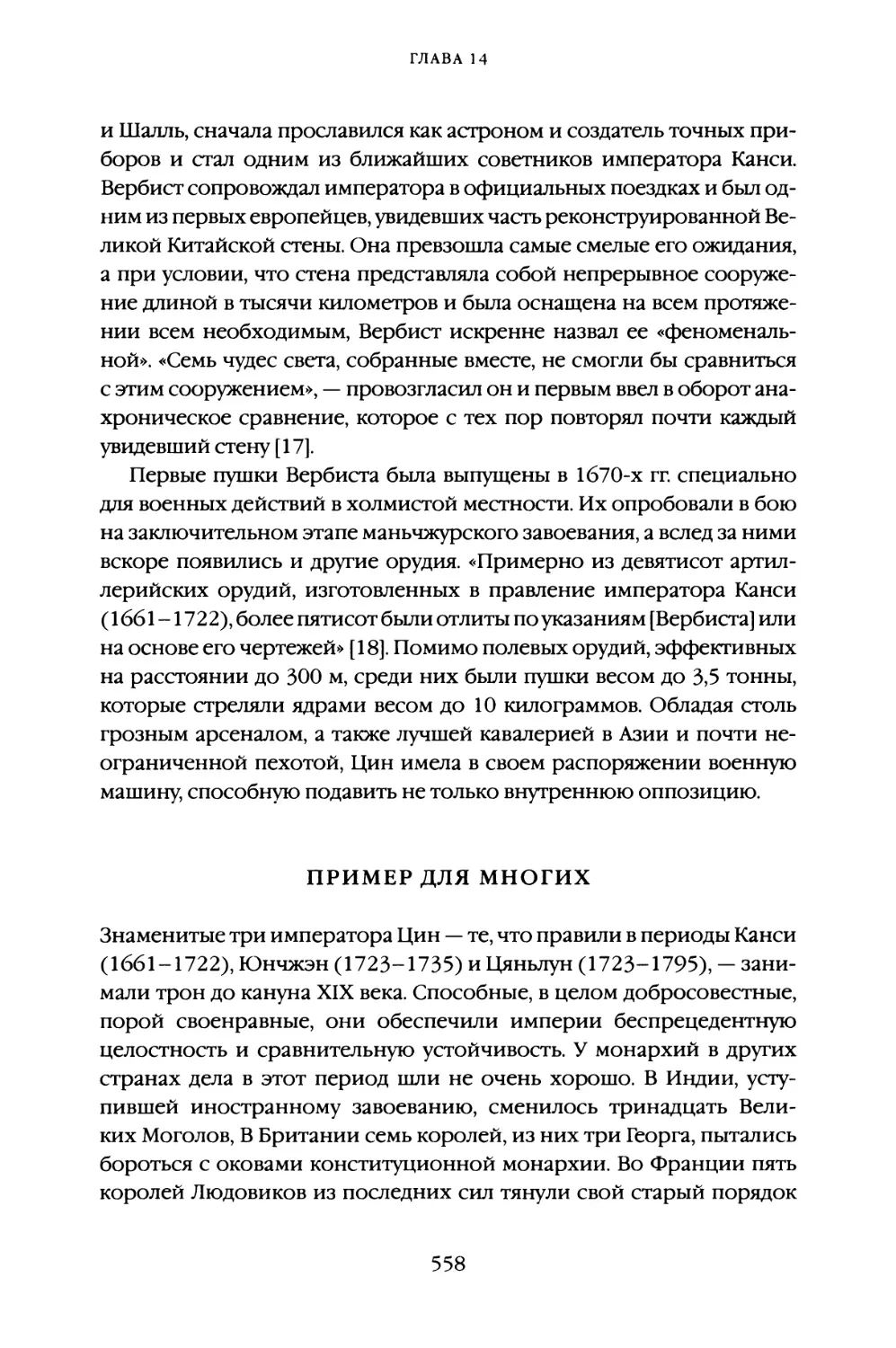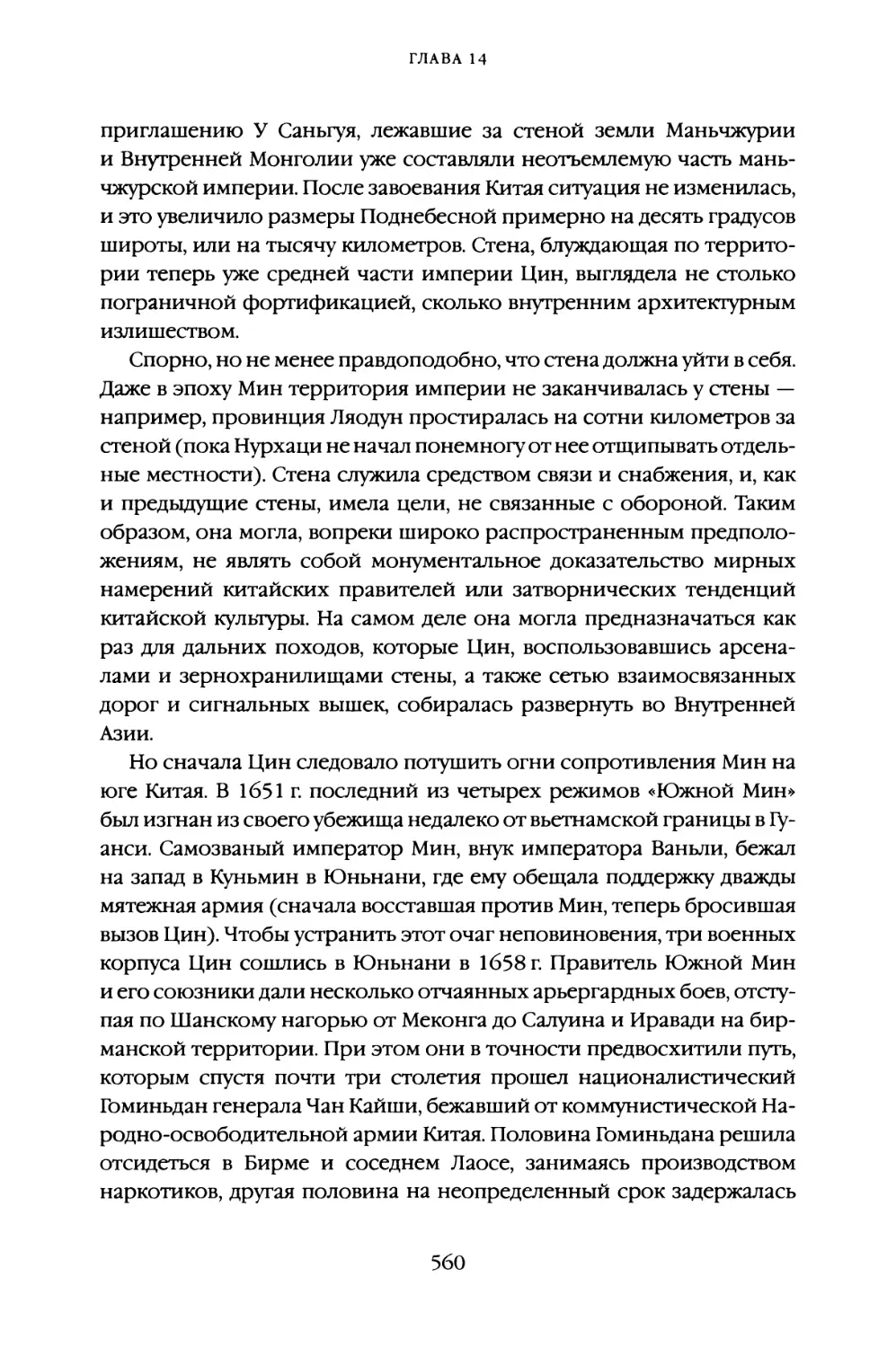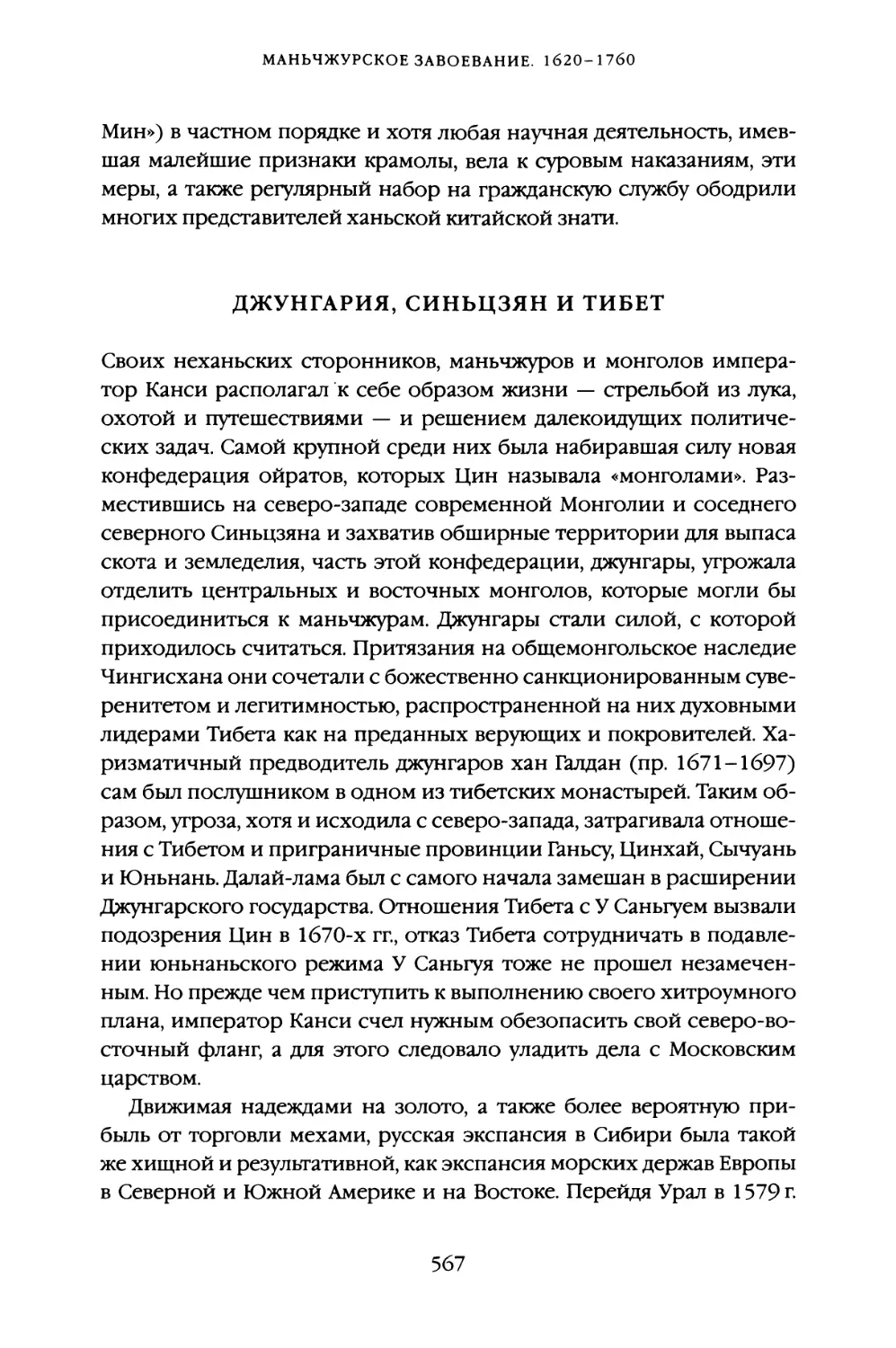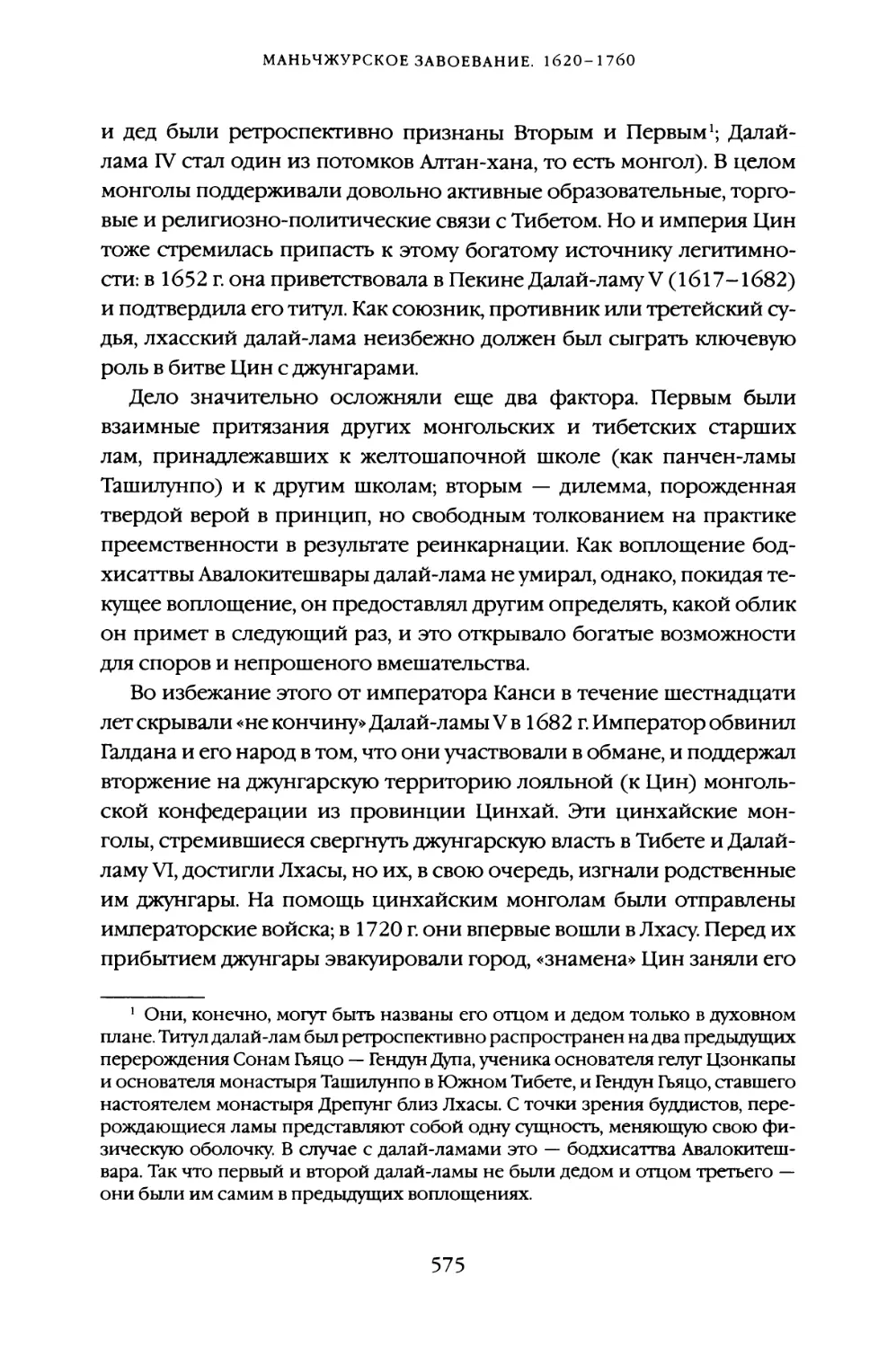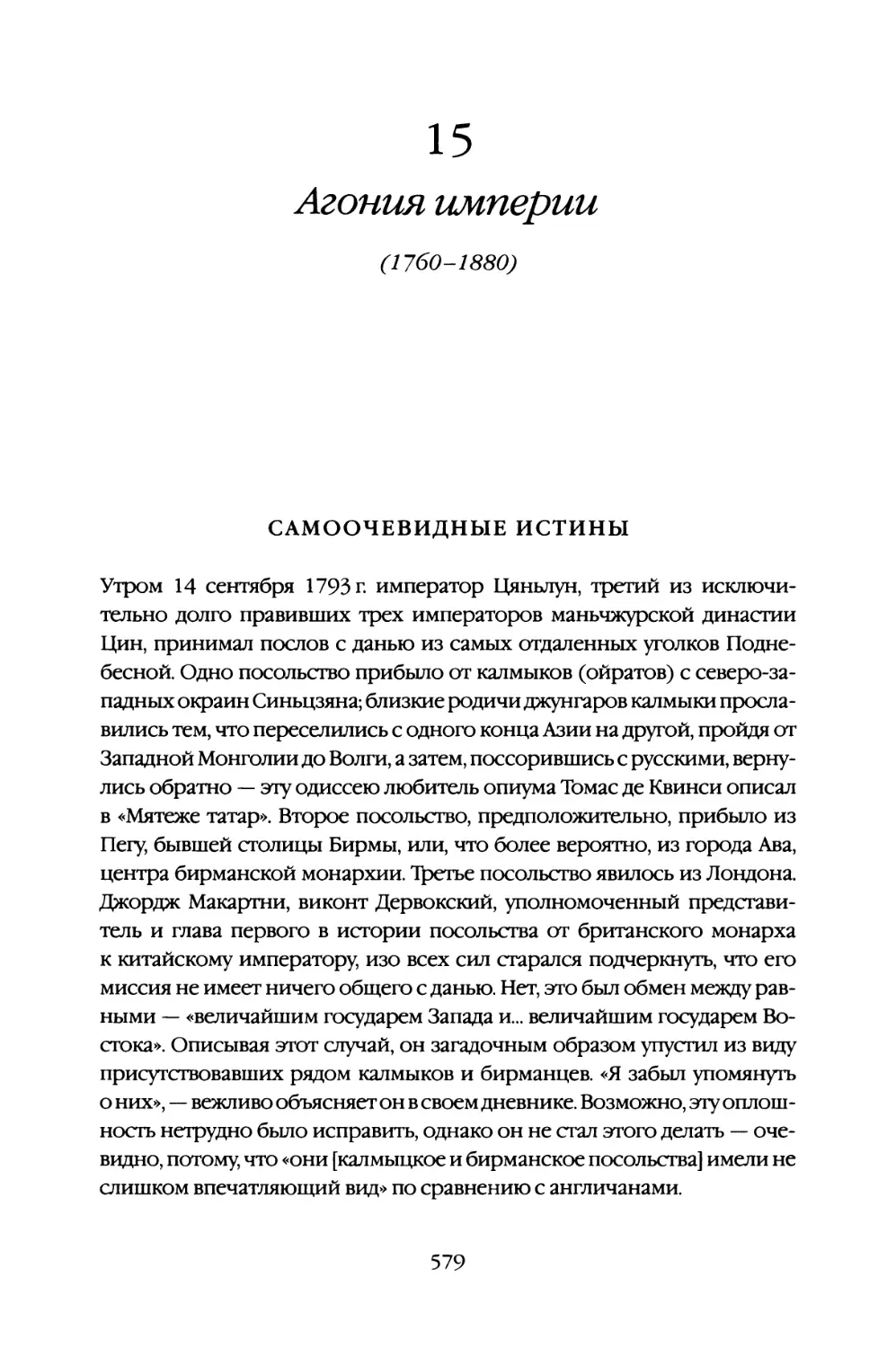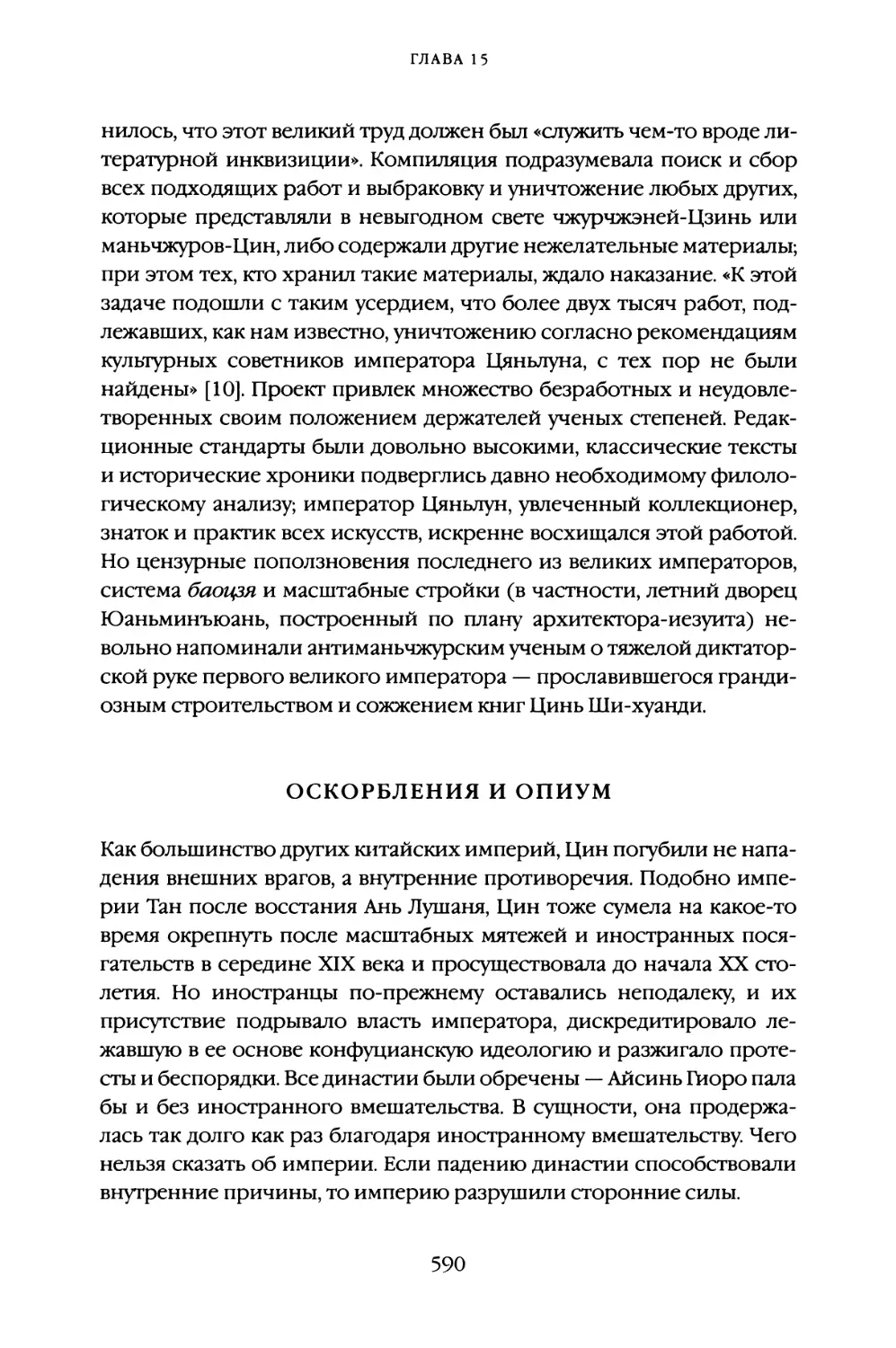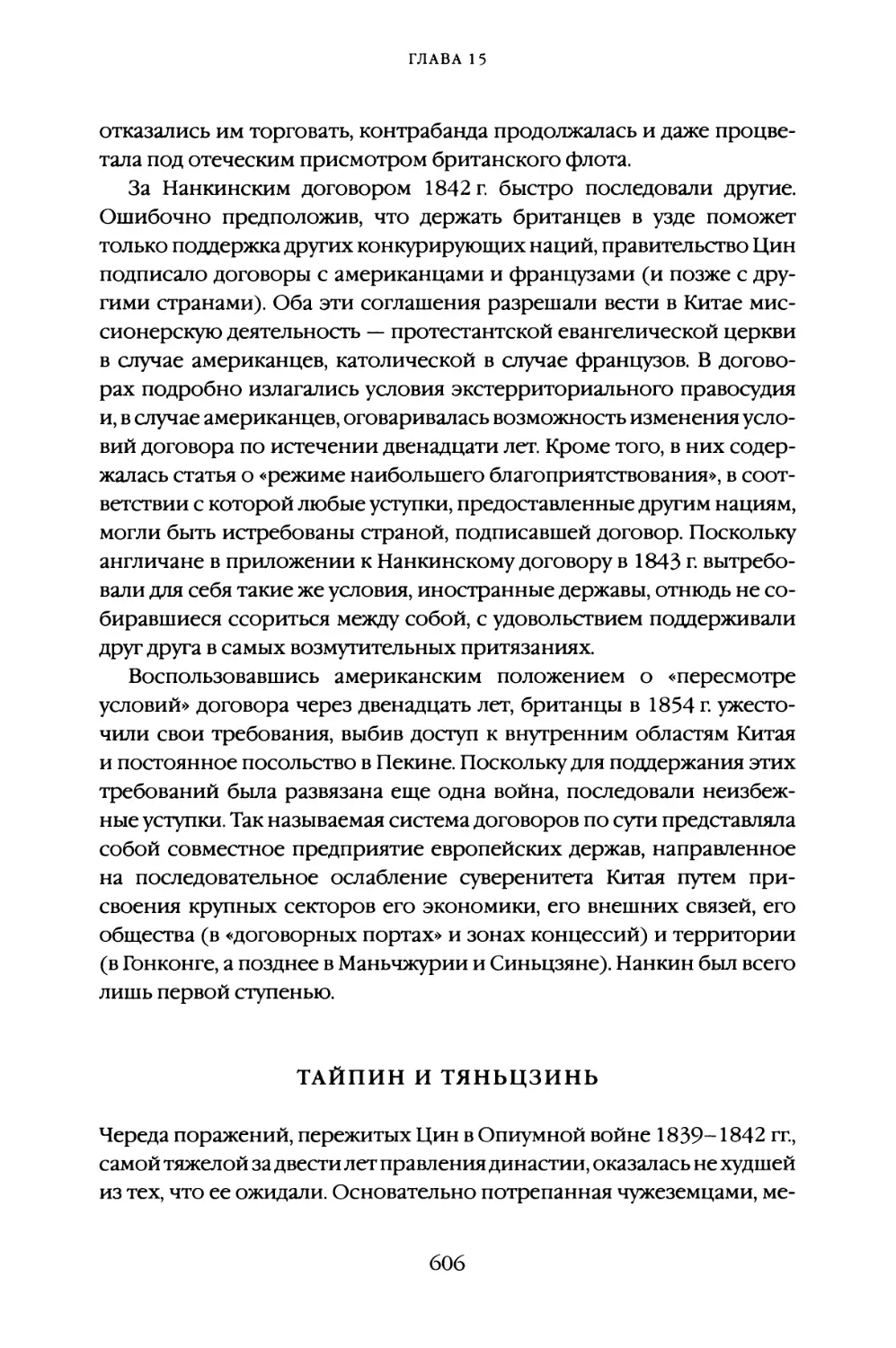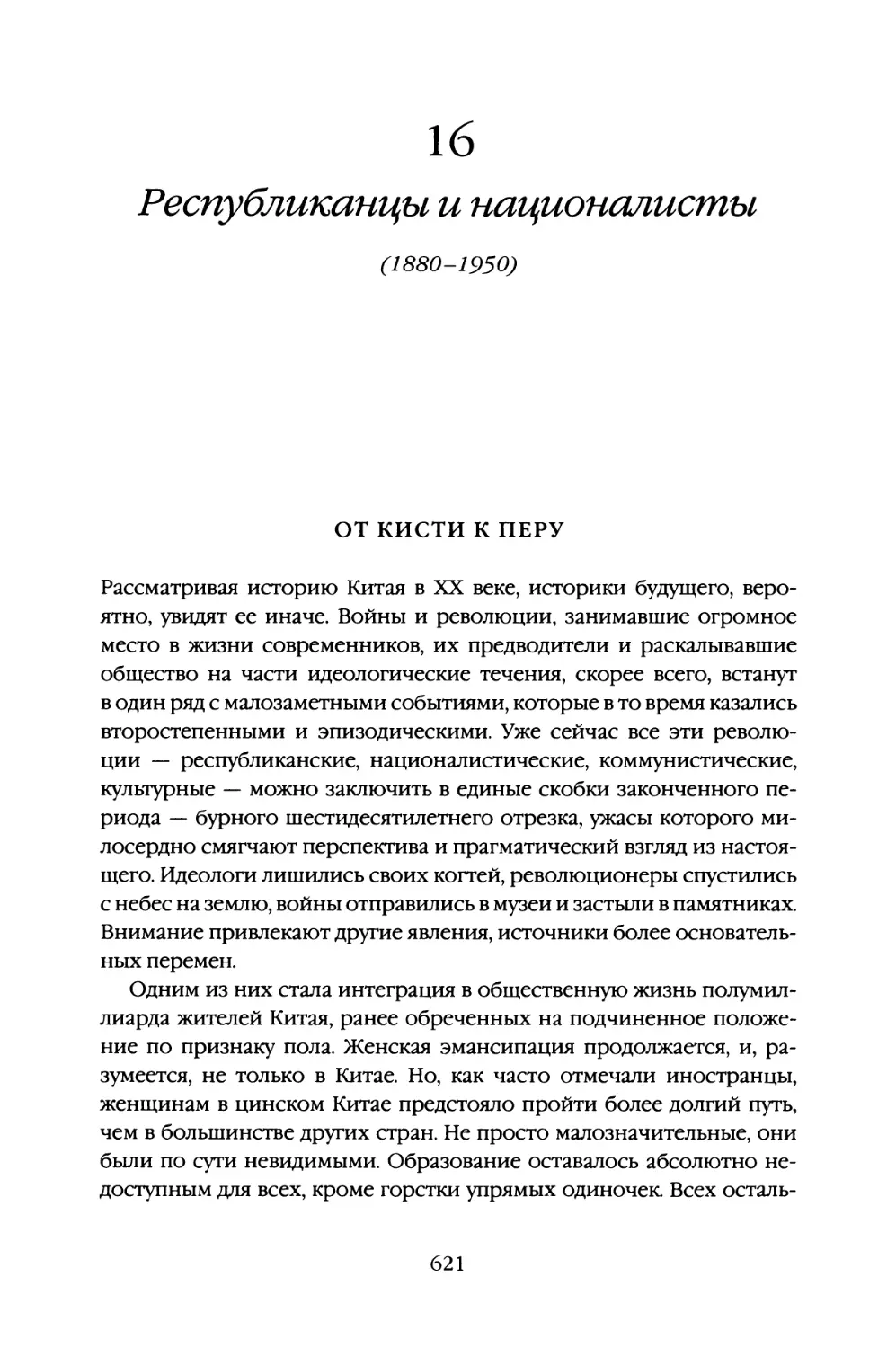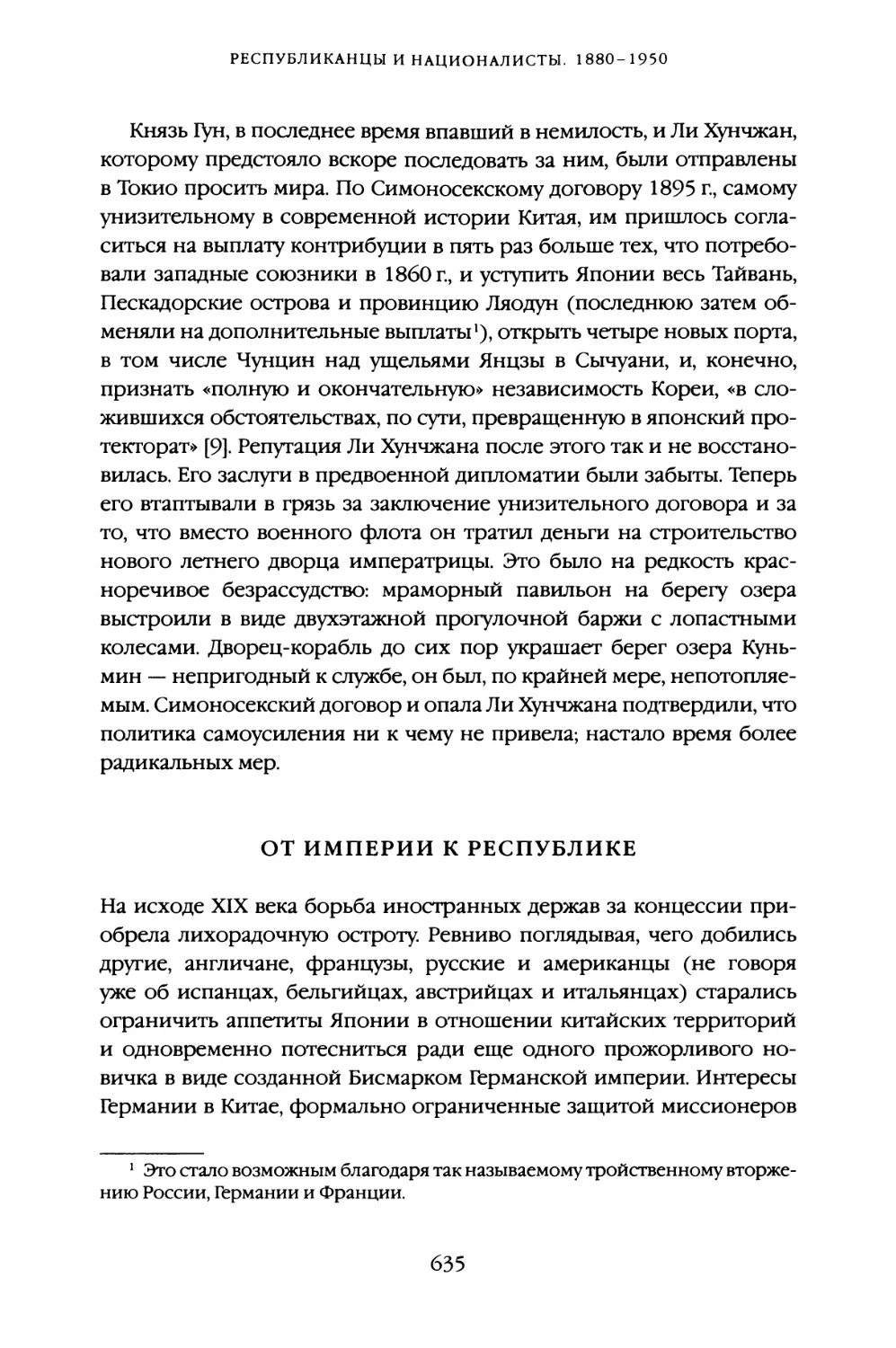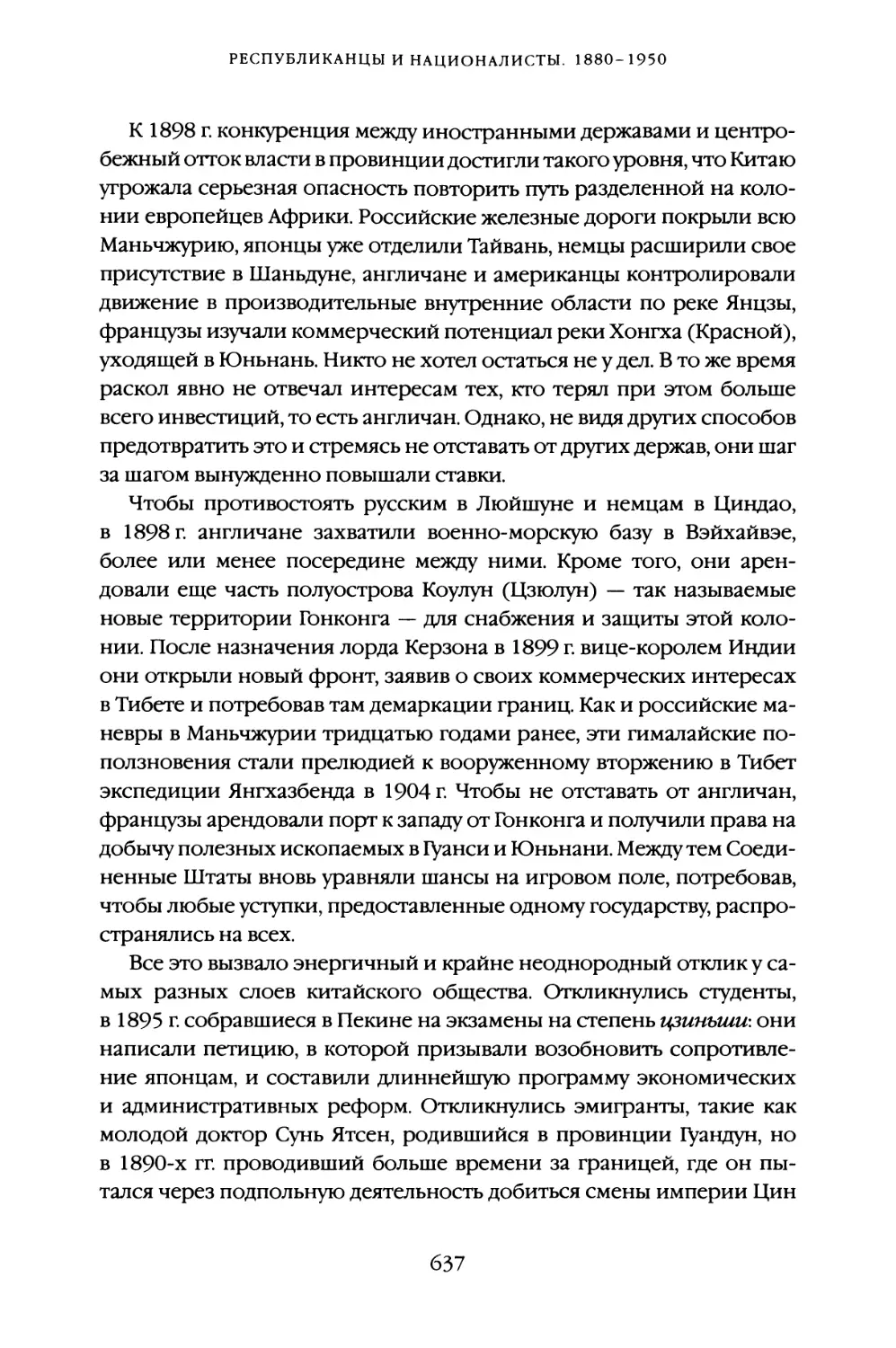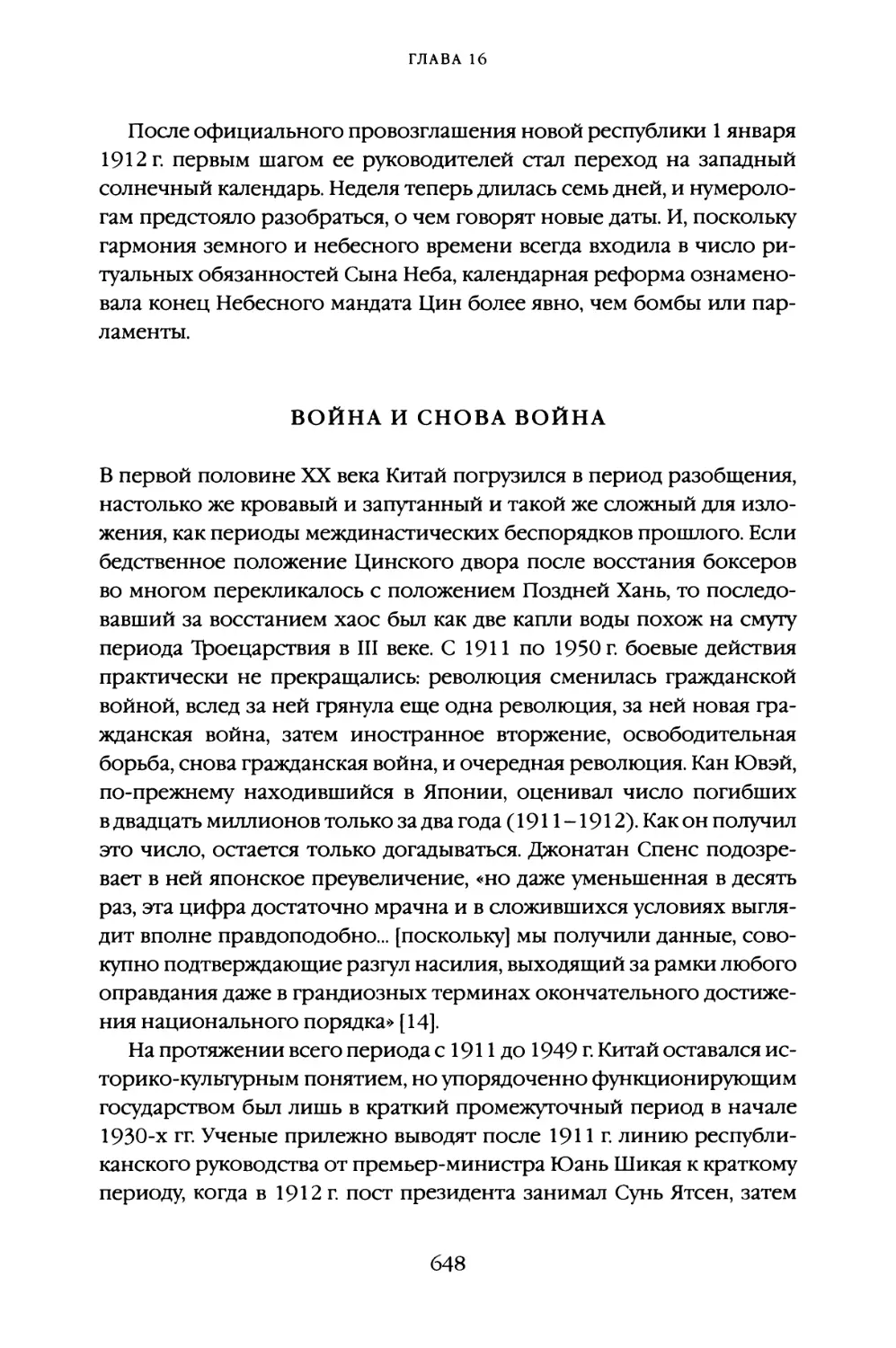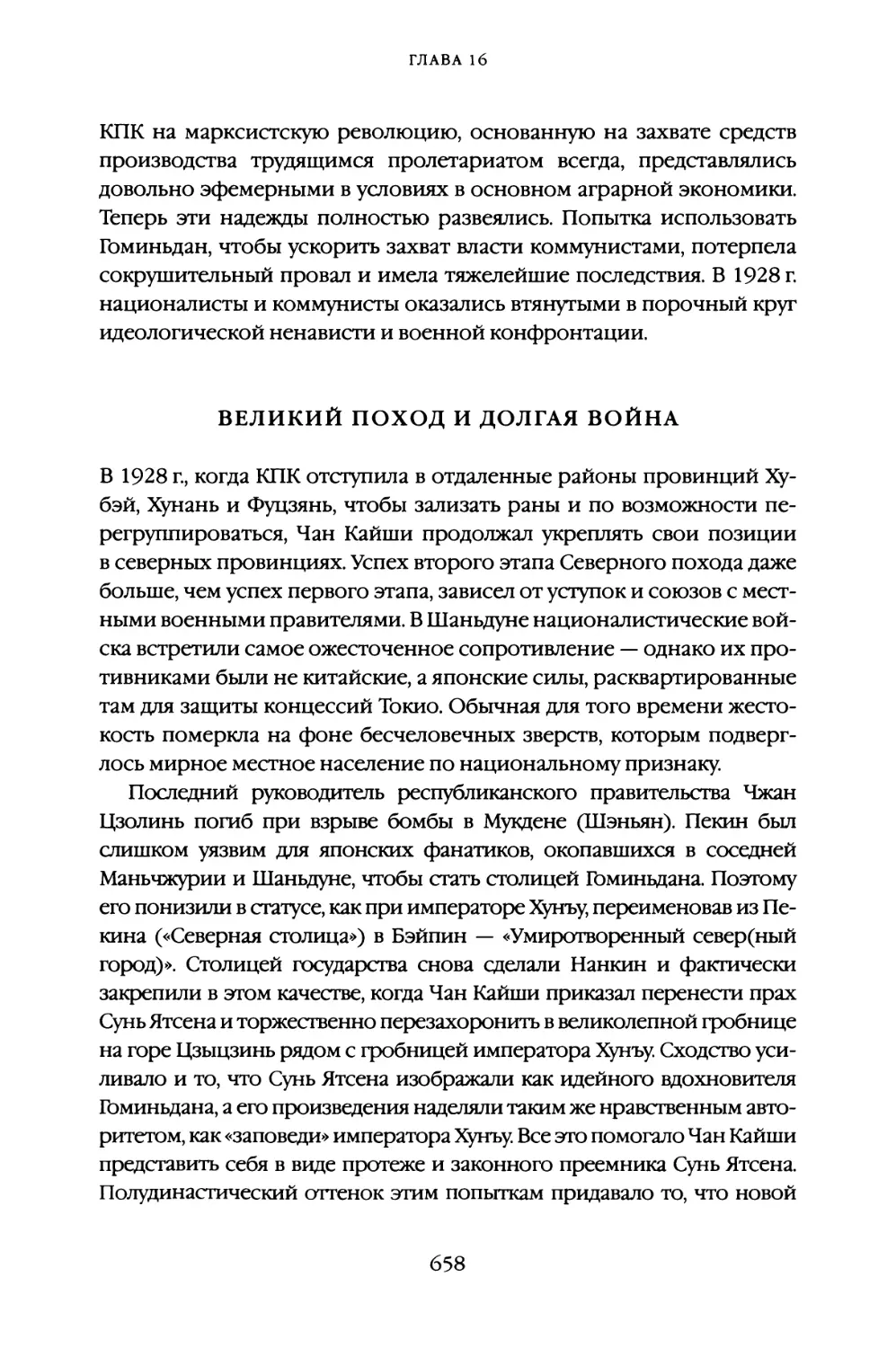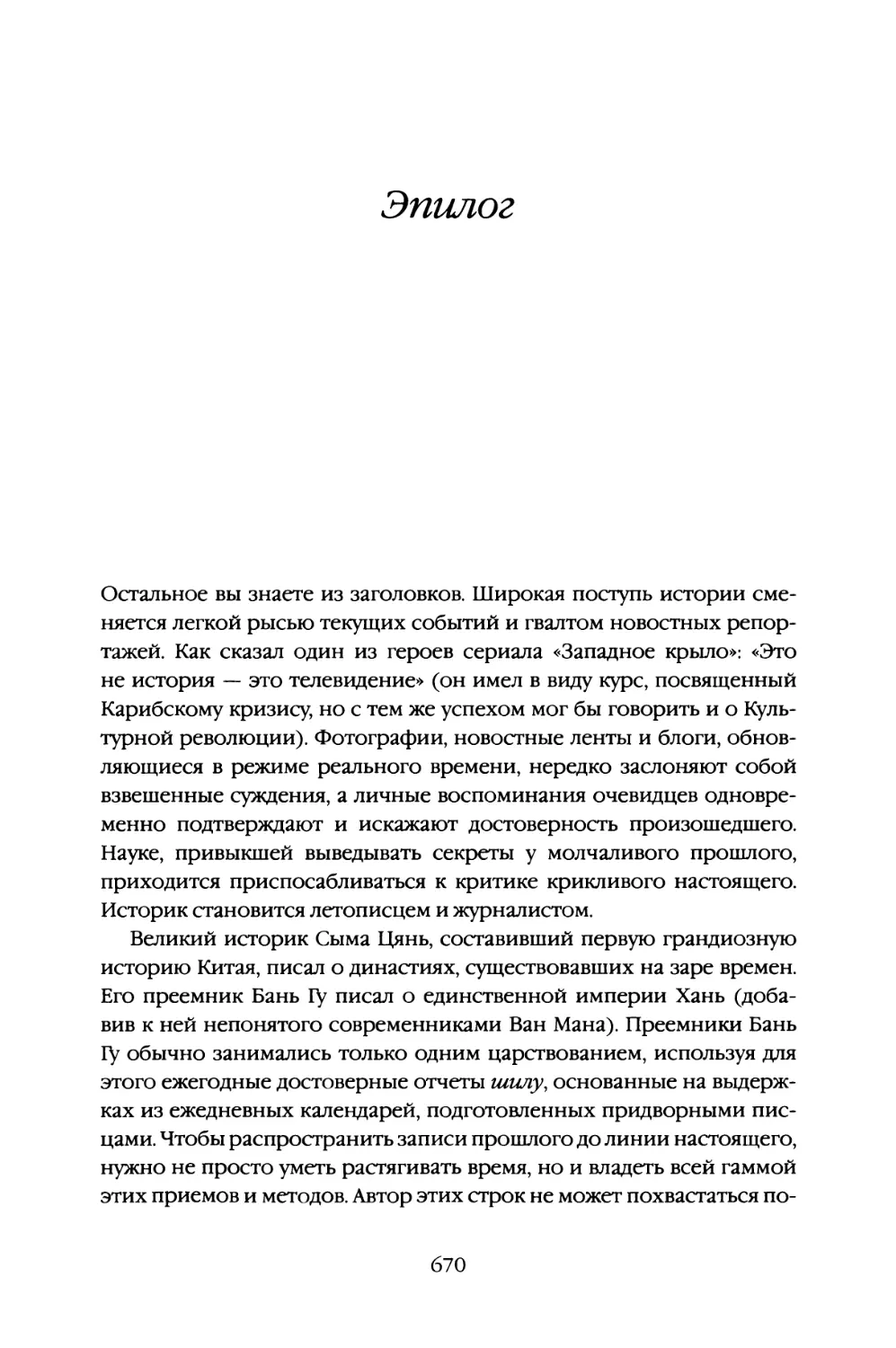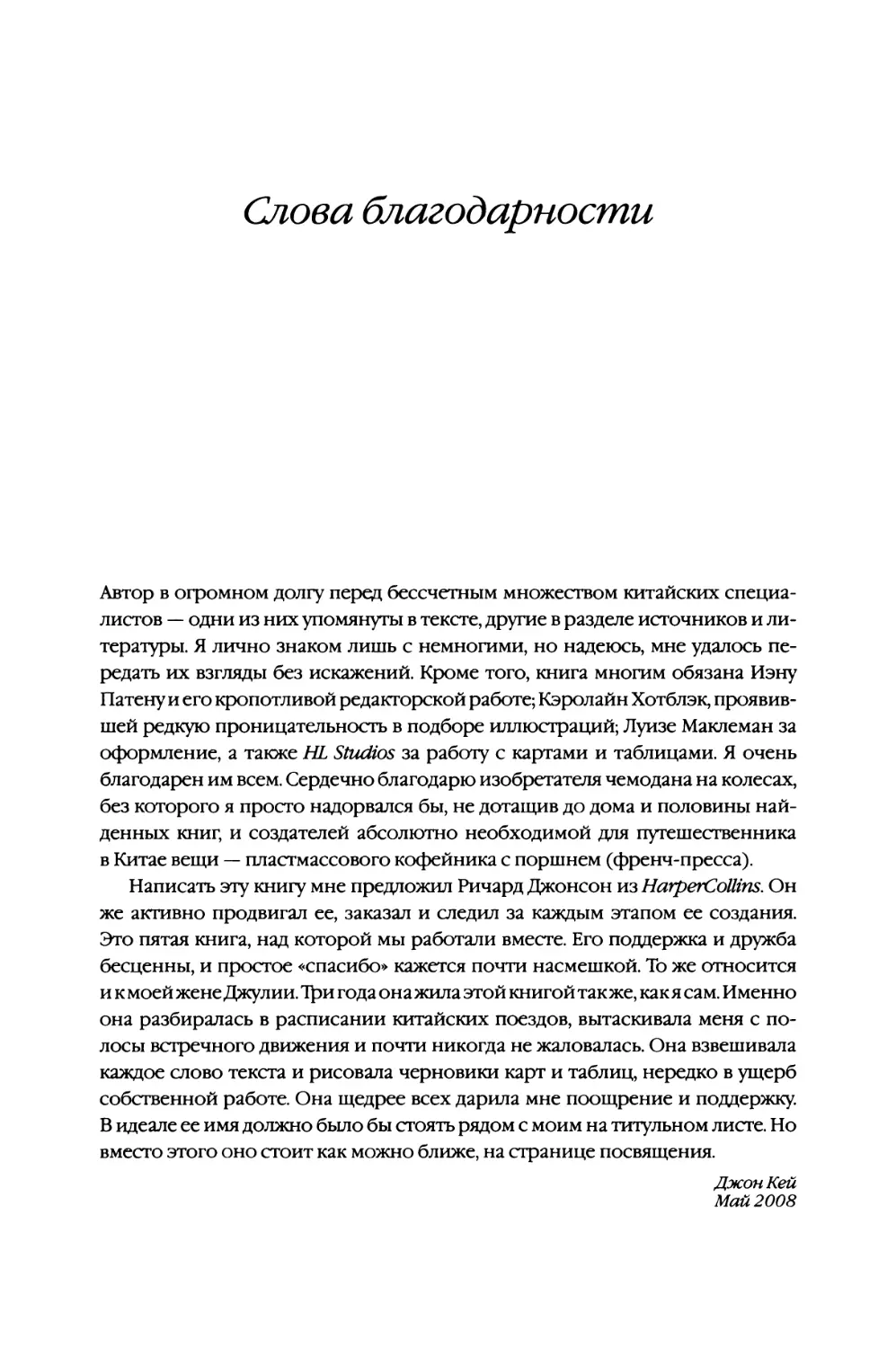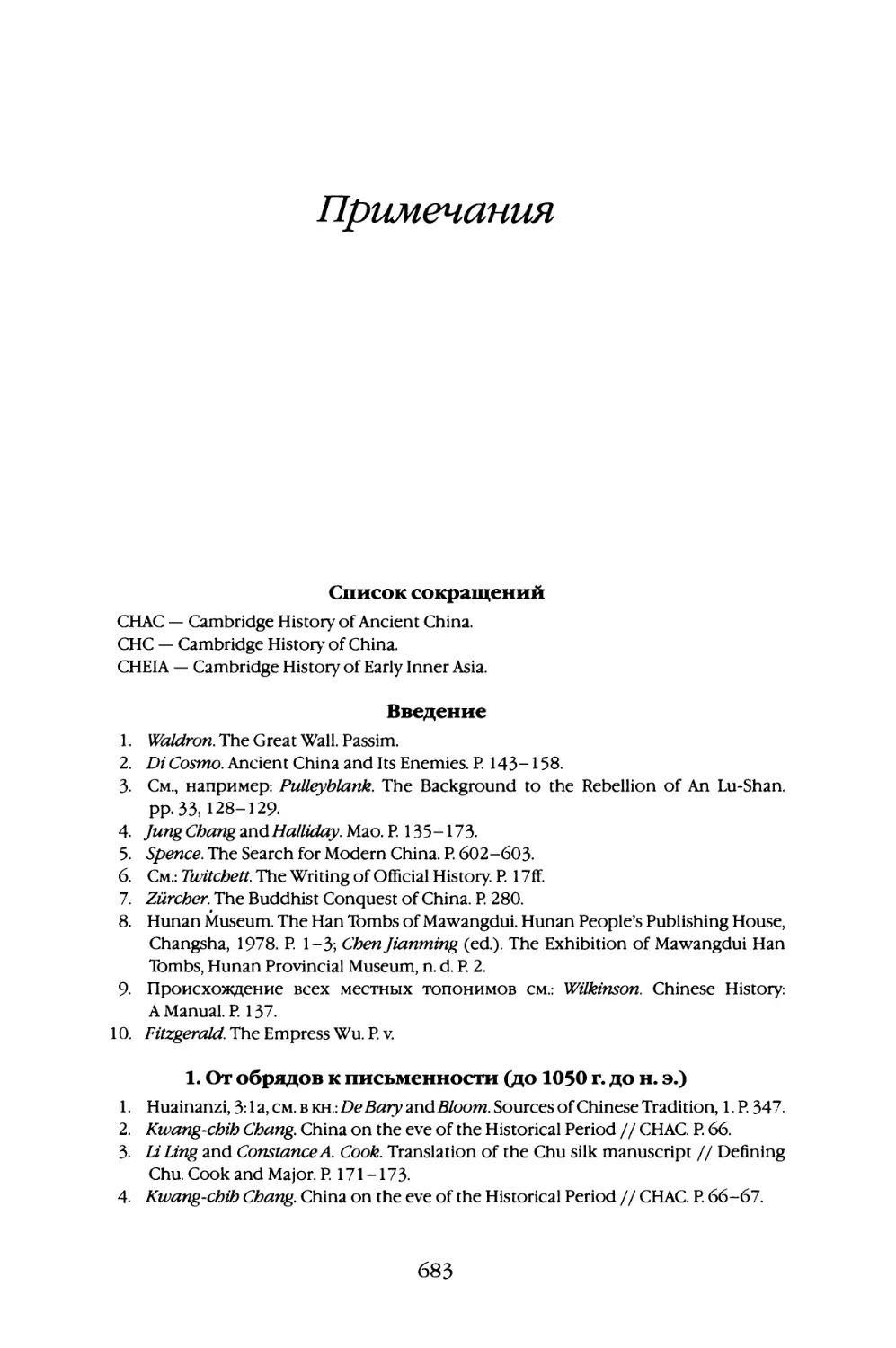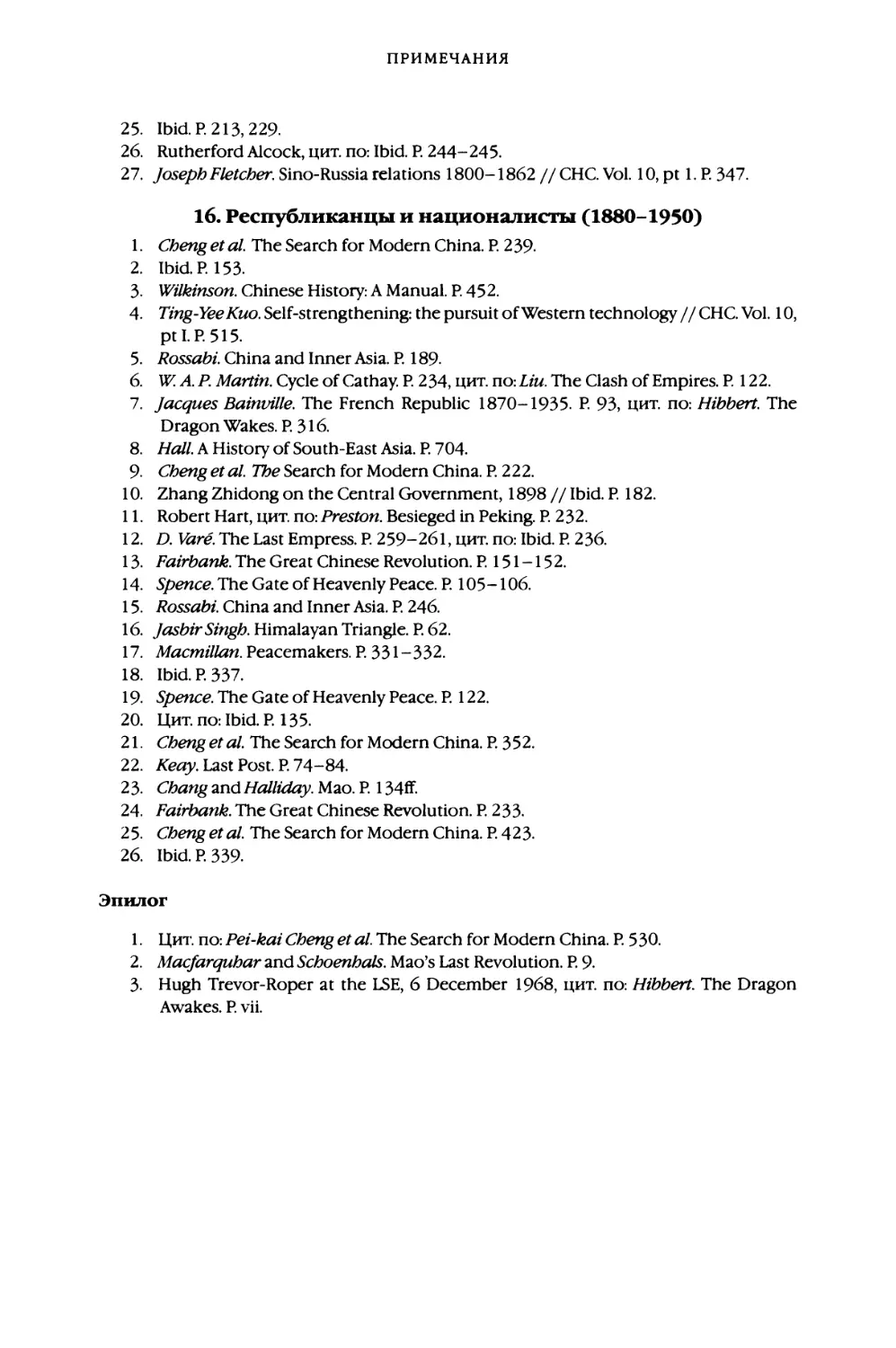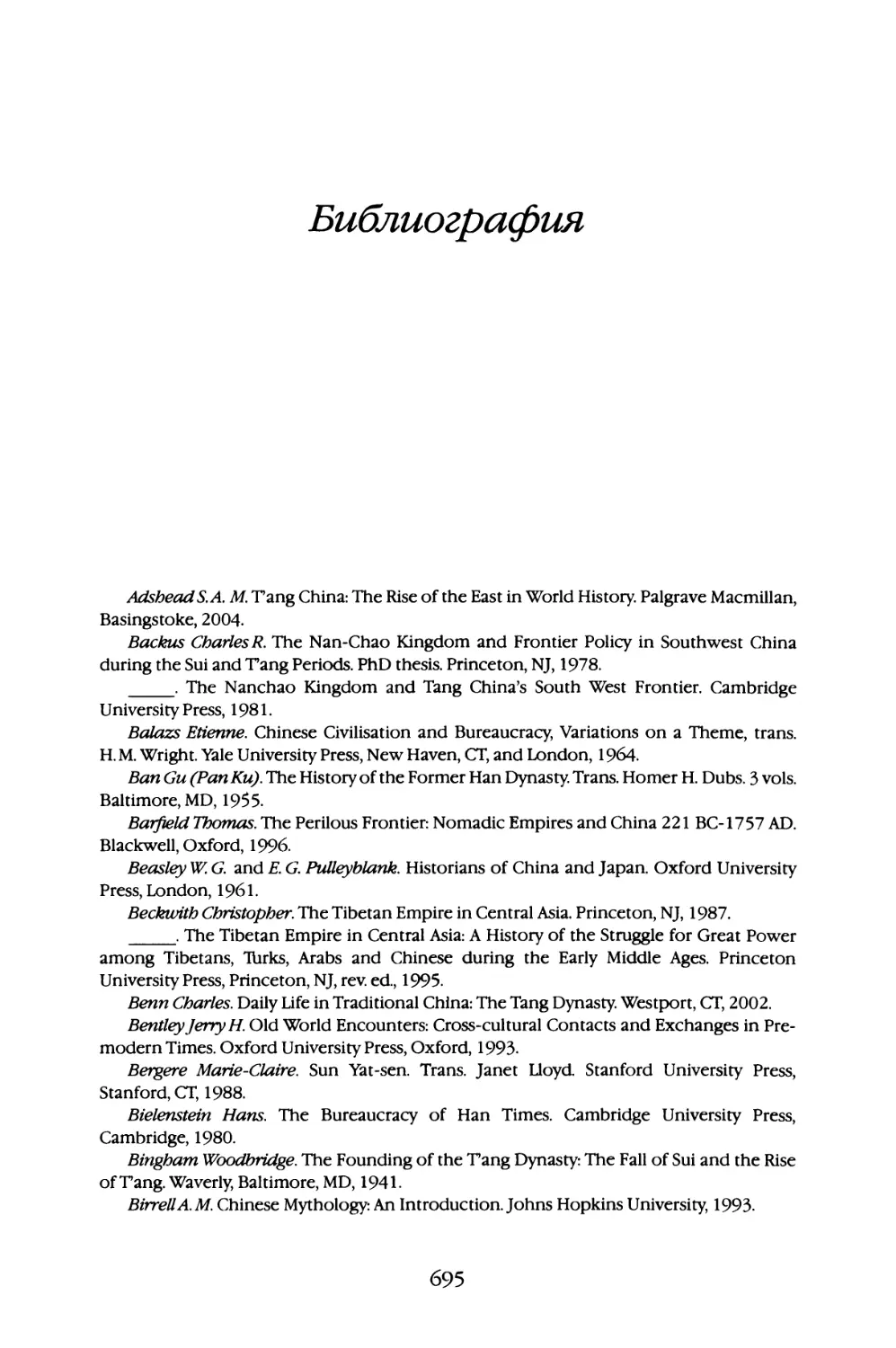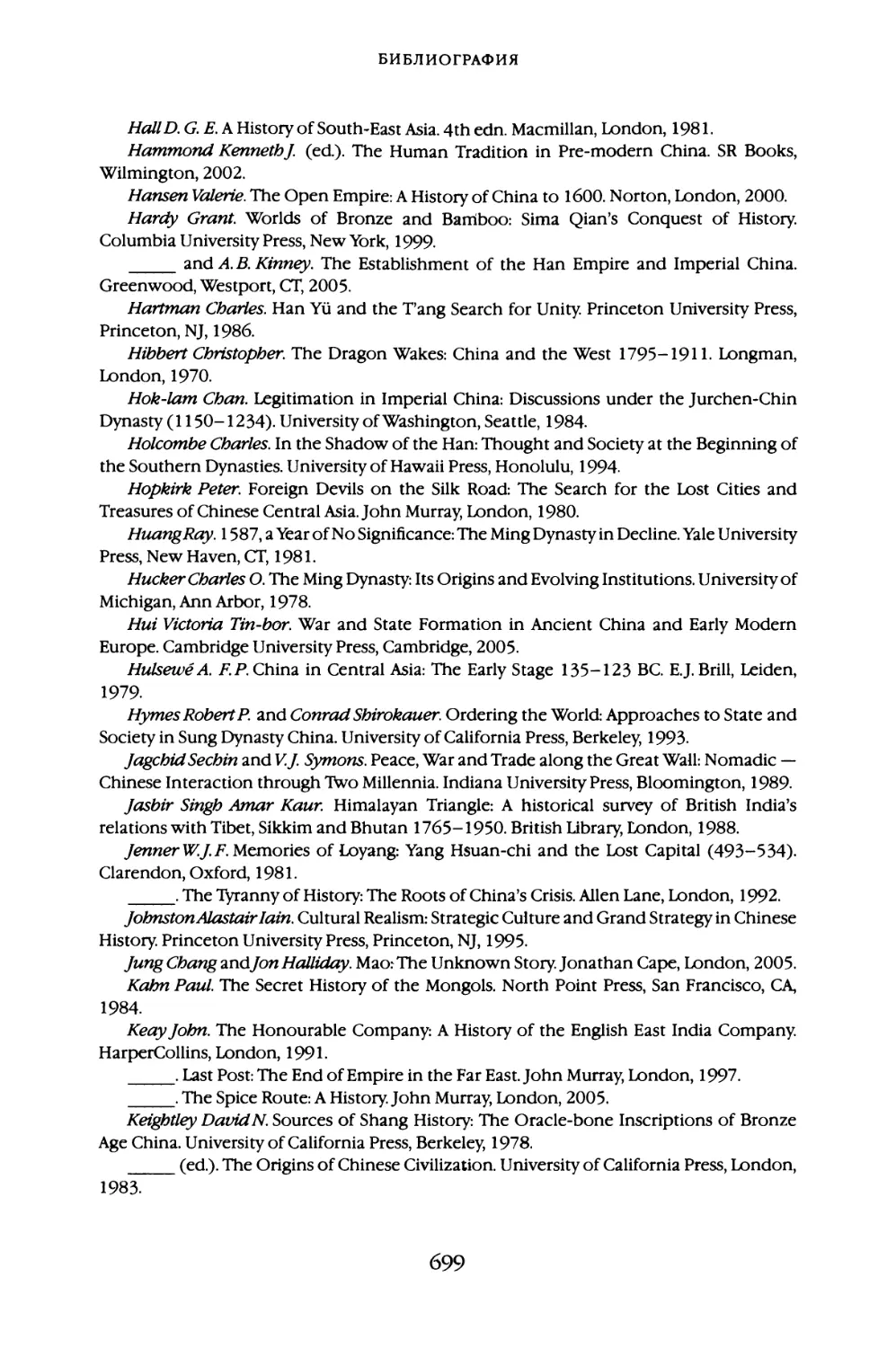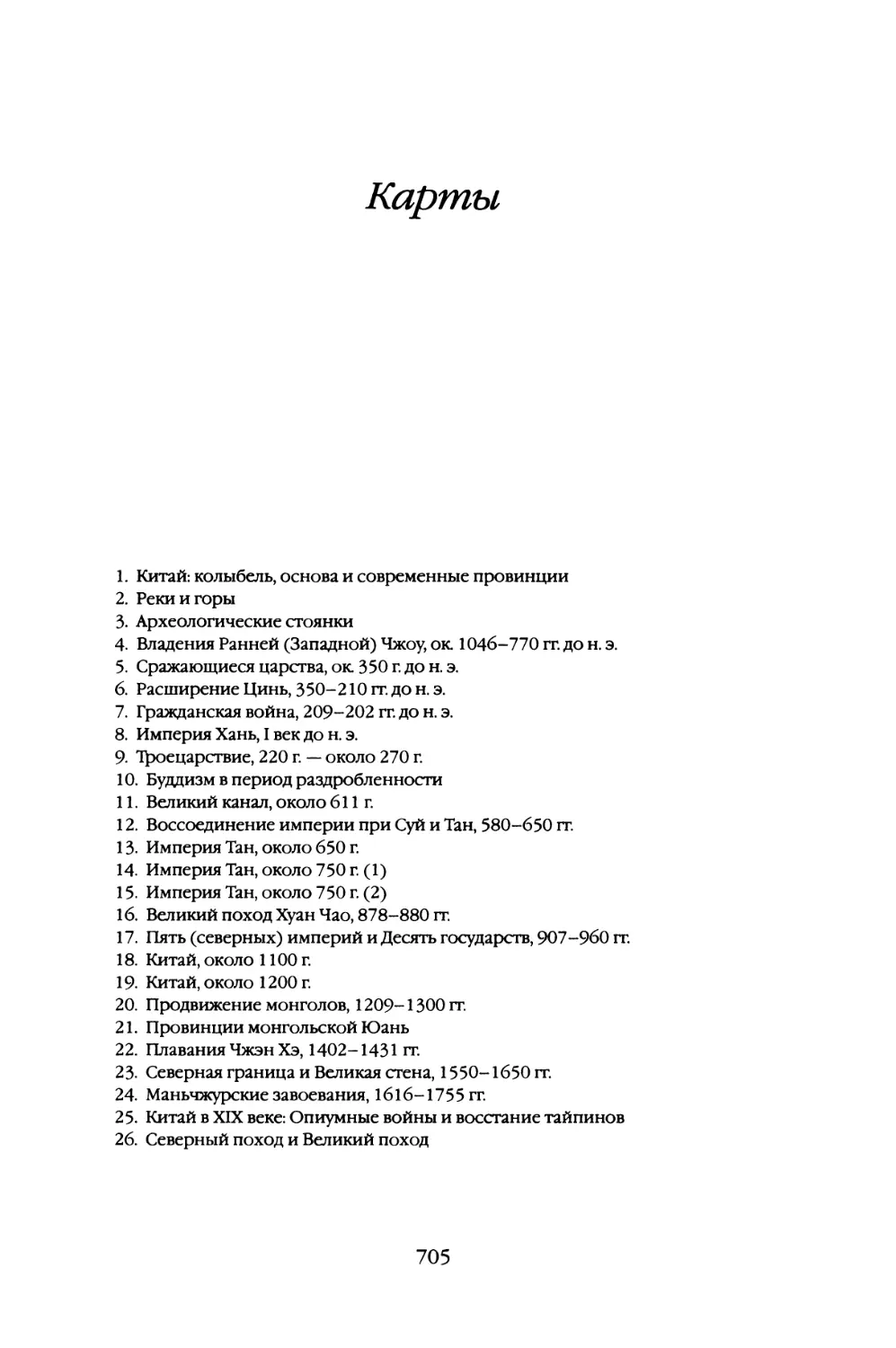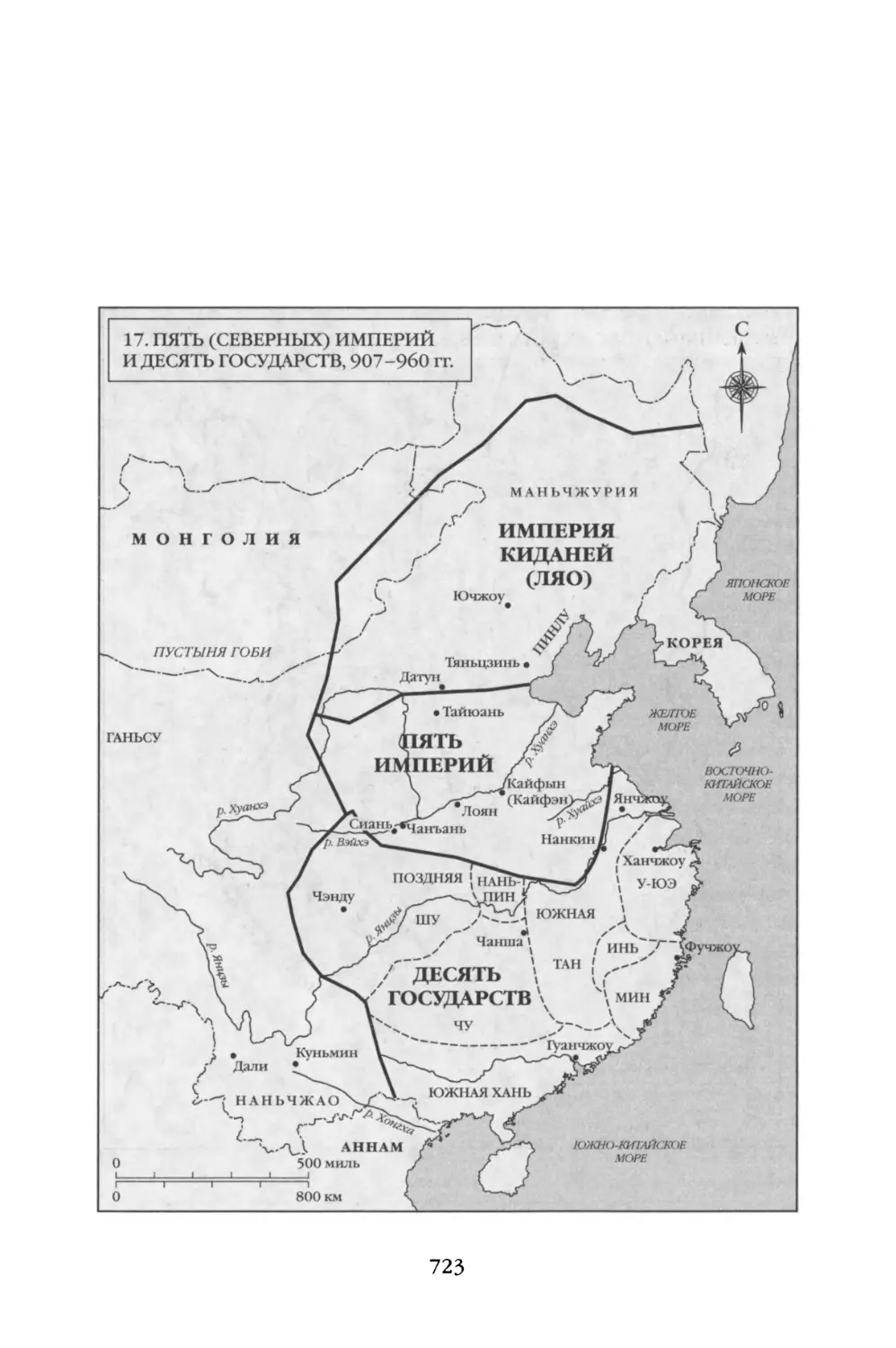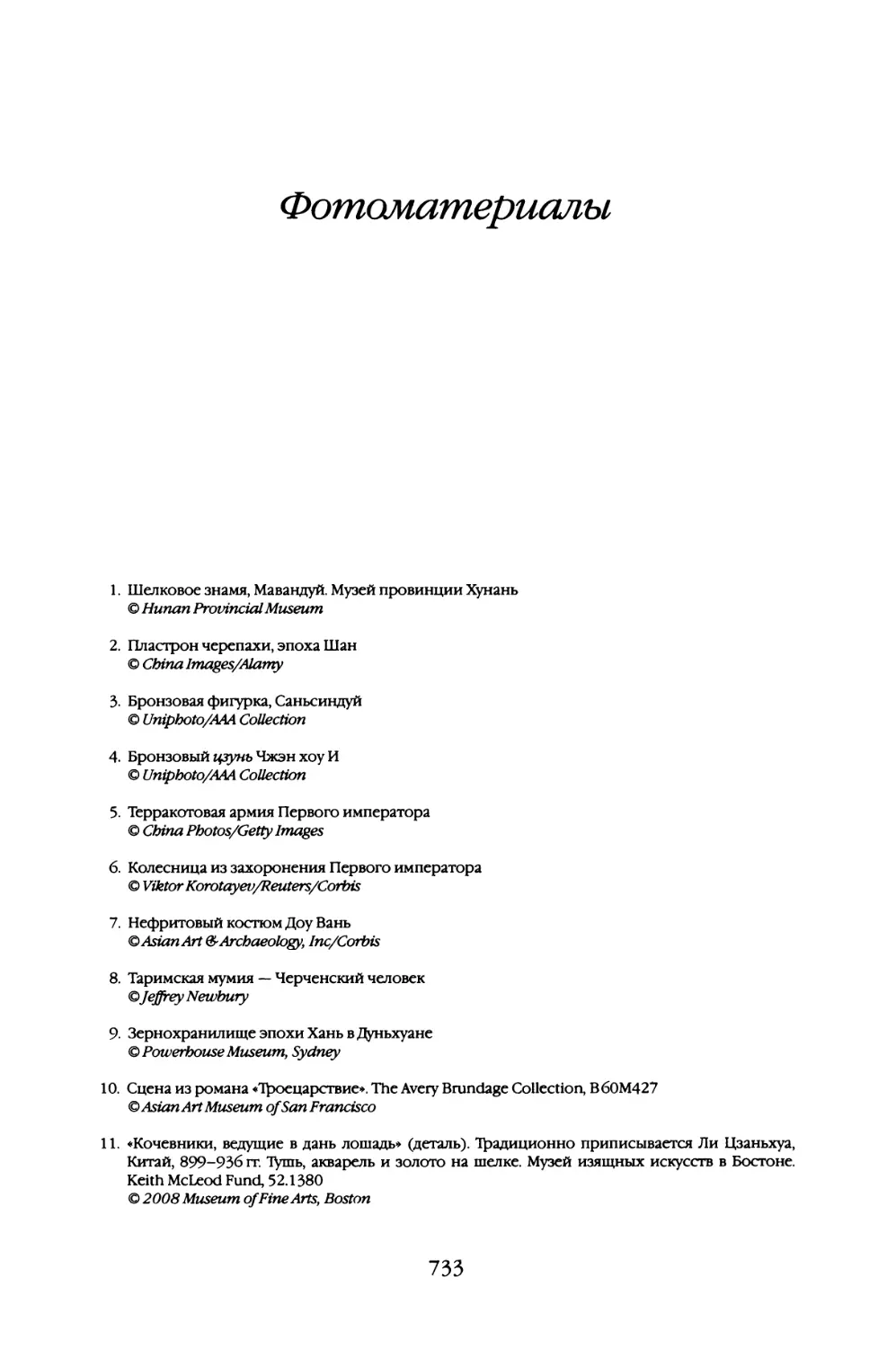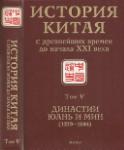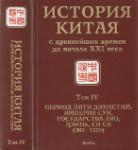Автор: Кей Дж.
Теги: всеобщая история история китая китай конфуций
ISBN: 978-5-389-14524-5
Год: 2020
Похожие
Текст
Невозможно понять Китай в настоящем или в перспективе, не имея представления о его прошлом. Многое из этого прошлого внушает благоговейный трепет. Каждый, кто пытается разгадать головоломку будущего, ожидающего нашу хрупкую и непростую планету, найдет неожиданные ответы в этой хронике эпохальных событий.
Observer
Аргументы, содержащиеся в этой грандиозной книге, не оставляют сомнений — история Китая бесконечно интересна и обязательно заставит вас замереть в напряжении на краешке геополитических «стульев».
Independent on Sunday
История Китая эпична... Невозможно понять волнующее будущее этой страны, не разобравшись в ее поразительном прошлом.
Traveller Magazine
Не принося суть в жертву краткости, автор сумел захватывающе рассказать историю Китая... Читатели, хоть немного знакомые с историей страны или только собирающиеся с ней ознакомиться, непременно полюбят эту книгу. Настоятельно рекомендуем.
LibraryJournal
В книге умело и с большой точностью передана суть научных дебатов по истории Китая — особенно дебатов между археологами и литературоведами.
Philadelphia Inquirer
Ясный, доступный рассказ с непревзойденным колоритом, разворачивающий перед читателем необыкновенную панорамную перспективу.
Open Letters Monthly
Империя подразумевает мировое господство — экспертный анализ истории Китая делает мир древних императоров поразительно современным и актуальным.
Observer
Джон Кей
КИТАИ
ОТ КОНФУЦИЯ ДО МАО ЦЗЭДУНА
КоЛибри
МОСКВА
УДК 94(510) ББКбЗ.З(5Кит) КЗЗ
John Keay CHINA A History
Перевод с английского Виктории Степановой
Научный редактор: Дмитриев С. В., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующий сектором древней и средневековой истории Китая Института востоковедения РАН
КейДж.
КЗЗ Китай: От Конфуция до Мао Цзэдуна / Джон Кей; [пер. с англ. В. В. Степановой]. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 736 с.: ил.
ISBN 978-5-389-14524-5
Масштабная последовательная история Китая с древних времен до конца XX века, рассказ о легендарных Пяти императорах, мифическом царстве Ся и доимперских государствах Шан и Чжоу, об археологических находках, относящихся к бронзовому и железному векам, о периоде Сражающихся царств... Все самое главное — о влиянии Конфуция, об объединении Китая Первым императором Цинь Ши-хуанди, о Культурной революции Цинь, возвышении и упадке Хань... В своем плавном течении, не прерываясь ни на столетие, повествование переходит ко времени Суй, Тан и Сун, эпохе Пяти империй и Десяти государств и далее, к триумфу Мин. Видный британский историк Джон Кей, скрупулезный исследователь архивных источников, в том числе неопубликованных, повествует о маньчжурском завоевании, о падении Мин, о ситуации в Джунгарии, Синьцзяне и Тибете, о кризисе Цин, о ходе Опиумных войн и восстании тайпинов; освещает такие драматические события истории Китая, как боксерское восстание, переход страны от империи к республике, события Русско- японской, Первой и Второй мировых войн и Культурной революции Мао Цзэдуна.
В подробном введении дается исчерпывающее представление о географии Китая, хронологии его истории и особенностях языка, топонимов и имен собственных. Снабженное солидным справочным аппаратом, цветными вклейками, картами и таблицами, издание адресовано широкому кругу читателей. От дописьменного периода до социально-экономической политики Китая конца столетия — эта уникальная книга о Китае уже признана в мире классикой.
УДК 94(5 Ю) ББК бЗЗ(5Кит)
978-5-389-14524-5
©John Кеау, 2008
© HarperCollinsPublishers, designed by HL Studios, Oxfordshire, maps and diagrams © Степанова В. В., перевод на русский язык, 2020 © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020 КоЛибри®
Посвящается Джулии
Философ сказал: «Не приятно ли учиться и постоянно упражняться? Не приятно ли встретиться с другом, возвратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный муж, кто не гневается, что он неизвестен другим?» [1]
Конфуций. Беседы и суждения. Глава 1 (пер. П. С. Попова)
Тот, кто не забывает прошлого, властвует в настоящем [2].
Сыма Цянь. Исторические записки
Содержание
Введение
Переписывая прошлое 13
Черная работа 19
Колыбель, основа и все остальное 22
Династическая динамика 28
Триумф пиньиня 33
Вопрос масштаба 36
Глава 1. От обрядов к письменности (до 1050 г. до н. э.)
Великое начало 43
Блеск бронзы 51
Встреча с родными 62
Изречения оракула 67
Глава 2. Мудрецы и герои (около 1050 — около 250 г. до н. э.)
Следы сандалий Чжоу 78
Скорее осень, чем весна 91
Конфуцианская передача 99
Воюющие царства и этатистские войны 106
Глава 3. Первая империя (около 250-210 гг. до н. э.)
Дорога каменных коров 117
Культурная революция Цинь 127
Крадущаяся стена, затаившаяся гробница 141
Глава 4• Возвышение Хань (210-141 гг. до н. э.)
Распад Цинь 152
Из пешек в короли 159
Государи в нефрите 169
Глава 5. Империя изнутри и снаружи (141 г. до н.э. — 1 г. н.э.)
Хань и сюнну 181
Путешествие Чжан Цяня в Западные земли 192
Управление империей 203
Конфуцианский фундаментализм 214
Глава 6. Ван Ман и возвращение Хань (1-189)
Династия из одного человека 219
Переломный момент 229
Закат и упадок 242
Глава 7. Четыре столетия неурядиц (189-550)
Три царства и битва у Красной скалы 254
Дао и небесные наставники 262
Явление Просветленного 271
Падение в бездну 277
Снова Лоян 284
Глава 8. Суй, Тан и Вторая империя (550-650)
Промежуточное обстоятельство 292
Суй-цидальные тенденции 302
Сыновья заката и сыновья рассвета 312
По ту сторону Нефритовых врат 319
Глава9. Высокая Тан (650-755)
Распутные, но не беспутные 328
Величайшая держава Азии 342
Подобно дыханию весны 354
Переломный момент 362
Глава 10. Преображение империи (755-1005)
Низкая Тан 368
Пять империй или Десять государств 381
Сун и Ляо 392
Глава 11. Шаг назад (1005-1235)
Великое государство Белого и Высокого 403
Реформы и переоценка 411
В башнях певичек 420
Цзинь и Сун 428
Глава 12. На суше и на море (1235-1405)
Закат Сун 443
Воссоединение монголов 455
Злоключения монголов 471
ТфиумфМин 481
Глава 13. Ритуалы Мин (1405-1620)
От края небес до конца земли 489
Невзгоды и неудачи 501
Великий спор о ритуалах 511
Памятники и набеги 522
Глава 14. Маньчжурское завоевание (1620-1760)
Падение Мин 532
От чжурчжэней к маньчжурам 545
Пример для многих 558
Джунгария, Синьцзян и Тибет 567
Глава 15. Агония империи (1760-1880)
Самоочевидные истины 579
Оскорбления и опиум 590
Тайпин и Тяньцзинь 606
Глава 16. Республиканцы и националисты (1880-1950)
От кисти к перу 621
От империи к республике 635
Война и снова война 648
Великий поход и долгая война .. 658
Эпилог 670
Слова благодарности 682
Примечания 683
Библиография 695
Карты 705
Фотоматериалы 733
Введение
ПЕРЕПИСЫВАЯ ПРОШЛОЕ
Экономическое возрождение Китая в постмаоистскую эпоху прошло не без потерь. Исчезли портреты Председателя Мао, многолюдные шествия рабочих с флагами и вооруженные мотыгами бригады на колхозных полях. Жилые кварталы, плотно застроенные по единому образцу, исполняют новую хореографию, транспортные эстакады встают над рисовыми полями, священные горы опутаны канатными дорогами, корабли на подводных крыльях рассекают гладь озер, которыми когда-то любовались поэты. Привычные очертания исторического ландшафта исчезли или превратились в достопримечательности для туристов. Торжественно выставленные на внутренний и внешний рынок, они неудержимо манят к себе представителей еще одного разрушительного братства — ученых из разных стран. Когда история переписывается с таким размахом, ничего святого не остается. Великая стена, Великий канал, Великий поход и даже большая панда — мифы, объявляют ученые-ревизионисты, способствуя возникновению взаимосвязей, а значит, невежественные вымыслы иностранцев следует заимствовать в интересах китайского шовинизма.
Вопреки заявлениям туристических брошюр было установлено, что возраст Великой стены вовсе не достигает двух тысяч лет, ее длина не десять тысяч километров и она не видна из космоса (на самом деле во многих местах она не видна даже на земле). К тому же она никогда не была единым непрерывным сооружением [1]. Она не сдержи¬
13
ВВЕДЕНИЕ
вала набеги разбойников-кочевников, и не это было первоначальной целью ее постройки — вместо того чтобы обозначать и защищать существующие территориальные границы Китая, она предназначалась, возможно, для их планового расширения [2]. Фрагменты Великой стены в окрестностях Пекина, которые сегодня можно с удобством осмотреть, были реконструированы именно ради подобного осмотра, а в их основании лежат остатки укреплений эпохи Мин, не старше дворцов Запретного города или лондонского Хэмптон-Корта.
Точно так же обстоит дело с Великим каналом. Протянувшийся от дельты Янцзы до Хуанхэ на расстояние около 1100 километров, канал предположительно играл роль главной артерии между плодородным «сердцем» (центральной областью) Китая и «мозгом», где находилось правительство. Сооруженный в VII веке, он действительно связывал изобильные южные земли с неурожайным севером, соединяя два основных географических компонента политической экономики Китая, и служил крайне необходимой магистралью для массовой транспортировки грузов и распространения влияния империи. Однако он тоже не был цельным единым сооружением — скорее это была череда умело спроектированных водных путей, соединяющих между собой протоки дельты Янцзы, а в других местах связывающих притоки этой реки с притоками Хуайхэ, в свою очередь связанными с блуждающей Хуанхэ. Но вся эта система практически никогда не была задействована одновременно. Реки имели переменное течение, поскольку сезон дождей на севере не совпадал с сезоном дождей на юге. Для перетаскивания тяжелых грузовых судов и обслуживания плотин требовалась колоссальная рабочая сила; углубление дна и техническое обслуживание каналов обходилось непомерно дорого. Наконец, общая работа системы требовала слишком частой реорганизации. Поэтому в наше время у Великого канала почти столько же заброшенных участков, сколько и у Великой стены [3].
Еще больше противоречий вызывает Великий поход, эпос о героическом начинании коммунистов в 1934-1935 гг., который в наши дни называют совсем не таким долгим и не таким героическим, как было принято считать, Говорят, что размах и количество сопровождавших его битв и перестрелок преувеличены (или попросту выдуманы) в целях пропаганды, а из восьмидесяти тысяч солдат, выступивших в поход в Цзянси на юго-востоке, лишь восемь тысяч измерили пешим маршем горные хребты Китая до округа Яньань на северо-западе. Из
14
ВВЕДЕНИЕ
оставшихся часть погибла, но большинство просто сбежало задолго до окончания пути длиной почти десять тысяч километров. Из тех же, кто продержался до конца, по крайней мере одному человеку редко приходилось идти пешком: самого Мао несли на носилках [4].
В чуть более устойчивом положении пребывает большая панда, олицетворение (если можно так выразиться) видов, находящихся под угрозой исчезновения. В 1960-е и 1970-е гг. эти редкие животные, вместе с виртуозными мастерами игры в пинг-понг, стали неожиданно ценным инструментом в дипломатическом арсенале обложенной со всех сторон Китайской Народной Республики. Широко востребованные зоопарками всего мира панды, особенно самки, преподносились в дар достойным главам государств. Это был своего рода жест дружбы, и экспериментальное размножение панд поощрялось, словно его успех мог каким-то образом укрепить политический союз. Но теперь этой практике пришел конец. На основе редких упоминаний в классических текстах (например, в «Книге документов» — «Шу цзин», фрагменты которой предположительно датируются 2-м тысячелетием до н. э.)1 для панды была выведена родословная несомненной древности, и ей было присвоено имя на стандартном китайском — Да сюн-мао, или «Большой медведь-кошка». Повадки панды были сочтены достаточно безобидными, чтобы сделать ее универсальным символом мира. Благодаря ревностной заботе численность панд стабилизировалась и, пожалуй, даже выросла. А чтобы никому не пришло в голову вынашивать коварные замыслы относительно национального символа, вывоз большой панды был запрещен. Теперь все панды принадлежат Китаю. Иностранные зоопарки могут арендовать их на срок до десяти лет, годовая арендная плата составляет около двух миллионов долларов США, а детеныши, родившиеся за это время, наследуют гражданство матери—и те же условия контракта. Большая панда, черно-белое изображение которой украшает логотипы самых разных брендов, сама стала франшизой.
Во всем этом нет ничего удивительного или достойного сожаления. Любая история рано или поздно подвергается пересмотру, а по¬
1 Другой вариант перевода — «Канон записей» (или «Шан шу» — «Чтимые записи»). Вероятнее всего, главы этого важнейшего текста китайской традиции были зафиксированы не раньше VIII—VII веков до н. э. на основе более древних, возможно в каком-то виде передававшихся изустно, литургических преданий. —Здесь и далее, если не указано иное, прим. науч. ред.
15
ВВЕДЕНИЕ
скольку китайцы интересовались своей историей больше и дольше, чем представители любой другой цивилизации, их история менялась чаще, чем любая другая. Только за прошедшее столетие книги по истории пришлось переписывать как минимум четырежды — в интересах националистической мифологии, затем марксистской диалектики классовой борьбы, затем маоистских постулатов о динамике пролетарской революции и, наконец, тезиса рыночного социализма о совместимости авторитарного правления с накоплением богатств.
Широко распространенное утверждение, объявляющее современный Китай преемником «самой древней непрерывно существующей цивилизации в мире» (возрастом от трех до шести тысяч лет, в зависимости от достоверности публикации), ожидает такая же придирчивая проверка, как Великую стену или большую панду. И хотя сейчас это утверждение широко поддерживают сами китайцы, подобные притязания звучат не менее подозрительно, чем прочие обобщения. Возможно, под тремя или шестью тысячами лет непрерывно существующей цивилизации подразумевается всего лишь три или шесть тысяч лет цивилизации, которую другие народы находят неизменно непостижимой? Так или иначе, характер этой цивилизации, а также мотивы тех, кто отстаивает ее непрерывность, нуждаются в пристальном разборе. Настойчивые разговоры о преемственности кажутся особенно подозрительными в свете революционных потрясений минувшего века. И фрагменты Великой стены, и сохранившиеся участки Великого канала, и обрывочные исторические документы Китая по отдельности заслуживают ничуть не меньше внимания, чем составленное из них гордое целое.
Но в одном смысле непрерывность не вызывает сомнений: китайские ученые были одержимы прошлым своей страны практически с тех самых пор, как у нее появилось прошлое. Подобно многим другим народам, древние китайцы свято верили, что когда-то на их земле царило изначальное совершенство, доисторический Эдем, выраженный (в их случае) в добродетельной иерархии, где космические, природные и человеческие силы взаимодействовали друг с другом в гармонии и согласии. Чтобы направить человечество к новому воплощению идеализированного прошлого, следовало обращаться не к пророчествам, а к истории — в старинных текстах можно было отыскать и решение современных дилемм, и прогнозы на будущее. «Книга документов» и другие старинные компиляции приобрели
16
ВВЕДЕНИЕ
канонический статус — их изучали и толковали так же внимательно и почтительно, как в других странах изучают Священное Писание и иные божественные откровения. Знакомство с классическими текстами было не только приметой учености, но и главным знаком принадлежности к китайской нации и мерилом культурного развития.
Кроме того, оно было необходимым условием для государственной службы. Прецедент и практика, заимствованные из старинных текстов, служили валютой в политических спорах. Правильно истолкованные исторические прецеденты могли подтвердить законность правления, санкционировать инициативу или предуведомить об опасности. Но вдобавок ими можно было манипулировать, чтобы узаконить власть узурпатора, развернуть репрессии или препятствовать реформам. Образованные вельможи использовали их в качестве завуалированной критики: отсылки к прошлому позволяли отрицательно отозваться о текущей политике, не навлекая на себя гнев высокопоставленных особ, — или, наоборот, запутать дело и снять с себя ответственность.
В 1974 г. с целью дискредитировать Линь Бяо (военного, ранее считавшегося преемником Мао) руководство Коммунистической партии Китая развернуло кампанию против Конфуция, культурного колосса, тесно связанного со всей текстовой традицией. Что общего могло быть у мыслителя, жившего в V веке до н. э., и революционера XX столетия? Разумеется, «реакционные» настроения. Но поскольку реакционность Линь Бяо не сразу стала очевидной для политработников, привыкших воспевать его как самого прогрессивного из коммунистических лидеров, необходимо было выставить его на порицание вместе с философом, чьи доктрины после Культурной революции нельзя было считать ничем иным, кроме наглядного образчика реакционности. Принцип, заимствованный из баллистики и знакомый всем китаеведам, был прост: наводи на дальнюю цель, чтобы поразить ближнюю. Двойной лозунг официальной кампании «Против Линь Бяо — против Конфуция» вызвал предсказуемый выброс пара в кружках марксистов и отвлек внимание от довольно таинственной кончины и опалы злосчастного маршала Линя [5].
В минувшем столетии, столь богатом на революции (националистическая, коммунистическая, культурная, рыночно-социалистическая), ревизионистам порой приходилось изрядно поторопиться, чтобы успеть за событиями. Впрочем, их затруднения не новы. Не¬
17
ВВЕДЕНИЕ
обходимость постоянно пересматривать, перерабатывать, заново интерпретировать и дополнять исторические хроники с незапамятных времен ложилась бременем на каждое следующее китайское правительство. В периоды смены династий это бремя становилось особенно тяжелым, но даже в золотую эпоху Тан (618-907) управление историей оценивалось с политической точки зрения так же высоко, как сегодня управление экономикой. Историография была не отвлеченным научным времяпрепровождением, но жизненно важной функцией правительства. Глава управления историографии занимал в имперской бюрократии не последнее место, пользовался всеми льготами и привилегиями высокого положения и имел в подчинении обширный штат высококвалифицированных служащих, производивших обильную бумажную работу (до определенного времени «бумажную» в переносном смысле, поскольку самой древней разновидностью писчего материала были бамбуковые планки).
Анализ официальной историографии эпохи Тан показал, к каким кропотливым методам компиляции прибегало управление историографии, чтобы расширить исторические хроники, опираясь на близкие по времени источники [6]. На первом этапе материалы добывали из официальных судебных журналов и административных записей, дополняя их документами различных правительственных ведомств. Так возникла подборка официальных протоколов под названием «Ежедневный календарь»1. Затем из ежедневных календарей извлекали самое существенное и переносили в годичные достоверные отчеты2, на основании которых создавали государственную историю3 одного правления за другим, а те, в свою очередь, служили основой для утвержденной истории4 каждой империи.
1 Так называемые жилй, первые сведения о которых относятся к IX веку н. э.
2 Вероятно, автор имеет в виду шилу («правдивые записи»), которые начали составляться в VI веке н. э. Самые старые из сохранившихся шилу относятся к IX веку н. э. Обычно шилу составляли после конца правления монарха.
3 Возможно, автор подразумевает хуэйяо («собрание важнейшего»), первая из которых была составлена в начале IX века и описывала историю империи Тан от основания до времени составления труда.
4 Имеются в виду чжэнши — официальные или династические истории. Они обычно писались после конца существования того или иного государства, чей правитель считался достойным претендовать на императорский трон, и утверждались правящим монархом. Существует 24 истории такого типа. Схема ис- ториописания, описанная автором, верна, но такой сложный, ступенчатый
18
ВВЕДЕНИЕ
Разумеется, подобный накопительный подход подразумевал множество повторений, и хотя (пожалуй, и к лучшему) до нас дошла лишь часть этих материалов, утраченное можно в какой-то мере восстановить по цитатам из других мест. Учитывая возможность компилировать параллельную документацию властей многочисленных провинций, учитывая существование разного рода неофициальных текстов, а также тенденцию снабжать все эти материалы комментариями и ссылаться на них при составлении энциклопедий, антологий, биографических словарей и прочих внушительных компендиумов, никак нельзя утверждать, будто история Китая недостаточно документирована.
ЧЕРНАЯ РАБОТА
Следовательно, и нам не нужно извиняться за стремление подбросить в этот курган эрудиции еще одну лопату материала. Мы лишь питаем надежду сделать историю Китая более доступной и вместе с тем более внятной и связной.
Подборки официальных и неофициальных документов почти целиком связаны с деятельностью правящей знати Китая и доступны нам лишь в той готовой отредактированной форме, которую им придала знать. Более захватывающая добыча, извлеченная непосредственно из китайского ландшафта и не затронутая научной переработкой, раньше ценилась на вес золота. В начале XX века, после того как европейские археологи наткнулись на занесенные песками древние буддийские святилища вдоль Шелкового пути в провинциях Ганьсу и Синьцзян, ученых охватила настоящая золотая лихорадка: музеи Британии, Франции, Германии и России1 стремились заполучить свою долю из последней (как тогда предполагали) великой сокровищницы китайского искусства2. Но «золотая жила» на Шелковом
механизм функционировал далеко не всегда, а только в правление наиболее устойчивых и при этом заинтересованных в историописании империй Средневековья и Нового времени.
1 К списку стоит добавить Японию.
2 Находки в Восточном Туркестане относятся далеко не только (и даже не столько) к сокровищам китайской культуры, сколько к наследию других культур этого региона, тесно связанных как с Китаем, так и с Индией, Тибетом и Центральной Азией. До указанных находок про эти богатые и самобытные культуры не было известно практически ничего.
19
ВВЕДЕНИЕ
пути оказалась лишь предвестницей подлинного археологического взрыва. Позднее, в XX веке, на свет были извлечены гадательные кости Аньяна, Таримские мумии, множество неолитических стоянок, сенсационная «терракотовая армия» и императорские гробницы эпохи Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. а). История Китая, и без того достаточно долгая, с каждым годом становилась все длиннее. Существующие данные требуют постоянного обновления, а новые открытия стали теперь столь некстати изобильными, что за время, отделяющее раскопки от публикации их результатов, неоконченные труды, такие как эта книга, имеют риск безнадежно устареть.
«Начиная раскопки на просторах Великой Китайской равнины или на севере провинции Чжэцзян, где с древнейших времен располагались центры китайской цивилизации, — писал Эрик Цюрхер в 1950-х гг., — трудно хоть что-нибудь не найти» [7]. Работы Цюрхера посвящены распространению буддизма в IV-V веках. Приверженцы новой веры обладали поразительной способностью отыскивать в китайской земле буддийские реликвии, когда противники начинали критиковать иноземное (индийское, а не китайское) происхождение их религии. Такие находки не только гипотетически подтверждали длительность существования буддизма в Китае, но и считались в высшей степени благоприятными знаками. Если упадок императорской династии обычно сопровождался рядом дурных знамений (наводнение, засуха, нашествие саранчи и т. д.), то о возвышении новой династии сообщала череда благоприятных предзнаменований, из которых самым ценным считалась находка какого-нибудь стародавнего артефакта. Поскольку древность так высоко ценилась сама по себе, обнаружение, скажем, урны бронзового века явно означало благоволение Небес к той новой ветви правления, которая претендовала на ее открытие.
Не исключено, что подобные представления были по-прежнему сильны и влияли на работу китайских археологов даже в середине XX века. Национальное возрождение, возникшая в 1912 г. Китайская Республика и Китайская Народная Республика, начавшая существование в 1949 г., требовали исторической легитимации. Ученые и чиновники, выросшие на классических историях и подогреваемые духом национального возрождения, знали, что искать истоки китайской цивилизации следует на севере страны. Все ресурсы были направлены туда, и, как справедливо заметил Цюрхер, работа археологов в этом регионе вряд ли могла остаться невознагражденной. К всеобщему
20
ВВЕДЕНИЕ
удовольствию, раскопки действительно позволили получить обширные доказательства существования и древности китайской цивилизации в северных провинциях, особенно в бассейне реки Хуанхэ, что совпадало с данными древнейших текстов и исторических хроник. И только завзятые скептики, в основном живущие за пределами Китая, задавались вопросом: если бы столько же внимания и ресурсов было уделено другим областям, например бассейну Янцзы или югу, разве это не принесло бы сопоставимых по ценности находок, способных уравновесить «перекос к северу» в древнекитайской истории?
Время доказало справедливость этих сомнений. К концу XX века расширение археологической деятельности шло рука об руку со стремительным ростом экономики. Появились финансовые возможности для проведения широкомасштабных раскопок, и поскольку во многих областях шли обширные земляные и строительные работы, археологические находки посыпались как из рога изобилия. Но еще острее стал вопрос изучения и сохранения найденных материалов. Механический экскаватор мог в считаные минуты поднять из земли то, что археологи с лопатами искали годами — но с такой же скоростью он мог уничтожить находку.
Типичный случай произошел в ходе расширения больницы в г. Ма- вандуе на окраине Чанша, столицы южной провинции Хунань. Строительство нового крыла больницы «случайно потревожило» соседний курган, на который археологи обратили внимание еще в 1950-е гг. [8]. Дело было доведено до сведения властей провинции, и, получив приказ о немедленном проведении раскопок, группа археологов во френчах «как у Мао» спустилась на место и обнаружила там одну из величайших сокровищниц современности. Были найдены три огромные гробницы, датированные II веком до н. э. В каждой из них находилось несколько вложенных друг в друга монументальных саркофагов — в одном оказалось хорошо сохранившееся женское тело и самые древние в Китае карты и образцы живописи на шелке. Были открыты тексты — ранние версии произведений китайской классики — и множество артефактов, одеяний, символов власти, лаковых изделий и изделий из нефрита, оружия и погребального инвентаря, которых оказалось достаточно, чтобы оправдать постройку в Чанша грандиозного нового музея и наполнить его экспонатами. В 1983 г. еще в одном кургане, на этот раз в центре Гуанчжоу (Кантон), столицы соседней провинции Гуандун, были найдены великолепные гробницы того же пе¬
21
ВВЕДЕНИЕ
риода, что спровоцировало превращение археологической площадки в своеобразный музей в нескольких минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала. В Гуанчжоу в ходе расчистки площадки для строительства торгового центра недавно были обнаружены самые старые в мире деревянные шлюзы возрастом две тысячи лет. Сейчас они комфортно вписаны в сверкающую архитектуру торгового центра — их можно осмотреть, спустившись на лифте на этаж В1.
Многочисленные находки вдали от предполагаемого центра древнекитайской цивилизации в бассейне реки Хуанхэ призывают к радикальной переоценке сложившихся представлений об облике Китая на рубеже нашей эры. Но хотя сообщения о новых открытиях поступают еженедельно, подобной смелой переоценки пока еще сделано не было. «Кембриджская история Древнего Китая», опубликованная в 1999 г., открыто признала свое поражение. Не имея возможности увязать литературные источники с новыми материальными источниками (или найти автора, готового этим заниматься), редакторы пошли на компромисс и представили некоторые периоды параллельными главами, одна из которых опирается на письменные источники, а другая — на археологические находки. Иногда они согласуются друг с другом, иногда нет. Древняя история Китая пока еще ждет того, кто сможет ее убедительно переписать.
КОЛЫБЕЛЬ, ОСНОВА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
Наша книга вносит в решение этой задачи лишь скромный вклад, поскольку она предназначена для удовлетворения гораздо более насущной потребности — представить читателю обзор истории Китая, для понимания которого не требуется предварительное знакомство с темой или знание китайского языка. Имеющаяся литература на английском языке заставляет заподозрить существование международного сговора (если не сказать — заговора), цель которого — сделать этот предмет как можно более сложным и непонятным. Отчасти это обусловлено научной конкуренцией колониальной эпохи, и мы еще поговорим о ней отдельно; история Китая достаточно длинна, а культура и без того достаточно сложна. Возможно, от читателей это потребует некоторого напряжения, но я искренне надеюсь, что в итоге их усилия будут вознаграждены сполна.
22
ВВЕДЕНИЕ
Не менее прискорбны, чем научная путаница, и те бездны невежества, из глубин которых иностранцы пытаются судить об истории Китая. Многие могут перечислить с полдюжины римских императоров, но мало кто способен назвать хотя бы одного китайского монарха. Столкнувшись с чередой китайских имен собственных, записанных латиницей, носители индоевропейских языков испытывают нечто вроде избирательной дислексии: все эти имена кажутся им совершенно одинаковыми. Разумеется, в основе проблемы лежит чужеродность китайских наименований, особенно когда речь заходит об общепринятых вариантах перевода географических и хронологических терминов. Преодолеть проблему помогает прилежание и длительное приобщение к предмету, и, рискуя вызвать недовольство у тех, кто уже оставил эти трудности позади, мы далее приводим полезные вводные данные (в сопровождении таблиц).
С административной точки зрения современный Китай делится на двадцать восемь провинций1. Некоторые из них возникли относительно недавно, но так или иначе занимаемые ими области претерпели определенные изменения. Однако большинство из них имеют долгую историю, поэтому имеет смысл использовать провинциальную терминологию ретроспективно, чтобы обеспечить китайскую историю географическими рамками на всем ее протяжении.
К счастью, в названиях провинций нередко содержатся полезные подсказки относительно их местоположения. Бэй, дун, нань и си по-китайски значит «север», «восток», «юг» и «запад», а гиань переводится как «гора». Таким образом, название Шаньдун («Гора-восток») носит провинция к югу от Пекина, занимающая часть материка и полуостров с изрезанной береговой линией. Первоначально она уходила в глубь материка до растянувшегося с севера на юг горного хребта Тайханшань — отсюда название «к востоку от горы», или «Гора-восток». Согласно той же логике, название Шаньси («Гора-запад») носит провинция, аналогичным образом расположенная к западу от хребта Тайханшань.
1 Вернее, на двадцать три провинции (если считать вместе с Тайванем), пять автономных районов, четыре города центрального подчинения и два специальных административных района. Автор объединяет провинции с автономными районами и исключает города центрального подчинения (Пекин, Чунцин, Шанхай и Тяньцзинь) и специальные административные районы (Гонконг / Сянган и Макао / Аомынь).
23
ВВЕДЕНИЕ
Западнее Шаньси находится провинция с очень похожим названием — Шэньси (в нем отражено положение к западу от района под названием Шэньчжоу). Все три провинции примыкают или когда-то примыкали к блуждающей реке Хуанхэ1. То же касается вклинившейся между Шаньдуном и Шаньси провинции Хэбэй («Река-север», где под рекой по-прежнему подразумевается Хуанхэ). Разумеется, провинция, расположенная к югу от реки, носит название Хэнань («Река-юг»), хотя из-за того, что река так часто меняла курс, небольшая часть Хэнани теперь находится на северном берегу. Эти пять северных провинций (Хэнань, Хэбэй, Шэньси, Шаньси и Шаньдун) занимают всю территорию плодородной пойменной долины нижнего бассейна Хуанхэ, где, согласно письменной традиции, разворачивались главные события древнейшей истории Китая. Эти провинции традиционно считались колыбелью китайской цивилизации и находились в центре внимания археологов с середины XX века.
К югу от Хэнани расположена еще одна пара провинций-близ- нецов. В случае Хубэя и Хунани Ху обозначает великое «озеро» или «озёра», в которые Янцзы разливается перед тем, как выйти на побережье. Таким образом, эти две провинции лежат соответственно к северу и к югу от великих озер, то есть, грубо говоря, к северу и к югу от самой Янцзы. Далее на юг, замыкая стержень сердцевинного Китая, идут Гуандун и гуанси.Гуан означает что-то вроде «расширенная (южная) территория». Эти две «расширенные» провинции на крайнем юге лежат соответственно на востоке (-дун) и на западе (-си) друг от друга. За ними в Южно-Китайском море находится островная провинция Хайнань (букв, «к югу от моря») — самая южная часть страны.
Возвращаясь через побережье на север к полуострову Шаньдун, мы видим провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу, а также соседние Цзянси и Аньхой — они меньше, и их названия не так явно связаны со сторонами света. В некоторых названиях есть отсылки к направлению, но большинство образованы путем объединения названий двух и более важных центров. Так, название Фуцзянь объединяет в себе портовую столицу Фучжоу и Цзяньнин, город у внутренней границы Фуцзяни [9]. Между прочим, окончание -чжоу когда-то обозначало «островок», условно заселенный «китайцами», на территории неосво¬
1 Хуанхэ, несущая свои крайне богатые илом воды по плоской равнине, зарекомендовала себя как река, крайне склонная к изменению русла.
24
ВВЕДЕНИЕ
енной области, затем один из районов такого поселения, а теперь чаще всего главный город региона. И наконец, очевидно, что название города Пекин (Бэйцзин), мегаполиса центрального подчинения в провинции Хэбэй, переводится как «северная столица», а Нанкин (Наньцзин) на реке Янцзы в провинции Цзянсу — как «южная столица», каковой она и была до 1937 г. \
Все провинции, упомянутые до этого, а также провинцию Гуйчжоу на юго-западе и обширную Сычуань, занимающую большую часть верхнего бассейна Янцзы, иногда называют центральной, внутренней или «основной» областью Китая. Впрочем, термины «центральная» и «внутренняя» довольно противоречивы, поскольку никакие различия между центром и периферией, или внутренним и внешним Китаем, нельзя считать физически убедительными, исторически последовательными или политически обоснованными. Однако эта формулировка может оказаться полезной, если мы хотим отделить семнадцать плодородных, густонаселенных и давно интегрированных «основных» провинций, о которых говорилось выше, от традиционно менее плодородных, менее населенных и менее исторически интегрированных провинций, лежащих ближе к границам современного Китая2.
В эту последнюю категорию входят остальные одиннадцать провинций, многие из которых представляют собой обширные территории с резкими природными контрастами и непростой репутацией. Тайвань, длинный остров у побережья Фуцзяни, когда-то был известен европейцам под названием «Формоза». Впоследствии он был отчужден от Китая в ходе японской оккупации в первой половине XX века и националистической оккупации во второй половине XX века3. Расположенная на юго-западе провинция Юньнань, удален¬
1 Нанкин был столицей империи Мин с 1368 до 1421 г., а затем, с 1927 до 1937 и с 1946 до 1949 г., — столицей Китайской Республики. Более того, с 1940 по 1945 г. город был столицей прояпонского режима Ван Цзинвэя, претендовавшего на место единственного легитимного правительства Китая.
2 Основным критерием при разделении «внутренних» и «внешних» провинций, конечно, необходимо считать не их населенность или плодородие, а время вхождения в состав китайского государства, и, соответственно, удельную важность некитайских элементов в культуре населения той или иной провинции.
3 Японскую оккупацию, длившуюся более полувека (которой остров обязан высоким уровнем развития инфраструктуры), далеко не все согласны отождествлять с последовавшим за ней периодом восстановления китайской власти Гоминьдана, пусть зачастую и довольно репрессивной.
25
ВВЕДЕНИЕ
ная от Тайваня примерно так же, как Техас от Флориды, тоже всегда имела непростые отношения с остальной страной. Эта провинция оседлала климатическую границу между тропической Юго-Восточной и засушливой Центральной Азией — в ее лесах встречаются слоны, а на высоких перевалах фыркают яки.
Дальше на северо-запад открываются бескрайние пустоши под лазурным небом — Цинхай и Сицзан, вместе занимающие обширную область горного плато и за пределами Китая некогда известные как Тибет. Сегодня слово «Тибет», как правило, ассоциируется только с Тибетским автономным районом. К северу и снова на запад остается Синьцзян — самая большая и самая отдаленная из всех китайских провинций, по большей части пустынная, хотя далеко не пустующая. Китайцы когда-то называли ее «западными регионами», а жители других стран — Восточным или Китайским Туркестаном. Нынешнее название переводится просто как «новые территории» (Синъ-цзян), но местные активисты (в основном тюркоязычные уйгуры-мусульмане) предпочитают название «Уйгуристан».
Возвращаясь на восток вдоль северной границы Китая, мы видим вытянутую провинцию Ганьсу и крошечную Нинся1 — усыпанные оазисами маршруты, ведущие из «основных» провинций соответственно в Синьцзян и Монголию. Зажатый между болотами Цинхая2 и песками Гоби, ведущий с востока на запад «коридор Ганьсу» стал в китайской историографии таким же клише, как «Тибетское плато». Нинся, ориентированная по оси с севера на юг, идет вдоль верхнего течения реки Хуанхэ и вдается в соседнюю провинцию Внутренняя Монголия3. Внешняя, или Северная, Монголия не является частью сегодняшнего Китая; ее граница длинной дугой делит пополам пустыню Гоби с востока на запад, оставляя за Китаем все земли к югу. Пески и степи Внутренней Монголии, таким образом, исполняют роль естественных укреплений оборонительной «длинной стены», вошедшей
1 Нинся «крошечная» по китайским меркам — по площади (66400 кв. км.) она чуть меньше Грузии, а по населению (6,5 млн чел.) — больше Ливии и лишь немного уступает Болгарии.
2 Цинхай (тиб. Амдо) известен не только болотами, но и огромным эпоним- ным соленым озером Кукунор (кит. Цинхай) и суровыми высокогорьями, харак-, терными для Тибетского плато, северной частью которого является этот регион.
3 Формально Тибет, Синьцзян, Нинся, гуанси и Внутренняя Монголия — не провинции, а автономные районы.
26
ВВЕДЕНИЕ
в Великую Китайскую стену. Северная граница Внутренней Монголии — самая длинная международная граница Китая, а ее южная граница проходит вдоль восьми китайских провинций — Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэбэй и трех провинций бывшей Маньчжурии.
Эти последние, в северо-восточном углу, который раньше назывался Маньчжурией (или по-японски Маньчжоу-го1), названы в честь рек. Название самой северной провинции, Хэйлунцзян, совпадает с китайским названием реки Амур, вдоль которой проходит российско-китайская граница. Название расположенной южнее провинции Цзилинь происходит от маньчжурского слова «вдоль (реки Сунгари)»2. Она граничит с Северной Кореей. Ляонин к юго-западу названа в честь реки Ляохэ, она примыкает к провинции Хэбэй и на 300 километров удалена от Пекина. На юг через залив Бохайвань Ляонин обращена к полуострову провинции Шаньдун.
На этом заканчивается кольцо из одиннадцати периферийных провинций, внутри которого лежат семнадцать центральных провинций, из которых пять самых северных составляют область «колыбели». Завершают административную мозаику различные мелкие образования, такие как городские округа Пекин и Шанхай3, и обладающие особым статусом анклавы Гонконг и Макао. Кроме них следует упомянуть многочисленные автономные образования — области этнических меньшинств: автономные округа в составе провинций либо автономные области, включающие в себя провинцию целиком, как Тибет.
Мы допускаем, что существует более наукообразный подход к изучению географии Китая. На континентальной массе суши размером примерно с Соединенные Штаты Америки и расположенной примерно на той же широте (Тропик Рака, касающийся Флорида-Кис, как раз проходит около Южного Китая) можно найти немало похожих природных условий. Благодаря большой разнице крайних значений температур и высот здесь встречаются и засушливые, и тропические
1 Так принято называть зависимое от Японии государство, созданное в 1932 г. и уничтоженное в 1945 г. Это редкий случай буквальной фонетической передачи китайского (а не японского) топонима «Маньчжурия».
2 Маньчжурское «Гйрин ула» переводится как «вдоль реки»: под рекой подразумевается Сунгари. Китайское название Цзилинь (букв. «Благовещий лес») является фонетической калькой первой половины маньчжурского слова.
3 К ним стоит добавить Тяньцзинь — «морские ворота» Пекина, а также Чунцин к востоку от Сычуани.
27
ВВЕДЕНИЕ
регионы, болотистые почвы сменяются песчаными дюнами и степями, а пышная растительность уступает место ее полному отсутствию.
Что касается системы расселения, лучше всего разобраться в ней поможет карта рек и гор, хотя на территории Китая вы не найдете аккуратного чередования прерий, пустынь, гор и прибрежных районов, как в Северной Америке. Большинство рек Китая устремлены с запада на восток, от сухих возвышенностей Цинхая и Тибета к влажным равнинам на побережье. Между Хуанхэ на севере и Янцзы в центре страны есть еще две реки — Ханьхэ, главный приток последней, и Хуайхэ, на некоторых участках объединяющаяся с первой, которые соблюдают ту же тенденцию. Так же ведут себя и реки южнее Янцзы, которые собираются в гуанси и Гуандуне, чтобы сформировать устье реки Чжуцзян, близ которой расположен Гонконг. Все эти реки, однако, текут в нужном направлении самым причудливым образом. Янцзы, спускаясь с природных твердынь Тибета, поворачивает зигзагами на юг в сторону Вьетнама, а затем обратно на север в Сычуань; Хуанхэ выполняет нечто вроде сальто-мортале, изгибаясь дугой в сторону Монголии и обратно.
За всю эту акробатику отвечают горы. Многократно запечатленные на фотографиях карстовые образования на юге, гигантские Гималаи, суровый Памир и скромный Тянь-Шань, а также многочисленные не столь знаменитые горные хребты пересекают обширные области страны и вносят радикальные поправки в утверждение, будто все реки в конечном итоге спокойно соединяются на покрытых бурной растительностью прибрежных равнинах. За некоторыми исключениями (например, дельта Янцзы), прибрежные районы Китая на самом деле довольно неровные. То же касается и южных провинций. Наоборот, в Сычуани, окруженной собственными горами, глубоко внутри страны над обрывами Янцзы, находятся самые плодородные равнины Китая и проживает самое многочисленное на сегодняшний день население.
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Если к исторической географии Китая можно найти множество подходов, то в отношении хронологии таких возможностей не существует. Течение времени и протяженность пространства были внимательно изучены и педантично упорядочены уже в Древнем Китае.
28
ВВЕДЕНИЕ
В истории Индии до IX веке н. э. едва ли найдется хоть одна бесспорная дата1, зато история Китая пестрит датами, которые легко можно проверить по календарю затмений, вплоть до IX века до н. э.; при этом указан может быть не только год, но и месяц, день, а иногда даже час2. Согласование часов и календарей с суточными, планетарными и астральными циклами было необходимым условием космической гармонии, а потому представляло собой главную заботу всех китайских правителей. История в буквальном смысле показывала время: годы царствования отсчитывали минуты, династии отбивали часы. Поэтому при анализе многотысячелетней китайской истории предпочтение неизменно отдавали периодизации, опирающейся на последовательность династий.
Основать династию, правители которой будут принимать власть по праву рождения и позаботятся о гробницах и репутации основателя и его преемников, стремился каждый потенциальный властитель, даже если он был самозванцем, узурпатором или иноземным захватчиком. На императорское звание нередко претендовали даже мятежные крестьяне. В китайской истории насчитывается больше сотни самопровозглашенных императорских династий3. Но в действительности реализовать свои амбиции, хотя бы отчасти или на время, смогли лишь десятки, и немногие из них удостоились благосклонности историков и были включены в «законную» последовательность правителей Китая.
Единых критериев включения в эту августейшую компанию не существовало. До 221 г. до н. э. династии состояли из царей4 и только после этого из императоров. Ни одна из царских и императорских династий не пользовалась неоспоримым авторитетом. Даже неко¬
1 Время пребывания в Индии Александра Македонского хорошо известно — с 327 по 325 г. до н. э.; достаточно надежно реконструирована и хронология династии гуптов.
2 Обилие дат далеко не всегда говорит о точности знаний — часто даже наоборот. К сожалению, большинство дат, содержащихся в древнекитайских летописях, верификации не поддаются.
3 Стоит указать, что многие «династии» могли состоять из одного правителя, бывшего и первым, и последним их представителем.
4 Царями (ванами) правители древнекитайских княжеств стали именовать себя довольно поздно, не ранее IV века до н. а, до этого титул царя мог носить лишь один правитель — Сын Неба, чжоуский ван, а его вассалы носили разные княжеские титулы низшего ранга.
29
ВВЕДЕНИЕ
торые «законные» императорские династии контролировали лишь половину (или меньше) территории, в то время считавшейся Китаем. Поэтому их правление может совпадать по времени с правлением еще одной «законной» династии в другой части страны1. Тем не менее наличие единой «законной» империи в любой момент времени было общим правилом, и если просуществовавшие достаточно долго и правившие обширными территориями династии, предпочтительно благородного коренного происхождения, могли рассчитывать на включение в «законную» преемственность, недолговечным локальным государствам иностранного или просто незавидного происхождения оставалось об этом только мечтать2.
Последовательность из двадцати или около того «законных» династий, не говоря уже о доброй сотне отдельных правителей, из которых они складываются, — все еще слишком большой и неудобный для усвоения кусок материала. Дело усугубляется тем, что иногда одни государства принимали имя других, славу которых, по их собственному утверждению, они стремились возродить3. В таких случаях к названию династии обычно добавляется географическая или хронологическая подсказка: Восточная Чжоу, Северная Вэй и т. д.; Ранняя Хань, также известная как Западная Хань, и Поздняя Хань, также известная как Восточная Хань.
К счастью, некоторые государства добивались определенной устойчивости: они сохраняли свои позиции по сто и более лет и успевали прославиться объединением земель, военными походами, политической стабильностью, культурными достижениями и роскошью.
1 Важным аспектом этой сложной системы было то, что зачастую «законность» притязаний того или иного правителя на императорский трон определялась только постфактум — в бурные времена на территории Восточной Азии могла одновременно править дюжина «императоров», каждый из которых полагал себя единственным законным Сыном Неба, а остальных — жалкими самозванцами.
2 Из этого правила есть много исключений. Например, в X веке последовательно правили три государства — Поздняя Тан, Поздняя Цзинь и Поздняя Хань, каждое из которых правило всего несколько лет, контролировало не слишком большую часть Северного Китая, и, более того, правители их были тюрками- гиато. Тем не менее именно эти малореспектабельные правители были признаны единственными законными «императорами» того времени, несмотря на наличие современных им более сильных китайских государств.
3 Нередко наименования государств также были связаны с наименованием областей, из которых началось восхождение к власти их правящего дома.
30
ВВЕДЕНИЕ
Пять самых продолжительных империй (каждая из них существовала три-четыре столетия) составляют великое плато китайской истории, и их стоит запомнить. Для этого могут пригодиться отсылки к империям, существовавшим в это же время в других странах.
ХАНЬ (Ранняя и Поздняя), 202 г. до н. э. — 220 г. н. э., существовала во времена Римской республики и ранней Римской империи.
ТАН, 618-907 гг., существовала во времена расширения Арабского халифата.
СУН (Северная и Южная), 960-1279 гг., существовала во времена Крестовых походов1.
МИН, 1368-1644 гг., существовала во времена ранней Османской империи и империи Великих Моголов.
ЦИН (или Маньчжурская империя), 1644-1912 гг., существовала во времена европейской глобальной экспансии.
Кроме того, мы познакомимся со многими другими примечательными государствами. По иронии судьбы та из них, которой удалось почти вплотную подойти к воплощению хвастливого лозунга китайских императоров, якобы правивших «всей Поднебесной», была вовсе не китайской, а монгольской. Это была империя Юань (1279-1368), при одном из правителей которой нашел работу венецианец Марко Поло.
Некоторые государства просуществовали одно-два десятилетия и едва ли заслуживают упоминания. Другие, хотя и недолговечные, кардинально изменили ход китайской истории. Такой была империя Цинь (221-206гг. до н.э.). Ее основатель первым установил хрупкое единство во всей «сердцевине» Китая и первым принял титул хуанди — императора2. По сути, в историю он вошел под этим титулом — Цинь Ши-хуанди, то есть Первый император Цинь. Словно две почти одинаковые подставки для книг, на обоих концах хронологической полки стоят Цинь, первая и одна из самых коротких империй, и Цин, последняя и одна из самых долгих.
1 Крестовые походы начались в конце XI века. Возникновение империи Сун почти совпало с провозглашением Священной Римской империи германской нации Оттоном I в 962 г.
2 Этот титул, в дальнейшем ставший привычным обозначением императора, во времена его создания явно отсылал к божественной сфере и означал что-то вроде «августейший божественный правитель-первопредок».
31
ВВЕДЕНИЕ
Если бы все остальные императоры последовали превосходному примеру Цинь Ши-хуанди и тоже правили под своим царственным номером — Первый, Второй, Третий и т. д., — немалой путаницы можно было бы избежать. К сожалению, этот обычай не прижился. Хотя императоры и цари, носящие одинаковые имена, встречаются в Китае довольно часто, их никогда не различают по номерам, как французских Людовиков или английских Георгов. Не существует и общего правила относительно того, какое из имен императора в итоге останется в истории. Личные имена явно считаются слишком личными1, поэтому выбирать приходится из различных благоприятных титулов, которые император получал в течение жизни и после смерти. В одних династиях императоров принято обозначать храмовыми именами, в других предпочитают посмертные имена2, а в империях Мин и Цин на императоров распространяются названия (девизы) разных периодов правления. Это объясняет мнимую аномалию цинского императора, который правил невероятно долго (1735-1795) и носил храмовое имя Гао-цзун, а в историю вошел как «император Цяньлун», то есть «император периода Цяньлун» (называть его просто «император Цяньлун» все равно что называть Мао Цзэдуна «Председатель Большой скачок»).
В этой книге мы для удобства будем называть императоров теми именами, которые получили самую широкую известность. Кроме того, исключительно в виде напоминания перед именем каждого из них будет курсивом обозначена династия, к которой он принадлежал, — например, «Сунский Жэнь-цзун» или «император Цин Цяньлун».
ПЯТЬ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ
ХАНЬ ТАН СУН МИН ЦИН
400 г. 200 до н. э.
Г I 200 400
I
I
600
800
1000 1200 1400 1600 1800
2000 г. н. э.
1 Это одно из многих наследий, полученных современным китаеведением от традиционного: старые авторы не считали возможным именовать правителей их личным именем, которое было настолько строго запрещено к использованию при их жизни, что даже входившие в него знаки были табуированы.
2 Храмовые имена также выбирались посмертно.
32
ВВЕДЕНИЕ
ТРИУМФ пиньиня
К сожалению, лишь немногие из этих имен покажутся знакомыми людям, уже читавшим работы по истории Китая на английском языке. Из всех вариантов передачи китайских иероглифов1 латиницей за последние тридцать лет изменилось около 75%, часто почти до неузнаваемости2. В конечном итоге это перемены к лучшему, хотя в настоящее время они создают немало проблем и путаницы.
Раньше китайские слова транскрибировали на английский с помощью системы Уэйда — Джайлса, названной в честь двух ее создателей, живших в XIX веке. Систему Уэйда — Джайлса вряд ли можно назвать простой и ясной — кроме букв в ней было множество диакритических знаков (дефисов, одиночных кавычек и пр.). Что еще хуже, она была далеко не универсальной. В США была распространена другая система, а в других европейских языках существовали собственные системы. Сказать, что языковедение мало чем могло помочь человеку, решившему изучать Китай, было бы преуменьшением. Стандартизация стала насущной необходимостью.
Но поскольку китайская система письма не относится к алфавитным, то есть слова в ней не складываются из отдельных букв, соотнесение ее с существующими алфавитными системами всегда вызывало затруднения. И если арабскую вязь можно воспроизвести по буквам с помощью латинского алфавита, не уделяя особого внимания тонкостям произношения, то безбуквенное китайское письмо можно записать латиницей, только подобрав для каждого отдельного слова похожий набор звуков, то есть ориентируясь на произношение слова, а не на знаки, которыми оно записано. И это создает дополнительные проблемы. С помощью латиницы невозможно обозначить пять тонов, существующих в китайском языке. Многие китайские слова, которые выглядят по-разному, когда их пишут китайскими иерогли¬
1 Термин «иероглиф», утвердившийся в русскоязычной литературе для обозначения знаков китайского письма, не слишком удачен, поскольку неинформативен (буквально переводится как «священные письмена») и создан греками для обозначения египетского письма. Точнее термин «фоноидеограмма» — знак, передающий звучание и смысл слова.
2 Русская транскрипция Палладия (не лишенная недостатков, но в целом довольно удачная), к счастью, сохранилась, и отмеченного автором разнобоя в русскоязычной литературе нет.
33
ВВЕДЕНИЕ
фами, читаются одинаково, когда их звучание пытаются передать на английском. Например, имена двух императоров Тан на китайском пишутся совершенно не похожими иероглифами, но в латинской транскрипции оба носят одно и то же имя — Сюань-цзун.
Хуже того, китайские иероглифы в разных областях Китая произносятся no-разному. Все грамотные китайцы умеют читать иероглифы, и на всей территории страны принята единая система письма. Но жители разных регионов читают написанные иероглифы вслух согласно собственному местному или региональному диалекту. Поэтому незнакомцы в поезде вполне могут читать одну газету, но не могут обсудить ее друг с другом. Иностранцы, в основном европейцы, в большом количестве начавшие прибывать на побережье Китая в конце XVI века, обнаружили, что разговорный китайский намного проще, чем письменный. Недавно авторитетный источник установил, что англоговорящим студентам научиться говорить по-китайски на 20% сложнее, чем научиться говорить по-французски, а освоить навык чтения и письма на китайском в пять раз сложнее, чем читать и писать по-французски. Иностранные ученые, вооруженные быстро освоенным разговорным китайским, энергично приступили к переложению письменных иероглифов на свои языки, опираясь на китайское произношение, с которым они успели познакомиться. Увы, проблема заключалась в том, что это произношение было распространено только в провинциях Гуандун и Фуцзянь, которыми в те времена были ограничены все контакты с иностранцами. Там говорили на кантонском диалекте (Кантон = Гуанчжоу, столица провинции iy- андун) и хакка и хокло, языках жителей провинции Фуцзянь. Остальные китайцы, проживавшие в бассейне Янцзы и на севере, с трудом разбирали эту речь, потому что в основном пользовались так называемым мандаринским диалектом1. Вполне естественно, что северяне возмутились, обнаружив, что даже их географические названия неверно переведены и ошибочно произносятся.
Вдобавок было еще одно осложнение. Иностранцы, о которых идет речь, прибывали из Португалии, Испании и Италии, затем из Гол¬
1 «Диалекты» китайского языка делятся на семь (в других классификациях — до 14) групп, и разница между этими группами обычно больше, чем между разными языками иных языковых семейств — например индоевропейской, и они обычно не допускают устного взаимопонимания. Поэтому, в сущности, во многих случаях правильнее говорить о языках, а не о диалектах.
34
ВВЕДЕНИЕ
ландии, Англии, Франции, Америки и России. В каждом из этих языков определенные гласные и согласные читаются иначе. Например, «J» по-испански произносится одним образом, по-французски другим, а по-английски третьим1. Любое переложение китайской речи должно было принимать во внимание эту разницу — отсюда и разнообразие систем латинизации с учетом особенностей отдельных европейских языков, отсюда и абсурдность попыток создать систему транскрипции китайских иероглифов, в действительности представлявшую собой попытки воспроизвести на английском, французском, испанском и т. д. китайский региональный говор, бывший в ходу лишь у провинциального меньшинства китайской нации2.
Чтобы стандартизировать воспроизведение звучания китайских иероглифов во всех алфавитных языках и покончить с этим хаосом, в 1950-е гг. была разработана еще одна система. Это был пиньинь. Китай в то время во многом зависел от технической помощи Советского Союза, и к этой задаче были привлечены русские ученые. Первоначально рассматривалась возможность положить в основу пиньиня не латинский, а русский кириллический алфавит, но с конца 1950-х пиньинь перешел на латиницу3. И только после активного продвижения и вступления Китайской Народной Республики (КНР) в ООН в 1971 г. он завоевал международное признание. В 1980-е гг. пиньинь стал общепринятым, а в 1990-е его использовали в большинстве иностранных работ, посвященных Китаю (хотя далеко не во всех). По всему Китаю пиньинь преподавали и демонстрировали, пусть и с оглядкой, наряду с традиционными китайскими иероглифами, и вполне вероятно, в один прекрасный день он сможет полностью их вытеснить4.
1 То есть [х], [ж] и [дж] соответственно. — Прим. ред.
2 Весь китайский язык до недавнего времени состоял из таких «провинциальных меньшинств» из-за отсутствия официального государственного языка или даже какого-либо диалекта, на котором говорило бы большинство населения.
3 Советские ученые с начала 1930-х гг. принимали активное участие в создании письменности для китайского языка (языков) на базе латинского алфавита. Кириллическая письменность была создана для дунган (хуэй) — живших на территории СССР китайских мусульман.
4 Переход китайских языков-диалектов на латиницу (а не только на пиньинь, более-менее подходящий для северных диалектов) возможен при отказе от концепции единого китайского языка и единого китайского государства. В сущности, именно это соображение привело китайское руководство к отказу от претворения в жизнь проектов латинизации.
35
ВВЕДЕНИЕ
Впрочем, пиньинь тоже не идеален. Очевидно, отвечавшие за изобретение пиньиня марксисты спроецировали свои убеждения о равенстве возможностей на клавиатуру, поэтому главные роли достались клавишам «q», «х», «у» и «г», которые крайне редко используются в западных языках. Что еще хуже, тонкости китайских иероглифов, на которые в системе Уэйда — Джайлса намекала россыпь диакритических и пунктуационных знаков, оказались в значительной степени утраченными, тональные знаки существуют, но используются крайне редко, и количество совершенно разных китайских слов, выраженных одним и тем же словом на пиньине, все увеличивается. Что касается произношения, то, пытаясь быть похожим одновременно на все национальные нормы произношения, пиньинь в конечном счете не похож ни на одну из них. Согласно официальной версии, пиньинь указывает, как слово должно звучать в «общей речи» жителей Народной Республики (путунхуа). В действительности путунхуа, представляющий собой приблизительную упрощенную версию пекинского и нескольких северо-восточных диалектов, выбранных в качестве основы для государственного языка, употребляется в основном на севере. В других областях Китая пиньиньское произношение может сослужить в разговоре не лучшую службу. И даже на севере приезжему не мешало бы заранее выяснить, как на самом деле произносятся все эти «q», «х» и «2», прежде чем пробовать объясниться с кондуктором в пекинском автобусе.
ВОПРОС МАСШТАБА
Чарльз Патрик Фицджеральд, допиньиньский автор ряда англоязычных работ по истории Китая, емко сформулировал предостережение, касающееся, впрочем, многих других традиций. Он отметил, что историки, составлявшие летописи правления китайских империй, «неутомимо собирая и записывая факты, организовали этот богатейший материал таким образом, что прямой перевод исходных текстов превращается в трудную и неблагодарную задачу».
«Как следствие, китайские исторические хроники очень мало переводили на европейские языки, а существующие научные работы такого рода настолько пестрят личными именами и титулами, что становятся совер¬
36
ВВЕДЕНИЕ
шенно неудобоваримыми для обычного читателя. Эти прямые переводы, бесценное подспорье для студента и ученого, никогда не смогут достичь успеха у широкой публики» [10].
Фицджеральд написал эти слова в 1950-х гг., и с тех пор переводов стало больше, а их качество улучшилось. Но его замечания относительно трудностей перевода и неудовлетворительных свойств конечного продукта по-прежнему остаются в силе. Перевод древних китайских текстов, записанных ранними видами китайских иероглифов, представляет серьезную проблему сам по себе, вдобавок усугубляясь интерполяциями и купюрами, возникшими по вине авторов и переписчиков, которые оставили нам тексты в их нынешнем виде. Иногда тексты сокращали или редактировали специально, и из этого тоже можно извлечь полезные сведения. Но нередко это происходило в результате случайности, из-за небрежного хранения или разрушительного действия времени. Сырость, солнечный свет и термиты уничтожали написанные тушью иероглифы; бамбуковые планки со столбцами текста, сшитые непрочными нитями, легко распускались, и части текста могли перепутаться или потеряться. Даже «страницы» почти оригинальных текстов, найденные в пещерах вдоль Великого шелкового пути или в гробницах Мавандуя, оказались непригодными для немедленного прочтения и поставили перед учеными серьезную задачу их идентификации и упорядочивания. Поэтому современный переводчик должен не только извлечь из текста определенный смысл, но и суметь разглядеть случайные или намеренно допущенные ошибки, позднейшие дополнения и накопившиеся за многие столетия неточности. Все это заставляет задуматься о том, правильно ли мы читаем и понимаем некоторые довольно важные тексты.
Фицджеральд писал об императрице У Цзэтянь (690-705), отнюдь не единственной женщине, пользовавшейся безграничной властью, однако единственной, обладавшей титулом императора. Его книга была, возможно, самой ранней англоязычной биографией китайского правителя до эпохи Цин, и в ней до сих пор есть некоторая новизна. В китайских исторических хрониках биографическим материалам отводится немало места. Как правило, в первой половине любой государственной или официальной истории содержится хронологическое описание царствования правителей, о которых идет речь, а во второй половине — подборка кратких биографий основных
37
ВВЕДЕНИЕ
участников событий. Сведения нередко изложены по одной и той же схеме: предки, рождение, благоприятные встречи в молодости, продвижение по службе, кончина, суммирующее поучение, что совсем не похоже на тонкие характеристики, блестящие догадки и захватывающие повороты повествования, которых ждут от современных биографов.
Хронологические разделы с такой же аккуратностью излагают факты, не увлекаясь домыслами, и демонстрируют образцовую точность в отношении дат, однако им решительно не хватает интриг, драматических намеков и причинно-следственных связей, из которых складывается захватывающая история. Многие современные книги по истории Китая как на английском, так и на китайском языках, написанные на основании древних хроник, неизбежно заимствуют у них эти особенности. «Неутомимо собирая и записывая факты», они тоже порой превращают знакомство с этими «богатейшими материалами» в довольно «затруднительное и неблагодарное» дело. Важные события и императорские распоряжения следуют одно за другим в упорядоченной последовательности, без отдельного указания на их значимость или стоявший за ними ход мысли. Не слишком захватывающие биографии приберегаются под конец каждого царствования, а поскольку каждое царствование, каким бы коротким оно ни было, часто рассматривается отдельно, читателю порой нелегко увидеть более широкую картину политических и экономических процессов, социальных изменений и внешнеполитических проблем.
Кроме того, бросается в глаза стремление современных авторов подражать многоречивости официальных историй. «Кембриджская история Китая», еще не оконченная ко времени написания этой книги, уже состоит из шестнадцати объемных томов (и чтобы отразить все существенные события, ей, пожалуй, потребуется еще больше), а «Наука и цивилизация в Китае» Джозефа Нидема преодолела двадцатитомный рубеж.
Разумеется, Китай полностью заслуживает подобного торжественного отношения. Огромную страну с бесконечными династическими родословными, экзотической культурой, трагическим недавним прошлым и захватывающим будущим вряд ли можно изучить беглым поверхностным взглядом. Но не стоит предполагать по стонущим под тяжестью книг полкам, что история Китая сильно отличается от исто¬
38
ВВЕДЕНИЕ
рии других стран. Это не так. В Китае точно так же, как и везде, возвышаются и рушатся империи, блистают отдельные личности, прогресс движется скачками, мир непрочен, а социальная справедливость эфемерна. Разница заключается не в качестве, а в степени, не в характере, а в масштабе происходящего. Поэтому предупрежденный о трудностях читатель найдет историю Китая столь же поучительной и полезной, как и любую другую, — только в большей степени.
Численность населения в Китае на сегодняшний день составляет 1,4 миллиарда человек — около пятой части всего населения мира. Вскоре они могут поглотить примерно пятую часть мировых ресурсов. Однако вся история Китая доказывает, что ничего особенного в этом нет1. Существующая статистика позволяет предположить, что даже во времена империи Хань (ровесницы Римской империи) население Китая было огромным и составляло, вероятно, ненамного меньше пятой части всего тогдашнего населения мира. Китайские города были и долго оставались самыми густонаселенными, а земли — самыми плодородными. Китай опережал другие страны в развитии науки, техники и промышленности. Случись подобное снова, это означало бы возврат к былому величию, которое демография вполне оправдывает, а история подтверждает, и которое может оказаться сравнительно благотворным для всего остального мира.
Численность населения Китая не раз резко падала в результате стихийных бедствий и жестоких конфликтов, но не менее драматичным было и восстановление. Богатство и техническое превосходство Китая не раз оказывались под вопросом, очевиднее всего в XVIII и XIX веках, и все же это никогда не останавливало изобретательный, трудолюбивый и традиционно многочисленный китайский народ.
В других государствах подобные преимущества вполне могли подстрекнуть развитие глобальных амбиций. В VIII-X веках почти полностью буддийский Китай знал, что буддизм в Индии, святой земле, на которой возникла эта религия, переживает кризис. Но если аналогичный кризис в христианской Святой земле принес из Европы в Палестину несколько волн крестоносцев, в Северную Индию из Ки¬
1 Надо учитывать, что если статистически население Китая в исторические времена и составляло примерно пятую часть человечества, то потребление ресурсов в абсолютном выражении заметно изменилось даже по сравнению с XIX веком. — Прим. ред.
39
ВВЕДЕНИЕ
тая не отправилось ни одного рыцаря-«буддоносца»1. И это несмотря на душераздирающие сообщения, что буддийские святыни в Индии приходят в упадок и разрушаются, а также продемонстрированную Китаем способность к успешной военной экспансии к югу от Гималаев.
Пятьсот лет спустя китайцы, так же как их испанские и португальские современники, имели достаточно ресурсов и достаточно развитые технологии, чтобы отправить корабли через океан. И они действительно это сделали — достигли Юго-Восточной Азии и переплыли Индийский океан, но не с целью отыскать «христиан и пряности», как Васко да Гама, или добывать золото и серебро, или эксплуатировать чужой труд и чужие земли. Их главной целью было, как ни странно, пропагандировать и распространять «во всей Поднебесной» жизненно важную космическую гармонию2.
Поскольку, согласно мировоззрению китайцев, император Китая считался Сыном Неба, для других народов это действительно подразумевало определенную степень подчинения. Но подчинение не означало порабощения или расхищения ресурсов3. Оно могло приносить пользу. Причина той благосклонности, с которой Васко да Гаму встретили на юге Индии в 1498 г., заключалась, по мнению одного из его спутников-португальцев, в том, что индусы ожидали уважительного отношения и пышных даров от всех бледнолицых моряков — как следствие встреч с китайскими мореходами. Впрочем, китайские контакты не оставили в дальних землях постоянных посольств или поселений: вместо того чтобы искать способ окупить плавания, императоры Мин прекратили их. Китайская империя по-прежнему ограничивалась Китаем и его ближайшими соседями. Пятая часть на¬
1 Крестоносцы двинулись из Европы в Святую землю не потому, что они знали, в чьих руках она находится. Крестовые походы стали средством решения внутриевропейских проблем — борьбы за новые владения, власть, землю, вообще место под солнцем; возрастающей неустойчивости положения отдельных лиц из-за городской революции XI столетия; продолжающегося конфликта светской и духовной власти (спора об инвеституре); стремления к религиозному благочестию и т. д. — Прим. ред.
2 Имеются в виду плавания экспедиции Чжэн Хэ в первой половине XV века. — Прим. ред.
3 Если такое порабощение и расхищение представлялось слишком трудным для Китая.
40
ВВЕДЕНИЕ
селения мира не выдвигала никаких претензий на пятую часть сельскохозяйственных земель мира.
Однако отношения Китая с азиатскими соседями нельзя назвать полностью безоблачными. Военные походы китайцев достигали территории современных Бирмы, Индии, Непала, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Но, как и большие морские путешествия, эти походы крайне редко, практически никогда не заканчивались колонизацией; кроме того, их обычно предпринимали в ответ на иноземное вторжение, часто имевшее серьезные и длительные последствия.
Ближайшие соседи — корейцы, вьетнамцы и монголы, не говоря уже о некитайских народностях, в настоящее время проживающих на территории Китая (жителях Тибета, Синьцзяна и южных областей), — несомненно, могли бы поспорить насчет добрососедских качеств Китая. Но агрессия Китая обычно была ответной. Обладатель одной из самых длинных и наименее защищенных сухопутных границ в мире, Китай был вынужден постоянно давать отпор грозным противникам. Оседлому населению Северного и Западного Китая угрожали бесконечные вереницы кочевых и полукочевых народов, среди них самые воинственные союзы в истории Азии — сюнну, тюрки, тибетцы, мусульмане, монголы и маньчжуры. Позднее к этому списку присоединились незваные гости из-за моря — европейские державы в XIX веке и японские империалисты в XX веке1. Хотя никакие провокации не могут оправдать, например, недавнее угнетение Тибета, китайский народ гораздо больше пострадал в военном отношении и претерпел в отношении культурном и экономическом от других, чем наоборот2. И если идея Великой стены как оборонительного рубежа пользуется такой популярностью, то лишь потому, что она настолько удачно согласуется с этим фактом. Но, как мы убедимся далее, в те моменты, когда история кажется особенно сговорчивой, историк должен проявлять максимальную бдительность.
И наконец, обещанные извинения. В обзорных исторических трудах приоритет обычно отдается недавнему прошлому. Приближаясь
1 Автор не говорит о вьетах и корейцах, в чьем случае экспансия Китая совершенно бесспорна: при первой же возможности китайские империи завоевывали или пытались захватить земли ближайших соседей. — Прим. ред.
2 Все же важно, кто при столкновении сохранил свою государственность.
41
ВВЕДЕНИЕ
к настоящему, повествование замедляется, словно подходящий к станции поезд. Заметно сбросив скорость в XIX веке, оно осторожно ползет через весь XX век до буферов XXI столетия. Возможно, эта книга, в которой древней истории отведено куда больше места, чем новой и новейшей, впадает в другую крайность. Но поскольку китайской культуре свойственно исключительно серьезное отношение к прошлому, отдаленное здесь часто представляется более важным. Для китайцев Первый император Цинь Ши-хуанди (правивший в 221 — 210гг. до н.э.) остается колоссальной фигурой, в то время как последний император Пу-и (правивший в 1909-1911) почти никому не известен. То, что он окончил свои дни, возделывая цветники в пекинском парке, пожалуй, оправдывает подобное невежество. Столетия, представляющие самый большой интерес для иностранцев (начиная с XVI века для европейцев и с середины XVIII века для американцев), всего лишь отражают их собственную историческую перспективу. И как вам, дорогой читатель, прекрасно известно, поезд истории ни на мгновение не останавливается ради удобства книги. «Настоящее» этой книги для вас уже превратилось в «минувшее». История успевает стать историей еще до того, как попадет на полку. То, что казалось свежим и злободневным в момент написания, уплывает вперед, словно свет задних фар, исчезающий на дороге в будущее.
1
От обрядов к письменности
(до 1050 г. до н. э.)
ВЕЛИКОЕ НАЧАЛО
Хотя древних китайцев вряд ли можно назвать безбожниками, они никогда открыто не приписывали своим богам (или Богу) столь малоправдоподобное деяние, как сотворение мира. Поэтому в начале времен не Бог создал небеса и землю — они появились сами собой. История Китая начинается не с мифа о творении, а с мифа о происхождении, в котором место создателя занимает событийная ситуация. Это событие, имеющее довольно наукообразные черты (что-то от черной дыры, что-то от Большого взрыва), называется Великим Началом.
«До того как Небо и Земля обрели форму, все было неопределенным и беспорядочным [говорится в «Хуайнань-цзы», II век до н. э.]. И посему оно получило имя Великого Начала. Великое Начало породило пустоту, а пустота породила Вселенную. Вселенная породила ци [жизненную силу или энергию], имевшую пределы. То, что было светлым и легким, поплыло вверх, чтобы стать Небом, то, что было тяжелым и мутным, уплотнилось, чтобы стать Землей... Совокупные сущности Неба и Земли стали инь иян» [1].
Более поздняя и популярная версия мифа о происхождении мира называет первозданную среду не только аморфной, но и «непрозрачной, как содержимое яйца». Это действительно было яйцо — ведь когда оно разбилось, белок отделился от желтка. Прозрачный белок, или ян, поднялся и стал Небом, а мутный желток, или инь, опу¬
43
ГЛАВА 1
стился и стал Землей. Между ними находился инкуб яйца, дух по имени Пань-гу, который в момент разделения прочно стоял ногами на земле, а головой касался небес. «Небеса были чрезвычайно высоко, а Земля чрезвычайно глубоко, а Пань-гу был чрезвычайно длинен», — говорит «Хуайнань-цзы» [2]. Хотя Пань-гу нельзя назвать создателем Вселенной, он явно способствовал ее формированию.
Новые сведения о тех, кто помогал упорядочить самозародившуюся Вселенную, стали известны совсем недавно, после того, как шелковый манускрипт, похищенный из захоронения близ Чанша в южной провинции Хунань в 1942 г., перешел во владение галереи Саклера в Вашингтоне, округ Колумбия. Рукопись состоит из текста и рисунков, представляющих собой схему общего устройства Вселенной. Подобные схемы были довольно широко распространены, они помогали наблюдать за фазами Вселенной и вычислять оптимальное время для тех или иных действий. Шелковый манускрипт, датированный 300 г. до н. э., был аккуратно уложен в бамбуковую шкатулку, но значительно пострадал от времени и в некоторых местах оказался порван. Не весь текст разборчив, и не все разборчивое понятно. Но в одном из разделов, очевидно, изложена еще одна версия происхождения Вселенной. Здесь за ее упорядочивание берется целая семья — муж, жена и умело помогающие им четверо детей. Сначала они «приводят предметы в движение, вызывая преобразования», затем, после заслуженного отдыха, вычисляют границы времени, отделяют небо от земли и дают имена горам («поскольку горы были не в порядке»), а также рекам и четырем морям [3].
В то время на земле царил мрак, поскольку солнце и луна еще не появились. Упорядочить горы и реки удалось лишь благодаря просвещенному руководству четырех богов, олицетворявших четыре времени года. В следующий раз богам пришлось вмешаться «через сотни и тысячи лет», когда родились солнце и луна. Ибо в их свете стало очевидно, что с девятью областями1 что-то не так: их поверхность неровная, а сверху на них падают горы. Чтобы защитить землю, боги изобрели полог, или небесный купол, а чтобы удерживать его, воздвигли пять столбов, каждый своего цвета. Эти цвета (зеленый, красный, желтый, белый и черный) соответствуют пяти фазам, или пяти стихиям — важной, хотя не всегда последовательной концеп¬
1 Из них, согласно традиционному воззрению на мир, состояла Поднебесная (Китай).
44
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
ции, которая встречается в китайской истории и философии почти также часто, как неразделимые противоположности инь иян.
Упомянутый раздел шелкового манускрипта из Чанша заканчивается словами: «Затем Бог наконец создал движение солнца и луны». Из всех китайских текстов это загадочное утверждение стоит ближе всего к креационизму. Однако китайские духи, боги и даже сам Бог никогда ничего не создавали: они лишь приводили предметы в движение, поддерживали, располагали в определенном порядке, исправляли и давали имена. В китайской традиции происхождение Вселенной всегда считалось менее важным вопросом, чем ее упорядоченность и налаженная работа, поскольку именно от последних зависело измерение времени и пространства и результаты любых человеческих дел.
Не столь важным в китайской традиции считается и происхождение человека. Существует еще одна версия истории Пань-гу, где основную роль в процессе творения сыграл не его исключительный рост, а его посмертное разложение. В этом мифе (в противовес распространенным мифам о творении этот вполне можно назвать мифом о разложении) говорится, что, когда Пань-гу лежал при смерти, «его дыхание стало ветром и облаками; его голос стал громом; его левый глаз стал солнцем, а правый глаз — луной; его четыре конечности и пять частей тела стали четырьмя полюсами и пятью горами; его кровь стала реками; его сухожилия стали возвышенностями и долинами; его мышцы стали почвой в поле; его волосы и борода стали звездами и планетами; его кожа и волоски на ней стали травами и деревьями; его зубы и кости стали бронзой и нефритом; его семя и костный мозг стали жемчугом и драгоценными камнями; его пот стал дождем и озерами; а населявшие его тело черви, когда их тронул ветер, стали черноволосыми простолюдинами» [4].
В индийской мифологии есть похожий сюжет. Из тела жертвы — первочеловека Пуруши — ведические боги создали варновую иерархию: священнослужители брахманы родились из уст Пуруши, воинственные кшатрии — из рук, рачительные вайшьи — из бедер, а жалкие шудры — из стоп. Но даже брахманам, в чьем тщеславном воображении родился этот миф, не приходило в голову возвести зарождение части человеческой расы к кишечным паразитам1. Пожалуй, лишь знать, вознесенная
1 Большинство склонно считать «предками» людей паразитов, живших на коже Пань-гу, что логичнее, ведь они населили поверхность земли, в которую
45
ГЛАВА 1
так высоко, как в Китае, могла приписать своим черноволосым соотечественникам настолько отвратительное происхождение. В более поздние времена иностранцы возмущались высокомерием китайских чиновников, но их поводы для негодования не шли ни в какое сравнение с тем, что мог бы рассказать на этот счет простой народ Китая.
Из обоих примеров можно сделать вывод, что настойчивое стремление к социальной стратификации — деление на высокопоставленных «нас» и низших «их» — зародилось в самые древние времена, и в Китае это дополнительно подтверждают многочисленные мифы о физическом отделении неба от земли. Пань-гу мог преодолеть это расстояние, поскольку он был «чрезвычайно длинен», позднее люди и боги тоже могли совершать прогулки туда и обратно, но в конце концов расстояние между небом и землей стало слишком большим, и только те, кто обладал магическими силами или имел возможность поставить обладателя таких сил на службу своей семье, мог надеяться совершить подобное путешествие. Другими словами, общение с небесами стало привилегией немногих избранных, и в этом заключалось еще одно их отличие от трудящегося простонародья.
В «Шан шу» («Записи о прошлом» VIII—VI веков до н. э., которая дала этимологам XX века китайское слово «панда») мифы постепенно начинают складываться в историю. Здесь отделение Неба от Земли приписывается вполне конкретному «императору»1, который приказал положить конец всем самовольным контактам между ними. Связь неба и земли была должным образом разорвана парой богов, состоявших у него на службе. По распоряжению императора «следовало прекратить все восхождения и нисхождения», и, как нас уверяют, после того как это свершилось, «порядок восстановился, и люди вернулись к добродетели».
Этим императором был Чжуань-сюй, второй из мифических Пяти императоров, которых традиция помещает во главу великого древа законных государей Китая2. Все Пять императоров соединяли в себе
превратилось тело гиганта. Вряд ли этот фрагмент можно считать обоснованием социальной стратификации в китайском обществе: согласно данной концепции, китайские аристократы считались точно такими же потомками кожных паразитов, как и простолюдины.
1 В эти мифологические времена термин «ди», впоследствии использовавшийся для обозначения правителей, относился скорее к божеству или первопредку.
2 Согласно большинству текстов, перед легендарными Пятью императорами (Уди) правили легендарные «Три августейших» (Сань хуан).
46
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
божественные и человеческие качества. Их величие потрясало, а деяния отличались такой безупречностью, что еще много тысячелетий служили примером для потомков. В сущности, безупречный пример добродетельного объединяющего правления и был их основной функцией. Первым из Пяти императоров был досточтимый Желтый император (Хуанди), вторым Чжуань-сюй, третьим и четвертым — Яо и Шунь, чьи изречения цитируют особенно часто, и последним был Юй1. В отличие от предшественников Юй положил начало принципу передачи власти по наследству2 и сделал преемником собственного сына, тем самым основав первое в Китае государство Ся [5].
Правители Ся были царями. Императорский титул в их отношении не употреблялся, появившись лишь спустя 1400 лет. Однако удалось приблизительно установить даты (традиционно ок. 2100 — ок. 1600 г. до н. э., но, возможно, на несколько столетий позже) и местоположение государства Ся — в нижнем течении Хуанхэ либо в районе Чжунъюань (Великая Китайская равнина, которая простирается в Северном Китае от провинции Шаньдун до провинции Шэньси). В отличие от Пяти императоров Ся не считаются полубожествами. Они не оставили никаких документальных или материальных свидетельств, которые можно было бы уверенно соотнести с ними, и даже специалисты по древнейшей истории Китая могут рассказать о них сравнительно немного. Но археологи обнаружили культуры, одна из которых могла принадлежать Ся, и есть доказательства того, что одна из ранних форм письменности могла использоваться при дворе Ся3.
ПЯТЬ ИМПЕРАТОРОВ И ТРИ ДОИМПЕРСКИЕ ДИНАСТИИ
Пять императоров Три доимперские династии
Хуанди Чжуан-сюй Яо Шун Юй
■ ^тжттш'-
V>vi
* ......
СЯ i ШАН
1
ЧЖОУ
ок. 2070 — ок. 1600 — ок. 1046-
ок. 1600 гг. ок. 1046 гг. 256 гг.
до н. э. до н. э. до н. э.
1 Большинство авторов не относят Великого Юя к числу Пяти императоров.
2 Считается, что наследственная передача существовала уже при Пяти императорах: Чжуань-сюй был внуком Хуанди, ему наследовал его сын — Ди Ку, а тому — его сын Яо.
3 Следов синхронной Ся письменности пока не найдено.
47
ГЛАВА 1
В то же время раскопки не смогли подтвердить существование единого царства или культуры, соответствующих той уникальной, широко распространенной, влиятельной и просуществовавшей достаточно долго культуре, которую позднейшая текстовая традиция связывает с Ся. С некоторыми важными оговорками1 то же можно сказать и о более знаменитых государствах Шан (ок. 1750-1046 гг. до н. э.) и Чжоу [6] (ок. 1050-256 гг. до н. э.)2, которые вместе с Ся составляют первые Три династии (эпохи). Все материальные источники на сегодняшний день подтверждают, что на территории Великой Китайской равнины и далеко за ее пределами возникало и сосуществовало множество местных культур неолита и бронзового века с более или менее выраженными особенностями. Таким образом, начало китайской истории омрачает серьезное противоречие: письменные свидетельства классических текстов IV и III веков до н. э., долгое время считавшиеся абсолютной истиной, не всегда подтверждаются археологическими материалами, изученными по высочайшим стандартам современной науки в XX веке.
Это противоречие крайне важно для общего понимания китайской цивилизации, ее развития и даже национального характера китайцев в прошлом и настоящем. Ставки настолько высоки, что краски порой намеренно сгущают, подрывая беспристрастность научной мысли политической ангажированностью. Все письменные источники утверждают, что существовала единая линия правления, которая складывалась из сменяющих друг друга «династий», географически сосредоточенных на Великой Китайской равнине, откуда распро¬
1 Образы этих государств, которые реконструируются по данным археологии, заметно отличаются от весьма детальной, но в основном выдуманной картины, содержащейся в традиционных письменных источниках.
2 Точные датировки столь давних событий вряд ли возможны. Существование государства Ся в разных изданиях может датироваться 2205-1766, 1998- 1558 или 2205-1600гг. до н.э.; последний вариант, «установленный» в рамках работы амбициозного китайского проекта «Хронология Ся, Шан и Чжоу» (1996-2000), встречается чаще всего, но с точки зрения точности и историчности ничем не отличается от двух других или подсчетов даты сотворения мира. Датировки Шан колеблются от 1765-1122 до 1600-1027 гг. до н. э., а наиболее распространен вариант 1600-1046 гг. до н. э. Он также предложен указанным проектом хронологии. В случае с датой падения Шан, вероятно, действительно уместно говорить о середине XI века до н. э., но информации, позволяющей установить время конца существования этого государства с точностью до года, пока нет.
48
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
странялась в разные стороны превосходящая соседей и «в основном китайская» культура. Хронологически эта линия правления тянулась, словно апостольская преемственность римских пап, от Пяти императоров к Т}эем династиям / эпохам (Ся, Шан и Чжоу) и далее, в гораздо лучше изученные времена. Но археологические данные не поддерживают эту стройную теорию. Представляется куда более вероятным, что с хронологической точки зрения периоды правления трех древних династий частично совпадали, а с географической точки зрения царства Великой Китайской равнины не имели того центрального положения и влияния, как принято считать1. Что касается обстоятельств, которые привели к формированию обособленной и «в основном китайской» культуры, то она не распространялась в разные стороны от Великой Китайской равнины, а зарождалась и развивалась на гораздо более широкой территории и среди народов, отнюдь не отличавшихся этническим единообразием.
Чтобы лучше понять сущность этого противоречия, представьте себе две группы ученых, которые стоят у ворот Запретного города или любого другого традиционного китайского архитектурного комплекса. Одна группа ученых вглядывается внутрь, в торжественную перспективу выложенных серым камнем дворов, воздушных залов и величественных симметричных лестниц. Другая группа смотрит в противоположную сторону и видит пестрый и в равной степени интригующий реальный мир с типичной городской мешаниной не сочетающихся между собой перспектив, плотными потоками транспорта и хаотичной архитектурой. Согласие между этими двумя группами вряд ли возможно, хотя недавние шаги в этом направлении дают некоторую надежду.
Археологи постепенно приходят к мысли, что их наука не всесильна, поскольку новые находки порой опровергают их собственные ранние гипотезы. И они признают, что сохранение реликвий отдаленного прошлого — такая же случайность, как их зачастую непредвиденное открытие; если на данный момент доказательств недостаточно, это не значит, что нечто никогда не существовало или что в один прекрасный день оно не может быть обнаружено. Между тем ученые,
1 Царства Великой Китайской равнины также соседствовали с множеством иных государственных и протогосударственных образований, зачастую находившихся на схожих стадиях развития.
49
ГЛАВА 1
работающие с текстами, соглашаются, что их источники могут быть не вполне объективными, и те, кто писал эти тексты спустя долгое время после описанных событий, возможно, преследовали собственные интересы. Например, название первого государства Ся совпадает с самоназванием группы народностей1, населявшей Великую Китайскую равнину в последние столетия до н. э. (как раз в период формирования историографической традиции), подчеркнуто отделявшей себя от других, менее «китайских» народов (их называли ди, мань, жун или и — все эти слова переводятся как «варвары»). Возникшее гораздо позднее название Хань аналогичным образом превратилось из обозначения государства в наименование народности и в настоящее время используется как официальное обозначение условно моноэтнического китайского большинства. Оба примера говорят о том, что обоснованность этнических наименований непосредственно связана с выдающимся положением одноименного государства. Таким образом, восхваление государства Ся в текстах, возможно, должно было дополнительно укрепить привилегированное положение тех, кто считал себя наследниками царства Ся, а также «народа ся»2.
Современная наука хорошо понимает, с чем связаны эти претензии на обособленность и особость. Вряд ли можно считать простым совпадением, что в националистическую и коммунистическую эпохи сторонники линейной текстовой традиции жили и работали в Китае, а те, кто выступал за региональную и плюралистическую интерпретацию китайской идентичности, как правило, были иностранцами, часто жителями Запада, японцами или китайцами, проживающими за пределами Китая3. Деконструкция истории Китая, сомнения в ее
1 Общность хуася («цветущих ся») или чжуся («всех ся») была в значительной мере воображаемой и конструировалась в гораздо большей степени на основе противопоставления себя соседям, нежели на базе общих особенностей ее носителей.
2 Судя по всему, сам знак ся в текстах появляется не раньше середины 1-го тысячелетия до н. а, примерно в годы складывания концепции этническо- культурной общности ся\ это один из доводов в пользу скептического отношения к действительному существованию государства Ся.
3 Один из основателей критического отношения к традиционным источникам по древней истории Китая — Гу Цзеган (1893-1980) всю жизнь проработал в Китае, но верность научным принципам сделала его мишенью всех многочисленных политических кампаний — от борьбы с «правоуклонистами» в 1930-е гг. до шельмования «контрреволюционеров» во времена Культурной революции.
50
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
целостности и попытки проколоть пузырь традиционного высокомерия имеют собственную историю, но это не значит, что все это опровергает результаты и делает недействительными выводы китайских ученых.
БЛЕСК БРОНЗЫ
Ханчжоу, столица провинции Чжэцзян, город с населением шесть миллионов человек, находится к юго-западу от Шанхая, примерно в 150 километрах южнее дельты Янцзы. В городе имеется краеведческий музей, расположенный на острове в озере Сиху — одном из самых знаменитых водных достопримечательностей Китая, с богатыми культурными связями, а теперь окруженном современными красотами. Обогнув продавцов мороженого и палатки с сувенирами, посетители выходят на берег, где в фойе музея их встречает блестящая латунная табличка с английским текстом, рассказывающим о «реликвиях Хэмуду». Хэмуду — название местной неолитической культуры, расцвет которой начался примерно за пять тысяч лет до н. э. Ей посвящен целый этаж музея: в витринах манекены, представляющие людей Хэмуду, занимаются повседневной работой среди художественно разбросанных «реликвий» своих поселений каменного века. Но новая табличка доносит до нас еще один важный момент. Обрисовав успехи людей Хэмуду в строительстве домов, обжиге изящной черной керамики и резьбе по нефриту и слоновой кости, она заканчивается смелым заявлением: «Раскопки в Хэмуду доказали, что долину реки Янцзы можно считать колыбелью китайской нации наряду с долиной Хуанхэ [sic]»1.
До недавнего времени подобное утверждение звучало как ересь. Долину Янцзы и весь Южный Китай доисторического периода счи¬
1 Говоря о вкладе юга в развитие Восточной Азии, нельзя не упомянуть культуру Лянчжу, в 3300-2200 гг. до н. э. занимавшую земли вокруг озера Тайху в низовьях Янцзы. Для этой рисоводческой культуры характерен крайне высокий уровень развития земледелия и ремесла (особенно стоит отметить многочисленные изделия из нефрита крайне тонкой работы), а эпонимный памятник представляет собой сравнительно крупный городской центр с храмовыми и дворцовыми комплексами. Все эти данные в совокупности позволяют считать Лянчжу древнейшим в Восточной Азии ранним государством.
51
ГЛАВА 1
тали чужими землями, заселенными некитайскими охотниками-со- бирателями — слишком опасными для оседлых земледельцев. Куда более очевидным кандидатом на звание колыбели доисторической культуры Китая были излюбленные древними поселенцами равнины и долины севера. Именно там в 1920-х гг. были найдены окаменелые останки прямоходящего гоминида — «пекинского человека»1, именно там предположительно развивалась китайская ветвь Homo sapiens, и там были посеяны первые семена зерновых культур. Там же намного позднее началась письменная история Китая, оттуда распространялся прогресс, оттуда исходили приказы правителей. Эта же картина была (не без оснований) спроецирована на промежуточные периоды неолита и энеолита.
Только в начале 1980-х гг., но и тогда с оговорками, китайский ученый впервые публично поставил под сомнение общепринятую точку зрения. Он предположил, что она может быть «неполной», хотя сейчас ее вполне можно назвать совершенно ошибочной. Примеры десятков различных неолитических культур, подобных реликвиям Хэмуду, были обнаружены от Маньчжурии на крайнем северо-востоке до провинции Сычуань на западе и провинций Гуандун и Фуцзянь далеко на юге. Ни одну из них нельзя назвать значительно более развитой, чем другие; множество других поселений, несомненно, еще только предстоит обнаружить. Но вероятно, более поздние тексты, в которых этот период именуется эпохой Десяти тысяч царств (или племен), не слишком далеки от истины.
Как правило, самым удобным средством классификации неолитических народов служит керамика. Много интересного могут рассказать захоронения. Однако кладбища и гончарные мастерские предполагают оседлость населения. И первый вывод, который следует сделать из новых открытий, заключается в том, что поселения людей, занимавшихся в основном выращиванием сельскохозяй¬
1 Пекинский синантроп (Homo erectus pekinensis) был хронологически первой находкой, связанной с древними людьми в Китае, затем были сделаны другие. На данный момент самым древним считается обнаруженный в 1965 г. юаньмоуский человек, живший примерно 1,7 млн лет назад (некоторые полагают, что заметно позже) в самой юго-западной провинции Китая — Юньнани. Впрочем, этого южанина также вписали в китаецентристскую концепцию, сделав аргументом в пользу гипотезы независимого очага сапиентации (формирования человека разумного) на территории Китая. Даже сейчас реликты этой версии порой встречаются в китайской литературе.
52
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
ственных культур и разведением домашнего скота, существовали не только на Великой Китайской равнине, но и во многих других областях Китая. Если в долине Хуанхэ начиная примерно с 8000 г. до н. э. выращивали просо, то в долине Янцзы примерно с того же времени выращивали рис. Производство шелка, основанное на уникальной для Китая форме животноводства — разведении шелкопрядов, также имеет весьма древнее происхождение, и, как теперь известно, в долине Янцзы оно существовало по меньшей мере с 3-го тысячелетия до н. э.
Связи между этими неолитическими культурами пока неясны. На территории Индостана и во внутренних областях Азии ученые традиционно соотносят пути расселения людей с распространением разных типов керамики и других характерных артефактов. На основании этих данных делают выводы о миграциях населения, колонизации и завоеваниях. Но, возможно, все это тоже не более чем ретроспективные допущения. Не исключено, что в обоих случаях на доисторический период была спроецирована картина более поздних миграций, в Индии устремленных главным образом внутрь страны, а во внутренних областях Азии и в Сибири — вовне. Следовательно, можно предположить, что ранние поселения в этих регионах были непостоянными, развитие технологий — неравномерным, а население вело полукочевой образ жизни.
Более статичная модель, которую предпочитают в Китае, также отражает позднейшие исторические установки. Эта модель рассматривает неолитические культуры не как странствующие сообщества, а как сгруппированные областные «сферы взаимодействия», и основное внимание уделяется тем культурам и местностям, для которых в большей степени характерна непрерывность внутреннего развития. Возможно, из-за того, что усилия археологов были изначально сосредоточены в бассейне реки Хуанхэ на Великой Китайской равнине, самые важные с этой точки зрения поселения действительно оказались сконцентрированы на севере. Здесь существовали поселения культуры Яншао (примерно 5000-3000 гг. до н. э., то есть современники Хэмуду), где производили расписную красную керамику, вытесненные затем культурой черной керамики Луншань (около 3000 г. до н. э.). Некоторые луншаньские поселения имеют городские черты. Центр этой культуры находится в Шаньдуне, но поселения разбросаны гораздо
53
ГЛАВА 1
шире, чем поселения Яншао1. В них появляются сооружения из блоков утрамбованной земли ханту — их получали, утрамбовывая рыхлую лессовую почву до консистенции бетона, и использовали для строительства фундаментов и стен вплоть до XX века, когда им на смену пришел бетон. И, к вящей радости археологов, люди культуры Луншань строили своим мертвецам роскошно обставленные гробницы.
Размер некоторых гробниц культуры Луншань, богатство и характер их погребального инвентаря говорят о четко стратифицированном обществе. Привилегированные кланы (или «династии»), очевидно, возвеличивали своих предков, чтобы узаконить собственное положение. Кроме того, благодаря посредничеству предков они имели исключительное право на общение с богами2. Из этих соображений они щедро одаривали своих мертвецов редкими вещицами (например, из резной слоновой кости) и разнообразными ритуальными принадлежностями, от посуды для еды и питья до музыкальных инструментов и изделий из нефрита. Среди них встречаются и довольно живописные приспособления для шаманского общения со сверхъестественным миром предков и богов.
Во всем этом чувствуется нечто смутно знакомое. Вполне возможно, правителями луншаньского общества или какой-то его части были цари Ся. Луншаньское поселение Эрлитоу близ Лояна на южном берегу реки Хуанхэ в провинции Хэнань датируется 1750-1530 гг. до н. э. Эрлитоу предположительно можно соотнести с Ся3. На месте
1 Луншань — крайне неоднородная культура; ее классический шаньдун- ский вариант, выросший на базе местной культуры Давэнькоу (4300-2500 гг. до н. э.), заметно отличается от хэнаньского варианта, наследовавшего Яншао. Возможно, различия между племенами, ныне объединяемыми в эту культуру, на деле были гораздо заметнее, чем общие черты.
2 В более позднее время у правящего дома были исключительные возможности для почитания предков: многие церемонии простолюдинам были запрещены, как и строительство отдельных храмов для своих пращуров, но даже тогда это не могло лишить простонародье общения с предками, которое, пусть и в чуть менее пышной форме, было главным наполнением религиозной практики любой семьи, и на посредничество предков перед богами рассчитывать могли все. Более того, не исключено, что строгая иерархичность существовала прежде всего в стремившихся к порядку сводах конфуцианских правил, а в жизни возможностей ограничить людей в почитании предков у властей было не так уж много.
3 Скорее Эрлитоу — археологическое отражение существовавшего в среднем течении Хуанхэ государства (или протогосударства) раннего бронзового
54
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
раскопок были обнаружены предметы материальной культуры двух типов: одни явно первобытные, другие весьма сложные, однозначно принадлежащие более поздним (или, что вероятнее, хронологически частично совпадающим) государствам Шан и Чжоу. Фактически эти находки представляют собой основной источник для изучения социальной, культурной и политической истории 2-го и 1-го тысячелетия до н. эЛ
Прежде всего это обгоревшие кости, в основном лопаточные, разных животных. Кости клали в огонь и ждали, когда они покроются трещинами, затем по этим трещинам «читали» ответы сверхъестественных сил на человеческие вопросы (примерно так же, как древние греки гадали по внутренностям). Далее об этой практике будет рассказано подробнее, поскольку она привела к возникновению древнейшей формы фиксации фактов и первому зафиксированному в Китае случаю использования письменности. Другие находки из Эрлитоу имеют еще более сенсационный характер. Здесь было обнаружено некоторое количество древнейших образцов бронзового литья — технологии, во многом определившей культурный облик Древнего Китая. Массивные изделия из бронзы — урны, котлы и кувшины, почерневшие или позеленевшие от времени, но в остальном
века, которое, возможно, стало основой для содержащихся в более поздних источниках рассказов о Ся.
1 Археологические находки являются основным источником для изучения истории Восточной Азии 2-го, а также (в несколько меньшей степени) 1-го тысячелетия до н. э., но обнаруживают их, к счастью, не только на месте поселения Эрлитоу. Ярким примером этого, а также очередным доводом в пользу крайнего разнообразия линий цивилизационного развития в Восточной Азии раннего бронзового века служат недавние находки в городище Шимао на юге Ор- доса, на границе между земледельческими областями средней Хуанхэ и степью, довольно далеко от колыбели китайской цивилизации. Памятник, датируемый 2300-1800 гг. до н. э., представляет собой огромное, обнесенное стенами городище, самое большое в Восточной Азии. В центре двух обводов стен из утрамбованной земли (толщиной 2,3 м, периметры обводов 5700 и 4200 м) высится огромная дворцовая цитадель (300 м в диаметре, 70 м высотой), вырезанная из природного лессового холма, обложенного камнем. Холм превращен в ступенчатую пирамиду с одиннадцатью террасами. В стенах цитадели — резные каменные личины, вмурованы кусочки нефрита, вероятно призванные защищать правителя (чей дворец находился на вершине) не только от врагов из плоти и крови. Для культуры в целом характерен крайне высокий уровень развития скотоводства и земледелия, обработки бронзы. Этническая принадлежность жителей городища и их дальнейшая судьба пока остаются загадкой.
55
ГЛАВА 1
совершенно невредимые — до сих пор украшают залы многих музеев мира.
Лучше всего о значении этой находки написал Роберт Бэгли в «Кембриджской истории Древнего Китая»: «Образцы бронзового литья являются технологически и типологически наиболее характерными признаками материальной культуры 2-го тысячелетия до нашей эры... [и служат], показательным критерием оценки культурного развития» [7]. Бронза в Древнем Китае играла такую же роль, как камень в цивилизации Древнего Египта и позднее Ирана (Персии) и Греции. Производство бронзовых изделий требовало огромного труда, с помощью бронзы выражали сложные идеи, в бронзе запечатлены ранние образцы письменности, а благодаря ее прочности до нас дошло огромное количество древних изделий. Бронзовое производство в Китае, хотя и уступает по трудоемкости великим каменным сооружениям Египта эпохи фараонов, было тем не менее достаточно масштабным, чтобы считать его «промышленным». В Аньяне (провинция Хэнань) археологи обнаружили бронзовые сосуды весом около 34 тонны каждый; общий вес бронзовых изделий из одной гробницы V века до н. э. в Суйчжоу составил 10 тонн. «Ничего хотя бы отдаленно сопоставимого в других государствах Древнего мира не найдено» [8].
По сравнению с добычей и резьбой по камню технология бронзового литья была бесконечно более требовательной. Раннее мелкое производство в провинции Ганьсу позволяет предположить, что искусство обработки металла зародилось в Китае без какого-либо влияния извне1. В пользу этого свидетельствует обилие подходящих руд и достаточно развитые на тот момент навыки изготовления керамики, позволявшие создавать литейные формы и достигать высоких температур в печах для бронзового литья. Неизгладимое впечатление производят массивные бронзовые сосуды (дин, гуй, цзя и т. д.), часто
1 Факт находки первых медных изделий на территории Ганьсу, неолити¬
ческие культуры которой заметно отставали от соседей в долине среднего
и нижнего течения Хуанхэ (например, там гораздо позже стал известен гончарный круг), но зато находились в гораздо более тесном контакте с Центральной Азией и Южной Сибирью, дает основание предположить, что технология выплавки меди могла прийти в Восточную Азию извне. Очень скоро (как это позже случилось и с железом) древнекитайские мастера превзошли своих учителей по очень многим параметрам, достигнув чрезвычайно высоких результатов как в качестве, так и, особенно, в количестве производимой продукции.
56
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
с основанием в виде треножника, имеющие разную форму в зависимости от своего назначения (сервировка готовых продуктов, приготовление пищи, кувшины для пива и пр.).
Сначала все они повторяли форму керамической посуды, но постепенно их вид и отделка усложнялись. Керамические формы для отливки бронзовых сосудов сами по себе были достаточно сложными: украшения вырезали на внутренней стороне формы, чтобы на готовом изделии они стали выпуклыми. Техника гравировки на поверхности готового изделия появилась позже. Внутренние и внешние формы первых отливок делили на части — для триподов дин требовалось три части, для более сложных сосудов — гораздо больше. От ножек к вершине сосуда шли вертикальные соединительные линии. Каждую часть, включая дополнительные детали, такие как носики и ручки, отливали отдельно и скрепляли в единое целое в окончательной заливке. Использование раздельных форм устраняло необходимость в пайке или заделывании швов и одновременно способствовало развитию повторяющихся декоративных рисунков, орнаментов и инкрустаций, часто с зооморфными мотивами.
Эта оригинальная и требующая немалого мастерства техника быстро развивалась. Вместе с ней менялись формы сосудов и фантастические орнаменты, которыми их украшали. Изучая эти вариации, искусствоведы смогли наметить этапы эволюции бронзового производства, расположить сохранившиеся образцы в определенной последовательности, определить приблизительные даты существования каждого стиля и сделать важные выводы из расположения мест их находки.
Выяснилось, что места находки вовсе не ограничиваются Великой Китайской равниной, как считали раньше. Хотя изделия самого раннего стиля, связанного с культурой Эрлитоу (1900-1350 гг. до н.э.), крайне редко находят за пределами бассейна Хуанхэ, более поздние стили, особенно связанные с культурой Эрлиган (примерно 1500-1300 гг. до н. э.), распространились достаточно широко. Вероятно, часть бронзовых изделий могла попасть в другие места вместе с торговцами, как товар или подарок, но обнаружение литейных мастерских, производивших почти одинаковые сосуды, вплоть до провинции Хубэй и реки Янцзы позволяет говорить о существовании более основательных контактов. Имеет смысл предположить, что, куда проникли настолько сложные и престижные технологии, проникали
57
ГЛАВА 1
также соответствующие культурные убеждения и общественный уклад, а это, в свою очередь, может свидетельствовать о существовании определенной формы политической гегемонии1. Таким образом, данные о бронзовом производстве показывают, что в XV-XIII веках до н.э. на Великой Китайской равнине существовало государство с развитой сложной культурой, распространившее свое влияние в значительной части региона к югу и востоку.
Археологам это экспансивное государственное образование известно как Эрлиган, по названию археологической площадки в городе Чжэнчжоу на реке Хуанхэ, в провинции Хэнань. Ориентируясь исключительно на археологические источники, Р. Бэгли объявляет Эрлиган «первой великой цивилизацией Восточной Азии» [9], и большинство историков, исходя из предоставленных археологами дат и местоположения, вполне охотно соотносят эрлиганскую культуру с известным по письменным источникам государством Шан. Но, как и в случае с Эрлитоу и государством Ся, Эрлиган и Шан тоже не вполне совпадают друг с другом. Распространение и господство культуры Эрлиган окончилось раньше, чем существование государства Шан. Хотя бронзовое производство продолжало расширяться, в особенности на севере, в других областях примерно в 1300 г. до н. э. появились характерные местные стили, что свидетельствует о возрождении культурной и политической автономии в регионе Янцзы, Сычуани и на северо-востоке как раз в тот период, когда, по утверждению хроник, безраздельно господствовала Шан.
Кроме этих интригующих намеков на политическую активность, бронзовая промышленность дает некоторые сведения о природе эр- лиганского и, возможно, шанского общества. Бронза представляет собой сплав, для изготовления которого необходимы медь и олово. Эти металлы нужно было сначала найти и добыть, а затем соединить в процессе литья в особой пропорции, соответствующей размерам и типу изготовляемого сосуда. Также было необходимо большое ко¬
1 В истории Китая немало примеров, когда предметы, относящиеся к элитарному потреблению, а также связанные с ними культурные и религиозные представления и технологии распространялись значительно быстрее, чем политическая или военная власть породившей их культуры. Это характерно для стадии древних, архаических государств, чьи возможности по организации военного вторжения были невелики — в отличие от привлекательности их культурных достижений для ближних и дальних соседей.
58
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
личество топлива для печей, и, поскольку за работой литейных мастерских предположительно наблюдала «столица», вероятно, существовала значительная потребность в транспорте. Следовательно, в то время в обществе существовала не только иерархическая стратификация — оно было к тому же разделено на функциональные ремесленные группы, достаточно постоянные и находившиеся под бдительным контролем властей. Нужно было обучать и содержать квалифицированных ремесленников, мобилизовать многочисленную и вместе с тем покорную рабочую силу. Руководила производством правящая династическая клика, обеспечивавшая постоянный спрос на готовые изделия высокого качества. Металл относительно редко использовали для изготовления оружия и почти не использовали для производства инструментов или сельскохозяйственных орудий. Бронзовое литье оставалось престижной монополией взыскательной знати. Основную часть бронзового производства составляли ритуальные сосуды, и, судя по археологическим данным, многие из этих сосудов действительно предназначались только и исключительно для сопровождения высокопоставленных особ в местах их захоронения.
Огромный комплекс гробниц в Аньяне, севернее реки Хуанхэ на территории провинции Хэнань, датируется приблизительно 1200 г. до н. э. Несмотря на то что влияние эрлиганской культуры к этому времени начало сокращаться, этот неоспоримо позднешанский центр не демонстрирует никаких признаков упадка. Изученный тщательнее, чем любая другая археологическая площадка, некрополь Аньяна и циклопические фундаменты расположенного по соседству с ним города создают захватывающее, хотя и несколько мрачное представление о могуществе поздней Шан1. Самая большая гробница занимает площадь размером с футбольное поле. От тех мест, где на поле должны быть ворота и боковые линии, идут четыре наклонных спуска. Они соединяются в центре у вертикальной шахты, в основании которой находится разрушенная погребальная камера. Это крестообразное сооружение площадью около 200 кв. м и высотой 3 м уходит под землю на глубину 10,5 м. В нем было найдено пять жертвенных
1 См.: Кузнецова-Фетисова М.Е. «Великий город Шан» (XIV-XI вв. до н. э.) и его значение в древней истории Китая. М.: Наука — Восточная литература, 2015.190 с. — Прим. ред.
59
ГЛАВА 1
ям. В середине на площадке с деревянным настилом стоял саркофаг. К сожалению, грабители могил добрались туда намного раньше археологов. Погребальный инвентарь был в основном разграблен; та же участь постигла многие другие гробницы Аньяна. На сегодняшний день существует только одно достойное внимания исключение.
Скончавшаяся всего через 150 лет после фараона Тутанхамона госпожа Фу Хао, супруга одного из правителей Шан, была похоронена в Аньяне примерно в 1200 г. до н. э. и оставалась непотревоженной до 1976 г. н. э. Ее гробница небольшая и без наклонных спусков. Госпожа Хао — это имя выгравировано на лежавших вместе с ней бронзовых изделиях — возможно, была нежно любимой при жизни, но занимала слишком незначительное положение1, чтобы заслужить что- нибудь, кроме «малой гробницы» глубиной около 7,5 м. Тем не менее ее погребальная камера обставлена очень богато. Саркофаги, хотя и сильно пострадавшие от сырости, когда-то были отделаны красным и черным лаком и покрыты тканями, а стены, вероятно, украшены росписями. Большинство предметов сохранившегося погребального инвентаря первоначально находились внутри внешнего саркофага. В этом сравнительно небольшом пространстве помещались 195 бронзовых сосудов (самый крупный из которых весил 120 кг), более 270 мелких бронзовых предметов, 564 предмета из резной кости и огромная коллекция изделий из нефрита — 755 предметов, самая обширная среди найденных коллекций такого рода. «Если [более крупные] гробницы были еще богаче этой, то представить их содержимое воображение просто не в силах», — говорит Р. Бэгли [10].
В гробнице госпожи Хао было найдено шестнадцать скелетов. Они располагались внутри саркофага, вокруг него и над ним. Шанская знать не любила покидать этот мир в одиночку: в могилу их сопровождали родственники, придворные, охранники, слуги и домашние животные. Ритуал требовал, а его зрелищность, несомненно, способствовала особому размаху человеческих жертвоприношений. В больших гробницах количество жертв исчисляется сотнями2.
1 Согласно шанским источникам, Фу Хао регулярно возглавляла войска в завоевательных походах и даже имела собственную армию. Это было редкостью для шанских цариц и вовсе невообразимо для Китая более поздних времен.
2 Не всегда легко определить по обнаруженным у царской могилы скелетам, кто был принесен в жертву, а кто скончался во время постройки гробницы и был похоронен поблизости.
60
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
Одни скелеты сохранились полностью, другие расчленены или обезглавлены, у многих спилен верх черепа — возможно, его сохраняли для резьбы по кости. Вероятно, некоторые искалеченные жертвы были осужденными на казнь преступниками или военнопленными. Убийство пленников было обычным явлением, и среди скелетов встречаются разные расовые типы. Вряд ли милосердие Шан, если оно вообще существовало, «не знало принужденья» — судя по археологическим данным, оно не видело большой разницы между другом и врагом1 и в ритуальных целях расходовало жизни людей — мужчин, а иногда женщин и детей — так же расточительно, как бронзу и нефрит.
Откуда брались средства на всю эту безудержную роскошь, не вполне ясно. В тот период не происходило заметных сдвигов в сельском хозяйстве, нет сведений о крупных ирригационных работах и каких-либо важных технических нововведениях, хотя когда-то свои сторонники были у теории возникновения плужного земледелия. Торговля и завоевательные военные походы, по-видимому, тоже не играли значительной роли. Судя по всему, династия Шан просто выжимала из населения все возможные сельскохозяйственные и рабочие ресурсы. «Это приводит к неизбежному выводу, — пишет Чжан гуанчжи из Китайской академии (Academia Sinica), — что период Шан стал в этой части света началом организованной крупномасштабной эксплуатации одной группы людей другой в рамках одного общества»; кроме того, он положил начало «тиранической системе правления, которая делала такую эксплуатацию возможной» [И].
Пока члены правящих кланов вели роскошную жизнь в огромных дворцах, о грандиозности которых свидетельствуют сохранившиеся фундаменты из утрамбованной земли, «черноголовые» простолюдины2 ютились в землянках, ели из грубой глиняной посуды и возделывали поля деревянными и каменными орудиями, почти не изменившимися с эпохи неолита. Судя по состоянию многих скелетов, люди регулярно недоедали. Отдых был редким, неподчинение властям — смертельно опасным. Высокий уровень
1 Большинство шанских сообщений о человеческих жертвах называют их военнопленными.
2 Термин «черноголовые» засвидетельствован гораздо позже эпохи Шан.
61
ГЛАВА 1
культуры в Китае бронзового века был куплен дорогой ценой: яркий блеск цивилизации возникал под тяжелой рукой деспотической власти1.
ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ
Довольно суровая картина жизни в Китае во 2-м тысячелетии до н. э. может несколько измениться благодаря дальнейшим исследованиям на археологических стоянках, в последнее время открытых в отдаленных уголках страны. Например, культура Цицзя, обнаруженная в провинциях Ганьсу и Цинхай, дала не только бронзовые изделия доэрлитоуского периода, но и свидетельство существования еще одного бессмертного признака китайской цивилизации: в 2005 г. на археологической стоянке Лацзя была обнаружена «самая древняя в мире лапша», изготовленная из просяной муки и датированная приблизительно 2000 г. до н. э. [12].
Более сложные артефакты, в том числе несколько огромных бронзовых колоколов с археологических стоянок в Хубэе и Хунани, подтверждают существование в бассейне Янцзы развитого искусства и культуры. Но их затмевают находки, сделанные выше по реке, в провинции Сычуань. Два недавних открытия в Чэнду (ныне мегалополис с населением около 12 миллионов человек) и его окрестностях ставят в тупик искусствоведов и грозят подорвать сложившиеся представления о единстве традиций бронзового века. Жертвенные ямы, случайно обнаруженные в Саньсиндуе в 1986 г., и стоянка в Цзиныиа, открытая во время дорожного строительства в 2001 г., принесли огромное количество костей животных и слоновьих бивней, но ни одного человеческого скелета. А настоящей сенсацией стала находка массы бронзовых бюстов и фигурок, золотых масок и изделий из нефрита, совершенно непохожих на все, что было найдено в других областях Китая. Бронзовая статуя высотой 2,6 м (вместе с пьедесталом), датируемая 1200г. до н.э., изображает удлиненную жестикулирующую фигуру со стилизован¬
1 Не вполне понятно, откуда брались ресурсы для шанской роскоши — кроме населенности государство Шан ничем особенно не отличалось от других древних цивилизаций схожей степени развития. Богаче шанские правители жили явно не только потому, что больше угнетали свой народ.
62
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
ными чертами лица, напоминающими о традиционном искусстве ацтеков. Не имеют известных аналогов разбирающиеся на части бронзовые фруктовые деревья, похожие на гигантские столовые украшения, с листьями, похожими на персики плодами и птицами на ветвях.
Кроме того, в Саньсиндуе были обнаружены фундаменты большого города из блоков утрамбованной земли (ханту). Этот строительный метод предполагает связь с культурой Эрлитоу или Эрлиган1. В то же время весьма велик соблазн связать странные и удивительные археологические находки из Сычуани с существовавшими позднее в том же районе государствами, известными по текстам как Шу и Ба. Аналогичная связь напрашивается между находками в Хубэе и Хунани и существовавшим позднее в бассейне Янцзы царством Чу. Это позволило бы подчинить противоречивые данные общепринятой письменной традиции и поместить необъяснимые формы искусства в рамки существующих исследований.
Но самое противоречивое открытие еще не удалось уложить ни в какие рамки. В 1978 г. китайский археолог Ван Бинхуа обнаружил множество курганов в Комуле (Хами), в пустынях на востоке провинции Синьцзян. В этих местах никто не ожидал найти древнюю культуру, как-либо связанную с традиционной колыбелью китайской цивилизации: если Чэнду расположен от Пекина примерно на таком же расстоянии, как Денвер от Нью-Йорка, то Комул можно сравнить с отдаленным уголком Айдахо.
Европейские путешественники в XX веке уже замечали в этих местах похожие курганы, но не заинтересовались ими. Новые захоронения датированы примерно 1200 г. до н. э., и об их содержимом было почти ничего не известно, пока после открытия Вана не прошло еще десять лет. Именно тогда, в 1988 г., американский ученый Виктор Мэйр, руководивший экспедицией Смитсоновского института, оказался в новом отделе краеведческого музея в столице Синьцзяна Урумчи. Раздвинув служившие дверью занавески, он сделал шаг внутрь и, по его собственному выражению, «попал в другой мир».
1 Культура Саньсиндуй демонстрирует гораздо больше отличий от Шан, чем сходств с ним.
63
ГЛАВА 1
«В комнате было множество мумий! И они выглядели почти как живые! Не завернутые в метры пыльной марли усохшие выпотрошенные фараоны, о которых все сразу думают, когда речь заходит о мумиях. Нет, это были вполне обычные люди, одетые в повседневную одежду. В комнате было полдюжины тел, и все они — мужчины, женщина и ребенок — выглядели так, будто ненадолго прилегли вздремнуть и в любой момент могли сесть и заговорить с тем, кто случайно оказался рядом со стеклянной витриной» [ 13].
Мэйр был совершенно очарован. Пожалуй, как специалист по древней восточной лингвистике и литературе, он мог бы даже понять часть отрывистых реплик, слетевших с высохших губ мумий. Он дал им всем имена, а одного назвал в честь своего брата — сходство было поразительным. Этот Ур-Давид («первый Давид»), или «черчен- ский человек», лежал, положив голову на подушку и «мягко сложив на животе выразительные руки». Он был одет в штаны красивого темнобордового оттенка и шерстяную рубашку, «отделанную тонким красным кантом». На ногах у него были высокие белые сапоги, а под ними войлочные носки, «окрашенные в яркие радужные цвета».
Повинуясь той же поэтической вольности, обнаруженное на соседнем участке хорошо сохранившееся женское тело стало Красавицей из Крорайны, или Лоуланьской красавицей. Она отправилась в могилу в клетчатой накидке рогожного переплетения; когда пластический хирург восстановил ее лицо для телевизионного документального фильма, она выглядела почти презентабельно. Непреодолимое стремление наделять мумий личными чертами имело свое объяснение: для Мэйра они не только «выглядели почти как живые», они явно были похожи на него самого. Это был случай мгновенного узнавания, а затем пламенного усыновления. Американец нашел родных1.
Но именно в этом с китайской точки зрения и заключалась проблема. Таримские мумии (Тарим — название реки, которая спускалась в Таримский бассейн восточного Синьцзяна2) не относятся к монголоидной расе, а исследование ДНК подтвердило их европеоидное
1 Автор, британец шотландского происхождения, явно иронизирует. — Прим. ред.
2 Река Тарим течет и сейчас; ее длина 2137 км, а средний сток превышает этот показатель у реки Москвы. Другое дело, что большую часть года, когда ее не подпитывают тающие ледники соседних горных хребтов, обнаружить эту реку практически невозможно.
64
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
происхождение. У многих из них каштановые волосы, и по крайней мере один имел рост около двух метров. Больше всего они похожи на кроманьонцев Восточной Европы. То же можно сказать об их одежде и, вероятно, об их языке. Скорее всего, они принадлежали к протото- харской группе, древней ветви огромной индоевропейской языковой семьи, которая включает в себя кельтские, германские, греческий и латинский языки, а также санскрит, древнеиранский и множество других языков.
Мэйр и его ученики не собирались останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день обнаружено несколько сотен мумий, прекрасно сохранившихся благодаря исключительной засушливости региона и высокому содержанию щелочи в пустынных песках. Захоронения охватывают длительный период (2000 г. до н. э. — 300 г. н. э.). Предки этих людей, скорее всего, переселились из Алтайского края, где примерно в 2000 г. до н. э. процветала еще одна европеоидная культура — Афанасьевская1. Вероятно, было несколько волн миграции, в процессе которых переселенцы контактировали с иранскими народами индоевропейской языковой группы и с алтайскими народами. Поскольку и те и другие были знакомы с основами металлургии и имели множество одомашненных животных, в том числе лошадей и овец, люди, чьи мумии сохранились до наших дней, вероятно, переняли у иранских народов эти знания и передали их дальше, культурам Восточного Китая.
Поэтому, по мнению Мэйра и его коллег, коневодство, овцеводство, колесо и конная повозка, запасы необработанного нефрита и, возможно, технологии производства бронзы и железа пришли в сердцевину Китая именно благодаря этим европеоидным прототохарам. Отсюда напрашивался вывод, что европейцы, в XVII-XIX веках смущавшие Китай своим техническим превосходством, не были первыми. «Иноземные демоны на Шелковом пути» появились уже четыре тысячи лет назад, и благодаря им древнюю цивилизацию Китая не следует рассматривать как абсолютно уникальную «вещь в себе». В действительности она, скорее всего, была настолько же подражательной и не более самобытной, чем большинство других цивилизаций.
1 См.: Грязное М. П. Афанасьевская культура на Енисее. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — Прим. ред.
65
ГЛАВА 1
Излишне говорить, что китайским ученым крайне трудно согласиться с этой точкой зрения. Даже если отложить в сторону уязвленный патриотизм, на кону стояла национальная интеграция. «Синьцзянские сепаратисты» (предпочитавшие называть себя уйгурскими националистами) с готовностью приняли выводы Мэйра, которые помогали им обосновать свое стремление к независимости и оспорить претензии Пекина, утверждавшего, что их провинция исторически является частью Китая. Мумии оказались втянутыми в политику. Власти Китая, обнаружили, что их подозревают в умышленной халатности при консервации мумий, саботаже исследований, замалчивании их выводов и сокрытии доказательств, в том числе уже обнаруженных мумий.
Разгоревшиеся страсти сейчас постепенно начали утихать. Уйгуры — тюркоязычный народ, поселившийся в Синьцзяне не ранее VII века н. э. и исповедующий ислам. Вряд ли можно утверждать, будто они имеют много общего с энеолитическими европеоидами, жившими во 2-м и 1-м тысячелетиях до н. э. и говорившими на индоевропейском языке, о чьих верованиях нам практически ничего не известно. Предки уйгуров могли вступать в браки с поздними носителями тохарского языка, но с тем же успехом они могли уничтожить этот народ. Более того, Китайская Народная Республика не настаивает на существовании единого китайского народа или единой исторически определенной территории. Уйгуры, тибетцы и другие этнические меньшинства имеют веские причины возмущаться ханьским шовинизмом, однако история может быть ненадежным союзником.
Более интересный вопрос — действительно ли люди-мумии участвовали в распространении технологий и сырья. Основным источником нефрита для Китая всегда служил горный хребет Куньлунь в Южном Синьцзяне. Было установлено, что нефрит, изделия из которого найдены, в частности, в гробнице госпожи Хао, добыт в Куньлуне, а значит, народы, населявшие промежуточные регионы, вполне могли участвовать в его поставке. Меньше ясности с металлургией. Люди афанасьевской культуры изготавливали небольшие медные инструменты, но, согласно последним исследованиям, «выплавка и литье металла им были неизвестны» [14]. Судя по артефактам, которые на данный момент соотносят с мумиями, оставившие их народы тоже этого не умели. При этом известно, что железо появилось в китайской истории около 900 г. до н. э. именно в Синьцзяне.
66
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
Другое дело лошади, верховая езда и колесницы. Они, как и нефрит, почти наверняка были заимствованы китайцами у среднеазиатских соседей. Колесницы, иногда вместе с лошадьми и возничими, впервые появились в Аньяне (около 1240-1040 гг. до н. э.) и других захоронениях периода Шан. Найденные там огромные колеса с множеством спиц были объявлены первыми в Китае колесами, а лошади — первыми в Китае тягловыми животными. Никаких свидетельств развития колесного транспорта или верховой езды в Китае до этого периода не найдено. Но предположение, что эти навыки действительно пришли в Китай из-за рубежа, не означает, что они были заимствованы именно в Синьцзяне. Как мы убедимся дальше, скорее всего, их переняли у соседей из Монголии.
ИЗРЕЧЕНИЯ ОРАКУЛА
Пока археологические стоянки в Синьцзяне и Сычуани не изучат подробнее, догадки будут перевешивать достоверные факты, оставляя обширное поле для домыслов. В то же время широко раскинувшийся археологический городской комплекс в современном Аньяне в провинции Хэнань уже подвергся исчерпывающим раскопкам. Он находится в самом сердце Китая, и здесь археологи могли наверняка рассчитывать на потрясающие находки.
Говорят, первый интерес к этим местам возник, когда в 1899 г. выяснилось, что один аптекарь из Пекина снабжает больных малярией лекарственным порошком, будто бы истолченным из костей дракона. Разумеется, такого количества драконов в Китае никогда не водилось — на самом деле это были лопатки крупного рогатого скота и пластроны (брюшные щитки) от черепах. Но они имели достаточно древний вид, а на некоторых было нацарапано нечто вроде надписей. Это открытие сделал страдавший малярией больной, чей брат оказался известным ученым, специалистом по древнекитайским текстам. Когда он изучил знаки на костях и понял, что они подозрительно похожи на иероглифы, найденные на бронзовых изделиях позднего периода Шан, за костями началась охота.
После множества уклончивых бесед и долгой слежки было установлено, что кости и панцири поставляют жители деревень в окрестно¬
67
ГЛАВА 1
стях Аньяна. Казалось, их запасы там неисчерпаемы. Коллекционеры- любители, в том числе иностранцы \ обнаружили на удивление много костей с нацарапанными иероглифами в антикварных магазинах Пекина, и, поскольку эти иероглифы можно было перенести на бумагу, используя эстампы, а затем попытаться расшифровать, знатоки всего мира надолго обеспечили себе увлекательное занятие. Между тем поставщики, вместо того чтобы соскабливать каракули, снижавшие стоимость хороших «костей дракона», начали, наоборот, углублять их, чтобы выгодно продать на рынке диковин. «На одну подлинную кость приходится сотня подделок», — описывал ситуацию в 1935 г. историк Хэрли Г. Крил. Коллекции костей, «среди которых не было ни одной подлинной», «скупались за многие сотни долларов» [15].
К счастью, все это не смутило археологов. Раскопки в Аньяне начались в конце 1920-х гг. и с перерывами на войны и революции продолжались в 1930, 1950 и 1970-х гг. Ожидания, что эта археологическая площадка окажется культовым центром периода Шан, вполне оправдало обнаружение монументальных фундаментов более пятидесяти крупных зданий и сенсационные находки гробницы размером с футбольное поле и роскошного погребального инвентаря госпожи Хао. Таким образом, существование государства Шан, чья историчность раньше вызывала не меньше сомнений, чем Ся, было самым надежным образом удостоверено, письменная традиция получила подтверждение, а археологию признали ключом к дальнейшему обоснованию господства и превосходства Северного Китая в отдаленном прошлом.
Как отмечалось, этим надеждам не суждено было полностью сбыться. Дальнейшие открытия в других областях Китая с одинаковой частотой то подтверждали, то перечеркивали бережно хранимые традиции. Но по крайней мере «кости дракона» ученых не разочаровали. Новые находки и кропотливый анализ процарапанных надписей позволили сделать вывод, что шанская знать действительно была образованной и что современная китайская письменность уникальна, поскольку действительно является прямой наследницей письменности, которую использовали во 2-м тысячелетии до н. э. Более того, установили, что документальная история Китая начинается не с набора за¬
1 Честь первых открытий, связанных с определением времени создания текстов и их жанра, принадлежит китайским ученым и коллекционерам.
68
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
гадочных рун и не с бесконечного гомеровского эпоса, а с предельно утилитарного, официального и явно бюрократического архива (хотя и начертанного на панцирях и костях). Надписи на костях раскрыли красноречивые подробности сложной системы правления и церемониала эпохи Шан, что, предвосхищая дальнейшие тенденции, добавило лишний аргумент к претензиям Китая на три или четыре, если не на все шесть тысяч лет непрерывно существующей цивилизации.
На данный момент в распоряжении ученых находится более ста тысяч фрагментов, составляющих около семи тысяч лопаток и пластронов, большинство из которых считаются подлинными. Более четверти из них происходят из одного и того же места, что позволяет предположить их осознанное хранение в специальном «архиве». Датировка костей охватывает около трех тысяч лет, начиная с конца 4-го тысячелетия до н. э. (культура Луншань) и заканчивая периодом правления государства Чжоу в начале 1 -го тысячелетия до н. э. Однако использование костей было стандартизировано, и их стали ценить как средство записи именно в государстве Шан, столицей которого около 1300 г. до н. э. стал Великий город Шан на территории современного Аньяна. В эпоху Шан черепашьи пластроны впервые начали использовать вместе с лопатками животных, а затем и вместо них1. Может быть, пластроны как более редкий материал лучше отвечали духу царственного искусства предсказания; может быть, черепахи как исключительно долгоживущие животные считались более подходящим символом; а может быть, трещины на пластронах просто получались более четкими. Именно в эпоху Шан возник обычай предварительно просверливать на костях и пластронах небольшие углубления в определенном порядке и иногда нумеровать их, создавая своего рода «маркированный список», в котором огонь затем должен был оставить свои пометки. Наконец, именно в эпоху Шан возник обычай записывать рядом с каждой трещиной краткое содержание гадания, включая дату и имя предсказателя, а также хранить — можно даже сказать «подшивать» — обработанные «документы».
Ни одно из этих достижений не следует недооценивать. Добиться, чтобы кость или пластрон покрылись аккуратными трещинами, было
1 Большинство шанских гадательных костей — лопатки крупного и мелкого рогатого скота; но черепашьи пластроны, очевидно, считались более ценным материалом, и их старались использовать при особо важных гаданиях. Некоторые ученые считают, что структура пластронов, самой природой размеченная на квадраты, повлияла на технологию шанского гадания.
69
ГЛАВА 1
ничуть не проще, чем истолковать результат гадания. Недавние эксперименты, в основном с костями животных, не дали обнадеживающих результатов. Японский ученый, как-то пригласивший коллег на барбекю, поставил эксперимент с угольными брикетами, раскаленной кочергой и лопаточной костью, предварительно просверленной на стандартную глубину. У него ничего не получилось. «Мне надоело возиться, — говорит он, — и я бросил чертову кость в груду угля... Предсказание оказалось неблагоприятным». Затем, когда тлеющая кость начала издавать неприятный запах, он вынул ее из углей. И когда он это сделал, кость начала трескаться. «“Чпок! Чпок! Чпок!” — это было страшно. Нам удалось реконструировать древний китайский способ гадания!» Впрочем, позволим себе не согласиться — в эпоху Шан все это явно происходило совсем не так Кость, с которой экспериментировал японский ученый, обуглилась и совершенно не годилась для «прочтения» или комментирования. Ученые пришли к выводу, что в эпоху Шан гадальные кости были лучше высушены, а огонь, возможно полученный от сжигания дерева маслянистых лиственных пород, был намного жарче1 [16].
Исходя из разумного допущения, что найденные на сегодня залежи костей и пластронов составляют лишь небольшую часть первоначального архива, другой ученый предположил, что правители Шан советовались со своими богами ежедневно [17]. Ритуал обычно проходил в одном из праотцовских залов под музыку, воскурение благовоний, подношение еды и напитков и, возможно, жертвоприношение животных. Вероятно, его торжественности ничуть не мешали частота повторений и заурядный характер задаваемых вопросов.
Поскольку навык «чтения» пророческих трещин был совершенно утрачен следующими поколениями, все, что нам об этом известно, основано на поясняющих надписях, которые удалось разобрать ученым. Эти надписи были сделаны на костях и панцирях после обжига, как можно ближе к соответствующей трещине. Вначале их записывали тонкой кистью, затем процарапывали ножом, а получившиеся царапины заполняли краской. Так или иначе (для того чтобы сверяться с ними в будущем или в демонстративных целях), правители Шан явно хотели, чтобы записи имели впечатляющий вид.
1 Обычно считается, что трещины образовывались при прикладывании к просверленным в кости отверстиям раскаленного металлического прута.
70
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
В ходе современных попыток прочесть надписи на гадательных костях было выделено около четырех тысяч отдельных знаков архаичного китайского письма; около половины из них были «переведены или идентифицированы с разной степенью уверенности». «Нет никаких сомнений в том, что язык этих надписей — китайский» [18]. Некоторые иероглифы по характеру ближе к пиктограммам, но во многих прослеживаются их более поздние формы и, как в классическом китайском, они расположены столбцами и читаются сверху вниз. Что особенно важно, каждый иероглиф по отдельности обозначает некое понятие, а не звук, входящий в состав слова, выражающего это понятие, как в большинстве других языков1. Наконец, многое в самих иероглифах и их грамматическом соотношении подтверждает, что эта система письма возникла за некоторое время до описываемого периода. Возможно, более ранние записи не сохранились, поскольку их делали на менее долговечных материалах — бамбуке, древесной коре или ткани. Но, судя по всему, две отличительные особенности китайской цивилизации — особая ценность образования и уникальная система письменности — имеют долгую историю, начавшуюся еще до аньян- ской (ок. 1240 — ок. 1040 гг. до н. э.) и, вероятно, даже до шанской эпохи (приблизительно 1750-1040 гг. до н. а). Не исключено, что несколько пока не окончательно распознанных иероглифов на камне, относящихся к неолитическому периоду, в будущем смогут это подтвердить2.
Учитывая трудности перевода и неизбежно «стенографическую» форму записи, обусловленную естественными свойствами гадательной кости, удивительно, как много надписей удалось расшифровать. Чаще всего встречаются «вопрошания»3, требующие простого под¬
1 Специалисты полагают, что большинство шанских знаков как раз передают звучание слов. Пиктограммы и идеограммы, изображающие передаваемое понятие, составляют не столь значительную часть.
2 Ученые обнаружили довольно много знаков (прежде всего на керамике), относящихся к временам культур Яншао, Луншань, а также культур бассейна Янцзы (например, Лянчжу). Однако все они, вероятно, могут считаться только протописьменностью: ими можно было обозначать имя мастера или владельца сосуда, какие-то объекты, но передать звучащую речь со всеми ее грамматическими тонкостями эти знаки (обычно встречающиеся по два-три или вовсе в одиночестве) не могли. Скачок от протописьменности к собственно письменности Шан пока проследить не удается.
3 В шанском языке не было маркеров вопроса. Возможно, он выражался интонационно.
71
ГЛАВА 1
тверждения из иного мира, например: «Сегодня не будет никаких бедствий» или: «В ближайшие десять дней [продолжительность шанской «недели»] не случится никаких бедствий». Желаемый «ответ» на такие вопросы — иероглиф, означающий «благоприятно» или «утвердительно» (трещина прочитывалась как положительный ответ на заданный вопрос — да, сегодня не будет никаких бедствий). Нередко для большей ясности вопрос дополнительно формулировали в отрицательной форме: «На следующий день... [мы] не должны предлагать подношения предку И» — и вслед за этим: «На следующий день... мы должны сделать подношения предку И». Таким образом, если первый ответ оказывался непонятным, второй мог его прояснить. Иногда задавали вопросы, предполагающие множественный выбор: «Фу должен отправиться с инспекцией в округ Линь, либо это должен сделать Цинь, либо это должен сделать Бин». «Положительный» ответ на любой из вариантов решал дело [19].
«Вероятно, правитель так часто обращался к гаданиям именно из-за того, что ему требовалось предсказать очень многое», — считает Дэвид Кейтли [20]. Буквально всё: от капризов погоды до причин царской зубной боли, от благоприятного дня охоты до перспективы победы над врагом — необходимо было обсудить со сверхъестественным собранием богов и предков. Правитель явно считался ключевой персоной в абстрактной бюрократической иерархии: низшие, земные отделы состояли из родственников и подчиненных с их собственными местными полномочиями, а высшие, небесные отделы — из предков и богов, обладающих всеобъемлющими и более точными знаниями, — и обращаться к ним мог только правитель посредством гадания. «Живые и мертвые, таким образом, были вовлечены в общий ритуально структурированный разговор, в котором союзники и чиновники правителя Шан подчинялись ему, а правитель точно так же подчинялся своим предкам...» [21]
Хотя у предков, духов и богов была собственная иерархия, различить их порой нелегко. К главному божеству Ди обычно обращались косвенно — возможно, его считали прародителем правящей династии Шан (а может быть, и нет). Но к концу периода он, похоже, впал в немилость, а при династии Чжоу был полностью забыт. Кроме него советовались с другими духами, отвечавшими за посевы и реки, а также с правившими в былые времена царственными предками и несколькими Великими властителями, не считавшимися предками
72
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
правителя. К ним можно было обратиться за помощью или попросить их о ходатайстве перед Ди. От предков особенно ожидали лояльности — они должны были участвовать в земных заботах потомков также активно, как и при жизни. Возможно, найденные в царских гробницах еда и напитки в ритуальных бронзовых или керамических сосудах должны были не только обеспечить умершего пропитанием, но и дать ему средство сыграть роль посредника, совершив собственные ритуальные подношения.
Многие предки в комментариях к гаданиям названы по имени. Именно отождествляя имена некоторых из них с именами правителей из более поздних текстов, ученые смогли подтвердить историчность государства Шан. Но если предки обычно стояли на стороне правителей Шан, остальное сверхъестественное собрание вовсе не стремилось одобрять и поддерживать все их начинания. Царские во- прошания нередко получали отрицательный ответ, а властитель Ди отличался особенно суровым нравом. Он мог подстрекать врагов Шан вместо помощи в борьбе с ними или наслать бедствия вместо их предотвращения. Известный пример связан с госпожой Хао, которую надписи называют супругой правителя У-Дина (это она покоилась в роскошно обставленной гробнице, найденной в целости и сохранности в Аньяне). Когда госпожа Хао забеременела, У-Дин надеялся, что родится мальчик (власть в Шан передавалась по мужской линии), и, разумеется, обращался с этим вопросом к богам. Однако его вопро- шание «Роды госпожи Хао пройдут благополучно» не принесло желаемого ответа. По трещинам У-Дин смог прочитать только, что «если она родит в день дин, удача будет длительной». Предсказание казалось слишком расплывчатым, и император решил попытаться снова. Реакция по-прежнему была неоднозначной: теперь удачи можно было ждать, только если ребенок родится в день дин или в день гэн — что-то вроде четверга и субботы в десятидневной неделе Шан. Прогнозы были не слишком благоприятными, и, разумеется, они оправдались: «Через 31 день, в день цзя-инь, она (госпожа Хао) родила, и это было плохо: на свет появилась девочка».
Подобные примечания, добавленные к предсказанию через некоторое время, сравнительно редки. Иногда отмечали, что прогноз погоды оказался точным («Дождь и вправду был»), а охота — удачной (перечислена добытая дичь). Но исход более важных дел, например войн, часто оставался до конца неясным. Видимо, торжественное ис¬
73
ГЛАВА 1
полнение ритуальных совещаний с божествами было куда важнее, чем точность или польза их ответов. Главной целью этих действий было возвысить государство Шан и всех ее живущих и почивших представителей, продемонстрировать вассалам, подданным и неприятелям древность и высокое положение царского рода и то, с каким усердием правитель вовлекает его в свои дела.
В условиях физически и политически враждебного формированию протогосударства и сложной культуры окружения подобные демонстрации были необходимы. Известно, что во 2-м тысячелетии до н. э. климат в бассейне реки Хуанхэ был более теплым и влажным, чем в наши дни. Средняя температура на 2-4 °С превышала нынешнюю, кустарники и леса росли намного гуще, но зимы, вероятно, были такими же холодными. Люди выращивали в основном просо, может быть, пшеницу, редко рис. Вероятно, из-за морозов пресноводные черепахи в государстве Шан не водились, и их пластроны приходилось добывать у южных соседей; если удавалось достать живых черепах, их держали в прудах, но, видимо, не разводили. Было много дичи — буйволы, кабаны, олени и тигры (скорее всего, уссурийские). Тропические диковинки, такие как слоны и павлины, упоминаются редко. В письменных источниках следующего государства, Чжоу, говорится, что реки замерзали так основательно, что по льду могла перейти армия. Ранние осенние снегопады и поздние весенние заморозки считались обычным явлением в сельском хозяйстве и были одинаково важны и для крестьян, и для правителей, поскольку любое природное бедствие можно было истолковать как политическое предзнаменование.
Другие очаги цивилизации Древнего мира в долинах Нила, Тигра и Евфрата или Инда, где рано развилась письменность и появились города, не испытывали подобных трудностей. Там с наступлением тепла разливались реки, щедро орошая поля, а когда становилось прохладнее, выручали ласковые дожди1. В располагавшемся же на 5-10 градусов широты к северу Китае никаких тепличных условий не существовало. Здесь жизнь была суровой, а выживание давалось людям с трудом. Ирригация в эпоху Шан была почти неизвестна, рассчитывать на стабильные урожаи не приходилось, и важное место
1 В Египте и Месопотамии дожди шли редко. В Двуречье боялись града: «Если Адад побил поле...» (Законы Хаммурапи, § 45,47). — Прим. ред.
74
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
в рационе занимало мясо диких животных и домашнего скота1. Возможно, мы не слишком погрешим против истины, предположив, что люди Шан так искусно обращались с огнем, плавили бронзу и обжигали гадальные кости именно благодаря опыту, который приобрели, запасая топливо или сидя долгими холодными ночами вокруг раскаленного очага.
Политический климат был ничуть не благоприятнее природного. К позднему периоду правления Шан обычно относят термин «раздробленное государство»: это значит, что вассалов, которые непосредственно подчинялись правящей династии, было немного, но тех, кто находился в подчинении у этих вассалов, могло быть значительно больше2. Вассалов и союзников связывали с царями Шан узы родства: они были сыновьями или братьями правителей и их потомками3. Они тоже соблюдали ритуалы Шан и, в свою очередь, черпали в них силу. Они почитали тех же богов и предков, придерживались тех же погребальных обрядов и, несомненно, пользовались той же письменностью и календарем. Но общие интересы вовсе не гарантировали их непоколебимой верности центральной власти и не мешали им самостоятельно действовать на местах.
Между властными центрами Шан были рассеяны многочисленные «варварские» поселения, вероятно говорившие на другом языке и сохранявшие частичную или полную (и порой грозную) независимость. Их присутствие делало владения Шан мозаичными, а границы не до конца определенными. Внутригосударственные связи были родственными, а не территориальными. Географические и династические наименования, встречающиеся в гадательных надписях, позволяют заключить, что в конце 2-го тысячелетия до н. э. владения Шан занимали лишь северную часть нынешней провинции Хэнань и юго- восточную часть Шаньси. Вокруг лежали другие раздробленные государства, многие из которых были не слабее Шан и имели собственное
1 Мясо как диких, так и домашних животных регулярно попадало лишь на стол знати: у крестьян не было ни досуга для охоты (к тому же даже в те времена мест, где могли бы жить дикие животные, в весьма населенной долине Хуанхэ, было совсем немного), ни лишних пастбищ для разведения большого числа скота. Основой рациона шанцев были выращенные ими злаки и овощи.
2 Раньше такую структуру называли феодальной, но ныне это слово вышло из научной моды.
3 Данных о родстве шанских ванов и подвластных им князей хоу почти нет.
75
ГЛАВА 1
бронзовое производство и, возможно, литературу. Маленькое и уязвимое государство Шан было в лучшем случае первым среди равных, а в XI веке до н. э., видимо, утратило и это преимущество.
Существование раздробленного государства Шан, в котором раздробленность, пожалуй, перевешивала государственность, в то время во многом зависело от личных усилий правителя. Судя по данным предсказаний, правители позднего периода Шан хорошо это понимали. Они не только соблюдали плотный график ритуалов, но и, как неоднократно отмечается в надписях на костях, «совершали поездки»: выезжали охотиться, сражаться, наблюдать за ведением сельского хозяйства и наводить порядок в своих владениях. Кроме того, они переносили свою «столицу» (или культовый центр), когда прежнее место переставало быть благоприятным, обычно из-за угрозы со стороны врагов или природных бедствий. Как часто это происходило, неясно, поскольку столица независимо от ее местоположения всегда называлась просто «это место» или «Шан» (позднее «Инь»)1. В более поздних текстах упоминаются семь переездов с места на место, из которых Аньян был, конечно, не первым, но мог быть последним. Весьма меткую формулировку предложил Дэвид Кейтли, назвавший царство Шан «бродячим» [22].
Но даже при завидном долголетии правящей династии, при всем великолепии захоронений, раннем развитии технологий, сложности ритуалов и могуществе деспотичной власти позднее царство Шан оставалось всего лишь местным протогосударством, одним из многих. Возможно, оно обладало значительным влиянием до 1200 г. до н. э., но вряд ли после. Оно никоим образом не предвосхитило появление единой великой империи тысячу лет спустя. Тем не менее к 1046 г. до н. э. (в настоящее время это наиболее вероятная дата поражения Шан от государства Чжоу) оно обладало рядом культурных особенностей, которые воспринимаются как типично и даже исклю¬
1 Инь — это термин (возможно, довольно нелицеприятный), использовавшийся соседями шанцев. Что касается склонности к частому переносу столицы, то этот вопрос, хоть и имеет довольно солидную историографию, по-прежнему неясен. Возможно, немалая часть облика «бродячего» государства базируется на летописях, написанных спустя столетия после падения Шан и решавших задачи совершенно иной эпохи. Стоит отметить, что мы не знаем, как шанцы называли свои первые столицы: все гадательные надписи относятся лишь ко времени существования последней из них.
76
ОТ ОБРЯДОВ К ПИСЬМЕННОСТИ. ДО 1050 Г. ДО Н. Э.
чительно китайские, и вполне возможно, именно поэтому в более поздней письменной традиции именно Шан была избрана для включения в общую преемственность династий.
Речь идет прежде всего о повышенном внимании к родословной и родственным связям, о поклонении предкам, соблюдении ритуалов и календарной системе. Кроме того, Кейтли отмечает в ритуальных мероприятиях Шан одну особенность, которая позднее наложила отпечаток на всю китайскую философию и религию, — ее «характерную посюсторонность» [23]. Предки и боги играли в человеческих делах практическую роль, их не считали далекими и непостижимыми, им не приписывали невообразимых деяний, таких как сотворение мира или объявление нравственных «заповедей» — они были рядом, в своих гробницах и храмовых табличках, с ними можно было советоваться, призывать их к действию или пользоваться в собственных интересах их примером, мудростью и влиянием.
Бронзовое литье и поразительные художественные достижения эпохи Шан доказывают, что уже в глубокой древности в Китае существовал технический прогресс и развитое искусство. Но, как теперь ясно, этими признаками цивилизации обладало не только Шан — чего никак нельзя сказать о письменности. Более трех тысяч лет назад в государстве Шан использовали систему письма, которая и сегодня остается узнаваемо китайской, что само по себе примечательно, и которая к тому же вполне могла иметь долгую доаньянскую историю. Практическое применение письменности в государстве Шан имеет для нас особое значение. С самого начала она была поставлена на службу бюрократии: ее использовали для записи официальных событий, то есть для создания исторической документации. И в 1-е тысячелетие до н. э., в новую эпоху письменных источников, образованность, власть и история вступили рука об руку.
2
Мудрецы и герои
(около 1050 — около 250 г. до н. э.)
СЛЕДЫ САНДАЛИЙ ЧЖОУ
Чжоу, последнее из трех великих доимператорских государств (Ся, Шан, Чжоу), вытеснило Шан из нижнего течения Хуанхэ приблизительно в 1046 г. до н. э. Восемьсот лет спустя династия по-прежнему правила в этом регионе. В ходе этого династического марафона один за другим успели смениться тридцать девять правителей, в основном передававших власть от отца к сыну. Ни одна из правивших позднее династий Китая не продержалась больше половины этого срока. Можно сказать, Чжоу принадлежит мировой рекорд по продолжительности династического стажа1.
ПРАВИТЕЛИ РАННЕЙ (ЗАПАДНОЙ) ЧЖОУ, (ок. 1046-770 гг. до н. э.)
1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920
1 Не стоит забывать про династию японских императоров, согласно традиции правящую уже более двух с половиной тысяч лет (из которых полторы тысячи подтверждены письменными источниками).
78
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
Восемь веков правления одной династии едва ли могли пройти без фундаментальных перемен. В течение этого долгого времени наука и культура пережили расцвет, благодаря которому появились первые классические тексты Китая. Значительные изменения претерпели общественный уклад, управление государством и военное дело. История постепенно выбралась из темных погребальных камер и наполненных костями жертвенных ям на задокументированный свет дня. Даты перестали быть приблизительными, территории — разрозненными, места сражений можно указать, а за поворотами военной фортуны — проследить. Появились монеты, строились общественные сооружения — оборонительные стены, системы орошения полей и защиты от наводнений1. Горизонты расширились. Возникли новые города, возделывалось больше земель. В лаконичных текстах появились узнаваемые личности, которые строили карьеру. Родство и происхождение больше не служили необходимым условием для государственной службы: профессиональные стратеги и дипломаты активно предлагали свои услуги и склоняли чаши весов власти в свою пользу. Зародившиеся при дворе бюрократические порядки распространились на гражданскую и военную администрацию. Ритуал пережил своего рода революцию. Подчиненные территории подражали могущественной Чжоу, одновременно агрессивно конкурируя друг с другом. Процесс формирования государственности шел, пожалуй, даже слишком успешно.
1 Все эти постройки, хотя, конечно, в гораздо меньшем масштабе, появились еще во времена неолита.
79
ГЛАВА 2
Самые славные достижения Чжоу сосредоточены в начале ее исторического пути. На первых государей взирали как на идеальный образец справедливого и добродетельного правления, их деяния изучали внимательнее и приводили в пример чаще, чем деяния любых других правителей в истории Китая. Последних царей Чжоу вспоминают обычно только в связи с их великими современниками. То была эпоха Конфуция и других мудрецов, время рождения китайской философии, плодотворная пора абстрактных рассуждений и рационального анализа. Долгие столетия правления Чжоу делятся, как в Древней Греции, на героический и классический период. Для китайской цивилизации это были судьбоносные времена.
Тем не менее в некоторых исторических трудах с ними расправляются довольно быстро. Одна солидная и уважаемая книга умудрилась втиснуть восемь столетий истории Чжоу ровно в столько же страниц, из которых большая часть отведена объяснению китайской письменности и экскурсам в мировую историю [1]. Чжоу заслуживает гораздо большего, хотя следует признать, ее история действительно недостаточно документирована сохранившимися текстами. «Это лишь слабые следы сандалий правителей древности, — сказал Лао-цзы, родоначальник даоского учения, в беседе с Конфуцием, записанной в IV веке до н. э. в книге притч «Чжуан-цзы». — Они ничего не расскажут нам о той силе, что направляла их [древних правителей] стопы... Следы, оставленные сандалиями, ничтожнее, чем даже сами сандалии» [2].
Это далеко не единственная проблема, встающая перед историками. Появились тексты, и вместе с ними у китайских летописцев — привычка именовать, а затем переименовывать («исправлять имена») или вторично присваивать те или иные наименования людям, понятиям и явлениям. Редкий иностранный читатель не отшатнется при виде нагромождения одинаковых имен, титулов и географических названий. И, увлеченный мыслью, что Китаю предначертано стать единой империей, он будет стараться побыстрее проскочить загадочную Чжоу и скорее встретиться с уничтожившей ее соперницей — империей Цинь и триумфатором Цинь Ши-хуанди, Первым императором.
Справедливости ради следует отметить, что правление Чжоу, несмотря на протяженность, не всегда было славным. Далеко не все правители Чжоу отличались предприимчивостью, поражений на их счету в целом было больше, чем побед, а расширение довольно быстро сменилось отступлением. Можно сказать, что из восьми столе¬
80
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
тий правления Чжоу лишь одно пришлось на утверждение занятых позиций, а остальные семь веков они постепенно утрачивали приобретенное. Неуклонно теряя территории, подданных, ресурсы и влияние, Чжоу в конце концов сохранили за собой лишь свой законный титул. Если бы государство Чжоу было империей, его затянувшийся упадок можно было бы сравнить с падением Рима1. Возможно, Китаю нужен был хаос последних столетий Чжоу, чтобы оценить преимущества порядка и согласиться на жертвы, которых требовала предпринятая царством Цинь попытка объединить страну. Хотя не исключено, что многовековое правление Чжоу рассказывает иную, пусть и более спорную историю: беспрецедентно долгое правление одной династии, расцвет философии и интеллектуальной деятельности и довольно слабая внутренняя борьба никак не доказывают необходимость срочной централизации. Напротив, они говорят о том, что конгломерат местных союзов, развивавших локальные культурные традиции, отличался жизнеспособностью. Отклонением была империя, а не конкуренция множества царств.
По иронии судьбы сами цари Чжоу, стремясь закрепить первоначальный успех, подготовили почву для своего окончательного падения. Их происхождение не вполне ясно, но в XII веке до н. э. они утвердили свою власть на территории провинции Шэньси в долине реки Вэйхэ, притока Хуанхэ, окруженной плодородными землями и дорогами (в наше время вдоль Вэйхэ проложены главные ветки железной дороги с востока на запад) и пробивающейся через равнины и пустыни Шэньси. Некогда это были западные границы владений Шан, и здесь Чжоу, вероятно, контактировали с приграничным прототибетским народом цян2. Правители Чжоу выбирали невест из народа цян, и при поддержке цянов предводитель Чжоу (посмертно получивший титул вана и храмовое имя Вэнь) бросил вызов государству Шан. Во время
1 Отсылка к классическому труду Э. Гйббона «Упадок и разрушение Римской империи» (1776-1788), в котором начало повествования идет от династии Антонинов (II век н. э.) до XVI столетия. — Прим. ред.
2 Мы слишком мало знаем о цянах, чтобы уверенно говорить об их родстве с тибетцами. Некоторые ученые связывают этих врагов Шан (и излюбленных объектов их жертвоприношений) с упомянутой выше гансуской культурой Ци- цзя. Видимо, на северо-западных границах Шан обитал целый конгломерат народов, связанных культурно и лингвистически как с будущим Китаем, так и с Центральной Азией. Возможно, они участвовали в этногенезе тибетцев (как, впрочем, и китайцев), на которых затем китайские авторы перенесли их название.
81
ГЛАВА 2
третьей вылазки на восток в долине Хуанхэ сын и наследник Вэнь-вана У-ван вступил в битву с правителем Шан в месте под названием Муе. Согласно последним расчетам, это произошло в 1046 г. до н. э. Силы Чжоу одержали победу, царство Шан было разгромлено, и его правитель покончил жизнь самоубийством. Подавив остатки сопротивления, чжоуский У-ван вернулся к себе домой, в долину Вэй (близ Сианя, на сегодняшний день еще одного города с шестимиллионным населением) и скончался там через два года после одержанной победы.
Позднейшие комментаторы, оглядываясь назад во всеоружии ретроспективного анализа и, разумеется, кое-где избирательно прикрывая глаза в интересах современности, нашли удобное объяснение этого успеха. Государство Чжоу заслужило благорасположение Неба своей выдающейся добродетелью, в то время как царство Шан утратило его в силу крайнего упадка нравов. Пьянство, кровосмесительные связи, каннибализм, похабные песни и изуверские наказания наполняют список ритуальных нарушений и правительственных упущений, вмененных впоследствии в вину последнему правителю Шан. Добродетель, которая некогда привела к возвышению Шан, покинула его, и вместе с ней династия лишилась права на власть. Государства совершают циклическое движение, подобно временам года и планетам: они возвышаются и приходят в упадок согласно высшей воле Неба. Царство Шан было обречено, поскольку Небо передало его земной «мандат» более достойной и более добродетельной династии. Поражение в Муе было неизбежно — и, вероятно, выиграть эту битву действительно ничего не стоило.
Впрочем, концепция Небесного мандата, или Небесного повеления (тянь мин) для Шан оказалась новостью. Судя по надписям на гадальных костях, жители Шан считали верховным божеством сурового и внушающего трепет Ди. О Небе как безличной и непогрешимой верховной власти в надписях ничего не говорится. Очевидно, именно чжоусцы, некоторое время еще почитавшие Ди, положили начало этой новой «зачаточной историософии», которая впоследствии обрела большое значение для легитимации каждой следующей династии и стала краеугольным камнем существования Китайской империи [3]. Согласно толкованию Чжоу-гуна, младшего брата покойного правителя У-вана, земную власть даруют Небеса — безличная высшая сущность. Право на власть подтверждается вручением Небесного мандата, срок действия которого конечен и в определенной степени зависит от добродетельного поведения его обладателя.
82
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
Сама эта фраза — «Небесный мандат» — впервые прозвучала в ходе полемики, освещенной в «Шу цзине» и развернувшейся после скоропостижной кончины У-вана около 1043 г. до н. э. Старший сын У-вана, будущий правитель Чэн-ван, в тот момент был слишком молод и неопытен, чтобы немедленно принять бразды правления. Поэтому был собран регентский совет, и Чжоу-гун, многоопытный политик и брат покойного У-вана, принял назначение при поддержке одного из своих единокровных братьев и молодого правителя. Но это тройственное соглашение возмутило других братьев царя Чжоу, которые вступили в сговор с недовольными представителями побежденного царства Шан и отказались признать законность нового правления. Государство Чжоу, стоявшее на пороге власти над огромными новыми территориями, вполне могло обойтись без кризиса престолонаследия, хотя он в конечном итоге стал «судьбоносным не только для Западного Чжоу, но и для истории китайской государственности в целом» [4].
В свете надвигающейся междоусобицы молодой правитель Чэн- ван, несомненно, под присмотром доблестного Чжоу-гуна решил посоветоваться с предками и обратился к гаданию на черепашьем панцире. Дед Чэн-вана Вэнь-ван поступил так, когда чжоусцы впервые выдвинули претензии на власть. Тогда Небо улыбнулось «нашему стремлению возвысить нашу маленькую землю Чжоу». Другими словами, гадание подтвердило правильность намеченных действий. В этот раз ответ тоже оказался обнадеживающим: на вопрошание, следует ли выступить против повстанцев, трещины ответили утвердительно. «А посему я уверенно поведу вас воевать на восток, — заявил молодой правитель. — На Небесный мандат не следует слишком полагаться, однако гадание указывает на благоприятный исход дела» [5].
Война началась, и, поскольку мятежным братьям принадлежали земли, когда-то составлявшие центральную область государства Шан, войска правителя Чжоу снова прошли маршем на восток вдоль Хуанхэ, обращая врага в бегство, и на этот раз не остановились, пока не дошли до моря в провинции Шаньдун. Так в распоряжении Чжоу оказалась территория длиной более 1600 километров и шириной несколько сотен километров — фактически почти весь северный район колыбели китайской цивилизации.
Победители раздали эти земли сородичам и военачальникам в виде феодальных наделов и вотчин. Раздел добычи положил начало
83
ГЛАВА 2
Классические тексты и время их появления
Шу цзин (Книга документов / Канон записей)
И Чжоу шу (Утраченные [и вновь обретенные] записи Чжоу)
И цзин (Книга / Канон перемен)
Ши цзин (Книга песен / Канон стихов)
«Весны
Л
Чуньцю (Летопись и Осени»: Цзо чжуань)
Чжаньго цэ (Планы сражающихся царств)
Лунь юй (Конфуций, Беседы и суждения)
Мэн-цзы
Мо-цзы
Хань Фэй-цзы
1уань-цзы
Лао-цзы (Дао дэ цзин)
Чжуан-цзы
Сунь-цзы, Искусство войны
Го юй (Речи царств / Речи, [имевшие место в разных] царствах)
Чу цы (Чуские строфы)
Сюнь-цзы J
Хуайнань-цзы
Ши цзы (Сыма Цянь, Исторические записки)
Хань шу (История Хань)
>
Западное Чжоу (1046-770 гг. до н. э.)
Вёсны и Осени; Чжаньго, Сражающиеся царства (770-250 гг. до н. э.)
Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.)
84
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
возникновению территориальных единиц, которые при позднем Чжоу превратились в царства, а еще позднее стали для государств императорского Китая удобным источником наименований. Среди них были, к северу от Хуанхэ, Янь (около современного Пекина) и Цзинь, которая распалась на Хань, Вэй и Чжао, а также Ци и Лу в Шаньдуне (первое досталось цянскому союзнику Вэнь-вана1, второе — сыну Чжоу-гуна), и множество более мелких образований, таких как Тан и Сун (где позволили остаться раскаявшемуся предводителю шанской оппозиции).
История и география этих государств для нас сейчас не имеют большого значения, но примечательно, как долго удалось просуществовать в веках их именам. Множество поздних империй оглядывались на Чжоу и нечаянно созданные ими княжества для узаконения собственных позиций. Они не только присваивали их имена2 — так, столетия спустя появились великие империи Цзинь, Вэй, Тан, Сун и т. д., но и претендовали на региональную связь с их правителями. Так или иначе, Чжоу и подчиненные княжества стали символом древней истины, сияние которой решительно затмевало их действительные достижения. Их воспринимали как непревзойденный образец, их имена придавали неоспоримый престиж, и неудивительно, что их эксплуатировали самым бесстыдным образом.
Можно отметить лишь одно исключение. Основанное сразу после бегства чжоуского двора на восток в 771 г. до н. э. на степных границах провинции Ганьсу княжество коневодов под названием Цинь редко привлекало благожелательное внимание гигантов будущего3. Хотя
1 Гипотеза о цянских корнях Тай-гун Вана (Цзян Шана) выдвинута достаточно давно, но данных для ее верификации недостаточно.
2 В большинстве случаев заимствование шло довольно сложным путем: имена чжоуских уделов вошли в привычную топонимику, дав наименования многим областям Северного и Центрального Китая (даже сейчас на номерах автомобилей из Шаньдуна стоит знак ци, а из Шаньси — цзинь, и т. п.). Названия средневековых империй обычно базировались на первых титулах, полученных их основателями еще до прихода к власти. Так, например, основатель империи Сун Чжао Куанъинь выбрал это название, поскольку до того был губернатором области гуйдэ, также именуемой Сунчжоу («Сунская область»), поскольку примерно там размещалось в XI-III веках до н. э. одноименное чжоуское княжество.
3 Циньцы, веками служившие чжоуским царям, были в числе немногих верных, в эту грозную пору сохранивших лояльность царскому дому, за что получили право на управление исконными чжоускими землями на юге Шэньси, только что оставленными их хозяевами. Представление о циньцах как о коневодах базируется прежде всего на летописной традиции восточных царств, на
85
ГЛАВА 2
Цинь было княжеством, царством, а затем империей, его имя мало кто стремился присвоить, и до XX века ни один китайский правитель по доброй воле не согласился бы признать свою связь с ним1. Почти на всем протяжении китайской истории царственная династия Чжоу настолько превосходила в небесной благодати императорскую Цинь, что их считали абсолютными противоположностями. Правители Чжоу, несмотря на свою терпимость к «феодальному» федерализму (а может быть, как раз благодаря этому), считались воплощением добродетели, а правители Цинь с их агрессивным стремлением к централизации — вовсе нет. Только когда националисты оживили память о первом объединении Китая под властью Цинь, а марксисты и маоисты обнаружили в деспотичном характере инициатора объединения определенные революционные качества, не говоря уже о терракотовых доказательствах его огромного могущества, Цинь перестало быть бранным словом.
После своей окончательной победы триумвират во главе с Чжоу-гу- ном основал новую столицу близ Лояна в провинции Хэнань, которая, с точки зрения Чжоу, была тогда отдаленной восточной областью. Там приблизительно в 1035 г. до н. э., после семи лет фактического правления, многомудрый Чжоу-гун отошел отдел государства, отказался вер¬
которую сильно повлияла антициньская пропаганда последних веков Чжоу, пытавшаяся выставить циньцев, неостановимо продвигавшихся на восток, в виде варваров и дикарей. По последним данным, как минимум циньский правящий дом происходил вовсе не из степи, а был переселен чжоусцами из окрестностей столицы государства Шан, где циньцы жили до этого. Ничего «варварского» в Цинь не обнаружили и археологи. Более того, похоронный обряд циньской знати в первые века истории княжества более консервативен, чем на востоке, и сохранил больше исконно чжоуских черт, чем можно видеть даже в синхронных гробницах Восточного Чжоу.
1 Ранним Цинь называлась ненадолго объединившая Северный Китай империя, которой правила прототибетская (ди) династия Фу (351-394); Поздним Цинь — одно из государств, появившихся на обломках Раннего Цинь, под управлением также прототибетской (цянской) династии Яо (384-417). Наконец, тогда же появилось Западное Цинь, в котором правили сяньбийцы (прототюрки или протомонголы) из рода Цифу — оно существовало в 383-400 и 409-431 гг. Во всех случаях наименование было выбрано не для того, чтобы показать связь с первой империей, а потому, что центром всех этих государств была территория современной Шэньси, сокращенно именуемой Цинь. Великой Цинь китайцы как минимум с I века н. э. именовали малоизвестную им Римскую империю (точнее, ее восточную, азиатскую часть), и в данном случае слово, видимо, указывало как на западное положение этой страны, так и на то, что Рим — настоящая империя ничуть не хуже Цинь — в отличие от других западных стран.
86
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
нуться в столицу предков на западе и вернул бразды правления законному государю Чэн-вану. За это отречение регента превозносят больше всего. Он управлял Чжоу во времена величайшего кризиса, стоял у истоков нового государства и многое сделал для его божественного обоснования и легко мог бы узурпировать трон. То, что он этого не сделал, служило убедительным доказательством его высочайшей добродетели и принесло ему славу, почти затмившую первых правителей Чжоу — Вэнь-вана, У-вана и Чэн-вана. Все историки без исключения превозносят его память, а нравоучители неизменно ставят его в пример. В «Беседах и суждениях» Конфуция стареющий философ вздыхает: «О, как я опустился! Уже давно не вижу во сне Чжоу-гуна»1 (VII.5) [6].
Но действительно ли Чжоу-гун добровольно отказался от власти, или его вынудили это сделать, до конца неясно. По-видимому, его мнение о Небесном мандате несколько отличалось от мнения его коллег по триумвирату. В другой дискуссии по этому вопросу он настаивал, что мандат перешел от Шан не к государю, а к «людям Чжоу», и это в особенности касалось тех людей Чжоу, кто мог советовать правителю и наставлять его на путь добродетели. Фактически это был призыв к меритократии — правлению людей, доказавших свои способности и таланты, и к расширению прав и возможностей бюрократов и пожалованного землями чиновничества. Но этот призыв не нашел понимания у коллег Чжоу-гуна, сославшихся в качестве неоспоримого контраргумента на предсказательную практику Если напрямую обращаться к Небу мог только правитель, значит, пользоваться Небесным мандатом тоже мог только он. Как избранный сын древнего рода Чжоу, он уже в некотором смысле воплощал собой «людей Чжоу». С точки зрения семейных отношений, столь дорогих конфуцианцам, он был отцом своего народа и Сыном Неба, и эту
1 Перевод Л. С. Переломова. См.: Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). Пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П. С. Попова при участии В.М. Майорова; Вступит, ст. Л.С. Переломова; Ин-т Дальнего Востока. М.: Восточная литература, 2004. С. 180. Исключительное место Чжоу- гуна в начале чжоуской истории во многом, вероятно, объясняется тем, что его сын был первым правителем княжества Лу — родины Конфуция, и культ Чжоу- гуна господствовал в этом княжестве. Возможно, если бы Конфуций, творчески интерпретировавший чжоускую традицию и объявивший ее основой основ, родился бы не в Лу, а в другом княжестве, то мы бы знали другого мудрого соратника малолетнего Чэн-вана, выстроившего блестящее здание чжоуской монархии, а Чжоу-гун остался бы в числе второстепенных персонажей.
87
ГЛАВА 2
формулировку, как и сам Небесный мандат, в дальнейшем принимали все следующие правители.
Вопрос, следует ли рассматривать однозначно привилегированный статус правителя как оправдание или как препятствие самодержавной власти, оставался и до сих пор остается не до конца решенным. Если Сын Неба держал ответ только перед Небом, он мог позволить себе не прислушиваться ни к чьим советам. Но если обладание Небесным мандатом напрямую зависело от добродетельности его осуществления, правителю следовало быть более осмотрительным. Добродетельность правления оценивалась с точки зрения благосостояния государства и народа. «Любовь Неба к людям очень велика, — говорит герой «Цзо чжуань» (III век до н. э.). — Разве позволят они одному человеку руководить остальными, превозносясь и самодурствуя, предаваясь излишествам и попирая достоинства, которыми их наделили Небо и Земля? Разумеется, нет!» [7] Следовательно, если правитель, даже получивший предупреждение в виде военных поражений, гражданского недовольства или стихийных бедствий, отказывался взяться за ум, Небесный мандат автоматически выскальзывал из его рук, и на него мог предъявить законные права кто-то другой. При таких условиях Небесный мандат можно истолковать не как обоснование абсолютизма, но как приглашение к восстанию. Намеренно или нет, Чжоу-гун поднял крышку бронзового сосуда и выпустил из него конституционных червей.
Чэн-ван, избавленный наконец от интриг своего дядюшки, вполне мирно правил более тридцати лет (примерно 1035-1003 гг. до н.э.). В качестве завещания он оставил слова, которые бережно передавали из поколения в поколение и которые вполне могли бы послужить эпитафией раннего Чжоу: «Сделайте сговорчивыми тех, кто далеко, приближайте к себе тех, кто обладает способностями. Усмиряйте и поощряйте земли большие и малые» [8]. Кан-ван (ок 1003 — ок 978 гг. до н. э.), сын Чэн-вана и современник библейского царя Давида, прислушался к этому совету, и хотя проявлял больше склонности к поощрению, чем к усмирению, правил обширным и процветающим государством. Лишь в царствование его сына Чжао-вана (ок 977-957 гг. до н. э.) и внука Му-вана (ок 956-918 гг. до н. э.) власть Чжоу столкнулась с первыми неудачами1.
1 Существует несколько вариантов хронологии правлений западночжоу- ских царей, но для точной датировки событий того времени совершенно недостаточно данных.
88
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
К большому сожалению историков, хотя чжоусцы активно практиковали гадания, они редко давали себе труд записать на растрескавшихся от огня черепашьих панцирях краткое содержание полученного предсказания — вопрос и ответ. Возможно, их записывали отдельно на менее прочных материалах — как почти наверняка поступали с результатами нового, набирающего популярность и более дружелюбного к черепахам способа гадания по случайному расположению палочек. Эти палочки (стебли тысячелистника) бросали одновременно по шесть штук, и они падали, образуя гексаграммы (шестичленные фигуры), которые предсказатель затем интерпретировал, опираясь на свод примет, каплю искусства и толику математики. Можно с уверенностью предположить, что результаты гаданий записывали, поскольку именно благодаря работе с гексаграммами появилась «Книга перемен» («Чжоу И» или «И цзин»). Этот классический текст, записанный в IX веке до н. э., состоит из афоризмов, разъясняющих значение фигур, и изображений, руководствуясь которыми предсказатель, вероятно, читал по гексаграммам1.
В «Книге перемен» активно используется прием, типичный для китайского стихосложения и вообще литературы и искусства — сопоставление человеческих переживаний и забот с образами природы в восхитительно тонкой, хотя порой довольно туманной манере. Тот же прием можно найти еще в одном, более близком к современности (не гадательном) классическом тексте — «Ши цзин», или «Книге песен», над составлением которой, согласно позднейшим предположениям, работал Конфуций. Сборник состоит из ритуальных гимнов, героических стихотворений и пасторальных од, и первая песня в нем дает типичный пример использования этого приема. Негромкий крик птицы автор уподобляет брачному предложению, а лаконичные выразительные образы, звукоподражания и игра слов (в значитель¬
1 Время составления «Книги перемен» — одна из многих загадок китайской древности, однако нет сомнения, что древнейший слой текста восходит к очень давним временам. В основе памятника — 64 фигуры, каждая из которых сформирована из шести черт — сплошных или прерванных. Процедура гадания заключается в выборе той или иной гексаграммы, которая затем толкуется гадателем — таким толкованием, собственно, является и следующий по времени написания — и древнейший текстуальный — слой памятника. Даже сейчас для выбора гексаграммы нередко используется тысячелистник, но способ его использования несколько отличается от описанного автором.
89
ГЛАВА 2
ной степени утраченная при переводе) передают насыщенное чувство любовного предвкушения.
Утки, я слышу, кричат на реке предо мной,
Селезень с уткой слетелись на остров речной...
Тихая, скромная, милая девушка ты,
Будешь супругу ты доброй, согласной женой1 [9].
Спустя две с лишним тысячи лет это стихотворение по-прежнему входило в обязательный культурный багаж образованного человека. В пьесе «Пионовая беседка», написанной в 1598 г. Тан Сяньцзу, наставник скромной и серьезной героини знакомит ее с этим стихотворением, и она вдруг ощущает в себе тягу к любовным приключениям; как сообщает наставнику служанка героини в восхитительном английском переводе: «Ваша классическая экзегеза / Разбила ее сердце на куски» [10].
«Ши цзин», «И цзин» и другие классические тексты раскрывают аспекты ритуальной практики и общественного уклада в Китае в начале 1-го тысячелетия до н.э. и рассказывают о распространении и развитии литературной культуры. Историки, конечно, предпочли бы более основательный фактографический материал, и словно для того, чтобы сделать им приятное, Чжоу компенсировали молчаливость гадательных черепашьих панцирей многочисленными надписями на бронзовых сосудах. Некоторые из этих надписей достаточно длинны и рассказывают о событиях и людях, известных по письменным источникам. Они оказались огромным подспорьем в расширении хронологии Чжоу, отправной точкой которой, как широко известно, является затмение, зафиксированное в текстах и астрономически соотнесенное с 841 г. до н. э. — «первая точная дата в истории Китая».
Большинство надписей на бронзовых сосудах перечисляют или просто фиксируют передачу подарков, наград, должностей или земель. Рассматривая их в совокупности со стилистическими изменениями бронзовых изделий, археологической обстановкой, широтой их распространения и данными позднейших текстов, вполне можно согласиться с утверждением Джессики Роусон, считавшей, что «дости¬
1 Здесь и далее «Ши цзин» («Книга песен») цит. в пер. А. А. Штукина.
90
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
жения Чжоу действительно примечательны, и хотя им уделяют слишком мало внимания... [они] тем не менее оставили заметный отпечаток не только в своем времени, но и в жизни следующих поколений» [11].
СКОРЕЕ ОСЕНЬ, ЧЕМ ВЕСНА
Подробный анализ гробниц и кладов Чжоу, изобилующих бронзовыми изделиями, позволил Джессике Роусон сделать еще один вывод: в первые годы IX века до н. э. в ритуальных практиках Чжоу произошли радикальные перемены — самая настоящая революция. Неожиданно бронзовые сосуды стали крупнее и приобрели стандартизированную форму. Среди них стали часто встречаться одинаковые наборы предметов, очертания которых выдавали интерес к воссозданию архаичных форм, а надписи на бронзовых сосудах стали более единообразными. Кроме того, в захоронениях появился новый арсенал бронзовых колоколов и изделий из нефрита.
Этот процесс действительно можно назвать ритуальной революцией, поскольку все эти изменения подразумевали более грандиозное, шумное и организованное богослужение под твердым контролем центральной власти с привлечением большого количества зрителей. Вероятно, стандартизация ритуала на всей Великой Китайской равнине была связана с укреплением внутренних связей: освоение земель расширялось, и соседние феодальные княжества начали активнее контактировать друг с другом. Кроме того, надписи на бронзовых сосудах, как и гадательные кости эпохи Шан, были архивными записями, поэтому их собирали, выставляли и хранили как престижные семейные реликвии. Учитывая, что надписи на бронзе рассказывают о царских милостях, люди, бережно хранившие (и в некоторых случаях изготавливавшие) эти сосуды, явно были не царственными дарителями, а получателями, иногда относительно скромного происхождения. Другими словами, Чжоу расширяли свою социальную опору, одновременно подчеркивая собственное старшинство и превосходство.
В начале IX века до н. э. государство Чжоу находилось в расцвете сил, пользуясь большим влиянием, по крайней мере в ритуальных вопросах, чем когда-либо обладало Шан. По мнению Дж. Роусон, правители Чжоу не только считали себя преемниками централизованного
91
ГЛАВА 2
государства Шан, но и «верили... что подобное единое государство — естественное состояние Китая», и настойчиво провозглашали эту политическую модель, хотя это вызывало определенное напряжение «в естественным образом раздробленном китайском регионе» [12].
Впрочем, все это не противоречит той панихиде по царской власти, которую мы находим в письменных источниках. В конце концов, устойчивость ритуала не обязательно подразумевала непоколебимость политической власти. Правители Чжоу могли подчеркивать свое формальное превосходство для компенсации военных неудач, а вассалы — строго придерживаться предписанных ритуалов, чтобы скрыть склонность к политическому неповиновению. Предупрежденный об этой уловке «Книгой песен», читатель, пожалуй, не должен искать здесь однозначных совпадений. Но следует заметить, что археологические доказательства процветания Чжоу не согласуются и даже прямо противоречат письменным данным, повествующим о ее ослаблении.
Согласно письменным источникам, в 957 г. до н. э. государь Чжао- ван опрометчиво решил напасть на крупное соседнее княжество Чу на юго-восточной границе, платившее Чжоу дань, но, вероятно, не признававшее себя его вассалом. Войска Чжоу были разбиты наголову: шесть армий «пали в бою», а сам Чжао-ван погиб — возможно, утонул, но, скорее всего, был убит. Тринадцать лет спустя его наследник My-ван с гораздо большим успехом воевал против цюанъ-жунов, живших на северо-западной границе Чжоу, но не смог помешать отделению восточных вассалов Чжоу. «Правящий дом пришел в упадок, поэты сочиняли о нем насмешливые стихи», — сообщает Сыма Цянь, главный автор «Исторических записок», созданных в I веке до н. э. Очевидно, на какое-то время трон был узурпирован, поскольку следующему правителю пришлось восстанавливать свои права при поддержке «многих владетельных князей», а его преемник снова столкнулся с проблемами на востоке, судя по тому, что ему довелось сварить в котле живьем вождя Ци в Шаньдуне.
Около 860 г. до н. э. — в зените «ритуальной революции» Чжоу — великое княжество Чу перешло в наступление, вторглось на терршч> рию Чжоу и достигло местности под названием Е в южной провинции Хэнань. «Правящий дом [Чжоу] ослабел... некоторые из владетельных князей не являлись ко двору, но нападали друг на друга». Очередное вторжение Чу произошло в 855 г. до н. э. Владетельные князья продол¬
92
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
жали враждовать между собой. Двухсотлетнюю годовщину триумфа Чжоу в Муе молодой государь отметил в изгнании. Правление взял на себя регентский совет наподобие того, который когда-то возглавлял Чжоу-гун, и лишь четырнадцать лет спустя власть вернулась к сыну изгнанного правителя, Сюань-вану.
Сюань-ван правил долго (827-782 гг. до н. э.) и агрессивно. Отложившиеся вассальные земли были возвращены в состав государства, дань и торговые отношения с Чу восстановлены, на западе отбиты нападения народа сяньюнь. Но радость Чжоу оказалась непродолжительной. Грубое вторжение в Лу, еще одно княжество на территории провинции Шаньдун, не дало ожидаемых результатов, и «с этого времени многие владетельные князья перестали повиноваться приказам государя», — сообщают «Исторические записки».
Воцарение Ю-вана в 781 г. до н. э. было встречено всевозможными знаками небесного неодобрения — сильным землетрясением, оползнями и одновременным солнечным и лунным затмением. «О знамениях небесных и земных, предвещающих бедствия», — восклицает «Книга песен» об этом ужасном событии.
Вода, вскипев, на берег потекла,
С вершины горной рушилась скала,
Где берег горный — там долины падь,
И там гора, где впадина была.
О горе! Люди нынешних времен,
Из вас никто не исправляет зла! [13]
Все это косвенным образом подразумевало, что правитель не справляется со своими обязанностями. Гибель царства Шан уже продемонстрировала, что, если государя преследуют несчастья, значит, он безнадежно дискредитировал себя и больше не может считаться благословенным Сыном Неба. Ю-ван пренебрегал всеми дурными предзнаменованиями, попрал традиции, самовольно изменив порядок престолонаследия в угоду фаворитке, и растерял доверие оставшихся вассалов, призывая их на защиту государства от захватчиков, когда на самом деле никакой опасности не существовало (огни на сигнальных башнях зажигали, чтобы развлечь обольстительную красавицу Бао Сы, занявшую место законной супруги). Вскоре вассалам это надоело, и когда в 771 г. до н. э. напали цюань-жуны, призыв
93
ГЛАВА 2
Ю-вана о помощи остался без ответа. Брошенные на произвол судьбы чжоусцы были разгромлены, столица разрушена, а Ю-ван убит.
Оставшиеся в живых представители дома Чжоу, поспешно закопав множество бронзовых ценностей, чтобы сберечь их от врагов (и несказанно порадовав археологов несколько тысяч лет спустя), бежали на восток, в запасную столицу Лоян. Там при поддержке группы сохранявших верность феодалов на трон взошел Пин-ван, сын Ю-вана, и древние храмы были отстроены заново. История государства Чжоу на этом не закончилась — ей предстояло существовать еще более пятисот лет. Но теперь, попав в зависимость от бывших вассалов, Чжоу царствовали, но не правили. Они цеплялись за остатки влияния, на которые позволяло рассчитывать их ритуальное старшинство.
Итак, история Западного Чжоу (1046-771 гг. до н.э.) закончилась, и началась история Восточного Чжоу (770-256гг. до н.э.). Но поскольку правители Чжоу отныне играли только роль рефери на политической арене, этот период рассматривают не как династический период правления Восточного Чжоу, но скорее как пропуск в последовательном ряду династий. Этот пропуск — периодически повторяющийся любопытный феномен в истории Китая, к которому мы еще вернемся, — здесь делится на две части: период Вёсен и Осеней и период Сражающихся царств. Оба названия взяты из соответствующих исторических текстов: летописи «Вёсны и Осени» («Чуньцю»), охватывающей 770-481 гг. до н.э., и летописи «Планов сражающихся царств» («Чжаньго цэ»), охватывающей 490-221 гг. до н. э. Хотя разделяющая эти этапы дата вызывает споры (чаще всего называют 475 или 453 г. до н. э.), период в целом отмечен соперничеством множества бывших феодальных вотчин, теперь имевших статус государств, внутри и вокруг распадающегося царства Чжоу в нижнем течении Хуанхэ.
В три столетия периода Вёсен и Осеней число этих государств было больше, их размеры меньше, и масштабы конфликтов оставались сравнительно скромными. В «Цзо чжуань» (комментарии к летописи «Вёсны и Осени») упоминается сто сорок восемь полусуверенных образований: очевидно, беспорядочным феодальным дроблением земель в пользу родственников и иждивенцев занимались не только цари Чжоу, но и их вассалы. Но в ходе постепенного завоевания и поглощения одних образований другими число активных участников политического турнира сократилось, а сами они стали крупнее
94
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
и сильнее. Сто сорок восемь мелких княжеств, городов-государств, независимых поселений и различных анклавов слились примерно в тридцать. В период Сражающихся царств в результате дальнейшего объединения основных участников стало семь, а затем три. Соперничество близилось к кульминации, ставки росли, страсти разгорались. «Весна» сумела прикрыть позор Чжоу завесой общей респектабельности, «Осень» сорвала и разметала эту непрочную завесу, как листву с деревьев, и наступившей вслед за осенью зимой Сражающиеся царства сошлись друг с другом в смертельной битве.
Сохранившихся подробностей достаточно, чтобы у неподготовленного читателя зарябило в глазах. В одном амбициозном недавнем исследовании этот воинственный процесс собирания древних китайских царств в единую империю сравнивается с противоположной тенденцией в Европе раннего Нового времени — стремлением покинуть единую империю1 и укреплением системы множества государств в результате жестокой конкуренции. Но если, согласно данным этого исследования, великие европейские державы за четыре столетия до 1815 г. развязали около девяноста войн, то северокитайские «великие державы» за четыре столетия до 221 г. дон. э. успели поучаствовать в двухстах пятидесяти шести войнах, не считая всех внутренних гражданских конфликтов и нападений извне, в том числе нашествий кочевых народов [14].
К счастью, многие из этих войн были, по-видимому, краткими и почти бескровными. Они носили второстепенный, порой даже случайный характер на фоне гораздо более сложной игры политических союзов и военных уловок, составлявших тогдашнюю науку управления государством. Подкуп и блеф могли изменить ход игры с не меньшим успехом, чем военные действия, а расточительный характер вкупе с непредсказуемым результатом последних переводил их в разряд крайних мер. Не понаслышке знакомые с принципом равновесия сил, китайские государства высоко подняли планку политического прагматизма. Позднее не знавшие угрызений совести государственные мужи не раз обращались к хронике «Вёсны и Осени» за вдохновением, и даже Макиавелли мог бы найти в ней для себя много полезного. Как дает понять «Цзо чжуань» («Комментарий Цзо» о зачастую загадочных «следах сандалий» самой хроники), герои
1 По-видимому, имеется в виду распад Священной Римской империи на отдельные, фактически самостоятельные государства. — Прим. ред.
95
ГЛАВА 2
этого периода были не воинами и колесничими, но стратегами, интриганами и сладкоречивыми ораторами.
Вместе с тем текст «Цзо чжуань», созданный, вероятно, в одно время с великими гомеровскими и санскритскими эпическими поэмами1 и полный сражений, интриг и полемики, невольно напрашивается на сравнение с ними. Боги в китайском тексте подчеркнуто отсутствуют, но есть герои, вполне способные сравниться с могучим Гектором или благородным Приамом из «Илиады», а похождения главного героя «Цзо чжуань» Чунъэра2 равноценны деяниям Рамы или Пандавов из индийской классики.
Чунъэр был сыном правителя Цзинь, большого царства, хранившего верность Чжоу и простиравшегося на север от реки Хуанхэ в провинцию Шаньси. Наследовать престол Чунъэр не мог, поскольку его мать была из народа жуп (то есть она была не ся, не китайского происхождения), и его внешность служила лишним доказательством этого препятствия: рассказывают, что у него были «сросшиеся» ребра и еще что-то странное с ушами. Чунъэр буквально означает «двуухий» — прозвище, конечно, более предпочтительное, чем «одноухий», но здесь скорее всего указывающее на особенности внешности, возможно, удлиненные отвисшие мочки ушей3. В 655 г. до н. э. он оказался втянутым в заговор против государя, и это предопределило его судьбу: молодой Чунъэр бежал в изгнание, и так началась девятнадцатилетняя история его плутовских похождений.
В сопровождении группы преданных и ловких спутников Чунъэр сначала провел несколько лет среди ди, еще одного не родственного ся народа, а затем блуждал по всему государству Чжоу и дальше на юг до великого царства Чу в бассейне Янцзы. За это время он приобрел полезные знакомства, извлек познавательные уроки и не раз проявлял выдающиеся способности к управлению государством. У него появи¬
1 Большинство ученых полагают, что Гомер жил примерно в VIII веке до н. э. Создание «Махабхараты» и «Рамаяны» (VII-IV века до н. э.), впрочем, действительно близко ко времени написания «Цзо чжуань» (конец IV века до н. э.).
2 Хронологические рамки «Цзо чжуань» (722-468 гг. до н. э.) заметно шире, чем жизненный путь Чунъэра (697-628), и хроника не ограничивается описанием его приключений.
3 Необычная внешность вовсе не препятствовала занятию престола. Более того, в источниках довольно раннего времени фиксируются распространенные в Древнем Китае представления о том, что необычная внешность — обязательный атрибут выдающегося человека.
96
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
лись долги, которые следовало отдать, счета, по которым следовало заплатить, и невесты, которых предстояло покинуть, — всего этого примерно поровну. Завоевав репутацию выдающегося храбреца и собрав немало доказательств милости Небес, блудный Чунъэр вернулся в родное царство Цзинь после смерти правителя — своего сводного брата, и в 636 г. до н. э. принял бразды правления (известен как Цзинь Вэнь- гун — «гун Вэнь государства Цзинь», — получив это имя посмертно).
Через год силы Цзинь восстановили на престоле законного государя Чжоу, временно вытесненного из оспариваемой несколькими претендентами столицы в Лояне. Затем в 634 г. до н. э. войска Цзинь победили армию, вторгшуюся из Чу, в месте под названием Чэнпу. Это было первое в истории Китая достаточно подробно описанное сражение: современным военным историкам удалось восстановить его план, вплоть до расположения прямоугольных войсковых колонн и стрелок, указывающих линии наступления [15]. Сотня боевых колесниц и тысяча пехотинцев были захвачены и переданы государю Чжоу, который воздал некогда изгнанному Чунъэру почести как спасителю Чжунго («Срединного царства») и официально даровал ему титул ба («властитель» или «защитник царства»).
С терминами ба, гун и чжунго связаны определенные трудности, поскольку на некитайские языки их традиционно переводят несколько произвольным образом. Например, ба обычно переводят греческим словом «гегемон»: этот статус присваивали эллинистическим городам-государствам, обычно Спарте или Афинам, в знак признания их первенства в военно-политическом союзе. В Китае «гегемония» тоже могла переходить из рук в руки. Ранее этот титул принадлежал правителю Ци в провинции Шаньдун, а от Цзинь он позднее перешел к Чу, У, Цинь и другим. Но в Китае он не имел смысла вне контекста легитимной и единой, пусть даже номинальной власти Чжоу. Приняв титул после того, как его, согласно предписаниям этикета, попросили об этом в третий раз, правитель Цзинь подтвердил это, сказав: «Чунъэр кланяется дважды, касаясь головой земли, и почтительно принимает и будет распространять, где возможно, эти блистательные, просвещенные и превосходные приказания [чжоу- ского] Сына Неба» [16].
Обычай льстивого преклонения перед Небесным мандатом и единой правящей династией сохранился и отделил тех, кто его придерживался — так называемых людей ся (иногда хуа-ся), от тех, кому он
97
ГЛАВА 2
был незнаком: жунов, ди и других. В греческом и китайском мирах чувство превосходства и отличия от окружающих народов сплачивало образованное городское общество, помогая преодолевать внутренние конфликты. Греческие государства возвеличивали свои различия в святилище Зевса в Олимпии, где предположительно в 776 г. до н. э. были впервые проведены Олимпийские игры. Китайские государства, хотя об этом меньше известно, тоже стремились соблюдать некоторые приличия в ожесточенной политической игре, по накалу не отстающей от соревновательных видов спорта, и проводили спортивные игры. Учрежденные в начале периода Сражающихся царств, они включали в себя состязания силачей, танцоров, лучников, гонки на колесницах и разновидность потешного бодания головами, в котором применялись рога [17].
Но если ба переводят греческим словом «гегемон», то для перевода титула гун в западноевропейских языках традиционно используют слово «герцог». Следуя этой логике, хоу переводят как «маркиз», цзы — «виконт», и далее вниз по ступенькам европейской аристократической иерархии вплоть до превращения ши в «эсквайра» или «рыцаря». Европейские историки приняли эту систему условных обозначений, поскольку социальные и экономические отношения в Древнем Китае на первый взгляд соответствовали их представлениям о «феодализме». Однако не следует заводить эту аналогию слишком далеко. Китай эпохи Чжоу и средневековую Европу разделяют самое малое восемь тысяч километров и полторы тысячи лет. Кроме того, марксистские историки, настаивавшие на том, что при Шан имел место рабовладельческий строй, не пришли к единому мнению, когда именно состоялся предполагаемый переход от рабовладения к феодализму. Другие сомневаются в том, что в китайском феодализме вообще когда-либо присутствовали договорные отношения, лежавшие в основе европейской феодальной системы, которые привели, в частности, к выступлению английских баронов, потребовавших Великой хартии вольностей [18]. Но титулы «герцог», «маркиз» и прочие по-прежнему в ходу, и вместе с ними в китайскую историографию проникают другие, создающие не вполне верное представление слова — «поместные земли», «сеньориальное право» и т. д.
Иначе обстоит дело с Чжунго. В китайском языке это слово состоит из двух иероглифов: чжун однозначно выражает понятие «центральный», «средний» или «внутренний», а го означает «государство»
98
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
или «царство». На самом деле именно так китайцы до сих пор называют свою страну, а слово «Китай» (China) вплоть до XIX века было для них таким же чуждым и непонятным, как слово «Индия» для жителей страны, которую мы привыкли называть Индией. Как географическое наименование современной республики, Чжунго («Центральное государство» или «Центральная страна») отражено на политически корректных для КНР картах, а соответствующие иероглифы значатся среди шести официальных вариантов написания фразы, которая переводится как «Китайская Народная Республика». Однако те же два иероглифа когда-то не менее корректно переводились как «Срединное царство», а до этого использовались для обозначения «срединных государств» позднего периода Чжоу (го, как все китайские существительные, может обозначать и единственное, и множественное число).
Другими словами, в зависимости от исторического контекста чжунго может обозначать небольшое ядро соперничавших княжеств в Северном Китае или его антитезу — обширную восточноазиатскую агломерацию территорий с единым централизованным правлением. Этот термин вводит в заблуждение почти как «Великая стена». Но сторонники концепции длительности и непрерывности китайской цивилизации справедливо подчеркивают, что породить эту концепцию могло в первую очередь чувство общности. «Срединные царства» периода Вёсен и Осеней и периода Сражающихся царств связывала общая культура и своеобразное чувство превосходства в отношении менее образованных соседей, а их пусть даже номинальная преданность Чжоу и Небесному мандату в суровых условиях конкурентного сосуществования помогала сохранять идеал гармоничной политической иерархии под единым успешным руководством.
КОНФУЦИАНСКАЯ ПЕРЕДАЧА
По культурно близким «срединным царствам» позднего периода Чжоу бродили не только авантюристы в изгнании, такие как Чунъэр из Цзинь, но и множество других любопытных личностей — торговцы, ремесленники, наставники, чародеи, нравоучители, философы и шарлатаны. В Азии разворачивалась эпоха странствий и паломничеств. Долина Ганга за Гималаями наполнилась отшельниками, метафизиками, чудотворцами и святыми людьми. Среди них были Махавира,
99
ГЛАВА 2
основоположник джайнизма, и Сиддхартха Гаутама, Будда («Просветленный»), чье учение задержалось в Китае дольше и ценилось выше, чем в Индии. И в Китае, и в Индии имелось достаточно княжеств и соперничающих дворов, где можно было найти благодарных слушателей или покровителей. Неспокойные времена располагали к духовным поискам и обновлению старых порядков. К тому же подталкивали общественные потрясения и зарождение рыночной экономики.
На севере Китая объединение княжеств шло полным ходом. В поздний период Чжоу укрепленные города удельных княжеств постепенно распространяли свою власть на близлежащие территории, подчиняя себе более слабых соседей. Среди них нередко оказывались «варварские» народы, которых образованные ся называли ди и жупами (на западе и севере), или манями и и (на юге и востоке1). Покоренные оружием или соблазненные союзом (политическим или брачным, как в случае с матерью Чунъэра), вожди этих народов перенимали феодальную систему эксплуатации и принимались выколачивать подати из имевшихся в их распоряжении земельных и человеческих ресурсов. В Раннем (Западном) Чжоу сельскохозяйственные изъятия имели форму отработки: крестьянин обрабатывал часть своей земли в пользу вышестоящего феодала (так называемая система колодезных полей)2. Но к концу периода Вёсен и Осеней отработку постепенно вытеснил индивидуальный поземельный налог.
Налог уплачивали в натуральной форме, хотя примерно в VI веке до н. э. появились монеты. В литейных мастерских, до этого занятых исключительно производством ритуальных бронзовых сосудов, стали делать оружие и сельскохозяйственные орудия — лопаты и плужные лемехи. Железные орудия, постепенно вытеснившие бронзовые, и более широкое использование тягловых животных позволили перейти к культивации сложных приграничных земель, террасированию и орошению крутых лессовых склонов и посеву озимой
1 Прототипом восточных и, вероятно, были аборигены Шаньдуна, но они были ассимилированы уже в первые века Западного Чжоу, оставшись только в традиционной картине мира.
2 Вплоть до V-IV веков до н. э. отработки были основой эксплуатации крестьянства. «Колодезные поля» — система, впервые описанная Мэн-цзы в IV веке до н. э. и, судя по всему, никогда в реальности не существовавшая. В рамках этой системы восемь семей якобы сообща обрабатывали государственное поле, урожай с которого шел в казну.
100
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
пшеницы. О важной роли новых орудий труда можно судить по тому, что именно их миниатюрные бронзовые копии «игрушечного», карманного размера служили первыми монетами. «Монеты-кинжалы» с лезвием и рукоятью предпочитали в Ци; более тысячи широколопастных «монет-лопат» найдены в одном кладе Цзинь. Очевидно, их использовали и как средство обмена, и как средство накопления богатства. Обмен больше не ограничивался уплатой дани и официальными вручениями подарков. По дорогам и рекам перемещалось множество товаров, а из дальних земель в «срединные царства» везли редкости — синьцзянский нефрит, слоновую кость и перья с юга. В «Цзо чжуань» говорится о купцах и таможенных пунктах; важным элементом городской планировки стала рыночная площадь.
Но самые, пожалуй, значительные изменения — демографические — выделить сложнее: они происходят незаметно, как изменение климата, хотя играют не менее важную роль. Убедительные доказательства мы получили недавно из статистического исследования на основе «Цзо чжуань» [19]. Исследование показало, что если в описании начального периода Вёсен и Осеней чаще идет речь о сыновьях правителей, то в середине периода их сменили министры и члены высокопоставленных семей, а к его концу главными героями стали ши. Термин первоначально подразумевал нечто вроде «дружинника», но впоследствии распространился на всех образованных «благородных мужей» ся, невзирая на их происхождение или род занятий. Благодаря естественному плодородию и повышению урожайности сельскохозяйственных культур население росло, и вместе с ним расширялась демографическая основа общества ся.
Ши, позже обремененные английским переводом с дополнительными пояснениями («интеллектуалы», «правящий класс», «хранители традиций», «костяк бюрократии» и т. д.), в период Вёсен и Осеней продолжали искать для себя достойное место в обществе. Происхождение возлагало на них много ожиданий, но давало мало привилегий. Младшие сыновья младших сыновей, дальние родственники или простолюдины, получившие образование, они стремились найти работу и ради этого совершенствовали свои профессиональные качества. Советники правителей, литераторы, морализаторы, дипломатические посредники, бюрократы, реформаторы и толкователи предзнаменований стали феноменом той эпохи и позднее играли важную роль в управлении империей. Когда-то большинство tuu
101
ГЛАВА 2
действительно можно было назвать дружинниками, но теперь лишь немногие из них участвовали в активных военных действиях и еще меньше занимались сельским хозяйством или торговлей. Их ремеслом были споры, их достоинство заключалось в словах, а их польза — в могущественной смеси благородства и изобретательности.
Не все ьии стремились найти свою нишу на конкурентном рынке труда. В Китае тоже были отшельники, чьи учения об избавлении от страстей, душевном равновесии, аскетизме, возвращении к природе и простой жизни нашли отражение в знаменитой своей строгостью «Дао дэ цзин» («Каноне пути и благодати»)1. Авторство книги, записанной только в III веке до н. э., приписывают Лао-цзы — Старому учителю, который, если он действительно существовал, жил за двести лет до этого. Существует еще одна подобная компиляция, названная по имени предполагаемого автора, но содержащая множество позднейших вставок, — менее требовательная к читателю «Чжуан-цзы», созданная, вероятно, в IV веке до н. э. Обе книги в их окончательном виде представляют критику учения Конфуция. Позднее эти тексты стали канонической основой даосизма, когда он возник как не вполне согласованная школа мысли в I веке н. э.
Другие ьии были бы рады поступить на службу, но им это не удавалось. Около 500 г. до н. э. из небольшого княжества Лу в провинции Шаньдун, оплота консерватизма, где правила ветвь потомков Чжоу-гуна, один такой сын «благородного мужа» отправился странствовать в поисках славы. Как и его отец, воин легендарной силы, который мог поднять одной рукой решетку в крепостных воротах, этот Кун-цзы имел крепкое сложение и еще одну выдающуюся внешнюю особенность (что в древнекитайских представлениях всегда указывало на будущее возвышение) — шишку на голове (возможно, у него просто был очень высокий лоб). Однако военное дело интересовало его гораздо меньше, чем отца, и, несмотря на примечательную внешность, слава к нему не спешила2. Тринадцать лет он
1 В «Дао дэ цзине» есть немало поучений правителям, и в целом даосы обычно были совсем не против получить место советника при князе, хотя, без сомнения, даосское учение формулировало для своих адептов и множество более честолюбивых задач.
2 Конфуций отправился на поиски лучшей участи, когда ему было уже за пятьдесят, а до этого он сделал довольно заметную чиновную карьеру и несколько лет занимал один из ключевых постов в царстве Лу.
102
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
странствовал по «срединным царствам», и в одном из них ненадолго нашел себе работу. Но в трудные времена обрести покровителя, который соответствовал бы его высоким требованиям, оказалось нелегко, а найти того, кто согласится следовать его идеалистическим советам, — почти невозможно. Кун-цзы вернулся в Лу замечательным, а то и нелепым неудачником, заслужив насмешки деревенских остряков.
«Человек из Дасян сказал:
— Как велик Кун-цзы! Ученость его огромна, но он пока ни в чем не прославился!
Учитель, услышав это, сказал ученикам:
— Каким же делом мне заняться? Управлять колесницей или стрелять из лука? Лучше буду управлять колесницей!»1 (IX.2) [20].
Саркастичный, но не язвительный человек, известный за пределами Китая как Конфуций (латинизация «Кун-фуцзы», «Учитель Кун»), до конца жизни оставался небогатым младшим чиновником в своем родном незначительном царстве Лу. Будда при жизни обрел множество последователей, правители воздавали ему почести, и когда (приблизительно в 483 г. до н. э., но, возможно, позже) он достиг нирваны, его останки бережно сохранили и возвели над ними несколько храмов. Учителя Куна, скончавшегося в 479 г. до н. э., оплакал небольшой круг учеников, да еще его вдова — дама столь непримечательная, что о ней неизвестно ровно ничего, кроме того, что однажды она произвела на свет дитя. Конфуцианский культ появился лишь через несколько сотен лет, когда факты из жизни учителя успели основательно перемешаться с легендами и содержанием целого корпуса приписанных ему (в большинстве случаев ошибочно) текстов. Редко потомство оказывалось столь щедрым на похвалы, и редко случалось, чтобы столь скромная карьера в конечном итоге удостоилась всеобщего уважения.
Однако для нас гораздо важнее та миссия, которую возложил на себя Конфуций, выдающийся мыслитель и вдохновенный учитель. Коротко рассказывая о себе, он ничего не говорит о своих профессиональных устремлениях:
1 Здесь и далее цит. в пер. Л. С. Переломова.
103
ГЛАВА 2
«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я встал на ноги. В сорок освободился от сомнений. В пятьдесят познал волю Неба. В шестьдесят научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет стал следовать желаниям сердца и не преступал меры» [21].
На полвека опередив Сократа, который родился через десять лет после смерти китайского мудреца, Конфуций учил, что мораль и добродетель восторжествуют, если люди будут учиться. Возьмите город о десяти тысячах домов, говорил он своим последователям. В них, несомненно, найдется немало людей, таких же честных и заслуживающих доверия, как я, но вряд ли найдется хоть один, так же стремящийся к учебе. В ходе своей интеллектуальной одиссеи он, возможно, действительно написал краткую хронику периода Вёсен и Осеней («Чуньцю») — во всяком случае, он был хорошо с ней знаком — и поучаствовал в создании других произведений, в частности «Книги песен» («Ши цзин»), которую особенно любил. Но окончательно установить авторство этих текстов все же нелегко: их дошедшие до нас формы представляют собой компиляции с несколькими слоями составительской работы, сдобренными значительной долей фальсификаций, накопившихся на протяжении веков.
Не больше доверия вызывают некоторые высказывания Конфуция, вошедшие в сборник «Беседы и суждения» («Лунь юй»), цитаты из которого приведены выше. Однако принято считать, что другие отрывки без искажений передают подлинные слова Учителя из бесед с учениками. Это придает им своеобразие и непосредственность, сближающие их скорее с евангелиями, чем с джатаками, в которых изложена жизнь Будды. В них есть то, что Лао-цзы мог бы назвать не просто следами, а «сандалиями» — узнаваемый голос, первый и, возможно, самый великий в истории Китая, который обращается непосредственно к слушателю. Иногда учитель бывает агрессивным, как доктор Сэмюэль Джонсон в дурном расположении духа, и все же, несмотря на репутацию сухого педанта, он вызывает у читателей такую же симпатию, как когда-то у учеников.
Сам Конфуций всегда подчеркивал, что в его словах нет ничего нового. Ключевые понятия его учения окружены разногласиями (не в последнюю очередь о том, как лучше перевести их на английский и русский), однако их суть представляется вполне непротиворечивой. Сыновья должны почитать своих отцов, жены — мужей, младшие
104
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
братья — старших братьев, подданные — своего правителя. «Благородные мужи» должны быть верными, честными, осмотрительными в речах и прежде всего «гуманными», то есть вести себя с другими так же, как они хотели бы, чтобы другие вели себя с ними. Правитель, пользуясь доверием людей и заботясь о том, чтобы те были сытыми и защищенными, должен следовать Небесному мандату и быть холодным и неизменным, как Полярная звезда. Законы и наказания вызывают у людей лишь стремление уклониться от них, поэтому лучше править, подавая нравственный пример и образцово соблюдая ритуалы, тогда люди устыдятся и постараются стать лучше. Ключ к добродетели лежит в самосовершенствовании и самоисправлении (предках маоистской самокритики). О смерти и загробной жизни, а тем более о «знамениях и чудесах, беспорядках и божествах» Конфуций ничего не говорил. Совершенствоваться при помощи мудрого учителя — дело каждого человека. Но даже сам Конфуций не родился с этим знанием — он «получил его благодаря любви к древности и настойчивости в учебе» [22].
«Учитель сказал: — Я передаю, но не творю; я верю в древность и люблю ее» [23]. «Путь» Конфуция — это путь прошлого, и его работа заключалась в том, чтобы переправить знания о древних добродетелях из прошлого в будущее, как по ленте конвейера. Легендарные Пять императоров, эпохи Ся, Шан и прежде всего Чжоу — вот примеры, к которым обществу следовало вернуться, если оно хотело восстановить порядок. «Я следую за Чжоу», — говорил он, подразумевая, однако, не незадачливого современного правителя в Лояне, а государей У-вана, Вэнь-вана, Чэн-вана и Кан-вана Раннего (Западного) Чжоу и, конечно, непревзойденного Чжоу-гуна. Правила личного поведения и общественного служения должны соблюдаться неукоснительно. Что еще важнее, они должны, как встарь, соблюдаться искренне. «Исправление имен», глубоко конфуцианская по своей сути доктрина, призывала не к переименованию ключевых титулов и понятий ради удобства современного использования, а к возрождению их изначального истинного смысла и значения. Скорее легитимист, чем консерватор, Конфуций возвел прошлое (или свое понимание прошлого) в нравственный императив для настоящего.
И оно оставалось на этом пьедестале две с половиной тысячи лет. Казалось, История вслед за Небом предъявила «мандат», пренебречь которым не мог позволить себе ни один правитель. Но вскоре эти
105
ГЛАВА 2
принципы вышли за рамки предписаний, изложенных в лаконичных и емких «Беседах и суждениях». Над запущенным Учителем конвейером натянули вывеску «конфуцианство» (а затем «неоконфуцианство») и нагрузили его всевозможными сомнительными вещами. История оказалась более сговорчивой, чем Небо.
ВОЮЮЩИЕ ЦАРСТВА И ЭТАТИСТСКИЕ ВОЙНЫ
Ко времени смерти Конфуция в 479 г. до н. э. период Вёсен и Осеней быстро переходил в кризисный период Сражающихся царств. Распадалось довольно крупное государство Цзинь, которым некогда правил Чунъэр. К концу столетия на его территории оформились три независимых княжества — Хань, Чжао и Вэй (не путать с одноименной рекой), поставив государя Чжоу в Лояне перед свершившимся фактом, которому он вряд ли был рад. Когда он неохотно согласился со сложившимся положением, рассказывают, что бронзовые котлы Чжоу, символы добродетели древней династии, пошатнулись. Также пошатнулся, а фактически был свергнут через сто лет после смерти Конфуция и правящий дом Ци, самого крупного царства в провинции Шаньдун. В атмосфере конца столетия «все считали само собой разумеющимся, что на смену чисто номинально правившей Чжоу неизбежно придет новая великая сила» [24].
Сильнейшие из оставшихся государств вступили в смертельное противоборство. Регулярные армии одерживали первые победы, новые методы ведения войны многократно увеличивали счет павших, а политические методы становились все более безжалостными. Однако период Сражающихся царств прославился не только военными искусствами. Под влиянием учеников и последователей Конфуция возникла и развивалась великая китайская традиция философских размышлений. Это была эпоха поразительных художественных достижений и выхода традиционного искусства из религиозных рамок. Кроме того, судя по найденным недавно текстам, это был, по-видимому, важный этап в развитии медицины, натурфилософии и оккультных наук Период Сражающихся царств, как и другие промежуточные эпизоды политической раздробленности, в культурном отношении был вовсе не безнадежен: в нем можно заметить проблески интеллектуальной деятельности и художественного мастерства.
106
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
Из всех гробниц, изученных во второй половине XX века, пожалуй, самыми удивительными оказались захоронения, открытые в 1978 и 1981 гг. в Лэйгудуне близ города Суйчжоу в провинции Хубэй. Лэйгудунь, расположенная к югу от главной арены сражений «срединных царств», ближе к Янцзы, чем к Хуанхэ, была столицей небольшого государства под названием Цзэн. В период Вёсен и Осеней Цзэн подчинялось Чу, великой южной державе, которая когда-то боролась с Ранним (Западным) Чжоу, а затем с Цзинь в правление Чунъэра.
Хотя правители Цзэн обладали титулом хоу, незначительное положение их небогатого государства не обещало археологам ничего выдающегося. Чистая удача, что одна из гробниц принадлежала самому правителю Цзэн-хоу И («цзэнскому хоу И»), скончавшемуся около 433 г. до н. э. Но даже заранее зная, что это захоронение представителя знати, археологи вряд ли могли вообразить, какое ошеломляющее множество изысканных изделий из нефрита, натуралистических лаковых изделий и монументальных бронз ждало их там. Содержимое гробницы Цзэн-хоу И теперь занимает половину музейно-дворцового комплекса в провинциальной столице Учан (часть трехградья Ухань); директор Департамента массовой работы Ли Лин, руководивший раскопками, назвал его исключительным открытием, которое «потрясло страну и весь мир» [25].
Сто четырнадцать сосудов из Лэйгудуня весят более десяти тонн, но гораздо сильнее потрясает богатейшее бронзовое кружево их ажурных украшений. Извивающиеся змеи, ползущие драконы и колючие скульптурные выступы — сами сосуды почти скрываются под причудливыми извивами инкрустаций. Они выглядят так, будто пролежали две с половиной тысячи лет не в земле, а на морском дне и стали пристанищем для колоний ракообразных. В этой победе вычурности над формой (и техники литья по восковым моделям над формовой отливкой) вряд ли стоит винить экстравагантные вкусы князя И: на других археологических площадках на территории Чу были найдены не менее причудливые предметы. Однако в Лэйгудуне орнаментация доведена до крайней степени, которую позволяет металл. Постепенно чуские ценители причудливого и изысканного переключились на лакировку, инкрустации и роспись по шелку. Когда над Чжунго сгустились тучи, вельможи и ремесленники этого южного государства Цзэн положили начало пышным, эксцентрически экзотичным культурным
107
ГЛАВА 2
традициям, которые в печальных «Чуских строфах» («Чу цы») надолго пережили исчезновение с политической арены самого «великого Чу».
Центральное место в коллекции из Лэйгудуня занимает огромный музыкальный ансамбль из шестидесяти пяти бронзовых колоколов общим весом две с половиной тысячи тонн. Колокола не имеют язычков (по ним нужно ударять деревянным молотком) и расположены в три яруса на массивной, богато украшенной раме, частично отделанной красным и черным лаком. Здесь же имеется необычная, но весьма успешная попытка создания фигурной скульптуры. Стойки каждого яруса выполнены в виде опоясанных мечами бронзовых кариатид, которые поддерживают деревянные перекладины на поднятых руках. В центре ансамбля место кариатиды занимает самый большой колокол. Он выглядит богаче остальных, и надпись на его поверхности гласит, что царь Хуэй из Чу, узнав о смерти правителя И из Цзэн, велел специально отлить этот колокол и прислал его как подношение для погребальных обрядов хоу.
Примечательно, что правитель Чу в этой надписи назван ваном, то есть царем: этот титул по-прежнему сохраняла за собой угасающая Чжоу, и правители Сражающихся царств не стремились присвоить его до конца IV века до н. э., однако в Чу он использовался по крайней мере с VIII века до н. э. Очевидно, Чу во многом отличалось от прочих «срединных царств», хотя его политическая история не вполне ясна. Возникнув где-то на юге Хэнани или на севере Хубэя, оно медленно расползлось по центральной области современного Китая огромной дугой от бассейна реки Хуайхэ до ущелий Янцзы и Сычуани. Расширение происходило в основном за счет «варварских» народов мань: их традиции, несомненно, значительно повлияли на формирование характерных особенностей чуской культуры, а их присоединение может объяснить, почему остальные срединные царства посматривали на Чу свысока, не считая его ся, то есть «своим».
Расширение на юг познакомило Чу с другими государствами со смешанной культурой, которые находились за пределами «срединных царств». По сути, сосредоточенному7 на севере «истоку» китайской цивилизации уже бросала вызов «сердцевина», расположенная дальше к югу. К ней относились царства У в дельте Янцзы в Чжэцзяне и Юэ к югу от У в Фуцзяне; с ними обоими Чу периодически воевало. В конце VI века до н. э. У одолело Чу и вынудило его правителя бежать в Цзэн, где он нашел убежище у цзэнского властителя. Раздосадован¬
108
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
ный этим, правитель У выместил свою ярость на одном из предыдущих царей Чу: его останки вынули из могилы, публично высекли и четвертовали. В 482 г. до н. э. правитель У стал ба («гегемоном»), но через девять лет был побежден Юэ. Чу вернуло себе большую часть потерянных территорий, и, вероятно в память о былом милосердии Цзэн к беглому предшественнику, в 433 году до н. э. чуский правитель Хуэй приказал отлить большой колокол погребального ансамбля Лэйгудуня для гробницы правителя И, внука спасителя Чу.
В V веке до н. э. царства Чу, У, Юэ и другие, расположенные на границах или вне северной Великой Китайской равнины, начали играть более заметную роль. Возможно, их консолидации способствовали потоки беженцев, спасавшихся от боевых действий на севере, и, безусловно, им пошла на пользу волна централизаторских реформ, значительно продвинувших процесс формирования государственности в Китае в VI-IV веках до н. э. Разделить в этом процессе причину и следствие достаточно трудно. Заимствуя формулировку из европейского Средневековья, можно сказать, что в период Сражающихся царств «государство творило войну, а война творила государство» 1 [26]. Впрочем, в Китае государство оказалось более успешным разжигателем войны, чем война — создателем государства, ибо войны велись более ожесточенно, а государств стало меньше, и необходимая для войны мобилизация всех ресурсов напрямую зависела от гражданских реформ, укреплявших центральную власть.
Инициатором таких реформ стало Ци в провинции Шаньдун, и вскоре его примеру последовало большинство других царств. Последние и самые основательные реформы были проведены в Цинь. Реформы фактически переломили прежнюю тенденцию к феодальному дроблению. Приграничные земли, новые завоеванные или отвоеванные территории уже не раздавались вассалам в качестве вотчин: из них формировали административные «военные округа», во главе которых стояли назначенные царем управляющие и в которых набирали рекрутов для военной службы. Постепенно эту систему распространили на всю территорию царства, а вскоре после этого производились переписи населения и вводился подушный налог. Верность подчиненной знати обеспечивали скрепленные кровью клятвы; соперников могли офици¬
1 Известное высказывание американского историка Чарльза Тилли (1929- 2008): The state made war and war made the state. — Прим. ред.
109
ГЛАВА 2
ально объявить вне закона. Правила и законы унифицировались и «публиковались» в бронзе1. Земля постепенно перераспределялась в обмен на подоходный налог, а налог приобретал форму денежных выплат.
В исторических летописях («Планах сражающихся царств» и более поздних «Исторических записках» Сыма Цяня) эти сдвиги описаны как деяния отдельных личностей, а не как единый политический процесс. Реформы упоминаются, если они были делом рук министра или советника, заслужившего собственный биографический очерк. Таким образом, в соперничестве Сражающихся царств не последнюю роль играла охота за выдающимися специалистами. Привлекая самые возвышенные умы, самых изобретательных стратегов и самых устрашающих военачальников, правители не только повышали свои шансы на победу, но и пропагандировали свои добродетели, дававшие им право на власть (поскольку добродетель как магнит притягивала талант и опыт) и даже на получение Небесного мандата.
Озабоченные поисками работы ьии радовались: особенного благоволения удостаивались те ученые мужи, которые, развивая или отвергая учение Конфуция, строили теории власти и мотивации, имевшие практическую пользу для управления государством и подданными. Мо-цзы (Учитель Мо, ок. 480 — ок. 390 гг. до н. э., известный только по одноименному тексту) начал свое сочинение с проповеди бережливого, мирного и неравнодушного сосуществования в обществе, но присовокупил к этому около двадцати глав, посвященных оборонительной тактике — единственному виду военного искусства, в котором его миролюбивым ученикам (монетам) было прилично упражняться. Ни на что не похожий, пропитанный идеализмом моизм, похоже, имел самое большое влияние в вечно эксцентричном царстве Чу2.
Мэн-цзы жил примерно полвека спустя и служил при дворе Вэй, но больше о нем ничего не известно. Верный памяти Конфуция, он
1 Археологических подтверждений этого пока не обнаружено.
2 Это маловероятно, поскольку Чу было одним из наиболее агрессивных царств эпохи, а Мо-цзы и его ученики были принципиальными противниками завоевательных войн (известно об их участии в войнах против Чу) и искали применения своим талантам прежде всего в малых княжествах близ Хуанхэ — главной добыче для алчных соседей-гигантов. Сам Мо-цзы был выходцем из того же государства, что и Конфуций, — Лу
110
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
изложил высказывания учителя в подробной программе реформ, призывая следовать примеру легендарных Пяти императоров и Трех эпох (Ся, Шан и Чжоу), почитать Небесный мандат, смягчить наказания и налоги, а также восстановить систему колодезных полей. В век жадности и насилия восторжествовать мог, по мысли Мэн-цзы, только правитель, отказавшийся от угнетения подданных, хранящий добродетель и заботящийся о благе народа. То же касалось общества в целом — нравственность возобладает, если человек сумеет осознать свою изначально добрую природу. Но все это, хотя и звучало обнадеживающе, произвело мало впечатления на опьяненных погоней за властью военных правителей Чжунго. Лишь позднее Мэн-цзы удостоился титула второго мудреца великой конфуцианской традиции.
Гораздо более существенный вклад в торжество централизованного правления в княжестве Цинь сделала школа мысли, известная как легизм. Поздние летописи приписывают (как правило, с неодобрением) создание драконовской основы первого «легистского» государства некоему Шан Яну, министру Цинь с 356 г. до н. э., хотя разработать теоретическое обоснование этого государства предстояло позднее другим деятелям. Цинь, расположенное на дальнем северо- западе, так же как южное Чу, считалось глухой провинцией, и «срединные царства» посматривали на него свысока, как на варварское государство. Оно осваивало долину реки Вэйхэ, некогда центральную область Западного Чжоу, но его корни лежали дальше к западу, а население состояло в основном из занимавшихся скотоводством жунов1. Проблемы интеграции и обороны удерживали Цинь на второстепенных позициях, пока Шан Ян, обучившись своему ремеслу в княжестве
1 Эта традиционная точка зрения сейчас оспаривается многими учеными. Новейшие находки заставляют предположить, что «варварское» происхождение циньцев может быть плодом антициньской пропаганды, крайне распространенной в восточных государствах в последние десятилетия эпохи Сражающихся царств. На деле происхождение как минимум правящего рода Цинь, возможно, было связано с шанцами. Именно из окрестностей шанской столицы циньцы переселились в окрестности столицы Чжоу в первые годы после крушения Шан. Впрочем, трудно исключить и то, что степные, условно «жун- ские» компоненты могли участвовать в формировании циньской общности в целом. Археологические данные пока не подтверждают каких бы то ни было существенных культурных отличий циньцев от жителей более восточных уделов. Циньский погребальный обряд в первые десятилетия Восточной Чжоу выглядит даже более консервативным, чем у восточных соседей, сохраняя многие черты западночжоуских традиций, утраченные даже самими чжоусцами.
111
ГЛАВА 2
Вэй, не заинтересовал правителя Цинь программой радикального преобразования общества. В государстве была введена система прямого управления округами, стандартизирована система мер и весов. Вводились высокие налоги на торговлю, осуществлялись ирригация и освоение новых земель в сельском хозяйстве. Все население было учтено в ходе переписи, обложено индивидуальным налогом и повсеместно призвано на военную службу. «Мобилизацию масс» изобрели не в XX веке.
Роль пряника при этом исполняла сложная система рангов, для каждого из которых полагались свои привилегии и поощрения. Она позволяла любому человеку продвигаться вперед по заранее установленным ступеням. Например, отрубленная в бою голова одного врага автоматически переводила человека на одну ступень вверх. Но гораздо эффективнее пряника был кнут в виде свода законов, предусматривавших жестокие и бездумные наказания даже за незначительные провинности. Население страны было объединено в группы по пять-десять дворов, и на членов каждой группы возлагалась взаимная ответственность за донесение о любых нарушениях, совершенных другими членами группы. Если о нарушении никто не сообщал, установленное наказание несла вся группа.
На военной службе этот дух карательного товарищества только усиливался. Солдаты одного отряда должны были сами арестовывать тех, кто пытался дезертировать, добывать фиксированную квоту вражеских голов и коллективно понести наказание при любой неудаче. Шан Ян был способным военачальником и, возможно, сам возглавлял подобные отряды новобранцев (возможно, правильнее будет сказать «соседей-ополченцев»), когда силы Цинь одержали решающую победу над княжеством Вэй в 341 г. до н. э. Через шестнадцать лет цинь- ский гун принял титул царя. Но к тому времени Шан Ян после смерти своего покровителя нарушил собственный уголовный кодекс и был приговорен к бесславной казни — его разорвали на части колесницами [27].
Возможно, в действительности не все эти меры задумал и осуществил именно Шан Ян. Не исключено, что китайские историки, обратившись к своему любимому приему, посмертно приписали ему часть упомянутых деяний. И, возможно, эти меры были не такими жесткими, как их изображают: дискредитация Цинь и ее политики была одной из главных задач следующей империи Хань, в долгое правле¬
112
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
ние которой и была составлена история Цинь. Тем не менее реформы оказались сенсационно успешными. Снова опустошив княжество Вэй в 316 г. до н. э., Цинь двинуло войска на юг через горный хребет Циньлин в Сычуань, и этим, как мы увидим дальше, обеспечило себе обширный новый источник продовольствия и рабочей силы, а также некоторые важные стратегические преимущества перед Чу. В последнем столетии Сражающихся царств (около 320-220 гг. до н. э.) Цинь могло уверенно помериться силами с любым противником. Именно оно в основном диктовало условия постоянно меняющихся военных и политических союзов, и оно же развязало примерно сорок из шестидесяти «великих войн за власть» этого периода.
Философ Сюнь-цзы, посетив около 263 г. до н. э. новую столицу Цинь, Сяньян, испытал смешанные чувства. Большое впечатление на него произвели величественная красота и спокойная целеустремленность, и вместе с тем он был глубоко потрясен отсутствием образования и тяготами людей, «запуганных властью, ожесточенных лишениями, алчущих наград и страшащихся наказаний». Казалось, все государство «жило в постоянном страхе и тревожном ожидании момента, когда весь остальной мир объединится и выступит против него» [28]. Сюнь-цзы не захотел оставаться в этом мрачном месте. До этого он возглавлял академию Цзися в царстве Ци и теперь поспешил занять более подходящий пост в Чжао, а затем перебрался в Чу, таким образом объединив в своем маршруте всех четырех основных претендентов на власть. По глубокой иронии судьбы именно один из учеников Сюнь-цзы, Хань Фэй, в конечном итоге обеспечил легизму респектабельное философское обоснование, а его другой ученик, Ли Сы, стал главным министром Первого императора и самым знаменитым апологетом легизма.
Примерно в то же время, когда Сюнь-цзы посетил Сяньян, Цинь перешла от традиционной политики союзов к единоличному расширению посредством неприкрытой агрессии. «Атакуйте не только земли, но и людей, — советовал главный министр Цинь, ибо, как сказал Сюнь-цзы, — правитель — это лодка, а люди — вода». Армию противника следовало не просто победить, но и физически уничтожить, чтобы неприятельское государство потеряло способность сопротивляться. «Таким образом, — сухо отмечается в «Кембриджской истории Древнего Китая», — в III веке до н. э. массовые убийства были объявлены официальной политикой».
113
ГЛАВА 2
Успеху этой политики способствовали важные достижения в области вооружения и организации военного дела. В период Вёсен и Осеней военная мощь армии оценивалась по количеству колесниц. Кроме экипажа (обычно включавшего в себя командира, луч- ника-телохранителя и колесничего) у каждой из двухколесных колесниц было около семидесяти сопровождающих — вооруженных копьями пехотинцев, которые бежали рядом с ней и принимали самое активное участие в сражении. Колесницы были престижным скоростным транспортом знати, они давали некоторое преимущество на поле боя и могли служить опорной точкой для сбора войск, но часто застревали в грязи и могли опрокинуться на пересеченной местности.
По мере того как централизация освобождала подчиненную знать от вотчин и самостоятельности, во многих царствах, кроме собранных в рамках «феодального» призыва пеших солдат и колесниц, появлялись отряды профессиональных воинов, быстро превратившиеся в регулярные армии. Дисциплинированные и хорошо обученные, защищенные кожаными панцирями и шлемами, вооруженные мечами и алебардами, армии нового образца значительно превосходили бегущих за колесницами новобранцев даже до появления кованого железа и смертоносных арбалетов.
Эти важные нововведения, вероятно, появились в начале IV века до н. э. на юге: там находилось царство У, славившееся своими клинками, а в захоронениях Чу найдены самые ранние образцы металлических спусковых крючков для арбалетов. Научные трактаты, ни на шаг не отстающие от технического прогресса, свидетельствуют о том, что война превращалась в форму искусства. Ши по имени Сунь Бинь, уроженец Ци, считается автором первого текста, в котором арбалет назван «решающим элементом в сражении» [29]. Кроме того, Сунь Бинь пишет о коннице, которая в те времена была новинкой, поскольку искусство верхового сражения было еще мало изучено. Известная дискуссия о превосходстве брюк над юбками, случившаяся в царстве Чжао в 307 г. до н. э., очевидно, отмечает момент перехода от колесницы к заимствованной у кочевников практике верховой езды. Однако на тот момент конница использовалась в основном для разведки, и ее численность была невелика.
Горячий сторонник ненасилия Мо-цзы, повествуя о самозащите, одновременно косвенно рассказывает о высокоразвитых приемах
114
МУДРЕЦЫ И ГЕРОИ. ОКОЛО 1050 - ОКОЛО 250 Г. ДО Н. Э.
осадной войны, в том числе об использовании лестниц на колесах, которые позволяли взбираться на стены, и дымовых мехах, мешавших противникам вести подкопы. Города уже давно были укреплены, но именно в период Сражающихся царств впервые упоминаются крепости с постоянными гарнизонами, соединенные между собой «длинными стенами». Служившие отчасти для разграничения территории, отчасти для ее защиты, «длинные стены», участки которых позднее вошли в циньскую Великую стену, были, пожалуй, наиболее очевидным проявлением формирования государства.
Введение всеобщего призыва означало, что армии стали намного более многочисленными. В великой битве при Чэнпу в 632 г. до н. э. каждая сторона мобилизовала предположительно до двадцати тысяч человек. К началу периода Сражающихся царств численность средней армии, вероятно, составляла около ста тысяч человек, а к III веку до н. э. — несколько сотен тысяч. Потери в бою могли доходить до 240 тысяч человек (хотя это обычно считается преувеличением). Так или иначе, бойня происходила с беспрецедентным размахом: битвы иногда продолжались неделями, а военнопленным не стоило рассчитывать на милосердие — их (вместе с их головами) просто добавляли к счету павших.
В серии решающих сражений, развернувшихся между 262 и 256 годами до н. э. и сопровождавшихся именно такой бойней, Цинь уничтожило силы Хань и Чжао. Стареющий правитель Чжоу, неосмотрительно выступивший на стороне Чжао, был вынужден подчиниться. «Исторические записки» коротко сообщают, что в 256г. до н.э. последний из тридцати девяти славных правителей Чжоу «склонил голову в знак признания своей вины и предложил все свои владения Цинь... Правитель Цинь принял дар и вернул правителя Чжоу в его столицу. В следующем году люди Чжоу бежали на восток, и их священные сосуды, в том числе девять котлов, перешли в руки Цинь. Так встретила свой конец династия Чжоу» [30].
Через десять лет, в 246 г. до н. э., на престол Цинь взошел тринадцатилетний мальчик «с крючковатым носом и миндалевидными глазами, высокой грудью ястреба, голосом шакала... и сердцем тигра или волка». В то время его звали царем Чжэн из Цинь. Четверть века кровопролитных сражений спустя остатки Сражающихся царств исчезли, и царь Чжэн присвоил себе Небесный мандат Чжоу и принял титул Ши-хуанди, «Первый император».
115
ГЛАВА 2
Родившаяся в кровопролитии имперская традиция Китая продолжалась, иногда прерываясь, но никогда не исчезая надолго, от Первого императора в III веке до н. э. до воспетого кинематографом Последнего императора в прошлом, XX столетии. Последнему китайскому императору, кроткому молодому человеку в очках с толстыми стеклами и в темном костюме с шелковым галстуком, предстояло, как и последнему правителю Чжоу, «бежать на восток». Отрекшийся от престола, а затем свергнутый, он ускользнул из Запретного города в Пекине в 1924 г. и сдался на милость японских захватчиков.
3
Первая империя
(около 250-210 гг. до н. э.)
ДОРОГА КАМЕННЫХ КОРОВ
Хотя Цинь Ши-хуанди (Первого императора Цинь) неизменно называют первым объединителем Китая, его достижения были не такими впечатляющими, как порой предполагают. Циньское государственное сооружение просуществовало не больше пары десятилетий, после чего империю пришлось кропотливо восстанавливать; территориально она охватывала примерно сердцевину Китая1, и то не полностью; и хотя Первый император, безусловно, превзошел всех предшественников в агрессивном универсализме, своими успехами он во многом обязан другим людям. Шан Ян и его сторонники-леги- сты разработали, по сути, интервенционистскую схему тоталитарного государства, философы-рационалисты и министры в дальнейшем отладили его механизм, а цари Цинь, правившие до Первого императора, успешно вели политику расширения государства и накопили достаточно ресурсов для ее завершения.
Около 330 г. до н. э., то есть за сто лет до того, как царь Чжэн из Цинь принял титул Первого императора, его прапрапрадедушка, циньский Хуэйвэнь-ван отвернулся от востока, где в нижнем бассейне реки Хуанхэ воевали Сражающиеся царства, и сосредоточил внимание на
1 Формально в правление Цинь Ши-хуанди власть империи распространилась далеко за пределы собственно Китая — прежде всего в южном направлении, где циньские войска дошли до нынешнего Северного Вьетнама.
117
ГЛАВА 3
соблазнительном, но на первый взгляд недостижимом далеком юго- западе. Там, за крутыми грядами хребта Циньлин (ныне последнего оплота большой панды), за верхней долиной реки Ханьшуй (Ханьцзян) и за туманными пиками Дабашаня лежали земли, которые один ученый назвал «землей шелка и денег» [1]. Это была Сычуань, занимающая обширную территорию в верхнем бассейне Янцзы, сегодня самая густонаселенная часть страны. В то время (впрочем, как и сейчас, после разделения провинции в 1997 г.) ее контролировали две силы: царство Ба на юго-востоке примерно соответствовало современному Чунцину, а Шу в центре — современному Чэнду.
246 238 221 210
Ни Шу, ни Ба не фигурируют в летописях «Вёсен и Осеней» и «Планах сражающихся царств». Расстояние, пересеченная местность и климат словно сговорились изолировать Сычуань от государств бассейна Хуанхэ, а населяющие Сычуань народы были сочтены слишком чуждыми и малокультурными для участия в циничных маневрах и кровавых битвах надменных ся. За пределами этого заколдованного круга лежало великое южное государство Чу, где отливали бронзовые колокола. Оно иногда поднималось вверх по рекам Ханьхэ и Янцзы и вторгалось на территорию Ба. Из двух сычуаньских государств более сплоченным и богатым было Шу (если судить о богатстве его древнейших обитателей по жертвенным ямам в Саньсиндуй). Кроме того, оно было ближе к центру Цинь в долине реки Вэйхэ, хотя даже если считать по прямой, расстояние между городом Сиань, рядом
118
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
с которым находилась древняя столица Цинь Сяньян, и Чэнду с оставляло добрых пятьсот километров.
Тем не менее Хуэйвэнь-ван установил сердечные отношения с дальними соседями. Он обменивался подарками с правителем Шу и поощрял мелкую торговлю с его царством, одновременно вынашивая в его отношении большие замыслы. Расстояние между царствами было слишком велико, но, если верить более поздней (скандально тенденциозной) версии, он решил эту проблему с помощью уловки, которая сделала бы честь даже данайцам, дары приносящим. Вместо деревянного коня он приказал изготовить пять каменных коров в натуральную величину, столь искусной работы, что их было не отличить от настоящих, и украсить их хвосты и задние ноги нашлепками из чистого золота. Стадо выставили в траву; посланники царства Шу увидели его и призадумались.
Люди Шу были, даже по сомнительным стандартам Цинь, непросвещенными и довольно далекими от цивилизации, а значит, несколько доверчивыми. Посланники рассказали своему царю о замечательном явлении, и он, взволнованный мыслью о неисчерпаемом источнике золотых коровьих лепешек, разумеется, стал просить прислать ему каменных коров в подарок. Хуэйвэнь-ван согласился. Но поскольку перегнать такое стадо через два крупных горных хребта по осыпающимся склонам и лесам, где бродили панды, было невозможно, он предложил сначала построить удобную дорогу. Царь Шу эту мысль одобрил, и закипела работа.
С какой бы целью на самом деле ни была построена «дорога каменных коров», убедительные следы которой удалось обнаружить археологам, это было вполне серьезное предприятие и первое из великих достижений циньского общественного строительства. Кроме того, это был революционный прорыв в военном искусстве Сражающихся царств и самое первое горное шоссе в Китае. Новая дорога была в основном деревянной (как гималайский джип-трек, который связывал Синьцзян с Пакистаном, пока китайские инженеры не построили вместо него в 1970-е гг. Каракорумское шоссе). Там, где современные инженеры могли бы срезать скалу или пробить туннель, создатели «дороги каменных коров» шли поверху (взрывчатая сила пороха была пока неизвестна даже в Китае). В самых трудных местах дорога шла по мосткам, прикрепленным одной стороной к крутым склонам. В поверхности скалы проделывали рад отверстий, затем в отверстия вбивали прочные сваи, достаточно длинные, чтобы уложить на них
119
ГЛАВА 3
деревянный настил. Кое-где для строительства дороги перекрывали реки и вырубали леса. Хуэйвэнь-ван весьма беспокоился о том, чтобы чудесные коровы прибыли на место в целости и сохранности, и его нельзя в этом винить. Наконец его коллега в Шу приветствовал каменное стадо на самых пышных пастбищах Сычуани... но через некоторое время отослал подарок обратно. Нет, он не обиделся — просто животные вели себя не так, как ожидалось.
Совсем не так легко оказалось избавиться от тяжеловооруженных циньских ратников с колесницами и обозами припасов, которые пришли по новой дороге вслед за каменными коровами. С бряцаньем пробравшись по навесным мосткам, армия Цинь вторглась в Шу в 316 г. до н. э. Под самым неубедительным династическим предлогом Хуэйвэнь- ван отказался от своего блефа и использовал дорогу, как и планировал с самого начала. Победить людей Шу в бою на равнинах оказалось не сложнее, чем одурачить их в горах. Проиграв несколько сражений, царь Шу бежал, а правитель соседнего государства Ба попал в плен. Таким образом, за исключением небольших территорий на юге и востоке, входивших в сферу интересов Чу, все сельскохозяйственные земли Сычуани оказались во власти царя Цинь. Это стало крупнейшим территориальным приобретением в Китае с тех времен, когда Западное Чжоу захватило владения Шан после битвы при Муе около 1046 г. до н. э.
Сопоставимый боевой подвиг был зафиксирован лишь в одной стране Азии. Всего за десять лет до описываемых событий македонская пехота вторглась в Индию. У Александра Великого не было удобной горной дороги, и он повел своих людей обходным путем через Гиндукуш, чтобы затем спуститься к не менее перспективным победам в верхнем бассейне реки Инд. Пенджаб, что в переводе означает «пять рек», то есть пять притоков Инда, лежал перед Александром так же, как Сычуань, что означает «четыре реки», то есть четыре притока Янцзы, лежала перед Хуэйвэнь-ваном. Но для будущего завоевателя мира Александра приключение на этом закончилось. Индийский поход оказался не более чем историческим сбоем. Через год Александр ушел, а через три года умер. Порядки, установленные им в богатейшей провинции Индии, прекратили существовать, как только он отступил. Та же участь постигла почти всю его армию, погибшую от жажды во время долгого марша через пустыню обратно в Вавилон. На Индостане его вторжение оставило так мало следов, что ни в одном из сохранившихся индийских источников о нем нет никаких упоминаний.
120
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
В Китае все происходило совершенно иначе. Сычуань оказалась окончательно и бесповоротно втянута в сферу влияния культуры ся и китайской империи. Для царя Цинь, в отличие от Александра, эта победа стала решающей. Завоевание удвоило территорию Цинь и превратило его из очередного сражающегося царства в воинственную сверхдержаву. Не могло быть и речи об отказе от земли, равно богатой полезными ископаемыми и обильными урожаями зерновых, обладающей множеством рек и мягким климатом, одинаково выгодной со стратегической и экономической точки зрения. Восстания безжалостно подавлялись, и после краткого неудачного эксперимента с удельным двоевластием вся страна была поделена на уезды и волости под непосредственным управлением центральной власти. Были введены циньские методы переписи населения и набора рекрутов, легистский устав поощрений и наказаний, стандартная система мер и весов, а также календарь.
Поднявшиеся в Чэнду массивные стены новой крепости высотой 23 метра и длиной 6,4 километра вскоре дали понять, что Цинь намерено остаться здесь надолго. Крепость по традиции строили из утрамбованных в деревянной опалубке, прочных, как бетон, землебитных блоков ханту. Добыча земли для фортификации оставила по всей равнине Чэнду огромные глубокие ямы. Эти ямы затем затопили и запустили в них рыбу: искусственные озера оказались достаточно большими, чтобы накормить рыбой целый город. Жестокая и деспотичная власть Цинь все же не была равнодушной к благосостоянию «черноголовых простолюдинов»: от покорности народа напрямую зависела массовая мобилизация.
Между тем по «дороге каменных коров» и другим спешно построенным дорогам из районов с суровым климатом в бассейнах рек Вэйхэ и Хуанхэ устремились потоки первых переселенцев — жадные до новых земель колонисты, отрабатывавшие трудовую повинность осужденные, искатели полезных ископаемых и изгнанники, переживавшие карьерный кризис. «Из всех областей, которым предстояло объединение под эгидой Цинь, Шу подверглось самой длительной и устойчивой трансформации», — пишет убежденный апологет этого процесса [2]. Проведя восемьдесят лет в относительном покое, Цинь получило возможность проводить на новых землях полевые испытания и экспериментировать с проектами, которые позднее характеризовали его правление во всем Китае.
121
ГЛАВА 3
«Земля шелка и денег» была готова для освоения. В Сычуани существовало обширное шелковое производство, и его продукция, особенно парча, могла служить как товаром, так и конвертируемой валютой (для этого ее упаковывали в тюки стандартного веса). В разбросанных по Сычуани и Юньнани местах добычи полезных ископаемых появилось монетное производство. Здесь выражение «делать деньги» имело буквальный смысл. Отлитые из местного сырья медные монеты более привычной для нас и более удобной для использования формы наполняли казну Цинь и, судя по их повсеместному распространению в захоронениях того периода, пользовались у предков большой популярностью. Так же активно разрабатывались соляные и железорудные месторождения, в основном под государственным надзором, но с широкими возможностями для частной инициативы. Соль приносила богатство, железо превращалось в инструменты и оружие.
Зерновое производство, основа и мера успеха любой устойчивой экономики, обеспечивающее доступность и мобилизацию рабочей силы, получило приоритет. Были проведены кадастровые исследования, землю поделили на равные участки, разграничив их дорожками и канавами. Множество земель было перераспределено. Судя по сохранившимся документам, государство даже пыталось диктовать, какие культуры и в какое время следует сажать. Но, вероятно, это относилось в первую очередь к тем землям, где были сооружены новые системы орошения: около 270 г. до н. э. Ли Бин, циньский губернатор Шу, задумал частично перенаправить на равнину Чэнду одну из четырех рек Сычуани, Миньцзян.
Ли Бин спроектировал в Дуцзянъяни грандиозную систему плотин и каналов. Можно только догадываться, каких усилий потребовало воплощение этого проекта, который предусматривал обширные землекопные и насыпные работы, постройку нескольких мостов и сооружение сложной водно-распределительной сети. «Крупнейший, тщательно спланированный проект общественного строительства, подобного которому еще не было на восточной половине Евразийского континента» снижал опасность наводнений, создавал водный торговый путь и превращал Сычуань в огромные рисовые закрома для всего внутреннего Китая [3]. Имя Ли Бина стало легендой, а его проект, обросший сталью и бетоном поздних надстроек, сохранился до наших дней и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и «дорога каменных коров», система водоснабжения Ли Бина
122
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
на реке Миньцзян предвосхитила более поздние грандиозные сооружения Первого императора. Но в отличие от них, ее не забыли, как гробницу Первого императора, или превратно поняли, как его стену Если бы в Китае были собственные «семь чудес Древнего мира», гидротехнические сооружения Ли Бина наверняка входили бы в их число.
Пока Ли Бин занимался плотинами, Чжаосян-ван, дольше всех (306-251 гг. до н.э.) правивший стремительно разбогатевшим государством Цинь, начал поигрывать новообретенными мускулами. Окрепнув на стероидах местного производства, Цинь приготовилось выдвинуться из стратегически выгодной Сычуани. Государство, контролировавшее верхние течения Ханьшуй и Янцзы, представляло прямую угрозу для любого государства в их среднем и нижнем течении. ВIII веке до н. э. это было великое южное царство Чу. Уже во времена Хуэйвэнь-вана, обсуждая плюсы и минусы строительства «дороги каменных коров», циньский министр заметил, что из всех сражающихся царств только Цинь и Чу имеют достаточно сил, чтобы возобладать над остальными. К 280 г. до н. э. вопрос стоял еще проще: кто из этих двоих окажется сильнее и сможет окончательно взять верх.
Примерно в то же время, когда силы Цинь подчинили Сычуань, войска Чу подчинили Юэ. Юэ находилось еще дальше от реки Хуанхэ и Сражающихся царств, чем Сычуань. Оно лежало к югу от дельты Янцзы и соседствовало с государством У, доставлявшим Чу немало хлопот в VI веке до н. э., когда цзэнский хоу предложил убежище чускому правителю. Положение стало немного проще после того, как государства образовали своеобразную пищевую цепочку. В начале V века до н. э. Юэ поглотило У, затем в конце IV века до н. э. Чу поглотило Юэ (и вместе с ним У). Естественно, если бы Чу (в то время включавшее в себя Юэ и У) уступило Цинь, это объединило бы всю долину Янцзы, вплоть до реки Ханьшуй и самых дальних притоков. Таким образом Цинь стало бы практически непобедимым, взяв под свой контроль две трети области «истока» Китая и, по чистому совпадению, положив конец эпохе государств с невыносимо однообразными названиями.
Хорошо понимая, какую угрозу представляет обходной маневр Цинь в Сычуани, Чу сначала попыталось сколотить антициньский альянс. Когда это не удалось, около 285 г. до н. э. Чу двинуло войска вверх по Янцзы. Они разграбили Ба и Шу, а затем повернули на юг в провинцию Гуйчжоу либо Юньнань. География этого похода не вполне цонятна, но мотивация ясна: Чу стремилось, в свою очередь,
123
ГЛАВА 3
обойти Цинь с тыла. Цинь ответило встречным маневром, обрубившим «щупальце» Чу. Экспедиционный корпус Чу, отрезанный на далеком юго-западе, остался среди коренных народов и, продолжив способствовать смешению культур, больше не участвовал в перетягивании каната между Цинь и Чу.
Воспользовавшись моментом, в 280-277 гг. до н. э. Цинь нанесло ответный удар и взяло противника в клещи, двинув армии с одной стороны в долину реки Ханьшуй, а с другой — вдоль реки Янцзы. Первая колонна наступления ударила глубоко в провинцию Хубэй и захватила столицу Чу и гробницы царственных предков. Вторая колонна положила конец владычеству Чу в Ба и захватила Янцзы вплоть до ее знаменитых Т£>ех ущелий. Чу так и не оправилось от этого двойного удара. Оно лишилось значительной части территорий, а дальнейшее перемещение владений Чу в сторону побережья и провинции Шаньдун выглядело не компенсацией, а постепенным развоплощением. Гораздо хуже была утрата престижа и легитимности. Потеряв столицу и не имея возможности совершать жертвенные обряды у гробниц предков, царь Чу явно лишился милости Небес. Царство Чу утратило нравственный авторитет и военную мощь и больше не могло считаться серьезным претендентом на верховенство.
Тем не менее огонь царства Чу теплился еще пятьдесят лет, и даже когда он наконец погас, память о нем осталась. Под возгласы «Великое Чу должно возродиться!» оно действительно возродилось после того, как имперский эксперимент Цинь потерпел неудачу. Из Чу пришли новые претенденты на власть (один из них стал основателем империи Хань), и мягкая южная смесь экстравагантной культуры, изящных ремесел, шаманского мистицизма и печальных стихов влилась в основной поток северокитайской культуры. Чу и Цинь, которых Сражающиеся царства когда-то считали нецивилизованными варварами, следуя каждое своей траектории, сошлись на Великой Китайской равнине, тем самым опровергнув представление о том, что политическое влияние и высокая культура зарождались в этой области и распространялись из нее вовне. Динамика была в равной мере и центростремительной, и центробежной, а «китайская цивилизация» была столь же собранной, сколь и рассеянной [4].
Пока царь Чу оплакивал утраты, Чжаосян-ван, воодушевленный военными успехами в Хубэе, покорял новые горизонты. Звезда Цинь была в зените, царство получило еще больше ресурсов, его новые тер¬
124
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
ритории от середины Янцзы до далекого Шаньси теперь нависали над Сражающимися царствами в долине Хуанхэ, словно открытая пасть хищника. Но, несмотря на все стратегические преимущества, окончательный триумф все же достался Чжаосян-вану дорогой ценой. Ужасающая резня сопровождала поражение Чжао, Вэй и Хань (преемников Цзинь) в 250-х гг. до н. э. Даже свержение древнего дома Чжоу в 256 г. до н. э. прошло не вполне бескровно: через шесть лет последний правитель Чжоу, живший почетным пленником на содержании Цинь, был казнен по подозрению в заговоре с целью вернуть себе престол.
За год до этого, в 251 г. до н. э., старый Чжаосян-ван скончался от естественных (и давно ожидаемых) причин. Ему наследовал сын, а вскоре после этого внук. Когда последний умер в 247 г. до н. э., преемником стал тот, кого считали его сыном, — тринадцатилетний Чжэн, будущий Первый император. Однако в силу своего возраста Чдсэн не мог взять в руки бразды правления — «надеть мужской головной убор и опоясаться мечом» — до 238 г. до н. э.
Учитывая, что долголетие правителей служило важным фактором стабильности любой династии, чересчур быстрая смена нескольких законных наследников и девять лет несовершеннолетия последнего из них вполне могли стать фатальными для Цинь. Разочарованные придворные фракции поднимали восстания, отдаленные военные округа подумывали о самостоятельности, остатки Сражающихся царств спешили воспользоваться положением. Но судьба благоволила Цинь, черпавшей силу в безграничных ресурсах и покорности населения. Восстания подавлялись, нападения извне жестоко пресекались. «Исторические записки», имея в виду присоединение Чжэн в 246 г. до н. э., гласят:
«К этому времени земли Цинь уже включали [области] Ба, Шу и Хань- чжун; [на юге] они простирались за Юань и включали Ин, где была учреждена область Наньцзюнь; на севере [Цинь] овладело областью Шанцзюнь и землями к востоку от нее, включая области Хэдун, Тайюань и Шандан; на востоке циньские земли тянулись до Инъяна. Уничтожив оба дома Чжоу, [Цинь] учредило [на их землях] область Сань-чуань»1.
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. 2 / Пер. с кит. и коммент. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина; Под общ. ред. Р. В. Вяткина. Изд. 2-е, испр. и доп. под ред. А. Р. Вяткина. М.: Восточная литература, 2003 (Памятники письменности Востока, XXXII, 2). С. 53.
125
ГЛАВА 3
Северные приобретения, тянувшиеся до степей Монголии, отдали в руки Цинь больше половины нижнего бассейна Хуанхэ. И здесь владения Цинь за время несовершеннолетия Чжэна расширились дальше: циньские полководцы захватили около тридцати городов и создали еще один новый округ [5].
Таким образом, когда в 238 г. до н. э. молодой правитель Чжэн достиг совершеннолетия, государство Цинь уже имело огромное влияние. Оно обладало более чем половиной своей будущей территории и считало большинство выживших государств своими подданными или вассалами. За исключением подозрительно близкого к ста тысячам счета павших в царстве Чжао в 234 г. до н. э., «Исторические записки» необычайно скупо упоминают жертвы на заключительном этапе объединения. Вероятно, жертвы были незначительными. Сам Чжэн воспринимал свои военные походы скорее как дисциплинарные мероприятия, призванные «наказывать бесчинство и неповиновение». Основной целью стало присоединение земель, а не физическое уничтожение противника. Вслед за поражением Хань и Чжао в 225г. до н.э. последовало подчинение уже раздробленного Вэй, в 223г. до н.э. — отступившего к морю ослабленного Чу, а в 222- 221 гг. до н. э. наконец сдались Янь на крайнем северо-востоке и Ци на полуострове Шаньдун. «Благодаря духам предков эти шесть царей признали свою вину, и мир в настоящее время пребывает в основательном порядке», — удовлетворенно заметил победитель [6].
Царю Чжэну оставалось только отметить это достижение подобающим новым титулом. Советники, обсуждавшие этот вопрос, предложили ему именоваться «Великим августейшим властителем». Но у Чжэна, остро осознававшего недостатки своего новообретенного положения, нашлась более удачная идея: «Уберите слово тай — “Великий” и оставьте слово хуан — “властитель”, прибавьте к нему ди — самый древний титул правителей — “император”, и пусть мой титул будет хуанди — “Властитель-император”»1.
Новый порядок был немедленно утвержден официальным указом: отныне посмертные имена отменялись, и императоров следовало называть только унаследованным порядковым номером. «Мы будем [титуловаться] Ши-хуанди — первый властитель-император, а последующие поколения [правителей пусть именуются] в порядке
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 62.
126
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
счета: Эр-ши — второй, Сань-ши — третий, и так до десятитысячного поколения, [власть нашего рода] будет передаваться бесконечно»1 [7]. Впрочем, потомки довольно скоро отказались от этих ограничений. Одно из первых и самых разумных нововведений императора, увы, не прижилось: порядковая нумерация правителей прекратилась уже после Второго императора.
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦИНЬ
После вступления на престол правитель должен был прежде всего позаботиться о своем роде — в прошлом, настоящем и будущем. Почитая предков, он предвидел время, когда сам станет одним из них, и демонстрировал законность своего прихода к власти и тем самым легитимность своих наследников. Поэтому сооружение подобающей гробницы для подростка Чжэна началось сразу после того, как завершились погребальные обряды его отца. Вероятно, планы постройки неоднократно пересматривались и расширялись, и к тому времени, когда Чжэн перешел от совершеннолетия к царствованию, а затем к императорскому правлению, погребальное строительство приобрело по-настоящему грандиозный размах. Его родители были окружены почестями: отец, несмотря на недавно изданный запрет, получил посмертный титул великого верховного властителя. С матерью, которая к тому времени была еще жива, возникли проблемы другого рода. Прежде всего необходимо было позаботиться о ее репутации — очистить ее имя от подозрений в позорной связи, подрывавшей ту самую легитимность, которую молодой император настойчиво стремился подчеркнуть.
Так получилось, что во время несовершеннолетия Чжэна государством правила группа опытных политиков и военачальников под руководством талантливого Люй Бувэя, служившего канцлером при отце Чжэна. Что было необычно и, пожалуй, даже вызывающе, на взгляд конфуцианских «благородных мужей», привыкших рассматривать власть как собственную прерогативу, — своим положением Люй Бувэй был обязан не наукам, а торговле. Даже будучи весьма успешным предпринимателем, он оставался всего лишь торговцем. В царствах ся это ремесло считалось одним из самых недостойных,
1 Цит. по: Сг>1маЦянъ. Исторические записки...Т. 2. С. 63.
127
ГЛАВА 3
а легистские законы Цинь налагали на его представителей самые тяжелые штрафы и ограничения.
Презрением к этому выскочке, возможно, и объясняется подчеркнутая пикантность посвященных Люй Бувэю биографических строк в «Исторических записках». Как большинство министров Цинь, он не был уроженцем этого царства и до приезда туда около 251 г. до н.э. пользовался благосклонностью знаменитой наложницы. Ее имя в хронике не упомянуто, говорится только, что она была «несравненной красавицей и весьма искусной танцовщицей», что привлекало к ней множество поклонников. Среди них был и тогдашний наследный принц Цинь. Принц вынудил Люй Бувэя расстаться с ней, однако «она скрыла, что к тому времени была беременна». Ее ребенок, мальчик, родившийся в положенный срок, считался потомком принца Цинь. Через некоторое время наследный принц взошел на трон и стал царем, прекрасная наложница была признана его официальной супругой, а ее ребенок был объявлен наследником. Это и был юный Чжэн1. Таким образом, если эта история правдива, будущий Первый император был самозванцем. Права наследника можно узаконить, официально сочетавшись браком с его матерью (что было сделано), но ни о какой законности не могло быть речи, если ребенок родился от не заслуживающей упоминания связи между обычной наложницей и рыночным торговцем.
Однако этим дело не кончилось. Когда тринадцатилетний Чжэн взошел на трон после смерти отца, его мать, вдовствующая царица,
1 Согласно Сыма Цяню, циньский принц Ин Ижэнь (Цзы Чу) — отец будущего Первого императора — был сыном одной из царских наложниц, бесконечно далеким в череде престолонаследования. Как часто случалось с подобными незначительными княжичами, он был отправлен заложником в Чжао, где вел довольно жалкий образ жизни. Люй Бувэй, сколотивший на торговле состояние, но тяготившийся своим низким положением в обществе, предложил принцу финансовую поддержку и в знак дружбы уступил ему понравившуюся княжичу собственную наложницу. Деньги купца спасли принца от смерти во время начавшейся войны с Цинь, помимо этого, хитроумный Люй убедил бездетную супругу циньского царя усыновить Цзы Чу — так из одного из многих сыновей правителя он стал наследником престола, а затем и царем, после чего купец стал первым министром, получив в кормление земли, населенные сотней тысяч семейств. Касательно щекотливой истории с беременностью наложницы Сыма Цянь отмечает, что срок ее беременности превышал естественный, что теоретически можно воспринимать как опровержение версии биологического отцовства Люй Бувэя или как указание на прирожденное отличие Первого императора от обычных людей.
128
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
а в недалеком будущем вдовствующая императрица, возобновила отношения с Люй Бувэем. Но он, похоже, начал тяготиться ее вниманием и очень боялся, что об их связи станет известно.
«Распутство императрицы не прекращалось. Люй Бу-вэй стал опасаться, что это станет известным и навлечет на него беду. Тогда он подыскал мужчину по имени Лао Аи, у которого был очень большой член. Сделав его своим шэжэнем (слугой), он стал часто приглашать его на оргии и заставлял его крутить на своем члене колесо из тунгового дерева. Чтобы соблазнить императрицу, [Люй Бу-вэй] устроил так, что она узнала об этом и пожелала сойтись с этим мужчиной»1 [8].
Так и произошло. Государыня была крайне заинтригована, и Лао Ай, обладатель выдающегося достоинства, оказался невольным бла- гополучателем в этой не слишком тонкой стратагеме. Его обвинили в каком-то проступке и якобы приговорили к кастрации (в результате которой ему сбрили только бороду и усы), а затем назначили прислуживать в покоях вдовствующей царицы как евнуха. «Она очень его полюбила», — говорится в «Исторических записках» — неудивительно, учитывая, что на самом деле он вовсе не был евнухом. Лао Ай неотлучно состоял при царице, которая осыпала его подарками, и вскоре приобрел собственную многотысячную свиту и стал заметной персоной при дворе. Когда вдовствующая государыня снова забеременела, они удалились из столицы в провинцию. Однако жить долго и счастливо им не пришлось — в 238 году их сыновей (их было двое) сочли угрозой престолонаследию2. Недавно занявший трон Чжэн «послал чиновников выяснить обстоятельства дела. Все подтвердилось. В деле оказался замешанным и... Люй Бу-вэй»3 [9].
Люй Бувэй нашел людей, которые смогли его защитить. Злосчастный Лао Ай решил поднять знамя восстания. Однако его армию быстро разбили, семью уничтожили («в Сяньяне отрубили несколько сотен голов»), а его оставшиеся сторонники — около четырех тысяч семей — были перевезены в Сычуань. Сам Лао Ай был разорван колесницами.
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 7. С. 298. Сохраняем при цитировании написание Бу-вэй и Аи.
2 Императору донесли, что Лао Ай и императрица прочат одного из них на его место.
3 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 7. С. 299.
129
ГЛАВА 3
Вдовствующую государыню и Люй Бувэя просто изгнали, запретив появляться при дворе. Но в 235 г. до н. э. государыня была прощена, и ей позволили вернуться в Сяньян, а Люй Бувэя отправили в ссылку, тоже в провинцию Сычуань. Опасаясь, что это лишь прелюдия к смертной казни, король торговли «выпил отравленное вино и умер».
, Рассказывая об этом, «Исторические записки» не скупятся на детали. Однако есть некоторые сомнения в том, что эту часть текста действительно написал его главный автор Сыма Цянь. В своих записках великий историк рисует несколько неоднозначный портрет Первого императора. Учитывая, что Сыма Цянь писал в эпоху Хань чуть более века спустя, у него были все основания принижать Цинь: основатель Хань сверг дом Цинь, и, следовательно, единственного законного императора этого дома надлежало выставить самозванцем, лишенным добродетелей, позволяющих рассчитывать на Небесный мандат. Поэтому Сыма Цянь приводит в своих записках длинную обличительную речь против Первого императора, где говорится, что он был «жадным и недальновидным», пренебрегал советами и традициями, не знал нужд народа и «поверг весь мир в пучину жестокости». Его законы были чрезмерно суровыми, а поступки бесчестными. И если на этапе захвата власти все это было еще простительно, то созданию справедливой и устойчивой империи никак не способствовало. Таким образом, главная вина Первого императора заключалась в том, что он «не менялся вместе со временем» [10].
Вместе с тем, как мы убедимся дальше, Сыма Цянь имел веские причины недолюбливать своего ханьского покровителя и потому не слишком усердствовать в очернении предыдущей династии. Фактически он говорит, обозначив это только как собственное мнение, что, хотя «правление Цинь сопровождало много жестокостей, [империи] все же удалось измениться со временем, и ее достижения были велики» [11]. Вкупе с некоторыми филологическими нестыковками в других разделах текста это заставило ученых заподозрить в истории о том, что Люй Бувэй был настоящим отцом Чжэна, позднейшую вставку, добавленную другими летописцами, стремившимися снискать расположение императоров Хань. Однако рассказ о возвышении и падении несчастного Лао Ая кажется достаточно достоверным. Вероятно, Первый император, как многие императоры после него, обнаружил, что провозглашать свою законную власть гораздо удобнее, если избавиться от всех, кто подвергает ее законность сомнению.
130
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
Приняв новый титул, Первый император вскоре сделал еще одно объявление, ставшее красноречивой преамбулой его царствования: он объявил, что Цинь «управляет силой воды». Однако имелся в виду не успех сычуаньского гидропроекта Ли Бина, а учение о пяти фазах, или пяти силах (стихиях). Согласно этому учению, ход истории определяет поочередное усиление и ослабление пяти главных природных сил. Если конфуцианцы приписывали власть династии Небесному мандату, то другие философы менее ортодоксальных (или более даоских) взглядов связывали ее с одной из пяти стихий — землей (почвой), деревом, металлом, огнем или водой. Наделяя влиянием сменяющие друг друга династии, фазы чередовались в бесконечном цикле, в основе которого лежало представление о том, что каждая следующая стихия одолевает предыдущую: дерево плывет по воде, металл рубит дерево, огонь плавит металл, вода гасит огонь, земля засыпает воду и т. д. Поскольку Чжоу, очевидно, было связано с огнем, империя Цинь приняла покровительство стихии, побеждающей огонь. «Началось действие стихии воды», — говорится в «Исторических записках»1. И поскольку к услугам легковерного правителя отныне была целая философская школа пяти фаз, это имело значительные последствия для всей страны.
У каждой из пяти фаз (стихий) имелись благоприятные соответствия — цвета, числа, времена года (пришлось добавить еще одно) и многое другое. Стихии воды соответствовал черный цвет, число шесть и зима. Однако зима была самым суровым временем года, временем темноты, смертей и казней (которых до недавнего времени было предостаточно), и с водой были связаны довольно мрачные ассоциации, особенно у жителей часто страдающей от наводнений долины Хуанхэ. Таким образом, Первый император, всего лишь поддержавший широко распространенную традицию, оказался окруженным безрадостными символами. Даже если бы он был самым веселым и снисходительным правителем (а он таким не был), его царствование вряд ли могло породить оптимистичные чувства и светлые ожидания2.
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 63.
2 Маловероятно, что построения придворных ученых, убедивших императора в покровительстве ему стихии воды, были широко известны вне стен дворца, и неблагоприятный образ воды мог как-то повлиять на восприятие империи народом. Кроме черных знамен и черных придворных одежд простолюдины вряд ли могли хоть что-то заметить.
131
ГЛАВА 3
Тем не менее он принял свой водный жребий с характерной педантичностью. Он сам носил только черное, и его войска выходили под черными штандартами из крепостей, над которыми развевались черные флаги. Очевидно, Хуанхэ (Желтую реку) тоже необходимо было переименовать. Но поскольку ее считали источником и воплощением всей воды государства, просто назвать ее Черной рекой было недостаточно. Она сталаДэшуй, «Рекой добродетели». С числом шесть никаких проблем не возникло. Парные бирки, символизировавшие императорские поручения (у императора оставалась одна половина, у чиновника, получившего поручение, другая) было приказано делать шесть «дюймов»1 длиной. Официальные головные уборы стали шесть «дюймов» шириной, а длину «шага» приравняли к шести «футам»2 (фактически это были два шага). Предписанная ширина колесной оси официального транспорта также равнялась шести «футам», и запрягать его полагалось шестью лошадьми, предпочтительно вороными. Аналогичные требования были распространены на колесницы и повозки, в результате чего возникла стандартная ширина дорожной колеи, тоже равная шести «футам», а трехполосные дороги империи стали напоминать трамвайные пути. Необходимые поправки были внесены в календарь: празднование Нового года перенесли на десятый месяц, и теперь оно совпадало не с солнцестоянием или началом весны, а с наступлением зимы.
Пристальное внимание к деталям, количеству, единообразию и соблюдению правил подчеркивало уважение императора к пяти стихиям и прекрасно сочеталось с духом и буквой легизма. Отличительной чертой легистского государства раньше было принято считать суровые законы, подкрепленные ранжированными наградами и драконовскими наказаниями. Но открытие в 1970-х гг. хранилища бамбуковых документов в захоронении близ Уханя, на территории провинции Хубэй, которая когда-то была центральной областью царства Чу, заставило пересмотреть эти представления. Нельзя сказать, что найденные документы, представляющие собой справочник местного чиновника по циньским законам и юридическим уложениям, разубеждают в жестокости правосудия. В некоторых случаях кража
1 Речь идет о мере длины, именуемой цунь. В цинское время она равнялась примерно 2,4 см.
2 Чи в циньское время равнялся примерно 24 см. До Цинь один «шаг» (бу) равнялся 8 чи.
132
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
всего одной монеты каралась отрубанием стопы, а также татуировкой туловища (особенно унизительной формой обезображивания) и ссылкой на каторгу. Однако гораздо чаще в качестве наказания фигурировали штрафы или недолгие периоды неоплачиваемых общественных работ. Так или иначе, правосудие было строго регламентировано, и в нем не было места произволу. Характер преступления, степень его умышленности и любые смягчающие обстоятельства скрупулезно разбирались, а установленные бюрократические процедуры соблюдались на протяжении всего судебного процесса даже в случаях самых незначительных нарушений. Точно так же статуты, регулирующие ведение сельского хозяйства, перечисляли не только различные виды предназначенных для посева зерновых культур, но и количество семян каждой культуры, необходимое для засеивания данной площади. Отчитываться о ходе сельскохозяйственных работ было необходимо при появлении любого информационного повода: был дождь, не было дождя, обнаружены вредители и так далее. Предусматривались ежегодные призы для смотрителя, скотовода и работника, отвечающих за лучшего в округе вола, и, конечно, наказание для худших (обычно два месяца обязательных работ)1 [12].
1 Удивительные успехи Цинь в построении беспрецедентно эффективной и столь же невиданно деспотичной системы бюрократического контроля неплохо изучены. В целом они относятся еще ко временам царства Цинь, и именно ресурсы, в кратчайшие сроки аккумулированные благодаря этим успехам, позволили сделать возможными великие завоевания Ин Чжэна и его превращение в Первого императора. Каждое поле находилось под неусыпным контролем чиновников, которые постоянно отправляли информацию о темпах роста урожая в столицу Там эти вести анализировали, постоянно корректируя прогноз урожая, от которого напрямую зависел размер налога (крестьянину оставлялось немногим больше необходимого для выживания минимума). Чиновники также находились под неусыпным контролем и нещадно штрафовались за каждое упущение (например, мышиную нору, обнаруженную ревизором в подотчетном зернохранилище). Удивительно, что при этом чиновники практически не получали жалованья. Они работали в рамках трудовой повинности. Вводились эти правила не по всему царству, а лишь в избранных областях, чаще всего недавно завоеванных, которые рассматривались в качестве баз для следующего вторжения. Остальные провинции управлялись не столь сурово. После создания империи циньским бюрократам не удалось добиться в огромных вновь завоеванных областях того же качества управления. Уровень контроля в новых землях был несравнимо ниже, а уровень злоупотреблений — выше. Таким образом, золотым веком циньской бюрократии стоит считать не времена империи, а десятилетия, предшествовавшие ее созданию.
133
ГЛАВА 3
Сперва в государстве Цинь, а затем в провинции Сычуань, на завоеванных территориях Чу, Вэй и Чжао, а теперь и по всей империи особое внимание уделялось «эффективности, точности и фиксированной рутине управления и делопроизводства... а также точной количественной оценке данных, повышению урожайности сельского хозяйства и сохранению природных ресурсов» [13]. Домохозяйства были переписаны с целью налогообложения, население организовано в группы для призыва на военную службу и общественные работы. Все ново- приобретенные территории были поделены на «военные округа», которыми управляли непосредственно назначенные императором чиновники. В 221 г. до н. э. этих округов насчитывалось тридцать шесть, и каждый из них делился на уезды. Чтобы бывшие правящие семьи уже не сражающихся царств не создавали проблем в военных округах, их отпрыски были вызваны в столицу Цинь Сяньян и поселены в аналогах своих дворцов под бдительным оком императора. Их армии были распущены, а все лишнее оружие пущено на переплавку. Правда, мечи перековали не на орала — из них отлили двенадцать колоссальных статуй, которые позже были повторно переплавлены для других целей. Медным монетам Цинь повезло больше. Они стали стандартным средством обмена во всей империи, а их внешний вид (плоские и круглые, с квадратным отверстием посередине, позволявшим нанизывать их в связки) сохранялся более двух тысяч лет. Во всей империи была проведена стандартизация весов и мер, и за любые отклонения от установленных показателей, точно определенных в каждом конкретном случае, назначались крупные штрафы.
Чтобы обеспечить повсеместное выполнение этих приказов и повысить бюрократическую эффективность, оставалось только стандартизировать иероглифы для письма и чтения. В течение 1 -го тысячелетия до н.э. унаследованный от Шан и Чжоу стиль письма «большой печати» (да-чжуань) приобрел во многих Сражающихся царствах местные особенности. Более того, в Шу, Чу и других государствах за пределами Великой Китайской равнины существовали совершенно иные системы письма, о чем свидетельствуют найденные там пока еще не расшифрованные пиктографические фрагменты1.
1 Основные находки дописьменных знаковых систем относятся к среднему и нижнему течению Янцзы и датируются дошанским временем. Ни одна из этих протописьменностей не сумела стать письменностью в полном смысле этого слова. Ко времени Цинь все чжоуские царства пользовались общей ие-
134
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
Первый император ввел новый стиль письма «малой печати» (сяо- чжуань), который должен был положить конец беспорядочному разнообразию. Устаревшие и оскорбительные иероглифы были отменены, прочие упрощены и рационализированы, и каждый в отдельности был приведен к единому стандарту1. Несмотря на то что ученые эпохи Хань довольно скоро внесли в стиль «малой печати» свои поправки, эта реформа способствовала возникновению единого письменного языка, которым пользовалась образованная знать по всей империи, независимо от диалектов устной речи2. Это был признанный язык власти и науки. Реформа имела огромные и далеко идущие последствия. Она стирала региональные различия, но при этом углубляла социальные различия, расширяя пропасть между образованными и необразованными классами. Не будь этой стандартизации, бюрократам Китая сегодня понадобилось бы не меньше переводчиков, чем Евросоюзу, и претензии на существование многотысячелетней «непрерывной цивилизации» вряд ли выглядели бы обоснованными, если бы их вообще удалось сформулировать понятным для всех китайцев образом.
Эти меры, сопровождаемые общественными работами, масштабы и размах которых затмили даже «дорогу каменных коров» и гидротехнические сооружения Ли Бина, объединили империю надежнее, чем простое завоевание, и обеспечили ее существование после падения империи Цинь. Подобной обширной и в основном «варварской» империи, состоявшей не только из государств бассейна Хуанхэ, но и из Сычуани, государств бассейна Янцзы и большей части Южного Китая и Внутренней Монголии, никогда ранее не существовало. Устанавливая во всех своих владениях одинаковые стандарты административного контроля и массовой мобилизации, Первый император, очевидно, понимал, что открывает новые горизонты. В серии памят¬
роглификой (которая, впрочем, порой могла применяться для записи языков, довольно далеких от чжоуского). Первые шаги собственных письменностей ряда народов Южного Китая (например, наси или чжуанов) плохо документированы и относятся к более поздним временам.
1 Эта реформа была наименее успешной среди реформ Первого императора — унификации письменности удалось добиться только империи Хань.
2 Вероятно, Цинь Ши-хуанди стремился укомплектовать все основные должности чиновной иерархии исключительно циньцами, так что языком элиты являлся не какой-то искусственный (и преимущественно письменный) жаргон, как впоследствии, а вполне живой циньский диалект.
135
ГЛАВА 3
ных надписей, тексты которых добросовестно приводит Сыма Цянь, император уделял своим административным достижениям больше внимания, чем военным победам.
«На двадцать шестом году [правления, в 221 г. до н. э.] властитель-император открыл эру [своих] свершений. Он выправил и упорядочил законы и меры и те устои, которым следует все сущее... Заслуги [нашего] властителя- императора [проистекают от] его усердия и усилий в [поощрении] основных занятий [Он] на первое место ставит хлебопашество, отвергает другие занятия, и черноголовые от этого благоденствуют. Под всем огромным небом [он] овладел сердцами людей и объединил их помыслы. Все [ритуальные] инструменты и оружие сделаны [теперь] по единой мере, в письме установлено единое начертание [иероглифов]. И все, что освещают лучи солнца и луны, все, что перевозится на лодках и повозках, до конца выполняет свое назначение, и нет того, что бы ни отвечало устремлениям [императора]. Действовать в нужное время — так [поступает наш] властитель-император»1.
Империи — продукт избыточных ресурсов, новых технологий (металлургических, сельскохозяйственных и военных) и личной инициативы — до этого неоднократно возникали в других частях Азии. Дарий и Ксеркс из персидской династии Ахеменидов в конце VI века до н. э. создали территориальный колосс, простиравшийся от Эгейского моря до Инда, Александр Македонский ненадолго превзошел его в IV веке до н. э., а в начале III века до н. э., когда Цинь играла мускулами в провинции Сычуань, готовясь к первому «объединению» Китая, династия Маурьев из Паталипутры осуществляла первое «объединение» Индии.
Ашока, третий император из династии Маурьев и почти современник Цинь Ши-хуанди, тоже питал слабость к надписям на камне. На стенах пещер Индии и монолитных каменных колоннах они сохранились лучше, чем на стелах Первого императора, из которых аутентичным считается только один найденный фрагмент. Но индийская империя, память о которой увековечили эти надписи, исчезла через десять лет после смерти Ашоки, в то время как китайская империя Цинь Ши-хуанди преобразилась в Ханьскую империю и в основе своей просуществовала более двух тысяч лет.
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 67-68.
136
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
Вердикт истории в отношении этих двух императоров вряд ли мог быть более непохожим. Ашоку почитают как великодушного реформатора, который отказался от насилия, склонялся к монашеской жизни, провозгласил общий закон дхармы и вместо армий отправлял в другие страны проповедников. Цинь Ши-хуанди, напротив, считается одним из худших тиранов, «восточным деспотом» во главе тоталитарного государства, от природы жестоким, суеверным и склонным к мании величия. Однако его надписи тоже утверждают, что он «принес мир всему миру», «правил справедливо», «проявлял сострадание к простым людям» и «неустанно трудился ради общего блага», не говоря уже о том, что он распустил (чужую) армию, переплавил (чужое) оружие и строго и беспристрастно вершил правосудие. В сущности, надписи приписывают ему те же достоинства, которыми мог бы гордиться Ашока, и многие фразы в переводе как будто повторяют слова индийского царя1.
Но поскольку об Ашоке, за исключением упомянутых надписей, известно слишком мало, его обычно судят по его собственным словам2. О Первом императоре, напротив, очень многое известно из других источников. Плодовитая историографическая традиция Китая, имевшая привычку принижать недолговечные династии, была к тому же серьезно оскорблена некоторыми его деяниями3, поэтому Первый император, случись ему выйти из своего подземного мавзолея, обнаружил бы, что оставленные им надписи на камне не имеют никакой силы. И он вполне обоснованно мог бы пожаловаться на двойные стандарты, ведь если бы «Исторические записки» и все написанные на их основе труды были уничтожены и в веках сохранилась только его эпиграфика, история, возможно, была бы к нему так же добра, как к Ашоке.
Именно массовое уничтожение книг в 213 г. до н. э. и стало причиной непреходящего позора Первого императора в веках (длившегося до тех пор, пока красногвардейцы-хунвэйбины не пошли по его сто¬
1 Это универсальная идеология монархической и, шире, любой единоличной политической власти. Те же выражения можно найти и у вавилонского царя Хаммурапи, и у Дария I. — Прим. ред.
2 Известно жизнеописание Ашоки на санскрите «Ашокавадана» и рассказы о нем в палийских летописях «Дипавамса» и «Махавамса», а также в ряде других буддийских сочинений. И надписи индийского царя, и письменные тексты рисуют сходный образ праведного правителя. — Прим. ред.
3 Главную роль сыграл тот факт, что эта историографическая традиция во многом сформировалась в эпоху Хань — империи, возникшей на руинах Цинь и по крайней мере формально отрицавшей заслуги предшественницы.
137
ГЛАВА 3
пам в конце 1960-х гг. и не реабилитировали его как первого «культурного революционера» в истории Китая). Хотя реформа письменности была воспринята образованными людьми положительно, к традиционной учености Первый император относился с подчеркнутым презрением. Историю, говорил он, следует творить, а не повторять. Те, кто разглагольствовал о величии Чжоу-гуна и Небесном мандате, вряд ли могли рассчитывать на его уважение или благосклонность. Нападки на легизм, ставивший закон выше прецедента, а силу правителя выше его добродетели, император пресек в свойственной ему решительной манере, устроив в 213 г. до н. э. литературный погром.
После того как Люй Бувэй (торговец и министр, который, вероятно, все же не был отцом Первого императора) впал в немилость в 238 г. до н. э., его место среди доверенных лиц, а затем и пост канцлера занял еще один выскочка — Ли Сы, по описанию современников, «человек с улицы, из простонародья», но, по мнению его биографа в XX веке, настоящий серый кардинал за троном Первого императора и «первый объединитель Китая» [14]. Горячий апологет и сторонник легизма и, возможно, автор триумфальных надписей императора, Ли Gbi когда-то учился у философа Сюнь-цзы (как и Хань Фэй, еще один красноречивый идеолог легизма). И Ли Сы, и Хань Фэй с готовностью приняли жесткий прямолинейный кодекс, вызывавший отвращение у их наставника, но пришедшийся ко двору в Цинь. (Остается предполагать, что как учитель Сюнь-цзы оставлял желать лучшего.)
Хань Фэй первым начал открыто критиковать традиции и высмеивать конфуцианских ученых, которые, по его словам, «сторожили пень в ожидании зайца». Убеждая императора вернуться к обычаям древности, эти ученые уподобляют государя туповатому крестьянину, который, увидев однажды, как заяц с разбегу убился о пень, отложил соху и провел остаток своих дней, ожидая повторения этого удачного случая. Другими словами, прецеденты прошлого не могут указывать, как решать проблемы настоящего, и государство не может позволить ученым проповедовать такую глупость. Ученые не пашут и не воюют — они лишь паразиты. Их изящные речи подтачивают закон, а их двусмысленные советы оставляют правителя в нерешительности. Если дать им волю, они, несомненно, принесут гибель, писал Хань Фэй.
«Поэтому в государстве просвещенного правителя нет книг, написанных на бамбуковых планках, — закон служит единственным
138
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
руководством к действию. Нет поучительных историй о былых властителях — чиновники служат единственными учителями. Нет междоусобиц и личных армий — отсечение вражеских голов (в битве) считается единственным достойным деянием. Люди такого государства не говорят ничего против закона, действуют только для пользы, а смелые поступки совершают на военной службе» [15].
Легизм, который иногда называют реализмом, рационализмом и модернизмом, был крайне прагматичным учением. Он допускал существование только таких ученых, которые, как сами легисты, способствовали укреплению государства. Когда в 213 г. до н. э. конфуцианский ученый предложил императору, который обладал теперь всей полнотой власти, возродить традиции Шан и Чжоу и вознаградить верных сторонников, одарив их феодальными вотчинами, настала очередь Ли Сы взяться за перо (точнее, за кисть). Раздача уделов в прошлом привела к катастрофе, решительно написал он. Феодальные правители восставали против вышестоящей власти — к этому их подстрекали ученые, взывавшие к древности, чтобы очернить настоящее и унизить нынешнюю власть. Теперь те же «приверженцы личных теорий» хотят, чтобы Цинь повторила эту ошибку. Они критикуют установленные на землях императора порядки, сбиваются в клики и подрывают его власть. Их нужно остановить.
«Я предлагаю, чтобы чиновники-летописцы сожгли все записи, кроме циньских анналов; все в Поднебесной, за исключением лиц, занимающих должности ученых [при дворе], кто осмеливается хранить у себя Ши цзин, Шу цзин и сочинения ученых ста школ, должны явиться к начальнику области или командующему войсками области, чтобы там свалить [эти книги] в кучу и сжечь их Всех, кто [после этого] осмелится толковать о Ши цзине и Шу цзине, [подвергнуть] публичной казни на площади; всех, кто на [примерах] древности будет порицать современность, [подвергнуть] казни вместе с их родом; чиновников, знающих, но не доносящих об этом, карать в той же мере. Тех, кто за тридцать дней после издания указа не сожжет [эти книги], [подвергнуть] клеймению и принудительным работам на постройке [крепостных] стен. Не следует уничтожать книги по медицине, лекарствам, гаданиям на панцирях черепах и стеблях, по земледелию и разведению деревьев»1 [16].
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 77-78.
139
ГЛАВА 3
Император согласился, и в 213 г. до н. э. началось великое сожжение бамбуковых книг. Согласно поздним источникам, вскоре за этим последовали репрессии, в ходе которых четыреста шестьдесят ученых были под надуманным предлогом казнены или похоронены заживо. Вероятно, таким образом власть стремилась положить конец любому изустному и письменному распространению текстов. Но для людей, видевших свое главное отличие от окружающих народов в глубоком знании истории и, по существу, литературной культуре, сожжение книг и преследование ученых стало сильнейшим ударом. Общественное мнение этого не забыло, а ученые не простили \
Вместе с тем последствия этих мер, конечно, преувеличены. Книги, равно как и читатели, в то время были отнюдь не многочисленны, а бамбук отлично горел, но ничуть не хуже сохранялся в тайниках. Полностью подавить инакомыслие было невозможно. Даже прямо упомянутые Ли Сы сочинения «ста философских школ» сохранились и дошли до наших дней. Исторические хроники Цинь были освобождены от сожжения, и хотя летописи других Сражающихся царств в самом деле были уничтожены, в императорском архиве сохранились копии древнейших текстов, в том числе конфуцианской классики. Некоторые ученые утверждают, что гораздо более масштабные потери культура понесла семь лет спустя, когда дворцы в Сяньяне, в том числе императорский архив, были разграблены победоносными противниками Цинь [17]. Возможно, это был еще один случай, когда на репутацию Цинь легла тень грехов преемников.
По-видимому, главной целью власти в 213 г. до н.э. был не запрет истории и литературы, а ограничения доступа к ним, и, как сообщают «Исторические записки», «содержать простых людей в невежестве и следить за тем, чтобы никто в империи не взывал к прошлому, чтобы критиковать настоящее» [18]. Однако результат оказался прямо противоположным: в попытке компенсировать потери ханьские ученые принялись изучать сохранившиеся материалы с усиленным рвением. «Таким образом, Ли Сы, запрещавший ставить прошлое выше настоящего,
1 Многие современные ученые сомневаются в реальности этих событий. Не исключено, что это знаменитое аутодафе было в той или иной степени выдумано позднейшими конфуцианцами, поскольку делало их главными, смертельными врагами ненавистной Цинь и заметно увеличивало их (на деле небольшие) заслуги в борьбе с империей.
140
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
основательно просчитался» [19]. Другими словами, «культурная революция» Цинь укрепила культуру, которую должна была дискредитировать, и дискредитировала революцию, которую должна была укрепить.
КРАДУЩАЯСЯ СТЕНА, ЗАТАИВШАЯСЯ ГРОБНИЦА
То, что империя, стоявшая за первым объединением большей части земель, которые мы сегодня называем Китаем, увенчала этот успешный процесс передачей своего имени территориальному творению своих рук, представляется достаточно логичным. Цинь дала нам слово China — во всяком случае, так принято считать. Сначала это слово проникло в индоиранские языки (санскрит и древнеперсидский) как «Сина» или «Чина», от них перешло в греческий и латынь как «Синай» или «Тинай», а от них во французский и в английский как СЫпе и China. Производные (шиофил, ошификация и т. д.) были созданы ошологами на основе того же корня. Таким образом, Цинь предстает не только как имперский, но и как этимологический предок Китая, причем в обоих случаях определяющей характеристикой служит централизованная империя с самобытной культурой.
Но если понятие Чжунго можно относительно гибко увязать со «срединными царствами», «средним царством» и затем с «центральным государством», этимология «Цинь = Китай» далеко не так прямолинейна. Корень «син-» проник в санскрит, вероятно, еще до возвышения Цинь — возможно, он появился благодаря государству- гегемону Цзинь, которым правил Чунъэр в VII веке до н. э. Позднее греко-римский мир знал фактически два Китая: Синай (Тинай) и Серее (или Серика)1 — из этих областей экспортировали шелк, однако не считали одной страной. Средневековая Европа добавила еще один вариант — Катай, в котором, по собственному утверждению, побывал Марко Поло. Чин (или Чина) у Марко Поло встречается несколько раз лишь в качестве альтернативного названия южной прибрежной области Маньзы [20]. Именно в этом ограниченном смысле слово «Чин» (Чина) использовали мусульманские, а затем португальские торговцы. В английском языке оно встречалось редко, пока китай¬
1 Римская Серика обозначала оазисы Великого шелкового пути, например Хотан, где изготавливался шелк
141
ГЛАВА 3
ский фарфор {china) не украсил елизаветинские обеденные столы. Тенденцию довольно точно уловил Шекспир: в пьесе «Мера за меру» говорят о пареном черносливе, поданном на трехпенсовом блюде, а не на блюде «из китайского фарфора»1 [21]. Постепенно слово china (фарфор) преобразовалось в China (как название страны) — так же, как в римские времена словом seres («шелк» на латыни) стали называть всю землю Серее. Таким образом, слово china/China в повседневном английском языке закрепилось, а затем распространилось на всю Китайскую империю благодаря посуде с юга страны, а не древней империи с севера.
Государству Цинь определенно была знакома южная местность «Чин». Одержав победу над царством Чу (включавшим в себя У и Юэ), Первый император продолжал двигаться в глубь страны на юг. По-видимому, он завоевал провинцию Гуандун и части провинций Гуанси и Фуцзянь (из которых складывался упомянутый Марко Поло «Чин»), а также (во всяком случае, на бумаге) подчинил себе территорию нынешнего Северного Вьетнама. Однако не вполне ясны не только масштабы, но и сроки этих присоединений. Если верить «Историческим запискам», успешная южная кампания Цинь проходила в 214 г. до н. э., то есть всего за четыре года до внезапной кончины Первого императора и стремительного распада его империи. Есть сведения, что на юге были созданы три новых военных округа, но поскольку все их пришлось отвоевывать империи Хань, сомнительно, что Цинь действительно в полной мере их контролировала2. Так или иначе власть Первого императора на юге оказалась недолгой.
Однако здесь, как и в Сычуани, был сооружен важный канал, который связывал южный приток Янцзы с северным притоком Сицзяна, в свою очередь впадавшим в устье Чжуцзяна близ Гонконга. Строительство канала началось в 219г. до н.э. и должно было облегчить продвижение на юг и создать внутренний водный путь, ведущий через Хунань в Гуанчжоу (Кантон). Канал неоднократно подвергался
1 «Сударь, она пришла брюхатая, и ее потянуло, с вашего позволения, на пареный чернослив, сударь, но у нас в доме была всего одна пара и в тот самый момент лежала, как говорится, на фруктовом блюдце, на трехпенсовом блюде; ваша милость видели такие блюда, они не из китайского фарфора, но очень хорошие блюда» (Действие И, сцена I; перевод М. А. Зенкевича). — Прим. ред.
2 Империи Хань пришлось отвоевывать эти земли не у местных жителей, а у государства Нань Юэ (Намвьет), созданного циньскими офицерами.
142
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
перепланировкам и реконструкциям, но, как и гидротехнические сооружения Ли Бина, сохранился до наших дней. В том же году император, достигнув крайней южной точки в своих путешествиях, свернул в сторону, лишь немного не дойдя до строящегося канала в окрестностях Чанша. Гористая местность на юге в то время была не вполне безопасной, и это, в сущности, было достаточно веской причиной, чтобы снова повернуть на север. Но «Исторические записки» дают этому происшествию другое объяснение, очевидно, чтобы привлечь внимание к личным качествам императора, которые вызывали немалое беспокойство у Ли Сы и других министров, а также у всего цинь- ского двора.
Судя по всему, императора влекли вершины холмов. На них воздвигали его стелы с надписями, и сам он любил лично туда подниматься1. Но на одном возвышении близ Чанша его восхождению помешало нечто, по описанию похожее на торнадо. Император воспринял это как личное оскорбление: он снисходительно простил ветер, но обрушил всю тяжесть своего гнева на холм, приказав полностью лишить его деревьев и выкрасить в красный цвет. На работу были немедленно брошены три тысячи заключенных. Поскольку «красный цвет носили осужденные преступники» [22], а вырубка всех деревьев была ближайшим аналогом четвертования, очевидно, холм был наказан за оскорбление величества. Император находился во власти опасных заблуждений, полагая, будто обладает не только земной властью, но и чем-то большим. Его охватило чувство запредельной власти. Ему принадлежала «вся Поднебесная», и даже природа должна была ему повиноваться. (Вряд ли об этом зловещем прецеденте знали участники Великого Похода товарища Мао, две с лишним тысячи лет спустя певшие песни о том, как они «окрасят красным всю страну».)
Более важную роль сыграло расширение империи на север, которое привело к созданию так называемой Великой стены. География и хронология этих завоеваний в «Исторических записках» Сыма Цяня освещены довольно неопределенно, но похоже, Первый император все одиннадцать лет своего правления в качестве императора (221 — 210гг. до н.э.) присоединял территории вдоль северной границы
1 Культ горных вершин, особенно некоторых, свойствен всему человечеству. В Восточной Азии он очень распространен и был одной из основ верований ее жителей с доисторических времен, оставаясь таковым и сейчас, причем не только у китайцев, но и у монголов и японцев.
143
ГЛАВА 3
бывших Сражающихся царств. На завоеванные территории снова быстро отправляли колонистов: упоминания о переселениях встречаются довольно часто и позволяют представить, как разворачивался этот процесс. Об этом же говорит постепенное выравнивание стены, часть которой раньше была вынесена намного дальше к северу, чем большинство построенных позднее участков. На основании этих данных можно заключить, что силы Первого императора наступали по трем направлениям: на северо-запад до Ланьчжоу в провинции Ганьсу, на северо-восток до конца Корейского полуострова и на север через пустынное плато Ордос в северной петле реки Хуанхэ, к Монголии.
Наступление через Ордос — единственное, о котором Сыма Цянь приводит достаточно сведений. Большая их часть включена в биографию Мэн Тяня, циньского военачальника, руководившего продвижением на север. Мэн Тянь отправился в поход, ведя за собой сто или триста тысяч солдат, вероятно, в 221 г. до н. э. (или 215 г. до н. э.), чтобы рассеять жунов и ди1 и взять под контроль Ордос. Закрепившись там, он приступил к строительству стены. Пока Ганнибал в Европе преодолевал естественную преграду — Альпы, Мэн Тянь в Китае решил построить искусственную границу. По некоторым сведениям, стена протянулась на десять тысяч ли (около 5000 километров) от Линтао (недалеко от Ланьчжоу) до Ляодуна (восточнее Пекина). Изначально она направлялась на север через провинцию Нинся, а затем, достигнув реки Хуанхэ, повторяла ее широкий северный изгиб. Больше Сыма Цянь ничего не говорит о выравнивании стены, а также нигде не упоминает о цели ее постройки. Однако он лично посетил те места, где столетием раньше трудился Мэн Тянь. Кроме самой стены на него явно произвела большое впечатление дорога длиной 850 километров, которую по приказу Мэн Тяня проложили через бесплодные земли Ордоса.
«Я ездил на северную границу и вернулся по той самой прямой дороге.
В пути я видел башни Великой стены, построенной Мэн Тянем для Цинь.
Срывая горы и засыпая ущелья, прокладывая прямые дороги, несомненно,
ни во что не ставились усилия байсинов (простых людей)»2 [23].
1 К этому времени уже можно говорить о заметной роли в степи племени (или объединения племен) хунну (сюнну).
2 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 8. С. 77.
144
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
Из этого можно заключить, что «Великая дорога» Мэн Тяня потребовала намного больше инженерных усилий, чем его же Великая стена. При этом дорога была «прорублена через артерии и вены земли», а стена «следовала контурам земли... изгибаясь и петляя... под защитой гор, отроги которых служили пограничными постами» [24]. Если десять тысяч ли, о которых говорит Сыма Цянь, понимать буквально, то стена была, конечно, длиннее дороги. Вместе с тем принято считать, что Мэн Тянь начал строить стену не с нуля. Обычай возводить стены для демонстрации исключительной власти, а также для обороны своих владений существовал в Сражающихся царствах уже по крайней мере сотню лет. В некоторых местах Мэн Тяню просто нужно было отремонтировать уже существующие участки стен и соединить их между собой [25].
В китайской литературе стену Мэн Тяня, как и прославившуюся позднее Великую стену, называют Чанчэн, что буквально означает «Длинная стена» (или «Длинные стены» — так же, как Чжунго означает «Срединное царство» или «срединные царства»). Чанчэн могли защищать города, дворцы и даже деревни1. Поэтому, согласно другой версии, стена Мэн Тяня на самом деле представляла собой не единое сооружение, а череду «застав» с собственными чанчэн, которые и видел Сыма Цянь [26]. Это, безусловно, объясняет, почему циньские чан- чэн так редко упоминаются в дальнейших летописях, а также почему они были настолько неэффективными в качестве оборонительных сооружений. К тому же, если верить текстам, участок стены к северу от Ордоса был сооружением скорее наступательным, чем оборонительным. Как кульминация крупномасштабного наступления и место размещения постоянного гарнизона на землях, раньше принадлежавших племенам жунов и ди, стена (или стены) должна была направлять агрессию Цинь, а не предотвращать набеги нециньских народов.
Излишне говорить, что стены, форпосты, сторожевые вышки и все остальное строили из ханту. Блоки утрамбованной земли иногда укрепляли слоями прутьев и веток, но об отшлифованной каменной кладке, как в эпоху Мин XVI-XVII веков, даже не шло речи. Хотя постройки из ханту достаточно долго сохраняются под землей, на по¬
1 Главным отличием этих «длинных стен» от обычных городских укреплений (которые, собственно, и назывались чэн) было то, что они защищали то или иное направление на широком, или «длинном», фронте.
145
ГЛАВА 3
верхности они не способны в течение двух тысяч лет противостоять песчаным бурям, сильным морозам и периодическим наводнениям. Археологам удалось найти лишь несколько участков циньской стены, в основном на территории провинции Ганьсу. Однако современники строительства написали о нем достаточно, чтобы ученые смогли вывести потрясающую статистику: миллионы рабочих трудились посменно, чтобы поднять необходимые для постройки триллионы тонн земли; длина стены составляла десять тысяч ли, а ее ширины хватало, чтобы проехать поверху на колеснице. Смертность на строительстве, вероятно, была ужасающей, хотя что именно служило ее причиной — климат и тяжелые условия работы на северной границе, вспомогательные дорожные работы, как считает Сыма Цянь, или само по себе строительство стены, непонятно. Так или иначе, стены, а вместе с ними Мэн Тянь и Первый император приобрели дурную славу. Но в последнее время наука осмотрительно избегает категоричных выводов, а ученые решительно отказываются от концепции Великой стены и склонны скорее приуменьшать масштабы и значение новаторских усилий Цинь.
Впрочем, к другим грандиозным сооружениям эпохи Цинь ученые относились довольно благосклонно. Существование «дороги каменных коров», ирригационных построек Ли Вина, аналогичных сооружений на реке Вэйхэ, канала в провинции Хунань и дороги Мэн Тяня подтверждено археологией. Колоссальные (675х 112м) размеры нового императорского дворца Эпан (Апан), количество рабочих, занятых на постройке гробницы Первого императора (700 тысяч человек), и почти фантастические описания этого мавзолея до недавнего времени вызывали лишь закономерный скептицизм. Но когда в 1974 г. была найдена терракотовая армия, даже завзятые скептики потеряли дар речи. Император, который отправился на встречу с предками, ведя за собой армию глиняных манекенов в натуральную величину, был способен на что угодно.
Вероятно, в письменных источниках размеры дворца Эпан несколько преувеличены, но они уже не кажутся абсолютно неправдоподобными: масштабы императорской гробницы, наконец обнаруженной в Сяньяне, располагают к смелым предположениям. От сообщений о других грандиозных проектах Первого императора больше не отмахиваются, как от заведомых выдумок историков, служивших позднее другой империи, и не списывают их на историогра¬
146
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
фические нестыковки. Приверженность императора учению пяти фаз (стихий), в частности воде, уже не кажется надуманной, а рассказ Сыма Цяня о странствиях императора, в том числе о восхождении на гору в Чанша, приобретает вполне достоверные черты.
Хотя ни в одном источнике нет данных о том, что Первый император лично вел в бой свои войска (императоры вообще редко этим занимались), он совершил пять продолжительных путешествий по стране. В прошлом правители Чжоу тоже время от времени объезжали свои владения, а в будущем императоры, особенно цинские — Канси и Цяньлун, сделали свое великое путешествие основой государственного церемониала. Вероятно, Первый император тоже путешествовал, чтобы видеть и быть увиденным, осуществлять политический надзор и публично совершать положенные ритуалы. Несомненно, во время этих поездок он инспектировал войска и допрашивал местных чиновников, и, разумеется, отдавал приказы об основании новых колоний и строительстве новых общественных сооружений. Но в какой мере император на самом деле общался со своими подданными во время этих поездок, остается неясным.
По словам Сыма Цяня, он усердно старался избегать чужих взглядов. В 219 г. до н. э. во время первого посещения священной вершины Тайшань в Шаньдуне он совершил восхождение в одиночку и исполнил все ритуалы, которые счел целесообразными, втайне, без каких- либо записей. Семь лет спустя по совету человека, подогревавшего в нем надежды на бессмертие1, император завел в нескольких дворцах все, что могло понадобиться для развлечений и женского общества, а затем соединил эти дворцы между собой крытыми переходами и обособленными коридорами. С этих пор его местонахождение полагалось хранить в строгой тайне, нарушение которой каралось смертью. Очевидно, несколько неудачных покушений на его жизнь сделали его чрезмерно подозрительным. Став властителем всей Поднебесной, он закономерным образом обратился к следующей задаче:
1 Поиски бессмертия, которые часто приписываются Первому императору, могут быть в числе наветов, а вернее, в числе черт, делавших его похожим на ханьского императора У-ди, при котором трудился Сыма Цянь. Трудно было изобрести способ отомстить высокомерному императору лучше, чем придать характерные для него черты ненавистному циньскому тирану. Не исключено, что очень многие описания Цинь Ши-хуанди, особенно критические, были памфлетом против У-ди.
147
ГЛАВА 3
теперь ему предстояло победить смерть. Восхождение в горы пробуждало в нем ощущение господства над физическим миром, а удаляясь от чужих взглядов, он как будто становился на шаг ближе к тому, чтобы преодолеть течение времени.
Смерть, пишет Сыма Цянь, стала запретной темой, и любые разговоры о ней карались ею же — теперь не заслуживающей упоминания. Колдунов, магов и чародеев, имевших личный опыт общения с вечностью, вызывали к императору для расспросов. Никаких средств не жалели на рекомендованные ими эликсиры бессмертия (одним из которых он, вероятно, в конечном итоге отравился) и борьбу с признаками бренности, возникавшими с досадной частотой. Обнадеживающие новости пришли из провинции Шаньдун, стародавнего оплота традиций и непознанных тайн. Рассказывали, что в Желтом море есть гористый архипелаг, жители которого считали бессмертие, или средство его обретения, самым обычным явлением. Император решил лично все выяснить.
В четырех из своих пяти великих путешествий он выезжал на берег моря. Вероятно, необъятный простор произвел большое впечатление на правителя материкового государства, особенно учитывая, что его правление опиралось на «силу воды». Во время второго путешествия в 219 г. до н. э. он отправил экспедицию для поисков бессмертных на так называемых Райских островах. Для участия в экспедиции были выбраны «несколько сотен мальчиков и девочек»1. Дети так и не вернулись. Возникшая позже легенда утверждает, что они высадились на берег в Японии и остались там. Вторая экспедиция была отправлена в 215 г. до н. э. Она вернулась, но не принесла никаких известий о загадочных островах. Третью экспедицию планировали отправить в 210 г. до н. э., но откладывали до тех пор, пока не будет уничтожена огромная рыба (или морское чудовище): императору приснился сон, как оно топит его флот. Поэтому он вооружился арбалетом и, продолжая двигаться вдоль побережья, однажды действительно подстрелил одно такое существо. Это была его последняя жертва — через несколько дней он сам умер.
Большая часть этих сведений может оказаться сфабрикованной. Хотя подобные домыслы недостойны уважаемого историка Сыма
1 Считалось, что на Острова бессмертных, которые могли бы открыть императору свои тайны, могла ступить лишь нога невинных.
148
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
Цяня, их могли вставить в «Исторические записки» другие авторы после его смерти. Однако сто лет спустя весьма похожий интерес к бессмертию и поиску Райских островов проявлял ханьский император У-ди, и этот факт слишком хорошо засвидетельствован, чтобы сбрасывать его со счетов. Шанские цари и правители Чжоу тоже обращались за толкованием снов к предсказателям и сталкивались с чудовищами. Предки имели неотъемлемое право на причудливые, по мнению потомков, взгляды и экстравагантные пристрастия, и, как бы ни относилась к ним легистская логика и конфуцианская мораль, они, вероятно, были весьма распространены в эпоху, изобилующую культами и суевериями.
Пожалуй, самое яркое представление о фантазиях Первого императора дает описание его гробницы, оставленное Сыма Цянем. Место для захоронения выбрали, как только он взошел на трон1. Вокруг были устроены подземные камеры с двойными стенами, в которых располагались многочисленные глиняные копии его солдат и другие сопровождающие. От человеческих жертв во время погребальных обрядов тогда еще не отказались. Супругам и наложницам, которые не смогли родить императору детей, было приказано присоединиться к нему в загробной жизни. Ту же участь разделили, вероятно, тысячи ремесленников и строителей, излишне хорошо знакомые с внутренним устройством гробницы. Но в Чу, а в это время и в Цинь пригодных к работе и службе живых людей во время погребения все чаще заменяли глиняными фигурами. Они стоили меньше, были долговечнее, а при налаженном массовом производстве, как с терракотовой армией Первого императора, их можно было воспроизводить до бесконечности2.
Семьсот тысяч рабочих, отправленные на сооружение гробницы, поселились неподалеку. Рядом с гробницей располагались их лавки,
1 В отличие от обыкновения возводить над могилами правителей курганы Цинь Ши-хуанди приказал вырубить для себя погребальную камеру в природной скале Лишань.
2 Существование «терракотовой армии» является весомым аргументом в пользу того, что рассказы о массовых человеческих жертвах во время похорон Первого императора — еще один штрих к его портрету варвара и узурпатора, написанному предвзятыми потомками. На данный момент следов человеческих жертвоприношений в окрестностях горы Лишань не обнаружено, зато найдены изготовленные из глины не только воины, но и танцоры, циркачи, чиновники и красавицы.
149
ГЛАВА 3
склады и мастерские, горны и печи для обжига. Похожий комплекс, только раскинувшийся несколько шире, существует и в наши дни — настолько велик оказался спрос на терракотовые копии и сувениры из главной достопримечательности Китая. Но две тысячи лет назад Сыма Цянь счел нужным рассказать лишь о главном некрополе — расположенной глубоко под горой огромной, увенчанной куполом гробнице императора.
«Они углубились до третьих вод, залили [стены] бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда [копии] дворцов, [фигуры] чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, [установленные там], они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться [в усыпальницу]. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу — очертания земли. Светильники наполнили жиром жэнь-юев (скрытожаберных рыб) в расчете, что огонь долго не потухнет»1 [27].
До 1974 г., когда во время рытья колодца рабочие случайно наткнулись на камеры с глиняными воинами, которых Сыма Цянь даже не счел достойными упоминания, все это тоже считалось фантастической выдумкой. Ни в одном захоронении не могло быть ртутных морей, картографической модели государства и макета ночного звездного неба. Кроме того, по некоторым сведениям, гробница уже несколько раз подвергалась разграблению и разрушению, впервые уже через пять лет после погребения императора — что подтвердили разбитые терракотовые воины. Кропотливо собранные из обломков, именно они, а не сама гробница, чье местоположение на тот момент оставалось неопределенным, стали звездами китайской археологии конца XX века.
Однако после обнаружения терракотовой армии в 1974 г. едва ли хоть один год проходил без новых известий из великого некрополя близ Сяньяна. Были найдены новые камеры с глиняными воинами. В других местах обнаружили скелеты, экипажи в половину натуральной величины и бронзовые статуи гусей и журавлей в натуральную
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 87.
150
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ. ОКОЛО 250-210 ГГ. ДО Н. Э.
величину. Одно из таких мест предположительно считается захоронением бабушки Первого императора. Согласно подсчетам, основная погребальная камера должна находиться в километре от воинских ям под сильно осевшей горой.
Гробница остается непотревоженной, а ее секреты — не раскрытыми. Официально она ожидает разработки и утверждения методов, которые смогут обеспечить полную сохранность ее содержимого. Возможно, имеет место и некоторый конфликт интересов — научных и археологических, а также партийных, провинциальных и центральных. И здесь, как и в случае с таримскими мумиями, национальная осторожность только подогревает международное нетерпение. Однако никто не может обвинить власти Китая в том, что они не дают археологам поводов для любопытства. Обследование, сканирование и пробы грунта установили, что полость погребальной камеры остается неповрежденной: она не засыпана землей и не залита водой. Анализ почвы выявил следы ртути — предположительно, морей и рек, протекающих по искусно сработанному макету владений императора; изучив данные и составив схему распределения этих следов, ученые получили почти узнаваемую карту Китая. Возможно, планетарий под куполом гробницы все еще мерцает, арбалеты готовы выстрелить, а среди сотни чиновников у саркофага повелителя стоит без книг в руках канцлер Ли Сы. Может быть, в стенах гробницы до сих пор царят покой и порядок, которыми так гордился император, увековечивший их в надписях на стелах. Однако за стенами гробницы всякое подобие порядка и благопристойности рассыпалось едва ли не раньше, чем императора проводили в последний путь.
4
Возвышение Хань
(210-141 гг. до н. э.)
РАСПАД ЦИНЬ
Почти все, что известно о Первом императоре и его канцлере-кни- госжигателе, мы узнали из книг. В стране, где литературе и истории уделяют так много внимания, как в Китае, книгоборцам следует поостеречься: книги могут отомстить, и Первый император и канцлер действительно сполна испытали на себе их месть. По всей видимости, «Исторические записки» Сыма Цяня, одна из самых грандиозных летописей в истории человечества, были созданы в качестве непосредственного ответа на гонения Первого императора против образованности. Сыма Цянь видел свою задачу в том, чтобы собрать рассеянные по всему свету «обрывки литературы и древней истории», упорядочить их и придать им надлежащий вид для просвещения и назидания будущих поколений [1]. Подобно Конфуцию, который выражал ту же мысль в эпоху усобиц Сражающихся царств, Сыма Цянь считал себя не создателем, а посредником. Но поскольку все ранние летописи и комментарии к ним («Вёсны и Осени», «Цзо чжу- ань», «Чжаньго цэ» и т. д.) заканчиваются незадолго до объединения Цинь, а более поздние летописи начинаются с первого императора Хань, «Исторические записки» остаются единственным источником сведений о том, что происходило в период между возвышением и упадком Цинь. По счастливому совпадению самый драматический поворот в древней истории Китая освещен его самым выдающимся историком.
152
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
Написанные примерно через сто лет после падения Цинь «Ши цзи» (название обычно переводят как «Исторические записки» или «Записи [великого] историографа»1) вовсе не ограничиваются этим периодом или недавним для него прошлым. Сто тридцать глав охватывают около трех тысяч лет — примечательный размах для сочинения, созданного во II—I веках до н. э. Позднее «Исторические записки» официально стали считать первой из двадцати четырех официальных историй (по одной для каждой «законной» династии), и они стали Книгой Бытия китайской историографии. Повествование в них начинается с мифических древнейших времен и пяти императоров, двигается через три царства Ся, Шан и Чжоу к периоду Вёсен и Осеней и Сражающихся царств, а затем к Цинь и Хань. Хотя «Исторические записки» служили образцом для всех созданных позднее официальных (нормативных или династических) историй, на самом деле они единственные, рассказывающие о правлении более чем одной династии.
Это не просто династическая хроника, но и не просто история. Помимо сохранения и упорядочивания прошлого, разработки весьма полезных наглядных материалов в виде годичных временных шкал и сводных таблиц событий в разных государствах, у великого историка было еще много задач. Оставались уроки, которые следовало усвоить, ошибки, которые требовалось исправить, репутации, которые нужно было пересмотреть, и вред, который необходимо было устранить. Это значило не просто превозносить одних и обвинять других или совершить набег в прошлое за оружием, которое можно использовать в настоящем. «Исторические записки» должны были стать не просто историей мира, рассказанной Сыма Цянем, а историей мира, рассказанной самой историей. Но поскольку пути истории, как и пути Небес, нередко бывают замысловатыми и непостижимыми, здесь требовался особый подход.
1 Название «Исторические записки» («Ши цзи») труд Сыма Цяня получил уже после смерти автора. Сам автор называл его «Книгой (придворного) историографа» («Тайшигун шу»). В данном случае слово «историограф» означает придворную должность хранителя памяти о прошлом, архивиста, летописца и создателя обобщающих сочинений по истории. Тайшигун Сыма Цянь схож с придворным историографом Н. М. Карамзиным, задачей которого по должности было написание сочинения по истории России в литературной форме. — Прим. ред.
153
ГЛАВА 4
Чтобы дать внятное представление о таком обширном и сложном предмете, недостаточно было структурировать темы, развернуть длинное линейное повествование и протянуть звенящие цепи причин и следствий, к которым привык современный читатель. Следовало тщательно выверить каждое слово: достоверность и точность изложения имели огромное значение. Но у Сыма Цяня оставалась определенная свобода в вопросах выбора и упорядочивания фактического материала, что позволяло подтолкнуть читателя к нужным выводам. Этому способствовало продуманное введение диалогов и драматических эпизодов, а также довольно сложная структура книги. Из ста тридцати глав только двенадцать занимают «Основные записи». Вместе с хронологическими таблицами они дают неплохую канву происходящего, но их трудно понять без тридцати следующих глав, посвященных «Наследственнным домам» (или «государствам»), и семидесяти глав, в которых изложены биографии известных людей. Чтобы понять, что именно происходит в каждый конкретный момент, а главное, почему это происходит, читателю нужно ознакомиться со всем текстом от начала до конца (в русском переводе это девять томов) и иметь под рукой солидный запас закладок. Это похоже на попытки понять сюжет пьесы, в которой напечатаны сначала все реплики одного актера, затем все реплики другого, и так далее. Фрагментированный стиль изложения никоим образом не умаляет достоверность «Исторических записок», однако он неизбежно приводит к ряду повторов и несоответствий, часть которых, несомненно, возникла случайно, но другая часть, вероятно, должна напомнить о противоречивых мотивах и противоположных мнениях, сопровождающих все человеческие начинания.
Недавние исследования обнаружили в «Исторических записках» множество особенностей, характерных для раннеклассических произведений («Ши цзин», «Беседы и суждения» Конфуция и др.): повышенное внимание к именам и их «исправлению», передача смыслов через аллюзии и «взаимосвязь» явно не связанных материалов, а также подчеркнутое стремление не создать новое, но передать имеющееся без искажений. Но, пожалуй, самой интригующей следует считать версию, которая противопоставляет «Историческим запискам» гробницу Первого императора: если гробница представляет собой физическую модель, или микрокосм известного тогда мира, то
154
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
«Записки» представляют его же — небеса и созвездия, реки и каналы империи, очертания земель и ранги высокопоставленных чиновников — в прозе. Говоря словами Гранта Харди:
«Гробница первого императора изображала мир, созданный и связанный бронзой, то есть силой оружия, тогда как “Исторические записки” Сыма Цяня предлагали альтернативное изображение мира, записанного на бамбуковых планках, мира, которым правили образованность и мораль... Даже если творение Сыма Цяня не имело такой политической силы, как творение Первого императора, оно оказалось намного влиятельнее. В конце концов, даже о знаменитом мавзолее императора мы знали и составили представление по тому, какое место он занимал во всеохватывающем бамбуковом мире Сыма Цяня» [2].
Вместе с тем, если обстановка мавзолея (когда его откроют) окажется точнее, чем описание Сыма Цяня, или будет противоречить ему, возможно, последним будет смеяться как раз Первый император. Терракотовая армия уже добавила в историю неожиданный военный аспект. Дальнейшие находки — представьте себе ужас, если среди них обнаружат книги, — могут ниспровергнуть труды не только великого историка, но и ста поколений историков после него1.
Если внутренний саркофаг Первого императора окажется неповрежденным, возможно, нам даже удастся узнать, от чего он умер. Но до тех пор придется довольствоваться «записками на бамбуке».
1 Это более чем вероятно. При всем гигантском таланте Сыма Цяня как историка, при его несомненной осведомленности и новаторских методах исторического исследования главной задачей написания «Исторических записок» было не объективное описание прошлого, а его моделирование. Прошлое должно было стать достойным преддверием эпохи Хань, для Сыма Цяня воплощавшей в себе цель и смысл исторического процесса. Сыма Цянь, родившийся всего лишь спустя несколько десятилетий после объединения Китая, сумел создать исторический труд, который убедительно доказывал, что история Китая была едина всегда — некоторые дрязги эпохи Чжоу стоит считать не более чем досадным недоразумением — и будет столь же единой и впредь. Сам этот тезис, конечно, не имеет ничего общего с истиной, но для молодой имперской элиты, к которой принадлежал Сыма Цянь, именно единство огромной империи было залогом положения и власти, и под него необходимо было подвести прочный фундамент. Прочность кладки «Исторических записок» и правда феноменальна: до сих пор именно труд Сыма Цяня фактически лежит в основе всей китайской историографии и исторической мифологии.
155
ГЛАВА 4
В 210 г. до н. э. Первому императору еще не было пятидесяти лет, и он достаточно хорошо себя чувствовал, чтобы отправиться в очередную поездку по своим владениям. Всего за несколько дней до смерти он выходил пострелять морских чудовищ на берегу в Шаньдуне. Поэтому предположение, что он стал жертвой отравления, вполне правдоподобно. Но если это так, вероятно, он принял яд собственноручно: известно, что в зельях, которые готовили для него специалисты по бессмертию, одним из главных ингредиентов был редкий минерал киноварь. Ее добывали в Сычуани и использовали в качестве красителя, прежде всего для изготовления красных чернил, которыми имели право писать только императоры. Киноварь представляет собой сульфид ртути в кристаллической форме, она токсична и, попадая в больших количествах внутрь организма, вызывает летальный исход. Глотая напитки, обещавшие вечную жизнь, Первый император, вероятно, собственными руками приближал довольно внезапную смерть1.
Как пишет Сыма Цянь, при первом намеке на недомогание императора Мэн И, главный министр и брат строителя Стены Мэн Тяня, был поспешно выслан из Шаньдуна, чтобы организовать «жертвоприношения горам и рекам», которые, вероятно, должны были ускорить выздоровление. Главными в сопровождавшей императора свите остались канцлер Ли Сы, прославившийся уничтожением книг, Чжао Гао, занимавший важный пост начальника императорских экипажей, и принц Ху Хай, младший сын императора. Когда через несколько дней после отъезда Мэн И император скончался, Ли Сы проявил нехарактерную нерешительность, и инициативу взял на себя Чжао Гао. У евнуха были личные счеты к братьям Мэн. Принца Ху Хая, зеленого юнца, не обладавшего никакими достоинствами, кроме высокого происхождения, он решил использовать в своих целях, и ему довольно легко удалось уговорить Ли Сы, которому к этому времени было уже шестьдесят с лишним лет, вмешаться в порядок престолонаследия.
1 Киноварь стала хрестоматийным ингредиентом снадобий для достижения вечной жизни ко временам расцвета даоской алхимии эпохи Тан (VII-X века), когда чрезмерное стремление к бессмертию свело в могилу многих властей предержащих. Достаточных данных о составе снадобий, которые принимал Первый император (и о самом факте приема им подобных снадобий), нет. Согласно Сыма Цяню, в те времена киноварь скорее считалась сырьем для алхимического получения золота.
156
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
Заговорщики скрыли завещание покойного императора, в котором он назначал наследником старшего сына, и некоторое время скрывали сам факт смерти Ши-хуанди — необходимо было добраться до Сяньяна и перехватить бразды правления до того, как известие о кончине императора привлечет других претендентов на власть. Поэтому кавалькада устремилась к столице, как будто ничего не случилось. Все знали, что император склонен к затворничеству; еду для него продолжали, как обычно, доставлять в его экипаж, а чтобы замаскировать зловоние разлагавшегося тела, колесницу заполнили рыбой.
Возвратившись в столицу, заговорщики развернули активные действия. Принц Ху Хай был провозглашен законным наследником императора и коронован как Цинь Эр-ши хуанди — Второй император. Наследник, которого на самом деле выбрал Первый император, был обвинен в измене, и ему отправили подложное письмо от отца, в котором тот якобы приказывал ему совершить самоубийство. Будучи послушным сыном, он так и сделал. Братья Мэн заподозрили неладное и пытались сопротивляться, но были заключены под стражу, после чего Мэн И казнили, а Мэн Тяня вынудили принять яд.
Как пишет Сыма Цянь, эти события сопровождались террором, по сравнению с которым даже суровое правление покойного императора показалось бы почти великодушным. «Ужесточите законы, повысьте штрафы, — призывал Чжао Гао. — Пусть обвиняемые в преступлениях доносят на других, и вместе с преступниками пусть наказание несут их семьи. Уничтожьте главных министров и посейте раздор среди их родственников». По воле евнуха, взявшего на себя роль великого инквизитора, на рыночной площади в Сяньяне были четвертованы двенадцать принцев и десять принцесс. Такая же участь постигла всех, кто был с ними связан, а также «три колена их родственников» (как правило, родителей, братьев и сестер, которых было «неисчислимое множество»). Были объявлены новые законы и введены более суровые наказания. Налоги и сборы повысились, еще больше рабочих вынудили отправиться к непосильному труду и гибели на незавершенных стройках дворца Эпан и стены на северной границе. «Каждый человек начал бояться за собственную безопасность, — пишет Сыма Цянь, — и нашлось немало тех, кто хотел, восстать» [3].
Восстание вспыхнуло через полгода после смерти Первого императора. Оно успело охватить восточные военные округа, когда
137
ГЛАВА 4
в следующем году (209 г. до н. э.) очередной жертвой в списке стал Ли Сы. Недалекий новый император избегал его, и Чжао Гао ничего не стоило оклеветать «первого объединителя Китая». Под пытками Ли Сы признался в измене и был приговорен к «пяти казням», состоявшим из татуировки, отрезания ушей, носа, пальцев и стоп, бичевания, обезглавливания и публичной демонстрации отрубленной головы. Вдобавок ко всему тело Ли Сы было разрублено надвое в пояснице. Немногих уничтожителей книг настигало столь красноречивое возмездие — канцлера буквально разорвали в клочки [4].
Тем временем Чжао Гао задумал избавиться от своей царственной марионетки. Упредив на много столетий историю о новом платье короля1, он предложил государю принять в дар лошадь, однако вместо лошади во дворец привели оленя. Когда император заметил, что перед ним не лошадь, Чжао Гао и другие придворные принялись его разубеждать: все согласились, что это лошадь, и притворно обеспокоились здоровьем его величества, который, очевидно, находился в помраченном состоянии ума. Главный предсказатель подтвердил, что в последнее время государь допускал некоторые оплошности в ритуалах почитания предков. Второму императору порекомендовали на время отказаться от общественной жизни ради поста и очищения.
Так императора удалось изолировать. Вскоре после этого во дворец, где он уединился, вторглись силы врагов. Чжао Гао объявил, что это авангард повстанческой армии (разумеется, это не имело ничего общего с действительностью — на дворец напали его собственные строго вымуштрованные сообщники) и посоветовал молодому императору принять яд, чтобы избавить себя от пленения и казни. После настойчивых уговоров, щедро сдобренных угрозами, император подчинился. Сам Чжао Гао после этого завладел императорскими печатями.
Однако на этом терпение придворных и высокопоставленных чиновников иссякло. Вероятно, терпение иссякло и у Небес, которые выразили свое мнение о происходящем тремя мощными землетрясениями. Чжао Гао обратился за поддержкой к тому, кто, вероятно, был внуком Первого императора2. Он не испытывал горячего желания за¬
1 Имеется в виду одноименная сказка Г. X. Андерсена 1837 г. — Прим. ред.
2 Некоторые ученые предполагают, что последний, третий правитель империи Цинь Цзы-ин был не внуком, а братом Первого императора.
158
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
нять трон, но в сложившихся обстоятельствах принял самое разумное решение — приказал убить Чжао Гао. Шел 207 год до н. э., со смерти Первого императора минуло всего три года, но по всей империи уже полыхали беспорядки. Такое наследство не стоило риска. Однако не исключено, что на самом деле внук уже установил контакты с повстанцами. Так или иначе, через три месяца они вошли в Сяньян [5].
ИЗ ПЕШЕК В КОРОЛИ
Слово «восстание» не вполне точно передает масштаб той волны протестов, которая поднялась в ответ на произвол Второго императора. Восставшими двигал дух реставрации, стремление к возрождению Сражающихся царств и сильнейшее чувство собственной правоты, убеждавшее, что они должны свергнуть императорский дом, столь очевидно утративший милость Небес. Справедливости ради заметим, что Цинь вряд ли когда-либо претендовала на милость Небес. В надписях Первого императора Небеса упоминаются крайне редко, а о Небесном мандате вообще нет ни слова, что неудивительно, ведь их составлял такой неистовый легист, как Ли Сы. Но с конфуцианской точки зрения в тот момент и в следующие семь лет гражданской войны законность однозначно была на стороне анти- циньских сил.
Сыма Цянь подробно описывает этот запутанный период, в безжалостных деталях повествуя о наступлениях и контрнаступлениях, сражениях и интригах, но всегда рассказывает о событиях с точки зрения «повстанцев» и никогда не выступает от имени запятнанного кровью двора Цинь в Сяньяне. На фоне масштабного батального полотна возникают колоссальные личности, принимающие судьбоносные решения. Период, который на первый взгляд может показаться запоздалым недолгим возвращением к Сражающимся царствам, изображается как переломный момент, исторический водораздел и великая возможность для великого историка. В те годы решалось политическое будущее Китая и формировалась его официальная идеология. Возникшая в результате империя Хань консолидировала китайскую культуру, окружив ее великим почтением, и придала убедительную основательность концепции непрерывной китайской цивилизации.
159
ГЛАВА 4
Из всех вопросов, связанных с борьбой за власть — территориальных, династических, философских и финансовых, — возможно, самым удивительным был социальный вопрос, поскольку в этот раз инакомыслие зародилось в самых низших слоях общества. Сопротивление власти Цинь стало не просто всенародным, но и народническим. В своем стремлении мобилизовать рабочую силу империи Первый император установил непосредственные прямые отношения между правительством в центре и подданными на местах. Вырванные из многовекового забвения «черноголовые» простолюдины были принудительно вовлечены в исторический процесс: миллионы людей подняты с обжитых мест и брошены на военную службу, общественные работы или колонизацию новых земель в пользу империи. Другие миллионы были обязаны поддерживать эти усилия посредством интенсивного налогообложения и коллективной ответственности, подкрепленной жестокими наказаниями. Всех этих людей связывали общие проблемы и вполне естественные страхи. И если националисты позднее превозносили Первого императора как объединителя государства, а маоисты одобряли введенное им самовластье и массовую мобилизацию, то консервативным марксистам больше льстила антициньская реакция, в которой они усматривали древнейшее свидетельство существования классового сознания и крестьянских восстаний.
Первым вызов власти Цинь бросил крестьянин по имени Чэнь Шэ из бывшего царства Чу. В 209 г. до н. э. он вместе с отрядом1 должен был отправиться служить на границу, однако подсчитал, что из-за проливных дождей они не смогут прибыть на место в назначенный срок, а значит, их сочтут дезертирами и казнят, поэтому они с тем же успехом могут дезертировать уже сейчас. Его спутники согласились и убедили других новобранцев присоединиться к ним. Дело не обошлось без некоторого сверхъестественного вмешательства. Глухой ночью в призрачно освещенном храме впервые прозвучал крик «Великое Чу возродится!», и вслед за ним раздался крик «Чэнь будет царем!». Эти слова были написаны императорской киноварью на полоске шелка, которую один солдат чудесным образом нашел в брюхе рыбы, приготовленной на ужин. На этом красноречивые знамения не закончились. Отряд новобранцев превратился в отряд повстанцев,
1 Чэнь Шэ, как и его сподвижник У гуан, был в этом отряде сотником.
160
Окрашенное шелковое знамя в форме буквы «Т» из Мавандуя, Чанша (Хунань). Т£>и раскопанные в 1970-х гг. гробницы Мавандуй дали поразительный набор артефактов. Знамя покрывало последний внутренний саркофаг Госпожи Дай (150 г. до н. э.), современницы императрицы Люй из империи Ранняя Хань. Музей провинции Хунань
Слева: панцирь черепахи из Аньяна (Хэнань) с начертанными знаками. Существование царства Шан (ок. 1600 — ок. 1045 г. до н. э.) подтвердилось путем изучения письменных знаков, начертанных на таких панцирях. Эти ранние свидетельства письменной традиции отражают ответы оракула, полученные путем растрескивания материала при нагревании
Посередине, бронзовая фигура из жертвенной ямы в Саньсиндуе (провинция Сычуань). Датируемая 1200 г. до н. э., эта почти двухметровая фигура остается стилистической аномалией. Такие находки показывают, что вне пределов трех классических царств Ся, Шан и Чжоу процветали технически сложные культуры
Бронзовый сосуд (цзунъ) из гробницы правителя царства Цзэн И (ум. 433 г. до н. э.) в провинции Хубэй. Литье зачастую колоссальных бронзовых сосудов было одним из величайших достижений Древнего Китая. Самые богато украшенные сосуды найдены в сражающемся царстве Чу, данником которого был правитель И
Обнаруженная в 1974 г. «терракотовая армия» Первого императора Цинь (вверху) была, вероятно, величайшей археологической находкой XX века. Тысячи воинов и сотни лошадей теперь выставлены на обозрение в окрестностях Сианя. С тех пор были раскопаны и более диковинные предметы, такие как украшенные серебром и золотом бронзовые колесницы с четырьмя конями (внизу), но главную камеру гробницы императора все еще предстоит открыть
Вверху, нефритовый погребальный костюм принцессы Доу Вань. В эпоху Хань (ок. 200 г. до н. э. —
220 г. н. э.) царственных особ часто хоронили в специально изготовленном костюме из нефрита. Считалось, что нефрит отражает высокое положение покойного и обладает бальзамирующими свойствами. Каждый костюм состоял из сотен пластинок, которые связывались вместе шелковой, серебряной или золотой нитью
Слева: таримские мумии из пустынь Синьцзяна произвели в археологической среде фурор, поскольку по антропологическому типу были не просто некитайскими, а определенно европеоидными. Хотя происхождение, язык и технологии этого «черченского человека», или Ур-Давида («первого Давида»), все еще неясны, похоже, что в первые два тысячелетия до нашей эры значительную часть территории современного Китая населяли немонголоидные народы
Внизу, хотя подобные остатки укрепленных сооружений типичны для архитектуры протяженного северного пограничья Поднебесной, они представляют собой не Великую стену, а армейское зернохранилище. Расположенное недалеко от Дуньхуана в коридоре Ганьсу, оно датируется Поздней, или Восточной, Хань (25-220). Фотограф: Жан-Франсуа Ланзарон
Сцена из популярного романа «Троецарствие» об одноименном периоде (220-265) изображена здесь на покрытой лаком шкатулке эпохи Мин
При империи Тан (618-907) Китай протянулся вдоль Великого шелкового пути, достигнув наибольших размеров за всю свою историю. Даже народы, населявшие земли современных Монголии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, присылали дань, как правило, в виде лошадей (вверху — роспись по шелку времен империи Сун). Чистокровные скакуны из Центральной Азии очень ценились. Китайцы заимствовали у кочевников конные виды спорта (например, поло) и подражали моде кочевников. Керамические статуэтки эпохи Тан изображают всадницу в сложном головном уборе (внизу слева) и обутого в сапоги наездника на верблюде, нос которого обладает явно некитайскими очертаниями {внизу справа')
Слева: тибетская настенная роспись XVII века с первой проповедью Будды. Буддизм достиг Китая во II веке н. э. (примерно через шестьсот лет после того, как Будда жил и проповедовал в Индии). Религия быстро распространилась в Поднебесной в течение длительного периода раздробленности (220-581), и впоследствии ему покровительствовали правители империй Суй и Тан
Пещера «поклонения предкам» в Лунмэне в окрестностях Лояна (Хэнань) построена в 670-х гг. по приказу императрицы У, жены Гао-цзуна и единственной в Китае женщины, носившей высокий титул императора. Традиция наскальных изображений Будды пришла из Индии через Афганистан (Бамиан) и Синьцзян
Шелковый путь представлял собой двустороннее движение по горно-пустынным тропам. После буддийских проповедников, направлявшихся на восток в Китай, вскоре появились китайские паломники, двигавшиеся на запад в Индию. Большинство проходило в Ганьсу через Дуньхуан, где и появилась эта шелковая картина IX века, изображающая странствующего монаха. Музей Гиме
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
а отряд повстанцев вскоре разросся в целую армию, которая, когда другие последовали примеру Чэнь Шэ, стала авангардом огромной антициньской коалиции. Чэнь Шэ возродил древнее царство Чу и объявил себя его правителем. Другие самозванцы последовали его примеру к северу от Хуанхэ на территории бывших Янь, Чжао и Вэй1 [6].
Сыма Цянь упомянул посмертный титул Чэнь Шэ Инь-ван1. Великий историк, привыкший к тому, что история пренебрегает простыми людьми, был заинтригован: как человек, «родившийся в жалкой хижине с крошечными окнами и дверью из прутьев, крестьянский батрак и гарнизонный новобранец, не имевший даже среднего состояния», смог, несмотря ни на что, «подняться и повести за собой отряд из нескольких сотен изможденных бедняков против... великого царства, которое вот уже сто лет [то есть со времени присоединения к Цинь провинции Сычуань] собирало дань с восьми старинных провинций». Единственное объяснение здесь могли предложить конфуцианцы: империя Цинь не смогла править благочестиво и гуманно и не понимала, что среди качеств, необходимых правителю, умение выигрывать войны занимает не самое главное место. Поэтому Чэнь Шэ оставалось только оседлать волну праведного негодования. Но сам он тоже оказался нерадивым правителем, и вскоре эта волна накрыла и его — через год он был убит одним из собственных сподвижников. Действительно печально, задумчиво отметил великий историк [7].
Появились вожди нового толка, и самой заметной фигурой среди них был Сян Юй. Еще один уроженец Чу, но аристократ, а не простолюдин, Сян Юй происходил из старинного рода чуских военачальников и на голову возвышался над современниками как в переносном, так и в прямом смысле. Он имел дурной характер, но был бесстрашен в бою, и солдаты его боготворили. Хотя историки, воспитанные на литературных и чиновничьих традициях, не находили в батальных похождениях ничего романтического, Сян Юй стал для них исклю¬
1 Среди этих самопровозглашенных лидеров преобладали потомки былых правящих домов этих царств.
2 Бёртон Уотсон предлагает буквальный перевод «король печали». Знак инь также может переводиться как «скрытый, сокровенный, нереализовавшийся». Возможно, именно последнее значение ближе к образу повстанческого царя среди тех, кто дал ему это посмертное имя.
161
ГЛАВА 4
чением. Сыма Цянь называет его заносчивым, коварным и неблагодарным и все же, рассказывая о нем, не может скрыть восхищения и делится подробностями, которые только укрепляют героическую репутацию Сян Юя. Ни один другой воин, упомянутый на страницах «Исторических записок», не может сравниться с Сян Юем, которого благодаря труду Сыма Цяня до сих пор приводят в пример как самого выдающегося военачальника во всей истории Китая.
Почуяв шанс, выпадающий один раз в жизни, из народа поднялись другие лидеры, больше похожие на Чэнь Шэ. Лю Бан из уезда Пэй, расположенного на севере бывшего (и возродившегося) царства Чу, тоже отказался повиноваться власти Цинь и ушел в разбойники. Но если мрачному Чэнь Шэ приходилось собственноручно подстраивать сверхъестественные знамения, а могучий Сян Юй был достаточно влиятельным, чтобы обойтись без них, Лю Бана Небеса по собственной воле с юности щедро осыпали счастливыми встречами и благоприятными знаками. Среди них нередко фигурировали драконы, из всех животных теснее всего связанные с земной властью и небесной милостью. Мать зачала Лю Бана от дракона, еще один дракон парил над ним, когда он спал, и, кроме того, его лицо с длинными бакенбардами напоминало драконье, что приводило в восторг физиономистов (предсказателей, толковавших будущее по чертам лица). Один из них, некто Люй, был так потрясен, что даже отдал ему в жены свою дочь. Так великий историк без обиняков дает нам понять, кто станет будущим основателем империи Хань и кто будет его влиятельной супругой. Читателей не должно вводить в заблуждение скудное образование Лю Бана, его неотесанные манеры и отсутствие военных заслуг. Благословение Небес все это полностью возмещает.
После смерти Чэнь Шэ место предводителя восставших быстро занял харизматичный Сян Юй1. Он постепенно сосредоточил в своих руках всю власть в возрожденном царстве Чу, сначала держась в тени за троном марионеточного правителя, затем сам став правителем и позже ба («гегемоном» или «защитником») объединения государств-сателлитов. Осененный благословением дракона, Лю Бан из
1 Преемства между ними не было: Сян Юй и его дядя Сян Лян подняли восстание чуской знати и возродили родное царство совершенно самостоятельно. Их выступление было гораздо более масштабным и опасным для империи. Восстание Чэн Шэ и У 1уана вошло в историю прежде всего потому, что было первым и указало врагам Цинь, что империя слабее, чем кажется.
162
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
уезда Пэй и его банда, превратившаяся в армию, объединился с Сян Юем и его войсками из царства Чу. В 207 г. до н. э., в год, когда Второй император совершил самоубийство, а Чжао Гао был убит, армии главнокомандующего Сян Юя нанесли череду тяжелых поражений силам Цинь, оттеснив их назад к горным проходам, охранявшим оплот Цинь на реке Вэйхэ. «От боевых криков чуских солдат содрогалось небо, и не было среди войск владетельных князей ни одного солдата, который не задрожал бы от страха», — пишет Сыма Цянь1 [8].
Между тем Лю Бан повел своих людей на запад через долину реки Ханьшуй, а затем на север в направлении Цинь. Найдя проходы на этом направлении менее защищенными, он связался с циньским двором в Сяньяне, узнал о смерти Второго императора и заручился поддержкой внука Первого императора, который был теперь потенциальным (но весьма не расположенным к царствованию) Третьим императором. После этого Лю Бан, не посоветовавшись с союзниками, подошел к столице и занял ее.
Узнав об этой самовольной выходке, главнокомандующий Сян Юй пришел в ярость. Он тоже ринулся к Сяньяну, угрожая уничтожить и врага, и собственного союзника, и остановил четыреста тысяч своих воинов на расстоянии одного дня пути от того места, где стояли сто тысяч воинов Лю Бана. Речь шла не только о нарушении субординации — ходили упорные слухи, что Лю Бан пошел на сговор с Сяньяном, и эти слухи как будто подтверждала необычайная снисходительность Лю Бана к людям Цинь и отнюдь не расположенному царствовать императору. Все выглядело так, будто Лю Бан старался завоевать доверие Цинь и создать себе репутацию безупречной добродетели, что свидетельствовало о его имперских притязаниях так же явно, как небесные драконы и тигры, по рассказам, кружившие по ночам над его лагерем.
Чтобы не допустить распри между победителями Цинь, посредники пытались примирить их. Лю Бан лично явился к Сян Юю, но даже после того, как потекло вино и прозвучали новые заверения в верности, приближенные с обеих сторон продолжали держать под рукой оружие. Под предлогом слабости мочевого пузыря Лю Бан с извинениями вышел из шатра для аудиенций и не вернулся обратно. Узнав, что на самом деле он тайно отбыл к своей армии, где был в безопасности, Сян Юй пришел в неописуемую ярость. По словам Сыма
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 127.
163
ГЛАВА 4
Цяня, это вообще случалось с ним довольно часто. Такой гнев можно было утолить, только обрушившись на Сяньян, перебив всех его жителей, предав огню дворцы и архивы (при этом, вероятно, уничтожив больше книг, чем удалось в свое время Ли Сы) и убив теперь уже точно не расположенного к царствованию Третьего императора, а также, согласно одной из нескольких приведенных в «Исторических записках» версий этого ужасного эпизода, «осквернив могилу Первого императора», что, возможно, объясняет, почему часть терракотовой армии была найдена в разбитом на куски виде1.
Поступок Сян Юя был особенно предосудительным, поскольку город уже сдался, хотя и не ему лично, а его конкуренту-союзнику. Эту ошибку Сян Юй усугубил рядом других промахов. Вместо того чтобы прочно обосноваться в естественных укреплениях царства Цинь, он решил вернуться на восток. В Шаньдуне назревали беспорядки, люди Сян Юя скучали по дому, новая столица Чу в Пэнчэне (Сюйчжоу) ждала своего героя. В его отсутствие государство Цинь было разделено на четыре меньших царства, причем Лю Вану достались отдаленные военные округа в Ба и Шу (Сычуань), а также верхняя долина Ханьшуй по соседству. Поскольку Сычуань была известным местом ссылки, Сян Юй, похоже, считал, что, оттеснив своего соперника в эту обширную область за пределами Цинлинского хребта, помешает ему строить дальнейшие козни. Но Лю Бан (или «правитель Хань», как он теперь себя называл) рассматривал это скорее как удачный побег в безопасное укрытие. Чтобы окончательно удостовериться, что его не будут преследовать, он приказал разрушить за собой деревянную «дорогу каменных коров» и другие горные тропы2.
От 206 г. до н. э., когда Сян Юй назначил Лю Бана из уезда Пэй правителем Хань, отсчитывает срок своего существования и берет свое название империя Хань. Но должно было пройти еще четыре года напряженной и кровопролитной борьбы, прежде чем царь Хань стал императором.
1 Нельзя забывать и про тяжесть земли, под которой терракотовая армия оказалась после того, как обрушились поддерживавшие свод балки. Если бы терракотовая армия подверглась намеренному уничтожению, вряд ли грабители оставили бы глиняным воинам их оружие — вовсе не глиняное, а боевое (и даже бывавшее в сражениях).
2 Чаще это трактуется как показательный отказ от реванша и возвращения в циньскую столичную область, на управление которой Лю Бан имел право как победитель.
164
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
Ибо стоило Сян Юю отправиться на восток, как Лю Бан снова двинулся на север, восстановив дорогу в горах и вернув себе сердце Цинь.
Следующая битва титанов имела поистине эпический размах. Благодаря Сыма Цяню главные герои приобрели такую известность, что выражения «дух Сян Юя» или «стойкость Лю Бана» прочно вошли в разговорную речь. По сей день на китайских шахматных досках фигуры называют не черными и белыми, а соответственно Хань и Чу [9]. Обе стороны хорошо знали тогдашние правила ведения войны: игра должна разворачиваться ход за ходом, пока правитель одной из сторон не будет свергнут. Но шансы были равны, и хотя судьба улыбалась то одной, то другой стороне, результат оставался неопределенным вплоть до горького конца.
ОТ ЦИНЬ К ХАНЬ (220-87 гг. до н. э.)
//
& У у J-
о*
у
л?
у
&
///// -
Ф ^ ф
$
$
1—(——1—(—(—
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 до н.э.
ХАНЬ
220 210 ЦИНЬ
Первый ход сделал Лю Бан. Имея надежную базу в Цинь и неограниченные ресурсы в Сычуани, он находился в таком же выгодном положении, как циньские цари в период Сражающихся царств. Во главе армии, которая неожиданно выросла до 560 тысяч человек (численность, несомненно, преувеличена), он устремился на восток и захватил столицу Чу Пэнчэн. В это время Сян Юй, чье царство было слабо защищено с тыла, пытался задушить оппозицию далеко на востоке в провинции Шаньдун. Встретив новость о нападении Лю Бана традиционной вспышкой ярости, Сян Юй поспешил в столицу. Несмотря на то что под его началом было всего тридцать тысяч человек, которым перед этим пришлось совершить марш-бросок на несколько сотен километров, он заставил врага отступить, вернул Пэнчэн и одер-
165
ГЛАВА 4
жал две громкие победы — тем самым однозначно зарекомендовав себя как гениального полководца.
Лю Бана едва не схватили во время второй битвы у Пэнчэна. Он был окружен со всех сторон без малейшей надежды на избавление, но его спасла пыльная буря. День превратился в ночь, и в поднявшейся суматохе он бежал — Небо не оставило его. Его семья попала в плен, огромная армия была практически уничтожена, но он не сдавался. Еще дважды он попадал в окружение и оба раза бежал. Затишье, установившееся на время, пока Сян Юй отступил, чтобы подавить новые беспорядки на восточном побережье своего царства, позволило Лю Бану восстановить силы. Провизия и войска стекались к нему из провинций Сычуань и Цинь по рекам Вэйхэ и Хуанхэ; поспешно завербованные союзники устраивали беспорядки в тылу Чу и перехватывали обозы с провиантом.
К тому времени, когда Сян Юй вернулся на передовую в 203 г. до н. э., сложилась патовая ситуация. Чтобы разрешить ее, Сян Юй сначала пригрозил убить пленного отца Лю Бана, затем предложил Лю Бану сойтись в личном поединке. Ни на один вызов Лю Бан не откликнулся. Время, а также благосклонность Небес теперь были на стороне Хань. Ханьцы постоянно получали новые припасы из Сычуани и Цинь, а войска Сян Юя были измотаны, их припасы таяли, а силы растрачивались на устранение постоянных беспорядков в подчиненных Чу государствах. Когда Сян Юй снова отбыл на подавление очередного восстания на своих землях, Лю Бан испытал редкий вкус победы. Впрочем, он был недолгим. Сянь Юй снова примчался на помощь своим людям, и снова Лю Бан предпочел отступить, а не сражаться с явно непобедимым противником.
Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в предательстве, хотя в этом отношении они мало чем отличались друг от друга. Даже ханьский подданный Сыма Цянь, который обязан был поддерживать репутацию основателя Хань, не ставил это в вину великому Сян Юю. Правитель Чу был подлым, жестоким, тщеславным и недоверчивым, открыто заявляет великий историк, но тут же изображает его как блистательного героя, достойного самой высокой трагедии и вдобавок — чем больше он входит во вкус своей задачи — самых живописных пассажей в «Исторических записках»1.
1 Показывая Сян Юя в самом выгодном свете, Сыма Цянь прежде всего стремился возвеличить сокрушившего его Лю Бана — основателя империи Хань.
166
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
В конце 203 г. взаимные оскорбления уступили место поползновениям к перемирию. Оба правителя согласились отступить, Сян Юй отпустил семью Лю Бана, и империю поделили по линии идущего с севера на юг канала между реками Хуайхэ и Хуанхэ. Чу, которым правил Сян Юй, принадлежало все к востоку от этой линии; Хань, которым правил Лю Бан, — все к западу. Вздохнув с облегчением, Сян Юй наконец повернул назад. Но воспрявший духом Лю Бан двинулся за ним, вызывая раздражение у чуского вана и подбирая по дороге отставших от его армии солдат. Победное возвращение на родину обернулось для людей Сян Юя недисциплинированным бегством. Лю Бан подходил все ближе, его силы росли с каждым днем. Под его знамена стекались новые сторонники, до этого не проявлявшие особенного рвения, но теперь привлеченные обещанием получить земли, которые Лю Бан в самом деле мог раздавать. К ним присоединялись дезертиры, покинувшие армию Сян Юя.
Последнее великое сражение произошло в местечке Гайся на севере провинции Аньхой. Сян Юй был вынужден уступить противнику, имевшему тройное численное превосходство и окружившему его с малым количеством солдат и истощенными припасами. В ту ночь Сян Юй не спал, сообщает Сыма Цянь. Из ханьских лагерей слышались звуки музыки. Там пели чуские песни. «Разве ханьцы уже целиком завладели Чу? — спросил Сян Юй. — Откуда среди них так много чусцев?»
«[Той же] ночью Сян-ван поднялся и стал пить вино в своем шатре. С ним была красавица по имени Юй, которую он любил и всегда брал с собой. При нем был и скакун по кличке Чжуй [“Пегий”], на котором он обычно ездил. Полный тягостных дум, Сян-ван запел печальные песни, а затем сочинил стихи о себе:
Я силою сдвинул бы горы,
Я духом бы мир охватил.
Но время ко мне так сурово,
У птицы-коня нету сил,
А раз у коня нет силы,
Что же могу я поделать?
О Юй! О моя Юй!
Как быть мне с тобою? Что делать?
167
ГЛАВА 4
Сян-ван несколько раз пропел стихи, а красавица ему вторила. Из глаз Сян-вана ручьями катились слезы, все приближенные тоже плакали, и никто не смел взглянуть на него. Затем Сян-ван сел на коня и в сопровождении более восьмисот отборных всадников, находившихся под его знаменем, в ту же ночь прорвался сквозь окружение, вырвался на юг и ускакал»1 [10].
Преследование возобновилось. К тому времени, когда Сян Юй достиг реки Хуайхэ, из восьмисот сопровождающих у него осталась лишь сотня. Когда он подошел к Янцзы, их было всего двадцать восемь. Обещав им три последние победы, он сдержал свое слово. Трижды они совершали невозможное, прорываясь через многократно превосходящие силы солдат Хань. «Это Небо губит меня, а не мои ошибки в боях [тому виною]!», — заметил Сян Юй2.
На Янцзы — чуть западнее Нанкина — его ждала лодка. Спасение было уже близко. Из-за этой реки в бывшем царстве У он выступил восемь лет назад. Там у него оставались сторонники, там он еще мог бы править. Но он сказал: «Какими глазами буду я смотреть на них? Пусть даже они ничего не скажут, разве мне, Цзи, не будет стыдно в душе [перед ними]?»3 С этими словами он спешился и отдал Пегого доброму лодочнику, повернул назад и пешком пошел навстречу несметному войску Хань.
По словам Сыма Цяня, в последнем бою Сян Юй убил «несколько сотен человек», хотя сам получил «дюжину ран». Совсем ослабев от потери крови, он вдруг увидел старого знакомого, который теперь служил начальником конницы в войске Хань. Он обратился к нему как солдат к солдату:
«“Я слышал, что Хань[-ван] дает за мою голову тысячу золотых [И] и жалует селения с десятью тысячами дворов, поэтому я окажу тебе милость”». Вслед за тем перерезал себе горло и тут же скончался»4 [12].
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 2. С. 152.
2 Там же. С 153.
3 Там же. С. 154.
4 Там же.
168
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
ГОСУДАРИ В НЕФРИТЕ
28 февраля 202 г. до н. э., когда Сян Юй погиб и царство Чу сдалось, Лю Бан из уезда Пэй «обрел положение верховного императора». С этого момента в своем повествовании Сыма Цянь перестает называть его Хань-ваном (Лю Баном Пэй-гуном он не называл его уже давно) и пользуется только посмертным именем императора — Гю- цзу. В истории он тоже остался под этим именем, как Хань Гао-цзу, Великий прародитель Хань (иногда Хань Гаоди, Император-прародитель Хань1). Это был первый, и последний, на ближайшие полторы тысячи лет простолюдин, которому удалось подняться до головокружительных высот. Основать династию буквально из ничего смог бы далеко не каждый, и Сыма Цянь, работавший над своими записками в то время, когда престол занимал сильнейший из ханьских императоров, не скупился на похвалы царственному прародителю.
Однако в 202 г. до н. э. будущее государства Хань и Китая как единой империи было крайне неопределенным. Собранный Цинь территориальный колосс так основательно расшатался, что у потомков Великого прародителя было мало шансов контролировать самую обширную и живучую из всех имперских конструкций Древнего Китая. К югу от Янцзы предписания Хань едва ли имели хоть какую-то силу. Власть новой династии оспаривали на востоке и севере и решительно отвергали на северной границе, где область Ордоса, укрепленная трудами Мэн Тяня, быстро пришла в запустение.
Делу могло бы помочь долгое правление, но Гао-цзу прожил после воцарения лишь семь лет (202-195 гг. до н. э.), причем большую часть этого времени подавлял внутренние мятежи и отражал внешние вторжения. Пригодился бы и сильный преемник, но Гао-цзу сменил робкий подросток (который, во всяком случае, был его сыном), а затем два малолетних ребенка (которые, вероятно, не были его внуками). Довольно скоро власть Хань запуталась в сетях дворцовых интриг ив 190 г. до н.э. перешла в руки вдовствующей императрицы Люй, спутницы Гао-цзу с тех дней, когда он был еще никем из Пэй. Импера¬
1 Другие варианты: «Высокий (Высший) предок (родоначальник)», «Высокий (Высший) владыка». Знак Хань при этом имени появился уже потом, чтобы отличать Лю Бана от «высших родоначальников» иных, более поздних империй. То же самое касается и его преемников.
169
ГЛАВА 4
трица фактически узурпировала трон. Имперская фаза Цинь длилась пятнадцать лет, и казалось, эпоха Хань продлится немногим дольше.
Восхождение Лю Бана на вершину власти все это время оставляло какое-то неубедительное впечатление. Сам он откровенно признавал, что достиг успеха не столько благодаря своим способностям, сколько вопреки им и что ему помог в этом ряд серьезных компромиссов. Чтобы завоевать поддержку, ему пришлось для вида отказаться от репрессивной политики Цинь. Это означало отказ от легистского понятия государства и тюремного авторитаризма, снижение налогов и смягчение условий призыва на военную службу, внедрение более уступчивой идеологии и более доступного публичного образа правителя. Однако успешное управление страной едва ли было возможно без беспрекословного подчинения властям, строгих предписаний и неограниченного доступа к финансам и рабочей силе. Гао-цзу столкнулся со старой проблемой: тактика и действия, позволившие завоевать империю, не подходили для того, чтобы управлять ею. Гао- цзу должен был «меняться вместе со временем».
Перемены в его личности происходили постепенно. Осталась походная привычка к пьянству. Больше всего император любил шумные попойки с грубыми шутками и развлечениями в компании старых приятелей из Пэй. Беспробудное пьянство сопровождалось частыми «походами в туалет» (как это называет английский переводчик Сыма Цяня), где с человеком могли произойти самые разные неприятности: одни не возвращались, другие в свое отсутствие могли быть оклеветаны, третьих загоняли в угол «дикие медведи» (или даже сам император — как произошло с одной молодой дамой, затем срочно повышенной до фаворитки). Туалеты были дурным и опасным местом. В те времена, как и сейчас, экскременты из уборных собирали для удобрения полей (полагают, что вместе с появлением регулируемого плуга и изобретением сеялки это внесло существенный вклад в повышение урожайности сельскохозяйственных культур в эпоху ранней Хань). Нечистоты скапливались под уборной в зловонной яме. Здесь рылись свиньи, а в 194 г. до н. э. рядом с ними на короткое время появилась «человеческая свинья»: слепое, немое, выжившее из ума существо без ушей, рук и ног, но с явно женскими формами — все, что осталось после мести вдовствующей императрицы Люй от прелестной госпожи Чи, чье единственное преступление состояло в рождении императору еще одного сына. «Императрица Люй была крайне волевой женщи¬
170
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
ной», — заметил Сыма Цянь. Молодого Хуэй-ди, ее сына и законного наследника Гао-цзу, судьба госпожи Чи привела в такой ужас, что он тоже «начал каждый день пьянствовать» и больше не принимал никакого участия в государственных делах1.
В «Исторических записках» Сыма Цянь помещает рассказ о вдовствующей императрице Люй в разделе «Правители», как если бы она была официальной преемницей Гао-цзу. При этом Хуэй-ди (император Хуэй; ди значит «император») не получил отдельной главы и упоминается в повествовании лишь несколько раз. От смерти Гао-цзу в 195 г. до н. э. до своей смерти в 180 г. до н. э. вдовствующая императрица железной рукой управляла страной, в то время как сменявшие друг друга императоры играли чисто декоративную роль. Хуэй-ди при жизни совершил всего одно заметное дело: он поручил специалисту по церемониям и ритуалам Шусунь Туну разработать императорские обряды Хань.
Имевший множество последователей знаменитый конфуцианский ученый Шусунь Тун присоединился к Гао-цзу в те дни, когда тот еще именовался ваном Хань. Шусунь Тун взял на себя все приготовления и играл роль распорядителя во время церемонии его восшествия на трон, а после предложил ввести при императорском дворе некоторые приличия. Задача была не из легких. Гао-цзу настолько презирал классическое образование, что, как известно, мог сорвать с ближайшего ученого шапку и справить в нее нужду. И все же, хотя подобное отсутствие церемоний после циньской строгой формальности казалось свежим и бодрящим, даже императора раздражало, что сподвижники-собутыльники могли ворваться к нему, когда он уединялся с любовницей. Что нам нужно, сказал Шусунь Тун, — это правила этикета и придворный ритуал. Император с некоторым сомнением согласился. «Посмотри, что можно сделать, но только чтобы все это было не слишком заумно... Такая простая штука, чтобы даже я с ней справился».
Собрали группу ученых, которые тщательно изучили тексты и целый месяц в специально построенном павильоне отрабатывали хо¬
1 Говоря об ужасных деяниях императрицы Люй, необходимо заметить, что женщина у власти, какая бы она ни была, практически не оставляла историографам иного выхода, кроме описания ее правления и ее самой в самых мрачных тонах. Китайские летописи — в гораздо большей степени нравоучительная литература, нежели попытка объективного описания исторического процесса.
171
ГЛАВА 4
реографию новых придворных церемоний. Когда все было готово, Шусунь Тун пригласил Гао-цзу. Слова императора, подтвердившего, что он понял свою задачу, были встречены вздохом облегчения. Новый церемониал был немедленно введен в действие, и во время новогодних празднеств в 199 г. до н. э., когда знать и чиновники со всей империи явились ко двору выразить свое почтение, «все дрожали от страха и благоговения». Гао-цзу наконец «понял, какая это возвышенная вещь быть императором!» [13]. Шусунь Тун получил награду, и за время правления Хуэй-ди разработал и организовал обряды почитания предков, с которыми следовало обращаться к покойному «великому прародителю» и его преемникам.
Однако конфуцианские по духу церемонии и приличия вовсе не означали, что правитель собирался руководствоваться в исполнении своих обязанностей конфуцианскими предписаниями. Гао-цзу был слишком занят укреплением своей власти, чтобы служить примером нравственного совершенства, а его империя была, пожалуй, слишком непокорной, чтобы откликнуться на такой пример. Законы и налоги имели первостепенное значение не в последнюю очередь потому, что без них не было никакого смысла в послаблениях и льготах, которыми Гао-цзу и его преемники вознаграждали верных и успокаивали возмущенных. Хотя ханьские императоры довольно часто прислушивались к советам, они не стали полностью отказываться от самодержавного наследия Цинь1. Гао-цзу специально распорядился привести в порядок (и, возможно, восстановить) гробницу Первого императора и проводить обряды в его честь. Легистская структура управления в целом сохранилась. Учет и ранги, групповая ответственность, система наказаний и поощрений, всеобщее налогообложение, общественные работы и военный призыв, несколько смягчившись на практике, оставались основополагающими принципами существования Китайской империи.
Заметнее всего послабления стали в правление образованного Вэнь-ди (пр. 180-137 гг. до н.э.), одного из сыновей Гао-цзу, став¬
1 Все циньское подвергалось поношению лишь на словах. На деле Лю Бан, видимо, прекрасно понимал, что без циньских наработок империю не создать. Даже ханьские законы «Девяти статей», введенные в 200 г. до н. э. и более двух тысячелетий прославлявшиеся как гуманные и простые — в отличие от запутанных и бесчеловечных циньских — были, как показал ряд недавних находок археологов, почти дословным повторением циньского кодекса.
172
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
шего императором после смерти вдовствующей императрицы Люй, а также сына Вэнь-ди, Цзин-ди (пр. 157-141 гг. до н.э). Позже этот благодатный период удостоился множества похвал со стороны конфуцианцев, и не только из-за того, что императоры активно приближали к себе известных ученых, в том числе конфуцианской школы. Видимо, ретроспективно полвека от смерти Гао-цзу до смерти Цзин-ди представлялись многим золотым веком. В государстве царило относительное спокойствие (хотя на северной границе оно обходилось, как мы увидим позже, довольно дорого), урожаи были в целом регулярными (верный знак милости Небес), многие получили прощение и помилование. Вэнь-ди обладал добродетелью «высшего порядка», заключил Сыма Цянь. Даже для вдовствующей императрицы Люй у великого историка нашлось доброе слово: во время ее царствования «наказывали редко, а злодеев было мало, люди прилежно занимались сельским трудом, еды и одежды стало в избытке» [14].
Триумф для Цзин-ди наступил в 154 г. до н. э., когда семь царств попытались поднять мятеж, но потерпели поражение. Беспорядки начались еще в правление Гао-цзу и уходили корнями в войну с Сян Юем. В решающей битве при Гайся в провинции Аньхой победу одержали ханьские полководцы. Именно их войска одолели Сян Юя, в то время как ван Хань, по словам Сыма Цяня, «следовал позади войска». Военачальники сомневались, что Лю Бан способен одолеть соперника, и согласились рискнуть своими армиями только после того, как им пообещали в награду земли и высокое положение. Когда позднее те же генералы побуждали Лю Бана принять императорский титул, с одной стороны, они делали это по традиции, а с другой — для них это действительно имело большое значение: «Если наш повелитель не примет высочайшего титула, то и наши титулы ничего не будут стоить» [15]. Таким образом, когда царь Хань согласился занять императорский трон, горстка далеко не покорных генералов вскарабкалась на собственные троны размером поменьше.
Новой императорской династии требовалась столица, в которой можно было разместить храмы и гробницы предков, не говоря уже о придворных и чиновниках. В подражание Восточному (Позднему) Чжоу Гао-цзу выбрал Лоян, удачно расположенный в центре Чжунъ- юаня («Центральная равнина») между Цинь и Чу. Но как только он там поселился, его убедили переехать в отдаленное, но гораздо лучше
173
ГЛАВА 4
защищенное место в Чанъане, на западе естественно укрепленной области Цинь (близ Сяньяна, в современном Сиане). Лоян мог стать смертельной ловушкой, поскольку, одаривая своих военачальников, Гао-цзу отказался от прямого контроля над большей частью внутренних районов империи. По сути, он утратил практически все территории, которые достались Сян Юю, когда в 203 г. до н. э. уставшие от сражений соперники согласились разделить империю между собой. Таким образом, вся восточная половина бывших владений Первого императора распалась на десять царств1, причем только западная половина из них сохраняла статус военных округов под непосредственным управлением императора. Победа была куплена ценой восстановления дискредитировавшей себя системы феодальных вотчин, в которых власть императора была существенно ограничена2. Лоян и жалкая судьба последних императоров Чжоу могли бы послужить об этом напоминанием.
Хотя трудный процесс возвращения отделившихся царств начался почти сразу, они по-прежнему представляли собой угрозу, и решить эту задачу до конца столетия не удавалось. Гао-цзу старался постепенно сменить власть на этих территориях. Вместо бывших военачальников и других вероятных соперников он сажал на царские троны своих не слишком воинственных родственников. Императрица Люй продолжила эту политику, выдвигая на нужные места собственных родичей3. Вэнь-ди, заменяя правителей, воспользовался возможностью раздробить одни царства и вернуть себе другие. Подавленное Цзин-ди восстание 154 г. до н. э. дало новую возможность ослабить силы царств. Все это не позволило стране снова вернуться к хаосу эпохи Сражающихся царств, хотя до тех пор, пока существо¬
1 Правители этих царств носили титул ван, который за два столетия до этого мог носить только чжоуский Сын Неба, «Единственный из людей». Это отражало понижение статуса титулов в раннеимперском Китае.
2 Удельным князьям достались самые разоренные и непокорные земли, жители которых болезненней всего воспринимали уничтожение своих царств и их вхождение в состав империи. Возрождая старые царства, пусть и во главе со своими военачальниками, Лю Бан избавлял себя от забот о неспокойных территориях, оставляя себе мирные и верные коренные циньские земли с сохранившимся имперским аппаратом и инфраструктурой.
3 Это стало причиной восстания после смерти императрицы. В итоге побежденный род Люй, при покровительстве императрицы посягавший не только на удельные престолы, но и на империю вообще, был уничтожен.
174
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
вали царства, носившие громкие и славные имена Ци, Чжао, Янь и даже Чу, целостность империи оставалась под вопросом.
Имперские летописи обычно изображают эти ханьские или «подчиненные царства как непокорных сателлитов, тщетно оспаривающих бесспорную власть империи. Но археология снова вносит свои поправки. Ученым удалось найти несколько царских гробниц ранне- ханьского периода, и до тех пор, пока не откроют грандиозный мавзолей Цинь Ши-хуанди, они будут служить самым ярким примером материальной культуры Древнего Китая. Нельзя не признать, что подземные камеры китайских захоронений производят далеко не такое захватывающее впечатление, как греческие и римские колоннады. Но камень на территории Китая был, как правило, дефицитным товаром. Люди старались селиться в аллювиальных поймах рек и возводили там деревянные постройки на фундаментах из ханту. Здания высотой в несколько этажей, увенчанные двускатной крышей с изогнутыми карнизами, неоднократно изображены в росписях гробниц и описаны в текстах. Они выглядели потрясающе. Однако дерево гниет, а кирпичная кладка рушится. Поэтому в новой имперской столице Чанъань кроме обширных фундаментов и россыпи глазурованных черепиц сохранилось очень мало.
Но если на просторах Китая осталось не так много древних памятников, то памятники, что скрываются под землей, это полностью возмещают. В мировоззрении древних китайцев не последнее место занимал жадный интерес к загробной жизни, поэтому предков почитали не только как любимых родственников, но и как прародителей, заслуживающих уважения согласно конфуцианским предписаниям, а также как посредников при общении с миром духов. Сооружению и отделке гробниц уделяли огромное внимание. Покойных старались похоронить как можно в более целостном состоянии (кремацию древние китайцы сочли бы еще более позорной, чем четвертование или нанесение увечий), а для удовлетворения текущих потребностей в удобствах, пропитании, статусе и развлечениях, с ними отправляли все то, что им нравилось при жизни. В этом смысле каждая гробница отражала образ жизни своего обитателя и становилась, как и мавзолей Первого императора, уменьшенной копией оставленного им (или ею) материального мира.
Могилы ханьских царей не были исключением: они могут служить наглядной демонстрацией средств и вкусов их царственных оби¬
175
ГЛАВА 4
тателей. Когда в 1968 г. солдаты Народно-освободительной армии случайно обнаружили захоронения, принадлежавшие, как было доказано впоследствии, царю и царице Чжуншани (ханьское царство в Шаньси), самый большой интерес вызывали нефритовые костюмы царственной четы. Ослепительный клад шелков, лаковых изделий, статуэток и инкрустированной бронзы поразили одетых в полевую форму ополченцев не меньше, однако нефритовые костюмы, при всей их поразительной экстравагантности, не единственные в своем роде. Найденные в других местах более или менее сохранившиеся нефритовые костюмы ханьского периода обеспечили себе почетное место во многих музеях как образец, возможно, единственной в мире одежды из камня.
Каждый такой костюм покрывал тело умершего с ног до головы, словно доспехи, вместе с лицом, ступнями и пальцами рук Считалось, что нефрит обладает оберегающими свойствами, хотя речь шла скорее о духовной защите (чтобы препятствовать естественным химическим процессам, нефритовый костюм должен был быть совершенно герметичным). Нефритовый костюм выглядит как цельный каменный футляр, но на самом деле состоит обычно из четырнадцати предметов, среди которых подходящие по размеру перчатки, обувь, маска для лица, отдельные рукава и шлем. Как и броня терракотовых воинов, все эти предметы состоят из маленьких, плотно подогнанных друг к другу прямоугольных пластин. В одном костюме насчитывается от двух до трех тысяч нефритовых сегментов. Пластинки соединены между собой золотой1, серебряной или шелковой нитью. Даже у египетских фараонов не было нефритовых доспехов, скрепленных золотыми нитями. Искусная работа, общий вес и стоимость такого костюма говорят о богатстве, намного превосходящем средства большинства правителей государств-сателлитов — и, возможно, даже императоров.
В Чанша, столице другого царства, которое Гао-цзу отдал одному из своих генералов (на этот раз к югу от Янцзы, в Хунани), царские гробницы найти не удалось. Однако в кургане, который археологи открыли в пригороде Мавандуй в 1970-х гг., были обнаружены вполне
1 Саван удельного царя Лю Шэна, сына императора Цзин-ди, состоял из 2498 нефритовых пластинок, скрепленных золотыми нитями, весившими более килограмма.
176
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
сопоставимые сокровища. В гигантских саркофагах-«матрешках» покоились канцлер Дай-хоу (ум. 186 г. до н. э.), его супруга госпожа Дай и еще один образованный благородный мужчина, вероятно, их сын. Поскольку они не принадлежали к правящей династии, ни один из них не удостоился нефритового одеяния, хотя традиционные методы консервации (тщательно запечатанные саркофаги, не пропускающие сырость и бактерии) сослужили хорошую службу одному из тел. По прошествии двух с лишним тысяч лет обернутая в шелка госпожа Дай сохранилась во внутреннем саркофаге практически невредимой, хотя феноменально постарела и крайне нуждалась в услугах парикмахера. В отличие от таримских мумий ее тело не высохло: суставы сохранили гибкость, а кожа реагировала на мягкое нажатие. Вскрытие позволило установить, какими болезнями она страдала при жизни, и обнаружило в ее пищеварительной системе «138 с половиной семян»: перед смертью госпожа Дай ела мускусную дыню.
Обстановка ее гробницы известна довольно хорошо, поскольку в ней были найдены бамбуковые планки с полной описью погребального инвентаря. В описи перечислены не только различные сосуды, которые были обнаружены в обеденной зоне, но и деликатесы, которые когда-то их наполняли. Упоминаются семь видов мяса, а также рецепты их приготовления, и два вида пива: неферментированное и, вероятно, крепкое. Изысканно расписанные шелка украшали стены погребальной камеры, а последний внутренний саркофаг был укрыт Т-образным шелковым знаменем. Превосходно сохранившееся знамя, по-видимому, изображает пожилую госпожу Дай — она опирается на трость, также найденную учеными среди погребального инвентаря. Ниже на картине происходит застолье, участники которого едва ли не впервые изображены с палочками для еды, а выше госпожу Дай ожидает небесное собрание духов.
Шелковых манускриптов в гробнице не было. Их нашли только в захоронении предполагаемого сына князя Дай. Среди них два прекрасно сохранившихся экземпляра «Дао дэ цзин» Лао-цзы, доселе неизвестные труды по медицине, астрономии и гаданиям, руководство по сексу и фрагменты исторических сочинений, о которых, похоже, не знал даже Сыма Цянь; вероятно, они были потеряны для науки в десятилетия, разделявшие погребение и написание «Исторических записок». Коллекция из Мавандуя старше, чем обнаруженные ранее клады документов вдоль Шелкового пути, и действительно
177
ГЛАВА 4
может иметь «огромное значение для историков в переосмыслении древней китайской истории» [16]. Кроме того, в захоронениях была обнаружена одна из самых ранних географических карт. Очевидно, она была составлена в результате тщательного изучения местности и предназначалась для военных целей. Изображенная на ней местность по-прежнему вполне узнаваема, однако чтобы это понять, карту нужно перевернуть: в Китае предпочитали изображать юг в верхней части листа, а север в нижней1. На карте изображен неспокойный пограничный регион, в который входила южная половина царства Чанша и северная половина Наньюэ.
Наньюэ, или Южное Юэ (Намвьет), было совсем не таким, как остальные ханьские царства: оно ничем не было обязано Гао-цзу и имело собственные имперские амбиции. Оно занимало примерно территорию провинции Гуандун и соседние области гуанси и Северного Вьетнама. Его столицей был город Паньюй. Впоследствии этот город стал известен как мегаполис Гуанчжоу (Кантон), где в центре международного района в 1983 г. была найдена еще одна царская гробница периода Хань, а в 1990-х гг. — остатки царских дворцовых садов.
В гробнице покоился Вэнь-ван2, второй правитель государства Наньюэ (не путать с его современником Вэнь-ди, правившим в Чанъане). В соответствии со своим званием Вэнь-ван был похоронен в нефритовом костюме. Костюм никак не повлиял на сохранность тела правителя, однако его многокамерная гробница довольно интересна. Она представляет собой уменьшенную копию его дворца, в передней части которого располагались открытые для публики помещения (пиршественный зал в восточном, сокровищница в западном крыле), а в задней части находились личные покои, в том числе комната для слуг, которые сопровождали царя и после смерти, и еще одна комната для наложниц, удостоенных такой же «чести». В обстановке гробницы имеются предметы ханьского и местного производства, а также изделия из африканской слоновой кости, ладан из Южной Аравии и круглая серебряная чаша с крышкой, вероятно персидская. В те времена, как и сейчас, богатство в Паньюй (Гуанчжоу) приносила Жемчужная река Чжуцзян, впадавшая в Южно-Китайское море. Защищенное
1 См.: ПодосиновА. В. Ex Oriente Lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 45-88. — Прим. ред.
2 Судя по обнаруженной археологами его золотой печати, он носил императорский титул ди.
178
ВОЗВЫШЕНИЕ ХАНЬ. 210-141 ГГ. ДО Н. Э.
сзади горами Наньлин, Наньюэ не попадало в сферу интересов Хань и наслаждалось преимуществами своего мягкого климата и иноземными диковинками, стекавшимися со всех сторон света.
Юэсцы, вероятно, принадлежали к малайско-полинезийской группе, а не к монголоидной, как китайцы ся. В Северном Китае их обычаи (например, использование банановых листьев вместо тарелок) и природа (влажные горные склоны и малярийные болота) вызывали неизменное осуждение. Когда Первый император установил здесь свою власть, этот регион никак нельзя было назвать популярным: сюда на поселение отправляли только «беглецов, осужденных и лавочников». Администрация Цинь в этих местах была зачаточной, и когда император умер, область откололась. Управлявший областью циньский чиновник, взяв пример с меланхоличного Чэнь Шэ, восстал и объявил Наньюэ независимым царством, а себя его первым царем.
Это был Чжао То, иначе У-ван из Наньюэ. На десять лет его оставили в покое: по словам Сыма Цяня, Гао-цзу «довольно хлопот доставляли внутренние беспорядки». Но в 196 г. до н. э. император Хань послал доверенного дипломата, конфуцианского идеолога Лу Цзя, чтобы убедить царя У признать верховенство Хань. Ван У согласился сделать это в обмен на признание своего титула, но затем отказался от соглашения из-за нерешенных торговых противоречий. Введенный Хань запрет на продажу железа (стратегического сырья для изготовления оружия) вызвал протесты, после чего царь У сделал встречный ход: он объявил себя императором, и даже войска, отправленные на юг в 183 г. до н. э. вдовствующей императрицей Люй, не смогли заставить его отказаться от этого заявления. Более того, силы Наньюэ перешли в наступление и начали захватывать соседние территории, а государь У ездил в экипаже с желтым балдахином и выпускал собственные «эдикты», хотя и то и другое было прерогативой императора [17].
По сведениям Сыма Цяня, первый правитель (и самопровозглашенный император) Наньюэ умер в 137 г. до н. э. Это представляется маловероятным; если, как пишет Сыма Цянь, государь У был окружным чиновником на службе у Первого императора, то он скончался в возрасте не меньше ста лет, пережив двух циньских и шестерых ханьских императоров. Скорее всего, речь идет о его преемнике, чей нефритовый костюм сейчас находится в музее Гуанчжоу: именно этот человек второй раз принял дипломата Лу Цзя и обязался отказаться от императорских привилегий и платить дань Чанъаню. Это случилось в правление Хань
179
ГЛАВА 4
Вэнь-ди, но если империи Цинь удалось стремительно присоединить китайский «Средний Запад» в провинции Сычуань, то присоединение империей Хань «Глубокого Юга» несколько затянулось.
Еще два правителя Наньюэ сменились на троне в Паньюе, прежде чем в стране снова вспыхнули беспорядки. Обосновавшийся в Чанъане могучий У-ди, сын и преемник Цзин-ди, методично превращал лоскутное одеяло владений Хань в энергичную восточноазиатскую империю. Мелкие раздробленные феодальные царства полностью обессилели; император закрепил за собой право назначать в них канцлеров и первых министров1. В Наньюэ это новшество, введенное в 113 г. до н. э., было встречено резким недовольством. Ни один правитель Наньюэ до сих пор не посещал Чанъань, чтобы уплатить дань, и когда проханьская фракция в Паньюе убедила молодого правителя сделать это, страну охватило восстание, во главе которого встал тогдашний канцлер. Ханьские послы и сторонники Хань были убиты, посланные для мести войска из Чанъаня отброшены.
Империю Хань, которая только что триумфально выдвинулась в Центральную Азию, посрамили живущие на заднем дворе «варвары». Хань У-ди не мог больше мириться с таким положением, и поскольку уговоры не действовали, он решил применить силу. В 112 г. до н. э. не менее четырех военных экспедиций были отправлены в Паньюй по рекам и по морю. Первым туда прибыл «командующий башенных кораблей», ведя за собой двадцать или тридцать тысяч человек. Через некоторое время к нему присоединился «командующий, который успокаивает волны», ночью они начали штурмовать Паньюй, а с рассветом город сдался. «Таким образом, пять поколений или девяносто три года спустя после того, как Чжао То стал царем Южного Юэ, это государство пало» [18]. Сыма Цянь, работавший в то время над «Историческими записками», чувствовал удовлетворение. Больше не будет ни Южного Юэ, ни Восточного Юэ (в Фуцзяни)2, которое ждала та же участь в следующем году. К концу 111 г. до н. э. весь материковый Южный Китай, а также остров Хайнань и долина реки Хонгха в Северном Вьетнаме окончательно вошли в состав империи.
1 Это право ханьский император получил еще после подавления восстания семи ванов.
2 В отличие от Наньюэ Восточное Юэ представляло собой не государство, а союз юэских племен.
5
Империя изнутри и снаружи
(141 г. до н.э. — 1 г. н. э.)
ХАНЬ И СЮННУ
У тех, кто бежал от правосудия Хань во II веке до н. э., была поговорка: если больше ничего не остается, всегда можно уехать «на север к сюнну/хунну или на юг в Юэ». Из этих двух направлений более предпочтительным считалось первое — в степях, занятых кочевым народом сюнну1, климат был здоровее, чем в болотистом Южном Юэ. Но для центральной власти в Чанъане обе области были одинаково проблемными: слабо защищенные пограничные зоны, населенные ненадежными вассалами и окруженные непредсказуемыми врагами, никак не способствовали поддержанию общего порядка в империи. Приграничная ситуация на крайнем севере и на дальнем юге долго испытывала терпение Гао-цзу и его преемников и более-менее устоялась, и то немалой ценой, лишь в царствование У-ди.
У-ди взошел на трон после Цзин-ди в 141 г. до н.э.; тогда ему было пятнадцать лет, и он продолжал царствовать до самой смерти
1 В те времена эти знаки, видимо, звучали как хунна. В русскоязычной литературе принято именовать их сюнну, что, с одной стороны, не очень далеко от истины, но с другой — фактически постулирует монголоязычность создателей первой известной кочевой империи на границе Китая (сюнну более чем похоже на монгольское «люди»), о чем на самом деле мы не знаем ничего достоверного.
181
ГЛАВА 5
в возрасте шестидесяти восьми лет. Одному из самых долгих и насыщенных событиями правлений в истории (141-87 гг. до н.э.) преемственность пошла на пользу, но затем нанесла роковой удар. О правлении У-ди всегда высказывали противоположные мнения. Его называли то «абсолютным самодержцем», который лишил власти своих министров, чтобы «лично руководить правительством», и поэтому стал «самым известным из всех китайских императоров», то дворцовым ничтожеством, неспособным контролировать даже собственных домочадцев, «не принимавшим никакого участия в военных кампаниях, которые прославили его царствование», и имевшим такое слабое представление об их стоимости, что его правление стало настоящим «бедствием для Китая» [1]. В то время как император уделял внимание церемониям и ритуалам и слегка интересовался искусствами, государственные инициативы обычно (но не всегда) поступали от министров, советников или военачальников, и после их утверждения исполнение поручалось тем же людям.
Это вполне согласовывалось с конфуцианским учением. Императоры не должны были корпеть днями и ночами над возами бамбуковых документов, как, по рассказам, делал Первый император Цинь, или сражаться и пьянствовать наравне со своими войсками, как Гао- цзу. Чтобы подать высочайший пример добродетели и гуманности, Сыну Неба следовало держаться в стороне и, обладая всей полнотой власти, не ограниченной законодательными тонкостями и многочисленными обязанностями, сохранять полную невозмутимость и бесстрастие.
Это состояние выражали через даоское понятие у-вэй — «недеяние», «приостановленное действие» либо «прекращение действия». Мудрый правитель «ничего не делает (у-вэй), — говорит Лао-цзы, — но при нем нет ничего, что не было бы приведено в порядок» [2]. Как это работает? В идеальном мире поданный императором нравственный пример обладает магнетическим воздействием. Руководствуясь этим примером, все общество встает на путь добродетели, что устраняет необходимость в законах и наказаниях. Кроме того, под действием этой силы самые способные и добродетельные подданные неотвратимо притягиваются к императору, чтобы служить ему. Его Небесное величество может действительно «ничего не де¬
182
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
лать», пребывая в полной уверенности, что под руководством блистательных помощников не останется «ничего, что не было бы приведено в порядок»1.
Однако здесь таилась опасность: у циников возникал соблазн судить о достоинствах и недостатках императора по талантам его чиновников. Первостепенное значение приобрел поиск и привлечение на государственную службу людей безупречных достоинств и способностей. Процесс был усовершенствован с помощью продуманной системы отбора. Снова и снова в записях встречаются указы, поручающие чиновникам империи искать перспективных кандидатов на должности и отправлять их в Чанъань. Эта практика возникла еще во времена Чжоу, но в эпоху Хань она заметно расширилась, поскольку административный аппарат империи стал больше и намного сложнее. При У-ди чиновников на государственную службу стали набирать чаще, чем раньше, при этом процесс отбора был стандартизирован и проходил в виде собеседования, состоявшего из вопросов и ответов. Затем был введен экзаменов для чиновников, в дальнейшем ставший главной отличительной чертой имперской бюрократии. Но даже для начального собеседования из вопросов и ответов требовались программа и жюри, которое оценивало бы результаты участников. Жюри состояло из группы ученых (в 136 г. до н. э. их было пятьдесят, но вскоре число увеличилось). Программа состояла из выбранных этими учеными канонических текстов (изначально их было пять). В их число входили сочинения, которые нравились Конфуцию («Книга перемен», «Книга песен», «Чтимые записи») либо приписывались ему самому («Записи о благопристойности («Ли цзи») и «Вёсны
1 В описанной схеме большую роль играла магическая сила дэ (сейчас обычно переводимая как «добродетель», но в данном контексте означающая нечто вроде маны у народов Полинезии), которой своего Сына снабжало Небо. В рамках этой концепции правитель воспринимался не как администратор, а прежде всего как верховный жрец, единственная связь между Небом и землей, и его ритуальная чистота и нравственность, благодаря которой Небо наделяло его все большими объемами дэ, были неизмеримо важнее практической сметки или интереса к делам управления. Эта сила помогала держать в узде многочисленных вассалов еще чжоуским ванам, а при Восточном Чжоу, когда действительная власть ванов в Лояне стала ничтожной, окружавшие их царедворцы не забывали лишний раз напомнить им, что повседневные хлопоты — не царское дело.
183
ГЛАВА 5
и Осени»)[. Таким образом, зачатки конфуцианства, опирающиеся на так или иначе связанные с Учителем Куном тексты, под покровительством государства приобрели официальный характер и налет ортодоксальности.
Однако на практике У-ди предпочитал ту систему управления и политику, которых придерживался Первый император Цинь. У-ди тоже много путешествовал, совершенствовал ритуалы и обряды, которые полагалось проводить на различных священных вершинах, и тоже был одержим кратковременностью жизни: его неодолимо влекла загадка бессмертных на Райских островах Пэнлай2. Гао-цзу не счел нужным соотносить свою новую династию с одним из Пяти элементов (или фаз), ив 104 г. до н. э. У-ди восполнил это упущение. Календарь был пересмотрен, объявлен новый календарь Великого начала, а покровителем империи Хань провозгласили стихию земли (почвы) — элемент, победивший «воду» Цинь. Стихии земли соответствовал желтый цвет и число пять (на сей раз это никак не сказалось на ширине колесной оси). Таким образом, смена династии была с некоторым запозданием синхронизирована со сменой фаз стихий, а ее законность подтвердил не любимый Конфуцием Небесный мандат, а эзотерическая теория, традиционно связанная с даосизмом3.
1 «Вёсны и Осени» и «Записи о благопристойности» действительно приписывались Конфуцию; к составлению первых он, вполне возможно, приложил руку, но основная часть текста была написана безымянными летописцами княжества Лу еще до него; вторые были написаны позже жизни Учителя — возможно, его внуком Кун Цзи (Цзы Сы) (481 -402 гг. до н. э.). «Книга песен» и «Чтимые записи» считались составленными Конфуцием: якобы он отобрал наиболее удачные и соответствующие чжоускому духу стихи и записи речей правителей и составил из них два свода, использовавшиеся им для обучения последователей.
2 Многие ученые считают, что очевидное сходство в описании Цинь Ши-ху- анди и У-ди на страницах труда Сыма Цяня может объясняться не только тем, что У-ди осознанно или неосознанно подражал Первому императору (что исключать нельзя), но и тем, что великий историограф (один из главных авторов антициньского мифа) мог таким образом создать довольно неприглядный образ своего повелителя, которого он, кажется, оценивал довольно невысоко. Описание расточительности У-ди и его внимания к разным шарлатанам должно было создать у читателя ощущение, что этот правитель, как когда-то Цинь Ши-хуанди, может привести империю к катастрофе.
3 Связь теории «пяти движений» с даосизмом спорна во многом потому, что мы очень мало знаем о настоящем облике интеллектуальной жизни чжоу- ского Китая, известной нам почти исключительно по дошедшим до нас тек¬
184
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
Нет никаких доказательств, что У-ди обращался именно к философии легизма, чтобы восстановить во всей строгости законы и наказания, введенные Первым императором, однако суды при нем работали активнее, а общее число осужденных было больше, чем при любом другом правителе ранней Хань. Ради пополнения казны были повышены налоги и введена государственная монополия на производство железа и соли (119 г. до н. э.), а также алкоголя (98 г. до н. э.). Осужденных, заключенных (обычно это были военнопленные или несостоятельные должники), призывников и людей, отрабатывавших трудовую повинность, массово мобилизовали для строительства дорог, систем борьбы с наводнениями, императорских памятников и т. д. То же самое происходило на недавно «национализированных» литейных и соляных предприятиях, где неоплачиваемый труд был нормой (сегодня это называется рабским трудом)1. Но главной причиной была война. Имя У-ди означает «Воинственный император», и хотя он, похоже, крайне редко устраивал смотры войскам и никогда лично не вел их за собой в бой, его правление было отмечено непрекращав- шимися военными кампаниями, в основном проходившими в необъятной и неприветливой пустыне у северной границы империи.
Здесь по дуге от Корейского полуострова до Синьцзяна, где на тысячи километров тянулись леса, степи и пустыни, оседлое сельское хозяйство Китая сменялось бесконечным суровым царством кочевого скотоводства. Здесь так же, как в Африке и на Ближнем Востоке, отношения между «пустыней и пашней» были непростыми, потенциально полезными для обеих сторон, но обремененными взаимными недоразумениями и подозрениями. В Восточной Азии очевидная разница между продуваемыми всеми ветрами стоянками кочевни¬
стам. Стройность системы «школ », судя по всему появилась на свет благодаря усилиям ханьских библиографов, стремившихся к порядку. Как и теория двух первоначал инь и ян, теория пяти движений почти наверняка была в каком-то виде разработана мудрецами или жрецами одной из областей Древнего Китая, а во времена Чжаньго зафиксирована и пользовалась большой популярностью у самых разных интеллектуальных групп и течений. Но как выглядел в чжоу- ские и западноханьские времена даосизм и существовал ли он как отдельное направление — сложный вопрос.
1 Императорские мастерские поражали воображение размахом и мастерством работников, но насколько вольны последние были покинуть работу, а также лучше или хуже, чем обычным ремесленникам, жилось рабочим дворцового ведомства, неизвестно.
185
ГЛАВА 5
ков и тесными деревушками оседлых земледельцев заключалась не только в образе жизни и культуре — ее усугубляли этнические различия (хотя они, возможно, в действительности были не так велики, как казалось), иной государственный уклад, язык, образованность и многое другое, составлявшее гордость каждого из народов. По одну сторону лежал Китай, «земля шапок и поясов», как его называет Сыма Цянь, по другую — варварская страна и, земля штанов и шкур.
Но если социальные и экономические отличия были очевидны, с природными границами дело обстояло не столь однозначно. Сельскохозяйственные земли постепенно выходили в степи, а песчаные барханы наползали на посевы1. Ирригация до неузнаваемости преображала пустыню: засуха мешала сельскому хозяйству. Обширные пастбища рассекали лоскутное одеяло крестьянских полей на юге — пышные зеленые оазисы расцвечивали пустыню на западе. Водоразделы немногочисленных рек были слишком неопределенными, а долины — слишком ценными с точки зрения земледелия, чтобы превращать их в границы. Горы были слишком далекими и при этом вполне преодолимыми, а значит, бесполезными в качестве естественных укреплений. Демаркация и тем более защита границ в таких условиях казалась невозможной и на долгие столетия обременила бы императорский Китай.
Первого императора Цинь это не остановило. Его предки имели многолетний опыт общения с кочевыми соседями. Великое вторжение Мэн Тяня в Ордос около 218 г. до н. э. было предпринято именно затем, чтобы раз и навсегда обезопасить северные и северо-западные фланги Цинь. Возникшая в результате череда крепостей, сторожевых вышек, стен и дорог — Великая стена позднейшей традиции — возможно, была бы эффективной, если бы ее поддерживали в надлежащем состоянии. Однако это требовало непомерных затрат, и годы гражданской войны после смерти Первого императора сыграли здесь роковую роль. Войска были отозваны, поселенцы отступили на юг, и власть решила отказаться от наступления.
Однако не исключено, что именно с этого первого продвижения империи в Ордос и соседние степи к востоку и западу все и началось. Лишившись ценных пастбищ и потеряв возможность вести нефор¬
1 Границы земледельческих и кочевых территорий зависят от соотношения сил оседлых и скотоводческих государств.
186
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
мальную торговлю через новую границу (теперь это было официально запрещено), кочевые скотоводы в кои-то веки объединились1. Во главе объединения встали сюнну, племя или клан, быстро ставший ядром крупной конфедерации. Под руководством Маодуня2, молодого князя сюнну, который в 209 г. до н. э. убил своего отца, чтобы получить титул ьиапьюя, или царя, союз сюнну совершал набеги на востоке, западе, юге и севере, разоряя и китайцев, и не китайцев. Шаньюй Маодунь вернул себе все земли, занятые Мэн Тянем, и проник вглубь на территорию нынешних провинций Хэбэй и Шаньси. Таким образом, пока Лю Бан и Сян Юй вели смертельный бой на берегах Янцзы, Маодунь получил свободный доступ к северным военным округам и, как пишет Сыма Цянь, «[Его] военная мощь была велика, [он] имел триста тысяч лучников и не раз причинял урон северным пограничным землям»3.
Сюнну иногда называют гуннами. Однако среди ученых нет согласия о том, действительно ли эти два слова обозначают один и тот же народ с поправкой на китайское и зарубежное произношение4. Научное мнение, словно дующий в евразийской степи ветер, обращается то в одну, то в другую сторону. Безусловно, вторгшиеся в Европу гунны тоже были кочевыми скотоводами, как и сюнну. Они тоже сражались верхом, терроризировали империю (Римскую), и от них приходилось откупаться дорогой ценой. Но все это происходило на много столетий позже и на полмира дальше. Судя по нескольким словам, которые удалось идентифицировать, сюнну говорили на одном
1 Ряд источников указывает на то, что, возможно, в степях и раньше существовало крупное государство, во главе которого стояли ираноязычные юэчжи (тохары), чьими вассалами были в том числе и сюнну. Но тогда китайцы мало интересовались происходящим в степях, и это объединение несравнимо меньше отразилось в китайских летописях — единственных письменных источниках региона в это время.
2 В литературе встречаются варианты Модунь или Модэ. Некоторые ученые полагают, что это транскрипция слова «багатур», в русском языке ставшего «богатырем».
3 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 8. С. 196.
4 Отождествлять сюшгу и гуннов, конечно, не стоит, но родство вторых с первыми мало кто оспаривает. Правда, стоит учитывать, что в своем пути от Алтая до Дуная сюнну, как это всегда бывает с кочевыми армиями, включили в свой состав множество племен, и общий их набор, конечно, должен был заметно отличаться от перечня вассалов Модэ.
187
ГЛАВА 5
из сибирских языков1, то есть вполне могли прийти из Сибири. Ставить знак равенства между сюнну и гуннами европейской истории полезно лишь настолько, насколько любые, даже самые сомнительные мнемонические указатели способны помочь в изучении неосвоенных пустошей отдаленного прошлого Азии.
Поскольку степные народы не оставили никаких письменных отчетов о своих делах и, вероятно, вообще были неграмотными, почти все наши сведения о них происходят из китайских источников. Однако в более ранних сочинениях сведений о них было слишком мало, поэтому историку (а именно Сыма Цяню) приходилось расспрашивать современников, живших на границе, опираться на свои наблюдения и даже собственное воображение. Все это довольно неожиданным образом привело к попыткам увидеть ситуацию глазами кочевников, и за свои ранние экскурсы в антропологию и симпатии к предполагаемым «варварам» великий историк заслужил немало похвал [3]
Посвященный сюнну раздел «Исторических записок» намного длиннее и содержательнее, чем раздел о Наньюэ. Очевидно, степная конфедерация представляла для ханьских государственных деятелей нечто большее, чем угроза династического и военного посрамления. Это противостояние спрогнозировало облик империи в будущем и определило ее природу. Со сверхъестественной проницательностью Сыма Цянь предсказал дальнейшее течение истории и сделал верные предположения о той роли, которую суждено было сыграть в ней приграничным народам — тибетцам, киданям, тюркам, монголам и маньчжурам (назовем лишь нескольких). Сопоставляя и сравнивая централизацию, стабильность и культурное превосходство Чжунго с «инаковостью» едва грамотных приграничных кочевых скотоводов, историк создал историографическую традицию, которая затем стала исторической реальностью. Противостояние Хань и сюнну оказалось в ней всего лишь первым раундом.
Подчеркивая эту мысль, Сыма Цянь рассматривает сюнну в одном ряду с «варварскими» коренными народами древности — жупами и ди, ассимилированными во времена Чжоу, и цитирует стереотипные представления своих современников. На китайском языке
1 В очень ограниченном наборе гуннских слов, сохраненных античными авторами (список почти полностью состоит из имен собственных), разные исследователи видят следы тюркских, монгольских, индоевропейских, тунгусских, уральских, енисейских влияний.
188
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
«сюнну» означает «свирепый раб», и их обычно сравнивали с волками и другими хищниками. Набег сюнну «подобен нападению стаи птиц на засеянное поле». Они налетают «как порыв ветра» и рассеиваются «как туман», причем делают все это «со скоростью молнии». Таким варварам от природы свойственны жестокость и жадность, без благотворного утонченного влияния цивилизации пороки почти неисправимые. Чтобы преодолеть их, Хань нужно проявить терпение и даже великодушие.
Оторвавшись на время от борьбы с непокорными царями (часть которых действительно бежала на север к сюнну), Гао-цзу лично возглавил поход против них зимой 200 г. до н. э. Это предприятие никак не помогло реабилитировать его военную репутацию и закончилось настоящей катастрофой. Измученные морозом, теснимые всадниками сюнну, войска Хань были окружены в Пинчэне — месте близ Датуна на границе Шаньси и Внутренней Монголии. Сам император попал бы в плен, если бы не вмешательство супруги шаньюя Маодуня, которая призвала помиловать его и начать переговоры. Гао-цзу и его войскам разрешили совершить позорное отступление, и после дальнейшего дезертирства и набегов в 198 г. до н. э. был подписан первый из серии договоров, которые затем продлевались в течение шестидесяти лет.
Условия этих договоров «мира через родство» (осэ-цинь) были довольно нелестными для Хань. За государством сюнну признавался равный или «братский» статус, а в обмен на прекращение набегов шаньюй получал невесту из императорского рода и ежегодные подарки в виде шелка, зерна и других продуктов питания. В сущности, это была дань. Вместе с тем подарки можно было рассматривать как взятку или даже как инвестиции с расчетом на то, что сюнну пристрастятся к китайским продуктам и будут зависеть от их экспорта. Относительно принцессы были некоторые сомнения, но их перевесила надежда на то, что она родит следующего шаньюя, который уже будет наполовину китайцем или хотя бы сможет благоприятно повлиять на политику сюнну. Словом, лицо всегда можно было сохранить, но факты говорили сами за себя. Оглядываясь назад, мы видим, что первое международное соглашение императорского Китая во II веке до н. э. имело сверхъестественное сходство с его последним соглашением в XIX веке: заключенные якобы между равными сторонами, оба договора были вопиюще неравноправными.
189
ГЛАВА 5
’ При каждом продлении договора размер ежегодной дани-взятки увеличивался. К изначальному списку добавили золото, изделия из железа и алкоголь; зерно и шелк поставляли в астрономических количествах. Но вторжения сюнну в действительности так и не прекратились: они стали менее масштабными, но не менее частыми. Обычно их совершали ханьские ренегаты или союзные кочевые племена, над которыми шаньюй почти не имел власти. Возмущение Хань закономерно росло и достигло пика в 192 г. до н. э., когда шаньюй Маодунь прислал вдовствующей императрице Люй письмо, в котором игриво предлагал ей, поскольку они оба вдовеют и достигли определенного возраста, найти утешение и удовольствие в обществе друг друга. Взбешенная вдовствующая императрица уже готова была отправить на север войска, однако советникам удалось охладить ее пыл. Действительно, ответное письмо известной своим самолюбивым и мстительным нравом императрицы позволяет измерить глубину ее унижения:
«Я стара летами, моя душа одряхлела, волосы и зубы выпали, походка утратила твердость. Вы, шаньюй, неверно слышали обо мне, вам не следует марать себя. Я, стоящая во главе бедной страны, не виновата и должна быть прощена за отказ»1 [4].
Впрочем, в другом прочтении высказанное в письме шаньюя желание «поменять то, что имею, на то, чего не имею»2 можно отнести не к любовным утехам, а к торговле [5]. Если так, то здесь на сцену выходит фактор, который вскоре занял центральное место в отношениях Хань и сюнну. Потому что политика Хань, рассчитанная на зависимость сюнну от китайской продукции, начала приносить свои плоды. В дальнейших переговорах сюнну часто требовали не только дани, но и доступа к возникшим на границе рынкам, и отказ мог быть крайне провокационным.
Несмотря на все недостатки, Вэнь-ди и Цзин-ди продолжали политику «мира через родство». Именно это дорогостоящее зати¬
1 Цит. по: Таскин В. С. Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Предисловие, перевод и комментарии В. С. Таскина. М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1968. С. 139.
2 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 8. С. 408, примеч. 8.
190
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
шье перед бурей во многом обусловило возникшую позднее ностальгию по золотому веку Хань первой половины II века до н. э. Между тем преемники шаньюя Маодуня значительно расширили империю сюнну, особенно на запад, где вытеснили народ юэчжи из коридора Ганьсу и Синьцзяна за Памир. Это подало Хань идею (ее приписывают подростку У-ди) отправить путешественника-ди- пломата, чтобы попытаться вступить в контакт с юэчжами и выяснить, что они думают о союзе против сюнну. Выполнить эту задачу вызвался придворный по имени Чжан Цянь, и около 138 г. до н. э. в сопровождении слуги, отличного стрелка и охотника, а также небольшого военного эскорта он ушел в пустынный закат. Однако довольно скоро он был перехвачен войсками шаньюя. Разве понравилось бы императору, спросил шаньюй, если бы сюнну тайно отправили эмиссаров через весь Китай, чтобы установить дипломатические отношения с Наньюэ? Миссия Чжан Цяня оскорбляла суверенитет сюнну, и путешественника следовало задержать на неопределенный срок.
Чжан Цяню удалось бежать, но только через десять лет. Возобновив свое путешествие, он во второй раз канул в неизвестность. И вероятно, о нем успели совершенно забыть к тому моменту, когда через тринадцать лет, в 126 г. до н. э., узнав об окружающем мире намного больше всех своих современников и умудрившись вторично сбежать из плена сюнну, он вместе с верным слугой-охотником вернулся в Чанъань. К тому времени отношения Хань и сюнну стали откровенно враждебными. Сведения об обстановке в Центральной Азии, принесенные бесстрашным путешественником, оказались как нельзя кстати. Заметим, что Чжан Цянь заслуживает уважения не только как первопроходец Великого шелкового пути, но и как первый участник «большой игры».
Однако уложить эти сведения в голове было довольно сложно — их эпатажный характер был сопоставим лишь с открытиями, ожидавшими Колумба. Ибо, по словам Чжан Цяня, ханьский Китай был не одинок в этом мире. Вдалеке существовали другие «великие государства», где люди тоже жили в городах и — необычайное откровение — тоже «делали записи». Они «устраивали свою жизнь почти так же, как китайцы», и самое главное, были совершенно не осведомлены о том, что где-то в центре мира располагается Чжунго — Поднебесная империя.
191
ГЛАВА 5
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЖАН ЦЯНЯ В ЗАПАДНЫЕ ЗЕМЛИ
Возмужав, У-ди в 135 г. до н. э. подписал еще один договор о «мире через родство» с тогдашним шаньюем. Этот вопрос давно вызывал жаркие споры в Чанъане, и его снова начали обсуждать в 134 г. до н. э. На тот момент подозрительность сюнну была усыплена очередной порцией щедрой дани, и перспективы для неожиданного (разумеется, вероломного) контрудара казались особенно благоприятными. На свет выплыли старые аргументы, снова зазвучали призывы отомстить за поражение Гао-цзу в Пинчэне, и на этот раз У-ди решил принять сторону сторонников войны. Одобренный им хитроумный план должен был заманить шаньюя в засаду в городе Маи (на севере Шаньси).
На этот раз дело кончилось не катастрофой, а только сокрушительным провалом. Сюнну разгадали хитрость, развернулись и исчезли в степях, расторгнув договор в одностороннем порядке. За этим последовало пять лет «странной войны»1. Набеги сюнну продолжались, но вместе с тем продолжалась и торговля на пограничных рынках, как никогда оживленная. Все это было частью плана. Осенью 129 г. до н. э., когда на рынках царило особенное оживление, армии Хань напали на четыре приграничные торговые области. Несмотря на элемент неожиданности, более или менее успешной оказалась только одна атака. Потери сюнну исчислялись сотнями, потери Хань тысячами. Пинчэн так и остался неотомщенным. Однако через два года Вэй Цин, брат любимой супруги императора и один из полудюжины возвысившихся в то время харизматичных военачальников, смог снова подчинить Ордос, вернув тем самым завоевания Первого императора Цинь. Это был «первый серьезный удар по сюнну со времен Маодуня» [6]. Укрепления циньской Великой стены были восстановлены, и по обе стороны от северного изгиба реки Хуанхэ снова возникли поселения.
В отместку сюнну атаковали новые приобретения Хань на востоке и западе. Хань ответила на это разрушительными контрударами. На протяжении 120-х гг. до н. э. не проходило и года без военных походов, которые становились все более масштабными и проникали все
1 Отсылка к «странной войне» в годы Второй мировой, когда при формальном объявлении войны между Великобританией и Францией, с одной стороны, и нацистской Германией — с другой, боевые действия не велись.
192
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
глубже на территорию сюнну. В 119 г. до н. э. ханьские войска прошли на север через пустыню Гоби во Внешнюю Монголию и на северо-запад через Ганьсу в Нинся. Теперь армии Хань не уступали сюнну в мобильности и могли по нескольку месяцев действовать в полевых условиях. Новые военные округа, переполненные трудовыми лагерями и солдатами-поселенцами, обеспечили безопасность границы вдоль Великой стены, в то время как потери сюнну, особенно утрата скота и пастбищ, вызвали ожесточенные распри внутри кочевой конфедерации. Возможно, военным, успехам Хань отчасти способствовало отступничество некоторых кочевых племен — перейдя на сторону Хань, они обратились против бывших товарищей.
Вполне ощутимый успех достался, однако, дорогой ценой. Следуя официальной практике, Сыма Цянь «подсчитывает очки» каждого сражения, словно баллы в карточной игре или экзаменационной работе. Из этих подсчетов становится ясно, что в военных действиях участвовали сотни тысяч солдат, десятки тысяч погибли, было захвачено множество военачальников и вождей, угнаны огромные стада крупного и мелкого скота, а также лошадей. Судя по всему, Хань считала приемлемыми потери, доходившие до 30%, иногда даже до 90 %. Хотя бы в этом отношении дела у сюнну шли лучше, но это объяснялось насущной необходимостью. Хань обладала практически неисчерпаемыми людскими и продовольственными ресурсами, доступ к которым ограничивался лишь сложностью их перемещения, в то время как численность кочевников была отнюдь не так велика, их основные средства существования (стада рогатого скота и лошадей) уязвимы, а их единственный актив составляла огромная территория.
Вернув себе северную границу и рассеяв врага, Хань могла бы после 119г. до н.э. свернуть военные действия. Однако она этого не сделала, и причину следует искать в тех сведениях, которые сообщил вернувшийся из своего путешествия Чжан Цянь. Точная хронология событий неясна, но вероятно, примерно в это время добытые им данные о положении дел в Средней Азии была заново изучены, его самого тщательно расспросили, и экспансионистский импульс Хань обрел новое направление. Вместо того чтобы продвигаться все дальше на север в неприветливые пустоши Монголии, войска Чанъаня повернули на запад и обратили свои взгляды на процветающие государства Средней Азии, о которых рассказал Чжан.
193
ГЛАВА 5
Поначалу открытия Чжан Цяня казались почти неправдоподобными. В ходе путешествия на запад он пересек пустыни Синьцзяна, преодолел суровый Памир и спустился к рекам Сырдарья (Яксарт) и Амударья (Оке). Вдоль первой из них располагалась страна, именуемая Даюань, иначе Фергана, ныне восточный Узбекистан, вдоль второй — Дася1, иначе Бактрия, или Северный Афганистан, юг Таджикистана и Узбекистана. Юэчжи, только что захватившие Бак- трию, без интереса отнеслись к предложению вернуться на восток и поддержать Чанъань в его вражде с сюнну. Их будущее лежало к югу от Гималаев, где им предстояло основать одну из величайших империй Северной Индии — Кушанское царство2, а в I веке н. э. нанести ответный визит вежливости, отправив в Китай первых буддийских миссионеров. Но в начале 120-х гг. до н. э. пока еще ничего не знавшие о Будде (Просветленном) юэчжи открыли Чжан Цяню глаза только на важность странного мира, в который он забрел.
Если бы Чжан Цяня не задержали на десять лет в государстве сюнну, то, попав в Бактрию, он мог бы застать на троне грекоязычных царей Эвкратида или Менандра3. Греко-бактрийская династия, возникшая после похода Александра Великого, была свергнута юэчжами около 130 г. до н. э. всего за несколько месяцев до прибытия Чжана4. Великолепные золотые и серебряные монеты с портретами последних царей еще не вышли из обращения и немало удивили Чжана. На каждой
1 То есть «Великое Ся». Так Чжан Цянь называл не столько Бактрию, сколько самих юэчжи — видимо, точно так же называлось государство последних во времена их господства в соседних с Китаем степях.
2 Кушанская империя на пике своего могущества включала в себя области Северного Индостана, при этом не меньшую роль играли подчиненные ку- шанами земли в районе нынешних Афганистана и Таджикистана, по которым проходил питавший кушанскую экономику Великий шелковый путь.
3 Менандр — один из индо-греческих царей, правивший к югу от Гйндукуша, то есть в областях к югу от собственно Бактрии. Менандр вошел в буддийскую литературу под именем Милинды. См.: Вопросы Милинды (Милиндапаньха) / Пер. А В. Парибка. М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1989. — Прим. ред.
4 Обычно считается, что Греко-Бактрия была завоевана юэчжами (тохарами) около 125-120 г. до н. а, то есть уже после отъезда Чжан Цяня. Во времена его пребывания в Бактрии северные области региона были уже заняты юэчжами, Греко-Бактрия сильно ослаблена их набегами, а также предшествовавшим приходу тохаров разорительным вторжением саков, но еще существовала и контролировала основные районы Бактрии.
194
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
монете, по его словам, «было изображено лицо царя [и], когда царь умирал, деньги немедленно меняли и выпускали новые с лицом преемника». В Китае такого обычая никогда не знали, и ему не суждено было возникнуть, поскольку китайской культуре уважение к торговле было несвойственно, и вряд ли кто-нибудь осмелился бы связать образ государя со столь низким занятием1.
К западу от Бактрии простиралось великое царство Аньси, иначе Парфия, или Персия (Иран), где Селевкиды, также наследники империи Александра, ранее были свергнуты парфянскими Аршаки- дами. Территория Аньси тянулась до места, которое Чжан называет «Западным морем», но, вероятно, это все же был Персидский залив, а не Средиземное море. Гораздо больший интерес представляло расположенное к востоку от Бактрии царство Шэньду. Осматривая бак- трийские базары, Чжан заметил «ткани из Шу [Сычуани] и бамбуковые трости из Цюна [также Сычуани]» — и то и другое, как говорили, привозили через Шэньду. Некоторые географические названия в записках Чжан Цяня трудно идентифицировать, но нет никаких сомнений, что Шэньду — это Индия: ее жители «отправлялись в битву на слонах», и даже римляне знали эту страну как Синду (по названию реки Синд, или Инд). По рассказам, эта страна лежала на несколько тысяч километров восточнее Бактрии, и Чжан рассудил, что она, вероятно, «не очень далеко от Шу». Следовательно, шелковые ткани и бамбуковые трости попадали в Индию прямо с крайнего юго-запада Китая.
Из всех открытий Чжан Цяня это поначалу вызвало в Чанъане самый большой интерес. Как показало десятилетнее заточение у сюнну, попасть из Китая в Центральную Азию было не так-то просто. Через пустыни Синьцзяна сюнну контролировали маршрут на севере
1 Позднее в Китае вполне принятой практикой стало нанесение на монету девиза правления императора. Другое дело, что чрезвычайная (по сравнению со странами Запада) многочисленность пользовавшихся монетами людей, а также отсутствие в Восточной Азии достаточного для насыщения монетного рынка количества золота и серебра привели к тому, что монеты в Китае традиционно отливались из меди или бронзы (реже железа), что заметно снижало их стоимость, а следовательно, и статус. Изображать профиль правителя на мелкой разменной монете и вправду было бы неуместно и слишком трудоемко. К тому же в Китае внешний облик правителей не считался важной частью их восприятия подданными и потому не тиражировался, в отличие, скажем, от греко-римской традиции.
195
ГЛАВА 5
от «Великого болота» (ныне соляная пустыня Лобнор1), а союзники сюнну, прототибетский народ цян, контролировали маршрут на юге2. Только дорога из Сычуани в Индию и Бактрию, по которой везли бамбуковые трости и шелка, похоже, давала способ обойти и тех и других. Когда Чжан Цянь предложил возглавить секретную экспедицию для изучения этого пути, «император пришел в восторг».
Вероятно, это произошло около 125 г. до н. э., через год после возвращения Чжана из западных стран, потому что уже в 123 г. до н. э. путешественник снова вернулся: юго-западный маршрут оказался тупиковым. Действительно, между Сычуанью и Индией происходила некоторая неофициальная торговля, и Чжан Цянь подчеркнул, что важную роль в ней играло промежуточное царство под названием Дяньюэ, жители которого тоже ездили на слонах (это была, вероятно, Бирма). Но жители юньнаньских холмов, расположенных между Сычуанью и Бирмой, с подозрением отнеслись к приветливому Чжан Цяню, запретили ему двигаться дальше и перебили его спутников. Дальнейшие усилия требовали военной поддержки, и дело было отложено на двенадцать лет, до тех пор, пока одновременно со штурмом Паньюя (Кантона) и подчинением Наньюэ войска Хань не пробились в Юньнань. Великий историк Сыма Цянь сопровождал их в этом походе, по крайней мере, до сегодняшней провинциальной столицы Куньмин. Но дальше к юго-западу их продвижение остановилось близ реки Ланьчан (Верхний Меконг). Недружелюбная гористая местность и в равной степени недружелюбное население охраняли тайну дороги шелка и бамбуковых тростей еще долгие века. Только после строительства Бирманской дороги в преддверии Второй мировой войны наконец появился надежный торговый путь, связавший Китай и Индию через дождливые переходы восточной оконечности Гималаев.
По словам Чжан Цяня, все царства дальнего запада высоко ценили продукцию и политическую благосклонность ханьского Китая, и их можно было убедить принять тот или иной вассальный статус. Воин¬
1 Еще несколько десятилетий назад Лобнор был не соляной пустыней, а «блуждающим озером» — кипящим жизнью болотным краем, который питала река Тарим.
2 Разделителем этих двух маршрутов была циклопическая пустыня, ныне именуемая Такла-Макан. Две трассы пути на запад шли соответственно через северные или южные оазисы, цепочкой окружавшие пустыню у подножия гор, скудно питавших оазисы талой водой.
196
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
ственные народы Ферганы и других северных государств могли стремиться к объединению с Хань против общего противника — сюнну, народы Бактрии, Парфии и Индии, больше заинтересованные в торговле, — согласиться платить дань, если гарантировать им доступ к китайским товарам. Таким образом, утверждал Чжан (или утверждал от его имени Сыма Цянь), всех их можно вписать в ханьскую схему мироустройства. Император будет вознагражден постоянным потоком экзотических товаров и послов, «земли [Хань] расширятся на десять тысяч ли. И попадая в [страны с] иными обычаями, очень важно использовать переводчиков [на их языки], чтобы [слава о] могуществе и добродетели [Хань] распространилась среди четырёх морей... Как только соединимся с усунями, то можно будет привлечь на свою сторону и находящихся на западе от них подданных Дася и сделать их внешними подданными»1 [7].
Но торговля и политический союз ни тогда, ни, возможно, вообще когда-либо за всю историю существования Китайской империи не рассматривались как самоцель. И то и другое воспринималось лишь как средство, побудительный мотив, который должен был помочь вписать открытые Чжан Цянем земли в привычную китаецентрич- ную модель мира. В этом смысле устройство Поднебесной напоминало модель Вселенной, представленной в виде концентрических колец: в центре находился государь (то есть император Хань), его власть распространялась от непосредственно управляемых военных округов империи к косвенно управляемым царствам, разнообразным государствам-сателлитам на границе и, наконец, вассальным и зависимым образованиям за пределами империи.
Около 119 г. до н. э. находчивый Чжан Цянь ответил на новый интерес императора еще одним масштабным планом. На этот раз Бак- трия играла в нем второстепенную роль. Важнее было обезопасить Синьцзян и проходившие через него транзитные маршруты. Лишенные китайского зерна и товаров, сюнну пополняли свои запасы из оазисов Синьцзяна. Оазисы, каждый из которых представлял собой маленький город-государство, превращали Синьцзян в «правую руку сюнну» (как это назвал Чжан Цянь). Эту руку следовало «отсечь», и он знал людей, которые могли бы это сделать. Речь шла об усунях, племени, которое отпало от сюнну и, подобно юэчжам, было вытес¬
1 Цит. по: Сыма Цянь. Исторические записки... Т. 9- С. 203-204.
197
ГЛАВА 5
нено ими. Теперь усуни закрепились где-то на севере Синьцзяна (возможно, в окрестностях современного Урумчи1); они будут польщены, если Хань предложит им дипломатические отношения, и их легко будет склонить к наступательному союзу «Император одобрил это предложение», — сообщает Сыма Цянь.
Вновь восстановленный в высокой должности в 115 г. до н. э. путешественник Чжан Цянь приготовился к последнему походу в страну обветренных красных щек и клочковатых бород, тучных овец и лохматых верблюдов с болтающимися горбами. Вероятно, для императора рассказы об этой земле звучали как выдумка — впрочем, обходившаяся довольно дорого. Чжан Цяню были вручены дары, в том числе «золото и шелк стоимостью сто миллиардов монет»2 и «десятки тысяч голов крупного и мелкого скота». Кроме того, его сопровождала свита из трехсот человек и достаточно прислуги, чтобы отправить послов во все дальние страны.
Рассматривая Внутреннюю Азию как арену имперской экспансии, некоторые ученые несколько неожиданно уподобляют ее Средиземному морю в греко-римской истории [8]. Сравнение пустыни с морем, а суровой засушливой местности с мягким климатом побережья на первый взгляд ставит в тупик Однако пески той земли, которую позднее назвали Туркестаном, тоже светились на закате, словно «винно-красное море», и там тоже произрастал виноград. Чжан Цянь ранее заметил, что виноград при ферментации превращается в прекрасный напиток, который только улучшается с возрастом, и виноградная лоза из Синьцзяна была без промедления перевезена в Китай. Более того, разбросанные по пустыне торговые оазисы во многом напоминали архипелаги островов. Неопытные путешественники могли безопасно перемещаться от одного оазиса к другому. Автономные, но уязвимые, они могли служить местом стоянки и пополнения запасов, а также опорным пунктом для размещения гарнизона и строительства укреплений. Ключ к огромному миру лежал в обеспечении безопасности «морских путей» Синьцзяна.
1 Чаще всего считается, что в это время усуни кочевали в долине Или, в Семиречье, то есть на северо-западе современного Синьцзяна и в восточном Казахстане.
2 Что, конечно, стоит понимать не как буквальную оценку, а просто как указание на крайнюю ценность этих даров.
198
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
Чжан Цянь вел людей с уверенностью, рожденной долгими годами трудных путешествий. Усуни были найдены, их силы взвешены, его дары хорошо приняты. Послам, отправленным Чжаном в Бактрию, Индию, Парфию, Фергану и Согдиану (позднее Самарканд), дали проводников-переводчиков. Но усуни переживали кризис управления и плохо представляли себе истинное могущество ханьского Китая. Прежде чем заключить союз, они желали отправить собственных посланников ко двору императора. Чжан сопроводил этих послов обратно в Чанъань и с удовлетворением убедился, что их «почтение к Хань значительно усилилось». Кроме того, он успел увидеть, как в Чанъань прибывают делегации из других среднеазиатских государств в сопровождении отправленных им посланников [9]. Когда Чжан Цянь умер (вероятно, в 113 г. до н. э.), его славили как первопроходца, открывшего дорогу в Западные земли. «Все послы, позднее прибывавшие в эти страны, ссылались на него, если хотели, чтобы их выслушали. Благодаря его трудам иностранные государства благосклонно относились к ханьским посланникам» [10].
Однако совсем не благосклонно к ханьским хождениям туда и обратно через Синьцзян относились сюнну: в последнее десятилетие века они не раз совершали крупные нападения в коридоре Ганьсу и на северной границе. Это окончательно убедило усуней. Оттесненные сюнну, они вскоре заключили с Хань союз, условия которого подготовил Чжан Цянь. В 103 г. до н. э. был подписан договор, суть которого составлял не столько «мир через родство», сколько «война через родство». У-ди получил тысячу лошадей, нового верного вассала и защитника интересов Хань в Синьцзяне и за его пределами, а усуни — щедрые подарки, могущественного покровителя и заплаканную принцессу-невесту.
Принцесса Сицзюнь1 и ее многочисленная свита оказались наиболее влиятельным элементом заключенного договора. Став женой седобородого вождя усуней, а затем его внука, ни с одним из которых она не могла объясниться, принцесса все же пользовалась значительным влиянием среди своих новых родственников и иногда выступала представительницей ханьского императора. Но она так и не смири¬
1 Принцесса Сицзюнь скончалась вскоре после свадьбы с усуньским владыкой. К усуням взамен нее около 101 г. до н. э. отправили принцессу Цзею. Песня же действительно повествует о Сицзюнь.
199
ГЛАВА 5
лась со своей судьбой и написала песню, которую помнили еще много сотен лет после того, как сами усуни были забыты. Песня рассказывает о ссылке принцессы Сицзюнь в «чужой земле по ту сторону неба», где домом ей служил войлочный шатер, а едой — простое «мясо с соусом из кислого молока». «Я живу с постоянными мыслями о доме, — пела принцесса, — мое сердце полно горя. Я хотела бы обернуться желтым лебедем и вернуться на родину» [11]. Песня вошла в «Хань шу», вторую из официальных историй, продолжавшую «Исторические записки» Сыма Цяня и составленную семьей Бань. Среди составителей была Бань Чжао, сестра главного автора, и, конечно, именно она, известная писательница и ученый, и в этом случае особенно сочувствующее лицо, позаботилась о том, чтобы в сборник попало горькое отражение тоски китайской невесты по дому.
Пока принцесса привыкала к жизни в юрте, попытки обезопасить проход через Синьцзян продолжались. Хотя их вряд ли можно назвать безоговорочно успешными, в 104 г. до н. э. они позволили отправить военную экспедицию в столицу Ферганы (Даюань), лежавшую между Ходжентом и Самаркандом. Это был самый масштабный и амбициозный поход Хань в Центральной Азии — войско, состоявшее из 6000 всадников и более 100 тысяч пехотинцев, отошло от Чанъаня на расстояние около 4000 километров. Поход имел двойную цель: наказать Фергану1 за нежелание вступать в подчиненные отношения с Чанъанем и заполучить знаменитых «небесных лошадей». Чистокровные лошади, всегда занимавшие важное место в торговле между кочевниками и Хань, были и долгое время оставались особой гордостью этих земель. В этом смысле командовавший походом военачальник Ли гуанли был далеким предшественником Уильяма Муркрофта, управляющего конным заводом Английской Ост- Индской компании, который в 1820-е гг. провел шесть лет в поисках лучших жеребцов в тех же самых местах, способствовав началу европейского исследования Центральной Азии и вступлению Европы в «большую игру».
Муркрофт погиб в своем походе; у Ли гуанли поначалу дела шли лишь немногим лучше — противник и местность оказывали одинаково упорное сопротивление. Он с позором вернулся в Дуньхуан, но ему было запрещено возвращаться на территорию Хань, и он, со¬
1 Топоним Фергана относится к гораздо более поздним временам.
200
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
брав подкрепление, снова отправился в Фергану в 102 г. до н. э., чтобы сделать новую попытку. На этот раз его ждал успех. Он одержал несколько побед, добыл голову царя Ферганы (которого обезглавили собственные подданные), захватил три тысячи отборных лошадей и однозначно дал понять соседним государствам, что Хань настроена серьезно. После такой демонстрации «все государства Западных земель пришли в трепет», — говорит «Хань шу» [12]. Большинство оазисов Синьцзяна отправили послов в Чанъань, Бактрия и Парфия последовали их примеру.
Но цена этих побед была несоизмерима с полученными выгодами. Из сотни с лишним тысяч солдат, выступивших под началом Ли Гуанли из Дуньхуана, назад приковыляли лишь десять тысяч. Даже ханьский Китай не мог позволить себе снова и снова нести такие огромные человеческие потери и расходовать столько средств, сколько требовала верность усуней и других союзников. Новая государственная монополия на производство алкоголя приносила доход, но вызывала немало возмущения, а протесты против экспансионистской политики, которая разоряла империю, удовлетворяя при этом только императорский двор, раздавались все чаще.
Среди этих голосов прозвучал, хотя и несколько неуверенно, голос Сыма Цяня. В 99 г. до н. э., когда великий историк уже около семи лет работал над «Историческими записками», военачальник по имени Ли Лин, служивший под командованием Ли Гуанли в экспедиции против сюнну, потерпел поражение и был вынужден сдаться. Мужество Ли Лина не вызывало сомнений: при огромном численном перевесе противника, имея в распоряжении лишь пять тысяч пеших солдат, он сражался несколько недель, пока у его людей не закончились стрелы. Сыма Цянь знал Ли Лина и уважал его, хотя, по его словам, они не были близкими друзьями. Вступившись за него перед императором, историк намеревался лишь «расширить взгляды его величества» и опровергнуть клевету других придворных. Но каким-то образом «наш просветленный правитель не в полной мере понял смысл моих слов». Сыма Цяня обвинили в попытке выгородить Ли Лина и унизить великого Ли Гуанли. А это, в свою очередь, было истолковано как попытка обмануть императора, то есть уголовное преступление [13].
Чиновнику, столкнувшемуся с таким обвинением, следовало совершить самоубийство. Таким образом, его честь могла быть частично восстановлена, его позор не омрачал величия императора, и утопиче¬
201
ГЛАВА 5
ская система, не требовавшая законов и наказаний, оставалась непоколебимой. Согласно конфуцианскому идеалу, чиновники, привлеченные магнетическим нравственным примером императора, должны быть достаточно возвышенными и благородными, чтобы признать свою вину и самостоятельно наказать себя. Не сделать этого означало бы в первую очередь признать свою негодность для государственной службы, а значит, бросить тень на суждения и безупречное величие императора, а это верный путь к еще более мучительной смерти.
Заявлять о своей невиновности было бессмысленно, если только обвиняемый не хотел потянуть время. Тюремное заключение в ожидании суда на самом деле означало пытки с целью выбить признание, а сам судебный процесс предназначался только для того, чтобы выслушать признание и назначить наказание; оправдание обвиняемого было делом почти неслыханным. Но в последнее время возник новый обычай: обвиняемый мог откупиться огромной суммой от смертного приговора, который в таком случае заменяли менее жестоким наказанием — понижением в должности или ссылкой. Так поступил путешественник Чжан Цянь, когда опозорился в битве с сюнну. У-ди особенно благосклонно относился к этой практике: она позволяла пополнить казну, и поэтому ею нередко злоупотребляли.
Великий историк Сыма Цянь отклонил оба варианта. Он не мог ни собрать необходимые средства для смягчения наказания, ни пойти на самоубийство: это означало бы, что он не закончит свой великий труд. Составлять «Исторические записки» начал его отец, и он поручил Сыма Цяню закончить дело. «Как могу я, его сын, посметь пренебречь его волей?» — спрашивал он. Сыновняя почтительность, а также личная заинтересованность побуждали его упорно держаться за жизнь. И он выбрал третий вариант, хотя одна только мысль о нем вызывала ужас. Хуже, чем самоубийство, позорнее, чем казнь, слишком унизительный, чтобы прямо назвать его в длинном письме, которое он написал, объясняя свое решение, — этот вариант, по крайней мере, позволил бы ему закончить дело своей жизни.
Это крайнее наказание — «тепличная казнь» — подразумевало короткое заключение в «покоях шелкопряда»1, помещении, предна-
1 У В. М. Алексеева — «камера тута». См.: Алексеев В. М. Китайская классическая проза. 2-е изд. М.: АН СССР, 1959- С. 89. Описание судьбы Сыма Цяня встречается в его письме Жэнь Шао-цину. — Прим. ред.
202
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
знаменном для проведения судебных кастраций. Принужденный побоями к неизбежному признанию, Сыма Цянь видел в своем оскоплении жалкую капитуляцию, сродни капитуляции Ли Лина. «Тяжелым посмешищем я стал для мира всего! О горе! О горе! Об этом не так ведь легко одно за другим говорить человеку толпы»1. Физический позор, бесчестье, которое он навлек на своих предков и семью, презрение, с которым к нему относились всю оставшуюся жизнь, вырвали у великого историка эти горькие слова. Такова была цена образованности, такова была жертва, благодаря которой потомки получили первую и лучшую из официальных историй Китая.
«И я действительно закончил эту книгу, и сохранил ее в горе известной нашей. Ее читал я настоящим людям, но и распространял среди городских, столичных. И если так, то, значит, я плачу свой долг за прежний срам, и если бы даже я десятки тысяч раз бывал казнен, я разве стал бы каяться, жалеть?»2 [14]
Перед смертью Сыма Цянь успел довести свой великий труд до царствования У-ди. Он неоднократно намекает потомкам о недостатках императора, а также о собственной вероятной предвзятости. Пережил ли он своего мучителя, неясно.
УПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРИЕЙ
Империя Хань достигла своего максимального размера около 90 г. до н. э. Наньюэ (включая весь Северный Вьетнам), остров Хайнань (хотя его оставили в 46 г. до н. э.), некоторые части Юньнани, вся Ганьсу, «морские пути» через Синьцзян и многие города-оазисы этой провинции теперь считались территорией Хань. Кроме того, на крайнем северо-востоке были основаны новые военные округа, включавшие в себя большую часть Маньчжурии и Северной Кореи. Феодальные или даннические отношения были установлены с усунями и многими государствами Центральной Азии. После смерти У-ди в 87 г. до н. э. ни империей Хань, ни другими китайскими империями в течение следу¬
1 Цит. по*. Алексеев В. М. Китайская классическая проза... С. 89.
2 Там же. С. 96.
203
ГЛАВА 5
ющих восьмисот лет не было сделано никаких существенных новых приобретений.
Сюнну превратились из угрозы в досадную прмеху. Союз степных народов распался, с частью отколовшихся племен в 51 г. до н. э. подписали новый договор, и множество подчиненных сюнну осело на приграничных землях внутри империи. Границы продолжали тревожить цяны с Тибетского плато и ухуани из лесостепей Маньчжурии. Свернув политику экспансии, Чанъань обратился к консолидации через колонизацию. Преемники У-ди постепенно отказывались от того, что не могли удержать, интриги раздирали империю изнутри, династический цикл достиг своего зенита.
В других странах — Персии, Греции, Индии и Риме — империи возвышались и приходили в упадок. В Китае возвышались и приходили в упадок династии, но империя всегда оставалась незыблемой константой1. Небесный мандат мог переходить из рук в руки, однако его условия оставались неизменными. Во главе государства мог стоять только один законный император, один Сын Неба2. Власть императора, даже если ее иногда существенно ограничивали политические реалии, постепенно становилась неотделимой от китайского самосознания, также как подчеркнутое уважение к образованию и культуре. Благодаря централизующим усилиям и долговечности империи Хань, а также ее чиновникам, генералам и ученым, Чжунго преобразилось и в физическом, и в интеллектуальном смысле в безоговорочно цельное «Срединное царство» или «Центральное государство».
Существовавшая примерно в то же время и сопоставимая по размерам Римская империя продержалась несколько столетий. Китайская империя существовала несколько тысячелетий3. Множество догадок — географического, психологического и даже генетического характера — высказывалось о причинах столь непохожих судеб двух империй и порожденных ими политических строев: разобщенных,
1 Это во многом миф, созданный китайскими летописцами, которые изображали историю Китая как смену династий на одном вечном и незыблемом троне Сына Неба. На деле исторический процесс в Восточной Азии нужно описывать как череду сменяющих друг друга государств и империй.
2 Известно немало периодов, когда одновременно существовало множество претендентов на этот титул, и выбор, сделанный много позже летописцами, нередко мог бы удивить людей, живших во времена противоборства.
3 На смену политическому единству Восточной Азии всегда приходила раздробленность, иногда длившаяся веками.
204
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
но постепенно приходящих к скоординированному сосуществованию национальных государств Европы и единой империи Китая с однозначно авторитарной властью. Убедительнее всего звучат объяснения, указывающие на эффективную административную структуру и идеологическую гибкость Китая, хотя их, безусловно, нельзя назвать самыми захватывающими. К этому следует добавить, что и сам административный механизм, и его идеологическая смазка были усовершенствованы именно в эпоху Хань.
Один из современных аналитиков назвал ханьскую бюрократию «самой впечатляющей формой правления, созданной в мире» [15]. Бюрократия была повсеместной и навязчивой1, она настойчиво вмешивалась в жизнь подданных империи и была не то чтобы совсем равнодушной, но не слишком восприимчивой к протестам. Все население страны — 57,6 миллиона человек, согласно данным первой сохранившейся переписи 1-2 гг. н. э. — было поделено на двенадцать миллионов семейных подворий. Они были сгруппированы в связанные взаимной ответственностью соседские общины по пять-десять дворов, как во времена Цинь. Соседские общины объединялись в поселения, во главе которых стояли старосты, поселения — в сельские волости во главе с начальниками. Соседние волости составляли округ или уезд, соседние уезды — префектуру, а соседние префектуры — военный округ (или один из немногочисленных ослабленных подчиненных уделов).
1 Ханьская бюрократия во многом отличалась от циньской. Чиновники получали жалованье (в отличие от циньских, которые были мобилизованы на службу), а главное — не были обязаны столь же скрупулезно оценивать состояние хозяйств своих подопечных крестьян. Дело в том, что ханьские налоги были многократно ниже циньских (они составляли примерно 3 % от среднестатистического урожая, не меняясь из года в год). Даже при плохом урожае такой налог можно было заплатить без особого труда; в случае же засух и прочих катаклизмов область могли, как и прежде, вовсе освободить от уплаты налогов. Низкий налог благодаря многочисленности населения с лихвой покрывал нужды империи, при этом создавая почву для заметной экономии на бюрократическом аппарате: такой налог собирать гораздо легче, чем высокий. Многое было отдано на откуп местным старейшинам и землевладельцам, которые собирали налог для империи совершенно бесплатно. Кое-что оседало в их карманах, но общая необременительность налогового гнета позволяла закрыть на это глаза. Ко всему прочему низкие налоги оставляли возможность введения чрезвычайных сборов (что широко использовалось во времена войн У-ди), а у циньских чиновников, отбиравших у крестьян все, что можно отобрать, такого ресурса не было.
205
ГЛАВА 5
В последних трех административных подразделениях управление осуществляли наемные чиновники, назначенные сообразно их заслугам и прибывшие издалека, чтобы избежать конфликта интересов среди местных жителей. Их функции заключались не просто в сборе налогов. Они отвечали за учет населения, исполняли судебные обязанности, организовывали общественные работы (строительство дорог, мостов, плотин, зернохранилищ), регулировали местную торговлю и производство, а также контролировали общественный порядок и безопасность. Из собранных в денежном или в натуральном виде налогов ежегодно отправляли в центр лишь часть, остальное оставляли для обеспечения местных нужд. То же касалось трудовых повинностей, гражданской и военной службы. Воинская повинность (обычно два года для каждого взрослого мужчины) и трудовая повинность (один месяц в году), как правило, не подразумевала отправку на северную границу или на строительство одного из грандиозных императорских сооружений: ее отрабатывали в своем районе или префектуре с какой-либо взаимовыгодной целью, например для борьбы с разбоем или улучшения ирригации.
В 5 г. до н. э. общее число бюрократов в центральных и местных органах управления составляло более 130 тысяч человек. Государственная служба была открыта для людей, имевших необходимое образование и способности, и здесь, так же как в гражданской службе, должности были организованы в иерархическую «очередность клева», которая охватывала все ведомственные подразделения. Размер жалованья, которое получал чиновник, напрямую зависел от его места в этой классификации, хотя приписанное каждому рангу количество «четвериков зерна» (ьии)\ сохранившееся с далекого безмо- нетного прошлого, имело мало общего с действительностью.
Даже многотысячный гарем императора подчинялся строгой системе. К началу I века н. э. наложниц и прислужниц тоже распределили по рангам, эквивалентным рангам правительственных чиновников. «Блистательная спутница» занимала такое же по значимости положение, как канцлер, один из самых высокопоставленных чиновников в стране, и имела доход десять тысяч ши, «прекрасная госпожа»
1 Имеется в виду дань (ши) — китайская мера объема, при Хань равная примерно 20 литрам. Впрочем, ши, в которых исчислялось жалованье чиновника, был единицей довольно условной и мог сильно отличаться от настоящей меры, тем более что часть жалованья выплачивалась деньгами.
206
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
получала две тысячи ши, «благосклонным подругам» было назначено по тысяче ши, а «девушкам для разных надобностей» — триста ши. Младшие фрейлины, получавшие сто ши, имели примерно такой же низкий ранг, как канцелярские клерки1.
Точно так же обстояло дело с домашней прислугой самого императора, а также императрицы и вероятного наследника. «Старший главный мясник», его помощники и ученики, общим числом сорок два, также имели свою систему рангов, хотя их забрызганные кровью подчиненные, которые на самом деле занимались разделкой туш, никаких рангов не имели; в 70 г. до н. э. из соображений экономии число последних сократилось до 272 [16].
Мясники и поставщики прочих продуктов, как и женщины для опочивальни, нужны были не только ради удовлетворения гигантских аппетитов императора. И те и другие исполняли важные для династии функции. Дамы несли ответственность за продолжение и будущее императорского рода, поставщики продуктов обеспечивали потребности его прошлого: отборное мясо и первые плоды урожая предназначались в жертву предкам. Безудержная роскошь служила привычной мерой величия живых и мертвых. В святилищах предков имелся собственный штат прислуги, которая заботилась о нуждах умершего и поддерживала порядок в его гробнице и окрестностях. Близ гробниц возникали целые могильные города, заселенные и получавшие особое финансирование именно с этой целью. По данным «Хань шу», в правление Юань-ди (49-33 гг. до н. э.) насчитывалось более двухсот святилищ предков; за ними ухаживали примерно 57 тысяч чиновников2, и в течение года в них устраивали 24455 ритуальных трапез [17].
1 Не исключено, что эта система выглядела так в основном в описании конфуцианских летописцев, испытывавших явную страсть к систематизации, а также довольно ханжески очищавших описание придворной жизни от всего связанного с плотскими контактами. При таком подходе даже гарем казалось более верным описывать как министерство.
2 Автор включил в число чиновников жителей городов-мавзолеев, которые вплоть до правления Юань-ди основывались при императорских мавзолеях — формально для охраны и участия в приличествующих ритуалах. В такие города переселяли тысячи семей — прежде всего богатых купцов и ремесленников; чаще всего поселения сразу получали статус уездных центров. Благодаря полученным льготам такие города очень быстро росли (в крупнейшем из городов- мавзолеев, Маолине, к концу Западной Хань население почти сравнялось со
207
ГЛАВА 5
Верная служба или милость императора могли повысить в ранге, но система рангов ничего не говорила о профессиональной компетентности или влиятельности человека — только о его социальном статусе. Способным, честолюбивым или состоятельным людям система обеспечивала шанс на признание. Протекция и кумовство были довольно распространены, но почти никогда не приводили к передаче должности по наследству. Хотя Сыма Цянь, например, сменил своего отца на должности верховного астролога (ханьский эквивалент верховного предсказателя), это произошло не в силу преемственности, а благодаря тому, что отец лично подготовил его к исполнению связанных с этой должностью сложных обязанностей [18]. В то время должности великого историографа еще не существовало1; хотя сам автор «Исторических записок» называет себя именно так, официально этот термин возник только после того, как Бань iy получил высочайшее повеление написать историю империи Хань («Хань шу») в конце I века н. э.
Ранговая иерархия поддерживала бюрократическую структуру, но индивидуальные звания, должности и обязанности как центральной, так и местных властей менялись с изумительной частотой. Аккуратная схема, в которой три превосходительства (канцлер, главнокомандующий и верховный распорядитель общественных работ) стоят над девятью министрами (мастер церемоний, управляющий дворцовым хозяйством, главный судья, главы различных казначейств и т. д.) и министерствами, поделенными на различные подчиненные ведомства, не вполне соответствует действительности. Система была далеко не статичной. И ответственность нередко делили или делегировали, поскольку все должностные лица подвергались бдительной проверке
столичным и достигло почти трехсот тысяч человек) и превращались в города-спутники западноханьской столицы Чанъань. Так не слишком удачно спланированная столица, четыре пятых площади которой приходилось на дворцы, обзавелась удобными соседями, куда можно было переместить часть многолюдных рынков, шумных мастерских и быстрорастущее население. Благодаря городам-мавзолеям столичная область превратилась в огромный мегаполис, уникальный для Древнего мира, где столица была лишь одним из компонентов.
1 Чиновники гии (историографы) отмечены в источниках еще западно- чжоуского времени. Они занимались не фиксацией происходящего, а астрологическими прогнозами, расчетом календаря и прочее. Сыма Цянь гораздо больше времени занимался именно этим, а не созданием своей летописи, хотя сам явно считал более важным именно свой труд историка.
208
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
отдельного цензурного управления1, канцелярии, ревизора или инспектора. Указания могли исходить сверху, но поправки вносились со стороны или даже снизу. Параллельное администрирование было широко распространено в правительстве задолго до его переосмысления Коммунистической партией Китая.
Иногда должность делили между собой два чиновника, иногда должности были парными — «левому» чиновнику соответствовал одноименный «правый». Нередко дублировались целые иерархии. За главнейшим верховным врачевателем и его свитой помощников и аптекарей надзирал инспектор верховного врачевателя, имевший собственный штат помощников, лекарей и учеников лекарей. В военных округах и подчиненных царствах команды инспекторов, которых иногда называли «пастухами», погоняли своих подопечных кистью для письма и пристально следили за местными властями в поисках неблаговидных действий. Впрочем, они должны были сообщать не только о проступках, но и о заслугах: цензор, пренебрегавший этой обязанностью, мог сам подвергнуться цензуре. Это была система сдержек и противовесов, вполне достойная цивилизации, которая изобрела первые в мире механические часы2.
Даже император не был избавлен от всепроникающей цензуры. Конфуций твердо стоял на том, что высокопоставленные чиновники, по определению обладающие высочайшими нравственными качествами, обязаны наставлять и журить императора, а также давать ему советы. Они делали это неявным образом, часто проявляя известное бесстрашие, и иногда действительно небезрезультатно. Например, если Небеса делали зловещее предупреждение в виде потопа и голода, местные чиновники должны были сообщить об этом, министерства должны были устранить последствия, астрологи и прочие — истолковать происшествие, а старшие советники — довести его (или не доводить) до сведения императора и побудить его задуматься о своем
1 Цензорат в Китае традиционно обладал большой степенью независимости. Его сотрудники, представлявшие отдельную, контрольную ветвь власти, были подотчетны только самому императору (по крайней мере, в теории).
2 Имеются в виду астрономические часы, призванные моделировать движение небесных тел по небосводу. Первые такие часы, использовавшие не только возможности водяных часов, но и некоторые механические приспособления, впоследствии легшие в основу работы собственно часового механизма, были созданы в Китае в начале VIII века н. э.
209
ГЛАВА 5
поведении. Самодержавие, таким образом, сдерживалось бюрократией. В идеале одно должно было уравновешивать другое, но порой бюрократия перевешивала.
Многое зависело от личных качеств императора. В рамках этой системы хорошо проявляли себя правители, следовавшие философии недеяния у-вэй — У-ди и его миролюбивые преемники Чжао-ди (пр. 87-74гг. до н.э.), Сюань-ди (пр. 74-49гг. до н.э.) и Юань-ди (пр. 49-33 гг. до н. э.). Все они удостоились горячих похвал на страницах «Хань шу». Сюань-ди олицетворял собой идеал отзывчивого правителя, и его царствование смело «можно было назвать возрождением [династии]», а Юань-ди отличался «широтой взглядов, и подчиненные могли свободно высказывать при нем свои мнения» [19]. Правление преемников У-ди в середине I века н. э. было отмечено сокращением чрезмерных расходов, которыми запомнилось долгое царствование их предшественника. «Все земли в пределах четырех морей были истощены», — сообщает «Хань шу»; население сократилось1. Но благодаря освобождению от повинностей, снижению налогов и различным послаблениям и мерам экономии люди снова открывали для себя «отдых и покой» и «стали богатеть». Урожаи были хорошими; Небеса опустили свою тяжелую руку и улыбнулись земле, простиравшейся под ними.
Но диктаторы, такие как Первый император Цинь (владыка терракотовой армии и манящей гробницы), вряд ли особенно поощряли чиновников, которые «свободно высказывали свои мнения». Прославившийся сожжением книг министр Ли Сы предлагал императору совет, только убедившись, что его слова будут приняты благосклонно, или старался сделать так, чтобы сначала совет подал кто-то другой. Немало хлопот доставляли императоры с независимым характером. Бюрократам и дворцовым чиновникам приходилось либо вступать в сговор, чтобы переключить их внимание на разврат и удовольствия, либо стараться отнимать у них как можно больше времени церемониями и канцелярскими вопросами. Еще хуже была ситуация, когда императора, по сути, не было, то есть он был слишком юн или неопытен, чтобы должным образом играть свою роль. Вакуум заполняли
1 Сокращение налогоплательщиков произошло из-за того, что увеличившиеся налоги заставили часть крестьян пуститься в бега и всеми силами избегать включения в податные списки.
210
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
регенты и императрицы, враждовавшие между собой и создававшие огромную нагрузку на бюрократический аппарат в стремлении поставить его себе на службу или помешать его работе.
Именно такая ситуация сложилась, когда подходил к концу I век до н. э. Вряд ли это стало для кого-то сюрпризом. Кризис преемственности преследовал Хань с момента смерти великого прародителя династии Гао-цзу. Вздорная вдовствующая императрица Люй первой попыталась изменить порядок престолонаследия, чтобы вместо Хань привести к власти собственный клан Люй, и после этого с нее брала пример практически каждая следующая императрица и ее сторонники1.
На первый взгляд, поскольку императрица по определению была матерью наследника, будущей либо уже состоявшейся, такие маневры не должны были угрожать правопреемству. Но дело усложнялось тем, что во дворце, как и в бюрократическом аппарате, существовал обычай удваивать должности. Императрицы крайне редко сохраняли за собой титул всю жизнь — они приходили и уходили с удручающей частотой. Причин было множество: императрице не удавалось родить наследника, ее могла уничтожить соперница, она была замешана в заговоре, ее сыну предпочли сына от другой женщины, наконец, она просто перестала интересовать императора. Новые фаворитки из числа «блистательных спутниц» и «благосклонных подруг» проявляли настойчивость, и императору трудно было сопротивляться, особенно если от этой женщины у него уже имелся многообещающий наследник Еще больше усложняли дело вдовствующие императрицы. Искушенные в дворцовых интригах и меньше зависевшие от личной милости правителя, они сохраняли немалое влияние как наследницы небесной власти своих мужей, а также как матери или бабки правящих императоров (в этом случае они носили титул великой вдовствующей императрицы).
1 Планы Люй-хоу по смене династии однозначно придуманы заговорщиками, готовившими свержение всесильных Люй после ее смерти. Точно так же во всех случаях усиления регентш-императриц речь шла лишь о захвате ключевых постов их родней (сами императрицы довольно редко интересовались политикой и выступали только как обоснование права их рода на участие во власти) и более-менее бессовестном обогащении временщиков, отлично понимавших непрочность своего положения. Обвинения в планах узурпации трона обычно писали на своих знаменах их противники из числа желавших занять их места, прикрываясь идеей защиты законного императора.
211
ГЛАВА 5
Последние дни долгого правления У-ди омрачил очередной кризис престолонаследия. В 91 г. до н.э. его супругу, урожденную Вэй, обвинили в колдовстве. Истоки этого дела малопонятны, но его последствия были ужасающими. Ее сын, наследник, поднял оружие против отца, стареющего У-ди. В Чанъане вспыхнула гражданская война, и почти весь клан Вэй был уничтожен, включая канцлера, огромное количество военачальников, самого наследника и императрицу Вэй. Но предложение взять на ее место другую фаворитку, тоже родившую от императора сына, принесло точно такой же результат. Был свергнут еще один канцлер, в опалу попали еще несколько военачальников, среди которых был и Ли гуанли, завоеватель Ферганы. Затем уничтожение рода Вэй сочли ошибкой, и его немногочисленных оставшихся в живых представителей восстановили в должностях. Среди них был малолетний внук непокорного наследника, который позднее взошел на трон как Сюань-ди1, а также суровая и довольно зловещая фигура — племянник покойной императрицы Вэй по имени Хо 1уан.
Здоровье У-ди слабело, а Хо 1уан проявил себя способным министром, умевшим стабилизировать ситуацию. Когда император умер в 87 г. до н. э., трон занял Чжао-ди, сын У-ди еще от одной супруги, хотя на тот момент ему было всего семь лет. К счастью, У-ди перед смертью ясно выразил свою волю. В обход трех превосходительств (канцлера, главнокомандующего и верховного распорядителя общественных работ) он назначил, по сути, регентский триумвират, во главе которого стоял Хо гуан. На случай, если его волеизъявление покажется неясным, он подарил Хо гуану специально заказанную для этого случая картину, на которой был изображен герой всех конфуцианцев великий Чжоу-гун, заботливо наставлявший молодого Чэн- вана во времена Западного (или Раннего) Чжоу около 1043 г. до н. э.
К своей задаче — подражать окруженной благоговением личности, жившей почти тысячу лет назад, — Хо гуан приступил с почти неприличной уверенностью. Он полностью сосредоточил власть в своих руках, закрепив ее женитьбой молодого Чжао-ди на одной из своих внучек. Затем, когда Чжао-ди, так и не зачавший наследника, таинственно умер, не дожив до двадцати лет, Хо гуан отмахнулся от
1 Лю Бинъи (Сюань-ди) был прощен и вышел из темницы уже после смерти прадеда.
212
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
закономерных подозрений и приступил к поискам другого подходящего императора. В этом непростом деле ему помогала власть, которой обладала нынешняя вдовствующая императрица — его пятнадцатилетняя внучка.
На единственного оставшегося сына У-ди подчеркнуто не обратили внимания — вероятно, потому, что он был в два с лишним раза старше Чжао-ди и вовсе не нуждался в регенте. Вместо этого в Чанъ- ань вызвали одного из внуков У-ди. Как сообщает «Хань шу», этот молодой человек откликнулся на приглашение излишне быстро, а затем с излишней готовностью принялся пользоваться всеми преимуществами своего небесного положения. Во дворце, где должен был царить траур, раздавались песни и сквернословия. Женщины Чжао-ди были щедро одарены вниманием нового государя, хотя тело их бывшего повелителя еще лежало в прощальных покоях. Наконец, что представляется более достоверным, новый император сразу начал мстить тем, кто критиковал его поведение. Почувствовав надвигающуюся опасность и не собираясь мириться с явным неуважением, Хо Гуан действовал быстро. Через месяц юноша был низложен указом маленькой вдовствующей императрицы. Еще одним указом в столицу вызвали Лю Бинъи, правнука У-ди и императрицы Вэй, того самого, который семнадцать лет назад младенцем избежал «охоты на ведьм» и теперь (в 74 г. до н. э.) занял трон как Сюань-ди.
Теперь Хо гуан мог с полным основанием сказать, что с третьим императором ему повезло. Благодарный Сюань-ди оказался образцовым правителем и осыпал его драгоценными подарками, в числе прочего отдав ему право на доходы и повинности от беспрецедентного количества — семнадцати тысяч — крестьянских хозяйств. Он заботился о том, чтобы Хо Гуан сохранял за собой непререкаемую власть до тех пор, пока после короткой болезни в 68 г. до н. э. великий интриган, наконец, не скончался от естественных причин, что само по себе было привилегией, редко выпадавшей на долю высокопоставленных чиновников, особенно тех, кто так или иначе вмешивался в вопросы престолонаследия. Хо Гуана похоронили со всей пышностью, на которую мог рассчитывать человек ниже императорского звания. Сам Сюань-ди присутствовал на похоронах и, как рассказывает «Хань шу», среди других прощальных даров преподнес покойному облачение, явно указывающее на высочайший статус — серый, как море, костюм из нефрита.
213
ГЛАВА 5
КОНФУЦИАНСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
Хотя У-ди видел в давно покойном Чжоу-гуне образец опекуна для молодого правителя, он, похоже, совсем не одобрял воззрения гуна на императорскую власть (добродетель как основа легитимности, нравственное совершенство как надежная гарантия порядка в обществе и Небесный мандат как обусловленное и преходящее право на власть). Напротив, У-ди, а вслед за ним Хо гуан настаивали, что власть должна быть неоспоримой, законы — строго соблюдаться, наказания — приводиться в исполнение без поблажек, а трудовые и военные повинности — взыскиваться со всех подданных. Суровые обычаи легистского государства Цинь возвращали без всякого стеснения, а конфуцианские разговоры о прошлом и «магнетической» силе высокой нравственности высмеивали как безнадежно непрактичные.
Но вскоре маятник качнулся в другую сторону. Сюань-ди и особенно его сын Юань-ди подняли волну конфуцианского покаяния за самовластие У-ди. К концу века эта реакционная волна вынесла к власти человека (в дальнейшем не раз осмеянного), решившего осуществить уникальный эксперимент, суть которого можно назвать конфуцианским фундаментализмом.
Существенную перемену идеологического климата подтверждают одобрительные отзывы «Хань шу» о политике сокращения расходов в годы правления преемников У-ди и еще один довольно редкий документ, в котором подробно изложены официальные дебаты того периода. Как подсказывает название, «Спор о соли и железе» на первый взгляд посвящен обсуждению государственной монополии на производство соли, железа и других товаров. Однако, верный традициям китайской литературы, этот документ представляет собой не совсем то, чем кажется. На самом деле он затрагивает гораздо более широкую тему, поскольку является частью официального расследования ситуации в государстве. И хотя монополии, о которых идет речь, возникли еще в правление У-ди, а само обсуждение состоялось в 81 г. до н. э., в царствование Чжао-ди, дошедший до нас документ был создан в правление Сюань-ди, то есть приблизительно через двадцать-три- дцать лет после описанных в нем событий.
Возможно, «Спор» был составлен на основе оригинального протокола и служил несколько запоздалым отчетом о состоявшемся диспуте, возможно, это было просто академическое упражнение; но основной
214
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
интерес представляет именно контекст создания этого документа в середине I века до н. э. В ходе диспута официальные представители власти защищали жесткую политику правительства, а их красноречивые оппоненты ее критиковали. Представителей правительства называли «модернистами», а их критиков «реформистами», хотя ни те ни другие на самом деле не выступали за прогресс — скорее это был спор консервативного прагматизма и реакционного идеализма [20].
Модернисты повторяли аргументы легистов: люди от природы ленивы, и их необходимо принуждать; законы бесполезны, если не насаждать их принудительно; монополии выгодны как государству, так и потребителям; налоги и трудовые повинности лежат в основе безопасности и социального благополучия; то же касается территориального расширения и торговли; управление — это повседневные реалии, а не абстрактные теории. Их оппоненты-реформисты, стоя на конфуцианских позициях, полностью отвергали все эти доводы и утверждали, что людям нужно предоставить заниматься своим делом, то есть сельским хозяйством, а не государственной службой, товарным производством или чеканкой монет. Иностранные походы, как военные, так и торговые, одинаково бесполезны; государственные монопольные предприятия неэффективны и выпускают некачественные товары. Правительству следует отступить по всем фронтам, сократить свои расходы, воспитывать в людях социальную ответственность, восстановить равновесие инь ияни поощрять нравственность, взяв за образец человеколюбивую политику древних времен. Таким не вполне правильным способом модернисты защищали статус-кво, а реформисты выступали за возвращение в далекое прошлое.
В действительности эта дискуссия почти ни к чему не привела. Государственная монополия на соль сохранилась, на железо — была отменена только для мануфактур в Чанъане, а на производство алкоголя — только в провинциях (где она, вероятно, и так была неэффективной). Однако на протяжении всей дискуссии именно бескомпромиссных модернистов неоднократно заставляли замолчать, а конфуцианские реформисты одерживали одну победу за другой. С их стороны выступало меньше ораторов, однако их аргументы изложены яснее, и им принадлежали самые запоминающиеся высказывания: чиновники, плохо знакомые с классикой, подобны неопытным морякам, «выходящим в море без весел», а воевать с сюнну так же бесполезно, как «ловить рыбу в Янцзы без сетей». Немало критики прозвучало в адрес
215
ГЛАВА 5
императоров Цинь и их советников-легистов, павших под тяжестью собственного гнета, и немало похвал прозвучало в адрес Чжоу и несравненного Чжоу-гуна. Таким образом, в записи диспут изображен как убедительная победа конфуцианских реформистов, хотя на самом деле в 81 г. до н. э., вероятно, ничего подобного не было. Однако в 40 г. до н. э., когда был написан «Спор о соли и железе», их аргументы были реабилитированы, и конфуцианский реформизм действительно одержал победу.
ПРАВИТЕЛИ РАННЕЙ (ЗАПАДНОЙ) ХАНЬ в 87 г. до н. э. - 9 Г. н. Э.
и#
о/
J'
О
.X? ^
“Л 1 Г“1 Г“Т 1 “Г" Т Г 1 1 Г“1 1 1 г
140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20
* Пин-ди (пр. 1 г. до н. э. — 6 г. н. э.) и Жу-цзы (пр. 6-9 гг. н. э.), Д° н-э-«
номинальные правители
н. э.
Эта важная тенденция была никак не связана с личными качествами императоров, быстро сменявших друг друга в течение половины века. Юань-ди (пр. 49-33 до н. э.) любил серьезную музыку, соблюдал умеренность во всем и часто хворал. За сокращение расходов в его правление отвечали чиновники-реформисты. На их совести лежал весьма холодный прием, оказанный Чэнь Тану, военному офицеру из Синьцзяна, чьи решительные действия привели к сокрушительному поражению сюнну в 36 г. до н. э. Смелость Чэнь Тана привела его на запад в Согдиану (Самарканд), где ему удалось решительно затмить победы Ли гуанли, одержанные в этих краях семьдесят лет назад1. Но в силу остроты ситуации Чэнь Тану пришлось действовать неофициально, прикрываясь фальшивыми полномочиями. Учитывая благоприятный исход дела, возможно, на это посмотрели бы сквозь пальцы, но политика завоевания новых земель успела утратить популярность, Центральную Азию больше не считали приоритетным
1 Победа над шаньюем Чжичжи — единственным шаньюем, павшим
в борьбе с китайцами, — произошла (как обычно считается) несколько восточ¬
нее — в районе реки Талас в современной Киргизии.
216
ИМПЕРИЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ. 141 Г. ДО Н. Э. - 1 Г. Н. Э.
направлением, снова вошедшие в моду древние правители Чжоу не совершали иностранных походов — одним словом, Чэнь Тану повезло, что его не казнили.
Прославившийся умеренностью и воздержанием Юань-ди был невоздержан лишь в отношении женского пола. У него было три официальных супруги, и каждая из них родила сыновей, потомки которых позднее так или иначе участвовали в престолонаследии. Ван Чжэн- цзюнь, последняя из трех императриц, имевшая толпу честолюбивых родственников и гораздо более властный характер, чем у ее неприхотливого мужа, родила Чэн-ди (пр. 31-7 гг. до н. э.), занявшего трон после отца. Чэн-ди любил эротическую музыку и имел привычку тайком покидать свои покои и прогуливаться инкогнито в самых злачных районах Чанъаня, оставив управление империей в руках семьи матери. Род Ван, состоявший в основном из реформистов-конфуци- анцев, превыше всего ставивших пример Чжоу-гуна, с готовностью взялся за дело, и официальная бюрократия вскоре обнаружила, что ее постепенно отодвигает от дел «внутренний двор», или дворцовый секретариат, приближенный к императору и состоявший главным образом из родственников и сторонников императрицы.
Этот период ознаменовался рядом ревизионистских экспериментов, в том числе предложением отказаться от денежного обмена в пользу натуральной экономики, а также законодательно ограничить допустимые размеры богатств и земельных владений, а излишки перераспределить между крестьянами. Ученые были заняты изучением и толкованием конфуцианской классики, в которой, несомненно, нашли множество ключей к славной жизни, протекавшей тысячу лет назад. Если не обращать внимания на потоки сплетен о скандалах и зверствах, происходивших во внутренних покоях императорских дворцов, рассвет дивного старого мира казался неизбежным.
Неожиданное препятствие возникло, когда в 7 г. до н. э. Чэн-ди умер, не успев обзавестись наследником, и на смену ему пришел его сводный племянник Ай-ди (пр. 7-1 гг. до н. э.). Вдовствующая императрица Ван внезапно обнаружила, что больше не имеет никакой власти. Ван Ман, ее внучатый племянник и на тот момент пятый Ван, обладавший титулом главнокомандующего (верховным титулом «внутреннего двора»), был освобожден от своих полномочий. Верх взяла новая фракция, состоявшая из соперничавших вдов с собственными главнокомандующими. Реформисты впали в немилость.
217
ГЛАВА 5
Новый правитель, восемнадцатилетний Ай-ди, по словам историков, имел большие амбиции. Но он страдал разновидностью хронического артрита и, что не сулило ничего хорошего для престолонаследия, «совсем не интересовался музыкой и женщинами». Вместо этого он, как сообщает «Хань шу», «иногда наблюдал за состязаниями кулачных бойцов, стрельбой из лука и военными видами спорта», а все остальное время вздыхал о блестящем молодом офицере по имени Дун Сянь [21]. Дун Сянь был назначен главнокомандующим — ему был двадцать один год, и прибывший ко двору шаньюй сюнну во время торжественного приема был изрядно озадачен его молодостью и неопытностью. Не исключено, что Дун Сянь мог бы подняться еще выше: в какой-то момент император даже собирался отказаться от трона в его пользу. Однако это предложение возмутило даже тех, кто поддерживал Ай-ди. На этот раз придворные фракции объединились, чтобы этого не допустить.
Было бы приятно сообщить, что Ай-ди увидел наступление новой эры, но, увы, для этого ему не хватило совсем немного времени: он умер от артрита в 1 г. до н. э. Следующего императора поспешно выбрала из числа потомков давно умершего Юань-ди его бывшая супруга, восьмидесятилетняя великая вдовствующая императрица Ван. Благодаря ее власти и собственной настойчивости Ван Ман, ее племянник и самый заметный представитель рода Ван, был восстановлен в должности главнокомандующего и стал регентом девятилетнего императора Пин-ди (пр. 1 г. до н. э. — 6 г. н. э.). Разумеется, прецедентом, обосновавшим приход Ван Мана к власти, было регентство Чжоу- гуна, взявшего под крыло молодого царя Чэн-вана, а также недавнее повторение этой истории мрачным Хо гуаном в правление Чжао-ди.
Ревностные реформисты семьи Ван снова обрели власть и благодаря ряду своевременных смертей, часть которых даже произошла от естественных причин, остались практически без противников. По чистой случайности год, который мог бы стать нулевым для христианства (если бы григорианский календарь не решил обойтись без него), стал «годом нулевым» и для конфуцианского государства. Решительно не понятый потомками Ван Ман приготовился развернуть реакционные реформы.
6
Ван Man и возвращение Хань
(1-189)
ДИНАСТИЯ ИЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
На исходе последнего века дохристианской эры предвестники конца эпохи тревожили Китай намного сильнее, чем средиземноморский мир. Рим вступил в эпоху принципата, после гражданских беспорядков периода триумвирата снова воцарилось спокойствие, Октавиана славили как императора (Цезаря) и как божество (Августа), а римские легионы одерживали победы от Шотландии до Йемена. Но в Китае торжествам пришел конец, настало время экономии и сокращения расходов. Ханьским войскам больше не суждено было маршировать по Центральной Азии, пройдя через Джунгарские ворота к северу Памира, или с прежней легкостью покорять Вьетнам, где как раз в это время назревала первая из многих войн за независимость. В Чанъане пышные празднества, которыми славилось правление У-ди, — военные парады, приемы послов с данью и спортивные состязания, сродни тем, что устраивали при Цинь, — стали намного скромнее или вовсе были отменены. Императорские охотничьи угодья пришли в упадок, конюшни стояли пустыми: конное хозяйство императора сократилось наполовину. Сотни музыкантов и танцоров были уволены. Остались лишь те, кто требовался для исполнения ритуалов. Мастерские в Шаньдуне, поставлявшие ко двору наряды и мебель, закрылись.
К 1 г. н. э. империя Хань существовала более двухсот лет. Гао-цзу («Великий прародитель») объединил империю, а при У-ди ее границы настолько расширились, что об угрозе вторжения можно было не
219
беспокоиться. В эпоху Хань было несколько образцовых императоров, на чье правление пришлись долгие периоды мира, процветания и прогресса. Конфуцианские ученые, которых так презирал Гао-цзу, завоевали уважение его потомков; сосредоточив в своих руках административную власть, эти образованные бюрократы умело контролировали население, намного превосходившее население Римской империи. Если бы Октавиан Август, считавший административные реформы своей первостепенной задачей, мог хоть краем глаза увидеть сложную систему сдержек и противовесов ханьского бюрократического аппарата, он пришел бы в отчаяние.
Но в последнее время создавалось впечатление, что Небеса отвернулись от империи Хань. С середины 1-го столетия до н. э. тревожных знамений постепенно становилось больше, чем благоприятных, и ко времени правления Чэн-ди (33-7 гг. до н. э.) толкования конфуцианских реформистов сложились в не суливший ничего хорошего вердикт. Обобщив ситуацию в своем переводе хроники «Хань шу», составленной семейством Бань, Гомер Дабе назвал перечень бедствий «уникальным»: «Пожары, кометы, затмения, густые туманы, нашествия насекомых, засухи, наводнения, землетрясения, лавины, убийства, метеоры и громы то и дело возникают на страницах главы [“Хань шу”, посвященной Чэн-ди], и редкий год не отмечен сразу несколькими подобными явлениями» [1]. Даже в правление злосчастных Первого и Второго императоров Цинь дурных предзнаменований было меньше. О смене династии возвещало все вокруг — звезды, ветер и земля под ногами.
Разумеется, все дурные знаки можно было счесть надуманными, преувеличенными или неверно истолкованными, но неопровержимым признаком небесного недовольства служило отсутствие законных наследников. Три императора подряд не сумели зачать сы-
ПРАВИТЕЛИ ПОЗДНЕЙ (ВОСТОЧНОЙ) ХАНЬ в 25-220 гг.
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
новей. Небеса едва ли могли яснее выразить свою обеспокоенность. Наследники так же важны, как предки, и династия, потерпевшая неудачу в этом ответственном деле, подвергалась страшной опасности. Говорили, что у Чэн-ди на самом деле было двое сыновей от одной наложницы, но если так, они были убиты, чтобы угодить фаворитке, занимавшей более высокое положение, которая, однако, сама так и не смогла родить мальчика. У Ай-ди наследников, конечно, не было — не таковььбыли его вкусы. У бедного маленького Пин-ди — тоже, поскольку он даже не успел достигнуть зрелости. Следуя примеру Хо гуана, регента при Чжао-ди, Ван Ман выдал за Пин-ди одну из своих дочерей, и она стала императрицей; но в 6 г. н. э. в возрасте всего четырнадцати лет Пин-ди умер от болезни.
На этом потомки Юань-ди кончились. Поэтому пришлось вернуться на одно поколение назад и выбирать нового кандидата из потомков Сюань-ди. Их было много, всех возрастов; пятеро, как сообщает «Хань шу», были ванами полусамостоятельных уделов, а еще сорок восемь — маркизами-хоу. Но Ван Мана эта королевская рать не впечатлила. Выбирая самого последнего из них, годовалого младенца, названного Жу-цзы («принц-младенец»), он утверждал, что действует согласно (сомнительной) традиции, которая требовала, чтобы новый император обязательно происходил из следующего за его предшественником поколения. Многочисленные отсылки к безупречному примеру Чжоу-гуна, слова Конфуция («Я следую Чжоу») и собственный недавно полученный титул «вана, несущего покой империи Хань» Ван Ман использовал, чтобы из регента покойного Пин-ди превратиться в регента и действующего императора при лепечущем Жу-цзы (6 г. н. э.).
Он обещал сложить с себя полномочия, когда Жу-цзы достигнет совершеннолетия, однако выбор столь юного принца почти не остав¬
ГЛАВА 6
лял сомнений в том, что временно исполняющий обязанности императора всерьез намерен стать следующим законным императором. Об этом говорили и благоприятные знамения, порой настолько прямолинейные, что в них, пожалуй, можно было увидеть скорее ритуальное уверение, чем попытку обмануть общественное мнение. Среди них были пророческое письмо на поверхности медной шкатулки, надпись, скрытая в камне, и чрезвычайно яркий сон, приснившийся одному из представителей династии. Благоприятные намеки подавали и предметы, полученные примерно в это же время в виде дани, — живой носорог, белый фазан и «каменный бык из Ба» (области в Сычуани, где крупный рогатый скот из резного камня, очевидно, по-прежнему был в моде). Самое убедительное впечатление производила та легкость, с которой все это заставляло замолчать протестующих и сбивало с толку лояльных сторонников Хань. Знаки появлялись во всех уголках империи — Небеса одобряли Ван Мана, это было очевидно.
Семья Ван была достаточно влиятельной и за три поколения успела собрать мощную группу сторонников. Кроме того, Ван Мана лично поддерживали его товарищи — конфуцианские фундаменталисты, считавшие целесообразным, чтобы явно скомпрометировавшую себя династию сменил такой же, как они, мудрец и ученый. Намерения Небес в отношении мандата казались вполне ясными, шансов на первую в истории мирную передачу власти было как будто достаточно. Поэтому, выждав подобающее время (отмеченное новыми благоприятными знамениями), 10 января 9 г. н. э. в храме гробницы Гао-цзу (с благословения восьмидесятилетней великой вдовствующей императрицы Ван) Ван Ман официально «принял отставку» Хань, и ему были доверены императорские печати. Малыш Жу-цзы, который провел два года в роли законного наследника, был как ни в чем не бывало возвращен в детскую, и новый император издал свое первое воззвание.
«Знаками и свидетельствами, замыслами и письменами, металлической шкатулкой и надписью на ее поверхности боги провозгласили, что вверяют моему руководству бесчисленные множества простых людей империи... Гао-цзу получил Небесный мандат и передал государство [мне], написав об этом на металлической шкатулке. Я ношу царский головной убор и восхожу на трон как истинный Сын Неба. Установлено, что название [моей] империи должно быть Синь» [2].
222
ВАН MAH И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
«Синь» означает «новый», и, возможно, Ван Ман имел в виду именно это. Однако название «Новая империя», утверждая очевидное, едва ли отвечало конфуцианским устремлениям ее основателя, взявшего курс на возрождение старых обычаев. Более убедительным представляется объяснение Дабса, который возводит название династии Синь к уделу Синь-ду, принадлежавшему Ван Ману как маркизу-хоу. Так же как Лю Бан (Гао-цзу) назвал свою династию в честь своего бывшего царства Хань, Ван Ман назвал свою в честь своего удела Синь-ду [3]. В этом случае для династии, состоявшей из одного человека, то есть Ван Мана, прецедент снова оказался важнее целесообразности.
Практически все, что известно о правлении Ван Мана, пришло к нам из «Хань шу». Сведения эти имеют нелестный характер, но иначе и не могло быть, поскольку в исторических летописях Ван Мана необходимо было дискредитировать. Его свержение в 23 г. н. э., реставрация Хань в 25 г. н.э. и последующие два века ее правления означали, что его могли изображать только узурпатором и самозванцем. В хронике «Хань шу» он занимает место не в списке императоров после Пин-ди, а в биографических разделах в конце текста. Это недвусмысленно указывает на нелегитимность его правления, впоследствии никогда не подвергавшуюся сомнению: империю Синь раз и навсегда вычеркнули из законной династической преемственности императорского Китая.
Историографические обычаи требовали подвергнуть Ван Мана экзорцизму, поэтому сначала его нужно было демонизировать. На страницах хроники он последовательно изображается в виде карикатурного вкрадчивого манипулятора и лицемера, чье тщеславие и нерешительность имели для империи такие же катастрофические последствия, как и для него самого. Любые его поступки — экономные или расточительные, снисходительные или мстительные, агрессивные или миролюбивые — рассматриваются исключительно с личной точки зрения и осуждаются как личные пороки. Семья Бань, которая занималась составлением «Хань шу», имела веские причины очернять Ван Мана. Во-первых, он лишил одного из них должности, во-вторых, они писали при реставрированной Хань, которой были обязаны своим благополучием и для которой Ван Ман служил воплощением зла. Но, вероятно, были и идеологические соображения. Вряд ли можно отрицать, что Ван Ман был образованным человеком и убежденным конфуцианцем. Ни один классический текст не остался не
223
ГЛАВА 6
процитированным в его указах и официальных заявлениях, ни один эдикт не был издан без убедительной отсылки к прошлому, особенно к правителям Чжоу Более того, «Чжоу ли» («Установления Чжоу»), сочинение, сохранившееся в списке III века до н. э. и предположительно созданное за восемь столетий до этого самим Чжоу-гуном, при Ван Мане приобрело статус классического. Правление Ван Мана, по мнению современного историка Чэнь Чи-юня, «ознаменовало кульминацию ханьского конфуцианского идеализма» [4]. Но почему оно закончилось катастрофой? Конфуцианство не могло быть в этом виновато, следовательно, вина лежала на самом Ван Мане. Конфуций подчеркивал, что, подавая пример праведности и добросердечия, правитель должен быть искренним. Очевидно, Ван Ман не был искренним. Может быть, он имел солидное образование и высказывал обоснованные идеи, но, по версии «Хань шу», все это было безнадежно испорчено его корыстным и циничным характером.
Сначала все шло хорошо. Император издал множество распоряжений, в том числе отменив рабство (впрочем, не слишком распространенное в империи) и запретив продажу земли. Были изданы указы о переделе крупных земельных владений и восстановлении идеализированной системы колодезных полей эпохи Чжоу (землю делили на обнесенные канавами участки, наподобие поля для игры в крестики- нолики, восемь семей получали одинаковые наделы земли по краям, а свободный квадрат в центре считался государственной землей). Это были смелые инициативы, направленные на устранение неравенства и восстановление традиционной экономики, опиравшейся на самодостаточное крестьянское хозяйство. Они должны были завоевать одобрение как историков, превыше всего ценивших прецедент, так и социальных реформаторов будущего. Но в действительности даже у революционеров XX века не возникло искушения реабилитировать Ван Мана. Лидер националистов Чан Кайши порицал марксистскую конструкцию, воздвигнутую на эгалитарной системе колодезного поля. Марксистов эта система точно так же не устраивала в силу своего феодального контекста [5].
Безразличный к будущему, Ван Ман занимался возрождением прошлого. Система рангов была перетасована, все ранги переименованы, вновь введены старые титулы знати и названия всех существующих должностей в правительстве, а также в провинциальных уездах и военных округах. Были проведены реформы календаря и обозначения
224
ВАН MAH И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
времени, а география Китая пересмотрена сообразно традиционной концепции, помещавшей Поднебесную «в пределах четырех морей». На практике это означало, например, что озеро Кукунор в провинции Цинхай «объединили» с океаном и вместе с ближайшими к нему внутренними районами Тибета стали называть Сихай — «Западным морем».
Никто не мог бы обвинить нового императора в медлительности. «От природы вспыльчивый и раздражительный, — сообщает «Хань шу», — он не довольствовался у-вэй [бездействием]... он желал, чтобы каждое [начинание] было приведено в соответствие с древними обычаями, и полагал классические тексты высочайшим авторитетом». Конфуций говорил, что, изучая канонические тексты и воспитывая в себе доброжелательность, можно восстановить справедливый нравственный порядок. Но Конфуций не мог воплотить свои идеи на практике. У Ван Мана такая возможность была. Чтобы построить конфуцианскую утопию, или тайпин (эпоху «небесного мира», описанную в «Чжоу ли»), необходимо было предварительно провести «исправление имен». Правильное именование всех предметов и явлений имеет такое же значение, как их верное расположение, порядок проведения церемоний или соответствие календаря временам года и лунным фазам. Если имена будут соответствовать издавна определенным реалиям, космический порядок восстановится, силы инь иян придут в равновесие, пять стихий (фаз) выстроятся в правильной последовательности, и благосклонность Небес будет обеспечена.
Наоборот, неподобающие имена могут привести к катастрофе. Если войскам не удается одержать победу, вероятно, это происходит потому, что командующие поставлены в невыгодное положение неправильными титулами. Точно также, когда вспыхивают гражданские беспорядки, нужно изменить очертания затронутых округов и (в очередной раз) дать им новые названия. Ван Ман взял на себя эту ответственность. «Он много размышлял» и неизменно приходил к выводу, что «во всем виноваты неправильные имена». Он наделил двух своих сыновей царскими титулами, полагая, что это убедит Небеса в надежной преемственности династии; как он объяснил, «благодаря этому за пределами [империи] варвары четырех сторон света будут изгнаны, а в пределах Чжунго воцарится мир» [6].
Но если все эти нововведения не столько приносили вред, сколько сбивали с толку, то экономическая политика Ван Мана была чревата
225
ГЛАВА 6
катастрофой. Четыре денежные реформы (включая возвращение архаичных денежных единиц, включая монеты в виде лопат и раковины каури), «пять уравниваний» (призванных стабилизировать цены и обеспечить доверие крестьянства) и «шесть монополий» (к привычному списку из железа, соли, алкоголя и пр. была добавлена лесозаготовка), вероятно, имели под собой благие намерения. Хотя конфуцианские ученые нападали на государственные монополии в «Споре о соли и железе», все эти меры можно было истолковать как поддержку мелкого крестьянского хозяйства, составлявшего основу конфуцианской экономики. Однако на практике они вызвали хаос и бедствия. Большую часть своих распоряжений император быстро скорректировал или отменил, однако коррумпированные чиновники, спекулянты и фальшивомонетчики успели поживиться за их счет.
Естественно, активную поддержку получило изучение конфуцианской классики. Императорская академия открыла двери для множества новых студентов и профессоров-эрудитов; в Чанъане для них был построен академический городок с жильем на десять тысяч человек, рынком и зернохранилищем. Шесть классических текстов (включая «Чжоу ли») изучали и сопоставляли самым внимательным образом, различные комментарии к ним подвергали тщательному анализу, для каждого текста был назначен официальный «толкователь», обладавший самым высоким бюрократическим рангом. Считается, что практика присвоения Конфуцию почетных званий, а также поклонение его памяти начались именно в этот период [7].
Во всех этих новшествах на самом деле было не так уж много нового. И как мы убедимся далее, внешняя политика Ван Мана по отношению к сюнну и цяням тоже была отнюдь не такой наивной, как пытается представить «Хань шу». Даже кумулятивный эффект изменений, возможно, был бы не столь катастрофическим, если бы Ван Ман имел достаточно времени, чтобы последовательно проводить свои идеи в жизнь и по необходимости корректировать их. В 11 г. н. э. ему было пятьдесят лет, и, несмотря на подчеркнуто отталкивающий портрет, нарисованный «Хань шу» (глаза навыкате, хриплый голос, куриная грудь и т. д.), он имел, по-видимому, отличное здоровье. Но в том году судьба подписала ему приговор: все перспективы успешных реформ были сметены одним из величайших катаклизмов в истории Китая.
Сначала случилось нашествие саранчи вдоль реки Хуанхэ. В этом не было ничего необычного. Охотникам на саранчу назначили воз¬
226
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
награждение: за фунт раздавленных насекомых так же щедро платили наличными (медной монетой), как много веков спустя в мрачные времена «Большого скачка» председателя Мао расплачивались за дохлых воробьев, охоту на которых объявили, чтобы сохранить запасы зерна и не допустить голода. По-видимому, в любые времена перед лицом неминуемой катастрофы самодержцы невольно проникаются уважением к умению народных масс держаться за жизнь.
Затем случился потоп. «Хань шу», стремясь обвинить Ван Мана, не слишком вдается в подробности:
«..Желтая река вышла из берегов в округе Вэй, затопила несколько округов на восток от Цзинхэ. Раньше Ван Ман опасался, что река разольется и затронет могилы его предков. Но поток повернул к востоку, не побеспокоив гробницы. Поэтому он не стал сооружать дамбы» [8].
Справедливости ради нужно сказать, что редко выдавался год, когда река Хуанхэ или ее притоки не разливались, вызывая наводнения. Обильные дожди превращали верхние воды реки в кипящее варево из тибетских сланцев и монгольского лёсса. Именно они, пройдя через шлюзы и каналы в нижнем бассейне реки, объясняли высокое плодородие центральной равнины Чжунъюань. Однако по мере того как течение реки на равнине замедлялось, ил оседал на дно, и дно значительно повышалось. Уровень воды регулярно поднимался выше окружающих берегов, что вынуждало многих императоров бросать силы на строительство дамб и осушение разливов. Сам Ван Ман уже столкнулся с таким потопом во время правления Пин-ди, когда река отклонилась от нормального курса южнее полуострова Шаньдун и ушла еще дальше на юг, соединившись с Хуайхэ. Но великий потоп 11 -12 гг. н. э. направил реку в противоположную сторону. Стена воды прокатилась по густонаселенной равнине и перенесла всю реку целиком от ее южных истоков в новую дельту в нескольких сотнях километров севернее полуострова Шаньдун.
В «Хань шу» почти не говорится о том, сколько людей погибло и сколько хозяйств разорено, об анархии, ставшей непосредственным результатом этого стихийного бедствия, и о том, что правительство в результате лишилось доходов и рабочей силы. Но, сопоставив данные о наводнении с сохранившимися данными переписей населения, Ханс Биленштейн, авторитетный ученый, специалист по данному периоду
227
ГЛАВА 6
и горячий защитник Ван Мана, сделал вывод о массовых разрушениях на всей территории империи, повлекших за собой обширные гражданские волнения и массовый отток населения на запад и на юг из опустошенных районов в долины рек Хуайхэ, Ханьхэ и Янцзы. «Беспорядки вспыхивали вдоль миграционных маршрутов, где голодающие крестьяне объединялись, чтобы силой добыть пропитание, — пишет Билен- штейн.— [В Шаньдуне] крестьянские банды росли и в конце концов слились в огромную, плохо организованную, но почти непобедимую армию» [9]. «Хань шу» называет отчаявшихся ополченцев «краснобровыми» (из-за лаконичного знака отличия, который они рисовали на лбу) и приписывает их восстание ошибкам правления Ван Мана. Имперские войска, отправленные на восток, чтобы усмирить мятежников, не справились с задачей. К 22 г. н. э. повстанцы продолжали наступать по всем фронтам, а некоторые части устремились на запад к Чанъаню.
Но не только они решили воспользоваться воцарившимся после потопа хаосом и бедственным положением империи. На дальнем севере границам угрожали сюнну и ухуани, а на юге в провинциях Хэнань и Хубэй (некогда ядро царства Чу и центр антициньского восстания) во главе взбунтовавшихся крестьян охотно вставали недовольные представители сельской знати, среди которых были и младшие представители династии Лю. Если «краснобровые» оставались верны своим народным корням, то крестьянскими армиями под руководством Лю двигало стремление поддержать пошатнувшуюся старую династию, тем более что многочисленные дурные знамения говорили о неблагосклонности Небес к нынешнему императору. В 23 г. н. э. повстанцы взяли Лоян и возвели на трон ханьского отпрыска под именем императора Шнши-ди («Новое начало»).
Ван Ман тоже был встревожен необъяснимыми нареканиями Небес. Пока он метался между вызовом и покорностью, враги стекались к Чанъаню, а сторонники покидали императора либо гибли. С головой уйдя в изучение текстов, император нашел еще ряд многообещающих прецедентов и придумал еще больше имен. Если верить «Хань шу», в попытках спасти империю он даже обращался к специалистам нетрадиционного военного дела. В числе прочего упомянуты строительство понтонного моста на спинах плавающих лошадей и пилюли, подавляющие аппетит, которые могли бы стать удобной заменой солдатского пайка. Особенно многообещающе звучало предложение организовать службу воздушной разведки от человека, который утверждал, что умеет
228
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
летать. Авиатор сконструировал крылья из перьев крупных птиц, «соединенных с помощью шарниров», и, покрыв тело дополнительным оперением, «пролетел несколько сотен двойных шагов и упал». Дабе невозмутимо замечает, что подняться ввысь экспериментатору помогло, скорее всего, обещание высокого титула и что «это, пожалуй, самое раннее достоверное упоминание о полете человека» [10].
Безумные эксперименты, отметившие последние дни империи Синь, дают все основания предположить, что Ван Ман совсем отчаялся. Он питался только пивом и моллюсками, «читал одни лишь трактаты о военном деле» и спал прямо за письменным столом. К тому времени, когда Чанъань пал под натиском первой крестьянской армии, он так ослабел, что не мог держаться на ногах. Когда дворец Вэйян охватил пожар, императора перевезли в обнесенную рвом башню за городом. «Хань шу» изображает императора наподобие Нерона, наблюдающего с вершины башни за горящим городом, но возможно, здесь уместнее было бы сравнение с королем Лиром. Длинные списки новых титулов («военачальник, вызывающий огромный поток воды, чтобы потушить любой возникший огонь» и т. п.), оказались неэффективными, как и письменное обращение «более чем из тысячи слов» и душераздирающих жалоб, которое Ван Ман адресовал лично Небесам.
В окружении яростной толпы тысяча верных сторонников императора продолжали стойко сопротивляться до тех пор, пока у них не кончились стрелы. Затем толпа перешла вброд ров и, когда свет на западном краю неба погас, взобралась на башню. Ван Ман пал в сумеречной резне, его труп был обезглавлен и на том же месте разрублен на части. Десятки людей погибли в давке, стараясь добыть отвратительные сувениры, сообщает «Хань шу», в точности повторяя слова великого историка Сыма Цяня, сказанные о судьбе Сян Юя на берегах Янцзы два века назад. Наказание за неповиновение Хань оставалось прежним, а значит, не было причин менять формулировку, соответствующую этому преступлению [11].
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
В последнее время ученые, соглашаясь, что «Хань шу» изображает Ван Мана в карикатурном виде, далеко не единодушны в мнениях о последствиях его политики. Попытка ввести в империи новые по¬
229
ГЛАВА 6
рядки, несомненно, потерпела неудачу. Конфуцианские методы, опирающиеся на несовершенную традицию и более чем спорные предписания «Чжоу ли», буквально истолкованные и слепо воплощенные в жизнь, не смогли стать панацеей; священное прошлое нельзя было возродить, просто копируя его институты и названия. Хотя идея утопического тайпин конфуцианских текстов позднее пришлась по вкусу многим узурпаторам (и особенно повстанцам в XIX веке, которые даже приняли «Тайпин» в качестве самоназвания), ортодоксов она больше не увлекала. Они считали использование конфуцианства в качестве незрелой политической схемы ошибкой. Очевидный фанатизм конфуцианских реформистов I века до н. э. сменился умеренностью в первые века нашей эры. Образованные люди благородного происхождения нередко предпочитали политике простые радости жизни в провинции или углублялись в метафизический подлесок нонконформистских практик и убеждений, берущих начало в даосизме.
Однако с конфуцианством как нравственным кодексом дело обстояло иначе. Явная одержимость Ван Мана формой в ущерб содержанию — стремление воспроизводить внешние атрибуты вместо того, чтобы культивировать внутренние достоинства, — способствовала, по меткому выражению одного ученого, формированию так называемой конфуцианской доктрины. В китайском языке нет отдельного существительного, соответствующего английскому слову «конфуцианство». Иероглиф жу, который переводится таким образом, имеет гораздо более общее значение, что-то вроде «выученное благородство» или просто «дилетантство». Поскольку конфуцианство лишено специфики, свойственной политической философии, личной идеологии или организованной религии (за исключением превращения самого Конфуция в культовую фигуру), его удобнее всего рассматривать как подкрепленную уважаемыми текстами разновидность учения, с помощью которого Учитель Кун и его последователи пытались распространять уникальную нравственную перспективу.
Эта нравственная перспектива, или учение, охватывает все социальные, культурные и политические отношения. Она располагает их в упорядоченной иерархии и определяет для каждой ступени соответствующее поведение. Сын и отец, ученик и учитель, подданный и правитель связаны личными отношениями, формально обоюдными, но на практике основанными на непременном уважении к старшему
230
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
и преданности младшего партнера — сына, ученика, подданного. Так же обстоит дело в отношениях жены и мужа, семьи и предков, вассалов и сюзерена и т. д. Человек, придерживающийся конфуцианских убеждений, выше всего ставит этические заповеди, и никакие аспекты личной жизни, профессиональной деятельности или государственной политики не могут обсуждаться в отрыве от них.
Это было особенно верно для бюрократов, стройные ряды которых целиком и полностью состояли из жу (в смысле «конфуцианских ученых»), принятых на службу благодаря искусному владению жу (то есть «конфуцианской классикой»). Даже смутные времена не изменили этого положения. Несмотря на интеллектуальную конкуренцию со стороны буддизма и даосизма, отодвинувших конфуцианство на второй план и пользовавшихся покровительством властей, а также усиление военных, конфуцианские убеждения все равно не сдавали позиций везде, где существовали мир и гражданское правительство. «Несмотря на презрение безжалостных монархов, — писал Артур Райт, — ловушки дворцовых интриг, безуспешную конкуренцию с властью евнухов и коррупцию в собственных рядах, бюрократы Китая по-прежнему упорно пытались внедрить в государственную политику принципы конфуцианской нравственности» [12].
Таким образом, перед нами вырисовывается еще одна великая опора китайской цивилизации. Не столь очевидная, как утонченная образованность или почтение к истории, как принадлежность к аграрному обществу в окружении многочисленных кочевых народов или имперская интеграция, конфуцианская доктрина в той же степени обосновывала все эти поводы для высокомерия и оказалась не менее живучей.
Фундаментализм Ван Мана не противоречил принципам конфуцианства, и ответственность за хаос, охвативший империю в период его правления и после него, нельзя полностью возлагать на его реакционные реформы. Очевидно, куда более важную роль сыграли социально-экономические потрясения, массовые переселения и разрушение основ правопорядка, вызванные наводнением на реке Хуанхэ. Нужда диктует свои законы, и, вероятно, ни один император не смог бы в такой ситуации сохранить контроль над происходящим. Форма правления, предназначенная для оседлого аграрного населения, переживала глубокий кризис: жители деревень превратились в бездомных бродяг, крестьяне начали промышлять разбоем. Поля были
231
ГЛАВА 6
уничтожены, зарегистрированных домохозяйств больше не существовало, доходы исчезли, система отработок рухнула. Центральная власть пошатнулась. Этот хаос спровоцировал появление множества претендентов на Небесный мандат в 20-е гг. Безвластие подпитывало многочисленные восстания на периферии и подстрекало феодальные кланы центральных провинций воспользоваться ситуацией, чтобы увеличить размеры своих владений и число своих сторонников. Хань предстояло договориться со всеми этими группами. Реставрация заключалась не столько в отвоевании утраченного, сколько в компромиссах, сделавших империю жертвой борьбы фракций, а в конечном итоге погубившей ее.
Ставшее во многих смыслах переломным моментом сумбурное правление Ван Мана разделило ханьскую эпоху на две части. Подобно древнему Чжоу, реставрированная Хань I века н. э., стремясь оставить все превратности в прошлом, выбрала новое место для своей столицы. Новые правители оставили расположенную на задворках, но выгодную с оборонительной точки зрения долину Вэй в Шэньси (некогда родину Цинь и ранее — Чжоу, где был построен Чанъань) ради расположенного восточнее города Лояна недалеко от Хуанхэ в сердце центральной равнины на севере провинции Хэнань. Этот шаг обдумывал еще Гао-цзу, с тех пор его довольно часто обсуждали, и, наконец, его совершил ханьский претендент, известный как император Шнши-ди («Новый начинатель»). Во главе армии, собранной в южной Хэнани, в начале 23 г. н. э. Шнши-ди успешно бросил вызов войскам Ван Мана, однако его «новому началу» довольно скоро пришел неожиданный конец. Сметенный голодной ордой «краснобровых», которые рвались на запад к Чанъаню, в 24 г. н. э. император Шнши был низложен, затем убит. Чанъань сожгли во второй, а затем в третий раз, столичные дворцы и гробницы предков разграбили. Выбирая Лоян вместо этого пепелища, следующий ханьский претендент руководствовался не только стратегией, но и простой необходимостью. История, не менее прагматичная особа, также рассматривает перемещение Хань на восток как переломный момент. Как и в случае с Чжоу, она запомнила ханьских императоров из Чанъаня, правивших до Ван Мана, как Раннюю, или Западную, Хань, а их дальних родственников в Лояне, сменивших Ван Мана, — как Позднюю, или Восточную, Хань.
Но в 24 г. н. э. никаких гарантий преемственности династии еще не было. Очереди из будущих императоров выстраивались во всех
232
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
уголках страны. Биленштейн отмечает на этой «переполненной сцене» как минимум одиннадцать претендентов, во всеуслышание объявивших себя законными правителями. По крайней мере один из них разъезжал по стране вместе с «краснобровыми», другой связался с дикими сюнну. Среди претендентов было довольно много областных военных феодалов; могущественнее прочих были два князя из Ганьсу, восставшие против Ван Мана, а дольше всех продержался верный сторонник Ван Мана в Сычуани. Почти все они утверждали, что ведут свой род от Хань и представляют шестое колено потомков Цзин-ди (пр. 157-141 гг. до н. э.), внука Гао-цзу. Однако из этих хань- ских претендентов выдвинувшийся выше остальных император Тэн- ши-ди рано сошел со сцены, а самые способные сгинули в ходе междоусобиц. Остался соискатель по имени Лю Сю1, он принял титул императора в 25 г. н. э. и после этого, проявив неожиданные качества, перехитрил всех соперников и под именем гуанъу-ди, стал признанным основателем Поздней Хань.
Все это произошло не в одночасье. В целом Поздняя Хань оказалась менее склонной к авантюрам, чем Ранняя, но гораздо более предрасположенной к кризисам. Официальные летописи отводят ей целых два столетия (25-220 гг. н. э.), однако из них первые восемь десятилетий заняло кропотливое восстановление, следующие восемь были отмечены мучительно долгим угасанием, а в последние четыре династия впала в совершенное ничтожество. В будущем авторы, воспевавшие славную Хань, почти всегда имели в виду Раннюю, или Западную Хань, а не Позднюю, или Восточную Хань.
ТридцатидвухлетВее правление гуанъу-ди (25-57) было полностью посвящено восстановлению империи. Реконструкция Лояна и превращение его в столицу, достойную правителя Поднебесной, играли столь же важную роль в этом процессе, как подавление восстаний. Внутренний город Лояна, имевший более упорядоченную геометрическую планировку, чем Чанъань, и обнесенный стеной с воротами, занимал десять квадратных километров. Согласно священной традиции, жилые покои всегда «обращенного лицом к югу» императора находились в северном дворце, а правитель¬
1 Лю Сю считается главным архитектором победы над Ван Маном: войска под его командованием разгромили последнюю циклопическую армию империи Синь в грандиозном сражении при Кунъяне, после которого судьба Ван Мана была окончательно решена.
233
ГЛАВА 6
ственные учреждения располагались в южном дворце. Дворцы соединял трехкилометровый крытый переход, разделявший внутренний город на две равные части. Обширные пригороды раскинулись за пределами высоких стен, сложенных из землебитных блоков ханту, которые «и сегодня еще достигают десяти метров в высоту». По мнению Биленштейна, этот город уступал размерами только современным Чанъаню1 и Риму, а его население, составлявшее «не менее полумиллиона человек», даже их превосходило [13].
Побеждая многочисленных противников, Гуанъу-ди продемонстрировал редкий среди императоров талант военачальника, а также почти беспрецедентное доверие к своим полководцам. Прежде всего он разобрался с внутренними беспорядками. В 26г. н.э. «краснобровые», число которых значительно сократилось после суровой зимы в Шэньси и основательной трепки, полученной от одного из ганьсуских князей, были вынуждены сдаться2. Другие восстания на Центральной равнине и в провинции Шаньдун были в основном подавлены к 30 г. н. э., а Ганьсу приведена к покорности в 34 г. н. э. Через два года сдалась Сычуань (или Шу, ибо здесь самопровозглашенный император решил возродить царство, уничтоженное Цинь три века назад). На этот раз роковую роль в судьбе провинции сыграли не каменные коровы, а корабли с огнеметными орудиями. В ходе блестящей военной операции ханьский флот поднялся вверх по Янцзы, поджег плавучие укрепления Шу, защищавшие реку только под ущельями, а затем, оставляя за собой огненный след, двинулся к Чэнду, столице Шу.
Отдаленные области некогда обширной империи Ранней Хань пришлось возвращать дольше, главным образом потому что восстания в них начались позже. Обычно историки вслед за «Хань шу» обвиняют в потере этих областей Ван Мана. Предполагают, что его страсть к исправлению имен вызвала враждебную реакцию у шаньюя (правителя) сюнну, а чувство равнодушного превосходства, возможно, побудило императора отказаться от существующих торговых соглашений. «Редко случалось, чтобы человек был так основательно
1 Имеется в виду Чанъань в столичные времена Западной Хань — во времена Восточной Хань он был далек от многолюдства прежних веков.
2 Одно из главных поражений им нанес Лю Сю, перехвативший их войска на обратном пути в Шаньдун.
234
ВАН MAH И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
одурачен собственной пропагандой», — пишет в целом сочувствующий Ван Ману австралийский ученый Рейф де Креспиньи [14]. Однако гуанъу-ди относился к шаньюю с таким же презрением, как Ван Ман, и ханьские военные округа вдоль северной границы опустели уже позднее, после неурядиц 30-х гг. н. э. То же самое происходило в других областях. Контакт с Западными краями (то есть с Синьцзяном) был окончательно утрачен не в правление Ван Мана, а во время развернувшейся после него гражданской войны. Проблема с прото- тибетским народом цян в области Кукунора в Цинхае, который Ван Ман подчинил, вновь разгорелись, только когда его власти пришел конец, а восстание во Вьетнаме разразилось через шестнадцать лет после его смерти.
Возвращением этих областей империя во многом была обязана великому Ма Юаню, главе могущественного феодального клана из долины Вэйхэ, который не только дал императору совет, позволивший стабилизировать денежное обращение после экспериментов Ван Мана, но и был одним из самых успешных военачальников Поздней Хань. Военачальник Ма стал культовой личностью; в некоторых областях Китая до сих пор есть построенные в память о нем храмы. Предлагая свою службу и верность гуанъу-ди в 28 г. н. э., генерал Ма высказался с подкупающей честностью. «В нынешние времена, — пояснил он, — не только государь выбирает себе подданных, но и подданные выбирают себе государя» [15]. Император, по-видимому, согласился с этим, и фракция Ма стала одной из немногих, обладавших огромным влиянием при дворе в течение всего периода правления Поздней Хань.
Между тем далеко на западе Ма вступил в борьбу с прототибетским народом цян. Между 35 и 39 гг. н. э. он подчинил земли от современного Синина до озера Кукунор и поселил на этом участке границы огромное количество цянов. Это было сделано в надежде, что они откажутся от скотоводства в пользу оседлого земледелия и станут подданными и налогоплательщиками империи; на двадцать лет в этом регионе действительно воцарился мир. Но здесь, как и на северной границе, предыдущее десятилетие нестабильности уже успело спровоцировать исход прежнего населения. Приток варварских народов еще больше расшатал равновесие: на расстоянии военного удара от Чанъаня сконцентрировались цяны и сюнну, численно превосходившие коренных потомков бывших ся и цинь, которых теперь можно
235
ГЛАВА 6
было назвать «ханьскими китайцами». Это привело к неожиданным последствиям; цянов удалось умиротворить, но проблема цянов была далеко не решена.
Следующее поручение увело Ма Юаня в прямо противоположном направлении. В 40 г. н. э. вспыхнуло восстание на юге Наньюэ, на территории современного Северного Вьетнама. Ма пришлось пройти через весь Китай, из степей в тропики, набрать новую армию и перейти от тактики пограничного патрулирования к боевым действиям в джунглях. Проблема и здесь имела этнической характер, хотя приобрела явную националистическую окраску. Коренные жители Юэ восстали против власти Хань и особенно против притока ханьских переселенцев в бассейн реки Хонгха (Красной реки). Если на севере Китая ханьские поселенцы отступали, на юге они вторгались; масштабное переселение, которое в течение следующих нескольких столетий изменило общую картину народонаселения Китая, набирало обороты.
Мало обеспокоенный демографическими тенденциями Ма Юань пришел во Вьетнам с явным численным превосходством. Снабжение следовало за ним морем из Гуандуна, и с восстанием было покончено к концу 43 г. Однако, учитывая, что иероглиф, обозначающий Юэ, на вьетнамском языке читается как «Вьет», а возглавить сопротивление в Юэ выпало двум отчаянно мужественным сестрам (на китайском их называют Чжэн, на вьетнамском Чынг), неудивительно, что в дальнейшем вьетнамские патриоты воспели эту борьбу как первое «народное восстание» угнетенного народа. Окруженная романтическим ореолом история о сопротивлении Вьетнама генералу Ма превратилась в национальный эпос, изобилующий красочными деталями. В нем рассказывается, как одна из сестер Чынг, подобно Боудикке1, ехала на поле битвы на спине слона, грудь же ее покоилась на перекинутых через плечи седельных сумках, — вероятно, с некоторыми редакторскими поправками в этом приспособлении можно усмотреть первое достоверное упоминание топа с перекидной петлей или бюстгальтера. Китайские источники утверждают, что генерал Ма дал Юэ (Вьет) возможность мирно воспринять китайские обычаи и положил конец бесконечной племенной вражде. Безусловно, Северный
1 Боудикка (лат. Боадицея) — предводительница антиримского восстания бриттского племени иценов в 61 г. н. э. — Прим. ред.
236
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
Вьетнам подвергся интенсивной китаизации, и, несмотря на постоянные проблемы, следующее «национальное восстание» произошло очень не скоро. Фактически долина Красной реки оставалась в той или иной степени подчинения у китайской империи все следующее тысячелетие. Однако вьетнамцы предпочитают не вспоминать об этом долгом перерыве в национальной борьбе, и, что совсем не удивительно, в Ханое вы вряд ли найдете храмы, посвященные Ма Юаню.
Не успел Ма Юань вернуться к императору гуанъу-ди в Лоян, как получил новое поручение. На этот раз ему предстояло подавить беспорядки в северных степях на границе Шаньси и Внутренней Монголии. В этой области, а также вдоль всей Великой стены сюнну воспользовались недавними гражданскими волнениями, чтобы снова заявить о себе. Отчасти благодаря собственным усилиям, отчасти благодаря нерегулярной поддержке отступников из числа китайских военачальников и северо-восточных кочевых народов уосуань и сяньби (сяньбэй), сюнну вернули себе практически все территории, которыми некогда правил великий шаньюй Маодунь. Разбойные отряды доезжали до разрушенных гробниц предков Ранней Хань в Чанъане, а далеко на западе угрожали сохранившим верность усуням. Ордос снова перешел в руки сюнну, та же участь постигла многие города- оазисы Северного Синьцзяна к западу от него и даже пахотные земли Шаньси и Хэбэя к востоку.
Именно там располагался новый театр боевых действий военачальника Ма. В 45 г. н. э. он разбил лагерь к западу от того места, где сейчас находится Пекин, и выступил оттуда на север, в Монголию. Но сюнну уклонялись от битвы, и нападение, которое должно было стать неожиданным для союзников-ухуаней, окончилось неожиданностью для самого Ма: он потерял тысячу всадников. Однако он задержался в этих местах еще на год, хотя больше не предпринимал никаких активных действий — вероятно, в этом отпала необходимость. В 46 г. н. э. шаньюй умер, среди кочевников разгорелась борьба за власть, и сюнну пали жертвой своих союзников-ухуаней. «Агрессивная политика вряд ли представлялась Китаю целесообразной, — пишет специалист по истории северной границы Рейф де Кре- спиньи, — когда враги сами истребляли друг друга самым удобным образом» [16]. Не утратив, таким образом, воинской чести, генерал Ма снова двинулся дальше. Он жил, чтобы сражаться, и погиб, подавляя очередное, четвертое по счету, восстание на севере Хунани.
237
ГЛАВА 6
История присутствия сюнну на границе на этом не закончилась, однако междоусобная борьба после смерти шаньюя в 46-49 гг. н. э. стала предвестником конца государства сюнну. Повторив историю столетней давности, в 51 г. н. э. один из претендентов на титул шаньюя обратился в Лоян за поддержкой и предложил свою верность, а также скромную дань. В ответ он получил от Хань признание своего титула и подчеркнуто более щедрые подарки — десять тысяч тюков шелковой ткани, две с половиной тонны шелка-сырца, пятьсот тонн риса и тридцать шесть тысяч голов крупного рогатого скота. Данники всегда обходились империи недешево, и шаньюй «южных сюнну», обменяв раболепные поклоны на товары, а суверенитет на безопасность, возможно, заключил куда более выгодную сделку, чем его предки, связанные договором «мира через родство». Более того, подарки были лишь первым взносом, вслед за которым южные сюнну стали, по сути, получать ежегодные субсидии. Согласно некоторым оценкам, к 91 г. н. э. сюнну обходились казначейству Хань в сто миллионов монет в год.
При этом они не единственные сумели извлечь выгоду из политики Хань, стремившейся поддерживать мир на границе. Ухуани и иногда сяньбэй тоже получали вознаграждение за то, что помогали Хань против враждебных «северных сюнну» или друг против друга. Около трех миллионов ухуаней поселились внутри границ империи. Армия Хань охотно приняла бесстрашных всадников, а сами ухуани вслед за южными сюнну охотно приняли регулярную материальную помощь. Иначе обстояло дело с народом сяньбэй (сяньби, сарби). Они помогли Хань отразить нападение северных сюнну в 91 г. н.э. и постепенно заполняли собой пустоту, образовавшуюся в Монголии после отхода сюнну. Во второй половине II века сянбэй возглавили новую кочевую конфедерацию, которая представляла для поздней Хань еще более серьезную угрозу, чем некогда союз сюнну.
Все эти пограничные народы заслуживают более пристального внимания, чем уделяет им большинство китайских источников. Росписи гробниц, обнаруженных во Внутренней Монголии, изображают этих кочевников бритыми, иногда с могиканским пучком на голове, и небрежно одетыми. Ухуани и сяньбэй, по-видимому, происходили из Восточной Монголии или Западной Маньчжурии, хотя попытки идентифицировать их с этнической точки зрения как протомонголов имеют под собой меньше оснований, чем идентифика¬
238
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
ция народа цян как прототибетцев. Они жили в юртах, занимались скотоводством и отлично ездили верхом. Что более важно, в результате умиротворяющей политики Лояна они (вместе с цянами) заняли обширные районы внутри северной, северо-западной и северо-восточной границы Позднеханьской империи.
Для Хань это была палка о двух концах. Данники были завоеваны, северная граница вернулась туда, где находилась при Ранней Хань. Но это стоило дорого. Высказывалось мнение, что субсидии в любом случае обходятся дешевле, чем военные кампании и содержание гарнизонов, которые были бы иначе необходимы. Однако включение в состав империи обширных групп чужеродного населения, недовольного дискриминацией со стороны соседей-ханьцев и во многих областях превосходящего их численностью, привело к разрушительным последствиям. Первоначально неграмотные и чуждые всем основам китайской цивилизации, цяны, сюнну, ухуани и сянь- бэй в постханьский период сыграли в истории решающую роль. Подобно народам Чу и Цинь ранее в период Сражающихся царств, они пришли на центральную равнину сначала как наемники, а потом как вершители судеб. Исподволь перемешиваясь с народами, сегодня считающими себя ханьскими китайцами, иноземные «данники» влились в основное коренное население, и после этого течение истории Китая принадлежит им настолько же, насколько их прежним врагам-хань.
Что касается Западных земель, где среди пересекающихся шелковых путей лежали архипелаги оазисов, коридор Ганьсу и Синьцзян, здесь Поздняя Хань вела себя неопределенно. Почти полвека (25-73) она не предпринимала никаких попыток вернуть эту область. Шачэ (Яркенд), основное государство на крайнем юго-западе Синьцзяна, ненадолго установило гегемонию над другими оазисными государствами, но вскоре по всему региону распространились северные сюнну, то совершавшие набеги, то желавшие торговать. Колонии, созданные Ранней Хань, оставались на осадном положении (если вообще сохранились), Нефритовые врата Шелкового пути около Дунь- хуана чаще стояли запертыми на засовы, чем открытыми. Однако все это не сподвигло Хань на активные действия. В ретроспективе налаженный в прошлом веке обмен с дальними странами, который китайцы считали данью, а данники — торговлей, представлялся все менее выгодным и целесообразным. В какой-то момент двустороннее движение по Шелковому пути стало достаточно оживленным, почти
239
ГЛАВА 6
постоянным. Однако его престижная ценность для ханьского двора снизилась. Очевидно, система скрывала в себе слишком много подводных камней.
С особенной наглядностью это показывает доклад китайского чиновника, посвященный отношениям с Кашмиром. Эта страна к югу- западу от Синьцзяна, по другую сторону одного из двух высочайших горных хребтов мира, была явно недосягаема для ханьского оружия и малодоступна даже для ханьских посланников. На горных тропах было неоткуда пополнять припасы, для защиты от разбойников требовался военный эскорт, экстремальные высоты Куньлуня и Каракорума оказывали на людей такое действие, что китайцы называли их хребтами большой и малой головной боли. Во многих местах дорога, вероятно, следовавшая вдоль рек Ханза, Гильгит и Инд, сужалась и шла по скальным карнизам шириной менее 45 сантиметров. Чтобы преодолеть их, путешественникам приходилось связываться между собой веревками. «Опасность обрывов и пропастей не поддается описанию», — говорится в докладе. Однако в течение века довольно многочисленные посольства время от времени пробирались вперед и назад, чтобы передать уверения в верности от имени Кашмира и присвоить титулы от имени императора. В обоих направлениях они несли товар — шерстяные ткани, вышивку и индийские продукты из Кашмира, крупные партии шелка из Китая. Надежно защищенные в гималайской твердыне, кашмирцы не терпели вмешательства в свои внутренние дела и даже уничтожили одну миссию Хань, которая попыталась это сделать. Потом были принесены извинения и повторные изъявления верности, и обмен посольствами возобновился. Издавна славившиеся оборотистостью в торговле, кашмирцы использовали статус данников Хань и защиту, которую это давало, чтобы вести коммерческую деятельность. Как сообщается в докладе, «посланники, отправленные передать приказания императора», должны были вместо этого «сопровождать торговцев-варваров» [17].
Однако вернуться в Синьцзян Хань убедили не дань и не торговля, а сюнну. В 73, 74 и 77 гг. войска, выступив из Ганьсу, отбросили северных сюнну в глубь Монголии и снова оккупировали северные синьцзянские оазисы Турфан и Комул. В этих походах участвовал Бань Чао, брат авторов «Хань шу», и именно он в 90-х гг. провел ряд победоносных кампаний, восстановивших господство Хань во всем Синьцзяне. Как военачальник — защитник Западных областей (должность,
240
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
не существовавшая со времен завоеваний Ранней Хань), Бань Чао контролировал возвращение ханьских колонистов и их расселение вдоль Шелкового пути, а также возобновление контактов с государствами Центральной Азии. В 97 г. н. э. посольство, во главе которого стоял его подчиненный Гань Ин, отправилось в Да Цинь, далекую землю, где явно большим спросом пользовался китайский шелк. Вероятно, это была Римская империя, по крайней мере, ее восточные провинции. К сожалению, этой встрече не суждено было состояться: миссию задержали в Парфии; тамошние купцы, так же как торговцы Согдианы (Самарканда), не собирались терпеть конкурентов в сухопутной торговле.
Горизонты империи, максимально расширившиеся в начале 1-го столетия до н.э. при Ранней Хань, казалось, снова начали раскрываться в конце I века н. э. в эпоху Поздней Хань. По другую сторону Китая, в Северной Корее, открытые в XX веке богатые ханьские захоронения подтвердили обрывочные письменные сведения о завоеваниях и военных округах, возникших на Корейском полуострове в правление У-ди. Однако при отсутствии явной внешней угрозы ханьская политика в этом секторе вызывала мало интереса у летописцев. Более заметно присутствие Хань сказалось на культуре этого региона. Конфуцианские ценности и полезные изобретения, в том числе грамотность и бумага (начало ее изготовления датируется I- II веками н. э.) распространились по Корейскому полуострову, а затем пересекли Цусимский пролив. В 57 и 107 гг. в Лояне были приняты первые два посольства с острова Кюсю Японского архипелага. Почти в то же время в ханьских текстах появились упоминания об уважаемом учителе, которого в Китае называли Фо, а в Индии Буддой. Горизонты ханьского Китая охватывали континентальную часть Евразии от Японского моря до Ганга и Тибра.
Но вскоре они начали сужаться. В начале II века ханьскую администрацию в Корее вытеснили в провинцию Ляодун, вскоре после этого были оставлены (в очередной раз) Западные края. Здесь главной причиной послужили непомерные расходы на содержание карликовых государств-данников и отдаленных колоний. Свою роль сыграли и вновь обострившиеся отношения с народом цянов в коридоре Ганьсу, поставившие под угрозу доступ в эту область. Восстания цянов вспыхивали одно за другим. В 168 г. Хань вынужденно оставила три военных округа в Ганьсу, в результате чего знаменитый «коридор»
241
ГЛАВА 6
сузился до размеров трещины. Некоторые предлагали полностью отступить из восточной Ганьсу, но это встретило активное сопротивление, прежде всего со стороны самой Ганьсу. Когда в 184 г. регион снова охватило восстание, ханьское население объединилось с соседями цянами и сюнну. Одна группировка повстанцев даже приняла название «Пин Хань», что означает «Умиротворение Хань». Сама империя теперь превратилась в мишень, и под руководством Дун Чжо, одного из самых влиятельных военачальников Ганьсу, это восстание «сыграло ключевую роль в закате и упадке империи Хань» [18].
ЗАКАТ И УПАДОК
Подобно последним императорам Рима, императоры Поздней Хань редко заслуживают упоминания в связи с собственными деяниями или хотя бы с тем, что было совершено их именем. После 88 г. н. э. власть наследовала разношерстная компания из сменявших друг друга младенцев, инвалидов, безвольных и слабоумных. Классические истории критикуют их, но они достойны скорее жалости, чем порицания. Даты их правления помогают разбить на отрезки длительный период времени, хотя в действительности смена императора редко знаменовала собой действительную смену власти или изменение политического курса. Власть переходила не от императора к императору, а от одной придворной фракции к другой, а политику, в тех случаях, где она прослеживается, диктовали внешние обстоятельства.
В официальных летописях основание империи Хань (206) предшествует воцарению ее первого императора (202), и точно так же формальное окончание династии (220) датировано существенно позднее ее фактического упадка (184-189, если не раньше). Существование династий и созданных ими империй зачастую не совпадало на хронологической шкале. Официальные истории, подчеркивая максимальную продолжительность династии, обычно пытались скрыть гораздо более краткое существование соответствующей империи. Добавляя годы и десятилетия на обоих концах — как бы растягивая династию во времени — историкам удавалось создать нужное впечатление: единая империя представлялось правилом, а ее распад — недолговечным исключением. В официальных историях, написанных по заказу императорского двора столичными учеными-бюрокра-
242
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
тами, явно чувствуется стремление возвеличить центральную власть и приписать ей долгое правление. Повествование естественным образом сосредоточено на придворных происшествиях и интригах. Официальные истории — это взгляд на империю из Лояна.
Но если смотреть из Сычуани, Шаньдуна или бассейна Янцзы, не говоря уже о пограничных областях, все выглядело иначе. Поздняя Хань так и не смогла покончить с восстаниями, и лишь на тридцать лет после гуанъу-ди (то есть в 58-88 гг. н. э.) династия избавилась от крупных провинциальных или религиозных мятежей, во главе которых стояли новые претенденты на трон. Однажды, в 145 г. н. э., на сцену вышли как минимум три мятежных императора, еще четверо последовали их примеру в следующее десятилетие. Пожалуй, за два столетия существования единой империи Поздней Хань можно насчитать столько же конкурирующих императоров, сколько в любые два столетия наступившего вслед за ней периода раздробленности.
Интриги и кровавые междоусобицы при дворе Поздней Хань отражали динамику борьбы в масштабе империи и одновременно подстрекали ее. Поначалу все шло хорошо. После смерти гуанъу-ди его сын, а затем внук продолжали более-менее успешно управлять кон- курировашими группировками. Мин-ди (пр. 58-75) сделал императрицей дочь военачальника Ма Юаня, умилостивив могущественный клан Ма на северо-западе и разрушив планы их соперников, часть которых была затем казнена или изгнана. Однако Чжан-ди (пр. 75- 88) выбрал супругу из соперничающего клана Доу из провинции Хэнань, что привело к падению клана Ма, ставленники которого попали в тюрьму и/или покончили с собой.
Во всем этом не было ничего необыкновенного: милость императора всегда была ненадежной, а за ее утратой обычно следовала смерть. При этом оба императора довольно удачно решили чреватую неприятностями проблему правопреемства, учитывая, что ни одна из законных императриц не смогла родить сыновей. В этом случае положение императрицы обычно становилось крайне непрочным, и ее могли заменить какой-нибудь «изящной дамой», сумевшей подарить императору наследника; это пятнало репутацию императрицы и вело к ниспровержению (или даже хуже) ее клана. Но на сей раз о подобных случайностях позаботились заблаговременно. Супруга Мин-ди благоразумно привлекла на свою сторону ожидавшую ребенка фаворитку императора и устроила так, чтобы ее сына считали ребенком
243
ГЛАВА 6
самой императрицы. Супруга Чжан-ди превзошла предшественницу и приблизила к себе сразу двух сестер Лян, одна из которых в положенный срок родила будущего Хэ-ди (пр. 88-106). Однако подобные договоренности таили в себе определенный риск: мать потенциального наследника могла забыть о своих обещаниях, настроить императора против законной императрицы и занять ее место, одновременно вытеснив ее семью с властных позиций. Именно так в конце концов поступили сестры Лян. Поэтому гораздо более удобной — практически идеальной — представлялась ситуация, когда у избранной императором официальной супруги имелась привлекательная сестра. Таким образом, одна семья получала двойной шанс обеспечить императору наследника и сохранить влияние в следующем поколении. Позднее обычай в качестве страховки выбирать императрицу с сестрой стал довольно распространенным.
Воцарение Хэ-ди в 88 г. осложнялось его несовершеннолетием: ему было всего девять лет. Традиция, уходившая корнями во времена вдовствующей императрицы Ван (супруги Чэн-ди и тетки Ван Мана) и вдовствующей императрицы Люй (супруги и фактической преемницы Гао-цзу), теперь открыла дорогу к власти вдовствующей императрице Доу, вдове покойного отца Хэ-ди. Традиция подразумевала, что малолетнему императору будет назначен регент, который мог, как почитаемый Чжоу-гун, взять на себя бремя правления, а мог, как Ван Ман и Хо Гуан, бессовестно манипулировать престолонаследием. Разумеется, на пост регента вдовствующая императрица выбрала одного из своих братьев, Доу Сяня. Таким образом, в 90 г. клан Доу, казалось, обрел несокрушимую власть.
Но это продолжалось всего пару лет. В начале 91г. Хэ-ди достиг совершеннолетия и принял императорский головной убор и печати. Восемнадцать месяцев спустя, опираясь на советы и активную поддержку старшего евнуха дворца, Хэ-ди фактически организовал переворот, избавившись от клана Доу и их удушающей заботы. Доу Сянь и его братья сочли за лучшее совершить самоубийство, их многочисленные сторонники, в том числе Бань Гу, главный автор «Хань шу», были казнены или умерли в заточении, а вдовствующей императрице сохранили жизнь, но запретили появляться в обществе.
Однако у Хэ-ди были свои проблемы с наследником. Одна, а затем другая императрица не смогли родить ему сына. Когда он умер в 106 г., его вторая супруга, вдовствующая императрица Дэн при под¬
244
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
держке семьи выбрала преемником Шан-ди (пр. 106). В то время Шан-ди было всего три месяца от роду, и ему так и не суждено было повзрослеть: он умер еще до своего первого дня рождения. Его сменил двенадцатилетний Ань-ди (пр. 106-125), по сравнению с предшественником выглядевший закаленным бойцом. Его совершеннолетие неуклонно приближалось, и вместе с ним росли шансы на то, что император в самом деле начнет править и самостоятельно принимать решения о престолонаследии. Увы, Ань-ди не справился ни с одной из этих задач. Он был слабым и некомпетентным и в памяти потомков остался, по общему согласию, как «худший государь двух Хань» [19]. В его правление Западные края пришли в запустение, нападения цянов возобновились, а стихийные бедствия снова потрясли центральные области империи.
Постепенно начала вырисовываться закономерность. Императоры вместо того, чтобы руководить своими сторонниками, чаще сами попадали под их влияние. В династической борьбе, характеризовавшей последние дни Поздней Хань, участвовали практически все — за исключением военных. Среди соперничавших фракций и группировок бюрократия в том виде, который она приобрела при Поздней Хань, была активной, но не самой значительной силой. Скорее она служила источником покровительства. Высокие бюрократические должности считались синекурой, их раздавали как награды, а к концу II века н. э. открыто продавали по высокой цене. Исполнительные функции бюрократии постепенно узурпировал отдельный орган — департамент государственных дел, который осуществлял верховную исполнительную власть и обзаводился собственными канцеляриями или коллегиями. При Поздней Хань в него входили люди, чьим основным достоинством было не знание классики, а близость к императору или его действующим заместителям.
Между тем широкие административные обязанности бюрократии подвергались не только ограничению сверху, но и дроблению снизу. Все больше земель вместе с населением и продукцией, которую оно производило, — по сути, налоговая база империи — частично отчуждалось в виде наследных наделов (для младших потомков императора) и особенно уделов (главным образом для родственников и свиты соперничающих императриц). Таким образом, по отдельности старые военные округа и уезды сокращались в размерах, а в совокупности они подчинялись вышестоящим структурам провинции
245
ГЛАВА 6
или области (чжоу). Первоначально контроль в этих провинциях осуществляли приезжавшие инспекторы («пастухи», или цензоры), которые наблюдали за работой бюрократических учреждений. Но со временем инспектора™ стали постоянными, обосновались в провинциальных столицах и приобрели собственные бюрократические, а начиная с 180 г. даже военные подразделения. Таким образом, первичное административное деление империи теперь было представлено примерно дюжиной провинций, разделенных на военные округа и уезды вперемешку с наследными наделами и уделами, пронизанными периферийными феодальными зависимостями. Попадая под командование военного феодала, они становились надежной опорой для соперников Хань, которые оспаривали власть династии и в конце концов свергли ее.
Еще активнее, чем бюрократия, стремились к богатству и власти представительницы параллельного, строго иерархичного мира императорского гарема. Император пользовался услугами сотен, нередко тысяч молодых женщин. Их, как и чиновников, представляли ко двору семьи либо местные должностные лица, и они тоже проходили своеобразный экзамен. Эта проверка не требовала от соискательницы подавать письменную работу, но имела крайне обстоятельный и интимный характер: особое внимание обращали на безупречный цвет лица девушки, ее фигуру, телосложение и девственность, а также ее манеры, способности и репутацию ее семьи. «Кожа белая и гладкая... живот округлый, бедра угловатые, тело словно застывшее сало или резной нефрит, груди выпуклые, пупок достаточно глубокий, чтобы в нем уместилась жемчужина, — сообщал один экзаменатор. — Никаких рубцов, бородавок, родимых пятен, язв и других несовершенств не имеется во рту, в носу, под мышками, в интимных местах и на подошвах ног» [20]. От результата такой проверки могла зависеть судьба всей семьи. Если император выбирал кандидатку и «приближал к себе», к ее родственникам рекой устремлялись звания, должности и почести. Если ей удавалось родить императору сына, поток милостей превращался в водопад, а статус женщины среди домочадцев императора резко повышался. Дпя девушки, стремившейся стать кандидаткой в императрицы, мощная поддержка значила намного больше, чем любовь самого императора. Но дело стоило того: у правителей Поздней Хань редко рождались сыновья, и шанс повлиять на престолонаследие представлялся крайне соблазнительным.
246
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
Однако в официальных историях мы находим немало рассказов об императорах, которым женщины настолько вскружили голову, что они совершенно забыли о долге и стали глухи к бедствиям империи. Супруги и вдовствующие императрицы нередко изображаются коварными и злобными особами, лишенными чувства долга и не в последнюю очередь виновными в бесконечных интригах и массовых дворцовых убийствах. С космической точки зрения это положение дел объяснялось тем, что пассивное женственное начало инь обрело катастрофическую власть над своей активной мужественной противоположностью ян. Однако все это вызывает сомнения, и не только потому, что попахивает гендерными предрассудками — нам известна только одна занимавшаяся историей женщина эпохи Хань, но и по другим, более серьезным причинам.
Бань Чжао, та самая ученая, которая закончила «Хань шу» после казни своего брата Бань Гу, написала еще одно сочинение под названием «Наставление для женщин». Эти наставления вряд ли способны были укрепить права и расширить возможности женщин. Роль женщины заключалась в добровольном и неутомимом служении своей семье, мужу и родственникам мужа, главную заботу женщины составляли личная гигиена и целомудренное поведение, а к подобающим занятиям относились шитье, ткачество и несложные кухонные обязанности. Однако Бань Чжао призывала дать женщинам возможность получить образование, и в конце I — начале И века она занимала должность наставницы и советницы при второй супруге Хэ-ди, императрице, а затем вдовствующей императрице Дэн. Неизвестно, как сильно Бань Чжао повлияла на свою ученицу, но представляется маловероятным, чтобы императрицы, зачастую едва успевавшие выйти из детского возраста к тому моменту, когда император обращал на них свой взор, могли достичь больших высот в макиавеллианских искусствах. Обычно в молодости они служили инструментом в руках своей семьи, а становясь старше, превращались в династического козла отпущения для конфуцианских ученых.
Лучше понять роль женщин в эпоху Поздней Хань и значение свадебных покоев как пути к высокому социальному и политическому статусу во многом помогли гендерно-ориентированные научные работы недавнего времени. Презрительное отношение к трудящемуся крестьянству, которое раньше было принято рассматривать только как полезное, но непредсказуемое явление, сродни погоде, также было
247
ГЛАВА 6
оспорено историками, воспитанными в традициях пролетарской революции. Однако в отношении еще одной влиятельной и весьма характерной составляющей придворной жизни — евнухов — подобной положительной переоценки пока сделано не было.
Такие фразы, как «порочное засилье евнухов», воспроизводят на страницах учебников стереотипные представления о коварном коррумпированном братстве тонкоголосых негодяев, и исправить эти представления пока еще никто не взялся [21]. Этот взгляд на евнухов впервые появился в «Хань шу», а оттуда перекочевал в следующие официальные истории. Авторы этих текстов считают кастрацию позорной и без смущения употребляют слова наподобие «каплун» или «мерин». При этом даже хуже, чем физическое увечье, было отречение от конфуцианских ценностей, прямо подразумеваемое невозможностью иметь потомков. Ради легкой жизни около племенного поголовья супруг и наложниц своего хозяина евнух уклонялся от собственных репродуктивных обязанностей и обрывал нить своей родословной. Это было равносильно отречению от веры. У него не было ни наследников, которые исполнили бы для него погребальные обряды, ни потомков, которые могли бы воздать почести ему и его предкам. Неудивительно, что к человеку, который так нагло попирал все, что в обществе считалось священным, относились как к изгою.
В период интенсивной борьбы фракций, когда судьбы государства решались в женских покоях дворцового комплекса Лояна, доступ к этим покоям и влияние, которым пользовались евнухи, играли ключевую роль. Поскольку евнухи мало упоминаются до эпохи Поздней Хань, раньше считали, что их возвышение произошло именно в этот период. Но возможно, такое впечатление складывается только потому, что почти вся предшествующая история излагается по «Историческим запискам», завершение которых, как мы помним, стоило их автору собственной мужественности. Сам будучи евнухом, Сыма Цянь не намерен был распространяться о лакейской роли других пострадавших или осыпать их обвинениями и унизительными кличками. Он болезненно остро осознавал, что кастрация — это наказание, а не способ сделать карьеру, и поскольку он сам стал отцом до того, как был искалечен, он понимал, что положение евнуха на самом деле не исключает возможности иметь потомство. Даже тот, кто был евнухом с детства, мог завести детей через усыновление. Это был вполне распространенный обычай, и в эпоху Поздней Хань
248
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
«отцы»-евнухи завоевали право передавать свои ранги и должности приемным наследникам.
Когда в 125 г. Ань-ди умер, не оставив четких указаний о том, кто должен стать преемником, его бездетная императрица совершила традиционный набег на дворцовые ясли. Но ее выбор — младенец Лю И (посмертное имя Шао-ди) — оказался неудачным. Он умер в возрасте одного года, и не успели у кормилиц забрать очередное дитя, как дворцовый переворот возвел на трон единственного сына Ань-ди — рожденного наложницей одиннадцатилетнего Шунь-ди (пр. 125— 144). Переворот, как обычно сопровождавшийся казнями и самоубийствами, имел особенную важность в том смысле, что это был первый переворот, подготовленный и организованный евнухами. Более того, евнухи отдали предпочтение кандидату, который имел неплохие шансы достигнуть зрелости, а значит, не зависел от тяжкой опеки вдовствующей императрицы Дэн и ее сторонников. Шунь-ди был благодарен; впоследствии дворцовые евнухи нередко защищали императорскую власть от посягательств разнообразных закулисных фигур — вдовствующих императриц, регентов, бюрократов и военачальников.
Такая верность династии могла бы завоевать евнухам более благосклонное отношение потомства, если бы они, вслед за остальными, не воспользовались ею как предлогом, чтобы вознаградить себя, выпрашивая у императора пожалования и почести и принимая деятельное участие в круговороте придворных фракций. Воцарение Шунь-ди возвратило власть клану Лян, одна из дочерей которого стала императрицей. С помощью регентов и императорских невест семья Лян оставалась у власти до 159 г. Тем временем императоры приходили и уходили, и большинство из них были малыми детьми с подозрительно краткой продолжительностью жизни. Ни один из последних девяти императоров Поздней Хань на момент вступления на престол не был совершеннолетним.
Крупное землетрясение в 133 г. и засуха в 134 г. стали предвестниками беспорядков на дальнем юге, набегов сяньбэй на севере и восстаний в Ганьсу. Все это было истолковано как дурные знамения и спровоцировало после 145 г. появление череды мятежных императоров и возобновление ученых диспутов о Небесном мандате и будущем династии. Беспорядки не прекратились, даже когда императору Хуань-ди (пр. 146-168) удалось достичь совершеннолетия. Так же как
249
ГЛАВА 6
Хэ-ди, Хуань-ди восстал против своего опекуна с материнской стороны и вскоре начал борьбу с фракцией Лян. Во многом благодаря поддержке евнухов Лян были изгнаны (конечно, не обошлось без привычного кровопролития). Затем Хуань-ди выбрал невесту — точнее, сам был выбран женихом для барышни Дэн, которую быстро сменила барышня Доу. Однако несчастья продолжались. Хуань-ди умер, ни одна из императриц не родила ему сына, и сам он не назначил преемника. Т^юн снова опустел, и его мог занять кто угодно. Следуя освященному временем обычаю, двадцатилетняя императрица Доу посадила на трон очередного ребенка и назначила регентом своего отца, тем самым восстановив власть великого северо-западного клана Доу.
Регент Доу задумал покончить с засильем евнухов: к тому времени их позиции были достаточно сильны, чтобы помешать очередной фракции завоевать монополию на власть и покровительство. Не слишком сложный план заговора заключался в убийстве всех дворцовых евнухов, однако о нем стало известно заранее. Предупрежденные об опасности евнухи сплотились, захватили молодого императора и вдовствующую императрицу и, пользуясь их полномочиями, вызвали войска для защиты северного и южного дворцов Лояна и соединяющего их перехода. Регент Доу и его сторонники тоже призвали на помощь военных. Противоположные стороны столкнулись, обмениваясь оскорблениями и выкрикивая угрозы. Но в этот раз никаких боевых действий не было: люди регента Доу отступились от него. Он, а также его сторонники и члены их семей — вероятно, несколько сотен человек — были убиты либо покончили с собой. Однако ввод войск в столицу создал опасный новый прецедент.
Новым императором стал Лин-ди (пр. 168-189), оспаривающий у Ань-ди звание худшего правителя династии. Он достиг совершеннолетия в 171 г., но на протяжении всего своего правления оставался безнадежно зависимым от поддержки евнухов. С падением рода Доу евнухи начали преследовать ставленников Доу в бюрократическом аппарате. Это привело к кровопролитной чистке в рядах оппозиционной клики и появлению так называемой великой проскрипции. Когда тринадцатилетнему императору принесли на подпись соответствующие документы, он осмелился спросить, что значит «проскрипция» и что такое «клика». Ему объяснили, что первая смещает с должности вторую, а члены клики — это все, кто связан родственными узами с лишенными мест чиновниками. Впоследствии расширенный, этот
250
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
запрет окончательно подорвал власть семейных фракций и передал в руки евнухов и их приспешников прибыльную монополию на все высокие должности в дворцовом секретариате и старой бюрократии.
В 170-х гг. нарастало возмущение, вызванное великой проскрипцией и прочими злоупотреблениями. В провинциях не утихали беспорядки, все громче раздавались недовольные голоса, юг снова охватило волнение, вся северная граница оказалась во власти конфедерации сяньбэй, во главе которой стоял Таныиихай (Таныиихуай), предводитель кочевников, продолживший великую традицию Мао- дуня и предвосхитивший деяния пришедшего позднее Чингисхана. Но все эти неприятности померкли на фоне народного восстания, вспыхнувшего в 184 г. «За несколько недель мятеж охватил всю империю, и столица трепетала в страхе», — сообщает выписка из официальной истории [22].
Как и движение «краснобровых» в правление Ван Мана, движение «желтых повязок» было вызвано глубоким возмущением народа в ответ на сельскохозяйственные бедствия и административную коррупцию. Дополнительное воодушевление восставшим придавало то, что их предводитель обладал магическими силами и умел чудесным образом исцелять болезни. Благодаря этому его пророчества о наступлении новой эпохи мира и изобилия звучали особенно убедительно, и его последователей переполняло почти религиозное рвение. Что вызывало еще большее беспокойство — а предзнаменования, все как на подбор дурные, возникали даже чаще, чем восстания, — «желтые повязки» вовсе не делали вид, будто ими движет верность империи Хань; напротив, они прямо заявляли, что собираются свергнуть династию и покончить с ее сторонниками.
В более спокойные времена подобная угроза могла бы сплотить враждующие фракции в Лояне. Но двор и правительство оказались совершенно неподготовленными к такому повороту событий. Повстанцы быстро проникли в город — в Лояне выследили и схватили тысячу «желтых повязок». Собиравшиеся под стенами города огромные толпы мятежников усугубили напряженную обстановку при дворе и заставили всю империю взяться за оружие. Поскольку ополченцы из военных округов вряд ли могли совладать с таким количеством мятежников, в провинциальные инспектораты были впервые отправлены регулярные войска. Одновременно экспедиционные корпуса выступили из Лояна, что послужило поводом еще для од¬
251
ГЛАВА 6
ного новшества того периода — создания армии евнухов или, точнее, дворцовой гвардии под контролем евнухов. Как и в последние дни Ван Мана, борьба за командование выносила на поле боя поспешно назначенных военачальников с самыми витиеватыми титулами. От Ганьсу до Шаньдуна множились армии, верность которых вызывала сомнение. Мятежников в желтых повязках время от времени удавалось победить, но никак не удавалось окончательно искоренить, а военачальники, хотя утверждали, что победа одержана, не торопились распускать свои армии.
В 189 г. с восстанием еще далеко не было покончено, но Лин-ди заболел и умер. Неизбежный кризис преемственности вряд ли мог наступить в более неподходящее время. Дун Чжо, прямолинейный генерал из Ганьсу, воевавший на востоке, не собирался складывать оружие. Он вместе со своей армией двинулся вперед, встал на расстоянии двухдневного перехода от столицы и стал ждать развития событий. К счастью, Лин-ди оставил двух сыновей от разных императриц — мальчикам было тринадцать и восемь лет. Само по себе это уже было немалым достижением, однако Лин-ди не указал, кто из них должен стать наследником. Поэтому выбирать пришлось евнухам: они по-прежнему контролировали все главные государственные должности, хотя великую проскрипцию вскоре после начала восстания «желтых повязок» пришлось отменить.
Евнухи выбрали старшего и явно менее сообразительного из двух мальчиков. Он взошел на трон как Шао-ди (189); его мать, дочь мясника, стала вдовствующей императрицей, а ее брат — действующим регентом. Все это слишком напоминало события 168 г. и погром, который привел евнухов к власти, поэтому вызвало в обществе закономерную реакцию. Регент, подстрекаемый одной из постоянно соперничающих фракций, замыслил покончить с евнухами. Евнухи снова узнали об этом заранее. Но на этот раз заговорщики успели вызвать военную поддержку, в том числе Дун Чжо и его таившуюся в засаде армию. Евнухам удалось заманить в ловушку и обезглавить регента, но это был их единственный успех. Их окружили, а затем атаковали в дворцовом комплексе Лояна, и они отступили из южного дворца по крытому переходу в северный дворец. С ними ушел молодой Шао-ди и его сводный брат. Дун Чжо по-прежнему стоял неподалеку от города; привлечь его на свою сторону мечтали многие, но немногие удостаивались его внимания. Однако в городе было достаточно солдат, чтобы
252
ВАН МАН И ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАНЬ. 1-189
довести начатое до конца. Пожар охватил южный дворец, все евнухи, числом около двух тысяч, были перебиты, а сводные братья-принцы таинственным образом исчезли.
Считалось, что они скрылись где-то в сельской местности, но для многих следующих поколений китайцев они перешли с исторической арены в более безопасную область художественной литературы. В тот момент, когда последние отпрыски Поздней Хань сбежали на просторы больше не принадлежавшей им империи, начинается один из величайших китайских исторических романов — «Т]эоецарствие».
«Когда Лин-ди закрыл глаза 13 мая 189 г., вместе с ним в определенном смысле скончалась и традиционная империя», — пишет один из авторов «Кембриджской истории Китая» [23]. Наступил новый период раздробленности. Это была непростая эпоха, однако роман сделал ее увлекательной, даже популярной. Роман «Троецарствие» имеет к истории такое же отношение, как легенды о короле Артуре или шекспировские пьесы, но его героев знают намного лучше, чем всех императоров Поздней Хань, вместе взятых, а динамичный тон повествования удерживает читателя в постоянном напряжении. Каждая из ста двадцати глав романа заканчивается одинаково — за острым мелодраматическим вопросом следуют слова: «Что же произошло после этого? Читайте дальше».
7
Четыре столетия неурядиц
(189-550)
ТРИ ЦАРСТВА И БИТВА У КРАСНОЙ СКАЛЫ
Не желая бросаться в бурные воды династических беспорядков, традиционные летописи Китая еще долго продолжали держаться за ханьский причал, даже когда это утратило всякий смысл. Восстание «желтых повязок» в 184 г. и вооруженный отклик на него разнообразных влиятельных фигур и областных вождей потрясли империю до основания; избиение евнухов в 189 г. лишило оставшихся императоров Хань поддержки единственной группы, полностью зависевшей от императорской власти и последовательно защищавшей ее. Ни для империи, ни для императора пути назад отныне не было. В 180-е гг. что-то неизбежно должно было измениться. Присутствие на троне Сына Неба из династии Лю служило лишь прикрытием для тех, кто намеревался занять его место. Как утверждала вернувшаяся в моду поговорка времен великой гражданской войны между Сян Юем и Лю Баном (Гао-цзу), «начался олений гон», то есть охота за Небесным мандатом.
Первый ход сделал Дун Чжо, свирепый военачальник из Ганьсу, который стоял с войском близ Лояна и наблюдал за событиями с плохо скрытым удовольствием. Получив сведения о местонахождении юного императора и его сводного брата, он перехватил их. Вероятно, мальчиков глубокой ночью тайно вывезли из дворца, и они бродили по сельской местности «при свете светлячков», пока не наткнулись на «повозку простолюдина», которую решили присвоить. Подробности
254
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
этого приключения, пересказанные младшим, более сообразительным из двух братьев, произвели на всех глубокое впечатление. Дун Чжо решил, что из младшего принца выйдет более удачный император, чем из его бессловесного сводного брата, поэтому, запугав всех несогласных и сославшись на манипуляции Хо гуана с внуками У-ди в 74 г. до н. э., он немедленно организовал передачу власти. Шао-ди был низложен, императором стал его сводный брат. Однако в памяти потомков навсегда остался образ Сынов Неба, трясущихся в крестьянской повозке по ночной дороге в Шаньси, — это стало квинтэссенцией образа падшего величия.
Под именем Сянь-ди младший брат относительно спокойно царствовал, если не управлял, в течение следующих тридцати лет (189- 220). Его низложенный сводный брат был тихо убит, других ханьских претендентов не нашлось — в самом деле, претендовать было особенно не на что. Таким образом, последний император Поздней Хань правил намного дольше всех своих предшественников, кроме самого первого. Хроническая проблема престолонаследия на фоне неотвратимого угасания династии утратила остроту.
Поначалу новый юный император Сянь-ди оставался под железным контролем Дун Чжо. Историки, весьма не любившие Дун Чжо, изображали его «жестоким», «мстительным», «беспощадно карающим» и возмутительно грубым человеком. Такое поведение вряд ли могло помочь договориться с противниками или покончить с восстаниями. «Бандиты и мятежники появлялись повсюду», — говорится в «Цзы-чжи тун-цзянь» («Всеопроницающем зерцале, управлению помогающем»), всеобъемлющей летописи, написанной только в XI веке, однако включающей в себя утраченные источники III века. Многие повстанческие банды вдохновлялись примером «желтых повязок», в некоторых насчитывалось по тридцать-сорок тысяч вооруженных мужчин, а их предводители с удовольствием носили леденящие кровь прозвища — Чжан Бычий Рог, Ядовитый Юй, Цзо С Усами в Восемьдесят Локтей и Пучеглазый Ли [1].
Однако все эти банды меркли на фоне войск, собранных кланами крупных землевладельцев и высокопоставленной знати. Отрекшись от верности Хань, но возмущенные притязаниями Дун Чжо, в 190 г. они начали объединяться против него. Имея надежную опору в провинциях и возможность привлечь к себе на службу способных советников и прославленных командиров, феодальные кланы напере¬
255
ГЛАВА 7
гонки устремились обратно в период Вёсен и Осеней и Сражающихся царств. Архаические государства — Шу (Сычуань), Вэй (юг Шаньси), У (нижнее течение Янцзы) и Чу (Хуайхэ и среднее течение Янцзы) возродились, удовлетворяя их территориальные претензии. Самые могущественные князья открыто стремились восстановить титул ба (^«гегемона»), рассчитывая взять под защиту обессиленную Позднюю Хань, как когда-то защищали обессиленное Позднее Чжоу.
Угроза с их стороны заставила Дун Чжо покинуть Лоян. Он отступил «к западу от проходов» в старую столицу Чанъань в долине реки Вэйхэ, более выгодную с оборонительной точки зрения и расположенную ближе к его собственной силовой базе. При этом он утверждал, что следует примеру Гао-цзу, переехавшего сюда в 209 г. до н. э.; новые государства (Чжоу, Цинь и Хань) всегда возникали на западе — возможно, он надеялся пойти по их стопам. Но даже если его план действительно был таков, он не имел успеха. Императора со свитой отправили в Чанъань, после чего солдаты Дун Чжо разграбили и сожгли Лоян дотла, а население города, около полумиллиона человек, под страхом смерти погнали на запад. Тысячи погибли по дороге, а оставшиеся в живых едва начали восстанавливать Чанъань, когда судьба снова ввергла их в пучину неопределенности — в 192 г. Дун Чжо был убит собственным телохранителем.
В следующие четыре года кровопролития и разрушения продолжались. Чанъань неоднократно грабили враждующие армии, город страдал от голода. К общему веселью присоединялись отряды живших неподалеку цянов и сюнну, получившие приглашение от враждующих военачальников. Императорский двор был лишь частью добычи. Передаваемый из рук в руки, словно безответная сирота, «обитая среди терний и акаций» и «блуждая без крова», император достиг совершеннолетия, выбрал императрицу и в конце концов был доставлен обратно в развалины Лояна. Оттуда его перевезли дальше на восток в Сюй. В этой прилегающей к Шаньдуну прибрежной провинции власть принадлежала хитроумному Цао Цао. В 196 г. Сянь-ди и его свита поступили под защиту семьи Цао.
Молодой император принес своим новым защитникам много пользы. Цао Цао он пожаловал титул Вэйского гуна в 213г. и царя (вана) Вэй в 216 г., тем самым дав основание для возникновения самого крупного из трех царств, на которые позднее распалась империя. Более того, в 220 г. Сянь-ди окончательно отрекся от императорского
256
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
престола в пользу Цао Пи, сына и преемника Цао Цао. Последний правитель империи Хань довольно легко поддался на уговоры, получил щедрую компенсацию и, судя по всему, жил после этого намного счастливее. Между тем семья Цао — отныне правящая династия империи Вэй — обосновалась в заново отстроенном Лояне. После мирной передачи власти они могли с полным правом заявить, что пользуются благосклонностью Небес, обладают Небесным мандатом и являются единственными законными преемниками славной Хань.
ГОСУДАРСТВА ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ в 220-590 гг.
ШЕСТНАДЦАТЬ (северных) ЦАРСТВ
Чэн Хань Хань Чжао Поздняя Чжаоч' Ранняя Лян Поздняя Лян , Западная Лян, Северная Лян _ Южная Лян Ранняя Цинь . Поздняя Цинь/ Западная Цинь Ранняя Янь Поздняя Янь i Северная Янь / Южная Янь Ся
ПЯТЬ СЕВЕРНЫХ ИМПЕРИЙ
/ВОСТОЧНАЯ
вэй
СЕВЕРНАЯ^ ЦИ
^СЕВЕРНАЯ| ВЭЙ
ЗАПАДНАЯ СЕВЕРНАЯ СУЙ
ВЭЙ ЧЖОУ
(ЛЮ)
СУН
ЦИ
ШЕСТЬ ЮЖНЫХ ИМПЕРИЙ
Но не все согласились с этим. Восстание «желтых повязок» и потрясавшие империю бедствия погубили одни влиятельные семьи, но возвысили другие. Как обычно, в условиях политической неустойчивости процветала социальная мобильность. Отважные воины, гениальные стратеги, опытные администраторы и красноречивые ученые имели широкий выбор покровителей, охотно пользующихся всем, что те могли им предложить. Щедрые пожалования и доходные долж-
257
ГЛАВА 7
ности позволяли самым способным накапливать земли и привлекать собственных сторонников, после чего они, как правило, сгоняли с места своих бывших покровителей либо отделялись от них и обретали самостоятельность. В большинстве своем новая знать имела довольно неясное происхождение — гораздо важнее были харизма, активность и знаки божественного расположения. Рассказывали, что отец Цао Цао был приемным сыном дворцового евнуха. «О происхождении его семьи ничего не известно, — сообщается в «Цзы-чжи тун-цзянь», — однако даже в юности он отличался умом и находчивостью» [2]. Заручившись поддержкой многочисленных двоюродных братьев и став отцом примерно двадцати пяти сыновей, к своей смерти в 219 г. Цао Цао возглавлял клан, способный помериться силами с кем угодно.
То же можно сказать и об основателях двух других царств периода Т^юецарствия. Семья Сунь имела несколько более знатное происхождение, но своими успехами также была обязана скорее личным качествам. На востоке Сунь Цэ воспротивился в 189 г. вмешательству Дун Чжо в вопросы ханьского престолонаследия. Затем Сунь Цю- ань, его почти непобедимый брат и преемник, восстановил царство У в нижнем бассейне Янцзы. Это было второе из Трех царств. Царем У его сделал Сянь-ди, и после того, как он отрекся от престола, Сунь Цюань объявил себя императором и распространил власть У на всю территорию Китая к югу от Янцзы (включая Северный Вьетнам).
В ретроспективе династию царства У можно рассматривать как первую в неоднозначной, но славной последовательности южных династий, обосновавшейся на берегах Янцзы и с переменным успехом просуществовавшей целое тысячелетие. Но в то время претензии У на легитимность были самыми неубедительными из всех Трех царств. Только позднее, после того как эти южные государства дали приют спасавшимся от захватчиков беженцам с севера и благодаря этому превратились в оплот традиционной ханьской культуры, позиции У как первой императорской династии с берегов Янцзы окрепли.
Но даже такие способные и энергичные полководцы, как Цао Цао и Сунь Цюань, были отодвинуты на второй план героической фигурой Лю Бэя, основателя третьего из Трех царств. Историки пишут, что Лю Бэй имел исключительно высокий рост, руки длиной до колен и глаза, умевшие видеть за ушами. Выражаясь более прозаично, «он был человеком больших амбиций, но немногих слов» [3]. Один из
258
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
главных героев романа «Т^оецарствие», он появляется на страницах настоящим героем в сопровождении двух верных друзей, Чжан Фэя и гуань Юя (последний был своего рода китайским Гераклом и позднее обожествлен под именем гуань-ди). Никто не владел мечом лучше Лю Бэя, никто не имел более благородных намерений и не заслуживал больше любви. Но его путь к славе был долгим и извилистым. Он рос без отца и в детстве торговал сандалиями, потом вступил в военный отряд на крайнем северо-востоке. Как командир отряда наемников, странствующих по распадающейся империи в 190-х гг., он, пожалуй, не слишком отличался от Ядовитого Юя, Пучеглазого Ли и им подобных.
Лю Бэй одержал немало побед; вместе со славой росло и число его сторонников. В 197 г. он присоединился к Цао Цао, но вскоре обратился против него и в 201 г. вернулся в Сычуань. Цао Цао подчинил себе север и, судя по всему, собирался сделать своей следующей целью Сычуань. Но роковым образом в 208 г. он предпочел двинуть войска на юг против царства У. Чтобы дать ему отпор, Лю Бэй и Сунь Цюань из царства У объединись, и у Красной скалы на реке Янцзы близ места ее слияния с рекой Ханьхэ (на территории нынешней крупной городской агломерации Ухань) силы севера и юга столкнулись в одной из решающих битв тысячелетия. По словам одного историка, «битва у Красной скалы, ключевое событие истории того периода, окончательно решила вопрос объединения или разъединения Китая» [4].
Благодаря официальным историям и созданным на их основе произведениям (роману «Троецарстие» и бесчисленному множеству стихотворений, драм, опер и комиксов) битва у Красной скалы известна лучше, чем любая другая битва в ранней истории Китая. В источниках говорится, что в ней участвовало огромное количество войск, и все предшествующие ей обманные маневры и контрманевры были тщательно изучены. Битва состоялось на реке Янцзы, но по сути это было морское сражение, и, как в большинстве китайских сражений, его исход зависел от одного маневра.
Чтобы пересечь реку, ширина которой в этом месте составляла около километра, Цао Цао соединил свои корабли цепями и перед отправкой пришвартовал их рядом со своим главным лагерем под Красными скалами на северном берегу. На южном берегу малые силы царства У ожидали, когда вверх по реке поднимутся основные силы У под командованием Сунь Цюаня. Союзные силы Лю Бэя располага¬
259
ГЛАВА 7
лись на небольшом расстоянии вверх по течению. Это было в начале января 209 г., в месяц холодных северо-западных ветров, и под защитой северного берега Цао Цао имел преимущество.
Но однажды ночью ветер переменился и подул с юго-востока, а от южного берега отделился небольшой флот. На поднятых парусах он быстро шел в темноте к главному лагерю Цао Цао. Часовые сообщили о его приближении, но тревогу не подняли. Перебежчики никого не удивляли, к тому же это были не многомачтовые военные корабли, а небольшие рыболовные суда (или что-то похожее на них). Таким образом, войско Цао Цао оказалось совершенно не готово к атаке, когда под палубами зажглись фитили, нагруженные промасленным хворостом корабли вспыхнули, и идущий к северному берегу флот превратился в огненную стену.
«Сильный ветер раздул огонь, корабли понеслись вперед, как выпущенные из лука стрелы. Вскоре огонь и дым закрыли небо. Двадцать горящих судов врезались в пришвартованные у берегового лагеря корабли Цао Цао, и те загорелись один за другим — скованные цепями, они не могли маневрировать» [5].
Огонь перекинулся с кораблей на лагерь Цао Цао, но большей части его сухопутных войск удалось спастись. Однако тут стал ясен смысл всех предыдущих маневров: выяснилось, что путь к отступлению отрезан несколькими засадами. Северная армия, ослабевшая от голода и болезней, была практически уничтожена. Цао Цао попал в плен, но его быстро отпустили — тот, кто его схватил, был перед ним в долгу. Однако Цао Цао больше никогда не делал попыток вторгнуться на юг. Сунь Цюань, напротив, продвинулся вперед и перенес столицу в город Ухуань в пределах видимости от Красной скалы. Позднее он спустился вниз по реке и дальше на север, туда, где сейчас находится Нанкин. Что касается Лю Бэя, то после дальнейших приключений он вернулся в Сычуань, чтобы основать третье из Трех царств. Разумеется, оно было названо Шу. Таким образом, Шу, У и Вэй, бесстрашные соперники, встретившиеся у Красных скал, а затем их потомки, еще полвека продолжали трехстороннюю борьбу за власть над Китаем.
Помимо героического сложения Лю Бэй обладал еще одним достоинством, на которое в юности почти не обращал внимания: он
260
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
состоял в весьма отдаленном родстве с Цзин-ди (пр. 157-141 гг. до н. а), императором Ранней Хань, от которого произошел 1уанъу-ди, основатель Поздней Хань. Это объяснило возвышение Лю Бэя в 219 г., когда он стал царем Шу (при Поздней Хань царские титулы предназначались исключительно для членов семьи Хань), и вызвало особый интерес, когда через год пришли новости, что Цао Пи (Цао Пэй), сын Цао Цао из Вэй, сменил на троне императора Сянь-ди. Возможно, до Сычуани новость дошла в искаженном виде, или Лю Бэй сам неверно ее понял. Так или иначе, он объявил, что Сянь-ди на самом деле убит, а Цао Пи узурпировал трон, однако империя Хань еще не угасла, и нужно только обратиться к другой ветви, чтобы найти нового преемника — так же как это произошло, когда к власти пришла Поздняя Хань. Россыпь предзнаменований и безупречно аргументированные мольбы убедили Лю Бэя, что он и есть тот самый избранный Небесами прямой потомок. Он провел императорские обряды посвящения, его министры выказали ему самую искреннюю поддержку (говоря словами того времени, они были счастливы, «как утки в ряске»), и после этого Лю Бэя и иногда его сына называли императорами Хань-Шу1 из Сычуани [6].
Но для Лю Бэя из Шу-Хань, а также для Цао Пи из Вэй и Сунь Цюаня из У титул действующего местного императора не мог заменить власть над всей страной. Обретение императорского титула до завоевания всей империи выглядело как пророчество, но на деле оказалось насмешкой. Традиции унитарного правления Цинь и Хань намекали, что ни одна из новых династий не может быть полностью уверена в своей легитимности, пока не уничтожит остальных. Только тогда можно будет считать благосклонность Небес совершенно явной, воспринимать смену династии как неоспоримый свершившийся факт и рассчитывать на гарантированное одобрение потомков. В сущности, все три будущие империи были обречены на дальнейшую борьбу, которая заставляла их растрачивать ресурсы и терять подданных. Для любого правителя, кроме уже обладавшего высочайшим титулом, наследие в виде империи было скорее проклятием, чем благословением.
Точно так же обстояло дело с историографической традицией. История империи опиралась на концепцию единой, почти непрерывной последовательности законных династий, поэтому
1 Чаще используется термин Шу-Хань — «сычуаньская Хань».
261
ГЛАВА 7
историки испытывали настоятельную потребность поставить претензии одного из Трех царств выше претензий двух других. Классические истории этого периода, написанные при империи Цзинь, отдают предпочтение родоначальнице Цзинь — вэйской династии Цао. Хроники, написанные под покровительством поздних северных династий (прежде всего «Цзы-чжи тун-цзянь»), также представляют контроль над центральным регионом империи вдоль Ханьхэ как основу любых претензий на легитимность. Но хроники, написанные под покровительством южных династий, обычно отдают предпочтение Лю Бэю из царства Шу (империи Хань-Шу). Для них добродетель правителя и его прямое происхождение от славной Хань значат больше, чем географическое положение его владений. Роман «Троецарствие», основанный на южном прочтении событий, делает Лю Бэя героем и всячески подчеркивает те знаки благосклонности, которыми его одаривало Небо. Например, внезапная перемена ветра, которая привела к поражению Цао Цао у Красной скалы, толкуется не как каприз природы, а как доказательство того, что добродетель Лю Бэя привлекала выдающихся сподвижников, один из которых умел вызывать с помощью богов подобные явления.
В отношении авторства романа «Т]роецарствие» существует неясность, но если он, как представляется, был написан в XIV веке, его также можно читать как попытку отмежеваться от угасающей монгольской империи Юань в пользу следующей империи Мин. В этом смысле текст призывает беречь исконные ценности и традиции Хань — как народа и как династии — от притязаний чужеземных захватчиков с севера. В ретроспективе Цао Цао и империя Вэй несправедливо очернены как иноземные узурпаторы, а величайший национальный эпос превращается в националистическую пропаганду. Это в очередной раз убеждает нас, что историописание (даже в виде исторического романа) неизбежно является политическим актом.
ДАО И НЕБЕСНЫЕ НАСТАВНИКИ
Роман «Тфоецарствие» начинается с одного из самых знаменитых афоризмов в истории Китая: «Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжитель¬
262
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
ного единения опять распадаются»1. Тысячу страниц спустя (в переводной версии) он заканчивается почти такой же, слегка измененной фразой: «Великие силы Поднебесной после длительного единения непременно разобщаются, а после длительного разобщения воссоединяются вновь». Так действительно случилось — так не раз происходило и потом. Долго существовавшая единая империя Хань распалась; надолго расколотая в эпоху Троецарствия, она должна была объединиться. В 263 г. основанную Лю Бэем империю Хань-Шу наконец победила вэйская империя, основанная семьей Цао. Через два года в царстве Вэй одержал победу Сыма Янь, чья семья пользовалась немалым влиянием со времен Цао Цао. А в 280 г. основанная Сыма Янем новая империя Цзинь окончательно уничтожила основанную семьей Сунь династию царства У на юге. Китай снова объединился.
Впрочем, на этот раз ненадолго. Как правительница всего Китая, империя Цзинь (или Западная Цзинь) просуществовала едва ли дольше, чем «династия из одного человека» Синь в начале I века н. э., первым, и единственным, правителем которой был оклеветанный Ван Ман. Через десять лет началась гражданская война и вторжение, и в следующем десятилетии Цзинь была вытеснена из Лояна (311), затем из Чанъаня (316) и отправилась в долгое изгнание к югу от Янцзы. Там она царствовала (317-420) как Восточная Цзинь; новая столица в Цзянь- кане (Нанкине) находилась на юго-востоке от Лояна и Чанъаня.
Роман «Троецарствие», законченный на оптимистичной ноте объединения государства империей Цзинь в 280 г., таким образом, создает совершенно неверное впечатление. До окончательного восстановления империи оставалось еще триста лет. Период раздробленности начался с деления империи на три части, однако на этом дробление не закончилось. Страна надолго разделилась на север и юг (Нань-Бэй), при этом на юге возникли собственные Шесть империй, а на севере Шестнадцать царств2, которые затем сменились Пятью империями севера — все эти государственные образования, в свою
1 Перевод В. А. Панасюка. См.: Ло Гуань-Чжун. Троецарствие. Роман / Пер. В. А Панасюка. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954.
2 Несмотря на то что число 16 и правда фигурирует в традиционном наименовании этого периода («Восточная Цзинь и шестнадцать государств пяти северных племен»), северных царств на деле было девятнадцать (а создавших их народов, включая китайцев, семь).
263
ГЛАВА 7
очередь, тоже дробились и переживали династические изменения. Калейдоскоп царств на территории бывшей империи в постхань- скую эпоху вряд ли превзошла бы даже средневековая Европа.
Человеку, изучающему историю Китая в этот нелегкий период, имеет смысл обращать внимание не на стремительно сменяющих друг друга императоров, а на целые династии. Попытки разобраться в постоянно меняющейся политике вызывают понятное раздражение. Понятна и сдержанность тех, кто руководствуется основополагающим принципом неделимости китайского государства, — в силу всех этих причин данный период принято считать чем-то вроде европейских темных веков и уделять ему лишь беглое внимание. Великолепие Римской империи пало под натиском варваров и сменилось политической раздробленностью, религиозными предрассудками и упадком городской жизни. Казалось, после падения империи Хань в Китае произошло то же самое. Но даты не вполне совпадают: в Китае эпоха затмения уже заканчивалась, когда гораздо более долгое затмение в Европе только начиналось. И в Китае, в отличие от Западной Европы, распад и иноземное вторжение стали не препятствием, а стимулом для культурного и социального развития.
Это случалось и раньше. Повсеместная борьба в период Вёсен и Осеней и Сражающихся царств побуждала к размышлениям и создавала возможности, в ретроспективе превратившие эпоху хаоса и раскола в золотой век. Несмотря ни на что, это было время Конфуция, Мо-цзы, Лао-цзы и «сотни философских школ», время роскошных гробниц, огромных бронзовых колоколов и печальных песен царства Чу. Наступивший затем порядок и объединение под властью Цинь и Ранней Хань отмечены обширными общественными работами (дороги, дворцы, стены, системы ирригации, мелиорации и колонизации земель) и активным развитием науки, пусть и довольно ортодоксальной. Но бюрократическое правление и неоспоримый суверенитет не гарантировали достижения новых вершин в искусстве или религиозной мысли. Вот и сейчас более эффективными катализаторами снова оказались явно отрицательные факторы — политические беспорядки и социальные волнения. Постханьскую эпоху раздробленности никак нельзя назвать темными веками: она освещена блестящими литературными достижениями, появлением даосизма как основного идеологического соперника конфуцианской учености и буддизма, величайшего религиозно-культурного заимствования
264
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
в древней истории Китая. Возникший в результате синтез, нашедший свое место в обществе и получивший поддержку в заново объединенной империи, во многом объясняет непревзойденное великолепие империи Тан (традиционно 618-907 гг.).
Стихотворения периода Хань в жанре фу исполнены жизнерадостной беззаботности. Их авторы виртуозно владели словом и часто обращались к пейзажной лирике. Не исключено, что эти стихи служили и лексикографическим справочником. Возникшие и ставшие популярными при дворе, фу прославляли императора и представляли в идеальном свете все, что его окружало: дворцы, парки, приемы, выезды на охоту — с незначительными отступлениями в сторону более суровой действительности. Они тешили династическую гордость и служили образовательным и пропагандистским целям, однако оставляли мало возможностей для личного самовыражения. С падением Хань ситуация изменилась. Переходный период (примерно 190-220) ознаменовался беспрецедентным всплеском литературной деятельности, продолжавшимся всю эпоху Троецар- ствия и правления Шести южных династий. Фу стали более выразительными, и с развитием новых форм в прозе и поэзии, особенно в стихосложении, где возник жанр ши, «литература обрела свое настоящее лицо» [7]. Не отказываясь от дидактических и династических обязательств, писатели по-новому взглянули на прошлое, чтобы рассказать о своем беспокойном времени и о тех чувствах, которое оно вызывало. Бежав из Чанъаня после убийства Дун Чжо (военачальника, который перехватил юных ханьских принцев, а затем поменял одного на другого), Ван Цань написал стихотворение под названием «Семь печалей».
Но я уехал... Как всё пусто, как мрачно всё за воротами.
Там вся широкая равнина покрыта белыми костями.
Вот женщина идет дорогой: она худа и голодна.
В траву увядшую ребенка кладет дрожащими руками...1 [8]
В этом отрывке поэт достигает нужного эффекта сменой масштаба, словно камера, переходящая от широкомасштабной панорамы разрушений к личной трагедии, показанной с близкого рассто¬
1 Перевод А. Старостина.
265
ГЛАВА 7
яния. Острые детали скрывают в себе пафос и укол критики. Личная потребность в самовыражении стала для писателей важнее, чем панегирики, которых требовали высокопоставленные покровители. Эстетические соображения перевешивали примитивное словесное самолюбование.
«Литература — поистине великое ремесло, помогающее управлять государством, превосходное занятие, ведущее к бессмертию... Жизнь и слава длятся лишь ограниченное время, но литература существует вечно» [9]. Эти слова написал не какой-то уязвленный стихотворец, а вэйский император Вэнь-ди (храмовое имя, которое получил Цао Пи, правивший после того, как Сянь-ди отрекся от престола в его пользу). Семья Цао покровительствовала образованным людям, коллекционировала литературные произведения и заказывала их компиляции. Новый уголовный кодекс, включавший в себя выдержки из юридических установлений Хань и предшествовавший основным юридическим компиляциям Цзинь и Тан, вероятно, имеет смысл рассматривать в этом контексте, хотя наказания, ожидавшие злоумышленника, независимо от редакции оставались неизменно жестокими. Работа над компиляцией нередко носила литературный характер, и Цао Цао и Цао Пи сами были известными писателями. Последний прославился в основном критическими отзывами о прозе. Оплакивая потерю своих друзей-литераторов, унесенных эпидемией 217 г., он обязался отредактировать собрание их сочинений; благодаря его работе возникло понятие ци — личного вдохновения и стиля как врожденного, отдельного от таланта качества. Оба Цао писали собственные стихи. Цао Цао предпочитал современные темы и в своих сочинениях (например, стихотворении с иносказательным названием «Роса на стеблях лука») сочувствовал бедственному положению Хань. Цао Пи прославился как автор лирических стихотворений, в которых он выступает от лица девушки, оплакивающей разлуку с возлюбленным (что, возможно, косвенным образом связано с падением Хань). Но их обоих затмил другой представитель семьи Цао, плодовитый и оказавший влияние на потомков Цао Чжи, которого называют одним из величайших поэтов Китая.
Добрые чувства Цао (или Вэй) к Хань и примечательно бескровная передача власти заслуживают особого внимания. Цао Пи и его советники много размышляли над легитимным обоснованием смены одной династии другой. Чтобы отметить это событие, была воздвигнута
266
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
стела с надписями — от нее сохранились фрагменты, а также переведенные на бумагу методом эстампажа отрывки исходного текста. Явления и прецеденты, о которых говорится в этих надписях, в дальнейшем стали своеобразным руководством к действию для возникавших из ниоткуда новых государств.
Цао Цао как действующий регент при Сянь-ди обращался к наставническому примеру Хо гуана и Чжоу-гуна, но Цао Пи, занявшему место Сянь-ди, очевидно, нужно было сослаться на иные прецеденты. По словам тех, кто якобы осаждал его мольбами принять Небесный мандат, сложившаяся ситуация имела мало общего с ситуацией при Раннем Чжоу, когда великий Чжоу-гун правил, не стремясь стать императором. Гораздо больше она напоминала еще более отдаленные, если не сказать мифические времена пяти императоров, с которых якобы началась вся государственная родословная.
В те далекие дни власть переходила не линейно от отца к сыну, а от одного императора к другому, более достойному. Когда император узнавал, что есть человек, явно превосходящий его в добродетелях, он просто и бескорыстно отрекался от власти в его пользу. Очевидно, этот принцип как нельзя лучше подходил для легитимации возвышения Цао Пи. Однако для потомков Цао Пи это не сулило ничего хорошего: на тех же основаниях — добродетель превыше происхождения — семья Сыма впоследствии свергла вэйскую династию Цао, чтобы основать империю Цзинь. Новые государства на севере и на юге последовали этому примеру. Мысль о том, что Небесный мандат должен принадлежать достойнейшему, дестабилизировала обстановку.
Еще одна особенность надписей на стеле Цао Пи — цитаты новых религиозных текстов и иных источников (предзнаменований, предсказаний и пророчеств), не входивших в конфуцианский канон. Все они были идентифицированы как даосские. Таким образом, приход к власти Цао Пи и империи Вэй, по словам одного автора, стал «первым случаем в долгой традиции даосской легитимации императоров» [10]. В конце II — начале III века даосизм приобрел характерные доктринальные черты. Сформировался даосский канон, огромное внимание привлекали даосские лидеры — предводители «желтых повязок» и другие. Хотя восстание «желтых повязок» в 184 г. быстро подавили, приверженцы даосизма продолжали играть важную роль в политической борьбе периода Троецарствия, а одна группа даже создала военно-теократическую общину в Ханьчжуне на горной севе-
267
ГЛАВА 7
ро-восточной границе Сычуани. Там эта община небесных наставников, или пяти ковшей риса (каждое домохозяйство вносило в общий котел пять ковшей риса), продержалась несколько десятилетий, а когда в 215 г. она наконец покорилась Цао Цао, то сделала это на весьма выгодных условиях. Большинство членов секты были массово переселены в более благоприятную местность Сюй, где их предводители получили феодальные владения и титулы. После этого они поделились своими тайными знаниями и текстами, которые предсказывали, что следующим императором станет «князь Вэй». Таким образом, Цао Пи, как раз подходивший под это описание, окончательно преодолел свои притворные сомнения и принял титул императора.
В эпоху, на которую выпало столько стихийных бедствий и политических потрясений, интерес к сверхъестественным явлениям и эзотерическим откровениям вполне понятен. Последователи небесных наставников из народа получали лекарственные средства и различные виды психологической поддержки, а также определенную степень социального благополучия и гендерного равенства, и, конечно, перспективу приобщиться к тайпин, «небесному миру». На более высоком уровне даосская «наука» возбуждала фантазию аристократов алхимическими экспериментами, зельями и упражнениями, дающими долголетие или даже бессмертие. На династическом уровне даосские откровения и предсказания служили еще одним источником легитимации, дополняя сведения придворных астрологов и составителей календарей; эти прогнозы высоко ценились, тщательно изучались и легко поддавались манипуляциям — по мнению одного авторитетного автора, они выполняли «ту же функцию, что экономические показатели в современном государстве» [11].
Даосизм распространился повсеместно и явно. При этом дать даосизму однозначное определение не так просто. Один автор назвал его религией, которая «не боится быть непоследовательной». Очевидно, к даосизму можно отнести почти все традиционные практики или доктрины, не связанные явным образом с конфуцианством или буддизмом. В этом обширном смысле даосизм включает в себя всех почитателей шаманов, чудотворцев и медиумов, всех последователей множества местных культов или разнообразных телесных, психических и сексуальных практик, всех политических и социальных отшельников, всех, кто стремился достичь состояния у-вэй (недеяния), всех представителей братств боевых искусств и сторонников
268
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
практически любого движения общественного протеста, связанного с идеями милленаризма. Но, разумеется, все это не слишком проясняет дело. Многие из этих практик ассоциировались с буддистами. Более того, простая формула «последователь даосизма = не конфуцианец + не буддист» на самом деле может создать неверное представление, поскольку сами эти понятия подразумевают степень конфессиональной исключительности и личной вовлеченности, хорошо знакомой любому человеку, выросшему в контексте иудео-христианской традиции, но совершенно чуждой китайской мысли.
В Китае ни одна доктрина, откровение или образ действий не считались сами по себе единственно верными или абсолютно исчерпывающими по той простой причине, что все они не имели четкого определения. Конфуцианцы (жу) издавна занимались даосскими практиками; в постханьский период конфуцианские сочинения испытали значительное влияние даосских и буддийских текстов. Последователи даосизма, в свою очередь, разделяли основные конфуцианские ценности, а даосские общины заимствовали у буддизма понятие духовенства, институт монашества и немало других организационных особенностей. Между «школами» могли бушевать научные диспуты, но в частной жизни оппоненты нередко сочетали элементы всех трех религий. Имевшие место дискриминация и борьба было мало связаны с доктринальными различиями как таковыми — в их основе неизменно лежали экономические или политические соображения.
Если, как утверждает процитированный выше автор, последователей даосизма точнее всего можно охарактеризовать как «тех, кто согласился, что должен совершенствовать и трансформировать себя, чтобы достичь полной интеграции с глубочайшими реалиями жизни», то «в последовательном социальном смысле люди, которых можно считать даосами, появились только в VI веке». Только тогда впервые возникли общины, сознательно посвятившие себя этой высокой цели [12]. Но концепция — или загадка — дао сама по себе намного старше, и обычно это слово обозначает не школу мысли, а состояние трансцендентной интеграции или некий способ его достижения. Несмотря на то что на английский язык дао неизменно переводят как «путь», было высказано предположение, что более понятным переводом будет «метод», а значит, даосизм можно называть «методизмом».
Как всегда в Китае, развитие ситуации отражено в письменной традиции. К III веку основные даосские тексты, особенно «Лао-цзы»
269
ГЛАВА 7
(«Дао дэ цзин») и «Чжуан-цзы», существовали уже сотни лет и были сильно искажены. В III—VI веках была проведена огромная работа: эти тексты собрали, отредактировали, заново истолковали, а также существенно дополнили, что привело к появлению первого всеобъемлющего канона даосских текстов. Вместе с неспокойными условиями того времени это стимулировало возникновение новых даосских школ мысли и способствовало распространению даосских учений. Когда двор Цзинь бежал на юг в 317 г., даосские мудрецы последовали за ним. Еще больше даосов сопровождало позднее исход Цзинь из Сычуани. В аристократической атмосфере южных империй даосизм процветал. В районе Ханчжоу в провинции Чжэцзян в 399 г. он вдохновил еще одно восстание небесных наставников, родившееся, как и восстание «желтых повязок», из народного недовольства, и так же жестоко подавленное. Но двадцать лет спустя как даосского мессию приветствовали военачальника, который сверг Цзинь, чтобы основать династию Лю Сун (420-479), третью из Шести империй юга. Примерно в то же время на севере даосский небесный наставник обрел такую власть над императором Северной Вэй (389-535, не путать с более ранней Вэй, которая началась с Цао Пи), что его правление получило название «даосской теократии» [13].
Благодаря усилиям ученых за столетия раскола империи даосизм приобрел определенную степень доктринальной связности, академической респектабельности и официального признания. Двор и аристократические круги относились к нему благосклонно, военные вожди сюнну и сяньбэй находили в нем, как и в буддизме, шаманские элементы, напоминающие их собственные религиозные традиции, а в качестве средства социального протеста он сохранял свою привлекательность и взрывной потенциал для низов. Даосизм, всепроникающий и устойчивый, окончательно занял предназначенное ему место в истории и обществе Китая1 [14].
1 Одним из факторов, способствовавших институционализации и оформлению даосского учения, стало ослабление влияния конфуцианства, до того деятельно оберегавшего свою монополию на внимание императора. В условиях ослабления государства и центральной власти монарха, а также упадка городов поддержание академической конфуцианской преемственности стало затруднительным, а менее образованные, чем ранее, владыки предпочитали более простые и увлекательные рецепты даосских магов скучным нравоучениям конфуцианских книжников.
270
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
Посвященные даосизму научные труды появляются и сегодня, чему немало способствуют новые открытия: найденные в Дуньхуане в начале XX века фрагменты первого даоского канона и записанные на бамбуковых планках тексты «Лао-цзы», обнаруженные в Ма- вандуй.
ЯВЛЕНИЕ ПРОСВЕТЛЕННОГО
Итак, даосизм пользовался преимуществом местного происхождения, однако было бы неверно считать, что для буддизма иностранное происхождение стало помехой. Возражения на этот счет, безусловно, возникали, как и аргументы в пользу превосходства китайской культуры. Но сенсационное распространение буддизма в III—VI веках (в период раздробленности) полностью опровергает представления о невосприимчивости китайской цивилизации к посторонним идеям. Если даосизм в этот период процветал, то буддизм переживал триумф. Китай стал и много веков оставался буддийской страной, а буддийских верующих в Китае было даже больше, чем в Индии. В городах появлялись тысячи монастырей, сельскую местность украшали скальные святыни, многоярусные ступы (пагоды) и колоссальные статуи Будды. Под влиянием буддизма преобразились общественный уклад и изобразительное искусство, расцвели торговые и культурные связи с другими странами Азии. От Синьцзяна до провинций Шаньдун и Гуандун на пожертвования для буддийских храмов не жалели материальных и трудовых ресурсов, и везде, где царил мир, монахи и монахини в характерных одеяниях смешивались с ортодоксальными конфуцианскими учеными в длинном платье. Учение о просветлении, сострадании и святости жизни смягчило если не политические притязания, то хотя бы научные рассуждения. Разносящиеся по воздуху монотонные молитвенные речитативы служили утешением для людей, измученных звоном оружия.
Однако процесс заимствования и приспособления проходил медленно и сложно. Будда жил и проповедовал в Северной Индии примерно в V веке до н. э., но первые упоминания о нем в китайской истории появляются лишь пятьсот лет спустя. О ханьском принце, которого 1уанъу-ди, основатель Поздней Хань, назначил номинальным царем Чу, в «Хоу Хань шу» («История Поздней Хань») сказано,
271
ГЛАВА 7
что он «постился и приносил жертвы Будде»; это было в 65 г. н. э. в городе Пэнчэне (некогда столице Сян Юя в провинции Цзянсу), при этом принц был преданным последователем даосизма. Очевидно, тогда Будду почитали вместе с Лао-цзы как еще одного представителя даосского пантеона, а не как создателя иного учения о «Пути». Нет никаких упоминаний об огромном корпусе литературы — религиозной, метафизической и организационной, — созданной за пятьсот лет существования буддизма в Южной Азии. Учитывая, что Пэнчэн находился на торговом пути, ведущем в Лоян с побережья, а не из Центральной Азии, можно предположить, что культ Будды пришел в империю при Поздней Хань именно морским путем. Буддийские общины в Юго-Восточной Азии уже существовали — символы буддизма (цветы лотоса, слоны и т. д.), найденные среди рельефной резьбы II века в Кунваншане на побережье провинции Цзянсу подтверждают эту версию.
Полвека спустя один путешествовавший по стране чиновник и известный поэт описал приятный вечер в бывшей столице Хань, Чанъане. Среди прочего гостей развлекали танцем несколько роскошно одетых девушек, которые совершенно околдовали собравшуюся компанию. «Один взгляд на них заставил бы сдать город», — восторженно писал поэт-чиновник. По его словам, не поддаться очарованию было решительно невозможно — не выдержал бы даже человек «праведный, как буддийский ьираман» [15]. Это упоминание шрамана, то есть обитателя ашрама, является одной из первых отсылок к буддийскому монашеству в Китае. В начале II века буддизм, очевидно, уже был известен в Китае как некая чужеземная религия, некоторые ключевые понятия успели проникнуть из санскрита в китайский язык, а в Чанъане и, вероятно, в Лояне и других городах уже существовали буддийские общины.
В официальных историях, посвященных периоду ТТроецарствия, говорится о поклонении Будде в богатых провинциальных центрах в конце II века, и там же мы находим одно из объяснений популярности нового культа. Около 193 г. человек по имени Чжай Жун, отвечавший за поставки зерна в центральную Цзянсу, решил направить доходы от этого прибыльного занятия на создание буддийской общины. Возможно, он искренне искал просветления, но, судя по сконфуженным оправданиям в дальнейших текстах, представляется более вероятным, что он принадлежал к той же дурной компании,
272
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
что и его современники Чжан Бычий Рог, Ядовитый Юй и другие. В Цзянсу был воздвигнут огромный «храм» (вероятно, ступа, исходя из описания похожего на зонт ступенчатого шпиля), рядом устроили кельи для трех тысяч монахов и поставили позолоченную, украшенную шелками и парчой статую Будды, для которой иногда устраивали ритуальные омовения. К храму стекались последователи буддизма с разных концов страны; кроме того, многих привлекало освобождение от повинностей, обещанное Чжай Жуном в обмен на участие в ритуалах.
«Всякий раз, когда собирались совершить омовение Будды, [Чжай Жун] приказывал приготовить много вина и еды и застелить дорогу циновками на [несколько километров]. Зрелища и угощения привлекали десятки тысяч человек, расходы доходили до миллиона [монет]» [16].
Все эти замечательные (хотя и не вполне согласующиеся с буддийским запретом на спиртное) мероприятия возымели желаемый эффект. Чжай Жун приобрел множество преданных сторонников и собрал армию, которая поддержала его дальнейшую (к счастью, краткую) карьеру военного феодала. «По понятным причинам, — пишет автор крупнейшего фундаментального труда о буддийском “завоевании” Китая Эрик-Ян Цюрхер, — Чжай Жуна никогда не считали идеальным образцом щедрого жертвователя... [и] в буддийских источниках он практически не упоминается» [17].
Между тем в Китае начали понемногу появляться переводы буддийских текстов. Задача перевода абстрактных и часто эзотерических терминов с алфавитного, грамматически сложного и в высшей степени флективного языка, такого как санскрит, на безбуквенный, нефлективный и крайне лаконичный письменный язык Китая представлялась почти невыполнимой. В сходном положении оказались христианские миссионеры, когда пытались растолковать китайским новообращенным таинство Троицы или пресуществления. Осмысление ключевых понятий буддизма (дхарма, нирвана и др.), которые в Индии воспринимались как сами собой разумеющиеся, для китайцев представляло определенные трудности. Здесь на помощь иногда приходил даосизм, хотя это порой приводило к некоторому искажению оригинального смысла. Так, у‘вэй использовали для объяснения нирваны, а дао для перевода слов «просветление», «дхарма» и даже
273
ГЛАВА 7
«йога». Вместе с тем монашеский обет безбрачия или понятие реинкарнации представлялись просто оскорбительными в обществе, где деторождение приравнивали к нравственному долгу, а предков почитали как духов, избавленных от тягот перерождения. Если конфуцианство жестко обозначало обязанности человека по отношению к семье и государству, буддизм указывал путь к спасению, на котором не было места ни тому ни другому.
Первые буддийские тексты, попавшие в Китай, не обязательно были самыми важными, а распространявшие их миссионеры в интеллектуальном смысле были подготовлены ничуть не лучше, чем в языковом. То, что основной поток миссионеров пришел из Индии и среднеазиатских государств по Шелковому пути, не вызывает сомнений. Торговые связи с западом не ослабли после отступления Поздней Хань из западных областей. Кроме того, красноречивые доказательства дает археология: длинный след буддийских памятников, надписей, скульптур, документальных кладов и изображений тянется от северо-западной Индии через Западные Гималаи, а затем из Парфии, Афганистана и Согдианы (Самарканда) в Синьцзян, Ганьсу и Лоян. Во второй половине II века из десяти миссионеров, которые, согласно известным сведениям, проповедовали в столице Цзинь в Лояне, двое были парфянами, двое согдийцами, трое индусами и трое юэчжами (уроженцами Афганистана и части современного Пакистана, где юэчжи были известны под именем кушанов).
Буддизм и торговля с дальними странами шли рука об руку. В Индии купцы охотно обращались к буддизму, поскольку эта философия пренебрегала кастовыми запретами на свободу передвижения; в Китае конфуцианское презрение к торговле и торговцам заставило коммерческие классы увидеть в буддизме достойную альтернативу. Торговое сообщество обеих стран отвечало буддизму взаимностью в виде щедрых пожертвований, гостеприимства и защиты миссионеров. Ступа и монастырский комплекс, построенный Чжай Жу- ном в Цзянсу, удивительно похожи на чуть более старый комплекс в Санчи (около Бхопала в Мадхья-Прадеш), где среди надписей перечислены имена купцов-жертвователей. Замечательные росписи IV века на стенах Кызылских пещер (близ Кучара в Синьцзяне) явно повторяют росписи Аджанты (в Махараштре на пути к западному побережью Индии), в том числе красноречивую сцену, где Будда освещает путь одинокому страннику. Выполненные в той же квази-
274
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
фресковой технике1 и, возможно, относящиеся к одному времени, повествовательные сцены и орнаменты Кызыла и Аджанты, удаленные друг от друга на полконтинента, считаются работой художников, которые принадлежали к одной школе или имели общее происхождение [18].
Буддизм, окруженный образами дорог и странствий («колесо дхармы», «восьмеричный путь», «срединный путь»), неуклонно продвигался вперед. В I—III веках, и особенно под покровительством правителей Кушанского царства, простиравшегося от Индии и Афганистана до Хотана в южном Синьцзяне, проповеднический импульс времен царя Ашоки снова обрел актуальность. Ашока созвал первый буддийский совет в III веке до н. э.; примерно во II веке н. э. кушанский император Канишка созвал четвертый совет, и именнотогда в результате ученого диспута произошел раскол между двумя доктринально различными школами буддизма — махаяной и тхеравадой (хинаяной).
Диспут заинтересовал буддийских ученых Китая, где с самого начала были представлены обе школы. Но во всех землях севернее Гималаев в конце концов возобладало более доступное учение махаяны. Махаянисты давали больше возможностей достичь просветления — даже у мирянина был шанс. Кроме того, они уделяли большое внимание вспомогательным религиозным атрибутам, изображениям Будды и сцен его жизни. Каменные статуи, несущие на себе явный отпечаток эллинистических образцов — типичный образец стиля Гандхары, которым вдохновлялась буддийская иконография Китая. Что особенно важно, махаянисты обожествляли не только Будду, но и множество других просветленных, так называемых бодхисаттв (на китайском пуса), среди которых были Амитабха («Будда Западного рая» для китайцев), Авалокитешвара (в Китае сменивший пол и превратившийся в богиню гуаньинь) и Майтрея (на китайском Милэ, или Будда Грядущего2). Все эти бодхисаттвы отложили свой переход в нирвану, чтобы помогать каждому человеку, ищущему Путь; приписываемые им афо¬
1 Настенные росписи пещерных монастырей Индии, Центральной Азии и Китая обычно наносились на толстый слой штукатурки из глины, смешанной с измельченной соломой и иными растительными остатками. При этом в отличие от фресок штукатурка не должна была быть сырой.
2 Имя Милэ на китайском не имеет собственного значения и является только попыткой транскрипции санскритского термина.
275
ГЛАВА 7
ризмы и мифические деяния — совершенные покаяния, обретенные силы и совершенные чудеса — составляли значительную часть текстового корпуса и арсенала миссионера; церемонии и ритуалы, связанные с поклонением им, занимали центральное место в религиозной жизни простого народа.
В 311г., когда Цзинь бежала под натиском сюнну, в Лояне и в Чанъане, по некоторым сведениям, процветало около ста восьмидесяти буддийских общин, и насчитывалось почти четыре тысячи монахов. К самым первым общинам в провинциях, наподобие той, которую создал Чжай Жун в провинции Цзянсу, присоединились другие, возникавшие до самого Вьетнама, где прибывшие по суше буддийские ачарьи (наставники) из Северной Индии и Центральной Азии встретились с прибывшими морем миссиями с Индостана и Шри-Ланки. В районе Янцзы под покровительством Сунь Цюаня и его преемника в царстве У индийские и кушанские миссии завоевали признание ученых и внимание знати. Цзянькан (позже Нанкин), столица государства У, а затем империи Восточная Цзинь, центр экспорта шелка и импорта экзотической продукции Юго-Восточной Азии, славился не только роскошью, но и благотворным интеллектуальным климатом. В период Шести (южных) империй здесь проходили самые захватывающие и изощренные буддийские и даосские диспуты.
Качество переводов повсюду значительно улучшилось. Во многом это произошло благодаря трудам Дхармаракши (около 230-307). Сын юэчжийского купца, жившего в Дуньхуане (Ганьсу), Дхармаракша получил китайское образование и, зарекомендовав себя как непревзойденный знаток языка, перевел более полутора сотен буддийских текстов. По словам его биографа, «он сделал для обращения Китая к буддизму больше, чем кто-либо другой» [19]. Таким образом, китайские ученые смогли познакомиться с литературной и философской традицией, богатством и многоречивостью способной поспорить с их собственной.
После того как правители Синьцзяна ненадолго подчинились первому императору (Западной) Цзинь, религиозное движение на Шелковом пути стало двусторонним: китайские буддисты, среди которых был и Дхармаракша, отправлялись в Хотан, Кашмир и далее в поисках текстов, реликвий и духовного наставничества. Тем временем ступа — первоначально холм-реликварий, самый характерный памятник буддизма, в Индии как правило имевший вид полусферического купола
276
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
на низком пьедестале — в Китае начала вытягиваться вверх и обрастать этажами и черепичными карнизами, характерными для традиционной архитектуры, и постепенно обрела многоярусные конические очертания классической пагоды.
Таким образом, в IV веке легкая тень буддизма пала на всю страну. Но ему еще предстояло проникнуть во множество провинциальных крепостей и горных скитов. «Путь» Лао-цзы и «восьмеричный путь» Будды пока еще не стали настолько однородными, чтобы судить, кто из них победил. И буддизму еще только предстояло установить отношения со светской властью, которая если не возвысила его до государственной религии, то хотя бы официально придала ему высочайший статус. Немалую роль в этом процессе сыграли новые волны иноземных завоевателей, настолько же косноязычных и агрессивных, насколько ачарьи были образованными и миролюбивыми.
ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ
Вряд ли что-нибудь может лучше передать острое ощущение момента и трогательный проблеск смятения человека перед лицом великих исторических событий, чем письмо, отправленное откуда-то с севера Китая в 313 г. иноземцем по имени Нанай Вандак. Письмо написано на бумаге: это один из самых ранних образцов использования бумаги для переписки. Вместе с другими письмами оно в 1907 г. было найдено в сумке почтальона, утраченной шестнадцать веков назад, когда археолог Марк Аурель Стейн вывозил на ослах древние свитки из пещер Дуньхуана. При каких обстоятельствах почтальон лишился своей сумки, неизвестно; также неизвестно, кому адресовано письмо. Но по его тону и содержанию можно предположить, что Нанай Вандак был торговым представителем, вероятно, из Согдианы или Персии (оба государства активно участвовали в сухопутной торговле шелком) и что он сообщал новости своему начальнику, возможно, находившемуся в Самарканде1. Самое ценное в письме — год его написания —
1 Это письмо представляет собой одно из пяти так называемых Старых писем, представляющих собой древнейшие известные тексты на согдийском языке. Они были найдены в дозорной башне к западу от Дуньхуана. Возможно, стража конфисковала их у посланца, пытавшегося покинуть пределы стремительно распадающейся империи Цзинь.
277
ГЛАВА 7
313г. Нанай Вандак сообщает из Китая сведения огромной важности. Цзиньская столица в Лояне подверглась осаде, многие ее защитники дезертировали, тем, кто остался, не хватало пищи. Прошло больше года после событий, но хорошо чувствуется, что автор письма до сих пор не может окончательно поверить в судьбу города.
«...И, господин, последний император — так говорят люди — бежал из Лояна из-за голода. Его неприслупный дворец сгорел, а город разрушен. И вот [Лояна] больще нет, [Е] больше нет!... Разграбили все до Н’ымн’ыма и до Нгапа эти сюнну, которые вчера еще были собственностью императора! ... И, господин, если бы я писал вам во всех подробностях о том, что происходит в Китае, это был бы [бесконечный список] долгов и горестей. Здесь вам не найти богатства...» [20].
Хотя Нанай Вандак, по-видимому, не был очевидцем этих событий, а его рассказ до сих пор заставляет потомков ломать голову над интерпретацией некоторых географических названий, он вполне верно оценил масштабы случившегося бедствия. С бегством двора Цзинь и уничтожением Лояна армией сюнну пятьсот лет существования китайской империи подошли к концу. Это было одно из самых знаменательных крушений в истории. Артур Уэйли, великий китаевед и переводчик XX века, сравнил падение Лояна в 311 г. с разграблением Рима готами в 410 г. [21]. Эрик-Ян Цюрхер, следуя франковенгерскому востоковеду Этьену Балашу, назвал виновника «Аттилой китайской истории» — весьма красноречивое звание, учитывая число претендентов на него [22].
Лоян, конечно, грабили и раньше, но всегда восстанавливали. Поздняя Хань давно исчезла, но на ее руинах поднялась Вэй, а затем Цзинь. Именно Цзинь ненадолго «воссоединила империю после длительного разобщения». Но теперь все было иначе. Победу одержали сюнну, а не китайцы, и их цель явно заключалась в уничтожении Китая, а не в его восстановлении. В 311 г. второй по величине город в мире был полностью разорен, а старейшая империя уничтожена ордой неграмотных обитателей юрт.
Возможно, правители Цзинь сами навлекли на себя катастрофу. Непрочное воссоединение после периода Троецарствия было достигнуто слишком дорогой для центральной власти ценой. Множество по- лусамостоятельных округов было отдано под военное командование
278
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
родственникам, и когда основатель династии Сыма Янь умер в 290 г., эти князья предсказуемо начали бороться за власть с его преемниками. Так называемая Война восьми ванов (290-311) сократила ряды соперников Цзинь, но опустошила империю, за которую они сражались. Каждой армии нужны были рекруты — крестьян отрывали от полей, а пастухов от стад. Весь пригодный крупный рогатый скот и продовольственные запасы присваивались военными поставщиками. Зерно не сеяли, скот не пасли, монету не чеканили, налоги не платили.
Тысячи доведенных до отчаяния людей становились преступниками, десятки тысяч уходили прятаться в горы, сотни тысяч просто шли по дорогам куда глаза глядят. Наплыв бродяг и переселенцев накалял обстановку в провинциях, местная власть слабела, округа воевали друг с другом. Шаблонная фраза из официальных историй теперь вполне соответствовала действительности. «По рекам плыли трупы, поля покрывали белые кости, — рассказывается в «Истории Цзинь». — Было много случаев людоедства. Голод и мор шли рука об руку» [23].
Фортуна благоприятствовала тем, чьи кочевые привычки, социальная организация и чувство национальной самобытности, не говоря уже об отличном умении ездить верхом, легко превращались в военное преимущество. В армиях соперничавших князей оказалось довольно много сюнну, сяньбэй, цянов и представителей других племенных групп, проживавших на территории империи. Некоторые согласились служить на договорной основе, некоторые были завербованы в официальном порядке. Другие племенные союзы из-за северной границы были втянуты в борьбу как союзники, но остались как хищники. У всех приграничных народов имелись свои поводы для недовольства, не в последнюю очередь связанные с потерей статуса. Некогда почетные гости и уважаемые союзники Хань, они постепенно опускались все ниже: Нанай Вандак неслучайно называет их собственностью Цзинь. «Мы были князьями и знатью — теперь с нас собирают подати, как с обычных простолюдинов», — жаловался один вождь сюнну [24]. Старые добрые времена щедрых ханьских субсидий вспоминали с нежностью; и как раз потомок одного из древних союзов между шаньюем и ханьской принцессой возглавил наступление на Лоян в 310 г.
Этот Лю Юань был, несомненно, сюнну, однако он принял фамилию Лю, которую носили императоры Хань, и фактически назначил себя «правителем Хань». Подобно другому «правителю Хань» Лю Бэю
279
ГЛАВА 7
в период Троецарствия, он надеялся заручиться поддержкой недовольных подданных империи. Но он умер до того, как его войска, состоявшие в основном из сюнну, захватили Лоян. Лавры достались его преемнику — «китайскому Аттиле» Лю Цуну. По некоторым сведениям, во время последней атаки было убито десять тысяч защитников города. Это довольно скромное по китайским меркам число, вероятно, отражает масштабы предшествующего дезертирства. И если описания заваленного мертвыми телами города соответствовали действительности, пожалуй, солдаты Лю Цуна, поджигая его, сделали доброе дело.
Чанъань вскоре разделил судьбу Лояна — дважды. Тем временем император Цзинь был схвачен, а затем убит. То же случилось с его преемником. Титул императора и задача возродить династию перешли таким образом к Сыма Жую, дальнему родственнику с берегов далекой Янцзы. Он выполнил свою задачу, хотя и только на юге, основав Восточную Цзинь. Вскоре его государство пополнилось как минимум миллионом, а возможно, несколькими миллионами подданных, которые бежали с севера, спасаясь от гибели и разрушений. Знать и бедняки одинаково участвовали в этом массовом исходе. Целые районы снимались с места, следовали за местными предводителями на юг и селились там, образуя новый район с прежней районной администрацией и названием. Несмотря на некоторые трения с поселенцами, пришедшими на юг раньше, а также с коренными народами региона, северяне дали южному двору самых выдающихся ученых, основателей более поздних правящих династий и самую эффективную, пусть и не совсем надежную армию. В строго демографическом смысле южные империи имели достаточно оснований считать себя полноправными наследниками Хань. Надежда вернуться на север никогда не угасала, и при дворе ревностно сохраняли в ожидании этого дня все тонкости этикета, образования и ритуалов.
На севере положение было крайне бедственным. Там начался период Шестнадцати царств (традиционно 304-439 гг.). Из шестнадцати династий шестнадцати царств некоторые следовали друг за другом в упорядоченной хронологической последовательности, но чаще толпились и толкались на исторической сцене одновременно. Все эти режимы, возникшие в результате междоусобиц и дробления племен, были в основном неустойчивыми; они не способны были воспользоваться унаследованной ими китайской администрацией,
280
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
ДИНАСТИИ ПЕРИОДА РАЗДРОБЛЕННОСТИ в 220-600 гг.
Поздняя
Хань
(Цао)
Вэй
Западная
Шестнадцать
царств
Северная Вэй
Зап.
Вэй
Сев.
Ци
Суй
Тан
(Хань)
Шу
Цзинь
Вост.
Вэй
Сев.
Вэй
(Сунь) У
Восточная Цзинь
(Лю) Сун
Ци
Лян
Чэн
1 1 И 1 1 Г~) 1 Г‘ Г‘ 1 Г—f 1 1 г
175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650
вызывали у китайских чиновников и подданных только презрение и были слишком склонны к насилию и деспотизму.
Пожалуй, страшнее всех остальных было государство народа цзе Позднее Чжао, правившее на территории Шаньдуна и Хэбэя. Его основал бывший раб и преступник, сюнну по имени Ши Лэ (пр. 319- 333). Ши Лэ, не знавший ни жалости, ни грамоты, был, впрочем, джентльменом по сравнению со своим преемником Ши Ху (333-349). Правление Ши Ху, самым мягким определением для которого будет «психопат», было отмечено беспрецедентным террором [25]. Повздорив с собственным наследником, он, по рассказам, убил молодого человека вместе с его супругой и их двадцать шестью детьми, а затем приказал похоронить их всех в одном гробу. Более двухсот человек из свиты принца разделили ту же участь (но хотя бы не тот же гроб). Казалось бы, философия отказа от насилия и уважения к жизни во всех ее формах должны были вызвать у подобного чудовища лишь насмешку или ярость. Тем не менее именно под покровительством тиранов сюнну1 буддизм на севере достиг самых впечатляющих успехов.
Фотудэн, миссионер и чудотворец из Кучара (Куча) на Шелковом пути, когда-то учившийся в Кашмире, в 310 г. дошел до реки Хуанхэ. Предугадав исход осады Лояна (он был и провидцем), он испросил аудиенции у Ши Лэ, одного из участников нападения на город. Зная, «что Ши Лэ не разбирается в тонкостях учений и убедить его в силе
1 Китайские летописцы считали цзе родственниками сюнну. Большинство современных ученых полагают, что они говорили на одном из енисейских языков, а их самоназвание звучало примерно как «киат». Почти так же называют себя кеты — последние, кто говорит на языках этой некогда многочисленной группы. Некоторые ученые возводят этногенез цзе к истории юэчжи, говоривших на языке восточноиранской группы.
281
ГЛАВА 7
буддизма можно только волшебством», Фотудэн наполнил чашу для прошения водой и вызвал на поверхности воды сияющий голубой лотос [26]. Потрясенный вождь сюнну, а затем и его страшный преемник назначили Фотудэна своим «придворным чародеем» и приняли буддизм. Правители Поздней Чжао (семья Ши) часто обращались за помощью к замечательным способностям Фотудэна (гораздо чаще, чем к его учению) и щедро вознаграждали его. Младшие сыновья Ши Лэ обучались в буддийском заведении, а нечестивый Ши Ху присвоил себе титул «принц-наследник Будды». В летописях упоминаются массовые обращения в веру, огромное количество последователей и основание девятисот буддийских монастырей и храмов. Благодаря сомнительным отношениям со светской властью буддизм на севере Китая широко распространился в народе. По словам биографа Фотудэна, монах-чудотворец «использовал покровительство семьи Ши, чтобы заложить основы буддийской церкви» [27].
Однако в самом ли деле Фотудэн так вольно излагал учение Будды, или правители Поздней Чжао были так впечатлительны, как изображают письменные источники, неясно. К числу учеников Фотудэна принадлежат самые выдающиеся представители китайского буддизма. Когда в 349 г. Позднее Чжао распалось (только в этом году взошли на престол и были убиты подряд четыре правителя), ученики Фотудэна распространились на север от Шаньдуна в Сычуань и на юг до Гуандуна. Один из них, монах Даоань, стал величайшим толкователем, переводчиком и организатором в ранней истории китайского буддизма, а несколько его учеников помогали Кумарадживе, другому уроженцу Кучара, осуществить самый грандиозный в количественном и качественном отношении перевод буддийских текстов на китайский язык. Все эти светила продолжали чтить память Фотудэна, что позволяет предположить, что он был не просто шарлатаном и фокусником.
Что касается сюнну, они, безусловно, считали Фотудэна кем-то вроде шамана, обладавшего весьма полезными навыками врачевателя, заклинателя дождя, ясновидящего и политолога. Но вдобавок, как объяснил Ши Ху, они оценили и те особые преимущества, которые им давал буддизм. «Будда, будучи посторонним [или иноземным] богом, есть тот самый, кому мы [как посторонние] должны поклоняться», — заявил он в эдикте о принятии буддизма [28]. Руководствуясь теми же соображениями, буддизм позднее поощряли другие
282
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
захватчики — монголы и маньчжуры. Универсальные качества буддизма, распространявшего возможность освободиться от страданий на всех людей, независимо от их расы, пола или образования, резко контрастировали с узкой социальной ограниченностью конфуцианства. Фактически буддизм предлагал полуграмотным пастухам источник самосознания и легитимности, в котором им отказывали высокие стандарты конфуцианской учености. Отодвигая в сторону прецеденты и ритуалы жуу он помог чужеземным правителям наладить непосредственный контакт с малообразованной массой подданных, китайцев и некитайцев, среди которых северный буддизм нашел самое большое количество последователей.
Хотя у власти в Шестнадцати царствах стояли главным образом не- китайцы, они понимали, как важна поддержка китайских народных масс — их подданных. С этой целью они демонстративно выражали уважение к традициям Хань, делали попытки возродить бюрократическую администрацию и принимали прославленные династические имена. Кроме двух государств Чжао было несколько государств Вэй, Янь и даже Цинь. Обосновавшись, как ее прославленная тезка, в Чанъане и долине Вэйхэ, первая из этих Цинь (351 -386) на первый взгляд имела довольно шансов в борьбе за власть. Этнически Поздняя Цинь состояла из ди, племени полуоседлых скотоводов, разводивших овец и коз на границе Тибета и Сычуани, а не из кочевников, перегонявших стада лошадей и верблюдов по монгольским степям. У них не было традиции действовать сообща, и они «находились под властью довольно большого количества независимых мелких вождей» [29]. Тем не менее они вслед за древней Цинь начали экспансионистскую политику, и отчасти благодаря слабому сопротивлению раздробленных государств, которые сильно их недооценили, отчасти благодаря разумным договоренностям с грозными сюнну и сяньбэй, Цинь в 381 г. успешно воссоединила весь Северный Китай.
Постепенно силы Цинь отняли у Восточной Цзинь Сычуань, а затем угрожали разделить страну с севера на юг, продвигаясь дальше по территориям Восточной Цзинь в бассейне Янцзы. Город Сянъян на реке Ханьхэ был захвачен, великая южная столица Цзянькан оказалась беззащитной. Когда Цзинь вернула себе Сянъян, Цинь отреагировала весьма решительно, выставив невероятную армию из двухсот семидесяти тысяч всадников и шестисот тысяч пеших солдат. Наступление на юг шло по двум направлениям: одна армия шла через Хэнань
283
ГЛАВА 7
и реку Хуайхэ, другая — через Сычуань и среднее течение Янцзы. Но в 383 г. на реке Фэй (приток Хуайхэ) Цинь постигло бедствие. Загадочным образом восточная армия потерпела катастрофическое поражение, которое фактически положило конец не только ее наступлению, но и кратковременной власти Цинь.
Так называемая битва на реке Фэй, хотя и менее убедительная, чем битва у Красной скалы, стала еще одним сражением севера и юга, сыгравшим решающую роль в истории Китая. Мыльный пузырь Цинь лопнул. Южный двор в Цзянькане (Нанкине) пережил час опасности и еще двести лет продолжал вести культурные рассуждения и запутанную политику. В 385 г. силы юга, в свою очередь, попытались воссоединиться и даже дошли до Хуанхэ, но затем отступили. В течение следующих тридцати лет правительство в Цзянькане неоднократно потрясали беспорядки, но ни одна северная династия не спешила этим воспользоваться. Точно так же дело обстояло, когда в 420 г. последний император Восточной Цзинь уступил Небесный мандат своему военачальнику Лю Юю, основателю южной империи Сун (династии Лю). Если битва у Красной скалы в 209 г. обрекла некогда объединенную империю на долгую раздробленность, битва на реке Фэй в 383 г. подтвердила, что разобщение может длиться дольше, чем два столетия. «После краха Ранней Цинь [названного так, потому что на смену ему в северо-западных областях пришло государство цянов, принявшее то же название] север в политическом смысле был раздроблен сильнее, когда-либо после падения Западной Цзинь» [30].
СНОВА ЛОЯН
Подробности битвы на реке Фэй, изложенные в официальных историях, вызывают у историков немало споров. Так или иначе, ясно лишь, что череда малых стычек, по-видимому, увенчалась глобальным недопониманием. Войска Цинь неверно поняли хитрый план своего командующего, собиравшегося заманить противника на другой берег реки, и приняли его нежелание наступать за отступление неясного масштаба. Поэтому они не только не открыли огонь, как им было приказано, но и сами начали отступать. Затем отступление сменилось бегством. Силы Цинь решили, что проиграли битву, которая на самом деле еще даже не начиналась. Не слишком лояльные спо¬
284
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
движники и союзники, повинуясь инстинкту самосохранения, просто рассеялись. Могущественная армия не столько потерпела поражение, сколько растворилась.
Слово «растворилась» здесь особенно уместно, поскольку, несмотря на неубедительные детали «битвы», вода, по-видимому, сыграла в ней важную роль. Битва на реке Фэй наглядно иллюстрирует огромную разницу между способами ведения войны на севере и на юге. На юге почти все боевые действия происходили при поддержке флота. Войска, главным образом пехоту, перебрасывали по рекам, озерам, каналам или побережьям, и планы военных кампаний строили вокруг этих направлений. Дорог было мало. Рельеф местности затруднял передвижение обозов, малярийный климат создавал смертельную угрозу для солдат на марше; и то и другое не годилось для лошадей, которые встречались в этих местах намного реже буйволов. Бедный подножный корм осложнял разведение лошадей: молодняк, родившийся к югу от Хуанхэ, считался второсортным, и лошадей для кавалерии в основном приходилось завозить из степей. Таким образом, южные армии, способные хорошо показать себя в бамбуковых зарослях и на бурных реках своей родины, оказались в крайне невыгодном положении, выступив на продуваемые ветром равнины.
На севере дело обстояло совершенно иначе. Там все зависело от всадников и тяглового транспорта. Из Шэньси, Ганьсу и степей доставляли самых быстрых и крепких лошадей Азии. Сюнну, сяньбэй и другие народы с младенчества умели ездить верхом. Сидя на лошади, они пасли скот и охотились; сидя на лошади, они сражались мечами и стреляли из луков. Разведение чистокровных лошадей по-прежнему составляло основу их хозяйства. Северные равнины и прилегающие к ним степи были землями всадников.
И если седло, как гласит пословица, представляло собой «трон кочевника», то в начале IV века кочевник сидел в нем основательнее, чем когда-либо. Седла стали более прочными и лучше приспособленными к анатомии лошади и человека и были снабжены защитой для ног. Около 300 г. появились стремена — одно из тех загадочных изобретений, которые, согласно всеобщему мнению, полностью изменили мир. Стремена дали наезднику более устойчивую опору и позволили на скаку пускать стрелы и бросать копье. Доспехи для лошади и всадника постепенно становились все более тяжелыми. Самым популярным оружием того времени оставался арбалет, однако он был менее
285
ГЛАВА 7
эффективен против воинов в панцирях из нашитых на кожу стальных пластин и защищенных таким же образом скакунов. Атака этой танкоподобной кавалерии сметала все на своем пути, и, возможно, именно она частично объясняет возникший в этот период обычай строить укрепления не только в царских резиденциях, но и в сельских усадьбах и деревнях. Однако на юге все эти усовершенствования не давали захватчикам никакого преимущества. Перевозить лошадей на кораблях было трудно, в рисовых полях и болотах тяжеловооруженные всадники вязли вместе с лошадьми. Одна из причин, почему деление страны на север и юг сохранялось так долго, заключалась в том, что ни у одной из сторон не было военного преимущества для победы над другой стороной.
Данные об использовании стремени и доспехов для лошадей дают картины и статуэтки того периода, изображающие сяньбэй в шлемах-капюшонах на строевых лошадях в жестких защитных «юбках». Именно наводившие ужас нападения конфедерации сяньбэй из-за северной границы положили конец Шестнадцати царствам. Табгачи (в китайской транскрипции тпоба), основной племенной компонент конфедерации, сначала повздорили с союзниками на равнинах северо-востока. После ссоры из-за поставки лошадей сяньбэй совершили набег, чтобы решить спорный вопрос, но вожди табгачей, они же правящая династия государства Северная Вэй (386-534) нанесли ответный удар и последовательно ликвидировали сюнну, цянов и других соперников. К 439 г. из своей столицы в Пинчэне (Датун в северной Шаньси) они объединили под своей властью весь Китай выше реки Хуайхэ.
Власть табгачей (тоба) — Северной Вэй — первой и самой важной из так называемых Пяти (северных) империй длилась почти сто лет. Четыре ее недолговечных преемника (все вместе они и оставляют Пять династий) затем быстро подчинились Суй, и два императора Суй в положенный срок опустили занавес над бурным периодом раздробленности и повели государство в великую эпоху Тан. На пороге стоял новый золотой век, однако его предвестников, внесших свой вклад в блестящее будущее, можно отыскать и среди правителей Северной Вэй.
Управляя империей — или половиной империи, Северная Вэй столкнулась с теми же проблемами, что и ее предшественники. Главными задачами были сохранение преданности и сплоченности своих
286
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
племенных сторонников, возрождение администрации усилиями главным образом китайскими подданными, заселение земель и обеспечение власти продуктами питания, рабочей силой и доходами. Положительная дискриминация помогла успокоить сяньбэйскую часть населения. Гожэнь — «люди из государства табгачей» или «соотечественники» — считались правящим классом и имели собственную систему рангов. Они сохранили родные обычаи и язык, пользовались многочисленными привилегиями и налоговыми льготами и обладали монополией на военные должности. Многие поселились около столицы, другие патрулировали северную границу до пустыни Гоби, где была построена сеть крепостей.
В идеале гожэнь должны были находиться на обеспечении у китайских подданных империи. Тфуд рабского характера был легкодоступным, множество пленников и осужденных были доставлены в столицу и использованы для общественных работ, военного снабжения и обработки государственных земель. Но не так просто было уговорить свободных земледельцев, то есть налогоплательщиков, вернуться к обработке давно заброшенных владений. Общее снижение численности населения в период раздробленности составило 30%. Особенно оно было заметно на севере, значительно пострадавшем от массовой эмиграции. Уменьшение численности населения заставило победоносную новую власть «уделять контролю над людьми больше внимания, чем контролю над территориями»; крестьяне-земледельцы теперь рассматривались как военные трофеи [31]. Многих крестьян переселили ближе к столице, однако они нередко снимались с места при малейшей провокации, и по мере того, как темпы завоевания замедлялись, снижался и приток новых поселенцев. Чтобы повысить урожайность сельского хозяйства, Северной Вэй пришлось разработать новые поощрения и стимулы для земледельцев, среди которых была постоянная и справедливая система землепользования.
Северной Вэй удалось продержаться у власти дольше, чем любому из ее постханьских предшественников, и она имела достаточно времени, чтобы политически акклиматизироваться и начать эксперименты. Буддизм по-прежнему служил источником легитимации и способом преодоления этнической пропасти между китайцами и некитайцами. Но вместе с тем его непосредственно использовали в интересах государства. Регулированием буддийских дел теперь занималось специальное бюрократическое подразделение. Буд¬
287
ГЛАВА 7
дийское духовенство признавало превосходство только своих духовных старейшин, но не императорских властей — эту сложность устранили, официально возвысив императора над духовенством и присвоив ему титул бодхисаттвы. Аналогичный шаг на юге привел к тому, что У-ди (пр. 502-549), император Лян, предпоследней из Шести (южных) империй, носил смешанные титулы, такие как Ху- анди Пуса и Буса Тяньцзы («Император-бодхисаттва», «Бодхисаттва Сын Неба»).
О всепроникающем присутствии буддизма свидетельствует то, что тогда его нередко критиковали за нелояльность и даже попытки помешать властям. Особенно доставалось монастырям: в государстве не хватало рабочей силы, а монастыри служили убежищем для тех, кто не хотел работать или уклонялся от уплаты налогов. Не только монахи, но и все, кто трудился в обширных монастырских поместьях, были освобождены от налогообложения, военного призыва и трудовых повинностей. Сами поместья, их продукция и доход обогащали буддийскую общину (сангху) и укрепляли ее положение. В результате страдали государственные программы и доходы. Например, колоссальные статуи Будды и пещеры, до сих пор сохранившиеся в Юйгане (около Пинчэна), и Лунмэне (близ Лояна), были высечены из камня десятками тысяч рабочих, которые могли бы вместо этого трудиться на более практичных общественных работах.
Эти и многие другие критические замечания уже возникали на юге в 340 и 403 гг. На севере особенный интерес к ним проявил император Северной Вэй Тайу-ди (пр. 424-452), завершивший завоевания империи. Попав под влияние даосского небесного наставника, император торжественно принял титул совершенного властелина великого мира (тайпин) и возглавил настоящую даосскую революцию во внутренних кругах власти. Буддийские монахи и другие вожди народных культов подверглись чистке в 444 г., а сам буддизм был запрещен (далеко не в последний раз) в 446 г. Несмотря на то что движение под держивала утратившая былые позиции ханьская знать, оно вызвало недовольство у военной знати сяньбэй, опасавшейся, что их лишат монополии на высокие должности, и привело в ярость самого императора, когда он обнаружил, что в переписанной под влиянием даосизма истории империи принижают его кочевых предков. Таким образом, запрет был ослаблен примерно в 450 г., признан недействительным после убийства Тайу-ди в 452 г. и полностью отменен, когда
288
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
в 465 г. бразды правления приняла несравненная вдовствующая императрица Фэн.
«Немногие правители в истории предпринимали более основательные попытки изменить жизнь своих подданных, чем вдовствующая императрица и ее внук Сяовэнь-ди» [32]. Она не только вернула буддизм и стала его щедрой покровительницей, но и серией указов, выходивших в течение тридцати лет, полностью обратила вспять все тенденции политического развития. Сяньбэй должны были отказаться от своего родного языка, одежды и обычаев и постепенно китаизировались через смешанные браки и классическое образование. Северная Вэй, представлявшая собой гегемонию степей над северными равнинами, теперь стремилась установить господство северных равнин над всем Китаем. Вместо самодержавного военного правления поощрялось бюрократическое гражданское правительство по образцу Ранней Хань, большую поддержку получало сельское хозяйство, а этнический разрыв между правителями и подданными сокращался путем смешения ханьцев и неханьцев.
В краткосрочной перспективе этот эксперимент потерпел неудачу, так же как даосский эксперимент Тайу-ди. Но он имел далекоидущие последствия. В самом деле, «последствия серии декретов, изданных в Китае в 472-499 гг., сыграли огромную роль в истории следующих трех столетий, которую трудно точно оценить» [33]. Так, в качестве стимула всем земледельцам-налогоплателыцикам теперь предлагали фиксированное право на сельскохозяйственные угодья и на тутовые деревья (для разведения шелкопрядов) с дополнительными площадями в зависимости от количества женщин, рабов и домашнего скота, приписанных к каждому подворью. «Система равных полей» была предназначена, как и старая система колодезных полей, для справедливого распределения земли государством. Она создавала основу для учета и налогообложения населения. Но теперь личные земельные наделы стали значительно больше, чем раньше, и часть каждого, особенно ту, которая предназначалась для тутовых деревьев или других культур, связанных с производством ткани (конопля и пр.), можно было передавать по наследству. Другими словами, этого было достаточно, чтобы земледелец дважды подумал, прежде чем бросать свою землю при малейшей угрозе голода или беспорядков. Нечто подобное предприняли империи Цао Вэй и Западная Цзинь, но именно версию Северной Вэй затем заимствовали Суй и Тан. Она просуществовала до
289
ГЛАВА 7
середины VIII века, когда «попытки государственного регулирования землепользования в Китае окончательно прекратились и не возобновлялись на практике до... прихода коммунизма в XX веке» [34].
Теоретически никакую государственную землю (кроме земли для тутовых деревьев) нельзя было отчуждать или наследовать. Однако почти сразу и то и другое стало обычным явлением. По мере укрепления крупных землевладений система равных полей стала явно неравной и фактически способствовала появлению нового класса землевладельцев. Даже воинов сяньбэй, похоже, привлекала эта система, и везде, где реформы были эффективными и земельный надел можно было передать по наследству, укоренились мощные землевладельческие кланы смешанного происхождения. Из этой среды воинов, ставших помещиками, и варваров, ставших китайцами, вышло множество ведущих деятелей VI-VII веков. Этническое и социальное примирение (китайские историки предпочитают термин «ассимиляция») продолжалось. Как и буддизм, оно сыграло основополагающую роль в процессе начавшегося в конце концов воссоединения империи.
Центральное место в новой политике, начатой вдовствующей императрицей Фэн и продолженной Сяовэнь-ди, занимал перенос столицы империи в 493 г. Из Пинчэна на границе монгольской степи, который трудно было снабжать зерном, не говоря уже о предметах роскоши, столицу перенесли в опустошенный Лоян в центре великой северной равнины, где сходилось множество наземных и водных путей и витало множество имперских ассоциаций. После долгих дебатов и начавшихся серьезных беспорядков этот шаг был наконец сделан — как бы случайно. Император повел армию на юг, чтобы напасть на Ци, четвертую из Шести (южных) империй Цзянькана (Нанкина), и по дороге приказал остановиться подле старого города, где ранее находилась столица империй Хань, Вэй и Цзинь. Непрекращаю- щийся дождь ослабил боевой дух солдат, и они молили императора отказаться от военной кампании. Император, изобразив сомнения, согласился при условии, что солдаты останутся здесь и начнут восстанавливать город.
Так они и поступили. Через девять лет строительства и массового переселения великий город вновь украсил северный берег реки Лохэ. Новый Лоян занимал более 18 квадратных километров и разместил более полумиллиона жителей и 1300 монастырей. Он стал свидете¬
290
ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕУРЯДИЦ. 189-550
лем непревзойденной роскоши и великолепия, колыбелью нового буддийского учения, местом отливки новой монеты, остававшейся в обращении следующие несколько столетий. Все это продолжалось несколько десятилетий. В 535 г. Лоян, на этот раз не разрушенный, а просто эвакуированный, вновь стал городом-призраком.
Переезд из Пинчэна всегда вызывал недовольство, особенно в сяньбэйских гарнизонах на северной границе. Политика китаи- зации и благосклонность к ханьским чиновникам стала последней каплей. Северные сяньбэйские войска восстали, и империя Северная Вэй раскололась. Другие племенные группировки поспешили присоединиться к битве; в 534 г. был свергнут последний император Северной Вэй; в том же году население Лояна перевезли в новую столицу. В свирепой борьбе между недолговечными преемниками Северной Вэй появился человек, которому предстояло предпринять вторую попытку объединения Китая.
8
Суй, Тан и Вторая империя
(550-650)
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
До того как в Китае в 1912 г. приняли григорианский календарь, каждый месяц китайского года длился двадцать восемь или двадцать девять дней в соответствии с продолжительностью лунного цикла. Но поскольку при умножении 28 (29) дней на 12 месяцев получалось не 365 дней солнечного года, а несколько меньше, китайскому календарю, как и всем остальным лунно-солнечным календарям, нужно было чем-то заполнить эту разницу Юлианский и григорианский календари решили эту проблему, продлив месяцы до 30-31 дня, что позволило равномерно распределить излишек в рамках одного года. Но в Китае, как в Риме до Юлия Цезаря, стандартным оставался лунный месяц. Поэтому разницу лунного и солнечного календаря компенсировало введение примерно через каждые восемнадцать месяцев еще одного дополнительного месяца.
Введение этого промежуточного, «интеркалярного» месяца всегда сопровождалось серьезными спорами и сложными расчетами, поскольку от взаимной гармонии и точной синхронизации земного и космического мира зависело буквально все: добродетель, долголетие, здоровье, процветание, правосудие, власть и защита от бедствий. Этот вопрос, как и другие важные регулярные корректировки (выбор названия для годового периода, настройка часов, время проведения сезонных обрядов, музыкальный тон ритуальных труб и т. п.), находился в личном ведении императора. Считалось, что прославившие
292
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
себя императоры, особенно те, кто основал династию или многого достиг в свое правление, хорошо разбирались в таких вопросах, плохие же императоры не уделяли им достаточно внимания или манипулировали ими по собственному усмотрению.
Это представление об опасных, хотя и очищающих промежуточных периодах, в течение которых человеческие дела заново подстраивались к ритмам Вселенной, можно было распространить и на саму преемственность династий. Некоторые империи существовали долго, другие едва переживали несколько бурных десятилетий — казалось, они появлялись лишь для того, чтобы заполнить собой брешь или обозначить новое направление. Ранней Хань предшествовало неспокойное правление Первого императора Цинь, а Поздней Хань предшествовал неожиданный «всплеск» активности империи Синь (то есть Ван Мана). Здесь явно прослеживалась закономерность, и поскольку последовательность династий теоретически воспроизводила планетарные циклы, некоторые китайские историки с готовностью согласились с возможностью существования промежуточных, «ин- теркалярных» династий. Таким образом, Цинь и Синь можно было рассматривать как болезненные, но необходимые корректирующие эпизоды, которые помогли привести Раннюю и Позднюю Хань в благодатную гармонию с космическими силами.
Живший в XI веке историк Сыма Гуан, автор летописи «Цзы-чжи тун-цзянь» (не путать с Сыма Цянем, жившим во II веке до н. э., автором «Исторических записок») задался целью «отделить друг от друга династии, имеющие ортодоксальный и интеркалярный статус», но в конечном итоге эта задача оказалась ему не по силам. В постхань- ский период было слишком много династий, чтобы взвешенно решить, какие из них нужно считать промежуточными, а какие нет (если таковые имелись). Тем не менее название всеобъемлющей летописи Сыма 1уана, которое переводится примерно как «Всепрони- цающее зерцало, управлению помогающее», очевидно, согласуется с концепцией истории как отражения космических циклов [1]. Следуя остальным китайским историкам, Сыма гуан полагает, что каждая отдельная династия совершает циклическое движение. Подобно планетам, династии восходят и заходят, прирастают и убывают, разгораются и гаснут. Сильные и добродетельные императоры обычно появляются в начале, слабые и плохие — как правило, ближе к концу. В самом деле, «плохой последний император» — практически не¬
293
ГЛАВА 8
обходимое условие для перехода Небесного мандата в другие руки, и в официальных историях этот оборот встречается так часто, что его можно считать историческим клише вместе с многочисленными «мстительными императрицами» и «злокозненными евнухами». Но, как и всякое клише, мрачные деяния и разные непристойности, на которые намекают подобные стереотипы, не следует разделять без оговорок
Сыма 1уан не отказался полностью от мысли о том, что династии сами по себе могут быть промежуточными. Возможно, эту теорию трудно было соотнести с локальными династиями периода раздробленности, но, если вернуться к воссоединению в конце VI века, она подтверждалась самым удовлетворительным образом. Ибо долгому и славному пути империи Тан предшествовал еще один короткий и драматичный промежуточный эпизод, который помог вернуть страну к естественному, с точки зрения официальных историков, существованию в виде единой империи — мы говорим о правлении державы Суй.
В империи Суй было только два императора, их царствование продолжалось в общей сложности лишь тридцать семь лет (581-618), но их кипучую энергию и масштабы достижений не удалось превзойти ни одному позднейшему правителю. Чтобы найти для них достойных соперников, скорее стоит заглянуть в прошлое — так же, как это делали они сами. Если могущественная империя Хань опирались на административные структуры, юридические уложения, мобилизационную мощность и внушающую трепет репутацию, созданную Первым императором Цинь, то империя Тан едва ли расцвела бы без завоеваний, администрации и инфраструктуры, унаследованных от Суй. И все же, поскольку правитель, пекущийся о чести своих предков, ни в коем случае не позволил бы назвать свою династию «промежуточной», императоры Суй вдохновлялись примером не Цинь, а самой Хань1. Как мы увидим дальше, сами правители Суй считали болезненным переходным периодом правление той династии, которую они
1 Стоит иметь в виду, что сравнение правителей Суй (особенно второго императора Ян Гуана) с императорами Цинь является очень характерной чертой танской историографии, от которой этот удачный литературный ход унаследовали многие поколения историков последующих эпох. Это яркий пример того, что удачный назидательный ход для китайских летописцев был гораздо привлекательнее, чем объективное изложение событий.
294
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
сменили. «Плохой последний император» всегда принадлежал к чужому роду.
В 534 г. приказ о насильственной эвакуации вновь восстановленного Лояна отдал военачальник Гао Хуан. По происхождению китаец, но родом с северной границы и женатый на женщине из сяньбэй, Гао Хуан правил от имени нескольких недолговечных потомков Северной Вэй (известной как Восточная Вэй) из более выгодной в оборонительном отношении столицы Е на юге Хэбэя. Лоян считался слишком уязвимым, потому что на западе от имени марионеточных императоров Северной Вэй (там известной как Западная Вэй) правил еще один военачальник чистого сяньбэйского происхождения. Его звали Юйвэнь Тай. По освященной временем традиции последние представители рода Вэй вскоре были уничтожены, преемники Гао Хуана воцарились на востоке как Северная Ци (551-577), а потомки Юйвэнь Тая на западе как Северная Чжоу (557-581). Разумеется, сами они называли себя просто Ци и Чжоу, все «северные», «восточные» и «западные» приставки были добавлены позже для удобства историков.
Северная Ци на востоке была более китаизированной из двух режимов, ее можно рассматривать как продолжение этнической ассимиляции хань и нехань, которую проводили вдовствующая императрица Фэн и Сяовэнь-ди из Северной Вэй. Однако Северная Чжоу, основанная в Чанъане (ее представлял Юйвэнь Тай) и первоначально более слабая, оказалась более энергичной и открытой для всего нового. По мнению американского историка Скотта Пирса, этот в основном неханьский режим, во главе которого стояла сяньбэйская знать, зачастую вообще не говорившая на китайском языке, «служил наковальней, на которой были выкованы опоры власти — экономические, политические и военные, позволившие подняться монолиту [империй Суй и Тан]» [2]. На самом деле Северная Чжоу фактически создала этот монолит — во всяком случае, она объединила север, добавив к нему жизненно важную ресурсную базу провинции Сычуань, предъявила претензии на Ганьсу и некоторые города-оазисы за его пределами и возвысила человека, чей сын под именем Вэнь-ди завершил процесс воссоединения. Так же как гуны и цари Цинь в период Сражающихся царств создали централизованные бюрократические структуры и мобилизовали огромные завоевательные армии, которые сделали возможным появление империи Цинь, а затем Хань,
295
ГЛАВА 8
эти малоизвестные нововведения Северной Чжоу способствовали триумфам Суй, которые, в свою очередь, легли в основу величия Тан.
Однажды в 535 г. Юйвэнь Тай, уже занимавший видное положение рядом с троном Западной Вэй, отправился с друзьями ловить рыбу недалеко от Чанъаня. Людям с пустынной северной границы это развлечение было в новинку. Для рыбалки они выбрали водоем, судя по всему, созданный руками человека. Юйвэнь Тай заинтересовался его происхождением — вероятно, он появился еще в период Ранней Хань — и захотел узнать о нем больше. К нему доставили местного жителя по имени Су Чо, который оказался настоящим кладезем информации. «Улов» древностей обрадовал военачальника-сяньбэя куда больше, чем пойманная рыба. Он расспрашивал Су Чо весь остаток дня и всю ночь. Кроме историй о «восхождении и упадке прежних династий», он много узнал об «обычаях упорядоченного правления, обычаях императоров и царей» и о политических учениях древних мудрецов, таких как легист Хань Фэй. Любопытство и непредвзятый прагматизм относились к лучшим качествам степных пришельцев, и Юйвэнь Тай был заинтригован. Он назначил Су Чо советником по финансовым вопросам и поручил ему разработать легитимирующую идеологию нового режима (позднее Су Чо играл ту же роль роли при правителях Северной Чжоу) [3].
Су Чо нужно было повысить репутацию неханьского правительства в Северном Китае, и решение этой задачи он видел не в компромиссе с сохранившимися традициями Хань, а в возвращении к доханьским (и, разумеется, добуддийским) временам и в возрождении чистоты древних традиций. Другими словами, он решил стать ортодоксальнее самих ортодоксов. Подобно Конфуцию, он обратился к эпохе до периода Сражающихся царств, когда общество якобы жило в соответствии с высшими идеалами конфуцианской морали и долга. Это объясняло и выбор Чжоу в качестве имени государства, и вложенные в уста Юйвэнь Тая высказывания и речи, заимствованные непосредственно у Чжоу-гуна, и пропаганду «Чжоу ли» («Установлений Чжоу»), спорного текста, авторство которого также приписывали Чжоу-гуну, в котором речь шла о жизни и ее правилах в ту безмятежную эпоху.
Как читатели, возможно, помнят, именно наставления «Чжоу ли» слепо пытался претворить в жизнь Ван Ман в начале I века. Теперь вновь были возрождены давно забытые названия должностей времен Чжоу, указы издавали на архаичном китайском языке, и все чи¬
296
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
новники вынуждены были его изучать. Снова требовалось помнить наизусть шесть основ нового государственного устройства. Система «равных полей», введенная Северной Вэй, была все же сохранена как справедливое приближение к древней системе колодезных полей, позволявшей крестьянам иметь равные наделы. Естественно, буддизм и даосизм не приветствовались, и оба в конечном счете попали под запрет.
Вряд ли подобные излишества на самом деле способствовали возникновению добрых чувств между иностранной знатью и китайскими подданными. Когда представитель этой знати суйский гун восстал против Северной Чжоу в 581 г., одним из его первых шагов стал решительный отказ от упомянутого эксперимента. В сущности, конфуцианский «фундаментализм» послужил Северной Чжоу ничуть не лучше, чем Ван Ману. Вместе с тем он хорошо послужил их преемникам: отмена настолько неудобной модели не только повысила их авторитет, но и открыла идеологическую арену для других политических образцов из прошлого.
Более практичными и гораздо более результативными были нововведения Северной Чжоу в области военного дела. Впервые прибыв в Чанъань, Юйвэнь Тай и его спутники-сяньбэй привели с собой эффективную, но немногочисленную конницу. Чтобы противостоять новым нападениям Восточной Вэй / Северной Ци, им необходимо было организовать вербовку рекрутов на местах, обеспечить верность сельских ополченцев и повысить статус и уровень военной подготовки военнослужащих. В этом деле они добились немалых успехов. В хронике от 550 г. говорится, что в распоряжении Северной Чжоу было «двадцать четыре армии», а в начале 570-х гг. речь шла уже о сотне тысяч вооруженных воинов. В 549 г. был успешно подчинен коридор Ганьсу, в 550 г. после падения южной империи Лян взяли Сычуань, а затем бассейн Ханьхэ. Территория Северной Чжоу теперь простиралась до Янцзы. Чтобы завершить воссоединение севера, оставалось только подавить Северную Ци в Шаньдуне и Хэбэе. Этот подвиг был совершен в 577 г. с помощью огромной армии из 570 тысяч человек.
Но как именно Северной Чжоу удалось создать такую внушительную и сплоченную военную машину, не совсем ясно. Считается, что ключевую роль в этом процессе сыграло создание фубин («территориального ополчения» или «милиции»). Отряды фубин стали осно¬
297
ГЛАВА 8
вой армий Суй и Тан, а их происхождение позднее вызвало немало споров, ни один из которых так и не помог прояснить дело. При Северной Чжоу большинство фубин были, скорее всего, не кавалерией, а пехотой, не чужеземцами, а ханьцами, и не призывниками, а добровольцами, пошедшими на службу в обмен на освобождение от налогов и трудовых повинностей. Но было и множество исключений: всеобщий призыв не отменили; некоторые фубин, возможно, приходили из военных подразделений, собранных ранее местной знатью, а затем вошедших в состав «двадцати четырех армий»; огромное количество упоминаний о лошадях показывает, что важнейшую роль играла легкая и тяжелая кавалерия, а также вербовка неханьских союзников; на севере и на юге повышался уровень военного профессионализма и воинской культуры. Очевидно, существовал обычай долгосрочной службы, когда семья или группа семей потомственных военных присылали новобранцев из поколения в поколение; о развитии духа товарищества можно судить по тому, что в 570-е гг. «двадцать четыре армии» начали посменно нести караул в окрестностях императорского дворца, что стало важной особенностью системы фубин при империях Суй и Тан [4].
Но, пожалуй, ничто не способствовало устойчивому наращиванию военного потенциала больше, чем одержанные с его помощью победы. Победы приносили награды всем — пожалования, амнистии и добычу рядовым, почести, высокие звания и еще больше добычи командирам, дополнительную рабочую силу и продовольствие правящему режиму. Экспансия создавала собственный движущий импульс, и казалось, ей не будет предела. Завоевания Северной Чжоу от реки Ляохэ в Маньчжурии до Ганьсу, Сычуани и верхней Янцзы не только воссоединили север, но и оцепили отколовшуюся южную империю с центром в Цзянькане (Нанкин) в нижнем течении Янцзы.
В VI веке Цзянькан, столица всех южных династий, превратился в «самый крупный город того времени» с населением около миллиона человек. В торговом и интеллектуальном смысле он решительно затмевал северные столицы Чанъань, Лоян и Е [5]. На рынках Цзянь- кана северные шелка и металлические изделия соседствовали с пряностями, жемчугом и перьями экзотических птиц из Вьетнама и юго- востока Азии. Около семисот буддийских монастырей, разбросанных вдоль Янцзы по лесистым прибрежным склонам, поддерживали самые высокие стандарты изучения и толкования священных текстов,
298
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
а при дворе благочестие соперничало с изяществом речей и безудержной роскошью.
Однако напудренных ученых, постигающих тонкости «Лотосовой сутры», и нарумяненных поэтов, слагающих напыщенные оды о цветках миндаля, ожидал крайне неприятный сюрприз. Длительное царствование благочестивого У-ди (пр. 502-549) было прервано бурным восстанием, которое достигло кульминации в 548 г., когда Цзянькан капитулировал после четырехмесячной осады. По рассказам, оставшиеся в живых аристократы, брошенные слугами на произвол судьбы и не умевшие даже приготовить себе пищу, гибли от голода в своих роскошных лакированных покоях. Город разграбили с ужасающей жестокостью, и когда в 550-х гг. порядок восстановили, южная империя досталась новой империи Чэнь (557-589) в уменьшенном и ослабленном состоянии. Еще один удар ей нанесло поражение от рук Северной Чжоу в конце 577 г. К этому времени «любому северному правителю... Чэнь, вероятно, представлялась легкой добычей» [6].
Только династический кризис на севере смог отсрочить неизбежное. В 579 г. император Северной Чжоу умер. Его сменил наследный принц Юйвэнь Пин, патологический распутник, в характере которого с чудовищной ясностью проступили все качества «плохого последнего императора». Он объедался из священных сосудов, предназначенных для предков, не соблюдал ритуалы, избивал своих женщин, изнасиловал жену одного из родственников и отрубал головы всем, кого подозревал в малейшем несогласии. Его единственным плюсом был его тесть, правитель (гун) Суй, человек смешанной этнической принадлежности и ветеран войн с Северной Ци, который действительно был, как гласил его титул, «опорой государства».
Когда в 580 г. Юйвэнь Пин умер своей смертью в результате инсульта, правитель Суй организовал собственное назначение на должность главнокомандующего и регента для семилетнего преемника Пина. Затем события приобрели предсказуемый оборот. Восстания были подавлены, клан Юйвэнь последовательно уничтожен, и на правителя Суй водопадом обрушились просьбы об основании новой династии, предположительно исходившие от юного императора и подкрепленные всевозможными знамениями и пророчествами. В 581 г. гун с подчеркнутой неохотой принял отречение юного императора (собственного внука) и Небесный мандат. Вскоре после этого быв¬
299
ГЛАВА 8
ший император скончался при подозрительных обстоятельствах, что довело число представителей клана Юйвэнь, уничтоженных в ходе чистки, ровно до шестидесяти.
Последовали пять лет консолидации и всеобщего единения. Вэнь-ди (храмовое имя, присвоенное бывшему правителю, а ныне императору Суй) развернул программу важных административных реформ, которые восстановили учреждения империи Хань и отдали большую часть правительственных должностей ханьским китайцам, потеснив выходцев из других народностей. Действовавший при Северной Чжоу запрет в отношении буддизма и даосизма был отменен, а все архаичные нововведения этой империи бесцеремонно сданы в утиль. Конфуцианцев и приверженцев даосизма искусно умиротворили. Буддийские общины осыпали беспрецедентными знаками внимания и покровительства. Чтобы обозначить притязания новой династии, Вэнь-ди приказал разобрать город Чанъань и на его месте выстроить по новому плану столицу циклопических масштабов. Сельское хозяйство восстановилось, увеличилось поступление налогов, а рабочая сила имелась в изобилии. Тем временем продолжалось наращивание военного потенциала.
Неизбежное завоевание юга случилось в 589 г. Ослабленная потерей территории вдоль северного берега Янцзы и в Сычуани, Чэнь, последняя из Шести южных империй, сопротивлялась из последних сил, почти не надеясь на благополучный исход. Земля была выбита из-под ног южной империи и в идеологическом, и в материальном смысле. После того как Северная Чжоу воссоединила север, а император Суй вернул административные нормы Хань, южный двор больше не мог претендовать на исключительную легитимность. К тому же в отличие от предыдущих южных империй Чэнь не были знатными эмигрантами с севера, которые действительно могли считать себя хранителями культурной традиции, восходившей через династическую родословную к Цзинь, (Цао) Вэй и Поздней Хань, — они были такими же местными военными вождями, как их противники с севера.
Культурные и торговые связи между севером и югом в период раздробленности сохранялись, но социальные различия, которые так поражали иноземцев, скажем, в V веке, уже не настолько бросались в глаза. Стереотипные представления о северных правителях — кровожадных диких «варварах», поедающих баранью похлебку с клецками, имели так же мало общего с действительностью, как сте¬
300
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
реотипные представления о южанах — изнеженных праздных аристократах, ковыряющих палочками деликатесы из рыбы и жареного риса. Степные народы севера все больше перенимали ханьские обычаи, ханьские китайцы, эмигрировавшие на юг, постепенно менялись благодаря контактам и смешанным бракам с представителями коренной народности мань и другими южными этническими группами. У севера и юга было больше общего, чем они соглашались признать. Обе половины бывшей империи среди верований ставили на первое место буддизм, обе с уважением относились к даосским, буддийским и конфуцианским ученым, обе ценили свое общее лингвистическое и литературное наследие, и обе по-прежнему считали Срединное царство (Чжунго) идеалом единого централизованного государственного образования.
По примеру Первого императора Цинь Вэнь-ди тщательно спланировал свое продвижение на юг. От Сычуани к морю вдоль Янцзы выступили восемь ударных отрядов, включавших в себя полмиллиона солдат. Трудности боевых действий на юге были учтены: в армии имелись лодочники из народа мань, крупные подразделения пехоты и огромный флот военных и транспортных кораблей. Все эти силы как можно тише разместили в четырех стратегических местах: на побережье, недалеко от середины Янцзы, на реке Ханьхэ и в Фэнцзе чуть выше ущелий Сычуани. На подготовку ушло два года, но к зиме 588- 589 гг. все было готово. Отлично скоординированное наступление по суше и по воде началось.
Вниз от ущелий Янцзы выступил самый грозный военачальник Суй, ведущий за собой армаду, пожалуй, самых внушительных кораблей, спущенных на воду в VI веке. Каждый из них представлял собой пятипалубную крепость с амбразурами, через которые могли вести арбалетный огонь восемьсот человек. Над кораблями словно антенны раскачивались пятнадцатиметровые вышки, с усыпанными железными шипами болванками на цепях, помогавшие держать вражеские суда на расстоянии. Но, несмотря на превосходное вооружение, северяне по-прежнему неуверенно чувствовали себя в речном бою, особенно среди предательских течений и высоких ущелий Ичана. Обходя корабли противника, укрепленные препятствия и натянутые поперек реки барьеры из цепей, они больше полагались на сухопутные марш-броски, которые обычно совершали под покровом темноты. Продвижение, иногда прерываемое кровопролитными
301
ГЛАВА 8
стычками, неуклонно продолжалось, но вскоре прекратилось в связи с событиями ниже по течению.
Там основные силы Чэнь сосредоточились вокруг Цзянькана. Но из-за того, что большая часть чэньского флота была занята выше по течению и отрезана промежуточными флотилиями Суй, сама река в этом месте оказалась плохо защищеной. Две колонны Суй пересекли ее, не встречая сопротивления, и, дав всего один заслуживающий упоминания бой, вошли в Цзянькан. Все было кончено в счита- ные дни. Часть чэньской армии предпочла сражению бегство, часть охотно сдалась по приказу своего императора. Император Чэнь почти сразу попал в плен — его вытащили из убежища на дне колодца, где он скрывался во влажных объятиях двух любимых наложниц. По сравнению с количеством воинов счет потерь в этой кампании был не слишком велик, а к побежденным проявили образцовое милосердие. Цзянькан не стали грабить, бывшего императора и его чиновников пощадили, слухи о принудительных массовых переселениях оказались ложными.
Счет потерь значительно увеличился в ходе подавления вспыхнувших затем мятежей, но к концу 590 г. юг был окончательно усмирен. После этого во всей империи объявили и провели с переменным успехом полную демобилизацию. Оружие отбирали, частное производство оружия запретили. Вдобавок власти конфисковали все суда размером более 10 метров. Это не только поставило вне закона местные флоты, но и ограничило возможности торговых предприятий и поставило водный транспорт на службу интересам государства. Из своей новой столицы в Чанъане Вэнь-ди правил империей, долгое время разобщенной, которую теперь предстояло физически объединить.
СУЙ-ЦИДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Император вырос благочестивым буддистом. «Вооружившись мощью чакравартина [правителя мира и «поворачивающего колесо» в индийском буддизме], мы распространяем идеалы высочайшего Просветленного, — сообщал первый указ Вэнь-ди. — Одержав сотню побед в сотне сражений, мы способствуем распространению десяти добродетелей. Оружие войны мы подносим Будде наравне с благовониями и цветами...» [7]
302
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
В правление Вэнь-ди появилось около четырех тысяч буддийских храмов, пагод, мужских и женских монастырей. Многие из них находились в восстановленном Чанъане, где, по некоторым сведениям, воздвигли грандиозную пагоду высотой 100 метров и в обхвате 120 метров. По всей стране установили более ста тысяч новых изображений Будды, а число изображений, восстановленных после запретительных мероприятий Северной Чжоу, превысило полтора миллиона [8]. В Китае не было более возвышенного примера буддийского государя, махаданапати (верховного жертвователя), чем Вэнь-ди. Под конец своего царствования он организовал церемониальную доставку реликвий Будды в тридцать разбросанных по всей стране и специально построенных для этого реликвариев. Упакованные и запечатанные в сосуды самим императором, мощи были доставлены на места армией монахов и помещены в святилища в один и тот же день. В честь этого события все учреждения страны закрылись на неделю. Этот акт всеобщего почитания целенаправленно подражал церемонии распределения останков Будды индийским императором Ашокой, первым покровителем буддизма. Поступок Ашоки не только демонстрировал его благочестие, но и воспевал его суверенную власть над разросшейся империей. Этими же соображениями руководствовался Вэнь-ди. Раздача реликвий повторялась дважды, количество оплаченных Суй святынь-реликвариев, которые служили местами паломничества и собрания верующих, выросло до ста четырнадцати.
Но если императора побуждало к действию стремление искупить грехи и улучшить карму (а не полное непонимание ненасильственных доктрин Будды), ему пришлось проявить грандиозную щедрость. Вспыльчивый Вэнь-ди многих успел отправить к палачу, охотно даровал другим «привилегию самоубийства», подвергал наказаниям даже собственных сыновей и лично бил бамбуковой тростью до смерти тех, кого, по его мнению, недостаточно сурово наказали его чиновники. Его правосудие было жестоким, энергия — неукротимой. Однако он отличался скромными для императора вкусами и образцовой личной жизнью. Со своей неханьской женой он делился всеми государственными заботами до такой степени, что они практически правили страной вместе. Она родила ему семерых детей, и по обоюдному согласию других детей у него не было. Императорская чета была «неразлучной... и во дворце их называли “двумя мудрецами”» [9].
303
ГЛАВА 8
Примерно то же можно было сказать и о Ян-ди (604-618), сыне и преемнике Вэнь-ди. Также щедрый покровитель буддизма, он сочетал личную жестокость с милосердным правлением, а его брак с южной принцессой, судя по всему, был таким же гармоничным. Однако официальную историю Суй писали под руководством ее Немезиды, империи Тан, и если Вэнь-ди как объединитель империи едва ли мог остаться без похвалы, на долю Ян-ди, как последнего в своей династии, досталось больше хулы, чем он заслуживал. Ян-ди привел империю на грань разрушения, поэтому слухи о том, что он убил своего отца (самое гнусное преступление в обществе, где выше всего ставили сыновнюю почтительность) и изнасиловал его жен (что считалось инцестом), должны были быть правдой. Его современный биограф Виктор Цуньжуй Сюн замечает, что даже вошедшее в историю имя — Ян (плюс императорский суффикс — ди) на самом деле было посмертным уничижением: так называли исключительно тех, кто «вожделел прекрасных женщин... пренебрегал ритуалами... не повиновался Небесам и притеснял подданных». Подводя итог многогранной личности Ян-ди, представленной в традиционных историях, Сюн пишет: «Итак, он был гедонист и развратник, редкостный транжира, деспотичный правитель, хладнокровный убийца, импульсивный агрессор, не терпевший никаких возражений, любитель доносов и прежде всего тиран...» [10] Однако достижения Ян-ди вполне значительны, а его преступления не страшнее преступлений его отца — или его непосредственных преемников, императоров Тан. Как главнокомандующий, возглавивший спланированное отцом вторжение на юг, а затем как внимательный правитель юга, он сыграл ведущую роль в воссоединении империи; став из принца самодержцем, он проводил почти такую же политику, как его отец, с такими же, приведшими в конечном итоге к катастрофе особенностями.
Подчеркнутое внимание Вэнь-ди к империи Хань и вэйской династии Цао должно было обозначить его династические амбиции и начавшееся возрождение империи. Династия Цао из царства Вэй дала ему удобный план законной узурпации, а империя Хань служила безупречным примером конфуцианской добродетели. Новый Чанъань Вэнь-ди назвали именем Дасин-чэн, что значит «Великий город возрождения»; из пяти фаз, или стихий, он вслед за ханьским У-ди выбрал огонь и красный цвет. Не будучи философом, Вэнь-ди мало интересовался тонкостями конфуцианской морали, но видел в ней
304
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
ценную основу общественного порядка и бюрократической централизации.
Бесконтрольное размножение провинциальных подразделений и полусамостоятельных феодальных вотчин в предшествующие столетия привело к тому, что, согласно некоторым подсчетам, число военных округов увеличилось в шесть с половиной раз, а число префектур — в двадцать два раза по сравнению с периодом Поздней Хань. Возникло так много мелких образований, параллельных администраций, структур управления и наемных чиновников, что они поглощали большую часть доходов казны; по словам одного советника, это было все равно что приставить к каждому десятку овец по девять пастухов. Вэнь-ди отменил почти все эти должности и ввел вместо них министерские подразделения, ведомственные иерархии, ранги и параллельные инспекции, действовавшие при Хань. Вслед за бюрократически настроенными историками Китая замечу, что восстановленные должности и иерархии действительно несли в себе рациональное зерно, но подвергались постоянным изменениям. Поправки Ян-ди сделали эту систему, затем тщательно переработанную Тан, еще более централизованной, гибкой, а там, где это было удобно, отстраняли ее от действия.
То же самое можно сказать о правовых кодексах, введенных Вэнь-ди и Ян-ди и переработанных для распространения в Восточной Азии в эпоху Тан. Оба кодекса Суй отличались превосходной логикой и большой снисходительностью, однако они регулярно подвергались критике со стороны императоров, которых раздражала как продажность судебного процесса, так и растущая преступность. «Десять мерзостей» Вэнь-ди — преступления, на которые не распространялись даже императорские амнистии — в правление Ян-ди были сокращены до восьми: из их числа исключили кровосмешение и «раздор», или «заговор с целью убить или продать в рабство родственников пятой или более близкой степени траура», вероятно, потому, что сам император в этом отношении был не без греха. Но учитывая, что за мелкие преступления — кражу медных денег, хищение кровельного бруса или даже незаконный сбор дынь — преступников приговаривали к смерти, нельзя утверждать, будто новый кодекс смягчил тяжесть уголовной ответственности. Обратившись к прецеденту Хань в вопросах ритуала, управления и правосудия, Суй положила начало приближению «Второй империи» Китая к строго регламентирован¬
305
ГЛАВА 8
ной, бюрократизированной и жестокой деспотии Первой империи, которая оставалась с ней до последнего.
Ужасные (но, вероятно, не более отвратительные или, в пересчете на душу населения, применяемые в Китае VII века не более широко, чем в любой другой стране того времени) наказания более или менее поддерживали порядок в раздираемом противоречиями обществе. Дело было не только в этнических, политических и региональных последствиях четырех столетий междоусобной борьбы. Конфуцианство с его подчеркнутым вниманием к семейным связям имело свои недостатки: держатели должностей стремились сохранить монополию на должность в кругу своих родственников и иждивенцев. Кумовство считалось вполне обычным явлением, процветала коррупция, снижалась компетенция чиновников, все больше становился разрыв между буквой закона и практикой его исполнения. Если судить по частоте и тону императорских воззваний, поиск подходящих кандидатов на государственные должности, людей, чьи способности не были отягощены наследственными связями, составлял трудную задачу для каждого императора со времен Цинь. Эффективность бюрократии и даже законность режима зависели от способности привлекать к управлению достойных людей; но при этом следовало не настроить против себя существующую знать, а в случае с императорами-сози- дателями, такими как Суй, приходилось одновременно завоевывать верность могущественных новых подданных на юге, востоке и вдоль северных границ.
Чтобы расширить базу набора гражданских служащих, при императорах Суй был создан высший административный совет, отвечавший за централизацию всех назначений на должности и тщательно наблюдавший за процессом отбора. В обновленном виде возродили ханьскую систему, согласно которой каждый военный округ должен был рекомендовать определенное количество достойных кандидатов для гражданской службы. Избранных затем отправляли в столицу, где они поступали в одну из трех академий, проходили обучение и сдавали экзамены. Пока еще рудиментарная система экзаменов уже была усовершенствована путем введения степеней по разным предметам. Среди испытаний значился литературный экзамен на степень цзиныии, который в конечном итоге стал вершиной общественных и ученых достижений. Несмотря на то что превратить экзаменационную систему в одну из самых характерных черт императорского
306
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
Китая предстояло империи Тан и в особенности Сун, империи Суй принадлежит честь продвижения этой идеи и определения рамок подлинно меритократической гражданской службы.
Как и в случае с пенитенциарной системой, неясно, насколько строго установленным принципам следовали на практике. Но, судя по документам периода ранней Тан, найденным в XX веке в Дунь- хуане и Турфане, воля императора была известна повсюду. Регистрацию с целью налогообложения и взыскания трудовых повинностей производили с примечательным усердием. Каждое домохозяйство должно было представить подробные сведения о членах семьи, прислуге, количестве домашнего скота, обрабатываемых землях (следовало указывать, наследные они или нет), другом имуществе и сельскохозяйственных культурах. Затем эти данные проверяли, заносили в реестры, оценивали и на основании оценки начисляли налоги. От этой тщательной регистрации зависели доходы и трудовые ресурсы, поступавшие в распоряжение Тан. Разумно предположить, что при Суй система работала так же бесперебойно, поскольку их программа общественных работ, военная экспансия и демонстративная роскошь не имели себе равных.
Ян-ди показалось недостаточно перепланированного и заново отстроенного отцом Чанъаня, и он создал другую столицу ближе к центру воссоединенной империи, восстановив Лоян. Новый город был не таким обширным, как Чанъань-Дасин-чэн, его площадь составляла всего 47 квадратных километров (вместо 80 квадратных километров последнего). Для постройки, как обычно, повторно использовали строительные материалы, оставшиеся от предыдущего города. Деревянные конструкции восстанавливали, черепичные крыши настилали заново; в жаркое сухое лето можно было наделать множество глиняных кирпичей, а фундаменты из ханту требовали только неутомимой работы многочисленных ног. Традиционная китайская архитектура почти не имела каменных элементов, что во многом объясняет ту быстроту, с которой вырастали и рушились китайские города. Строительство нового Лояна Ян-ди заняло чуть больше года и завершилось в 606 г. Но, по общему мнению, результат превосходил все ожидания.
Это был город непревзойденного, необыкновенного великолепия [рассказывает официальная история Суй]. Поскольку император в бытность принцем лично усмирял южные земли, в очертаниях столицы просле¬
307
ГЛАВА 8
живались криволинейные и угловатые формы [архитектуры] Лян и Чэн... Стены города поднимались выше гор Ман. По реке Лохэ скользили паромы. Над золотыми воротами и сторожевой башней из слоновой кости были возведены крылатые павильоны. Обрывы сровняли, а реки засыпали, чтобы освободить место для опор [или, возможно, насыпей], похожих на многоцветные облака... [11].
Главный зал дворца стоял на пьедестале двухметровой высоты. Он был длиной с футбольное поле и высотой со стадион. Его крыша возвышалась над городом, а между колоннами были натянуты жемчужные занавеси, украшавшие дворец предшественника, которые «на закате вспыхивали ослепительным сиянием» [12]. Архитектор Юйвэнь Кай, создавший план города и спроектировавший его главные здания, был одним из немногих переживших преследования Вэнь-ди представителей клана Юйвэнь (правителей Северной Чжоу), и, судя по всему, его пощадили именно ради такой работы. Его творения в Лояне привели Ян-ди в восхищение, и в дальнейшем он не раз обращался к его инженерным и строительным талантам. Среди нескольких других дворцов, заказанных Ян-ди в ходе его обширных путешествий, был дворец на колесах. В 607 г. дворец сопровождал свиту императора в грандиозном туре по северной границе. Сооружение привезли на телегах в разобранном виде — дворец-на-колесах на колесах — и собрали на месте, затем выпустили в пробную поездку, чтобы произвести необходимые доработки. В этом дворце принимали послов с данью и, кроме сановников, внутри него могли разместиться «несколько сотен» императорских гвардейцев1.
Путешествие на север в 607 г. привело Ян-ди за пределы Ордоса, где он вслед за отцом решил возродить административные, оборонительные и стеностроительные традиции Цинь и Хань. Стратегическая ценность стен и вообще укрепление северной границы несколько дискредитировали себя за предыдущие четыре столетия. Учитывая, что в Китай одна за другой проникали волны степных народов, было, в сущности, трудно представить, какому вторжению эти стены могли
1 Учитывая более поздние (монгольского времени) сообщения о склонности кочевых владык к гигантским юртам, которые также перевозились множеством быков, можно предположить, что этот дворец Ян-ди не только был призван предоставить ему привычный комфорт на не слишком урбанизированном севере, но и должен был впечатлить своим размахом степных послов.
308
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
бы помешать. Но Вэнь-ди, а затем Ян-ди сочли, что неэффективность сохранившихся стен связана с их плачевным состоянием. Вэнь-ди начал восстанавливать стену к западу, Ян-ди отправил около миллиона рабочих (половина из которых не вернулась домой) строить новую стену на восток от Юйлиня до гор Тайханшань. Однако новые стены оказались такими же неэффективными и непомерно дорогими, как предыдущие. И здесь Тан отказалась от затеи Суй и не предпринимала никаких попыток сохранить их. Поэтому сохранившиеся в пустыне Гоби на территории Внутренней Монголии фрагменты стены Ян-ди могут служить достоверным образцом строительного мастерства VII века. Недавно побывавшая там Джулия Ловелл пишет, что увидела «на фоне типичного пейзажа Гоби массивный участок земляного вала высотой около двух с половиной метров, тянувшийся между широкими башнями в два раза выше него... больше похожий на изъеденный термитами берег, чем на творение человеческих рук» [13].
Гораздо более благоприятное впечатление производят сохранившиеся остатки одного из самых притязательных и по-настоящему полезных творений Ян-ди и всего императорского Китая — так называемый Великий канал, точнее, множество каналов и гидравлических сооружений, соединявших многочисленные реки, озера и ранее существовавшие искусственные каналы на общем протяжении почти 2500 километров. Проложенный в 605-611 гг. Великий канал направлялся на северо-запад от Ханчжоу (южнее дельты Янцзы) до реки Хуанхэ близ Лояна, а оттуда тянулся на северо-восток до того места, где сейчас стоит Пекин. Таким образом, он связывал север и юг, восток и центр. Это была главная артерия воссоединенной империи, «без сомнения, величайшая система водного транспорта, когда-либо созданная при одном правителе в ранней истории Китая» [14].
Ян-ди внимательно наблюдал за ходом работ. В 611 г. он торжественно открыл канал, совершив официальное путешествие по его водам. Флотилия вычурно украшенных кораблей, как говорили, растянулась более чем на сотню километров. Однако на самом деле Великий канал Китая, в отличие от его венецианского тезки, редко использовали для красивых церемоний и торжественных процессий — прежде всего это был гигантский транспортный коридор. Неоднократно перестроенный, расширенный и углубленный в разных местах, в 1793 г. он заставил замереть в невольном восхищении первое британское посольство, прибывшее в императорский Китай. Не¬
309
ГЛАВА 8
которые участки изначального канала и сегодня числятся среди самых оживленных водных путей мира. Мимо Сучжоу (между Шанхаем и Нанкином) в обоих направлениях непрерывно и круглосуточно, словно змея, ловящая собственный хвост, курсировали цепочки барж; поднятые ими волны без труда потопили бы гондолу и опрокинули речной трамвай. Польза канала еще далеко не исчерпана. Разработанные в XXI веке планы предусматривают его превращение в гигантский акведук, который позволит направить воды Янцзы в пересохшие и загрязненные русла рек Пекина и севера.
В экономике доиндустриальной эпохи массовая перевозка грузов представляла почти неразрешимую логистическую проблему. Эта проблема препятствовала развитию торговли, за исключением торговли дорогостоящим сырьем, мешала урбанизации, развитию промышленности и в целом созданию единой империи. Особенно заметно это было в суйском Китае, где дороги подвергались ежегодному затоплению, а морские перевозки вдоль берега считались ненадежными. Вместе с тем монетное производство было сравнительно невелико, а бумажные деньги еще только предстояло изобрести, поэтому уплату налогов в основном производили натурой (обычно зерном и шелком), а значит, переправляли большими партиями. Перевозка и хранение этих сельскохозяйственных излишков служили единственным способом страховки от постоянной угрозы голода и были стратегически необходимы как средство обеспечения пограничных гарнизонов и осуществления военных кампаний за пределами страны.
Таким образом, появление Великого канала, связавшего плодородный регион Янцзы с густонаселенными и часто страдавшими от голода равнинами севера, имело такой же эффект, как строительство первых трансконтинентальных железных дорог в Северной Америке. Канал способствовал экономической интеграции Китая. Разница климата, ландшафта, производства и неравномерное расселение внезапно превратились в преимущество. Вдоль канала стратегически расположили зернохранилища (это были не просто глинобитные амбары, а обширные сооружения, обнесенные стенами и охраняемые, как нефтехранилища). Огромные государственные баржи, груженные зерном, которые тянули вручную там, где того требовали шлюзы и течение, составляли основную часть водного транспорта; остальное приходилось на зарождающуюся частную торговлю со¬
310
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
лью, рыбой, овощами и промышленными товарами. На всем протяжении маршрута ирригационные системы, питавшиеся от канала, повышали урожайность сельскохозяйственных культур, увеличивая численность населения, объемы налоговых сборов и количество работников. Ниже Янцзы в Наньцзяне (так называли все земли к югу от Янцзы) благодаря каналу начали возделывать больше земель, и отток населения с севера на юг ускорился. Вдоль канала росли большие города — будущие Ханчжоу, Сучжоу, Чжэньцзян, Янчжоу и Кайфын (Кайфэн). Продовольственное снабжение уже существующих мегаполисов — Чанъаня, к которому Вэнь-ди провел короткий канал от Хуанхэ, и Лояна, который Ян-ди включил в общую систему, — теперь не зависело от их ближайшей округи.
Но все это достигалось ценой колоссальных затрат и невыносимых человеческих страданий. Отработка трудовых повинностей наносила видимый урон земледелию. Рытьем каналов и вывозом грунта занимались миллионы, а точнее, «сотни десятков тысяч» рабочих (хотя неясно, относятся эти цифры к количеству работников или к общему количеству отработанных трудовых периодов). Рабочие пользовались лопатами и мотыгами, поднятую землю складывали в плетеные корзины, укрепленные на концах шеста, чтобы максимально повысить грузоподъемность и смягчить толчки при передвижении. Колесный транспорт был представлен ручными тачками — это китайское изобретение появилось в предыдущие три столетия. Перенеся вес груза с человеческой спины на колесную ось, оно помогло более чем в четыре раза повысить среднюю грузоподъемность. Люди — мужчины, а когда запасы рабочей силы начали иссякать, и женщины — из вьючных животных превратились в тягловый скот.
В конце концов чаша народного терпения переполнилась. По каналам можно было перевозить сельскохозяйственную продукцию, но серьезное наводнение на Хуанхэ в 610-611 гг. привело к снижению урожаев, а военные нужды исчерпали запасы трудоспособного населения и опустошили зернохранилища. Потребность в рабочей силе для армии и общественных работ многократно превышала возможности населения, и людей, жаждущих уклониться от повинностей, становилось все больше. Вскоре страну охватило народное восстание. Придворных, осмеливавшихся критиковать действия императора, безжалостно заставляли замолчать. Тогда в провинциях и в армии начали собирать силы могущественные соперники. Последней
311
ГЛАВА 8
каплей стала третья по счету катастрофическая экспедиция против Когурё, непокорного государства-данника, занимавшего большую часть Маньчжурии и Северной Кореи, прекращенная в 614 г. по причине незначительных успехов и разгула мятежников внутри страны. Оставив север в состоянии непокоя, в 616 г. Ян-ди переехал на юг. Раньше это была его вторая родина, теперь она стала его последним прибежищем. Изолированный от событий (в равной мере расстоянием и стараниями трепещущих придворных), Ян-ди сменил манию величия на меланхолию. В 618 г. он был убит в своей южной столице на месте современного Янчжоу. Убийцей стал сын одного из его военачальников, представитель уничтоженного клана Юйвэнь, но с тем же успехом это мог быть кто угодно.
По мнению авторов официальных историй, император вполне заслужил такую судьбу. Ян-ди принес своему народу невыносимые страдания и обременил воссоединенную империю непростительными тяготами. Он не имел права на Небесный мандат — это редко бывало настолько очевидно. Тем не менее даже критики признавали, что все эти бедствия принесли в результате неоценимое благо, «по- истине огромное» и «монументальное». Еще лучше, по словам автора позднего периода Тан, было то, что они ничего не стоили потомкам. Великий канал существовал, хотя «ни одному рабочему [Тан] не пришлось поднять для этого ни одной корзины земли, и ни одному солдату [Тан] не пришлось прорубаться сквозь препятствия». «Не верно ли, — заключил этот наблюдатель с некоторым самодовольством, — что Небеса очень помогли нам руками деспота Суй?» [15] Что ж, таким было предназначение и судьба промежуточной империи.
СЫНОВЬЯ ЗАКАТА И СЫНОВЬЯ РАССВЕТА
Едва успевшая воссоединиться, империя снова катилась в пропасть, и казалось маловероятным, что преемник Ян-ди сможет открыть самую славную эпоху в истории Китая. Скорее было похоже, что империя возвращается к анархии времен Троецарствия, когда странствующие рыцари сражались с Ядовитым Юем, Цзо С Усами в Восемьдесят Локтей и прочими разбойниками. В 614-624 гг. вспыхнуло около двухсот мятежей и восстаний, затронувших практически все провинции ц армейские подразделения. Некитайские народы из-за границы
312
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
были втянуты в борьбу на юге в качестве вспомогательных войск, союзников и хищников. Работа чанъанской бюрократии застопорилась (как это всегда происходит с бюрократией), когда у нее закончились запасы бумаги. Между тем повсюду появлялись новые императоры — младшие представители правящего рода Суй, потомки более ранних династий и снова оживившиеся последователи милленаризма, даосизма и «желтых повязок».
Многие претенденты носили имя Ли, и в то время на устах у всех был стих, который предсказывал человеку с этим именем судьбу императора. На первый взгляд стихотворение казалось достаточно безобидным:
Персик и слива Ли1 Весьма осторожен в речах.
Желтой цаплей облетит вокруг горы И вернется в цветущий сад.
Однако в то время для аудитории, привыкшей к тонким поэтическим аллюзиям, оно звучало весьма провокационно. «Как и было задумано, крамольный характер этого стихотворения становился понятным только при подробном разборе», — объяснил недавно Вудбридж Бинэм. В первых двух строках названо действующее лицо — некий Ли, чьи слова не выдают ничего лишнего; третья строка означает претензии Ли по отношению к «ян» (буквально «гора, холм», но созвучно с фамилией сунского императора), а четвертая обещает ему свободный полет в цветущем саду — предположительно, империю. Кто бы это ни сочинил (возможно, даже сам Ян-ди в поисках предлога для устранения какого-то мешавшего ему Ли), «он заронил мысль о восстании в головы многих выдающихся людей по имени Ли... [и] заставил императора подозревать каждого такого человека» [16].
Тогда, как и сейчас, имя Ли было в Китае самым обычным. Уничтожение всех, кто его носил, стало бы демографической катастрофой. Ян-ди пришлось довольствоваться казнью наиболее очевидных кандидатов и пощадить тех, кто доказал свою верность. Среди них был и один из его самых надежных полководцев, пятидесятилетний танский гун Ли Юань. Как и правители Северной Чжоу и Суй, с кото¬
1 Слово «слива» по-китайски звучит и пишется так же, как фамилия Ли.
313
ГЛАВА 8
рыми он был связан через семью жены, Ли Юань был выходцем из пограничных районов северной Шаньси и имел смешанное происхождение (хотя впоследствии ему составили самую благородную родословную, восходящую к одному из военачальников У-ди и даже к Лао-цзы1). Ли Юань, как и правители Суй, принадлежал к той же культурно эклектичной, свободной от предубеждений социальной среде, где любили верховую езду и хранили верность в браке, и, несмотря на подстрекательства собственной семьи, он поддерживал Суй до тех пор, пока Ян-ди не уехал на юг.
Конец правлению Суй пришел спонтанно, власть династии пала не столько из-за меча убийцы или непокорности мятежников, сколько из-за ее собственных амбиций. Только в 617 г., когда император практически ушел в отставку, а его империю рвали на части другие, Ли Юань прислушался к персиково-сливовому пророчеству о возвышении Ли, собрал войска и союзников и пошел на Чанъань. После упорного сопротивления город пал. После этого Ли Юань совершил все необходимые формальности, чтобы посадить на трон одного из сыновей Ян-ди, одновременно сопротивляясь уговорам самому принять Небесный мандат. Но долго противиться воле Небес, конечно, было нельзя. Учтя все знаки и предсказания, о которых твердили его сторонники, через год Ли Юань принял титул императора и назвал новую империю в честь своего удела Тан. За время своего краткого правления (618-626), большую часть которого он подавлял оппозицию, первый император Тан восстановил в должностях всех, кроме самых непокорных военачальников и чиновников Суй. Затем он и его преемник приняли с небольшими поправками фискальную, военную, административную и правовую базу, созданную Суй.
Как основатель империи Тан Ли Юань вошел в историю под своим посмертным титулом Гао-цзу («Высокий прародитель»), а его более знаменитый сын и преемник запомнился под своим храмовым именем Тай-цзун («Великий предок»). Династический акцент был вполне обоснован. Тан просуществовала, по некоторым оценкам, почти три столетия. Но империя, которую унаследовала Тан, досталась ей в готовом, хотя и несколько потрепанном виде: как величественные бульвары украшенного храмами Чанъаня, заново
1 На родство с Лао-цзы (чьим настоящим именем по традиции было Ли Эр или Ли Дань) в то время надеялись все носители фамилии Ли.
314
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
отстроенного суйским Вэнь-ли, или дворцы и крылатые павильоны Лояна, выросшие при Ян-ди, и даже Великий канал, так и она требовала только реставрации. Для этого прежде всего необходимы были терпеливая пропаганда и строгая финансовая умеренность — политика, совершенно чуждая Суй. Но после того как в стране воцарился мир и экономика пошла в гору, Тай-цзун и его наследники оказались хозяевами самой производительной и эффективно организованной империи в мире.
Внешний мир играл в истории империи Тан заметную роль. Установив контакты с морскими государствами Азии через порты на юге, которые теперь снова принадлежали империи, Китай вскоре широко распахнул западные Нефритовые врата в Центральную Азию. Туркестан, Тибет и Персия, а также Вьетнам, Корея и Япония привлекли к себе внимание Тан и занимали не последнее место в политике империи. Еще дальше, в Индии и Византийской империи, широкую популярность завоевали политические, культурные и промышленные достижения танского Китая. Терпимость к чужим убеждениям и живой интерес к иностранным ремеслам и образу жизни добавили в городскую жизнь космополитическую грань. Общество наслаждалось экзотикой, художники с готовностью экспериментировали. Теперь для тщеславного изображения «Поднебесной», взирающей снизу вверх на Небесного императора, появились существенные основания. Ось мира словно бы наклонилась таким образом, что Срединное царство наконец действительно оказалось посередине. Период с 650 до 750 г. стал первым и самым убедительным «веком Китая».
Но этот огромный мир за традиционными границами Чжунго был уже не тем, по которому путешествовал Чжан Цянь и маршировали армии Хань восемь веков назад, и не тем, откуда пришла табгач- ская Северная Вэй и предки Северной Чжоу и Суй. Сюнну, сяньбэй, цяны и другие старые враги исчезли со страниц летописей. Остатки этих народов растворились среди этносов Северного Китая, другие были поглощены новыми конфедерациями и царствами за его пределами.
Их место на северных и северо-западных границах заняли народы, которых китайские хроники называют туцзюэ. Тюркские надписи VIII века в Орхонском районе Монголии поддерживают идентификацию туцзюэ как тюрков, хотя мало могут рассказать об их происхождении. Как у многих других народов Внутренней Азии, начало
315
ГЛАВА 8
их пути остается «тайной, покрытой мраком» [17]. Под руководством кагана (хакан или хан) — правителя, обладавшего такой же властью, как шаньюй у народа сюнну, тюрки-туцзюэ быстро возвысились в середине VI века, вытеснив народы, которые ранее пришли на смену сюнну и сяньбэй.
В 570-х гг. Северная Чжоу была вынуждена ежегодно откупаться от тюрок сотней тысяч тюков шелка. В ответ Чанъань получал лошадей, стоивших в совокупности значительно меньше. Обе стороны рассматривали этот обмен как дань, хотя мнения о том, кто кому платит дань, у них не совпадали. В официальной истории Суй о тюрках говорится, что они худшие враги сами себе, поскольку «предпочитают уничтожать друг друга, а не жить бок о бок». Споры о престолонаследии в 580-х гг. разделили Тюркский каганат на западную и восточную части. Власть Западнотюркского каганата распространилась за пределы Тяныпаня на территорию сегодняшнего Казахстана, а власть Восточнотюркского каганата на Монголию и Западную Маньчжурию. Один претендент на титул кагана обратился за помощью, а затем искал убежища у суйского Вэнь-ди, который благодаря ловким интригам сеял разногласия среди тюркских кланов. Но усовершенствовать эту политику и пожать ее плоды досталось Тай-цзуну.
Во внешних отношениях, как и во внутренней политике, Суй следовала по стопам Хань. Это подразумевало создание вокруг расположенной в центре мира китайской империи концентрических колец подчиненных территорий, союзников и данников, расходившихся во всех направлениях до самого горизонта. За победой Вэнь-ди над южной империей Чэнь последовала военная кампания, которая должна была восстановить власть Китая на севере Вьетнама. Победа была одержана в 602 г., хотя дальнейшие походы по вытянутой в длину территории Вьетнама в индуистско-буддийское королевство Чампа, расположенное около Дананга, вылились лишь в ряд разбойных набегов. «В качестве военной добычи китайцы смогли предъявить только украденные [у народа чамов] таблички предков, несколько буддийских манускриптов и труппу пленных музыкантов» [18]. После этого с государством Чампа, а также его великим соперником, прото- кхмерским царством в нижнем течении Меконга, были установлены нерегулярные дипломатические контакты, которые, щадя китайскую гордость, все же никоим образом не вредили суверенитету стран Юго-Восточной Азии.
316
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
Такую же попытку выдать желаемое за действительное представляли собой отношения Суй с островными государствами Желтого и Восточно-Китайского морей. Хроники сообщают, что Ян-ди отправил две морские экспедиции против царства под названием Люцю — возможно, это были Тайвань (Формоза) или Лусон на Филиппинах, но, вероятнее всего, острова Рюкю. Первое нападение было отбито, второе, более успешное, тем не менее закончилось отступлением. Поскольку оба похода инициировал Ян-ди, в хрониках они представлены как непродуманные и непомерно дорогие. О Люцю можно сказать наверняка только то, что там очень жарко и влажно и что это не Япония.
Поскольку из Японии, то есть от правившего там «Рассветного Сына Неба», в 607 г. в Чанъань прибыло большое посольство вместе с буддийскими монахами, желавшими передать приветствия и прославить усердие «Закатного Сына Неба» в распространении буддийских заветов, Ян-ди счел эту семейную терминологию в высшей степени предосудительной: в лучшем случае она подразумевала существование двух Сыновей Неба, близнецов, обладавших равным статусом, а в худшем случае намекала, что японский император, как Сын Рассвета, занимает более высокое положение. Но чтобы окончательно прояснить дело, религиозно-дипломатическое общение было продолжено, и страны обменялись еще рядом посольств. Что особенно примечательно, сведения об этих посольствах есть не только в китайских источниках, но и в «Нихон сёки», первой всеобъемлющей исторической хронике Японии, написанной в VIII веке. Таким образом, отклонение от дипломатического протокола было взаимным: Сын Заката и Сын Рассвета сделали друг другу одинаковые уступки. «Сын Рассвета» на самом деле был дочерью, поскольку над государством Ямато в то время царствовала императрица Суйко при регентстве принца Сётоку. Ян-ди убедился, что Ямато признает сюзеренитет Суй, почитает буддийское учение и подражает китайской культуре. Вместе с тем японцы, признавая свою нужду в религиозных, литературных и бюрократических новинках, приходящих из Китая, никогда не соглашались считать свои дипломатические подношения данью, а своих правителей по рангу ниже правителей Суй и Тан.
Официальные контакты между Японией и Китаем спорадически продолжались в течение следующих двух столетий. Однако послан¬
317
ГЛАВА 8
никам приходилось преодолевать множество трудностей и препятствий. Почти половина посольств погибла в море, и это несмотря на то, что маршрут, пересекавший Корейский полуостров, позволял вдвое сократить плавание, а в Китае уже были изобретены магнитный компас, ахтерштевень и корабельный руль, а также водонепроницаемые переборки. В 838 г. японской миссии удалось совершить более удачный переход через открытое море и оставить нам первый рассказ о жизни и путешествиях в Китае, написанный иностранцем. Но эта миссия оказалась «последней, отправленной за границу императорским двором Японии до XIX века» [19]. Неофициальные культурные, торговые и пиратские контакты продолжались, но власть в Японии пала жертвой феодальной раздробленности, и дипломатия на тысячу лет погрузилась в спячку.
Корея служила в китайско-японском общении и посредником, и препятствием. Суй, а затем и Тан поддерживали в целом хорошие отношения с самым южным корейским королевством Силла: познания местных моряков о предательском проливе Цусима были неоценимы. Но от северокорейского царства Когурё (давшего Корее название) Чанъань не смог добиться ничего, кроме чисто символического признания сюзеренитета. Трем катастрофическим вторжениям Ян-ди предшествовало столь же неуместное вмешательство при Вэнь-ди, а при империи Тан дела приняли совсем безрадостный оборот. Отношения немного улучшились в начале правления Тан, которое совпало со сменой правителя в столице Когурё Пхеньяне. Танский Гао-цзу в то время был слишком занят наведением порядка в империи, а его преемник Тай-цзун был слишком занят тюрками, чтобы начинать войну на северо-востоке. Но искушение затмить Ян-ди в конечном итоге оказалось слишком велико. Одержав победу в другом регионе и отмахнувшись от единодушных советов своих министров, в 645 г. Тай-цзун развернул массированную атаку через реку Ляохэ, подкрепленную морской атакой из Шаньдуна. Что удивительно, в тот раз император, придававший очень большое значение этой кампании, руководил войсками лично. Но, что совсем не удивительно, «экспедиция закончилась катастрофой» [20]. Императорские войска увязли, пытаясь покорить укрепленные города Ляодуна, а затем их настигла маньчжурская зима. Они едва успели вступить на Корейский полуостров.
Тай-цзун сделал новую попытку в 647 г., но не имел успеха. Он планировал совершить третье вторжение, но отменил его на смертном
318
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
одре в 649 г. Лишь через двадцать лет войска Тан вошли в Пхеньян и завершили восстановление территориального колосса Ранней Хань, добавив к нему корейский хвост. Но триумф оказался недолговечным, и в глазах летописцев он был делом рук не столько преемника Тай-цзуна, сколько его великолепной супруги, императрицы У Цзэтянь.
ПО ТУ СТОРОНУ НЕФРИТОВЫХ ВРАТ
Родившийся в 599 г. Тай-цзун, строитель (если не архитектор) империи Тан, принадлежал к поколению созидателей великих империй Азии. В бассейне Цангпо в южном Тибете его современник Сонгцэн Гампо руководил первым объединением рассеянных народов этого азиатского высокогорного плато и закладывал основы огромной Тибетской империи. По другую сторону Гймалаев на Гангской равнине Харшавардхана из Канауджа совершал сравнимый по масштабам подвиг, распространяя влияние своей империи на индусско-буддийские царства Северной Индии. Одновременно сасанидский правитель Хосров II побеждал страны Леванта и Малой Азии, чтобы воссоздать Персидскую империю, простиравшуюся от Синьцзяна до Египта. А на дальнем юго-западе, вдоль караванных путей Аравии, еще один современник бежал из недружелюбной Мекки в Медину и там, признанный пророком, нашел последователей и положил начало походу под знаком полумесяца, который менее чем через сто лет уничтожил Сасанидов и потряс границы Индии и Китая.
Азия перестраивалась. Для тех, кто увлекался любительскими исследованиями или одиночными путешествиями, это было трудное время. Быстро меняющаяся обстановка могла помешать отъезду, задержать в пути и наполнить возвращение домой разными сюрпризами. Так произошло с Сюаньцзаном, еще одним современником Тай-цзуна, который в 622 г. (в отправной год хиджры — ухода пророка Мухаммеда из Мекки) отправился в Чанъань в качестве недавно посвященного буддийского монаха. Там, как Мухаммед в Медине, Сю- аньцзан почувствовал призыв к действию. Он должен был идти, как он выразился, «в поисках истины, в поисках закона Будды». Несмотря на то что Сюаньцзан был воспитан в конфуцианской традиции, с его безоговорочной преданностью буддизму могло поспорить только его
319
ГЛАВА 8
ПРАВИТЕЛИ СУЙ И ТАН в 580-650 гг.
Вэнь-ди
Ян-ди
Гао-цзу
Тай-цзун
- - -—
I
580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655
увлечение буд дийской наукой. И тому и другому лучше всего можно было послужить, предприняв паломничество в буддийскую «Святую землю» — Индию1.
В этой мысли не было ничего нового. Религиозное движение в обе стороны по Шелковому пути существовало по крайней мере с IV века. В начале V века еще один китайский монах по имени Фасянь отправился на запад по суше и вернулся домой морем. Затем он написал краткий отчет о своих путешествиях2. Монах Сюаньцзан прочел этот документ и отметил ужасы морского плавания: корабль сбился с курса, команда неделями не видела питьевой воды, а самого Фасяня суеверные моряки едва не принесли в жертву. Сюаньцзан решил выбрать сухопутный маршрут. Но здесь имелись свои сложности. Тюрки давили с севера, а Сасаниды с юго-запада, и каждый, кто пытался проскользнуть между ними по дорогам шелка и буддийских сутр через Синьцзян, уже не мог рассчитывать на лояльность городов-оазисов. Все они теперь были в той или иной степени угнетены или подчинены разными тюркскими народами.
Еще больше осложняла ситуацию ослабшая сеть интриг и подкупов, которую сплел Тай-цзун, чтобы обратить в свою пользу разногласия между тюркскими вождями. Попытки Суй и Тан установить контроль над восточными тюрками на своей северной границе не имели особенного успеха. Во время путешествия на север в 614 г. Ян-ди был окружен и едва не схвачен ими — тяжелее этого позора был только его провал в Когурё. Ли Юань (до того, как он стал Гао- цзу) в обмен на нейтралитет тюрок и небольшую помощь в походе на Чанъань в 617 г. был вынужден фактически объявить себя вассалом
1 См.: Сюанъ-цзан. Записки о западных странах [эпохи] Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная литература, 2012.464 с. — Прим. ред.
2 См.: Александрова Н. В. Путь и текст: китайские паломники в Индии. М.: Восточная литература, 2008. — Прим. ред.
320
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
восточного кагана. Тай-цзун в первые дни собственного правления унизился не меньше: после того как он сверг отца и убил двух своих братьев, ему пришлось откупаться от тюркской армии, стоявшей на расстоянии одного дня пути от Чанъаня.
В 620-е гг., пока Тай-цзун плел интриги, монах Сюаньцзан ждал и молился, постепенно приобретая репутацию главного в своем поколении толкователя священных текстов. В 628 г. пришли новости о том, что Восточнотюркский каганат, сотрясаемый извне другими тюркскими народами, а изнутри голодом, стоит на грани краха. Забыв о всякой осторожности, Тай-цзун отказался от политики умиротворения в пользу активного вмешательства. Он подстрекал новых претендентов на власть в каганате заявить о себе, танская армия численностью сто тысяч человек приготовилась к походу. Великий план Сюаньцзана получил шанс претвориться в жизнь, но действовать следовало прямо сейчас, другой возможности могло не выпасть никогда. Открыто нарушив предписание императора, запрещавшее все несущественные иностранные путешествия, монах ускользнул из Гаочжоу в Ганьсу и вместе со старой лошадью и сумасшедшим проводником отправился на запад к границе и Синьцзяну.
Его лошадь пала, проводник пытался его убить, власти Китая выдали ордер на его арест; заблудившись в пустыне, он разлил свой запас воды и погиб бы, если бы не вмешательство бодхисаттвы. Все это произошло еще до того, как Сюаньцзан достиг Дуньхуана и границы, где стояли Нефритовые врата. И когда дела должны были еще ухудшиться, они, наоборот, улучшились. Непоколебимая вера Сюаньцзана в сверхъестественную защиту не осталась безответной; весть о нем летела впереди него, а его личные заслуги как самого благочестивого буддийского ученого значили больше, чем любые официальные документы. Поэтому правитель Турфана, вассал Западнотюркского каганата, очень хотевший увидеть такое светило при своем дворе, обязался предоставить транспорт и финансы, необходимые для безопасного возвращения монаха.
Опасности, которых чудом удалось избежать, и вмешательство высших сил1, неожиданные препятствия и встречи с чудовищами сопровождали путешествия паломника. Странствия Сюаньцзана через
1 Автор явно иронизирует. Сюаньзцану помогли в первую очередь правитель Турфана и другие монархи. — Прим. ред.
321
ГЛАВА 8
Северный Синьцзян и Тяныиань в Ташкент и Самарканд, а затем на юг к реке Оке (Амударья), в Афганистан и Индию были только началом. Он путешествовал шестнадцать лет, часть из которых провел, изучая священные тексты в крупных центрах буддизма, но намного больше в дороге. Всего он преодолел, вероятно, около пятнадцати тысяч километров; половина из них пришлась на скитания по всем уголкам Индийского субконтинента, которые привели его на юг до Тамилнада. Он изучал новые языки, знакомился с новыми учениями, выиг+ рывал бесчисленные диспуты, бывал повсюду, встречался со всеми и подробно рассказывал об этом в своих записках. Каган западных тюрок относился к нему с симпатией, царь Самарканда позволил ему провести посвящение в духовный сан, а император Харшавардхана стал одним из его самых горячих сторонников. Большая часть сведений о Харшавардхане и его империи, и вообще об Индии в VII веке, известны нам из «Путешествия в Западный край» Сюаньцзана.'
Задолго до того, как иностранные путешественники начали изучать китайскую культуру, китайский философ изучал иностранную культуру. Это имело поразительные последствия. В середине XIX века, вооружившись французским переводом путевых заметок Сюаньцзана (первым переводом на европейский язык), шотландец Александр Каннингем, служивший генералом Британской Индии, посвятил свою жизнь в отставке поиску давно забытых мест, связанных с жизнью Будды и ранней историей буддизма. Благодаря его изысканиям возникла Археологическая служба Индии, обязанности которой в настоящее время, пожалуй, шире, чем у любого другого учреждения, связанного с историческим наследием, основателем и руководителем которых был Каннингем. Полвека спустя к памяти Сюаньцзана воззвал Марк Аурель Стейн, еще один археолог и путешественник, и это стало для него ключом к сокровищам Дуньхуана. Стейн утверждал, что собирается повторить путь монаха; это произвело такое впечатление на хранителя Дуньхуана, что он согласился открыть для него величайшую в истории сокровищницу буддийских текстов и картин. Вероятно, ни одна книга не сыграла более важной роли в передаче потомкам из разных стран мира достижений раннего буддизма, чем записки Сюаньцзана.
В Китае путешествия Сюаньцзана имели другие последствия. Отчасти это было связано с его собственными успехами, но гораздо более значительную роль сыграли успехи Тай-цзуна. Тайком бежав¬
322
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
ший из страны в 629 г., Сюаньцзан вернулся героем в 645 г. Он привел за собой караван, везущий пятьсот с лишним сундуков со статуями и текстами, приветственные послания от правителей множества азиатских держав и сотню буддийских монахов, потеряв по дороге только одного слона, подаренного Харшавардханой (животное упало в пропасть). Сюаньцзан доставил на родину нечто большее, чем посольство с данью. Даже Стейн и его соперники, искавшие сокровища Дуньхуана, вряд ли могли похвастаться такой роскошной добычей. Выбрав южную часть Шелкового пути, идущую через Памир, паломник послал официальное сообщение о своем приближении императору и, получив благоприятный ответ, двигался на восток вдоль отрогов Куньлуня.
Не менее теплый прием он получил в оазисных государствах западного Синьцзяна. Казалось, империя простирает руки, чтобы приветствовать его. В некотором смысле так оно и было. За время шестнадцатилетнего отсутствия монаха Тай-цзун успел не только покорить Восточнотюркский каганат и обеспечить безопасность северной границы, но и с помощью интриг и политического давления добиться победы над западными тюрками. Шулэ (Кашгар), Ютянь (Хотан), Шачэ (Яркенд) и другие города на пути возвращения Сюаньцзана через Синьцзян подчинились власти Тан в 630-х гг.; северные государства, в том числе Кучар и Турфан, на тот момент (645) были либо аннексированы, либо принуждены к подчинению. Несомненно, именно поэтому Сюаньцзан предпочел южный маршрут. Одержав убедительную победу над тюрками, Сын Неба Тай-цзун принял новый титул — Небесный каган. Фактически он заново собрал огромного слона империи Хань со стороны длинного западного хобота. Только с корейским хвостом ему предстояло потерпеть неудачу.
Несмотря на то что записки Сюаньцзана заканчиваются незадолго до его прибытия в Чанъань, очевидно, это было поистине грандиозное возвращение. Живописные шелковые свитки и настенные фрески Дуньхуана изображают это событие. Император тогда отсутствовал: он командовал первым походом на Когурё, — но по возвращении он простил путешественнику его неповиновение и настоял, чтобы тот написал рассказ о своих странствиях. Он также пытался убедить его принять должность министра по внешним связям. Сюаньцзан отказался. Но его поездка не обошлась без дипломатических последствий.
323
ГЛАВА 8
Харшавардхана из Индии ранее посылал эмиссаров в Чанъань, а в 643 г., примерно во время отъезда Сюаньцзана из Индии, миссия Тан во главе с военным чиновником Ван Сюаньцэ отправилась с ответным визитом вежливости. Пять лет спустя, в 648 г., Ван Сюаньцэ прибыл в Индию во главе еще более впечатляющего посольства, на которое, несомненно, повлияли рассказы Сюаньцзана о Харшавард- хане. Но на этот раз китайцев ждал совсем другой прием. Год назад Харшавардхана умер, его империя рушилась, буддийская община подвергалась гонениям со стороны брахманов. Очевидно, долгое пребывание Сюаньцзана в Индии и его влияние на Харшавардхану убедило варну священнослужителей в том, что именно поддержка Китая позволяет индийским буддистам присваивать политическое главенство, на которое претендовали брахманы. Поэтому посольству Ван Сюаньцэ в 648 г. устроили засаду. Ценности были разграблены, свита задержана, а самому Ван Сюаньцэ едва удалось спасти свою жизнь. Он отступил в Тибет.
Там он воспользовался редким моментом затишья в китайско-тибетских отношениях. В 630-х гг. великий Сонгцэн Гампо был занят спорадическими стычками с войсками Тан в Сычуани и Цинхае. Что удивительно, в то время тибетцы сражались не ради того, чтобы выгнать китайцев из Тибета, а чтобы установить с ними более тесные отношения или, вернее, обеспечить себе такой же статус, который Чанъань распространял на их местных соперников — сяньбэйское государство Туюйхунь (Тугухунь), основанное в Цинхае между Ганьсу и разрастающимися территориями Сонгцэна Гампо. Туюйхуни в конце концов потеряли свой привилегированный статус. Цинхай вошел сначала в состав империи Тан, а затем, в 667 г., отошел к Тибетской империи. Тем временем тибетцы возобновили свои настойчивые обращения к Чанъаню, и в 641 г., чтобы положить конец их набегам, Тай-цзун согласился заключить с ними договор «мира через родство». Он был подкреплен, как обычно, женитьбой на китайской принцессе. Дальнейший обмен посольствами тибетцы рассматривали как свидетельство вассальной верности Тан, а Тан — как свидетельство вассальной верности тибецев [21].
В эту идиллию взаимного непонимания вторгся Ван Сюаньцэ на обратном пути из неудачной поездки в Индию. Оскорбление, нанесенное посольству Сына Неба, не говоря уже о Небесном кагане, не могло оставаться неотомщенным. Ван Сюаньцэ потребовал солдат
324
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
для ответного нападения на Индию; тибетцы согласились. В 649 г. совместная китайско-тибетская армия, вероятно, через перевал Чумби между Сиккимом и Непалом, пересекла великие Гималаи и нанесла тяжелое поражение преемнику Харшавардханы. «И посему, — говорится в Старой истории Тан, — Индия пребывала в благоговейном страхе». В другом источнике сказано, что Ван Сюаньцэ привез в Чанъань пленника — узурпатора, якобы захватившего трон Харшавардханы. Статуя «этого презренного индийца» была воздвигнута среди многих других перед гробницей Тай-цзуна, и «таким образом он [индиец] обрел вечную славу, но только как военный трофей и символ» [22]. Стоит ли говорить, что индийские хронисты оставались в блаженном неведении относительно всех этих событий. Китайско-тибетское вторжение, вероятно, коснулось только края Бенгалии и не имело значительных последствий, хотя то, что китайское вторжение на территорию Индии действительно имело место, можно утверждать с уверенностью. В следующий раз оно повторилось только в 1960-х гг.
В том же году, когда произошли эти неясные события (649), умерли Тай-цзун и Сонгцэн Гампо. Монах Сюаньцзан был еще жив — он прожил до 664 г., но, возможно, ничего не знал о вторжении в Индию, занимаясь другими делами. Вместо должности на службе у императора он попросил для себя монастырь, где мог бы посвятить оставшуюся жизнь переводу и толкованию добытых рукописных сокровищ. Он просил построить монастырь из камня, как делали в Индии, но это оказалось трудной задачей. В качестве компромисса использовали кирпич. Сложенная из кирпича и неоднократно реставрированная Большая пагода диких гусей из его монастыря по-прежнему стоит на территории нынешнего Сианя. Если не размерами, то пропорциями она напоминает пирамидальную башню храма Махабодхи в Бодхгае, отмечающую место просветления Будды.
В последние годы жизни Сюаньцзан оставался в милости у императора. Тай-цзун, чье царствование было отмечено безразличием к буддизму, вероятно, принял Сюаньцзана как духовного наставника; возможно, на смертном одре он даже обратился в новую веру. Его преемник Гао-цзун (пр. 649-683) объявил Сюаньцзана «драгоценностью империи» и поддерживал его работу щедрыми пожертвованиями. Результаты этой работы были почти так же важны, как его путешествие. «Во влиянии на более позднюю буддийскую мысль Сюаньцзан уступает только Кумарадживе; он перевел больше буддийских сочинений,
325
ГЛАВА 8
чем кто-либо другой... [и] оставил около семидесяти трех произведений, насчитывающих более тысячи свитков», — писала его поздняя почитательница Салли Ригинс. Император лично написал предисловие к трактату Сюаньцзана о йогических практиках. Его работы по буддийской логике и гносеологии добавили новое измерение в интеллектуальную жизнь Китая [23]
Однако совсем не эти достижения Сюаньцзана вспоминают сегодня в Китае. Самую большую славу ему принесло художественное произведение. Роман называется «Путешествие на Запад» (иногда «Царь обезьян»), и среди его персонажей есть вполне узнаваемый Сюаньцзан. Написанный в XVI веке, но включающий в себя множество более ранних повествований, этот роман представляет собой не просто литературное художественное произведение, это сплав безудержной фантазии, басни и аллегории, юмора и трагедии, потрясающих небылиц и такой философской глубины, что, пожалуй, на свете нет двух комментаторов, которые сошлись бы во мнениях относительно его толкования. На страницах романа появляются Тай-цзун (он посещает Подземный мир) и многие другие исторические фигуры, в том числе Будда. Но в тринадцатой главе (за которой следует еще восемьдесят семь глав) знаменитости уступают место небольшой группе путешествующих людей и животных. Среди них выделяется обезьяний царь Сунь Укун, образ которого, вероятно, навеян обезьяноподобным божеством Хануманом из индийской «Рамаяны». «Мужество и отвага в битве, умение летать и привычка атаковать своих врагов через живот» — общие для обоих персонажей качества [24].
Одни читатели воспринимали книгу, в которой изложено множество конфуцианских, даосских и буддийских концепций, как аллегорию сближения этих трех школ философской мысли. Другие, особенно марксисты, видели в бесконечных столкновениях путников с богами и чудовищами свидетельства классовой борьбы и торжества пролетариата. Много внимания в романе уделено боевым и магическим искусствам, что открывает обширные возможности для иллюстраторов, режиссеров и художников-мультипликаторов. Сегодня это комическое переложение серьезного и, пожалуй, порой немного утомительного «Путешествия в Западный край» Сюаньцзана по-прежнему остается самым любимым произведением китайской художественной литературы. Создается впечатление, что человек древней
326
СУЙ, ТАН И ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. 550-650
эпохи, столкнувшись с огромным миром за пределами своего понимания, пытался искать утешения в преувеличениях и вымыслах. Такие эпизоды были и в европейской истории. Таинственный Джон Ман- девиль распространял экзотическую бессмыслицу, которая, впрочем, казалась вполне убедительной в качестве записок о путешествиях1; Марко Поло распространял факты столь вопиюще «чужеземные», что их воспринимали как вымысел.
1 Джон Мандевиль (ок 1300-1372) — англо-французский писатель и путешественник, повествователь в книге «Путешествия сэра Джона Мандевиля». Личность остается загадкой, кто скрывается под этим именем, до сих пор точно не установлено. Его «Путешествия» сыграли огромную роль в становлении английской литературы. — Прим. ред.
9
Высокая Тан
(650-755)
РАСПУТНЫЕ, НО НЕ БЕСПУТНЫЕ
Хотя император не подчинялся никаким законам и не обязан был отчитываться перед какими-либо представительными органами, из этого вовсе не следовало, что его никак нельзя было ограничить. Правитель, злоупотреблявший властью, мог лишиться Небесного мандата; чтобы не дожидаться этого, он мог прислушаться к возражениям и критике своих министров. «Если это неправильно, возражай», — сказал Конфуций одному из своих учеников, желавшему поступить на государственную службу. В конфуцианской схеме вещей строгое подчинение старшим никоим образом не препятствовало конструктивному протесту. Напротив, столкнувшись с несправедливостью, «сын должен высказать возражение своему отцу, — считал Учитель, — а министр должен высказать возражение своему государю» [1].
Поскольку абсолютная власть особенно располагала к злоупотреблениям, конфуцианская традиция требовала, чтобы министры и советники проявляли бдительность и всегда высказывали свои опасения, пусть иносказательно, с многочисленными изъявлениями уважения и историческими отсылками. Это было не только их право, но и их нравственный долг. Служить императору означало удерживать его от поступков, которые могли отвратить от него подданных или иным образом поставить под угрозу осуществление Небесного мандата. Поэтому советы и подсказки императору составляли нравствен¬
328
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
ную обязанность чиновников, неотъемлемую часть их должностных обязанностей. Как бы велик ни был риск — а он мог быть даже смертельным, — от тех, кто имел право возражать, ожидали, что они будут этим правом пользоваться. И если умение бесстрашно высказать упрек отличало величайших государственных деятелей, умение прислушаться к упрекам было признаком поистине великого императора.
Тридцатидвухлетнее правление Тай-цзуна положило начало одной из самых длинных династических линий китайской истории и резко расширило границы государства, но не менее важным было терпеливое отношение императора к нападкам министров. Более того, это было явным признаком незыблемой добродетели государя, благодаря которой стали возможны все его достижения. Не самым влиятельным, но, безусловно, самым настойчивым из упомянутых министров был сварливый старый придворный с непростой историей, по имени Вэй Чжэн. На двадцать лет старше императора, скупой, лишенный чувства юмора, сверхосторожный, отчасти слепой и невыносимо упрямый, Вэй Чжэн был настоящим символом конфуцианского бюрократа. В эпоху засилья наследственных привилегий он представлял торжество идеала высокой нравственности и ума. И в этом качестве, как эталон прямоты, нетерпимости к слабостям и строгого соблюдения этикета, а также как самый бесстрашный оппонент императора, он стал образцом для будущих поколений.
После смерти Вэй Чжэна в 643 г. император уважительно назвал его «крепким стеблем бамбука, тронутым морозом», в равной мере подразумевая и его возраст, и резкий характер. В новелле XVI века «Царь обезьян», написанной по мотивам путешествий Сюаньцзана, Вэй Чжэн изображен бдительным надсмотрщиком, охраняющим двери спальни Тай-цзуна. Говорят, что на Тайване у входа в некоторые храмы до сих пор ставят с той же целью его статуи [2]. Но в Китайской Народной Республике не нашлось места для фигуры, столь тесно связанной с законным протестом. В 1966 г. Лу Динъи, тогдашний министр культуры, член Центрального Комитета Коммунистической партии и директор департамента пропаганды, был опозорен и снят с должности якобы за переиздание биографии Вэй Чжэна из официальных историй XI века. «Теперь ясно, — провозгласила газета “Жэньминь жибао”, — что подготовленная Лу Динъи “Биография Вэй
329
ГЛАВА 9
Чжэна” была ядовитой стрелой, направленной против председателя Мао, красного солнца в наших сердцах; это был манифест, призванный разбудить контрреволюционную реставрацию» [3]. По мнению газеты, отношения Вэй Чжэна и Тай-цзуна были сплошным обманом, они оба эксплуатировали крестьян одинаково безжалостно, только разными способами, поэтому их споры не имели никакого смысла, а публикация этих споров могла быть осуществлена лишь с самыми злодейскими намерениями.
Это было не слишком справедливо по отношению к Вэй Чжэну: пытаясь образумить своего упрямого государя, он нередко говорил с ним о благополучии народа. Но такие мелочи остались без внимания в ходе «великой пролетарской культурной революции». Переиздание текста XI века оказалось опасным делом, и этот случай вполне олицетворяет те трудности, с которыми столкнулась историческая наука в XX столетии. При имперском феодальном режиме министр обязан был высказывать критику, порицания и упреки — для министра Китайской Народной Республики это стало ревизионистской ересью.
Но при жизни Вэй Чжэна Тай-цзун нередко пренебрегал его критикой. Особенно его возмущали настойчивые советы чиновника ввести меры экономии, снизить налоги и уклоняться от войны; у-вэй («недеяние») было не в характере императора. В конце концов их отношения ухудшились, и на исходе 630-х гг., когда император выступил против восточных тюрок в Синьцзяне, Вэй Чжэн отчасти утратил влияние. Тем не менее он сохранил официальный титул, большую часть должностей и откровенное уважение императора. (Что многое говорит о них обоих.)
Это помогает объяснить, почему Тай-цзун, который сверг своего отца, убил братьев и развязал катастрофическую войну с Когурё, заслужил весьма благосклонную оценку конфуцианских коллег и преемников Вэй Чжэна, составлявших официальную историю его правления. По словам одного из них, царствование Тай-цзуна было «веком зимородка». Его подданные наслаждались покоем и изобилием мирной жизни.
«Купцов, путешествующих по диким землям, не грабили разбойники. Тюрьмы пустовали. Лошади и коровы спокойно бродили по открытым пастбищам. Замки на воротах не запирали. Неоднократно были обиль¬
330
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
ные урожаи, и цена на зерно снизилась до трех-четырех медных монет за ковш. Отправляясь путешествовать [даже в дальние утолки страны]... не нужно было брать с собой запасы провизии — все можно было купить по дороге... С древности ничего подобного не бывало» [4].
Впрочем, эта щедрая оценка была небезосновательной. У Тай- цзуна было меньше противников, поэтому ему нужно было меньше тюрем, чем его отцу или императорам Суй. Урожаи действительно были обильными1. Зернохранилища наполнились, угроза голода отступила, число людей, вынужденных разбойничать из-за нищеты, значительно уменьшилось, и путешествия по стране стали не такими опасными. Пока экономика восстанавливалась, трудоемкие общественные проекты были отложены. По примеру суйского Вэнь-ди Тай- цзун «обрезал корни и ветви» разросшейся администрации, реорганизовал провинции и особенно внимательно относился к раздаче должностей. По его собственным словам, чтобы иметь перед глазами полную информацию обо всех кандидатах, он развешивал по стенам своей комнаты листы бумаги с их именами и заслугами (наподобие клейких листочков для заметок). Он реорганизовал ополченцев-д&у- бин и приступил к переработке свода законов, который в очередной раз должен был стать более мягким и рациональным, чем раньше, а также попытался ограничить социальное влияние могущественных кланов, чьи родословные затмевали родословную клана Ли.
Остро осознавая свое место в истории и в обществе, он уделял немало внимания процессу историописания. В период раздробленности царства появлялись и исчезали так быстро, что для многих из них не успевали составить официальные истории. Чтобы заполнить этот пробел, Тай-цзун создал первое бюро историографии, во главе которого встал Вэй Чжэн и еще несколько ученых. Вскоре из-под их кистей вышли истории Северной Ци, Северной Чжоу и Суй, а также
1 По последним данным, почти все эпохи усиления центральной власти в Восточной Азии и, соответственно, подъема могучих империй приходятся на периоды потепления климата — благотворного для земледельцев Китая и разрушительного для степняков, чьи не слишком обводненные пастбища в такие времена могли быстро превратиться в пустыню. И наоборот, похолодание выбивало твердую почву из-под ног аграрных империй и вселяло новые силы в кочевников, чья жизнь становилась легче, а скот — многочисленнее. Иногда китайским империям удавалось пережить такие «малые ледниковые периоды», но далеко не всегда, и почти никогда — без потерь.
331
ГЛАВА 9
Цзинь, Лян и Чэнь из Шести (южных) империй. Предыдущие летописи — «Исторические записки» и «Хань шу» — составляли в частном порядке отдельные ученые или семьи, получавшие одобрение императора уже в процессе работы или после ее окончания. Новое бюро превратило историописание в регулярную официальную деятельность. Основанная на всех доступных источниках, многократно проверенных и перепроверенных, работа стала более шаблонной и, как в случае любых совместных усилий, менее откровенной1.
Одновременно бюро начало собирать и редактировать материалы для хроники правления империи Тан. Процедура была тщательно упорядочена: на основе придворных циркуляров и докладов составляли подневные пометки (календари), на основе календарей правдивые записи, а на основе правдивых записей должно было составлять официальную историю империи. Теоретически император не имел права голоса в этом процессе — на первом месте должна была стоять объективность. Однако Тай-цзун, невзирая на громкие протесты бюрократов, потребовал, чтобы ему показали черновики хроник, и создал прецедент, заставив переписать неоднозначные события, связанные с его вступлением на престол.
Был ли хвалебный глянец, украшавший всю оставшуюся часть его царствования, результатом прямого вмешательства императора, не вполне ясно. Опираясь на данные официальных историй, один поклонник в XX веке, историк Чарльз Патрик Фицджеральд, назвал Тай- цзуна «избранником судьбы, для которого не было непосильных задач, спасителем общества, возродившим мир и единство», деятельной личностью, «оставшейся легендой в памяти потомков [и] не имевшей равных на престоле Китая»2 [5]. Тай-цзун наверняка согласился бы с такой характеристикой, но вряд ли он имел возможность ее сформулировать. Официальная история его правления была завершена
1 При этом стоит отметить, что официальные истории, составленные коллективом авторов (зачастую в очень сжатые сроки), уступая авторским летописям в литературных достоинствах, часто более объективны в изложении событий — авторы, ответственные за разные разделы, часто не имели времени, чтобы согласовать редакторскую политику, а спешка заставляла их везде, где возможно, дословно цитировать документы описываемой эпохи — без особого вмешательства или искажения.
2 Ср.: Фицджеральд Ч.П. Китай. Краткая история культуры / Пер. с англ. Р. В. Котенко, под ред. Е.А.Торчинова. СПб.: Евразия, 1998 (Пилигрим). С. 217- 218. — Прим. ред.
332
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
лишь через семь лет после его смерти, а история его династии еще позже1. У бюро историографии были и другие причины изобразить его настоящим исполином — в первую очередь для того, чтобы принизить его фактического преемника.
Назначение преемника для Тай-цзуна столкнулось с неожиданным препятствием в 630-х гг.: бюрократические учреждения были скандализированы поведением старшего сына и указанного наследника императора, который отверг ханьский этикет и обратился к обычаям своих степных предков. Молодой принц сменил расшитое золотом одеяние и обувь на деревянной подошве на рубаху и сапоги кочевника, разговаривал (и велел обращаться к себе) только на тюркском языке, жил в палатке, готовил на костре, «резал на куски вареную баранину и ел с ножа» [6].
Несомненно, подробности сильно преувеличены, но, судя по всему, наследник и впрямь презирал науку и философию, стремился к жизни на свежем воздухе, и титул наследника Небесного каганата интересовал его куда больше, чем Небесный мандат.
Ситуация обострилась в 643 г., когда император казнил ряд сомнительных товарищей принца. Другие сыновья оживились и вступили в борьбу, и в результате серии заговоров и контрзаговоров наследника обвинили в покушении на братоубийство. Он был изгнан в Гуйчжоу, где и умер. Другого кандидата тоже изгнали: очевидно, он был слишком умен и образован, а потому менее склонен прислушиваться к возражениям министров. Преемником выбрали девятого из четырнадцати сыновей Тай-цзуна, который был достаточно молод, чтобы поддаться чужому влиянию, и достаточно слаб здоровьем, чтобы не задержаться на троне надолго. В таком положении ситуация находилась не без некоторых осложнений и дурных предчувствий со стороны Тай-цзуна до его смерти, после чего на трон взошел этот непримечательный кандидат, правивший под именем Гао-цзун (пр. 649-683).
Правление Гао-цзуна оставило слабый след в истории. Он провел на престоле тридцать четыре года, что само по себе было немалым достижением для человека, вскоре ставшего инвалидом. Ему наследо-
1 Официальная история Тан (т. н. «Старая история Тан») была составлена только к 945 г. — как и положено по канонам конфуцианской историографии, после конца империи. Впрочем, подготовленные танскими историографами материалы, конечно, были в ней использованы.
333
ГЛАВА 9
ПРАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ ТАН в 650-750 гг.
630 1
640 . 1
650
660 |
670
..„X—
680
Тай-цзун
Жуй-цзун
У Цзэтянь
Чжун-цзун
вали сыновья Чжун-цзун и Жуй-цзун. Оба ненадолго занимали трон дважды. Но их приходы и уходы имеют лишь хронологический интерес, на политику государства они влияли даже меньше, чем их отец. Целых полвека, с 655 до 705 г., реальная власть была сосредоточена в умелых (и, разумеется, окровавленных) руках той, которая могла бы встать в один ряд с выдающимися правителями Китая, не будь она женщиной. Это была У Цзэтянь, супруга Гао-цзуна, мать Чжун-цзуна и Жуй-цзуна, и, следовательно, императрица, вдовствующая императрица, а затем — уникальный случай — полновластный император (5/с), правивший в течение пятнадцати лет (690-705).
Не в пользу У Цзэтянь говорила не только ее принадлежность к женскому полу. Ее предшественником был глубоко почитаемый Тай-цзун, а такое соседство поставило бы любого правителя в невыгодное положение. Сравниться с ним, сохраняя покой внутри значительно разросшейся империи и править так же чутко, как он, было нелегкой задачей. Но шансы У Цзэтянь на посмертные аплодисменты стали еще меньше, когда ей на смену пришел (после того как Чжун-цзун и Жуй-цзун откланялись и ушли за кулисы во второй раз) Сюань-цзун, китайский Король-солнце. Еще один колосс, чье долгое и в основном славное царствование (715-756) осенило золотым блеском вершины цивилизации Тан, Сюань-цзун (не путать с паломником Сюаньцзаном) служил ослепительным примером гуманного правления, сошел с трона как романтический герой и остался в памяти как редкий среди правителей Китая всенародно любимый император.
Между легендарным героем и национальным достоянием вряд ли нашлось бы место третьему претенденту на звание лучшего императора. Рядом с такими исполинами даже законно избранному, отмеченному милостью Небес и благопристойно украшенному ба-
334
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
700 I
У Цзэтянь
710
Чжун-
цзун
720 _|
730 1
740 |
750 |
760 _|
Сюань-цзун
Жуй-цзун
кенбардами потомку Ли Юаня (Гао-цзу) пришлось бы побороться за историческое признание. И действительно, ничем не примечательное правление Гао-цзуна это вполне доказывает. Но У Цзэтянь (или У Чжао, как ее называли в начале жизни) не имела даже таких преимуществ. Как узурпатор, уничтоживший больше людей по имени Ли (в данном случае членов правящей семьи империи Тан), чем суйский Ян-ди в ответ на «Пророчество персика и сливы», она вряд ли могла ждать благосклонности от составителей династических историй Тан. Как женщина, представительница той половины человечества, которой конфуцианская ортодоксия оставляла право лишь на домашние хлопоты и служение близким, а хорошо знакомые с историей бюрократы решительно не доверяли, она не могла рассчитывать на поддержку современников или сочувствие потомков. И как особа, не только манипулировавшая престолонаследием, но и захватившая трон и правившая самым своенравным и невосприимчивым к советам образом, она попросту выходила за рамки беспристрастной науки,
В результате ее исторический путь оказался освещен исключительно хулителями. Даже когда критики громят политика в пух и прах и преувеличивают вызванные им бедствия, из этого можно извлечь небесполезные сведения. Но об императрице У Цзэтянь мы не найдем в исторических хрониках ничего, кроме списка зверств, скандальных связей и дьявольских интриг. «С самого начала исторический отчет о ее царствовании был враждебным, предвзятым, примечательно фрагментарным и неполным, — отмечают авторы-составители “Кембриджской истории Китая”. — О ее полувековом правлении известно куда меньше, чем о любом другом сопоставимом периоде правления династии Тан» [7]. Создается впечатление, что хронисты, не найдя подходящих стихийных бедствий, чтобы обозначить отношение Небес
335
ГЛАВА 9
к ее царствованию, стремились дискредитировать ее хотя бы с помощью личных нападок и дворцовых сплетен. Расточительность императрицы могла бы вызвать народное недовольство, но оно проявлялось крайне слабо. Танские лоялисты не смогли противопоставить ей ничего, кроме бессвязного и неэффективного сопротивления. На место бюрократов, которые были уничтожены или отказались служить ей, пришли другие, столь же способные. А внешних врагов, желавших воспользоваться якобы ослабленным положением империей под руководством женщины, ждало горькое разочарование.
То, что У Цзэтянь имела честолюбие и способности выше среднего уровня, признавали даже ее очернители. Когда ей было тринадцать лет, Тай-цзун принял ее в свою свиту в качестве наложницы младшего ранга, вероятно, чтобы почтить память ее умершего отца, которому Гао-цзу пожаловал дворянство. Ее мать, благочестивая буддистка, была связана с Суй, но не имела большой свиты. Сама она, как говорят, была «красивой и соблазнительной» [8]. Неизвестно, соблазнился ли ее красотой Тай-цзун, но точно известно, что она привлекла внимание будущего Гао-цзуна. Их подростковый роман, возможно, начался до смерти Тай-цзуна и, разумеется, расцвел вскоре после нее: в 654 г. она родила по крайней мере одного сына от Гао-цзуна, теперь принявшего титул императора. Однако, поскольку изначально она была выбрана для свиты Тай-цзуна, их связь считалась кровосмесительной, поскольку правовой кодекс Тай-цзуна восстановил это преступление в списке «Десяти мерзостей». Более того, у Гао-цзуна уже была официальная супруга, хотя и бездетная.
Но препятствия, которые обескуражили бы многих стремящихся к власти девиц, ничего не значили для изобретательной и беспринципной У Чжао. Рассказывают, что в 654 г., родив дочь, она позвала супругу Гао-цзуна императрицу Ван поиграть с ребенком, а потом задушила девочку, но убедила Гао-цзуна, что ее убила императрица, как последняя остававшаяся с ребенком наедине. По крайней мере, этим объяснили причину понижения в ранге и наказания императрицы Ван и массового уничтожения всех, кто ее поддерживал, включая многих уважаемых министров, занимавших свои должности со времен правления Тай-цзуна. Через год сама У Чжао получила титул императрицы под именем У Цзэтянь, а ее сын был назначен наследником. Возможно, Гао-цзуна обманули, но вполне вероятно, он был ее соучастником. Так или иначе, исход дела его обрадовал: старую гвар-
336
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
дню высокопоставленных чиновников изгнали, на их место пришли более уступчивые и слабее связанные между собой фигуры, полностью обязанные своим положением новой власти.
Говоря точнее, это была власть новой императрицы, и возможно, для того, чтобы у сторонников не возникало мысли отступиться от нее, она, как сообщают хроники, под занавес своего дворцового переворота приказала ампутировать бывшей императрице по очереди все конечности, а затем утопить ее в чане с вином. Это отвратительное деяние выглядело бы достовернее, если бы 850 лет назад почти такая же судьба не постигла «человека-свинью» госпожу Чи. Поссорившись с императрицей Люй, бессменной супругой и фактической преемницей ханьского Гао-цзу («Высокого прародителя» империи Хань), эта госпожа Чи, как сообщают «Исторические записки», также была лишена рук и ног, а обрубок ее туловища бросили ждать смерти в навозной яме. Подозрения вызывает не только вероятность остаться в живых после подобной операции, но и явное сходство между этими двумя случаями. Возможно, мстительные императрицы искали вдохновение в древних хрониках, но, скорее всего, у историков, стремившихся их очернить, просто недоставало фантазии1.
Сравнения с императрицей Люй преследовали У Цзэтянь всю жизнь и впоследствии дали почву для множества морализаторских рассуждений о ядовитом характере женщин у власти. Ч.П. Фицджеральд, английский биограф императрицы У, цитирует поговорку, которую можно приблизительно перевести следующим образом:
Беспутной была государыня Люй,
Распутной была государыня У [9].
Другими словами, Люй была безрассудной и непоследовательной, но не имела склонности к разврату; У была способной и эффективной правительницей, но отличалась неутолимой любвеобильностью. О ее способностях можно судить по случайной оговорке в одной из летописей Тан: «Она была проницательной и решала все дела быстро и уверенно. Поэтому все храбрые и выдающиеся люди того времени были
1 Вполне возможно, что подобная казнь состоялась дважды. Во всяком случае, в позднесредневековой Англии казнь через повешение, потрошение и четвертование практиковалась неоднократно. — Прим. ред.
ЪЫ
ГЛАВА 9
рады служить ей и искали возможности сделать это» [10]. Ей неоднократно удавалось перехитрить своих противников, она подавляла мятежи, защищала и расширяла границы империи и предприняла ряд грандиозных династических нововведений. Император Гао-цзун в свое правление «сидел сложа руки», как пишет Сыма гуан, — верховную власть осуществляла императрица. «Повышение и понижение в должности, жизнь или смерть решались одним ее словом» [11].
Испытывая потребность так или иначе узаконить свою власть, она, как и Ван Ман, тяготела к возрождению ультраортодоксальных практик и терминологии эпохи Чжоу. Чтобы отметить принятый в 690 г. императорский титул, она фактически приняла новое наименование империи — Чжоу, как это сделал ранее Юйвэнь Тай из Северной Чжоу. Лоян, восточная столица Чжоу, стал восточной столицей Тан. Придворные и чиновники регулярно переезжали из Лояна в Чанъань и обратно, что обходилось недешево. В 666 г. императрица сопровождала Гао-цзуна в поездке в провинцию Шаньдун, где впервые со времен ханьского 1уанъу-ди, то есть с 56 г., император возблагодарил Небеса за успехи династии, совершив великое ритуальное жертвоприношение на горе Тайшань. У Цзэтянь не осталась в стороне от этого события и разработала параллельную церемонию с участием императорских женщин. Очевидно, она серьезно относилась к своим феминистским обязанностям. При ней была ограничена стоимость брачного выкупа (приданого), время траура по умершей матери сравнялось с трауром по умершему отцу, а среди разнообразных сочинений, написанных ею самой, был сборник биографий выдающихся женщин. Позднее ее дочь принцесса Тайпин и знаменитая ученая Шангуань Ваньэр создали нечто вроде правительства в юбках.
Засилье террора, где осуждали невинных и вознаграждали доносчиков, более чем уравновешивалось помилованиями, освобождениями и обещаниями снижения налогов и сокращения мер экономии. Протестующим предлагали высказывать протесты, неправедные суды быстро разгоняли. Для историков империи Тан это были просто неумелые попытки задобрить народ, но для марксистов это были гуманные, даже революционные уступки; и поскольку эти мероприятия явно служили примирительной цели, их можно по меньшей мере считать подобающими государственному деятелю.
В попытках примирить все слои общества с новизной своего правления императрица не оставила камня на камне от привычной
338
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
идеологии. У Цзэтянь заигрывала с конфуцианскими мнениями, флиртовала с даосскими мудрецами и осыпала знаками внимания буддийскую сангху. Насколько этот экуменизм был продиктован государственной необходимостью, а насколько — религиозным капризом и личными сексуальными интересами, не вполне ясно. Даосская фаза императрицы совпала с появлением при дворе влиятельного практикующего даоса, а ее интерес к буддизму достиг апогея во время долгого и страстного романа с буддийским настоятелем. Первоначально этот человек был продавцом косметики и, чтобы получить доступ к женским покоям дворца, принял обеты, ни один из которых, впрочем, не соблюдал. Помимо исполнения своих обязанностей в покоях императрицы, он отличился, отыскав текст, который истолковали как пророчество о появлении в Китае женщины-Май- треи, Будды грядущего. Императрица была в восторге — разумеется, речь могла идти только о ней — и добавила к списку своих титулов именование Несравненная Майтрея. Гораздо меньше восторгов у нее вызвали монахи настоятеля, которые устраивали беспорядки в Лояне, а также его самонадеянность и всепоглощающая ревность. В 695 г. он, очевидно, выжив из ума, сжег недавно построенный колоссальный церемониальный зал императрицы — Минтан. Через несколько дней его нашли убитым. Те, кто пытался мешать У Цзэтянь, становились ее врагами и не могли рассчитывать на милость.
«С его смертью отношение императрицы к буддизму изменилось», — заметил Ричард Гиссо в «Кембриджской истории Китая» [12]. То же можно сказать о ее отношении к престолонаследию. В 697 г. она отказалась от мысли основать собственную династию и назначила наследником Чжун-цзуна (одного из своих сыновей от Гао-цзуна, которому суждено было сыграть в истории эпизодическую роль). Риск, что ее репутация распространится на «интеркалярную» промежуточную династию, устранили, и империя Тан снова уверенно встала на ноги. Но не это окончательно подорвало власть ныне восьмидесяти- с-лишним-летней императрицы — скорее это сделало убийственное сочетание тщеславия и неотвратимо надвигающейся старости. Источники утверждают, что она хорошо сохранилась для своего возраста, а неумеренное употребление афродизиаков привело к тому, что у нее появились модные густые брови и отличный новый набор зубов. Этими сомнительными достижениями автор хроники пытается объяснить, почему она ввела в свои покои (и, вероятно, в свою
339
ГЛАВА 9
постель, поскольку к тому времени редко ее покидала) двух никчемных молодых щеголей, единокровных братьев по имени Чжан; она потворствовала любой их прихоти и не хотела слышать о них ни одного дурного слова.
Братья Чжан, как ранее буддийский настоятель, с размахом пользовались милостями императрицы. Их оргии одинаково приводили в ужас и бюрократов, и буддистов. Ненависть к фаворитам заставила сторонников У объединиться со сторонниками Тан, своими смертельными врагами. Но императрица была готова защищать своих фаворитов до последнего и употребляла все свои слабеющие силы, чтобы спасти их от суда. Однако не стоило рассчитывать, что бесчинства фаворитов отвлекут внимание от неподобающего поведения самой старой императрицы, потерявшей от страсти голову. В начале 705 г. очередное императорское помилование, позволившее братьям Чжан избежать наказания, переполнило чашу терпения придворных. Поскольку императрице явно нездоровилось, группа возмущенных старших чиновников собрала войска, выманила наследника Чжун- цзуна из его покоев и пришла во дворец в Чанъане. Братья Чжан были схвачены и казнены на месте. Путь восставшим преграждала только растрепанная, нетвердо стоявшая на ногах императрица. «Быстро оценив ситуацию, — пишет Гиссо, — она обратилась к своему дрожащему сыну [Чжун-цзуну] и другим заговорщикам со словами, исполненными презрения. На этом полвека ее власти подошли к концу, и она вернулась в свою постель» [13]. Она умерла в том же году. Повторяя слова, которые были сказаны о золотом веке Тай-цзуна, «с древних времен не бывало ничего похожего на нее».
Как я уже отмечал, летописи не слишком распространяются о личной роли У Цзэтянь в управлении делами империи. Тем не менее, по их данным, и несмотря на то, что Гао-цзун скончался только в 683 г., представляется, что уже в 655 г. «правление исходило из нее», а в 664 г. «все великие полномочия державы были переданы императрице» [14]. Таким образом, независимо от того, насколько участвовал в управлении страной слабый здоровьем (вероятно, страдающий эпилепсией) император, и несмотря на всю сдержанность историков, императрица явно полностью отвечала за все происходящее в стране все пятьдесят лет ее правления.
Судя по всему, ее самым слабым местом была экономика, впрочем, как и у большинства других императоров. Налоговая база та¬
340
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
инственным образом сократилась — из девяти миллионов зарегистрированных домохозяйств, указанных в документах в 606 г. при суйском Вэнь-ди, осталось менее трех миллионов в 640 г. при Тай- цзуне. Вероятно, причину следует искать не в демографической катастрофе, а в небрежной регистрации, постоянном перемещении населения и широком распространении льгот. Так или иначе, налоговых поступлений не хватало, чтобы покрыть обширные расходы императрицы, склонной поощрять разрастание бюрократического аппарата, затевать экстравагантные постройки и делать щедрые пожертвования религиозным организациям1, не говоря уже об обороне империи. Обычные для таких обстоятельств уловки, то есть эксперименты с валютой, только ухудшали положение. Выпуск меньшего количества монет, затем девальвация существующих запасов и уменьшение содержания меди в одной монете привели к оживлению фальшивомонетчиков, которых легко было объявить вне закона, но трудно по-настоящему искоренить. Монополия Хань на соль уже давно не приносила надежного дохода, другие источники дохода почти не изучали, за единственным исключением явно придуманной от отчаяния схемы продажи навоза из императорских конюшен.
Характерной особенностью периода стала инфляция. Источники сообщают, что цены на зерно на открытом рынке выросли в сто раз по сравнению с «тремя-четырьмя монетами за ковш» в золотые дни Тай-цзуна. В то же время огромные зернохранилища и система каналов вполне выполняли свою задачу по снабжению нуждающихся в тяжелые времена и помогали не допустить голод. Что примечательно, крестьяне почти не протестовали. «В народе императрица, возможно, даже была популярна»2, — пишет Гиссо [15].
В силу необходимости, вызванной скорой расправой с непреклонными чиновниками, при У Цзэтянь стало намного больше об¬
1 Пожалуй, ярчайшим наследием У Цзэтянь является знаменитый пещерный монастырь Лунмэнь («Драконовы врата») неподалеку от Лояна, строительство которого началось еще при Северной Вэй, но именно щедрые вклады императрицы сделали из этих скал жемчужину буддийского камнерезного искусства в Центральном Китае.
2 Стоит учитывать, что мы чаще всего даже в общих чертах не представляем, какого рода сведениями о происходящем в столице обладало многомиллионное крестьянство, в том числе было ли оно хоть в какой-то степени в курсе относительно личности (и пола) правящего монарха.
341
ГЛАВА 9
разованных людей, способных занять государственные должности. Некоторые из них — обладающие острым умом женщины и умеющие внушать доверие молодые люди — быстро делали карьеру благодаря ее личной милости. В остальном императрица следовала примеру своих предшественников — правителей Суй и Тан, сделав систему образования более открытой, увеличив количество экзаменуемых и усовершенствовав условия сдачи экзамена. Она собрала во дворце группу ученых, из которой в конце концов выросла знаменитая академия Ханьлинь. Новые чиновники из семей, где должности переходили по наследству, по-прежнему господствовали в бюрократическом аппарате, хотя многие из них теперь сдавали экзамены и подняли свою работу на новый уровень интеллектуальной и профессиональной подготовки. Соискатели за пределами этих заколдованных кругов, особенно из мелкой провинциальной аристократии, имели меньше шансов сдать экзамены и получить должность. Но их по-прежнему влекло в столицу и ко двору, что способствовало централизации и добавляло эпохе интеллектуального блеска. В среде этих подающих надежды, но часто разочарованных талантов появились самые известные и любимые поэты, музыканты и художники Тан.
ВЕЛИЧАЙШАЯ ДЕРЖАВА АЗИИ
Правительнице, столь озабоченной поддержанием своего положения, отношения с данниками и военные походы могли казаться досадной лишней помехой. И все же У Цзэтянь осознавала значение этих вопросов для ее легитимности и не пренебрегала ими. В самом деле, то, что она полвека правила Китайской империей в ее наиболее обширном и вместе с тем уязвимом состоянии, можно считать одним из самых значительных забытых достижений императрицы. Возникшую ранее империю ханьского У-ди за пару десятилетий поглотила пустыня, но империя, которую построил танский Тай-цзун, процветала, не в последнюю очередь благодаря императрице, более ста лет, открыв новые перспективы для Срединного царства и для сателли- тов-данников и одновременно обозначив ориентир, по которому измеряли свой успех следующие китайские империи, а затем и республики.
342
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
Сыновьям (и Дочерям) Неба вполне хватало Небесного мандата, чтобы обосновать свое нравственное право управлять делами Поднебесной. Отношения и условия существования империи были хорошо известны, ее структуру понимали как концентрическую схему, в которой ближние круги подчинения постепенно сменялись отдаленными кругами зависимости. Словно контуры на карте, они расходились от стоявшего в центре императора и жестко контролируемых внутренних рангов дворца и двора, от столицы и ее окрестностей к провинциям, приграничным военным округам, вассальным вождям и племенам за пределами империи и дальше до самых отдаленных горизонтов, откуда присылали дань.
Однако методика и средства обеспечения этой честолюбивой схемы оставляли желать лучшего. Конфуцианская доктрина, сформулированная в условиях эпохи Сражающихся царств и отчасти под их влиянием, непреклонно заявляла, что военные вопросы должны находиться под гражданским контролем. Эта особенность в числе прочих отличала культуру Китая от культуры его кочевых соседей. Экспансивную и нередко откровенно агрессивную Китайскую империю лишь в немногие моменты истории можно охарактеризовать как милитаристскую державу. Военные вопросы традиционно находились в ведении бюрократии, но ни при каких обстоятельствах бюрократические вопросы не могли находиться в ведении военачальников. В теории регулярная армия была проклятьем, профессиональные солдаты — паразитами. Армию, будь то призывники или территориальные ополченцы фубин, должны были составлять земледельцы на лошадях и крестьяне с арбалетами; военачальники должны были быть (и, как правило, были) бюрократами в военной форме. Их назначали для проведения одной кампании, после чего, если им не давали нового военного поручения, они возвращались к гражданской службе. Военные успехи открывали быстрый путь к высоким должностям — и для подобных выскочек существовала презрительная кличка чу ирян жу сян — «был генералом, стал канцлером» [16].
Военные маневры в идеале проводили в «мертвый сезон», свободный от сельскохозяйственных работ, кампании продолжались не больше нескольких месяцев, а военные походы строили по схеме «туда и обратно» с четко определенными целями, оставляя минимум возможностей для самостоятельных действий командиров на местах.
343
ГЛАВА 9
Согласно «Сунь-цзы» («Искусство войны», классический текст о военном деле, созданный, вероятно, в V веке до н. э.), армия служила своеобразным «инструментом обмана». Присутствие хорошо обученной армии должно принуждать противника к нужным действиям или удерживать от ненужных, но от фактического использования армии следует воздерживаться. Гораздо лучше вовлечь других в многопартийный союз и заставить их участвовать в боевых действиях (так появилось известное выражение, такое же древнее, как история Китая: «Используя варваров, сдерживать варваров»). Если война, будучи заведомо непредсказуемым делом, считалась самым крайним средством достижения цели, то сражение следовало начинать только в том случае, если гарантирована победа. Таким образом, если война представляет собой провал дипломатии, то вывод войск на боевые позиции представляет собой провал стратегии, а сражение — провал тактики.
Дело было не в «конфуцианской пассивности» и не в том, что оседлый аграрный образ жизни плохо сочетался с военной удалью (хотя у народов степей часто складывалось именно такое впечатление). В молодости будущий танский Тай-цзун был образцовым принцем- воином, а позднее, в военных экспедициях против Когурё, одним из немногих императоров, который лично вел войска в бой. В армии поддерживали строгую дисциплину, и когда возникала необходимость решительных действий, на поле выходили огромные силы империи, причинявшие противнику колоссальный ущерб. Учитывая, что Небесный мандат по своей природе распространялся на всю Поднебесную, любые народы, нарушающие или не соблюдающие своих обязательств перед императором, считались злодеями, которых следовало наказать и принудить к подчинению. В этом смысле война была мерой исправления, логическим продолжением уголовного кодекса, распространявшегося на всех — от непокорного подданного (и его якобы сопричастной семьи) до всех тех, кто осмеливался бросить вызов правителю, назначенному Небесами, независимо от того, были это «разбойники» (мятежники) внутри страны или «варвары» (чужаки) за ее пределами.
В древние времена традиционная стратегия кнута и пряника вполне помогала справляться с ди, жунами, манями и прочими коренными народами. Точно так же компромиссные договоренности (дань в обмен на торговлю, мир через родство) с сюнну, сяньбэй и цянами позволили снизить угрозу со стороны кочевых и в целом неустойчи¬
344
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
вых племенных конфедераций степи. Но в VII веке империя столкнулась с более грозными противниками — тюрками, тибетцами, корейцами и киданями, обладавшими собственной самобытной культурой и политическими институтами, с оседлым или полуоседлым населением на некотором расстоянии от Срединного царства.
После семи катастрофических вторжений в Корею, предпринятых императорами Суй и танским Тай-цзуном, состоявшееся при У Цзэтянь в 668 г. завоевание Когурё выглядело как попытка спасти репутацию. Корейский придаток империи Хань наконец был восстановлен, на полуострове учреждены протектораты, из трех корейских царств уцелела только Силла. Но из союзника Силла вскоре превратилась в центр сопротивления, а затем, с некоторой поддержкой Японии, в упорного противника. Как проницательно заметил один императорский чиновник, «дилемма заключалась в следующем: если [отправить в Корею] мало войск, Китаю может не хватить сил, чтобы сохранить там контроль, но если отправить много войск, необходимость их обеспечивать ляжет на Китай тяжким бременем» [17]. Корея не была голой степью, откуда противника можно просто выгнать. Удерживать в подчинении гордые и богатые царства Кореи оказалось не дешевле, чем завоевать их. Некоторые корейцы поступили на службу в императорскую армию, множество крестьян Когурё переселили к западу от реки Ялуцзян в Маньчжурию и Хэбэй. Но к 672 г. процесс китайского отступления с полуострова (по мнению корейских источников, выдворения) уже начался. Его кульминацией стала эвакуация Пхеньяна в 676 г. Корее не суждено было стать неотъемлемой частью китайской империи. В значительной степени воссоединенная царством Силла, она признала сюзеренитет Тан, но сохраняла полную автономию, пока, как и сам Китай, не была захвачена монголами в XIII веке.
Императрице У Цзэтянь пришлось утешаться кратковременной победой и чистой территориальной прибылью в виде того, что ныне является провинцией Ляонин. Протекторат Аньдун (позднее Пинлу), служивший точкой опоры империи в Маньчжурии и предъявлявший остаточные претензии на лояльность Кореи и различных маньчжурских народов, был уравновешен на крайнем юге еще одним протекторатом на территории современного Северного Вьетнама, который продолжал предъявлять не слишком настойчивые претензии на соседние государства Юго-Восточной Азии. Оба служили типичным
345
ГЛАВА 9
примером военной и административной организации, характерной для обширной танской империи при У Цзэтянь1.
Об Индии в XVIII веке говорили, что она «упала в подол Британии, пока та спала». Тай-цзун не спал — он осторожно занимал позиции в тылу у тюркских каганатов, а затем в конце 630-х гг. потряс их восточную ветвь, одновременно совершив вылазку в Монголию и несколько хорошо спланированных выпадов в сторону городов-оазисов вдоль шелковых маршрутов. Но, так или иначе, в тюркской Азии, как и в Индии Великих Моголов, созревшие сливы падали одна за другой, без особенных трудов. Тюркоязычные народы он ок будун («Десять стрел», или племен), составлявшие Западнотюркский каганат, в 640-е гг. были втянуты в братоубийственную борьбу, усугубленную, как сообщает одна их надпись, «хитростью и лживостью китайцев». «Сыновья знатных людей стали рабами китайцев, — горестно гласит надпись, — а их прекрасные дочери — служанками» [18]. Пока десятистрельные тюрки ссорились между собой, принадлежавшие им территории — богатые города-государства и лежащие между ними пастбища — были собраны воедино и присовокуплены к Небесному каганату.
Как свидетельствовал монах Сюаньцзан, возвращаясь через Синьцзян в 645 г., это был богатый урожай. Китай получил свободный доступ ко всей внутренней Азии, и так называемые Западные земли — крайне расплывчатое определение даже в лучшие времена — максимально увеличились. При Гао-цзуне и У Цзэтянь над приграничными районами были созданы новые протектораты; зависимые территории простирались по широкой дуге от Аньдуна в Маньчжурии на Желтом море через современную Внешнюю Монголию и Восточный Казахстан к пустыням Хорасана на северо-востоке Персии (Ирана). Китайской империи никогда больше не суждено было достигнуть такого размаха. На бумаге, также символизировавшей новизну и хрупкость новой империи, танский Китай был действительно «величайшей державой в Азии того времени» [19].
Но не следует полагать, что контроль над пограничными протекторатами сопоставим с контролем во внутренних провинциях
1 Аньдун по-китайски означает «Умиротворенный Восток». Протекторат, управлявший землями Северного Вьетнама, именовался Аньнань («Умиротворенный Юг»): отсюда происходит одно из колониальных наименований Вьетнама (правда, в основном Центрального и Южного) — Аннам. Областями Западного края ведал протекторат Аньси — «Умиротворенного Запада».
346
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
и префектурах Китая, губернаторы-военачальники теоретически командовали обширными территориями, часть которых, например за пределами Памира или Тяныианя, находилась на расстоянии нескольких месяцев пути и оставалась недоступной большую часть года, губернатор-военачальник отвечал за усмирение этих областей, но его роль была скорее надзорной, чем карательной, и скорее дипломатической, чем бюрократической.
Отдаленные области протектората, будь то префектуры или округа под военным командованием, называли цзими — «свободно натянутые вожжи». Подчиненные, но автономные территории цзими должны были подчиняться военным и административным уложениям империи, но в остальном они почти не отличались от тех политических образований, на смену которым пришли. Префектами и командирами цзими часто были неханьцы, как правило, бывшие правители этих регионов, обменявшие подчинение на признание; администрация и военные учреждения также были в основном не- ханьскими. Главы цзими должны были оказывать империи помощь в защите границы, отправлять или лично доставлять в столицу дань и отправлять туда на проживание своих сыновей, что служило гарантией их преданности. Роль дани могли исполнять собранные налоги. Особенно это касалось давно сложившихся и без труда поддающихся налоговой оценке оазисных государств Синьцзяна. Взамен префекты цзими могли передавать свою должность по наследству и получали от императорского правительства титулы, невест, финансовую и продовольственную помощь, а также подарки, стоимость которых превышала уплаченную дань.
«Свободно натянутые вожжи» доставляли мало неудобств, и меньше всего в периферийных областях, таких как Северная (то есть Внешняя) Монголия, Фергана, Согдиана и транс-Памирская область, подчинение которых можно назвать лишь номинальным. Эти огромные пространства, весьма эффектно выглядевшие на карте, в действительности становились обузой. Консерваторы, в том числе Вэй Чжэн, сварливый старый советник Тай-цзуна, категорически возражали против их включения в состав империи и ничуть не удивлялись тому, что некоторые из них готовы отпасть при первой возможности. Как и в Корее, китайские метания в военных вопросах и спонтанные сборы вооруженных сил прискорбно не подходили для поддержания имперского колосса, когда ему бросали вызов другие создатели империй.
347
ГЛАВА 9
Первым из таких соперников стал Тибет. Дружеские отношения между Сонгцэн Гампо и Тай-цзуном разрушились примерно в 660 г., и камнем преткновения снова оказался народ туюйхуней из безлесной и заболоченной ничейной земли Цинхай. Неоднократный обмен посольствами и долгий спор по поводу отказа китайского посланника кланяться тибетскому царю должен был убедить Тан, что тибетцы не просто конфедерация кочевых племен. Честолюбивое царство и потенциальная империя, Тибет имел крупную армию, эффективную администрацию и письменную культуру, основанную на собственной грамматике и письменности (алфавитной, созданной на основе санскрита). Широкое распространение получила своеобразная и весьма самобытная форма буддизма (ваджраяна1), имелись высокоразвитые металлургические навыки, а смешанную экономику Тибета обеспечивали не только земледельцы и скотоводы, но и ремесленники с торговцами.
В 660-е гг. тибетцы неуклонно продвигались вперед, вернув себе земли туюйхуней в Цинхае и проникнув в Сычуань и Синьцзян. В конце концов, объединив силы с недовольными местными царствами и остатками Западнотюркского каганата, они перерезали южный Шелковый путь, которым возвращался монах Сюаньцзан. Затем, захватив Кучар в 670 г., они фактически положили конец китайскому присутствию на западе Синьцзяна и в Памире. Тан сохранила контроль над северным Шелковым путем от Турфана через Тяныиань и через современный Урумчи до Ферганы, где в Токмаке на Иссык- Куле была создана военная база. Кроме того, Тан пыталась организовать оборону коридора Ганьсу против тибетцев, совершив в 670 г. крупный военный поход в Цинхай. Но танские войска потерпели сокрушительное поражение, и точно так же закончилась еще одна попытка наступления в 678 г. «Боюсь, умиротворение Тибета не такое дело, чтобы покончить с ним от рассвета до заката», — пророчески заключил автор примерно в это время поданного императору доклада [20].
Два десятилетия господства Китая в Цинхае и южном Синьцзяне сменились господством так называемой первой Тибетской
1 Буддизм ваджраяны распространился в Тибете несколько позже благодаря усилиям Шантаракшиты, прибывшего в Тибет по приглашению царя Тисонг Дэцена около 767 г. Но и до того тибетский буддизм, прежде всего ориентировавшийся на индийские истоки, заметно отличался от китайского.
348
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
империи. Но У Цзэтянь отнюдь не собиралась мириться со сложившимся положением. Хотя ей пришлось закрыть четыре гарнизона (Токмак, Кучар, Кашгар и Хотан) в обращенном к Западным краям протекторате Аньси, она дождалась удобного момента и в 692 г. фактически восстановила их. Затем она их укрепила. Тридцатитысячная армия теперь находилась в Аньси на постоянной основе, аналогичным образом шло наращивание военной мощи в других пограничных протекторатах. Против устойчивой и организованной оппозиции традиционной единоразовой «карательной» экспедиции было уже недостаточно, она не могла гарантировать безопасность империи. Приграничные области должны были контролировать крупные контингенты постоянных войск. Из-за трудностей, связанных с отправкой новых партий призывников на такое расстояние от дома, в гарнизоны обычно набирали солдат для длительной службы, как ханьцев, так и неханьцев, и их отношение к военной службе становилось явно профессиональным, даже наемническим.
Императрица, по сути, поддерживала имперскую конструкцию Тай-цзуна, но эти усилия подрывали конфуцианские принципы и централизованную власть. Снабжение и финансирование пограничных гарнизонов обременяло экономику и истощало военные и финансовые ресурсы центра страны. Хуже того, в долгосрочной перспективе эти основательно военизированные протектораты и провинции доставляли не меньше беспокойства, чем народы, которые они должны были контролировать. Стремясь защитить свои расширившиеся границы от нападения извне, империя открыла себя для нападения изнутри. Даже великий Сюань-цзун не смог разрешить эту дилемму, за что в конечном итоге и поплатился.
Тем не менее Синьцзян и Фергана были благополучно возвращены в лоно империи. С переменным успехом они оставались под наблюдением Тан еще пятьдесят лет. Однако Тибет по-прежнему путал все карты: предлагая верность, он требовал взаимности, а вызывая на бой, жизнерадостно заявлял, что делает это из лояльности. К концу VII века споры о престолонаследии среди тибетской знати привели к затишью в боевых действиях. В 700 г. затишье закончилось победами Китая и мирным соглашением, разработанным в последние дни правления У Цзэтянь. Условия подкрепленного браком с китайской
349
ГЛАВА 9
невестой договора 707 г. были расплывчатыми, но снова подразумевали равенство статуса, которое будущие императоры сочли неприемлемым.
Нападения и контрнападения продолжались по всей границе Тибетской и Китайской империй. Бесконечная и неопределенная, эта зона тянулась от поросших лесом обрывов над рекой Меконг в Юньнани до обледеневших гравийных склонов у верхнего течения реки Оке (Амударья) в Афганистане и верхнего течения реки Яксарт (Сырдарья) в Киргизии. Столкновения всегда проходили посередине, там, где пограничная зона приближалась к коридору Ганьсу в Цинхае и поворачивала к Чанъаню. Но на ее окраинах тибетцы действовали не менее активно, и там у них обнаружились неожиданные соперники, которые быстро стали убежденными союзниками. В Юньнани это были народы зарождающегося царства Наньчжао, чье последующее неповиновение Тан дестабилизировало весь юго-западный Китай, а также Вьетнам. В далекой Фергане тибетцы нашли себе еще более грозного нового союзника. Это был Кутейба ибн Муслим, военный правитель персидского Хорасана — с недавних пор провинции халифата Омейядов.
Ислам распространился в Средней Азии уже через несколько десятилетий после смерти пророка. Оттеснив империю Сасанидов в Персии, так же как когда-то Александр Македонский оттеснил державу Ахеменидов, арабы сначала ненадолго взяли согдийские города-государства Бухару и Самарканд (708-709). Примерно в то же время сподвижник Кутейбы ибн Муслима основал арабский плацдарм в Индии, завоевав Синд на территории современного Пакистана. Обе инициативы исходили из Багдада, столицы западного наместника халифата Омейядов.
В ответ китайцы предоставили убежище Перозу (Фирузу), сыну последнего сасанидского правителя Персии, и поощряли западнотюркские щими оказывать сопротивление новоприбывшим. Однако великому столкновению между двумя титаническими империями, один из которых подмял под себя всю Западную, а другой — всю Восточную Азию, не суждено было состояться. Тан не смогла остановить наступление арабов, а арабы не смогли помешать продвижению Тан. Обе стороны замерли в политической пыльной буре, поднятой тюрками и тибетцами. Когда в 751 г. арабские и танские силы наконец встретились лицом к лицу на реке Талас в Фергане, дело закончилось
350
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
не взрывом, а пшиком. Одержавшие победу арабские и тибетские силы не смогли развить свой успех, а побежденный Китай уже отказался от Ферганы. Единственным проигравшим оказалась всемирная история1.
В 680-х гг. достаточно серьезную тибетскую угрозу решительно отодвинули на второй план вновь возникшие неприятности на севере. Хотя Тай-цзун изгнал Восточнотюркский каганат из Монголии в 630-х гг., в начале 680-х гг. тюрки снова объединились под властью новых энергичных вождей, отказались от статуса протектората Тан и, подобно пчелиному рою, возвращающемуся в знакомый улей, создали Второй тюркский каганат вдоль реки Орхон к западу от современного Улан-Батора во Внешней Монголии. Оттуда они пересекали пустыню Гоби и, почти не обращая внимания на гарнизоны и стены, опустошали китайские провинции Шаньси, Шэньси и Нинся. Новые восточные тюрки потребовали заключить договор о дани и торговле и вернуть переселенцев, осевших в пределах империи. Они подрывали авторитет У Цзэтянь, настаивая, что будут поддерживать отношения только с императором Тан, а не с императрицей Чжоу. Как и сюнну ранее, они имели в своем распоряжении чистокровных лошадей, представлявших большой интерес и для военной конницы империи, и для танского двора, где любили верховую езду. Словом, ими не могли пренебрегать.
Общение, в основном враждебное, но также торговое и дипломатическое, тянулось примерно четверть века. При великом Капаган- кагане (Бёгю, Мочо, пр. 695-716) новый каганат мог соперничать с любым своим предшественником, в том числе с державой шаньюя Маодуня во времена империи Хань. Тюрки требовали от имперского казначейства огромных сумм в качестве отступного. Но все их планы территориального расширения за счет основного Китая решительно пресекались, благодаря усиленным мерам защиты, как в Аньси, и постоянному давлению, которое Тюркский каганат испытывал вдоль своих границ с другой стороны.
1 Танские власти вскоре восстановили свои позиции в регионе. Власть Китая в Центральной Азии рухнула не после битвы на р. Талас, а из-за восстания Ань Лушаня (Рокшана) несколькими годами позже. Пленные китайские солдаты открыли в Самарканде первую к западу от Китая мастерскую по изготовлению бумаги, и именно отсюда она распространилась сначала по Арабскому халифату, а затем попала в Европу.
351
ГЛАВА 9
Это давление, плохо понятное историкам, было хорошо знакомо тюркам — именно оно привело к их собственному внезапному появлению два века назад. Способность Северо-Восточной Азии к демографическим потрясениям снова заявила о себе. Словно извергаясь из этнических гейзеров где-то на границе Сибири, Маньчжурии и Монголии, целое новое поколение странствующих народов начало прокладывать себе путь в историю.
Их имена появляются в летописях в середине VII века. Чаще всего упоминаются кыргызы, уйгуры и кидани. За ними, в свою очередь, пришли чжурчжэни, монголы к маньчжуры. Подобно сюнну и сяньбэй, они опирались на поддержку родственных этнических групп, образуя смешанные народности, чью идентичность диктовала языковая принадлежность правящих кланов. Поначалу слабо дифференцированные, они обретали характерные особенности после того, как выходили на арену Китая и начинали неуклонно переписывать его историю. Их влияние вряд ли можно переоценить. В XIII веке путешественник (в частности, Марко Поло) мог искренне считать, что Gpe- динное царство на самом деле называется «Катай» (слово возникло благодаря гегемонии киданей), что его возрождение — дело рук монгольских правителей и что «хан» (то есть каган), как в имени Хубилай- хана, — традиционный титул китайского императора. Фатимидский Египет, увиденный глазами франкского торговца пряностями, производил точно такое же путаное впечатление — за исламским настоящим и греко-римским прошлым нелегко было разглядеть наследие фараонов.
Из всех новоприбывших дальше всех от центра находился тюркоязычный народ кыргызов1. Они сыграли в делах Срединного царства лишь эпизодическую роль. Уйгуры, также говорившие на тюркском языке, поначалу следовали аналогичной траектории, но вскоре этот воинственный народ втянули в борьбу за господство над монгольской степью. У Цзэтянь пыталась склонить их на свою сторону в борьбе с возрожденным Восточнотюркским каганатом и положила начало длительной связи между уйгурами и Тан. Союзники- уйгуры в дальнейшем оказали немалую помощь Сюань-цзуну в его
1 Родиной енисейских кыргызов считается Тува, но к описываемому времени они уже многие века обитали преимущественно в Минусинской котловине.
352
Внутренние водные пути были основными торговыми и транспортными артериями императорского Китая. Великий канал (вверху) — серия каналов, соединяющих дельту Янцзы с Хуанхэ и Пекином, — все еще широко используется. Его прорыли при правителе империи Суй Ян-ди (604- 617), а затем постоянно перестраивали и расширяли. Гребные суда (с двумя или двадцатью гребными колесами, см. слева) были разработаны во времена империи Сун в XII веке. Именно к этому периоду относится свиток «На реке в день праздника Цинмин» (iвнизу), на котором изображена бурная торговля на берегу реки
Нанкин на Янцзы впервые стал столицей при основателе всекитайской империи Мин Хунъу (пр. 1368-1398). Массивные стены и монументальные ворота долгое время сохраняли статус наиболее обширных городских укреплений в Китае
Великая Китайская стена, как видно сегодня в окрестностях Пекина {внизу), сооружена в эпоху империи Мин (1368-1644). Более ранние стены из утрамбованной земли {ханту) предшествовали знакомым нам укреплениям из камня и кирпича, буквально усеянным башнями и датируемым XVI веком, когда при императоре Ваньли разрабатывались планы развертывания войск вдоль стены (наподобие того, что изображен вверху)
Вероятно, именно бело-голубую глазурованную цинбайскую посуду (вверху) в XIII веке называл фарфором Марко Поло. Он сообщил, что его «экспортировали по всему миру». К XVII веку еще больше возрос иностранный спрос на раскрашенную бело-голубую утварь из фарфоровой столицы Цзиндэчжэнь (Цзянси), подобные изображенной слева вазе эпохи Мин (ок. 1630)
Шелковый настенный свиток Сюй Яна под названием «Вид на столицу с высоты птичьего полета», 17б7г. Впервые признанный столицей всего Китая монгольской империей Юань, Пекин сохранял первенство в течение большей части периода Мин и всей эпохи Цин. Картина была создана для иллюстрации одноименной поэмы, написанной императором Цяньлуном (пр. 1735-1796)
Слева: эта написанная маслом ок. 1755 г. картина, на которой изображен монгольский вождь Дабачи, приписывается живописцу и иезуиту Жан-Дени Аттирету. Иезуиты приобрели значительное влияние при дворе империи Цин, художники которого охотно перенимали европейские приемы перспективы и затенения
Гравюра с изображением монгольской армии с артиллерией, установленной на верблюдах. В войне за контроль над Западной Монголией и Тибетом ок. 1688-1697 гг. император Канси и его джунгарско-монгольский противник Галдан установили пушки на верблюжьих спинах
Первый император Цинь совершал инспекционные поездки — это был обычай, возрождавшийся всеми последующими империями всякий раз, когда позволяли условия. Последние императоры эпохи Цин увековечивали свои путешествия в виде повествовательных свитков. Некоторые из этих свитков достигали пятидесяти метров в длину. Здесь изображена сцена поклонения местного населения во время путешествия императора Канси (под зонтиком) на юг в 1689 г.
Императора Цяньлуна несут наверх в церемониальный шатер в Чэндэ для приема послов, привезших дань. Среди них делегация от Георга III во главе с лордом Джорджем Макартни (весь в кружевах и перьях, крайний справа). Хотя его миссия была наиболее продуманной из всех отправленных английским правительством, предложения Макартни были отвергнуты
Портреты цинских императоров в парадных одеждах почти в натуральную величину (в данном случае изображен император Цяньлун) иллюстрируют глубокое чувство имперского самосознания. Они писались группами придворных художников для создания образа невозмутимого достоинства и непререкаемой власти
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
запутанных отношениях с Восточнотюркским каганатом. В 745 г., когда каганат пал, именно уйгуры заняли его место в Монголии, основав, по сути, уйгурский Третий тюркский каганат (Уйгурский каганат). Это государство еще раз оказало неоценимую помощь Тан в час величайшей нужды, но, спасая династию, уйгуры по крайней мере дважды опустошили империю. Третий каганат просуществовал почти сто лет (745-840), после чего уйгуры окончательно рассеялись; многие из них постепенно переселились на запад в Синьцзян, где и остались.
Иначе обстояло дело с киданями. Они говорили на «протомон- гольском языке с тюркскими заимствованиями» и в культурном отношении принадлежали к «тюрко-монгольской» группе. Откуда они пришли и что, кроме словарного запаса, у них было общего с более поздними монголами, неясно. Но они были известны китайцам с III века, а к VII столетию обосновались на границе Маньчжурии и Монголии. В 648 г. Тай-цзун по горячим следам своего неудачного вторжения в Корею добился от них изъявления номинальной верности. Но в 695 г., когда у императрицы У Цзэтянь были связаны руки тибетцами и Капаган-каганом нового Восточнотюркского каганата, они неожиданно восстали. Для их усмирения были отправлены две имперские армии, одной из которых командовало весьма внушительное количество (двадцать восемь) военачальников, а в другой насчитывалось двести тысяч солдат. Обе армии были наголову разбиты близ того места, где сейчас стоит Пекин. Затем кидани прекратили наступление и разбили лагерь в северном Хэбэе. Это был, пожалуй, самый серьезный из множества кризисов, отметивших царствование У Цзэтянь. Тем не менее императрица, несмотря на свои годы, справилась с ним «со спокойствием и решимостью, которые заслуживают немалого восхищения» [21]. От Капагана удалось откупиться. Более того, его убедили оказать императрице помощь против киданей. Были предприняты решительные усилия по увеличению численности войск, и в 697-698 гг. кидани были наконец побеждены. Хотя они отступили, после долгих переговоров согласившись считать себя союзниками, и признали сюзеренитет императора в правление Сюань-цзуна в 714 г., это было не последнее, что о них слышали. Кидани продолжали тревожить Китай более ста лет, а в X веке стали одним из основных претендентов на власть в стране.
353
ГЛАВА 9
ПОДОБНО ДЫХАНИЮ ВЕСНЫ
Они поклялись уничтожить кочевников, не жалея себя,
Пять тысяч в соболях и парче поглотила варварская пыль.
Жаль их — эти кости у берегов безымянной реки - В мыслях тех, кто мечтает в весенних покоях, они еще живы! [22]
В стихотворении «Песня о Лунси» (Лунси назывался отдаленный форпост в западной Ганьсу) живший в IX веке поэт Чэнь Тао показывает, какой ценой было куплено расширение империи, противопоставляя суровое забвение пограничных районов теплым воспоминаниям о родине. Поэзия, как и официальные возражения чиновников, могла выражать протест, и поскольку поэты воспитывались в конфуцианской системе образования, они нередко критиковали в своих произведениях сумасбродные военные авантюры.
Ни при одной династии не было столько известных поэтов, как при Тан. От эпохи Тан до нас дошло около пятидесяти тысяч стихотворений и имена более 1400 известных поэтов. Как минимум двое из них — Ли Бо (701-762) и Ду Фу (712-770) считаются, каждый по-своему, непревзойденными мастерами. Творчество Ли Бо, «Моцарта слова» и «китайского Байрона», отличалось большей разносторонностью [23]. Вероятно, в 751 г., когда армии Тан были побеждены с одной стороны царством Наньчжао в Юньнани, а с другой — объединенными силами арабов и тибетцев на реке Талас в Фергане, он написал плач под названием «Бой к югу от Великой стены». В нем старый участник военной кампании рассказывает, как они с товарищами пересекли Тянынань и поили лошадей в «Парфянских морях», как они сражались на северной границе в прошлом году, а в этом году воевали в Синьцзяне1. Врагу, как всегда, нечего терять, «сражениям и маршам нет конца», мечи звенят, лошади, потерявшие всадников, «жалобно ржут», люди гибнут, хищные птицы клюют их внутренности и разносят останки по иссохшим деревьям.
1 Сам Ли Бо не воевал на северной границе и вообще не служил в армии, но с центральноазиатскими владениями Тан его связывали глубоко личные отношения, ведь он, как считается, родился в Суябе (Суйе), одном из китайских форпостов в Чуйской долине (территория современной Киргизии).
354
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
Степные травы Пыльные лежат.
А полководец - Кто он без солдат?
Лишь в крайности Оружье надо брать,—
Так мудрецы
Нам говорят опять1 [24].
Поэзия способна раскрыть настроения и события, ускользнувшие от неповоротливых официальных историй. Но она не так легко распространяется. Помимо трудностей перевода и проблем, связанных с передачей рифмы, тонального ритма и игры слов, китайская поэзия требует от читателя гораздо больше, чем поэзия любой другой культуры. Поэты писали друг для друга, а не для неопределенной широкой публики, отделенной от них пространством и временем. Сочинение было важнейшей частью учебного плана конфуцианцев, и особенно экзамена на степень цзиныии, поэтому все образованные люди, стремившиеся к высокой должности, были поэтами и могли оценить виртуозное владение словом. Стихосложение было «приятным искусством для личного и общественного пользования», хорошо знакомым просвещенной, разборчивой и умеющей воспринимать аллюзии знати. Более того, особенность китайской поэзии заключалась в передаче не только образов, которые вполне могли сохраниться даже при самом грубом переводе, но и состояния поэта, тонкой смены его настроений. По словам Стивена Оуэна, «научиться быть хорошим читателем китайской поэзии — такое же высокое искусство, как быть хорошим поэтом» (изречение, вполне применимое к китайской истории и изучающему ее историку) [25].
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Сюань-цзун, на чье сорокапятилетнее царствование (712-757) пришелся величайший расцвет поэзии Тан, тоже был известным поэтом. Вдобавок он был музыкантом, актером и знатоком множества других искусств. Среди талантов, пользовавшихся его щедрым покровительством, был и поэт Ли Бо. «Высокая Тан» — так называли период царствования Сюань- цзуна — стала настоящим золотым веком, художественный и космо¬
1 Перевод А И. Гйтовича.
355
ГЛАВА 9
политический блеск которого уравновешивался относительным покоем на просторах обширной империи. Тон задавал Сюань-цзун. Но поэзия была обязана ему и в другом смысле. Примечательным образом его царствование и особенно его развязка подарили китайской культуре, пожалуй, один из самых ярких трагических сюжетов.
Сначала все шло хорошо. В первые десять лет новая власть могла поспорить с утопическими ранними годами Тай-цзуна, следующие три десятилетия она продолжала соответствовать самым благоприятным ожиданиям. Образованный и располагающий к себе двадцатисемилетний Сюань-цзун взошел на престол в 712 г. после беспорядочного эпизодического правления Чжун-цзуна и Жуй-цзуна (сыновей Гао-цзуна и У Цзэтянь) при кровопролитии, к счастью, довольно скромном по стандартам того времени. Более-менее компетентных министров У Цзэтянь, многие из которых лишились должностей в промежуточный период, снова призвали на службу. Самый влиятельный из них, Яо Чун, фактически продиктовал условия, при которых согласен был приступить к работе — это была программа из десяти пунктов, перечислявшая все самое дорогое сердцу конфуцианского чиновника, которая должна была надежно удерживать императора в состоянии у-вэй. Согласно этой программе, больше не должно было быть никакого внутреннего террора, военных приключений, юридического иммунитета для императорских фаворитов, вмешательства в политику со стороны жен императора и их родственников, а также евнухов, принцев крови в центральном правительстве, пожертвований последователям буддизма и даосизма и, конечно, мести министрам, высказывающим протесты и возражения.
Император согласился и до смерти Яо Чуна в 721 г. более или менее выполнял свое обещание. Административные нарушения и громоздкий бюрократический аппарат, характерные для правления У Цзэтянь, были устранены, строительство монастырей запретили, около тридцати тысяч буддийских монахов лишили духовного сана как уклоняющихся от налогов; придворных, жен и евнухов не подпускали к политике; на границе император усиливал гарнизоны, которые основала У Цзэтянь. Эти гарнизоны, расположенные в девяти областях под руководством постоянных военных губернаторов, назначенных из центра, укомплектованные в основном цзянъ-эр (буквально «крепкие ребята» — солдаты на постоянной службе, в основном неханьцы), приобрели черты профессиональной армии. Между
356
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
тем в отношении своих неугомонных соседей император проводил в целом примирительную политику, чему во многом способствовала смерть Капаган-кагана в 716 г. и смута в Восточнотюркском каганате.
Однако приток средств в казну не восстановился. Наоборот, расходы возросли, а фальшивомонетчики беззастенчиво пользовались положением. Следуя У Цзэтянь, Сюань-цзун завел привычку регулярно переезжать из Чанъаня в Лоян и обратно. До 736 г. он перебирался в новую столицу десять раз, в среднем примерно раз в два года. Финансовые и трудовые затраты на поддержание двух столиц и переезды всего двора и правительства между ними были колоссальными, но, согласно некоторым мнениям, это поведение диктовалось экономическими соображениями. Очевидно, созданная при суйском Ян-ди система каналов была недостаточно эффективной, чтобы долгое время обеспечивать одну столицу. Двор должен был переезжать, поскольку принятое при дворе демонстративное избыточное потребление быстро истощало запасы продовольствия и предметов роскоши в окрестностях. Между двумя столицами была протоптана трехсоткилометровая тропа нищеты, и когда император куда-то выезжал, например в Шаньдун в 725 г., чтобы совершить ритуальное жертвоприношение на горе Тайшань, его огромная свита прокатывалась по стране, словно стая саранчи.
Дефицит доходов можно было устранить, фактически обложив налогом все подлежащие налогообложению хозяйства. Для этого нужно было перерегистрировать те семьи, которые переехали на другое место, продали землю, были освобождены от уплаты или иным образом исчезли из списков, и одновременно с этим принять меры для дальнейшего предотвращения подобных действий. С этой целью были введены поощрения для перерегистрировавшихся (например, шестилетняя отсрочка выплат в обмен на скромный авансовый платеж), а также штрафы за уклонение от регистрации. Согласно проведенным проверкам по состоянию на 726 г., количество зарегистрированных домохозяйств возросло до семи миллионов и продолжало расти, достигнув восьми с половиной миллионов в 742 г. Учитывая, что к одному домохозяйству стандартно приписывали пять человек, можно заключить, что общая численность населения составляла сорок два с половиной миллиона человек, но, несомненно, многие подданные остались незарегистрированными. Налоговые поступления возросли, казна пополнилась, и Сюань-цзун смог отказаться от пер¬
357
ГЛАВА 9
воначальной экономии и начать масштабную программу укрепления границ за счет киданей, тибетцев и зарождающегося царства Нань- чжао в провинции Юньнань.
Однако реформы вызывали много вопросов. Недовольство выражали не столько те, кого заново внесли в реестры (судя по всему, они от этого только выиграли), сколько местные заинтересованные лица, которые использовали прежнюю ситуацию, чтобы облагать незарегистрированных подданных налогами в собственную пользу, выкупать их имущество или иным образом лишать их угодий и плодов их труда. Это позволяло накапливать значительные земельные владения, и, естественно, главными держателями недвижимости были те самые должностные лица, которые должны были обеспечить регистрацию. Когда около 740 г. условия регистрации смягчили и ввели новую политику, установившую налоговые квоты для каждой префектуры, а не для каждого домохозяйства, недобрые старые времена вернулись. Крупные поместья положили конец системе «равных полей» — наследию Северной Вэй, при которой каждое домохозяйство имело право на пожизненную аренду фиксированного участка земли. Система уже давно страдала от злоупотреблений. В частности, нередко нарушалось условие о передаче по наследству плантаций тутовых деревьев (без этого деревья, на которых кормились шелкопряды, вряд ли стоило сажать). Все больше полей и шелковичных плантаций прикрепляли к крупным имениям, таким образом уменьшая фонд доступных для перераспределения земель. Данные из Дуньхуана показывают, что участки «равных полей» значительно сократились; в области с ограниченным сельскохозяйственным потенциалом они, возможно, никогда не были достаточно большими, чтобы поддерживать многочисленные домохозяйства. По сути, система рушилась, и государство уходило от прямого распределения земли так же, как от прямого взимания налогов.
Меньше вопросов вызывало решение транспортной проблемы. Ею занялись в 730-х гг., дополнив существующую систему новыми каналами и проведя крайне необходимое техническое обслуживание старых каналов. Поскольку навигация зависела от подъема и спада уровня воды в промежуточных реках, караваны барж, везущие налоговое зерно с Янцзы, могли добираться до Хуанхэ целый год. Долгие стоянки на пути следования и сопутствующие хищения, порча зерна и текущие расходы приводили к тому, что к месту назначения баржи
358
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
иногда прибывали пустыми. Чтобы исправить положение, была опробована система посменной работы с более короткими речными переходами между промежуточными точками хранения запасов. Была проведена реорганизация зернохранилищ и введено подрядное управление баржами. Эти и другие меры произвели желаемый эффект. Приток продовольствия в Чанъань существенно возрос: «Реформа оказалась настолько успешной, что не было необходимости разворачивать ее в полную силу» [26].
Таким образом, в 736 г. двор перестал переезжать с места на место и обосновался в Чанъане. Город стал бесспорной столицей империи Тан. Грандиозный архитектурный план, разработанный при суйском Вэнь-ди, обещал сделать его самым большим городом в мире. Теперь, когда его население выросло до двух миллионов человек, Чанъань стал самым густонаселенным городом в мире. Но самой удивительной его особенностью был космополитизм. В портовых городах, таких как Гуанчжоу на юге и Янчжоу в дельте Янцзы, тоже существовали крупные общины торговцев и моряков из Аравии, Персии, Индии и Юго-Восточной Азии. Но ничто не могло сравниться с огромными рынками и дворцовыми церемониями в Чанъане. В город непрерывно вливался поток иностранцев. Купцы и данники, беглецы и дипломаты, заложники и пленники, миссионеры и чудотворцы, артисты и искатели удовольствий прибывали к городским воротам со всех концов Азии. Шкурки соболей и горностаев из Сибири продавались рядом с гвоздикой и мускатным орехом из восточной Индонезии, перец и павлиньи перья из Индии соседствовали с ладаном и миррой из Хадрамаута, кораллами и стеклянной посудой с берегов Средиземного моря.
В то время в моду вошло литературное развлечение наподобие салонной игры в слова: оно заключалось в составлении списков, предпочтительно остроумных, на самые разные темы, например «двусмысленности», «то, что вызывает раздражение», «оплошности поведения в обществе» и т. д. Среди таких списков были «аномалии», или «явственные противоречия» (их сочинение приписывают тайскому поэту Ли Шанъиню). В списке противоречий были как очевидные примеры («неграмотный учитель»), так и не столь однозначные («дедушка, посещающий куртизанок»). Весьма красноречивый пример — «непьющий чела» (чела — прислужник и ученик буддийского монаха) — позволяет заключить, что пьянство и буддизм нередко шли
359
ГЛАВА 9
рука об руку Но первое место в списке занимает «бедный перс» — самый убедительный пример явного противоречия для Китая в начале IX века [27]. Чанъаньские персы и их согдийские коллеги никогда не были бедными. Они рассчитывались наличными. Сухопутная торговля с тюрками, тибетцами и арабами процветала: персы финансировали ее, а согдийцы ею управляли. На рынках персидские серебряные монеты однозначно предпочитали нередко обесцененным медным деньгам — это был доллар своего времени.
Среди интересов танских ценителей прекрасного на втором месте после поэзии и связанных с ней каллиграфии и живописи стояли предметы иностранного происхождения. В списке на тему «экзотика», если бы такой существовал, вероятно, первое место занимали бы лошади, а затем иностранные ереси. Говорят, что Тай-цзун был лучшим наездником своего поколения, а Сюань-цзун в молодости был отличным охотником. Учитывая, что предки дома Ли и других северных аристократических семей не так давно вышли из степи, неудивительно, что они сохранили страсть к чистокровным лошадям, стрельбе из лука и соколиной охоте. Ежегодно с императорских конных заводов присылали для военной и церемониальной службы десятки тысяч строевых лошадей (когда удаленные от центра конюшни попадали в руки врагов, лошадей приходилось покупать по завышенным ценам у тюрок). Игра в поло, еще одно заимствование из Персии, обрела большую популярность при дворе, заинтересовала художников и стимулировала торговлю низкорослыми лошадьми. Однако всеобщими любимцами по-прежнему оставались знаменитые кони Ферганы и Центральной Азии. Они отличались исключительной красотой и быстротой бега, кроме того, причудливо одетые конюхи обучали их занимательным трюкам. Лошади изящно гарцевали, словно соблазнительные танцовщицы Центральной Азии, которые «порхали в платье из прозрачной ткани» и очаровывали поэта Ли Бо смехом, «подобным дыханию весны». Под конец выступления эти скакуны могли даже согласиться на угощение: обнюхав кубок вина изящными ноздрями, они без посторонней помощи осторожно поднимали его зубами и выпивали залпом.
Поток новинок из Согдианы, Персии и других дальних стран не прекращался. Блюда и ткани, фасоны одежды и макияж, песни и танцы — во всем проявлялось общее увлечение экзотикой. По императорским зверинцам бродили причудливые животные. На ба¬
360
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
зарах никого не удивляли длинноносые купцы с густыми рыжими бородами. Китайцы с интересом пробовали незнакомые ароматы и прислушивались к жалобным звукам чужеземных инструментов, особенно лютни из Кучара. Но самое пестрое многообразие царило в области вероисповедания. Одновременно с исламом в Китае появилось христианство несторианского толка, манихейство, зорбаст- ризм (маздаизм) и даже иудаизм. Приход новых религий был отмечен стелами; последователям каждого вероучения император определил собственные места для богослужений. Были известны случаи перехода из одной веры в другую. Несторианство в Китае еще процветало, когда францисканцы и доминиканцы привезли в XIV веке католичество. Уйгуры в Монголии, пережив период увлечения буддизмом, в основной массе приняли манихейство, а после переселения в Синьцзян обратились в ислам1, таким образом завершив доктринальную одиссею, которая могла соперничать размахом с их географическими похождениями.
Не были забыты и контакты с Индией. Монахи и торговцы путешествовали туда и обратно, принося новые тексты, порядки и метафизические и научные задачи. Тантрический буддизм и эзотерические доктрины, из которых развился чань-буддизм (или дзэн-буддизм), нашли немало сторонников в правление Тан2. Большой научный интерес вызвали индийская математика и аюрведическая медицина, а пришедшая из Индии игра в шахматы имела такой успех, что ее включили в учебную программу академии Ханьлинь. Китайские художники с удовольствием изображали индуистских божеств, причем делали это в изначально гибридном стиле. Ярчайший пример меж- культурного обмена приводит Эдвард Шефер, великий ценитель ценителей прекрасного эпохи Тан: китайский живописец изобразил юную певичку в образе индуистской богини в сцене, иллюстрирующей буддийскую притчу [28].
1 Обращение турфанских уйгуров в ислам — дело более позднего времени, оно произошло примерно в XV веке, когда все остальные оазисы Восточного Туркестана пали под давлением мусульманских воинов-гази. До того уйгуры в основном были буддистами, хотя в Турфане долго (до XIII-XIV веков) существовала и манихейская община, а часть уйгуров исповедовала несторианство.
2 Чань-буддизм (более известный под японским наванием дзэн) появился задолго до Тан, во времена раздробленности. Бодхидхарма, основатель учения и его первого монастыря — Шаолиня, прибыл в Китай в конце V века.
361
ГЛАВА 9
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Иностранцы находились под пристальным наблюдением. Для торговли им требовалась лицензия, и селиться они должны были отдельно. Несмотря на повальное увлечение всем иностранным, в эпоху Тан над чужеземцами по-прежнему посмеивались и нередко относились к ним с оттенком презрения. Привычка не могла заглушить опасения. Составляющие незначительную часть населения люди не- ханьского происхождения тем не менее пользовались огромными преимуществами. Опасность капитуляции империи перед иностранцами, обосновавшимися внутри оной, иногда казалась более серьезной, чем опасность капитуляции перед иностранцами, осаждающими ее границы, и это действительно было так. Все эти убеждения сыграли свою роль в великом бедствии середины VIII века — восстании Ань Лушаня. Непревзойденное в веках великолепие царствования Сюань-цзуна ожидал скорый конец, после которого империя погрузилась в затяжной упадок Виной тому было одно из величайших потрясений в истории Китая.
О восстании Ань Лушаня много писали, и все же многое пока остается необъясненным. Возможно, в длительное царствование Сюань- цзуна кризис нарастал постепенно — различные группы правящей знати (успешно сдавшие экзамены, семьи, присвоившие себе монополии на определенные должности, аристократы-землевладельцы и недовольные местные помещики) боролись за министерские должности, одновременно стремясь защитить собственные мелкие интересы. Вместе с тем восстание можно рассматривать как подтверждение того, что стареющий император потерял интерес к управлению государством и поддался причудливым заблуждениям и романтическим фантазиям, сохранив при этом заоблачные притязания. Специалисты по экономической истории ссылаются на совокупность множества причин; официальные истории, как обычно, рассказывают о недоказуемых стихийных бедствиях. Но поскольку восстание было, по сути, фракционным и военным, не имея признаков крестьянского восстания или динамики мессианского движения, его непосредственные причины следует искать в мятежных армиях северо- востока и в беспокойном уме их командира, грозного Ань Лушаня.
Ань Лушань был военачальником танской армии, по происхождению наполовину согдийцем, наполовину тюрком, и занял видное
362
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
положение в 740-х гг.. В конце 730-х гг. при дворе возвысился Ли Линьфу, аристократ с властными манерами и отличными организационными способностями. Пока верный философии у-вэй император изучал тонкости даосизма1 и буддийской мистики, Ли Линьфу вел себя как настоящий диктатор. Обратив свой острый ум к военным делам, он решил еще больше усилить пограничные гарнизоны. На границах были сосредоточены около 85% армии империи, насчитывавшей на тот момент почти шестьсот тысяч солдат. Оглушительные победы над тибетцами в Цинхае и Памире, а также над киданями в Маньчжурии, казалось, оправдывали огромные расходы, которых требовало содержание этой практически профессиональной организации. Но чтобы избавиться от конкуренции тех, кто «был генералом, стал канцлером», Ли Линьфу начал заменять высшее армейское командование военачальниками неханьского происхождения. По его словам, они лучше дрались и не разбирались в придворных интригах, а значит, не представляли угрозы для правительства. Самым заметным среди них был Ань Лушань, грубоватый солдат, который говорил на нескольких неханьских языках, но совсем не знал китайской грамоты и поэтому теоретически не имел права на гражданский пост.
К 750 г. все, кроме одной, главные командные должности оказались в руках иностранцев. Большинство из них были тюрками или частично тюрками (хотя в 751 г., когда арабы одержали победу на реке Талас, войсками Тан командовал корейский генерал). И, наоборот, на другом конце империи, на границах Кореи и Маньчжурии сог- диец Ань Лушань занял самый высокий пост военного губернатора Пинлу. Кроме Пинлу (в провинции Ляонин) он с 745 г. командовал соседним военным округом Фаньян (северная провинция Хэбэй) и с 781 г. — округом Хэдун (северная провинция Шаньси). В 752 г. один из родственников Ань Лушаня получил командование над двумя следующими приграничными зонами. Таким образом, «вся северная
1 На время правления Сюань-цзуна приходится пик покровительства трона даосизму. Династия Ли, считавшая Лао-цзы своим предком, и раньше благосклонно относилась к этому учению, но именно во времена Сюань-цзуна храмы Лао-цзы были возведены во всех крупных городах империи, жертвы ему стали обязательными наряду с жертвами предкам царствующего дома, а «Дао дэ цзин», комментарий к которому написал сам император, вошел в программу государственных экзаменов.
363
ГЛАВА 9
граница от Ордоса до Маньчжурии оказалась под контролем семьи Ань» [29].
Несмотря на периодические военные неудачи, Ань Лушань, похоже, пользовался большой популярностью среди солдат. Благодаря северо-восточному ответвлению Великого канала они были лучше обеспечены, чем их товарищи на западе, и, возможно, даже способствовали некоторому повышению уровня жизни на заброшенном северо-востоке. Кроме того, Ань Лушаня связывали исключительно тесные отношения с Чанъанем. Надменные манеры Ли Линьфу настораживали, но Ань Лушань проявлял осмотрительность и старался не настраивать его против себя, одновременно завоевывая расположение императора как простой и верный солдат. Классические истории обвиняют его в двуличии. Все придворные лицемерили, но Ань Лушань, притворяясь деревенщиной, вероятно, действовал сообразно новой, довольно игривой обстановке при дворе.
В 745 г. шестидесятилетний Сюань-цзун отвлекся от созерцания даосских неизъяснимых истин и обратил свой взор на фарфоровое совершенство и изысканно округлые формы той, чья красота могла соперничать лишь с ее жизнерадостностью. Это была знаменитая Ян-гуйфэй. Император мгновенно потерял голову. Раньше она была наложницей одного из его сыновей, а значит1, была, вероятно, как минимум вдвое моложе его. Благодаря своему влиянию на императора она вскоре захватила власть при дворе. Под покровительством Ян гуйфэй ее дальний родственник Ян Гочжун стал главным соперником Ли Л иньфу, а после смерти последнего в 752 г. — его преемником на посту министра. Семья Ян теперь стала всесильной.
Поначалу Ань Лушань старался расположить их к себе. Хотя записи за этот период в большинстве своем погибли во время дальнейших беспорядков, а изображение Ань Лушаня в официальных историях выглядит весьма подозрительно, он, судя по всему, купался в императорских милостях. Источники сообщают, что Ян гуйфэй усыновила его; чтобы отметить это, была проведена шуточная церемония, во время которой пятидесятилетнего грузного военачальника, одетого в детскую одежду, искупали в ванне. Это может показаться нелепым, если бы не тот факт, что император пошел еще дальше и назначил Ань Луншаня гуном, а затем ваном — этот титул ранее не давали никому, кроме потомков императора. Если бы Сюань-цзун к тому времени уже не был отцом пятидесяти девяти сыновей, можно было бы
364
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
заподозрить, что Ань Лушаня готовят к престолонаследию. Земельные пожалования, должности и льготы сыпались на него как из рога изобилия. В 754 г., несмотря на неграмотность, его чуть не сделали первым министром. Однако вместо этого ему дали еще одну должность, назначив главным проверяющим императорских конюшен и конных заводов в Ганьсу. Теперь Ань Лушань имел в своем распоряжении не только самый большой в империи фонд рабочей силы, но и контролировал жизненно важное поголовье кавалерийских строевых лошадей.
Источники намекают на кровосмесительную связь между генералом и его приемной матерью, прелестной Ян гуйфэй, но, скорее всего, это не более чем очередная попытка очернить его память. Однако между военачальником и другим членом семьи Ян — главным министром Ян Гочжуном — отношения стремительно ухудшались. Каждый видел в другом единственную серьезную угрозу своему превосходству и интриговал против него. Когда в 754 г. Ань Лушань вернулся в свою ставку в Хэбэе, Ян Гочжун уничтожил всех ставленников генерала при дворе, разогнал его потенциальных сторонников и распустил слухи о восстании. Ань Лушань, опасаясь за свою безопасность, отправился на восток на лодке и по дороге ни разу не сходил на берег.
И все же причина его внезапного превращения из дворцового любимчика в жаждущего мести изгоя остается необъяснимой. Его действия в 755 г. можно истолковать либо как тщательную подготовку к восстанию, либо как отчаянную реакцию на все более зловещие сообщения из Чанъаня. Шпионы из столицы, отправленные для наведения о нем справок, были задержаны или подкуплены, повеления явиться ко двору он отклонял или игнорировал. Когда в конце 755 г. он отказался даже поклониться императорскому посланнику, это было равносильно объявлению войны. В подобных обстоятельствах ханьский военачальник, воспитанный в конфуцианском духе, ответил бы на вызов и встретил последствия или воспользовался привилегией самоубийства. Сын согдийца Ань Лушань не сделал ни того ни другого. Утверждая, что ему приказано избавить империю от далеко не популярного Ян Гочжуна, он во главе своей грозной армии двинулся вперед.
Лоян пал перед мятежниками еще до того, как закончился 755 год. Спешно вызванные армии потерпели поражение, а новобранцы оказались не в силах справиться с ветеранами-^л«ьэ/? и маньчжурскими
365
ГЛАВА 9
(в основном киданьскими) союзниками Ань Лушаня. Но Чанъань и долина Вэйхэ под защитой гор остались под контролем императора. Для их защиты были вызваны пограничные армии из Ганьсу, Синьцзяна и Сычуани. Тюрки, тибетцы, арабы и прочие воспользовались этим отступлением, чтобы захватить все западные приобретения империи. Еще более зловещий вид имел ввод на основную территорию Китая пограничных армий под командованием неханьских командиров, а также одновременное назначение военных губернаторов и ответственных за оборону в центральных провинциях. Вызов, который Ань Лушань бросил власти центрального правительства, обнаружил слабость династии, обрек ее на поиски поддержки у не менее опасных, чем повстанцы, воинских контингентов и ускорил переход власти из столицы в провинции.
756 год принес Ань Лушаню первые неудачи. Силы лоялистов в его тылу почти отвоевали Хэбэй, другие решительно преградили ему путь на юг к Янцзы. В ответ генерал объявил об основании собственной империи. Она получила имя Великая Янь — так с давних времен называли северо-восток, где повстанцы пользовались самой широкой поддержкой. В середине 756 г. император и Ян Гочжун, выведенные из себя этой дерзостью, заставили своих военачальников начать массовую контратаку. Но их силы заманили в ловушку и разгромили. Поражение оставило столицу беззащитной. Когда Ань Лушань двинулся вперед, чтобы взять главный приз, все, кто мог, бежали из великого города.
Я помню, как мы бежали от повстанцев,
Спешили на север опасными тропами.
Ночь сгустилась над дорогой в Пэнъя,
Луна сияла над холмами Байшуй.
Семья бесконечно плелась вперед,
Жалко умоляя о помощи каждого встречного.
Пели птицы в долине звенящими мягкими голосами,
Но мы не видели, чтобы хоть один путешественник
возвращался назад... [30]
Поэт Ду Фу вместе с наследником, будущим Су-цзуном, бежал на север. Если Ли Бо называют Байроном, то Ду Фу был Робертом Бёрнсом, во всяком случае, он тоже многое мог рассказать о жизненных разочарованиях. «Невольно попав в жернова истории», он наблюдал за ее вли¬
366
ВЫСОКАЯ ТАН. 650-755
янием на обычного человека и глубже, чем любой современный ему писатель, смог проникнуть в суть сокровенной трагедии жизни. Способность к сопереживанию и смелое использование языка и композиционных приемов принесли ему мало славы при жизни, но позднее были вознесены на пьедестал как квинтэссенция гуманного позднего конфуцианства. Как и Бёрнс, Ду Фу отражал историю своего времени через обстоятельства собственной жизни. Универсализируя очевидно несущественное, оба поэта наделяли образ культурного героя социальным сознанием, что было по достоинству оценено потомками [31].
Между тем император, прекрасная Ян-гуйфэй и диктатор Ян Гочжун в сопровождении слуг и кавалерийского эскорта бежали в сторону Сычуани. Там была родина семьи Ян; горная тропа через Циньлин, наследница «дороги для каменных коров», должна была задержать преследователей. Приготовления для приема императорской свиты в Чэнду уже были сделаны. Через две недели в месте под названием Мавэй они столкнулись с отрядом тибетских посланников. Тибетцы попросили еды, но то, как Ян Гочжун вел себя с ними, вызвало подозрения у императорского эскорта. Обвиненный в предательстве, Ян Гочжун был избит, а затем убит на месте вместе с членами его семьи.
Император не пострадал во время этих беспорядков, не тронули и Ян-гуйфэй. Но после этого, очевидно для того, чтобы искоренить всех ненавистных Ян, войска потребовали, чтобы император казнил и ее. Рассказывают, что император, не имея сил защитить свою возлюбленную, согласился. Сама Ян-гуйфэй попросила только, чтобы ее не казнили, а задушили шелковым шнурком, что и было исполнено доверенным евнухом императора. Так Ян-гуйфэй перешла в мир духов, не утратив своей красоты, чтобы в конце концов воссоединиться в бесчисленных стихах, пьесах, картинах, песнях и романах с императором, который ее так любил. Романтика переступает границы истории. Нет нужды спрашивать, почему она должна была умереть или почему император, каким бы старым и бессильным он ни был, не смог пройти главное испытание героя — не умер вместе с ней и даже не пытался защитить ее. Потеря преданной ему возлюбленной стала для императора трагедией. С разбитым сердцем великий Сюань-цзун продолжал свой путь в Чэнду, к изгнанию и неизбежному отречению. Он прожил еще пять лет, пережив Ань Лушаня и став свидетелем реставрации Тан. Но ни то ни другое, как гласят хроники, не вызвало у него ни малейшего интереса.
10
Преображение империи
055-1005)
НИЗКАЯ ТАН
С точки зрения изложенной в традиционных летописях истории восстание Ань Лушаня в конце 755г. мало что изменило. Сам Ань Лушань был убит своим сыном в начале 757 г. В том же году официальный наследник Сюань-цзуна Сю-цзун (пр. 756-762) с помощью уйгуров отбил Чанъань. Хотя основанная Ань Лушанем империя Великая Янь продержалась еще несколько лет и успела насчитать четырех императоров — его самого, его сына, военачальника и сына военачальника, ни один из них не правил более двух лет и все, за исключением одного, пали от руки преемника. Исключением стал последний император — его тоже убили, но преемника у него так и не появилось. В 763 г. отрубленную голову этого человека привезли императору Тан в Чанъань, и империя Великая Янь прекратила существование: четыре убийства за восемь лет не располагали к появлению новых претендентов. Видимо, Великая Янь оказалась недостаточно великой для Небесного мандата. Отказавшись от мысли о власти над всей империей, непокорные полководцы и губернаторы Ань Лушаня решили добиваться независимости провинций.
Тем временем Тан, возвратив себе столицу, продолжала восстанавливать ядро империи. В правление нескольких достаточно способных правителей империя существовала еще сто пятьдесят лет. Пять поколений предков Тан (общий элемент цзун в их посмертных именах означает «предок») правили до восстания, после восстания
368
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
их было семь. В отличие от Ранней и Поздней Хань династическая преемственность Тан не прерывалась, оставаясь сравнительно упорядоченной, и ее редко оспаривали. В правление второй половины династии появилось не меньше прославленных ученых, поэтов и художников, чем при первой. Японский паломник Дзикаку-дайси, более известный под именем Эннин, который много путешествовал по Китаю в начале 840-х гг., обнаружил, что дороги здесь безопасны, правительство эффективно, а буддизм распространен повсеместно. Особенное впечатление производило оживление экономики: по рекам и каналам тянулись караваны барж с зерном, солью, углем, древесиной. Торговые и культурные контакты с Центральной Азией продолжали поддерживать через уйгуров, чьи владения тянулись на запад от Монголии до Синьцзяна и Ферганы. Потеря контроля над Западными краями не означала, что присутствию Китая в этом регионе пришел конец: в Турфане и Комуле оставались гарнизонные колонисты, которые вели сельское хозяйство, несли службу под руководством нехань- ских военачальников и составляли вполне влиятельное меньшинство. Посольства с данью прибывали в Чанъань, а морская торговля империи процветала, как никогда1.
Но перемены были. Изменились не только размеры империи, но и внутренняя расстановка сил. Несмотря на ряд военных успехов, Тан не смогла подавить восстание Ань Лушаня и оказалась неспособной контролировать собственные поспешно вызванные войска. В 763 г. боевые действия были приостановлены, но причиной этого стало истощение обеих сторон и стремление к компромиссу. Восставших умиротворили щедрыми амнистиями, подтвердив узурпированное ими право на командование в провинциях и префектурах. Лояльные военачальники, которые воевали против мятежников, ожидали и требовали для себя аналогичных привилегий. И те и другие нередко игнорировали распоряжения императора, пытались объединить находившиеся под их командованием войска и демонстрировали другие признаки независимости. Таким образом, восстановление Тан было куплено ценой частичной потери власти на оставшейся территории империи. Верховная власть теперь зависела от уступок провинциям и от умения играть на противоречиях военных правителей.
1 Во многом из-за угасания торговли сухопутной.
369
ГЛАВА 10
ПРАВИТЕЛИ ПОЗДНЕЙ ТАН в 750-907 гг.
■
750
760
770
780
790
800
810
820
830
Помощь союзников оказалась палкой о двух концах. Вместе с войсками Тан против повстанцев выступали разнообразные тюркские и даже арабские отряды. Однако переломить ситуацию в пользу Тан смогла только опытная конница уйгуров, а уйгуры стоили недешево. Китайскому императору пришлось скрепя сердце признать, что каган обладает равным с ним статусом, и отослать в каганат крупные финансовые и товарные субсидии, а также невесту из императорского рода, несмотря на то что всадники кагана по-прежнему могли разграбить столицу империи, если у них появлялась такая охота, как они сделали в Лояне в 762 г. В летописи «Цзы-чжи тун-цзянь» Сыма 1уан сообщает о десятках тысяч погибших в Лояне и бушевавших несколько недель пожарах. В другом месте взбунтовалась армия из провинции Пинлу (Шаньдун и часть Ляонина). Отправленные на юг, чтобы подавить один из разрозненных очагов мятежей вдоль Янцзы, солдаты Пинлу разграбили крупный торговый город Янчжоу, южную столицу суйского Ян-ди; в числе прочих было убито несколько тысяч иностранных купцов.
Более предсказуемо вели себя старые соперники из-за границы, заявившие о себе в новом качестве. На крайнем юго-западе быстро расширялось царство Наньчжао, составное государство коренных неханьских народов, которые переняли китайские принципы управления, но яростно сопротивлялись вмешательству китайской империи в свои дела. Выступив из озерной столицы Дали, силы Наньчжао заняли большую часть современной Юньнани, а в 763 г. основали вторую столицу, которая позднее превратилась в город Куньмин. Хорошо защищенный озерами и глубокими речными ущельями Юньнани участок был выбран «в силу его стратегического местоположения и способности обеспечивать многочисленное население» [1]. Когда
370
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
слабость Тан стала очевидной, силы Наньчжао проникли к северу от Янцзы в южную Сычуань, к юго-западу — в бирманские государства и на юго-восток — до современной границы Лаоса и Вьетнама.
Всю оставшуюся часть VIII века государство Наньчжао считалось вассалом не китайской, а Тибетской империи. Армия Наньчжао даже поддерживала тибетцев в их неторопливом устойчивом наступлении против Тан. IX век снова привел Наньчжао под власть Тан, но в 8б0-х гг. оно вновь откололось и возобновило продвижение сначала в провинцию Сычуань, а затем на юго-восток. Двигаясь вниз по реке Хонгха (Красной реке), оно объединилось с вечно бунтующими подданными Тан во Вьетнаме и ненадолго захватило эту провинцию. Танский военачальник восстановил власть Китая во Вьетнаме в 864 г., но после того, как империя распалась, вьетнамцы осмелели и сделали еще одну заявку на независимость. На этот раз она имела успех. В 939 г. на севере Вьетнама появилась первая императорская династия, и провинция была для Китая потеряна. Вслед за Кореей это государство, теперь получившее название Аннам, номинально признавало сюзеренитет Китая, когда на него усиленно давили (как, например, французы в XIX веке), но только в самые тяжелые времена (как, например, под властью монголов) оно соглашалось войти в состав Небесной империи. Наньчжао тоже сохраняло свою с трудом обретенную независимость до тех пор, пока его не завоевали монголы, и впоследствии стремилось восстановить ее всякий раз, когда представлялась возможность1.
1 В 937 г. на смену Наньчжао пришла империя Дали (Далит). Если в Наньчжао большинство населения составляли бай и, вероятно, тайцы,, но правили ими и, то Дали управлялось династией китайского происхождения, считавшими себя выходцами из города Увэй провинции Ганьсу.
371
ГЛАВА 10
Но если Наньчжао лишь слегка потрепало границы Тан, то тибетцы откусили от империи немалый кусок. Продвигаясь в Синьцзяне, Ганьсу и Шэньси с такой же быстротой, с какой отступали войска Тан, отозванные для борьбы с Ань Лушанем, тибетцы вскоре оказались в непосредственной близости от Чанъаня. В 763 г. они захватили и разграбили город. Правление Дай-цзуна (762-779) началось с очередного позорного бегства из столицы. В 764 г. Чанъань был отбит, но тибетская угроза сохранялась до конца VIII века. Коридор Ганьсу и императорские конные заводы и пастбища в Шэньси и Нинся оказались в руках тибетцев. В 791 г., несмотря на поддержку уйгуров, последние китайские гарнизоны в западных регионах сдались тибетцам. Новая Тибетская империя оказалась недолговечной, но ее подкосило не возрождение Тан, а собственные внутренние противоречия и давление уйгуров и арабов. Последствия восстания Ань Лушаня, таким образом, означали «конец правления Китая в Восточном Туркестане [Синьцзяне] почти на тысячу лет» [2]. Это отнюдь не лишило Тан рабочей силы и доходов, но отрезало почти половину прежней территории и положило конец китайскому вторжению в Центральной Азии.
На севере защиту длинной монгольской границы от посягательств кыргызов и киданей препоручили дорого обходившимся уйгурам, а на северо-востоке — непокорным преемникам основанной Ань Лушанем Великой Янь. Восстание началось на севере Хэбэя, и там, как и в соседних районах Шаньси, Хэнань и Шаньдун, дух сопротивления оказалось невозможно сломить. Фактически на следующие четыре с половиной века, с 755 г. до появления монголов, северо-восточные провинции (включая ту, где сейчас находится Пекин) стали зоной автономного правления, периодически обретавшей черты соперничающей империи. Здесь Тан и ее преемники могли претендовать на сюзеренитет, но не имели реальной власти.
После восстания военачальники Ань Лушаня на северо-востоке получили титулы губернаторов провинций. Это подразумевало легитимность, но едва ли сдерживало их стремление к независимости. Они не отсылали в Чанъань никаких налогов, кроме случаев, когда им нужна была поддержка Тан, и тогда делали это лишь в форме дани. Они сами назначали или выбирали себе преемников и редко откликались на призывы императора о военной поддержке. По некоторым данным, местный сепаратизм уходил корнями в конец VI века и не¬
372
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
довольство, вызванное поражением северо-восточной Северной Ци от рук северо-западной Северной Чжоу. Возможно, правление военных губернаторов пользовалось в народе популярностью, поскольку уклонение от централизованной уплаты налогов облегчало нагрузку на простых земледельцев.
Продемонстрировав тонкое историческое чутье, военные правители северо-востока вернулись к доимператорскому периоду Сражающихся царств. С императором их связывали отношения свободного вассалитета, как это было при Позднем (Восточном) Чжоу в Лояне; как встарь, они соперничали за гипотетический статус ба («гегемона» или «защитника» власти государя). Ань Лушань возродил на северо-востоке древнее название Янь: его преемники видели много общего между требованиями Тан и претензиями Первого императора Цинь во время первого объединения Китая. Как сказал один встревоженный правитель в 782 г.: «Воинственный, самовластный и наделенный всеми талантами, которые позволили Цинь Ши-хуанди и ханьскому У-ди уничтожить независимых правителей, император Тан намеревается опустошить Хэбэй и лишить его провинции права передавать командование по наследству» [3].
Императором, о котором шла речь, был Дэ-цзун (преемник Дай- цзуна, пр. 779-805), и он действительно пытался «опустошить Хэбэй». Но он преуспел не больше своих предшественников. В сущности, второе нападение Тан на северо-восток в 780-х гг. только укрепило там феодальные порядки. Военные губернаторы объявили себя царями и, снова взяв пример с эпохи Сражающихся царств, назвали свои уделы Ци, Чжао, Вэй и Цзинь. В 805 г. посланник императора в Юйчжоу на севере Хэбэя встретился с местным царем-губер- натором и нашел, что тот держится с подобающим почтением, но в остальном ничуть не похож на чиновника. Он носил «красный тюрбан на голове, черные штаны и сапоги, слева на поясе меч, справа лук и колчан стрел» [4]. Придворными церемониями на северо-востоке интересовались мало — в почете были воинские ценности.
Не исключено, что танские лоялисты в Чанъане тоже нашли в отсылках к периоду Сражающихся царств кое-что полезное. Ограниченной в полномочиях Поздней Тан долгое царствование ослабленной Позднего (Западного) Чжоу (около 770-250гг. до н.э.) давало прецедент, позволяющий сохранить репутацию и оставаться у власти на неопределенно долгий срок Однако если судить по тому,
373
ГЛАВА 10
как часто эту идею пытались опровергнуть, «многие действительно признавали, что Китай в конце VIII века вступил в эпоху феодальной раздробленности, подобную эпохе Позднего Чжоу» [5]. Неолегист Ду Ю, страстный поклонник тоталитарной реорганизации государства Цинь, предпринятой Шан Яном в IV веке до н. э., составил сводную историю государственных учреждений, в которой решительно выступал против ослабления центральной власти. Возможно, феодальные княжества приносят выгоду своим феодальным правителям, писал он, но военные округа под непосредственным управлением императора приносят намного больше пользы простым людям. В начале IX века реформатор Хань Юй, чьи рассуждения предвосхитили неоконфуцианство эпохи Сун (960-1226), яростно критиковал феодальную раздробленность и правление военной аристократии. И то и другое он называл недопустимыми средствами достижения цели, чуждыми традициям Хань (как в этническом, так и в имперском смысле) симптомами ползучей «варваризации».
Итак, северо-восток был практически потерян, а верность правителей провинции Сычуань вызывала много вопросов. Ось империи переместилась с северо-запада к юго-востоку, примерно по линии Большого канала или, дальше на запад, реке Ханьхэ. На одном конце оси среди холмов, окаймляющих долину Вэй в Шэньси, находилась столичная область Чанъаня, которая давала Тан сильную, освященную традициями базу. Но она не отличалась самодостаточностью и, будучи уязвимой для нападения извне (например, тибетского), требовала концентрации военных сил, а также дружелюбия уйгуров. На другом конце оси Янцзы в нижнем течении приносила обильные урожаи и доходы, от которых зависело существование режима. Таким образом, выживание Тан непосредственно зависело от контроля над этой важной осью. Поэтому сепаратистские настроения здесь безжалостно подавляли силой оружия, а продуманно расположенные на берегах каналов гарнизоны удерживали северо-восточных царей-гу- бернаторов на приличном расстоянии.
Для всего этого требовались надежные войска и доходы. Чтобы помешать созданию собственных феодальных княжеств военными губернаторами, Тан пыталась заменять их гражданскими администраторами или наблюдать и по возможности контролировать их через дворцовых евнухов. Гражданские администраторы имели не слишком большой успех. Один книжник-бюрократ, с головой погру¬
374
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
женный в тактику конфуцианских Вёсен и Осеней, решил воскресить древний обычай и запрячь волов в боевые колесницы для устрашения закаленных в боях всадников Ань Лушаня; с тем же успехом можно было вывести триремы против дредноутов. В 821 г. другой гражданский губернатор привел в оцепенение весь северный Хэбэй: он прибыл в паланкине, осквернил гробницу Ань Лушаня, прикарманил военную казну и позволил своей свите высмеивать одетых в штаны солдат, называя их неграмотными мятежниками. «Он не понимал обычаев страны, — говорит официальная история Тан, — и в конце концов люди Ци [такое название носило это «царство»] больше не могли сдерживать свой гнев. Они сообща возмутились и бросили [губернатора] Чжан Хунцзина в тюрьму» [6].
Но в целом политика восстановления гражданского управления была небезуспешной, особенно на фоне серьезной военной угрозы. В третьем, и последнем, наступлении Тан против повстанцев волевой Сянь-цзун (пр. 805-820), совершив ряд набегов в провинциях Сычуань, Чжэцзян, Хэбэй и Шаньдун, ближе всего подошел к восстановлению центральной власти. В результате к 820 г. власть во всех провинциях, кроме трех северо-восточных, получили губернаторы, прямо назначенные или действующие с одобрения Чанъаня. Однако успех Сянь-цзуна был непрочным, губернаторы могли изменить своему слову или, как в случае с бестактным Чжан Хунцзином, их могли сместить собственные подчиненные. Несмотря на доблестные попытки восстановить централизацию, усилия Сянь-цзуна в конечном итоге лишь приостановили децентрализацию.
Однако, с точки зрения конфуцианцев, даже это было омрачено тем, что император для достижения своих целей прибегал к поддержке евнухов. Евнухи были незаменимыми наперсниками, послами и осведомителями императора. Они хранили верность только своему повелителю, и через них он мог лично проводить политику, против которой возражали его советники-министры. Дворцовая гвардия под руководством евнухов защищала Тан в темные дни изгнания в 756 и 763 гг. и составляла костяк личной армии императора. Впоследствии евнухов-наблюдателей отправляли шпионить за военными губернаторами, сдерживать их и по возможности занимать их место в качестве военачальников. Одни евнухи были образованными, другие имели способности к военному делу, и всем им без исключения молва приписывала талант плести интриги. Но для возвысивше¬
375
ГЛАВА 10
гося через экзамен бюрократа и для привычного к государственной службе аристократа евнухи оставались презренными выскочками и хнычущими паразитами. Поскольку большинство из них были невольниками, захваченными во время облав в глухих районах Фуцзяни и гуанси, для пуриста-конфуцианца, такого как Хань Юй, они были еще одним «варварским» элементом, не менее коварным, чем неуправляемые уйгуры и возмутительно богатые персы.
Соперничество в рядах администрации было не менее острым, чем на просторах империи, — между гражданскими лицами и военными, аристократами и бюрократами, дворцом и двором, буддистами и конфуцианцами. Пожалуй, самым известным произведением Хань Юя стала его обличительная речь 819 г. против буддизма и даосизма. Тогда речь запретили, но в 843 г. У-цзун (пр. 840-846) ввел драконовские меры против буддизма, после которых буддийская церковь так и не смогла полностью восстановиться. Паломничество японского монаха Эннина, очевидно, совпало с этим эпизодом; по его мнению, гонения против буддизма были тесно связаны с конфуцианской борьбой против некоего евнуха, покровительствовавшего буддистам. Ничто не могло сравниться с накалом соперничества между дворцовыми евнухами и всеми теми, кто по каким-либо причинам считал себя придворными по праву.
Хотя запрет вскоре сняли, жестокое преследование буддийских общин в 843-848 гг. принесло не меньше страданий, чем Культурная революция. Тысячи монастырей были закрыты, двести пятьдесят тысяч монахов и монахинь лишены духовного звания, при этом некоторые из них покалечены или убиты. Эннин изображает У-цзуна как даосского фанатика и отмечает, что от его действий пострадали не только буддисты — гонениям подвергались манихеи, несторианские христиане и зороастрийцы. Однако он признает, что императором двигали в равной мере идеологические и экономические соображения. Закрытие монастырей позволило конфисковать их постройки, вернуть в собственность государства обширные земельные угодья, перевести множество послушников и иждивенцев в ряды налогоплательщиков и работников, и самое главное, переплавить огромное количество золотых, серебряных и медных статуй, чтобы поддержать неустойчивую государственную валюту [7].
Набор и снабжение армий, содержание гарнизонов и выплаты уйгурам — или предотвращение их вторжения-исхода, когда в 840 г.
376
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
Уйгурский каганат был изгнан из Монголии кыргызами, — ложились тяжким бременем на имперское казначейство. В бесконечной борьбе Поздней Тан за возвращение империи пополнение казны было и средством, и целью. В разгар восстания Ань Лушаня, когда налоговые поступления практически не доходили до Чанъаня, решили снова ввести отмененную ранее монополию на соль и железо. Монополия на железо отсылала к прецеденту времен Хань и контролировалась не слишком последовательно, но производство соли полностью взяли под государственный контроль. Был введен огромный налог на соль и учреждена специальная комиссия для сбора налога и обеспечения монополии. Поскольку районы добычи соли и руды сравнительно легко контролировались, инициатива принесла мгновенный успех. К 770-м гг. половину дохода империи обеспечивала соль. Принцип монополии распространили на другие товары, в первую очередь на алкоголь, затем на чай, который выращивали главным образом на склонах Фуцзяни и Сычуани. Чай приобрел популярность с середины VII века и в то время пользовался большим спросом у уйгуров и тибетцев. Основанная в Янчжоу на юге комиссия по монополиям, укомплектованная новым классом торговых специалистов, выросла в финансовое ведомство, способное соперничать в смысле карьерных возможностей с традиционной бюрократией. Комиссия также породила процветающий круг лицензированных оптовых торговцев и еще один круг — нелицензированных контрабандистов.
Катастрофические пробелы в регистрации домохозяйств в результате восстания Ань Лушаня плохо сказались на старой системе налогообложения, в основе которой лежала перепись населения и землевладений. В 780 г. на смену ей была введена система двойного налога, которую «в целом считают одним из главных событий в экономической истории Китая». В сущности, это просто означало, что теперь в некоторых районах налоги взимали в одно время года, а в других — в другое, но в большинстве мест сбор производили дважды в год, поздней весной и во время сбора урожая. Ничего революционного не было и в системе квот, когда центральное правительство обсуждало налоговые обязательства каждой провинции с местными властями и больше не принимало в сборе налогов никакого участия. Новизна заключалась в налоговой оценке, которую давали в соответствии с уровнем благосостояния, а не с количеством членов домохозяйства, рассчитывали частично в денежном эквиваленте (хотя собирали
377
ГЛАВА 10
в основном натурой) и распределяли согласно устоявшимся в данной местности традициям. Другими словами, система признала несоответствия, которые сложились до и после восстания, и, «отказавшись от всякого притязания на уравнительность... молчаливо приняла существующее налоговое неравенство» [8].
Неравенство существовало как между отдельными районами, так и между сборщиком налогов и налогоплательщиком. Поскольку цены на зерно в начале IX века резко упали, все, кто должен был выплачивать налоги зерном в денежном эквиваленте, обнаружили, что с каждым годом их задолженность растет. Не в силах исполнить эти требования, крестьяне тайком уходили, оставляя соседей распределять между собой бремя их выплат, либо пополняли ряды наемных рабочих; и в том и в другом случае их владения поглощали крупные поместья. Между тем система давала провинциальным властям немало возможностей для злоупотреблений: они могли перераспределять сборы по своему усмотрению или просто удерживать налоги, собранные для центрального правительства. Сянь-цзун пытался решить эту проблему, заново определив границы существующих провинций и договорившись о квотах непосредственно с префектурами. Но это так и не смогло покрыть стоимость его военных авантюр, а при его преемниках любые попытки сократить численность войск вызывали мятеж
Сопротивление стало нарастать сразу после смерти Сянь-цзуна в 820 г. Крестьянские восстания и бунты в войсках, таинственные террористические акты и крупные организованные операции контрабандистов в середине века были обычным явлением. Вооруженные контрабандисты передвигались по воде и по суше, больше всего в районе Янцзы и на юге — тех областях, от которых зависела устойчивость правительства. В 856 г. охваченный волнениями юг «почти мгновенно превратился из одного из самых стабильных регионов в один из самых взрывоопасных» [9]. Три года спустя группа разбойников из Чжэцзяна, невзирая на все попытки подавить их (в области остро не хватало войск — на северо-востоке это позволяло заранее предотвратить проявления вольнодумства), призвала на помощь другие банды, бродячих крестьян и притесняемых чиновников и вскоре собрала хорошо организованную армию из тридцати тысяч человек Чтобы победить их, пришлось вызвать из Вьетнама закаленного в боях военачальника и прислать с севера войска, среди которых была уйгурская конница, впервые ступившая южнее Янцзы.
378
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
Вслед за тем в 860-х гг. вспыхнула череда военных мятежей, поводом для которых послужило требование дать отпор войскам Наньчжао во Вьетнаме. В 868 г. батальон, стоявший в Гуйчжоу, отказался повиноваться приказам и двинулся домой на север, в Хэнань. Мятеж снова удалось подавить только после переброски с севера значительных сил, среди которых на этот раз было множество тюрок1. Их командир, также тюрк, в награду получил фамилию танских государей — Ли; его сын Ли Кэюн стал главным претендентом на власть в последние дни Тан, а его внук положил начало одной из множества династий, правивших после Тан.
Великое восстание, охватившее всю страну и окончательно подорвавшее власть Тан, во многом напоминало два предыдущих восстания. Оно началось в 870-х гг. среди разбойничьих банд на западных границах Шаньдуна. Вскоре к ним присоединился человек, ставший в итоге предводителем восстания, — младший чиновник из Шаньдуна по имени Хуан Чао. Восстание распространилось на запад и угрожало Лояну, затем двинулось на юг и дошло до середины Янцзы. Бунты в имперских войсках и разногласия среди командиров сыграли на руку мятежникам; провинциальные столицы были разграблены; почти во всей центральной части Китая администрация рухнула. Крупная победа Тан в 878 г. подстрекнула Хуан Чао к одной из самых возмутительных выходок в истории. Вернувшись в Шаньдун, он повел своих людей на юг к дельте Янцзы, перешел по горам из Чжэцзяна в Фуцзянь, а затем отправился по самым непроходимым местам страны в сторону великих портовых городов Фучжоу и Гуанчжоу (Кантон) — и оба разграбил. Источники сообщают, что в Гуанчжоу было убито 120 тысяч человек — более половины населения города. В отчетах, достигших Персидского залива, говорилось об огромных убытках, которые понесли арабские, персидские и индийские купцы.
В 879 г. Хуан Чао снова повернул на север. Предвосхищая долгие переходы тайпинских повстанцев в 1851-1853 гг. и Великий поход коммунистов в 1934-1935 гг., он сделал крюк на запад через Гуйчжоу и вернулся к среднему течению Янцзы. В этих блужданиях была своя логика: как Мао Цзэдун, Хуан Чао превратил тактическое отступление в политический триумф. Правительство истолковало его движение на юг как отступление — действительно, за тридцать месяцев пути
1 Этих тюрков китайские источники именуют гиато.
379
ГЛАВА 10
(поход Мао продолжался только тринадцать месяцев) Хуан Чао неоднократно искал средство получить помилование. Но переговоры каждый раз заканчивались ничем, и это заставляло его настойчиво повышать свои требования. После того как он снова пересек Янцзы, его целью стал Чанъань, а мишенью — придворные, евнухи и сама империя Тан. Различные недовольные стекались под его знамена, разочарованные командиры Тан не препятствовали его продвижению. Осуществив почти чудесный побег из богатой дельты Янцзы, в 880 г. измотанные долгими походами повстанцы наконец явились в Лоян. Они взяли город почти без сопротивления — так велики были царившие в империи смятение и беспорядок. Затем, проведя в непрерывных походах почти три года и пройдя за это время 4800 километров, они ворвались в долину Вэй, чтобы захватить Чанъань.
Си-цзун (пр. 873-888), как почти все последние императоры Тан, своим восшествием на престол был обязан евнухам. И, как его великий предок Сюань-цзун, теперь он в сопровождении евнухов бежал в Сычуань. В начале 881 г. Хуан Чао с триумфом вошел в город и сначала собирался демонстративно основать собственную династию. Но его войска вышли из повиновения. Не в первый раз величайший город мира был разграблен, а его дворцы сожжены. Горожане присоединились к бойне, по улицам текли реки крови. «Плач госпожи Цинь», длинное стихотворение Вэй Чжуана, который сам немало пострадал от мятежников, но позже занял видное положение в провинции Сычуань, рисует сцены разрушения, людоедства, насилия, бессмысленных жестоких убийств в духе ряда поздних картин Гойи. Стихотворение, скрытое самим поэтом, считалось утерянным до тех пор, пока четырнадцать его копий не обнаружили среди документального клада, вывезенного Марком Аурелем Стейном из Дунь- хуана в начале XX века. Очевидно, оно в свое время задело за живое многих.
Последние императоры Тан: И-цзун, Си-цзун, Чжао-цзун, Чжаос- юань-ди (Ай-ди) — царствовали как марионетки и гибли как пешки в военных играх своих потенциальных преемников. История последних дней Хань повторялась: императорские регалии бесцеремонно перевозили из одного места изгнания в другое, Чанъань полдюжины раз переходил из рук в руки, все больше обесцениваясь с каждым новым захватом, евнухи были перебиты. X век стал зарей очередной эпохи раздробленности.
380
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
ПЯТЬ ИМПЕРИЙ ИЛИ ДЕСЯТЬ ГОСУДАРСТВ
Теоретически правление Тан продолжалось до 907 г.; после этого официальные истории неохотно признают пришествие Поздней Лян. Поздняя Лян (907-923) была творением рук одного из бывших сподвижников вождя повстанцев Хуан Чао. Этот человек, беспощадный тиран, дисциплинировал свои войска, подвергая солдат татуировке (так было легче обнаружить перебежчиков), и казнил всех, кто потерпел поражение или потерял командира в бою. Несмотря на эти убедительные стимулы, Поздняя Лян сумела продержаться всего шестнадцать кровавых лет, после чего ее сверг тюркский военачальник Ли Кэюн, чей отец помог Тан в 860-х гг.
ПЯТЬ (СЕВЕРНЫХ) ИМПЕРИЙ, 907-960 гг.
Поздняя
Лян
Поздняя
Тан
Поздняя Поздняя Поздняя Цзинь Хань Чжоу
910 920 930 940 950 960
Эта новая империя (923-937), о легитимности которой должно было свидетельствовать то, что император Тан наградил предка его основателя своим личным именем — Ли, также назвала себя Тан и утверждала, что восстанавливает власть Тан. Она возобновила начатую Тан борьбу с северо-восточными царями-губернаторами в Хэбэе и добилась там определенного успеха. Но слишком скоро она уступила место трем сменившим друг друга основателям новых империй, из которых первые два были тюрками \ и все трое — преемниками ца- рей-губернаторов Хэбэя. Каждый из них принял привычное имперское имя (Цзинь, Хань, Чжоу). Чтобы избежать путаницы, все империи северной группы, правившие после Тан, называются Поздними. Из них складывается последовательность Пяти империй (Поздняя Лян, Поздняя Тан, Поздняя Цзинь, Поздняя Хань, Поздняя Чжоу), которая дала название всему периоду.
1 Они, как и Ли Кэюн, были тюрками-гиато. Это первые в истории Китая империи, чьи правители, признанные позднейшими летописцами вполне легитимными Сынами Неба, не были китайцами (хотя степень китаизации шато- ской знати на этот момент была уже довольно значительной).
381
ГЛАВА 10
Традиционно датируемый 907-960 гг., период Пяти империй закончился, когда последняя из пяти уступила место шестой — воцарившейся на долгое время Сун. Сун удалось воссоединить большую часть империи, и с ее приходом к власти принято соотносить начало новой блестящей эпохи. Но окончательное воссоединение произошло только в 979 г., и до него Сун правила, придерживаясь тех же принципов, что и предыдущие Пять империй. Поэтому правителей Ранней, или Северной, Сун удобнее рассматривать именно в этом контексте — иначе «понимание структуры власти У-дай (“Пяти империй”), а также Сун, будет затруднено» [10].
Но есть еще одна сложность. Поскольку Пять империй выхватывали друг у друга («контролировали» слишком сильно сказано) сравнительно небольшую, хотя и постепенно увеличивающуюся область Северного Китая, принятая периодизация несколько преувеличивает их значение. В других областях происходили не менее важные события. На далеком севере по обе стороны от прежней границы появлялись мощные новые государства: под властью киданей на северо-востоке и тангутов (тибетский народ) на северо-западе; немного позднее эти царства, получившие названия Ляо и Си Ся (Западное Ся), достигли взаимопонимания и превратились в угрозу, предвосхитившую появление чжурчжэней и монголов.
Между тем провинции бывшей империи последовали примеру северо-востока и объявили себя отдельными царствами. Эти соперничающие образования нередко отличались большей устойчивостью, чем владения Пяти империй. Почти все они приняли древние названия. В провинции Сычуань появилось Шу (Раннее, а затем Позднее), в Хунани — Чу, в среднем течении Янцзы — У, и в устье Янцзы — Юэ (позже У-Юэ). Коллективно известные как Десять государств (хотя на самом деле их становилось то больше, то меньше1), они мало изучены. Но термин «Десять государств» используют для обозначения
1 Общее число этих государств составляло примерно два десятка. К перечню, данному на схеме, можно добавить Янь (911-914, г. Пекин), Ци (907- 924, на пересечении пров. Ганьсу, Шэньси и Сычуани), Чжао (910-921, пров. Хэбэй), наместничество Иу (910-928, пров. Хэбэй), наместничество Цинъюань (933-978, пров. Фуцзянь), Цюаньчжанское наместничество (943-978, пров. Фуцзянь), Инь (943-945, граница пров. Чжэцзян и Фуцзянь), Упинское наместничество (950-956, пров. Хунань), Хунаньское наместничество (956-963, пров. Хунань), военный округ 1уйи (848-1036, пров. Ганьсу; в 910-914 — гос-во Цзиньшань, с 914 под властью согдийской (китаизированной) династии Цао).
382
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
периода в целом, и, пожалуй, он создает более точное представление о политической раздробленности того времени, чем сосредоточенные на севере Пять империй.
«История Пяти империй» Оуян Сю, частное сочинение, впоследствии получившее статус официальной истории, изображает эпоху неслыханных предательств и кровопролитий, на фоне которой стремление к единой централизованной империи становится вполне понятным. Раскол на множество суверенных региональных государств обернулся катастрофой. Иностранные вторжения не прекращались, справедливости было не найти. Бедствия росли и ширились, добродетельные люди страдали по вине порочных, на земле воцарилась нищета. «Не следует считать, будто при Пяти империях совсем не было верных людей, — пишет Оуян Сю. — Я нашел троих». «Горестно думать, — жалуется он в другом месте, — что за целых пятьдесят три года в государстве, которым правили пять домов, столь немногие чиновники, имевшие несчастье жить в то время, сохраняли безупречную верность принципам и своему повелителю» [11].
ДЕСЯТЬ ГОСУДАРСТВ ПЕРИОДА ПЯТИ ИМПЕРИЙ
ЦАРСТВО
ПЕРИОД
ПРАВИТЕЛИ
СТОЛИЦА
У
35 лет(902-937)
4 правителя
Янчжоу / Нанкин
Южное Тан
38 лет (937-975)
3 правителя
Нанкин
Раннее Шу
18 лет (907-925)
2 правителя
Чэнду
Позднее Шу
30 лет(935-965)
2 правителя
Чэнду
Южное Хань
54 года(917-971)
4 правителя
Гуанчжоу
Чу
24 года(927-951)
6 правителей
Чанша
У-Юэ
71 год(907-978)
5 правителей
Ханчжоу
Минь
36 лет (909-945)
5 правителей
Фучжоу
Наньпин
39 лет (924-963)
5 правителей
Цзяньлин
Северное Хань
28 лет(951-979)
4 правителя
Тайюань
Следуя образцу хроник Сражающихся царств и постханьского периода раздробленности, «История Пяти империй» Оуян Сю уделяет главное внимание событиям на северных равнинах, бесконечно
383
ГЛАВА 10
перечисляя скучные наступления и контрнаступления, запутанные интриги и жестокие битвы. Это не слишком познавательное чтение порой становится просто невыносимым: количество новых мест и имен на каждой странице способно посрамить даже телефонный справочник. Несомненно, это действительно была трудная эпоха. И все же нам, как всегда, не следует сбрасывать со счетов обстоятельства создания хроники и убеждения их авторов и редакторов.
Историки, официальные и неофициальные, принадлежали к тому классу ученых бюрократов, чьи статус и средства к существованию зависели от власти императора и устойчивости государства. Их считали украшением империи, и они выполняли пропагандистские задачи. Оуян Сю писал при Сун, когда империя была в основном воссоединена. Его рассказ о Пяти империях довольно мрачен, но отчасти это объясняется тем, что так и задумывалось. Принижая раздробленное прошлое, он возвышал объединенное настоящее. Сам Оуян Сю, охарактеризованный одним из переводчиков его труда как «великан среди великанов в интеллектуальном пространстве XI века», возможно, не опустился бы до заискивания перед императором Сун,:но он опирался на материалы, которые собирали люди, осознанно стремившиеся подчеркнуть единственность Сына Неба и неделимость Поднебесной империи. Историографическая традиция неизменно превозносит империю, принижая областное разнообразие.
Это затрудняет ответ на ряд фундаментальных вопросов. Как долго Китай был объединен? В течение какого времени им правили китайцы? Насколько непрерывным является его политическое единство? Ответы зависят от того, что мы понимаем под китайцами и где именно начинается история. Временная шкала империи, основанная на традиционных датах правления каждой китайской династии, предполагает, что «политическая целостность китайского населения... существовала почти три четверти всего времени, прошедшего со времен Первого императора Цинь» [12]. Так написано в превосходном «Культурном атласе Китая», хотя, по мнению «Кембриджской истории Китая», политическая целостность занимает не «три четверти», а лишь «около половины» этого времени. Оба издания подразумевают под «китайским населением» ханьские в этническом и культурном отношении народы, то есть исключают из этой группы всех неханьцев, сыгравших заметную роль в истории страны, а также всех тибетцев, уйгуров и другие меньшинства, которых современное правительство
384
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
тоже считает китайцами. Более того, обе эти оценки заставляют задуматься, почему из общей картины должны быть исключены ранние периоды, такие как эпоха доимператорского государства Чжоу и период Сражающихся царств, более важные для китайской цивилизации, чем греческие и Римская республики для средиземноморской цивилизации. Добавьте их, и период «политической целостности» Китая на фоне отраженной в летописях истории составит не «три четверти / половину», а сократится до одной четверти. Сам Оуян Сю это допускал. Оглядываясь назад с высоты XI века, он находил не слишком много примеров политической целостности.
«С древних времен благое правление было редкой диковинкой, а смута — повсеместным явлением. Государи Т]эех эпох [Ся, Шан и Чжоу] правили сотни лет, но лишь немногие из них заслуживают внимания. Можно ли ожидать большего от поздних времен, не говоря уже о временах Пяти империй!» [13]
Но приведенные оценки могут оказаться еще более ошибочными. Мы уже отмечали, что официальные истории имеют тенденцию преувеличивать — растягивать во времени — сроки правления избранных династий и приписывать им универсальную власть, когда на самом деле ничего подобного не было. Так, империю Тан, существование которой традиционно соотносят с правлением династии Ли (618-907), вряд ли можно считать политически целостной после того, как Хуан Чао захватил Чанъань в 881 г.; перед этим империя три десятилетия провела в глубоком кризисе, не говоря уже о тяжелейшем ударе, нанесенном ей восстанием Ань Лушаня в 755 г. То же касается последнего столетия Поздней Хань. Добавьте сюда Сун, о которой скоро пойдет речь (и которая за полтора века потеряла половину империи), монгольскую Юань (при которой децентрализованная империя стала «конгломератом областей под управлением сильных местных властей» [14]), маньчжурскую Цин (последнее столетие которой тоже представляло собой плохо замаскированный хаос) и Республику XX века (до 1949 г. раздираемую на части военачальниками и японскими захватчиками), и показатели Китая в области политической интеграции под властью ханьцев или неханьцев станут еще менее впечатляющими. Как и в случае с Великой стеной или Великим каналом, эпизодические монументальные достижения здесь преуве¬
385
ГЛАВА 10
личены и связаны воедино, чтобы создать ложное впечатление почти непрерывной преемственности.
Впрочем, все это вовсе не отрицает преемственности политической культуры. Небесный мандат, абсолютное превосходство Сына Неба, концепция Чжунго (будь то «срединные царства» или «Срединное царство»), соблюдение политической иерархии, основанной на конфуцианской морали, и чувство общего превосходства своей культуры над «варварством» нецивилизованных неханьских народов были признаны повсеместно. Политическое объединение неизменно приветствовали, беспорядки междинастических периодов порицали; по словам Оуян Сю, первое было синонимом хорошего правителя, второе — синонимом смуты. Никаких намеков на то, что могло быть иначе, что империя могла быть бременем, а областная автономия — благом, не найдено ни в одном сохранившемся тексте.
Однако современные историки, особенно некитайские, привыкшие к европейской истории политической раздробленности, ставят эту формулу под сомнение1. Они отмечают периодическое возрождение на протяжении всей истории Китая областных образований (Шу, Чу, У и др.), обладавших государственным потенциалом и таких же густонаселенных и самобытных, как любое европейское королевство; они наблюдают за тем, как эти государства каждое по-своему искали способы достижения политического равновесия; они сожалеют о нехватке региональных исторических исследований; и, хотя это совершенно неприемлемо для большинства китайских историков, они интерпретируют фразу «беспорядки междинастических периодов» всего лишь как «пренебрежительное описание многогосударственного порядка» [15]. Централизованное правление они рассматривают как путь к окостенению, а бурные «смутные» времена оценивают как конкурентную динамику, дающую толчок к обновлению общественного устройства, расцвету торговли и всплеску творческой и изобретательской мысли2.
1 Чего не скажешь о прагматичных западных политиках: все попытки сецес- сии штатов (выхода из состава) в истории США безжалостно пресекались. — Прим. ред.
2 Достаточно символично, что золотой век римской литературы пришелся на эпоху правления Октавиана Августа и, следовательно, первые десятилетия существования единой Римской империи. Расцвет немецкой науки связан с единой Германской империей последней трети XIX — начала XX века, а самые
386
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
Действительно, период Сражающихся царств породил «сто философских школ», а период раздробленности создал условия для развития даосизма и великого пришествия буддизма. Период Пяти империй и Десяти государств выглядит слишком коротким и сумбурным для сопоставимых достижений. И все же, если считать, что он покрывает весь период затмения императорской власти между крахом Тан примерно в 850 г. и окончательным триумфом Сун около 980 г., его никак нельзя назвать бесплодным и непримечательным.
Среди архивных сокровищ Дуньхуана, доставшихся Стейну в 1907 г., было найдено множество фрагментов буддийского священного текста под названием «Алмазная сутра». Текст был переведен Кумарадживой около 400 г. и назывался так, потому что обещал тем, кто его постигнет, отсечь все мирские иллюзии, «подобно алмазу». На одном документе — это был полный текст Алмазной сутры, отпечатанный на китайском языке, на семи склеенных в виде свитка листках бумаги (сейчас свиток хранится в Британской библиотеке), — указана китайская дата, эквивалентная 11 мая 868 г. Но вопреки распространенному мнению это, вероятно, не «первая в мире печатная книга». Способ многократно копировать изображения и иероглифы с помощью рельефных блоков, не слишком отличающийся от изготовления отливочных форм для керамических и металлических изделий, был известен в Китае по крайней мере с VHI века. Однако это самый ранний полный печатный текст, снабженный датой. Развитие печати за семь веков до Гутенберга и за одиннадцать веков до первых печатных сочинений на любой из индийских письменностей, несомненно, было самым важным китайским изобретением; в результате в Европе и Индии до сих пор существуют десятки языков и видов письменности, но в Китае только одна. И эта «информационно-технологическая» революция произошла именно в период Пяти империй и Десяти государств. Возможно, появление наборного шрифта также относится к этому периоду, хотя «самый ранний достоверный отчет о его использовании» появился несколько десятилетий спустя, в начале XI века [16].
Это были не просто технические вехи. При Пяти империях появилось первое полное печатное издание конфуцианской классики.
впечатляющие технические достижения английских инженеров — создание дредноутов и трансатлантических лайнеров — с эпохой огромной Британской империи. — Прим. ред.
387
ГЛАВА 10
Оно насчитывало сто тридцать томов, его создание заняло двадцать один год и завершилось в 953 г. Возможность свободно тиражировать и распространять полное собрание классических сочинений сделала для закрепления конфуцианских ценностей и китайской системы письма больше, чем указы любых императоров и воззвания любых ученых1. Честь осуществления первого издания обычно приписывают эксцентричному персонажу по имени Фэн Дао, и можно было бы ожидать, что образованные коллеги будут повторять его имя с благоговением. Однако ничего подобного мы не наблюдаем. В написанной Оуян Сю «Истории Пяти империй» биографии Фэн Дао нет ни среди «Мучеников добродетели», ни среди «Мучеников службы» — она спрятана в разделе «Разное» между историей о туюйхуньском царе, который прыгнул в колодец, и о человеке, который «много хлопотал, но ничего не достиг». Оуян Сю явно не одобрял Фэн Дао.
Дело не в том, что Фэн Дао был «экономным до самоограничения». Долгое время он жил в хижине, вместо матраса спал на соломе и «со спокойным удовлетворением» отдавал все свое жалованье слугам. Попавших в беду барышень, которые встречались ему в бытность первым министром, он селил отдельно до тех пор, пока не удавалось навести справки об их происхождении и незаметно отправить их домой. Он принимал меры против голода, выходил по ночам обрабатывать поля тех, кто пренебрегал этим, и оплакивал смерть своего отца в полном трауре. Он был образцом конфуцианского совершенства во всем — кроме профессиональной карьеры.
Чтобы объяснить свою мысль, Оуян Сю рассказывает случившуюся в тот период историю о женщине по имени Ли. Недавно овдо¬
1 Важным предшественником этого издания были Кайчэнские стелы, созданные по императорскому указу в 833-837 гг. и положившие конец разночтениям в канонических текстах разных изданий. На 114 каменных блоках (которые до сих пор хранятся в музее Бэйлинь в Сиане) нанесены тексты 12 конфуцианских канонов (общий объем текста ок 630 тыс. знаков). Впервые такая попытка была предпринята во времена Восточной Хань (175-183, так называемые Сипинские стелы), когда были кодифицированы семь канонов общим объемом 200 тыс. знаков (на 46 стелах). К сожалению, эти стелы погибли вместе с создавшей их империей. Возможность воспроизводства текста появилась в Китае задолго до книгопечатания: была разработана техника эстампажа (видимо, вместе с изобретением бумаги), позволявшая снимать точные копии с текстов, выгравированных на камне или металле. Таким образом, точные копии с Сипинских и Кайчэнских стел, несомненно, рассылались в немалом количестве по школам и библиотекам империи.
388
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
вевшая Ли возвращалась с малолетним сыном и телом мужа обратно в дом своих родителей. Трактирщик отнесся к ней с подозрением: она путешествовала без слуг, — и отказался пустить ее на ночлег. Но она отказалась уйти, и тогда он взял ее за руку, чтобы вывести вон. Для целомудренной благородной дамы это было слишком. Она схватила топор и, издав долгий вопль, «отсекла себе руку». Как она объяснила потом, прикосновение незнакомца обесчестило ее, и поскольку она «не смогла защитить свое целомудрие», она обязана была отсечь руку, чтобы та не оскверняла больше ее тело. Оуян Сю пересказывает эту историю как классический пример конфуцианского благочестия; сам он употребляет термины, которые можно перевести как «целостность» или «забота о своей репутации» — именно этих качеств прискорбно не хватало Фэн Дао, несмотря на всю его образованность. В конфуцианской системе взаимосвязанных отношений министр должен ревностно хранить верность династии, которой он служит, император должен ревностно хранить верность Небесам, а жена должна ревностно хранить верность мужу. Но вместо того, чтобы со стыдом выйти на пенсию после того, как империя его государя потерпела крах (это была тюркская Поздняя Тан, вторая из Пяти империй), Фэн Дао гордился тем, что смог найти себе место при следующей династии, затем следующей, и следующей.
Фактически он служил при всех Пяти империях, кроме первой, а также короткое время у правителя киданей. Несомненно, его великое издательское начинание требовало, чтобы он всеми силами держался за службу. Но с точки зрения Оуян Сю, а также Сыма гуана, который рассказывает ту же историю в созданном чуть позднее «Цзы-чжи тун-цзянь», Фэн Дао проявил непростительную беспечность. «В мире, омраченном всеобщим разбродом и вторжениями чужеземцев, угрожавших каждой живой душе», Фэн Дао чуть ли не радовался своему вероломству. Он действительно гордился тем, что служил при многих императорах. «Времена всегда представлялись мне удовлетворительными, — писал Фэн Дао в автобиографии. — С возрастом я начал находить удовлетворение внутри себя. Какая радость может быть больше этой?» Почти любая, наверняка фыркнул бы в ответ Оуян Сю. Человек, имевший бесстыдство радоваться чему бы то ни было в эпоху очевидного упадка и разврата, не мог претендовать ни на какую добродетель. Времена отражали достоинство человека, человек отражал, чего стоят времена. Поскольку от погрязшей в беспорядках
389
ГЛАВА 10
империи вряд ли можно было ожидать множества добродетельных свершений, об издательском начинании Фэн Дао Оуян Сю упоминает лишь вскользь [17].
Еще одно полное собрание конфуцианской классики было издано десять лет спустя в Чэнду — столице Шу (Сычуань). «Попечитель этого издания хотел, чтобы его продавали за невысокую цену бедным ученым» [18]. В целом танские литературные и художественные традиции в Десяти государствах чувствовали себя лучше, чем при истерзанных войной Пяти империях на севере. В Ханчжоу (столице У-Юэ, а ныне провинции Чжэцзян) и Нанкине (столице Южного Тан) были впервые напечатаны стихи великих мастеров Тан. В Чэнду в 940 г. опубликовали знаменитую антологию лирических стихов — цы, изначально предназначенных для исполнения под музыку. Название сборника — «Среди цветов» — намекает на общество куртизанок Любовные стихи мечтательной и эротической природы, вероятно, казались Оуян Сю и конфуцианцам следующих поколений типичным продуктом эпохи упадка нравов. Вместо того чтобы превозносить безупречное поведение благородных дам, таких как безрукая вдова Ли, они любовались прелестями пресыщенных блудниц и хмельных красоток Этот сборник с его «любовными утехами за пологом женских покоев» (как это сформулировала британская исследовательница Энн Биррель) недвусмысленно демонстрировал никчемность его авторов, которые могли бы вместо этого найти работу в бюрократическом аппарате и принести пользу «разобщенной и измученной войной стране» [19].
Примерно в то же время, и тоже в прогрессивной Сычуани, появились первые в истории бумажные деньги: торговцы начали выпускать векселя вместо неудобных связок железных и медных монет. Официально подтвержденная и стандартизированная при Сун, эта практика привела к появлению банкнот. Три года спустя Марко Поло писал о деньгах, «сделанных из коры деревьев» — не совсем точно, но хорошо передав недоверчивое изумление иностранца, столкнувшегося с этим знаменательным изобретением. Увидев превращение древесной массы в общепринятое средство обмена, значение которого намного превосходило его объективную ценность, «можно было заподозрить, что Великий хан [Хубилай]... овладел искусством алхимии, — отмечает Поло. — У него столько денег, что на них он мог бы купить все сокровища мира» [20].
390
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
Благодаря этим нововведениям сокровища мира распространялись в Китае свободнее, чем где-либо. В X веке произошла так называемая торговая революция. Чанъань лежал в руинах, его улицы зарастали сорняками, и главной столицей Пяти империй севера иногда служил Лоян, но гораздо чаще расположенный несколько восточнее Кайфэн. Позднее Сун официально назначила Кайфэн столицей, и это закрепило перемещение политической точки опоры империи на восток, из обедневшей и уязвимой долины Вэй к более выгодной со стратегической точки зрения местности, позволявшей противостоять вторжению киданей на северо-востоке. По иронии судьбы этот процесс завершился через три столетия переселением центра империи в бывшую столицу киданей, к тому времени ставшую монгольской метрополией — город Даду, позднее известный как Пекин.
Однако Кайфэн не только позволял контролировать важный узловой пункт между Великим каналом и рекой Хуанхэ, — он имел немалое экономическое значение. Став столицей севера, он вырос в город с населением больше миллиона человек, с соответствующими расходами и доходами. Его слабым местом были наводнения (за следующие 750 лет хроники насчитывают 368 наводнений) — такую цену приходилось платить за размещение речного порта на севере. Наряду с полями и посевами и основанной на них старой системой налогообложения и отработок экономику поддерживали деньги и торговля. Более высокие урожаи зерновых, высокая специализация производства (керамика и железные изделия, изготовление бумаги и книгопечатание), дешевый и эффективный транспорт, крупные свободные рынки и рост популярности финансовых и брокерских услуг сделали торговлю достаточно привлекательной, чтобы отказаться от конфуцианских предрассудков, осуждавших получение прибыли за счет плодов чужого труда. Вокруг рынков и паромных портов вырастали города, местные купцы становились местными магнатами. Соляные и чайные монополии (а также связанная с ними контрабанда) повышали государственные доходы и способствовали накоплению личного богатства.
Урбанизация была особенно заметной вдоль Янцзы и на юге; ветер авантюрных предприятий дул из огромных портовых городов внутрь страны. В X веке оборот морской торговли впервые превысил оборот сухопутной. Корабли местной постройки играли все более заметную роль, китайские суда начали совершать регулярные плавания
391
ГЛАВА 10
к материковой части Юго-Восточной Азии, на Малайский архипелаг и, возможно, в Шри-Ланку и Южную Индию. Местные предприниматели вкладывали деньги в торговлю, спровоцировав своего рода коммерческую лихорадку (такая же в XIII веке захватила итальянские портовые города, а позднее Лиссабон и Лондон). Пройдя через устья рек и якорные стоянки от Янчжоу до 1уанчжоу, она распространялась по рекам и каналам. Прибрежные торговые зоны Китая, пока еще неофициальные, не были изобретены в XIX веке иностранцами и тем более в конце XX века коммунистами. Не должен удивлять и выход государства на свободный рынок вопреки установкам традиционной идеологии.
Неизвестно, насколько способствовала этим событиям политическая раздробленность X века, однако войны и беспорядки, о которых сообщал Оуян Сю, однозначно спровоцировали новую волну переселения на юг. Но в этот период мы не находим никаких признаков общего снижения численности населения, как это было в период раздробленности III—VI столетий. Наоборот, в середине VIII века общая численность населения составила около 60 миллионов человек, из которых 60% проживали в бассейне Хуанхэ. К концу X века цифра приблизилась к 100 миллионам1, из которых менее 40% проживали в бассейне Хуанхэ — более 60% теперь обитали в бассейне Янцзы и на юге. Ускоренное территориальными потерями на севере, перемещение на плодородный юг окончательно склонило в другую сторону чаши демографических весов. В период Пяти империй и Десяти государств китайцы выращивали больше риса, чем проса и пшеницы, их зимы были теплее, а лета влажнее, знакомство со степями Внутренней Азии оказалось мимолетным, и они жили не при бурных Пяти империях, а в богатых, но полузабытых историками Десяти государствах.
СУН и ляо
Исторические летописи настойчиво подчеркивают, что на севере правили империи, в то время как в других местах были просто царства или государства; упорное стремление историков возвысить импе¬
1 Только в это время китайской империи впервые удалось перекрыть демографические показатели Западной Хань.
392
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
рию требовало непрерывной династической родословной, способной обосновать легитимность императорской власти. Легитимность власти обычно выражали через Небесный мандат, который, переходя от одной династии к другой, не мог принадлежать сразу двум семьям или приостанавливать свое действие. Претендовать на него могли многие, но обладать Небесным мандатом мог только один. Однако решить, кто именно его достоин, было нелегко. Когда империя Хань в III веке вступила в период Т£юецарствия (разделившись на Цао-Вэй, Хань (Шу) и Сунь-У), проблему удовлетворительно не решили. Но когда в XI веке историки (Оуян Сю, Сыма 1уан и другие) столкнулись с той же проблемой в отношении Пяти империй / Десяти государств, у них было преимущество. Долговечность и высокое положение империи Сун, при которой они жили, сделали ее бесспорной «законной» обладательницей Небесного мандата, что, в свою очередь, обеспечило надежную точку отсчета, от которой можно было оценивать ее предшественников.
Подобно длинным живописным свиткам, которые вошли в моду при Сун и разворачивались таким образом, что первой перед глазами оказывалась последняя сцена повествования, историки выстраивали обратную перспективу. Сун сменила Позднюю Чжоу — следовательно, Поздняя Чжоу была законной империей; Поздняя Чжоу наследовала Поздней Хань — значит, та тоже была законной; Поздняя Хань сменила Позднюю Цзинь — то же самое; и так далее до Поздней Лян, которая свергла неоспоримо законную империю Тан. Линия законной преемственности повторяла очередность северных Пяти империй. Не важно, что большинство китайцев на самом деле жили под властью других, более устойчивых ветвей власти в Десяти государствах. Империя всегда начиналась с севера, успешные династии почти всегда приходили оттуда, и хроники не допускали иного толкования. Исключение сделали лишь для Мин (1368-1644), управлявшей всей империей с юга и то недолго.
Однако у Оуян Сю оставалась одна небольшая сложность: следуя этой схеме, пришлось бы признать легитимной основанную гнусным мятежником Позднюю Лян. Ее правитель не только подвергал татуировке своих солдат (стигма, унизительная как пытка, поскольку она оставалась с человеком даже в загробной жизни) — он вдобавок убил двух императоров Тан и вообще «представлял собой ужасное зло, которое заслуживает искоренения из истории». Ранние летописи того
393
ГЛАВА 10
периода именно так и сделали — искоренили его, то есть фактически сократили Пять империй до четырех. Оуян Сю собирался поступить так Ясе, но передумал. Он уважительно относился к фактам и высоко ставил конфуцианскую практику исправления имен, и в данном случае это значило назвать лопату лопатой. «Открыто признанный порок» должен послужить предупреждением потомкам, считал он, и повысить общую достоверность его летописи [21].
С остальными четырьмя из Пяти империй проблем не возникло. Три из них являлись неханьскими, но в этом не было ничего необычного; всех их основали узурпаторы, но и в этом они не отличались от основателей большинства предыдущих династий. Основателями новых династий были военные губернаторы Тан, и раздробленность вызывало их взаимное соперничество, а не их этническая принадлежность. Чтобы получить власть, любой претендент на трон нуждался в поддержке равных, а значит, ему следовало умиротворить других военных губернаторов обещаниями титулов и земель. Но чтобы править, ему требовалось обуздать своих высокопоставленных и влиятельных союзников и попытаться ослабить их, а это быстро могло окончиться очередным взрывом недовольства. Вырваться из этого порочного круга было трудно; вдобавок войска имели привычку подталкивать своих командиров к престолу. Новой династии предстояло продемонстрировать явное доказательство того, что она унаследовала Небесный мандат, а в те бурные времена это означало расширение своей империи.
Заключив союз с окрепшими киданями, Поздняя Тан (923-936), вторая из Пяти империй, поборола нечестивую Позднюю Лян и удвоила размеры своих владений. Она также ненадолго захватила государство Шу (Сычуань). Еще одна тюркская империя — Поздняя Цзинь (936-946) — добилась гораздо меньших успехов. С самого начала ее правители оказались марионетками киданей и уступили им шестнадцать важных префектур, протянувшихся от современного Пекина до Датуна на севере Шаньси. Кроме того, Поздней Цзинь пришлось признать вождя киданей своим «отцом» и повелителем — так «китайский правитель впервые открыто признал сюзеренитет чужеземной династии» [22]. Небеса немедленно выразили свое негодование чередой стихийных бедствий. В 946-947 гг. кидани открыто заняли Кай- фэн. Это положило конец десятилетию жалкого правления Цзинь — и если предположить, что до этого она обладала Небесным мандатом,
394
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
теперь она явно его лишилась. Поздняя Хань (947-950), также тюркская, вернула Кайфэн и, возможно, отошедшие киданям префектуры. Но через несколько месяцев ее вытеснила Поздняя Чжоу (951-960), пятая из Пяти империй.
Основателем Поздней Чжоу был этнический ханьский китаец, хорошо образованный и во всех отношениях достойный предшественник великой Сун; таким же был его приемный сын и наследник. Как водится, официальные истории утверждают, что оба были отмечены признаками, явно предвещавшими успех. Большая часть Китая к северу от реки Хуайхэ (за исключением северо-востока и шестнадцати утраченных префектур) была снова объединена, а при сыне основателя (Ши-цзун, пр. 954-959) войска Поздней Чжоу вернули две из шестнадцати потерянных префектур и продвинулись на юг до Янцзы. Там одно из самых крупных Десяти государств было вынуждено признать суверенитет Поздней Чжоу. В 955 г. Ши-цзун из Поздней Чжоу почувствовал в себе достаточно сил, чтобы по примеру танского У-цзуна снова разорить окрепшую буддийскую церковь.«Чжунго [то есть Срединное царство Пяти империй] столкнулось с нехваткой наличных денег в то время, — объясняет Оуян Сю, — поэтому было поручено конфисковать все буддийские бронзовые статуи и переплавить их на монеты». Попутно было «уничтожено около 3336 монастырей». Однако сам Ши-цзун отнесся к этому делу довольно легко. По его разумению, Будда не придавал большого значения физическому существованию и принял телесный облик лишь для того, чтобы человечество смогло извлечь пользу из его учения. «Разве, — спрашивал император, — он пожалел бы для нас горстки своих бронзовых статуй?» [23] Эти слова, даже смягченные почтительным изложением и искаженные переводом, показывают, что у императора было чувство юмора.
Великим несчастьем для Поздней Чжоу стала преждевременная смерть Ши-цзуна в возрасте тридцати восьми лет в 959 г. Ему наследовал семилетний сын, но уже через несколько месяцев династии бросил вызов ее самый верный военачальник. Некий Чжао Куанъинь, бесстрашный в бою и искушенный в государственных делах, был тем человеком, который основал следующую династию и стал посмертно известен как сунский Тай-цзу (пр. 960-976). Но в то время он выглядел просто очередным узурпатором. Он был ничуть не знатнее своих соперников, а его перспективы казались такими же зыбкими,
395
ГЛАВА 10
как у пяти эфемерных династий, к которым он собирался добавить шестую. И действительно, его узурпация напоминала, вплоть до мелочей, историю восшествия на престол Поздней Чжоу Он склонил на свою сторону потенциальных соперников, при этом публично объявив себя совершенно недостойным трона. Однако его солдаты и офицеры громко требовали, чтобы он занял трон, а благоприятные знамения решительно указывали на него. Дело окончательно решилось, когда, признавая его превосходные заслуги, мать последнего императора Поздней Чжоу настояла, чтобы ее сын отрекся в его пользу.
При всей предсказуемости этой процедуры она принесла довольно неожиданные результаты. Бросив вызов прецеденту, Тай-цзу, а затем его брат и преемник Тай-цзун (пр. 976-997) не только полностью подавили оппозицию в своей северной империи, но и активно претворяли в жизнь план южных завоеваний, начатых Поздней Чжоу. Одно за другим почти все Десять государств были приведены к покорности, и через тридцать лет империю в основном удалось воссоединить. К чести братьев нужно сказать, что они достигли этого с минимальным применением насилия и попутно успели сделать ряд выдающихся жестов великодушия. Новая династия производила обдуманное впечатление — она обозначала намерения, не провоцируя антагонизм. Правление Сун отличалось поверхностным характером и гораздо большей уравновешенностью, чем правление Тан. Казни и телесные наказания, а также отмщения и чистки устраивали сравнительно редко. Хотя братья-основатели активно вели военные кампании и под их непосредственным командованием находилось около миллиона солдат, они, как позднее их преемники, подчеркнуто придерживались гражданского правления. Вместо того чтобы объявить о введении грандиозного нового порядка, они незаметно манипулировали существующими должностями и обходили бюрократические углы, выстраивая гибкую централизованную систему контроля, способную успешно сопротивляться действию центробежных сил, разрушивших империю Тан. Они занимались мирными искусствами, приближали к себе ученых и окружили императорский титул возвышенной мистикой, которая сдерживала внутренних противников эффективнее, чем угроза карательных экспедиций.
Но в основе всех этих успехов лежал фактор, серьезно омрачивший в глазах потомков ранние достижения Сун, а именно унизительная договоренность с обосновавшимися на северо-востоке
396
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
киданями. Разумеется, она мало напоминала жалкую капитуляцию Поздней Цзинь (третьей из Пяти империй): «сюзеренитет чужеземной династии» был отклонен, а сыновне-отцовская терминология в отношениях с киданями решительно отвергнута, но только для того, чтобы заменить ее братской терминологией. Претензии киданьского кагана, называвшего себя императором, равным Сун, неохотно признали. Стороны обменивались одинаковыми почестями, а выплаты, которые отправляли кагану, по всем признакам, кроме названия, были данью. Таким образом, Китай при Ранней Сун представлял собой аномалию: остатки империи Тан более или менее воссоединились, но император не обладал суверенной властью.
Киданьская угроза висела словно дамоклов меч над Пятью империями все пять десятилетий их непростого существования. Тех, кто осмеливался бросить вызов, этот меч рубил под корень; тем, кто принимал его как должное, он оставлял шрамы. И в том и в другом случае он забирал немалую часть государственных доходов в виде отступного и дани. Ни одна из Пяти империй не нашла удовлетворительного способа борьбы с присутствием киданей в Хэбэе, и это сыграло не последнюю роль в их недолговечности. Между тем при Абаоцзи (пр. 907-947)], харизматическом лидере, чей жизненный путь можно сравнить с путем Чингисхана, кидани расправляли крылья и в других направлениях. Они покорили большую часть Монголии и северных народов за ее пределами, растоптали китаизированное царство Бохай (Парха) на востоке Северной Кореи, подчинили большую часть Маньчжурии и создали гигантскую империю, затмевавшую все остальные империи Восточной Азии, в том числе Чжунго Пяти империй.
Эта киданьская империя известна как Ляо — по имени, принятому преемником Абаоцзи2. Ляо называлось одно из государств периода Сражающихся царств, территориально примерно соответствовавшее центральной области государства киданей; свое название оно изначально получило от протекавшей по его территории маньчжурской реки. К китайской культуре кидани Ляо относились неоднозначно. Они, с одной стороны, считали себя выше ее, с другой — признавали,
1 Его киданьское имя Эйра {кит. Елюй) Апоки.
2 По-киданьски оно называлось Государство киданей (Китай гур) — отсюда русское название Срединного государства.
397
ГЛАВА 10
что она им не чужда. Вместо того чтобы распространять законы степей на равнинах и тем более распространять законы равнин в степях, Абаоцзи ввел совершенно новую систему двойного управления. Северная канцелярия управляла клановым обществом кочевых подданных Ляо в соответствии с традиционными степными законами, в то время как южная канцелярия управляла оседлыми поданными империи, главным образом ханьцами, в соответствии с китайской бюрократической практикой. Первое ведомство располагалось в главной столице, в восточной части современной Внутренней Монголии, было организовано по военному образцу и ведало сбором дани и наступательными операциями. Второе, расположенное в современном Пекине, находилось под руководством ханьских гражданских чиновников, которые должны были взимать как можно больше налогов и следить за выполнением трудовых повинностей. Над обоими ведомствами в двойной ипостаси — кагана на севере и императора на юге — стоял правитель Ляо, место которого в кризисные моменты нередко занимали женщины.
Женщины в кочевых обществах, вероятно, имели больше прав и возможностей, чем их оседлые сестры. Набеги и выпас скота надолго отрывали мужчин от очагов, помолвки были менее формальными, а строгому уединению мешали насущные потребности домашней жизни в степи. Но кидани, в отличие от многих покоренных ими народов, были в лучшем случае полукочевниками. На их родине в Маньчжурии не было открытой степи — господствовали лесистые холмы и пригодные для сельского хозяйства поймы, которые ограничивали скотоводство и локализовали сезонный перегон скота. Бесстрашные всадники, они не проводили дни напролет в седле, а ночи в палаточных лагерях. Как и среди их соседей-тангутов в центральной Шэньси, тенденция к матриархальному правлению, по-видимому, была не столько наследием степной жизни, сколько попыткой правящего клана установить регулярную систему престолонаследия. Вместо племенных советов и испытаний силы, с помощью которых традиционно решали вопрос правопреемства в степных конфедерациях, Ляо стремилась навязать систему передачи власти от отца к старшему сыну, чтобы поддержать свой императорский статус и концепцию наследуемого Небесного мандата. Их кочевые подданные нередко ее оспаривали, особенно когда долговечность Ляо оказывалась под вопросом и трон переходил к младшему сыну. Но такие случаи откры¬
398
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
вали перед действующими и вдовствующими императрицами источник почти неограниченной власти, которую они сохраняли и после того, как император достигал совершеннолетия.
Как раз такая ситуация сложилась в критические годы на рубеже X-XI веков, когда Сун, разделавшись с Десятью государствами юга, переключила внимание на киданьскую империю Ляо, стремясь вернуть себе северо-восток и завершить воссоединение империи. В 979 г. недавно взошедший на престол Тай-цзун захватил часть Шаньси, куда отступила Поздняя Хань (четвертая из Пяти империй), и попутно нанес тяжелое поражение армии Ляо, отправленной на помощь этому заблудившемуся во времени анклаву. Успех воодушевил Тай-цзуна, и вопреки всем предостережениям он двинулся дальше и вторгся на территорию Ляо. Его измученное войско пришло в столицу Ляо (современный Пекин) плохо подготовленным, страдая от нехватки продовольствия. Там его разгромили. Огромное количество добычи и оружия было потеряно. Сам Тай-цзун бежал с поля боя на телеге — самая позорная участь для императора.
Через два года император Ляо умер в результате несчастного случая на охоте. Его сменил одиннадцатилетний Шэн-цзун (пр. 982-1031). Почувствовав возможность отомстить, Тай-цзун снова перешел в наступление. Но он недооценил военные навыки и огромную силу воли киданьской вдовствующей императрицы. В 986 г. государыня Чэн- тянь лично вывела на поле боя армию киданей и трижды одержала победу над армиями Сун. Последовало десятилетнее затишье, прерываемое лишь пограничными столкновениями, а затем Тай-цзун умер. Его преемнику Чжэнь-цзуну (пр. 997-1022) мешала не столько молодость, сколько суеверный склад характера, граничивший с робостью. Пришла очередь Ляо нападать.
К 999 г. киданьские армии ежегодно опустошали территорию Сун к северу от Хуанхэ. Хотя Шэн-цзун уже достиг совершеннолетия, его мать продолжала руководить государством, и в 1004 г. снова командовала одной из киданьских армий, которая в ходе полномасштабного вторжения направилась в столицу Сун Кайфэн. Кидани быстро достигли Хуанхэ и остановились ниже Кайфэна в месте под названием Шаньюань. Казалось, решающая битва неизбежна. Но за линией наступления киданей лежали по-прежнему сильные и незахваченные города, а перед ней собиралась огромная армия Сун. У обеих сторон были причины избегать битвы, исход которой был далеко не ясен;
399
ГЛАВА 10
обе стороны пользовались услугами ханьских посредников, которым они доверяли. Результатом (крайне редким в отношениях между ханьцами и неханьцами) стал договор с честно оговоренными условиями, не омраченный никакими хитростями, который на следующие сто лет упорядочил отношения Сун и Ляо.
Ляо потребовала уступить ей ряд стратегических территорий, в то время как Сун искала признания своего сюзеренитета. Обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Вместо территорий Ляо получала выкуп наличными — ежегодную выплату в размере двухсот тысяч кусков шелка и ста тысяч лян (2,8 т) серебра, а также подарки сопоставимой стоимости по особым случаям (Новый год и день рождения императора Ляо). Сун расценила это как свой триумф: выплаты были сущим пустяком по сравнению с общим доходом империи, к тому же киданям пришлось отдать гораздо меньше, чем с опаской ожидали китайцы, и наверняка меньше, чем потребовалось бы для продолжения военных действий. Но не все разделяли эту точку зрения. Несогласные считали, что выплаты киданьской империи Ляо и аналогичные выплаты Тангутскому государству на северо-западе пробивают огромную брешь в экономике Сун. Однако недавно было высказано предположение, что оборот торговли Сун и Ляо, условия которой определялись мирным договором, намного превышал стоимость выплат, и поскольку кидани использовали полученные средства для того, чтобы покупать экспортные товары Сун, большая часть этих средств так или иначе возвращалась в экономику Сун.
Сохранив за собой территории, Сун определенно потеряла лицо. На двусмысленном дипломатическом языке выплаты киданям были представлены как «военные издержки», однако кидани рассматривали их как дань, и именно данью — поскольку они были невзаимными, продолжительными, и в 1042 г. их сумма существенно увеличилась — они, безусловно, были. Используя терминологию родства, знакомую обеим сторонам, Сун признавали Ляо своими братьями (хотя и младшими братьями); таким образом, вдовствующую императрицу Чэнтянь император Сун должен был называть тетушкой. Вероятно, по аналогии с системой двойного правления Ляо было условлено считать Великое государство киданей Северным двором, а государство Северной Сун — Южным двором. Вместе они якобы составляли в остальном целиком фиктивное имперское образование. То, что целью обеих сторон был мирный раздел, а не конкурентное
400
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ. 755-1005
объединение, ясно из других положений договора. Обе стороны обязались избегать дальнейших боевых действий, а также обозначить и взаимно соблюдать границу. Демаркация была проведена по всей шестисоткилометровой линии границы от самых западных берегов Желтого моря близ современного Тяньцзиня до самых северных районов бассейна Хуанхэ к западу от Датуна. «Создание действительной международной границы в современном смысле слова», столь непохожей на провокационные и неэффективные укрепления «Великой Китайской стены», было «беспрецедентным событием в истории Китая» [24].
По сути, Шаньюаньский договор, принятый в 1005 г., заставил с горечью признать, что империя может разделиться и что кидани и другие неханьские правители тоже могут иметь какую-то легитимную генеалогию — своего рода мандат на «все, кроме Поднебесной». Несмотря на то что китайские историки никогда не удостаивали этот неханьский мандат официального признания, он переходил от одного правителя к другому и передавался из одной династии к другой. Его обладатели, хорошо разбиравшиеся в устройстве ханьской государственности, вполне понимали его суть и значение, и если бы их историю писали их собственные летописцы, а не ханьские ученые, в ней наверняка нашел бы отражение переход неханьского мандата от киданей к чжурчжэням, от чжурчжэней к монголам, а от монголов к маньчжурам (Цин), — и к этому времени можно было бы утверждать, что в столкновении мандатов победила отнюдь не Хань.
Если бы кидани и чжурчжэни были кочевыми скотоводами Монголии, а не полуоседлыми народами Маньчжурии, можно было бы поддаться соблазну назвать его Степным мандатом. Можно даже проследить его движение через уйгуров и другие тюркские народы к сяньбэй и сюнну. Но это значило бы пренебречь еще одной важнейшей особенностью гибридных новых империй севера. Хотя они отличались подвижностью, традициями согласования преемственности и воинственной этикой племенных конфедераций старых времен, теперь они могли вдобавок похвастаться учреждениями, достижениями и идеологиями, которые позволяли им создавать такие же сильные и устойчивые государства, как Сун. Так, все они имели или разрабатывали собственную письменность, записывали свои законы и чеканили монету. И большинство придерживалось религиозных практик буддизма — универсального вероучения, в котором можно
401
ГЛАВА 10
было найти концепции государственности и источники престижа, не омраченные ханьским конфуцианством.
Поэтому историю Китая после 950 г. полезно рассматривать как двустороннее повествование. Его линии расходятся и сходятся, многократно переплетаясь между собой. Историки Китая традиционно представляют эти контакты как односторонние, в ходе которых не- ханьские северные правители постепенно перенимали высокие культурные нормы коренных ханьских жителей юга. Но доказательства того, что кидани, чжурчжэни, монголы и маньчжуры прекрасно понимали, какие опасности таит в себе процесс, который с их стороны выглядел ползучей китаизацией, говорят об обратном. Конечно, неханьским правителям, чьи подданные в подавляющем большинстве были ханьцами, приходилось идти на компромиссы и даже на уступки. Но точно так же приходилось искать компромиссы их ханьским помощникам и подчиненным, если они хотели добиться успехов на службе. Если каганы перенимали имперский протокол, то императоры перенимали диктаторские манеры каганов. Бюрократы делали шаг в сторону, военачальники делали шаг вперед. Империя переживала радикальные изменения.
11
Шаг назад
(1005-1235)
ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЛОГО И ВЫСОКОГО
До сравнительно недавнего времени международная шумиха вокруг открытий, сделанных на Шелковом пути иностранными археологами — японцами, а также европейцами (Марк Аурель Стейн и блестящий французский ученый Поль Пеллио1), — несколько заслоняла собственную археологическую традицию Китая. В китайской культуре, где истории придавали такое большое значение, физическое возвращение прошлого воспринималось почти как чудо. Расшифровка древней надписи или находка старинного артефакта связывали правителей настоящего с прославленными династиями прошлого и укрепляли их авторитет. Вынесенные селем бронзовые сосуды эпохи Шан превращали дурное предзнаменование (наводнение) в свидетельство благосклонности Небес. Найденная статуя Будды повышала престиж и указывала на глубокие корни буддийского вероучения в Китае. Точно так же открытие терракотовой армии Первого императора вскоре после Культурной революции было воспринято некоторыми как благоприятный знак, подтверждающий, что Мао Цзэдун — известный поклонник авторитарных порядков Первого императора — идет верным путем. На всем протяжении истории Китая
1 Немалую роль в упомянутых открытиях сыграли и русские экспедиции — прежде всего две (в 1909-1910 и 1914-1915 гг.) под руководством непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга.
403
ГЛАВА 1 1
благоговение перед стариной вдохновило множество подражаний древним жанрам в стихах, прозе и живописи, выработало придирчивое отношение к подлинности текстов, способствовало регулярному возвращению архаичных элементов дизайна и, конечно, породило немало подделок.
Широкий интерес к археологии впервые возник в эпоху Сун. Оуян Сю, известный реформатор и покровитель искусств, автор «Истории Пяти империй», поощрял археологические исследования в XI веке. В начале XII века супруги Чжао Миньчэн и Ли Цинчжао собрали и классифицировали обширную коллекцию предметов старины, которую затем описали в работе, посвященной надписям на камне и бронзе и опубликованной в 1120-х гг. Пока их интеллектуальную идиллию не оборвало вторжение чжурчжэней в Кайфэн в 1127 г., чиновник и ученый Чжао отвечал за финансовую и научную сторону дела, а Ли, выдающаяся поэтесса и критик, была его музой и помощницей. Считается, что эта увлеченная пара, работавшая за триста лет до того, как Ренессанс пробудил интерес к подобным изысканиям в Европе, «предвосхитила современные стандарты хранения археологических находок» [1].
Отправка находок ко двору императора давала отличный шанс продвинуться по карьерной лестнице, поэтому чиновники в провинциях специально искали всевозможные древности. Так же поступали местные знатоки старины — духовные лица и миряне. Приписав мещанскую невежественность даосскому монаху Ван Юаньлу, который первым обнаружил клад текстов в Дуньхуане и пытался сохранить его, когда появился Аурель Стейн, европейский археолог, вероятно, изрядно покривил душой. Ван понимал, с чем он расстается, когда наконец согласился продать часть сокровищ Дуньхуана, и сделал это только потому, что ему нужны были деньги для восстановления храмов; возможно, он поверил, что Стейн действительно собирается вернуть архив в Индию, откуда предположительно пришли эти документы. Несмотря на многочисленные случаи умышленного и неумышленного уничтожения древних предметов и рукописей, китайцев никак нельзя обвинить в безразличии к памятникам старины.
За сто лет до Стейна в 1804 г. беззаботный молодой чиновник по имени Чжан Шу услышал рассказ о древней стеле в своем родном городе Увэе. Увэй (тогда он назывался Лянчжоу) был ханьским, а затем танским гарнизоном и караван-сараем на Шелковом пути. Он распола-
404
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
галея примерно в 2 50 километрах к северу от столицы Ганьсу Ланьчжоу, среди живописных (в то время) пастбищ. Чжан Шу приехал домой в отпуск по болезни и «приятно проводил время в компании друзей», когда ему пришло в голову, что они могли бы осмотреть стелу Она стояла на территории одного из буддийских монастырей города и была заложена кирпичами столько, сколько жители себя помнили. Главный монах сказал, что, если разобрать кирпичи, поднимется страшная буря. Но Чжан и его друзья обещали взять на себя полную ответственность, и монах в итоге согласился открыть стелу. Чтобы разобрать кирпичный корпус, вызвали несколько живших неподалеку рабочих. Вскоре появилась серая каменная плита, покрытая толстым слоем пыли.
«Мы вытерли пыль, и внезапно появились вполне различимые иероглифы. Однако, посмотрев внимательнее, мы поняли, что не можем прочитать ни одного слова... Я сказал, что на обратной стороне наверняка есть перевод, и приказал расколоть [кирпичи] сзади. В самом деле, там обнаружился текст на [китайском] языке... Я открыл эту стелу, и теперь мир сможет увидеть ее» [2].
Однако мир мало заинтересовался открытием Чжан Шу. Лишь сто лет спустя эта стела привлекла внимание барона Карла Густава Ман- нергейма. Финский военный и государственный деятель, в старости отважно возглавивший безнадежное сопротивление своей страны советскому вторжению (30.11.1939-13.03.1940), в 1908 г. был полковником русской императорской армии и имел поручение вести археологические и шпионские наблюдения на границах тогдашней (маньчжурской) империи Цин. Русские присоединились к изучению сокровищ Шелкового пути в числе последних. Французские востоковеды уже изучили Лянчжоуские стелы (были и другие стелы с надписями только на китайском) и пришли к выводу, что странные иероглифы, по мнению Чжан Шу, очень похожие на китайские, но все-таки не китайские, на самом деле относились к «языку Си Ся [Западного Ся]». Но единственный француз, которому удалось побывать в Лянчжоу, не смог получить эстамп надписи. Маннергейм планировал снять с нее оттиски с помощью влажного муслина.
Попытка снова оказалась неудачной. Дело происходило в январе, и «было так холодно, что ткань замерзала раньше, чем нам удавалось приложить ее к надписи», рассказывает он. Тогда он решил окра¬
405
ГЛАВА 1 1
сить надпись в белый цвет, а затем сфотографировать. Работать по какой-то причине нужно было при свечах, и Маннергейм считал, что, «возможно, в надпись вкрались ошибки» [3]. Тем не менее, используя его фотографии и другие материалы, ученые в конце концов смогли пролить свет на загадку стелы и даже расшифровать часть таинственных надписей. Едва ли не самое удивительное открытие таил в себе первый столбец иероглифов, не вошедший в китайский перевод на задней стороне стелы. Из него выяснилось: хотя людей, создавших эту стелу, в тюркских языках называли тангутами, а государство тангутов было известно в китайской истории как Си Ся («Западное Ся»), сами они называли его по-другому, и гораздо более грандиозным образом. Заглавие надписи сообщало, что стела принадлежала храму Гантун в Лянчжоу «в Великом государстве Белого и Высокого»1.
Позднее в 1908 г. другая русская экспедиция, которой руководил подполковник Петр Кузьмич Козлов, сделала еще более потрясающее открытие: она нашла целый затерянный город. Город стоял на краю пустыни Гоби, примерно в 500 километрах к северо-востоку от Увэя (Лянчжоу), на территории современной провинции Нинся (что означает «Умиротворенное Ся»). Пески заносили его осыпающиеся стены, но за воротами Козлов нашел «четырехугольное пространство, где были разбросаны высокие и низкие, широкие и узкие руины зданий, у подножия которых лежал всевозможный мусор» [4]. Город назывался Хара-Хото — в настоящее время считается, что это была Эдзина, или Этсина «в [монгольской] провинции Тангут», о которой писал Марко Поло. По словам Поло, именно там нужно было «собрать припасов на сорок дней», если вы собирались пересечь пустыню Гоби. Козлов решил, что ступа по соседству тоже представляет археологический интерес. В 1909 г. он снова приехал, чтобы продолжить раскопки, и вернулся в Россию с грузом буддийских картин, статуй и текстов, вполне способным соперничать с находками Стейна в Дуньхуане. Коллекция Козлова, выставленная в Санкт-Петербурге, дала русским ученым преимущество на старте и пробудила собственнический интерес к изучению «забытой империи»2, которая, согласно китайским
1 Грамматика тангутского языка позволяет перевести наименование и как Великое государство Высокой Белизны. Данная строка, конечно, была прочтена на несколько десятилетий позже, чем со стелы были сняты первые копии.
2 Русские тангутоведы сыграли особую роль в изучении истории и культуры Западного Ся. Первый словарь тангутского языка, который сделал возможным
406
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
летописям, существовала два века и оспаривала у киданьской империи Ляо и Сун контроль над Северным Китаем. Многие документы, найденные Козловым, были записаны теми же загадочными иероглифами, что и текст на стеле из Лянчжоу. Благодаря им Хара-Хото был идентифицирован как аванпост этой империи — Великого государства Белого и Высокого1.
Многое об этом загадочном государстве пока остается неясным. Среди официальных историй Китая нет хроники, посвященной исключительно Западному Ся, аналогичной хроникам империй Ляо и Сун, а сохранившиеся тексты на тангутском языке еще не дали в этом отношении полезных сведений. Этническое происхождение тангу- тов остается загадкой. Считается, что они произошли от жившего ранее народа цян и состояли в родстве с тибетцами. Они сами считали, что произошли от табгачей, или тоба, к которым также принадлежала правящая династия Северной Вэй (386-534), воссоединившая север под конец периода раздробленности. Бесспорно, их язык имел сходство с тибетским. Однако их письменность была совершенно не похожа на алфавитное письмо, принятое в Тибете. Созданная в XI столетии, она, как и предполагал Чжан Шу, действительно опиралась на китайскую систему письма, однако была сложнее, а возможно, умышленно усложненной.
Этот народ называл себями, а свою страну—Минья2. Тюрки и монголы предпочитали говорить «Тангут», китайцы называли их Ся, государство Ся, Западное Ся или использовали более общие термины для неханьских народов — фань, жун и осу. Удовлетворительного объяснения для высокопарного именования «Белое и Высокое» пока не найдено. Возможно, «Белое» относилось к соли, одному из основных предметов экспорта государства, или к зимним снегам; «Высокое»
чтение тангутских текстов, подготовил Н. А. Невский (его черновой рукописный словарь, работа над которым была прервана арестом и расстрелом ученого в 1937 г., был опубликован в 1960-м). Второй, уже не черновой, словарь издал Е. И. Кычанов в 2006 г. Первую, и доныне единственную, грамматику тан- гутского языка в 1968 г. опубликовал М. В. Софронов. Русские ученые (прежде всего Е. И. Кычанов) издали переводы множества важнейших тангутских текстов — энциклопедий, юридических и философских текстов и проч.
1 Столица Тангутского государства размещалась сначала в Линчжоу, а затем (после 1020 г.) в Синчжоу (ныне Инчуань в Нинся-Хуэйском автономной районе).
2 Минья — буквально «люди ми» — один из вариантов самоназвания.
407
ГЛАВА 1 1
могло указывать на положение Ся в верховьях Хуанхэ, по отношению к Сун в ее нижнем течении. Может быть, эти слова намекают, что когда-то в прошлом тангуты жили в горах. Тангуты, занимавшиеся земледелием и скотоводством, как и жители государства Туйюхунь, пришли из Цинхая во времена Тан и осели в империи к югу от Ордоса на севере Шэньси, в традиционном месте сбора прибывающих скотоводов. Там в IX веке в правление империи Тан один из предводителей тангутов был назначен военным губернатором местной префектуры под названием Сячжоу, а затем получил титул правителя-гуна Ся. После восстания Ань Лушаня (755) в период Пяти империй и Десяти государств (907-960) гун, а затем ван Ся получил еще больше полномочий, избавился от тангутских и нетангутских соперников и добился независимости, как другие военные губернаторы того периода.
В начале XI века, когда киданьская империя Ляо и Сун разрешили свои разногласия Шаньюаньским договором, тангутский правитель Ли Дэмин1 (пр. 1004-1032) получил признание от обоих могущественных соседей: от Сун как независимый данник, от Ляо — как «царь» Ся. В дальнейшем это политическое лавирование стало главной тактикой тангутского Ся. Сын Ли Дэмина Вэймин Юаньхао2 начал расширять свое царство на запад в Ганьсу, тесня проживающих в этом регионе уйгуров и тибетцев. Столица тангутского государства Ся («Ся» мы используем здесь вместо «Великого государства Белого и Высокого» просто для краткости) была перенесена на Хуанхэ в Нинся. Увэй (Лянчжоу), где была установлена стела, впервые захватили в 1032 г. Через двадцать лет силы тангутского Ся достигли Дуньхуана, таким образом добавив весь Ганьсу к Нинся и северной Шэньси и образовав империю Ся. Новая империя обладала внушительной территорией, тянувшейся с востока на запад более чем на 1200 километров; о ее статусе говорил принятый в 1034г. Юаньхао «титулу цзу — тангутский аналог императора или кагана»3 [5].
1 Тангутских имен многих правителей минья мы не знаем, и приходится довольствоваться китайскими. Правители тангутов носили фамильное имя Тоба, а от китайских императорских династий за разные услуги получили право ношения фамилий Ли (от Тан) и Чжао (от Сун).
2 Вэймин — китайская транскрипция тангутского Нгвеми. Именно такую фамилию принял для тангутского императорского дома Ли Юаньхао, в тангутских источниках именуемый «император Рога Ветра».
3 В среднекитайской фонетике эти знаки читались как нгуо тсуэт. По-тан- гутски термин звучит как нгвэ ндзви — Небесный правитель.
408
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
Вэймин Юаньхао (пр. 1032-1048) сделал все, что обычно делал новый император: принял новые династическое имя и титул, ввел новые календарь и манеру одеваться и добавил еще одно — прическу. Согласно источникам Сун, тангутский император сам первым занес над собой ножницы, и за ним торопливо последовали его соотечественники: императорский указ гласил, что тому, кто через три дня не обрежет волосы, перережут горло. Новая прическа помогала отличить тангутов от сунских и тибетских соседей и отчасти напоминала о традиционном облике табгачей. «Верхнюю часть черепа выбривали, оставляя полосу на лбу и по бокам, вокруг лица» [6]. Это была не совсем тонзура, но, как показывают тангутские картины, обнаруженные Козловым, прическа действительно походила на монашескую. В этом был смысл, поскольку тангутская империя Ся, особенно в правление Вэймина Юаньхао и далее, опиралась для подтверждения своей легитимности почти исключительно на буддийскую терминологию и буддийское религиозное покровительство. По сути тангутский буддизм был государственной религией, а Ся — буддийским государством.
Хотя стела из Лянчжоу датирована несколько более поздним временем (1094), сравнение тангутских и китайских надписей на стеле, сделанное специалисткой по ранней Ся Рут Даннелл, может служить иллюстрацией этого утверждения. Каждая из двух надписей сообщает примерно одинаковые сведения, но делает это по-разному в расчете на конкретных читателей. Китайский текст, предназначенный для многочисленного ханьского населения тангутской Ся, придает особое значение истории, превозносит Южный двор (то есть Сун) и представляет Лянчжоу как одну из его префектур, а его правителя как одного из подданных. Тангутский текст на другой стороне стелы лишь вскользь касается истории, но вдается в долгие отвлеченные рассуждения о происхождении и искупительных свойствах буддизма и чудесных силах государственного храмового комплекса в Лянчжоу. Этот текст подчеркивает легитимность Ся и императорский статус ее правителей, а государство под названием Восточная Хань (пренебрежительное название Сун) в нем предстает лишь как заинтересованная сторона. Надписи на самом деле не являются взаимным переводом — это два разных текста, хотя и с похожим смыслом.
При Вэймин Юаньхао была закончена разработка тангутской письменности, которую затем официально приняли для использования в административных, научных и религиозных целях. Переводы
409
ГЛАВА 1 1
«Т]рипитаки» (свода буддийских писаний) на тангутский язык были сделаны на основании печатной китайской версии, полученной от Сун (вместе с ней китайцы, вероятно, с некоторым умыслом прислали и подборку конфуцианской классики). Другие переводы выполнялись по тибетским текстам. В тангутской империи действовал свод законов, подобный принятому в Сун, который был, в свою очередь, основан на законах Тан, а также двойная система администрации, менее формализованная, чем в империи Ляо. Ся имела свободно организованную армию численностью около двухсот тысяч человек и контролировала не только сухопутную торговлю через коридор Ганьсу, но и важные поставки степных лошадей в империю Сун через Шэньси. Поэтому в интересах Сун было поддержание добрых отношений с выскочкой-соседом. Однако Сун подстрекала других, особенно тибетцев, совершать набеги на Ся.
В 1038 г. Юаньхао Вэймин почувствовал, что у него достаточно сил, чтобы бросить перчатку империи Сун. Он организовал для себя официальное вступление на престол в качестве императора, а затем отправил в сунскую столицу Кайфэн посольство с письмом, в котором требовал признать его суверенный статус. Судя по всему, «автор письма явно понимал, что за это придется сражаться» [7]. Жэнь-цзун (пр. 1022-1063, внук Тай-цзуна) отказался принять тангутских послов и привезенных ими в дар лошадей и верблюдов. Вэймин Юаньхао поступил так же с ответным посольством Сун. Сун со своей стороны лишила Юаньхао всех титулов и закрыла границу и пограничные рынки, от которых Ся зависело не меньше, чем сама Сун. Столкновение стало неизбежным.
Следующие пять лет (с перерывами на переговоры и диверсии) продолжались не слишком активные военные действия (1039-1044), впрочем, осложненные вмешательством киданей Ляо, которые иногда действовали как посредники, но чаще преследовали собственные интересы. Ся одержало ряд заметных побед, но не смогло проникнуть на территорию Сун. Сун продолжала настаивать на том, что Ся должно признать ее сюзеренитет, хотя, как и в случае с киданями Ляо, была готова подсластить пилюлю. Сун предлагала Ся щедрые ежегодные выплаты и соглашалась закрыть глаза на любые титулы, которые правитель Ся присваивал себе среди своих подданных. В конце концов родился компромисс, выразившийся в двуязычной стеле из Лян- чжоу. Для Сун правитель Ся оставался под данным (в терминах родства
410
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
«сыном», а не «братом»), но он также был признан как квазиимператор, и использование им императорских регалий и церемоний в его собственных владениях не оспаривалось. Как и Ляо, Ся стало получать от Сун ежегодные выплаты, в том числе несколько тонн брикетов чая и большое количество серебра и шелка. Важные для обеих сторон пограничные рынки снова открылись, дав Сун доступ к тангутским чистокровным лошадям, а тангутам возможность потратить подарки Сун.
Дальнейшая история Ся была отнюдь не спокойной. Но государство пережило и киданьскую империю Ляо, и ее северного преемника XII века — чжурчжэньскую империю Цзинь. За все двести лет своего существования Ся делило контроль над Северным Китаем то с одной, то с другой чужеземной династией, а также с Сун. Трехсторонняя договоренность оказалась вполне действенной, и как бы ни возмущались сунские конфуцианцы и будущие историки, ее можно рассматривать как пример устойчивой многогосударственной системы. Даже страшная судьба, ожидавшая Ся в 1226-1227 гг., когда она стала мишенью последней и самой кровопролитной кампании Чингисхана, не до конца уничтожила империю. Раскопки Козлова убедительно свидетельствуют о том, что в песках Нинся «Великое государство Белого и Высокого» еще полвека влачило призрачное, глубоко религиозное существование1.
РЕФОРМЫ И ПЕРЕОЦЕНКА
Приняв титул императора в 1038 г., Вэймин Юаньхао бросил Сун вызов, имевший долгосрочные последствия. Достаточно плохо было то, что Сун пришлось сделать уступки киданьской империи Ляо по Шаньюаньскому договору в 1005 г. Теперь положение только ухудшилось: династия столкнулась с неповиновением давнего подданного
1 Эдзина (Хара-Хото) была разрушена китайскими войсками империи Мин в 1372 г.; последний тангутский текст датируется 1502 г. (есть свидетельства о тексте, написанном примерно на сто лет позже). Монгольское завоевание не уничтожило тангутскую культуру, но сильно подорвало ее жизненные силы: тангутские элиты были крайне востребованы на монгольской службе и почти полностью покинули родные земли, перебравшись ближе к монгольским дворам, а затем погибли вместе со своими кочевыми покровителями, когда те потеряли власть.
411
ГЛАВА 11
в дальнем углу империи; существовала и вероятность, что кидани объединятся с этим выскочкой. Киданьскую империю Ляо в конце концов удалось подкупить, увеличив в полтора раза ежегодные выплаты. Но даже без поддержки киданей Ся оказалось достаточно сильным, чтобы долгое время противостоять давлению Сун, переходя от боевых действий к дипломатии.
В столице Сун Кайфэне эту потерю лица ощутили сполна, и она заставила многих серьезно задуматься. Очевидно, в великой империи Сун что-то шло не так. Так же как при старинных империях Хань и Тан, сунский Китай был более богатым, развитым, густонаселенным, организованным, вероятно, более урбанизированным и, безусловно, более культурно утонченным, чем любая современная ему держава мира. Однако он не мог утвердить свое однозначное превосходство над соседними землями. Он не обладал существенной властью в Центральной или Юго-Восточной Азии, потерял северо-запад, не смог восстановить северо-восток, должен был осуществлять крупные выплаты по этим двум направлениям и был едва в состоянии защищать свои сократившиеся границы. Престиж Сына Неба, стоявшего в одном ряду с императором киданьской Ляо и жалким подражателем из тангутского Ся, заметно упал.
Возможно, военные неудачи объяснялись тем, что в начале своего существования империя Сун стремилась установить гражданский контроль над провинциями и, помня о судьбе Тан и появлении Пяти империй, избегала содержать большие пограничные армии. Государственных деятелей, которые считали отказ от этой политики и наращивание военной мощи на границах единственным способом избежать дальнейшего позора со стороны киданьской Ляо и тангутского Ся, слишком легко было обвинить в скрытых личных интересах, например стремлении создать собственную базу поддержки и, опираясь на нее, свергнуть правящую династию. Однако это возражение удалось обойти, связав усиление границ с более привычными рассуждениями о нравственном возрождении и политических реформах.
С этой целью Оуян Сю, в 1030-х гг. восходящая звезда при дворе Сун, имевший репутацию выдающегося ученого, объединился с конфуцианским идеалистом Фань Чжунъяном, префектом Кайфэна. Это был поразительный союз: молодой Оуян был известным любителем женщин и развлечений, а Фань стремился «быть первым, кто заботится о недостатках мира и последним, кто наслаждается его удоволь¬
412
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
ствиями» (так он сам определял признаки хорошего конфуцианского чиновника). Но оба занимались вполне обычным для конфуцианцев делом — вглядывались в идеализированное прошлое, ища способ исправить неблагополучное настоящее, и оба видели источник упадка и разложения в буддизме. Это был «опиум народа», особенно сейчас, когда он занимал центральное положение в претензиях тангут- ской империи Ся и киданьской Ляо. Это зло, «раструбившее повсюду о своих великих фантастических учениях», как выражался Оуян Сю, можно было победить только возвращением к конфуцианским «обрядам и добродетелям... — фундаментальным средствам, которые помогут победить буддизм» [8].
Первые предложенные Фань Чжунъяном реформы были отвергнуты сразу. Он вместе с Оуян Сю подвергся критике и был понижен в должности. Но в 1040 г., когда над империей Сун снова нависла угроза со стороны Ся и Ляо, их вернули ко двору. Оуян Сю ждал, что ему дадут командование на границе, где он мог бы реализовать свои военно-стратегические замыслы, но вместо этого ему было поручено составить каталог императорской библиотеки — всех восьмидесяти тысяч томов. Это было важное задание, оно открывало доступ к императору, но не подразумевало никаких военных полномочий. Между тем на границу отправили Фань Чжунъяна, где тот вел себя не как военачальник, а скорее как полномочный посол и пространно переписывался с Вэймин Юаньхао, убеждая его пересмотреть и смягчить свои требования. Вернувшись в Кайфэн и теперь остро осознавая военную слабость Сун, в 1042 г. Фань Чжунъян предложил новую программу реформ из десяти пунктов. На фоне затянувшегося противостояния с империей Ся Оуян Сю представил программу при дворе, и Жэнь- цзун ее одобрил. В 1043 г. Фань Чжунъян получил возможность без ограничений проводить в жизнь свои десять пунктов.
Для улучшения качества администрации Фань Чжунъян предлагал уволить всех некомпетентных чиновников, наградить способных и поставить фаворитизм вне закона. Во время экзаменов следовало уделять больше внимания умению решать проблемы и меньше — литературным талантам. По всей империи следовало открыть школы, чтобы обеспечить более широкую базу для набора гражданских служащих. Местные власти следовало поддержать, повысив им жалованье и увеличив капиталовложения в местные проекты в интересах сельского хозяйства. И, конечно, требовалось расширить военный
413
ГЛАВА 11
призыв, особенно в приграничных районах. Эта амбициозная программа, однако, встретила сильнейшее сопротивление укоренившихся на своих местах чиновников и ни к чему не привела. В 1045 г. проблема с Ся была разрешена, Фан Чжунъянь снова впал в немилость, а его реформы отменены.
Этот эпизод, известный как «Малые реформы» (Великие последуют позднее), в основном примечателен реакцией Оуян Сю на низвержение Фань Чжунъяна и его соратников. Оуян Сю написал декларацию «в защиту партий» (в данном случае политических, а не партий в развлекательные игры). Фань Чжунъяна обвиняли в том, что он собирает вокруг себя сторонников и организует фракцию со злодейскими, как утверждали его критики, намерениями. Оуян Сю возражал, что фракции, партии и тому подобное — совершенно естественное и даже полезное явление. Партии, образованные низкими людьми, ищущими прибыли, вскоре распадаются, но те, что собраны «благородными единомышленниками, которые придерживаются Пути [Конфуция] и добродетели, следуют идеалам верности и преданности и заботятся только о чести и достоинстве», могли принести пользу. Объединенные высокими принципами, члены таких партий способствовали совершенствованию друг друга. И если император воспользуется ими, «то государство может быть приведено в порядок» [9].
Однако это противоречило издавна сложившимся представлениям и опровергалось конфуцианскими текстами, к тому же было неясно, как отличать собрания возвышенных благородных мужей от своекорыстных сборищ. Партии, фракции, клики и «банды» — между неформальным кружком и организованным лоббированием не делали никакого различия — были особенностью политической жизни. Однако их категорически не признавали. Напротив, эти объединения осуждали как коварные и по своей сути наносящие ущерб власти императора, даже когда их целью было наведение порядка в государстве и поддержка власти императора. Таким образом, начиная с квазида- осских организаций «краснобровых», «желтых повязок» и общины Пяти ковшей риса в эпоху Хань и заканчивая «Триадой» более поздних времен, ассоциации, связанные с политической повесткой дня, были вынуждены соблюдать секретность, что, конечно, делало их еще более подозрительными.
Декларация Оуян Сю была отклонена. За свое безрассудство он снова отправился в изгнание, и если бы дело происходило не при
414
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
сравнительно снисходительной Сун, а в иное время, возможно, ему даже даровали бы «привилегию» самоубийства. Но вопрос остался далеко не решенным, и в дальнейшем реформаторы и контрреформаторы неоднократно выступали против запрета на организацию политических объединений. В то время когда в Европе бароны мобилизовали силы, сословия организовывались, созывали законодательные собрания и парламенты выбирали представителей1, чтобы добиться признания своих прав, в Китае даже тень концепции законной политической организации не могла пробежать по монолитной глади абсолютизма. Достоинство одного человека, определенное чисто нравственными ценностями, оставалось основной единицей политического и административного общества. Чиновникам разрешалось высказывать мнения, к возражениям министров прислушивались, но любое объединение единомышленников по-прежнему считалось подозрительным. Реформы неоднократно заходили в тупик, поскольку, потеряв благосклонность императора, они оставались в подвешенном состоянии из-за отсутствия согласованной поддержки. Призыв Оуян Сю о признании партий привел лишь к их запрету, и, как отметил Ф.У. Мот в книге «Императорский Китай», «Китай до сих пор борется с последствиями политического краха, пережитого в XI веке» [10].
Можно даже сказать, инициативы в области реформ возымели обратный эффект — привели к усилению центрального контроля и еще больше укрепили исключительные права императора. В 1069 г. только что вступивший на престол двадцатилетний Шэнь-цзун (пр. 1068-1085) призвал ко двору Вань Аньши, неопрятного, задиристого, но высоко ценимого конфуцианца, который служил губернатором Нанкина. Ван ранее подал длинный меморандум, призывающий вернуться к принципам, если не к практике, описанным в «Чжоу ли» («Установления Чжоу», либо «Чжоуские ритуалы»), «фундаменталистском» тексте, который вдохновлял Ван Мана тысячу лет назад и к которому с тех пор обращались многие другие реформаторы. Ван Аньши предложил применять эти принципы в системе образования для улучшения подготовки чиновников, поступающих на государствен¬
1 В средневековой Европе право представительства, как правило, вначале предоставлялось монархами, и лишь затем его обладатели и сторонники объединялись для защиты полученной ими некогда привилегии. — Прим. ред.
415
ГЛАВА 1 1
ную службу. Он даже написал собственную версию «Чжоу ли». Было известно, что во время своей службы в Нанкине он воплотил в жизнь эффективные идеи, касающиеся налогообложения и улучшения сельского хозяйства. Теперь, при ответственном новом императоре, когда со стороны Ся снова маячили неприятности, а другие интеллектуалы высказывали просьбы о реформах, пришло его время. Ван Аныии собирался развернуть самую масштабную программу реорганизации за две тысячи лет между правлением Первого императора и торжеством Коммунистической партии Китая.
«Великие реформы», или «Новая политика» Ван Аныпи включали в себя экономические и социальные положения, которыми могло бы гордиться любое сознательное правительство. Была введена система низкопроцентных займов, чтобы помочь земледельцам продержаться до сбора урожая. Государственные зернохранилища покупали зерно выше рыночной цены, когда цены падали, и продавали его дешевле, когда цены повышались. В свете этих мероприятий Ван Аныии действительно мог утверждать — и утверждал, — что служит интересам народа. Были построены новые каналы и системы орошения, государство взяло под контроль рыночные цены, изменился порядок исполнения трудовых повинностей: тем, кто обязан был их нести, платили за труд, либо он сам должен был заплатить за освобождение от повинности. Это были дальновидные постановления, которые сделали благосостояние народа обязательной предпосылкой укрепления государства и способствовали накоплению богатства, которое позволяло налогоплательщику без затруднений выплачивать новые и более эффективно собираемые налоги, — и они завоевали для Ван Аныии почетное звание «величайшего государственного деятеля Китая».
Но действительно ли они были частью гуманного и социально ответственного общего плана, неясно. Программу нововведений характеризовало фрагментарное и непоследовательное воплощение, и к ней относились далеко не однозначно. Кроме того, резкое увеличение налоговых поступлений, конечно примечательное и необходимое, вряд ли облегчило бремя налогоплательщиков. Оуян Сю, уже не тот неистовый реформатор, что прежде, в 1070 г. почти ушедший на пенсию, не одобрял происходящего. Сыма Гуан, другой великий историк и государственный деятель того периода, сменивший Ван Аныпи на посту главного министра, также был настроен скептически. По его мнению, Ван Аныии вел себя «самодовольно и самоуверенно... и счи¬
416
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
тал, будто ему нет равных». Сыма 1уан критиковал реформы Ван Аныпи, «имевшие целью накопление богатства» и «беспощадно притесняющие людей... которых будто бросали то в огонь, то в кипяток» [11].
Особенно обременительной оказалась новая система ополчения, основанная на старой идеалистической идее сгруппированных домохозяйств (в данном случае по десять), несущих коллективную ответственность за вербовку, правопорядок и поведение друг друга. Система обходилась слишком дорого, утверждал Оуян Сю, новобранцы были бесполезны, а пограничные военные округа оставались вне гражданского контроля. Ненамного лучше оказалась новая идея «принять лошадь». Целью реформы было уменьшение зависимости Сун от соседних стран, служивших источником строевых лошадей. Жители империи могли либо взять на содержание государственную лошадь (вместе с ней присылали запас корма), либо купить собственную лошадь с перспективой гарантированной продажи ее государству, когда она будет выращена. В обоих случаях о лошади нужно было заботиться, и если она умирала, обеспечить ее замену. Поскольку об этой схеме больше ничего неизвестно, вероятно, она не имела успеха1. Хотя армии Сун удалось ненадолго пробиться на территорию Ся в южном Ганьсу в 1080-х гг., ни одна из этих реформ не компенсировала удручающий список поражений империи. Решив вернуться к принципу «используя варваров сдерживать варваров», в начале XII века Сун приступила к поиску союзников за пределами своих границ. С катастрофическими последствиями она нашла их среди чжур- чжэней, маньчжурского народа, восставшего против власти кидань- ской империи Ляо.
1 Главную проблему сунского ополчения, основанного на танских войсках фубин, составляло то, что эта система вдохновлялась практикой кочевых или полукочевых государств, столь хорошо знакомой основателям Тан. Однако идея постоянно боеготовного и самообеспечивающегося «народа-армии», легко реализуемая в кочевом обществе, крайне трудна для внедрения среди земледельцев, для которых, в отличие от кочевников, ратный труд — не разновидность повседневных занятий, а полная их противоположность. Армия, которую хотел создать Ван Аныпи, оказалась бы, вероятно, столь же малоэффективной в бою (особенно вдалеке от родных деревень), как и наемная армия, против которой он боролся. Но такая крестьянская армия вышла бы заметно дешевле и не представляла опасности для собственного народа — в отличие от отрядов наемников. Примерно в это время появилась поговорка «из хорошего железа не куют гвоздей, из хороших людей не делают солдат».
417
ГЛАВА 11
Как и следовало ожидать, Ван Аньши делал попытки отладить административный механизм централизованного правления. Он восстанавливал одни департаменты, перераспределял обязанности среди других и снова вводил структуры и номенклатуры, отодвинутые первыми императорами Сун, спешившими отобрать контроль у военных. Поданные как конфуцианское «исправление имен», эти манипуляции позволяли рационализировать происходящее и избавиться от оппонентов. Что касается местного самоуправления, клерков и младших помощников следовало интегрировать в администрацию и выплачивать им жалованье (повышенное благодаря местному налогообложению), чтобы снизить их зависимость от льгот и взяток и поощрять в них стремление вступить в ряды младших государственных чиновников.
Не менее предсказуемыми, но гораздо более значительными оказались многочисленные образовательные реформы Ван Аньши. Стремясь расширить базу набора гражданских служащих, привлечь способных и верных людей и подготовить их к выполнению должностных обязанностей, программа Ван Аньши повлияла на все уровни системы образования. На самом нижнем уровне школьные советы, номинально созданные в каждом районе и префектуре для оценки учащихся из частных учебных заведений, теперь сами были обязаны заниматься обучением студентов. Каждому из них выделялась квота учеников, учителей и классных помещений; экзамены проводили на уровне префектуры, оставляя центральной экзаменационной комиссии оценивать только тех, кто прошел первый отбор. Критерии оценки скорректировали: теперь упор делали на практические решения, а не на художественную композицию текста и заучивание конфуцианской классики. На самом верху Национальная академия1, где выпускники готовились к экзаменам на высшие степени, в том числе цзиныии (примерный эквивалент доктора наук), была реорганизована в более эффективное учебное заведение с широкой учебной программой. В столице создавались отдельные школы для изучения медицины, права и военного дела.
Насколько эффективными были все эти изменения, судить трудно, поскольку, как Фань Чжунъянь до него, Ван Аньши вышел из милости раньше, чем успел полностью реализовать свою программу. Импе¬
1 Она именовалась Го-цзы цзянь — Инспекция сынов государства.
418
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
ратору нужны были ощутимые результаты в виде военных успехов; оппозиция со стороны самых разных помещичьих и бюрократических кругов нарастала; народное недовольство, когда-то направленное на ростовщиков и торговцев, обратилось на государство в его новой роли аграрного кредитора и регулятора торговли. К 1076 г. программа Ван Аныпи стала игрушкой в чужих руках — обращенная вспять контрреформаторами, обескровленная продолжателями и окончательно дискредитированная стараниями Цай Цзина, родственника Ван Аныии со стороны жены, который приложил руку к падению империи Сун на севере и был впоследствии неоднократно раскритикован за это в исторических и в художественных произведениях.
Несмотря на все эти бедствия, репутация Ван Аныпи пережила его самого. При Южной Сун (под этим именем империя известна после поражения на севере, предшествующий период вошел в историю как Северная Сун) Ван Аныии почитали как первого выразителя в политике идей новой всепроникающей ортодоксии, впоследствии получившей название неоконфуцианства. Но в то время его реформы имели лишь ограниченный успех и, по сути, привели к обратным результатам. Сильная исполнительная власть, необходимая для их проведения, производила плачевный эффект, «превращая мощную централизацию... в постоянную характеристику государственной структуры». Кроме того, неуступчивость Ван Аныии привела к укреплению того самого догматизма, с которым должны были бороться его образовательные реформы. Теперь кандидаты перед экзаменом вместо того, чтобы зубрить классику, зубрили его собственную интерпретацию «Чжоу ли». Дело кончилось тем, что в бестолковой попытке защитить репутацию Ван Аныпи Цай Цзин запретил все работы противников реформ и приказал «перевоспитаться», то есть заново пройти обучение тем, кто был осквернен знакомством с ними.
Подавление инакомыслия в конце XI века спровоцировало в середине XX столетия появление исторических трудов, представлявших прошлое иллюстрацией к настоящему. В конце 1950-х гг. выдающийся профессор Дж. Т.Ч. Лю назвал программу перевоспитания Цай Цзина политическими репрессиями и, признав, что «никаких подробностей об этих мерах [Сун] в записи не сохранилось», провел четкую параллель между ними и обличительными и исправительными методами Коммунистической партии Китая. Студенты эпохи Сун, «переведен¬
419
ГЛАВА 1 1
ные в исправительные классы, — писал Лю, — должны были читать и думать, пока не изменят свои предположительно ошибочные мнения» [12]. Поскольку Цай Цзина традиционно считают чудовищем, а его руководство катастрофой, подобное сравнение может быть воспринято только как прямая критика партии. Разумеется, профессор писал эти строки, находясь на приличном расстоянии от Китая — в Соединенных Штатах.
Немногие историки могут удержаться от стремления выбрать и привлечь внимание к тем отрывкам исторических хроник, которые как будто имеют отношение к текущим событиям. Но китайская историография пошла дальше и добавила к этому элемент предостережения. Как сказал Сыма 1уан, в исторической летописи должно быть «все, что следует знать государю: возвышение и падение династий, благополучие и несчастья простых людей, все добрые и дурные примеры, которые могут служить образцом или предостережением» [13]. Сыма Гуан, опиравшийся при создании «Цзы-чжи тун-цзянь» («Всепроникающее зерцало, управлению помогающее») на три с лишним сотни сочинений предшественников и самые высокие критические стандарты, хорошо знал, что история нередко пишется и читается как завуалированный комментарий к текущим событиям. Все тексты, даже его собственные, создавались с определенной целью. Это не значит, что им нельзя верить, это означает лишь то, что они могут рассказать о времени, когда они были написаны или переписаны, столько же, сколько о времени, о котором в них идет речь. «Зерцало» в заглавии великого труда Сыма гуана отражает и прошлое, и настоящее. Завершенное в 1070-х гг., это произведение можно прочесть не только как прекрасную летопись истории Китая вплоть до 959 г., но и как предостережение из прошлого против разрушительных реформ Ван Аныии, и призыв к военным действиям против киданей.
В БАШНЯХ ПЕВИЧЕК
Реформы Ван Аныии, несмотря на революционные масштабы и огромное значение, на самом деле представляли не такую опасность, как казалось Сыма гуану и другим консерваторам. В самом деле, в сунском Китае многое было не таким, как казалось. Экзамены для чиновников, правила которых обновили при Сун, стали определяю¬
420
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
щим атрибутом высшего общества в следующие семь веков, но в то время они мало влияли на социальную базу, из которой происходили держатели должностей, и, конечно, не открывали доступ в администрацию для всех желающих. Таланты признавались, высокие стандарты соблюдались, но все это не гарантировало карьерного роста. Честолюбивый чиновник, карабкавшийся вверх, по-прежнему сталкивался со значительными трудностями, а крутизна профессионального склона нередко вызывала головокружение. Только в эпоху Мин система экзаменов привела к формированию подлинной мерито- кратии.
Все больше государственных деятелей из региона Янцзы и с юга — в их числе Оуян Сю, Фань Чжунъян и Ван Аньши — получали высокие должности, но возможно, это просто отражало общие демографические изменения. Очень немногие высокопоставленные чиновники происходили из семей, где никто раньше не состоял на государственной службе, и хотя печатные книги и новые школы сделали образование более доступным, большинство тех, кто сдавал высшие экзамены и стремился к бюрократической карьере, по-прежнему полагались на покровителей и семейные связи. Более того, их по-прежнему численно перевешивали те, кто, имея степень или без какой-либо степени, получал должность благодаря системе привилегированного набора, которой пока не коснулась ни одна реформа.
Вместе с тем подготовка к экзамену на высшую ступень обеспечивала человеку признание и определенный интеллектуальный статус и даже могла сама по себе стать профессией. К экзаменам ежегодно готовились сотни кандидатов, хотя тех, кто успешно их сдавал, можно было перечесть по пальцам, а в иные годы таких вообще не находилось. В 1090-е гг. только один кандидат из десяти мог надеяться пройти экзамен, после показатели упали еще ниже. К счастью, потерпевший неудачу всегда мог сдать экзамен заново — не было никаких ограничений относительно количества пересдач или, вернее, таким ограничением выступала только продолжительность жизни кандидата. Пятидесятилетние студенты никого не удивляли, хотя к этому возрасту большинство все же подыскивало себе другой карьерный путь. Следуя известному принципу «кто может — делает, кто не может — учит», многие из них становились наставниками, поступали в школы или переходили в монастыри. При чжурчжэньской империи Цзинь (и, вероятно, при Северной Сун, поскольку чжурчжэни про¬
421
ГЛАВА 11
сто скопировали все ее образовательные структуры) в каждой государственной школе был «один профессор, который пять раз сдавал экзамены для государственной службы (но так и не сдал) или имел степень цзиныии, но ему было уже больше пятидесяти лет (следовательно, он был слишком стар, чтобы начать чиновную карьеру) [14].
Как у всех династий перед лицом неминуемой катастрофы, последние десятилетия Северной Сун проходили неспокойно. В 1074- 1076 гг. на севере разразился голод, а в 1077 г. морское вторжение Сун в Аннам, которое считали более перспективным, чем вторжение в государства Ся или Ляо, оказалось прискорбно безрезультатным. Северная Сун уже начала строить военные корабли, а после неудачной экспедиции направила еще больше ресурсов на создание огромного военного флота. Но для нападения на Аннам в 1077 г. в качестве транспорта наняли торговые суда, а их владельцам заранее компенсировали любые потери в новой форме так называемых монашеских сертификатов.
Эти сертификаты красноречиво говорят о состоянии экономики, а также о статусе буддизма в то время. Это были грамоты с правом передачи, которые наделяли держателя как духовного, так и мирского звания правом выдвигать ряд кандидатов на буддийское монашество. Иметь призвание для этого было не обязательно, проживание в монастыре не требовалось, а обеты не принимались всерьез. Привлекательность духовного сана теперь почти целиком заключалась в освобождении от налогов и трудовых повинностей, которым пользовались лица монашеского звания. Буддийские школы, особенно эзотерическая школа чань, процветали, несмотря на сокращение контактов с Центральной Азией и Индией, где мусульманские завоевания уже перекрыли «дорогу сутр», шедшую через Афганистан. Но Сун не были прославленными покровителями буддизма, как Суй и Тан: посвящение в духовный сан строго контролировалось, продажа монашеских сертификатов давала государству неплохой доход. Перед лицом возрождения конфуцианства буддийские учреждения переживали медленную секуляризацию, которая отправляла на обочину их доктринальное инакомыслие, при этом укрепляя их социальные позиции в области образования, заботы о больных и пожилых, управления крупными имениями и, как в данном случае, обеспечения экономических привилегий для тех, перед кем государство было в долгу. Буддизм, по сути, медленно менялся, прогибаясь под официальным дав¬
422
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
лением сверху и утрачивая определенность снизу, поскольку в народе буддийские практики нередко смешивались с местными суевериями и почитанием духов. Срединный путь становился одним из многих, соседствовал с даосским, конфуцианским и анимистическим путями и почти не отличался от них. Что касается экономики, беспрецедентные проблемы с монетными и бумажными деньгами подпитывали бурную инфляцию, которая сделала подтвержденные монашескими сертификатами привилегии более ценными, чем обесцененные наличные деньги.
Реформатор Ван Аныии порицал заграничные походы и войну против Аннама. Но в очередной попытке восстановить свою честь Сун попыталась наладить связи с Корейским царством, отправив посольство по морю через Бохайский залив из Шаньдуна. Мысль, похоже, заключалась в том, чтобы опередить киданьскую империю Ляо на восточном побережье Азии. Когда корейская инициатива ни к чему не привела, в 1211-1215 гг. внимание империи обратилось дальше на север, к чжурчжэням из Маньчжурии как потенциальным союзникам в борьбе против киданьской Ляо. Сун собиралась отбросить старую и в целом удовлетворительную договоренность с Ляо и перечеркнуть два столетия многогосударственного порядка. Ни внушительные внутренние реформы, ни благотворные перемены за пределами империи не примиряли Сун с частичным суверенитетом. Таково было бремя империи.
И все же, по общему мнению, период Сун был «величайшей эпохой в истории Китая» [15]. В начале 1120-х гг., в последние дни династии, в Шаньдуне и Чжэцзяне вспыхнули восстания, но в основном это эпоха внутреннего спокойствия, бурного расцвета торговли, развития науки и технологии, культурного подъема. Около 5% населения проживало в городах — не слишком впечатляющее число, но в действительности оно составляло около шести миллионов человек, что, «вероятно, равнялось численности городского населения всего остального мира в то время» [16]. Кайфэн, столица и крупнейшая агломерация, уступал размерами Чанъаню при Тан, но в нем проживало около миллиона человек, «то есть ненамного меньше всего населения Англии при Вильгельме Завоевателе, современнике Шэнь-цзуна» [17]. В Китае было тридцать городов с населением от сорока до ста тысяч человек, а в Европе таких городов насчитывалось всего шесть. Как центры внутренней и зарубежной торговли Янчжоу (в провинции Цзянсу), Ханчжоу
423
ГЛАВА 11
(в Чжэцзяне), Фучжоу и Цюаньчжоу (в Фуцзяни) и Гуанчжоу (Кантон, провинция Гуандун) вполне могли поспорить с Венецией.
Венецианец Марко Поло писал о том, что в Сучжоу (провинция Цзянсу) шесть тысяч каменных мостов (в городе, получившем название Восточной Венеции, и сегодня их примерно столько же), а его окружность составляет 65 километров Но Ханчжоу, который стал столицей Южной Сун и который Поло называл Кинсай, был «несомненно, лучшим и великолепным городом в мире». По мнению Марко Поло, в этом городе было, вероятно, не менее 1,6 миллиона домов — не исключено, что именно за подобные фантастические догадки в родной Италии он получил прозвище il Milione, «Господин Миллион». Но его изумление при виде высокоразвитой промышленности, общественного порядка и удивительных изобретений — не только в городах, но и в сельской местности — выглядит довольно искренне. Это впечатление подтверждают изображения того времени — например, оживленные дорожные и речные сценки живописного свитка «На реке в день Цинмин (поминовения усопших)», созданного в XII веке. Перед гостем из средневековой Европы Китай представал картиной футуристической утопии, в которой развитая промышленность и изобилие сочетались со справедливым и эффективным правлением.
К печатным книгам и бумажным деньгам можно добавить множество передовых разработок в области медицины, механики, математики, химии и металлургии. Из трех изобретений, по мнению Фрэнсиса Бэкона, полностью изменивших европейский мир в XVI веке (печатный станок, магнитный компас и порох) все три уже были известны китайцам в эпоху Сун и находились в повседневном употреблении, тем самым отличая эпоху нововведений от танской эпохи ввоза иностранных диковин. Печатная книга нанесла мощный удар по невежеству, компас обнаружил свое призвание в качестве навигационного инструмента, а порох прошел путь от фейерверков к военному делу, хотя его в основном использовали при рытье подкопов и в качестве взрывчатки, а не как средство для придания энергии полета снаряду. Каменный уголь постепенно пришел на смену древесному в топках, кузницах и печах (леса на севере были серьезно истощены), сталь заменила железо в изготовлении оружия и орудий труда, а также в строительстве. Геодезическое дело и картография достигли высокой степени точности, как и астрономия, которая всегда была сильной
424
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
стороной Поднебесной. Расчет окружности мира оказался точным с погрешностью в несколько метров; уклон Великого канала на участке длиной 420 километров измерен с точностью до миллиметров.
Хуэй-цзун, последний император Северной Сун (пр. 1101-1125), мало интересовался государственным управлением, но был горячим поклонником современных достижений, содержал собственную академию ученых и художников и непревзойденно щедро покровительствовал всем областям искусства. Он сам был прекрасным художником и выдающимся каллиграфом, а его личная коллекция картин и антиквариата считается самой крупной из когда-либо собранных в Китае. Прекрасно осознавая, какие жесты великодушия он может себе позволить, он поощрял своим опытом и тонким вкусом производство изысканной керамики, а его увлечение даосизмом, самым близким к природе из умозрительных философских направлений, привело к созданию сложных садов и гротов, окруженных дворцами и павильонами.
Между тем сельское хозяйство, по-прежнему составлявшее основу экономики, пережило «зеленую революцию» благодаря появлению в XI веке быстрорастущих высокоурожайных сортов риса, привезенных из королевства Чампа на территории Центрального Вьетнама. Два урожая в год стали привычным явлением в бассейне Янцзы, а в дельте Янцзы и далее на юге собирали обычно по три урожая. Сельскохозяйственные орудия из железа и стали облегчили культивацию тяжелых почв на юге и расширили площадь культивации. Полученные в результате излишки позволили крестьянам вблизи крупных городов сосредоточиться на выращивании товарных культур: фруктов и овощей, рыбы и птицы. Местные торговцы плотным потоком двигались по дорогам и водным путям, рынков и трактиров становилось все больше. Морская перевозка и расширение морской торговли превратили экзотическую роскошь, такую как черный перец из Индии, в повседневную приправу. У торговцев никогда еще дела не шли так хорошо.
В башнях певичек играем в кости — миллион [монет] за один бросок;
В павильонах, украшенных флагами, заказываем вино — десять тысяч за бочонок;
Кто правит этим городом, этой провинцией? Мы даже не знаем их имен;
Какая нам разница, кто нынче сидит в императорском дворце? [18]
425
ГЛАВА 1 1
В стихотворении «Радость купца» Лу Ю, самый плодовитый из поэтов Сун и большой поклонник танского поэта-гуманиста Ду Фу, противопоставил одиозный образ жизни торговцев с Янцзы жизни бедного конфуцианского ученого, у которого «живот набит классическими текстами, а тело исхудало от забот», «зубы гниют, волосы выпадают, [и] никто не смотрит в его сторону». «Торговцы — счастливейшие из людей», — заключает он, хотя чиновники и помещики, вероятно, не слишком отставали от них. Что касается придворных, у них была особая жизнь со своими правилами. В их нарядах шелк и парча блистали рядом с импортными хлопковыми тканями и мехами, проститутки и куртизанки оспаривали их благосклонность у жен и наложниц. Изысканное соседствовало с омерзительным в бесконечной череде застолий и вакханалий, рифмоплетства и разврата.
Несомненно, это был великий век. Если бы человеку раннего Средневековья предложили выбрать, в какой стране родиться, он наверняка предпочел бы Китай, во всяком случае, если говорить о мужчи^ нах; относительно раннесредневековых женщин такой уверенности нет. Большинству представительниц женской половины общества предстояло пережить полное опасностей младенчество, затем исполненное мучений детство, за которым следовала эксплуатация в юности и зачастую печальная зрелость. Частота детоубийств, от которых, как и везде, в основном страдали новорожденные девочки, так угнетала Лу Ю, что он призвал создать особый материнский фонд. По его мнению, это поощрило бы семьи не сразу избавляться от новорожденных и помогло бы им дождаться того времени, пока узы заботы и привязанности не примирят их с появлением еще одного голодного рта.
Впрочем, всегда ли выживание было в интересах ребенка, спорный вопрос. Девочек младенческого возраста с приятной внешностью можно было продать; в ином случае, как только они начинали ходить, их снова возвращали к ковылянию: по словам одного из современников Лу Ю, «маленькие [девочки], которым не исполнилось еще четырех-пяти лет и которые не сделали ничего плохого, вынуждены терпеть невыносимую боль от бинтования ног» [19].
Эта процедура не имела ничего общего с косметической терапией. Бинты длиной до 10 метров плотно обматывали вокруг ступни, вперед и назад, вокруг пальцев ног и вокруг пяток. Под повязкой пальцы были подогнуты к стопе, и со временем кости деформировались,
426
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
а плоть срасталась таким образом, что ступня превращалась в заостренное крошечное копытце с круто изогнутым подъемом. В тот момент, когда боль становилась терпимой или девочка снова могла двигаться, бинты затягивали туже; размер обуви постепенно сокращался наполовину. Весь процесс занимал несколько лет, но «если это было сделано умело, через два года после того, как ступни заживали, молодая женщина могла преодолевать короткие расстояния без боли» [20].
Обычай получил широкое распространение при Сун; до 1086 г. он был сравнительно редким, но с XII века обрел массовую популярность и сохранялся до конца XIX века. Неханьские женщины решительно избегали его — их отвращение дает хороший пример сопротивления ханьской аккультурации; на севере среди киданей, тангутов, чжур- чжэней и монголов практика не прижилась. По очевидным причинам она не распространилась в крестьянских семьях, где детей ждала в будущем тяжелая работа в поле. Но, вероятно, для третьей части всех маленьких девочек в Китае на протяжении восьмисот лет бинтование ног было обязательной процедурой. Хотя боль вряд ли можно измерить количественно, учитывая статистические и временные рамки, она, вероятно, добавила к сумме человеческих страданий больше, чем мужская кастрация, женское обрезание, обезображивание ради попрошайничества и все остальные варварские обычаи, вместе взятые.
Сюй Цзи (ум. 1101), еще один поэт эпохи Сун, воспел бинтование ног в одном из стихотворений, где говорится, что «вид крошечных ножек изумляет, их так и хочется подержать в руках, чтобы лучше разглядеть» [21]. Приятно округленные, никогда не открываемые в публичных местах, они добавили к женским формам две новые интимные зоны, вызывавшие возбуждение у мужчин. Считается, что первыми обычай бинтования ног ввели куртизанки, певицы, танцовщицы (вероятно, исполнявшие крайне медленные танцы) и представительницы других профессий, где женственность служила товаром. Его распространение в широких кругах общества, вероятно, как-то связано с конфуцианской философией, подкреплявшей собственническое отношение мужчины к женщине. Назидания о том, что жена обязана подчиняться мужу, и осуждение повторного замужества вдов, несмотря на то что они могли быть обременены детьми, подкрепляли поучительные примеры, наподобие истории о безрукой вдове Ли в сочинениях Оуян Сю и Сыма гуана. С трудом передвигающаяся женщина составляла бытовое преимущество и была всегда доступна
427
ГЛАВА 1 1
своему хозяину — чтобы увезти ее, требовались носилки или тележка. Впрочем, женщины тоже были небезупречны. На практике бинтование ног осуществлял не кто иной, как матери и бабки, тоже ковылявшие на копытообразных обрубках и странным образом забывшие, сколько слез они сами пролили в ранней юности, когда их приговорили к существованию калек.
ЦЗИНЬ И СУН
Сунский поэт Лу Ю, который призывал принять меры против детоубийства, родился в 1125 г., когда чжурчжэньские захватчики начали наступление на Северную Сун, и умер в 1210 г., когда монгольские захватчики начали низвержение чжурчжэней. По сравнению с другими неханьскими империями — киданьской Ляо, тангутской Ся и, наконец, монгольской Юань — чжурчжэньская Цзинь была сравнительно короткой: всего восемьдесят пять лет жизни поэта Лу (хотя в силу склонности историков растягивать династии во времени правление Цзинь обычно относят к 1115-1234). Но чжурчжэни повлияли на Северный Китай больше, чем любые другие пришельцы, кроме монголов. Их натиск был разрушительным и внезапным, и, вырвав из рук Сун сердце Чжунго, центральную Северную равнину, а затем проникнув на юг до Янцзы, они потрясли империю до основания. Кидани и тангуты угрожали суверенитету Сун — чжурчжэни угрожали ее выживанию.
Лу Ю сполна прочувствовал на себе это потрясение. Всю свою жизнь он выступал против позорной потери севера и во всеуслышание осуждал тех, кто склонялся к примирению с врагом, поэтому неудивительно, что его профессиональная карьера так и не сложилась. Стихотворение «Луна над горой на границе», написанное в 1150-х годах, говорит само за себя.
Пятнадцать лет назад вышел указ.- нужно мириться с захватчиком;
Наши генералы больше не сражаются, они стоят без дела на границах.
Красные ворота [высших чиновников] безмолвны и неподвижны; внутри поют и танцуют;
Кони в стойлах жиреют и дохнут, луки лежат без тетивы...
О том, как ломали копья на центральной равнине, мы знаем лишь из старых преданий.
428
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
Но с каких пор вероломные варвары живут так долго, чтобы увидеть своих наследников?
Наши пленные, избежавшие смерти, молят об освобождении,
Сколько сейчас еще мест, где проливаются слезы? [22]
В столетия унижений, пережитых по вине монголов и маньчжуров, эти настроения отозвались во многих сердцах и обеспечили Лу Ю славу одного из выдающихся патриотических поэтов Китая. Однако враги, эти вероломные варвары — чжурчжэни, кидани, тангуты или монголы, — со временем сами превратились в существенные элементы той этнической смеси, которая позднее поддерживала китайский патриотизм.
Этнические ярлыки помогают разобраться в многочисленных не- ханьских режимах, однако могут создать ошибочное представление об их составе. Основанные на конфедеративных договоренностях с другими кланами, неханьские режимы никогда не были представлены только одной народностью. Все они были смешанными, и чем громче становилась их слава, тем больше народов они к себе присоединяли. Тангутские кланы сражались на стороне киданей и против них, кидани сражались на стороне чжурчжэней и против них, китайцы вместе с ними обоими и против них обоих. Не важно, что определяло этническую принадлежность — образ жизни, личность вождя, язык или мифология, — на каждом следующем этапе завоевания это понятие становилось все более размытым. Как и их современники-викинги, степные и лесные народы, стремительно нахлынувшие с севера (только на лошадях, а не на длинных ладьях), селились и обживались, заключали браки, приспосабливались к существующему обществу и пополняли собой его население и государственные учреждения.
Киданьская Ляо и тангутское Ся представляли собой дуалистические государства: их правители были одновременно императорами и каганами, при этом делами степных подданных ведала одна ветвь администрации, а делами ханьских подданных — другая1. Чжур-
1 Ко времени основания своего государства тангуты уже имели длительную историю полуоседлого и оседлого существования, и лишь некоторые тангутские кланы были в полной мере кочевниками и даже далеко не все — скотоводами. Многие тангуты занимались солеварением — вполне оседлым промыслом; многие жили в городах, часто вперемешку с китайцами. Все это делало разделение управления ненужным — все подданные Тангутского государства управлялись одинаково.
429
ГЛАВА 1 1
чжэни пошли дальше. Захватив киданьскую империю Ляо и северную половину Сун, они заявили, что их империя Цзинь1 (не путать с Западной и Восточной Цзинь в III—IV веках) является преемницей Сун. Сохранив национальную военную структуру, Цзинь приняла все конфуцианские атрибуты администрации ханьского образца, стремясь получить широкое признание в качестве легитимной Поднебесной империи. Как викинги, которые, поселившись во Франции и переняв местную культуру, примерно тогда же возобновили завоевательные походы и стали известны как французские «норманны» (т. е. «северяне»), чжурчжэньская Цзинь тоже может служить примером так называемого этнического наслоения.
Происхождение чжурчжэней так же неясно, как происхождение тюрок или киданей. Но в отличие от протомонголоязычных киданей или квазитибетоязычных тангутов чжурчжэни (иногда чжурчид, жучжэнь, нюйжэнь и т. д.) говорили на языке тунгусской семьи, получившей название по имени народа тунгусов, проживающего сейчас (и, возможно, тогда) в Восточной Сибири. К VIII веку, когда чжурчжэни появились на страницах летописей, они обосновались вдоль рек Амур (Хэйлунцзян), Уссури (Усули) и Сунгари (Сунхуа) на далеком северо-востоке Маньчжурии. Они вели простую жизнь, охотились в лесах, ловили рыбу, разводили быков и лошадей, выращивали урожай там, где это было возможно, стойко сражались, много пили и встречали суровые зимы в одежде из войлока и меха. У них было много кланов, однако общий язык и обычай часто собираться для обсуждения и совместного принятия решений сообщали им стойкое общее самосознание. Поддерживая контакты с говорившими на китайском языке земледельцами киданьской Ляо и широко расселившимися тюркоязычными и монголоязычными кочевниками, они, возможно, чувствовали себя среди них чужими. Высокомерное от¬
1 На чжурчжэньском языке империя называлась Амбань анчунь — Золотая империя, получившая свое имя от р. Анчунь (Золотая, ныне Аши), протекающей на севере современной провинции Хэйлунцзян, в родных местах царского рода Вонгьянь (кит. Ваньянь). Китайское наименование Цзинь является лишь переводом этого «золотого» наименования. Именно Да Цзинь (Великая Цзинь — именно так именовалась эта империя по-китайски; «Великой» именовалась и Ляо) можно считать первой империей в истории Китая, чье наименование (по крайней мере, в китайском варианте) не связано с географическими или удельными деталями в ранней биографии правящего рода, а выбрано за звучность и красоту.
430
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
ношение со стороны киданей подпитывало стремление чжурчжэней к независимости уже в XI веке. В начале XII века среди них появился энергичный вождь, стоявший во главе мощного клана, который разжег эти настроения, собрал несколько сотен сторонников и, выиграв ряд сражений, нашел достаточно последователей среди чжурчжэней и других племен, чтобы бросить вызов самой империи Ляо.
ПРАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ в 1000-1300 гг.
ю
СВ
сз
ЮЖНАЯ
СУН
СЕВЕРНАЯ
СУН
ЛЯО
(КИДАНИ)
цзинь
(ЧЖУРЧЖЭНИ)
монголы
СЯ
(ТАНГУТЫ)
_1 _! | | | | | | | I Г
1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300
Его звали Агуда (пр. 1113-1123), и, как было с основоположником киданьской империи Абаоцзи или основателем тангутской империи Вэймин Юаньхао (или даже с монгольским Чингисханом), волна успеха с поразительной скоростью вынесла его на вершину империи. Став вождем чжурчжэней в 1113г. после смерти своего брата, в следующем году Агуда столкнулся с пограничными силами Ляо. Убедительная победа оставила мало шансов (и еще меньше желания) для дружественного урегулирования конфликта. Агуда показал себя серьезным соперником, заявив об основании собственной империи Цзинь. В 1115г., встав во главе армии, насчитывавшей, по современным оценкам, сто тысяч человек, он победил императора киданьской Ляо и разгромил армию, семикратно превосходящую числом его собственную. Киданьская империя осталась беззащитной, и Агуда двинулся на юг, из пустошей Северной Маньчжурии в Ляонин. У ки-
431
ГЛАВА 1 1
даньской империи Ляо было пять столиц, по одной на каждую сторону света и еще одна в центре. Восточная столица (в Ляонине) пала перед чжурчжэнями в 1116 г., северная (во Внутренней Монголии) — в 1120 г., центральная (в северном Хэбэе) — в 1122 г. Позднее в том же году чжурчжэни захватили южную столицу (теперешний Пекин).
Неясно, насколько повлияло на эти драматические события то, что на южной границе киданьской империи Ляо в это время бряцала мечами Сун. Цай Цзин и другие государственные деятели Сун, не оставлявшие надежды вернуть давно потерянный северо-восток, в 1115г. задумались о союзе с чжурчжэнями против Ляо. Контакт завязали по морю, чтобы избежать передвижения по территории Ляо, и под предлогом покупки у чжурчжэней лошадей в 1117 г. начались официальные переговоры. Впрочем, они продвигались с трудом, то и дело спотыкаясь о вопросы сюзеренитета и протокола, а также постоянное изменение обстановки, вызванное скоростью продвижения чжурчжэней. Сун планировала захватить южную столицу Ляо (Пекин) и для этого выдвинула сильную армию под командованием опытного военачальника, евнуха Тун 1уаня. Но в 1121 г. Тун Гуань был отозван, чтобы подавить восстание в Чжэцзяне, а в следующем году армия киданьской Ляо разгромила его наголову. Поэтому в то время Пекин достался Агуде, пополнив его коллекцию захваченных столиц. Двор киданьской Ляо бежал на запад в Датун (север Шаньси), в одну из оставшихся столиц. Чжурчжэни и Сун еще какое-то время спорили об условиях союза, и в 1123 г. был заключен новый договор. Однако его нечеткие условия, как показало время, раздражали обе стороны, и отношения потенциальных союзников в конце концов превратились в войну.
В том же 1123 г. Агуда умер. Всего за десять лет он создал из ничего империю, покрывавшую всю территорию современного северо-восточного Китая. Он велел разработать чжурчжэньскую письменность, взяв за основу письменность киданей1, и использовать ее для династических и административных документов, хотя она не получила такого распространения, как письменность киданей и тангутов. Он создал чрезвычайно эффективную систему мобилизации и контроля подданных, объединив их в подразделения, во главе каждого из которых
1 Существовало две киданьские письменности — иероглифическая (большая) и алфавитная (малая). Связь с ними чжурчжэньского письма неочевидна (кроме использования некоторого количества знаков большого письма).
432
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
стояли его верные родичи, отвечавшие за поставку тысячи бойцов от каждого подразделения. Родичи, в свою очередь, ставили членов своих кланов во главе подразделений, состоявших из ста семей и обязанных поставлять сотню бойцов. Стандартизованная, но способная к неограниченному расширению, эта система мудро опиралась на племенную лояльность, обеспечивала подчинение покоренных народов и их мгновенную мобилизацию. В результате Агуда оставил после себя практически неодолимую боевую силу численностью около миллиона человек
В соответствии с династической практикой Тан и Сун Агуда получил посмертный титул Тай-цзу, а наследовавший ему младший брат стал Тай-цзуном (пр. 1123-1235). Последний без лишних проволочек снова повел чжурчжэней в наступление. Перед тем как напасть на Сун, чжур- чжэни в 1124 г. принудили Великое государство Белого и Высокого, то есть тангутское Ся, отвергнуть номинальную преданность Сун и признать себя «внешним вассалом» империи Цзинь. Оставшиеся силы ки- даньской Ляо были оттеснены в пустыню Гоби, а их последний император попал в плен. В 1125 г. чжурчжэньская Цзинь заняла место Ляо и рассеяла киданей, обеспечила нейтралитет Ся и собиралась взять Сун.
На этом этапе киданьская Ляо, хотя и потерпевшая основательное поражение, ни в коем случае не прекратила свое существование. Еще один векгосподства в других областях Азии ожидал стойкий киданьский народ. Хотя этот период нередко рассматривают как малозначительный несущественный постскриптум двухсотлетнего существования на территории Китая, вторая киданьская империя заслуживает большего. Она была, пожалуй, даже более обширной, чем первая. И, вскрыв беззащитность городов и народов, живущих вдали от степи, перед быстроходными армиями, овладевшими перемещениями на дальние расстояния, она послужила для многих ярким примером. Если предположить, что будущий Чингисхан изучал новейшую историю своего времени, достижения киданей в Центральной Азии, вероятно, могли вдохновить его даже больше, чем внезапный успех чжурчжэней в Китае.
Ко времени смерти Агуды в 1123 г. часть киданей уже перешла на сторону чжурчжэней. Другие бежали в Монголию и там объединились с монгольскими гарнизонами Ляо под командованием выжившего представителя правящей семьи. Елюй Даши объявил себя императором в 1131 г. и, повернувшись спиной к Монголии и чжур- чжэням, повел своих людей далеко на запад. Они проследовали через Северную Монголию, когда-то принадлежавшую кыргызам и другим
433
ГЛАВА 11
тюркским народам. Достигнув озера Балхаш на территории современного Казахстана, император без империи остановился и начал заново строить в Центральной Азии утраченную киданьскую империю Ляо. Вскоре она заняла обширную территорию к северу от Амударьи и вобрала в себя все великие города Согдианы, Ферганы и Синьцзяна. Долгое время прожившие в Северном Китае, окруженные верными ханьскими сторонниками и свободно говорившие на китайском языке, киданьские правители новой империи способствовали распространению культурных и административных норм, прин нятых в предыдущий период существования империи на территории Китая. Пожалуй, их самих легко можно было принять за китайцев. Чтобы избежать путаницы, они назвали свою империю Западная Ляо, а народ — кара-китаями («черными киданями»). Это название европейские путешественники в XIII веке воспроизвели на своем языке, а затем распространили на весь Северный Китай. Как «Катай» оно появилось в записках Марко Поло1. Западная Ляо никогда не оставляла надежды вернуть себе прежнюю империю, но, двигаясь на восток, она столкнулась с Ся в Ганьсу и не смогла идти дальше. Великое государство Белого и Высокого, давно привыкшее к киданьской угрозе со стороны восхода солнца, вероятно, было несколько удивлено, обнаружив аналогичную угрозу со стороны заката. Но тангуты держались стойко. До конца XII века, по словам одного авторитетного ученого, «Западная Ляо [Кара-Китай], [тангутская] Ся, чжурчжэньская империя Цзинь и империя Южной Сун в [Южном] Китае были четырьмя крупнейшими материковыми державами в Восточной Азии» [23].
1 Слова «Катай» и «Китай», веками использовавшиеся для обозначения севера Китая (или всей этой страны), по всей вероятности, происходят не от государства кара-китаев, крайне далекого от Северного Китая, а от киданьской империи Ляо и вошли в европейские языки, скорее всего, при посредничестве монгольского языка, в котором Китай и ныне именуется Хятад — «кидани». Другим распространенным топонимом для обозначения Северного Китая (особенно в арабских и персидских источниках) вплоть до XII-XIII веков было слово «Табгач» — эхо еще более давней империи Северная Вэй. Южный Китай прибывавшие по морю иноземцы чаще именовали Чин или Мачин (Махачин, Великая Чин) — по старому имени первой империи Цинь, воспринятой ивду- сами и переданной ими персам и арабам. Иногда топонимом Чин именовали и север Китая: единство топонимики в средневековых трактатах было не слишком развито. Веками иноземные географы пребывали в уверенности, что Северный и Южный Китай — две совершенно разные страны, многие даже не верили, что они находятся рядом друг с другом.
434
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
После того как чжурчжэни, неумолимо двигаясь на юг, пересекли Хуанхэ и в начале 1127 г. со второй попытки захватили сунскую столицу Кайфэн, Северная Сун внезапно стала Южной Сун. Великий сунский евнух и генерал Тун гуань попал в опалу после первого нападения, министр-реформатор Цай Цзин, предвосхитивший современные методы самоуправления, исправился, совершив самоубийство. Опытные специалисты и войска покинули Сун в час нужды, стойкое сопротивление оказалось бесполезным. Когда Кайфэн пал, в плен попали два императора: ценитель искусств Хуэй-цзун и незначительный Цинь-цзун (пр. 1126-1127), в пользу которого Хуэй-цзун недавно отрекся. Их отправили в столицу чжурчжэней недалеко от Харбина в далекой Маньчжурии, где они оставались в заложниках. Хуэй-цзун получил там имение и позорный титул Хуньдэ, что означает «Запятнанная добродетель», а Цинь-цзун — титул Чунхунь, что означает «Дважды запятнанный». Чжурчжэни относились к ним достаточно разумно, но обоим пленным не суждено было снова увидеть родину.
Предупрежденный заранее, младший сын «Запятнанной добродетели» избежал захвата в Кайфэне и, сплотив вокруг себя силы сопротивления, был объявлен следующим императором Сун. Именно он получил посмертный титул Гао-цзун (пр. 1127-1162) — «предок- основатель» почитаемой империи Южная Сун (1127-1279). Первые годы его правления были неблагоприятными. Армии чжурчжэней наступали из Хубэя и Сычуани, гоня перед собой силы Сун. Несколько раз они даже пересекали Янцзы. В 1129 г. они штурмовали временную столицу Южной Сун в Ханчжоу, на побережье провинции Чжэцзян. На этот раз Гао-цзуну удалось ускользнуть благодаря сунскому флоту. Ни один император раньше не спасался бегством по морю, и хотя его быстро вернули на берег, это событие имело далекоидущие последствия. Береговая линия редко участвовала в китайских стратегических расчетах как граница, а море в космической теории не считали частью Поднебесной. Польза морей заключалась в рыбе, соли и прибывающей дани (или купцах с товарами). Но при Сун, и особенно Южной Сун, отношение изменилось. Военно-морские флотилии начали выходить из рек на морские просторы, торговые корабли пересекали открытое море. Монгольские амбиции за пределами Китая ускорили развитие морского флота, и при династии Мин в XV веке Китай на короткое время простер свою власть над волнами мира.
435
ГЛАВА 1 1
Однако все это не слишком утешало Гао-цзуна, основателя Южной Сун, поскольку со стороны чжурчжэньской Цзинь он по-прежнему терпел унижения и поражения. В 1130-х гг. Цзинь отказалась от ки- даньского прецедента правления наполовину степной, наполовину земледельческой империей и решительно сосредоточилась на господстве в центральных областях Китая. Империя Ся в Ганьсу, народ кара-китаев Западной Ляо, народы Монголии всегда были лишь далекими, случайными и однозначно номинальными вассалами Цзинь1. В летописях говорится о военном походе против мэн (раннее упоминание монголов), которых, однако, «не удалось покорить». Вместо этого в 1146 г. с главой мэн (вероятно, Хабул-ханом, прадедом Чингисхана) был подписан договор, фактически обозначавший подчиненное положение Монголии по отношению к Цзинь. Даже родина чжурчжэней в Маньчжурии потеряла престижный статус после великой миграции чжурчэньских кланов на юг, в Хэбэй, Хэнань и Шаньси. Переселение завершилось в 1151г., северная столица близ Харбина в Маньчжурии была заброшена в пользу южной столицы (будущий Пекин, и чжурчжэньская Цзинь стала первой империей, правившей Чжунго из этого города). Чжурчжэни явно собирались остаться надолго. Они создали не соседнюю пограничную империю, а практически настоящее Срединное царство, сердцем которого была долина Хуанхэ.
Однако масштабы завоеваний Цзинь и соотношение сил (два-че- тыре миллиона чжурчжэней на тридцать-шестьдесят миллионов северного ханьского населения) были таковы, что Цзинь еще десять лет пыталась решить задачу поддержания мира на границе с помощью искусственно созданного буферного государства. Так к югу от реки Хуанхэ возникло еще одно Чу, затем еще одно чуть дольше просуществовавшее Ци (1130-1137). Только новый договор с Южной Сун, заключенный в 1142 г., положил конец экспериментам в области непря¬
1 Что касается монгольских степей, то там Золотая империя вела себя совсем иначе, чем кидани, которые покрыли степь целой сетью крепостей, заселенных лояльными Ляо оседлыми колонистами. Эти крепости немало способствовали проникновению в степи буддизма и христианства, а также других достижений цивилизации. Чжурчжэни были не в состоянии поддерживать эту дорогостоящую оборонительную линию и вели в степях более традиционную политику, натравливая одних кочевников на других и стараясь не допускать чрезмерного усиления ни одного из племен. До поры до времени эта политика шла довольно успешно.
436
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
мого правления. Цзинь следовало обезопасить свою южную границу. У чжурчжэньских армий на юге не все шло благополучно. Как многие до них, они нашли там изматывающий малярийный климат и непригодную для верховой езды местность. Кроме того, сунский флот сделал опасными переправы через реки. В целом Цзинь решила, что лучше оставить Сун все, что не удалось сразу покорить. Вдоль реки Хуайхэ примерно в 150 километрах к северу от Янцзы была проведена взаимно согласованная граница. Сун должна была выплачивать Цзинь ежегодную дань, примерно равную той, которую Северная Сун платила киданьской Ляо.
Однако сумма была не так важна, как признание Сун того факта, что это действительно дань. На этот раз императорскую скромность не пощадили обычными эвфемизмами. В подтверждавшей договор клятве Сун пришлось называть свою империю «наше незначительное государство», а Цзинь — «ваше превосходное государство». За все эти унизительные уступки Сун получила взамен лишь обещание о ненападении и тело недавно скончавшегося Хуэй-цзуна, «Запятнанной добродетели», отца основателя Южной Сун. Сун стала вассалом Цзинь, и их император «вероятно, считал договор, который вынужден был заключить, нижней точкой своей карьеры». Он даже не получил родственного статуса как «младший брат», «сын» или «племянник» императора Цзинь — вместо этого он должен был называть себя «слуга Гоу». Гоу было личным именем Гао-цзуна, и это было вдвойне унизительно, поскольку личные имена императоров считались табу. «Вероятно, [это] окончательно исчерпало его запасы самоотречения» [24].
Мир длился почти двадцать лет; именно против этого «указа» Лу Ю, выражавший настроения сунских реваншистов, так горячо возражал в стихотворении «Луна над горой на границе». Между тем «вероломные варвары», то есть чжурчжэньская Цзинь, действительно «увидели своих наследников», хотя вряд ли увиденное их сильно обрадовало. Чтобы организовать новую империю, Цзинь требовалось не просто приспособиться к ханьским нормам, но и покончить с собственным племенным наследием. Прежние политические традиции, такие как периодические советы вождей чжурчжэней, уже были отменены как несовместимые с достоинством императора. Затем в пику чжур- чжэньскому шовинизму ханьских подданных освободили от обязанности носить чжурчжэньскую прическу. Это было не династическое
437
ГЛАВА 1 1
новшество, наподобие тонзуры Ся, а стандартный знак подчинения1; прическа подразумевала бритье передней части головы, и в XVII веке этот стиль с прибавкой к нему косы был снова принят поздними чжурчжэнями, которые называли себя маньчжурами. Следующий шаг к порядку в империи серьезно ограничил независимость чжурчжэнь- ской придворной знати и вождей кланов в провинциях. Теперь их полномочия ограничивались набором рекрутов для военной службы.
Бюрократия ханьского образца, частично набранная через экзамены и полностью зависимая от императора, взяла на себя административные обязанности. Были пересмотрены налоговые ведомости, проведена перепись, поощрены ученые, розданы степени и возвышен буддизм, хотя его продолжали строго контролировать. Литература процветала; большую популярность приобрели новые литературные жанры, в том числе музыкальные драмы. Придворные ритуалы и этикет императорского Китая переняли почти без изменений, отказавшись лишь от ограничений конфуцианской морали и протестов министров. Власть императора была поистине абсолютной, а племенные обычаи скорого суда и расправы самым неоспоримым образом подкрепляли беспрепятственное осуществление этой власти.
За всеми этими изменениями стояли два императора-тирана: пьяница Си-цзун (пр. 1135-1149), и его двоюродный брат и убийца, развратный принц Хайлин. (Такой деспот, как он, даже не мог рассчитывать на посмертный титул, однако правил он довольно долго, с 1149 по 11б1 г.). Если Си-цзун изображен в хрониках как никчемный прожигатель жизни, то Хайлин как кровожадное чудовище. «В галерее злодеев китайской истории Хайлин-ван занимает почетное место, — саркастически замечает Герберт Франке в «Кембриджской истории Китая». — Он даже стал антигероем в популярной порнографии, где его подвиги расписаны с особенной живостью» [25]. Оба императора безжалостно расправлялись с врагами, казнили потенциальных соперников и, вопреки обычаям, подвергали насилию их женщин. Они были жестокими и опасными самодержцами. Однако в основном их жертвами становились не ханьцы, а вожди чжурчжэней. Оба говорили на китайском языке и получили воспитание в традициях конфуциан¬
1 Здесь усматривается желание изменить природу подданных путем изменения их внешнего вида. Китаец, выглядящий как чжурчжэнь, почитался почти чжурчжэнем — а значит, верным и лояльным подданным.
438
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
ской классики. Хайлин, по общему мнению, писал изящные стихи. Он обладал немалым умом, и, вселяя в подданных страх, руководствовался своеобразным убеждением, будто террор является неотъемлемой частью авторитарной традиции правления ханьских императоров.
Обладая территорией и престижем, о которых все предыдущие завоеватели могли только мечтать, Цзинь, вероятно, чувствовала себя окончательно удовлетворенной после договора 1142 г. То же можно сказать о Сун, которая, несмотря на жалобы Лу Ю, не только выжила, но и сохранила контроль над самым производительным, по тогдашним меркам, районом Китая. Торговля между двумя империями возродилась, дипломатические тонкости неукоснительно соблюдались. Однако в 1161 г. принц Хайлин, возможно для того, чтобы положить конец своей чрезвычайной непопулярности, предпринял масштабное новое вторжение на территорию Сун. Сун нанесла ответный удар в 1206-1208 гг. Ни то ни другое наступление не достигло своих целей и существенно не изменило политическую географию; скорее они даже привели к обратным результатам.
Нападение Цзинь в 1161 г. быстро отразили. Не пользовавшаяся популярностью, эта политика, однако, привела к убийству чудовищного принца Хайлина, после чего на престол взошла его полная противоположность. Двоюродный брат Хайлина Ши-цзун (пр. 1161-1189) восстановил доброе имя династии чжурчжэней и заслужил высокую оценку официальных историков благодаря своей умеренности и здравому смыслу. Восстания среди киданьских подданных Цзинь были подавлены. Чувства чжурчжэней смягчили новыми должностями и поддержкой высоко ценившихся чжурчжэньских традиций: охоты, стрельбы из лука, национального языка и письменности. Между тем ханьцев Ши-цзун умиротворил, проявляя большое уважение к Чжоу- гуну и его далекой утопической эпохе. Как любой хороший конфуцианец, Ши-цзун призвал взять ее за образец, к которому следовало стремиться цзиньскому Китаю1. Мир с Сун был восстановлен неболь¬
1 Чжурчжэньская империя внесла немалый вклад и в историю даосизма. К концу XII века большую популярность получила основанная Ван Чун-яном (1112-1169) даосская школа Цюаньчжэнь — Совершенной истины, в числе первых вождей которой было немало чжурчжэней и чжурчжэнек В отличие от не слишком организованного южного даосизма «Небесных наставников» эта школа требовала от своих адептов строгой монашеской дисциплины и самосовершенствования в монастырях, в чем, конечно, прослеживается буддийское влияние (не зря Цюаньчжэнь иногда называют «даоским чань»). В начале монгольской эпохи даосизм Совершенной истины чуть было не стал государствен¬
439
ГЛАВА 1 1
шой ценой. Из «слуги» император Сун был повышен до «племянника», а его ежегодная «дань» превратилась в простую «плату». Сумма не изменилась, и превосходство Цзинь не нарушилось, но теперь оно носило покровительственный, а не повелительный характер.
Однобокая природа этих отношений не давала покоя Сун, и в 1206 г. она решила положить конец четырем с половиной десятилетиям в основном мирного сосуществования, объявив войну. Чтобы оправдать свои действия и в надежде привлечь перебежчиков, Сун заявила, что Цзинь «через свои злые деяния и невежество потеряла Небесный мандат и, следовательно, законное право управлять своей страной» [26]. Очевидно, чтобы потерять мандат, она должна была для начала его иметь; из этого следовало, что Сун уже давно правила вопреки Небесному мандату — маловероятное допущение — или что под Небесами действительно было два законных правителя. По иронии судьбы, чтобы разрешить этот конфликт мандатов, понадобился третий участник, который в том же 1206 г. на берегах реки Онон в центральной Монголии был провозглашен ханом всех монголов.
Но, пожалуй, заявление Сун, что Цзинь потеряла Небесный мандат, тогда казалось вполне обоснованным. В последнее время неприятности сыпались на Цзинь со всех сторон. На севере монгольские набеги вынуждали Цзинь тратить значительные средства на укрепления и карательные экспедиции. Дополнительное налогообложение, призванное покрыть эти расходы, в значительной степени ложилось на крестьян центральной равнины, которые и без того боролись с проклятием своего времени — инфляцией, вызванной нехваткой монет, плюс обычными для конца любой империи засухами, болезнями, нашествиями саранчи и все более частыми наводнениями. С 11б0-х годов река Хуанхэ вела себя довольно беспорядочно. В районе Кайфэна в 1170-х гг. и дальше вниз по течению в Шаньдуне в 1180-х случались
ной религией новой империи: в 1219 г. к Чингисхану, воевавшему в Хорезме, был приглашен тогдашний глава школы Цю Чуцзи (Чанчунь) (1148-1227) — один из «семи бессмертных», ученик Ван Чун-яна. Он проехал через Монголию, Алтай, Джунгарию, Киргизию, Ташкент, переправился через Амударью и нагнал Чингисхана только у Гйндукуша, в Афганистане. Хан спрашивал даоса про возможности достижения бессмертия, и, хотя даос честно ответил, что верных средств для этого не существует, этот разговор стал началом близости даосов этого толка к монголам. Им были отданы многие буддийские монастыри, к их наставникам прислушивались, что продолжалось до правления Хубилая, который сделал выбор в пользу тибетского буддизма школы сакья.
440
ШАГ НАЗАД. 1005-1235
серьезные наводнения. Очевидно, заиление дна поднимало воды реки до такого уровня, что дамбы уже не могли справиться с потоком, а Цзинь не хватало опыта, чтобы решить эту проблему
Бедствие разразилось в 1194 г. Река в нескольких местах вышла из берегов. Она не только превратила обыкновенно плодородную пойму в бесплодную водную гладь, но и полностью изменила курс. Она миновала каналы, которые ранее направляли ее в устья к северу от полуострова Шаньдун, и проложила новый маршрут по пересеченной местности (позднее включенный в Великий канал) до устья реки Хуайхэ к югу от полуострова Шаньдун. Таким образом, река с точностью до наоборот повторила свое великое перемещение, случившееся в 11-12 гг. Тогдашнее стихийное бедствие подорвало фундаменталистскую программу реформ Ван Мана, наглядно продемонстрировав, что его династия из одного человека потеряла Небесный мандат. Теперешние события тоже как будто подтверждали, что Цзинь утратила благосклонность Небес.
Разрушение коммуникаций и прекращение поставок зерна нанесло населению страны не менее тяжелый удар, чем потеря сельскохозяйственных культур и имущества. Начался голод и волнения. Экономически искалеченная и лишенная династической легитимности, Цзинь теперь выглядела легкой добычей для Сун. Без сомнения, поэт- реваншист Лу Ю, которому в то время было уже за семьдесят, оказал посильную поддержку разжигателям войны в столице Сун Ханчжоу. Затем Цзинь усугубила свое положение демонстративной попыткой закрепить собственную легитимность. После нескольких лет жарких споров в 1202 г. Чжан-цзун (пр. 1189-1208), следуя теории пяти элементов, торжественно выбрал для своей династии покровительство земли (цвет желтый, и т. д.). Этот шаг недвусмысленно обозначал, что Цзинь считает себя единственным держателем Небесного мандата, а Южную Сун — своим вассалом. Предметом долгой дискуссии было главным образом то, на каком именно элементе следует остановиться, а это зависело оттого, от какой империи — Северной Сун, киданьской Ляо или Тан — предположительно был унаследован мандат. Наконец решение приняли в пользу Северной Сун, элементом которой был огонь (цвет красный, и т. д.); последовательность фаз в ее тогдашнем понимании диктовала, что вслед за ней должна прийти земля.
Ничуть не смутившись тем, что покровительством стихии земли пользовались такие долгоживущие империи, как Хань и Тан, Сун по¬
441
ГЛАВА 1 1
спешила начать вторжение. В 1208 г. силы Сун продвинулись на север, перейдя Хуайхэ. Они встретили неожиданно стойкое сопротивление и обнаружили удивительно мало перебежчиков. Вдобавок к этому восстала Сычуань, часть их собственной империи. Как и нападение Цзинь в 1161 г., эта кампания почти ничего не достигла, разве что дискредитировала сторону агрессора. Лу Ю успел увидеть в конце жизни этот неудачный поход и умер разочарованным.
Это было в 1210 г. Через год монголы прекратили спорадические набеги на территорию Цзинь и развернули полномасштабное вторжение. Чингисхан лично возглавлял одну из двух армий, насчитывавших около пятидесяти тысяч хорошо снаряженных конных лучников, которые начали систематически грабить цзиньскую империю. Датун в Шаньси был захвачен, Пекин осажден. В 1213-1214 гг. захватчики вернулись за новыми победами, новой добычей и перемирием, условия которого совершенно унизили Цзинь. Перемирие продолжалось год. Когда Цзинь из соображений безопасности перенесла столицу в Кайфэн, Чингисхан счел это нарушением договора. Монголы вернулись и в 1215 г. взяли Пекин.
В то время целью монголов было подчинение и добыча, а не троны и территории; время завоевания и правления пришло позже. Поэтому в следующие два десятилетия, пока Чингисхан терроризировал остальную Евразию, Цзинь оставили на милость его заместителей. Маньчжурия вскоре была потеряна, хотя территория Цзинь к югу от Хуанхэ осталась нетронутой, а в других местах ущерб удалось частично возместить, и рассеянное население вернулось на свои места. Восстановить армию оказалось сложнее. Многие чжурчжэни и ки- дани переметнулись к монголам; призывы о помощи к Ся и Южной Сун встретили презрительный отказ. Когда в 1228 г. монголы вернулись с огромным войском, армия Цзинь, состоявшая к тому времени в основном из ханьцев, все же сумела оказать им ожесточенное сопротивление. Оно продолжалось до 1233 г., когда Кайфэн наконец пал под натиском врага. Последний император Цзинь через год совершил самоубийство. Династия, которая при всех своих ошибках подала пример (принятый затем монголами и маньчжурами), как неханьские правители могут расположить к себе подавляющее большинство ханьского населения, доказала, что достойна Небесного мандата: умереть с честью было предпочтительнее, чем жить с позором мнимого отречения. И Южная Сун, когда пришла ее очередь, уже знала, чего от нее ожидают.
12
На суше и на море
(1235-1405)
ЗАКАТ СУН
После Сун было всего три империи: монгольская Юань (1279-1368), Мин (1368-1644) и маньчжурская Цин (1644-1912). Несмотря на однозначную легитимность, с точки зрения китайцев, всем им чего-то не хватало. Первую и последнюю обыкновенно изображали как «чужую власть», равнодушную к тяготам китайских подданных, а коренную и во многих отношениях замечательную империю Мин обвиняли в снижении международного статуса Китая по сравнению с европейскими державами, которые начали заходить в порты Китая к концу ее правления. Таким образом, на вершине династической траектории оставалась Сун. И именно ее, а точнее, предзакатную вспышку Южной Сун (1127-1279) стали воспринимать как «век зимородка», золотой век императорского Китая.
С каждым новым вторжением с севера на юг прибывали таланты и ремесленники, беглецы и колонисты. Спрос на чернила и краски был особенно высок среди художников и каллиграфов, поэтов, философов, драматургов и составителей дневников, усердно работавших кистями в мягком климате Южной Сун. Печатные книги по разумным ценам получили широкое распространение, знатоки и коллекционеры вздыхали над пейзажной живописью непревзойденной изысканности, а производство прекрасных лаковых изделий достигло промышленных масштабов.
Прежде всего это был «классический период китайской керамики» [1]. Техническое мастерство сочеталось с возрождением ин-
443
980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300
Тай-цзу
(960-976)
Тай-цзун
(976-997)
Чжэнь-цзун
(998-1022)
Жэнь-цзун
(1022-1063)
Ин-цзун
Шэнь-цзун
(1068-1085)
Чжэ-цзун
(1086-1101)
Хуэй-цзун
(1101-1125)
Цинь-цзун (11267"
ЮЖНАЯ СУН
Гао-цзун
(1127-1162)
Сяо-цзун
(1163-1190)
гуан-цзун (1190-1194)
Нин-цзун
(1195-1224)
Ли-цзун
(1225-1264)
Ду-цзун (1265-1274)
1ун-цзун /Дуань-цзун /БинДи
40
0 \|
1
СП
(Агуда) Тай-цзу (1115-1123)
(Уцимай) Тай-цзун (1123-1135)
Си-цзун (1135-1149)
принц Хайлин (1149-1161)
Ши-цзун
(1161-1189)
Чжан-цзун
(1189-1208)
Вэйшао (1209-1213) Сюань-цзун (1213-1224)
Ай-цзун (1224-1234)
Гун-цзун (1275) Дуань-цзун (1276-1278) БинДи (1279)
Чингисхан
(1167-1227)
Угэдэй
(1229-1241)
Мункэ(1251-1259)
Хубилай
(1260-1294)
444
ПРАВИТЕЛИ СУН И ЦЗИНЬ
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
тереса к архаическим формам, и для богатого и взыскательного внутреннего рынка производили керамику сдержанно элегантных форм. Растущий спрос на товары для экспорта удовлетворяла продукция южных печей, находившихся в пределах досягаемости по водным путям от побережья, особенно в Цзиндэчжэне в провинции Цзянси. Здесь залежи высококачественной глины, обогащенной каолином, позволяли получать посуду с тончайшими стенками и прозрачной глазурью сине-белой (цинбай) палитры. Вероятно, именно посуду цинбай Марко Поло назвал фарфором и приписал ее изготовление месту под названием «Тюнджу», вероятно, имея в виду Цзиндэчжэнь. «Нигде больше не делают такой посуды, кроме этого города, а оттуда ее развозят по всему миру» [2]. Вместе с другими керамическими изделиями фарфор из Цзиндэчжэня проник во все порты Восточной и Юго-Восточной Азии и дальше в Индию, Египет, Европу и Восточную Африку. Около 1340 г. в Цзиндэчжэне начали производить сине-белый фарфор с росписью, тоже предназначенный преимущественно на экспорт. Главный кандидат на сомнительное звание «первого по-настоящему глобального бренда», сине-белая посуда из Цзиндэчжэня стала известна в английском языке как «китайская посуда» (<China-ware) или просто «фарфор» (china) [3].
Объяснение происхождения этого названия мы находим у Марко Поло. Когда его монгольские хозяева произносили слово «Чин» (так Поло воспроизвел «Цзинь»1), «они имели в виду Маньцзы», сообщает он. Очевидно, имперское название чжурчжэньской Цзинь монголы распространили на все области Китая, которые им предстояло победить, а «Маньцзы» — это сделанная самим Поло транскрипция двух иероглифов, обозначающих земли аборигенных «народов мань» (так северяне презрительно называли подданных Южной Сун) [4]. Поскольку Южная Сун еще процветала в то время, когда Поло, по его утверждению, прибыл в эти места примерно в 1270-х гг., Чин и Маньцзы были одним и тем же. Восточно-Китайское море называли морем Чин, а фарфор, который отправляли из его портов, был известен иностранцам как «посуда из Чин» (Chin ware, china-ware).
1 Это возможно, но надо учитывать, что, во-первых, монголы именовали Цзинь «государством Алтан-хана (то есть Золотого императора)»; а во-вторых, в те времена слово цзинь звучало как кйим или кйем — не очень похоже на Чин. Скорее всего, тут использовался старый индо-арабо-персидский термин, восходящий к Цинь.
445
ГЛАВА 12
Поэтому, вероятно, нет никаких оснований закидывать этимологический невод в века безмолвия и пытаться выловить связь с упомянутой у Птолемея страной Синай, греко-римским названием «Синай / Тинай», индийским «Сина / Читан», Первым императором Цинь или царством Цзинь эпохи Сражающихся царств.
Морские порты и реки Южной Сун полнились кораблями, но до сих пор ни один дерзкий заморский гость не ставил под сомнение превосходство китайской культуры. Внешняя торговля некоторым образом компенсировала потерю севера и официально поощрялась государством. Местные чиновники и помещики вкладывали средства в торговлю, а финансисты и купцы участвовали в управлении, особенно в деятельности официальных монополий. Голод случался крайне редко, благополучие воспринимали как норму. Императоры внимательно относились к словам советников, мало кто пытался действовать в обход бюрократии. Вместе с фарфором и живописью по всей Восточной Азии распространялись высоко ценимые в Китае ценности и институты — их охотно перенимали в Японии, Корее и Вьетнаме1, они давали незаменимую прочную опору чужеземным режимам на севере и служили признаком неоспоримого престижа далеко за пределами страны. Китайский язык был лингва-франка всего региона, на нем писали и читали образованные люди от Центральной Азии до Ангкорской империи. Наследие Сун блистало даже на фоне ослепительных достижений Хань и Тан, и неудивительно, что после угасания империи ее вспоминали с ностальгией.
Однако на этот раз возвышение Сун было связано не столько с военной мощью и расширением территорий, сколько с интеллектуальными и культурными достижениями. Ни унижения, перенесенные по вине киданей и чжурчжэней при Северной Сун, ни потеря Северного Китая и капитуляция перед монголами при Южной Сун не смогли омрачить этот сверкающий образ. Особу императора бедствия почти не затронули — во всем обвиняли череду могущественных министров, таких как Цай Цзин, возвысившийся в этот период и отвечавший за форми-
1 Это усвоение китайских ценностей соседями началось в эпоху Тан — именно тогда, в начале IX века, появились обе японские азбуки, созданные под явным влиянием китайской письменности. Китайская иероглифика стала использоваться для записи японского языка еще раньше, в конце V — начале VII века, и примерно тогда же в Корее. К VIII веку относятся первые примеры использования китайских иероглифов для записи вьетнамского языка.
446
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
рование политического курса. Шесть фактически вступивших на престол императоров Южной Сун (последние трое были детьми) почти не заслуживают упоминания. Они были не святыми и не чудовищами, некоторые, как основатель Гао-цзун, довольно живо интересовались государственными делами, все сдержанно воспринимали замечания критиков, никто не отличался особенно волевым характером. Трос из шести отреклись или преждевременно удалились на покой: один был душевно болен, другие просто стремились предаться своим частным интересам, не отвлекаясь на министров и многословные поучения.
Но большую часть этого периода обладание Небесным мандатом оставалось под вопросом, и ощущение кризиса не отступало. За спокойной гладью озера Сиху в Ханчжоу — природной достопримечательности и парка увеселений, примыкающего к столице Южной Сун — за многочисленными пагодами и поросшими лесом холмами собирались грозовые тучи, и угроза конфликта вспыхивала, как летняя молния, на северном горизонте. В эту эпоху правили война и мир. Они диктовали ритмы политической жизни, определяли репутации, обостряли восприятие и заставляли сосредоточиться великие умы.
После потери в 1127 г. северной столицы Кайфэна Сун обрела доблестного защитника в лице Юэ Фэя, профессионального солдата, не слишком образованного, но обладавшего героическим характером. Из Нанкина, а затем Учана — недалеко от того места, где силы юга разгромили силы севера в битве у Красной скалы девять столетий назад, — Юэ Фэй повел людей через Янцзы и вверх по реке Ханьхэ. Рейды в глубь территории чжурчжэньской Цзинь в 1130-х годах более или менее восстановили честь оружия Сун. Вдобавок Юэ Фэй прославился тем, что подавил местное восстание и командовал огромной речной флотилией, в которую входили несколько кораблей с лопастными колесами. Сходную технологию водяного колеса использовали в системах орошения и уже давно приспособили для небольших лодок. Но эти корабли отличались размерами и числом лопастных колес.
Самые крупные суда оснащались вышками, на которых раскачивались цепи с дробящими ядрами. На палубах стояли метательные орудия (катапульты размером с пушку, которые использовали в осадной войне), стрелявшие дымовыми бомбами и зажигательными снарядами. За бронированными экранами на верхних и нижних палубах могли разместиться сотни солдат. Оснащенные двадцатью четырьмя
447
ГЛАВА 12
лопастными колесами — по двенадцать с каждой стороны, — эти речные гиганты, вероятно, рассекали волны, как настоящие хозяева водного пути. «Поистине замечательная технология», эти корабли не имели равных нигде в мире ни в прошлом, ни в тогдашнем настоящем. «Ни одна другая цивилизация не создала ничего подобного», — говорит Джозеф Нидэм [5]. Корабли приводила в движение многочисленная команда, и поскольку скорость их передвижения зависела от педального механизма наподобие беговой дорожки, по сути они были ближе не к лопастным пароходам, а скорее к гигантским водным велосипедам. Тем не менее они внесли весомый вклад и в легендарную репутацию Юэ Фэя и пополнили его военные силы, которые росли с каждой смелой победой.
Увы, в 1140 г. этот воинственный дух потерял популярность при дворе. Успехи Юэ Фэя воспринимали как угрозу, а его преданность Сун как обузу. Его громкая слава заставила Сун снова со страхом вспомнить о могущественных военачальниках, бросавших вызов гражданскому правлению, а его агрессивные высказывания шли вразрез с дипломатической работой, которую тогда вели в отношении Цзинь (и которая привела кзаключению договора 1141-1142) \ Поэтому Юэ Фэй был отозван, лишен командования, брошен в тюрьму за неповиновение, отравлен по приказу главного министра и стерт из официальной памяти. Только двадцать лет спустя, в 1161 г., когда Южной Сун снова угрожало вторжение Цзинь, организованное непопулярным принцем Хайлином, память Юэ Фэя была частично реабилитирована. Военные герои внезапно снова вошли в моду, а министр, на совести которого лежали позор и гибель Юэ Фэя, был заклеймен как презренный соглашатель.
Позже внуку Юэ Фэя удалось достать документы о свершениях деда и, приукрасив их, опубликовать в начале XIII века его хвалебную биографию. Это совпало с очередным приступом воинственности Сун — как раз в 1206-1208 гг., пока Цзинь приходила в себя после наводнений на Хуанхэ, армии Сун выступили на север, чтобы воспользоваться возникшими преимуществами. Атака вскоре захлебнулась, но нерушимые свойства напечатанного слова были таковы, что написанная внуком биография сделала Юэ Фэя и его подвиги, за которые
1 Немалую роль сыграло и то, что успехи Юэ Фэя могли привести к освобождению чжурчжэнями плененных ими северосунских императоров и двора, чей трон и места у него уже заняли новые люди, совершенно не готовые уступать их.
448
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
ему отплатили черной неблагодарностью, примером на все времена. В эпоху монгольского правления образ Юэ Фэя оброс мифологическими элементами, а при империи Мин Юэ Фэй получил статус «военного героя номер два во всей китайской истории» (по словам Ф.У. Мота), уступая только Гуань Юю, самому воинственному из трех верных товарищей, о которых рассказывает роман «Троецарствие». И гуань Юй, и Юэ Фэй стали героями бесчисленного множества романов и пьес, в их память воздвигались храмы. Лозунг «Вернуть наши реки и горы», обращенный против японских захватчиков в 1940-х годах, заимствован из стихотворения, которое предположительно сочинил сам прославленный в веках Юэ Фэй, а затем кто-то положил на музыку. Как автор строк «Мои волосы стоят дыбом под шлемом... Я отчаянно жажду насытиться плотью гуннов» (буквально «плотью сюнну», фигурально — чжурчжэней, монголов, японцев и любых других неханьских захватчиков), Юэ Фэй символизировал дух сопротивления нации. Впрочем, коммунистические кадры, сплотившиеся ради освобождения родины, должно быть, поперхнулись на последней строке песни — возвращение гор и рек было лишь прелюдией к тому, чтобы «снова восславить нашего императора» [6].
Однако в 1206-1208 гг. Сун так и не удалось отвоевать сколько- нибудь значительные территории, и разжигатели войны опять впали в немилость. Мир был восстановлен, еще один министр-милитарист поплатился жизнью: его голова, отправленная в подарок Цзинь, стала одним из пунктов мирового соглашения. В Ханчжоу возобладали миролюбивые настроения, что неудивительно, поскольку угроза со стороны Цзинь, столкнувшейся со всей мощью свирепых армий Чингисхана, значительно ослабла. Когда в 1233-1234 гг. монголы окончательно уничтожили Цзинь, в Ханчжоу все вздохнули с облегчением. Лишь через два десятка лет, когда монголы возобновили наступление вдоль Янцзы, поэтические завсегдатаи озера Сиху осознали, что такая же судьба, возможно, ожидает и их.
Затишье в военных действиях и торжество миролюбивых бюрократов Южной Сун над бряцающими оружием милитаристами вновь подняло вопрос о реформах. Находясь на вершине власти, Хань То- чжоу (тот военачальник, чью отрубленную голову отправили в подарок Цзинь) выступал против научной элиты и, в частности, против школы, которую он называл «ложной ученостью». Представители этой школы были осуждены и уволены с должностей. Среди них на¬
449
ГЛАВА 12
ходился человек, которого в настоящее время считают (позволим себе повторить удачную формулировку Ф. У. Мота) философом-мора- листом номер два во всей китайской истории, то есть вторым после самого Конфуция. Это был Чжу Си (1130-1200), гигант мысли, благ годаря которому возник новый курс, даже «новая культура», и утвердилась господствующая идеология оставшихся семи веков существования империи — мы говорим о неоконфуцианстве. В ближайшее время «конфуцианским убеждениям» предстояло стать более интеллектуально убедительными.
Возможно, с недобрым умыслом конфуцианство до эпохи Сун называли «скорее программой, чем философией» [7]. Не имея прочного фундамента в виде законов природы или божественных откровений, китайская наука обращалась к изучению прошлого с целью структурной легализации настоящего. С головой зарываясь в глубины задокументированной древности, она искала подходящую точку опоры — примерно как современные инженеры-строители на мягких аллювиальных почвах Китая должны глубоко бурить, чтобы обезопасить свои небоскребы. Записи любого рода носили библиографический характер и сопровождались обильными ссылками; составление антологий, исторических энциклопедий, географических справочников, биографических сборников и всех других сборников приобрело промышленный характер. Наука развивалась путем отбора, редактирования, интерпретации, составления перечней и воспроизведения существующих произведений других эпох. Возможно, этот непрекращающийся процесс ревизии был действительно бесплодным, как казалось Хань Точжоу, называвшему его «ложной ученостью». И все же у него была своя динамика. В 1170-х гг. переосмысленная Ван Аныии спорная «Чжоу ли» вызвала к жизни программу радикальных реформ. Количество работ, входящих в конфуцианский классический канон, на протяжении веков менялось от пяти до тринадцати: эти дополнения стимулировали развитие новых тенденций в мышлении и управлении и служили показателем этих тенденций1.
1 Во времена Конфуция говорили о пяти или шести канонах, в эпоху Восточной Хань — о семи, при империи Тан их стало девять (впрочем, в разных вариантах в это число могли входить разные тексты). На Кайчэнских стелах — двенадцать канонов, а во времена Южной Сун добавился тринадцатый — «Мэн- цзы». На этом формирование корпуса завершилось. Конфуцианская ученость не ограничивалась канонами, охватывая гораздо большее количество текстов.
450
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
В эпоху Сун обеспокоенность маргинализацией Сына Неба в космической и географической схеме «Поднебесной» заставила мыслителей мыслить, а писателей писать на порядок активнее, чем раньше. Благодаря ей появились объективные исторические труды Оуян Сю и Сыма Гуана, поднялся ажиотаж вокруг программы реформ Фань Чжунъяна и Ван Аньши, развернулись бесконечные дискуссии о преимуществах мирной жизни и рисках войны и предпринят срочный анализ всего конфуцианского наследия. Все эти виды деятельности можно назвать в самом широком смысле неоконфуцианскими. Этот термин, как и европейское «Возрождение», можно использовать, чтобы обобщить дух эпохи и подчеркнуть его определяющие характеристики. Это было не повторное открытие классического прошлого, но переоценка интеллектуального и этического наследия, издавна бережно хранимого, но до недавних пор неверно понимаемого.
Ситуация с научными источниками оставалась напряженной. Образование и традиции по-прежнему удерживали мысль в ограниченном русле конфуцианской классики и исторических хроник. В то же время эти хранилища мудрости были достаточно емкими и загадочными, способствуя развитию сложных и нередко противоречивых новых взглядов на динамику Вселенной, сущность человеческой природы и соответствующее им обоим общественно-политическое устройство. Однако среди этого брожения идей формирование групп и партий по-прежнему оставалось под строгим запретом. Конфуцианская традиция побуждала к самосовершенствованию: добродетель следовало искать внутри себя и через усердное наблюдение и пристальное изучение своих побуждений стремиться к тому, чтобы соблюдение нравственных норм стало второй природой. Поэтому выдающиеся ученые, такие как Чжу Си, хотя их и поощряли преподавать и публиковать свои работы, предпочитали подчеркивать свою связь не с современными мыслителями, а с мудрецами прошлого, и создавать своего рода родословную для своих идей. Этот «путь» или «великая традиция» связывала их с ключевыми фигурами, понятиями и цитатами письменной традиции.
Бородатый и лукаво прищуренный (если верить его портрету) и, очевидно, не слишком озабоченный карьерным ростом, Чжу Си подошел к составлению письменной родословной для своего учения
451
ГЛАВА 1 2
довольно экономно, создав «Четверокнижие» (Сы шу)1. Две из этих книг представляли части одного и того же текста, «Записей о благопристойности» (Ли цзи), возможно, созданной в IV веке до н. э. Чжу Си выбрал отрывки, реорганизовал их в две работы под названием «Великое учение» и «Срединное и неизменное», переосмыслил их, а затем ввел в свое «Четверокнижие». Другие две книги из четырех, также сильно сокращенные и вылощенные, были «Беседы и суждения» Конфуция и «Мэн-цзы», составленный учениками одноименного признанного преемника Учителя. Формируя «последовательное гуманистическое видение» и подчеркивая гуманную и социально ответственную сторону конфуцианства, «Четверокнижие» вскоре оставило далеко позади другие классические сочинения, а в XIV веке стало основным текстом для подготовки к отборочным и государственным экзаменам. Выученное на память миллионами, «в следующие шестьсот лет оно оказало на китайскую жизнь и китайскую мысль гораздо более сильное влияние, чем любые другие произведения» [8].
Изучая исторические хроники, Чжу Си проявлял такую же умеренность. Мифические пять императоров доисторических времен, до- императорские государства Ся и Шан и, конечно, великий Чжоу-гун обладали неоспоримой добродетелью. Но потом все покатилось по наклонной плоскости. Конфуций сумел передать накопленную мудрость прошлого, а Мэн-цзы облагородил и гуманизировал эту передачу; но принципами и рассуждениями, составлявшими основу их учения, слишком часто пренебрегали в общественной жизни. Нижняя точка была достигнута в X веке при империях-однодневках, таких как Поздняя Лян, самая недостойная из Пяти империй, о которых писал Оуян Сю.
1 «Четверокнижие» было Чжу Си составлено как комментированное издание наиболее важных, с его точки зрения, текстов конфуцианской традиции, с которых следует начинать изучение канонов. Неоконфуцианцы, в отличие от конфуцианцев древности, полагали наиболее важными книгами не древние чжоуские «Шан шу», «Ши цзин» и «И цзин», а тексты, созданные непосредственно Учителем и его учениками. Именно с этих текстов (в правильном комментарии) должно начинаться воспитание конфуцианца. Лишь затем, правильно подготовленный, он мог переходить к более сложным канонам. Упрощение программы государственных экзаменов, по понятным причинам произошедшее при власти монгольской династии, привело к тому, что этот текст, изначально фактически созданный как учебник для старшей школы, стал основой конфуцианской образованности в последующие века.
452
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
Только при Северной Сун в XI-XII веках появилось великое «учение о пути» (Дао сюэ). Пробужденная политическими затруднениями Сун и подпитываемая мистическими и метафизическими тонкостями даосской и особенно буддийской доктрины, возродилась конфуцианская наука. В основе этого нового, неоконфуцианского мышления лежало множество различных представлений о том, как устроена Вселенная и каким образом индивидуум, как ее часть, действуя согласно законам Вселенной, может обнаружить свой путь к нравственному совершенству Общество и правительство, состоявшие из таких просвещенных индивидуумов, автоматически настраиваются на вселенскую гармонию. Человек несет в себе потенциал добра, или «гуманности», но, чтобы осознать это, ему нужно понять, что такое человеческая природа и как функционирует ум. Ключ таится в древних понятиях, таких как «срединное» (состояние высокой беспристрастности) и «великий предел». Согласно Чжу Си, «великий предел» представлял собой «принцип [или полярность] Небес и Земли и бесчисленного множества вещей»; он пребывает во всем и в каждом, его «движение порождает ян... а его спокойствие порождает инь» [9]. Рационально переосмысленные, переформулированные и, конечно, исчерпывающе подкрепленные авторитетами, эта и другие основополагающие идеи породили несколько философских школ и впервые дали конфуцианству метафизические корни, сделав его настолько же философски респектабельным и настолько же сложным для понимания, как, например, буддийские представления о небытии. Как реакция на буддизм и даосизм или как подражание им, неоконфуцианство в любом случае было многим обязано им обоим.
Наконец, в самом узком смысле термин «неоконфуцианство» иногда относят к исключительно влиятельному синтезу идей, выловленных из этого котла размышлений самим Чжу Си. Его синтез называется ли сюэ, «учение о принципе». «Принцип», о котором идет речь, представляет собой нечто вроде метафизического гена, присущего всем вещам, но не одинакового для всех, в основном доброго и играющего решающую роль в определении нравственной природы человека. Чжу Си предполагал, что этот ген спит, пока его не активирует некая «материальная сила». В случае человека это «изучение всех вещей». Заслуга Чжу Си заключалась не только в синтезе и упорядочивании этих, как выразился один автор, «плодотворно неоднозначных понятий», но в их убедительном изложении и практическом приме¬
453
ГЛАВА 12
нении [10]. Как наставник, имевший собственную школу, он распространял их, а как провинциальный чиновник он старался претворять их в жизнь.
Подготовленное под его руководством пособие о семейных церемониях (браки, похороны, почитание предков и т. д.), вероятно, было не менее влиятельным, чем «Четверокнижие», хотя в дальнейшем оно не пошло на пользу его репутации. Будучи сторонником конфуцианских представлений о подчинении младших старшим и женщин мужчинам, Чжу Си считал, что девушки должны закрывать лицо в общественных местах, полностью отказывал женам в финансовой и интеллектуальной независимости, а в областях, известных частыми случаями похищений, он советовал женщинам «прикреплять к обуви деревянные дощечки, чтобы они шумели при ходьбе». Даже если предположить, что женщины действительно могли ходить, а не ковылять на изуродованных бинтованием ногах, это едва ли могло им помочь — стук деревянных подошв скорее привлек бы к ним ненужное внимание, чем защитил от нападения. Японский ученый предположил, что эти суровые ограничения внушали людям глубокий консерватизм. Стандартизация конфуцианских семейных обрядов в Японии (где сочинения Чжу Си тоже пользовались немалым влиянием), так же как и в Китае, нагнетала душную атмосферу социальных условностей, добавляя канонические предписания к бремени традиционных порядков. «Если христианство... придает особое значение чувству вины, а буддизм — чувству боли [или страдания], — говорит тот же ученый, — то конфуцианство делает акцент на чувстве стыда» [11].
Позднее, после наступления реакции, не говоря уже о будущей революции, Чжу Си стал удобной мишенью. Его «Четверокнижие» вместо того, чтобы поощрять «изучение всех вещей» и развивать самостоятельное мышление, которое положило бы конец экзаменационной тирании, стало неотъемлемой частью этой тирании, и Чжу Си, как идеальный представитель неоконфуцианства, получил за это свою долю суровой критики. Его пренебрежение политическими реалиями и одержимость абстрактными теориями о человеческой природе вызывали презрение. Вместе с тем «его общественная мысль, несомненно, непреднамеренно помогла укрепить сложившееся положение вещей, отвратила умы от нетрадиционных взглядов и удерживала власти от разрушительных действий» [12]. Чем более видное
454
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
место он занимал в идеологии поздней империи, тем более ожесточенно его критиковали те, кому было суждено повергнуть империю.
По иронии судьбы неоконфуцианское учение Чжу Си было официально принято не в эпоху Сун, а при предположительно некультурных монголах. В 1259 г. монгольские войска достигли Янцзы, и перспектива встречи изнеженных жителей империи Южной Сун с яростью степей стала пугающе близкой. Мысль о монгольских всадниках, купающих коней в Западном озере (Сиху) Ханчжоу, прежде чем обрушить шквал насилия и грабежа на город, который Марко Поло назвал самым прекрасным в мире, была чересчур страшной. Она заставляла вздрагивать занятых зубрежкой студентов в беседках на берегу озера, а пирующих вельмож на борту педального прогулочного судна — давиться фруктами. «Люди этой земли [то есть Маньцзы] были кем угодно, кроме воинов, — пишет Марко Поло. — Их главное удовольствие заключалось в женщинах, и ни в чем ином, кроме женщин». Их «царь» тоже «думал лишь о женщинах, да еще о благотворительности в пользу бедных». Хотя в его царстве «не было лошадей», озера и реки обеспечивали ему естественную защиту, и оно могло бы устоять, если бы его жители были чуть более воинственными (считал Марко Поло). «Но они не были таковыми, а потому оно пало» [13].
ВОССОЕДИНЕНИЕ МОНГОЛОВ
Редко истории приходилось наблюдать за столкновением столь непохожих противников. Сун, обладавшая крупной армией, но непримечательной военной историей, почти триста лет то отступала, то возвращалась; монголы, уступавшие численностью и порой получавшие решительный отпор, тем не менее наступали уже пятьдесят лет, никогда не проигрывали войн и успели завоевать большую часть известного мира. Их нашествие, более внезапное, чем натиск арабов, более масштабное, чем походы Александра Македонского, и доставившее намного больше бедствий и страданий, не имело подобия ни в прошлом, ни в будущем. Христианские и мусульманские источники согласно утверждают, что там, где прошли монголы, оставались лишь белые кости и обугленные бревна. Тех, кто оказывал сопротивление, уничтожали настолько обстоятельно, насколько позволяла сила оружия. Процесс урбанизации в Азии прервался, хрупкие сельскохо¬
455
ГЛАВА 12
зяйственные системы так и не смогли восстановиться, численность населения резко сократилась1. Как чума, которую, по некоторым данным, монголы случайно занесли в Европу, они появились из ниоткуда и внезапно оказались везде.
Все началось в северо-восточной части Монголии в 1206 г., когда находчивый и смелый Тэмуджин, отпрыск младшей ветви немногочисленного и не слишком могущественного народа мэн2, проживавшего в этом регионе, объединил мэн и, одолев более грозных соседей, был провозглашен «Чингисханом» («Океанским Каганом», то есть «Владыкой Вселенной»3). Ветер развернул огромное белое знамя4 над людьми, собравшимися у истоков реки Онон, где проходила эта церемония. Там же были намечены основы военной и административной организации и разработаны планы следующих побед. Единство народов монгольской степи и власть их нового правителя зависели от сохранения успеха. Вознаградить за верность и привлечь новых сторонников могли только новые набеги, новые доказательства непобедимости и распределение новой добычи: домашнего скота, золота, мехов, тканей, продуктов питания, ремесленников, прекрасных женщин и пригодных для обращения в рабство детей.
Слово «мэн», или «мэн-у» — всего лишь китайская транскрипция самоназвания монголов, однако в действительности состав сторонников Чингисхана был далеко не однородным. Тюркоязычных соседей, часть которых исповедовала несторианское христианство,
1 Данные археологии не вполне подтверждают эти утверждения летописцев. Мы знаем всего несколько городов, не возродившихся после монгольского вторжения, и совсем не знаем больших областей, где бы прервалась урбанизация.
2 Автор, вероятно, использует эту китайскую транскрипцию (в те времена знак читался как мунг), чтобы подчеркнуть нетождественность монголов до Чингисхана и более позднего этноса. Этноним стал, по сути, зонтичным термином, объединяющим множество племен, до того не идентифицировавших себя как монголы. Но надо учитывать, что и отец, и дед Тэмуджина называли себя именно монголами.
3 Сугубо сухопутные монголы вообще тяготели к морским метафорам — ср., например, дарованный монгольским Аотан-ханом титул предстоятеля тибетской буддийской школы гелуг Далай-лама — «Лама-море». Видимо, привычная бескрайность степей не производила на них достаточного впечатления — в отличие от морской (на самом деле, конечно, озерной — с морями монголы не были знакомы) глади.
4 Вполне вероято, что «Девятихвостое белое знамя» было на самом деле не полотнищем, а девятью бунчуками из белого конского волоса.
456
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
среди них было больше, чем собственно монголов1. Кроме того, были татары, еще один монгольский народ2, чье название китайские и европейские авторы нередко предпочитали слову «монголы», также как сами монголы предпочитали называть весь сунский Китай словом «Цзинь» (или «Чин»). На раннем этапе к монголам примкнули многочисленные уйгуры из северных городов-государств Синьцзяна3. Они играли основную роль в монгольской администрации. Их письменность была приспособлена для монгольского языка, а их конфессиональная одиссея — через буддизм к манихейству и исламу — придала монгольскому двору оттенок экуменического разнообразия4. В большинстве государств тогдашней Евразии исповедание не той веры считали более весомым поводом для объявления войны, чем обладание огромными богатствами или соблазнительными женщинами, однако монголы думали иначе. Их требования, даже самые заоблачные, редко распространялись на что-либо, кроме того, что можно было увезти с собой или заставить служить себе: свобода вероисповедания была официально гарантирована тем, кому удалось выжить, чтобы ею воспользоваться.
Первым среди процветающих южных соседей тяжесть монгольской власти ощутило на себе тангутское Ся, или «Великое государство Белого и Высокого». Монгольские армии вышли из пустыни Гоби в 1209 г. и осадили столицу тангутской империи у верховьев реки Хуанхэ в Нинся. Это было первое монгольское нападение на укрепленный город с оседлым населением, и оно шло не слишком успешно. Монголы попытались одолеть защитников города, разрушив их ирригационную систему. Вода затопила оборонительные укрепления Ся, но нанесла немалый урон и собственным позициям монголов.
1 Однако, судя по всему, языки, на которых они говорили, были взаимнопонятными за счет большого количества общей лексики.
2 Татары (по крайней мере часть татарских племен) говорили на тюркских языках. Например, онгуты (белые татары) были, по всей вероятности, потомками тюрок-шато, живших во времена Пяти империй.
3 Ко временам Чингисхана уйгурами себя называли почти исключительно жители Турфана и ряда более восточных районов. Западнее начиналось постепенно расширяющееся на восток царство ислама, где слово «уйгур» означало «безбожный идолопоклонник».
4 Уйгурским алфавитом, приспособленным для монгольского языка, пользовались лишь турфанские уйгуры-буддисты. Их исламизированные соплеменники переходили на арабский алфавит.
457
ГЛАВА 12
Монголы отступили, мокрые, непобежденные, однако и не совсем победоносные. Они добились подчинения Ся и вытребовали тангут- скую невесту для Чингисхана, но оставили государство в неприкосновенности. Это оказалось ошибкой.
Кампания против Ся послужила репетицией и стратегической прелюдией к выполнению более благодарной задачи — набега на северные территории чжурчжэньской Цзинь. Набеги начались в 1211 г. и увенчались захватом столицы Цзинь (позднее Пекина) в 1215г. и присоединением большей части Маньчжурии, где остатки киданей принесли клятву верности монголам. Затем Чингисхан повернул на запад. Подчинение кара-китаев (или Западной Ляо) на территории Туркестана в 1218 г. прошло довольно легко1, в отличие от попытки одолеть более могущественного соседа — мусульманскую империю Хорезм (приблизительно на территории Узбекистана2). Шах Хорезма
1 Здесь монголы практически выступили освободителями. После 1208 г. государство гур-хана (таков был титул кара-китайского владыки) переживало тяжелые времена: на его территорию проникло разбитое Чингисханом племя найманов во главе с Кучлуком, который, получив поддержку восставшего против власти гур-хана карлукского правителя Семиречья Арслан-хана, в 1210 г. разграбил сокровищницу правителя кара-китаев в Узкенде. Ситуацией воспользовался Хорезм, обрушившийся на западные рубежи кара-китаев и разгромивший их армию при р. Талас в 1210 г. Жители Баласагуна примкнули к восстанию против гур-хана, закрыв перед отступавшими войсками кара-китаев ворота; тем не менее город был взят штурмом, мусульмане, бывшие инициаторами восстания, перебиты (ок. 50 тыс. чел). После этого армия отказалась подчиняться гур-хану и признала своим вождем Кучлука. В 1211 г. гур-хан был вынужден уступить мятежнику власть; до своей смерти в 1213 г. оставаясь лишь формальным правителем. Кучлук, от рождения христианин-несторианин, перешел в буддизм, чтобы жениться на дочери гур-хана; его войска в течение 1211-1214 гг. совершали набеги на вассальные мусульманские города-оазисы на западе Восточного Туркестана (Кашгар, Яркенд, Хотан); множество мусульман погибло, на функционирование мечетей и медресе был наложен запрет. В итоге в 1218 г. Чингисхан направил против Кучлука войска под командой Джебе-нойона; при поддержке Арслан-хана, еще в 1211г. признавшего себя вассалом монголов, он без боя занял Баласагун, после чего как освободитель был встречен в городах Восточного Туркестана, где восстановилось исламское богослужение. Кучлук был настигнут и убит на Памире. Государство кара-китаев вошло в империю Чингисхана.
2 На пике могущества (который как раз пришелся на начало монгольского вторжения) государство Хоремзмшахов было крупнейшим государство мусульманского мира и охватывало территории современных Узбекистана, Туркмении, запад Таджикистана и Киргизии, юг Казахстана, северо-западную часть Афганистана и почти весь Иран.
458
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
укрылся на острове в Каспийском море, где умер в 1221 г., но его сын спасся бегством и долго водил монголов за собой через всю территорию современного Северного Ирана, Афганистана, Пакистана и снова назад. Эта кровавая кампания закончилась в 1223 г. падением Хорезма и распадом его армии. Многие отступили в Индию, где пополнили ряды мусульманских конкистадоров Делийского султаната, других отнесло в Сирию, где они обрели для себя «небольшую нишу в истории, став тем мусульманским войском, которое (более или менее случайно) окончательно изгнало крестоносцев из Иерусалима в 1244 г.» [14].
Вылазки монголов в 1220-х гг. в Азербайджан, Грузию и Россию предвосхитили великое наступление на Европу в 1241 г. Между тем Чингисхан закончил свои зарубежные походы там же, где начал, снова напав на тангутское Ся. От края до края «Великое государство Белого и Высокого» почернело от дыма пожаров и было растоптано копытами монгольских коней еще до того, как его столица снова подверглась осаде. Но оно еще держалось, когда в 1227 г. Чингисхан умер, по-видимому, от осложнений, вызванных падением с лошади. (По словам францисканского миссионера Уильяма Рубрука, который по поручению Людовика IX Французского прибыл в монгольскую столицу в 1253 г., монголы вообще довольно часто падали с лошадей; для людей, которые жили и нередко спали в седле, это было своего рода издержкой профессии). Спустя несколько дней Ся сдалось, и тело хана забрали, чтобы похоронить на вершине горы в Восточной Монголии. Что касается «Великого государства Белого и Высокого», через несколько десятилетий оно тоже исчезло в песках истории1.
Тангуты навлекли на себя все эти неприятности, не сумев поддержать продолжающиеся монгольские операции против Цзинь, а затем подписав с ними невыгодный односторонний мирный договор. С 1216 по 1223 г., когда главные монгольские силы подчиняли Хорезм на западе2, один из полководцев Чингисхана носился вверх и вниз по
1 Тангутское государство было включено в состав империи и более не возрождалось, однако тангутская культура и язык просуществовали еще несколько веков.
2 Тангутский император отказался предоставить свои войска и для этого похода. Более того, пока Чингисхан был занят на западе, тангуты деятельно работали над созданием антимонгольского союза с чжурчжэнями, а в 1224 г. и вовсе официально отказались считать себя вассалами монголов. Именно это стало причиной возвращения Чингисхана из Хорезма.
459
ГЛАВА 12
реке Хуанхэ от Шаньдуна до Шэньси во главе армии, состоявшей в основном из киданей и других бывших подданных Цзинь, в том числе множества китайцев. За это время был накоплен опыт ведения осады и добыто сложное вооружение; но отсутствие тангутской помощи, а затем их дезертирство ограничили территориальные приобретения монголов.
Как только вопрос преемственности разрешили, сделав великим ханом третьего сына Чингисхана Угэдэя (а его других сыновей подчиненными ханами других областей Евразии), возобновились наступательные операции в Китае. В 1230 г. сам Угэдэй возглавил военный поход в провинцию Сычуань, извечный стратегический ключ к общекитайскому господству Затем, в 1233-1234 гг., с оживленной поддержкой Южной Сун он завоевал последние оплоты Цзинь в Хэнани. Весь Северный Китай до реки Хуайхэ теперь находился в руках монголов и монгольских военачальников. Китаизировнный киданьский чиновник, к которому благоволил Угэдэй, выразил протест против неизбирательного разграбления и, предположительно, убедил своего хозяина, что уничтожить население Китая, чтобы превратить страну
460
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
в пастбище, будет не так выгодно, как пощадить население, чтобы обложить его налогами и наслаждаться плодами его трудов. Он заложил основы администрации, восстановил систему экзаменов (хотя практически ни один успешный кандидат не получил должности) и довольно скоро положил конец эксцессам военного правления. Но с кончиной Угэдэя в конце 1241 г. первая монгольская попытка править по китайскому образцу закончилась. Проведение экзаменов прекратилось, право сбора налогов распределили в тесном кругу центральноазиатских купцов и ростовщиков, присоединившихся к монгольской верхушке. Их вымогательские требования и жестокие методы принуждения опустошили сельскую местность. Жители Северного Китая, которых хотели физически уничтожить, чтобы освободить место для травы1, теперь испытали на себе всю тяжесть самой гибельной разновидности колониального угнетения. «Т]рудно представить себе более разрушительную и эксплуататорскую экономическую систему», — говорит один из авторов «Кембриджской истории Китая» [15].
Кризисы престолонаследия, возникшие в 1240-х гг., вызвали затишье в монгольских боевых действиях в Китае. Но затишье кончилось, когда в 1251 г. великим ханом стал Мункэ, внук Чингисхана. Как и Угэдэй, Мункэ распределил управление обширной монгольской империей среди своих родственников. Его кузен возглавил Кыпчакское ханство на Руси2, иначе Золотую Орду (слово «орда» происходит от монгольского ордос или орду, что означает «лагерь» — как урду, «язык лагеря», на котором говорили монголы, или Моголы, которые однажды обратили свой взор к Индии3). Брат Мункэ Хулагу был отправлен в Иран, где основал Персидский ильханат, захватил Багдад и уничтожил халифат Аббасидов. Еще один брат Хубилай возглавил военные операции в Китае.
1 О плане уничтожения всего северокитайского населения и превращения долины Хуанхэ в пастбища для монгольских отар мы знаем только из биографии Елюй Чуцая, якобы сумевшего предотвратить это. Не исключено, что автор биографии несколько преувеличил вероятность такой печальной перспективы.
2 Основу Кипчакского ханства составляло Среднее и Нижнее Поволжье (где находилась столица), Причерноморские степи, Северный Кавказ, Крым и значительная часть среднеазиатских городов в северном Мавераннахре.
3 К тому времени эти монголы успели сначала тюркизироваться, а потом перейти (особенно в официальной обастновке) на фарси, который, пополнившись санскритской лексикой, и стал урду.
461
ГЛАВА 1 2
Хубилай возобновил начатое Угэдэем наступление в провинции Сычуань и двигался на юг через крутые ущелья в пока еще малоизвестную Юньнань. Там в 1253 г. он победил гордое королевство Дали, которое пришло на смену в Наньчжао в X веке. «Таким образом, именно монголы впервые сделали Юньнань управляемой напрямую провинцией Китая» [16]. В ходе этих операций был установлен контакт с Тибетом или, скорее, с господствующими там ламами1. После этого монголы и тибетцы поддерживали достаточно близкие отношения, природа которых, впрочем, неясна и противоречива. Китайские источники говорят о традиционном подчинении и внедрении имперских военных и административных механизмов, которые спровоцировали волну возмущения тибетских «разбойников», потребовавшую нескольких карательных вторжений. Тибетские источники почти ничего не говорят о политических отношениях, но подчеркивают влияние тибетского буддизма на монгольский двор. Так или иначе, неясно, с каким из нескольких народов Тибета был установлен контакт и какая часть Тибета была в него вовлечена. Тщательно изучив вопрос, Герберт Франке пришел к выводу, что монголам так и не удалось достичь центрального Тибета и что «большая часть Тибета оставалась вне прямого контроля китайско-монгольской бюрократии и даже приграничные области на протяжении всего правления [монгольской] династии Юань оставались неуправляемыми проблемными зонами» [17].
Поскольку до сих пор Хубилай считался наименее воинственным из монгольских принцев, его успех в Юньнани вызвал некоторое удивле¬
1 Контакт с Тибетом был установлен раньше, еще в правление Угэдэя, когда глава наиболее влиятельной школы тибетского буддизма сакья прибыл в ставку Годана — сына Угэдэя и правители области Тангут. Именно к этому визиту обычно относят начало буддийской проповеди среди монголов (хотя, вероятно, некоторые основы буддизма проникли в степи и раньше, при уйгурах и киданях). Однако этот эпизод прервался вместе с падением власти Угэдэидов в 1251 г. Годан и Сакья-пандита подозрительно синхронно скончались. В 1252- 1253 гг. в Тибет были направлены монгольские войска, которые дошли почти до Лхасы. Впрочем, хотя Тибет и был таким образом включен в состав империи, объективно это способствовало росту влияния тибетской культуры в Евразии. По неизвестным причинам Мункэ приказал всем чингисидским принцам обзавестись тибетскими наставниками, что сыграло гораздо большую роль в буд- дизации монголов, чем контакты Годана с монастырем Сакья: доставшийся в учителя Хубилаю племянник и преемник Сакья-пандиты Пагба-лама обратил будущего великого хана в буддизм.
462
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
ние, хотя его желание пощадить жизни и вернуть трон царю Дали выглядело как повторение ошибки Чингисхана в отношении Ся. Из Юньнани экспедиционные силы спустились по реке Хонгха во Вьетнам, где династия Чан с испугу официально признала монгольский сюзеренитет. Таким образом, со стороны суши Южная Сун оказалась полностью окружена. Оставалось только исключить морскую поддержку от корейского государства. Эта цель была достигнута после многочисленных кровавых вторжений, когда корейцы сдались в 1259 г.
Между тем Мункэ лично прибыл на юг, чтобы нанести Южной Сун последний удар. Согласно освященной временем традиции была запланирована атака по нескольким направлениям, с основным натиском из Сычуани на западе. Мункэ выдвинулся туда в 1258 г., Хубилай спустился к Янцзы через Хубэй в 1259 г., а в том же году другой монгольский зуб пронзил Аньхой. Южная Сун оказала неожиданно стойкое сопротивление, но оно уже слабело, когда еще один кризис престолонаследия среди монголов принес внезапную отсрочку неизбежного. В 1259 г. (неясно, от дизентерии или от прямого попадания сунского метательного снаряда) умер Мункэ. Военные действия немедленно остановились. Хубилай, который собирался пересечь Янцзы и прийти в Учан, сделал это, но затем неохотно направился на север, чтобы оспорить престол. До того как он прибыл на место, один из его братьев восстал против него, после чего Хубилай объявил себя великим ханом. Началась сложная война, происходившая в основном в Монголии между соперничавшими монгольскими принцами (1260-1264).
Война фактически положила конец единству монголов. Хубилай стал великим ханом и непосредственно контролировал свою родную Монголию, Северный Китай, Маньчжурию и Корею, а также обладал номинальной властью над всей империей как преемник Чингисхана. Но его ханство было лишь одним из четырех: огромные евразийские державы теперь больше походили на братские государства, чем на слагаемые одной империи. Так называемый Монгольский мир, рейх Mongolica, был обманчивым. Путешественники, обладавшие ценными сведениями, товарами для продажи или востребованными профессиональными навыками, свободно проходили через монгольские земли. Это была лебединая песнь Шелкового пути, где восток и запад плодотворно обменивались технологиями, идеями и предметами роскоши. Но семейные связи между ханствами больше не подкрепляла
463
ГЛАВА 12
общая цель, а глобальные претензии великого хана не сплачивали его родичей, а вызывали разногласия. Таким образом, Хубилай и его преемники в Китае, единственная небесная династия, действительно владевшая территорией, которую можно было справедливо назвать близкой ко всей «Поднебесной», управляли ею только в теории.
Хубилай-хан, которому было около пятидесяти лет, когда в 1264 г. он победил в монгольской войне за престолонаследие, традиционно изображается китайскими историками как пример «варварского» правителя, которому пошло на пользу знакомство с китайской культурой. Он уже расположил свою столицу к югу от степи на бывшей территории Цзинь в месте под названием Шанду, примерно в трехстах километрах к северо-западу от Пекина, близ границы провинции Хэбэй и Внутренней Монголии. Марко Поло посвятил немало лирических строк дворцу и охотничьему парку в Шанду, Сэмюэл Тейлор Кольридж окружил это место причудливым экзотическим ореолом, не в последнюю очередь потому, что вместо Шанду писал «Ксанаду»1. В Юньнани, а затем в Монголии успех Хубилая во многом был обусловлен людскими ресурсами, доходами и советами, полученными от китайских подданных. Его соотечественники-монголы презирали такое потворство покоренному народу, осуждали склонность Хубилая к оседлому образу жизни и высмеивали его за то, что он предпочитал китайские формы суверенитета воинственной харизме степного владычества. Действительно, борьба монгольских принцев за престол была конфликтом не только между личностями, но и между противоположными стилями правления. Неизвестно, искренне и добровольно Хубилай перенял китайские обычаи2, или это был хитрый политический
1 Он сделал это, следуя Марко Поло.
2 Судя по всему, китайские обычаи интересовали Хубилая только как средство более эффективного управления китайскими подданными. Сам он продолжал проводить лето в полукочевой обстановке в степи (северная часть Шанду и вовсе представляла собой огороженный стенами кусок степи без единого строения, где кочевники могли, оставаясь в привычной обстановке, одновременно находиться внутри столичных стен), до последних лет был известен как лихой наездник и охотник В общем, он совсем не был похож на идеальный образ Сына Неба и только изображал его для самой многочисленной части своих подданных. Впрочем, немалая часть наследия предков ему и правда была не особенно дорога. Например, он не только перенес столицу из степного Каракорума, но и бестрепетно сжег его, когда в нем пытался закрепиться мятежный брат Ариг-Буга.
464
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
ход. Так или иначе, китайская часть его новой империи, по-видимому, увлекала его намного сильнее, чем монгольское наследие.
Традиционно его императорское правление датируется 1279- 1294 гг., что продлевает до максимума исключительные претензии Сун на Небесный мандат и сокращает время пребывания монголов у власти. На самом деле Хубилай проявлял активность в Китае с начала 1250-х гг. и завладел всеми землями, кроме юга, уже в 1260 г. В тот же год он принял китайский девиз правления1 и календарь, что свидетельствовало о намерении провозгласить себя императором. В 1264 г., победив монгольских соперников и став великим ханом, он переместил столицу еще дальше на юг в глубь Китая. Шанду остался летней столицей, но большую часть года двор и правительство теперь проводили в бывшей столице киданьской Ляо и чжурчжэньской Цзинь в центре провинции Хэбэй. Этот город был переименован в Даду («Великая столица»), а затем при империи Мин вошел в состав города, известного как Пекин; его строительство началось в 1266-1267 гг. и заняло восемь лет. План города был до мелочей выдержан в китайских традициях. Разработанный на основе идеализированного города, описанного в библии ультратрадиционализма, «Чжоу ли» («Установления Чжоу»), он наглядно показывал, что Хубилай с полной ответственностью принял Небесный мандат. За высокими прямоугольными стенами с высокими воротами, ориентированными строго по компасу, раскинулась сеть широких проспектов Даду, в окруженном еще одной стеной внутреннем городе стоял обращенный к югу дворец. Хотя город был построен по заказу монгольского императора мусульманским архитектором2, его остатки представляют собой самый ранний сохранившийся пример типично китайской имперской столицы. Как император Хубилай был первым, кто правил всем Китаем из будущего Пекина, и как великий хан он был первым, кто руководил монгольской Евразией из Китая.
В 1272 г., хотя Южная Сун еще правила на юге, Хубилай заявил, что принимает Небесный мандат. В официальном объявлении гово-
1 Вскоре Хубилай также даровал китайские императорские посмертные имена своим предшественникам от Есугея (отца Чингисхана) до Тулуя и Мункэ.
2 Согласно китайским источникам, за строительство отвечал давний советник Хубилая Лю Бинчжун, и он же был архитектором Шанду. Впрочем, учитывая космополитизм имперской элиты, нет сомнений, что мусульманские специалисты также были привлечены к делу
465
ГЛАВА 12
ПРАВИТЕЛИ ЮЖНОЙ СУН в 1127-1279 гг.
1уан-цзун
(1190-1194)
Ду-цзун
(1265-1274)
Гао-цзун Сяо-цзун (1127-1162) (1163-1190)
Нин-цзун Ли-цзун (1195-1224) (1225-1264)
г—Г" 1
( | .—-Н
1
1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280
Гун-цзун Дуань-цзун Бин Ди (1273) (1276-1278) (1279)
рилось, что его династия будет известна под необычным названием Да Юань — Великая изначальная. Историки должны быть вечно ему благодарны. Докучливый и путаный обычай снова и снова использовать старые государственные имена наконец был нарушен. Как с гордостью объяснил Хубилай, название «Юань» происходило не от государства, откуда он был родом, как в случае с Цинь и Хань, и не от удельного княжества, как в случае с Суй и Тан. «Все они [эти династии] пали жертвой укоренившихся привычек простых людей... [и] хотели не упустить свою выгоду и сохранить власть», — заявил он [18]. Несомненно, они были обречены. Хубилай, преемник «мудрейшего» Чингисхана и ныне правитель самой обширной империи, на которую когда-либо взирали Небеса, был выше подобных местечковых интересов. Прислушавшись к мудрым советам, он решил заимствовать название своей империи из «Книги перемен» {И цзин), возможно, самого уважаемого из всех древних классических текстов. Это не укладывалось в рамки прежних обычаев, и таково было возвышенное происхождение нового названия, что не могло быть и речи о том, чтобы уступить Небесный мандат кому-то другому или разделить его с другим правителем. Как следствие, Южная Сун лишилась легитимности и должна была почтительно склониться перед новым государем1.
1 Интересно, что, судя по всему, все эти судьбоносные переименования остались неизвестными за пределами земель Хубилая: его кузены и племянники в других чингисидских улусах продолжали именовать империю по-старому — Великим монгольским государством.
466
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
Чтобы добиться этого, были снова развернуты военные, особенно морские операции. Отказавшись от идеи наступать из провинции Сычуань, Хубилай решил предпринять лобовую атаку через Янцзы. Ддя этого требовалось сначала получить контроль над ее притоком, Ханьхэ, на которой стояли города-близнецы Сянъян и Фаньчэн (ныне объединенные в Сянфань), грозный северный бастион Сун. Обращенные друг к другу через Ханьхэ, оба города имели основательные укрепления и крупные флотилии речных судов, позволявшие перехватить монгольскую армаду или доставлять подкрепление и продовольствие в случае осады.
Они действительно были осаждены. Окруженные в 1267-1268 гг., города продержались до 1273 г. В ходе одного из самых долгих и знаменитых военных эпизодов в истории Китая монголы вскоре обнаружили, что кавалерия бесполезна против кораблей и отнюдь не рада ударам зажигательных бомб с воздуха. Призвав судостроителей и матросов из Кореи и Шаньдуна, специалистов по осадным машинам и баллистике с мусульманского запада, инженеров, имевших большой опыт использования пороха, с севера и обширные контингенты ханьской пехоты, монголы начали блокаду самым нехарактерным для себя способом.
Обе стороны совершили немало героических подвигов. Самым отчаянным был прорыв двух сунских полковников с одинаковым именем Чан. Когда в 1272 г. внешняя оборона Фаньчэна пала, двое Чанов собрали колонну транспорта снабжения из сотен гигантских колесных судов и попытались прорвать монгольскую блокаду. Они преуспели, хотя потеряли очень много людей, кораблей и припасов. Один из полковников Чанов погиб во время операции, другой — при попытке бежать вниз по реке под покровом темноты. Позже в том же году инженеры Сун построили на реке деревянный понтонный мост, чтобы соединить два города. Как гласят хроники, монгольский военачальник в ответ на это приказал вывести корабль, оборудованный специальными «механическими пилами», которые перерезали мост. Нидэм считал, что речь снова идет о судах с лопастными колесами, на которых, очевидно, были установлены круглые пилы, которые вместе с колесами приводило в движение течение реки, когда корабли встали на якорь у понтонного моста [19]. Возможно, есть и более прозаичное объяснение: пилы приводила в движение педальная команда, вращавшая их наподобие точильного камня.
467
ГЛАВА 12
В «Книге чудес света» Марко Поло говорится, что сам он присутствовал при окончании осады Сянфаня. Возможно, он даже представил монгольскому командованию двух специалистов по катапультам — «немца и несторианского христианина», построивших катапульты, которые могли метать камни весом более ста килограммов (каждая) и в конечном итоге принудили защитников к капитуляции. Это почти наверняка выдумка. Другие источники сообщают, что эти специалисты были мусульманами, а современные ученые вообще сомневаются, что Поло к этому моменту успел добраться до Китая. Но действительно ли Поло это утверждал, неясно. С тем же успехом этот эпизод могли добавить другие люди: тот далеко не надежный писец, который якобы записал рассказ, лично слышанный из уст Марко Поло, или один из тех, кто дополнял и приукрашивал его историю в следующие столетия.
История происхождения различных версий этого знаменитого текста столь сомнительна, а минимальный авторский вклад самого Марко Поло столь очевиден, что у ревизионистов полностью развязаны руки. Некоторые даже сомневаются, был ли Поло вообще когда- нибудь в Китае. В качестве доказательства приводят тот факт, что он ни слова не говорит о Великой Китайской стене. Но поскольку «длинные стены» мало упоминаются после эпохи Суй, а Великая стена в ее теперешнем виде была создана только в эпоху Мин, это, напротив, можно считать доказательством того, что Поло все же был в Китае. Другие упущения — чайная церемония, бинтование ног и китайская система письма — заслуживают внимания. Как известно, при составлении путевых заметок обычные, широко распространенные явления легко забываются, однако мелкие детали придумать сложнее. Высказывалось предположение, что записки Поло представляют собой плагиат ныне утерянного, вероятно, персидского источника. В таком случае его транскрипция и перевод потребовали бы от автора недюжинных усилий — хотя его способность к такому подвигу категорически опровергает небрежная композиция произведения. В конце концов, все попытки опровергнуть повествование Марко Поло оказываются не более убедительными, чем попытки обосновать его маршрут1. Но что бы ни делал Поло и куда бы он ни направлялся, сам
1 Важным доводом в пользу того, что Поло был в Китае, является очень точная передача им среднекитайских топонимов, вряд ли возможная, если бы автор не слышал эти названия, а перерабатывал текст другого путешественника.
468
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
текст сохраняет непосредственность, пренебрегать которой было бы ошибкой.
В 1273 г. города-близнецы наконец пали, но прошел еще год, прежде чем монголы двинулись к Янцзы, а затем по этой реке развернули наступление на Ханчжоу. Они снова встретили ожесточенное сопротивление. Монгольскими войсками командовал опытный полководец и государственный деятель по имени Баян. Поло называет его Стоглазым. Сам Хубилай не принимал участия в кампании, разве что призывал по возможности проявлять милосердие. Именно так и поступал Баян: он привлекал на свою сторону дезертиров, примирял противников, истребил население всего одного или двух крупных городов1 и выиграл ряд крупных сражений. В Ханчжоу слабый молодой император Южной Сун (Ду-цзун, пр. 1265-1274) выбрал именно этот момент, чтобы умереть. Впрочем, потеря была невелика. Его место занял пятилетний ребенок, за которого правила вдовствующая императрица. Между тем Цзя Сидао, последний в длинной очереди во всем виноватых сунских министров, взял на себя ответственность за растущее народное недовольство и военные поражения и был тихо убит. Поздние комментаторы яростно критиковали Цзя Сидао, но вероятно, он был повинен в происходящем не больше, чем Цай Цзин или Хань Тучжоу. Даже верное понимание великого предела не смогло спасти Сун. В конце 1275 г. Стоглазый Баян подошел к Ханчжоу.
К счастью, капитуляция и захват великого города в начале следующего года не подтвердили страшную репутацию монголов. Город пощадили, императорские гробницы взяли под защиту (хотя позднее разграбили), чиновников помиловали, к вдовствующей императрице проявили уважение. Уехав на север в Даду, она подружилась с супругой Хубилая, а последний император Сун предпочел монашескую жизнь и был сослан в Тибет. Даже когда придворные тайно выкрали
1 Судя по данным археологии, кажущаяся общим местом информация, что монголы нередко полностью, до последнего человека, вырезали покоренные города, несколько преувеличена. Вероятно, истории эти попали в летописи благодаря самим же монголам, которые осознанно распускали о себе столь ужасные слухи, чтобы подорвать волю к сопротивлению тех городов, которые только предстояло завоевать. Именно поэтому большая часть описанных гекатомб может быть найдена в персидских источниках, питавшихся рассказами хорезмийских беженцев и слухами, за которыми стояла монгольская служба пропаганды.
469
ГЛАВА 12
из Ханчжоу двух его братьев и перевезли морем дальше на побережье, никаких карательных мер не последовало.
Однако освобождение принцев продлило период сопротивления. Преследуемые монголами, молодые принцы Сун и их двор в изгнании переезжали из одного порта в другой и скрывались еще три года. Оба принца по очереди стали императорами — после смерти первого титул наследовал второй. Обдумывали план побега с полуострова Лэйчжоу на крайнем юге (недалеко от острова Хайнань) в королевство Чампа (на юге Вьетнама)*, но затем отказались от него в пользу возвращения на прибрежные острова в устье реки Чжуцзян. Там-то, на архипелаге, в состав которого входит остров Гонконг, флотилия Сун была наконец окружена, и корабль молодого императора затонул. Рассказывают, что верный придворный взял семилетнего императора на руки и прыгнул за борт, когда судно уходило под воду1. Это произошло в 1279 г.
С присоединением юга к юаньскому Китаю четырехсотлетний период раздробленности подошел к концу. Впервые после распада империи Тан весь Китай был объединен под властью одного правителя. Завоевание Южной Сун стало высшим достижением Хубилая, «и это поистине великое завоевание, — говорит Поло, — ибо во всем мире не было королевства, стоившего хотя бы половину этого» [20]. Население Южного Китая, не уступающее его богатству, вероятно, было вдвое больше, чем на севере, и, возможно, больше, чем во всех остальных монгольских владениях, вместе взятых. С такими активами империя Юань вполне могла утвердить свою власть над другими монгольскими ханствами и добавить воссоединенную монгольскую империю к Китайской империи. Мировое господство манило, и Хубилай, вероятно, поддался искушению. Но не прошло и ста лет, как монголы в замешательстве отступили из Китая обратно в продуваемую всеми ветрами степь. Вслед за Цинь и Суй империя Юань обнаружила, что завоевать империю и удержать ее — не одно и то же.
1 По другой версии, канцлер Лю Сюфу с восьмилетним императором Чжао Бином наблюдал за ходом Ямэньской битвы с берега и, когда стало ясно, что надежды нет, обняв его, бросился вместе с ним с прибрежных скал.
470
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МОНГОЛОВ
В историографической традиции 1279 год отмечает начало монгольского правления в Китае, однако в действительности он означает конец монгольских достижений. История империи Юань — история затянувшегося упадка, и поскольку Хубилай оставался на троне еще пятнадцать лет — дольше, чем любой из его девяти преемников, кроме последнего, основная ответственность за это лежит на нем. Ему не удалось навести порядок в хаотичной системе престолонаследия, которая выдвигала императоров одного за другим. Предпринятые Хубилаем административные меры не способствовали централизации власти, а, напротив, еще больше распылили ее. Его попытки улучшить сельскохозяйственное производство не смогли обеспечить устойчивый приток доходов в казну или остановить вымирание населения, численность которого неуклонно снижалась в результате чумы, голода и непрекращавшихся войн. А его зарубежные походы приносили мало добычи и нередко оказывались катастрофическими. Возможно, все эти неудачи можно объяснить преклонным возрастом и ухудшением здоровья Хубилая. В 1281 г., когда умерла его супруга- императрица, до этого много помогавшая Хубилаю мудрыми советами, ему было шестьдесят шесть лет, и он уже проявлял склонность к излишествам1. Ко времени своей смерти в возрасте почти восьмидесяти лет в 1294 г. он мучился подагрой, нередко напивался до отупения и страдал почти гротескным ожирением. Вытекающее из этого пренебрежение к делам вкупе с причудливыми навязчивыми идеями никак не способствовали эффективному правлению.
Вместе с тем данные недостатки, возможно, были прямым следствием монгольского происхождения Хубилая. Неформальные процедуры правопреемства были так же типичны для степных земель, как любовь императора к жирному мясу и кислому кобыльему молоку. Первенство в монгольских кланах всегда зависело от одобрения равных, а не от первородства, старшинства или предыдущих титулов. Претен-
1 Монгольские правители (и не только в Китае) вообще тяжело переносили знакомство с крепким алкоголем, до того неизвестным в монгольских степях, где пили сравнительно легкий кумыс из кобыльего молока. В Китай технология дистилляции спирта пришла, вероятно, через Центральную Азию от арабов примерно в начале XII века (древнейший перегонный куб, найденный в Хэбэе, датируется серединой этого столетия).
471
ГЛАВА 1 2
МОНГОЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ ИМПЕРИИ ЮАНЬ в 1279-1368 гг.
Хайсан
(У-цзун)
1308-1311
Хубилай (Ши-цзу), 1279-1294
Тэмур Олджейту (Чэн-цзун) 1294-1307
Аюрбарибада
(Жэнь-цзун)
1311-1320
SiiL-
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
щ:
1320
дент на трон должен был продемонстрировать свою способность править государством, завоевав уважение соперников. Для этого следовало одержать над ними верх либо привлечь их на свою сторону подарками и узами подчинения. Хубилай назначил преемником одного из своих сыновей и готовил его к управлению государством. Но когда в 1285 г. этот сын умер, оставив после себя трех собственных сыновей, Хубилай отказался от прежнего плана, и престол снова оказался открытым для многих желающих. Завоевав поддержку монгольской знати, на престол взошел третий внук Хубилая, но вскоре после него трон заняли потомки двух других внуков. Количество юаньских принцев быстро росло, что неизбежно означало опасные и часто кровавые периоды смены правителей, краткие сроки правления и беспорядочные колебания политического курса, во время которых монгольские военачальники и китайские бюрократы нередко оказывались по разные стороны баррикад. Единственным исключением в этой пунктирной родословной стал Тогон-Тэмур, или Шунь-ди, который правил с 1333 до 1368 г. Возможно, не имевший законного права на трон и впоследствии раскритикованный как типичный «плохой последний император», он выглядел довольно жалко на фоне распадающейся империи. Однако он не был чудовищем, и, если бы воспользовался в юности советами лучших министров, может быть, сумел бы изменить ситуацию.
Многие проблемы, с которыми столкнулся Шунь-ди, проистекали из другой особенности степного правления, которую Хубилай неосмотрительно ввел в Китае. В административных и военных целях он поделил страну на дюжину крупных провинций; раздробленные и с неустойчивыми границами, они тем не менее по-прежнему служат
472
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370
основой современной административной структуры Китая. Но вместо того, чтобы интегрировать эти провинции в центральную администрацию и подчинить их центральным учреждениям, он создал во всех копию центральной администрации. В каждой провинции была своя канцелярия, гражданские и военные ведомства, а деятельность центрального правительства в основном ограничивалась столичным округом Чжуншушэн, состоявшим из провинции Хэбэй и соседних районов Шаньси, Хэнани и Ляонина. Таким образом, «участие императорской администрации в управлении империей было в лучшем случае эпизодическим или ограничивалось строго определенными видами деятельности». При этом провинциальные канцелярии «были не органами местного самоуправления, как во времена Сун, а полноправным правительством внешних территорий, отдельных вассальных государств, окружающих государство-ядро — столичный домен императора» [21]. Фактически не успел Китай воссоединиться, как его снова поделили и превратили в подобие конгломерата взаимозависимых провинций1, каждая из которых обладала значительным потенциалом автономии.
Разумные меры предосторожности позволили бы сильному центральному правительству избежать этой опасности. Император сохранил за собой право назначать должностных лиц, параллельное инспекционное ведомство внимательно следило за осуществлением управления на местах и докладывало о происходящем непосред-
1 Провинции управлялись центральноазиатскими и китайскими чиновниками почти без участия монгольской знати.
473
ГЛАВА 12
ственно в центр, а самая быстрая в тогдашнем мире почтовая служба (согласно источникам, способная преодолеть 350 километров в день) помогала поддерживать связь между двором и провинциями. Но при ослабленной администрации, когда высшие должности и феодальные владения распределяли в качестве награды и позволяли передавать по наследству, а местные беспорядки требовали быстрой реакции, провинциальные власти без всяких колебаний действовали на свое усмотрение1.
Вместе с тем столичная область, в которой находились два главных города империи (Даду и Шанду), служившая проводником между Китаем и монгольскими землями и не имевшая собственных сельскохозяйственных излишков, требовала особого внимания. Именно здесь были сосредоточены попытки Юань увеличить сельскохозяйственное производство, и, возможно, они даже имели некоторый успех. Но регион по-прежнему сильно зависел от поставок риса с юга через систему каналов, значительно пострадавшую от наводнений на Хуанхэ. Во время погони за последними императорами Сун Хубилай успел убедиться в практической пользе морских путей и согласился использовать морской транспорт для доставки в столицу всего необходимого. На службу были приняты два знаменитых пирата, имевшие множество кораблей и хорошо ориентировавшиеся в предательских течениях вокруг полуострова Шаньдун. Первые плавания прошли успешно, но после того как шторм уничтожил один конвой, двор снова обратился к внутренним водным путям.
Была разработана схема продления Великого канала. Предполагалось, что новая секция соединит Хуанхэ с другой рекой, впадавшей в море недалеко от Даду2. «Около трех миллионов рабочих бросили на стройку, в которую правительство вложило огромные средства» [22]. Канал был готов в 1289 г., но так же, как участки, построенные при Суй, он нуждался в дорогостоящем обслуживании. При этом пираты
1 Собственно, именно для этого местным властям и были даны столь высокие полномочия — юаньская бюрократия, как центральная, так и местная, в идеале должна была быть способной принимать быстрые и правильные решения даже в том случае, когда на императорском троне сидел абсолютно неспособный к принятию решений человек (что, увы, случалось довольно часто).
2 Таким образом, тогдашние океанские суда могли доходить почти до императорского дворца. Остатком тех грандиозных каналов сейчас являются озера в центре Пекина, в том числе входящие в дворцовый ансамбль озера Бэйхай и Чжуннаньхай.
474
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
по-прежнему не сидели без дела. Морские перевозки продолжались, и, периодически требуя от двора выкуп, пираты приобрели целое состояние. Они неоднократно мешали попыткам правительства установить контроль над побережьем и сохраняли немалое влияние до 1350-х гг., когда охотно присоединились к всеобщему восстанию, которое закончилось свержением власти Юань.
Морской маршрут не утратил актуальности в основном из-за того, что Великий канал далеко не всегда был пригоден к использованию. В 1340-х гг. Хуанхэ снова пришла в движение. Вернувшись на юг в 1290-х гг., теперь она снова отклонилась к северу, затопила часть Великого канала и излилась в залив Бохайвань. Чтобы исправить положение, был разработан «один из величайших гидротехнических проектов, осуществленных в Китае в Средние века» — двести тысяч местных рабочих согнали рыть новый канал на юг. Завершенный в конце 1351 г., этот проект оказался успешным — чего никак нельзя сказать о методах принуждения, сопровождавших его воплощение в жизнь. Сооружение канала ознаменовалось спонтанными мятежами, а в середине 1351 г. «первые бои восстания, которое вскоре охватило почти весь Китай», привели к захвату Инчжоу в провинции Аньхой [23].
Беспорядки быстро распространились по разным участкам Великого канала, вышли далеко за пределы бассейна Хуанхэ и, значительно осложненные многочисленными другими восстаниями, угрожали сокрушить династию. Теперь движению по каналу мешали не наводнения и заиливание дна — его блокировали повстанцы. В стремлении одновременно переиграть захвативших каналы «разбойников» и морских «пиратов» была предпринята оригинальная попытка завести рисовые плантации на севере. Две тысячи крестьян-рисоводов с юга были доставлены в окрестности Даду (Пекина) для обучения местного населения, а стоимость приобретения и террасирования земли, по некоторым данным, превысила стоимость укрощения Хуанхэ. Но этот план, хотя и продиктованный самыми благими намерениями, видимо, не принес ожидаемых результатов и был вынужденно свернут, когда в 1354 г. локальное неповиновение разгорелось в полномасштабную войну.
Не менее бедственными для экономики и тем более для международной репутации монголов были зарубежные походы Хубилая. Не зная иной меры успеха, кроме бесконечных завоеваний, которыми
475
ГЛАВА 1 2
славились его монгольские предшественники, между 1274 и 1294 гг. Хубилай вел почти непрерывную серию морских и сухопутных нападений на своих соседей. Некоторые его подвиги можно назвать в лучшем случае нелепыми, почти все они закончились неудачно, и только продолжительную борьбу с монгольскими соперниками в Монголии и ее окрестностях следует признать действительно необходимой. Хубилай несколько раз вторгался в Бирму. Марко Поло описывает состоявшуюся в 1279 г. эпическую встречу с войском, восседавшим на слонах; восемь лет спустя бирманская столица Паган была захвачена, а его правитель свергнут. В 1301-1303 гг. монголы предприняли еще несколько неудачных военных экспедиций в поддержку юаньского претендента на местный трон. Такая же история произошла с Аннамом и государством Чампа на территории современного Вьетнама. С моря, а затем с суши Аннам был покорен в 1281 г., нападение на королевство чамов произошло в 1285 г. Но монгольские войска, хотя и состоявшие в основном из китайцев, плохо переносили жару и гораздо хуже чамов воевали в джунглях. В конце концов они отступили, получив не более чем символическое признание сюзеренитета Юань.
Одновременно монголы начали требовать подчинения от кхмерского королевства Ангкор и растущего яванского королевства Синга- сари (позднее Маджапахит). И то и другое отказались принять монгольских посланников. Ангкор избежал вторжения только благодаря ожесточенному сопротивлению своего соседа, государства чамов, но в 1292 г. Хубилай превзошел самого себя, отправив на Восточную Яву армаду из тысячи кораблей и двадцати тысяч солдат. К тому времени китайцы успели так хорошо изучить южные моря, что без затруднений достигли места назначения в Кедири на северном побережье острова. Выступив на стороне недавно свергнутой династии Сингасари в обмен на клятву вассальной верности, монгольские войска победили действующего узурпатора, но в час победы были сами предательски атакованы своим вероломным союзником. Потери составили три тысячи человек, монгольский командующий едва успел добраться до кораблей, и после долгих совещаний флот отплыл обратно в Китай1.
1 Сингасари пало до прихода монголо-китайской экспедиции из-за внутренних усобиц. К прибытию войска Хубилая на востоке Явы возникло новое царство Маджапахит, правитель которого Раден Виджая выразил покорность великому хану и с помощью его экспедиции разгромил победителя Сингасари — царство Кедири. Затем Виджая восстал против монголов, перебив мно¬
476
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
К этому времени стала вырисовываться закономерность, похожая на ту, что преследовала Чингисхана и его непосредственных преемников во Внутренней Азии. Монголы обычно делали первый шаг в отношениях, отправляя послов, чтобы потребовать подчинения в виде дани и личной явки к императорскому двору того царя, которого избрали мишенью для своих притязаний. Этот царь, возможно, полагая, что это просто еще одна формальность, типичная для традиционной китайской дипломатии, отвечал уклончиво. Монголы во второй раз отправляли послов, которые вели себя настойчиво и оскорбительно, чем, как правило, провоцировали принимающую сторону на карательные меры (бирманцы обезглавили монгольских послов, яванцы опозорили главу монгольской дипломатической миссии). И, поскольку владыка вселенной никак не мог смириться с подобными оскорблениями, вслед за этим начиналась война.
Подготовка к двум самым знаменитым походам Хубилая — оба были направлены на Японию и оба закончились катастрофой — разворачивалась по тому же сценарию. Помимо периодических нападений японских «пиратов» на корейские суда, единственное оправдание вторжения в Японию заключалось в агрессивной дипломатии, которая ему предшествовала. Первое войско монголов отплыло из не особо обрадованной этим поворотом дел Кореи в 1274 г. и достигло побережья Кюсю. Оно было слишком мало для поставленной задачи, и, вероятно, его в любом случае уничтожили бы. Но до этого не дошло — разыгравшаяся буря заставила монголов спешно отступить к своим кораблям, при этом погибло тринадцать тысяч солдат, а основная часть флота затонула. В 1275 и 1279 гг. дипломатические миссии, отправленные к японскому императору (Хубилай настойчиво называл его «царем маленькой страны»), получили тот прием, которого заслуживали, — послов казнили.
Ответом на это стало второе вторжение в 1281 г. На этот раз Хубилай не стал недооценивать врага и отправил два флота, один из Кореи, другой из Чжэцзяна, общей численностью около ста сорока тысяч человек. Японцы уже подготовились. На побережье Кюсю была построена стена, которая не позволила войскам, идущим из Южного
гих из них. Поредевшее войско Хубилая покинуло Яву, а Виджая принял тронное имя Кертараджаса Джаявардхана. См.: Тюрин В. А. Вокруг окровавленного трона: яванская история конца XIII в. // Политическая интрига на Востоке. М.: Восточная литература, 2000. С. 175-185. — Прим. ред.
477
ГЛАВА 12
Китая, объединиться с войсками из Кореи. Но, как и в 1274 г., решающую роль сыграло вмешательство стихии. Еще один шторм, на этот раз тайфун, обрушился на Кюсю. Монголы опять бежали к кораблям, в китайско-монгольских рядах снова поднялась паника. «Т]реть сорокатысячной северной армии была потеряна, — пишет современный биограф Хубилая, — и более половины стотысячной южной армии также погибло в попытке спастись». Это, безусловно, «разрушило ореол непобедимости монголов», а с точки зрения человеческих и материальных потерь это было, вероятно, самое дорогостоящее поражение в монгольской истории [24]. Стремясь подкрепить престиж своего правления чередой легких побед, Хубилай лишь дискредитировал его, оставив в наследство преемникам потускневшую воинскую славу и хроническую неплатежеспособность.
Очевидно, репутация Хубилая как правителя, который отказался от степных традиций в пользу китайских обычаев и бюрократического правления, требует пересмотра. Несмотря на сделанные уступки: он построил столицу в традиционном китайском стиле, проявлял благосклонность к конфуцианским ученым и присутствовал при исполнении обрядов (хотя сам в них почти не участвовал), — он так и не научился читать и писать по-китайски, и его немногочисленные преемники тоже. Необходимость постоянно переводить официальные документы с китайского на монгольский и обратно обеспечивала работой армию чиновников, но неизбежно отдаляла императоров Юань от мелких рутинных подробностей правления.
Вместе с тем привлечение к делам китайских советников и чиновников не подразумевало никакой особой благосклонности императора. Население было организовано в четырехуровневую иерархию, которая обеспечивала монголам и другим некитайцам господство в отношении должностей и привилегий. Первыми в иерархии шли урожденные монголы, затем «люди с цветными глазами» (в основном уйгуры, мусульмане из Центральной Азии и чудаки, такие как семья Поло, цвет глаз которых, вероятно, отличался от карего1), следую¬
1 К данной категории относились также такие подданные империи, как тан- гуты и онгуты, из числа прибывших извне стоит отметить несториан — преимущественно сирийцев, кипчаков и относительно многочисленных в армии аланов — предков современных осетин, с большим энтузиазмом служивших монголам и оставшихся в Китае. Причиной появления этой сравнительно многочисленной группы был запрет, введенный в 1262 г. Хубилаем, который в от¬
478
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
щими не имевшие никаких привилегий ханыды (северные китайцы, а также кидани, чжурчжэни и корейцы) и, наконец, «южные люди» (бывшие подданные Сун). Были изданы указы, запрещавшие монголам носить китайскую одежду и жениться на китайских девушках (хотя эти запреты соблюдались не слишком строго), а китайцам запрещающие носить монгольское платье или изучать монгольский язык. Когда в 1313-1315 гг. любитель наук император Аюрбарибада, или Жэнь-цзун (пр. 1311-1320), вернул экзаменационную систему, она была значительно упрощена, чтобы дать больше шансов менее образованным монголам и их сторонникам с «цветными глазами». Литературное сочинение вообще исключили из списка экзаменов, основным учебным материалом стало неоконфуцианское «Четверокнижие» Чжу Си. Степени присуждали в соответствии с установленными этническими квотами, и чтобы ханьские ученые все-таки не затмевали неханьских конкурентов, последних поощряли более простыми заданиями и более низким проходным баллом1.
Учитывая, что официальные должности обычно раздавали на основе наследственных привилегий и рекомендаций, а не ученых достижений, эта система оценок, вероятно, почти не отражалась на составе бюрократии. Но она отражала социальные и политические реалии в правление Юань. Монголы, уйгуры, тибетские ламы, хри- стиане-несториане и мусульмане из Центральной Азии пользовались при дворе, в правительстве и в войсках влиянием, отнюдь не пропорциональным их численности. К религиозному и этническому разнообразию не просто относились терпимо, но и положительно поощ¬
личие от своих предшественников не доверял китайцам. Им было запрещено занимать военные и высшие гражданские должности, которые в империи Юань почти всегда были сопряжены с военной властью. Сами монголы не слишком стремились к бюрократической карьере. Таким образом, рекрутирование иностранцев — почти любого происхождения — было единственным способом заполнения многочисленных жизненно важных для империи вакансий. Так сложилась уникальная для Китая ситуация, когда Поднебесная (на определенном уровне) практически управлялась иноземцами. Другой вариант перевода термина сэмужэнь — «люди разных категорий», что вполне отвечает их положению включенных в реестры потенциальных чиновников.
1 Даже такое «льготное» участие в экзаменах по конфуцианской классике показывает, насколько велика была степень китаизации этих иноземцев-бюро- кратов и насколько глубоко они проникли в эту крайне элитарную и головоломную часть китайской культуры, недоступной для абсолютного большинства урожденных жителей Поднебесной.
479
ГЛАВА 12
ряли его в противовес китайскому численному и образовательному превосходству
Постоянно занятый поисками образованных и умелых иностранцев, в 1260-х гг. Хубилай попросил венецианских торговцев Маттео и Никколо Поло в следующий раз привезти в Китай «сотню христианских ученых людей» \ Вместо этого они привезли молодого Марко. Впрочем, католики и восточные христиане уже пользовались монгольским гостеприимством. В 1307 г. Джованни Монтекорвино, долгое время проживший в Даду, был назначен первым архиепископом города, а последний католический епископ Зайтона (крупный порт Цюаньчжоу в Фуцзяни) погиб в 1362 г. вместе с другими жителями порода во время нападения антиюаньских сил [25].
Гораздо более заметное положение занимали мусульмане, в основном из Центральной Азии. Под покровительством монголов в большинстве городов появились сплоченные мусульманские общины, а в некоторых отдаленных районах образовались постоянные колонии. Как торговцы и ростовщики, затем как сборщики налогов, монопольные подрядчики и финансовые администраторы мусульмане были тесно связаны с экономикой. Возможно, они были полезны императорам Юань в качестве громоотвода, когда китайское население возмущалось новыми налогами и инфляцией, вызванной необдуманным выпуском огромного количества бумажных денег. По словам Марко Поло, они были не слишком популярны и иногда подвергались гонениям. Единственной провинцией, которой фактически управлял мусульманин, была Юньнань. Ею по очереди руководили несколько губернаторов родом из одной и той же бухарской семьи, и хотя при них ислам не проповедовали открыто, многие коренные жители обратились в эту веру, и в Юньнани нашли пристанище несколько волн мусульманских колонистов. Из потомков правящего клана этой отсталой и в основном неханьской провинции, отодвинутой от моря дальше, чем любой другой регион империи, вышел величайший флотоводец в истории Китая.
1 Это известно только по книге Марко Поло, так что может быть не вполне правдой. В то же время существует письмо римскому папе от аланской общины с просьбой прислать священника для поддержания в них христанских традиций. Ответом на это письмо стала отправка в Китай францисканца Монтекорвино.
480
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
ТРИУМФ мин
Некоторые ученые предполагают, что в Китае смерть, даже преждевременная и насильственная, не воспринимается с такой же пугающей окончательностью, как в других странах. С древних времен отношение к смерти было легким, она «не представляла для китайцев такой проблемы, как для месопотамцев или древних греков», ее не сопровождали трагедия и глубокое горе [26]. Конфуцианское учение о социальной гармонии и иерархическом подчинении отодвигало на второй план личность и ее эгоистические переживания. Групповое самосознание, чувство принадлежности к семье, клану, местности или профессии предположительно ценились выше, чем индивидуальное самосознание. Живые находились в неразрывной связи с умершими предками и всеми поколениями своей семьи, и переход от одних к другим был простой биологической неизбежностью. Выживание группы считалось более важным, чем выживание ее отдельных членов, и это отчасти лишало смерть ее ужасной власти.
Подобные наблюдения встречаются главным образом в некитайских произведениях и несомненно представляют собой попытку как-то осмыслить типичное для официальных историй и вообще китайских исторических хроник бесконечное насилие и неуважение к человеческой жизни. Последние десятилетия правления Юань и первые десятилетия Мин особенно убедительно иллюстрируют эту особенность. Но действительно ли, с поправкой на размеры и плотность населения, общество Китая было более жестоким, а его правители более кровожадными, чем, скажем, в Древнем Риме или в Англии эпохи Реформации, сомнительно. И можно задаться вопросом, действительно ли коллективное самосознание служило таким же утешением для конфуцианца, который собирался отправиться к праотцам, как обещание воскресения для умирающего христианина.
Впрочем, ухудшить дело оно вполне могло. В Китае не только индивидуум нес единоличную ответственность за свои действия — вместе с ним несла ответственность и подлежала суду вся его группа. «Казнь пятой степени», предусмотренная для множества отвратительных правонарушений сводом законов Тан, который лег в основу законов многих следующих империй, означала не медленную мучительную смерть, такую как средневековое английское повешение, потрошение и четвертование, но распространение приговора на всех
481
ГЛАВА 1 2
родственников осужденного до пятой степени родства. В число родственников могли входить сподвижники, домочадцы и вынутые из могил предки — исполнение приговора превращалось в чистку, даже погром. При первом императоре Мин опала одного министра привела к гибели примерно тридцати-сорока тысяч человек. По общему признанию, это был исключительный случай, и его обстоятельства отличались таким же своеобразием, как темперамент императора. Неспокойные времена требовали жестоких средств устрашения, а переход власти от Юань к Мин был, пожалуй, самым неспокойным в истории Китая. Во второй половине XIV века Китай снова стоял на грани раздробления, и казалось, его ждет еще один долгий период со* существования множества государств, как после краха Хань и Тан.
Неприятности нарастали пропорционально ошибкам и неудачам монгольского правления, а те постепенно становились все более очевидными. Начиная с 1340-х гг. более заметные, чем обычно, сельские беспорядки и общественные волнения приобрели дополнительную воинственность благодаря оживлению сект. Повсюду рассказывали о чудесах и призраках, проповедовали неизбежное пришествие нового века и всеобщего искупления, в кельях и тайных обществах члены сект вооружались и готовились к активным действиям. В общем котле идей варились самые разные ингредиенты: манихейские представления об очистительном превращении, традиционное буддийское ожидание Майтреи, или Будды грядущего, тибетские тантрические практики, якобы дающие мгновенное просветление, различные даосские дисциплины и предсказания, а также обычная реакция доверчивого населения на причуды погоды, эпидемии и необычные природные явления. Руководство восставшими взяло на себя Общество белого лотоса — его последователи носили красный головной убор, по которому их было легко узнать. Движение «красноголовых», или «красных повязок» (не путать с «краснобровыми» и «желтыми повязками» периода Поздней Хань), распространилось на юге и на севере, привлекая недовольных, помогая пострадавшим, обеспечивая прикрытие для откровенно уголовных дел и подогревая жажду нового общественного порядка, в котором подчеркнуто не было места монгольским правителям.
На эти крестьянские и милленаристские корни в 1350-х гг. были привиты новые побеги праведного негодования и личной выгоды. На севере обнаружился предполагаемый потомок Южной Сун, вокруг
482
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
которого сплотились приверженцы старого порядка. В провинции Сычуань и на юге региональные военные правители объявили о своей независимости и приняли традиционные имена — Чу, У, Шу и даже Ся, Чжоу и Хань. Бедствия крестьян и массовый принудительный труд на строительстве каналов (в том числе на Хуанхэ в 1351-1352 гг.) спровоцировали восстания. В ответ на растущее беззаконие местные власти — провинциальные чиновники, помещики-землевладельцы и областные военачальники (часть из них монголы) — мобилизовали ополчения и, провозглашая верность правительству Юань, нередко действовали по своему усмотрению. Рассчитывать на поддержку имперских войск можно было только на севере, в обширной столичной провинции и ее окрестностях. Военные контингенты, дислоцированные в других местах, были откровенно слабыми, получали маленькое жалованье и могли откликнуться на заманчивое предложение.
В этом водовороте разобщенных местных движений в начале 1360-х гг. в области Янцзы появилось три или четыре кандидата, претендовавших на гораздо более широкое господство. Чжу Юаньчжан мало чем отличался от остальных. Нищий сирота из провинции Аньхой, чудом переживший голод, чуму и самое безрадостное детство и обучившийся основам грамоты в буддийском монастыре, он присоединился к «красным повязкам» в 1352 г. Собрав по пути группу последователей, в том числе несколько ученых, и солидное войско, он двинулся на юг, в 1355 г. пересек Янцзы, а в следующем году захватил Нанкин. Этот город, укрытый между рекой и лесистыми склонами горы Цзыцзиныыань, до конца жизни Чжу Юаньчжана оставался его главной крепостью и опорой. Позднее по его приказу город окружили новой 33-километровой стеной, остатки которой до сих пор являются самым впечатляющим городским укреплением в Китае. Через десять лет Нанкин стал столицей империи, а еще через тридцать лет — местом упокоения императора, похороненного в великой гробнице на горе Цзыцзинынань. Сделав Нанкин столицей, основатель империи Мин Чжу Юаньчжан стал первым, кто правил Китаем из южного города.
От природы строгий командир и бесстрашный лидер, молодой Чжу Юаньчжан не обладал никакими другими качествами будущего императора. Он был уродлив, чудовищно необразован и полностью лишен поддержки семьи. Но он внимательно слушал и быстро учился. Умение складно изъясняться, а также знание истории, стра¬
483
ГЛАВА 12
тегии и управления он приобрел по пути; крутая кривая познания зеркально отражала его восхождение к власти и, подкрепленная примером основоположника империи Хань, придавала законную силу его претензиям. Лю Бан (ханьский Гао-цзу) вышел из рядов «черноволосых простолюдинов», чтобы стать императором всего Китая — это был благородный прецедент, и сравнения с основателем Хань поощрялись. Но если возвышение Лю Бана отмечало множество знаков небесной милости, Чжу Юаньчжан ничем подобным похвастаться не мог. Императоры в первом поколении были редки, и никто из них не имел в начале пути так мало, как Чжу Юаньчжан.
В 1363 г., после эпической четырехдневной битвы с соседним военным правителем ему удалось завоевать для себя новые земли. Под его победоносные знамена стекалось все больше армий и флотилий. Битва произошла на озере Поянху, одном из обширных водоемов бассейна Янцзы на севере Цзянси; если Чжу Юаньчжан действительно выставил «тысячу кораблей и сто тысяч человек», а его противник — еще больше солдат и еще больше кораблей, возможно, это была величайшая озерная битва в истории. После этого пали Хунань и Хубэй, затем Чжэцзян и Цзянсу. В 1366 г. Чжу Юаньчжан контролировал весь бассейн Янцзы ниже Трех ущелий и «стал очевидным наследником империи Юань» [27].
Прекрасно осознавая свое положение, Чжу перестал участвовать в активных военных действиях. Казалось, Небеса приняли его сторону, а его военачальники — давние соратники и бывшие противники, которым он позволил сохранить командование над собственными войсками, — были искренне к нему привязаны. Кроме того, армия, которую он отправил на север через Шаньдун и Хэнань в 1367 г., едва ли нуждалась в нем. В начале 1 ЗбО-х гг. большая часть юаньских войск на севере оказалась в руках соперничающих военачальников, которые предпочитали сражаться между собой за почетное право защищать императора — им все еще был Тогон-Тэмур, или Шунь-ди, — вместо того чтобы на самом деле защищать императора. Как было сказано в заявлении Чжу Юаньчжана в 1367 г., Юань, которая изначально управлялась легитимной династией, «отринула обычаи добродетели», и «настало время, когда Небеса презрели ее и перестали помогать ее правлению» [28]. После этого в январе 1368 г. Чжу Юаньчжан формально объявил об основании собственной империи. Ее следовало называть Великая Мин (Мин означает «блистательная» или «лучезарная»). Через девять меся¬
484
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
цев войска Мин вошли в Даду (Пекин), почти не встретив сопротивления. Шунь-ди бежал на север во Внутреннюю Монголию. Впервые за несколько сотен лет в Китае воцарился китайский император, и второй раз за всю историю он был выходцем из народа.
Чжу Юаньчжан переименовал великий город в Бэйпин — это не опечатка его теперешнего названия, а транскрипция двух иероглифов, обозначающих «Умиротворенный север», или «Северное умиротворение». Дальний юг также был умиротворен, Фуцзянь покорили с суши, Гуандун с моря, и гуанси по реке. На северо-западе Шаньси, Шэньси и большая часть Ганьсу были в течение следующих двух лет очищены от юаньских лоялистов. Сычуань вернули в 1371 г., и только Юньнань еще держалась под руководством монгольского командующего. В 1381 -1382 гг. Мин окончательно покорила и ее. Среди захваченных пленных был одиннадцатилетний мусульманин из образованной семьи по имени Ма Хэ; его кастрировали, перевезли в Бэйпин и отправили служить одному из сыновей первого императора Мин, дав новое имя — Чжэн Хэ. Со временем он стал ближайшим наперсником принца, принц в конце концов стал императором, а евнуху- мусульманину из Юньнани поручили командовать крупнейшими морскими экспедициями Китая.
После столетнего правления монголов была отвоевана вся территория, считавшаяся Китаем. Она вернулась под власть династии, коренное происхождение которой не подлежало сомнению, и впервые инициатива воссоединения пришла с юга, а не была навязана с севера. Достижения империи Мин (1368-1644) были настолько впечатляющими, что позднее националисты прославляли действия Чжу Юань- жана как триумфальное утверждение китайской самобытности после многих веков «чужой власти». Юг окончательно вышел на первый план, и империя обрела новый облик в соответствии с новыми демографическими и экономическими реалиями. Янцзы теперь занимала место Хуанхэ в качестве главной артерии страны, а Нанкин, самый северный город на реке, потеснил Даду (Бэйпин) в качестве центра власти. Расположенный в сердце преображенного и возрожденного Китая, Нанкин позднее служил духовным оплотом китайского национализма. В 1925 г. первый президент Китайской Республики доктор Сунь Ятсен был похоронен рядом с первым императором Мин на горе Цзыцзиньшань. Вскоре после этого генерал Цзян Цзеши (Чан Кайши) сделал город столицей республики.
485
ГЛАВА 12
Но в XIV веке триумф местной культуры и самобытности не был столь очевидным. Монгольская угроза отодвинулась, но отнюдь не была устранена. После побед на севере в 1370-х гг. армии Мин ударили в глубь Монголии, но не имели особенного успеха. В степи монгольская конница по-прежнему имела преимущество. Юань и ее приверженцы вскоре вернули себе территорию современной Внутренней Монголии и показали, что более чем способны нанести удар Северному Китаю. Монгольская угроза нависала над Мин еще два столетия и сошла на нет только с появлением еще более серьезной угрозы в лице чжурчжэней, обернувшихся маньчжурами.
В вопросах управления страной Мин, похоже, не собиралась учиться на ошибках монголов. Благочестиво объявив, что собирается восстановить институты и ритуалы Тан и Сун, на практике Чжу Юаньчжан, судя по всему, стремился воссоздать ту империю, которую только что сверг1. Организованное Хубилаем деление страны на провинции сохранилось с незначительными изменениями, в провинциях и в Нанкине «формальная структура правительственных учреждений... поначалу почти в точности имитировала принятую при Юань». То же относилось к армии. Чжу Юаньчжан хорошо помнил свое трудное детство и искренне стремился облегчить участь земледельца, ради этого снижая налоги и отдавая приоритет развитию сельского хозяйства, в том числе военных поселений. Но при всех благих намерениях новый император столкнулся в ходе демобилизации и переселения своих армий с теми же трудностями, что и правители Юань. Поэтому, как и Юань, «император превратил свою армию в отдельную профессиональную касту, создал класс управлявших ею потомственных офицеров [и] наделил военных более высоким статусом, чем гражданских чиновников». Эдвард Дрейер назвал их «новой ордой захватчиков, на этот раз китайской по происхождению». Военачальники стали дворянами с наследственными титулами и по¬
1 Во многом это можно объяснить угасанием конфуцианской образованности при монголах — и новый император, и его самые образованные сторонники на самом деле не слишком представляли себе, как выглядели древние империи, чьи имена были начертаны у них на знаменах, зато знали опыт Юань. Монгольские правители, не слишком надеясь на себя и своих преемников, создали очень мощную и наделенную полномочиями чиновную машину, почти не нуждавшуюся в императоре. Чжу Юаньчжан последовательно и до основания уничтожил эту систему, замкнув все линии влияния непосредственно на себя.
486
НА СУШЕ И НА МОРЕ. 1235-1405
местьями, а потомки императора обязаны были возглавлять эту обширную военную структуру и руководить ею [29].
Ярче всего перемены прослеживались в общей атмосфере правления и усиливающейся подозрительности императора. По сравнению с правителями Сун монгольские императоры империи Юань правили самодержавно, судили своевольно и, вопреки конфуцианской традиции, не собирались прислушиваться к протестам министров. Но по сравнению с ними Чжу Юаньчжан вел себя еще хуже. Придворных и министров избивали в его присутствии, иногда до смерти. Во время великой чистки 1380 г., в ходе которой погибло, по разным оценкам, от тридцати до сорока тысяч человек, не проходило и дня без массовых казней. Это был беспрецедентный в истории Китая разгул террора. Одержимый стремлением контролировать все до мелочей и подозрительно относившийся ко всякому, кто мог осмеять недостатки его происхождения и образования, император упразднил должность канцлера и лично руководил правительством. Экзаменационная система была восстановлена, но только для того, чтобы набрать больше чиновников, а не для того, чтобы вернуть им влияние1. В 1390-х гг. объектом подозрений императора стала созданная им самим военная иерархия. В 1393 г. одно слово жалобы, высказанное давно служившим ему генералом, привело к его немедленной казни, а затем его вероятных сторонников: приблизительно четырех хоу, одного бо, одного министра, десятка других дворян, шестнадцати главных комиссаров и точно не установленного числа младших чиновников, а также всех их ближних и дальних родственников — в общей сложности более пятнадцати тысяч человек.
Когда в 1398 г. император скончался, в империи вздохнули с облегчением. Восшествие на трон его старшего внука (сына недавно умершего официального наследника), казалось, знаменовало возвращение к китайским нормам престолонаследия и предвещало эпоху гражданского правления. Но в действительности империя почти
1 Сначала, в 1377 г., Чжу Юаньчжан отменил государственные экзамены как ненавистное монгольское наследие. Они были восстановлены только в 1384 г., причем, как ни парадоксально, в упрощенном варианте, в юаньское время существовавшем только для некитайцев. По инициативе императора в программу экзаменов были добавлены испытания по стрельбе из лука и верховой езде (которых не было при кочевых правителях предыдущей династии), арифметике и знанию законов.
487
ГЛАВА 1 2
сразу погрузилась в кровавую гражданскую войну (1399-1402). К ее концу молодой император исчез, его гражданская политика была свернута, а власть захватил его воинственный дядя, Янь-ван. В ретроспективе все это весьма напоминало борьбу, которая обычно сопровождала смену правителей монгольской династии. Словно для того, чтобы подтвердить эту мысль, войска нового императора выступили с севера, собираясь покорить юг и захватить южную столицу так же, как это сделал Хубилай.
Нанкин так и не смог полностью восстановиться после этого удара. Императорский дворец сгорел во время сражения, и новый император проводил в разрушенном городе мало времени. Он предпочитал Бэйпин, который сразу же переименовал в Бэйцзин (Пекин) — «Северную столицу», и который в 1424 г. назначил главной столицей Мин. Нанкин приобрел другую славу. В 1403 г. новый император объявил о намерении отправить флот в «страны Западного океана». Крупнейшие корабли этого флота и всего тогдашнего мира были построены на реке Циньхуайхэ в месте ее соединения с Янцзы около Нанкина. За ними последовали другие, и через три десятка лет Нанкин превратился в судостроительную столицу самой влиятельной морской державы в мире. В 1405 г. из Китая отплыла первая армада под командованием адмирала Чжэн Хэ — империя Мин была готова не только повторить зарубежные приключения Хубилая, но и сенсационно их превзойти.
13
Ритуалы Мин
(1405-1620)
ОТ КРАЯ НЕБЕС ДО КОНЦА ЗЕМЛИ
Ключевое положение императора — Сына Неба — во всепроникающем вселенском порядке вещей подразумевало серьезную ответственность. При содействии ведомства ритуалов он должен был регулярно проводить церемонии и приносить жертвы, чтобы, заручившись поддержкой богов и предков, избежать стихийных бедствий и получать обильные урожаи. Следовало пышно обустраивать святилища и гробницы, неукоснительно соблюдать сезонные и семейные обряды. Кроме того, император обязан был наблюдать и истолковывать астрономические явления и другие предзнаменования, а также устанавливать правила придворного этикета, титулы и ранги, управлять временем (часы, календарь, сезонные праздники) и пространством (территориальное расположение и геометрия столицы, дворца, зала аудиенций). Неустанно приводя Поднебесную в гармонию с основополагающими принципами вселенной, сам император был причастен к надземному. Не простой смертный, но и не божество, он был сродни созвездию. И вопрос о том, как называть его в этом качестве, оставался открытым.
Личное имя императора употреблялось редко. Его могли использовать только с целью оскорбления достоинства, следовательно, оно было табуировано1. То же самое относилось ко всем словам, которые
1 Личное имя, как имеющее тесную связь с человеком, могло быть использовано для злонамеренного колдовства и наведения порчи. Именно поэтому личные имена обычно скрывали все китайцы, а не только монаршие особы.
489
ГЛАВА 13
ПЕРИОДЫ ПРАВЛЕНИЯ МИН (1368-1644)
1375 1400 1425 1450 1475 1500
по совпадению писались теми же иероглифами или произносились похожим образом: случайно или намеренно их могли использовать, чтобы критиковать или унизить императора. Поэтому каждое новое царствование начиналось с лексикографической чистки. Целые семьи слов хватали и временно изымали из обращения. Ученым и писцам приходилось быть особенно осторожными: одно неверное движение кисти могло стоить жизни.
В историописании самым безопасным способом отличить одного императора от другого были посмертные или храмовые имена. Посмертные имена обычно употребляли для династий, правивших до Суй, храмовые — для правителей от Тан до Юань. Но существовал еще один способ обозначить императора — через официальное название эпохи или эпох, в которые он правил. В этом случае его называли не по имени, а «император такой-то эпохи». Названия (девизы) этих эпох или периодов правления обычно отмечали некий триумф, возвещали новый порядок или прославляли какое-либо неотъемлемое качество императорской власти. Однако и они тоже не всегда проясняли дело: в течение одного царствования могло смениться несколько эпох. К счастью, традиция ежегодно менять девиз правления, как это делали президент Индонезии Сукарно и другие нетерпеливые революционеры («Год, опасный для жизни» и т. д.), в Китае не прижилась. Однако именованные эпохи могли быть довольно короткими — как правило, они продолжались четыре года или шесть лет, в результате чего «в истории Китая зафиксировано всего восемьсот наименований эпох» [1]. Это с неизбежностью привело к повторению названий, и, поскольку с каждого нового периода отсчет начинался заново, сводная таблица названий периодов правления, сопоставлен-
490
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
1525 1550 1575 1600 1625 1650
нал с традиционной хронологией (до н. э. / н. э.), является для людей, изучающих китайскую историю, таким же важным инструментом, как логарифмические таблицы для математиков.
Предъявив права на Небесный мандат в 1368 г., Чжу Юаньчжан внес значительное улучшение в эту систему. Он не только назвал свою империю Мин («Блистательная», «Лучезарная»), вслед за Юань проявив похвальную оригинальность в выборе государственного имени, но и принял девиз эпохи, не менявшийся в течение всего его правления. Другие императоры Мин, а также императоры следующей империи Цин последовали его примеру. С этого времени девизы правления стали соответственно тронными именами, их датировка соотносится с годами царствования, а императоров можно с уверен-
ЛИЧНОЕ ДЕЛО ИМПЕРАТОРА
Император Юнлэ
(1360-1424)
правил в 1403-1424 гг.
Отец:
Личное имя:
император Хунъу
ЧжуДи
Предшественник:
Доимператорский титул:
император Цзяньвэнь
Янь-ван
(его племянник)
Девиз правления:
Супруга:
Юнлэ («Вечное счастье»)
императрица Сюй (ум. 1407)
Храмовое имя:
Похоронен:
Тай-цзун («Высочайший предок»)
Чанлин, Хэбэй
Изменено на:
Чэн-цзу («Совершенный прародитель»)
491
ГЛАВА 1 3
ностью обозначить через именованные периоды правления. Так, первого всекитайского императора маньчжурской империи Цин почти никогда не называют храмовым именем Шэн-цзу, но неизменно императором Канси (то есть «императором периода Канси»)1.
И все же по какой-то непостижимой причине, когда речь идет об империи Мин, вместе с новой системой широко используют прежнюю систему храмовых имен. Чжу Юаньчжан, который стал первым императором Мин, известен как Тай-цзу («Великий прародитель», его храмовое имя) и как император Хунъу («Весьма воинственный», что вполне справедливо характеризует его царствование). Второго императора Мин, внука императора Хунъу, называют Хуэй-ди, а также император Цзяньвэнь; третьего, дядю и узурпатора второго, при котором в плавание отправились великие армады Чжэн Хэ, — Тай-цзун (позднее заменено на Чэн-цзу) и император Юнлэ. В некоторых книгах не только чередуют эти два типа имен, но и периодически добавляют к ним посмертный титул. В моей книге, говоря об императорах Мин и Цин, используются только девизы периодов правления без кавычек.
Таким образом, император Юнлэ (пр. 1403-1424), третий сын вышедшего из народа императора Хунъу, был тем самым яньским князем, который успешно бросил вызов молодому императору Цзянь- вэню (пр. 1399-1402), захватил Нанкин, а затем перенес столицу обратно на север на место монгольского города Даду7. Там, переименовав его в Пекин, император Юнлэ начал строительство нового мегаполиса. Оно продолжалось большую часть его царствования, а расположенный в центре столицы Запретный город в значитель¬
1 Привычка именовать минских и цинских императоров не по их храмо¬
вым именам, а по девизам их правлений крайне живуча в академической лите¬
ратуре. Судя по всему, корни ее стоит искать в первых десятилетиях настоящего
знакомства европейцев с Китаем, которые почти полностью пришлись на правление маньчжуров. Маньчжуры (а за ними монголы) имели своеобразную ма¬
неру перевода девизов правления причастием. Например, Канси переводился
не как «Император с девизом правления Спокойствие и мир», а как «Император,
правящий со спокойствием и миром». Первые западные китаеведы, которые зачастую предпочитали китайскому языку маньчжурский как более простой и престижный при дворе, видимо, восприняли это как тронное имя императора, которым его следует именовать, тем более что и в китайских хрониках почти все события датировались именно по годам эр правления, а сам монарх при жизни лаконично именовался «нынешний император».
492
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ной степени сохранился до наших дней. Правивший в эпоху сравнительного изобилия император Юнлэ, в отличие от своего отца, не стремился к бережливости. Огромные суммы снова были потрачены на реконструкцию Великого канала с целью повышения его пропускной способности, чтобы новая столица могла бесперебойно получать продовольственные запасы с юга. Ничуть не меньше обременяли казну долгие и в основном безуспешные военные походы в Монголию и Вьетнам. Но, как показывают официальные истории, самым ярким примером безудержной расточительности были плавания по «Западному [Индийскому] океану», в которые император Юнлэ отправил Чжэн Хэ, своего верного евнуха-мусульманина из Юньнани.
Всего было совершено семь таких плаваний, шесть из них по приказу императора Юнлэ между 1405 и 1421 гг. и еще одно после долгого перерыва в 1431 г. по поручению его восторженного преемника. Всеми экспедициями командовал Чжэн Хэ, в каждой из них участвовало от ста до трехсот судов, на которых располагалось в общей сложности до двадцати семи тысяч человек. Среди этих кораблей обычно было около пятидесяти «кораблей-сокровищниц», колоссальных сооружений, примерно в пять раз превышавших размеры любых других деревянных судов того времени и в десять раз превышавших их грузоподъемность. Специалист по эпохе Мин Эдвард Дрейер, автор убедительного современного анализа соответствующих письменных и археологических источников, сделал вывод, что самые большие суда имели более 130 метров в длину, около 50 метров в ширину и водоизмещение порядка двадцати-тридцати тысяч тонн. Они были размером с небольшие круизные лайнеры. Для сравнения: в первооткрывательских плаваниях Христофора Колумба и Васко да Гамы участвовали лишь три-четыре корабля, длиной не более 20 метров и водоизмещением, едва достигавшим одной двадцатой корабля-сокровищницы Мин. Прямоугольные в поперечном сечении и сравнительно малой осадки, что позволяло им пройти через устье реки* корабли-сокровищницы были оснащены водонепроницаемыми переборками, выдвижными рулями и выдвижным килем и имели от шести до девяти мачт, каждая высотой около 60 метров, со складными ротанговыми парусами. «Говоря языком более поздней эпохи военно-морского флота, — замечает Дрейер, — у Китая были корабли, люди и деньги» [2].
493
ГЛАВА 1 3
Каждое плавание Чжэн Хэ продолжалось чуть более двух лет и следовало по воле муссона одним и тем же курсом — от Янцзы до Куи- нёна в государстве Чампа (Южный Вьетнам), затем к Яве, Малакке (недалеко от Сингапура), различным портам на Суматре, южному или западному побережью Шри-Ланки, затем в Каликут (совр. Кожикоде) на побережье штата Керала на юге Индии, которая и была «великой страной Западного океана». От Каликута весь флот или его часть плыли дальше. Ормуз в Персидском (Арабском) заливе был достигнут во время четвертого плавания, Джофар и Аден на южном побережье Аравийского полуострова — во время пятого, порты на побережье Сомали в Африке в этих двух и в шестом плавании. Китайские посланники также достигли Мекки, хотя и не на китайских кораблях, и Малинди на территории современной Танзании, вероятно, на китайских кораблях. Удалось установить, что китайские мореплаватели делали остановки на разных островах — Борнео, Филиппинах, Андаманских, Мальдивах и Лаккадивах, а также периодически посещали многие другие области побережья материковой Азии, включая Бенгалию и Таиланд. Всего за семьдесят лет до того, как скорлупка Васко да Гамы обошла вокруг мыса Доброй Надежды, величественные армады Чжэн Хэ безраздельно господствовали в водах Индийского океана.
Для империи, ранее не интересовавшейся внешней торговлей1 и не игравшей никакой политической роли к западу от Явы, это было сенсационным достижением. Превосходство китайского судостроения, навигационного опыта и организаторских навыков не вызывали сомнений. Подобно программе запуска космических кораблей или великой эре дирижаблей в 1920-х и 1930-х гг., путешествия царственных кораблей-сокровищниц, казалось, ознаменовали новую эпоху комфортных путешествий, большегрузного транспорта и непревзойденной безопасности на море под защитой владычицы волн Мин. Чужеземные путешественники (Марко Поло и живший в XIV веке великий марокканский искатель приключений Ибн Баттута), впервые увидев эти корабли, едва могли поверить своим глазам. Каждый из них настороженно относился к индийским и араб¬
1 Внешней торговлей занимались купцы, с которых государство лишь собирало положенные пошлины. Ко временам Мин южнокитайские торговцы уже довольно хорошо освоили берега Южно-Китайского моря и имели немало поселений вне Китая — еще не слишком впечатляющий прообраз нынешнего мира заморских китайцев хуацяо.
494
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ским судам, но без колебаний согласился взойти на борт огромной джонки. На борту китайского торгового судна даже у купцов имелись собственные каюты — можно было плыть несколько недель в комфорте и безопасности, не встречаясь с другими пассажирами. И все это время, говоря словами человека, который вел дневник Чжэн Хэ, «днем и ночью величественные паруса, распростертые, подобно облакам, продолжали свой звездный путь, скользя над необузданными волнами, словно по широкой городской улице» [3].
Армадам Мин были доступны любые берега Поднебесной. Казалось, Китай готов покорить моря и взять в свои руки международную торговлю, благодаря которой столетие спустя европейские государства создали колониальные империи и предъявили права на мировое господство. Но в случае Китая ничего подобного не произошло. Скорее затея императора Юнлэ дискредитировала саму идею зарубежных контактов. Через некоторое время огромные корабли оставили гнить, строить им замену официально запретили и более чем на сто лет запретили все морские плавания, кроме каботажных. В дальнейшем морские путешествия упоминаются настолько редко, что некоторые ученые сомневаются, действительно ли они когда-то имели место. Другие впадают в противоположную крайность и, опираясь на скудные записи, выдвигают экстравагантные теории о полярных экспедициях и кругосветных плаваниях. Но почти все задаются вопросом, почему столь грандиозный проект был внезапно развернут, а потом так же быстро заброшен.
Возможно, объяснение скрывается в пересмотре целей и задач, стоявших за морскими путешествиями и с самого начала радикально отличавшихся от целей, которые преследовала европейская экспансия. Их истинная природа была скрыта даже от хронистов, писавших историю империи Мин, поэтому основной известной нам причиной плаваний по Индийскому океану остается та, которая обозначена в официальной биографии Чжэн Хэ: мореходы должны были найти императора Цзяньвэня, свергнутого племянника императора Юнлэ. Отчасти это был обманный маневр, отчасти удобный вымысел с целью добиться поддержки от конфуцианских бюрократов, которые скептически относились к дорогостоящим морским путешествиям и презирали флотоводцев-евнухов, однако вынуждены были с преувеличенным усердием поддерживать любые начинания, подтверждавшие легитимность императора Юнлэ.
495
ГЛАВА 1 3
Дело в том, что в 1402-1404 гг. остатки лояльности предыдущему императору Цзяньвэню спровоцировали еще одну чистку — одно из «самых жестоких и варварских политических деяний в истории Китая» (впечатляющая оценка, учитывая недавние эксцессы правления императора Чжу Юаньчжана / Хунъу). Десятки, возможно, сотни тысяч человек погибли мучительной смертью за связь с теми, кто служил прежнему режиму или хотя бы сочувствовал ему. Хорошо известна история одного подозреваемого чиновника: уже избитый до полусмерти и истекавший кровью от того, что ему вырвали язык, он все же нашел в себе силы для дерзкого ответа. Обмакнув палец в собственную кровь, словно кисть в чернила, он написал на полу (вместо бумаги) иероглифы: «Где же Чэн-ван?» Император Юнлэ утверждал, будто он, как когда-то Чжоу-гун, пришел на помощь своему племяннику, чтобы спасти династию в период кризиса. Но где же тогда Чэн- ван, законный владыка, от имени которого правил великий гун древности, вопрошали кровавые иероглифы [4].
Ответ императора Юнлэ, если таковой имелся, можно вывести из инструкций, полученных евнухом Чжэн Хэ: исчезнувший император бежал, но он будет найден, даже если для этого придется дойти до края земли. Это объяснение должно было снять с императора Юнлэ все подозрения. Излишне говорить, что оно никак не помогло чиновнику с вырванным языком, которого после этого четвертовали. Но его дерзость продолжала жить, и не только в памяти верных: кровавая надпись никак не покорялась щеткам дворцовых уборщиков и, по рассказам, даже светилась в темноте. Император Юнлэ не выдержал. Предание гласит, что он решил перенести столицу на север в Пекин именно из-за того, что не желал больше видеть на полу кровавую надпись, которую никому не удавалось стереть.
Другому весьма уважаемому конфуцианскому ученому не только отрезали язык, но и рассекли рот от уха до уха. Через неделю, жутко ухмыляясь, он тоже умер от руки палача, отрубившего ему одну за другой все конечности, а следом были казнены восемьсот семьдесят три его родственника и не под дающееся подсчету количество людей, которых он когда-либо учил или экзаменовал. В действительности, как все прекрасно знали, императора Цзяньвэня уже не было в живых. Его тело почти наверняка находилось среди тех обугленных трупов, которые вынесли из сгоревших руин Нанкинского дворца, когда войска императора Юнлэ захватили город. Если бы ему действительно чудесным
496
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
образом удалось бежать, эти публичные акты мести скорее воспламенили бы чувства верных людей, чем запугали их и заставили молчать. Как и следовало ожидать, через два с половиной века нашелся человек, утверждавший, будто ведет свой род от императора Цзяньвэня, и этот человек сверг империю Мин. А предположение, будто экс-император каким-то образом добрался до Индии или Африки и ждал там, когда за ним придут корабли Чжэн Хэ, было ложным слухом из Пекина.
Точно так же вызывает сомнения тезис, будто император Юнлэ искал в Африке и Азии союзников для борьбы с Тимур-Ленгом (Тамерланом, пр. 1369-1405), победоносным ханом из Самарканда. В 1398 г. Тамерлан, мусульманин и монгол, отдаленный потомок Чингисхана1, действительно планировал округлить свои азиатские приобретения, уже простиравшиеся от Анатолии до Индии, и вторгнуться в Китай. Император Хунъу обидел его, прислав посольство, которое обращалось с ним как с вассалом (послов задержали), и к тому же имел виды на оазис Комул, что противоречило притязаниям Тамерлана на Синьцзян. В 1404-1405 гг. Тамерлан действительно выступил в поход на Китай, ведя за собой двухсоттысячную армию. Но через несколько недель после начала похода он умер, и обычная для монгольских государств борьба за престол помешала продолжению кампании. Войска Тамерлана так и не дошли до границ империи Мин в Ганьсу Император Юнлэ, судя по всему, не воспринимал эту опасность всерьез, и она в любом случае утратила актуальность к тому моменту, когда Чжэн Хэ отправился в первое плавание — нет абсолютно никаких упоминаний о Тамерлане в связи с его морскими путешествиями.
Гораздо более дружелюбные отношения завязались между императором Юнлэ и Шахрухом, который через некоторое время занял место Тамерлана (пр. 1407-1447). Фактически эти отношения создают куда более убедительный контекст для китайских морских походов. Как только Шахрух отказался от притязаний Тамерлана на китайские территории, между минским Китаем и тимуридской Центральной Азией установился регулярный обмен посольствами непревзойденного размера и богатства. Вопросы протокола решились сами собой: обращение правителей друг к другу подразумевало равенство статуса, не вызывавшее возражений в столице Шахруха, хотя в Пекине
1 Эмир Тимур был родней Чингисхану только по жене. Именно поэтому он никогда так и не принял титул хана и правил от имени чингисидских марионеток
497
ГЛАВА 1 3
падение ниц перед императором оставалось обязательным. За время правления Юнлэ ко двору Мин «прибыло 20 миссий из Самарканда и Герата [новой столицы Шахруха], 32 из различных оазисных государств Центральной Азии, 13 из Турфана и 44 из Хами» [5]. Почти на каждую из них было отправлено ответное посольство, обычно еще более пышное и богатое. Движение через коридор Ганьсу оживилось, как в пору расцвета Хань и Тан, — шедшие в обе стороны караваны почти не теряли друг друга из виду, а купцы, ехавшие торговать под видом данников, стали обычным явлением.
Посольство Мин 1414 г., посетившее семнадцать государств, включая города Герат и Самарканд, составило самый исчерпывающий для того века отчет обо всех аспектах экономики Центральной Азии. Никогда еще Китай не был так хорошо информирован о своих соседях на суше и не имел более точных представлений о продукции, которая от них требовалась. Данники присылали в Китай «драгоценные металлы, нефрит, лошадей, верблюдов, овец, львов и леопардов» [6]. Взамен император Юнлэ дарил шелк, серебро и бумажные деньги — все это иностранцы могли до отъезда обменять на китайские товары более утилитарного характера. Производители и торговцы получали прибыль. Частный импорт иностранной продукции был запрещен законом, но система данничества в целом поощряла развитие торговли, хотя и под присмотром императора.
От правителей других стран: Бирмы, Тибета, Монголии, Маньчжурии, Кореи и Японии — посольства с данью прибывали ко двору Мин не так часто, но в целом обычно не проходило и недели без одного или нескольких грандиозных приемов. Организация посольских приемов входила в обязанности ведомства ритуалов, и ход церемонии должен был подчеркнуть вселенское господство императора и ничтожность посланников (например, поклоны-простирания коутоу, против которых jb свое время категорически возражали европейцы, полагалось исполнять под грубую отрывистую команду, в сопровождении звуков фанфар). Любые внешние отношения, независимо от их политической или коммерческой выгоды, входили в число ритуальных обязанностей императора, и каждый официальный прием служил наглядным подтверждением того, что все существующее под небесами подчиняется Сыну Неба. Однако в остальном с послами обращались вполне сносно. Их обеспечивали транспортом, кормили и размещали за государственный счет, и на родину они неизменно отбывали, став
498
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
богаче и мудрее. В 1407 г. император создал первую школу письменных переводчиков для обработки корреспонденции, поступавшей от многочисленных иностранных адресатов, а также школу устных переводчиков, которые должны были сопровождать прибывших данников и производить на них благоприятное впечатление.
Вклад путешествий Чжэн Хэ в этот дипломатический обмен особенно заметен. За двадцать два года правления императора Юнлэ ко двору Мин прибыли около девяноста пяти миссий из государств Юго-Восточной Азии и Индийского океана, многие из них на кораблях Чжэн Хэ. Император «хотел показать своих солдат в чужих странах, чтобы знали о богатстве и могуществе Срединной империи», — сообщает официальная история Мин. Чжэн Хэ был уполномочен, как сообщает стела, воздвигнутая им в порту Чанлэ (близ Фучжоу), «отправиться в [чужеземные] страны и передать им дары, чтобы расположить их к нам и показать нашу силу, однако обращаться с далекими народами милостиво». В результате, добавляет та же надпись:
«От края небес до конца земли нет никого, кто не стал бы нашими подданными и рабами. До дальнего запада Западных земель и до дальнего севера северных окраин можно рассчитать срок путешествия, и варвары из-за моря, даже живущие в самых далеких странах, [чья речь требует] двойного перевода [через язык посредников], все прибывают ко двору, неся драгоценные предметы и подарки» [7].
Великие морские путешествия периода Юнлэ, как и сухопутные челночные дипломатические миссии, были призваны проиллюстрировать и подкрепить специфически китайскую концепцию всеобщего подчинения Сыну Неба1. Прибывающие послы, привезенная ими дань, полученные ими дары превосходящей ценности и торговля, которая, несомненно, сопровождала эти обмены, — все это не было
1 Чжу Ди, пришедший к власти после убийства собственного племянника — законного монарха, как никто нуждался в подтверждении собственной легитимности и знаках милости Неба. С глубокой древности степень поддержки Небесами того или иного монарха исчислялась арифметически — отдаленностью варварских народов, которые, почувствовав благотворное влияние Сына Неба, не смогли противостоять желанию отправить к нему покорное посольство. Экспедиции Чжэн Хэ должны были лишь помочь провидению высказаться яснее.
499
ГЛАВА 13
самоцелью, но служило в первую очередь показателем центрального положения и превосходства императора. Совсем иначе относились к своим морским походам европейцы. Для них все начиналось с разведки, разведка вела к торговле, а торговля вела к империи. В случае с Китаем дело обстояло с точностью до наоборот. Номинальная империя предшествовала фактическому контакту, неофициальная торговля возникла задолго до великих морских путешествий, а разведка, измерение расстояний и составление навигационных звездных карт шли в последнюю очередь и служили лишь дополнительным подтверждением земного владычества.
Разумеется, императора приводили в восторг экзотические предметы, которые ему присылали из морских путешествий. Незнакомые специи и благовония окружали его потусторонним благоуханием. Драгоценные камни и металлы давали ослепительное наглядное подтверждение его величия. Львы, верблюды, страусы и слоны сообщали о всеобъемлющем характере его господства. Жирафы и носороги в особенности имели приятное сходство с мифическим существом по имени цилинъ, редкие появления которого всегда считались необычайно благоприятным знаком. Коротко говоря, дань служила недвусмысленным свидетельством благосклонности Небес и неоспоримого превосходства императора.
Естественно, в каждом плавании флот сопровождало значительное войско. Однако никаких захватов территории или основания колоний не планировалось — ошибки Хубилая на Яве и в Японии не повторились. Но военные парады и демонстрация оружия играли важную роль: разъясняли непросвещенным народам превосходство Китая и помогали добиться их расположения в качестве лояльных данников. Э. Дрейер сравнивает эти мероприятия с «демонстрацией военного превосходства» и подчеркивает дальнейшую необходимость флота для самозащиты и борьбы с пиратами. В ходе семи морских путешествий наступательная способность флота была проверена только трижды: два раза на Суматре и один — на Шри-Ланке. Шриланкийская стычка была вызвана враждебностью местных жителей, осложненной гражданской войной. Действия на Суматре были предприняты от имени двух местных правителей; один боролся с самозванцем, другой с пиратами; пираты, кстати, были китайцами.
На берегах современной западной Индонезии и Малайзии уже существовали зачатки даннической системы. Вероятно, они возникли
500
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
еще до неудачного вторжения Хубилая на Яву сто лет назад. Кроме того, в основных портах региона обосновались небольшие общины китайцев, пришедших в основном из провинции Гуандун. Они представляли собой нечто вроде приграничных форпостов, как в Тибете или Монголии, играли важную роль в торговле и не возражали против более пристального наблюдения в тот период, когда Мин активно завязывала отношения с соседним Вьетнамом. Крупномасштабное китайское поселение в Юго-Восточной Азии, возникшее позднее в период Мин, возможно, было чем-то обязано этим контактам.
Таким образом, здесь путешествия Чжэн Хэ выполняли практическую задачу, защищая установленный порядок, обеспечивая безопасность жизненно важных проливов Малакки и сдерживая любые попытки напасть на государство Чампа, союзника Мин. В самой Малакке Чжэн Хэ основал на берегу факторию, поставил памятную стелу (стелы были установлены еще только в Каликуте и на Шри-Ланке) и поддержал местного правителя, бежавшего с Суматры. Потомки этого человека, приняв ислам, стали султанами Малакки, а сама Малакка превратилась в крупный торговый центр региона. Как укрепленный портал, открывающий дорогу к Китаю и Яве, к началу XVI века она оказалась главной целью морских походов Португалии, стремившейся сосредоточить в своих руках торговлю пряностями.
Но в начале XV столетия ужасная ситуация во Вьетнаме заставила флот Чжэн Хэ вести себя в этих местах активнее, чем в других уг олках Западного океана. Каждое путешествие служило «демонстрацией военного превосходства» в поддержку государства Чампа, главного союзника Мин на материке, а также ряда морских государств Суматры. В Малакке находился самый близкий аналог колонии, когда-либо созданный Чжэн Хэ. Кроме того, если дружественные отношения с Центральной Азией Тимуридов образуют контекст для начала великих путешествий Чжэн Хэ, то явно недружественные отношения с Вьетнамом дают контекст для отказа от них.
НЕВЗГОДЫ И НЕУДАЧИ
Неудачи ранней Мин во Вьетнаме производят почти такое же загадочное впечатление, как путешествия Чжэн Хэ. Если на дальнем севере Китая действительно существовали веские причины для конфликта
501
ГЛАВА 1 3
с Монголией, то на дальнем юге материковые королевства Юго-Восточной Азии не представляли угрозы и не обещали никаких серьезных выгод. Исторически область Красной реки служила для Китая местом ссылки неугодных, а также источником благовоний, разноцветных перьев и постоянных восстаний. Местный климат считали гибельным, а местных жителей неуправляемыми. Очертаниями напоминающий невод, Вьетнам, казалось, существовал с единственной целью — притягивать к себе великие державы.
Император Хунъу (Чжу Юаньчжан) поступил разумно, объявив его запретной зоной для Мин. При жизни основатель империи Мин составил список «заповедей», которыми должны были руководствоваться его преемники (эти заповеди нередко шли вразрез с их собственными планами), в том числе перечислил страны, вторгаться в которые не следовало. Список возглавлял Аннам, тогда занимавший большую часть Вьетнама, за ним следовала Чампа и, наконец, Камбоджа — все вместе они делили между собой дельту Меконга и окрестное побережье. Но император Юнлэ решил пренебречь этим запретом. Как гласит надпись на стеле Чжэн Хэ, он стремился «превзойти Хань и Тан». Император* вытеснивший племянника (императора Цзяньвэня) и фактически узурпировавший трон, стремился получить внятное доказательство одобрения Небес и собственной легитимности, и лучшим способом сделать это стало бы воссоздание величайших империй прошлого. Поскольку территория империй Хань и Тан охватывала пойму Красной реки и Аннам, ему следовало добиться того же.
Но к тому времени Вьетнам уже четыреста лет сохранял независимость под властью местной династии Чан. Он соглашался признать сюзеренитет Сун, когда ему это было выгодно, а превосходство Юань признал только под прямым давлением. Императоры Хунъу и Цзянь- вэнь в пору своего правления почти не обращали на него внимания. Император Юнлэ мог бы поступить так же. Когда в 1404 г. его ввели в заблуждение и он признал мятежного самозванца как законного правителя Вьетнама, когда в 1405 г. Юнлэ исправил свою ошибку, признав права предполагаемого потомка Чан, и когда в 1406 г. этот претендент и сопровождающий его минский эскорт были убиты в тот момент, когда ступили на землю Вьетнама, император все еще мог сослаться на заповеди своего отца и отступить. Однако вместо этого он отправил для вторжения во Вьетнам армию из двухсот пятнадцати
502
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
тысяч человек. Хуже того, в 1407 г., одержав убедительную победу, Юнлэ аннексировал Вьетнам, переименовал его в Цзяочжи и сделал провинцией империи Мин. Так эти земли назывались при Хань, но жители Вьетнама, как и в прошлый раз, отнюдь не собирались с этим мириться. Память о сестрах Чынг, неукротимых воительницах, бросивших вызов армиям Поздней Хань, была еще жива в сердцах людей. На этот раз вдохновенные вожди нашлись в кланах Чан и Ле. Их неукротимый дух сопротивления борцы за свободу грядущих времен назвали подлинным первозданным национализмом.
Военные действия продолжались двадцать лет. Трижды страна считалась усмиренной, и трижды восстания вспыхивали снова. Армия Мин редко проигрывала битвы — вьетнамцы никогда не сдавались. По суше и по морю на юг прибывало все больше и больше солдат и всего для них необходимого, но это ничего не меняло. Местность и климат ослабляли захватчиков и способствовали партизанской тактике защитников. К середине 1420-х гг. вьетнамское сопротивление пользовалось почти всеобщей поддержкой — им руководил великий Ле Лой, патриот, который в будущем стал примером для молодого Нгуен Шинь Кунга, иначе Хо Ши Мина. (Впрочем, параллели с XX веком слишком многочисленны, и мы не будем здесь их перечислять.) Минские войска не расположили к себе сердца местных жителей, минские чиновники не успокоили их умы. Чампа, база поддержки и южный союзник Мин, была глубоко разочарована китайской политикой. В 1423 г. в Пекине уже рассматривали варианты отступления без потери достоинства. Это был самый основательный военный провал в истории Ранней Мин.
Отступление было завершено только в 1427 г., через четыре года (сменились два императора) после смерти императора Юнлэ. Еще десять лет (снова два императора) спустя отношения были формально урегулированы. В дальнейшем Вьетнам, хотя в 1530-х гг. ему угрожало новое вторжение, пошел своим путем: покорив государство Чампа и часть Камбоджи, он более или менее принял свои современные очертания и смог избежать нового завоевания даже в период экспансии маньчжурской империи Цин. Но китайское дело фактически было проиграно еще в 1423 г. В этом году Чжэн Хэ вернулся в Китай из шестого путешествия, дальнейшие плавания повелели прекратить, а император Юнлэ умер. Неудача во Вьетнаме положила конец необходимости поддерживать Чампу и контролировать морские государ¬
503
ГЛАВА 1 3
ства Малайского архипелага. Без этого стратегического обоснования ничто уже не оправдывало огромные расходы на далекие путешествия и содержание флота, необходимого для демонстрации престижа и могущества. Конфуцианские чиновники давно высказывались за прекращение морских путешествий. Евнухи императора, главные сторонники и благополучатели морской инициативы, вышли из фавора со смертью императора Юнлэ.
Возможно, как отметил гонконгский ученый Ван Гунву, зарубежные эксперименты императора Юнлэ постепенно прекратились, потому что «традиционная система данничества не имела ничего общего с активной международной политикой». Возможно, император действительно предвосхитил европейские методы расширения государственного присутствия, но, не приспособленные к тем концепциям и условностям, на которые всегда опирались международные отношения императорского Китая, они обернулись пустой тратой времени и средств. «Не имело смысла вкладывать в старую систему больше средств, власти и церемоний — это ничего не меняло» [8]. С современной точки зрения все это выглядит как еще одна из великих упущенных возможностей Китая. Доведенные до логического конца, путешествия Чжэн Хэ могли воспрепятствовать европейскому господству на морских путях, изменившему глобальное равновесие, которое начало восстанавливаться только сейчас, в XXI веке. Но в то время, когда династия была далеко не уверена в своей судьбе, а императору требовалась легитимность, путешествия оправдывал именно ритуальный характер традиционной дипломатии и ее космологический контекст. Послужив этой цели, исчерпав свою полезность в отношении войны во Вьетнаме и не сумев обнаружить какое-либо другое обоснование, которое могло бы оправдать связанные с ними расходы, они должны были прекратиться1.
1 Грандиозные китайские экспедиции превосходили те, которые организовывали европейцы через несколько десятилетий, пожалуй, во всем, кроме окупаемости. Крохотные флотилии Васко да Гамы или Колумба не производили впечатления как символ могущества отправивших их держав, но зато не разоряли казну в случае неудачи и легко и многократно окупались в случае даже частичного успеха. А вот торговых выгод, которые могли бы окупить экспедицию Чжэн Хэ, пожалуй, не существовало, поэтому ими не могли заинтересоваться держатели частного капитала, которые во многом профинансировали европейские Великие географические открытия.
504
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
Несоответствие даннической традиции и потенциала вторжений подтверждали и другие примеры. Еще одна причина отказа от Вьетнама и морских плаваний заключалась в том, что к 1420 г. у империи возникли серьезные неприятности на дальней северной границе. Затраты на строительство новой столицы в Пекине, ее близость к Монголии и возрождение монгольской угрозы отодвинули Юго- Восточную Азию и Западный океан на второй план. Примечательно, что Монголия (теперь это понятие объединяло все народы северной степи) не вошла в список стран, которые император Хунъу приказал своим преемникам не беспокоить. Степи оставались опасной открытой границей, тем более теперь, когда двор и столица оказались в пределах их досягаемости. Без сомнения, император Юнлэ оценил это. Возможно, переезд в Пекин указывает на то, что Ранняя Мин замышляла, по примеру Юань, навязать свою власть всей Монголии й Маньчжурии и воссоздать двойную империю, объединяющую степь и пашню.
В обмен на посольства и дань императоры Хунъу и Юнлэ жаловали титулы и торговые привилегии отдаленным монгольским, маньчжурским и сибирским народам, главным образом с целью их нейтрализации. Между тем основная дипломатическая и военная активность империи Мин была направлена на соседнюю конфедерацию восточных монголов и набирающих силу грозных ойратов на западе — и те и другие стремились воссоздать империю Чингисхана. Императоры Мин настраивали их друг против друга и отправляли или возглавляли крупные походы против них. Они основали автономные военные поселения на окраинах степи и построили в стратегических местах линии укреплений и наблюдательные пункты. Некоторые ученые считают эти «линии» «стенами». «Но, вероятно, не следует думать об этих стенах как об участках древних стен или прототипах “Великой стены”, — пишет Артур Уолдрон. — Первое упоминание о “длинных стенах” чанчэн в Достоверных записях (шилу) династии Мин появляется только в 1429 г.» [9]. И даже тогда новые чанчэн вряд ли напоминали те грандиозные сооружения из кирпича и камня, с зубчатыми бойницами и бастионами, которые были возведены вокруг Нанкина, нового Пекина и других городов. Судя по жалобам на ущерб, вызванный дождем, пограничные стены все еще строили из плотно утрамбованных в деревянную опалубку земляных блоков; пожалуй, возникшие под бесчисленными ударами землебитные ханту могут служить
505
ГЛАВА 1 3
аллегорией создавшей их цивилизации, сформировавшейся под бесчисленными ударами степей.
И во Вьетнаме, и в Монголии последние годы императора Юнлэ отмечены свертыванием операций и отходом из дальних укреплений, содержание которых оказалось более обременительным, чем их постройка. Император, к тому времени шестидесятилетний старик со слезящимися глазами, вероятно, был истощен не меньше, чем его казна. Сокращение границ продолжалось и при его непосредственных преемниках. К 1430 г. Мин оставила даже области на расстоянии нескольких дней пути от столицы, в том числе город, переименованный в Кайпин (который назывался Шанду при Хубилае и остался Ксанаду / Ксанад в поэме Кольриджа1). При дворе конфуцианские чиновники отстаивали преимущества надежной, контролируемой и не требующей лишних расходов границы. Многое действительно говорило в пользу такой политики, но для ее осуществления требовалось умиротворить соседние кочевые народы соглашениями о торговле под видом дани, благодаря которым они могли ежегодно избавляться от лишнего поголовья лошадей и получать необходимые им продукты и товары китайского производства. Однако рынки, созданные для этой цели, строго контролировались, торговля оставалась императорской монополией, а слишком частые и многочисленные (до двух тысяч человек) монгольские посольства с данью так истощали фонд гостеприимства империи, что им нередко приходилось отказывать в приеме.
Так же как в прошлом, консолидация границы загадочным образом способствовала объединению оставшихся за ней народов. На западе начиная с 1430-х гг. монголы-ойраты под руководством вождя по имени Эсэн совершали набеги на поселения от Комула в Синьцзяне до Ганьсу и Шэньси. Завоеваниями и союзами Эсэн обеспечил себе поддержку восточных монголов и чжурчжэней северной Маньчжурии. Когда в 1448 г. Мин отказалась принять его орду развязно ведущих себя послов с данью, он одновременно вторгся в Ляодун, Хэбэй и Шаньси. Пекин в ответ выставил армию численностью около полумиллиона человек Она выступила в поход в начале августа 1449 г.,
1 Кольридж С. Т. Кубла Хан, или Видение во сне (1797-1798): «В стране Ксанад благословенной / Дворец построил Кубла Хан, / Где Альф бежит, поток священный, / Сквозь мглу пещер гигантских, пенный, / Впадает в сонный океан» (пер. К Бальмонта). См ..Кольридж С. Т. Стихи. М.: Наука, 1974. С. 78. —Прим. ред.
506
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
и так была подготовлена сцена для так называемого Инцидента в Туму, или Тумуской катастрофы, — далеко не случайного несчастного случая, который омрачил репутацию империи Мин на следующие два столетия.
Император Чжэнтун (пр. 1436-1449), правнук императора Юнлэ, стремился по примеру своего прадеда лично руководить войсками. Он взошел на престол в возрасте восьми лет — ему нравилось играть в солдатики, и теперь, когда ему исполнился двадцать один год, он с нетерпением ждал возможности сыграть по-настоящему. Его советники были ошарашены. Но евнух Ван Чжэнь, в прошлом наставник императора, а теперь всемогущий начальник службы безопасности, не стал слушать их возражений и обязался лично сопровождать императора и контролировать ход военных действий.
Продолжавшаяся двадцать восемь дней кампания была оценена как «абсолютно непродуманная и безответственная», что полностью соответствует данным официальных хроник [10]. Все шло не по плану — если план вообще был. Бесконечно лил дождь, военный министр все время падал с лошади, а евнуху Ван Чжэню, который не вызывал у окружающих никаких чувств, кроме ненависти, вообще повезло, что его не убили в первую же неделю. На фоне сообщений о монгольских успехах на границе и невзирая на растущее недовольство солдат, войско продолжало двигаться на запад в Датун. Иногда дождь прекращался, но каждый раз зловещие черные тучи снова появлялись словно из ниоткуда. Росло предчувствие беды. Проведя в Датуне всего два дня и так и не увидев врага, Ван Чжэнь отказался от идеи вторгнуться на территорию Монголии и согласился на отступление, которого все требовали. 30 августа армия Мин, к тому времени больше напоминавшая неорганизованный сброд, вернулась в Хэбэй и оказалась на расстоянии трех дней пути от Пекина. И как раз тогда конные лучники Эсэна верхом на выносливых, окрепших на летнем выпасе лошадях догнали войско Мин.
Арьергард был мгновенно уничтожен. Та же участь ожидала тридцатитысячную конницу, которую отправили на его место — она въехала прямо в засаду. На следующий день главная армия дошла до почтовой станции под названием Туму. Дождь прекратился, колодцы успели высохнуть, люди и лошади страдали от жажды. Провизия почти кончилась. Между евнухом Ван Чжэнем и не выносившим лошадей военным министром разгорелся бурный спор, после
507
ГЛАВА 1 3
которого министр, хромая, ушел в свою палатку, где проплакал всю ночь. Ради безопасности императора он хотел отправить его прямо в Пекин, но Ван Чжэнь выступил против этой идеи, предположительно потому, что хотел дождаться, когда их догонит тысяча повозок с его личным багажом. Наступило утро 1 сентября — праздника середины осени, дня застолий и семейных воссоединений. Солдаты проснулись, измученные жаждой и голодом и со всех сторон окруженные неприятелем. Несколько последовавших стычек уничтожили все шансы на перемирие, а отданный затем приказ о наступлении монголы восприняли как собственный сигнал к атаке. По-видимому, совершенно не подготовленные к такому повороту событий, солдаты Мин разбежались при первом же натиске. По имеющимся сведениям, тысячи людей дезертировали — вероятно, тысячи остались на своих местах, но в любом случае около половины погибли.
Тем временем император, окруженный своими гвардейцами, сошел с лошади и сел на землю. Вокруг него сыпались стрелы, его стража погибла, но император каким-то образом остался жив. Он так и сидел на земле, когда к нему подъехал монгольский князь и, предположив, что видит перед собой важную особу, забрал его в плен. Только на следующий день личность императора была установлена. Эсэн, не меньше остальных удивленный этой невероятной удачей, хотел его казнить, но прислушался к советам и решил использовать императора как козырь в переговорах. Двор и правительство в Пекине были растеряны не меньше. В истории было множество прецедентов, когда Сыном Неба становился монгол, но ни одного, когда Сын Неба становился монгольским заложником1. Последствия Тумуского инцидента в 1449 г. были не менее поучительными, чем сам инцидент.
Однако довольно подробностей битвы — интересующиеся могут обратиться за ними к официальной истории Мин. Ван Чжэнь стал настоящей находкой для историков. Как человек, добровольно ставший евнухом (он успел завести семью, прежде чем пожертвовать половым органом ради карьеры), он не стоил даже презрения конфуцианских чиновников; как знаменитый притеснитель протестую¬
1 Все предыдущие случаи пленения императора кочевниками заканчивались падением династии или ее жесточайшим кризисом, как в случае с захватом чжурчжэнями северосунского Хуэй-цзуна.
508
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
щих министров он не мог ожидать никаких посмертных милостей от писавших историю бюрократов; и как абсолютно некомпетентный военный командующий он был идеальным козлом отпущения в Ту- муском инциденте. Вместе с тем хорошие конфуцианцы, такие как военный министр, вышли из ситуации с минимальным уроном для репутации и даже отомстили ненавистному евнуху Ван Чжэнь погиб на поле битвы, вероятно, от рук своих офицеров, но даже посмертно его необходимо было примерно наказать, вплоть до искоренения его родственников до пятой степени.
Поэтому через неделю после событий в Туму многочисленная группа пекинских чиновников явилась во дворец, чтобы потребовать действий от регента. Там в одном из открытых дворов им преградила путь группа евнухов (что заставляет усомниться в непопулярности Ван Чжэня). Смело, хотя и в высшей степени неразумно, евнухи защищали Ван Чжэня и приводили доводы в пользу его помилования. Это переполнило чашу терпения обычно смирных бюрократов. Светила чиновничества Мин возмутились все как один и превратились в разъяренную толпу. Жаждавшие крови сановники и обладатели дипломов, цвет неоконфуцианских академий и отборные держатели наследственных должностей, бросились рвать, пинать, кусать и бить близких Ван Чжэня, мужчин и женщин, детей и старух, единственное преступление которых состояло в том, что они воспользовались его щедростью или покровительством. Самым смертоносным оружием, которое чиновники при себе имели, были их туфли. В результате три евнуха были убиты на месте, многие тяжело ранены. Полы дворца снова окрасились кровью — очевидно, насилие не было прерогативой императоров и их приспешников-евнухов.
Представив эту небольшую резню как триумф праведников, летописцы, странно безразличные к положению оставшегося в заложниках императора, постарались изобразить последовавшее за Тумуским инцидентом объединение чиновников в самых радужных красках. Брат пленного императора Чжэнтун был возведен на трон как император Цзинтай (пр. 1450-1457). Двор решительно отказался вести переговоры с монгольским вождем Эсэном. Армию быстро пополнили из запаса, расквартированного в других областях империи. Вопреки всем ожиданиям, героически защищали Пекин. Монголы, не способные ни войти в столицу, ни избавиться от императора, через несколько недель отступили. Ойратская конфедерация Эсэна начала
509
ГЛАВА 13
распадаться1, и через год бывшего императора Чжэнтуна просто вернули в Китай вместе с очередным посольством. Все выглядело так, будто он на время уезжал в Монголию по официальным делам. Переданный со всеми церемониями, подобающими правящему государю, он снова оказался на территории Мин — невредимый, не выкупленный, и, надо сказать, не слишком желанный. Ибо теперь в Китае было два законно возведенных на престол Сына Неба, а это было еще хуже, чем ни одного. Для империи Тумуский инцидент стал лишь мелкой неудачей, но он грозил катастрофой династии.
К счастью, после всех потрясений оба императора не проявляли излишней самоуверенности. Они осознавали, сколь многим обязаны министрам и чиновникам, сумевшим справиться с недавним кризисом, и внимательно относились к их мнениям. Император Чжэнтун обосновался в южном дворце и оставался как бы в запасе, а император Цзинтай правил еще восемь лет. Затем, в 1457 г., когда он, несмотря на слабость здоровья, отказался назначить преемника, императоров просто поменяли местами. В ходе инцидента, известного как «Штурм дворцовых ворот», в южный дворец явилась группа чиновников, предварительно заручившихся поддержкой императорской гвардии; чиновники затолкали обитателя дворца в паланкин, затем «штурмовали ворота» главного (северного) дворца и посадили удивленного бывшего императора на трон. «Лучший в своем роде государственный переворот в истории Мин», как его назвали в «Кембриджской истории Китая», представлял собой серьезное нарушение ритуальных приличий и покоился главным образом на своекорыстном расчете [11]. Низложенный император Цзинтай подозрительно скоро
1 Монголы входили в ойратскую конфедерацию в основном по причине неспособности дать отпор. Несмотря на культурную и языковую близость, у ойра- тов и монголов было важное отличие. Ойраты, чьи правители не были потомками Чингисхана, не признавали исключительного права Чингисидов на ханский титул, а это было основой представлений монголов о власти. В итоге немалую часть взаимодействия ойратов и монголов составляла организованная первыми охота на отпрысков Золотого рода. Причиной распада конфедерации стало провозглашение Эсена в 1454 г. великим ханом, на что он, не будучи потомком Чингисхана, с монгольской точки зрения не имел никаких прав (и до этого довольствовался титулом тайши). Такое нарушение правил титулования отвратило от него не только не вполне искренних союзников — монголов, но и многих ойратских князей. Он потерпел ряд поражений и в 1455 г. скончался, а созданная им держава Четырех ойратов распалась на части.
510
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
умер. Оставалось лишь придумать девиз новой эпохи правления для вернувшегося на трон императора Чжэнтуна. Советники по ритуалам, несомненно, не без иронии, предложили название Тяныиунь — «Послушный воле Небес». Воля Небес и воля бюрократического большинства при этом примечательным образом совпадали. Так возник уникальный в истории Мин случай, когда один император царствовал дважды. Иначе говоря, фигурирующие в династических таблицах Мин император Чжэнтун (пр. 1436-1449) и император Тяныиунь (пр. 1457-1464) — один и тот же человек.
ВЕЛИКИЙ СПОР О РИТУАЛАХ
Многие китайские империи развивались по одной схеме: они быстро достигали пика, а затем неторопливо угасали. Сильные императоры, заслуживающие уважительных имен (Гао-цзу, Тай-цзу, Тай-цзун), появлялись на ранней стадии, а менее способные, с пренебрежительными именами (Ай-ди, Пин-ди, Шунь-ди), — ближе к концу. Сходная динамика характеризовала монгольское престолонаследие и весьма красноречивым образом проявилась в индийском ответвлении монгольской династии, основателем которой стал первый из шести Великих Моголов Бабур (1483-1530), потомок Тамерлана в пятом поколении. Совсем иначе обстояло дело с правящими домами Европы. Габсбургам и Бурбонам, Тюдорам и Стюартам требовалось время, чтобы явить миру своих самых известных правителей — Марию-Терезию, Людовика XIV, Елизавету I, Карла II1. Европейские династии достигали пика позже и угасали быстрее. Поскольку и на Востоке, и на Западе придерживались принципа первородства в преемственности, вряд ли эти тенденции можно объяснить генетикой, а поскольку исключения на самом деле были не так редки, все это может быть простым совпадением. Но так же, как восстание Ань Лушаня в 755 г. стало
1 Карл II Стюарт известен в первую очередь благодаря многочисленному внебрачному потомству, восстановлению монархии после Английской буржуазной революции (иначе Гражданской войны в Англии) в 1660 г., принятию «Хабеас корпус акта» 1679 г., а также становлению партий тори и вигов и разграничению полномочий между королем и парламентом. Отец Карла II Карл I известен гораздо больше из-за своей казни в ходе революции, в 1649 г. — Прым. ред.
511
ГЛАВА 13
для империи Тан переломным моментом, после которого императоры заметно измельчали, Тумуская катастрофа в 1449 г. подействовала на императоров Мин не лучшим образом.
После инцидента в Туму империя Мин не распалась, как империя Тан, — напротив, она упрочилась. Но власть ее поздних правителей, проявленные ими инициативы и та степень влияния, на которую они соглашались, не могли сравниться с властью императоров Хунъу и Юнлэ. Бюрократия, напротив, окрепла, обрела уверенность и порой даже освобождала императоров от их правительственных обязанностей1. Впрочем, это не исключало взаимного напряжения. Трон и исполнительная власть бесконечно перечили друг другу, и их разногласия вызывали волнения. Исполнительная власть обычно полагалась на поддержку бюрократических когорт, а трон — на поддержку евнухов, число которых так выросло, что они образовали нечто вроде параллельной бюрократии. Самые бурные споры обычно вызывали вопросы церемоний и ритуалов, хотя истинная причина противоречий обычно лежала глубже. В 1520-х гг. произошло лобовое столкновение — Великий спор о ритуалах, событие грандиозных масштабов, значение которого никоим образом не сопоставимо с очевидно ничтожной сутью тех ритуальных вопросов, из-за которых все началось.
Бюрократия в то время переживала радикальные изменения и вела себя необычайно напористо. В своих докладах о Китае европейцы, которые начали посещать китайское побережье в начале XVI века, прежде всего отмечали, каким уважением здесь пользуются чиновники-ученые. Этот класс ни с кем нельзя было перепутать. Они носили «шапочку и пояс... пожалованные императором», перемещались по улицам в «креслах из чеканного золота» (позолоченных паланкинах) под тенью зонтиков, всегда в сопровождении слуг, которые освобождали для них дорогу и несли знамена, указывающие на ранг чиновника [12]. Португальцы звали их «лоутеа» (от уважительного обращения к старшим, принятого в провинции Фуцзянь), но после захвата Малакки в 1511 г. в их речи появилось слово «мандарин»2 — так
1 Российские китаисты однажды выразились емко и образно: «Империя Мин — царство кастратов». См.: БокщанинАА., НепомнинО.Е. Лики Срединного царства. М.: Восточная литература, 2002. С. 87. — Прим. ред.
2 Считается, что оно происходит от малайского ментери или напрямую от санскритскогомантри — «министр, советник»: малайское слово заимствовано из санскрита.
512
Фарфоровая посуда упаковывалась в ящики для экспорта, как изображено китайским художником гуашью на бумаге. Между горшками насыпали чай, чтобы предотвратить поломку. К XIX веку чай уже намного превосходил по стоимости весь остальной китайский экспорт, в том числе и фарфор, который он когда-то защищал при перевозке
На написанной маслом картине кантонской школы изображена набережная острова Шамянь (Гуанчжоу) в XVIII веке. Иначе известный как Кантон, 1уанчжоу был многонациональным центром торговли чаем, а затем и опиумом
Находясь под сильным давлением со стороны иностранных держав в конце XIX века, империя Цин была еще больше расшатана двумя крупными восстаниями. В 1851-1865 гг. армии тайпинов прошли на север до Тяньцзиня. На представленном вверху свитке того времени изображен лагерь тайпинов в Тяньцзине. В 1900 г. Пекин охватило ихэтуаньское, или боксерское, восстание. Двойственное отношение Цин к ихэтуаням не спасло лидеров восставших от публичных казней (внизу), которые в качестве возмездия требовали иностранные державы
Слева: Цыси (1835-1908), вдовствующая императрица и регент обоих преемников императора Сяньфэна, руководила судьбой империи Цин в течение сорока пяти лет. Противоречивая фигура, которая противостояла иностранным державам и подавила реформы 1898 г., получившие название «Сто дней», Цыси поддерживала движение за самоусиление и запретила практику бинтования ног. Портрет 1905-1906 гг. работы Хуберта Воса
Справа: «Последний император» Пуи (1906-1967), также известный как Генри, почти не правил. Воспитанный в Запретном городе, он был вынужден отречься от престола после революции 1911г. После короткого возвращения на престол на несколько недель в 1917 г. ему пришлось бежать на территорию японской концессии в 1924 г. Пуи стал номинальным императором Маньчжоу-го в 1934 г. После Второй мировой войны он прошел «перевоспитание» в КНР и последние годы жизни работал в Пекинском департаменте
парков
Слева: в 1930 г. лидер националистов Чан Кайши (впереди справа) и молодой маньчжурский военачальник Чжан Сюэлян (впереди слева) создали совместный фронт против японцев и коммунистов. Шесть лет спустя Чжан Сюэлян взял Чан Кайши в заложники, чтобы положить конец националистической вендетте против коммунистов и объединить весь Китай в борьбе против японцев
Внизу, набережная Шанхая с отелями, банками и судоходными компаниями была более космополитичной, чем какое-либо другое место в Китае
Из Шанхая японские войска двинулись на запад вверх вдоль русла Янцзы. Столица Гоминьдана Нанкин пал в декабре 1937 г. Заподозрив, что китайские солдаты переоделись в гражданскую одежду, японцы устроили ужасающую резню, во время которой отрабатывали на пленных штыковые приемы
После падения Нанкина последним оплотом Гоминьдана стал Чунцин, расположенный над Тфемя ущельями Янцзы в провинции Сычуань. Несмотря на сильные японские бомбардировки, город выстоял и при поддержке союзников оставался столицей Китайской Республики на протяжении всей Второй мировой войны
Вверху слева: молодой Мао Цзэдун (1893-1976) обращается к войскам в Яньане в провинции Шэньси, куда коммунисты отступили в ходе Великого похода 1934-1935 гг.
Вверху справа: плакат «Хороши наши горы и реки» 1980-х гг., прославляющий лидеров коммунистической революции 1949 г. (Чжу Дэ, Мао Цзэдун, Лю Шаоци и Чжоу Эньлай). Все они умерли в 1976 г., кроме Лю, который, хотя и стал жертвой Культурной революции, был посмертно реабилитирован, чего не скажешь о Линь Бяо, подозрительно отсутствующем на плакате
После китайско-советского разрыва I960 г. навязчивой идеей китайского руководства стала безопасность. К 1970 г., когда появился изображенный здесь плакат, стратегические отрасли промышленности были перемещены в глубь страны из-за страха перед нападением США. Названный «Наблюдай за врагом», плакат призывает к бдительности
Плакат 1980-х гг. (вверху), пропагандирующий политику «Одна семья — один ребенок», и плотина Три ущелья на Янцзы, обеспечивающая самую высокую в мире выработку гидроэлектроэнергии {внизу). Оба начинания встретили критику, но стабилизация численности населения Китая и обеспечение страны энергией способны объяснить сенсационный успех режима
Монастырь школы гэлуг Лабран в Амдо (Ганьсу) был одним из многих, которые спустя почти полвека после бегства Далай-ламы XIV в Индию в 1959 г. выступали против вмешательства Пекина в тибетские дела и против китайских поселений в самом Тибете
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
чиновников китайского происхождения называли в Юго-Восточной Азии.
В Китае это слово не употреблялось. Для европейцев слово «мандарин» стало общим наименованием китайских ученых-бюрократов, а также языка, на котором они говорили, то есть языка, принятого при дворе в Пекине1. Люди, имевшие все необходимое для бюрократической службы, которых на китайском называли ши или гуань, а на европейских языках «благородные мужи», «чиновники», «образованные», «лоутеа» или «мандарины», превратились в элиту, говорившую на особом языке, и этот язык, в свою очередь, указывал на ее главную особенность: доступ в ее ряды открывало не происхождение, а образование. Несколько веков кандидаты на экзамен копили силы, чтобы наконец по-настоящему проявить себя на государственной службе. Действительно, «ни в один период древней и средневековой истории Китая у власти не было такого засилья чиновников, набранных и продвигающихся по службе благодаря собственным заслугам, как в эпоху Мин» [13].
В основном этому способствовали старания императора-осно- *оположника Хунъу. Человек самого скромного происхождения, придя к власти в 1368 г., он не проявлял особенного интереса к ученым, но вскоре обнаружил, что ему нужны государственные служащие. Он хотел облегчить судьбу простых земледельцев — для этого следовало заново провести перепись всего населения империи и-ввести более справедливые налоговые оценки. Кроме того, стремясь упрочить положение своей династии, он обновил свод законов и выпускал многочисленные, не раз менявшиеся «заповеди». Для всего этого требовались чиновники, набранные из самых широких слоев общества по стандартам, которые могла гарантировать только экзаменационная система. С этой целью в каждой префектуре, субпрефектуре и округе создавались финансируемые государством
1 Высокопоставленные чиновники обычно не могли служить в родных местах, а значит, они никогда не говорили на том же языке, что и их подданные, ведь диалекты китайского языка весьма разнообразны. Сами чиновники общались друг с другом на своеобразном пиджине, основанном на столичном диалекте, которому учили в конфуцианских школах. Именно он был единственным языком, объединявшим огромную империю, и тем больше была роль и влияние образованных людей (отставных или неудавшихся чиновников — шэныпи), которые могли общаться с представителями власти.
513
ГЛАВА 1 3
конфуцианские школы. Они работали наряду с частными учебными заведениями, которые содержали монастыри, отдельные учителя и честолюбивые семейные кланы. В государственные школы наняли четыре тысячи учителей, и, хотя учеников в них принимали при условии адекватных способностей и небольшой предварительной платы за обучение, теоретически школьная система была открыта почти для всех.
То же касалось экзаменов — все они требовали глубокого знания «Четверокнижия» Чжу Си, и с их помощью усердный студент мог подняться по академической лестнице из своих родных мест в провинциальную столицу, а затем и в метрополию. Там он мог продолжить учебу в одном из университетов или попытать счастья в самом главном трехдневном экзамене — это была не только академическая проверка, но и суровое испытание на выносливость, — который мог принести степень цзиныии, докторский диплом и автоматическое зачисление на службу. По крайней мере, так дело обстояло в теории. И хотя существовали обходные пути, ведущие на государственную службу через личные привилегии, а у менее честолюбивых кандидатов всегда была возможность сойти с дистанции, похоже, практика в целом соответствовала теории. К концу XVI века «от одного до десяти миллионов человек получили образование, позволяющее сдавать [основные экзамены]» — примечательное число для времени, когда в других странах даже основы грамоты были доступны далеко не всем. Это составляло 10-20% взрослого мужского населения1, при этом 1% абитуриентов успешно проходили экзамены и получали соответствующий статус, а 0,01% получали степень цзиныии [14]. Впервые в истории «в 1440-х гг. успех на экзаменах был единственным средством доступа к первоклассной карьере на гражданской службе» [15]. Причастность к бюрократии теперь зависела от строгой оценки способностей и усердия, что повысило общий уровень подготовки и самооценку чиновников.
Экзамены открывали путь к социальному и профессиональному статусу. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, вызывали такое же восхищение, каким в наше время окружены всевозможные эстрадные
1 Чаще можно встретить оценки, согласно которым получившие достаточное для участия в экзаменах образование составляли примерно 0,3 % населения империи: в конце XVI — начале XVII века население империи утроилось и составляло от 150 до 200 млн человек
514
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
знаменитости. Экзамены были торжественным мероприятием. Проходившие раз в три года испытания на степень цзиныии представляли собой кульминационную точку столичного календаря, в них участвовали тысячи кандидатов, и еще тысячи человек обеспечивали кандидатам учебную подготовку, кров, пищу и моральную поддержку, а также выступали в качестве наблюдателей, контролеров и жюри. Чтобы исключить возможность обмана, каждого кандидата размещали в отдельной деревянной кабинке. Рабочий стол, за которым он писал днем, служил ему кушеткой по ночам; для лучшего обзора ряды кабинок были открыты с одной стороны, как в общественном туалете. Ответственность за экзамен несло не ведомство кадровых ресурсов, а ведомство ритуалов. Цзиныии буквально означало «представление ши», и окончательной ступенью испытания был устный экзамен в присутствии самого императора. В основе этой системы снова лежал ритуал. Ученые, так же как иноземные данники, подчинялись вселенскому закону притяжения — совершенное могущество императора вовлекало их в его орбиту. Их участие в экзаменах подтверждало его легитимность, их достоинства оттеняли своим блеском его великолепное сияние.
Причиной Великого спора о ритуалах в начале 1520-х гг., как и «Штурма дворцовых ворот» ранее, стало нарушение порядка престолонаследия. Сын, внук и правнук дважды правившего императора Чжэнтуна / Тяныиуня занимали трон с 1465 по 1521 г. Ни один из них не проявлял особенных амбиций: первый был ничтожеством, второй — благонамеренным ученым, третий — буйным шутом. Однако, несмотря на свое безудержное распутство, император Чжэндэ (пр. 1506-1521) не доставлял никаких проблем. Более того, он уже давно передал фактическое управление делами государства старшим чиновникам, представив им отличную возможность самим выбрать для него преемника и тем самым право решать ритуальные вопросы предельной деликатности.
Выбрать преемника было нетрудно. Быстро закрыв рты несогласным, чиновники объявили, что намерены руководствоваться прецедентом времен доимператорского государства Шан, подкрепленным одной из недавних «заповедей» императора Хунъу. Заповедь гласила, что при отсутствии прямого наследника, «когда старший брат умирает, ему наследует младший брат». Под «братом» подразумевались все родственники мужского пола, непосредственно про¬
515
ГЛАВА 13
изошедшие от одного и того же предка. Таким образом, заповедь одобряла так называемую агнатическую преемственность. Это открыло путь для вступления на престол пятнадцатилетнего Син-вана, старшего внука ничтожного императора и двоюродного брата недавно скончавшегося буйного императора Чжэндэ. Здравомыслящего и образованного принца, которому предстояло стать императором Цзяцзином (пр. 1521-1566), извлекли из провинциального забвения. Но еще до того, как он прибыл в столицу, начались неожиданные трудности.
Молодой человек, очевидно, имел о происходящем собственное мнение. Вместо того чтобы прибыть в Пекин через восточные ворота, как требовало ведомство ритуалов, и жить за пределами дворца до тех пор, как его вызовут на церемонию вступления на престол, он заявил, что въедет в город через главные южные ворота и немедленно примет императорские полномочия. Он был законным императором, а не просто наследником. Кроме того, он отказался от предложенного ему девиза правления. Согласившись, он стал бы императором Шаочжи — «Продолжающим правление»; этот титул подразумевал непрерывность престолонаследия, но не более того. Вместо этого он предложил девиз Цзяцзин: «Процветание и мир» — не столь невнятный и гораздо более вдохновенный [16].
В обоих вопросах он более или менее добился своего. Но они оказались лишь первыми залпами в войне интересов, которая неуклонно набирала обороты в течение следующих трех лет. Вопросы, из-за которых разгорелся спор, — новый цвет черепицы на крыше гробницы его отца или удаление пары иероглифов из пространных титулов его родителей, — могут показаться незначительными, до отупения нудными и формальными. Но точно такими же многим кажутся споры об одеянии священников, религиозных догматах и церковном убранстве, которые в то время терзали европейский христианский мир. И в том и в другом случае за тонкостями ритуальной формулировки и богослужебных деталей скрывались претензии на власть трансцендентного характера. Путешествия Чжэн Хэ, чужеземные послы с данью и строгое соблюдение ритуалов — из всего этого в равной мере складывалась сущность Поднебесной империи. «В традиционном Китае, — отмечает Карни Фишер, видный специалист по вопросу Великого спора о ритуалах, — ритуал означал власть, и знание ритуала наделяло властью» [17]. Мы не слишком погрешим против ис¬
516
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
тины, сказав, что арена околоритуальных споров в императорском Китае вполне могла сравниться с конституционной ареной, скажем, в современной Англии. Кризисы, ритуальные или конституционные, касались не только форм и формулировок. И, вероятно, можно утверждать, что результат «борьбы за власть» в ритуальных вопросах в 1521-1524 гг. определил характер правления Мин на остаток века и обрек династию и бюрократию на бедственное положение в их последние дни.
На самом деле за всеми этими размолвками по-прежнему стоял вопрос о характере династического престолонаследия. Специалисты по ритуалам, выражавшие взгляды конфуцианской бюрократии, настойчиво утверждали: чтобы правление императора Цзяцзина имело легитимность, ему необходимо пройти обряд посмертного усыновления в качестве сына покойного императора Чжэндэ. Это сделало бы его прямым наследником императора, гарантировало непрерывность родословной и позволило бы ему почитать всех императорских предков Мин как собственных. Но при этом его настоящие родители утратили бы свой статус. Его отец считался бы его «дядей» или в лучшем случае «природным» родителем.
В императорском роду прецеденты усыновления и смены отцовства не были редкостью. Историки и специалисты по ритуалам нашли множество подобных случаев и неустанно забрасывали императора подробными посланиями на эту тему. Император Цзяцзин сохранял невозмутимость. Он возражал историческому прецеденту, опираясь на нравственные принципы. Если сыновнее благочестие составляло стержень конфуцианской нравственности, никакая сила на земле не могла убедить послушного сына лишить своего родного отца положенных ему почестей. Небеса, а не история выступала судьей императора Цзяцзин. Более того, его первой обязанностью как императора должно было стать не понижение статуса родителей, а их возвышение, постройка в их честь храмов подобающего великолепия и присвоение им всех почетных титулов, на которые имели право царственные предки. Агнатическая преемственность, очевидно, допускалась в отношении императорского титула и империи. Поэтому усыновление было совершенно не нужно. Он стал императором в тот момент, когда умер император Чжэндэ, и легитимность его восшествия на престол не зависела ни от каких дополнительных церемоний.
517
ГЛАВА 13
Это было довольно смелое заявление для молодого человека, который практически не был известен в столице и пока не имел ни мощной поддержки во дворце, ни сторонников среди чиновников и бюрократов. Казалось, в этой борьбе ему суждено проиграть: даже если бы он смог устоять против натиска ученых, дело довершили бы махинации министров, искренне обеспокоенных ритуальными приличиями и объединившихся в стремлении обуздать императора. При этом избавиться от оппозиции, назначив на ключевые высокие посты собственных сторонников, тоже было нелегко. Императоры, «далекие и неизменные, как Полярная звезда», пребывающие в состоянии недеяния у-вэй, должны были читать поданные им петиции и выслушивать возражения протестующих, могли одобрять или отклонять политические предложения, но не могли сами их выдвигать. «Император выбирает, когда министры предлагают» — таков был вековой обычай, и он касался в том числе назначений и постановлений [18]. Естественно, тем, кто стремился к императорской милости или страшился императорского гнева, приходилось каким-то образом угадывать желания императора и подавать соответствующие петиции или протесты. Так действовала самодержавная власть. Но без этих побуждений и перед лицом единодушного неодобрения неопытный император Цзяцзин был уязвим.
Однако случилось так, что в средних рядах администрации, особенно в далеком Нанкине («южной столице»), нашлись те, кто поддержал его. Насколько ими руководило стремление продвинуться по служебной лестнице, трудно сказать. Когда их хорошо аргументированные послания, расширенно толкующие изложенные императором принципы и опровергающие предложенные ему исторические примеры, начали доходить до императора, он с радостью ухватился за них. Послания были переданы в ведомство ритуалов, и их авторов вызвали в Пекин. Оказалось, кроме амбиций у этих несогласных было и общее интеллектуальное наследие. Почти все они учились или находились под влиянием Ван Янмина (1472-1529, также известного как Ван Шоужэнь), выдающегося философа периода Мин и преемника великого неоконфуцианца Чжу Си.
Ван Янмин высоко ценил Чжу Си, но не стремился слепо следовать ортодоксии лисюэ («учения о принципе»). Приняв эстафету у Мэн-цзы, он учил, что человек рождается с полностью развитым пониманием того, что хорошо и правильно, а не с дремлющим ге¬
518
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ном, ожидающим активации посредством «изучения всех вещей» по книгам, как считал Чжу Си. «Чувство правильного и неправильного не требует обдумывания и не зависит от обучения, — утверждал Ван Янмин. — Такова моя природа, данная Небесами, изначальная суть моего разума, естественно восприимчивого, сияющего, ясного и понимающего» [19]. Европейские протестантские реформаторы могли бы узнать в его словах собственные тезисы о «совести», а некоторые последователи Ван Янмина дополнительно развили эту мысль, чтобы бросить вызов основным принципам неоконфуцианства, потребовать морального равенства для всех (включая женщин) и поддержать радикальные социальные программы. Но «врожденное чувство» Ван Янмина было не просто нравственным чувством — оно функционировало, как мышца. От одной только сухой науки эта мышца атрофируется — ее необходимо упражнять, ведя активную общественную жизнь и помогая другим. Сам Ван Янмин служил в этом прекрасным примером. Завоевавший общее восхищение администратор и военный деятель, а также мыслитель и учитель, он воплощал на практике то, чему учил, и наглядно демонстрировал единство мысли и действия.
Послания, дошедшие до императора Цзяцзина из Нанкина в конце 1521г., отражали доктрину Ван Янмина о «врожденном чувстве» правильного и «подчеркивали, что одно лишь человеческое чувство служит руководством к естественному порядку и побуждает императора следовать его зову» [20]. Исторические прецеденты не могли относиться к делу: каждый из них возник в свое время, а времена менялись. Только естественный порядок, открытый внутри себя, был постоянным; и если этот внутренний порядок требовал поставить почтение к родителям выше всего остального, то пусть будет так. Ритуалы и понятия, говорившие иначе, были ошибочными. Требовалось новое «исправление имен».
Все это не произвело ни малейшего впечатления на ведомство ритуалов. Первого чиновника из Нанкина, который выступил с подобным заявлением, просто подвергли порицанию, а затем сняли с должности. В 1522 г. и сам император как будто решил уступить. Незадолго до этого сгорели три небольших дворцовых здания: это нельзя было назвать серьезным бедствием, но возможно, оно предвещало более серьезные опасности и указывало на недовольство Небес. Очевидно, императору следовало быстро привести в порядок свои дела и пройти
519
ГЛАВА 13
усыновление. Встревоженный и не имеющий поддержки император Цзяцзин согласился сделать это. В обмен на усыновление покойным императором он вырвал у ревнителей ритуалов несколько небольших уступок в отношении титулов для своих настоящих родителей. Казалось, кризис разрешился. Но через год он разгорелся с новой силой. Еще два ученика Ван Янмина, оба весьма уважаемые ученые, распространили петиции в поддержку императора. Не исключено, что они говорили от имени самого Ван Янмина, который временно удалился на покой, соблюдая традиционный трехлетний траур после смерти своего отца.
В 1523 г. император, ободренный этими признаками влиятельной поддержки, предложил перестроить гробницу своего родного отца по образцу гробницы недавно обретенного отца приемного. Для этого следовало выложить крышу черепицей императорского желтого цвета и увеличить количество участвующих в церемониях танцоров. Ведомство ритуалов разразилось возгласами протеста, впрочем, оставшимися без внимания: крышу все равно поменяли, а танцоров стало больше. В 1524 г. восемнадцатилетний император Цзяцзин явно обрел уверенность в себе, и борьба начала быстро двигаться к кульминации. В этом году главный министр вышел на пенсию; это был один из трех старших сановников, которые с тех пор, как император Хунъу упразднил одним из своих заветов должность канцлера, возглавляли исполнительную власть, и именно он в значительной степени отвечал за организацию оппозиции императору. Примерно в то же время пришли новые петиции из Нанкина, где позиции императора, очевидно, обрели широкую поддержку. Возможно, дело можно было решить компромиссом, присвоив родному отцу императора титул родного покойного отца высокочтимого и величественного императора, но компромисс стал невозможным, когда сам император Цзяцзин принял титул, подразумевавший равенство между двумя его отцами, а ведомство ритуалов сделало вид, что это ничего не значит.
Словно подстрекая к открытому выяснению отношений, император вызвал из Нанкина своих сторонников. Это истолковали как признак того, что им скоро дадут высокие должности, и действительно, так и произошло: один из них был назначен главой ведомства ритуалов, другие получили места в престижной академии Ханлинь. Вопрос приобрел личный характер. Каждая сторона обвиняла другую в том, что та вводит императора в заблуждение и сколачивает фрак¬
520
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
цию. Эти преступления были равносильны государственной измене. Обе стороны угрожали друг другу порицанием, разговоры о насильственном решении вопроса становились все громче. Решающий Шаг сделал император. В августе 1524 г. он одобрил инициативу нового ведомства ритуалов, предложившего присвоить его матери титул, в котором не было уточнения «естественная родительница»; другими словами, ее признали верховной вдовствующей императрицей, в то время как его приемная мать оказалась просто вдовствующей императрицей. Очевидно, такой же шаг в отношении двух отцов был лишь вопросом времени, поэтому инициатива вызвала новую бурю протестов.
Официальные возражения из тринадцати правительственных ведомств за подписью двухсот пятидесяти влиятельных чиновников, а также просьбы двух из трех главных министров не оставляли сомнений в могуществе оппозиции. На следующий день протест приобрел еще более явную форму: принеся торжественную клятву товарищества, толпа примерно из двухсот сановников собралась у ворот, закрывавших доступ к тронному залу. Там они опустились на колени и начали хором повторять имена самых уважаемых императоров Мин, подчеркнуто не включив в этот славный список их недостойного действующего преемника. Приказы разойтись не были услышаны, и даже арест зачинщиков не усмирил собравшихся. Восставшие чиновники начали стучать в двери тронного зала и продолжали стучать почти весь день, пока император, у которого наконец иссякло терпение, не приказал своим наводящим ужас телохранителям из гвардии в парчовых одеждах очистить помещение силой.
Смертельных исходов в результате этой операции не было, но сто тридцать четыре человека взяли под стражу. Все они были приговорены к тяжелым наказаниям, а из тех тридцати семи, которых осудили на бичевание, девятнадцать умерли под плетью. (Точнее, это были батоги.) Виновных раздели, уложили на землю и наносили удары по их голым ягодицам; боль была страшнее унижения, кровь текла рекой. Чиновники пришли в ужас. До этого считалось, что императоры слишком обеспокоены своей будущей репутацией и не станут рисковать, восстанавливая против себя бюрократическое большинство. Но оскорбление, нанесенное чиновникам императором Цзяц- зином, было хуже любой чистки при Ранней Мин — и историки не преминули отомстить ему, когда выпала такая возможность. Вместе
521
ГЛАВА 13
с тем молодой император добился своего: его настоящие отец и мать заняли свое место среди императорских предков и получили титулы, в которых не было унизительного уточнения «природный родитель», сыновнее благочестие восторжествовало над ритуальным прецедентом, агнатическая преемственность официально подтвердилась, излишне самоуверенные бюрократы приведены к покорности, идеи Ван Янмина распространились, и были посеяны семена критического отношения к истории.
Но жертвами пали ритуальные приличия и нравственная определенность, тот двойной идеал, от которого зависело право династии править и способность правительства управлять. Если Тумуская катастрофа опозорила династию в глазах империи, то Великий спор о ритуалах опозорил ее в глазах собственных чиновников. Император Цзяцзин правил еще двадцать три года, а династия существовала еще девяносто лет после него, но недоверие и неопределенность, порожденные этим разногласием, не позволяли ожидать от этого периода каких-либо важных положительных свершений. Официальные истории сообщают о многочисленных волнениях, частых неудачах, еще более частых дурных предзнаменованиях и крайне редких успехах. Вслед за ними один современный писатель поставил Поздней Мин диагноз «кардиосклероз бюрократии». Другой ученый, очевидно разделяющий мнение официальных летописцев, называет императора Цзяцзина «одним из самых испорченных и неприятных людей, когда-либо занимавших китайский престол», и образцовым представителем «долгой череды не выполнявших своих обязательств императоров Мин» [21].
ПАМЯТНИКИ И НАБЕГИ
Несмотря на подобные вердикты и, как правило, отсутствие силового руководства, XVI и начало XVII века стали временем больших перемен. По-видимому, именно в правление Мин население Китая значительно выросло. Причины этого не вполне ясны. Темпы роста в XVIII-XX веках сократились, однако общий прирост заметно замедлился лишь в 1980-х гг. Расцвет образования и издательского дела при Мин расширил рынок культурной продукции, породив увлечение разнообразными искусствами и обеспечив успех новых лите¬
522
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ратурных форм, в первую очередь романа1. На дальнем севере были сооружены новые пограничные укрепления — незадолго до 1610 г. иезуитский миссионер Маттео Риччи писал о «непрерывной линии обороны с огромной стеной 405 миль [650 километров] в длину». «Великая стена» в известном нам сегодня виде наконец-то появилась. На юге вооруженные пушками корабли принесли европейцев, вооруженных не менее разрушительными в своем роде идеями о содружестве наций, дипломатии и собственном богоданном праве диктовать условия торговли и распространять христианство. Во всей империи серебро заменяло бумажные деньги в качестве стандартной валюты, при этом внутренняя экономика все больше зависела от импорта серебра, которое поставляли главным образом из Японии и главным образом иностранцы2. Другие импортные товары, в основном из Нового Света — кукуруза, маниок, арахис, табак и сладкий картофель, а также хлопок и сахарный тростник3 — многократно повысили производительность пограничных земель. В обширных холмистых районах на юге и юго-западе, где таких земель было больше всего, широко распространились ханьские поселения и социально-административные учреждения империи. Словом, именно в это время возник и начал медленно интегрироваться в мировую экономику более или менее знакомый нам Китай.
Философ Ван Янмин обрел глубокое понимание присущего человеку «врожденного чувства» правильного и неправильного в результате почти мистического опыта во время службы в Гуйчжоу в 1508 г. Это назначение было лишь немногим лучше ссылки. Ван Янмин перешел дорогу императорским евнухам, был брошен в тюрьму и подвергнут бичеванию, едва избежал казни. Тяжелая служба была лучшим, на что он мог надеяться, и бесплодные малярийные земли Гуйчжоу, безусловно, оправдывали эти надежды. Гуйчжоу не принадлежала к числу юаньских провинций, она была официально образована
1 При этом два первых романа из числа «четырех великих» — «Тфоецар- ствие» и «Речные заводи» — появились при Юань, когда конфуцианский догматизм несколько потерял свои возможности в области угнетения «простонародных» жанров. Тогда же сумела пробиться в число приличных жанров и традиционная музыкальная драма.
2 Прямая торговля с Японией почти все время была запрещена, чтобы наказать островитян за пиратство, разорявшее прибрежные регионы империи.
3 Эти две культуры были завезены из Индии во времена Сун.
523
ГЛАВА 13
только в 1413 г. после того, как отряды, отправленные императором Юнлэ, подавили местное восстание. Сто лет спустя, когда туда прибыл Ван Янмин, район был по-прежнему далек от умиротворения: крупные восстания произошли в соседней гуанси в 1460-х гг. и в западной Гуйчжоу в 1500-1502 гг. Здесь повстанцев возглавляла женщина — последняя в череде грозных южных матриархов, бросивших вызов господству Мин, она принадлежала к народу под названием и.
В то время северную часть провинции Гуандун и всю территорию гуанси, Гуйчжоу и Юньнани по-прежнему в огромном количестве населяли народы неханьского происхождения. Это были, по сути, приграничные земли в составе империи, пересеченные безопасными реками и тропами, усеянные административными центрами и военными форпостами. Однако местное население относилось к посторонним подозрительно или откровенно враждебно. Лесные холмы и глубокие долины имели собственную этническую экологию, и множество совершенно разных народов вели здесь узкоспециализированный образ жизни. Одни, как яо и мяо (хмонг, мьен), занимались переложным земледелием на высоких холмах; позднее они распространились или мигрировали на юг и пополнили собой этнические меньшинства Лаоса, Вьетнама и Северного Таиланда. Другие, как народ дай в Юньнани и чжуаны в гуанси, принадлежали к той же этнолингвистической семье, что и жившие в долинах народы лао, шан или тай, и так же, как они, выращивали рис на поливных полях. Третьи, в том числе народ и (лоло), туцзя и бай из Гуйчжоу и Юньнани, представляли собой уникальные народы1. Численно незначительные по сравнению с ханьским населением, они не подлежали регистрации в налоговых и служебных целях и поэтому не фигурировали в переписях населения Китая.
Назначение Ван Янмина совпало с новыми усилиями по умиротворению и восстановлению порядка в этих областях. Это был постепенный процесс, иногда он разворачивался вслед за боевыми действиями, иногда провоцировал их. «Мин действовала силой, мягкостью и хитростью» примерно в равных долях. На первом этапе в регионе оформлялась самостоятельная администрация — «таким же “автономным статусом” этнические меньшинства в Китае об¬
1 Эти народы говорят на языках тибето-бирманской группы.
524
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ладают сегодня»1 [22]. Самые сговорчивые вожди кланов и местные старейшины были организованы в наследственную иерархию командования и одарены громкими титулами — «министр успокоения», «министр умиротворения», «министр примирения», а также рядом неоплачиваемых обязанностей. Наряду с этими тусы («туземные управления») были образованы основные административные структуры, подразумевавшие деление на районы, префектуры и создание провинциальных ведомств, причем последние были укомплектованы должностными лицами ханьского происхождения либо местными жителями. По мере того как районы, населенные ханьцами, расширялись, а культурный обмен и смешанные браки способствовали «погружению в поток [китаизации]» все большего количества коренного населения, комплекс административных мер и учреждений Мин постепенно расширялся. Налогообложение заменило периодическую дань, домохозяйства были зарегистрированы, потребности в военной службе и общественных работах удовлетворялись за счет местных жителей.
Однако весь этот процесс был открыт для злоупотреблений. Ван Янмин был образцовым колониальным чиновником и установил хорошие отношения с неханьскими народами, но многие эксплуатировали различия между этническими группами, вымогая у них ресурсы и преувеличивая собственные достижения. Печальную известность приобрел случай «министра умиротворения» в тусы Бочжоу на территории современной северо-западной Гуйчжоу. Этот Ян Инлун, очевидно, человек смешанного происхождения, становился предметом неоднократных жалоб, но каким-то образом в течение двадцати лет сохранял поддержку правительства, успев за это время приобрести немалую власть среди местных мяо и туцзя. В конце концов его грабежи и мстительные выходки поставили под угрозу порядок во всей области. В 1599 г. потребовался лучший полководец Мин и армия из двухсот пятидесяти тысячи человек, 70% которой были набраны в других тусы, чтобы положить конец царству террора и вернуть
1 В современном Китае национальные меньшинства в общем лишены самоуправления и имеют лишь некоторые (все время сокращающиеся) права на поддержание национального языка и культуры. Редкие некитайцы допускаются в систему управления не как ее интегральная часть, а как элемент маскировки оной.
525
ГЛАВА 13
Бочжоу в стандартную систему непосредственно управляемых префектур.
Демографическое давление, внутренняя миграция и ненасытный спрос на пригодные для обработки земли, несомненно, требовали как можно скорее навести порядок и освоить эти области. Однако в этом вопросе официальная статистика для историка почти бесполезна. Попытки экстраполировать общие показатели численности населения из переписей эпохи Мин озадачили немало великих умов, но к соглашению так и не пришли, главным образом потому, что сами переписи демонстрируют крайне незначительный рост: либо они не успевали за действительным приростом населения, либо местные власти занижали показатели в собственных интересах, чтобы сократить долю налогов, которую от них ожидали в центре, и увеличить собственную прибыль. Однако представляется вероятным, что в период Мин население Китая прирастало на 0,3-0,5% в год, и к началу XVII века, возможно, составляло около двухсот семидесяти пяти миллионов человек При этом ко времени основания империи в 1368 г. оно составляло, вероятно, от восьмидесяти пяти до ста миллионов. Число подданных империи, в течение почти двух с половиной тысяч лет колебавшееся от сорока до ста миллионов, за два с половиной столетия правления Мин выросло почти втрое. После этого, как будто преодолев какой-то критический порог, темпы роста замедлились, но, учитывая общую численность базы, прирост в годовом исчислении оставался астрономическим. Ужасные стихийные бедствия и войны в XVIII-XX веках почти не нарушили его темп. К началу XIX века общая численность населения составила около трехсот миллионов, а к началу XXI века — около 1,4 миллиарда.
Это имело самые разные отрицательные последствия. По мнению некоторых ученых, активный прирост населения поставил Китай на путь трудозатратного экономического роста в отличие от западных стран, где экономический рост был капиталозатратным. В государстве, не имевшем стимула экономить на рабочей силе, индустриализация вызывала мало интереса и развивалась крайне медленно; массовое производство в Китае означало производство силами масс, а не производство массы стандартизированной продукции при минимальных трудозатратах. Бюрократия, которая в прежние времена расширялась гораздо быстрее населения, теперь не могла справиться с ситуацией. Немногочисленные рассеянные в провинциях чинов¬
526
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
ники, даже самые способные и образованные, не успевали обновлять налоговые оценки и тем самым лишали правительство налоговой доходности, пропорциональной росту населения.
Площадь обрабатываемых земель увеличилась, однако количество обрабатываемых земельных наделов фактически сократилось, поскольку все больше земель поглощали крупные поместья. В этом отношении два с половиной столетия мирной внутренней жизни при Мин тоже имели свои недостатки. Характерные для завоевательных войн потери и приобретения земель не осуществлялись, имеющихся земельных участков не хватало для перераспределения. Ситуацию усугубляло то, что многие земли были отданы в пользование младшим членам императорского рода. Учитывая, что некоторые представители императорской династии имели около пятидесяти детей, в XVII веке количество императорских иждивенцев исчислялось десятками тысяч. Назначенное им денежное довольствие вместе с налоговыми доходами от их владений фактически обогнало военный бюджет и стало самой крупной фиксированной статьей расхода бюджета империи. В 1549 г. Галеоте Перейра, один из нескольких португальцев, признанных виновными в контрабанде и сосланных в Гуанси, сообщал, что в скромной провинциальной столице Гуйлинь «в великолепных дворцах в разных частях города живет тысяча родственников императора». Никаких обязанностей у них не было, покидать город им запрещалось, чтобы не возбуждать в народе волнений. Но они вполне неплохо жили во дворцах с красными стенами (цветом династии Мин был красный, поскольку она соотносилась со стихией огня) и были отличной компанией. «За все время, что мы провели в этом городе, мы ни в одном другом месте не находили таких почестей и развлечений, как у них», — вспоминал Перейра.
Традиционная миграция населения принимала самые разные формы. Люди ехали в северные приграничные районы, чтобы основать военные колонии, на юг и юго-запад, чтобы осваивать окраинные земли, в малонаселенные участки береговых провинций Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь, а оттуда и из Гуандуна в заморские земли. Китайские торговые представительства возникли не только в портах материковой и островной Юго-Восточной Азии, но и на Тайване, на островах Рюкю между Тайванем и Японией, на Лусоне на Филиппинах (в 1570-х гг., когда испанцы завернули в эти места по пути из Мексики, там уже существовала крупная китайская община). Но тогда, как и сей¬
527
ГЛАВА 1 3
час, пожалуй, самый широкий поток миграции был направлен из деревень в города. Перейра сравнил тринадцать провинций империи — «графств» в переводе на английский язык — с целыми европейскими странами и на основе краткого знакомства с провинциями Фуцзянь, Цзянси и гуанси заметил, что в каждой из них имеется не меньше семи больших городов, «обнесенных стеной надежной... и весьма величавой, особенно ближе к воротам, которые чудесно велики и обиты железом» [23]. В географическом словаре того времени перечислены шестнадцать городов империи первого и второго ранга, из которых только два (Гуанчжоу и Фучжоу) находятся в провинциях, посещенных Перейрой. Кроме этих шестнадцати существовало свыше пятидесяти не слишком крупных, но тоже «величавых» городов.
Историки заметили, что в эпоху Мин культурная жизнь империи меньше тяготела к столице, чем при прежних империях. В Нанкине, южной столице с собственной провинцией, было не меньше ученых и писателей, чем в Пекине. Сучжоу, город каналов, известный своим шелковым производством, и Ханчжоу, столица Южной Сун, привлекали художников и поэтов; и если судить по примеру Гуйлиня, даже в небольших городах можно было найти высокопоставленных покровителей и цивилизованные удобства, превращавшие их в очаги культурной деятельности.
При монгольской империи Юань литература покинула башню из слоновой кости. Написанные разговорным (не классическим) языком остросюжетные драмы пользовались одинаковой популярностью и при дворе, и в народе. В эпоху Мин появилась художественная проза, написанная разговорным языком. Ее иногда называли неофициальной историей, поскольку она в основном касалась исторических тем — лучшим образцом этого жанра может служить приключенческий роман «Троецарствие». В эпоху Мин существовало несколько версий «Троецарствия», но наиболее известная на сегодняшний день версия, вероятно, была составлена или переписана уже после падения династии. «Речные заводи», еще один роман, в основу которого легли исторические события, повествует о благородных разбойниках эпохи Сун и тоже восходит к юаньской драме. Самая ранняя сохранившаяся версия романа «Путешествие на Запад» (или «Царь обезьян»), фантастической аллегории, основанной на путешествиях паломника Сюаньцзана в Индию в VII веке, датируется 1392 г. И завершает список четырех великих произведений
528
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
эпохи Мин эротико-бытописательная семейная сага «Цветы сливы в золотой вазе».
У большинства некитайцев слово «Мин» прочно ассоциируется с вазой, однако было бы неверно связывать эту ассоциацию только с обширным экспортом фарфора из мастерских Цзиндэчжэня. Опираясь на роман «Цветы сливы в золотой вазе», искусствовед Крейг Клунас подчеркивает зрительную и материальную природу культуры Мин. Вещи, так же как слова в литературной традиции, обладали очарованием, выходившим за пределы их очевидного предназначения или эстетической привлекательности. У каждой вещи был собственный круг аллюзий и своя этимология. Живший в эпоху Мин ценитель прекрасного неплохо разбирался в тонкостях творческих и производственных процессов. В ответ художники и мастера вводили в свои творения контекстуальные подсказки (даты, подписи, надписи, сезонные мотивы, наводящий на размышления выбор цветов, отсылки к архаике). Предметы и вещи обладали почти таким же познавательным потенциалом, как предзнаменования. «Неудивительно, что в Цзинь Пин Мэй [«Цветы сливы в золотой вазе»] так много сцен, где герои рассматривают те или иные вещи», — пишет К. Клунас. Вещи «считались в тот период одним из главных объектов удовольствия и заботы» [24].
К сожалению, в отношении величайшего артефакта эпохи Мин миллионы его создателей не проявили той сознательности, какой желали бы историки. «Великая стена», бесспорно, была творением Мин и в смысле постройки, и в смысле дальнейшей репутации. Но таблички, отмечающие разные этапы ее сооружения, встречаются редко, и лишь на нескольких кирпичах имеются насечки, указывающие на их происхождение. К тому же археологи, перед которыми простирается археологическая площадка протяженностью 6000-7000 километров, больше обеспокоены сохранением того, что можно увидеть, чем извлечением из земли того, что увидеть нельзя.
Главные сведения о строительстве стены дают разрозненные упоминания в официальной истории Мин. Они показывают, что большая часть сохранившейся на сегодняшний день стены была сооружена между серединой XVI и серединой XVII века. Установлено, что земляные стены в провинции Ляонин сооружены при Мин в 1420-х годах. Возможно, именно сюда шли средства из казны после того, как император Юнлэ отменил плавания Чжэн Хэ по Западному океану. Пора¬
529
ГЛАВА 13
жение и захват императора Чжэнтуна в Тумуском инциденте 1449 г. дали новый стимул к строительству. В ответ на расселение монголов в районе Ордоса внутри большой северной петли Хуанхэ, в 1470-х гг. узкое горлышко «полуострова» между провинциями Нинся и Юйлинь закрыли стенами из землебитных блоков ханту, во многих местах выстроенных в два-три ряда. Сейчас от них остались только фрагменты.
Новые набеги монголов и возникновение монгольской столицы в Хух-Хото на территории нынешней Внутренней Монголии выявили уязвимость границы на востоке, особенно между Датуном и районом Пекина. В 1540-х гг., когда монгольские вторжения участились, в этой области северной Шаньси и Хэбэя была возведена сложная система укреплений с башнями и стенами, образующими подобие ромба. Некоторые участки конструкции облицевали кирпичом или камнем, но, возможно, позднее. Тем не менее этот оборонный комплекс смог выдержать крупный набег в 1550 г. — точнее, направил его в сторону. Ал- тан-хан, еще один потенциальный владыка Вселенной, просто обогнул вместе со своим войском восточный край ромба и устремился к Пекину, чтобы разорять сельскохозяйственные угодья столицы и жечь ее пригороды на глазах у императора Цзяцзина и его охваченных смятением подданных. Однако основательно укрепленные ворота и огромные каменные стены Пекина остались непокоренными.
Империя Мин извлекла урок из этого происшествия, и в следующие сто лет участки пограничной стены были облицованы кирпичом или камнем и дополнены бойницами и башнями. Тогда же стена протянулась дальше на восток через холмы севернее Пекина до побережья в провинции Ляонин. В основных точках проникновения построили огромные ворота, сочетающие защитный потенциал с дворцовой пышностью. Сигнальные башни, сторожевые посты и вспомогательные стены закрывали фланги и тянулись везде, где того требовала местность. Работы еще продолжались, когда в 1619 г. силы Мин были изгнаны из Маньчжурии. Новая орда, на этот раз не монгольская, а маньчжурская (так теперь называли себя чжурчжэни), двигалась на юг, намереваясь проверить стену на прочность.
В следующем году умер император Ваньли (пр. 1573-1620), внук любившего поспорить о ритуалах императора Цзяцзина. Он царствовал дольше остальных императоров Мин, но был наименее деятельным из всех. После периода бурной активности в начале правления
530
РИТУАЛЫ МИН. 1405-1620
он на тридцать лет отвернулся от потребностей империи и общественной жизни, чтобы предаваться роскоши и набирать лишний вес. Петиции оставались непрочитанными, должности незанятыми, армия не получала жалованья, налоги не платились. Значительно истощили казну и унесли множество жизней длительная война с японскими захватчиками в Корее в 1590-х гг. и поход против преступного «министра умиротворения» Ян Инлуна в Гуйчжоу. На западе монголы устанавливали подозрительные контакты с тибетцами1. Бандитизм и мятежи распространились по всей империи* Японские, португальские, а затем испанские и голландские мореходы монополизировали торговлю в южных портах. Отказ от морских путешествий Чжэн Хэ в пользу строительства стены казался иронией, но еще более горькой иронией выглядело упорное строительство Великой стены, когда японские пираты терроризировали побережье, а португальцы удобно устроились в Макао. Впрочем, причиной угасания империи Мин стали не удары врагов, а равнодушие верховной власти. После 1591 г. император Ваньли перестал даже совершать обряды в честь предков. Его дед император Цзяцзин рисковал всем из уважения к своим родителям — Ваньли не потрудился явиться даже на похороны собственной матери. Пренебрежение ритуальным долгом говорило о нравственной несостоятельности, более пагубной, чем пустая казна, и взывало к порицанию более основательному, чем конфуз на море. И вскоре империя Мин пала жертвой мятежа, а затем иностранного завоевания.
1 Так, вероятно, автор оценивает второе принятие монголами буддизма в 1578 г., главными действующими лицами которого стали упомянутый тумэт- ский Алтан-хан и один из первых иерархов школы гелуг Сонам ГЬяцо — первый удостоенный титула далай-ламы. Это событие укрепило связи Тибета и Монголии и положило начало своеобразной тибето-монгольской цивилизации, игравшей немалую роль в Центральной Азии еще не один век
14
Маньчжурское завоевание
(1620-1760)
ПАДЕНИЕ МИН
В истории императорского Китая редко встречаются моменты такого явного разрыва, как между двумя последними империями. Перелом был настолько очевидным, что не оставил историкам пространства для привычных попыток растянуть династию во времени, и настолько драматичным, что выглядел почти театрально. Вскоре после полуночи 25 апреля 1б44г. император Чунчжэнь, внук императора Ваньли, в сопровождении одного только старого евнуха поднялся на Угольный холм (возвышенность в Запретном городе), окинул взором оставшиеся без защитников стены Пекина и огни пожаров, бушевавших в темных пригородах, после чего, удалившись в ближайший павильон — это был кабинет императорского департамента головных уборов и поясов, — повесился на балке. 5 июня маньчжурские войска вошли в город, быстро заняли дворец и, объявив Небесный мандат свободным, передали его собственной заранее провозглашенной империи Цин. В том же десятилетии отсечение коронованной головы Карла I повлекло за собой около шестисот недель религиозного брожения в Англии и Шотландии. Но в Китае промежуток между Мин и Цин был так мал, что его хватило лишь для того, чтобы сдать столицу и ускорить завоевание империи. Сопротивление, порой даже героическое, мало что изменило. На этот раз не было деления страны на Север и Юг, долгого многогосударственного периода раздробленности и жестокой борьбы между чужеземными военачальниками
532
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
и конкурирующими местными династиями за доступный всем желающим Небесный мандат.
После шести недель кровопролития коренную династию снова вытеснили чужаки. По улицам Пекина разъезжали вооруженные всадники. Непонятная речь, сапоги с мягкой подошвой и головы с бритыми макушками и заплетенными сзади в длинную косу волосами не оставляли никаких сомнений в том, что они явились из Внутренней Азии. Кроме чжурчжэней, которые теперь называли себя маньчжурами, в рядах новоприбывших были монголы — к ним относились не только сами монголы, но и народы, когда-то называвшиеся тюрками и киданями; всех их объединяли общий язык, образ жизни и уважение к памяти Чингисхана. Лес и степь снова надвигались на пашню — казалось, все те, кто раньше пользовался покровительством Китайской империи, вернулись, чтобы разделить с ней последнее пиршество.
Почти двадцать семь десятилетий правления Мин подходили к концу, почти двадцать восемь десятилетий правления Цин только начинались. Истощенный и утративший эффективность старый режим уступил место пока еще энергичному новому режиму. Эклектичное общество Поздней Мин вскоре сменилось более жесткими социальными и культурными условностями. Заигрывания с лежащим за морями большим миром были отвергнуты в пользу типичного для Внутренней Азии стремления к завоеванию новых земель. Плавания Чжэн Хэ, поселение португальцев в Макао в 1557 г., интерес китайского двора к образованным иностранцам, таким как иезуитский священник Маттео Риччи, и растущая зависимость экономики от обмена шелка и посуды на драгоценные слитки из Японии и Нового Света — все это вряд ли можно было изменить. Но, может быть, с последствиями было бы легче справиться, если бы новая династия не отдала приоритет территориальной экспансии в непроизводительные пустоши Монголии, Тибета и Синьцзяна. К концу XVIII века благодаря усилиям Цин Китай приобрел тот территориальный размах, которым обладает по сей день. Одновременно платой за пренебрежение к побережью и недооценку все чаще появлявшихся там иностранцев стало национальное унижение, в котором были повинны не только иностранные торговые компании и в одночасье возникшие империи и «великие державы», но и местные революционеры, предприимчивые соседи и странствующие идеологи.
533
ГЛАВА 14
Поэтому неудивительно, что 1644 год — или, если брать шире, вся первая половина XVII века — считается важной вехой в историческом марафоне Китая. Примерно здесь привыкшие мыслить периодами историки обозначают конец одной эпохи, или «мирового цикла», и начало другой, хотя что именно и чем сменилось (поздний феодализм — протокапитализмом, поздняя империя — пост- имперским периодом, или средневековая эпоха — ранним Новым временем), по-прежнему остается предметом острых дискуссий. Во многих современных трудах повествование доводится до XVII века, после чего ответственность за возвращение в наше время берут на себя другие авторы. При переходе от Мин к Цин священная традиция китайского историописания делить прошлое на отрезки длиной в династию выглядит действительно оправданной и целесообразной. И все же изменения редко происходили по-настоящему неожиданно: переход никогда не совершался в одночасье. Негибкая хронология, основанная на империях и периодах правления, искусственно делит исторический поток понятийными барьерами, которые мешают следить за развитием глубинных тенденций в обществе, культуре и государственном управлении [1]. Тематическая преемственность внутри чжурчжэньско-маньчжурского, а также китайского общества не оставляет камня на камне от хронологического повествования, но при этом может дать более верное представление о происходящем, чем приходы и уходы правителей.
Для путешествия из Нанкина в Пекин в 1598 г. итальянский священник Маттео Риччи выбрал Великий канал. Он уже неплохо знал страну. Шестнадцать лет он прожил в Гуандуне, выучил язык и теперь возглавлял небольшую иезуитскую миссию в португальском Макао. Однако масштабы судоходства на канале поразили его. По рассказам, налоговую продукцию из Шаньдуна и провинций бассейна Янцзы доставляли в Пекин десять тысяч судов, и Риччи не видел причин сомневаться в этом. Кроме того, на него произвели большое впечатление «многие известные города», мимо которых он проплывал. Берега канала усеивали «множество городов, деревень и отдельных домов — можно сказать, весь этот путь заселен». На протяжении примерно 1700 километров шла оживленная торговая деятельность.
Позже, вернувшись на юг по суше, поскольку зимой канал мелел и замерзал, Риччи остался в Сучжоу. Ему, как и Марко Поло, этот город напомнил Венецию: «В городе полно мостов, — писал он в днев¬
534
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
нике, — очень старых, но прекрасно построенных... [и] вода под ними чистая и прозрачная, вовсе не как в Венеции». Однако как место расположения христианской миссии Сучжоу имел большой недостаток* он облагался «огромным налогом». Вероятно, это обстоятельство возникло еще во времена минских завоеваний — половина всей продукции, которую выращивали в городе и его окрестностях, переходила в императорскую казну. «Следовательно, в Китае бывает так, что одна провинция платит в два раза больше налогов, чем другая» [2].
Однако в этом не было ничего нового. Размеры и повсеместное распространение городов и поселений, коммерциализация сельского хозяйства (крестьяне уделяли больше внимания выращиванию специализированных культур для рынка, а не продовольственным зерновым культурам для собственного пропитания), последующее развитие местных сетей торговой, производственной и общественно-политической деятельности и крайне неравномерный характер налоговых обязательств упоминаются и в более ранних отчетах, оставленных японским монахом Эннином, Марко Поло и Ибн Баттутой. Благодаря сохранности большего количества документов — налоговых переписей, местных справочников, родословных, неофициальных историй — условия жизни в провинциях в периоды Мин и Цин привлекают более пристальное внимание ученых.
Главный вывод историков предсказуем, хотя и несколько дезориентирует: он заключается в том, что делать об империи какие-либо обобщающие выводы довольно опасно. Не только порядок налогообложения, но и сельскохозяйственные культуры, производительность, модель землевладения, нормы правопорядка и уровень социального благосостояния в разных провинциях, префектурах и округах могли сильно отличаться. Однако при отлично развитых средствах сообщения между городами, городками и деревнями существовали прочные социальные и торговые связи. Правительственные чиновники возвращались к своим сельским корням, чтобы участвовать в празднествах в честь предков, соблюдать долгие периоды траура по умершим родителям, залечивать раны порицания или понижения в должности, или просто перебирались в родные места после выхода в отставку. При этом они не могли пожаловаться на отсутствие понимающей компании. Поскольку на тот момент количество выпускников учебных заведений значительно превышало официальный спрос, а жить с родственниками в деревне было дешевле, чем со¬
535
ГЛАВА 14
блюдать условности в городе, в сельском обществе сложился новый слой культурных и образованных искателей должностей и имеющих свое мнение наставников. Генеалогические исследования, предпринятые такими малообеспеченными учеными, способствовали формированию местных клановых ассоциаций, которые могли владеть землей, оказывать социальную и образовательную поддержку своим членам, активно заниматься местными делами, посрамляя при этом официальных чиновников. Городские изгнанники, имевшие свободный доступ в семьи землевладельцев, военной и купеческой знати, где теперь тоже были обладатели степеней, вливались в ряды местного дворянства, обладавшего немалым влиянием в эпоху бюрократического «кардиосклероза».
Однако это влияние было неустойчивым, а местный социум оставался разобщенным. Маньчжурское завоевание продемонстрировало, что противоречия, сотрясавшие двор Поздней Мин, на самом деле широко распространились во всей империи. В основном онй выражались в нравственных понятийных разногласиях, столкнувших сторонников учения Ван Янмина и его «прирожденного чувства» правильного (которое слишком легко превращалось в то, что удобно или что хочется себе позволить) с теми, кто, следуя заветам Чжу Си об «изучении всех вещей», настаивал на воспитании нравственности и достоинства как необходимых предпосылок для поступления на государственную службу и спасения империи. Последние, поначалу состоявшие в подавляющем большинстве из разочарованных младших чиновников, бросали громкий, даже самоубийственный вызов верховной канцелярии и забрасывали императора протестами. Как фракция Дунлинь (названная в честь академии в Уси близ Сучжоу) они подверглись преследованиям в 1620-х гг., как Фу шэ («Общество восстановления») в 1630-х гг. они проявили себя немного лучше, но как идеологи минского сопротивления цинскому завоеванию в 1640-е гг. они потерпели удручающий провал. Вместе с тем было представлено множество других мнений, а некоторые храбрецы даже задавались вопросом, подобает ли предаваться абстрактным размышлениям в период нарастающего кризиса. Но все школы мысли омрачались глубокой личной и профессиональной враждой, действовали в рамках извечного соперничества между дворцом и бюрократией и не могли прийти к общему мнению относительно порядка престолонаследия после императора Ваньли.
536
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
Что касается самой бюрократии, ее бедственное положение было мало связано с достоинствами чиновников. В начале XVII века верные и преданные служащие встречались не реже, чем раньше — в самом деле, маньчжурское завоевание дало возможность проявить себя исключительно талантливым администраторам. Но из-за соперничества и подозрительности, охватившей правительство в Пекине, им не хватало центрального руководства. Вместо этого от провинций требовали все больше доходов. Отчасти эти сборы и пошлины были необходимы, чтобы покрыть расходы на войну против японцев в Корее в 1590-х гг., остановить продвижение чжурчжэней в Маньчжурии после 1615 г. и подавить собственных мятежных подданных, которых нередко вынуждали браться за оружие все те же неподъемные поборы. Но новые налоги также были необходимы, поскольку существующие налоги и налоговые оценки не имели, по сути, никакого отношения к фактическому землевладению, численности населения и его налоговому потенциалу Поздняя Мин так щедро раздавала привилегии и освобождения от уплаты налогов членам императорской семьи, буддийскому духовенству, военным, служащим, обладателям степеней и другим влиятельным особам, что налоговая нагрузка в подавляющем большинстве ложилась на мелких землевладельцев и кре- стьян-арендаторов, которые имели меньше всего возможностей ее нести.
Это ставило местных чиновников в незавидное положение. Должны ли они встать на сторону влиятельных лиц, привыкших к освобождению или уклонению от налогов, или на сторону забитых и вполне обоснованно склонных к насилию земледельцев? Положение усугублялось тем, что к концу 1590-х гг. местную администрацию почти отодвинули от дел: незначительная отдача от новых налогов привела к тому, что император доверил осуществление (точнее, вымогательство) ненавистных сборов альтернативной дворцовой бюрократии, которую вернее было бы назвать «евнухократией».
Маттео Риччи с ужасом наблюдал за этим явлением. Насколько он понимал, в прошлом императоры получали достаточное количество драгоценных металлов, главным образом меди и серебра, из рудников своей империи. Но эти рудники давно официально закрыли, поскольку их разоряли «воры и разбойники». Теперь император Ваньли в силу крайней необходимости приказал снова открыть их, обложил двухпроцентным налогом «все товары, проданные в каждой [рудодобы¬
537
ГЛАВА 14
вающей?] провинции», и в обход чиновников, «которые всегда применяли законы с умеренностью», отправил обеспечивать их соблюдение евнухов. Эти «полумужи», о которых Риччи отзывался так же ядовито, как любой не утративший мужского достоинства конфуцианец, затем совершенно взъярились — «алчность превратила их в дикарей».
«Сборщики налогов отыскали золотые прииски, но не в горах, а в богатых городах. Если им говорили, что богатый человек живет тут или там, они объявляли, что у него в доме серебряный рудник, и тут же являлись обыскивать и разорять его жилище... Иногда, чтобы избавить себя от ограбления, города и даже целые провинции договаривались с евнухами и уплачивали им большую сумму серебра, которое, по их словам, было взято из рудников для царской казны. В результате этого необыкновенного грабежа цены на все товары выросли, а нуждающихся и нищих стало намного больше» [3].
Чиновники протестовали, даже сопротивлялись, но безуспешно: их увольняли или бросали в тюрьму. Евнухократы пользовались полной поддержкой императора и постепенно начали «вести себя еще более нагло, грабить еще более дерзко». В глазах безмолвствующих масс весь правительственный аппарат рисковал оскандалиться и потерять доверие.
Однако все эти мероприятия, подтвержденные источниками в других местах, не влияли на основную проблему: кроме недостаточных налоговых поступлений Мин переживала серьезный денежный кризис. Первые затруднения с бумажными деньгами начались при империи Юань. Новые выпуски банкнот, недостаточно обеспеченные серебром, медью или даже шелком, монгольский режим объявил неконвертируемыми. В результате они быстро потеряли свою номинальную стоимость, и ими старались не пользоваться. Те, кто мог, предпочитали копить драгоценные металлы. Основатель Мин император Хунъу упорно продвигал бумажные деньги и запретил разработку рудников, чтобы остановить приток в экономику драгоценных металлов1. Но это только повысило их ценность (особенно серебра).
1 Вероятно, главную задачу составляло сбережение рудников от быстрого исчерпания: бумажные деньги должны были компенсировать недостаток серебра в денежном обороте.
538
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
В XV веке покупательная способность серебра в Китае была выше, чем в любой другой стране мира, и в дальнейшем положение не изменилось. Страна «вступила в новую монетарную эпоху, когда серебро в слитках продавали по весу, а медные монеты, как настоящие, так и фальшивые, были основным средством денежного обращения» [4].
Император Юнлэ — тот, который отправил Чжэн Хэ в морские путешествия, — продолжал выпускать банкноты. Ими выплачивали жалованье, ими одаривали многочисленные чужеземные посольства; поскольку они были бесполезны за пределами Китая, а вскоре стали бесполезны и в самом Китае, получатели считали разумным как можно быстрее их потратить. Потом император Юнлэ снова открыл рудники. На какое-то время запасы драгоценных металлов в стране увеличились, и в 1436 г. некоторые налоги стали выплачивать серебром, а некоторые — медной монетой. Тенденция отхода от бумажных денег ускорилась в XVI веке, и к середине столетия большую часть налогов выплачивали серебром. Между тем, судя по правительственным описям поступлений с серебряных рудников, доходность внутренних источников резко снизилась или была преднамеренно искажена. В XVI веке крупнейшим источником серебра и вообще денежной массы Китая служила внешняя торговля. Серебро, которое выменивали на экспортные товары, сначала приходило из Восточной Европы вместе с индо-мусульманскими, а затем португальскими купцами, в середине века поступало из Японии, главным образом с португальцами, и после 1570-х гг. в основном из Северной и Южной Америки. Оно пересекало Тихий океан на испанских галеонах, прибывало в Манилу и оттуда попадало на побережье Китая на китайских судах, что стало возможным благодаря отмене в 1567 г. запрета на морские плавания, наложенного после путешествий Чжэн Хэ.
Любопытно, что хотя в Китае добывали собственное серебро, его никогда не чеканили. В обращении находились только медные деньги с отверстием посередине, собранные в связки. В 1870-х гг. иностранные путешественники из французской комиссии по исследованию Меконга, добравшись до отдаленной китайской границы с грузом различных товаров и валют, с удивлением выяснили, что на территории Поднебесной они должны обменять свои ресурсы на серебряные слитки. От серебряного слитка, как от головки сыра, отделяли куски, которые затем взвешивали и проверяли на подлинность при каждой существенной операции с наличными. Хотя серебро, вес
539
ГЛАВА 14
которого выражался в лянах или таэлях (37,6 грамма — 1,3 унции), было стандартной валютой, серебряных монет и других денежных единиц гарантированного веса и чистоты не было. Теоретически металл сохранял свою первоначальную функцию как резерв и средство уплаты налогов, более удобное для транспортировки и хранения, чем медь, шелк или зерно. Он предназначался для удовлетворения нужд государства, государственных служащих и финансового сообщества, а не черноголовых простолюдинов.
Пока серебра в мире было достаточно, его высокая покупательная способность в Китае действовала на иностранцев как магнит. Неприлично выгодный платежный баланс в Китае — далеко не новое явление. Но примерно с 1600 до 1620 г., а затем после 1630 г. поставкам серебра начал мешать ряд факторов: снижение производства в Новом Свете, беспорядки в Маниле и стычки в открытом море, где голландские и английские мореходы бросили вызов пиренейским державам. Очевидно, в свете этого император Ваньли и его преемники решили выжать как можно больше из внутренних месторождений. Для этого был принудительно введен новый налог, о котором писал Риччи, а его сбор поручили евнухократам, многие из которых уже находились в провинциях в качестве налоговых надзирателей, контролировавших соляные монополии. «Рудники» вскоре стали просто общим эвфемизмом для любого предприятия или человека, которого подозревали в наличии крупных запасов серебра. Поскольку власти, как известно, неоднозначно относились к этому богатству, разумно предположить, что на него начислялись в лучшем случае минимальные налоги; справедливое перераспределение бюджетного бремени действительно было очень желательно и давно назрело. Однако новый налог не смог выполнить этой задачи, и Риччи совершенно справедливо указывал на те злоупотребления и затруднения, к которым он привел. Для запугивания налогоплательщиков нанимали хулиганов, торговая жизнь замерла, поденные рабочие лишились заработка. Дефицит серебра привел к повышению его стоимости относительно меди, вслед за этим выросли цены, а сильнее всего пострадали те, кто продавал свою продукцию за медные монеты, но налоги должен был платить серебром.
Волнения в городах и недовольство провинциальной знати нарастали и ширились. Смерть императора Ваньли в 1620 г. ненадолго избавила население от налога на рудники, но не избавила от евнухо-
340
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
кратов, которые продолжали притеснять состоятельных и восстанавливать против себя праведных. Самое явное недовольство проявляли жители процветающего региона Цзяннань «к югу от Янцзы», в который входил быстро развивающийся коридор Нанкин — Сучжоу — Ханчжоу. Однако усилили общее напряжение и, наконец, привели к падению Мин более явные потрясения в военизированном обществе вдоль Великой Китайской стены на далеком севере.
В 1620-х и 1630-х гг. выдалась череда необычно холодных лет, что вызвало во всей империи падение урожаев и голод. В стране свирепствовали оспа и, вероятно, разновидность чумы. Смена династии, как обычно, происходила на фоне всеобщих тягот, бедствий и неурядиц, не только осложнявших жизнь людей, но и предзнаменующих недоброе. Вторжение монголов и чжурчжэней в Ляодун (ныне Ляонин), провинцию Мин в южной Маньчжурии, потребовало отправки дополнительных войск за восточную оконечность стены. Это ослабило гарнизоны на западе, лишив их солдат, снабжения и даже жалованья. Здесь, и особенно в Шэньси, движимые голодом и пренебрежением властей дезертиры сбивались в отряды бродячих «разбойников», из которых в 1630 г. стремительно складывались мятежные армии. Они координировали свои передвижения, чтобы не мешать друг другу, и постепенно проникали все дальше на восток, запад и юг (вызвав панику в области Цзяннань) в поисках снабжения и новобранцев. Иногда некоторые из них соглашались на помилование, иногда имперские войска одерживали победы, но в целом мятежники сопротивлялись довольно успешно, не в последнюю очередь потому, что спешно собранные для борьбы с ними силы империи часто оказывались не более дисциплинированными и вдобавок не так щедро делились своей добычей с угнетенным населением.
В 1641 г. повстанцы сформировали две основные армии, одна из которых действовала главным образом в Хубэе и Сычуани, другая в Шаньси и Хэнани под руководством самозваного «Шунь-вана». Отважного вождя на самом деле звали Ли Цзычэн. Это был человек тридцати с небольшим лет, без образования и военного опыта, но с властным характером и головокружительными ожиданиями. В 1642 г. Ли Цзычэн захватил Лоян, а затем Кайфэн — для этого город был затоплен, и в ходе этой военной операции погибли миллионы человек, в том числе десять тысяч его собственных солдат. Впрочем, он мог позволить себе эту потерю, поскольку его силы к тому вре¬
341
ГЛАВА 14
мени якобы исчислялись сотнями тысяч человек В конце 1643 г. он добавил к своей коллекции древних императорских столиц Сиань, переименовав ее в Чанъань (это название город носил во времена Тан). В том же году он взял Сянъян, один из городов-близнецов, где Южная Сун некогда оборонялась от наступающих монголов и пыталась прорвать блокаду с помощью колонны колесных судов. Там, как император Хунъу в Нанкине в те дни, когда он еще не был императором, Ли Цзычэн начал закладывать основы управления, опираясь на поддержку чиновников, привлеченных его успехами и популистскими заявлениями.
Масштабы его претензий были все еще не ясны. Членов обширной императорской семьи Мин повстанцы обычно казнили вместе с высокопоставленными чиновниками. Более того, упорно ходили слухи, что Ли Цзычэн таким образом просто утверждает свою легитимность, поскольку он был не кем иным, как прямым потомком императора Цзяньвэня (внука императора-основателя Хунъу, который либо исчез в туманах Западного океана, где его так и не смог найти Чжэн Хэ, либо погиб при пожаре, когда император Юнлэ штурмовал Нанкин и узурпировал трон). Однако в личной пропаганде Ли Цзычэн, как многие другие повстанцы до него, неустанно подчеркивал свою преданность нынешнему императору. Он якобы намерен был только избавить государя от корыстных чиновников и иждивенцев, которые злоупотребляли его властью и мешали ему бороться с угрозой со стороны чжурчжэней-маньчжуров. Теперь это была не просто голословная риторика, и с ней готовы были согласиться многие — в том числе сами чжурчжэни-маньчжуры, которые тоже оправдывали свое постепенное наступление с востока исключительно верностью императору (они, конечно, стремились избавить его от непокорных подданных). Вместе с тем вряд ли могли остаться незамеченными окружавшие Ли Цзычэна красноречивые признак прецедента. Так же как Первый император Цинь и ханьский Гао-цзу, он начал череду завоеваний с Шэньси; как Гао-цзу и император Хунъу, он преодолел тяготы самого скромного происхождения; и, как императоры Тан, он носил благоприятное фамильное имя Ли. Сознательно подражая Тан, он восстановил Чанъань и наградил своих чиновников титулами в танском стиле. Следовало использовать все варианты.
В начале 1644 г. Ли Цзычэн принял титул великого правителя Запада — еще один двусмысленный шаг, сразу после которого он отпра¬
542
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
вился на восток. После штурма Тайюаня, столицы провинции Шаньси, половина его армии двинулась прямо в Пекин, а другая прошла через Датун, чтобы упредить атаку гарнизонов Великой Китайской стены, которые могли ударить с тыла. Ни та ни другая армия не встретила большого сопротивления; маньчжурские вторжения в Ляодун рассеяли большую часть имперских войск. 22 апреля Ли Цзычэн разбил лагерь между императорскими гробницами Мин, слегка подпалил их снаружи, но всерьез грабить не стал. Он был на расстоянии двух дней от столицы.
Что именно произошло дальше и какой из сохранившихся отчетов заслуживает большего доверия, неясно. Когда повстанческая армия вошла в пригород, защитники разбежались, и Мин просто склонилась перед неизбежным. Зернохранилища пустовали, казна тоже, истощенные гарнизоны не получали жалованья и даже продовольствия. Правительство, раздираемое борьбой фракций, было как никогда бессильно; старшие министры, которые могли внести посильный финансовый вклад в защиту империи, не обращали внимания на просьбы о пожертвованиях; что касается самого императора Чунчжэня (пр. 1628-1644), он был рожден скорее для трагедии, чем для героического эпоса. В то время ему насчитывалось тридцать с небольшим лет, и он не был калекой или умственно отсталым. Он много работал и о многом беспокоился. Но он отличался крайней подозрительностью (за семнадцать лет успел сменить пятьдесят великих секретарей) и хронической нерешительностью (отступление в Нанкин обсуждалось уже несколько месяцев), поэтому не внушал приближенным ни доверия, ни уважения.
Некоторые источники говорят, что в последнюю минуту он вызвал своих министров, но никто не явился. Что же он сделал после этого? Может быть, напился? Приказал императрице покончить с собой? Заколол всех остальных своих женщин, чтобы спасти их от бесчестья? Или просто надел церемониальные одежды, взошел на Угольный холм и повесился? Кстати, действительно ли это был Угольный холм? Или это был Панорамный холм, иначе Гора десяти тысяч лет?1 И действительно ли он повесился на балке в павильоне департамента
1 Обычно считается, что все это — названия одного и того же искуствен- ного холма к северу от императорского дворца. Он был насыпан при Юань, когда рылись дворцовые рвы.
543
ГЛАВА 14
головных уборов и поясов или на дереве под открытым небом? Все отчеты утверждают разное. «В этой череде событий, — честно пишет Джонатан Спенс, специалист по эпохе Мин и Цин, — историк может самостоятельно решить, какие версии представляются наиболее вероятными» [5].
Позже в тот же день либо на следующий день силы Ли Цзычэна вошли в Запретный город. Они практически не встретили сопротивления — кто-то даже оставил для них ворота открытыми. В следующие недели, когда на деревьях осыпались цветы и появились новые листья, Ли Цзычэн, вероятно, мог бы довести узурпацию престола до конца. Чистку в рядах чиновничества постепенно свернули, пытки с целые выбить признания и найти сокровища прекратили, некоторых старших сановников снова назначили на прежние посты. Мародерство продолжалось, но когда через месяц после захвата города пришли сообщения о том, что армия лоялистов готовится атаковать с востока* Ли Цзычэн смог собрать большую часть своих сил для упреждающего удара против этой новой угрозы.
Решающее сражение состоялось 26 мая 1644 г. недалеко от Шан- хайгуани. Расположенная на расстоянии около 300 километров от Пекина, застава Шаньхайгуань представляла собой массивные ворота в Великой Китайской стене, обращенные к морю и закрывающие восточные подходы из Ляодуна. До того как пал Пекин, старший минский военачальник в Ляодуне по имени У Саньгуй был отправлен туда, чтобы остановить наступление чжурчжэней-маньчжуров, однако прибывшие из Пекина вести, в том числе новость о пленении его собственной семьи повстанцами Ли Цзычэна, были так ужасны, что генерал У позвал чжурчжэней-маньчжуров на подмогу. Они должны были сражаться бок о бок с силами Мин, чтобы разогнать повстанцев, вернуть столицу, восстановить порядок и похоронить умершего императора.
Как раз для того, чтобы упредить это объединение, Ли Цзычэн поспешно выступил из Пекина. И он действительно успел прибыть в Шаньхайгуань до того, как там оказались главные силы чжурчжэней. Но он недооценил генерала У Саньгуя. Во главе своих минских войск, то ли дождавшись, то ли не дождавшись помощи от первых армий чжурчжэней (это еще одна череда событий, где историк «может решать самостоятельно», чему верить), генерал У разгромил повстанцев. Таким образом, первое крупное сражение у Великой Китай¬
544
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
ской стены было дано не для того, чтобы отразить нападение извне, а чтобы уничтожить нападавших изнутри. И когда силы маньчжуров- чжурчжэней прибыли, они прошли через Шаньхайгуань, не встречая сопротивления, — напротив, их горячо приветствовали.
Ли Цзычэн после поражения у Шаньхайгуани устремился обратно в Пекин. Вероятно, руководствуясь запоздало пришедшей мыслью, он объявил себя императором и поджег дворец, а через некоторое время бежал на запад с остатками своей армии. У Саньгуй пошел за ним. Как уроженец Ляодуна, генерал У знал и уважал чжурчжэней; после смерти императора Мин и при очевидном отсутствии наследника императора он был готов служить новоприбывшим так же верно, как многие другие высокопоставленные деятели, в том числе уже сменившие сторону члены его семьи. Поэтому он сошел с политической сцены, чтобы, выполняя полученный приказ, преследовать и уничтожать повстанцев. И поэтому 5 июня чжурчжэньско-маньчжурское войско въехало в тлеющий Запретный город без сопровождения и без предупреждения. Когда его предводитель объявил, что они пришли отомстить за Мин, озадаченная толпа внимала ему в настороженной тишине. Некоторые полагали, что с ними говорит отдаленный потомок императора Чжэнтуна, который, вероятно, успел обзавестись наследником, пребывая в монгольском плену после Тумуской катастрофы, и мало кто понял, что на самом деле у них на глазах происходит передача Небесного мандата. Хотя все китайские династии можно, не погрешив против истины, назвать завоевателями, ни одна из них не завоевала меньше территорий Китая до получения трона, чем маньчжуры.
ОТ ЧЖУРЧЖЭНЕЙ К МАНЬЧЖУРАМ
Новые правители Пекина в некотором смысле представляли собой загадку. С точки зрения численности, экономических ресурсов, военных технологий и опыта управления государством чжурчжэни в начале XVII века имели так мало преимуществ, что их шансы на завоевание Китая представлялись совершенно ничтожными. Однако то же самое можно было сказать о киданях и монголах, когда они впервые вторглись на территорию Китая. Чжурчжэньская империя Цзинь однажды уже вытеснила киданьскую Ляо, а затем Северную Сун из Се¬
545
ГЛАВА 14
верного Китая в XII веке, прежде чем сама уступила монгольскому завоеванию в XIII веке. Некоторые чжурчжэни тогда перешли на службу к монголам, другие вернулись на родину, а третьи никогда ее не покидали. Они оставались беспокойными соседями на дальнем северо-востоке и при империи Юань, и позднее как данники Мин.
Корейский посол Син Чон-иль, в 1595 г. посетивший чжурчжэней, живших к северо-западу от реки Ялуцзян, обнаружил, что в их обществе весьма велико влияние ханьской и монгольской культуры. Образованные люди говорили на китайском языке так же хорошо, как на своем родном тунгусском. Они пользовались монгольской системой письма, предпочитая ее письменности, разработанной на кидань- ской основе при Цзинь, и сочетали конфуцианские ценности с уважением к тибетским богослужебным практикам, недавно принятым монголами. Но прежде всего они сохраняли верность собственным традициям гаданий и жертвоприношений и регулярно советовались с предками и божествами через шаманов и шаманок («единственное широко используемое в английском языке слово, заимствованное из языка [чжурчжэней]») [6].
Однако их образ жизни мало чем отличался от образа жизни их предков до эпохи Цзинь. Они жили рассеянно, вместе со своими стадами в укрепленных поселениях, под властью наследственных вождей, которых называли бэйлэ. Эти вожди самовластно правили своими подданными, распределяли среди них земли, рабов, невест и оружие и нередко воевали друг с другом. Оборонительные стены вокруг поселений делали из глины и прутьев, с каменным основанием. Дома строили из дерева или кирпича, причем нижняя половина нередко располагалась под землей — к этому вынуждал суровый климат северо-востока. Здесь действительно бывало по-настоящему холодно. Визит корейского посла Син Чон-иля пришелся на середину зимы, что, вероятно, объясняет подмеченную им склонность чжурчжэней к крепким напиткам, стихийным шуточным дракам и энергичным танцам. На полях, в то время пустовавших, выращивали пшеницу и просо, в конюшнях имелось достаточно лошадей, в лесах и горах добывали пушнину, кедровые орехи и корень женьшеня. Чжурчжэни из бассейнов рек Ялуцзян и Ляохэ выращивали зерно, пасли скот, занимались охотой и собирательством. Их нельзя было назвать даже наполовину кочевым народом — в отличие от «диких» чжурчжэней, живших дальше на севере, и населявших этот же регион монголов.
546
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
Это было удивительно космополитическое общество, в котором иммигранты из Кореи и особенно из китайской провинции Ляодун смешивались с различными чжурчжэньскими и монгольскими кланами. При чжурчжэньском дворе Син Чон-иля принимал верховный вождь по имени Нурхаци (примерно 1616-1626) — внушительный человек в отороченных соболем одеждах. Как раз в это время Нурхаци был занят преобразованием разрозненных элементов чжуржэньского общества в организованную и эффективную боевую силу. Всех воинов призывали носить кожаные доспехи, брить переднюю половину головы и заплетать длинную косу на чжурчжэньский манер (сходство с коренными американцами, возможно, неслучайно, поскольку народы Алеутских островов и Аляски также говорили на тунгусском языке1). Основу армии Нурхаци составляли так называемые знамена. Син Чон-иль пишет о воинских подразделениях под желтым, белым, красным, синим и черным стягом, каждое из которых называлось согласно цвету своего стяга. Число этих «знамен» сначала было ограничено четырьмя, затем расширилось до восьми; позднее они ассоциировались с конкретными этносоциальными группами и, по мере того как Нурхаци расширял свою власть, непрерывно пополнялись чжурчжэнями, монголами и ханьцами с северо-востока. «Знамена» составляли ударную силу маньчжуров в Китае и привилегированный костяк маньчжурского общества на протяжении XVII и XVIII веков.
Нурхаци привлекал сторонников разумным распределением земель, женщин, рабов и престижных товаров и решительно подавлял потенциальных соперников с целью захвата этих активов. В 1606 г. местная монгольская конфедерация признала его своим вождем, а в 1616 г. он взошел на престол как император чжурчжэней, ради чего возродил название империи Цзинь (поэтому его вместе с преемниками иногда называют правителями Поздней Цзинь, в попытке отличить их от Поздней Цзинь периода Пяти империй2). Одновременно с этим Нурхаци передвигал свою столицу все дальше на запад, взяв город Фушунь в 1618 г. и столицу минской провинции Ляодун город Шэньян (переименованный в Мукден) в 1621 г. По мере продвижения чжурчжэней
1 Алеуты и инуиты (эскимосы) говорят на языке эскимосско-алеутской семьи, а большинство аляскинских индейцев (атапаски, тлингиты) — на языках семьи на-дене, которую некоторые ученые считают родственной енисейским, но не тунгусским языкам.
2 Омонимичные знаки цзинь в названиях пишутся по-разному.
547
ГЛАВА 14
между ними и Мин спонтанно вспыхивали военные конфликты по вопросам миграции и торговли. Ситуация приобрела новую остроту, когда Нурхаци начал строить в Шэньяне грандиозный дворцовый комплекс и называть Мин «южной», а свою собственную Цзинь «северной империей». Это живо напоминало возникшие в XIII веке разногласия Цзинь и Сун о двойном Небесном мандате и было с недовольством воспринято в Пекине. Однако Мин «не отрицала исторической связи... напротив, она торжественно отметила ее, осквернив императорские гробницы Цзинь в Фаншане, недалеко от Пекина» [7].
Нурхаци умер в 1626 г. Власть перешла к его сыну Хун Тайцзи (иначе Абахай1, или Абатай, пр. 1626-1643), который так много сделал для будущего чжурчжэней, что был признан сооснователем империи. Во время военных походов в Монголию и Корею, а также на север до Амура в провинции Хэйлунцзян и на запад до окрестностей Пекина маньчжурские «знамена» во главе с Хун Тайцзи познакомились с разными способами ведения войны, включая артиллерию и осадное дело. Они осаждали большие города, такие как Датун, а их многократные хождения туда и обратно через страдавшую от недостатка защитников Великую стену разоблачили бесполезность этого монументального укрепления. В Монголии маньчжуры свергли потомка хана Хубилая и империи Юань, что позволило Хун Тайцзи претендовать на титул великого хана монголов2, а также на монгольскую
1 Впервые так назвал второго маньчжурского правителя В. В. Горский (1819— 1847), член 12-й православной миссии в Пекине. Его работа 1852 г. уже в 1858 г. была переведена на немецкий, разошлась по справочникам — и к имени привыкли. На самом деле слово Абахай происходит от Абкай сурэ — маньчжурского варианта девиза правления Хун Тайцзи Тяньцун (Небесная мудрость). Хун Тайцзи и сейчас нередко именуется Абахаем. При этом, судя по всему, Хун Тайцзи — тоже не личное имя этого правителя, а фонетическая транскрипция китайского Хуан тай-цзы — «Августейший наследник престола», что больше похоже на замещающий табуированное имя почетный титул, чем на имя. Достоверных данных о личном имени императора у нас пока нет.
2 Согласно старательно распространявшейся легенде, вдовы чахарского Лигден-хана — последнего носителя титула великого хана — поднесли Хун Тайцзи главную реликвию Монголии — печать Чингисхана. Так Хун Тайцзи сменил идею возрождения чжурчжэньской империи Цзинь (по понятной причине не особенно интересную монголам) мечтой о втором рождении империи Юань, пусть и под властью не потомков Чингисидов. Впрочем, многие маньчжурские императоры были потомками завоевателя Вселенной по материнской линии — едва ли не все маньчжурские правители брали в жены принцесс из клана Бор- джигин и говорили по-монгольски немногим хуже, чем по-маньчжурски.
548
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
невесту, огромное количество монгольских сторонников и немалую часть территории современной Внутренней Монголии. Новобранцы стекались в маньчжурскую армию из племен «диких чжурчжэней» на крайнем севере, из Кореи и из минского Китая; численность «знамен» достигла шестизначной цифры, а чжурчжэньский компонент в них сократился с половины до одной четверти.
Для наполнения административных учреждений Хун Тайцзи начал привлекать прошедших экзамены ханьских чиновников. Было создано бюро внешней политики, которое поначалу занималось чжурчжэньско-монгольскими отношениями, но вскоре было реорганизовано, переименовано и занялось всеми «колониальными» отношениями, в том числе недавно возникшими тесными связями между монголами и тибетскими религиозными общинами, особенно далай- ламой (о котором см. ниже). В 1636 г. Хун Тайцзи сделал последний шаг, решив отказаться от наименований «чжурчжэни» и «Цзинь». Й то и другое тянуло за собой слишком много спорных ассоциаций и настроений. В прошлом ни чжурчжэни, ни Цзинь не смогли достичь всеобщего господства, к которому теперь стремились их потомки. В глазах китайцев «чжурчжэни» оставались пренебрежительным наименованием, а «Цзинь» — империей сомнительной легитимности. Необходимо было новое, более масштабное и всеобъемлющее определение: «знамена», а вместе с ними и режим отныне должны были называться маньчжурскими, а империя — Цин.
Название Цин, что означает «чистая», было взято из того же источника возвышенных престижных титулов, что и Юань («исконная») и Мин («блистательная»). Это имя не ограничивалось областными ассоциациями, как большинство остальных, и ставило его носителей в один ряд со всеми законными империями Китая. Со словом «маньчжуры» ясности уже меньше. Его использовали довольно часто, а иностранцы нередко ошибочно называли им вообще всех татар и монголов. Вскоре оно распространилось на династию, народ, а затем на весь северо-восточный регион, откуда они пришли. С ним связаны слова Маньчжоу-го и Маньчжурия, которых китайцы, впрочем, избегают, отчасти потому, что так называлось созданное японцами в этом регионе в XX веке марионеточное государство, отчасти потому, что они подразумевают некую обособленность той территории, которую китайцы сейчас считают просто северо-востоком Китая, имеющим не больше прав на отдельное название, чем, скажем, его юго-восток.
549
ГЛАВА 14
Происхождение этого слова также неясно. Вероятно, оно, как и родовое имя маньчжурского императорского клана Айсинь Гйоро1, имело чжурчжэньские корни. Обеспечение императорской династии блистательной и благородной родословной входило в обязанности ведомства ритуалов, и сама Цин, ставшая заложницей собственной имперской мифологии в XVIII веке, тоже уделяла этому вопросу немало внимания.
Обремененный далеко идущими притязаниями как ханьский император, монгольский великий хан и, благодаря далай-ламе, буддийский чакравартин и бодхисаттва, Хун Тайцзи отказался от чжур- чжэньской традиции делить управление с братьями или сыновьями; очевидно, подобным коллегиальным привычкам не было места в арсенале самодержца. Однако в случае несовершеннолетия правителя эта традиция совместного правления имела свои плюсы. Не исключая борьбы фракций, она поощряла сплоченность и преемственность целей, которых не было в прошлом у администрации, возглавляемой евнухами или сторонниками вдовствующих императриц. И как раз такой случай возник в 1б43г., когда накануне «великого предприятия» (так маньчжуры назвали свой переход в Китай) Хун Тайцзи умер, оставив преемником пятилетнего сына, императора Шуньчжи (пр. 1644-1661).
Таким образом, в июне 1644 г. предводитель маньчжуров, личность которого так озадачила население Пекина и который затем уверенно занял императорский дворец, на самом деле не был претендентом на престол. Это был князь Доргонь, один из многочисленных братьев Хун Тайцзи, исполнявший обязанности регента. Император Шуньчжи принял бразды правления только в 1652 г., когда ему исполнилось четырнадцать лет, и умер восемь лет спустя, оставив после себя еще одного несовершеннолетнего наследника. Последовал второй период регентства, закончившийся, когда новый несовершеннолетний правитель достиг совершеннолетия в 1669 г. Это был очень долго
1 Исходным вариантом кланового обозначения было Гиоро (Гьоро). Приставка Айсинь, добавленная Нурхаци, представляет собой лишь фонетическую передачу китайского Цзинь — наименования чжурчжэньской империи. Слово «маньчжур», возможно, было самоназванием той части чжурчжэней, которые встали во главе новой империи. В качестве этимологии предлагалась связь с почитаемым бодхисаттвой Манджушри (чьим перерождением считались маньчжурские императоры), но этот вариант выглядит искусственным.
550
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
правивший император Канси (пр. 1661-1722). К тому времени «великое предприятие» в основном успешно завершилось, и сопротивление власти Цин продолжалось лишь в таких отдаленных областях, как Юньнань и Тайвань. По сути, завоевание Китая маньчжурами (Цин) было осуществлено практически без участия действующего императора тесным кругом чжурчжэньско-маньчжурских командиров, главным образом сыновей и внуков Нурхаци, которым помогали, хотя и нередко мешали, бывшие генералы Мин и военачальники повстанцев.
Но даже если в силу всех этих причин действия Цин порой бывали несогласованными, их несогласованность меркла по сравнению с тем хаосом, в котором пребывали их противники, будь то лояли- сты Мин, повстанцы или любые другие группы заинтересованных лиц. Как отмечалось выше, в области Цзяннань в то время сложились предельно неблагоприятные для согласованного сопротивления условия. Интеллектуальное брожение, стихийные бедствия, экономический кризис, волнения среди ремесленников, разгул разбойников и пиратов, неуправляемые ополченцы и беснующиеся сборщики налогов — все словно сговорились разрушить социальную ткань. То же самое происходило на северо-западе, куда отступил Ли Цзычэн со своими повстанцами, в Сычуани, где сеяла хаос еще одна повстанческая армия, в районе Хэнань — Аньхой — Цзянсу, где был выведен из строя Великий канал, и на дальнем юге, где окончательно застопорилась торговля.
В основном маньчжурские войска и их сторонники, ранее поддерживавшие Мин, такие как генерал У Саньгуй, добились значительных успехов уже в первый год (1644-1645). Они вытеснили повстанческие силы Ли Цзычэна с северо-запада, закрепили за собой Шаньдун и бассейн Хуанхэ и продвинулись на юг вдоль линии Великого канала до города Янчжоу (недалеко от места впадения канала в Янцзы). Там примирительная политика маньчжуров — помилования, восстановление в должностях, отмена грабительских налогов и освобождение от некоторых других выплат — привлекла к ним ряд влиятельных местных деятелей, однако так и не смогла поколебать тех, кто стойко хранил верность только что созданному в Нанкине временному режиму Мин.
Власть в Нанкине — первый из четырех недолговечных режимов самозваной «Южной Мин» — точно так же не имела средств и не
551
ГЛАВА 14
могла привести к согласию придворные фракции, как ее предшественница в Пекине. Однако в лице Ши Кэфа, командовавшего в Янчжоу, ей достался военный предводитель безупречного характера и высоких принципов. Эти качества прославили его в веках, но, увы, они ничем не смогли помочь гибнущей империй. Нерешительная политика Нанкина и массовое дезертирство привели к тому, что Янчжоу вскоре попал в руки маньчжуров. Ши Кэфа погиб в кровавой битве, изящный портовый город был разграблен до основания, все его жители перебиты или обращены в рабство. Три недели спустя Нанкин сдался без боя, и первый из четырех режимов «Южной Мин» рухнул. С точки зрения маньчжуров захват Янчжоу сыграл полезную роль — вести о его судьбе значительно ослабили оппозицию. В то же время сопровождавшая его десятидневная бойня, «одно из самых ужасающих массовых убийств в истории Китая», и особенно судьба женщин Янчжоу, в больших подробностях описанная в источниках, шли первыми в списке всех последующих обвинений в адрес маньчжурских властей, а в героической фигуре Ши Кэфа минское сопротивление, не говоря уже о патриотическом потомстве, потрясенном судьбой последней коренной династии Китая, увидело своего первого великого мученика [8].
Падение Янчжоу, а затем Нанкина в июне 1645 г., казалось, давало хорошие шансы на быстрое завершение маньчжурского завоевания. Увы, всего через несколько дней после этого регент Доргонь и его соратники издали столь провокационный указ, что военные действия затянулись еще на несколько десятилетий. Среди прочих вполне обоснованных и в целом не вызывавших возражений требований всем мужчинам было приказано в знак лояльности империи Цин носить маньчжурское платье и прическу. На выполнение этого требования отводили десять дней, после чего каждую голову с небритой макушкой (одежду можно было найти, а на отращивание косы, очевидно, требовалось время) грозили снять с плеч.
После захвата Пекина был издан такой же указ, но его быстро отменили из-за бурных протестов, так что на этот раз маньчжуры могли догадаться, какой будет реакция населения. Но, как и другие неханьские народы, они придавали большое значение внешним, вещественным проявлениям. Выбритая макушка и длинная коса были не только знаком подчинения и полезным способом в неспокойные времена отличить друга от врага — они были уступкой новой
552
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
власти Китая. Бывших подданных Мин приглашали отождествить себя с новым режимом, присоединиться к нему в качестве участников «великого предприятия». Этот аспект маньчжурского правления неоднократно подчеркивался и ранее. В составе «знамен» было гораздо больше китайцев-ханьцев — военных поселенцев из Ляо- дуна и новобранцев из областей к югу от Великой Китайской стены, чем собственно чжурчжэней и монголов. Учебные заведения снова начали работу, возобновились экзамены, были восстановлены все атрибуты ханьской бюрократии. Император Канси сделал примирение с ханьскими подданными краеугольным камнем своего долгого правления. «Мы из одной семьи, — объявлял указ об одежде и прическах. — Император подобен отцу, люди подобны его сыновьям. Если отец и сыновья — одно тело, как они могут быть разными?» [9]
Но для гордого народа, осознававшего, что его культурное отличие от соседей строится в том числе на разнице повседневных обычаев, и в любом случае отрицательно относившегося к любым видам обезображивания, которое могло помешать предкам принять человека на том свете, принудительная стрижка была проклятием. Соблюдение этого указа покрывало несмываемым позором, а для конфуцианца позор по-прежнему оставался худшим наказанием. Многие предпочли самоубийство, другие выбрали жизнь изгнанников в горах или уединение в монастыре (буддийские монахи, в любом случае брившие голову, были освобождены от ношения косы), третьих отчаяние толкало на явно бесполезные жесты неповиновения. Указ не способствовал единству целей, а лишь добавил новый повод для сопротивления. Линн Струве любезно перечислила восставшие против указа социальные группы. Это были:
«..действующие или вышедшие в отставку гражданские и военные чиновники Мин, представители районных ямэней [административных учреждений] и полицейских отрядов, члены императорского клана Мин, местные землевладельцы и торговцы, главы политических и литературных обществ, регулярные военные подразделения Мин, местная морская и сухопутная милиция, свободные воины-одиночки, вооруженная помещичья гвардия, крестьянские отряды самообороны, боевые монахи, подпольные банды, тайные общества, повстанческие отряды крестьян-арендаторов и “рабов”, а также группы пиратов и разбойников» [10].
553
ГЛАВА 14
Борьба снова вспыхнула и не думала угасать. Еще несколько городов разделили судьбу Янчжоу, еще несколько временных режимов Мин — режима в Нанкине. В усмиренных районах снова поднимались восстания, неусмиренные области стремились к местной автономии. И ту и другую сторону неоднократно предавали союзники. Многие сторонники Мин, приведенные в ужас происходящим и возмущенные действиями своих товарищей, переходили на сторону Цин — это был своеобразный акт окончательного самопожертвования. Тех, кто стойко сопротивлялся, воспевали, но их слава шла рука об руку с чудовищной жестокостью — как оказалось, зверствовать могут не только маньчжурские «знамена».
Любопытной особенностью боевых действий в этот период стало широкое использование огнестрельного оружия. Эта война, по сути, была первой на китайской земле, в которой решающую роль сыграли пушки. Пушечные обстрелы фигурируют почти во всех рассказах современников о боевых действиях. Часто упоминаются мушкеты, хотя по-прежнему широко применялся арбалет. Один из немногих выживших в Янчжоу вспоминал, что защите города помешала недостаточная ширина верхней площадки городских стен — она оказалась слишком узкой для артиллерии. Поэтому, «чтобы расширить место для установки пушек», Ши Кэфа приказал соорудить платформы, опиравшиеся частично на стены, частично на крыши примыкавших к стене сзади домов. К сожалению, работы не успели окончить к тому моменту, когда маньчжурские «знамена» начали штурм города. Приблизившись к стенам под прикрытием интенсивного обстрела и колесных осадных машин (похожих на передвижные трапы для посадки на борт самолетов), маньчжуры стали перелезать через парапеты. У защитников не осталось выбора — им пришлось отступать на недостроенные орудийные платформы, и те обрушились под их весом. «Люди падали, как листья с дерева, из каждого десятка погибло восемь или девять человек». Другие перепрыгивали на крыши, которые тоже проламывались под ними, и падали вниз, «до полусмерти пугая жильцов; вскоре каждая комната в этих домах, от внешних приемных и гостиных до внутренних покоев, была заполнена солдатами и людьми, бежавшими со стены» [11].
Хотя стены Янчжоу явно не предназначались для артиллерии, новинкой она не была. Джозеф Нидэм относит первое появление артил¬
554
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
лерии в Китае примерно к 1250 г., а в Государственном историческом музее в Пекине есть пушка, на которой обозначена дата, эквивалентная 1332 г. Однако, если верить официальной истории Мин, первые действующие огнестрельные орудия были приобретены в 1410 г. императором Юнлэ для затянувшейся и в целом безуспешной войны против вьетнамцев; вероятно, пушки прибыли в Нанкин на борту одного из великих кораблей Чжэн Хэ. В Китае, так же как на Ближнем Востоке и в Европе, на развитие пушечного литья и поиски подходящей формулы взрывного заряда потребовалось некоторое время. В Китае порох был известен по крайней мере с IX века1, и это обеспечило большой мир ключевым компонентом огнестрельного оружия. Однако в дальнейшем турки-османы и европейцы добились более заметных успехов в освоении взрывного потенциала селитры и его применении в баллистических целях. Как отметил Маттео Риччи, в 1600 г. китайцы по-прежнему использовали порох «не столько для аркебуз, коих у них мало, или бомбард и прочей артиллерии, которых также не хватало, но для фейерверков... неизменно повергавших нас всех в изумление» [12].
Арсенал первых португальских судов, прибывших в Восточную Азию в 1517-1520 гг., составляли аркебузы (длинноствольные ружья на подставке, с фитильным замком), бомбарды (широко распространенные дульнозарядные пушки) и кулеврины (имеющие общие признаки и с теми и с другими). «Казнозарядные кулеврины, представленные при дворе Мин в 1522 г.», были подарком от португальцев. В 1540-х гг. португальские аркебузы приобрели японцы, которые скопировали и значительно улучшили их [13]. Жители китайского побережья приобрели их у японских пиратов, и в 15бО-х гг. аркебузы уже производили в Чжэцзяне. Чтобы победить пиратов, явившихся к Нанкину в 1555-1556 гг., один из командиров императора Ваньли по имени Юй Даю предложил оснастить все корабли пушками, заявив: «В морской битве нет хитростей: сторона, которая имеет больше кораблей, поражает сторону, у которой меньше кораблей, сторона, у которой больше оружия, побеждает сторону, у которой меньше оружия» [ 14]. В отношении огнестрельного оружия (так же, как и в других научных областях — астрономии, картографии, математике и медицине) китайский интерес к чужеземным технологиям объяснялся из¬
1 Согласно другой точке зрения, с XI века.
555
ГЛАВА 14
начально неплохим знакомством с их основными принципами, а не полным их незнанием, и если освоение этих технологий порой шло медленно и неэффективно, винить в этом следует нерешительность властей, а не военных, таких как Юй Даю.
Протеже Юй Даю по имени Ци Цзигуан был переведен из морского патруля в Чжэцзяне на Великую стену к северу от Пекина, и там с 1568 по 1582 г. занимался внедрением полевой артиллерии, используя пушки фоланцзи (то есть farangji — «франкские», или «иностранные»). По виду это были «скорее крупнокалиберные винтовки, чем пушки» — их устанавливали попарно на запряженных мулами повозках. Повозки имели боковые экраны с прорезями; без мулов их можно было выставлять рядами, формируя непрерывное заграждение. Как колесницы в период Сражающихся царств, каждую повозку с пушками сопровождала пехота — десять человек составляли артиллерийскую команду, и еще десять, четверо из которых были вооружены мушкетами, «создавали вокруг повозки штурмовую группу» [15].
Очевидно, Ци Цзигуан много думал над этими нововведениями, хотя насколько их удалось опробовать в деле, он не говорит. Он не слишком распространяется о загадочных отношениях между самой стеной и артиллерией, хотя упоминает стоявшие на стене колоссальные пушки. Одна такая пушка, отлитая из бронзы, с надписью «Изготовлена бюро вооружений в [1574 г.]», обнаружена близ Хуанъягуаня (проездные ворота на дороге из Пекина в Чэндэ). Период службы Ци Цзигуана на стене совпал с периодом, который Артур Уолдрон назвал «эпохой расцвета стеностроительства». Литературные источники и надписи подтверждают, что Ци Цзигуан построил 1200 сторожевых вышек и провел «крупную реконструкцию» участка Великой стены от Пекина до Шанхайгуаня [16].
Однако эти работы (результат которых сохранился до наших дней) ни один источник не связывает с артиллерией. Неясно, была ли стена прежде всего платформой и основной линией для установки пушек, или обеспечивала более надежную защиту от обстрела, или то и другое одновременно. На иллюстрациях, изображающих оборону Ляояна (в Ляодуне) в 1620-х гг., видно, что фоланцзи стоят перед стенами. Если предположить, что художник точно передал масштаб, площадка наверху стены, как и в Янчжоу, была для них явно слишком узкой. Реконструкция Великой стены и строительство множества но¬
556
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
вых башен вполне могли быть вызваны характеристиками и требованиями новых орудий.
За стеной чжурчжэни-маньчжуры также быстро осознали важность огнестрельных орудий. Захватив пушки и фаланцзи Мин, Нурхаци распорядился, чтобы половина всех прибывающих в «знамена» новобранцев из Ляодуна училась стрелять из мушкетов и обращаться с пушками. Ханьских солдат из Ляодуна (это были в основном перебежчики или пленники) Хун Тайцзи активно поощрял осваивать артиллерийское дело. Тем временем ко двору Мин по приглашению сподвижников Маттео Риччи прибыли португальские оружейники и несколько крупнокалиберных пушек-хунъи, длиной 6 метров и весом 1800 килограммов, изготовленных в Макао. Маньчжуры тоже не сидели сложа руки: Хун Тайцзи распорядился открыть производство хунъи и других крупнокалиберных пушек в Цзиньчжоу, к западу от реки Ляохэ. Благодаря развернувшейся гонке вооружений Мин и маньчжуры в 1бЗО-х гг. получили достаточно оружия. Маньчжуры овладели искусством осады и научились координировать на поле боя подвижную кавалерию с огневой мощью артиллерии. Мин пользовалась услугами иезуитского священника Адама Шалля фон Белла, открывшего в Пекине литейный завод, где, по некоторым сведениям, изготовили около пятисот легких и маневренных пушек за несколько месяцев до капитуляции города перед войсками Ли Цзычэна, а затем регента Доргоня.
Может быть, именно эти легкие пушки, которые удобнее было транспортировать и заряжать и которые, вероятно, отличались более высокой точностью стрельбы, сыграли решающую роль в успехе маньчжурских «знамен» в подавлении сопротивления Мин, особенно в заболоченных районах Цзяннани и Сычуани, и в холмах юга и юго- запада. Диапазон и огневая мощь артиллерии компенсировали в этой местности те затруднения, с которыми традиционно сталкивались конные армии севера. Из полевых орудий можно было эффективно обстрелять укрепления на холмах, куда не могла подняться ни одна лошадь, а также расположенные среди заливных рисовых полей города и деревни. Почти все крупные города, стоявшие на берегах рек, были также уязвимы для обстрела с воды.
Если Мин обращалась за помощью в вопросах артиллерии к отцу Шаллю, то маньчжуры, когда Шалль умер в 1665 г., оставили в Пекине еще одного иезуита — бельгийца Фердинанда Вербиста. Он, как
557
ГЛАВА 14
и Шалль, сначала прославился как астроном и создатель точных приборов и стал одним из ближайших советников императора Канси. Вербист сопровождал императора в официальных поездках и был одним из первых европейцев, увидевших часть реконструированной Великой Китайской стены. Она превзошла самые смелые его ожидания, а при условии, что стена представляла собой непрерывное сооружение длиной в тысячи километров и была оснащена на всем протяжении всем необходимым, Вербист искренне назвал ее «феноменальной». «Семь чудес света, собранные вместе, не смогли бы сравниться с этим сооружением», — провозгласил он и первым ввел в оборот анахроническое сравнение, которое с тех пор повторял почти каждый увидевший стену [ 17].
Первые пушки Вербиста была выпущены в 1670-х гг. специально для военных действий в холмистой местности. Их опробовали в бою на заключительном этапе маньчжурского завоевания, а вслед за ними вскоре появились и другие орудия. «Примерно из девятисот артиллерийских орудий, изготовленных в правление императора Канси (1661-172 2), более пятисот были отлиты по указаниям [Вербиста] или на основе его чертежей» [18]. Помимо полевых орудий, эффективных на расстоянии до 300 м, среди них были пушки весом до 3,5 тонны, которые стреляли ядрами весом до 10 килограммов. Обладая столь грозным арсеналом, а также лучшей кавалерией в Азии и почти неограниченной пехотой, Цин имела в своем распоряжении военную машину, способную подавить не только внутреннюю оппозицию.
ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ
Знаменитые три императора Цин — те, что правили в периоды Канси (1661-1722), Юнчжэн (1723-1735) и Цяньлун (1723-1795), — занимали трон до кануна XIX века. Способные, в целом добросовестные, порой своенравные, они обеспечили империи беспрецедентную целостность и сравнительную устойчивость. У монархий в других странах дела в этот период шли не очень хорошо. В Индии, уступившей иностранному завоеванию, сменилось тринадцать Великих Моголов, В Британии семь королей, из них три Георга, пытались бороться с оковами конституционной монархии. Во Франции пять королей Людовиков из последних сил тянули свой старый порядок
558
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
(ancien regime), пока его не опрокинула Великая французская революция. Цинский Китай, как Россия при Романовых, нарушил эту тенденцию. Однажды взяв власть, три императора практически безраздельно правили самым многочисленным и сложным обществом в мире. Китайская культура, насколько иностранцам удавалось ее понять, повсеместно вызывала восхищение, китайские товары были предметом гордости. Повальное увлечение шинуазри пронеслось по всем салонам Европы. Шелковые ткани называли «шантунг» (Шаньдун), хлопковые ткани — «нанкин» (Нанкин), сине-белая посуда из Цзиндэчжэня могла стоять где-нибудь в Лиможе или в Лимерике на одной полке с жестяной коробкой чайного листа из провинции Фуцзянь.
В Европе эпохи Просвещения неоконфуцианское самосозерцание было встречено не презрением, а восхищением. Философ Лейбниц внимательно изучил «Книгу перемен» и «без труда обнаружил теистическое чувство божественного в учении о ли философа Чжу Си» [19]. Вольтер превозносил общество, не знающее церкви и духовенства, но свято блюдущее нравственные ценности. Устройство Китая он называл «лучшим в мире» и писал стихи в честь императора Цяньлуна. Доктор Джонсон попросту предложил скептически настроенному Босуэллу посетить Великую Китайскую стену; даже если он никогда не вернется, будущие Босуэллы будут прославлены как «дети человека, который отправился в Китай посмотреть на Стену», — заявил доктор [20].
Те, кто в самом деле попадал в Китай, восхищались процветанием империи и превозносили ее разумное правительство и трудолюбивый и законопослушный народ. Некоторые с облегчением отмечали официальное нежелание Китая вступать в конкурентную борьбу за свою долю в зарубежной торговле и мировых природных ресурсах. Только не имевшие выхода к морю соседи Китая падали духом при мысли о том, что это производительное общество находится в распоряжении по своей сути внутреннеазиатского режима с континентальными претензиями.
По иронии судьбы, как только Великая стена (в том виде, как мы ее знаем) была построена, она оказалась ненужной. Вместо того чтобы определять и защищать границы империи, что предположительно входило в планы Мин, теперь она делила империю пополам. Задолго до 1б44г., когда маньчжуры-чжурчжэни вошли в Шанхайгуань по
559
ГЛАВА 14
приглашению У Саньгуя, лежавшие за стеной земли Маньчжурии и Внутренней Монголии уже составляли неотъемлемую часть маньчжурской империи. После завоевания Китая ситуация не изменилась, и это увеличило размеры Поднебесной примерно на десять градусов широты, или на тысячу километров. Стена, блуждающая по территории теперь уже средней части империи Цин, выглядела не столько пограничной фортификацией, сколько внутренним архитектурным излишеством.
Спорно, но не менее правдоподобно, что стена должна уйти в себя. Даже в эпоху Мин территория империи не заканчивалась у стены — например, провинция Ляодун простиралась на сотни километров за стеной (пока Нурхаци не начал понемногу от нее отщипывать отдельные местности). Стена служила средством связи и снабжения, и, как и предыдущие стены, имела цели, не связанные с обороной. Таким образом, она могла, вопреки широко распространенным предположениям, не являть собой монументальное доказательство мирных намерений китайских правителей или затворнических тенденций китайской культуры. На самом деле она могла предназначаться как раз для дальних походов, которые Цин, воспользовавшись арсеналами и зернохранилищами стены, а также сетью взаимосвязанных дорог и сигнальных вышек, собиралась развернуть во Внутренней Азии.
Но сначала Цин следовало потушить огни сопротивления Мин на юге Китая. В 1651 г. последний из четырех режимов «Южной Мин» был изгнан из своего убежища недалеко от вьетнамской границы в гу- анси. Самозваный император Мин, внук императора Ваньли, бежал на запад в Куньмин в Юньнани, где ему обещала поддержку дважды мятежная армия (сначала восставшая против Мин, теперь бросившая вызов Цин). Чтобы устранить этот очаг неповиновения, три военных корпуса Цин сошлись в Юньнани в 1658 г. Правитель Южной Мин и его союзники дали несколько отчаянных арьергардных боев, отступая по Шанскому нагорью от Меконга до Салуина и Иравади на бирманской территории. При этом они в точности предвосхитили путь, которым спустя почти три столетия прошел националистический Гоминьдан генерала Чан Кайши, бежавший от коммунистической Народно-освободительной армии Китая. Половина Гоминьдана решила отсидеться в Бирме и соседнем Лаосе, занимаясь производством наркотиков, другая половина на неопределенный срок задержалась
560
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
на острове Тайвань1. При этом они также следовали по следам Мин, поскольку в 1661 г. те лоялисты, которые пропустили исход в Бирму, переплыли на кораблях через Тайваньский пролив.
Тайвань в то время, как и многие другие азиатские земли, принадлежал голландцам. Лишив португальцев индонезийской империи пряностей и крупной портовой цитадели в Малакке, Голландская Ост-Индская компания в 1б40-х гг. оказалась самой влиятельной европейской силой в восточных водах. Но она не смогла убедить Мин
1 В целом, вероятно, вряд ли стоит сравнивать как равновеликие события государственность Китайской Республики на Тайване, где, несмотря на сложный международный статус и угрозу вторжения с материка, удалось построить демократическое и вполне процветающее общество, и эпизод, пусть и довольно протяженный, гражданской войны в Китае. В конце 1949 — начале 1950 г. го- миньдановские части 8-й армии НРА под командой генерала Ли Ми под давлением НОАК начали переход бирманской границы. Вначале группировка была невелика, но за счет беженцев из Юньнани и мобилизации местных жителей силы Ли Ми быстро росли. Группировка получила название Юньнаньская антикоммунистическая армия национального спасения. В мае 1951 г. Ли Ми, с немалой поддержкой США и Тайваня, удалось собрать двадцатитысячную армию и вторгнуться в Юньнань, но вскоре он был вынужден отступить перед превосходящими силами противника. Неудачей окончились и схожие попытки летом 1951 и 1952 гг. После этого Ли Ми прийял решение закрепиться в регионе. Его люди полностью вытеснили с севера Бирмы бирманские власти и организовали военное государство с населением около 1 млн человек. Основой экономики этого государства было традиционное для региона (со времен британского владычества) выращивание опиумного мака и производство опиума, который в основном отправлялся в Таиланд. В марте бирманское правительство подало официальный протест в ООН, и весной 1953 г. гоминьдановские войска были эвакуированы на Тайвань. 30 мая 1954 г. Ли Ми заявил об официальном роспуске своей армии. Впрочем, около 6 тысяч бойцов, вооруженных самым современным оружием, остались в регионе: их базы были уничтожены только в 1960-1961 гг. совместными усилиями бирманской армии и НОАК Весной 1961 г. 4,4 тысячи гоминьдановских солдат были эвакуированы на Тайвань. Несколько сотен оставшихся (от 450 до 700) отступили в Таиланд и Лаос. В Таиланде китайские партизаны выполняли задания правительства по борьбе с местными коммунистическими формированиями и продолжали заниматься производством и торговлей опиумом. Практически они играли решающую роль в экономике так называемого Золотого треугольника — главного района производства наркотиков в Юго-Восточной Азии. В конце 1980-х гг. им предоставили таиландское гражданство. Кстати, производство наркотиков, как самый прибыльный бизнес, во время гражданской войны увлекало и Коммунистическую партию Китая — именно на производстве опиума (помимо советской помощи) держался Особый район Китая со столицей в Яньани — главная база КПК с 1935 по 1945 г.
561
ГЛАВА 14
в необходимости основать постоянную торговую базу на побережье Китая, а в 1622 г. — выгнать португальцев из Макао. Вместо этого голландским торговцам приходилось довольствоваться факториями на Пескадорских островах между провинцией Фуцзянь и Тайванем, а с 1624 г. на юго-западном побережье Тайваня. Тайвань, или Формоза, как его называли португальцы, в то время не был провинцией Китая. Остров с редким неханьским населением, таким же недружелюбным, как местный климат, формально признавал превосходство Мин, но привлекал поселенцев не больше, чем соседние острова Рюкю. Однако ситуация постепенно менялась. Предприимчивая семья Чжэн из Сямыня (Амой) в провинции Фуцзянь — отчасти пираты, отчасти торговцы, затем чиновники Мин и в конце концов властители побережья — использовали остров в качестве военно-морской базы и поддерживали возникшее там голландское поселение.
Голландская Ост-Индская компания имела почти полную монополию на морскую торговлю с Юго-Восточной Азией и Японией (отправка грузов китайскими и японскими кораблями в то время была по разным причинам запрещена). Это был ценный торговый партнер. Но если семья Чжэн частью своего состояния была обязана голландцам, то своим статусом она обязана Мин. Чжэн Чэнгун (1624-1662), представитель второго поколения семьи, более известный как Кок- синга, родился от японской матери в Хирадо, недалеко от Нагасаки, где находилось имение семьи Чжэн, но получил образование в Нанкине. Первый самозваный правитель «Южной Мин» осыпал его титулами и милостями. Между тем его отец, занимавший высокие должности при Мин, склонился на сторону Цин. Клан Чжэн был ценным союзником: к 1б40-м гг. в его распоряжении находилось множество кораблей, и его поддерживали десятки, если не сотни тысяч сторонников.
Когда Нанкин пал перед Цин в 1645 г., Чжэн Чэнгун вернулся в Фуцзянь. Взяв на себя командование семейным флотом, он поклялся защищать Мин и в течение десяти лет властвовал над всеми прибрежными поселениями и островами в Гуандуне, Фуцзяни и Чжэцзяне. На море он легко мог поспорить с любыми силами, которые выставляла против него Цин; от Гонконга до Шанхая (в современных топонимах) все прибрежные воды принадлежали Чжэну. Опьяненный успехом, в 1659 г. он поднялся по Янцзы, вынашивая смелый план вернуть Нанкин империи Мин. Для этого следовало сразиться со «знаменами»
562
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
Цин и их пушками на суше. Чжэн Чэнгун с нетерпением ждал этого боя. Он дал Цин достаточно времени, чтобы подготовиться и собрать грозную армию; одна великая битва должна была раз и навсегда решить судьбу Южного Китая. Действительно, так и произошло. Наголову разгромленный Чжэн Чэнгун ускользнул обратно вниз по реке и вместе со своим флотом, в основном не пострадавшим, отправился домой в Фуцзянь.
В 1660 г. император Цин (это был недолго правивший Шуньчжи, чье совершеннолетие на время прервало период регентства) послал за ним военный флот. Он не имел успеха — на море Чжэн по-прежнему оставался непобедимым. Однако новый указ Цин, целью которого было лишить Чжэн Чэнгуна источника снабжения, имел серьезные последствия. Вся береговая линия была объявлена запретной зоной; все поля и рыболовные порты, деревни и поселения в пределах пятидесяти километров от берега опустели, местных жителей переселили в другие районы, каботажные перевозки запретили. Запрет утратил силу через пару десятилетий, и сомнительно, что он в самом деле действовал на всем побережье «от Кантона [Гуанчжоу] на юге до северного прибрежного района близ Пекина». Но это был вполне типичный для чуждого и континентального по своей сути режима шаг, и впоследствии маньчжуров неоднократно обвиняли в том, что они ослабили морской потенциал Китая и спровоцировали разрыв социальных связей. Больше всего пострадала Фуцзянь: там, по сообщениям современников, прибрежная полоса совершенно обезлюдела, жилища стояли заброшенными, и «пустовали даже гнезда ласточек» [21].
Именно эта мера, а также приближение сухопутных войск Цин в 1661 г. вызвали первую большую волну миграции с материка на Тайвань. Это вынудило и самого Чжэн Чэнгуна переехать на остров. Мешали этому только голландцы в своем форте на Тайване. Голландская компания все еще питала надежду основать на материке концессию наподобие португальской концессии в Макао и выступала на стороне Цин, поэтому вынуждена была помешать продвижению армады Чжэн Чэнгуна. В Тайваньском проливе произошла эпическая битва, которая затем переместилась на территорию острова, а потом сменилась долгой осадой голландской цитадели — форта Зеландия. Силы Чжэн Чэнгуна в конечном счете восторжествовали, голландцы уплыли. После этого Чжэн Чэнгуна славили не только как бесстрашного мор¬
563
ГЛАВА 14
ского волка и преданного сторонника Мин — этот подвиг принес ему полубожественный статус: он стал первым патриотом, который нанес поражение европейским захватчикам и изгнал их с территории, которую с гордостью можно было назвать китайской.
В следующем году Чжэн Чэнгун умер. Ему еще не было сорока лет, но он, вероятно, страдал психическим расстройством, и его состояние резко ухудшилось из-за перенесенных потрясений. Отступление на Тайвань пошатнуло его душевное равновесие, но окончательный удар нанесли новости из далекой Юньнани. Оттуда сообщили, что генерал У Саньгуй, который четырнадцать лет назад разгромил Ли Цзычэна в Шанхайгуани и пригласил в страну маньчжуров, привел армию Цин в Бирму, добрался до столицы Авы (около Мандалая), захватил последнего самозванного правителя Мин и по приказу из Пекина удавил его. Чжэн Чэнгун был так потрясен горем, что ему едва хватило сил достать записку, адресованную одному из его предков императором Хунъу, и, сжимая в руке драгоценный подарок от первого императора Мин, «последний защитник Светлой империи [то есть Мин] рухнул без чувств и испустил дух»1 [22].
Однако на этом великая история рода Чжэн не закончилась. Тайваньское наследство перешло к сыну Чжэн Чэнгуна, но поскольку он был скорее королем торговли, чем верным вассалом Мин и тем более китайским патриотом, он подружился с первыми торговцами Британской Ост-Индской компании. В 1683 г. его флот был окончательно потоплен силами Цин, которыми командовал один из старых боевых товарищей его отца. Поражение Чжэнов означало, что Тайвань наконец может войти в состав империи. К ханьскому населению присоединились еще насколько волн миграции после восстания в 1721 г., и в течение двух столетий остров оставался префектурой, прикрепленной к провинции Фуцзянь. К тому времени, когда в 1898 г. его вырвали из рук Цин японцы, там было множество храмов Чжэн Чэнгуна. Более того, даже Цин в конце концов признала Чжэн Чэнгуна «совершенным образцом верности». У японцев тем более не было с этим проблем: Чжэн родился около Нагасаки, его мать была японкой, и они тоже чтили его память. Естественно, националисты Гоминьдана про¬
1 Существует и менее поэтическая версия, согласно которой Коксингу хватил удар, когда он узнал, что у его молодой наложницы связь с его сыном и наследником.
564
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
славляли его как своего родоначальника на Тайване, коммунисты воспевали его как человека, сделавшего Тайвань неотъемлемой частью Китая, и те и другие превозносили его победы в борьбе с западными посягательствами. Не только при жизни, но и после смерти мятежный Чжэн Чэнгун, он же Коксинга, стал примером для многих.
Чего нельзя сказать о генерале У Саньгуе. Хотя его преданность Цин была оценена по достоинству, в конце жизни он покрыл себя позором. Став героем дня после уничтожения в Бирме последнего самозванного правителя Мин, генерал У был вознагражден почти неограниченной властью в Юньнани и Гуйчжоу и пользовался значительным влиянием в соседних провинциях. Если Чжэн Чэнгун контролировал юго-восточные окраины империи от имени Мин, У Саньгуй контролировал юго-западные окраины от имени Цин. Он монополизировал налоговые поступления и раздачу должностей, содержал грозную армию, завел торговые отношения с Тибетом, разрабатывал богатые залежи полезных ископаемых в Юньнани (особенно медные месторождения) и вел царский образ жизни. Он и два других «князя-дан- ника»1 в провинциях Гуандун и Фуцзянь, по сути, истощали империю, выбивая для себя наследственные имения. Однако любая попытка избавиться от них привела бы к вспышке сопротивления Цин на юге.
Когда император Канси в 1669 г. принял бразды правления, вместе с ними он унаследовал и эту дилемму. Четыре года спустя У Саньгуй и еще один князь-данник обратились к нему с прошением об отставке, и император, отвергнув советы своих министров, любезно согласился удовлетворить их просьбу. Однако этот, по-видимому, вполне благонамеренный ответ произвел эффект разорвавшейся бомбы: в действительности просящие вовсе не желали уходить на покой, они ожидали, что молодой император откажет им в просьбе и подтвердит их полномочия, предпочтительно добавив к ним возможность передать все земли и титулы по наследству2. Вместо этого их действительно отправили в отставку, даже опозорили. Все три южных княжества восстали. В 1674 г. их армии сошлись на Янцзы: города
1 Так именовали крупнейших китайских полководцев на маньчжурской службе, которым в управление были переданы недавно завоеванные провинции юга Китая. Они обладали почти неограниченной властью, в частности могли иметь собственные армии.
2 Ряд исследователей полагают, что никакого прошения об отставке не было: она оказалась хитроумной провокацией императора Канси.
565
ГЛАВА 14
брали штурмом, косы срезали. Если бы предводителям этого мятежа удалось скоординировать свои действия, они могли бы даже отделить юг от севера, как во времена Сун. Но поскольку все три князя изначально перешли на сторону Цин, теперь их призывы изгнать Цин вызывали недоумение даже у сторонников Мин. У Саньгуй основал собственную империю — еще одну Чжоу — и продолжал упорствовать в своем неповиновении до самой смерти в 1678 г. Его мятежные коллеги к тому времени сдались. Только Юньнань держалась под командованием его внука. Когда в 1683 г. загнанный в Куньмине в ловушку армией Цин внук покончил с собой, восстание закончилось.
Немало ободренный этим успехом и переполненный энергией юный император Канси еще больше укрепил свое положение среди завоеванных подданных, отменив некоторые откровенно промань- чжурские меры, введенные его предшественниками-регентами. Личным примером и покровительством он стремился привлечь на службу знаменитых ученых, в основном родом с юга, которые все еще презирали маньчжуров и ностальгически вспоминали Мин. Некоторым из них поручили работать над антологиями, словарями, географическими справочниками и другими гигантскими сборниками. Их труды предвосхитили появление двух столпов цинской науки: одним из них была заказанная императором Канси огромная энциклопедия («безусловно, одна из самых больших книг в истории мира»)1, другим — заказанная императором Цяньлуном всеобъемлющая антология всех исторических, литературных и иных произведений, когда-либо написанных на китайском языке; этот труд, насчитывавший 36 тысяч рукописных томов, был слишком обширным для печати2 [23]. Другие светила науки, соблазненные приглашением на закрытый экзамен, вошли в избранную группу ученых, работавших над официальной историей Мин. Хотя некоторые ученые предпочитали составлять историю Мин (особенно ее злополучных преемников, «Южной
1 Имеется в виду «гуцзинь тушу цзичэн» («Полное собрание древних и современных рисунков и книг») из 10 тыс. цзюаней (глав). Также стоит вспомнить составленный под патронажем императора «Канси цзыдянь» «Свод иероглифов, [составленный в годы эры правления под девизом] Канси» — важнейший и до сих пор востребованный словарь, в который вошло более 47 тыс. знаков, сгруппированных по 214 ключам. Эта система используется и поныне.
2 Это «Полное [собрание] книг [всех] четырех хранилищ» («Сыку цю- аныиу») — циклопическая антология, во время составления которой преследовались задачи всеимперской цензуры книг.
566
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
Мин») в частном порядке и хотя любая научная деятельность, имевшая малейшие признаки крамолы, вела к суровым наказаниям, эти меры, а также регулярный набор на гражданскую службу ободрили многих представителей ханьской китайской знати.
ДЖУНГАРИЯ, СИНЬЦЗЯН И ТИБЕТ
Своих неханьских сторонников, маньчжуров и монголов император Канси располагал к себе образом жизни — стрельбой из лука, охотой и путешествиями — и решением далекоидущих политических задач. Самой крупной среди них была набиравшая силу новая конфедерация ойратов, которых Цин называла «монголами». Разместившись на северо-западе современной Монголии и соседнего северного Синьцзяна и захватив обширные территории для выпаса скота и земледелия, часть этой конфедерации, джунгары, угрожала отделить центральных и восточных монголов, которые могли бы присоединиться к маньчжурам. Джунгары стали силой, с которой приходилось считаться. Притязания на общемонгольское наследие Чингисхана они сочетали с божественно санкционированным суверенитетом и легитимностью, распространенной на них духовными лидерами Тибета как на преданных верующих и покровителей. Ха- ризматичный предводитель джунгаров хан Галдан (пр. 1671-1697) сам был послушником в одном из тибетских монастырей. Таким образом, угроза, хотя и исходила с северо-запада, затрагивала отношения с Тибетом и приграничные провинции Ганьсу, Цинхай, Сычуань и Юньнань. Далай-лама был с самого начала замешан в расширении Джунгарского государства. Отношения Тибета с У Саньгуем вызвали подозрения Цин в 1б70-х гг., отказ Тибета сотрудничать в подавлении юньнаньского режима У Саньгуя тоже не прошел незамеченным. Но прежде чем приступить к выполнению своего хитроумного плана, император Канси счел нужным обезопасить свой северо-восточный фланг, а для этого следовало уладить дела с Московским царством.
Движимая надеждами на золото, а также более вероятную прибыль от торговли мехами, русская экспансия в Сибири была такой же хищной и результативной, как экспансия морских держав Европы в Северной и Южной Америке и на Востоке. Перейдя Урал в 1579 г.
567
ГЛАВА 14
и уничтожив единственную организованную силу сопротивления в Сибири, купцы-московиты в сопровождении казачьих отрядов двинулись на восток, основали крепости Тобольск (1587), Томск (1604), Якутск (1632), Охотск на Тихоокеанском побережье (1647) и Иркутск (1661). В основном торговцы-поселенцы держались к северу от степи. Как и в Северной Америке, путь меховой торговли пролегал в холодных широтах, где обширные речные системы обеспечивали легкое передвижение на лодках или на санях, иногда с короткими переходами по суше. Но Иркутск находился рядом с озером Байкал на северном краю Монголии. Появление русских первопроходцев насторожило монголов, а затем маньчжуров, когда в середине XVII века русские экспедиции начали появляться в бассейне Амура (Хэйлунцзян) в Северной Маньчжурии. Первое столкновение между Цин и царскими войсками произошло около Амура в 1652 г., в тот период, когда Цин подавляла последний из четырех режимов «Южной Мин». Шесть лет спустя русское войско было изгнано с большими потерями из Албазина, поселения к северу от Амура. Однако позже русские вернулись и осваивали окрестности на всем протяжении 1670-х гг., пока император Канси отвлекся на восстание У Саньгуя и других «князей- данников».
Обоюдное недопонимание упорно мешало ранним русско-маньчжурским контактам. Русские, вероятно, не осознавали, что встреченные ими на Амуре племена чжурчжэней были «дикими» братьями маньчжурских императоров в Пекине. Маньчжуры, по-видимому, сначала тоже не поняли, что их противники на далеком северо-востоке являются подданными империи, из которой в Китай уже приходили более традиционными торговыми путями купцы и дипломаты. Русская миссия Ивана Петлина 1618 г. при дворе Мин упредила португальцев и голландцев, став первым посольством европейской державы, которое дошло до Пекина и благополучно вернулось домой. Увы, послы не захватили с собой китайского переводчика, поэтому письмо от императора Ваньли, приглашавшего новые посольства с «данью», лежало непрочитанным почти шестьдесят лет. Другие русские посольства коммерческого характера в 1650-х и 1660-х гг. позволили установить, что в Китае имеется отличный рынок сбыта мехов. Возможность обменивать меха на шелк, серебро и особенно зерно, которого хронически не хватало в Сибири, крайне обрадовала русских.
568
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
Маньчжурской Цин, обеспокоенной наползанием Русского царства на северо-восточную границу, не слишком нравилось, что оно поддерживает, снабжает и дает убежище джунгарским монголам хана Галдана. Но как только Цин осознала, что Россия заинтересована прежде всего в торговле, возникли основания для соглашения. Еще одно сражение за удаленную крепость Албазин в середине 1б80-х гг. прояснило обстановку, и в 1689 г. делегации с обеих сторон встретились в Нерчинске на реке Шилке (приток Амура). В состав цинской делегации вошли два иезуита, преемники Вербиста в Пекине, в состав русской делегации — имевший классическое образование поляк. В силу этих причин общим языком переговоров и окончательной версии Нерчинского договора служила латынь. Ее использование, однако, наложило отпечаток не только на протокол, но и на понимание происходящего. Кроме латинской были составлены маньчжурская, монгольская, китайская и русская версии договора. Каждая из них не вызывала возражений у тех, кто мог ее прочитать, однако приоритет латыни — нейтрального и непонятного большинству участников языка — означал, что требование Русского царства о равенстве статуса и отказ Цин его признать похоронены в изощренных оборотах абсолютных аблативов. Нер- чинский договор иногда считают первым «неравным договором» императорского Китая, однако те, кто его подписывал, его таковым не считали, и китайскую сторону он не ставил в неблагоприятное положение.
Тем не менее для Китая этот договор стал важным новым шагом. Поскольку он косвенным образом признавал существование другого суверенного государства, что противоречило традиционной концепции универсального мандата, лежавшего в основе всех соглашений о мире через родство и торговле под видом дани, акт его подписания, безусловно, составлял «самую значительную уступку со стороны Цин»1 [24]. Другие положения, касавшиеся торговых миссий, демаркации границ, выдачи лиц, скрывавшихся от правосудия, и подразумеваемого нейтралитета в отношении внутренних дел друг
1 Судя по тому, что затем полтора века отношениями с Россией ведала Ли- фаньюань -Палата по делам вассальных территорий, — также отвечавшая за контакты с монголами и иными народами, маньчжуры, по крайней мере вначале, не слишком отличали русских от окраинных племен, желавших на выгодных условиях продавать империи Цин меха в обмен на чай и шелк.
569
ГЛАВА 14
ПРАВИТЕЛИ МАНЬЧЖУРСКОЙ ДИНАСТИИ ЦИН в 1620-1820 гг.
1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820
Т£>и императора
друга, были выгодны для обеих сторон. Русские отказались от претензий на Амур в обмен на торговый доступ к империи Цинн; Цин получила безопасную границу и нейтрального соседа. Дальнейшие уточнения, особенно о размерах и частоте русских торговых миссий и согласовании русско-монгольской границы, потребовали составления еще нескольких протоколов, а затем нового соглашения, подписанного в Кяхте в 1727-1728 гг. Кроме того, договорились о строительстве Русской православной церкви и создании Школы русского языка в Пекине1.0 прагматичном подходе обеих сторон говорит то, что потенциально взрывоопасные вопросы, такие как обязанность простираться и падать ниц перед императором или называть дипломатические подарки данью, ни разу не помешали ведению переговоров. Это резко контрастировало с той раздражительностью и враждебностью, которую эти требования вызывали у держав, стремившихся наладить морскую торговлю с Китаем. В 1950-е гг. братское единство СССР и Китайской Народной Республики во многом напоминало гармоничные отношения ранней эпохи русско-китайского общения.
Обезопасив северную границу, император Канси мог без помех преследовать хана Галдана и джунгаров. Это начинание раскрыло в нем как лучшие, так и худшие качества. В основном благодаря сохранившимся письмам, многие из которых были написаны в джунгарских походах, нам больше известно о характере императора Канси, чем о любом предыдущем правителе Китая. Он представляется вполне благожелательным человеком, который, несомненно, оставил бы о себе более благоприятное впечатление, если бы не позднейшие официальные восхваления его великих подвигов. Энер¬
1 Школа русского языка была открыта в 1708 г. по императорскому приказу для изучения маньчжурами и китайцами нового наречия.
570
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
гичный, решительный, ненасытно любознательный и преданный своей растущей семье, он искренне заботился о благополучии войск и ко многому проявлял живой интерес. Он горячо увлекался охотой, и некоторые его письма больше напоминают записную книжку охотника. Судя по всему, хана Галдана он тоже считал своей личной добычей, своим призовым зверем и готов был следовать за ним до края земли. Охота на него и его преемников превратилась в одержимость и продолжалась вопреки огромным затратам, иногда вопреки здравому смыслу и в ущерб региональному порядку. Как и ханьский У-ди или танский Тай-цзун, император Канси не умел вовремя остановиться, но поскольку ему в основном сопутствовал успех, его интервенция во Внутреннюю Азию установила стандарты, которым его цинским преемникам волей-неволей приходилось соответствовать.
С 1690 до 1760 г. три императора вели против джунгаров опустошительно долгую, периодически затихавшую войну на истощение. В этот сложный многоуровневый конфликт были вовлечены не только многочисленные племенные объединения Монголии, но и другие народы Внутренней Азии. В результате территория империи Цин удвоилась и очертаниями приблизилась к современному Китаю. Неоднократные вторжения в Западную Монголию и Северный Синьцзян, затем Тибет, Цинхай, Восточный Казахстан и Южный Синьцзян представляли собой настоящий триумф логистики. Они требовали координации и снабжения через тысячи километров крайне неблагоприятной местности множества нерегулярных союзников, а также крупных армий, состоявших из разноязыких «знамен». Некоторые армии шли непосредственно из Хэбэя и Шаньси через Внутреннюю Монголию, другие выступили через пустыню Гоби с противоположного конца Великой стены в Нинся и Ганьсу и из-за нее в Комул. Необходимо было построить форты и создать гарнизоны в тех местах, куда нога имперских войск не ступала со времен империи Тан и императрицы У Цзэтянь, и организовать для них бесперебойные поставки провианта и фуража.
Окончательной целью всех этих действий было выманить джунгаров, навязать им бой и захватить их неуловимых предводителей, чтобы затем доставить их живыми или мертвыми в Пекин. Там их собирались торжественно казнить, а их кости истолочь в прах (кара, соответствующая не столько тяжести преступления, сколько стрем¬
571
ГЛАВА 14
лению стереть с лица земли все следы существования преступника1). Истребление стало основным рефреном политики Цин сначала в отношении джунгарских вождей, а затем и всего народа: в 1750 г. император Цяньлун приступил к «окончательному решению джунгарского вопроса».
«Порох — ключ к уничтожению Галдана», — заявил император Канси. Он лично принимал участие в великой кампании 1696- 1697 гг. Его армию сопровождал корпус навьюченных пушками верблюдов — артиллерия была небесполезна против непокорных городов, но главным образом служила для устрашения кочевников- скотоводов2. Чтобы лишить джунгаров пастбищ, император приказал поджечь степи. Миллионные поголовья скота были угнаны. Но самым смертоносным союзником оказались привезенные болезни, особенно оспа, к которой народы Внутренней Азии не имели иммунитета. Массовое уничтожение стало официальной политикой Цин. Когда в конце 1759 г. император Цяньлун наконец объявил о победе, Джунгария (Западная Монголия, северная часть Синьцзяна3, где находился город Урумчи и соседние районы Казахстана) представляла собой голую пустыню. По сообщениям, из шестисот тысяч джунгаров 40% умерли от оспы, 30% были перебиты армиями Цин, 20% бежали через русскую, казахскую и киргизскую границы. «Джунгария стала пустым социальным пространством, которое предстояло заполнить за государственный счет переселенцами — миллионами китайских ханьских крестьян, маньчжурскими “знаменами”, жителями туркестанских оазисов, мусульманами-хуэй и другими» [25].
Несомненно, Тибет и Южный Синьцзян, включая города-оазисы к югу от Тяныианя, также были дестабилизированы конфликтом. Оказались ли они втянутыми в него против воли или активно преследовали собственные выгоды, — мнения расходятся. Император Цяньлун
1 С китайской точки зрения, повреждение и тем более уничтожение бренного тела значительно затрудняло (если не делало невозможной) загробную жизнь.
2 В Восточной Азии кампания маньчжур против джунгаров маркирует важнейшую границу, когда огнестрельное оружие свело на нет военное превосходство кочевников над оседлыми соседями — фактор, до того казавшийся константой исторического процесса.
3 Именно в 1760 г. впервые появился термин Синьцзян — «Новая граница». В наместничество с таким названием были объединены оазисы Кашгарии и степи Джунгарии.
572
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
хорошо понимал, каких затрат требуют подобные авантюры в дальних землях и сколько критики они вызовут. Вместе с тем он надеялся получить легко защищаемую границу и помнил не только о подвигах империй Хань и Тан, но и о Чингисхане и его преемниках. Для маньчжура, как и для монгола, расстояние вряд ли было помехой.
Военные походы завершились завоеванием Южного Синьцзяна, которое стало прямым следствием победы Цин в Джунгарии. Фактически завоевание осуществил тот же цинский полководец, который перед этим триумфально покорил Джунгарию. Джунгары зависели от продукции и налогов городов-оазисов Синьцзяна, населенных крупными общинами мусульман-уйгуров1. После того как Цин ликвидировала джунгаров, образовался вакуум власти; заполнить его стремились члены давно известной и весьма уважаемой мусульманской семьи Ходжей из суфийского ордена Накшбандия, чья власть в регионе простиралась до Кашмира и Афганистана. Джунгары время от времени поддерживали их, и на основании этой связи Цин потребовала от них подчинения и дани2. Клан Ходжей, рассчитывая на свою удаленность, отказался, набрал значительную армию и укрепил Кучар (город на Шелковом пути, контролировавший доступ в регион). В 1758 г. армии Цин победили Ходжей, ив 1759 г. они отступили в Кашгар, Яркенд, а затем через Памир в Бадахшан3. Несмотря
1 Они предпочитали называть себя тюрками или идентифицировать себя по родному оазису (кашгарлык, турфанлык и т. п.). Термин «уйгур» среди мусульман региона был неразрывно связан с «идолопоклонниками» и потому к тому времени полностью забыт. Он возродился в качестве общего обозначения для тюрок региона только в 1921 г., во время съезда активистов национально-освободительного движения в Ташкенте как одинаково чуждый для всех и имеющий давнюю историю, хотя многие активисты, не ориентированные на СССР, не приняли этого решения и предпочитали термин «тюрк».
2 Эта связь на деле была вассальной зависимостью мусульманских оазисов Кашгарии от джунгаров. Основатель династии Хождей Аппак-ходжа получил свои земли в 1672-1698 гг. при деятельной поддержке джунгаров, давших ему войска для разгрома его врагов — чагатаидских ханов. Рекомендательное письмо к джунгарскому хану суфийскому вождю предоставил Далай-лама V, к которому тот обратился за помощью.
3 Памирский регион Бадахшан разделен между Таджикистаном и Афганистаном; небольшая часть входит в состав современного Китая. В то время Бадахшан в основном подчинялся афганской державе Дуррани, в меньшей степени — Бухарскому эмирату. Ходжи, впрочем, прежде всего рассчитывали на помощь Кокандского ханства, чьи основные земли находились в Ферганской долине. Коканд активно боролся за влияние в регионе и готов был оказать по¬
573
ГЛАВА 14
на сложившееся в последние десятилетия убеждение, можно утверждать, что «в тот период еще не существовало единой и целостной “уйгурской” нации, боровшейся против государства Цин либо стремившейся войти в его состав» [26]. Регион действительно вошел в состав империи, но не как регулярная провинция: «в целом административное устройство Синьцзяна [при Цин] представляло собой не что иное, как огромный гарнизон под командованием военного губернатора». Тамошние чиновники «не пользовались уважением и не стремились больше узнать о языках и обычаях людей, которыми управляли». Еще меньше они знали о лежавших дальше, номинально принадлежавших к империи землях цзими («свободно натянутые вожжи») — Ташкенте, Бухаре, Афганистане и долине Хунза на территории современного Северного Пакистана, которые Цин более или менее унаследовала от Мин [27].
Роль Тибета в конфликте Цин и джунгаров была совершенно иной К Монголы активно участвовали в религиозной политике Тибета. К концу XVI века монгольские ханы, так же как и лидеры маньчжуров, привыкли обращаться за подтверждением своей легитимности в тибетские религиозные учреждения. Вокруг основанных в Монголии тибетских буддийских монастырей, в частности в Урге (Улан-Батор)2, складывались поселения, позднее выраставшие в города. Взаимовыгодная договоренность монгольских князей и соперничавших религиозных вождей Тибета давала последним светские привилегии в виде признания, пожертвований и войск, в то время как ламы давали конкурирующим монгольским вождям титулы, божественно санкционированную власть и силовую базу в монастырях. Алтан-хан, монгольский вождь, претендовавший на родство с Чингисханом, в 1578 г. в ответ на признание его защитником веры признал главу желтошапочной школы далай-памой (далай значит «океанский», или «вселенский»; позже он стал известен как Далай-лама III, а его отец
мощь преследуемым единоверцам. Напрямую противостоять империи Цин ко- кандцы не решались и даже с 1774 по 1798 г. платили маньчжурам дань.
1 В рамках Монгольской империи Тибет как вотчина государственного наставника — духовного учителя императора — находился в особом положении.
2 На месте нынешнего Улан-Батора кочевой монастырь главы буддийской церкви Северной Монголии Богдо-гэгэна осел только в 1778 г. С этого момента монастырь превратился в город. Принятое в литературе дореволюционное название Урга было изобретено русскими купцами и дипломатами. Сами монголы называли город Хурэ («Монастырь») или Их-хурэ («Большой монастырь»).
574
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
и дед были ретроспективно признаны Вторым и Первым1; Далай- лама IV стал один из потомков Алтан-хана, то есть монгол). В целом монголы поддерживали довольно активные образовательные, торговые и религиозно-политические связи с Тибетом. Но и империя Цин тоже стремилась припасть к этому богатому источнику легитимности: в 1652 г. она приветствовала в Пекине Далай-ламу V (1617-1682) и подтвердила его титул. Как союзник, противник или третейский судья, лхасский далай-лама неизбежно должен был сыграть ключевую роль в битве Цин с джунгарами.
Дело значительно осложняли еще два фактора. Первым были взаимные притязания других монгольских и тибетских старших лам, принадлежавших к желтошапочной школе (как панчен-ламы Ташилунпо) и к другим школам; вторым — дилемма, порожденная твердой верой в принцип, но свободным толкованием на практике преемственности в результате реинкарнации. Как воплощение бод- хисаттвы Авалокитешвары далай-лама не умирал, однако, покидая текущее воплощение, он предоставлял другим определять, какой облик он примет в следующий раз, и это открывало богатые возможности для споров и непрошеного вмешательства.
Во избежание этого от императора Канси в течение шестнадцати лет скрывали «не кончину» Далай-ламы V в 1682 г. Император обвинил Галдана и его народ в том, что они участвовали в обмане, и поддержал вторжение на джунгарскую территорию лояльной (к Цин) монгольской конфедерации из провинции Цинхай. Эти цинхайские монголы, стремившиеся свергнуть джунгарскую власть в Тибете и Далай- ламу VI, достигли Лхасы, но их, в свою очередь, изгнали родственные им джунгары. На помощь цинхайским монголам были отправлены императорские войска; в 1720 г. они впервые вошли в Лхасу. Перед их прибытием джунгары эвакуировали город, «знамена» Цин заняли его
1 Они, конечно, могут быть названы его отцом и дедом только в духовном плане. Тйтул далай-лам был ретроспективно распространен на два предыдущих перерождения Сонам П»яцо — Гендун Дула, ученика основателя гелуг Цзонкапы и основателя монастыря Ташилунпо в Южном Тибете, и Гендун ГЪяцо, ставшего настоятелем монастыря Дрепунг близ Лхасы. С точки зрения буддистов, перерождающиеся ламы представляют собой одну сущность, меняющую свою физическую оболочку. В случае с далай-ламами это — бодхисаттва Авалокитеш- вара. Так что первый и второй далай-ламы не были дедом и отцом третьего — они были им самим в предыдущих воплощениях.
575
ГЛАВА 14
и официально провозгласили пришествие Далай-ламы VII1. Прецедент вмешательства Цин в дела центрального Тибета наконец возник, гражданскую власть возложили на совет министров, действовавший по рекомендациям двух назначенных из Пекина амбаней («комиссаров» колониального департамента, «в основном игравших роль политических осведомителей»), и оставленное им в поддержку немногочисленное войско2 [28]. Однако это не соответствовало ожиданиям монгольских союзников императора в Цинхае, и они подняли восстание. По приказу императора Юнчжэна (император Канси к тому времени умер) восстание подавили. Затем Цинхай (северо-восточный Тибет) и Кам (восточный Тибет) были фактически отделены от остальной части Тибета (Сицзян) и стали «внутренними» областями
1 С 1642 г. Тибет был объединен под властью родственных джунгарам хогиу- тов. Хошутский гуши-хан откликнулся на просьбу Далай-ламы V оказать ему помощь против притеснений других школ (прежде всего карма) и правителей южнотибетской династии Цанг-па. Хошуты вошли в Тибет, разгромили врагов далай-ламы и наделили его верховной властью в регионе, впрочем, в значительной мере ограниченной могуществом его покровителя — хошутского хана. К началу XVIII века отношения хощутов и джунгар ухудшились, хошутский Лхавзан-хан стал искать поддержки у маньчжуров, в том числе по просьбе императора Канси отстранил от власти экстравагантного, склонного к поэзии и свободной жизни Далай-ламу VI и, возможно, организовал его убийство. Возведенный им на престол новый далай-лама был его сыном и не получил поддержки основной массы народа и духовенства. Проманьчжурская позиция и раздражение тибетцев стали удобным поводом для джунгарского вторжения в 1717 г. Хошутское ханство было уничтожено, основные монастыри и города заняты джунгарами, впрочем, не сумевшими удержаться от грабежа. Ситуацией, в свою очередь, воспользовался Канси, который послал войска, чтобы «освободить Тибет» от джунгаров, что и было сделано.
2 Чтобы не раздражать тибетцев, этот гарнизон полностью состоял из монголов. В 1723 г. войска были выведены, при далай-ламе оставлено два амбаняг — представителя Пекина. Только с 1728 г. для их охраны в Лхасу вновь вошли войска, и тогда же власть была передана главе правительства (Далай-лама VII скомпрометировал себя деятельным участием в антиманьчжурском восстании 1727 г.). Ситуация вновь изменилась в 1730 г., когда верховную власть вернули далай-ламе. Окончательно Тибет стал маньчжурским протекторатом после тяжелой войны с гуркхами (1788-1792), в которой Лхаса не смогла обойтись без помощи Пекина. После войны тибетское правительство лишилось свободы во внешней политике, власть амбаней усилилась: только через них далай-лама и панчен-лама отныне могли обращаться к императору, амбани контролировали внешнюю торговлю, выдавали подорожные и разрешения на пересечение тибетской границы. Выбор новых перерождений далай-ламы и панчен-ламы стал утверждаться императором.
576
МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 1620-1760
империи под непосредственным управлением центральной власти. После этого они никогда больше официально не считались частью Тибета.
Разумеется, все эти события тщательно исследовались как имевшие непосредственное отношение к дальнейшему статусу Тибета. Но следует избегать искушения провести аналогию между событиями конца XVII века и событиями 1950-х гг. Цинская интервенция в Тибете в XVIII веке ставила своей целью поддержание религиозной организации и духовной власти далай-ламы, а не их разрушение. Маньчжурские императоры питали к перевоплощавшимся ламам такое же искреннее уважение, как и монгольские ханы, и те и другие одинаково ревностно стремились завоевать поддержку Тибета. Вероятно, тибетский буддизм получил от императорского покровительства больше выгод, чем Цин от собственного политического вмешательства. К середине XVIII века более трети всех монголов были монахами. «В Монголии было почти две тысячи монастырей и храмов», в соседних провинциях Ганьсу, Сычуань и Синьцзян — еще больше. В Пекине три императора воздвигли или отремонтировали около тридцати двух тибетских храмов; один, расположенный во внутреннем городе, стал крупным учебным центром, разместившим более пятисот монгольских, маньчжурских и тибетских монахов [29]. Перевод тибетских текстов на китайский, монгольский и маньчжурский языки получал государственную финансовую поддержку, и сами императоры участвовали в тибетских буддийских ритуалах. Поддержка воплощенных лам, особенно в Цинхае и Монголии, возможно, преследовала цель ослабить влияние далай-ламы, но вместе с тем свидетельствовала о жизнеспособности тибетско-монгольского буддизма в империи.
Так закончилось одно из самых долгих и обширных завоеваний в истории. Вторжения Цин в Бирму, Вьетнам и Непал в правление императора Цяньлуна потерпели полное фиаско. Экспансия, начатая Нурхаци и его чжурчжэньскими «знаменами» в Маньчжурии, полтора века спустя закончилась в Гималаях и пустынях Синьцзяна. По мнению китайских историков, этот процесс привел к восстановлению империи Хань и Тан. Государство приобрело территориальную протяженность и возможности, в целом соразмерные численности его населения. «Явное предначертание» в итоге наградило Китай размерами субконтинента: Чжунго достигло своих «естественных границ». Некитайские историки скорее склонны сравнивать экспансию Цин
577
ГЛАВА 14
в степь и пустыню с происходившей примерно в то же время колонизацией Сибири и Америки. Китай не любит, когда его называют колониальной державой, однако то, как быстро Пекин обозначил границы, составил карты и навел порядок в своих новых областях, насколько активно он приводил к оседлости их население, поощрял внутреннюю миграцию и осваивал местные ресурсы, однозначно говорит о его колониальных устремлениях. Впрочем, не исключено, что Нурхаци и его преемников побуждало к действию наследие Чингисхана. Как империя Цин чжурчжэни-маньчжуры унаследовали универсалистские притязания Сына Неба, как маньчжуры они были признаны буддийскими чакравартинами — «вращающими колесо», а как чжурчжэни, народ, чья империя Цзинь стала одной из первых жертв монгольского завоевания, они переняли право «управления миром», принадлежавшее великому хану.
15
Агония империи
(1760-1880)
САМООЧЕВИДНЫЕ ИСТИНЫ
Утром 14 сентября 1793 г. император Цяньлун, третий из исключительно долго правивших трех императоров маньчжурской династии Цин, принимал послов с данью из самых отдаленных уголков Поднебесной. Одно посольство прибыло от калмыков (ойратов) с северо-западных окраин Синьцзяна; близкие родичи джунгаров калмыки прославились тем, что переселились с одного конца Азии на другой, пройдя от Западной Монголии до Волги, а затем, поссорившись с русскими, вернулись обратно — эту одиссею любитель опиума Томас де Квинси описал в «Мятеже татар». Второе посольство, предположительно, прибыло из Пегу, бывшей столицы Бирмы, или, что более вероятно, из города Ава, центра бирманской монархии. Третье посольство явилось из Лондона. Джордж Макартни, виконт Дервокский, уполномоченный представитель и глава первого в истории посольства от британского монарха к китайскому императору, изо всех сил старался подчеркнуть, что его миссия не имеет ничего общего с данью. Нет, это был обмен между равными — «величайшим государем Запада и... величайшим государем Востока». Описывая этот случай, он загадочным образом упустил из виду присутствовавших рядом калмыков и бирманцев. «Я забыл упомянуть о них», — вежливо объясняет он в своем дневнике. Возможно, эту оплошность нетрудно было исправить, однако он не стал этого делать — очевидно, потому, что «они [калмыцкое и бирманское посольства] имели не слишком впечатляющий вид» по сравнению с англичанами.
579
ГЛАВА 15
Официальный прием проходил в большом шатре в императорском парке в Жэхэ, в летней резиденции к северу от Пекина, прямо за Великой стеной. Макартни поднялся в четыре часа утра, чтобы одеться, и выбрал для этого случая розовый цвет. Поверх костюма из вышитого белого бархата он набросил «малиновую» атласную мантию, подбитую белой тафтой, полагавшуюся ему как кавалеру ордена Бани. На груди у него красовалась огромная, словно морская звезда, бриллиантовая брошь. Россыпь бриллиантов украшала булавку на кружевном жабо, цепь (или «ожерелье») из золотых медальонов весом килограмм спускалась ему на грудь, а над треуголкой, также розовой, покачивался пышный плюмаж из перьев. «Я привожу все эти маленькие подробности, — поясняет он, — чтобы показать, с каким вниманием я всегда относился, по мере возможности, к восточным обычаям и понятиям» [1].
Калмыки, бирманцы и даже сам император лишились дара речи при виде этой сверкающей фигуры. Макартни умел произвести нужный эффект. В его официальной свите состояло девяносто пять человек. В подарок императору он привез столько британских товаров, что хватило бы для открытия целой выставки-ярмарки. Среди них были прекрасные шерстяные ткани, изысканные часы, огнестрельное оружие всех видов и размеров, стеклянная и даже фарфоровая посуда, клинки, астрономические и музыкальные инструменты, написанные маслом картины, целый планетарий и воздушный шар. Двум кораблям — одному шестидесятичетырехпушечному военному фрегату и еще одному, самому вместительному и быстрому кораблю Британской Ост-Индской компании — понадобился год, чтобы доставить посольство в северный порт Тяньцзинь. Оттуда после короткого речного путешествия весь этот цирк отправился в Пекин на 85 крытых повозках и 39 ручных тележках, для чего потребовалось 209 лошадей и 2495 носильщиков. Макартни все подсчитал. Для «посольства с данью», которым его считала Цин, показатели были не чрезмерными, но британскому посольству они казались огромными. Вероятно, это было самое масштабное посольство, когда-либо отправленное из Британии.
Список дипломатических пожеланий Макартни вполне соответствовал размаху всего предприятия. Китай и Британия должны были установить дружеские взаимоотношения. Макартни следовало убедить императора оставить его в качестве постоянного британского
580
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
посла в Пекине и договориться об отправке ответного посольства из Китая в Лондон. На побережье Китая нужно было открыть для торговли с Британией еще три порта. Многочисленные поборы, которыми облагалась уже существующая торговля в Гуанчжоу (Кантон), следовало отменить или заморозить до выяснения подробностей. Пара небольших островов, один на некотором расстоянии от Гуанчжоу, другой в Чжоушане (Чусан) близ устья Янцзы, должны были стать «складом непроданных товаров» и «местом проживания» британских подданных. Кроме того, следовало изучить потенциал обширного рынка Китая для британских производителей.
Макартни сделал все возможное. Опытный дипломат и благодарный гость, он изо всех сил старался поддерживать добрые отношения с цинскими чиновниками и даже смог решить сложный вопрос о совершении поклона-коутоу перед императором; по его словам, он просто преклонил колено, как сделал бы перед своим королем. Но во всем остальном он потерпел неудачу. Во врученном посольству прощальном послании от императора к Георгу III британского короля похвалили за «искреннее смирение и послушание». Однако постоянное посольство противоречило ритуальной практике и, «безусловно, не могло быть учреждено». Торговля не требовала столь обширного представительства. В случае возникновения споров следовало обратиться к уже существующим способам их решения1. Пушки, инструменты и прочие безделушки не имели для императора никакой ценности: «Я не ценю искусных и диковинных вещей и не буду пользоваться изделиями твоей страны»2. Настойчивые попытки добиться взаимности от Поднебесной выглядели как дерзость и заслуживали упрека: «Я вновь призываю вас, о Король, учитывать мои мнения, тогда мы сможем сохранить мир и дружбу между нашими странами и таким образом содействовать нашему обоюдному счастью»3 [2].
1 Требования предоставить остров Цзюшань и территории около Кантона или Макао были недвусмысленно отвергнуты Цяньлуном. См.: Ответ императора Китая Цяньлуна королю Англии // Хрестоматия по новой истории в 3 томах / под ред. А. А. Губера и А В. Ефимова. Т. 1. 1640-1813 / под ред. В.Ф. Семенова и К А. Антоновой. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 636. — Прим. ред.
2 Цит. по: Алаев Л. Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. 2-е изд., испр. и доп. М.: КРАСАНД, 2014. С. 201. — Пром. ред.
3 Цит. по: Ответ императора Китая Цяньлуна королю Англии // Хрестоматия по новой истории... Т. 1. С. 638. — Прим. ред.
581
ГЛАВА 15
Потребовавшая огромных расходов (большей частью покрытых Британской Ост-Индской компанией) миссия Макартни ничего не добилась. Но ее все же нельзя назвать совершенно безрезультатной. Получив разрешение вернуться в Гуанчжоу через Великий канал и Янцзы, Макартни и его спутники смогли наблюдать за жизнью империи Цин в зените ее могущества. Дневник Макартни и другие письменные и изобразительные документы, созданные участниками посольства, дали англоязычным читателям новую картину Китая и вполне могли соперничать с заметками Маттео Риччи и его преемников иезуитов. Даже послание императора, в каждой строчке которого сквозила высокомерная уверенность в собственном превосходстве и неоспоримом мировом господстве Китая, было названо «важнейшим китайским документом для изучения отношений Китая с западными странами в 1700-1860-х гг.» — впечатляющая оценка, особенно если вспомнить, что в этот период международную репутацию Китая изрядно подпортили вымогавшие уступки западные державы и постепенный распад империи изнутри [3]. Для Макартни это не стало неожиданностью: его замечания о политическом, социальном и экономическом климате Китая отличались остротой и вместе с тем проницательностью. Его унижение во время визита сполна искупило последовавшее через несколько десятилетий унижение Китая.
Из трех основных слагаемых политики Цин: успешной экспансии во Внутренней Азии, управлении с переменном успехом империей со значительно возросшим населением и катастрофического неумения справиться с торговым натиском западных стран — последнему обычно доставалось больше всего внимания. Но даже в конце XVIII века, когда подходило к концу длительное царствование императора Цяньлуна, вмешательство западных держав еще не казалось серьезной проблемой. «Незаконная и контрабандная торговля опиумом» (как ее называл Макартни) составляла лишь четверть общего импорта Китая из Британской Индии. Поставки индийского хлопка-сырца стоили намного больше, и хотя оба товара «теперь стали в Китае необходимыми», торговлю ни в коем случае не следовало стимулировать военными действиями. Макартни отмечал нехватку кремнёвых ружейных замков и устаревший характер артиллерии Китая. По его предположениям, «полдюжины бортовых залпов» могут сравнять с землей укрепления Гуанчжоу, «несколько фрегатов» перекроют прибрежное судоходство всей страны, а индо-британские
582
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
силы «смогут уязвить их [китайцев] не менее чувствительно с других сторон», например вдоль гималайской границы Тибета. Но эти действия обернутся катастрофическим ущербом для торговли. «Наши нынешние интересы, здравый смысл и человеколюбие в равной мере возбраняют любые поползновения к наступательным действиям», — заключил он [4].
Вместе с тем Макартни беспокоили внутренний порядок империи и «ослабление власти в Китае». Это могло повергнуть международную торговлю в хаос, открыв свободный доступ на китайское побережье для всех желающих торговых держав. И такая возможность действительно существовала — по словам Макартни, это было «не самое невероятное событие». Маньчжурские правители уже не могли «дольше подавлять энергию своих китайских подданных; восстания в отдаленных провинциях стали обычным явлением; «тирания горстки татар [то есть маньчжуров] над тремя с лишним сотнями миллионов китайцев» не могла продолжаться вечно. Китайская империя в конце XVIII века походила на огромный неповоротливый корабль, «старый, нелепый, когда-то грозный фрегат», который до сих пор держался на плаву только благодаря усилиям опытных капитанов. Но в менее умелых руках дисциплина рухнет, и судно пойдет ко дну. «Может быть, оно потонет не сразу, — писал Макартни, — и будет дрейфовать, как обломок крушения, пока прилив окончательно не разобьет его о берег; но никогда на прежнем основании не смогут построить новый корабль» [5].
Опытными капитанами, которыми так восхищался Макартни, были три императора, царствовавшие в периоды Канси, Юнчжэн и Цяньлун. Но в сентябре 1793 г., когда посольство Макартни предстало перед последним из них в Жэхэ, тому было без трех дней восемьдесят пять лет. Он выглядел моложаво и не жаловался на здоровье, но уже сообщил о своем намерении отречься от престола, чтобы его царствование не продлилось дольше и тем самым не затмило самым непочтительным образом царствование его деда, императора Канси. Конец эпохи был явно близок. Император Цяньлун, продолжавший цепляться за бразды правления даже после своего отречения в 1796 г., скончался в 1799 г., и, как опасался Макартни, ни одному из его преемников не удалось править так же долго или получить хотя бы малую долю его власти.
Личная власть была важна, хотя Макартни, лучше информированный о самом императоре, чем о недостатках его администрации,
583
ГЛАВА 15
возможно, преувеличивал ее значение. Стремясь положить конец формальностям и добиться активности от чиновников и министров, император Канси предпринял смелую инициативу: он предложил чиновникам всей империи отправлять лично ему, ничего не опасаясь, частные петиции и рассказывать о том, как обстоят дела под их присмотром. Трудолюбивый император Юнчжэн стандартизировал и расширил эту практику, император Цяньлун продолжил ее. Императоры Канси и Цяньлун совершали долгие и порой нелегкие официальные поездки по всем дорогам и рекам империи. Запечатленные в серии великолепных живописных свитков (по двенадцать на каждую поездку, каждый свиток длиной от 10 до 30 метров, в общей сложности 120-360 метров живописного повествования на одну поездку), они были уже не просто церемониальными мероприятиями, во время которых император хотел видеть и быть увиденным. Они отмечали центральное положение маньчжурских императоров в их империи и закрепляли неконфуцианскую по своей сути философию, в основе которой лежало активное правление.
Во время поездок император получал петиции, принимал к сведению самую актуальную информацию и проводил инспекции на местах. Три императора были лучше информированы об условиях жизни на своих огромных территориях, чем большинство их предшественников, и доблестно стремились улучшить эти условия. В напутственном декрете (этот документ отчасти напоминал «заветы» императора Хунъу) император Канси оспорил царственный идеал у-вэй («недеяния»). Величайшие императоры прежних времен, настаивал он, не были застывшими изваяниями и никогда не отдыхали от своих трудов. Даже Шунь, четвертый из живших на заре времен пяти императоров, тот самый, который утверждал, что «управление осуществляется через недеяние», умер в пути. «Трудиться над управлением страной так же усердно, как [эти непревзойденные образцы], путешествовать и осматривать свои владения, ни на мгновение не предаваясь праздности — разве можно назвать это у-вэй или спокойным самосозерцанием?» — вопрошал император Канси [6].
Поездки и петиции повлекли за собой энергичные попытки снять бремя налогообложения с тех, кто в наименьшей степени способен был его нести, и бороться с последствиями роста населения. В то же время требовалось пополнять казну и оптимизировать расходы на общественные работы: и то и другое немало пострадало во время во¬
584
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
енных беспорядков после смены династии. Одним из способов увеличить доходы было обновление налоговых реестров. Император Канси попробовал сделать это, но он был далеко не первым и не добился здесь особенного успеха. Военные походы в Монголию и период немощности к концу его правления оставили казну империи в таком же дефиците, в каком он ее нашел.
Более успешными оказались меры, принятые императором Юн- чжэном: он прекратил утечку фактически собранных налогов и положил конец сиюминутным издержкам и растратам на местах. Это тоже пробовали сделать раньше, но не так агрессивно, как император Юнчжэн. Была создана центральная ревизионная комиссия, а губернаторам провинций приказано расследовать причины недостатка доходов и доложить о них императору через конфиденциальную систему петиций. Когда выяснилось, что без дополнительных издержек и других сборов администрации округов и районов просто не могут функционировать, была введена новая общая система распределения доходов между центральным и местным правительством, а также система вознаграждения должностных лиц. В казне накопился немалый излишек, и «впервые в истории Китая государство учитывало как административные потребности должностных лиц, так и обязанность местного правительства обеспечивать... общественные услуги и инфраструктурные улучшения» [7]. Одновременно император Юнчжэн настойчиво продвигал также далеко не новое предложение добавить налог на отработки (в большинстве областей трудовая повинность была заменена налогом, который уплачивали серебром) к налогу на землю и подушной подати. Осуществление всех этих мер оставили на усмотрение губернаторов провинций; результаты оказались неоднородными, но они бросили вызов традиционным представлениям о местном общинном самоуправлении под началом местной знати и обладателей ученых степеней, на чьи налоговые льготы и привилегии, в частности, посягали эти нововведения. Налоговое бремя распределилось более справедливо, зернохранилища наполнились, каналы, дороги и системы орошения поддерживались в исправном состоянии, финансовое положение империи значительно улучшилось; но ценой всего этого стал рост антиманьчжурских настроений.
Другим источником дохода была торговля. При Цин накопление богатства было признано неотъемлемой функцией государства, а конфуцианское презрение к торговцам и кредитным учреждениям
585
ГЛАВА 15
стало в значительной степени риторическим. Благодаря внутреннему порядку, расцвету экономики и устойчивому притоку серебра благодаря оживленному экспорту внутренняя торговля в XVIII веке быстро росла, и вместе с ней росли сложные клановые сети, а также государственные доходы в виде местных сборов и продажи лицензий и брокерских прав. Государство создавало благоприятную экономическую среду, инвестировало в конкретные проекты, такие как мелиорация земель, и уменьшало пошлины и налоги. Но это была не командная, а скорее гибридная экономика. Например, была не вполне четко определена разница между частными производителями и торговцами, организованными в лицензированные государством гильдии, с одной стороны, и их эквивалентами в государственном секторе, связанными лицензией с действующими государственными монополиями, такими как добыча меди или соли, которые по-прежнему оставались основным источником имперских доходов, — с другой. Даже прибыльные таможенные сборы от морской внешней торговли в Гуанчжоу (Кантоне) передавались частному сектору. Согласно указу императора Канси от 1707 г., несколько торговых гильдий получили исключительную лицензию на операции с грузами конкретных судов или стран в обмен на сбор и перечисление положенных с них пошлин. В отношении Британской Ост-Индской компании эта исключительная привилегия принадлежала известной группе торговцев гун-хан. Другим гильдиям принадлежали права на перевозки на китайских судах (одна из них курировала прибрежную, другая — иностранную морскую торговлю).
Вместе с тем создавались новые отрасли. Хлопкопрядильное и ткацкое производство в Сучжоу, Ханчжоу, перспективном Шанхае и их окрестностях приобрело такое же значение, как производство шелка. Население продолжало расти. Статистические данные остаются спорными — принято считать, что население Китая к началу XIX века составляло около трехсот миллионов человек, примерно в два раза больше, чем проживало в то время в Европе, хотя о каких темпах прироста это говорит, не вполне ясно. Больше людей означало большую производительность, но также и больший спрос на обрабатываемые земли. Болота осушали, не жалея сил, озерные котловины возделывали, покрытые лесами склоны расчищали и террасировали для земледелия, но все это не лучшим образом сказывалось на окружающей среде, природе и человеке. Проливные дожди раз¬
586
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
мывали лишенные лесов склоны, усугубляя традиционные проблемы заиливания дна и речных наводнений, снижая водоудерживающие свойства расположенного выше по течению ландшафта. Хотя государство теперь имело больше возможностей помочь жертвам стихийных бедствий, число местных засух и наводнений увеличилось. Древесины постепенно стало не хватать. На севере давно уже использовали в качестве топлива не дрова, а уголь. Теперь этот процесс начался и на юге. В строительстве все чаще использовали балки из железа или стали. Но новых земель по-прежнему не хватало, а наемных работников было слишком много. Сезонные миграции и переселение в города отрывали все больше людей от их деревенских корней. «Большинство данных явно свидетельствует о том, что быстрорастущее население империи обладало географической мобильностью в масштабах... беспрецедентных в истории Китая» [8].
Поскольку большинство новых территорий на крайнем севере и западе («Синьцзян» переводится как «новые территории») пока еще были зарезервированы для военных поселений, закрыты для хань- ской миграции и управлялись отдельно как маньчжурско-монгольский заповедник, расширение сельского хозяйства происходило главным образом на юге и юго-западе. Здесь, на огромном участке изрезанной, часто лесистой или гористой местности, простиравшейся от западного Гуандуна до провинции Сычуань, ханьские и неханьские поселения достигли значительных успехов. Но этим успехам предшествовали беспощадные войны с коренными неханьскими народами, гремевшие в правление императоров Юнчжэна и Цяньлуна. Система косвенного контроля тусы, некогда одобренная Мин, постепенно сменилась стандартными административными единицами империи; ханьским поселенцам давали земельные наделы, льготы и субсидии. Однако неханьских вождей вытесняли с их собственных территорий, а их соплеменники — чжуаны, мяо, яо,лолох и т. д. — должны были при¬
1 Все эти названия в той или иной степени являются экзонимами, то есть китайскими обозначениями представителей данных народов, обычно (и намеренно) довольно неблагозвучными. Мяо именуют себя хмонгами, яо — мьень, лоло — и. В случае с чжуанами китайский термин фонетически близок к самоназванию, но веками записывался знаком с ключом «собака», передающим сомнения китайцев в человеческой природе чжуанов. Только после 1949 г. знак был снабжен ключом «человек», а затем и вовсе заменен омонимичным знаком «сильный, крепкий».
587
ГЛАВА 15
нимать китайские имена, отращивать косы и подлежали регистрации в целях налогообложения, исполнения трудовых повинностей и военной службы. Из тех, кто отказался в этом участвовать, часть переселилась на юг в Лаос и Вьетнам, другие отступили дальше и выше в горы.
Больше не представлявшие угрозы, последние стали для маньчжурской Цин, а впоследствии и для Китайской Народной Республики (в подавляющем большинстве ханьской) материалом для каталога экзотических этнических меньшинств империи, каждое со своими красочными и глубоко символичными костюмами, традиционной музыкой и танцами, уникальными ремеслами и порой нестрогими представлениями о нравственности, особенно в отношении женского целомудрия. Еще в одной коллекции живописных свитков конца XVHI века, на этот раз посвященных данникам Цин, целая серия свитков изображает «малые народы Юньнани, Гуйчжоу и гуанси». Каждая из семидесяти восьми народностей представлена мужчиной и женщиной, занятых какой-либо характерной деятельностью. «Под каждой парой размещен комментарий на китайском и маньчжурском языках, рассказывающий об их религии, национальных костюмах, обычаях, местных продуктах, налогах и дани, которые они приносили, а также об их отношениях с цинским двором» [9]. Таким образом, в китайской империи, как и в других колониальных империях, маргинализированные меньшинства уже изображались в особом контексте, подчеркивающем выдающиеся качества и всепроникающее господство центральной власти. Воспроизведенное в печати и выставленное напоказ, такое отношение к «человеческим подвидам» Китая было принято и более поздними режимами, будь то шовинистический национализм, покровительственно-снисходительный маоизм или ориентированный на туризм рыночный социализм.
Несмотря на размер, порядок и очевидное процветание империи, Цин оставались суровыми правителями. В других странах мира конец XVIII века ознаменовался провозглашением самоочевидных истин и неотъемлемых прав человека и гражданина. По ту сторону Атлантического океана «жизнь, свобода и стремление к счастью» наперегонки со «свободой, равенством и братством» объединяли народы и заставляли трепетать правительства. Общественный договор и права человека теснили исконные привилегии, каждый голос имел значение. В Китае же по-прежнему господствовала, по меткому определению Макартни, «тирания». Император Цин считал совещания
588
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
необязательными, представительство подозрительным, а любые разговоры об ответственности правительства — государственной изменой. Императорские декларации были густо пропитаны наставлениями, и, учитывая нравственный авторитет императора, это вовсе не было случайностью.
В теории, а также на практике всех подданных империи по-прежнему объединяла система «взаимного поручительства», в большей степени подразумевавшая коллективную ответственность и взаимную слежку. В эпоху Сун эта система получила название баоцзя, домохозяйства были сгруппированы в группы, состоявшие из тысячи (бао-) и ста (-цзя) дворов; в последнюю входило десять групп по десять домохозяйств, и каждая единица имела своего старосту. Старост выбирали по очереди, и они обычно отвечали за поддержание порядка в своем подразделении и оперативное выполнение требований властей, но крайне редко могли выражать какие-либо жалобы. Эта должность вряд ли была желанной. Уголовный кодекс заставлял старосту и его подразделение лично отвечать не только за поведение членов группы, но и за любые совершенные ими преступления. В идеале система баоцзя должна была перевесить семейные, клановые и профессиональные связи, внушить чувство равной ответственности и подтолкнуть к участию в управлении. И хотя на практике она действительно укрепляла существующие связи, она не могла помешать исходу безземельных крестьян и часто угасала из-за отсутствия поддержки. Притом что эта система, как и другие попытки трех императоров удовлетворить потребности своего народа и умиротворить все его составляющие — маньчжуров, монголов и китайцев, заслуживает восхищения, следует признать, что ни императоры, ни их подданные не имели четкого представления о народовластии. Правительство по-прежнему полагалось на уголовный кодекс и силу оружия, окончательной инстанцией оставалась воля Небес, а единственной гарантией перемен — династический цикл.
Параноидальные черты находившегося в зените власти режима проявились при создании «Четырех хранилищ» императора Цянь- луна — это было второе монументальное собрание трудов, содержавшее все когда-либо написанные художественные, исторические и философские произведения и оказавшееся слишком обширным для публикации. Несмотря на заявленную цель проекта — спасти и сохранить для потомства весь корпус китайской науки — вскоре выяс¬
589
ГЛАВА 1 5
нилось, что этот великий труд должен был «служить чем-то вроде литературной инквизиции». Компиляция подразумевала поиск и сбор всех подходящих работ и выбраковку и уничтожение любых других, которые представляли в невыгодном свете чжурчжэней-Цзинь или маньчжуров-Цин, либо содержали другие нежелательные материалы; при этом тех, кто хранил такие материалы, ждало наказание. «К этой задаче подошли с таким усердием, что более двух тысяч работ, подлежавших, как нам известно, уничтожению согласно рекомендациям культурных советников императора Цяньлуна, с тех пор не были найдены» [10]. Проект привлек множество безработных и неудовлетворенных своим положением держателей ученых степеней. Редакционные стандарты были довольно высокими, классические тексты и исторические хроники подверглись давно необходимому филологическому анализу; император Цяньлун, увлеченный коллекционер, знаток и практик всех искусств, искренне восхищался этой работой. Но цензурные поползновения последнего из великих императоров, система баоцзя и масштабные стройки (в частности, летний дворец Юаньминъюань, построенный по плану архитектора-иезуита) невольно напоминали антиманьчжурским ученым о тяжелой диктаторской руке первого великого императора — прославившегося грандиозным строительством и сожжением книг Цинь Ши-хуанди.
ОСКОРБЛЕНИЯ И ОПИУМ
Как большинство других китайских империй, Цин погубили не нападения внешних врагов, а внутренние противоречия. Подобно империи Тан после восстания Ань Лушаня, Цин тоже сумела на какое-то время окрепнуть после масштабных мятежей и иностранных посягательств в середине XIX века и просуществовала до начала XX столетия. Но иностранцы по-прежнему оставались неподалеку, и их присутствие подрывало власть императора, дискредитировало лежавшую в ее основе конфуцианскую идеологию и разжигало протесты и беспорядки. Все династии были обречены — Айсинь Гиоро пала бы и без иностранного вмешательства. В сущности, она продержалась так долго как раз благодаря иностранному вмешательству. Чего нельзя сказать об империи. Если падению династии способствовали внутренние причины, то империю разрушили сторонние силы.
590
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
К тому времени, когда в конце 1830-х гг., через сорок лет после миссии Макартни, начались Опиумные войны, европейские суда торговали на китайском побережье уже более трехсот лет. Почти все это время убежище и сносное жилье на китайской земле иностранцам давал португальский анклав в Макао. Объем торговли неуклонно увеличивался. Со временем основные иностранные партнеры поменялись, как поменялись и самые востребованные товары. Ближайший к Макао порт Гуанчжоу, которым ограничивалась иностранная торговля с середины XVIII века, превратился в крупный финансовый и культурный центр. Иностранным торговцам разрешалось жить там без жен и только во время торгового сезона, и они не должны были выходить за пределы острова Шамянь. Сегодня это поросший лиственными деревьями живописный уголок под эстакадами, но тогда он был просто голым илистым берегом, вдоль которого тянулся ряд зданий в «колониальном стиле» под флагами соответствующих стран.
В торговых контактах между Западом и Востоком не было ничего неизбежно разрушительного. С географической и идеологической точек зрения они стояли далеко не на первом месте в списке проблем аграрной империи, столкнувшейся с необходимостью управлять стремительно растущим населением, а также облагать налогами и распределять результаты его труда. Зарубежный импорт был выгоден для экономики — он приносил ликвидные средства (серебро) и некоторые виды полезного сырья (руды, специи, меха, а в последнее время еще и хлопок). Торговля давала государству доход, а лично императору — неиссякаемый источник финансов в виде отступных, которые отправляли непосредственно в Пекин купеческие объединения Гуанчжоу; и, конечно, она приносила выгоду всем, кто непосредственно ею занимался, как китайцам, так и иностранцам. Как подчеркивал Макартни, ни они, ни их правительство, ни император ничего не выиграли бы, помешав развитию торговых отношений. Споры возникали в основном из-за неуплаченных долгов и пьяных дебошей. У обеих сторон было много поводов для недовольства, но в целом преобладал коммерческий здравый смысл. В торговле участвовали разные страны: поначалу испанцы, потом французы и американцы. Португальцы вели практически монопольную торговлю большую часть XVI века, в XVII веке преобладали голландцы, а в начале XVIII века большинство кораблей были английскими.
591
ГЛАВА 1 5
Образованная в 1600 г. с целью конкуренции в азиатско-европейской торговле пряностями, Лондонская (или Британская) Ост- Индская компания, после того как голландцы вытеснили ее с индонезийских Островов пряностей, нашла утешение в благоприятных условиях торговли и основании крупных факторий на побережье Индии. Благодаря монополии на челночную торговлю между Лондоном и Востоком, компания импортировала из Индии в Великобританию в основном готовые хлопчатобумажные ткани; кроме того, она и ее представители, действовавшие в частном порядке, участвовали в ^монополизированных торговых перевозках между портами Востока1. Из фактории и порта компании в Мадрасе (современный Ченнаи) группа таких вольнонаемных представителей под руководством братьев Элайху и Томаса Йеля отправила первый корабль в iy- анчжоу в 1691 г. По их расчетам, гостеприимство в соседнем Макао им должны были обеспечить дружеские отношения между Англией и Португалией, существовавшие со времен женитьбы Карла II на Екатерине Брагансской, а разрешение на торговлю в Гуанчжоу зависело от того, вспомнят ли власти Цин об их прежних связях на Тайване с Чжэн Чэнгуном (Коксинга) и его сыном. Несмотря на ряд возникших поначалу недоразумений, они не разочаровались. К концу XVII века корабли Британской Ост-Индской компании ежегодно отправлялись в порт под названием Кантон (вероятно, изначально это было слово «Гуандун» — так иностранцы называли столицу провинции — Гуанчжоу).
В 1700 г. Ост-Индская компания рассматривала Китай лишь как запасной вариант, но вскоре он стал для нее настоящим золотым дном. К 1770 г. торговля в 1уанчжоу была самым важным и прибыльным направлением ее обширной деятельности. Во многом это зависело от оптовых поставок уникального и весьма востребованного успокаивающего препарата — но не опиума, а чая. Любовь англичан к этому напитку не знала границ. «Двести тысяч фунтов, проданные компанией в Лондоне в 1720 г., превратились в миллион фунтов в год к концу десятилетия... В 1760 г. оборот составлял чуть меньше трех миллионов, а к 1770 г. девять миллионов фунтов» [11]. В XIX веке по¬
1 См.: Фурсов К. А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компании с английским государством и индийскими патримониями. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — Прим. ред.
592
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
казатели удвоились, затем снова удвоились. Фарфоровую посуду, которую когда-то упаковывали в чай, чтобы она не разбилась в дороге, теперь везли в основном как балласт, поскольку груз высушенных листьев был слишком легким для парусных судов. Даже более чем стопроцентный налог на британский импорт не привел к падению спроса на чай. Жители британских колоний тоже пристрастились к чаю. Как известно, протест против реэкспорта из Британии товара, который ко времени прибытия в Бостон непомерно вырастал в цене, положил начало войне, стоившей британской короне ее североамериканских территорий.
Хотя Акт о снижении пошлины на чай 1784 г. снизил ее до 12,5%, налоги вскоре снова выросли. В 1830-х гг. чай составлял почти 10% всех доходов британского правительства. Но этим дело не ограничивалось; на принятие такого закона повлияло знание, что сопоставимые партии чая достигали главных улиц Британии без всякого налогообложения. Чтобы обойти монополию Ост-Индской компании и требования британского Казначейства, частные авантюристы и контрабандисты, многие из которых были британцами, проводили свои торговые операции под флагами конкурирующих Ост-Индских компаний Бельгии, Швеции, Дании и Австро-Венгрии. Они тоже покупали товар в Гуанчжоу, но отправляли его обычно в Голландию, откуда чай контрабандным путем везли через Северное море. Ночные рейды и периодические стычки в прибрежных водах Британии в XVIII веке предвосхитили аналогичные сцены в прибрежных водах Китая в XIX столетии. Впрочем, отношение англичан к чаю и отношение китайцев к опиуму радикально отличалось; чай бодрил общество, и ему были рады — опиум разрушал общество и был запрещен. Но с чисто экономической точки зрения они составляли одинаковую проблему.
Чай, в основном дешевый черный и не из 1уандуна, а из более северных провинций, покупали за серебро. Британская Ост-Индская компания предпочла бы бартер, но остальные статьи британского экспорта пользовались в Китае крайне незначительным спросом. Шерстяные ткани были не нужны в жарком и влажном Гуандуне, и, как сказал император послу Макартни, Китай пока еще не имел ни малейшей нужды в товарах британского производства. Таким образом, торговый баланс в XVHI веке складывался однозначно в пользу Китая. Постепенно Поднебесная привыкла полагаться на этот богатый ис¬
593
ГЛАВА 1 5
точник серебра, в то время как британские производители и экономисты осуждали пренебрежение национальными интересами и протестовали против «утечки звонкой монеты». Кроме серебра в обмене могла участвовать индийская продукция, особенно хлопок-сырец, который отправляли из Бомбея (ныне Мумбай) в Гуанчжоу. Туже роль играла кольцевая торговля, включавшая отправку индийского текстиля на рынки Юго-Восточной Азии и специй и кулинарной экзотики Юго-Восточной Азии в Китай. Именно в этой трехсторонней торговле, осуществляемой в основном не относившимися к Ост-Индской компании авантюристами и торговыми агентствами, при участии торговых сообществ малайских и индонезийских портов, среди которых важное место занимали китайские эмигранты, впервые стал очевидным потенциал индийского опиума.
В Китае опиум местного производства, предназначенный, как и в Европе, главным образом для медицинского использования* потребляли уже как минимум тысячу лет. Но обычай курить опиум, чтобы достичь наркотического опьянения, вместо того чтобы принимать его внутрь в виде настойки, возник, судя по всему, на Тайване в XVII веке. Возможно, это был результат экспериментов с курением табака, который тогда тоже был новинкой. Привычка распространилась на материк. Император Юнчжэн объявил опиумные курильни и продажу опиума вне закона, но сам препарат не запретил. Дальше опиум проник на юго-восток Азии, где уже имелся опиум индийского производства и откуда китайцы и европейцы начали отправлять партии опиума в Китай начиная с 1720-х гг.
В 1773 г. Ост-Индская компания полностью контролировала выращивание мака и производство опиума в Бенгалии. К этому времени в Китай попадало около тысячи сундуков (примерно 60 тонн) опиума в год. В 1796 г., в год отречения императора Цяньлуна, этот показатель увеличился в четыре раза, но после этого по приказу властей iy- анчжоу компания прекратила экспорт опиума в Китай. Пренебречь запретом китайской стороны значило рискнуть введением эмбарго на закупку чая, что было немыслимо. Вместо этого принадлежавший компании урожай индийского опиума начали продавать на аукционе в Калькутте. Его раскупали частные синдикаты и агентства, которые затем отправляли его в Гуанчжоу в еще большем количестве. Цены снижались — спрос увеличивался. Вместе с прибылью грузоотправителей и дилеров росло и официальное беспокойство в Пекине. Импе¬
394
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
ратор Цзяцин (преемник императора Цяньлуна, пр. 1796-1821) ввел высокие штрафы для курильщиков опиума. Он полностью запретил ввоз опиума, а это означало, что теперь отказаться от явного участия в торговле пришлось и торговцам 1ун-хан в Гуанчжоу. Последствия оказались почти такими же, как и в случае с Ост-Индской компанией: сделки переместились подальше от берегов и полностью вышли из-под контроля. Сингапур, приобретенный англичанами в 1819 г. и развивавшийся как свободный порт, привлекал китайских эмигрантов и огромное количество кораблей; это была идеальная перевалочная база для торговли опиумом. Из Сингапура суда, не все из которых были британскими, доставляли сундуки с опиумом на остров Линь- тин в устье реки Чжуцзян, к огромным кораблям, пришвартованным в его окрестностях, и быстрым клиперам, следующим к побережью. Из мелких заливов и бухт им навстречу выходили небольшие хорошо вооруженные гребные суда. Их обычно ожидали — все сроки и условия заранее согласовывались в Гуанчжоу. Сундуки грузили с одного борта на другой, а затем доставляли на берег.
Перекликаясь с экспоненциальным ростом ввоза чая в Великобританию в 1828 г., импорт индийского опиума составил свыше тринадцати тысяч сундуков, и к 1836 г. снова удвоился. К тому времени «общий оборот импорта составлял около восемнадцати миллионов долларов, что в XIX веке делало опиум самой прибыльной торговой статьей в мире» [12]. Синдикаты и агентства, оперировавшие поставками (в основном британские, но также американские), искали покровительства у Ост-Индской компании в Гуанчжоу и вкладывали прибыль от торговли в осуществляемые компанией закупки чая. Это был идеальный способ конвертировать — или отмыть — опиумные доходы (и другие доходы, извлеченные из империи Цин) и перевести их в лондонские фонды, загородные поместья и места в парламенте. Поэтому в конце 1820-х гг. иностранные закупки чая больше не требовали затрат на серебряные слитки — опиумных кредитов было более чем достаточно. Серебро больше не текло рекой в Китай — оно покидало его. К 1830-м гг. оно вытекало со скоростью около девяти миллионов лянов в год. Торговый баланс изменился. Настал черед имперских чиновников в Пекине беспокоиться о национальных интересах и жаловаться на «утечку звонкой монеты». В Китае, и особенно на юге, спрос на серебро повысил его стоимость относительно медной наличности, вызвав такую же, как во времена Мин, тревогу
595
ГЛАВА 15
среди тех слоев населения, которые зарабатывали медные деньги, но налоги обязаны были платить серебром. «Сокращение роста, безработица и городские беспорядки (еще один букет проблем, обычно сопровождающий упадок династии) напрямую связаны... с этим внезапным драматическим, даже катастрофическим сдвигом в платежном балансе» [13].
При императоре Даогуане (пр. 1821-1850) официальное беспокойство по поводу опиума и последствий его употребления нарастало. Изучались мнения, подавались петиции и проводились совещания. Многие чиновники выступали за легализацию опиума, введение государственных монополий и лицензий на его продажу. По их мнению, запреты не имели успеха: обеспечить наказание в случае их неисполнения было непросто, и сами правоохранительные органы были слишком коррумпированы. Гораздо эффективнее бороться с потреблением опиума и с коррупцией могли бы карательные тарифы. Они принесли бы в казну существенные доходы, а государственный контроль заставил бы иностранных торговцев более строго придерживаться предписаний китайских властей.
Последнее было особенно актуально, поскольку в 1833 г. британское правительство под давлением британских производителей, стремившихся получить доступ на рынки Китая, положило конец монополии Ост-Индской компании на торговлю между Китаем и Лондоном. Внешняя торговля с Индией была открыта для всех желающих двадцатью годами ранее. В обоих случаях отмена государственного контроля была частью давно начавшегося наступления на Ост-Индскую компанию, которая в результате стала просто козлом отпущения для официальной политики. Для Китая это означало, что за деятельностью иностранного торгового сообщества в Гуанчжоу теперь наблюдала не Ост-Индская компания, а британское правительство. Первый суперинтендант его величества прибыл в Макао в 1834 г. — это был лорд Уильям Непир. Поскольку он представлял не торговую компанию, а суверенную власть, ему поручили общаться только с мандаринами подобающего статуса, такими как цинский генерал-губернатор в южных провинциях, а не с торговцами 1ун-хана или таможенниками. Однако Пекин не уведомили об этих изменениях; и разумеется, он бы их не санкционировал в силу их абсолютной неприемлемости. Непир, прибывший из Макао в Гуанчжоу, стоял на своем. Ему приказали удалиться, он отказался, что стало причиной блокады. Он вызвал
596
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
пару военных кораблей и послал в Индию за войсками. Но торговля остановилась, и торговое сообщество стало проявлять беспокойство. По настоянию торговцев через две недели Непир с отвращением отступил обратно в Макао, где и умер от дизентерии. Обе стороны истолковали инцидент неправильно. Британцы восприняли его как национальное оскорбление, которое взывало об удовлетворении, — китайцы решили, что вмешательство государства в виде блокады или эмбарго может привести иностранцев к покорности.
Опьяненные этим триумфом, в дебатах 1836-1838 гг. другие высокопоставленные чиновники Цин выступали против легализации опиума и за введение более решительных мер, которые положили бы конец его продаже и употреблению. Линь Цзэсюй, способный ученый и опытный администратор, подчеркивал нравственный аспект дела: опиумная зависимость подрывала социальные отношения, столь важные для конфуцианского общества. Он соглашался с тем, что зависимых нельзя просто казнить. Их следует поощрять к исправлению, а также штрафовать. Но прежде всего необходимо остановить идущий в страну поток «отравы», приняв меры против опиумных притонов, торговцев, поставщиков и перевозчиков опиума. На посту управляющего провинций Хубэй и Хунань Линь Цзэсюй успешно проводил такую политику в жизнь. «Излучающий уверенность человека, который никогда в жизни не совершал серьезной ошибки», в начале 1839 г. он отправился в Гуанчжоу в качестве императорского уполномоченного по защите границ с особым поручением — «подрубить ствол у самых корней», то есть положить конец контрабанде опиума [14].
Уполномоченный Линь не терял времени зря. Он не только развернул пропаганду, задерживал торговцев опиумом и конфисковал все курительные трубки, но и смело нацелился на иностранных поставщиков. Он приказал им сдать без компенсации все наличные запасы опиума. Они отказались. Дня отвода глаз торговцы сдали ничтожную тысячу сундуков, после чего комиссар Линь потребовал, чтобы Ланселот Дент, главный преступник и глава одного из торговых агентств, предстал перед судом. Если его не выдадут, Линь угрожал казнить вместо него двух китайских торговцев. Новый британский суперинтендант в Макао, капитан Чарльз Эллиот, воспринял это как «непосредственную и неизбежную» прелюдию к войне. Как и Непир, он вызвал подкрепление, поспешно отправился в Гуанчжоу и там оказался в блокаде. Тем временем
597
ГЛАВА 15
Дент и не думал сдаваться, поэтому Линь Цзэсюй наложил эмбарго на торговлю. Он еще надеялся избежать войны, но для англичан она представлялась с каждым днем все более желательной.
В начале 1839 г. их надежды не осуществились. Суперинтенданту Эллиоту недоставало полномочий и средств для того, чтобы начать военные действия. Торговым агентствам, на руках у которых имелись немалые запасы опиума, в ожидании вероятной легализации было крайне необходимо получить беспрепятственный доступ к покупателям в Гуанчжоу. Проведя шесть недель в блокаде на острове Шамянь, Эллиот, как и Непир, пошел на попятную и получил разрешение вернуться в Макао. Линь Цзэсюй выиграл этот раунд. Двадцать тысяч сундуков (более тысячи тонн) опиума были переданы китайским властям и под усиленной охраной уничтожены в известковых ямах, как больной скот. Линь Цзэсюй лично следил за операцией и принес извинения духу Южного океана за то, что осквернил его воды «ядовитыми» стоками. О своих победах он регулярно докладывал императору. Более того, он написал королеве Виктории письмо, в равной мере сочетавшее в себе разумные доводы, отеческое увещевание, высокопарную риторику и бюрократическую прямоту.
Писем было два — одно так и не отправили, другое не дошло до адресата, но их тон и содержание были похожи. «Обычаи Неба распространяются на вас так же, как и на нас», — писал Линь королеве. Все народы знают, что для них благо, а что нет. Поднебесная делится с другими лишь благом — ревенем, чаем и шелком. Однако «некоторые дьявольские люди, подданные Вашего Величества, производят губительную отраву», а затем «соблазняют народ Китая покупать ее». Хотя государыня, конечно, не осведомлена о негодном поведении своих подданных, она должна знать о губительных свойствах этого вещества.
«Прославленная мощь нашего Небесного двора... может в любой момент решить судьбу [опиумных торговцев] наших подданных; но в своем милосердии и великодушии Небесный двор дает должное предупреждение, прежде чем нанести удар. Ваше величество ранее не получали официального уведомления... однако теперь я подтверждаю, что мы хотим навсегда избавиться от этого вредоносного снадобья... Не говорите, что вы не были своевременно предупреждены. Получив это послание, ваше величество, будьте любезны немедленно сообщить мне о мерах, предпринятых в каждом из ваших портов» [13].
598
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
Приведенный отрывок представляет собой перефразированный и сокращенный вариант перевода, выполненного Артуром Уэйли (1889-1966) в его работе, написанной на основе документов из архива Линь Цзэсюя, целью которой было представить Опиумные войны «глазами китайцев». Лучший переводчик своего поколения, Уэйли никогда не бывал в Китае, и история страны интересовала его куда меньше, чем ее литература, — и то и другое может объяснить существенную разницу между его переводом письма и тем вариантом, который приводят в большинстве других западных научных произведений. Уэйли, обладавший непревзойденным знанием письменного китайского языка, перевел иероглиф, который звучит как и, словом «иностранец», а не уничижительным «варвар». Уравнение и с «варваром», по-видимому, лежит на совести померанского миссионера, который в то время служил британской стороне переводчиком; в более ранних источниках, таких как дневники Макартни или Риччи, эта связь не прослеживается. Возможно, это была незначительная ошибка, но она всплыла в преддверии Опиумной войны и потому получила самую широкую огласку. Китайцы настаивали, что слово и означало всего лишь любые некитайские народы «на востоке» (англичане чаще всего приплывали на восточное побережье) — так же как мань означало «южане», жуп — «северяне», а ди — «люди с запада». Это были ориентировочные, а не оскорбительные понятия. Но англичане упорно отказывались считать и чем-либо, кроме неслыханного оскорбления, свидетельствующего о глубоком презрении лично к себе и ко всем нормам международного общения.
Последствия ошибки, если это действительно была ошибка, оказались огромными. Единственный крошечный слог отравил дипломатические отношения гораздо успешнее, чем опиум, и даже удостоился собственной статьи под номером 51 в англо-китайском Тяньцзиньском договоре, заключенном в 1858 г. Он искажал перевод других китайских иероглифов и извращал толкование целых текстов, сделав их куда более предосудительными на взгляд иностранных читателей. Он испортил англо-китайские отношения; он распространял расовые стереотипы; и он до сих пор накладывает отпечаток на большинство некитайских работ, посвященных истории Китая. Чтобы понять всю глубину его разрушительного действия, представьте, что в записях Британского государственного архива все упоминания «иностранного» или «иностранцев» заменены словом «wog» («черномазые»).
599
ГЛАВА 1 5
«Ни одно слово среди бесчисленных языков человечества не оказало на ход истории такого влияния, как китайский иероглиф и», — заметила Лидия Лю. Глубоко изучив предмет, она ничуть не сгущает краски, озаглавив свою книгу «Столкновение империй» [16].
За спорами об опиуме, торговых правах и коммерческом доступе, протоколе, дипломатическом представительстве и экстерриториальной юрисдикции зияла пропасть лингвистического недоразумения и взаимных подозрений. Непир и Эллиот были порядочными людьми, и происходящее чаще обескураживало их, чем раздражало. Казалось бы, англичан не должна была удивлять презумпция нравственного превосходства и международной значимости другой страны. Но, предположив в таком отношении куда больше презрения и высокомерия, чем было на самом деле, и сделав это оправданием собственной агрессии и ответных действий аналогичного характера (фраза «полуцивилизованные правительства, наподобие китайского» фигурировала в одном официальном заявлении Пальмерстона), они вели себя чересчур вызывающе.
Уполномоченный Линь Цзэсюй, еще один честный и добросовестный человек, пытался понять своих противников. Известно, что он расспрашивал американского врача о способах лечения наркомании, а также попросил перевести одну западную работу по международному праву (хотя что он сделал с ней дальше, неизвестно). Власти Цин могли быть на удивление прагматичными. В первом письме Линь Цзэсюя королеве Виктории содержался намек, что проблему опиума можно решить, заменив наркотик британским или индийским импортом менее пагубного характера. Что касается протокола, эта проблема уже была решена на примере русских. Договоры, заключенные в Нерчинске и Кяхте, признавали равный статус сторон1 и послужили началом прочных торговых отношений — русские торговые посольства регулярно прибывали в Пекин. Более удивительно,
1 Русские подданные имели ряд прав, которых не было у представителей других государств — например, в Пекине постоянно находилась Русская духовная миссия, которую при желании можно было использовать как дипломатическое представительство (но этого почти никогда не делалось). Но члены духовной миссии, чтобы иметь право находиться в маньчжурской столице, переходили в маньчжурское подданство и получали жалованье из цинской казны. Прибытие русских купцов в Пекин также было затруднено: основной объем торговли приходился на пограничные рынки в Нерчинске и Кяхте, как когда-то с монголами и тибетцами.
600
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
что, когда в 1830-х гг. Непир и Эллиот в Гуанчжоу требовали официального признания и экстерриториального права на отправление правосудия над собственными подданными, далеко на другом конце империи в Синьцзяне именно эти права фактически распространялись на граждан другого иностранного правительства.
В 1820-х гг. Синьцзян постоянно сотрясали вторжения и мятежи. Неприятности исходили из соседнего Коканда, независимого мусульманского ханства к западу от Кашгара, протянувшегося по обе стороны от старого Шелкового пути. Там после завоевания Синьцзяна императором Цяньлуном нашли убежище высокопоставленные члены братства Ходжей, бывшие правители Синьцзяна. Мусульманская солидарность и большой интерес к торговле в Синьцзяне позднее побудили Коканд поддержать восстания Ходжей и попытаться взять в свои руки местную торговлю. Цин решительно воспротивилась этим поползновениям, однако административные и военные расходы на удержание отдаленных городов-оазисов оказались слишком велики. Вместо этого в 1835 г. в Пекине с послом Коканда было подписано соглашение, которое, как и Нерчинский договор, иногда называют «первым неравноправным договором Китая». Коканд получил право на размещение постоянного политического представителя в Кашгаре и торговых представителей в пяти других городах, включая Яркенд (Шачэ), Аксу и Турфан (Турпан). Все эти чиновники обладали полными консульскими, судебными и полицейскими полномочиями в отношении соотечественников, находившихся в их юрисдикции, а также правом взимать с них торговые пошлины. Непир и Эллиот согласились бы и на меньшее.
Таким образом, примирение было возможно. Действительно, после перевода ряда военных и гражданских чиновников между Синьцзяном и провинцией Гуандун, правительство Цин в конечном итоге «применило уроки [Синьцзяна] к затруднениям с англичанами на китайском побережье» [17]. Но Коканд в отличие от Лондона не был так озабочен своим международным статусом и не имел парламента, стремившегося контролировать заключенные кокандским ханом договоры. Чтобы добиться согласия, представители хана приняли уникальное отношение Китая к внешним отношениям и подчинились даннической традиции. Для англичан это было невозможно так же, как для Линь Цзэсюя невозможно было отказаться от накопленного за две тысячи лет опыта, гласившего, что ладить с соседями (преиму¬
601
ГЛАВА 1 5
щественно хищными кочевниками) можно, только внушив им, что диалог означает подчинение, а торговля считается данью.
К середине 1839 г. кости были брошены. Дальше события развивались по инерции. В Гуанчжоу Линь Цзэсюй, успешно изъяв запасы опиума у иностранцев, потребовал, чтобы они дали расписку в том, что никогда больше не будут его ввозить. По совету Эллиота британцы, как обычно, отказались. Линь надавил на португальцев и добился изгнания британцев из Макао. Лишившись базы, Эллиот и его соотечественники отплыли через устье реки Чжуцзян на высокий необитаемый скалистый остров и бросили там якорь в защищенной бухте. (Остров, по их мнению, назывался «Гонконг».) Оттуда в конце 1839 г. они совершили несколько вылазок с целью реквизировать провизию с соседнего материка и приняли участие в ряде стычек на море с китайскими судами. Линь Цзэсюй сообщил императору о своих победах и укрепил подходы к Гуанчжоу; англичане занесли в вахтенный журнал потопленные джонки и стали ждать благоприятного момента. Направленная Эллиотом в Лондон просьба о подкреплении была отклонена министром иностранных дел лордом Пальмерстоном. Но затем под давлением опиумных баронов и крупных фабрикантов подкрепление было отправлено. В начале 1840 г. крупные морские и военные силы выступили из Индии.
Флот вез ко двору Цин письмо от Пальмерстона, который «требовал от императора сатисфакции и возмещения за ущерб, нанесенный китайскими властями британским подданным... а также за оскорбления, нанесенные теми же властями британской короне». В свете этого ни о каких переговорах не могло быть и речи. Флот должен был блокировать китайские порты, задерживать китайские суда и завладеть «какой-нибудь удобной частью территории Китая» до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об удовлетворении претензий, выраженная в подписанном договоре и согласованном возмещении понесенных убытков [18]. В письме упоминался опиум. Пальмерстон признавал, что Пекин имеет полное право его запрещать, однако утверждал, что, поскольку этот запрет не соблюдают даже китайские официальные лица, не раз замеченные в его нарушении, было бы несправедливо ожидать уважения к этому запрету от иностранных поставщиков (под этой логикой могли бы подписаться все контрабандисты мира).
602
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
Британский флот прибыл к реке Чжуцзян в июне 1840 г., но не стал испытывать на прочность новые укрепления, которые построил Линь в Гуанчжоу. Не доставили и письмо Пальмерстона. Вместо этого флот снова вышел в море, оставив лишь символические силы, чтобы блокировать устье реки. Линь решил, что его укрепления выполнили свою задачу и испугали противника. Но через десять дней флот снова появился, на этот раз у берегов архипелага Чжоушань в провинции Чжэцзян. Город подвергся мощному обстрелу и был вынужден сдаться; британцы оккупировали его. Затем флот двинулся дальше на север, вокруг полуострова Шаньдун к устью реки Бэйхэ, на которой стоял Пекин. Теперь письмо Пальмерстона было доставлено; забота о безопасности столицы убедила императора Даогуана отправить посла, чтобы договориться с англичанами. Тем временем уполномоченный Линь, столь основательно недооценивший силу противника и подвергший столицу опасности нападения, попал в опалу и лишился должности.
Новый посланник и полномочный представитель Цин, провинциальный генерал-губернатор по имени Цишань уговорил англичан вернуться в Гуанчжоу, пообещав, что тогда их претензии будут удовлетворены в полном объеме. Поскольку Гуанчжоу теперь тоже находился под прицелом британской судовой артиллерии, в январе 1841 г. было достигнуто соглашение: британские суперинтенданты в Гуанчжоу получали доступ к цинским чиновникам, Гонконг переходил в руки Британии; понесенные британской стороной убытки воз- #
мещались в сумме шести миллионов долларов, торговля должна была возобновиться. Взамен англичане должны были уйти с Чжоушаня. Однако, хотя эти условия немедленно выполнили, соглашение вскоре разорвали в одностороннем порядке. Император пришел в такой ужас от размеров выплат и особенно от уступки Гонконга, что лишил должности и Цишаня. В то же время Пальмерстон был так потрясен ничтожностью достигнутого (никакого возмещения за уничтоженный опиум, никаких новых портов, только «бесплодный остров»), что тоже лишил должности своего полномочного представителя.
В августе 1841 г., после замены официальных представителей, война возобновилась. Британский флот дважды подходил к Гуанчжоу, обстреливал береговые батареи, топил джонки и высаживал десант. Отлично проявил себя колесный пароход со стальным корпусом, неподвластный ветру и приливу и основательно посрамивший ки¬
603
ГЛАВА 1 5
тайские корабли, которые все еще приводили в движение педалями. В сущности, технологический разрыв был не таким большим; китайские верфи и литейные заводы вскоре начали выпускать надежные копии всего, что имели в своем распоряжении британцы. Но на пропасть между тем, как именно и с какой уверенностью пользовались этими технологиями доиндустриальный Китай и индустриальная Европа, было больно смотреть. Единственная морская контратака Цин закончилась катастрофой: всего за несколько дней была уничтожена семьдесят одна джонка, а береговая линия Гуанчжоу разрушена до основания.
Морское превосходство Британии было неоспоримым, но китайцы по-прежнему полагали, что на суше их армия сможет одержать победу. В Гуанчжоу отправили войска и собрали местное ополчение. Кроме того, с одобрения властей вооружались большие отряды разгневанных жителей провинции Гуандун и храбрецов под руководством местной знати или народных вождей, чтобы дать отпор захватчикам. В деревне Саньюаньли к северу от Гуанчжоу в мае 1839 г. эти нерегулярные части массово восстали после того, как иноземные захватчики подвергли насилию местных женщин. Под проливным дождем ополченцы поднялись в атаку и ненадолго оттеснили индобританскую пехоту, причинив ей незначительные потери. Обросшая безумными подробностями «битва» при Саньюаньли, о своей непричастности к которой поспешили заявить власти Гуанчжоу, только что договорившиеся о перемирии, приобрела мифические масштабы: ее стали считать первой победой народного сопротивления в борьбе с иностранцами. «Это были Банкер-Хилл и Аламо1, вместе взятые», — утверждает американский специалист по повстанческим движениям Южного Китая Фредерик Уэйкман. События в Саньюаньли спровоцировали стремительный рост других нерегулярных групп и подпольных организаций, действовавших независимо от властей Цин и часто не повиновавшихся им [19]. Среди восставших распространилось убеждение, что Цин не способна справиться с иностранцами
1 Битва при Банкер-Хилле в 1775 г. — первое крупное сражение между английскими войсками и ополчением североамериканских колоний. Оно окончилось победой англичан, которые, впрочем, понесли неожиданно большие потери. Битва при Аламо 1836 г. — самое известное сражение времен войны Техаса и Мексики, закончившееся победой мексиканской армии, но увенчавшее славой героически сопротивлявшихся техасцев.
604
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
и, возможно, даже действует с ними заодно. В этом вулкане антимань- чжурских настроений вскоре после Саньюаньли родилось восстание тайпинов.
Новый британский полномочный представитель прибыл к берегам Гонконга в августе 1841 г. вместе с обширным экспедиционным корпусом и еще более обширным списком не подлежащих обсуждению требований. Далее британские войска захватили Сямэнь (Амой), снова взяли Чжоушань (Чусан), а затем расположенный неподалеку Нинбо. После зимовки, получив крупное подкрепление, в 1842 г. британский флот поднялся вверх по Янцзы. Маньчжурские «знамена» оказывали яростное сопротивление, англичане обстреливали берег из пушек, не выбирая целей, обе стороны неограниченно грабили и мародерствовали. Шанхай остался незащищенным, падение Чжэнь- цзяна сделало невозможным движение по Великому каналу, а Нанкин спасло в последний момент только предложение переговоров.
Император Даогуан еще надеялся откупиться от англичан, но в ходе переговоров его представители обнаружили, что мало что могут сделать для того, чтобы избежать капитуляции. Нанкинский договор 1842 г., оставивший много поводов для дальнейших обсуждений и взаимных упреков, удовлетворил британские требования и был ратифицирован обеими сторонами. Возмещение, увеличенное до двадцати одного миллиона долларов и подлежащее уплате в рассрочку (с процентами), легло тяжким бременем на истощенные финансы империи. Пять портов, включая Гуанчжоу и Шанхай (где была быстро организована крупная «концессионная зона», доступная лишь иностранцам), открылись для британской торговли и поселений под контролем британских консулов. Гонконг оставался за Британией. Унизительные выражения, замеченные британскими переводчиками, были официально запрещены. Об опиуме в договоре сказано мельком1. Поскольку Британия признала, что в Китае опиум запрещен, наркотик оставался контрабандой, но, поскольку британцы не
1 Опиум упоминается в статье 4 Нанкинского договора: «Император Китая соглашается уплатить сумму 6000000 долларов, как соответствующую стоимости опия, который был выдан в Кантоне в марте 1839 г. в качестве выкупа за жизнь суперинтенданта и подданных ее величества, заключенных в тюрьму и подвергнутых угрозе смерти китайскими сановниками». См.: Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925). М., 1927. С. 46. — Прим.ред.
605
ГЛАВА 15
отказались им торговать, контрабанда продолжалась и даже процветала под отеческим присмотром британского флота.
За Нанкинским договором 1842 г. быстро последовали другие. Ошибочно предположив, что держать британцев в узде поможет только поддержка других конкурирующих наций, правительство Цин подписало договоры с американцами и французами (и позже с другими странами). Оба эти соглашения разрешали вести в Китае миссионерскую деятельность — протестантской евангелической церкви в случае американцев, католической в случае французов. В договорах подробно излагались условия экстерриториального правосудия и, в случае американцев, оговаривалась возможность изменения условий договора по истечении двенадцати лет. Кроме того, в них содержалась статья о «режиме наибольшего благоприятствования», в соответствии с которой любые уступки, предоставленные другим нациям, могли быть истребованы страной, подписавшей договор. Поскольку англичане в приложении к Нанкинскому договору в 1843 г. вытребовали для себя такие же условия, иностранные державы, отнюдь не собиравшиеся ссориться между собой, с удовольствием поддерживали друг друга в самых возмутительных притязаниях.
Воспользовавшись американским положением о «пересмотре условий» договора через двенадцать лет, британцы в 1854 г. ужесточили свои требования, выбив доступ к внутренним областям Китая и постоянное посольство в Пекине. Поскольку для поддержания этих требований была развязана еще одна война, последовали неизбежные уступки. Так называемая система договоров по сути представляла собой совместное предприятие европейских держав, направленное на последовательное ослабление суверенитета Китая путем присвоения крупных секторов его экономики, его внешних связей, его общества (в «договорных портах» и зонах концессий) и территории (в Гонконге, а позднее в Маньчжурии и Синьцзяне). Нанкин был всего лишь первой ступенью.
ТАЙПИН И ТЯНЬЦЗИНЬ
Череда поражений, пережитых Цин в Опиумной войне 1839-1842 гг., самой тяжелой за двести лет правления династии, оказалась не худшей из тех, что ее ожидали. Основательно потрепанная чужеземцами, ме-
606
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
нее чем через десять лет империя столкнулась с внутренними беспорядками ошеломляющего масштаба. Разумеется, эти две катастрофы были непосредственно связаны. Если бы Цин не пережила только что внешнеполитическое унижение, если бы ее войска не были наголову разбиты, а ее экономика не была разрушена, то никаких восстаний, возможно, и не возникло бы. В то же время без периодической поддержки (или в некоторых случаях невмешательства) западных стран Цин едва ли смогла бы их подавить. Отношения с иностранными державами становились все более сложными. Искалечив «старый, нелепый, когда-то грозный фрегат», страны Запада решили оставить его на плаву. Вместо того чтобы возиться с обломками, они позаботились о его безопасности во имя спасения оставшегося на борту имущества.
Волнения и беспорядки распространились почти по всей территории Китая. Армии «красных повязок», сражавшиеся за реставрацию Мин (минских самозванцев с избытком хватало в любые времена), терроризировали Гуандун в середине 1850-х гг. Мусульманские сепаратисты захватили Юньнань в 1855 г. Ряд других мусульманских восстаний сотрясал Шэньси и Ганьсу начиная с 1862 г. Множество хорошо вооруженных крестьянских банд, известных под общим названием няньцзюнъ, разоряли Аньхой и Цзянсу севернее реки Хуайхэ по крайней мере с 1851 г. Хуанхэ, за столетия не ставшая смирнее, взламывала плотины и вызвала разрушительные наводнения, пик которых пришелся на 1855 г., когда она направилась к старому устью севернее Шаньдуна. Между тем братства «Триады» испытывали свои силы, захватив Сямэнь, а затем Шанхай в 1853-1855 гг. Эта и другие подпольные организации мобилизовались среди сельских масс. В горных районах восставали этнические меньшинства. На побережье кишели пираты. Были и другие очаги беспорядков, однако все они были местными и слабо скоординированными. И все они померкли на фоне восстания тайпинов, «одного из величайших переломных событий в китайской истории» или, как его назвали авторы газеты Times и журнала North American Review, «величайшей революции, которую до сих пор видел мир» [20].
Будь то революция, гражданская война или просто восстание1 — движение тайпинов прокладывает повстанческий водораздел между
1 Возможно, правильнее говорить о религиозной войне — первой в китайской истории.
607
ГЛАВА 1 5
династическими претендентами прошлого и изобретателями идеологии будущего. Оно было сразу и местным атавизмом, и радикальным броском вперед — народной революцией, организованной идеологизированными простаками, азиатским крестьянским восстанием, приправленным иудео-христианским мессианизмом. Во всей своей ярости оно бушевало более десяти лет (1850-1864). От Гуандуна и iy- анси на дальнем юге оно протянулось до мест в нескольких днях пути от Пекина, затронув шестнадцать из восемнадцати провинций империи и превратив сердце страны вдоль Янцзы в непрерывное поле боя. Его размах казался невиданным в то время, и, возможно, остается таким и сейчас. Аналитики пытались подсчитать число жертв: согласно Рейли, «двадцать миллионов человек расстались с жизнью» (Рейли), по Спенсу, их было «двадцать миллионов или больше», а Тэн насчитал число «между 20 и 40 миллионами». Не все погибли в сражениях: голод, губительная междоусобица и случайное душегубство и прочие невзгоды собрали богатую жатву, равно как и борьба за власть и чистки среди вождей тайпинов. Тысячи погибли просто от бесприютности, хотя и сожгли целые библиотеки, чтобы согреться (в том числе три из четырех рукописных экземпляров «Четырех хранилищ» императора Цяньлуна). Как всегда, чем больше потери, тем меньше ясности в их числе.
В течение нескольких бурных десятилетий в сердце этого феномена стоял человек по имени Хун Сюцюань (1814-1864), представитель большой общины народности хакка в провинции 1уандун. Хакка утверждали, что их предками были те ханьские переселенцы, которые в первых рядах отправились на юг вместе с Восточной Цзинь, когда в 311 г. под ударами сюнну пал Лоян (об этих событиях рассказывал в чудом уцелевшем письме согдийский купец Нанай Вандак). Часть трудолюбивых и упрямых хакка с тех пор мигрировала дальше в Юго- Восточную Азию; за ними последовали другие. Но те, кто остался жить на окраинах империи, вполне испытали на себе налоговое, экологическое и демографическое давление того времени. От Хун Сюцюаня, миловидного юноши и подающего надежды ученого, его обедневшая семья и односельчане ожидали многого. Но, как и бесчисленное множество других экзаменационных кандидатов, он обнаружил, что груз ожиданий слишком велик. Все его попытки пройти уездные экзамены оканчивались неудачей. Он пробовал четыре раза, и однажды, когда он входил в экзаменационный комплекс в Гуанчжоу, ему в руки
608
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
сунули стопку брошюр с переведенными отрывками из Библии, выпущенных сингапурским филиалом Лондонского миссионерского общества. Хун взял их, чтобы изучить как-нибудь потом.
В отличие от иезуитов в XVII веке — всесторонне образованных священников, сосредоточивших все свои таланты и проповеднический пыл на дворе и чиновничестве, протестантские проповедники действовали на более низком социальном уровне. Вместо того, чтобы проводить доктринальные параллели с конфуцианской традицией и надеяться на крещение империи сверху вниз, они старались спасать отдельные души и опровергать ереси. Слово Божье, как можно более точно переведенное, широко распространенное и самоотверженно подкрепленное личным примером, сочли достаточным для выполнения этой задачи. На Хун Сюцюаня оно действительно подействовало весьма таинственным образом. Хун, теперь работавший в деревне школьным учителем, начал видеть галлюцинации и необычные сны1. Когда позднее он все-таки решил прочитать врученные ему брошюры под названием «Добрые слова для увещевания в нынешние времена», он понял, что его сны были на самом деле видениями. Бородатый господин с роскошными волосами, вручивший ему меч, был сам Господь Бог, а молодой человек, который научил его обращать меч против злых демонов и затем принял его как брата, был Иисус Христос. Поэтому Хун должен быть стать следующим сыном Божьим, китайским сыном Бога. Очевидно, меч означал, что ему доверена трудная миссия искоренить идолопоклонство и совершить для Китая чудо искупления, которое его старший брат Иисус совершил в Западном мире.
Открыто объявив о своей цели и проявив себя вдохновенным проповедником, Хун обратил в новую веру друзей и родственников в сельском Гуандуне и начал уничтожать местные буддийские и конфуцианские святыни. Однако это пришлось по нраву не всем. Он был вынужден переместиться из Гуандуна в соседнюю Гуанси, где успешно сформировал общину «поклоняющихся Богу». В 1847 г. Хун вернулся в 1уанчжоу и там расширил свое знакомство с Библией благодаря беседам с баптистским миссионером из Теннесси. Преподобный Айзе- кер Джейкокс (sic) Робертс первым воспользовался теми возможно¬
1 В его житии говорится, что видения впервые пришли к нему во время тяжелой, почти смертельной болезни, настигшей его после второй неудачи на экзаменах.
609
ГЛАВА 1 5
стями, которые давал миссионерам китайско-американский договор. Человек непростого характера, он позже сообщал, что Хун, хотя и был готов к крещению, так и не получил его: он, Робертс, не был «полностью удовлетворен его подготовкой» [21].
Вернувшись к «поклоняющимся Богу» в ущелья Гуанси, Хун снова занялся вербовкой сторонников. Его миссия стала приобретать отчетливо политический и военный характер. Община запасала оружие и порох, разрабатывала условные сигналы, занималась строевой подготовкой и строила планы. Кроме рассказов о своих видениях и уничтожения святынь Хун и его ближайшие подвижники, получившие некоторое образование, начали работать над соединением своей искренней веры с тем, что им было известно об историческом прошлом Китая. Отправной точкой и источником вдохновения для их военизированной организации, по-видимому, послужили «Чжоу ли» («Установления Чжоу») — фундаменталистский текст, описывающий утопическое общество, в котором имена соответствовали реальности, написанный предположительно Чжоу-гуном и с тех пор не раз вдохновлявший реформаторов. В те далекие времена, как полагали «богомольцы», Китай первым получил «изначальное учение Небесного Отца». Затем он поделился этим учением с большим миром, где оно выжило и было обновлено. Но в самом Китае, первом доме Неба, оно было перевернуто с ног на голову чередой «дьявольских» захватчиков после падения империи Хань. Дорога Чжунго ушла в сторону от истинного пути. Маньчжуры — «бесы» или «демоны», как их называли тайпины — были последним воплощением этих «дьявольских» узурпаторов, и, подобно святилищам и идолам, их следовало уничтожить. Только тогда можно будет восстановить на земле Тайпин Тяньго, «Небесное государство великого благоденствия». Этот девиз, под которым движение приобрело известность, превосходно сочетал в себе христианское Тяньго, «Царство Небесное», с чжоуским или даосским «великим благоденствием».
Другие тогдашние движения, такие как «красные повязки» («красноголовые») и «Триада», также выступали против маньчжуров и Цин, которых считали чужаками и узурпаторами. Они хотели перевести часы обратно на 1б44г. и восстановить империю Мин. Но тайпины выступали против Цин как последней в длинной череде еретических чужеземных династий. По их мнению, часы следовало перевести на 221г. Это вполне согласовалось с важными новыми тенденциями
610
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
тогдашней мысли. Ученые XVIII века, тоже не питавшие никакой симпатии к Цин, обвиняли в падении коренной империи Мин неоконфуцианство Чжу Си (автора «Четверокнижия» и связанного с ним «изучения всех вещей») и Ван Янмина (и его опасно зыбкое «прирожденное чувство» правильного и гуманного). Поэтому они тоже обращались к старинным традициям и особенно к империи Хань, в пору которой классические тексты еще сохраняли первозданную чистоту и не были искажены дальнейшими толкованиями. Практикуя так называемые доказательные расследования, эти ученые изучали классику, вооружившись научными методами лингвистики, географии и астрономии, и таким образом восстановили определенную жизнеспособность конфуцианских исследований.
Ранее другой минский лоялист Ван Фучжи (ум. 1692) развернул аналогичную антиманьчжурскую аргументацию, но с совершенно иными результатами. Подвергнув сомнению господствовавшее представление о том, что чужеземные захватчики всегда склонялись перед более развитой культурой Чжунго и постепенно ассимилировались ею, Ван Фучжи предположил, что ханьские и неханьские ценности на самом деле несовместимы. Чуждые режимы искажали китайскую цивилизацию, а не растворялись в ней, и это предвидел Конфуций. Поэтому, писал Ван Фучжи, «уничтожение [чужаков] ради спасения наших людей можно считать гуманным, обман и притеснение их можно считать проявлением верности, присвоение их земель и имущества... можно считать праведным» [22]. Ван Фучжи искал лишь обоснование для протеста против маньчжурской империи Цин, но в этих настроениях философы других времен обнаружили «первые нерешительные поползновения в сторону национальной традиции». Эти этноцентрические и всеобъемлющие поиски еще не тянули на «новую органическую традицию» ханьской самоуверенности. Но Хун Сюцюань и тайпины внесли значительный вклад в эксперименты в этой области, хотя их философия в целом была «фантастической, иллюзорной и интеллектуально неприемлемой для высокопоставленных китайцев того времени» [23]. Случайно или нет, тайпины черпали из тех же источников, которые питали китайский национализм более позднего периода: антипатии цинскому империализму на основании его чуждого происхождения, стремления вернуться к разумно организованному аграрному обществу, устойчивых представлений о срединном положении Китая (даже в рамках христианской
611
ГЛАВА 15
вселенной), стремления к социальной справедливости и равенству полов, а также поддержки общего китайско-ханьского самосознания через происхождение и культуру, а не династические мандаты и историографические санкции.
Спустя три года в окрестностях гуйпина в Гуанси Хун и его сообщники собрали около двадцати тысяч последователей. Некоторые из них обладали полезным опытом: они ранее состояли в пиратских шайках и повстанческих отрядах или работали на местных рудниках. Многие из них, мужчины и женщины, были из народа хакка. У некоторых обнаружился настоящий талант к военной тактике и организации. В общине поддерживали строгую дисциплину: опиум, алкоголь, табак, азартные игры и секс были запрещены как из религиозных, так и из практических соображений. Деньгами и имуществом пользовались сообща, бинтование ног запретили, косы обрезали и разрешали отращивать волосы. Довольно часто собирались для молитвы и бесед, каждый седьмой день отводили для отдыха и богослужения. Все это едва ли могло остаться незамеченным, и в конце 1849 г. «поклоняющиеся Богу» с трудом избежали преследования властей. Вскоре после этого Хун официально объявил себя «царем небесным», и вся его община вышла из района гуйпин и направилась на север через холмы к водоразделу Янцзы.
Миграция вскоре превратилась в крестовый поход. «Великий поход тайпинов» длился более двух лет (1851-1853) и вывел их из гуй- пинского захолустья на главную сцену в Нанкине. Иногда его сравнивают с исходом Моисея из Египта или хиджрой пророка Мухаммеда, однако в военном отношении этот поход более явно напоминал разразившиеся после хиджры арабские завоевания. Если искать ассоциации ближе к дому, самым похожим прецедентом было стремительное продвижение Хуан Чао в 879-880 гг., когда он повел армию повстанцев на север тем же маршрутом, чтобы уничтожить империю Тан. Как и Хуан Чао, тайпины продвигались с переменным успехом. Несмотря на фанатизм, взять хорошо защищенные города Гуйлинь и Чанша им не удалось. Они собирали тысячи сторонников и перебежчиков, но чем больше становилось это небесное воинство, тем больше ему требовалось продовольствия и боеприпасов. В этом отношении, хотя захват Юэчжоу на озере Дунтинху тоже сыграл важную роль, поворотным моментом стало взятие городов Учан и Ханькоу в среднем течении Янцзы. Получив оружие, деньги, припасы и прежде всего ко¬
612
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
рабли, армии тайпинов начали передвигаться по реке. Аньцин ниже по течению сдался в начале 1853 г., а затем, сопровождаемый массовой резней всего маньчжурского населения, пал высокостенный мегаполис Нанкин. За ним последовал Чжэньцзян у слияния реки с Великим каналом. В марте 1853 г. «царь небесный» с помпой вступил в Нанкин: его несли в золотом паланкине, на плечах у него красовалась драконья мантия китайского императора, а на голове — позолоченная корона христианского короля.
Прибыв в «южную столицу», где основатель Мин провозгласил начало своего правления, командиры тайпинов, похоже, решили последовать его примеру. Вместо того чтобы двигаться дальше к Пекину, они задержались для создания нового Иерусалима и наслаждений плодами победы. Движущая сила и эффект неожиданности были утрачены, паника улеглась. Когда через два месяца наступление возобновилось, более мелкие экспедиционные армии, уже без «царя небесного», направились на север в Пекин и на запад вверх по Янцзы, где силы Цин успели отбить Аньцин и Учан. Но там повстанцев уже ожидали. Чтобы помешать их переправе, с Хуанхэ вывели все корабли; маньчжурские «знамена» собрались, готовые дать решительный отпор. Тайпины повернули на запад в Кайфэн и получили некоторую помощь от повстанцев-няньцзюней. К тому времени, когда они подошли к Пекину, начало сказываться отсутствие кавалерии. Хуже того, начиналась северная зима. Это был новый опыт для народа хакка из Гуанси. Повстанцы остановились за пределами Тяньцзиня и не пошли дальше. Подкрепления прибыли в 1854 г., и кампания возобновилась, но только для того, чтобы обернуться чередой бессмысленных осад. В 1855 г. ее прекратили.
Поход на запад имел больший успех. Повстанцы закрепили за собой Аньцин и вернули Учан, но позже снова уступили его провинциальной армии из Хунани. С силами, доходившими до сотен тысяч человек, и контролем над жизненно важным коридором Янцзы на расстоянии около пятисот километров, государство тайпинов как будто сидело верхом на империи. Сучжоу, Шанхай и другие богатые города дельты оказались под угрозой. Торговля в регионе замерла. На тайпинов обратил внимание большой мир. Англо-американские миссионеры, почувствовавшие триумф, о котором не смели даже мечтать, призывали поддержать повстанцев. Преподобный У. А.П. Мартин ожидал, что они «совершат в империи революцию, открыв ее
613
ГЛАВА 15
обширные провинции проповедникам Евангелия» [24]. Французы отнеслись к происходящему скептически: вандалы оскверняли католические образы наравне с буддийскими и конфуцианскими. Другие иностранные державы, первоначально настроенные оптимистично, стали более осторожными, когда северная экспедиция повстанцев потерпела неудачу; армия Цин при этом прочно держалась в холмах за Нанкином вокруг гробницы императора Хунъу. Кроме того, у всех наблюдателей вызывала глубокие сомнения неопытность тайпинов, особенно после того, как их литературное творчество было тщательно изучено и наружу начали просачиваться полученные из первых рук сведения о Небесном государстве.
Иностранцы, дошедшие до Нанкина, не могли не оценить дисциплину тайпинов и их преданность делу. На них произвело большое впечатление их идеализм и пуританское воздержание, неведомое другим ополченцам того времени, важная роль, отведенная женщинам (включая военное командование), всепроникающий дух братства и совместное пользование ресурсами. На бумаге и в заметной степени на практике Тайпин Тяньго было в равной мере царством и республикой. Мужчины и женщины жили отдельно, те и другие пользовались равными правами, и всем были предоставлены равные наделы земли. Однако во всем ощущалась наивность и самонадеянность. Даже миссионеры были ошеломлены невежеством тайпинов; они приходили в ужас при виде жертвоприношений животных в тайпинских часовнях, их оскорбляли покровительственные высказывания о том, что «Наш Господь (то есть Хун) — это и ваш Господь», их приводили в замешательство вопросы тайпинов, касавшиеся личных особенностей Бога: «Насколько высок Бог? Насколько он широк в плечах? Большой ли у него живот? Он пишет стихи? Как быстро?» и т. д. [25]
Этот список вопросов возник в ответ на обращенный к тайпинам список вопросов политического характера, составленный британской миссией в Нанкине в 1854 г. Голос англичан в этом вопросе был решающим и, хотя первоначально Британия колебалась, ее отношение к тайпинам постепенно испортилось. Тайпинские правители — старшие помощники Хуна, недавно коронованные как цари четырех сторон света Небесного государства — вели себя с иностранцами так же неуважительно, как любой цинский чиновник. И они, и сам Хун уже погрязли в роскошной жизни, окруженные наложницами, что противоречило и десяти заповедям, и аскетичному образу жизни
614
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
их трудолюбивых подданных. Внутри тайпинского руководства возникли глубокие разногласия. В 1856 г. страшная кровавая битва унесла десятки тысяч жизней: были свергнуты два «царя» и перебиты все их сторонники. Небесное государство всеобщего благоденствия стало больше похоже на адское царство великих чисток Именно это, а также военные неудачи движения настроили международное мнение против тайпинов и в пользу Цин.
Для Цин голос англичан также оказался решающим. Англичане обладали самым большим флотом — единственным способным снова открыть Янцзы. Молодой император Сяньфэн (пр. 1851 -1861), крайне подозрительно относившийся к англо-тайпинским контактам и в целом не доверявший иностранцам, попросил англичан о военно-морской поддержке в борьбе с тайпинами. Англичане отклонили просьбу, сославшись на нейтралитет. Другие державы придерживались такой же позиции, хотя совершенно не скрывали своих контактов с повстанцами, хотя бы для того, чтобы припугнуть Цин. Однако на деле англичанами двигали иные соображения: они только что выдвинули требование о пересмотре договора 1842 г. и были уверены, что тайпинская угроза поставит двор Цин в невыгодное положение и заставит его пойти на уступки.
Пересмотр договора означал его переписывание. При поддержке французов и американцев англичане требовали открыть больше портов, предоставить им широкий торговый доступ в Китай, разместить в Пекине постоянное посольство, легализовать торговлю опиумом, покончить с пиратством и отменить внутренние транзитные пошлины. Это был первый список требований, но, как и в случае с предыдущим договором, вскоре нашелся повод его расширить. Чередование переговоров с артиллерийскими обстрелами весьма напоминало события, предшествовавшие заключению первого договора. Переговоры начались, но были приостановлены, когда в конце 1856 г. принадлежавшая Китаю, но базировавшаяся в Гонконге лорча (маленький грузовой корабль) была заподозрена в пиратстве и захвачена властями Гуанчжоу. Корабль назывался «Стрела», и его юридический статус был весьма спорным. Но этого инцидента оказалось достаточно, чтобы Британия развязала «войну “Стрелы”» (1856-1860).
Несмотря на то что в это же время Британия вела войны в Крыму и в Индии (там бушевало восстание сипаев), у нее нашлось достаточно кораблей для англо-французского экспедиционного корпуса.
615
ГЛАВА 1 5
Объединенные войска штурмовали Гуанчжоу, захватили и депортировали губернатора, заняли город, а затем отплыли на север. В ап- реле-мае 1858 г. англо-французские войска взяли укрепления Дагу в устье Бэйхэ и достигли Тяньцзиня. Пекин снова был оставлен на милость иностранцев, и Цин опять капитулировала. Результатом стал крайне невыгодный для Китая Тяньцзиньский договор. Поскольку теперь англичанам и французам требовалось компенсировать еще больше оскорблений и возместить еще больше убытков, они выдвинули такие тяжелые условия, что даже один из участников переговоров с их стороны посчитал их необоснованными. «Мы просим или, скорее, диктуем то, чего... китайцы не могут гарантированно обещать и чего, по всей справедливости, от них нельзя ожидать» [26]. В дополнение к первому списку англичане и французы потребовали открыть еще шесть портов, четыре из них находились в тщательно охраняемых районах Тайваня, Шаньдуна и Маньчжурии. Янцзы, а вместе с ней самые богатые провинции империи, должны были открыться для внешней торговли сразу после подавления восстания тайпинов. На реке открывались четыре порта, включая Нанкин и Ханькоу. Перемещения в портах и их окрестностях становились беспрепятственными, а тем, кто хотел отправиться дальше, следовало предоставить паспорта. Христианские проповедники получали защиту (принять участие в экспедиционном корпусе французов вынудили нападения на католических миссионеров). Британского посола в Пекине могли сопровождать семья и слуги — всех их следовало подобающим образом разместить. Опасное слово и запрещалось использовать в отношении иностранцев. Импорт опиума, хотя его употребление по-прежнему оставалось вне закона, надлежало легализовать при условии разумной таможенной пошлины.
Из всех этих требований наименее приемлемым оказалось постоянное проживание британского посла в Пекине — так же как это было шестьдесят пять лет назад, во времена посольства Макартни. Главным образом из-за этого двор так долго увиливал от ратификации договора. В 1859 г. на фоне продолжающихся переговоров китайцам удалось отбить новое нападение англо-французского отряда на укрепления Дагу. Этот неожиданный триумф воодушевил цинский двор, побудив совершенно отказаться от обсуждения договора, и заставил иностранцев действовать более решительно. Через год около двадцати тысяч британских и французских войск штурмовали Дагу, захватили Тяньцзинь,
616
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
а затем, распаленные известиями о казни попавших в плен однополчан, разрушили летнюю резиденцию цинских императоров в Жэхэ. Летний дворец близ Пекина Юаньминюань, причудливый китайский Лувр, построенный для императора Цяньлуна иезуитами, был разграблен и сожжен. Хотя для мировой архитектуры это была не слишком большая потеря, престижу Цин она нанесла тяжелейший удар.
Несмотря на отсутствие императора — он как раз вовремя бежал в Маньчжурию — двор в тот же день запросил мира. Переговоры, результатом которых стала Пекинская конвенция I860 г., интересны не столько обозначенными в них условиями (ратификация договора 1858 г., еще одно крупное возмещение убытков, добавление части полуострова Цзюлун к Гонконгу, превращение Тяньцзиня в открытый порт), сколько их участниками. От имени двора на переговорах выступал князь Гун, брат императора Сяньфэна, проявивший себя как реалистичный и находчивый политик. Он играл ведущую роль в международных отношениях империи в течение следующих тридцати лет, завоевав уважение своих противников и репутацию смелого реформатора. Когда император Сяньфэн умер в возрасте тридцати лет через год после заключения Пекинской конвенции, его мать, вдовствующая императрица Цыси, позаботилась о том, чтобы после него трон достался несовершеннолетним правителям. Это обеспечило ее господство, но ввело элемент неопределенности в престолонаследие. Князь Гун был одним из тех, кто обеспечивал порядок, преемственность и реалистичную политику, благодаря которым этот период получил название чжунсин, «реставрация».
Другим новичком на переговорах стала Россия. Воспользовавшись тем, что Цин запуталась в отношениях с западными державами и не могла избавиться от тайпинов, царское правительство снова подняло вопрос о северо-восточных границах Маньчжурии. Российские экспедиции повторно исследовали Хэйлунцзян (Амур) и нашли крайне мало признаков маньчжурской администрации к северу от нее и в длинной прибрежной области к востоку от ее притока Усули (Уссури). Цин утверждала, что вся эта обширная территория является частью ее маньчжурского наследия, однако запретила создавать ханьские поселения там или в любых других областях Маньчжурии. Русские претендовали на этот район главным образом ради возможности приобрести в его самой южной оконечности незамерзающий тепловодный порт на Тихом океане.
617
ГЛАВА 15
ПРАВИТЕЛИ ЦИН в 1795-1911 гг.
Цыси
(вдовствующая
императрица,
Русско-китайские переговоры по этому вопросу совпали с переговорами между англо-французскими войсками и Цин по Тяньцзиньскому договору Умело вклинившись в роли посредника, втайне пообещав поддержку Цин и обратив в свою пользу все ее слабости, русские дипломаты добились подписания договора, «который открыл всю северную границу империи Цин от Маньчжурии до Синьцзяна для политического и коммерческого влияния России»; более того, последующая демаркация маньчжурской границы отдала России всю территорию к северу от Амура и к востоку от Уссури [27]. Там через некоторое время был построен Владивосток — единственный в России тихоокеанский порт, пригодный к использованию круглый гол.
В Нанкине «поклоняющиеся Богу» тайпинского царства с интересом наблюдали за всеми этими событиями. Однако они не предпринимали никаких попыток воспользоваться ими до 1861 г., когда было уже слишком поздно. В том году войска тайпинов двинулись на восток в дельту Янцзы, заняли Сучжоу, затем Ханчжоу и Нинбо и угрожали Шанхаю. Восставшие заверили иностранцев, что их концессии и торговые предприятия не пострадают, и действительно, в оккупированном договорном порту Нинбо тайпины вели себя вполне образцово. Но западные державы к этому времени уже добились от Пекина выполнения всех своих требований и хотели мирно наслаждаться новыми привилегиями, особенно доступом к портам Янцзы. Поэтому они не меньше Цин были заинтересованы в том, чтобы покончить с восстанием. Империи Цин предоставили пушки и канонерские лодки, транспорт, боеприпасы и финансовые займы. Вместе с войсками Цин сражались знаменитые подразделения добровольцев, состоявшие в основном из китайских нерегулярных частей, однако
618
АГОНИЯ ИМПЕРИИ. 1760-1880
снаряженных и обученных по западному образцу и находившихся под командованием французских, американских и британских офицеров. Отряд под командованием французов назывался «армией, не знающей поражений», его англо-американский эквивалент — «всегда побеждающей армией». Это был всего лишь перевод названий, выбранных китайцами во время вербовки: звания не были честно заработаны в бою; на самом деле обе армии не раз терпели поражения. Но с современными винтовками, гаубицами, полевыми орудиями на конной тяге и харизматичными командирами (сначала это был американский авантюрист Фредерик Т. Уорд, позднее богобоязненный британский герой Чарльз Гордон) они помогли отбить нападения на Шанхай и вернуть города Чжэцзян и Цзянсу.
В 1863 г. силы тайпинов окончательно утратили сплоченность, а их столица была взята в осаду. Ее падение в следующем году сопровождалось очередной резней (увы, не первой и не последней в истории Нанкина). «Небесного царя» Хун Сюцюаня, в последнее время не появлявшегося на публике, среди жертв не было. Он умер за несколько недель до этого от сверхъестественных причин: его лекари диагностировали переедание «манны небесной». Принять вслед за Сыном Божьим мученическую кончину ему не удалось. Убедительно предсказанное отмщение Небес также ни в чем не проявилось. Остатки его войска рассеялись по разным уголкам империи и слились с другими повстанческими группами, и к 1870 г. движение прекратило свое существование.
Сегодня в Нанкине в минском садовом комплексе находится небольшой Музей истории Небесного государства тайпинов. Следуя современной моде, экспонаты и фотографии рассказывают не столько о самих тайпинах, сколько о тех, кто с ними боролся. Много внимания уделено подвигам «всегда побеждающей армии» и «армии, не знающей поражений». Но хорошо представлены армии из Хунани и Аньхоя под командованием провинциальных генералов Цзэн Го- фаня и Ли Хунчжана. Цзэн, его протеже Ли (оба участвовали в подавлении восстаний еяньцзюней) и Цзо Цзунтан (положивший конец мусульманским восстаниям на западе в 1870-х гг.) представляли собой наследие двух десятилетий мятежа.
К этому времени маньчжурские «знамена» безнадежно отстали от жизни и не могли обуздать повстанцев, поэтому губернаторам и генерал-губернаторам провинций рекомендовали, взяв пример с Цзэн
619
ГЛАВА 1 5
Гофаня из провинции Хунань, собирать и тренировать собственные войска. Чтобы платить солдатам жалованье, им предоставили право сбора налогов, в том числе право на продажу степеней и пошлины на внутреннюю торговлю. Последние (лицзинь) приносили особенно большие доходы, предназначенные исключительно для провинциальных администраций, в то время когда имперские доходы от регулярного налогообложения падали из-за беспорядков. Новые армии, лучше оснащенные и получавшие больше денег, хорошо зарекомендовали себя и в основном успешно сдерживали тайпинов во второй половине 1850-х гг. Но в перспективе эта ситуация была такой же взрывоопасной, как в конце эпохи Тан, когда обладавшие собственными армиями генерал-губернаторы приграничных провинций запросили высокую цену за помощь династии.
В конце XIX века пострадала не столько династия, сколько империя. Обладая собственными военными и финансовыми ресурсами, провинциальные администрации обрели немалое влияние и проявили активность, которая помогла укрепить династию и стабилизировать экономику. Но это возвращение, или «реставрация», было достигнуто дорогой ценой. По мнению иностранных наблюдателей, империя созрела для раздела. Русские обсуждали планы отделения Монголии, Маньчжурии и Синьцзяна, англичане начали интересоваться Тибетом, французы, недавно закрепившиеся в так называемом Индокитае, проявляли собственнический интерес к провинциям Гуанси и Юньнань, а преображенная реформами Мэйдзи Япония предъявила претензии на острова Рюкю и демонстрировала интерес к Корее, вскоре распространившийся и на Маньчжурию.
16
Республиканцы и националисты
(1880-1950)
ОТ КИСТИ К ПЕРУ
Рассматривая историю Китая в XX веке, историки будущего, вероятно, увидят ее иначе. Войны и революции, занимавшие огромное место в жизни современников, их предводители и раскалывавшие общество на части идеологические течения, скорее всего, встанут в один ряд с малозаметными событиями, которые в то время казались второстепенными и эпизодическими. Уже сейчас все эти революции — республиканские, националистические, коммунистические, культурные — можно заключить в единые скобки законченного периода — бурного шестидесятилетнего отрезка, ужасы которого милосердно смягчают перспектива и прагматический взгляд из настоящего. Идеологи лишились своих когтей, революционеры спустились с небес на землю, войны отправились в музеи и застыли в памятниках. Внимание привлекают другие явления, источники более основательных перемен.
Одним из них стала интеграция в общественную жизнь полумил- лиарда жителей Китая, ранее обреченных на подчиненное положение по признаку пола. Женская эмансипация продолжается, и, разумеется, не только в Китае. Но, как часто отмечали иностранцы, женщинам в цинском Китае предстояло пройти более долгий путь, чем в большинстве других стран. Не просто малозначительные, они были по сути невидимыми. Образование оставалось абсолютно недоступным для всех, кроме горстки упрямых одиночек Всех осталь¬
621
ГЛАВА 16
ных ожидала жизнь, полная бесконечной тяжелой работы, а строгое заключение считалось привилегией. Наблюдателям в конце XIX века это казалось особенно ироничным, учитывая, что в то время Китаем фактически управляла женщина. Однако миниатюрная вдовствующая императрица Цыси, стоявшая во главе империи как регент или серый кардинал в течение последнего полувека ее существования (1862-1908), делала это молча, не показываясь из-за широкого шелкового экрана. Скорее невидимое присутствие, чем живой человек, настолько же пугающая и коварная, насколько печальной и добродушной была ее викторианская коллега, она не проявляла свойства своего пола так темпераментно, как императрица У Цзэтянь.
Однако указом 1902 г. Цыси в конце концов запретила бинтование ног. Протестантские миссионеры, среди которых были женщины, начиная с 1850-х гг. бурно протестовали против убийства новорожденных девочек. Китайские реформаторы и некоторые католические миссии ранее тоже пытались положить конец этой практике. Но протестанты, как правило американцы, были более многочисленными и лучше организованными1. Детоубийство и браки по сговору вызывали у них бурю возмущения, но всю тяжесть своего праведного негодования они обрушили на бинтование ног. В 1874 г. в открытом порту Сямынь было сформировано первое общество борьбы с бинтованием ног (за ним последовало множество других). В 1895 г. влиятельное «Общество естественных ног», основанное в Шанхае, активно требовало вмешательства властей. Реформаторски настроенные активисты подхватили этот клич и убедили вдовствующую императрицу, которая, как маньчжурка по происхождению, не пострадала от бинтования и, вероятно, в любом случае не одобряла его, запретить этот обычай. Христианские школы, куда, в отличие от конфуцианских академий и местных курсов подготовки к экзаменам, принимали девочек с тех пор, как мисс Олдерсли открыла первую школу в Нинбо вскоре после Опиумной войны, сделали небинтованность
1 Практически все миссии содержали сиротские дома, куда в основном попадали дети (почти всегда девочки), оставленные родителями у дорог, — такой вариант смягчения собственного чувства вины за детоубийство был крайне распространен в Китае. Парадоксальным образом именно эти сиротские дома вызывали бурю негодования у противников христиан в Китае: они утверждали, например, что миссионеры спасают китайских детей потому, что для темных христианских обрядов нужны человеческие глаза.
622
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ног обязательным условием для учениц. Но связь между большими ногами и иностранным образованием имела и оборотную сторону: в 1909 г. «лишь около тринадцати тысяч девочек во всем Китае были зачислены в школы [все принадлежавшие христианским миссиям] и еще несколько сотен за границей» [1].
Несмотря на усилия миссионеров, общественных вольнодумцев наподобие тайпинов, и горстки реформаторов, успевших познакомиться с западной философской и социальной мыслью, радикальные перемены произошли только после войн и революций. Мобилизация масс смогла стать более обширной, когда в нее включили женщин; реализация потенциала страны означала расширение возможностей получения образования для всех независимо от пола; дисциплину, лишения и другие тяготы возрождения следовало делить поровну. Но нигде в мире такое количество людей не освободилось от унизительного положения и не преодолело настолько калечащие ограничения, как женщины Китая в XX веке.
Важное место во многих программах реформ, призванных уравнять возможности населения, занимал китайский язык в его устной и письменной форме. Это было дело крайней важности. Знакомство со сложным корпусом литературы, написанной изысканным архаичным письменным языком (вэньянь), отличало правящую элиту Китая от остальных слоев населения и давало ей исключительное право занимать государственные должности. Управление страной осуществлялось только на этом языке1, на нем писали научные труды и литературные произведения. Экзаменационная система с ее «восьминогими» сочинениями предназначалась не столько для оценки интеллекта или способностей кандидата, сколько для оценки его знакомства с этой возвышенной культурой и его морального права присоединиться к ней. Согласно статистике, грамотность среди мужского населения в период поздней Цин достигала 30-45 % (среди женского населения лишь 2-10%), но в основном это была грамотность другого рода. Неформальное основное образование опиралось на огра¬
1 Поскольку к началу XX века говорить на древнекитайском языке было уже нельзя (озвученные древние тексты практически невозможно воспринять на слух), устная часть управления (и немалая сравнительно неформальная часть письменной речи) функционировала на упомянутом выше жаргоне чиновников гуань-хуа — несколько архаизированном, наполненном профессионализмами и очищенном от просторечий пекинском диалекте.
623
ГЛАВА 16
ниченное количество письменных иероглифов, необходимых для передачи на письме разговорной речи1. Оно не давало возможности понять классический язык, тем более древние тексты, в которых раскрывались богатые оттенки и тонкие нюансы этого языка. Популярные произведения давно писали на разговорном языке (среди них и знаменитый роман XVIII века «Сон в Красном тереме», или «Записки о камне»)2. Но все, что касалось высокой культуры и государственного управления, то есть самой сути китайского самосознания, подавляющему большинству китайцев было недоступно.
Чтобы принести культуру в массы, тем более познакомить их с точными и гуманитарными науками, на которые, как выяснилось, опиралось превосходство иностранцев, требовалось вернуться к основам. В 1859 г. Юн Вин, учившийся в миссионерской школе и ставший первым китайцем, получившим американскую ученую степень (в Йельском университете), был приглашен в Нанкин. Обосновавшиеся там вожди тайпинов интересовались приобретением иностранного огнестрельного оружия. Однако разработанная Юн Вином программа реформ оказалась слишком претенциозной даже для них. Четыре года спустя Юн Вина вызвал к себе Цзэн Гофань, образованный генерал и губернатор провинции Хунань, чья собранная в провинции армия в это время теснила тайпинов. Горячий сторонник модернизации, Цзэн Гофань планировал открыть первый в Китае военно-производственный комплекс (в Шанхае) и хотел посоветоваться с Юн Вином относительно оборудования. Юн Вин, вместо того чтобы порекомендовать станки для «производства пушек, двигателей, сельскохозяйственных орудий, часов и т. д.», посоветовал купить станки для производства станков, способных изготавливать все нужные предметы. «Машинный цех, способный создавать... другие машинные цеха» — вот что было действительно необходимо. Его следовало оснастить «токарными станками всех размеров, строгальными станками и сверлами». «Я должен сказать, что распространение машин¬
1 Эти иероглифы не слишком хорошо передавали устную речь множества самых разных диалектов (и даже иных языков, например некоторых южнокитайских). Записываемый ими текст нередко был ближе к очень приблизительной передаче смысла, чем к настоящей записи языкового потока.
2 К началу XX века байхуа, близкий к разговорному языку конца эпохи Мин, также был далек от повседневной речи, но это не мешало ему оставаться нормативным языком литературы и частично театра.
624
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ных цехов в нынешнем положении в Китае должно не просто преследовать конкретные цели, но носить общий и фундаментальный характер», — заявил он [2]. губернатор согласился. Юн отправился обратно в Америку, нашел нужные станки, и в 1868 г. Шанхайский военный завод выпускал уже не только артиллерию, но и корабли, и паровые котлы.
Для решения языковой проблемы требовался такой же «общий и фундаментальный» подход, хотя в этом случае решение нашлось ближе к дому. Оно заключалось в универсализации народного разговорного языка, точнее, письменной формы северного разговорного языка байхуа, который иностранцы называли мандаринским диалектом. Произношение в разных областях и среди разных сообществ (например, в Кантоне) по-прежнему различалось1. Более того, название языка менялось в соответствии с политическим климатом: националисты называли его гоюй, «государственный язык», коммунисты — путунхуа, «всеобщая речь». Сам язык подвергся обширной переработке с включением новых грамматических структур и множества заимствованных иностранных слов. Тем не менее он остался узнаваемо китайским и сохранил явную связь с языком, существовавшим три тысячи лет назад, что делает его старейшим из всех широко используемых языков мира. Агитация за принятие байхуа последовала за отменой экзаменационной системы в 1905 г. и была тесно связана с деятельностью второго поколения реформаторов, в том числе Ху Ши и Чэнь Дусю. Оба они путешествовали и учились за границей, прежде чем начали преподавать в Пекинском университете, и оба выступали за народную разговорную речь в рамках своей борьбы с конфуцианской системой ценностей, которую считали несопоставимой с современным государством. В 1920 г. Чэнь Дусю стал одним из основателей Коммунистической партии Китая, и именно под эгидой партии классический язык полностью вышел из употребления.
Письменность сталкивалась с теми же трудностями. Миссионеры и переводчики, такие как Томас Уэйд, главный посредник при обсуждении Тяньцзиньского договора 1858 г., а затем первый
1 В диалектах, не входящих в группу гуань-хуа, заметно отличаются не только произношение, но и грамматика, поэтому внедрение пекинского диалекта в качестве общего языка для значительной части китайцев никак не решало проблему разговорного языка в письменной речи.
625
ГЛАВА 16
преподаватель китайского языка в Кембридже, изучал возможность перевода китайских иероглифов в принятую в большинстве западных языков латиницу Это привело к появлению по-прежнему широко распространенной системы транслитерации Уэйда — Джайлса (Герберт Джайлс был преемником Уэйда в Кембридже). Во Вьетнаме, где китайские иероглифы в течение двух тысяч лет были единственным письменным языком1, в 1906 г. в школах была введена эквивалентная система латинской транскрипции, а в 1920-х гг. она распространилась на всю страну. Благодаря поддержке французов и стремлению вьетнамцев обособить свою культуру от китайской, новая письменность куокнгы полностью вытеснила китайские иероглифы.
Но в Китае реформаторы подходили к таким фундаментальным изменениям с осторожностью. Подобные меры неизбежно обесценили бы все письменное наследие страны и, конечно, добавили бы работы цинскому бюро переводов, и без того уже обремененному необходимостью переводить все официальные документы с китайского на маньчжурский и монгольский язык2. Неожиданное, хотя и не идеальное решение, позволившее сделать письменную систему более доступной, принесли технологии. Когда мягкая кисть и чернильница — заветные атрибуты ученого — уступили место стальному перу и свинцовому карандашу, а затем шариковой ручке, пишущей машинке и клавиатуре, письменные иероглифы неизбежно упростились и стандартизовались, распавшись на отдельные компоненты. Письменность освободилась от возвышенных сложностей каллиграфии, лишенные украшений иероглифы широко распространились в качестве народного письма3. Как и разговорный язык, они по-преж¬
1 С X-XIII веков во Вьетнаме использовался тьы-ном («южные знаки») — письменность, созданная на основе китайской иероглифики. Тысячи знаков были созданы вьетнамцами самостоятельно, пусть и на базе известных в Китае графических элементов.
2 В число государственных языков империи входили еще тибетский, тюркский (чагатайский) и ойратский (джунгарский), но на них переводили далеко не все документы.
3 Упрощение знаков отделили китайский язык материкового Китая от языка Тайваня, Гонконга и диаспоры. Даже в упрощенном виде письменность, которая требует заучивания 2-3 тысяч знаков для возможности читать простейшие тексты, конечно, не может соперничать с алфавитом в области решения задач по ликвидации безграмотности.
626
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
нему сохраняют узнаваемые очертания, вполне сопоставимые с древними надписями на гадательных костях и черепаховых панцирях эпохи Шан.
Одновременно пережили революцию печатное и издательское дело. Хотя наборный шрифт был известен в Китае уже несколько сотен лет, его мало использовали и в целом предпочитали ксилографию. В 1859 г. американский миссионер ирландского происхождения Уильям Шмбл, стремившийся забросать население Китая христианскими листовками, начал использовать метод электротипии для изготовления металлических литер. «Благодаря изобретению Шмбла типография американской пресвитерианской миссии смогла обеспечить полным набором китайского шрифта издателей в других областях Китая (в том числе ведущую шанхайскую газету “Шэньбао”) и во всем мире» [3]. Шрифты Шмбла оставались в употреблении более ста лет, «до появления компьютерных шрифтов в 1970-х гг.». Шанхай стал центром полиграфической промышленности, а также многих других отраслей производства. «Шэньбао», основанная англичанином Эрнестом Мэйджором в 1872 г., приобрела репутацию главной китайской газеты и первопроходца в области фотолитографии, а затем ротационной печати. Среди многочисленных других публикаций и периодических изданий, выходивших под эгидой «Шэньбао», был первый журнал на разговорном языке. Он выходил только в 1876 г. Опередив свое время, он стал предвестником нескольких сотен подобных изданий, появившихся в 1920-х гг..
Первый период модернизации, к которому относятся все эти имевшие долгосрочные последствия перемены, — примерно с 1860 г., когда англо-французские войска взяли штурмом Летний дворец, и до 1880-х гг., когда еще одна череда катастрофических поражений спровоцировала более радикальные изменения — обычно ассоциируется с широко распространенным в то время «движением самоусиления» (цзыщн). Этот термин впервые появился в серии эссе, написанных обеспокоенным ученым Фэн гуйфэнем в I860 г. Они подчеркивали необходимость учиться у иностранцев, осваивать их языки и науки, брать с них пример в использовании ресурсов и рабочей силы своего народа. Однако целью этих действий было возрождение империи и возвышение власти Цин, а не ее свержение. Как и в Японии, где в это время происходила похожая трансформация,
627
ГЛАВА 16
инициатива исходила изнутри, а не со стороны, и сверху, а не от необразованных народных масс1.
Заметную роль в политике самоусиления сыграла группа провинциальных генерал-губернаторов, сумевших самостоятельно собрать и обеспечить собственные войска, не полагаясь на отставшие от жизни маньчжурские «знамена» или помещичье ополчение, и успешно подавивших ряд восстаний в середине века. Классический пример — Цзэн Гофань, генерал-губернатор провинции Хунань, который воевал с тайпинами. Выдающийся конфуцианский ученый, Цзэн Гофань соглашался с необходимостью использовать иностранные технологии (он основал Шанхайский военный завод) и иностранный опыт (он поддерживал существование «всегда побеждающей армии»), но вместе с тем не отказывался от традиционных взглядов. Например, генерал считал, что положение в стране смогут изменить только чиновники самых высоких моральных принципов. Эти взгляды разделял Цзо Цзунтан, генерал-губернатор провинции Шэньси и Ганьсу, непреклонно подавлявший мусульманские восстания на своих территориях и в Синьцзяне. Прежде чем отправиться на северо-запад, Цзо Цзунтан создал в Фучжоу военный завод и верфь. И там тоже, как и в шанхайском комплексе Цзэн Гофаня, на его основе позднее возникли военно-морская база и офицерская академия.
Ли Хунчжан, представительный протеже Цзэн Гофаня, был моложе и отличался большим прагматизмом. На посту губернатора провинции Аньхой он помог подавить восстание тайпинов, затем уничтожил группы мятежников няньцзюней. Затем его перевели в Тяньцзинь в качестве генерал-губернатора Пекинского столичного округа, где он получил также должность уполномоченного по торговле во всех портах округа и занимал ключевые позиции до своей смерти в 1901 г. В рамках совместной инициативы под девизом «власти наблюдают,
1 Главным рефреном идеологов «самоусиления» была аксиоматическая уверенность в превосходстве китайской культуры и цивилизации над «заморскими варварами». Они лишь признавали, что в ряде прикладных наук иностранцы достигли некоторых успехов, которым следовало выучиться. В Японии стремление к модернизации и вестернизации, будучи столь же вынужденным, как и в Китае, было гораздо более искренним на уровне широких масс населения, которые в основном не слишком жалели о том, что им приходится расставаться со многими реликтами прошлого. В Китае же реформы, даже нередко довольно деятельные, не вызывали энтузиазма не только у народа, но и у проводившего их правительства.
628
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
торговцы управляют» Ли Хунчжан открыл судоходную компанию, которая взяла на себя прибрежные перевозки зерна с Янцзы на север, затем угольную шахту, чтобы обеспечить свои корабли грузом на обратном пути, затем железную дорогу, чтобы доставлять уголь на корабли, затем телеграфную линию, чтобы передавать заказы на шахту. Телеграф и железная дорога были одними из первых в Китае. В Тяньцзине Ли Хунчжан построил еще один военный завод и верфь, в Шанхае — хлопчатобумажную фабрику. Во всех этих начинаниях активно участвовали иностранные специалисты и офшорный капитал. В 1870-х гг. Ли Хунчжан отвечал за программу, в рамках которой более ста студентов отправились в Соединенные Штаты для дальнейшего обучения. Программа прервалась, когда правительство США отказало студентам в доступе к академиям в Аннаполисе и Вест-Пойнте; вместо этого студенты были отправлены в Европу, а затем в Японию.
Сторонник политики самоусиления, Ли Хунчжан был не против усилить и собственные позиции. Но его личное благосостояние было связано не столько с бизнесом, сколько с международной дипломатией. Он пользовался в этой сфере непревзойденным влиянием благодаря взаимопониманию с вдовствующей императрицей Цыси, уважению со стороны иностранного сообщества, а также стратегическому и коммерческому значению его силовой базы в Тяньцзине. Даже князь Гун, племянник Цыси, номинальный глава внешнеполитического ведомства, не стремился оттеснить Ли Хунчжана. Что касается Цзунли ямэня, недавно созданного агентства иностранных дел, то, по словам иностранцев, это была просто захудалая канцелярия, полная бестолковых клерков. В череде разрушительных кризисов, полностью разоблачивших международную слабость Китая, самым ценным помощником Ли Хунчжана стал почтенный ирландец Роберт Харт, служивший главным инспектором морской таможни с резиденцией в Пекине.
Сбор морских пошлин в Китае впервые перешел в надежные руки британских чиновников, когда в 1854 г. таможенным доходам двора угрожала оккупация Шанхая антиманьчжурской «Триадой». На самом деле «Триада» вела себя довольно разумно, однако таможенные сборы снова передали британцам позднее, когда городу угрожали тайпины. Иностранное регулирование и надзор были весьма выгодными. Они гарантировали существенное повышение сборов, и поскольку этот устойчивый доход переправлялся непосредственно в имперское
629
ГЛАВА 16
казначейство, двор мог получить кредиты для строительства новых верфей и военных академий. Поэтому систему сохранили и распространили на другие договорные порты, а штаб-квартиру ведомства перенесли в Пекин. То, что выглядело как обширное нарушение суверенитета Китая, стало дружеским и выгодным сотрудничеством — прекрасным примером воплощения на практике девиза политики самоусиления («власти наблюдают, торговцы управляют»). Харт, изучавший китайскую философию и представлявший собой подлинный образец умеренности и осмотрительности, был идеальным сотрудником Цин. Он приобрел репутацию чиновника исключительной честности; при нем таможенные поступления составляли до 20% общего дохода империи, но более 50% ее использованного дохода, «и могли считаться основой финансового обеспечения цинского правительства» [4].
Международные кризисы, ставшие нелегким испытанием для са- моусиливающегося Ли Хунчжана (при содействии осмотрительного Харта, приветливого князя Гуна и бестолкового Цзунли ямэня), начались с малого. В 1871 г. царская Россия неожиданно оккупировала Илийский район к западу от Урумчи в северном Синьцзяне. Предполагалось, что это временная мера для защиты российских торговцев, направлявшихся через этот район. В этом смысле ее можно сравнить с британским захватом Гонконга в 1841 г. (иностранное посягательство одних держав на бесконечные сухопутные границы Китая вообще нередко имело подозрительное сходство с посягательством других держав на его побережье)1. В действительности оккупация, конечно, представляла собой русский ответ на британское проникновение в южную часть Синьцзяна. Там Якуб-бек, авантюрист и исламский фанатик, пользовавшийся поддержкой Коканда, в 1865 г. захватил Кашгар, Яркенд и другие города-оазисы. После этого к нему прибыли с предложением дружбы несколько британских экспедиций из разных концов Индии. Англичане увидели в Якуб-беке потенциального Тамерлана, способного воссоединить мусульманские
1 Главной причиной оккупации Илийского края было восстание в Синьцзяне, которое, казалось, навсегда поставило крест на власти Цин в регионе. Формулировка «оккупации до того времени, когда цинские власти восстановят свою власть в Синьцзяне» тогда казалась почти гарантированным (и более-менее прилично выглядевшим) вариантом присоединения бесхозной территории на веки вечные.
630
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ханства Центральной Азии и помешать предполагаемому продвижению России в Индию. Цзо Цзунтан поставил крест на этих утопических мечтах. Подавив мусульманские восстания в Шэньси и Ганьсу, он вернул Синьцзян в состав империи Цин в 1876-1878 гг. Однако русские остались в Илийском районе. Хотя их торговля больше не подвергалась угрозе, они требовали в обмен на вывод войск возмещения и концессий. Цзунли ямэнь в ответ отправил в Санкт-Петербург плохо информированного маньчжура Ча Хоа. Он уступил российским требованиям и подписал Ливадийский договор 1879 г. Договор вызвал в Пекине огромное бешенство и был немедленно расторгнут в одностороннем порядке. Ли Хунчжану пришлось спасать то, что еще можно было спасти, с помощью второго договора, заключенного в Санкт-Петербурге в 1881 г. Благодаря советам Харта и поддержке Британии он добился возвращения большей части Илийского района, сокращения выплат и отзыва многих концессий. После этого Синьцзян получил статус официальной провинции империи, открытой для ханьских переселенцев.
Ни одна сторона не стремилась развязывать войну так далеко от дома, однако воинственно настроенные чиновники Цин утешали себя тем, что «благодаря своей силе и решительности заставили русского царя уступить и согласиться на множество требований» [5]. Это было опасное заблуждение — в действительности русских заставило отступить международное неодобрение и собственные внутренние затруднения1. Между тем на противоположной стороне империи настойчивая Япония проявляла сильный интерес к Корее и захватила архипелаг Рюкю — протянувшуюся между Японией и Тайванем цепь островов (включая Окинаву).
И корейцы, и жители островов Рюкю традиционно отправляли в Пекин посольства с данью. Однако статус даннических отношений был не вполне ясен с точки зрения современного международного права, которое, в свою очередь, представляло собой консенсус, в одностороннем порядке разработанный западными державами и лишь недавно раскрытый перед цинским двором благодаря переводу на
1 С одной стороны, Российская империя недавно завершила очередную Русско-турецкую войну (1878 г.), с другой — нарастала угроза цареубийства народовольцами: в конце 1879-1881 гг. произошло четыре покушения на императора Александра II, последнее из которых 1(13) марта 1881 г. достигло цели. Договор с Китаем был подписан 12 (24) февраля 1881 г. — Прим. ред.
631
ГЛАВА 16
китайский язык «Элементов международного права» Генри Уитона. Перевод выполнил американский миссионер У. А. П. Мартин — не без предрассудков и не без затруднений, поскольку он требовал разработки новых сочетаний китайских иероглифов, способных передать хотя бы приблизительный смысл основных понятий, таких как «права человека» и «юрисдикция». Ли Хунчжан и его коллеги тем не менее приняли работу Мартина, сразу заметив обнадеживающие несоответствия между предписаниями Уитона и практическими действиями западных держав. Князь Гун отказался писать предисловие к этому произведению — язык был слишком неизящным, а Китай имел в таких вопросах свои традиции — однако он увидел в международном праве некоторую надежду для правительства, стремившегося пересмотреть односторонние договоры и разоблачить экстерриториальный произвол.
С особенным подозрением к работе преподобного Мартина отнеслись французы. Их дипломатический поверенный призвал своего американского коллегу в Шанхае «придушить его — он принесет нам множество бед» [6]. Но беды, которых ожидали французы, были связаны не столько с Китаем, сколько с Вьетнамом. Из Сайгона, захваченного в 1859 г., Франция, грубо пренебрегая предписаниями Уитона, совершила серию набегов на север Вьетнама. Они не всегда были успешными. Ожесточенное сопротивление оказывали не только вьетнамцы, но и огромная разношерстная толпа других противников: банды «красных повязок», китайские повстанческие армии из Гуанси и Юньнани, искавшие убежища во вьетнамских холмах, и немалые контингенты цинских войск, отправленных на юг, чтобы помочь вьетнамцам их подавить.
Когда в 1882 г. французы в третий раз захватили Ханой и обстреляли подступы к древней столице Хюэ, вьетнамский двор устало согласился на капитуляцию. Последующий франко-вьетнамский договор дал французам контроль практически над всем Тонкином (Хайфон, Ханой и бассейн реки Хонгха, или Красной), однако его немедленно оспорили воинственные советники вдовствующей императрицы Цыси в Пекине. Они заявили, что Вьетнам является данником Китая и в нем находятся китайские войска, которые могут это доказать. Французы, ответили, что именно поэтому китайцев можно считать захватчиками. Пекин и Париж ввели во Вьетнам новые войска, и к 1883 г. находились в состоянии войны. Ли Хунчжан поспе¬
632
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
шил смягчить положение, согласившись на вывод китайских войск в обмен на признание Францией южной границы Китая. Но этому соглашению помешали события на суше — в 1884 г. войска Цин разгромили французский экспедиционный корпус в Бак-ле. Поражение нанесло огромный удар французской гордости: по словам одного наблюдателя, Франция «не знала подобного позора после Ватерлоо»1 [7]. Еще более решительный удар был нанесен в марте 1885 г. в Ланппоне, чуть южнее сегодняшней границы — французское правительство было свергнуто2. Но в это же время французский флот обрушил ожесточенный удар на побережье Китая.
Двинувшись на север, адмирал Курбе обстрелял большой порт Фучжоу, превратил в пыль корабли, составлявшие южный флот Китая, и захватил гавань Цзилун на севере Тайваня, а также Пескадорские острова. В Тяньцзине Ли Хунчжан снова поспешно организовал встречу с французским посланником в Пекине. Новый договор, заключенный в июне 1885 г., положил конец военным действиям, хотя не устранил затаенной враждебности сторон. «Как ни странно, это соглашение... почти дословно повторяло то, которое было достигнуто годом ранее» [8]. Франция получила полную свободу действий во Вьетнаме в обмен на отказ от Тайваня и Пескадорских островов и признание китайско-вьетнамской границы.
Пока разворачивались эти неприятности на юге, Ли Хунчжан и Харт сумели сохранить северный флот империи, стоявший в Тяньцзине, вне досягаемости иностранных пушек, и даже усилили его. Впрочем, ненадолго, поскольку в 1894 г. события в Корее втолкнули Китай в очередную войну, на этот раз с окрепшей Японией. Как и Вьетнам, Корея отправляла регулярные посольства в Пекин и была независимым государством. Но в 1876 г. японцы, взяв пример с запад¬
1 Незадолго до поражений в Индокитае французы были разгромлены Пруссией в ходе Франко-прусской войны 1870-1871 гг., причем в плен попал французский император Наполеон III. — Прим. ред.
2 Французские потери при Бак-ле составили около ста человек, а помимо китайских побед в анналах сухопутной кампании зафиксировано несколько ярких побед францзуских войск, сумевших вытеснить превосходящие силы цинской армии из Вьетнама. Однако эффект от успехов китайских войск был действительно велик это были первые победы над войсками западной державы, которые показали, что «самоусиление» дало свои плоды: у империи Цин теперь была более-менее современная армия, и легких побед, как во времена Опиумной войны или «войны “Стрелы”», иностранцам больше ждать не приходилось.
633
ГЛАВА 16
ных держав, открыли для себя несколько корейских портов и настояли на экстерриториальных правах для своих подданных на этих территориях. Следом подтянулись западные державы при поддержке Ли Хунчжана, который считал привлечение международного внимания к ситуации в Корее лучшим способом подчеркнуть ее особые отношения с Китаем и нейтрализовать влияние Японии. В результате в 1885 г. Пекин и Токио подписали соглашение, в котором обещали не вводить войска в Корею, если только этого не сделает другая сторона и только в равных количествах. Впервые после монгольского завоевания корейский двор согласился на присутствие и контроль постоянного китайского уполномоченного (это был молодой Юань Шикай, протеже Ли Хунчжана, впоследствии первый президент республиканского Китая). Но все эти меры предосторожности ни к чему не привели: в 1894 г. сектантское восстание в Корее, размахом и фанатизмом во многом напоминающее восстание тайпинов, поставило под угрозу существование монархии. Король попросил и, несмотря на протесты Ли Хунчжана, получил китайские войска. Японцы в ответ ввели в Корею еще больше войск и быстро захватили страну. Интервенция, якобы предназначенная для поддержки корейской монархии, превратилась в полномасштабную войну между Китаем и Японией.
Для Цин и Ли Хунчжана это была беспрецедентная катастрофа. За тридцать лет самоусиления Китай так и не смог обеспечить каждого солдата ружьем, а каждое подразделение полевой пушкой; кораблей — купленных за рубежом, построенных с нуля, переоборудованных из старых судов — едва хватало на два флота. Тем временем японцы успели создать большой современный флот и обучить единственную к востоку от Индии профессиональную армию. Поражение следовало за поражением — китайцев быстро выгнали из Кореи. Через два месяца японцы подошли к китайской границе и явно не собирались на этом останавливаться. Перейдя Ялуцзян, они заняли Ляодун почти до Великой стены. На военно-морской базе Вэйхайвэй на оконечности полуострова Шаньдун они обнаружили китайский флот, стоявший под защитой береговых укреплений. Японский десант быстро захватил укрепления на берегу и расстрелял китайский флот из китайских же пушек В результате затонул один из двух линкоров Цин и четыре из десяти крейсеров. С учетом предыдущих потерь в Фучжоу береговая линия Китая осталась почти такой же незащищенной, как в 1840-х гг.
634
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
Князь Гун, в последнее время впавший в немилость, и Ли Хунчжан, которому предстояло вскоре последовать за ним, были отправлены в Токио просить мира. По Симоносекскому договору 1895 г., самому унизительному в современной истории Китая, им пришлось согласиться на выплату контрибуции в пять раз больше тех, что потребовали западные союзники в I860 г., и уступить Японии весь Тайвань, Пескадорские острова и провинцию Ляодун (последнюю затем обменяли на дополнительные выплаты1), открыть четыре новых порта, в том числе Чунцин над ущельями Янцзы в Сычуани, и, конечно, признать «полную и окончательную» независимость Кореи, «в сложившихся обстоятельствах, по сути, превращенную в японский протекторат» [9]. Репутация Ли Хунчжана после этого так и не восстановилась. Его заслуги в предвоенной дипломатии были забыты. Теперь его втаптывали в грязь за заключение унизительного договора и за то, что вместо военного флота он тратил деньги на строительство нового летнего дворца императрицы. Это было на редкость красноречивое безрассудство: мраморный павильон на берегу озера выстроили в виде двухэтажной прогулочной баржи с лопастными колесами. Дворец-корабль до сих пор украшает берег озера Куньмин — непригодный к службе, он был, по крайней мере, непотопляемым. Симоносекский договор и опала Ли Хунчжана подтвердили, что политика самоусиления ни к чему не привела; настало время более радикальных мер.
ОТ ИМПЕРИИ К РЕСПУБЛИКЕ
На исходе XIX века борьба иностранных держав за концессии приобрела лихорадочную остроту. Ревниво поглядывая, чего добились другие, англичане, французы, русские и американцы (не говоря уже об испанцах, бельгийцах, австрийцах и итальянцах) старались ограничить аппетиты Японии в отношении китайских территорий и одновременно потесниться ради еще одного прожорливого новичка в виде созданной Бисмарком Германской империи. Интересы Германии в Китае, формально ограниченные защитой миссионеров
1 Это стало возможным благодаря так называемому тройственному вторжению России, Германии и Франции.
635
ГЛАВА 16
и продажей оружия, были не более определенными, чем интересы ее европейских соперников. Но, значительно отставая от них в освоении иностранных рынков, она могла позволить себе не слишком церемониться с тем явлением, которое кайзер первым назвал die gelbe Gefahr — «желтой опасностью».
Теперь актуальность приобрели не только торговые, но и территориальные концессии, включавшие права на добычу полезных ископаемых, строительство транспортных систем и промышленных предприятий — все они могли стать ядром экстерриториальности и источником дохода. Китай в этот период напоминал поле для игры в «Монополию»: конкуренты гонялись друг за другом по периметру империи, расхватывая земельные участки, предприятия, железные дороги и инвестиционные фонды и не забывая забирать свою долю компенсаций, когда им выпадала фишка «вперед». Русские сосредоточились на Маньчжурии, вернее, на том, что от нее осталось после их предыдущего наступления. В обмен на их помощь (именно они убедили японцев отказаться от Ляодуна) в 1896 г. правительство Цин неохотно дало России право построить на территории современной китайской провинции Хэйлунцзян участок Транссибирской магистрали, ведущий к Владивостоку. Переговоры об условиях этой концессии вел Ли Хунчжан — даже впав в немилость, он обнаружил, что его услуги по-прежнему востребованы, и после переговоров положил в карман три миллиона российских золотых рублей. Формально железная дорога была совместным предприятием, однако большую часть ее акций выкупило российское правительство, закрепившее за собой право перемещать вдоль нее войска и осуществлять полицейский надзор. Через год немцам передали порт Циндао в Шаньдуне в качестве компенсации за убийство нескольких особенно ретивых миссионеров («Великолепная возможность», — сказал об этом кайзер). В ответ русские обеспечили себе уравновешивающую концессию в виде аренды Ляодуна1 (только что восстановленной южной части Маньчжурии), а также права провести еще одну железную дорогу в Далянь (Дайрен, Дальний), порт на полуострове Люйшунь, где вода была еще теплее, чем во Владивостоке.
1 Все эти аренды, во-первых, были безвозмездными, а во-вторых, арендатор имел право передать арендованное третьей стране без всякого согласования с Пекином.
636
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
К 1898 г. конкуренция между иностранными державами и центробежный отток власти в провинции достигли такого уровня, что Китаю угрожала серьезная опасность повторить путь разделенной на колонии европейцев Африки. Российские железные дороги покрыли всю Маньчжурию, японцы уже отделили Тайвань, немцы расширили свое присутствие в Шаньдуне, англичане и американцы контролировали движение в производительные внутренние области по реке Янцзы, французы изучали коммерческий потенциал реки Хонгха (Красной), уходящей в Юньнань. Никто не хотел остаться не у дел. В то же время раскол явно не отвечал интересам тех, кто терял при этом больше всего инвестиций, то есть англичан. Однако, не видя других способов предотвратить это и стремясь не отставать от других держав, они шаг за шагом вынужденно повышали ставки.
Чтобы противостоять русским в Люйшуне и немцам в Циндао, в 1898 г. англичане захватили военно-морскую базу в Вэйхайвэе, более или менее посередине между ними. Кроме того, они арендовали еще часть полуострова Коулун (Цзюлун) — так называемые новые территории Гонконга — для снабжения и защиты этой колонии. После назначения лорда Керзона в 1899 г. вице-королем Индии они открыли новый фронт, заявив о своих коммерческих интересах в Тибете и потребовав там демаркации границ. Как и российские маневры в Маньчжурии тридцатью годами ранее, эти гималайские поползновения стали прелюдией к вооруженному вторжению в Тибет экспедиции Янгхазбенда в 1904 г. Чтобы не отставать от англичан, французы арендовали порт к западу от Гонконга и получили права на добычу полезных ископаемых в Гуанси и Юньнани. Между тем Соединенные Штаты вновь уравняли шансы на игровом поле, потребовав, чтобы любые уступки, предоставленные одному государству, распространялись на всех.
Все это вызвало энергичный и крайне неоднородный отклик у самых разных слоев китайского общества. Откликнулись студенты, в 1895 г. собравшиеся в Пекине на экзамены на степень цзиныии: они написали петицию, в которой призывали возобновить сопротивление японцам, и составили длиннейшую программу экономических и административных реформ. Откликнулись эмигранты, такие как молодой доктор Сунь Ятсен, родившийся в провинции Гуандун, но в 1890-х гг. проводивший больше времени за границей, где он пытался через подпольную деятельность добиться смены империи Цин
637
ГЛАВА 16
представительным правлением. Откликнулись пожилые ученые, разделявшие взгляды Цзэн Гофаня; они резко критиковали рассуждения горячих голов о республике («Где они нашли это слово, от которого так и несет мятежом?» — спрашивал один из них) и утверждали, что ценный опыт Запада вполне можно уложить в рамки постоянно развивающейся прогрессивной конфуцианской традиции [10]. Откликнулись китайские компрадоры (коммерческие посредники) в открытых портах и их окрестностях: эти люди успели проникнуться духом капиталистического предпринимательства, начали создавать собственные коммерческие предприятия, конкурировать за промышленные концессии и горько возмущались тем, что иностранцам все достается на блюдечке. И, наконец, откликнулись непросвещенные народные массы: благодаря широко распространившимся по стране миссионерам они теперь знали иностранное присутствие в лицо: большеносые снисходительные чужеземцы оспаривали традиционные ценности, настраивали против себя местную знать, разжигали скрытую ксенофобию и, разумеется, были виноваты в каждом неурожае и новом повышении налогов.
Только из императорского дворца в Пекине не пришло никакого отклика. Император гуансюй (пр. 1889-1908), изнеженный молодой человек с голосом, напоминавшим писк комара, всегда выглядел марионеткой в руках своей тетки, грозной Цыси. Было известно, что он много читает и даже изучает английский язык. В то время ему уже было около двадцати пяти лет — казалось, ему давно пора отправить вдовствующую императрицу на покой и самому принять бразды правления. Но когда в июне 1898 г. он действительно так и поступил, это стало для многих огромной неожиданностью. Пока императрица Цыси приятно проводила время в новом летнем дворце, император подолгу совещался с известным ученым Кан Ювэем, одним из авторов петиции студентов 1895 г., а затем внезапно издал целый ряд указов о модернизации. «Сто дней реформ» имели большой размах. Широкий спектр образовательных, военных, административных и экономических новшеств был направлен на перестройку всего государственного аппарата и превращение конфуцианских бюрократов в конфуцианских технократов.
Но при всем этом о конституционной реформе не говорилось ни слова. Ни о каком представительстве речи не шло, привилегии императора никак не ограничивались. Были ли эти нововведения заплани¬
638
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
рованы на следующем этапе реформ, так и осталось неизвестным, поскольку через три месяца Цыси полностью вернула себе утраченные позиции. Стодневного срока оказалось вполне достаточно, чтобы оценить реакцию бюрократов и безразличие военных. От имени императора вдовствующая императрица составила документ, который приказывал ей немедленно возобновить исполнение своих обязанностей. Затем она послушно исполнила этот приказ. Сам император при этом оказался под домашним арестом во дворце, шесть его главных советников казнили. Реформы погибли вместе с ними, хотя Кан Ювэй успел бежать в Японию, откуда Сунь Ятсен теперь опутывал сетью интриг материковый Китай. Этот великий прорыв, как многие другие похожие предприятия в следующие годы, обернулся ничем. Вместо того чтобы ускорить реформы, он затормозил их, уничтожив самых активных реформаторов и запугав умеренную оппозицию.
Два года спустя императрица Цыси снова продемонстрировала несомненный талант справляться с любыми кризисами. В конце 1899 г. в провинции Шаньдун вспыхнуло так называемое боксерское восстание. Беспорядки быстро охватили Хэбэй, Шаньси и часть Хэнани, где было убито много иностранцев, в основном миссионеров. Летом 1900 г. восстание поглотило Тяньцзинь и Пекин, где местные общины иностранных переселенцев (включая женщин и детей), а также несколько тысяч китайцев преимущественно христианского вероисповедания оказались в осаде на территории посольств и одного католического собора в Пекине. Леденящие кровь сообщения о том, что в Пекине убиты все европейцы, вызвали бурю международного негодования. И хотя сообщения оказались не вполне верными, среди осажденных действительно погибло около семидесяти человек, многие лишились имущества, были ранены и испытали тяжелое потрясение1. Пекинская осада продолжалась пятьдесят пять дней. Она закончилась, когда двадцатитысячная международная армия захватила Тяньцзинь и пробилась к столице. После этого иностранцы разграбили оба города. Среди осажденных в пекинском посольском квартале был американский китае¬
1 Гораздо больше, чем иностранцы, пострадали китайцы-христиане, которым не приходилось рассчитывать на защиту посольских стен. Например, во время учиненных ихэтуанями («боксерами») в Пекине погромов была почти полностью уничтожена православная община столицы, существовавшая с конца XVII века.
639
ГЛАВА 16
вед доктор У. А. П. Мартин и сэр (теперь уже) Роберт Харт из императорской таможни. Оба написали отчеты о пережитых событиях; помимо них мемуары оставили многие из четырехсот осажденных европейцев. Так появился огромный корпус источников, а в британской имперской мифологии Пекинская осада заняла свое место в одном ряду с Лакхнау и Ледисмитом1.
0 том, как все это выглядело с китайской стороны, осталось гораздо меньше документов. Разумеется, причины боксерского восстания были лучше поняты: например, не вызывало сомнений, что боксеры боксировали только ради гимнастических упражнений и формально не участвовали в восстании. Родившееся из сельских бедствий и веры в эзотерические культы, связанные с физическим самосовершенствованием, движение боксеров продолжало традиции многих тайных обществ, неявно существовавших среди сельского населения на протяжении всей истории Китая, от «краснобровых» и «желтых повязок» до Общества белого лотоса времен Макартни и «красных повязок» эпохи тайпинов. Во времена кризиса члены этих обществ могли взять на себя инициативу и возглавить акты неповиновения и насилия, которые, если их не удавалось быстро пресечь, могли привести к массовому восстанию. Именно это и произошло в южном Шаньдуне в конце 1899 г. Но вместо того, чтобы нападать на цинских чиновников, что безусловно привело бы к немедленному подавлению властями, братство «праведных и гармоничных боксеров» обратилось против христиан, убивая одиноких иностранцев и уничтожая символы (особенно железные дороги и телеграфные линии) вероучения, которое они считали коварным, социально разрушительным и морально отвратительным. Интересно, что у восставших отсутствовали предводители, однако имелась вполне внятная организация. Пояса и головные повязки разных цветов обозначали разные отряды; их поддерживал состоявший из одних только девушек и даривший вдохновение отряд «Красные фонари». В рядах повстанцев царила строгая дисциплина, награбленное добро делили поровну. Эти бесстрашные патриоты во многом заслуживали восхищения.
1 Имеются в виду осада Лакхнау, где с конца мая по ноябрь 1857 г. держали оборону против восставших индийцев войска Ост-Индской компании, защищавшие множество укрывшихся в цитадели (резиденции) гражданских лиц, и осада Ледисмита — 118-дневная блокада английского гарнизона бурами во время Второй англо-бурской войны (1899-1900).
640
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
Цыси и ее реакционные советники выжидали. Боксеры не представляли угрозы для династии. Они не требовали реформ — скорее их лозунгом было «поддерживай Цин, уничтожай иностранцев». Поэтому они вошли в Пекин, не встретив сопротивления, и их нападения на иностранцев оставались безнаказанными. Но когда иностранные дипломаты Пекина отказались от официального предложения эвакуироваться из города и переехать на побережье ради собственной безопасности, Цыси увидела в боксерах потенциальных освободителей. И когда в ответ на предупреждающий захват европейскими союзниками фортов Дагу, защищавших Тяньцзинь, Цин объявила о начале войны, не осталось никаких сомнений в том, императорский двор поддерживает боксеров. Что казалось наблюдателям особенно любопытным, сами боксеры осаждали только Пекинский собор, где заперлось огромное количество китайских христиан, — их редко можно было увидеть в окрестностях также основательно осажденного дипломатического квартала. Там нападали только имперские войска.
Любопытно, что, несмотря на подавляющее превосходство в численности и огневой мощи, в течение восьми долгих недель эти профессиональные войска так и не смогли сокрушить садовые стены и наскоро сложенные баррикады из мешков с песком. Пушки и мортиры, способные уничтожить любые укрепления, кроме разве что гигантских фортификаций Запретного города, не задействовали вообще. Напротив, всякий раз, когда уничтожение иностранцев казалось неизбежным, нападавшие отступали или предлагали перемирие. Очевидно, при дворе были люди, не разделявшие желание боксеров истребить врага. Тем временем в остальных пятнадцати провинциях страны жизнь шла своим чередом. Торговля в открытых портах продолжалась, одиноких миссионеров за пределами трех северных провинций никто не трогал, недовольные иностранцами группы заинтересованных лиц не поддержали боксеров, провинциальные губернаторы, за малым исключением, не поддержали двор.
Когда союзные освободительные армии наконец достигли Пекина, Цыси не нашла другого выхода, кроме как бежать из города вместе со всей императорской свитой и домочадцами, конечно, не забыв и самого императора. Переодетые в крестьян, они покинули город, сидя на корточках в деревянных повозках, как последние принцы Хань, ускользнувшие из Лояна в 189 г. до н. э. И так же, как танский Сюань- цзун и очаровательная Ян-гуйфэй, бежавшие из Чанъаня в 755 г., цар¬
641
ГЛАВА 16
ственные беглецы с самого начала были во власти своего военного эскорта. Но ситуация улучшилась, пока они двигались на запад в лояльную провинцию Шаньси, а затем из соображений безопасности дальше на запад к Сианю. Там, на месте, где когда-то стоял императорский Чанъань, двор в изгнании остановился и стал ждать встречи с судьбой, которую ему уготовили последние захватчики.
Ли Хунчжан, которому в то время уже было около восьмидесяти лет, получил распоряжение вернуться в Пекин; он был единственным политиком, способным вырвать приемлемые условия у одиннадцати держав, принимавших участие в освободительной операции. Это было его последнее дело на государственной службе, хотя далеко не самое сложное. Как верно заметил Роберт Харт, у союзников не было выбора. Они могли попытаться осуществить раздел Китая, но это вызвало бы катастрофу; они могли попытаться сменить династию, но в Китае не было подходящей альтернативы; или они могли «подлатать власть маньчжу [маньчжуров]... и извлечь для себя из этого всю возможную пользу» [11]. Поэтому, согласно условиям Заключительного протокола (Боксерского протокола), в обмен на максимальную контрибуцию, которую предстояло выплачивать более сорока лет за счет увеличения морских таможенных пошлин, а также казнь десяти чиновников, признанных виновными в случившемся, и введение различных мер по обеспечению безопасности иностранных посольств в будущем, Цыси и двор получили разрешение вернуться в столицу и возобновить правление. Они сделали это со вкусом, превратив покаянное шествие в триумфальную процессию. Возможность посмотреть на императорскую кавалькаду в момент ее грандиозного возвращения в Пекин была слишком соблазнительной, и ее не хотели упустить даже те, кто пострадал во время осады. Когда Цыси приветствовала их несколькими короткими поклонами, в толпе иностранцев «раздался ответный спонтанный всплеск аплодисментов» [12].
Сохранилась загадочность Цин, если не больше. Семь лет спустя император гуансюй сделал еще одну попытку освободиться от тирании своей тетки — и умер. Подозревали, что он скончался не от естественных причин. Подозрения подтвердились, когда буквально через несколько часов, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, вдовствующая императрица тоже отошла в мир иной, напоследок отведав компот из райских яблок. Ни на один день, не говоря
642
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
уже о сотне дней, несчастный император даже в загробной жизни не смог избавиться от ее зловещего присутствия. Во всем, кроме официального титула, именно она была последним императором империи Цин: преемнику императора гуансюя, его племяннику Пуи, которому тогда было два года, не суждено было принять тронное имя — ему досталось лишь слегка нелепое имя Генри.
В последние годы жизни Цыси оставила всегдашнее затворничество: она присутствовала на приемах, позировала для фотографий и поддерживала имидж Цин как готового меняться правительства. Рука об руку с этими переменами шли конституционная реформа и ограничение полномочий провинциальных губернаторов. К 1909 г. были избраны первые провинциальные собрания, хотя число лиц, имевших право голоса, было крайне ограничено. Провинциальные собрания, в свою очередь, избирали членов национального собрания. Оба органа были в основном совещательными. На низовом уровне делались попытки ввести форму местного представительства на основе групп баоцзя или заменить их самоуправляющимися единицами. Но за конституционной видимостью стоял решительный курс на повторную централизацию. «Новая армия» под контролем маньчжуров пришла на смену провинциальным войскам, собранным местными губернаторами, а самые могущественные губернаторы, такие как Юань Шикай, к которому перешла силовая база Ли Хунчжана — Тяньцзинь, лишились должностей1. Попытки вырвать у иностранных инвесторов растущую сеть железных дорог, особенно соединяющую север и юг новую линию Пекин — Ханькоу, привели к проходившему с переменным успехом соперничеству между центристами Цин и провинциальными активистами.
Отмена бинтования ног в 1902 г. и экзаменационной системы в 1905 г., став заметной уступкой современности, имела ряд политических последствий. Собрания революционеров уже не могли маскироваться под «общества в защиту естественных ног»; отмена экзаменов, которые в любом случае были приостановлены положениями Заключительного (Боксерского) протокола, повысила авторитет тех, кто успел получить степень, и увеличила приток слушателей в новые
1 Юань Шикай был отправлен в отставку только после смерти Цыси. До этого он, несмотря на явное неповиновение во время восстания ихэтуаней, был одной из главных опор трона и основным инициатором всех конституционных реформ последних лет правления вдовствующей императрицы.
643
ГЛАВА 16
военные и военно-морские академии. Студенты теперь получали стипендии для дальнейшего обучения за рубежом. Особенной популярностью пользовалась Япония — она не только находилась ближе, чем Европа или Америка, но и, благодаря конфуцианскому наследию и китайской системе письма, была более интеллектуально доступной.
Большой интерес вызывала японская модель модернизации. В Японии монархия по-прежнему пользовалась уважением, однако была ограничена конституцией и введением парламентской структуры. Формы землевладения были пересмотрены, изменилось образование, развивалась тяжелая промышленность. Под девизом «Богатая страна, сильная армия» централизованное правительство укрепляло национальное единство, уделяя первостепенное внимание развитию экономики и военного сектора. Эта политика оправдала себя в ходе Китайско-японской войны за Корею в 1894 г. и снова подтвердила свою целесообразность в 1904-1905 гг. во время Русско-японской войны за концессии в Корее и Маньчжурии. Японский флот уничтожил русский флот так же легко, как десять лет назад — китайский. Тем самым азиатская страна одержала первую победу над европейской империей, а Япония завоевала место среди великих держав. Очарованный японской моделью развития Кан Ювэй, выдающийся ученый, исполнявший роль советника при подготовке «Ста дней реформ» императора гуансюя, а затем находившийся в изгнании в Японии, возглавил партию реформ, которая выступала за перевод Цин в рамки конституционной монархии. Именно это, по мнению активистов, могло обеспечить такую же успешную радикальную социально-экономическую перестройку Китая.
Но были и другие модели, к которым в поисках решения китайских проблем обращались студенты и активисты. Интерес вызывала демократия западного образца, основанная на выборном представительстве. В 1905 г. делегация Цин в поисках конституционных идей посетила Соединенные Штаты и Великобританию. За два года до этого в Америке побывал Лян Цичао, сподвижник Кан Ювэя, и был принят президентом Теодором Рузвельтом. Но Лян Цичао остался разочарованным. По его мнению, американская демократия порождала «посредственных политиков, коррупцию, беспорядок, расизм, империализм». «Короче говоря, — заметил Дж. К Фэйрбэнк, самый плодовитый и влиятельный китаист Америки, — он раскусил наши недостатки, и это отбило у него всякую охоту брать с нас пример». Поскольку конфуциан¬
644
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ский идеал правления подразумевал гармонию интересов правителя и подданных, в Китае, по словам Фэйрбэнка, индивидуум имел естественную склонность соблюдать правила, а не оспаривать их, встраиваться в систему, а не бороться с ней. Таким образом, демократия несла и до сих пор, «вплоть до Мао и Дэна» (Фэйрбэнк писал в 1970-х гг.), несет в себе коллективные коннотации. Народ един — так же, как единственное и множественное число на письме представлены одним иероглифом. Они — люди — не являются множеством. Он — народ — образует единую величину. «Нация предшествовала личности, — говорит Фэйрбэнк. — Это не доктрина о правах человека» [13].
Общей особенностью всех школ мысли был национализм. Сам факт знакомства с иностранцами в портах, посольствах и их окрестностях, а также в международных поездках придал китайскому самоощущению новые оттенки. Но китайскую нацию можно было определить по-разному. География империи позволяла говорить о существовании огромного многоэтнического сообщества. Культура предлагала более узкое определение, тесно связанное с ханьским этническим и культурным самосознанием. Поэтому националисты могли как поддерживать власть маньчжурской Цин, единственной опоры сверхгосударства субконтинентальных масштабов, так и критиковать ее власть как чуждой империалистической силы, угнетающей население Китая наравне с иностранными державами. Только после победы коммунизма с его наднациональной идеологией над национализмом эта дилемма разрешилась хотя бы в семантическом смысле.
Свои сторонники были и у других западных теорий — социализма, социал-дарвинизма («общества развиваются, выживают наиболее приспособленные»), марксизма и анархизма. Все они утешали себя тем, что дни династических деспотий явно подходят к концу. Великие Моголы давно канули в небытие, султанов Османской империи свергла революция младотурков (1908)1, русский царь Николай II недавно (1905) едва избежал гибели2. По мнению сторонников исто¬
1 Свергнув султана Абдул-Хамида II и восстановив конституцию, младотурки возвели на престол Мехмеда V. Султанат упразднила Турецкая Республика в 1922 г. — Прим. ред.
2 По-видимому, автор говорит о начале Первой русской революции, но жизни царя в то время ничто не угрожало. Единственное достоверное покушение на Николая II во времена монархии произошло в Японии в 1891 г., когда он еще был наследником престола (инцидент в Оцу). — Прим. ред.
645
ГЛАВА 16
рического детерминизма, маньчжурская династия должна была стать следующей в списке. «Манифест Коммунистической партии» Маркса появился на китайском языке в 1906 г.; бывший советник Юань Шикая появился на Втором (коммунистическом) Интернационале в Брюсселе в 1909 г. Но в Китае пока еще не было социалистической или марксистской партии. Вместе с множеством других республиканцев и многочисленными группами социальных реформаторов и феминисток радикалы присоединились к Тунмэнхуэю (Объединенный союз) доктора Сунь Ятсена.
Гений Сунь Ятсена заключался в том, что каждый находил в нем что-то близкое для себя. По рождению гуандунский крестьянин, но из семьи, часть которой уже эмигрировала, он получил образование на Гавайях, медицинскую степень в Гонконге, завел усы и модный костюм в Японии, а контакты и репутацию, помогавшие финансировать его предприятия, приобрел во время обширных путешествий по миру. Его репутация опиралась на целеустремленность и организаторские способности, а не на утопические фантазии или пылкую риторику. Пропагандируя, мобилизуя и по возможности вооружая аффилированные группы внутри Китая — «Триады», профсоюзные организации, крестьянские движения, общества бойкота торговли, недовольные армейские части, он стал великим посредником революционеров. Разумеется, это было нелегко, особенно для человека, за чью голову была назначена награда и который не мог лично находиться на территории страны. Одно за другим его революционные начинания, в основном в провинции Гуандун, терпели неудачу: операции срывались, заговоры разоблачались. Но на международном уровне его репутация не изменилась. И она решительно затмила репутацию его соперников после того, как в 1898 г. похищенный с лондонской улицы агентами Цин Сунь Ятсен стал причиной международного скандала. Британские парламентарии рассмотрели его дело, и он получил свободу.
Поэтому неудивительно, что 9 октября 1911 г. («9.10.11» в большинстве зарубежных систем записи) Сунь Ятсен был занят сбором средств в Америке. Он ехал поездом из Денвера в Канзас в тот момент, когда на другом краю мира, в среднем течении Янцзы на территории русской концессии в порту Ханькоу разорвалась бомба. Удивительнее то, что это драматическое событие, положившее начало революции, было на самом деле мало связано с работой Объединенного союза Сунь Ятсена: бомба, изготовленная неясной ячейкой недоволь¬
646
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ных, взорвалась по ошибке. Пострадавших бомбистов быстро увезли в госпиталь, а их сообщников арестовали после того, как русские сообщили об инциденте властям Цин.
Именно эти аресты, а также признания, которые неизбежно за ними последовали, и спровоцировали революцию. Она началась не на улицах и не на баррикадах, а в казармах на другом берегу реки, как раз на том месте, куда сейчас ведет высокий Уханьский мост. Там революционные элементы «Новой армии» Цин, не дожидаясь, пока их выдадут схваченные сообщники, захватили местное хранилище боеприпасов и быстро объединились с другими армейскими подразделениями. Учан пал перед мятежниками 10 октября, Ханьян — 11, Ханькоу — 12. С захватом этих трех соседних городов, в наши дни составляющих «тройной город» Ухань, контроль над средним течением Янцзы оказался в руках мятежников.
Чтобы подавить беспорядки, двор Цин отправил на юг северную армию, а чтобы усилить свои позиции среди военных, обратился к Юань Шикаю. Бывший протеже Ли Хунчжана, Юань Шикай зарекомендовал себя как популярный военачальник и верный слуга империи. Он поддерживал Цыси, когда она положила конец программе «Сто дней реформ» императора 1уансюя, представлял Цин в Корее и с разумной сдержанностью отреагировал на удаление с поста губернатора в Тяньцзине. Поводом для смещения с должности стали медицинские показания — якобы у него было что-то с ногой. Теперь Юань обратил это в свою пользу и, снова ссылаясь на проблемы с ногой, тянул время, чтобы диктовать свои условия. Его позиции становились только прочнее, поскольку войска в провинциях Хунань, Шэньси, Шаньси, Юньнань и Цзянси восстали против Цин и перешли на сторону мятежников. Провинциальные собрания во многих местах поддержали их, число погибших быстро росло, и когда часть ранее считавшейся верной северной армии предъявила двору собственный ультиматум, власти Цин уступили. Парламент должен был выработать проект конституции, пересмотреть все иностранные договоры и избрать премьер-министра. Регентская власть Цин должна была утвердить кандидатуру премьер-министра, отказаться от исполнительной власти, больше не вмешиваться в политику и предоставить амнистию политическим оппонентам. Всего через месяц после Учанского восстания Юань Шикай был избран и утвержден двором в качестве премьер-министра. Это произошло 11 ноября 1911 г. — «11.11.11».
647
ГЛАВА 16
После официального провозглашения новой республики 1 января 1912 г. первым шагом ее руководителей стал переход на западный солнечный календарь. Неделя теперь длилась семь дней, и нумерологам предстояло разобраться, о чем говорят новые даты. И, поскольку гармония земного и небесного времени всегда входила в число ритуальных обязанностей Сына Неба, календарная реформа ознаменовала конец Небесного мандата Цин более явно, чем бомбы или парламенты.
ВОЙНА И СНОВА ВОЙНА
В первой половине XX века Китай погрузился в период разобщения, настолько же кровавый и запутанный и такой же сложный для изложения, как периоды междинастических беспорядков прошлого. Если бедственное положение Цинского двора после восстания боксеров во многом перекликалось с положением Поздней Хань, то последовавший за восстанием хаос был как две капли воды похож на смуту периода Т^оецарствия в III веке. С 1911 по 1950 г. боевые действия практически не прекращались: революция сменилась гражданской войной, вслед за ней грянула еще одна революция, за ней новая гражданская война, затем иностранное вторжение, освободительная борьба, снова гражданская война, и очередная революция. Кан Ювэй, по-прежнему находившийся в Японии, оценивал число погибших в двадцать миллионов только за два года (1911-1912). Как он получил это число, остается только догадываться. Джонатан Спенс подозревает в ней японское преувеличение, «но даже уменьшенная в десять раз, эта цифра достаточно мрачна и в сложившихся условиях выглядит вполне правдоподобно... [поскольку] мы получили данные, совокупно подтверждающие разгул насилия, выходящий за рамки любого оправдания даже в грандиозных терминах окончательного достижения национального порядка» [14].
На протяжении всего периода с 1911 до 1949 г. Китай оставался историко-культурным понятием, но упорядоченно функционирующим государством был лишь в краткий промежуточный период в начале 1930-х гг. Ученые прилежно выводят после 1911г. линию республиканского руководства от премьер-министра Юань Шикая к краткому периоду, когда в 1912 г. пост президента занимал Сунь Ятсен, затем
648
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
к президентскому правлению Юань Шикая (1912-1916), за которым последовала череда не задержавшихся надолго генералов и политиков вплоть до Чжан Цзолиня (1928), которого сменили Чан Кайши (1928-1949) и Мао Цзэдун (1949-1976). Мы вполне можем проследить в этот период идеологические метания из одной крайности в другую и отметить на карте перемещения национальной столицы (Пекин — Нанкин — Пекин — Ухань — Нанкин — Ухань — Чунцин — Нанкин — Пекин). Но за пределами больших городов и портов, вдали от железнодорожных путей и речного движения власть принадлежала не республиканским диктаторам и конституционным конструкциям, которые они соглашались признать, а тем местным предводителям, которые силой или милостью контролировали отдельные области и их ресурсы. Во времена империи этих людей с их областными базами власти и бродячими армиями звали бы бандитами и мятежниками, но в эпоху, когда судьба националистов зависела оттого, сумеют ли они с ними договориться, их обтекаемо называли милитаристами. Их были в буквальном смысле тысячи, от генералов и чиновников, правивших целыми провинциями (по сути, преемников Цзэн Гофаня и Ли Хунчжана), до местных атаманов, командовавших несколькими сотнями «молодцов», и своенравных горных меньшинств во главе с решительными старостами.
А за ними, за милитаристами, там, где телеграфные столбы исчезали в дымке и заканчивались поля, заканчивался и Китай. Степь снова превратилась в запретную зону. В Маньчжурии, где в начале XX века возникло множество ханьских поселений и начала развиваться промышленность, положение ухудшилось. Став в 1920-х годах яблоком раздора между русскими на севере, японцами на юге (они захватили российские концессии в Ляодуне после Русско-японской войны 1904-1905 гг.) и полунезависимым маньчжурским военачальником, вся Маньчжурия в 1931 г. была захвачена японскими войсками и, номинально сохраняя независимость, по сути превратилась в колонию. Как марионеточная империя Маньчжоу-го («империя», потому что бессильного последнего императора Генри Пуи вынудили наделить этот фантом легитимностью) она служила для Японии плацдармом и складским терминалом, откуда в 1937 г. она осуществила вторжение в другие области Китая. Только в 1946 г., после послевоенной интерлюдии под советским контролем, Маньчжоу-го было отбито националистами Чан Кайши. Затем его снова быстро потеряли в тяжелых
649
ГЛАВА 16
боях с коммунистами в 1947-1948 гг., после чего оно превратилось в три провинции, составляющие уже не табуированную Маньчжурию, а «северо-восток» Китайской Народной Республики.
У Внешней (то есть Северной) Монголии дела обстояли лучше. Ее автономия была признана Китаем уже в 1915 г. С советской помощью в 1921 г. возникла Монгольская Народная Республика со столицей в Урге. Несмотря на то что Монголия признавала остаточный китайский сюзеренитет, «теперь Советский Союз сменил Китай и стал оказывать наибольшее влияние на [монгольскую] республику» [15]. Эти отношения существовали столько же, сколько сам Советский Союз, а претензии Китая на сюзеренитет были окончательно отозваны в период китайско-советского братства и после проведенного в Монголии в 1946 г. референдума в пользу независимости. Урга была переименована в Улан-Батор, а Монгольская Народная Республика заняла свое место в ООН.
Во Внутренней Монголии (степная дуга к югу от Гоби), где к тому времени проживало значительное ханьское население, трудностей было больше. В 1920-е гг. на нее претендовали не русские, а японцы, питавшие надежду проникнуть во Внутреннюю Азию со своего маньчжурского плацдарма через степной коридор. В середине 1930-х годов Токио создал в этом регионе «автономное правительство Внутренней Монголии». Спустя десять лет, когда японцы были окончательно разгромлены союзниками во Второй мировой войне, у китайских коммунистов, обосновавшихся в Яньане в северной Шэньси, были самые большие шансы заполнить образовавшийся вакуум. Так они и сделали, и регион стал автономным районом Внутренняя Монголия КНР.
Синьцзян пользовался фактической автономией с 1912 по 1949 г., хотя здесь сменилось несколько китайских губернаторов. По сути это были те же милитаристы разного калибра, и губернаторами они становились лишь в том случае, если озаботились официально подтвердить это у того, кто на данный момент стоял во главе Китайской Республики. Мусульмане-уйгуры и казахи неоднократно восставали против этой местной власти. Их удалось подавить только с помощью Советской России1. Действительно, если бы не послевоенная сила
1 Вторая Восточнотуркестанская республика была создана при деятельной поддержке СССР, который в то время пересмотрел свою предыдущую политику в регионе, связанную с поддержкой губернатора в обмен на торговые и политические льготы.
650
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
коммунизма в Китае и не советско-китайское наступление на ислам в Центральной Азии, Восточно-Туркестанская Республика, созданная союзом уйгуров и казахов в 1945 г., могла бы существовать до сих пор. Советский Союз принимал активное участие в развитии Синьцзяна, но вернул регион Китаю после победы коммунистов в 1949 г.
Наконец, оставался Тибет. Фотографии британской экспедиции Янгхазбенда 1904 г., безжалостно косившей тибетцев, самым смертоносным оружием в руках которых была мотыга4, были плохо приняты в Лондоне. Односторонняя Лхасская конвенция Янгхазбенда с тибетцами оказалась весьма непопулярной. Ее сочли неприемлемой другие державы, включая Россию, которая усмотрела в ней расширение влияния Великобритании в Центральной Азии, ее счел неприемлемой Далай-лама XIII, никак не участвовавший в ее обсуждении, поскольку он в то время бежал в Ургу2; ее сочли неприемлемой в Лондоне, где ее условия пересмотрели и осудили Янгхазбенда за превышение полномочий. И ее сочло совершенно неприемлемой правительство Цин, вообще отрицавшее право тибетцев вести какие-либо переговоры с иностранной державой. Однако Пекин согласился ратифицировать конвенцию, если англичане в свою очередь признают суверенитет Китая в Тибете. Англичане в очень тонких выражениях, вероятно заставивших похолодеть не одного переводчика, согласились признать лишь сюзеренитет Китая в Тибете, но не его суверенитет. Этот вопрос не был окончательно решен даже в англо-китайском договоре 1906 г. о торговле с Тибетом, и силы Цин начали медленное наступление через Цинхай. Далай-лама вернулся в Лхасу в конце 1909 г., опередив наступающих китайцев. Однако их это не остановило, и, не желая терпеть новое унижение от рук захватчиков, в начале 1910 г. далай-лама снова бежал, на этот раз в Индию.
Изгнание его святейшества в Индию оказалось короче того, что ожидало его реинкарнацию в 1959 г. После того как в 1911г. бомба революционеров взорвалась в Ханькоу, войска Цин в Тибете попали в осаду — против них поднялись сначала их товарищи, выбравшие
1 Доспехи, привезенные Янгхазбендом из экспедиции, дают представление о том, как выглядела тибетская конница, помимо мечей и копий порой вооруженная даже фитильными ружьями, но против английских пулеметов все это было немногим эффективнее мотыги.
2 Урга считалась сферой влияния России. В то время велись активные переговоры в Петербурге о российском протекторате над Тибетом.
651
ГЛАВА 16
сторону революции, а затем тибетцы. Маршруты, ведущие обратно в Китай, были заблокированы, и им пришлось возвращаться на родину через гималайские перевалы и Индию. Тот же окольный и унизительный путь проделали цинские, а затем республиканские эмиссары, тщетно пытавшиеся восстановить контакт с Лхасой. Когда в середине 1912 г. Далай-лама XIII вернулся на родину, его ждал уже освобожденный Тибет: «Китайская военная оккупация владений далай-ламы, начавшаяся три года назад, подошла к концу» [16]. Тибет стал фактически независимым. Хотя эту независимость никогда прямо не признавало ни одно китайское правительство, в 1913 г. президент Юань Шикай согласился признать тибетскую автономию в обмен на признание Британией Китайской Республики.
Тридцать лет спустя, когда Вторая мировая война сделала Британию и националистический Китай союзниками, вопрос о статусе Тибета вновь всплыл на поверхность. Теперь британцы сочли целесообразным предложить обмен: Тибет соглашался на сюзеренитет Китая, а Китай принимал автономию Тибета1. Это не удовлетворяло ни одну из сторон и с трудом поддавалось реализации на практике. Но эту формулу обсуждали до 1949 г., когда президент независимой Индии Джавахарлал Неру заметил, что не склонен «формально» подходить к решению этого вопроса. Мао Цзэдун понял намек и сделал «освобождение» Тибета приоритетной задачей Народно-освободительной армии. Через год Тибет был захвачен и закреплен как неотъемлемый, но автономный регион КНР. Далай-лама XIV терпел эту ситуацию до 1959 г. В этом году тибетцы восстали против китайского присутствия, армия вернулась, чтобы подавить восстание, и его святейшество бежал в Индию, на этот раз бессрочно.
Лишенные обширных периферийных территорий, вынужденные бдительно следить за милитаристами внутри страны и связанные по рукам и ногам внутренней борьбой за власть, первые республикан¬
1 Это было предложено в 1913-1914 гг. на трехсторонней конференции в Симле. Предполагалось, что Тибет по аналогии с Монголией будет разделен на внутренний, с некоторой степенью автономии от Китая, и внешний, где власть Пекина будет номинальной, но итоговое соглашение отказалась подписать китайская сторона, а потом и сами британские власти приняли решение положить договор под сукно. О нем вспомнили лишь в 1938 г. как об основании для демаркации китайско-индийской границы на восточном участке (эту границу, то есть линию Мак-Магона, КНР не признает до сих пор).
652
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
ские правительства значительно потрепанного Китая не имели сил обратить в свою пользу выпадавшие им международные возможности. Во время Первой мировой войны Китай официально присоединился к военным действиям лишь под конец, однако около ста тысяч китайских солдат все же отправились в качестве вспомогательных войск в Европу и понесли там значительные потери. Из этих соображений Китай имел право на место за столом переговоров, когда в 1919 г. союзные державы приступили к разделу добычи. Китайская делегация примерно из шестидесяти человек прибыла в Париж с большими ожиданиями: китайцы надеялись как минимум вернуть себе контроль над открытыми портами и концессиями, которые утратили побежденные немцы. Вудро Вильсон в целом не одобрял колониализм и проповедовал доктрину самоопределения, что также давало неплохой шанс выдворить японцев из Маньчжурии и англичан из Гонконга.
Но китайскую делегацию ждало разочарование. Возможно, дело было в том, что в ее рядах царил такой же разлад, как в республике, которую она представляла. Тунмэнхуэй Сунь Ятсена, теперь переименованный в народную партию Гоминьдан, имел сильную поддержку на юге и выиграл первые выборы в Китае в 1913 г. Право голоса имели около 40 миллионов человек, хотя женщин среди них по-прежнему не было. Юань Шикай, чье предыдущее избрание на пост президента выглядело сомнительно после этой победы националистов, пользовался сильной поддержкой на севере. Он выступил против Гоминьдана и напал на губернаторов провинций, которые ее поддержали. Последовали более ожесточенные, чем обычно, вооруженные столкновения, северные войска штурмовали и разграбили Нанкин. Парламент был распущен, Сунь Ятсен бежал, Юань Шикай правил как диктатор (и даже пытался стать императором) до смерти в 1916 г. Тем временем большая часть южных провинций отделилась от республики и объявила о своей автономии. Ради соблюдения приличий в делегацию, отправленную на мирные переговоры в Париж, пригласили несколько южан. Но скрыть раскол в рядах делегации не удалось — на взгляд Жоржа Клемансо, Дэвида Ллойд-Джорджа и Вудро Вильсона, было «неясно, кого она представляет — страну или правительство». Кроме того, они заключили, что «среди членов делегации не было ни президента, ни премьер-министра, потому что в Китае сложилась слишком неустойчивая политическая обстановка, и ни один из них не отваживался покинуть страну» [17].
653
ГЛАВА 16
Однако на самом деле состав китайской делегации не имел большого значения, поскольку республиканское правительство уже передало ценные немецкие концессии в провинции Шаньдун. Циндао, ядро этих концессий и на тот момент процветающий порт с немецкими школами и отличным пивоваренным заводом (пиво марки «Циндао» — Tsingtao в транскрипции Уэйда — Джайлса — выпускают до сих пор), фактически был перехвачен у немцев японцами в 1914 г. Тогда Токио предъявил Юань Шикаю ультиматум под названием «Двадцать одно требование». Поскольку эти требования должны были «фактически превратить Китай в японский протекторат», Юань Шикай решил откупиться от японцев, заявив, что Китай поддерживает претензии Токио на Циндао [18]. Китайские делегаты, конечно, заявили, что это соглашение было подписано под давлением, но союзники считали, что соглашение есть соглашение. Циндао остался у Японии, китайские надежды были разбиты.
Когда известия об этом достигли Пекина, протестующие собрались на площади перед Тяньаньмэнь — Вратами Небесного спокойствия (в те дни она была меньше, но имела не меньшее символическое значение). Это случилось 4 мая 1919 г., и с тех пор эта дата неизменно ассоциировалась с общественным протестом и национальным пробуждением. Ведущую роль сыграли студенты Пекинского государственного университета, основанного в 1898 г., но в 1912 г. преобразованного в учебное заведение высшей ступени в новой системе современного образования. Тысячи демонстрантов были арестованы. На самом деле их было столько, что для всех не хватило камер, и многих пришлось отпустить. Сунь Ятсен и Кан Ювэй, по-прежнему выступавшие соперниками в конституционной борьбе, высказались в поддержку демонстрации. Везде, где находились студенты, формировались студенческие союзы, к ним присоединялись рабочие группы, женщины мобилизовались, как никогда раньше, и Движение 4 мая распространилось по всей стране. В Шанхае протестовали сто тысяч. Японские товары повсюду бойкотировали. Нарастала неприязнь к тем державам, чьи либеральные настроения потакали Японии. Однако политические последствия оказались довольно скромными. Несколько прояпонских министров лишились постов, Китай отказался подписать мирное соглашение, а затем, три года спустя, в рамках международного соглашения о военно-морских силах в западной части Тихого океана Япония все-таки освободила Циндао.
654
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
Гораздо сильнее Движение 4 мая повлияло на общественную и интеллектуальную жизнь Китая. Родившись из возмущения и бессилия перед лицом международного” предательства, оно усилило и радикально перенаправило курс национального возрождения. Новое поколение политиков, среди которых был молодой Мао Цзэдун в своем родном Чанша (Хунань) и Чжоу Эньлай в Тяньцзине (Хэбэй), получили первый опыт политической деятельности. Массовые выступления приобрели новые масштабы — профсоюзы и женские группы организовывались и мобилизовались, как никогда раньше. «Более четырехсот посвященных культуре и политике журналов на народном языке были основаны в этот период, созданы сотни новых школ, часто с радикальной учебной программой» [19]. Появились учебники на народном языке. «Движение за новую культуру» набирало обороты благодаря публикации лучших художественных литературных произведений Китая. Как всегда, политический хаос послужил стимулом для культурной деятельности. Цюй Цюбо, в то время пекинский студент, а затем неоднозначная фигура в рядах Коммунистической партии, вспоминал, что это было похоже на «затягивающую воронку урагана». «Страсти... так разгорелись, что трудно было унять нетерпение». Впервые в истории «острая боль империалистического угнетения пронзила нас до самых костей и пробудила от кошмара бесполезных демократических реформ» [20].
Забастовки, протесты и бойкоты обострились в начале 1920-х годов. Тон задавали организованные в профсоюзы рабочие — гонконгские докеры, работники шанхайской текстильной фабрики, моряки Гуанчжоу, железнодорожные рабочие в Ухане. Демонстрантов расстреливали, вслед за этим следовали новые демонстрации в поддержку жертв. Иногда требования забастовщиков удовлетворяли, но чаще нет. Постепенно люди начали понимать, что правительство в Пекине зависит от иностранных кредитов, а значит, стоит на стороне иностранных компаний, эксплуатирующих китайский труд. Это только подлило масла в огонь идеи националистической революции и уничтожения республики. Осуществление этой идеи, в свою очередь, требовало единства между националистами партии Гоминьдан Сунь Ятсена, которые контролировали провинцию Гуандун, и новой, не такой многочисленной, но хорошо организованной партии антиимпериалистов, имевших сильную поддержку в Шанхае, — Коммунистической партии Китая (КПК).
655
ГЛАВА 16
Вдохновленная большевистской революцией в России и китайскими студентами, изучавшими марксизм-ленинизм во время учебы и работы в Париже1, КПК сформировалась в Шанхае в 1921 г.Мао Цзэдун присутствовал на первом съезде как представитель провинции Хунань, а Чэнь Дусю, редактор левого журнала «Новая молодежь» (Синь циннянь) и основатель нескольких кружков изучения марксизма, был избран генеральным секретарем. Связи с ленинским Коминтерном (Коммунистическим Интернационалом) уже были установлены, и они окрепли, когда советское руководство заявило о готовности вернуть законному китайскому правительству все российские концессии. РСФСР явно была очень ценным союзником в борьбе за освобождение страны от иностранных империалистов. Поэтому советники, инструкторы, финансы и боеприпасы от Коминтерна были приняты с благодарностью. Несмотря на собственные опасения, КПК последовала указаниям Коминтерна и, вместо того чтобы отложить революцию до тех пор, пока пролетариат полностью мобилизуется, согласилась временно объединить силы с Гоминьданом. Затем они вместе должны были свергнуть «феодальных» милитаристов; к этому времени страна уже будет готова ко «второму этапу» борьбы, который окончится установлением диктатуры пролетариата2.
Между Гоминьданом и КПК не было полного единодушия, но в 1922 г. они выработали совместную программу воссоединения страны и достижения полной независимости. От имени партии Гоминьдан Сунь Ятсен, а после его смерти в 1925 г. Чан Кайши создали военное правительство в Гуанчжоу. Там Чан Кайши, обучавшийся в японской военной академии, создал националистическую военно-морскую академию, которая должна была подготовить надежные войска и обеспечить основное руководство в предстоящей борьбе. За дисциплину и организацию отвечал агент Коминтерна Михаил Маркович Бородин. Средства поступали из местных налогов, а также от помещиков и промышленников, которые поддерживали Гоминьдан
1 Главными ораторами на Первом съезде КПК были эмиссары Коминтерна — Никольский (В. А. Нейман) и Маринг (X. Сневлит). Коминтерн считал формирование коммунистических партий во всех странах обязательным этапом на пути к скорой и неизбежной мировой революции.
2 Членам КПК было рекомендовано вступать в Гоминьдан. Многие отделения Гоминьдана (например, в Европе) практически представляли собой ячейки Компартии.
656
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
и в обмен пользовались ее защитой. Войска набрали из сторонников обеих партий и ополченцев южных милитаристов. К июлю 1926 г. националисты и коммунисты были готовы начать Северный поход. Одна армия двинулась вдоль побережья через Фуцзянь в Ханчжоу, другая направилась прямо на Нанкин, а третья выступила к Чанша и троеградию Ухань.
Именно последняя армия, повторив маршрут тайпинов в 1851 — 1853 гг., быстрее всего достигла намеченной цели благодаря почти достроенной железной дороге, соединявшей Гуанчжоу и Ухань. Чанша пал в июле, Ухань после тяжелых боев и отчаянной осады в октябре. Затем главнокомандующий Чан Кайши столкнулся с той же дилеммой, что и тайпины в 1854 г.: пойти прямо на север в Пекин или сначала свернуть на восток вниз по Янцзы и обезопасить Шанхай и агропромышленный центр. В отличие от «поклоняющихся Богу», Чан Кайши предпочел Шанхай. Нанкин взяли в марте 1927 г., и в том же месяце Шанхай, уже парализованный всеобщей забастовкой, организованной профсоюзами под контролем КПК, радостно встретил националистов.
После этого профсоюзы и Коммунистическая партия Китая стали жертвами вопиющего, незабываемого предательства. Чан Кайши нужно были признание иностранных держав, невмешательство их военно-морских сил, займы и пошлины из банков и корпораций Шанхая. Ему не нужны были горячие сторонники, стремящиеся изгнать иностранных империалистов, вернуть концессии и свергнуть власть объединенной буржуазии с помощью рабочих профсоюзов1. Короче говоря, теперь Коммунистическая партия ему мешала. Чан Кайши вывел из города все войска, кроме самых надежных, и, воспользовавшись услугами Зеленой банды (преступной организации хорошо вооруженных головорезов, с помощью которых промышленники запугивали забастовщиков), начал масштабное наступление на профсоюзы. Сотни профсоюзных лидеров были расстреляны, тысячи арестованы. Аналогичные репрессии развернулись в Гуанчжоу2. Надежды
1 Чан Кайши не хотелось делить власть с набирающей мощь политической силой, чья лояльность Советскому Союзу едва ли не превышала заботу о благе китайского народа.
2 С апреля по сентябрь 1927 г. у Китайской Республики было два правительства — помимо того, что располагалось в Ухане, на власть претендовало нанкинское правительство Чан Кайши. В сентябре уханьское правительство самораспустилось.
657
ГЛАВА 16
КПК на марксистскую революцию, основанную на захвате средств производства трудящимся пролетариатом всегда, представлялись довольно эфемерными в условиях в основном аграрной экономики. Теперь эти надежды полностью развеялись. Попытка использовать Гоминьдан, чтобы ускорить захват власти коммунистами, потерпела сокрушительный провал и имела тяжелейшие последствия. В 1928 г. националисты и коммунисты оказались втянутыми в порочный круг идеологической ненависти и военной конфронтации.
ВЕЛИКИЙ ПОХОД И ДОЛГАЯ ВОЙНА
В 1928 г., когда КПК отступила в отдаленные районы провинций Хубэй, Хунань и Фуцзянь, чтобы зализать раны и по возможности перегруппироваться, Чан Кайши продолжал укреплять свои позиции в северных провинциях. Успех второго этапа Северного похода даже больше, чем успех первого этапа, зависел от уступок и союзов с местными военными правителями. В Шаньдуне националистические войска встретили самое ожесточенное сопротивление — однако их противниками были не китайские, а японские силы, расквартированные там для защиты концессий Токио. Обычная для того времени жестокость померкла на фоне бесчеловечных зверств, которым подверглось мирное местное население по национальному признаку.
Последний руководитель республиканского правительства Чжан Цзолинь погиб при взрыве бомбы в Мукдене (Шэньян). Пекин был слишком уязвим дня японских фанатиков, окопавшихся в соседней Маньчжурии и Шаньдуне, чтобы стать столицей Гоминьдана. Поэтому его понизили в статусе, как при императоре Хунъу, переименовав из Пекина («Северная столица») в Бэйпин — «Умиротворенный север(ный город)». Столицей государства снова сделали Нанкин и фактически закрепили в этом качестве, когда Чан Кайши приказал перенести прах Сунь Ятсена и торжественно перезахоронить в великолепной гробнице на горе Цзыцзинь рядом с гробницей императора Хунъу. Сходство усиливало и то, что Сунь Ятсена изображали как идейного вдохновителя Гоминьдана, а его произведения наделяли таким же нравственным авторитетом, как «заповеди» императора Хунъу. Все это помогало Чан Кайши представить себя в виде протеже и законного преемника Сунь Ятсена. Полудинастический оттенок этим попыткам придавало то, что новой
658
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
невестой Чан Кайши стала сестра вдовы Сунь Ятсена. Легитимность все еще проистекала из прошлого, а не от народа.
Поскольку главной задачей Чан Кайши было уничтожение КПК, расширение националистического контроля в сельской местности, где правили милитаристы, и выкачка максимума средств из Шанхая, «ему не нужно было утруждать себя, поддерживая видимость демократии» [21]. Первое националистическое правительство Китая ввело сильную централизованную бюрократическую форму администрации и разработало для ее поддержки строгую конфуцианскую идеологию. Это движение, получившее название «Новая жизнь» — вероятно, по аналогии с американским «Новым курсом», — ставило на первое место не нравственные качества или уважение к учебе, а дисциплину, соблюдение этикета и лояльность. Когда в 1930-х гг. Чан Кайши стал восхищаться Гитлером и Муссолини, движение приобрело фашистский оттенок. Затем Чан Кайши принял звание генералиссимуса1, вокруг него вскоре сложился культ личности, и он создал собственную полицию нравов — Общество синеблузников.
Хотя Китай при Чан Кайши представлял собой лишь осколок империи Цин и хотя внутри страны еще оставалось немало местных милитаристов, а борьба продолжалась, националистическая революция 1926-1928 гг. получила более широкое признание, чем республиканская революция 1911-1912 г. Это особенно проявилось, когда британцы решили вернуть Китаю территорию площадью 775 квадратных километров в материковой части, составлявшую их шаньдунскую концессию в Вэйхайвэе. Теоретически Вэйхайвэй можно было вернуть в 1905 г., когда после Русско-японской войны русские ушли из Даляня (Дальнего). Но затем Далянь захватили японцы, поэтому британцы остались, чтобы уравновесить японское присутствие. Этот вопрос снова возник в 1915 г. Реджинальду Джонстону, главе районного магистрата Вэйхайвэя, предложили вкратце изложить причины удержания этой территории. Он ответил, что ему «такие причины неизвестны». В то время Британия и Япония были союзниками, военно-морская база не выполняла никакой стратегической задачи,
1 Звание генералиссимуса Чан Кайши присвоили в 1937 г., в начале войны с Японией — за несколько месяцев до роспуска Общества энергичного проведения в жизнь трех народных принципов (так, в честь основных принципов идеологии Сунь Ятсена — национализм, народоволастие, народное благосостояние — официально именовались синеблузники).
659
ГЛАВА 16
а побережье, занятое вместо линкоров купальнями, служило популярным летним курортом для иностранных семей. В 1920 г. британская сторона согласилась с доводом Джонстона и решила вернуть эту часть территории Китаю. Но возникла новая проблема: кому именно ее передать? Военные правители в Пекине сменялись слишком быстро, а Гоминьдан в то время находилась далеко на юге.
Вопрос по-прежнему не был решен, когда в 1926 г. Реджинальд Джонстон вернулся в Вэйхайвэй как специальный уполномоченный. В промежутке он занимал, по собственным словам, «своеобразное и довольно интересное положение» в качестве наставника Генри Пуи. После низложения последнего императора в 1912 г. Пуи разрешили остаться в императорском дворце, поэтому Джонстон, живя со своим молодым воспитанником, вероятно, познакомился с жизнью дворца лучше, чем любой другой иностранец за двести пятьдесят лет правления Цин. Через некоторое время Пуи был изгнан из дворца1, и теперь он жил как частное лицо под защитой японцев в Тяньцзине. Не могло быть и речи о том, чтобы передать Вэйхайвэй ему. Лишь после того как в 1929 г. британская сторона признала националистическое правительство Чан Кайши, проблема наконец разрешилась. В стране появилось законное и достаточно прочное правительство, и в октябре 1930 г. состоялась «первая сдача территории британской короны со времен американской Войны за независимость». Торжественные мероприятия, отметившие это событие, — рукопожатия, опускание флагов, салюты, волынки, церемониальный отъезд в сторону моря, ликование на берегу — повторялись в аванпостах Британской империи примерно раз в два года в течение следующих пятидесяти лет. Процесс, начавшийся на китайском побережье, завершился там же: в июне 1997 г. истек девяностодевятилетний срок аренды «новых территорий» в Гонконге, вся колония была возвращена КНР, и Британская империя окончательно канула в Лету. Так Китай вернул себе первую из отчужденных территорий — и последнюю, за исключением двух (Макао, переданного в 1999 г., и Тайваня, по-прежнему «невозвращенного») [22].
Кроме возвращения Вэйхайвэя националистическое правительство поставило вопрос о пересмотре неравноправных договоров XIX века, особенно в отношении экстерриториальности и откры¬
1 Это произошло, когда Пекин заняли войска левого популиста Фэн Юйсяна (октябрь 1924 г.).
660
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
тых портов. Китаю были возвращены три порта на реке Янцзы, в том числе Ханькоу, где в 1911 г. разорвалась судьбоносная бомба. В муниципальном совете Шанхая была введена система разделения полномочий. Переговоры с иностранными державами еще продолжались, когда в 1932 г. эти небольшие возможности исчезли. Годом ранее японцы нашли повод для оккупации крупнейшего маньчжурского города Шэньяна (Мукден), а затем захватили остаток Маньчжурии. Год спустя в ответ на антияпонские выступления против захвата Маньчжурии и убийство нескольких японских граждан японский флот высадил в Шанхае войска. Переговоры с иностранными державами были приостановлены: в китайских районах большого города началась маленькая, но жестокая война. Ко времени заключения перемирия в 1933 г. погибло четырнадцать тысяч человек.
Эти отвлекающие факторы, обеспечив отсрочку неизбежного в открытых портах, стали спасением для коммунистов, дав им время перегруппироваться. После предательства Гоминьдана в 1928 г. КПК вернулась в провинции. Состоявшая из рассеянных анклавов Коммунистическая партия медленно реформировалась и налаживала отношения с местными милитаристами, а затем начала создавать автономные местные Советы, по-прежнему при поддержке и под руководством Коминтерна. Коммунисты вербовали и обучали войска, одновременно яростно оспаривая друг у друга право на руководство партией. Чэнь Дусю и Цюй Цюбо обвинили в провале единого фронта с Гоминьданом, несмотря на то то они с самого начала относились к этой идее скептически. За высокий партийный пост в то время боролись и другие деятели. Среди них были Чжоу Эньлай, убежденный идеолог, учившийся в Париже, затем возглавлявший политотдел военной академии в Гуандуне и теперь координировавший партийную деятельность; Линь Бяо, курсант военной академии в Гуандуне, проявивший себя как блестящий командир на первом этапе Северного похода; и Мао Цзэдун, высокий, слегка декадентского вида вольнодумец с небольшим военным опытом, сомнительным списком достижений, репутацией циника и непоколебимой уверенностью в том, что он один понимает требования момента1.
1 Среди ярких претендентов на лидерство в КПК в этот период можно назвать также харизматичного оратора Ли Лисаня, надеявшегося на городской пролетариат, и последовательного сторонника выполнения любой воли Москвы Ван Мина.
661
ГЛАВА 16
Но попытки расширить анклавы партии не имели большого успеха. К 1933 г. все они занимали оборонительные позиции, поскольку Чан Кайши, которому развязало руки перемирие с японцами, усилил их блокаду и посылал против коммунистов все новые и новые силы Гоминьдана. Самый большой «красный» анклав располагался в горах Цзянси, почти на границе с провинцией Хунань. Когда в 1934 г. над цзянсийскими Советами нависла угроза неминуемого уничтожения, было принято решение об эвакуации. При этом около двадцати восьми тысяч человек, включая раненых и почти всех женщин, были оставлены на сомнительную милость националистов — равные права не означали равных возможностей выживания. Остальные, около восьмидесяти тысяч человек, из которых, вероятно, половину составляли боеспособные войска, 16 октября 1934 г. под покровом темноты вырвались из блокады и направились на запад. Так начался «Поход длиной в десять тысяч ли» (около пяти тысяч километров), или Великий поход.
«Самый живучий миф современной китайской истории и один из самых больших мифов XX века», Великий поход не раз более или менее убедительно пытались разоблачить именно в этом качестве — как миф [23]. По версии Юн Чжана и Джона Холлидея, в начале похода самого Мао Цзэдуна чуть не забыли в городе, затем по его вине участники похода не раз сбивались с пути, и, как все остальное партийное руководство, он редко шел пешком — его несли в портшезе. Более того, все это предприятие, на самом деле мало похожее на героическую сагу о выживании, якобы представляло собой обманный маневр, за которым стоял, ни много ни мало, сам Чан Кайши. Сын Чан Кайши в это время находился в СССР: его задержали там в залог здравомыслия его отца. Если бы войска Чан Кайши уничтожили участников похода, это означало бы смертный приговор для того, в ком отец души не чаял. Вдобавок Чан Кайши не мог позволить себе портить отношения с Москвой, когда главная угроза исходила из Токио. Наконец, хотя его националистические силы действительно преследовали участников похода через всю Гуйчжоу и Сычуань, это якобы служило другой цели: отобрать эти территории у военных правителей и превратить их в убежище для Чан Кайши и его правительства на случай японского вторжения.
Коминтерн хотел, чтобы цзянсийские «красные» переместились на северо-запад, где их удобнее было снабжать и контролировать. Задача Чан Кайши, таким образом, заключалась в том, чтобы пригнать
662
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
их туда. Он должен был не уничтожить коммунистов, а доставить их в нужную точку Его авиация и артиллерия легко могли покончить с ними, но самолеты с гудением проносились над головами, не сбрасывая бомбы, а войска и пушки предназначались больше для устрашения местных военных правителей. Все битвы во время похода были вымыслом, а то, что поход растянулся на целый год, объяснялось совершенно ненужными отклонениями от курса и трудностями, вызванными ошибками Мао Цзэдуна и его маневрами в борьбе за власть.
Возможно, многое из этого соответствует истине — подробности Великого похода всегда казались несколько подозрительными, однако это не уменьшает его принципиальной важности. Переход из южной Цзянси в северную Шэньси избавил КПК от угрозы уничтожения и оказался гениальным стратегическим ходом, который прославил партию и ее почти чудесное спасение на всю страну. Отрицать жертвы не имело смысла. Из восьмидесяти тысяч человек, вышедших из Цзянси, только четыре тысячи дошли до новой штаб-квартиры в Яньане. Большая часть этих потерь, вероятно, объяснялась дезертирством, а в пути причиной смерти чаще становились истощение и болезни, чем огонь противника. И, поскольку Великий поход в какой-то момент объединился еще с одной «красной» армией, точное количество выживших остается неясным. Но был ли поход катастрофой или триумфом, он в любом случае засиял в ореоле славы, как Галлиполи или Дюнкерк1, и стал отличным сюжетом для пропаганды. Фэйрбэнк сравнил его с исходом «Моисея, ведущего свой избранный народ через Красное море» — в нем действительно ощущается некое апостольское клише [24]. В Китае было немало прецедентов, доказывающих ценность своевременного тактического перемещения, начиная с отступления основателя империи Хань Лю Бана под натиском вспыльчивого Сян Юя и заканчивая долгим Северным походом тайпинов. И хотя среднестатистическому китайцу доктрины марксизма-ленинизма, возможно, казались слишком абстрактными и чужими, поход сделал их более понятными и придал им национальную значимость.
Кроме того, поход положил начало легенде о Мао. Тенденция представлять историю середины XX века в лицах не уникальна для Китая. В мире, где господствовали военачальники и национальные
1 Галлиполи и Дюнкерк — две неудачные операции британских войск во время Первой мировой войны.
663
ГЛАВА 16
герои — Рузвельт, Сталин, Черчилль, Ганди, де Голль, — освобождение Китая без труда сплеталось с маоистским нарративом. Послевоенное воссоединение, массовая промывка мозгов, реализация разновидности коммунизма под названием «маоизм» и культ личности великого вождя, — благодаря всему этому история Мао Цзэдуна на следующие сорок лет затмила историю Китая. Но, разумеется, все было не так просто. Если бы не было, например, разрушений, вызванных вторжением Японии и Второй мировой войной, Мао и КПК, возможно, так и остались бы в истории страны лишь незначительным эпизодом.
В1936 г., через год после создания новой ячейки Советов среди пыльных каньонов к югу от Великой Китайской стены в северной провинции Шэньси, возникла (буквально упала с неба) еще одна возможность. Генералиссимус Чан Кайши попал в плен. В Сиане, куда он приехал для встречи с повесой Чжан Сюэляном, сыном военачальника Чжан Цзо- линя и наследником его армии, телохранитель Чан Кайши был убит, а сам он оказался в заложниках. Чжан Сюэлян имел вполне похвальный план: он хотел выступить посредником и объединить националистов, коммунистов и провинциальных военных правителей, чтобы сообща дать отпор возобновившимся японским вторжениям. Фактически Чан Кайши заставили объявить новый единый фронт и прекратить преследование коммунистов под угрозой выдачи коммунистам. Начались долгие переговоры, решающий шаг в которых сделал советский Коминтерн. Вместо того чтобы дать КПК захватить Чан Кайши, когда у партии была такая возможность, Коминтерн приказал сотрудничать с националистами, освободить Чан Кайши и даже перейти под его командование, присоединившись к единому антияпонскому фронту. Чжоу Эньлай послушно занял указанную позицию, Чан Кайши получил свободу. Единый фронт не просуществовал и нескольких лет: националисты все еще слишком подозрительно относились к коммунистам. Но националистические наступления против коммунистических организаций Шэньси прекратились, Мао Цзэдун и Коммунистическая партия получили передышку, чтобы начать мобилизацию в сельских районах, и все партии собрали силы, приготовившись к нападению японцев.
Долгожданное роковое столкновение произошло на мосту Марко Поло, примерно в пятнадцати километрах к западу от Пекина, в ночь на 7 июля 1937 г. В защиту своих железнодорожных и промышленных концессий японцы разместили на всей территории провинций Хэбэй и Шаньдун войска, как японские, так и китайские под японским
664
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
командованием. Дело на мосту, изначально возникшее из-за недоразумения, вызванного военными учениями, быстро обострилось. Токио занимал крайне воинственную позицию, а Чан Кайши испытывал огромное давление и уступить не мог. Когда японцы и их союзники из числа провинциальных военных правителей опустошили окрестности Тяньцзиня и Пекина, это самое давление заставило Чан Кайши пойти на риск и открыть второй фронт с целью отвлечь врага.
Новым фронтом Чан Кайши стал Шанхай. Там было мало японских войск, но стоял японский военный флот, выглядевший привлекательной целью. То, что Шанхай был вдобавок самым густонаселенным городом Китая, его самым большим портом и богатейшим финансовым центром, похоже, не слишком беспокоило генералиссимуса. Получив приказ атаковать японский флот, в середине августа националистическая авиация Чан Кайши пролетела низко над городом и сбросила бомбы. Бомбы не задели ни один корабль, но три из них упали в центре международной концессии. Одна нанесла прямой удар по отелю «Палас», престижному заведению на набережной, другая на волосок промахнулась мимо расположенной рядом гостиницы «Катай» и упала в толпу на улице, третья взорвалась в огромном квартале развлечений на главной торговой улице города. Только там погибло не меньше тысячи человк, почти все китайцы, и еще столько же получили ужасные увечья. Это произошло 14 августа, в пятницу1.
Вскоре после этого неудачного начала националистический второй фронт отодвинулся к Янцзы. Сам Шанхай держался еще несколько месяцев. За это время японцы привели авианосцы, тяжелую технику и несколько дивизий солдат и морских пехотинцев. «250 тысяч китайских солдат — почти 60% лучших сил Чан Кайши — были убиты или ранены, в то время как потери японцев составляли чуть больше 40 тысяч человек» [25]. После этого удара Шанхай так и не смог восстановиться. Иностранцы бежали, деловая репутация города рухнула, и в конце конов японцы лишили его статуса международной концессии. Затем националисты начали свой Великий поход: они от-
1 Уже 13 августа начались столкновения между японскими войсками и китайскими силами поддержания порядка (после 1932 г. Китай не имел права держать в Шанхае войска). Обе стороны применяли артиллерию. Эти столкновения стали следствием обострения обстановки, последовавшей за убийством 9 августа китайскими полицейскими японского офицера, пытавшегося проникнуть на территорию аэропорта.
665
ГЛАВА 16
ступали вверх по реке к столице в Нанкине, павшей в декабре 1937 г., затем к новой столице в Ухане, павшей в середине 1938 г., и, наконец, к Чунцину над ущельями в провинции Сычуань. Чунцин, несмотря на тяжелые бомбардировки, служил последней столицей остатков националистического Китая Чан Кайши до 1945 г.
Похожая история произошла дальше на севере, несмотря на доблестное сопротивление и наводнение — на сей раз рукотворное — на Хуанхэ. Чтобы замедлить продвижение противника, были взорваны плотины. Река в очередной раз разлилась и направилась в другую сторону, попутно погубив около полумиллиона китайских мирных жителей. К концу 1938 г. японцы дошли до Кайфэна. Между тем на юге пал Гуанчжоу, а Гонконг фактически очутился в изоляции. Намного хуже этого, однако, оказалось безумие, охватившее японцев, когда они вошли в Нанкин. Этот прекрасный город с изящными дворцами эпохи Мин и массивными крепостными стенами под лесистыми склонами горы Цзыцзиныиань и раньше переживал массовые погромы. Но вряд ли они могли сравниться с разгулом бессмысленных жестоких убийств, изнасилований и отвратительных зверств, учиненных японскими войсками за время семинедельного террора зимой 1937/38 г. Это было одно из самых ужасных военных преступлений в истории, в ходе которого были беспричинно истреблены, по разным оценкам, от пятидесяти тысяч до полумиллиона китайцев, главным образом мирных жителей.
К 1939 г., когда Японо-китайская война превратилась в одно из слагаемых Второй мировой войны, все прибрежные провинции находились под контролем Токио, а коллаборационистские режимы простирались глубоко внутрь страны. Китай был раздроблен, Чжунго во всех значимых смыслах практически перестало существовать. Националисты, запертые в провинции Сычуань, отчаянно нуждались в средствах и зависели от поставок боеприпасов и снабжения по недавно построенной, но не до конца открытой Бирманской дороге через полуавтономную Юньнань1. Коммунисты, точно так же отброшенные на окраины и в равной степени стесненные в средствах, закрепились в Шэньси. Там они развивали самодостаточность, строили
1 Значимые поставки по ней начались только после 1941 г., когда Япония, а затем Китай официально вступили во Вторую мировую войну. До того главным путем снабжения армий Чан Кайши и Мао Цзэдуна была построенная советскими специалистами трасса через Синьцзян.
666
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
планы захвата Ганьсу и Нинся и накапливали трудовые ресурсы путем экспериментального перераспределения земель, классификации и организации земледельцев. Тем временем боевые действия продолжались, а человеческие трагедии множились. Несмотря на огромную поддержку, оказанную националистам странами-союзниками, особенно после Перл-Харбора (декабрь 1941) и вступления США во Вторую мировую войну на Тихоокеанском театре военных действий, несмотря на формирование в конце концов вялого объединенного фронта Гоминьдан — КПК и несмотря на крупное японское наступление в провинциях Хунань и Гуйчжоу в 1944 г., военная обстановка оставалась в целом без изменений, пока Япония не сдалась после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г.
Вклад Китая в победу заключался в сковывании огромного количества японских самолетов, военных транспортных средств и прежде всего военнослужащих. В 1945 г. около двух миллионов солдат, половина из них в Маньчжурии, ожидали капитуляции и репатриации1. И националисты, обещавшие построить «Свободный Китай» при поддержке США, и коммунисты с их стремлением к народной республике при поддержке СССР, бросились присваивать захваченные боеприпасы и заброшенную инфраструктуру, шахты, заводы и огромные территории. В этой гонке самым ценным призом стала Маньчжурия, благодаря японским инвестициям превратившаяся в промышленно развитую область и меньше пострадавшая к концу войны, чем остальные области Китая. В последний месяц войны ее захватили советские войска, что давало преимущество коммунистам. Когда националистические и коммунистические армии сошлись в Маньчжурии, националисты, хотя были намного сильнее, обнаружили, что их продвижению мешают советские войска2. Коммунистам, к которым присоединились местные партизаны и отдельные корейские отряды, разрешили забрать себе собранное японское вооружение и обосноваться на Крайнем Севере. В Харбине, первом городе, где КПК установила свою власть, Линь Бяо реорганизовал свои силы в Народно- освободительную армию и в конце 1946 г. начал продвигаться на юг.
1 Отдельные части японской армии продолжали сопротивляться советскому наступлению в ходе Маньчжурской операции до конца августа (на Сахалине и Курильских островах).
2 Ввод правительственных войск в Маньчжурию начался только после согласованного вывода оттуда Красной армии.
667
ГЛАВА 16
К тому времени американские попытки заставить обе стороны заключить перемирие и найти какую-то форму совместного правления под руководством Чан Кайши рухнули. «Главное препятствие к заключению мира состоит в глубокой, всепоглощающей подозрительности, с которой относятся друг к другу Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая, — написал генерал Джордж Маршалл в отчете о своей не имевшей успеха посреднической миссии. — Каждая сторона готова говорить только о своих опасениях» [26]. Опасения оказались не беспочвенными: в начале 1947 г. отдельные столкновения переросли в открытую войну, и стороны показали свое истинное лицо. Коммунисты больше не скрывали свои революционные намерения. Они отбирали и перераспределяли земли, судили их бывших владельцев, поощряли осведомителей и развернули массовую идеологическую обработку населения. В свою очередь, националисты наглядно продемонстрировали давнюю склонность к корпоративному кумовству, равнодушие к настроениям народа и экономическую некомпетентность. Коллапс морального духа в результате бурной инфляции (500% в месяц в 1948 г.), голод, сельские беспорядки и студенческие протесты расшатали националистический режим сильнее, чем победы коммунистов. В 1948 г. Народно-освободительная армия нанесла националистам ряд катастрофических поражений в Маньчжурии, что привело к массовому дезертирству. Одновременно весь Северный Китай захватили крестьяне-партизаны под руководством КПК Благодаря новым победам и продолжавшемуся дезертирству в рядах националистов к концу 1948 г. большая часть Китая к северу от Янцзы перешла в руки коммунистов.
Джонатан Спенс сравнил бедственное положение Чан Кайши с положением самозваных правителей Мин после того, как маньчжуры захватили север в 1644-1645 гг. Самому Чан Кайши, возможно, больше понравилось бы сравнение с другими империями: Сун, Восточной Цзинь или царством У периода Троецарствия, которые извлекли немало пользы из своего пребывания на юге. Он наверняка рассматривал возможность закрепиться южнее Янцзы или снова уйти в Сычуань и Юньнань. Но в конце концов он предпочел более безопасный Тайвань, который республике вернули после поражения Японии. Сокровища искусства и тексты из Императорского дворца в Пекине — ближайший аналог императорских регалий, которыми он мог завладеть, — были перевезены туда в 1948 г., а в начале 1949 г., когда Народно-освободительная армия после серии молниеносных ударов
668
РЕСПУБЛИКАНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ. 1880-1950
захватила весь юг, Чан Кайши бежал через Тайваньский пролив вместе с приблизительно миллионом своих солдат. Другие националисты отправились в Таиланд, Лаос и Бирму. Многие эмигрировали за границу.
Как президент крошечной Китайской Республики Чан Кайши правил на Тайване до своей смерти в 1975 г. Согласно доброй династической традиции, после него власть перешла к его сыну, который правил, пока Тайвань не принял парламентскую форму правления в конце 1980-х гг. Мао Цзэдун умер в 1976 г. — он пережил Чан Кайши всего на год. Но его Китайская Народная Республика, официально провозглашенная у Небесных врат на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 г., гораздо успешнее сопротивлялась парламентскому представительству.
Эпилог
Остальное вы знаете из заголовков. Широкая поступь истории сменяется легкой рысью текущих событий и гвалтом новостных репортажей. Как сказал один из героев сериала «Западное крыло»: «Это не история — это телевидение» (он имел в виду курс, посвященный Карибскому кризису, но с тем же успехом мог бы говорить и о Культурной революции). Фотографии, новостные ленты и блоги, обновляющиеся в режиме реального времени, нередко заслоняют собой взвешенные суждения, а личные воспоминания очевидцев одновременно подтверждают и искажают достоверность произошедшего. Науке, привыкшей выведывать секреты у молчаливого прошлого, приходится приспосабливаться к критике крикливого настоящего. Историк становится летописцем и журналистом.
Великий историк Сыма Цянь, составивший первую грандиозную историю Китая, писал о династиях, существовавших на заре времен. Его преемник Бань iy писал о единственной империи Хань (добавив к ней непонятого современниками Ван Мана). Преемники Бань Гу обычно занимались только одним царствованием, используя для этого ежегодные достоверные отчеты шилу, основанные на выдержках из ежедневных календарей, подготовленных придворными писцами. Чтобы распространить записи прошлого до линии настоящего, нужно не просто уметь растягивать время, но и владеть всей гаммой этих приемов и методов. Автор этих строк не может похвастаться по¬
670
эпилог
добной виртуозностью. Слегка изменив метафору, скажу, что рассказ о глубокой синей воде лучше закончить, не доходя до белых прибрежных бурунов, отделяющих историю от современности, удаленное от хорошо знакомого. Наше судно стоит на якоре за отмелью и может предложить лишь пару баркасов, которые доставят читателя на берег.
Китай при Мао изменился до неузнаваемости. Разнообразие сменилось единообразием, неравенство — равенством, хаос — порядком, раздробленность — единством. Политизация и мобилизация «черноголовых простолюдинов» породили беспрецедентное искреннее участие населения в возрождении страны. Руководствуясь не Небесным мандатом, а волей народа, точнее, его пролетарской части, Коммунистическая партия развернула политику всестороннего восстановления Китая. Землю вернули земледельцам, предприятия — государству, власть — людям. Через год после провозглашения Народной Республики большинство землевладельцев были изгнаны, около миллиона убиты, и примерно 40% обрабатываемых земель перераспределены. Промышленность и инфраструктура переходили в собственность государства, инфляцию удалось взять под контроль с помощью национализированной банковской системы. Были возвращены Тибет, Синьцзян и Внутренняя Монголия, а северо-восток (бывшая Маньчжурия) заново интегрирован в состав государства.
Тайвань вполне мог последовать этому примеру, если бы не Корейская война в 1950-1953 г. В конце Второй мировой войны Корея разделилась, подобно Германии, по линии фактической оккупации советскими и американскими войсками. Разделение было трагедией для Кореи, и во имя ее воссоединения в июне 1950 г. войска Севера вторглись на Юг. Силы ООН, в основном американские, пришли на помощь Южной Корее, вслед за этим «добровольцы» Народно-освободительной армии Китая, численностью, вероятно, около миллиона, пришли на помощь коммунистической Северной Корее. Пока Пекин вкладывал военные ресурсы в корейский кризис, военные корабли США заняли позиции в Тайваньском проливе, а дипломатия США встала на сторону националистической республики Чан Кайши. Шансы на немедленное присоединение Тайваня к материковому Китаю испарились. Когда после долгой патовой ситуации Корея снова разделилась по той же линии, идеологический «бамбуковый занавес» между коммунистическим и капиталистическим блоками протянулся от линии прекращения огня в Корее через Китайское море в Тайвань¬
671
эпилог
ский пролив и в другую демилитаризованную зону, неизбежно рассекая Вьетнам на две части.
Взятая в кольцо на востоке и на юге, КПК искала поддержки на севере и западе. Советский Союз по-прежнему служил Китаю идейным вдохновителем, оказывал международную поддержку, предоставлял техническую, военную и финансовую помощь. 1950-е годы были великим десятилетием советско-китайской дружбы, начавшейся в декабре 1949 г. с приезда самого Мао в СССР (это была первая из двух его поездок за пределы Китая) и его контактов со Сталиным. Это было время авторитарной революции в КПК, погромов, чисток и культа личности Мао. В 1953 г. он призвал китайцев с распростертыми объятиями принять «в масштабах всей страны широкий опыт Советского Союза» [1]. Этот опыт включал в себя все, от приобретения ядерной бомбы (технология была обещана, но так и не передана, и Китай пошел вперед своим путем1) до преобразования Народно-освободительной армии в регулярную армию, подготовки политических кадров, развития тяжелой промышленности, обустройства этнических меньшинств, отправки советских технических специалистов в Китай и обучения китайских студентов в СССР, не говоря уже о разработке новой системы алфавитной транслитерации китайских иероглифов, из которой зародился пиньинь.
Пожалуй, самые основательные изменения произошли в сельской местности. Там созданные на первом этапе в целом довольно бестолковые крестьянские владения постепенно заменяли новыми формами сельскохозяйственного производства в соответствии с принципами марксизма и практикой Советского Союза. Освобожденные от различных форм аренды и денежной зависимости земледельцы сначала были организованы в кооперативы, в которых ресурсы (инструменты, тягловые животные и т. д.) находились в общем пользовании, затем в более крупные коллективы, в которых большую часть земель также обрабатывали сообща, и, наконец, в конце 1950-х гг. в обширные коммуны, где команды рабочих жили и трудились как один, поддерживая полубоевой дух, построенный на общем питании, идеологической обработке и производственных целях. Урожаи повы¬
1 Китайская ядерная бомба была впервые испытана в 1964 г., и основы технологии были получены от СССР (в отличие, например, от ракетных технологий).
672
эпилог
сились1, и государство использовало излишки для закупки советской техники и нефти. Аналогичная коммунизация происходила и в городах. Там, как и в сельской местности, рабочие группы и соседские комитеты обеспечивали соблюдение порядка и выполняли почти те же обязанности, что и группы баоцзя раньше, но вдобавок должны были успевать за часто меняющейся риторикой партии и поддерживать ее агрессивные кампании.
Это были годы яростных разоблачений, но вместе с тем и потрясающих достижений. За обеспечение всеобщего школьного образования, здравоохранения, жилья и занятости для обоих полов населения, численностью приближавшегося к миллиарду, систему не раз вполне справедливо хвалили, и при всех ее ошибках он, несомненно, была прогрессивной. Реформы, такие как новый закон о семье, положивший конец практике браков по сговору, упрощали развод и гарантировали имущественные права жен и дочерей, помогали людям примириться с потерей других прав, касавшихся вероисповедания, самовыражения и свободы передвижения. Нормирование топлива и продуктов питания и чрезмерная регламентация компенсировались социальными выгодами — снижением детской смертности и увеличением средней продолжительности жизни.
Даже интеллектуалы, не все из которых подверглись различным формам перевоспитания, казалось, были вполне готовы принять режим, когда в 1957 г. его отношение к конструктивному инакомыслию как будто смягчилось. В Советском Союзе перед этим была проведена переоценка железной политики тогда уже покойного Сталина2, и более гибкий Никита Хрущев заговорил о необходимости оставить революционную конфронтацию и перейти к мирному сосуществованию со «свободным миром». В Китае начали хвалить сознательных обличителей и поощрять конструктивную критику. Сто цветов приглашали расцвести на лугу культуры, сто школ мысли — соревноваться
1 Рост урожаев был связан с прекращением войн и остановился на стадии кооперативов. Организация циклопических народных коммун, построенных на отрицании частной (и практически даже личной) собственности, привела к резкому падению урожаев и голоду, одновременно с которым в I960 г. окончательно ухудшились советско-китайские отношения, советский импорт практически прекратился, а советские специалисты были отозваны на родину.
2 Десталинизация в СССР началась с XX съезда КПСС в 1956 г., после доклада
Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях». — Прим. ред.
675
эпилог
в области науки («Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!»). Как ни странно, во главе этой кампании стоял сам Мао, главный противник ревизионизма. В ретроспективе выяснилось, что эту кампанию, так же как Культурную революцию десять лет спустя, он запустил скорее для того, чтобы дискредитировать противников и уклониться от ответственности за текущие неудачи, чем для того, чтобы выудить у неосторожных признание в контрреволюционных настроениях. Но в то время оба этих объяснения казались надуманными. Ему поверили на слово, и несколько волнующих недель весной 1957 г. ученые, студенты и писатели высказывались против коррупции и несостоятельности власти, а Пекинская «стена демократии» транслировала еще более скандальные либеральные идеи1. Через месяц все внезапно закончилось. Мао отказался от собственных слов, и к делу приступили сторонники жесткой линии партии. Триста тысяч интеллектуалов, среди которых были самые яркие и способные деятели Китая, подверглись репрессиям: за ними охотились, их осуждали за правые настроения, ссылали в глушь и доводили до самоубийства.
Дальше ситуация только ухудшилась. Едва успели увянуть «сто цветов», как Мао объявил о начале «Большого скачка». Чтобы оживить слабеющее сельскохозяйственное производство, уменьшить зависимость от постепенно сворачивающего свою поддержку Советского Союза и вдохнуть новую жизнь в революцию, объявив ее непрерывным и безостановочным процессом, коллективы укрупнили в коммуны, и множество рабочих бригад отправили на выполнение обширных новых задач: мелиорацию земель, ирригацию, дорожное строительство, разведку полезных ископаемых. Индивидуальные земельные наделы — заветный результат первого перераспределения земель и все, что оставалось на тот момент от частного сектора, — были отменены. Женщины обнаружили, что благодаря эмансипации на их плечах теперь лежит львиная доля земледельческих работ. Их мужья, согнанные на гражданское строительство, оглушенные пропагандой из громкоговорителей и живущие по строгому, как в армии, режиму, имели не больше личной свободы и времени для отдыха, чем
1 Термин «Стена демократии» относится к несколько более позднему времени — студенческому петиционному движению на пекинской улице Сидань, активному с ноября 1978 по декабрь 1979 г.
674
эпилог
подневольные работники прошлого. По ночам на задних дворах разгорались импровизированные доменные печи — бригады соревновались друг с другом, стараясь выполнить нереалистичные планы по производству стали, удручающее качество которой в любом случае делало ее почти бесполезной.
Тем не менее в печати регулярно появлялись сообщения о впечатляющих результатах. Значительно возросли показатели сельскохозяйственного производства, вслед за ними увеличились государственные закупки продовольствия, и казалось, вскоре должна наступить настоящая утопия. Однако в большинстве своем показатели были фиктивными. На самом деле производство падало, а многочисленные неудачи просто замалчивались. Расширение закупок привело к ухудшению общей ситуации, оставив недостаточно зерна для местного потребления и уничтожив излишки, предназначенные для чрезвычайных ситуаций. В результате разразился голод, по размаху соизмеримый с колоссальной численностью населения. И поскольку о нем тоже практически не сообщали, меры по его устранению не были приняты. В 1958-1962 гг. Мао и другие руководители КПК стали причиной трагедии, вина за которую, в отличие от голода прежних времен, лежала на государстве и облегчить последствия которой они вполне могли благодаря значительно продвинувшемуся развитию транспорта. Но фанатизм коммунистических кадров и страх перед репрессиями, которые могли последовать за любыми отрицательными сообщениями, привели к полному бездействию властей. Пострадали провинции от Ганьсу до Гуанси. Статистические данные о численности населения за этот период (возможно, не самый надежный источник) показывают ужасающую цифру — двадцать-три- дцать миллионов «лишних» смертей, предположительно связанных с голодом. Вероятно, это было худшее из подобных бедствий в истории Китая. И, вероятно, оно также было последним — ничего даже отдаленно похожего в следующие пять десятилетий не происходило.
Коммуны быстро расформировали на коллективные хозяйства и рабочие группы, восстановив личные земельные участки1. Но ка¬
1 Были возвращены приусадебные участки и позволено держать собственный скот — на смену коммунам пришли производственные бригады по 10- 30 дворов, за каждым из которых закреплялось свое задание. Частное землевладение вернулось в Китай только в XXI веке, и то с многочисленными оговорками.
675
эпилог
тастрофические последствия «Большого скачка» еще не изгладились окончательно, когда в I960 г. ухудшение отношений с Советским Союзом привело к отъезду из страны всех советских специалистов, положило конец советско-китайскому союзу и оставило КНР в изоляции на мировой арене. Разумеется, это только обострило паранойю Пекина. Стратегические отрасли и объекты были перенесены с побережья в глубь страны для защиты от «империалистических» (то есть американских) агрессоров. Совершенно ненужная ссора была затеяна с Индией, где в 1959 г. нашел убежище Далай-лама XIV. В 1955 г. на Бандунгской конференции Чжоу Эньлай и Джавахарлал Неру торжественно объявили о дружбе и взаимном нейтралитете своих стран. Шесть лет спустя они оказались в состоянии войны. Индийская приверженность в отношении гималайской границы, представлявшей собой, по мнению Пекина, побочный продукт неравноправных договоров XIX века, привела к вторжению Народно-освободительной армии Китая через высокие перевалы восточнее Бутана. Индия в этом конфликте пострадала сильнее, но после того, как Москва встала на сторону Дели, Китай оказался в полном одиночестве.
Мао Цзэдун, которому было уже за шестьдесят, выбрал этот момент, чтобы осуществить еще одно великое исчезновение. Признав свою ответственность за неудачи «Большого скачка» (по его словам, каждый революционер должен иметь право хотя бы на одну ошибку), он оставил Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Дэн Сяопина и других разбираться с беспорядком. Они решили вернуться к умеренной коллективизации, изгнать коррумпированные кадры, на чьей совести лежала фальсификация производственных показателей, и продолжать марксистско-ленинскую линию классовой борьбы и диктатуры пролетариата, представленного партией. Председатель поддержал их, однако его больше беспокоило свержение Хрущева. «В 1956 г. Мао опасался, что его, как Сталина, могут осудить после смерти. В 1964 г. у него появился повод задуматься о том, что его, как Хрущева, могут свернуть и до смерти» [2]. Очевидную опасность в этом смысле представлял Лю Шаоци, строгий коммунист и способный идеолог. И, вероятно, (насколько можно утверждать на основании имеющихся в настоящий момент данных), именно необходимость избавиться от потенциального конкурента в лице Лю Шаоци, очистить партию от ревизионистской заразы, посеянной московскими «сторонниками капиталистического пути», и навсегда сохранить уникальные мао¬
676
эпилог
истские качества китайской революции (неустанная борьба, автократическое руководство, дерзкое поведение на международной арене) в 1965 году побудила Мао сделать первые шаги к «Великой пролетарской культурной революции».
Культурная революция, вспыхнувшая в 1966-1968 гг. и продолжавшая дымиться до смерти Мао в 1976 г., обернулась еще более неожиданными последствиями, чем движение «ста цветов» или «большой скачок». Сейчас, по прошествии сорока лет, уже можно утверждать, что вместо грандиозного взрыва, который сделал бы маоизм неотъемлемой чертой политического ландшафта на все времена, она породила тот самый ревизионистский откат, который должна была предотвратить. Ее агрессия истощила и ограничила возможности целого поколения, ее противоречия породили доктринальный цинизм, ее беззаконие говорило о необходимости более твердого, пусть и менее колоритного правительства. И, в конце концов, ее обличение привело к национальному очищению, открывшему путь к эпохе порядка, подобной которой не было с XVIII века. Следом пришли относительный покой, сенсационный экономический рост, процветание и всемирное признание. «Последняя революция» Мао по счастливой случайности дискредитировала сам маоизм.
Тем не менее идея, что для «взлета» Китаю нужно всего лишь отречься от своих революций, слишком упрощает ситуацию. Без идеологического пуританства и поддержки со стороны Советского Союза в послевоенные годы Китай в его целостности, возможно, не выжил бы. Без аграрных, социальных, инфраструктурных и промышленных достижений революционной эпохи иностранные инвестиции ничего не изменили бы. Разумеется, не следует считать, будто несколько десятков лет потрясающих достижений способны перевернуть с ног на голову всю историю Китая. Любой успех в любые времена — при Хань, Тан, Мин или Цин — всегда нес в себе семена собственного разрушения. Между тем республики, как и империи, уже проявили настораживающую тенденцию к цикличности.
К началу XXI века в стране накопилось достаточно серьезных проблем, чтобы обеспечить ей громкие заголовки почти во всей иностранной прессе (кроме разве что финансовых изданий). Политика «одна семья — один ребенок», начатая в эпоху Мао, но ставшая обязательной только в 1980-х гг., безусловно, законсервировала рост населения. Но она грозила подорвать традиционные социальные модели,
677
эпилог
усугубить этническую напряженность (национальные меньшинства пользовались в этом отношении определенными льготами) и создать огромную нагрузку на экономику обременив ее растущим количеством зависимых стариков и снижающимся количеством трудоспособной молодежи.
У экономического роста тоже нашлись свои недостатки. Разница доходов в стремительно растущих городах напоминает об условиях XIX века1, а пренебрежение сельским хозяйством почти везде, кроме самых доступных областей, остается в основном незамеченным. Более широко освещаются вошедшие в моду проблемы окружающей среды. Уровень выброса углекислого газа в Китае самый высокий в мире, вредные испарения окутывают целые города, а промышленные стоки отравляют воду, еще текущую в заваленных отходами руслах. «Мастерская мира» пропитана опасными токсинами. По данным Всемирного банка, полмиллиона китайцев в год страдают от воздействия загрязнений. Воды Янцзы, в которой Мао купался на пике Культурной революции, теперь вполне могли бы убить его, как уже убили множество речной фауны. Выше по течению постройка мощной плотины «Три ущелья», как и множество других крупных гидроэлектрических проектов, несет в себе угрозу катаклизма. Возможно, голод остался в прошлом, но призрак других бедствий — тектонических, климатических, биологических и техногенных, — все еще стоит над страной.
Кроме того, есть вопрос ответственности. Готовый капитализм, обещающий повышение уровня жизни и изобилие материальных ценностей, пока остается новинкой. Но модные бытовые приборы, стильная одежда, сверкающие небоскребы, питательная быстрая еда и все остальные пьянящие признаки изобилия гораздо больше дразнят ложными надеждами, чем удовлетворяют людей. С упрямой настойчивостью звучат требования социальной справедливости, гражданских прав, правовой защиты и политического представительства. Эти призывы взорвали студенческие городки и выплесну¬
1 Прибрежные «специальные экономические зоны», где создается львиная доля огромного китайского ВВП, обнаруживают явное сходство с западными концессиями XIX века. Особенно это сходство заметно в первые годы их существования, когда они были отделены от остального Китая строгой границей. Впрочем, и сейчас система прописки делает их посещение для многих китайцев не вполне простой задачей.
678
эпилог
лись на улицы в конце 1970-х гг., а затем снова в конце 1980-х гг. Тогда кульминацией событий стала ужасная бойня на площади Тяньань- мэнь. Если в следующие двадцать лет ничего подобного не происходило, то не потому, что инакомыслие было подавлено. Наоборот, оно стало громче и распространилось шире, хотя теперь перешло в более безопасное пространство онлайн-форумов и текстовых сообщений. Сам Дэн Сяопин, человек, стоявший за «открытием» Китая и в конечном счете ответственный за бойню на площади Тяньаньмэнь, однажды признал, что успех его экономических реформ зависит от реформы политической системы. По иронии судьбы может оказаться и так, что политические изменения в конечном итоге в интересах самосохранения будет отстаивать сама Коммунистическая партия. Если открытые марксисты могут поддерживать «ушу капитализм», то убежденные центристы могут выступать за демократическую ответственность. Россия и другие преемники Советского Союза дают здесь множество образцов для подражания.
В 1968 г., в разгар Культурной революции, хунвэйбины в невольном подражании боксерам напали на посольство Великобритании в Пекине. Хью Тфевор-Ропер, королевский профессор истории в Оксфорде, в ответ произнес несколько веских слов.
«Сегодня Пекин снова стал столицей Срединного царства, а председатель Мао будет жить десять тысяч лет. Европейцы снова превратились в чужеземных варваров, которых самодостаточная Поднебесная империя не желает знать. Традиции международной дипломатии, законы и обычаи других государств отвергнуты. Иностранные посольства служат не посредниками в переговорах — они приносят дань в виде принудительного коутоу, разоренных представительств, постоянного унижения со стороны обширной, непоколебимой, закоснелой бюрократии. Так история мстит тем, кто пренебрегает ею» [3].
Параллели между Мао и страшными самодержцами прошлого приходили на ум многим. Первый император Цинь, чью терракотовую армию обнаружили при жизни Мао, явно был личным героем председателя. Последний объединитель Китая салютовал первому объединителю. Коммунизм Мао, как и легизм Цинь, стандартизировал экономику, бюрократизировал администрацию, мобилизовал массы и наказывал несогласных. Сожжение книг хунвэйбинами, куль¬
679
эпилог
турные обличения и интеллектуальные гонения перекликались с тем, что писал Сыма Цянь крайностях правления Первого императора. Властолюбие с обагренными кровью клыками и когтями объединяло обоих.
Но в стране, где истории придают такое значение, как в Китае, прошлое имеет гораздо более широкий резонанс и снабжает вчерашних революционеров и сегодняшних ревизионистов весьма обширным словарем эмоциональных отсылок. Атаки хунвэйбинов на буддизм и даосизм напоминают скорее не суеверные причуды Первого императора, а иконоборчество тайпинов. Культурные революционеры, фанатично размахивавшие маленькими красными книжками с изречениями председателя Мао, вызывают в памяти бесчисленных фундаменталистов прошлого, черпавших вдохновение в спорной «Чжоу ли» («Установления Чжоу»). Исправление имен, каким бы загадочным оно ни казалось массам, и постоянное стремление к самокритике объединяют коммунистические дебаты со спорами конфуцианских философов прошлого. Чтобы дискредитировать политику Чжоу Энь- лая, выступавшего в 1970-х гг. за внедрение иностранных технологий, в печати появились нападки на жившего немного раньше «само- усилителя» Ли Хунчжана, создателя Шанхайского военного завода. В то же время, чтобы похвалить Чжоу Эньлая, демократические активисты ранее сравнивали его со знаменитым тезкой, великим древним Чжоу-гуном. Точно также Линь Бяо, суровый герой Народно-освободительной армии Китая, после удаления Лю Шаоци ненадолго был назначен преемником Мао, но затем посмертно дискредитирован на пару с самим Конфуцием. Попытки разобраться в настоящем без знания прошлого вполне могут завести неподготовленного человека в тупик.
История по-прежнему занимает в жизни Китая неповторимое особое место, и «все земли под Небом» теперь снова стремятся к открытым дверям Чжунго. Как во времена великих «кораблей-сокровищниц» Чжэн Хэ, Китай демонстрирует свой флаги в Африке, одновременно пересматривая коммерческий потенциал и особенно запасы ископаемого топлива своих центральноазиатских соседей. Срединное царство, оно же Центральное государство, возвращается на свое законное место в центре мира. Вереница флагов разных стран, проплывших перед олимпийским подиумом в 2008 г., и выступление лучших спортсменов мира для удовольствия китайских
680
эпилог
зрителей невольно заставили вспомнить, как придворные в эпоху Тан наблюдали за представлением бухарских акробатов и дрессированных лошадей, обученных пить вино из кубка, и между делом обсуждали условия сделки с персидскими купцами, которые «никогда не бывают бедными». В торговле по-прежнему чувствуется оттенок дани. От представителей «всех земель под Небом» ожидают почтение, осуждение вызывает обиду, и высоко ценится умение разбираться в прошлом Китая.
Слова благодарности
Автор в огромном долгу перед бессчетным множеством китайских специалистов — одни из них упомянуты в тексте, другие в разделе источников и литературы. Я лично знаком лишь с немногими, но надеюсь, мне удалось передать их взгляды без искажений. Кроме того, книга многим обязана Иэну Патену и его кропотливой редакторской работе; Кэролайн Хотблэк, проявившей редкую проницательность в подборе иллюстраций; Луизе Маклеман за оформление, а также HL Studios за работу с картами и таблицами. Я очень благодарен им всем. Сердечно благодарю изобретателя чемодана на колесах, без которого я просто надорвался бы, не дотащив до дома и половины найденных книг, и создателей абсолютно необходимой для путешественника в Китае вещи — пластмассового кофейника с поршнем (френч-пресса).
Написать эту книгу мне предложил Ричард Джонсон из HarperCollins. Он же активно продвигал ее, заказал и следил за каждым этапом ее создания. Это пятая книга, над которой мы работали вместе. Его поддержка и дружба бесценны, и простое «спасибо» кажется почти насмешкой. То же относится и к моей жене Джулии. Три года она жила этой книгой также, как я сам. Именно она разбиралась в расписании китайских поездов, вытаскивала меня с полосы встречного движения и почти никогда не жаловалась. Она взвешивала каждое слово текста и рисовала черновики карт и таблиц, нередко в ущерб собственной работе. Она щедрее всех дарила мне поощрение и поддержку. В идеале ее имя должно было бы стоять рядом с моим на титульном листе. Но вместо этого оно стоит как можно ближе, на странице посвящения.
Джон Кей
Май 2008
Примечания
Список сокращений
СНАС — Cambridge History of Ancient China.
CHC — Cambridge History of China.
CHEIA — Cambridge History of Early Inner Asia.
Введение
1. Waldron. The Great Wall. Passim.
2. Di Cosmo. Ancient China and Its Enemies. P. 143-158.
3. См., например: Pulleyblank. The Background to the Rebellion of An Lu-Shan. pp. 33,128-129.
4. Jung Chang andHalliday. Mao. P. 135-173.
5. Spence. The Search for Modern China. P. 602-603.
6. Cm.: Twitchett. The Writing of Official History. P. 17ff.
7. Ziircher. The Buddhist Conquest of China. P. 280.
8. Hunan Museum. The Han Tombs of Mawangdui. Hunan People’s Publishing House, Changsha, 1978. P. 1-3; Chen Jianming (ed.). The Exhibition of Mawangdui Han Tombs, Hunan Provincial Museum, n. d. P. 2.
9. Происхождение всех местных топонимов см.: Wilkinson. Chinese History: A Manual. P. 137.
10. Fitzgerald. The Empress Wu. P. v.
1. От обрядов к письменности (до 1050 г. до и. э.)
1. Huainanzi, 3:1 а, см. в кн.: DeBary and Bloom. Sources of Chinese Tradition, 1. P. 347.
2. Kwang-chih Chang. China on the eve of the Historical Period // CHAC. P. 66.
3. Li Ling and Constance A. Cook. Translation of the Chu silk manuscript // Defining Chu. Cook and Major. P. 171 -173.
4. Kwang-chih Chang. China on the eve of the Historical Period // CHAC. P. 66-67.
683
ПРИМЕЧАНИЯ
5. Pron. ‘Shia’; Wade-Giles (далее — W-G)‘Hsia\
6. Pron.‘Joe’; W-G‘Chou’.
7. Robert Bagley. Shang Archaeology // CHAC. P. 12 5.
8. Ibid. P. 137.
9. Ibid. P. 165.
10. Ibid. P. 197.
11. Chang. Early Chinese Civilisation. P. 57.
12. Exploring Chinese history // www.ibiblio.org.
13. Mallory and Mair. The Tarim Mummies. P. 8
14. A. P. Okladnikov. Inner Asia at the dawn of history // CHELA P. 7,9.
15. H. G. Creel. Dragon bones // Asia, 35. P. 182, цит. в кн.: Keightley. Sources of Shang History. P. 140-141.
16. Keightley. Sources of Shang History. P. 21.
17. Ibid. P. 154-155.
18. William G. Boltz. Language and writing // CHAC. P. 88.
19. Переводы надписей на гадательных костях цит. по изд.: De Вагу and Bloom. Sources of Chinese Tradition. P. 7 -19.
20. Keightley. The Ancestral Landscape. P. 119.
21. Ibid. P. 101.
22. Keightley. Sources of Shang History. P. 55fF.
23. David N. Keightley. The Shang // CHAC. P. 256.
2. Мудрецы и герои (около 1050 — около 250 г. до н. э.)
1. Fairbank and Goldman. China: A New History.
2. Цит. no: Waley. Three Ways of Thought in Ancient China. P. 35.
3. Creel. The Origins of Statecraft in China. Vol. 1. P. 83,93.
4. EdwardL. Shaughnessy. Western Zhou history // CHAC. P. 310- 311.
5. Shangshu zhengyi, 13,24a, цит. no: Shaughnessy // CHAC. P. 314.
6. Confucius. The Analects, vii, 5 // D. C. Lau translation.
7. Watson. The Tso-chuan. P. xvi.
8. Shangshu zhengyi, 18,16a, цит. no: Shaughnessy // CHAC. P. 318.
9. Цит. no: Shaughnessy // CHAC. P. 337.
10. Цит. no: Ebrey. China: A Political, Cultural and Social History. P. 174-175.
11. Jessica Rawson. Western Zhou archaeology // CHAC. P. 388.
12. Ibid. P. 449.
13. Цит. no: Shaughnessy // CHAC. P. 149.
14. Hui War and State Formation in Ancient China.
15. Frank A. Kierman. Phases and modes of combat in Early China // Chinese Ways in Warfare. Kierman and Fairbank (ed.). P. 52-53.
16. Watson. The Tso-chuan. P. 62.
17. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 2. P. 130.
18. Cm.: Michael Loewe/ Introduction // CHC. Vol. 1. P. 2 2.
19. Cho-yun Hsu. The Spring and Autumn period // CHAC. P. 571-572.
20. Confucius, The Analects, ix, 2, trans. D. C. Lau. P. 77.
21. Ibid., xi, 4, adapted from Lau trans. P. 11; De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. P. 47.
22. Confucius, The Analects, vii, 20, trans. Lau. P. 61.
23- Ibid., vii, 1. P. 57.
684
ПРИМЕЧАНИЯ
24. David ShepherdNiviscm. The classical philosophical writings // CHAC. P. 761.
2 5. Hubei Provincial Museum. The High Appreciation of the Cultural Relics of the Zeng Hou Yi Tomb. Fine Arts Publishing, Hubei, 1995. P. 22.
26. Charles Tilly. Reflections on the history of European state-making // The Formation of the National States in Western Europe. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1975. P. 73.
27. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 23.
28. Цит. no: Hansen. The Open Empire. P. 90.
29. Mark Edward Lewis. Warring States political history // CHAC. P. 604,622.
30. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 32.
3. Первая империя (около 250-210 гг. до и. э.)
1. Sage. Ancient Sichuan and the Unification of China. P. 197.
2. Ibid. P. 119.
3. Ibid. P. 149.
4. Cook and Major. Defining Chu. Passim.
5. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 35-36.
6. Ibid. P. 42.
7. Ibid. P. 42-43.
8. Ibid. P. 163.
9. Ibid. P. 164.
10. Jia Yi, цит. no: Ibid. P. 80-82.
11. Ibid. P. 87.
12. Jenner. The Tyranny of History. P. 22-23.
13. Derk Bodde. The state and empire of Ch’in // CHC. Vol. 1. P. 52.
14. Bodde. China’s First Unifier.
15. Han Feizi, ch. 49, trans. Burton Watson, цит. no: de Bary and Bloom, Sources of Chinese Tradition. Vol. l.P. 199-203.
16. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 184-185.
17. Bodde. The state and empire of Ch’in’. P. 69-71.
18. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 185.
19. Bodde. The state and empire of Ch’in’. P. 71.
20. Henry Yule and A. D. Burnell. Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words etc. 2nd edn. London: Routledge & Kegan Paul, 1985. P. 196-198.
21. Measure for Measure, Act 2, scene 1.
22. Bodde. China’s First Unifier. P. 118.
23. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 213-
24. Ibid. P. 207-208.
25. Waldron. The Great Wall of China. P. 18-21.
26. De Crespigny. Northern Frontier. P. 455-457; Lovell. The Great Wall. P. 15-16.
27. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 63.
4. Возвышение Хань (210-141 гг. до и. э.)
1. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 189.
2. Hardy. Worlds of Bronze and Bamboo. P. 49- 50.
3. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. P. 192-193.
4. Ibid. P. 204.
5. Ibid. P. 204-205.
685
ПРИМЕЧАНИЯ
6. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 1. The early years of the Han Dynasty 209 ВС-141 BC.P. 19-22.
7. Ibid. P. 30-33.
8. Ibid. P. 46.
9. Sage. Ancient Sichuan. P. 160.
10. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 1. P. 70-71.
11. Один цзинь fr (англ. кэтти) состоял из 16 лянов В разное время весил от 600 до 630 г, в КНР официально равен 0,3 кг и делится на 10 лянов.
12. Ibid. Р. 72-73.
13. Ibid. Р. 294-295.
14. Ibid. Р. 340.
15. Ibid. Р. 106.
16. Gao Zhixi // Hunan Museum. The Han Tombs of Mawangdui. Hunan People’s Publishing House, Changsha, 1978. P. 6.
17. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 2. The age of Emperor Wu, 140-c. 100 BC. P. 239-242.
18. Ibid. P. 250.
5. Империя изнутри и снаружи (141 г. до и. э. — 1 г. и. э.)
1. Ср.: Michael Loewe // СНС. Vol. 1; Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian and Homer Dubs; Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 2. P. 13.
2. Laozi. Daodejing, цит. no: De Bary> and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 61.
3. Di Cosmo. Ancient China and Its Enemies. P. 270-272.
4. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 2. P. 173.
5. Jagchid and Symons. Peace, War and Trade. P. 26-27.
6. Yu Ying-Shih. Han foreign relations 11CHC. Vol. 1. P. 390.
7. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 2. P. 172.
8. J. K. Fairbank. Introduction; varieties of the Chinese military experience //Kierman
and Fairbank. Chinese Ways in Warfare. P. 11.
9. Ban Gu, Hanshu, 96B, 2B // Hulsewe. China in Central Asia. P. 146-147.
10. Sima Qian // Watson. Records of the Grand Historian. Vol. 2. P. 274.
11. Ban Gu, Hanshu, 96В, ЗА // Hulsewe. China in Central Asia. P. 148-149.
12. Ibid., 61,12B j I Hulsewe. China in Central Asia. P. 234.
13. Watson. Ssu-ma Ch’ien: Grand Historian of China. P. 62.
14. Ibid. P. 60-70.
15. Bielenstein. The Bureaucracy of Han Times. P. 157.
16. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 2. P. 213.
17. Michael Loewe. Crisis and Conflict in Han China. P. 179-180.
18. Bielenstein. The Bureaucracy of Han Times. P. 19.
19. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 2. P 265, 338.
20. Cm.: Michael Loewe. The former Han dynasty // CHC. Vol. 1. P. 187-190; Crisis and Conflict in Han China. Passim.
21. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 3. P 38-39.
6. Ван Май и возвращение Хань (1-189)
1. Homer Н. Dubs // Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 2. P. 363.
686
ПРИМЕЧАНИЯ
2. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 3. P. 255-257.
3. Ibid. Vol. 3. P. 257, fn36.2.
4. Ch’en Ch’i-ytin. Confucianist, legalist and taoist thought in Later Han // CHC. Vol. 1. P. 773.
5. Cm.: Joseph R. Levenson. Ill wind in the well-field // Wright, The Confucian Persuasion. P. 284-285.
6. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 3. P 492, 394.
7. Cm.: James Legge. The Religions of China. London: Hodder & Stoughton, 1880. P. 147 - 148.
8. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 3. P. 318.
9. Hans Bielenstein. Wang Mang, the restoration of the Han dynasty, and Later Han // CHC.Vol.1. P. 241-243.
10. Ban Gu. The History of the Former Han. Vol. 3. P 382.
11. Ibid. Vol. 3. P 466.
12. ArthurF. Wright. Introduction // Wright. The Confucian Persuasion. P. 3,8.
13. Bielenstein. Wang Mang. P. 262-264.
14. De Crespigny. The Northern Frontier. P. 218.
15. Hou Hanshu, цит. no: CHC. Vol. 1. P. 275-276.
16. De Crespigny. The Northern Frontier. P. 380.
17. Ban Gu. Hanshu, 96A, 11 В-12B // Hulsewe. China in Central Asia. P. 107-112.
18. Yu Ying-shih. Han foreign relations // CHC. Vol. 1. P. 434-435.
19. Bielenstein. Wang Mang. P. 262.
20. Цит. no: Hansen. The Open Empire. P. 140.
21. См. разные сочинения Джона К Фэрбэнка.
22. Sima Guang. Zizhi Tongjian, 1866 // De Crespigny. The Last of the Han. P. 9.
23. C.J. MansveldtBeck. The fall of Han // CHC. Vol. 1. P. 341.
7. Четыре столетия неурядиц (189-550)
1. Sima Guang. Zizhi Tongjian // De Crespigny. The Last of the Han. P. 2 5, 59.
2. Ibid. P. 13.
3. Ibid. P. 83.
4. Lu Simian, цит. no: Luo Guanzhong. Three Kingdoms. P. 1049.
5. Ibid. P. 378.
6. Goodman. Tsao P’i Transcendent. P. 99-100.
7. RobertJoe Cutter. Poetry from 200 BCE to 500 CE // Mair, The Columbia History of Chinese Literature. P. 253-257.
8. Wang Kan. Seven Sadnesses, цит. no: Ibid. P. 256.
9. Cao Pi, Lun Wen, цит. no: Goodman. Ts’ao P’i Transcendent. P. 185.
10. Goodman. Ts’ao P’i Transcendent. P. 86.
11. Nathan Sivin. Science and medicine in Chinese history // Ropp, Heritage of China. P. 174.
12. Russell Kirkland. Taoism: The Enduring Tradition. P. 75-76.
13. RichardB. Mather. K’ou Ch’ien-chih and the Taoist theocracy at the Northern Wei court, 425-451 Ц Seidell and Welch. Facets of Taoism. P. 103.
14. Stephen Bokenkamp. Lu Xiujing, Buddhism, and the first Daoist canon // Pearce etal. Culture and Power. P. 183.
15. Цит. no: Wright. Buddhism in Chinese History. P. 21.
16. Цит. no: Ziircher. The Buddhist Conquest of China. Vol. 1. P. 28.
687
ПРИМЕЧАНИЯ
17. Ibid. P. 28.
18. Hansen. The Open Empire. P. 163-168.
19. Цит. no: Ziircher. The Buddhist Conquest of China. P. 66.
20. Цит. no: Ibid.; см. также: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XII (3), 1948. P. 600-615.
21. Wright. Buddhism in Chinese History. P. 42.
22. Ziircher. The Buddhist Conquest of China. P. 84.
23. Jinshu, цит. no: Graff. Medieval Chinese Warfare. P. 47.
24. Jinshu, ch. 101. P. 2643-6, цит. no: Ibid. P. 48.
25. Ziircher. The Buddhist Conquest of China. P. 181.
26. Wright. Buddhism in Chinese History. P. 56.
27. Wright and Somers. Studies in Chinese Buddhism. P. 37.
28. Ibid. P. 16.
29. Graff. Medieval Chinese Warfare. P. 65.
30. Ibid. P. 69.
31. Ibid. P. 50.
32. Jenner. Memories of Loyang. P. 27.
33. Ibid. P. 27-28.
34. Holcombe. In the Shadow of the Han. P. 64.
8. Суй, Тан и Вторая империя (550-650)
1. Ssu-ma Kuang // Fang. The Chronicle of the Three Kingdoms. Vol. 1. P. 45-47.
2. Scott Pearce. Form and matter // Pearce et al. Culture and Power in the Reconstitution of the Chinese Realm. P. 153.
3. Ibid. P. 154.
4. Graff. Medieval Chinese Warfare. Pill.
5. Shufen Liu. Jiankang and the commercial empire of the Southern Dynasties // Pearce etal. Culture and Power in the Reconstitution of the Chinese Realm. P. 35-
39.
6. Wright. The Sui Dynasty. P. 43.
7. Цит. no: Paludan. Chronicle of the Chinese Emperors. P. 82.
8. Xiong. Emperor Yang of the Sui Dynasty. P. 160.
9. Wright. The Sui Dynasty. P. 72.
10. Xiong. Emperor Yang of the Sui Dynasty. P. 226-228.
11. Suishu, 24.672, цит. no: Ibid. P. 81.
12. Arthur Waley. The fall of Loyang // History Today. Vol. 1. April 1951. P. 7.
13. Lovell. The Great Wall. P. 131.
14. Xiong. Emperor Yang of the Sui Dynasty. P. 92.
15. Pi Rixiu, цит. no: Ibid. P. 93.
16. Bingham. The Founding of the Tang Dynasty. P. 51 - 54.
17. Pan Yihong. Son of Heaven. P. 48.
18. Arthur F. Wright. The Sui Dynasty // CHC. Vol. 3. P. 109.
19- Edwin O. Reischauer. Ennin’s Travels in T’ang China. P. 47.
20. HowardJ. Wechsler. Tai-tsung the Consolidator // CHC. Vol. 3. P. 234.
21. Pan Yihong. Son of Heaven. P. 2 38.
22. Schafer. The Golden Peaches of Samarkand. P. 42.
23- Wriggins. Xuianzang. P. 191 -193.
24. Wu Cheng'en. The Monkey and the Monk. P. xi.
688
ПРИМЕЧАНИЯ
9. Высокая Тан (650-755)
1. Songke Xiaojing (‘Classic of Filial Piety), 5-31, цит. no. De Вату and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. From earliest times to 1600. P. 329.
2. Wechsler. Mirror to the Son of Heaven. P. 206.
3. Цит. no: Ibid P. 207-209.
4. Chen-kuan cheng-yao, ch. 1. P. 40b-41 а, цит. no:ArthurF. Wright. Tang Tai-tsung // J. Perry and Smith, Essays on Tang Society. P. 17 -18.
5. Fitzgerald. China: A Short Cultural History. P. 296.
6. Schafer. The Golden Peaches of Samarkand. P. 29.
7. Denis Twitchett and HowardJ. Wechsler. Kao-tsung and the empress Wu // CHC. Vol. 3. P 245.
8. Ibid. P. 246.
9. Fitzgerald. The Empress Wu. P. 76.
10. Ibid. P. 146.
11. Zizhi Tongjian, 201. P. 6343, цит. no: Twitchett and Wechsler. Kao-tsung and the empress Wu. P. 257.
12. Richard W. L. Guisso. The reigns of empress Wu, Chung-tsung and Juitsung // CHC. Vol. 3.R312.
13. Ibid. P. 321.
14. Twitchett and Wechsler. Kao-tsung and the empress Wu. P. 257.
15. Guisso. The reigns of empress Wu. P. 3 31.
16. David McMullen. State and Scholars in Tang China. P. 9, 265.
17. Pan Yihong. Son of Heaven and Heavenly Qaghan. P. 22 5.
18. Надпись из Орхона цит. по: Denis Sinor. The establishment and dissolution of the Thrk empire // CHELA P. 310.
19. Gemet. A History of Chinese Civilisation. P. 253-254.
20. Sima Guang, Zizhi Tongjian, 202, 6387-6388, цит. no: Beckwith. The Tibetan Empire in Central Asia. P. 45.
21. Guisso. The reigns of empress Wu. P. 315.
22. Ch'en Too. Song of Lung-hsi // Watson. The Columbia Book of Chinese Poetry. P. 29.
23. Mair. The Columbia History of Chinese Literature. P. 296.
24. Li Bo. Fighting South of the Ramparts // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 565-566.
25. Stephen Owen. Poetry in the Chinese tradition // Ropp. Heritage of China. P. 293- 308.
26. Pulleyblank. The Background to the Rebellion of An Lushan. P. 35.
27. Li Shangyin, цит. по: E. D. Edwards. Chinese Prose Literature of the Tang Period, ad 618-906. London, 1938 // Ebrey. China: A Cultural, Social and Political History.
28. Schafer. The Golden Peaches of Samarkand. P. 32.
29. Denis Twitchett. Huan-tsung // CHC. Vol. 3. P 445.
30. Tic Fu. Song of P’eng-ya // Watson, The Columbia Book of Chinese Poetry. P. 22 3.
31. Chou. Reconsidering Tb Fu. P. 20, 27.
10. Преображение империи (755-1005)
1. Backus. The Nanchao Kingdom. P. 124.
2. Michael T. Dolby. Court politics in Tang times // CHC. Vol. 3. P. 610.
3. Цит. по: С. A. Peterson. Court and province in mid- and late Tang // CHC. Vol. 3. P. 504.
689
ПРИМЕЧАНИЯ
4. Цит. по: Hartman. Han Yu. P. 143.
3. Peterson. Court and province. P. 505.
6. Jiu Tangshu (Old Tang History), 129/3611, цит. no: Hartman. Han Yii. P. 126-127.
7. Reischauer. Ennin’s Travels in Tang China. P. 218ff.
8. Peterson. Court and province’. P. 498.
9. RobertM. Somers. The end of the Tang // CHC. Vol. 3. P. 687.
10. Wang Gungwu. The Structure of Power in North China. P. 208.
11. OuyangXiu. Historical Records of the Five Dynasties. P. 264, 280.
12. Blunden and Elidn. Cultural Atlas of China. P. 90.
13. OuyangXiu. Historical Records of the Five Dynasties. P. 63.
14. Herbert Franke and Denis Tudtchett. Introduction // CHC. Vol. 6. P. 26.
15. Adshead. Tang China. P. 18.
16. Needham. Science and Civilization in China. Vol. 7. Pt. II. General conclusions and reflections. P. 188.
17. OuyangXiu. Historical Records of the Five Dynasties. P. 438-443.
18. Mote. Imperial China. P. 980.
19. Anne BirreU. Women in literature // Mair, The Columbia History of Chinese Literature. P. 202.
20. Latham. The Travels of Marco Polo. P. 147-148.
21. OuyangXiu. Historical Records of the Five Dynasties. P. 21 - 22.
22. Denis Tudtchett and Klaus-Peter Tietze. The Liao j I CHC. Vol. 6. P. 70.
23. OuyangXiu. Historical Records of the Five Dynasties. P. 115.
24. Tudtchett and Tietse. The Liao. P. 110.
11. Шаг назад (1005-1235)
1. Mote. Imperial China. P. 329.
2. Цит. no: DunneU. The Great State of White and High. P. 110-111.
3. Цит. no: Ibid. P. 109-110.
4. Цит. no: Hopkirk. Foreign Devils on the Silk Road. P. 200-202.
5. Ruth W. Dunnell. The Hsi Hsia // CHC. Vol. 6. P. 181.
6. Ibid. P. 181.
7. Ibid. P. 187.
8. Ouyang Xiu. Essay on fundamentals // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. From earliest times to 1600. P. 594-595.
9. Ouyang Xiu, ‘On parties // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 596.
10. Mote. Imperial China. P. 137.
11. Sima Guang. A petition to do away with the most harmful of the new laws // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 625-626.
12. Liu. Reform in Sung China. P. 89.
13. Sima Guang, цит. по: E. G. PuUeyblank. Chinese historical criticism: Liu Chih-chi and Ssu-ma Kuang // Beasley and Pulleyblank, Historians of China and Japan. P. 153-154.
14. Too Jing-shen. Public schools in the Chin Dynasty // H.C. Cleveland and S.H. West (eds). China under Jurchen Rule. P. 53.
15. Fairbank and Goldman. China: A New History. P. 88.
16. Mote. Imperial China. P. 165.
17. Raymond Dawson. Imperial China. P. 15 2.
690
ПРИМЕЧАНИЯ
18. Lu You. The Merchant’s Joy // Watson, The Columbia Book of Chinese Poetry. P. 321-322.
19. Che Ruoshui, цит. no: Patricia Ebrey. Women, marriage and the family // Ropp, Heritage of China. P. 217.
20. Hansen. The Open Empire. P. 287.
21. Xu Ji, цит. no: Ebrey. Woman, marriage and the family. P. 216.
22. Lu You. Border Mountain Moon // Watson, The Columbia Book of Chinese Poetry. P. 318.
23. Mote. Imperial China. P. 206.
24. HerbertFranke. The Chin Dynasty // CHC. Vol. 6. P. 234.
25. Ibid. P. 239.
26. Ibid. P. 247-248.
12. На суше и на море (1235-1405)
1. Vainker. Chinese Pottery and Porcelain. P. 88.
2. Polo. The Book of Ser Marco Polo. Vol. 2. P. 235.
3. Clunas. Empire of Great Brightness. P. 15.
4. Polo. The Book of Ser Marco Polo. Vol. 2. P. 264.
5. Needham et al. Science and Civilization in China. Vol. 4. Part. 2. P. 419.
6. Mote. Imperial China. P. 302-305.
7. Adshead. Tang China. P. 41.
8. Tu Wei-ming. The Confucian tradition // Ropp, Heritage of China. R 131.
9. Zhuzi quanshou // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 701 - 702.
10. TU Wei-ming. The Confucian Tradition. R 131.
11. HiyasukiMiyakawa. The Confucianization of South China // Wright, The Confucian Persuasion. P. 42.
12. Mote. Imperial China. P. 345.
13. Polo. The Book of Ser Marco Polo. Vol. 2. P. 145.
14. Morgan. The Mongols. P. 71.
15. Thomas Allsen. The rise of the Mongolian empire // CHC. Vol. 6. P. 380.
16. Backus. The Nanchao Kingdom. P. 263.
17. Herbert Franke. Tibetans in Yuan China // Langlois, China under Mongol Rule. P. 301.
18. Цит. no:John D. Langlois. Introduction // Ibid. P. 3-4.
19. Needham et al. Science and Civilization in China. Vol. 4, pt 2. P. 423-424.
20. Latham. The Travels of Marco Polo. P. 203.
21. DavidM. Farquhar. Structure and function in the Yuan imperial government // Langlois, China under Mongol Rule. P. 50-53.
22. MorrisRossabi. The reign of Khubilai Khan // CHC. Vol. 6. P. 478.
23. Dardess. Conquerors and Confucians. P. 103-104.
24. Rossabi. Khubilai Khan: His Life and Times. P. 212.
25. Dawson. The Mongol Mission. P. xxxiv.
26. David N. Keightley. Early civilization in China: reflections on how it became Chinese //Ropp. Heritage of China. P. 32-33.
27. EdwardL. Dreyer. Military origins of Ming China // CHC. Vol. 7, pt 1. P. 82-88.
28. Цит. no: Mote. Imperial China. P. 559-560.
29. Dreyer. Early Ming China. P. 155.
691
ПРИМЕЧАНИЯ
13. Ритуалы Мин (1405-1620)
1. Wilkinson. Chinese History: A Manual. P. 182.
2. Dreyer. Zheng He. P. 9.
3. Ma Huan, цит. no: Keay. The Spice Route. P. 135.
4. Tsai. Perpetual Happiness. P. 70-71.
5. Hok-lam Chan. The Chien-wen, Yung-lo, Hung-hsi and Hsiian-te reigns, 1399- 1435//CHC. Vol. 7. P. 261.
6. Ibid. P. 261.
7. Цит. no: Dreyer. Zheng He. P. 187,195.
8. Wang Gungwu. Ming foreign relations: Southeast Asia // CHC. Vol. 7. P. 322.
9. Waldron. The Great Wall of China. P. 79.
10. Frederick W. Mote. The T’u-mu incident of 1449 // Kierman and Fairbank, Chinese Ways in Warfare. P. 254.
11. Denis Tivitchett and Tileman Grimm. The Chen-t’ung, Ching-t’ai, and Tien-shun reigns, 1436-1464 // CHC. Vol. 7. P. 339.
12. Galeote Pereira // Boxer. South China in the Sixteenth Century. P. 14-15.
13. Charles O. Hucker. Ming government // CHC. Vol. 8. P. 29.
14. Willard Peterson. Confucian learning in late Ming thought // CHC. Vol. 8. P. 715.
15. Hucker. Ming government’. P. 30.
16. Fisher. The Chosen One. P. 53-54.
17. Ibid. P. 176.
18. Hucker. Ming government. P. 47.
19. Wang Yangming quanshu // De Bary and Bloom. Sources of Chinese Tradition. Vol. 1. P. 846.
20. Fisher. The Chosen One. P. 62.
21. Clunas. Empire of Great Brightness. P. 5; Mote. Imperial China. P. 668.
22. Tsai. Perpetual Happiness. P. 85.
2 3. Pereira // Boxer. South China in the Sixteenth Century. P. 4-9.
24. Clunas. Empire of Great Brightness. P. 14.
14. Маньчжурское завоевание (1620-1760)
1. Jonathan D. Spence and JohnE. Wills. Preface // Spence and Wills. From Ming to
Ch’ing. P. xi.
2. Ricci. China in the Sixteenth Century. P. 306-307, 317.
3. Ibid. P. 343-344.
4. William Atwell. Ming China and the emerging world economy, c. 1470-1650 // CHC. Vol. 8. P. 383.
5. Spence and Wills. From Ming to Ch’ing. P. 42.
6. Crossley. The Manchus. P. 31.
7. Ibid. P. 70.
8. Wakeman. The Great Enterprise. Vol. 1. P. 561.
9. Qing Shilu. Vol. 14, цит. no: Cheng et al. The Search for Modern China. P. 33.
10. Lynn Struve. The Southern Ming, 1644-1662 // CHC. Vol. 7. Pt. 1. P. 662-663.
11. Wang Xiuchu. The massacre of Yangzhou // Struve. Voices from the Ming-Qing Cataclysm. P. 33.
12. Matteo Ricci, цит. no: Spence. The Memory Palace of Matteo Ricci. P. 45.
13. Nicola di Cosmo. Did guns matter? Firearms and the Qing formation // Struve. The Qing Formation. P. 131 -133.
692
ПРИМЕЧАНИЯ
14. YuDayou,цит.по.Huang, 1587.P. 169-70.
15. Ibid. P. 179-80.
16. Liu Ruzhong. Manning the Wall: Qi Jiguang // Claire Roberts and Geremie R. Barme (eds). The Great Wall of China. P. 182-187.
17. Lovell. The Great Wall. P. 265.
18. Di Cosmo. Did guns matter? P. 152.
19. Willard Peterson. Learning from heaven: the introduction of Christianity and other Western ideas into late Ming China // CHC. Vol. 8, pt 2. P. 838.
20. Cheng et al. The Search for Modern China. P. 133-134; Waldron. The Great Wall of China. P. 208.
21. Clements. Pirate King. P. 160-161.
22. Ibid. P. 214.
2 3. Cheng et al. The Search for Modern China. P. 92.
24. Rossabi. China and Inner Asia. P. 131.
25. Perdue. China Marches West. P. 184,283-285.
26. Ibid. P. 291-292.
27. Joseph Fletcher. Ch’ing Inner Asia // CHC. Vol. 10. P. 59.
28. Crossley. A Translucent Mirror. P. 330.
29- Rawski. The Last Emperors. P. 254-256.
15. Агония империи (1760-1880)
1. Macartney. An Embassy to China. P. 65-70.
2. Ibid. P. 252-254.
3. Jonathan D. Spence // Ibid. P. 254.
4. Ibid. P. 165.
5. Ibid. P. 162-165.
6. ‘Kangxi’s Valedictory Edict, 1717// Cheng et al. The Search for Modem China. P. 63.
7. Madeleine Zelin. The Yung-cheng reign // CHC. Vol. 9, pt 1. P. 209.
8. William T. Rowe. Social stability and social change // CHC. Vol. 9, pt 1. P. 480.
9. Hiromi Kinoshita // Rawski and Rawson. China: The Three Emperors. P. 408.
10. Jonathan D. Spence // Cheng et al. The Search for Modern China. P. 10-101.
11. Keay. The Honourable Company. P. 348-349-
12. Frederic Wakeman. The Canton trade and the Opium War // CHC. Vol. 10, pt 1. P. 172.
13. Naquin and Rawski. Chinese Society in the Eighteenth Century. P. 2 33.
14. Wakeman. The Canton trade. P. 182.
15. Waley. The Opium War. P. 28- 31.
16. Liu. The Clash of Empires. P. 31.
17. Joseph Fletcher. The heyday of the Ch’ing order in Mongolia, Sinkiang and Tibet // CHC. Vol. 10, pt 1. P. 360, 373-382.
18. Lord Palmerston’s declaration of war // Cheng et al. The Search for Modern China. P. 123-127.
19. Wakeman. Strangers at the Gate. P. 21.
20. Teng. The Taiping Rebellion. P. 1 - 3, 224.
21. Spence. God’s Chinese Son. P. 93.
22. Wang Fuzhi, цит. no: Crossley. A Translucent Mirror. P. 248.
23. Wakeman. Strangers at the Gate. P. 130.
24. Teng. The Taiping Rebellion. P. 187.
693
ПРИМЕЧАНИЯ
25. Ibid. P. 213, 229.
26. Rutherford Alcock, цит. no: Ibid. P. 244-245.
27. Joseph Fletcher. Sino-Russia relations 1800-1862 // CHC. Vol. 10, pt 1. P. 347.
16. Республиканцы и националисты (1880-1950)
1. Cheng et al. The Search for Modern China. P. 239.
2. Ibid. P. 153.
3. Wilkinson. Chinese History: A Manual. P. 452.
4. Ting-YeeKuo. Self-strengthening: the pursuit of Western technology // CHC. Vol. 10, pt I. P. 515.
5. Rossabi. China and Inner Asia. P. 189.
6. W. A. P. Martin. Cycle of Cathay. P. 234, цит. no: Liu. The Clash of Empires. P. 122.
7. Jacques Bainville. The French Republic 1870-1935. P. 93, цит. no: Hibbert. The
Dragon Wakes. P. 316.
8. Hall. A History of South-East Asia. P. 704.
9. Cheng et al. The Search for Modern China. P. 222.
10. Zhang Zhidong on the Central Government, 1898 // Ibid. P. 182.
11. Robert Hart, цит. no: Preston. Besieged in Peking. P. 232.
12. D. Vare. The Last Empress. P. 259-261, цит. no: Ibid. P. 236.
13. Fairbank. The Great Chinese Revolution. P. 151 -15 2.
14. Spence. The Gate of Heavenly Peace. P. 105-106.
15. Rossabi. China and Inner Asia. P. 246.
16. Jasbir Singh. Himalayan Triangle. P. 62.
17. Macmillan. Peacemakers. P. 331 -332.
18. Ibid. P. 337.
19. Spence. The Gate of Heavenly Peace. P. 122.
20. Цит. no: Ibid. P. 135.
21. Chengetal. The Search for Modern China. P. 352.
22. Keay. Last Post. P. 74-84.
2 3. Chang and Holliday. Mao. P. 134ff.
24. Fairbank. The Great Chinese Revolution. P. 2 3 3.
2 5. Cheng et al. The Search for Modern China. P. 423.
26. Ibid. P. 339.
Эпилог
1. Цит. no: Pei-kai Cheng et al. The Search for Modern China. P. 5 30.
2. Macfarquhar and Schoenhals. Mao’s Last Revolution. P. 9.
3. Hugh Trevor-Roper at the LSE, 6 December 1968, цит. no: Hibbert. The Dragon Awakes. P. vii.
Библиография
AdsheadS.A. М. Tang China: The Rise of the East in World History. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004.
Backus Charles R. The Nan-Chao Kingdom and Frontier Policy in Southwest China during the Sui and Tang Periods. PhD thesis. Princeton, NJ, 1978.
. The Nanchao Kingdom and Tang China’s South West Frontier. Cambridge
University Press, 1981.
Balazs Etienne. Chinese Civilisation and Bureaucracy, Variations on a Theme, trans.
H. M. Wright. Yale University Press, New Haven, CT, and London, 1964.
Ban Gu (PanKu). The History of the Former Han Dynasty. Trans. Homer H. Dubs. 3 vols. Baltimore, MD, 1955.
Barfield Thomas. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 BC-1757 AD. Blackwell, Oxford, 1996.
Beasley W. G. and E. G. Pulleyblank. Historians of China and Japan. Oxford University Press, London, 1961.
Beckwith Christopher. The Tibetan Empire in Central Asia. Princeton, NJ, 1987.
. The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for Great Power
among Tibetans, Tbrks, Arabs and Chinese during the Early Middle Ages. Princeton University Press, Princeton, NJ, rev. ed., 1995.
Benn Charles. Daily Life in Traditional China: The Tang Dynasty. Westport, CT, 2002.
Bentley Jerry H. Old World Encounters: Cross-cultural Contacts and Exchanges in Premodern Times. Oxford University Press, Oxford, 1993.
Bergere Marie-Claire. Sun Yat-sen. Trans. Janet Lloyd. Stanford University Press, Stanford, CT, 1988.
Bielenstein Hans. The Bureaucracy of Han Times. Cambridge University Press, Cambridge, 1980.
Bingham Woodbridge. The Founding of the Tang Dynasty: The Fall of Sui and the Rise of Tang. Waverly, Baltimore, MD, 1941.
BirrellA.M. Chinese Mythology: An Introduction. Johns Hopkins University, 1993.
695
БИБЛИОГРАФИЯ
Blunden Caroline and Mark Elinn. Cultural Atlas of China. Phaidon, Oxford, 1983. Bodde Derk. China’s First Unifier: A study of the Qin dynasty as seen in the life of Li-Ssu 280-208 BC. E.J. Brill, Leiden, 1938.
Bol PeterK. This Culture of Ours’: Intellectual Transitions in T’ang and Sung China. Stanford University Press, Stanford, CT, 1992.
Boxer С. R. (ed.). South China in the Sixteenth Century, being the narratives of Galeote Pereira, Fr Gaspar da Cruz and Fr Martin da Rada. Hakluyt Society, London, 1953.
Boyle John A. The Successors of Genghis Khan. Columbia University Press, New York, 1977.
Brockley Liam Matthew. Journey to the East: The Jesuit Mission to China 1579-1724. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2007.
Cambridge History of China (CHC). General eds Denis Twitchett and John K. Fairbank. 15 vols (vols 2, 4, 5, 12 unpublished in 2008). Cambridge University Press, Cambridge, 1978-.
I. The Ch’in and Han Empires, 221 BC-220 AD. Ed. Denis Twitchett and Michael Loewe, 1986.
3. Sui and Tang China, 389-906. Pt. 1. Ed. Denis Twitchett, 1979.
6. Alien Regimes and Border States, 907-1368. Ed. Herbert Franke and Denis Twitchett, 1994.
7. The Ming Dynasty, 1368-1644. Pt. 1. Ed. Frederick W. Mote and Denis Twitchett, 1987.
8. The Ming Dynasty, 1368-1644. Pt. 2. Ed. Frederick W. Mote and Denis Twitchett, 1998.
9. The Ch’ing Empire to 1800. Ed. Willard J. Peterson, 2002.
10. Late Ch’ing, 1800-1911. Pt. 1. Ed John K. Fairbank, 1978.
II. Late Ch’ing, 1800-1911. Pt. 2. Ed. Denis Twitchett and Kwang-Ching Liu, 1980.
13- Republican China, 1912-1949. Pt. 2. Ed. John K. Fairbank and Albert Feuerwerker, 1986.
14. The People’s Republic. Pt. 1: The Emergence of Revolutionary China 1949-1965. Ed. Roderick Macfarquhar and John K. Fairbank, 1987.
15. The People’s Republic. Pt. 2: Revolutions within the Chinese Revolution 1966-1982. Ed. Roderick Macfarquhar, 1991.
Cambridge History of Ancient China (CHAC): From the Origins of Civilisation to 221 BC. Ed. Michael Loewe and Edward L. Shaughnessy. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
Cambridge History of Early Inner Asia (CHEIA). Ed. Denis Sinor. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Chaffee John W. The Thorny Gates of Learning in Sung China, a Social History of the Examinations. Cambridge University Press, 1985.
Chan Albert. Glory and Decline of the Ming Dynasty. University of Oklahoma, Norman, 1982.
Chang Hsin-pao. Commissioner Lin and the Opium War. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1954.
Chang К. C. Early Chinese Civilisation: Anthropological Perspectives. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1976.
. Shang Civilisation. Yale University Press, 1980.
ChavanneEdouard. Les Memoires historiques de Se-maTsien. Vol. 2. Paris, 1895 (P. 316- 320 о Сян Юе).
696
БИБЛИОГРАФИЯ
Ch'en Kenneth. Buddhism in China: A Historical Survey. Princeton, NJ, 1964.
Cheng Pei-kai, Michael Lestz and Jonathan D. Spence (eds). The Search for Modem China: A Documentary Collection. Norton, New York, 1999.
Chou Eva Shan. Reconsidering Tu Fu: Literary Greatness and Cultural Context. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
Cleaves Francis W. Secret History of the Mongols. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1982.
Clements Jonathan. Pirate King: Coxinga and the Fall of the Ming Dynasty. Sutton, London, 2006.
Clunas Craig. Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China. University of Hawaii Press, Honolulu, 2004.
. Empire of Great Brightness: Visual and Material Cultures of Ming China, 1368-
1644. Reaktion Books, London, 2007.
Coble ParksM. Facing Japan: Chinese Politics and Japanese Imperialism, 1931-1937. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991.
Confucius. The Analects. Trans. D.C. Lau. Chinese University Press, Hong Kong, 1992.
Cook Constance and John S. Major (eds). Defining Chu: Image and Reality in Ancient China. University of Hawaii Press, Honolulu, 1999.
Creel HerleeG. The Origins of Statecraft in China. Vol. 1: The Western Chou Empire. University of Chicago Press, London, 1970.
Crossley Pamela K. The Manchus. Blackwell, Oxford, 1997.
. A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. University
of California Press, Berkeley, 1999.
CrumpJ. (trans.). Chan-kuo-t’se, Oxford, 1970/University of Michigan, 1996.
CurwenC.A. Taiping Rebel: The Despotism of Li Hsien-chong. Cambridge University Press, 1977.
DaniA.M. and V.M. Masson (eds). History of Civilisations of Central Asia. UNESCO, Paris, 1992.
Dardess John. Conquerors and Confucians: Aspects of Political Change in Late Yuan China. Columbia University Press, New York, 1973.
. Confucianism and Autocracy: Professional Elites in the Founding of the Ming
dynasty. University of California Press, Berkeley, 1983.
. Blood and History in China: The Donglin Faction and Its Repression, 1620-27.
University of Hawaii Press, Honolulu, 2002.
Davis RichardL. Court and Family in Sung China. Duke University Press, Chapel Hill, NC, 1986.
Dawson Christopher (ed.). The Mongol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. Sheed & Ward, London, 1955.
Dawson Raymond. Imperial China. Hutchinson, London, 1972.
De Bary W. T. The Unfolding of Neo-Confucianism. Columbia University Press, New York, 1975.
De Bary W. T. and Irene Bloom (eds). Sources of Chinese Tradition. 2 vols. Columbia University Press, NY, 1999.
De Crespigny Rafe. The Last of the Han (chs 58-68 of Tzu-chih t’ung-chien by Sima Guang). Australian National University, Canberra, 1969.
. Northern Frontier: The Politics and Strategy of the Late Han Empire. Australian
National University, Canberra, 1984.
697
БИБЛИОГРАФИЯ
Di Cosmo Nicola. Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
Dieri Albert (ed.). State and Society in Early Medieval China. Stanford University Press, Stanford, CT, 1990.
Dreyer Edmund L. Early Ming China: A Political History 1355-1435. Stanford University Press, Stanford, CT, 1982.
. Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405-1433. Pearson
Longman, New York, 2007.
DunnellRuth W. The Great State of White and High: Buddhism and State Formation in Eleventh-century Xia. University of Hawaii Press, Honolulu, 1999.
Ebrey Patricia Buckley (ed.). Chinese Civilisation and Society. Free Press, New York, 1981.
. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press,
Cambridge, 1996.
. China: A Cultural, Social and Political History. Houghton Mifflin, Boston, MA,
2006.
et al. Modern East Asia: From 1600, a Cultural, Social and Political History.
Houghton Mifflin, Boston, MA, 2006.
Endicott-WestElizabeth. Mongolian Rule in China. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989.
Fairbank John King (ed.). The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1968.
. The Great Chinese Revolution: 1800-1985. Harper & Row, New York, 1986.
and Merle Goldman. China: A New History. Belknap, Harvard, Cambridge, MA,
1998.
FangAcbiUes (trans.). The Chronicle of the Three Kingdoms. Cambridge, MA, 1952/65.
Fay Peter Ward. The Opium War 1840-1842. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975.
Fisher Carney T. The Chosen One: Succession and Adoption in the Court of Ming Shizong. Allen & Unwin, Sydney, 1990.
Fitzgerald C.P. China: A Short Cultural History. Cresset Press, London, 1935.
. The Empress Wu. University of British Columbia Press, 1970.
Garside Roger. Coming Alive: China after Mao. Deutsch, London, 1981.
Gemet Jacques. Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion. Allen & Unwin, London, 1962.
. Ancient China: From the Beginnings to the Empire. Trans. Raymond Rudorff.
Faber and Faber, London, 1968.
. A History of Chinese Civilization (Le Monde chinois). Trans. J.R. Foster.
Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
. Buddhism in Chinese Society: An Economic History from the Fifth to the Tenth
Centuries. Columbia University Press, New York, 1995.
Gladney Dru C. Dislocating China: Muslims, Minorities and the Subaltern Subjects. Hurst & Co., London, 2004.
Goodman HowardL. Tsao P’i Transcendent. Scripta Serica, Seattle, WA, 1998.
Goodrich Chauncey S. Biography of Su Ch’o. University of California Press, Berkeley, 1953.
GraJfrDaindA. Medieval Chinese Warfare 300-900. Routledge, London, 2000.
Grousset Rene. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. Trans. Naomi Watford. Rutgers, NJ, 1970.
698
БИБЛИОГРАФИЯ
Hall D. G. E. A History of South-East Asia. 4th edn. Macmillan, London, 1981.
Hammond Kenneth J. (ed.). The Human Tradition in Pre-modern China. SR Books, Wilmington, 2002.
Hansen Valerie. The Open Empire: A History of China to 1600. Norton, London, 2000.
Hardy Grant. Worlds of Bronze and Bamboo: Sima Qian’s Conquest of History. Columbia University Press, New York, 1999.
and A. B. Kinney. The Establishment of the Han Empire and Imperial China.
Greenwood, Westport, CT, 2005.
Hartman Charles. Han Yii and the T’ang Search for Unity. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1986.
Hibbert Christopher. The Dragon Wakes: China and the West 1795-1911. Longman, London, 1970.
Hok-lam Chan. Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1150-1234). University of Washington, Seattle, 1984.
Holcombe Charles. In the Shadow of the Han: Thought and Society at the Beginning of the Southern Dynasties. University of Hawaii Press, Honolulu, 1994.
Hopkirk Peter. Foreign Devils on the Silk Road: The Search for the Lost Cities and Treasures of Chinese Central Asia. John Murray, London, 1980.
HuangRay. 1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline. Yale University Press, New Haven, CT, 1981.
Hucker Charles O. The Ming Dynasty: Its Origins and Evolving Institutions. University of Michigan, Ann Arbor, 1978.
Hui Victoria Tin-bor. War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
Htdsewe A. F.P. China in Central Asia: The Early Stage 135-123 BC. E.J. Brill, Leiden, 1979.
Hymes Robert P. and Conrad Shirokauer. Ordering the World: Approaches to State and Society in Sung Dynasty China. University of California Press, Berkeley, 1993.
Jagchid Sechin and V J. Symons. Peace, War and Trade along the Great Wall: Nomadic — Chinese Interaction through Two Millennia. Indiana University Press, Bloomington, 1989.
Jasbir Singh Amar Kaur. Himalayan Triangle: A historical survey of British India’s relations with Tibet, Sikkim and Bhutan 1765-1950. British Library, London, 1988.
JennerW.J.F. Memories of Loyang: Yang Hsuan-chi and the Lost Capital (493-534). Clarendon, Oxford, 1981.
. The Tyranny of History: The Roots of China’s Crisis. Allen Lane, London, 1992.
Johnston AlastairIain. Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995.
Jung Chang andJon Holliday. Mao: The Unknown Story. Jonathan Cape, London, 2005.
Kahn Paul. The Secret History of the Mongols. North Point Press, San Francisco, CA, 1984.
Keay John. The Honourable Company: A History of the English East India Company. HarperCollins, London, 1991.
. Last Post: The End of Empire in the Far East. John Murray, London, 1997.
. The Spice Route: A History. John Murray, London, 2005.
Keightley David N. Sources of Shang History: The Oracle-bone Inscriptions of Bronze Age China. University of California Press, Berkeley, 1978.
(ed.). The Origins of Chinese Civilization. University of California Press, London,
1983.
699
БИБЛИОГРАФИЯ
. The Ancestral Landscape: Time, Space and Community in Late Shang China c.
1200-1045 BC. University of California Press, Berkeley, 2000.
KhazanovA. M. Nomads and the Outside World. Trans. Julia Crookenden. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
Kierman Frank A. and John K. Fairbank (eds). Chinese Ways in Warfare. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974.
Kirkland Russell Taoism: The Enduring Tradition. Routledge, London, 2004.
KrackeE. A. Civil Service in Early Sung China, 960-1067. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1953.
LangloisJohn D. (ed.). China under Mongol Rule. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1981.
Latham Ronald (trans. and intro.). The Travels of Marco Polo. Penguin, London, 1958. Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. Oxford University Press, London, 1940. Levathes Louise. When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-33. Simon & Schuster, New York, 1984.
Lewis Mark. Sanctioned Violence in Ancient China. Albany, NY, 1990.
Li Chi (Ji). Anyang. University of Washington Press, Seattle, 1977.
Li Yu-ning (ed.). The Politics of Historiography: The First Emperor of China. IAS, New York, 1975.
Liu James Т. C. Reform in Sung China: Wang An-shih and His New Policies. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1959.
. Ou-yang Hsiu, an Eleventh Century Neo-Confucianist. Stanford University Press,
Stanford, CT, 1967.
and Peter Golas. Change in Sung China: Innovation or Renovation. Heath,
Lexington, NY, 1969.
Liu Lydia H. The Clash of Empires: The Invention of China in Modern World Making. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2004.
LiuXinru. Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges AD 1-600. Oxford University Press, New Delhi, 1988.
. Silk and Religion: An Exploration of Material Life and the Thoughts of People.
Oxford University Press, New Delhi, 1996.
Loewe Michael. Imperial China: The Historical Background to the Modern Age. Allen & Unwin, London, 1966.
. Crisis and Conflict in Han China 104 BC to 9 AD. Allen & Unwin, London, 1974.
. The Pride That Was China. Sidgwick & Jackson, London, 1990.
LovellJulia. The Great Wall: China against the World. Atlantic, London, 2006.
LuceG.S. T. (trans.). Manshui, ‘Book of the Southern Barbarians’. Cornell University Press, 1961. Luo Guanzhong (attrib.). Three Kingdoms, a Historical Novel. Trans, and ed. Moss Roberts. University of California Press, Berkeley, 1991.
Ma LaurenceJ. C. Commercial Development and Urban Change in Sung China (960- 1279). University of Michigan, Ann Arbor, 1971.
Macartney Lord George. An Embassy to China: Being the Journal Kept by Lord Macartney during his Embassy to the Emperor Ch’ien-lung 1793-4. Ed. J. L. Cranmer-Byng. Folio Society, London, 2004.
Macfarquhar Roderick and Michael Schoenhals. Mao’s Last Revolution. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2006.
MacmiUan Margaret. Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and Its Attempt to End War. John Murrray, London, 2001.
700
БИБЛИОГРАФИЯ
Mair VictorН. (ed.). The Bronze Age: Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia. Washington, DC, 1998.
(ed.). The Columbia History of Chinese Literature. Columbia University Press,
New York, 2001.
et al. (eds). The Hawaii Reader in Traditional Chinese Culture. University of
Hawaii Press, Honolulu, 2003.
MalloryJ. P. and Victor H. Mair. The Tarim Mummies: Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West. Thames and Hudson, London, 2000.
Man John. Genghis Khan: Life, Death and Resurrection. Bantam, London, 2004.
Martin Desmond H. The Rise of Chingis Khan and His Conquest of North China. Baltimore, MD, 1950/Octagon, New York, 1970.
McMullen Daind. State and Scholars in Tang China. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
Mole Gabriella. The Ti-yu-hun from Northern Wei to the Time of the Five Dynasties. IMEO, Rome, 1970.
Morgan David O. The Mongols. Blackwell, Oxford, 1986.
Mote F. W. Imperial China, 900-1800. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. Naquin Susan and Evelyn S. Rawski. Chinese Society in the Eighteenth Century. Yale University Press, London, 1987.
National Museum of Chinese History. A Journey into China’s Antiquity 2 vols. Morning Glory, Beijing, 1997/98.
Needham Joseph et al. Science and Civilization in China. Many vols. Cambridge University Press, Cambridge, 1954; см. особенно: Vol. 4. Pt. 2,1965; Vol. 4. Pt. 3,1971.
Nivison DavidS. and A. Wright. Confucianism in Action. Stanford University Press, Stanford, CT, 1959.
Ouyang Xiu. Historical Records of the Five Dynasties. Trans, and ed. Richard L Davis. Columbia University Press, New York, 2004.
Owen Stephen. The Great Age of Chinese Poetry, the High Tang. Yale University Press, New Haven, CT, 1981.
Paludan Ann. Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China. Thames & Hudson, London, 1998.
Pan Yihong. Son of Heaven and Heavenly Qaghan: Sui-Tang China and Its Neighbours. Western Washington University Press, Bellingham, 1997.
Pearce Scott etal. (eds). Culture and Power in the Reconstitution of the Chinese Realm 200-500. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2001.
Pears C. J. Soldiers of the Dragon: Chinese Armies 1500 BC-AD 1840. Osprey, London, 2006. Perdue Peter C. China Marches West: The Qing Conquest of Central Asia. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2005.
Perry Elizabeth J. Rebels and Revolutionaries in North China, 1845-1945. Stanford University Press, Stanford, CT, 1980.
Perry J. C. and Bardwell L. Smith (eds). Essays on Tang Society. London, 1976. Pirazzoli-fSerstevens Michele. The Han Civilisation of China. Phaidon, Oxford, 1982. Polo Marco. The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, concerning the Kingdoms and Marvels of the East. Trans, and ed. Henry Yule. 3rd ed., 2 vols. John Murray, London, 1921. Portal Jane (ed.). The First Emperor: China’s Terracotta Army. British Museum, London, 2007. Preston Diana. Besieged in Peking: The Story of the 1900 Boxer Rising. Constable, London, 1999.
Pulleyblank E. The Background to the Rebellion of An Lushan. London, 1955.
701
БИБЛИОГРАФИЯ
Ratchnevsky Paul. Ghenghis Khan: His Life and Legacy. Blackwell, Oxford, 1991.
Rawski Evelyn S. The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. University of California Press, Berkeley, 1998.
and Jessica Rawson (eds). China: The Three Emperors 1662-1795. Royal
Academy of Arts, London, 2005.
RawsonJessica. Chinese Bronzes: Art and Ritual. British Museum, London, 1987.
. Mysteries of Ancient China: New Discoveries from the Early Dynasties. British
Museum, London, 1996.
Reilly Thomas H. The Taiping Heavenly Kingdom: Rebellion and the Blasphemy of Empire. University of Washington, Seattle, 2004.
Reischauer Edwin O. (trans.). Ennin’s Diary, the Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law. Ronald Press, New York, 1955.
Reischauer Edwin O. Ennin’s Travels in Tang China. Ronald Press, New York, 1965.
Ricci Matthew. China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci: 1583- 1610. Trans. Louis J. Gallagher. Random House, New York, 1953.
Robinson David. Bandits, Eunuchs and the Son of Heaven: Rebellion and the Economy of Violence in Mid-Ming China. University of Hawaii Press, Honolulu, 2001.
Rodzinski Witold. The Walled Kingdom: A History of China from 2000 BC to the Present. Fontana, London, 1985.
Ropp PaulS. (ed.). Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization. University of California Press, Berkeley, 1990.
Rossabi Morris. China and Inner Asia from 1368 to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
. China among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbours. University of
California Press, Berkeley, 1983.
. Khubilai Khan: His Life and Times. University of California Press, Berkeley, 1988.
. Voyager from Xanadu: Rabban Sauma and the First Journey from China to the
West. Kodansha, New York, 1992.
Sage Steven R. Ancient Sichuan and the Unification of China. State University of New York, Albany, 1992.
Sampson Geoffrey. Writing Systems: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
Schafer EdwardH. The Golden Peaches of Samarkand: A Study of Tang Exotics. University of California Press, Berkeley, 1963.
. Shore of Pearls. University of California Press, Berkeley, 1970.
Schoenbauer Susan. Victorian Travellers and the Opening of China. Ohio University Press, 1999.
Seaman Gary and Daniel Marks (eds). Rulers from the Steppe: State Formation on the Eurasian Periphery. Ethographics Press, Los Angeles, CA, 1991.
Seidel Anna and Holmes Welch (eds). Facets of Taoism. Yale University Press, New Haven, CT, 1979.
Serruys Henry (ed.). The Mongols and Ming China: Customs and History. Variorum, London, 1987.
Sima Qian, cm.: Watson.
Smith Richard. Chinese Maps: All Under Heaven. Oxford University Press, Hong Kong, 1996.
SpenceJ.D. The China Helpers: Western Advisers to China 1620-1960. Bodley Head, London, 1969.
702
БИБЛИОГРАФИЯ
. Emperor of China: Self Portrait of Kangxi. Knopf, New York, 1974.
. The Chan’s Great Continent: China in Western Minds. Penguin, London, 1999.
. The Search for Modern China. 2nd ed Norton, New York, 1999.
et al. (eds). From Ming to Ch’ing: Conquest, Region and Continuity in
Seventeenth-Century China. Yale University Press, New Haven, CT, 1979.
. The Gate of Heavenly Peace: The Chinese and Their Revolution 1895-1980.
Faber and Faber, London, 1982.
. The Memory Palace of Matteo Ricci. Faber and Faber, London, 1984.
. God’s Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
HarperCollins, London, 1996.
Struve Lynn A. Voices from the Ming-Qing Cataclysm: China in Tigers’ Jaws. Yale University Press, New Haven, CT, 1993.
(ed.). The Qing Formation in World-Historical Time. Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2004.
Swann Nancy Lee (trans. and ed.). Food and Money in Ancient China: The Earliest Economic History of China to ad 25. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1950.
TooJingshen. The Jurchen in Twelfth-Century China: A Study of Sinicisation. University of Arizona Press, Tbcson, 1976.
Too Jingshen. Two Sons of Heaven: Studies in Sung — Liao Relations. University of Arizona Press, Tbcson, 1988.
Teng S. Y. The Taiping Rebellion and the Western Powers. Oxford University Press, London, 1971.
Tillman HoytC. and Stephen H. West (eds). China under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. State University of New York Press, Albany, 1995.
Tsai Shih-shan Henry. The Eunuchs of the Ming Dynasty. State University of New York Press, Albany, 1996.
. Perpetual Happiness: The Ming Emperor Yongle. University of Washington,
Seattle, 2001.
Twitchett D. C. Financial Administration under the T’ang Dynasty. Cambridge University Press, Cambridge, 1963.
. The Writing of Official History under the T’ang. Cambridge University Press,
Cambridge, 1992.
Vainker Shelagh. Chinese Pottery and Porcelain. British Museum, London, 1991. Wakeman Frederic. Strangers at the Gate: Social Disorder in South China, 1839-1961. University of California Press, Berkeley, 1966.
Wakeman Frederic. The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-Century China. Vol. 1. University of California Press, Berkeley, 1985.
Waldron Arthur. The Great Wall of China: From History to Myth. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Waley Arthur. Three Ways of Thought in Ancient China. Allen & Unwin, London, 1939.
. The Opium War through Chinese Eyes. Allen & Unwin, London, 1958.
. Ballads and Stories from Tbn-huang: An Anthology. Allen & Unwin, London, I960.
Waley-Cohen Joanna. The Sextants of Beijing: Global Currents in Chinese History. Norton, New York, 1999.
Wang Gungwu. The Structure of Power in North China during the Five Dynasties. Stanford University Press, Stanford, CT, 1963.
Watson Burton. Ssu-ma Chi’en: Grand Historian of China. Columbia University Press, NewY>rk, 1958.
703
БИБЛИОГРАФИЯ
(trans.). Records of the Grand Historian of China Translated from the Shih Chi of
Ssu-ma Ch’ien. 2 vols. Columbia University Press, New York, 1961.
(trans. and ed.). The Columbia Book of Chinese Poetry: From Early Times to the
Thirteeenth Century. Columbia University Press, New York, 1984.
. The Tso-chuan: Selections from China’s Oldest Narrative History. Columbia
University Press, New York, 1989.
Wechsler Howard J. Mirror to the Son of Heaven: Wei Cheng at the Court of T’ang Tai- tsung. Yale University Press, New Haven and London, 1974.
Welch Holmes and Anna Seidel. Facets of Taoism: Essays in Chinese Religion. Yale University Press, New Haven, CT, 1979.
Wilkinson Endymion. Chinese History: A Manual. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2000.
WittfogelKarl. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. Yale University Press, New Haven, CT, 1957.
Wood Frances. Did Marco Polo Go to China? Seeker and Warburg, London, 1995.
. The Silk Road. Folio Society, London, 2002.
Wriggins Sally Hovey. Xuanzang: A Buddhist Pilgrim on the Silk Road. Westview, Oxford, 1996.
Wright Arthur F. Buddhism in Chinese History. Stanford University Press, Stanford, CT, 1959.
(ed.). The Confucian Persuasion. Stanford University Press, Stanford, CT, I960.
. Perspectives on the T’ang. Yale University Press, New Haven, CT, 1970.
. The Sui Dynasty. New York, 1978.
and RobertM. Somers (eds). Studies in Chinese Buddhism. New Haven, CT, 1990.
Wu Cheng’en. The Monkey and the Monk (abridgement of The Journey to the West). Trans, and ed. Anthony C. Yu. University of Chicago Press, Chicago, IL, 2006.
Xiong Victor C. Emperor Yang of the Sui Dynasty: His Life, Times and Legacy. State University of New York Press, Albany, 2006.
Yu Ying-shi’h. Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sino- Barbarian Economic Relations. University of California Press, Berkeley, 1967.
ZUrcherErik. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. 2 vols. E.J. Brill, Leiden, 1959.
Карты
1. Китай: колыбель, основа и современные провинции
2. Реки и горы
3. Археологические стоянки
4. Владения Ранней (Западной) Чжоу, ок. 1046-770 гг. до н. э.
5. Сражающиеся царства, ок. 350 г. до н. э.
6. Расширение Цинь, 350-210 гг. до н. э.
7. Гражданская война, 209-202 гг. до н. э.
8. Империя Хань, I век до н. э.
9- Tix>e4apcTBHe, 220 г. — около 270 г.
10. Буддизм в период раздробленности
11. Великий канал, около 611 г.
12. Воссоединение империи при Суй и Тан, 580-650 гг.
13. Империя Тан, около 650 г.
14. Империя Тан, около 750 г. (1)
15. Империя Тан, около 750 г. (2)
16. Великий поход Хуан Чао, 878-880 гг.
17. Пять (северных) империй и Десять государств, 907-960 гг.
18. Китай, около 1100 г.
19. Китай, около 1200 г.
20. Продвижение монголов, 1209-1300 гг.
21. Провинции монгольской Юань
22. Плавания Чжэн Хэ, 1402-1431 гг.
23. Северная граница и Великая стена, 1550-1650 гг.
24. Маньчжурские завоевания, 1б1б-1755гг.
25. Китай в XIX веке: Опиумные войны и восстание тайпинов
26. Северный поход и Великий поход
705
1. КИТАЙ: КОЛЫБЕЛЬ, ОСНОВА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОВИНЦИИ
-С—
706
707
708
3. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ
—j
i „
'I
/ляонин /
•'ч г' ;
HЯПОНСКОЕ MOPE
4-'-i
rJ " ^
Аньян /^рлиган’' ArLJ''-.ЦЗЯНС "• •Чжэнчжоу Лоян • P
(ИНХАЙ
.Т' Lxv Лоян . ^
V ШЭНЬСИ '-ЭРЛ“™У (АНЬХОЙ; Г- ; г--\_ _хэнанЬ v / L-r'^U -
\ г "ХУБЭЙ 4 ^ Г \ Хэмуду;
Ухань^ '"У'х ^ЖЭЦЗЯГ л "\ J• -ч'г
' х-" сычуань
Саньсиндуй /( \ / с
/ \ Мавандуй -» ЦЗЯНСИ Г'
Чэнд>-^Г\,^ ХУНАНЬ 1 «6ЩЗЯН1
:} д /
v . /г'' ГУЙЧЖОУ ( /'ч
\л \ Л \ I I ^ с
Л V1 ' s -'
0
ВОСТОЧНО- КИТАЙСКОЕ МОРЕ
, -ч ГУАНДУН
f ^ r_j гуанси г/ гуанжоу
CZZ. ' (Гуанси-Чжуанский I *\xg
j ЮНЬНАНЬ v"> автономный район)/ Лг
\ Р 30
О-'
1.
.S
р^.
Государство Ся, ок. 2070 г. до н. э. — ок. 1600 г. до н. э. Государство Шан, ок. 1600 г. до н. э. — ок. 1046 г. до н. э. ГЪсударство Чжоу, ок. 1050 г. до н. э. — 256 г. до н. э.
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ
МОРЕ
400 миль
600 км
709
710
711
712
7. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, 209-202 гг. до н. э.
—Л
л.
/) /1
300 миль
400 км
Г'
/
/
А
'-О*
>а£
О
\
V\
A* v
^ J
О
✓
* ЯНЬ /
I
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ
МОРЕ
713
714
715
10. БУДДИЗМ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ
is\ >
("х
г\\ ^ \
1
/
1
г*
/
/
г
/"■> ч_
I / ^Гуанчжоу,
\—г~ Г “
1"ч5 ^ J
.^-к^ '-'ч/
Ч.--Л ханой A* южно-китайское
' ^ ' МОРЕ
716
717
718
719
14. ИМПЕРИЯ ТАН, около 750 г. (1)
КАЗАХСТАН
Западнотюркский каганат
империя Тан около 750 г. 1*шш*т»»яшщт»»щттят»тшшш
! 'Л ч
Северные тюрки
К МОНГОЛИЯ
си,
Урумчи
ИИИРЫ
Еркма*^гяй'|“1АН турфан , '•'N^^^22
х ■ .Кучар . , ,
_ . , .ергана/■**'*-' '■
Самарканд / • Кашгар/ СИНЬЦЗЯН
ЭГДИАНА /%%' ^// / / /'
~ ‘ «Яркенд
Комуд
Дуньхуан
• / ./"
ГАНЬСУ
АФГАНИСТАН ' I
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
26. СЕВЕРНЫЙ ПОХОД И ВЕЛИКИЙ ПОХОД
/ МОНГОЛИЯ д *°
, Урумчи Ч„ ПУСТЫНЯ ГОБИ
J \
СИНЬЦЗЯН X" V
/ V'7
Q ГАНЬСУ
(Пекин'
V ЦЗИЛИНЬ
" V"v_. I
\ ■->
Шэньян 'у*'
*\ \ vЛЯОНИН / (ЯПОНСКОЕ
' J JL 5s V-wiHQPf
\ Л V^BEPH.
КОРЕЯМ
ЧН1Й. ВэйхайвэйсС южная4 .3111%*^ т КОРЕЯ
ЖЕЛТОЕ
МОРЕ
восючно-
КИТАЙСКОЕ
МОРЕ
ЦИНХАЙ
ч К :ч *ч
w\ ч>
[бо
!ЯН
г—'
. _ _ ■ — 'ССианк^ MiHb'WF^vy
V шэньси Ч — ч _ I ХаячяЛу**'
JV^-З? Ч ХУБЭЙ ХанькоуС / ^
У'-О? ~ 4уУУ~
Чэнду /Г '
/ 'ч /"Чанша' ч
ЦунцинХ'"-/ . >
Лхаса V\L сьгоань у
• - \Ъ. ! г^~С ** \ХУНАЛЬ
♦ /%■"• .* '
TV'^ar^' ТS\A~\Ч(L
j \ ьЧ’**1Ч-*%Йлинь*
''7~- ( {Куньмин^ \
ГУАНСИ
ЮНЬНАНЬ г
Ч ' '
ВЬЕТНАМ
~VO.'—)
Г ЛАОС С
800 км САЙНАНЬ
• Нань<Ь н-j [СИ i J Фучжоу фЙдзяь Ь 1
ТАЙВАНЬ4
ч
-► Северный поход, 1926-1928 *► Великий поход, 1934-1935 500 миль
Гонконг
акао
ЮЖНО-
КИТАЙСКОЕ
МОРЕ
732
Фотоматериалы
1. Шелковое знамя, Мавандуй. Музей провинции Хунань О Hunan Provincial Museum
2. Пластрон черепахи, эпоха Шан © China Images/Alamy
3. Бронзовая фигурка, Саньсиндуй © Uniphoto/AAA Collection
4. Бронзовый цзунь Чжэн хоу И © Uniphoto/AAA Collection
5. Терракотовая армия Первого императора © China Photos/Getty Images
6. Колесница из захоронения Первого императора © Viktor Korotayev/Reuters/Corbis
7. Нефритовый костюм Доу Вань
© Asian Art & Archaeology, Inc/Corbis
8. Таримская мумия — Черченский человек ©Jeffrey Newbury
9. Зернохранилище эпохи Хань в Дуньхуане © Powerhouse Museum, Sydney
10. Сцена из романа «Троецарствие». The Avery Brundage Collection, B60M427 © Asian Art Museum of San Francisco
11. «Кочевники, ведущие в дань лошадь* (деталь). Традиционно приписывается Ли Цзаньхуа, Китай, 899-936 гг. Тушь, акварель и золото на шелке. Музей изящных искусств в Бостоне. Keith McLeod Fund, 52.1380
© 2008Museum of Fine Arts, Boston
1ЪЪ
ФОТОМАТЕРИАЛЫ
12. Женщина на лошади, фигурка эпохи Тан © Uniphoto/AAA Collection
13. Всадник на верблюде, фигурка эпохи Тан О Werner Forman Archive/Christian Deydier
14. Первая проповедь Будды, настенная роспись XVII века, Тибет ©ArtArchive/Museo Nazionale dArte Orientate, Rome/Gianni Dagli Orti
15. Лунмэнь, пещеры Будды © Wolfgang Kaehler/Corbis
16. Странствующий монах, рисунок IX века, Дуньхуан. Музей Гиме © akg-images/Erich Lessing
17. Великий канал в Янчжоу
© Claro Cortes IV/Reuters/Corbis
18. Колесное судно эпохи Сун
Взято из: Joseph Needham. Science and Civilisation in China. Vol. 4. Physics and Physical Technology. Part 2. Mechanical Engineering, 1965. Cambridge University Press. Оригинал: Yu Chhang-Hui. Fang HaiChiYao, 1842
19. Свиток «На реке в день праздника Цинмин», Чжан Цзэдуань. Музей Запретного города, Пекин © The Palace Museum, Beijing
20. Стена с воротами, Нанкин © AFP/Getty Images
21. План Великой стены в Цзичжоу. Коллекция Национального музея Китая, С 14.2142 © National Museum of China
22. Великая стена сегодня
© Adam Tall/Robert Hardin
23. Чаша из фарфора цинбай © Kimbell Art Museum/Corbis
24. Сине-белая ваза эпохи Мин © RMN/Richard Lambert
25. Сюй Ян. «Вид на столицу с высоты птичьего полета». Настенный свиток, акварель на шелке, 1767 г. Музей Запретного города, Пекин. Ref. XI46672
© Palace Museum, Beijing
26. Монгольский вождь Дабачи
© bpk/Ethnologisches Museum, StaatlicheMuseenzu Berlin/Photo: Waltraudt Schneider-Schtitz
27. Чеканка на пушках на спине верблюда. Библиотека Конгресса © Library of Congress
28. Живописный свиток, изображающий путешествие императора Канси на юг, Ян Цзинь, ок. 1644 — ок. 1726 г
© RMN/© Thierry Ollivier
29. Император Цяньлун принимает посольство Макартни. Гравюра 1793 г. по оригиналу Уильяма Александера
©Getty Images
734
ФОТОМАТЕРИАЛЫ
30. Парадный портрет императора Цяньлуна. Музей Запретного города, Пекин. Ref: G6465 © Palace Museum, Beijing
31. Упаковка фарфора для экспорта. Частная коллекция © Bonhams/Bridgeman Art Library
32. Купеческие гильдии в Кантоне. Частная коллекция © Roy Miles Fine Painting/BridgemanArt Library
33. Лагерь тайпинов в Тяньцзине
© Harvard-Yenching Library, Harvard University
34. Казнь восставших боксеров ©Getty Images
35. Портрет вдовствующей императрицы Цыси. Хуберт Вое, 1905-1906 гг.
© akg-images
36. «Последний император» Пу-и © The Art Archive/Culver Pictures
37. Чан Кайши и Чжан Сюэлян ©Getty Images
38. Набережная Шанхая, 1930 г.
©Getty Images
39. Нанкинская резня, декабрь 1937 г.
©Getty Images
40. Чунцин во время японской бомбардировки ©Getty Images
41. Мао Цзэдун в Яньане ©Getty Images
42. Плакат «Хороши наши горы и реки»
© Swim Ink/Corbis
43- Плакат «Наблюдай за врагом»
© Swim Ink/Corbis
44. Плакат «Одна семья — один ребенок»
© Owen Franken/Corbis
45. Плотина Т]эи ущелья © Reuters/Corbis
46. Монастырь Лабранг, Амдо © Ian Cumming/Axiom
Научно-популярное издание
Джон Кей
Китай
От Конфуция до Мао Цзэдуна
Ответственный редактор А. Захарова Редактор А. Захаров Художественный редактор М. Левыкин Технический редактор Л. Синицына КорректорыТ. Филиппова, Л. Луконина, Н. Соколова Компьютерная верстка Т. Коровенковой
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» - обладатель товарного знака «КоЛибри»
115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» в г. Санкт-Петербурге 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru
Подписано в печать 30.04.2020. Формат 70 х 100 !/1б. Бумага офсетная. Гарнитура «Garamond».
Печать офсетная. Уел. печ. л. 59,34.
Тираж 4000 экз. B-HIS-22784-01-R Заказ № 3093/20.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № ЗА www.pareto-print.ru
ЧП «Издательство «Махаон-Украина» Тел./факс (044) 490-99-01
e-mail: sale@machaon.kiev.ua
www.azbooka.ru;www.atticus-group.ru
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)