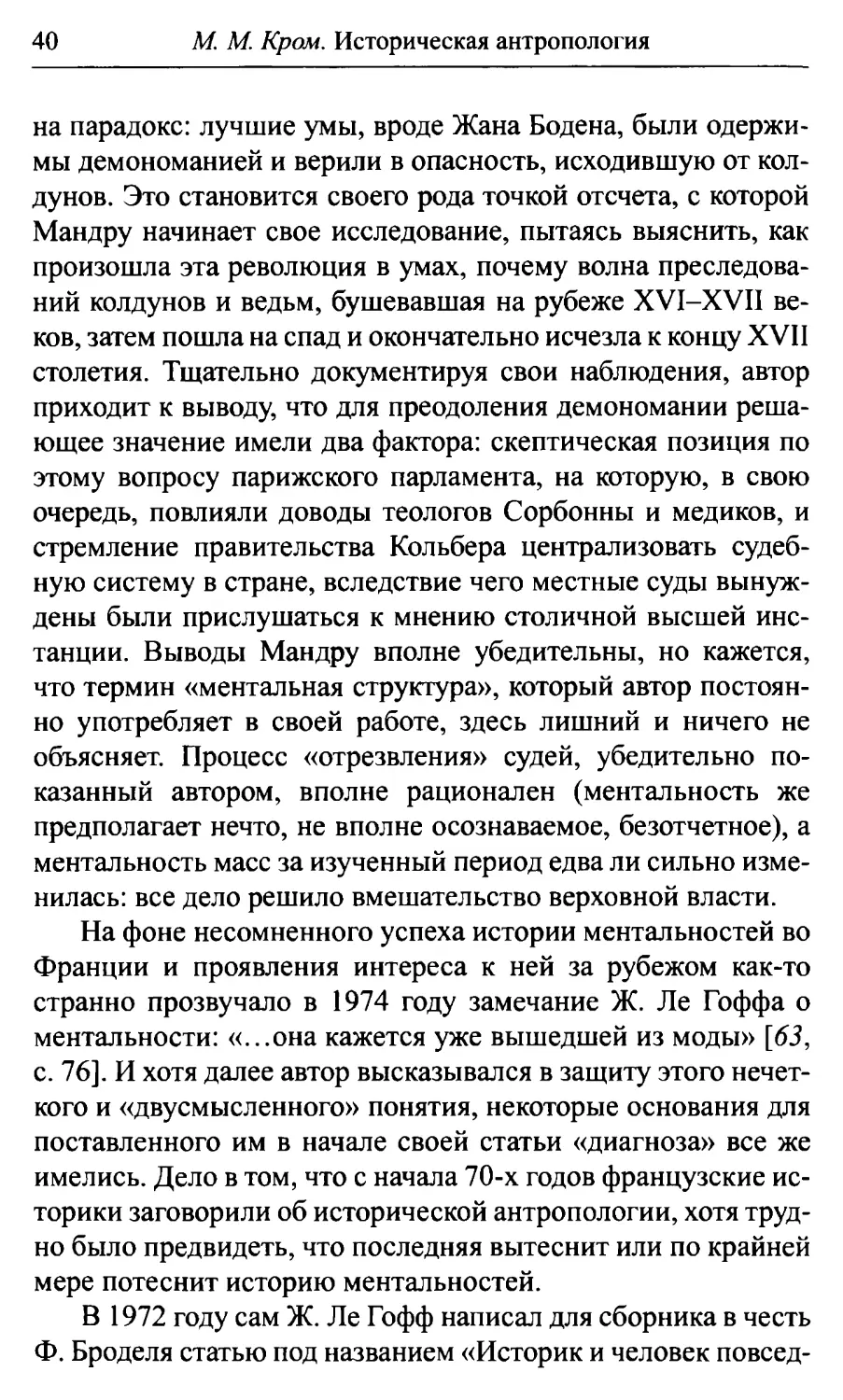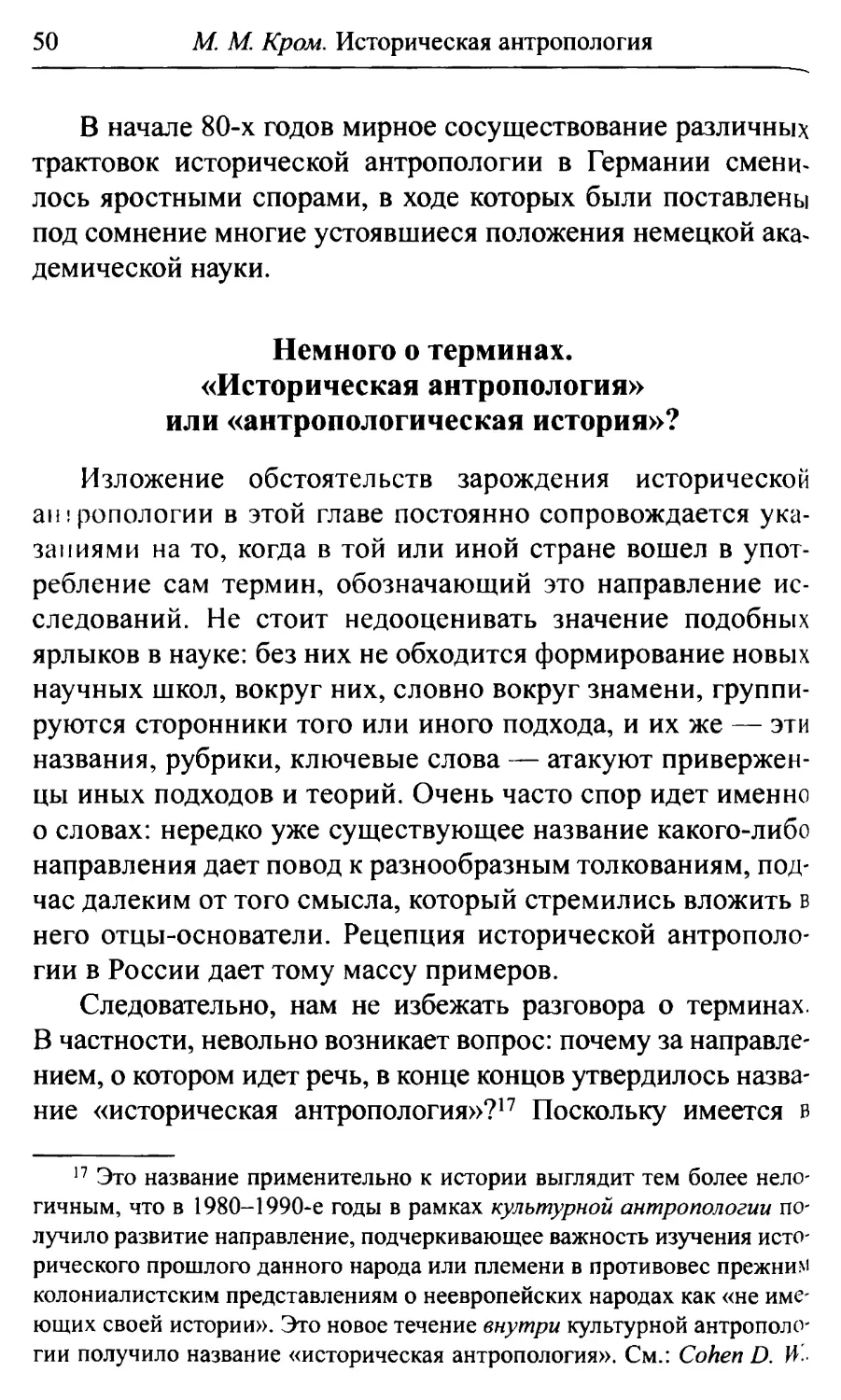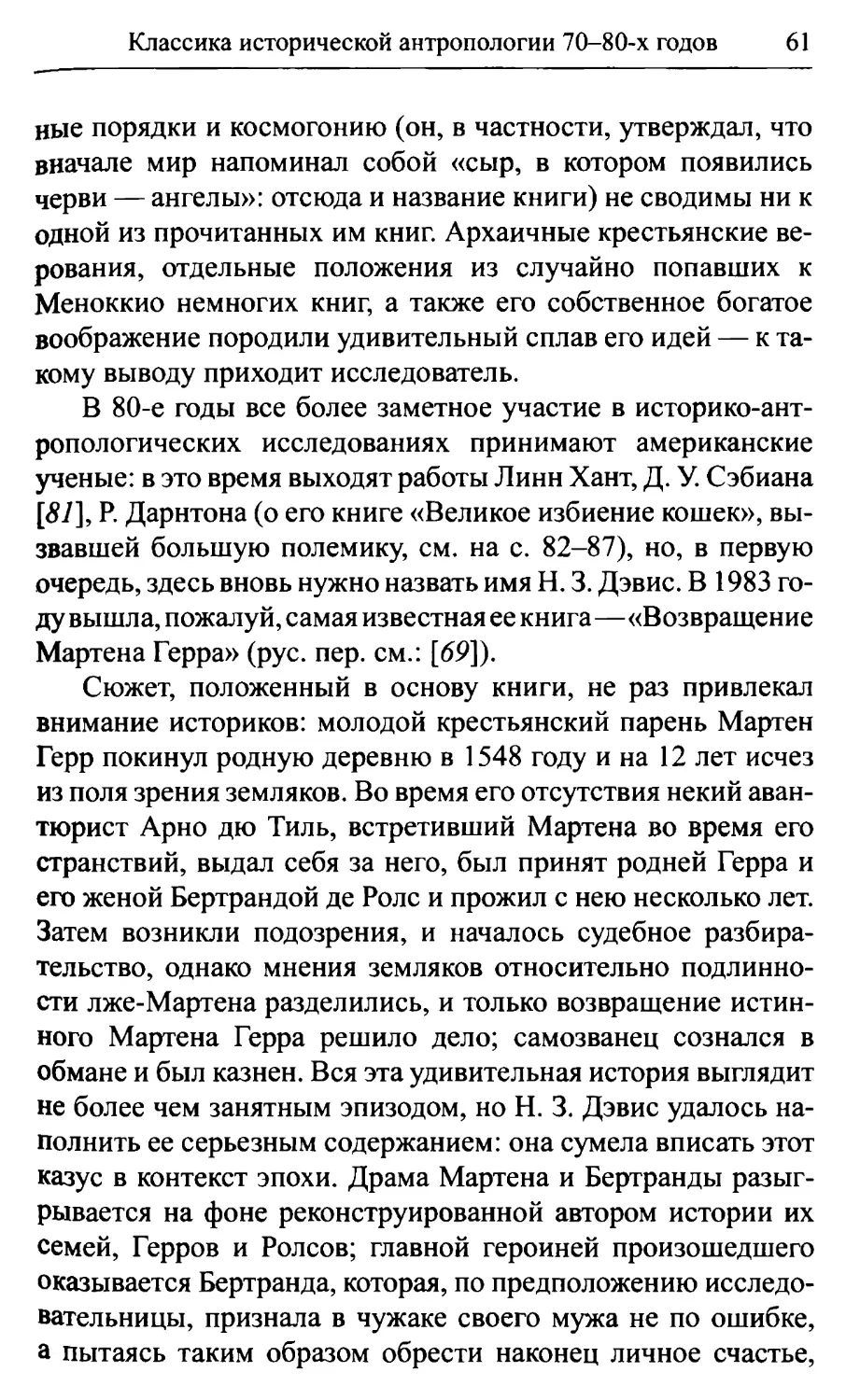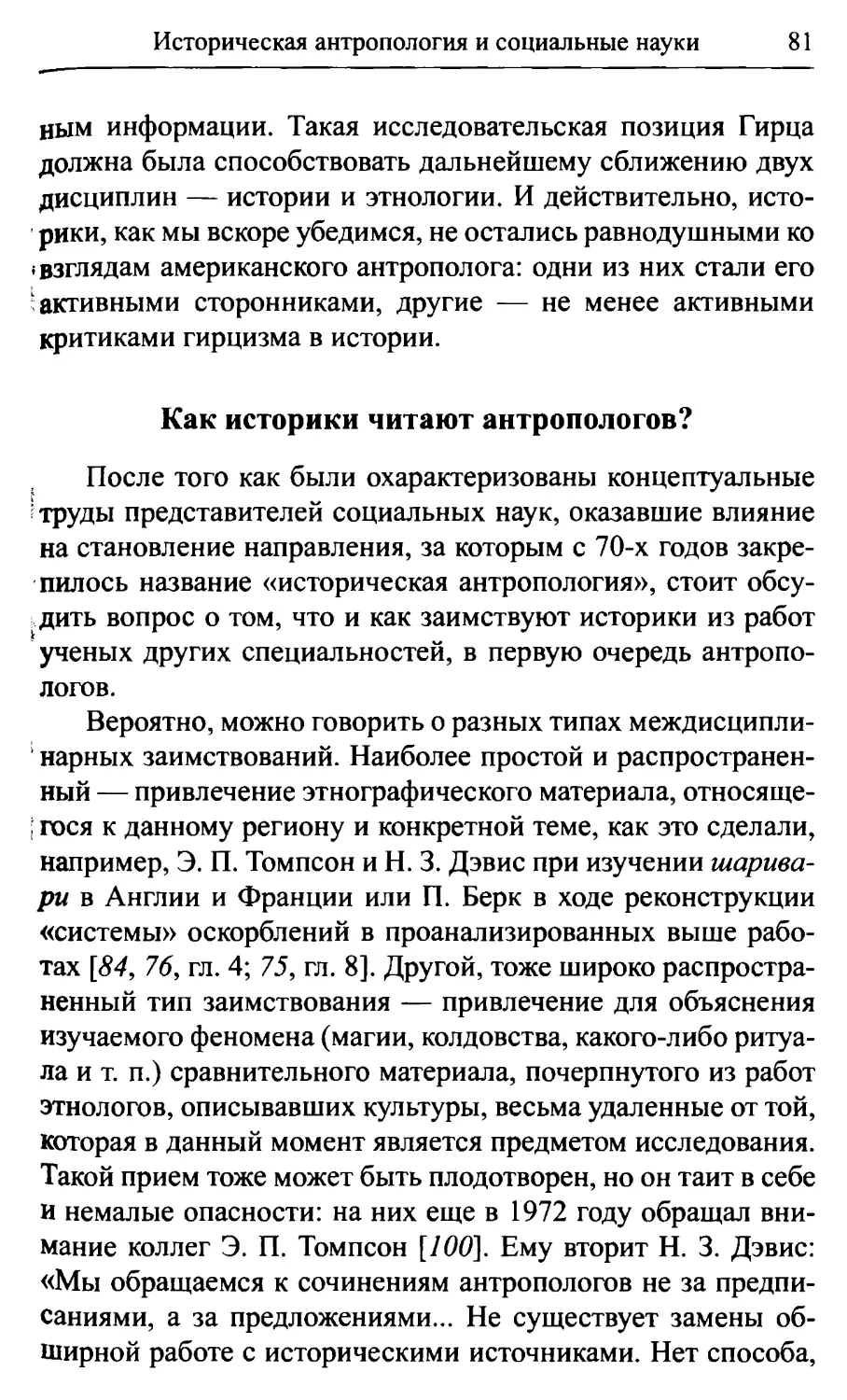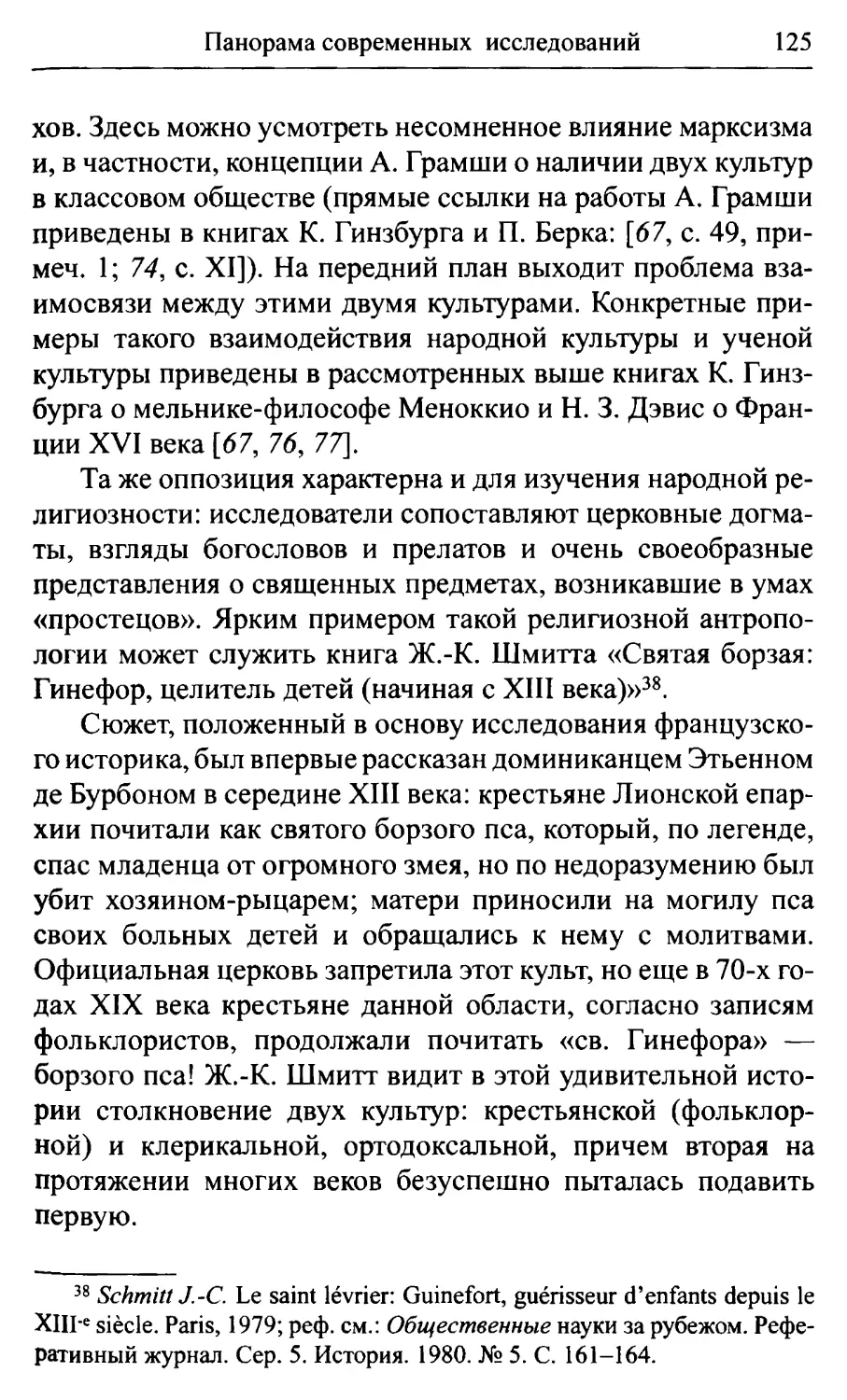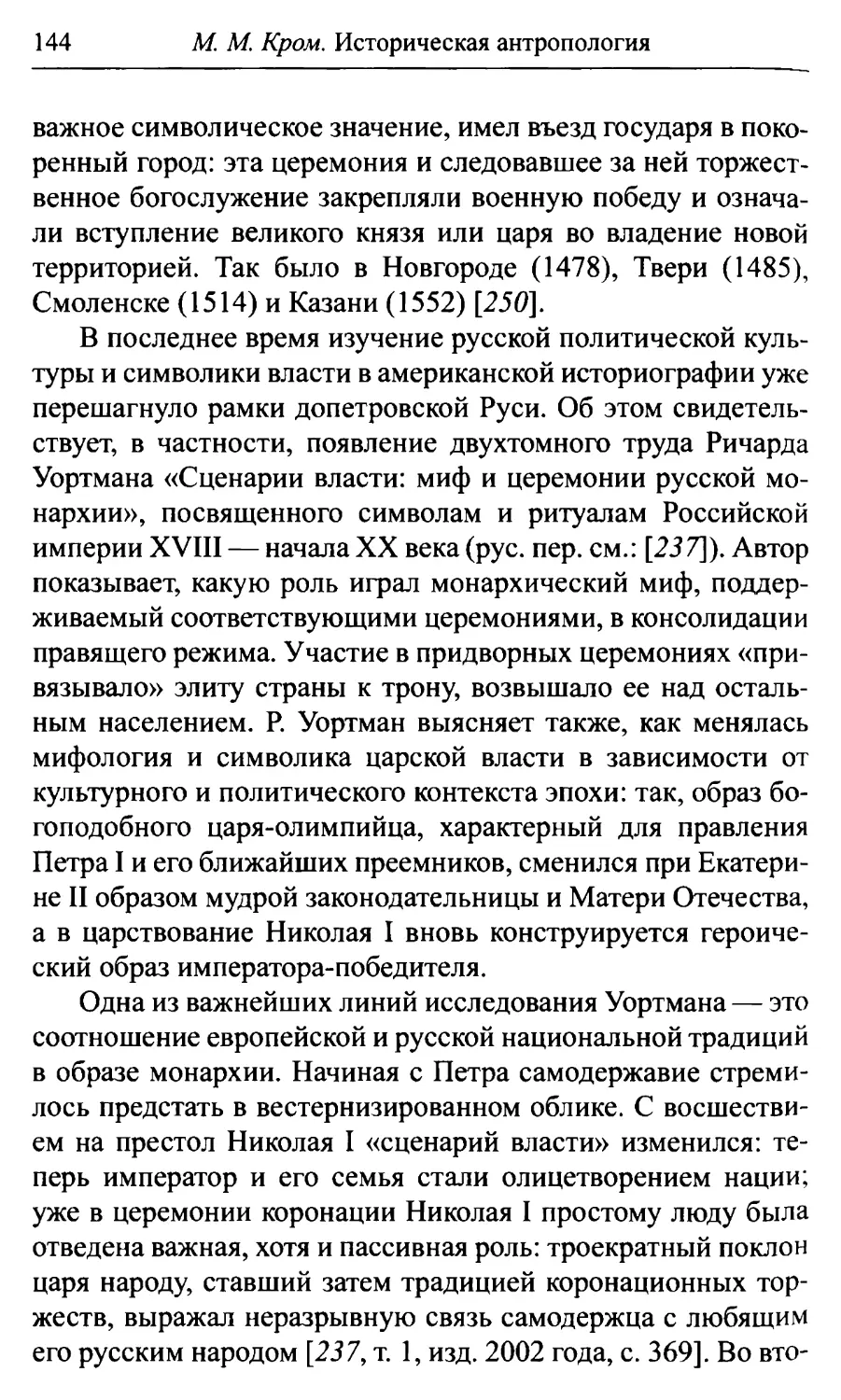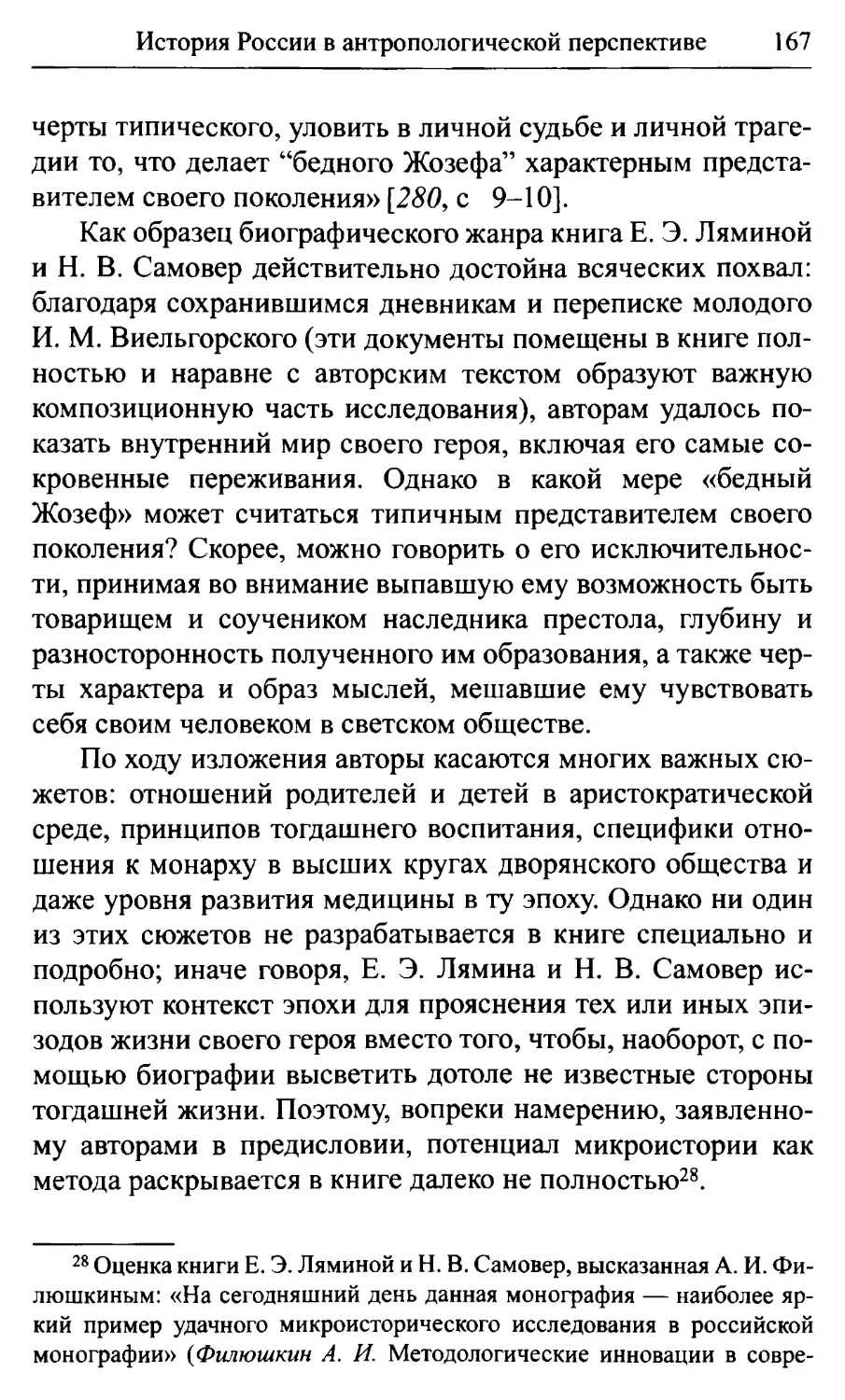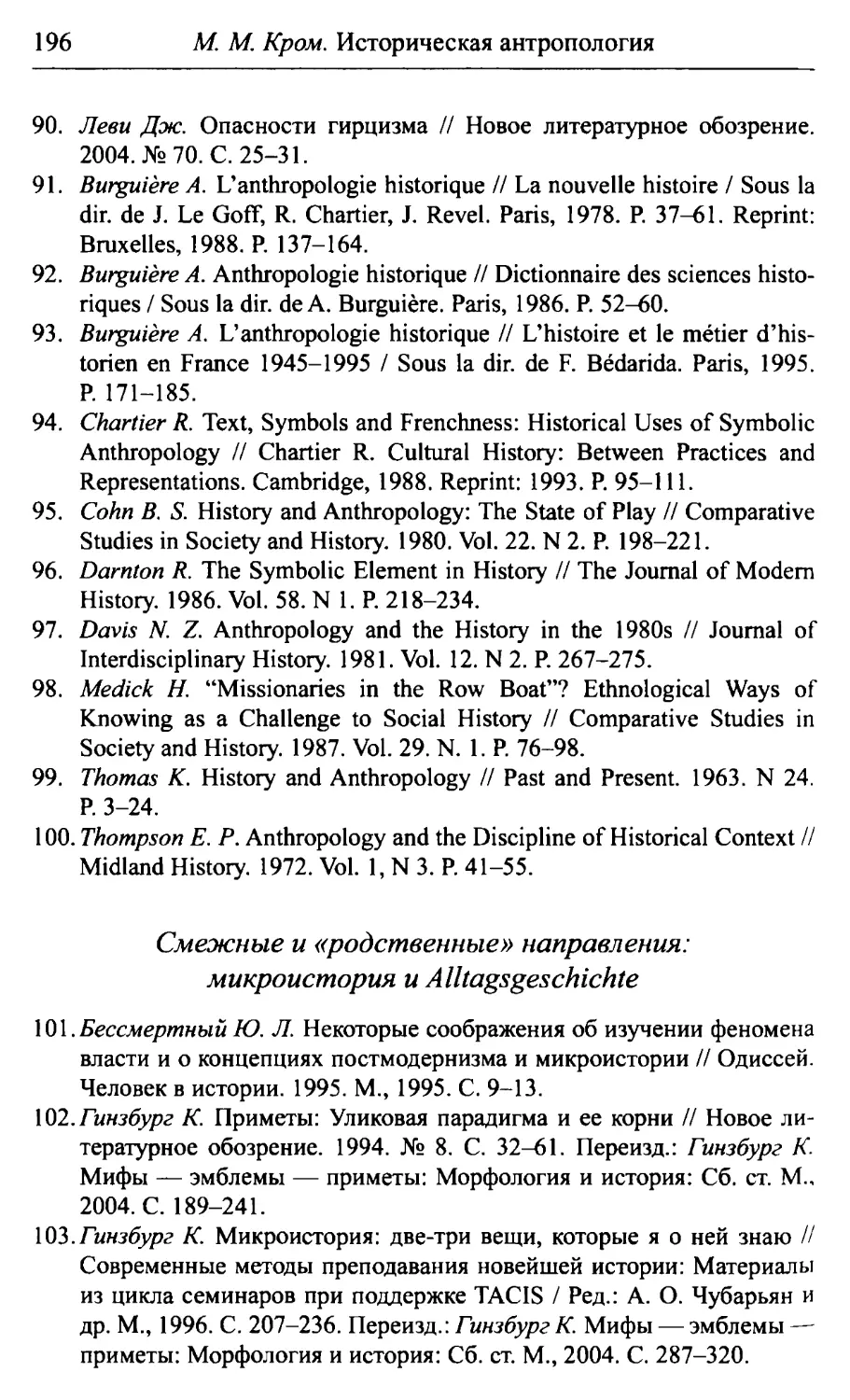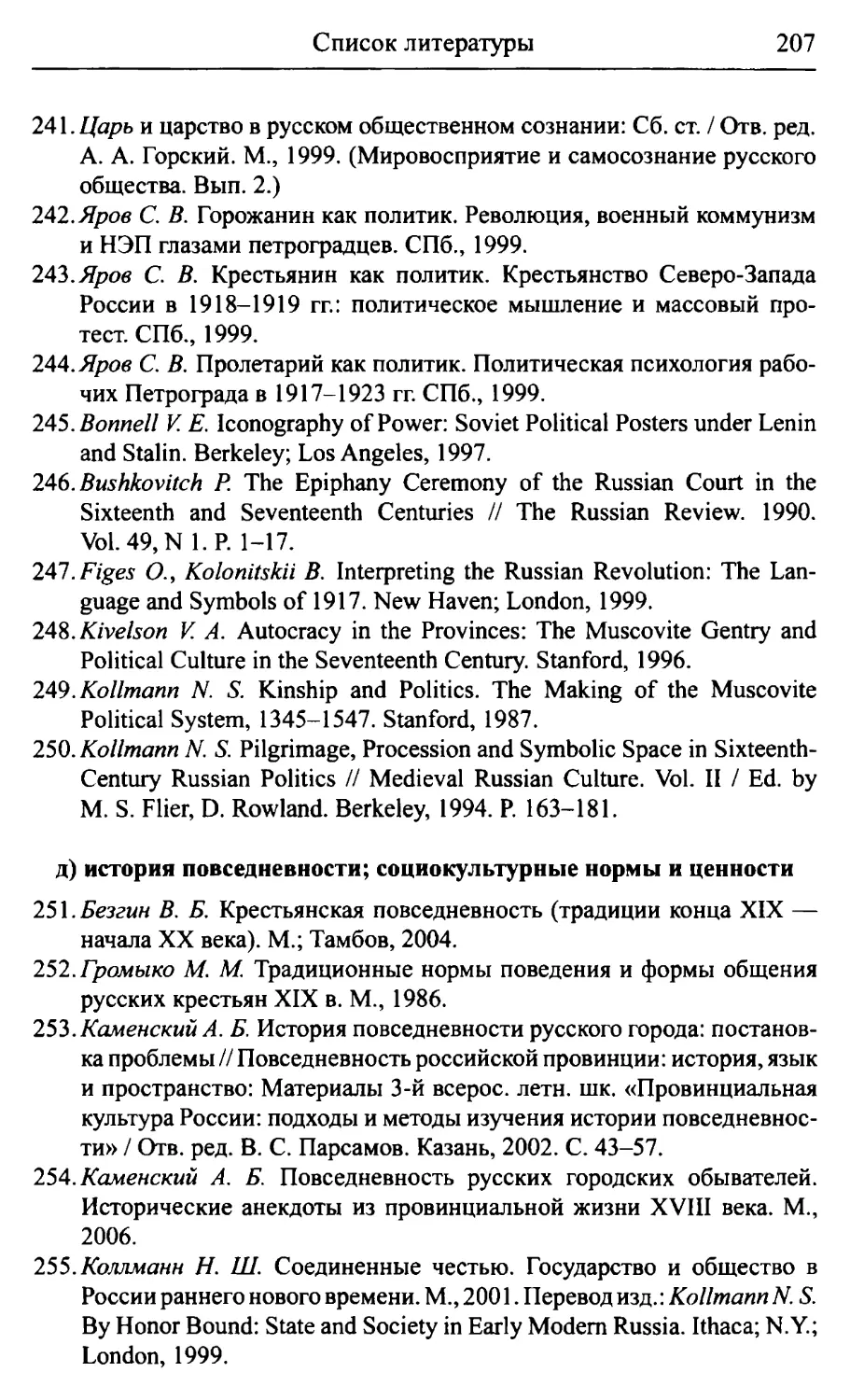Автор: Кром М.М.
Теги: история как наука теория и философия истории структура и морфология истории теоретические основы и методология исторической науки исторические науки антропология учебное пособие историческая антропология
ISBN: 978-5-94380-101-3
Год: 2010
М. М. Кром
ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
учебное пособие
3-е издание, исправленное и дополненное
Санкт-Петербург — Москва
2010
УДК 930.1
ББК 63.0я73
К83
Рецензенты: к. и. н. А. В. Бекасова, к. и. н. Д. Н. Копелев
Кром М. М.
К83 Историческая антропология Учебное пособие. — 3-е изд.,
испр. и доп. — СПб.; М.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге; Квадрига, 2010. — 214 с.
ISBN 978-5-94380-101-3
ISBN 978-5-91791-054-3
Учебное пособие знакомит читателей с одним из наиболее влия-
тельных направлений современных исторических исследований. Про-
слеживается эволюция антропологически ориентированной истории от
ее ранних форм (истории ментальностей) до более поздних вариантов
(микроистории, истории повседневности, новой культурной истории).
Отмечаются как общие черты работ историко-антропологического на-
правления, так и специфика отдельных национальных школ (Франции,
Италии, Германии, США, Великобритании). Особое внимание уделяется
возможностям междисциплинарного диалога историков и антропологов.
В заключительной части книги обсуждаются первые опыты и перспек-
тивы исторической антропологии в России.
Учебное пособие может быть рекомендовано студентам и аспиран-
там исторических специальностей, а также тем, кто изучает другие со-
циальные и гуманитарные науки (антропологам, социологам, культу-
рологам и т. д.).
УДК 930.1
ББК 63.0я73
ISBN 978-5-94380-101-3
ISBN 978-5-91791-054-3
© М. М. Кром, 2010
© Европейский университет
в Санкт-Петербурге, 2010
Содержание
Предисловие к третьему изданию.......................7
Введение............................................16
Становление исторической антропологии...............23
Рождение нового направления и поиск
предшественников.................................23
Смена исследовательских парадигм и возникновение
исторической антропологии........................26
От истории ментальностей — к исторической
антропологии (традиции школы «Анналов»)..........31
Возникновение исторической антропологии
в Великобритании (60-70-е годы)..................41
Интерес к исторической антропологии в Германии
во второй половине 60-х — начале 80-х годов......46
Немного о терминах. «Историческая антропология»
или «антропологическая история»?.................50
Классика исторической антропологии 70-80-х годов.
Избранные работы.................................55
Историческая антропология в поисках самоопределения.
Дискуссии 70-80-х годов..........................65
Историческая антропология и социальные науки........76
Старые и новые интеллектуальные влияния..........76
Как историки читают антропологов?................81
Панорама современных историко-антропологических
исследований: направления и проблематика.........88
Историческая антропология сегодня: страны
и направления....................................88
Итальянская микроистория.........................89
Историческая антропология, микроистория и история
повседневности в Германии (80-90-е годы)........107
Проблематика историко-антропологических
исследований (на европейском материале).........119
История России в антропологической перспективе.....130
Предпосылки исторической антропологии в России:
нереализованные возможности.....................130
Формирование историко-антропологического
направления в зарубежной русистике..............133
«Ренессанс» истории ментальностей
в отечественной науке...........................147
Историческая антропология России:
от теоретических дебатов —
к конкретным исследованиям......................154
Первые микроисторические опыты.................162
История повседневности: потребность
в концептуализации..............................170
Куда идет историческая антропология?
(Вместо заключения).............................180
Список литературы..................................190
Указатель имен.....................................210
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Эта небольшая книга родилась из лекционного курса по
исторической антропологии, который вот уже десять лет
я читаю на факультете истории Европейского университета
в Санкт-Петербурге. Первоначальный вариант учебного по-
собия увидел свет в 2000 году в издательстве «Дмитрий
Буланин», но работа над темой продолжалась и в последую-
щие годы, ее результаты нашли отражение в ряде докладов на
семинарах и конференциях в России и за рубежом1, а также
в серии статей [27, 27, 727,196,197,199, 234, 257\\
Дальнейшему осмыслению специфики историко-антро-
пологических исследований немало способствовало участие
автора в проведении трех международных летних школ, где
рассматривались современные направления в исторической
науке (микроистория, историческая антропология, новой
культурная история). Эти школы, прошедшие в 2001-2003 го-
дах под эгидой Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге и Института истории Общества имени Макса Планка
(Гёттинген), подарили мне великолепную возможность жи-
вого общения с выдающимися учеными-историками, давно
уже применяющими антропологический подход в своей ра- 1 2
1 Доклады об исторической антропологии России в Стэнфордском и
Мичиганском (Энн Арбор) университетах в ноябре 2001 года, на конфе-
ренции в Центрально-Европейском университете (Будапешт) в октябре
2002 года, на семинаре в Петрозаводском государственном университете
в декабре 2002 года.
2 Здесь и далее цифры в квадратных скобках, выделенные курсивом,
обозначают порядковые номера цитируемых изданий по списку, поме-
щенному в конце книги.
8
М. М. Кром. Историческая антропология
боте: Юргеном Шлюмбомом, Дэвидом У. Сэбианом, Гади
Альгази и др. Благодаря двум месячным стажировкам в гет-
тингенском Институте истории в 2002 и 2003 годах я получил
доступ к новейшей зарубежной литературе по интересующей
меня теме, которая, как правило, отсутствует даже в крупней-
ших отечественных библиотеках.
Это позволило мне подготовить второе, переработанное
и дополненное издание пособия по исторической антропо-
логии, которое вышло в 2004 году в том же издательстве.
Во время работы над текстом я учел некоторые критические
замечания, представленные в откликах на первое издание
книги. В частности, больше внимания было уделено поли-
тическому и институциональному контекстам становления
антропологически ориентированной истории, важность уче-
та которых справедливо подчеркнул в своей рецензии
А. Р. Марков3; полностью переработан и значительно расши-
рен раздел об исторической антропологии в России (за от-
сутствие в этом разделе имен отечественных авторов меня не
без оснований упрекал А. Л. Юрганов4).
Но и на этом, как оказалось, мой «роман» с исторической
антропологией еще не закончился. По предложению
Ю. Шлюмбома я принял участие в составлении и редактиро-
вании сборников по микроистории и исторической антропо-
3 Марков А. [Рецензия] // Новая русская книга. 2001. № 2 (9). С. 63-64.
Рец. на кн.: Кром М. М. Историческая антропология. Пособие к лекцион-
ному курсу. СПб., 2000.
4 Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии // Вопросы исто-
рии. 2001. № 9. С. 40. Правда, признавая справедливость этого критиче-
ского замечания, я решительно расхожусь с моим критиком по поводу
того, какие именно отечественные ученые принадлежат к историко-ант-
ропологической традиции. Например, А. Л. Юрганов обнаруживает «ан-
тропологизм» в работах А. А. Зимина по политической истории средне-
вековой Руси. На мой взгляд, действительно замечательные труды
А. А. Зимина 1960-1970-х годов полностью вписываются в рамки тради-
ционной политической истории и к формировавшейся в те годы на Западе
антропологически ориентированной истории отношения не имеют.
Предисловие к третьему изданию
9
логии в рамках задуманной им совместно с Д. А. Александ-
ровым шеститомной серии переводов, призванной ознакомить
русских читателей с новыми направлениями исторических
исследований (серия публикаций явилась естественным про-
должением работы упомянутых выше международных лет-
них школ)5. Особенно полезным для меня оказался опыт со-
трудничества с Д. У. Сэбианом и Г. Альгази при подготовке
сборника «История и антропология»: эта работа помогла мне
лучше осознать междисциплинарную природу исторической
антропологии как места «встречи» и пространства диалога
двух родственных гуманитарных наук — истории и антропо-
логии (именно эта перспектива представлена в редакторском
введении к тому [27]).
Вскоре к этим впечатлениям добавились встречи с при-
знанными мастерами итальянской микроистории: в августе
2006 года в рамках летней школы в Европейском университе-
те в Санкт-Петербурге прочел лекции Карло Гинзбург, а го-
дом позже там же выступила Симона Черутти. Знакомство с
новой литературой и беседы с коллегами навели меня на
мысль о переиздании книги об исторической антропологии, а
издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
помогло мне реализовать этот замысел.
5 В 2003-2008 годах в издательстве «Алетейя» были опубликованы
следующие работы: Прошлое — крупным планом: современные исследо-
вания по микроистории. СПб., 2003 (см. также: [119]); Семья, дом и узы
родства в истории: Сб. ст. / Под общ. ред. Т. Зоколлла, О. Кошелевой,
Ю. Шлюмбома; пер. с англ, и нем. К. А. Левинсона; пер. с фр. Л. А. Пи-
меновой. СПб., 2004; История и антропология: междисциплинарные ис-
следования на рубеже XX-XXI веков: Сб. / Пер. с англ. К. А. Левинсона;
пер. с фр. Л. А. Пименовой; под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Аль-
гази. СПб., 2006 (см. также: [16]); Наука и научность в исторической пер-
спективе: Сб. / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб., 2007;
Человек и природа: экологическая история: Сб. / Пер. с англ., нем.
К. А. Левинсона; под общ. ред. Д. Александрова, Ф.-Й. Брюггемайера,
Ю. Лайус. СПб., 2008; Болезнь и здоровье: новые подходы к истории ме-
дицины: Сб. / Под общ. ред. Ю. Шлюмбома и др.; отв. ред. И. Сироткина;
пер. с англ, и нем. К. А. Левинсон. СПб., 2008.
10
М М Кром. Историческая антропология
Работая над третьим изданием своего лекционного курса,
я отдавал себе отчет в том, что оно выйдет уже в ином исто-
риографическом контексте: за десять лет, прошедших с мо-
мента первого издания книги, научный «ландшафт» и в Рос-
сии, и в мире существенно изменился.
Прежде всего нужно отметить появление русских перево-
дов ряда классических работ по исторической антропологии и
родственным направлениям: в первые годы XXI века к ранее
изданным у нас книгам Жака Ле Гоффа, Филиппа Арьеса,
Марка Блока, Натали Земон Дэвис добавились такие шедевры,
как «Сыр и черви» К. Гинзбурга и «Монтайю» Эмманюэля Ле
Руа Ладюри, «Другое Средневековье» и «Средневековое вооб-
ражаемое» Ж. Ле Гоффа, а также вызвавшая много споров кни-
га Роберта Дарнтона «Великое кошачье побоище» [53, 54, 67,
68, 73]. Тем, кто интересуется развитием микроистории в
Италии и Германии, теперь стали доступны переводы статей
К. Гинзбурга, С. Черутти, Ханса Медика и других ученых [10,
102-104,114-116,124-126]. Вниманию российских читателей
предлагаются труды антропологов и социологов, влияние ко-
торых в немалой степени способствовало становлению исто-
рической антропологии; среди новинок последних лет —
переводы книг Пьера Бурдье, Клиффорда Гирца, Ирвина
Гофмана, Мэри Дуглас, Эдварда Э. Эванса-Причарда, Норберта
Элиаса и др. [173,176^178,186-188].
Однако эти переводы, несомненно способствующие при-
общению российского читателя к замечательным достижени-
ям мировой гуманитарной мысли, порождают и определенные
проблемы. В частности, возникают сложности с переводом
терминов и понятий: язык «сопротивляется» употреблению
уже существующих в нем слов в непривычном смысле, а пере-
водчику не всегда удается подыскать равноценную замену. Это
может привести к искажению смысла того, что хотел сказать
автор; порой такие искажения начинаются уже с заголовка.
Ограничусь здесь одним примером: изданная в 1984 году кни-
га американского историка Р. Дарнтона в оригинале называет-
ся так: «The Great Cat Massacre and Other Episodes in French
Предисловие к третьему изданию
11
Cultural History», а недавно вышедший русский перевод оза-
главлен «Великое кошачье побоище и другие эпизоды из исто-
рии французской культуры» [65]. Однако по-английски «cul-
tural history» — это совсем не то же самое, что «история
культуры» по-русски. Уже во введении сам автор поясняет, что
он имел в виду «историю с уклоном в этнографию» [65, с. 6],
между тем у нас под историей культуры традиционно понима-
ется история литературы, живописи и других высоких дости-
жений той или иной страны. Ясно, что переводчик пытался
избежать выражения «культурная история», ибо пока прилага-
тельное «культурный» означает прежде всего «воспитанный»
или «образованный» применительно к конкретному человеку,
но найденное им решение далеко не лучшее, поскольку в ны-
нешнем виде заголовок явно искажает авторскую мысль.
Возможно, точнее было бы написать «культурологическая
(или культуральная) история», но это сочетание пока еще не
прижилось в русском языке.
Конечно, подобные казусы заслуживают специального
обсуждения, о некоторых из них пойдет речь в предлагаемой
книге. Однако у данной проблемы есть и другой, не менее
важный, аспект: количество переведенных книг распределя-
ется очень неравномерно по странам и по отдельным авто-
рам; о какой-либо репрезентативности не может быть и речи.
Наблюдается явный крен в сторону французской историогра-
фии и, в частности, знаменитой школы «Анналов». В резуль-
тате для отечественного гуманитария эта школа практически
заслоняет собой всю современную мировую историческую
науку, становясь своего рода синонимом всего передового в
истории, в том числе и исторической антропологии. Это ис-
кажение перспективы кажется мне гораздо более серьезной
проблемой, чем недостатки перевода, о которых шла речь
выше.
Кроме того, нельзя не заметить, что наряду с переводами
работ зарубежных исследователей с каждым годом растет чис-
ло публикаций отечественных авторов, посвященных истори-
ческой антропологии и родственным ей направлениям, причем
12
М М. Кром. Историческая антропология
помимо теоретических статей все чаще появляются и конкрет-
но-исторические исследования, выполненные на российском
материале. Если в 90-х годах среди этих штудий преобладала
история ментальностей, то сейчас уже можно говорить о ста-
новлении таких направлений, как политическая и военно-ис-
торическая антропология России; делаются первые шаги в
сторону микроистории; широкое распространение получила
история повседневности. В новом издании пособия я поста-
рался уделить должное внимание этим новейшим тенденциям
в развитии отечественной историографии.
Таким образом, объем информации об исторической ант-
ропологии существенно вырос, а восприятие ее в нашей стра-
не заметно изменилось за те десять лет, что разделяют первое
и третье издания данного учебного пособия. В значительной
мере эффект новизны уже утрачен, и первоначальный вос-
торг неофита, убежденного в безграничных возможностях
полюбившегося ему направления (будь то история менталь-
ностей, история повседневности или что-то иное), должен
уступить место серьезному анализу нынешнего состояния
антропологически ориентированной истории и перспектив
ее дальнейшего развития.
Изменчивость исторической антропологии, многообра-
зие ее форм, сменяющих друг друга в различных странах на
протяжении нескольких десятилетий, представляют очевид-
ную трудность для историографа. В свое время А. Л. Юрганов
упрекнул меня за то, что на первых страницах книги я отка-
зываюсь дать определение термина «историческая антропо-
логия»: «Невнятность обоснования исторической антропо-
логии ставит читателя в тупик: книга посвящена тому, что
невозможно определить»6.
Замечу, однако, что задачу «обоснования» исторической
антропологии я перед собою не ставил: сама попытка такого
рода спустя сорок с лишним лет со времени возникновения
этого научного направления выглядела бы запоздалой и пре-
6 Юрганов А. Л. Указ. соч. С. 40.
Предисловие к третьему изданию
13
тенциозной. В отличие от ранее не существовавшей «истори-
ческой феноменологии», обоснованию которой А. Л. Юрганов
посвятил цитируемую статью, историческая антропология —
это широкое и разветвленное историографическое течение,
представленное многими десятками книг и статей. После та-
ких шедевров, как «Монтайю» Э. Ле Руа Ладюри, «Возвра-
щение Мартена Герра» Н. 3. Дэвис, «Сыр и черви» К. Гинзбурга,
после работ Ж. Ле Гоффа, Питера Берка, Д. У. Сэбиана,
X. Медика и других выдающихся исследователей плодотвор-
ность исторической антропологии уже не вызывает сомнений.
В этом смысле мы имеем дело с уже состоявшимся и притом
удачным историографическим опытом. Другое дело, что этот
опыт настолько разнообразен, что возникает вопрос о том, су-
ществует ли некое общее эпистемологическое поле, объединя-
ющее весьма отличные друг от друга индивидуальные иссле-
довательские проекты. Его обсуждение составляет одну из
главных сюжетных линий предлагаемой книги.
Что же касается дефиниций, то уместно вспомнить изве-
стную мысль Фридриха Ницше, который подчеркивал, что
понятия, обозначающие целый процесс, не поддаются опре-
делению: «...дефиниции подлежит лишь то, что лишено ис-
тории»7. Эти слова полностью приложимы к исторической
антропологии, которая за несколько десятилетий пережила
значительную эволюцию и сменила немало форм и обличий.
Поэтому в данном лекционном курсе я решил отказаться от
неких априорных дефиниций и общих характеристик, пред-
ложив читателю подробный, насколько это возможно в рам-
ках небольшой книги, обзор развития исторической антропо-
логии в разных странах на протяжении почти полувека.
Подобная просветительская задача кажется мне вполне уме-
стной применительно к учебному пособию8.
7 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. / Сост.
К. А. Свасьян. М., 1990. Т. 2. С. 457.
8 Приятно отметить, что выбранный мной подход нашел понимание
у одного из основателей отечественной исторической антропологии —
14
М. М. Кром. Историческая антропология
Тем не менее отсутствие формальных определений на
первых страницах книги не означает отказа от характеристики
изучаемого явления по существу. Если понимать под опреде-
лением не дефиницию, состоящую из одного-двух предло-
жений, а обозначение «пределов» данного историографиче-
ского явления, т. е. места обсуждаемого направления среди
других течений в исторической науке, его специфики и гра-
ниц применимости принятых его сторонниками подходов, то
такое определение исторической антропологии в книге мож-
но найти, для этого только нужно набраться терпения и дочи-
тать ее до конца.
Я вовсе не собираюсь скрывать своей авторской позиции:
как увидит читатель, одни формы или версии антропологи-
чески ориентированной истории кажутся мне более плодо-
творными и перспективными, чем другие. Тем не менее свою
главную задачу я видел не в провозглашении некоего методо-
логического кредо, а в представлении целостной и макси-
мально четкой картины того, что собой представляет этот
сложный и даже «странный», по выражению А. Р. Маркова9,
феномен современной историографии, известный нам под
названием «историческая антропология».
В третьем издании учебного пособия существенно пере-
работан раздел об итальянской микроистории. Глава об исто-
рии России в антропологической перспективе дополнена с
учетом публикаций последних лет. Расширен список литера-
туры к лекционному курсу.
На разных этапах работы над книгой я постоянно чувство-
вал поддержку коллег, которые делились со мной своими заме-
А. Я. Гуревича. Показательно, что мэтр видит достоинство данной книги
как раз в том, в чем А. Л. Юрганов усматривает ее недостаток, — в отказе
от выработки «.. .всеохватной — и именно потому малосодержательной —
характеристики указанного направления». Как и мне, А. Я. Гуревичу пред-
ставляется правильным иной путь: обсуждение конкретных работ, сосре-
доточение внимания на их индивидуальной специфике [5/, с. 40].
9 Марков А. Указ. соч. С. 64.
Предисловие к третьему изданию
15
чаниями, советами, необходимыми материалами. За ценные
библиографические указания и предоставление необходимых
мне книг и статей я благодарю моих коллег — преподавателей,
слушателей и выпускников Европейского университета в
Санкт-Петербурге: Д. А. Александрова, О. В. Асташову,
Ю. И. Василова, А. В. Бекасову, А. В. Кушкову, И. В. Утехина,
О. В. Хархордина, а также О. Е. Кошелеву (Институт теории и
истории педагогики РАО), проф. Н. Ш. Коллманн (Стэнфорд-
ский университет), проф. Валери Кивельсон (Мичиганский
университет), Марен Лоренц (Гамбургский университет) и
проф. У. Даниэль (Брауншвайгский технический университет).
Я чрезвычайно признателен проф. Ю. Шлюмбому и дирекции
Института истории Общества имени Макса Планка (Гёттинген)
за дважды предоставленную мне возможность заниматься в
прекрасной библиотеке этого института. Трудно переоценить
помощь, оказанную мне А. С. Лавровым (Университет Па-
риж-8): он не только присылал мне копии статей, которые я не
мог найти в Петербурге, но и ознакомился с рукописью перво-
начального варианта книги, высказав ряд ценных критических
замечаний.
ВВЕДЕНИЕ
Еще сравнительно недавно какие-либо методологические
новшества в отечественной исторической науке были воз-
можны только под флагом возвращения к подлинному марк-
сизму в рамках «единственно верного учения». Но вот идео-
логические оковы спали, и российские историки оказались в
непривычной для себя ситуации методологического выбора.
Одновременно с этим и зарубежная («буржуазная») историо-
графия, казавшаяся прежде чем-то единым, вдруг предстала
как сложная система, состоящая из множества течений и на-
правлений. Среди этих направлений, пожалуй, наибольшую
известность получила, наряду с историей ментальностей, ис-
торическая антропология.
Популярности этого направления (преимущественно в
его французском варианте) немало способствовали статьи и
книги А. Я. Гуревича, выходящий с 1989 года под его редак-
цией альманах «Одиссей», а также изданные в переводе на
русский язык работы признанных мастеров исторической ан-
тропологии: М. Блока, Ж. Ле Гоффа, Ф. Арьеса, Э. Ле Руа
Ладюри, К. Гинзбурга, Н. 3. Дэвис [38-41, 52-54, 67, 69, 70,
73]. Свидетельством растущего интереса к этому течению
современной исторической мысли стала научная конферен-
ция «Историческая антропология: место в системе социаль-
ных наук, источники и методы интерпретации», прошедшая
в феврале 1998 года в Российском государственном гумани-
тарном университете (РГГУ) [14]. Безусловно, сам факт про-
ведения подобной конференции можно только приветство-
вать. Однако если некий студент или аспирант обратится к
сборнику материалов конференции с целью выяснить для
себя, в чем же состоит суть обсуждаемого нового направ-
ления, его постигнет разочарование: хотя в ряде докладов
Введение
17
обобщающего характера, с которых началась работа конфе-
ренции, прозвучало несколько определений исторической
антропологии, или антропологически ориентированной ис-
тории, тем не менее они оказались чересчур общими и слиш-
ком расплывчатыми, чтобы передать специфику этого на-
правления, показать его сильные и слабые стороны. Так,
например, В. А. Муравьев дал определение интересующего
нас понятия (со ссылкой на Ю. Л. Бессмертного): «Под ант-
ропологически ориентированной историей возможно пони-
мать одно из направлений интегративного анализа прошлого,
отличающееся установкой на изучение представлений и мо-
тивов человеческого поведения, взятых во взаимосвязи со
всеми элементами и сторонами социальной системы и спо-
собное анализировать любые формы человеческих действий
и поступков»1 [14, с. 41].
Если под интегративным анализом прошлого понимается
установка на создание «тотальной», всеобъемлющей исто-
рии, то, очевидно, имеются в виду труды некоторых предста-
вителей школы «Анналов», стремившихся к реализации по-
добного идеала историописания. В известной мере примером
такого рода «тотальной» антропологической истории может
служить книга Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю». Однако эта ус-
тановка вовсе не характерна для работ Н. 3. Дэвис, П. Берка,
Р. Дарнтона или К. Гинзбурга, также написанных под влияни-
ем антропологии.
Словом, подобные «определения» сильно упрощают ис-
ториографическое явление, о котором идет речь, создают
иллюзию чего-то внутренне однородного, скрадывают мно- 1
1 Большая часть этого определения, включая «интегративный анализ
прошлого» и «установку на изучение представлений и мотивов челове-
ческого поведения <...> во взаимосвязи со всеми элементами и сторонами
социальной системы», дословно заимствована из текста выступления
Ю. Л. Бессмертного на той же конференции [14, с. 33], а способность
«анализировать любые формы человеческих действий и поступков» до-
бавлена к этой характеристике В. А. Муравьевым.
18
Л/. М Кром. Историческая антропология
гообразие реального опыта историко-антропологических ис-
следований. А такие характеристики, как «установка на изу-
чение представлений и мотивов человеческого поведения»
или способность «анализировать любые формы человеческих
действий и поступков», вообще лишены качественной оп-
ределенности: подобные способности можно обнаружить
у многих великих историков прошлого начиная с Геродота
и Фукидида.
Интересно также отметить, что, когда участники упомя-
нутой конференции перешли от вопросов теории и методоло-
гии к конкретным сюжетам, рассматриваемым через призму
исторической антропологии, тут же выяснилось, что само
это ключевое понятие авторы докладов понимают по-разно-
му: некоторые отождествляют его по существу с историей
ментальностей, а кое-кто видит суть историко-антропологи-
ческого метода в оценке роли личности в истории, в ту или
иную эпоху [14, с. 56-57, 129-131, 149-151]. После ознаком-
ления с материалами конференции так и остается неясным,
обладает ли историческая антропология собственным мето-
дом (и если да, то в чем он состоит), или можно говорить
только о некоем общем подходе, антропологической «ориен-
тации» исторической науки и т. п.
Ученым из РГГУ принадлежит первенство не только в
проведении большой научной конференции, посвященной
исторической антропологии, но и в превращении данного ис-
ториографического направления в учебную дисциплину: еще
в 1992 году там был создан Российско-французский центр
исторической антропологии имени Марка Блока и началось
преподавание соответствующих курсов на различных факуль-
тетах университета, а в 1997 году в этом же центре открыто
отделение, где студенты-историки получают специализацию
по исторической антропологии. Концепция преподавания
данной дисциплины в РГГУ опубликована в 2001 году отде-
льной брошюрой [73].
Отмеченные особенности рецепции исторической антро-
пологии в России (попытки дать ей четкое определение и
Введение
19
даже сделать особой специальностью2 в рамках вузовской
программы) разительно отличаются от тех характеристик,
которые дают этому направлению зарубежные коллеги, в те-
чение многих лет ведущие исследования на стыке истории
и антропологии.
В 1996 году, т. е. как раз накануне того момента, когда в
РГГУ началась подготовка специалистов по указанной дис-
циплине, на страницах голландского журнала «Focaal» была
опубликована интересная дискуссия об исторической антро-
пологии. Принявший в ней участие британский историк
П. Берк подчеркнул, что историческая антропология не яв-
ляется «интеллектуальным полем в смысле специализации
на истории определенной сферы поведения, вроде экономи-
ческой истории или истории искусства; это — определен-
ный подход к прошлому, получивший развитие в сотруд-
ничестве между антропологами, открывшими для себя
историю, и историками, нашедшими антропологию»3. Его
немецкий коллега X. Медик высказался еще определеннее:
«Историческая антропология не является ни старой, ни но-
вой единой дисциплиной. Это, скорее, открытое поле для ис-
следований и обсуждений»4. Оно формируется между дис-
циплинами истории, с одной стороны, и социальной и
культурной антропологией, этнологией — с другой. Он под-
держал тезис американского антрополога Дэвида Коэна об
открытости этого «поля», или «движения», свободного от
«регулирующих практик академических дисциплин», как о
2 Во вступительной статье к брошюре, призванной обосновать кон-
цепцию преподавания исторической антропологии в РГГУ, Ю. Л. Бес-
смертный характеризует данное направление как новую историческую
дисциплину, отличную от других, и перечисляет навыки, которыми дол-
жен обладать специалист по исторической антропологии [75, с. 7-9].
3 Burke Р Historical anthropology // Focaal: tijdschrift voor antropologie.
1996. N 26/27. P. 49.
4 Medick H. Historical anthropology: some misunderstandings and basic
assumptions // Focaal: tijdschrift voor antropologie. 1996. N 26/27. P. 62.
20
М. М. Кром. Историческая антропология
важном преимуществе5. Мне кажется, применительно к се-
годняшнему состоянию российской историографии, когда
вполне реальной кажется опасность догматизации одного из
вариантов исторической антропологии, например француз-
ского6), эти слова зарубежных коллег звучат очень актуаль-
но. Не меньшее беспокойство вызывает та иллюзорная лег-
кость, с которой иные отечественные историки обращаются
с модными терминами («историческая антропология», «мен-
тальность» и т. д.), произвольно толкуя их значения без вся-
кой оглядки на многие десятки книг и статей, посвященных
этим предметам в мировой науке.
По убеждению автора этих строк, любые суждения об ис-
торической антропологии должны строиться не на логиче-
ском допущении, не на том, что, по мнению того или иного
современного ученого, можно или следует понимать под
этим термином, исходя из самого названия (возможности раз-
личных толкований в таком случае поистине безграничны), а
на анализе того, чем была и чем стала историческая антропо-
логия за несколько десятилетий существования этого направ-
ления в гуманитарной науке в Европе и США. Именно такой
5 Д. Коэн, в частности, с удовлетворением отметил, что в университетах
США нет кафедр, на которые ученые назначались бы или увольнялись в за-
висимости от того, занимаются ли они собственно исторической антрополо-
гией или даже наиболее «передовой» разновидностью исторической антро-
пологии (Cohen D. W. Historical anthropology: discerning the rules of the game //
Focaal: tijdschrift voor antropologie. 1996. N 26/27. P. 66).
6 Судя по опубликованной программе, курс «Историческая антрополо-
гия», читаемый Л. Л. Андреевой в РГГУ, посвящен главным образом обзо-
ру достижений французской школы «Анналов». «Историко-антропологи-
ческие подходы вне Франции» (!) освещаются в общих чертах, по
остаточному принципу. В итоге итальянская микроистория или немецкая
история повседневности даже не упомянуты в программе курса. Неясно,
узнают ли студенты что-нибудь из этого курса о творчестве таких истори-
ков, практиковавших антропологический подход, как Кит Томас, Питер
Берк, Джованни Леви, Ханс Медик, Альф Людтке, Д. У Сэбиан, Роберт
Дарнтон и др. А об опыте применения того же подхода к изучению россий-
ского прошлого в программе вообще не сказано ни слова [/3, с. 24-34].
Введение
21
подход к изучению данной проблемы избран в предлагаемом
вниманию читателей пособии.
Адресуя свой труд в первую очередь студентам и аспи-
рантам исторических специальностей, я стремился создать
что-то вроде краткого «путеводителя» по исторической ант-
ропологии, чтобы сориентировать читателей в огромном по-
токе литературы, посвященной этому направлению совре-
менной исторической мысли и смежным с ним дисциплинам.
Из-за ограниченного объема издания внимание сосредоточе-
но на нескольких ключевых аспектах темы. Один из них —
науковедческий: представляется интересным и важным про-
следить, как возникает новое научное направление, какие
многообразные формы оно принимает в разных странах, со-
храняя при этом много общего в своей основе. Другой аспект,
который составляет характерную особенность исторической
антропологии, — междисциплинарность: как происходит
диалог истории и других социальных наук, как историки чи-
тают и используют работы этнологов, социологов, культуро-
логов. Третий и, может быть, важнейший аспект рассматри-
ваемой темы можно назвать «инструментальным»: в чем
состоит эвристическая ценность и новизна антропологиче-
ского подхода к истории, каковы границы применимости это-
го подхода, его «плюсы» и «минусы»; как соотносится исто-
рическая антропология с другими, более традиционными,
подходами и направлениями. Наконец, в заключительной
части предлагаемой книги обсуждаются перспективы исто-
рической антропологии России — направления, которое фор-
мируется на наших глазах.
Важной составной частью пособия является список лите-
ратуры по исторической антропологии и родственным ей на-
правлениям: истории ментальностей, микроистории, исто-
рии повседневности. Разумеется, этот список далеко не
исчерпывающий: многих зарубежных изданий, к сожалению,
нет в российских библиотеках. Поскольку библиография
в учебном издании должна не только подкреплять выска-
занные автором положения, но и служить ориентиром для
22
М. М. Кром. Историческая антропология
дальнейшего чтения по данной теме, быть практически
полезной читателям, в список включены только те издания,
которые имеются в центральных библиотеках Санкт-Петер-
бурга: Российской национальной и Библиотеке Российской
академии наук (в ее филиале — библиотеке Санкт-
Петербургского Института истории РАН), а также в библио-
теке Европейского университета в Санкт-Петербурге7.
7 Перечень литературы, использованной в основном тексте посо-
бия, значительно шире.
СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ
Рождение нового направления и поиск
предшественников
В одном из ранних программных манифестов историче-
ской антропологии — очерке, написанном Андре Бюргьером
и опубликованном в 1978 году в энциклопедическом спра-
вочнике «Новая историческая наука» («La nouvelle histoire»),
автор утверждает, что благодаря школе «Анналов» истори-
ческая антропология не родилась впервые, а лишь возроди-
лась: в качестве предшественников этого направления
А. Бюргьер называет полузабытого ныне историка конца
XVIII века А. Леграна д’Осси, задумавшего многотомную
«Историю частной жизни французов» (вышли лишь три тома
«Истории питания»), и Жюля Мишле, резко выделявшегося
на фоне современных ему представителей позитивистской
историографии [9/, с. 37—41]. Далее автор переходит непо-
средственно к школе «Анналов», на чем собственно очерк
становления исторической антропологии и заканчивается.
Примечательно, что в своем историографическом очерке
А. Бюргьер ни разу не покинул пределов родной Франции.
Между тем историческая антропология возникла и в других
странах (Великобритании, Германии, США, России...). Сле-
дует ли приписать это международному влиянию школы
«Анналов», или там у этого направления нашлись свои отцы-
основатели? Так, английский историк П. Берк в одной из сво-
их статей предлагает несколько иной список предшественни-
ков исторической антропологии: Ф. Ницше, Аби Варбург,
Фрэнсис Корнфорд, М. Блок [65, с. 273-274]... На уже упо-
минавшейся выше конференции 1998 года в Москве один из
24
М. М. Кром. Историческая антропология
докладчиков, А. Л. Топорков, говорил о предпосылках фор-
мирования историко-антропологического подхода в русской
науке середины XIX века, имея в виду труды Ф. И. Буслаева,
А. А. Потебни, А. Н. Веселовского и других ученых того вре-
мени [14, с. 34-40].
Словом, в каждой стране обнаруживается целая плеяда
исследователей, чьи идеи оказываются теперь созвучными
новому направлению. Вопрос в другом: не затушевывается
ли таким образом новизна обсуждаемого направления? Ведь
Ж. Мишле, Ф. Ницше, Ф. И. Буслаев и другие перечисленные
выше замечательные умы не только не использовали сам тер-
мин «историческая антропология», но и не принадлежали к
какому-то одному научному движению или направлению.
Предшественниками их объявляют современные ученые,
обосновывая таким способом свои сегодняшние исследова-
тельские интересы и позиции, «укореняя» их в научной тра-
диции.
Научное сообщество никогда не бывает однородным,
единомыслие может существовать лишь в условиях тотали-
тарного режима, да и то носит скорее внешний, показной ха-
рактер, поэтому при желании в прошлом почти всегда можно
найти ученых, чьи идеи оказываются созвучны возникшему
позднее направлению. Тем не менее поиск предшественни-
ков никак не объясняет, почему эти идеи в такой-то момент
получили широкое распространение, почему на их основе
возникло влиятельное научное направление.
К этому нужно добавить, что, называя предшественников
какого-либо влиятельного сейчас научного течения, говоря-
щий исходит из своего понимания указанного направления:
перечисляемые имена призваны выразить его суть (как ее
трактует данный автор), обозначить траекторию его разви-
тия. И поэтому то, что под пером разных авторов предтечами
исторической антропологии оказываются подчас различные
научные авторитеты, лишний раз демонстрирует разноголо-
сицу мнений по поводу сути обсуждаемого направления. Так,
на московской конференции 1998 года наряду с приведенной
Становление исторической антропологии
25
выше версией А. Л. Топоркова, возводившего истоки истори-
ческой антропологии к трудам русских филологов XIX века,
прозвучали и другие суждения относительно предпосылок
антропологического подхода в истории: О. М. Медушевская
и М. Ф. Румянцева обнаружили эти предпосылки в творчестве
А. С. Лаппо-Данилевского, выдвинувшего принцип «призна-
ния чужой одушевленности» [14, с. 22-23,27-30]. Разумеется,
эти ссылки на авторитеты красноречиво свидетельствуют о
том, насколько по-разному авторы понимают суть историко-
антропологического подхода: если для А. Л. Топоркова в цен-
тре внимания — изучение мифологического сознания, народ-
ной религии и культуры (ведь именно этим занимались
цитируемые им Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, А. А. Потеб-
ня), то для О. М. Медушевской и М. Ф. Румянцевой ориенти-
рами служат философская антропология, идея индивидуаль-
ности в истории.
В последнее время список «претендентов» на роль осно-
воположников исторической антропологии в России посто-
янно растет. Так, по мнению М. Г. Вандалковской, «большой
вклад в выработку антропологического подхода внесли
Б. Н. Чичерин и Н. И. Кареев» [цит. по: 24, с. 207], поскольку
в их творчестве заметное внимание было уделено роли лич-
ности в развитии российской истории.
Возвращаясь к упомянутой выше статье А. Бюргьера,
стоит заметить, что автор, обнаруживая у исторической ант-
ропологии далеких «предков» и возводя ее «генеалогию» к
XVIII веку, невольно заслоняет от внимания читателя тот
факт, что именно в его статье историческая антропология как
особая дисциплина впервые появилась на страницах автори-
тетного энциклопедического издания (в трехтомнике «Изу-
чать историю» («Faire de 1’histoire»), вышедшем в 1974 году,
такой рубрики еще не было [34]). Конечно, рубрика или на-
звание не создает направления, но их появление свидетельс-
твует об институционализации, научном признании ранее
возникшей дисциплины. Поэтому если нас интересуют при-
чины успеха нового направления, завоевавшего признание во
26
М. М. Кром. Историческая антропология
многих странах в период после Второй мировой войны, сле-
дует перенести вопрос в другую плоскость: какие тенденции
в развитии мировой исторической науки отразились в антро-
пологизации истории? Какие условия и обстоятельства этому
способствовали?
Смена исследовательских парадигм
и возникновение исторической антропологии
В развитии исторической науки на протяжении послед-
них ста лет можно заметить определенную цикличность.
К концу XIX века в мировой историографии господствовал
позитивизм; преобладающей формой историописания был
рассказ о великих событиях и великих людях. В центре вни-
мания исследователей находились государство и его правите-
ли — политическая история главенствовала. В первые деся-
тилетия нового XX столетия Карл Лампрехт в Германии,
Люсьен Февр и Марк Блок во Франции, Льюис Нэмир и
Ричард Тоуни в Великобритании вели борьбу со сторонника-
ми старой, событийной, ранкеанской истории. К 50-м годам
победила «новая история»: история структур, а не событий,
история экономическая и социальная, история «большой
длительности» (la longue du г ее, по выражению Фернана Бро-
деля). В послевоенные десятилетия большое распростра-
нение получили количественные, математические методы
(клиометрия). И вот, когда уже казалось, что новая парадигма
прочно утвердилась в мировой исторической науке, стали
раздаваться заявления о том, что история, изучая массы, по-
теряла из виду реального, живого человека, стала анонимной
и обезличенной.
По свидетельству крупнейшего медиевиста Жоржа Дюби,
в 60-е годы французские историки, разочаровавшись «в воз-
можностях экономической истории» (точнее, в экономическом
детерминизме), обратились к изучению истории ментально-
стей, контуры которой были намечены в работах Л. Февра и
М. Блока; тогда же они заинтересовались достижениями соци-
Становление исторической антропологии
27
альной антропологии, получившей широкую известность бла-
годаря трудам Клода Леви-Строса и бросившей историкам
«форменный вызов». Кроме того, деколонизация привела к
тому, что французские этнологи, вернувшись из Африки на
родину, перенесли свои методы на изучение традиционной,
крестьянской культуры: возникла этнология Франции, немало
повлиявшая на тематику и подходы нового поколения фран-
цузских историков [72, с. 53-55] (см. также: [169, с. 135]).
Подобные повороты происходили тогда и в исторической
науке других стран, в частности Великобритании и США.
В переориентации интересов исследователей с анализа соци-
ально-экономических структур на изучение массового созна-
ния и поведения заметную роль сыграли британские истори-
ки-марксисты (Эдвард П. Томпсон, Э. Хобсбоум и др.),
группировавшиеся вокруг журнала «Past and Present». Не без
влияния британской социальной антропологии возник инте-
рес к традиционной народной культуре и сформировалось
направление, позднее названное социокультурной или новой
культурной историей. В США в том же русле развивалось
творчество Н. 3. Дэвис [22, с. 169-171; 37, с. 4-5,47-71].
Смена приоритетов в науке привела к тому, что уже с нача-
ла 70-х годов историки заговорили о «возвращении события»
и политической истории в проблематику исследований [34,
ч. 1, с. 210-227; 36, с. 233 сл.; 35 (изд. 1988 года), с. 15-17; 158],
а с конца 80-х годов в моду снова вошел жанр научной биогра-
фии: уникальное и индивидуальное в истории вновь привлек-
ло к себе повышенное внимание исследователей1. Разумеется,
говорить о полном возврате к канонам столетней давности не
приходится: и биографии, и политическая, событийная исто-
рия «вернулись» в науку обновленными, в том числе благодаря
1 В отечественной науке эта тенденция нашла свое выражение в аль-
манахе «Казус», в 1997-2002 годах выходившем под редакцией Ю. Л. Бес-
смертного и М. А. Бойцова, а в настоящее время — под редакцией
М. А. Бойцова и И. Н. Данилевского (Казус: Индивидуальное и уникаль-
ное в истории. М., 1997-2007. Вып. 1-8).
28
М. М. Кром. Историческая антропология
воздействию исторической антропологии, преобразившей
многие традиционные жанры историописания.
В этой перспективе историческая антропология предста-
ет как закономерная стадия в длительной эволюции нашей
науки: фаза антропологизации пришлась на тот момент, ког-
да историографический маятник начал возвратное движение
от анализа неподвижных структур к изучению мотивов и
стратегий поведения людей — реальных актеров в драме
Истории.
Важен также и междисциплинарный аспект — тот диалог
историков с представителями социальных наук, прежде всего
антропологии, о котором упоминал Ж. Дюби в процитиро-
ванном выше докладе [72]. Само название «историческая ан-
тропология», получившее широкое распространение с нача-
ла 70-х годов, было сконструировано по образцу французской
и британской социальной антропологии и американской
культур-антропологии (иногда оба эти направления объеди-
няются под общим наименованием «этнология»). Но этот
диалог истории и социальных наук было бы неверно пред-
ставлять в виде причинно-следственной связи: историческая
антропология возникла не в результате контактов и заимство-
ваний из смежных дисциплин, а вследствие внутренней по-
требности в обновлении методики и проблематики, которую
историческая наука испытывала в послевоенные десятиле-
тия; знакомство с достижениями социальных наук оказалось
одним из средств этого обновления, средством, к которому
разные историки прибегали по-разному и находили ему раз-
личное применение2.
Междисциплинарность не была такой уж новинкой в 50-
60-х годах: обращение к опыту смежных дисциплин практико-
вали еще отдельные исследователи конца XIX века; к тому же
настойчиво призывали основатели школы «Анналов» в 30-е
2 Эта обусловленность междисциплинарных заимствований внутрен-
ней ситуацией в той или иной гуманитарной науке, в том числе в истории,
справедливо подчеркнута Бернаром Лепти [26, с. 72-73].
Становление исторической антропологии
29
годы. Разница, однако, заключается в масштабе такого меж-
дисциплинарного диалога и в выборе самих дисциплин-
партнеров». До середины XX века полидисциплинарный
подход применяли лишь отдельные выдающиеся историки-эн-
тузиасты, в послевоенный период этот подход получил массо-
вое распространение, постепенно стал нормой (парадигмой)
серьезного исторического исследования. Кроме того, если в
первой половине столетия историки вдохновлялись главным
образом примером географии, социологии, экономики, психо-
логии, то в 60-80-х годах приоритет в этих междисципли-
нарных контактах все больше отдается антропологии, демо-
графии и лингвистике [22, с. 170; 26. с. 72]. Диалог с
антропологами помог историкам существенно расширить про-
блематику своих исследований за счет таких тем, как отноше-
ние людей прошлого к жизни и смерти, болезням, возрастным
периодам (детству, молодости, старости), народная религиоз-
ность, взаимодействие различных уровней культуры (интел-
лектуалов и «простецов»), праздники и будни, ритуалы, цере-
монии и т. д. [44. с. 40; 88. с. 73-74]. В этнологической
литературе историки находили новые объяснительные моде-
ли, новые возможности интерпретации источников. Вместе с
тем междисциплинарный подход принес историкам не только
несомненные приобретения, но и неожиданные трудности.
К обсуждению этих вопросов мы обратимся в ходе дальней-
шего изложения; здесь же ограничимся констатацией одного
из важнейших последствий ознакомления историков с работа-
ми этнологов: «встреча» истории и антропологии, не случайно
пришедшаяся на эпоху мировой деколонизации, способство-
вала освобождению первой из этих наук от европоцентризма,
от сохранявшихся со времен просветителей представлений об
универсальности и однолинейности движения человечества
по пути прогресса. Вместо них постепенно стала утверждать-
ся новая парадигма, признающая альтернативность в истории,
множественность форм, в которых протекают важнейшие про-
цессы в различных точках земного шара. Историческая антро-
пология явилась одним из таких направлений, подчеркиваю-
30
М. М. Кром. Историческая антропология
щих важность многообразия и региональных различий в
противовес чересчур генерализованным схемам.
Важно учесть и политическую составляющую процесса
антропологизации истории. Ученые, с именами которых свя-
зывается теперь антропологический поворот в историописа-
нии, как правило, придерживались демократических убежде-
ний с той или иной степенью левизны3; некоторые из них,
подобно Мишелю Вовелю или Э. П. Томпсону, являлись мар-
ксистами. Увлечение марксизмом пережили британский ис-
торик П. Берк и итальянские микроисторики. К. Гинзбург,
один из создателей микроистории, вырос в семье известного
антифашиста Леоне Гинзбурга (см. послесловие С. Козлова к
русскому изданию книги Гинзбурга: [10, с. 327-332]); ссылки
на труды Антонио Грамши в его работах — отнюдь не слу-
чайность.
Нонконформизм и активная жизненная позиция были при-
сущи еще одному создателю антропологически ориентирован-
ной истории — американской исследовательнице Н. 3. Дэвис.
В 1981 году в интервью «Журналу радикальной истории» она
рассказала о том, как в годы маккартизма ее муж, профессор
математики Чандлер Дэвис, оказался в тюрьме за свои убежде-
ния; после его освобождения супруги переехали в Канаду, по-
скольку в США они находились в «черном списке» и не могли
найти работу. В Университете Торонто Натали развернула
борьбу за права учащихся и работающих женщин с детьми,
поскольку в ту пору там не было яслей и детских садов; распи-
сание занятий было совершенно негибким, что создавало до-
полнительные трудности для замужних женщин, и т. п. Как
признает сама Н. 3. Дэвис, из жизни «женская тема» перекоче-
вала в ее творчество, заняв в нем заметное место4.
3 Но, конечно, у этого «правила» есть и исключения: антропологиче-
ский интерес историка мог питаться и консервативными настроениями,
как это было, например, с Филиппом Арьесом, ностальгически грустив-
шим по «старой доброй Франции».
4 Интервью, взятое у Н. 3. Дэвис американскими историками Робом
Становление исторической антропологии
31
Борьба за права женщин и национальных меньшинств в
странах Западной Европы и Америки, наряду с процессом де-
колонизации, в немалой степени обусловила тот пафос откры-
тия «Другого» и симпатии к нему, который так характерен для
работ по исторической антропологии в различных ее видах.
В Германии на волне демократизации, зарождающегося феми-
нистского и экологического движений большого признания
добилась история повседневности (Alltagsgeschichte).
Все вышесказанное представляет собой лишь некую пре-
амбулу, призванную поместить новое направление в общий
историографический контекст, в рамках которого оно только
и может быть осмыслено. Однако теперь в получившуюся
«рамку» необходимо вставить красочное «полотно», т. е. кон-
кретизировать приведенные выше рассуждения, сосредото-
чив внимание на особенностях становления исторической
антропологии в разных странах.
От истории ментальностей —
к исторической антропологии
(традиции школы «Анналов»)
О французской школе «Анналов» за последние несколько
десятилетий в нашей стране написано немало (см., напри-
мер: [26. 44, 48]. подробную библиографию работ на русском
языке см.: [2, с. 17, примеч. 2]); целый ряд книг выдающихся
представителей этой школы издан в русском переводе [55-
41. 52-54. 56]5. Следовательно, она едва ли нуждается в
Гардингом и Джуди Коффин летом 1981 г., см.: Visions of History I Ed. by
H. Abelove. Manchester, 1983. P. 99-122.
5 К перечисленным в этом списке работам следует добавить: Блок М.
Характерные черты аграрной истории. М., 1957; Он же. Апология исто-
рии, или Ремесло историка. 2-е изд., доп. М., 1986; Бродель Ф. Матери-
альная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1-3. М.,
1986-1992; Он же. Что такое Франция? Кн. 1-2. М., 1994-1997; Он же.
Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч.
М., 2002-2004; Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средне-
32
М. М. Кром. Историческая антропология
каком-то специальном представлении. Здесь нас будут инте-
ресовать лишь два аспекта в истории «Анналов»: поворот ис-
ториков этого направления на определенном этапе его эволю-
ции к исторической антропологии и та роль, которая в этом
повороте принадлежала истории ментальностей.
Несколько поколений историков школы «Анналов» оста-
вались верны идеалу, вдохновлявшему основателей этого
журнала, Л. Февра и М. Блока, — идеалу «тотальной», или
всеобъемлющей, истории. Однако в разное время следование
этому идеалу понималось «анналистами» по-разному.
Одна из первых крупных работ М. Блока — книга
«Короли-чудотворцы», вышедшая в 1924 году, была посвя-
щена изучению представлений о сверхъестественном харак-
тере королевской власти, существовавших в Англии и во
Франции со времен средневековья до XVIII века включитель-
но, а именно веры в способность королей излечивать золоту-
ху возложением рук [40]. Эта проблема была подвергнута
всестороннему анализу: М. Блок проследил традицию подоб-
ных исцелений от истоков в XI-XII веках (нынешние иссле-
дователи склонны передвигать начальную дату на столетие
вперед, к середине XIII века) до ее угасания в эпоху
Просвещения; он изучил особенности соответствующего об-
ряда по описаниям и изображениям в средневековых памят-
никах, монархические легенды, но основное внимание было
уделено самой вере в «королевское чудо», связанной с пред-
ставлениями о сакральном характере монархической власти.
По замечанию Блока, эта вера «была неотрывна от целой кон-
цепции мироздания» [40, с. 525]. По существу, речь идет о
том, что в современной науке принято называть ментально-
стью, но М. Блок редко употреблял слово mentalite, пред-
почитая говорить о «коллективных представлениях», «коллек-
векового общества о себе самом. М., 2000; Ле Гофф Ж. Людовик IX Свя-
той. М., 2001; Он же. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003; Делюмо
Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада
(XIII-XVIII вв.). Екатеринбург, 2003.
Становление исторической антропологии
33
тивном сознании» и даже «коллективных иллюзиях».Тер-
минологическая четкость — признак уже сложившегося
направления, во времена М. Блока оно еще только зарожда-
лось. Примечательно, что в годы Первой мировой войны вы-
дающиеся ученые в разных странах параллельно изучали
одно и то же явление — стереотипы средневекового массово-
го сознания: так, в Нидерландах в 1919 году Йохан Хейзинга
издал «Осень Средневековья» — «исследование форм жиз-
ненного уклада и форм мышления» XIV-XV веков (см. рус.
пер.: М., 1988), а в России в 1915 году вышла в свет книга
Л. П. Карсавина «Основы средневековой религиозности в
ХП-ХШ веках» (переиздание: СПб., 1997), в которой автор
использовал понятие «средний религиозный человек». Так
постепенно историки открывали для себя новую область ис-
следований, за которой впоследствии закрепилось француз-
ское название «история ментальностей».
Труднопереводимый термин «ментальность» (mentalite)
получил распространение во Франции на рубеже XIX-XX ве-
ков со значением, близким к «мировоззрению», но при этом он
применялся преимущественно к коллективному сознанию, с
оттенком примитивности или архаики. Такое словоупотребле-
ние было закреплено в работах этнологов и психологов, опуб-
ликованных в 20-х годах XX века: в труде Люсьена Леви-
Брюля «Первобытная ментальность» (La mentalite primitive
(1922)), в которой он писал о «пралогическом» мышлении пер-
вобытных людей, предшествовавшем логическому мышле-
нию современного, «цивилизованного» человека [779, с. 365,
367], затем — в книге Шарля Блонделя под тем же названием
«Первобытная ментальность» (1926) и в статье Анри Валлона
«Первобытная ментальность и ментальность ребенка» (1928).
В психологии термин «ментальность» вскоре вышел из упо-
требления, зато в истории и антропологии его ожидала долгая
и блестящая «карьера». Уничижительный оттенок, присущий
этому слову в первой трети XX столетия, затем исчез, но про-
тивопоставление массового сознания и культуры элитарной
культуре и идеологии сохранилось в подтексте термина «мен-
34
Л/. Кром. Историческая антропология
тальность» надолго, если не навсегда (см. об этом замечания
Жака Ревеля: [55, с. 51-52]).
Книга М. Блока «Короли-чудотворцы», за немногими, но
показательными исключениями (в лице Л. Февра и А. Пирен-
на), была встречена коллегами-историками весьма сдержан-
но; некоторые сочли сюжет книги странным, а то и второ-
степенным. Впоследствии сам Блок уже не вернулся к этой
проблематике, обратившись к изучению экономических и со-
циальных структур, но в свой последний фундаментальный
труд, «Феодальное общество», он включил специальную гла-
ву под названием: «Особенности чувств и образа мыслей»
[41, с. 77-92]. Здесь история ментальности выступает как
часть синтеза, позволяющего воссоздать целостный образ
средневекового общества.
Не оцененная по достоинству при жизни автора, книга
о королях-чудотворцах приобрела широкую популярность
среди исследователей лишь недавно, в 70-80-е годы; в пре-
дисловии к переизданию 1983 года Ж. Ле Гофф отмечает, что
именно благодаря этой книге М. Блок может по праву счи-
таться основоположником исторической антропологии [40,
с. 12, 53].
Еще не раз на этих страницах нам придется говорить об
«открытии» заново тех или иных книг, не замеченных или не
понятых современниками, но получивших «второе рожде-
ние» много лет спустя: в этом находит свое выражение опи-
санная выше тенденция, свойственная любому новому науч-
ному направлению, — находить опору и вдохновение в
работах «старых мастеров».
Творческая эволюция Л. Февра, друга и единомышленни-
ка М. Блока, была иной: от социальной и экологической исто-
рии («человеческой географии») он перешел в зрелые годы к
изучению истории идей, культуры, психологии. Особенно ве-
лик вклад Февра в становление истории ментальностей.
В ряде статей («История и психология» (1938), «Фольклор и
фольклористы» (1939), «Чувствительность и история» (1941)
[56, с. 97-125,347-358]) он выдвинул целую программу меж-
Становление исторической антропологии
35
дисциплинарных исследований с участием историков, фило-
логов, психологов, социологов, фольклористов. Целью этих
совместных усилий, по мысли Февра, должно стать изучение
человеческой личности. Задача не из легких: Л. Февр неод-
нократно предостерегал историков против попыток проеци-
ровать в прошлое самих себя, со своими мыслями, чувствами
и предрассудками; такой «психологический анахронизм» он
считал самой непростительной ошибкой [56, с. 104]. Поста-
новка вопроса о качественном отличии образа мыслей и
чувств людей в минувшие эпохи от свойственного нашему
времени, об обусловленности этого мировосприятия матери-
альными условиями жизни, религией и иными факторами —
важная заслуга Л. Февра. Наглядный пример реализации этих
принципов в практике конкретного исследования дан в при-
надлежащей его перу серии книг об эпохе Реформации и,
прежде всего, в новаторском исследовании «Проблема неве-
рия в XVI веке. Религия Рабле» (1942) [62].
К моменту выхода книги Февра в обширной научной ли-
тературе, посвященной творчеству Рабле, было принято счи-
тать автора «Гаргантюа и Пантагрюэля» вольнодумцем и ате-
истом. Л. Февр убедительно оспорил это предвзятое мнение,
при этом наибольший интерес представляет методология его
исследования. Он показал, что изучения одних только свиде-
тельств современников о Рабле недостаточно, чтобы сделать
вывод о его отношении к религии: словом «атеист» в XVI ве-
ке бросались столь же легко, как в XX веке — обвинениями в
анархизме или коммунизме. Историк выбирает более труд-
ный и одновременно более убедительный путь решения пос-
тавленной проблемы: Февр стремится изучить и понять дух
(esprit) эпохи, ее «умственный инструментарий» (outillage
mental — термин, введенный Л. Февром). Располагали ли
Рабле и его современники таким языком, такими понятиями,
чтобы из этого материала сложилась новая картина мира, в
которой только и могли появиться рационализм и атеизм? На
этот вопрос ученый отвечает отрицательно: по его наблюде-
ниям, XVI век сохранял еще в целом средневековый облик,
36
Л/. М. Кром. Историческая антропология
та эпоха была пронизана религией, и для настоящего атеизма
там не было места.
Книга Февра «Проблема неверия в XVI веке» давно и по
праву считается классической. Тем не менее в адрес ее авто-
ра раздаются и упреки. Так, К. Гинзбург подчеркнул, что
«ментальность» выступает у Февра как бесклассовое поня-
тие и что «ментальные координаты» целой эпохи определя-
ются на основе изучения тонкого слоя образованных людей
[67, с. 46-47]. С этим замечанием согласился и А. Я. Гуревич,
отметив, что в книге о Рабле совершенно не показана соци-
альная структура французского общества XVI века, не учи-
тывается влияние социальных отношений и групп на тради-
ционную ментальность [48. с. 52]. Вероятно, перед нами
яркий пример блестящей односторонности, нередко прису-
щей подлинно новаторским исследованиям. В том, что каса-
ется анализа зависимости индивида — не только физиче-
ской, но и культурной, духовной — от эпохи, в которую ему
довелось жить, то здесь работы Февра сохраняют значение
высокого образца. Однако столь же естественно стремление
следующих поколений ученых скорректировать его методи-
ку исследования, выработать более дифференцированные
подходы.
Важно отметить, что если в работах М. Блока, особенно в
ранней книге о королях-чудотворцах, присутствовал как
интерес к сфере ментальности (правда, без той концептуа-
лизации, которую привнес в эту тематику его друг — соучре-
дитель «Анналов»), так и заметная антропологическая
направленность, то Л. Февр изучал историю ментальности в
содружестве преимущественно с психологией, а не с антро-
пологией. Бесспорно, в послевоенные годы Февр был круп-
нейшим французским историком, лидером формировавшей-
ся школы «Анналов» (М. Блок погиб в 1944 году), и именно
его влияние чувствуется в той психологической трактовке
предмета истории ментальностей, которая была характерна
для работ ряда французских историков в 60-70-х годах, осо-
бенно Робера Мандру, Филиппа Арьеса, Жана Делюмо.
Становление исторической антропологии
37
В первые послевоенные десятилетия во Франции безраз-
дельно господствовала экономическая история, однако неко-
торые историки-аграрники (среди них — Ж. Дюби и Э. Ле
Руа Ладюри) нашли в истории ментальностей путь к «очело-
вечиванию» предмета своих занятий; им удалось осознать
важность учета понятий и переживаний самих участников
экономического процесса. Как отметил Ж. Дюби, значитель-
ное влияние на эту переориентацию аграрной истории оказа-
ла социальная антропология [72, с. 54-55]. По существу, в
50-60-х годах шла подспудная «антропологизация» аграрной
истории, хотя до 70-х годов лозунг «исторической антропо-
логии» как нового направления прямо не выдвигался: новые
подходы ассоциировались тогда преимущественно с исто-
рией ментальностей, переживавшей пору своего расцвета.
Знаком академического признания этого нового направ-
ления стало появление в солидном энциклопедическом спра-
вочнике «История и ее методы», вышедшем в 1961 году,
программной статьи Ж. Дюби, озаглавленной «История
ментальностей» [67].
Еще одной традиционной отраслью исторического зна-
ния, преобразившейся благодаря включению в ее проблема-
тику «ментальной» сферы, стала демографическая история.
Привычное представление об этой дисциплине связано с
цифрами и подсчетами: рождаемость, смертность, брачность
и т. п. Еще сравнительно недавно исследователи обращали
мало внимания на субъективную сторону изучаемых ими яв-
лений: как сами люди минувших эпох относились к рожде-
нию и смерти, болезням и старости, детям и женщинам?
В изучение многих из перечисленных вопросов внес боль-
шой вклад Ф. Арьес. Хотя все эти проблемы имеют непо-
средственное отношение к антропологии, он не рассматривал
их в этой перспективе, интересуясь главным образом эволю-
цией массового сознания, т. е. историей ментальностей.
Первой получившей известность книгой Арьеса стало иссле-
дование «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»
(I960, 2-е изд. — 1973). Сегодня книга доступна в русском
38
М. М. Кром. Историческая антропология
переводе [39], поэтому нет нужды пересказывать ее содержа-
ние. Важнее подчеркнуть новаторский характер этой работы.
Главное состоит в том, что автор впервые сделал предметом
исторического исследования восприятие детства в разные
эпохи и привлек для этой цели чрезвычайно разнообразные
источники: литературные тексты, иконографический матери-
ал и даже надгробные изваяния. Основные выводы Арьеса,
вызвавшие бурную полемику в научных кругах, заключаются
в том, что средневековье не знало детства как особой возраст-
ной и психологической категории: на ребенка смотрели как на
маленького взрослого. Никто не говорил тогда и о семейных
чувствах. Перемены становятся заметны не раньше XIV века,
в XVII веке происходит «открытие» детства, ребенок стано-
вится центром «новой» семьи. В свете исследований, появив-
шихся уже после книги Арьеса, некоторые его тезисы (напри-
мер, об отсутствии в средневековую эпоху особого отношения
к детям и вообще материнской и отцовской любви) уже не по-
лучают подтверждения и нуждаются в пересмотре6. Спра-
ведлив и другой упрек: Арьеса часто критикуют за игнориро-
вание социальной структуры общества; привлекаемый им
материал по большей части относится к жизни и быту арис-
тократии, но тем не менее выводы распространяются на все
общество (см., например, замечания А. Я. Гуревича: [48,
с. 234—235]). Однако нельзя забывать и о том, что именно
Арьес «открыл» проблему детства для историков и проложил
путь, по которому пошли его многочисленные последователи
и критики в разных странах.
Другой темой многолетних исследований этого француз-
ского историка стала эволюция отношения человека к смер-
ти — от естественной неизбежности («прирученная смерть»)
в средневековье (а в крестьянской среде — и гораздо позд-
нее) до страха перед самим ее упоминанием («перевернутая
6 О корректировке выводов Арьеса в современной историко-демогра-
фической литературе см. подробнее: Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть
в средние века. М., 1991. С. 89-93.
Становление исторической антропологии
39
смерть») в наши дни. Арьес не был первооткрывателем этой
темы, но он сумел сказать свое слово, сделать ряд ценных на-
блюдений. Как и предыдущие работы данного автора, книга
«Человек перед лицом смерти» (1977) [35] оказалась в цент-
ре научной полемики; критики, в частности М. Вовель и
А. Я. Гуревич, особо указывали на некритическое в ряде слу-
чаев использование Арьесом источников и на его нежелание
увидеть социальные аспекты изучаемой им проблемы (см.
предисловие А. Я. Гуревича к русскому переводу книги
Арьеса: [35, с. 11-30; 48, с. 236-247]).
В 60-70-е годы история ментальностей стала лидирую-
щим направлением во французской историографии; как маг-
нит, она притягивала авторов новаторских работ по самым
разнообразным тематикам. Проникнув в аграрную и демогра-
фическую историю, проблема ментальности, естественно, не
могла не затронуть историю религии и культуры. В этой от-
расли исторической науки влияние Л. Февра было особенно
заметно. Его ученик Р. Мандру вместе с Ж. Дюби возродил
изучение истории ментальностей в 50-60-х годах. Одна из са-
мых известных работ Р. Мандру — книга «Магистраты и кол-
дуны во Франции в XVII веке. Анализ коллективной психоло-
гии» (1968) [64, реф. книги см.: 2, с. 174-179]. То, что автор
трактует выбранную тему именно в русле исторической пси-
хологии, а не антропологии, что было бы естественно приме-
нительно к феномену колдовства, давно и плодотворно изу-
чавшегося антропологами, сближает Р. Мандру не только с
его учителем Л. Февром, но и с Ф. Арьесом. Есть, однако, се-
рьезное отличие: автор тщательно учитывает социальную
дифференциацию общества, он сознательно оставляет в сто-
роне изменения народных верований, т. е. как раз антрополо-
гический аспект, и сосредотачивает свое внимание на изуче-
нии психологии образованного слоя — юристов, магистратов,
вершивших в тот период судьбы обвиненных в колдовстве
людей. Сама тема исследования была подсказана Р. Мандру
статьей Февра «Колдовство: глупость или переворот в созна-
нии?» (1948) [56, с. 493-500], в которой обращалось внимание
40
М. М. Кром. Историческая антропология
на парадокс: лучшие умы, вроде Жана Бодена, были одержи-
мы демономанией и верили в опасность, исходившую от кол-
дунов. Это становится своего рода точкой отсчета, с которой
Мандру начинает свое исследование, пытаясь выяснить, как
произошла эта революция в умах, почему волна преследова-
ний колдунов и ведьм, бушевавшая на рубеже XVI-XVII ве-
ков, затем пошла на спад и окончательно исчезла к концу XVII
столетия. Тщательно документируя свои наблюдения, автор
приходит к выводу, что для преодоления демономании реша-
ющее значение имели два фактора: скептическая позиция по
этому вопросу парижского парламента, на которую, в свою
очередь, повлияли доводы теологов Сорбонны и медиков, и
стремление правительства Кольбера централизовать судеб-
ную систему в стране, вследствие чего местные суды вынуж-
дены были прислушаться к мнению столичной высшей инс-
танции. Выводы Мандру вполне убедительны, но кажется,
что термин «ментальная структура», который автор постоян-
но употребляет в своей работе, здесь лишний и ничего не
объясняет. Процесс «отрезвления» судей, убедительно по-
казанный автором, вполне рационален (ментальность же
предполагает нечто, не вполне осознаваемое, безотчетное), а
ментальность масс за изученный период едва ли сильно изме-
нилась: все дело решило вмешательство верховной власти.
На фоне несомненного успеха истории ментальностей во
Франции и проявления интереса к ней за рубежом как-то
странно прозвучало в 1974 году замечание Ж. Ле Гоффа о
ментальности: «...она кажется уже вышедшей из моды» [65,
с. 76]. И хотя далее автор высказывался в защиту этого нечет-
кого и «двусмысленного» понятия, некоторые основания для
поставленного им в начале своей статьи «диагноза» все же
имелись. Дело в том, что с начала 70-х годов французские ис-
торики заговорили об исторической антропологии, хотя труд-
но было предвидеть, что последняя вытеснит или по крайней
мере потеснит историю ментальностей.
В 1972 году сам Ж. Ле Гофф написал для сборника в честь
Ф. Броделя статью под названием «Историк и человек повсед-
Становление исторической антропологии
41
невности», в которой отметил тенденцию к сближению меж-
ду историей и этнологией и выдвинул целую программу «эт-
нологической истории». В 1977 году он включил эту статью в
сборник своих очерков «Другое средневековье» под рубрикой
«К исторической антропологии» («Vers une anthropologie
historique») (рус. пер. см.: [55, с. 200-210]. Итак, этноистория,
историческая антропология... Поиски названия для нового на-
правления развернулись параллельно с обсуждением новых
подходов: так, специальный номер журнала «Анналы» в 1974
году был озаглавлен «За антропологическую историю: поня-
тие взаимного обмена» [772] и был посвящен проблемам эко-
номической антропологии в истории. Наконец, в 1978 году в
энциклопедическом справочнике «Новая историческая наука»
появилась уже упоминавшаяся выше статья А. Бюргьера
«Историческая антропология» [97]. Поскольку в том же спра-
вочнике опубликована статья об истории ментальностей, на-
писанная Ф. Арьесом [57], читатель должен был заключить,
что это — две разные дисциплины. Подобное соседство на-
блюдается и в «Словаре исторических наук» (1986), в котором
статья об исторической антропологии написана А. Бюргьером
[92], а о ментальностях — Ж. Ревелем (рус. пер. статьи
Ж. Ревеля см.: [26, с. 51-58]). Непростой вопрос о соотноше-
нии или разграничении этих направлений естественным об-
разом возник в ходе дискуссий в 80-х годах и во Франции, и за
ее пределами при обсуждении того, что следует понимать под
исторической антропологией.
Возникновение исторической антропологии
в Великобритании (60-70-е годы)
В Великобритании историко-антропологическая традиция
несколько моложе, чем во Франции, однако она вполне само-
стоятельна, оригинальна и заслуживает специального внима-
ния. Если во Франции, как уже говорилось, идея диалога исто-
рии с социальными науками (в том числе с этнологией) была
выдвинута основателями школы «Анналов» и в значительной
42
М. М. Кром. Историческая антропология
мере реализована следующими поколениями историков-
«анналистов», то в Великобритании инициатива подобных
междисциплинарных исследований исходила от представите-
лей социальных наук и, прежде всего, антропологов.
В первой половине XX столетия британская социальная
антропология в лице Бронислава Малиновского, Альфреда
Радклиффа-Брауна и Э. Э. Эванса-Причарда завоевала заслу-
женное признание в мировой науке. В самой Великобритании
к мнению этих авторитетных ученых прислушивались не
только коллеги-антропологи, но и специалисты в других об-
ластях гуманитарного знания, в том числе историки. Правда,
отношение самих мэтров антропологии к истории не было
единодушным: А. Радклифф-Браун, возглавлявший кафедру
социальной антропологии в Оксфорде в период между двумя
мировыми войнами, категорически заявлял, что история и
антропология — «это два различных метода обращения
с фактами культуры» и смешивать их не следует (цит. по: [99,
с. 3]). Однако преемник Радклиффа-Брауна на этом посту,
Э. Э. Эванс-Причард, уже в 1950 году оспорил это мнение и
в дальнейшем немало способствовал сближению двух дис-
циплин. Особенно широкий резонанс получила его лекция
«Антропология и история» в Манчестерском университете,
опубликованная в 1961 году [756].
Отклик историков на этот призыв к сотрудничеству не за-
ставил себя долго ждать: в 1963 году на страницах журнала
«Past and Present» появилась статья Кита Томаса «История и
антропология» [99], в которой автор признавался, что его ин-
терес к данной теме возник под влиянием вышеупомянутой
лекции Эванса-Причарда. В статье приведен ряд доводов в
пользу тезиса о том, что историки могут почерпнуть для себя
немало полезного, читая антропологическую литературу. По
мнению К. Томаса, знакомство с трудами антропологов мо-
жет содействовать, в первую очередь, большей научной стро-
гости исторических сочинений, избавить от свойственной
многим из них излишней риторики. Главный урок, который
способна преподать историкам социальная антропология.
Становление исторической антропологии
43
состоит в анализе изучаемого общества как единого целого
в противовес традиционной для них специализации, когда
объект исследования распадается на историю экономиче-
скую, историю юридическую, военную и т. д. Кроме того,
антропологи, непосредственно изучая те явления, о которых
историки могут только прочитать в книгах, например о кол-
довстве или архаических системах родства, имеют возмож-
ность «подсказать» им новые объяснения и интерпретации,
обратить их внимание на дотоле остававшиеся в тени аспек-
ты жизни прошлого (мифы, ритуалы, праздники и т. п.).
Сам К. Томас активно привлекал наблюдения этнологов
в своих работах 60-х годов, в частности в докладе о труде и
досуге в доиндустриальном обществе, опубликованном в
1964 году7. И в этом он был не одинок: так, еще в 1959 году
Э. Хобсбоум использовал этнографический материал при
изучении народных восстаний8.
Нужно отметить, что история ментальности как таковая не
получила заметного развития в Великобритании; многие бри-
танские коллеги долгое время относились к изобретенному по
другую сторону Ла-Манша термину mentalite весьма скепти-
чески. Это обстоятельство и сильное влияние социальной ант-
ропологии привели к тому, что в Великобритании историче-
ская антропология довольно рано выступила под собственным
именем (в отличие от Франции, где антропологический подход
подчас практиковался под флагом популярной истории мен-
тальностей). В 1970 году британский историк и антрополог
Алан Макфарлейн издал книгу «Семейная жизнь Ральфа
Джосселина, священника XVII века» с подзаголовком «Очерк
исторической антропологии»9 (критический разбор этой кни-
ги см.: [100, с. 41^46]). Это исследование, основанное на днев-
никах пуританина Р. Джосселина, представляет собой нестан-
7 Thomas К. Work and leisure // Past and Present. 1964. N 29. P. 50-62.
8 Hobsbawm E. J. Primitive Rebels. Manchester, 1959.
9 Macfarlane A. The Family Life of Ralph Josselin, A Seventeenth-Cen-
tury Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. Cambridge, 1970.
44
М М Кром. Историческая антропология
дартную биографию вполне обычного, заурядного человека.
Автора интересуют детали его повседневной жизни: хозяй-
ственные заботы, родственные связи, мысли о Боге, о грехе и
т. д.; данные источника анализируются в терминах социологии
и антропологии, с привлечением обширного сравнительного
этнографического материала.
Другой благодатной темой для историко-антропологиче-
ских штудий стала история колдовства и магии. Региональное
исследование ведовства в одном из графств, Эссексе, в XVI-
XVII веках опубликовал тот же А. Макфарлейн10, а в вышед-
шей почти одновременно фундаментальной монографии
К. Томаса предметом изучения стали народные верования бри-
танцев в ту же эпоху: магия, прорицания, вера в духов и фей,
астрология и т. д. ([52], реф. книги см.: [3, с. 90-104]).
Несмотря на разный масштаб исследования (одно граф-
ство у Макфарлейна, вся страна у Томаса), эти книги сближает
не только общность темы, но и несомненная антропологиче-
ская ориентация; оба автора привлекают для сравнения этно-
графический материал, относящийся к неевропейским обще-
ствам. На выработку концепции К. Томаса несомненное
влияние оказали работы Б. Малиновского, в частности предло-
женное этим антропологом различение понятий магии и рели-
гии (см. [181, с. 70-91]). Предисловие к книге А. Макфарлейна
написал Э. Э. Эванс-Причард, изучавший в 30-х годах магию и
колдовство у африканского народа азанде.
Интересно сравнить работу Макфарлейна с появившимся
на два года раньше исследованием Р. Мандру «Магистраты и
колдуны» (см. с. 39^40). Если французский историк изучал
изменение отношения судей к лицам, подозревавшимся в кол-
довстве, то его британский коллега подошел к проблеме с дру-
гой стороны: на основании протоколов более 500 ведовских
процессов в Эссексе А. Макфарлейн исследовал охоту на
ведьм на уровне деревни. Его интересовало, кто был обвини-
10 Macfarlane A. Witchcraft in Tudor and Stuart England: A Regional and
Comparative Study. New York, 1970. Реф. книги см.: [3, с. 126-134].
Становление исторической антропологии
45
телем, а кто — жертвой обвинения в колдовстве. Автор при-
шел к выводу, что ведовские процессы возникали на почве
конфликтов между родственниками или, что случалось чаще
всего, соседями; среди ведьм преобладали пожилые женщины,
а те, кто якобы пострадал от их козней, были обычно моложе,
т. е. имел место еще и конфликт между поколениями.
Используя обширный и разнообразный материал, в том
числе и наблюдения А. Макфарлейна, К. Томас приходит к
более общим выводам о характере и причинах многочислен-
ных ведовских процессов в Англии XVI-XVII веков: по его
мнению, ведьмами чаще всего оказывались социально неза-
щищенные лица, изгои, находившиеся в конфликте с общи-
ной (обычно бедные женщины); черная магия нередко была
единственным оружием слабых. Кроме того, автор связывает
изучаемое явление с социально-экономическими процесса-
ми той эпохи, в частности с упадком средневековой системы
деревенской взаимопомощи [82, с. 546-569].
Нельзя сказать, что применение антропологического под-
хода в исторических исследованиях сразу получило полную и
безоговорочную поддержку в британском научном сообщест-
ве. Были высказаны и определенные сомнения. Наиболее вес-
кие из них содержались в статье-рецензии Э. П. Томпсона, на-
писанной по поводу книги А. Макфарлейна о Джоселлине и
книги К. Томаса о народных верованиях [700]. Сдержанно
отозвавшись о первой из упомянутых работ, Э. П. Томпсон вы-
соко оценил вторую, но при этом подчеркнул, что своим успе-
хом К. Томас обязан не каким-то новым методам, а мастерско-
му применению традиционных приемов исследования. Что
касается антропологии, то прямые сравнения Англии XVII века
с неевропейскими обществами XX века, к которым часто при-
бегает А. Макфарлейн, просто некорректны. Автор рецензии
вообще высказывает сомнение в существовании особого ант-
ропологического метода в истории; можно говорить лишь о
том, что чтение антропологической литературы расширяет
кругозор историка и т. п. Такое взаимовлияние между дисцип-
линами Э. П. Томпсон готов одобрить [100, с. 48].
46
M. M. Кром. Историческая антропология
Для правильного понимания взглядов знаменитого бри-
танского историка важно учесть, что как раз в начале 70-х
годов Э. П. Томпсон опубликовал несколько работ, выпол-
ненных, так сказать, в антропологическом ключе и с привле-
чением материалов по этнологии Англии, в том числе иссле-
дование об английском шаривари и получившую широкую
известность статью о «моральной экономии» английской тол-
пы в XVIII веке [53, 54]). Позднее, углубившись в изучение
традиционного британского общества XVIII века, он откры-
то признал полезность «антропологического импульса» для
постановки новых проблем, акцентирования значения норм
и систем ценностей, ритуалов и т. д. [цит. по: 37, с. 53].
Словом, Э. П. Томпсон не выступал против антропологиче-
ски ориентированной истории как таковой, он только призы-
вал коллег проявлять осторожность в обращении с данными
антропологии, учитывать исторический контекст.
Интерес к исторической антропологии в Германии
во второй половине 60-х — начале 80-х годов
Об исторической антропологии германские историки
впервые заговорили во второй половине 60-х годов. Это про-
изошло в обстановке поиска путей методологического об-
новления социальной истории, с одной стороны, и при повы-
шенном внимании к достижениям французской школы
«Анналов» — с другой (подробнее см.: [75, с. 131-140, 154
157]). Выступая на Фрайбургском конгрессе историков ФРГ
в 1967 году, Томас Ниппердай выдвинул программу преоб-
разования социальной истории в историческую антрополо-
гию11. Развивая свою мысль в последующих работах, Т. Нип-
пердай объявлял предметом изучения новой дисциплины
антропологические структуры, объединяющие в себе лич- 11
11 Nipperdey Th. Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, historische Anthro-
pologic // Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1968.
Bd. 55. S. 145-164.
Становление исторической антропологии
47
ность и ее время. Историческая антропология была призвана
изучать взаимоотношения личности и общества в их динами-
ке в конкретном месте и в конкретную эпоху. Предложенная
им исследовательская программа включала в себя изучение
морального поведения, семьи, процесса воспитания и т. д.
(о работах Т. Ниппердая см.: [18, с. 140-150]). Сходное пони-
мание задач исторической антропологии обнаружил Вольф
Лепенис, назвавший изучение «исторической изменчивости
форм поведения» одной из ее центральных тем. Сторонники
такого понимания исторической антропологии, к числу ко-
торых можно отнести и Оскара Кёлера, Йохена Мартина и
др., группировались вокруг журнала всеобщей истории
«Saeculum. Jahrbuch fur Universalgeschichte», на страницах
которого в 70-80-х годах печатались их статьи и обзоры12, а в
1975 году во Фрайбурге они основали Институт историче-
ской антропологии. На рубеже 70-80-х годов в состав этого
исследовательского объединения входили О. Кёлер, Й. Мар-
тин, Михаэль Миттерауэр, Т. Ниппердай, Август Ничке,
Рольф Шпрандель и многие другие известные немецкие уче-
ные. Целью института провозглашалось изучение «истории
человека в его целостности» по примеру французской школы
«Анналов», а в качестве первоочередных задач планирова-
лось исследование социальной истории болезней и лечения,
правовых традиций, детства13.
Другой центр изучения исторической антропологии воз-
ник в 70-х годах в Штутгарте: в Институте социальных ис-
следований при Штутгартском университете было создано
12 См., например: Kohler О. Versuch einer “Historischen Anthropologie”
// Saeculum. Jahrbuch fur Universalgeschichte. 1974. Bd. 25. S. 129-246;
Sprandel R. Historische Anthropologie. Zugange zum Forschungsstand // Ibid.
1976. Bd. 27. Hf. 2. S. 121-142. По мнению P. Шпранделя, историческая
антР°пология изучает «основные жизненные условия и проблемы чело-
века в истории и систематизирует найденные им решения» (ibid. S. 121).
13 Martin J. Das Institut flir Historische Anthropologie П Saeculum. Jahr-
buch Шт Universalgeschichte. 1982. Bd. 33. S. 375-380.
48
Л£ М. Кром. Историческая антропология
отделение исторического исследования поведения (Historische
Verhaltensforschung) во главе с А. Ничке. Масштабная про-
грамма изучения поведения человека в истории была опубли-
кована А. Ничке в специальной книге14. Автор увязывал дан-
ное направление с работами по исторической антропологии
и истории ментальностей Л. Февра, Ж. Дюби, А. Я. Гуревича,
Т. Ниппердая, Р. Шпранделя и др. В духе теории Н. Элиаса о
цивилизационном процессе предлагалось изучать изменение
контроля человека над аффектами в разные эпохи, а также
факторы, влияющие на поведение: потребности, чувства лю-
дей и т. п.15
Штутгартский и фрайбургский центры были близки в по-
нимании задач исторической антропологии. В частности, в
первой половине 80-х годов это проявилось в совместном
проекте А. Ничке и Й. Мартина по изучению истории дет-
ства. В любом случае речь шла об историческом изучении
Человека вообще (путем приведения примеров из истории
разных эпох и стран), а не каких-то конкретных людей в оп-
ределенное время и в определенном месте.
В конце 60-х — 70-х годах обсуждение проблем историче-
ской антропологии в рамках данного направления не выходило
за пределы сугубо теоретической дискуссии. Авторы приво-
дили обстоятельные экскурсы в историю немецкой фило-
софской и исторической мысли, обсуждали общие методо-
логические подходы, но до начала 80-х годов конкретных
исследовательских разработок немецкая историческая антро-
пология продемонстрировать не могла. Как отмечал позднее
14 Nitschke A. Historische Verhaltensforschung: Analysen gesellschaftli-
cher Verhaltensweisen. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart, 1981.
15 Этой темой А. Ничке продолжал заниматься и в последующие годы:
в 1985 году в рамках XVI международного конгресса исторических наук
в Штутгарте он организовал и провел круглый стол на тему «Историче-
ское исследование поведения и основанная на исторических источниках
антропология» (XVIе Congres International des sciences historiques. Ill
Actes. Stuttgart, 1986. P. 294-309).
Становление исторической антропологии
49
X. Медик, подобная философская трактовка сочеталась у
Т. Ниппердая и его единомышленников с подчеркнутым дис-
танцированием от этнологии и, как следствие, с привержен-
ностью к традиционному европоцентризму [95, с. 80].
Сам X. Медик в 70-е годы входил в другую исследова-
тельскую группу, сложившуюся в Институте истории Обще-
ства имени Макса Планка в Гёттингене. Вместе с Петером
Кридте и Ю. Шлюмбомом он работал тогда над проектом по
изучению протоиндустриализации, ориентированного на
внешние рынки сельского ремесленного производства в пе-
риод перехода от аграрного общества к индустриальному. Из
этого совместного проекта впоследствии возникли фунда-
ментальные монографические исследования каждого из трех
названных ученых.
В геттингенском Институте истории также возникла
группа сторонников исторической антропологии во главе с
Рудольфом Фирхаусом, однако, в отличие от фрайбургского и
штутгартского центров, геттингенцы X. Медик, Ю. Шлюмбом,
А. Людтке, а также работавший тогда вместе с ними амери-
канский германист Д. У. Сэбиан с самого начала ориентиро-
вались не на идеи философской антропологии, а на исследо-
вания по социальной и культурной антропологии (этнологии).
Кроме того, с конца 70-х годов эта исследовательская группа
активно включилась в международные дискуссии историков
и антропологов. Сборник «Классы и культура: социально-ан-
тропологические перспективы в историописании», изданный
в 1982 году по материалам одного из таких обсуждений, объ-
единил статьи историков из Германии (А. Людтке, X. Медика,
Норберта Шиндлера), Италии (одного из основателей микро-
истории Карло Пони) и США (Роберта Бердала, Уильяма
Редди, Д. у Сэбиана), а также американских антропологов
Ренато Розальдо и Джеральда Сайдера16.
---------
16 BerdahlR., LiidtkeA., MedickH. и. a. Klassen und Kultur. Sozialanthro-
P°logische Perspektiven in der Geschichtsschreibung. Frankfiirt/M., 1982.
50
M. M Кром. Историческая антропология
В начале 80-х годов мирное сосуществование различных
трактовок исторической антропологии в Германии смени-
лось яростными спорами, в ходе которых были поставлены
под сомнение многие устоявшиеся положения немецкой ака-
демической науки.
Немного о терминах.
«Историческая антропология»
или «антропологическая история»?
Изложение обстоятельств зарождения исторической
ан:ропологии в этой главе постоянно сопровождается ука-
заниями на то, когда в той или иной стране вошел в упот-
ребление сам термин, обозначающий это направление ис-
следований. Не стоит недооценивать значение подобных
ярлыков в науке: без них не обходится формирование новых
научных школ, вокруг них, словно вокруг знамени, группи-
руются сторонники того или иного подхода, и их же — эти
названия, рубрики, ключевые слова — атакуют привержен-
цы иных подходов и теорий. Очень часто спор идет именно
о словах: нередко уже существующее название какого-либо
направления дает повод к разнообразным толкованиям, под-
час далеким от того смысла, который стремились вложить в
него отцы-основатели. Рецепция исторической антрополо-
гии в России дает тому массу примеров.
Следовательно, нам не избежать разговора о терминах.
В частности, невольно возникает вопрос: почему за направле-
нием, о котором идет речь, в конце концов утвердилось назва-
ние «историческая антропология»?17 Поскольку имеется в
17 Это название применительно к истории выглядит тем более нело-
гичным, что в 1980-1990-е годы в рамках культурной антропологии по-
лучило развитие направление, подчеркивающее важность изучения исто-
рического прошлого данного народа или племени в противовес прежним
колониалистским представлениям о неевропейских народах как «не име-
ющих своей истории». Это новое течение внутри культурной антрополо-
гии получило название «историческая антропология». См.: Cohen D.
Становление исторической антропологии
51
виду течение внутри исторической науки, то, по логике, боль-
ше подошло бы что-то вроде антропологической истории.
Однако классификационные рубрики современной историо-
графии, как нам предстоит убедиться, создаются отнюдь не по
законам формальной логики, здесь действуют иные факторы.
Напомню, что во Франции в 70-х годах XX века некото-
рое время сосуществовали разные термины для обозначения
рождающегося направления: «этноистория», «антропологи-
ческая история», «историческая антропология», — и если в
итоге утвердилось последнее из перечисленных названий, то
в этом есть заслуга вполне конкретных ученых — Ж. Ле
Гоффа и А. Бюргьера.
А. Бюргьер — крупный специалист по исторической де-
мографии. Присущий демографу интерес к структурам род-
ства, формам брачного поведения и т. п., характерный также
и для антропологов, мог определить его выбор в пользу исто-
рической антропологии. С 1978 года по настоящее время
Бюргьер опубликовал, насколько мне известно, четыре про-
граммные статьи об этом направлении, неизменно используя
в них термин «историческая антропология» [9, 91-93]. Таким
образом научное сообщество во Франции и за ее пределами
постепенно «приучалось» к новому термину.
Свою лепту в закрепление именно такого обозначения
возникшего направления внес и Ж. Ле Гофф. Как уже говори-
лось, в начале 1970-х годов он пользовался выражением «эт-
нологическая история», но к 1977 году окончательно сделал
выбор в пользу термина «историческая антропология». В пре-
дисловии к книге «Другое Средневековье» Ле Гофф поставил
масштабную задачу создания «исторической антропологии
доиндустриального Запада» [53, с. 12], что подразумевало
постижение «глубин» долгого Средневековья («повседнев-
ных привычек, верований, особенностей поведения и мента-
литета») при помощи этнологических методов [53, с. 9]. Таким
^tieno Odhiambo Е. S. Siaya, a historical anthropology of an African land-
scape. London; Nairobi; Athens (Ohio), 1989; Clio in Oceania: toward a his-
torical anthropology / Ed. by A. Biersack. Washington, D. C., 1991; и др.
52
М Л/. Кром. Историческая антропология
образом, за термином «историческая антропология», у пот-
ребленным Ле Гоффом, скрывалась метафора: медиевист --
это антрополог, погружающийся в глубины Прошлого.
Хотя в Великобритании много писали об истории и антро-
пологии, термин «историческая антропология» здесь не при-
жился. Употребленный в 1970 году в подзаголовке моногра-
фии А. Макфарлейна о семейной жизни священника XVII века
(см. с. 43), он надолго исчез и вновь появился только в 1987
году в книге П. Берка «Историческая антропология Италии
начала Нового времени» [75]. Подробный разбор этой работы
будет дан на с. 62-63. В данном случае представляет интерес
судьба самого термина, вынесенного в ее заглавие. Интересно,
что в 2001 году в интервью немецкому журналу «Историческая
антропология» П. Берк заметил по поводу своей работы
1987 года, что, хотя, конечно, он не был первым, кто исполь-
зовал термин «историческая антропология», однако ему не
приходит в голову никакая другая английская книга с подоб-
ным названием. Сейчас, по словам Берка, он бы переставил
слова, назвав то, что написано в той книге, «антропологиче-
ской историей». На вопрос «почему» британский ученый от-
ветил, что он занимается «историей с антропологическим
уклоном», но не хотел бы, чтобы у читателя создалось впечат-
ление о нем как о «великом антропологе»: полевой работой он
никогда систематически не занимался18.
Как явствует из интервью П. Берка, британское академи-
ческое сообщество гораздо строже и ревнивее, чем француз-
ское, охраняет символические границы между отдельными
научными дисциплинами. Историк даже метафорически не
может уподобляться антропологу: это — разные специаль-
ности! Видимо, поэтому такой междисциплинарный гибрид,
как историческая антропология, не получил права граждан-
ства в британском научном дискурсе.
18 Rublack U. Peter Burke und Jack Goody im Gesprach uber Geschichte.
Anthropologic und die Historische Anthropologie П Historische Anthropolo-
gic. 10. Jahrgang. 2002. Hf. 2. S. 267.
Становление исторической антропологии
53
Зато в Германии с момента введения в оборот Томасом
Ниппердаем в 1967 году этот термин занял прочные позиции
в историографии. Этому могло способствовать сильное влия-
ние французской школы «Анналов», особенно заметное в
70-е годы, а также наследие немецкой философской антропо-
логии. Однако обманчивая легкость всеобщего признания ис-
торической антропологии в Германии таила в себе опасность
соединения под одним термином совершенно различных ис-
следовательских программ. Этот плюрализм в понимании
исторической антропологии проявил себя в немецкой исто-
риографии уже в 80-90-х годах XX века.
В России историческая антропология получила широкую
известность только в конце 1980-х годов, причем в качестве
«импортного» научного продукта. Этот термин был заим-
ствован из зарубежной, прежде всего французской, историо-
графии. Попав в поле российской науки, он сразу нарушил
сложившиеся границы между дисциплинами, поставил под
сомнение привычную номенклатуру научных специально-
стей. Реакция последовала незамедлительно.
В 1989 году в «Вестнике АН СССР», рядом с программной
статьей А. Я. Гуревича об исторической антропологии [55],
была напечатана статья академика В. П. Алексеева под харак-
терным названием «Не возникнет ли путаница?». Полностью
поддерживая исследовательское направление, о котором писал
Гуревич в своей статье, т. е. изучение истории ментальностей,
Алексеев выражал решительное несогласие с используемой
им терминологией. Дело в том, что в России, в отличие от
Великобритании и США, под антропологией традиционно по-
нимался раздел биологической науки, посвященный изучению
морфологии человека и его происхождения. Историческая ан-
тропология, по мнению В. П. Алексеева, написавшего об этом
предмете специальную книгу19, принадлежит к той же отрасли
—----------
См.: Алексеев В. П. Историческая антропология. М., 1979. В этой
книге автор определяет историческую антропологию как «отдел антропо-
логии, использующий антропологические данные в исторических целях на
54
М. М. Кром. Историческая антропология
знания, а направление, которое имел в виду А. Я. Гуревич, пра-
вильнее именовать исторической психологией [S5, с. 79].
Спустя почти десять лет, на конференции в РГГУ в
1998 году, коллега В. П. Алексеева, М. М. Герасимова, также
высказалась в поддержку традиционной для российской науки
трактовки исторической антропологии как биологической дис-
циплины. Примечательно название ее доклада: «Историческая
антропология с точки зрения физического антрополога» [14,
с. 89-90]. Налицо и фактическое признание исторической ант-
ропологии в ее международном значении, и новое определе-
ние предмета собственных занятий (физическая антрополо-
гия). Таким образом, за десять лет произошла новая демаркация
границ между дисциплинами, и непрошеной гостье с нетради-
ционным и нелогичным названием нашлось-таки место в сис-
теме российского гуманитарного знания.
Время от времени снова раздаются заявления о «неудач-
ности» названия «историческая антропология» и предлага-
ются какие-то иные, более подходящие, по мнению того или
иного автора, слова (например, С. И. Григорьев считает более
адекватным для этого направления термин «новая культур-
ная история» [86, с. 165]). Ясно, что подобные инициативы
никаких последствий иметь не могут. Какими бы нелепыми и
странными ни казались критикам и комментаторам сущест-
вующие ныне названия, изменить их уже нельзя: они навеки
вписаны в историю науки. Эти заголовки и ярлычки важны
не сами по себе, а как показатели реальных различий, имею-
щихся между родственными, но не идентичными вариантами
антропологически ориентированной истории. Что же касает-
ся вопроса, поставленного в начале этого параграфа: почему
в науке не утвердилось более «логичное» название «антропо-
логическая история», — то на него можно ответить так: этого
не произошло потому, что ни одна группа исследователей не
избрала этот термин в качестве своего «знамени».
протяжении всей истории человечества, начиная с древнейших этапов...»
(с. 49); он считает ее прикладной наукой, «служанкой истории» (там же).
КЛАССИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ 70-80-х ГОДОВ.
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
Понятие «классика» весьма условно, и выбор нескольких
книг из множества работ, достойных упоминания, неизбежно
будет субъективен. Отдавая предпочтение исследованиям
Э. Ле Руа Ладюри, К. Гинзбурга, Н. 3. Дэвис и П. Берка, на
долю которых выпал в 70-80-х годах большой успех, я руко-
водствовался прежде всего тем, что именно эти работы по-
влияли на формирование современной исторической антро-
пологии и родственного ей направления — микроистории,
став образцом (теперь уже хрестоматийным) нового подхода
к изучению прошлого. При этом, за исключением П. Берка,
названные исследователи не исходили в своих работах из ка-
кой-то готовой теоретической программы; наоборот, успех
этих книг дал другим ученым повод для широких методоло-
гических обобщений. Наконец, то обстоятельство, что эти
историки представляют четыре разные национальные школы
(французскую, итальянскую, американскую и британскую),
как нельзя лучше подчеркивает международный характер
исторической антропологии, который она приобрела в 70-
80-х годах.
Книга Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю, окситанская деревня
(1294—1324)» (рус. пер. см.: [73]; 1-е франц, изд. — 1975) ста-
ла настоящей сенсацией, завоевав признание не только спе-
циалистов-историков, но и широкой читательской аудитории.
«Шедевром этнографической истории» назвал эту книгу
один из рецензентов (об откликах на «Монтайю» см.: [48.
с. 168 и след.]). Автор поставил своей целью представить
жизнь одной деревни в Аквитании на протяжении одного по-
коления, с конца XIII по начало XIV века. Такое исследова-
56
Л/ Л/. Кром. Историческая антропология
ние стало возможно благодаря сохранившимся протоколам
допросов жителей этой деревни епископом города Памье
Жаком Фурнье, проводившим в 1318-1325 годах в тех краях
инквизиционное расследование для выявления альбигойской
ереси. Дотошность инквизиторов, проведших за это время
478 допросов, дала возможность историку «увидеть» крес-
тьянскую жизнь во всех деталях, как отмечает Э. Ле Руа
Ладюри в предисловии к своей книге, удачно названном «От
инквизиции к этнографии».
В первой части книги, озаглавленной «Экология Мон-
тайю: дом и пастух», автор знакомит читателя с обстановкой,
в которой жило население (от 200 до 250 чел. в описываемое
время) этой пиренейской деревни: природно-климатически-
ми условиями, земледелием и скотоводством, социальными
структурами и распределением власти. По наблюдениям Ле
Руа Ладюри, феодальный сеньор и Церковь в лице епископа
находились вне маленького деревенского мирка; их влияние
на жизнь местных крестьян малозаметно. Вообще «классо-
вая борьба», противостояние знати и крестьянства на уровне
горного селения, о котором идет речь, по существу никак
себя не проявляли, зато соперничество между семейными
кланами, или «домами» (ostals), оказывало определяющее
влияние на социальные отношения в деревне.
Во второй, самой большой, части книги («Археология
Монтайю: от жеста к мифу») автор проводит исследование
поведения и мировосприятия крестьян: перед читателем про-
ходит вся жизнь обитателей Монтайю — от рождения до
смерти, включая сексуальные отношения, любовь и брак, ра-
боту и отдых, заботу о здоровье, общение в церкви и на ве-
черних посиделках (la veillee). Ле Руа Ладюри реконструиру-
ет восприятие жителями деревни разных возрастов жизни
(вопреки гипотезе Ф. Арьеса оказывается, что родители ис-
пытывали глубокую привязанность к своим детям и сильно
горевали об умершем ребенке), их религиозные верования,
фольклор, представления о времени и пространстве, природе
и судьбе, понятия о стыде, о нормах поведения и их наруше-
Классика исторической антропологии 70-80-х годов
57
нии... Так на микроуровне достигается эффект целостной,
«тотальной» истории, реальная жизнь воссоздается во всем
ее многообразии и сложности.
Необходимо подчеркнуть, что этнология присутствует в
книге о Монтайю не в виде многочисленных цитат из работ
антропологов, а как способ исследования: ограничив объект
изучения во времени и пространстве, автор, подобно этноло-
гу, как бы «расспрашивает» самих крестьян об их жизни и
реконструирует на основе их «ответов» все аспекты деревен-
ского быта: материальные, социальные, культурные, психо-
логические... Но главная трудность состоит как раз в этом
«как бы», ведь историк, в отличие от этнолога, лишен воз-
можности непосредственно наблюдать персонажей своей
книги и вынужден опираться на показания источников (в
данном случае протоколов инквизиции), составленных с сов-
сем иными, не научными, целями1. Словом, возможности
исторической антропологии отнюдь не безграничны; и тем
не менее работы, подобные «Монтайю», позволяют взгля-
нуть на прошлое под новым углом зрения, заставляя исследо-
вателей пересмотреть многие ставшие привычными пред-
ставления.
В том же году, что и исследование Э. Ле Руа Ладюри, вы-
шла книга американского историка Н. 3. Дэвис «Общество и
культура во Франции начала Нового времени» [76]. В книгу
вошли восемь очерков, большая часть которых была опубли-
кована ранее в виде статей. Очерки представляют собой се-
рию case studies, т. е. исследований отдельных «случаев»,
объединенных общим подходом, который можно назвать со-
циокультурным: автора интересует, как религия, культура и
социальные процессы переплетались и взаимодействовали в
жизни простых людей, французских горожан и крестьян,
преимущественно в XVI веке. Какая связь существовала,
1 Именно на приемы интерпретации источников в книге Ле Руа Ла-
Дюри, не всегда корректные, обратили внимание некоторые критики этой
работы [48, с. 172-174].
58
М. М. Кром. Историческая антропология
например, между организацией труда лионских печатников и
распространением в Лионе идей Реформации? Какую роль
играли женщины в реформационном движении? Почему ме-
нее образованные представительницы прекрасного пола из
семей купцов и ремесленников откликались на призыв
сторонников религиозной реформы, а образованные аристо-
кратки оставались равнодушны к протестантизму? Сами эти
вопросы показывают, что американская исследовательница
уделяет гораздо больше внимания проблеме общественных
изменений и конфликтов, чем историки школы «Анналов»,
подчеркивающие стабильность и неизменность социальных
и ментальных структур (la longue duree) и, несомненно, ока-
завшие влияние на ее творчество.
Этот социокультурный анализ ближе всего соприкасает-
ся с антропологией в очерках «Основания беспорядка» («The
Reasons of Misrule») (гл. 4) и «Обряды насилия» («The Rites
of Violence», рус. пер. см.: [72]) (гл. 6). В первом из них
Н. 3. Дэвис пытается отыскать «порядок в беспорядке»: су-
ществовали ли некие правила «королевств (или аббатств)
беспорядка», учреждавшихся в день «праздника дураков» и
тому подобных рождественских или карнавальных увеселе-
ний, когда весь мир, казалось, переворачивался вверх дном?
В чем был смысл шествий типа шаривари, участники кото-
рых высмеивали старого вдовца, женившегося на молодой,
или рогоносца и т. п.? Используя наблюдения М. М. Бахтина,
антропологов Виктора Тернера и Арнольда ван Геннепа, при-
влекая фольклорный материал, Н. 3. Дэвис приходит к выво-
ду, что подобные пародийные «аббатства» или «королевства»
возникли сначала в деревнях и представляли собой группы
молодежи, которые осуществляли своего рода моральный
контроль над поведением сверстников, прежде всего в сфере
брачных и сексуальных отношений. Обычай шаривари в гро-
тескной форме отражал реальные жизненные проблемы:
брак вдовца с молодой девушкой, считает исследовательни-
ца, означал для молодых парней потерю подходящей брачной
пары, а дочь вдовца от первого брака становилась в новой
Классика исторической антропологии 70-80-х годов
59
семье падчерицей. После перенесения из деревни в город по-
добные шутовские обряды видоизменились: теперь по празд-
никам в «аббатства» объединялись люди одной профессии
или соседи.
В очерке «Обряды насилия», одном из лучших в книге,
автор показывает, что религиозные восстания 60-70-х годов
XVI века во Франции вовсе не были беспорядочными дей-
ствиями случайной толпы; напротив, им была присуща опре-
деленная организация. Убийства и насилия принимали фор-
му религиозного очищения от скверны, олицетворяемой,
естественно, противниками, или законного отправления пра-
восудия. Началу волнений благоприятствовали религиозные
праздники и шествия; восставшие чувствовали себя уверен-
нее, если среди них находился священник или королевский
чиновник. Как подчеркивает Н. 3. Дэвис, все эти обстоятель-
ства помогали толпе забыть о том, что ее жертвы — тоже
люди, и оправдать творимое ею насилие. Так обряды религи-
озного насилия довершали дегуманизацию противников, ко-
торые представлялись толпе уже не людьми, а «заразой» или
«нечистью» [72, с. 154-155].
Итальянский историк К. Гинзбург в течение нескольких
десятков лет был верен одной теме — изучению народной
культуры и религии, в том числе магии и ведовства. Еще в
1966 году он издал книгу о «добрых колдунах» benandanti
(букв, «благоидущие»), которые, по поверьям фриульских
крестьян, сражались по ночам с дьявольскими силами за спа-
сение урожая [79] (реф. книги см.: [5, с. 112-125]). Но все-
мирная известность пришла к К. Гинзбургу после публика-
ции его книги «Сыр и черви. Космология мельника XVI века»
(1976) (рус. пер.: [67])2.
2 В русском издании подзаголовок книги не совсем удачно переведен
как «Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке» [67]. В ориги-
нале здесь употреблено слово «И cosmo» («космос»); тот же термин со-
хранен и в переводе на английский язык (Ginzburg С. The Cheese and the
Worms. The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. Baltimore, 1980). Между
60
М. М. Кром. Историческая антропология
В основе этой работы — почерпнутая из протоколов инк-
визиции история грамотного фриульского мельника Доме-
нико Сканделлы по прозвищу Меноккио, которая, по замыс-
лу Гинзбурга, призвана пролить свет на так называемую
народную культуру Этот термин понимается автором в духе
культурной антропологии и означает комплекс представле-
ний, верований и кодов поведения низших классов общества.
«Культура» представляется К. Гинзбургу более подходящим
понятием для характеристики оригинального мировоззрения
своего героя, чем «ментальность». Последний термин, по его
мнению, подчеркивает иррациональные, темные, бессозна-
тельные элементы в мировосприятии, в то время как во взгля-
дах Меноккио присутствует сильный рациональный компо-
нент, хотя он и не тождественен с нашей рациональностью.
Кроме того, Гинзбург отвергает «ментальность» из-за «ре-
шительно бесклассового характера» этого понятия. Таким
образом, автор стремится не к созданию некоего среднего,
типичного или собирательного образа человека из народа, а,
напротив, к его индивидуализации. И один случай может
быть репрезентативен: он выявляет скрытые возможности
народной культуры, о которых иначе мы бы и не догадыва-
лись из-за скудости источников [67, с. 41^42, 49, 232].
Гинзбург скрупулезно воссоздает факты биографии не-
обычного мельника от его рождения в 1532 году до послед-
него ареста инквизицией и казни в 1600 году. Столь же
тщательно автор выясняет по отдельным упоминаниям и об-
молвкам, рассеянным по протоколам допросов, круг чтения
своего героя и сопоставляет то, что Меноккио прочел, с неор-
тодоксальными выводами, к которым тот пришел. Ориги-
нальные взгляды этого мельника на религию, церковь, зем-
тем выражение «картина мира», получившее большое распространение в
российской научной литературе благодаря работам А. Я. Гуревича, имп-
лицитно отсылает читателя к традиции истории ментальностей — тради-
ции, с которой К. Гинзбург открыто выражает свое несогласие как раз в
этой книге о мельнике Меноккио!
Классика исторической антропологии 70-80-х годов
61
ные порядки и космогонию (он, в частности, утверждал, что
вначале мир напоминал собой «сыр, в котором появились
черви — ангелы»: отсюда и название книги) не сводимы ни к
одной из прочитанных им книг. Архаичные крестьянские ве-
рования, отдельные положения из случайно попавших к
Меноккио немногих книг, а также его собственное богатое
воображение породили удивительный сплав его идей — к та-
кому выводу приходит исследователь.
В 80-е годы все более заметное участие в историко-ант-
ропологических исследованиях принимают американские
ученые: в это время выходят работы Линн Хант, Д. У. Сэбиана
[57], Р. Дарнтона (о его книге «Великое избиение кошек», вы-
звавшей большую полемику, см. на с. 82-87), но, в первую
очередь, здесь вновь нужно назвать имя Н. 3. Дэвис. В 1983 го-
ду вышла, пожалуй, самая известная ее книга—«Возвращение
Мартена Герра» (рус. пер. см.: [69]).
Сюжет, положенный в основу книги, не раз привлекал
внимание историков: молодой крестьянский парень Мартен
Герр покинул родную деревню в 1548 году и на 12 лет исчез
из поля зрения земляков. Во время его отсутствия некий аван-
тюрист Арно дю Тиль, встретивший Мартена во время его
странствий, выдал себя за него, был принят родней Герра и
его женой Бертрандой де Роле и прожил с нею несколько лет.
Затем возникли подозрения, и началось судебное разбира-
тельство, однако мнения земляков относительно подлинно-
сти лже-Мартена разделились, и только возвращение истин-
ного Мартена Герра решило дело; самозванец сознался в
обмане и был казнен. Вся эта удивительная история выглядит
не более чем занятным эпизодом, но Н. 3. Дэвис удалось на-
полнить ее серьезным содержанием: она сумела вписать этот
казус в контекст эпохи. Драма Мартена и Бертранды разыг-
рывается на фоне реконструированной автором истории их
семей, Герров и Ролсов; главной героиней произошедшего
оказывается Бертранда, которая, по предположению исследо-
вательницы, признала в чужаке своего мужа не по ошибке,
а пытаясь таким образом обрести наконец личное счастье,
62
Л/. Л/. Кром. Историческая антропология
которого не мог ей дать настоящий муж. Еще одна вырази-
тельная деталь: на суде несколько десятков жителей деревни,
включая четырех сестер Мартена, не смогли распознать са-
мозванца в человеке, выдававшем себя за их брата и земляка.
Какова мера индивидуальности человека в крестьянской сре-
де XVI века, — над таким вопросом заставляет задуматься
книга Н. 3. Дэвис.
Оригинальностью замысла отличается и следующая ра-
бота той же исследовательницы — «Беллетристика в архи-
вах» (1987) [77]: позитивистская историография считала, что
архивные документы, в отличие от хроник и других нарра-
тивных источников, — самые надежные и достоверные мате-
риалы. Однако обнаруженные Н. 3. Дэвис во французских ар-
хивах копии королевских писем XVI века о помиловании
преступников, осужденных за убийство, содержат немалую
долю художественного вымысла — плод совместного твор-
чества самих осужденных и их адвокатов. Как составлялись
подобные документы, что считалось правдоподобным в рас-
сказе осужденного и способствовало получению прощения,
каковы были тогдашние литературные нормы и приемы, —
все это тщательно исследуется автором в сочетании с анали-
зом французской юридической системы XVI века и роли мо-
нарха в отправлении правосудия.
Наконец, нельзя не упомянуть о важной для нашей темы
книге английского историка П. Берка «Историческая антро-
пология Италии начала Нового времени» (1987) [75]. Ученик
К. Томаса, П. Берк ранее опубликовал исследование о народ-
ной культуре Европы XVI-XVIII веков (1978), в котором,
вслед за своим учителем, активно использовал антропологи-
ческую литературу [74].
Книга «Историческая антропология Италии...» имеет
подзаголовок «Очерки [по истории] восприятия и общения»
[75]. Основному тексту предпослано обширное введение, в
котором дается характеристика самому направлению, полу-
чившему название «историческая антропология» (эту харак-
теристику уместнее рассмотреть далее, см. с. 72-73, при
Классика исторической антропологии 70-80-х годов
63
сравнении разных попыток определения данной дисципли-
ны). Исследование состоит из двух частей: в одной изучают-
ся способы восприятия действительности (или «коллектив-
ные представления»), в другой — формы общения итальянцев
в XVI-XVIII веках. Автор рассматривает переписи, регуляр-
но проводившиеся в тот период в итальянских городах, как
способ социальной классификации и форму представлений
общества о самом себе. В других главах анализируются
представления современников о святости и о нищих и мо-
шенниках. Особый интерес представляют очерки о способах
и формах общения: об устной речи (автор реконструирует
«этнографию устной речи», устную культуру Италии начала
Нового времени), письме (изучаются его различные приме-
нения: в коммерции, семье, церкви, государственном управ-
лении), ритуалах и праздничных церемониях. Несколько не-
ожиданной для читателя, но вполне обоснованной выглядит
трактовка П. Берком оскорбления (жестом, словом, посредс-
твом позорящих надписей или рисунков) как акта коммуни-
кации, направленного против индивида или группы лиц.
Автор предпринимает попытку реконструировать «систему
оскорблений» со свойственными ей правилами, стереотипа-
ми, условностями [75, с. 96 и след.]. В другой, одиннадцатой,
главе П. Берк убедительно показывает, что и ренессансный
портрет может рассматриваться не только как произведение
искусства, свидетельствующее о вкусе и мастерстве худож-
ника, но и — поскольку портреты писались на заказ — как
отражение представлений портретируемого о самом себе, о
своей роли в обществе. Картина обладает определенным
символическим кодом, который историк должен суметь рас-
шифровать.
Разумеется, список новаторских историко-антропологи-
ческих исследований, появившихся в 70-80-х годах, отнюдь
не исчерпывается теми работами, о которых шла речь в этом
разделе. За рамками нашего рассмотрения остались книги
Ж. Ле Гоффа, Жан-Клода Шмитта, А. Я. Гуревича, Дж. Леви,
новые исследования К. Гинзбурга и Э. Ле Руа Ладюри (отчас-
64
М. М. Кром. Историческая антропология
ти этот пробел будет восполнен в следующих разделах посо-
бия). Однако охарактеризованные выше работы четырех вы-
дающихся историков отражают очень важную тенденцию в
развитии современной науки — поворот к микроистории, в
значительной мере именно этим определялся их выбор.
Действительно, при всех различиях сюжетов, индивидуаль-
ных исследовательских методик и манер письма, все авторы,
чьи сочинения были прокомментированы в этом разделе, из-
брали ограниченный во времени и пространстве объект для
изучения (один город или одна деревня, а то и необычная
биография «человека из народа», как в книгах К. Гинзбурга и
Н. 3. Дэвис). В 70-80-х годах эта тенденция получила широ-
кое распространение, однако не стала всеобщей. Разница в
подходах сказалась и в предложенных тогда рядом историков
теоретических определениях того, что следует понимать под
исторической антропологией.
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
В ПОИСКАХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.
ДИСКУССИИ 70-80-х ГОДОВ
За отправную точку можно принять уже упоминавшуюся
выше статью Ж. Ле Гоффа 1972 года «Историк и человек по-
вседневности», переизданную в 1977 году в сборнике «Другое
средневековье» (рус. пер. см.: [53, с. 200-210]). Прежде все-
го, в этой программной статье автор констатирует, что в наши
дни история и этнология вновь сближаются после более чем
двухвековой «разлуки» («отец истории» Геродот, замечает Ле
Гофф, был и «отцом этнологии»; пути обеих научных дис-
циплин надолго разошлись лишь в эпоху Просвещения, когда
объектом изучения историков стали считаться лишь «циви-
лизованные» народы, идущие по пути прогресса; с XIX века
изучение «варварских» племен стало специальностью этно-
логов). Сейчас обновленная история имеет тенденцию к тому,
чтобы стать «этнологической» историей. Что же с помощью
этого этнологического взгляда может открыть историк в сво-
ей области исследования?
Во-первых, считает Ле Гофф, этнология меняет хроноло-
гическую перспективу истории, радикально устраняя из нее
событие или, скорее, предлагая историю, состоящую из по-
вторяющихся событий, календарных праздников и церемо-
ний. Времена истории требуют дифференциации, и особое
внимание должно быть уделено сфере длительной протя-
женности (la longue duree\ почти неподвижному времени,
о котором писал Ф. Бродель. В своем обращении к повсед-
невности историческая этнология естественным образом
приводит к изучению ментальностей, которые рассматрива-
ются как то, что меньше всего меняется в ходе исторической
эволюции.
66
М М. Кром. Историческая антропология
Этнология помогает историку лучше понять, как функ-
ционируют определенные социальные структуры (семейные,
родственные, половозрастные и т. д.), которые в так называе-
мых исторических обществах предстают в нечетком, раз-
мытом виде. Этнологическая история также подразумевает
переоценку магических, харизматических элементов в про-
шлом и настоящем (здесь у Ле Гоффа дается ссылка на работу
М. Блока о королях-чудотворцах и труды его последователей).
Кроме того, под этнологическим углом зрения на первый план
выходит история повседневности. (Далее Ле Гофф намечает
целую программу изучения истории техники, тела, одежды,
жилища и т. д.) Наконец, этнология способствует проявлению
таких тенденций в исторической науке, как распространение
компаративистского и ретроспективного методов, а также из-
бавление от европоцентристской точки зрения.
Вместе с тем сотрудничество истории с этнологией имеет
свои пределы, подчеркивает Ле Гофф, и простой перенос эт-
нологического подхода в историю чреват известными труд-
ностями и опасностями. Это касается и терминологии, и не-
обходимости, избавляясь под влиянием этнологии от иллюзий
линейного и постоянного прогресса, сохранять внимание к
проблемам изменений, эволюции.
Программа развития «этноистории», намеченная Ле Гоф-
фом (с 1977 года он предпочитает пользоваться иным терми-
ном, историческая антропология: [53, с. 8; 40, с. 12, 53 (пре-
дисл. к книге М. Блока)]), очень близка к той, которую
изложил в своей статье в энциклопедии «Новая историческая
наука» (1978) его коллега по редакции журнала «Анналы»
А. Бюргьер [97]. Подробно рассказав о предшественниках
исторической антропологии (корректность подобного подхо-
да уже обсуждалась выше, на с. 23-25), А. Бюргьер перехо-
дит к характеристике этого направления: по его мнению, ис-
торическую антропологию можно было бы определить как
историю привычек: физических (включая жесты), пищевых,
эмоциональных, ментальных. «Впрочем, — замечает ав-
тор, — какая же привычка не является ментальной?» Однако
Историческая антропология в поисках самоопределения 67
Бюргьер не хочет давать законченного определения обсужда-
емому направлению, полагая, что историческая антрополо-
гия соответствует скорее нынешнему моменту исторической
науки, чем какому-либо ее предметному полю. «У историче-
ской антропологии нет собственной территории {domaine
propre)», — утверждает французский ученый и перечисляет
ряд областей, где успешно применяется новый подход: исто-
рия питания, история тела (включая историю болезней, сек-
суального поведения и т. п.), история семьи. Однако наиболее
плодотворными на сегодняшний день, констатирует автор,
являются историко-антропологические исследования в сфе-
ре изучения ментальностей.
Свое понимание исторической антропологии А. Бюргьер
уточнил в статье, написанной для «Словаря исторических
наук», вышедшего в 1986 году под его редакцией. «История
поведения и привычек», — так определил он «поле», занима-
? емое исторической антропологией, и пояснил: история при-
вычек, в отличие от событийной истории, т. е. история по-
вторяющегося (жестов, обрядов, мыслей); «но и история
поведения, в отличие от истории институций и истории [при-
нятия] решений» [92, с. 54]. Подробно охарактеризовав на-
правления историко-антропологических исследований (био-
логическую антропологию, экономическую, социальную и
т. д.), Бюргьер закончил статью несколько неожиданной фра-
зой: «То, что мы сегодня называем исторической антрополо-
гией, возможно, ничто иное, как реализация программы, на-
меченной М. Блоком для истории ментальностей» [92, с. 59].
Здесь, естественно, возникает вопрос: как соотносятся
между собой названные направления — историческая антро-
пология и история ментальностей? Не является ли первая
лишь продолжением и развитием второй, но под новым на-
званием?
За пределами Франции многие исследователи, присталь-
но следившие за эволюцией школы «Анналов», склонны
были считать, что речь идет об одном и том же направлении.
Такого мнения придерживались в 70-х — начале 80-х годов
68
М. М. Кром. Историческая антропология
немецкие историки В. Лепенис, М. Эрбе и др., подчеркивав-
шие, ссылаясь на опыт французской историографии, что
главной задачей исторической антропологии является изуче-
ние менталитета (см.: [75, с. 156-157]). В том же духе выска-
зывались видные российские медиевисты А. Я. Гуревич и
М. А. Барг1. О понимании А. Я. Гуревичем предмета и задач
исторической антропологии следует сказать особо1 2.
Творчество А. Я. Гуревича явно созвучно традиции шко-
лы «Анналов», для популяризации достижений которой в на-
шей стране Арон Яковлевич сделал очень многое3. Его эво-
люция как ученого, по собственному признанию Гуревича,
имела ту же направленность, что и у его французских коллег:
от аграрной и социальной истории — к истории ментально-
стей и культуры [45, с. 78-79; 49, с. 127-134]. В 70-90-х годах
исследователь издал целую серию книг, способствовавших
прояснению многих аспектов средневековой картины мира:
восприятия времени и пространства, отношения к жизни и
смерти, к труду, бедности и богатству, к человеческой лич-
ности и т. д. [42, 43, 46, 47, 52]. Картина мира в концепции
А. Я. Гуревича — центральная категория истории менталь-
ностей, дисциплины, которая, по мысли этого выдающегося
исследователя, делает возможным синтез социальной исто-
рии и истории культуры, создает ситуацию диалога исследо-
вателя с людьми минувших эпох [45, с. 86-88].
Еще в 1984 году едва ли не первым А. Я. Гуревич позна-
комил отечественную научную общественность с термином
«историческая антропология», обозначавшим вновь возник-
шее научное направление [44, с. 40-48]. Однако при этом
1 См.: Барг М. А. К вопросу о современной структуре предмета исто-
рии как науки // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1.
М., 1989. С. 89-90.
2 О вкладе А. Я. Гуревича в становление исторической антропологии
см. подробнее статью [21].
3 Именно поэтому в списке литературы его труды помещены под руб-
рикой «Традиции школы “Анналов”».
Историческая антропология в поисках самоопределения 69
содержание новой дисциплины, ее предмет в интерпретации
Гуревича остались прежними — история ментальностей.
В статье «Историческая наука и историческая антропология»
(1988), которую можно считать первым манифестом этого на-
правления в нашей стране, А. Я. Гуревич писал: «Одна из
главных задач исторической антропологии и состоит в воссо-
здании картин мира, присущих разным эпохам и культурным
^традициям...» [87, с. 57]. В следующей статье на ту же тему,
.опубликованной в 1989 году в «Вестнике АН СССР», одной
из целей нового направления называлось «изучение социаль-
ного поведения людей» и «человеческого индивида <...>
в рамках социума»; однако тут же А. Я. Гуревич подчерки-
вал, что поведение людей детерминируется не только объек-
тивной реальностью, но и в огромной степени их субъектив-
ным восприятием мира, т. е. опять-таки ментальностью.
Помещенный далее перечень тем «историко-антропологи-
;.ческого исследования» по существу ничем не отличается от
^списка «основных представлений людей», служащих пред-
метом изучения истории ментальностей, который тот же ав-
тор приводит в других работах [55, с. 73-74; ср.: 45, с. 85-86].
.И в дальнейшем А. Я. Гуревич сохранил свой взгляд на соот-
ношение этих двух направлений: в книге о школе «Анналов»
(1993) он написал о «перерастании» истории ментальностей
в историческую антропологию, «нацеленную на реконструк-
цию картин мира» [48, с. 293].
При такой трактовке получается, что произошла лишь
смена названия. И надо признать, что сами французские исто-
рики, как явствует из процитированных выше статей Ж. Ле
Гоффа и А. Бюргьера 70-80-х годов, дали повод к подобным
интерпретациям, поскольку они не предприняли попыток как-
то разграничить два явно родственных направления. Уместно
также вспомнить мимоходом брошенную А. Бюргьером фра-
зу о вытеснении истории ментальностей исторической антро-
пологией в статье 1983 года [цит. по: 2, с. 45]).
Тем интереснее ответ Ж. Ле Гоффа на вопрос, заданный
ему А. Я. Гуревичем в интервью в декабре 1991 года: есть ли
70
М. М. Кром. Историческая антропология
какой-то внутренний смысл в замене «истории ментально-
стей» понятием «историческая антропология», или эти поня-
тия взаимозаменяемы? Ле Гофф ответил совершенно опреде-
ленно: «История ментальностей и историческая антропология
никогда не смешивались. Они сложились почти одновре-
менно, но соответствовали разным целям и объектам.
Историческая антропология представляет собой общую гло-
бальную концепцию истории. Она объем лет все достижения
“новой исторической науки”, объединяя изучение менталите-
та, материальной жизни, повседневности вокруг понятия ант-
ропологии. Она охватывает все новые области исследования,
такие, как изучение тела, жестов, устного слова, ритуала, сим-
волики и т. п. Ментальность же ограничена сферой автомати-
ческих форм сознания и поведения» [цит. по: 48, с. 297].
Категоричное утверждение Ж. Ле Гоффа о том, что «исто-
рия ментальностей и историческая антропология никогда не
смешивались», представляется далеко не бесспорным: как
раз наоборот, в трудах историков школы «Анналов», начиная
с ее основателей Л. Февра и М. Блока и кончая самим Ж. Ле
Гоффом, можно найти немало примеров смешения или, точ-
нее, нечеткого разделения этих двух направлений. Приве-
денное суждение одного из лидеров «новой исторической
науки» характеризует определенную тенденцию, проявившу-
юся к началу 90-х годов, — тенденцию к ограничению сферы
истории ментальностей. Возможно, не все коллеги Ж. Ле
Гоффа согласны с ним в том, что ментальность — лишь часть
проблематики исторической антропологии, но своего рода
разочарование в эвристических возможностях этого термина
и связанного с ним направления исследований испытали в
80-х годах многие ученые во Франции и других странах.
Со времен Л. Февра и до последних десятилетий катего-
рия ментальностей понималась исключительно широко: в
нее входили и «коллективные представления», и эмоции (см.,
например, книгу Ж. Делюмо о страхе: [60]), и восприятие ок-
ружающего мира, и воображение; при этом ментальность
обычно отождествлялась со стереотипами сознания, с «кол-
Историческая антропология в поисках самоопределения 71
лективным бессознательным» (Ф. Арьес) [57, с. 187-188]
или не полностью осознанным, неотрефлексированным
(А. Я. Гуревич) [44, с. 38; 45, с. 75]. Как уже говорилось, в
середине 70-х годов К. Гинзбург выступил с серьезной кри-
тикой теории ментальностей, справедливо указав на прини-
жение ею рациональности простых людей и на однородно-
бесклассовый характер этой категории. В 80-е годы критиков
стало гораздо больше: в частности, П. Берк обратил внима-
ние на статичность и искусственную гомогенность массово-
го сознания в изображении историков ментальности [30,
с. 93-94; 59, с. 170-174; см. также реф.: 2, с. 56-59]. Ален
Буро, подвергнув критике психологическую версию истории
ментальностей, предложил «ограниченную» концепцию их
изучения [55]. Наконец, Ж. Ле Гофф в процитированном
выше интервью 1991 года высказался за «дополнение» исто-
рии ментальностей историей идеологий, воображения и цен-
ностей [48, с. 298]: стало быть, перечисленные им категории
не включаются в сферу ментальностей. Сужение или ограни-
чение этой сферы налицо.
Таким образом, разграничение истории ментальностей и
исторической антропологии не произошло по логико-семан-
тическим критериям, а явилось отражением некоторых сов-
ременных историографических тенденций. Эти тенденции
можно связать с усилением индивидуализирующего подхода
в исторической науке и с отказом от преимущественного вни-
мания к детерминантам, к которым, безусловно, относится и
теория ментальностей; об этих тенденциях уже шла речь в
начале данной книги.
Возвращаясь к разногласиям между А. Я. Гуревичем и
его французскими коллегами по вопросу о соотношении ис-
тории ментальностей и исторической антропологии, необхо-
димо подчеркнуть, что эти разногласия все-таки остаются в
рамках одного направления, и их не стоит преувеличивать.
Подобно Ле Гоффу и Бюргьеру, А. Я. Гуревич понимает исто-
рическую антропологию широко, по существу, как програм-
му обновления всей исторической науки. Разделяет он и
72
М. М. Крам. Историческая антропология
интерес своих французских коллег ко времени «большой
длительности», ведь именно к этой категории времени при-
надлежат картины мира, реконструкцию которых, как мы уже
знаем, А. Я. Гуревич считает главной задачей исторической
антропологии.
Существенно иная трактовка этого научного направления
представлена в книге П. Берка «Историческая антропология
Италии начала Нового времени» (1987). В первой главе автор
разъясняет, что понимается под исторической антропологией.
Этот термин вошел в употребление в течение последнего де-
сятилетия и используется применительно к работам К. Гинз-
бурга, Э. Ле Руа Ладюри, К. Томаса и некоторых других авто-
ров. Не пытаясь переоценить единство и цельность этого
направления, П. Берк, тем не менее, считает, что, несмотря на
разнообразие исследовательской практики, термин «истори-
ческая антропология» все-таки описывает определенный
подход к истории. По его мнению, следующие характерные
черты отличают этот подход от других видов социальной
истории.
Во-первых, в отличие от многих работ по социальной ис-
тории, посвященных описанию общих тенденций на основа-
нии количественных данных, историческая антропология
намеренно качественна и фокусирует внимание на особых
случаях. Во-вторых, авторы историко-антропологических
исследований выбирают в качестве предмета изучения не
судьбы миллионов людей, а подчас малые сообщества вроде
деревни Монтайю, описанной в книге Э. Ле Руа Ладюри).
Такая «микроскопичность» нужна для придания исследова-
нию «большей глубины, большей красочности и жизненно-
сти». В-третьих, вместо каузальных объяснений на основе
долговременных тенденций — объяснений, которые совре-
менники не поняли бы, и тенденций, о существовании кото-
рых они не подозревали, — историки-антропологи прибе-
гают к тому, что известный этнолог К. Гирц назвал
«насыщенным описанием (thick description)», т. е., поясняет
Берк, к «интерпретации социального взаимодействия в дан-
Историческая антропология в поисках самоопределения 73
ном обществе в терминах норм и категорий самого этого об-
щества». В-четвертых, историки антропологического на-
правления уделяют большое внимание символизму
повседневной жизни: обыденным ритуалам, рутине, манере
вдеваться, есть, общаться друг с другом, жестам и т. д.
Наконец, в-пятых, обнаруживаются разные теоретические
•истоки: если специалисты по социальной истории прямо
Или косвенно вдохновляются теориями Карла Маркса и
•Макса Вебера, то для историков-антропологов их великая
^традиция идет от Эмиля Дюркгейма и А. ван Геннепа к
$Марселю Моссу и далее к таким современным фигурам, как
?К. Гирц, В. Тернер и П. Бурдье [75, с. 3-4].
Перед нами явно иная историографическая традиция:
^характерно, что вопрос о соотношении исторической антро-
пологии и истории ментальностей даже не возникает.
Ментальность вообще нечасто упоминается на страницах
♦книги Берка). Зато оказывается весьма актуальной проблема
соотношения микро- и макроподходов в историческом ис-
следовании. Британский историк подчеркивает, что в его на-
мерения вовсе не входит отвергать макроскопический под-
ход: оба названных подхода дополняют друг друга; термин
«историческая антропология» в заголовке указывает лишь
*На то, что проблемы, находящиеся на стыке традиционной
«социальной» и «культурной» истории и обсуждаемые в
книге, легче «поддаются» изучению в рамках микроподхода
[75, с. 4]).
Итак, можно констатировать наличие по меньшей мере
двух трактовок или двух программ исторической антрополо-
гии в современной науке. Одна трактовка связана с традици-
ей школы «Анналов» (в данном случае речь идет не только о
французских историках, но и об их единомышленниках в
Других странах); для нее характерно рассматривать истори-
ческую антропологию как «новую историческую науку» в
Целом, а сам ее предмет представлять в виде очень устойчи-
вых, существующих в длительной временной протяженно-
74
М. М. Кром. Историческая антропология
сти структур повседневности. Другой вариант понимания ис-
торической антропологии представлен П. Берком. Примерно
тех же взглядов придерживаются итальянские приверженцы
микроистории (К. Гинзбург, Дж. Леви и др.), некоторые аме-
риканские (Н. 3. Дэвис, Д. У. Сэбиан) и германские (X. Медик,
Ю. Шлюмбом) исследователи. В этой версии историческая
антропология предстает лишь как одно из направлений соци-
альной (социокультурной) истории, а в качестве инструмента
исследования настойчиво рекомендуется «социальный мик-
роскоп» (см.: [65, с. 272; и др.]). Можно, однако, попытаться
выделить ряд черт, присущих исторической антропологии в
обеих ее трактовках: таким образом, возможно, мы прибли-
зимся к сути, смысловому ядру нового научного направле-
ния. Прежде всего, сторонники этого направления единодуш-
ны в том, что касается междисциплинарного характера
исторической антропологии, ее плодотворного взаимодей-
ствия с социальными науками, в первую очередь с этноло-
гией. Все они видят важную задачу исторической антрополо-
гии в открытии инаковости минувших эпох, непохожести их
друг на друга и на наше время. Образ другого — тема, одина-
ково близкая и этнологам, и историкам антропологического
направления [91, с. 60; 87, с. 58-59; 65, с. 272; 68, с. 7; 98,
с. 82-83]. По словам К. Гирца, американского этнолога, чьи
работы особенно часто цитируются историками, «задача
этнографии <...> заключается на самом деле в создании (на-
ряду с искусством и историей) таких описаний, которые
позволяли бы перенастраивать наше внимание». И далее он
продолжает: «Формирование представлений о различиях
(имеется в виду не изобретение новых, а обнаружение реаль-
ных различий) остается наукой, в которой мы все нуж-
даемся»4.
4 Гирц К. Польза разнообразия И THESIS: Теория и история экономи-
ческих и социальных институтов и систем. Т. I. Вып. 3. М., 1993. С. 181,
182.
Историческая антропология в поисках самоопределения 75
Наконец, по общему мнению ученых разных стран, исто-
рическая антропология имеет свою специфику в сфере про-
блематики: особое внимание историки этого направления
уделяют символике повседневной жизни, манере поведения,
привычкам, жестам, ритуалам и церемониям.
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Старые и новые интеллектуальные влияния
Историческая антропология, как видно из предыдущего
изложения, — «дитя» междисциплинарности; многое она за-
имствовала из социальных наук и, прежде всего, из этноло-
гии. Эти заимствования, однако, определялись логикой раз-
вития самой исторической науки. Ярким доказательством
последнего служат многочисленные случаи повторного «от-
крытия» историками давно изданных работ социологов и ан-
тропологов. Так, только в последние десятилетия внимание
историков привлекли к себе труды А. ван Геннепа (1873—
1957) и М. Мосса (1872-1950), а из книг Э. Дюркгейма (1858—
1917) особую популярность вдруг снискали «Элементарные
формы религиозной жизни» (1912). Не случайно поздний ус-
пех этих работ у историков, которые не проявляли особого
интереса к ним при жизни их авторов, совпал с периодом ста-
новления исторической антропологии и, в частности, с ак-
тивным изучением ритуалов и обрядов в жизни минувших
эпох. В еще большей мере это относится к книге немецкого
социолога Н. Элиаса «О цивилизационном процессе», впер-
вые изданной в 1939 году, но оставшейся не замеченной в на-
учном мире; слава пришла к этой книге и ее автору лишь пос-
ле переиздания данного труда в 1969 году и переводов на
другие европейские языки. Работы Элиаса завоевали огром-
ную популярность в 70-80-е годы, как раз в то время, когда
историки разных стран активно разрабатывали проблемати-
ку частной жизни и истории повседневности.
Помимо старых интеллектуальных влияний, с новой си-
лой обнаружившихся в наши дни, есть и более новые влия-
Историческая антропология и социальные науки
77
ния. В частности, можно упомянуть социолога И. Гофмана
(1922-1982), философа Мишеля Фуко (1926-1984), антро-
полога К. Гирца (1926-2006), социолога и этнолога П. Бурдье
(1930-2002)1.
Разумеется, у каждого историка есть свои предпочтения.
Кроме того, можно заметить и некоторые «национальные
пристрастия»: так, на французскую историческую антропо-
логию исключительное влияние оказали труды К. Леви-
Строса (см.: [750] и др.), в то время как в работах амери-
канских и британских историков преобладают ссылки на
антропологов-соотечественников: Э. Э. Эванса-Причарда,
Макса Глакмана, В. Тернера, К. Гирца. Ниже приведен крат-
кий обзор трудов по социальным наукам, чаще всего цитиру-
емых в современных историко-антропологических исследо-
ваниях.
Книга Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиоз-
ной жизни», вышедшая впервые в 1912 году, до сих пор со-
храняет свое научное значение. В ней создатель французской
социологической школы применяет структурно-функцио-
нальный подход к анализу религии и ритуалов. Религия в его
интерпретации есть социальное явление, это «единая систе-
ма верований и практик, относящихся к священным предме-
там <...> верований и практик, которые объединяют в одно
моральное сообщество, называемое Церковью, всех, кто при-
надлежит к ним» [190, с. 62]. Религиозные представления он
определяет как «коллективные представления, которые выра-
жают коллективные реалии»; обряды укореняют эти верова-
ния и чувство единства группы; смысл церемоний — «привя-
зать настоящее к прошлому и индивида к группе» [190, с. 22,
420, 423]. И терминология, и подход Дюркгейма к этим воп-
росам активно используется в современных исследованиях
по религиозной антропологии.
1 Неплохой обзор социологических и антропологических концепций,
которые могут быть полезны историку, содержится в книге Н. Н. Козло-
вой [20].
78
М. Л/. Кром. Историческая антропология
Настольной книгой любого историка, изучающего ритуа-
лы, служит книга А. ван Геннепа «Обряды перехода» (1909):
в ней систематически описываются все церемонии, которы-
ми сопровождается переход человека из одного состояния в
другое: свадьба, похороны, инициация, посвящение в сан,
возведение на престол и т. д. [774].
Из работ М. Мосса наибольшее значение для историче-
ской антропологии имеют «Очерк о даре» (1925) и статья
«Техники тела» (1935) [182, с. 83-222, 242 -263]. Первая ра-
бота является самым известным сочинением М. Мосса и
представляет собой исследование форм взаимного обмена в
архаических обществах. Трудно переоценить ее значение для
разных отраслей исторического знания; в частности, «Очерк
о даре» немало способствовал эволюции традиционной эко-
номической истории в сторону экономической антрополо-
гии. Статья о техниках тела вдохновила многих современных
историков на изучение различных социальных практик, ма-
нер поведения, привычек. Оказалось, что ходьба, бег, сиде-
ние за столом и другие, казалось бы, естественные движения
и позы на самом деле социально окрашены и изменяются в
зависимости от места, времени, возраста, пола и т. д.
В 30-е годы, когда Мосс размышлял над техниками тела,
вышло в свет еще одно новаторское исследование, которое
было оценено по достоинству лишь недавно, — «О процессе
цивилизации» Н. Элиаса [187]. В этой книге выработка
хороших манер в западноевропейском аристократическом
обществе конца средневековья и начала Нового времени рас-
сматривается как часть цивилизационного процесса, сопро-
вождавшегося усилением механизма самоконтроля и измене-
нием порога смущения и стыдливости образованных слоев
общества; в свою очередь, эти перемены связываются авто-
ром с социально-политическими процессами той эпохи и,
прежде всего, со становлением абсолютистских государств в
Европе. В 70-80-х годах работы Н. Элиаса оказали очень
значительное влияние на разработку таких проблем истори-
ческой антропологии, как история различных телесных прак-
Историческая антропология и социальные науки
79
тик (жестов, манер поведения) и история повседневности,
1дав импульс развитию одноименного научного направления
0 Германии (Alltagsgeschichte).
Изучая символику повседневного общения в разных об-
ществах прошлого, историки — сторонники антропологи-
ческого направления, в частности П. Берк, используют на-
блюдения американского социолога И. Гофмана, главным
Образом его книгу «Представление себя другим в повседнев-
ной жизни» (1959) [777]. В данной работе драматургический
Подход применен к анализу взаимодействия между людьми:
поведение описывается с использованием терминов
^роли», «драматический контекст», «управление впечатлени-
ями» и т. д. Основная идея состоит в том, что во время по-
вседневного общения люди стремятся создать благоприятное
впечатление о себе и одновременно помогают или мешают в
пом другим участникам «представления».
| Трудно оценить в нескольких предложениях воздействие
историческую науку творчества известного французского
^философа и культуролога М. Фуко. Возможно, главный урок,
Преподанный им историкам, состоит в том, что не существу-
ет естественных и неизменных объектов исторического
Исследования. В своих книгах Фуко сумел показать, что безу-
мие, медицинское лечение, сексуальность, тюремное заклю-
чение — не какие-то «вечные» темы, а своего рода социаль-
ные изобретения, по-разному осознаваемые и практикуемые
И различные эпохи2. В области исторической антропологии
£го работы стимулировали обращение к исследованию
^различных социальных практик (лечения, наказаний, власт-
вования и т. д.), а его книга «Надзирать и наказывать. История
^тюрьмы» (1975) [755], где был поставлен вопрос о присут-
ствии власти на всех уровнях жизни общества, во всех кле-
точках социального организма, способствовала становлению
Микроистории.
2 Список основных сочинений М. Фуко, многие из которых переведе-
ны теперь на русский язык, и литературы о нем см.: [184, с. 444-447].
80
М. М. Кром. Историческая антропология
Пробуждению интереса к «практической логике» повсед-
невной жизни людей со стороны историков немало способ-
ствовали работы социолога и этнолога П. Бурдье [173, 189].
Возможное решение сложной проблемы соотношения свобо-
ды и социальной детерминации в поведении человека содер-
жится в разработанной им концепции хабитуса (habitus}.
Хабитус, определяемый ученым как «принцип регулируемых
импровизаций», представляет собой совокупность схем (или
матриц) восприятия, мышления и поведения, воспроизводи-
мых определенной социальной группой, именно из этого «ре-
пертуара» индивид выбирает ту или иную стратегию поведе-
ния, отвечающую сложившимся жизненным обстоятельствам
[189, с. 78-87, 95 и др.].
Среди антропологов, чьи работы особенно часто цитиро-
вались историками на протяжении последних десятилетий,
нужно назвать имя американского ученого К. Гирца, ведуще-
го представителя символической, или интерпретативной, ан-
тропологии. Наибольшую популярность снискали в 70-80-х
годах его книги «Интерпретация культур» (1973) и «Местное
знание» (1983) [176,191]. Как утверждает К. Гирц в ставшей
знаменитой статье [775], любое этнографическое описание
является насыщенным интерпретациями описанием. Культу-
ра понимается им семиотически, т. е. как система знаков, и
задача исследователя заключается в постижении смысла про-
исходящего в этой культуре. Этой цели и призвано служить
насыщенное описание (thick description), т. е. такое описание
конкретного события, ритуала, ситуации, посредством кото-
рого исследователь пытается реконструировать те значения
или оттенки смысла, которые сами участники вкладывали в
свои слова и поступки. Пафос этого утверждения К. Гирца
состоит в том, что запись антропологом того, что он увидел
или услышал, является (не может не являться!) интерпрета-
цией. Отсюда следует (добавлю от себя), что «преимущест-
во» этнолога перед историком, лишенного, по определению,
возможности непосредственного наблюдения, иллюзорно: в
обоих случаях происходит интерпретация полученной уче-
Историческая антропология и социальные науки
81
ным информации. Такая исследовательская позиция Гирца
должна была способствовать дальнейшему сближению двух
дисциплин — истории и этнологии. И действительно, исто-
рики, как мы вскоре убедимся, не остались равнодушными ко
• взглядам американского антрополога: одни из них стали его
^активными сторонниками, другие — не менее активными
критиками гирцизма в истории.
Как историки читают антропологов?
После того как были охарактеризованы концептуальные
? труды представителей социальных наук, оказавшие влияние
на становление направления, за которым с 70-х годов закре-
пилось название «историческая антропология», стоит обсу-
дить вопрос о том, что и как заимствуют историки из работ
ученых других специальностей, в первую очередь антропо-
логов.
Вероятно, можно говорить о разных типах междисципли-
1 парных заимствований. Наиболее простой и распространен-
ный — привлечение этнографического материала, относяще-
[ гося к данному региону и конкретной теме, как это сделали,
например, Э. П. Томпсон и Н. 3. Дэвис при изучении шарива-
ри в Англии и Франции или П. Берк в ходе реконструкции
«системы» оскорблений в проанализированных выше рабо-
тах [84, 76, гл. 4; 75, гл. 8]. Другой, тоже широко распростра-
ненный тип заимствования — привлечение для объяснения
изучаемого феномена (магии, колдовства, какого-либо ритуа-
ла и т. п.) сравнительного материала, почерпнутого из работ
этнологов, описывавших культуры, весьма удаленные от той,
которая в данный момент является предметом исследования.
Такой прием тоже может быть плодотворен, но он таит в себе
и немалые опасности: на них еще в 1972 году обращал вни-
мание коллег Э. П. Томпсон [700]. Ему вторит Н. 3. Дэвис:
«Мы обращаемся к сочинениям антропологов не за предпи-
саниями, а за предложениями... Не существует замены об-
ширной работе с историческими источниками. Нет способа,
82
Л/. М. Кром. Историческая антропология
как ритуал на Новой Гвинее или в Замбии может быть ис-
пользован для установления смысла и применений ритуала,
скажем, в Европе XVI века; факты должны происходить от
людей и институций эпохи» [97, с. 273].
Еще более рискованным выглядит третий тип заимство-
вания: когда историки берут из работ антропологов не отде-
льные наблюдения и выводы, а их концепции целиком. В дан-
ном случае историка поджидает опасность эклектики, на что
также обратила внимание Н. 3. Дэвис: нередко исследователи
цитируют подряд суждения антропологов, являющихся про-
фессиональными оппонентами [97, с. 273].
Даже если эклектики удается избежать, насколько про-
дуктивным оказывается приложение заимствованной из ант-
ропологии концепции к анализу исторического материала?
Чтобы этот вопрос не прозвучал риторически, рассмотрим
конкретный пример — книгу американского историка
Р. Дарнтона «Великое избиение кошек и другие эпизоды
французской культурной истории» (1984)3 и длительную по-
лемику, которую вызвало появление данной работы.
По признанию самого автора, эта книга «выросла» из
университетского семинара по истории и антропологии, ко-
торый Р. Дарнтон вел совместно с К. Гирцем. Проблематика
данной работы соответствует тому, что во Франции называ-
ется историей ментальностей, но этот жанр остался чужд ан-
глосаксонской традиции, и Дарнтон определяет жанр своей
книги как cultural history — культурную историю (возможно,
лучше перевести как «культурологическую») с ориентацией
на этнографию [65, с. 6]. Эта ориентация подразумевает по-
пытку «взглянуть на вещи с точки зрения туземца»; автор
также разделяет с антропологами их исходный тезис, что
«символы общи для всех — как воздух, которым мы дышим,
или <...> язык, на котором мы говорим» [65, с. 304].
3 В русском переводе, как уже говорилось выше (с. 11), книга оза-
главлена неточно: «Великое кошачье побоище и другие эпизоды из исто-
рии французской культуры» [65].
Историческая антропология и социальные науки
83
Книга Дарнтона состоит из шести очерков, но я останов-
люсь только на первых двух, поскольку именно они дали ос-
новную пищу для дискуссии. В первой главе, названной
«Крестьяне рассказывают сказки: смысл Матушки Гусыни»,
автор пытается через анализ сказок проникнуть в «менталь-
ный мир» французских крестьян. Дарнтон обращает внима-
ние на то, что оригинальные французские сказки, записан-
ные фольклористами в XIX веке, сильно отличаются от тех
вариантов, которые читают детям теперь. И главное отличие
! заключается не в тех или иных деталях, а в удивительной
жестокости этих народных сказок. Размышляя о ее причи-
нах, Р. Дарнтон указывает на суровые реалии крестьянской
жизни при старом порядке, в XV-XVIII веках: голод, высо-
кую смертность, нужду. Это был мир непосильного труда и
постоянного недоедания, мир мачех и падчериц, мир, в кото-
ром дети казались обузой, лишними ртами. Неудивительно,
что указанные мотивы нашли отражение в фольклоре.
• Сравнивая французские сказки с немецкими и английскими,
'Дарнтон приходит к выводу о наличии у первых особого
культурного стиля, который, в свою очередь, отражает осо-
бенности национальной ментальности. «Французскость су-
ществует (Frenchness exists)», — утверждает автор4. Сказки
показывали, как устроен мир и как следует вести себя, чтобы
выжить. Они не воспевали христианские добродетели, а, ско-
рее, поощряли хитрость и плутовство (символом этих ка-
честв может считаться Кот-в-Сапогах). И этот особый фран-
цузский культурный стиль, настаивает автор, не менялся в
течение столетий: нынешний француз так же старается обма-
нуть всемогущее государство, как его предок пытался пере-
хитрить местного сеньора.
Второй очерк посвящен эпизоду, давшему название всей
книге, — «Великому избиению кошек на улице Сен-Северен»
4 Цитируется по оригинальному изданию 1984 года (с. 61). В русском
переводе это утверждение автора передано весьма приблизительно:
«“Французский дух” — отнюдь не выдумка» [65, с. 78].
84
Л/. Л/. Кром. Историческая антропология
в Париже. О нем рассказал печатник по имени Никола Конта
в сочинении о нравах типографских рабочих («Anecdotes
typographiques»), датированном 1762 годом. Среди прочего
рассказчик вспоминает о «забавном» происшествии более
чем двадцатилетней давности, участником которого он был
сам: ученики-работники книгопечатни на улице Сен-Севе-
рен, которых хозяин плохо кормил, страдали от ночных коша-
чьих «концертов», мешавших им спать; хозяева, напротив,
покровительствовали этим животным и кормили их деликате-
сами, поэтому работники избрали кошек орудием своей мес-
ти. Подражая кошачьему мяуканью, они устроили несколько
ночных «концертов» прямо над хозяйской спальней и доби-
лись от хозяина повеления истребить несносных котов. После
этого было устроено настоящее избиение кошек, принявшее
вид шутовского судебного процесса над ними; жертвой этой
казни стала и любимица хозяйки — серая кошечка. При виде
последствий этой расправы хозяин пришел в ярость, хозяй-
ка — в отчаяние, работники же залились веселым смехом.
Впоследствии они не раз еще вспоминали эту «забавную», по
их мнению, сцену, представляя в лицах ее участников.
Приступая к анализу этого эпизода, Р. Дарнтон обращает
внимание прежде всего на то, что упомянутая мрачноватая
история вовсе не кажется нам смешной. Явное непонимание
юмора парижских ремесленников XVIII века свидетельству-
ет о культурной дистанции между эпохами и становится
отправной точкой для реконструкции исчезнувшей символи-
ческой системы. Само происшествие Дарнтон интерпре-
тирует как символический бунт рабочих против произвола
хозяев, бунт, форма которого позволила ему остаться безна-
казанным. Исследователь ставит избиение кошек в один ряд
с карнавальными выходками молодежи и с процессиями ша-
рив ари. То, что орудием мести были избраны именно кошки,
автор считает неслучайным: мучение кошек было широко
распространенным явлением в Европе и составляло часть це-
ремонии шаривари во многих местах. Кроме того, кошка
ассоциировалась с нечистой силой, колдовством и женской
Историческая антропология и социальные науки
85
сексуальностью. Расправа с любимицей хозяйки, считает
Р. Дарнтон, содержала прозрачный намек на то, что жена мас-
тера — ведьма, а он сам — рогоносец. Смех работников ис-
следователь называет карнавальным, раблезианским.
Книга Р. Дарнтона вызвала оживленную дискуссию, про-
должавшуюся несколько лет. Ее начал известный француз-
ский историк Роже Шартье. В своей рецензионной статье [94]
он отметил ряд противоречий в построении американского
^исследователя. Так, с одной стороны, Дарнтон констатирует
неизменность французского стиля поведения и мышления,
узнаваемого в народных сказках, в течение трехсот лет («фран-
цузскость существует»), с другой — характеризует культуру
старого порядка как чуждую, непонятную для современного
человека. Кроме того, он рассматривает как «текст» не только
сказки или сочинение Конта, но и само действие («кошачий
погром»), что, по мнению Р. Шартье, довольно рискованно.
При этом Дарнтон не уделяет должного внимания настояще-
му тексту — рукописи Никола Конта (1762), единственному
источнику, благодаря которому мы узнаем о происшествии на
улице Сен-Северен. Между тем это сочинение принадлежит
определенному жанру — повествованиям о практике и секре-
тах различных профессий, которые не могли не повлиять на
само произведение Н. Конта. «И вообще, можем ли мы быть
уверены, что само событие (резня кошек) имело место и про-
исходило так, как описано в воспоминаниях Конта?» — зада-
ет Шартье, возможно, главный вопрос.
Французский историк также оспаривает сходство этого
эпизода с карнавалом и шаривари. Еще более важным пред-
ставляется замечание Шартье о том, что символы отнюдь не
разделяются всеми, подобно воздуху, которым мы дышим.
Напротив, их значения непостоянны, изменчивы, не всегда
легко поддаются расшифровке и уж никак не образуют «сис-
тему». Во французском обществе старого порядка, расколо-
том на множество социальных групп, такое единство симво-
лики едва ли могло существовать, справедливо отмечает
Шартье [94, с. 104].
86
Л/. М. Кром. Историческая антропология
Не менее острой критике подверг книгу о «великом коша-
чьем побоище» итальянский историк Дж. Леви в статье с вы-
разительным названием «Опасности гирцизма» [90]: острие
этой критики направлено не только и даже не столько против
построений Дарнтона, сколько против вдохновившей его ан-
тропологии К. Гирца. Методология Гирца, отмечает Леви, ве-
дет свое происхождение от философской герменевтики, в
особенности от той ее версии, которая разработана Мартином
Хайдеггером и Хансом-Георгом Гадамером. В противовес
объективистской модели, сводящей человека к субъекту, а
все вещи — к объектам манипуляции, эта версия по существу
отождествляет историю с языком: человек не распоряжается
языком (речью), на котором говорит; наоборот, язык «распо-
ряжается» человеком. Одно из следствий этой теории —
«текстуализация» поведения, веры, устной культуры и ри-
туала, которые представляются чем-то целым, обладающим
неким значением. Процесс текстуализации происходит как
движение по кругу: сначала факт действительности изолиру-
ется, затем помещается в контекст реальности и т. д. Леви ви-
дит в этом порочный круг (от текста к контексту и обратно),
в котором нет надежных критериев истинности и соответ-
ствия, а в итоге невозможно отличить обоснованную интер-
претацию от необоснованной и произвольной.
«Но Гирц есть Гирц, — замечает итальянский историк, —
опасность заключается в гирцизме» [90. с. 30]. Что касается
работы Дарнтона, то его выводы представляются Дж. Леви
«очень спорными», а сама книга являет собой механический
перенос в историю проблем, «возникших в антропологии из
взаимоотношений с живыми собеседниками». Тезис о «фран-
цузскости» напоминает Леви о старомодных теориях нацио-
нального характера, которые существовали в американской
антропологии 40-х годов. В очерках Дарнтона контекст задан
априори и остается неподвижным фоном, а все остальное —
«изысканное переписывание философии истории, замкнутой
в порочном круге», — так завершает Дж. Леви свою рецен-
зию [90. с. 31].
Историческая антропология и социальные науки
87
Далее слово в дискуссии взял сам Дарнтон, однако в его
статье вместо возражений на конкретные замечания оппо-
нентов предлагалось развернутое обсуждение темы «симво-
лический элемент в истории» и более подробный, чем в кни-
ге, анализ этих элементов в рассказе Н. Конта о происшествии
на улице Сен-Северен [96].
Нет возможности рассказать подробно обо всех мнениях,
прозвучавших в ходе этой интереснейшей полемики. Так, за-
служивающим внимания было выступление антрополога
Джеймса Фернандеса, высоко оценившего вторую главу кни-
ги Дарнтона (об «избиении кошек»), но оспорившего право-
мерность выведения национального характера из фольклора
(последний сам испытал влияние процесса создания наций,
а отмеченные Дарнтоном как «французские» качества вроде
«хитрости» характерны для крестьян вообще, да и суровые
условия, описанные историком, были типичны для крестьян-
ской жизни по всей Европе)5. Не остался в стороне от этой
дискуссии и А. Я. Гуревич, присоединившийся к критиче-
ским замечаниям Р. Шартье в адрес Дарнтона, но признав-
ший, что, несмотря на некоторые натяжки, автору удалось
«вписать» эпизод, о котором поведал Н. Конта, в культурный
контекст эпохи [59].
Материалы этой дискуссии прекрасно иллюстрируют
приведенные выше высказывания видных ученых (Ж. Ле
Гоффа, Э. П. Томпсона, Н. 3. Дэвис) о трудностях и опаснос-
тях, сопровождающих диалог историка с антропологами.
Напрашивается вывод о том, что прямые заимствования фак-
тического или концептуального порядка из работ этнологов
должны быть строго дозированы и подчинены логике самого
исторического исследования. Зато ничто не мешает историку
находить в антропологической литературе новые идеи и
темы, расширять свой кругозор и, в итоге, рассматривать
проблемы своей специальности под новым углом зрения.
5 Fernandez J. Historians Tell Tales: of Cartesian Cats and Gallic Cock-
fights // Journal of Modem History. 1988. Vol. 60, N 1. P. 113-127.
ПАНОРАМА СОВРЕМЕННЫХ
ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА
Историческая антропология сегодня:
страны и направления
Еще в 1978 году А. Бюргьер пророчески заметил, что,
возможно, «антропология для историка — лишь мимолетное
заболевание» [91, с. 61]. Похоже, к настоящему времени
французские историки уже «переболели» ею: в 90-е годы, по
наблюдениям Ю. Л. Бессмертного, во Франции усилилась
критика исторической антропологии и резко сократилось
число исследователей, идентифицирующих себя с этим на-
правлением1. Ю. Л. Бессмертный связывает эту тенденцию с
ростом внимания к особенному и уникальному и со сдвигом
в сторону микроистории. Однако, как отмечает тот же иссле-
дователь, падение популярности исторической антропологии
не носит глобального характера: в ряде стран (Германии,
Италии, Испании, да и в России), наоборот, наблюдается по-
вышенный интерес к этому направлению [5, с. 33-34].
Тот этап развития, который переживает сейчас истори-
ческая антропология, можно, вероятно, назвать экстенсив-
ным: она «осваивает» новые страны, новые темы исследова-
ния. Не везде это направление выступает под собственным
1 Впрочем, А. Я. Гуревич выразил несогласие с мнением об «отмира-
нии» исторической антропологии во Франции и в доказательство сослал-
ся на изданный к 75-летию Ж. Ле Гоффа (1999) сборник статей, авторы
которых (Мишель Пастуро, Ж. Ревель, А. Буро и др.) подчеркивали как
раз плодотворность исторической антропологии [49, с. 137].
Панорама современных исследований
89
именем. Для нынешнего этапа характерно наличие целого
ряда родственных направлений, которые можно считать
вариантами антропологически ориентированной истории.
К ним, например, относится новая культурная история (new
cultural history) в США (Р. Дарнтон, Л. Хант и др.) [28, 37],
итальянская микроистория, получившая в последнее время
распространение и в других странах, и история повседнев-
ности (Alltagsgeschichte) в Германии, Австрии и Швейцарии.
Наконец, следует также иметь в виду, что влияние истори-
ческой антропологии ощущается сейчас даже в тех исследо-
ваниях, авторы которых никак не связывают себя с каким-то
антропологическим направлением. Это отдаленное влияние
может проявляться в выборе темы исследования, например
истории тела, в некоторых подходах или даже только в ис-
пользуемой терминологии вроде «политической культуры».
О некоторых современных направлениях, близких к истори-
ческой антропологии, следует рассказать подробнее.
Итальянская микроистория
Основные программные статьи ведущих историков этого
направления: К. Гинзбурга, Дж. Леви, Эдоардо Гренди,
С. Черутти опубликованы к настоящему времени в русском
переводе [102-105,109,110,126], что облегчает знакомство с
их исследовательским кредо. Нет недостатка и в комментари-
ях историков, работающих в других странах [33, 101, 106,
107,114,121,122,127, 141,142]2.
Сам термин «микроистория» использовался еще в 50-
60-х годах (например, Ф. Броделем, а также французским пи-
сателем Раймоном Кено), но с негативным или ироничным
подтекстом, т. е. служил синонимом истории, «занимающей-
ся пустяками». В конце 60-х годов этот термин употребил
мексиканский исследователь Л. Гонсалес-и-Гонсалес уже
2 См. также: Лепти Б. Общество как единое целое И Одиссей. Человек
в истории. 1996. М., 1996. С. 155-159; и др.
90
М. М. Кром. Историческая антропология
в серьезном смысле, как подзаголовок книги о своей родной
деревне. Тем не менее только в конце 70-х годов группа ита-
льянских историков сделала термин microstoria знаменем но-
вого научного направления, и под этим названием оно стало
известно во всем мире [103, с. 207-211].
Трибуной итальянской микроистории стал журнал «Qua-
demi storici», где печатались статьи лидеров этого направле-
ния: К. Гинзбурга, Э. Гренди, К. Пони и Дж. Леви. В статье
1977 года Э. Гренди высказался за применение в социальной
истории микроанализа, понимаемого как анализ межлич-
ностных отношений. Он также подчеркнул важность наблю-
дений антропологов, имеющих большой опыт изучения ма-
лых сообществ, для подобных исторических исследований
[137]. Термин ‘‘микроистория” в этой работе еще не исполь-
зовался. Он появился в следующем году в небольшой замет-
ке К. Пони, озаглавленной «Земледельческое хозяйство и
микроистория»3.
Статья К. Гинзбурга и К. Пони, опубликованная в том же
журнале в 1979 году под интригующим названием «Имя и
игра: Неэквивалентный обмен и историографический ры-
нок» [/35], носила программный характер. Констатируя, что
в 70-е годы историографический обмен между Францией и
Италией носил явно неравный характер: итальянские исто-
рики больше заимствовали у своих французских коллег, чем
давали им взамен. Гинзбург и Пони предложили выход из
этого положения: в противовес количественной и «сериаль-
ной» истории, пропагандируемой тогда школой «Анналов»,
они выдвинули идею микроистории — детального, в антро-
пологическом духе, анализа реальной жизни и взаимоотно-
шений множества простых людей, чьи имена сохранились в
архивах, которыми так богата Италия.
Публикуя затем ту же статью в сокращенном варианте
по-французски, авторы дали ей лаконичное название:
3 Poni С. Azienda agraria е microstoria И Quaderni storici. 1978. Vol. 39.
P. 801-805.
Панорама современных исследований
91
«Микроистория»4. Так, новое направление, фактически фор-
мировавшееся начиная с 60-х годов (в обеих знаменитых
книгах К. Гинзбурга — о бенанданти (1966) и о мельнике-
философе Меноккио (1976) — уже прослеживаются многие
признаки микроисторического подхода), обрело наконец свое
название.
Микроистория возникла как реакция на традиционную в
Италии институциональную и юридическую историю, исто-
рию-синтез, как противовес упрощенным представлениям об
автоматизме общественных процессов и тенденций (об исто-
риографическом контексте рождения итальянской микроис-
тории см. замечания И. Е. Андронова [106, с. 119-123] и
Эдварда Мюира [142, с. VIII—IX]). Как признает Э. Гренди,
сильное влияние на формирование этого направления оказа-
ла социальная антропология [105, с. 291-294]. Тот же автор
отмечает внутреннюю неоднородность микроистории, и это
понятно, поскольку теоретические манифесты стали появ-
ляться лишь через десять лет после возникновения этого дви-
жения, а определяющее значение всегда имела конкретная
исследовательская практика.
Тем не менее некие общие принципы микроистории, без-
условно, существуют. Для их выяснения обратимся к самому
известному, возможно, манифесту микроистории — статье
Дж. Леви, опубликованной впервые в 1991 году [//0]. Прежде
всего, следует сказать об экспериментальном характере этого
направления: историки варьируют и методы исследования, и
форму изложения материала. Самой заметной частью экспе-
римента, давшей название и всему направлению, является
изменение масштаба изучения: исследователи прибегают к
микроанализу, чтобы, словно под увеличительным стеклом,
разглядеть существенные особенности изучаемого явления,
которые обычно ускользают от внимания историков.
4 Ginzburg С., Poni С. La micro-histoire // Le debat. 1981. N 17. Dec.
P. 133-136.
92
Л/. М. Кром. Историческая антропология
Дж. Леви подчеркивает, что изучение проблемы на мик-
роуровне отнюдь не свидетельствует о масштабе самой про-
блемы. Напротив, микроанализ позволяет увидеть преломле-
ние общих процессов «в определенной точке реальной
жизни». О том, как это происходит, можно понять на примере
книги самого Дж. Леви «Нематериальное наследство: Карьера
экзорциста в Пьемонте XVII века» (1985) [735], переведен-
ной на все основные европейские языки.
Герой этой книги — священник и экзорцист Джован
Баттиста Кьеза, славившийся умением изгонять бесов из
одержимых ими людей; место действия — пьемонтская де-
ревня Сантена, тема исследования — процесс модернизации
крестьянской жизни при старом порядке. Смысл названия
книги состоит в том, что Дж. Б. Кьеза получил неформаль-
ную власть и авторитет среди земляков «по наследству» от
отца — судьи и нотария Джулио Чезаре Кьеза, бывшего в те-
чение многих лет лидером местного общества. Основная за-
дача, которую автор поставил перед собой, — проследить
сложное взаимодействие индивидуальных и семейных стра-
тегий, с одной стороны, и надличностных экономических и
политических тенденций — с другой. С этой целью Дж. Леви
изучил биографии всех жителей деревни Сантена, о которых
сохранились упоминания в документах. Круг вопросов, «за-
даваемых» исследователем своим источникам, чрезвычайно
широк: демографические показатели, семейные структуры и
связи, земельные операции, крестьянская ментальность, со-
перничество кланов, отношения деревни с внешним миром
ит. д.
Выводы, к которым пришел итальянский историк, без-
условно, значительны и выходят далеко за рамки локальной
и даже национальной истории. То, что на первый взгляд пред-
ставлялось рынком земли, на поверку оказалось куда более
сложным явлением: все земельные операции имели личност-
ную окраску, цена на землю бесконечно колебалась и зависе-
ла от личных отношений участников сделки. Не менее инте-
ресны наблюдения по поводу политического статуса этой
Панорама современных исследований
93
деревни. Автономия, которой пользовалась Сантена в XVII
веке, в значительной мере была следствием соперничества
из-за власти над нею нескольких претендентов: государства,
близлежащего городка Кьери и архиепископа. Баланс проти-
воположных интересов и исключительная посредническая
роль, которую играл судья и нотарий Сантены Джулио Кьеза,
обеспечивали в течение ряда десятилетий «выключенность»
этой деревни из проходивших вокруг политических процес-
сов. После смерти авторитетного нотария государство суме-
ло вернуть себе власть над деревней.
В упомянутой выше статье Дж. Леви, признавая близость
микроистории и антропологии, считает необходимым, одна-
ко, провести границу между подходом, которого придержи-
вается он и его коллеги, и интерпретативной антропологией
К. Гирца. Суть этих разногласий, которые были подробно из-
ложены выше, в связи с разбором книги Р. Дарнтона, сводит-
ся к неприятию итальянскими историками крайнего реляти-
визма Гирца, когда утрачены всякие критерии достоверности.
Дж. Леви и К. Гинзбург неоднократно выступали также про-
тив другой формы релятивизма — постмодернизма, сводя-
щего реальность к тексту [103, с. 225-226; ПО, с. 169, 180,
187]. Наконец, важно отметить еще одну линию размежева-
ния микроистории с функционализмом: функционалисты
рассматривают социокультурные системы как что-то цель-
ное и связное и затем используют их как контекст для объяс-
нения входящих в них элементов. Как подчеркивает Леви,
микроисторики, напротив, «делают упор на непоследова-
тельность нормативных систем и, следовательно, на фраг-
ментарность, противоречивость, плюрализм точек зрения,
которые любую систему делают подвижной, открытой», по-
этому «изменения происходят благодаря стратегии и выбору,
сделанному огромным числом “маленьких людей”, что ста-
новится возможно вследствие... зазора между некогерентны-
ми нормативными системами» [110, с. 182].
Книга Дж. Леви об экзорцисте была опубликована турин-
ским издательством «Эйнауди» в серии «Микроисториг/»
94
М. М. Кром. Историческая антропология
(именно так, во множественном числе! — М. К.). С момента
основания серии в 1981 году и до 1992 года опубликованы
22 тома как оригинальных сочинений итальянских истори-
ков, так и переводов исследований иностранных авторов.
Среди них наибольшую известность получили «Исследования
о Пьеро делла Франческа» К. Гинзбурга (1981), «Галилей-
еретик» Пьетро Редонди (1983), «Нематериальное наслед-
ство Дж. Леви (1985), «Биография города» А. Портелли
(1985), «Рабочий мир и рабочий миф» Маурицио Грибауди
(1987), «Мастера и привилегии» С. Черутти (1992) и др.
В числе переводных изданий были «Возвращение Мартена
Герра» Н. 3. Дэвис, сборник статей Э. П. Томпсона по истори-
ческой антропологии Англии XVIII века (список книг, вы-
шедших в этой серии до 1990 года, см.: [142. с. XXII]).
Упомянутые в указанном списке книги М. Грибауди и
С. Черутти были одновременно изданы по-французски в
Париже, где живут и работают эти представители итальян-
ской микроистории. Наряду с появлением немецкого (1986),
английского (1988) и французского (1989) переводов «Нема-
териального наследства» Дж. Леви, а также многочисленны-
ми переводами работ К. Гинзбурга данный факт свидетельс-
твовал о том, что к концу 80-х годов микроистория вышла за
пределы Италии и получила широкое признание. В Испании
растущий интерес к этому направлению отмечен в первой
половине 1990-х годов5, а в Венгрии и Финляндии — в пер-
вые годы XXI столетия6.
5 См., например: AmelangJ. S. Microhistory and its discontents: the view
from Spain // Historia a Debate. T. I—III / Ed. C. Baros. Santiago de Compos-
tela, 1995. T. II: Retomo del Sujeto. P. 307-312.
6 Горячим сторонником микроистории является венгерский историк
Иштван Сиярто: Szijarto I. Four Arguments for Microhistory // Rethinking
History. 2002. Vol. 6, N 2. P. 209-215. Один из первых опытов финской
микроистории см.: Alapuro R. The Finnish Civil War, Politics, and Microhis-
tory // Between Sociology and History. Essays on Microhistory, Collective
Action, and Nation-Building / Ed. by A.-M. Castren, M. Lonkila, M. Peltonen.
Helsinki, 2004. P. 130-147.
Панорама современных исследований
95
Таким образом, прогноз К. Пони и К. Гинзбурга оправ-
дался: продукция итальянских историков оказалась наконец
конкурентоспособной на мировом историографическом
«рынке»! Было бы, однако, неверно представлять себе это по-
бедное шествие микроистории по странам и континентам как
простое заимствование идей, рожденных в Италии. Успех
данного направления объяснялся прежде всего тем, что его
отцы-основатели правильно уловили и сформулировали важ-
нейшие тенденции и потребности развития мировой истори-
ографии. При этом, как отметил в своем выступлении в
Москве в ноябре 2003 года К. Гинзбург, восприятие микроис-
тории в каждой стране имело свою специфику, и в результате
возникали отличные друг от друга историографические мо-
дели [104, с. 346].
Так, во Франции дальнейшему развитию микроистории
как перспективного направления исследований активно со-
действовали историки Ж. Ревель и Б. Лепти7. В начале 1990-х
годов в Высшей школе исследований по социальным наукам
был организован постоянно действующий семинар по про-
блеме применения микроанализа в изучении общества, объ-
единивший историков и антропологов. В работе этого интер-
национального коллектива приняли участие Ж. Ревель,
Б. Лепти, М. Грибауди, Дж. Леви, С. Черутти, С. Лорига и
другие известные ученые. Результатом этих обсуждений
явился представительный сборник «Игры с масштабами:
Микроанализ на практике», опубликованный в 1996 году под
редакцией Ж. Ревеля8 (три статьи, опубликованные в этом
сборнике, — самого Ж. Ревеля, С. Черутти и Э. Гренди —
ныне доступны в русском переводе [105, 121, 124]). Воз-
вращаясь к книгам Грибауди и Черутти, нужно отметить, что
7 См.: Лепти Б. Общество как единое целое. О трех формах анализа
социальной целостности // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996.
С. 148-164 (о микроистории — с. 155-159).
8 Jeux d’echelles. La micro-analyse a I’experience / Textes rassembles et
presentes par J. Revel. Paris, 1996.
96
М. М. Кром. Историческая антропология
в обеих работах прослеживаются идеи не только итальян-
ской, но и французской исторической школы.
Книга М. Грибауди (по-французски она называется
«Рабочие маршруты: социальные пространства и группы в
Турине начала XX века»9) посвящена изучению жизненных
путей туринских рабочих в первой половине минувшего сто-
летия. На основе обширного архивного материала и записей
воспоминаний самих участников событий автор прослежива-
ет интеграцию вчерашних крестьян в городскую среду, изу-
чает семейные стратегии, социальный контроль и сети взаи-
моотношений в рабочих кварталах. Внимание исследователя
привлекают также социалистические идеалы и ритуалы ут-
верждения равенства в рабочей среде, конфликт поколений в
годы фашизма и многие другие острые проблемы той эпохи.
Вместо привычного образа рабочего класса как однородной
и целостной группы исследователь показывает сложный и
изменчивый мир рабочих изнутри как переплетение судеб,
надежд и разочарований сотен людей.
Сходные проблемы ставит в своей работе и С. Черутти,
французское название данного исследования переводится как
«Город и ремесла: рождение корпоративного языка». Оно так-
же посвящено Турину, но в предшествующую эпоху, в XVII
XVIII веках10 (основные идеи книги изложены в статье, до-
ступной теперь в русском переводе [724]). Исследование
начинается с констатации удивительного факта: в течение все-
го XVII века ремесленные корпорации не играли в Турине
сколько-нибудь заметной роли, зато с начала XVIII века их зна-
чение резко возрастает. Для объяснения этого явления совер-
шенно не подходят приемы традиционной социальной исто-
рии, когда исследователь «расписывает» население по заранее
заданным социальным группам на основе выбранных им
9 Gribaudi М. Itineraires ouvriers: espaces et groupes sociaux a Turin au
debut du XX siecle. Paris, 1987.
10 Cerutti S. La ville et les metiers: naissance d’un langage corporatif (Tu-
rin, 17е—18е siecle). Paris, 1990.
Панорама современных исследований
97
самим критериев. Черутти избрала другой путь, намеченный
в свое время Э. П. Томпсоном в его знаменитой книге о фор-
мировании английского рабочего класса (1963): по мысли
Томпсона, класс следует рассматривать не как структуру или
категорию, а как социальное отношение. Таким образом, вмес-
то того чтобы считать принадлежность индивидов к опреде-
ленной группе чем-то самоочевидным, «этот подход, — пишет
С, Черутти, — переворачивает перспективу анализа и исследу-
ет то, как социальные отношения создают эти общности, объ-
единения и, в конце концов, социальные группы» [124, с. 38].
^Изучив биографии сотен жителей Турина XVII-XVIII веков,
^исследовательница реконструирует сложные сети их взаимо-
действия между собой и с городскими властями и на этой ос-
нове старается объяснить меняющееся с течением времени от-
ношение туринцев к корпорациям и привилегиям.
| Центры изучения микроистории возникли и в других
^странах, например, в Германии таким центром стал Институт
^истории Общества имени Макса Планка в Гёттингене.
|В России сторонники микроистории объединились вокруг
|Ю. Л. Бессмертного, руководившего в Институте всеобщей
^Истории (Москва) группой по изучению истории частной
Ькизни, и вокруг издаваемого под его редакцией альманаха
«Казус» (о специфике немецкой и русской версий микроис-
Тории пойдет речь далее, см. с. 114—117, 162-166).
После того как микроистория завоевала мировое призна-
ние, стали заметнее и свойственные этому направлению ме-
тодологические проблемы, громче стали раздаваться голоса
^скептиков и критиков. Прежде всего, ученый мир стал свиде-
телем острых разногласий среди самих итальянских микро-
^Историков. Собственно говоря, на их родине неоднородность
^Микроистории уже давно не была тайной. По наблюдениям
'С. Черутти, первым, кто всерьез заговорил о наличии двух
течений в микроистории, а именно социального и культурно-
го, был Альберто Банти, по мнению которого одни микроис-
торики («социальные»), как Э. Гренди или Дж. Леви, стреми-
лись рассмотреть социальную структуру как переплетение
98
М. М. Кром. Историческая антропология
различных межчеловеческих отношений, в то время как в ра-
ботах других, в первую очередь К. Гинзбурга, можно увидеть
скорее изучение фрагментов поведения с целью выявить
культурные смыслы, которыми люди прошлого наделяли
«свою социальную вселенную» (цит. по: [126, с. 354]).
Статья А. Банти (1991) не имела особого резонанса, но
несколько лет спустя к той же проблеме обратился один из
отцов-основателей микроистории — Э. Гренди [705]. Он не
только констатировал наличие двух направлений в микроис-
торических исследованиях, но и выразил несогласие с по-
пытками некоторых ученых, прежде всего американских,
представить К. Гинзбурга как главного теоретика и практика,
занимающегося микроисторией, ее «олицетворение». По
мнению Э. Гренди, исследовательский подход К. Гинзбурга
всегда был особым, отличным от того, которого придержива-
лись его коллеги вроде Дж. Леви, и полностью находился в
рамках проблематики культурных форм; раскрытие опосре-
дующих связей культуры с социальными, межличностными
отношениями не входило в его задачи.
Не менее интересна и собственная точка зрения Э. Гренди
относительно сущности микроанализа: по его словам, «он
представляет собой определенный тип ‘‘итальянского подхо-
да” к социальной истории, более глубоко разработанный,
лучше обоснованный теоретически и включенный в особый
контекст. Этот контекст, закрытый для социальных наук,
подчиняется исторической ортодоксии со свойственной ей
жесткой иерархией важности исследуемых объектов» [105,
с. 297].
В характеристике, которую Гренди дал микроистории,
обращают на себя внимание два момента. Во-первых, под-
черкивается ее связь с историографической традицией («ор-
тодоксией») в том, что касается «иерархии важности ис-
следуемых объектов»: таким образом, радикализм нового
направления оказывается весьма относительным. Во-вторых,
микроанализ по существу отождествляется с социальной ис-
торией в качестве ее итальянского варианта. Что же касается
Панорама современных исследований
99
К. Гинзбурга, то Гренди недвусмысленно дает понять, что
этот исследователь не может в полной мере считаться микро-
историком: ссылаясь на статью самого Гинзбурга («Микро-
история: две-три вещи, которые я о ней знаю» [703]), Гренди
утверждает, что микроистория была для автора «Сыра и чер-
вей» лишь удобной рабочей формулой, которой не стоило
придавать решающего значения [705, с. 297].
Доля истины в этом суждении Гренди, конечно, есть: сам
К Гинзбург говорил, что не связывает свое творчество толь-
ко с микроисторией11. Более важным представляется другой
вопрос: можно ли говорить об особой, культурной, ветви
микроистории, единственным представителем которой (дру-
гих имен не называется) является К. Гинзбург? Сколько же
все-таки направлений микроистории в настоящее время су-
ществует: два или одно?
К концу XX века неоднородность итальянской микро-
истории стала очевидна и для внешних наблюдателей:
в 1999 году американский исследователь Брэд Грегори пред-
ложил различать эпизодическую {episodic) и систематиче-
скую (systematic) микроисторию. Примером первой из них
он назвал «Сыр и черви» К. Гинзбурга, а второй —
«Нематериальное наследство» Дж. Леви. Под эпизодической
микроисторией Б. Грегори понимает «тщательный анализ
конкретной встречи или кажущегося незначительным ‘"эпи-
зода” с целью высветить те аспекты в истории общества и
культуры, которые не поддаются раскрытию с помощью бо-
лее традиционных исторических методов» [736, с. 102]. Так,
К. Гинзбург и «другие практики эпизодической микроисто-
рии» (по выражению Б. Грегори) использовали протоколы
инквизиции для исследования отношений между элитарной
и народной культурой в Европе в начале Нового времени. 11
11 Выступая 24 ноября 2003 года в Институте всеобщей истории в
Москве, он заявил: «Я скажу несколько слов о микроистории, но должен
заметить, что не связываю свою работу исключительно с данным направ-
лением» [104, с. 343].
100
М. М. Кром. Историческая антропология
Что же касается систематической микроистории, то это,
по словам американского ученого, «новый способ занимать-
ся социальной историей». Этот подход предполагает деталь-
ную реконструкцию индивидуальных и семейных взаимо-
связей в географически ограниченном по необходимости
месте действия, основанную на достаточно богатых архив-
ных источниках, например таких, как нотариальные акты,
приходские книги и завещания [136, с. 102].
Характерно, что в своей классификации разных вариан-
тов микроистории Б. Грегори проводит основное различие не
между сферами научных интересов историков, как это делал
Э. Гренди (исследование социальных отношений versus изу-
чение «культурных форм»), а между способами применения
ими микроанализа: тщательному разбору отдельных эпизо-
дов он противопоставляет систематическое исследование не-
больших сообществ людей, живущих на определенной тер-
ритории. К этому важному наблюдению нам предстоит вскоре
вернуться, а пока отметим своего рода историографический
курьез: среди «практиков эпизодической микроистории»
Б. Грегори назвал только одно имя — К. Гинзбурга, подобно
тому как в другой классификации (Э. Гренди) тот же ученый
оказался единственным представителем «культурного» кры-
ла итальянских микроисториков. Это, конечно, не случайно:
исследовательский почерк К. Гинзбурга слишком своеобра-
зен и не похож на чей-либо еще, поэтому, как признают зна-
токи творчества итальянского историка, он не поддается
дефинициям, и его не удается отождествить с какой-либо
школой или направлением12.
Отметив заслуги микроистории (преимущественно в ее
«систематическом», социальном варианте), Б. Грегори кос-
нулся и ограничений, свойственных данному направлению
исторических исследований. По мнению американского уче-
ного, эти рамки задаются применяемыми методами, источни-
12 См. замечания С. Козлова в послесловии к сборнику работ К. Гинз-
бурга, изданному в русском переводе: [10, с. 323-325].
Панорама современных исследований
101
ками, имеющимися в распоряжении историков, а также огра-
ниченным масштабом наблюдения. На одни вопросы (скажем,
о взаимосвязи между семьями и наследованием земли в
деревне Сантена конца XVII века, изученной Дж. Леви) мик-
роанализ может дать убедительный ответ, а на другие (напри-
мер, о мотивах конфессионального выбора в эпоху религиоз-
ных войн XVI века) — нет [736, с. 103].
Специфика сохранившихся источников — одно из ре-
альных ограничений, с которым вынуждены считаться мик-
роисторики: нотариальные акты, приходские книги и заве-
щания могут быть надежной основой для реконструкции
социальных сетей, а следовательно, для выведения семей-
ных и индивидуальных стратегий, но они не могут пролить
Свет на картину мира, жизненный выбор и опыт конкретно-
го человека. Здесь не обойтись без дневников и других по-
добных эго-документов: в тех редких случаях, когда в руки
историка попадают, например, дневники ремесленников
XVII века, становится ясно, насколько мир этих людей был
сложнее и многограннее, чем можно было бы предложить,
Не зная этих источников. Поэтому следует быть очень осто-
рожным, предупреждает Б. Грегори, в отношении заявлений
о намерении реконструировать «опыт» на основе демо-
графических, финансовых и семейных документов [736,
с. 107].
Самой большой слабостью микроистории, ее ахиллесо-
вой пятой Грегори считает проблему репрезентативности.
Например, неясно на каком основании Дж. Леви полагает,
что изученная им деревня Сантена была обычной, «рядовой»
деревней Туринского региона, ведь подобная уверенность
предполагает сравнение этой деревни с другими, в книге по-
добное сопоставление отсутствует, и это ограничивает выво-
ды исследователя.
Итоговая оценка Б. Грегори вполне предсказуема: микро-
исторический анализ сам по себе может быть неадекватным
и ошибочным; большая детализация не обязательно лучше
с точки зрения точности или объяснительной силы. Ключ —
102
М. М. Кром. Историческая антропология
в гармоничном сочетании разных масштабов исследования
[136. с. 109].
Одновременно с американским критиком и независимо
от него на ограниченность микроисторического проекта ука-
зал российский исследователь Н. Е. Колосов. В статье с эпа-
тирующим названием «О невозможности микроистории»’3
он утверждал, что, поскольку микроистория не сумела выра-
ботать каких-то альтернативных исторических понятий, она
в своих обобщениях использует макроисторические понятия
и отсылает к макроисторической проблематике, а следова-
тельно, зависима от макроистории, является одной из ее ис-
следовательских техник [107, с. 33]. На это можно было бы
возразить (как хорошо известно и самому автору цитируемой
статьи [107. с. 35]), что микроисторики и не претендовали на
полную методологическую независимость от «большой» ис-
тории. Кроме того, как подчеркивал Дж. Леви, микромас-
штаб вовсе не является сущностной чертой обсуждаемого
направления: главное заключается в изменении фокуса ис-
следования, причем этот эффект в принципе может быть до-
стигнут как уменьшением, так и увеличением масштаба [ПО,
с. 171, 182].
Однако основной замысел статьи Н. Е. Колосова состоял
не в логическом «опровержении» микроистории, а в том, что-
бы показать беспочвенность надежд на создание новой пара-
дигмы социальных наук — надежд, которые в последнее вре-
мя безосновательно связывались именно с микроисторией.
На деле же, по словам Н. Е. Колосова, «шествие микроисто-
рии далеко не триумфально»; это направление «вписывается
скорее в логику распада и кризиса социальных наук, чем в ло-
гику его преодоления» [107. с. 47]. В этих словах чувствуется
разочарование. Даже Э. Гренди, который более оптимистично
оценивал перспективы микроистории, также признавал, что
микроанализ в известном смысле «...вписывается в более
13 Впервые опубликована в 1999 году в сборнике «Историк в поиске»
[106, с. 166-183], впоследствии статья дважды переиздавалась (см.: [107])-
Панорама современных исследований
103
широкий процесс развития европейской историографии,
результатом которой стало так называемое раздробление ис-
тории, возникновение “истории в осколках”» [705, с. 291].
Вероятно, на пороге нового столетия не только Н. Е. Коло-
сову могло показаться, что потенциал микроистории уже ис-
черпан. В 2002 году в Хельсинкском университете прошел
семинар под характерным названием «После микроисто-
рии?». В этой конференции приняли участие ведущие италь-
янские микроисторики (С. Черутти, Рената Аго, Дж. Леви,
М. Грибауди) и их финские коллеги. Материалы семинара,
опубликованные в 2004 году14, позволяют сделать вывод о
том, что слухи о конце микроистории сильно преувеличены.
Особого внимания заслуживает статья С. Черутти «Микро-
история: социальные отношения против культурных моде-
лей?» [726], которую можно рассматривать как программу
развития этого направления на его нынешнем этапе.
В качестве отправной точки для своих размышлений
С. Черутти избрала уже известный нам тезис, ставший чем-
то само собой разумеющимся в 1990-е годы, о существова-
нии в итальянской микроистории двух течений — социаль-
ного и культурного. Однако, по мнению исследовательницы,
различие между этими двумя подходами состоит вовсе не в
том, что их сторонники имеют разные научные интересы
(т. е., образно говоря, одни интересуются желудками, а дру-
гие — головами людей). На самом деле цели всех микро-
историков оставались едиными. Разногласия возникли по
вопросу о том, как связаны между собой поведение людей
прошлого и их культурные «ресурсы». В этом плане показа-
тельна критика, которую «социальное крыло» микроистори-
ков (к нему Черутти относит и себя) адресовало К. Гинзбургу:
его упрекали за то, что он не подверг изучению сеть социаль-
ных связей Меноккио. Жизнь фриульского мельника стала
14 Эти материалы составили первую часть сборника: Between Sociology
and History. Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building /
Ed. by A.-M. Castren, M. Lonkila, M. Peltonen. Helsinki, 2004. P. 17-174.
104
М. М. Кром. Историческая антропология
для ученого лишь «трамплином» для дальнейшей рекон-
струкции сложной космологии этого человека. Поэтому
выделение социальной и культурной школ в микроистории
Черутти считает неточным: основное различие между ними,
по ее мнению, связано с вопросом о том, какое значение сле-
дует придать поведению индивида и социальным отношени-
ям в общем для обоих направлений стремлении выстроить
контекст, подходящий для изучения культурных моделей
[126. с. 358].
При этом методологические изъяны обнаруживаются в
работах сторонников и того, и другого направления микроис-
тории. Так, С. Черутти самокритично отмечает, что в ее ран-
ней книге о туринских ремесленных корпорациях XVII-
XVIII веков контекст оставался внешним, посторонним по
отношению к жизненному опыту действующих лиц (акто-
ров) и что реконструкция биографий отдельных индивидов
сама по себе не давала гарантий выявления их внутреннего
мировосприятия. Более того, применявшееся ею тогда поня-
тие «стратегия» (см., например: [124. с. 57]) с присущими
ему коннотациями, подчеркивающими роль рационального
выбора, впоследствии было подвергнуто критике микроисто-
риками как концепция, порождающая анахронизмы. Понятие
стратегии поведения, подчеркивает Черутти, «побуждает ис-
ториков вести исследование в плоскости, которая остается
внешней по отношению к “версии событий” самих “акторов”
и проходит “выше” ее» [126. с. 362]. Те же понятийные рамки
предопределяют общее направление того или иного дей-
ствия, поскольку одна из предпосылок такого подхода состо-
ит в том, что индивид манипулирует социальными нормами.
Таким образом, противоречия между конкретным действием
и существующей нормой ожидаемы изначально, и историку
остается только их найти. В итоге «нормы и модели поведе-
ния, культура и действие оказываются в разных исследова-
тельских плоскостях» [126. с. 362].
Разочарование в понятии «стратегия» побудило С. Че-
рутти сделать серьезную ставку на взгляд «изнутри», на
Панорама современных исследований
105
'эмический анализ, основанный на языке и логике самих
«•«акторов». Здесь необходимо пояснение: термины «эмиче-
ский» (emic) и «этический» (etic) были введены в научный
оборот почти полвека назад американским лингвистом
^Кеннетом Л. Пайком для обозначения различных способов
описания поведения людей15. Эмический подход предполага-
ет взгляд изнутри некой системы, а этический — взгляд на
нее внешнего наблюдателя16.
Эмический подход означает пристальное внимание к дей-
ствиям, намерениям и даже иллюзиям людей. Как подчеркива-
ет С. Черутти, при таком подходе исследование норм оказыва-
ется частью изучения социальных связей. Отношения между
нормами и практиками являются взаимозависимыми: они ока-
зывают влияние друг на друга [126, с. 366]. Именно проблема
соотношения эмического и этического подходов, полагает ав-
тор статьи, лежит в основе различий между исследовательски-
ми методами микроистории. Если для самой Черутти эмичес-
кое и этическое составляют две процедуры научного анализа,
то для К. Гинзбурга, по ее мнению, они оказываются разными
контекстами: один из них — тот, в котором непосредственно
действуют люди, использующие определенные культурные
модели, а второй — более отдаленный и глубинный, в котором
прослеживается история самих этих моделей.
Основной упрек С. Черутти в адрес своего знаменитого
коллеги заключается в том, что принципы или методы
15 Эти слова представляют собой усеченные формы терминов phonemic
(фонемный) и phonetic (фонетический). Пайк обобщил и распространил на
изучение общества и культуры оппозицию, применявшуюся лингвистами:
термин phonemic обозначает звуки речи, как их произносит носитель язы-
ка, a phonetic — их фиксацию учеными. Образованная от этой пары оппо-
зиция emic/etic уже в 60-х годах вошла в лексикон антропологов и социоло-
гов, а в начале XXI века, как показывает анализируемая здесь статья
С. Черутти, эти термины «взяли на вооружение» микроисторики.
16 См.: Pike К. L. Etic and Ernie Standpoints for the Description of Beha-
vior// Communication and Culture: Readings in the Codes of Human Interac-
tion / Ed. by A. G. Smith. New York, 1966. P. 152-163.
106
М. М. Кром. Историческая антропология
контекстуализации, применяемые К. Гинзбургом, нигде им
четко не прописаны. Направление, в котором двигается ис-
следователь, переходя от одного, непосредственного, контек-
ста к другому, глубинному, уже не зависит от первоначаль-
ного объекта изучения и определяется только эрудицией
ученого, то же самое относится к актуализируемым при этом
историческим связям и параллелям.
Этому «мозаичному» методу исследования Черутти про-
тивопоставляет путь последовательно проведенного эмиче-
ского анализа. При таком подходе учитывается то, как сами
люди производили отбор культурных традиций из числа
имеющихся в их распоряжении. Это позволяет определить
культурный контекст, «контролируемый» в том смысле, что
его уместность определяется не одним лишь исследовате-
лем, но линиями поведения самих «акторов». Обоснование
избранного подхода Черутти видит в том, что «.. .культура не
является чем-то просто унаследованным, она представляет
собой еще и результат постоянного творчества» [726,
с. 370].
В качестве примера такого рода исследования, в котором
культурный контекст определяется представлениями самих
«акторов», Черутти ссылается на свою недавно изданную
книгу «Скорый суд. Практики и идеалы правосудия в обще-
стве Старого порядка (Турин XVIII века)»17 (рус. перевод
введения к книге см.: [725]). В центре внимания автора —
система упрощенного, ускоренного правосудия (giustizia
sommaria), которая успешно функционировала в Пьемонте в
первой половине XVIII века параллельно с обычной судеб-
ной процедурой. В этой системе, дешевой, доступной и не
требовавшей участия адвокатов, причудливо соединились
самые разные традиции: и схоластическая идея естественно-
го права, и бэконианский эмпиризм. Силу и актуальность
этой амальгаме идей и практик придавал специфический
17 Cerutti S. Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una socie-
ta di Ancien Regime (Torino, XVIII secolo). Milano, 2003.
Панорама современных исследований
107
контекст эпохи — оппозиция формализму обычного судо-
производства и произволу судей и адвокатов. Умение найти в
праве ключ к «культурной грамматике» изучаемого общества
[725, с. 7] — показатель мастерства итальянской исследова-
тельницы, а ее книга — удачный современный пример при-
менения микроанализа.
Историческая антропология, микроистория
и история повседневности в Германии (80-90-е годы)
Дискуссии 70-х годов об исторической антропологии в
Германии, о которых шла речь выше, не затрагивали до поры
до времени теоретических основ пользовавшейся тогда на-
ибольшим влиянием в академических кругах билефельдской
школы, виднейшие представители которой (Ханс-Ульрих
Велер, Юрген Кокка и др.) рассматривали историю как соци-
альную науку (historische Sozialwis sens chaff), нацеленную
главным образом на анализ «структур и процессов как усло-
вий и последствий событий, решений и действий»; причем,
по их мнению, сами действующие и принимающие решения
люди не могли полностью осознавать или предвидеть эти
структуры и процессы18. В таком взгляде на историю нетруд-
но увидеть влияние марксизма: действительно, билефельд-
ская школа была многим обязана Марксу, в том числе верой
в прогрессивное развитие человечества по единому пути,
предполагавшему процессы модернизации и индустриали-
зации. В то же время марксизм в теоретической модели
Х.-У. Велера и Ю. Кокки дополнялся веберианством: поми-
мо экономики, движущими силами истории объявлялись по-
литика и культура19.
18 Коска J. Sozialgeschichte: Begriff — Entwicklung — Probleme. 2.
Aufl. Gottingen, 1986. S. 163.
19 Об исторической социальной науке в Германии см.: Iggers G. G.
Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the
Postmodern Challenge. Hanover, NH; London, 1997. P. 68-73.
108
Л/. М. Кром. Историческая антропология
Философски понятая историческая антропология, пред-
ставленная в охарактеризованных выше трудах Т. Ниппердая,
Й. Мартина, Р. Шпранделя, А. Ничке и их единомышленни-
ков, по существу ни в чем не противоречила основным поло-
жениям «исторической социальной науки». Более того, со-
здатели Института исторической антропологии во Фрайбурге
прямо солидаризировались с установками билефельдской
школы, стремясь лишь расширить теоретические рамки
исторической социальной науки «в антропологическом на-
правлении»20. Зато члены геттингенского кружка (X. Медик,
А. Людтке, Д. У. Сэбиан и др.), избравшие в качестве ориен-
тира социальную и культурную антропологию (этнологию),
уже в начале 80-х годов заняли резко критическую позицию
по отношению к построениям историко-социологической
школы Х.-У. Велера и Ю. Кокки.
Эти разногласия четко обозначились на проведенном в
марте 1983 года в Дюссельдорфском университете коллокви-
уме, по материалам которого был подготовлен сборник
«Историческая антропология. Человек в истории» (1984)21.
В своем выступлении на этом форуме Й. Мартин, как и в сво-
их предыдущих работах, назвал задачей исторической антро-
пологии «изучение истории человека в его целостности»,
выяснение условий сохранения человеческого в человеке
{conditio humana). Эти размышления он конкретизировал на
примере проекта по изучению истории детства в разных об-
ществах: предполагалось исследовать представления о ре-
бенке и воспитании, этапы, формы и методы социализации
20 См.: Martin J. Das Institut fur Historische Anthropologie // Saeculum.
Jahrbuch fur Universalgeschichte. 1982. Bd. 33. S. 376-377. Показательна
также публикация очерка В. Лепениса «Проблемы исторической антро-
пологии» в сборнике «Историческая социальная наука», см.: Lepenies W.
Probleme einer historischen Anthropologie // Historische Sozialwissenschaft.
Beitrage zur Einfiihrung in die Forschungspraxis / Hrsg. von R. Riirup. Gottin-
gen, 1977. S. 126-159.
21 Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte / Hrsg. von
H. Siissmuth. Gottingen, 1984.
Панорама современных исследований
109
и т. д., для чего привлекались специалисты по разным дис-
циплинам: историки, индологи, синологи, медики, психоло-
ги, педагоги, социологи и т. д.22 Той же теме был посвящен и
доклад А. Ничке, который говорил об изучении истории де-
тства в свете разрабатываемой им теории об историческом
изучении поведения (Historische Verhaltensforschung).
В отличие от этих двух сообщений, по существу лишен-
ных какой-либо дискуссионности, выступление X. Медика
было целиком полемично. Прежде всего, он поставил при-
нципиальный методологический вопрос: как можно понять
сложную взаимосвязь между детерминирующими структу-
рами и практикой действующих субъектов, между жизнен-
ными обстоятельствами и опытом этих людей? «Историческая
^социальная наука», по словам X. Медика, до сих пор не дала
-ответа на этот вопрос. Не помогают тут и пресловутые под-
системы, измерения или факторы: политика, экономика и
культура, на которые предлагается разлагать исторический
«процесс в целях последующего выявления каузальной зави-
симости. Тем не менее было бы наивно, отметил докладчик,
пытаться объяснить исторические явления и процессы толь-
ко на основании значений и субъективного смысла. Обнару-
жение этих «тупиков» социальной истории, как выразился
X. Медик, и побудило его и его коллег к изучению работ по
социальной и культурной антропологии. Именно там уда-
лось обнаружить плодотворные подходы к обозначенной
выше проблеме. Далее автор сослался на удачные, с его точ-
ки зрения, примеры обращения историков к социальной ан-
тропологии (работы Н. 3. Дэвис, Ж.-К. Шмитта, Э. Ле Руа
Ладюри, Э. П. Томпсона и др.). В трудной герменевтической
ситуации поиска доступа к субъективному опыту людей по-
мощь историку может оказать «понимающая» этнология
К. Гирца с предложенным им принципом «насыщенного
описания» и анализом символических форм (слов, изобра-
22 Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. S. 43^18.
но
М. М. Кром. Историческая антропология
жений, институций, форм поведения). Все эти подходы
используются для развития концепции субъективного опыта
людей, исходя из их собственной перспективы23. (Этот до-
клад был затем переработан X. Медиком в статью под назва-
нием «Миссионеры в лодке? Этнологические методы позна-
ния как вызов социальной истории». В 1984-1995 годах
данная статья издавалась четыре раза в немецком и английс-
ком вариантах (см.: [9S]).
Представители академической социальной истории при-
няли брошенный им вызов. Ю. Кокка, бегло отметив, что
подходы к исторической антропологии, продемонстрирован-
ные в докладах И. Мартина и А. Ничке, вполне приемлемы
(с некоторыми оговорками) с точки зрения исторической со-
циальной науки, сосредоточил огонь критики на культур-ан-
тропологически ориентированном подходе X. Медика и его
геттингенских коллег, собирательно названном историей по-
вседневности (во внимание был принят не только доклад
Медика на коллоквиуме в Дюссельдорфе, но и его статьи, ра-
боты Д. У. Сэбиана и А. Людтке в упомянутом выше сборни-
ке «Классы и культура» (см. с. 49)).
Ю. Кокка готов признать, что история повседневности
(Alltagsgeschichte) с ориентацией на культурную антрополо-
гию действительно может обогатить социальную историю.
Верно и то, что в последней существовала тенденция не
уделять достаточного внимания «культуре». Однако прежде
всего сама история повседневности должна избавиться от
присущих этому направлению крайностей и ошибочных по-
ложений. Во-первых, возможности микроисторических ис-
следований ограничены в силу того, что возникает проблема
репрезентативности, сравнения данного случая с другими,
подобными, а это уже требует усилий, направленных на ана-
лиз тех или иных понятий. И вообще, частное не имеет боль-
шого смысла, пока не установлена его связь с общим. История
23 MedickH. Vom Interesse der Sozialhistoriker an der Ethnologic // Histo-
rische Anthropologic. Der Mensch in der Geschichte. S. 49-56.
Панорама современных исследований
111
'повседневности пока не дала примеров синтеза, вероятно,
она к нему не способна. Во-вторых, предположения о том,
что понятия и теории, призванные объяснить историческую
Действительность, можно вывести из нее самой, — нео-
^историцистская иллюзия. Не существует никакого непос-
редственного, прямого пути к научному изучению историко-
роциальной реальности. В этом заключается разница между
[повседневностью и наукой.
1 Итоговый вердикт, вынесенный Ю. Коккой культур-ант-
ропологически ориентированной социальной истории, или
^истории повседневности, гласил: в той мере, в какой этот
^подход представляет ценность, он вовсе не подрывает, а лишь
расширяет парадигму исторической социальной науки, одна-
ко его претензия стать некой альтернативной парадигмой ос-
нована на иллюзии24.
Дискуссия между геттингенской группой историков и би-
лефельдской школой продолжалась еще много лет25. Оценивая
ее с учетом последующего развития историографии, можно
заметить, что обе стороны были по-своему правы. Медик и
другие геттингенцы справедливо отмечали, что в «истори-
ческой социальной науке» действуют некие абстрактные
силы, а не конкретные живые люди. В то же время Ю. Кокка
был совершенно прав, утверждая, что при построении синте-
за микроисторикам не обойтись без обобщающих социаль-
но-исторических понятий и процессов. Когда в 90-е годы ста-
ли выходить из печати монографии X. Медика, Ю. Шлюмбома,
А. Людтке, Д. У. Сэбиана, это стало очевидно. Наконец, заме-
чания Ю. Кокки о невозможности прямого, «включенного»
наблюдения и постижения исторической действительности,
24 Коска J. Historisch-anthropologische Fragestellungen — ein Defizit der
historischen Sozialwissenschaft? // Historische Anthropologie. Der Mensch in
der Geschichte. S. 73-83.
25 Новый «раунд» этой дискуссии, прошедший на съезде германских
историков в Ганновере в 1992 году, отражен в сборнике: Sozialgeschichte,
Alltagsgeschichte, Micro-Historie / Hrsg. von W. Schulze. Gottingen, 1994.
112
М. М. Кром. Историческая антропология
бесспорно, были обоснованы и перекликались с рассмотрен-
ной выше критикой Дж. Леви, Р. Шартье и другими учеными
опасностей гирцизма.
Наряду с термином «историческая антропология» все
более популярным в Германии с конца 70-х годов станови-
лось другое название — история повседневности (Alltags-
geschichte), его-то и использовал Ю. Кокка в обобщенном
смысле. Именно это понятие в конце концов стало рассмат-
риваться как своего рода немецкий бренд антропологически
ориентированной истории. У этого успеха имелись серьез-
ные причины социально-политического характера.
С начала 80-х годов Западную Германию охватил настоя-
щий исторический бум. Возник массовый интерес к изуче-
нию прошлого своего города или поселка, к истории своей
семьи. Казалось, энтузиасты бросили вызов историкам-про-
фессионалам. Большое распространение получили «истори-
ческие мастерские» (historische Werkstatten); широко практи-
ковалась «устная история» — записи воспоминаний пожилых
людей о своей жизни. Этот интерес к опыту и переживаниям
«маленького человека», получивший название «история по-
вседневности» (Alltagsgeschichte), или «истории снизу»
(Geschichte von unteri), стал частью более масштабного про-
цесса демократизации общественной жизни и неслучайно
совпал с зарождением движения «зеленых» и феминистского
движения в Германии (подробнее см.: [113, с. 77-81; 117,
с. 182-196; 134, с. 297-299]).
Представители академической науки, прежде всего уже
упоминавшиеся Х.-У. Велер, Ю. Кокка и др., выступили с
критикой истории повседневности как малооригинальной
дилетантской попытки подорвать основные принципы про-
фессии историка. Однако на фоне усилий энтузиастов-люби-
телей по созданию истории повседневности профессио-
нальные ученые сформировали свою концепцию этого
направления под тем же названием. Среди внутринаучных
импульсов, способствовавших созданию истории повседнев-
ности, можно назвать влияние трудов английского историка
Панорама современных исследований
113
Э. П. Томпсона, интерес к работам этнологов и социологов и
т. д. (подробнее см.: [134, с. 312-320]).
Наибольший вклад в разработку научной истории по-
вседневности внес сотрудник Института истории Общества
имени Макса Планка в Гёттингене А. Людтке. Подобно
своему коллеге по институту и единомышленнику X. Ме-
дику, он вел многолетнюю полемику с Ю. Коккой и Х.-У. Ве-
лером (см., например: [112, с. 117-119; 113, с. 80-82, 86-88,
£1, 94, 99]), острота которой объяснялась еще и тем, что
Людтке занимался тем же периодом германской истории,
Ито и его оппоненты, но те придерживались иных исследо-
вательских подходов. Его внимание привлекала прежде все-
го история германских рабочих в XIX-XX веках, а главным
вопросом стала проблема принятия и/или сопротивления
пролетариев навязываемым им правилам игры, фабричным
порядкам, идеям национал-социализма и т. д. Ключевым
В его концепции является труднопереводимое понятие
«Eigensinn» («своеволие», «самоуважение»)26: как показы-
вает А. Людтке, зависимость рабочих от заводского началь-
ства не была абсолютной; несмотря на фабричную дисцип-
лину, они находили возможности для самоутверждения,
используя для этого несанкционированные перерывы в ра-
боте, «валяние дурака» и т. д. [777].
К концу 80-х годов история повседневности стала обще-
признанным научным направлением, получила известность
за пределами ФРГ (см. сборник статей под редакцией
А. Людтке, вышедший в 1989 году в Германии, а в 1995 году
в английском переводе в США: [737]). Большой вклад исто-
рики этого направления внесли в изучение феномена нациз-
ма, рассматривая его, так сказать, изнутри, с точки зрения тех
рядовых людей, которые вольно или невольно содействовали
утверждению фашистской диктатуры в Германии [7/5].
26 Работы, объединенные этой концепцией, собраны в книге: LiidtkeA.
Eigen-Sinn: Fabrikalaltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich
bis in den Faschismus. Hamburg, 1993.
114
М. М. Кром. Историческая антропология
Характеризуя это направление в целом, можно отметить его
несомненное родство с другими разновидностями антропо-
логически ориентированной истории (особенно с микроис-
торией, см.: [112. с. 122 и сл.; 114. с. 193; 127. с. 17]). Однако,
в отличие от других стран, в Германии историки повседнев-
ности сосредоточили внимание не на средневековой эпохе и
начале Нового времени, а на изучении жизни и быта людей в
недавнем прошлом, в XX столетии.
Заметным событием в германской историографии 90-х
годов стал выход монографий X. Медика и Ю. Шлюмбома,
выполненных в рамках микроистории. Замысел этих иссле-
дований восходит к проекту 70-х годов по изучению прото-
индустриализации. Как вспоминает Ю. Шлюмбом, в рабочих
материалах их группы уже тогда речь шла о применении мик-
роанализа [127. с. 17 и примеч. 33]. Эмпирическая проверка
теоретической модели «протоиндустриализации», выдвину-
той в 1977 году X. Медиком, Ю. Шлюмбомом и П. Кридте,
потребовала многолетних усилий и только в 90-х годах увен-
чалась изданием капитальных трудов.
X. Медик избрал предметом своего локального иссле-
дования Лайхинген — небольшой населенный пункт в
Вюртемберге, в горах Швабской Юры, примерно в 50 км к
юго-востоку от Штутгарта. Его монография получила выра-
зительное название «Ткачество и выживание в Лайхингене,
1650-1900. Локальная история как история всеобщая» [140]
и по замыслу напоминает работы французских ученых из
школы «Анналов», созданные в духе «тотальной» истории.
Автор скрупулезно собрал сведения и реконструировал био-
графии всех жителей Лайхингена на протяжении двух с по-
ловиной веков, изучил экономическое и демографическое
развитие этого поселка ткачей. Отдельные главы посвящены
манере одеваться, одежде как показателю престижа, а также
книжной культуре и религиозности лайхингенцев (с содер-
жанием этих глав теперь можно ознакомиться в русском пе-
реводе: [775, 116]. общую характеристику труда X. Медика
см. в статье С. В. Оболенской: [106. с. 110-118]).
Панорама современных исследований
115
Особый интерес вызывает глава о душеспасительном
чтении и лютеранском пиетизме в Лайхингене XVIII - начала
XIX века. Автор показывает, что вопреки теории модерниза-
ции и общепринятым представлениям об этапах распростра-
нения грамотности лайхингенцы ценили книгу и обладали
довольно значительными по тому времени домашними биб-
лиотеками: среднее количество книг в домах лайхингенцев в
середине XVIII века было примерно таким же (10-11), что и
в университетском городе Тюбингене, а во второй половине
того же века жители этого «отсталого» поселка были даже
богаче книгами, чем население «культурной столицы
Швабии» [116, с. 188]. Основу этих сельских домашних биб-
лиотек составляли молитвенники и назидательно-душеспа-
сительная литература, которая отражала особенности мест-
ного, вюртембергского, пиетизма — варианта протестантской
этики, описанной М. Вебером. Однако, в отличие от веберов-
ской модели, лайхингенский тип религиозной ментальности,
В которой ставился акцент на благочестии, трудолюбии и тер-
пении, отнюдь не был нацелен на экономический успех и
никак не способствовал утверждению духа капитализма и
протокапиталистических структур в местной мелкособствен-
нической среде, настроенной скорее на выживание [140,
с. 36,551-558].
Случай Лайхингена, отмечает Медик, конечно, не типи-
чен для Европы, но для Вюртемберга он вполне значим и мо-
жет быть охарактеризован термином «нормальное исключе-
ние», принадлежащим Э. Гренди. Значение подобных случаев
в том, что они позволяют обнаружить возможности, обычно
остающиеся в тени при использовании усредненного макро-
исторического подхода. Между тем, возможно, что в пере-
ходные периоды как раз такие исключения и были нормой!
Понять это можно, прибегая к «децентрирующему сравне-
нию» отдельных случаев, выявленных микроисторическими
исследованиями. Это может привести в конечном счете к
отказу от господствующей сейчас в исторической науке
«центристской перспективы» с характерными для нее уни-
116
М. М. Кром. Историческая антропология
нереальными процессами «модернизации», «индустриализа-
ции», «индивидуализации» и т. д. [114, с. 199-200; 139, с. 94
97, 100-102].
Книга Ю. Шлюмбома о церковном приходе Бельм под
Оснабрюком на северо-западе Германии в XVII-XIX веках
также представляет собой опыт локальной микроистории, не
претендующей, однако, в отличие от работы Медика, на «то-
тальность», а сфокусированной на изучении нескольких вза-
имосвязанных проблем: социального неравенства, домашне-
го хозяйства и семейных стратегий в деревенском сообществе
[143] (о содержании книги можно судить также по статье,
опубликованной в русском переводе в сборнике: [119, с. 143—
180]). Реконструировав биографии и семейно-родственные
связи жителей Бельма за два столетия, автор пришел к важно-
му выводу о сохранении фундаментального значения родства
в крестьянской среде не только в XVIII, но и в XIX веке27
Таким образом, традиционные представления об эволюции
семьи от большой патриархальной к нуклеарной семье оказа-
лись несостоятельными. Нельзя говорить и о резком классо-
вом противостоянии хозяев и батраков в деревне; скорее,
между ними существовали связи по типу «патрон — кли-
ент», в которых имущественное неравенство было скрыто за
системой межличностных взаимоотношений [119, с. 175-
179; 143, с. 615-620]
По справедливому замечанию Мартина Дингеса, сторон-
никам исторической антропологии и истории повседневно-
сти в Германии не удалось пока предложить альтернативу
«исторической социальной науке», поскольку они в явной
или скрытой форме зависимы от сформулированных биле-
фельдской школой объяснительных моделей и теорий [11,
27 Аналогичный вывод был сделан американским германистом Д. У. Сэ-
бианом в результате микроисторического исследования деревни Неккар-
хаузен в Вюртемберге: Sabean D. ИС Property, Production, and Family in
Neckarhausen, 1700-1870. Cambridge, 1990; Idem. Kinship in Neckarhausen.
Cambridge, 1998.
Панорама современных исследований
117
io. 100-101]. Действительно, например, в трехтомном труде
^Рихарда ван Дюльмена по истории германской повседневное-
[ти в раннее Новое время изменения объясняются с помощью
^ссылок на процессы цивилизации, секуляризации, утвержде-
[ния рыночных отношений и т. п. и т. д. [733]. Германские мик-
^роисторики осознают эту опасность: в своих исследованиях
X. Медик и Ю. Шлюмбом оспаривают универсальность и
^однонаправленность таких процессов, как распространение
грамотности, эволюция форм семьи, индустриализация и т. п.,
однако взамен они не могут предложить каких-то иных обоб-
щающих моделей и потому, даже отрицая построения исто-
рической социальной науки, обнаруживают негативную зави-
симость от нее28. Процитированный выше призыв X. Медика
к освобождению от «центристской перспективы» в истории
так и остается пока благим пожеланием.
(Что касается собственно исторической антропологии, то
сейчас это понятие в Германии не обозначает какое-то одно,
определенное направление; скорее, оно имеет собирательное
значение, объединяя ряд родственных подходов и направле-
ний: история повседневности, микроистория, история мента-
литета, история культуры и т. д. Этот плюрализм нашел отра-
жение в журнале «Историческая антропология: Культура.
^Общество. Повседневность», выходящем с 1993 года в изда-
тельстве «Бойлау» под редакцией Р. ван Дюльмена, А. Людтке,
fX. Медика и М. Миттерауэра. Так, в первый год издания на
^страницах журнала была опубликована программная статья
К. Гинзбурга о микроистории [703], работы по «женской
28 Георг Г. Иггерс справедливо отмечает, что в своих конкретных ис-
следованиях германские микроисторики гораздо ближе к более традици-
онной социальной истории, чем в своих программных заявлениях: они,
например, прибегают не к «насыщенному описанию», рекомендованному
Гирцем, а к компьютерной обработке обширных статистических данных,
и работают с нелюбимым ими концептом модернизации, хотя и подчер-
кивают его издержки (Iggers G. G. Op. cit. Р. 106-107, 112). Эти наблюде-
ния перекликаются с упомянутой выше (см. с. 102) статьей Н. Е. Колосо-
ва «О невозможности микроистории» [/07].
118
М. М. Кром. Историческая антропология
истории», семиотике, истории кино и т. д. Журнал охотно
предоставляет антропологам возможность опубликовать свои
статьи; обсуждаются как «внутренние» собственно этноло-
гии, так и ее отношения с историей.
Еще более разнообразны, если не сказать разнородны,
материалы, помещаемые на страницах другого журнала по
исторической антропологии — «Paragrana», издаваемого с
1992 года научно-исследовательским Центром исторической
антропологии Свободного университета Берлина под редак-
цией Кристофа Вульфа (обзор содержания журналов «Исто-
рическая антропология» и «Paragrana» см.: [19, с. 94-108,
ПО]).
Естественной реакцией на постоянно растущее количест-
во публикаций по исторической антропологии при все боль-
шей размытости ее концептуальных рамок явились недавние
попытки систематизации того, что уже написано о ней. Одну
из них предпринял венский историк Герт Дрессель, и нельзя
сказать, что она увенчалась успехом. В объемистом томе под
названием «Историческая антропология. Введение» он соб-
рал всевозможные мнения, относящиеся к проблеме «Человек
в истории». Получился калейдоскоп из цитат, принадлежа-
щих исследователям из разных стран, придерживающихся
совершенно разных точек зрения в отношении обсуждаемого
вопроса. Эти цитаты группируются то в тематические рубри-
ки (семья, родство, стадии жизни и т. п.), то в отдельные ха-
рактеристики исторической антропологии («культура» как ее
центральное понятие, междисциплинарность и др.). В книге
отсутствует какая-либо авторская позиция, позволяющая
упорядочить все это хаотическое разнообразие29.
Более систематическим получился аналогичный обзор,
написанный Р. ван Дюльменом. По существу, читателю пред-
лагается краткий очерк становления и развития историче-
ской антропологии в Германии и других немецкоязычных
29 Dressel G. Historische Anthropologic: eine Einfuhrung. Wien; Koln;
Weimar, 1996.
Панорама современных исследований
119
странах. Однако собственной оригинальной концепции этого
направления автор не предложил30 31.
; Наконец, другие ученые, констатируя терминологиче-
скую нечеткость исторической антропологии, ищут ей заме-
|ну на роль нового «знамени» для антропологически ориен-
тированной социальной истории. Так, Райнхард Зидер,
справедливо отмечая, что концептуально историческая антро-
пология ничем не отличается от истории повседневности
\{Alltagsgeschichte) и что она не является «ясно очерченным
^научным полем в смысле дисциплины или субдисциплины
исторических наук», предложил в качестве методологичес-
кой альтернативы термин «историческая наука о культуре»
{Historische В свою очередь, М. Дингес,
Ьакже подчеркнув отсутствие у исторической антропологии
.собственной парадигмы, высказался в пользу культурной
^истории повседневности [77, с. 99-101, 105]. Так на пороге
’XXI века начался новый виток дискуссии германских исто-
(риков, на этот раз она разворачивается вокруг целей и содер-
жания этой новой науки о культуре32.
Проблематика историко-антропологических
исследований (на европейском материале)
Мэтры исторической антропологии, в частности А. Бюр-
гьер, Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич, неоднократно подчеркива-
ли, что у этого направления нет своего особого исследователь-
ского поля, своей особой проблематики. Действительно,
тематика историко-антропологических исследований очень
30 Dulmen R. van. Historische Anthropologie: Entwicklung, Probleme,
Aufgaben. Koln; Weimar; Wien, 2000.
31 Sieder R. Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kultur-
wissenschaft? // Geschichte und Gesellschaft. 1994. Bd. 20. S. 445^168.
32 См. также: Эксле О. Г. Культура, наука о культуре, историческая
наука о культуре: размышления о повороте в сторону наук о культуре //
Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 393-416.
120
Л/. М. Кром. Историческая антропология
разнообразна. Тем не менее можно выделить несколько про-
блемных областей, в которых историко-антропологический
подход в последние десятилетия оказался особенно плодо-
творным. В качестве путеводителя по этим тематическим
направлениям исторической антропологии воспользуемся
статьей А. Бюргьера, опубликованной в 1986 году в «Словаре
исторических наук»33 34 [92].
Бюргьер называет следующие принципиальные направ-
ления исторической антропологии: 1) материальная и биоло-
гическая антропология, касающаяся истории тела, воспри-
ятия жизни и смерти, сексуальных отношений и т. д.;
2) экономическая антропология, изучающая, по словам фран-
цузского историка, «экономические привычки», формируе-
мые часто под воздействием факторов неэкономического по-
рядка: социальных, моральных, религиозных; 3) социальная
антропология, в центре внимания которой — семейные и
родственные структуры; 4) культурная и политическая ант-
ропология: в этой рубрике Бюргьер объединяет изучение на-
родных верований и обрядов, с одной стороны, и антрополо-
гический подход к истории власти — с другой. Однако такое
объединение кажется искусственным: каждое из этих двух
направлений настолько важно, что заслуживает отдельного
рассмотрения.
Физическая антропология^ сегодня представляет собой
постоянно расширяющееся поле исторических исследова-
ний. Рассматриваемые здесь проблемы предполагают актив-
ный диалог историков не только с представителями других
33 Немецкие исследователи предлагают более дробное деление исто-
рической антропологии по темам, причем эти рубрики соответствуют ан-
тропологическим константам: семья/родство, мужчины/женщины, де-
тство/юность/старость, рождение и смерть, тело, сексуальность, питание
и т. д. Показательно отсутствие политической антропологии — символи-
ки власти и т. п. (см., например: Dressel G. Op. cit. 1996. S. 71-159).
34 На мой взгляд, это название лучше передает смысл того, что А. Бюр-
гьер обозначил как материальную и биологическую антропологию.
Панорама современных исследований
121
гуманитарных дисциплин (психологии, этнологии), но и с те-
ми, кто занимается естественными науками, прежде всего
биологией и медициной. К физической антропологии отно-
сятся, в частности, история питания, история болезней и т. д.
Изучается рацион питания, изменение антропометрических
показателей (в первую очередь роста), лечебная теория и
практика в разные эпохи. Все эти проблемы имеют как био-
логические, так и социально-исторические аспекты.
Центральное положение в этом разделе исторической ан-
тропологии занимает «история тела», которая в последнее
время приобрела тенденцию к обособлению в качестве само-
стоятельной дисциплины (см. обзоры: [147,148]). Историков
интересует, как люди воспринимали и как они использовали
свое тело в те или иные эпохи. Жесты, позы, застольные ма-
неры, модели сексуального поведения, — все это служит
предметом изучения. Как выяснили авторы многочисленных
исследований (Ж.-К. Шмитт, Робер Мюшембле и др.), жесты
могли заменять собой слова в целом ряде светских и религи-
озных церемоний; они маркировали поведение высших и
низших слоев населения, разных половозрастных групп (см.:
[2, с. 119-128]).
Важной проблемой исторической антропологии, активно
обсуждавшейся в последние десятилетия, явилось отноше-
ние человека к смерти. Восприятие смерти европейцами
в разные века — тема многочисленных исследований
Ф. Арьеса, М. Вовеля, Ж. Ле Гоффа, Ж.-К. Шмитта, А. Я. Гуре-
вича и др. [35,145,149,150].
Экономическая антропология фокусирует внимание на
мотивах экономического поведения людей в прошлом. На
формирование этого направления исторических исследова-
ний большое влияние оказал и продолжает оказывать знаме-
нитый «Очерк о даре» М. Мосса, показавшего универсальное
значение обмена дарами в архаических обществах [182,
с. 83-222]. Его последователем был известный историк тра-
диционных экономик Карл Поланьи (о значении его идей для
исторической антропологии см.: [172]). Становлению эконо-
122
М. М. Кром. Историческая антропология
мической антропологии также содействовали труды этноло-
гов: М. Салинза (США), Морис Годелье (Франция) и т. д.
Главный урок, который извлекли для себя исследователи
экономической истории из работ М. Мосса и других этноло-
гов, заключается в том, что к пониманию хозяйственных от-
ношений в традиционных обществах нельзя подходить с мер-
ками классического капитализма в духе теории Адама Смита:
это не были обезличенные сделки купли-продажи, зависи-
мые от игры спроса и предложения на рынке, и их участники
были озабочены отнюдь не только извлечением прибыли.
Напротив, для них не менее важное значение имели сообра-
жения престижа, религии, морали; и любые хозяйственные
операции непременно приобретали личностный характер.
Мало того, в архаическом обществе богатство вообще имело
не вещественную, а символическую природу (это прекрасно
показано А. Я. Гуревичем на древнескандинавском материа-
ле, сокровище понималось как воплощение удачи его хозяи-
на и потому обрекалось на вечное хранение в виде клада в не-
доступном месте [42, 1-е изд., с. 197-198]).
М. Мосс полагал, что со временем рынок вытесняет сис-
тему «дар — отдаривание»; современные исследователи
склонны считать, что рыночные отношения прекрасно сосу-
ществовали и переплетались с традиционным обменом дара-
ми. Например, применительно к Франции XVI века это на-
глядно продемонстрировано в работе Н. 3. Дэвис, показавшей,
в частности, каким образом дар служил для скрепления сде-
лок, в дополнение к заработной плате, ренте и т. д.35 [168,
35 Эти наблюдения обобщены Н. 3. Дэвис в книге «Дар во Франции
XVI века» (2000) [75]. Книга представляет собой, по словам автора,
«этнографию даров во Франции XVI века (с. 14); в ней подробно изуча-
ются представления, связанные с дарами (о благотворительности, щед-
рости, дружбе, соседстве), и практики дарения. Особенно интересны на-
блюдения Н. 3. Дэвис (гл. 3 и 4) по поводу социального использования
даров (для завязывания контактов, в отношениях между клиентами и пат-
ронами, крестьянами и господами и т. д.), тонкой грани между даром и
платой и т. д.
Панорама современных исследований
123
с. 199-200]. Согласно проанализированной выше книге
Дж. Леви, рынок земли в пьемонтской деревне XVII века на
поверку оказывается не вполне рынком: земельные сделки
напрямую зависели от отношений их участников [735, гл. 3].
Одна из центральных проблем историко-экономической
антропологии — изучение разных типов рациональности хо-
зяйственной деятельности в прошлом. Большой вклад в изу-
чение этой проблемы внес выдающийся польский историк
Витольд Кула36. В книге «Экономическая теория феодально-
го строя» (1962) он показал, что в эпоху средневековья хо-
зяйственный расчет не тождественен капиталистической
калькуляции, и то, что было бы убыточным при капитализме,
оказывается вполне прибыльным в каком-нибудь фольварке
XVI-XVII веков. Элементы традиционализма и рациональ-
ности, подчеркивал ученый, присутствуют всегда, в любой
экономике, но их конкретное соотношение меняется от эпохи
к эпохе. Таким образом, рациональное экономическое пове-
дение сугубо исторично. И тот французский крестьянин, ко-
торый на предложение зоотехника продать его шесть коров и
взамен купить трех племенных ответил, что, будь у него все-
го три коровы, он не смог бы женить сына на дочери зажи-
точного соседа, с которой тот обручен, рассудил, по мнению
В. Кулы, вполне рационально, ибо приданое невестки значи-
ло для его хозяйства неизмеримо больше, чем возможный до-
ход от трех племенных коров [7 71. с. 182-194, пример: с. 191,
примеч. 216].
Основным предметом социальной антропологии в трак-
товке А. Бюргьера выступает изучение семейно-родственных
связей; при этом отмечается большое влияние на эту область
исторических исследований «структурной антропологии»
К. Леви-Строса (см.: [750]). В качестве примеров подобных
работ Бюргьер приводит книги Ж. Дюби о районе Маконнэ
36 Подробнее о его творчестве см. : Каганович Б. С. Витольд Кула: эко-
номическая история и история ментальности // Одиссей. Человек в исто-
рии. 1997. М., 1998. С. 275-298.
124
Л/. Л/. Кром. Историческая антропология
XI-XII веков, Э. Ле Руа Ладюри о крестьянах Лангедока и об
известной нам уже деревне Монтайю, Дэвида Херлихи и
Кристиана Клапиша о тосканских семьях в XV веке и т. д.
[92, с. 55-56]. Однако, на мой взгляд, если уж выделять соци-
альную антропологию как особое направление внутри исто-
рической антропологии (что не бесспорно, поскольку многие
исследователи обоснованно считают последнюю частью или
разновидностью социальной истории), то имело бы смысл
понимать ее более широко, как изучение микросообществ,
основанных на родственных или, например, соседских свя-
зях. И тогда наряду с перечисленными А. Бюргьером работа-
ми французских исследователей здесь уместно упомянуть,
например, труды английских специалистов по локальной ис-
тории (см.: [22, с. 175-178; 23, ч. 2, с. 20-22]) или итальян-
ских микроисториков (в частности, книгу Дж. Леви, о кото-
рой подробно шла речь выше [735]).
В последние десятилетия обширным полем исследования
является история народной культуры, понимаемой антропо-
логически, т. е. как «система разделяемых всеми значений,
отношений и ценностей, а также символических форм, в ко-
торых они выражаются или воплощаются»37 [74, с. XI; ср.:
65, с. 272]. При таком широком подходе верования также рас-
сматриваются как один из аспектов народной культуры, а
поскольку последняя в минувшие века была сильно окраше-
на в религиозные тона, данное направление оказывается не-
разрывно связано с религиозной антропологией, т. е. с изуче-
нием субъективного аспекта веры, народной религиозности.
Исследователи данной проблематики прибегают к харак-
терному приему — противопоставлению культуры низов,
культуры необразованных «простецов», ученой культуре вер-
37 Ср. у К. Гинзбурга: «...термин “культура” применительно к комп-
лексу взглядов, верований, жизнеповеденческих принципов, присущих
угнетенным классам в определенный исторический период, вошел в
употребление сравнительно недавно, будучи заимствован у культурной
антропологии» [67, с. 32].
Панорама современных исследований
125
хов. Здесь можно усмотреть несомненное влияние марксизма
и, в частности, концепции А. Грамши о наличии двух культур
в классовом обществе (прямые ссылки на работы А. Грамши
приведены в книгах К. Гинзбурга и П. Берка: [67, с. 49, при-
меч. 1; 74, с. XI]). На передний план выходит проблема вза-
имосвязи между этими двумя культурами. Конкретные при-
меры такого взаимодействия народной культуры и ученой
культуры приведены в рассмотренных выше книгах К. Гинз-
бурга о мельнике-философе Меноккио и Н. 3. Дэвис о Фран-
ции XVI века [67, 76, 77].
Та же оппозиция характерна и для изучения народной ре-
лигиозности: исследователи сопоставляют церковные догма-
ты, взгляды богословов и прелатов и очень своеобразные
представления о священных предметах, возникавшие в умах
«простецов». Ярким примером такой религиозной антропо-
логии может служить книга Ж.-К. Шмитта «Святая борзая:
Гинефор, целитель детей (начиная с XIII века)»38.
Сюжет, положенный в основу исследования французско-
го историка, был впервые рассказан доминиканцем Этьенном
де Бурбоном в середине XIII века: крестьяне Лионской епар-
хии почитали как святого борзого пса, который, по легенде,
спас младенца от огромного змея, но по недоразумению был
убит хозяином-рыцарем; матери приносили на могилу пса
своих больных детей и обращались к нему с молитвами.
Официальная церковь запретила этот культ, но еще в 70-х го-
дах XIX века крестьяне данной области, согласно записям
фольклористов, продолжали почитать «св. Гинефора» —
борзого пса! Ж.-К. Шмитт видит в этой удивительной исто-
рии столкновение двух культур: крестьянской (фольклор-
ной) и клерикальной, ортодоксальной, причем вторая на
протяжении многих веков безуспешно пыталась подавить
первую.
38 Schmitt J.-С. Le saint levrier: Guinefort, guerisseur d’enfants depuis le
XIIIе siecle. Paris, 1979; реф. см.: Общественные науки за рубежом. Рефе-
ративный журнал. Сер. 5. История. 1980. № 5. С. 161-164.
126
М. М. Кром. Историческая антропология
Если в данном примере отношение официальной религии
и народных верований выглядит как противостояние, то в
вышедшей не так давно книге К. Гинзбурга «Ночная история.
Истолкование шабаша» возникновение мифа о шабаше ведьм
объясняется как результат взаимодействия, взаимовлияния
двух традиций, ученой и фольклорной: первой традицией,
представленной судьями, инквизиторами и богословами,
обусловлена вера в существование дьявольской секты, вто-
рой — вера в способность некоторых людей совершать, нахо-
дясь в экстатическом состоянии, путешествия в мир мертвых
[50] (основная идея изложена в статье [66]).
Наконец, как результат применения антропологического
подхода к изучению отношений власти и подчинения воз-
никло такое направление, как политическая антропология.
С 60-х годов сам этот термин был взят на вооружение этно-
логами, изучавшими политическую организацию архаиче-
ских обществ, но уже в 1971 году Ж. Ле Гофф заявил о бла-
готворном влиянии этого раздела антропологии на
обновление политической истории [158, рус. пер. 1994 года,
с. 186-189]. Позднее, в 80-х годах, он стал активно использо-
вать термин «политическая историческая (или историко-
политическая) антропология» уже для обозначения направ-
ления исторических исследований [54, с. 25; 35, изд. 1988
года, с. 17; см. также его предисловие 1982 года к переизда-
нию книги М. Блока: 40, с. 57]). Основоположником полити-
ческой исторической антропологии ныне считается М. Блок,
автор «Королей-чудотворцев» (1924), а сама эта книга [40]
служит теперь образцом для изучения символической при-
роды власти. Другой классический труд на близкую тему,
оцененный по достоинству лишь недавно, — «Два тела ко-
роля. Очерк средневековой политической теологии» Эрнста
Канторовича (1957). Если М. Блока интересовали представ-
ления населения о чудесных способностях их монархов, то
Э. Канторович рассматривал трактаты юристов и сочинения
богословов, в которых нашла отражение та же потреб-
ность — осмыслить двойственную природу короля, в кото-
Панорама современных исследований
127
ром воплощены и образ смертного человека, и бессмертная
идея верховной власти [162].
Каковы были представления подданных о власти монарха
(см., например: [755-757, 759]), и как сама эта власть являла
себя подданным в ритуалах и церемониях, — два важнейших
аспекта современного изучения феномена власти. Таким об-
разом, акцент переносится с традиционного для политиче-
ской истории исследования институтов власти на изучение
их функционирования в определенном историко-культурном
контексте. Историков интересуют церемонии коронации, ко-
ролевские въезды в города, традиционные ритуалы и изобре-
тение новых [765-767; см. также обзор: 2, с. 155-163].
Изучение политических отношений не ограничивается
символическим аспектом власти. Не менее важно исследова-
ние повседневности, рутины управления, а также распреде-
ления власти на разных «этажах» общества. Особое вни-
мание историков в 80-90-х годах привлекли проблемы
патроната и клиентелы, посредничества во власти, нефор-
мальных отношений, дополнявших деятельность весьма не-
совершенных официальных структур.
Своего рода полигоном для разработки этого направле-
ния исследований явилась история Европы раннего Нового
времени (XVI-XVIII веков), в первую очередь Франции.
Многое было сделано в рамках региональных исследований.
Так, Уильям Бейк в своей книге о Лангедоке в XVII веке объ-
яснил успех централизаторской политики Людовика XIV его
умелым взаимодействием с местной аристократией и мест-
ными учреждениями (парламентом, муниципалитетами и
т. д.); при этом он особо подчеркнул значение личных связей
в политике того времени (семейных, клиентарных, корпора-
тивных и т. п.). По существу, королевская власть усиливала
свое влияние в провинции, действуя старыми методами, т. е.
создавая и поддерживая сель своих агентов и клиентов на
местах. Вне такой сети центральная власть просто не имела
эффективных рычагов воздействия на провинциальное об-
щество [760, особенно гл. 10].
128
М. М. Кром. Историческая антропология
Шарон Кеттеринг сделала систему патронатно-клиентар-
ных отношений во Франции XVII века главным объектом
своего исследования. Ее наблюдения, сделанные главным об-
разом на провансальском материале, дополняют и усиливают
выводы У. Бейка. Реконструированная Ш. Кеттеринг система
отношений, связывавшая между собой столицу и провинции,
состояла из трех звеньев: патрона (в роли которого тогда вы-
ступал кто-либо из королевских министров), посредника-
аристократа, занимавшего важный пост в местном органе
власти (этого посредника Кеттеринг называет брокером, тер-
мин заимствован политологами из биржевого языка), и груп-
пы зависимых от последнего клиентов. Ключевая роль в этой
системе принадлежала посреднику-брокеру, умело перерас-
пределявшему не только в своих интересах, но и в интересах
Короны выпадавшие на его долю королевские милости мате-
риального и нематериального свойства [163,164}.
Работы 80-х годов, выполненные в том же ключе, что и
книги У. Бейка и Ш. Кеттеринг, о которых сейчас шла речь39,
значительно изменили традиционные представления о меха-
низмах функционирования власти при старом порядке. Если
раньше считалось, что в XVI-XVIII веках королевская власть,
опиравшаяся на бюрократию и постоянную армию, вела на-
ступление на привилегии знати и права представительных
органов (парламентов, Генеральных штатов), то теперь выяс-
нилось, что действительное усиление центральной власти
происходило не вопреки, а при поддержке местных элит и
представительных учреждений, что при этом использовались
39 Среди многочисленных работ, посвященных отношениям патрона-
та и клиентелы, помимо названных выше, выделяется также книга поль-
ского историка Антония Мончака, в которой наряду с западноевропей-
ским материалом анализируются источники по истории Речи Посполитой
XVI-XVIII веков, см.: MqczakA. Klientela. Nieformalne systemy wladzy w
Polsce i Europie XVI-XVIII w. Wyd. 2. Warszawa, 2000. Проф. Мончак яв-
ляется также редактором сборника статей по той же проблеме, написан-
ных историками разных стран: Klientelsysteme in Europa der fnihen Neuzeit
/ Hrsg. von A. Mqczak. Munchen, 1988.
Панорама современных исследований
129
не какие-то новые (бюрократические) институты, а старые
методы, основанные на личных связях, покровительстве и
обмене услугами. Обобщая наблюдения исследователей по-
следних лет, Николас Хеншелл пришел к выводу, что тради-
ционная концепция абсолютизма как сурового авторитарного
режима, попирающего права подданных, является просто
мифом. На самом деле власть искала соглашения и взаимо-
выгодного сотрудничества с местными элитами, парламента-
ми и иными старинными учреждениями40. Так то, что еще
недавно, при господстве институционального подхода, каза-
лось историкам чем-то знакомым, напоминающим монархии
XIX века, на поверку оказалось гораздо более архаичным яв-
лением.
В целом предметное поле данного раздела исторической
антропологии, охватывающего различные аспекты традици-
онного политического сознания и поведения, может быть оп-
ределено как изучение политической культуры общества в ту
или иную эпоху.
40 Henshall N. The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early
Modem European Monarchy. London & New York, 1992 (reprint 1996). Pyc.
пер.: Хеншелл H. Миф абсолютизма: Перемены и преемственность в раз-
витии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.,
2003.
ИСТОРИЯ РОССИИ
В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Предпосылки исторической антропологии в России:
нереализованные возможности
За прошедшее столетие предпосылки для становления
исторической антропологии в России не раз появлялись, од-
нако как направление она возникла в нашей стране совсем
недавно. Выше уже говорилось об идее «среднего религиоз-
ного человека», выдвинутой Л. П. Карсавиным, — идее, весь-
ма созвучной понятию ментальности, к которому в те же
годы подходили независимо друг от друга Й. Хейзинга в
Нидерландах и М. Блок во Франции. К сожалению, в России
эта линия не получила тогда развития: научная изоляция от
остального мира и принудительное единомыслие на основе
вульгаризированного марксизма не способствовали возник-
новению новых направлений исторических исследований.
Конечно, новаторские работы появлялись и впредь, однако в
сложившихся условиях у них не было шанса стать своего
рода маяком для идущих следом ученых.
Сказанное в полной мере относится к замечательной кни-
ге Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси» (1947).
Поставив перед собой труднейшую задачу — показать отра-
жение процесса классообразования «в будничной жизни лю-
дей» [266, с. 5], автор избрал для ее решения единственно воз-
можный с учетом скудости сохранившихся источников
путь — путь реконструкции социальных типов личности и
типических житейских ситуаций. Это моделирование, типи-
зация, равно как и сочетание внимания к материальным усло-
виям жизни людей с интересом к их психологии, сближают
книгу Б. А. Романова с «Феодальным обществом» М. Блока,
История России в антропологической перспективе
131
появившимся всего на семь лет раньше (1939-1940) [41].
В другой обстановке «Люди и нравы», вероятно, вызвали бы
широкий научный резонанс, стали образцом для подражания,
но в Советском Союзе конца 40-х годов книгу ждал другой
прием: ее автор был обвинен в «антипатриотизме»1.
И последующие импульсы — книга М. М. Бахтина о
)Рабле (1965), а впоследствии появление семиотики — не
были восприняты исследователями отечественной истории.
^4ежду тем эта работа Бахтина, несомненно, способствовала
становлению исторической антропологии в Западной Европе
США: на нее ссылались в своих работах и высоко ее оцени-
ли К. Гинзбург и Н. 3. Дэвис [67, с. 35-36; 76, с. 103], однако
Па родине влияние Бахтина на историков оказалось в те годы
Невелико, за исключением таких медиевистов, как А. Я. Гу-
левич и особенно Л. М. Баткин.
/ Сегодня становится ясно, что работы Ю. М. Лотмана
^1970-х годов о коде бытового поведения людей XVIII-XIX
Ьеков [260, 261] были современны и созвучны исследованиям
западноевропейских социологов, этнологов, историков, тог-
да заново открывших для себя мир повседневности. П. Берк
сближает «теорию практики» П. Бурдье с термином Лотмана
«поэтика бытового поведения»: в обоих случаях речь шла о
выяснении неписаных правил и условностей, которых при-
держиваются люди в повседневной жизни [31, с. 194]. Однако
история российской повседневности в том смысле, как ее по-
нимали П. Бурдье или Ю. М. Лотман, начинает создаваться
только сейчас.
Необходимо также упомянуть о действовавшем в конце
60-х — начале 70-х годов семинаре по исторической психоло-
1 О судьбе книги и ее автора, подвергшегося в связи с ее выходом
Идеологической «проработке», см.: Панеях В. М. «Люди и нравы древней
Руси» Бориса Александровича Романова: судьба книги // Труды Отдела
Древнерусской литературы. СПб., 1996. Т. 50. С. 825-839. См. также: Па-
неях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов.
СПб., 2000. С. 246-295.
132
М. М. Кром. Историческая антропология
гии под руководством Б. Ф. Поршнева. Тогда же появился
сборник статей по этой проблематике, в котором наряду с
психологами, философами, специалистами по европейской
истории приняли участие и некоторые историки-русисты
(Б. Г. Литвак, Г. Л. Соболев и др.)2- Сильное впечатление на
отечественных историков произвела вышедшая в 1972 году
книга А. Я. Гуревича «Категории средневековой культуры»
[42], в которой, хотя и не употреблялся сам термин «мен-
тальность», имелся весь «набор» относящихся к этому поня-
тию терминов («картина мира», «модель мира», «мироваде-
ние» и т. п.). Затем обсуждение проблем исторической
психологии в советской науке было надолго свернуто, но ин-
терес историков к этой теме уже нельзя было истребить.
Весной 1987 года академический семинар по исторической
психологии был возобновлен (под руководством А. Я. Гуре-
вича), причем теперь участники его заседаний стали активно
использовать термин «ментальность»3. Так историческая
психология плавно превратилась в историю ментальностей,
которая затем была «переименована» А. Я. Гуревичем в ис-
торическую антропологию, в соответствии с этим измени-
лось и название семинара.
До самого недавнего времени этнография и история
России существовали рядом, но не вместе. В частности, вы-
полненные в этнографическом ключе исследования Н. А. Ми-
ненко, М. М. Громыко и других ученых о жизни и быте рус-
ского крестьянства XVIII-XIX веков (см., например: [252])
не повлекли за собой антропологизацию истории других пе-
риодов или проблем. При этом методология зарубежных ис-
торико-антропологических исследований не оказывала за-
метного влияния на изучение отечественной истории вплоть
до 1990-х годов. Между тем в зарубежной русистике исто-
2 История и психология / Под ред. Б. Ф. Поршнева, Л. И. Анциферо-
вой. М., 1971.
3 Хронику работы семинара см.: Одиссей. Человек в истории. 1989.
М., 1989. С. 183-190; 1993. М., 1994. С. 300-318.
История России в антропологической перспективе
133
рико-антропологический подход начал применяться еще в
80-х годах XX века.
Формирование историко-антропологического
направления в зарубежной русистике
Первый «очаг» исторической антропологии на русском
материале возник в 80-е годы в США. В формировании ново-
го подхода к изучению российской истории определенную
роль сыграла полемическая статья профессора Гарвардского
университета Эдварда Кинана «Традиционные пути москов-
ской политики», опубликованная в 1986 году4. Основная
мысль, проходящая красной нитью через всю статью амери-
канского историка, — тезис о континуитете, преемственно-
сти политической культуры со времен Московской Руси и
©плоть до советского режима. В свете его теории генераль-
ный секретарь и политбюро оказываются «законными на-
следниками» московских царей и их бояр.
Здесь наше внимание привлекает прежде всего сам тер-
мин «политическая культура». Использование термина «куль-
тура» для анализа властных отношений — явный признак
антропологического подхода (о ключевой роли понятия
«культура» в рамках этого подхода см.: [65, с. 272]). Под «по-
литической культурой» автор понимает «комплекс верова-
ний, практик и ожиданий, который в умах русских придавал
порядок и значение политической жизни и <.. .> позволял его
носителям создавать как основополагающие модели их поли-
тического поведения, так и формы и символы, в которых оно
выражалось»5. Соответственно, Э. Кинан поставил своей за-
дачей описать «фундаментальные черты русской политиче-
ской культуры» и проследить ее развитие на протяжении пяти
столетий — с середины XV до 50-60-х годов XX века.
4 Keenan Е. L. Muscovite Political Folkways // The Russian Review.
1986. Vol. 45. P. 115-181.
5 Ibid. P. 115-116. Note 1.
134
М. М. Кром. Историческая антропология
Многие выводы, к которым пришел Кинан в своем эссе
(например, о том, что самодержавие являлось лишь мифом,
скрывавшим суть политической системы, которая на самом
деле представляла собой олигархию, причем цари находи-
лись в зависимости от боярских кланов, и т. п.), недостаточно
обоснованы и были подвергнуты справедливой критике в
дискуссии на страницах того же журнала, последовавшей
вслед за публикацией «Традиционных путей московской по-
литики» (подробнее о статье Э. Кинана и возникшей вокруг
нее полемике см/. [195. с. 93-94]). Однако, на мой взгляд,
ценность «Традиционных путей московской политики» за-
ключается не в конкретных утверждениях автора, большин-
ство из которых легко можно оспорить, а в предложенном им
оригинальном подходе к анализу политической системы
Московии. Вместо традиционного институционального под-
хода, т. е. истории учреждений (боярской думы, приказов и
т. д.), Кинан демонстрирует антропологический подход, в со-
ответствии с которым основное внимание сосредотачивается
на личных (в первую очередь, родственных) отношениях
внутри правящей элиты. При этом исследователь затрагивает
действительно важную проблему, когда подчеркивает нефор-
мальный характер московской политической системы: там не
существовало необходимой связи между реальной властью
того или иного лица и административной должностью или
функцией; степень влияния определялась близостью к особе
царя, отсюда значение родства с правящей династией и госу-
даревых свадеб для придворной элиты. «Политика в Моско-
вии была политикой статуса, а не функции, — резюмирует
Кинан, — и была, следовательно, игрой, разыгрываемой ис-
ключительно великими родами, которые формировали двор
великого князя»6.
Сам автор, судя по его собственному признанию, и не
стремился к доказательности выдвигаемых им положений;
опубликованный текст явился скорее некой интеллектуаль-
6 Keenan Е. L. Op. cit. Р. 138.
История России в антропологической перспективе
135
ной провокацией, призванной стимулировать дальнейший
научный поиск. И надо признать, что это Кинану удалось.
Свидетельством тому может служить не только полемика с
ним в «Russian Review» в 1987 году, но и опубликованная в
том же году монография его ученицы Нанси Шилдс Коллманн
«Родство и политика. Формирование московской политичес-
кой системы, 1345-1547» [249], в которой развиваются мно-
гие положения концепции гарвардского профессора.
Свое исследование Н. Ш. Коллманн называет «антропо-
логическим анализом политики», поскольку оно «фокусиру-
ет внимание на отношениях между индивидами и группиров-
ками, а не на классах или политических институтах» [249,
с. 181]. Во введении к книге исследовательница именует из-
бранный ею подход «патримониальным» (по М. Веберу);
своими предшественниками в этом направлении она считает
А. Е. Преснякова, С. Б. Веселовского и Э. Кинана. В основе
подхода Коллманн) лежит предположение о том, что полити-
ческие отношения в средневековых обществах, в том числе в
Московии, не были формализованы и институционализиро-
ваны; они определялись традицией и строились на личных
связях: родстве, дружбе, зависимости. Свой подход Н. Ш. Колл-
манн противопоставляет рационалистическому подходу,
свойственному большинству российских историков XIX-
XX веков, изображавших московскую политическую жизнь в
виде отношений абстрактных общностей — государства и
сословий (аристократии, дворянства), причем отношения эти
мыслились как антагонистические. Вслед за Э. Кинаном аме-
риканская исследовательница отстаивает противоположный
взгляд, утверждая, что политический строй Московии харак-
теризовался не столько конфликтностью, сколько внутренней
сплоченностью и целостностью.
Ряд наблюдений автора (например, о наследственном, а
не выслуженном характере боярского чина до середины
XVI века), безусловно, заслуживает внимания. Вместе с тем
построениям Коллманн присуща некоторая статичность: по
сути, она не видит разницы между весьма архаическим
136
М. М Кром. Историческая антропология
и простым устройством Московского княжества XIV века и
Российским государством XVI века, что ведет, в частности, к
недооценке роли дьячества в управлении страной. Трудно со-
гласиться и с повторяемым ею вслед за Кинаном тезисом о
«фасаде самодержавия», за которым великие князья вынуж-
дены были делить власть с боярами (подробный разбор кон-
цепции Н. Ш. Коллманн см.: [195, с. 94-96]).
Оценивая книгу Коллманн в целом, нужно подчеркнуть,
что она явилась первой монографией по политической ант-
ропологии Московской Руси. Представляется вполне оправ-
данным акцент на личных, неформальных отношениях внут-
ри правящей элиты (родстве, патронате и клиентеле), который
делает исследовательница, для той эпохи (до середины
XVI века), когда государственные учреждения еще только за-
рождались. Что же касается слабых мест предложенной кон-
цепции (статичность, некоторый схематизм и т. п.), то, на мой
взгляд, они объясняются не недостатками самого антрополо-
гического подхода как такового, а, напротив, несоблюдением
некоторых его принципов, разработанных к тому времени на
западноевропейском материале.
Антропологический анализ политики явно требует умень-
шения масштаба исследования в духе микроистории, кото-
рая, как было показано выше, завоевала широкую популяр-
ность среди исследователей как раз в 80-е годы. С этой точки
зрения период, избранный Н. Ш. Коллманн для изучения
(1345-1547), слишком велик, в нем принудительно соедине-
ны разные эпохи. Кроме того, историческая антропология
проявляет особое внимание к категориям и понятиям изучае-
мой культуры, в то время как в изображении Кинана и Колл-
манн общество допетровской Руси выглядит чересчур светс-
ким и политизированным.
Примечательно, что, по мере того как антропологический
подход завоевывал все большее признание среди американ-
ских историков России, работы, выполненные в этом ключе,
все больше соответствовали отмеченным выше характерным
признакам данного направления. В связи с этим прежде всего
История России в антропологической перспективе
137
следует упомянуть исследование Валери Кивельсон, которое
можно считать удачным опытом применения методов поли-
тической антропологии к истории России XVII века.
Книга «Самодержавие в провинциях: Московское дво-
рянство и политическая культура в XVII веке» (1996) [248]
была задумана В. Кивельсон как региональное исследование:
в центре внимания автора находятся судьбы провинциаль-
ного дворянства пяти городов Центральной России (Вла-
димира, Суздаля, Шуи, Луха и Юрьева Польского) от Смуты
до кануна петровских реформ. Ограничение масштаба иссле-
дования рамками одного региона не мешает историку ста-
вить в своей работе ключевые проблемы, имеющие сущест-
венное значение для понимания развития всей страны в XVII
веке. Для того чтобы понять московскую политическую сис-
тему как единое целое, считает В. Кивельсон, необходимо
перенести внимание со столицы на провинцию и посмотреть,
как самодержавие действовало за пределами Москвы. С по-
мощью изучения уездного дворянства и его взаимодействия
с государством автор надеется найти ответ на вопрос: как
царская власть справлялась с управлением огромной терри-
торией при постоянной нехватке административных кадров?
Это было возможно только при участии местного служилого
люда.
В первых главах книги рассматриваются различные ас-
пекты жизни владимиро-суздальского дворянства: служба,
землевладение, семейно-родственные связи. На основе об-
ширного архивного материала автор прослеживает историю
ряда местных служилых родов (Голенкиных, Обуховых,
Козловых и др.) на протяжении шести-семи поколений, с
конца XVI до конца XVII века, и приходит к важному выводу
о тяготении провинциального дворянства к родным местам.
Заботы и интересы служилых людей также носили локаль-
ный и частный характер: материальное обеспечение своей
семьи, удачное замужество дочерей, земельные приобрете-
ния, упрочение личного и семейного статуса в местном об-
ществе. Причем, как отмечает историк, в тех случаях, когда
138
М Л/. Кром. Историческая антропология
законы ограничивали права родителей позаботиться о буду-
щем своей дочери или умирающего — обеспечить свою вдо-
ву, отцы и мужья, принадлежавшие к дворянству, просто иг-
норировали закон, а местный воевода и его аппарат привычно
одобряли и регистрировали подобные сделки, противоре-
чившие закону. Исследовательница делает вывод, что само-
державие прекрасно функционировало в провинциях в зна-
чительной мере потому, что оно сумело предоставить местной
дворянской элите сферу автономной деятельности. Вместе с
тем сосредоточение основных интересов служилых людей в
тесных рамках уездной жизни делало их по большей части
равнодушными к «большой политике» общероссийского мас-
штаба [248, гл. 1-3].
В следующих главах автор наглядно показывает, почему
на местах не могло возникнуть какой-либо дворянской оппо-
зиции центральной власти. «Сотрудничество» администра-
ции с верхушкой уездного общества было выгодно обеим
сторонам. Присылаемый из Москвы воевода, даже если он не
имел родственников во вверенном его попечению уезде (по
меньшей мере четверть от общего числа воевод, сменивших-
ся между 1609 и 1700 годом в изученном регионе, их имела),
вскоре обзаводился там полезными связями: как иначе он мог
бы управлять при крайне малочисленном штате, находив-
шемся в его распоряжении! Кроме того, получение государ-
ственной должности открывало возможности обогащения
для местных служилых людей (например, для губного старо-
сты) или повышения престижа (для окладчика, выборного
дворянина) [248, гл. 4, 6].
В рамках избранного В. Кивельсон подхода получают
убедительное объяснение такие черты московской полити-
ческой системы, ставшие притчей во языцех уже у современ-
ников, как протекционизм, взяточничество и кумовство.
Личные, неформальные связи в политике компенсировали
многочисленные изъяны еще во многом «едоцентрализован-
ного государства. Мало того, эти привычные связи являлись
формой адаптации общества к новому явлению — бюрокра-
История России в антропологической перспективе
139
тии, прораставшей в «расщелинах» (interstices) патриархаль-
но-вотчинного режима. Боярский сын из провинции, прибыв
в столицу, прежде всего искал влиятельного покровителя и
обращался со своим делом в тот приказ, где служил его род-
ственник, земляк или хороший знакомый. В то же время на
суде он не упускал случая обвинить своего противника в том,
что тот действовал «по дружбе» или «недружбе», по родству
и иным подобным запрещенным законом мотивам. Этот
двойной стандарт отражал противоречия, свойственные по-
литической культуре переходной эпохи: необходимость за-
конности, нелицеприятного правосудия уже хорошо осозна-
валась, но в то же время власть и управление по-прежнему
мыслились в категориях неформальных отношений: милос-
ти, заступничества, покровительства \248, гл. 5].
Книгу «Самодержавие в провинциях» можно считать
удачным образцом историко-антропологического исследо-
вания, выполненного на материале допетровской Руси.
Выбранный автором масштаб позволил рассмотреть будни
провинциальной жизни Московии, управленческую рутину в
столице и на местах словно под увеличительным стеклом.
И исследовательский подход, и характер использованных до-
кументов (судебные дела, служебная и личная переписка и
т. д.) сближают монографию Кивельсон с аналогичными
работами по истории Европы начала Нового времени
(Ш. Кеттеринг, У. Бейка, М. Кишланского и др.), которые, не-
сомненно, повлияли на выработку авторской концепции.
В американской же русистике ее книга продолжает линию,
начатую более ранними работами Кинана и Коллманн.
Впрочем, в трудах сторонников антропологического
подхода к изучению русского средневековья можно увидеть
некоторые различия в оценках и выводах, которые сами уче-
ные, похоже, склонны пока не замечать. Так, Н. Ш. Коллманн
считает Московию типично средневековым государством,
не похожим на европейские монархии начала Нового време-
ни; управление Россией в XVI веке напоминает ей Франкское
государство эпохи Каролингов. По мнению Коллманн, и в
140
Л/. М Кром. Историческая антропология
XVII веке московский политический строй принципиально
не изменился [249, с. 1, 29, 183, 186-187]. Кивельсон же
ставит Московию XVII века в один ряд с современными ей
западноевропейскими государствами, хотя и отмечает важ-
ные особенности, отличавшие русскую политическую куль-
туру от французской или английской [248, с, 145, 151-155,
178, 276-278]. Обе исследовательницы не вступают в поле-
мику друг с другом, но различия в понимании ими московс-
кой политической системы налицо: Н. Ш. Коллманн делает
акцент на архаичности и инертности этого «патримониаль-
ного», по ее словам, строя, а В. Кивельсон подчеркивает его
эволюцию в XVI-XVII веках, переплетение в нем старого и
нового накануне петровских реформ. Второй подход кажет-
ся мне более соответствующим исторической действитель-
ности.
В настоящее время историко-антропологическое направ-
ление получило большое распространение в американской
русистике. Круг проблем, изучаемых под этим углом зрения,
весьма широк: символика власти, религиозные и светские це-
ремонии и ритуалы, народные верования, социокультурные
нормы и ценности и т. д. (подробный обзор см.: [195, с. 98-
102]).
Традиционной темой исторической антропологии явля-
ются колдовство и ведовские процессы, захлестнувшие в на-
чале Нового времени всю Европу. Применительно к России
той же эпохи эти сюжеты недавно стали предметом рассмот-
рения В. Кивельсон. В работе, основанной на архивных мате-
риалах 1650-х годов, исследовательница попыталась выяс-
нить условия и причины охоты на ведьм в России середины
XVII века. В тогдашней Московии наблюдались процессы, во
многом сходные с теми, что происходили в Европе: рост го-
сударственного и церковного аппарата, усиление социально-
го контроля и т. п. Однако, в отличие от западных стран, в
России обвинения в колдовстве чаще предъявлялись мужчи-
нам, чем женщинам. Чем это можно объяснить? Жертвами
подобных обвинений становились главным образом бродяги,
История России в антропологической перспективе
141
социальные отщепенцы, а среди них преобладали мужчины.
Женщины были сильнее привязаны к дому, к семье. По мне-
нию американского историка, социальная маргинальность и
привычные стереотипы (образ колдуна) являлись основными
факторами, определявшими направленность обвинений в
колдовстве [226]7.
Понятию чести в допетровской Руси посвятила цикл сво-
их работ Н. Ш. Коллманн; результаты этого исследования
обобщены в монографии «Соединенные честью: государство
и общество в России начала Нового времени» (рус. пер.:
[255]). Источниковую базу исследования составили законо-
дательные акты, архивные и опубликованные документы,
описывающие более 600 судебных тяжб по делам об оскорб-
лении чести. Хронологические рамки работы — от 1560-х го-
дов до начала XVIII века.
И сама постановка проблемы, и привлекаемый Н. Ш. Колл-
манн сравнительно-исторический материал обнаруживают
несомненное влияние антропологической литературы на ав-
торскую концепцию. Коллманн подчеркивает большое сход-
ство понятий о чести и стыде в Московии с подобными пред-
ставлениями в обществах Средиземноморья; поэтому, по ее
мнению, соответствующие работы этнологов могут оказать-
ся весьма полезными историку, исследующему аналогичные
российские сюжеты [255, с. 53].
Отечественные исследователи рассматривали законода-
тельные нормы о защите чести прежде всего с точки зрения
7 В другой статье В. Кивельсон привлекает внимание исследователей
к феномену придворной, «политической» магии в России XVI века. В ус-
ловиях, когда властные отношения были лишь в очень слабой степени
институционализированы, огромное значение придавалось влиянию на
государя его советников: «добрых» или «злых». В связи с этим В. Кивель-
сон справедливо подчеркивает необходимость серьезно учитывать духов-
ное, религиозное содержание московской политической жизни (Kivel-
son V. Political Sorcery in Sixteenth-Century Muscovy // Culture and Identity
in Muscovy, 1359-1584 / Ed. by A. M. Kleimola, G. D. Lenhoff. Moscow,
1997. P. 267-283).
142
М. М. Кром. Историческая антропология
отразившейся в этих статьях общественной иерархии8.
Н. Ш. Коллманн сосредотачивает свое внимание на другом
аспекте проблемы: ее интересует прежде всего социальный
состав тех, кто получал возмещение за бесчестье (а среди них
были выходцы из всех слоев населения), а также то, что счи-
талось бесчестьем. Такая постановка вопроса дает возмож-
ность выяснить, что вкладывали жители Московии в понятие
чести, т. е. каковы были основные социокультурные нормы.
Хорошая репутация предполагала в первую очередь законо-
послушное поведение (и, соответственно, назвать кого-либо
вором, разбойником или тем более изменником означало тяж-
кое оскорбление), соблюдение моральных норм (включая
надлежащее сексуальное поведение), а также благочестие.
Кроме того, понятие чести ассоциировалось также с опреде-
ленным социальным статусом, умаление которого являлось
оскорблением (выражения типа «худой князишка», «детиш-
ки боярские», «мужичий сын») и влекло за собой подачу иска
о бесчестье. Наконец, понятия чести и бесчестья распро-
странялись и на сферу власти и управления: считалось, что
ошибки в написании царского титула наносили ущерб госу-
даревой чести; неповиновение должностному лицу и, наобо-
рот, злоупотребление им своим положением рассматривались
как бесчестье (в последнем случае человек, пострадавший от
произвола воеводы или дьяка, имел право требовать возме-
щения вреда).
Таким образом, резюмирует Н. Ш. Коллманн, «защита
чести создавала нормы и установления, которые связывали
людей с обществом...», укрепляли социальную иерархию и
политический строй. Представления о чести были также «со-
циальным кодом, способствовавшим социальному подчине-
нию и порядку» [255, с. 389, 391]. Этот вывод, отражающий
функционалистский подход к изучению конкретной пробле-
8 См., например: Флоря Б. Н. Формирование сословного статуса гос-
подствующего класса Древней Руси (На материале статей о возмещении
за «бесчестье») И История СССР. 1983. № 1. С. 61-74.
История России в антропологической перспективе
143
мы, также, на мой взгляд, свидетельствует о сильном влия-
нии этнологии на концепцию американского историка.
Одно из ведущих направлений современной историче-
ской антропологии — изучение ритуалов, празднеств, про-
цессий и других форм символического поведения. Вслед за
этнологами М. Глакманом, В. Тернером, К. Гирцем и др. ис-
торики пытаются обнаружить скрытые за этими театрализо-
ванными действиями социокультурные нормы, идеалы и сис-
темы ценностей.
Так, Майкл Флайер избрал предметом своего исследова-
ния церемонию «шествия на осляти» в Вербное воскресенье,
за неделю до Пасхи. В этой процессии глава церкви (митро-
полит, позднее патриарх) восседал на коне, а царь смиренно
шел пешком, держа в руке повод. Не было ли это нарушени-
ем привычного образа самодержца? М. Флайер полагает, что
нет: царь демонстрировал смирение перед Христом, а не пе-
ред владыкой (вся сцена служила напоминанием о входе
Иисуса в Иерусалим). Кроме того, в соответствии с давней
имперской традицией, перенесенной сначала в Новгород, а в
середине XVI века в Москву, ведение государем коня священ-
нослужителя символизировало его покровительство («води-
тельство») церкви [240]. Другая подобная религиозная цере-
мония, освящение воды в день Богоявления (6 января), в
которой также участвовали царь и его свита, стала объектом
изучения в статье Пола Бушковича [246].
По примеру К. Гирца, обратившего внимание на церемонии,
«посредством которых короли вступают в символическое
владение своим государством», в том числе на передвижения
царственных особ по стране [797, с. 121-146], Н. Ш. Колл-
манн посвятила специальное исследование поездкам госуда-
рей по России, прежде всего на богомолье, в XVI веке. Во
время подобных путешествий по стране население имело
возможность лицезреть своего государя живым и здоровым
(это было особенно актуально во время малолетства Ивана IV,
который начал «выезжать» с шестилетнего возраста) и убе-
диться в его истинном благочестии. По мнению Коллманн,
144
М. М. Кром. Историческая антропология
важное символическое значение, имел въезд государя в поко-
ренный город: эта церемония и следовавшее за ней торжест-
венное богослужение закрепляли военную победу и означа-
ли вступление великого князя или царя во владение новой
территорией. Так было в Новгороде (1478), Твери (1485),
Смоленске (1514) и Казани (1552) [250].
В последнее время изучение русской политической куль-
туры и символики власти в американской историографии уже
перешагнуло рамки допетровской Руси. Об этом свидетель-
ствует, в частности, появление двухтомного труда Ричарда
Уортмана «Сценарии власти: миф и церемонии русской мо-
нархии», посвященного символам и ритуалам Российской
империи XVIII — начала XX века (рус. пер. см.: [237]). Автор
показывает, какую роль играл монархический миф, поддер-
живаемый соответствующими церемониями, в консолидации
правящего режима. Участие в придворных церемониях «при-
вязывало» элиту страны к трону, возвышало ее над осталь-
ным населением. Р. Уортман выясняет также, как менялась
мифология и символика царской власти в зависимости от
культурного и политического контекста эпохи: так, образ бо-
гоподобного царя-олимпийца, характерный для правления
Петра I и его ближайших преемников, сменился при Екатери-
не II образом мудрой законодательницы и Матери Отечества,
а в царствование Николая I вновь конструируется героиче-
ский образ императора-победителя.
Одна из важнейших линий исследования Уортмана — это
соотношение европейской и русской национальной традиций
в образе монархии. Начиная с Петра самодержавие стреми-
лось предстать в вестернизированном облике. С восшестви-
ем на престол Николая I «сценарий власти» изменился: те-
перь император и его семья стали олицетворением нации;
уже в церемонии коронации Николая I простому люду была
отведена важная, хотя и пассивная роль: троекратный поклон
царя народу, ставший затем традицией коронационных тор-
жеств, выражал неразрывную связь самодержца с любящим
его русским народом [237, т. 1, изд. 2002 года, с. 369]. Во вто-
История России в антропологической перспективе
145
ром томе автор прослеживает судьбу национального мифа
русской монархии при преемниках Николая I: кризис этого
мифа во второй половине царствования Александра II, обна-
ружившего слабости земного человека и павшего от рук ца-
реубийц; возрождение образа национальной монархии при
Александре III, подчеркивавшего свою религиозную и этни-
ческую связь с народом, с русской историей и культурой;
и, наконец, вырождение этой идеи при Николае II, который
упорно не хотел замечать новых политических реалий и инс-
титутов, считая себя единственным, Богом поставленным
народным вождем, и в конце концов утратил контроль над
страной.
Отдельные части созданного американским историком
монументального полотна написаны с разной степенью дета-
лизации: главы о «сценариях власти» монархии в XVIII —
начале XIX века выглядят довольно схематично, эскизно,
зато судьба национального мифа в период от Николая I до
Николая II показана автором гораздо подробнее. Невольно
возникают вопросы и по поводу введенного Уортманом тер-
мина «сценарии власти»: кто был их автором — сам царь,
или в их создании участвовали его приближенные? Если вер-
но последнее, то какова была мера участия элиты в создании
образа монархии на разных этапах ее существования?9
Однако подобные вопросы и замечания не ставят под
сомнение новаторский характер труда Р. Уортмана, предло-
жившего оригинальный подход к изучению эволюции инс-
титута самодержавия в России. Его книга стимулировала
появление новых исследований репрезентаций власти в аме-
риканской русистике: в их числе можно назвать монографию
Виктории Боннел о советском плакате 1917-1953 годов [245].
9 Подобные вопросы задавали рецензенты книги Уортмана в России,
в частности М. Д. Долбилов (см.: Новое литературное обозрение. 2002.
,№ 56. С. 53) и Д. А. Андреев, см.: Андреев Д. А. Размышления американ-
ского историка о «сценариях власти» в царской России // Вопросы исто-
рии. 2003. № 10. С. 99.
146
М. М. Кром. Историческая антропология
Еще более заметное влияние монография Уортмана оказала
на современную российскую историографию (см. с. 156).
В 90-е годы историко-антропологический подход к изу-
чению российского прошлого наряду с американскими уче-
ными начинают применять исследователи из Швейцарии,
Франции, Германии и самой России.
Книга швейцарской исследовательницы Габриелы Шай-
деггер (1993) [269] посвящена изучению представлений ев-
ропейцев и русских друг о друге в XV1-XV1I веках. Основное
внимание автор уделяет анализу конкретных житейских си-
туаций, в которых наглядно проявлялись различия социо-
культурных норм, которых придерживались иностранные
гости и сами жители России, и, как следствие, взаимное
непонимание, предубеждение и оценочные стереотипы.
В основе авторской концепции — теория Н. Элиаса о циви-
лизационном процессе в Западной Европе, изменившем
представления о «благородном» поведении и о рамках при-
личий. Именно поэтому Московия, остававшаяся в XVI-XVII
веках типично средневековым обществом, казалась иност-
ранцам «варварской страной», а они сами русским — «нечис-
тыми» и «испорченными латинянами». По сути, иностран-
ные путешественники в России сталкивались с тем, что еще
недавно, а вдали от столиц — ив описываемую эпоху, было
широко распространенным явлением в их собственных стра-
нах. В своем исследовании Г. Шайдеггер широко использует
наблюдения антропологов, в частности книгу М. Дуглас о ри-
туальной чистоте и запретах [775].
Французский русист Клаудио Ингерфлом применяет эт-
нологический подход к изучению власти и ее репрезентаций
в России XVII века (см., например: [229])10.
10 См. также: Ингерфлом К. Между мифом и логосом: действие. Рож-
дение политической репрезентации власти в России // Homo Historicus:
К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: В 2 кн. М., 2003. Кн. П.
С. 65-96.
История России в антропологической перспективе
147
В работах германского историка Людвига Штайндорфа
[22711,228 и др.] изучается поминальный культ в средневеко-
вой Руси в сравнении с аналогичным культом, существовав-
шим в Западной Европе. Автор тщательно исследует разные
виды поминания и соответствующие им типы поминальных
Книг (синодики, кормовые книги и т. п.). Именно ключевая
роль монастырей как центров поминальной практики, счита-
ет Л. Штайндорф, определила их статус в древнерусском об-
ществе: они брали на себя функцию, важную для всего насе-
ления.
. «Ренессанс» истории ментальностей
f в отечественной науке
Обсуждение проблем «исторической психологии» в 60-х—
Начале 70-х годов, а затем успех книг А. Я. Гуревича под-
готовили почву для восприятия концепта ментальностей в
Ьтечественном научном сообществе. Неудивительно, что из
всех видов антропологически ориентированной истории
именно на долю истории ментальностей выпал наибольший
успех.
На 1993-1996 годы пришелся пик теоретического осмыс-
ления нового концепта: за это время прошли несколько кон-
ференций историков и круглый стол философов [273], посвя-
щенные феномену российского менталитета. Материалы
Дискуссий были опубликованы [207-2/0, 214]; одновремен-
но в печати появилось несколько статей историков-русистов,
обобщивших достижения зарубежных коллег в исследовании
йенталитета и обсудивших возможности применения этого
Подхода к изучению отечественной истории [204, 212].
Эти дискуссии высветили по меньшей мере две теорети-
ческие проблемы, неизбежно возникающие перед каждым
историком, пытающимся применить понятие «менталитет» 11
11 Скрынников Р. Г., Алексеев А. И. [Рецензия] // Отечественная исто-
рия. 1997. № 2. С. 201-203. Рец. на кн.: [227].
148
М. М. Кром. Историческая антропология
к изучению конкретного материала. Во-первых, кого следует
считать носителем определенного типа ментальности: инди-
вида, некую социальную группу (класс, сословие, террито-
риальную общность) или весь народ в целом? И, во-вторых,
как соотносятся в этом понятии элементы сознательного и
бессознательного? Другими словами, что в человеческом со-
знании и поведении соответствует термину «менталитет», а
для чего требуются какие-то иные термины?
Что касается первого вопроса, то объяснения классиков
жанра оставляют простор для различных толкований. Так, в
часто цитируемой статье Ж. Ле Гоффа можно найти как указа-
ние на то, что ментальность присуща всему народу в целом
(«это то, что имеют между собой общего Цезарь и последний
солдат из его легионов, Св. Людовик и крестьянин из его вла-
дений, Христофор Колумб и матрос с его каравелл»), так и за-
мечание о том, что ментальность является важнейшим элемен-
том социальной борьбы, что «существуют ментальности
классов, наряду с общими ментальностями» [63, с. 80, 89 90].
Одни участники дискуссий о российском менталитете за-
няли позицию, близкую к тезису Ле Гоффа об общем между
Цезарем и его легионером: они полагали, что менталитет —
это характеристика народа в целом. Так, например, М. А. Ку-
карцева считает возможным определить менталитет как
«национальный способ видеть мир и действовать соответ-
ствующим образом в определенных обстоятельствах». При
этом она признает наличие менталитета, присущего разным
группам и классам общества, но все внимание сосредотачи-
вает на выделении неизменных черт «совокупного русского
менталитета», как то: «стремление русских во всем доходить
до крайности, до пределов возможного...», сосредоточен-
ность на текущем, ожидание счастья и т. д. [206, с. 11-13].
Однако следует отметить, что подобные оценки встречаются
главным образом в общетеоретических рассуждениях о мен-
талитете. Показательно, что большинство историков — авто-
ров конкретных исследований на тему ментальностей в
России предпочитают применять данное понятие к отдел ь-
История России в антропологической перспективе
149
ным группам и классам населения: крестьянству, рабочим,
дворянству, казачеству и т. д.12
В книге О. С. Поршневой о менталитете крестьян, рабо-
чих и солдат в годы Первой мировой войны сделана попытка
примирить оба отмеченных выше подхода: «На наш взгляд, —
пишет исследовательница, — эти два подхода нельзя проти-
вопоставлять, так как менталитет индивида или социальной
группы органически связан как с культурой народа, нации, к
которой они принадлежат, так и с социальными условиями
бытия человека» [211, с. 25]. Однако «примирение» двух
трактовок менталитета возможно только на абстрактно-тео-
ретическом уровне: как только историк приступает к конк-
ретному исследованию, он должен уточнить содержание
используемого им понятия, причем предельно широкая трак-
товка термина (менталитет = «дух народа», национальный
характер и т. п.) оказывается практически непригодной для
обобщения разнородных данных, отражающих региональ-
ные, этнические, религиозные, имущественные и иные отли-
чия населения на необъятных просторах Российской импе-
рии или СССР. Вот почему исследователи, в том числе
О. С. Поршнева, в большинстве своем предпочитают изучать
менталитет отдельных социальных групп.
Более тридцати лет назад К. Гинзбург в первом издании
своей книги о мельнике Меноккио критиковал попытки изу-
чать ментальность целого народа от легионера до Цезаря за
внеклассовый подход. «Классовый подход — это в любом
случае шаг вперед по сравнению с внеклассовым», — писал
итальянский историк [67, с. 47]. Удивительно, что приходит-
ся напоминать об этом в нынешней России, где еще недавно
марксизм считался единственно верным учением.
12 О менталитете крестьянства см. статьи в сборнике «Менталитет и
аграрное развитие России (XIX-XX вв.)» [207], а также книгу О. Г. Буховца
[206]. О менталитете рабочих см.: [265], о менталитете дворянства и каза-
чества см.: [269, с. 75-77,127-131]. Менталитет сановной бюрократии пер-
вой половины XIX века стал темой монографии Е. В. Долгих [262].
150
М. М. Кром. Историческая антропология
Однако та же проблема воспроизводится и на уровне од-
ной большой социальной группы, будь то сословие или класс.
О том, какие трудности поджидают здесь исследователя,
можно судить по уже упомянутой монографии О. С. Порш-
невой. Во второй главе книги автор, стремясь показать изме-
нения в менталитете крестьянства в годы Первой мировой
войны, цитирует негативные высказывания крестьян о царе и
царской фамилии, зафиксированные в документах минис-
терства юстиции 1914-1916 годов. Какой-либо источнико-
ведческой характеристики этих материалов не дается; лишь в
нескольких случаях авторы подобных критических сужде-
ний названы по имени, с указанием их местожительства;
большинство высказываний излагаются анонимно, как «ти-
пичные», а в итоге делается вывод о «кризисе монархическо-
го сознания крестьян в условиях дискредитации в из глазах
правящего монарха» [277, с. 121]. Бесспорно, слухи об изме-
не, гнездившейся в царской семье, ходили в те годы по стра-
не. Несомненно и то, что тогда нелестные отзывы о царе час-
то можно было услышать в городах и деревнях. Насколько,
однако, эти настроения были характерны для всего много-
миллионного российского крестьянства? И не существовали
ли одновременно в крестьянской среде иные, вернопод-
даннические настроения? Сама же О. С. Поршнева приводит
свидетельство, относящееся к 1915 году, о надеждах вятских
крестьян на то, что царь отнимет у «панов» землю и отдаст
им; судя по приводимым исследовательницей данным, по-
добные ожидания были широко распространены и в ряде
других губерний [277, с. 130]. К тому же если учесть край-
нюю переменчивость слухов и настроений, то становится
ясно, что реконструкция «ментальной» картины в целом в ог-
ромной крестьянской стране даже за короткий период — за-
дача, непосильная для одного исследователя. Этим, возмож-
но, объясняется «импрессионистическая» манера, к которой
нередко прибегают историки ментальности.
Проблема, о которой шла речь выше, кратко может быть
сформулирована так: в основе концепции менталитета лежит
История России в антропологической перспективе
151
представление о некой однородной социокультурной среде,
существующей в данной группе или обществе в целом. Это то,
что французский историк Ален Буро назвал «ментальным хо-
лизмом» [55, с. 1495], а британский исследователь П. Берк оха-
рактеризовал эту черту истории ментальностей как тенденцию
«переоценивать степень умственного согласия (intellectual
consensus) в данном обществе в прошлом» [59, с. 170]. В этом
коренится и сила, и слабость истории ментальности как на-
правления: с одной стороны, способность абстрагироваться от
индивидуальных различий позволяет специалистам выдвигать
правдоподобные объяснительные модели, с другой — получа-
ющаяся в итоге «ментальная» картина несомненно является
упрощением реальной действительности. Об этом полезно
помнить российским исследователям, переживающим сейчас
период романтического увлечения историей ментальностей.
Другая методологическая трудность, связанная с приме-
нением категории «менталитет» в исторических исследова-
ниях, заключается в генетически присущем этому понятию
эволюционизме (см.: [55, с. 1495; 59, с. 173-174]). Как уже
говорилось в начале этой книги (см. с. 33), термин «менталь-
ность» первоначально применялся этнологами для изучения
«пралогического» первобытного мышления. Будучи взят «на
вооружение» историками, этот термин впоследствии утратил
уничижительный смысл, однако сохранил некий антиинтел-
лектуализм: до сих пор все теоретики истории ментальнос-
тей подчеркивают, что речь идет о не осознаваемых самим
человеком установках сознания, привычках мышления и по-
ведения, эти неотрефлексированные образы и представления
и есть менталитет [45, с. 75; 57, с. 188; 59, с. 162; 212. с. 159].
Однако, на мой взгляд, такое понимание менталитета, кото-
рое является наиболее распространенным, накладывает серь-
езные ограничения на использование последнего в качестве
аналитического инструмента для изучения массового созна-
ния и поведения людей в прошлом.
Методологически корректным представляется изучение
в рамках истории ментальностей таких явлений, как слухи,
152
М. М. Кром. Историческая антропология
различные страхи, включая ксенофобию, см.: [209, с. 42-44],
а также суеверий, бытовой религиозности (например, в дей-
ствующей армии [272, с. 76-85; 273, с. 238-248]), — все это
действительно примеры неотрефлексированного поведения
или состояния. Оправданно ли считать частью менталитета
трудовую этику крестьян или их представления о верховной
власти? Разве эти представления являются чем-то безотчет-
ным, подсознательным и начисто лишены какой-либо логи-
ки? Те обычаи и поведение крестьян, которые могут пока-
заться нам странными, оказываются вполне рациональными
в тех природных и хозяйственных условиях, в которых им
приходилось жить13. Вероятно, по примеру К. Гинзбурга [67,
с. 46] следует поставить вопрос о разных типах рациональ-
ности, этот подход представляется более перспективным,
чем традиционное противопоставление «менталитета» на-
родных масс «идеям» образованной верхушки.
Указанная проблема имеет важный источниковедческий
аспект. Можно ли считать разного рода прошения и письма,
адресованные властям, источником по истории менталитета?
Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как может показать-
ся на первый взгляд. Достаточно привести два показательных
примера.
Массовым источником для изучения настроений и чая-
ний российского крестьянства в 1905-1907 годах справедли-
во считаются мирские наказы и приговоры тех лет. По мне-
нию Л. Т. Сенчаковой, эти документы являются «зеркалом
крестьянского менталитета»; однако процитированные в ста-
тье прошения крестьян содержат не какие-то стереотипы
массового сознания, а хорошо аргументированные цифрами
и фактами жалобы на малоземелье и нужду, резкие выпады
против дворян и помещиков и т. д. [275]. Значительно более
тонкий анализ тех же документов предлагает в своей работе
американский исследователь Эндрю Вернер: по его наблюде-
13 См.: Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского
исторического процесса. М., 1998.
История России в антропологической перспективе
153
ниям, крестьяне-просители «не только хорошо сознавали
свои интересы <...> но и отдавали себе отчет в том, кому они
пишут» (прошения на имя Николая II составлены в более
уважительном тоне, чем просьбы, адресованные отдельным
членам Думы; учтены консервативные или либеральные воз-
зрения адресата). В итоге исследователь обоснованно рас-
сматривает эти прошения как часть процесса переговоров
между крестьянами и внешним миром, а также между сами-
ми крестьянами [207].
По-видимому, термин «менталитет» просто непригоден
для анализа подобных документов. То же относится и к сол-
датским письмам, задержанным военной цензурой (1915), ко-
торые анализирует в своей книге О. С. Поршнева: по ее под-
счетам выясняется, что самыми репрезентативными были
такие суждения солдат, как недовольство жестокой дисципли-
ной, жалобы на плохое питание и обмундирование, констата-
ция военно-технического превосходства немцев и т. д. [277,
с. 241]. Нисколько не умаляя ценности сделанных О. С. Порш-
невой наблюдений, хотелось бы заметить, что проанализиро-
ванные ею письма содержат не какие-то «установки созна-
ния», а живую реакцию людей на обстановку, в которой они
находились. Здесь, вероятно, можно говорить о настроениях
солдат, об их вполне сознательном отношении к происходя-
щему, но менталитет здесь опять-таки не при чем.
На мой взгляд, все сказанное позволяет сделать вывод о
том, что расширительное толкование и чересчур частое ис-
пользование термина «менталитет» снижают эффективность
его применения в качестве инструмента исследования14.
14 Примером крайне неудачного использования этого термина может
служить книга В. Ф. Зимы о менталитете народов СССР в годы Великой
Отечественной войны [203]. Сам того не желая, автор фактически прини-
жает значение подвига народа в войне, приписывая победу менталитету,
в основе которого, по словам В. Ф. Зимы, лежит «подсознание», «неосоз-
нанные поступки, характеризующие поведение человека в экстремаль-
ных жизненных ситуациях» (с. 16-17). Получается, что не давшиеся до-
рогой ценой боевой опыт и умение воевать, не полководческое искусство
154
М. М. Кром. Историческая антропология
Историческая антропология России:
от теоретических дебатов —
к конкретным исследованиям
В отличие от истории ментальностей, восприятие соб-
ственно исторической антропологии в России оказалось со-
пряжено со значительными трудностями. В частности, под
влиянием работ А. Я. Гуревича сам этот термин стал пони-
маться как синоним исследования ментальностей.
В 1994 году историк науки Д. А. Александров протесто-
вал против отождествления исторической антропологии с ис-
торией ментальностей: по его мнению, тем самым неоправ-
данно сужается поле исторической антропологии, которая
сейчас предполагает в первую очередь изучение разнообраз-
ных форм быта и социальных практик. При этом он ссылался
на работы британских и американских историков П. Берка,
Э. П. Томпсона, Н. 3. Дэвис [193. с. 3], которые А. Я. Гуревич
практически оставил без внимания.
Однако этот «протест» остался незамеченным. Научный
авторитет А. Я. Гуревича, недостаточное знакомство с дости-
жениями зарубежных историков (за исключением школы
«Анналов»), энтузиазм по поводу истории ментальностей, в
которой увидели счастливо найденную новую предметную об-
ласть исторической науки, — все это обусловило тот факт, что
к середине 90-х годов XX столетия отечественные историки-
русисты понимали историческую антропологию «по Гуре-
вичу» как некое продолжение истории менталитета.
Показательно, что написанный А. И. Куприяновым очерк ста-
новления исторической антропологии России (1996) по су-
ществу сводится к обзору работ по истории ментальностей, с
«вкраплением» небольших сюжетов об истории частной жиз-
военачальников, не работа инженеров и конструкторов, а лишь «крес-
тьянская выносливость и бесконечное терпение» помогли одолеть про-
тивника: «Победил менталитет советского народа, уходящий корнями в
далекое прошлое» [203, с. 253]. Делая бессознательное начало (ментали-
тет) главным героем войны, автор умножает число мифологем, связанных
с этим периодом нашей истории.
История России в антропологической перспективе
155
ни и гендерной истории. Как эти «истории» связаны между со-
бой и почему все они вместе образуют нечто, именуемое исто-
рической антропологией, автор не объясняет [795].
К сожалению, ни конференция 1998 года в РГГУ [14],
упомянутая во введении к данной книге, ни последующие те-
оретические обсуждения проблем исторической антрополо-
гии [75, 24] не внесли ясность в понимание сути указанного
научного направления. В выступлениях историков-русистов
на эту тему по-прежнему заметно слабое знакомство с реаль-
ными достижениями исторической антропологии в Западной
Европе и США, зато очень сильно желание найти ее пред-
шественников в России. Одни авторы понимают историче-
скую антропологию в философском смысле — как внимание
к человеку в истории, другие фактически отождествляют это
направление с историей менталитета.
Недостаточное осмысление отечественными историками
понятия «историческая антропология» привело к тому, что
до самого последнего времени в России почти не было работ,
авторы которых прямо ассоциировали бы свои исследования
с данным историографическим направлением. Тем не менее
уже сейчас можно назвать несколько тематических «полей»,
на которых происходит апробация историко-антропологи-
ческого подхода. Одним из таких быстро расширяющихся
«полей» стало изучение представлений о власти в ту или
иную эпоху, политического сознания (или «менталитета»)
различных слоев населения, символики власти и т. п. всего
того, что в зарубежной историографии давно получило на-
звание политической антропологии.
Заметным стимулом к развитию этого направления ис-
следований в России стало появление упомянутого выше
двухтомного труда Р. Уортмана о «сценариях власти». Важное
значение этой книги отмечалось в многочисленных рецен-
зиях15, а также в ходе дискуссии, состоявшейся в редакции
15 Рец. М. Д. Долбилова на первый и второй тома МОН?^^<^И^“
Долбилов М. Д. [Рецензия] // Отечественная история. 1998.
156
М. М. Кром. Историческая антропология
журнала «Новое литературное обозрение»16. О влиянии ра-
боты Уортмана на современную отечественную историогра-
фию свидетельствует появление ряда статей, авторы которых
прямо заявляют о своем намерении следовать в русле пред-
ложенного Уортманом подхода. Так, М. Д. Долбилов просле-
дил реализацию «сценария власти» (включая создание соот-
ветствующей мифологии, пропагандистские приемы и т. п.) в
борьбе самодержавия с польским восстанием 1863 года [230].
Наряду с работами других зарубежных исследователей исто-
рии государственной символики книга Р. Уортмана цитирует-
ся в статье О. Б. Мельниковой о церемониальных процессиях
в России XVII-XVIII веков17.
К тому же направлению следует отнести работы по исто-
рии российской политической культуры и, в частности, ис-
следования Б. И. Колоницкого о политических симпатиях/ан-
типатиях населения и символической природе власти в годы
Первой мировой войны и революции 1917 года. В моногра-
фии, написанной им совместно с Орландо Файджесом, пока-
зан процесс десакрализации монархии накануне 1917 года и
убедительно продемонстрирована роль языка и политиче-
ских символов в противоборстве различных сил в ходе рево-
181. Рец. на кн.: Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in
Russian Monarchy. Vol. 1: From Peter the Great to the death of Nicolas I.
Princeton, 1995; Долбилов M. Д. [Рецензия] // Отечественная история.
2001. № 5. С. 178-181. Рец. на кн.: Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth
and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 2: From Alexander II to the Abdica-
tion of Nicolas II. Princeton, 2000; Семенов А. «Заметки на полях» книги
Р. Уортмана «Сценарии власти: Миф и церемония в истории российской
монархии» // Ab Imperio: Теория и история национальностей и национа-
лизма в постсоветском пространстве. 2000. № 2. См. также указанную
выше статью Д. А. Андреева, с. 145, сноска 9.
16 См.: «Как сделана история» (Обсуждение книги Р. Уортмана «Сце-
нарии власти. Мифы и церемонии русской монархии») // Новое литера-
турное обозрение. 2002. № 56. С. 42-67.
17 Мельникова О. Б. Образ империи: церемониальные процессии в Рос-
сии в XVII-XVIII вв. (сравнительный анализ) // Образы власти в полити-
ческой культуре России / Под ред. Е. Б. Шестопал. М., 2000. С. 95-115.
История России в антропологической перспективе
157
люции [247]. Исследование этой темы было продолжено
Б. И. Колоницким в книге о политической культуре 1917 года
[232]. Так история революции, традиционно рассматривае-
мая как история борьбы партий, политических институтов и
лидеров, неожиданно предстает как конфликт, возникший по
поводу «старых» и «новых» символов и атрибутов власти.
Тем самым политическая история вписывается в социокуль-
турную историю, и это характерно для современной мировой
историографии.
Прошли те времена, когда ссылки на «наивный монар-
хизм» крестьян или «забитость и невежество» масс служили
достаточным объяснением прочности царского режима.
Теперь исследователи детально изучают народные представ-
ления о власти в разные эпохи отечественной истории.
Приведу только несколько наиболее важных работ.
В монографии П. В. Лукина анализируются представле-
ния о государственной власти в России XVII века. Автор ни
разу не говорит об «антропологическом подходе» и лишь из-
редка употребляет термин «менталитет», однако ссылки на
книгу М. Блока «Короли-чудотворцы» и на «Монтайю» Э. Ле
Руа Ладюри недвусмысленно свидетельствуют о том, в русле
какой традиции он ведет свое исследование. Книга интересна
тонкой нюансировкой основной темы: вместо шаблонного
тезиса о «наивном монархизме» вниманию читателей пред-
лагается более сложная и неоднозначная картина. В частнос-
ти, важными и убедительными представляются выводы авто-
ра о том, что особа царя считалась хотя и сакральной, но не
равной Богу (т. е. не обожествлялась полностью), и что «не-
пригожие речи» (дела о таких «речах» послужили П. В. Лукину
одним из основных источников) вовсе не свидетельствуют о
падении царского престижа в глазах народа: напротив, это
проявление того, что царская власть занимала центральное
место в политических представлениях русских людей XVII
века [236, с. 52-54, 67, 102].
Образ царя в массовом сознании россиян на рубеже XIX-
XX веков стал предметом изучения в монографии Г. В. Лоба-
158
Л/. М. Кром. Историческая антропология
чевой [255]. В своей работе исследовательница опирается
преимущественно на два комплекса источников: с одной сто-
роны, фольклорные материалы (сказки, былины, песни, пос-
ловицы), а с другой — прошения на высочайшее имя, пода-
вавшиеся подданными в конце XIX — начале XX века.
Приводимые автором данные относительно содержания и
общего количества ходатайств, поступивших в император-
скую Комиссию по принятию прошений на протяжении изу-
чаемого периода, представляют большой интерес. Однако
нельзя не заметить, что эти данные находятся в разительном
противоречии с теми выводами, к которым приходит Г. В. Ло-
бачева на основании изучения фольклорных материалов.
Так, появление в начале XX века, особенно после первой
русской революции, большого количества песен и частушек,
высмеивающих Николая II и его семью, автор интерпретиру-
ет как «постепенное размывание монархического идеала в
общественной психологии» [255, с. 105]. Как же тогда объ-
яснить тот факт (приводимый Г. В. Лобачевой): в 1915 году в
Канцелярию по принятию прошений поступило 85 602 хода-
тайства, адресованных царю, в 15 раз больше, чем в 1825
году, и в шесть с лишним раз больше, чем в 1881 году? А в
юбилейном для монархии 1913 году количество прошений
на царское имя достигло рекордной цифры — 202 822.
Конечно, можно согласиться с Г. В. Лобачевой в том, что эта
статистика сама по себе не свидетельствует однозначно о
росте авторитета монарха [255, с. 115], но и не учитывать
эти данные в общих выводах об отношении населения к го-
сударю накануне революции также было бы неверно.
Выходит, тысячи людей продолжали надеяться на помощь
монарха, в то время как другие уже распевали неприличные
частушки о царе, царице и Распутине. Итоговая картина об-
щественных умонастроений накануне свержения само-
державия получается очень пестрой и неоднозначной.
Очевидно, нам нужны более тонкие исследовательские инс-
трументы для изучения тех материалов, которые использо-
ваны в книге Г. В. Лобачевой.
История России в антропологической перспективе
159
В только что вышедшей монографии Б. И. Колоницкого
«“Трагическая эротика”: Образы императорской семьи в годы
Первой мировой войны» показано, каким тяжким испытани-
ям подверглись монархические и верноподданнические чув-
ства в предреволюционные годы. Хотя слухи об августейших
особах могли не иметь ничего общего с фактами их биогра-
фий, а образы царя и членов его семьи были далеки от «ори-
гинала», но порой «имидж», как подчеркивает автор, оказы-
вал большее воздействие на политический процесс, чем
реальные действия соответствующего персонажа [233, с. 14].
В итоге произошедшая за годы войны фрагментация монархи-
ческой политической культуры обусловила пассивность мо-
нархистов в февральские дни 1917 года, что в немалой степе-
ни способствовало быстрой победе революции [233, с. 568].
В книгах С. В. Ярова, образующих своего рода трилогию,
анализируется политическая культура (автор предпочитает
пользоваться терминами «политическое мышление» и «поли-
тическая психология») рабочих и крестьян в годы революции
и военного коммунизма. Как происходила политизация питер-
ского пролетариата? Как проявлялись политическая нетерпи-
мость и эгалитаризм в его среде? Что знали и что думали сель-
ские жители о Советах, компартии, Красной Армии? Вот
лишь некоторые вопросы, ответы на которые историк ищет в
имеющихся в его распоряжении источниках [242-244].
Общественное мнение в последние годы сталинского ре-
жима, отношение населения к политике государства стало те-
мой монографии Е. И. Зубковой [237].
Многие российские исследователи, нащупывая новые
пути изучения феномена власти в отечественной истории,
нередко не замечают «научного родства». Порой из зарубеж-
ной историографии заимствуются только темы и сюжеты,
характерные для политической антропологии, сам же иссле-
довательский подход автора остается в русле старой институ-
циональной истории18. Поэтому важна историографическая
18 Это характерно, например, для предпринятого М. Е. Бычковой срав-
160
М. М. Кром. Историческая антропология
рефлексия, осознание концептуального единства нового на-
правления (попытка обоснования политической антрополо-
гии как новой парадигмы политической истории России
предпринята в моей статье [234]).
Другое тематическое «поле», где уже применяется исто-
рико-антропологический подход на российском материале,
можно назвать религиозной антропологией', речь идет об
изучении субъективной стороны веры, народной религиоз-
ности, как определил это направление в свое время Л. П. Кар-
савин (о традиции изучения религиозности в отечественной
науке см. статью А. С. Лаврова в кн.: [222, с. 4-13]). Вслед за
германским исследователем Л. Штайндорфом российские
историки занялись изучением эсхатологических представле-
ний, а также различных аспектов поминальной практики в
Древней Руси (см., например, работы А. И. Алексеева: [218,
219, гл. I—II]). Эта тематика тесно связана с проблемой вос-
приятия смерти в указанную эпоху, что также стало в по-
следнее время предметом изучения отечественных ученых
[227, 223].
Важно подчеркнуть, что в рамках данного направления
рассматриваются не только народные верования, представ-
ления о конце света, о загробном мире и т. д., но и разнооб-
разные религиозные практики: поминальный культ, почита-
ние мощей и икон (или, напротив, их поношение [224]),
магия, колдовство и т. п. Все эти сюжеты нашли отражение в
капитальной монографии А. С. Лаврова о религии в России
в 1700-1740 годы. Автор предлагает рассматривать отноше-
ния православия, старообрядчества и сектантства как взаи-
модействие трех религиозных культур. Он анализирует раз-
личные формы народного православия (магию, обряды
перехода, эсхатологию, юродство и т. д.) и религиозность
дворянского сословия, что дает возможность исследователю
нительного анализа обрядов коронации в средневековой России, Литве и
Польше. См.: Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество
Литовское с конца XV в. до 1569 г. М., 1996. С. 99-119.
История России в антропологической перспективе
161
по-новому оценить цели и результаты петровской церковной
реформы [220].
По тематике и по источникам (судебно-следственным
делам о преступлениях против ортодоксальной веры) к кни-
ге А. С. Лаврова близка монография Е. Б. Смилянской о на-
родном православии в XVIII веке [225]. Однако исследова-
тельский подход и постановка задач у этих ученых заметно
отличаются: в книге А. С. Лаврова внимание фокусируется
на социальных аспектах веры (народное православие и ре-
лигиозность дворян рассматриваются отдельно), а также на
религиозной политике властей; в работе Е. Б. Смилянской
противопоставляются друг другу не разные слои населения,
а народная религия, в той или иной мере присущая предста-
вителям всех социальных групп снизу доверху, — офици-
альному учению церкви. Подобно другим историко-антро-
пологическим исследованиям, книга Е. Б. Смилянской под-
черкивает инаковостъ изучаемого общества, несмотря на
его кажущуюся близость к нашему времени, и вскрывает об-
ширный пласт архаической культуры в «просвещенном»
XVIII веке.
«Ростки» исторической антропологии пробиваются и в
других предметных областях исследования отечественного
прошлого. Так, усилиями Е. С. Сенявской сейчас происходит
институционализация военно-исторической антропологии
России [274]; изданы три выпуска ежегодника, посвященно-
го этому направлению исследований [270].
Наконец, следует упомянуть о смелом проекте Д. А. Алек-
сандрова, предложившего использовать историко-антропо-
логический подход применительно к изучению науки в
России. В соответствии с ним в центре внимания оказывает-
ся не судьба научных идей, а повседневная жизнь ученых,
межличностные и корпоративные отношения, неформальные
контакты и объединения, покровительство и зависимость и
т. п. [793].
162
М. М. Кром. Историческая антропология
Первые микроисторические опыты
С микроисторией российская научная общественность
познакомилась только в середине 1990-х годов, зато сразу
обратилась к самым авторитетным источникам: в короткий
срок на русский язык были переведены программные статьи
крупнейших теоретиков и практиков этого направления:
К. Гинзбурга, Дж. Леви, Э. Гренди, X. Медика, Ж. Ревеля
[102-105, 109, ПО, 114, 121]. Большая заслуга в популяриза-
ции микроанализа в исторических исследованиях принадле-
жит Ю. Л. Бессмертному и проводимому под его руковод-
ством в течение ряда лет (с 1994 года) семинару по истории
ч: (ной жизни в Институте всеобщей истории РАН19. По
инициативе Ю. Л. Бессмертного и его коллег по семинару
был основан альманах «Казус: Индивидуальное и уникаль-
ное в истории», по направлению близкий к микроистории20,
а в октябре 1998 года была проведена конференция о приме-
нении микро- и макроподходов к изучению прошлого [706].
Впоследствии уже творческое наследие самого Юрия
Львовича послужило поводом для обсуждения специфики
русской «версии» микроистории, намеченной в его послед-
них работах21. В мае 2005 года в Институте всеобщей исто-
рии РАН прошли чтения памяти Ю. Л. Бессмертного
19 Итогом работы семинара явилась публикация двух коллективных
монографий: «Человек в кругу семьи» и «Человек в мире чувств» [152,
153]. В первой книге Ю. Л. Бессмертный охарактеризовал приемы рабо-
ты авторского коллектива как близкие к микроистории [152, с. 16].
20 Об ориентации на микроисторию свидетельствует вступительная
статья Ю. Л. Бессмертного к первому выпуску альманаха: Бессмерт-
ный Ю. Л. Что за «Казус»?» // Казус: Индивидуальное и уникальное в
истории. 1996. М., 1997. С. 7-24. Материалы большой дискуссии о мик-
роистории помещены в 3-м выпуске (2000).
21 См.: Савицкий Е. Е. Эта странная русская «микроистория»... И Ка-
зус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. Вып. 5. М., 2003-
С. 546-569. См. также другие статьи, посвященные творчеству Ю. Л. Бес-
смертного, в том же выпуске альманаха.
История России в антропологической перспективе 163
«Многоликая микроистория? Перспективы, тупики, альтер-
нативы, 1998-2005»22.
Знакомство со статьями, опубликованными в «Казусе» со
времени его основания (к настоящему моменту вышло 8 вы-
пусков альманаха), позволяет говорить о формировании в
отечественной историографии особого, «казусного», подхода
или стиля. Его «приметами» являются повышенное внима-
ние к особенному, уникальному, неожиданному, искусно вы-
строенное повествование, тщательная детализация сюжета и
намеренный отказ от требуемых академической традицией
обобщений и выводов. Можно ли считать этот подход одним
из «вариантов» микроистории?
Напомню, что десять лет назад американский исследова-
тель Б. Грегори назад предложил различать две «версии»
микроистории: «эпизодическую», единственным представи-
телем которой он назвал К. Гинзбурга, и «систематическую»,
которую он охарактеризовал как новый способ изучения со-
циальной истории [136, с. 102] (подробнее см. на с. 99-100).
Как нетрудно заметить, то, что в терминологии Б. Грегори
именуется «эпизодической микроисторией», очень похоже
на «казусный» подход, получивший в последние годы рас-
пространение среди некоторых российских медиевистов и
историков раннего Нового времени.
Примечательно, что К. Гинзбург во время своего пребы-
вания в Москве осенью 2003 года, ознакомившись с «кредо»
редколлегии «Казуса», опубликованным на обложке альмана-
ха, согласился с первой частью этой мини-программы, в ко-
торой подчеркивалось внимание не к массовому, а к уникаль-
ному в истории, не к типичному, а к особенному и т. п. Однако
он решительно дистанцировался от намерения редколлегии
видеть в истории «не столько описываемое историком,
22 Из материалов этих чтений пока опубликованы только две статьи.
Зенкин С. Н. Микроистория и филология //Казус. Индивидуальное и уни-
кальное в истории. 2006. М., 2007. С. 365-377; Олейников А. А. Микроис-
тория и генеалогия исторического опыта И Там же. С. 378-392.
164
М. М. Кром. Историческая антропология
сколько создаваемое им». Гинзбург и раньше проводил де-
маркационную линию между микроисторией и постмодер-
низмом (см., например: [103, с. 226]); в своем московском вы-
ступлении он назвал идею о том, что историк может что-то
создавать, неверной, и отверг подобные аргументы в пользу
скептицизма [104, с. 349-350].
Если бы итальянский историк познакомился поближе с
работами, например, М. А. Бойцова (этому помешал, вероят-
но, языковой барьер), то он, возможно, увидел бы некое род-
ство между собственным исследовательским подходом и
приемами работы российского медиевиста. Подобно
Гинзбургу, М. А. Бойцов не только превосходный стилист,
мастерски создающий атмосферу диалога с читателем; он
умеет внести интригу в свое повествование и сделать удивле-
ние, вызванное необычным поведением людей прошлых
эпох, движущей силой исследования. Богатство интерпрета-
ций и нелюбовь к заключительным, итоговым выводам до-
полняют сходство итальянского и русского микроистори-
ков23. Важно подчеркнуть, что для М. А. Бойцова «казусный»
подход действительно играет роль исследовательского мето-
да: таким путем ему удалось выяснить много важного и не-
ожиданного в средневековом политическом символизме (см.
недавно вышедшую монографию М. А. Бойцова, где собраны
ранее публиковавшиеся очерки [/56]).
Несколько по-иному, но также плодотворно использует
«казусный» подход П. Ю. Уваров. С помощью серии «казу-
сов» исследователь изучает одну из страт французского об-
щества XVI века24.
Однако «казусная», или «эпизодическая» (по терминоло-
гии Б. Грегори), микроистория — это тонкая и трудная мето-
23 О нелюбви Гинзбурга к итоговым выводам, об открытости финала
в его работах см. наблюдения С. Козлова в послесловии к сборнику ста-
тей итальянского историка [10, с. 345].
24 См.: Уваров П. Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по но-
тариальным актам. М., 2004. С. 336—469.
История России в антропологической перспективе 165
дика, она явно не поддается тиражированию. Далеко не все
работы, опубликованные в альманахе «Казус», могут слу-
жить примером удачного использования микроисторическо-
го подхода.
Так, в статье А. В. Антощенко подробно излагаются обсто-
ятельства, приведшие к отставке в 1901 году П. Г. Виноградова
с должности профессора Московского университета. Автор
объясняет, что уход Виноградова был демонстративным про-
тестом против двусмысленного положения, в котором нахо-
дился тогда университетский профессор, являясь, с одной сто-
роны, наставником студентов, а с другой — государственным
чиновником, обязанным следовать указаниям министерского
начальства25 26. Эта история, однако, выглядит скорее как иллюс-
трация к давно высказанному тезису о мягко говоря неудачной
политике правительства в отношении университетов на рубе-
же Х1Х-ХХ веков или как отрывок из биографии известного
ученого П. Г. Виноградова. В данном случае детализация и ог-
раничение масштаба анализа рамками одного события не при-
водят ни к какому эвристическому выводу; вместо микроисто-
рии как метода исследования читателю предлагается искусно
сделанная историческая миниатюра.
Возможно, впрочем, что периодическое издание — вооб-
ще не слишком подходящее место для публикации микроис-
торических штудий. Дело в том, что многие общепризнан-
ные черты этого направления: особая нарративная техника,
знакомство читателя с исследовательской «кухней» автора,
максимально возможная детализация изложения, несколько
«кругов» интерпретаций и т. п., — определяют тяготение
микроистории к монографической форме. Рамки небольшой
журнальной статьи обычно затрудняют адекватную презен-
тацию микроисторического исследования .
25 Антощенко А. В. История одной профессорской ота
тт Rkin 4 М., 2UU2. С. 2э0^~2 /2.
Индивидуальное и уникальное в истории, оьп .
лишь подтверждают это прави-
«Казуса» более чем 60-странич-
26 Немногие счастливые исключения
ло. Так, опубликованный в 4-м выпуске
166
М. М. Кром. Историческая антропология
Показательно, что помещенные в третьем выпуске «Ка-
зуса» под рубрикой «Микроисторические опыты» статьи
О. И. Тогоевой (об уголовном регистре Шатле), О. Е. Коше-
левой (о переписи Петербурга 1718 года) и Е. Н. Марасиновой
(о сознании российской дворянской элиты рубежа XIX-XX
веков) на поверку оказываются анонсами будущего исследо-
вания (первые две публикации) и кратким отчетом о прове-
денной работе (третья из перечисленных статей)27. Сама же
микроистория осталась где-то за рамками изложения.
Насколько можно судить по имеющимся публикациям,
пока «казусный» подход не превратился в самостоятельный
метод исследования в работах историков-русистов. Зато, как
будет показано ниже, они с успехом осваивают техники, ха-
рактерные для «систематической» (как называет ее Б. Грегори)
социальной микроистории.
В 1999 году опубликована первая монография, представ-
ленная ее авторами, Е. Э. Ляминой и Н. В. Самовер, как опыт
микроисторического исследования. Книга является подроб-
ной биографией юноши из аристократической семьи, Иосифа
Виельгорского (1817-1839), воспитывавшегося при импера-
торском дворе вместе с наследником престола, будущим
Александром II, и умершего от чахотки в возрасте 22 лет. По
словам авторов, они стремились «возможно полнее воссо-
здать биографию» своего героя и «рассмотреть в уникальном
ный очерк М. А. Бойцова о средневековом обычае сполиирования (т. е.
ограбления) умерших правителей по сути представляет собой неболь-
шую монографию, см.: Бойцов М. А. Ограбление мертвых государей как
всеобщее увлечение // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории.
Вып. 4. М., 2002. С. 137-201.
27 Тогоева О. И. «Уголовный регистр Шатле»: традиции и возможнос-
ти изучения И Там же. Вып. 3. М., 2000. С. 189-198; Кошелева О. И. Пе-
репись населения Петербурга 1718 г. в свете микроисторического подхо-
да И Там же. С. 199-208 (см.: [277]); Марасинова Е. Н. «Душевно отстал
я от всяких великосветских замыслов» (Опыт исследования сознания
российской дворянской элиты последней трети XVIII — начала XIX века)
//Там же. С. 209-216.
История России в антропологической перспективе
167
черты типического, уловить в личной судьбе и личной траге-
дии то, что делает “бедного Жозефа” характерным предста-
вителем своего поколения» [280, с 9-10].
Как образец биографического жанра книга Е. Э. Ляминой
и Н. В. Самовер действительно достойна всяческих похвал:
благодаря сохранившимся дневникам и переписке молодого
И. М. Виельгорского (эти документы помещены в книге пол-
ностью и наравне с авторским текстом образуют важную
композиционную часть исследования), авторам удалось по-
казать внутренний мир своего героя, включая его самые со-
кровенные переживания. Однако в какой мере «бедный
Жозеф» может считаться типичным представителем своего
поколения? Скорее, можно говорить о его исключительнос-
ти, принимая во внимание выпавшую ему возможность быть
товарищем и соучеником наследника престола, глубину и
разносторонность полученного им образования, а также чер-
ты характера и образ мыслей, мешавшие ему чувствовать
себя своим человеком в светском обществе.
По ходу изложения авторы касаются многих важных сю-
жетов: отношений родителей и детей в аристократической
среде, принципов тогдашнего воспитания, специфики отно-
шения к монарху в высших кругах дворянского общества и
даже уровня развития медицины в ту эпоху. Однако ни один
из этих сюжетов не разрабатывается в книге специально и
подробно; иначе говоря, Е. Э. Лямина и Н. В. Самовер ис-
пользуют контекст эпохи для прояснения тех или иных эпи-
зодов жизни своего героя вместо того, чтобы, наоборот, с по-
мощью биографии высветить дотоле не известные стороны
тогдашней жизни. Поэтому, вопреки намерению, заявленно-
му авторами в предисловии, потенциал микроистории как
метода раскрывается в книге далеко не полностью28.
28 Оценка книги Е. Э. Ляминой и Н. В. Самовер, высказанная А. И. Фи-
люшкиным: «На сегодняшний день данная монография — наиболее яр-
кий пример удачного микроисторического исследования в российской
монографии» (Филюшкин А. И. Методологические инновации в совре-
168
М. М. Кром. Историческая антропология
Микроистория как исследовательский подход более эф-
фективно применяется в книге С. В. Журавлева об иностран-
ных рабочих московского Электрозавода в 1920-1930-х го-
дах [2 75]. Автор очень удачно избрал ракурс для рассмотрения
советской повседневности 20-30-х годов: маленькая коло-
ния иностранцев, работавших в Москве, как в капле воды,
отразила все тогдашние проблемы советской жизни: жилищ-
ную, продовольственную, дисциплину труда и его мотива-
цию. При этом особенно важно, что эти проблемы увидены
как бы глазами иностранцев, т. е. удается приложить к явле-
ниям тогдашней советской действительности современные
им западные мерки. Мало того, жизнь иностранной колонии
служит своего рода барометром открытости советского об-
щества по отношению к внешнему миру и действенности
лозунга пролетарского интернационализма: завершение на-
иболее трудного периода индустриализации и нарастание
тенденции к изоляционизму СССР после 1933 года привели
к тому, что за иностранными рабочими перестали «ухажи-
вать», возросло давление на них с целью принудить к приня-
тию советского гражданства; все это усилило отток иност-
ранной рабочей силы из страны, а в период репрессий
1937-1938 годов иностранная колония Электрозавода пре-
кратила свое существование.
Лучшим, на мой взгляд, примером микроисторического
исследования, выполненного на российском материале,
может служить книга О. Е. Кошелевой «Люди Санкт-Петер-
бургского острова Петровского времени» [278]. Ограничение
объекта исследования четкими пространственными и вре-
менными рамками («только» один городской остров, нынеш-
менной российской исторической науке И Actio Nova 2000: Сб. науч. ст.
М., 2000. С. 19), — может быть принята лишь с поправкой на то, что мик-
роисторические исследования остаются пока большой редкостью в оте-
чественной науке и поэтому каждую подобную попытку следует всячес-
ки приветствовать. При этом, однако, важно не потерять ориентиров,
которые дает нам зарубежная микроисторическая классика.
История России в антропологической перспективе 169
няя Петроградская сторона, на протяжении всего пяти лет
(1717-1722)) в сочетании с намерением изучить его «круп-
ным планом», во всех подробностях [278, с. 16] безошибочно
указывает на микроисторический характер работы, а приме-
нение не только качественных, но и количественных методов
анализа (в книге есть статистические подсчеты, таблицы и
диаграммы) сближает ее не столько с итальянской, сколько с
немецкой традицией микроистории.
Книга построена на многочисленных и разнообразных
источниках, мастерски анализируемых автором. Так, матери-
алы переписей дают информацию о социальном и демогра-
фическом составе населения Санкт-Петербургского острова
(некоторые наблюдения могут быть также экстраполированы
на город в целом), судебные документы позволяют судить о
конфликтах и проблемах, волновавших горожан в ту эпоху.
Избранный масштаб наблюдения (микроанализ) и богатство
источников, найденных историком, позволяют создать эф-
фект повседневности, причем эта повседневность структури-
рована и наполнена смыслом, поскольку реконструкция жиз-
ни первых петербуржцев велась по тем линиям, которые
«подсказывали» они сами в сохранившихся челобитных и
иных документах, проливающих свет на их заботы и чаяния.
Подобно другим микроисторическим штудиям, моногра-
фия О. Е. Кошелевой вносит существенные коррективы в ус-
тоявшиеся схемы, знакомые нам из школьных и вузовских
учебников. Так, весьма значимым представляется вывод ис-
следовательницы о том, что система взаимоотношений и
стратегий поведения простых петербуржцев «...осталась
почти неизменной со времен Московской Руси, она была пе-
ренесена переведенцами на невские берега из своих родных
городов и еще долго жила, переходя из всеобщей практики в
ограниченную» [278, с. 429]. Сильное впечатление также
производят те страницы книги, где наглядно показаны непро-
думанность многих указов Петра, их несоответствие реаль-
ному положению дел и, как следствие, непредвиденные ре-
зультаты его политики [278, с. 82-88, 138-140].
170
М. М, Кром. Историческая антропология
История повседневности:
потребность в концептуализации
Сфера применения антропологического подхода посте-
пенно расширяется: в нее все больше включается история
повседневности, частной жизни, семьи и детства (см., напри-
мер: [752, гл. 8, 12, 13; 753, гл. 5, 6, 13 и др.]). В 2000 году вы-
шла из печати книга О. Е. Кошелевой по истории детства в
России XVI-XVIII веков29: так, через 40 лет после издания
знаменитого труда Ф. Арьеса эта важная тема наконец-то
стала разрабатываться и у нас.
В последнее время история повседневности переживает
настоящий бум. Издатели, чувствуя конъюнктуру, публикуют
том за томом: в качестве примера можно привести выходя-
щую в издательстве «Молодая гвардия» серию «Повседневная
жизнь человечества». Наряду с переводными изданиями
(«Повседневная жизнь Древнего Рима», «Повседневная
жизнь итальянской мафии» и т. д.) в данной серии публику-
ются и книги российских авторов А. И. Бегуновой, Е. В. Ро-
маненко и др.30 Однако эти работы описательны, эклектичны
и могут быть полезны только в качестве справочников; серь-
езного научного значения они не имеют.
Однако и вполне академические исследования на подоб-
ные темы страдают одним общим недостатком — отсутстви-
ем продуманной концепции того, что собственно называется
повседневностью. В советские годы выходило немало работ,
в которых быт ассоциировался с материальной стороной жиз-
ни: давались описания того, что ели и во что одевались жите-
29 Кошелева О. Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи
Просвещения (XVI-XVIII вв.). Учебное пособие по педагогической ант-
ропологии и истории детства. М., 2000.
30 Бегунова А. И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование
Александра I. М., 2000; Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского
средневекового монастыря. М., 2002.
История России в антропологической перспективе
171
ли Древней Руси31; или приводились статистические данные
о заработной плате, питании и жилищных условиях рабочих
России на рубеже XIX-XX веков32. По-видимому, такой внеш-
ний подход к проблеме повседневности был в свое время не-
обходим, он вооружил историков некими первичными дан-
ными о жизни народных масс в изучаемую эпоху. Тем не ме-
нее сейчас такой подход представляется уже пройденным
этапом. Современные исследователи признают сложность и
многоаспектность тематики, связанной с историей повсед-
невности, подчеркивают ее междисциплинарный характер
[255, с. 43-46; 267, с. 4]. Однако осмысление проблемы, как
правило, остается на уровне подобных общих заявлений.
Нередко исследователи вообще никак не поясняют, что
они имеют в виду под повседневностью. Так, в августе 1994
года в Санкт-Петербургском университете экономики и фи-
нансов прошла международная конференция, посвященная
«российской повседневности 1921-1941 гг.» [267], но никто
из многочисленных докладчиков не счел нужным очертить
рамки или раскрыть содержание понятия, ради обсуждения
которого они приехали из разных городов и стран.
Складывается впечатление, что повседневность, так ска-
зать, приняла эстафету у другого, столь же размытого поня-
тия ментальности, выступая в качестве ни к чему не обязыва-
ющей рамки или «шапки» для самых разнообразных сюжетов,
интересующих исследователей. Модный термин украшает
теперь сборники материалов конференций [264, 265, 267] и
обложки монографий. Так, в книге В. Б. Безгина о крестьян-
ской повседневности конца XIX - начала XX века только из
оглавления можно понять, какой смысл вкладывает автор в
31 См., например: Очерки русской культуры XVI века: В 2 ч. / Гл. ред.
А. В. Арциховский. М., 1977. Ч. 1. С. 182-201 (жилище), 202-216 (одеж-
да), 217-224 (пища).
32 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX -
начало XX в.). М., 1979; Крузе Э. Э. Условия труда и быта рабочего клас-
са России в 1900-1914 годах. Л., 1981; и др.
172
М. Л/. Кром. Историческая антропология
слова, вынесенные в название его труда. Оказывается, «крес-
тьянская повседневность» в трактовке историка складывает-
ся из хозяйственного уклада деревни, крестьянского самоуп-
равления, обычного права, семейных устоев и, наконец,
православия, сельских суеверий и обрядов [25/]. Действие
книги происходит в некой «средней» деревне, населенной
крестьянами, которые также представляют собой собира-
тельный образ. Автору хочется задать только один вопрос:
чью повседневность он описывает? Сам того не замечая,
В. Б. Безгин конструирует модель крестьянской жизни на
основе представлений, причем нередко идеализированных,
которые уже давно сложились в научной и публицистической
литературе.
Немногим лучше обстоит дело и в тех случаях, когда ис-
торики пытаются дать «точное» определение повседневно-
сти. Например, JI. В. Лебедева, автор недавно изданной кни-
ги о повседневной жизни пензенской деревни 1920-х годов,
под интересующим нас термином понимает «...особую сфе-
ру социокультурной реальности, основанную на системной
повторяемости смыслов человеческого бытия, имеющую
пространственные и временные рамки» [258, с. 3]. Но как
только автор спускается с теоретических высот и конкрети-
зирует свое понимание повседневности, то оказывается, что
искомое понятие складывается примерно из тех же сюжетов
или рубрик, что и в упомянутой выше книге В. Б. Безгина:
быт, труд, отдых, мировоззрение, поведение, обычаи...
Как мне кажется, основная проблема заключается в том,
что современные исследователи склонны трактовать исто-
рию повседневности как особую предметную область33, по-
добно уже вышедшей из моды истории ментальностей.
Соответственно, они объективируют предмет своих занятий,
объявляя повседневность некой сферой реальности, а затем
тщетно пытаются очертить рамки этой сферы. Между тем в
33 Именно так характеризует историю повседневности Н. Л. Пушкаре-
ва в обзорной статье, посвященной этому направлению [/20].
История России в антропологической перспективе
173
социологии и антропологии уже давно предложены иные
трактовки интересующего нас понятия.
«Повседневная жизнь представляет собой реальность,
которая интерпретируется людьми и имеет для них субъек-
тивную значимость в качестве цельного мира», — говорится
в книге П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирова-
ние реальности» (1966); там же подчеркивается, что члены
общества в своем поведении «считают мир повседневной
жизни само собой разумеющейся реальностью»34.
Как видим, в феноменологической традиции повседнев-
ность представляется субъективной реальностью, которая
для самих людей кажется чем-то само собой разумеющимся
и образует целостный жизненный мир. Эту же особенность
восприятия людьми обыденной жизни отмечал и Ю. М. Лот-
ман, причем его трактовка бытового поведения строится на
контрасте «обычного» и «необычного»:
«В каждом коллективе с относительно развитой культу-
рой поведение людей организуется основным противопо-
ставлением:
обычное, каждодневное, бытовое, которое самими члена-
ми коллектива воспринимается как “естественное”, един-
ственно возможное, нормальное;
все виды торжественного, ритуального, внепрактическо-
го поведения: государственного, культового, обрядового, вос-
принимаемого самими носителями данной культуры как име-
ющее самостоятельное значение» [261. с. 249].
Эти строки были впервые опубликованы в 1977 году, за
год до появления статьи известного социолога Н. Элиаса
«О понятии повседневности». Тем интереснее точки сопри-
косновения, которые обнаруживаются между работами этих
выдающихся исследователей.
Ключевая мысль статьи Элиаса состоит в том, что
«...структура повседневности не обладает характером более
34 Бергер П., Лукман Т Социальное конструирование реальности /
Пер. Е. Руткевич. М., 1995. С. 38.
174
Al. Al Кром. Историческая антропология
или менее автономной особой структуры, но является со-
ставной частью структуры данного социального слоя и, —
поскольку его нельзя рассматривать изолированно, — час-
тью властных структур всего общества»35. Многочисленные
современные определения понятия «повседневность», пола-
гает немецкий социолог, имплицитно подразумевают проти-
воположное понятие («не-повседневность», Nicht-Alltag),
которое, однако, обычно остается в тени. Элиас считает необ-
ходимым обозначить эти сферы, обычно противопоставляе-
мые повседневной жизни, для того чтобы уточнить, какие
именно аспекты повседневности имеются в виду в том или
ином случае. Далее он перечисляет восемь пар понятий,
определяя повседневность через ее противоположности: по-
вседневность как противоположность празднику, повседнев-
ность как рутина, в отличие от чего-то чрезвычайного, и т. д.36
(подробнее см.: [257, с. 11]).
Бернхард Вальденфельс, философ феноменологического
направления, с одобрением отнесся к основным положениям
статьи Элиаса и, развивая их, пришел к еще более радикаль-
ным выводам:
«1. Обыденная жизнь не существует сама по себе, а воз-
никает в результате процессов “оповседневнивания” (Verall-
taglichung), которым противостоят процессы “преодоления
повседневности ” (Entalltaglichung).
2. Повседневность — это дифференцирующее понятие,
которое отделяет одно явление от другого. Границы и значе-
ния выделенных сфер изменяются в зависимости от места,
времени, среды и культуры. <...>
3. Речь о повседневности не совпадает с самой повсед-
невной жизнью и с речью в повседневной жизни. <...> Кто и
откуда говорит об обыденной жизни? О какой повседневнос-
35 Elias N. Zum Begriff des Alltags // Materialen zur Soziologie des Alltags
/ Hrsg. von K. Hammerich, M. Klein. Opladen, 1978 (= Kolner Zeitschrift fur
Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 20. 1978). S. 24.
36 Ibid. S. 26.
История России в антропологической перспективе 175
ти он говорит, о своей собственной или о повседневности ко-
го-то другого?»37
Эти наблюдения социологов, культурологов, философов
имеют важное значение для историков повседневности.
Поскольку обыденная жизнь не существует как некий при-
родный объект, то ее изучение или написание ее истории едва
ли может быть самостоятельной научной задачей, если не
считать таковой простое описание бытовых подробностей,
что в наши дни может иметь только справочное значение.
История повседневности приобретает смысл только тогда,
когда, как писал Н. Элиас, обнаруживается «противник»,
в сторону которого мы и направляем «острие понятия
повседневности»38. Иными словами, если мы хотим пере-
смотреть ту или иную историческую концепцию или даже
реформировать целое направление исторических исследо-
ваний (военную, политическую, экономическую историю
и т. п.), мы можем прибегнуть к ее «оповседневниванию» (по
выражению Вальденфельса).
Именно этим и занимаются, по сути, сторонники немец-
кой истории повседневности. Главный теоретик этого на-
правления, А. Людтке, признает, что сам термин «история
повседневности» далек от идеала и принят «за неимением
лучшего»; тем не менее, по его словам, это название «оправ-
дывает себя как самая краткая и содержательная формули-
ровка, полемически заостренная против той историографи-
ческой традиции, которая исключала повседневность из
своего видения» [113, с. 77].
Еще одно следствие из предложенной выше «конструкти-
вистской» концепции понятия «повседневность» заключает-
ся в том, что в своей реконструкции обыденной жизни
37 Валъденфелъс Б. Повседневность как плавильный тигль рацио-
нальности // Социо-логос. Социология. Антропология. Метафизика /
Сост., общ. ред. и предисл. В. В. Винокурова, А. Ф. Филиппова. М., 1991.
С. 40-41.
38 Elias N. Zum Begriff des Alltags. S. 22.
176
М М. Кром. Историческая антропология
минувших эпох, которая никогда не бывает абсолютно пол-
ной и целостной, историк не может обойтись без взгляда «из-
нутри», без того, что уже упоминавшийся на страницах этой
книги К. Л. Пайк назвал эмическим подходом. И, конечно,
далеко не случайно, что эффект повседневности наиболее
убедительно достигается в тех исследованиях, в которых по-
следовательно применяется именно этот подход, т. е. в мик-
роисторических штудиях. Так, «Монтайю» Э. Ле Руа Ладюри
или «Ткачество и выживание в Лайхингене» X. Медика, яв-
ляясь выдающимися образцами микроистории, в то же время
могут считаться и удачными примерами истории повседнев-
ности.
На российском материале успешное сочетание микро-
анализа и истории повседневности продемонстрировали
С. В. Журавлев и О. Е. Кошелева в проанализированных
выше книгах. В том же ряду можно назвать микроисследова-
ние Н. Б. Лебиной, проследившей смену жильцов в трех пет-
роградских домах в 20-е годы. Обнаруженные ею документы
свидетельствуют о том, что в быту советская номенклатура
очень рано отказалась от революционного аскетизма, про-
должая пропагандировать его на словах [279].
Этнологи и социологи накопили большой опыт изучения
повседневных практик, которым они могут поделиться с
историками. Например, в «Очерках коммунального быта»
И. В. Утехина на основе семиотического анализа простран-
ства квартиры, находящихся в ней предметов и мебели, а так-
же бесед с ее жильцами предлагается оригинальная рекон-
струкция мировосприятия обитателей коммуналок конца
советской эпохи с их понятиями о социальной справедливо-
сти, стратегиями поведения и т. д.39
Социолог С. А. Чуйкина анализирует стратегии выжива-
ния дворян в довоенном Ленинграде. Эти стратегии она опи-
сывает в терминах социологии П. Бурдье как «конвертацию
ресурсов»: те навыки, которыми обладали дворяне (знание
39 Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 2001.
История России в антропологической перспективе
иностранных языков, музыкальное образование и т. д ) и ко-
торые до революции часто использовались ими только в при-
ватной сфере (как хобби и т. п.), были востребованы в совет-
скую эпоху и помогали им устраиваться в новой жизни
становясь их профессией40.
Примером применения социологического подхода к исто-
рии повседневности является монография Н. Б. Лебиной о
советском городе 20-30-х годов. Дихотомия «норм и откло-
нений» послужила исследовательнице концептуальной рам-
кой для анализа различных форм повседневной жизни.
В книге изучаются как традиционные «аномалии» (пьянство,
преступность, проституция, самоубийства), так и аномалии,
ставшие нормой при новой власти (коммунальный быт, ком-
мунистическая «религия»). Особое внимание уделено нор-
мированию жилой площади, одежды, досуга, частной жизни
[259].
Подход, примененный в монографии Н. Б. Лебиной, вы-
звал решительные возражения А. С. Сенявского, который
счел некорректной попытку «свести все многообразие город-
ской жизни к социально ущербным, маргинальным или пато-
логическим проявлениям» [268, с. 29]. На мой взгляд, однако,
содержание книги отнюдь не сводится к выявлению разно-
образных аномалий в жизни Ленинграда 1920-1930-х годов.
Действительно, избранная автором концептуальная схема
довольно жесткая, и не все описанные в книге явления в нее
естественным образом помещаются (например, пропаганда
атеистического быта и новой коммунистической «религии»
едва ли подходит под категорию аномалии или патологии).
Важнее другое: Н. Б. Лебиной удалось показать процесс сме-
ны обыденных стереотипов и норм поведения и обрисовать
многие, хотя, разумеется, не все, структуры советской
40 Чуйкина С. Дворяне на советском рынке труда (Ленинград, 1917-
1941) // Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалис-
тического образа жизни в России, 1920-1930-е годы / Под общ. ред Т. Ви-
хавайнена. СПб., 2000. С. 151-192.
178
М. М. Кром. Историческая антропология
повседневности 20-30-х годов. Подобное структурирование,
или концептуализация, повседневности совершенно необ-
ходимо: в противном случае история быта опять сведется к
описательности, к импрессионистическим картинкам или
к механической сумме отдельных явлений той или иной
эпохи.
Как показывает проведенный выше обзор современных
публикаций, процесс антропологизации истории России идет
полным ходом. Одни исследователи участвуют в этом процес-
се вполне сознательно, активно экспериментируя с новыми
подходами и концепциями, другие скорее склонны плыть по
течению, повинуясь капризам научной моды. Наконец, третьи
избегают модных словечек и подходят к осознанию необходи-
мости новых подходов в силу логики развития той предмет-
ной области, в которой находятся их научные интересы.
Пока по количеству научной продукции лидирует самая
старая и самая спорная форма антропологической истории —
история менталитета, но уже набирают силу и более молодые
и лучше проработанные в методологическом отношении ва-
рианты того же направления — микроистория и история по-
вседневности. Изучение истории России в антропологиче-
ской перспективе уже приносит и, безусловно, еще принесет
в будущем заметные научные результаты. Вместе с тем мода
на историческую антропологию грозит опасностью забалты-
вания самого этого понятия и в конечном счете дискредита-
ции всего научного направления в целом. Чтобы этого не
произошло, необходимо трезво и критически оценивать все,
что печатается сейчас в России под флагом исторической
антропологии, истории ментальностей, микроистории и т. Д-
Необходимо внимательно анализировать опыт зарубежной
историографии: публиковать лучшие работы в русском пере-
воде, печатать рефераты, обзоры, рецензии.
Кроме того, важно осознать междисциплинарный статус
современных историко-антропологических исследований:
сегодня нельзя вести серьезный разговор об исторической
История России в антропологической перспективе 179
антропологии без ознакомления с концептуальными трудами
социологов и антропологов (П. Бурдье, К. Гирца, В. Тернера,
И. Гофмана и др.), без овладения созданным ими понятий-
ным аппаратом (хабитус, насыщенное описание, стратегии,
социальная драма и т. п.). Наконец, следует иметь в виду, что
антропологический подход — лишь один из многих в арсена-
ле современного историка и возможности его применения
отнюдь не безграничны. Поэтому есть потребность в серьез-
ном обсуждении границ данного подхода, его недостатков и
возможности сочетания с другими существующими метода-
ми и направлениями исторической науки.
КУДА ИДЕТ ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ?
(Вместо заключения)
В качестве заголовка для этих заключительных замеча-
ний я использовал, слегка перефразированное название опуб-
ликованной в 2001 году статьи X. Медика: «Quo vadis His-
torische Anthropologie?», т. e. «Куда идешь, историческая
антропология?»1. Хотя сам автор упомянутой статьи не дал
четкого ответа на заданный вопрос, мне кажется своевремен-
ной и важной сама постановка проблемы о векторе развития
этого историографического направления. Ибо историческая
антропология, как я старался показать на страницах данной
книги, — это прежде всего процесс «антропологизации» ис-
тории, процесс нахождения новых исследовательских подхо-
дов и форм историописания, вдохновленных диалогом исто-
риков с этнологами и представителями других социальных
наук.
В диахроническом плане все разнообразие конкретных
видов антропологически ориентированной истории можно
свести к двум последовательным этапам. Первый этап, ран-
няя историческая антропология (по терминологии некоторых
германских историков, «историческая антропология I» [147,
с. 6-71]), включает в себя французскую историю менталь-
ностей и демографическую историю с антропологическим
«уклоном» (работы Ф. Арьеса, Ж. Дюби, А. Бюргьера, Ж. Ле
1 Medick Н. Quo vadis Historische Anthropologie? Geschichtsforschung
zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mikro-Historie // Historische
Anthropologie. Kultur. Gesellschaft. Alltag. 9. Jg. 2001. Hf. 1. S. 78-92.
«Quo vadis» — «Камо грядеши», известное евангельское выражение
(Иоанн, 13,36).
Куда идет историческая антропология?
181
Гоффа, Э. Ле Руа Ладюри и др.). Сюда же следует отнести мо-
нографию К. Томаса «Религия и упадок магии» (1971), книгу
П. Берка о народной культуре Европы начала Нового време-
ни (1978), а также рассмотренные выше работы германских
исследователей «философского» направления, изучавших
историческую изменчивость «антропологических констант»
человека.
Названный этап пришелся в основном на 60-70-е годы во
Франции и Великобритании, в Германии — на конец 60-х___
начало 80-х годов, а в России он продолжался до недавних
пор и представлен работами А. Я. Гуревича и его последова-
телей. Следует, однако, подчеркнуть, что здесь важны не
столько хронологические грани, сколько стадиальные разли-
чия. Ранняя историческая антропология насквозь пронизана
структурализмом, она фокусирует внимание на длительных
процессах (la longue duree), устойчивых безличных структу-
рах (аграрных, семейно-родственных, ментальных и т. п.),
которые, как в плену, держат человека. Именно для такой
формы антропологически ориентированной истории харак-
терны рассуждения о «человеке Средневековья», «французе
XVI века», «древнерусском человеке» и т. п. В подобной ис-
тории «действуют» не конкретные индивиды, а сконструиро-
ванные исследователями человеческие типы.
Можно констатировать, что уже со второй половины
1970-х годов начался второй этап («историческая антрополо-
гия II», см.: [147, с. 81 и сл.]), который ознаменовался пово-
ротом к микроистории и возросшим интересом к повседнев-
ным практикам и стратегиям поведения индивидов и групп.
Помимо группы итальянских микроисториков, сделавших
сам этот термин (microstoria) знаменем нового направления
исследований, к этому же этапу относится формирование
германской истории повседневности и новой культурной
истории в англосаксонских странах (Н. 3. Дэвис, Л. ант>
Р. Дарнтон, П. Берк и др.). новой
Как мне кажется, наиболее последовательно смысл
парадигмы выражают приверженцы микроисторий в р
182
М. М. Кром. Историческая антропология
странах (К. Гинзбург, Дж. Леви, X. Медик, С. Черутти,
Д. У. Сэбиан и др.), в то время как некоторые сторонники
американской новой культурной истории порой демонстри-
руют возврат к старой истории ментальностей, но только под
новым названием (см. обсуждение книги Р. Дарнтона «Вели-
кое кошачье побоище» на с. 85-87).
Микроистория уже не удовлетворяется рассуждениями о
человеке вообще, равно как и объяснительными схемами, ко-
торые пытаются «вписать» этого человека в рамки каких-то
политических, социальных, ментальных структур или гло-
бальных процессов модернизации, цивилизации и т. п. Теперь
на первый план выходит стремление понять логику поведе-
ния конкретных людей в микросообществах, а пресловутые
«структуры» и «системы» в свете микроанализа предстают
незавершенными, открытыми, находящимися в процессе
постоянного становления и изменения под влиянием меняю-
щихся интересов и действий людей.
В реальной историографической ситуации ряда стран
сейчас можно наблюдать сосуществование «старых» и «но-
вых» форм антропологически ориентированной истории, од-
нако с методологической точки зрения необходимо учиты-
вать отмеченные выше стадиальные различия, в противном
случае характеристика интересующего нас направления мо-
жет получиться в значительной мере искаженной. Сказанное
в полной мере относится к той критике исторической антро-
пологии, с которой недавно выступил А. Л. Юрганов [29].
Основываясь на высказываниях французских историков,
представляющих школу «Анналов», и работах А. Я. Гуревича,
он упрекает данное историографическое направление в том,
что, сосредоточившись главным образом на изучении кол-
лективного бессознательного, историки этой школы с недо-
верием отнеслись к человеческой субъективности, к фактам
сознания и в итоге утратили сам предмет изучения — чело-
века как такового: «Современные установки исторической
антропологии, — подчеркивает Юрганов, — ориентированы
не на живую личность в ее мифическом обстоянии, а на
Куда идет историческая антропология?
183
проекцию обезличенного массового сознания». И далее:
«“Подлинный” человек открывается вне осмысленного им
опыта. Вот суть исторической антропологии, которая в сов-
ременном виде изучает не человека, а его отсутствие» [29,
№ 3, с. 63, 74].
Однако можно заметить, что, если не ограничиваться
только анализом теоретических суждений и программных за-
явлений «анналистов», как это сделал А. Л. Юрганов, а обра-
титься к их конкретным исследованиям, то приведенное
выше суровое обвинение окажется в ряде случаев необосно-
ванным: например, «Монтайю» Э. Ле Руа Ладюри содержит
не галерею архетипов, а прекрасно выписанные портреты
живых людей. Вместе с тем если иметь в виду теорети-
ческие установки истории ментальностей, то критика
А. Л. Юрганова во многом справедлива. Вот только относит-
ся она не к современному, а к раннему варианту историче-
ской антропологии. Странным образом из поля зрения исто-
риографа выпали такие более поздние виды антропологиче-
ской истории, как микроистория и новая культурная история,
которые формировались как раз в полемике с французской
историей ментальностей. Разве можно упрекнуть, например,
К. Гинзбурга, Дж. Леви или Н. 3. Дэвис в том, что их инте-
ресует некое «обезличенное массовое сознание»? Как раз
наоборот, они стремились проникнуть во внутренний мир
своих героев, понять мотивы их поступков, обусловленных
личным выбором, а не какими-то архетипами. Изучение жиз-
ненного опыта и переживаний людей — это, как было пока-
зано в этой книге, магистральное направление в творчестве
сторонников микроистории, истории повседневности, новой
культурной истории. Что же касается критики истории мен-
тальностей, то она, как мы уже знаем, отнюдь не нова, и при-
оритет здесь принадлежит таким ученым, как К. Гинзбург,
П. Берк, А. Буро и др.
Предпринятая А. Л. Кургановым критика исторической
антропологии грешит не только редукционизмом (все много-
образие форм антропологически ориентированной истории
184
Л/. М. Кром. Историческая антропология
сведено к одному, самому раннему и давно уже оспоренному
варианту), но и невниманием к эволюции критикуемого им
направления. Немудрено, что, предельно упростив обсужда-
емое историографическое явление, автор спешит объявить
об его «кончине»: «...историческая антропология, осущест-
вив свое дело, практически перестала быть собою». В чем же
заключалось это «дело»? Оказывается, в том, что «постепен-
но антропологизм (т. е. признание, что в центре историческо-
го процесса находится человек) стал аксиоматической осно-
вой любого исследования в науке»2.
На мой взгляд, приведенное высказывание служит ярким
подтверждением того факта, что восприятие исторической
антропологии в России остается еще на уровне ее ранних
форм, для которых как раз и характерны рассуждения в духе
абстрактного антропологизма, признания центральной роли
человека в истории и т. п.
Думается, что хоронить историческую антропологию еще
рано. Выходят новые книги мэтров этого направления: поми-
мо упомянутой выше монографии Н. 3. Дэвис о даре во
Франции XVI века (2000), можно назвать ее же недавно вы-
шедшую книгу об арабском географе и путешественнике Льве
Африканском (Хасане ал-Ваззане)3, а также «Очерки средне-
вековой антропологии» Ж.-К. Шмитта (2001) и «Историю
тела в средние века» Ж. Ле Гоффа и Николя Трюонга (2003)4.
Продолжают выходить журналы: «Одиссей» — в Москве.
«Historische Anthropologie» и «Paragrana» — в Германии.
Лекции и семинары по исторической антропологии проводят-
ся в разных университетах мира.
2 Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии // Вопросы ис-
тории. 2001. № 9. С. 39.
3 Davis N. Z. Trickster Travells. A Sixteenth-Century Muslim Between
Worlds. London, 2007.
4 Schmitt J.-C. Le corps, les rites, les reves, le temps. Essais d’anthropo-
logie medievale. Paris, 2001; Le Goff J., Truong N. Une histoire du corps an
Moyen Age. Paris, 2003.
Куда идет историческая антропология?
185
Впрочем, эти явные признаки институционализации
исторической антропологии свидетельствуют о том, что ее
уже не вполне правомерно называть новым направлением.
Уместно напомнить, что выдающиеся ученые, с именами ко-
торых связаны наибольшие успехи антропологической исто-
рии, принадлежат к поколению людей, родившихся между
двумя мировыми войнами5. Их дело продолжают ученики,
уже добившиеся известности (Ж.-К. Шмитт, А. Буро, С. Че-
рутти, М. Грибауди и др.).
Возвращаясь к поставленному выше вопросу о том, куда
сейчас идет историческая антропология, стоит сказать, что в
настоящее время вектор ее развития направлен в сторону
культурологической истории. В изданном в 1989 году в США
сборнике статей «New Cultural History» (под ред. Л. Хант)
ориентирами для такой истории объявлялись подходы, с од-
ной стороны, антропологов (в особенности К. Гирца), а с дру-
гой — литературоведов; основное внимание предлагалось
уделить изучению культурных практик и репрезентаций [57,
с. 1-22]. Во Франции это направление поддержал Р. Шартье,
предложивший, в частности, изучать историю чтения как
одну из культурных практик [57, с. 154-175; 28]. В Ве-
ликобритании П. Берк, в 80-е годы выступавший «под фла-
гом» исторической антропологии [75], озаглавил сборник
своих статей, изданный в 1997 году, «Вариации [на тему]
культурной истории» («Varieties of Cultural History») [57]. Он
же поместил главу об исторической антропологии в свою
книгу «Что такое культурная история?», изданную в 2004
году ([52], перевод двух глав из этой книги см.: [7]). Если еще
упомянуть споры германских историков на пороге XXI века
5 Если расположить имена классиков исторической антропологии (в ее
различных вариантах) в хронологическом порядке по годам рождения, то
получится следующий список: Ф. Арьес (1914—1984), Ж. Дюби (1919—
1996), Ю. Л. Бессмертный (1923-2000), Ж. Ле Гофф (р. 1924), А. Я. Гуре-
вич (1924-2006), К. Пони (р. 1927), Н. 3. Дэвис (р. 1928), Э. Ле Руа Ладюри
(р. 1929), П. Берк (р. 1937), К. Гинзбург (р. 1939), X. Медик (р. 1939),
Р. Дарнтон (р. 1939), Д. У. Сэбиан (р. 1939), А. Людтке (р. 1943).
186
М. М. Кром. Историческая антропология
по поводу «новой науки о культуре» (см. с. 119), то картина
культурологического поворота вырисовывается достаточно
ясно.
В силу своей многозначности понятие «культура» не мо-
жет объединить исследователей, избравших этот термин в ка-
честве ядра для своих концепций. В то время как теоретики
американской новой культурной истории делают особый
акцент на изучении текстов, призывают к «эстетизации» ис-
тории и освобождению ее от роли «служанки социальной те-
ории» (слова Л. Хант: [57, с. 21]), итальянские микроистори-
ки отмежевываются от крайностей гирцизма и релятивизма,
оставаясь в рамках социальной истории. Таким образом, одно
крыло антропологически ориентированной истории явно
сближается с постмодернизмом, между тем как другое (мик-
роисторики в Италии, Германии, Франции) сохраняет вер-
ность сциентистской традиции.
Полагаю, что рано или поздно эти проблемы станут акту-
альными и для отечественной историографии, в которой сей-
час также происходит антропологический поворот. Поэтому
полезно уже сейчас задуматься не только о тех новых воз-
можностях, но и о новых трудностях, которые несет с собой
антропологизация истории.
Во-первых, открывается перспектива существенного об-
новления и расширения проблематики исследований. Антро-
пологический подход отвечает давно ощущаемой историками
потребности обратиться к изучению повседневности, жиз-
ненной практики в различных ее формах, дополнить историю
учреждений, законоположений и больших социальных групп
«человеческим измерением». Политическая культура и на-
родная религиозность — вот лишь два возможных перспек-
тивных направления в изучении истории России, где уже есть
удачные примеры успешного применения нового подхода.
Во-вторых, взгляд на события прошлого под новым уг-
лом зрения позволяет вовлечь в научный оборот ранее не ис-
пользованные источники, на которые до сих пор историки
обращали недостаточное внимание (например, коронацион-
Куда идет историческая антропология?
187
ные альбомы, материалы судебно-следственных дел по обви-
нению в религиозных преступлениях и т. п.).
В-третьих, не менее важны перспективы децентрирова-
ния отечественной истории, связанные с применением мик-
роисторического антропологического подхода. До сих пор в
монографиях и учебниках политическая история страны сво-
дится к событиям в столицах (Москве или Петербурге, в за-
висимости от рассматриваемого периода), а социокультур-
ные и экономические процессы и явления представляются в
виде неких средних показателей (статистики) и в общенаци-
ональном масштабе. Между тем историки из Твери, Вологды,
Казани и других российских регионов вполне могут последо-
вать примеру Дж. Леви или X. Медика («Локальная история
как история всеобщая») и, используя богатые возможности
местных архивов, показать, как детальное изучение истории
города (области, губернии и т. п.) может внести коррективы в
привычные представления «столичной» историографии.
Антропологический подход способен также возродить
интерес к компаративистским исследованиям, по-новому за-
давая вечный вопрос о соотношении исторического пути
России и Европы. Разумеется, каждый подход имеет свои ог-
раничения. Поскольку антропологическая история присмат-
ривается к поведению отдельных людей или небольших
групп, ее успехи и слабости прямо связаны с применением
микроанализа. Однако изучение отдельных случаев (case
studies), столь часто встречающееся в историко-антропологи-
ческих исследованиях, неизбежно ставит проблему репре-
зентативности того или иного изученного явления и перехода
от микро- к макроуровню. Кроме того, создание множества
«местных историй» может привести к фрагментации обще-
национального исторического дискурса. Как ярко показал
опыт итальянских и германских историков, микроанализ не
снимает, а лишь по-новому ставит проблему обобщения сде-
ланных наблюдений.
Важно также учесть, что историко-антропологическое
исследование возможно применительно далеко не к каждой
188
М М. Кром. Историческая антропология
эпохе, ибо, как справедливо подчеркнул в своем выступле-
нии на конференции 1998 года И. Н. Данилевский [/94], воз-
можность его проведения напрямую зависит от состояния
источниковой базы. Поэтому, на мой взгляд, едва ли возмож-
на историческая антропология Киевской Руси: сохранивши-
еся источники позволяют реконструировать определенные
социальные типы, как это блестяще сделал Б. А. Романов, но
документов личного характера (переписки, дневников и т. п.)
до нас не дошло, и голосов конкретных людей «из народа»
мы не слышим.
Историко-антропологический подход проявляется в выбо-
ре темы и постановке проблемы исследования, в используе-
мой терминологии, в ориентации ученого на определенную
историографическую традицию, наконец, в манере представ-
ления полученных результатов и построении нарратива (в ис-
кусстве композиции себя особенно проявили микроистори-
ки). Тем не менее не следует смешивать подход с методами
исследования, которые остаются вполне традиционными:
одни историки антропологического направления (подобно
Дж. Леви, X. Медику, Ю. Шлюмбому) активно применяют
статистические и генеалогические методы, другие (как, на-
пример, К. Гинзбург, Р. Дарнтон и П. Берк) охотнее прибегают
к герменевтике, т. е. приемам интерпретации текстов6. Из но-
вых методов исследования, нашедших применение в работах
по микроистории, можно назвать приемы устной истории,
т. е. методику интервью (М. Грибауди, А. Портелли и др.).
Словом, историческую антропологию не следует считать
каким-то привилегированным, сулящим легкий успех спосо-
бом писания истории. Тем отечественным исследователям,
которые пытаются сейчас применить антропологический
подход к изучению российского прошлого, необходимо мак-
симально учесть опыт зарубежных коллег, уже давно разви-
6 В творчестве Д. У. Сэбиана можно найти примеры использования
как статистических методов (в его дилогии о деревне Неккархаузен, см
выше сноску 27 на с. 116), так и приемов герменевтики [5/, 123].
Куда идет историческая антропология?
189
вающих это направление на материале своих стран. Если моя
книга хоть в небольшой степени поможет критическому ос-
мыслению накопленного в мировой науке опыта историко-
антропологических исследований, я буду считать свою зада-
чу выполненной.
Список литературы
Обзоры, рефераты, библиография
1. Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы куль-
туры и социально-культурных представлений средневековья в совре-
менной зарубежной историографии / Редкол.: Ю. Л. Бессмертный и
др. М., 1980.
2. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные
исследования в обзорах и рефератах / Сост. Е. М. Михина. М., 1996.
3. Культура и общество в средние века: методология и методика зару-
бежных исследований / Отв. ред. А. Л. Ястребицкая. М., 1982.
4. Культура и общество в средние века: методология и методи-
ка зарубежных исследований. Вып. 2 / Отв. ред. А. Я. Гуревич,
А. Л. Ястребицкая. М., 1987.
5. Культура и общество в средние века в зарубежных исследованиях /
Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный, А. Л. Ястребицкая. М., 1990.
6. Общественные науки за рубежом. Реферативный журнал. Сер. 5.
История. 1973-1992.
Историческая антропология в контексте
современной историографии
7. Берк П. Историческая антропология и новая культурная история И
Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 64-91.
8. Бессмертный Ю. Л. Историческая антропология сегодня: француз-
ский опыт и российская историографическая ситуация И Историческая
антропология: место в системе социальных наук, источники и мето-
ды интерпретации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва, 4-6 фев-
раля 1998 г. / Отв. ред. О. М. Медушевская. М., 1998. С. 32-34.
9. Бюргьер А. От серийной к комплексной истории: генезис исто-
рической антропологии // Homo Historicus: К 80-летию со дня рожде-
ния Ю. Л. Бессмертного: В 2 кн. / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2003.
Кн. I. С. 191-219.
10. Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и исто-
рия: Сб. ст. М., 2004. Перевод изд.: Ginzburg С. Miti emblemi spie:
Morfologia e storia. Torino, 1986.
Список литературы
191
11. Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через
теорию «стилей жизни» к «культурной истории повседневности» //
Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 96-124.
12. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после
1950 года // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 48-59.
13. Историческая антропология: Концепция преподавания в РГГУ: Учеб.-
метод, пос. / Сост.: Т. В. Борисенок, М. Ф. Румянцева. М., 2001.
14. Историческая антропология: место в системе социальных наук, ис-
точники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф.
Москва, 4-6 февраля 1998 г. / Отв. ред. О. М. Медушевская. М.,
1998.
15. История в XXI веке: Историко-антропологический подход в препо-
давании и изучении истории человечества: Материалы междунар.
интернет-конференции / Под ред. В. В. Керова. М., 2001.
16. История и антропология: междисциплинарные исследования на
рубеже XX - XXI веков / Пер. с англ. К. А. Левинсона; пер. с фр.
Л. А. Пименовой; под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. СПб.,
2006.
17. К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современ-
ной западной исторической мысли / Под ред. Б. Г. Могильницкого.
Томск, 1994.
18. Ким С. Г. Основные тенденции исторической антропологии в Гер-
мании 1960-80-х гг. // К новому пониманию человека в истории:
Очерки развития современной западной исторической мысли / Под
ред. Б. Г. Могильницкого. Томск, 1994. С. 130-190.
19. Ким С. Г. Историческая антропология в Германии: методологические
искания и историографическая практика. Томск, 2002.
20. Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М.,
1998.
21. Кром М. М Арон Яковлевич Гуревич и антропологический поворот
в исторической науке // Новое литературное обозрение. 2006. № 81.
С.221-228.
22. Репина Л. П. Социальная история и историческая антропология: но-
вейшие тенденции в современной британской и американской меди-
евистике // Одиссей. Человек в истории. 1990. М., 1990. С. 167-181.
23. Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы со-
циальной истории. [Ч. 1] И Социальная история. Ежегодник, 1997.
М., 1998. С. 11-52; Ч. 2 // Там же. 1998/99. М., 1999. С. 7-38.
24. Сидорова Л. А. Проблемы исторической антропологии И Отече-
ственная история. 2000. № 6. С. 206-207.
25. Согрин В.В., Зверева Г. И, Репина Л. П. Современная историография
Великобритании. М., 1991.
192
М. М. Кром. Историческая антропология
26. Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической
науки вокруг французской школы «Анналов» / Отв. ред. Ю. Л. Бес-
смертный. М., 1993.
27. СэбианД. У, Кром М. М., Алъгази Г. Введение. История и антрополо-
гия: путь к диалогу // История и антропология: междисциплинарные
исследования на рубеже XX-XXI веков / Пер. с англ. К. А. Левинсона;
пер. с фр. Л. А. Пименовой; под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана,
Г. Альгази. СПб., 2006. С. 8-32.
28. Шартье Р. Новая культурная история // Homo Historicus: К 80-летию
со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: В 2 кн. / Отв. ред. А. О. Чу-
барьян. М., 2003. Кн. I. С. 271-284.
29. Юрганов А. Л. Источниковедение культуры в контексте развития ис-
торической науки // Россия XXI. 2003. № 3. С. 56-99; № 4. С. 64-85.
30. Burke Р. History and Social Theory. Cambridge, 1992.
31. Burke R Varieties of Cultural History. Cambridge, 1997.
32. Burke P What is Cultural History? Cambridge, 2004.
33. Davis N. Z. The Shapes of Social History // Storia della storiografia. 1990.
N 17. P. 28-34.
34. Faire de Fhistoire / Sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora. [Vol.] I—III. Paris,
1974.
35. La nouvelle histoire I Sous la dir. de J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel.
Paris, 1978; Сокр. изд.: Bruxelles, 1988.
36. New Perspectives on Historical Writing / Ed. by P. Burke. University Park
(Pennsylvania), 1992.
37. The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley; Los Angeles,
1989.
От истории ментальностей — к исторической
антропологии (традиции школы «Анналов»)
38. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. Перевод изд.:
Aries Ph. L’Homme devant la mort. Paris, 1977.
39. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр.
Я. Ю. Старцев. Екатеринбург, 1999. Перевод изд.: Aries Ph. L’enfant et
la vie familiale sous 1’Ancien Regime. 2 me ed. Paris, 1973.
40. Блок M. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестест-
венном характере королевской власти, распространенных преиму-
щественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. и коммент. В. А. Миль-
чиной; предисл., Ж. Ле Гоффа. М., 1998. Перевод изд.: Bloch М. Les
rois thaumaturges. Etude sur le caractere sumaturel attribue a la puissance
royale particulierement en France et en Angleterre. Strasbourg; Paris;
London, 1983. (l‘eed. 1924.)
Список литературы
193
41. Блок М. Феодальное общество / Пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой,
Е. М. Лысенко. М., 2003. Т. I, ч. 1. Кн. 2. С. 64—124 («Условия жизни
и духовная атмосфера»). Перевод изд.: Bloch М. La societe feodale.
Paris, 1968.
42. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд.
М., 1984.
43. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.,
1981.
44. Гуревич А. Я. Этнология и история в современной французской меди-
евистике // Советская этнография. 1984. № 5. С. 36-48.
45. Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историо-
графии И Всеобщая история: дискуссии, новые подходы / Отв. ред.
А. О. Чубарьян, В. В. Согрин. Вып. 1. М., 1989. С. 75-89.
46. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами
современников. М., 1989.
47. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-
шинства. М., 1990.
48. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
49. Гуревич А. Я. Подводя итоги... И Одиссей. Человек в истории. 2000.
М., 2000. С. 125-138.
50. Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
51. Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (Размышления ме-
диевиста) И Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 38-63.
52. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр.; общ.
ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1992. Перевод изд.: Le Goff J. La civili-
zation de 1’occident medieval. Paris, 1977.
53. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада /
Пер. с фр. С. В. Чистяковой, Н. В. Шевченко; отв. ред. В. В. Харитонов.
Екатеринбург, 2000. Перевод изд.: Le GoffJ. Pour un autre Moyen Age;
Temps, travail et culture en Occident. Paris, 1977.
54. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр. Е. В. Мо-
розовой; общ. ред. С. К. Цатуровой. М., 2001. Перевод изд.: Le GoffJ.
L’lmaginaire medieval. Essais. Paris, 1985.
55. Ревель Ж. История ментальностей: опыт обзора И Споры о главном:
Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг фран-
цузской школы «Анналов» / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1993.
С.51-58.
56. Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
57. Aries Ph. L’histoire des mentalites П La nouvelle histoire I Ed. par J. Le
Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. Переизд.: Bruxelles, 1988.
P. 167-189.
58. Boureau A. Propositions pour une histoire restreinte des mentalites H
Annales. E.S.C. 44eannee. 1989. N 6. P. 1491-1504.
194
М. М. Кром. Историческая антропология
59. Burke Р Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities (1986).
Reprinted in: Burke P Varieties of Cultural History. Cambridge, 1997.
P. 162-182.
60. Delumeau J. La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siecles). Paris, 1978.
Сокр. рус. пер.: Делюмо Ж. Ужасы на Западе / Пер. с фр. Н. Епи-
фанцевой. М., 1994.
61. Duby G. Histoire des mentalites П L’histoire et ses methodes I Sous la dir.
de Ch. Samaran. Paris, 1961. P. 917-966.
62. Febvre L. Le probleme de 1’incroyance au XVIе siecle. La religion de
Rabelais. Paris, 1942.
63. Le Goff J. Les mentalites: une histoire ambigue // Faire de l’histoire.
Nouveaux objets I Sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora. Paris, 1974. P. 76-
94.
64. Mandrou R. Magistrats et sorciers en France au XVII siecle. Une analyse
de psychologic collective. Paris, 1968.
Классика исторической антропологии
(избранныеработы 1970-2000-х годов)
65. Бёрк П. Антропология итальянского Возрождения И Одиссей. Чело-
век в истории. 1993. М., 1994. С. 272-283.
66. Гинзбург К Образ шабаша ведьм и его истоки И Одиссей. Человек в
истории. 1990. М., 1990. С. 132-146.
67. Гинзбург К Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в
XVI в. / Пер. с итал. М. Л. Андреева, М. Н. Архангельской. М., 2000.
Перевод изд.: Ginzburg С. Il formaggio е i vermi. Torino, 1976.
68. Дарнтон Р Великое кошачье побоище и другие эпизоды из исто-
рии французской культуры / Пер. с англ. Т. Доброницкой. М., 2002.
Перевод изд.: Darnton R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in
French Cultural History. New York, 1984.
69. Дэвис H. 3. Возвращение Мартена Герра I Пер. с англ. А. Л. Вели-
чанского. М., 1990. Перевод изд.: Davis N. Z. The Return of Martin
Guerre. Cambridge, 1983.
70. Дэвис H. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века.
М., 1999. Перевод изд.: Davis N. Z. Women on the Margin; Three
Seventeenth-century Lives. Cambridge, Mass., 1995.
71. Дэвис H. 3. Еще раз о самозванцах: от Мартина Герра до Соммерсби
// Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного:
В 2 кн. / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2003. Кн. II. С. 171-188.
72. Дэвис Н. 3. Обряды насилия И История и антропология: междисцип-
линарные исследования на рубеже XX-XXI веков / Под общ. ред.
М. Крома, Д. Сабеана, Г. Альгази. СПб., 2006. С. 111-162.
Список литературы
195
73. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324).
Екатеринбург, 2001. Перевод изд.: Le Roi Ladurie Е. Montaillou, vil-
lage occitan de 1294 a 1324. Paris, 1975; 2 me ed. Paris, 1982.
74. Burke P Popular Culture in Early Modem Europe. London, 1978. Reprint:
New York, 1978.
75. Burke P The Historical Anthropology of Early Modem Italy: Essays on
Perception and Communication. Cambridge, 1987. Reprint: 1994.
76. Davis N. Z. Society and Culture in Early Modem France. Stanford, 1975.
77. Davis N. Z. Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in
Sixteenth-Century France. Stanford, 1987.
78. Davis N. Z. The Gift in Sixteenth-Century France. Madison; London,
2000.
79. Ginzburg С. I benandanti: stregoneria e culti agrari tra Cinquecento
e Ceicento. 4 ed. Torino, 1988; 1 ed. 1966. Англ, nep.: Ginzburg C.
The Night Battles: Witchcraft & Agrarian Cults in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries. Baltimore, 1983. Reprint: 1992.
80. Ginzburg C. Storia nottuma. Una decifrazione del sabba. Torino, 1989.
81. Sabean D. W. Power in the Blood. Popular Culture and Village Discourse
in Early Modem Germany. Cambridge, 1984. Reprint: 1987.
82. Thomas К. V. Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular
Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England. Oxford, 1997;
1st ed. London, 1971.
83. Thompson E. P “Rough Music”: Le Charivari anglais И Annales. E.S.C.
27е annee. 1972. N 2. P. 285-312.
84. Thompson E. P. The Moral Economy of the English Crowd in the
Eighteenth Century H Past and Present. 1971. N 50. P. 76-136. Reprinted
in: Customs in Common. New York, 1993. Ch. 4.
Что такое «историческая антропология»?
Программные и полемические статьи и выступления
85. Алексеев В. П. Не возникнет ли путаница? И Вестник АН СССР.
1989. № 7. С. 78-79.
86. Григорьев С. И. Историческая антропология — «на обломках само-
властья» И Клио. Журнал для ученых. 2002. № 1 (16). С. 165-168.
87. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология //
Вопросы философии. 1988. № 1. С. 56-70.
88. Гуревич А. Я. Историческая антропология: проблемы социальной и
культурной истории И Вестник АН СССР. 1989. № 7. С. 71-78.
89. Гуревич А.Я. Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы
символической антропологии И Труды по знаковым системам. Т. 25:
Семиотика и история. Тарту, 1992. С. 23-34.
196
Л/. Л/. Кром. Историческая антропология
90. Леви Дж. Опасности гирцизма И Новое литературное обозрение.
2004. №70. С. 25-31.
91. Burguiere A. L’anthropologie historique И La nouvelle histoire I Sous la
dir. de J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. P. 37-61. Reprint:
Bruxelles, 1988. P. 137-164.
92. Виг%шёге A. Anthropologie historique // Dictionnaire des sciences histo-
riques / Sous la dir. de A. Burguiere. Paris, 1986. P. 52-60.
93. Burguiere A. L’anthropologie historique // L’histoire et le metier d’his-
torien en France 1945-1995 / Sous la dir. de F. Bedarida. Paris, 1995.
P. 171-185.
94. Chartier R. Text, Symbols and Frenchness: Historical Uses of Symbolic
Anthropology // Chartier R. Cultural History: Between Practices and
Representations. Cambridge, 1988. Reprint: 1993. P. 95-111.
95. Cohn B. S. History and Anthropology: The State of Play // Comparative
Studies in Society and History. 1980. Vol. 22. N 2. P. 198-221.
96. Darnton R. The Symbolic Element in History И The Journal of Modem
History. 1986. Vol. 58. N 1. P. 218-234.
97. Davis N. Z. Anthropology and the History in the 1980s 11 Journal of
Interdisciplinary History. 1981. Vol. 12. N 2. P. 267-275.
98. Medick H. “Missionaries in the Row Boat”? Ethnological Ways of
Knowing as a Challenge to Social History // Comparative Studies in
Society and History. 1987. Vol. 29. N. 1. P. 76-98.
99. Thomas K. History and Anthropology // Past and Present. 1963. N 24.
P. 3-24.
100. Thompson E. P. Anthropology and the Discipline of Historical Context 11
Midland History. 1972. Vol. 1, N 3. P. 41-55.
Смежные и «родственные» направления:
микроистория и Alltagsgeschichte
101. Бессмертный Ю. Л. Некоторые соображения об изучении феномена
власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей.
Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 9-13.
102. Гинзбург К. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Новое ли-
тературное обозрение. 1994. № 8. С. 32-61. Переизд.: Гинзбург К.
Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история: Сб. ст. М..
2004. С. 189-241.
103. Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю И
Современные методы преподавания новейшей истории: Материалы
из цикла семинаров при поддержке TACIS / Ред.: А. О. Чубарьян и
др. М., 1996. С. 207-236. Переизд.: Гинзбург К. Мифы — эмблемы —
приметы: Морфология и история: Сб. ст. М., 2004. С. 287-320.
Список литературы
197
104. 7м«збург К. Моя микроистория // Казус: Индивидуальное и уникаль-
ное в истории. 2005. М., 2006. С. 343-353.
105. Гренди Э. Еще раз о микроистории И Казус: Индивидуальное и уни-
кальное в истории. 1996. М., 1997. С. 291-302.
106. Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошло-
го. Доклады и выступления на конференции. 5-6 октября 1998. М.,
1999.
Ю7.Коиосов Н. Е. О невозможности микроистории // Казус: Индиви-
дуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 33-51. То же в
кн.: Колосов Н. Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук.
М., 2005. С. 142-157.
10%. Куръянович А. В. История повседневности: особенности подхода,
цели и методы И История в XXI веке: Историко-антропологический
подход в преподавании и изучении истории человечества: Материалы
междунар. интернет-конференции / Под ред. В. В. Керова. М., 2001.
С. 35-44.
109. Леем Дж. Биография и история И Современные методы препода-
вания новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при под-
держке TACIS / Ред.: А. О. Чубарьян и др. М., 1996. С. 191-206.
ПО.Леви Дж. К вопросу о микроистории И Современные методы пре-
подавания новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при
поддержке TACIS / Ред.: А. О. Чубарьян и др. М., 1996. С. 167-190.
111. Людтке А. Полиморфная синхронность: немецкие индустриальные
рабочие и политика в повседневной жизни И Конец рабочей истории?
/ Под ред. М. ван дер Линдена. М., 1996. С. 63-129.
112. Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года
И Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. М.,
1999. С. 117-126.
113. Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и
перспективы в Германии И Социальная история. Ежегодник, 1998/99.
М., 1999. С. 77-100.
114. Медик X. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических
и социальных институтов и систем. М., 1994. Т. II, вып. 4. С. 193—
202.
115. Медик X. Культура уважения: одежда и ее расцветка в Лайхингене
(1750-1820) // Анналы на рубеже веков: Антология. М., 2002. С. 222-
243.
116. Медик X. Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культу-
ра в сельской местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген
(1748-1820) И Прошлое — крупным планом: Современные иссле-
дования по микроистории / Под общ. ред. М. Крома, Т. Зоколла,
Ю. Шлюмбома. СПб., 2003. С. 181-222.
198
Л/. М Кром. Историческая антропология
117. Оболенская С. В. «История повседневности» в современной исто-
риографии ФРГ И Одиссей. Человек в истории. 1990. М., 1990.
С. 182-198.
118. Оболенская С. В. Некто Йозеф Шефер, солдат гитлеровского вер-
махта. Индивидуальная биография как опыт исследования “исто-
рии повседневности” И Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996.
С. 128-147.
119. Прошлое — крупным планом: Современные исследования по микро-
истории / Под общ. ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. СПб.,
2003.
120. /Токарева Н. Л. Предмет и методы изучения «истории повседнев-
ности» // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3-19.
121. Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального //
Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996.
С. 236-261. Сокр. изд. см. в кн.: Одиссей. Человек в истории. 1996.
М., 1996. С. 110-127.
122. Савельева И. М., Полетаев А. В. Микроистория и опыт социальных
наук // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 101-119.
123. Сэбиан Д. У. Голоса крестьян и тексты бюрократов: нарратив-
ная структура в немецких протоколах начала Нового времени //
Прошлое — крупным планом: Современные исследования по микро-
истории / Под общ. ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. СПб.,
2003. С. 58-89.
124. Черутти С. Социальный процесс и жизненный опыт: индивиды,
группы и идентичности в Турине XVII века И Прошлое — крупным
планом: Современные исследования по микроистории / Под общ.
ред. М. Крома, Т. Зоколла, Ю. Шлюмбома. СПб., 2003. С. 27-57.
125. Черутти С. Скорый суд. Практика и идеалы правосудия в обществе
Старого порядка (Турин XVIII века) И Неприкосновенный запас.
2005. №4 (42). С. 5-18.
126. Черутти С. Микроистория: социальные отношения против куль-
турных моделей? // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории.
2005. М., 2006. С. 354-375.
Yl~l. Шлюмбом Ю., Кром М., Зоколл Т Микроистория: большие вопросы
в малом масштабе // Прошлое — крупным планом: Современные ис-
следования по микроистории / Под общ. ред. М. Крома, Т. Зоколла,
Ю. Шлюмбома. СПб., 2003. С. 7-26.
128. Alltag in der Zeit der Aufklarung I Hrsg. von K. Gerteis. Hamburg, 1991.
V29. Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu Lebensformen in mitteleuro-
paischen Stadten I Hrsg. von A. Kohler, H. Lutz. Wien, 1987.
Alltag und Fortschritt im Mittelalter: Intern. Round-table-Gesprach
(Krems, 1984). Wien, 1986.
Список литературы
199
\3\. Alltagsgeschichte: Zur Rekonstruktion historischer Erfahnmgen und
Lebensweisen / Hrsg. von A. Liidtke. Frankfurt/M., 1989. Англ, nep.: The
History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways
of Life I Ed. by A. Liidtke; engL transl. by W. Templer. Princeton, 1995.
132. Alltagskultur, Subjektivitat und Geschichte: zur Theorie und Praxis von
Alltagsgeschichte I Hrsg. Berliner Geschichtswerkstatt. Munster, 1994.
\33. Dulmen R. van. Kultur und Alltag in der Friihen Neuzeit. Bde. 1-3.
Miinchen, 1990-1994. Bd. 1: Das Haus und seine Menschen: 16-
18. Jahrhundert. 1990. 3. Aufl. 1999; Bd. 2: Dorf und Stadt 16.-18.
Jahrhundert. 1992. 2. Aufl. 1999; Bd. 3: Religion, Magie, Aufklarung
16.-18. Jahrhundert. 1994. 2. Aufl. 1999.
134. E7ey G. Labor History, Social History, Alltagsgeschichte: Experience,
Culture, and the Politics of the Everyday Life — a New Direction for
German Social History? // The Journal of Modem History. 1989. Vol. 61,
N 2. P. 297-343.
135. Ginzburg C., Poni С. Il nome e il come: scambio ineguale e mercato
storiografico И Quademi storici. 1979. Vol. 40. P. 181-190. Англ, nep.:
The Name and the Game: Unequal Exchange and the Historiographic
Marketplace I I Microhistory and the Lost Peoples of Europe I Ed. E. Muir,
G. Ruggiero; transl. by E. Branch. Baltimore; London, 1991. P. 1-10.
136. Gregory B. Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday
Life H History and Theory. 1999. Vol. 38, N 1. Febr. P. 100-110.
137. Grendi E. Micro-analisi e storia sociale // Quademi storici. 1977. Vol. 35.
P. 506-520.
138. Levi G. Inheriting Power: The Story of an Exorcist / Engl, transl. by
L. G. Cochrane. Chicago; London, 1988. Перевод изд.: Levi G. L’eredita
immateriale: Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino,
1985.
139. Medick H. Entlegene Geschichte? Sozialgeschichte und Mikrohistorie
im Blickfeld der Kulturanthropologie И Alltagskultur, Subjektivitat und
Geschichte: zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte / Hrsg. Berliner
Geschichtswerkstatt. Munster, 1994. S. 94-109.
140. Medick H. Weben und Uberleben in Laichingen 1650-1900. Lokal-
geschichte als Allgemeine Geschichte. Gottingen, 1996; 2. Aufl. 1997.
141. Mikrogeschichte — Makrogeschichte: komplementar oder inkommensu-
rabel? / Hrsg. und eingel. von J. Schlumbohm. Gottingen, 1998; 2. Aufl.
2000.
142. Microhistory and the Lost Peoples of Europe / Ed. by E. Muir, G. Ruggiero.
Baltimore; London, 1991.
\43. Schlumbohm J. Lebenslaufe, Familien, Hofe. Die Bauem und Heuerleute
des Osnabriickischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650—
1860. Gottingen, 1994; 2. Aufl. 1997.
200
М. М. Кром. Историческая антропология
Тематика историко-антропологических исследований
а) история тела, физическая антропология
Арнаутова Ю. Е. Колдуны и святые: Антропология болезни в Сред-
ние века. СПб., 2004.
Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о
новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек
в истории. 1989. М., 1989. С. 114-135.
146. Xdrper-Geschichten / Hrsg. von R. van Dulmen. Frankfurt/M., 1996.
147. Lorenz M. Leibhaftige Vergangenheit: Einfurung in die Korpergeschichte.
Tubingen, 2000.
148. Porter R. History of the Body // New Perspectives on Historical Writing /
Ed. by P. Burke. University Park (Pennsylvania), 1992. P. 206-232.
149. Vovelle M Les attitudes devant la mort: problems de methode 11 Annales.
E.S.C. ЗРаппёе. 1976. N 1. P. 120-132.
150. Vovelle M. Encore la mort: un peu plus qu’une mode? //Annales. E.S.C.
37eannee. 1982. N 2. P. 276-287.
См. также книгу Ф. Арьеса [39].
б) история частной жизни
151. Пушкарева Н. Л. «История повседневности» и «история частной
жизни»: содержание и соотношение понятий И Социальная история.
Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 93-112.
152. Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе
до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1996.
153. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе
и некоторых странах Азии до начала нового времени / Отв. ред.
Ю. Л. Бессмертный. М., 2000.
154. de la vie privee. Vol. 1-5. Paris, 1985-1987. Англ, nep.: A History'
of Private Life. Vol. 1-5. Cambridge (Mass.); London, 1987-1990.
в) политическая антропология
\55. Бойцов M. А. Скромное обаяние власти (К облику германских госу-
дарей XIV-XV вв.) // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995.
С. 37-66.
156. Ломкое М А. Величие и смирение. Очерки политического символиз-
ма в средневековой Европе. М., 2009.
157. Десимон Р. Политический брак короля с республикой во Франции
XV-XVIII вв.: функции метафоры И Анналы на рубеже веков:
Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. М., 2002. С. 169-193.
Список литературы
201
158. Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история становым
хребтом истории? И THESIS. Теория и история экономических и со-
циальных институтов и систем. 1994. Т. II, вып. 4. С. 177-192. То
же в кн.: Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.
С. 403-424.
159. Представления о власти // Одиссей. Человек в истории. 1995. М.,
1995. С. 5-91.
16Q. Beik W. Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State
Power and Provincial Aristocracy in Languedoc. Cambridge, 1985.
Reprint: 1997.
161. Herrschaft als soziale Praxis I Hrsg. von A. Liidtke. Gottingen, 1991.
162. Kantorowicz E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political
Theology. Princeton, 1957. Reprint: 1981.
163. KetteringS. Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France.
New York; Oxford, 1986.
164. Kettering S. Patronage in Early Modem France // French Historical
Studies. 1992. Vol. 17, N 4. P. 839-862.
165. Rites of Power. Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages /
Ed. by S. Wilentz. Philadelphia, 1985. Reprint: 1997.
166. Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies / Ed.
by D. Cannadine, S. Price. Cambridge, 1987.
167. The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge,
1983. Reprint: 1997.
См. также книгу M. Блока [40].
г) экономическая антропология
168. Дэвис Н. 3. Дары, рынок и исторические перемены: Франция, век
XVI // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 193-203.
169. Эмар М Аграрная история: от изучения экономики к исторической
антропологии И Споры о главном: Дискуссии о настоящем и буду-
щем исторической науки вокруг французской школы «Анналов» /
Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1993. С. 130-137.
170. Kula W. Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego: Proba modelu. Wyd. 2.
Warszawa, 1983.
111. Kula W. Miary i ludzi. Warszawa, 1970.
172. Pour une histoire anthropologique: La notion de reciprocite // Annales.
E.S.C. 29е annee. 1974. N 6. P. 1309-1380.
д) история народной культуры и религиозная антропология
См. выше работы П. Берка, К. Гинзбурга, А. Я. Гуревича, Р. Дарнтона,
Н. 3. Дэвис, Ж. Ле Гоффа, Д. Сэбиана, К. Томаса [43,46,47,53,54, 66-68,
74, 76, 79-82].
202
М М. Кром. Историческая антропология
Труды этнологов, социологов, философов, цитируемые
в работах по исторической антропологии
173. Бурдъе П. Практический смысл / Общ. ред. пер. и послесл.
Н. А. Шматко. СПб., 2001. Перевод изд.: Bourdieu Р Le sens pratique.
Paris, 1980.
174. 7"еннеи А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов
/ Пер. с фр. Ю. В. Ивановой, Л. В. Покровской. М., 1999. Перевод
изд.: Gennep van. Les rites de passage. Paris, 1909.
М5.Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной тео-
рии культуры // Антология исследований культуры / Сост. С. Я. Левит.
Т. 1: Интерпретации культуры / Сост. Л. А. Мостова. СПб., 1997.
С.171-200.
176. Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ.: О. В. Барсукова и др.
М., 2004. Перевод изд.: Geertz С. The Interpretation of Cultures. N. Y.,
1973.
177. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер.
с англ. М., 2000. Перевод изд.: Goffman Е. The Presentation of Self in
Everyday Life. Garden City, 1959.
178. Дуглас M. Чистота и опасность / Пер. с англ. Р. Громовой; под ред.
С. Баньковской. М., 2000. Перевод изд.: Douglas М. Purity and danger :
An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Harmondsworth, 1966.
179. Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. СПб., 2002. Перевод изд.:
Levy-Bruhl L. La mentalite primitive. Paris, 1922.
\ЫУЛеви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983, 1985. Перевод
изд.: Levy-Strauss С. Anthropologie structural. Paris, 1958.
181. Малиновский Б. Магия, наука и религия / Пер. А. П. Хомик; под ред.
О. Ю. Артемовой. М., 1998.
182. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антро-
пологии / Пер. с фр. послесл. и коммент. А. Б. Гофмана. М., 1996.
183. Тэрнер В. Символ и ритуал / Пер. с англ.; вступ. ст. В. А. Бейлиса.
М, 1983.
184. Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальнос-
ти: Сб. / Сост., пер. с фр., коммент и послесл. С. Табачниковой. М.,
1996.
185. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр.
В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М., 1999. Перевод изд.: Fou-
cault М. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris, 1975.
186. Эванс-Причард Э. Антропология и история // Эванс-Причард Э. Исто-
рия антропологической мысли / Пер. с англ. М., 2003. С. 273-291.
187. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психоге-
нетические исследования. Т. 1-2 / Пер. А. М. Руткевич. М., 2001.
Перевод изд.: Elias N. Uber den Prozess der Zivilisation. Basel, 1939.
Список литературы
203
188. Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии коро-
ля и придворной аристократии, с Введением: Социология и история
/ Пер. с нем. А. П. Кухтенкова и др. М., 2002. Перевод кн.: Elias N.
Die hofische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Konigtums
und der hofischen Aristokratie. Berlin, 1969.
189. Bourdieu P Outline of a Theory of Practice / Engl, transl. by E. Nice.
Cambridge, 1977. Перевод изд.: Bourdieu P Esquisse d’une theorie de la
pratique. Geneve, 1972.
190. Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life / Engl, transl.
by J. W. Swain. N. Y.; London, 1965. Перевод изд.: Durkheim E. Les
formes elementaires de la vie religieuse. Paris, 1912.
191. Geertz C. Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology.
N. Y, 1983. Reprint: London, 1993.
192. Turner V. The Ritual Process. Harmondsworth, 1974; 1st ed. 1969.
История России в антропологической перспективе
а) обзоры, полемические и программные статьи
193. Александров Д. А. Историческая антропология науки в России //
Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3-22.
194. Данилевский И. Н. На пути к антропологической истории России //
Историческая антропология: место в системе социальных наук, ис-
точники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф.
Москва, 4-6 февраля 1998 г. / Отв. ред. О. М. Медушевская. М., 1998.
С. 45-48.
195. Кром М. М. Антропологический подход к изучению русского средне-
вековья (заметки о новом направлении в американской историогра-
фии) // Отечественная история. 1999. № 6. С. 90-106.
196. Арам М М. Историческая антропология русского средневековья:
Контуры нового направления // Историк во времени: Докл. и сообщ.
науч. конф. / Третьи Зиминские чтения; сост.: Е. А. Антонова и др.
М., 2000. С. 61-68.
197. Аром М И. Отечественная история в антропологической перспекти-
ве // Исторические исследования в России - II: Семь лет спустя / Под
ред. Г. Бордюгова. М., 2003. С. 179-202.
198. Куприянов А. И. Историческая антропология. Проблемы становления
// Исторические исследования в России: Тенденции последних лет:
Сб. ст. / Под ред. Г. А. Бордюгова. М., 1996. С. 366-385. Журнальный
вариант статьи см.: Куприянов А. И. Историческая антропология в
России: проблемы становления // Отечественная история. 1996. № 4.
С. 86-99.
199. A>om М. Studying Russia’s Past from an Anthropological Perspective:
204
М. М. Кром. Историческая антропология
Some Trends of the Last Decade // European Review of History = Revue
europeenne d’Histoire. 2004. Vol. 11, N 1. P. 69-77.
б) история ментальностей
200. Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность
в Российской империи начала XX века: новые материалы, методы,
результаты. М., 1996.
201. Вернер Э. М. Почему крестьяне подавали прошения, и почему не сле-
дует воспринимать их буквально И Менталитет и аграрное развитие
России (XIX-XX вв.): Материалы междунар. конф. Москва, 14-15
июня 1994 г. / Редкол.: В. П. Данилов, Л. В, Милов (отв. ред.). М.,
1996. С. 194—204.
202. Долгих Е. В. К проблеме менталитета российской административ-
ной элиты первой половины XIX века: М. А. Корф, Д. Н. Блудов.
М., 2006.
203. Зима В. Ф. Менталитет народов России в войне 1941-1945 годов. М.,
2000.
204. Зубкова Е. И., Куприянов А. И. Ментальное измерение истории: поис-
ки метода И Вопросы истории. 1995. № 7. С. 153-160.
205. Кирьянов Ю. И. Менталитет рабочих России на рубеже XIX-XX вв.
// Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций.
1861 - февраль 1917 / Отв. ред. С. И. Потолов. СПб., 1997. С. 55-76.
206. Кукарцева М. А. Метод исторической ментальности в контексте фи-
лософии истории // Менталитет и политическое развитие России:
Тез. докл. науч. конф. Москва, 29-31 октября 1996 г. / Отв. ред.
А. А. Горский. М., 1996. С. 10-13.
207. Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.): Материалы
междунар. конф. Москва, 14-15 июня 1994 г. / Редкол.: В. П. Данилов,
Л. В. Милов (отв. ред.). М., 1996.
208. Менталитет и культура предпринимателей России XVII-XIX вв.:
Сб. ст. / Отв. ред. Л. Н. Пушкарев. М., 1996.
209. Менталитет и политическое развитие России: Тез. докл. науч. конф.
Москва, 29-31 октября 1996 г. / Отв. ред. А. А. Горский. М., 1996.
210. Мировосприятие и самосознание русского общества (XI-XX вв.):
Сб. ст. / Отв. ред. Л. Н. Пушкарев. М., 1994.
211. Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крес-
тьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 - март
1918 г.). Екатеринбург, 2000.
212. Пушкарев Л. Н. Что такое менталитет? Историографические заметки
// Отечественная история. 1995. № 3. С. 158-166.
213. Российская ментальность (материалы «круглого стола») // Вопросы
философии. 1994. № 1. С. 25-53.
Список литературы
205
214. Русская история: проблемы менталитета: Тез. докл. науч. конф.
Москва, 4-6 октября 1994 г. / Отв. ред. А. А. Горский. М., 1994.
215. Сенчакова Л. Т Приговоры и наказы — зеркало крестьянского мен-
талитета 1905-1907 гг. И Менталитет и аграрное развитие России
(XIX-XX вв.): Материалы междунар. конф. Москва, 14-15 июня
1994 г. / Редкол.: В. П. Данилов, Л. В. Милов (отв. ред.). М., 1996.
С. 173-182.
216. Усенко О. Г К определению понятия «менталитет» И Русская исто-
рия: проблемы менталитета: Тез. докл. науч. конф. Москва, 4-6 ок-
тября 1994 г. / Отв. ред. А. А. Горский. М., 1994. С. 3-7.
217. Филд Д. История менталитета в зарубежной исторической лите-
ратуре // Менталитет и аграрное развитие России (XIX - XX вв.):
Материалы междунар. конф. Москва, 14-15 июня 1994 г. / Редкол.:
В. П. Данилов, Л. В. Милов (отв. ред.). М., 1996. С. 7-21.
в) религиозная антропология
218. Алексеев А. И. О складывании поминальной практики на Руси И «Сих
же память пребывает вовеки»: Мемориальный аспект в культуре рус-
ского православия: Материалы междунар. науч, конф., 29-30 ноября
1997 г. СПб., 1997. С. 5-10.
2\9. Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиоз-
ности конца XIV - начала XVI вв. СПб., 2002.
220. Лавров А. С. Колдовство и религия в России 1700-1740 гг. М., 2000.
221. Майзулъс М. Древнерусский человек перед лицом смерти И Россия
XXI. 2003. №5. С. 108-149.
222. Русская религиозность: проблемы изучения / Сост.: А. И. Алексеев,
А. С. Лавров. СПб., 1998.
223. Сазонов С. В. К проблеме восприятия смерти в средневековой Руси
И Русская история: проблемы менталитета: Тез. докл. науч. конф.
Москва, 4-6 октября 1994 г. / Отв. ред. А. А. Горский. М., 1994.
С. 49-51.
224. Смилянская Е. Б. Поругание святых и святынь в России первой по-
ловины XVIII века И Одиссей. Человек в истории. 1999. М., 1999.
С.123-138.
225. Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная ре-
лигиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003.
226. Kivelson К Through the Prism of Witchcraft: Gender and Social Change
in Seventeenth-Century Muscovy // Russia’s Women: Accommodation,
Resistance, Transformation I Ed. by В. E. Clements. Berkeley; Los
Angeles, 1991. P. 74—94.
227. Steindorff L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen
christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994.
206
Л/. Л/. Кром. Историческая антропология
22%.Steindorff L. Kloster als Zentren der Totensorge in Altrussland //
Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 1995. Bd. 50. S. 337-354.
г) политическая антропология
229. Ингерфлом К. С. Русская политическая история: этнологическое из-
мерение И Политическая история на пороге XXI века: традиции и
новации: Материалы междунар. науч. конф. / Редкол.: Л. П. Репина и
др. М., 1995. С. 141-149.
230. Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа: политикам. Н. Му-
равьева в Литовско-Белорусском крае в 1863-1865 гг. как объект ис-
торико-антропологического анализа // ACTIO NOVA 2000: Сб. науч,
ст. / Отв. ред. А. И. Филюшкин. М., 2000. С. 338-408.
231. Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и по-
вседневность. 1945-1953. М., 1999.
232. Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению по-
литической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001.
233. Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика»: Образы императорской се-
мьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.
234. Кром М. М. Политическая антропология: новые подходы к изучению
феномена власти в истории России // Исторические записки. Вып. 4
(122). М., 2001. С. 370-397.
235. Лобачева Г. В. Самодержец и Россия: Образ царя в массовом созна-
нии россиян (конец XIX - начало XX веков). Саратов, 1999.
236. Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в
России XVII века. М., 2000.
237. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монар-
хии: В 2 т. Авториз. пер. С. В. Житомирской. М., 2002. Т. 1: От Петра
Великого до смерти Николая I; Т. 2: От Александра II до отречения
Николая II. М., 2004. То же: Т. 1 / Пер. с англ. С. В. Житомирской. М.,
2004. Перевод изд.: Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and cere-
mony in Russian Monarchy. Vol. 1-2. Princeton, 1995,2000. Vol. 1: From
Peter the Great to the death of Nicolas I. 1995; Vol. 2: From Alexander II
to the Abdication of Nicolas II. 2000.
238. Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Визан-
тийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.
239. Успенский Б. А. Царь и император: Помазание на царство и семанти-
ка монарших титулов. М., 2000.
240. Флайер М. С. Расшифровка кода: Образ царя в обряде Вербного вос-
кресенья в Московском государстве И Американская русистика: Вехи
историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси:
Антология / Сост. Дж. П. Маджеска; редкол.: Д. П. Маджеска и др.;
пер. с англ. 3. Н. Исидоровой. Самара, 2001. С. 203-239.
Список литературы
207
241. Царь и царство в русском общественном сознании: Сб. ст. / Отв. ред.
А. А. Горский. М., 1999. (Мировосприятие и самосознание русского
общества. Вып. 2.)
242. Яров С. В. Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм
и НЭП глазами петроградцев. СПб., 1999.
243. Ярое С. В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада
России в 1918-1919 гг.: политическое мышление и массовый про-
тест. СПб., 1999.
244. Ярое С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабо-
чих Петрограда в 1917-1923 гг. СПб., 1999.
245. Bonnell V. Е. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin
and Stalin. Berkeley; Los Angeles, 1997.
246. Bushkov itch P The Epiphany Ceremony of the Russian Court in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries 11 The Russian Review. 1990.
Vol. 49, N l.P. 1-17.
247. Figes O., Kolonitskii B. Interpreting the Russian Revolution: The Lan-
guage and Symbols of 1917. New Haven; London, 1999.
248. Kivelson V A. Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and
Political Culture in the Seventeenth Century. Stanford, 1996.
249. Kallmann N. S. Kinship and Politics. The Making of the Muscovite
Political System, 1345-1547. Stanford, 1987.
25Q.Kollmann N. S. Pilgrimage, Procession and Symbolic Space in Sixteenth-
Century Russian Politics // Medieval Russian Culture. Vol. II / Ed. by
M. S. Flier, D. Rowland. Berkeley, 1994. P. 163-181.
д) история повседневности; социокультурные нормы и ценности
251. Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX —
начала XX века). М.; Тамбов, 2004.
252. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения
русских крестьян XIX в. М., 1986.
253. Каменский А. Б. История повседневности русского города: постанов-
ка проблемы И Повседневность российской провинции: история, язык
и пространство: Материалы 3-й всерос. летн. шк. «Провинциальная
культура России: подходы и методы изучения истории повседневнос-
ти» / Отв. ред. В. С. Парсамов. Казань, 2002. С. 43-57.
254. Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей.
Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М.,
2006.
255. Коллманн Н. Ш. Соединенные честью. Государство и общество в
России раннего нового времени. М., 2001. Перевод изд.: Kollmann N. S.
By Honor Bound: State and Society in Early Modem Russia. Ithaca; N.Y.;
London, 1999.
208
Л£ Л/. Кром. Историческая антропология
256. Кошелева О. Е. «Бесчестье словом» петербургских обывателей пет-
ровского времени и монаршая власть И Одиссей. Человек в истории.
2003. М., 2003. С. 140-169.
257. Кром М Л/. Повседневность как предмет исторического исследова-
ния (Вместо предисловия) // История повседневности: Сб. науч, ра-
бот / Отв. ред. М. М. Кром. СПб., 2003. С. 7-14.
258. Лебедева Л. В. Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е
годы: традиции и перемены. М., 2009.
259. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и анома-
лии. 1920-1930 годы. СПб., 1999.
260. Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведе-
ние как историко-психологическая категория) [1975] // Избранные
статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. I. С. 296-336.
26Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре
XVIII века [1977] И Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. I.
С.248-268.
262. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского
дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб., 1994.
263. Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917—
1922 гг. М., 2001.
264. Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалисти-
ческого образа жизни в России, 1920-1930-е годы / Под общ. ред.
Т. Вихавайнена. СПб., 2000.
265. Повседневность российской провинции: история, язык и пространс-
тво: Материалы 3-й Всерос. летней школы «Провинциальная куль-
тура России: подходы и методы изучения истории повседневности».
Казань, июнь - июль 2002 г. / Под ред. С. Ю. Малышевой. Казань,
2002.
266. Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. (Историко-бытовые очер-
ки XI—XIII вв.). Л., 1947. Переизд.: М., 1966.
267. Российская повседневность 1921-1941 гг.: Новые подходы: Доклады,
сделанные на международной междисциплинарной конференции.
Санкт-Петербург, 16-19 августа 1994 года. СПб., 1995.
268. Сенявский А. С. Повседневность как методологическая пробле-
ма микро- и макроисторических исследований (на материалах
российской истории XX века) И История в XXI веке: Историко-
антропологический подход в преподавании и изучении истории че-
ловечества: Материалы междунар. интернет-конференции / Под ред.
В. В. Керова. М., 2001. С. 25-34.
269. Scheidegger G. Perverses Abendland — barbarisches Russland.
Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller
Missverstandnisse. Zurich, 1993.
Список литературы
209
е) военно-историческая антропология
270. военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, за-
дачи, перспективы развития. М., 2002; 2003/2004. Новые научные
направления. М., 2005; 2005/2006. Актуальные проблемы изучения.
М., 2007.
271. Сенявская Е. С. 1941-1945: Фронтовое поколение. Историко-психо-
логическое исследование. М., 1995.
272. Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очер-
ки. М., 1997.
273. Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт
России. М., 1999.
274. Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология — новая от-
расль исторической науки // Отечественная история. 2002. № 4.
С. 135-145.
ж) микроисторические опыты
275 .Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «Большая история»: иностран-
цы московского Электрозавода в советском обществе 1920-1930-х гг.
М., 2000.
276 . Журавлев С. В. Микроистория: заметки о современном состоянии и
перспективах изучения И Человек на исторических поворотах XX
века / Под ред. А. Н. Еремеевой, А. Ю. Рожкова. Краснодар, 2006.
С. 60-83.
2Т1. Кошелева О. Е. Перепись Петербурга 1718 г. в свете микроистори-
ческого подхода И Казус: Индивидуальное и уникальное в истории.
2000. М., 2000. С. 199-208.
Т1 %. Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского
времени. М., 2004.
279 . Лебина Н. Б. О пользе игры в бисер. Микроистория как метод изу-
чения норм и аномалий советской повседневности 20-30-х годов И
Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалисти-
ческого образа жизни в России, 1920-1930-е годы / Под общ. ред.
Т. Вихавайнена. СПб., 2000. С. 9-26.
280 .Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть
Иосифа Виельгорского: Опыт биографии человека 1830-х годов. М.,
1999.